Жорж Санд Валентина
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Валентина» — второй опубликованный мною роман после «Индианы», имевшей успех, которого я никак не мог ожидать. В 1832 году я вернулся в Берри и с удовольствием взялся живописать природу, с детства знакомую мне. Еще в ту пору я чувствовал настоятельную потребность описать ее; но в силу некоего феномена, сопутствующего всем глубоким движениям души, как нравственного, так и интеллектуального порядка, как раз то, что просится под перо, страшнее всего представить на суд читателя. Этот бедный уголок Берри, эта никому не известная Черная долина, этот ничуть не величественный, ничем не поражающий, неброский пейзаж, которым восхищаешься, только полюбив его, — таково было святилище моих самых первых, самых длительных, самых неотступных мечтаний. Прошло двадцать два года с тех пор, как я жил под этими искалеченными деревьями, у этих ухабистых дорог, среди этого привольно разросшегося кустарника, вблизи ручейков, по берегам которых не страшатся бродить лишь дети да стада. Все это было полно очарования только для меня одного и не стоило того, чтобы предлагать его взорам равнодушных. К чему открывать инкогнито этого неприметного края, где нет обширных и живописных ландшафтов, где ничто не связано с великими историческими воспоминаниями, которые могли бы возбудить интерес или хотя бы любопытство? Мне чудилось, будто Черная долина — это я сам, это рамка, одеяние моей собственной жизни, и как непохожи они на блестящие убранства и как мало созданы для того, чтобы пленять взоры людей. Знай я, что мои произведения получат такой отзвук, думаю, я ревниво, как святыню, укрыл бы этот край, которого до меня, быть может, никогда не касались мысль художника, мечтания поэта. Но я не знал, даже не думал об этом. Я не мог не писать, и я писал. Я поддался тайным чарам, разлитым в родном воздухе, обвевавшем меня чуть ли не с колыбели. Описательная часть моего романа понравилась. Фабула же вызвала достаточно резкую критику, направленную против пресловутой, приписываемой мне, антиматримониальной доктрины, которую я, по всеобщему утверждению, уже начал проповедовать в «Индиане». И в первом и во втором романе я показывал опасности и беды опрометчиво заключаемых браков. Если послушать критиков, так я не роман написал, а сам того не ведая, проповедую учение Сен-Симона; между тем тогда я еще не задумывался над социальными недугами. Я был слишком молод и умел лишь видеть и запечатлевать факты. Возможно, я на том бы и остановился, повинуясь своей природной лености и той любви к внешнему миру, которая одновременно и счастье и беда людей искусства. Но случилось иначе — критика, пусть и педантичная, побудила меня размышлять глубже и глубже вникать в первопричины явлений, меж тем как до сих пор я видел лишь их последствия. Но меня столь ядовито осуждали за то, что я корчу из себя вольнодумца и философа, что в один прекрасный день я спросил себя: «А уж не заняться ли мне и в самом деле философией?». Жорж Санд. Париж, 27 марта 1852 г.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Есть в юго-восточной части Берри край, всего несколько лье в окружности, ни с чем не сравнимого очарования. Он пересечен трактом Париж — Клермон, вдоль которого тянутся обжитые земли, и вряд ли путешественник может даже заподозрить, что тут же, по соседству, расположены красивейшие ландшафты. Но если путник в поисках тишины и сени свернет на одну из многочисленных тропок, отходящих от тракта и прихотливо вьющихся среди высоких откосов, то уже через несколько шагов он обнаружит прохладу и мирный пейзаж, светло-зеленые луга, меланхоличные ручейки, купы ольхи и ясеня, словом — пленительно-нетронутую природу пасторалей. И пусть не надеется на протяжении многих лье увидеть каменный дом, крытый шифером. Разве что тоненькая струйка голубоватого дыма, дрожа и расплываясь в воздухе, поднимется над листвой, извещая о близости соломенной кровли; и если позади орешника, густо покрывающего пригорок, он заметит шпиль церквушки, то через несколько шагов взору его откроется деревянная колоколенка с изъеденной мхом черепицей, десяток далека разбросанных друг от друга домиков, окруженных плодовыми садами и конопляниками, ручей, через который переброшены три бревна, заменяющие мост, кладбище — всего один квадратный арпан земли, обнесенный живой изгородью, — четыре вяза, посаженные в шахматном порядке, развалины башни. Словом, он обнаружит то, что в здешнем краю именуют селением. Ничто не сравнимо с покоем этих глухих деревенек. Сюда еще не проникали ни роскошь, ни искусства, ни ученая страсть к исканиям, ни сторукое чудище, именуемое промышленностью. Революции прошли здесь почти незамеченными, а последняя война, еле уловимый след которой хранит здешняя земля, была войной гугенотов с католиками, да и то воспоминания о ней поблекли, выветрились из памяти людской, и на ваши расспросы местные жители ответят, что происходило все это по меньшей мере две тысячи лет назад; ибо главная добродетель сего племени хлебопашцев — полнейшая беззаботность насчет всяких древностей. Смело обойдите этот край вдоль и поперек, молитесь его святым, пейте воду из его колодцев без малейшего риска выслушать неизбежные рассказы о феодальных временах или, на худой конец, легенды о местных чудотворцах. Степенный и замкнутый нрав крестьянина — одно из главных очарований этого края. Ничему он не удивляется, ничто его не привлекает. Он даже головы не повернет, когда вы вдруг возникнете перед ним на тропке, и если вы спросите у него дорогу в город или на ферму, он вместо ответа предупредительно улыбнется, как бы говоря, что такими незатейливыми шуточками его не проведешь. Беррийский крестьянин не может поверить, что человек идет куда-то и сам не знает толком куда. Разве что его пес соблаговолит побрехать вам вслед, детишки попрячутся за изгородь, лишь бы не стать мишенью ваших взглядов или ваших расспросов, а самый крохотный, не поспевший за бросившимися врассыпную братьями, непременно шлепнется от страха в канаву и завопит во все горло. Но самым невозмутимым действующим лицом будет огромный белый вол, неизменный старейшина всех пастбищ: он уставится на вас из гущи кустов, как бы сдерживая своих собратьев быков, потревоженных вашим вторжением и настроенных поэтому менее степенно и благожелательно. За исключением этого неизбежного при первой встрече холодка в отношении к чужеземцу, местный хлебопашец, в общем, добр и гостеприимен наподобие здешней мирной сени, здешних благоуханных лугов. Часть этой местности, заключенная меж двух небольших речушек, особенно примечательна густой, мрачной окраской своей растительности, за что и дано ей название Черная долина. Все ее немногочисленное население ютится в разбросанных по долине хижинах и нескольких доходных фермах. Наиболее обширная из них зовется Гранжнев; но и здесь все очень скромно и не выделяется на фоне столь же неприхотливого пейзажа. Ведет к ней кленовая аллея, и рядом с деревенскими строениями протекает Эндр, который здесь не шире простого ручейка и тихо вьется среди камышей и желтых полевых ирисов. Первое мая у жителей Черной долины считается днем праздничным с неизбежным в таких случаях гуляньем. В дальнем конце долины, примерно в двух лье от центральной ее части, где как раз стоит Гранжнев, устраивается деревенское празднество, на которое, как положено, устремляется вся округа, начиная с супрефекта департамента, кончая красоткой швеей, еще с вечера наплоившей жабо его превосходительству; от высокородной владелицы замка до последнего овчара (местное словечко!), чья коза да барашек живут за счет господских изгородей. Все это ест на лужайке, танцует на лужайке, с большим или меньшим аппетитом, с большим или меньшим пылом; все это сходится сюда, чтобы показать свою коляску или своего осла, кто в рогатом чепчике, кто в шляпке из итальянской соломки, кто в деревянных сабо, кто в туфельках из турецкого атласа, кто в шелковом платье, а кто и в юбке из холстины. Это счастливый день для местных красавиц, день корыстного суда, а то и просто пересудов над женской красотой, когда при безжалостном свете яркого солнца чуть сомнительным салонным прелестям приходится выдерживать нелегкое состязание со свежестью, здоровьем, сияющей молодостью сельских девиц; ареопаг составлен из судей мужского пола всех состояний и рангов, прения сторон происходят под звуки скрипки, в облаках пыли, под перекрестным огнем взглядов. Поэтому собравшиеся становятся свидетелями многих заслуженных триумфов, заглаженных обид; сколько здесь разрешится затянувшихся тяжб, и все это будет отмечено в анналах жеманства. День сельского праздника, первое мая, здесь, как и по всей Франции, — великий повод для тайного соперничества между дамами из соседнего городка и принарядившимися поселянками из Черной долины. Как раз Гранжнев с самого раннего утра превратился в грозный арсенал наивных обольщений. Дело происходило в просторной низкой комнате, куда свет проникал в окна с частым переплетом; стены были оклеены обоями ярких тонов, что никак не вязалось с почерневшими от копоти балками потолка, с массивными дубовыми дверями и неуклюжим ларем. В этом скромно обставленном помещении, где довольно изящная современная мебель лишь подчеркивала классический деревенский стиль, господствовавший здесь со дня основания фермы, вертелась перед зеркалом в золоченой раме хорошенькая шестнадцатилетняя девушка, в последний раз оправляя свой скорее богатый, чем изящный туалет, и, казалось, даже тусклое зеркальное стекло с умыслом клонится вперед, чтобы самому полюбоваться такой красотой. Но Атенаис, единственная наследница славного фермера, была так юна, так румяна, так радовала глаз своей прелестью, что казалась еще грациознее и естественней даже в этом чересчур пышном наряде. Пока она в десятый раз оправляла складки своего тюлевого платья, ее мать, присев перед дверью и засучив по локоть рукава, замешивала в бадье отруби с водой, а вокруг в благоговейном ожидании часа кормежки выстроилась рядами целая компания уток. Живой и игривый солнечный луч, проскользнув в открытую дверь, упал на разряженную румяную прелестную девицу, ничуть не похожую на свою дородную загорелую матушку, одетую в платье из грубой шерстяной ткани. Из дальнего угла комнаты за Атенаис молча наблюдал юноша в черном костюме, небрежно раскинувшийся на кушетке. Но лицо его отнюдь не выражало той детски экспансивной радости, которая проглядывала в каждом движении девушки. Время от времени еле заметная насмешливая и снисходительная улыбка трогала его длинные, тонкие, подвижные губы. Господин Лери, вернее — просто дядюшка Лери, как обычно и по сей день величают его крестьяне, которым он долгое время был ровней и приятелем, мирно сидел в сторонке, грея обутые в белые чулки ноги у очага, где, по деревенскому обычаю, в любое время года жгли хворост. Этот почтенный, еще вполне бодрый отец семейства щеголял в полосатых штанах, жилете в цветочек, длинном сюртуке и носил косичку. Косичка считается пережитком стародавнего кокетства и постепенно исчезает из употребления на всей французской земле. Но Берри меньше прочих провинций пострадала от покушений цивилизации, и даже в наши дни верные косичке беррийцы, особенно из сословия землепашцев — полубуржуа-полудеревенщина — не признают иной прически. В дни их юности косичка была первым шагом к аристократическим замашкам, и ныне они сочли бы себя униженными, лишись их глава этой социальной привилегии. Дядюшка Лери стойко защищал свою косичку от атак насмешницы дочки и, будучи нежнейшим из отцов, выполнявшим любые капризы Атенаис, отказывал ей только в этом. — Да ну же, матушка, — сказала Атенаис, поправляя золотую пряжку муарового пояса, — когда же ты кончишь кормить своих уток? Ведь ты еще не одета. Так мы никогда не выберемся. — Терпение, дочка, терпение, — ответила тетушка Лери, раздававшая с достохвальным беспристрастием корм птице, — пока будут запрягать Любимчика, я сто раз успею одеться. Да и возни мне не так много, не то что тебе, дочка! Я, слава те господи, не молоденькая, да и в молодые годы не было у меня ни досуга, ни денег принарядиться. Я по два часа перед зеркалом не вертелась! — Что ж, вы меня упрекать собрались? — надувшись, проговорила Атенаис. — Нет, дочка, и не думаю, — возразила старуха. — Веселись, наряжайся, дитя мое, живем мы в достатке, пользуйся плодами родительских трудов. Нам, старикам, уж и богатство ни к чему… А главное, когда привыкнешь к бедности, тут уж трудно отвыкнуть. За свои денежки я могла бы барыней сидеть, да нет, не выходит; так на же тебе, все в доме должна своими собственными руками переделать… Но ты, дочка, веди себя как знатная дама, не зря мы тебе дали подходящее воспитание — такова была воля твоего батюшки; тебе батрак неровня, и твой муж небось будет рад-радешенек, что возьмет такую белоручку. Вытирая бадью, тетушка Лери продолжала разглагольствовать не так здраво, как пылко, и под конец улыбнулась юноше, вернее — состроила гримасу. Тот сделал вид, что ничего не замечает, а дядюшка Лери, созерцавший пряжки своих полуботинок в состоянии блаженного безумия, столь милого сердцу отдыхающего крестьянина, поднял слипающиеся глаза к своему будущему зятю, как бы желая порадоваться его радостью. Но будущий зять, стремясь уклониться от этой безмолвной учтивости, поднялся, прошел в другой конец комнаты и обратился к мадам, Лери: — Не пора ли запрягать лошадь? — Иди, сынок, иди, пожалуй. Я тебя не задержу, — ответила почтенная старушка. Племянник уже подошел к двери, как вдруг на пороге показалось новое, пятое действующее лицо, чей внешний облик и костюм составляли удивительнейший контраст с внешностью и нарядом обитателей фермы.2
То была невысокая худенькая женщина, которой на первый взгляд можно было дать лет двадцать пять; но тот, кто пригляделся бы к ней внимательнее, дал бы ей все тридцать, если не больше. Ее тонкая, туго стянутая талия еще хранила изящную линию юности, но миловидное лицо благородных очертаний носило следы горя, которое старит сильнее, нежели годы. Небрежный наряд, гладкая прическа, спокойный вид свидетельствовали о том, что она не собирается на праздник. Но в ее крохотных туфельках, в ее изящном и скромном сером платьице, даже в белизне шеи, в размеренной, легкой походке чувствовалось больше подлинного аристократизма, чем во всех драгоценностях Атенаис. И тем не менее эту особу, внушавшую невольное уважение, при появлении которой все присутствующие поднялись с места, обитатели фермы называли без церемоний мадемуазель Луиза. Она ласково пожала руку тетушке Лери, поцеловала в лоб Атенаис и дружески улыбнулась юноше. — Далеко ли вы, милая барышня, ходили прогуляться нынче утром? — спросил дядюшка Лери. — Нет, вы только угадайте, куда я осмелилась дойти! — ответила мадемуазель Луиза и, не чинясь, присела рядом со стариком. — Неужели до замка? — быстро спросил племянник. — До самого замка, Бенедикт, — ответила Луиза. — Какая неосторожность! — воскликнула Атенаис и, перестав взбивать букли, с любопытством подошла к говорившей. — Почему же, — возразила Луиза, — ведь вы сами говорили, что всех прежних слуг рассчитали, кроме старой кормилицы. А встреть я ее, она наверняка не выдала бы меня. — Но ведь вы могли встретиться с самой мадам… — Это в шесть-то часов утра? Да мадам раньше полудня не встает. — Значит, вы поднялись до света? — спросил Бенедикт, — То-то мне показалось, будто я слышал, как вы открывали садовую калитку. — Но мадемуазель всегда встает ранехонько, она у нас хлопотунья. А если бы она вам встретилась? — Ах, как бы я сама этого хотела! — горячо отозвалась Луиза. — Но я все равно не буду знать покоя, пока не увижу ее, пока не услышу ее голоса… Вы ведь ее знаете, Атенаис, скажите же мне — хороша ли она, добра ли, похожа ли на своего отца… — Она куда больше похожа на кое-кого другого, — ответила Атенаис, приглядываясь к, Луизе, — а значит, и добрая и красивая. Лицо Бенедикта просветлело, и он с благодарностью взглянул на свою невесту. — Послушайте меня, — продолжала Атенаис, обращаясь к Луизе, — если вам так уж хочется видеть мадемуазель Валентину, идите с нами на праздник; можете укрыться у нашей кузины Симоны — это прямо на площади, и оттуда вы увидите дам из замка; мадемуазель Валентина заверила меня, что они непременно приедут. — Но, милая моя Атенаис, это невозможно, — возразила Луиза. — Стоит мне сойти с двуколки, и все меня сразу узнают или догадаются, что это я. Впрочем, из всей семьи я хочу видеть лишь ее одну; а присутствие остальных только испортит мне радость. Но хватит говорить о моих планах, давайте лучше поговорим о ваших, Атенаис; я вижу, вы намерены сразить всю округу блеском вашей свежести и красоты! Юная фермерша вспыхнула от удовольствия, бросилась на шею Луизы, и в самой живости этого движения чувствовалась простодушная радость оттого, что ею любуются. — Сейчас пойду принесу шляпку, — сказала она. — Вы мне поможете ее надеть, хорошо? И она быстро взбежала по деревянной лестнице, ведущей в спальню. Тетушка Лери тем временем вышла в соседнюю комнату, чтобы переодеться, а ее супруг, взяв вилы, пошел на скотный двор дать скотнику работу на день. Оставшись наедине с Луизой, Бенедикт подошел к ней и произнес вполголоса: — Вы тоже портите Атенаис. Ведь вы единственная могли бы делать ей хоть изредка замечания, но вы не удостаиваете их делать… — В чем же вы упрекаете это бедное дитя? — удивленно спросила Луиза. — На вас не угодишь, Бенедикт. — Все мне это говорят, и в том числе вы, мадам, но вы могли бы понять, что нрав и нелепые причуды этой юной особы причиняют мне немало мук! — Нелепые? — повторила Луиза. — Разве вы не влюблены в нее? Бенедикт не ответил, он замолк, но после мгновенного колебания заговорил снова: — Согласитесь же, что сегодняшний ее туалет чересчур экстравагантен. Отправиться на сельский праздник в бальном платье, плясать под солнцем и в пыли в шелковых туфельках, в кашемире и с перьями на шляпке! Я уже не говорю о совершенно неуместных в данном случае драгоценностях, на мой взгляд — это уж совсем дурной вкус. Девушка в ее годы должна превыше всего дорожить простотой и уметь украсить себя каким-нибудь пустячком. — Разве Атенаис виновата, что получила такое воспитание? Обращать внимание на подобные мелочи! Постарайтесь-ка лучше нравиться ей, сумейте завладеть ее умом и сердцем. И тогда, можете не сомневаться, ваши желания станут для нее законом. Но вы вечно оскорбляете ее, противоречите ей, ей — всеобщей баловнице, ей — королеве в доме! Вспомните-ка, какое у нее доброе, чувствительное сердце… — Сердце, сердце! Разумеется, у нее доброе сердце, но зато какой ограниченный ум! Доброта дана ей природой, доброта эта, если хотите, растительного происхождения, на манер овощей, которые, растут ли они хорошо или совсем не растут, сами не знают причины того. А до чего же мне неприятно ее кокетство! Придется, вести ее под ручку, прогуливаться с ней взад и вперед, показывать ее собравшимся на празднике, выслушивать дурацкие комплименты одних и столь же дурацкие насмешки других! Какая тоска! Как бы мне хотелось, чтобы мы уже вернулись с праздника! — Что за удивительный характер! А знаете, Бенедикт, я вас просто не понимаю. Любой другой на вашем месте гордился бы тем, что может показаться на людях с самой красивой девушкой в округе, с самой богатой здешней невестой, гордился бы тем, что возбуждает зависть двух десятков соперников, оставшихся с носом, имеет право назвать ее своей нареченной. А вы, вы только критикуете ее мелкие недостатки, свойственные всем юным девицам этой среды, ибо полученное ими воспитание не соответствует их происхождению, — вы вменяете в вину Атенаис то, что она подчиняется тщеславным притязаниям родителей, в конце концов совершенно безобидным, и уж кому-кому, а вам-то сетовать не пристало! — Знаю, знаю, — живо отозвался юноша, — знаю, что вы мне скажете. Они, не будучи к тому обязаны, дали мне все. Приютили меня, сына их брата, сына такого же крестьянина, как они сами, но бедняка, усыновили меня, сироту неимущего, и, вместо того чтобы сделать из меня пахаря, к чему, казалось бы, я предназначен самим общественным порядком, — послали на свой счет в Париж, дали мне возможность учиться, превратили в горожанина, в студента, в краснобая и, сверх всего, еще предназначили мне в жены свою дочь, свою богатую дочь, гордячку и красавицу. Они берегут ее для меня, предлагают в невесты! О, без сомнения, они очень меня полюбили, эти родичи с простой и щедрой душой! Но слепая любовь их обманула, и все то добро, которое они желали мне сделать, обратилось во зло… Будь проклято это вечное стремление метить выше, чем способен попасть! Бенедикт топнул ногой. Луиза посмотрела на него печальным, суровым взглядом. — То ли вы говорили вчера, возвращаясь с охоты, благородному дворянину, человеку невежественному и ограниченному, который отрицал блага воспитания и желал бы воспрепятствовать продвижению низших слоев общества? Сколько разительных доводов вы нашли в защиту распространения света и свободы для всех, желающих расти и достичь чего-то. Меня удивляет и огорчает, Бенедикт, ваш переменчивый, нестойкий, капризный ум, ум, который стремится все проанализировать и обесценить. Я боюсь за вас, боюсь, как бы добрые семена не стали плевелами, боюсь, как бы вы не поставили себя значительно ниже или значительно выше полученного вами воспитания, а то и другое — немалая беда. — Луиза, Луиза! — прерывающимся голосом произнес Бенедикт, схватив руку молодой женщины. Он так пристально смотрел на нее увлажнившимся взором, что Луиза покраснела и недовольно потупилась. Бенедикт выпустил ее руку и, сердито хмурясь, нервно зашагал по комнате, потом подошел к Луизе, стараясь подавить волнение. — Зато вы чересчур снисходительны, — возразил он, — вы прожили на свете больше, чем я, и, однако же, в моих глазах вы намного меня моложе. Вы обладаете опытом чувств, и чувства ваши благородны и великодушны, но вы не научились читать в чужой душе, вы даже не подозреваете, какой она бывает подчас мелкой и уродливой, вы не придаете значения несовершенствам ближнего, возможно, просто их не видите! Ах, мадемуазель, мадемуазель! Слишком вы снисходительны, и слишком вы опасный наставник!.. — Вот уж странные упреки, — возразила Луиза с наигранной веселостью. — А кому, в сущности, я навязывала себя в менторы? Не твердила ли я вам десятки раз, что я столь же мало способна направлять других, как и самое себя? Мне не хватает опыта, говорите вы? О, вот на это жаловаться не приходится! Две слезинки скатились по щекам Луизы. Воцарилось молчание. Бенедикт подошел к молодой женщине и встал перед ней, взволнованный и трепещущий. Скрыв мимолетную грусть, Луиза заговорила: — Вы правы, слишком долго я была поглощена собой и не научилась проникать в глубины чужой души. Целые годы я отдала страданиям и неудачно распорядилась собственной жизнью. Тут только Луиза заметила, что Бенедикт плачет. Испугавшись непомерной чувствительности юноши, она указала рукой на двор, где дядюшка Лери собственноручно закладывал в бричку здоровенного пуатевенского коня, и жестом послала Бенедикта ему на помощь, но юноша не понял ее. — Луиза! — пылко произнес он. Потом снова повторил ее имя, чуть понизив голос. — Какое славное имя, — сказал он, — какое простое, нежное, и его носите вы, а моя кузина, самой природой созданная для того, чтобы доить коров и пасти овец, зовется Атенаис! Есть у меня еще одна двоюродная сестрица, так той дали при крещении имя Зораида, а своего малыша она нарекла Адемаром! Люди благородного происхождения правы, высмеивая наши причуды: они действительно невыносимы, разве не так? Взгляните-ка, вот прялка, прялка моей почтенной тетушки; кто намотает на нее шерсть, кто в отсутствие тетушки будет терпеливо вращать ее? Уж конечно, не Атенаис! Она сочла бы для себя чуть ли не унижением хотя бы прикоснуться к веретену; уметь делать что-то полезное в ее глазах чуть ли не позор, ибо это может сбросить ее снова вниз, в то состояние, из какого она вышла. Нет, нет, она умеет, конечно, вышивать, играть на гитаре, рисовать цветы, танцевать, а вот вы, мадемуазель, вы умеете прясть, хотя вы родились в роскоши, вы кротки, вы скромны, трудолюбивы… Кто-то ходит наверху; сюда идет Атенаис. Не сомневаюсь, что, любуясь на себя в зеркале, она забыла все на свете. — Бенедикт! Идите же за шляпой, — крикнула с лестницы Атенаис. — Идите же, — вполголоса проговорила Луиза, видя, что юноша даже не тронулся с места. — Будь проклят этот праздник! — ответил он ей в тон, — Ладно, я поеду, но, высадив свою прелестную кузину на полянке, я скажу, что вывихнул ногу, и постараюсь вернуться на ферму… Вы будете здесь, мадемуазель Луиза? — Нет, не буду, — сухо ответила она. Бенедикт покраснел от досады и направился к двери. В эту минуту на пороге показалась тетушка Лери, одетая менее пышно, чем дочка, но, пожалуй, еще более несуразно. Атлас и кружева на диво подчеркивали медный оттенок ее кожи, опаленной солнцем, резкие черты и деревенские повадки. Добрых пятнадцать минут Атенаис сердито устраивалась в двуколке, упрекала мать, что та слишком широко расселась и помяла ей рукавчики, и в душе сокрушалась, что родители еще не настолько потеряли голову, чтобы купить коляску. Дядюшка Лери положил шляпу себе на колени, опасаясь, как бы при дорожных толчках она не слетела ненароком с головы. Бенедикт взобрался на козлы и, взяв вожжи, осмелился в последний раз посмотреть на Луизу, но, встретив ее ответный взгляд, холодный и суровый, опустил глаза, закусил губу и злобно хлестнул лошадь. Любимчик сразу взял в галоп и поскакал по дорожным ухабам, отчего двуколка отчаянно запрыгала по колеям, к вящей опасности для дамских шляпок и к вящей досаде Атенаис.3
Но уже через несколько шагов лошадка, не созданная для скачки, перешла на мерный шаг, гневная вспышка Бенедикта улеглась, сменившись стыдом и раскаянием, а дядюшка Лери тем временем уже успел погрузиться в глубокий сон. Теперь они ехали по узенькой зеленой дороге, именуемой на местном наречии стежкой, по дороге столь узкой, что даже двуколка цеплялась боками за ветви росших по обочинам деревьев, и Атенаис ухитрилась нарвать большой букет боярышника, просунув ручку в белой перчатке сквозь боковое окошко их экипажа. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы выразить всю свежесть и прелесть этих извилистых стежек, капризно вьющихся под сплошным покровом листвы, где с каждым поворотом перед путником открывается новая, еще более таинственная глубь, более заманчивый и еще более зеленый уголок. Когда на лугах каждый стебель высокой, стоящей стеной травы палим полуденным зноем, когда насекомые неумолчно жужжат и перепел, укрывшийся в колее, призывает в любовном томлении подружку, — невольно кажется, будто прохлада и тишь находят себе убежище как раз на этих стежках. Можете шагать по ним час, другой — и не услышать иного звука, кроме полета дрозда, вспугнутого вашим появлением, или неспешных прыжков крохотной лягушки, зеленой и блестящей, как изумруд, мирно дремавшей в люльке из сплетенных камышинок. Даже придорожная канава таит в себе целый мир живых существ, целый лес разнообразной растительности; ее прозрачные воды неслышно бегут по глинистому ложу, становясь от этого лишь еще прозрачнее, и рассеянно ласкают по пути растущие по берегам кресс, одуванчики и тростник; здесь и фонтиналь, трава с длинными стеблями, именуемая водяными лентами, здесь и речной мох, лохматый, плакучий, беспрестанно подрагивающий в бесшумной круговерти; по песочку с лукаво-пугливым видом подпрыгивает трясогузка; ломонос и жимолость образуют тенистый свод, где соловей прячет свое гнездышко. По весне здесь все сплошь цветы да ароматы; осенью лиловые ягоды терновника плотно сидят на ветках, которые в апреле первыми оденутся белизной; красные ягоды, до которых так охочи певчие дрозды, приходят на смену цветам жимолости, а на кустах ежевики, рядом с клочками шерсти, оставленной проходившей мимо отарой, алеют крохотные, приятные на вкус дикие ягоды. Опустив поводья и не правя своим мирным рысаком, Бенедикт впал в глубокую задумчивость. Странный нрав был у этого юноши; за невозможностью сравнить его с другими молодыми людьми такого же склада, окружающие не были способны подвести его под общую мерку. Большинство презирало его, как человека, не способного ни к какому полезному и серьезному делу; и если посторонние не выказывали юноше своего пренебрежения, то лишь потому, что вынуждены были признать за ним недюжинную физическую силу и знали, что он не прощает обид. Зато семейство Лери, простодушное и благожелательное, не колеблясь отдавало ему пальму первенства за ум и ученость. Славные эти люди были слепы к недостаткам Бенедикта; в их глазах племянник страдал от избытка воображения и, будучи обременен знаниями, не мог вкушать душевный покой. В двадцать два года Бенедикт еще не сумел овладеть тем, что зовется практическими знаниями. Попеременно снедаемый страстью то к искусству, то к наукам, он не приобрел в Париже никакой специальности. Работал он много, но как только дело доходило до практический занятий, он охладевал к науке. В тот самый момент, когда другие начинали пожинать плоды своих трудов, он с отвращением отходил в сторону. Любовь к учению кончалась для него там, где начиналось ремесло с его неумолимыми требованиями. Стоило ему овладеть сокровищами искусства и науки, и он уже не испытывал эгоистического чувства, заставлявшего настойчиво применить их к делу ради собственной выгоды, и так как он не умел приносить пользу даже самому себе, каждый, видя его праздным, не раз задавался вопросом: «На что он годен?». С малых лет Атенаис была наречена ему в невесты; таков был наилучший ответ завистникам, обвинявшим семейство Лери в том, что, разбогатев, они иссушили свое сердце, равно как и ум. Правда и то, что их здравый смысл, крестьянский здравый смысл, обычно непогрешимо верный, значительно поблек в атмосфере достатка. Они уже не относились с прежним уважением к простым и скромным добродетелям и после тщетных усилий искоренить их в себе постарались сделать все, дабы задушить их в зародыше у своих отпрысков; но старики по-прежнему холили обоих детей, не отдавая предпочтения родной дочери, и, веря, что трудятся для счастья молодых, трудились для их погибели. Подобное воспитание принесло достаточно богатые плоды на беду Бенедикту и Атенаис. Подобно мягкому, послушному воску, Атенаис переняла в пансионе Орлеана все недостатки юных провинциалок: тщеславие, непомерное честолюбие, зависть, мелочность. Но сердечная доброта жила в ней, как священное наследие, доставшееся от матери, и никакие влияния не могли его вытеснить. Поэтому-то смело можно было надеяться, что уроки времени и житейского опыта пойдут ей на пользу. Более серьезный ущерб был нанесен Бенедикту. Воспитание не только не усыпило его великодушных порывов, — напротив, они развились сверх всякой меры, стали мучительной и лихорадочной тревогой. Этот страстный характер, эта впечатлительная душа нуждались в упорядоченной системе идей, в умиротворяющих, обуздывающих принципах. Возможно, даже сельский труд, телесная усталость стали бы благодетельным выходом для избытка силы, дремавшей в этой деятельной натуре. Свет цивилизации, развивший в человеке столько ценных качеств, пожалуй, в той же мере извратил их. Такова беда поколения, стоящего между теми, кто ничего не знает, и теми, что узнают достаточно: оно знает чересчур много. Лери с супругой не догадывались о всей опасности положения. Они отказывались даже предвидеть его в будущем и, не видя иной радости, кроме как одаривать близких, кичились в простоте душевной, что обладают мощным средством утешения против всех горестей Бенедикта: по их мнению, то была хорошая ферма, красотка фермерша и приданое в двести тысяч франков наличными на первое обзаведение. Но Бенедикт был нечувствителен ко всем этим лестным дарам родственной любви. Деньги возбуждали в нем глубочайшее презрение, в котором выражает себя энтузиазм молодости, склонный все преувеличивать, легко менять принципы, а переменив их, преклонять колени перед этим кумиром вселенной. Бенедикт чувствовал, что им владеют какие-то честолюбивые помыслы, но это скрытое честолюбие не было связано с деньгами, оно, как обычно у юношей, искало своего удовлетворения в более возвышенной сфере. Он и сам еще не знал главной цели этого неясного и тягостного ожидания. Иной раз ему мерещилось, будто он познал эту цель в живых образах фантазии, завладевавшей его воображением. Но фантазии эти испарялись как дым, не принося с собой длительных радостей. Ныне он ощущал это ожидание как некий враждебный недуг, притаившийся в его груди, и ожидание терзало Бенедикта тем сильнее, чем меньше он сам понимал, на что следует его обратить. Скука, эта страшная болезнь, которой поражено нынешнее поколение в большей степени, чем в какую-либо иную эпоху истории общества, отметила судьбу Бенедикта еще в самую пору цветения; подобно черной туче, скука омрачила все его будущее. Она иссушила в его душе самый бесценный дар молодости — надежду. В Париже одиночество опостылело ему. И хотя, по мнению Бенедикта, оно было предпочтительнее общества людей, но в его студенческой комнатушке это чересчур торжественное одиночество становилось пагубным для человека таких энергических свойств, как он. В конце концов оно отразилось на его здоровье, добросердечные опекуны совсем перепугались и отозвали Бенедикта из столицы. Уже через месяц яркий румянец на щеках свидетельствовал о несокрушимом здоровье юноши; но сердце Бенедикта тревожилось сильнее прежнего. Поэзия полей, сызмальства владевшая его душой, доводила почти до неистовства пыл неосознанных желаний, подтачивавших его. Жизнь в родной семье, столь приятная и благотворная поначалу, чуть ли не до оскомины приедалась ему после каждого нового опыта пребывания в деревне. Никакой склонности к Атенаис он не чувствовал. Слишком далеко было ей до созданных его мечтой химер, и мысль осесть здесь, жить среди сумасбродства или тривиальности — а эти контрасты мирно уживались в семье Лери, — мысль эта стала для него непереносимой. Сердце его легко открывалось для нежности и признательности, но чувства эти превратились в источник борьбы и вечных укоров совести. Он не мог подавить внутреннюю усмешку, неумолимо жестокую усмешку при виде окружающей его мелочности, этой смеси скупости и расточительности, что делает повадки выскочек особенно нелепыми. Супруги Лери, отъявленные деспоты, в то же время по-отечески заботливые, по воскресеньям выставляли своим работникам превосходное вино, зато на неделе упрекали их за каждую каплю уксуса, подлитую в воду. Они, не колеблясь, приобрели для дочки прекрасное фортепьяно, туалет лимонного дерева, книги в роскошных переплетах, но ворчали на Атенаис, если по ее приказанию батрак кидал в очаг чересчур большую охапку хвороста. У себя дома они держались как люди маленькие, бедные, чтобы приучить слуг к усердию и бережливости; в обществе они горделиво пыжились и сочли бы смертельной обидой для себя малейшее сомнение в их достатке. Добрые, милосердные, но слишком податливые на лесть, они ухитрились по собственной глупости внушить ненависть соседям, впрочем, еще более глупым и тщеславным, чем сами Лери. Вот этих-то недостатков и не мог простить им Бенедикт. Молодость куда более жестока и нетерпима к старости, чем старики к молодым. Однако сквозь этот мрак отчаяния, сквозь смутные и неясные порывы пробился луч надежды, озаривший жизнь юноши. Луиза, мадам или мадемуазель Луиза (ее именовали и так и эдак), три недели назад поселилась в Гранжневе. Вначале из-за разницы в возрасте их близость была спокойной и мирной; кое-какие предубеждения Бенедикта против Луизы, которую он увидел впервые после двенадцати лет разлуки, скоро изгладились благодаря ее прелести и трогательной чистоте обращения. Их общие вкусы, образование, симпатии способствовали быстрому сближению, и Луиза, умудренная годами, своими бедами и своими добродетелями, вскоре приобрела неограниченное влияние на юного друга. Но недолгой оказалась их сладостная близость. Бенедикт, склонный действовать опрометчиво, умевший, как никто, обожествлять предмет своего поклонения и отравлять собственные радости крайностями, вообразил, будто влюблен в Луизу, будто именно она избранница его сердца, будто отныне он не способен жить без нее. Заблуждения эти скоро рассеялись; холодность, с какой Луиза встречала его робкие признания, причиняла Бенедикту скорее досаду, нежели боль. Ослепленный злобой, он в душе обвинял Луизу в гордости и сухости. Потом, вспомнив обо всем, что пережила Луиза, он скрепя сердце складывал оружие, признавая, что она столь же достойна уважения, как и жалости. Раза два-три он почувствовал в ее присутствии, что вновь в душе его просыпаются пылкие надежды, чересчур страстные для простой дружбы; но Луиза умела утишить его порывы. Она не прибегала к доводам рассудка, который склонен заблуждаться, идти на сделки; житейский опыт научил ее остерегаться сочувствия, она не жалела Бенедикта, и хотя душа ее была чужда жестокости, она прибегала к ней, желая исцелить юношу. Волнение, проявленное Бенедиктом нынче во время их беседы, было как бы последней его попыткой бунта. Теперь он уже раскаивался в своем сумасбродстве и, поразмыслив, понял по все нараставшей тревоге, что еще не пришел его час любить кого-то или что-то всеми силами души. Молчание прервала тетушка Лери, шутливо заметившая дочери: — Ты с этими цветами все перчатки замараешь. А вспомни-ка, что сказала как-то при тебе мадам: «В провинции особу низкого происхождения всегда узнаешь по рукам и ногам». Она, эта милейшая дамочка, даже не подумала, что мы можем принять ее слова на свой счет! — А я, напротив, считаю, что она сказала это именно в наш адрес. Бедная мамаша, плохо же ты знаешь госпожу Рембо, если думаешь, что она раскаивается в том, что нанесла нам афронт. — Афронт! — язвительно повторила тетушка Лери. — Она, видите ли, желала нам афронт нанести! Хотела бы я это видеть! Да что там! Будто меня можно пронять афронтом, от кого бы он ни исходил. — И все же придется нам сносить не одну ее дерзость, пока мы ее фермеры. Фермеры, вечно фермеры, хоть наши владения ничуть не хуже владений графини! Папенька, пока вы не разделаетесь с этой противной фермой, я от вас все равно не отстану. Тут все не по мне, не могу я больше этого выносить. Дядюшка Лери покачал головой. — Тысяча экю ежегодного дохода никогда не помешают, — заметил он. — Лучше получить на тысячу экю меньше, лишь бы быть свободным, пользоваться своим богатством, вырваться из-под власти этой злобной гордячки. — Ба! — заметила тетушка Лери. — Да мы с ней и дел-то почти не имеем. После этого злосчастного события она наезжает сюда раз в пять-шесть лет. Да и сейчас-то приехала она из-за свадьбы барышни. А может, больше никогда здесь не появится. Говорят, мадемуазель Валентина получит в приданое замок и ферму. Тогда у нас будет хорошая хозяйка! — Это верно, Валентина — добрая девушка, — подтвердила Атенаис, гордясь тем, что может в таком фамильярном тоне говорить об особе, чьему высокому положению втайне завидовала. — Она-то не гордая, она не забыла, что мы вместе играли детьми. И к тому же у нее достаточно здравого смысла, и она понимает, что единственное различие между людьми — это деньги, и что наше состояние столь же почетно, как и ее. — Это уж по меньшей мере! — проговорила тетушка Лери. — Для этого ей достаточно было просто родиться, а мы — мы деньги заработали потом и кровью. Впрочем, упрекать ее нечего, она славная барышня и красавица к тому же! Ты ее никогда не видел, Бенедикт? — Никогда, тетя. — А я все-таки привязана к этому семейству, — продолжала тетушка Лери. — И отец ее был добряк! Вот это мужчина так мужчина, и красавец к тому же! Ей-богу, настоящий генерал, весь в золоте и в крестах, а на всех праздниках приглашал меня танцевать, словно я герцогиня какая-нибудь… Мадам, правда, не особенно-то радовалась… — Да и я тоже, — простодушно заметил дядюшка Лери. — Ох, уж этот мне Лери, — воскликнула его супруга, — вечно насмешит! Я ведь к тому говорю, что, кроме самой мадам, которая немножко голову задирает, все остальные в их семье славные люди. Взять хоть бабушку — лучше женщины на всем свете не сыщешь! — Да, она лучше их всех, — подтвердила Атенаис. — Всегда что-нибудь ласковое скажет, иначе не назовет, как «душечка моя», «красавица», «милая моя крошка». — А это, что ни говори, приятно! — насмешливо заметил Бенедикт. — Ладно, ладно. Да еще вдобавок тысячу экю дохода с фермы, на которые можно накупить груды тряпок… — Вот видишь, этим бросаться не следует, верно, мальчик? — подхватил дядюшка Лери. — Скажи-ка ей это, сынок, она тебя послушает. — Нет, нет, ничего я не послушаю! — воскликнула девушка. — Я от вас до тех пор не отстану, пока вы не развяжетесь с фермой. Срок аренды истекает через полгода, и не нужно возобновлять ее, слышишь! — А что же прикажешь мне делать? — возразил старик, смущенный вкрадчивым и в то же время настойчивым тоном дочери. — Значит, так мне и сидеть сложа руки? Я не ты, не могу я петь да читать, я со скуки помру. — Но, папа, у вас много добра, значит, есть чем распоряжаться. — Вместе-то все прекрасно ладилось, а теперь чем прикажешь мне заняться? Да и где мы жить будем? Ведь ты не согласишься поселиться вместе с батраками? — Конечно, нет. Стройте, и у нас будет собственный дом, и уберем мы его иначе, чем эту противную ферму; вот увидите, как я все там устрою! — Ясно, устроишь так, чтобы проесть все денежки! — ответил отец. Атенаис надулась. — В конце концов поступайте как знаете, — проговорила она раздраженным тоном, — вы еще раскаетесь, что не послушали меня, но будет уже поздно. — Что вы имеете в виду? — осведомился Бенедикт. — А то, — ответила Атенаис, — что когда мадам де Рембо узнает, кого мы приютили на ферме и держим целые три недели, она рассердится, и по окончании срока контракта прогонит нас, да еще начнеткрючкотворствовать и затеет тяжбу… Не лучше ли нам уйти со славой и почестями, удалиться самим, не ожидая, когда нас выгонят? Это соображение заставило призадуматься стариков Лери. Они замолчали, а Бенедикт, которого все сильнее и сильнее раздражали речи Атенаис, не колеблясь истолковал ее последнее замечание в дурную сторону. — Другими словами, — проговорил он, — вы, кажется, упрекаете ваших родителей за то, что они приютили у себя мадам Луизу? Атенаис вздрогнула и удивленно взглянула на Бенедикта; лицо ее выражало гнев и печаль. Потом она побледнела и залилась слезами. Бенедикт понял все и взял ее руку. — О, какой ужас! — воскликнула она прерывающимся от рыданий голосом. — Так переиначить мои слова, когда я люблю мадам Луизу как родную сестру!.. — Ну ладно, ладно, ты его не поняла, поцелуйтесь — и хватит, утри слезы, — заметил папаша Лери. Бенедикт поцеловал свою кузину, на лице которой тут же заиграл прежний яркий румянец. — Да будет тебе, дочка, утри слезы, — сказала тетушка Лери. — Вот мы и подъезжаем. Не следует показываться на людях с красными глазами, смотри, тебя ждут. И впрямь, с лужайки уже доносились звуки лютни и волынок, и группа молодых людей, поджидавшая приезда девиц, устроила на дороге настоящую засаду — каждый торопился первым пригласить свою избранницу на танец.4
Все эти юноши принадлежали к тому же классу, что и Бенедикт, если не считать преимуществ его образования, что, впрочем, в глазах местных жителей являлось скорее недостатком, чем достоинством. Многие из них были не прочь посвататься к Атенаис. — Лакомый кусочек! — воскликнул один из молодых людей, взобравшийся на бугорок, чтобы не пропустить появления экипажей. — Едет мадемуазель Лери — краса Черной долины. — Потише, потише, Симонно! Она предназначена мне, я уже целый год за ней ухаживаю. Так что прошу простить, но право первенства за мной. Говоривший был высокий, крепкий черноглазый парень с загорелым лицом и широкими плечами, сын местного богача-прасола. — Все это так, Пьер Блютти, — ответил первый, — но при ней ее нареченный. — Какой нареченный? — хором воскликнули остальные. — А ее кузен Бенедикт. — Ага, Бенедикт, этот адвокат, краснобай, ученый… — Да, папаша Лери не поскупился, чтобы сделать из него человека. — И он на ней женится? — Женится. — Ну, пока-то еще не женился! — Родители этого хотят, дочка хочет, еще бы этот малый не захотел. — Не понимаю, как вы можете терпеть такое! — воскликнул Жорж Морэ. — Да хорошенький же у нас будет сосед! Этот грамотей наверняка станет корчить из себя невесть что. И ему самая лучшая девушка и самое лучшее приданое? Нет уж, не допущу я этого, покарай меня бог! — Девчонка — отчаянная кокетка, а этот верзила бледномордый (кличка, данная местными парнями Бенедикту) и собой нехорош и кавалер никудышный. Мы должны расстроить свадьбу! Пошли, ребята; тот, кому повезет больше других, угостит нас, счастливчик, в день своего бракосочетания. Но прежде всего давайте решим, как справиться с кознями Бенедикта. С этими словами Пьер Блютти вышел на дорогу и, сильной рукой схватив Любимчика под уздцы, остановил двуколку, после чего обратился с приветствием к юной фермерше и пригласил ее на танец. Бенедикту не терпелось загладить свою вину перед кузиной, кроме того, хоть он и не собирался оспаривать Атенаис у своих многочисленных соперников, он был не прочь подразнить их. Поэтому он загородил своей спиной сиденье двуколки, скрыв от кавалеров Атенаис. — Господа, моя кузина благодарит вас от всего сердца, — сказал он, — но, надеюсь, вы сами сочтете справедливым, что первый контрданс по праву принадлежит мне. Она уже обещала, вы опоздали. И, не дослушав второго приглашения, он стегнул Любимчика и, поднимая клубы пыли, въехал в поселок. Атенаис не ждала такой удачи; и вчера и нынче утром Бенедикт, не желавший с ней танцевать, уверял, будто вывихнул себе ногу и даже нарочно прихрамывал. Когда же она увидела, как он шагает с решительным видом, сердце ее запрыгало от радости; уже не говоря о том, что для самолюбия хорошенькой девицы унизительно не открыть бала со своим женихом, Атенаис по-настоящему любила Бенедикта. Инстинктивно она признавала его явное превосходство над собой, и, так как в каждой любви есть доля тщеславия, Атенаис была в душе польщена тем, что предназначена человеку, который образованнее и воспитаннее всех ее кавалеров. Итак, она появилась на полянке, блистая живостью и свежестью; даже наряд, столь сурово осужденный Бенедиктом, был очаровательным на менее изощренный вкус. Женщины даже позеленели от зависти, а кавалеры единодушно провозгласили Атенаис царицей бала. Однако к вечеру эта яркая звездочка несколько померкла перед другим светилом, более чистым и более лучезарным, — перед мадемуазель де Рембо. Услышав, как имя это передается из уст в уста, Бенедикт, движимый любопытством, примкнул к толпе почитателей, бросившихся вслед за ней. Желая разглядеть ее получше, он забрался на каменное подножие креста, почитаемого во всей округе. Этот кощунственный, вернее — сумасбродный поступок привлек к нему все взгляды, включая взгляд мадемуазель де Рембо, которая невольно повернулась туда, куда смотрела толпа, и дала возможность Бенедикту без помех рассмотреть себя. Она ему не понравилась. Уже давно он создал себе идеал женщины — брюнетка, бледная, пылкая, подвижная, словом — нечто в испанском духе, — и он отнюдь не собирался отрекаться от своих грез. Мадемуазель Валентина никак не соответствовала этому идеалу: она была блондинка, белокожая, спокойная, высокая, свежая, безукоризненно прекрасная с головы до ног. В ней не было ни единого из недостатков, к которым влекся болезненный мозг Бенедикта, насмотревшегося на те произведения искусства, где кисть, поэтизируя само уродство, — делает его более привлекательным, чем красота. Кроме того, мадемуазель де Рембо держалась со спокойным и прирожденным достоинством, что скорее могло внушить уважение, нежели очаровать с первого взгляда. Все в ней напоминало придворных дам Людовика XIV — и линия профиля, и изящный изгиб шеи, и роскошные, ослепительно белые плечи. Надо думать, потребовалось не одно поколение рыцарей, дабы создать это счастливое сочетание чистых и благородных черт, царственную осанку, которые можно видеть у лебедя, когда величественно и томно он расправляет на заре свои крылья. Бенедикт покинул свой наблюдательный пункт у подножия креста, и тут же, пренебрегая неодобрительным бормотанием местных кумушек, еще десятка два юношей бросились к этому заветному местечку, откуда и ты всех видишь и тебя все видят. Через час круговращение толпы принесло Бенедикта к дамам де Рембо. Дядюшка Лери, почтительно сняв шляпу, беседовал с хозяйками замка и, завидев племянника, схватил его за руку и представил дамам. Валентина сидела на траве между своей матерью, графиней де Рембо, и своей бабушкой, маркизой де Рембо. Бенедикт никогда раньше не видел этих трех женщин, но он так много наслышался о них на ферме, что не удивился, удостоившись холодно-высокомерного кивка одной и добродушно-фамильярного приветствия другой. Казалось, старая маркиза своими шумными излияниями старается искупить ледяное молчание невестки. Однако в этой нарочито простонародной болтовне чувствовалась чисто феодальная покровительственность. — Как, это и есть Бенедикт? — воскликнула старушка. — Неужели это тот самый мальчуган, которого я видела еще на руках у его матушки? Что ж, здравствуй, мой мальчик, рада видеть тебя взрослым и таким нарядным. Ты ужасно похож на свою мать. Да, да, мы с ней старинные друзья! Тебя крестил мой бедный сын, генерал, погибший под Ватерлоо. И как раз я подарила тебе твои первые штанишки, но ты, конечно, этого не помнишь. Сколько же с тех пор прошло времени? Тебе, должно быть, сейчас лет восемнадцать? — Мне двадцать два, мадам, — ответил Бенедикт. — О господи, уже двадцать два! — воскликнула маркиза. — Как время-то бежит! А я думала, ты ровесник моей внучке. Ты ее не знаешь, мою внучку? Ну так смотри, мы тоже умеем рожать славных ребятишек! Валентина, поздоровайся-ка с Бенедиктом, он племянник нашего почтенного Лери и жених твоей подружки Атенаис. Поговори с ним, внучка. Эти последние слова можно было перевести так: «Следуй моему примеру, ты прямая наследница моего имени, умей завоевать простые сердца, дабы спасти свою голову в годину грядущих революций, как спасалась я во время революций минувших!». Однако мадемуазель де Рембо, то ли в силу выучки, то ли в силу обычая, то ли в силу прямодушия, удалось и улыбкой и взглядом утишить в душе Бенедикта гнев, вызванный оскорбительной приветливостью маркизы. Он устремил на девушку дерзкий и насмешливый взгляд, ибо уязвленная гордыня на один миг вытеснила диковатость и робость, свойственные его возрасту. Но прекрасное лицо выражало такую кротость, такую безмятежность, звук голоса Валентины был так чист и так успокоителен, что юноша опустил глаза и вспыхнул как красная девица. — О, — проговорила она, — могу сказать вам от чистого сердца, что я люблю Атенаис как родную сестру. Не откажите в любезности привести ее сюда. Я уже давно ищу ее повсюду, но безуспешно. А мне так хочется ее расцеловать. Бенедикт склонился в глубоком поклоне и вскоре вернулся к Валентине со своей кузиной. Атенаис, дружески взяв под руку высокородную девицу де Рембо, стала прогуливаться с ней среди праздничной толпы. Хотя мадемуазель Лери старалась делать вид, что ничего тут особенного нет, а Валентина отлично понимала ее чувства, фермерша не могла скрыть горделивой радости и торжества над всеми прочими женщинами, которые из зависти старались ее опорочить. Тем временем лютня подала сигнал к следующему танцу — к бурре. На сей раз Атенаис пригласил один из тех юношей, что поджидали ее на дороге. Она попросила мадемуазель де Рембо быть ее визави. — Пусть меня сначала пригласят, — с улыбкой возразила Валентина. — За этим дело не станет! — с живостью воскликнула Атенаис. — Бенедикт, пригласите мадемуазель. Бенедикт, робко вскинув глаза, молча испросил разрешения Валентины. На ее милом, простодушном личике он прочел согласие. Тогда он шагнул к ней, но в эту минуту графиня-мать, резким движением схватив дочь за локоть, произнесла достаточно громко, чтобы Бенедикт мог расслышать: — Дочь моя, я разрешаю вам танцевать бурре только с господином де Лансаком. Тут только Бенедикт впервые заметил высокого молодого красавца, предложившего руку юной графине, и вспомнил, что де Лансак — жених Валентины. Уже через минуту он понял причину испуга графини. Когда лютня перед началом бурре выделывала особо звонкую трель, каждый кавалер, по обычаю, установившемуся еще с незапамятных времен, должен был поцеловать свою даму. Граф де Лансак, слишком хорошо воспитанный, чтобы позволить себе на народе подобную вольность, решил несколько видоизменить старинный беррийский обычай и почтительно поцеловал ручку Валентины. После чего граф прошелся в танце, сделав несколько шагов вперед и назад, но тут же почувствовал, что не в силах схватить капризный ритм бурре, к которому не так-то легко приноровиться с первого раза; поэтому он остановился и сказал Валентине: — Я исполнил свой долг по желанию вашей матушки, начав с вами танец, но боюсь, что испорчу вам все удовольствие своей неловкостью. У вас уже был кавалер, разрешите передать ему мои права. И он обернулся к Бенедикту. — Не угодно ли вам занять мое место? — осведомился он изысканно любезным тоном. — Вы исполните мою роль куда удачнее, чем я. Но Бенедикт, раздираемый смущением и гордостью, не сразу сменил, графа, ибо его лишили самого очаровательного права, данного танцору. — Прошу вас, — настойчиво продолжал де Лансак, — вы будете сторицей вознаграждены за эту услугу, которую я прошу вас оказать, и, быть может, вам еще придется благодарить меня. Бенедикта не пришлось долго уламывать, ручка Валентины без всякой неприязни нашла его дрожащую руку. Графиня была вполне удовлетворена дипломатическим маневром своего будущего зятя, так ловко вышедшего из положения; но вдруг игрок на лютне, видимо шутник и насмешник, как и все подлинные артисты, прервал рефрен и с лукавой непосредственностью повторил зазывную трель. А это значило, что кавалер обязан поцеловать свою даму. Бенедикт побледнел и растерялся. Папаша Лери, испуганный злобным блеском, вспыхнувшим в глазах графини, бросился к лютнику и стал умолять его играть дальше, не повторяя роковой трели. Но деревенский музыкант не желал ничего слушать, смех и одобрительные возгласы публики лишь подзадорили его, и он уперся, заявив, что будет играть дальше лишь при том условии, если все будет как положено. Танцоры роптали от нетерпения. Мадам де Рембо приготовилась было увести дочь. Но господин де Лансак, человек светский и находчивый, поняв всю смехотворную нелепость этой сцены, вновь приблизился к Бенедикту и проговорил любезно, однако не без скрытой насмешки: — Итак, сударь, оказывается, я должен дать вам разрешение на право, которым я сам не посмел воспользоваться? Вы, как я вижу, хотите полностью насладиться своим триумфом! Бенедикт коснулся дрожащими губами бархатистых щечек юной графини. На миг, на один только миг, его охватило чувство гордости и наслаждения, но он заметил, что Валентина, хотя и вспыхнула, от души смеется над всем этим происшествием. Он вспомнил, что она точно так же покраснела, когда господин де Лансак поцеловал ей руку, но не рассмеялась. И Бенедикт понял, что этот граф, вежливый, находчивый, рассудительный красавец, безусловно любим, и танцевал с Валентиной без всякого удовольствия, хотя она танцевала бурре на диво уверенно, непринужденно, как истая поселянка. Однако Атенаис вносила в танец еще больше прелести и кокетства, так как обладала именно тем родом красоты, которая нравится всем без исключения. Мужчины, не получившие настоящего воспитания, любят примитивную прелесть, сулящие многое взгляды, поощрительные улыбки. При всей своей невинности юная фермерша умела держаться с лукавой и манящей уверенностью. В мгновение ока ее окружили сельские поклонники и увлекли за собой, чуть ли не похитили. Некоторое время Бенедикт старался не выпускать ее из виду. Но, рассерженный тем, что она, бросив мать, присоединилась к рою молодых кокеток, вокруг которых теснились стаи воздыхателей, он попытался жестами и красноречивыми взглядами втолковать кузине, что она уж слишком поддалась своей природной резвости. Атенаис ничего не замечала или не желала замечать. Бенедикт сердито пожал плечами и удалился. В харчевне он встретил работника с дядюшкиной фермы, приехавшего сюда на серой кобылке, на которой обычно ездил сам Бенедикт. Он велел работнику доставить вечером семейство Лери на двуколке домой, а сам, вскочив в седло, поскакал в одиночестве по дороге в Гранжнев, уже укутанной вечерними сумерками.5
Поблагодарив Бенедикта изящным жестом, Валентина покинула круг танцующих и, присев возле графини, поняла по бледности ее лица, холодности взгляда, поджатым губам, что в мстительном сердце матери зреет гроза и гроза эта вскоре обрушится на нее. Господин де Лансак, чувствовавший себя в ответе за поведение своей нареченной, решил уберечь ее хотя бы от первого шквала горьких упреков и, предложив Валентине руку, пошел с ней в некотором отдалении от мадам де Рембо, которая, увлекая за собой свекровь, поспешно шагала к карете. У Валентины на душе было неспокойно, она боялась материнского гнева, который вот-вот обрушится ей на голову, хотя господин де Лансак с присущей ему милой и умной находчивостью всячески старался ее развлечь, делая вид, что все это чистые пустяки, и наконец взялся успокоить графиню. Валентина, искренне признательная де Лансаку за деликатное внимание, которым он ее окружал, не будучи при том ни эгоистичным, ни смешным, почувствовала, как растет в ее душе искренняя привязанность к будущему супругу. А тем временем графиня, досадуя, что ей не с кем затеять ссору, взялась за свекровь. Так как на условленном месте ее людей не оказалось, ибо слуги не ожидали так рано хозяйку, ей пришлось волей-неволей совершить прогулку по пыльной каменистой дороге — истое испытание для ног, привыкших утопать в кашмирских коврах, устилавших апартаменты Жозефины и Марии-Луизы. Досада графини, естественно, еще усилилась, она чуть не толкнула старуху маркизу, которая, спотыкаясь на каждом шагу, старалась уцепиться за руку невестки. — Что и говорить, миленький праздник, прелестная прогулка! — начала графиня. — И все вы, это вы захотели сюда приехать, вы и меня против воли с собой притащили. Вы любите всю эту чернь, а вот я ее ненавижу. Ну как, хорошо повеселились? Что ж вы не восторгаетесь прелестью полей? Может быть, и жара вам тоже приятна? — Да, приятна, — ответила старушка, — а мне восемьдесят лет. — Мне, слава богу, нет восьмидесяти, и я задыхаюсь. А эта пыль, эти камни, которые впиваются в ноги! Как это мило! — Но, дорогая, разве моя вина в том, что стоит жаркая погода, что дорога скверная, а у вас плохое настроение? — Плохое настроение! Зато у вас никогда не бывает плохого настроения, еще бы — вас ничто не заботит. Вы безбожно попустительствуете своим близким. Недаром цветы, которые вы посеяли, принесли плоды и, надо признаться, достаточно ранние… — Мадам, — с горечью проговорила маркиза, — я давно знаю, что в гневе вы беспощадны. — Если не ошибаюсь, мадам, — ответила графиня, — вы именуете беспощадностью вполне законную гордость оскорбленной матери? — Да кто же вас оскорбил, побойтесь вы бога! — И вы еще спрашиваете! Неужели, по-вашему, я не была достаточно оскорблена в лице моей дочери, когда весь этот деревенский сброд хлопал в ладоши, видя, как она на моих глазах, против моей воли, целуется с каким-то мужланом. Ведь завтра они будут говорить: «Мы нанесли кровную обиду графине де Рембо». — Что за преувеличения! Что за пуританизм! Ваша дочь обесчещена тем, что ее поцеловали в присутствии трех тысяч человек! Ну и преступление! Согласна, в мое время, мадам, да и в ваше тоже, так не поступали, но поступали не лучше. К тому же этот мальчик вовсе не мужлан. — Тем хуже, мадам, это разбогатевший мужик, это «просвещенный» смерд. — Говорите тише, нас могут услышать! — О, вы все еще бредите гильотиной, по-вашему, она вечно шествует за вами по пятам и готова схватить вас при малейшем проявлении гордости и отваги. Хорошо, я буду говорить тихо; послушайте-ка, что я вам сейчас скажу: не вмешивайтесь в воспитание Валентины и не забудьте, какие плоды принесло воспитание «той». — Опять! Опять! — простонала старуха, тоскливо сжав руки. — Неужели надо по всякому поводу бередить эту рану? Дайте мне умереть спокойно, мадам, мне восемьдесят лет. — Всем бы хотелось дожить до этого возраста, особенно если он служит извинением любым причудам души и разума. Вы стары, и как бы вы ни пытались разыгрывать роль безобидной старушки, вы до сих пор имеете огромное влияние на мою дочь, да и на весь наш дом тоже… Употребите его на наше общее благо, пусть хоть Валентина будет подальше от этого злосчастного примера, память о котором, к сожалению, не окончательно в ней угасла. — Ну, какая опасность может ей грозить с этой стороны? Ведь Валентина не сегодня-завтра выйдет замуж! Чего вы боитесь? Ее ошибки, если только она их совершит, дело ее мужа, мы выполнили нашу обязанность… — Да, мадам, мне известен образ ваших мыслей, я не желаю терять зря время и оспаривать ваши взгляды, но повторяю: постарайтесь сделать так, чтобы вокруг вас не осталось и духа от существа, которое запятнало всю нашу семью. — Великий боже, мадам, кончите ли вы когда-нибудь? В каком тоне вы говорите о моей внучке, о дочери моего родного сына, об единственной и законной сестре Валентины? Именно потому, что она мне родня, я всегда буду оплакивать ее поступок, но не проклинать ее. Разве не искупила она дорогой ценой свою вину? Неужели ваша ненависть столь беспощадна, что готова преследовать ее даже в изгнании и нищете? Откуда это настойчивое стремление бередить рану, которая будет кровоточить до последнего моего дыхания? — Послушайте, мадам, ваша уважаемая внучка не так далеко, как вы пытаетесь меня уверить. Вот видите, вам не удалось меня провести. — Великий боже! — воскликнула старуха, распрямляя свой согбенный стан. — На что вы намекаете? Объяснитесь: дочка моя, бедная моя дочка, где она, где? Скажите мне, где она, молю вас об этом на коленях. Госпожа де Рембо, закинувшая удочку лжи с единственной целью выведать правду, почувствовала удовлетворение, услышав искренние и трогательные мольбы старухи, поскольку они рассеяли подозрения графини. — Вы узнаете это, мадам, — ответила она, — но сначала узнаю я сама. Клянусь, я обнаружу в самом скором времени то место по соседству с нами, где она нашла себе приют, и сумею изгнать ее оттуда. Утрите слезы, вот наши люди. Валентина поднялась в карету и вскоре вышла оттуда, надев прямо на свой наряд широкую синюю мериносовую юбку, заменившую ей амазонку, слишком тяжелую для жаркой весенней погоды. Господин де Лансак, подставив ей руку, помог сесть на превосходного английского иноходца; дамы разместились в карете, но, когда кавалькада собралась тронуться с места, лошадь де Лансака, взятая из сельской конюшни, вдруг упала на землю, и ее не удалось поднять. Было ли то следствием чрезмерной жары или животное опоили плохой водой, только колики были так сильны, что о поездке не могло быть и речи. При лошади на постоялом дворе оставили форейтора, а господин де Лансак вынужден был сесть в карету. — А как же Валентина поедет одна? — воскликнула графиня. — Что же тут такого, — возразил граф де Лансак, которому от души хотелось избавить девушку от двухчасового пути лицом к лицу с разгневанной матерью. — Мадемуазель Валентина поскачет рядом с каретой и, следовательно, не будет одна, мы даже сможем переговариваться с ней. Лошадь у нее послушная, так что, на мой взгляд, нет никакого риска, если она поедет верхом. — Но так не делается, — заметила графиня, для которой господин де Лансак был непререкаемым авторитетом. — В этом краю делается все, ибо здесь некому судить, что принято, а что нет. Сразу за поворотом мы выедем в Черную долину, где даже кошки не встретим. К тому же через десять минут окончательно стемнеет, так что нам нечего бояться осуждающих взглядов. Этот последний и весьма веский довод оказался решающим. Лансак одержал верх, и кортеж направился по дороге к долине. Валентина ехала следом за каретой на рыси. Уже спускалась ночь. С каждым шагом дорога, шедшая через равнину, становилась все уже. Вскоре Валентина не могла скакать рядом с каретой. Сначала она ехала позади, но так как из-за неровностей почвы возница то и дело резко осаживал лошадей, иноходец Валентины, чуть не натыкаясь грудью на задок кареты, испуганно бросался в сторону. В одном месте придорожная канава отступала в сторону, и Валентина, воспользовавшись этим, обогнала карету и с удовольствием поскакала вперед, не терзаясь предчувствиями и дав своему мощному благородному коню полную волю. Стояла восхитительная погода, луна еще не поднялась, и дорога была погребена под густой сенью листвы; изредка между травинок сверкал огонек светлячка, шуршала в кустарнике вспугнутая ящерица да над увлажненными росой цветами вилась сумеречная бабочка. Теплый ветерок, неизвестно откуда налетавший, нес с собой запах ванили — это зацвела в полях люцерна. Валентину воспитывали все — и изгнанная из дому сестра, и спесивая мать, и монахини в том монастыре, где она училась, и взбалмошная, молодая душой бабка, — и никто поэтому не довел ее воспитания до конца. Благодаря самой себе она стала такой, какой была сейчас, и, не найдя в семейном кругу подлинных симпатий, постепенно приохотилась к учению и мечтам. Спокойный от природы дух, здравые суждения в равной мере уберегали девушку от тех ошибок и заблуждений, в каких повинны и общество и одиночество. Отдаваясь во власть спокойных и чистых, как само ее сердце, мыслей, она наслаждалась прелестью майского вечера, полного целомудренной неги для юной поэтической души. Быть может, она думала о своем женихе, о человеке, который первый отнесся к ней с доверием и уважением, что столь мило сердцу, привыкшему себя уважать, но еще непонятому другими. Валентина не грезила о страсти, ей было чуждо надменное стремление молодых умов, почитающих страсть властной потребностью своей натуры. Скромная от природы, Валентина считала, что не создана для слишком неистовых и сильных испытаний, она не пыталась бунтовать против сдержанности, которую, как первейший долг, предписывал ей свет. Она принимала ее как благо, а не как закон. Она дала себе клятву не поддаваться пылким влечениям, которые на ее глазах стали причиной многих бед, любви к роскоши, ради которой даже бабка жертвовала своим достоинством, тщеславия, непрестанно терзавшего мать с тех пор, как рухнули ее надежды, а равно любви, что так жестоко сгубила ее сестру. При мысли о сестре на ее ресницах повисла слезинка. Это было единственное событие, оставившее неизгладимый след в душе Валентины, оно оказало влияние на ее нрав, наградило одновременно смелостью и робостью — робостью, когда дело касалось ее самой, а смелостью, когда дело касалось сестры. Правда и то, что ей никогда не удавалось доказать делом отвагу и преданность, жившие в ее душе; мать никогда не произносила в ее присутствии имя сестры, никогда еще не представлялся ей случай послужить сестре и защитить ее. Желание это росло с каждым днем, и горячая нежность, которую питала Валентина к сестре, к образу ее, встававшему в дымке смутных детских воспоминаний, была единственным подлинным чувством, обитавшим в душе девушки. Это подавленное чувство дружбы наложило на все существо Валентины отпечаток какого-то внутреннего возбуждения, усиливавшегося за последние дни. В округе прошел слух, что ее сестру видели в восьми лье отсюда, в городке, где она некогда нашла себе приют на несколько месяцев. На сей раз она только переночевала там, не назвав своего имени, но владельцы харчевни уверяли, что сразу ее узнали. Слух этот дошел до замка Рембо, расположенного в другом конце Черной долины: слуга, надеявшийся попасть в милость к графине, сообщил ей эту новость. Случилось так, что Валентина, сидевшая за работой в соседней комнате, услышала возглас матери, произнесшей имя, от которого девушку бросило в дрожь. Не в силах побороть тревогу и любопытство, она прислушалась внимательнее и поняла смысл тайных донесений лакея. Произошло это накануне первого мая, и теперь Валентина, взволнованная и встревоженная, размышляла о том, верна ли эта весть и не проще ли предположить, что люди ошиблись, — не так просто узнать человека, который шестнадцать долгих лет жил в изгнании. Вся во власти этих дум, мадемуазель де Рембо, не заметив, что иноходец несет ее слишком быстро, не осадила его вовремя и оставила карету далеко позади. Заметив это, она остановилась и, не видя ничего во мраке, пригнулась к луке седла и прислушалась, но то ли отдаленный стук колес смягчала высокая, покрытая росой трава, то ли мешало шумное и учащенное дыхание иноходца, нетерпеливо просившего поводьев, — но так или иначе ни один звук не донесся до ушей Валентины, она слышала лишь торжественное безмолвие ночи. Валентина, решив, что она заблудилась, повернула коня, проскакала галопом часть дороги, так и не встретив никого, снова остановилась и прислушалась. И на сей раз она не услышала ничего, кроме стрекотания кузнечика, пробудившегося с восходом луны, да отдаленного лая собак. Валентина снова пустила лошадь галопом и снова остановилась на развилке дороги. Она пыталась вспомнить, какая дорога привела ее сюда, но из-за темноты не могла определить направления. Благоразумнее было бы подождать здесь появления кареты, ибо она могла проехать только по одной из этих двух дорог. Но страх уже затуманил рассудок молодой девушки, ждать своих и тревожиться было, по ее мнению, самым нелепым решением. Поэтому она понадеялась на инстинкт иноходца — он непременно возьмет верное направление, почуяв лошадей, запряженных в карету, и если память его подведет, то выручит нюх. Все лучше, чем стоять вот так, на месте, в страхе и тревоге. Предоставленный своей воле иноходец свернул налево. После бесцельной и бессмысленной скачки Валентине вдруг почудилось, будто она узнает огромное дерево, замеченное еще поутру. Это обстоятельство придало ей смелости, она даже улыбнулась своим страхам и погнала лошадь вперед. Но вскоре она заметила, что дорога все круче спускается к долине. Валентина плохо знала здешние края, ее увезли отсюда ребенком, но ей показалось, будто нынче утром они ехали по более возвышенной части долины. Да и сам пейзаж изменился: лучи луны, медленно подымавшейся над горизонтом, пробивались в просвет между ветвей, и теперь Валентине удалось разглядеть то, чего она не могла видеть в темноте. Дорога, избитая скотом и колесами, стала более широкой, более открытой, ивы с коротко обрезанными ветвями стояли по обе ее стороны, их причудливо обезображенные стволы, вырисовывавшиеся на фоне неба, казались какими-то мерзкими чудищами, которые вот-вот закачают своей уродливой головой, задвижутся всем своим безруким телом.6
Внезапно Валентина услышала глухой протяжный шум, напоминавший отдаленный стук колес. Она свернула с дороги и направилась по боковой тропинке к тому месту, откуда доносились эти звуки, которые все усиливались и менялись. Если бы Валентина могла проникнуть под свод цветущих яблонь, пронизанный лучами луны, она увидела бы белую, блестящую ленту реки, устремлявшуюся к плотине, которая была неподалеку. Все же она и так угадала близкое присутствие Эндра по идущей от него прохладе и нежному запаху мяты. Именно поэтому она поняла, что уклонилась от правильного пути, и тут же решила спуститься к реке и ехать берегом, в надежде обнаружить мельницу или хижину, где можно расспросить о дороге. И в самом деле, вскоре путь ей преградил старый, стоявший на отшибе темный амбар, и хотя света не было, лай собак за забором свидетельствовал о том, что здесь живут люди. Она крикнула, но никто не отозвался. Тогда она подъехала к воротам и постучала в них стальным наконечником хлыста. В ответ послышалось жалобное блеяние — амбар оказался овчарней. В этом краю, где нет ни волков, ни воров, нет также и пастухов. Валентина поехала дальше. Ее иноходец, словно ему передалось смятение хозяйки, шел теперь медленным, неуверенным шагом. То копыто его высекало из кремня искру, то он тянулся мордой к молодым побегам вяза. Вдруг в этой тишине, среди пустынных полей, среди лугов, не слышавших никогда иной мелодии, кроме той, что от нечего делать извлекает из своей дудочки ребенок, или хриплой и непристойной песенки подгулявшего мельника, вдруг к бормотанию воды и вздохам ветерка присоединился чистый, сладостный, завораживающий голос — голос человека, молодой и вибрирующий, как звук гобоя. Он пел местную беррийскую песенку, простую, очень протяжную и очень грустную, как, впрочем, все такие песни. Но как он пел! Разумеется, ни один сельский житель не мог так владеть звуком и так модулировать. Но это не был и профессиональный певец, тот не отдался бы так непринужденно на волю незамысловатого ритма, отказавшись от всяких фиоритур и премудростей. Пел тот, кто чувствовал музыку, но не изучал ее, а если бы изучал, то стал бы первым из первых певцов мира, так не чувствовалось в нем выучки; мелодия, как голос самих стихий, поднималась к небесам, полная единственной поэзии — поэзии чувств. «Если бы в девственном лесу, далеко от произведений искусства, далеко от ярких кеккетов рампы и арий Россини, среди альпийских елей, где никогда не ступала нога человека, — если бы духи Манфреда пробудились вдруг к жизни, именно так бы они и пели», — подумалось Валентине. Она уронила поводья, лошадь спокойно пощипывала траву, росшую на обочине дороги, Валентина уже не испытывала страха: она была околдована таинственной песней, и так сладостно было это чувство, что она и не думала удивляться, слыша ее в таком месте и в такой час. Голос умолк; Валентина подумала, что все это ей пригрезилось, но вот песнь раздалась вновь, приблизилась, и с каждым мгновением звуки ее все отчетливее доносились до слуха прекрасной амазонки, потом звук снова утих, и теперь Валентина слышала лишь лошадиный топот. По тяжелому, неровному аллюру она без труда догадалась, что это крестьянская лошадь. Валентина почувствовала страх при мысли, что сейчас она очутится здесь, в этом пустынном углу, с глазу на глаз с человеком, который может оказаться грубияном, пьяницей. Как знать, пел ли это сам ночной путник, или, быть может, тяжелая рысь его коня спугнула сладкогласного эльфа. Но так или иначе, она сочла более благоразумным объявиться незнакомцу, чем проблуждать всю ночь в полях. Валентина подумала также, что, если ее попытаются оскорбить, иноходец, безусловно, ускачет от крестьянской лошадки, и, стараясь казаться спокойнее, чем была на самом деле, двинулась прямо навстречу ездоку. — Кто там? — раздался твердый голос. — Валентина де Рембо, — ответила девушка, не без чувства гордости назвав своя имя, самое почитаемое в их краях. В этом невинном тщеславии не было, в сущности, ничего нелепого или смешного, ибо гордилась она доблестями и отвагой своего отца. — Мадемуазель де Рембо, одна и в такой час! — подхватил путник. — А где же господин де Лансак? Не упал ли он с лошади? Жив ли он? — Слава богу, жив, — ответила Валентина, приободренная звуком голоса, показавшегося ей знакомым. — Но, если не ошибаюсь, мосье, вас зовут Бенедикт, и мы с вами сегодня танцевали. Бенедикт вздрогнул. Про себя он подумал, что нескромно и неосмотрительно было напоминать об этом щекотливом обстоятельстве, при воспоминании о котором вся кровь закипала у него в жилах… Но иной раз безграничное чистосердечие может показаться дерзостью. На самом же деле Валентина, поглощенная этой ночной скачкой, совершенно забыла о смешном случае с поцелуем, и только тон, которым ответил Бенедикт, напомнил ей все обстоятельства дела. — Да, мадемуазель, я Бенедикт. — Вот и хорошо, — сказала она, — будьте добры показать мне дорогу. И она рассказала ему, как сбилась с пути. — Вы находитесь на расстоянии одного лье от того места, какого вам нужно было держаться, — ответил он, — и, чтобы попасть на дорогу, вам придется проехать через ферму Гранжнев. Так как я сам держу туда путь, разрешите быть вашим проводником. Возможно, выехав на дорогу, мы обнаружим карету, которая вас поджидает. — Вряд ли, — возразила Валентина, — матушка видела, что я обогнала их, и, разумеется, решила, что я попаду в замок раньше. — В таком случае, мадемуазель, разрешите проводить вас до дому. Мой дядя, безусловно, был бы более подходящим проводником, но он еще не вернулся с праздника и не знаю, когда вернется. Валентина с грустью подумала, что это обстоятельство лишь усугубит гнев матери, но, так как она была неповинна во всех сегодняшних приключениях, она приняла предложение Бенедикта с искренностью, невольно внушавшей к ней уважение. Бенедикт был тронут ее простым и мягким обхождением. То что поначалу не понравилось ему в Валентине, а именно — ее непринужденность, которая порождалась сознанием общественного превосходства, внушенным ей с пеленок, — как раз и покорило его теперь. Он понял, что девушка принимает свое благородное происхождение со всей простотой чувств, без надменности или наигранного самоуничижения. Она была как бы промежуточным звеном между матерью и бабкой, она умела заставить себя уважать, не оскорбляя собеседника. Бенедикт дивился тому, что в присутствии Валентины не испытывал робости, того трепета, какой неизбежно охватывает двадцатилетнего юношу, выросшего вдали от света, в присутствии молодой, прекрасной женщины. И он заключил из этого, что мадемуазель де Рембо с ее спокойной красотой и природным чистосердечием достойна внушить человеку прочное чувство дружбы. Мысль о любви даже не пришла ему в голову. После обычных в таком случае вопросов о дороге, о выносливости лошадей Валентина спросила Бенедикта, не он ли сейчас пел. Бенедикт знал, что поет превосходно, и не без тайного удовлетворения подумал, что она слышала его голос, разносившийся по всей равнине. Однако он небрежно осведомился, движимый тем неосознанным притворством, которое подсказывает нам тщеславие: — Разве вы что-нибудь слышали? Очевидно, это был я или лягушки в тростнике. Валентина хранила молчание. Она была так восхищена этим голосом, что боялась в равной мере сказать слишком много или слишком мало. Однако, нарушив молчание, она простодушно спросила: — Но где вы учились петь? — Будь у меня талант, я имел бы право ответить вам, что этому не учатся, но в данном случае это было бы фатовством. Я взял в Париже несколько уроков пения. — Какая прекрасная вещь музыка, — заметила Валентина. И, начав с музыки, они заговорили о других искусствах. — Я вижу, вы тоже музыкантша, — сказал Бенедикт в ответ на какое-то глубокое ее замечание. — Меня учили музыке, как и всему прочему, — возразила она, — другими словами — учили поверхностно, но этот вид искусства я усвоила довольно легко, у меня есть к нему вкус и внутреннее чутье. — И у вас, безусловно, большой талант? — У меня?.. Я играю контрдансы, и только. — А голос у вас есть? — Есть. Я пела, и многие даже находили во мне способности, но я бросила пение. — Как? При такой любви к искусству? — Да, бросила и взялась за живопись, которую я люблю гораздо меньше и которая дается мне труднее. — Не странно ли! — Нет, в теперешнее время человеку необходимо знать какое-нибудь дело досконально. Наше положение и наше состояние непрочны. Может статься, что через несколько лет земли Рембо, моя вотчина, перейдут в государственную казну, куда они и попали полвека тому назад. Мы получаем самое жалкое образование, нас учат начаткам всего и не разрешают углублять свои знания. Родные хотят, чтобы мы были образованными, но если мы, не дай бог, станем учеными, нас подымут на смех. Нас неизменно воспитывают в расчете на богатство, а не бедность. Да уж, куда лучше образование, которое давали нашим прабабкам, как ни было оно ограниченно: они хоть вязать умели. Революция застала их женщинами ничем не примечательными, и они смирились с тем, что ничем не примечательны, и без малейшего отвращения занялись вязанием, зарабатывая на жизнь. А что станется с нами, с грехом пополам знающими английский язык, рисование и музыку, с нами, умеющими писать лаковыми красками, разрисовывать акварелью каминные экраны, делать из бархата цветы и прочие дорогостоящие пустячки; что будем делать мы, когда республика примет закон против роскоши и оставит нас без пропитания? Кто из нас без душевной боли снизойдет до ручного ремесла? Ибо только одна из двадцати девушек нашего круга обладает более или менее серьезными знаниями. Я считаю, что им подходит лишь одно занятие — стать горничными. Я поняла это еще давно, из рассказов бабушки и матери (вот вам пример двух совершенно противоположных существований: эмиграция и Империя, Кобленц и Мария-Луиза), поняла, что мой долг уберечь себя от злоключений первой и благоденствия второй. И как только я стала свободна в своем выборе, я отказалась от всех моих талантов, которые не могут послужить мне на пользу. И посвятила себя одному, ибо заметила, что в любые времена человек, делающий хорошо что-то одно, всегда найдет себе место в обществе. — Итак, вы считаете, что в грядущем обществе с его спартанскими нравами живопись будет считаться более полезной, будет в меньшем пренебрежении, нежели музыка, раз вы решительно избрали ее вопреки своему призванию? — Возможно, но не в этом только дело. Музыка как профессия мне не подошла бы: тут женщина находится слишком на виду, тут только два пути — либо театральные подмостки, либо салоны; музыка превращает женщину либо в актрису, либо в лицо подчиненное, которое нанимают давать уроки какой-нибудь провинциальной барышне. Живопись дает больше свободы, позволяет жить более уединенно, и радость, даваемая ею, становится вдвое дороже в уединении. Думаю, что теперь вы одобрите мой выбор… Но, пожалуйста, поедем быстрее, матушка меня ждет и беспокоится… Бенедикт, полный уважения и восхищения перед рассудительностью юной девушки, втайне польщенный той искренностью, с какой Валентина открыла перед ним свои мысли и свой нрав, не без сожаления подстегнул лошадь. Но когда при свете луны показалась белая крыша их фермы, в голову ему пришла неожиданная мысль. Он осадил лошадь и, весь во власти своей взбалмошной идеи, машинально протянул руку и взял под уздцы иноходца Валентины. — Что случилось? — спросила она, натягивая поводья. — Мы сбились с дороги? Бенедикт растерянно молчал. Потом, набравшись духу, заговорил: — Мадемуазель, то, что я хочу вам сказать, ввергает меня в тревогу и страх, ибо я сам не знаю, как вы встретите мои слова. Я говорю с вами впервые в жизни, и господь бог свидетель, что, расставшись с вами, я сохраню в душе величайшее к вам уважение. Однако в первый, а возможно, в последний раз мне выпало подобное счастье, и, если слова мои оскорбят вас, вам нетрудно будет избегнуть встреч с человеком, на свою беду не угодившим вам… Это торжественное вступление наполнило душу Валентины страхом и изумлением. У Бенедикта и всегда-то была достаточно своеобразная внешность, той же печатью исключительности был отмечен и его ум. Валентина успела заметить это во время их беседы. Огромный талант к пению, изменчивые черты, не позволявшие уловить выражение лица Бенедикта, этот развитой ум, скептически взирающий на все и на вся, делали Бенедикта необыкновенным и странным в глазах Валентины, которой до сегодняшнего дня еще не доводилось общаться с юношами из иной среды, чем ее собственная. Поэтому-то его вступительная речь испугала ее: как ни далека она была от тщеславия, ей невольно пришло в голову, что он сейчас объяснится ей в любви, и она не могла найти слов для ответа. — Я вижу, что напугал вас, мадемуазель, — продолжал Бенедикт. — Случай поставил меня в столь щекотливоеположение, что я не надеюсь быть понятым с полуслова, тем паче, что мне не хватает привычки к обходительности. Слова эти лишь усугубили тревогу и страх Валентины. — Сударь, — проговорила она, — не думаю, что вы скажете мне то, чего я не могла бы выслушать, особенно после того, как вы сами признались, что смущены. Коль скоро вы боитесь меня оскорбить, мне, очевидно, следует опасаться какой-нибудь неловкости с вашей стороны. Покончим разговор, прошу вас, и так как я уже знаю дорогу, примите мою благодарность и не утруждайтесь более, не провожайте меня. — Я должен был ждать такого ответа, — проговорил глубоко оскорбленный Бенедикт. — Очевидно, мне не следовало рассчитывать на ум и чувствительность, которые я приписал было мадемуазель де Рембо. Валентина не удостоила его ответом. Холодно поклонившись юноше, она, испуганная всем случившимся, хлестнула коня и поскакала прочь. Бенедикт ошеломленно глядел ей вслед. Вдруг он досадливо ударил себя по лбу. — Ну и болван, — воскликнул он, — она же меня не поняла! И, послав свою лошадь через ров, он срезал угол забора, вдоль которого скакала Валентина: через три минуты он уже нагнал ее и преградил ей путь. Валентина так испугалась, что чуть было не упала с седла.7
Бенедикт соскочил с лошади. — Мадемуазель, — вскричал он, — падаю перед вами на колени. Не бойтесь, вы сами видите, что пеший я вас не догоню. Соблаговолите выслушать меня. Я глупец! И я нанес вам смертельное оскорбление, вообразив, что вы с умыслом не захотели понять моих слов; желая подготовить вас, я громоздил одну нелепицу на другую, но теперь я прямо пойду к цели. Слышали ли вы в последнее время разговоры насчет одной особы, столь вам дорогой? — О, говорите, говорите! — воскликнула Валентина, и крик этот вырвался из ее души. — Так я и знал, — радостно воскликнул Бенедикт, — вы ее любите, жалеете, значит, нас не обманули — вы хотите ее видеть, вы готовы протянуть ей руку. Итак, мадемуазель, значит, все, что говорят об этом, — правда? Валентина ни на минуту не усомнилась в искренности Бенедикта. Он затронул самую чувствительную струну ее души; излишнюю осторожность она сочла бы за трусость — таково свойство восторженного великодушия. — Если вы, сударь, знаете, где она, — вскричала Валентина, с мольбой складывая руки, — да благословит вас господь, ибо сейчас вы откроете мне эту тайну! — Возможно, я совершу проступок непростительный в глазах общества, так как при моем содействии вы нарушите дочерний долг. И, однако, я сделаю это без угрызений совести! Дружеские узы, связывающие нас с этой особой, повелевают мне поступить именно так, а восхищение, какое я питаю к вам, порукой тому, что вы никогда не обратите ко мне слово упрека. Еще нынче утром она прошла четыре лье по росе, по булыжнику и пашням, закутавшись в крестьянский плащ, лишь бы взглянуть на вас, когда вы появитесь у окна или выйдете в сад. Она вернулась, так и не увидев вас. Угодно вам нынче вечером вознаградить ее за труды и страдания всей ее жизни? — Отведите меня к ней, сударь, заклинаю вас именем того, кто вам всего дороже на свете! — Итак, — сказал Бенедикт, — доверьтесь мне. Но показываться на ферме вы не должны. Мои родные, очевидно, еще не вернулись, а батраки вас наверняка увидят, пойдут разговоры, и на следующий же день ваша матушка, узнав об этом посещении, вновь начнет преследовать вашу сестру. Разрешите, я привяжу вашу лошадь рядом с моей, у дерева, и следуйте за мной. Валентина легко соскочила на землю, не дожидаясь, пока Бенедикт предложит ей руку. Но тут же извечный женский инстинкт, предупреждающий об опасности и живущий даже в чистых душах, заговорил в ней — ее охватил страх. Бенедикт привязал лошадей под купой развесистых кленов. Затем он повернулся к Валентине и чистосердечно воскликнул: — О, как она обрадуется, она и не подозревает, как близко от нее счастье! Эти слова окончательно успокоили Валентину. Она последовала за своим проводником по тропинке, влажной от вечерней росы, добралась до конопляников, обнесенных канавой. Через канаву была переброшена тоненькая дощечка, так и ходившая под ногой. Бенедикт прыгнул в канаву и поддерживал Валентину, пока она не перебралась на другую сторону. — Ко мне, Перепел, перестань! — прикрикнул он на огромного пса, с ворчанием бросившегося к ним; но пес, признав хозяина, начал ластиться к нему, что, пожалуй, производило не менее шума, чем недавнее его ворчание. Бенедикт прогнал собаку пинком ноги и ввел свою взволнованную спутницу в сад фермы, расположенный по деревенскому обычаю позади строений. Сад был на редкость густой. Ежевика, розы, фруктовые деревья стояли здесь вперемежку и, не зная калечащих ножниц садовника, разрослись столь вольно, столь тесно переплели свои ветви над дорожками, что затрудняли шаг. Подол длинной юбки Валентины цеплялся за все колючки, глубокая тьма, царившая среди этой буйной растительности, лишь усугубляла ее тревогу, а жестокое волнение, которое она испытывала, лишало ее сил. — Если вы дадите мне руку, — предложил ее провожатый, — мы дойдем скорее. В суматохе Валентина потеряла перчатку и вложила свою руку в ладонь Бенедикта. Для девушки ее круга такое положение было более чем странным. Юноша шагал впереди, осторожно увлекая ее за собой, раздвигал свободной рукой ветви, чтобы они не стегнули по лицу его прелестную спутницу. — Боже, да вы дрожите, — проговорил он, отпуская руку Валентины, когда они вышли на свободное пространство. — Ах, сударь, я дрожу от радости и нетерпения, — отозвалась Валентина. Им оставалось преодолеть последнее препятствие. У Бенедикта не оказалось при себе ключа от садовой калитки, а чтобы выбраться из сада, надо было перебраться через живую изгородь. Бенедикт предложил свою помощь Валентине, и ей пришлось согласиться. Тогда племянник фермера взял в свои объятия невесту графа де Лансака. Трепетные его руки коснулись очаровательной талии. Он ловил ее прерывистое дыхание, и путешествие их длилось довольно долго, потому что изгородь была широкая, щетинилась колючками и терниями, под ногой отваливались камни откоса, а главное, потому, что Бенедикт утратил присутствие духа. Но такова уж целомудренная робость юности! Его воображение не поспевало за действительностью, и страх погрешить против собственной совести сводил на нет ощущение счастья. Подойдя к двери дома, Бенедикт бесшумно поднял щеколду, ввел Валентину в низкую комнату и в темноте нашарил очаг. Когда Бенедикт наконец зажег свечу, он указал мадемуазель де Рембо на деревянную лестницу, похожую скорее на стремянку, и проговорил: — Сюда! А сам сел на стул в позе часового, умоляя Валентину не оставаться у Луизы больше четверти часа. Утомленная утренней прогулкой, Луиза улеглась спать спозаранку. Комнатка, которую ей отвели, справедливо считалась самой плохой на ферме, но так как Луизу выдавали за бедную родственницу из Пуату, которую Лери якобы опекали, она, боясь, что слуги заподозрят недоброе, отказалась поселиться в более богатом помещении. Она сама выбрала себе эту клетушку, из единственного окошка которой был виден прелестный ландшафт — поля и островки, лежащие в излучине Эндра и утопавшие в роскошнейшей зелени деревьев. Хозяева наспех смастерили ей более или менее приличную постель из какого-то хромоногого одра, на решетке сушились пучки горошка, с потолка свисали золотистые связки лука, клубки серой шерсти мирно дремали в убогих мотовилах. Воспитанная в богатстве, Луиза находила своеобразную прелесть во всех этих атрибутах сельской жизни. К великому удивлению тетушки Лери, она попросила, чтобы в ее комнатушке оставили первозданный беспорядок, чисто деревенский хаос, напоминавший ей живопись фламандца Ван-Остаде и Жерара Доу. Но больше всего пришлись ей по душе в скромном этом убежище занавески с выцветшими разводами и два вышитых старинных кресла с облезшей позолотой. По поразительной игре случая эти вещи лет десять тому назад попали сюда из замка, и Луиза, видевшая их в детстве, сразу же признала старых знакомцев. Она залилась слезами и чуть было не расцеловала их как старинных друзей, вспоминая, как она, белокурая беспечная девочка, в счастливые дни неведения и навсегда утраченного покоя, забивалась в уголок старого кресла, в уютные его объятия. Нынче вечером она уснула, машинально разглядывая узоры на занавеске, и вид их в мельчайших подробностях пробудил в ее памяти минувшую жизнь. После долгих лет изгнания в душе ее с новой силой пробудились былая боль и былые радости. Ей чудилось, будто еще только вчера произошли события, которые она оплакивала и искупала печальными скитаниями, длившимися целых пятнадцать лет. Ей казалось, будто за этой занавеской, которую шевелил ветерок, врывавшийся в створку окна, разворачивается блистательная и волшебная картина ее юных лет, ей чудилась башенка их старого замка, столетние дубы-патриархи в огромном парке, ее любимица белая козочка, поле, где она рвала васильки. Иной раз перед ней вставал образ бабушки, этой себялюбивой и добродушной старухи, и глаза ее были полны слез, как в день своего изгнания. Но это сердце, умевшее любить лишь наполовину, навсегда закрылось для внучки, и образ, который мог бы принести утешение, удалялся равнодушно и бездумно. Среди этой картины, созданной воображением Луизы, существовал лишь один чистый и дивный образ, образ Валентины, такой, какой помнила ее Луиза — прелестного четырехлетнего ребенка с длинными золотистыми локонами, с румяными щечками. Луизе виделось, будто Валентина пробирается, словно перепелочка, среди колосьев ржи, такой высокой, что она закрывала девочку с головой, чудилось, будто Валентина бросается к ней с неудержимым ласковым смехом, и смех этот, смех самого детства, невольно вызывает слезы у того, кто любим; вот Валентина закидывает за шею сестры свои пухлые белые ручонки и болтает с ребяческой наивностью о разных пустяках, составляющих жизнь дитяти, болтает на своем бесхитростном, разумном и забавном языке, неизменно удивляющем и чарующем нас. За это время Луиза сама стала матерью; поэтому пора детства казалась ей мила не как что-то забавное, а как что-то поглощающее все чувства. Любовь к сыну разбудила былую привязанность к сестренке, и привязанность эта стала не только более сильной, но и подлинно материнской. Она представляла себе Валентину такой, какой оставила ее в день разлуки; и когда ее уверяли, что Валентина стала стройной красавицей, переросла саму Луизу, она просто не могла себе этого представить: воображением она летела к прежней малютке Валентине, и ей хотелось, как в былые времена, взять девчушку себе на колени. Этот лучезарный образ свежести неизменно примешивался ко всем ее грезам с тех пор, когда она решила любой ценой повидать сестру. В ту самую минуту, когда Валентина неслышно поднялась по лестнице и открыла люк, заменяющий дверь, Луизе все еще чудилась Валентина среди камышей, обступавших Эндр, чудилась Валентина, ее четырехлетняя крошка Валентина, гонявшаяся за длинными голубыми стрекозами, легко касавшимися глади вод своими прозрачными крылышками. Вдруг девочка упала в воду. Луиза оросилась, чтобы ее схватить, но тут появилась мадам де Рембо, эта гордая графиня, ее мачеха, заклятый ее враг, с силой оттолкнула Луизу, и ребенок утонул. — Сестра! — приглушенным голосом крикнула Луиза, стараясь высвободиться из-под власти мучительного кошмара. — Сестра! — раздался незнакомый и нежный голос, голос ангела, поющего нам в сновидениях. Луиза рывком поднялась на постели, и с ее длинных темных волос соскочила шелковая косыночка. С беспорядочно рассыпавшимися по плечам кудрями, бледная, испуганная, освещенная лучом луны, проскользнувшим украдкой в щель между занавесей, она тянулась навстречу окликнувшему ее голосу. Чьи-то руки обняли ее, свежие юные уста покрыли ее щеки безгрешными поцелуями; озадаченная Луиза чувствовала на своем лице град поцелуев и слез, а Валентина, почти теряя сознание, истерзанная пережитыми волнениями, бессильно опустилась на постель рядом с сестрой. Когда Луиза поняла, что это не сон, что в объятиях она сжимает настоящую Валентину, которая пришла к ней, сюда, когда она поняла, что сердце сестры, как и ее собственное, полно нежности и счастья, она сумела выразить свои чувства лишь объятиями и рыданиями. Наконец сестры обрели дар речи. — Значит, это ты, — воскликнула Луиза, — ты, о встрече с которой я так долго мечтала! — Значит, вы, — воскликнула Валентина, — вы все еще любите меня? — К чему это «вы», — сказала Луиза, — разве мы не сестры? — О нет, вы мне также и мать, — возразила Валентина. — Я ничего не забыла. Вы так ярко запечатлелись в моей памяти, будто все происходило лишь вчера, я узнала бы вас во многотысячной толпе. О, это вы, это действительно вы! Вот они, ваши длинные темные волосы; мне так и кажется, что я вижу вас причесанной на прямой пробор, это они, ваши милые ручки, белые, маленькие, это ваше бледное личико. И я, я видела вас в мечтах именно такой. — О Валентина, моя Валентина! Открой поскорее занавеску, чтобы я тоже могла тебя разглядеть. Все твердят, что ты стала настоящей красавицей, но на самом деле ты в сотни раз красивее, чем тебя описывали. Ты по-прежнему блондинка, по-прежнему беленькая, вот они, твои голубые кроткие глаза, твоя ласковая улыбка! Ведь это я растила тебя, Валентина, помнишь? Это я старалась уберечь твое личико от загара и веснушек, это я каждый день расчесывала твои золотистые локоны; мне обязана ты, Валентина, своей красотой, ибо твоя мать тобой не занималась, одна я ни на минуту не спускала с тебя глаз… — О, знаю, знаю! До сих пор я помню песенки, которыми вы меня убаюкивали, помню, что, проснувшись и открыв глаза, я всегда видела склонившееся надо мной ваше лицо. О, как же долго я оплакивала вас, Луиза! Как долго не могла привыкнуть, что нет вас рядом! Как долго не желала принимать чужих услуг! Матушка так и не простила мне того, что в ту пору я чувствовала к ней настоящую ненависть, ибо кормилица твердила мне: «Твоя бедная сестрица ушла от нас, ее прогнала твоя мать». О Луиза, Луиза, наконец-то вы вернулись! — И больше мы с тобой не расстанемся, правда? — воскликнула Луиза. — Мы найдем способ встречаться, переписываться. Ты не дашь запугать себя угрозами, ведь мы не станем вновь чужими друг другу? — А разве мы когда-нибудь были чужими? — отозвалась Валентина. — Никто не властен отдалить нас друг от друга. Видно, ты меня плохо знаешь, Луиза, раз считаешь, что тебя можно изгнать из моего сердца; ведь даже когда я была безропотным ребенком, и то это не удалось сделать. Но будь спокойна, наши беды кончились. Через месяц я выхожу замуж, мой будущий муж — человек нежный, мягкий, сердечный, разумный, с ним я часто говорила о тебе, и он одобряет мою любовь к тебе. И он, безусловно, разрешит нам жить вместе. Тогда, Луиза, горе отступится от тебя, ты забудешь все свои беды, излив их на моей груди. Ты будешь воспитывать моих детей, если бог пошлет мне счастье материнства, и нам будет казаться, будто мы сами оживаем в них… Я осушу твои слезы, посвящу тебе всю свою жизнь лишь бы искупить те страдания, что выпали на твою долю. — Благородное дитя, ангельская душа, — сказала Луиза, заливаясь счастливыми слезами, — сегодняшний день уже изгладил все. Пойми, я не имею права роптать на судьбу, пославшую мне пусть даже один миг такой несказанной радости! Ведь ты уже сделала все, чтобы смягчить муки долгого моего изгнания. Вот, смотри, — сказала Луиза, вынимая из-под подушки пакетик, аккуратно завернутый в кусочек бархата, — узнаешь свои письма? Их четыре, ты писала их мне во время нашей разлуки. Я жила в Италии, когда получила от тебя вот это письмо, тебе не было в ту пору еще и десяти лет. — Как же, помню, отлично помню! — подхватила Валентина. — Я тоже храню ваши письма. Сколько раз я их перечитывала, сколько пролила над ними слез! А вот это, посмотрите, я послала вам из монастыря. Как я трепетала, как дрожала от страха и радости, когда незнакомая женщина вручила мне в приемной письмо от вас! Передавая мне гостинцы якобы от имени бабушки, она незаметно сунула мне конверт и многозначительно на меня поглядела. А через два года, когда мы жили под Парижем, я заметила у калитки женщину, по виду нищенку, и хотя видела ее раньше всего только минуту, только мельком, сразу ее узнала. Я спросила: «Вы принесли мне письмо?», и она ответила: «Да, а завтра приду за ответом». Тогда я бросилась в свою комнату и заперлась там, но меня окликнули, не спускали с меня глаз целый день. Вечером у моей постели с вязаньем в руках чуть не до полночи сидела гувернантка. Я сделала вид, что сплю, и тогда она удалилась в свою комнату, но унесла свечу. Сколько трудов стоило мне раздобыть спички, светильник и написать письмо. Я старалась не шуметь, чтобы не разбудить свою надзирательницу! Мне удалось это сделать, но я капнула чернилами на простыню, и как же меня допрашивали утром, как бранили, чем только не угрожали! И как бесстыдно я лгала, с каким легким сердцем перенесла наказание! Старуха пришла снова и предложила продать мне козленочка. Я вручила ей письмо и вырастила козочку. Хотя козочку я получила не из ваших рук, как же я ее любила. О Луиза, быть может, вам я обязана тем, что сердце мое не зачерствело, и как ни старались родные с детства иссушить его, задушить в самом зародыше чувствительность, ваш бесценный образ, ваши нежные ласки, ваша доброта оставили в моей памяти неизгладимый след. Ваши письма пробуждали во мне живое чувство признательности; четыре этих письма были четырьмя событиями в моей жизни, не прошедшими бесследно: каждое из них лишь укрепляло мое стремление быть доброй, укрепляло ненависть к нетерпимости, презрение к предрассудкам, и, смею сказать, каждое по-своему обогащало мою духовную жизнь. Луиза, сестра моя, это вы поистине сотворили меня, это вы меня воспитывали вплоть до сегодняшнего дня. — Ты подлинный ангел чистоты и добродетели! — воскликнула Луиза. — Это я должна пасть перед тобой на колени… — Быстрее, быстрее… — раздался голос Бенедикта внизу лестницы, — прощайтесь быстрее! Мадемуазель де Рембо, вас ищет господин де Лансак.8
Валентина выбежала из комнаты; появление господина де Лансака было приятной для нее неожиданностью, ей хотелось приобщить его к своей радости, но, к великому ее неудовольствию, Бенедикт сказал, что направил его по ложному пути и на все его расспросы отвечал, что, покинув праздник, ничего не слышал о мадемуазель де Рембо. Бенедикт извинился, добавив в свое оправдание, что ему неизвестно отношение господина де Лансака к Луизе. Но в глубине души он испытывал какое-то недоброе удовлетворение при мысли, что незадачливый жених носится ночью по полям, а он, Бенедикт, охраняет его невесту. — Возможно, я солгал не так-то уж ловко, — продолжал Бенедикт, — но двигали мною самые лучшие побуждения, и сейчас поздно раскаиваться в содеянном. Простите, мадемуазель, но вам следует не теряя времени возвратиться в замок. Я провожу вас до ворот парка, а вы скажете вашим, что заблудились и без всякой посторонней помощи, лишь благодаря счастливому случаю, нашли дорогу. — Разумеется, после того как господин де Лансак, введенный в заблуждение, уехал, это, пожалуй, самое благоразумное, что можно сделать, — растерянно произнесла Валентина. — А что, если мы его встретим? — Тогда я скажу ему, — живо подхватил Бенедикт, — что, разделяя его беспокойство, поскакал вас искать, и фортуна улыбнулась именно мне. Валентина и в самом деле не без тревоги думала о всех последствиях сегодняшнего приключения, но в конце концов помочь ничему не могла. Луиза, накинув на плечи шубку, тоже спустилась вниз. Выхватив свечу из рук Бенедикта, она поднесла ее к лицу сестры, желая хорошенько разглядеть ее при свете и полюбоваться ею. — Бог мой, — восторженно воскликнула она, обращаясь к Бенедикту, — посмотрите же, как прекрасна моя Валентина! Валентина зарделась, а Бенедикт зарделся еще пуще. Луиза была слишком опьянена своей радостью и не заметила их смущения. Она осыпала сестру поцелуями, и когда Бенедикт чуть ли не силой вырвал Валентину из объятий Луизы, та обрушилась на него с упреками. Но тут же, спохватившись, сколь несправедлив ее гнев, стремительно бросилась на шею своему юному другу, уверяя, что готова отдать всю кровь до последней капли, лишь бы отблагодарить его за это великое счастье. — Дабы отблагодарить вас, я попрошу Валентину последовать моему примеру, — добавила она. — Валентина, не откажи тоже дать сестринский поцелуй нашему Бенедикту за то, что он, очутившись наедине с тобой, вспомнил бедняжку Луизу. — Но это будет уже второй раз в течение одного дня, — краснея, возразила Валентина. — И последний раз в моей жизни, — добавил Бенедикт, преклоняя колено перед юной графиней. — Пусть же второй поцелуй изгладит память о той муке, с какой достался мне первый, хотя вы в этом и неповинны. Красавица Валентина уже обрела свою обычную безмятежность, но какая-то тень прошла по ее безгрешному челу, а взор устремился к небесам. — Бог свидетель, — проговорила она, — поцелуй этот, данный от всей души, выражает всю глубину моего уважения. И, склонившись к юноше, она легко коснулась его лба губами. Он не посмел ответить ей тем же, не посмел поцеловать хотя бы кончики ее пальцев. Бенедикт поднялся с неизъяснимым чувством уважения и гордости. Никогда еще не доводилось ему ощущать такой сладостной задумчивости, такого нежного волнения, разве что в тот день, когда он, набожный и благочестивый подросток, пошел к первому причастию, — то был прекрасный день, весь напоенный благоуханием ладана и распускавшихся цветов. Они выбрались из сада фермы тем же самым путем, и на сей раз Бенедикт, шедший впереди Валентины, чувствовал себя совершенно спокойным. Поцелуй как бы связал их священными братскими узами. Обоюдное доверие росло с каждой минутой, и когда они распрощались у ворот парка, Бенедикт дал слово как можно скорее сообщить Валентине о Луизе. — Я не смела вас просить, — призналась Валентина, — и, однако, я от души этого хочу. Но матушка слишком строго придерживается светских условностей! — Я готов снести любое унижение, лишь бы услужить вам, — ответил Бенедикт, — и скажу не хвалясь, что не остановлюсь ни перед чем и никого не поставлю в неловкое положение. Он отвесил глубокий поклон и исчез во мраке. Валентина подъехала к дому по самой темной аллее парка, но вскоре она заметила среди листвы, под сводами зелени, свет и движущиеся огни факелов. Весь дом был в тревоге, и графиня, которая готова была чуть ли не целовать руки кучеру, учинила разнос лакею, унижалась перед одними, гневно кричала на других, рыдала как мать и тут же командовала всеми как истая королева; пожалуй, впервые в жизни она взывала к милосердию чужих людей, ожидая от них помощи. Но, узнав топот иноходца Валентины, вместо того, чтобы радоваться, она впала в ярость, молчавшую до сих пор под влиянием тревоги. Дочь прочла в материнских глазах лишь злобу за то, что ей посмели причинить такие страдания. — Откуда вы явились? — громко крикнула она, вцепившись в Валентину с такой силой, что та чуть не рухнула с седла. — Вам, как я вижу, нравится играть моими чувствами! А вы не подумали, что выбрали весьма неудачный момент, чтобы мечтать при луне и блуждать по дорогам? Неужели, по-вашему, прилично заставлять ждать себя в такой поздний час, заставлять меня выносить все ваши капризы, когда я изнемогаю от усталости? Так-то вы уважаете родную мать, я не говорю уже о дочерней любви! Она повлекла за собой Валентину в гостиную, осыпая ее самыми горькими упреками и самыми жестокими обвинениями. Валентина пробормотала что-то в свое оправдание; она радовалась, что ее избавили от необходимости давать объяснения по поводу столь долгой отлучки, что потребовало бы от нее немалого присутствия духа. В гостиной бабушка мирно пила чай и, увидев внучку, протянула к ней обе руки. — Наконец-то, детка! А знаешь, сколько беспокойства причинила ты матери? Я была уверена, что ничего дурного с тобой не могло случиться в нашей округе, где все почитают имя, которое ты носишь. Поди поцелуй меня, и забудем все. Раз ты нашлась, я поем с аппетитом. После этой тряски в карете я чертовски проголодалась. С этими словами старуха маркиза, сохранившая еще все зубы, откусила кусочек гренка, которые готовила ей на английский манер компаньонка. Достаточно было поглядеть, как возится компаньонка, готовя эти гренки, чтобы понять, сколь требовательна маркиза по части стола. Тем временем графиня, чья гордыня и бешеный нрав были в лучшем случае неистребимыми пороками слишком впечатлительной души, не сдержав наплыва чувств, в полуобмороке рухнула в кресло. Валентина бросилась к матери, встала перед ней на колени, распустила шнуровку, покрывала ее руки поцелуями, обливая их слезами, и, при виде материнских страданий, искренне раскаялась в том, что наслаждалась счастьем нежданной встречи с сестрой. Маркиза поднялась из-за стола, почти не скрывая досады, что ей пришлось прервать ужин; легко и проворно она подошла к невестке и стала хлопотать возле нее, уверяя, что все обойдется. Открыв глаза, графиня сурово оттолкнула Валентину, твердя, что дочь слишком ее огорчила и поэтому ее заботы претят матери; и так как несчастная девушка, сложив руки, все еще рыдая, молила о прощении, ей был дан строгий приказ немедленно идти спать и было отказано в материнском поцелуе. Маркиза, которой нравилось играть роль ангела-хранителя семейства Рембо, оперлась на руку внучки, проводила до спальни и, поцеловав на прощание в лоб, сказала: — Ну, ну, малышка, не расстраивайся так. Твоя мать весь вечер была в дурном настроении, но это пустяки… Нечего тебе печалиться, не то завтра у тебя лицо воспалится, а это вряд ли понравится нашему милейшему Лансаку. Валентина попыталась улыбнуться, но, очутившись в своей спальне, сразу же бросилась на постель, разбитая горем, счастьем, усталостью, страхом, надеждой — множеством различных чувств, теснившихся в ее сердце. Через час в коридоре раздались шаги и звон шпор, известивших о появлении де Лансака. Маркиза, никогда не ложившаяся раньше полуночи, зазвала его в свои покои, и Валентина, услышав их голоса, тоже проскользнула в бабушкину спальню. — Ого! — произнесла маркиза с веселым лукавством старости, не склонным щадить щепетильность девичества, ибо старость уже не знает этих чувств. — Я была уверена, что эта плутовка не спит, а ждет своего жениха, навострив ушки, и сердечко у нее бьется. Да, дети мои, вижу, что пришла самая пора вас поженить. Слова бабушки меньше всего отвечали той спокойной, исполненной достоинства привязанности, которую Валентина питала к Лансаку. Она недовольно покраснела, но почтительное и кроткое выражение на лице жениха успокоило ее. — Я и в самом деле не могла уснуть, — произнесла она, — не испросив прощения за все то беспокойство, что причинила вам. — Когда любишь человека, — ответил Лансак с обычной своей неподражаемой обходительностью, — милы даже муки, что он тебе причиняет. Валентина ушла к себе, смущенная и взволнованная. Она сознавала, что виновата перед господином де Лансаком, пусть даже невольно, ей не терпелось признаться ему во всем, и она досадовала, что лишь утром ей удастся успокоить свою совесть. Будь у Валентины меньше душевной деликатности, знай она лучше свет, она воздержалась бы от подобных излияний. Во время вечернего приключения на долю господина де Лансака выпала весьма незавидная роль, и хотя помыслы Валентины были поистине невинны, этому светскому человеку не так уж легко было бы чистосердечно простить свою невесту, которая по уговору с посторонним решилась обмануть его. И Валентина краснела при мысли, что сама стала соучастницей обмана, разыгранного с ее будущим мужем. На следующее утро она поспешно спустилась в гостиную, где ее поджидал господин де Лансак. — Эварист, — начала она без обиняков, — у меня на сердце тайна, и она тяготит меня — я обязана сказать вам все. Если я виновата, пожурите меня, но зато вы не сможете упрекнуть меня в нечестности. — О боже мой, дорогая Валентина, как вы меня перепугали! Что означает сие торжественное вступление? Подумайте только, в какое положение вы поставите нас обоих… Нет, нет, не желаю ничего слышать. Ведь сегодня я расстаюсь с вами, меня призывает служебный долг, и там, вдали от вас, я буду печально ждать конца бесконечно длинного месяца, препятствующего моему счастью, потому-то я и не желаю омрачать сегодняшний и без того печальный день вашей исповедью, которая, как видно, достанется вам нелегко. Что бы вы мне ни сказали, какое бы «преступление» ни совершили, заранее прощаю вас. Послушайте меня, Валентина, ваша душа слишком прекрасна, жизнь ваша слишком чиста, дабы я дерзнул взять на себя роль исповедника. — Моя исповедь ничуть не огорчит вас, — возразила Валентина, приободренная разумными доводами жениха. — Если даже вы обвините меня в излишней неосмотрительности, я уверена, вы порадуетесь вместе со мной событию, которое переполняет меня счастьем. Я нашла свою сестру. — Тише! — живо отозвался господин де Лансак с комическим ужасом. — Не произносите здесь этого слова! Ваша матушка и без того что-то подозревает, и это приводит ее в отчаяние. А что будет, великий боже, если она узнает, как далеко все зашло? Поверьте мне, дорогая моя Валентина, храните эту тайну в глубине своего сердца и не говорите о ней даже со мной. Иначе я не смогу так успешно убеждать в обратном вашу матушку, как мне удавалось это до сих пор делать с вполне невинным видом. И к тому же, — добавил он с улыбкой, смягчавшей суровый смысл его слов, — я еще не ваш повелитель, иными словами — не ваш защитник, и посему не считаю себя вправе разрешить вам акт открытого мятежа против материнской воли. Подождите месяц. Он покажется вам не столь тоскливо долгим, как мне. Валентина, которой не терпелось облегчить свою совесть и поведать тайну, скрывавшую некое весьма щекотливое обстоятельство, безуспешно настаивала на своем. Господин де Лансак не желал ничего слушать, и в конце концов ему удалось убедить Валентину в том, что она не обязана ему ничего сообщать. Истина же заключалась в том, что господин де Лансак родился в знатной семье, занимал важный дипломатический пост; он был умен, обаятелен и хитер, но запутался в долгах и ни за что на свете не согласился бы отказаться от руки и состояния мадемуазель де Рембо. Живя в вечном страхе не угодить матери или дочери, он тайком вступал в сговор с той и другой, потакал их вкусам, делал вид, что разделяет чувства и мнения каждой, и, ничуть не интересуясь историей с Луизой, твердо решил не вмешиваться в ее дела, пока не сможет собственной властью покончить их в желательном для него направлении. Валентина приняла осторожность господина де Лансака за молчаливое согласие и, успокоившись на сей счет, обратилась помыслами к грозе, которая неминуемо должна была разразиться при встрече с матерью. Накануне вечером пронырливый и подлый лакей, уже распустивший слухи о появлении Луизы, вошел в спальню графини якобы за тем, чтобы подать ей лимонад, и между ними состоялась следующая беседа.9
— Мадам велели мне вчера навести справки о… — Довольно. Никогда не произносите при мне этого имени. Удалось вам что-нибудь узнать? — Да, мадам, думаю, что я на верном пути. — Тогда говорите. — Не осмелюсь утверждать, мадам, что все так и есть, как я предполагаю. Но одно мне известно: на ферме Гранжнев около трех недель проживает женщина, которую дядюшка Лери выдает за свою племянницу и которая, по-моему, и есть та, кого мы ищем. — А вы ее видели? — Нет, мадам. Впрочем, я не знаю мадемуазель… и никто здесь тоже не знает. — А что говорят крестьяне? — Кто говорит, что это действительно родственница Лери, недаром же, по их словам, одевается она не как барышня, да и живет у них в комнатке для прислуги. Они полагают, будь это мадемуазель… ее на ферме иначе бы приняли. Мадам знает, как Лери ей преданы. — Совершенно верно. Тетушка Лери была ее нянькой еще в те времена, когда рада была заработать себе на пропитание. Но что говорят другие? Как случилось, что никто из здешних жителей не может с уверенностью сказать, она это или нет, хотя все ее знали раньше? — Во-первых, мало кто видел ее в Гранжневе, там место глухое. Да она почти и не выходит из дому, а если выходит, то накидывает плащ, потому что, говорят, она больна. Те, что с ней встречались, не успели ее как следует разглядеть и уверяют, что, дескать, пятнадцать лет назад видели пухленькую да румяную барышню, а вот эта худая и бледная. Такие вещи выяснить трудно, тут надо действовать умело и настойчиво. — Я дам вам сто франков, Жозеф, если вы возьметесь за это дело. — Достаточно одного приказания мадам, — ответил лакей лицемерно-смиренным тоном. — Но пусть мадам не посетует, если я не добьюсь успеха так быстро, как бы ей хотелось; ведь здешние крестьяне — народ лукавый, недоверчивый, а главное, до того зловредный, что забывают свои старинные обязанности и рады до смерти поступить наперекор вашей воле… — Знаю, что они меня не любят, и лишь радуюсь этому. Ненависть этих людей меня не тревожит, напротив, только делает мне честь. Но разве мэр не велел привести к себе эту незнакомку и не расспросил ее? — Мадам известно, что мэр — тоже родич Лери, он двоюродный брат фермера, а в этой семейке все друг за дружку держатся, спелись, как воры на ярмарке… Жозеф даже улыбнулся собственному красноречию и остроумию. Графиня не снизошла до его переживаний и продолжала: — Действительно, ужасно неудобно, что должность мэра занимают крестьяне, это дает им над нами известное преимущество! «Надо бы, — подумала она, — заняться этим вопросом и сменить мэра, пускай-ка мой зять возьмет на себя труд найти ему замену. А пока за мэра потрудятся его помощники». Но графиня тут же вернулась к прежнему разговору и сделала весьма здравое замечание, которое подсказывает человеку лишь внезапное озарение ненависти: — Есть еще одно средство, — проговорила она, — можно послать на ферму Катрин и потом заставить ее все рассказать. — Это кормилицу-то мадемуазель Валентины! Да мадам и не подозревает, какая она хитрюга. Возможно, она и так знает больше чем нужно. — Но должно же в конце концов существовать какое-нибудь средство, — с раздражением произнесла графиня. — Если мадам разрешит мне действовать… — Конечно, разрешу. — В таком случае надеюсь завтра же узнать то, что интересует мадам. На следующий день, в шесть часов утра, когда в дальнем конце долины зазвонили к ранней обедне, а солнце позолотило все крыши в округе, Жозеф направился к самой уединенной, но и лучше всего обрабатываемой части долины: здесь лежали земли Рембо, плодородный участок, некогда проданный как национальное имущество, затем выкупленный при Империи на приданое мадемуазель Шиньон, дочери богатого мануфактуриста, на которой вторым браком женился генерал, граф де Рембо. Император любил сочетать древние имена и новые состояния; этот брак был заключен по его высочайшему повелению, и новоявленная графиня вскоре превзошла в гордыне старинную знать, которую люто ненавидела, решив, однако, любой ценой завладеть ее титулами и привилегиями. Отправляясь на ферму и боясь спугнуть ее обитателей, лакей выдумал довольно хитроумную историю. У него в запасе было немало проделок, не хуже, чем у самого Скалена, с помощью которых ничего не стоило одурачить простоватых фермеров, но, на свою беду, подходя к ферме, первым, кого он встретил у Гранжнева, был Бенедикт, человек еще более тонкий и недоверчивый, чем сам Жозеф. Юноша тотчас же припомнил, что недавно на каком-то деревенском празднике уже видел этого субъекта, который, хоть и явился в черном фраке, хоть и старался поразить светскостью манер пивших с ним пиво фермеров, был ими высмеян как лакей, каким он и являлся. Бенедикт сразу смекнул, что необходимо увести подальше от фермы этого опасного соглядатая, и, рассыпаясь в любезностях, приправленных немалой дозой иронии, потащил его чуть ли не силком осматривать виноградник, расположенный на отшибе. При этом он делал вид, что безоговорочно верит словам Жозефа, заявлявшего, что он-де главный управитель замка и доверенное лицо господ де Рембо, и с притворным вниманием слушал его болтовню. Жозеф решил воспользоваться благоприятным случаем, и уже через десять минут его намерения и планы стали для Бенедикта яснее ясного. Поэтому юноша держался настороже и поспешил рассеять все сомнения Жозефа относительно Луизы, и притом с таким простодушным видом, что окончательно одурачил лакея. Тем не менее Бенедикт понимал, что всего этого недостаточно, что следует раз и навсегда положить конец нечистому любопытству этого соглядатая, и тут его осенила мысль как лучше его обезвредить. — Ей-богу, господин Жозеф, — проговорил он, — до чего же я рад, что мы встретились. У меня как раз есть для вас интересное дельце. Жозеф распустил свои огромные, истинно лакейские уши, подвижные, умеющие схватывать все на лету и бдительно хранить до поры до времени, как клад в пещере, словом, такие уши, для которых ничего не пропадает, где все найдет свое место. — Шевалье де Триго, — продолжал Бенедикт, — помещик, живет отсюда в трех лье и производит столь жестокие опустошения среди зайцев и куропаток, что после него лучше с ружьем и не ходи; так вот, он мне позавчера говорил (мы с ним как раз подстрелили в кустах штук двадцать перепелок, ибо сей доблестный немврод такой же заядлый браконьер, как и любой лесничий), так вот, он сказал мне позавчера, что был бы счастлив иметь в услужении такого расторопного человека, как вы. — Неужели господин Триго так и сказал? — не без волнения переспросил Жозеф. — Конечно, — подтвердил Бенедикт. — Человек он богатый, не мелочной, щедрый, ни во что не вмешивается, любит только охоту да пиры, строг со своими гончими, ласков со своими слугами, ненавидит домашние дрязги, хотя обкрадывают его с тех пор, как он появился на свет божий, да и грех его не обкрадывать. Такой человек, как вы, получивший известное воспитание, мог бы вести все его счета, пресек бы злоупотребления в доме и не противоречил бы хозяину, когда тот встает из-за стола; такой человек, как вы, шутя добьется всего от столь покладистого хозяина, он будет царить в доме и получать в четыре раза больше, чем у графини де Рембо. А ведь вам при желании ничего не стоит добиться всех этих благ, господин Жозеф, немедленно идите к шевалье и представьтесь ему. — Иду, и немедля! — воскликнул Жозеф, который уже слышал об этом месте и считал его весьма выгодным. — Постойте-ка, — продолжал Бенедикт, — надо вам сказать, что из-за моей страсти к охоте, а главное, благодаря высокочтимой нашей семье, добрый шевалье выказывает нам поистине удивительное расположение, и если кто-нибудь будет иметь несчастье не понравиться мне или повредит кому-нибудь из наших, его даже на порог не пустят. Тон, каким была произнесена эта фраза, открыл Жозефу глаза. Вернувшись в замок, он заверил графиню, что все это сплетни, сумел выманить у нее сто франков в награду за свое усердие и хлопоты и спас Валентину от мучительного допроса, которому собиралась подвергнуть ее мать. А через неделю он поступил к шевалье де Триго, которого не обкрадывал (Жозеф был слишком умен, а хозяин слишком глуп, чтобы стоило красть у него открыто), а просто грабил его добро, как в завоеванной стране. Боясь упустить столь удачный случай, хитроумный Жозеф простер свою преданность Бенедикту до того, что дал графине ложные сведения о местопребывании Луизы. Через три дня он без труда провел мадам де Рембо, выдумав новую сказку об отъезде Луизы. После ухода с места ему удалось также сохранить доверие прежней хозяйки. Он легко добился разрешения перейти на новую должность, и мадам де Рембо вскоре окончательно забыла и его самого и его наветы. Маркиза, любившая Луизу так, как не любила никого на свете, тоже приступила к Валентине с расспросами. Но девушка слишком хорошо знала нестойкий характер бабки, ее легкомыслие, и не решилась поверить столь великую тайну любящему, но слабому сердцу. Господин де Лансак уехал, и в Рембо, где через месяц решено было сыграть свадьбу, остались три женщины. Луиза, которая, в отличие от Валентины, не очень верила в добрые намерения господина де Лансака, решила воспользоваться благоприятным случаем и, зная, что сестра получит перед свадьбой относительную свободу, надеялась видеться с ней чаще, и поэтому через три дня после деревенского праздника Бенедикт, которому она вручила для передачи письмо, явился в замок. Гордый и высокомерный, он ни за какие блага мира не пришел бы сюда по делам дяди, но для Луизы, для Валентины, для этих двух женщин, которым он в своей привязанности не мог даже подобрать достойных слов, — ради них обеих он счел долгом чести вынести презрительные взгляды графини и покровительственную любезность маркизы. Воспользовавшись знойным днем и зная, что в жару Валентина не уйдет из дома, он захватил набитый дичью ягдташ, надел простую блузу, соломенную шляпу и гетры, словом, замаскировался под сельского охотника и отправился в путь, уверенный, что это обличье не вызовет у графини такого раздражения, как изысканный городской наряд. Валентина сидела в своей комнате и писала. Не знаю, какое смутное чувство ожидания заставляло дрожать ее руку, но, выводя строки, адресованные сестре, она всем своим существом ощущала, что гонец, которому поручено доставить Луизе письмо, уже недалеко. При обычном деревенском шуме, будь то конский топот, лай собаки, она вздрагивала, вскакивала с места и бросалась к окну, призывая в сердце своем Луизу и Бенедикта, ибо в Бенедикте для нее прежде всего словно воплотилась, — вернее, так ей казалось, — часть души Луизы, отторгнутой от нее. Когда наконец ее утомило это неодолимое волнение, когда она захотела отвлечься, слух ее вновь очаровал прекрасный чистый голос, голос Бенедикта, который она уже слышала ночью на берегах Эндра. Перо выпало из ее пальцев. С восхищением внимала она наивной, незатейливой мелодии, от которой напрягся каждый ее нерв. Голос Бенедикта доносился с тропинки, огибавшей ограду парка и спускавшейся с крутого пригорка. Отсюда, с этойвысоты, голос певца, перелетавший через верхушки деревьев, отчетливо выводил слова деревенской песенки, очевидно желая предупредить Валентину о своем появлении: Послушай, пастушка Соланж, Призывную горлинки песню… По натуре Валентина была достаточно романтичной особой, сама, впрочем, об этом не догадываясь, ибо девичье сердце еще не познало любви. Но в те минуты, когда она бестрепетно предавалась чистому, целомудренному чувству, юная ее головка становилась беззащитной, жаждала всего, что хоть отдаленно напоминало приключение. Воспитанная под строгим надзором, в соблюдении холодных и чопорных обычаев, так редко имела она случай наслаждаться свежестью чувств и поэзией, свойственной ее возрасту! Укрывшись за гардиной, она вскоре заметила Бенедикта, спускавшегося с пригорка. Никто не назвал бы Бенедикта красавцем, но изящество его фигуры бросалось в глаза. Деревенский костюм, который он носил не без театральности, легкий, уверенный шаг по самому краю обрыва, огромный белый пес в рыжих подпалинах, прыгавший вокруг хозяина, а особенно песня, призывная и властная, — с лихвой восполняли красоту лица; появление юноши на фоне этой чисто сельской сцены, которая в силу ухищрений искусства, этого извечного грабителя природы, походила на оперную декорацию, — всего этого оказалось достаточно, чтобы смутить юную головку и придать некий оттенок кокетства простой церемонии доставки письма. Валентину так и подмывало сбежать в парк, открыть калитку, выводившую на тропку, нетерпеливо протянуть руку за письмом, которое, как ей чудилось, несет Бенедикт. Но все это было бы довольно опрометчиво. Мысль более похвальная, нежели предчувствие опасности, удержала ее: она побоялась дважды нарушить семейные запреты, идя навстречу приключению, отказаться от которого, однако, была не в силах. Итак, она решила ждать второго сигнала, чтобы спуститься вниз, и вскоре весь замок огласил злобный собачий лай. Это Бенедикт стравил своего пса с хозяйским, желая объявить о своем приходе наиболее шумным образом. Валентина быстро спустилась вниз; инстинкт подсказал ей, что Бенедикт предпочтет обратиться к маркизе, ибо она была более доступна в обращении. Поэтому-то Валентина поспешила к бабушке, которая любила подремать на канапе в салоне, и, осторожно разбудив старушку, под каким-то предлогом уселась с ней рядом. Через несколько минут слуга доложил, что пришел племянник Лери и просит разрешения предстать перед маркизой, засвидетельствовать ей свое почтение и преподнести дичь. — Без его почтения я уж как-нибудь обойдусь, — ответила старая сумасбродка, — а вот дичину приму охотно. Введите его.ЧАСТЬ ВТОРАЯ
10
При виде юноши — своего соучастника, которого она сама поощрила, ибо намеревалась вручить ему на глазах бабушки секретное послание, — Валентина почувствовала укоры совести. Она невольно покраснела, и отблеск ее румянца как бы пал на щеки Бенедикта. — Ах, это ты, мой мальчик! — произнесла маркиза, положив на софу свою коротенькую пухлую ножку жестом жеманницы времен Людовика XV. — Входи, будешь гостем. Ну, как у вас на ферме дела? Как тетушка Лери и твоя миленькая кузина? Как все прочие? Потом, не удостоив выслушать ответ, она погрузила руку в ягдташ, который Бенедикт скинул с плеча. — О, действительно, дичь чудесная! Ты сам ее подстрелил? Я слыхала, что с твоего соизволения Триго браконьерствует потихоньку на наших землях? Но за такую добычу ты заслуживаешь полного отпущения грехов… — А вот эта случайно попалась в мои силки, — сказал Бенедикт, вынимая из-за пазухи живую синичку. — Так как это очень редкая разновидность синицы, я подумал было, что мадемуазель присоединит ее к своей коллекции, поскольку она занимается естественной историей. Передавая птичку Валентине и делая вид, будто боится упустить свою пленницу, он действовал с наигранной осторожностью и медлительностью. А сам, воспользовавшись благоприятным моментом, сумел передать ей письмо, Валентина отошла к окну, как бы намереваясь получше разглядеть синичку, и незаметно спрятала письмо в карман. — Но тебе, должно быть, жарко, милый? — сказала маркиза. — Поди в буфетную, выпей там чего-нибудь, освежись. Валентина заметила, что на губах Бенедикта промелькнула высокомерная улыбка. — Может быть, вы предпочитаете выпить воды с гранатовым соком? — живо спросила она. И, взяв графин, стоявший на столике за спиной маркизы, она налила воду в стакан, чтобы собственноручно попотчевать гостя. Поблагодарив ее взглядом, Бенедикт обогнул софу и взял стакан, счастливый уже тем, что может притронуться к хрусталю, которого коснулась белоснежная ручка Валентины. Маркиза вдруг закашлялась, и Бенедикт быстро спросил Валентину: — Что ответить на просьбу, заключающуюся в этом письме? — Какова бы ни была эта просьба, ответьте «да», — сказала Валентина, испуганная подобной смелостью. Бенедикт обвел внимательным взглядом богато и изящно убранный салон, ясные, как родниковая вода, зеркала, натертый до блеска паркет, все эти изысканные и роскошные вещицы, о назначении которых на ферме не имели еще представления. Не впервые попадал он в богатый дом, и сердце его не сжала зависть при виде всех этих безделушек, даруемых фортуной, что непременно случилось бы с Атенаис. Тем не менее ему невольно пришла в голову мысль, ранее никогда его не посещавшая: общество воздвигло между ним и мадемуазель де Рембо неодолимую преграду. «К счастью, — подумал он, — встречи с ней не сулят мне ни опасностей, ни страданий. Никогда я не влюблюсь в нее». — Ну что ж, девочка, сядь за фортепьяно и спой опять тот же романс, который ты не успела мне давеча допеть. Старуха маркиза прибегла к этой ловкой выдумке, желая дать понять Бенедикту, что тому пора идти в людскую. — Дорогая бабушка, — возразила Валентина, — вы же знаете, что я не пою; но если вы любите хорошую музыку, если хотите получить истинное удовольствие, попросите спеть нашего гостя. — Вот как? — удивилась маркиза. — Но откуда ты это знаешь, дочка? — Мне говорила Атенаис, — ответила Валентина, потупив взор. — Что же, если это верно, мой мальчик, доставь мне это удовольствие, — сказала маркиза, — попотчуй меня деревенской песенкой. Пусть уши мои отдохнут от этого Россини, в котором я ровно ничего не смыслю. Бенедикт слегка смутился при мысли, что на звук его голоса в гостиной может появиться гордячка графиня, но он был тронут стараниями Валентины, стремившейся удержать его здесь подольше и даже усадившей в кресло, ибо маркиза, при всей своей снисходительности к простому люду, ни за что на свете не решилась бы предложить племяннику своего фермера присесть в ее присутствии. Крышку фортепьяно открыли. Валентина села, поставив рядом со своим складным стулом второй для Бенедикта. Но Бенедикт, стремясь показать ей, что не заметил обиды, предпочел петь стоя. С первых же нот Валентина покраснела, затем побледнела, слезы навернулись ей на глаза; но мало-помалу она успокоилась, пальцы ее заскользили по клавишам в такт песни, а ухо радостно внимало ей. Сначала маркиза слушала певца с удовольствием. Но так как дух праздности не позволял ей долго сидеть на одном месте, она вышла из гостиной, потом вошла, потом снова вышла. — Эту песню, — проговорила Валентина, оставшись в одну из этих отлучек наедине с Бенедиктом, — особенно часто пела мне сестра, когда я была еще ребенком, и я нарочно просила Луизу сесть на самую вершину холма, чтобы послушать, как эхо повторяет ее голос. Я запомнила эту песню навсегда, и сейчас, когда вы начали ее, я чуть было не заплакала. — Я запел ее с умыслом, — ответил Бенедикт, — я как бы говорил с вами от имени Луизы… Но имя это замерло на губах Бенедикта, так как в гостиную вошла графиня. При виде дочери в обществе незнакомого юноши она уставилась на молодую пару светлыми удивленными глазами. Сначала она не узнала Бенедикта, на которого даже не взглянула во время праздника, и от неожиданности застыла на месте. Потом, признав своего дерзкого вассала, осмелившегося запечатлеть поцелуй на щеках ее дочери, она, бледная и трепещущая, шагнула вперед, попыталась было заговорить, но внезапная спазма сдавила ей горло. К счастью, комический случай уберег Бенедикта от ее гневной вспышки. Серая борзая графини дерзко приблизилась к охотничьему псу Бенедикта, пыльному, тяжело дышавшему от жары и без церемоний разлегшемуся под фортепьяно. Этот рассудительный и спокойный пес по кличке Перепел дал обнюхать себя с головы до ног и в ответ на все оскорбительные действия хозяина только молча ощерил свои длинные белые клыки. Но когда высокомерная и неучтивая борзая решила перейти к оскорблению действием, Перепел, не спускавший никому обиды, только что отбившийся во дворе замка от нападения трех догов, поднялся и повалил своего изящного противника на пол. Борзая с жалобным визгом бросилась к хозяйке, ища защиты. Это происшествие дало Бенедикту возможность ретироваться, под благовидным предлогом увести с глаз растерявшейся графини дерзкого Перепела, якобы затем, чтобы задать ему трепку, хотя в душе юноша благодарил пса за его неприличное поведение. Когда Бенедикт вышел, сопровождаемый обиженным визгом борзой, глухим рычанием Перепела и трагическими восклицаниями графини, он наткнулся на маркизу, которая, дивясь всему этому гаму, спросила, что случилось. — Мой пес чуть не задавил борзую графини, — ответил Бенедикт притворно печальным голосом и скрылся. Он возвращался домой с немалым запасом ненависти, смешанной с иронией по адресу знати, и не без горечи посмеивался над своим утренним происшествием. Вместе с тем он показался себе жалким, особенно когда припомнил, что предвидел оскорбления куда более страшные и что, прощаясь с Луизой несколько часов тому назад, кичился своим язвительным хладнокровием. В конце концов он решил, что самым смешным персонажем во всем этом приключении все же оказалась графиня, и вернулся на ферму в веселом расположении духа. Слушая его рассказы, Атенаис хохотала до слез, Луиза плакала, услышав о том, как Валентина приняла ее письмо и сразу узнала ту песенку, что спел ей Бенедикт. Но Бенедикт не осмелился похвастаться своим визитом в присутствии дядюшки Лери. Не такой тот был человек, чтобы радоваться шутке, из-за которой можно лишиться тысячи экю ежегодного дохода. — Что все это означает? — спросила маркиза, входя в гостиную. — Надеюсь, вы мне это объясните, — ответила графиня. — Разве вас не было здесь, когда пришел этот человек? — Какой человек? — удивилась маркиза. — Господин Бенедикт, — сконфуженно вмешалась Валентина, стараясь приободриться. — Матушка, он принес вам дичь, бабушка просила его спеть, а я ему аккомпанировала… — Значит, он пел для вас, мадам? — обратилась графиня к свекрови. — Но, если не ошибаюсь, вы слушали его из соседней комнаты. — Во-первых, его попросила не я, а Валентина, — ответила старуха. — Странно, — бросила графиня, устремив на дочь проницательный взгляд. — Матушка, — вся вспыхнув, проговорила Валентина, — я сейчас вам все объясню. Мое фортепьяно ужасно расстроено, вы сами знаете, а настройщика в округе нет; молодой человек — музыкант и, кроме того, умеет настраивать фортепьяно… Мне сказала об этом Атенаис, у нее тоже есть фортепьяно, и она часто прибегает к помощи своего кузена. — У Атенаис есть фортепьяно! Молодой человек — музыкант! Что за странные истории вы мне рассказываете? — Но это чистая правда, — подтвердила маркиза. — Вы просто не желаете понять, что сейчас во Франции все получают образование! Лери — люди богатые, они хотят развивать таланты своих детей. И хорошо делают, нынче это в моде; и смешно против этого возражать. Этот мальчик и впрямь прекрасно поет. Я слушала его из прихожей и получила удовольствие. Что, в сущности, произошло?.. Неужели вы думаете, что Валентине грозила опасность, когда я находилась всего в двух шагах? — О мадам, — ответила графиня, — вы всегда самым неожиданным образом перетолковываете мои мысли. — Что поделаешь, если они у вас такие странные! Возьмите хоть сейчас, ну чего вы так перепугались, застав свою дочь за фортепьяно в обществе мужчины? Разве заниматься пением такой уж грех? Вы меня упрекаете в том, что я оставила их на минуту одних, будто… О боже мой, неужели вы не разглядели этого мальчика? Не заметили, что он страшен, как смертный грех? — Мадам, — возразила графиня, и в голосе ее прозвучало глубочайшее презрение, — легче всего истолковать таким образом мое неудовольствие, но коль скоро мы все равно не можем сговориться по многим вопросам, я обращаюсь к своей дочери. Валентина, надеюсь, вы сами понимаете, что эти вульгарные мысли мне просто приписаны. Я достаточно хорошо изучила вас, дочь моя, и знаю, что человек подобного рода не мужчина в ваших глазах и что не в его власти скомпрометировать вас. Но я ненавижу даже малейшее нарушение приличий и считаю, что вы недостаточно их блюдете. Поймите же, самое страшное на свете — это попасть в смешное положение. У вас в характере чересчур много благожелательности, вы ведете себя чересчур непринужденно с низшими. Помните, что они вам за это ничуть не признательны, они лишь будут злоупотреблять вашими слабостями, и чем лучше с ними обращаешься, тем они становятся неблагодарнее. Поверьте опытности вашей матери и впредь следите за собой. Уже не в первый раз я делаю вам подобный упрек: вам следует вести себя с большим достоинством. И рано или поздно вы почувствуете последствия этого. Чернь не понимает, до какой грани ей дозволено дойти и где следует остановиться. Эта девочка Атенаис ведет себя с вами возмутительно фамильярно. Я терплю это, ибо в конце концов она женщина. Но я была бы не слишком польщена, если бы ее жених в публичном месте обратился к вам развязным тоном. Этот юноша весьма дурно воспитан, как и все люди его класса, и ему совершенно не хватает такта. Господин де Лансак, который любит иной раз разыграть либерала, чересчур переоценил его, когда говорил с ним как с человеком умным. Другой на его месте не пошел бы танцевать, а он предерзко поцеловал вас, дочь моя… Я не упрекаю вас за это, — добавила графиня, видя, что Валентина растерянно вспыхнула, — я знаю, что вам самой была неприятна подобная дерзость, и если я ныне напоминаю вам об этом случае, то лишь затем, чтобы показать, как важно держать на почтительном расстоянии всех этих людишек. Во время этой речи маркиза, сидевшая в уголку, только плечами пожимала. Валентина, подавленная неумолимостью материнской логики, пробормотала в ответ: — Матушка, ведь только из-за фортепьяно я решила, что… Я не подумала, что это неприлично… — Если вести себя как подобает, — ответила графиня, обезоруженная покорностью дочери, — то можно и позвать его, не нарушая приличий. Вы говорили с ним о настройке? — Я хотела, но… — В таком случае пусть его вернут. Графиня позвонила и велела привести Бенедикта, но ей сказали, что он уже далеко. — Ничего не подсыхаешь, — проговорила графиня, когда слуга вышел из комнаты. — Самое главное вести себя так, чтобы он не вбил себе в голову, будто мы зовем его сюда ради его прекрасного голоса. Я настаивала и буду настаивать, чтобы его принимали здесь соответственно его положению, и ручаюсь — когда он явится сюда еще раз, я сама позабочусь об этом. Дайте мне письменный прибор. Сейчас я ему объясню, чего мы от него хотим. — По крайней мере будьте хоть любезны, — заметила маркиза, у которой боязнь заменяла разум. — Я знаю, как принято вести себя, мадам, — возразила графиня. Она набросала наспех несколько строк и протянула их Валентине со словами: — Прочитайте и велите отнести на ферму. Валентина пробежала глазами записочку. Она гласила: «Господин Бенедикт, не согласитесь ли вы настроить фортепьяно моей дочери? Вы доставите мне этим удовольствие. Имею честь приветствовать вас. Графиня де Рембо». Валентина взяла в руки палочку сургуча и, сделав вид, что запечатывает листок, поспешно вышла из комнаты, неся раскрытую материнскую записку. Нет, она не пошлет этого дерзкого приказа! Разве так должно отплатить Бенедикту за всю его преданность? Можно ли третировать как лакея юношу, на челе которого она без боязни запечатлела сестринский поцелуй? Порыв сердца одержал верх над благоразумием: вытащив из кармана карандаш и притаившись между дверей пустой прихожей, она начертала несколько слов под запиской матери: «О, простите, простите! Потом я объясню вам, чем вызвано это приглашение. Приходите, не отказывайтесь прийти к нам. Во имя Луизы, простите!» Она запечатлела записку и вручила ее слуге.11
Валентине удалось прочесть письмо Луизы только вечером. Это было длинное рассуждение по поводу тех немногих слов, которыми они сумели, к общей их радости, обменяться на ферме. Письмо дышало радостью и надеждой, выражало всю глубину чувств экспансивной, романтичной женщины, ее дружбу — этого двойника любви, привязанности, полной милой ребячливости и возвышенного пыла. Оканчивалось оно следующими строками: «Случайно мне стало известно, что твоя мать завтра отправляется с визитом к соседям. Из-за жары она выйдет из дома только к вечеру. Попытайся отказаться ехать с ней и, как только стемнеет, приходи на большой луг, ближе к опушке Ваврейского леса. Луна встает не раньше полуночи, и в тех краях никогда не бывает ни души». На следующий день графиня около шести часов вечера отправилась в гости, велев Валентине лечь в постель и наказав маркизе проследить за тем, чтобы внучка приняла горячую ножную ванну. Но старуха, заявив, что она, слава богу, воспитала семерых детей и умеет лечить мигрень, тут же забыла о приказе невестки, как забывала обо всем, что не касалось ее самой. Верная своим давним привычкам к неге, она вместо внучки сама приняла ванну и, кликнув компаньонку, велела той читать себе вслух роман Кребийона-сына. Когда сумерки окутали окрестные холмы, Валентина украдкой ушла из дома. Она надела коричневое платье, чтобы не выделяться на фоне темной зелени, повязала косыночкой свои роскошные белокурые волосы, которыми свободно играл теплый вечерний ветерок, и быстро пересекла луг. Луговина простиралась в длину примерно на полулье, местами ее прорезали широкие ручьи, стволы поваленных деревьев заменяли мостики. В темноте Валентина несколько раз чуть было не упала в воду. То подол ее платья цеплялся за невидимые колючки, то нога уходила в обманчивую с виду тину, затягивавшую ручеек. Легкая ее поступь будила рои ночных бабочек; болтушка цикада замолкала при ее приближении, иной раз со старой ивы шумно срывался проснувшийся филин, и Валентина вздрагивала всем телом, ощутив на своем лбу прикосновение мягкого мохнатого крыла. Впервые в жизни девушка рискнула одна, без спросу покинуть ночью родительский кров. Хотя нравственный подъем придавал ей силу, страх порою овладевал ею, и она, как на крыльях, неслась по лугу, перепрыгивая через ручейки. В указанном месте она увидела Луизу, с нетерпением ее поджидавшую. После нежных объятий, длившихся с минуту, сестры уселись на краю рва и завели беседу. — Расскажи мне всю свою жизнь с тех пор, как нас с тобой разлучили, — попросила Валентина. Луиза поведала о своих скитаниях, своих горестях, о своем одиночестве и нищете. Когда ей минуло шестнадцать лет, ее отправили в Германию к одной дальней родственнице и назначили содержание слишком незначительное, чтобы обеспечить независимость. Не выдержав общества тиранки дуэньи, Луиза убежала в Италию, где смогла кое-как просуществовать, работая и соблюдая жестокую экономию. Достигнув совершеннолетия, она вступила во владение наследством — более чем скромным, ибо все фамильное состояние принадлежало графине; даже родовые земли Рембо, выкупленные ею, перешли в собственность вдовы, и старуха мать покойного генерала обязана была своим безбедным существованием лишь «благодеяниям» невестки. Поэтому-то бабка всячески старалась с ней ладить и всецело отступилась от Луизы, боясь очутиться в нужде. Как ни мала была сумма, полученная молоденькой девушкой, она показалась ей несметным богатством, и отныне ей вполне хватало денег на удовлетворение своих потребностей, которые она научилась умерять. Некое обстоятельство — в чем именно оно заключалось, Луиза сестре не объяснила — побудило ее вернуться в Париж, где она прожила шесть месяцев; там же услышала она о предстоящей свадьбе Валентины. Не устояв перед желанием повидать родные места и сестру, она послала письмо своей нянюшке, тетушке Лери, и эта последняя — добрая, любвеобильная женщина, с которой Луиза хоть и не часто, но переписывалась, — пригласила ее погостить месяц-другой тайком на их ферме. Луиза охотно согласилась, боясь, что свадьба Валентины воздвигнет в скором времени еще одно непреодолимое препятствие между сестрами. — Бог с тобой! — возразила Валентина. — Напротив, это будет началом нашей близости. Луиза, ты многое рассказала мне о своей жизни, но умолчала об одном, крайне интересующем меня обстоятельстве… Ты не сказала мне, что… И Валентина запнулась, не будучи в силах произнести одно-единственное слово, касающееся рокового проступка сестры, который, не задумываясь, она смыла бы собственной кровью, и почувствовала, что язык не повинуется ей, а на лбу проступила жгучая испарина. Луиза поняла все, и хотя жизнь ее была сплошным мучительным угрызением совести, ни разу еще ни один упрек не впивался так больно в ее сердце своим острием, как теперешнее замешательство и молчание сестры. Уронив голову на руки, Луиза, чье сердце ожесточили несчастья, подумала, что одним своим недоговоренным вопросом Валентина причинила ей боль, не сравнимую с той, что причиняли до сих пор все люда, вместе взятые. Но она тут же спохватилась, поняв, что Валентина просто чрезмерно деликатна, и догадалась, чего стоило этому целомудренному созданию настаивать на откровенном признании, а тем более выслушать его. — Ну что ж, Валентина! — сказала она, обвивая рукой шею девушки. Валентина прильнула к ее груди, и сестры залились слезами. Потом Валентина утерла слезы, неслыханным усилием воли преодолела свою девичью непреклонность, дабы появиться в новой, более возвышенной роли великодушной и сильной подруги Луизы. — Скажи, — воскликнула она, — ведь должно же быть существо, наложившее священный отпечаток на всю твою жизнь, существо, даже имени которого я не знаю, но которое, как мне порой кажется, я люблю всеми силами души, всей силой своей нежности. — Значит, ты хочешь, чтобы я тебе все рассказала, о моя отважная сестренка! А я-то думала, что никогда не решусь сообщить тебе о его существовании. Но, как я вижу, величие твоей души во много раз превосходит самые смелые мои чаяния. У меня есть сын, мы с ним никогда не расставались, я сама его воспитала. Я отнюдь не пыталась скрыть свой грех, что было бы нетрудно сделать, стоило удалить его от себя или не давать ему своего имени. Но он следовал за мной повсюду, и повсюду его присутствие напоминало людям о моей беде и моем раскаянии. И поверишь ли, Валентина, в конце концов я стала считать делом чести открыто называть себя матерью, и все справедливые души отпускали мне мой грех именно благодаря моему мужеству. — Не будь я даже твоей сестрой, а также и твоей дочерью, — ответила Валентина, — я хотела бы быть в числе этих справедливых людей. Но где же он? — Мой Валентин остался в Париже, он учится в коллеже. Поэтому-то я и покинула Италию и, решив повидаться с тобой, оставила его на месяц одного. Мой сын, Валентина, прекрасен, это любящее сердце, он знает тебя и страстно желает обнять ту, чье имя носит, на кого он так похож. Он такой же белокурый и спокойный нравом, как ты, и в четырнадцать лет он ростом уже почти с тебя… Скажи, когда ты выйдешь замуж, захочешь ли ты, чтобы я его к тебе привезла? Валентина ответила сестре градом поцелуев. Незаметно пролетели два часа, посвященные не только воспоминаниям о минувших годах, но и планам на будущее. Со всем пылом юности Валентина верила в их лучезарность, а Луиза, не столь в этом убежденная, умолчала о своих сомнениях. Вдруг на фоне темно-синего вечернего неба у края оврага показалась чья-то черная тень. Валентина вздрогнула, и с уст ее сорвался испуганный крик. Но Луиза, положив ладонь на руку сестры, проговорила: — Успокойся, это наш друг, это Бенедикт. В первую минуту Валентину неприятно смутило его присутствие при их встрече. Ей почудилось, что отныне силою вещей любое событие ее жизни повлечет за собой вынужденное сближение с этим юношей. Однако, поразмыслив, она поняла, что присутствие Бенедикта в этом глухом месте вполне уместно, а главное, он проводит Луизу до фермы, находящейся отсюда более чем в одном лье. Она невольно отметила про себя почтительную деликатность юноши, который не позволил себе нарушить беседу сестер. Чем, как не преданностью, можно объяснить то, что он простоял на страже целых два часа? Если посмотреть на дело с этой стороны, будет вопиющей неблагодарностью оказать ему холодный прием. Валентина объяснила Бенедикту историю с запиской матери, взяла всю вину на себя и умолила его, придя в замок, запастись немалой дозой терпения и философского спокойствия. Бенедикт, смеясь, заверил, что будет стоек, и, вместе с Луизой проводив Валентину по лугу, отправился на ферму. На следующий день он явился в замок. По счастливой случайности, порадовавшей Бенедикта, мигрень на сей раз поразила мадам де Рембо, но у нее, в отличие от Валентины, действительно разболелась голова, и ей пришлось остаться в постели. Таким образом, все получилось гораздо удачнее, чем Бенедикт мог надеяться. Когда он узнал, что графиня не подымется до вечера, он принялся за разборку фортепьяно, вынул все клавиши, после чего заявил, что следовало бы обновить замшу на молоточках и заменить несколько проржавленных струн, — словом, обеспечил себя работой на целый день; недаром Валентина находилась тут же, то подавая ему ножницы, то помогая сматывать проволоку на катушки, то ударяя по клавишам, чтобы проверить их звучание, словом, возилась с инструментом больше, чем за всю свою жизнь. С другой стороны, Бенедикт оказался гораздо менее искусным настройщиком, чем изобразила его перед матерью Валентина. Он порвал не одну струну, крутил не тот колышек, какой полагается, и не раз, ради правильного звучания одной-единственной ноты, нарушал гармонию целой гаммы. Тем временем старуха маркиза входила и выходила из комнаты, кашляла, дремала и чем больше их сторожила, тем свободнее они себя чувствовали. Бенедикт провел очаровательный день. Валентина была так мила, так наивно и искренне весела, так непритворно предупредительна в отношении Бенедикта, что немыслимо было чувствовать себя неловко в ее обществе. И потом, по неизвестной причине оба через час отказались по молчаливому согласию от излишней манерности. Между ними установились дружески-беззаботные отношения. Они смеялись над неловкостью друг друга, их пальцы то и дело встречались на клавиатуре, но жизнерадостность гнала прочь волнение, и они иной раз даже спорили как старые друзья. Наконец к пяти часам фортепьяно было настроено, и Валентина немедленно изобрела новое средство удержать в замке Бенедикта. В этом юном сердце заговорило, пусть негромко, лицемерие и, зная, что графиню можно склонить на многое преувеличенной почтительностью, девушка проскользнула к ней в спальню. — Матушка, — начала она, — господин Бенедикт уже шесть часов возится с моим фортепьяно и еще не кончил работу, а мы садимся сейчас за стол, вот я и подумала — неудобно отсылать этого молодого человека в людскую, коль скоро вы никогда не отсылаете туда его дядю и даже велите подавать ему вино к нашему столу. Как мне поступить? Я не посмела пригласить его к обеду, так как не знала, сочтете ли вы это приличным. Та же самая просьба, только сделанная в иных выражениях, встретила бы холодный отпор. Но графиня предпочитала добиваться немедленного повиновения своим приказам, нежели безропотного исполнения своей воли. Таково одно из свойств тщеславия: властолюбец желает, чтобы господство его принималось с уважением и даже с любовью. — Ничего тут неприличного нет, — возразила графиня. — Раз он сразу же явился по моему зову и работал добросовестно, с нашей стороны будет вполне справедливо оказать ему известное внимание. Идите, дочь моя, и пригласите его от моего имени. Торжествующая Валентина вернулась в гостиную, радуясь, что может сделать хоть что-то приятное от имени матери, и притворилась, что приглашение полностью исходит от графини. Искренне изумленный Бенедикт колебался принять приглашение. Уговаривая его, Валентина несколько превысила полученные ею от матери права. Когда они втроем шли к столу, маркиза шепнула на ухо внучке: — Неужели твоей матери действительно пришла в голову такая благородная мысль? Я начинаю беспокоиться за ее жизнь. Неужели она так серьезно больна? Валентина не разрешила себе улыбнуться в ответ на эту ядовитую шутку. Будучи поверенной двух этих женщин, поочередно выслушивая их взаимные упреки и неприязненные замечания, Валентина чувствовала себя словно утес, о который бьют с силой два враждебных потока. Обед длился недолго, зато прошел весело. Кофе перешли пить в беседку. К концу трапезы маркиза обычно приходила в благодушное настроение. В ее время кое-кто из молодых дам, чье легкомыслие прощалось ради их прелести, а возможно, в расчете на то, что их бойкое поведение рассеет скуку праздного и пресыщенного общества, открыто пускался в бахвальство самого дурного тона; считалось даже, что иным миленьким личикам идет роль проказниц. Центром этого дамского кружка была мадам де Прованс, которая «изрядно глушила шампанское». А веком раньше Мадам, невестка Людовика XIV, добродетельная и честная немка, обожавшая лишь чесночную колбасу да пивной суп, восхищалась способностью придворных дам Франции, и в первую очередь герцогини Беррийской, пить достаточно много без всяких неприятных последствий и, не моргнув глазом, переносить даже вино Констанцы и венгерский мараскин. За десертом маркиза окончательно развеселилась. Она завладела разговором с легкостью и естественностью, присущей людям, много повидавшим на своем веку, что заменяет им природный ум. Бенедикт не мог надивиться. Говорила она языком, который, по его мнению, был не свойствен ни ее классу, ни ее полу. Маркиза употребляла весьма вольные словечки, но умела никого не шокировать — так просто и непринужденно они произносились. Она рассказала несколько забавных историй, доказав тем чудеснейшую ясность памяти, и с завидной находчивостью умела пощадить слух внучки, описывая весьма рискованные ситуации. Несколько раз Бенедикт испуганно вскидывал на девушку глаза, но при виде ее невозмутимого спокойствия, свидетельствовавшего о полном неведении, он решил, что, возможно, и сам чего-то не понял и что это его собственное воображение придало словам маркизы такой смысл. Под конец его совсем ошарашило это удивительное сочетание изысканных манер и безнравственности, подобное презрение к принципам и одновременно уважение к приличиям света. Мир, в котором жила маркиза, рисовался перед ним как сквозь дымку грез, но он отказывался им верить. Еще долго они просидели в беседке. Потом Бенедикт решил испробовать фортепьяно и спел несколько песен. Ушел он довольно поздно, дивясь установившейся между ним и Валентиной близости, чувствуя волнение, причины которого он и сам не знал, но которое непрестанно вызывало в его мозгу образ столь прекрасной и доброй девушки, что не любить ее было невозможно.12
Через несколько дней после описываемых событий госпожа де Рембо была приглашена префектом на торжественный прием, который должен был состояться в главном городе департамента. Прием устраивался в честь герцогини Беррийской, не то отправлявшейся, не то возвращавшейся из очередного своего веселого путешествия; этой ветреной и грациозной даме, которой удалось завоевать всеобщую любовь вопреки явно неблагоприятным временам, прощалась непомерная расточительность за одну ее улыбку. Графиня попала в число избранниц, которых решено было представить герцогине и которые должны были сидеть за ее особым столом. Таким образом, по мнению самой графини, отказаться от приглашения было нельзя, и ни за какие блага в мире она не отказалась бы от этого маленького путешествия. С первых дней детства мадемуазель Шиньон, дочь богатого купца, мечтала о почестях; она страдала при мысли, что со своей красотой, чисто королевской осанкой, со своей склонностью к интригам и с непомерным тщеславием вынуждена прозябать в буржуазной атмосфере, царившей в доме ее отца, крупного финансиста. Выйдя замуж за генерала, графа де Рембо, она порхала в вихре развлечений среди высшей знати Империи; она была создана именно для того, чтобы блистать в этом кругу. Тщеславная, ограниченная, невежественная, но умеющая пресмыкаться перед сильными мира сего, красивая величественной и холодной красотой, для которой, казалось, была создана тогдашняя мода, она быстро постигла все тайны светского этикета, ловко применилась к нему, обожала роскошь, драгоценности, церемонии и торжества, но так и не познала всего очарования домашнего очага. Никогда это пустое и надменное сердце не умело наслаждаться прелестью семейной жизни. Луизе исполнилось десять лет, когда мадам де Рембо стала ее мачехой; девочка была слишком развита для своего возраста, и мачеха со страхом поняла, что лет через пять дочь мужа станет ее соперницей. Поэтому она отправила падчерицу с бабушкой в замок Рембо и дала себе клятву никогда не вывозить ее в свет. После каждой встречи, видя, как хорошеет Луиза, графиня вместо прежней холодности преисполнилась к падчерице неприязнью и отвращением. Наконец, как только ей представился случай обвинить несчастную девушку в проступке, который, пожалуй, можно было бы извинить тем, что Луиза росла без присмотра, графиня прониклась к ней лютой ненавистью и с позором изгнала из родительского дома. Кое-кто в свете утверждал, что причина этой вражды совсем иная. Господин де Невиль, соблазнитель Луизы, убитый затем на дуэли отцом бедняжки, был, как говорили, одновременно любовником графини и ее падчерицы. С падением Империи кончилась блистательная пора в жизни мадам де Рембо; почести, празднества, удовольствия, лесть — все исчезло, будто сон, и как-то поутру она проснулась всеми забытая и никому не нужная в легитимистской Франции. Многие оказались более ловкими и, не теряя времени, приветствовали новую власть, благодаря чему их вознесло на вершину почестей, но графиня, которой никогда не хватало здравого смысла и которая подчинялась своим первым, обычно неистовым порывам, совсем потеряла голову. Она и не думала скрывать от тех, что считались ее подругами и спутницами по празднествам, свое презрение к «пудреным парикам», свое презрение к возрожденным кумирам. Подруги испуганно вскрикивали, слушая поношения графини, они отворачивались от нее, как от еретички, и изливали свое негодование в туалетных комнатах. в тайных покоях королевской семьи, где были приняты и где их голос звучал достаточно веско при распределении должностей и богатств. Когда новые правители награждали своих верных слуг, графиня де Рембо была забыта. Ей не досталось даже самой ничтожной должности фрейлины-камеристки. Не допущенная в ранг королевской челяди, столь милый сердцу придворных, она удалилась в свое поместье и жила там открытой бонапартисткой; Сен-Жерменское предместье, в котором она до сих пор была принята, порвало с ней, как с неблагонадежной. На ее долю остались лишь равные ей выскочки, и приходилось принимать их за неимением лучшего; но графиня во время былого взлета питала к ним столь сильное презрение, что не обнаружила вокруг себя ни одной подлинной привязанности, которая могла бы вознаградить ее за все потери. Пришлось ей в возрасте тридцати пяти лет открыть наконец глаза и увидеть всю мизерность дел человеческих, а это оказалось, пожалуй, чересчур поздно для женщины, чьи юные годы прошли в пьянящих утехах, прошли так быстро, что она и оглянуться не успела. Она сразу как-то состарилась. Жизненный опыт не освобождал ее от иллюзий, постепенно, одна за другой, как то происходит обычно при смене поколений: графиня на склоне лет познала лишь горечь сожаления и ожесточилась. Последние годы жизнь стала для нее сплошной мукой, все стало лишь предметом зависти и раздражения. Тщетно изощрялась она в насмешках над Реставрацией, тщетно вызывала в памяти минувший блеск, чтобы из духа противоречия едко критиковать поддельный блеск нового царствования; скука глодала эту женщину, жизнь которой была некогда сплошным праздником и которая с горечью вынуждена была признать, что обречена отныне на жалкое прозябание у домашнего очага. Заботы по дому, и всегда-то ей далекие, стали ей ненавистны; дочь, которую она почти не знала, не способна была пролить бальзам на раны материнского сердца. Следовало бы воспитать это дитя в мыслях о будущем, но мадам де Рембо умела жить лишь минувшим. Парижский свет, так внезапно и так нелепо изменивший свои нравы и обычаи, говорил ныне на новом, непонятном ей языке, его развлечения были ей скучны или возмущали ее, а одиночество тяготило, пугало, доводило чуть ли не до лихорадочного бреда. Больная от гнева и тоски, она томилась на оттоманке, вокруг которой уже не пресмыкался ее собственный малый двор, миниатюрное издание большого императорского двора. Ее товарищи по немилости наведывались к ней оплакивать свои беды и лишь оскорбляли графиню, умаляя ее несчастья. Каждый из них уверял, что именно на его голову пала вся немилость этого злополучного времени и вся неблагодарность Франции. В этом мирке жертвы и оскорбленные взаимно пожирали друг друга. Эти эгоистические взаимные обвинения лишь усугубляли болезненную горечь мадам де Рембо. Когда более удачливые приходили протянуть ей дружескую руку и уверяли, что все милости Людовика XVIII не сумели стереть в их памяти воспоминание о дворе Наполеона, она в отместку за их теперешнее процветание осыпала бывших подружек упреками, обвиняла в измене великому человеку, ведь она, графиня, не могла ему изменить, как они! Наконец, в довершение беды, повергшей графиню в оцепенение, она, вынужденная проводить целые дни среди зеркал, неподвижных и пустых, смотрясь в них ныне без пышных нарядов, без румян и бриллиантов, всем недовольная и поблекшая, вдруг убедилась, что ее красота и молодость ушли одновременно с Империей. Ей исполнилось уже пятьдесят лет, и хотя следы ушедшей красоты остались на ее челе в виде неясных иероглифов, тщеславие, что вечно живет в сердце подобных женщин, причиняло ей сейчас такие острые страдания, какие, пожалуй, не причиняло ни в какую иную пору ее жизни. Родная дочь, которую она любила, лишь повинуясь инстинкту, присущему даже самым извращенным натурам, стала для графини постоянным предлогом вспоминать былые времена и еще пуще ненавидеть сегодняшние. Она произвела на свет девочку с чувством смертельного отвращения, и когда при ней восхищались Валентиной, первым движением графини была материнская гордость, зато вторым — безнадежное отчаяние. «Ее жизнь как женщины только-только начинается, — думала она, — а моей пришел конец!» И там, где графиня могла появляться одна, без Валентины, она чувствовала себя не столь несчастной. Так можно было по крайней мере избежать неуместно восхищенных взглядов, которые, казалось, говорили: «В свое время вы были столь же прекрасны, я-то отлично помню вас в расцвете красоты». Кокетство, однако, не говорило в графине настолько властно, чтобы она держала дочь взаперти, но стоило Валентине выказать хоть мимоходом желание остаться дома, как графиня, возможно, сама не отдавая себе в том отчета, охотно принимала ее отказ, уезжала с легкой душой, и ей свободнее дышалось в суетной атмосфере салонов. Чувствуя себя связанной по рукам и ногам этим слишком забывчивым и безжалостным светом, оставившим на долю графини Рембо лишь горечь разочарования, она все равно влеклась туда, как труп за колесницей. Где жить? Как убить время, как дождаться ночи, когда каждый день тебя старит и ты все равно оплакиваешь его уход? Когда услады самолюбия уже позади, когда все побудители страсти иссякли, покорному рабу моды остается лишь единственная утеха — блеск люстр, суета, гул толпы. Пусть ушли грезы о любви или почестях, все равно остается потребность двигаться, шуметь, не спать по ночам, говорить: «Я была там вчера, я буду там завтра». Грустное зрелище представляют собой дамы на возрасте, скрывающие свои морщины под цветами и венчающие свое бескровное чело бриллиантами и страусовыми перьями. Все у них подделка — талия, цвет лица, волосы, улыбка; все уныло — драгоценности, румяна, веселость. Призраки, попавшие на сегодняшний бал прямо с сатурналий минувшей эпохи, они присутствуют на нынешних банкетах словно затем, чтобы преподать молодости печальный философический урок, сказать ей: «И ваше время пройдет». Они цепляются за покидающую их жизнь, гонят прочь мысль об оскорбительном увядании, открыто выставляя его под обстрел оскорбительных взглядов. Женщины, достойные жалости, почти все не имеющие семьи, не имеющие сердца, — их встречаешь на всех празднествах, где они пытаются найти забвение в вине, воспоминаниях и шумной суете бала! Графиня не имела сил отказаться от этой пустой, бездумной жизни, хотя тяготилась ее скукой. Она уверяла, что со светом покончено раз и навсегда, но не пропускала случая вновь погрузиться в привычную атмосферу. Когда ее пригласили на это провинциальное сборище, где должна была председательствовать принцесса, графиня была вне себя от счастья, но она скрыла свою радость под презрительно-снисходительной миной, в глубине души она даже лелеяла мечту вновь войти в милость, если, конечно, ей удастся привлечь к себе внимание герцогини и дать ей понять, насколько она, графиня де Рембо, выше, чем окружающие. К тому же дочь ее должна была в скором времени стать женой господина де Лансака, одного из фаворитов легитимистской партии. Давно пора было сделать первый шаг навстречу этой аристократии по крови, которая могла придать новый блеск ее аристократии чистогана.Госпожа де Рембо возненавидела знать лишь с той минуты, как знать оттолкнула ее. Возможно, настал момент, когда по знаку принцессы все эти надутые аристократы смягчат свое отношение к графине. Итак, она извлекла из недр гардеробов самые богатые наряды и драгоценности, размышляя притом, какие следует уделить Валентине, чтобы та не выглядела такой взрослой и сформировавшейся, какой стала в действительности. Но случилось так, что среди всех этих приготовлений Валентина, мечтавшая воспользоваться неделей свободы, показала себя более проницательной и ловкой чем когда-либо. Она начала догадываться, что мать не случайно придает такое непомерное значение вопросу о ее туалете и пытается нагромоздить непреодолимые трудности, лишь бы склонить Валентину остаться дома. А ядовитое замечание старухи маркизы о том, что-де какая докука вывозить в свет девятнадцатилетнюю дочку, окончательно открыло Валентине глаза. Поэтому-то она начала со страстью порицать моды, празднества, поездки и префектов. Удивленная мать одобрила ее пыл и предложила отказаться от этой поездки, уверив, что тоже не поедет. Казалось, дело было улажено, но час спустя, когда дочь убрала картонки и прекратила сборы, госпожа де Рембо снова начала свои, заявив, что по здравому размышлению неразумно, а возможно, и просто опасно не побывать у префекта и не представиться принцессе, что она, мол, согласна принести себя в жертву ради этого чисто политического шага, но освобождает дочь от неприятной ей повинности. Валентина, которая за одну неделю научилась в совершенстве хитрить, сумела скрыть «свою радость. На следующий день, как только колеса кареты, в которой уехала графиня, проложили на песке главной аллеи две колеи, Валентина бросилась к бабушке и попросила у нее разрешения провести целый день на ферме у Атенаис. По словам Валентины, подружка пригласила ее, чтобы вместе позавтракать под открытым небом, и обещала для такого случая испечь пирог. Произнеся слово пирог, Валентина спохватилась, так как старуха маркиза тоже пожелала принять участие в пиршестве, но, к счастью, отказалась от своей затеи из-за жары и дальнего пути. Валентина, выехавшая верхом, соскочила с коня невдалеке от фермы, отослала слугу с лошадью домой, а сама, как горлинка, понеслась вперед меж цветущих кустов, которыми была обсажена дорога в Гранжнев.13
Накануне Валентине удалось предупредить Луизу о своем визите, поэтому-то вся ферма радостно прихорошилась в ожидании гостьи. Атенаис поставила свежие букеты в синие стеклянные вазы, Бенедикт подстриг в саду деревья, прошелся граблями по дорожкам, починил скамейки. Тетушка Лери собственноручно испекла превосходное печение, какое и не снилось самым искусным поварихам. Дядюшка Лери побрился и нацедил в погребе лучшего вина. Когда же Валентина совсем одна бесшумно вошла в столовую, ее приветствовали криками радостного изумления. Она бросилась в объятия тетушки Лери, присевшей перед гостьей в реверансе, горячо пожала руку Бенедикту, как дитя порезвилась с Атенаис, повисла на шее у сестры. Никогда еще Валентина не чувствовала себя такой счастливой; вдали от взглядов матери, вдали от ее ледяной суровости, сковывавшей каждый шаг дочери, она и двигалась свободнее и впервые со дня рождения жила полной жизнью. Валентина была кроткое и доброе создание, небеса допустили несомненную ошибку, поселив эту простую душу, чуждую всякому тщеславию, в палатах, где приходилось дышать дворцовой атмосферой. Меньше чем кто-либо была она создана для роскоши, для триумфов светской суеты. Она, напротив, стремилась к скромным домашним радостям, и чем суровее упрекали ее за них, словно за некое преступление, тем больше жаждала она бесхитростного существования, почитая его обетованным раем. Если она и хотела выйти замуж, то лишь для того, чтобы иметь свое хозяйство, детей, жить уединенно. Сердце ее жаждало настоящих привязанностей, пусть немногочисленных, пусть даже не слишком разнообразных. Ни одной женщине на свете семейные добродетели не казались столь легким долгом. Но роскошь, в которой она жила, когда все ее желания, даже капризы, предупреждались заранее, освобождала Валентину от всяких домашних забот. Когда вокруг тебя двадцать слуг, как-то смешно заниматься хозяйством, не будучи обвиненной в скупости. Хорошо еще, что Валентине разрешили заботиться о птичьем дворе, и легко можно было разгадать ее нрав, видя, с какой бесконечной любовью ухаживает она за своими крохотными питомцами. Когда же Валентина очутилась на ферме, среди кур, охотничьих псов, козлят, когда она увидела Луизу за прялкой, тетушку Лери — за стряпней и Бенедикта — за починкой сетей, ей показалось, что наконец-то попала она в ту обстановку, для какой рождена. Ей тоже захотелось чем-нибудь заняться, но, к великому удивлению Атенаис, Валентина не села за фортепьяно, не предложила закончить изящную вышивку, а принялась вязать серый чулок, валявшийся на стуле. Атенаис подивилась ее проворству и спросила, знает ли Валентина, для кого она с таким пылом вяжет чулок. — Для кого? — переспросила Валентина. — Понятия не имею, но все равно, для кого-нибудь из вас, ну хотя бы для тебя. — Это для меня-то серые чулки? — презрительно отозвалась Атенаис. — Значит, для тебя, сестрица? — спросила Валентина Луизу. — Этот чулок я тоже вязала, — ответила Луиза, — но начала его тетушка Лери. А кому он предназначается, я тоже не знаю. — А если для Бенедикта? — заметила Атенаис, лукаво поглядывая на Валентину. Бенедикт поднял голову, бросил работу и молча оглядел обеих женщин. Валентина вспыхнула, но сразу же овладела собой. — Ну что ж, хотя бы и для Бенедикта, — сказала она, — я с радостью потружусь для него. С этими словами она подняла на подругу веселые глаза. Атенаис покраснела от досады. Непонятное чувство насмешливой недоверчивости вдруг родилось в ее душе. — Ай-ай-ай, — проговорила с опрометчивым прямодушием добрая Валентина, — видно, тебе это не слишком-то приятно. И впрямь, я виновата, Атенаис, я залезла в чужие владения, захватила принадлежащие тебе права. Ну, так бери скорее работу и прости меня — не мое дело готовить приданое твоему жениху. — Мадемуазель Валентина, — сказал Бенедикт, в душе которого кипели самые жестокие чувства против Атенаис, — если вам не претит поработать на самого скромного из своих вассалов, умоляю вас, продолжайте вязать. Хорошенькие пальчики Атенаис никогда не притрагиваются к таким грубым ниткам и к таким тяжелым спицам. На черных ресницах Атенаис повисла слеза. Луиза с упреком подняла глаза на Бенедикта. Удивленная Валентина оглядела всех троих поочередно, стараясь разгадать эту тайну. Если слова Бенедикта причинили такую острую боль молодой фермерше, то вовсе не потому, что в них заключался упрек в легкомыслии (к этим упрекам она уже давно привыкла), — Атенаис поразил покорно-фамильярный тон, каким ее кузен обратился к Валентине. В общих чертах Атенаис уже была известна история их первого знакомства, и до этой минуты она не тревожилась. Но она не знала, что за это короткое время между ними успела установиться близость, чего никогда бы не было без этих чрезвычайных обстоятельств. Ей было горько и странно слышать, как прирожденный бунтарь Бенедикт, враждебный всем притязаниям знати, именует себя покорнейшим вассалом мадемуазель де Рембо… Какой же переворот произошел в его идеях? Какую власть приобрела над ним Валентина? Видя кругом печальные лица, Луиза предложила до обеда сходить на Эндр половить рыбу. Инстинктивно чувствуя свою вину перед Атенаис, Валентина ласково взяла ее под руку и побежала с ней по лугу. Искренней и любящей девушке вскоре удалось рассеять тучку, омрачившую душу Атенаис. Бенедикт в простой блузе, нагруженный сетями, еле поспевал за девушками вместе с Луизой, и вскоре вся четверка добралась до берега реки, поросшего диким лотосом и мыльнянкой. Бенедикт забросил невод. Он был ловок и силен. Когда дело касалось физических усилий, в нем чувствовались мощь, отвага и безыскусственное изящество, присущее крестьянину. Все эти качества ничуть не ценила Атенаис, привыкшая к тому, что окружающие ее люди обладают теми же достоинством, ко Валентина дивилась им как чему-то сверхъестественному и невольно ставила этого юношу выше всех знакомых ей мужчин. Она пугалась, видя, как он пробирается по замшелому стволу ивы, клонившейся к воде и поскрипывавшей под его ногой, а когда она заметила, как он, напружив мускулы, ловким скачком удержался от неминуемого падения и, не теряя хладнокровия, нащупывает твердую землю, не видную среди высокой травы и камышей, сердце ее забилось от волнения, какое неизменно охватывает зрителя, когда на его глазах совершают что-нибудь опасное или мудреное. Луиза и Валентина с ребяческим восторгом бросились к сверкавшему мириадами капель неводу, где билось несколько форелей, и с криками радости стали выбирать рыбу из сетей, а тем временем Атенаис, боясь испачкать руки или все еще гневаясь на своего кузена, укрылась в тени ольхи; Бенедикт, истомленный жарой, уселся на грубо отесанный ствол ясеня, переброшенный через реку взамен моста. Три женщины разбрелись по лужайке, где каждая нашла себе занятие по вкусу. Атенаис рвала цветы, Луиза задумчиво бросала листья в бегущую воду, а Валентина, не привыкшая к свежему воздуху, солнцу и беготне, уселась, сморенная дремотой, среди высоких стеблей речного хвоща. Взор ее, рассеянно следивший за солнечным лучом, прорвавшимся сквозь листву и золотившим рябь воды, случайно упал на Бенедикта, который сидел шагах в десяти, спустив ноги с мостика. Нельзя сказать, чтобы Бенедикт был некрасив. Лицо его было желтовато-бледно, как у всех, страдающих печенью, глаза продолговатого разреза почти бесцветны, зато высокий лоб поражал своей необыкновенной чистотой. Может статься, из-за обаяния, которым наделены люди, обладающие моральной силой, глаз человека со временем привыкает ко всем недостаткам таких лиц и видит лишь то, что есть в них привлекательного; именно такой своеобразной некрасивостью обладал Бенедикт. Его бледный ровный цвет лица, казалось, был отражением внутреннего покоя, внушавшего инстинктивное уважение к этой душе, ничем не выдававшей внутренних своих движений. Глаза его, в которых среди белой и прозрачной эмали плавал блеклый зрачок, хранили неопределенно загадочное выражение, невольно возбуждавшее любопытство наблюдателя. Но они могли бы смутить самого многомудрого Лафатера: глаза Бенедикта без труда проникали в чужой взор, но металлический блеск их застывал, когда они опасались нескромного внимания. Ни одна женщина, если только она была красива, не могла выдержать их блеск, ни один враг не мог уловить в них намек на тайную слабость. Бенедикт принадлежал к породе людей, в любом положении сохраняющих свое достоинство; в отличие от многих, он мог позволить себе не думать о том, что выражает его лицо, никогда от этого не дурневшее, — напротив, оно притягивало, как магнит. Ни одна женщина не могла смотреть на него равнодушно, и если женские уста порой высмеивали его внешность, еще долго память хранила общий очерк этого лица; любой, встретивший Бенедикта впервые, долго провожал его взглядом, ни один художник не мог не восхититься его самобытностью, не испытав желания запечатлеть его черты. Сейчас, когда Валентина любовалась им, он казался погруженным в свои мысли, что было, по-видимому, привычным для него состоянием. Листва, под сенью которой он сидел, отбрасывала на его высокое чело зеленоватые блики, а взгляд, устремленный на воду, казалось, ничего не видит. На самом же деле Бенедикт отчетливо видел отражение Валентины на неподвижной глади затона. Он наслаждался этим лицезрением, хотя облик, который он старался уловить, чуть затуманивался всякий раз, как легкий ветерок морщил поверхность воды; потом прелестное отражение вновь постепенно восстанавливалось, сначала расплывчатое и нечеткое, и наконец, прекрасное и чистое, застывало в зеркале вод. Бенедикт ни о чем не думал, он просто созерцал, он был счастлив, а в такие минуты он становился красивым. Со всех сторон Валентина слышала, что Бенедикт дурен собой. В представлении провинциалов, где, по остроумному замечанию господина Стендаля, «красавец мужчина» непременно должен быть румяным и толстым, Бенедикт слыл самым обездоленным среди всех юношей. До сих пор Валентина как-то не приглядывалась к Бенедикту, у нее осталось о нем лишь первое, мимолетное впечатление, которое он произвел на нее при первой встрече, а оно было не слишком благоприятным. Только сейчас, в эти минуты, она обнаружила в юноше невыразимое обаяние. Погруженная, как и он, в мечты, бездумные и туманные, она поддалась опасному любопытству, которое склонно анализировать и делать сравнения. Она обнаружила поразительное несходство между господином де Лансаком и Бенедиктом. Она не задавалась мыслью, в чью пользу было это сравнение, она просто отметила его про себя. Коль скоро господин де Лансак красавец и к тому же ее жених, она отнюдь не тревожилась тем, что может принести это нескромное созерцание; она не думала, что граф выйдет из него побежденным. И, однако, произошло именно это: Бенедикт, бледный, усталый, задумчивый, с растрепанной шевелюрой, Бенедикт в грубой одежде, весь перепачканный тиной, с загорелой шеей, Бенедикт, сидевший в небрежной позе среди прекрасной зелени над прекрасными водами, Бенедикт, улыбавшийся от счастья и восхищения, глядя на Валентину, хотя Валентина этого не знала, — в эту минуту Бенедикт был настоящим мужчиной, сыном полей и природы, человеком, чье мужское сердце могло трепетать от необузданной любви, человеком, забывшим себя в созерцании прекраснейшего из творений, вышедшего из рук божьих. Кто знает, какие магнетические токи плавали вокруг него в раскаленном воздухе, кто знает, какие таинственные, неуловимые, непроизвольные чувства вдруг заставили забиться наивное и чистое сердце молодой графини. Господин де Лансак был денди и признанный красавец с правильными чертами лица, он был человеком редкого остроумия, прекрасным собеседником — смеялся к месту, никогда не делал ничего неуместного; на его лице, равно как и на его галстуке, не было ни морщинки, ни складочки, туалет, вплоть до последних мелочей, был для него делом столь же важным, долгом столь же священным, как наиболее высокие дипломатические проблемы. Никогда он ничем не восхищался — или, во всяком случае, уже не восхищался, ибо повидал на своем веку самых великих властителей Европы и холодно взирал на самых знатных особ; он парил в самых высших сферах света и решал судьбы наций между десертом и кофе. Валентина видела его лишь в свете, всегда в полной парадной форме, всегда начеку, благоухающего духами и подчеркивающего стройность своей талии. В нем она никогда не чувствовала мужчины, и утром и вечером господин де Лансак оставался все тем же господином де Лансаком. Он вставал с постели секретарем посольства и ложился в постель секретарем посольства, никогда он не мечтал, никогда не забывался до такой степени, чтобы сделать необдуманный шаг; он был непроницаем, как Бенедикт, но с той лишь разницей, что графу нечего было скрывать, что он не обладал своей, индивидуальной волей и мозг его удерживал лишь напыщенные пустяки дипломатии. Наконец, господин де Лансак, человек, лишенный благородных страстей, не знавший молодости чувств, уже увядший, внутренне иссушенный светской жизнью, был не способен оценить Валентину, всегда хвалил ее, никогда ею не восхищался и ни разу не возбудил в ней того мгновенного неодолимого порыва, какой преображает, освещает, властно побуждает человека переменить свою жизнь. Неосмотрительная Валентина! Она так мало знала, что такое любовь, что верила, будто любит своего жениха, правда, не страстно, но зато всей отпущенной ей силою любви. Раз этот человек не внушал ей никаких чувств, она считала, что сердце ее не способно испытывать более сильные страсти; но здесь, под сенью деревьев, она уже ощутила любовь. Этот знойный, живительный воздух пробудил ее кровь; поглядывая на Бенедикта, она ощутила, как странный пламень, подымавшийся от сердца, обжигал ее лицо, но, невинное дитя, она даже не понимала, что так смущает ее. Она не испугалась: она — невеста господина де Лансака, Бенедикт — жених своей кузины Атенаис. Все эти доводы были весьма убедительны; Валентина, привыкшая с легкостью выполнять любой свой долг, не желала верить, что в душе ее может родиться чувство, губительное для этого долга.14
Сначала Бенедикт спокойно глядел на отражение Валентины, но мало-помалу, повинуясь некоему мучительному чувству, еще более настойчивому и стремительному, чем то, которое испытывала Валентина, он заставил себя переменить место и попытался отвлечься. Взяв невод, он снова закинул его, но поймать ему ничего не удалось, до того он был рассеян. Он не мог отвести глаз от глаз Валентины; нагибался ли он с кручи берега над рекой, смело перескакивал ли по ненадежным камням или шагал по гладкой и скользкой гальке, он все время ловил на себе испытующий взгляд Валентины, участливо, если можно так выразиться, выслеживавший его. Девушка не умела притворяться, да и считала, что в подобных обстоятельствах в этом нет нужды, а Бенедикт трепетал под этим наивным и ласковым взглядом. Впервые в жизни он гордился своей силой и отвагой. Он перебрался через плотину, на которую бешено обрушивалась вода, и в три прыжка достиг противоположного берега. Он оглянулся; Валентина побледнела как полотно, а сердце Бенедикта преисполнилось гордости. Но потом, когда они длинным обходным путем через луга отравились домой, Бенедикт, глядя на трех женщин, шагавших впереди, призадумался. Он понял, что из всех безумств самым ужасным, самым роковым и губительным для его мирного существования была бы любовь к мадемуазель де Рембо. Но полюбил ли он ее? «Нет, — думал Бенедикт, пожимая плечами, — нет, я не так безумен, этого, слава богу, не произошло. Люблю я ее сегодня так же, как любил вчера, то есть братской, спокойной любовью». На все прочее он предпочитал закрывать глаза и, поймав зовущий взгляд Валентины, ускорил шаг, решив насладиться той прелестью, которую она умела распространять вокруг себя и которая «не могла быть» опасной. Стояла такая жара, что его дамы — все три деликатного сложения — вынуждены были отдохнуть на дороге. Они уселись в ложбинке, где было прохладно и где раньше проходил рукав реки, а теперь на тучной почве пышно разросся ивняк и полевые цветы. Бенедикт, измученный тяжелой ношей — неводом со свинцовыми грузилами, бросился на землю невдалеке от своих дам. Но через несколько минут все три уже сидели рядом с ним, ибо все три его любили: Луиза — пламенно и признательно за то, что он устроил ей встречу с Валентиной, Валентина (по крайней мере так она считала) — за Луизу, а Атенаис — сама по себе. Но как только они уселись рядом с ним, сославшись на то, что тень здесь гуще, Бенедикт, в свою очередь, заявил, что его припекает солнце, и перебрался поближе к Валентине. Рыбу он завернул в свой носовой платок и утирал поэтому мокрый лоб галстуком. — Вот уж удовольствие вытирать лицо галстуком, да еще из тафты! — заметила, посмеиваясь, Валентина. — Лучше взять для этой цели листья хмеля. — Будь вы более человечны, вы пожалели бы меня, а не порицали, — отозвался Бенедикт. — Возьмите мою косынку, — предложила Валентина. — Больше мне нечего вам предложить. Бенедикт молча протянул руку. Валентина сняла косыночку, повязанную вокруг шеи. — Вот вам мой носовой платок, — живо проговорила Атенаис, бросая Бенедикту батистовый платочек с кружевами и вышивкой. — Ваш платок ни на что не годен, — заметил он, так ловко схватив косынку Валентины, что та не успела ее отобрать. Он не удосужился даже поднять платок Атенаис, валявшийся рядом с ним на земле. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Атенаис поднялась и, надувшись, побрела на ферму. Луиза, разгадавшая ее печаль, бросилась вслед за девушкой, желая ее утешить, показать ей, сколь нелепа эта ревность, а тем временем Бенедикт с Валентиной, даже не заметившие всей этой сцены, остались одни на склоне оврага, в двух шагах друг от друга. Валентина сидела и с притворным вниманием перебирала маргаритки, а Бенедикт, прилегший рядом, прижимал ее косынку то к своему разгоряченному лбу, то к шее, то к груди и время от времени бросал на девушку взгляды, пламень коих она ощущала, не смея поднять глаз. Она находилась под электризующим воздействием тех флюидов, которые имеют волшебную власть над молодыми людьми их возраста, над теми, чьи сердца еще неопытны, воображение несмело, а чувства сохранили первозданную свежесть. Оба молчали, не смея обменяться ни словом, ни улыбкой. Как зачарованная, сидела, не шевелясь, Валентина, Бенедикт забылся, всем своим существом ощущая неуемное блаженство; услышав голос окликнувшей их Луизы, оба с сожалением покинули этот уголок, где любовь тайно, но повелительно заговорила от сердца к сердцу. Луиза подошла к ним. — Атенаис рассердилась, — сказала она, — и вы, Бенедикт, плохо с ней обращаетесь, вы невеликодушны к ней. Валентина, дорогая, скажи ему это. Заставь хоть ты его оценить по достоинству привязанность Атенаис. Ледяная рука сжала сердце Валентины. Она не могла бы объяснить, откуда вдруг пришло это чувство несказанной боли, овладевшей ею при словах Луизы. Однако она тут же подавила это мимолетное ощущение и удивленно взглянула на Бенедикта. — Стало быть, вы оскорбили Атенаис? — спросила она с обычным своим простодушием. — А я ничего не заметила. Что же такое вы натворили? — Ровно ничего, — ответил Бенедикт, пожав плечами, — Атенаис просто сумасшедшая! — Нет, не сумасшедшая, — сурово возразила Луиза, — это вы жестокий и несправедливый человек. Бенедикт, друг мой, не портите новым проступком сегодняшний день, столь сладостный для меня. Печаль нашей юной подружки омрачит и мое и Валентинино счастье. — Правда, правда, — подтвердила Валентина, взяв Бенедикта под руку, следуя примеру Луизы, которая взяла его под другую руку. — Пойдем скорее к этой бедной девочке, и если вы действительно виноваты перед ней, искупите вашу вину: пусть все мы будем счастливы сегодня. Почувствовав прикосновение руки Валентины, Бенедикт вздрогнул. Он незаметно прижал эту ручку к своей груди и так крепко ее держал, что отнять руку — означало бы признаться, что волнение спутника замечено. Благоразумнее было сделать вид, что она не чувствует прерывистого дыхания, бурно вздымавшего грудь юноши. Луиза все время понукала их, торопя догнать Атенаис, но плутовка, заметив, что за ней идут, ускорила шаг. Если бы только бедная девушка могла заподозрить истинные чувства своего нареченного! Трепещущий, пьяный от счастья, шел он между двумя сестрами, одну из которых любил и уже готов был полюбить другую: между Луизой, которая еще накануне пробудила в нем воспоминания о еще не прошедшей любви, и Валентиной, в присутствии которой он пьянел от только что вспыхнувшей страсти; Бенедикт и сам не знал, к какой из двух его влечет, и временами ему казалось, что обе сестры одинаково дороги ему, — так богато наделено любовью двадцатилетнее сердце! И обе они понуждали его бросить к ногам третьей это чувство чистого восхищения, хотя, возможно, обе в душе жалели, что не вправе ответить на него. Несчастные женщины! Несчастное общество, где сердце может вкушать истинное счастье, лишь поправ долг и разум! На повороте дороги Бенедикт вдруг остановился и, сжимая руки сестер, поглядел на них поочередно: сначала на Луизу — с выражением нежной дружбы, а затем на Валентину — не столь уверенно и не столь спокойно. — Значит, вы хотите, — сказал он, — чтобы я пошел и успокоил эту капризную девочку? Хорошо, я пойду, чтобы доставить вам удовольствие, но, надеюсь, вы хоть будете мне за это благодарны! — Почему мы должны побуждать вас к тому, что обязана подсказать вам собственная совесть? — спросила Луиза. Бенедикт с улыбкой посмотрел на Валентину. — И в самом деле, — проговорила она с мучительным волнением, — разве Атенаис недостойна вашей любви? Ведь вы на ней женитесь! Словно молния озарила высокое чело Бенедикта. Выпустив руку Луизы, он задержал руку Валентины и неприметно пожал ее. — Никогда! — воскликнул он, подымая взор к небесам, как бы клянясь ими в присутствии двух свидетелей. Взгляд его, обращенный к Луизе, казалось, говорил: «Никогда мое сердце, которым вы владели, не загорится любовью к Атенаис!», а взгляд, обращенный к Валентине, сказал: «Никогда, ибо в моем сердце безраздельно царите вы!». И он бросился догонять Атенаис, оставив сестер в замешательстве. Надо признаться, слово «никогда» произвело такое сильное впечатление на Валентину, что она еле устояла на ногах. Впервые радость столь эгоистичная, столь жестокая завладела священными тайниками этого великодушного сердца. С минуту она стояла, не в силах тронуться с места, потом оперлась на руку Луизы, не догадываясь в простодушии своем, что ее дрожь может быть замечена сестрой. — Что все это значит? — спросила Валентина. Но Луиза была так поглощена собственными мыслями, что Валентине дважды пришлось повторить вопрос, прежде чем его услышали. Наконец Луиза призналась, что сама ничего не понимает. В три прыжка Бенедикт настиг кузину и спросил, обняв ее за талию: — Вы сердитесь? — Нет, — ответила девушка, но по тону ее чувствовалось, что она сердится, и не на шутку. — Какое вы еще дитя, — проговорил Бенедикт, — вы вечно сомневаетесь в моей дружбе. — В вашей дружбе? — с досадой повторила Атенаис. — Я ее у вас не прошу. — Значит, вы отвергаете ее! Что ж, в таком случае… Бенедикт отошел в сторону. Побледнев и задыхаясь от волнения, Атенаис без сил опустилась на ствол старой поваленной ивы. Юноша тут же приблизился к ней; не так уж он любил Атенаис, чтобы заводить с ней споры, и благоразумнее было воспользоваться минутой ее волнения, нежели зря терять время и оправдываться. — Вот что, кузина, — проговорил он суровым тоном, обычно укрощавшим бедняжку Атенаис, — угодно вам перестать дуться? — Значит, по-вашему, это я дуюсь? — ответила та, заливаясь слезами. Бенедикт нагнулся к кузине и запечатлел поцелуй на ее свежей, не тронутой загаром беленькой шейке. Юная фермерша задрожала от радости и бросилась в объятия кузена. Бенедикт испытывал чувство жесточайшей неловкости. И впрямь, Атенаис была прелестным созданием, больше того — она любила его, считая, что предназначена ему, и простодушно обнаруживала свою любовь. Принимая ее ласки, Бенедикт не мог не поддаться чувству польщенного самолюбия и чисто плотского наслаждения. Однако совесть настойчиво твердила ему, что он обязан навсегда оставить мысль о союзе с сей юной особой, — он понимал, что сердце его навеки приковано к другой. Он поспешно поднялся и, расцеловав Атенаис, повел ее навстречу подругам. Так обычно оканчивались все их размолвки. Бенедикт, который не желал, который не мог высказаться начистоту, предпочитал избегать объяснений, и с помощью чисто дружеских знаков внимания ему всегда удавалось успокоить легковерную Атенаис. Присоединившись к Луизе и Валентине, невеста Бенедикта бросилась на шею мадемуазель де Рембо. Ее отходчивое, доброе сердечко не помнило зла, и Валентина, целуя юную фермершу, ощутила легкие укоры совести. Тем не менее радость, написанная на лице Бенедикта, привела всех троих в веселое настроение. Хохоча и резвясь, они вернулись на ферму. Обед не был еще готов, и Валентина пожелала осмотреть ферму, овчарню, коровник, голубятню. Бенедикт не слишком интересовался этой отраслью хозяйства, но был бы рад, если бы обязанности хозяйки взяла на себя его нареченная. Когда же он увидел, как мадемуазель де Рембо входит в стойла, гоняется за ягнятами, берет их на руки, ласкает любимых питомцев тетушки Лери, даже подносит своей белой ручкой хлеб волам, тупо на «нее поглядывавшим, он улыбнулся вдруг пришедшей ему в голову приятной и жестокой мысли: Валентина, подумалось ему, более создана для роли его жены, нежели Атенаис; очевидно, произошла непоправимая ошибка при распределении ролей, и, несомненно, Валентина, добрая, чистосердечная фермерша, научила бы его любить свой дом, семейную жизнь. «Почему не она дочь тетушки Лери? — думал он еще. — Тогда бы мне и в голову не пришла тщеславная мысль получать образование, и даже сейчас я охотно отказался бы от пустой мечты играть роль в светском обществе. С радостью я стал бы крестьянствовать, вел бы разумное, полезное существование, и, живя вместе с Валентиной в этой прекраснейшей долине, я сделался бы поэтом и землепашцем — поэтом, чтобы воспевать ее, землепашцем, чтобы служить ей. О, с какой легкостью забыл бы я толпу, гудящую в улье городов!» Весь во власти подобных мыслей, он отправился вместе с Валентиной на гумно, где она с наслаждением вдыхала здоровый деревенский дух. Потом, повернувшись к Бенедикту, она вдруг произнесла: — Иной раз я и впрямь думаю, что рождена быть фермершей! О, как бы я наслаждалась этой простой жизнью, этими спокойными каждодневными занятиями. Я, как тетушка Лери, все делала бы сама, вырастила бы самый прекрасный в округе скот, развела бы хохлаток и коз, гоняла бы их пастись в кустарник. Если бы вы только знали, сколько раз в салонах, в самый разгар празднества, устав от гула толпы, я принималась мечтать о том, что будто бы я пастушка, сижу где-то в укромном уголке на поле и стерегу овец! Но звуки оркестра призывали меня принять участие в общей суматохе, и мои мечты улетали как дым. Опершись на кормушку с сеном, Бенедикт умиленно слушал ее; он дивился, что Валентина, по симпатической связи идей, высказала вслух самые заветные его чаяния. Они были здесь одни. Бенедикт решил рискнуть и продолжить сказку. — Но ведь для этого вам пришлось бы выйти замуж за крестьянина! — проговорил он. — В наши дни нет больше крестьян, — ответила она. — Разве не все классы получают нынче одинаковое образование? Разве Атенаис менее одарена, чем я? Разве мужчина ваших знаний не выше такой женщины, как я? — Итак, у вас нет предрассудков относительно происхождения? — спросил Бенедикт. — Раз я могу почувствовать себя фермершей, значит, эти предрассудки мне чужды. — Это еще не довод — Атенаис рождена быть фермершей, а сетует, что не родилась графиней… — О, на ее месте я бы только радовалась! — живо отозвалась Валентина. И, опершись напротив Бенедикта о край яслей, она задумалась, уставившись в землю, и даже не подозревала, что Бенедикт готов был отдать каплю по капле всю свою кровь за только что произнесенные ею слова. Еще долго тешил Бенедикт свое воображение безумными и лестными для него картинами. Рассудок его замолк, убаюканный этой мирной тишиной, а радостные и обманчивые мечты парили неудержимо. Он уже видел себя хозяином, супругом и фермером в Черной долине. Видел Валентину в роли своей подруги, своей хозяйки, ее — самую прекрасную свою собственность. Он мечтал с открытыми глазами, и несколько раз мечты уводили его столь далеко, что он чуть было не заключил девушку в объятия. Когда веселый говор предупредил его о приближении Луизы и Атенаис, он бросился в дальний конец гумна и укрылся за скирдами ржи. Здесь он разрыдался как дитя, как женщина, никогда еще в жизни на своей памяти он так не рыдал, он оплакивал мечту, которая на миг вырвала его из мира действительности и, даровав ему несколько мгновений иллюзий, наполнила душу таким счастьем, какого он еще не испытывал в реальной жизни. Когда он осушил слезы, когда вновь увидел Валентину, по-прежнему безмятежно кроткую, вопросительно и участливо глядевшую на него, он почувствовал себя вдвойне счастливым: он думал, что быть любимым наперекор людям и судьбе куда почетнее и радостнее, нежели добиться без труда и риска законной привязанности. Он с головой погрузился в обманчивое море желаний и химер, вновь унесся мечтою в даль. За столом он сел рядом с Валентиной — так ему легче было воображать себе, что она здесь, у него, хозяйка дома. С какой охотой и удовольствием взяла она на себя все хлопоты: резала хлеб, раскладывала по тарелкам еду, радуясь, что может услужить каждому. Глядя на нее, Бенедикт, ошалев от счастья, протягивал ей тарелку без тех обязательных слов вежливости, что непрестанно напоминали бы о светских условностях и разделяющей их пропасти; протягивая ей тарелку, он просто говорил: — А теперь мне, мадам фермерша! Хотя на ферме всегда пили вино собственного приготовления, дядюшка Лери хранил для торжественных случаев превосходное шампанское, но никто не притронулся к нему. Слишком сильно было душевное опьянение. Этим юным и здоровым созданиям не нужно было возбуждать нервы и подстегивать кровь. После обеда они убежали на луг играть в прятки и горелки. Даже супруги Лери, освободившись от хлопот по хозяйству, приняли участие в игре. Кликнули также хорошенькую служанку, работавшую на ферме, и детишек батраков. Вскоре вся лужайка зазвенела от смеха и веселых возгласов. Бенедикт окончательно потерял рассудок. Преследовать Валентину, замедлять бег, чтобы дать ей уйти подальше, принудить ее свернуть в кусты и там неожиданно появиться перед ней, радоваться ее крикам, ее уловкам и, наконец, догнать ее и не посметь тронуть, зато видеть вблизи ее тяжело дышащую грудь, ее разрумянившиеся щеки и влажные глаза, — всего этого было чересчур много для одного дня! Заметив частые отлучки Бенедикта и Валентины и решив устроить так, чтобы и ее тоже ловили, Атенаис предложила играть в жмурки и завязать водящему глаза. Плутовка туго затянула платком глаза Бенедикту, рассудив, что так ему не удастся обнаружить свою жертву, но тому все было нипочем! Инстинкт любви, неодолимые колдовские чары, разлитые в воздухе, позволяют влюбленному уловить аромат, окружающий его владычицу, ведут его столь же безошибочно, как зрение; каждый раз он ловил Валентину и был еще счастливее, нежели во время прочих игр, так как мог смело схватить ее за руку и, притворившись, что не узнает, кто перед ним, не сразу отпускал свою добычу. Недаром жмурки — самая опасная в мире игра. Когда наконец стемнело, Валентина стала собираться домой; не отходивший от нее Бенедикт не мог скрыть своей печали. — Уже! — воскликнул он прямодушно, даже грубовато, и Валентина сердцем почувствовала всю искренность его слов. — Да, уже! — ответила она. — Сегодняшний день показался мне ужасно коротким. И она поцеловала сестру; но имела ли она в виду только Луизу, произнося эти слова? Заложили бричку. Бенедикт в душе надеялся еще на несколько мгновений счастья, но, когда путники устроились, он увидел, что надежды его обмануты. Луиза забилась в дальний угол, боясь, что ее узнают в окрестностях замка. Валентина уселась рядом с сестрой. Атенаис заняла переднюю скамейку и очутилась рядом со своим кузеном, но он впал в такую хандру, что во время всего пути ни разу не обратился к ней. У въезда в парк Валентина упросила остановить бричку, так как боялась, что Луизу увидят, хотя уже совсем стемнело. Бенедикт спрыгнул на землю и помог Валентине сойти. Мрачное безмолвие царило вокруг роскошного жилища графини, и Бенедикт от души желал, чтобы земля разверзлась и поглотила замок. Валентина расцеловалась с сестрой и Атенаис, протянула Бенедикту руку, которой он на сей раз осмелился коснуться губами, и скрылась в парке. Сквозь прутья решетки Бенедикт еще несколько мгновений видел ее белое платье, удалявшееся среди деревьев; он забыл все на свете и опомнился, лишь услышав раздраженный голос Атенаис, окликнувший его из брички: — Что же, мы здесь ночевать останемся?15
Этой ночью, сменившей веселый день, на ферме никто не спал. По возвращении домой Атенаис стало худо, тетушка Лери совсем растревожилась и пошла спать лишь после настоятельных уговоров Луизы. Луиза вызвалась провести ночь в спальне своей подружки, а Бенедикт ушел к себе и здесь, раздираемый попеременно счастьем и угрызениями совести, так и не узнал ни минуты покоя. После истерического припадка утомленная Атенаис заснула было глубоким сном, но вскоре вся горечь, терзавшая ее в течение дня, превратилась в тревожные видения, и она зарыдала сквозь сон… Прикорнувшая на стуле Луиза сразу проснулась, услышав всхлипывания, и, склонившись над Атенаис, нежно осведомилась о причине слез. Не получив ответа, Луиза только тут заметила, что девушка плачет во сне, и поспешила разбудить ее, чтобы прервать кошмар. Луиза была одним из самых отзывчивых созданий; слишком много натерпелась она на своем веку, чтобы не отзываться на горе ближнего. Она пыталась успокоить девушку, вкладывая в слова утешения всю свою нежность и доброту, но Атенаис, бросившись ей на шею, воскликнула: — Почему и вы — вы тоже! — хотите меня обмануть? Почему вы поддерживаете во мне заблуждение, которому рано или поздно придет конец? Кузен меня не любит и никогда не полюбит, вы сами это знаете! Признайте же, что он вам это говорил! Луиза в замешательстве не знала, что и ответить. Услышав слово «никогда», произнесенное Бенедиктом (хотя сокровенный смысл этого слова ускользнул от нее), она не решалась посулить своей юной подружке счастливое будущее из боязни ее разочаровать. С другой стороны, ей хотелось хоть чем-то утешить Атенаис, ибо она всей душой страдала за нее. Поэтому она постаралась втолковать Атенаис, что если Бенедикт и не влюблен в нее, то, во всяком случае, не влюблен и в другую, выразила надежду, что со временем девушке удастся победить холодность своего жениха; однако Атенаис и слушать ничего не желала. — Нет, нет дорогая барышня, — ответила она, и слезы разом высохли на ее глазах, — я должна принять твердое решение: пусть я умру с горя, но я сделаю все, лишь бы исцелиться от этого чувства… Слишком унизительно видеть, как тобой пренебрегают!.. У меня и без Бенедикта достаточно поклонников! Если Бенедикт воображает, что только он один за мной ухаживает, то жестоко ошибается. Есть немало таких, которые домогаются меня, не считают, что я их недостойна. Он увидит, увидит, как я ему отомщу, увидит, что недолго мной будет пренебрегать, вот возьму и выйду замуж за Жоржа Симонно, или за Пьера Блютти, или хоть за Блеза Море! Правда, я всех их терпеть не могу. О, я знаю, что возненавижу любого мужчину, который женится на мне вместо Бенедикта! Но он сам этого захотел, и если я стану дурной женщиной, он будет за это в ответе перед господом богом. — Ничего этого не произойдет, дорогое мое дитя, — возразила Луиза, — вам все равно не найти среди ваших многочисленных обожателей человека, который мог бы сравниться с Бенедиктом умом, талантом и деликатностью, равно как и он, со своей стороны, не сумеет найти девушку, превосходящую вас красотой и преданностью. — Ну уж нет, дорогая барышня, ну уж нет, я, слава богу, не слепая, да и вы тоже. Когда у человека есть глаза, он все видит, а Бенедикт даже не счел нужным от нас скрываться. Его сегодняшнее поведение для меня яснее ясного. О, не будь она вашей сестрой, как бы я ее возненавидела! — Ненавидеть Валентину! Ее, вашу подругу детства, ее, которая так вас любит и даже не поймет ваших подозрений! Ненавидеть Валентину, столь приветливую и благожелательную душой и вместе с тем гордую в силу скромности. О, как бы она страдала, Атенаис, если бы догадалась, что творится с вами!.. — Вы правы, — проговорила девушка, вновь залившись слезами, — до чего я несправедливая, и у меня еще хватает дерзости обвинять ее подобным образом! Я сама знаю, что, догадайся она об этом, она содрогнулась бы от негодования. Потому-то я отчаиваюсь за Бенедикта, потому-то и возмущаюсь, видя его безрассудство, я вижу, что он по доброй воле стремится к собственному несчастью. На что он надеется? Зачем в помрачении ума идет к погибели? Зачем надо было случиться так, чтобы он увлекся женщиной, которая всегда будет для него чужой, меж тем как здесь, рядом, есть другая, готовая отдать ему свою молодость, любовь, богатство! О Бенедикт, Бенедикт, что же вы в конце концов за человек? А я, что я за женщина, раз не умею заставить полюбить себя? Вы все меня обманываете, уверяете, что я и красивая, и способная, и любезная, и создана для того, чтобы нравиться мужчинам. Вы меня обманываете, вы же сами видите, что я не нравлюсь! Атенаис запустила обе руки в свои густые черные кудри, словно желая их вырвать, но тут взгляд ее упал на туалет лимонного дерева, стоявший рядом с постелью, и зеркало немедленно дало столь наглядное опровержение ее словам, что она чуть-чуть примирилась сама с собой. — Какое вы еще дитя! — вздохнула Луиза. — Ну, как вы можете думать, что Бенедикт влюблен в мою сестру, когда он видел ее всего три раза? — Вовсе не три! Вовсе не три! — Ну хорошо, пусть четыре или даже пять раз, не все ли равно. Как же он успел полюбить ее за такой короткий срок? Ведь еще вчера он говорил мне, что Валентина, безусловно, самая прекрасная из всех женщин, что она достойнейшая из достойных… — Вот видите, и самая прекрасная и достойнейшая из достойных… — Постойте, постойте-ка… Он сказал, что Валентина достойна самого глубочайшего уважения и что супруг ее будет счастливейшим из людей… «Однако, — добавил он, — думаю, что я мог бы прожить рядом с ней десять лет и никогда в нее не влюбился бы; а знаете почему? Потому, что ее слишком доверчивое простодушие внушает мне почтение, потому, что слишком глубоким покоем веет от ее чистого, безмятежного чела!» — Он говорил это вчера? — Клянусь в этом своей дружбой к вам. — Да, но ведь то было вчера, а сегодня все изменилось. — Неужели вы считаете, что Валентина вдруг лишилась всех своих свойств, внушающих посторонним неподдельное уважение? — Возможно, она приобрела иные свойства, как знать? Любовь налетает как вихрь! Возьмите меня, я сама всего только месяц люблю Бенедикта. А раньше не любила, я не видела его после окончания коллежа, а в ту пору я была совсем девчонкой. И только помнила, что он высокий, неловкий, неуклюжий и руки у него вылезают из рукавов чуть не до локтя! Но когда я увидела его, такого изящного, такого любезного, с такими прекрасными манерами, такого ученого, а главное, заметила его чуть суровый взгляд, который ему так идет и которого я побаивалась, — о! с этой минуты я его полюбила, и полюбила сразу; я сама в душе этому дивилась: вдруг проснуласьвлюбленной. А почему бы с ним не могло сегодня произойти того же в отношении Валентины, что произошло со мной? Валентина — она красавица, она всегда умеет сказать то, что совпадает с его мнением, то, что ему хочется от нее услышать, а я всегда брякну что-нибудь невпопад. Откуда у нее только берется? Ох, думаю, просто он готов восторгаться всем, что бы она ни сказала. Допустим даже, все это фантазии и то, что началось утром, кончилось вечером — все равно, пусть завтра он возьмет меня за руку и скажет: «Давайте помиримся!», я прекрасно понимаю, что мне его не удержать, никогда не удержать… Представляете себе, какая прекрасная жизнь ждет меня в браке — вечно плакать от злости, вечно сохнуть от ревности! Нет, нет, лучше уж взять себя в руки и совсем отказаться. — Вот что, красавица моя, — сказала Луиза, — коль скоро вы не можете прогнать из вашей головки такие подозрения, надо в них удостовериться. Завтра же я поговорю с Бенедиктом, прямо расспрошу о его намерениях, и, какова бы ни была правда, вы ее узнаете. Хватит ли у вас для этого мужества? — Да, — проговорила Атенаис, целуя Луизу, — лучше знать свою судьбу, какова бы она ни была, чем жить в таких муках. — А теперь успокойтесь, — посоветовала Луиза, — постарайтесь уснуть и ничем не выдавайте завтра вашего волнения. Если, по-вашему, вы не можете рассчитывать на чувства Бенедикта, женское достоинство требует от вас выдержки. — О, вы совершенно правы! — воскликнула девушка, откидываясь на подушки. — Я буду следовать всем вашим советам. Раз вы на моей стороне, я уже сейчас чувствую себя гораздо сильнее. И впрямь, это решение несколько утишило смятение девушки, и она вскоре заснула, а Луиза, чувствуя, что ее собственное волнение куда глубже, сидела и ждала, не смыкая глаз, когда с первым отблеском зари побелеет небосклон. На рассвете она услышала, как Бенедикт, тоже проведший бессонную ночь, осторожно открыл дверь своей спальни и спустился вниз. Луиза пошла за ним следом, не разбудив никого. Обменявшись непривычно многозначительным взглядом, они углубились в аллею сада, уже окропленную утренней росой.16
Не решаясь приступить к столь щекотливой беседе, Луиза смущенно мялась, но Бенедикт начал разговор первым и твердо произнес: — Друг мой, я знаю, что вы хотите мне сказать. Дубовые перегородки не столь уж толсты, ночь выдалась не столь уж бурная, вокруг дома царила тишина, сон мой был не столь уж глубок, и я до последнего слова слышал вашу беседу с Атенаис. Я уже готовил свою исповедь, но боюсь, она будет излишней: ведь вы прекрасно, даже лучше, чем я сам, осведомлены о моих чувствах. Луиза остановилась и взглянула на Бенедикта, как бы желая убедиться, что он не шутит, но лицо его хранило столь невозмутимо спокойное выражение, что она опешила. — Я знаю вашу манеру шутить, сохраняя полное хладнокровие, — возразила она, — но, умоляю вас, поговорим серьезно. Речь идет о чувствах, которыми вы не имеете права играть. — Боже упаси! — с жаром воскликнул Бенедикт. — Речь идет о самой настоящей, самой священной любви в моей жизни. Атенаис вам сама об этом сказала, и клянусь в том моей честью, я люблю Валентину всеми силами души. Луиза растерянно всплеснула руками и воскликнула, подняв глаза к небу: — Какое неслыханное безумие! — Но почему же? — возразил Бенедикт, устремив на Луизу пристальный, властный взгляд. — Почему? — повторила Луиза. — И вы еще спрашиваете? Но, Бенедикт, вы, очевидно, бредите, или мне все это видится во сне? Вы любите мою сестру и прямо говорите мне об этом, на что же вы надеетесь, великий боже?! — На что я надеюсь?.. — ответил он. — Вот на что — надеюсь любить ее всю свою жизнь. — И вы думаете, что она разрешит вам это? — Как знать! Возможно! — Но разве вам неизвестно, что она богата, что она знатного происхождения… — Она, как и вы, дочь графа де Рембо, а ведь смел же я любить вас! Значит, вы оттолкнули меня лишь потому, что я сын крестьянина Лери? — Конечно, нет, — проговорила Луиза, побледнев как мертвец, — но Валентине всего двадцать лет, и предположим даже, что у нее нет предрассудков относительно происхождения… — У нее их нет, — прервал ее Бенедикт. — Откуда вы знаете? — Оттуда же, откуда и вы. Если не ошибаюсь, мы с вами одновременно познакомились с Валентиной. — Но вы забыли, что она находится в зависимости от тщеславной, непреклонной матери и от столь же неумолимого света; что она невеста господина де Лансака, что, наконец, порвав узы долга, она неизбежно навлечет на себя проклятие семьи, презрение своей касты и навеки потеряет покой, загубив свою жизнь! — Как мне не знать об этом! — Но что сулит вам ее или ваше безумие? — Ее — ничего, мое — все… — Ах, вы надеетесь победить судьбу лишь одной силою вашего характера? Я угадала, не так ли? Не в первый раз я слышала, как вы развивали при мне свои утопии, но поверьте мне, Бенедикт, будь вы даже больше, чем человек, вы все равно не добьетесь своего. С этой минуты я открыто объявляю вам войну и скорее откажусь от свиданий с сестрой, нежели дам вам случай и возможность загубить ее будущее… — О, какой пылкий протест! — проговорил Бенедикт с улыбкой, жестоко ранившей Луизу. — Успокойтесь, дорогая моя сестра… Ведь вы сами чуть ли не приказывали называть вас так, когда оба мы еще не знали Валентину. Будь на то ваше разрешение, я назвал бы вас еще более нежным именем. Мой беспокойный дух нашел бы себе пристанище, и Валентина прошла бы через мою жизнь, не смутив ее ни на миг; но вы сами не пожелали того, вы отвергали мои признания, по здравому рассуждению я понимаю, что они должны были показаться вам просто смехотворными… Вы сами грубо толкнули меня в коварное грозовое море, и вот, когда я готов следовать за прекрасной звездой, сверкнувшей мне во мраке, вы начинаете беспокоиться. Что вам до того? — Что мне до того? Ведь речь идет о моей сестре, о сестре, для которой я вторая мать! — О, вы чересчур молоды для роли ее матери! — с еле заметной насмешкой возразил Бенедикт. — Но выслушайте меня, Луиза: я чуть было не решил, что вы твердите о ваших опасениях с единственной целью поднять меня на смех, а раз это так, признайтесь же — я мужественно и долго сносил ваши насмешки. — Что вы имеете в виду? — Я не верю, чтобы вы действительно считали меня опасным для вашей сестры, раз вы сами прекрасно знаете, как мало я для нее опасен. Ваши страхи кажутся мне более чем странными; очевидно, вы считаете, что Валентина лишена здравого смысла, коль скоро вы испугались моих будущих возможных посягательств. Успокойтесь же, добрая Луиза, еще совсем недавно вы преподали мне урок, за который я вам от души благодарен и которым я, возможно, сумею воспользоваться. Теперь я не рискну сложить к ногам таких женщин, как Валентина или Луиза, пыл такого сердца, как мое. Я не буду столь безумен, ведь раньше я считал, что для того, чтобы тронуть женщину, достаточно любить ее всем пылом молодости, достаточно быть преданным ей телом и душой, всей кровью и всей честью, дабы стереть в ее глазах различие нашего положения, дабы заглушить в ней крик ложного стыда. Нет, нет, все это ничто в глазах женщины, а я сын крестьянина, я на редкость уродлив, до невозможности нелеп и посему не претендую на любовь. Только бедняжка Атенаис, мнящая себя барышней, и то за неимением лучшего, способна вообразить себе, будто может снизойти до меня! — Бенедикт! — с жаром воскликнула Луиза. — К чему все эти жестокие насмешки; вы нанесли мне кровную обиду. О, как же вы несправедливы, вы не хотите понять мое поведение, вы не подумали о том, в каком недостойном, отвратительном положении очутилась бы я в отношении семьи Лери, если бы выслушивала ваши признания, и вы не подумали, какое мужество понадобилось мне, чтобы сохранить стойкость и держаться с вами холодно. О, вы ничего не желаете понимать! Бедняжка Луиза прикрыла лицо руками, перепугавшись, что сказала слишком много. Удивленный Бенедикт пристально посмотрел на свою собеседницу. Грудь ее вздымалась, и как ни пыталась она скрыть краску, заливавшую чело, оно горело и выдало Луизу. Бенедикт понял, что он любим… Трепещущий, потрясенный, он остановился в нерешительности. Он хотел было пожать руку Луизы, но побоялся показаться слишком холодным, как и слишком пылким. Луиза, Валентина — кого же из двоих он все-таки любит? Когда испуганная его молчанием Луиза робко подняла глаза, Бенедикт уже исчез.17
Но как только Бенедикт очутился в одиночестве, как только прошло чувство умиления, он сам подивился его остроте и объяснил свое волнение лишь польщенным самолюбием. И в самом деле, Бенедикт, это страшилище, по выражению маркизы де Рембо, этот юноша, восторженно относившийся к другим и скептически к себе, очутился в странном положении. Лишь с трудом ему удалось побороть вспышку тщеславия, заговорившего было в душе при мысли, что он любим тремя женщинами, причем любовь даже наименее красивой из этих трех наполнила бы гордостью любое сердце. Тяжкое это было испытание для рассудка Бенедикта, он и сам это понимал. Надеясь сохранить стойкость духа, он начал думать о Валентине, о той из трех, в чьи чувства верил меньше всего, зная, что с этой стороны его неизбежно ждет разочарование. Любовь ее пока что выражалась лишь в мгновенных вспышках симпатии, что, впрочем, редко обманывает влюбленного. Пусть даже эта любовь расцветет в душе юной графини, ростки ее придется задушить при самом их зарождении, как только она прорвется наружу. Бенедикт твердил себе это в надежде победить демона гордыни и, к чести своей, победил его, что в таком возрасте — немалая заслуга. Тогда, оценив свое положение со всей проницательностью, на какую способен до безумия влюбленный юноша, он решил, что следует остановить выбор на одной из трех и тем пресечь страхи двух прочих. Атенаис оказалась первым цветком, который он изъял из этого великолепного венка: он рассудил, что эта утешится скоро. Ее наивные угрозы мести, которые он невольно подслушал нынче ночью, позволили ему надеяться, что Жорж Симонно, Пьер Блютти или Блэз Море избавят его от угрызений совести в отношении кузины. Разумнее всего, а быть может, и великодушнее всего было бы остановить свой выбор на Луизе. Дать общественное положение и будущее бедняжке, которую столь жестоко оскорбили семья и общественное мнение, помочь ей забыть суровую кару, понесенную за былые ошибки, стать покровителем несчастной и незаурядной женщины — во всем этом было нечто рыцарское, уже не раз соблазнявшее Бенедикта. Возможно, любовь, которую, как ему казалось, он начинал питать к Луизе, была отчасти рождена героическими свойствами его характера: он видел в этом чувстве прекрасный повод посвятить свою жизнь другому; его молодость, пылко жаждущая славы в любом ее обличье, смело вызывала на бой общественное мнение, на манер странствующих рыцарей, посылающих вызов великану — грозе всей округи — из одного лишь ревнивого желания услышать свое имя на устах всех, найти в бою славную гибель, лишь бы их имена вошли в легенду. Смысл отповеди Луизы, сначала оттолкнувший Бенедикта, открылся ему теперь в своем подлинном свете. Не желая принимать столь непомерные жертвы и боясь, что не устоит перед таким великодушием, Луиза с умыслом лишала Бенедикта всех надежд и, возможно, преуспела в том сильнее, чем ей самой бы хотелось. Даже наиболее добродетельным не чужда надежда на вознаграждение, и Луиза, как только оттолкнула Бенедикта, начала жестоко страдать. Лишь тут Бенедикт уразумел, что в этом отказе было больше подлинного благородства, больше деликатной и настоящей любви, нежели в его собственном поведении. В глазах Бенедикта Луиза поднялась выше того героизма, на который он считал себя способным, и не мудрено, что все это глубоко взволновало его и бросило на новое ристалище чувств и желаний. Будь любовь, наподобие дружбы или ненависти, чувством, способным рассчитывать и рассуждать, Бенедикт, не задумываясь, упал бы к ногам Луизы; но огромное превосходство любви над всеми прочими чувствами, примета божественной ее сущности то, что рождается она не в самом человеке, тут человек не властен, тут воля не может ничего ни добавить, ни прибавить, — сердце получает этот дар свыше, без сомнения, для того, чтобы перенести его на избранника, — таково предначертание неба, и когда даруется оно энергической душе, напрасны все надежды — тут умолкают прочие человеческие соображения, доводы человеческого рассудка, желающие истребить это чувство, — оно существует само по себе и только своей собственной мощью. Все вспомогательные и относящиеся к любви чувства, все, что ей дано, а вернее, что она сама привлекает себе на помощь — дружба, доверие, симпатия, даже уважение, — все это лишь второстепенные соратники, она сама их творит, сама ими управляет и непременно переживет их. Бенедикт любил Валентину, а не Луизу. Почему именно Валентину? Ведь она была меньше на него похожа, в ней было меньше его недостатков, его достоинств — поэтому ей труднее было и его оценить, и ее-то суждено ему полюбить. Узнав Валентину, он начал дорожить именно теми качествами, которых был лишен сам. Он был человек беспокойный, вечно недовольный, требовательный к себе и к своей судьбе; Валентина была спокойная, покладистая, во всем находила повод быть счастливой. Итак, значит, на то было предопределение божье? Разве не по воле высшего промысла, который везде и всегда действует наперекор человеку, совершилось это сближение? Один был необходим другому; Бенедикт — Валентине, чтобы дать ей познать душевное волнение, без которого была бы не полна ее жизнь, Бенедикту — Валентина, чтобы принести покой и утешение этой грозовой, смятенной жизни. Но между ними стояло общество, делавшее этот взаимный выбор нелепым, преступным, кощунственным! Провидение создало в природе совершенный порядок вещей, а люди разрушили его. Чья в том вина? Неужели ради того, чтобы уцелели наши стены, сложенные из льда, нужно остерегаться даже слабого луча солнца? Когда Бенедикт вновь приблизился к скамье, Луиза все еще была тут; бледная, уставившись в землю, бессильно уронив руки, сидела она на том же месте. Услышав шорох листвы, задетой полой его куртки, она вздрогнула, но, увидев Бенедикта, поняв, что юноша замкнулся в своей неприступной непроницаемости, с усиливавшейся тоской и страхом приготовилась слушать его речь — плод долгих раздумий. — Мы не поняли друг друга, сестра, — начал Бенедикт, садясь рядом с Луизой. — Сейчас я объясню вам все. Слово «сестра» нанесло Луизе смертельный удар, но она собрала остатки сил, стараясь утаить свою боль, и со спокойным лицом приготовилась слушать. — Я далек от мысли, — продолжал Бенедикт, — хранить против вас досаду, напротив, я восхищен вашей чистосердечностью и добротой, в которых вы, несмотря на все мои безумства, никогда мне не отказывали, вы это давали мне почувствовать. Я знаю, ваш отказ лишь укрепил мое уважение и нежность к вам. Смело рассчитывайте на меня как на преданнейшего друга и разрешите мне говорить с вами со всей искренностью, какой сестра вправе ждать от брата. Да, я люблю Валентину, люблю страстно, и, как правильно заметила Атенаис, только вчера я понял, какое чувство она мне внушает. Но люблю я без надежды, без цели, без расчета; я знаю, что Валентина не отречется ради меня ни от своей семьи, ни от своего теперь уже близкого замужества — даже будь она свободна от обязанностей и от условностей, какие внушены ей идеями ее класса. Я все взвесил хладнокровно и понял, что не смогу стать для нее кем-либо иным, чем покорным, безвестным другом, которого втайне, быть может, и уважают, но знают, что опасаться его нечего. Если бы мне, человеку незначительному, мизерному, удалось внушить Валентине такую страсть, что уничтожает различие рангов и преодолевает любые препятствия, я все равно предпочел бы скрыться с ее глаз, лишь бы не принять жертв, коих я недостоин! Раз вам теперь известны мои взгляды, можете, Луиза, быть спокойны. — В таком случае, друг мой, — проговорила Луиза дрожа, — постарайтесь же убить любовь, чтобы она не стала мукой всей вашей жизни. — Нет, Луиза, нет, лучше смерть, — с жаром возразил Бенедикт. — В этой любви все мое счастье, вся моя жизнь, все мое будущее! С тех пор как я полюбил Валентину, я стал иным человеком, я теперь чувствую, что живу… Темный покров, окутавший мою судьбу, разодрался сверху донизу, я уже не одинок на этой земле, меня не тяготит более собственное ничтожество, силою любви я расту час от часу. Разве не видите вы на моем лице выражение спокойствия, придающее мне более сносный вид? — Я вижу лишь пугающую меня уверенность в себе, — ответила Луиза. — Друг мой, вы сами себя губите. Эти химеры грозят вашему жизненному уделу, вы растратите всю свою энергию на пустые мечтания, и когда придет пора стать человеком, вы с сожалением убедитесь, что уже утратили силы. — А что значит, по-вашему, стать человеком? — Это значит найти свое место в обществе и не быть никому в тягость. — Ну, так я завтра же могу стать человеком: буду адвокатом или грузчиком, музыкантом или хлебопашцем — выбор большой. — Никем вы не сможете стать, Бенедикт, ибо в вашем состоянии душевного беспокойства любое занятие через неделю… — Мне опостылеет, согласен, но у меня останется возможность размозжить себе череп, если жизнь будет мне невмоготу, или стать лаццарони, если жизнь мне улыбнется. По здравом размышлении я пришел к выводу, что ни на что иное и не гожусь. Чем больше я учился, тем больше терял вкус к жизни, и теперь, немедля хочу вернуться к моему естественному состоянию, к грубому деревенскому существованию, к простым мыслям и скромной жизни. От моего надела, а там недурные земли, я получаю пятьсот ливров ренты, есть у меня домик, крытый соломой, так что я смогу достойно жить в своих владениях, один, свободный, счастливый, праздный, не будучи никому в тягость. — Вы это серьезно? — А почему бы и нет? В условиях нашего общества при получаемом нами образовании самое разумное — добровольно вернуться к животному состоянию, из которого нас пытаются вытащить, на что ушло целых двадцать лет. Но послушайте, Луиза, не стройте за меня химер и иллюзий, в которых вы меня же и упрекаете. Именно вы предлагаете мне израсходовать мою энергию, пустить ее по ветру, вы уговариваете меня работать и стать таким же человеком, как и все прочие, посвятить свою молодость, свои ночные бдения, самые прекрасные часы счастья и поэзии тому, чтобы заслужить благопристойную старость, дряхлеть, гаснуть, покрыв ноги меховым одеялом и откинув голову на пуховую подушку. А ведь такова цель моих сверстников, коих порой именуют благоразумными юношами, а в сорок лет — людьми положительными. Храни их бог! Пусть же они всей душой стремятся к сей возвышенной цели: стать попечителем коллежа, или муниципальным советником, или секретарем префектуры. Пусть они откармливают своих быков и загоняют своих лошадей, разъезжая по ярмаркам, пусть они будут слугами при королевском дворе или слугами при дворе птичьем, рабами министра или рабами отары, префектами в раззолоченной ливрее или прасолами, щеголяющими поясом, в котором зашиты золотые монеты, и пусть после долгих лет трудной жизни, барышничества, пошлости или грубости они оставляют плоды неусыпных своих трудов какой-нибудь девице, состоящей у них на содержании, международной авантюристке или толстощекой служанке из Берри, безразлично, делается ли это с помощью завещания или вмешательства наследников, которым не терпится «насладиться жизнью»; вот он, положительный идеал, который во всем своем блеске воплощается вокруг нас! Вот он, прославленный идеал жизни, к которому стремятся все мои ровесники и соученики. Скажите же откровенно, Луиза, разве, отвергая все это, я отвергаю нечто достославное и прекрасное? — Вы сами знаете, Бенедикт, как легко опровергнуть ваши сатирические преувеличения… Поэтому я и не собираюсь это делать, я просто хочу спросить вас, куда намереваетесь вы направить пожирающую вас пламенную жажду деятельности, и не велит ли вам ваша совесть употребить ее на благо общества? — Совесть не велит мне ничего подобного. «Общество» не нуждается в тех, кто не нуждается в нем. Я признаю всю силу этого великого слова в применении к новым народам, на неподнятой целине, которую кучка людей, объединившихся лишь накануне, пытается превратить в плодородную ниву, чтобы заставить ее служить своим нуждам; в таком случае, если колонизация происходит добровольно, я презираю того, кто явится туда безнаказанно жиреть на чужом горбу. Я признаю гражданский долг лишь у свободных или добродетельных наций, если таковые существуют. Но здесь, во Франции, где, что бы ни утверждали, земле не хватает рабочих рук, где на каждую профессию находятся сотни чающих, где род человеческий, подло лепящийся вокруг дворцов, пресмыкается и лижет следы ног богачей, где огромные капиталы, собранные (следуя законам социального обогащения) в руках кучки людей, служат ставкой в беспрерывной лотерее, ставкой в игре алчности, безнравственности и глупости, в этой стране бесстыдства и нищеты, порока и отчаяния, среди этой прогнившей до корней цивилизации, вот здесь-то вы хотите, чтобы я был «гражданином»? Чтобы этому я пожертвовал своей волей, своими склонностями, своей фантазией только потому, что ей необходимо одурачить меня или превратить в свою жертву, чтобы грош, который я швырну нищему, попал в мошну миллионера? Значит, я должен лезть из кожи вон, творя добро, чтобы сотворить еще одно зло, чтобы стать пособником власти, покровительствующей соглядатаям, игорным домам и проституткам? Нет, клянусь жизнью, этого я не сделаю. Я не желаю быть кем-то в нашей прекрасной Франции, в этом просвещеннейшем государстве. Повторяю вам, Луиза, у меня есть пятьсот ливров ренты; каждый человек обязан прожить на такую сумму, и прожить в мире и спокойствии. — Так вот, Бенедикт, если вы и впрямь решили пожертвовать самыми благородными своими притязаниями ради потребности покоя, которая так стремительно пришла на смену вашему нетерпению, мечтам и порывам, если вы решили похоронить все ваши способности и все ваши достоинства, чтобы жить в безвестности и мире в здешней глуши, добейтесь первого условия этого счастливого бытия — изгоните из сердца смехотворную вашу любовь… — Смехотворную, говорите вы? Нет, моя любовь никогда не будет смехотворной, заверяю вас. Она будет тайной между богом и мною. Разве небеса, шутившие мне подобное чувство, превратят его в посмешище? Нет, она станет моим надежным оплотом против всех горестей, против тоски. Разве не она подсказала мне вчера решение оставаться свободным и быть счастливым, довольствуясь малым? О, благодетельная страсть, которая с первой минуты своего зарождения стала моим светочем и покоем! Небесная истина, открывающая глаза и прогоняющая прочь все людские заблуждения! Высшая сила, что сосредоточивает все способности человека и превращает их в источник несказанных радостей! О Луиза, не пытайтесь отнять у меня мою любовь, все равно вы в этом не преуспеете и, возможно, станете мне менее дороги, ибо никому, признаюсь, не удастся победить в борьбе против этой любви. Позвольте же мне обожать Валентину втайне и поддерживать в себе иллюзии, вознесшие меня вчера на небеса. Что по сравнению с этим вся наша действительность? Не мешайте мне заполнить всю мою жизнь этой единственной химерой, позвольте мне жить впредь в околдованной долине вместе с моими воспоминаниями и следами, что оставила в моем сердце Валентина, дышать благоуханием, разлитым по лугам, где ступала ее нога, наслаждаться гармонией ее голоса, разносимой дыханием ветерка, слышать слова нежные и наивные, сорвавшиеся в простоте душевной с ее уст, сердечные слова, которые я толкую так, как подсказывает мне моя фантазия, ощущать поцелуй чистый и робкий, который она запечатлела на моем лбу в первую нашу встречу. Ах, Луиза, этот поцелуй! Помните? Ведь вы сами потребовали, чтобы она меня поцеловала. — О да, — проговорила Луиза, удрученно поднявшись со скамейки. — Да, я причина всего зла.18
Вернувшись в замок, Валентина нашла на камине письмо от господина де Лансака. Следуя великосветскому обычаю, она с первого дня помолвки переписывалась с женихом. Переписка, которая, казалось бы, должна помочь молодым людям сблизиться и лучше узнать друг друга, обычно бывает холодной и манерной. В ней говорится о любви языком салонов, в ней стараются блеснуть своим остроумием, своим стилем и почерком, и ничего более. Сама Валентина писала столь незамысловатые письма, что в глазах господина де Лансака и его семьи прослыла простушкой. Впрочем, Лансак от души радовался этому обстоятельству. Зная, что в его руки попадет крупное состояние жены, он лелеял планы полностью подчинить ее себе. Таким образом, не будучи влюблен в Валентину, он старался слать ей письма, которые, согласно вкусу большого света, должны были являть собою маленькие шедевры эпистолярного искусства. Так, по его мнению, можно было лучше всего выразить самую живейшую привязанность, какой еще не знало сердце дипломата, и Валентина, по его расчетам, неизбежно должна была составить самое высокое представление об уме и душе своего жениха. И в самом деле, до сегодняшнего дня эта юная особа, не понимавшая ничего ни в жизни, ни в страстях, искренне восхищалась чувствительностью господина де Лансака и, сравнивая свои ответы с его излияниями, обвиняла себя в холодности, полагая, что недостойна такого человека. Нынче вечером Валентина, утомленная радостными и необычными впечатлениями дня, при виде знакомой подписи, обычно доставлявшей ей удовольствие, почувствовала непонятную печаль и угрызения совести. Не сразу взялась она за письмо и с первых же строчек отвлеклась от него, так что, пробежав послание глазами, не поняла ни слова; она думала о Луизе, о Бенедикте, о берегах Эндра и ивняке на лугу. Она вновь упрекнула себя за такие мысли и мужественно перечитала письмо секретаря посольства. Как раз над этим письмом он особенно потрудился, но, к несчастью, оно получилось еще более туманным, пустым и претенциозным, чем все предыдущие. Валентина невольно ощутила смертельный холод, с каким писались эти строки. Но тут же она постаралась утешить себя тем, что это мимолетное впечатление объясняется усталостью. Она легла в постель и, непривычная к долгой ходьбе, заснула глубоким сном, но поутру встала с краской на лице, вся растревоженная ночными сновидениями. Она схватила письмо, лежащее на ночном столике, и перечитала его с такой горячностью, с какой верующий читает молитву, сокрушаясь, что с вечера прочел ее кое-как, в спешке. Но тщетно, вместо восхищения, которым обычно сопровождалось чтение писем господина де Лансака, Валентина испытывала лишь удивление и некое чувство, весьма напоминавшее скуку; она вскочила с постели, испугавшись того, что с ней происходит, и даже побледнела — так утомило ее умственное напряжение. Так как в отсутствие матери Валентина делала все, что ей заблагорассудится, и бабушка даже не подумала спросить ее, как провела она вчерашний день, юная графиня отправилась на ферму, захватив с собой ящичек из кедрового дерева, где хранились письма господина де Лансака, накопившиеся за год переписки; втайне она надеялась, что Луиза, несомненно, восхитится этими письмами и чувство это передастся ей, Валентине. Будет, пожалуй, рискованно утверждать, что то был единственный мотив нового визита на ферму, но если в душе Валентины и были иные мотивы, она сама о них не догадывалась. Как бы то ни было, она застала на ферме только Луизу. По просьбе Атенаис, пожелавшей некоторое время пожить вдали от своего кузена, тетушка Лери повезла дочку к родственнице, жившей неподалеку. Бенедикт был на охоте, дядюшка Лери — в поле. Валентину испугал вид сестры, осунувшейся за одну ночь. Луиза сослалась на недомогание Атенаис, из-за которого вчера ей пришлось провести бессонную ночь. Впрочем, она почувствовала, что боль ее смягчили милые ласки Валентины, и вскоре сестры принялись непринужденно болтать о своих планах на будущее. Таким образом представился прекрасный случай показать Луизе письма господина де Лансака. Пробежав два-три письма, Луиза убедилась, что от них веет смертельным холодом, что стиль их нелеп до предела. Она немедленно сделала свое заключение о сердце этого человека и почуяла, что не стоит чересчур доверчиво относиться к его добрым намерениям на ее счет. Это открытие еще усугубило ее печаль, и будущее сестры показалось ей столь же плачевным, как и ее собственное, но она не рискнула показать это Валентине. Еще накануне она, возможно, нашла бы в себе мужество открыть ей глаза, но после признаний Бенедикта Луиза, подозревавшая, что Валентина сама немного поощряла его, не осмелилась отговаривать сестру от брака, который, во всяком случае, мог бы уберечь ее от опасности. Поэтому Луиза промолчала, а лишь попросила сестру оставить ей письма, дав слово внимательно пропитать их на досуге и тогда уже высказать о них свое мнение. Обеих огорчила эта беседа: для Луизы она стала новым источником боли, а Валентина по принужденному виду сестры поняла, что надежды ее не оправдались; но тут со двора донесся голос Бенедикта, напевавшего каватину: Di piacer mi balza cor [1]. Узнав его голос, Валентина затрепетала, но ощутила в присутствии Луизы какую-то неловкость, хотя сама не смогла бы объяснить ее причин, — сделав над собой усилие, она стала поджидать появления Бенедикта с наигранно равнодушным видом. Бенедикт вошел в комнату, где были закрыты все ставни. Внезапный переход от яркого солнца к полумраку помешал ему разглядеть обеих женщин. По-прежнему напевая, он повесил ружье на стену; Валентина со смущенной душой и улыбкой на устах молча следила за его движениями, как вдруг он, проходя мимо, заметил ее, и с губ его сорвался возглас удивления и радости. Этот крик, вырвавшийся из самой глубины его души, выразил больше страсти и восторга, нежели все послания господина де Лансака, разложенные на столе. Внутреннее чутье не обмануло Валентину, а бедняжка Луиза поняла, что роль ее довольна жалка. В эту минуту Валентина забыла и господина де Лансака, и все его письма, и все свои сомнения, и угрызения совести — она ощущала лишь счастье, которое в присутствии любимого человека властно подавляет все иные порывы. Валентина и Бенедикт эгоистически упивались своим чувством в присутствии пригорюнившейся Луизы, чье положение в обществе двух влюбленных становилось мучительно тяжелым. Отсутствие графини де Рембо продолжалось несколько дольше, чем она первоначально предполагала, и, пользуясь этим, Валентина несколько раз наведывалась на ферму. Тетушка Лери с Атенаис по-прежнему находились в отлучке, и Бенедикт обычно заранее выходил на тропку, по которой шла Валентина; улегшись под кустами, он проводил упоительные часы в ожидании молодой графини. Не раз следил он за ней глазами из своей засады, но не показывался, боясь выдать страстное свое нетерпение, ко когда Валентина уже подходила к ферме, он бросался ей вдогонку и, к великому неудовольствию Луизы, не отходил от сестер ни на шаг в течение всего дня. Луиза не могла пожаловаться на его неделикатность — Бенедикт, отлично понимая, что сестрам необходимо поговорить наедине, следовал за ними на почтительном расстоянии, с преувеличенным вниманием шарил в кустах дулом ружья якобы для того, чтобы поднять дичь, однако ни на минуту не терял обеих женщин из виду. Глядеть на Валентину, опьяняться несказанным очарованием, разлитым вокруг нее, рвать цветы, которых коснулся край ее платья, благоговейно ступать по примятой ее ножкой траве, радостно замечать, что она то и дело оборачивается посмотреть, тут ли он, ловить, подстерегать на поворотах тропинки брошенный на него взгляд, угадывать каким-то колдовским чутьем, что девушка зовет его, когда она взывала к нему лишь в сердце своем, отдаваться во власть мимолетных таинственных неодолимых впечатлений, называемых любовью, — в этом черпал Бенедикт яркую, незамутненную радость. Вы не сочтете это пустым ребячеством, вспомнив свои двадцать лет. Луиза ни в чем не могла упрекнуть юношу, так как он дал ей клятву никогда не пытаться даже на минуту оставаться с Валентиной наедине и свято держал свое слово. Итак, в теперешней их близости не было никакой опасности, но каждый день оставлял в неопытных душах все более глубокий след, и с каждым днем притуплялось предвидение развязки. Эти краткие мгновения, врывавшиеся, как мечта, в их существование, уже составляли для них целую жизнь, и обоим казалось, будто она будет длиться вечно. Валентина решила забыть о господине де Лансаке, а Бенедикт пытался уверить себя, что подобное счастье не может быть сметено случайным дуновением. Луиза была очень несчастна. Убедившись, на какую любовь способен Бенедикт, она постепенно научилась ценить этого юношу, который, как ей думалось раньше, скорее пылок, нежели чувствителен. Неодолимая сила любви, какую Луиза обнаружила в Бенедикте, делала его еще дороже, она принесла жертву и только сейчас поняла, как велика мера этой жертвы, и втайне оплакивала гибель счастья, так как могла вкушать его менее безгрешно, нежели Валентина. Бедняжка Луиза, при всей пылкости натуры, научилась обуздывать свои порывы и, испытав на себе губительные последствия страсти, боролась сейчас против горьких и мучительных ощущений. Но, вопреки воле, ее терзала ревность, и зрелище чистого счастья Валентины становилось ей невыносимым. Она не могла не сожалеть о том дне, когда вновь обрела сестру, и их романтическая и возвышенная дружба уже утратила в ее глазах былое очарование; как и большинство человеческих чувств, дружба эта лишилась поэзии и героизма. Иной раз Луиза ловила себя на мысли, что сожалеет о тех временах, когда жила без надежды вновь встретить сестру. И тут же она проникалась к себе отвращением и молила бога избавить ее от этих недостойных переживаний. Мысленно она напоминала себе, как кротка, чиста и нежна Валентина, и, простершись ниц перед этим образом, будто перед святыней, молила примирить ее, грешную, с небесами. Временами она принимала восторженное и смелое решение открыть сестре глаза на не слишком высокие достоинства господина де Лансака, готова была заклинать ее открыто порвать с матерью, отдаться своему чувству к Бенедикту и жить скромной и безвестной жизнью, полной любви и свободы. Но намерение это, выполнить которое Луизе, возможно, хватило бы сил, тут же меркло при беспощадном свете здравого рассудка. Увлечь сестру в бездну, в какую рухнула она сама, лишить ее уважения, какое утратила сама, накликать на нее те же беды, позволить ей перенять, как заразу, пример старшей сестры — перед этими соображениями отступало самое беспримерное бескорыстие. Тогда Луиза остановила свой выбор на наиболее благоразумном, с ее точки зрения, плане: заключался он в том, чтобы не открывать глаза Валентине на ее жениха и тщательно скрывать от нее признания Бенедикта. Но хотя план этот оказался наиболее здравым, Луиза все же корила себя за то, что навлекает ка Валентину те же грозы, за то, что ей, Луизе, не хватает силы уехать отсюда и тем самым сразу покончить со всеми опасностями. Но вот выполнить свое намерение ей не хватило мужества. Бенедикт взял с Луизы слово, что она погостит у них до свадьбы Валентины. А там будь что будет, Бенедикт не задавался такими вопросами, но ему хотелось быть счастливым хотя бы сейчас, и желал он этого со всей силой эгоизма, даруемого безнадежной любовью. Он грозил Луизе, что совершит тысячи безумств, если она доведет его до отчаяния, и одновременно клялся, что будет слепо повиноваться ей во всем, если она согласится подарить ему еще два или три дня жизни. Он дошел до того, что пригрозил возненавидеть бедняжку и рассориться с ней; слезы Бенедикта, его порывы, его упорство имели неодолимую власть над Луизой, которая, будучи от природы слабохарактерной и нерешительной, безропотно подчинялась более сильной воле, чем ее собственная. Возможно, что слабость эта объяснялась любовью, которую она втайне питала к Бенедикту, возможно, что она тешила себя надеждой завоевать любовь юноши силой своей привязанности и великодушия, когда брак Валентины окончательно разрушит все его надежды. Возвращение мадам де Рембо положило конец этой опасной близости. Валентина прекратила посещения фермы, и Бенедикт упал с небес на землю. Так как Бенедикт похвалялся перед Луизой, что мужественно встретит удар, он сначала довольно стойко, во всяком случае по виду, переносил это суровое испытание. Он не желал признаваться, что слишком переоценил свои силы. В первые дни он довольствовался тем, что под различными предлогами бродил вокруг замка и был счастлив до глубины души, если ему удавалось хоть издали заметить в конце аллеи силуэт Валентины; потом как-то ночью от проник в парк, желая увидеть свет, падавший из окон ее спальни. Как-то раз Валентина решилась пойти встречать восход зари на то место, где у них с Луизой состоялась первая встреча, и на том самом пригорке, где, поджидая сестру, сидела она, — сидел теперь Бенедикт; но, заметив Валентину, он бросился прочь, притворившись, что не видит ее, так как понимал, что, заговорив с ней, непременно выдаст свое смятение. В другой раз, когда Валентина в вечерних сумерках бродила по парку, она отчетливо услышала, как шуршит рядом листва, и, дойдя до того места, где испытала в ночь после праздника такой страх, она заметила в дальнем конце аллеи человека, ростом и внешностью напоминавшего Бенедикта. Он уговорил Луизу назначить сестре новое свидание. Как и в прошлый раз, он сам сопровождал ее и во время их беседы держался в стороне. Когда же Луиза окликнула его, он в несказанном смятении приблизился к сестрам. — Так вот, дорогой Бенедикт, — проговорила Валентина, собрав все свое мужество, — вот мы и видимся с вами в последний раз перед долгой разлукой. Луиза только что сообщила мне, что и вы и она скоро уедете отсюда. — Я! — с горечью воскликнул Бенедикт. — Почему я, Луиза? Откуда вы это взяли? Он почувствовал, как при этих словах дрогнула рука Валентины, которую он, пользуясь темнотой, держал в своих руках. — Разве не вы сами решили, — отозвалась Луиза, — не вступать в брак с Атенаис, по крайней мере в этом году? И разве вы не высказали намерения устроиться где-нибудь и добиться независимого положения? — Я намерен вообще никогда не вступать в брак, — ответил он твердо и решительно. — Я намерен также жить, не будучи никому в тягость, но из этого отнюдь не следует, что я собираюсь покинуть здешние края. Луиза ничего не ответила и подавила рыдание, хотя никто не разглядел бы в темноте ее слез. Валентина слабо пожала руку Бенедикту, как бы прося его отпустить ее пальцы, и оба расстались еще более взволнованные, чем обычно. Тем временем в замке шли приготовления к свадьбе. Ежедневно от жениха доставляли все новые подарки. Сам он должен был приехать, как только позволят служебные обязанности, а на следующий день после его приезда должна была состояться свадьба, ибо господин де Лансак, незаменимый дипломат, не располагал лишним временем для такого незначительного события, как женитьба на Валентине. Воскресным днем Бенедикт привез на бричке тетку и кузину к обедне в самый большой поселок Черной долины. Атенаис, хорошенькая и разряженная, снова обрела свой свежий румянец и живой блеск черных глаз. Высокий парень, ростом больше пяти футов и шести дюймов, тут же подошел к дамам из Гранжнева и уселся на скамью рядом с Атенаис (читатель уже знаком с Пьером Блютти). Это было явным доказательством его притязаний на руку и сердце юной фермерши, и беззаботный вид Бенедикта, стоявшего в отдалении у колонны, послужил для всех местных наблюдателей недвусмысленным свидетельством того, что между ним и кузиной произошел разрыв. Море, Симонно и многие другие уже двинулись было в атаку сомкнутыми рядами, но Пьер Блютти встретил более ласковый прием, чем все прочие кавалеры. Когда кюре взошел на кафедру, собираясь сказать проповедь, когда он своим разбитым, дрожащим голосом, напрягая сверх меры голосовые связки, назвал имена Луизы-Валентины де Рембо и Норбера-Эвариста де Лансака, о браке которых вторично и в последний раз будет объявлено нынче же у дверей мэрии, среди присутствующих возникло волнение, и Атенаис обменялась со своим новым вздыхателем лукавой и довольной улыбкой, так как смехотворная любовь Бенедикта к барышне Рембо не была для Пьера Блютти тайной; со свойственным ей легкомыслием Атенаис не удержалась, чтобы не позлословить на сей счет с Пьером, возможно, в расчете отомстить неверному жениху. Она отважилась даже оглянуться и посмотреть, какое действие оказало оглашение на Бенедикта, но румянец мигом исчез с ее дышавшего торжеством личика при виде исказившихся черт своего кузена, она сама побледнела и в глубине души почувствовала искреннее раскаяние.19
Узнав о прибытии господина де Лансака, Луиза написала сестре прощальное письмо, в самых живых выражениях выразила свою признательность за дружбу, какой дарила ее Валентина, и приписала в конце, что будет с надеждой ждать в Париже вестей о том, что де Лансак одобрит сближение сестер. Она умоляла Валентину не обращаться к мужу сразу же с этой просьбой, советовала подождать, пока любовь его достаточно окрепнет и тем самым столь желанный для обеих успех будет обеспечен. Передав письмо Валентине через Атенаис, которая направилась к молодой графине сообщить о скором своем замужестве с Пьером Блютти, Луиза стала готовиться к отъезду. Напуганная хмурым видом и почти невежливым молчанием Бенедикта, она не посмела завести с ним прощальный разговор. Но в утро отъезда он сам пришел в ее каморку и, не имея сил вымолвить ни слова, заливаясь слезами, прижал Луизу к своему сердцу. Луиза и не пыталась его утешить, и так как обоим нечего было сказать, чтобы унять взаимную боль, они лишь плакали вместе, клянясь в вечной дружбе. Сцена прощания несколько облегчила душу Луизы, но Бенедикт, смотря ей вслед, понял, что вместе с ней уходит последняя его надежда увидеться с Валентиной. Тут он впал в отчаяние. Из этих трех женщин, которые еще так недавно наперебой одаривали его своим вниманием и любовью, не осталось никого, отныне он одинок на этой земле. Радужные и смелые мечты сменились мрачным и болезненным раздумьем. Что-то с нимстанется? Он не желал более быть ничем обязанным великодушию своих родных, слишком ясно он понимал, что, нанеся их дочери обиду, он не имеет права оставаться на их попечении. Не тлея достаточно средств, чтобы перебраться в Париж, а равно и мужества, чтобы обеспечить себе существование трудом, особенно в столь критические для него минуты, он скрепя сердце счел разумным поселиться в своей хижине, на своей земле в ожидании того дня, когда сила воли подскажет ему более достойное решение. Итак, он, насколько позволяли средства, обставил свою хижину, что заняло несколько дней. Потом нанял старуху, чтобы та ведала его хозяйством, и, сердечно распрощавшись с родными, перебрался к себе. Добрая тетушка Лери, сердившаяся на него за дочку, забыла свою обиду и, прощаясь с племянником, заливалась слезами. Дядюшка Лери был не на шутку огорчен и хотел силой удержать Бенедикта на ферме. Атенаис заперлась в своей спальне и, потрясенная треволнениями, снова забилась в истерике. Ибо Атенаис была чувствительное и пылкое создание, она приблизила к себе Блютти лишь с досады и из тщеславия, а в глубине сердца еще любила Бенедикта и охотно простила бы ему все, сделай он хоть шаг к примирению. Бенедикту удалось покинуть ферму лишь после того, как он дал слово вновь поселиться здесь после замужества Атенаис. Когда вечером он очутился один в своем маленьком тихом домике в обществе единственного друга — пса Перепела, свернувшегося калачиком у ног хозяина, в тишине, нарушаемой лишь бульканьем котелка, в котором разогревался ужин, жалобно и пронзительно посвистывавшего над вязанкой хвороста в очаге, его охватили грусть и отчаяние. Одиночество и бедность — печальный удел для двадцатидвухлетнего юноши, познавшего искусства, науки, надежды и любовь! Не то чтобы Бенедикта особенно влекли преимущества, даваемые богатством, тем более что он был в том возрасте, когда прекрасно обходятся и без капиталов, но не следует отрицать тот неоспоримый факт, что внешний вид окружающих нас предметов имеет непосредственное влияние на строй наших мыслей и весьма часто окрашивает наше настроение. А ведь ферма, со всем ее беспорядком и пестротой обстановки, казалась чуть ли не обетованной землей по сравнению с одинокой хижиной Бенедикта. Стены из неотесанных бревен, кровать с пологом из саржи, похожая на катафалк, посуда — медная и глиняная, стоявшая в ряд на полках, пол из известняковых плит, неровно уложенных и выщербленных по краям, грубо сколоченная мебель, скудный и тусклый свет, пробивавшийся в решетчатые оконца с радужными от дождя и солнца стеклами, — все это отнюдь не способствовало расцвету сияющих грез. Бенедикт впал в печальное раздумье. Ландшафт, который виднелся через полуоткрытую дверь, хотя и живописный, хотя и выписанный сильными мазками, даже ландшафт этот не принадлежал к числу тех, что способны были внушить веселые мысли. Мрачный, заросший колючим дроком овраг отделял хижину от крутой, извилистой тропки, ужом вползавшей на противоположный склон и углублявшейся в заросли остролиста и самшита с темно-зеленой листвой. И казалось, что эта слишком крутая тропинка спускается прямо с облаков. Тем временем Бенедикт перенесся мыслью к юным годам, прошедшим здесь, и незаметно для себя обнаружил в своем одиночестве некую печальную усладу. Тут, под этой жалкой, ветхой кровлей, увидел он свет; возле этого очага баюкала его мать деревенской песенкой или размеренным жужжанием веретена. В спускавшихся сумерках видел он, как по обрывистой дорожке идет его отец, степенный и могучий крестьянин с топором на плече, а за ним шествует его старший сын. Смутно припомнил Бенедикт младшую сестренку, чью колыбель ему поручали качать, престарелого деда и бабку, старых слуг. Но все они ужа давно переступили порог бытия. Все умерли. И Бенедикт с трудом припоминал имена, столь привычные в свое время его слуху. — О отец! О мать! — говорил он теням, мелькавшим в его воображении. — Вот он, дом, который вы построили, вот кровать, где вы спали, поле, которое обрабатывали собственными руками. Но самое бесценное ваше наследие вы не передали мне. Где обнаружу я вашу сердечную простоту, спокойствие духа, истинные плоды труда? Если вы посещаете это жилище, чтобы поглядеть на дорогие для вас предметы, вы пройдете мимо меня, не узнав собственное детище; теперь я не прежнее чистое и счастливое создание, которое вышло из ваших рук, чтобы пожать плоды ваших трудов. Увы, образование развратило мой ум, пустые желания, непомерные мечты исказили мою натуру и загубили мое будущее. Я утратил две великие добродетели бедняков — смирение и терпеливость, ныне я, как изгнанник, возвратился в хижину, которой вы в простоте душевной так гордились. Земля, щедро политая вашим потом, стала для меня землей изгнания, то, что было вашим богатством, стало для меня приютом в годину бедствий. Потом, подумав о Валентине, Бенедикт с горечью спросил себя, что в силах сделать он для девушки, воспитанной в роскоши, что сталось бы с ней, согласись она поселиться в безвестности, вести убогое, тяжкое существование; и он мысленно похвалил себя за то, что не попытался отвратить Валентину от ее прямого долга. И, однако ж, он говорил себе, что надежда завоевать такую женщину, как Валентина, пробудила бы в нем таланты, тщеславие, подвигла бы его сделать карьеру. Она вызвала бы к жизни источник энергии, который, не находя себе применения в служении другим, зачах и иссяк в его груди. Она скрасила бы его нищенское существование, вернее — с ней не было бы нищеты, ибо ради Валентины Бенедикт сделал бы все, сделал даже то, что выше человеческих сил. Но вот Бенедикт навеки утратил ее, и он впал в отчаяние. Когда же он узнал, что господин де Лансак прибыл в замок, что через три дня Валентина выйдет замуж, его охватила такая неудержимая ярость, что минутами ему казалось, будто он рожден для самых кровавых преступлений. До сего времени он ни разу не подумал о том, что Валентина может принадлежать другому мужчине. Он охотно примирился бы еще с тем, что никогда не будет ею обладать, но видеть, как его счастье перейдет в руки другого, поверить в это он был не в силах. И хотя несчастье было очевидно, неизбежно, неотвратимо, он упорно надеялся, что господин де Лансак умрет или умрет сама Валентина в тот самый час, когда ее поведут к алтарю, где скрепят эти гнусные узы. Бенедикт не похвалялся своими мыслями, боясь прослыть сумасшедшим, но он и впрямь рассчитывал на некое чудо и, видя, что оно не совершалось, проклинал бога, который сначала дал ему надежду, а потом отнял ее. Ибо человек все роковые минуты своей жизни связывает с богом, ему необходимо верить в создателя хотя бы для того, чтобы благословлять его за свои радости или обвинять в собственных ошибках. Но гнев Бенедикта удесятерился, когда он, как-то бродя вокруг парка, заметил Валентину, прогуливавшуюся вдвоем с господином де Лансаком. Секретарь посольства был предупредителен, любезен, выглядел чуть ли не победителем. Бедняжка Валентина была бледна, удручена, но на лице ее запечатлелось обычное кроткое и покорное выражение, она даже пыталась улыбаться, слушая медоточивые речи жениха. Итак, все кончено, этот человек здесь, он женится на Валентине! Бенедикт обхватил голову руками и до вечера пролежал во рву, снедаемый бессмысленным отчаянием. А она, бедная девушка, принимала свою судьбу молча, покорно и безропотно. Ее любовь к Бенедикту возросла в такой мере, что Валентине в тайниках души пришлось признать эту нежданную беду, но между сознанием вины и стремлением отдаться запретному чувству лежал долгий и трудный путь, особенно трудный потому, что Бенедикта не было поблизости и он не мог уничтожить одним взглядом плоды с трудом выношенного решения. Валентина была набожна; вручив свою судьбу в руки божьи, она ждала господина де Лансака в надежде, что сумеет вновь обрести те чувства, которые, как ей казалось, она к нему питала. Но когда он приехал, Валентина тут же поняла, как далека эта слепая и снисходительная привязанность к жениху от подлинной любви, — господин де Лансак сразу лишился в ее глазах того очарования, которым раньше она наделяла его в воображении. В его обществе она чувствовала себя скованной холодом, ей было скучно. Она слушала его рассеянно и отвечала лишь из любезности. Сначала господин де Лансак не на шутку встревожился, но, убедившись, что свадьбе ничто не грозит и что Валентина, по-видимому, не склонна возражать против их брака, он легко утешился, объяснив все девичьими капризами, вникать в которые он не имел охоты и предпочел делать вид, что ничего не замечает. Однако отвращение Валентины росло с минуты на минуту. Она была очень набожна, даже излишне набожна — и в силу полученного воспитания и по велению сердца. Она запиралась в спальне и целыми часами молилась, все еще надеясь найти в сосредоточенной пылкой молитве ту силу, что позволила бы ей одуматься и выполнить свой долг. Но эти аскетические бдения лишь утомляли ее и усиливали власть Бенедикта над ее душой. После молитвы она чувствовала себя еще более измученной, еще более опустошенной, чем прежде. Мать удивлялась ее грустному виду, была не на шутку встревожена и упрекала Валентину за то, что она стремится омрачить столь сладостные для материнского сердца минуты. Несомненно, все эти неурядицы до смерти надоели госпоже де Рембо. Желая покончить с ними разом, она решила сыграть свадьбу скромно и без блеска здесь же, в деревне. Каковы бы ни были эти неурядицы, ей не терпелось отделаться от них как можно скорее и, развязав себе руки, вернуться в свет, где присутствие Валентины уже давно мешало ей сверх всякой меры. Бенедикт перебрал в уме тысячи самых нелепых планов. Последний, на котором он остановился и который внес известное умиротворение в его ум, сводился к тому, чтобы еще раз увидеть Валентину, прежде чем навеки проститься с ней; ибо он тешил себя мыслью, что любовь его пройдет, как только господин де Лансак станет ее мужем. Он надеялся, что Валентина успокоит его и утешит добрым словом или исцелит его целомудренностью отказа. Вот что он написал ей: «Мадемуазель, Я ваш друг до гробовой доски, вы сами это знаете, вы звали меня братом, вы запечатлели на моем челе священное свидетельство вашего уважения и доверия. Тем самым вы позволили мне надеяться, что я найду у вас совет и поддержку в трудные минуты моей жизни. Я чудовищно несчастлив, мне необходимо увидеть вас хотя бы на один миг, почерпнуть мужество у вас, такой сильной; у вас, которая бесконечно выше меня. Я не мыслю себе, что вы откажете в этой милости. Мне известно ваше великодушие, ваше презрение к глупым условностям света и опасностям, когда речь идет о добром деле. Я видел вас с Луизой, я знаю, вы все можете. Именем дружбы, столь же святой, столь же чистой, как дружба Луизы, коленопреклоненно заклинаю вас прийти сегодня вечером на луг. Бенедикт».20
Валентина любила Бенедикта и не могла устоять против его просьбы. Наша первая любовь всегда столь невинна, что даже не подозревает таящихся в ней опасностей. Валентина запрещала себе думать об истинной причине горя Бенедикта, она знала, что он несчастлив, и готова была объяснить это самыми невероятными невзгодами, лишь бы не назвать ту, что угнетала его в действительности. Даже самая чистая совесть сбивается на, ложные, извилистые тропы! Как может женщина с впечатлительной душой, вступившая на суровый, немыслимо трудный путь долга, как может она не входить ежечасно в сделку с требованиями этого долга? Валентина без труда нашла немало причин, объясняющих горе Бенедикта, и уверила себя, что сама здесь ни при чем. Не раз Луиза говорила ей, особенно в последнее время, как огорчают ее печаль юноши и его беспечность в отношении будущего; говорила Луиза также о том, что в скором времени ему придется покинуть кров Лери, и Валентина убедила себя, будто Бенедикт, одинокий, без всякого состояния и поддержки, нуждается в ее покровительстве и советах. Уйти из дома накануне свадьбы было нелегким делом еще и потому, что господин де Лансак буквально осаждал невесту своим вниманием и заботами. Однако Валентина умолила кормилицу говорить всем, кто спросит, что она уже легла, а сама, не желая терять времени, в сущности — боясь раздумать, так как начинала пугаться своей решимости, быстрыми шагами пересекла луг. Наступило полнолуние, и вокруг было светло, как днем. Сложив руки на груди, Бенедикт стоял в такой неподвижной позе, что Валентина почувствовала страх. Так как он не сделал ни шага навстречу, она решила, что ошиблась, и чуть было не бросилась прочь. Тогда он шагнул к ней. Лицо его было так искажено, голос звучал так глухо, что Валентина, удрученная своим собственным горем, угадала по лицу Бенедикта, что его сжигает отчаяние, не могла сдержать слез и без сил опустилась на траву. Тут решимость Бенедикта мгновенно исчезла. Он пришел сюда, положив себе свято придерживаться того образа действий, который он изложил в записке. Он намеревался рассказать Валентине о своем уходе от Лери, о своих сомнениях в выборе дальнейшего пути, о своем одиночестве, словом, обо всем, что не имело никакого касательства к истинной цели их свидания. А единственной его целью было увидеть Валентину, услышать звук ее голоса, почерпнуть в ее расположении к нему решимость жить или умереть. Он ждал, что увидит сдержанную, спокойную Валентину во всеоружии тех чувств, которые подсказывает женщине долг. Более того — он даже приготовился к тому, что вообще ее не увидит. Когда же он заметил Валентину на дальнем конце лужайки, Валентину, бегущую к нему изо всех сил, когда она, еле переводя дыхание, в изнеможении опустилась на траву, когда, не в силах подавить скорбь, она разразилась слезами, Бенедикт решил, что грезит. О, то было не просто дружеское сочувствие, то была любовь! Пьянящая радость охватила его, он забыл свое горе, забыл горе Валентины, забыл все, что было вчера, все, что ждет его завтра, — он видел лишь Валентину и себя, Валентину, которая его любит и которая даже не пытается это скрыть. Он упал перед ней на колени, он покрыл страстными поцелуями ее ноги. Это оказалось чересчур трудным испытанием для Валентины, она почувствовала, что вся кровь заледенела в жилах, в глазах у нее помутилось, силы ее уже были истощены этим сумасшедшим бегом, она, приказавшая себе не плакать, не выдержала мучительной борьбы и бледная, помертвевшая упала в объятия Бенедикта. Их свидание было долгим, бурным. Они уже не пытались обманывать себя относительно истинной природы владевшего ими чувства, они не страшились самых пламенных порывов. Бенедикт оросил слезами платье и руки Валентины, покрывая их поцелуями. Валентина спрятала пылающее чело на плече Бенедикта, но обоим было по двадцать лет, оба любили впервые в жизни, и на груди Бенедикта она находила вернейший оплот своей чести. Он не осмеливался даже произнести слова любви, боясь вспугнуть самое любовь. Его губы лишь робко касались роскошных волос любимой. Вряд ли первая любовь знает, что есть более сладостное упоение, нежели сознание, что ты любим. Бенедикт был самым робким из любовников и самым счастливым из людей. Они расстались, так ничего и не придумав, так ничего и не решив. Вряд ли за эти два часа забвения и восторгов они обменялись десятком слов о том, что их тяготило, как вдруг тишину, разлитую над лугом, чуть всколыхнул звон башенных часов. Валентина с трудом уловила десять слабых ударов и сразу вспомнила мать, жениха, завтрашний день… Но как уйти от Бенедикта? Что сказать ему в утешение? Где найти силы покинуть его в такую минуту? Вдруг с губ ее сорвался крик ужаса — она заметила невдалеке женскую фигуру. Бенедикт притаился в кустах, но при ярком свете луны Валентина узнала свою кормилицу Катрин, которая, тревожно оглядываясь, искала ее. Валентине ничего не стоило спрятаться от Катрин, но она поняла, что не должна этого делать, и пошла ей навстречу. — Что случилась? — спросила она и, вся дрожа, взяла кормилицу за руку. — Ради господа бога, вернитесь скорее домой, барышня, — сказала добрая женщина, — мадам о вас уже два раза спрашивала, я сказала, что вы легли в постель; она наказала мне немедленно известить ее, когда вы проснетесь; но тут меня взяло беспокойство, и так как вы ушли через боковую калитку, я и отправилась сюда вас искать, ведь вечерами вы иной раз здесь прогуливаетесь. Ох, барышня, ходить одной так далеко! Разве можно так поступать, вы бы хоть меня взяли с собой! Обняв кормилицу, Валентина бросила тревожный и тоскливый взгляд на кусты и, уходя, оставила на том месте, где сидела, свою косынку — ту самую, что уже давала Бенедикту во время прогулки по ферме. Когда она вернулась домой, кормилица бросилась искать косынку и, не найдя ее, сокрушенно заметила, что барышня, видно, обронила ее на лугу. Мать уже давно ждала Валентину в своей спальне. Она удивилась, увидев, что Валентина, проведшая два часа в постели, видимо не раздевалась. Валентина пояснила, что, почувствовав стеснение в груди, захотела подышать свежим воздухом, и кормилица повела ее прогуляться по парку. Тут госпожа де Рембо начала с дочерью серьезный, деловой разговор, она заявила, что дает ей в приданое замок и земли Рембо, которые составляли почти все наследство ее отца и реальная стоимость коих выражалась в достаточно приличной сумме. Она заметила, что дочь должна отдать ей справедливость и признать, что она держала ее дела в образцовом порядке, и попросила свидетельствовать перед всеми и в течение всей своей жизни о том, как хорошо относилась к ней мать. Графиня так входила в мельчайшие денежные подробности, что превратила материнские наставления в сухой нотариальный отчет, и закончила свою речь, выразив надежду, что хотя по закону они отныне «чужие» друг другу, Валентина по-прежнему будет относиться к матери с уважением и заботой. Вряд ли Валентина слышала половину этих бесконечных разглагольствований. Она была бледна, лиловатые тени залегли вокруг ее запавших глаз, и время от времени внезапная дрожь пробегала по ее телу. Она грустно поцеловала руку матери и уже готовилась лечь в постель, как вдруг явилась компаньонка старой маркизы и с торжественным видом объявила, что бабушка ждет Валентину в своих покоях. Пришлось Валентине вынести еще одну церемонию; войдя в спальню бабушки, она обнаружила, что комнату успели превратить в некое подобие часовни. С помощью стола и вышитых полотенец был воздвигнут самодельный алтарь. Букеты вроде тех, что ставят у подножия статуй святых, окружали вычурное золотое распятие. Лежавший на алтаре требник в алом бархатном переплете был торжественно открыт. Для коленопреклонений уже приготовили подушку, и маркиза, театрально восседавшая в глубоком кресле, с ребяческим удовольствием готовилась разыграть комедию, предписываемую этикетом. В молчании приблизилась Валентина к алтарю; будучи набожной в душе, она равнодушно наблюдала за всеми этими смехотворными приготовлениями. Компаньонка открыла противоположную дверь, и в спальню вошли все служанки замка со смиренно-любопытным видом. Маркиза приказала им опуститься на колени и вознести молитву за счастье юной госпожи, потом, велев и Валентине преклонить колена, поднялась с кресла, открыла требник, надела очки и, прочитав несколько псалмов, пропела дрожащим голосом вместе со своей компаньонкой молитву, после чего возложила руки на голову внучки и благословила ее. Пожалуй, впервые эта простая и патриархальная церемония превратилась в жалкий фарс по капризу старой проказницы времен мадам Дюбарри. Расцеловав внучку, старуха взяла с алтаря футляр, где лежала прекрасная диадема — ее подарок Валентине — и произнесла ханжеским тоном, тут же сменив его на фривольный: — Да пошлет вам господь бог все добродетели матери семейства! Возьми, детка, вот тебе подарок от бабушки, это тебе для малых приемов. Всю ночь Валентину лихорадило, и заснула она лишь на рассвете, но вскоре ее разбудил звон колоколов, сзывавших окрестных жителей в часовню замка. Войдя в спальню, Катрин вручила барышне записку, которую какая-то старуха попросила передать мадемуазель де Рембо. В записке было всего несколько с трудом нацарапанных слов: «Валентина, еще не поздно сказать нет». Валентина вздрогнула и сожгла записку. Несколько раз она пыталась подняться с постели, но силы изменяли ей. Когда наконец мать вошла в спальню, она упрекнула Валентину, которая полуодетая сидела на стуле, за то, что она встала так поздно, наотрез отказалась верить в недомогание дочери и заявила, что невесту уже ждут в гостиной. Она сама помогла дочери одеться и непременно пожелала положить ей на щеки румяна, ибо Валентина, в богатом наряде, прекрасная как всегда, казалась белее своей белоснежной фаты. Но Валентина подумала, что, возможно, по дороге в церковь ее увидит Бенедикт, ей хотелось, чтобы он заметил ее бледность, и впервые в жизни она воспротивилась воле матери. В салоне ее ждало несколько гостей попроще, ибо госпожа де Рембо, не желая устраивать дочери пышной свадьбы, пригласила только незначительных людей. Завтрак предполагалось накрыть в саду, а пляски поселян решили устроить в конце парка, у подножия холма. Вскоре появился господин де Лансак в черном с головы до ног, весь увешанный иностранными орденами. Три кареты доставили кортеж в мэрию, находившуюся в соседнем городке. Церковный обряд должен был состояться в замке. Преклонив колена перед алтарем, Валентина на миг вышла из глубокого оцепенения; она говорила себе, что отступать уже поздно, что люди силком заставили ее принести клятву перед лицом бога и нет ей иного выбора, как между несчастьем и кощунством. Она пылко молилась, прося небеса послать ей силу сдержать свои обеты, произнести их со всей искренностью души, и к концу церемонии нечеловеческие усилия, которые она делала над собой, желая сохранить спокойствие и собраться с мыслями, совсем подорвали ее дух, и она удалилась в спальню, чтобы отдохнуть немного. Повинуясь тайному велению целомудрия и преданности, Катрин уселась у изножья ее постели и не отходила ни на шаг от своей питомицы. В тот же самый день, в двух лье отсюда, в небольшой деревушке, затерявшейся в долине, сыграли свадьбу Атенаис Лери с Пьером Блютти. И здесь тоже молодая новобрачная была бледна и печальна, правда не столь бледна и печальна, как Валентина, но все же вид дочери встревожил тетушку Лери, которая была куда более нежной матерью, чем госпожа де Рембо, и рассердил новобрачного, который был куда откровеннее и менее учтив, чем господин де Лансак. Возможно, что Атенаис слишком переоценила глубину своей обиды, дав так быстро согласие на брак с нелюбимым. Возможно, что вследствие духа противоречия, в котором обычно упрекают женщин, ее любовь к Бенедикту вспыхнула с новой силой как раз в ту минуту, когда одуматься было уже поздно, и по возвращении из церкви она угостила своего супруга довольно-таки нудной сценой рыданий. Именно в таких выражениях сетовал Пьер Блютти в присутствии своего друга Жоржа Симонно на это неприятное обстоятельство. Тем не менее свадьба на ферме была куда многолюднее, веселее и шумнее, чем в замке. У Лери насчитывалось не меньше шестидесяти двоюродных и троюродных братьев и сестер; Блютти тоже не были обделены родней, и гумно оказалось слишком тесным для такого скопища приглашенных. После полудня танцующая половина гостей, вдоволь насладившись телятиной и паштетами из дичи, уступила арену чревоугодия старикам и собралась на лужайке, где должен был начаться бал; но стоял невыносимый зной, на лужайке было слишком мало тени, да и около фермы не нашлось подходящего местечка для танцев. Кто-то из присутствующих подал мысль отправиться поплясать на площадку при замке, хорошо выровненную и так густо обсаженную деревьями, что под их сводом получилась как бы огромная зеленая зала, и где уже отплясывало с полтысячи танцоров. Сельский житель любит толпу не меньше, чем любит ее денди, — и тому и другому требуется для полноты веселья толчея, когда сосед наступает соседу на ногу, задевает его локтем, а чужие легкие поглощают предназначенный тебе воздух; во всех странах мира, во всех слоях общества именно это и зовется весельем. Тетушка Лери с жаром ухватилась за эту мысль, она изрядно потратилась на подвенечный наряд дочки и желала, чтобы Атенаис показалась гостям рядом с Валентиной, — пусть, мол, сравнят убранство обеих невест и потом еще долго судачат в округе о великолепном платье фермерши. Она заранее во всех мелочах разузнала, каков будет убор Валентины. Для этого деревенского праздника Валентина надела скромный наряд и немного драгоценностей безупречного вкуса, зато тетушка Лери сплошь разукрасила дочь каменьями и кружевами, стремясь показать ее людям во всем блеске; поэтому старуха предложила идти в замок, тем более что и сама она и вся ее родня были приглашены на свадьбу Валентины. Сначала Атенаис заупрямилась, она боялась увидеть рядом с Валентиной бледное и мрачное лицо Бенедикта, она еще не забыла, как прошлым воскресеньем в церкви у нее защемило сердце при виде горя своего кузена. Но настойчивые доводы матери, желание молодого супруга, не чуждого тщеславию и, возможно, намеревавшегося покичиться также и собственной особой, сломили ее упорство. Запрягли брички, каждый, кто ехал верхом, посадил на круп коня свою кузину, сестру или невесту. Атенаис не могла сдержать вздох, увидев, что взяв вожжи, ее супруг уселся на то самое место, которое обычно занимал Бенедикт, место, которое он уже никогда не займет.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
21
В парке Рембо танцы были в полном разгаре. Крестьяне, для которых устроили навес из веток, пели, пили и дружно объявили чету молодых Лансаков самой прекрасной, самой счастливой и самой знатной парой во всей округе. Графиня, не терпевшая простолюдинов, приказала, однако, устроить роскошный пир и, желая разом покончить с требованиями добрососедской любезности, выложила такую сумму, какую другая не израсходовала бы в течение всей своей жизни. Она глубоко презирала этот сброд и уверяла, что чернь, лишь бы ее кормили и поили, готова по чужому приказу безропотно ползти на брюхе. И самое печальное, что в словах мадам де Рембо была доля правды. Зато маркиза де Рембо радовалась, что наконец-то представлялся случай вновь подогреть свою популярность. Ее не слишком трогало горе бедняка, правда, она была столь же равнодушна к горестям даже близких друзей, но благодаря своей склонности к пересудам и фамильярности заслужила репутацию доброй — свойство, которым бедняки, увы, так щедро награждают тех, кто, не делая им добра, по крайней мере не причиняет зла. При виде этих двух женщин сельские острословы, сидевшие под навесом, заметили вполголоса: — Вот эта нас ненавидит, зато угощает, а вот та нас не угощает, зато с нами разговаривает. И все были довольны и той и другой. Единственная, кого они действительно любили, была Валентина, так как она не довольствовалась одними дружескими беседами и улыбками, не довольствовалась тем, что держала себя с крестьянами свободно, и не только старалась им помочь, но и принимала к сердцу все их беды и радости; они чувствовали, что в доброте ее нет никакой корысти, никаких дипломатических расчетов; они не раз видели, как плачет она над их горем, они находили в ее сердце истинную симпатию, они любили ее, как только могут любить грубые души существо, стоящее неизмеримо выше их. Многие отлично знали о ее встречах с сестрой на ферме, но люди свято хранили и уважали тайну и даже между собой не осмеливались шепотом произнести имя Луизы. Валентина обошла столы пирующих и пыталась улыбаться в ответ на их поздравления, но там, где она проходила, веселье вдруг меркло, — от крестьян не укрылся ее подавленный и болезненный вид; кое-кто уже начал недружелюбно поглядывать на господина де Лансака. Атенаис со своими гостями попала в самый разгар празднества, и сразу же ее печальные мысли отлетели прочь. Изысканный наряд новобрачной и довольный вид ее супруга привлекали все взгляды. Танцы, начавшие было утихать, возобновились: Валентина, расцеловав свою юную подружку, удалилась в сопровождении кормилицы. Мадам Рембо, которой все это изрядно надоело, пошла отдохнуть, а господин де Лансак, которому даже в день свадьбы приходилось писать важные письма, удалился и занялся своей корреспонденцией. Гости Лери завладели площадкой, и люди, пришедшие полюбоваться на танцующую Валентину, остались, чтобы полюбоваться танцующей Атенаис. Спускался вечер. Утомленная танцами Атенаис присела к столу выпить прохладительного. За тем же столом собралась целая компания кавалеров, танцующих с новобрачной. Шевалье де Триго, его мажордом Жозеф, Симонно, Море и многие другие, воспользовавшись счастливым случаем, наперебой ухаживали за молодой. Атенаис раскраснелась и похорошела от пляски, блестящий и нелепый наряд так к ней шел, ее так осыпали комплиментами, молодой муж глядел на нее таким влюбленным взглядом черных глаз, что она понемногу развеселилась и примирилась со своим замужеством. Шевалье де Триго, слегка захмелев, расточал ей галантные комплименты в стиле Дора, слушая которые, Атенаис краснела и смеялась одновременно. Мало-помалу окружавшая ее компания, разгоряченная местным белым вином, танцами, прекрасными глазками Атенаис, повела, следуя обычаям, непристойные разговоры, которые начинаются с загадочных намеков, а кончаются сальностями. Таков обычай бедняков и богачей дурного тона. Чувствуя себя особенно хорошенькой, видя, что возбуждает всеобщее восхищение, Атенаис, которая, впрочем, поняла только одно, что ее мужу завидуют и поздравляют его с такой удачной партией, старалась улыбаться, зная, что улыбка украшает ее, и даже начала отвечать лукаво и робко на страстные взгляды Пьера Блютти, но тут кто-то молча опустился слева от нее на свободное место. Атенаис невольно вздрогнула от легкого прикосновения одежды, обернулась, побледнела и еле удержала крик ужаса, готовый сорваться с ее губ: то был Бенедикт. То был Бенедикт, еще более бледный, чем сама новобрачная, и мрачный, холодный и насмешливый. Весь день он как безумный пробегал по лесам, а к вечеру, уже потеряв надежду утишить свою боль усталостью, решил пойти поглядеть на свадебный пир, данный в честь Валентины, послушать вольные шуточки крестьян, проводить взором молодых, удаляющихся в супружескую опочивальню, и исцелиться от безнадежной любви силою гнева, жалости и отвращения. «Если моя любовь выдержит и это испытание, — подумал он, — значит, она неисцелима». И на всякий случай он зарядил пистолеты и спрятал их в карман. Он никак не ожидал увидеть здесь другую свадьбу и другую новобрачную. С минуту он молча наблюдал за Атенаис, чья веселость возбуждала в нем глубочайшее презрение, но, решив окунуться в гущу всей этой мерзости, он с вызовом сел возле кузины. Бенедикт, человек скептического и сурового нрава, беспокойного и фрондерского духа, столь непримиримый к смешным и темным сторонам общества, утверждал (и это, без сомнения, было одним из его парадоксов), что нет непристойности более чудовищной, обычая более скандального, нежели обычай публичного празднования свадьбы. Всякий раз он с жалостью глядел на юную девушку, которая почти всегда таила робкую любовь к другому и которая, пройдя сквозь строй свадебной суматохи и дерзких пристальных взглядов, попадает в объятия мужа, уже лишенная чистоты, ибо ее грязнит беззастенчивое воображение присутствующих на празднестве мужчин. Жалел он также несчастного молодого супруга, которому приходится выставлять напоказ свою любовь у дверей мэрии, на церковной скамье и которого заставляют отдать на поругание городскому или деревенскому бесстыдству белоснежное одеяние своей невесты. Бенедикт полагал, что, срывая с великого таинства покровы, люди оскверняют самое любовь. Ему хотелось окружить женщину уважением; пусть никто не знает официально имени его избранницы, и пусть поостерегутся назвать ее и тем самым нанести ему оскорбление. — Как же вы можете рассчитывать, — говаривал он, — на чистоту женских нравов, раз вы публично оскверняете чистоту женщины, раз вы ведете к алтарю девственницу в присутствии целой толпы и говорите невесте, призывая эту толпу в свидетели: «Вы принадлежите стоящему рядом мужчине, значит, вы уже не девственница!». И толпа рукоплещет, хохочет, торжествует, насмехается над смущенными новобрачными и провожает их своими криками и бесстыдными песнями до супружеского ложа, созданного для таинства! Варварские народы Нового Света куда более свято чтили брачный обряд. На праздник Солнца они приводили в храм девственника и девственницу. Распростершаяся ниц толпа, сосредоточенная и серьезная, прославляла бога, создавшего любовь, и со всей торжественностью любви плотской и любви небесной тут же, на алтаре, совершалось великое таинство зарождения жизни. Эта наивность, которая столь вас возмущает, куда целомудреннее наших брачных обрядов. Вы до того запятнали стыдливость, до того забыли о любви, до того унизили женщину, что способны лишь оскорблять и женщину, и стыдливость, и любовь». Увидев, что Бенедикт уселся рядом с его женой, Пьер Блютти, которому было известно о чувствах Атенаис к кузену, бросил на парочку косой взгляд. Его друзья тоже недовольно переглянулись с супругом. Все они ненавидели Бенедикта за его превосходство, которым он, по их мнению, кичился. Веселые разговоры на миг стихли, но шевалье де Триго, питавший к Бенедикту искреннее уважение, радостно приветствовал его и уже не совсем уверенной рукой протянул бутылку вина. Бенедикт заговорил спокойным и непринужденным тоном, убедившим Атенаис, что он уже принял решение; она робко обратилась к нему с любезными словами, на что он ответил почтительно и без всякой неприязни. Мало-помалу вновь зазвучали вольные и гривуазные речи, но чувствовалось, что Блютти и его дружки вкладывают в них оскорбительный для Бенедикта смысл. Однако тот сразу заметил их маневры и вооружился презрительным спокойствием; впрочем, такое выражение вообще было свойственно его физиономии. До его прихода никто еще не произнес имени Валентины. Блютти приберег это оружие, чтобы побольнее ранить противника. Он подал знак своим дружкам, и те завели беседу, проводя в завуалированных выражениях параллель между счастьем, выпавшим на долю Пьера Блютти и господина де Лансака, что как огнем зажгло скованное холодом сердце Бенедикта. Но он пришел сюда выслушать то, что и услышал сейчас. И он хранил спокойствие, надеясь, что пожиравшая его ярость уступит место отвращению. Впрочем, дай он волю своему гневу, он все равно не имел бы права выступить в защиту доброго имени Валентины. Но Пьер Блютти на этом не остановился. Он решил нанести Бенедикту смертельное оскорбление, устроить сцену, чтобы впредь тому было неповадно появляться на ферме, и поэтому как бы вскользь заметил, что для одного из гостей счастье господина де Лансака хуже ножа острого. Все взоры удивленно обратились к нему, и тут присутствующие заметили, что Пьер указывает глазами на Бенедикта. Тогда все эти многочисленные Симонно и Море подхватили брошенный им мяч на лету и обрушились скорее грубо, нежели язвительно на своего неприятеля. Но Бенедикт продолжал сидеть с невозмутимым видом, он только укоризненно посмотрел на бедняжку Атенаис, так как лишь она одна могла выдать его тайну. Молодая женщина в отчаянии пыталась перевести разговор на другой предмет, но безуспешно, и она сидела ни жива ни мертва, надеясь, что ее присутствие удержит мужа от крайностей. — Есть тут такие, — начал Жорж, с умыслом коверкая свою речь на крестьянский лад, как бы желая подчеркнуть городские манеры Бенедикта, — есть тут такие, что стараются прыгнуть выше головы и, понятно, расшибают себе нос. Помнится мне история Жана Лори: ни брюнеток он не любил, ни блондинок, а в конце концов, как каждому известно, обрадовался, что хоть на рыжей удалось жениться. Разговор шел в том же тоне, и, как видит читатель, он не отличался остроумием. Блютти поддержал своего приятеля Жоржа. — Да не так все это было, — сказал он, — сейчас я расскажу историю Жана Лори. Он божился, что может полюбить только блондинку, но и брюнетки и блондинки его сторонились, вот рыжая и взяла его из жалости. — Значит, у женщин глаз верный, — подхватил второй собеседник. — Зато, — добавил третий, — есть мужчины, которые не видят дальше собственного носа. — «Manes habunt» [2], — вставил шевалье де Триго, не понявший всех этих намеков, но решивший блеснуть своей ученостью. И он докончил цитату, безбожно калеча латынь. — Господин шевалье, — заметил дядюшка Лери, — зря вы мечете бисер перед свиньями, мы по-гречески не разумеем. — Зато господин Бенуа может нам перевести, он ведь только этому и обучен, — заметил Блютти. — Это означает, — ответил Бенедикт с невозмутимо спокойным видом, — что есть люди, подобные скотам, у которых глаза существуют для того, чтобы не видеть, а уши — чтобы не слышать. Как видите, это вполне соответствует тому, что вы сейчас говорили. — Черт с ними, с ушами! — заметил плотный коротышка, до сих пор не вступавший в разговор, — один из родичей новобрачного. — Мы ничего такого не говорили, мы, слава тебе господи, знаем толк в дружеском обхождении. — К тому же, — добавил Блютти, — как гласит пословица, тот, кто не желает слушать, хуже глухого. — Нет, хуже глухого тот, — громко возразил Бенедикт, — у кого презрение заложило уши. — Презрение! — воскликнул Блютти и вскочил с места, весь побагровев и сверкая глазами. — Презрение! — Да, презрение, — ответил Бенедикт, не меняя позы и даже не удостоив противника взглядом. Он не успел договорить фразы, как Блютти, схватив стакан с вином, запустил его в голову Бенедикта, но рука, дрогнувшая от ярости, подвела Блютти, вино расплескалось, роскошное платье новобрачной покрыли несмываемые пятна, а стакан неминуемо ранил бы ее, если бы Бенедикт, проявив не меньше хладнокровия, чем ловкости, не поймал его на лету, причем без всякого для себя ущерба. Перепуганная Атенаис выскочила из-за стола и бросилась на грудь матери. А Бенедикт ограничился тем, что, посмотрев на Блютти, произнес с великолепным спокойствием: — Не будь меня, ваша супруга могла бы лишиться своей красоты. Он поднял с земли камень и, поставив стакан посреди стола, с силой ударил по нему. Когда стакан разлетелся, он раздробил стекло на мелкие кусочки, потом разбросал их по столу. — Господа, — начал он, — кузены, родичи и друзья Пьера Блютти, и вы, Пьер Блютти, который только что нанес мне оскорбление и которого я презираю от всей души, каждому из вас преподношу я по кусочку стекла от разбитого стакана. Пусть каждый такой кусочек станет свидетелем моей правоты; это также осколки оскорбления, которое я приказываю вам загладить. — Мы не деремся ни на шпагах, ни на саблях, ни на пистолетах, — загремел Блютти, — мы не щеголи, не фрачники, как ты. Нас храбрости не обучали, она у нас с рождения в сердце и в кулаках. Скидай свой фрак, сударь, посмотрим, чья возьмет. И Блютти, скрежеща от ярости зубами, стащил с себя сюртук, убранный цветами и лентами, и до локтей засучил рукава сорочки. Атенаис, упавшая в объятия матери, бросилась вперед и встала между мужчинами, пронзительно крича. Блютти не без основания приписал ее волнение тревоге за Бенедикта, что лишь усугубило его ярость. Оттолкнув жену, он бросился на врага. Бенедикт был явно слабее, но зато увертливее и хладнокровнее; он подставил Пьеру подножку, и тот покатился по траве. Не успел он подняться, как его дружки тучей налетели на Бенедикта. Но тот успел выхватить из кармана пистолеты и навел на нападающих два дула. — Господа! — сказал он. — Вас двадцать против одного. Стало быть, вы трусы! Если вы шевельнетесь, четверо из вас будут убиты как собаки. При виде пистолетов пыл нападающих несколько поостыл. Тут дядюшка Лери, знавший непреклонный нрав Бенедикта и не зря опасавшийся кровавой развязки, встал перед ним и замахнулся своей суковатой палкой на нападавших, показывая им свои седины, забрызганные вином, которое Блютти хотел выплеснуть в лицо Бенедикта. Слезы ярости катились по лицу старика. — Пьер Блютти! — крикнул он. — Вы вели себя сейчас самым гнусным образом. Если вы надеетесь с помощью таких вот поступков стать хозяином в моем доме и изгнать оттуда моего племянника, то вы глубоко ошибаетесь. Я еще волен закрыть перед вами двери и оставить при себе дочку. Брак еще не совершен, иди ко мне, Атенаис. С силой схватив дочь за руку, старик привлек ее к себе. Предупреждая его желание, Атенаис воскликнула с ненавистью и ужасом: — Оставьте меня у себя, батюшка, оставьте меня навсегда. Защитите меня от этого сумасшедшего, который оскорбляет вас, всю нашу семью! Нет, ни за что я не стану его женой! Не хочу я покидать родительский кров! И она судорожно уцепилась за шею отца. Пьер Блютти, за которым по закону еще не было закреплено приданое, обещанное тестем, был сражен силою его доводов. Он подавил досаду, вызванную поведением жены, и заговорил тоном ниже: — Признаюсь, я погорячился. Примите мои извинения, тесть, ежели я вас оскорбил. — Да, сударь, оскорбили, — подхватил Лери, — вы оскорбили меня в лице моей дочери, чей свадебный наряд еще носит следы вашей грубости, вы оскорбили меня в лице моего племянника, и я сумею заставить вас уважать его. Если вы хотите, чтобы ваш тесть и ваша жена простили ваше недостойное поведение, протяните скорее руку Бенедикту — и пусть все будет забыто. Вокруг них собралась огромная толпа, и зрители с любопытством ждали конца этой сцены. Во всех устремленных на Блютти взглядах как бы читался совет не сдаваться, но хоть Пьер и не был лишен некоей животной отваги, он превыше всего блюл свои интересы, и притом так хорошо, как умеет блюсти их любой сельский житель. Кроме того, он был по-настоящему влюблен в свою супругу, и угроза старика Лери не отдать ему Атенаис испугала Пьера не меньше, чем перспектива лишиться богатого приданого. Он послушался совета благоразумия, пересилил ложное тщеславие и после мгновенного колебания произнес: — Что ж, повинуюсь, тесть, но, признаюсь, мне это недешево стоит, и, надеюсь, вы, Атенаис, оцените, на что я пошел, лишь бы быть с вами. — Никогда вы не будете со мной, что бы вы ни делали! — воскликнула молодая фермерша, только что заметившая многочисленные брызги, покрывавшие ее подвенечноеплатье. — Дочь моя, — с достоинством прервал ее Лери, который в случае надобности умел прибегать к отцовскому авторитету, — в вашем положении для вас превыше всего должна быть отцовская воля. Приказываю вам подать руку вашему супругу и примирить его с Бенедиктом. С этими словами Лери обернулся к племяннику, который во время всех этих пререканий разрядил пистолеты и спрятал их в карман; но, вместо того чтобы послушаться доброго совета дяди, он отступил на шаг и не пожал руки, которую скрепя сердце протянул ему Пьер Блютти. — Ни за что, дядюшка! — ответил он. — Мне больно, что я не могу отплатить повиновением за ваше доброе ко мне отношение, но не в моей власти простить эту обиду. Все, что я могу сделать, это забыть ее. С этими словами Бенедикт повернулся и пошел прочь, властно раздвигая по пути ошеломленных этой сценой зевак.22
Бенедикт углубился в парк Рембо и, бросившись в темном уголку на мох, предался самым грустным размышлениям. Только что он порвал последнюю нить, еще связывавшую его с жизнью, ибо он понимал, что после ссоры с Пьером Блютти, уже невозможно поддерживать добрые отношения и с семьей дяди. Никогда больше он не увидит этих мест, где провел столько счастливых минут и где все еще полно Валентиной, а если случайно он и заглянет туда, то лишь как чужой человек, которому уже не пристало искать там воспоминания, столь сладостные некогда и столь горькие сейчас. Ему чудилось, будто долгие годы несчастья уже отделяют его от этих совсем еще близких дней, и он упрекал себя за то, что не сумел полностью ими насладиться; с раскаянием вспоминал он свои гневные вспышки, которые не умел подавить, оплакивал злосчастную природу человека, умеющего оценить свое счастье, лишь потеряв его. Отныне Бенедикта ждало ужасное существование: окруженный врагами, он будет посмешищем для всей округи, каждый день до его слуха будут доноситься дерзкие и жестокие насмешки, и он не сможет ответить на них, так как оскорбитель слишком низок для этого; каждый день станет воспоминанием о печальной развязке его любви, и надо будет свыкнуться с мыслью, что нет больше никакой надежды. Однако любовь к самому себе, дающая тому, кто тонет в морской пучине, сверхъестественную силу, на миг внушила Бенедикту страстную волю к жизни вопреки всем и всему. Он делал невероятные усилия, чтобы найти цель жизни, хоть какое-нибудь тщеславное стремление, хоть какое-нибудь очарование, но напрасно: душа его отказывалась признавать иную страсть, кроме любви. И впрямь, в двадцать лет какая страсть представляется человеку более достойной, чем любовь! Все было тускло и бесцветно в его глазах по сравнению с этим безумным и скоротечным мигом, вознесшим его над землей; то, что еще месяц назад казалось недосягаемо высоким для его чаяний и надежд, стало ныне недостойным его желаний, на свете не было ничего, кроме этой любви, кроме этого счастья, кроме этой женщины. Когда Бенедикт израсходовал остаток сил, его охватило страшное отвращение к жизни и он решил покончить с ней. Осмотрев пистолеты, он направился к воротам парка, намереваясь исполнить свой замысел, но не пожелал омрачать празднество, отблески которого еще пробивались сквозь листву. Прежде чем расстаться с жизнью, он захотел испить до дна чашу горечи, вернулся обратно и, пробравшись среди деревьев, очутился у высоких стен, скрывавших от него Валентину. Некоторое время он наудачу брел вдоль стены. Все было безмолвно и печально в этом огромном замке, все слуги ушли на праздник. Гости уже давно разъехались. До слуха Бенедикта донесся лишь взволнованный голос старухи маркизы. Маркиза занимала нижние покои, окно ее спальни было приоткрыто. Бенедикт приблизился и, уловив отрывок разговора, тут же изменил свое намерение. — Поверьте мне, мадам, — говорила маркиза, — Валентина серьезно больна, и нам следовало бы разъяснить это господину де Лансаку. — О боже мой, мадам, — ответил голос, и Бенедикт догадался, что это говорит графиня, — у вас прямо страсть вмешиваться не в свои дела! А я считаю, что любое вмешательство, мое ли, ваше ли, в подобных обстоятельствах более чем неуместно. — Мадам я не понимаю слова «неуместно», — отозвался первый голос, — когда речь идет о здоровье моей внучки. — Не знай я, что вам доставляет удовольствие высказывать мнения, противные моим, я затруднилась бы объяснить вашу чрезмерную чувствительность. — Можете смеяться сколько угодно, мадам, но я, не зная, что происходит в спальне Валентины и не подозревая истины, проходила мимо и случайно услышала голос кормилицы, хотя ждала услышать голос графа. Тогда я вошла и увидела, что Валентине сильно неможется, что она почти без чувств, и, поверьте мне, в такие минуты… — Валентина любит мужа, муж ее любит, и я уверена, что он будет ее щадить, как она того потребует. — Разве новобрачная знает, что нужно требовать? Разве у нее есть на это права? Разве с ними считаются? Тут окно захлопнули, и Бенедикт не расслышал продолжения. В эту минуту он познал, что ярость может подсказать человеку самые безумные и кровожадные замыслы. — О, гнусное насилие над священнейшими правами! — воскликнул он, — о, гнусная тирания мужчины над женщиной! Брак, общество, общественные институты, я ненавижу вас, ненавижу смертельно, а тебя, господь бог, тебя, творящая сила, бросающая нас на землю и тут же отступающаяся от нас, тебя, что отдает слабого в руки деспотизма, гнусности, — я проклинаю тебя! Довольный созданным, ты почиешь от трудов своих, равнодушный к его судьбам. Ты вкладываешь в нас разумную душу, и с твоего же соизволения несчастье губит ее! Будь же ты проклят, будь также проклято чрево, носившее меня! С этими мыслями злосчастный юноша зарядил пистолеты, разодрал себе грудь ногтями и, уже не думая о том, что ему следует таиться, взволнованно зашагал вперед. Внезапно разум, или, вернее, некое просветление среди бреда озарило его. Есть средство спасти Валентину от этой гнусной, оскорбительной тирании, есть средство покарать эту бессердечную мать, которая холодно обрекает дочь на узаконенное посрамление, на худшее из посрамлений, какому можно подвергнуть женщину, — на насилие. «Да, насилие! — яростно твердил Бенедикт (не надо забывать, что Бенедикт был натурой крайностей, натурой исключительной). — Каждый день именем бога и общества какой-нибудь мужлан или подлец добивается руки несчастной девушки, которую родители, честь или нищета вынуждают задушить в груди чистую и священную любовь. И на глазах общества, которое одобряет, благословляет, целомудренная и трепещущая дева, сумевшая устоять перед порывами своего возлюбленного, сдается, униженная объятиями ненавистного ей властелина! И это неизбежно свершится!» И Валентине, прекраснейшему творению создателя, нежной, простодушно-чистой Валентине, предназначено познать, как и всем прочим, подобное оскорбление! Ее слезы, бледность, оцепенение должны были бы открыть глаза матери и насторожить деликатность супруга. Но тщетно! Ничто не защитит эту страдалицу от позора, даже слабость, даже болезнь, даже изнурительная лихорадка. Найдется же на земле столь подлый человек, который скажет: «Какое мне дело!», найдется столь же жестокосердная мать, которая закроет глаза на это преступление! — Нет, — воскликнул он, — этому не бывать! Клянусь в том честью своей матери! Он снова зарядил пистолеты и бросился вперед, не разбирая дороги. Вдруг негромкое сухое покашливание донеслось до его слуха, и он остановился как вкопанный. В состоянии нервного раздражения, в котором находился Бенедикт, он по безотчетной вспышке ненависти понял, что невинное покашливание говорит о близком присутствии господина де Лансака. Оба они шли теперь по аллее садика, разбитого на английский манер, по узкой, тенистой и извилистой аллее. Плотная стена елей скрыла Бенедикта. Он углубился в их темную чащу и готовился каждую минуту размозжить череп своего врага. Господин де Лансак только что покинул павильон, расположенный в глубине парка, где из соображений благоприличия помещался во время своих визитов в Рембо; он направлялся в замок. От его фрака исходил запах амбры, ставший Бенедикту столь же ненавистным, как сам господин де Лансак; под его шагами поскрипывал гравий. Сердце Бенедикта учащенно билось, кровь застыла в жилах, однако рука не дрожала, а взгляд был зорок. Но в ту самую минуту, когда, держа палец на курке, он уже прицелился в ненавистный лоб, раздались шаги: кто-то шел по следам Бенедикта. Он задрожал при мысли об этой досадной помехе; появление нежелательного свидетеля грозило сорвать его замысел и помешать — нет, не убить Лансака, ибо Бенедикт чувствовал, что не существует такой силы, которая могла бы спасти графа от его ненависти, но убить себя самого сразу же после того, как враг падет от пули. Мысль об эшафоте бросала Бенедикта в дрожь, он понимал, что в своем распоряжении общество имеет самые позорные кары за самое героическое преступление, на которое толкала его любовь. Он остановился в нерешительности и услышал следующий диалог: — Ну, Франк, что ответила вам графиня де Рембо? — Что граф может к ней подняться, — ответил лакей. — Чудесно, можете ложиться спать, Франк. Вот, возьмите ключ от моей спальни. — Вы не вернетесь? — И он еще сомневается! — сквозь зубы процедил господин де Лансак, как бы говоря с самим собой. — Дело в том, граф, что… маркиза… и Катрин… — Все ясно, идите спать… Две тени разошлись в разных направлениях, и Бенедикт увидел, что враг его приближается к замку. Как только он потерял графа из виду, решимость вновь вернулась к нему. — Неужели упущу я последнюю возможность, — вскричал он, — неужели позволю ему переступить порог замка и осквернить спальню, где находится Валентина! Бенедикт бросился бежать, но граф был уже далеко, и юноша понял, что его можно настичь только в самом замке. Граф шел совсем один, в окружении тайны, без факелоносцев, будто принц, идущий на завоевание вражеской страны. Он легко взбежал на крыльцо, прошел через прихожую и поднялся на второй этаж, так как предполагаемая беседа с тещей была лишь предлогом, — того требовали соблюдения приличий, — чтобы граф не выдал перед лакеем истинной причины спешки. Лансак условился с графиней, что она даст ему знать, как только Валентина согласится принять своего супруга. Как мы видели, мадам де Рембо не сочла нужным посоветоваться на сей счет с дочерью, она даже не подумала, что это необходимо! Но в ту самую минуту, когда Бенедикт с заряженным пистолетом в руке чуть было не настиг графа, пробираясь за ним в темноте, компаньонка маркизы шмыгнула к правоверному супругу со всей ловкостью, на какую только была она способна в свои шестьдесят лет и в своем туго зашнурованном корсете. — Маркиза хочет поговорить с вами, — шепнула она, догнав графа. Господину де Лансаку пришлось переменить направление и последовать за компаньонкой. Все это произошло мгновенно, и оставшийся во мраке Бенедикт ломал себе голову над тем, из-за каких адских махинаций его жертва вновь ускользнула от расправы. По огромному дому, где умышленно погасили все огни и под различными предлогами удалили немногочисленных слуг, что не пошли на свадьбу, в одиночестве бродил Бенедикт, бродил наудачу, стараясь припомнить, где находится комната Валентины. Его решение было неизменно: он избавит Валентину от ожидающей ее участи, либо убив ее супруга, либо ее самое. Не раз он смотрел из парка на окно Валентины и сразу узнавал его долгими бессонными ночами по свету лампы, свидетельствовавшему, что его владычица бодрствует, но как найти ее спальню, как не сбиться с пути в потемках и в состоянии ужасного волнения! Он решил отдаться на волю случая. Зная лишь то, что комната Валентины на втором этаже, он прошел по галерее и остановился, чтобы прислушаться. В дальнем конце галереи он заметил луч света, пробивавшийся из-под полуоткрытых дверей, и ему почудилось даже, будто он слышит приглушенные женские голоса. Это оказалась спальня маркизы, она позвала к себе своего новоявленного внука, чтобы попытаться отговорить его от восторгов первой брачной ночи, и Катрин, которую кликнули к маркизе, чтобы она засвидетельствовала болезненное состояние своей хозяйки, расписывала, как могла, недуги Валентины. Но господина де Лансака не слишком убедили все эти доводы, к тому же он считал смехотворным, что женщины уже суют нос в его семейную жизнь, любопытствуют и стараются на него повлиять; поэтому он оказал им вежливое сопротивление и поклялся честью, что беспрекословно удалится, если это прикажет ему сама Валентина. Бесшумно следуя за графом, Бенедикт притаился у дверей и слышал все эти препирательства, хотя они велись вполголоса из боязни привлечь внимание графини, так как она одним-единственным словом свела бы на нет все эти переговоры. «Хватит ли у Валентины мужества приказать графу удалиться? — думал Бенедикт. — О, с какой охотой я отдал бы ей всю свою силу!» И он снова стал ощупью пробираться к другому, более слабому лучу света, просачивавшемуся в щель под закрытой дверью, и приник к створке ухом; наконец-то он у цели! В этом убедило его бешеное биение собственного сердца и слабое дыхание Валентины, уловить и узнать которое было дано лишь человеку, обуреваемому страстью. Задыхаясь, чувствуя стеснение в груди, он оперся о створку двери и вдруг убедился, что она подается; тогда он толкнул дверь, и она бесшумно открылась. «Великий боже, — подумал Бенедикт, готовый превратить любой пустяк в новую для себя пытку, — значит, она ждала его?» Он шагнул вперед; кровать была расположена таким образом, что лежащий не мог видеть двери. Под матовым стеклянным колпаком горел ночник. Значит, это здесь? Он сделал еще один шаг. Полог был наполовину поднят, на постели, совсем одетая, дремала Валентина. Поза ее достаточно ясно свидетельствовала о пережитом страхе — она прикорнула на краю ложа, опустив ноги на ковер, и дремала, уронив отуманенную усталостью голову на подушки; лицо ее было смертельно бледно, и по учащенному биению вздувшихся на шее и висках артерий можно было воочию видеть, как лихорадочно кипит ее кровь. Едва Бенедикт успел проскользнуть за изголовье кровати и протиснуться в узкий промежуток между стеной и пологом, как в коридоре послышались шаги господина де Лансака. Он направлялся сюда, сейчас он войдет в спальню. Бенедикт по-прежнему сжимал в руке пистолет; здесь враг не уйдет от него, достаточно ему ступить вперед, чтобы пасть мертвым, не коснувшись белоснежных простыней брачного ложа. Шорох, который произвел Бенедикт, прячась за пологом, разбудил Валентину, она слабо вскрикнула и резко выпрямилась, но, не увидев ничего подозрительного, прислушалась и различила в тишине шаги мужа. Тогда она поднялась и бросилась к двери. Тут Бенедикт вдруг понял все. Он выступил из своего убежища, готовясь всадить пулю в лоб этой бесстыдной и лживой женщины, но Валентина бросилась к двери с единственным намерением запереть ее. Пять долгих минут прошло в полной тишине, к великому удивлению Валентины и Бенедикта, который снова спрятался за полог; потом в дверь тихонько постучали. Валентина не отозвалась, а Бенедикт, высунувшись из-за занавесок, услышал только ее неровное, прерывистое дыхание, увидел ее лицо, искаженное ужасом, побелевшие губы, пальцы, которые судорожно сжимали защищавшую ее дверную задвижку. «Мужайся, Валентина, — чуть было не крикнул он, — нас двое, и мы выдержим любой натиск». Тут послышался голос Катрин. — Откройте, барышня, — проговорила она, — не бойтесь, это я, я одна. Граф ушел, он внял нашим с маркизой доводам, я умоляла его от вашего имени не приходить сюда. Мы ему такого наговорили о вашей болезни, чего, надеюсь, у вас и в помине нет, — добавила добрая женщина, входя в спальню и заключая Валентину в объятия. — Только не вздумайте действительно расхвораться так серьезно, как мы расписали. — О, я думала, что умру, — ответила Валентина, целуя свою кормилицу, — но теперь мне легче, ты спасла меня хоть на несколько часов! А там да защитит меня господь! — Ох, дитя мое, что это вы такое вздумали! — воскликнула Катрин. — Ложитесь-ка в постель. А я посижу у вас до утра. — Нет, Катрин, не надо, иди спать. Ты и без того провела при мне много бессонных ночей. Иди, я требую, слышишь! Мне сейчас лучше, я спокойно засну. Только закрой спальню, возьми ключ с собой и не ложись в постель раньше, чем не закроют все двери. — Не беспокойтесь. Уже запирают; слышите, как стукнула входная дверь? — Да, слышу, покойной ночи, няня, милая моя нянюшка. Но Катрин не сразу решилась уйти и выдумывала все новые предлоги, лишь бы побыть с Валентиной: она боялась, как бы ее питомице не сделалось ночью худо. Наконец она уступила и, закрыв дверь, унесла с собой ключ. — Если вам что потребуется, позвоните мне! — крикнула она через дверь. — Хорошо, не волнуйся, спи спокойно, — ответила Валентина. Она опустила щеколду и встряхнула головой — длинные ее волосы рассыпались по плечам, — и охватила лоб руками; дышала она тяжело, как человек, только что избегший опасности, потом села, вернее — бессильно опустилась на постель скованным, неловким движением, словно сраженная отчаянием или недугом. Слегка пригнувшись, Бенедикт мог ее видеть. Если бы он даже вышел из своего убежища, Валентина ничего не заметила бы. Уронив руки, вперив взоры в пол, она сидела неподвижно, как застывшая безжизненная статуя; казалось, все силы ее истощены, а сердце угасло.23
Бенедикт слышал, как в доме одну за другой заперли все двери. Мало-помалу шаги слуг затихли где-то в нижнем этаже, последние отблески света, еще пробегавшие по листве, погасли, глухую тишину нарушали лишь отдаленные звуки музыки да пистолетные выстрелы, которыми в Берри в знак общего веселья и по установившемуся обычаю сопровождаются церемонии свадеб и крестин. Бенедикт очутился в удивительном положении, о котором не посмел бы даже грезить. Эта ночь, эта страшная ночь, которую он по воле судеб должен был провести, терзаемый яростью и страхом, эта ночь соединяла его с Валентиной! Господин де Лансак вернулся в павильон, а Бенедикт, безнадежно отчаявшийся Бенедикт, который собирался пустить себе пулю в лоб где-нибудь в овраге, очутился в спальне Валентины, в ее запертой на ключ спальне! Его мучила совесть за то, что он отринул бога, проклял день своего рождения. Эта нежданная радость, пришедшая на смену мысли об убийстве и самоубийстве, овладела им столь властно, что он не подумал даже о тех ужасных последствиях, которые повлечет его пребывание здесь. Он не желал признаться себе в том, что, узнай родные о его присутствии в этой спальне, Валентина погибла бы, он не задумывался над тем, не сделает ли этот неожиданный и мимолетный триумф еще более горькой мысль о неизбежности смерти. Он всецело был во власти лихорадочного упоения, которое охватывало его при мысли, что он оказался сильнее судьбы. Прижав обе руки к груди, он пытался утишить жгущий его пламень. Но в ту самую минуту, когда страсть возобладала и Бенедикт уже готов был выдать свое присутствие, он замер, укрощенный страхом оскорбить Валентину, укрощенный почтительной и стыдливой робостью, которая и есть отличительное свойство всякой истинной любви. Не зная, на что решиться, объятый тоской и нетерпением, он уже готов был выйти из своего укрытия, как вдруг Валентина дернула за сонетку, и через минуту появилась Катрин. — Дорогая нянечка, — проговорила Валентина, — ты забыла дать мне настойку. — Ах, да, настойку! — отозвалась добрая женщина. — А я-то думала, что сегодня вы ее принимать не будете. Пойду приготовлю. — Нет, это слишком долго. Накапай немножко опиума в флердоранжевую воду. — А вдруг вам это повредит? — Нет, теперь опиум не может мне причинить вреда. — Не знаю, как и быть, вы ведь не врач. Хотите, я попрошу маркизу зайти к вам? — О, ради бога, не делай этого. Ничего не бойся, дай-ка мне коробочку, я сама знаю дозу. — Ох, вы же вдвое больше капаете… — Да нет, раз я сегодня смогу спокойно спать, я хочу воспользоваться случаем. Хоть во время сна я ни о чем не буду думать. Катрин печально покачала головой и разбавила водой довольно сильную дозу опиума, которую Валентина, продолжая раздеваться, выпила в несколько глотков; наконец, надев пеньюар, она отослала свою кормилицу и легла в постель. Бенедикт, забившись в угол своего убежища, не смел шелохнуться. Однако страх, что его заметит кормилица, был менее силен, чем страх, какой он испытал, оставшись вновь наедине с Валентиной. После мучительной борьбы с самим собой он отважился отогнуть край полога. Шуршание шелка не разбудило Валентину, опиум, уже оказывал свое действие. Однако Бенедикту показалось, будто она приоткрыла глаза. Он испугался и снова опустил полог, бахрома задела бронзовый светильник, стоявший на столике, и он с грохотом свалился на пол. Валентина вздрогнула, но не вышла из летаргии. Тогда Бенедикт приблизился к постели и стал любоваться ею еще смелее, чем в тот день, когда он с таким обожанием созерцал ее личико, отраженное водами Эндра. Один у ее ног, в торжественном молчании ночи, под защитой искусственного сна, который он не властен был нарушить, Бенедикт действовал как бы по магическому велению судьбы. Теперь ему нечего было опасаться гнева Валентины, он мог упиваться своим счастьем, смотреть на нее, не боясь, что радость его будет омрачена, мог говорить с ней, зная, что она его не услышит, мог выразить ей всю любовь, все муки, не прогнав загадочной и слабой улыбки, игравшей на ее полуоткрытых губах. Он мог прижать свои уста к этим устам, зная, что Валентина не оттолкнет его. Но сознание полной безопасности не прибавило ему отваги. Ведь в сердце своем он создал чуть ли не религиозный культ Валентины, и она не нуждалась в посторонней защите от него самого. Он был ее защитником, ее стражем против себя самого. Опустившись на колени, он ограничился лишь тем, что взял ее руку, свисавшую с постели, и держал ее, любуясь тонкими белоснежными пальцами, и наконец прижался к ним дрожащими губами. На этой руке красовалось обручальное кольцо — первое звено тяжелой и нерасторжимой цепи. Бенедикт мог снять это кольцо и уничтожить его, но он не хотел. Более нежные чувства овладели им, он поклялся чтить в Валентине все — даже этот символ, воплощение ее долга. В состоянии пьянящего экстаза он вскоре забыл обо всем. Он видел себя счастливым, полным веры в будущее; как в лучшие дни на ферме, ему казалось, будто ночь эта никогда не кончится, будто Валентина никогда не проснется, и он познает здесь вечное блаженство. Сначала это созерцание не представляло никакой опасности: ангелы не столь чисты, как сердце двадцатилетнего юноши, особенно полное страстной любви; Бенедикт затрепетал, когда Валентина, взволнованная блаженным сновидением, какие вызывает опиум, нежно склонилась к нему и пожала его руку, невнятно что-то пролепетав. Бенедикт вздрогнул и, испугавшись самого себя, отпрянул от постели. — О Бенедикт! — медленно проговорила Валентина слабым голосом. — Бенедикт, ведь это вы обвенчались со мной сегодня? А мне почудилось, будто это кто-то другой; скажите скорее, что это были вы! — Да, я, я! — страстно шептал Бенедикт, прижимая к бешено бьющемуся сердцу руку Валентины, искавшую его руки. Еще не проснувшись окончательно, Валентина чуть приподнялась, открыла глаза и устремила на Бенедикта мутный от опиума взор, еще витавший в царстве сна, и по лицу ее пробежал испуг; потом, закрыв глаза, она с улыбкой откинулась на подушку. — Я любила только вас, — сказала она, — но как же они это допустили. Говорила она тихо, еле произнося слова, и Бенедикт внимал им, как пению ангелов, которое слышишь в сновидениях. — О моя любимая! — воскликнул он, склонившись над Валентиной. — Повторите эти слова еще раз, повторите их, чтобы я мог умереть от счастья у ваших ног! Но Валентина оттолкнула его. — Оставьте меня, — прошептала она. И снова пролепетала что-то невнятное. Бенедикт догадался, что теперь она принимает его за господина де Лансака. Несколько раз он повторил свое имя, и Валентина, витая где-то между сном и действительностью, то просыпаясь, то вновь засыпая, простодушно выдала ему все свои тайны. Потом ей показалось, будто ее преследует муж со шпагой в руке, она бросилась на грудь Бенедикту и, закинув руки ему на шею, сказала: — Хочешь, умрем вместе! — О, хочу! — воскликнул он. — Будь моей, а потом умрем. Положив пистолеты на столик, он заключил в свои объятия гибкое, податливое тело Валентины. Но она успела еще сказать: — Оставь меня, друг мой, я умираю от усталости. Дай мне поспать. Ее головка упала на грудь Бенедикта, и он не посмел шевельнуться, боясь нарушить сон Валентины. Каким невероятным счастьем было видеть, как она покоится в его объятиях! Он не мог поверить, что существует иное счастье на земле, кроме этого. — Спи, спи, моя жизнь! — твердил он, нежно касаясь губами ее лба. — Спи, мой ангел! Ты, без сомнения, видишь в небесах деву Марию, и она, твоя защитница, улыбается тебе. И мы с тобой соединимся там, в небесах! Он не мог устоять перед желанием снять с нее кружевной чепчик и коснуться ее рассыпавшихся роскошных пепельных волос, которыми он столько раз любовался с обожанием, такие они были шелковистые, так благоухали, что свежее их прикосновение зажгло в нем безумную и лихорадочную страсть! Десятки раз он вцеплялся зубами в край простыни, кусал собственные руки, чтобы острая боль заглушила в нем ликующий порыв страсти. Присев на край ложа и ощутив прикосновение тонкого душистого белья, он задрожал и бросился на колени возле постели, надеясь овладеть собой и удовольствоваться лицезрением Валентины. Целомудренно прикрыв волнами вышитого муслина ее юную, мирно дышавшую девственную грудь, Бенедикт даже чуть задернул занавески полога, лишь бы не видеть ее лица и найти в себе силы уйти прочь. Но Валентина, повинуясь бессознательной потребности глотнуть свежего воздуха, отодвинула мешавший ей полог и склонилась к Бенедикту, как бы ожидая его ласк с наивно-доверчивым видом. Он приподнял с подушки прядь ее волос, взял ее в рот, чтобы заглушить рвущиеся крики, он рыдал от ярости и любви. Наконец в приступе неслыханной муки он впился зубами в белое круглое плечо Валентины, выглядывавшее из-под муслина. Он больно укусил ее, и Валентина проснулась, но, видимо, не почувствовала боли. Увидев, что Валентина снова приподнялась в постели, что она внимательно всматривается в него и даже касается его рукой, как бы желая убедиться, что перед нею не призрак, Бенедикт, который сидел рядом с ней, решил, что он погиб; вся кровь его вскипела, потом застыла в жилах, он побледнел и сказал, сам не зная, что говорит: — Валентина, простите, я умираю, сжальтесь надо мной. — Сжалиться над тобой! — повторила она сильным и ясным голосом сомнамбулы. — Что с тобой? Ты страдаешь? Приди опять в мои объятия, приди! Разве ты не счастлив? — О Валентина! — воскликнул Бенедикт, теряя разум. — Ты действительно хочешь этого? Ты узнаешь меня? Знаешь ли ты, кто я? — Да, — ответила она, снова опустив головку на его плечо, — ты моя добрая нянюшка! — Нет, нет, я Бенедикт, слышишь, Бенедикт, человек, который любит тебя превыше жизни. Я Бенедикт! И он стал трясти ее за плечи, надеясь разбудить, но это оказалось невозможным. Напротив, он лишь разжег пламень ее снов. На сей раз она заговорила так разумно, что ввела Бенедикта в заблуждение: — Да, это ты! — сказала она, садясь в постели. — Ты мой супруг, я знаю это, Бенедикт, я тоже люблю тебя. Обними меня, но только не смотри на меня. Потуши свет, дай я спрячу лицо на твоей груди. С этими словами она обвила его шею и привлекла к себе с неестественно лихорадочной силой. На щеках ее играл живой румянец, губы пылали. В потухших глазах вспыхнул огонь — она, очевидно, была в бреду. Но разве мог Бенедикт отличить эту болезненную взволнованность от страстного опьянения, пожиравшего его самого? Он с отчаянием набросился на нее и, уже готовясь уступить своим бурным мукам, испустил нервный пронзительный крик. Сразу же за дверью послышались шаги, в замочной скважине скрипнул ключ, и Бенедикт едва успел спрятаться за постель, как вошла Катрин. Нянька оглядела Валентину, удивилась, увидев, что простыни сбиты и что сон ее так лихорадочен, затем пододвинула стул и с четверть часа просидела у кровати. Бенедикт вообразил, что она проведет здесь всю ночь и в душе проклинал ее. Тем временем Валентина, не смущаемая более огненным дыханием влюбленного, впала в мирный сон, оцепенела в неподвижности. Успокоенная Катрин решила, что ей во сне почудился крик, оправила постель, разгладила простыни, убрала косы Валентины под чепчик и запахнула на ее груди складки ночной кофты, желая уберечь девушку от свежего ночного ветерка, потом бесшумно вышла из спальни и дважды повернула ключ в замочной скважине. Таким образом, Бенедикту был отрезан путь к отступлению. Когда он вновь оказался полным властелином своей любимой, сознавая опасность своего положения, он с ужасом отошел от постели и рухнул на стул в дальнем углу спальни. Обхватив голову руками, он пытался разобраться в случившемся, взвесить последствия ночного приключения. Его покинула та жестокая отвага, которая несколько часов назад позволила бы ему хладнокровно убить Валентину. После того, как он любовался ее скромной и трогательной прелестью, он уже не найдет в себе силы уничтожить это прекрасное творение господне: убить надо господина де Лансака. Но Лансак не может умереть один, за ним должен последовать он сам; а что станется с Валентиной, лишившейся одновременно и мужа и возлюбленного? На что ей смерть одного, если не остается у нее того, другого? И потом, как знать, не проклянет ли она убийцу своего нелюбимого мужа? Она, такая чистая, набожная, с такой прямой и честной душой, поймет ли она всю возвышенность столь необузданно-жестокого преклонения? А что, если в сердце ее останется жить мрачное и страшное воспоминание о Бенедикте, запятнанном этой кровью и заклейменном ужасным словом «убийца»? «О, раз я никогда не смогу обладать ею, — подумал он, — пусть хоть она не возненавидит память обо мне! Я умру один, и, быть может, она осмелится оплакивать меня в тайных своих молитвах». Он подвинул стул к бюро Валентины; здесь было все, что требовалось для письма. Он зажег ночник, задернул полог постели, чтобы не видеть больше Валентины и найти в себе силы сказать ей последнее прости. Закрыв дверь на задвижку, чтобы его не застали врасплох, он стал писать письмо: «Сейчас два часа ночи, и я здесь один с вами, Валентина, один в вашей спальне, я полный ваш властелин, каким никогда не будет ваш муж; ибо вы сказали мне, что любите меня, вы призывали меня в тайнах ваших снов, вы отвечали на мои ласки, вы сделали меня, сами того не желая, самым счастливым и самым несчастным из людей, и, однако, Валентина, я не переставал почитать вас, даже находясь в страшном бреду, заглушавшем все человеческие чувства. Вы по-прежнему чисты и священны для меня, и вы можете встать поутру без краски стыда. О Валентина, видно, я действительно слишком люблю вас! Но как ни горестно и неполно было мое счастье, я обязан заплатить за него моею жизнью. После тех часов, что я, коленопреклоненный, провел возле вас, прильнув устами к вашей руке, к вашим кудрям, к легкой одежде, почти не скрывавшей вашей красы, я не могу прожить более ни одного дня. После неземных восторгов я не смогу вернуться к обычной жизни, к ненавистной жизни, что я вынужден буду отселе влачить вдали от вас. Успокойся, Валентина: человек, который в мечтах обладал тобой нынче ночью, не увидит восхода солнца. Не прими я заранее это неотвратимое решение, где бы нашел я мужество проникнуть сюда и мечтать о счастье? Разве осмелился бы я любоваться вами и с вами говорить, хотя бы даже во время вашего сна? Всей крови моей не хватит оплатить милость судьбы, подарившей мне такие мгновения. Вы должны знать все, Валентина. Я пришел сюда с целью убить вашего мужа. Когда же я увидел, что он ускользнул от меня, я решил убить вас и себя. Не бойтесь, когда вы будете читать эти строки, сердце мое уже перестанет биться, но этой ночью, Валентина, в тот самый миг, когда вы открыли мне свои объятия, заряженный пистолет был рядом с вашим виском. Но потом мне не хватило мужества, да никогда и не хватит его. Если бы я мог убить одним выстрелом вас и себя, это бы уже свершилось, но ведь мне пришлось бы видеть ваши муки, видеть, как хлещет у вас из раны кровь, видеть, как ваша душа борется со смертью, и пусть бы зрелище это длилось всего секунду, секунда эта вместила бы в себя больше страданий, нежели вся моя жизнь. Живите, и пусть также живет ваш муж! Жизнь, которую я ему дарю, дар еще больший, нежели преклонение, которое сковывало меня еще минуту тому назад, когда я умирал от желания у вашей постели. Мне гораздо труднее было победить свою любовь, чем отказаться от мысли удовлетворить свою ненависть, и удерживает меня то, что смерть его может обесчестить вас. Засвидетельствовать перед всем светом мою ревность — значит открыть людям также и вашу любовь, ибо вы любите меня, Валентина. Вы сами недавно сказали мне об этом вопреки своей воле. И когда вчера вечером вы рыдали на лугу в моих объятиях, разве это тоже не было любовью? О, не просыпайтесь, дайте мне унести эту мысль с собой в могилу. Мое самоубийство не скомпрометирует вас, вы одна будете знать, что послужило причиной моей смерти. Скальпель хирурга не обнаружит вашего имени, запечатленного в тайниках моего сердца, но знайте, последние его биения посвящены вам. Прощайте, Валентина, прощайте, первая и единственная любовь моей жизни! Еще многие будут вас любить, да и кто может вас не полюбить? Но единственный раз вы были любимы так, как должно вас любить. Душа, полная вами, обязана вернуться к богу, дабы не унизить себя земной грязью. Как будете вы жить, Валентина, когда меня не станет? Увы, мне это неизвестно. Без сомнения, вы покоритесь вашей участи, память обо мне изгладится, возможно, вы перенесете все, что еще сегодня кажется вам ненавистным, придется… О Валентина! Если я пощадил вашего мужа, то лишь затем, чтобы вы не проклинали меня, затем, чтобы бог не изгнал меня с небес, где уготовано вам место. Боже, спаси меня! Валентина, молитесь за меня! Прощайте… Я сейчас подходил к вам — вы спите, вы спокойны. О, если бы вы только знали, как вы прекрасны! О, никогда, никогда сердце человека не сможет вместить, не разорвавшись, всю ту любовь, какую я питаю к вам! Если душа не просто случайное дуновение, которое уносит ветер, моя душа будет вечно находиться с вами. Вечером, когда вы придете на луг, вспомните обо мне, если ветерок растреплет ваши кудри и в его холодной ласке вы вдруг ощутите пламенное дыхание; ночью, если вас разбудит ото сна таинственный поцелуй, вспомните о Бенедикте». Бенедикт свернул письмо и положил его на столик, там, где лежали пистолеты, которых почти коснулась Катрин, впрочем, их не заметив. Он разрядил пистолеты, спрятал их в карман, нагнулся над Валентиной, с восторгом поглядел на нее, запечатлел на ее губах свой первый и последний поцелуй, потом бросился к окну и, с отвагой человека, которому уже нечего терять, спустился вниз с опасностью для жизни. Он рисковал свалиться с высоты тридцати футов или получить пулю, так как его могли принять за вора; но до того ли ему было! Он боялся одного — скомпрометировать Валентину и поэтому старался действовать бесшумно и никого не разбудить. Отчаяние придало ему сверхъестественную силу, а тот, кто при свете дня хладнокровно измерил бы расстояние между первым и вторым этажом замка Рембо, осмотрел его голые стены, без единой точки опоры, тот счел бы поступок Бенедикта неправдоподобным. Однако Бенедикт спустился на землю, никого не разбудив, и, перескочив через ограду, скрылся в полях. Первые отблески утра забрезжили на горизонте, предвещая скорый рассвет.24
Валентина, истомленная этим тревожным сном больше, чем истомила бы ее бессонница, проснулась поздно. Солнце, уже высоко стоявшее в небе, припекало довольно сильно, мириады насекомых жужжали в его лучах. Вся еще погруженная в вялое оцепенение, сопутствующее пробуждению, Валентина даже не пыталась собраться с мыслями; она рассеянно вслушивалась в многочисленные звуки, идущие с полей и носящиеся в воздухе. Она не страдала больше, так как забыла все и ничего еще не знала. Приподнявшись, чтобы взять стакан воды, стоявший на столике, она обнаружила письмо Бенедикта; нерешительно вертела она его в пальцах, не отдавая себе отчета в своих действиях. Наконец, бросив взгляд на письмо, она узнала почерк, вздрогнула и судорожной рукой развернула листок. Завеса разодралась: она увидела свою жизнь во всей ее неприкрытой наготе. На душераздирающий крик прибежала Катрин, лицо ее было искажено ужасом, и Валентина сразу почуяла правду. — Скажи, — вскричала она, — где Бенедикт? И что с ним сталось? И, видя смятение и растерянность кормилицы, Валентина проговорила, сложив руки: — О боже мой!.. Значит, это правда, значит, все кончено! — Увы, барышня, но вы-то откуда знаете? — сказала Катрин, присаживаясь на край постели. — Кто же мог сюда войти? Ключ-то ведь у меня в кармане. Может, вы что услышали? Но мадемуазель Божон говорила шепотом, боялась вас разбудить… Я-то знала, что эта весть принесет вам боль. — Ах, разве во мне дело! — нетерпеливо воскликнула Валентина, порывисто поднявшись в постели. — Скажи, что с Бенедиктом? Испуганная горячностью Валентины, кормилица потупила голову, не решаясь заговорить. — Он умер, я знаю, он умер, — твердила Валентина, побледнев и без сил падая на подушку, — давно ли? — Увы, никто ничего не знает, — ответила кормилица, — несчастного юношу нашли нынче рано утром на лугу. Он лежал во рву, весь залитый кровью. Батраки из Круа Бле пошли на заре на пастбище за быками, нашли его и тут же перенесли к нему домой. Он раздробил себе череп пулей и еще держал пистолет в руке. Тут же понаехало начальство. Ах, боже ты мой, горе-то какое! Какая беда довела его до такого отчаяния? Непохоже, чтобы от бедности, господин Лери любил его как родного сына. А что скажет госпожа Лери? Вот будет горевать! Валентина не слушала Катрин, она упала на подушки холодная и застывшая. Напрасно Катрин пыталась привести ее в чувство криками и поцелуями. Валентина была как мертвая. Стараясь разжать ее руки, добрая женщина обнаружила в ее пальцах смятое письмо. Читать она не умела, но она душой почуяла, что любимому ее ребенку грозит опасность, и, прежде чем позвать на помощь, вынула записку из судорожно сжатых пальцев и спрятала ее в надежное место. Вскоре спальня Валентины наполнилась людьми, но все усилия привести ее в чувство оказались напрасными. Срочно вызванный врач нашел у нее воспаление мозга. Но ему удалось пустить больной кровь, вызвать нормальное кровообращение, однако это состояние неестественной слабости вскоре сменилось конвульсиями, и в течение недели Валентина находилась между жизнью и смертью. Кормилица поостереглась выдать истинную причину пагубного смятения, она доверилась только врачу, взяв с него клятву хранить тайну; в конце концов она пришла к выводу, что между всеми этими событиями существует некая загадочная связь, которая не должна стать известной посторонним. Когда в день трагического события Валентина после кровопускания почувствовала себя немного лучше, Катрин тут же принялась размышлять над тем, каким сверхъестественным путем ее юная госпожа узнала обо всем. Письмо, которое она обнаружила в руке Валентины, напомнило ей, что накануне, перед самой свадьбой, старуха ключница Бенедикта вручила ей записочку и попросила передать барышне. Спустившись на минутку в людскую, Катрин прислушалась к разговорам прислуги, обсуждавшей причины самоубийства и шепотом передававшей друг другу, что вчера вечером между Пьером Блютти и Бенедиктом вспыхнула ссора из-за мадемуазель де Рембо. Слуги добавляли также, что Бенедикт пока еще жив, и врач, лечивший Валентину, нынче утром сделал раненому перевязку, но воздержался высказаться положительно о его состоянии. Пуля, раздробив лоб, вышла за ухом. Подобная рана, хоть и очень тяжелая, возможно, не смертельна, но никто не знал, сколько пуль находилось в пистолете. Возможно, что вторая пуля застряла в черепе, и в таком случае оттяжка лишь продлит муки умирающего. Таким образом, Катрин решила, что эта драма и предшествовавшие ей неприятности были непосредственно связаны с ужасающим состоянием Валентины. Славная женщина вбила себе в голову, что даже самый слабый луч надежды окажет более целебное действие, чем вся медицина с ее лекарствами. Сбегав в хижину к Бенедикту, расположенную не далее, чем в полулье от замка, она удостоверилась собственными глазами, что беднягу еще не покинуло дыхание жизни. Соседи, привлеченные скорее любопытством, нежели сочувствием, теснились в дверях, но врач распорядился, чтобы к умирающему никого не пускали, и дядюшка Лери, сидевший у изголовья Бенедикта, не без труда разрешил Катрин войти. До тетушки Лери еще не дошла эта печальная весть, она хлопотала на ферме Пьера Блютти, где полагалось отпраздновать переселение дочери к мужу. Поглядев на больного и выслушав соображения дядюшки Лери, Катрин поплелась обратно, по-прежнему не зная толком, выживет ли раненый Бенедикт, но уже полностью разгадавшая причины самоубийства. Покидая хижину Бенедикта, Катрин случайно взглянула на стул, куда бросили окровавленную одежду юноши, и задрожала всем телом. Как то бывает всегда, мы, сами того не сознавая, не можем отвести взгляд от предмета, вызвавшего в нас страх или отвращение, так и Катрин не могла отвести взгляд от стула и среди вещей Бенедикта разглядела косыночку индийского шелка, запятнанную кровью. Она тут же признала косынку, которую она сама накинула на плечи Валентины, когда та вечером накануне свадьбы вышла подышать свежим воздухом и которую потеряла, по ее словам, прогуливаясь по лугу. Ее как молнией осенило; улучив подходящий момент, когда все отвернулись, Катрин схватила косынку, которая могла скомпрометировать Валентину, и быстро сунула ее в карман. Вернувшись в замок, она поспешила спрятать косынку в своей комнате и перестала о ней думать. В те редкиемгновения, когда ей удавалось оставаться наедине с Валентиной, она пыталась втолковать своей питомице, что Бенедикт будет жить, но тщетно. Духовные силы Валентины, казалось, были полностью истощены, она не подымала даже век, чтобы посмотреть, кто с нею говорит. Если ее что-либо поддерживало, то лишь сознание того, что она умирает. Так прошла неделя. Валентине стало заметно лучше, к ней вернулась память, и благодетельные слезы хлынули из глаз, но так как никто не дознался у нее истинной причины недуга, родные решили, что разум ее еще не прояснился. Одна лишь кормилица подстерегала благоприятную минуту, чтобы поговорить с Валентиной, но господин де Лансак, собравшийся назавтра покинуть замок, счел своим долгом безвыходно сидеть в покоях жены. Недавно господин де Лансак получил назначение на пост первого секретаря посольства (до последнего времени он был лишь вторым секретарем) одновременно с приказом срочно прибыть в распоряжение своего начальника и выехать, с супругой или без оной, в Россию. В истинные намерения господина де Лансака отнюдь не входило увезти свою супругу в чужеземные страны. Еще в те времена, когда Валентина была околдована им, она спросила как-то жениха, возьмет ли он ее с собой в посольство; и, желая, удержаться на пьедестале, на который вознесла его невеста, он ответил, что самое заветное его желание — это никогда не разлучаться с ней. Но граф дал себе слово хитростью, а в случае надобности, так и силою супружеского авторитета, оградить свою кочевую жизнь от домашних хлопот. Эти обстоятельства — болезнь, которая, по словам врача, уже не была угрожающей, но могла затянуться надолго, необходимость немедленно уехать — как нельзя больше отвечали интересам и склонностям господина де Лансака. Хотя госпожа де Рембо была особой на редкость ловкой во всем, что касалось денежных дел, зять, намного превосходящий тещу в ловкости, без труда обвел ее вокруг пальца. После долгих споров, мерзких по существу и изысканно вежливых по форме, контракт был составлен в пользу господина де Лансака. Он сумел дать самое широкое толкование весьма гибкому закону, стал полным хозяином состояния жены и убедил «договаривающуюся сторону» дать его кредиторам нешуточные надежды на земли Рембо. Эти не слишком бросающиеся в глаза особенности его поведения чуть было не расстроили свадьбу, но господин де Лансак, потакая тщеславным притязаниям графини, сумел подавить ее своим авторитетом еще успешнее, чем раньше. Что касается Валентины, то она, не разбираясь в делах и чувствуя непреодолимое отвращение к подобного рода спорам, подписала, так ничего и не поняв, все, что от нее требовали. Убедившись, что долги, так сказать, уже уплачены, господин де Лансак уехал, не слишком сожалея о жене, и, потирая руки, хвалил себя в душе за то, что так ловко провел столь деликатное и выгодное дело. Приказ об отъезде пришелся как нельзя более кстати и избавил господина де Лансака от трудной роли, которую ему пришлось с первого же дня свадьбы играть в доме Рембо. Смутно догадываясь, что горе и самый недуг Валентины вызваны, быть может, тем, что ей пришлось подавить свою склонность к другому, и, во всяком случае, чувствуя себя оскорбленным до глубины души ее отношением к себе, граф тем не менее не имел пока что никаких оснований высказывать свою досаду. На глазах матери и бабушки, которые нашли прекрасный случай публично продемонстрировать свою тревогу и свою нежность к Валентине, он не осмеливался показать снедавшую его скуку и нетерпение. Таким образом, положение его было до крайности мучительным, тогда как отъезд на неопределенный срок избавлял его сверх того от неприятностей, неизбежно связанных с вынужденной продажей земель Рембо, так как главный его кредитор категорически требовал уплаты долга, выражавшегося в сумме примерно пятисот тысяч франков; и в ближайшее время этому прекрасному поместью, которое с таким тщеславным старанием округляла мадам Рембо, суждено было, к великому ее неудовольствию, быть раздробленным на жалкие наделы. В то же самое время господин де Лансак избавлялся от слез и капризов своей молодой супруги. «В мое отсутствие, — думал он, — она свыкнется с мыслью, что свобода ее потеряна. При ее безмятежном нраве, при ее склонности к уединению, она скоро привыкнет к спокойной и скромной жизни, какую я ей уготовал, а если некая романтическая любовь смущает покой ее души, ну что ж, у нее будет достаточно времени, чтобы исцелиться от нее до моего возвращения, если только все эти бредни не наскучат ей еще раньше». Господин де Лансак был человеком без предрассудков, в чьих глазах любое чувство, любой довод, любое убеждение определяются могущественным словом, которое правит миром: словом «деньги». У госпожи де Рембо были другие поместья в других провинциях и повсюду тяжбы. Тяжбы, можно сказать, заполняли жизнь графини; правда, она уверяла, что судебные разбирательства подрывают ее здоровье, что все эти хлопоты ее утомляют, но, не будь их, она умерла бы от скуки. С тех пор как графиня утратила былое величие, тяжбы стали единственной пищей ее деятельности и страсти к интригам; в них и изливала она всю свою желчь, накопившуюся за годы, с тех пор как ее положение в высшем свете пошатнулось. Сейчас в Солони она затеяла весьма важный процесс против жителей одного поселка, оспаривавших у графини большую пустошь, поросшую вереском. Слушание дела было уже назначено, и графине не терпелось укатить в Солонь, чтобы подстегнуть своего адвоката, повлиять на судей, пригрозить противной стороне, словом, отдаться той лихорадочной деятельности, которая, словно червь, подтачивает души, с юности вскормленные тщеславием. Не будь болезни Валентины, она умчалась бы в Солонь на следующий же день после свадьбы, чтобы заняться этим процессом; теперь, видя, что дочь вне опасности, и зная, что дела задержат ее ненадолго, она условилась уехать вместе с зятем, направлявшимся в Париж, и, распрощавшись с ним на полдороге, поспешила туда, где разбиралась ее жалоба. Валентина на несколько дней осталась одна вместе с бабушкой и нянькой в замке Рембо.25
Как-то ночью Бенедикт, которого непрерывно мучили жесточайшие боли, не позволявшие ни на чем сосредоточиться, очнулся и, чувствуя себя более спокойным, попытался вызвать в памяти все случившееся. Голова его была забинтована, и даже половину лица захватывала повязка, почти не давая доступа воздуху. Он сделал движение, стараясь устранить эту помеху и вернуть себе способность видеть, что обычно опережает у нас даже потребность мыслить. И тут же чьи-то руки, легко коснувшиеся его лба, откололи булавки, ослабили повязку, чтобы помочь больному. Бенедикт увидел склоненную над ним бледную женщину и при мерцающем свете ночника различил благородный, чистый профиль, отдаленно напоминавший профиль Валентины. Ему почудилось, будто все это привиделось ему, и рука его невольно потянулась к руке призрака. Но призрак перехватил его руку и поднес к своим губам. — Кто вы? — проговорил, вздрогнув, Бенедикт. — И вы еще спрашиваете? — ответил голос Луизы. Добрая Луиза бросила все и примчалась выхаживать своего друга. Она не отходила от больного ни днем ни ночью, неохотно уступала свой пост тетушке Лери, приходившей по утрам ее сменять, самоотверженно выполняла печальный долг сиделки при умирающем, зная, что надежды на спасение почти нет. Однако благодаря самоотверженному уходу Луизы и собственной молодости Бенедикт избег почти неминуемой смерти и однажды нашел в себе достаточно силы не только поблагодарить Луизу, но и упрекнуть ее за то, что она спасла ему жизнь. — Друг мой, — сказала Луиза, испуганная этой душевной подавленностью, — если я, по вашим словам, с такой жестокостью постаралась вернуть вас к жизни, которую не способна скрасить моя любовь, то сделала это из преданности Валентине. Бенедикт затрепетал. — Сделала для того, — продолжала Луиза, — чтобы сохранить ее жизнь, которая, так же как и ваша, находится под угрозой. — Под угрозой? Но почему? — воскликнул Бенедикт. — Узнав о вашем безумном поступке, о вашем преступлении, Валентина, без сомнения питающая к вам самую нежную дружбу, внезапно заболела. Луч надежды, возможно, мог бы еще спасти ее, но она не знает, что вы живы. — Так пусть же никогда и не узнает! — воскликнул Бенедикт. — Коль скоро зло свершилось, коль скоро удар нанесен, дайте же ей умереть вместе со мной. С этими словами Бенедикт сорвал повязку, и рана вновь открылась бы, не будь здесь Луизы, которая мужественно боролась за жизнь раненого, спасая его от самого себя; потом, обессилев, она упала на стул, сраженная душевной болью. В другой раз Бенедикт, казалось, вышел из состояния глубокой летаргии и, схватив руку Луизы, проговорил: — Почему вы здесь? Ваша сестра умирает, и вы ухаживаете за мной, а не за ней! Не совладав со страстью, забыв все на свете, Луиза восторженно воскликнула: — А если я люблю вас больше, чем Валентину?! — В таком случае вы прокляты, — ответил Бенедикт, с помутившимся взором отталкивая ее руку, — вы предпочитаете хаос свету, демона архангелу. Вы сумасшедшая! Уходите прочь! Я и без того несчастлив, не надрывайте же мне душу своими горестями. Ошеломленная Луиза уткнулась лицом в занавеску и плотно закутала ее краем себе голову, чтобы заглушить рыдания; Бенедикт тоже плакал, и слезы успокоили его. Через минуту он позвал Луизу. — По-моему, я резко говорил с вами сейчас, — сказал он, — но следует простить бред, вызванный лихорадкой. Вместо ответа Луиза только поцеловала протянутую к ней руку Бенедикта. А ему пришлось собрать остаток всех своих душевных сил, чтобы без раздражения вынести это свидетельство любви и покорности. Объясняйте эту странность как можете, — присутствие Луизы не только не утешало Бенедикта, но, напротив, было ему неприятно, заботы ее раздражали больного. Признательность боролась в его душе с нетерпением и досадой. Принимать от Луизы все эти услуги, все эти знаки преданности было равносильно упреку, равносильно горькому осуждению той любви, что он питал к другой. Чем пагубнее была для него эта страсть, тем оскорбительнее казались ему любые попытки отговорить его от этого чувства; с гордостью отчаяния цеплялся он за свою любовь. И если в минуты счастья душа его была способна вместить симпатию и сочувствие к Луизе, то в горе он утратил это свойство. Он считал, что его собственное горе достаточно тяжело, и если любовь Луизы как бы взывала к его великодушию, то это казалось ему эгоистичным и притом неуместным требованием. Возможно, такая несправедливость была непростительна, но разве во всех обстоятельствах у человека хватает силы преодолеть свои беды? Таково утешение, обещанное Евангелием, но чьи руки будут держать весы, кто будет судьей? Разве господь бог раскрывает нам свои предначертания? Разве измеряет он чашу, которую мы испили до дна? Графиня де Рембо отсутствовала уже два дня, когда у Бенедикта возобновился лихорадочный бред еще небывалой силы. Приходилось привязывать его к кровати. Нет более жестокой тирании, чем тирания дружбы; подчас она силком навязывает нам существование, которое для нас хуже смерти, и не стесняется прибегнуть к произволу, лишь бы пригвоздить нас к позорному столбу жизни. Наконец Луизе, попросившей посторонних оставить ее наедине с больным, удалось успокоить Бенедикта, повторяя десятки раз имя Валентины. — А где она? — вдруг спросил Бенедикт, резким движением поднявшись на ложе, словно пораженный удивлением. — Бенедикт, — ответила Луиза, — она там же, где вы: на пороге могилы. Неужели вы хотите, приняв страшную кончину, отравить ее последние минуты? — Она умрет, — проговорил он с улыбкой, мучительно исказившей его лицо. — О, бог милосерден, значит, мы будем вместе! — А если она останется жива, — возразила Луиза, — если она прикажет вам жить, если, в награду за ваше послушание она вернет вам свою дружбу? — Дружбу? — с презрительным смехом отозвался Бенедикт. — На что мне ее дружба? Разве я не подарил вам свою дружбу? А какой вам в ней толк? — О, как вы жестоки, Бенедикт! — печально воскликнула Луиза. — Но чего бы я только не сделала ради вашего спасения. Скажите, а что, если Валентина вас любит, а что, если я ее видела, слышала произнесенные ею в бреду признания, на которые вы не смели даже надеяться? — Я сам слышал их! — ответил Бенедикт с внешним спокойствием, под каким он умел скрывать самые жгучие волнения. — Я знаю, что Валентина любит меня так, как я надеялся быть любимым. Надеюсь, вы теперь не будете насмехаться надо мной? — Упаси боже! — ответила удивленная Луиза. Предыдущей ночью Луиза проникла к Валентине. Ей без труда удалось предупредить и уговорить кормилицу, которая была предана также и Луизе и которая с умилением смотрела, как та сидит у изголовья сестры. Вот тогда-то им обеим удалось втолковать бедняжке, что Бенедикт жив. Сначала Валентина испытала бурную радость, целуя и обнимая этих двух преданных ей женщин, потом вновь ею овладело оцепенение, и на заре Луизе пришлось удалиться, так и не добившись от сестры ни слова, ни взгляда. Назавтра ей сообщили, что Валентина чувствует себя лучше, и поэтому Луиза всю ночь провела у постели Бенедикта, которому стало хуже; но на следующую ночь, узнав, что болезнь Валентины вновь приняла угрожающий оборот, она, оставив Бенедикта в пароксизме лихорадки, побежала к сестре. Разрываясь между двумя больными, печальная и мужественная Луиза забывала о самой себе. У изголовья Валентины она застала врача. Когда вошла Луиза, больная была спокойна и спала. Тут, отведя доктора в сторону, решив, что ее долг открыться ему, она доверила скромности врача тайну двух влюбленных, надеясь, что это поможет ему применить к ним более действенные способы лечения, лечения, так сказать, морального. — Вы поступили очень разумно, — ответил врач, — доверив мне эту тайну, но в этом не было необходимости, я все равно разгадал бы ее, если даже вы промолчали бы. Я отлично понимаю ваши затруднения в столь щекотливом деле, особенно принимая во внимание предрассудки и обычаи, но стараясь улучшить их физическое состояние, я берусь успокоить эти две заблудшие души и вылечить одного с помощью другого. В эту минуту Валентина открыла глаза и узнала сестру. Поцеловав ее, она слабым голосом спросила, как чувствует себя Бенедикт. Тут вмешался врач. — Сударыня, — начал он, — лишь я один могу сообщить вам это, поскольку я его лечил и мне, к счастью, до сих пор удавалось продлить его жизнь. Друг, о котором вы тревожитесь и о котором может с полным правом тревожиться такая благородная и великодушная душа, как ваша, сейчас вне опасности. Но его душевное состояние далеко от исцеления, и вы одна можете мне помочь. — О боже! — бледнея, произнесла Валентина, молитвенно складывая руки и устремив на врача печальный и глубокий взгляд тяжело больного человека. — Да, сударыня, — продолжал он, — лишь приказание, исходящее из ваших уст, лишь ваше слово утешения и бодрости могут залечить его рану, иначе она снова откроется из-за ужасного упорства больного, который каждый раз срывает швы, как только образуется рубец. Наш юный друг сражен глубочайшим унынием, и я не обладаю достаточно мощным средством против его душевного недуга. Я нуждаюсь в вашей помощи; не соблаговолите ли вы мне ее оказать? С этими словами добрый сельский врач, безвестный старик ученый, который сотни раз в своей жизни останавливал кровь и слезы, взял руку Валентины с почтительной лаской, не без примеси былой галантности, и, считая пульс, поцеловал эту ручку. Валентина, еще слишком слабая, чтобы понять его слова, глядела на доктора наивно изумленным взором, с печальной улыбкой на губах. — Так вот, дорогое дитя, — продолжал старик, — хотите стать моим подлекарем и помочь мне исцелить нашего больного? Валентина молча кивнула головой, простодушно и жадно глядя на врача. — Итак, завтра? — повторил он. — О нет, сейчас же, сегодня! — ответила она слабым, проникновенным голосом. — Сейчас, бедное мое дитя? — с улыбкой повторил врач. — Посмотрите на свечи, сейчас два часа ночи, но если вы обещаете мне быть умницей и хорошо выспитесь и если вас не будет завтра лихорадить, мы пойдем утром прогуляться по лесу Ваврэ. Там в укромном уголку стоит маленький домик, куда вы принесете надежду и жизнь. Валентина, в свою очередь, пожала руку старику доктору, покорно, как дитя, приняла все лекарства и, обняв за шею Луизу, заснула на ее груди мирным сном. — Что вы делаете, господин Фор? — спросила Луиза, убедившись, что сестра спит. — Где она найдет силы выйти из дому, когда еще несколько часов назад она находилась в агонии? — Найдет, не беспокойтесь, — ответил доктор Фор. — Нервные переживания ослабляют тело только во время приступов. Эти приступы столь очевидно связаны с душевными волнениями, что благодетельный переворот в мыслях должен соответственно отразиться на ходе болезни. Десятки раз с начала недуга я сам наблюдал как госпожа де Лансак переходила от глубочайшей прострации к невиданной энергии, которой мне хотелось бы дать выход. Те же самые симптомы я вижу и у Бенедикта; эти два существа необходимы друг другу. — О господин Фор! — воскликнула Луиза. — А не совершим ли мы с вами большой неосторожности? — Не думаю, — страсти особенно опасны для жизни отдельного человека, равно как и общества в целом, те страсти, которые мы сами обостряем и доводим до предела. Ведь я сам был молод, сам был влюблен до потери сознания, и разве я не исцелился? Не дожил до старости? Не бойтесь, время и опыт существуют для всех. Так пусть же эти бедные дети сначала исцелятся и, найдя в себе силы жить, найдут силы и расстаться. Но давайте приблизим пароксизм страсти, иначе без нашего вмешательства она способна проявиться самым роковым образом, — если же мы узаконим ее нашим вмешательством, возможно, что она в какой-то мере утихнет. — О, ради него, ради нее я готова на любые жертвы! — ответила Луиза. — Но что о нас станут говорить, господин Фор? Какую же преступную роль сыграем мы оба! — Если молчит ваша совесть, так чего же вам бояться людей? Разве не причинили они вам все зло, какое только могли причинить? Так ли уж вы обязаны им? Много ли снисхождения и милосердия вы встречали у людей? Лукавая и одновременно сердечная улыбка старика вызвала на лице Луизы краску. Она взялась удалить из дома Бенедикта всех нежелательных свидетелей, и на следующий день Валентина, доктор Фор и кормилица, после часовой прогулки в экипаже по лесу Ваврэ отправились пешком в укромное и угрюмое место, велев кучеру подождать. Опираясь на руку кормилицы, Валентина спустилась по извилистой тропинке в овраг, а доктор Фор, опередив своих спутниц, отправился удостовериться, нет ли в доме Бенедикта лишних людей. Луиза под разными предлогами отослала всех и сидела одна у изголовья дремавшего Бенедикта. Врач запретил ей предупреждать больного о визите Валентины, опасаясь, что нетерпеливое ожидание будет для него слишком мучительным и усугубит его болезненное возбуждение. Когда Валентина подошла к хижине, ее невольно охватила дрожь, но доктор Фор, подойдя к ней, сказал: — Ну, сейчас вам требуется собрать все свое мужество и дать его тому, кто лишился этого качества. Помните, что жизнь моего пациента в ваших руках. Подавив волнение высшим напряжением души, что само по себе могло бы поколебать утверждения материалистов, Валентина переступила порог темной, угрюмой комнаты, где на кровати под пологом из зеленой саржи лежал больной. Луиза намеревалась было подвести сестру к Бенедикту, но доктор Фор схватил ее за руку. — Мы здесь с вами, прелестная моя любопытница, лишние, пойдем-ка в огород полюбоваться овощами. А вы, Катрин, — обратился он к кормилице, — присядьте на эту скамейку у порога дома и, если кто-нибудь появится на тропинке, хлопните в ладоши, чтобы нас предупредить. Врач увлек за собой Луизу, которая, слушая его слова, испытывала невыразимую тоску. Она досадовала на свое положение, осыпала себя упреками, и возможно, что причиной этого была невольная и жгучая ревность.26
При легком звякании колец занавески по заржавевшему металлическому пруту Бенедикт, еще не окончательно проснувшийся, приподнялся на постели и прошептал имя Валентины. Он только что видел ее во сне, но, увидев ее наяву, испустил столь радостный крик, что он достиг слуха Луизы, прогуливавшейся в глубине сада, и наполнил ее душу горечью. — Валентина, — пробормотал Бенедикт, — это ваша тень пришла за мной? Я готов следовать за вами. Валентина без сил опустилась на стул. — Это я сама пришла приказать вам жить, — ответила она, — или умолять вас убить меня вместе с вами. — Я предпочел бы последнее, — ответил Бенедикт. — О друг мой, — возразила Валентина, — самоубийство — нечестивый поступок, не будь его, мы соединились бы в могиле. Но господь бог запрещает самоубийство, он проклял бы нас, покарал бы, обрекши на вечную разлуку. Так примем же жизнь, какова бы она ни была; разве и в самом деле не находите вы в своих мыслях источника, способного пробудить ваше мужество? — Какой же источник, Валентина? Скажите скорее. — А моя дружба? — Ваша дружба? Это гораздо больше того, что я заслуживаю, я недостоин ответить на нее, да и не хочу. Ах, Валентина, вам следовало бы спать вечно; проснувшись, даже самая чистая женщина становится лицемеркой. Ваша дружба! — О, какой же вы эгоист! Значит, вам ничто мои угрызения совести! — Я чту их, именно потому-то я и хочу умереть. Зачем вы пришли сюда? Вам следовало бы забыть религию, угрызения совести и прийти сюда, чтобы сказать мне: «Живи, и я тебя полюблю», иначе вам лучше было бы остаться дома, забыть меня, дать мне погибнуть. Разве я у вас чего-нибудь просил? Разве хотел отравить вашу жизнь? Разве играл я вашим счастьем, вашими принципами? Разве я вымаливал ваше сострадание? Послушайте, Валентина, тот человеческий порыв, какой привел вас сюда, ваша дружба — все это пустые слова, которые могли бы обмануть меня месяц назад, когда я еще был ребенком и один ваш взгляд давал мне силы прожить день. С тех пор я перенес слишком много, слишком глубоко познал страсть и не позволю себя ослепить. Я не начну новой бесполезной и безумной борьбы, не в моих силах противостоять моему уделу. Знаю, что вы будете противиться мне, уверен, что вы так и поступите. Время от времени вы бросите мне слово ободрения и сочувствия, чтобы помочь мне в моих муках, и то, пожалуй, будете упрекать себя за это как за преступление и побежите к священнику, умоляя отпустить ваш грех, грех непростительный. Ваша жизнь будет искалечена и испорчена мною, ваша душа, доселе чистая и безмятежная, станет столь же бурной, как моя! Упаси боже! А я, вопреки всем этим жертвам, которые вы сочтете непомерно огромными, я буду несчастливейшим из людей! Нет, нет, Валентина, не будем заблуждаться. Я должен умереть. Такая, как вы есть, вы не можете любить меня, не мучаясь угрызениями совести, а я не желаю счастья, которое обойдется вам столь дорого. Я далек от мысли вас обвинять. Я люблю вас пылко и восторженно за вашу добродетель, за вашу силу. Оставайтесь же такой, какая вы есть, не спускайтесь ступенью ниже, чтобы стать вровень со мной. Старайтесь заслужить райское блаженство. А я, чья душа принадлежит небытию, я хочу возвратиться в это небытие. Прощайте, Валентина, спасибо вам за то, что вы пришли попрощаться со мной. Эти речи, силу которых Валентина ощутила всей душой, привели ее в отчаяние. Она не нашлась, что ответить, и, припав лицом на край постели, горько зарыдала. Самым главным обаянием Валентины была искренность ее переживаний, она не старалась ввести в заблуждение ни себя, ни других. Ее горе произвело на Бенедикта большее впечатление, чем все, что она могла бы ему сказать: он понял, что это столь благородное и столь честное сердце готово разорваться при мысли потерять его, Бенедикта, понял и обвинял себя. Он схватил руку Валентины; она прижалась лбом к его руке и оросила ее слезами. И тут он почувствовал небывалый прилив радости, силы и раскаяния. — Простите, Валентина, — вскричал он, — я жалкий, подлый человек, раз я заставил вас плакать! Нет, нет! Я не заслуживаю ни этой печали, ни этой любви, но, бог свидетель, я стану достойным их! Не уступайте мне, ничего мне не обещайте, только прикажите, и я буду повиноваться вам без слов. О да, это мой долг, я должен жить, как бы ни был я несчастлив, лишь для того, чтобы не пролилась ни одна ваша слезинка. Но, вспоминая, что вы сделали для меня нынче, я уже не буду несчастлив, Валентина. Клянусь, я перенесу все, никогда не пожалуюсь, не буду принуждать вас к жертвам и борьбе. Скажите только, что вы хоть изредка будете жалеть обо мне в тайниках своей души, скажите, что вы будете любить Бенедикта в тиши и волею божьею… Но нет, ничего не говорите, разве вы уже не сказали все? Разве я не понимаю, что только неблагодарный и глупый человек может потребовать большего, чем эти слезы и это молчание! Не правда ли, странная все-таки вещь язык любви? И какое необъяснимое противоречие для холодного наблюдателя заключено в этих клятвах стоицизма и добродетели, скрепленных пламенными лобзаниями под сенью плотных занавесок на ложе любви и страдания. Если бы можно было воскресить первого человека, которому господь бог дал подругу, дал ложе из мха и одиночество лесов, тщетно вы искали бы в этой первобытной душе способность любить. И обнаружили бы, что ему неведомы величие души и вся поэзия чувств. Не потому ли он был ниже, чем современный человек, развращенный цивилизацией? И не жила ли в этом атлетическом теле душа, не знающая страсти и мужества? Но нет, человек не меняется, только сила его направлена на иные препятствия, вот и все. В прежние времена он укрощал медведей и тигров, ныне он борется против общества со всеми его заблуждениями и невежеством. В этом его сила, отвага, а возможно, и слава. Физическая мощь сменилась мощью духовной. По мере того как из поколения в поколение приходит в упадок мускульная система, возрастает энергия человеческого духа. Выздоровление Валентины пошло быстро, Бенедикт поправлялся медленнее, но не посвященные в тайну все равно считали это чудом. Госпожа де Рембо, выиграв процесс и приписав победу всецело себе, возвратилась в замок провести несколько дней с дочерью. Убедившись, что дочь здорова, она тут же укатила в Париж. Избавившись от материнских забот, она сразу почувствовала себя моложе лет на двадцать. Валентина, отныне полная и ничем не стесняемая хозяйка замка Рембо, осталась одна с бабушкой, которая, как уже известно читателю, не была докучливым ментором. Вот тогда-то Валентина пожелала сойтись как можно ближе с сестрой. Для этого требовалось лишь согласие господина де Лансака, ибо можно было не сомневаться, что старуха маркиза с радостью встретит свою внучку. Но господин де Лансак еще ни разу не высказался достаточно открыто по этому вопросу, что не внушало Луизе особого доверия, да и сама Валентина начала сильно сомневаться в искренности мужа. Тем не менее она решила во что бы то ни стало предложить сестре приют в замке и была с ней подчеркнуто нежна, как бы желая загладить все то, что перенесла сестра по милости семьи; но Луиза отказалась наотрез. — Нет, дорогая, — сказала она, — я не желаю, чтобы по моей вине ты навлекла на себя неудовольствие мужа. Моя гордость уже заранее страдает при мысли, что я поселюсь в доме, откуда меня могут прогнать. Пусть лучше все останется по-прежнему. Теперь мы видимся без помех, чего же нам еще? К тому же я не могу долго оставаться в Рембо. Воспитание моего сына еще далеко не закончено, и я должна прожить в Париже несколько лет, чтобы следить за его учением. Нам будет легче встречаться там, но пусть наша дружба пока остается сладостной тайной для нас обеих. Свет наверняка осудит тебя за то, что ты протянула мне руку, а мать, возможно, даже проклянет. Вот они, наши неправедные судьи, их следует опасаться, и законы их нельзя преступать открыто. Пусть все останется по-прежнему, Бенедикт еще нуждается в моих заботах. Через месяц, самое большее, я уеду, а пока что постараюсь видеться с тобой каждый день. И в самом деле, сестры часто встречались. В парке стоял хорошенький павильон, где останавливался во время своих наездов в Рембо господин де Лансак; по желанию Валентины павильон превратили в ее кабинет для занятий. Сюда она велела перенести свои книги и мольберт, здесь проводила почти все время, а вечерами Луиза приходила к сестре, и они беседовали до поздней ночи. Несмотря на все эти меры предосторожности, личность Луизы была теперь установлена во всей округе, и слухи о ее пребывании здесь достигли наконец ушей старой маркизы. Сначала она испытывала чувство живейшей радости, в той мере, в какой ей было дано испытывать какие-либо чувства, и решила непременно позвать к себе внучку и расцеловать ее, так как в течение долгого времени Луиза была самой сильной привязанностью маркизы; но компаньонка старухи, особа осторожная и положительная, полностью подчинившая себе свою госпожу, дала ей понять, что об этой встрече рано или поздно узнает госпожа де Рембо и не преминет отомстить. — Но сейчас-то чего мне бояться, — возражала маркиза, — ведь мой пенсион теперь идет из рук Валентины. Разве я не в ее доме? И раз сама Валентина, как уверяют, видится тайком с сестрой, разве не порадует ее мое сочувствие? — Госпожа де Лансак, — отвечала старуха компаньонка, — зависит от своего мужа, а вы сами знаете, что господин де Лансак не особенно-то ладит с вами. Поостерегитесь, маркиза, зачем вам необдуманным шагом портить себе последние годы жизни. Ваша внучка сама не торопится вас увидеть, раз она не известила вас о своем прибытии в наши края; и даже госпожа де Лансак не сочла нужным посвятить вас в свою тайну. По моему мнению, вам следует вести себя так, как вы вели себя до сих пор, другими словами — делайте вид, что не замечаете опасности, которой подвергают себя другие, и постарайтесь любой ценой оградить свое спокойствие. Совет этот нашел могущественную поддержку в самом характере старой маркизы, поэтому был охотно принят: она закрыла глаза на то, что происходило вокруг, и все осталось в прежнем положении. В первое время Атенаис весьма жестоко обходилась с Пьером Блютти, и, однако, она не без удовольствия наблюдала, как упорно старается муж победить ее неприязнь. Такой человек, как господин де Лансак, удалился бы, уязвленный первым же отказом, но Пьер Блютти был в своем роде дипломат не хуже Лансака. Он отлично видел, что пыл, с каким он старается заслужить прощение жены, унижение, с каким его вымаливает, и нелепый скандал, который он устроил в присутствии тридцати свидетелей его унижения, — все это льстит тщеславию юной фермерши. Когда друзья Пьера покинули брачный пир, а он еще не вошел в милость супруги, он все же обменялся с ними на прощание многозначительной улыбкой, говорившей, что его отчаяние не так, мол, велико, как он хочет показать. И впрямь, когда Атенаис забаррикадировала дверь спальни, он, не долго думая, полез в окошко. Кого бы не тронула такая решимость — мужчина готов сломить себе шею, лишь бы добиться вас, — и когда на следующий день, во время завтрака, на ферму Пьера Блютти дошли вести о смерти Бенедикта, Атенаис сидела, вложив свою ручку в руку мужа, и каждый его выразительный взгляд вызывал на прелестных щечках фермерши яркую краску. Но сообщение о катастрофе вновь вызвало утихшую было грозу. Атенаис пронзительно закричала, ее без чувств вынесли из горницы. Когда на следующий день стало известно, что Бенедикт жив, кузина непременно пожелала его видеть. Блютти понял, что в такую минуту нельзя было перечить Атенаис, тем более что старики Лери сами показали пример дочери, примчавшись к изголовью умирающего. Поэтому Пьер решил, что разумнее всего будет пойти и ему тоже и показать тем самым своей новой родне, что он уважает их желания. Он понимал, что гордость его не пострадает от подобного проявления покорности, раз Бенедикт находится без сознания и его не узнает. Итак, он отправился с Атенаис навестить больного, и хотя его сочувствие к Бенедикту было не совсем искренним, вел он себя вполне прилично, надеясь заслужить благосклонность жены. Вечером, несмотря на настойчивое желание Атенаис провести ночь у постели больного, тетушка Лери приказала дочери отправляться домой вместе с мужем. Усевшись вдвоем в бричку, супруги сначала дулись друг на друга, но потом Пьер Блютти счел нужным переменить тактику. Он не только не показал, как оскорбляют его слезы жены, проливаемые по Бенедикту, — он сам стал оплакивать несчастного и воздал ему надгробную хвалу. Атенаис не ожидала встретить со стороны Пьера столько великодушия и, протянув мужу руки, прижалась к нему со словами: — Пьер, у вас доброе сердце, я постараюсь любить вас так, как вы того заслуживаете. Когда же Блютти увидел, что Бенедикт вовсе не собирается умирать, он стал не так спокойно смотреть на то, что его супруга то и дело бегает в хижину у оврага, однако он ничем не выдавал своего неудовольствия; но когда Бенедикт почувствовал себя крепче и даже начал ходить, ненависть снова пробудилась в сердце Пьера, и он счел, что наступило время проявить свою власть. Он был «в своем праве», как весьма тонко выражаются крестьяне, когда по счастливой случайности могут заручиться поддержкой закона, поправ голос совести. Бенедикт не нуждался более в уходе кузины, ее участие могло лишь скомпрометировать ее. Излагая все эти соображения супруге, Блютти смотрел на нее многозначительно, голос его звучал столь энергически, что Атенаис, впервые видевшая мужа в таком состоянии, отлично поняла, что пришла ее пора подчиняться. В течение нескольких дней она была печальна, а потом смирилась; если Пьер Блютти стал в некоторых отношениях проявлять себя как полновластный супруг, зато во всех прочих он оставался страстным любовником; это прекрасный пример того, как разнятся предрассудки в различных классах общества. Человек знатного происхождения и буржуа в равной мере сочли бы себя скомпрометированными любовью жены к другому. Удостоверившись в этом, они не стали бы искать руки Атенаис, общественное мнение заклеймило бы их позором; если бы их обманула жена, их преследовали бы насмешками. И, напротив, хитроумная и дерзкая политика, с какою Пьер Блютти повел дело, принесла ему среди односельчан великую честь. — Посмотрите на Пьера Блютти, — говорили люди, желая привести в пример образец решимости, — женился на кокетке, на девице избалованной, которая и не думала скрывать, что любит другого, и даже на свадьбе устроила скандал, хотела от него уйти. И что же? Он не отступился, добился своего, не только обломал ее, а еще заставил себя полюбить. Вот это парень! На такого пальцем показывать не будут. И, глядя на Пьера Блютти, каждый парень в округе поклялся себе не обращать внимания на то, что на первых порах жена может дать ему острастку.27
Не раз посещала Валентина домик у оврага; сначала ее присутствие успокаивало болезненное возбуждение Бенедикта, но как только он окреп и ее визиты прекратились, любовь его к Валентине стала горькой и мучительной; собственное положение казалось ему непереносимым, и Луизе пришлось несколько раз брать его вечером в павильон. Слабохарактерная Луиза, полностью порабощенная Бенедиктом, испытывала глубокие укоры совести и не знала, как извинить собственную неосторожность в глазах Валентины. А та со своей стороны шла навстречу опасности и радовалась, что сестра становится ее соучастницей. Она покорно отдалась воле рока, не желая заглядывать вперед, и черпала в неосмотрительности Луизы оправдание собственной слабости. Валентина не была от природы натурой страстной, но, казалось, судьбе угодно было ставить ее в необычные положения и окружать опасностями, для нее непосильными. Любовь — причина множества самоубийств, но многим ли женщинам довелось видеть у своих ног мужчину, который ради них пустил себе в лоб пулю? Если бы можно было воскрешать самоубийц, без сомнения, женщины со свойственным им великодушием искренне простили бы столь энергичное выражение преданности, и если нет для женского сердца ничего страшнее, чем самоубийство ее возлюбленного, ничто, пожалуй, так не льстит тайному тщеславию, которое живет в нас по соседству с другими страстями. Вот в каком положении очутилась Валентина. Чело Бенедикта, еще прочерченное глубоким шрамом, было неотступно перед ее глазами, как ужасная печать клятвы, в искренности коей нельзя усомниться. Валентина не могла пользоваться против Бенедикта тем оружием, каким пользуются женщины, отказываясь нам верить, высмеивая нас, дабы иметь возможность нас не жалеть и не утешать. Бенедикт доказал ей свою любовь делом, это не были те неопределенные угрозы, которыми так легко злоупотребляют, стараясь завоевать женщину. Хотя глубокая и широкая рана зарубцевалась, Бенедикта на всю жизнь отметило неизгладимое клеймо. Раз двадцать во время болезни он пытался разбередить рану, срывал швы, с неестественной жестокостью раздвигал края уже срастающейся ткани. Эта твердая воля к смерти была сломлена лишь самой Валентиной; лишь повинуясь ее приказанию, ее мольбам, Бенедикт отказался от своего намерения. Но догадывалась ли Валентина, как тесно она связала себя с Бенедиктом, потребовав от него подобной жертвы? Бенедикт не мог скрыть этого от себя; вдали от Валентины он строил тысячи самых дерзких планов, он упорствовал в своих вновь пробудившихся надеждах, твердил себе, что Валентина уже не вправе в чем-либо отказать ему, но стоило ему попасть под власть ее чистого взгляда, ее благородных и кротких манер, как он робел, укрощенный, и был счастлив самым слабым доказательством ее дружбы. Однако опасность их положения возрастала. Стремясь обмануть свои чувства, они вели себя как близкие друзья; и это также было неосторожно, даже непреклонная Валентина не могла заблуждаться на сей счет. Луиза, желая придать их свиданиям более спокойный характер и ломавшая себе голову, лишь бы что-то придумать, придумала музицирование. Она умела немного аккомпанировать, а Бенедикт превосходно пел. Это лишь довершало опасности, подстерегавшие влюбленных. Душам успокоившимся и отгоревшим музыка может показаться искусством, созданным для развлечения, невинным и мимолетным удовольствием, но для душ страстных она неиссякаемый источник поэзии, самый выразительный язык сильных страстей. Так именно воспринимал ее Бенедикт. Он знал, что человеческий голос, когда его модуляции ведет душа, наиболее непосредственное, наиболее энергическое выражение чувств; путь от музыки к сознанию слушающего короче, когда звуки не охлаждены избытком слов. Мысль, принявшая форму мелодии, велика, поэтична и прекрасна. Валентина, недавно пережившая жестокое нервное потрясение, еще не окончательно исцелившаяся, в иные часы становилась жертвой лихорадочной экзальтации. В такие часы Бенедикт неотступно находился при ней и пел для нее. Валентину бросало то в жар, то в холод, вся кровь приливала к голове и сердцу, она прижимала руки к груди, чтобы успокоить готовое разорваться сердце, так неистово билось оно, потрясенное звуками, шедшими прямо из груди, из души Бенедикта. Когда он пел, он становился прекрасным, вопреки — или, скорее, благодаря — шраму, изуродовавшему лоб. Он любил Валентину страстно и доказал ей это. Разве это не способно хоть немного украсить человека? К тому же глаза юноши загорались чарующим блеском. Когда он в сумерках садился за фортепьяно, глаза его сверкали, как две звезды. Любуясь в неясных вечерних отблесках этим высоким белым челом, казавшимся еще выше из-за густых черных волос, этим огненным взглядом, продолговатым бледным лицом, полускрытым в тени и потому то и дело менявшимся на ее глазах, Валентина испытывала страх, ей казалось, что перед ней возникает кровавый призрак некогда любимого человека; и когда он пел глубоким, мрачным голосом арию Ромео Цингарелли, ее охватывали ужас и волнение, и, полная предчувствия, она, дрожа, жалась к сестре. Все эти сцены безмолвной и затаенной страсти разыгрывались в павильоне, куда Валентина велела перенести свое фортепьяно, и постепенно получилось так, что Луиза с Бенедиктом стали проводить здесь с ней все вечера. Опасаясь, как бы Бенедикт не догадался о бурном волнении, овладевавшем ею, Валентина взяла за привычку не зажигать летними вечерами огня; Бенедикт пел без нот, по памяти. Потом они отправлялись побродить по парку, или болтали, сидя у окна, вдыхая свежий аромат смоченной грозовым ливнем листвы, или взбирались на вершину холма полюбоваться луной. Если бы такая жизнь могла длиться и впредь, она была бы прекрасна, но Валентина, мучимая угрызениями совести, отлично понимала, что и так она длится чересчур долго. Луиза ни на минуту не оставляла их наедине, она считала своим долгом не спускать глаз с Валентины, но временами долг этот становился ей в тягость, ибо она замечала, что руководит ею ревность, и тогда ее благородная душа невыносимо страдала в борении с этим низким чувством. Как-то вечером Бенедикт показался Луизе более оживленным, чем обычно, его горящие взоры, выражение голоса, когда он обращался к Валентине, причиняли Луизе такую боль, что она удалилась, не в силах вынести свою роль и свои муки. Она ушла в парк, чтобы подумать в одиночестве. Когда Бенедикт очутился наедине с Валентиной, он почувствовал, что дрожит с головы до ног. Она попыталась было завести обычный ничего не значащий разговор, но голос ей не повиновался. Испугавшись самой себя, она несколько минут сидела молча, потом попросила Бенедикта спеть, но пение произвело на ее нервы такое потрясающее действие, что она вышла, оставив его одного за фортепьяно. Раздосадованный Бенедикт продолжал петь. Тем временем Валентина присела под деревом на лужайке, в нескольких шагах от полуоткрытого окна. Сюда сквозь листву, которой играл благоуханный ветерок, голос Бенедикта доносился еще более сладостно и ласково. Все вокруг было ароматом и мелодией. Она закрыла лицо руками и, охваченная самым сильным соблазном, какой только выпадал на долю женщины, залилась слезами. Бенедикт замолк, а она и не заметила этого, так как чары длились. Он подошел к окну и увидел Валентину. Гостиная помещалась в нижнем этаже, Бенедикт выскочил из окна и присел на траву у ног Валентины. Онамолчала, и он, испугавшись, что ей нездоровится, решился отвести ее руки от лица. Тут он увидел слезы, и из его груди вырвался крик изумления и торжества. Сраженная стыдом, Валентина, желая спрятать лицо, припала к груди любимого. Как это случилось, что губы их встретились? Валентина пыталась сопротивляться, Бенедикт не нашел в себе силы ей повиноваться. Прежде чем Луиза подошла к ним, они успели обменяться сотней клятв и столькими же страстными поцелуями. Где же вы были, Луиза?28
С той минуты как они приблизились к краю гибели, Бенедикт почувствовал себя столь счастливым, что в упоении гордыни стал пренебрегать опасностью. Он бросал вызов року и верил, что с любовью Валентины непременно победит все препятствия. Он был горд своим торжеством, и это придало ему отваги, он заставил замолчать угрызения совести, мучившие Луизу. Впрочем, ему удалось отвоевать себе относительную независимость; пока Луиза преданно ухаживала за ним, он вынужден был волей-неволей подчиняться ей. Со времени его окончательного выздоровления Луиза переселилась на ферму, и вечерами они сходились у Валентины, добираясь до павильона каждый своей дорогой. Не раз случалось Луизе приходить позже, случалось, что Луиза вообще не приходила, и Бенедикт проводил долгие вечера наедине с Валентиной. На следующий день, когда Луиза расспрашивала сестру, она без труда угадывала по ее смятению, какого рода разговоры вели влюбленные, ибо тайна Валентины перестала быть таковой для Луизы; она так страстно стремилась проникнуть в тайну сестры, что ее попытки давно увенчались успехом. Чаша горечи переполнилась и становилась бездонной оттого, что Луиза была не способна быстро излечить свой недуг. Она понимала, что собственная ее слабость губительна для Валентины. Владей ею иные мотивы, кроме личных, она, не колеблясь, открыла бы сестре глаза на всю опасность создавшегося положения, но, сжигаемая ревностью, хранившая в душе гордость, она предпочитала поставить на карту счастье Валентины, нежели поддаться чувству, вызывавшему у нее самой краску стыда. В этой бескорыстности был свой эгоистический расчет. Луиза решила вернуться в Париж, чтобы положить конец этой затянувшейся пытке, так ничего и не придумав для спасения сестры. Она сочла лишь необходимым осведомить ее о своем скором отъезде, и как-то вечером, когда Бенедикт собирался уходить, Луиза не пошла с ним, как обычно, а попросила сестру уделить ей несколько минут для разговора. Услышав эти слова, Бенедикт помрачнел, его неустанно мучила мысль, что Луиза, терзаемая угрызениями совести, хочет повредить ему в глазах Валентины. Такие мысли восстанавливали его еще больше против этой великодушной и преданной женщины, и бремя признательности в отношении Луизы казалось ему тягостным и неприятным. — Сестра, — начала Луиза, — пришло время нам расстаться. Я не могу дольше жить вдали от сына. Ты во мне больше не нуждаешься, я завтра уезжаю. — Завтра! — воскликнула испуганная Валентина. — Ты меня покидаешь, оставляешь одну, Луиза, а что станется со мной? — Ведь ты же выздоровела, разве ты не свободна и не счастлива, Валентина? Зачем тебе теперь нужна несчастная Луиза? — О сестра моя! Сестра моя! — вскричала Валентина, бросаясь на шею Луизы. — Нет, ты меня не покинешь! Ты не знаешь моих страданий, не знаешь, какая опасность подстерегает меня на каждом шагу! Если ты покинешь меня, я погибла. Луиза грустно молчала, она не могла подавить чувство невольной неприязни, выслушивая признания Валентины, и, однако ж, не смела прервать сестру. А Валентина с краской стыда на лице не решалась заговорить. Холодное и жестокое молчание Луизы сковывало Валентину страхом. Наконец она преодолела внутреннее сопротивление и промолвила взволнованным голосом: — Значит, ты не хочешь остаться со мной, Луиза, хотя я сказала, что без тебя я погибну? Слово это, повторенное дважды, приобрело для Луизы какой-то новый смысл, и это невольно вызывало ее раздражение. — Погибнешь? — горько повторила она. — Ты уже погибла, Валентина? — О сестра, — ответила Валентина, оскорбленная тем, что Луиза вкладывает в ее слова совсем иной смысл, — бог пока хранит меня, он свидетель, что по собственной воле я не поддалась никакому чувству, не сделала ни одного шага в ущерб своему долгу. Это благородная гордость собой, на какую Валентина пока еще имела право, выводила из себя ту, что, возможно, чересчур опрометчиво отдалась своей страсти. Луизу, отмеченную неизгладимым клеймом, все уязвляло слишком легко, и теперь она почувствовала к сестре чуть ли не ненависть как раз за ее превосходство. На мгновение все благородные чувства — дружба, жалость, великодушие — угасли в ее сердце, лучшим способом мести показалось ей сейчас унизить Валентину. — О чем идет речь? — жестко спросила она. — О каких опасностях? Какие опасности имеешь ты в виду? Ничего не понимаю. Голос ее прозвучал так сухо, что сердце Валентины болезненно сжалось; впервые она видела сестру в таком состоянии. С минуту она молча и с удивлением глядела на Луизу. При неярком свете свечи, стоявшей на фортепьяно в углу комнаты, ей померещилось, будто она прочла на лице сестры еще незнакомое выражение. Брови Луизы сошлись к переносице, бледные губы были плотно сжаты, а тусклый и суровый взгляд безжалостно прикован к Валентине. Потрясенная Валентина невольно отодвинула стул и, вся дрожа, попыталась найти причину этой презрительной холодности, — впервые в жизни она стала объектом таких чувств. Но она могла скорее вообразить себе все, что угодно, чем догадаться об истине. Смиренная и набожная Валентина обрела в эту минуту весь героизм духа, какой дает женщинам религия, и, бросившись к ногам сестры, спрятала в ее коленях залитое слезами лицо. — Вы совершенно правы, бичуя меня, — проговорила она, — я это вполне заслужила, и пятнадцать лет добродетельной жизни дают вам право направлять мою неосмотрительную и суетную молодость. Браните меня, презирайте, но снизойдите к моему раскаянию и моим страхам. Защитите меня, Луиза, спасите меня, вам и это под силу — ведь вы знаете все! — Молчи! — воскликнула Луиза, до глубины души потрясенная словами сестры, пробудившимися в ее душе все благородные чувства, которые составляли основу ее характера. — Встань, Валентина, сестра моя, дитя мое, не стой передо мной на коленях. Это я должна преклонить перед тобой колена. Это я достойна презрения, и это я должна молить тебя, как ангела божьего, примирить меня с богом! Увы! Валентина, я знаю все твои горести, но к чему ты хочешь доверить их мне, мне, несчастной? Ведь я не могу быть тебе защитой, не имею права давать тебе советы! — Ты вправе давать мне советы, вправе защитить меня, Луиза, — ответила Валентина, горячо целуя сестру. — Разве не опыт дает тебе силу и разум? Этот человек должен удалиться, или я сама должна уехать отсюда. Мы не должны больше видеться. С каждым днем опасность возрастает, и все труднее становится для меня возврат к богу. О, я только что зря похвалялась, я чувствую сердцем свою вину. Горькие слезы, которые лила Валентина, надрывали сердце Луизы. — Увы, — растерянно произнесла она, побледнев как полотно, — значит, зло еще страшнее, чем я опасалась. И вы, вы тоже несчастны навеки! — Навеки? — пробормотала в испуге Валентина. — Но с помощью неба и с твердым намерением исцелиться… — Исцеления нет! — зловещим тоном сказала Луиза, прижав обе руки к своему наболевшему, безнадежному сердцу. Поднявшись со стула, она в волнении стала ходить по комнате, время от времени останавливаясь перед Валентиной, и говорила срывающимся голосом: — Почему, почему спрашивать советов у меня? Кто я, чтобы советовать и исцелять? Да что там, вы просите поделиться героизмом, побеждающим страсти, просите добродетелей, на коих зиждется общество, просите у меня, у меня, несчастной женщины, которую страсти иссушили, которую общество прокляло и изгнало! И где возьму я то, чего у меня нет? Как могу я дать вам то, чего лишена сама? Обращайтесь к женщинам, которых чтит общество, обратитесь к вашей матери! Вот кто непогрешим, ведь никому не известно, что мой любовник был также и ее любовником. Она проявила столько осмотрительности! Когда мой отец, когда ее супруг убил этого человека, принесшего ему ложную клятву, она рукоплескала, она торжествовала на глазах всего общества, так как обладает незаурядной силой души и гордыней. Такие женщины умеют побеждать страсти или исцеляться от них. Испуганная словами сестры, Валентина хотела было прервать ее, но Луиза продолжала, как в бреду: — А такие женщины, как я, падают в борьбе и гибнут навеки! Такие женщины, как вы, Валентина, должны молиться и бороться, должны черпать силу в самой себе, а не просить ее у других. Советы! Советы! Ведь любой совет, какой может исходить от меня, вы в состоянии дать себе сами. Важен не совет, важно найти силу ему следовать. Значит, вы считаете, что я сильнее вас? Нет, Валентина, я не такова. Вы сами знаете, какой была моя жизнь, с какими неукротимыми страстями родилась я на свет, и вы знаете также, куда они меня завели! — Молчи, Луиза, — воскликнула с горечью Валентина, прильнув к плечу сестры, — не клевещи на себя, довольно! Какая другая женщина могла бы проявить в падении больше величия и силы? Неужели можно вечно обвинять тебя за ошибку, совершенную в годы неведения и слабости? Увы, вы были тогда совсем ребенком, с тех пор вы проявили столько величия души, вы завоевали уважение любого существа с благородным сердцем. Так согласитесь же, что вам лучше чем кому-либо известна добродетель. — Увы, — вздохнула Луиза, — не посоветую никому познать ее такой ценою; с детства предоставленная себе самой, лишенная помощи религии и материнского покровительства, воспитанная нашей бабушкой, женщиной легкомысленной и чуждой стыду, — я была обречена идти от позора к позору! И если этого не случилось, то лишь потому, что судьба преподала мне кровавые и страшные уроки. Мой любовник, убитый моим же отцом, мой отец, сраженный горем и стыдом за поступок дочери, отец, искавший и нашедший смерть на поле брани через несколько дней после поединка; я, проклятая родными, изгнанная из родительского дома и понуждаемая бедностью влачиться из города в город с умирающим от голода ребенком на руках… О Валентина, вот где ужасная судьба! Впервые Луиза так смело говорила сестре о своих несчастьях. С каким мрачным удовлетворением оплакивала она свою участь, не в силах преодолеть нервическое возбуждение, забыв о горе Валентины, забыв о том, что обязана быть ее оплотом. Но этот безнадежный вопль раскаяния произвел больше впечатления, нежели самые красноречивые увещевания. Нарисовав Валентине картину бедствий, куда вовлекают человека страсти, Луиза наполнила душу сестры ужасом. Валентина уже видела себя на краю бездны, куда некогда упала Луиза. — Вы правы, — вскричала она, — ваша судьба страшна, и, чтобы вынести ее так мужественно и благородно, надо быть вами, а моя душа, не наделенная такой силой, погибнет. Но, Луиза, помогите мне обрести мужество, помогите мне удалить Бенедикта. Как только она произнесла это имя, за спиной их раздался приглушенный шорох. Сестры невольно вскрикнули, увидев, что за ними, подобно бледному призраку, стоит Бенедикт. — Вы упомянули мое имя, мадам, — обратился он к Валентине с ледяным спокойствием, под которым порой умел искусно скрывать свои подлинные чувства. Валентина попыталась улыбнуться. Но Луиза сразу обо всем догадалась. — Где же вы были, — спросила она, — раз вы слышали наш разговор? — Я был совсем рядом, мадемуазель, — ответил Бенедикт, бросив на нее непроницаемый взгляд. — Это по меньшей мере странно, — сурово проговорила Валентина. — Если меня не обманывает память, сестра сказала вам, что хочет поговорить со мной наедине, а вы никуда не ушли и, разумеется, слышали нашу беседу… Впервые видел Бенедикт, как Валентина сердится на него. Сначала он опешил и чуть было не отказался от своего дерзкого плана. Но так как для него это был решительный момент, он смело решил рискнуть и проговорил, сохраняя обычную твердость и спокойствие во взгляде и манерах, что давало ему власть над людскими душами: — Бесполезно скрывать, да, я был здесь, да, я спрятался за шторой и слышал каждое произнесенное вами слово. Я мог бы услышать больше и незаметно скрыться через то же окно, куда я вошел. Но я был слишком заинтересован темой вашего спора. Он замолк, увидел, что Валентина стала белее, чем ее воротничок, и с удрученным видом упала в кресло. Ему хотелось броситься к ее ногам, облить слезами ее руки, но он отлично понимал, что обязан обуздать смятение сестер силою своего хладнокровия и стойкости. — Ваш разговор был для меня настолько важен, — повторил он, — что я счел себя вправе принять в нем участие. Будущее покажет, прав я или нет. А пока попытаемся поспорить с предназначенной нам судьбой. Луиза, вам не придется краснеть за то, что вы говорили здесь в моем присутствии: помните, что вы уже десятки раз обличали себя при мне точно таким же образом, и я, грешный, подумал было, что в вашем добродетельном самоуничижении есть доля кокетства, — вы же отлично знаете, какое впечатление должна производить ваша исповедь на таких людей, как я, то есть на тех, что чтят вас за все пережитые испытания. С этими словами он взял руку Луизы, которая, склонившись над сестрой, обнимала ее; потом ласково и заботливо подвел ее к креслу, стоявшему в дальнем углу комнаты, сам опустился на стул, на котором она сидела раньше, и, очутившись, таким образом, между сестрами, повернулся к Луизе спиной, сразу же забыв о ее присутствии. — Валентина, — начал он звучным, торжественным тоном. Впервые он осмелился назвать ее по имени в присутствии третьего лица. Валентина вздрогнула, отняла руки от лица и бросила на Бенедикта холодный, оскорбленный взгляд. Но он повторил ее имя с такой властной нежностью, в глазах его засверкала такая любовь, что Валентина снова закрыла лицо руками, боясь взглянуть на Бенедикта. — Валентина, — продолжал он, — не пытайтесь прибегать со мной к этому ребяческому притворству, которое считается главной защитой вашего пола, мы уже не можем обманывать друг друга. Видите этот шрам, я унесу его с собой в могилу! Это печать и символ моей к вам любви. Не считаете же вы, в самом деле, что я соглашусь потерять вас; надеюсь, вы не впадете в столь наивное заблуждение. Нет, Валентина, даже и не думайте об этом. Бенедикт взял ее руки в свои. Укрощенная его решительным видом, она не сопротивлялась, только испуганно глядела на него. — Не прячьте от меня ваше лицо, — сказал он, — и не бойтесь взглянуть на призрак, который вы спасли от могилы! Вы сами этого пожелали, и если ныне я стал в ваших глазах ужасным и отвратительным пугалом, пеняйте на себя. Но, послушай, Валентина, моя всемогущая владычица, я слишком люблю тебя, чтобы противоречить: скажи всего одно слово, и я опять сойду во гроб, откуда ты меня подняла. Тут он вынул из кармана пистолет и показал его Валентине. — Видишь, — сказал он, — это тот же самый, все тот же самый; сослужив мне верную службу, он по-прежнему цел и невредим, и этот надежный друг всегда к твоим услугам. Скажи одно слово, прогони меня, и все будет кончено. О, успокойтесь, — воскликнул он насмешливо, видя, что сестры, побледнев от страха, с криком отпрянули назад, — не бойтесь, я не убью себя на ваших глазах, это ведь неприлично; я знаю, что следует щадить нервы дам. — Какая ужасная сцена! — воскликнула перепуганная Луиза. — Вы доведете Валентину до могилы. — Вы будете потом читать мне наставления, мадемуазель, — возразил Бенедикт высокомерно и сухо, — а теперь я говорю с Валентиной и еще не сказал всего. Разрядив пистолет, он положил его в карман. — Послушайте, — обратился он к Валентине, — ради вас только я живу, не ради вашего удовольствия, но и ради своего. А мои удовольствия и радости были и будут весьма скромными. Я не прошу у вас ничего, кроме чистейшей дружбы, которую вы можете подарить мне не краснея. Спросите вашу память и вашу совесть, видели ли вы когда-либо, чтобы Бенедикт, у которого нет ничего, кроме единой страсти, был дерзок или опасен? А эта страсть — вы. Вам не на что надеяться, никогда у него не будет иной страсти, у него, который уже стар сердцем и слишком искушен; тот, кто вас любил, никогда не полюбит другую женщину, и в конце концов этот Бенедикт, которого вы намерены прогнать, не такой уж зверь! Да что там, значит, вы слишком любите меня, если боитесь, и вы слишком презираете меня, если надеетесь, что я соглашусь отказаться от вас. О, какое безумие! Нет, нет, пока я дышу, я не откажусь от вас; клянусь в том-небом и адом, я буду вас видеть, буду вашим другом, вашим братом, а если нет — да проклянет меня бог! — Сжальтесь, замолчите, — бледнея и задыхаясь, проговорила Валентина, судорожно сжимая его руки, — я сделаю все, что вы пожелаете, я навек погублю свою душу, если это понадобится, лишь бы спасти вашу жизнь… — Нет, вы не погубите вашу душу, — возразил он, — вы спасете нас обоих. Неужели вы полагаете, что я не смогу тоже заслужить блаженство и сдержать клятву? Увы, до встречи с вами я едва ли верил в бога, но я усвоил все ваши принципы, принял вашу веру. Я готов поклясться в том любым из ангелов, которого вы мне назовете. Дайте мне жить, Валентина, это для вас такая малость! Я не отвергаю смерть, умереть вновь, на сей раз по вашему слову, будет мне еще слаще, чем в тот, первый раз. Но смилуйтесь, Валентина, не обрекайте меня на небытие. Ну, вот вы и нахмурились. О, ты ведь знаешь, что я тоже верю в рай, где я буду с тобою, но рай без тебя — небытие. Там, где нет тебя, нет неба, я знаю это, знаю, и если ты обречешь меня на смерть, я могу убить и тебя, чтобы с тобой не расставаться. Я много думал об этом, и эта мысль чуть было не возобладала над всеми прочими. Но послушай меня, побудем здесь еще несколько дней! Увы, разве мы не счастливы? И в чем же мы виновны? Ты не покинешь меня, скажи, что не покинешь! Ты не прикажешь мне умереть, это было бы немыслимо, ведь ты любишь меня и знаешь, что твоя честь, твой покой, твои принципы для меня священны. Неужели, Луиза, вы считаете, что я способен злоупотреблять ими? — спросил он, резко оборачиваясь к старшей сестре. — Вы только что нарисовали ужасающую картину зла, куда завлекают человека страсти, но я верю в себя, и если бы тогда вы полюбили меня, ваша жизнь не была бы отравлена и загублена. Нет, Луиза, нет, Валентина, не все мы так подлы… Еще долго говорил Бенедикт то пылко и страстно, то с холодной иронией, то кротко и нежно. Напугав обеих женщин и укротив их силою страха, он растрогал их и тем окончательно подчинил себе. Ему удалось полностью покорить их, и к моменту разлуки он без труда получил все обещания, какие всего час назад обе сочли бы немыслимым ему дать.29
Вот каков был результат их беседы. Луиза уехала в Париж и возвратилась через две недели вместе с сыном. Она убедила мадам Лери ежемесячно брать с нее за содержание определенную сумму. Бенедикт и Валентина поочередно занимались воспитанием Валентина и продолжали видеться почти ежедневно после захода солнца. Пятнадцатилетний Валентин был высокий, стройный белокурый мальчик. Он походил на Валентину, и характер у него был такой же ровный и легкий. Уже сейчас его большие голубые глаза глядели с нежно ласкающим выражением, которое всех чаровало в его тетке. И улыбка у него была такая же ясная, добрая. Чуть ли не с первого дня он проникся к ней такой любовью, что мать почувствовала невольную ревность. Был установлен твердый распорядок его занятий: каждое утро он два часа занимался с теткой, которая стремилась привить ему любовь к изящным искусствам. А все остальное время он проводил в домике у оврага. Бенедикт достаточно много и хорошо учился и с успехом заменил мальчику его парижских учителей. Чуть ли не силком он заставил Луизу доверить ему воспитание сына; он чувствовал, что ему хватит мужества и воли посвятить мальчику многие годы своей жизни. Таким образом, он как бы расквитался с Луизой и с жаром взялся за свои обязанности. Но когда Бенедикт впервые увидел Валентина, столь похожего и лицом и характером на Валентину, не говоря уже о том, что у них были одинаковые имена, он почувствовал к мальчику такую привязанность, на какую не считал себя способным. Он принял его в сердце свое и, желая избавить ребенка от долгой ежедневной ходьбы, убедил Луизу поселить Валентина у него в доме. Правда, он пережил немало неприятных минут, когда сестры, под тем предлогом, что им хочется устроить ребенка с большими удобствами, рьяно взялись украшать его жилище. Их трудами через несколько дней домик у оврага превратился в прелестный уголок, как бы созданный для уединенной жизни такой скромной и поэтической натуры, как Бенедикт; вместо каменных плиток, от которых шла вредная для здоровья сырость, появился новый деревянный пол, поднятый над землей на несколько футов. Стены обтянули простой темной материей, но зато она была изящно подхвачена и образовывала как бы шатер с целью скрыть потолочные балки. Простенькая, но чистая мебель, со вкусом подобранные книги, несколько гравюр и картин, принесенных из замка и написанных Валентиной, довершали убранство, и, словно по мановению волшебного жезла, под соломенной кровлей хижины Бенедикта возник вдруг изящный рабочий кабинет. Валентина подарила племяннику хорошенького пони местной породы, чтобы мальчик мог по утрам ездить к ней завтракать и заниматься. Садовник из замка привел в порядок маленький садик, разбитый перед хижиной; грядки с прозаическими овощами он скрыл за виноградными шпалерами; засеял цветами травяной ковер перед крыльцом, обвил вьюнком и хмелем стены и даже почерневшую соломенную крышу хижины; увенчал вход навесом из жимолости и ломоноса, расчистил остролист и кустарник в овраге, чтобы в просветы был виден дикий и живописный ландшафт. Как человек умный, которого не сумело оглупить даже обучение агрономическим наукам, он пощадил высокий папоротник, лепившийся на скалах, очистил ручеек, оставив замшелые камни и окаймлявший его пурпурный вереск. Словом, жилище Бенедикта стало неузнаваемым. Щедрость Бенедикта и доброта Валентины закрывали все уста, не позволяя сорваться с них дерзкому намеку. Можно ли было не любить Валентину? В первые дни после приезда племянника, этого живого свидетельства бесчестия его матери, в деревне и среди прислуги в замке начались пересуды. Как ни благожелателен человек по натуре, он не так-то легко откажется от столь благоприятного случая позлословить и посудачить. Поэтому ничто не ускользнуло от посторонних глаз — и частые появления Бенедикта в замке и загадочная уединенная жизнь госпожи де Лансак. Старушки, впрочем, от души ненавидевшие госпожу де Рембо, болтая с соседками, замечали, жалостно вздыхая и подмигивая, что с отъездом графини в замке, мол, все переменилось и знай она, что тут творится, она бы не стерпела. Но все эти пересуды разом прекратились, когда в долину нагрянула эпидемия. Валентина, Бенедикт и Луиза самоотверженно ухаживали за недужными, не боясь заразы, помогали людям, ничего не жалея, брали на себя расходы, поддерживали бедняков в нужде, наставляли богатых. В свое время Бенедикт немного изучал медицину, с помощью кровопусканий и разумно подобранных лекарств он спас многих из своих пациентов. Нежные заботы Луизы и Валентины облегчали предсмертные муки одних и уменьшали страдания тех, кому суждено было выжить. Когда эпидемия затихла, никто уже не вспомнил, почему так много судили и рядили о таком милом юноше, как Бенедикт, переселившемся в их края. Все, что ни делали отныне Валентина, Бенедикт и Луиза, считалось непогрешимо правильным, и если какой-нибудь обыватель из соседнего городка осмелился бы завести на их счет двусмысленный разговор, то любой крестьянин в округе трех лье задал бы ему трепку. Не сладко пришлось одному слишком любопытному прохожему, который от нечего делать вздумал в деревенских кабачках задавать нескромные вопросы насчет этих трех лиц. Но особенно уверенно чувствовали они себя еще и потому, что Валентина распустила весь штат лакеев, весь этот дерзкий, неблагодарный и низкий люд, рожденный в ливрее, пятнавший все и вся своим взглядом, словом, всех тех слуг, которыми охотно окружала себя графиня де Рембо, желавшая иметь под рукой рабов, чтобы невозбранно их тиранить. После свадьбы Валентина обновила весь штат прислуги и наняла добрых слуг из числа полудеревенских, которые, прежде чем пойти в услужение к хозяину, заключают с ним по всем правилам договор, зато служат ему степенно, не спеша и с охотой, если только так можно выразиться, которые отвечают на его приказания: «Ладно, сделаю» или «Что ж, можно», и подчас приводят его в отчаяние, безбожно круша дорогой фарфор; зато они не украдут ни одного су; будучи неуклюжими, тяжеловесными по природе, они наносят изысканному жилищу непоправимый ущерб, словом, невыносимые, но превосходные люди, обладающие всеми достоинствами патриархального века, которые благодаря здравому своему смыслу и счастливому своему невежеству представления не имеют о том поспешном и угодливом подхалимстве, какого мы, по обычаю, требуем от челяди; которые исполняют ваше приказание без спешки, но зато уважительно, бесценные люди, еще верящие в свой долг, ибо долг их диктуется искренними и разумными доводами; здоровяки, которые, не задумываясь, отдерут хлыстом денди, посмевшего их ударить, которые служат вам лишь из чувства дружбы, которых ничто на свете не помешает вам любить или проклинать, которых сто раз на дню посылаешь ко всем чертям, но которых ни за какие блага мира не осмелишься выставить за дверь. Старуха маркиза могла бы в какой-то мере помешать планам наших троих друзей. Валентина уже совсем было собралась ей довериться и склонить на свою сторону. Но как раз в это время маркиза чуть было не стала жертвой апоплексического удара. Разум ее и память так помутились, что нельзя было надеяться втолковать ей что-либо. Куда девались ее прежняя подвижность и силы! Она почти не выходила из спальни и, впав в набожность, с каким-то ребяческим пылом с утра до ночи молилась вместе со своей компаньонкой. Религия, всю жизнь бывшая для нее лишь игрой, стала теперь любимым развлечением; маркиза твердила лишь «Отче наш», так как из ее ослабевшей памяти вылетели все прочие молитвы. Итак, во всем доме осталась лишь одна особа, которая могла навредить Валентине, — компаньонка старухи маркизы. Но мадемуазель Божон (такова была ее фамилия) стремилась лишь к одному — обводить свою хозяйку вокруг пальца и прикарманивать все, что только попадалось под руку. Валентина, зорко следившая за тем, чтобы Божон не употребляла во зло своей власти над бабушкой, вскоре убедилась, что компаньонка вполне заслужила право на эти поборы, ухаживая за старушкой заботливо и усердно; поэтому Валентина оказывала ей полное доверие, за что компаньонка была ей глубоко признательна. Госпожа де Рембо, до которой стороной дошли слухи о дочери (как бы ни изощрялись люди, ничто не может оставаться в полной тайне), написала мадемуазель Божон письмо, желая узнать, можно ли верить всем этим пересудам. Графиня весьма рассчитывала на эту Божон, которая не очень-то жаловала Валентину и всегда была не прочь наклеветать на нее. Но милейшая Божон в послании, весьма примечательном как по стилю, так и по орфографии, поспешила успокоить свою адресатку и уверила, что никогда и не слыхивала таких странных вещей, что все это, бесспорно, выдумали сплетники из окрестных городков. Компаньонка собиралась удалиться на покой сразу же после кончины старой маркизы, поэтому ее мало тревожил гнев графини, коль скоро она покинет замок с туго набитой мошной. Господин де Лансак писал очень редко, и в письмах его не чувствовалось ни нетерпения вновь увидеть жену, ни малейшего желания узнать, как обстоят ее сердечные дела. Таким образом, благоприятное стечение обстоятельств способствовало счастью, которое Луиза, Валентина и Бенедикт крали, если только так можно выразиться, у законов приличия и предрассудков. Валентина велела обнести оградой ту часть парка, где был расположен павильон, — получилось что-то вроде заповедника, тенистого и богатого растительностью. По краям участка насадили стеной вьющиеся растения, возвели целую крепостную стену из дикого винограда и хмеля, а изгородь из молодых кипарисов подстригли в виде завесы, так что они образовали непроницаемый для глаз барьер. Среди этих лиан, в этом очаровательном уголке, за этой укромной сенью возвышался павильон, а рядом бежал весело лепечущий ручей, бравший начало в горах и распространявший прохладу вокруг этого зовущего к мечтам таинственного приюта. Никому не было сюда доступа, кроме Валентины, Луизы, Бенедикта, да еще Атенаис, когда ей удавалось ускользнуть от бдительного надзора мужа, который не желал, чтобы его супруга поддерживала отношения с кузеном. Каждое утро Валентин, которому вручили ключи от павильона, поджидал здесь свою тетю. Он поливал цветы, менял букеты в гостиной, иной раз садился за фортепьяно и пробовал свои силы в музыке или наводил порядок в птичнике. Подчас он забывался, сидя на скамье, весь во власти неясных, тревожных грез, свойственных отрочеству; но, заметив еще издали за деревьями изящную фигурку тети, он тут же брался за работу. Валентина на каждом шагу с радостью обнаруживала сходство их характеров и склонностей. Она с удовольствием находила в этом мальчике те же непритязательные вкусы, ту же любовь к уединенной жизни в кругу близких людей и дивилась, что существо иного пола наделено такими же свойствами. И потом она любила его, ибо любила Бенедикта, который пекся о мальчике, учил его, и Валентин ежедневно приносил с собой как бы частицу души своего наставника. Еще не понимая всей силы своей привязанности к Бенедикту и Валентине, мальчик успел полюбить их пылкой ненавязчивой любовью, удивительной в его возрасте. Это дитя, рожденное в слезах, ставшее истинной карой и в то же время истинным утешением матери, рано приобрело ту чувствительность души, какая у человека заурядной судьбы обычно развивается позднее. Как только он достиг того возраста, когда начинают разбираться в жизни, Луиза без обиняков открыла сыну глаза на его положение в обществе, на злосчастную его участь, на клеймо в его судьбе, на жертвы, которые она ради него принесла, рассказала о том, что пришлось ей претерпеть, чтобы выполнить в отношении сына свой материнский долг, столь легкий и сладостный для других женщин. Валентин глубоко прочувствовал слова Луизы, его нежную и податливую душу с тех пор окрасили грусть и гордость, он питал к матери страстную признательность, и во всех своих горестях она находила в сыне награду и утешение. Но признаемся, что Луиза, способная на недюжинное мужество, наделенная множеством добродетелей, недоступных вульгарным натурам, была при этом не слишком приятной спутницей в повседневной жизни со всеми ее будничными докуками, легко раздражалась по любому пустяку и во вред самой себе была слишком чувствительна к любой царапине, хотя, казалось бы, должна была притерпеться к ударам судьбы, и подчас изливала горечь своей души, внося смятение в кроткую, впечатлительную душу сына. Таким образом, постоянно возбуждая эти свойства юного характера, мать слегка притупила их. На это пятнадцатилетнее чело как бы уже лег отпечаток зрелости, и это едва расцветшее дитя устало жить и испытывало потребность в спокойном, безгрозовом существовании. Подобно прекрасному цветку, расправившему лепестки на отроге скалы, но уже исхлестанному ветрами прежде чем раскрыть полностью свою чашечку, Валентин клонил на грудь голову, и томная улыбка, бродившая на его губах, казалась улыбкой взрослого человека. Таким образом, светлая и возвышенная дружба Валентины, сдержанные и неусыпные заботы Бенедикта стали для мальчика как бы началом новой эры. Он чувствовал, что расцветает в этой атмосфере, столь для него благоприятной. Хрупкий, тоненький подросток начал быстро расти, и его матово-бледные щеки окрасил нежный румянец. Атенаис, ставившая физическую красоту превыше всех прочих достоинств, не раз заявляла во всеуслышание, что никогда в жизни не видела такого восхитительно красивого лица, как у этого мальчугана, таких волос, пепельно-белокурых, напоминающих кудри Валентины, падающих крупными локонами на белую, гладкую, как у мраморного Антиноя, шею. Ветреная фермерша то и дело заявляла, что Валентин — еще совсем невинное дитя, и на этом основании то целовала чистый, безмятежный лоб, то перебирала пальцами локоны, которые сравнивала с золотистыми шелковыми коконами. Итак, к вечеру павильон становился местом общего отдыха и удовольствия. Валентина не допускала никого из непосвященных и не разрешала заходить туда даже обитателям замка. Одна лишь Катрин имела право появляться в павильоне и наводить там порядок. Это был Элизиум, поэтический мирок, золотой век Валентины, а в замке — все неприятности, невзгоды, раболепство, больная бабушка, докучливые визитеры, мучительные раздумья и молельня, пробуждавшая угрызения совести; в павильоне — все счастье, все друзья, все сладостные грезы, прогонявшие страхи, и чистые радости целомудренной любви. То был как бы волшебный остров среди повседневной жизни, как бы оазис среди пустыни. В павильоне Луиза забывала все свое тайное горе, свои с трудом подавляемые вспышки гнева, свою отвергнутую любовь; Бенедикт, наслаждавшийся обществом Валентины, безропотно предавался ее вере; казалось, даже нрав его изменился, стал ровнее, он забыл свои несправедливые суждения, свои жестокие до грубости вспышки. Луизе он уделял не меньше внимания, чем младшей сестре, прогуливался с ней рука об руку под липами парка. С ней он говорил о мальчике, расхваливая его достоинства, его ум, быстрые успехи, благодарил за то, что она дала ему сына и друга. Слушая его, бедняжка Луиза заливалась слезами и старалась убедить себя, что если бы даже Бенедикт любил ее, чувство это не было бы столь мило, столь лестно для нее, как их теперешняя дружба. Хохотунья и резвушка Атенаис приносила в павильон всю свою юную беспечность, тут она забывала домашние неприятности, бурные ласки и вечную ревность Пьера Блютти. Она все еще любила Бенедикта, но иначе, чем раньше, — теперь она видела в нем искреннего друга. А он, как Валентину и Луизу, звал ее сестрой, а иногда, расшутившись, и сестренкой. Не в характере Атенаис было страдать от несчастной любви, природа обделила ее поэтичностью. Она была достаточно молода, достаточно хороша собой, чтобы ждать взаимности, а пока что Пьер Блютти не заставлял страдать ее женское тщеславие. Говорила она об этом с уважением, краской на лице и улыбкой на губах, но при малейшем лукавом намеке Луизы вскакивала, легкая, шаловливая, и убегала в парк, увлекая за собой робкого Валентина, с которым она обращалась как с младенцем, хотя была старше его всего на год. Но есть нечто, что невозможно описать, — это безмолвная, сдержанная нежность Бенедикта и Валентины, это утонченное чувство чистоты и обожания, побеждавшее в их сердце пылкую страсть, готовую перелиться через край. Были в этой ежечасной борьбе тысячи терзаний и тысячи услад, и возможно, что Бенедикту равно было дорого и то и другое. Валентине еще доводилось порой со страхом думать о том, что она согрешила против всевышнего, и мучиться, как доброй христианке, угрызениями совести, но Бенедикт, не в силах охватить умом всю глубину женского долга, с удовлетворением думал о том, что не увлек Валентину на пагубный путь греха, не дал ей повода ни в чем раскаиваться. С радостью жертвовал он ради нее пожиравшей его пламенной страстью. Он гордился тем, что в страданиях сумел обуздать себя: втихомолку его пьянили тысячи желаний и тысячи грез, но вслух он благословлял Валентину за малейший знак ее благосклонности. Коснуться ее волос, впивать ее аромат, лежать в траве у ее ног, прижавшись лбом к краешку ее шелкового передника, как бы перехватывать ее лобзание, коснувшись губами лба мальчика, которого поцеловала Валентина, незаметно унести себе домой букет цветов, увядших у ее пояса, — вот в чем заключались великие события и великие радости этой жизни, полной самоограничения, любви и счастья.ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
30
Так протекло пятнадцать месяцев, а пятнадцать месяцев спокойствия и счастья, озарившего жизнь пяти человеческих существ, — это почти что сказочно долгий срок. И, однако, так оно и было. Единственное, что омрачало порой Бенедикта, это бледность и задумчивость его любимой. Тогда он старался поскорее доискаться причины и всякий раз обнаруживал тревогу в ее благочестивой и боязливой душе. Ему удавалось прогнать эти легкие тучки, так как Валентина не вправе была сомневаться в его силе и покорности. Письма господина де Лансака окончательно успокоили ее, она решилась даже написать ему, что Луиза с сыном поселились на ферме и что господин Лери (Бенедикт) занимается воспитанием мальчика, скрыв, в какой тесной близости живет она с этими тремя лицами. Объясняя таким образом их отношения, она сделала вид, что господин де Лансак сам дал ей обещание и разрешение видеться с сестрой. Вся эта история показалась Лансаку достаточно нелепой и смешной. Быть может, он еще не обо всем догадывался, но был не очень далек от истины. Он пожимал плечами при мысли, что его жена остановила свой выбор на каком-то деревенском учителишке, затеяла интрижку дурного вкуса и дурного тона. Но, поразмыслив немного, он пришел к выводу, что пусть лучше будет так. Он вступил в брак с твердым намерением не слишком обременять себя обществом госпожи де Лансак, а пока что содержал прима-балерину санкт-петербургской оперы, что побуждало его смотреть на жизнь философски. Поэтому он находил справедливым, что у жены его появилась сердечная привязанность где-то там вдали, которая не повлечет за собой ни упреков, ни слухов. Единственное, чего он хотел, это чтобы Валентина вела себя осторожно и не поставила бы его своим беспутным поведением в глупое положение, в силу коего обманутые мужья становятся — совершенно несправедливо — всеобщим посмешищем. Но, зная Валентину, он доверял ей и мог поэтому спать спокойно, а если уж молодой покинутой женщине так необходимо, как он выражался, «занять сердце», то пусть лучше это происходит в тайне и уединении, а не среди шума и блеска салонов. Поэтому-то он и воздержался от критики или порицания ее образа жизни, и все его письма, составленные в самых почтительных и ласковых выражениях, свидетельствовали о том, что он и впредь решил относиться с глубоким равнодушием к любому шагу жены. Доверчивость мужа, которую Валентина объясняла самыми благородными мотивами, долгое время втайне мучила ее. Но мало-помалу она нашла на груди Бенедикта успокоение, вопреки присущей ей настороженности и непримиримости. Ее глубоко трогали уважение, стоицизм, бескорыстие, столь чистая и столь мужественная любовь. Вскоре она сумела даже уверить себя, будто их чувство не таит в себе никакой опасности, напротив, оно бесценная добродетель, исполненная героизма и достоинства, что сам господь бог освятил эти узы, которые лишь очищают душу, закаляют ее своим священным пламенем. Все возвышенные иллюзии их сильной и терпеливой страсти ослепляли ее. И она еще осмеливалась благодарить небеса, давшие ей эту любовь как избавление и опору среди опасностей жизни, за этого могучего и великодушного союзника, охранявшего и защищавшего ее от себя самой. До сих пор набожность была для Валентины как бы кодексом освященных, сознательно усвоенных принципов, к которым ежедневно возвращаются в заботе о нравственности; а теперь эта набожность приняла иные формы и стала поэтичной, восторженной страстью, источником аскетических и обжигающих мечтаний, которые, вместо того чтобы окружить крепостной стеной ее сердце, открывали его со всех сторон штурму страсти. Эта новая грань набожности показалась ей гораздо лучше прежней. Так как она почувствовала, что вера ее отныне и сильнее и богаче живительными волнениями, что стремительнее уносит к небесам мысль, Валентина неосмотрительно приняла ее в сердце и тешила себя мыслью, что очаг этой веры — любовь Бенедикта. «Подобно тому как огонь очищает золото, — повторяла она про себя, — так и добродетельная любовь возвышает душу, направляет ее порывы к богу, вечному источнику любви». Но, увы, Валентина не замечала, что вера эта, пройдя через горнило человеческих страстей, склонна подчас входить в сделку со своими коренными обязанностями и снисходить до земных уз. Валентина истощила все те силы, что накопились в ее душе за двадцать лет безмятежности и неведения; она позволила разрушить и исказить свои убеждения, некогда столь ясные и неколебимые, и убирала обманчивыми цветами мрачную и узкую стезю долга. Все дольше простаивала она на молитве, имя и образ Бенедикта неотступно преследовали ее, и она уже не гнала этот образ прочь; напротив, она сама вызывала его, чтобы молиться еще горячее: средство хоть и верное, зато опасное. Молельню Валентина покидала с восторженной душой, с раздраженными нервами, жарко пульсирующей кровью; тогда взгляды и слова Бенедикта опустошали ее сердце, подобно раскаленной лаве. Нужно известное лицемерие или известная ловкость, чтобы облечь адюльтер в мистические одежды, и Валентина терялась, взывая к небесам. Но было нечто, что хранило обоих и должно было хранить еще долгое время, — чистота Бенедикта, в ком жила воистину благородная душа. Он понимал, что при первой же попытке посягнуть на добродетель Валентины он потеряет ее уважение и доверие, купленные столь дорогой ценой. Он не ведал, что человек, раз вступивший на путь страстей, стремительно катится вниз и возврата ему нет. Он сам не знал собственной силы, а если бы знал, вряд ли злоупотребил бы ею, так честен и прям был этот юный, еще ничем не запятнанный дух. Надо было видеть, с каким благородным самоупоением, какими возвышенными парадоксами старались они оправдать свою неосторожную любовь. — Как могу я понуждать тебя поступиться твоими принципами, — говорил Бенедикт Валентине, — ведь я безгранично ценю в тебе именно то мужество и силу, с какими ты противостоишь мне. Я, который люблю более твою добродетель, нежели твою красоту, и твою душу более, чем твое тело! Я, который убил бы нас обоих, если бы знал, что на небесах ты будешь доступна мне, как бог доступен лицезрению ангелов! — Нет, ты не можешь лгать, — отвечала ему Валентина, — ты, кого послал мне господь, чтобы научить меня полнее познать и любить его. Ты, благодаря кому я впервые поняла всю мощь всевышнего, ты, кто научил меня постигать чудеса творения! Увы, я-то считала все это таким незначительным, таким ограниченным! Но ты, ты расширил для меня смысл пророчеств, ты дал мне ключ к пониманию священной поэзии, ты открыл мне существование безбрежной вселенной, где чистая любовь — единственная связь и всеобщая основа. Ныне я знаю, что мы созданы друг для друга, знаю, что наш духовный союз прочнее любых земных уз. Как-то вечером все пятеро собрались в уютной гостиной павильона. Валентин, обладавший милым свежим голоском, начал петь романс, мать аккомпанировала ему. Атенаис, облокотившись о фортепьяно, внимательно разглядывала своего юного любимца и не желала замечать, как конфузится он под ее взглядами. Бенедикт и Валентина, сидевшие возле открытого окна, упивались вечерними ароматами, спокойствием, любовью, пением и прохладой. Никогда еще Валентина не чувствовала себя столь полностью огражденной от соблазнов. Восторг все глубже и глубже проникал в ее душу, и под завесой искреннего восхищения Бенедиктом неотвратимо и стремительно росла ее страсть. При бледном свете звезд они едва видели друг друга. Желая заменить чем-то иным невинное и опасное наслаждение, даваемое взглядами, они незаметно переплели пальцы. Мало-помалу пожатие становилось все более жадным, все более обжигающим, они незаметно пододвинули ближе друг к другу кресла, их волосы соприкасались, и по ним пробегали электрические искры, дыхание их смешивалось, и вечерний ветерок обжигал их лица. Бенедикт, изнывающий под бременем пронзительного и нежнейшего блаженства, даваемого разделенной и в то же время упорно отвергаемой любовью, нагнул голову и прижался пылающим лбом к руке Валентины, которую он не выпускал из своих рук. Опьяненный счастьем и трепещущий, он не смел пошевелиться, боясь, что тем спугнет другую ее ручку, которая коснулась его волос и, затем, нежная и легкая, как блуждающий огонек, начала гладить густые волнистые черные кудри. Казалось, грудь не выдержит такого волнения, вся кровь прилила к его сердцу. От такого счастья можно и умереть, и он предпочел бы умереть, лишь бы не выдать своего смятения, — так боялся он пробудить недоверие и раскаяние Валентины. Знай Валентина, какие потоки наслаждения вливались в его грудь, она отстранилась бы от Бенедикта. Желая продлить миг самозабвения, эту мягкую ласку, это жгучее сладострастие, Бенедикт делал вид, что ничего не замечает. Он удерживал дыхание, стремясь справиться со сжигавшей его лихорадкой. Молчание Бенедикта смутило Валентину, она вполголоса заговорила с ним, чтобы утишить слишком сильное волнение, которое завладело и ею. — Не правда ли, мы счастливы? — сказала она, возможно, лишь для того, чтобы дать ему понять или внушить самой себе, что не следует желать большего. — О! — ответил Бенедикт, стараясь, чтобы голос его прозвучал спокойно. — О, если бы мы могли умереть вот так! В тишине раздались быстрые шаги, кто-то пересек лужайку и подошел к павильону. Не знаю, какое предчувствие вдруг так испугало Бенедикта: он судорожно схватил руку Валентины и прижал ее к своему сердцу, которое зазвучало столь же тревожно и громко, как эти неожиданные шаги. Валентина почувствовала, как похолодело и ее сердце от смутной, но ужасной боязни; она резко вырвала свои руки из рук Бенедикта и направилась к двери. Но дверь открылась, прежде чем она успела подойти к ней, и на пороге показалась запыхавшаяся Катрин. — Мадам, — проговорила она испуганно и быстро, — господин де Лансак приехал. Слова эти произвели на всех присутствующих такое впечатление, словно чистую и незамутненную гладь озера взбаламутил брошенный камень; небо, деревья, весь прелестный пейзаж, только что отражавшийся в зеркале вод, вдруг мутится коварно рассчитанным ударом и исчезает в ряби; одного камня достаточно, чтобы вернуть к первобытному хаосу эту волшебную картину; точно так же вдруг прервалась сладостная гармония, еще минуту назад царившая в павильоне. Так была разбита прекрасная мечта о счастье, которой баюкали себя собравшиеся здесь друзья. В мгновение ока их размело, как листья, подхваченные ураганом, семья распалась, полная тревог и тоскливого страха. Валентина заключила в свои объятия Луизу и ее сына. — Навеки с вами! — крикнула им она уже с порога. — Надеюсь, скоро увидимся, возможно, даже завтра. Валентин грустно покачал головой; гордость и какое-то смутное чувство ненависти заговорило в нем при имени Лансака. Мальчик и раньше думал о том, что сей благородный граф может прогнать их прочь из своего замка, — мысль эта не раз отравляла его счастье, которое он вкушал здесь. — Этот человек должен сделать вас счастливой, — сказал он Валентине с таким воинственным видом, что она невольно улыбнулась от умиления, — иначе ему придется иметь дело со мной! — Чего тебе бояться, раз у тебя такой рыцарь? — обратилась Атенаис к Валентине, стараясь казаться веселой, и даже легонько шлепнула белой пухленькой ручкой заалевшую от смущения щеку мальчика. — Пойдемте, Бенедикт! — крикнула Луиза, направляясь к калитке парка, выходящей в поле. — Сейчас, — ответил он. Он проводил Валентину до другой калитки, и пока Катрин поспешно тушила свечи и запирала павильон, он проговорил глухим, взволнованным голосом: — Валентина! Голос его пресекся. Как мог осмелиться он выразить иначе причину своих страхов и ярости? Валентина поняла и с решительным видом протянула ему руку. — Будьте спокойны, — ответила она с гордой улыбкой, дышавшей любовью. Тембр голоса Валентины, взгляд ее имели неслыханную власть над Бенедиктом, и, покорный ее воле, он удалился, почти окончательно успокоенный.31
Господин де Лансак в дорожном костюме с притворно усталым видом сидел, небрежно раскинувшись, на канапе в большой гостиной. Заметив Валентину, он торопливо и с любезной улыбкой пошел ей навстречу, а Валентина затрепетала, чувствуя, что сейчас лишится сознания. Ее бледность и растерянный вид не укрылись от графа, но он притворился, что ничего не замечает, и даже сделал комплимент Валентине за блеск ее глаз и свежий цвет лица. Затем он принялся болтать с той легкостью, какую дает лишь привычка скрывать свои чувства, и тон, каким он рассказывал о своем путешествии, радость, какую он выразил, очутившись вновь вместе с женой, его доброжелательные расспросы о здоровье Валентины и ее развлечениях в этом забытом богом углу помогли и ей совладать с волнением и стать такой же, как граф, то есть внешне спокойной, любезной и вежливой. Тут только она заметила в дальнем углу гостиной какого-то жирного низенького человечка с грубой, вульгарной физиономией; господин де Лансак представил его жене как «одного из своих друзей». Слова эти Лансак произнес как-то натянуто; угрюмый и тусклый взгляд незнакомца, неуклюжий, скованный поклон, каким он ответил Валентине, внушили ей непреодолимое отвращение к этому невзрачному человеку, который, казалось, понимал, сколь неуместно здесь его присутствие, и старался поэтому не без наглости скрыть от посторонних глаз неловкость своего положения. Поужинав за одним столом с этим отталкивающим субъектом, даже усадив его напротив себя, Лансак попросил Валентину распорядиться, чтобы его милейшему господину Граппу отвели лучшие апартаменты. Валентина повиновалась, и через несколько минут господин Грапп удалился, вполголоса обменявшись несколькими словами с графом и все так же неловко раскланявшись с его женой, глядя на нее все с тем же нагло-раболепным видом. Когда супруги остались одни, смертельный страх охватил Валентину. Бледная, не поднимая глаз, напрасно старалась она возобновить прерванную беседу, но тут господин де Лансак, нарушив молчание, попросил разрешения удалиться, ссылаясь на то, что окончательно разбит усталостью. — Я добрался сюда из Санкт-Петербурга за две недели, — сказал он не без аффектации, — и остановился всего на сутки в Париже. И боюсь… что у меня начинается лихорадка. — О, вас… вас, несомненно, лихорадит, — повторила Валентина с неловкой торопливостью. Злобная улыбка тронула умеющие хранить тайны уста дипломата. — У вас вид совсем как у Розины из «Севильского цирюльника», — проговорил он не то шутливо, не то с горечью, — «Buona sera, don Basilio!» [3]. Ах, — добавил он, направляясь к двери усталой походкой, — мне просто необходимо выспаться. Еще одна ночь в почтовой карете, и я окончательно бы расхворался. И есть отчего, не правда ли, дорогая? — О да, — ответила Валентина, — я велела вам приготовить… — Комнату в павильоне, если не ошибаюсь, моя прелесть? Вы правы, он в высшей степени способствует здоровому сну. Нравится мне этот павильон, он напомнит мне те счастливые времена, когда мы виделись ежедневно. — Павильон? — испуганно повторила Валентина, что снова не укрылось от глаз графа и послужило ему отправной точкой для дальнейших открытий, которые он поклялся себе сделать в ближайшее же время. — А вы как-то иначе распорядились павильоном? — осведомился граф с великолепно наигранной простотой и безразличием. — Я устроила себе там уголок, где работаю, — сконфуженно пробормотала Валентина — лгать она не умела. — Кровать оттуда вынесли и приготовить ее сегодня вечером не успеют… Но апартаменты матушки в нижнем этаже готовы… если, конечно, вас это устроит. — Возможно, завтра я потребую себе иного пристанища, — проговорил Лансак, поддавшись жестокому намерению отомстить, и улыбнулся слащаво-нежной улыбкой, — а пока что меня устроит все, что вы мне укажете. Он поцеловал руку Валентины. Губы его показались ей холодными как лед. Оставшись одна, она поспешила растереть руку ладонью левой руки, как бы желая вернуть ей тепло. Вопреки подчеркнутому стремлению Лансака следовать желаниям жены, Валентина не могла проникнуть в истинные его намерения, и страх заглушил тоску, сжимавшую ей сердце. Она заперлась у себя в спальне, и смутное воспоминание о той, другой ночи, которую она в летаргическом полусне провела там вместе с Бенедиктом, пришла ей на память. Она поднялась и стала взволнованно ходить по комнате, надеясь прогнать обманчивые и жестокие видения, которые пробудились в ее душе одновременно с воспоминанием. В три часа утра, будучи не в силах ни спать, ни дышать, она распахнула окно. Взгляд ее упал на какой-то неподвижный предмет, и хотя она долго вглядывалась в то, что напоминало ствол дерева, полускрытого ветвями соседних деревьев, она не могла разобрать, что это такое. Вдруг она заметила, что ствол этот шевельнулся и сделал шаг вперед, — тут только она узнала Бенедикта. Испуганная тем, что он так неосторожно выдал себя, так как комнаты господина де Лансака находились под ее спальней, Валентина со страхом перевесилась через подоконник и постаралась жестами объяснить ему, какой опасности он себя подвергает. Но Бенедикт ничуть не испугался, напротив, он почувствовал живейшую радость, поняв, что его сопернику отведены покои графини. Сложив молитвенно руки, он воздел их с благодарностью к небесам и исчез. На его горе, Лансак, которому лихорадочное возбуждение — следствие долгого пути — тоже мешало заснуть, наблюдал за этой сценой, скрытый шторами от глаз Бенедикта. Все следующее утро господин де Лансак и господин Грапп посвятили прогулке. — Ну как? — спросил благородного графа этот мерзкий коротышка. — Вы говорили с вашей супругой или еще нет? — Чересчур вы прытки, друг мой! Дайте же мне время отдышаться. — А у меня, сударь, нет времени. Мы должны закончить дело в течение недели; вы сами знаете, что я не могу больше откладывать. — Терпение! Терпение! — с неудовольствием произнес граф. — Терпение! — мрачным тоном повторил заимодавец. — Вот уже десять лет, сударь, как я терплю, но теперь заявляю вам: моему терпению пришел конец. Вступив в брак, вы должны были рассчитаться со мной, и вот уже два года, как вы… — Но какого дьявола вы боитесь? Эти земли стоят пятьсот тысяч франков, и они не заложены. — Я и не говорю, что рискую, — ответил несговорчивый заимодавец, — но, повторяю, я хочу получить свои капиталы незамедлительно. Мы уже договорились, сударь, и, надеюсь, что на сей раз вы не поступите так, как в прошлый… — Боже упаси! Я и затеял-то это ужасное путешествие лишь бы навсегда разделаться с вами… я имею в виду — со своим долгом; мне и самому не терпится избавиться от забот. Через неделю вы будете полностью удовлетворены. — Я отнюдь не так спокоен, как вы, — проговорил господин Грапп все тем же суровым и упрямым тоном, — ваша жена… то есть, я хотел сказать, ваша супруга, может расстроить все ваши проекты, может отказаться подписать… — Подпишет… — Хм! Возможно, вы скажете, я сую нос туда, куда мне не положено, но в конце концов я имею право вникать в чужие семейные дела. Мне показалось, что оба вы не в таком уж восторге от встречи, хотя вы пытались уверить меня в обратном. — Как, как? — воскликнул граф, побледнев от гнева, возмущенный наглостью своего собеседника. — Да, да, — спокойно подтвердил ростовщик. — У графини был не особенно радостный вид. Уж я знаток в таких делах, поверьте… — Сударь! — угрожающе промолвил граф. — Сударь! — сказал ростовщик тоном выше, вперив в своего должника маленькие кабаньи глазки, — послушайте меня, дела требуют полной откровенности, а вы со мной не откровенны. Слушайте дальше! Не следует слишком горячиться. Я знаю, что одного слова госпожи де Лансак достаточно, чтобы до скончания веков продлить ваш вексель, но что я от этого получу? Если даже я упеку вас в тюрьму Сен-Пелажи, мне же придется вас кормить, а я вовсе не уверен, что, при всей своей любви к вам, ваша жена захочет вытащить вас из беды. — Но, сударь! — воскликнул взбешенный граф. — Что вы хотите сказать? На чем, в сущности, основаны ваши предположения? — Я хочу сказать, что и у меня тоже молоденькая и хорошенькая жена. Чего только не приобретешь с деньгами! Так вот, когда я уезжаю всего на две недели, моя жена, то есть моя супруга, не ночует во втором этаже и не отсылает меня в первый, хотя мой дом не меньше вашего. А здесь, сударь… Я отлично знаю, что раньше люди благородного происхождения умели соблюдать старинный обычай и жили отдельно от жен, но, черт побери, вы же два года не видели вашу… Граф яростно смял ветку, которую для вящей уверенности вертел в руках. — Кончим этот разговор, сударь! — сказал он, задыхаясь от злобы. — Вы не имеете права в такой мере вмешиваться в мои дела; завтра же у вас будет гарантия, которую вы требуете, и я сумею дать вам понять, что сегодня вы зашли слишком далеко. Тон, которым были произнесены эти слова, ничуть не испугал господина Граппа; ростовщик был человек, привычный к угрозам, и боялся он отнюдь не удара трости, а банкротства своих должников. Весь день прошел в осмотре имения. Грапп вызвал с утра оценщика. Он обошел все леса, поля, луга, все оглядел, сутяжничал по поводу каждой борозды, по поводу каждого срубленного дерева; все охаял и записывал и довел измученного графа до отчаяния, так что тот еле удерживался от искушения бросить своего милейшего Граппа в реку. Обитатели Гранжнева не могли опомниться от удивления при виде высокородного графа, явившегося к ним в сопровождении какого-то приспешника, который все оглядел, повсюду совал нос, чуть не начал сразу же составлять инвентарь с перечнем скота и сельскохозяйственных орудий. Супруги Лери усмотрели в этом демарше нового хозяина явный знак недоверия и желание расторгнуть договор на аренду. Впрочем, теперь они сами хотели того же. Богатый кузнец, их родич и старинный друг, недавно скончался, не оставив детей, и завещал двести тысяч франков «своей дорогой и достойной крестнице Атенаис Лери, в супружестве Блютти». Поэтому дядюшка Лери сам предложил господину де Лансаку расторгнуть аренду, и господин Грапп соблаговолил ответить, что через три дня обе стороны придут на сей счет к соглашению. Тщетно искала Валентина случая побеседовать с мужем и поговорить с ним о Луизе. После обеда граф предложил своему гостю осмотреть парк. Они вышли вместе, и Валентина, последовавшая за ними, не без основания опасалась, как бы осмотр не завел их в заповедную часть парка. Господин де Лансак предложил ей руку и даже начал с ней разговор в весьма дружелюбном и непринужденном тоне. Валентина, набравшись духу, открыла было рот, чтобы рассказать ему о сестре, но тут изгородь, скрывавшая от посторонних взглядов их «уголок», привлекла внимание Лансака. — Разрешите спросить, дорогая, что означают все эти укрепления? — осведомился он самым естественным тоном. — Похоже на ремиз для дичи. Неужели вы предаетесь королевскому развлечению охоты? Стараясь говорить как можно более непринужденно, Валентина пояснила, что она с умыслом огородила эту часть парка, чтобы без помех пользоваться свободой и одиночеством и продолжать учение. — О бог мой! — воскликнул господин де Лансак. — Над чем же вы трудитесь так углубленно и добросовестно, что вам пришлось принять такие меры предосторожности? Ого, ограды, решетки, непроходимая изгородь… Стало быть, вы превратили павильон в волшебный дворец! А я-то считал, что наш замок предоставляет достаточно уединения. Но вы его презрели! Да здесь просто обитель затворничества, неужели для ваших сокровенных занятий требуется столько тайн? Уж не пытаетесь ли вы найти философский камень или более совершенную форму правления? Только теперь я понял, как смешны мы, ломая себе голову над судьбами различных держав, когда они взвешиваются, подготавливаются и разрешаются в тиши вашего павильона. Валентина, удрученная и напуганная этими шутками, в которых, как ей казалось, звучало больше недоброго лукавства, нежели веселья, старалась отвести мужа от этой темы, но он настоял, чтобы она оказала честь принять его в своем убежище, и ей пришлось повиноваться. А она-то надеялась, что успеет еще до этой прогулки предупредить графа о том, что ежедневно встречается здесь, в павильоне, с сестрой и племянником. Поэтому она не дала распоряжения Катрин уничтожить следы пребывания здесь своих друзей. Господин де Лансак заметил все с первого взгляда. Стихи, которые Бенедикт нацарапал карандашом прямо на стене, восхвалявшие сладость дружбы и покой полей, имя «Валентин», которое мальчик по школьной привычке писал на чем попало нотные тетради, принадлежащие Бенедикту, с его автографом на заглавном листе, красивое охотничье ружье, из которого Валентин иной раз стрелял в парке кроликов, — все это было тщательно осмотрено Лансаком и дало ему прекрасный повод для замечаний полушутливых-полуядовитых. Наконец, взяв с кресла изящный бархатный ток Валентина и показав его жене, граф спросил с натянутым смешком: — Значит, этот ток принадлежит невидимому алхимику, которого вы сюда вызываете? Затем он примерил ток и, убедившись, что он слишком мал для взрослого мужчины, холодно бросил его на фортепьяно, потом круто обернулся к Граппу, словно в порыве мстительного гнева забыл о всех предосторожностях, которые соблюдал при жене в разговоре с ростовщиком. — Во сколько вы оцениваете этот павильон? — спросил он сухим, резким тоном. — Да ни во сколько, — отозвался ростовщик. — В хозяйстве вся эта роскошь и причуды ничего не стоят. Черная банда не даст вам за них и полтысячи франков. Другое дело в городе. Но представьте вокруг этой постройки ячменное поле или искусственный луг, на что она будет тогда, по-вашему, пригодна? Ее снесут ради камня и бревен. Важный тон, каким Грапп произнес эти слова, невольно поверг Валентину в трепет. Кто же в конце концов этот человек с гнусной физиономией, чей мрачный взгляд как бы оценивает весь ее дом, чей голос, казалось, грозит превратить в руины кров ее дедов, кто в воображении уже распахивает плугом эти сады, посягает на таинственный приют ее чистого и скромного счастья? Дрожа всем телом, она взглянула на мужа, стоявшего с беспечно-спокойным и непроницаемым видом. В десять часов вечера Грапп, собираясь отправиться в отведенные ему покои, вызвал графа на крыльцо. — Эх, целый день потеряли зря, — с досадой проговорил он, — постарайтесь хоть нынче ночью разрешить мое дело, а то мне придется завтра самому обратиться к госпоже де Лансак. Ежели она откажет мне в чести уплатить ваши долги, то я хоть по крайней мере буду знать, что делать дальше. Я отлично вижу, что моя физиономия ей не по нутру, и поэтому не намерен ей докучать, но я не желаю, чтобы меня обвели вокруг пальца. Впрочем, нет у меня времени любоваться этим замком. Итак, сударь, скажите, намереваетесь ли вы нынче вечером поговорить с супругой или нет? — Черт возьми, сударь, — воскликнул де Лансак, нетерпеливо ударив кулаком по золоченым перилам крыльца, — вы настоящий палач! — Возможно, — ответил Грапп и, желая отомстить дерзостью за ненависть и презрение, какое он внушал графу, добавил: — Но послушайтесь меня и перенесите вашу подушку этажом выше. И он удалился, бормоча себе под нос какие-то гнусности. Граф, не столь уж деликатный в душе, был, однако, достаточно щепетилен, когда дело касалось этикета; и даже он не мог не подумать в этот миг, что святой и чистый институт брака безжалостно растоптала в грязи наша алчная цивилизация. Но вскоре иные мысли, касавшиеся его непосредственных интересов, вытеснили в этом холодном, расчетливом уме все прочие соображения.32
Господин де Лансак очутился, пожалуй, в самом щекотливом положении, в каком только может оказаться человек светский. Во Франции существует несколько родов чести: честь крестьянина — иная, нежели дворянина, честь дворянина — иная, нежели честь буржуа. Своя честь имеется у каждого ранга и, пожалуй, у каждого человека в отдельности. Достоверно одно — у господина де Лансака была своя, особая честь. Будучи философом в некоторых отношениях, он все же имел немало предрассудков. В наши просвещенные времена смелых концепций и всеобщего обновления старые понятия добра и зла неизбежно искажаются и общественное мнение колеблется, стараясь установить в этом хаосе границы дозволенного. Господин де Лансак не имел ничего против того, чтобы ему изменяли, но не желал быть обманутым. С этой точки зрения он был совершенно прав; хотя кое-какие факты пробудили в нем сомнения в верности жены, легко догадаться, что он был не склонен стремиться к интимным отношениям с Валентиной и покрыть последствия совершенной ею ошибки. Самым мерзким в его положении было то, что к вопросу о его чести примешивались низкие денежные расчеты и вынуждали его идти к цели окольным путем. Он предавался всем этим размышлениям, когда около полуночи ему почудилось, будто он слышит легкий шорох в доме, уже давно погрузившемся в тишину и спокойствие. Стеклянная дверь гостиной выходила в сад в противоположном конце замка, но с той же стороны, что и покои, отведенные графу; ему показалось, что кто-то осторожно пытается открыть дверь. Тотчас же он вспомнил вчерашнюю ночь, и его охватило страстное желание получить недвусмысленное доказательство виновности жены, что дало бы ему безграничную власть над нею; он быстро надел халат, туфли и, шагая в темноте с ловкостью человека, привыкшего действовать осторожно, вышел в незакрытую дверь и вслед за Валентиной углубился в парк. Хотя она заперла калитку ограды, он без труда проник в ее убежище, так как, не раздумывая, перелез через забор. Влекомый инстинктом, а также шорохами, граф добрался до павильона и, укрывшись среди высоких георгинов, росших у окна, мог слышать все, что говорили в комнатах. Решившись на такой смелый шаг, Валентина, не выдержав волнения, без сил упала на софу и молчала. Бенедикт, стоя рядом, встревоженный не менее ее, тоже в течение нескольких минут не произнес ни слова; наконец, сделав над собой усилие, он нарушил это тягостное молчание. — Я так мучился, — проговорил он, — я боялся, что вы не получили моей записки. — Ах, Бенедикт, — грустно ответила Валентина, — ваша записка безумна, но, видно, и я тоже безумна, раз уступила вашему дерзкому и преступному требованию. О, я уже совсем решилась не приходить сюда, но — да простит мне господь! — у меня не было сил сопротивляться. — Клянусь богом, мадам, не жалуйтесь на вашу слабость, — сказал Бенедикт, не в силах совладать с волнением. — Иначе, рискуя и вашей и моей жизнью, я пришел бы к вам, а там будь что будет… — Замолчите, несчастный! Надеюсь, теперь вы должны быть спокойны, скажите же! Вы меня видели, вы знаете, что я свободна, дайте же мне уйти… — Значит, вы считаете, что подвергаетесь большей опасности здесь, чем в замке? — Все это и преступно и смешно, Бенедикт. К счастью, господь бог внушил де Лансаку мысль не толкать меня более на путь преступного неповиновения. — Мадам, я не боюсь вашей слабости, я боюсь ваших принципов. — Неужели вы отважитесь оспаривать их теперь? — Теперь я и сам не знаю, есть ли предел моей отваге. Пощадите меня, вы же видите, я окончательно теряю голову. — О, боже мой, — с горечью проговорила Валентина, — какие ужасные перемены произошли с вами за столь короткий срок. Неужели мне суждено было встретить вас таким, хотя всего сутки назад вы были спокойным и сильным? — За эти сутки, — ответил Бенедикт, — я пережил целую вечность пыток, я боролся со всеми фуриями ада! Да, да, я и впрямь не тот, каким был сутки назад. Во мне пробудилась сатанинская ревность, неукротимая ненависть. Ах, Валентина, еще сутки назад я мог быть добродетельным, но ныне все переменилось. — Друг мой, — испуганно произнесла Валентина, — вам нехорошо; расстанемся же скорее, этот разговор лишь усугубляет ваши муки. Подумайте сами… Бог мой, мне показалось, что за окном промелькнула тень! — Ну и пусть, — спокойно ответил Бенедикт, приближаясь к окну, — разве не лучше в тысячу раз видеть вас убитой в моих объятиях, нежели видеть вас живой в объятиях другого? Но не волнуйтесь, все спокойно и тихо, сад по-прежнему пустынен. Послушайте, Валентина, — добавил он спокойным, но удрученным тоном, — я так несчастен. Вы захотели, чтобы я жил, и тем самым вы обрекли меня влачить тягчайшее бремя! — Боже мой, вы упрекаете меня! — проговорила она. — Неблагодарный, разве не были мы счастливы целых пятнадцать месяцев? — Да, мадам, мы были счастливы, но нам уже не знать счастья! — К чему это мрачное пророчество? Какое же бедствие нам грозит? — Ваш муж может увезти вас, он может разлучить нас навеки, и просто немыслимо, чтобы он этого не захотел. — Но до сих пор его намерения были вполне миролюбивы! Если бы он хотел, чтобы я разделила его судьбу, разве не сделал бы он этого раньше? Я подозреваю, что ему не терпится закончить какие-то дела, неизвестные мне. — Я догадываюсь, каковы эти дела. Разрешите сказать вам, раз пришлось к слову: не отвергайте совета преданного друга, которому чужды корысть и спекуляции нашего общества, но который не может быть безразличен, когда дело касается вас. У господина Лансака, как вы сами знаете, есть долги. — Знаю, Бенедикт, но я считаю неуместным обсуждать его поведение с вами и здесь… — Нет на свете ничего более неуместного, Валентина, чем страсть, которую я к вам питаю, но если вы терпели ее хотя бы из жалости ко мне, вы должны так же терпеливо выслушать мой совет, подсказанный заботой о вас. Из отношения графа к вам я с неизбежностью заключаю, что человек этот не слишком стремится обладать вами и, следовательно, недостоин этого. Создав себе как можно скорее жизнь, отдельную от мужа, вы, возможно, пойдете навстречу его тайным намерениям. — Я понимаю вас, Бенедикт, вы предлагаете мне жить раздельно с графом, другими словами — как бы развестись с ним: словом, советуете мне совершить преступление… — О нет, мадам; при вашем представлении о супружеской покорности, которую вы чтите столь свято, развод без скандала и без огласки глубоко нравственное дело, особенно если таково и желание господина де Лансака. На вашем месте я бы домогался разрыва, стремился бы к нему, как к надежной гарантии, защищающей честь двух заинтересованных лиц. Но с помощью взаимного соглашения, принятого честно и по-дружески, вы могли бы охранить себя против вторжения его кредиторов, ибо боюсь… — Такие речи мне приятно слышать, Бенедикт, — ответила Валентина, — такие советы доказывают чистоту ваших намерений, но я столько наслушалась при матери деловых разговоров, что, конечно, разбираюсь в них лучше, чем вы. Я знаю, что никакие заверения не заставят бесчестного человека с уважением относиться к имуществу жены, и если мне выпало несчастье выйти замуж за такого человека, единственное мое орудие — это твердость и единственный мой советчик — совесть. Но успокойтесь, Бенедикт, у господина де Лансака благородная и честная душа. Я не опасаюсь такого шага с его стороны и к тому же уверена, что он не решится посягнуть на мои владения, не посоветовавшись со мной… — А я знаю, что вы не откажетесь подписать любую бумагу, мне известен ваш покладистый нрав, ваше презрение к земным благам. — Ошибаетесь, Бенедикт, если понадобится, мне хватит мужества. Правда, лично я согласна довольствоваться вот этим павильоном и несколькими арпанами земли; останься у меня рента всего в тысячу двести франков, я все равно считала бы, что я и так чересчур богата! Но я хочу, чтобы то имущество, которого так несправедливо лишили Луизу, перешло после моей смерти к ее сыну: моим наследником будет Валентин. Я хочу, чтобы он стал графом де Рембо. Такова цель всей моей жизни… Почему вы вздрогнули, Бенедикт? — Вы еще спрашиваете почему! — воскликнул Бенедикт, выходя из оцепенения, в которое поверг его этот разговор. — Увы, вы совсем не знаете жизни! До чего вы невозмутимы и непредусмотрительны! Вы говорите о том, что умрете, не имея потомства, будто… Праведный боже! Вся моя кровь закипает при этой мысли, но клянусь спасением души, мадам, если вы говорите неправду… Он поднялся и в волнении зашагал по комнате; время от времени он закрывал лицо руками, и только бурное дыхание выдавало его душевные муки. — Друг мой, — нежно проговорила Валентина. — Сейчас вы слабы и говорите неразумные вещи. Тема нашего разговора чересчур щекотлива, поверьте мне; лучше кончим его, я и без того достаточно провинилась, явившись сюда в такой час по требованию неосмотрительного ребенка. Я не могу успокоить ваши мучительные, бурные мысли молчанием, и вы должны сами, не требуя от меня преступных обещаний, понять все… Однако, — добавила она дрожащим голосом, видя, что с каждой минутой волнение Бенедикта возрастает, — если действительно для вашего спокойствия необходимо, чтобы я нарушила свой долг и поступилась бы совестью, можете быть довольны; клянусь вашей и моей любовью (видите, я не смею клясться именем бога!), я скорее умру, нежели буду принадлежать какому-либо мужчине. — Наконец-то вы удостоили бросить мне ободряющее слово, — отрывисто проговорил Бенедикт, подходя к Валентине. — А я-то решил, что вы дадите мне уйти раздираемому тревогой и ревностью, а я-то думал, что никогда в жизни вы не поступитесь ради меня хоть одним из ваших предубеждений! Нет, правда, вы обещаете? Но ведь это настоящий подвиг! — Откуда эта горечь, Бенедикт? Уже давно я не видела вас таким. Неужели все огорчения должны обрушиться на меня разом? — Ах, все это потому, что я неистово люблю вас! — ответил Бенедикт, беря ее руку в каком-то диком порыве, — потому, что я отдал бы душу, лишь бы спасти вашу жизнь, потому что отдал бы, не колеблясь, райское блаженство, лишь бы ваше сердце не знало даже самой ничтожной из тех мук, которые терзают меня, потому, что я готов совершить любое преступление по вашей прихоти, а меж тем вы не совершите даже самого невинного проступка, чтобы сделать меня счастливым. — О, не говорите так, — грустно отозвалась Валентина. — Я уже давно привыкла доверять вам, а выходит, мне придется опасаться вас и бороться, быть может даже бежать от вас. — Не будем играть словами! — яростно воскликнул Бенедикт и с силой отбросил ее руку, которую держал в своих руках. — Вы говорите, что вам придется бежать от меня! Обреките меня на смерть, это будет проще. Не думал я, что вы вернетесь к своим былым угрозам; стало быть, вы надеялись, что я изменился за эти полтора года? Что же, вы, пожалуй, и правы, за эти полтора года я еще сильнее, чем раньше, полюбил вас, они дали мне силу жить, тогда как прежнее мое чувство к вам дало мне лишь силу умереть. А теперь, Валентина, нам уже поздно говорить о разлуке, я слишком вас люблю, у меня кроме вас нет никого на свете, и даже Луизу и ее сына я люблю только ради вас. Вы мое будущее, вы цель моей жизни, единственная страсть, единственный мой помысел; что же станется со мной, если вы меня оттолкнете? У меня нет ни честолюбия, ни друзей, ни положения в обществе, никогда у меня не будет того, что является смыслом жизни других. Вы часто говорили, что с годами меня поглотят те же интересы, что и всех людей; не знаю, оправдаются ли ваши предсказания, но верно одно — я еще слишком далек от того возраста, когда гаснут все благородные страсти, да я и не желаю дожить до той поры, если вы меня оставите. Нет, Валентина, не прогоняйте меня, это немыслимо! Сжальтесь надо мной, я теряю мужество. Бенедикт залился слезами. Для того, чтобы довести мужчину до слез и до состояния ребяческой слабости, потребны особые душевные потрясения, и редко женщина, даже мало впечатлительная, способна противостоять этим внезапным порывам неодолимой чувствительности. Рыдая, Валентина бросилась на грудь любимого, и всепожирающий пламень поцелуя, соединившего их уста, открыл ей, сколь близки вершины добродетели к прямой погибели. Но у них было слишком мало времени, чтобы осознать это: едва только успели они обменяться этим пламенным излиянием душ, как Валентина замерла от страха — под окном раздалось сухое покашливание, и затем кто-то беззаботно замурлыкал оперную арию. Валентина вырвалась из объятий Бенедикта и, схватив его за руку своей холодной, судорожно сжатой рукой, прикрыла ему рот ладонью. — Мы пропали, — шепнула она, — это он! — Валентина, друг мой, вы здесь? — проговорил господин де Лансак, непринужденно подходя к крыльцу. — Спрячьтесь! — приказала Валентина, толкнув Бенедикта за большое переносное трюмо, стоявшее в углу комнаты. И она бросилась навстречу Лансаку, вдруг обретя силу притворства, какую опасность рождает даже в самых неискушенных женщинах. — Мне показалось, что я видел, как вы направились сюда, в павильон, четверть часа назад, — сказал Лансак, входя в комнату, — но, не желая мешать вашей одинокой прогулке, пошел в другую сторону; однако инстинкт сердца или магическая сила, исходящая от вас, привели меня туда, где вы находитесь. Не совершил ли я нескромности, нарушив ваши мечтания, и соблаговолите ли вы допустить меня в вашу святую обитель? — Я пришла сюда за книгой, которую хочу дочитать нынче ночью, — ответила Валентина твердым, решительным тоном, так не похожим на ее обычный тон. — Разрешите заметить вам, дорогая, что вы ведете довольно странный образ жизни, и я просто опасаюсь за ваше здоровье. Ночи вы проводите в чтении и прогулках, а это и неразумно и неосторожно. — Но, уверяю вас, вы ошибаетесь, — сказала Валентина, стараясь вывести мужа на крыльцо. — По чистой случайности, я не могла уснуть сегодня ночью и решила пойти подышать в парк свежим воздухом. Теперь же я успокоилась и иду домой. — А книга, которую вы намеревались взять, разве вы ее не нашли? — Ах, верно, — смутившись, ответила Валентина. И она сделала вид, что ищет на фортепьяно книгу. Но по несчастной случайности в гостиной не оказалось ни одной книги. — Как же вы можете найти что-нибудь в таком мраке? — сказал господин де Лансак. — Разрешите, я зажгу свечу. — О, не надо! — испуганно воскликнула Валентина. — Нет, нет, не зажигайте, мне уже не нужна книга, я раздумала ее читать. — Но к чему отказываться от поисков, когда так легко зажечь свет? Вчера я заметил на камине изящную спичечницу. Бьюсь об заклад, я найду ее даже во мраке. Взяв пузырек, он обмакнул в него фитиль, который, потрескивая, разлил по комнате яркий свет, потом его голубоватый слабый огонек, казалось, умер, сжегши себя до конца; этой короткой вспышки оказалось достаточно — господин де Лансак успел перехватить испуганный взгляд жены, брошенный в сторону трюмо. Когда свеча разгорелась, он уже знал, где находится Бенедикт, и заговорил еще более спокойно и непринужденно. — Коль скоро, дорогая, мы очутились здесь вдвоем, — начал он, садясь на софу к смертельной досаде Валентины, — я решил поговорить с вами по одному неотложному и мучительному для меня делу. Здесь мы можем быть в полной уверенности, что нас не услышат, нам не помешают; не будете ли вы так добры уделить мне несколько минут вашего внимания? Бледная, как призрак, Валентина без сил упала на стул. — Сядьте, пожалуйста, поближе, дорогая, — сказал де Лансак, придвигая к себе маленький столик, на который он поставил свечку. Подперев подбородок рукой, он приступил к разговору с апломбом человека, привыкшего предлагать земным владыкам на выбор войну или мир, даже не меняя при этом тона.33
— Полагаю, дорогая, вам хочется знать мои планы, чтобы согласовать их с вашими, — начал он, не спуская с Валентины пристального, пронзительного взгляда, который словно заворожил ее и приковал к месту. — Итак, да будет вам известно, что я не могу покинуть свой пост раньше, чем через несколько лет. Мое состояние сильно пошатнулось, и поправить его мне удастся лишь усиленными трудами. Увезу ли я вас с собой или не увезу — «That is the question!» [4], как сказал Гамлет. Хотите ли вы последовать за мной? Хотите ли вы остаться здесь? В той мере, в какой это зависит от меня, я готов покориться вашим желаниям, но скажите ваше мнение, в этом отношении ваши письма были весьма сдержанны, я бы сказал даже — излишне целомудренны! Но в конце концов я ваш муж и имею известное право на ваше доверие… Валентина пошевелила губами, но не могла выговорить ни слова. Она чувствовала себя как в аду, терзаемая злой иронией своего повелителя и ревностью своего возлюбленного. Она попыталась было поднять глаза на Лансака, чей ястребиный взгляд был по-прежнему прикован к ней. Потеряв последнее самообладание, Валентина пробормотала что-то и замолкла. — Раз вы столь робки, — продолжал граф, повысив голос, — я вправе сделать благоприятные выводы относительно вашей покорности, и настало время побеседовать с вами о тех обязанностях, которые мы приняли на себя в отношении друг друга. Некогда мы были друзьями, Валентина, и подобные разговоры не пугали вас, нынче вы сторонитесь меня, и я не знаю, чем это объяснить. Боюсь, что вас постоянно окружали люди, не слишком благосклонно ко мне расположенные, боюсь — сказать вам все начистоту? — что слишком интимная близость с некоторыми из них подорвала то доверие, какое вы питали ко мне. Валентина вспыхнула, потом побледнела; наконец она отважилась взглянуть на мужа, надеясь уловить ход его мыслей. Ей почудилось, будто на лице его под благодушно спокойной маской промелькнуло выражение злобного лукавства, и решила держаться начеку. — Продолжайте, сударь, — проговорила она с такой смелостью, какой сама от себя не ожидала, — сначала скажите все до конца, а потом я вам отвечу. — Люди порядочные, — возразил Лансак, — должны понимать друг друга без лишних слов, но коль скоро вы этого требуете, Валентина, я скажу. Мне бы хотелось, — добавил он с пугающей любезностью, — чтобы мои слова дошли до вас. Я только что говорил вам о наших взаимных обязанностях, мой долг состоит в том, чтобы быть с вами и вас защищать… — О сударь, защищать меня! — повторила Валентина растерянно и в то же время горько. — Понимаю вас, — продолжал граф, — вы считаете, что до сего дня защита моя слишком походила на защиту господа бога. Признаюсь, осуществляется она издалека и в чересчур скромных размерах, но, если вы пожелаете, — насмешливо добавил он, — она может проявиться более ощутимо. Резкий шорох за зеркалом оледенил Валентину, и она превратилась в мраморную статую. Она испуганно взглянула на мужа, но тот, казалось, не заметил причины ее страха и продолжал: — Мы поговорим об этом потом, дорогая, я слишком светский человек для того, чтобы навязывать свидетельства своей любви женщине, отвергающей мои чувства. Таким образом, мой долг дружбы и защиты будет выполнен согласно вашему желанию и не иначе, ибо в наше время мужья совсем непереносимы, когда слишком строго следуют своему долгу. Каково же ваше мнение на этот счет? — Я недостаточно опытна, чтобы вам ответить. — Прекрасный ответ. Теперь, моя прелесть, я скажу о ваших обязанностях в отношении меня. Это не слишком-то галантно, но так как я ненавижу все, что хоть отдаленно напоминает наставление учителя, это будет первый и последний раз в моей жизни. Я убежден, что суть моих наставлений запечатлеется в вашей памяти. Но как вы дрожите! Какое ребячество! Неужели вы принимаете меня за допотопного мужлана, для которого нет ничего слаще, как потрясать перед глазами жены ярмом супружеской верности? Неужели вы могли подумать, что я начну читать вам проповеди, как старый монах, и погружу в ваше сердце стилет инквизиции, чтобы выпытать у вас признание в ваших самых сокровеннейших помыслах? Нет, Валентина, нет, — продолжал он после паузы, глядя на жену все так же холодно, — я отлично знаю, что следует сказать, не смутив вас. Я потребую лишь то, чего могу добиться без всякого насилия над вашими склонностями и не разбив вашего сердца. Ради бога, только не падайте в обморок, я сейчас кончу. Я ничуть не возражаю против того, что вы живете в интимной близости с семьей, созданной вами по влечению сердца, которая часто собирается здесь и следы пребывания которой могут подтвердить, что члены ее находились здесь еще совсем недавно. Граф взял со стола альбом для рисования, на переплете которого было вытиснено имя Бенедикта, и с равнодушным видом перелистал его. — Но я надеюсь на ваш здравый смысл, — добавил он, отшвырнув альбом решительным и властнымжестом, — он не позволит вам терпеть вмешательство посторонних советчиков в наши личные дела, и они не посмеют чинить препятствия управлению нашим общим имуществом. Я надеюсь на вашу совесть, более того — требую именем тех прав, которые имею над вами в силу своего положения. Что ж вы не отвечаете? Почему вы все время смотритесь в зеркало? — Сударь, — ответила Валентина, сраженная ужасом, — я вовсе не смотрюсь… — А по-моему, оно слишком вас занимает. Ну, Валентина, отвечайте скорее. Если вы по-прежнему будете отвлекаться, я сейчас перенесу трюмо в противоположный угол, откуда вы не сможете его видеть. — Не делайте этого, сударь! — растерянно вскричала Валентина. — Какого ответа вы ждете от меня? Чего требуете? Что приказываете мне сделать? — Я ничего не приказываю, — ответил граф со своей обычной небрежной манерой, — я просто прошу вас уделить мне завтра несколько минут вашего благосклонного внимания. Речь пойдет о скучнейшем и сложнейшем деле, вам придется согласиться на кое-какие неизбежные уступки, и, надеюсь, ничье постороннее влияние не сможет вас убедить не повиноваться мне, будь то даже совет вашего зеркала — этого постоянного оракула, с которым женщины советуются по любому поводу. — Сударь, — умоляюще произнесла Валентина, — я заранее согласна подписать все, что вам заблагорассудится потребовать от меня, но, умоляю, уйдем отсюда — я слишком устала! — Это и видно, — подхватил граф. Тем не менее он продолжал сидеть на софе с безразличным видом и глядел на Валентину, которая ждала конца этой сцены, стоя со светильником в руке и чувствуя в душе смертельную тревогу. Графу хотелось бы отомстить Валентине куда более жестоким способом, чем этот, но, вспомнив признание Бенедикта, сделанное им всего несколько минут назад, он вполне здраво рассудил, что сей восторженный юнец вполне способен его убить; поэтому он поднялся и вышел вместе с Валентиной. А она, продолжая разыгрывать уже вовсе бесполезную комедию, сделала вид, что старается запереть дверь павильона. — Весьма уместная предосторожность, — проговорил граф ядовитым тоном, — тем паче, что окна здесь устроены таким образом, что любой, обнаружив дверь на запоре, может преспокойно войти в павильон через окно и выйти оттуда. Это последнее замечание наконец просветило Валентину: она поняла, каковы их истинные взаимоотношения с мужем.34
На следующий день, как только Валентина встала с постели, граф попросил разрешения явиться в ее покои вместе с господином Траппом. Они принесли с собой целый ворох бумаг. — Прочтите их, мадам, — сказал Лансак, видя, что Валентина, даже не взглянув на документы, машинально взялась за перо. Побледнев, она вскинула на мужа глаза, но взгляд его был столь недвусмыслен, улыбка столь презрительна, что она дрожащей рукой быстро вывела свое имя и сказала, вручая бумаги мужу: — Сударь, вы видите, как я доверяю вам: я даже не беру под сомнение то, что вами написано здесь. — Понимаю, мадам, — ответил Лансак, передавая бумаги Граппу. В эту минуту он почувствовал себя таким счастливым, избавившись от долга, который стоил ему целых десяти лет мучений и преследований, ему стало так легко, что в нем заговорило нечто вроде признательности к Валентине, и, поцеловав ей руку, он сказал почти искренне: — Услуга за услугу, сударыня. В тот же вечер он объявил Валентине, что вынужден уехать завтра в Париж с господином Траппом, но в посольство отправится не раньше, чем попрощается с Валентиной, и тогда они вместе обсудят ее личные планы, которые, как он добавил, не встретят с его стороны никаких возражений. В прекрасном расположении духа он отправился спать, радуясь, что разом отделался и от жены и от долгов. Оставшись вечером одна, Валентина наконец-то могла хладнокровно поразмыслить над событиями последних трех дней. До этой минуты страх мешал ей разобраться в своем положении. Теперь же, когда все уладилось полюбовно, она сумела бросить на происшедшее ясный взгляд. Но сделанный ею непоправимый шаг — подписание бумаги — занял ее воображение лишь на один миг, в душе ее жило чувство величайшей растерянности при мысли, что она безвозвратно упала в глазах мужа. Это чувство унижения было столь мучительно, что поглощало все иные чувства. Надеясь найти успокоение в молитве, Валентина заперлась в молельне; но тут, привыкшая к тому, что при каждом взлете ее души к небесам перед ней возникает образ Бенедикта, она даже испугалась, что Бенедикт предстал перед нею сейчас иным, не похожим на его прежний чистый облик. Воспоминание о минувшей ночи, о бурной сцене с Бенедиктом, каждое слово которой, без сомнения, слышал господин де Лансак, вызвало краску на лице Валентины, память о пламенном поцелуе, еще горевшем на ее губах, все страхи, все угрызения, все тревоги убеждали ее, что пора отступить, если она не хочет упасть в бездну. До сих пор ее поддерживало дерзкое ощущение собственной силы, но одного мига оказалось достаточно, чтобы показать, сколь нестойка человеческая воля. Пятнадцать месяцев непринужденной близости и доверия отнюдь не превратили Бенедикта в стоика, раз в мгновение ока были уничтожены плоды добродетели, собираемой по крохам и столь неосмотрительно восхваляемой. Валентина уже не могла скрывать от себя, что любовь, которую она внушила Бенедикту, ничуть не похожа на ту, какую питают ангелы к господу богу, — это была земная любовь, страстная, необузданная, это была гроза, готовая смести все. Как только она прислушалась к сокровенному голосу совести, прежняя ее набожность, неумолимо суровая, рассудительная и беспощадная, сразу же обрекла ее на муки раскаяния и страха. Тщетно Валентина пыталась уснуть, вся ночь прошла в этих страхах. Наконец с первым проблеском зари она, доведенная чуть не до бреда своими муками, задумала некий романтический и возвышенный план, который привлекает не одну молодую женщину накануне ее первого падения. Валентина решила повидаться с мужем и воззвать к его помощи. Испуганная предстоящим объяснением, она наспех оделась и уже готовилась выйти из спальни, но внезапно отказалась от своего намерения; потом она вновь вернулась к нему, снова отбросила его и после четверти часа колебаний и мук твердо решила спуститься вниз и велела позвать господина де Лансака. Еще не пробило пяти часов утра. Граф рассчитывал покинуть замок до того, как проснется его жена. Он надеялся ускользнуть потихоньку, желая избежать новых прощаний и новой сцены притворства. Мысль о предстоящем свидании привела его в дурное расположение духа, но он не нашел благовидного предлога отказаться. Он отправился в гостиную, слегка раздосадованный, что не может угадать причину этого внезапного приглашения. Но граф нахмурился еще больше, увидев, как тщательно Валентина запирает двери, чтобы их никто не услышал, увидев ее искаженное мукой лицо, услышав ее прерывистый голос, так как он не чувствовал себя способным выдержать трогательную сцену. Выразительные брови Лансака сошлись к переносью, и когда Валентина заговорила, она внезапно заметила перед собой такое холодное и отталкивающее лицо, что сразу замолкла и растерялась. Несколько вежливых слов, произнесенных мужем, дали ей почувствовать, что он не расположен ждать, и тогда, сделав над собой нечеловеческое усилие, она вновь попыталась заговорить, но сумела выразить свой позор и горе лишь судорожными рыданиями. — Ну, ну, дорогая, — наконец проговорил граф, не без труда напустив на себя ласковый и прямодушный вид, — полноте ребячиться! Что же такое вы можете мне сказать? По-моему, мы чудесно поладили по всем пунктам. Ради бога, не будем терять зря время: Грапп меня ждет. А Грапп неумолим: — Так вот, сударь, — сказала Валентина, собравшись с духом, — я выражу в двух словах, чего жду от вашего великодушия, — увезите меня. При этом она склонилась перед графом, почти встала перед ним на колени. Он невольно отшатнулся. — Увезти вас? Вас? Вы отдаете себе отчет в своей просьбе? — Я знаю, что вы меня презираете! — воскликнула Валентина с мужеством отчаяния. — Но я знаю также, что вы не имеете на то права. Клянусь, сударь, пока я еще достойна быть подругой честного человека. — Не соблаговолите ли вы доставить мне удовольствие и сообщить, — медленно и с подчеркнутой иронией проговорил граф, — сколько ночных прогулок вы сделали «в одиночестве», как, скажем, вчера, и сколько раз, хотя бы приблизительно, вы побывали в павильоне за два года нашей разлуки? Сознавая свою невинность, Валентина почувствовала, как растет ее отвага. — Клянусь вам богом и честью, вчера это было впервые, — ответила она. — Бог милосерд, а честь женщины — предмет весьма хрупкий. Потрудитесь поклясться чем-нибудь другим. — Но, сударь, — воскликнула Валентина властным тоном, схватив мужа за руку, — вы сами слышали минувшей ночью наш разговор, я знаю это, уверена в этом. Так вот, я взываю к вашей совести, разве не служит наш разговор лучшим свидетельством того, что я неповинна в своем увлечении? Разве не поняли вы, что даже если я виновна и низка в своих собственных глазах, зато поведение мое ничем не запятнано в глазах мужа? О, вы сами это отлично знаете, вы знаете также, что будь все иначе, у меня не хватило бы дерзости молить вас о защите. О Эварист, не отказывайте мне! Еще не поздно, еще можно меня спасти; отвратите же удар судьбы, отведите меня от соблазна, который мучит, неотступно преследует меня! Я бегу от него, я его ненавижу, я хочу его отогнать! Но я, увы, только бедная, одинокая, покинутая всеми женщина, помогите же мне! Еще не поздно — слышите? — я могу смотреть вам в глаза. Взгляните, разве я покраснела? Разве с таким лицом лгут? Вы человек проницательный, вас нельзя обмануть так грубо. Да разве я осмелилась бы? Великий боже, вы мне не верите? О, ваше сомнение — жесточайшая для меня кара! С этими словами несчастная Валентина, уже не надеясь победить оскорбительную холодность этого каменного сердца, упала на колени и, сложив руки, воздела их к небу, как бы призывая его в свидетели. — Вы и вправду прекрасны и вправду красноречивы! — проговорил граф, нарушив свое жестокое молчание. — Надо иметь черствое сердце, чтобы отказать вам в том, что вы так мило просите, но неужели вы хотите из-за меня вновь стать клятвопреступницей? Ведь вы же поклялись ночью вашему любовнику, что не будете принадлежать другому. Услышав этот разящий ответ, Валентина с негодованием поднялась и, глядя на мужа с той высоты, на которую гордость возносит оскорбленную женщину, проговорила: — Так вот как вы толкуете мою просьбу! Вы находитесь в странном заблуждении, сударь, неужели вы думаете, что я на коленях вымаливаю себе место в вашей постели? Смертельно оскорбленный высокомерным презрением этой женщины, еще минуту назад столь униженно молившей о спасении, Лансак побледнел и, прикусив губу, молча направился к дверям. Но Валентина схватила его за руку. — Итак, вы меня отталкиваете, — сказала она, — вы отказываетесь дать мне приют и спасение в вашем доме! Будь вы в состоянии лишить меня своего имени, вы, несомненно, так бы и сделали! О, как вы несправедливы, сударь! Еще вчера вы говорили о наших взаимных обязательствах в отношении друг друга, и так-то вы выполняете ваши? Вы же видите, что я вот-вот рухну в бездну, внушающую мне ужас, а когда я молю вас протянуть мне руку, вы отталкиваете меня пинком ноги. Так пусть мои грехи падут на вашу голову! — Вы совершенно правы, Валентина, — насмешливо ответил граф, поворачиваясь к ней спиной, — ваши грехи падут именно на мою голову. И он шагнул к двери, восхищенный собственным остроумным ответом; но Валентина вновь удержала его, она сумела стать покорной, трогательной, патетичной, какой только может быть женщина в минуту душевного смятения. Говорила она так красноречиво и так правдиво, что господин де Лансак, удивленный ее умом, взглянул на жену с таким видом, что ей показалось на мгновение, будто он тронут. Но он легонько высвободил свою руку со словами: — Все это прекрасно, дорогая, но до чрезвычайности смешно. Вы еще очень молоды, так послушайтесь совета друга: ни при каких обстоятельствах женщина не должна брать своего мужа в исповедники, — это значит требовать от него больше добродетелей, чем ему положено по чину. Лично я нахожу вас очаровательной, но я веду слишком занятую жизнь, чтобы взять на себя непосильную задачу — исцелить вас от великой страсти. Впрочем, я и не льщу себя надеждой добиться успеха. Я и так, по-моему, сделал для вас достаточно, закрыв на многое глаза, вы мне открыли их силой; поэтому-то мне и приходится бежать, ибо наша жизнь была бы непереносима и мы не могли бы без смеха смотреть друг другу в глаза. — Без смеха, сударь, без смеха! — воскликнула Валентина в приступе праведного гнева. — Прощайте, Валентина, — продолжал граф. — Я достаточно опытен, поверьте, я не пущу себе пулю в лоб, обнаружив неверность; но у меня хватает здравого смысла, и я не хочу служить ширмой для такой юной экзальтированной особы, как вы. Поэтому я не требую, чтобы вы рвали свои связи, которые еще имеют для вас романтическую прелесть первой любви. Вторая кончится быстрее, а третья… — Вы оскорбляете меня, — печально отозвалась Валентина, — но да будет мне защитой бог. Прощайте, сударь, благодарю вас за этот жестокий урок, попытаюсь воспользоваться им. Супруги простились, и через четверть часа Бенедикт с Валентином, прогуливавшиеся по обочине дороги, увидели, как мимо промчалась почтовая карета, увозившая в Париж благородного графа и его ростовщика.35
Испуганная, смертельно уязвленная оскорбительными предсказаниями мужа, Валентина удалилась к себе в спальню, желая скрыть слезы и стыд. Ей стало страшно при мысли о том, как жестоко карает свет такие увлечения, и она, привыкшая свято уважать мнение общества, содрогнулась от ужаса, припомнив свои ошибки и неосмотрительные поступки. Сотни раз перебирала она в уме и отвергала планы спасения от неминуемой опасности, искала вовне силы противостоять соблазну, так как не находила их более в себе, ужас перед падением подточил ее силы, и она горько упрекала судьбу, отказавшую ей в помощи и поддержке. «Увы, — говорила она, — муж меня оттолкнул, мать меня не поймет, сестра ничем не способна помочь… Кто остановит меня на этой круче, с которой я вот-вот сорвусь вниз?» Воспитанная для жизни в высшем свете и согласно его правилам, Валентина не находила в нем той опоры, на которую вправе была рассчитывать хотя бы в возмещение принесенных ею жертв. Если бы она не обладала неоценимым сокровищем веры, она, несомненно, попрала бы в отчаянии все правила, внушенные ей с юных лет. Но религия поддерживала ее и сплавляла воедино все ее идеалы. Этим вечером она не нашла в себе силы увидеться с Бенедиктом, она даже не известила его об отъезде графа и льстила себя надеждой, что он ничего не узнает. Зато она послала записочку Луизе и попросила ее к обычному часу прийти в павильон. Но как только сестры встретились, мадемуазель Божон тут же послала Катрин в парк предупредить Валентину, что ее бабушка совсем разнемоглась и хочет ее видеть. Нынче утром старая маркиза выпила чашку шоколаду, но ее ослабший организм не смог переварить такую тяжелую пищу, старуха почувствовала стеснение в желудке, и ее начало жестоко лихорадить. Их старый врач, господин Фор, нашел положение больной весьма серьезным. Валентина поспешила к бабушке и старательно ухаживала за ней; но вдруг маркиза приподнялась на постели и потребовала, чтобы ее оставили наедине с внучкой, причем произнесла эти слова так внятно, как уже давно не произносила, и смотрела так ясно, как уже давно не смотрела. Все присутствовавшие немедленно удалились, за исключением мадемуазель Божон, которая не могла допустить мысли, что подобное требование распространяется также и на нее. Но старая маркиза силой какого-то чудесного превращения обрела под влиянием лихорадки ясность рассудка и воли и властно приказала своей компаньонке покинуть спальню. — Валентина, — обратилась маркиза к внучке, когда они остались вдвоем, — я хочу попросить тебя об одном одолжении, уже давно я умоляю об этом Божон, но она только сбивает меня с толку своей болтовней, а ты, ты мне поможешь. — О бабуся! — воскликнула Валентина, опускаясь на колени возле постели. — Говорите, приказывайте. — Так вот, дитя мое, — сказала маркиза, понизив голос и наклоняясь к внучке, — я не хочу умирать, прежде чем не увижу твою сестру. Валентина вскочила и бросилась к сонетке. — О, сейчас, сейчас, — произнесла она. — Луиза здесь, совсем близко, как же она будет счастлива! Ее ласки вернут вам, дорогая бабушка, жизнь и здоровье! Катрин по распоряжению Валентины побежала в павильон за Луизой. — Но это еще не все, — добавила маркиза, — я хочу видеть также и ее сына. Валентин, которого послал в замок Бенедикт, тревожась о Валентине и не смея сам явиться к ней без зова, как раз вошел в парк, когда там появилась Катрин. Через несколько минут Луизу с сыном уже ввели в спальню маркизы. Брошенная столь жестоко бабушкой, Луиза совсем забыла ее, но когда она увидела на смертном одре бледную и дряхлую старуху, когда вновь увидела лицо той, чья снисходительная нежность худо ли, хорошо ли была отрадою первых лет ее невинной и счастливой жизни, — она ощутила, как в душе ее проснулось неискоренимое чувство уважения и любви, неотъемлемое от нашей первой привязанности. Она кинулась в объятия бабушки, и горючие слезы оросили грудь той, что баюкала ее в детстве, хотя сама Луиза полагала, что источник слез уже давно иссяк. Старуха, в свою очередь, испытала сильнейшее волнение при виде Луизы, некогда столь резвой, столь щедро одаренной молодостью, пылкостью и здоровьем, а ныне бледной, хрупкой и печальной. И она выказала в отношении старшей внучки такую любовь, которая была для этой души как бы последней вспышкой неизреченной нежности, что даруют небеса женщине в ее материнском призвании. Старуха просила прощения за то, что забыла старшую внучку, и просила так униженно, что сестры разрыдались, не в силах скрыть свою признательность; потом она обняла Валентина своими слабеющими руками, восхищаясь его красотой, изяществом, сходством с теткой. Он унаследовал черты графа Рембо, последнего сына маркизы, и отсюда шло его сходство с Валентиной. Но прабабка обнаружила в мальчике также сходство и с ее покойным мужем. В самом деле, не смогли же исчезнуть с лица земли эти священные семейные узы! Нет ничего более впечатляющего для сердца человека, чем некий тип красоты, который как драгоценное наследие переходит из рода в род и запечатлевается в баловнях семьи. Что может быть дороже чувств, где слились воедино воспоминания и надежды! Какая власть заключена в существе, чей взгляд возрождает в твоей душе прошлые годы, любовь и горе, целую жизнь, которая, казалось, угасла, и вдруг ты обнаруживаешь ее трепетные следы в улыбке ребенка. Но вскоре это волнение улеглось в душе маркизы то ли потому, что она уже истощила отпущенную ей природой способность предаваться чувствам, то ли возобладала прирожденная легкость характера… Она усадила Луизу у постели, Валентину в углу алькова, а мальчика у своего изголовья. Она заговорила с ними умно, и весело, и так непосредственно, будто расстались они только накануне, расспрашивала Валентина о его занятиях, вкусах, о его планах на будущее. Напрасно внучки уверяли маркизу, что такая длинная беседа утомит ее, мало-помалу они заметили, что рассудок ее мутится, память слабеет: удивительное присутствие духа, с каким она только что держалась, уступило место туманным и расплывчатым воспоминаниям, каким-то смутным мыслям, щеки ее, разрумянившиеся от лихорадки, приняли лиловый оттенок, язык стал заплетаться. Врач, явившийся на зов Валентины, прописал ей успокаивающее средство. Но нужды в нем не оказалось, старушка слабела на глазах — все понимали, что она скоро угаснет. Потом, вдруг приподнявшись на подушках, бабушка подозвала к себе Валентину и, махнув рукой, приказала всем прочим отойти в дальний угол спальни. — Вот о чем я сейчас вспомнила, — негромко проговорила она. — Так я и знала, что забыла что-то, а мне не хотелось умирать, прежде чем я не скажу тебе одну вещь. Я отлично знаю кое-какие твои секреты и только делала вид, что мне ничего не известно. Ты не пожелала мне довериться, Валентина, но я уже давно догадываюсь, что ты влюблена, дитя мое. Валентина задрожала всем телом, страшные события, происшедшие за эти два дня, потрясли ее, и ей почудилось, будто устами умирающей бабушки вещает голос свыше. — Да, это правда, — призналась она, пряча свое пылающее лицо в леденеющих ладонях маркизы, — я виновна, но не проклинайте меня, скажите мне хоть слово, которое вернуло бы мне жизнь и спасло бы меня. — Ах, детка, — ответила маркиза, пытаясь улыбнуться, — не так-то легко спасти такую юную головку от страстей! Что ж, в последние минуты жизни я могу позволить себе быть искренней. Зачем бы мне лицемерить перед всеми вами? Ведь я через мгновение предстану перед лицом господа. Нет, не существует никаких средств предохранить женщину от подобного зла, особенно такую молодую женщину. Итак, люби, детка, это лучшее, что есть в жизни. Но выслушай последний совет бабушки и запомни его: никогда не бери себе в любовники человека неравного с тобой положения… Тут дар речи изменил старой маркизе. Несколько капель микстуры продлили ее жизнь еще на несколько минут. Она улыбнулась болезненной улыбкой окружавшим ее и пробормотала про себя молитву. Потом снова повернулась к Валентине. — Скажешь матери, что я благодарю ее за все добрые поступки и прощаю дурные. В конце концов она относилась ко мне не так уж плохо для женщины низкого происхождения. Признаюсь, я не ждала этого от мадемуазель Шиньон. Последние слова маркиза произнесла с подчеркнутым презрением. Больше от нее ничего не услышали; очевидно, старуха считала, что жестоко отомстила невестке, отравившей ей старость своим несносным характером, разоблачив при всех буржуазное происхождение мадам де Рембо, что в глазах маркизы было самым крупным пороком. Потеря бабушки, хотя и отозвалась болью в сердце Валентины, не была для нее сокрушающим несчастьем. Тем не менее она, особенно в теперешнем своем состоянии духа, решила, что злополучный рок нанес ей еще один удар, и с горечью твердила про себя, что все, кто мог бы стать для нее естественной опорой, покинули ее один за другим, и словно нарочно как раз в то время, когда были ей особенно необходимы. Окончательно пав духом, Валентина решила написать матери с просьбой поспешить ей на помощь и одновременно пошла на жертву не видеться с Бенедиктом, пока не выполнит до конца свой долг. Поэтому Валентина, отдав последний долг покойной бабушке и вернувшись домой, заперлась у себя; сказавшись больной, она не велела никого принимать, а сама села за письмо графине де Рембо. Хотя жестокость господина де Лансака должна была бы отвратить Валентину от новой попытки поверять свои муки бесчувственному сердцу, она все же униженно исповедовалась перед гордой женщиной, с детства приводившей ее в трепет. Не выдержав душевной боли, Валентина нашла в себе мужество отчаяния решиться даже на этот шаг. Она уже не рассуждала, все страхи отступили перед самым ужасным страхом, владевшим ее душой. Она, не раздумывая, бросилась бы в пучину, лишь бы убежать от своей любви. Впрочем, сейчас, когда у нее отняли все и отняли разом, новая боль не так мучительно отдавалась в ее душе, как в обычное время. Она чувствовала в себе избыток энергии, способной победить ее самое, все казалось ей по силам, кроме борьбы с Бенедиктом; проклятия всего света были ей не так страшны, как мысль собственными глазами увидеть страдания своего возлюбленного. Итак, она призналась матери, что любит «не мужа, а другого человека». Больше ничего она о Бенедикте не сообщила; зато живо обрисовала состояние своей души и настоятельную потребность в опоре. Она умоляла мать вызвать ее к себе; помня, какой безответной покорности требовала графиня, Валентина ни за что на свете не решилась бы приехать в Париж без соизволения матери. Хотя госпожа де Рембо не грешила избытком материнской нежности, ее тщеславию, возможно, польстила бы исповедь дочери; возможно, она уступила бы просьбе, если бы с той же самой почтой не получила другого письма, тоже отправленного из замка Рембо; письмо это она прочла первым, и в нем оказался сделанный по всей форме навет, принадлежавший перу мадемуазель Божон. Сия старая девица чуть не спятила от зависти, видя, что маркиза на смертном одре приблизила к себе свою новую семью; особенно же разгневало компаньонку то обстоятельство, что маркиза подарила Луизе на память несколько старинных драгоценностей. Она сочла это прямым посягательством на свои законные права и, не смея открыто сетовать, решила хотя бы отомстить; итак, она, не мешкая, написала графине, чтобы сообщить ей о смерти свекрови, и, воспользовавшись этим предлогом, рассказала о близости между Валентиной и Луизой, о «скандальном» появлении Валентина в деревне, воспитываемого при участии госпожи де Лансак, но, главное, распространялась о том, что она назвала «тайнами павильона», так как не только поведала графине о нежной дружбе сестер, но и в самых черных тонах расписала их отношения с племянником фермера, с крестьянином Бенуа Лери; Луизу она представила как заядлую интриганку, которая гнусно покровительствует преступной связи сестры с «этим мужланом»; добавила, что, к сожалению, уже слишком поздно поправить зло, ибо эта связь тянется вот уже добрых пятнадцать месяцев. В конце письма она довела до сведения графини, что господин де Лансак, безусловно, сделал на сей счет кое-какие неприятные открытия, ибо укатил в Париж через три дня и с женой не общался. Дав выход своей ненависти, Божон покинула замок Рембо, осыпанная милостями и отомстившая за всю доброту, которую проявила Валентина в отношении бабушкиной компаньонки. Оба этих письма привели графиню в неописуемый гнев; она не слишком поверила бы доносу дуэньи, если бы признания дочери, пришедшие одновременно с письмом Божон, не послужили подтверждением. Таким образом, в глазах матери заслуга простодушной исповеди Валентины была сведена на нет. Госпожа де Рембо сочла дочь преступницей, бесповоротно запятнавшей свою честь, и подумала, что, опасаясь мести мужа, та старается теперь найти поддержку у матери. В этом мнении укрепляли ее также слухи, доходившие чуть ли не каждый день из провинции. Чистое счастье двух любящих не могло укрыться в мирной сени лесов, не возбудив зависти и ненависти всех тех, кто бессмысленно прозябает в глуши заштатных городков. Зрелище чужого счастья иссушает и гложет провинциала; единственное, что скрашивает его душную, жалкую жизнь, — это радость с корнем выкорчевать любовь и поэзию из жизни соседа. К тому же госпожа де Рембо, которую и без того поразило неожиданное возвращение в Париж графа де Лансака, стала расспрашивать его при встрече и не добилась определенного ответа, но зато по его многозначительному молчанию, по его гордому и уклончивому поведению поняла, что все узы любви и доверия между ним и женой разорваны навсегда. Поэтому-то она и послала Валентине разящий ответ, советуя искать отныне себе опору и помощь у своей сестрицы, столь же порочной, как она сама, заявила, что оставляет ее на произвол позорной судьбы, и чуть ли не прокляла дочь навеки. Госпожа де Рембо и впрямь была огорчена, видя, что жизнь ее дочери бесповоротно загублена, но в, ее горе было больше уязвленной гордыни, чем материнской нежности. Доказательством послужило то, что злоба взяла верх над жалостью, и графиня переселилась в Англию, чтобы, по ее же словам, найти забвение от своих горестей на чужбине, а на самом деле для того, чтобы без помехи предаваться развлечениям и не встречать людей, осведомленных об их семейных неурядицах и склонных осуждать ее поведение. Так окончилась последняя попытка злосчастной Валентины. Ответ матери поверг ее душу в такую скорбь, что все прочие мысли отступили на задний план. Она бросилась на колени в своей молельне и в отчаянии зарыдала навзрыд. И вот, когда горечь стала непереносимой, Валентина, подобно многим набожным людям, ощутила, что ей нужны доверие и надежда; особенно же остро она ощутила потребность в настоящей любви, которая пылает в молодых сердцах. Ей, ненавидимой, непонятой, отторгнутой всеми, оставалось лишь единое прибежище — сердце Бенедикта. Неужели же столь преступна эта оклеветанная любовь? Куда она ее завела? — Боже, — с жаром воскликнула Валентина, — ты один видишь чистоту моих помыслов, ты один знаешь, как невинны мои поступки, почему же ты не защитишь меня? Неужели и ты отступился от меня? Люди отказывают мне в справедливости, дай же мне найти ее в тебе. Разве эта любовь так уж преступна? Преклонив колена на молитвенной скамеечке, она вдруг заметила некий предмет, который она сделала своим ex-voto [5], повинуясь суеверию влюбленных, — это была ее косынка, запятнанная кровью Бенедикта; в тот день, когда он наложил на себя руки, Катрин принесла ее в замок, подобрав в домике у оврага, а Валентина, узнав об этом, взяла у няньки платочек. Теперь вид крови, пролитой за нее, как бы стал для Валентины победоносным выражением торжествующей любви и преданности, отповедью на оскорбления, которые сыпались на нее со всех сторон. Схватив косынку и прижав ее к губам, Валентина погрузилась в океан мук и блаженства. Долго еще она стояла на коленях, не шевелясь, уйдя в себя, доверчиво открыв свою душу, и вновь почувствовала, как возвращается к ней пламень жизни, опалявший ее всего несколько дней назад.36
Всю эту неделю Бенедикт чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Притворная болезнь Валентины, о которой даже Луиза ничего не могла сообщить толком, повергла его в живейшее волнение. Бенедикт предпочитал лучше верить в недуг Валентины, чем заподозрить ее в желании бежать от него, — таков уж эгоизм любви! Этим вечером, побуждаемый слабой надеждой, он долго бродил по парку и наконец решил проникнуть в павильон, так как Валентин вручил ему ключ, который обычно держал при себе. В этом уголке все было тихо и пустынно, в этом уголке, еще так недавно полном радости, доверия и любви. Сердце его сжалось; выйдя из павильона, он рискнул проникнуть в сад, разбитый перед замком. Со времени кончины старой маркизы Валентина рассчитала почти всех слуг. Замок поэтому стал почти необитаем. Бенедикт, не встретив ни души, приблизился к дому. Молельня Валентины помещалась в башенке, находившейся в самом дальнем и уединенном конце дома. Узенькая винтовая лесенка осталась еще от старинных строений, послуживших основой для теперешнего замка, и вела из спальни Валентины в молельню, а из молельни в сад. Сводчатое окно, украшенное орнаментом во вкусе итальянского Возрождения, находилось выше купы деревьев, верхушки которых золотило заходящее солнце. День выдался на редкость жарким; полиловевший к вечеру небосвод вяло перечеркивали безмолвные зарницы, воздух был разрежен и как бы насыщен электричеством; спускался тот летний вечер, когда дышится с трудом, когда человек невольно впадает в состояние крайнего нервического возбуждения, мучается от какого-то неведомого недуга и верит, что облегчить его можно лишь слезами. Добравшись до купы деревьев, росших у подножия башни, Бенедикт бросил беспокойный взгляд на окно молельни. Солнце ярко окрасило его многоцветные витражи. Напрасно Бенедикт старался уловить хоть какое-то движение за этим пылающим зеркалом, как вдруг женская рука распахнула окно, чья-то фигура промелькнула и исчезла. Бенедикт вскарабкался на вековой тис и, прячась среди его темных плакучих ветвей, забрался достаточно высоко, чтобы проникнуть взором в глубину комнаты. Он отчетливо различил Валентину, стоявшую на коленях; ее белокурые волосы, позлащенные последними отблесками солнца, беспорядочно рассыпались по плечам. Ее щеки пылали, она прижимала к груди, она осыпала поцелуями окровавленную косынку, которую Бенедикт с такой тревогой искал после своей неудачной попытки самоубийства и которую он теперь сразу же узнал. Тогда Бенедикт, боязливо оглядев пустынный сад и убедившись, что одним движением можно достигнуть окна, не мог устоять против соблазна. Ухватившись за лепную балюстраду и оттолкнувшись от ветки, бывшей ему опорой, он бросился вперед, рискуя жизнью. Увидев темную тень, четко вырисовавшуюся на фоне зажженного закатом окна, Валентина испуганно вскрикнула, но, узнав Бенедикта, испугалась уже по другой причине. — О господи, — проговорила она, — неужели вы осмелились преследовать меня и здесь? — Вы меня гоните? — спросил Бенедикт. — Ну что ж, всего двадцать футов отделяют меня от земли; прикажите мне отпустить балюстраду, и я немедленно последую вашему желанию. — Великий боже! — воскликнула Валентина, испуганная тем, что Бенедикт находится в опасности. — Входите же, входите. Иначе я умру со страха! Бенедикт проскользнул в молельню, и Валентина, судорожно схватившая его за сюртук, чтобы он не упал и не разбился, приняла его в свои объятия. Это было движением непроизвольной радости оттого, что он спасся. В этот миг было забыто все. Валентина забыла о сопротивлении, о долгих своих раздумьях, а Бенедикт забыл свои упреки, которые намеревался адресовать Валентине. Восемь дней разлуки при столь печальных обстоятельствах обоим показались вечностью. Юноша предавался безумной радости, прижимая к груди Валентину, он боялся, что найдет ее на смертном одре, а она предстала перед ним еще более прекрасной, еще более любящей, чем когда-либо. Наконец к нему вернулась память о перенесенных вдали от нее страданиях: Бенедикт упрекнул Валентину в жестокости и во лжи. — Послушайте, — горячо возразила Валентина, подводя его к мадонне, — я дала клятву никогда с вами не встречаться, мне опять представилось, будто я не смогу видеть вас и не совершить преступления. А теперь поклянитесь, что вы поможете мне свято блюсти мой долг, поклянитесь в том перед господом, перед этим образом, эмблемой чистоты: успокойте меня, верните мне утраченное доверие. Бенедикт, вы искренни душой и не захотите преступить клятву в сердце своем; скажите же, чувствуете ли вы, что вы сильнее меня? Бенедикт побледнел и испуганно отпрянул. Он был по-рыцарски честен и предпочитал перенести боль вечной разлуки с Валентиной, нежели совершить преступление, обманув ее. — Но вы же требуете от меня обета, Валентина! — воскликнул он. — Неужели вы думаете, что у меня хватит героизма произнести клятву, а главное, сдержать ее, не подготовившись к этому заранее? — Но ведь вы готовились к этому в течение пятнадцати месяцев! — возразила она. — Вспомните ваши торжественные обещания, данные в присутствии моей сестры, ведь до сих пор вы честно их блюли! — Да, Валентина, у меня хватало на это сил, и, возможно, их хватило бы, чтобы вновь произнести эту клятву. Но не требуйте ее от меня нынче, я слишком взволнован сейчас, любые мои клятвы не будут иметь никакой цены. Все, что произошло, лишило меня покоя, который вы вернули моему сердцу. О Валентина, неосторожная женщина, вы же сами говорите, что мое присутствие повергает вас в трепет. Зачем вы это сказали? У меня никогда не хватило бы смелости даже помыслить об этом. Вы были сильной, когда я считал вас сильной, почему же вы требуете от меня стойкости, которой не хватает вам самой? Где обрету я ее теперь? Прощайте, я ухожу, я буду готовиться к тому, чтобы исполнить ваш приказ. Но поклянитесь теперь вы, что не будете бежать от меня: ведь вы сами видите, как пагубно сказывается на мне ваше поведение, оно убивает меня, оно сводит на нет мою прежнюю стойкость. — Что же, Бенедикт, клянусь, когда я вас вижу, когда я вас слышу, для меня немыслимо не верить вам. Прощайте, завтра мы все встретимся в павильоне. Она протянула руку, Бенедикт не осмелился ее коснуться. Судорожная дрожь пробежала по его телу. Но едва только он взял ее руку, как его тут же охватило бешенство. Он заключил Валентину в объятия, потом хотел было ее оттолкнуть. Но тут страшное насилие над своей пылкой натурой истощило последние силы Бенедикта, он яростно заломил руки и почти без чувств рухнул на скамеечку. — О, сжальтесь надо мной, — тоскливо пробормотал он, — сжалься ты, сотворивший Валентину, призови к себе душу мою, потуши это иссушающее дыхание, которое точит мою грудь, калечит мою жизнь, сжалься надо мной! Пошли мне смерть! Он был так бледен, такая мука запечатлелась в его потухшем взоре, что Валентина решила, будто он умирает. Она тоже бросилась рядом с ним на колени, лихорадочно прижала Бенедикта к груди, покрывая его поцелуями и слезами, сама без сил упала в его объятия, но тут же испустила крик — Бенедикт лишился сознания, похолодел, и голова его безжизненно откинулась назад. Наконец Валентине удалось привести Бенедикта в чувство; но он был так слаб, так разбит, что она не решилась отправить его домой. Необходимость помочь любимому вернула ей энергию, и она, поддерживая Бенедикта, довела, вернее — дотащила его до своей спальни, где стала немедленно готовить ему чай. В этот миг добрая и кроткая Валентина превратилась в заботливую и деятельную сиделку, посвятившую себя ближнему. Страхи женщины и возлюбленной ушли прочь, уступив место дружеским заботам. Она совсем забыла, куда привела Бенедикта, не подумала даже о том, что должно происходить в его душе, так как все ее помыслы сосредоточились на том, как бы помочь ему исцелиться. Неосторожная, она не заметила, каким мрачным, диким взором он оглядывал эту спальню, где был всего лишь раз, эту постель, где ночью видел ее спящей, всю эту обстановку, напоминавшую ему самый бурный приступ чувств, самое торжественное волнение за всю его жизнь. Упав в кресло, нахмурив брови и бессильно опустив руки, он машинально смотрел, как Валентина хлопочет вокруг, даже не понимая толком, чем она занята. Когда Валентина поднесла Бенедикту только что приготовленное ею успокаивающее питье, он вдруг поднялся и поглядел на нее таким странным блуждающим взглядом, что она невольно уронила чашку и отступила на шаг. Охватив ее стан руками, Бенедикт удержал ее. — Пустите меня, — воскликнула Валентина, — я обожглась чаем! Она отошла, и впрямь прихрамывая. Бенедикт бросился на колени, покрыл поцелуями ее маленькую, слегка покрасневшую от ожога ножку в ажурном чулке и снова чуть не лишился чувств; когда он вновь пришел в себя, охваченная жалостью, любовью и страхом Валентина уже не вырывалась из его объятий… Роковая минута, которая неизбежно должна была рано или поздно наступить, наступила. Надо иметь слишком много безрассудства, чтобы надеяться победить страсть, когда видишься с любимым каждый день и когда тебе всего двадцать лет… В первые дни Валентина, прогнав все свои обычные мысли, не испытывала раскаяния, но наступила и эта минута, и она была страшна. Тут Бенедикт горько пожалел о счастье, за которое пришлось платить такой дорогой ценой. Он был так жестоко наказан за свою вину — на его глазах Валентина рыдала и чахла от тоски. Оба были слишком добродетельны, чтобы дать себя усыпить радостями, которые они так долго отвергали и осуждали, и существование их стало воистину невыносимым. Валентина не в состоянии была вступить в сделку с совестью. Бенедикт любил слишком страстно и не мог ощущать счастья, которое не разделяла Валентина. Оба были слишком слабы, всецело предоставленные самим себе, слишком захвачены необузданными порывами юности и не умели отказаться от этих радостей, неизбежно несущих раскаяние. Расставались они с отчаянием в душе, встречались с восторгом. Жизнь их стала постоянной битвой, вечно возобновляющейся грозой, безграничным сладострастием и адом, откуда нет исхода. Бенедикт упрекал Валентину за то, что она его не любит, что ей дороже собственная честь, самоуважение, что она не способна полностью принести себя в жертву, а когда эти упреки приводили к новым слабостям, когда он видел, как Валентина рыдает от отчаяния, сраженная бледными призраками страха, он проклинал то счастье, которое только что вкусил; он готов был ценою собственной крови смыть воспоминания о миге блаженства. Тогда он уверял, что согласен бежать прочь, клялся, что перенесет жизнь вдалеке от нее, но у самой Валентины уже не хватало сил расстаться с ним. — Значит, я останусь совсем одна во власти своего горя! — возражала она. — Нет, не покидайте меня, иначе я умру, я могу теперь жить, лишь предаваясь забвению. Как только я заглядываю в свою душу, я чувствую, что погибла, разум мой мутится, и я способна усугубить свой грех самоубийством. Ваше присутствие дает мне силу жить в забвении своих обязанностей. Подождем еще, будем надеяться, будем молиться; одна я уже не могу молиться, но в вашем присутствии надежда вновь возвращается ко мне. Я льщу себя мечтой, что в один прекрасный день во мне проснутся былые добродетели и я смогу любить вас, не совершая преступления. Возможно, что именно вы и дадите мне эту силу, ведь вы сильнее меня, ведь я вас отталкиваю и всегда первая зову к себе. И потом наступали минуты пламенной страсти, когда Валентина готова была с улыбкой взирать на муки ада. Тогда она становилась не просто неверующей, а фанатической безбожницей. — Бросим вызов всему миру, и пусть душа моя погибнет, — говорила она. — Будем счастливы на земле; разве счастье быть твоей не стоит того, чтобы заплатить за него вечными муками? Ради тебя я готова на любые жертвы, скажи, как я могу еще отблагодарить тебя? — О, если бы ты всегда была такой! — восклицал Бенедикт. Тогда Валентина, по природе столь спокойная и сдержанная, становилась страстной до самозабвения, — так безжалостна власть бед и соблазнов, когда они вступают в союз, и тогда удесятеряются душевные способности бороться и любить. Чем дольше она сопротивлялась, повинуясь голосу рассудка, тем стремительнее оказалось падение. Чем больше крепла решимость отвергнуть страсть, тем успешнее эта страсть черпала в самой Валентине свою силу и неизбывность. Одно событие, которое, если так можно выразиться, Валентина забыла предусмотреть, отвлекло ее от всех этих бурь. В один прекрасный день явилсягосподин Грапп с целой кипой скрепленных печатью бумаг, согласно которым замок и земли Рембо отходили в его владения, а госпоже де Лансак осталось всего-навсего двадцать тысяч франков, что и составляло отныне все ее состояние. Земли были немедленно проданы с торгов по высокой цене, а Валентину попросили в течение двадцати четырех часов удалиться из владений господина Граппа. Это было словно удар грома для всех, кто любил Валентину: если бы даже округу постигла небесная кара, и то местные жители не были бы так поражены. Будь Валентина в ином положении, она ощутила бы всю силу удара, но сейчас в тайниках сердца она подумала, что господин де Лансак оказался достаточно низким человеком, раз купил свое бесчестье ценой золота, и, следовательно, они с ним квиты. Жалела она лишь павильон, приют навек утраченного счастья, и, взяв мебель, которую ей разрешили взять, она временно переселилась на ферму Лери, которые, по договору с Граппом, тоже готовились со дня на день покинуть свое жилье.37
Среди треволнений, взбаламутивших ее жизнь, Валентина несколько дней не виделась с Бенедиктом. Мужество, с каким она перенесла выпавшее на ее долю испытание, укрепило ее душу, и она нашла в себе достаточно стойкости, чтобы попытаться сделать еще одно усилие. Она написала Бенедикту: «Умоляю вас не искать встречи со мной в течение ближайших двух недель, которые я проживу у Лери. Коль скоро вы не переступали порог фермы со дня свадьбы Атенаис, вы не можете появиться в Гранжневе без того, чтобы наши отношения не получили огласки. Как бы вас ни приглашала к себе госпожа Лери, которая до сих пор горюет о вашей мнимой размолвке, откажите ей, если не хотите причинить мне боль. Прощайте, я и сама не знаю, что со мной станется, впереди еще две недели, чтобы подумать. Когда я решу вопрос о своем будущем, я извещу вас, и, что бы меня ни ждало, вы поможете мне перенести все тяготы». Эта записка повергла Бенедикта в глубокий страх, за ее строками он прочел то решение, которого он так давно опасался и от которого ему до сих пор удавалось отвратить Валентину, но, видимо, в связи с обрушившимся на нее несчастьем оно стало неминуемым. Сраженный, раздавленный бременем всей своей растревоженной жизни и мрачным призраком будущего, он окончательно пал духом. Впереди не было даже надежды на самоубийство. Он был связан определенными обязательствами с сыном Луизы, к тому же Валентина была слишком несчастна, и он не мог решиться нанести ей еще удар ко всем тем, что обрушила на нее судьба. Теперь, когда Валентина разорена, покинута, еле жива от горя и раскаяния, его, Бенедикта, долг — жить, чтобы попытаться быть ей полезным и охранять ее даже вопреки ее воле. Наконец Луизе удалось победить безумную страсть, так долго ее мучившую. Ее отношения с Бенедиктом, упростившиеся и очищенные присутствием сына, стали более спокойными и уравновешенными. Ее бешеный нрав смягчился, что было результатом огромной внутренней победы. Правда, она ничего не знала о том несчастье, какое принесло Бенедикту его слишком большое счастье с Валентиной, — Луиза готовилась утешать сестру в ее потерях, не подозревая, что среди этих потерь есть одна непоправимая — потеря самоуважения. Таким образом, она проводила все свободное время с Валентиной и не понимала, какие новые беды нависли над Бенедиктом. Юная и живая Атенаис тоже сильно страдала из-за всех этих передряг — во-первых, потому, что она искренне любила Валентину, и, во-вторых, мысль о том, что павильон стоит на запоре, что не будет больше их милых вечерних встреч и маленький садик для нее потерян навсегда, — наполняла ее сердце бесконечной горечью. Она сама дивилась, что не может думать о тех днях без печального вздоха, пугалась, что дни тянутся так бесконечно и так скучно проходят вечера. Очевидно, в жизни ее не хватало чего-то самого главного, и Атенаис, которой не исполнилось и восемнадцати лет, простодушно размышляла над этим вопросом, не смея найти на него ответа. Но о чем бы она ни думала, в мечтах ее неизменно возникала белокурая благородная голова юного Валентина, четко вырисовывающаяся на фоне зелени кустов, густо осыпанных цветами. Шла ли она по лугу, ей чудилось, будто по зеленой мураве он бежит вслед за нею; он виделся ей, высокий, стройный, гибкий как олень, перескакивающий изгородь, чтобы ее догнать; она резвилась с ним, вторила его искреннему молодому смеху, потом краснела сама, заметив, как краска проступает на этом чистом челе, чувствуя горячее прикосновение белой тонкой руки, подкарауливала вздох и меланхолический взгляд этого ребенка, которого она не считала нужным остерегаться. Сама не зная того, она чувствовала робкое волнение нарождающейся любви. И, очнувшись от своих грез, увидев рядом с собой Пьера Блютти, этого сурового крестьянина, столь грубого в любви, лишенного всякого обаяния и изящества, она ощущала, что сердце ее сжимается, и слезы сами навертывались на глаза. Атенаис с детства обожала все аристократическое; возвышенная речь, подчас даже недоступная ее пониманию, была для нее самым мощным соблазном. Когда Бенедикт рассуждал об искусстве или науках, она внимала ему, замерев от восхищения, так как не понимала ни слова. Именно в этом видела она превосходство Бенедикта, так долго владевшего ее воображением. С тех пор как она решила отказаться от кузена, юный Валентин, со своей кротостью, сдержанностью, с каким-то истинно рыцарским величием точеного лица, со всеми его талантами к отвлеченным наукам, стал в глазах молодой женщины идеалом изящества и совершенства. Уже давно она, не таясь, выражала к нему расположение, но в последнее время не осмеливалась делать этого — Валентин рос не по дням, а по часам, его проницательный взгляд обжигал, и юная фермерша чувствовала, что кровь бросается ей в лицо всякий раз, когда она произносит его имя. Таким образом, заброшенный павильон стал предметом вздохов и сожалений. Время от времени Валентин приходил повидаться с матерью и теткой, но домик над оврагом стоял довольно далеко от фермы, а юноша не мог без ущерба для своих занятий предпринимать длинные прогулки, и уже первая неделя показалась мадам Блютти смертельно длинной. Будущее было неопределенным. Луиза поговаривала о том, что пора уезжать в Париж с сыном и Валентиной. А бывало, сестры строили иные планы — приобрести маленький крестьянский домик и жить в нем уединенно и тихо. Блютти, по-прежнему ревновавший к Бенедикту, хотя, казалось, к этому не было никаких причин, заявил, что увезет жену в Марш, где у него были земли. Так или иначе, приходилось расставаться с Валентином; Атенаис не могла подумать об этом без печали, и именно печаль эта пролила яркий свет на сокровенные тайны ее сердца. Как-то утром, не устояв перед соблазном прогулки, Атенаис, как добрая фермерша, решила осмотреть отдаленный лужок. Лужок этот примыкал к лесу Ваврэ, а овраг находился неподалеку от опушки леса. И случилось так, что Бенедикт с Валентиной прогуливались по опушке, и юноша, заметив на фоне яркой зелени стройный, изящный стан мадам Блютти, перескочил через изгородь, не испросив на то разрешения своего ментора, и бросился к Атенаис. Бенедикт тоже подошел к ним, и все трое немного поговорили. Но тут Атенаис, еще хранившая к кузену живой интерес, что делает в глазах мужчины дружбу женщины столь нежной и приятной, заметила, какие глубокие следы в такой короткий срок наложила грусть на его лицо. Эти искаженные мукой черты испугали ее, и, взяв Бенедикта под руку, она стала умолять его открыть ей причину грусти, не скрывать состояния своего недуга. Так как Атенаис догадывалась о многом, она из деликатности отослала Валентина, попросив его принести ей зонтик, забытый под деревом. Уже так давно Бенедикт был вынужден скрывать от всех свои страдания, и не мудрено, что участие кузины стало для него бальзамом. Он не мог устоять против искушения излить душу и поведал Атенаис о своей любви к Валентине, о том беспокойстве, в каком он живет, находясь с ней в разлуке, и под конец признался, что совсем пал духом, так как боится, что потеряет ее навеки. Хотя Атенаис давно знала о страстном влечении Бенедикта и Валентины, от нее ускользала интимная сторона их отношений, что, несомненно, насторожило бы более опытную особу. В простоте души она не могла помыслить, что графиня де Лансак способна забыть свой долг, и считала, что их любовь так же чиста, как ее чувства к Валентину. Поэтому-то, поддавшись порыву доброты, она пообещала Бенедикту уговорить Валентину отказаться от своего сурового намерения. — Не знаю, добьюсь я успеха или нет, — добавила Атенаис со свойственной ей пылкой искренностью, заставлявшей забывать ее недостатки и являющейся главным ее очарованием, — но клянусь не покладая рук трудиться ради вашего счастья, как ради своего собственного. Мне так хочется доказать вам, что я по-прежнему ваш друг! Тронутый этим порывом великодушной дружбы, Бенедикт благодарно поцеловал ей руку. Подошедший к ним с зонтиком в руках Валентин заметил жест Бенедикта и побледнел, потом вспыхнул, и Атенаис, от которой ничто не ускользнуло, сама смутилась; но, желая придать себе значительный и важный вид, она снова обратилась к Бенедикту: — Мы должны опять увидеться с вами и решить этот серьезный вопрос. Ведь я такая легкомысленная, такая неловкая, что нуждаюсь в вашем руководстве. Итак, я приду завтра сюда прогуляться и расскажу вам, каковы мои успехи. И мы вместе обсудим, как нам добиться большего. До завтра! И она удалилась, легко ступая по траве, дружески кивнув на прощание Бенедикту; но, произнося последние слова, смотрела она не на него. На следующий день и в самом деле состоялась новая беседа. Пока Валентин брел впереди по лесной тропинке, Атенаис успела рассказать Бенедикту о своей неудаче. Валентина не поддавалась ни на какие уговоры. Однако Атенаис не сложила оружия и в течение всей недели трудилась, не щадя сил, лишь бы примирить любовников. Переговоры шли медленно. Возможно, молоденькая дипломатка не слишком возражала против частых конференций на лужку. Когда они с Бенедиктом замолкали, к ним подходил Валентин и, получив улыбку или взгляд, более красноречивый, нежели любые слова, быстро утешался, хотя его не посвящали в тайну. И потом, когда переговоры кончались, Валентин вместе с Атенаис гонялся за бабочками, и иной раз, играючи, ему удавалось схватить ее за руку, коснуться губами ее волос, похитить ленточку или цветок, украшавший ее. В семнадцать лет еще живешь поэзией Дора. Если даже Атенаис не приносила добрых вестей, Бенедикт все равно был рад слышать из ее уст хоть имя Валентины, поговорить о ней. Он в мельчайших подробностях расспрашивал кузину о жизни Валентины, заставлял ее слово в слово пересказывать их беседы. К концу встречи он впадал в умиленное состояние духа, чувствуя себя утешенным и подбодренным, и не думал о тех роковых последствиях, которые могли иметь его частые свидания с кузиной. Тем временем Пьер Блютти отправился в Марш по своим делам. К концу недели, на обратном пути домой, он завернул в село, где началась ярмарка, и задержался там на сутки. На ярмарке он повстречал Симонно. По роковому стечению обстоятельств Симонно недавно завел шашни с толстухой птичницей, жившей в хижине при дороге, в трехстах шагах от знаменитого лужка. Каждый день Жорж отправлялся туда и из окошка сеновала, служившего храмом их сельской любви, видел, как по тропинке прогуливается Атенаис под руку с Бенедиктом. Тут же он заподозрил неладное в этих встречах, вспомнив, что мадемуазель Лери давно была влюблена в своего кузена. Он знал ревнивый нрав Пьера Блютти, да и сам не мог себе представить, что женщина бегает на свидание с мужчиной, ведет с ним секретные беседы, не испытывая к нему чувств и не питая намерений, не совместимых с супружеской верностью. Простой здравый смысл подсказал ему, что надо открыть глаза Пьеру Блютти, что он и не преминул сделать. Фермер пришел в неописуемую ярость и решил тут же уехать с ярмарки, чтобы пришибить своего соперника и собственную супругу. Тут Симонно заметил, что пока зло, возможно, не так уж велико, и тем отчасти успокоил гнев Пьера. — По правде сказать, — продолжал Симонно, — при них вечно торчал мальчишка мадемуазель Луизы, хотя он шел на расстоянии шагов тридцати, значит, все происходило у него на глазах, поэтому-то я и считаю, что больших бед они натворить не успели, разве что на словах, — ведь, когда мальчишка к ним совался, они его прогоняли прочь. Твоя супруга нежно хлопала мальчика по щечке и посылала его побегать, чтобы самой наговориться всласть. — Смотрите только, какая бесстыдница! — отвечал Пьер Блютти, грызя от злости кулаки. — Эх, так я и знал, что этим все кончится. А этот-то ветрогон! Он любой бабе зубы заговорит. Волочился и за мадемуазель Луизой и за моей супругой перед нашей свадьбой. А потом, это уж всем известно, осмелился ухаживать за госпожой де Лансак. Но она, женщина честная и уважаемая, не пожелала его видеть, потребовала, чтобы он и носа на ферму не смел казать, пока она там живет. Мне ли не знать, я сам слышал, как она сказала это своей сестре в тот день, когда переехала к нам. А теперь, за неимением лучшего, этот господинчик опять подкатился к моей супруге! А может, они уже давно снюхались, почем я знаю? Почему она последнее время повадилась каждый вечер разряженная бегать в замок, хотя я был против? Потому что с ним виделась. И там еще этот проклятущий парк, где они прогуливались вдвоем сколько их душеньке угодно. Нет уж, черта с два! Я отомщу. Теперь, когда парк закрыли, они, дело ясное, назначают свидания в лесу. Откуда мне знать, что ночью делается? Но, дьявол меня возьми, я тут, и на сей раз мы увидим, спасет ли сатана его шкуру. Я им покажу, что нельзя безнаказанно оскорблять Пьера Блютти. — И если тебе понадобится друг, знай, что я тебя не оставлю, — подхватил Симонно. Приятели обменялись рукопожатием и вместе зашагали к ферме. Тем временем Атенаис с успехом ходатайствовала за Бенедикта, с такой искренностью и с таким жаром защищала дело их любви, ссылаясь на то, что Бенедикт нездоров, грустен, бледен, извелся от тоски, уверяла, что он так робок, так покорен, что в конце концов слабовольная Валентина позволила себя уговорить. В тайниках души ей хотелось, чтобы Бенедикт пришел, так как и ей тоже дни казались бесконечно длинными, а собственное решение бесконечно жестоким. Вскоре они уже говорили только о том, как преодолеть трудности, мешающие встрече. — Мне приходится скрывать свою любовь, как будто она преступление, — признавалась Валентина. — Какому-то врагу, а кто он, я не знаю, но он, безусловно, следил за каждым моим шагом, удалось рассорить меня с матерью. Теперь я вымаливаю у нее прощение — ведь, кроме нее, у меня никого не осталось. Но если я скомпрометирую себя какой-нибудь новой неосторожностью, мать узнает, и тогда уже не будет надежды смягчить ее сердце. Поэтому-то я и не могу пойти с тобой на луг. — Конечно, нет, — согласилась Атенаис, — но он сам может сюда прийти. — Помилуй, — возразила Валентина. — Вспомни, как враждебно высказывался по этому поводу твой муж; кроме того, появление Бенедикта поведет к ссоре не только в вашей семье и с твоим мужем — он уж наверняка два года не был на ферме. Его визит не может пройти незамеченным, начнутся разговоры, и каждый поймет, что я всему причиной. — Это, конечно, так, — согласилась Атенаис, — но почему бы ему не прийти сюда в сумерки, тогда его никто не заметит. Сейчас уже осень, дни стали короче, в восемь часов тьма кромешная, в девять все ложатся, а мой муж — он не такой соня, как все прочие, — в отъезде. Если Бенедикт будет у калитки фруктового сада в половине десятого, если я сама ему открою, если вы часок-другой поболтаете в зале и вернется он к себе к одиннадцати часам, пока еще луна не взошла, чего же тут такого трудного или опасного. Валентина по-прежнему возражала, Атенаис настаивала на своем, молила, даже, случалось, плакала и наконец заявила, что отказ доведет Бенедикта до смерти. В конце концов доводы ее восторжествовали. На следующий день она примчалась на луг и торжествующе сообщила Бенедикту добрую весть. В тот же вечер Бенедикт, получив наставления от своей юной покровительницы и, кроме того, зная в округе каждый кустик и тропку, был введен к Валентине и просидел у нее два часа; к концу беседы ему вновь удалось подчинить ее своей воле. Он успокоил ее насчет будущего, поклялся навеки отказаться от счастья, раз оно будет оплачено ценою ее раскаяния, рыдал от любви и блаженства у ее ног и удалился, радуясь тому, что она стала спокойнее и доверчивее и согласилась увидеться с ним завтра вечером. Но на следующий день на ферму явились Пьер Блютти с Жоржем Симонно. Блютти удалось скрыть свой гнев, и он внимательно следил за женой. На лужок она не пошла, да и незачем было туда больше ходить; к тому же она боялась, как бы муж ее не выследил. Блютти стал расспрашивать соседей, он действовал со всей отпущенной ему природой ловкостью, и, надо сказать, ее не занимать стать крестьянину, особенно же когда затронуты струны его не слишком чувствительной души. С прекрасно разыгранным равнодушием он целый день смотрел и слушал. Так ему удалось услышать, как батрак сообщал своему дружку, что Чародейка, их огромная рыжая собака, лаяла без передышки с девяти часов вечера до полуночи. Пьер Блютти тут же отправился в фруктовый сад и обнаружил, что один из камней на верху ограды чуть сдвинут с места. Но еще более красноречивой уликой оказался след каблука, отпечатавшийся то тут, то там на глинистом склоне канавы. А ведь на ферме никто не щеголял в сапогах — все обходились деревянными сабо или грубыми башмаками, подбитыми в три ряда гвоздями. Теперь у Блютти уже не оставалось сомнений. Желая наверняка нанести удар сопернику, он сумел до времени скрыть свой гнев и боль, а вечером, расцеловав жену, объявил, что пойдет ночевать на мызу Симонно, расположенную в полулье от них. Сбор винограда подходил к концу; Симонно, замешкавшийся со сбором, попросил у Пьера помощи — пусть, мол, присмотрит нынче ночью за вином, бродящим в чанах. Эта выдумка ни у кого не вызвала сомнений. Атенаис чувствовала себя столь невинной перед мужем, что ее не насторожили его планы. Итак, Пьер отправился к дружку и, яростно потрясал тяжелыми железными вилами, которыми орудуют в округе во время сенокоса для уборки, или, как здесь выражаются, чтобы «прихорошить» на возу сено, стал со жгучим нетерпением ждать ночи. А Симонно, стараясь придать другу мужества и хладнокровия, то и дело подносил ему вина.38
Пробило семь часов. Вечер выдался печальный и холодный. Под соломенной крышей домика завывал ветер, и ручей, непомерно разлившийся во время последних дождей, несся по дну оврага с жалобным и монотонным лепетом. Бенедикт собирался покинуть своего юного друга и, как накануне, начал плести какую-то басню о том, что ему-де необходимо отлучиться из дому, но тут Валентин прервал его. — Зачем вы меня обманываете? — спросил он сердито, швырнув на стол книгу, которую держал в руках. — Вы же идете на ферму. Изумленный Бенедикт не нашелся, что ответить. — Так вот что, мой друг, — продолжал юноша с горькой решимостью, — идите туда и будьте счастливы, вы заслуживаете этого больше, чем я, и если что-либо может смягчить мои страдания, то лишь мысль о том, что мой соперник — вы. Бенедикт не мог опомниться от изумления, мужчины вообще не слишком проницательны в подобных вещах, да к тому же за собственным горем он не заметил, что любовь овладела сердцем юноши, отданного под его опеку. Ошеломленный этими словами, Бенедикт решил было, что Валентин влюблен в свою тетку, и кровь его заледенела в жилах от удивления и горя. — Друг мой, — опускаясь на стул, печально продолжал Валентин, — я знаю, я вас оскорбил, вы досадуете на меня и, возможно, огорчились. И это вы, кого я так люблю! И это я вынужден бороться с ненавистью, которую вы внушаете мне подчас! Так вот, Бенедикт, берегитесь меня: в иные дни я способен вас убить. — Несчастное дитя! — воскликнул Бенедикт, с силой схватив Валентина за руку. — И вы осмелились питать такие чувства к той, к кому вы обязаны относиться с уважением, как к родной матери! — Почему матери? — возразил юноша, грустно улыбнувшись. — Она слишком молода, чтобы быть моей матерью. — Великий боже! — в замешательстве воскликнул Бенедикт. — Но что скажет Валентина? — Валентина? А ей-то что? Но почему, почему она не предвидела того, что произойдет? Почему разрешала нам встречаться каждый вечер? И почему, наконец, вы сами взяли меня в поверенные и свидетели вашей любви? Ибо вы ее любите, теперь я уже не могу обманываться. Вчера я незаметно пошел за вами, вы отправились на ферму, а для того, чтобы встретиться с мамой или с тетей, вовсе необязательно было принимать такие предосторожности, так таиться. Скажите, почему вы прятались? — О господи, о чем вы говорите? — воскликнул Бенедикт, чувствуя, что с его души свалилась огромная тяжесть, — значит, вы решили, что я влюблен в кузину? — А кто же может в нее не влюбиться? — ответил юноша с простодушным восторгом. — Иди ко мне, дитя мое, — сказал Бенедикт, прижимая Валентина к своей груди. — Веришь ли ты слову друга? Так вот, клянусь честью, никогда я не любил Атенаис и никогда не полюблю. Ну, доволен теперь? — Неужели это правда? — воскликнул Валентин, лихорадочно обнимая своего наставника. — Но в таком случае зачем ты ходишь на ферму? — Заниматься очень важными делами, речь идет о состоянии госпожи де Лансак, — не без замешательства произнес Бенедикт. — Я поссорился с Блютти и потому вынужден таиться, да его и впрямь могло бы оскорбить мое присутствие у них в доме, поэтому я и принимаю кое-какие предосторожности, чтобы попасть к твоей тетушке. Я все должен сделать ради защиты ее интересов. Это дела денежные, в которых ты не разбираешься… Впрочем, тебя они и не касаются… Потом я тебе все объясню; а сейчас мне пора идти. — С меня вполне достаточно ваших слов, — сказал Валентин, — и я не прошу у вас дальнейших объяснений. Вы не можете поступать неблагородно и невеликодушно. Но разреши мне проводить тебя, Бенедикт! — Конечно, проводи, но только часть дороги, — ответил Бенедикт. Они вместе вышли из хижины. — К чему это оружие? — спросил Бенедикт, видя, что Валентин шагает с ружьем на плече. — Сам не знаю. Я решил проводить тебя до фермы. Пьер Блютти тебя ненавидит, я знаю. Если он тебя встретит, он способен пойти на все. Это злобный и подлый человек; разреши мне сопровождать тебя. Да, кстати, вчера вечером я не мог уснуть до твоего возвращения. Меня мучили кошмары. Но сейчас, когда с души моей спало бремя страшной ревности, сейчас, когда, казалось бы, я должен радоваться, у меня тяжело на душе; пожалуй, впервые в жизни у меня такое мрачное настроение. — Я тебе тысячу раз говорил, Валентин, что нервы у тебя как у женщины. Бедное дитя! И все же твоя дружба мне мила. Думаю даже, что именно она примирит меня с жизнью, когда мне ничего не останется. Некоторое время оба шагали в молчании, потом снова завели беседу, хотя она прерывалась и замирала каждую минуту. Бенедикт чувствовал, как сердце его полнится радостью при мысли, что близка минута встречи с Валентиной. А юный его спутник, натура более уязвимая и впечатлительная, старался прогнать прочь какое-то страшное предчувствие. Бенедикт решил доказать юноше все безумие его любви к Атенаис, побудить его бороться против этой опасной склонности. В самых мрачных красках он нарисовал ему зло, порождаемое страстями, но пламенный трепет счастья опровергал его же собственные доводы. — Возможно, ты и прав! — проговорил Валентин. — Мне почему-то кажется, что мне на роду написано не знать счастья. По крайней мере я убежден в этом сегодня, до того темно и тоскливо у меня на душе. Возвращайся пораньше, слышишь? И позволь мне проводить тебя до калитки сада. Хорошо? — Нет, дитя мое, нет, не надо, — отозвался Бенедикт, останавливаясь под старой ивой, стоявшей на развилке дороги, сворачивавшей под прямым углом. — Возвращайся домой, я скоро приду и снова примусь читать тебе нотации… Да что с тобой? — Возьми мое ружье. — Какое безумие! — Слышишь? — шепнул Валентин. Над их головами раздался хриплый унылый крик. — Это козодой, — пояснил Бенедикт. — Он живет в дупле вот этого старого дерева. Хочешь его убить? Я сейчас его выгоню. Бенедикт ударил ногой по трухлявому стволу. Птица молча как-то боком пролетела над ними. Валентин прицелился, но было слишком темно, и он промахнулся. Козодой улетел прочь все с тем же унылым криком. — Вещая птица, пророчица бедствий! — проговорил юноша. — Я упустил тебя. Кажется, именно козодоя крестьяне зовут птицей смерти? — Да, — равнодушно ответил Бенедикт, — они уверяют, что козодой поет над человеком за час до его кончины. Чур нас! Мы же были под деревом, когда он пел! Валентин повел плечом, как будто ему стало стыдно своего ребяческого суеверия. Но он пожал руку Бенедикта крепче, чем обычно. — Возвращайся скорее! — проговорил он. И они расстались. Бенедикт бесшумно проскользнул в калитку и увидел Валентину, поджидавшую его на крыльце. — Я должна сообщить вам важные новости, — проговорила она, — но давайте уйдем из столовой, здесь любой нас может увидеть. Атенаис на час уступила мне свою комнату. Следуйте за мной. Когда фермерша вышла замуж, молодым отвели маленькую комнатку на первом этаже, нарядно убрали ее и обставили. Атенаис предложила подруге встретиться с Бенедиктом в ее комнате, а сама ждала конца свидания в горнице Валентины на втором этаже. Валентина ввела Бенедикта в спальню Атенаис. Почти в тот же час Пьер Блютти и Жорж Симонно покинули мызу, где провели весь день. Оба в молчании шагали по дороге, вьющейся вдоль берегов Эндра. — Черт возьми! Нет, ты не мужчина, Пьер, — вдруг проговорил Жорж и остановился. — Будто ты собрался преступление совершить. Молчишь, весь день ходишь расстроенный, бледный, как мертвец, еле ноги волочишь. Неужто можно так падать духом из-за бабы? — Вовсе это не из-за любви к женщине, — глухо отозвался Пьер и остановился, — а скорее уж из ненависти к мужчине. У меня от ненависти даже сердце зашлось, и когда ты говоришь, что я собираюсь пойти на преступление, думаю, ты не ошибаешься. — Да нет, шутишь? — проговорил Жорж, останавливаясь. — Я ведь пошел с тобой, чтобы просто дать ему взбучку. — Только такую взбучку, после которой не встают, — мрачно ответил Пьер. — Мне его физиономия уже давно опостылела. Придется нынче одному из нас уступить место другому. — Эх, дьявол, не думал я, что дело так далеко зашло. А чем это ты подпираешься вместо палки? Темень такая, что не разгляжу! Значит, ты для этого тащишь с собой чертовы вилы? — Возможно! — Знаешь что, к чему нам идти на подсудное дело! Мне это ничуть не улыбается — у меня жена, дети! — Если трусишь, не ходи! — Я пойду, чтобы помешать тебе сделать глупость. Они снова зашагали по направлению к ферме. — Послушайте, — говорила тем временем Валентина, вынимая из-за корсажа конверт с черной печатью, — я совсем растерялась, собственные чувства пугают меня. Читайте; но если ваше сердце столь же преступно, как мое, лучше промолчите — я и так боюсь, что вот-вот разверзнется земля и поглотит нас обоих. Испуганный Бенедикт взял письмо — оно было от Франка, лакея господина де Лансака. Господин де Лансак был убит на дуэли. Жестокая и буйная радость поглотила все прочие ощущения Бенедикта! Он зашагал по комнате, желая скрыть от Валентины свое волнение, которое она, несомненно, осуждала, хотя сама поддалась ему. Но все его усилия были тщетны. Он бросился к Валентине и, упав к ее ногам, прижал их к своей груди в каком-то диком, пьянящем порыве. — К чему притворяться печальным, к чему лицемерить? — воскликнул он. — Разве мог бы я обмануть тебя, обмануть бога? Разве не сам господь бог направляет наши судьбы? Разве не он освободил тебя от позорных уз брака? Разве не он пожелал очистить землю от этого лживого, глупого человека? — Замолчите, — проговорила Валентина, зажимая ему ладонью рот. — Неужели вы хотите навлечь на нас мщение небес? Разве мы недостаточно запятнали этого человека при жизни? Нужно ли оскорблять его и после смерти? О, молчите, ваши слова — святотатство! Кто знает, возможно, бог допустил эту смерть лишь для того, чтобы покарать нас и сделать нас еще более несчастными… — Робкая и безумная Валентина! Что может произойти с нами теперь? Разве ты не свободна? Разве будущее не принадлежит нам? Ты права, не следует оскорблять мертвого. Так благословим же память этого человека, который уничтожил разделяющую нас пропасть — положение в обществе и богатство. Да будет благословен он за то, что разорил тебя, бросил в одиночестве, иначе я не осмелился бы даже мечтать о том, чтобы связать наши судьбы. Твое богатство, твое положение в обществе были препятствием, преодолеть которое была не в силах моя гордость. А теперь ты принадлежишь мне, ты не можешь, ты не должна меня отвергать, я твой супруг, я имею на тебя все права… Совесть, твоя вера — все требует, чтобы я стал тебе опорой. О, пусть теперь приходят, пусть посмеют оскорбить тебя, когда я держу тебя в своих объятиях! О, я сознаю свои обязанности, я понимаю, какое бесценное сокровище доверено моим попечениям, я ни на шаг не отойду от тебя, я буду с любовью тебя оберегать! Как же мы будем счастливы! Смотри же, как милосерд господь! После стольких суровых испытаний он посылает нам благо, которого мы так жаждали! Помнишь, как однажды, вот здесь, ты жалела о том, что не родилась фермершей, что не можешь избавиться от рабства роскошной жизни и вести под соломенной кровлей существование простой поселянки? Так вот, желание твое сбылось. Ты станешь владычицей в хижине у оврага, ты будешь прогуливаться по лугам с твоей белой козочкой. Ты будешь сажать цветы, ты без страха и забот будешь засыпать на груди крестьянина. Дорогая моя Валентина, до чего же ты будешь прекрасна в широкополой соломенной шляпе, в каких крестьянки ходят на сенокос! Как тебе будут повиноваться, как будут тебя обожать в твоем новом жилище! У тебя будет всего лишь один раб, один слуга — это я, но я один буду служить тебе куда более рьяно, чем целый полк челяди. Все тяжелые работы достанутся мне на долю, а ты, у тебя не будет иных забот, как только украшать мою жизнь и засыпать рядом со мной на ложе из цветов. Впрочем, мы будем достаточно богаты. Я уже удвоил стоимость моих земель, у меня тысяча франков ренты, а ты, когда продашь то, что тебе соблаговолили оставить, у тебя будет примерно столько же. Мы округлим наши владения. Как украсим мы эти земли! Твоя добрая Катрин будет нашей правой рукой. Мы заведем корову с теленком. Итак, радуйся, давай помечтаем вместе! — Увы, я слишком сражена горем, — ответила Валентина, — и у меня не хватает сил отвергнуть ваши мечты. О, говори, говори еще о нашем счастье! Скажи, что оно теперь не ускользнет от нас; я так хотела бы в это верить. — Но почему же ты отказываешься в это верить? — Не знаю, — призналась Валентина, кладя руку себе на грудь, — вот здесь я ощущаю какую-то тяжесть, она душит меня. Совесть — да, это она, совесть! Я не заслужила счастья, я не могу, я не должна быть счастливой. Я преступница, я нарушила свою клятву, я забыла бога, бог должен покарать меня, а не вознаграждать. — Гони прочь эти черные мысли. Бедная моя Валентина, неужели ты допустишь, чтобы горе подтачивало и изнуряло тебя? Почему ты преступница, в чем? Разве не сопротивлялась ты достаточно долго? Разве вина не лежит на мне? Разве не искупила ты страданием свой проступок? — О да, слезы должны были уже давно его смыть! Но, увы, каждый новый день лишь все глубже вторгает меня в бездну, и как знать, не погрязну ли я там до конца своих дней… Чем могу я похвалиться? Чем искуплю я прошлое? А ты сам, сможешь ли ты любить меня всю жизнь? Будешь ли слепо доверять той, которая однажды уже нарушила свой обет? — Но, Валентина, вспомни о том, что может служить тебе извинением. Подумай, в каком ложном и злосчастном положении ты очутилась. Вспомни своего мужа, который умышленно толкал тебя к гибели, вспомни свою мать, которая в минуту опасности отказалась открыть тебе свои объятия, вспомни старуху бабушку, которая на смертном одре не нашла иных слов, кроме вот этого религиозного напутствия: «Дочь моя, смотри никогда не бери себе в любовники человека неравного с тобой положения». — Ах, все это правда, — призналась Валентина, мысленно обозрев свое печальное прошлое, — все они с неслыханным легкомыслием относились к моему долгу. Лишь я одна, хотя все они меня обвиняли, понимала всю важность своих обязанностей и надеялась сделать наш брак взаимным и священным обязательством. Но они высмеивали мою простоту, один говорил о деньгах, другая — о чести, третья — о приличиях. Тщеславие или удовольствия — в этом вся мораль их поступков, весь смысл их заповедей; они толкали меня к падению, призывали лишь блюсти показные добродетели. Если бы, бедный мой Бенедикт, ты был не сыном крестьянина, а герцогом или пэром, они подняли бы меня на щит. — Можешь не сомневаться и не принимай поэтому угрозы, подсказанные их глупостью и злобой, за укоры собственной совести. Когда кукушка на часах фермы прокуковала одиннадцать раз, Бенедикт стал прощаться с Валентиной. Ему удалось ее успокоить, опьянить надеждой, вызвать улыбку на ее устах, но когда он прижал ее к сердцу, когда шепнул: «Прощай!», ее вдруг охватил непонятный ужас. — А что, если я потеряю тебя! — проговорила она бледнея. — Мы предвидели все, кроме этого! Ты можешь умереть, Бенедикт, умереть раньше, чем сбудутся наши мечты о счастье! — Умереть, — ответил он, осыпая ее поцелуями. — Разве может умереть человек, который так любит? Валентина осторожно открыла дверь и на пороге еще раз поцеловала Бенедикта. — Помнишь, здесь впервые ты поцеловала меня? — шепнул он ей. — До завтра, — ответила она. Не успела Валентина подняться в свою комнату, как дикий, леденящий крик раздался в саду, затем все смолкло, но крик был так страшен, что разбудил всю ферму. Подкравшись к дому, Пьер Блютти увидел свет в спальне жены, не зная, что на этот вечер Атенаис уступила ее Валентине. Он отчетливо различил за занавеской две тени — мужчины и женщины; сомнений больше не оставалось. Напрасно Симонно пытался его успокоить; убедившись в безнадежности своих попыток и боясь быть замешанным в преступлении, он счел за благо удалиться. Блютти видел, как открылась дверь, луч света, проскользнувший в щелку, упал на лицо Бенедикта, и он узнал его; вслед за Бенедиктом вышла женщина, но ее лица Пьер не разглядел, так как Бенедикт обнял женщину и заслонил от его глаз своей спиной, но… это могла быть лишь Атенаис. Несчастный ревнивец поставил стоймя вилы, как раз в том месте и в ту минуту, когда Бенедикт, спеша выбраться из сада, перелез через каменную ограду, хранившую еще со вчерашнего дня след его ноги. Он разбежался, прыгнул и угодил на острые зубцы вил: два острия пронзили ему грудь, и он упал, обливаясь кровью. На том же самом месте два года назад он вел под руку Валентину, когда она тайком пробиралась на ферму повидаться с сестрой. Когда убийство было обнаружено, на ферме началось смятение. Блютти убежал, чтобы предать себя в руки королевского прокурора, и признался ему во всем: убитый был его соперником и погиб в саду убийцы, следовательно, Пьер мог в качестве оправдания сослаться на то, что принял его за вора. В глазах закона он заслуживал снисхождения, а в глазах представителя власти, которому поведал о своей страсти, побудившей его на убийство, и о терзавших его угрызениях совести, он был достоин жалости. Судебный процесс вызвал бы громкий скандал и покрыл бы позором все семейство Лери, самое уважаемое в департаменте. Против Пьера Блютти преследования возбуждено не было. Тело перенесли в столовую. Валентина успела еще увидеть улыбку, услышать обращенные к ней слова. Бенедикт умер на ее груди. Дядюшка Лери еле довел Валентину до комнаты, пока тетушка Лери хлопотала над лишившейся чувств Атенаис. Луиза, бледная, холодная — лишь одна она не потеряла разума и способности страдать, — осталась возле тела. Через час за ней пришел Лери. — Вашей сестрице очень худо, — удрученно проговорил старик. — Пойдите помогите ей. А я, побуду здесь. Ничего не ответив, Луиза вошла в спальню к сестре. Лери уложил Валентину в постель. Лицо ее позеленело, из мрачно сверкавших глаз не скатилось ни слезинки. Пальцы были судорожно сжаты вокруг, из груди вырывались хрипы. Луиза, тоже бледная, но внешне спокойная, взяла светильник и нагнулась над сестрой. Когда взгляды двух женщин встретились, между ними возник как бы страшный магнетизм. Лицо Луизы выражало жестокое презрение, леденящую ненависть, черты Валентины исказил ужас, и она тщетно пыталась укрыться от этого безмолвного допроса, от этого мстительного призрака. — Итак, — начала Луиза, запустив пальцы в сбившиеся кудри Валентины, словно желая их вырвать, — вы его убили! — Да, я, я! — пролепетала Валентина. — Это должно было произойти, — продолжала Луиза. — Он сам этого хотел, он связал свою судьбу с вашей судьбой, и вы его погубили. Так продолжайте же свое дело, возьмите также и мою жизнь, ибо его жизнь была и моей жизнью, и я, я его не переживу! Знайте же, вы нанесли двойной удар! Нет, не кичитесь тем, что вы никому не принесли зла! Что ж, торжествуйте! Вы вытеснили меня, каждый день, каждый час вы терзали мое сердце и теперь вонзили в него нож. Что ж, прекрасно, Валентина, вы завершили дело вашей семьи. Видно, мне на роду было написано терпеть от вашего семейства только зло! Вы дочь своей матери, вы дочь своего отца, который тоже прекрасно умел проливать чужую кровь! Это вы завлекли меня сюда, где мне не следовало бы появляться, это вы, как василиск, заворожили меня, удерживали здесь, чтобы без помех терзать меня. Ах, вы и представления не имеете, как я настрадалась из-за вас! Можете гордиться — успех превзошел все ваши ожидания. Вы не знали, как я любила его, того, кто сейчас мертв! Но вы его околдовали, и он уже не видел ничего вокруг. А я, я могла бы сделать его счастливым. Не стала бы мучить его, как вы. Я бы пожертвовала ради него тем, что лицемерно зовется безупречной репутацией и принципами, внушенными гордыней! Я не превратила бы его жизнь в каждодневную пытку. Его юность, столь прекрасная и столь сладостная, не поблекла бы под моими себялюбивыми ласками! Он не погиб бы по моей вине, истерзанный печалью и лишениями! И, наконец, я не заманила бы его в ловушку, не предала бы в руки убийцы. Если бы он пожелал полюбить меня, он и сейчас был бы полон жизни и радужных надежд на будущее! Будь проклята ты, которая встала на моем пути! Осыпая Валентину проклятиями, несчастная Луиза лишилась сил и без чувств упала у постели сестры. Когда она пришла в себя, она уже не помнила, что наговорила сестре. Она с любовью ухаживала за Валентиной, осыпала ее ласками, обливаясь слезами. Но ей не удалось изгладить ужасное впечатление от своей невольной исповеди. В приступах лихорадки Валентина бросалась в объятия сестры, и был ужас безумия в том, как она вымаливала прощение. Через неделю она скончалась. Религия смягчила своим бальзамом ее последние минуты, а нежность Луизы облегчила суровый переход с земли на небеса. Луиза так настрадалась, что все ее душевные качества, укрепившиеся под бременем бед, закаленные в горниле всепожирающих страстей, приобрели всесильную мощь. Она устояла перед страшным ударом и осталась жить ради сына. Пьер Блютти так и не простил себе своего рокового шага. Его крепкий организм втайне подтачивали угрызения совести и печаль. Он стал мрачным, гневливым, раздражительным. Все, что хоть отдаленно казалось ему упреком, приводило его в ярость, так как он сам в душе упрекал себя еще горше, чем люди. В течение года, последовавшего за преступлением, он старался избегать семьи. Атенаис делала над собой нечеловеческие усилия, чтобы скрыть свой страх и охлаждение, но тщетно. Тетушка Лери старалась не показываться на глаза зятю, а Луиза, в те дни, когда он должен был появляться на ферме, уходила прочь. От всех своих горестей Пьер искал забвения в вине и постепенно стал напиваться каждый день, лишь бы оглушить себя. Как-то вечером он утонул в реке, которая при белом свете луны показалась ему песчаной дорогой. Крестьяне сочли это справедливым возмездием, ибо смерть Пьера произошла день в день, час в час ровно через год после убийства Бенедикта. Несколько лет спустя в округе произошли большие перемены. Атенаис, получившая по наследству от своего крестного отца, владельца кузницы, двести тысяч франков, купила замок Рембо со всеми принадлежащими ему землями. Дядюшка Лери, послушавшись совета тщеславной жены, продал свои владения, или, вернее, выменял их с убытком (так по крайней мере уверяли местные сплетники) на другие земли Рембо. Таким образом, добрые фермеры поселились в роскошном жилище бывших господ, и молодая вдова наконец смогла удовлетворить свою страсть к роскоши, страсть, которую ей внушали с первых дней детства.39
Когда сын Луизы ее стараниями закончил образование в Париже, она получила приглашение от своих верных друзей поселиться в Рембо. Валентин стал врачом. Его тоже просили обосноваться в этих местах, где доктор Фор, слишком одряхлевший, чтобы продолжать свои занятия, охотно передал ему практику. Итак, Луиза с сыном приехали в Рембо, и добряки Лери встретили их чистосердечно и нежно. Они поселились в павильоне, что стало для них каким-то меланхолическим утешением. За время долгой разлуки юный Валентин превратился в мужчину; красота, ученость, скромность, благородные качества завоевали ему всеобщее уважение и любовь даже тех, кто не желал мириться с его происхождением. А ведь он на законном основании носил имя де Рембо. Госпожа Лери не забывала этого и не раз тихонько говорила мужу, что быть землевладельцем, не будучи сеньором, не такая уж завидная доля; иными словами, это означало, что Атенаис недостает только имени их прежних господ. Но дядюшка Лери считал, что молодой врач слишком уж молод. — Э, да что там! — возражала тетушка Лери. — Наша Атенаис тоже не перестарок. Разве мы с тобой не однолетки? А разве из-за этого мы были менее счастливы? Дядюшка Лери был более положительного нрава, нежели его супруга; он твердил, что «деньги идут к деньгам», что их дочка достаточно выгодная невеста, чтобы выйти не просто за дворянина, но еще и за богача. Однако ему пришлось уступить, так как прежняя склонность госпожи Блютти пробудилась с новой силой, когда бывший мальчуган предстал перед ней в облике взрослого прекрасного мужчины. Луиза колебалась; Валентин, раздираемый любовью и гордыней, все же сдался перед пламенными взорами молодой вдовушки. Атенаис стала его женой. Однако ее по-прежнему точил зуд честолюбия, и она требовала, чтобы во всех местных аристократических салонах о ней докладывали как о графине де Рембо. Соседи открыто насмехались над ней, кто из презрения, кто из зависти. Подлинная графиня де Рембо затеяла было по этому случаю новый судебный процесс, но вскоре она скончалась, и никто не поддержал ее требований. Атенаис была добра и счастлива, ее муж, унаследовавший от тетки ровный нрав и благоразумие, незаметно подчинил жену своей воле и нежно исправлял ее недостатки. А те, что исправить не удалось, делают Атенаис еще более привлекательной и заставляют любить ее еще сильнее, чем за достоинства, с такой милой искренностью признается она в своих слабостях. В округе осуждают тщеславие и смешные повадки семейства Лери, но ни один нищий не отходит от ворот замка с пустыми руками, ни один сосед не знает отказа в своей просьбе, и если семейство Лери высмеивают, то скорее из зависти, чем из жалости. Если какой-нибудь прежний дружок старика Лери старается уколоть его тяжеловесной шуткой относительно перемены в их судьбе, то Лери быстро утешается; он знает, что любой его шаг, любое его благое дело люди встречают с гордостью и признательностью. Новая семья стала для Луизы тихой заводью после бурно прожитой жизни. Пора страстей осталась позади, религиозная печаль слегка окрашивает ее будничные помыслы. Самая большая ее радость — это воспитывать свою внучку, светлокудрую, беленькую девочку, названную именем горячо любимой Валентины и напоминающую своей еще совсем молодой бабушке обожаемую сестру, какой та была в том же возрасте. Проходя мимо ограды сельского кладбища, путник не раз видел прелестное дитя, игравшее у ног Луизы или собиравшее подснежники, чтобы украсить могилу, где покоятся рядом Валентина и Бенедикт.КОММЕНТАРИИ
Не прошло и полугода после появления «Индианы», как Жорж Санд выступила с новой книгой. Это был роман «Валентина», вышедший в свет осенью 1832 года. Если второй роман и не вызвал таких шумных восторгов, как «Индиана», то, во всяком случае, он подтвердил завоеванную автором репутацию. Вместе с тем во многих отношениях роман этот свидетельствовал о поисках новых средств выразительности, новых героев и нового поворота старой темы — темы любви. Проблема свободной и чистой от каких-либо расчетов любви дана здесь в социальном аспекте. Если в «Индиане» шла речь о любви вообще, безотносительно к имущественным и социальным условиям, то в «Валентине» утверждается уже иное. Любовь способна ломать сословные и классовые преграды — таков тезис. Сопоставление первого и второго романов Жорж Санд позволяет понять, с какой последовательностью писательница стремилась избавиться от власти литературных канонов. В «Индиане», перенеся часть действия на далекий остров Бурбон, под сень тропической природы, в условия уединения от губительной власти общества, Жорж Санд следовала готовой литературной традиции, идущей от Руссо и Бернардена де Сен-Пьера. Действие «Валентины» лишено экзотической обстановки и развивается во Франции, в родных для автора местах провинции Берри, в окрестностях с детства знакомых ему Ноана и Ла Шатра. Это позволило с большой достоверностью передать местный быт, колоритно воспроизвести сцены провинциальной и сельской жизни. Однако если место действия дано в романе с особой тщательностью, то время намечено лишь в самых общих чертах. Приурочить события романа к каким-либо точным датам истории страны почти не представляется возможным. Известным становится одно — действие протекает в годы Реставрации. Здесь, в провинциальной глуши, где самый ход времени как бы замедлен, где реставрационные установления и порядки кажутся непоколебимыми, куда отзвуки столичной жизни доходят запоздало и ослабленно, ничто не предвещает новой революционной вспышки, а превращение богатеющих крестьян в буржуа еще не кажется провинциальным верхам опасным. И все же историческое начало проникает и в этот роман. Идея хода времени, смены исторических эпох раскрывается здесь в трех действующих лицах, представляющих три разных поколения, со всеми характерными для них чертами, с их вкусами, воззрениями, привязанностями, заблуждениями и со своим отношением к народу. Минувший век представлен маркизой де Рембо, бабкой героини. Она принадлежит к той части аристократии, которую затронуло свободомыслие эпохи, а личные качества и образование возвысили над многими заблуждениями своей среды. Ей ясен смысл происходящих в стране событий, она способна понимать людей из народа и относиться к ним без высокомерия и чванства. Ее невестка, графиня де Рембо — целиком создание буржуазной эпохи. Деньги позволили ей уравнять свои права в неравном браке и добиться дворянского титула. Она упоена своим новым положением, чтит сословные предрассудки и на всех, кто стоит ниже нее, смотрит с нескрываемым презрением. Что же касается Валентины, то в ней можно усмотреть прообраз женщин нового поколения, женщин, готовых порвать сословные и классовые связи, готовых протестовать против порабощения личности обществом. В героине своего романа Жорж Санд, видимо, выразила свои надежды на юные силы Франции. Симптоматично, что Валентина мечтает о трудовой жизни и полна стремления слиться с простым народом. Бенедикт — сложный и противоречивый характер. Не раз Жорж Санд дает возможность смотреть на него глазами влюбленной в него Валентины и не раз развенчивает его, впрочем не столь безжалостно, как Реймона в «Индиане». Целым рядом черт образ этот близок образу Жюльена Сореля, героя романа Стендаля «Красное и черное», вышедшего в свет за два года до «Валентины». Проникновенное описание пейзажа и сцен сельской жизни, реалистическое мастерство в изображении ряда персонажей, а главное, тонкий анализ любви героев — вот основные достоинства романа. В этой обыкновенной, даже банальной любовной истории, в превратностях ее развития, в неизбежном роковом конце (отнюдь не ради авторского осуждения этой любви, как думали критики) есть неподдельный лиризм, покоряющий читателя. В России «Валентина» пользовалась меньшим успехом, чем «Индиана». Первый ее перевод появился в 1871 году. В советское время роман не издавался. Сен-Симон Анри-Клод (1760-1825) — французский философ, один из основоположников утопического социализма. Война гугенотов с католиками. — Гугеноты — прозвище французских кальвинистов (приверженцев одного из течений религиозной реформации). Религиозные войны гугенотов с католиками происходили в 1562-1594 годах и в конце концов привели к изгнанию гугенотов и почти полному искоренению протестантства во Франции. Первое мая у жителей Черной долины считается днем праздничным… — Обычай праздновать первое мая в Западной Европе — очень древнего происхождения: он восходит к празднику весны и возрождения природы. Праздник этот заключался в плясках и играх молодежи вокруг разукрашенного «майского дерева» и в выборе из числа самых красивых юношей и девушек майского короля и майской королевы. …начинал с супрефекта департамента… — Деление территории Франции на департаменты (взамен старого — на провинции) было установлено в эпоху французской революции. Департамент представлял меньшую территориальную единицу, чем провинция. Во время консульства Наполеона местное самоуправление департаментов было ликвидировано, и во главе их были поставлены назначаемые центральной властью префекты, а во главе округов, на которые делились департаменты, — супрефекты, осуществлявшие только исполнительную власть под непосредственным руководством и наблюдением префектов. …апартаменты Жозефины и Марии-Луизы… — Жозефина и Мария-Луиза — императрицы Франции. Мария-Луиза (1791-1847) — дочь австрийского императора Франца I, вступившая в брак с Наполеоном в 1810 году, после его развода с Жозефиной. После низложения Наполеона удалилась во владения отца, сохранив, как и Жозефина, титул императрицы. Кенкет — старинная масляная лампа с горелкой, расположенной под резервуаром. Духи, Манфреда. — Манфред — герой одноименной философской поэмы Байрона. Проникнув в тайны природы, он подчиняет себе силой магии духов стихий, но бессилен заставить их служить человечеству. Ван-Остаде Адриан (1610-1685) — фламандский художник, ученик Гальса. Прославился преимущественно изображением жанровых сцен из сельской жизни, а также как график. Герард Доу (1613-1675) — голландский художник-жанрист, ученик Рембрандта. Скапен — главный герой фарса Мольера «Проделки Скалена» (1671). Немврод — библейский персонаж, царь, бывший неустрашимым охотником. Имя его стало нарицательным для обозначения страстного любителя охоты. Кребийон-сын — Клод-Проспер Кребийон (1707-1777) — французский писатель, сын драматурга Жолио Кребийона (1674-1762). Кребийон-сын писал сказки, новеллы, романы, полные пикантных похождений в духе галантных вкусов XVIII века. …Мадам, невестка Людовика XIV, добродетельная и честная немка… — Мадам — в королевской Франции (при Бурбонах) титул старшей дочери короля, а также жены его брата. В данном случае речь идет о Шарлотте-Елизавете Баварской (1652-1722), называемой также принцессой Палатинской, которая была второй женой герцога Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV. Переселясь во Францию, она сохранила пристрастие ко всему немецкому, в особенности к немецкой кухне. …(герцогини Беррийской)… — Речь идет о Марии-Луизе-Елизавете Орлеанской (1695-1719), дочери регента французского престола Филиппа Орлеанского, вышедшей замуж да Карла, герцога Беррийского. Ее образом жизни и распутством был поражен даже отнюдь не чопорный французский двор. Сен-Жерменское предместье — в описываемые времена пригород Парижа, где жила высшая знать. Сатурналии — празднества в древнем Риме в честь бога Сатурна, справлявшиеся в конце декабря; в них рабы принимали участие наравне со своими господами. Разгульный характер этих празднеств послужил основанием к переносному употреблению этого слова. Лафатер Иоганн-Каспар (1741-1801) — немецкий писатель, богослов, создатель физиогномики, якобы позволявшей определять характер человека по чертам его лица и особенностям глаз. …где, по остроумному замечанию господина Стендаля, «красавец-мужчина» непременно должен быть румяным и толстым… — Имеются в виду слова Стендаля о господине Вально, одном из персонажей романа «Красное и черное» (гл. 3-я). Лаццарони — нищий (итал.). Дора Клод-Жозеф (1734-1780) — автор драматических и поэтических произведений, отмеченных изысканностью и манерностью. Цингарелли Никколо-Антонио (1752-1837) — итальянский композитор, автор опер и многочисленных произведений церковной музыки. Оперы его скоро были забыты, за исключением долго пользовавшейся популярностью «Ромео и Джульетты».Жорж Санд Грех господина Антуана

I Эгюзон
Мало найдется во Франции таких унылых городишек, как Эгюзон, расположенный на юго-западе провинции Берри, у границы с Маршем. Около сотни домиков, довольно убогих (если не считать двух-трех, принадлежащих зажиточным владельцам, которых мы не назовем, щадя их скромность), образуют две-три улицы этого местечка, прославившегося на десять лье в округе сутяжничеством своих обывателей и скверными дорогами. Невзирая на эту последнюю помеху, которой вскоре не станет — когда проложат наконец новое шоссе, — немало путешественников отважно преодолевают пустынные окрестности Эгюзона и, рискуя своими двуколками, трясутся по его ужасающей мостовой. Единственный постоялый двор расположен на единственной площади городка, тем более обширной, что она неприметно переходит в поле и словно ждет, когда на ней вырастут новые дома будущих горожан; летом, в дни наплыва проезжих, на постоялом дворе вынуждены отказывать гостям в приюте и отсылать их в соседние дома, где их, впрочем, встречают весьма радушно. Эгюзон ведь стоит посреди живописной местности, усеянной величественными развалинами: пожелаете ли вы осмотреть Шатобрен, Крозан, Прюньо-По или, наконец, еще не вполне разрушенный и доныне обитаемый замок Сен-Жермен, вы непременно должны будете переночевать в Эгюзоне, чтобы ранним утром начать осмотр этих достопримечательностей. Несколько лет тому назад, когда в душном воздухе чувствовалось приближение грозы, жители Эгюзона провожали изумленным взором статного молодого человека, который вскоре после захода солнца проезжал через площадь, покидая город. Погода хмурилась, быстрее обычного наступала темнота, а между тем молодой путник, слегка перекусив на постоялом дворе и задержавшись ровно столько, сколько требовалось, чтобы конь мог передохнуть, отважно пустился на север, не внимая увещаниям трактирщика и, по всей видимости, не страшась предстоящего пути. Юноша не был никому знаком. На расспросы он отвечал нетерпеливым пожатием плеч, на уговоры — улыбкой. Звонкий топот его коня вскоре затих вдали. — Дело ясное, — решили городские зеваки. — Видно, молодой человек знает дорогу как свои пять пальцев или вовсе ее не знает… То ли он раз сто по ней ездил и каждый булыжник наперечет помнит, то ли понятия о ней не имеет — и тогда ему придется туго! — Наверно, он нездешний да в придачу еще самонадеян. Подождите-ка с полчасика: только непогода разыграется, он и возвратится, — предсказал чей-то рассудительный голос. — Если не свернет себе шею при спуске с Пильского моста, — заметил кто-то. — Его добрая воля, — дружно согласились присутствующие. — Пора ставни закрывать, как бы градом стекла не побило! И по всему городку пошел гулкий стук поспешно затворяемых окон и дверей, а ветер, завывая над зарослями вереска, опережал запыхавшихся служанок и больно ударял их тяжелыми створками деревянных ставен: местные плотники, верные обычаям предков, не пожалели на них ни дуба, ни железа. На улице то и дело раздавались чьи-то возгласы — это соседи, стоя на пороге своих домов, перекликались друг с другом. — Ваши-то вернулись? — Эх, у меня еще два воза не свезено! — А у меня еще шесть копен стоят! — Ну, а мне и горя мало: все уже под крышей… Речь шла об уборке сена. Всадник погнал рысью превосходную бреннскую лошадку; тяжело нависшая туча осталась позади, и, нахлестывая коня, он уже радовался, что сумел ускакать от грозы. Но вдруг дорога круто повернула, и ездок понял, что дождь непременно настигнет его сбоку. Он накинул плащ, притороченный ремнями к баулу, опустил ремешок картуза и, дав шпоры коню, помчался во весь опор, рассчитывая, по крайней мере засветло, миновать опасные места, о которых его предупреждали. Но он обманулся в своих ожиданиях: дорога становилась все круче, и ему пришлось пустить коня шагом, осторожно выбирая путь, так как склоны были сплошь усеяны обломками скал. Когда он поднялся на вершину горы, у подножия которой протекала Крёза, тучи заволокли уже все небо, наступила кромешная тьма, и лишь по глухому реву потока он мог судить о глубине пропасти, по краю которой пролегала тропинка. Юности свойственна отвага, и всадник, презрев нерешительность сторожкого коня, направил его вниз по опасному склону, который с каждым шагом становился все бугристее и обрывистее. Но внезапно лошадь шарахнулась и разом стала, изрядно встряхнув при этом всадника. В ярком свете молнии он увидел, что находится на самом краю пропасти и, сделай лошадь еще шаг, — очутился бы на дне Крёзы. Полил дождь; яростный вихрь раскачивал верхушки старых каштанов, пригибая их к земле. Ветер гнал всадника вместе с конем прямо в реку, и опасность была столь очевидной, что, желая спастись от неистовых порывов бури, ездок спешился: так меньше хлестал ветер и легче стало находить во мраке дорогу. Картина, промелькнувшая в блеске молнии перед его взором, показалась ему восхитительной; впрочем, обстоятельства, в которых он очутился, полностью отвечали любви к приключениям, столь свойственной юности. Снова вспыхнула молния, и это позволило путнику еще раз обозреть местность, а при третьей вспышке он уже ясно различил все вокруг. По крутому склону оврага вилось несколько тропинок, протоптанных лошадиными копытами и усеянных рытвинами; тропинки причудливо переплетались, образуя довольно широкий путь, по которому, однако, было трудно передвигаться. Ни изгороди, ни придорожной канавы — видимо, никто не заботился здесь об удобствах путешественников. Пешеходы карабкались по облысевшим склонам, как им заблагорассудится: летом протаптывали стежку тут, зимою — там или же восстанавливали прежнюю, давно забытую и плотно утрамбованную от времени дорожку. Между этими прихотливо извивающимися тропками торчали скалистые бугорки, неотличимые в темноте от клочковатых зарослей вереска; а тут еще одна стежка пролегала выше, другая ниже и переходить с одной на другую было страшно, так как ничего не стоило сорваться вниз. К тому же дорожки не только круто вздымались вверх, но и сильно кренились в сторону обрыва, так что при спуске приходилось резко откидываться назад и влево. Словом, среди всех этих запутанных тропинок не было ни одной надежной. За лето они были одинаково истоптаны местными жителями, которые шагали по ним среди бела дня, не разбирая дороги; но во мраке грозовой ночи ошибиться было небезопасно, и юноша, заботясь о том, чтобы его любимый конь, который был ему дороже жизни, не повредил себе ног, решил укрыться под первым же скалистым выступом, достаточно высоким, чтобы служить защитой от резких порывов ветра, и переждать там, пока хоть немного прояснится. Прислонившись к Вороному и краем плаща прикрыв седло и бока своего верного друга, он впал в мечтательную задумчивость, наслаждаясь завыванием бури, тогда как жители Эгюзона — если только они еще помнили о нем в эту минуту — воображали, должно быть, что он охвачен тревогой и отчаянием. Молнии вспыхивали одна за другой, и вскоре молодой человек уже довольно хорошо ознакомился с окружающей местностью. Дорога подымалась по противоположному склону оврага столь же круто, как только что спускалась, и представляла для путника не меньшие трудности. Полноводная прозрачная Крёза почти бесшумно катила свои волны по дну пропасти, с глухим и протяжным ревом врываясь под тесные своды старого и, видимо, шаткого моста. Впереди все исчезало за крутым поворотом дороги, но слева простиралась зеленая даль раскинувшихся по склонам сочных лугов, среди которых змеилась река, а прямо перед глазами путника, на высокой горе, щерившейся грозными скалами, выступавшими над пышной растительностью, возвышались еще мощные, хотя и полуобвалившиеся башни огромного разрушенного замка. Но если бы даже смелому юноше и пришло в голову искать там убежища от грозы, он отказался бы от этой мысли, ибо замок, отрезанный от дороги другим оврагом, по которому несся поток, низвергавшийся в Крёзу, казался совершенно недоступным. Необычайно живописная местность при мертвенно-бледном отблеске молний выглядела весьма зловеще, что про нее никак нельзя было сказать при свете дня. Крыша замка обрушилась и обнажила гигантские печные трубы, вонзавшиеся в тяжелую, нависшую над ними тучу, словно они стремились ее разорвать. Когда мгновенные вспышки молний рассекали небо, развалины белым видением вставали из тьмы, но стоило глазу освоиться с мраком, они вырисовывались черной громадой на более светлом небосводе. Яркая звезда, которую облака не осмеливались, казалось, поглотить, долго сияла над горделивой башней замка, подобно драгоценному алмазу на челе великана. Затем она исчезла, и сквозь потоки дождя, полившего с удвоенной силой, путник видел все как сквозь густую сетку. Падая на ближние скалы и на окаменевшую от летнего зноя почву, струи подскакивали и вскипали белой пеной, образуя вихри водяной пыли, которые подхватывал ветер. Молодой человек подвинулся, чтобы надежней укрыть коня под естественным каменным навесом, и тут обнаружил, что в этом убежище он не один. Какой-то незнакомец искал приюта под тем же выступом, а может быть, забрел сюда раньше нашего путника. Ослепительный свет чередовался с непроницаемой тьмою, и поэтому трудно было что-либо увидеть. Всаднику не удалось как следует разглядеть пешехода, но одежда незнакомца показалась ему убогой, лицо — не внушающим доверия. Вдобавок тот явно хотел остаться незамеченным и стремился поглубже забиться под скалу, однако, догадавшись по восклицанию молодого человека, что его обнаружили, незнакомец сразу же громко и уверенно заговорил: — Неважная погода для прогулки, сударь! Лучше бы вам вернуться в Эгюзон. — Благодарствуйте, дружище! — ответил молодой человек и с силой рассек воздух хлыстом со свинцовым наконечником, давая понять своему подозрительному собеседнику, что он вооружен. Тот превосходно понял намек и в ответ как бы невзначай хватил толстой дубиной по скале, так что осколки камня полетели во все стороны. Оружие было надежное, да и рука также. — По такой погоде далеко не уйдешь, — снова заговорил пешеход. — Далеко или близко — это уж мое дело, — возразил всадник, — и никому не советую меня задерживать. — Видать, вы струсили — не иначе как воров испугались, — а то не стали бы грозить, когда с вами говорят по-хорошему. Не ведаю, молодой человек, из каких вы краев, но, видно, не знаете, что у нас, слава богу, ни воры, ни разбойники, ни душегубы не водятся. Заносчивый, но искренний тон незнакомца внушал доверие. Юноша заговорил уже мягче: — Так вы здешний, дружище? — Да, сударь, был здешний, здешним и останусь. — Вы правы, что никуда отсюда не хотите двигаться: славные здесь места. — Ну, как сказать! Нынче, например, не порадуешься: погода бесовская; дождь как зарядит, так уж на всю ночь. — Неужели на всю ночь? — Уж будьте покойны! Ежели вздумаете выбираться ложбиной, так вам от грозы и до полудня не уйти. Но я так думаю: раз вы на ночь глядя пустились в дорогу, значит, у вас есть где переночевать. — По правде сказать, я и не предполагал, что место, куда я держу путь, так далеко. Я почему-то вообразил, что в Эгюзоне просто хотят меня задержать, а потому преувеличивают и расстояние, и трудности дороги. Но еду я всего только час, а вижу, что меня не обманули. — Любопытно, куда же это вы направляетесь? — В Гаржилес… Далеко это? — Не очень, сударь, когда на дворе светло. Но раз вам эта дорога незнакома, так вам и ночи не хватит. Здешние места — пустяки, но вот как будете перебираться из ложбины Крёзы в ложбину Гаржилесы, там такие волчьи ямы пойдут — ни за что пропадете! — Послушайте, дружище, а вы не проводите меня? Я бы хорошо отблагодарил. — Нет уж, сударь, спасибо… — Значит, дорога действительно опасна, раз вы не желаете оказать мне эту услугу? — Для меня-то она не опасна, я ее знаю не хуже, чем вы парижские улицы. Но с какой радости стану я всю ночь мокнуть для вашего удовольствия? — Ну что ж! Как-нибудь обойдусь и без вашей помощи. Но я ведь не задаром прошу, я предлагаю… — Нечего, нечего!.. Хоть вы и богаты, а я бедняк, да я ведь с протянутой рукою еще не хожу и первому встречному служить не намерен! У меня на то свои причины! Знать бы, кто вы такой… — Значит, вы мне не доверяете? — спросил молодой человек, любопытство которого было возбуждено смелой и горделивой отповедью собеседника. — Чтобы доказать вам, что недоверие — порок, я заплачу вперед. Сколько вы хотите? — Простите, сударь, виноват… Ничего я не хочу! Нет у меня ни жены, ни детей — ничего мне и не надо. Но зато есть у меня друг, добрый приятель, у него тут жилье неподалеку. Вот только немного прояснится, я к нему доберусь, поужинаю и высплюсь под крышей. С какой стати мне лишаться всего этого ради вас, скажите на милость? Уж не потому ли, что у вас лошадь добрая и новенький плащ? — Гордость ваша мне по душе, но она ни к чему: ведь это услуга за услугу. — А я вам и оказал услугу, какую мог. Предупредил ведь: не ходите ночью — темно, хоть глаз выколи, да и дороги через полчаса совсем развезет… Чего же вам еще? — Ничего… Я к вам потому за помощью обратился, что хотел узнать нравы здешних жителей. Видно, они только на словах хороши с приезжими. — С приезжими! — воскликнул берриец с оттенком грусти и укоризны, поразившим путника. — А что мы от них видели, кроме худого? Нет, сударь! Люди несправедливы! Но бог все видит, ом знает, как безропотно крестьянин дает себя стричь образованным, что наезжают из больших городов. — Значит, горожане причинили вам много зла? Вот уж не думал; да я за них не в ответе — ведь я тут у вас впервые. — Едете-то вы в Гаржилес? Значит, к господину Кардонне? Вы, наверно, ему родственник или приятель? — А кто он, этот Кардонне? Вы на него, очевидно, в обиде? — спросил молодой человек после минутного колебания. — Не будем об этом, сударь! — возразил крестьянин. — Если он вам не знаком, вам и слушать о нем неинтересно. А раз вы богаты, так опасаться вам нечего: он только, беднякам страшен. — Но все же, — возразил путник не без сдержанного волнения, — быть может, у меня есть основание любопытствовать, какого мнения в этих местах о господине Кардонне. Если вы отказываетесь объяснить, по какой причине вы дурно о нем думаете, значит, вы что-то против него имеете, и это что-то вам чести не делает. — Я никому отчетом не обязан, — возразил крестьянин, — что думаю, то при мне и останется. Доброй ночи, сударь! Дождь как будто перестает. Жалею, что не могу предложить вам ночлег, но у меня только и есть для ночевки, что вон тот замок, да и тот не мой. Однако, — добавил он, сделав несколько шагов и остановившись, словно в раскаянии, что плохо выполняет долг гостеприимства, — если вы вздумаете искать там приют, ручаюсь, что примут вас неплохо. — Разве в этих развалинах кто-нибудь живет? — спросил молодой человек, которому надо было спуститься в овраг, чтобы переправиться через Крёзу; и он зашагал рядом с крестьянином, ведя лошадь под уздцы. — Это верно, что развалины, — заметил его попутчик, подавляя вздох, — но еще на моей памяти — а не такой уж древний я старик — замок стоял целехонький, во всей красе, и снаружи и изнутри такой, что хоть королю поселиться впору. Хозяин не слишком тратился, чтобы поддерживать и украшать его, да и незачем было — так он был крепко да ладно сложен: стены обтесаны хорошо, камины и рамы сработаны на загляденье. Какое же еще нужно убранство? Каменщики да строители потрудились на совесть — богаче не украсишь! Но всему приходит конец, и богатству — тоже, вот последний владелец Шатобрена и откупил дедовский замок всего-навсего за четыре тысячи франков! — Возможно ли?! Такая груда камня, пусть даже в развалинах, — и за такую малость?! — Эта груда камня имела бы цену, если бы здание можно было разобрать и камень вывезти, но где в наших краях найдешь рабочих и раздобудешь инструмент, чтобы развалить этакую громадину? Уж не знаю, чем крепили в прежнее время, только скреплено до того прочно, что башни и наружные стены словно из глыбы вытесаны. Да к тому же здание стоит на вершине горы, а кругом пропасти. Где уж тут весь этот камень вывезти! Какая телега его возьмет, какая лошадь?! Пока гора не рухнет, так эта громада и будет на утесе стоять, и этих сводов еще надолго достанет, чтобы приютить незадачливого хозяина с дочерью. — Значит, у нынешнего владельца Шатобрена есть дочь? — спросил молодой человек, с возросшим интересом взглянув на замок. — И живет тут? — Ну да, тут, вместе с филинами и совами! И не дурнеет от того, не хиреет. Воздуха и воды вдоволь, и, хотя нынешние законы насчет охоты строги, на столе у господина Шатобрена частенько увидишь то зайца, то куропатку. Так вот, сударь, если вам не так уж к спеху попасть в Гаржилес, чтобы рисковать из-за того жизнью, идем-те-ка со мной! Примут вас хорошо, я уж постараюсь. Да тут особых стараний и не нужно: господин Антуан де Шатобрен не прогонит в такую ночь доброго христианина, приютит и накормит. — Но хозяин замка, видимо, очень беден. Мне совестно злоупотреблять его добротой. — Да что вы! Он только рад будет!.. Эге, гляньте-ка, непогода снова разыгралась пуще прежнего! У меня совесть будет не чиста, если я вас одного оставлю тут в горах… Уж вы не обижайтесь, что я вас давеча проводить отказался: у меня были на то свои причины; вы о них судить не можете, и я вам их выкладывать не стану! Но мне не уснуть спокойно, если я не уговорю вас. Я ведь господина Антуана знаю: он крепко на меня подосадует, что я вас не привел. Чего доброго, сам за вами прибежит, а уж это для него и вовсе нездорово, особливо после ужина. — А вдруг его дочь рассердится, увидев какого-то незнакомца? — Дочь-то ведь его — значит, она в отца и не хуже его, если только не лучше! Молодой человек заколебался, но, подстрекаемый романтическим воображением и любопытством, мысленно заранее рисуя себе жемчужину красоты, обитающую в этих угрюмых стенах, он подумал, что ждут его в Гаржилесе не ранее завтрашнего дня, что, приехав среди ночи, он нарушит мирный сон своих родителей, что, наконец, упорствуя в своем намерении снова пуститься в путь, он совершит подлинную неосторожность. Да и мать его, конечно, не допустила бы этого, будь у него возможность испросить ее совета. Убежденный собственными доводами, как это бывает, когда в дело вмешается бес юности и любопытства, молодой человек двинулся вслед за провожатым в направлении старого замка.II Замок Шатобрен
Минут двадцать спустя наши путники, с трудом преодолев крутую тропинку, или, вернее, грубые ступени, высеченные прямо в скале, достигли замка Шатобрен. Ветер и дождь усилились, и юноша не успел разглядеть как следует величественный портал: перед его глазами лишь на мгновение выступили неясные очертания какой-то громады. Он заметил только, что вместо традиционной решетки вход преграждал деревянный заборчик, похожий на полевую изгородь. — Подождите, сударь, — сказал ему провожатый, — я перелезу и поищу ключ. Можете себе представить, эта старуха Жанилла с недавних пор вздумала повесить замок. А что у них возьмешь? Впрочем, она с самыми добрыми намерениями, я не в осуждение ей говорю… Крестьянин ловко перелез через изгородь, а молодой человек ждал, тщетно пытаясь разобраться в хаосе гигантских развалин, смутно различимых в глубине двора. Минуту спустя какие-то люди открыли загородку, кто-то взял под уздцы лошадь, кто-то повел за руку самого юношу, еще кто-то осветил дорогу фонарем — иначе здесь было бы не пробраться: обломки камня и кустарник преграждали путь. Наконец, пройдя через внутренний двор и вереницу просторных темных зал, где свободно гулял ветер, они очутились в длинной сводчатой комнате, по всей видимости бывшей в прежние времена не то буфетной, не то кладовой и расположенной где-то между кухней и конюшнями. Ныне это старательно выбеленное помещение служило владельцу Шатобрена гостиной и столовой. Его обогревал небольшой камин с навесом и деревянными наличниками, навощенными до блеска. Огромная чугунная доска, вынутая, очевидно, из какого-нибудь большого камина в старом замке, занимала всю внутренность очага; вместе с высокой решеткой из полированного железа она великолепно отражала тепло и свет пылающего огня, отчего в этой полупустой комнате с белыми стенами, освещенной всего лишь небольшой жестяной лампочкой, было совсем светло. Стол каштанового дерева, за которым в торжественных случаях могло уместиться до шести человек, несколько соломенных стульев и немецкие часы с кукушкой, купленные у коробейника за шесть франков, составляли скромное убранство гостиной. Но все тут поражало опрятностью: стол и стулья немудреной работы деревенского столяра так и блестели, свидетельствуя об усердном применении щетки и воска; пол перед очагом был аккуратно подметен и посыпан песком на английский манер — новшество для здешних мест, — а на камине, в глиняном горшке, красовался огромный букет роз, вперемежку с полевыми цветами, какие растут на окрестных холмах. В этом скромном убранстве не было на первый взгляд и признака изысканности или какой бы то ни было поэтической живописности. Но, приглядевшись получше, можно было заметить, что и здесь, как во всяком жилище, характер и врожденный вкус хозяйки наложили свой отпечаток на выбор помещения и его убранство. Молодой человек, попавший сюда впервые и предоставленный самому себе, пока хозяева были заняты приготовлениями к достойному приему гостя, вскоре составил довольно правильное представление о склонностях здешних обитателей. Во всем сказывалась давняя привычка к изяществу и сохранившаяся поныне потребность в уюте; но ввиду стесненных обстоятельств здесь благоразумно отказались от всяких суетных притязаний на внешний блеск и потому из немногих зал огромного здания, не поддавшихся разрушению, выбрали именно эту небольшую, но милую комнату, которую к тому же легче было убрать, отопить, обставить и осветить. Эта обитель представляла собой не что иное, как первый этаж квадратного флигеля, пристроенного в период позднего Возрождения к древним стенам, ограждавшим внутренний двор со стороны главного входа. Архитектор, соорудивший эту угловую башенку, стремясь сгладить контраст между двумя столь различными стилями, придал окнам форму защитных бойниц и наблюдательных отверстий, но ясно было, что эти небольшие круглые окошки никогда не служили пушкарям и попросту являлись украшением. Окаймленные узорными наличниками из красного кирпича и белого камня, они делали помещение необычайно красивым изнутри. В простенках между окнами шли симметрично расположенные ниши с такими же узорными наличниками, так что не было нужды ни в обоях, ни в обивке и даже мебели, — они бы только перегрузили эти стены, ничего не добавив к их привлекательной простоте. В одной из ниш, на белой, блистающей, подобно мрамору, плите, что служила ей основанием, путник увидел хорошенькую деревенскую прялку с веретеном, на которое намотана была коричневая шерсть. Созерцая это хрупкое и трогательное орудие труда, молодой человек погрузился в задумчивость, из которой его вывел шелест женского платья. Он стремительно обернулся, но его ждало глубокое разочарование, юное сердце забилось напрасно: бесшумно ступая по песку, которым был посыпан пол, вошла старая служанка и подбросила в камин охапку сухих виноградных лоз. — Пододвиньтесь к огню, сударь, — сказала старуха, так сильно картавя, что это казалось почти нарочитым, — дайте-ка мне ваш картуз и плащ, я просушу их на кухне. Какой славный плащ! Не знаю, как зовется эта материя, но я видела точно такую в Париже. Вот бы нашему графу такой плащ! Да он, надо полагать, дорогой, и, кто знает, захочет ли граф носить плащ! Ведь он воображает, что ему все еще двадцать пять, и ежели с неба льет, так от этого будто бы ни один порядочный человек не простужался, — а сам прошлой зимой воспаление седалищного нерва подхватил! Но в ваши годы такие болезни не страшны… Однако погрейте-ка спину. А ну, поверните стул, так-то будет лучше! Бьюсь об заклад, что вы парижанин! У вас кожа чересчур бела для наших мест. Хорошие места, сударь, но уж очень жарко летом, а зимой слишком холодно. Вы скажете, что нынче ночь студеная, словно в ноябре. Это верно, да что поделаешь — гроза. Но комната у нас хорошая, ее легко отопить — посидите с минуту, сами почувствуете. Да и в валежнике недостатка нет. Пропасть сухого дерева! Одного только кустарника, что растет на дворе, хватит, чтобы всю зиму печку топить! Правда, мы никогда большого огня не разводим, граф не великий едок, да и дочка в него; самый большой прожора — наш парнишка-слуга, он один три фунта хлеба в день проглотит; но я для него отдельно хлеб пеку — подсыпаю побольше ржаной муки. Для него и так сойдет, а если добавить отрубей, так оно еще сытнее и для здоровья полезней. Ха-ха! Смейтесь, смейтесь, я не обижусь. Я, знаете, всегда любила посмеяться, да и поболтать тоже. Работа тогда лучше спорится, а я люблю, чтобы все у меня спорилось. Господин Антуан вроде меня: если уж он сказал — лети словно ветер! В чем другом, а в этом мы с ним всегда согласны. Вы уж нас простите, сударь, вам придется немного подождать. Граф спустился в погреб с человеком, что вас привел, а ступеньки так осыпались, что туда нескоро доберешься. Но это хороший погреб, сударь: стены толщиной больше десяти футов, а глубина такая, что, как спустишься, словно тебя похоронили заживо! Верно, верно. Даже страшно! Говорят, в прежние времена пленные там содержались. Мы-то никого в погребе не держим, зато вино там сохраняется на славу! А замешкались мы еще и оттого, что дочурка наша спать уже легла. У нее нынче голова от солнца разболелась, потому что без шляпки гуляла. Хочу, говорит, приучиться без шляпки ходить! Она думает, раз я без шляпы и зонтика обхожусь, так и ей можно. Как бы не так! Она ведь у нас словно барышня воспитана — так уж ей, бедняжке, положено. Я-то хоть и называю ее «дочуркой», только я ей не мать — она на меня похожа, как щегленок на старую сороку. Но я ее пестовала и привыкла дочуркой звать. Не хочет она никак, чтобы я ей «вы» говорила. Такое это славное дитя! Обидно только, что она спать легла! Но вы, сударь, утром ее увидите: мы вас без завтрака не отпустим, и она за вами поухаживает получше, чем я, старуха. Расторопности-то мне хватает, сударь, ноги меня еще носят. Я ведь маленького роста и к старости не раздобрела. Вам ни за что не угадать, сколько мне лет!.. А ну-ка, сколько вы мне дадите?. Молодой человек понадеялся было, что ему удастся, наконец, вставить словечко, поблагодарить за прием кое-что разузнать: ему не терпелось получить более — подробные сведения о мадемуазель Шатобрен. Но не тут-то было… Не дожидаясь его ответа, старушка снова затараторила: — Мне, сударь, как-никак, в Иванов день шестьдесят четыре стукнет, а работаю за троих молоденьких. Работа так и кипит! Я ведь нездешняя. Оно сразу и видно: родилась я в Марше — это больше полулье отсюда. Вы разглядываете, как наша дочурка рукодельничает? Она, знаете ли, прядет не хуже любой деревенской пряхи: так же ровно и тонко. Вот захотела, чтоб я научила ее прясть. «Послушай-ка, матушка, — говорит (она меня всегда так называет: ведь бедное дитя матери не знало и любит меня, как родную, хоть похожа она на меня, как роза на крапиву), — послушай-ка, — говорит она мне, — все эти вышивки, рисованья, все эти пустячки, каким меня в пансионе обучали, здесь ни к чему. Научи-ка меня прясть, вязать и шить, я помогу тебе обшивать отца…» Но, не успев коснуться предмета, который весьма занимал ее притомившегося слушателя, неугомонная старушка, должно быть, в десятый раз вышла из комнаты, ибо, разглагольствуя, ни на секунду не оставалась без дела и уже успела накрыть стол грубой белой скатертью, расставить тарелки и кружки, положить ножи, подмести пол у очага, обтереть стулья и раз десять подбросить в огонь хворосту, неизменно возобновляя прерванный монолог на последней фразе. Однако на сей раз ее картавую речь, доносившуюся из коридора, заглушили чьи-то звучные голоса, и взорам молодого человека предстал наконец граф де Шатобрен; следом за ним шагал крестьянин, доставивший путника в замок; оба несли по два глиняных жбана, которые и поставили на стол. Только теперь молодой человек мог как следует разглядеть вошедших. Господин де Шатобрен был мужчина лет пятидесяти, среднего роста и атлетического сложения, широкоплечий, с бычьей шеей, с красивым и благородным лицом, столь же смуглым, как и у его спутника, с большими руками, огрубевшими, загорелыми и потрескавшимися от воздуха и солнца, — руками браконьера, сказали бы мы, ибо наш помещик охотился на чужих землях, за неимением достаточно обширных своих. У него было благодушное, открытое, улыбающееся лицо, твердая поступь и оглушительный голос. Добротный охотничий костюм, опрятный, хоть и залатанный на локтях, грубая холщовая блуза, кожаные гетры, седоватая щетина на щеках, терпеливо дожидавшаяся воскресного бритья, — все свидетельствовало о привычке к суровому, нелюдимому существованию; но приятное выражение лица, обходительные и сердечные манеры, непринужденность обращения, не лишенная достоинства, выдавали в нем учтивого дворянина, человека, привыкшего скорее покровительствовать и помогать, нежели принимать помощь и покровительство. У его спутника был далеко не столь опрятный вид. Блуза и башмаки его сильно пострадали от ливня и дорожной грязи. Если помещик не брился с неделю или около того, то крестьянин не прикасался к бритве недели две с лишним. Худой, костлявый, подвижный, он казался на несколько дюймов выше господина Шатобрена, и, хотя лицо у него тоже было доброе и приветливое, в глазах сквозили лукавство, грусть, нелюдимость и высокомерие. Чувствовалось, что он умнее, но незадачливее господина Шатобрена. — Ну как, сударь, — спросил хозяин, — обсохли немного? Мы рады вам, милости прошу поужинать с нами. — Благодарю за радушный прием, — ответил путник, — но, боюсь, что, не представившись, я погрешу против учтивости. — Хорошо, хорошо, — возразил граф, которого отныне мы станем называть просто господином Антуаном, как его называли все в округе. — Успеете сделать это, если вам так уж хочется. Мне лично спрашивать вас не о чем, и я намерен выполнить долг гостеприимства, не принуждая вас склонять ваши имена и титулы. Вы — путник, человек чужой в наших краях, вас застигла дьявольская непогода у порога моего жилища — вот они, ваши титулы и ваши права! Кроме всего прочего, у вас приятная внешность, и вы мне нравитесь; надеюсь, что мое доверие будет вознаграждено тем удовольствием, какое я получу, оказывая услугу достойному молодому человеку. Итак, присаживайтесь, ешьте и пейте! — Вы чересчур добры, я тронут чистосердечной и приветливой встречей, какую вы оказываете путешественникам. Но я ни в чем не нуждаюсь, сударь, и прошу вас только разрешить мне переждать у вас грозу. Я поужинал в Эгюзоне час тому назад, и поэтому, умоляю вас, не хлопочите, пожалуйста, ради меня. — Что же с того, что вы поужинали! Это еще не довод. Неужто вашжелудок не может переварить больше одного ужина зараз? В ваши годы я готов был ужинать в любое время, будь то вечером или ночью, представился бы только случай. Верховая езда и горный воздух весьма возбуждают аппетит. Правда, в пятьдесят лет желудок не такой сговорчивый: мне, например, достаточно полстакана доброго вина и корки черствого хлеба, и я уже сыт. Ну, а вы не церемоньтесь, явились вы как раз вовремя: я только что собирался сесть за стол, и мы с Жаниллой заранее грустили, что придется ужинать только вдвоем, потому что у моей бедной крошки сегодня разболелась голова. Значит, ваше прибытие послужит нам утешением, так же как и приход этого славного малого, друга моего детства, которого я всегда рад видеть. Послушай, садись-ка рядом со мной, — сказал он, обращаясь к крестьянину, — а ты, матушка Жанилла, — напротив. И хозяйничай сама. У меня ведь, знаешь, рука несчастливая: чего доброго, изрежу не только жаркое, но и тарелку, и скатерть, даже стол — и ты же будешь сердиться. Ужин, поданный услужливой матушкой Жаниллой, состоял из козьего и овечьего сыра, орехов, чернослива, большого каравая пеклеванного хлеба и четырех жбанов вина, собственноручно принесенных господином Антуаном и его гостем. Присутствующие с явным удовольствием принялись уничтожать скромные яства, и только наш путник, закусивший в Эгюзоне, отказался от еды; он не переставал любоваться обходительностью почтенного хозяина, который без малейшего замешательства и ложного стыда приглашал гостей разделить с ним великолепие его повседневной трапезы. В такой сердечной и наивной непринужденности чувствовалось нечто одновременно отеческое и ребячливое, что покорило сердце молодого человека. Господин Антуан, верный старинным правилам гостеприимства, не задал гостю ни единого вопроса, избегая даже намеков, которые могли бы сойти за праздное любопытство. Крестьянин казался несколько более озабоченным и сдержанным. Но вскоре, вовлеченный в общую беседу, затеянную господином Антуаном и матушкой Жаниллой, он почувствовал себя запросто и так часто наполнял свою кружку, что путник начал с любопытством приглядываться к человеку, который мог изрядно выпить, не только не теряя при этом способности соображать, но и сохраняя обычное свое хладнокровие и степенность. Иное дело — владелец замка. Он еще не выпил и половины стоявшего перед ним жбана, а взор его уже заблестел, нос побагровел, рука потеряла твердость. Тем не менее он не стал болтать вздор, даже осушив вместе со своим приятелем крестьянином все четыре жбана. Жанилла — то ли из бережливости, то ли из врожденной умеренности — подлила в свой стакан с водой всего-навсего несколько капель вина, путник же, сделав героическое усилие, с трудом отпил глоток терпкой, мутной, довольно отвратительной бурды и этим ограничился. Зато оба деревенских жителя пили, казалось, с наслаждением. Не прошло и четверти часа, как Жанилла, которая не могла сидеть сложа руки, встала из-за стола и, примостившись к камельку, взялась за вязанье, поминутно почесывая спицей виски и стараясь при этом не растрепать жидкие пряди еще черных волос, выглядывавшие из-под чепчика. Надо думать, эта опрятная маленькая старушка была в свое время недурна собой: нежные черты ее лица не лишены были благородства, и, если бы она не жеманилась, не старалась казаться ловкой и любезной, наш путник мог бы даже почувствовать к ней расположение. Не считая отсутствовавшей барышни, домашнее окружение господина Антуана состояло из Жаниллы, шустрого пятнадцатилетнего парнишки со смышленой физиономией, выполнявшего в доме обязанности «слуги за все», и дряхлого охотничьего пса — тощего, с потускневшим взором и грустно-задумчивым видом; он глубокомысленно дремал у ног хозяина, однако пробуждался всякий раз, когда господин Антуан подсовывал ему лакомый кусок, с шутливой серьезностью называя собаку «сударем».III Господин Кардонне
Уже более часа сидели они за столом, а господин Антуан не проявлял ни малейших признаков утомления. Он и его друг крестьянин жевали сыр и потягивали вино из огромных кружек с той величавой медлительностью, которой порой как бы рисуются беррийцы. Они поочередно вонзали нож в лакомое кушанье, издававшее пронзительный кисловатый запах, «разделывали» его на мелкие кусочки, аккуратно раскладывали сыр на глиняной тарелке, а затем, положив на пеклеванный хлеб, съедали крошку за крошкой. Каждый кусок они запивали добрым глотком местного вина, предварительно чокнувшись и пожелав друг другу: «Будь здоров, приятель!» — «Будьте и вы Здоровы, господин Антуан!» Или: «Доброго здоровья, старина!» — «И вам также, хозяин!» Судя по всему, пиршество могло затянуться на всю ночь; наш путник, усердно делая вид, что ест и пьет, старательно избегал того и другого: он отчаянно боролся с одолевавшей его дремотой; однако мало-помалу беседа, вертевшаяся вокруг непогоды, сенокоса, цен на скот, отводков виноградных лоз, приняла оборот, чрезвычайно его заинтересовавший. — Если погода не переменится, — говорил крестьянин, прислушиваясь к непрерывному шуму дождя, — реки разольются, словно в марте. Тогда с нашей Гаржилесой не сладишь. Господину Кардонне может причинить ущерб. — Весьма печально, — сказал господин Антуан. — Право, жаль! Он порядком потрудился над этой речушкой. — Так-то оно так, да речушка на это не посмотрит, — возразил крестьянин. — А мне думается, невелико горе. — Как же это? Человек ухлопал в Гаржилесу более двухсот тысяч франков, а стоит реке, как у нас говорят, взбелениться — и все его труды пойдут прахом. — Эка беда! Подумаешь!.. — Я и не говорю, что это беда непоправимая, когда у человека миллионное состояние, — возразил владелец замка, который в простоте души не замечал враждебных чувств своего сотрапезника, — а все же убыток — это убыток! — Вот именно. Уж и посмеялся бы я, если б судьба ударила его по карману. — Нехорошо так говорить, старина! С чего ты зубы точишь на этого пришельца? Ведь он нам с тобою ни добра, ни зла не сделал. — Еще сколько зла сделал, господин Антуан, — и вам, и мне, и всей округе! Нет, не говорите… Много он зла натворил — и все с умыслом, и, поверьте, еще больше натворит. Погодите, отрастут у коршуна когти, и посмотрите тогда, что от нашего птичника останется. — Заблуждаешься, старина! Сто раз я тебе говорил, что ты заблуждаешься. Не жалуешь ты этого человека, а все из-за того, что он богат. Разве это его вина? — Конечно, его! Ведь он из простого звания, может статься, как и я, а смотрите, куда залетел! Богатство его неправедным путем нажито. — К чему ты это говоришь? Неужели ты полагаешь, что нельзя составить себе состояние честным путем? — Уж не знаю, но думаю, что нельзя. Чего проще: вот вы рождены в богатстве, а нынче бедствуете; или, скажем, я: рожден в бедности, значит, на всю жизнь бедняком и останусь. А мне так думается, что, отправься вы, к примеру, в чужие края, не заплатив долги вашего батюшки, или начни я барышничать да стричь всякого встречного и поперечного — так мы бы с вами сейчас в каретах разъезжали!.. Уж извините, если чем вас обидел… — добавил грубовато и задиристо крестьянин, обращаясь к молодому человеку, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. — Сударь, — сказал владелец замка, — возможно, вы знакомы с господином Кардонне, может быть, служите у него или чем-либо ему обязаны. Прошу вас, не обращайте внимания на слова нашего земляка. Человек он хороший, только представление о многих вещах, в которых он мало смыслит, у него превратное. Поверьте, в глубине души он не питает к господину Кардонне ни злобы, ни зависти и не способен причинить ему ни малейшего вреда. — Я и не придаю значения его словам, — ответил молодой незнакомец. — Одно только меня удивляет, граф: человек, которого вы удостаиваете своим уважением, голословно чернит имя другого человека, ничего не зная о его прошлой жизни. Я уже имел случай просить вашего сотрапезника рассказать мне подробнее о господине Кардонне, которого он, по-видимому, ненавидит, но он не пожелал вступить в объяснения. Судите сами, можно ли составить себе беспристрастное мнение на основе столь беспочвенных обвинений. Ведь вашего гостя можно заподозрить в злом умысле: а вдруг вы или я, поддавшись ему, вынесем суждение, неблагоприятное для господина Кардонне! — Молодой человек, ваша речь мне по душе, я согласен с вами, — ответил господин Антуан. — А ты не прав, — обернулся он к своему деревенскому гостю и, яростно стукнув кулаком по столу, метнул на него хоть и недовольный, но в общем дружелюбный и добродушный взгляд. — Ты не прав! А ну-ка расскажи, в чем ты упрекаешь этого самого Кардонне, чтобы мы могли судить, основательны ли твои жалобы! Иначе ты просто неисправимый хныкала и брюзга. — Что я скажу, про то всякому известно, — спокойно возразил крестьянин, по-видимому, ничуть не смутившись этой отповедью. — Все видят, что дело тут неладно, вот каждый и судит по своему разумению. Раз молодому человеку господин Кардонне незнаком, — добавил он, бросив пронзительный взгляд на путника, — и раз уж ему хочется узнать, что это за птица, расскажите-ка вы, сударь, сами, а подробности я добавлю от себя; я скажу что к чему, а он пусть судит сам, если только у него нет своих причин молчать. — Хорошо, согласен, — сказал господин Антуан, который, не в пример своему приятелю, не замечал возрастающего беспокойства молодого человека. — Я расскажу все, как оно есть, и, ежели ошибусь, разрешаю матушке Жанилле — она у нас памятлива и точна, словно календарь, — прервать меня и опровергнуть. А ты, пострел, — сказал он, обращаясь к своему «пажу», одетому в блузу и деревянные башмаки, — не таращь на меня глаза — а то голова идет кругом — и не разевай так рта: ведь, чего доброго, меня проглотишь. Это еще что?! Я тебе покажу! Ты чего смеешься! Этакий молокосос и смеет ухмыляться, когда с ним хозяин разговаривает! Становись позади и держи себя прилично — вот как Сударь! Господин Антуан явно дурачился, но он с таким серьезным видом указывал мальчику на своего пса и говорил с таким пылом, что гостю пришло в голову: уж не самодур ли этот граф, хотя его добродушный вид противоречил подобному предположению. Впрочем, достаточно было взглянуть на лицо мальчугана, чтобы убедиться, что это всего-навсего привычная игра: мальчик беспечно присел подле собаки и стал забавляться с нею, без малейших признаков обиды или замешательства. Надо сказать, что повадки господина Антуана были весьма необычны, особенно для первого знакомства, и путник, вообразив, что владелец замка с пьяных глаз мелет всякий вздор, решил не придавать его словам никакого значения. Но даже в тех случаях, когда господину Антуану отказывались служить ноги, голова у него работала хорошо, и если сейчас он предавался своему излюбленному занятию и шутил, потешаясь над домочадцами, то лишь из желания смягчить тягостное впечатление, которое произвел на гостя недавний спор. — Сударь, — произнес он, обращаясь к молодому человеку… Но тут в дело вмешался пес, привыкший к этому шутливому прозвищу. Приняв возглас хозяина на свой счет, он вскочил с места так резво, как только позволял его возраст, и уткнулся мордой в локоть господину Антуану. — А ну-ка, Сударь!.. — воскликнул тот, сделав страшные глаза. — Что это значит? С каких это пор вы стали столь невоспитанны? Что вы, какая-нибудь дворняжка, что ли? А ну-ка, лежать смирно!.. И чтоб больше мне не приходилось по вашей милости проливать вино на скатерть, а то вы будете иметь дело с матушкой Жаниллой!.. Так знайте же, молодой человек, — продолжал господин Антуан, — что в один прекрасный день прошлой весной… — Простите, сударь, было только девятнадцатое марта, значит, еще зима стояла… — прервала его Жанилла. — Стоит ли придираться из-за каких-нибудь двух дней!.. Во всяком случае, погода была великолепная: жара, как в июне, даже все пересохло… — Вот уж истинная правда! — воскликнул деревенский грум. — Конягу господина Антуана в нашей речонке напоить — и то не удавалось! — Это никакого отношения к делу не имеет, — возразил господин Антуан, топнув ногой, — а ну-ка, малый, придержи язык! Когда тебя спросят, тогда и скажешь, а пока навостри уши — быть может, научишься уму-разуму. Да, так вот, в один прекрасный день возвращался я потихоньку с ярмарки пешком, а навстречу мне едет в шарабане высокий, представительный мужчина; хорош собой, хотя как будто ненамного меня моложе, но с виду суровый, даже жестокий! Черные глаза так и сверкают на изжелта-бледном лице. Он катил по крутому спуску, чуть не задевая камни, положенные по краям дороги еще нашими дедами, и погонял лошадь, видимо не подозревая об опасности. Я не удержался и решил его предупредить. «Сударь, — обратился я к нему, — сколько я себя помню, никогда еще ни телега, ни двуколка, ни даже тачка не спускались по этому откосу. Возможно, ваше намерение и осуществимо, но вы, чего доброго, можете свернуть себе шею. Если вы пожелаете избрать более далекий, но зато более надежный путь, я вам его укажу». «Благодарствуйте, — ответил он несколько сухо, — но, по-моему, дорога вполне проезжая. Ручаюсь вам, что лошадь вывезет». «Как вам угодно, — сказал я, — ведь это я из чистого человеколюбия». «Весьма признателен, сударь. И поскольку вы так любезны — не хочется и мне оставаться в долгу. Я еду в вашу сторону, а вы шагаете пешком. Если не откажете сесть в мою коляску, вы скорее спуститесь в долину. Мне же будет приятно ваше общество». — Все как есть правильно, — заметила Жанилла. — Так в точности вы нам в тот вечер и рассказывали, только еще добавили, что на том господине был длинный синий сюртук… — Простите, мамзель Жанилла, — возразил мальчуган, — хозяин говорил — черный. — А я говорю тебе — синий, всезнайка ты этакий! — Нет же, матушка Жанилла, — черный! — Синий! Ручаюсь! — Могу поклясться, что черный! — Довольно, оставьте меня в покое! Зеленый! — воскликнул господин Антуан. — Матушка Жанилла, не прерывай меня больше. А ты, пострел, либо спрячь свой длинный язык в карман, либо отправляйся на кухню и поищи там вчерашний день… Ну, выбирай!.. — Сударь, я лучше помолчу, только позвольте мне послушать! — Так вот, — продолжал владелец замка, — с минуту я колебался, не зная, согласиться и свернуть себе шею или отказаться и сойти за труса. «Как-никак, — подумал я, — этот незнакомец ничуть не похож на сумасшедшего, да и рисковать жизнью у него вроде бы никаких причин нет. Лошадь у него, несомненно, превосходная, и таратайка неплохая». Я уселся рядом с ним, и мы рысью покатили с горы, причем лошадь ни разу не оступилась, а хозяин ее, ни на секунду не теряя решимости и хладнокровия, беседовал со мною о том о сем, расспрашивал о наших краях… Должен сознаться, что отвечал я несколько невпопад, ибо чувствовал себя не в своей тарелке… «Ладно, — сказал я, когда мы благополучно подкатили к берегу Гаржилесы, — пусть головоломный спуск остался позади, но реку нам не переехать. Правда, она здесь неглубока, однако брода нет, надо подняться немного левее». «И это вы называете глубиной! — возразил незнакомец, пожимая плечами. — По-моему, тут одни только камни и тростник. Вот еще! Делать крюк из-за какой-то пересохшей речушки!..» «Воля ваша!» — отвечал я, несколько уязвленный. Его пренебрежительная отвага меня раздражала. Я опасался, что он, чего доброго, угодит в самый водоворот, но, будучи человеком неробкого десятка, отказался выйти из коляски, хотя он мне это и предложил. Уж очень мне хотелось, словно в отместку, чтобы он как следует перетрусил. Пусть бы мне пришлось даже окунуться с головой, хоть я и не большой любитель нырять… Но мне не довелось испытать ни мстительного удовольствия, ни членовредительства. Коляска не опрокинулась… Как раз посредине реки, где Гаржилеса особенно углубила свое ложе, лошадь провалилась по самую шею и коляску подхватило течением. Незнакомец в зеленом сюртуке (сюртук-то, Жанилла, был зеленый) подхлестывает коня, тот скользит, оступается, бросается вплавь и словно чудом выносит нас на другой берег. Отделались мы довольно прохладной ножной ванной. Я не струсил, так как плаваю не хуже кого другого; но спутник мой потом признался, что пошел бы ко дну как топор. А все же он глазом не моргнул, не выругался, не побледнел. Да, думаю, крепкий малый! И даже его самоуверенность мне понравилась, хотя в его спокойствии чувствовалось какое-то сатанинское презрение ко всему на свете. «Ежели вы в Гаржилес, так и я туда же, — сказал я ему, — и мы можем вместе продолжать путь…» «Хорошо, — говорит. — А что такое Гаржилес?» «Так, значит, вы не туда?» «Сегодня, — говорит, — никуда, но готов — куда угодно!» Я, сударь, не суеверен, но все-таки, уж не знаю с чего, припомнились мне рассказы моей кормилицы, и нашла на меня минута какого-то глупого сомнения: словно сижу я в коляске бок о бок с самим дьяволом. И я весьма недружелюбно поглядел на моего чудака: неужели он скачет без всякой цели через горы и реки ради одного только удовольствия поиграть своею, а заодно и моею жизнью, раз уж я, глупец, позволил себя уговорить и сел в его чертову коляску? Видит он, что я молчу как убитый, и начинает меня успокаивать: «Вас удивляет, зачем я безо всякой видимой цели разъезжаю по окрестностям? Так знайте же, что я прибыл с намерением основать предприятие там, где я сочту наиболее подходящим. У меня есть капитал — свой ли, чужой ли, вас это, разумеется, не касается. Но вы могли бы мне помочь своими указаниями». «Отлично, — ответил я, успокоившись, так как рассуждал он вполне разумно. — Но, чтоб дать совет, надо знать, какого рода предприятие вы собираетесь основать». «С меня довольно, — продолжал он, как будто не расслышав, что я сказал, — если вы ответите на мои вопросы. К примеру, какова наибольшая мощность речушки, через которую мы с вами только что перебрались, — отсюда и до ее впадения в Крёзу?» «В разных местах — разная. Вы видели самое мелководье. Но далеко не так бывает во время паводков, а они в здешних местах не редкость: если вы захотите взглянуть на самую нашу крупную мельницу — бывшее монастырское владение в Гаржилесе, — вы убедитесь, как яростен этот поток, каким постоянным разрушениям подвергается это бедное ветхое строение, и вы поймете тогда, что было бы безумством пускаться здесь на крупные затраты». «Но при крупных затратах, сударь, можно обуздать неукротимые силы природы. Где погибнет жалкая деревенская мельница, Там выстоит мощная фабрика». «Это верно, — отвечаю я. — Крупная рыба всегда пожирает мелкую». Пропустив мимо ушей мое замечание, он катит дальше и все расспрашивает. Любезность обязывает, да к тому же я и сам поколесить не прочь: видно, я по натуре бродяга! Вот мы и колесили по всей округе. Заглянули на одну, на другую мельницу; побеседовал он с мельниками, внимательно все оглядел, а возвратившись в Гаржилес, потребовал, чтобы я немедля познакомил его с мэром и другими местными «столпами». На обеде, который устроил в его честь священник, он снисходительно позволял за собою ухаживать, давая понять, что может оказаться полезен окружающим более, нежели они ему. Говорил он мало, больше слушал, но успел осведомиться обо всем, даже о вещах, имевших, казалось бы, довольно отдаленное отношение к делу, например: набожны ли наши крестьяне или только суеверны, охотники ли наши буржуа хорошо пожить или скопидомничают, каких взглядов у нас придерживаются — либеральных или демократических, из кого состоит совет департамента. Словом, всего не перечесть! Вечером он взял проводника и отправился в Пэн, так что я увидел его только дня через три. Проезжая через Шатобрен, он остановился у наших ворот. Сказал, что хочет поблагодарить меня за любезность. Но думаю, что на самом деле он рассчитывал задать мне еще несколько вопросов. «Через месяц я вернусь, — сказал он на прощанье. — Полагаю, что мой выбор остановится на Гаржилесе. Он расположен в центре края. Местность мне нравится. Что же касается этого ручейка, который вы изобразили таким свирепым, то, полагаю, его нетрудно будет обуздать. Это обойдется дешевле, чем возиться с Крёзой. Да к тому же, избежав пустячной опасности, которой мы подверглись при переезде через ручей, я начинаю верить, что мне суждено победить именно здесь…» На этом он со мною распростился. Человек этот был господин Кардонне. Не прошло и трех недель, как он вернулся и привез с собой англичанина-техника, а с ним нескольких рабочих. С той поры в Гаржилесе не перестают ворочать землю, железо, камень. Господин Кардонне взялся за работу рьяно: встает до зари и ложится последним. В любую погоду, увязая по колено в тине, он зорко наблюдает за рабочими, знает все «как» и «почему» и ведет одновременно строительство большой фабрики, жилого дома с садом и пристройками, служб, сараев, плотин, мостов и шоссейных дорог, — словом, создает великолепнейшее заведение. В его отсутствие какие-то дельцы подписали от его имени купчую на землю, причем сам он ни во что не вмешивался. Он переплатил — из этого заключили, что он ничего не смыслит в делах и непременно «свернет себе шею»; он повысил поденную плату рабочим — насмешки посыпались на него градом; а уж когда он стал добиваться от муниципального совета права отвести реку в сторону и за это обязался проложить дорогу (а она обошлась ему недешево), тогда все в один голос решили: это безумец, его пылкое прожектерство — верный путь к разорению! Но я отнюдь не вижу здесь безрассудства и готов поспорить, что этого человека ждет успех: нельзя было удачнее выбрать место и для постройки, и для вложения капитала. Нынешней осенью река здорово ему досадила, но, к счастью, весной она держалась смирнехонько, и господин Кардонне успеет закончить работы до начала дождей, если только летом не пройдут сильные грозы. Размах у него широкий, денег он не жалеет — что верно, то верно; а если ему не терпится поскорее все закончить и он может, да и хочет, подороже заплатить бедному труженику — что же в этом дурного? Мне думается, напротив, это великое благо! И чем обзывать его сумасбродом, как это делают одни, или же ловким воротилой, как другие, мы должны быть ему благодарны за то, что он принес в наши края благодеяния промышленности. Я кончил! Слово предоставляется противной стороне!IV Видение
Прежде чем крестьянин, который все еще сумрачно жевал хлеб, собрался ответить, молодой человек горячо поблагодарил господина Антуана и за его рассказ, и за беспристрастное изложение событий. Не открывая собеседникам своих отношений и связей с господином Кардонне, он показал, что растроган той широтой, с какою граф де Шатобрен судил о характере этого человека, и добавил в заключение: — По-моему, сударь, тот, кто старается найти во всем хорошую сторону, реже ошибается, чем тот, кто во всем видит только дурное. Какой-нибудь оголтелый спекулятор проявил бы на месте господина Кардонне мелочную скаредность, и мы были бы вправе поставить под сомнение его моральные качества. Но когда мы видим, как человек деятельный и умный щедро оплачивает труд… — Постойте-ка, сделайте милость! — прервал его крестьянин. — Вы оба люди добросердечные. Насчет вас, господин Антуан, я не сомневаюсь, надеюсь, что и гость ваш человек хороший. Но, не в обиду вам будь сказано, дальше своего носа вы не видите! Послушайте-ка! Вот, к примеру, имеются у меня денежки, и хочу я вложить их в дело, да так, чтобы не только честно получать приличный доход, что никому не возбраняется, но за два-три года удвоить и утроить мой капитал! Не такой же я простак, чтоб разболтать об этом людям, которых я собираюсь разорить!.. Сначала попробую их ублажить: вот, мол, какой я великодушный! А если червячок сомнения в них зародится, прикинусь сумасбродом и мотом. Вот я и поймаю моих дурачков на удочку!.. И вся-то приманка обойдется мне, я так полагаю, в сотню тысяч франков. Что и говорить, сотня тысяч для наших краев деньги немалые, но для меня — если у меня несколько миллионов — пустяк! Надо же подмазать для почину. И все-то меня любят, хоть иные и посмеиваются над моей простотой, но больше жалеют и даже уважают: остерегаться давно уж позабыли. Время бежит быстро, а смекалка у меня работает и того быстрее. Закинешь сеть — рыбка-то и попалась! Сперва разная мелюзга, ее и проглотишь-то, не заметив, а потом и покрупней — пока всю не переловишь! — Что ты хочешь сказать этими сравнениями? — спросил господин Антуан, пожимая плечами. — Брось ты свои загадки, меня от них ко сну клонит. Поторапливайся, уже поздно. — Что ж тут непонятного? — возразил крестьянин. — Разорю мелкие предприятия, что стоят мне поперек дороги, и такую власть заберу, что всем вашим предкам до революции не снилось! А тогда мне закон не писан: провинится какой-нибудь горемыка, я за пустячный грешок упрячу его за решетку, сам же буду делать все, что взбредет в голову или послужит к моей выгоде: стану загребать чужое добро, а в придачу жену и дочерей, если я падок до женского пола, — и, глядишь, уж я хозяин целого департамента! Ловко собью цены на продукты, а затем начну по своему произволу их вздувать. И раз мне все с рук сходит, значит, могу я грабить, могу голодом всех морить. Тут уж задавить конкурентов нехитрое дело: все деньги ко мне в руки плывут, а деньги — ключ ко всему. Тайком даешь в кредит и помалу и помногу, ссудишь тому, другому — вот, глядишь, все у тебя в долгу, и ты владеешь всей округой. Пусть тебя и не жалуют, зато боятся. Даже местные воротилы — и те не трогают, а уж мелкота — только дрожит да охает! Но ведь у меня смекалка есть и опыт — вот я иной раз и прикинусь великодушным: то спасу какое-нибудь семейство, то приложу руку к какому-нибудь благотворительному делу. Смажешь колесо фортуны — оно и катится быстрей. Глядишь, а люди снова меня жалуют, и я для них уже не шалый простачок, а справедливый и благородный человек. И все у меня в кулаке: от префекта департамента до деревенского священника и от священника до последнего нищего. Весь народ стонет, а откуда беда — никому невдомек. Только мое богатство и растет, а мелкота разоряется, потому что я высосал все источники доходов, набил цену на самые что ни на есть насущные съестные припасы, а на всякую роскошь снизил, а надо бы как раз наоборот! И торговцу плохо, и покупателю не лучше. Мне-то благодать, потому что капитал в моих руках, а значит, без меня и продавцу и покупателю — смерть! «Это что же такое делается? — спохватится вдруг кто-нибудь. — Мелкий торговец прогорает, покупатель сидит без гроша… Правда, у нас и домов хороших, и нарядов стало больше, и стоит это все как будто дешевле, зато в кармане — пусто! Каждому не терпится показать себя, а долги нас точат. Конечно, господин Кардонне тут ни при чем, он наш благодетель, без него мы бы совсем пропали. Постараемся же отблагодарить господина Кардонне: сделаем его мэром, префектом, депутатом, министром, королем, если на то пошло, — и наш край спасен!» Вот как выезжал бы я на чужой спине, будь я господином Кардонне. Думается, господин Кардонне так и рассчитывает поступить. А ну, скажите теперь, что я зря его мараю или вижу все в черном свете и ничего такого не случится! Дай бог, чтобы ваша была правда! Но я-то задолго чую грозу! На одно только моя надежда: река поумнее наших простофиль, ее никакими машинами не обуздать. Как она закусит удила да в одно прекрасное утро встанет на дыбы, так у господина Кардонне пропадет охота с нею шутить, и придется ему пристраивать свои капиталы где-нибудь в другом месте! Ну вот, я свое сказал! Если сужу опрометчиво — да простит мне бог! Крестьянин проговорил все это с большим воодушевлением. Его ясные глаза сверкали проникновенным огнем, улыбка горестного негодования блуждала на искривленных губах. Наш путник глядел на это лицо, истомленное усталостью, невзгодами, а возможно, и горем, казавшееся еще угрюмей от густой седеющей щетины на давно не бритых щеках; и, несмотря на боль, причиненную ему словами этого человека, он помимо воли находил его прекрасным, восхищался его безыскусным красноречием и смелой откровенностью его речей, дышавших искренностью и любовью к справедливости. Слова крестьянина, которые в нашей передаче утратили всю свою непосредственность, были просты и порою даже грубоваты, но его решительные движения и самый звук голоса невольно привлекали внимание слушателей. Глубокая печаль овладела присутствующими, когда он бесхитростно и без прикрас нарисовал образ бездушного богача, упорно идущего к своей цели. Вино не оказало на рассказчика никакого действия, и всякий раз, как он подымал суровый взгляд на молодого человека, тому казалось, что взглядом своим он проникает ему в самую душу и как будто строго допрашивает его. Хотя господин Антуан несколько отяжелел от выпитого вина, он внимательно слушал своего приятеля и, поддавшись, как обычно, влиянию этого человека, более твердого духом, нежели он сам, время от времени испускал глубокий вздох. Когда крестьянин умолк, господин Антуан поднял кружку, словно совершая жертвенное возлияние, и произнес: — Да простит тебе бог, дружище, если ты судишь опрометчиво. А если твое предсказание сбудется — да отвратит провидение свой бич от беззащитных и обездоленных!.. — Выслушайте меня, господин де Шатобрен, и вы также, друг мой! — воскликнул молодой человек, схватив за руку господина Антуана и его гостя. — Господь, который слышит все и читает в человеческом сердце, видит, что вы зря опасаетесь подобных напастей, что предчувствия ваши — всего лишь заблуждение. Я знаю человека, о котором вы говорите, знаю очень хорошо! И пусть у него надменное лицо, неуступчивый характер, энергический и сильный ум — ручаюсь вам, что намерения его чисты и он сумеет найти благородное применение своему богатству. В его упорстве есть нечто пугающее, я с этим согласен, и неудивительно, что от его сурового вида вам стало как-то не по себе, словно в мирных ваших селениях появилось некое сверхъестественное существо. Но душевная сила этого человека зиждется на принципах религии и морали, и это делает его если не самым кротким и приветливым из людей, зато подлинно справедливым и по-королевски великодушным. — Ну что же, тем лучше, черт подери! — ответил владелец замка, чокаясь с крестьянином. — Выпьем за здоровье господина Кардонне! Счастлив, что отныне могу уважать человека, которого я готов был проклинать. Полно, дружище, не упрямься, поверь этому славному молодому человеку: он говорит, словно книгу читает, и знает побольше нашего. Ведь сказал же он тебе, что знаком с этим Кардонне, и хорошо знаком! Чего тебе еще? Он за него ручается — стало быть, беспокоиться нечего! А теперь, друзья, пора спать, — сказал владелец замка, с радостью принимая поручительство за малознакомого человека от человека вовсе не знакомого, которого он не знал даже по имени. — Уже пробило одиннадцать, а это наш положенный час! — Разрешите откланяться, мне пора! — сказал юноша. — Надеюсь, вы позволите навестить вас и принести благодарность за ваше гостеприимство. — Никуда вы сейчас не уедете! — воскликнул господин Антуан. — Это невозможно! Дождь льет как из ведра, дороги окончательно развезло, темень страшная! Если вы вздумаете упрямиться, никогда больше на глаза мне не показывайтесь! Хозяин был так настойчив, а непогода и в самом деле так разбушевалась, что молодой человек вынужден был воспользоваться предложенным ему гостеприимством. Сильвен Шарассон — так звали «пажа» господина Шатобрена — принес фонарь, и господин Антуан, взяв гостя за руку, повел его через развалины замка в комнату, где тот мог переночевать. Семейство господина Шатобрена занимало весь квадратный флигель. Но, кроме этого маленького жилого здания, избегнувшего полного разрушения и недавно восстановленного, по другую сторону двора сохранилась огромная многоэтажная башня, самая древняя из всех, самая высокая, самая устойчивая, с самыми толстыми стенами и сводчатыми залами, возведенная из камня еще более прочного, нежели квадратный флигель. Темные дельцы, которые за много лет до того приобрели этот замок с тем, чтобы разобрать его камень за камнем, вывезли отсюда все дерево и железо, вплоть до дверных задвижек, но не сочли нужным разрушить нижние этажи. Поэтому господин Антуан распорядился прибрать и запереть одну комнату, отведя ее для тех редких случаев, когда ему представлялась возможность оказать гостеприимство. Для нашего дворянина это было верхом расточительности: семейство его вовсе не нуждалось в этом помещении, а между тем пришлось починить здесь двери и окна, поставить кровать и несколько стульев. Господин Антуан охотно пошел на эту жертву и заявил как-то Жанилле: — Мало самим устроиться уютно, надо подумать, как достойно приютить своего ближнего. Тем не менее, переступив порог грозной феодальной башни, молодой человек почувствовал, что задыхается, словно в каземате: сердце его сжалось, и он охотнее последовал бы за крестьянином, который согласно своим вкусам и привычкам отправился спать вместе с Сильвеном Шарассоном на свежей соломе. Но господин Антуан уж очень был доволен и горд тем, что вопреки стесненным обстоятельствам может предоставить к услугам гостя «комнату для друзей», и молодой человек почел своим долгом воспользоваться для ночлега этой мрачной средневековой темницей. Впрочем, яркий огонь, пылавший в огромном камине, и постель — то есть пухлая перина, положенная поверх набитого сеном тюфяка, — скрашивали картину. Все вокруг выглядело бедно, но опрятно. Юноша вскоре прогнал мрачные мысли, невольно овладевающие любым путником в столь угрюмом обиталище, и, невзирая на раскаты грома, крики ночных птиц, шум дождя и завывание ветра, от которых содрогались рамы, а также яростную возню крыс, неистово атаковавших деревянную дверь, не замедлил уснуть глубоким сном. Однако странные видения тревожили его, а под утро стал душить кошмар — должно быть, и впрямь немыслимо провести ночь в обители, запятнанной загадочными преступлениями средневековья, не став жертвой мучительных видений. Ему почудилось, что в комнату входит господин Кардонне; он попытался вскочить с постели, чтобы поспешить навстречу отцу, но призрак властным движением приказал ему не шевелиться; он с непроницаемым видом приблизился и наступил молодому человеку на грудь, не отвечая ни единым словом на его мольбы. На окаменевшем лике отца не было и тени сострадания к сыну, пораженному смертельным ужасом. Задыхаясь под этой нестерпимой тяжестью, спящий тщетно отбивался, и эти несколько мгновений показались ему вечностью. Но вот, испустив хриплый, будто предсмертный стон, он наконец проснулся. Уже начинало светать и можно было различить внутренность башни, однако юноше, потрясенному впечатлениями сна, все еще мерещилось неумолимое лицо и чудилась тяжесть тела, навалившегося, подобно свинцовой глыбе, на его измученную, истерзанную грудь. Он встал с постели и несколько раз прошелся по комнате. Твердо решив уехать спозаранку, он вынужден был снова лечь, такое изнеможение овладело им. Но стоило ему закрыть глаза, призрак снова принимался его душить, и юноша, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, кричал, задыхаясь: «Отец, отец! Что я вам сделал? За что вы убиваете меня?» Он проснулся от звуков собственного голоса и поспешно распахнул окно, надеясь отогнать страшное видение. Едва только утренняя прохлада хлынула в низкую комнату, самый воздух которой, казалось, нагонял тяжелые сны, бред рассеялся, и юноша быстро оделся, желая поскорее покинуть эту спальню, где так жестоко насмеялось над ним воображение. Но все же какое-то тягостное беспокойство томило его, и «комната для друзей» в Шатобрене показалась ему еще более похожей на склеп, нежели накануне. При свете серого и тусклого утра ему удалось наконец увидеть в окно весь замок. То была доподлинно груда развалин, все еще величественные останки графских владений, строившихся в разные эпохи. Внутренний двор зарос густою травой, в которой были протоптаны две-три тропинки — от большой башни к малой и от колодца к главному входу; очевидно, за эти пределы не выходили скромные в своих потребностях нынешние обитатели замка. Впереди двор замыкала полуразрушенная каменная стена и виднелись остатки фундамента нескольких строений, а также красивая часовня с прекрасно сохранившимся фронтоном, украшенным изящной розеткой окна, увитой плющом. В глубине двора, посреди которого находился большой колодец, возвышался остов того, что было когда-то главным корпусом, — подлинным жилищем владельцев Шатобрена со времен Франциска I и вплоть до революции. Это пышное некогда здание стояло теперь бесформенным скелетом, обнажив причудливый хаос рухнувших перекрытий, и казалось оттого непомерно высоким. Ничего не пощадил разрушительный молот: ни башен, в которых, как в сквозной клетке, вились изящные винтовые лестницы, ни огромных зал, расписанных фресками, ни каминов, украшенных резьбою по камню; и лишь кое-где, нетронутые безжалостной рукою, сохранились остатки этого великолепия: там обломок фриза, здесь гирлянда из листьев — создание резца мастеров Возрождения — или щит с гербом Франции, перерезанный наискось жезлом, указующим на побочную ветвь, — все это было высечено из превосходного белого камня, не потемневшего даже от времени. Грустное зрелище являло собою это произведение искусства, неумолимо принесенное в жертву всевластному закону суровой необходимости. Взглянув на небольшой флигель, в котором ютился ныне последний отпрыск некогда славного и богатого рода, молодой Кардонне преисполнился жалости к живущей здесь прекрасной девушке, чьи предки имели к своим услугам пажей, вассалов, своры гончих, породистых лошадей, а она, унаследовавшая от них эти мрачные руины, вынуждена, быть может, подобно царевне Навзикае, сама стирать в ручье свое белье. В эту самую минуту в верхнем этаже квадратной башни бесшумно распахнулось небольшое круглое окошко и в нем показалась женская головка на прелестной шейке. Головка склонилась вниз, словно незнакомка хотела побеседовать с кем-то во дворе. Хотя Эмиль Кардонне и принадлежал к поколению близоруких, он обладал превосходным зрением; впрочем, и расстояние было не столь велико, так что он мог с легкостью разглядеть черты прелестной блондинки, чьими развевающимися локонами свободно играл ветер. Ему показалось — да так оно и было на самом деле, — что это поистине ангельское личико, сияющее очарованием девичьей красы, исполненное кротости и благородства. Голос ее был пленителен, а слова звучали в ее устах особенно изысканно. — Жан, — сказала незнакомка, — неужели всю ночь лил дождь? Погляди, какие лужи на дворе! Из моего окошка даже лугов не видно, как будто вокруг озеро разлилось! — Настоящий потоп, дочка, — ответил со двора крестьянин, по-видимому, близкий друг семьи. — Прямо смерч какой-то! Уж не знаю, где это там тучи продырявились, а только в жизни я не видел такой паводи. — Дороги, наверно, совсем размыло, Жан. Тебе лучше остаться у нас. Отец проснулся? — Нет еще, Жильберта, но матушка Жанилла уже на ногах. — Жан, голубчик, попроси-ка ты ее подняться ко мне. Я хочу ее кое о чем спросить. — Бегу… Окошко захлопнулось; девушка словно и не заметила другого раскрытого окна, у которого стоял любовавшийся ею незнакомец. Минутой позже он спустился во двор; по узким тропинкам и вправду неслись бурные ручьи; незнакомец зашагал к конюшне, где Сильвен Шарассон усердно чистил лошадей — гостя и хозяйскую — и судачил с Жаном, — наконец-то Эмиль Кардонне узнал его имя, — о происшествиях этой ненастной ночи. Накануне этот человек внушил ему смутную тревогу — казалось, в нем таилось нечто загадочное и зловещее. Молодой Кардонне заметил, что господин Антуан ни разу не назвал крестьянина по имени, а когда это имя готово было сорваться с уст Жаниллы, хозяин взглядом призывал ее к осторожности. За ужином крестьянина называли «дружище», «приятель», «старина», «ты» — словно его имя окружено было какой-то тайной и ее боялись выдать. Кто же этот человек, крестьянин по обличью и языку, так далеко заходивший в своих мрачных предвидениях и суровом порицании богачей? Эмиль попытался было завязать с ним беседу, но тщетно: крестьянин держался еще более замкнуто, чем накануне. А когда юноша спросил о разрушениях, причиненных бурей, Жан ограничился кратким ответом: — Советую, не теряя времени, ехать в Гаржилес, пока не снесло мосты. Часа через два начнется такая паводь, что чертям тошно станет! — Что это значит? Не понимаю… — Паводь? Вы не знаете, что это такое? Ну так сегодня узнаете — и не забудете вовек! Доброго здоровья, сударь, торопитесь. Того и гляди, у вашего друга Кардонне приключится беда! И он ушел, не добавив ни слова. Охваченный смутным беспокойством, Эмиль поспешил оседлать свою лошадь и, протянув серебряную монету Шарассону, сказал: — Передашь хозяину, что я уезжаю не прощаясь, но вскоре вернусь поблагодарить его за гостеприимство! Он был уже в воротах, когда его нагнала Жанилла. Она утверждала, что господин Антуан вот-вот встанет, что барышня уже одевается, что завтрак через минуту будет готов, что дороги размыло, что снова начинается дождь… Эмиль от души поблагодарил старушку, но не дал себя уговорить, а подарил ей на прощание несколько монет, которые она приняла с видимым удовольствием. Он еще не достиг подножия холма, как услышал позади тяжелую, размеренную рысь. Это верхом на кобыле господина Антуана догонял его Сильвен Шарассон; мальчуган не успел даже оседлать лошадь, а вместо узды накинул простую веревку. — Я провожу вас, сударь! — закричал он, опережая всадника. — Мамзель Жанилла говорит, что вы себя загубите, не зная пути. И это сущая правда. — Отлично, но держись кратчайшей дороги, — приказал молодой человек. — Уж будьте покойны! — ответил деревенский «паж». И, пустив в ход свои деревянные башмаки, он погнал крупной рысью неоседланную кобылу, раздутое брюхо которой, набитое одним только сеном без всякой примеси овса, странно противоречило впалым бокам и тощей шее.V Паводок
Наш путник и новый его проводник стрелой спустились по крутому склону и, благополучно перебравшись через разлившиеся речушки, вскоре выехали на равнину. Они промчались уже мимо небольшого болотца, выступившего из берегов, когда мальчуган удивленно оглянулся и заметил: — Наша Марготта полным-полна! Небось в долине беда… Уж и не знаю, как мы через реку переберемся. Поспешите-ка, сударь! И он пустил галопом свою клячу, которая,невзирая на нескладное туловище и короткие мохнатые ноги, поросшие клочками шерсти, свисавшей самой земли, с поразительной ловкостью и осторожностью преодолевала неровности пути. Здешние плоскогорья представляют собою обширные равнины, изрезанные глубокими оврагами, отвесные склоны которых столь же мало доступны для подъема и спуска, как склоны горных ущелий. Часа через полтора наши всадники достигли ложбины Гаржилесы, и перед ними развернулось восхитительное зрелище. Селение Гаржилес, разбросанное по островерхой горе, напоминавшей сахарную голову, увенчанную красивой церковкой и старинным монастырем, возникало, казалось, из глубины бездны, а в самой низине стояли приятные на вид, просторные новенькие здания. На них-то и указал мальчуган. — Гляньте-ка, сударь, это все господин Кардонне понастроил! — сказал он. Эмиль, изучавший право в Пуатье и проводивший каникулы в Париже, впервые посетил края, где отец его год тому назад приступил к постройке большой фабрики. Уголок этот показался Эмилю очаровательным, и он почувствовал благодарность к своим родителям, выбравшим такое прелестное местечко, где к тому же промышленность могла развиваться, не оскорбляя ничьих поэтических чувств. Перед ним лежало плато, и, добравшись до его обрывистого склона, можно было охватить взглядом всю местность. С каждой минутой Эмилю открывались все новые красоты. Монастырь, гордо высившийся на скале, у подножия которой виднелись фабричные здания, казалось, нарочно был воздвигнут здесь для полноты картины. Склоны оврага, куда стремительно низвергалась речушка, оделись буйной зеленью, и молодой человек, внимание которого невольно было отвлечено созерцанием его новых владений, с удовлетворением отметил, что, невзирая на порубки, неизбежные при строительстве в столь лесистой местности, в усадьбе сохранились великолепные старые деревья, служившие ей лучшим украшением. Жилой дом, расположенный неподалеку от фабрики, манил уютом, изяществом и нарядной простотой; занавески на окнах возвещали, что он уже обитаем. Дом стоял среди прекрасного сада, уступами подымавшегося над рекой, и даже издали бросалась в глаза яркая зелень пышной растительности, появившейся, словно по волшебству, на месте ивовых пней и топей, некогда окаймлявших берега. Какая-то женщина спустилась со ступенек террасы и медленно шла по аллее, окаймленной прекрасными цветами. Сердце молодого человека забилось: это была его мать. Он поднял обе руки и помахал фуражкой, желая привлечь ее внимание, но безуспешно: госпожа Кардонне спокойно осматривала свое цветочное хозяйство, она ждала сына только к вечеру. На более оголенном берегу Эмиль увидел искусные и замысловатые сооружения отцовской фабрики; среди нагромождения разнообразнейших материалов озабоченно сновало полсотни рабочих: одни тесали камень, другие замешивали известь, третьи ровняли балки, четвертые грузили тележки, запряженные сильными лошадьми. Ехать приходилось шагом, так как дорога круто спускалась вниз, и юный Сильвен воспользовался этим, чтобы начать разговор: — До чего дрянной спуск — правда, сударь? Держите-ка покрепче вашу конягу. Надо бы господину Кардонне тут дорогу проложить, а то нашим людям к нему в «заведение» никак не проехать! Посмотрите, какие дороги он на том берегу понастроил! А мосты!.. Все каменные! Верно, верно говорю! Раньше летом хочешь не хочешь — мокни, реку вброд переходи, а как зима, так и вовсе не переберешься!.. Да чего там… Здешние люди в ноги должны ему кланяться! — Значит, ты не согласен с твоим приятелем Жаном? Ведь он его бранит. — Жан! Жан!.. Мало ли что он там мелет, не стоит и внимания обращать!.. У него нынче забот много, вот ему и мерещится всякая напасть, хотя он не злой, ничуть не злой. Но он только один во всей округе такое говорит, а все господином Кардонне довольны. Он ведь не скаред. На словах он сердитый, и рабочим у него не очень сладко, чего уж там греха таить, зато и платит он!.. А по мне, хоть подыхай, а если платят тебе хорошо, так будь доволен. Разве не правда, сударь? Молодой человек подавил вздох. Он не вполне одобрял систему материального возмещения, провозглашенную Сильвеном Шарассоном, и ему было неясно, при всем желании оправдать отца, каким это образом деньги, которые хозяин платит рабочим, могут возместить потерю здоровья и жизненных сил. — Удивительно, что он нынче рабочих не погоняет, — наивно добавил простодушный «паж». — Он ведь им дух перевести не дает. Зато работа у него так и кипит! Это не то что наша Жанилла: кричать кричит, а все сама делает. А господин Кардонне и с места не сдвинется, зато во все глаза смотрит, а как рабочий замешкается, заболтается с кем или же бросит кирку, чтобы трубку закурить или, пуще того, всхрапнуть на солнышке в самую жарищу, — он тут как тут! «Вот что, — говорит, да спокойно так. — Тебе тут покурить или вздремнуть толком не удастся, отправляйся-ка восвояси. Дома выспишься всласть!» И уж будьте покойны, целую неделю к работе не подпустит, поймает во второй раз — месяц, а если в третий — так и вовсе прогонит. Эмиль снова вздохнул: в этих черточках он узнавал педантичную суровость отца и, желая оправдать в своих глазах его способ действий, всячески старался постичь цель, которую тот преследовал. — Черт подери, да вот и он! — воскликнул мальчуган, указывая на господина Кардонне, который благодаря своему высокому росту и темной одежде был отчетливо виден на противоположном берегу. — На реку глядит. Не иначе как паводи боится, а ведь всегда толкует, что все это глупости. — Паводь — это паводок, что ли? — спросил Эмиль, который начинал понимать смысл этого непривычного для него слова. — Ну да, сударь. Это вроде как водяной вихорь (он хотел сказать «вихрь») при сильной грозе. Да ведь гроза прошла, а паводи нет! Значит, Жан зря каркал. Однако, сударь, поглядите, до чего вода низко спала, почти совсем со вчерашнего дня высохла! Не к добру это! Поспешите-ка, того и гляди, начнется. Они погнали лошадей и без помехи переехали вброд один из рукавов реки. Но при подъеме на крутой берег небольшого островка у лошади Эмиля лопнула подпруга, и всаднику пришлось спешиться, чтобы укрепить седло. Сделать это было нелегко, к тому же Эмиль, которому не терпелось увидеться с родителями, слишком поспешил. Едва он сунул ногу в стремя, как только что завязанный узел разошелся; Шарассону пришлось обрезать конец веревочной узды и получше скрепить подпругу. Все это отняло у них немало времени и внимания, так что они позабыли про беду, которой опасался Шарассон. К тому же островок порос густым ивняком, и это мешало что-либо видеть даже на десять шагов вокруг. Внезапно послышался рев, напоминавший продолжительные раскаты грома. Рев с неимоверной быстротой несся в их сторону. Эмиль с недоумением взглянул на небо, безмятежно синевшее над головой, но мальчуган побледнел как полотно. — Паводь! — закричал он. — Паводь! Спасайтесь, сударь!.. Оба галопом пересекли остров. Но не успели они еще выбраться из ивняка, как навстречу им хлынули желтые пенистые волны. Вода достигала лошадям уже до груди, и всадники мгновенно очутились посреди вздувшегося потока, который несся, яростно захлестывая все вокруг. Эмиль хотел двигаться дальше, но проводник вцепился в него. — Нет, нет, сударь! — кричал он. — Нельзя. Поглядите, как хлещет! Видите, какие бревна несет?.. Ни человеку, ни животине теперь не спастись!.. Бросайте поводья, сударь. Скотина, может, сама догадается и выплывет, а нам свою христианскую душу губить незачем! Черт подери!.. Мостки унесло!.. За мной, сударь! Скорее за мной, а не то вам конец!.. И Шарассон, которому вода доходила уже до плеч, стал быстро карабкаться на дерево. Вода неистовствовала и с каждой секундой прибывала на фут. Храбрость в таких обстоятельствах становилась безумием, и Эмиль, вспомнив о матери, решил последовать примеру юного Сильвена. — Не туда, сударь, не туда! — закричал мальчуган, видя, что Эмиль схватился за осину. — Не надо туда, ее, как соломинку, снесет! Идите ко мне, ради господа бога! Лезьте на мое дерево!.. Признав справедливость этого замечания, ибо перепуганный Сильвен все же не потерял ни присутствия духа, ни благого желания спасти своего спутника, Эмиль бросился к старому дубу, на который успел взобраться мальчуган, и не без труда вскарабкался на могучую ветвь, низко склонившуюся над водой. Но так как вода подымалась все выше, они, спасаясь от разбушевавшейся стихии, перебирались с ветки на ветку. Наводнение неистовствовало с чудовищной силой; Эмиль добрался уже чуть ли не до верхушки дерева, служившего им убежищем, и отсюда мог видеть, что происходит в долине. Опасаясь, что его узнают домашние, он старался поглубже укрыться в листве и приказал замолчать Сильвену, вздумавшему было звать на помощь. Он больше всего боялся, что родители, в особенности мать, узнав, в каком положении очутился их сын, будут смертельно испуганы. Эмиль заметил отца, внимательно наблюдавшего за катастрофой и медленно отходившего по мере того, как вода подбиралась к саду и заливала фабрику. Он неохотно отступал перед бедствием, в силу которого не верил и даже сейчас не желал поверить. А еще через несколько минут Эмиль отчетливо разглядел силуэт отца уже в окне, рядом с госпожой Кардонне. Рабочие побросали в грязь свои куртки и инструменты и, пытаясь уйти от опасности, старались забраться куда-нибудь повыше. Те, кого потоп захватил в нижних этажах фабрики, поспешили вскарабкаться на крышу. Если более искушенные в глубине души, возможно, радовались наводнению, рассчитывая дополнительно подработать, когда будут восстанавливать разрушенное, то большинство поддалось естественному чувству сожаления, видя, как стихия угрожает погубить плоды их изнурительного труда. Камни, щебень, глыбы свежей штукатурки, недавно оструганные балки — все, что держалось недостаточно крепко, кружилось теперь в пенном водовороте. Рушились только что возведенные мосты, сорванные с быков, которые уже не могли служить им опорой; по дорожкам наполовину затопленного сада стремительно плыли, огибая купы деревьев, оранжерейные рамы, ящики с цветочной рассадой и тачки. Внезапно со стороны фабричного здания донесся душераздирающий крик. Огромный плот из строевого леса с силой ударил в затопленную часть машинного помещения, и от страшного удара здание сотряслось до основания и чуть не рухнуло в воду. Десятка полтора мужчин, женщин и детей находились в это время на гребне крыши. Они кричали, плакали. Холодный пот выступал на лбу у Эмиля. Насколько он был равнодушен к опасности, угрожавшей ему самому, если бы напором воды повалило дуб, на котором он укрылся, настолько его страшила участь людей, в отчаянии метавшихся по крыше. Он готов был броситься вплавь им на помощь, но вдруг услышал зычный голос господина Кардонне, кричавшего в рупор с крыльца: — Погодите! Сейчас будет плот! Вы в безопасности! И таков был авторитет хозяина, что все успокоились и Эмиль сам невольно подчинился властному окрику. По ту сторону острова открывалось зрелище не менее печальное. Крестьяне поспешно сгоняли скот, женщины скликали ребятишек. Особенно пронзительные крики, встревожившие Эмиля, шли с реки; но это место было скрыто от него густой дубовой листвой. Вскоре, однако, он разглядел какого-то мужчину, который стремительно плыл к противоположному берегу, одной рукой держа ребенка. Течение здесь было слабее, чем у фабрики, но все же пловцу стоило неимоверных усилий бороться с волнами, которые поминутно его захлестывали. — Я поплыву к нему! Поплыву на помощь! — воскликнул Эмиль, взволнованный до слез, намереваясь спуститься с дерева. — Нет, сударь, нет! — закричал Сильвен, удерживая его. — Смотрите-ка, вот он уже вылезает из воды… спасся! Больше не плывет… По илу шагает… Бедняга, нелегко ему пришлось! А ребенок живехонек: ревет, словно дьяволенок какой. Бедный младенчик! Да не реви ты так, ведь тебя же спасли! Эге, гляньте-ка: ведь это наш Жан! Пусть меня черти на том свете припекут, если это не он вытащил ребеночка из воды! Ну да, ну да, сударь! Конечно, это Жан! Вот храбрец-то! Ой, ой! Смотрите-ка! Отец не знает, как и благодарить, мать ноги Жану целует… а ноги-то все в грязи! Эх, сударь! Жан ведь добрейший человек! Другого такого на всем свете не сыщешь! Если бы он знал, что мы с вами тут торчим, он нас отсюда вытащил бы, право! Окликнуть его, что ли? — И не вздумай! Мы здесь вне опасности, а ему опять придется рисковать. Да, я вижу теперь: он благородный человек. Эти люди, что же, сродни ему? — Да нет, сударь, нет!.. Это Мишо. Их младенец Жану такая же родня, как и мне. Но уж если где какое горе стрясется, Жан тут как тут. Где другой шагу не ступит, наш Жан в самое пекло полезет, хоть ему от этого пользы никакой, даже стакана вина не поднесут. А ведь одному богу известно, каково Жану в наших краях приходится. Ему здесь не жить! — Разве ему угрожает в Гаржилесе еще какая-нибудь беда, кроме опасности утонуть? Сильвен не ответил и, по-видимому, упрекал себя за то, что проболтался. — Вода-то убывает!.. — воскликнул он, чтобы отвлечь внимание Эмиля. — Через часок-другой можно будет и домой возвратиться. А если вам надо к господину Кардонне, так в ту сторону еще часов шесть не подступишься. Перспектива была не из веселых; тем не менее Эмиль, не желавший тревожить родителей, смирился. Но не прошло и получаса, как новое происшествие заставило его изменить решение. Вода убывала довольно быстро, обнажая захваченные ею высоты, однако разлив реки образовал озеро, отрезавшее Эмиля от отцовского жилища. По ту сторону этого озера он заметил рабочих, которые вели к господскому дому двух лошадей: одну неоседланную, а другую под седлом. — Наши лошади, сударь! — воскликнул Сильвен Шарассон. — Наши! Слава богу! Обе спаслись! Скотинка ты моя славная! А я-то думал, она утонула. То-то господин Антуан обрадуется, как я приведу домой Искорку. Вот уж кто заслужил овса! Может статься, Жанилла раздобрится и подбросит ей горсточку. А ваш Вороной, сударь!.. Вы небось рады, что он целехонек? Он, видно, тоже плавать приучен? Эмиль быстро сообразил, что может произойти. Правда, господин Кардонне еще ни разу не видел его лошади — Эмиль купил ее в пути, — но откроют баул, установят владельца и без долгих размышлений сочтут его погибшим. Он тут же решил не скрывать более своего присутствия и после многократных попыток перекричать неумолчный рев потока ему удалось наконец привлечь внимание людей, приютившихся на крыше фабричного здания. Он попросил сообщить о его местонахождении господам Кардонне. Новость мгновенно перелетела из уст в уста по крыше, и вскоре Эмиль увидел в окне свою мать, махавшую ему платком, и отца, который вместе с двумя рослыми работниками вскочил на плот, горя решимостью перебраться через поток. Эмилю удалось удержать их от этого: он кричал, повторяя каждое слово по нескольку раз, так как звук его голоса тонул в реве потока, что он в безопасности, что пусть за ним приплывут попозже, а сейчас немедля освободят рабочих, отрезанных водой в здании фабрики. Лишь после того, как его просьбу выполнили и больше не за кого было тревожиться, он спустился с дерева и по пояс в воде побрел навстречу плоту, поддерживая не слишком рослого Сильвена, чтобы тот не оступился. Через три часа после начала наводнения наши путники сидели у пылающего камина, и госпожа Кардонне, рыдая, осыпала поцелуями Эмиля, а юный Сильвен, обласканный ею, как родной сын, вдохновенно повествовал об опасности, избегнутой ими. Эмиль обожал мать; сильнее привязанности у него еще не было. Он не видел матери со времени каникул, которые они провели в Париже, вдали он вечных придирок и неумолимого гнета их общего владыки — господина Кардонне. Оба равно страдали от ига, тяготевшего над ними, хотя никогда в этом друг другу не признавались. Госпожа Кардонне, женщина кроткая, любящая и нерешительная, чутьем угадывала, что сын ее унаследовал от отца немалую долю его энергии и твердости и что при отзывчивом и благородном сердце это сулит ему немалые огорчения, стоит только этим двум сильным натурам, чувствующим столь различно, столкнуться в каком-либо вопросе. А потому она молча сносила все обиды, старательно скрывая их от сына, бесценной своей радости и единственного утешения. Госпожа Кардонне вовсе не была убеждена в праве своего супруга постоянно обижать и угнетать ее, но, казалось, покорно принимала свою участь, словно то был закон природы или религиозная заповедь. Безропотное повиновение, которому сама мать подавала пример, стало второй натурой юного Эмиля, а не то рассудок уже давно заставил бы его возмутиться. Но видя, как все и вся — и мать первая — склоняются перед малейшими изъявлениями отцовской воли, он не смел и думать, что могло и должно было быть иначе. Однако тягостная атмосфера деспотизма, в которой он вырос, с самого детства развила в нем склонность к грустной мечтательности, к беспричинной тоске. Таков уж закон природы, что уроки, оскорбляющие чувства ребенка, приводят к обратным результатам. Вот и Эмиль уже в ранние годы, в противовес отцовскому гнету, приобрел склонности, прямо противоположные тем, какие отец желал ему внушить. Последствия этого естественного и неизбежного несходства двух натур раскроются с достаточной очевидностью в событиях нашей повести, и поэтому нет нужды объяснять их здесь. Выждав, пока мать успокоилась после пережитых тревог, Эмиль отправился с отцом выяснить размеры ущерба, причиненного наводнением. Несмотря на все превратности этого дня, господин Кардонне обнаруживал необычайное присутствие духа и ничем не выдавал своей досады. Он молча прошел через толпу крестьян, сбежавшихся из деревни, чтобы удовлетворить свое любопытство и поглазеть на жестокое зрелище его несчастья. Одни глядели равнодушно, другие — с искренним сочувствием, но большинство — с тем невольным, хотя и скрытым, чувством удовлетворения, какое благоразумно прячет, но наверняка испытывает каждый бедняк, видя, что стихия равно обрушивает свою ярость и на него и на богача. Почти все крестьяне пострадали от наводнения: у одного унесло стог сена, у другого смыло огород, у третьего — овцу, сколько-то кур или весь запас хвороста; потери сами по себе ничтожные, но для них столь же чувствительные, как для богатого фабриканта Кардонне понесенные им огромные убытки. И все же при виде разрушений, постигших это прекрасное, еще недавно столь цветущее предприятие, они были подавлены — словно богатство, при всей зависти, возбуждаемой им, таит в себе нечто, достойное уважения. Господин Кардонне не стал дожидаться, пока окончательно спадет вода, и приказал возобновить работы. Он разослал людей по окрестным лугам на поиски унесенных рекою материалов, велел раздать рабочим кирки и лопаты, распорядился очистить подступы к фабрике от нанесенного водою ила и сена, а когда удалось проникнуть в здание, вошел первым, чтобы не волноваться понапрасну, слыша охи и ахи, неизбежные при первом взгляде на последствия катастрофы.VI Плотник Жан
— Эмиль, возьми карандаш, — приказал фабрикант, обращаясь к сыну, который следовал за ним, опасаясь, чтобы отца не постигла какая-нибудь новая беда. — Смотри не ошибись, я тебе сейчас продиктую цифры… Одно… два… Здесь три поломанных колеса… рама снесена… машина повреждена… Три тысячи… пять… семь… нет, восемь… Возьмем максимум, так будет вернее… Пиши: восемь тысяч франков… Плотина разрушена?.. Удивительно!.. Пиши: пятнадцать тысяч… Придется ее отстроить заново, из более прочных материалов… Здесь поврежден угол… Пиши, Эмиль… Записал?.. Так, добрый час господин Кардонне подсчитывал убытки и составлял смету предстоящих расходов. Он приказал сыну подвести итог и нетерпеливо пожимал плечами, видя, что юноша, то ли по рассеянности, то ли с непривычки, не может справиться с цифрами так быстро, как того хотелось отцу. — Готово? — спросил он после двух-трех минут напряженного ожидания. — Да, отец… Это составит приблизительно восемьдесят тысяч франков. — Приблизительно? — переспросил господин Кардонне, нахмурив брови. — Что значит «приблизительно»? В его глазах, устремленных на сына, блеснула насмешливая искорка. — Так вот, — сказал он, — ты, видно, еще не пришел в себя от сидения на дереве. Я сделал подсчет в уме и, как это ни грустно, должен тебе сказать, что он был готов еще до того, как ты успел очинить карандаш. Издержки составят восемьдесят одну тысячу пятьсот франков. — Как много! — заметил Эмиль, пытаясь придать себе серьезный вид и скрыть нетерпение. — Нельзя было и предположить подобного буйства в этакой речушке, — продолжал господин Кардонне с необычайным спокойствием, словно подсчитывал чьи-то чужие убытки. — Но все это недолго исправить. Эй, есть тут кто? Вон там балка застряла между колес, ее так и качает водой. А ну-ка, убрать поживей, пока не сломались колеса!.. Рабочие бросились исполнять приказание, но сделать это было труднее, чем могло показаться. Механизм крепко зажал огромную балку. Люди выбивались из сил, но тщетно. — Осторожней! Не повредите рук! — невольно вырвалось у Эмиля, который, желая облегчить рабочим тягость труда, сам взялся за дело. А господин Кардонне только покрикивал: — Тащите! Толкайте! Да что это? Из пеньки у вас руки, что ли?! Пот катил со всех градом, а дело не двигалось. — Стой, ребята! А ну, убирайтесь-ка отсюда! — внезапно раздался чей-то голос, который Эмиль сразу узнал. — Пустите, я один справлюсь! И Жан, вооружась рычагом, быстро отшвырнул камень, которого никто не заметил, и затем с поразительным проворством изо всей силы толкнул балку. — Потише, черт побери! — воскликнул господин Кардонне. — Вы сломаете машину. — Сломаю, так заплачу, — возразил крестьянин с деланной грубоватостью. — Эй, вы там! Давай сюда двух ребят покрепче! Налегай!.. Так!.. Держись, Пьер… так, хорошо! Еще малость. Эх, наддай! Гийом!.. Так!.. Молодцы!.. Ладно!.. Ладно… идет!.. А ну-ка, я уберу ногу, а то ты мне ее раздавишь, черт тебя побери! Идет… толкай!.. Не бойся… я держу!.. Не прошло и двух минут, как Жан, одно присутствие и голос которого словно наэлектризовали рабочих, освободил машину от балки, грозившей ей повреждением. — Жан, пойдите-ка сюда, — позвал его господин Кардонне. — Зачем, сударь, — возразил крестьянин. — Я и так достаточно сегодня потрудился. — Вот я и хочу поднести вам стакан моего лучшего вина. Идите-ка сюда, мне надо с вами поговорить… Эмиль, скажи матери, чтоб она распорядилась подать малаги. — Это ваш сын?! — воскликнул Жан, растроганно взглянув на Эмиля. — Ну, если он ваш сын, так я иду: мне сдается, он славный малый. — Да, мой сын — славный малый, — ответил господин Кардонне, в то время как Жан принимал из рук Эмиля стакан вина. — Да и вы тоже неплохой человек, и пора вам это доказать, но не так, как вы это делаете вот уже два месяца. — Прошу прощения, сударь, — возразил Жан, недоверчиво озираясь вокруг, — переучиваться мне поздно, и не за тем я пришел сюда весь в поту, чтоб выслушивать ваши нравоучения, от них мороз по коже. За ваше здоровье, господин Кардонне! Благодарствуйте, молодой человек! Я вам доставил вчера немало огорчений. Вы на меня не в обиде? — Подождите, — сказал господин Кардонне. — Получите за труды, а потом уж отправляйтесь к вашим лисьим норам. И он протянул Жану золотой. — Не нужны мне ваши деньги, вовсе не нужны! — в сердцах возразил Жан, локтем отталкивая протянутую руку. — Я не из интереса работал, вы должны бы это знать, и не ради вашего удовольствия я тут хлопотал. Попросту не хочу я, чтобы ваши рабочие зря спину гнули. К тому же, если понимаешь в работе толк, терпения нет, когда берутся за нее нескладно. Кровь у меня горячая, вот я, надо не надо, не в свое дело и суюсь! — Это верно. И очутились вы там, где вам не следует быть, — жестко возразил господин Кардонне, с явным намерением одернуть дерзкого крестьянина. — Жан, это последний случай столковаться по-хорошему: воспользуйтесь им, не то пожалеете! Еще в прошлом году, приехав в эти края, я обратил внимание на вашу предприимчивость и сметку. Рабочие, да и крестьяне вас любят, не нахвалятся вашей честностью. Вот я и решил поручить вам все плотничьи работы и платить вдвое — поденно либо сдельно, — но вам одному. А вы в ответ понесли околесицу. Вы, должно быть, забыли, что я слов на ветер не бросаю. — Нет, сударь, не так было дело, уж вы не обессудьте. Я ответил тогда, что в вашей работе не нуждаюсь, что у меня ее и в поселке по горло хватает. — Ерунда и враки! Дела у вас шли из рук вон плохо, а теперь еще того хуже. Долги выгнали вас из дому. Мастерскую вы бросили и скрываетесь в горах, словно дичь, преследуемая охотником. — Уж если говорить, так говорить правду! — надменно возразил Жан. — Долги тут ни при чем. Никто, сударь, меня за долги не преследовал, как вы о том толкуете! Я человек честный и степенный, и пусть кто-нибудь посмеет сказать, что я кому-то в деревне или в округе задолжал! Хоть всех опросите! — А ведь есть уже три приказа о вашем аресте, и за вами жандармы два месяца кряду гоняются — правда, безуспешно. — Так и будут до скончания века гоняться. Не велика беда! Пусть-ка эти храбрецы покатаются верхом по берегу Крёзы, а я тем временем по другому берегу пешком прогуляюсь. Подумаешь, какие немощные! Им ведь за то и деньги платят, чтоб они свежим воздухом дышали да хвалились тем, чего не сделали! Нашли кого жалеть! Им, сударь, правительство деньги платит, но правительство не слишком обеднеет, если я его на тысячу франков разорю. А это ведь правда, так суд насчет меня и порешил: плати тысячу франков или садись за решетку! Вас, молодой человек, удивляет, что вот есть такой бедняк, который всю жизнь старался добрым людям услужить, а не то что причинить кому вред, однако ж за ним гонятся, словно за беглым каторжником. Вы хоть и богач, да сердце у вас доброе — это потому, что вы еще молоды. Так знайте же, в чем мои грехи! Послал я три бутылки своего вина хворому приятелю, а наши акцизные крысы возьми да и задержи меня: толкуют, будто я без налога вином торгую. А я врать и унижаться не умею — чем пресмыкаться да с чиновниками в сделку войти, я свое твержу, истинную правду: что я, мол, ни единой капли не продавал и, значит, штрафу не подлежу! Вот за то и присудили мне, по-ихнему, самую малость: пятьсот франков штрафа! Легко сказать: самая малость! Пятьсот франков! Все, что я за год заработаю! И за какие-то три бутылки вина! Уж не говоря, что и приятеля моего, которому этот подарок сделал, тоже осудили. Это-то меня больше всего и разозлило. А так как уплатить деньги я не мог, все у меня разгромили, расхватали, продали с молотка, даже мой плотничий инструмент и тот забрали! Так чего ради стану я платить налог за ремесло, которое меня больше не кормит? Вот я и бросил платить… Как-то раз был я на поденной работе, а тут новая беда: поссорился с писарем мэра да по забывчивости возьми и дай ему тумака… Что тут поделаешь? Хлеба и того у меня не стало. Взял я ружье да в вереске зайца и пристрелил. По прежним временам браконьерство в наших краях почиталось делом обычным и почти что законным: после революции бывшие господа на это сквозь пальцы глядели, иной раз даже из одного удовольствия вместе с нами браконьерствовали. — Доказательство тому — господин Антуан де Шатобрен, который до сей поры не бросил этого занятия, — иронически заметил Кардонне-старший. — А вам-то что? Ведь он не на вашей земле охотится! — сердито возразил крестьянин. — Да что говорить! Подстрелил я зайца да поймал в капкан двух кроликов. Тут опять меня сцапали, присудили к штрафу и тюрьме. Но только по дороге на ихний «постоялый двор» улизнул я из полицейских лап. С той поры и живу по своему разумению. Не желаю ходить в кандалах. — Как вы живете, нам известно, — возразил фабрикант. — Рыщете круглые сутки, браконьерствуете когда и где попало, ночуете каждую ночь на новом месте — и чаще всего под открытым небом. Иной раз приютят вас в Шатобрене — ведь ваша мать была кормилицей господина Антуана. Я не порицаю его за то, что он вам помогает, но он бы поступил благоразумнее, если бы посоветовал вам, в ваших же интересах, работать и вести степенную жизнь… Так вот, Жан, довольно болтать, выслушайте меня. Мне вас жаль, я поручусь за вас и тем самым верну вам свободу и безопасность. Вы отделаетесь несколькими днями тюрьмы, только для проформы. Я уплачу за вас все штрафы, и тогда вы сможете ходить с гордо поднятой головой. Вы меня поняли? — О, вы правы, отец! — воскликнул Эмиль. — Как вы добры и справедливы! Видите, Жан! Разве я вас обманул? — Вы как будто уже знакомы? — спросил господин Кардонне. — Да, отец, — с горячностью подтвердил Эмиль. — Жан вчера оказал мне немалую услугу, но еще сильнее я привязался к нему нынче утром, когда он, рискуя жизнью, спас тонувшего ребенка. Жан, примите помощь, которую предлагает вам мой отец, и пусть его великодушие одержит верх над вашей бессмысленной гордыней. — Это неплохо, господин Эмиль, — ответил плотник, — вы любите отца, это неплохо. И я тоже уважал своего родителя. Но только вот что, господин Кардонне, на каких же условиях вы все это для меня сделаете? — Ты станешь у меня плотничать, — ответил фабрикант. — Будешь руководить работами. — Работами вашего предприятия?! На разорение множеству людей?! — Нет, предприятия, которое составит благополучие всех моих рабочих и твое также. — Ну что же! — произнес Жан, поколебавшись. — Не я, так другие станут у вас плотничать, помешать этому не в моих силах. Отработать вам тысячу франков я, пожалуй, готов. Но кто же меня будет кормить, пока я вам мой долг день за днем стану отрабатывать? — Кормить тебя буду я — ведь поденная плата будет повышена тебе на одну треть. — Трети будет маловато: одеться мне тоже надо. Я совсем обносился. — Что ж, удвоим! По здешним ценам ты получал тридцать су поденных, значит, полтора франка. А я дам тебе три!.. Половину будут выдавать тебе на руки, а другая пойдет на погашение долга. — Ну да!.. Его не скоро погасишь! Хочешь не хочешь, придется четыре года лямку тянуть! — Ошибаешься! Надеюсь, через два года стройка будет уже окончена. — Как, сударь? Я буду работать на вас всю неделю? День за днем, без передышки? — Понятно, кроме воскресений. — Еще бы! Никто про воскресенье и не говорит!.. Но разве на неделе у меня не будет одного-двух свободных деньков, чтобы я мог провести их как мне вздумается? — Ты, Жан, как я погляжу, стал совсем лентяем! Вот оно до чего доводит, бродяжничество! — Молчите лучше, — заносчиво оборвал его плотник, — сами вы лентяй! Никогда Жан бездельником не был! А в шестьдесят лет меняться поздно. Но, видите ли, у меня свое соображение есть, отчего я и решил согласиться: хочу построить себе домик. Раз уж мой продали, хочется новый построить, да самому, своими руками, по своему вкусу. Оттого-то мне и требуется хотя бы один свободный день на неделе. — Этого я не потерплю, — жестко возразил фабрикант. — Дом тебе не нужен, инструмент также; спать ты будешь у меня, есть — у меня, работать моим инструментом! Ты… — Хватит!.. Выходит, что я стану вашей собственностью, рабом! Благодарствуйте, сударь, мне тут делать нечего! И Жан направился к двери. Условия, поставленные отцом, показались Эмилю весьма суровыми, но, если Жан их не примет, его ждет еще более суровая участь, — и вот Эмиль попытался выступить посредником. — Жан, старина! — примирительно воскликнул он, удерживая плотника. — Подумайте, прошу вас! Два года пролетят незаметно, а вы за это время подкопите денег. Тем более, — добавил он, бросив на отца умоляющий, но твердый взгляд, — тем более, что отец сверх положенной платы обещает вас кормить… — Правда? — переспросил Жан. — Согласен, — ответил господин Кардонне. — Вот видите, Жан! Одежда — пустяки! Мать и я с радостью поможем вам в отношении платья. Так что через два года у вас-будет чистых тысяча франков. На небольшой домик вам хватит. Ведь вы холостяк? — Вдовец, сударь, — вздохнув, ответил Жан, — а сын убит на войне. — А так у тебя весь недельный заработок на прожитье уйдет, — с прежним хладнокровием продолжал Кардонне-отец, — ты все промотаешь, год пройдет — ты и дома не построишь, и ничего не скопишь. — Что-то вы больно обо мне печетесь! Почему бы это? — Да потому, что, если, ты все время будешь отрываться от работы, дело пойдет кое-как, тебя никогда не будет под рукой. А если через два года ты предложишь мне свои услуги, я уже не буду в них нуждаться. Я возьму на твое место другого. — Но ведь работа по ремонту у вас всегда найдется. Неужели вы думаете, что я разорить вас собираюсь? — Нет, но лучше разориться, чем ждать. — Как вам не терпится пожинать плоды наших трудов! Ладно! Так вот, обещайте мне один день в неделю и инструмент. — Видите, как он настаивает на этом! Дайте ему один день, батюшка! — Я даю ему воскресенье. — Да я в воскресенье отдыхать должен! — в негодовании воскликнул Жан. — Язычник я, что ли? По воскресеньям я не работаю. Это, сударь, приносит несчастье — еще испортишь работу, и свою и вашу. — Хорошо, отец даст тебе еще понедельник… — Замолчи, Эмиль! Никаких понедельников! Я этого не потерплю! Ты не знаешь, что это за человек: башковитый, вечно что-нибудь мастерит, порой удачно, а чаще впустую. Ему бы только тешиться всяким вздором: сегодня он плотник, завтра — краснодеревец. Что и говорить: руки у него золотые! Но когда ему что-либо взбредет в голову, тут уж непоседливей, рассеянней человека не сыщешь! О хорошей работе и говорить не приходится!.. — Он художник, отец! — улыбаясь, но со слезами на глазах произнес Эмиль, — Имейте немного сочувствия к таланту! Господин Кардонне презрительно взглянул на сына. — Дитя мое! — сказал Жан с присущей ему простотой и достоинством и взял молодого человека за руку. — Уж не знаю, верить ли тебе, или ты смеешься надо мной, но сказал ты правду! Слишком много у меня выдумки для здешнего дела. Когда я работаю на деревне, у моих друзей — у господина Антуана, священника, мэра или же у бедняков вроде меня, они говорят мне: «Делай как знаешь, старина. Придумывай сам, как тебе смекалка подскажет! Хоть оно и будет дольше, зато лучше!» Вот когда работаешь в свое удовольствие! С такой охотой работаешь, что не заметишь, как и день пройдет и ночь наступит. Устанешь, лихорадит, до смерти другой раз намучаешься, а приятно, как пьянице чарка! Вся-то моя радость в этом. Ладно, тешьтесь, издевайтесь надо мною, господин Кардонне. Вы меня не заполучите. Да, не заполучите, грозите хоть жандармами, хоть гильотиной!.. Продаться душой и телом на два года?! Делать все, что вы прикажете, а самому не сметь слова сказать?! Вы меня знаете, но и я вас тоже знаю. Я-то знаю, что у вас и колышка не вобьешь без вашей указки!.. Значит, стать мне чернорабочим, надрываться на барщине, как покойный мой отец у монахов в Гаржилесе? Ну нет, боже упаси! Я свою душу не продам за такую нудную и дурацкую работу! Если б вы мне хоть лишний день свободный дали, чтоб я мог на моих старых заказчиков и самого себя поработать, — а ведь и того нет! — И не будет! — отрезал взбешенный господин Кардонне, потому что самолюбие художника заговорило и в нем. — Убирайся, знать тебя не хочу! Бери свой золотой и ступай! Пусть тебя хоть повесят!.. — По нынешним временам уже не вешают, сударь, — возразил Жан, швырнув золотой на землю. — А хотя бы и повесили — так не меня первого: мало ли честных людей попадалось палачу в лапы! — Эмиль, — обратился к сыну господин Кардонне, как только крестьянин вышел, — позови полевого сторожа. Вон он стоит на крыльце с железными вилами в руках. — Боже, что вы хотите сделать? — испуганно воскликнул Эмиль. — Вернуть этого человека к рассудку, добронравию, труду, благонадежности, счастью. Он проведет ночь за решеткой и станет покладистей, а когда-нибудь поблагодарит меня за то, что я избавил его от дьявольской гордыни. — Но, отец, вы посягаете на личную свободу!.. Вы не имеете права!.. — С нынешнего дня я мэр, и мой долг распорядиться о задержании бродяги. Иди, Эмиль, не то пойду я сам… Эмиль все еще колебался. Господин Кардонне, не терпевший ни малейшего противоречия, резко отстранил сына и вышел из комнаты, чтобы в качестве местной власти дать сторожу приказ о задержании Жана Жапплу, уроженца Гаржилеса, плотника по профессии, определенного местожительства в настоящее время не имеющего. Этот приказ пришелся не по душе сельскому сторожу, господин Кардонне по его лицу увидел, что тот колеблется. — Кайо, — сказал он решительно, — выбирай: или увольнение в недельный срок, или двадцать франков награды! — Хорошо, сударь, — ответил Кайо и, потрясая своим оружием, быстро зашагал по дороге. Он нагнал беглеца на расстоянии двух ружейных выстрелов от деревни, что и неудивительно, ибо Жан, погруженный в мучительное раздумье, шел медленно, опустив голову на грудь. «Когда б не моя дурость, — размышлял он, — я нынче же вступил бы на путь отдыха и благополучия, а теперь должен снова влезать в хомут нищеты, рыскать, как волк, среди скал и колючих зарослей, обременять добряка Антуана, который неизменно встречает меня с распростертыми объятиями и, при всей своей бедности, всегда готов дать мне хлеба и вина; сколько бы я ни приносил ему куропаток и зайцев, все равно я перед ним в долгу… Сердце разрывается, как подумаешь, что придется навек расстаться с родной деревней, где я родился и прожил всю жизнь, где остались все мои друзья; а я вот крадусь сторонкой, словно голодный пес, который, рискуя получить пулю в лоб, подбирается к куску хлеба. Земляки все ко мне добры и, если бы не трусили перед стражниками, не отказали бы мне в ночлеге». Так размышлял Жан, когда до его слуха донесся колокольный звон, созывающий к вечерне; невольные слезы покатились по его загорелым щекам. «Нет, — подумал он, — на десять лье в округе не сыщешь такого звонкого и славного колокола, как у нас в Гаржилесе!» Рядом, в кустах боярышника, защелкал дрозд. — Счастливец! — обратился к нему Жан. — Ты можешь вить себе здесь гнездо, порхать по здешним лесам, клевать в любом саду ягоды и плоды, и никто на тебя протокола не составит! — Протокола… вот это верно, — произнес у него за спиной чей-то голос. — Именем закона арестую тебя!.. И Кайо схватил Жана за шиворот…VII Арест
— Это ты? Ты, Кайо?! — изумленно воскликнул плотник с таким выражением, какое, вероятно, было у Цезаря, когда его поразил кинжал Брута. — Я самый и есть — полевой сторож Кайо! Именем закона! — завопил Кайо на случай, если бы поблизости оказались свидетели. И шепотом добавил: — Спасайся, старина! Ну же! Толкни меня хорошенько и улепетывай!.. — Что ты! Оказать сопротивление и вконец запутать дело? Нет, Кайо, так не годится. Как же это ты решился, несчастный, жандармом стать? Арестовать меня — Друга твоей семьи, твоего крестного отца? — Да разве же я тебя арестовываю, крестный?! — вполголоса возразил Кайо… — А ну! Пошел за мной, не то я людей созову! — заорал он во все горло. — Да ну же, папаша Жан, улепетывай потихоньку; для вида дай мне тумака, я и упаду… — Нет, дружище Кайо, тебя со службы прогонят, и пойдет о тебе слава, что ты мокрая курица и трус. Раз у тебя достало духу пойти на такое дело, доводи его до конца. Тебе, как я понимаю, грозили, принуждали… Ума не приложу, как это господин Жариж решился на такую несправедливость! — Да ведь господин Жариж больше не мэр! Нынче мэр — господин Кардонне. — Ага, понятно!.. Так бы и хватил тебя по шее! Почему ты сразу не подал об увольнении? — Твоя правда, папаша Жан!.. — с убитым видом согласился Кайо. — Я и подам, будь покоен… Ну, беги!.. — Беги, Жан!.. А ты стой! Ни с места! — произнес Эмиль Кардонне, выходя из кустов. — Ну-ка, приятель, падай, раз уж так хочется! — добавил он, ловко, по-мальчишески, дав Кайо подножку. — А когда спросят, кто тебе подстроил ловушку, скажешь отцу, что я. — Неплохо придумано! — проворчал Кайо, потирая ушибленное колено. — Если ваш папаша велит посадить вас за решетку, пеняйте на себя!.. Вы меня малость ушибли, я бы лучше упал на траву. Убежал он, этот старый дурень? — Нет еще, — ответил Жан, который за это время успел подняться на холм и находился от них уже на почтительном расстоянии. — Благодарствуйте, господин Эмиль, я вам этого никогда не забуду. Я бы покорился, раз уж судьба моя такая, но как услыхал, что здесь не в одном законе дело, а что тут папаша ваш сподличал, я и решил: лучше в реку головой, чем такому лживому и злому человеку поддаться! Про вас этого не скажешь, вы лучшего родителя заслужили! Сердце у вас доброе, и пока я жив… — Убирайся прочь! — возразил Эмиль, шагнув к нему. — И не смей при мне плохо отзываться об отце. Я многое мог бы тебе сказать, да сейчас не время. Придешь завтра вечером в Шатобрен? — Да, сударь. Только смотрите, чтоб вас не выследили, и не спрашивайте обо мне у ворот слишком громко. А все же благодаря вам я не попал за решетку — это не так уж плохо. И он исчез в мгновение ока. Обернувшись, Эмиль увидел Кайо, лежавшего на земле словно бы в обмороке. — Что это с тобой? — испуганно спросил молодой человек. — Сильно я тебя ушиб? Повредил что-нибудь? — Да нет, сударь, — возразил хитрец. — Но я, видите ли, подожду лучше, когда кто-нибудь меня подымет, а то никто не поверит, что мне дали тумака и сбили с ног. — Зачем это? Я все беру на себя, — возразил Эмиль. — Ступай к отцу и скажи, что я оказал сопротивление и не дал арестовать Жана. Я иду следом за тобой. Остальное уж мое дело. — Нет, сударь, идите лучше вы вперед, а я поплетусь за вами, будто вы мне ногу подшибли. Ведь если я побегу да скажу, что вы мне переломили обе ноги, а я и не пикнул, ваш папаша мне не поверит и прогонит с места. — Дай руку, обопрись на меня, и идем вместе, — сказал Эмиль. — Вот это дело, сударь! У меня все тело ноет!.. — В самом деле? Я просто в отчаянии, приятель! — Да нет, сударь! Ничего подобного: просто — так надо! — Это что значит? — сурово спросил господин Кардонне, увидев сторожа, опирающегося на руку Эмиля. — Жан оказал сопротивление, ты, как болван, дал себя отколотить, и преступник скрылся? — Простите, сударь, преступник тут ни при чем. Это ваш сын проходил мимо да как толкнет меня… нечаянно, конечно… Я только хотел схватить беглеца, а тут — бах!.. Как покачусь!.. Шагов двадцать головой вниз под гору летел. Бедный молодой человек очень опечалился. Он как прибежит да меня как подхватит…а то бы мне не миновать в реку нырнуть; тут бы я уж хлебнул водички вдоволь!.. А кому от того польза — папаше Жапплу! Мне бы за ним кинуться, а я лежу как мертвый, ни рукой, ни ногой пошевелить не могу… Он и был таков!.. Если б ваша милость пожаловала мне стаканчик вина, это меня бы подкрепило, а то у меня все кишки наверняка отшибло… Эмиль должен был признать, что этот крестьянин, такой простоватый, хотя и лукавый с виду, оказался куда изобретательнее его по части выдумки и с большим успехом, нежели он, сумел привести дело к благополучному концу. Юноша колебался, почти готовый подтвердить рассказ Кайо, но в проницательном взгляде отца без труда прочел, что тот не удовольствуется его безмолвным свидетельством, и, чтобы его убедить, потребуется дерзости не меньше, чем у дядюшки Кайо. — Что за нелепица? В чем дело? — спросил господин Кардонне, хмуря брови. — С каких пор мой сын стал таким силачом и грубияном? И чего ради он очутился на вашем пути?! А ты?.. Если ты не можешь держаться на ногах и от первого толчка спотыкаешься и катишься, словно куль с овсом, — так ты, видно, просто пьян! Говори правду, Эмиль: Жан Жапплу избил сторожа и, быть может, столкнул в овраг, а ты… Чего ты улыбаешься? Что за ребячество!.. Ты нашел это забавным, поспешил на помощь дуралею Кайо и согласился взять на себя его нарочитую оплошность? Так ведь, говори? — Нет, отец, не так! — решительно возразил Эмиль. — Если говорить о ребячестве, тут вы правы, и в мальчишестве моем, быть может, есть некоторый умысел. Пусть Кайо думает что ему угодно о моей привычке походя опрокидывать встречных. Если я его ушиб, я готов извиниться перед ним и возместить обиду… А пока что разрешите отправить его к вашей экономке: он просит подкрепиться, пусть она поднесет ему стакан вина. С глазу на глаз я расскажу вам откровенно, как случилась со мною эта оплошность. — Ступай отведи его в буфетную, — приказал господин Кардонне, — и возвращайся скорее. — Господин Эмиль, — сказал Кайо молодому человеку, спускаясь с ним в буфетную, — я вас не продал, так и вы меня не выдавайте! — Будь спокоен, только не напивайся до бесчувствия, — промолвил молодой человек. — Знай, что вся вина падет на меня одного. — И какого черта вы на себя вину берете? Это уж, вы меня простите, глупость!.. Ведь ежели вы сопротивление представителю власти оказали, да еще при исполнении служебных обязанностей, вас могут в тюрьму засадить. — Это уж мое дело! Ты стой на своем, раз ты так ловко вывернулся, а я объясню свои намерения, как мне будет угодно. — Сердце у вас доброе, — произнес изумленный Кайо, — а вот сметки отцовской вам не хватает!.. — Ну, Эмиль, — сказал господин Кардонне, который в ожидании сына взволнованно шагал по кабинету, — не разъяснишь ли ты, что это за непостижимое приключение? — Отец, виноват во всем я один, — твердо ответил молодой человек, — Пусть все ваше недовольство и все последствия моего поступка обрушатся на меня одного. Клянусь вам честью, Жан Жапплу дал себя задержать без малейшего сопротивления, а я грубо оттолкнул и повалил сторожа и сделал это преднамеренно. — Отлично! — холодно произнес господин Кардонне, решив узнать всю правду. — И этот олух дал себя свалить? Кайо упустил арестованного, и, как бы он сейчас ни врал, он великолепно понял, надо думать, что ты все это проделал неспроста. — Он ровно ничего не понял, — возразил Эмиль. — От неожиданности он растерялся и упал. Полагаю даже, что он порядочно ушибся. — Надеюсь, ты не разубеждал его, что с твоей стороны это была только шутка? — Не все ли равно, как он толкует мои намерения и что у него в мыслях? К счастью, наши мысли не подвластны судейским чиновникам. Они могут судить одни лишь поступки! — И это говорит мой сын?! — Нет, отец, ваш подчиненный, преступник, которого вы собираетесь судить и карать. Спрашивайте меня о том, что касается меня, и я отвечу как должно. Но речь идет о бедном Кайо, живущем на свое скудное жалованье. Он в вашей власти, он боится вас, и, если вы прикажете ему отвести меня в тюрьму, он беспрекословно выполнит ваше распоряжение. — Мне жаль тебя, Эмиль! Ну, довольно говорить об этом Кайо и об его увечьях! Я прощаю его, а тебе поручаю его вознаградить, если он сумеет держать язык за зубами, ибо я отнюдь не желаю, чтобы ты ознаменовал свое появление в наших краях нелепым скандалом. Но объясни, пожалуйста, чего ради ты разыгрываешь какую-то шутовскую комедию в духе исправительной полиции? Что это за приключение, где тебе досталась роль Дон-Кихота, а Кайо — Санчо Пансы? Куда это ты так торопился, когда он арестовывал плотника? Почему очутился вдруг рядом с ним? Что за блажь освободить Жана из рук правосудия, презрев мои добрые намерения относительно этого человека? Уж не сошел ли ты с ума за те полгода, что мы не виделись? Или дал рыцарский обет? Или попросту намерен перечить во всем, идти против моей воли? Отвечай по-серьезному, если можешь. Ведь я твой отец и спрашиваю тебя всерьез! — Отец, я многое мог бы сказать в ответ, если бы вы спросили меня о моих чувствах и мыслях. Но сейчас речь идет о незначительном частном случае, и я опишу вам в немногих словах, как все произошло. Я поспешил за беглецом, желая избавить его от позора и мук тюремного заключения: я надеялся опередить Кайо и убедить Жана добровольно вернуться, выслушать ваши предложения и подчиниться закону. Я опоздал и уже не мог отговорить стражника от исполнения его долга; поэтому-то я и вмешался, зная, что понесу кару за совершенное преступление. Подчиняясь непосредственному побуждению, я действовал непредумышленно, необдуманно, увлекаемый властным порывом сочувствия и сострадания. Если я поступил плохо — побраните меня. Но если через два дня я силой убеждения и кротостью заставлю Жана добровольно к вам возвратиться, вы простите меня и согласитесь, что подчас и сумасброда может осенить счастливая мысль. — Эмиль! — сказал после некоторого молчания господин Кардонне, продолжая шагать по кабинету. — Я должен сделать тебе серьезный упрек: ты поднял открытый бунт, я уж не говорю — против сельских властей (тут я не буду чересчур придирчив), — но ты восстал против меня. В тебе говорит неуемная гордыня и недостаточное уважение к отцовской воле. Я не склонен терпеть подобные выходки, ты меня достаточно хорошо знаешь и можешь сам об этом догадаться, если за время нашей разлуки не успел окончательно все перезабыть. Однако на сегодня я избавлю тебя от длинных нравоучений — боюсь, что ты не способен извлечь из них пользу. Судя по твоим поступкам и настроениям, нам следует серьезно поговорить и упорядочить как твой образ мыслей, так и твои намерения относительно будущего. Бедствие, постигшее мою фабрику, не позволяет мне уделить тебе сейчас больше времени. У тебя за нынешний день было достаточно волнений, тебе следует отдохнуть: побудь с матерью и ложись пораньше спать. Как только на фабрике восстановятся порядок и спокойствие, я сообщу тебе, зачем я тебя вызвал из твоего, как ты выразился, изгнания и чего я от тебя жду. — А до этого объяснения, которого я жажду, ибо впервые в жизни вы намерены побеседовать со мною как со взрослым человеком, смею ли я надеяться, что вы больше на меня не сердитесь? — спросил Эмиль. — Когда встречаешь сына после долгой разлуки, трудно быть слишком суровым, — ответил господин Кардонне, пожимая Эмилю руку. — И вы не прогоните беднягу Кайо? — продолжал Эмиль, обнимая отца. — Нет, при условии, что ты больше никогда не станешь вмешиваться в дела муниципалитета. — И не велите арестовать Жана? — Мне незачем отвечать на такой вопрос. Я слишком доверял тебе, Эмиль, но вижу, что мы во многом расходимся, и, пока мы не придем к согласию, я как глава семьи не желаю, чтобы мне перечили. Ну, довольно! Спокойной ночи, дитя мое! Я должен поработать. — Не могу ли я вам помочь? Вы никогда не верили, что я хоть чем-нибудь способен облегчить ваши труды! — Надеюсь, со временем будешь способен. Но пока ты еще не знаешь даже простого сложения! — Цифры, вечно цифры. — Ступай спать! Мое дело бодрствовать и трудиться, чтобы со временем ты стал богат. «Разве я сейчас недостаточно богат? — размышлял, уходя, Эмиль. — Если богатство, как мне часто и совершенно справедливо говорил отец, возлагает на человека тяжкие обязанности, то к чему тратить жизнь на то, чтобы придумывать эти обязанности, быть может вовсе для нас непосильные?» Весь следующий день господину Кардонне пришлось трудиться над приведением в порядок фабрики, пострадавшей от наводнения. При всей твердости своего характера он испытывал сильнейшую досаду, обнаруживая на каждом шагу, в тысяче мелочей, ущерб, неожиданно нанесенный его предприятию. Рабочие потеряли голову. Все еще не удавалось отрегулировать напор воды, приводившей в действие механизмы, и упорядочить работу машин: она разлаживалась все больше, так как вода перехлестывала через плотину. Господин Кардонне был задумчив и сосредоточен, он еле скрывал раздражение, закипавшее в нем при виде бестолковости подвластных ему людей, которых он привык считать машинами в большей степени, нежели самые машины. Он приучил их к слепой, безропотной покорности и почувствовал теперь, что в минуту опасности, когда воли, одного человека недостаточно, раб — плохой слуга. Он не призвал, однако, на помощь Эмиля, напротив того: всякий раз, как юноша предлагал свои услуги, господин Кардонне под тем или иным предлогом отклонял их, словно и в самом деле не доверял сыну. Подобная кара была убийственна для горячего, самоотверженного сердца. Эмиль пытался искать утешения у матери, но добрая женщина была совершенно беспомощна, а ее обычная подавленность и душевное оцепенение нагоняли тоску на всех, не исключая и сына, который впал в неодолимую меланхолию вопреки стараниям матери развлечь и рассеять его. Госпожа Кардонне тоже обращалась с сыном, будто с ребенком, не замечая, что в ее нежном покровительстве, как и в высокомерии ее мужа, есть нечто оскорбительное. Она не смела признаться самой себе, что мужа и сына разделяет пропасть, но вместе с тем была достаточно проницательна, чтобы почувствовать это; она в страхе отвращала взоры, не желая видеть всю глубину этой бездны, и пыталась беспечно играть с сыном на ее краю, как будто могла его обмануть. Она водила Эмиля по дому и саду, занимала его шутливыми разговорами, словно хотела убедить, что единственная причина ее грусти — вчерашнее наводнение. — Если бы ты приехал днем раньше, ты бы увидел, какая здесь была красота, какой порядок, какая чистота! Я бы с таким наслаждением поила тебя кофе вот здесь, в чудесной, увитой жасмином беседке над самым обрывом. Увы! — от нее и следа не осталось, даже землю смыло; а взамен река нанесла сюда отвратительный грязный ил и гальку. — Утешьтесь, дорогая матушка! — отвечал Эмиль. — Мы скоро все приведем в порядок. Если рабочие отца будут заняты, я сам стану вашим садовником. Вы расскажете мне, как все было расположено. Впрочем, я уже видел, это было как сказочный сон! С вершины вон того холма я любовался вашим волшебным садом, чудесными цветами! И подумать только, что в один миг их смыло у меня на глазах. Но не горюйте, бывают потери более огорчительные!.. — Страшно подумать, что тебя самого чуть не унесла эта мерзкая река! Я сейчас ее просто ненавижу! Ах, дитя мое! Я оплакиваю тот день, когда твоему отцу пришла мысль обосноваться здесь. Мы пережили за эту зиму не одно наводнение, и всякий раз приходилось все начинать сызнова. Отца это терзает, мучит, хотя он старается и виду не подать. Характер у него портится, да и здоровье может пошатнуться! А все из-за этой реки! — А вы, матушка, как? Вы не боитесь, что жизнь в новом каменном доме, да еще при такой сырости, может вам повредить? — Не знаю, дитя мое! Я находила утешение в моих цветах и в надежде снова тебя увидеть! Но ты приехал и попал в зловонную яму, в болото. А я-то мечтала, как ты будешь читать здесь, в саду, или курить сигару, прогуливаясь среди цветов и газонов! Проклятая река! Наступил вечер, и лишь тогда Эмиль заметил, как бесконечно долго тянулся для него этот день и сколько проклятий реке слышалось со всех сторон. Один лишь господин Кардонне продолжал твердить, что все это пустяки и достаточно небольшой насыпи, чтобы раз и навсегда обуздать этот «ручеек». Но его побледневшее лицо и стиснутые зубы выдавали скрытое бешенство, и выносить это было еще тяжелее, чем жалобы окружающих. Обед прошел уныло, в ледяном молчании. Раз двадцать господина Кардонне вызывали, и раз двадцать он вставал из-за стола, чтобы отдать распоряжения, а так как госпожа Кардонне безгранично почитала мужа, блюда всякий раз уносили на кухню, все подгорало, и супруг находил кушанья отвратительными. Жена то бледнела, то краснела, сама бегала в буфетную, лезла из кожи, разрываясь между желанием угодить мужу и не досадить сыну, который решил под конец, что в этом богатом доме обед очень плох и тянется мучительно долго. Поднялись из-за стола поздно. И так как в темноте переправляться вброд через реку было все еще опасно, Эмиль отказался от мысли навестить господина Антуана. Он рассказал родителям, какой прием оказали ему в замке Шатобрен. — Ах, я непременно поеду их отблагодарить! — воскликнула госпожа Кардонне. Но супруг ее возразил: — Совершенно излишне. Я вовсе не желаю, чтобы старый пьянчуга, который панибратствует с мужичьем, вздумал, чего доброго, отдать мне визит и перепился с рабочими у меня на кухне. — У него прелестная дочь, — робко заметила госпожа Кардонне. — Дочь? — высокомерно повторил глава семьи. — Какая? Та, что он прижил со служанкой? — Он ее узаконил. — И хорошо сделал! Иначе старой Жанилле трудненько было бы установить, кто же отец ее ребенка. Как бы ни была эта девица прелестна, надеюсь, Эмиль не вздумает предпринять такое путешествие нынче вечером. Уже темно, а дороги прескверные. — Ах нет! — воскликнула госпожа Кардонне. — Нынче он не поедет. Дорогой Эмиль, ты не захочешь так меня огорчить! Завтра днем, если вода совсем спадет, — в добрый час! — Ну что же, поеду завтра, — ответил Эмиль, неохотно подчиняясь матери. — Но согласитесь, что в ответ на столь теплое гостеприимство я обязан нанести им визит. — Конечно, — подтвердил господин Кардонне. — Но я надеюсь, что этим и ограничатся твои отношения с семейством Шатобрен; на мой взгляд, это неподходящее для тебя знакомство. Постарайся не засиживаться: завтра вечером, Эмиль, я намерен с тобою побеседовать. На рассвете следующего дня, пока родители еще спали, Эмиль велел оседлать коня и, переехав через взбаламученную и все еще неспокойную реку, пустился галопом по дороге в Шатобрен.VIII Жильберта
Уже подымалось солнце, когда Эмиль подъехал к Шатобрену. Утро стояло чудесное. Развалины, столь грозные при свете молний, предстали сейчас во всем своем очаровании и великолепии, как бы торжествуя над разрушительным ходом времени. В бледно-розовом свете утренних лучей пышная зелень, причудливо обвивавшая стены замка, казалась достойным украшением прекрасного памятника старины, как будто помолодевшего в этом девственном убранстве. Замок Шатобрен необычайно горделиво возвышается на вершине горы, и въезд в него на редкость величествен. Внушительные очертания квадратного здания с огромными воротами и сводчатой колоннадой поражают своим благородством. На своды и обрамление замковой решетки пошел строительный камень ослепительной белизны. Замок выходит фасадом на искусственную площадку, поросшую травой и кустарником и словно прилепившуюся к утесу, нависшему над бурным потоком. Деревья, скалы и лужайки, прихотливо сбегающие с обрывистых склонов, исполнены естественной прелести, недостижимой для самого искусного художника. Позади замка открываются широкие и величавые просторы: река Крёза, пересеченная наискось двумя шлюзами, вьется среди лугов и зарослей ивняка, образуя два мягко ниспадающих, мелодично журчащих водопада. Красавица река то мирно течет по своему ложу, то яростно мчит кристальные, прозрачные воды меж берегов, радующих глаз восхитительными пейзажами и живописными развалинами. С высоты большой замковой башни видно, как Крёза, образуя множество излучин, несется среди крутых, обрывистых берегов и затем, слезно лента серебристой ртути, бежит по темной зелени луга или пробивается среди поросших розовым вереском утесов. Проехав мост, перекинутый через широкий, полузасыпанный от времени ров, склоны которого поросли густою травой и цветущим кустарником, Эмиль остановил лошадь, залюбовавшись обширной естественной террасой, где каждый уголок на подступах к замку был омыт и очищен грозовым ливнем. Дождем унесло весь щебень, весь хворост и сухой кустарник, словно некая добрая великанша заботливо расчистила тропинки, омыла обветшалые стены, убрала песок и освободила проходы от обломков и камней, — задача, непосильная для самого владельца замка. Словом, наводнение, которое изуродовало, загрязнило и разрушило всю прелесть нового жилища господина Кардонне, воскресило и омолодило развалины Шатобрена. Могучие древние стены торжествовали над веками и бурями; умышленно возведенные на высоком холме, они господствовали над непрочными созданиями рук последующих поколений. При всей своей гордыне (а он был горд, как может и должен быть горд потомок старой буржуазии, этого умного, мстительного и упрямого сословия, у которого были в прошлом свои славные дни, сословия, которое могло бы быть благородным, если бы оно протянуло народу руку, вместо того чтобы дать ему пинка ногой) Эмиль был поражен величием этого феодального владения, хотя и лежавшего в развалинах. Сын богатого и влиятельного выскочки ощутил почтительную жалость, переступив через ограду замка, где одно лишь имя хозяина могло поспорить с реальными преимуществами положения молодого Кардонне. Эта благородная жалость усугублялась тем, что владелец замка ни своими чувствованиями, ни поведением не стремился вызвать к себе сожаление или, напротив, отвергнуть его. Благодушный, беззаботный, сердечный, господин Антуан в этот час подрезал фруктовые деревья у входа в сад. Он с отеческим радушием поспешил навстречу Эмилю и сказал улыбаясь: — Добро пожаловать, дорогой господин Эмиль! Теперь я знаю, кто вы, и рад познакомиться с вами поближе. Право же, ваше лицо мне понравилось с первого взгляда, а так как вы рассеяли предубеждение против вашего батюшки, которое мне пытались внушить, будет особенно приятно почаще видеть вас среди этих развалин. Прежде всего пойдемте на конюшню, я помогу вам привязать лошадь, потому что Сильвен занят: он помогает Жильберте прививать черенки роз — не следует отвлекать мою крошку от столь важного занятия. На сей раз, надеюсь, вы с нами позавтракаете. Мы в долгу перед вами: ведь в прошлый раз вы уехали от нас без завтрака. — Я приехал отнюдь не за тем, чтобы доставлять вам новые хлопоты, дорогой хозяин, — ответил Эмиль, с невольной симпатией пожимая мозолистую руку сельского дворянина. — Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за радушное гостеприимство и, кроме того, полагал встретить здесь одного человека, нашего с вами друга. Я должен был увидеться с ним здесь вчера вечером. — Знаю, знаю, — ответил господин Антуан и приложил палец к губам. — Он мне все рассказал. Правда, его жалобы на вашего батюшку, по обыкновению, преувеличены. Об этом мы еще поговорим, но я со своей стороны должен принести вам благодарность за сочувствие к этому человеку. Он ушел, едва забрезжил свет, и «не знаю, удастся ли ему возвратиться сегодня: за ним нынче особенно рьяно охотятся. Но я уверен, что с вашей помощью дело его вскоре примет хороший оборот. Вы расскажете мне, чего вам удалось в конце концов добиться от вашего почтенного батюшки, чтобы спасти моего несчастного друга и помочь ему. Жан поручил мне выслушать вас и дать за него ответ; стало быть, я облечен полномочиями заключить перемирие. Не сомневаюсь, что условия, переданные таким человеком, как вы, могут быть только почетными! Но торопиться некуда, и вам незачем отказываться от завтрака. К тому же, заверяю вас, что я не намерен вступать в переговоры натощак. Начнем с того, что мы накормим вашу лошадь, — раз животные не умеют заявлять о своих желаниях, приходится заниматься прежде всего ими, а уж затем собой, не то, чего доброго, и позабудешь о них. Эй, Жанилла! Насыпь-ка полный передник овса и неси сюда: ведь благородный конь привык ежедневно получать овес, а мне хочется слышать дружелюбное его ржание всякий раз, как он завидит наш замок. Я хотел бы даже, чтобы он сворачивал в нашу сторону помимо воли своего хозяина, ежели тот обо мне позабудет. Невзирая на всю бережливость и даже скупость, Жанилла охотно принесла немного овса, хранимого ею для торжественных случаев. Конечно, в глубине души она считала это излишним, но, чтобы поддержать честь господского дома, она готова была продать с себя последнюю кофту. Возможно, на сей раз великодушная Жанилла не без лукавства подумала, что монеты, полученные ею от Эмиля в прошлый раз, будут, конечно, не последними и таким образом он сам с лихвой покроет расходы на прокорм коня как в этот раз, так и во все последующие. — Кушай, красавчик, кушай! — приговаривала она, поглаживая лошадь с нарочито мужественным и независимым видом, а затем, вооружившись пучком соломы, принялась деловито тереть ей бока. — Оставьте, матушка Жанилла, — вскричал Эмиль, выхватив солому у нее из рук. — Я сам вытру. — Вы, что же, думаете, я не справлюсь? Вот увидите — не хуже мужчины! — возразила многосведущая старушка. — Будьте покойны, сударь! Я и на конюшне управляюсь, и в буфетной, и в бельевой. Если бы я каждый день не заглядывала в стойло да в шорную, наш ветрогон жокей и не подумал бы следить за кобылой! Поглядите, какая наша славная Искорка чистая и упитанная! Рысаком, сударь, ее не назовешь, но уж до чего кротка! Как и все мы, здешние. Я не говорю о моей дочке, потому что она кроткая и к тому же красавица. — Ваша дочка? — озадаченно переспросил Эмиль, ибо при этих словах поэтический образ мадемуазель Шатобрен несколько померк в его глазах. — У вас есть дочь? Я еще не видел ее. — Бог с вами, сударь! Что вы говорите! — воскликнула Жанилла, и на ее бледных, поблекших щеках вспыхнул стыдливый румянец, а господин Антуан улыбнулся с некоторым замешательством. — Вы, видно, не знаете, что я девица! — Простите, — возразил Эмиль, — я ведь недавно в этих краях, и, боюсь, мне не раз придется попадать впросак. Я полагал, что вы замужем или же вдова. — Это правда, в мои годы я могла бы схоронить не одного мужа, — заметила Жанилла, — да и за женихами остановки не было. Но замужество мне всегда претило: своя воля всего дороже. Я потому говорю: «наша дочка», что барышню почти с самого ее рождения нянчила и люблю, словно родную. Ведь я ее с самых младенческих лет пестовала, вот хозяин и не перечит мне, когда я с его дочкой запросто, словно с родной, обращаюсь: ведь я уважаю ее оттого не меньше. Когда вы увидите барышню, сразу заметите, что она похожа на меня не больше, чем, скажем, вы, и что в жилах у нее течет только благородная кровь! Боже ты мой! Ну откуда бы у меня взяться такой дочке? Да будь она моя, я бы до того возгордилась, что всему свету возвестила бы! Пускай себе думают что хотят! Ха-ха-ха! Вам смешно, господин Антуан? Смейтесь, смейтесь. Я на пятнадцать лет вас старше, сплетни ко мне не пристанут. — Да что ты, Жанилла! Никто, насколько мне известно, ничего худого и не думает, — сказал господин де Шатобрен с принужденной веселостью. — Это была бы для меня слишком большая честь, а я не такой уж ветреник, чтоб этим хвастать. И называй мою дочь как хочешь: это твое право, ты ведь была ей больше чем матерью. Последние слова владелец замка произнес серьезным и проникновенным тоном; словно облачко затуманило его глаза, а в голосе прозвучала глубокая печаль. Но долгая грусть была не в характере господина Антуана, и он быстро обрел обычную безмятежность. — Скорей готовь завтрак, юная ветреница, — весело обратился он к своему дворецкому в юбке, — мне осталось подрезать еще два дерева. Господин Эмиль составит мне компанию. Сад в Шатобрене был некогда обширен и великолепен, под стать всему остальному, но большую его часть продали вместе с парком, который впоследствии распахали под посевы, и теперь этот сад занимал всего несколько арпанов. Та его часть, которая примыкала непосредственно к замку, поражала своей дикой красотой и обилием зелени; сквозь привольно разросшиеся декоративные деревья и травы то тут, то там виднелись ступеньки или развалины стены — все, что осталось от знаменитых беседок и лабиринтов времен Людовика XV. Нет сомнения, что все эти мифологические статуи, вазы, фонтаны, псевдодеревенские домики некогда задуманы были в подражание кокетливым и вычурным украшениям королевских дворцов. Теперь все это лежало грудой развалин, обвитых виноградом и плющом, но в глазах поэта или художника они, возможно, обладали большей прелестью, нежели в дни их былого великолепия. На пригорке, где за живой терновой изгородью паслись на приволье две козы, тянулся фруктовый сад. Узловатые, изогнутые ветви яблонь и груш, никогда не ведавшие принуждения, не ограниченные шпалерами, не подстриженные наподобие веретена, являли причудливый, фантастический вид. Это чудовищное сплетение древесных гидр и драконов протянуло свои лапы над головами людей, распростерлось по земле, и трудно было пробраться сквозь чащу, не споткнувшись о гигантские корни или не зацепившись шляпой за ветку. — Старые, верные слуги! — сказал господин Антуан, прокладывая Эмилю путь среди этих ветеранов Шатобрена. — Они приносят теперь урожай лишь раз в пять-шесть лет, но какие чудесные, вкусные плоды неторопливо наливаются их обильным соком! Когда я выкупил землю, все кругом советовали срубить эти древние насаждения, но дочь просила пощадить старые деревья за красоту. Хорошо, что я последовал ее совету: здесь теперь столько тени; и хотя плодов они дают немного, нам хватает. Взгляните, какая огромная яблоня! Она, надо думать, старше моего покойного отца и, ручаюсь, переживет моих внуков! Да разве же это не преступление — обезглавить старого великана? А эта айва! За год она приносит с дюжину плодов, не более. Для такого рослого дерева маловато. Зато плоды размером с мою голову и желты, как золото! А запах, сударь! Осенью узнаете сами! Постойте, вот недурная вишня: сколько ягод! Значит, и старики кое на что годятся, как вы думаете? Надо только правильно подрезать деревья. Какой-нибудь придирчивый садовод, возможно, скажет, что недопустимо, чтобы столь пышно разрастались ветви, что их надо подрезать, укорачивать, и тогда почек будет больше. Но, когда состаришься сам, опыт подсказывает иное. Если фруктовое дерево полвека плодоносило, нужно вернуть ему свободу и на несколько лет предоставить попечению природы. Тогда для него наступает вторая молодость: оно сильней ветвится, пышней распускается листва — дерево отдыхает и в благодарность за то, что вы не превратили его в общипанный веник, вознаграждает вас щедрыми дарами. Вот посмотрите на эту толстую ветвь: она как будто лишняя… — добавил он, приготовив садовый нож. — Но нет, придется ее пощадить: такая серьезная ампутация может истощить дерево. В дряхлом теле кровь обновляется не столь быстро, ему не перенести операцию, которая безопасна для молодого организма. Точно так же и у растений. Я обрежу только сухие сучья и соскребу мох. Поглядите-ка, это очень просто. Простодушная серьезность, с какою господин де Шатобрен углубился в свои невинные занятия, растрогала Эмиля. Все, с чем он сталкивался здесь на каждом шагу, так непохоже было на то, что он видел у себя дома! Там садовник, получавший большое жалованье, и двое его подручных с утра до вечера только и делали, что наводили красоту и порядок в саду госпожи Кардонне, а сама госпожа Кардонне сокрушалась над каким-нибудь неудавшимся розовым бутоном или своенравным зеленым побегом. Здесь же было обратное: господин Антуан умилялся горделивой дикости своих «питомцев», ставя превыше всего плодородие и щедрость самой природы. Этот старый сад, весь поросший мягкой, шелковистой травою, которую усердно пощипывали кроткие овечки, пасущиеся без присмотра пастуха или собаки, был поистине великолепен в прихотливом буйстве растительности, одевшей волнистые склоны, — истинный приют мечтателя, счастливо избежавший ревнивой заботы человека. — Ну, вот я и кончил, — сказал господин Антуан, надевая висевшую на дереве куртку. — А теперь разыщем дочь и пойдем завтракать. Вы ведь еще не видали моей дочери? Но она вас уже знает. Она посвящена во все маленькие тайны нашего Жана: он так к ней привязан, что советуется с нею охотней, чем со мной. Вперед, Сударь! — крикнул он псу. — Сообщи-ка твоей госпоже, что пора садиться за стол. Эге! Я вижу, ты доволен! Для тебя голод — самые точные часы! Пес господина Антуана охотно отзывался как на поощрительное прозвище Сударь, которым его величали, когда он того заслуживал, так и на свою настоящую кличку — Разбойник, которая, впрочем, не нравилась барышне Шатобрен, почему хозяин и прибегал к этой кличке только на охоте или в порядке укоризны в тех весьма редких случаях, когда псу случалось совершить какой-нибудь проступок: чавкать за едой, храпеть во время сна, лаять, когда Жан среди ночи перелезал через стену. Разбойник, казалось, понял слова хозяина и улыбнулся — явление, весьма нередкое у некоторых собак, что придает их физиономии человечески умное и приветливое выражение, — затем стремглав побежал вперед и исчез под откосом, спускавшимся к реке. Господин Антуан обратил внимание Эмиля на красоту открывавшейся их взорам местности. — И вздумалось же вчера нашей Крёзе выйти из берегов! — сказал он. — Но мы уже успели свезти сено, что оставалось на прибрежной луговине. А все Жан! Это он посоветовал нам не пересушивать сено. Жана у нас считают чуть ли не вещуном; и правда, он обладает удивительной наблюдательностью и редкой памятью. По каким-то никому не ведомым приметам — по цвету воды, облаков, а в особенности по луне ранней весной, — он может безошибочно предсказать, какая погода будет стоять весь год. Для вашего отца Жан — человек неоценимый, если только им удастся столковаться. Он мастер на все руки, и, будь я на месте господина Кардонне, я бы ничего не пожалел, а уж постарался завоевать его дружбу. Но превратить его в прилежного и ревностного слугу — об этом нечего и думать! По натуре он дикарь и лучше умрет, чем подчинится. Заставь его делать что-либо без охоты — ничего путного не выйдет. Но стоит завоевать его сердце, самое великодушное из всех сердец, когда-либо созданных богом, и вы увидите, что в трудных обстоятельствах этот человек превосходит самого себя! Если наводнение, пожар или какое другое несчастье обрушится на фабрику господина Кардонне, пусть тогда он скажет, что я перехвалил и переоценил смекалку и золотые руки Жана Жапплу! Эмиль внимал под конец этому славословию с куда меньшим интересом, нежели он проявил бы при других обстоятельствах, ибо слух его и мысли отвлечены были иным: где-то неподалеку свежий голосок напевал, или, вернее, мурлыкал, наивную, полную грустного очарования песенку, какие часто звучат в этих краях. И дочь владельца замка, внебрачное дитя (имя ее матери оставалось загадкой для всех в округе), показалась из густых зарослей шиповника — прекрасная, как самый прекрасный дикий цветок этого очаровательного захолустья. Жильберте де Шатобрен, блондинке с ослепительно белой кожей, было лет восемнадцать-девятнадцать; в характере и во внешности Жильберты чувствовалась удивительная для ее возраста смесь рассудительности и детской веселости, какую в ее положении сумели бы сохранить лишь весьма редкие из ее сверстниц, ибо она не могла не знать о своей бедности и о том, что в наш век расчета и эгоизма ей грозит одиночество и лишения. Но, по-видимому, это печалило девушку не более, чем ее отца, вылитым портретом которого она была как по своему моральному, так и физическому облику: в ее твердом и приветливом взоре светилась трогательная безмятежность. Заметив Эмиля, она сильно покраснела, но скорее от неожиданности, чем от смущения, ибо спокойно пошла к нему навстречу и поздоровалась без всякой неловкости и той деланной стыдливости, какую наивные ханжи чрезмерно превозносят в юных девицах. Жильберте и в голову не приходило, что молодые люди могут пожирать ее взглядом, что ее долг всегда с достоинством обуздывать их тайные дерзновенные вожделения. Наоборот, она простодушно посмотрела на гостя, как бы желая убедиться, прав ли отец, так расхваливший наружность Эмиля, и с первого взгляда определила, что хотя юноша очень красив, но нимало этим не кичится, что он не гонится за модой, отнюдь не напыщен, не дерзок, не заносчив и что у него выразительное лицо — открытое, доброе и мужественное. Довольная своими наблюдениями, она внезапно почувствовала себя столь непринужденно, словно, кроме нее и господина Антуана, здесь никого не было. — Это правда, — сказала она, подхватив слова господина де Шатобрена, которые тот произнес, представляя ей Эмиля, — отец был недоволен вами, сударь, за то, что вы вчера сбежали, не позавтракав. Но я понимаю: вам не терпелось поскорее увидеть вашу матушку. И к тому же еще это наводнение! Каждый опасался за своих близких. К счастью, судя по дошедшим до нас слухам, госпожа Кардонне была не очень напугана — ведь никто из рабочих не погиб? — Благодарение богу, и у нас и в деревне все целы, — подтвердил Эмиль. — Но ущерб вам нанесен большой? — Это не столь уж важно: сравнительно с нами бедняки пострадали куда больше! К счастью, отец может и хочет оказать помощь пострадавшим. — Говорят, что в особенности… говорят, что ваша матушка также, — поправилась девушка, слегка покраснев из-за своей невольной обмолвки, — также чрезвычайно добра и отзывчива. Я только что беседовала о ней с нашим Сильвеном; она его так обласкала! — Моя мать — совершенство! — подхватил Эмиль. — Но в этих обстоятельствах естественно было проявить дружеское участие к мальчугану, без которого я бы, возможно, погиб по своей неосмотрительности. Мне не терпится повидать его и поблагодарить. — А вот и он, — сказала мадемуазель де Шатобрен, показывая на Шарассона, который шел несколько поодаль, неся корзину и горшочек смолы. — Мы сделали более пятидесяти прививок; среди этих черенков есть и такие, которые подобрал Сильвен у вас в саду. Садовник выбросил их, подрезая кусты, а у нас они превратятся в чудесные розы, если только мы не слишком плохо сделали прививку. Вы взглянете на нашу работу, батюшка, не правда ли? Ведь я еще не очень опытна в этих делах. — Нет, уж не говори! Ты своими маленькими ручками справляешься с прививкой куда лучше меня, — возразил господин Антуан, поднося к губам хорошенькие пальчики дочери. — Прививка — дело женское, она требует ловкости, а этого нам, мужчинам, не хватает. Но ты бы надела перчатки, дочурка. Коварные шипы тебя не пощадят. — Ну и что же, батюшка? — улыбаясь, возразила девушка. — Я не принцесса и очень этому рада. Так я чувствую себя свободней и счастливей. Эмиль не упустил последнего замечания Жильберты, хотя оно и было сказано вполголоса в то время, как он подошел к Сильвену, чтобы дружески с ним поздороваться. — Э, чего там! Я здоров, — заявил «паж» Шатобрена. — Одного я боялся — как бы лошадь не застудилась, искупавшись в такую непогоду. Да, по счастью, нашей кобыле купанье пошло на пользу! А мне понравилось в вашем замке: комнаты хорошие, слуги вашего батюшки в красных жилетах, а на шапках золото. — Ах, вот что ему вскружило голову! — расхохоталась от всего сердца Жильберта, показав два ряда белых и ровных, как жемчужины, зубов. — Вы не думайте, господин Сильвен у нас тщеславен! С того дня, как он узрел лакеев в галунах, он глубоко презирает свою новую блузу и серую шляпу. Что же будет, если он, не дай бог, увидит егеря с петушиными перьями на шляпе и нашивками на плечах? Он просто с ума сойдет! — Бедное дитя! — сказал Эмиль. — Если бы он знал, насколько его жизнь достойней, счастливей, свободней жалкой доли разряженных в пух и прах парижских лакеев! — Он и не подозревает, до чего унизительна ливрея, — заметила девушка. — Ему невдомек, что он счастливейший слуга на свете. — Да я и не жалуюсь! — возразил Сильвен. — Все ко мне тут хороши, даже матушка Жанилла, хоть она и прижимиста немного. Я из здешних краев уезжать не собираюсь. Тут у меня и отец и мать в Кюзьоне, совсем близко. А приодеться немножко не мешает — сразу у человека вид другой. — Ты, значит, хочешь быть наряднее, чем твой хозяин? — спросила мадемуазель де Шатобрен. — Ты только взгляни на батюшку, как он просто одет. Он чувствовал бы себя несчастным, если бы ему пришлось ежедневно носить черный сюртук и белые перчатки. — Это верно, трудно было бы вернуться к прежним привычкам, — сказал господин Антуан. — Но, дети мои, слышите: Жанилла зовет. Она охрипла, скликая нас к завтраку. «Дети мои» — были привычные слова, с какими в хорошие минуты господин Антуан обращался к Жанилле и Сильвену, когда они бывали вместе, или к местным крестьянам. Поэтому — Жильберта удивилась, заметив быстрый взгляд, который молодой Кардонне невольно бросил на нее. А Эмиль вздрогнул, сердце его забилось от смутного чувства симпатии, страха и удовольствия, когда он услышал, как владелец замка в своем отеческом обращении объединил его и свою прелестную дочь.IX Господин Антуан
На сей раз завтрак в Шатобрене был обставлен несколько торжественнее, чем обычно. Жанилла успела сделать кое-какие приготовления. Она раздобыла сливок, масла, меда, яиц и самоотверженно пожертвовала двумя петушками, которые еще кукарекали, когда Эмиль появился на тропинке: когда же их поджарили на вертеле, они оказались довольно нежными на вкус. После прогулки по саду молодой человек изрядно проголодался и нашел завтрак великолепным. Его похвалы весьма польстили старушке Жанилле, восседавшей, как обычно, напротив хозяина дома и не без достоинства угощавшей гостя. Жанилла особенно растрогалась, когда Эмиль одобрил варенье из ежевики ее собственного приготовления. — Матушка, — сказала Жильберта, — надо послать образчик твоего искусства и рецепт госпоже Кардонне, а она подарит нам за это отростки ананасной клубники. — Ничего они не стоят, ваши садовые ягоды, — возразила Жанилла. — Одна вода. То ли дело наша горная земляника — красная, пахучая! Я, конечно, дам господину Кардонне банку варенья для его матушки, ежели она не откажется ее принять. — Матушка не пожелает лишать вас такого лакомства, сударыня, — возразил Эмиль Кардонне, которого растрогало наивное великодушие Жильберты, и в глубине души он невольно сравнил искренность и доброжелательность этого бедного семейства с высокомерием своих домашних. — О, — возразила, улыбаясь, Жильберта, — это для нас не лишение! У нас большой запас этой ягоды, и мы можем его еще пополнить. Ежевика здесь не редкость: если мы не поостережемся, она своими колючками проткнет стены и прорастет прямо в комнаты. — А кто виноват, что кустарник нас задушил? — вмешалась Жанилла. — Я ведь сколько твержу, что его нужно срезать! И давно бы срезала, да не дают! — Верно, матушка дорогая, не дают! Я отстояла эти кусты. Они так чудесно украшают наши развалины, что жалко их уничтожать! — Не спорю, с ними красивее, — согласилась Жанилла. — На десять лье в округе не сыщешь такого славного кустарника. А ягода какая крупная! — Слышите, господин Эмиль? — вмешался господин Антуан. — Такая уж наша Жанилла: все, что есть прекрасного, хорошего, полезного и здорового, — все по воле небес произрастает в Шатобрене! — Ей-же-ей, сударь, попробуйте хоть на что пожаловаться! Право — жаловаться-то не на что, — возразила домоправительница. — А я и не жалуюсь, — сказал добряк, — сохрани бог! И дочка и ты — со мною. Чего же мне еще желать для полного счастья? — Ну да! Послушаешь вас — вы всем довольны, а только отвернешься, так вы от пустяка голову вешаете. В вашем положении это не пристало. — В своем положении я никого не виню — все от бога, — печально и кротко возразил господин Антуан. — Если дочь моя примирилась с нашей жизнью, так уж нам с тобою нечего жаловаться на всевышнего. — Я «примирилась»? — воскликнула Жильберта. — Объясните, чего же мне недостает? Я ничего лучшего не желаю! — Я согласен с мадемуазель, — сказал Эмиль, растроганный искренностью и благородством чувств, отразившихся на красивом личике Жильберты. — Уверен, что дочь ваша счастлива, потому что… — Потому что… продолжайте, сударь! — задорно подхватила Жильберта. — Вы хотели объяснить почему — и вдруг замолчали. — Я крайне огорчен, если то, что я скажу, покажется вам пошлым комплиментом, — ответил Эмиль, покраснев не меньше Жильберты, — но я подумал, что, обладая такими тремя сокровищами, как красота, молодость и доброта, трудно не быть счастливой, ибо они завоевывают всеобщую любовь. — Я еще счастливее, нежели вы полагаете, — ответила Жильберта, пожимая одной рукой руку отца, а другой — руку Жаниллы. — Ведь меня любят ни за что — просто так! Не знаю, хороша ли я, добра ли, но уверена, что, будь я даже уродлива и сварлива, батюшка и матушка Жанилла любили бы меня не меньше, чем сейчас. Так что мое счастье — в их доброте и ласке, а не в моих достоинствах. — Верьте мне, это счастье — и в том и в другом, — возразил господин Антуан, обращаясь к Эмилю и прижимая к сердцу дочь. — Ах, господин Антуан, что вы наделали! — воскликнула Жанилла. — Вечно эта ваша рассеянность! Смотрите, вот вы и посадили пятно на рукав Жильберты!.. — Ничего, — возразил господин Антуан. — Я его сам и замою… — Ну уж нет!.. Только размажете. Вы выльете на платье целый кувшин и, чего доброго, утопите дочь. Поди сюда, дитя мое, я вытру пятно. Ненавижу пятна!.. Разве не жаль? Хорошенькое, совсем новенькое платьице испорчено!.. Тут только Эмиль взглянул на одеяние Жильберты. До сих пор он видел лишь ее изящную фигурку и миловидные черты. На ней было светленькое серое платьице из довольно грубого тика и белоснежная косыночка, повязанная вокруг шеи. Жильберта подметила пристальный взгляд гостя и ничуть не смутилась, наоборот: она не без гордости заявила, что платье это ей очень нравится, что оно весьма прочное, не боится ни колючек, ни шипов и что ни одной материи она не носила с большим удовольствием, потому что этовыбор Жаниллы. — Действительно, очаровательное платье! У моей матушки есть точно такое же, — заметил Эмиль. Это была выдумка. Крайне правдивый от природы, Эмиль бессознательно допустил маленькую ложь; и хотя Жильберта поняла это, она была признательна Эмилю за его деликатность. Жанилле польстила похвала ее хорошему вкусу, ибо она гордилась этим своим качеством не менее, нежели красотой Жильберты. — Моя девочка не любит наряжаться, да зато я люблю ее наряжать, — заявила она. — Вы бы первый были недовольны, господин Антуан, если б ваша дочь не была мило и опрятно одета, сообразно с ее положением в свете. — Все наши счеты со «светом» покончены, дорогая Жанилла, и я об этом не жалею, — возразил господин Антуан. — Не обманывайся понапрасну. — А вид у вас такой, сударь, словно вы жалеете, хоть я вам и твержу, что знатность — она как была, так и останется. Да ведь вот вы какой: на все рукой махнули! — Вовсе нет, — возразил владелец замка. — Напротив, я со всем мирюсь. — Да, миритесь! — произнесла Жанилла, вечно искавшая предлога для спора (очевидно из опасения, как бы ее язык и руки не остались без дела). — Подумаешь, какое великодушие — примириться с такой участью! Вас послушать, так действительно поверишь, что для этого надо невесть сколько ума и рассудительности! Чего там! Вы просто неблагодарный человек! — К чему ты все это болтаешь, вздорная твоя голова?! — промолвил господин Антуан. — Повторяю тебе: все хорошо, я давно утешился… — Утешились?! Скажите на милость! Да от чего вам было утешаться? Кто-кто, а вы всегда были счастливчиком. — Ну, положим, не всегда!.. И у меня в жизни можно насчитать немало горьких минут… впрочем, иначе и не бывает. Да и с какой стати я должен быть счастливее других людей, более достойных, чем я? — Вот уж нет! Другие вас не стоят, я это отлично знаю и знаю также, что вам всегда лучше жилось, чем кому другому. Хотите, сударь, я вам докажу, что вы в сорочке родились. — Ну что ж! Если ты можешь это доказать, я буду только рад! — улыбаясь, сказал господин Антуан. — Ах, так? Вот я вас и поймала на слове. Что ж, я начну. Господин Кардонне будет и за судью и за свидетеля. — Пускай говорит, — обратился к Эмилю владелец замка. — Завтрак подходит к концу, и теперь уж никакая сила не остановит Жаниллу. Предупреждаю вас, сударь: она наговорит кучу вздора, да зато увлекательно, живо. Ручаюсь, вы не соскучитесь! — Во-первых, — важно начала Жанилла, желая оправдать хвалебную речь хозяина, — господин Антуан от рождения прозывается графом де Шатобрен! Неплохое имя и немалая честь! — Не много стоит нынче эта честь, — возразил господин де Шатобрен. — А раз я ничего не сумел прибавить к славе моих предков — не велика заслуга и носить такое имя. — Довольно, сударь, довольно, — возразила Жанилла, — знаю, что вы хотите сказать, я сама об этом скажу… Только не мешайте!.. Господин Антуан тут и родился (на всем свете краше места не сыщешь!). Вскормила его одна деревенская женщина, румяная, свежая, кровь с молоком, первая красавица на деревне, — мать нашего Жана Жапплу и моя подружка, хотя я несколькими годами и помоложе ее. Жан так на всю жизнь и остался господину Антуану верен: куда один, туда и другой, словно иголка с ниткой. Туговато Жану сейчас приходится… да кончится же это когда-нибудь… — Благодаря вам!.. — добавила Жильберта, взглянув на Эмиля. И этим наивным и приветливым взглядом она вознаградила его за похвалы ее красоте и туалету. — Если ты пустишься в твои обычные отступления, мы никогда не кончим, — заметил господин Антуан, обращаясь к Жанилле. — Да нет же, сударь!.. Итак я заключаю, как говорит священник из Кюзьона в начале каждой своей проповеди, — итак, господин Антуан был превосходного сложения: в жизни я не встречала такого красивого юноши. Лучшего кавалера во всей округе не сыскать было: все наши дамы это оценили по достоинству, и тому нашлось немало доказательств. — Довольно, довольно, Жанилла, — шутливо прервал ее владелец замка, хотя в голосе его прозвучала печаль. — Стоит ли об этом говорить? — Будьте покойны, — возразила старушка. — Ничего лишнего не скажу… Воспитывался господин Антуан в поместье, в этом старом замке; был этот замок тогда большой и богатый… да и теперь, слава богу, жить можно! Играл наш мальчуган с ребятишками-сверстниками да со своим молочным братом Жаном Жапплу. И таким здоровяком вырос!.. А ну-ка попробуйте, сударь, на какие-нибудь болезни посетовать и назовите мне хоть кого ни на есть, кто в пятьдесят лет был бы вас бодрее и крепче. — Превосходно, но ты умалчиваешь, что я родился во времена смуты и революции и в моем образовании есть большие пробелы! — Позвольте, сударь! Значит, вы хотели родиться лет на двадцать раньше? Да вам бы сейчас семьдесят стукнуло. Вот уж странная причуда! Вы вовремя родились, вам еще, слава господу, жить да поживать!.. А что до образования, так какие там «пробелы»! Отдали вас в коллеж, что в городе Бурже, и учились вы там превосходно. — Напротив, очень плохо! Привычки к умственному труду у меня не было, на уроках я засыпал, памятью похвастаться не мог, самые простые вещи давались мне труднее, нежели другому самые сложные. — Ну так что ж! Зато и заслуга ваша больше, раз вам труднее все давалось. К тому же учености у вас для дворянского звания достаточно: не в священники ведь вас готовили и не в школьные учителя! К чему вам греческий да латынь? Когда вы на каникулы сюда приезжали, вы были молодой человек хоть куда: ловчее вас и сильнее никого не было. Мяч вы закидывали повыше башни, а когда скликали собак, вас в Кюзьоне было слышно. — Все это еще не свидетельствует о слишком глубоких знаниях, — возразил господин Антуан, от души смеясь ее похвалам. — Вы ученье кончали, а тут война началась и с австрияками, и с пруссаками, и с русскими. Сражались вы хорошо. Вон сколько у вас ранений! — А опасных — ни одного! — сказал господин Антуан. — И слава богу! — продолжала Жанилла. — Неужели вам хотелось сделаться калекой и с костылем ходить? Лавры и слава вам и без того достались, а пострадали вы не сильно. — Да нет, Жанилла, уверяю тебя! Какая там слава! Старался я, как мог, но, что ни говори, я все-таки опоздал явиться на этот свет. Родители слишком долго сопротивлялись моему стремлению служить узурпатору, как они называли Наполеона. Только я начал делать карьеру, как пришлось возвращаться домой, «прихрамывая и волоча крыло», в отчаянии и тоске после поражения при Ватерлоо. — Согласна, сударь, что падение императора было вам ни к чему и вы по доброте своей о нем убивались, хоть этот человек не очень-то хорошо с вами обошелся. При вашем имени он должен был бы вас сразу в генералы произвести, а он на вас и внимания не обращал. — Надо думать, — смеясь, возразил господин де Шатобрен, — его отвлекали более серьезные и неотложные обязанности. Однако согласись, Жанилла, что моя военная карьера не удалась, а из-за моего превосходного, как ты говоришь, образования я не слишком годен для какой-нибудь иной. — Вы прекрасно могли бы служить Бурбонам, но не захотели! — Я разделял тогда образ мыслей моего поколения, да, возможно, и теперь мыслил бы так же, если бы пришлось все начать сначала. — Ну и что же, сударь! Кто же вас за это осудит? Если верить тому, что у нас тогда говорили, вы вели себя весьма достойно, и только родители вас осуждали. — Да, родители мои были горды и непреклонны в своих легитимистских взглядах. Ты ведь знаешь, что они отреклись от меня перед лицом грозившей мне беды и весьма мало горевали о том, что я лишился состояния. — А вы показали себя еще большим гордецом: не пожелали их ни о чем просить. — Нет, не из гордости — от беспечности или же из чувства собственного достоинства я не просил у них поддержки. — Всем известно, что состояние вы потеряли, когда судились за отцовское наследство. И если вы проиграли дело, так по своей вине! — И это благороднейший и достойнейший поступок отца! — горячо воскликнула Жильберта. — Дети мои, — возразил господин Антуан, — не следует говорить, что я проиграл дело, — я просто не допустил, чтобы дело дошло до суда. — Конечно, конечно! — подтвердила Жанилла, — Потому что приговор оказался бы в вашу пользу. Все в один голос это утверждали. — Но отец считал, что одно дело обстоятельства, а другое — право ими воспользоваться, — с живостью подхватила Жильберта, обращаясь к Эмилю, — Я хочу, чтобы вы, господин Кардонне, знали эту историю; отец сам, конечно, о ней не расскажет, а вы человек новый в наших краях, откуда же вам знать. Отец был еще несовершеннолетним, когда дед мой наделал долгов. Это были долги чести. Он скончался и не то не успел, не то не позаботился — благо его никто не торопил — с ними расплатиться. Долговые расписки кредиторов не имели перед законом достаточной силы. Но отец, знакомясь с делами, обнаружил среди дедушкиных бумаг одну такую расписку. Он мог бы ее уничтожить: никто не знал о ее существовании. А батюшка, напротив, дал ей ход, продал все фамильные владения и уплатил этот священный долг. Отец воспитал меня в таких же правилах, и я полагаю, что он поступил как должно, хотя многие богачи рассуждали по-другому. Иные считали его простаком и сумасбродом. Но мне будет приятно, если, услышав от какого-нибудь выскочки, что Антуан де Шатобрен разорился по собственной вине, — а в глазах таких людей это величайший позор, — вы будете знать, что подразумевают они под легкомыслием и сумасбродством моего отца! — Мадемуазель, — взволнованно сказал Эмиль, — какое счастье быть дочерью такого человека! Я завидую вашей благородной бедности. — Не делайте из меня героя, дорогое дитя, — сказал господин Антуан, пожимая руку Эмиля. — В суждениях людей всегда есть доля правды, пусть даже по большей части они жестоки и несправедливы. Я всегда был немного расточителен, это верно, ничего не смыслил в делах, не умел вести хозяйство с разумной бережливостью, и если пожертвовал состоянием — невелика заслуга, раз я об этом почти не сожалею. Господин Антуан оправдывался с такой глубокой скромностью, что это нашло в сердце Эмиля живейший отклик: он порывисто склонился к руке, сжимавшей его руку, и приник к ней губами с чувством восхищения, в котором и Жильберта, конечно, играла не последнюю роль. А Жильберта была растрогана этим внезапным порывом более, нежели сама ожидала. Желая скрыть слезинку, повисшую на ресницах, она потупила взор и попыталась принять чинный вид, но, повинуясь неодолимому влечению сердца, чуть было не протянула руку гостю; поборов, однако, этот порыв, она прибегла к наивной уловке: с грацией и простотой, достойной дочери библейского старца, подносящей кувшин с водой к пересохшим устам путника, она вскочила, чтобы переменить Эмилю тарелку. В первую минуту Эмиль был удивлен этим выражением признательности, очень мало отвечавшим условностям общества, в котором он вырос. Но потом он все понял и почувствовал такое волнение, что даже не смог поблагодарить владелицу Шатобрена, так мило ухаживавшую за ним. — После всего сказанного Жанилле придется согласиться, что не всегда я был счастлив, — продолжал господин Антуан, не заметив в поведении дочери ничего необычного. — Тяжба уже началась, когда я обнаружил в старом, развалившемся шкафу записку, в которой батюшка подтверждал свой долг. До той поры я не верил честности кредиторов: мне казалось невероятным, что по несчастной случайности они могли потерять долговые расписки, и я был совершенно спокоен… Мне и в голову не приходило, что Жильберту ждет необеспеченное будущее. Рождение дорогой крошки заставило меня больнее ощутить удар, который, при моей врожденной беспечности, я перенес бы куда легче, будь я один. Оставшись без всяких средств, я решил работать. Но тут мне пришлось сначала туговато. — Верно, сударь, — заметила Жанилла. — Однако вы изо всех сил старались, и, признайтесь, скоро к вам вернулись и хорошее расположение духа, и ваша искренняя веселость! — Благодаря тебе, моя славная Жанилла! Ведь ты меня не покинула. Мы поселились в Гаржилесе вместе с Жаном Жапплу, и этот достойный человек нашел мне работу. — Как, граф, вы были рабочим? — спросил Эмиль. — Конечно, друг мой! Я плотничал: начал с ученика и подручного, а спустя несколько лет стал подмастерьем. Еще года два назад вы могли бы меня видеть в рабочей блузе и с пилой на плече. Я ходил тогда на поденщину вместе с Жаном. — Так это потому… — смущенно произнес Эмиль и запнулся, не решаясь продолжать. — Ну да, потому… я понимаю вас, — ответил владелец замка. — Вы слышали, должно быть: старик Антуан впал в нищету и опустился, жил вместе с рабочими, с ними водился, а заодно и пил по кабакам… Так вот, хочу объяснить вам, как обстояло дело. Я отнюдь не собираюсь прикидываться более мужественным, чем на самом деле. Конечно, какой-нибудь дворянин или местный богач считают, что я обязан был хранить почтенный и скорбный вид, горделиво нести тягостное бремя невзгод, безмолвно трудиться, украдкой вздыхать и краснеть, получая заработанные деньги, — это я-то, привыкший в свое время платить их без счета! — и уж конечно мне, по мнению этих людей, не полагалось делить воскресный отдых с рабочими, хотя именно с ними я трудился всю неделю. Не знаю, может, мои хулители и были правы, но только у меня другой характер. Уж так я устроен, что не способен ни по какому поводу долго предаваться отчаянию или страху. Рос я вместе с Жаном и другими крестьянскими ребятишками — моими сверстниками. В детских забавах держался с ними на равной ноге. И с той поры никогда не разыгрывал перед ними барина. Когда со мною стряслась беда, они приняли меня с распростертыми объятиями, помогали добрым советом, предлагали кров, делились ломтем хлеба, инструментом, заказами. Как же я мог их не любить? Как могло мне их общество казаться низким? Мог ли я не разделять с ними свои воскресные досуги, свой недельный заработок? Конечно, нет! И, словно в награду за мой труд, я вдруг снова обрел способность радоваться и веселиться. Их песни и сборища в беседке из виноградных лоз, где у низенького входа свисает ветка остролиста — эмблема кабачка, их простодушная непринужденность в общении со мною и нерушимая дружба нашего славного Жана, моего молочного брата, наставника в ремесле и утешителя, — все это пробудило меня к новой жизни, которая вовсе не была лишена своей прелести, в особенности когда я достаточно наловчился в работе, чтобы не быть в тягость моим дружкам. — Что и говорить, потрудились вы немало, — заметила Жанилла, — и Жану вскоре очень пригодились. А помню, как вначале он бушевал. Жан у нас человек горячий, нетерпеливый, а господин Антуан уж очень был неловкий! Право, господин Эмиль, вот бы вы посмеялись!.. Жан, бывало, кричит и ругает графа, словно мальчишку-ученика. Ну, а потом, конечно, помирятся, обнимутся… я без слез на них смотреть не могла… Вот и рассказали мы вам всю нашу жизнь и даже поссориться не успели, а я-то собиралась… Конец я сама доскажу, не то господину Антуану только дай волю — он словечка никому не позволит вставить!.. — Говори, Жанилла, говори! — воскликнул господин Антуан. — И прости, пожалуйста, что я так долго мешал твоему красноречию.X Добрый поступок
— Если верить господину Антуану, — начала Жанилла, — так выходит, что мы были вовсе без средств. Но ведь это длилось недолго. Через несколько лет распродали мы по частям землю Шатобрена и расплатились с долгами. И вот, когда мы выбрались из беды, оказалось, что у господина Антуана остались кое-какие деньги, так что, если бы их поместить с умом, мы могли бы получить не меньше тысячи двухсот франков ренты. Не такой уж пустяк, как видите! Но при доброте и великодушии господина Антуана деньги у него живо бы улетучились. Вот тут «наша добрая Жанилла», которая с вами беседует, и сообразила, что следует взять бразды правления в свои руки. Она поместила деньги, и неплохо. А что Жанилла вам тогда сказала? Помните, сударь, что я вам сказала? — Прекрасно помню, Жанилла, ты сказала тогда разумную вещь. Повтори-ка сама! — Я сказала: «Эге, сударь, вот когда можно вам пожить, ничего не делая. Но вам это наскучит, вы вошли во вкус, привыкли работать. Вы еще молоды и здоровы и, значит, можете еще немножко потрудиться. Есть у вас дочь — настоящее сокровище по уму и красоте. Надо подумать о том, как бы дать ей образование; отвезем-ка ее в Париж, устроим в пансион, а вы еще несколько лет поплотничаете». Господин Антуан ничего лучшего и не желал. Надо по справедливости сказать: он на свою работу никогда не жаловался. Но, по-моему, понаслушавшись этих славных поселян, он и сам стал рассуждать слишком уж по-простецки. «Раз, говорит, мне суждено жить в деревне и работать со всеми наравне, пусть и дочь моя будет воспитана как деревенская хозяюшка, пусть научится читать, шить, прясть, домовничать». Как бы не так! Я и слышать ничего не хотела. Могла ли я стерпеть, чтобы Жильберта не получила воспитания, как подобает барышне благородного происхождения? Господин Антуан уступил. Вот Жильберта и обучалась в Париже. Уж мы ничего не пожалели, чтобы ум ее и таланты образовать; она же, ангелочек наш, изо всех сил старалась. А как минуло ей семнадцать, я и говорю господину Антуану: «Гм, гм, — говорю я, — сударь, не пожелаете ли вы со мною прокатиться в сторону Шатобрена?» Господин Антуан согласился, но, когда очутились мы среди развалин, загрустил. «Зачем ты меня привезла сюда, Жанилла? — спросил господин Антуан с глубоким вздохом. Я знал, что мое бедное старое родовое гнездо разорено, и даже в него не заглядывал: не хотелось мне входить в замок, видеть своими глазами все это опустошение. Не то чтобы гордыня привязывала меня к этим местам, но ведь здесь протекли мои юные годы, здесь был я счастлив, здесь умерли мои родители. Если бы новые владельцы поселились тут и восстановили замок, я бы вполовину меньше горевал, ибо мы любим вещи так же, как должны бы любить людей: скорее ради них самих, нежели ради себя. Неужто тебе приятно напоминать мне, во что превратила эта мерзкая шайка барышников жилище моих предков?» «Сударь, — ответила я, — все-таки следовало вам сюда приехать, оценить понесенный ущерб и установить, какие затраты потребуются, если мы с вами пожелаем отстроить замок. Представьте себе, что в одну злосчастную ночь буря разорила ваше гнездо. Разве вы с вашим характером стали бы плакаться? Нет, вы бы все сделали, чтоб его восстановить». «К чему говорить об этом, — возразил господин Антуан. — На какие средства стану я восстанавливать наш фамильный замок? Будь даже у меня деньги, все равно бы это ни к чему не привело, раз этот жалкий остов и тот мне больше не принадлежит». «Погодите, сударь, — сказала я, — сколько с вас просили, когда вы надумали выкупать дом с приусадебным участком, фруктовым садом, парком, холмом и лужайкой подле реки?» «Жанилла, разве я всерьез об этом спрашивал? Мне просто хотелось убедиться, что такая богатая усадьба идет за бесценок. За все это разоренное гнездо с меня запросили десять тысяч франков, ну, я и повернул от ворот, так как десяти тысяч у меня и в помине не было». «Ну так вот, сударь, — говорю я, — нынче речь идет не о десяти тысячах, а всего о четырех. Они рассчитывали, что вы не выдержите характера и отдадите последние деньги, лишь бы водвориться на развалинах ваших владений. Потому-то с вас и заломили десять тысяч за имение, которое и половины того не стоит да никому, кроме вас, и не нужно. Но, когда увидели, что вы отказываетесь, стали посговорчивей. Я действовала втихомолку, без вашего ведома, через третьих лиц. Стоит вам сказать «да» — и завтра вы хозяин Шатобрена». «Но к чему мне это, голубушка Жанилла?! — сказал господин Антуан. — Что мне делать с этой грудой камня да стенами без окон и дверей?» Я объяснила хозяину, что квадратный флигель еще почти цел: своды сохранились хорошо, внутри помещение совсем сухое и надо лишь покрыть черепицей крышу, сколотить двери и рамы да обзавестись скромной обстановкой. Весь расход франков на пятьсот, самое большое. Тут господин Антуан как закричит: «Ты мне, Жанилла, таких мыслей не внушай! Неужели тебе хочется, чтобы мне жизнь вконец опротивела? Ведь все это пустые мечтания! Нет у меня ни десяти, ни пяти, ни четырех тысяч франков! Чтоб их скопить, я должен еще лет десять лишения терпеть! Лучше уж пусть останется все как есть». «Ну кто же вам сказал, сударь, что у вас нет шести, даже шести с половиной тысяч? Да знаете ли, сколько у вас есть? Спорить готова, что нипочем не угадаете!..» Тут господин Антуан прервал Жаниллу: — Это верно: я ничего не знал, и по сию пору не знаю, и никогда мне не догадаться, каким это образом при доходе в тысячу двести франков, оплачивая в течение шести лет воспитание дочери в Париже и живя в Гаржилесе, правда простым рабочим, но в очень чистеньком домишке, где Жанилла сама хозяйничала… Добавлю, что, хотя кошелек был в ее руках, она разрешала мне по воскресеньям прокутить с приятелями франка два-три… Нет, нет, никогда мне не понять, откуда у меня могло взяться шесть тысяч сбережений! Это настолько невероятно, что я вынужден объяснить такое чудо господину Эмилю Кардонне, если он уже сам его не разгадал. — Да, граф, я догадываюсь, — ответил Эмиль. — Мадемуазель Жанилла, служа у вас еще в ту пору, когда вы были богаты, отложила небольшую сумму про черный день либо имела свои деньги, и вот она… — Нет, сударь! — поспешно возразила Жанилла. — Совсем не так!.. Вы забыли, что, плотничая, господин Антуан зарабатывал на жизнь, и, верно, догадываетесь, что пансион нашей Жильберты был не из самых дорогих в Париже, хоть могу похвалиться — неплохой был пансион… — До чего же ты отважно лжешь, матушка Жанилла! — сказала Жильберта, целуя ее. — Но что бы ты ни говорила, мы с отцом всегда будем считать, что Шатобрен откуплен на твои деньги и в действительности принадлежит тебе, а мы, хоть ты и приобрела его на наше имя, — только твои гости. — Да нет же, нет, Жильберта! — прервала ее великодушная Жанилла. Странная это была старушка: при всяком удобном случае не прочь прихвастнуть, показать, что все понимает, во всем разбирается, но тут, оберегая господское достоинство ревнивей, чем сами господа, она решительно отрицала самый великодушный в своей жизни поступок. — Да нет же, говорю я вам, я тут ни при чем. Виновата я, что ли, что твой папаша до пяти сосчитать не умеет, а ты вся в него? Да что тут! Оба вы не знаете ни ваших доходов, ни расходов. Дай вам волю — поглядела бы я, как вы тут выпутаетесь! Я без обмана говорю, так оно и есть: вы здесь хозяева, я же если и могу чем похвастать, так это порядком в делах и бережливостью. А для чего мне было хлопотать? Чтобы вы, сударь, проснувшись в одно прекрасное утро, узнали, что вы богаче, нежели полагаете. Ну так вот, — продолжала Жанилла, — сейчас докончу. Послушайте, господин Эмиль! Откупили мы замок. Жан Жапплу и господин Антуан сами, своими руками, восстановили в этом флигеле все, что требовалось по плотничьей и столярной части, — на это ушло не более полугода; а я тем временем отправилась в Париж за нашей дочкой, счастливая и гордая тем, что привезу ее в родовой замок, о котором у бедняжки сохранились лишь детские воспоминания. С той поры мы живем — не тужим, и потому, когда господин Антуан сетует на что-либо, я всегда его браню. И в самом деле, кому и когда так везло, как ему? — Да я ведь никогда ни на что и не жалуюсь, — возразил господин Антуан. — Зря ты меня упрекаешь. — Нет простите, у вас такой иногда вид, словно вы хотите сказать: вот, мол, теперь уж не прежнее житье. Ан и ошибаетесь! Разве, имея тридцать тысяч ливров дохода, вы были богаче? Вас обворовывали, грабили, а вы и ведать ничего не ведали. А нынче все необходимое у вас есть, и жуликов бояться нечего: всякий знает, что вы луидоры под тюфяком не прячете. Было у вас десять человек прислуги, все, как один, обжоры и пьяницы, — одно слово, парижская челядь! А нынче у вас только господин Сильвен Шарассон. Правда, тоже порядочный лентяй и обжора! — Последние слова Жанилла произнесла погромче, чтобы их мог услышать на кухне Сильвен. Затем она добавила, понизив голос: — Но его дурачества вас только смешат, и, если он что и разобьет, вы не сердитесь, вам даже приятно, что не вы самый неуклюжий в доме. Было у вас несколько выездов, да только лошади вечно стояли нечищеные, неухоженные, для езды не пригодные. А нынче у вас старушка Искорка — на всем свете лучшей лошадки не сыщешь. Чистенькая, выносливая — глаз радуется! А уж неприхотлива! И сухой лист жует, и камыш — что твоя коза! А наши козы! Где еще такие красавицы найдутся? Обе что твоя лань! Молоко превосходное, а забавницы какие, попрыгуньи — знай скачут среди развалин! Вот вам и развлечение по вечерам. А винный погреб? Был он у вас полнехонек, да ваши мошенники лакеи потягивали винцо в свое удовольствие, вам же одни опивки доставались. А нынче пьете вы кларет, полезное прохладительное местное винцо, — оно и в прежнее время было вам по вкусу, и если я сама догляжу, так оно прозрачное получается, как ключевая вода, от него и резей в желудке не бывает. Одеждой вы, что ли, недовольны? В прежние времена гардероб ваш моль поедала, и жилеты выходили из моды раньше, чем вы их успевали надеть: вы ведь никогда наряжаться не любили… Нынче, правда, у вас только и есть, что самое необходимое: легкая одежда на лето да теплая на зиму. Наш деревенский портной прекрасно на вас шьет и никогда нигде не обузит. Сознайтесь-ка, сударь, что все к лучшему! Забот у вас нет, вы просто счастливчик! Я уж не говорю о другом: дочка у вас красавица, и она счастлива, что живет подле вас!.. — И еще со мной моя несравненная Жанилла, которая день и ночь готова печься о счастье ближних, — весело подхватил растроганный господин Антуан. — Ну что ж, ты права, Жанилла! Я и раньше знал, что ты всегда права. Обидно, когда ты в этом сомневаешься. Я был несправедлив: сам вижу, что судьба меня балует. И когда бы не тайная забота, о которой ты знаешь, — хорошо, что ты не упомянула о ней, — мне ничего больше от жизни не надо. Что ж, пью за твое здоровье, Жанилла! Ты говорила словно по писаному. И за ваше также, господин Эмиль! Вы богаты и молоды, образованны и рассудительны — вам нечего завидовать другим, но пожелаю вам такой же счастливой старости, как моя, и таких же сердечных привязанностей! Впрочем, довольно толковать о себе, — добавил господин Антуан, ставя кружку на стол — Не следует забывать и о наших друзьях. Вспомним о лучшем из них — после Жаниллы, конечно, — поговорим о Жане Жапплу и его делах. — Ну что ж, поговорим! — раздался чей-то зычный голос, заставивший всех вздрогнуть. Обернувшись, господин Антуан увидел на пороге комнаты Жана Жапплу. — Как, Жан, средь бела дня?! — воскликнул изумленный хозяин. — Да, среди белого дня и к тому же через главные ворота, — ответил плотник, утирая лоб. — Ну и бежал я! Скорей, матушка Жанилла, глоток вина — я задыхаюсь от жары! — Бедняжка Жан! — воскликнула Жильберта, поспешно захлопывая двери. — Так за тобою гнались? Куда бы тебя спрятать? Ведь могут прийти за тобою и сюда! — Да нет же, нет! — сказал Жан. — Нет, моя милая крошка! Незачем запирать двери, никто за мною не гонится. Я принес добрую весть, потому-то и спешил: я свободен, счастлив, спасен! — Бог мой! — воскликнула Жильберта, обхватив своими прелестными ручками запыленную голову Жана. — Значит, моя молитва услышана! Я так молилась за тебя нынче ночью! — Ангелочек мой небесный! Вот ты мне радость и вымолила, — сказал Жан; он не успевал отвечать на ласки Жильберты, на расспросы Антуана и Жаниллы. — Да скажи ты наконец, кто вернул тебе свободу и покой? — продолжала Жильберта, после того как плотник залпом осушил кружку плохонького виноградного вина. — Никогда не догадаетесь; а ведь он взял меня на поруки и штраф заплатит. Ну-ка! Держу пари, что не угадаете! — Священник из Кюзьона? — колебалась Жанилла. — Человек он хороший, только вот проповеди у него немного путаные. Но он не так богат. — А ты как думаешь, Жильберта? — спросил Жан. — Кто же это, по-твоему? — Должно быть, госпожа Роза, сестра нашего приходского священника. У нее доброе сердце… Но ведь она не богаче брата. — Еще бы! Где ей!.. А вы, господин Антуан? — Теряюсь в догадках, — ответил владелец замка. — Да говори же скорее, не томи нас. — Держу пари, что я угадал, — воскликнул Эмиль. — Готов поспорить, что это отец! Я с ним беседовал и знаю, что он хотел… — Простите, молодой человек! — перебил его плотник. — Не знаю, чего хотел ваш папаша, но зато отлично знаю, чего не хочу я: не хочу ни в чем обязываться человеку, который чуть меня в тюрьму не упрятал, когда я отказался принять его великие благодеяния, а условия он ставил жесткие… Благодарствуйте! Вас я уважаю, но отца вашего… Не будем о нем говорить! Никогда больше не будем о нем говорить!.. Ну, так кто же? Так и не догадались? А что бы вы сказали, если б я назвал господина де Буагильбо? Эмиль уже не впервые слышал это имя. Господина де Буагильбо считали в Гаржилесе одним из богатейших местных землевладельцев. На обитателей Шатобрена имя маркиза произвело такое же действие, как если бы через них пропустили электрический ток. Жильберта вздрогнула; Антуан и Жанилла переглянулись, не в силах вымолвить ни слова. — Это вас, кажется, удивляет? — спросил плотник. — По-моему, этого быть не может! — ответила Жанилла. — Насмехаешься ты, что ли? Господин де Буагильбо, наш общий враг! — Зачем так говорить? — возразил господин Антуан. — Господин де Буагильбо никому не враг; он всегда рад ближнему сделать добро, а уж никак не зло! — Я не сомневаюсь, что он способен на доброе дело, — сказала Жильберта, — я ведь говорила тебе, матушка. Он просто несчастный человек, это по лицу видно. Но… — Ты его не знаешь, и не тебе о нем судить! — возразила Жанилла. — А ну-ка, Жан, расскажи, каким это чудом ты сумел к нему подойти? Ведь более холодного и черствого гордеца на всем свете нет! — Всему помог случай, или, вернее господь бог, — ответил плотник. — Шел я лесом, вдоль владений маркиза, — они отделены от того места только живой изгородью да небольшой канавкой. Гляжу поверх кустов и любуюсь: до чего в парке красиво, уютно, чисто, какой во всем порядок! Иду и думаю: вот в этом парке, да и в замке бывал я словно у себя дома; и так вдруг мне взгрустнулось… Я ведь работал там без малого лет двадцать и к маркизу относился по-дружески. Он, правда, любезностью никогда особенной не отличался, но в те времена нередко бывал в хорошем расположении духа. Однако ж лет двадцать нога моя туда не ступала, и после того, что между нами произошло, у меня бы нипочем смелости не хватило попросить у маркиза пристанища. Размышляю я так, вдруг слышу конский топот и вижу: два стражника прямо на меня скачут. Они меня еще не приметили, но, пересеки я им дорогу, увидели бы непременно, да и знакомы со мною слишком уж хорошо. Где тут долго раздумывать? Пробрался я сквозь изгородь, проскользнул, как лиса, между кустов и очутился в парке Буагильбо, вытянулся вдоль ограды и лежу тихонечко; а стражники едут по дороге и даже не обернутся в мою сторону. Только они немного отъехали, я встал и хотел улизнуть тем же путем, каким пришел, вдруг чувствую — кто-то меня хвать за плечо! Оборачиваюсь и сталкиваюсь нос к носу с господином де Буагильбо; лицо у него грустное, а голос замогильный: «Ты что здесь, говорит, делаешь?» «Черт побери! Вы же видите, маркиз, — прячусь!» «А почему?» «Потому что стражники рядом». «Ты, значит, преступник?» «Ну да! Поймал двух кроликов да зайца застрелил». Вижу я, что много расспрашивать он меня не собирается, и быстро изложил ему мои злоключения, потому что вы сами знаете, какой это человек: у него голова чем угодно занята, только не тем, о чем ему толкуют. Просто не знаешь, слушает он или нет: вид у него такой, словно он вовсе и не слышит. Давненько я его не видал, ведь он сидит у себя в парке безвылазно, словно крот в норе, — к нему и не доберешься! Показалось мне, что он сильно постарел, ослаб, хоть и держится прямо, как тополь, но исхудал до того, что совсем прозрачный стал, а борода побелела, будто у старого козла. Больно мне было на него глядеть, да и досадно: я с ним говорю, а он как будто и не слышит, знай выдирает сорняки скребком, с которым никогда не расстается. Я иду за ним по пятам и все толкую про мои невзгоды — не затем, чтобы о помощи просить, об этом я и не думал, а просто чтобы убедиться, сохранил ли он ко мне хоть немного дружеского расположения. Наконец оборачивается он в мою сторону и говорит, не глядя на меня: «А почему ты не просил, чтобы за тебя поручился кто-нибудь из деревенских богачей?» «Черт побери! — отвечаю я ему. — Нет больше в Гаржилесе богачей». «А господин Кардонне, который там недавно поселился?» «Этот хоть и богат, да ведь он мэр — он-то и хочет меня арестовать». Минуты три, не меньше, он молчал; я уж думал, он обо мне забыл, и собрался уходить; вдруг он говорит: «Почему же ты ко мне не пришел?» «Вот еще! — выпалил я. — Вы сами знаете почему». «Нет, не знаю». «Как это не знаете? Да вы разве забыли? Поработал я у вас немало, всегда вы мною довольны были, да и с чего бы вам быть недовольным! Только в одно прекрасное утро призываете вы меня к себе в кабинет да и говорите: «Вот тебе расчет, можешь идти». Я вас спрашиваю, когда мне снова приходить, а вы отвечаете: «Никогда». Мне это, господин Буагильбо, конечно, пришлось не по душе; стал я расспрашивать, чем я перед вами провинился, а вы тогда не соблаговолили даже рта раскрыть, только на дверь указали. Вот уж двадцать лет с тех пор прошло; вы, может, об этом и позабыли, но я-то не забыл. Уж очень сурово и несправедливо поступили вы с рабочим человеком, а я ведь трудился как умел, не хуже других. Подумал я сначала, что вы попросту чудите, пройдет, мол, это. Но ждал я, ждал — так вы меня и не позвали. А я чересчур горд, чтобы просить у вас работы. Впрочем, работы у меня хватало, всегда завален был по горло. Да и нынче, не скрывайся я в лесах, у меня в заказах недостатка не было бы. А всего обиднее, что прогнали вы меня, словно пса, хуже того — словно бездельника или вора, и оправдаться даже не дали. Я подумал: может, нашелся у меня враг в вашем доме и невесть что на меня наговорил. Кто он, невдомек мне было, потому у меня, кроме стражников да акцизных, других врагов не водится. Я смолчал, никому не плакался, вас жалеючи, раз вы так легко наговорам верите; но я к вам всей душой был расположен, и ваша несправедливость меня огорчила». Господин де Буагильбо будто меня и не слышит. Но только я кончил, он меня безразличным таким тоном спрашивает: «Сколько тебе штрафа платить?» «Тысячу франков, не считая проторей». «Поди скажи вашему мэру… господину Кардонне — так, кажется? — пусть пришлет доверенное лицо, чтоб я мог уладить твое дело. Скажешь ему, что я болен, не выхожу и потому прошу его сделать мне это одолжение». «Так вы согласны взять меня на поруки?» «Нет, я заплачу за тебя штраф. Можешь идти». «Когда же мне прийти, чтоб свой долг отработать?» «Работы у меня нет, приходить незачем». «Так вы хотите подать мне милостыню?» «Нет, просто оказать тебе небольшую услугу, которая мне ничего не стоит. Довольно, иди». «А если я не желаю принимать ее?» «Напрасно». «Вы и благодарности не хотите?» «Ни к чему она мне». Тут он попросту повернулся ко мне спиной и зашагал прочь, а я за ним. Разводить разные там любезности с ним не приходится, поэтому я и говорю: «Господин Буагильбо, разрешите пожать вашу руку!» — Что? Ты осмелился ему так сказать! — воскликнула Жанилла. — Ну да. А почему бы мне не осмелиться? Это самое лучшее, что я мог сказать. — Что же он ответил? Как поступил? — спросила Жильберта. — Не задумываясь взял и пожал мне руку, да так крепко; а у самого пальцы не гнутся и холодные как лед. — Что же он сказал? — осведомился господин Антуан, не без волнения слушая рассказ Жана. — Сказал: «Убирайся!» — ответил плотник. — Видно, это у него самое вежливое словечко. Он от меня чуть не бегом пустился, ноги у него такие тощие да длинные. А я поспешил сюда, чтоб поскорее все вам пересказать. — Ну, поеду к отцу и сообщу ему о намерениях господина да Буагильбо, — сказал Эмиль. — Пусть он сейчас же и пошлет кого-нибудь к нему. — Нет, знаете ли, так, по-моему, ничего хорошего не получится, — ответил плотник. — Отец ваш на меня сердит. Штраф ему придется принять, ну а вот насчет тюрьмы — это уж в его власти. Могут меня для острастки посадить за бродяжничество, пусть даже на два-три дня… но ведь и это невелика радость! — О, конечно! — воскликнула Жильберта. — Неужто жандармы поведут Жана в тюрьму? Он никогда не снесет такого унижения! Еще натворит чего-нибудь! Господин Эмиль, вы не должны этого допустить!.. Поговорите с вашим батюшкой, попросите его, скажите ему… — Ах, сударыня! — с горячностью возразил Эмиль. — Напрасно вы смотрите на моего отца глазами Жана., В этом случае он несправедлив. Я убежден, что отец сегодня же вечером либо завтра сделал бы для Жана то же, что и господин Буагильбо. А что касается преследования за бродяжничество, головой ручаюсь, что… — Если вы ручаетесь головой, почему бы вам сейчас же не заехать к господину де Буагильбо? — спросил «Жан. — Это в двух шагах отсюда. Я буду спокойней, когда вы с ним договоритесь. Верю, что вам это удастся. Признаюсь, если я хоть одну ночь проведу в тюрьме, я ума решусь. Божье дитя Жильберта верно сказала, — : добавил он, указывая на девушку. — Она-то меня знает! — Иду немедля, — ответил Эмиль, подымаясь и бросая Жильберте пламенный взгляд, исполненный воодушевления и преданности. — Вы проводите меня, Жан? — Конечно, — ответил плотник. — Да, да, поспешите! — воскликнули одновременно Жильберта, ее отец и Жанилла. Эмиль понял, что Жильберта довольна им, и бросился бегом на конюшню за своим Вороным. Ведя лошадь под уздцы, он неторопливо спускался вместе с плотником по тропинке, когда их догнал господин де Шатобрен и, остановив Эмиля, не без смущения произнес: — Дитя мое, вы человек тонкой души, вам я могу довериться… хочу предупредить… может быть, это и не важно… но вы должны знать… Дело в том, что… по тем или иным причинам… одним словом… я в ссоре с господином Буагильбо… Так что не стоит говорить ему обо мне… Избегайте произносить при нем мое имя и не говорите ему, что были у меня: это может испортить ему настроение и охладить его добрые намерения в отношении Жана. Эмиль пообещал молчать и, погрузившись в размышления, в которых образ прекрасной Жильберты занимал куда больше места, чем судьба его подопечного и предстоящий разговор, последовал за провожатым к поместью маркиза.XI Тень
Однако по мере приближения к замку Буагильбо Эмиль все больше и больше задумывался над тем, с каким превосходным, а быть может и странным, человеком ему предстоит столкнуться. Он невольно прислушивался к тому, что толковал Жан, который с чисто крестьянским здравомыслием пытался найти разгадку этой таинственной личности. Из его довольно противоречивых и сбивчивых пояснений Эмиль мог почерпнуть только то, что маркиз де Буагильбо несметно богат и ничуть не жаден, хотя порядок любит. Он щедр и благотворительствует, насколько это позволяет его нелюдимость, — то есть помогает беднякам, которые к нему обращаются, но никогда не интересуется невзгодами и горестями своих подопечных и оказывает всем такой холодный и мрачный прием, что без крайней нужды никто за помощью к нему не обращается. Черствым, бесчувственным его не назовешь: никогда он просителя не прогонит, не подвергнет сомнению его право на милостыню, но у каждого сердце сжимается и леденеет в его присутствии, — таким он кажется рассеянным и ко всему равнодушным. Редко он кого-нибудь распекает, никогда никого не наказывает. Жапплу, пожалуй, единственный, с кем он поступил так сурово. И теперь, раздумывая о том, как маркиз поспешил уладить его дело, Жан пришел к заключению, что, будь сам он менее гордым и покажись на глаза господину де Буагильбо раньше, тот и не вспомнил бы о минутной причуде, повинуясь которой когда-то прогнал плотника. — Но есть один человек, — добавил Жан, — на которого господин де Буагильбо зол еще больше, чем на меня, хотя никогда не пытался ему повредить. Я говорю о господине Антуане. Поссорились они крепко, и раз уж господин Антуан сам вам про то намекнул, могу сказать, сударь: многие сочли тогда, что маркиз свихнулся. Подумать только! Двадцать лет был он не только соседом, но другом, советчиком, чуть ли не отцом родным господину Антуану де Шатобрен, и вдруг — нате вам! — повернулся к нему спиной и захлопнул у него перед носом Дверь!.. И никто, даже сам господин Антуан, не мог сказать, в чем тут дело… Уж во всяком случае, предлог такой был пустячный, что только сумасшедший мог к нему придраться. Иного объяснения не найдешь. Вышло все из-за охоты: господин Антуан нарушил правила, охотясь на землях маркиза. И заметьте, с незапамятных времен охотился он в поместьях маркиза как в своих собственных: ведь они были друзья-приятели, а господин де Буагильбо ни разу в жизни ружья в руки не брал, ни одной куропатки не подстрелил и потому ничего дурного не видел в том, что друзья вместо него поохотятся. Да к тому же он господина Антуана не предупредил, что запрещает ему на своих землях стрелять. С того времени прошло, пожалуй, лет двадцать — оба соседа ни разу не свиделись, ни разу не поговорили, и господин де Буагильбо даже имени господина де Шатобрен слышать не может. А господин Антуан тоже заупрямился: хоть и мучается, но вида не показывает, не желает сделать первый шаг; и с тех пор они с маркизом друг друга избегают. Заметьте, что и меня-то маркиз как раз в те времена прогнал. Думаю, он на мне гнев сорвал, или же тут другое было: знает он, что я с детства к господину Антуану привязан, вот и побоялся, как бы я за того не вступился — дерзости мне ведь не занимать — да и не разругал бы господина Буагильбо за его причуду. Так оно и есть: я за словом в карман не полезу и уж конечно выложил бы маркизу все, что у меня на душе. Вот он и решил меня опередить — иначе я его суровость объяснить не сумею. — У маркиза есть семья? — спросил Эмиль. — Да нет, сударь. Женился он на одной своей бедной родственнице, очень красивой девице и чуть ли не вдвое его моложе. Женился будто по любви, да по его поведению вы бы этого не сказали. Какой был, таким и остался — ни веселей, ни обходительней, ни любезней не стал. Так и продолжал он жить, точно медведь, — иногослова не подберешь, прости господи! Пожалуй, единственно, кто у них в доме бывал, так это господин Антуан. Маркиза в конце концов до того соскучилась, что в один прекрасный день уехала в Париж, а супруг и не подумал за нею следовать или ее вернуть. Там она и умерла, в молодых еще годах, не оставив ему детей. И с той поры, должно быть, у ее мужа от тайной печали в уме помутилось или нашел он в таком уединении утеху — живет в своем замке, словно в тюремном заключении. Всегда один-одинешенек, даже пса при нем нет, не то что друга. Родичи его почти все перемерли, наследников как будто тоже нет. Так что трудно сказать, кому его богатства достанутся, когда он умрет. — Очевидно, он просто маньяк, — сказал Эмиль. — Как вы говорите? — переспросил плотник. — Я говорю — не в своем уме. — Да уж верно, что не в своем! — подтвердил Жан. — Только отчего же это с ним стряслось? Никто не знает. Одна у него страсть — это парк: он его сам разбил, насадил деревья и никуда из него шагу не ступит. Я думаю, он и спит там стоя или же на ходу: иной раз видишь, как он ночами шагает по аллеям, словно привидение. Потому никто и не смеет к нему через ограду за яблоком или вязанкой хвороста перелезть. Тропинка, которой они шли, подымалась по склону горы, и, подойдя ближе к парку, Эмиль смог поверх ограды увидеть краешек прекрасного уголка. Юноша был восхищен красотой, великолепием парка, тенистой прохладой, удачным расположением зеленых беседок, свежестью лужаек, изящными очертаниями причудливых склонов, которые мягкими уступами спускались к берегу небольшой речонки, одного из стремительных притоков Гаржилесы. «Нет! Сумасшедший не мог бы создать такой рай земной и так удачно использовать красоты природы», — подумал Эмиль. Юноше казалось, что только душа поэта способна была дать жизнь столь прелестному уголку. Но вид замка опроверг все его предположения: трудно было представить себе жилище более холодное, уродливое и отталкивающее, чем замок Буагильбо. Позднейшая перестройка несколько изменила прежний его облик, но безупречный порядок, поддерживаемый вокруг, еще сильнее подчеркивал угрюмость здания. Жан остановился на тропинке у ограды парка, а Эмиль, дав ему несколько превосходных сигар, чтобы тот не соскучился в ожидании, направился ко входу в замок по дорожке, приводившей в отчаяние своей безукоризненной опрятностью. Ни кустик, ни веточка плюща не скрашивала наготу суровых стен серовато-стального цвета, и лишь одна-единственная архитектурная деталь привлекла взор Эмиля: огромный щит с гербом Буагильбо над решетчатыми воротами, восстановленный и обновленный позднее, нежели все здание, — должно быть, в годы реставрации Бурбонов; во всяком случае, топорное обрамление никак не соответствовало изяществу самого герба. Эмиль сделал отсюда вывод, что маркиз весьма дорожит своей родовитостью и старинными привилегиями. Юноша долго звонил у входа в парк, но калитка не отворялась; наконец она медленно повернулась на петлях — очевидно, с помощью пружины, приведенной в действие издали, так как у входа никто не появился. Привязав лошадь, молодой человек вошел, и калитка с легким стуком захлопнулась за его спиной, будто невидимая рука защелкнула за ним ловушку. Уныние, даже страх овладел Эмилем, когда он, словно пленник, шел по огромному пустынному двору, посыпанному ярко-желтым песком и безмолвному, как монастырское кладбище, — однообразные, похожие одно на другое здания да несколько тисов у главного входа, подстриженных в виде конуса, усиливали это сходство. К тому же — ни ароматного цветка, ни виноградной лозы, обвившейся вокруг окон, ни паутины на рамах, ни треснувшего стекла, ни человеческого голоса, ни даже петушиного крика или собачьего лая, ни голубя, ни клочка мха на черепице; думаю, что даже муха, случайно залетевшая во двор замка Буагильбо, и та не посмела бы здесь прожужжать. Эмиль озирался вокруг, ища, к кому бы обратиться, но на свежеразровненном песке не было видно и следа человеческой ноги. Наконец до него донесся чей-то слабый, дребезжащий голос, не очень любезно осведомившийся: — Что вам угодно, сударь? Эмиль долго оглядывался по сторонам, стараясь понять, откуда исходит этот голос, и наконец заметил в окошке подвального этажа старательно напудренную белую старческую голову со светлыми, словно невидящими глазами. Он подошел ближе, надеясь, что его услышат, но слух старика дворецкого ослабел не меньше, чем его зрение, и на все расспросы гостя он отвечал невпопад. — Парк можно осматривать только по воскресеньям, — твердил он. — Потрудитесь прийти в другой раз. Юноша вручил ему визитную карточку, и старик, выглядывавший из подземелья, медленно вытащив из кармана очки, столь же медленно стал ее изучать. Затем он исчез и появился уже в дверях первого этажа. — Пожалуйста, сударь, — сказал он. — Маркиз приказал принять особу, которая явится от господина Кардонне… господина Кардонне из Гаржилеса, не правда ли? Эмиль утвердительно кивнул головой. — Вот и чудесно, сударь, — повторил старый слуга, учтиво кланяясь и, по-видимому, весьма довольный тем, что ему можно быть вежливым и гостеприимным, не нарушая полученных приказаний. — Маркиз не предполагал, что вы прибудете так скоро, он ждал вас не раньше завтрашнего дня. Маркиз в парке. Я побегу доложить. Но прежде разрешите просить вас пожаловать в гостиную. Нужно сказать, что в устах дворецкого слова «я побегу» прозвучали несколько самонадеянно. По походке и медлительным движениям его легко можно было принять за столетнего старца. Он подвел Эмиля к низенькому и узкому входу в башенку и, медленно выбрав среди связки нужный ключ, пригласил гостя следовать за собою. Они поднялись по лестнице и остановились перед другой дверью, блиставшей двойным рядом гвоздей с крупными шляпками и запертой на ключ подобно первой. Опять поворот ключа — и, пройдя длинный коридор, старик уже третьим ключом отпер парадные покои. Молодой человек шагал за ним через вереницу сумрачных комнат; после яркого солнечного света ему показалось, что он попал в склеп. Наконец они вошли в просторную залу, и слуга, придвинув гостю кресло, сказал: — Ежели желаете, сударь, я могу открыть ставни. Юноша знаком дал ему понять, что это излишне, и старик удалился. Когда глаза Эмиля освоились с полумраком, наполнявшим залу, он поразился ее великолепием. Все — мебель, безделушки, ковры — было времен Людовика XIII; в каждой мелочи чувствовался верный глаз любителя старины. Ничто не было забыто: от подрамников для зеркал и до последнего гвоздика — все было выдержано в едином стиле. Подлинная старина! Пусть кое-что поизносилось и потускнело от времени, но нигде ни пятнышка; роскошь удивительным образом сочеталась здесь с простотой. Эмиль был восхищен. Лишь знаток мог бы проявить такой безупречный вкус. Только много позже юноша узнал, что страх перед любой переменой являлся, по-видимому, наследственной чертой в роду Буагильбо и этому страху обязаны были владельцы замка тем, что здесь сохранились в полной неприкосновенности сокровища, которые, в угоду современной моде, скупают за бешеные деньги антиквары, чем придают такую привлекательность и великолепие своим лавкам. Но удовольствие, с каким Эмиль осматривал эти редкости, сменилось вскоре ощущением холода и чрезвычайной грусти. Угнетало не только окружающее безмолвие, не только леденящий воздух жилища, наглухо закрытого от щедрых солнечных лучей. В этом извечном, нерушимом порядке, в этой изящной роскоши, которой никому не дано было наслаждаться, чувствовалось нечто кладбищенское. Достаточно, казалось, взглянуть на крепко запертые двери, ключи от которых хранились у слуги, на безукоризненную чистоту — нигде ни пылинки, ни пятнышка, — на тяжелые спущенные шторы, чтобы понять, что владелец замка никогда не ступал в гостиную и что навещали ее лишь щетка да метелочка для пыли. Эмиль с ужасом подумал о покойной маркизе де Буагильбо. Какую унылую жизнь, должно быть, пришлось вести молодой и прекрасной женщине в этой вечно безмолвной обители! И он от всей души простил покойнице ее стремление хотя бы перед смертью подышать иным воздухом. «Кто знает, — подумал он, — не в этом ли холодном склепе поразил ее один из тех страшных и медлительных недугов, которые становятся смертельны, если вовремя не подоспеет лекарство?» Он и вовсе утвердился в этой мысли, когда дверь вдруг медленно отворилась и на пороге появился владелец замка собственной персоной. Если бы не одежда, его можно было бы принять за статую командора, сошедшую с пьедестала: та же размеренная поступь, та же бледность, тот же отсутствующий взгляд, то же торжественное и окаменелое выражение лица. Господин де Буагильбо не перешагнул еще за седьмой десяток, но он принадлежал к тем людям, у которых нет и не бывает возраста. Он не был ни плохо сложен, ни некрасив; черты лица у него были довольно правильные, держался он все еще прямо, словно аршин проглотил, и ходил, если только не торопился, по-прежнему твердой поступью. Но крайняя худоба делала маркиза совершенно бесплотным, и одежда его, казалось, облекала не человеческое тело, а деревянную куклу. Лицо не отталкивало надменностью, не внушало отвращения, но ничего не выражало: вы тщетно старались бы уловить на этом лице мысль или же следы переживаний, которые характеризуют известные нам самые различные человеческие типы. Лицо маркиза пугало. И Эмилю невольно вспомнилась немецкая сказка, повествующая о некоем весьма почтенном господине, который стучится в двери замка и в ответ на приглашение хозяина говорит, что в теперешнем своем виде не отваживается войти из опасения напугать присутствующих. «Но вы как будто одеты весьма прилично, — говорит гостеприимный хозяин. — Войдите, прошу вас». — «Нет, нет, — возражает незнакомец, — Это невозможно; вы же сами будете меня упрекать. Соблаговолите выслушать меня у порога: я вам принес вести с того света». — «Что мы тут будем с вами толковать? Входите, идет дождь, сейчас разразится гроза». — «Присмотритесь же ко мне, — продолжает загадочный гость, — и вы поймете, что я не могу, не нарушив правил вежливости, сесть за ваш стол. Вы разве не видите, что я мертв?» Владелец замка, присмотревшись, убеждается, что перед ним действительно мертвец. Он захлопывает входную дверь и, вернувшись в пиршественную залу, падает в обморок. Эмиль не упал в обморок, когда господин Буагильбо с ним поздоровался. Но если бы вместо вежливых слов: «Простите, что я заставил вас ждать, я был в парке», — господин де Буагильбо произнес: «Меня как раз собирались хоронить», — Эмиль не очень бы изумился. Старомодное одеяние делало маркиза еще более похожим на привидение. Он оделся по моде единственный раз в жизни — в день свадьбы. С тех пор он уже не помышлял ни о каких изменениях в своем туалете и в качестве образца из года в год давал портному свое старое платье, под тем предлогом, что он-де к нему привык и опасается, как бы новый покрой не оказался стеснительным. Итак, маркиз остался верен костюму щеголя времен Империи, что находилось в самом странном противоречии с его грустным, увядшим лицом. На нем был очень короткий зеленый камзол, нанковые панталоны, туго накрахмаленное жабо и сапоги, вырезанные сердечком. Не желая изменять привычке, он носил небольшой белокурый парик под цвет своих прежних волос, с коком спереди. Очень высокие воротнички подпирали длинные белоснежные бакенбарды, что придавало его продолговатому лицу форму треугольника. Костюм маркиза был опрятен до педантичности, и несколько сухих травинок, приставших к камзолу, свидетельствовали о том, что он не переодевался для встречи гостя и всегда совершает свою одинокую прогулку но парку в полном параде. Господин де Буагильбо поклонился молча, сел молча и взглянул на посетителя тоже молча. Сначала Эмиль смутился этим молчанием и приписал его небрежению. Но, заметив, что маркиз неловко вертит в руках веточку жимолости, желая преодолеть замешательство, гость понял, что старец то ли от природы застенчив, как ребенок, то ли отвык общаться с людьми. Тогда Эмиль отважился заговорить и, желая быть приятным хозяину, а также стремясь поддержать его благорасположение к плотнику, без стеснения через каждые два слова вставлял «маркиз», невольно в глубине души поддаваясь ироническому отношению к дворянской спеси собеседника. Но маркиз, видимо, оставался столь же равнодушен к насмешливой почтительности Эмиля, как и к цели его посещения. Он отвечал односложно, поблагодарил молодого человека за усердие и подтвердил, что берет на себя уплату штрафа. — Какой прекрасный, какой великодушный поступок, маркиз! — воскликнул Эмиль. — Ваш подопечный, в судьбе которого живо заинтересован и я, достоин вашего участия, ибо умеет его ценить. Вы, очевидно, не знаете, что недавно, во время наводнения, он бросился в реку, чтобы спасти чужого ребенка, хотя ему самому грозила смертельная опасность. — Ребенка?.. Своего ребенка? — спросил господин де Буагильбо. Он казался ко всему настолько безразличным и равнодушным, что, по-видимому, недослышал Эмиля. — Нет, чужого, совсем чужого. Я задал тот же вопрос и узнал, что Жан почти незнаком с его родителями. — Так он спас ребенка? — повторил маркиз после минутного молчания, как будто уносившего его в иной, воображаемый мир. — Это весьма удачно. От голоса маркиза, от манеры говорить веяло холодом еще больше, чем от выражения его лица и повадок. Он говорил медленно, безо всякого выражения; казалось, ему стоило величайших усилий связно произнести фразу. «Теперь ясно, почему маркиз никуда не выходит и никого не видит: старик сам знает, что он уже мертв», — подумал Эмиль, еще раз вспомнив немецкую легенду. — Вы, маркиз, выразили желание, чтобы мой отец прислал к вам доверенного. Не будете ли вы добры сказать, с какою целью? Я к вашим услугам и жду ваших указаний. — Дело в том… — заговорил господин де Буагильбо, явно затрудняясь необходимостью дать прямой ответ и пытаясь собраться с мыслями. — Дело в том, что человек, о котором вы говорите… не хочет отправляться в тюрьму. Его аресту следует воспрепятствовать. Скажите вашему уважаемому батюшке, что этому надо воспрепятствовать. — Но, господин маркиз, это совершенно не зависит от моего отца! Он, само собой разумеется, не станет требовать от правосудия суровых мер против бедняги Жана, но вряд ли он сумеет воспрепятствовать их применению. — Простите, — возразил маркиз, — он может переговорить или попросить, чтобы кто-нибудь переговорил с представителями местных властей. Он пользуется влиянием; он должен пользоваться влиянием. — Почему же вы сами, маркиз, не сделаете этого? Вы дольше отца живете в здешних краях. И, если уж говорить о влиянии, вы не можете недооценивать ваших привилегий — положение отца не идет ни в какое сравнение с вашим. — Привилегии происхождения нынче не в моде, — ответил господин де Буагильбо, не обнаруживая ни досады, ни сожаления. — Ваш батюшка в качестве коммерсанта должен пользоваться нынче большим весом, нежели я. К тому же меня никто не помнит, я слишком стар. Я не знаю даже к кому обратиться — всех перезабыл. Если бы господин Кардонне взял на себя труд похлопотать, этого человека перестали бы преследовать за бродяжничество. Окончив столь длинную речь, господин де Буагильбо глубоко вздохнул, словно сраженный усталостью. Эмиль успел уже подметить странную привычку хозяина замка: его вздохи не являлись ни следствием астматической одышки, ни выражением душевной тоски. Скорее это было что-то вроде нервного тика, и хотя бесстрастное лицо старого маркиза оставалось при этом столь же бесстрастным, вздохи повторялись так часто, что нервы собеседника не выдерживали: это случилось и с Эмилем, — ему в конце концов стало не по себе. — Я полагаю, маркиз, — сказал юный Кардонне, из любопытства желая испытать собеседника, — вы были бы весьма дурного мнения о таком обществе, где те или иные привилегии, даруемые рождением либо состоянием, служили бы сирому и слабому единственной защитой против суровости закона. Мне хочется думать, что моральной силой и влиянием обладает тот, кто умеет взывать к законам милосердия и человеколюбия. — В таком случае, сударь, я предоставляю действовать вам, — ответил маркиз. В этом лаконическом ответе прозвучали смирение и похвала, а может быть, даже ирония. «Кто знает, — подумал Эмиль, — а вдруг этот старый человеконенавистник способен на самую жестокую издевку? Ну что ж! Будем обороняться!» — Я готов сделать для человека, которому вы покровительствуете, все от меня зависящее, — ответил Эмиль. — И если мне это не удастся, то, поверьте, никак не по злой воле или нерадению, а только по недостатку способностей… Быть может, маркиз не понял упрека. Он, казалось, уловил в речи гостя только одно слово и в каком-то задумчивом оцепенении повторил с привычным вздохом: — Которому я покровительствую? — Мне следовало бы сказать: «который вам обязан», — продолжал Эмиль, раскаиваясь в своей опрометчивости и опасаясь повредить плотнику. — Как бы, с вашего позволения, я ни называл его, этот человек преисполнен благодарности к вам за вашу доброту и, если бы осмелился, явился бы сюда вместе со мной, чтобы еще раз выразить вам свою признательность. Легкий румянец вдруг окрасил бледные щеки господина де Буагильбо, и он ответил уже более твердым тоном: — Надеюсь, что впредь он оставит меня в покое. Эмиль был задет подобным оборотом и не сумел этого скрыть. — Будь я на его месте, — заметил он, — я бы крайне страдал от того, что являюсь предметом благодеяния, за которое не могу отплатить ни своей преданностью, ни признательностью, ни трудом. Вы проявили бы, маркиз, еще большее великодушие, если бы разрешили этому славному Жану Жапплу выразить вам свою признательность и предложить свои услуги. — Сударь, — промолвил господин де Буагильбо и, вдруг умолкнув, поднял с полу булавку и вколол ее в рукав, то ли не желая обнаружить своего смущения, то ли вследствие закоренелой привычки к аккуратности и порядку. — Сударь, предупреждаю вас, что я раздражителен. Да, да, весьма раздражителен. Признание это было сделано таким спокойным и медлительным тоном, что Эмиль чуть не расхохотался. «Ну что ж, — подумал он, — значит, мы, как говорит Жан, немножко рехнулись». — Если я имел несчастье, маркиз, чем-то вам не угодить, — произнес он, вставая, — я удалюсь, дабы не усугублять моей вины, требуя от вас совершенства; впрочем, в этом случае виновны были бы скорее вы, а не я. — Как так? — спросил маркиз, беспокойно вертя в пальцах веточку жимолости, хотя сам он, по видимости, оставался вполне спокойным. — Мы требовательны к тем, кого почитаем, я сказал бы даже — к тем, кем восхищаемся, если бы не опасался оскорбить вашей скромности. — Так вы уходите? — с минуту загадочно помолчав, не менее загадочно произнес маркиз. — Да, маркиз. Разрешите засвидетельствовать вам свое почтение. — Может быть, вы отобедаете со мной? — Это невозможно, — ответил Эмиль, ошеломленный и испуганный подобным предложением. — Вы боитесь соскучиться, — продолжал маркиз со вздохом, который на сей раз каким-то образом нашел доступ к сердцу Эмиля. — Сударь! — ответил юноша с внезапной горячностью. — Я буду рад у вас отобедать, когда вы только этого пожелаете! — Завтра! — произнес господин де Буагильбо удрученным тоном, столь не соответствовавшим его радушному приглашению. — Хорошо, пусть будет завтра, — ответил молодой человек. — Ах нет, не завтра! — возразил маркиз. — Завтра понедельник, тяжелый для меня день… Во вторник. Согласны? Эмиль любезно согласился, хотя в глубине души его угнетала мысль провести несколько часов наедине с этим живым мертвецом, и он раскаивался, что уступил непреодолимому порыву сострадания. Тем временем господин де Буагильбо слегка оправился от смущения и пожелал проводить гостя до калитки, где была привязана лошадь Эмиля. — Красивая лошадка, — сказал он, оглядев Вороного с видом знатока. — Бреннской породы. Хорошая порода, выносливая и нетребовательная. Вы умелый наездник? — У меня больше привычки и смелости, нежели подлинного умения, — ответил Эмиль, — Я еще не успел изучить правила верховой езды, но рассчитываю сделать это при первом благоприятном случае. — Верховая езда благородное и здоровое занятие, — продолжал маркиз. — Если вы будете иногда заглядывать ко мне, помните, что мои слабые познания в этой области к вашим услугам. Эмиль учтиво принял это предложение, но невольно бросил взгляд на хилое существо, предлагавшее ему себя в учителя верховой езды. — Она хорошо выезжена? — спросил господин де Буагильбо, поглаживая Вороного. — Послушная и преданная лошадка, но по-настоящему не обучена, как и ее хозяин. — Я не особенно люблю животных, — продолжал маркиз, — однако иной раз занимаюсь лошадьми. Вы увидите, у меня есть неплохие лошадки. Разрешите мне испытать вашу? Эмиль поспешил предложить старому маркизу своего скакуна. Но, опасаясь несчастного случая и видя, как медленно и с какими трудностями старец вставляет ногу в стремя, он не мог удержаться и, рискуя обидеть маркиза, предупредил его, что Вороной несколько резв и норовист. Маркиз покорно выслушал это предостережение, однако не отказался от своей мысли и сел в седло с чопорной важностью, в которой было что-то смешное. Эмиль трепетал за престарелого хозяина замка. Вороной задрожал от негодования и страха, почуяв чужую руку. Он даже пытался взбунтоваться, и, видя, как маркиз потакает капризам горячившегося коня, можно было подумать, что и сам он не слишком уверен в себе. — Ну, ну, милый, — приговаривал господин де Буагильбо, похлопывая лошадь. — Ну, ну, не будем сердиться! Но господин де Буагильбо действовал так только в силу верности правилам, которые запрещают жестокое обращение с животными, ибо это противоречит кавалерийской науке. Мало-помалу он лаской успокоил коня и прогнал его по обширному двору, пустому и посыпанному желтым песком, словно манеж; он переводил Вороного на различные аллюры, и тот с необычайной легкостью проделывал все повороты или менял шаг, словно хорошо выезженная лошадь, казалось, охотно подчиняясь воле наездника. Но когда маркиз вернул лошадь Эмилю, по ее раздувавшимся ноздрям и блестевшему от пота крупу видно было, что благородному коню пришлось уступить молчаливому приказу твердой руки всадника и его длинных негнущихся ног. — Я и не подозревал за ней такой учености, — сказал Эмиль, желая сделать приятное маркизу. — На редкость умное животное! — скромно ответил тот. Но как только Эмиль снова сел в седло, Вороной взвился на дыбы и сделал яростный скачок, словно желая отомстить менее опытному всаднику за только что полученный неприятный урок. «Вот странный покойник!» — решил Эмиль, спускаясь галопом к тому месту, где поджидал его Жан Жапплу. Невольно вспоминая страдающего одышкой маркиза, который робел перед юнцом и мог укротить необузданного коня, он подумал: «Уж не скрывается ли за этим мертвенным лицом и угасшим голосом железный характер?» Плотник ждал его в нетерпении и беспокойстве; когда же Эмиль дал ему полный отчет о состоявшейся беседе, Жан произнес: — Хорошо, благодарствуйте. Доверяю вам защиту моих интересов. Но надо и самому о себе позаботиться, что я как раз и собираюсь сделать. Пока еще вы будете писать властям, отправлюсь-ка я к ним сам. Ваше писание займет немало времени, а я не усну спокойно, пока не обниму моих гаржилесских дружков среди бела дня на пороге нашей церкви, когда народ расходится по домам. Иду в город!.. — А если вас задержат по дороге? — Не задержат! Я такие тропинки знаю, какие жандармам вовек не узнать! Приду в город ночью, проберусь потихоньку к прокурору на кухню, служанка его — моя племянница. Язык у меня подвешен неплохо; я ему все растолкую и завтра же, еще до темноты, вернусь в свою деревню с гордо поднятой головой. И, не дожидаясь ответа Эмиля, плотник в мгновение ока исчез в чаще кустарника.XII Промышленная дипломатия
Когда Эмиль сообщил отцу, что плотник нашел спасителя, и рассказал о протекшем дне, господин Кардонне нахмурился. В течение нескольких минут он хранил молчание, столь же загадочное, как недомолвки и вздохи господина де Буагильбо. Но при всей кажущейся холодности этих двух людей в характерах их нельзя было обнаружить ни малейшего сходства. Холодность маркиза являлась следствием привычки и врожденной нерешительности, тогда как фабрикант выработал ее огромным напряжением воли. Первый был тяжелодум; у второго, наоборот, холодность скрывала и сдерживала неукротимость мысли. Словом, холодность господина Кардонне была наигранной. Это было достоинство, взятое напрокат, роль, принятая на себя, чтобы повелевать другими; и когда фабрикант был особенно холоден, это означало, что он судорожно прикидывает, какое впечатление произведет его с трудом сдерживаемый гнев. Так, если прискорбная робость старого господина Буагильбо разрешалась некими загадочными, нечленораздельными словами, обманчивое спокойствие господина Кардонне таило бурю, которую он сознательно укрощал, но которая рано или поздно прорывалась в очень определенных и веских выражениях. Можно было бы сказать, что один черпал жизненную силу в самых мощных ее источниках, тогда как у другого она растрачивалась в тщательно сдерживаемых переживаниях. Господин Кардонне прекрасно знал, что переубедить Эмиля нелегко, что с ним не сладить ни принуждением, ни угрозами. Он слишком часто сталкивался с решительным характером сына, не раз испытывал силу его сопротивления — хотя до сих пор оно проявлялось лишь в ребячествах, свойственных юному возрасту, — и понимал, что прежде всего следовало внушить Эмилю незыблемое уважение к отцу. Поэтому он тщательно следил за собою, остерегаясь совершить в присутствии сына какую-либо оплошность. — Как, отец! Неужели вы недовольны удачей Жана и пеняете на меня за то, что я поспешил навстречу добрым намерениям его спасителя? — спросил Эмиль. — Я обещал вашу поддержку, и следует непременно добиться, чтобы этот маловер плотник узнал вас, стал вас уважать и даже любить. — К чему столько слов? — возразил господин Кардонне. — Надо немедленно написать о нем властям. Письмоводитель занят, но я полагаю, что ты не откажешься иной раз, в щекотливых случаях, его заменить? — О, с великой радостью! — воскликнул Эмиль. — Так пиши! Я буду диктовать. И господин Кардонне продиктовал несколько писем, преисполненных ревностной заботы о его подопечном и проникнутых редким пониманием жизни и сознанием собственного достоинства. Он даже предлагал в свою очередь поручиться за Жана Жапплу, в случае — конечно, невероятном, как оговаривался он, — если бы господин де Буагильбо, предвосхитивший его намерения, передумал. Подписав и запечатав письма, фабрикант велел Эмилю отправить их с нарочным и добавил: — Вот я и исполнил твое желание: бросил дела, чтобы плотник не пострадал от промедления. Теперь мне надо работать. Обед подадут через час, после обеда побудь с матерью, ты ее нынче совсем забыл. А вечером, когда я кончу работать, ты, надеюсь, будешь полностью в моем распоряжении: я хочу побеседовать с тобою о серьезных вещах. — Отец, вы же знаете, что в вашем распоряжении не только сегодняшний вечер, но и вся моя жизнь, — сказал Эмиль. Господин Кардонне поздравил себя с тем, что не поддался первому порыву гнева. Ему снова удалось утвердить свою власть над Эмилем. Вечером, когда фабрика закрылась и рабочие разошлись по домам, господин Кардонне направился в уголок сада, не пострадавший от наводнения, и долго прогуливался там в одиночестве, размышляя о том, что он скажет своему непокорному сыну. Он не желал звать Эмиля, пока полностью не овладеет собой. Лихорадочная усталость, наступившая после долгого дня напряженных хлопот и хозяйственных распоряжений, зрелище опустошения, все еще преследовавшее его, а возможно, и состояние атмосферы не давали улечься его обычному нервному раздражению. Слишком резкие и внезапные скачки температуры действуют крайне расслабляюще. Лето было в разгаре, и теплый воздух, насыщенный испарениями, словно в ноябре, полнился не прохладным, прозрачным осенним туманом, а каким-то удушливым паром, поднимавшимся от земли. По одну сторону аллеи, где широким шагом расхаживал фабрикант, росли розовые кусты и какие-то великолепные цветы, но по другую валялись обломки, громоздились исковерканные доски и принесенные потоком огромные булыжники. От этой предельной черты, куда достигло наводнение, и до самой реки, на площади в несколько арпанов, весь сад, занесенный грязным илом, смешанным с красным песком, напоминал своим видом американские леса после опустошительного разлива Огайо или Миссури. Опрокинутые наводнением молодые деревца сплетали в лужах стволы и ветви, образуя неожиданные запруды и не давая стока воде. Прекрасные, полуувядшие, утопавшие в тине растения тщетно пытались подняться из грязи, а некоторые, напоив досыта влагой свои примятые стебли, Торжествующе раскрывали роскошные венчики. Их восхитительное благоухание побеждало солоноватый запах ила, и, когда порывы легкого ветерка разрывали туман, проносились попеременно то нежные ароматы, то страшное зловоние. Лягушки, которые словно упали с неба вместе с дождем, отчаянно квакали в кустах роз, а грохот машин, до сих пор работавших вхолостую, вызывал у господина Кардонне лихорадочное раздражение. Между тем в листве деревьев, пощаженных наводнением, приветствуя полную луну, пел соловей, с беспечностью влюбленного или художника. Повсюду разлито было ощущение счастья и одновременно уныния, уродства и красоты, словно могучая природа пренебрегала этими потерями, столь чувствительными для человека и столь незаметными для нее самой, ибо ей достаточно одного солнечного дня и одной прохладной ночи, чтобы возместить разрушения. Несмотря на все свои усилия, господин Кардонне не мог сосредоточиться мыслями на семье — его поминутно волновали и отвлекали денежные заботы. «Проклятая речонка! — думал он, помимо воли устремляя взгляд на поток, который, словно издеваясь, горделиво катил свои воды у его ног. — Когда ты откажешься от бесполезной борьбы? Я сумею обуздать тебя и прибрать к рукам! Еще немного камня, еще немного железа — и ты послушно потечешь по тому руслу, какое укажет тебе моя воля. О, я сумею совладать с твоей безрассудной яростью, сумею предвидеть твои причуды, подстегнуть тебя, лентяйку, и усмирить твой гнев! Гению человека суждено одержать победу над слепым бунтом природы. Лишняя дюжина рабочих — и ты почувствуешь узду! Деньги — и только деньги! Горки «презренного металла» достаточно, чтобы сдержать горы воды. Только не потерять времени, не оплошать! Изделия моей фабрики должны быть выпущены к назначенному сроку, иначе мне не возместить издержек. Достаточно месяц провести, бессильно опустив руки, — и все погибло. Кредит — это пропасть, которую нужно рыть без колебаний, ибо на дне ее — сокровище прибылей. Будем же рыть! Будем рыть еще и еще! Глупец и трус тот, кто остановится на полпути и позволит рухнуть своим планам и намерениям. Нет, нет, коварный поток! Бабьи страхи, лживые предсказания завистников не запугают меня, не принудят отречься от задуманного! Столько принесено жертв, столько впустую пролито человеческого пота! Столько умственных усилий затрачено мною! Столько чудес рождено моей мыслью! Либо эти мутные воды поглотят мой труп, либо они послушно принесут к моим ногам сокровища, созданные этой фабрикой!» И в мучительном напряжении воли господин Кардонне с каким-то яростным воодушевлением топнул ногой о берег. Но тут ему снова пришло на ум, что собственная его плоть и кровь, родной сын, может оказаться препятствием, более грозным для будущего, нежели горные потоки и бури. Родной сын мог стать на пути отца и в один прекрасный день все разрушить. Как бы ни был алчен и себялюбив по природе человек, он никогда не будет удовлетворен, трудясь для себя одного. Нет такого капиталиста, который, думая о будущем, не думал бы о тех, кто связан с ним узами крови. Всем своим нутром Кардонне ощущал животную любовь к сыну. О, если бы он мог переплавить эту мятежную душу и приобщить Эмиля к делу своей жизни! Какой гордостью, какой уверенностью наполнилась бы его душа! Но любимый сын, проявлявший большие дарования ко всему, что было чуждо устремлениям отца, по-видимому, возымел устойчивое отвращение к богатству, и следовало найти какую-то лазейку, какое-то уязвимое место, чтобы привить Эмилю эту гибельную страсть. Кардонне хорошо знал, на каких струнах следует играть. Но сумеет ли он так преодолеть свойства своего ума и способностей и так пойти им наперекор, чтобы сын не услышал фальшивой ноты? Инструмент был одновременно и нежным и мощным. Малейшее нарушение гармонии в задуманной системе звуков — и он встретит в сыне придирчивого и проницательного судью. И Кардонне, этот грубый и в то же время изворотливый человек, в котором привычка властвовать преобладала над привычкой хитрить, вынужден был вступить в страшную борьбу с самим собою и, погасив в себе всякую вспышку непосредственного чувства, заговорить несвойственным ему языком убеждения. Наконец, несколько успокоившись и полагая себя достаточно подготовленным к беседе, он велел позвать Эмиля и в ожидании сына вернулся на то самое место, где предавался долгим и мучительным раздумьям. — Вот и я, батюшка! — произнес молодой человек, взволнованно и нежно беря отца за руку. Он чувствовал, что наступила минута, которой суждено решить, что одержит в его сердце верх — сыновняя любовь или же осуждение и страх. — Я готов почтительнейше выслушать все, что вы намереваетесь мне сказать. Мне двадцать один год, я уже взрослый человек. Вы не торопились разрешить меня от обета молчаливой покорности и слепого доверия. Я подчинялся в силу сердечной привязанности к вам, но теперь во мне заговорил разум, и я жду вашего отеческого слова, чтобы привести его к согласию с моим сердцем. Вы сделаете это, я не сомневаюсь. И вы откроете мне врата жизни, ибо до сей поры я только мечтал, ждал и искал чего-то. Я колебался, томясь странными сомнениями, и немало выстрадал, не осмеливаясь в том признаться. Нынче вы исцелите меня, вы дадите мне ключ от лабиринта, где я блуждаю, вы укажете мне путь в будущее, по которому я охотно пойду. Я буду счастлив и горд, если смогу идти вместе с вами! — Дитя мое! — ответил господин Кардонне, несколько взволнованный этим пылким вступлением. — Ты привык там к возвышенным разглагольствованиям. Я не стану им подражать. Это дурной способ выражать свои мысли, так как разгоряченный и восторженный ум в конце концов становится жертвой излишней чувствительности. Я знаю, что ты любишь меня и в меня веришь. Ты тоже знаешь, как ты мне дорог. Твое будущее составляет единственную цель моей жизни и единственный предмет моих забот. Так давай же поговорим разумно и по возможности хладнокровно! Сначала вспомним твою еще недолгую, но счастливую жизнь. Ты рожден в довольстве — я прилежно трудился, и богатство послушно легло к твоим ногам, столь легко и на первый взгляд столь естественно, что ты даже и не заметил, как это произошло. С каждым годом возможности твоей будущей карьеры ширились; ты был еще младенцем, когда я уже заботился о твоей старости и о будущем твоих детей. Ты проявлял счастливые задатки, но пока лишь в бесполезных искусствах, в таких забавах, как рисование, музыка, поэзия… Я вынужден был бороться — и поборол развитие этих художественных склонностей, коль скоро они грозили заглушить в тебе более насущные и важные способности. Наделяя тебя богатством, я налагаю на тебя и ответственность. Изящные искусства — это отрада и роскошь бедняка. Но богатство требует большой закаленности, чтобы человек не пал под грузом налагаемых деньгами обязанностей. Я изучил себя и понял, чего мне недостает; я решил, что мы должны дополнить друг друга, — ведь в силу кровного родства мы можем быть едины в своих замыслах. Хотя я знаком с промышленной теорией в той области, которую избрал для себя полем деятельности, я не получил в свое время должного опыта и специальных знаний и только чутьем, догадкой приходил к разрешению вопросов, связанных с геометрией и механикой. Я не мог не ошибаться, попадал на ложную дорогу, увлеченный фантазиями своими и чужими, и терял, не говоря уже о деньгах, дни, недели, годы, терял время — драгоценнейший из всех капиталов. Потому-то я и хотел, чтобы по выходе из коллежа ты обучался этим наукам, и ты, невзирая на свой юношеский возраст, отдался упорному труду. Но вскоре твое умственное развитие устремилось по пути, уводящему тебя от моих целей. Изучение точных наук привело тебя, помимо моей и твоей воли, к увлечению естественными науками, и ты, отклонившись от своего прямого пути, начал бредить астрономией и мечтать о недоступных нам мирах. Борьба была неравной, и все же я вынудил тебя оставить эти науки, ибо не верил, что ты найдешь им здоровое и полезное применение. Но, отказавшись от мысли сделать из тебя инженера, я стал размышлять, чем бы ты мог быть мне полезен. Надеюсь, ты не поймешь меня превратно, когда я говорю «полезен». Я имею в виду, что мое состояние — в то же время и твое, и я обязан подготовить тебя для дела, которое вскоре, быть может, сократит мои дни в твою пользу: это в порядке вещей. Я счастлив, выполняя свой долг, и выполню его, если понадобится, даже против твоей воли. Но разве рассудок и отеческая любовь не вынуждают меня научить тебя если не увеличить, то, по крайней мере, сохранить и сберечь наше состояние? Из-за незнания законов я сотни раз попадался на удочку невежественным и коварным советчикам. Я становился добычей этих тунеядцев — судейских крючкотворов, которые, толком не разумея дела и не разбираясь в нем, требуют от клиентов слепого послушания и, в силу тупости, упрямства, заносчивости, излишнего хитроумия и всяческих оплошностей, не говоря уже обо всем прочем, вредят нашим насущнейшим интересам. Тогда я подумал, что ты, при твоей сообразительности и ясном уме, в несколько лет сумеешь изучить право и получить достаточно точное и детальное представление о юридических нормах, благодаря чему мы никогда не будем нуждаться ни в чужом руководстве, ни в чужих советах и ни в каком ином поверенном, кроме тебя самого. Я не собираюсь делать из тебя краснобая-адвокатишку, судейского комедианта — я только просил тебя слушать лекции и сдавать экзамены… Ты обещал мне это! — Что же, батюшка! Разве я вам перечил? Разве я нарушил слово? — сказал Эмиль, удивленный тем, с какой надменностью и презрением отец отзывался об этих профессиях, блеск и достоинство коих превозносил в свое время, желая склонить сына к их изучению. — Эмиль, — продолжал фабрикант, — я не собираюсь тебя упрекать, но твоей безразличной и вялой покорности я предпочел бы твердый отпор. Если бы я мог предвидеть, что ты впустую потеряешь время, я сумел бы придумать что-либо иное. Ведь я уже говорил тебе: время — драгоценнейший из всех капиталов, а эти два года ничего не дали для развития твоих способностей и, следовательно, для твоего будущего. — Льщу себя надеждой, что это не совсем так, — сказал Эмиль со смешанным выражением смирения и гордости. — Смею вас уверить, батюшка, что я много работал, много читал, много размышлял и, могу сказать, кое-что приобрел за время моего пребывания в Пуатье! — О, я хорошо знаю, что ты читал и что изучал, Эмиль. Во всяком случае, я заметил бы это сам по твоим письмам, если б даже ты мне этого не сказал. И я заявляю тебе, что вся эта хваленая философско-метафизико-политико-экономическая наука, по моему разумению, самое пустяковое, ложное, туманное и нелепое, чтоб не сказать — опасное занятие для молодых людей. Да что говорить, будь я сторонним наблюдателем, я бы хохотал до упаду над твоими последними письмами, но как отец я испытывал смертельное огорчение. И вот, увидев, что ты оседлал нового конька и опять собираешься пуститься в заоблачные дали, я решил вызвать тебя сюда на время, а может быть и навсегда, если мне не удастся вернуть тебя к здравому смыслу. — Отец, ваши жестокие насмешки и презрение не только оскорбляют мое самолюбие — они ранят меня в самое сердце! Пусть вы не согласны со мною — я готов выслушать осуждение моим верованиям. Но вот, впервые в жизни, я ощутил потребность излить перед вами мои думы и чувствования и осмелился сделать это, а вы отталкиваете меня своей иронией… Мне горько это, и я страдаю сильнее, чем вы думаете!.. — В этой ребяческой кротости больше гордыни, нежели ты полагаешь. Разве я не твой отец? Не лучший твой друг? Разве не обязан я высказать тебе всю правду, когда ты обманываешься, и возвратить тебя на путь истины, когда ты введен в заблуждение? Полно! К чему ложное самолюбие, ему нет меж нами места! Я ценю твой ум более, нежели ты сам, и потому не хочу, чтоб ты питал его дурной пищей. Выслушай меня, Эмиль. Я знаю, что У нынешних молодых людей повелось рядиться в тогу законодателей, философствовать по любому поводу, печься об изменении порядков, которые переживут их, изобретать какую-то новую религию, новое общество, новую мораль. Воображение тешится этими мечтами — впрочем, весьма невинными, коль скоро они преходящи. Но все это хорошо только для школьников, и, прежде чем разрушать общество, следует хорошенько изучить его и пожить в нем; тогда станет ясно, что общество представляет большую ценность, чем мы, грешные, и что самое благоразумное — это суметь подчиниться ему и терпеть его законы. Ты уже вышел из того возраста, когда позволительно бесплодно расточать свои желания и помыслы, обращая их на предметы неосновательные. Я хотел бы, чтоб ты приблизился к действительной, реальной жизни. Чем впустую изощряться в критике законов, правящих обществом, не лучше ли изучить их смысл и найти им применение? Если изучение их, напротив, вызовет у тебя досаду и ты разочаруешься в истине — бросай ученье и попытайся найти какое-либо полезное занятие, к которому ты чувствуешь себя пригодным. Послушай, Эмиль! Мы встретились здесь, чтобы понять друг друга и окончательно договориться. Никакого пустозвонства, никаких поэтических разглагольствований, направленных против неба и людей! Мы лишь ничтожные создания, однодневки, нам нет времени вопрошать судьбу о том, что было до нашего краткого пребывания на земле и что ждет нас после него. Этой загадки нам не разрешить вовек. Наш долг — долг верующего —без устали трудиться на этой земле и безропотно ее покинуть. Мы отвечаем за свои дела перед уходящим поколением, которое воспитало нас, и перед грядущим, которое воспитываем мы. Вот почему семейные узы священны, а право наследования нерушимо, невзирая на все ваши прекрасные коммунистические теории, которые всегда были мне непонятны, ибо они незрелы, и пройдут еще века и века, прежде нежели человечество сможет их принять. Что же ты собираешься делать? Отвечай! — Не знаю, — ответил Эмиль, подавленный узостью этих взглядов, сухостью и обилием общих мест, преподнесенных с таким высокомерным пренебрежением и с такой непримиримостью. — Вы так смело решаете вопросы, для ответа на которые мне понадобится, быть может, целая жизнь, что я не в состоянии следовать за вами в этой стремительной спешке к неведомой цели. Очевидно, я настолько слаб и настолько ограничен, что не могу найти в моей личной деятельности награду и оправдание стольким усилиям. У меня нет ни малейшего вкуса к этому. Я люблю умственный труд и полюбил бы физический, если бы один служил на благо другому и оба приносили бы душевное удовлетворение. Но трудиться ради стяжания и, стяжая, накапливать, чтобы снова стяжать, пока смерть не положит предел этой слепой жажде обогащения, — вот что не имеет для меня ни смысла, ни привлекательности! Я не обладаю ни малейшими способностями, пригодными для осуществления вашей цели: я не рожден игроком, и азартная ставка на повышение или понижение, даже если на карту поставлено мое состояние, ни в коей степени не может меня взволновать. Если мои стремления и восторги — пустые мечтания, недостойные зрелого ума, если не существует вечной истины, божественного смысла вещей, идеала, питающего душу, ведущего нас вперед через недуги и несправедливости нашего времени, — значит, не существует и меня; я ни во что более не верю! Отец, я готов умереть за вас! Но жить и бороться подобно вам и вместе с вами — такой род деятельности претит моей душе, разуму, сердцу. Господин Кардонне содрогнулся от гнева, но сдержался. Не без умысла совершил он эту неосторожность — вызвал негодующий отпор сына. Он хотел, чтобы Эмиль высказал свои мысли, хотел узнать получше, что представляет его восторженная вера. Поняв по горестному тону Эмиля и по отчаянному выражению его лица, что опасения подтвердились и дело действительно серьезно, господин Кардонне решил обойти препятствие и, искусно маневрируя, вернуть себе прежнее влияние.XIII Борьба
— Эмиль, — продолжал фабрикант с наигранным спокойствием, — я вижу, что мы начинаем говорить на разных языках. Если мы будем продолжать в том же духе, ты станешь искать со мною ссоры и, чего доброго, смотреть на меня, как юный святой на закоренелого язычника. На кого ты сердишься? Не напрасно я с самого начала предостерегал тебя от чрезмерной восторженности. Вся эта пылкость ума — лишь горячка молодости, не более. Приобретя немного житейского опыта и воспитав в себе чувство долга, ты в мои годы перестанешь даже понимать, зачем так распинаться в доказательство своей честности и так трезвонить о своих убеждениях. Берегись напыщенности — это язык самовлюбленности и тщеславия! Послушай, дитя мое! Не вообразил ли ты, что честность, нравственные устои, верность принятым на себя обязательствам, человеколюбие, жалость к обездоленным, преданность родине, уважение к чужим правам, семейные добродетели и любовь к ближнему — достоинства весьма редкие или вовсе не возможные в наши дни и в том обществе, где мы живем? — Да, отец, я твердо в этом убежден! — А я думаю иначе. Я и в пятьдесят лет не такой человеконенавистник, как ты в двадцать один, и не такого скверного мнения о своих ближних; очевидно, потому, что я не обладаю ни вашей просвещенностью, ни вашей проницательностью!.. — Бога ради, отец, не издевайтесь надо мной! Мне больно это. — Ну что ж, поговорим серьезно! Я охотно готов допустить, что в эти добродетели верят и следуют им немногие. Но, надеюсь, ты не отказываешь в них, по крайней мере, твоему отцу? — Отец, ваши поступки почти всегда доказывали, что вы помышляли только о добрых делах. Зачем же своими речами вы стараетесь внушить мне, будто ставили себе менее благородную цель? — Вот к этому-то я как раз и веду. Ты признаешь поведение мое безупречным, и, однако ж, тебя возмущает, когда я взываю к здравому смыслу и логике. Скажи-ка, что бы ты подумал о своем отце, если бы он вечно разглагольствовал, порицая тех, кто не следует его примеру? Если бы, ставя себя за образец и пыжась от любви к собственной персоне, он при всяком удобном и неудобном случае надоедал тебе самовосхвалениями и проклинал весь род человеческий? Ты молчал бы, стараясь смотреть сквозь пальцы на этот смешной недостаток, но ты невольно сожалел бы о плачевной слабости твоего милейшего родителя и считал, что подобное тщеславие роняет его достоинство. — Конечно, отец, я предпочитаю вашу сдержанность и благородную скромность. Но когда мы остаемся с вами с глазу на глаз, особенно в тех редких и важных случаях, когда вы, как нынче, удостаиваете меня сердечной откровенности, я был бы безмерно счастлив услышать, что вы превозносите высокие идеи, вливая в меня священный энтузиазм, вместо того чтобы с презрением порицать и подавлять мои порывы. — Не твои высокие идеи я презираю и не твои благие порывы высмеиваю. Я отвергаю, я хочу заглушить в тебе пристрастие к напыщенному краснобайству, фанфаронству, свойственное сочинителям новых теорий человеческого счастья. Мне нестерпимо слышать, когда старые как мир истины выдают за неведомые до того откровения. Я желал бы, чтоб ты с непоколебимым спокойствием оставался верен своему долгу и выполнял его в стоическом молчании подлинной убежденности. Верь мне, добро и зло ведомы нам не со вчерашнего дня, и я полюбил справедливость еще до того, как ты начал вкушать манну небесную, покуривая сигары на улицах Пуатье. — Отец, все это, может быть, в общем и справедливо, — сказал Эмиль, подстрекаемый упорными насмешками господина Кардонне. — Есть люди пожилые, которые, подобно вам, совершают добродетельные поступки, не бахвалясь ими, и есть дерзкие молокососы, которые проповедуют добродетель, не любя ее, даже и не ведая о ней. Но ваш последний насмешливый намек я не могу принять ни на мой счет, ни на счет моих друзей. Не стану отрицать, что я еще юнец. Я не кичусь своим житейским опытом. Напротив, я пришел, преисполненный благими порывами и благими намерениями, почтительнейше и доверительно искать у вас совета, примера, поощрения, надеясь услышать от вас слова истины и получить наставления. Мое единственное достояние — юношеские идеалы, и я кладу их к вашим ногам. Возмущенный ужасающими противоречиями, которые признаются и освящаются законами нашего общества, я умоляю вас, скажите: как могли вы, оставаясь честным человеком, безропотно примириться с ними? Я не боюсь признаться в своей слабости и невежестве, но следовать по этому пути не могу. Ответьте мне наконец, вместо того чтобы осыпать меня ледяными насмешками. Разве это преступление, если я прошу вас просветить меня? Разве это дерзость и безумие, если я хочу повиноваться велениям моей совести? Если я хочу постичь смысл жизни? Да, у вас достойный характер, и поступаете вы мудро и осмотрительно. Да, у вас доброе сердце и щедрая рука. Да, вы приходите на помощь бедняку и вознаграждаете его труд. Но куда идете вы этим путем столь непоколебимо и прямо? Я нахожу, что иной раз вам недостает снисходительности, и часто ваша суровость пугает меня. Я хочу думать, что вы более проницательны и предусмотрительны, чем иные нежные и робкие натуры; что вы заставляли меня претерпеть мимолетную боль, дабы упрочить мое благоденствие, закалить дарования. Поэтому, невзирая на отвращение к занятиям, на которые вы меня обрекли, невзирая на то, что вкусы мои были принесены в жертву вашим сокровенным целям, а желания зачастую оказывались растоптаны и задушены в самом зародыше, я почел своим долгом следовать вашим наставлениям и подчиняться вам во всем. Но настало время, когда вы должны открыть мне глаза, если хотите, чтобы я сделал такое нечеловеческое усилие, — ибо изучение права не успокаивает мою совесть, я не мыслю, что когда-нибудь смогу вмешаться в дрязги судопроизводства, и еще менее — что смогу принудить себя, подобно вам, выжимать прибыль из людей, заставляя их на меня работать. Я не вижу перед собою ясной цели и не знаю, насколько необходима человечеству та жертва, какую я принесу вам, лишившись своего счастья. — Твое счастье, следовательно, в том, чтобы жить сложа руки и любоваться небесными светилами? По-видимому, всякий труд раздражает либо утомляет тебя — даже изучение права, которым играючи овладевают все молодые люди! — Отец, вы хорошо знаете, что это не так; вы видели, с какой страстью я отдавался занятиям более отвлеченным, но вы положили им конец, словно я спешил навстречу гибели. А ведь для вас не было тайной, к чему я стремился, когда вы поставили передо мною требование найти практическое применение моим любимым наукам. Вы не пожелали, чтоб я стал художником и поэтом. Возможно, вы были правы. Но я мог сделаться натуралистом, хотя бы агрономом. Вы воспрепятствовали и этому. А ведь это-то и значило бы найти подлинно практическое применение моим знаниям. Я люблю природу, и жизнь полей влекла меня. Безграничное наслаждение, какое я черпал, постигая законы природы и ее тайны, естественно, приводило меня к пониманию ее скрытых сил, к желанию управлять ими, оплодотворять их разумным трудом. Верьте, в этом было мое призвание! Земледелие находится еще в младенческом состоянии, крестьянин по старинке надрывается в непосильном труде, огромные земельные участки остаются невозделанными. Наука удесятерит богатства почвы и облегчит утомительный труд человека. Мои общественные идеалы созвучны с этими мечтами о будущем. Я просил вас направить меня учиться на какую-нибудь образцовую ферму. Я был бы счастлив, сделавшись крестьянином, работая головой и руками, в непрестанном общении с природой и людьми, близкими к природе. Я учился бы с жаром и, быть может, успешнее других поднимал бы целину открытий. И когда-нибудь, где-нибудь в пустынной и голой степи, преображенной моими усилиями, я основал бы колонию свободных людей, живущих по-братски и любящих меня как брата. К этому-то и сводились все мои помыслы, все моя жажда удачи и славы. Разве это безрассудно? Почему же вы потребовали, чтоб я начал рабски изучать кодекс законов, которые никогда не станут моими?.. — Вот, вот! — сказал, пожимая плечами, господин Кардонне. — Вот она — утопия брата Эмиля, моравского брата, квакера, неохристианина, неоплатоника, или как их там зовут! Это великолепно, но бессмысленно. — Почему же, отец, скажите? Вы всегда выносите приговор, не приводя никаких доказательств! — Потому что, примешав к пустой умозрительной учености свои социалистические утопии, ты бросил бы драгоценное зерно на камень и не взрастил бы на этой бесплодной почве пшеницы, как не создал бы людей, способных жить по-братски на общинной земле. Ты безрассудно расшвырял бы то, что собрано мною, и к сорока годам, утомленный пустыми выдумками, исчерпав свои таланты и веру в себя, наскучив тупостью или испорченностью своих последователей, быть может лишившись рассудка, — ибо этим обычно кончают чувствительные и романтические души, пожелавшие воплотить в жизнь свои мечты, — ты возвратился бы ко мне, подавленный своим бессилием, негодуя на человечество, а вступить на верную дорогу было бы уже поздно. Но если ты послушаешь меня и последуешь за мною, мы пойдем вместе по прямому и верному пути; не пройдет и десяти лет, как мы станем обладателями такого капитала, что я даже не решаюсь назвать тебе цифру — ты не поверишь! — Предположим, отец, что это не мечты подобно моим; но меня занимает другое: что мы сделаем с этим капиталом? — Все, чего пожелаешь! Все то добро, о каком ты возмечтаешь тогда! Я верю, что рассудок и благоразумие восторжествуют, обогащенные опытом жизни и спокойно созревшим умом; и тогда я перестану опасаться за тебя. — Значит, мы будем делать добро? Вот, вот о чем я хотел услышать от вас, отец! И поверьте, вы не найдете слушателя более внимательного! Какое же счастье мы дадим людям? — И ты еще спрашиваешь! В чем, как не в делах человеческих, искать нам божественную тайну? Мы осчастливим целый край благодеяниями промышленности! И разве мы не стали уже на этот путь? Разве мой труд не является источником и пищей для труда других? Разве мы не даем ежедневно работу большему числу людей, чем давали ее за целый месяц земледелие и мелкие кустарные промыслы, которые я со временем уничтожу? Разве оплата труда не повысилась? И разве эти люди не приобретают постепенно склонности к порядку, предусмотрительности, воздержанию — ко всем добродетелям, которых им так недостает? Где же таятся эти добродетели — единственная отрада бедняка? Во всепоглощающем труде, в спасительной усталости и умеренной плате за труд. Хороший рабочий любит семью, подчиняется закону, уважает собственность, экономит, знает цену сбережениям. Праздность, мать дурных умствований, — вот что губит рабочего! Займите его делом, завалите его работой — он вынослив и сделается еще выносливее, — он перестанет мечтать о ниспровержении общественных устоев. Он будет печься о благонравии, о чистоте у себя в доме, о своем очаге, принесет в него благоденствие и обеспеченность. А когда он состарится и станет не способным к труду, ему не понадобится твоя помощь, сколько бы ты ни желал ее оказать. Он сам позаботится о своем будущем; он не будет нуждаться ни в милостыне, ни в покровительстве, как твой приятель — бродяга Жапплу; он станет подлинно свободным человеком. Эмиль, нет иного способа спасти народ! Я с огорчением должен тебе сказать, что осуществить все это труднее, нежели выдумать какую-то утопию. Да, дело это нелегкое и требует времени, потому оно и достойно такого философа, как ты. Я не считаю его непосильным и для труженика, подобного мне. — Как, и в этом весь идеал, к которому стремится промышленность? — воскликнул Эмиль, убитый выводами отца. — У народа нет иного будущего, кроме непрестанного труда, обогащающего класс, который никогда не будет работать? — Я не это имел в виду, — возразил господин Кардонне. — Бездельников я ненавижу и презираю, потому-то я и не люблю поэтов и метафизиков. Я хочу, чтобы все трудились сообразно своему умению и таланту, и мой идеал — раз тебе нравится это слово — недалек от лозунга сен-симонистов: «От каждого по его способностям, каждому по его делам». Но в наше время промышленность еще не достигла такого расцвета, чтобы можно было помышлять о какой-то системе распределения, отвечающей нравственному идеалу. Надо ясно видеть, какова действительность, и стремиться только к возможному. Все развитие нашего века связано с промышленностью. Так пусть же властвует и торжествует промышленность! Пусть каждый работает — кто руками, кто головой. Тому, у кого сильна голова, а не руки, суждено управлять остальными. Богатеть — его право и долг! Богатство священно, поскольку ему предназначено расти, обеспечивая рост труда и платы за труд. Так пусть же общество всеми способами стремится утвердить могущество наиспособнейшего! Его способности — благодеяние для общества. И пусть он сам непрестанно стремится к усиленной деятельности: в этом его долг, его религия, его философия. В общем — как ты сказал, Эмиль, не подозревая даже, что изрек глубокую истину, — мы должны богатеть, чтобы еще и еще богатеть! — Так как же, отец? Вы воздаете каждому только по его труду? А того, кто не может трудиться, вы ни во что не ставите? — Богатство даст мне возможность помочь больному и умалишенному. — А как же с лентяем? — Попытаюсь его исправить. А если не удастся, призову закон, чтобы принудить его, дабы он не стал вреден и не подпал под действие законов более жестоких. — В совершенном обществе это, может быть, и справедливо: ведь лентяй был бы там чудовищным исключением! Но пока действует суровая власть, подобная вашей, требующая от рабочего всех его сил, всего времени, всех помыслов, всей его жизни… Подумайте же, сколько «лентяев» вы изгоните из вашего общества и бросите на произвол судьбы! — Благодеяния промышленности помогут в скором времени настолько повысить благосостояние нуждающихся классов, что легко будет учредить почти бесплатные школы, где дети рабочих научатся любить труд. — Думаю, что вы ошибаетесь, батюшка. Но, если даже богачи и позаботятся о просвещении бедняков, любовь к неустанному подневольному труду, не сулящему никакой награды, кроме незначительного обеспечения под старость, настолько противоречит самой природе, что вы никогда не привьете ее с детства. Какая-нибудь исключительная натура, пожираемая жаждой деятельности или честолюбием, возможно, и пожертвует своей юностью, но всякая простая, любящая душа, склонная к мечтательности, к невинным и законным утехам, испытывающая потребность в нежных привязанностях и покое, что составляет законную отраду рода человеческого, будет бежать этой каторги непосильного труда, куда вы желаете ее заключить, и предпочтет превратности нищеты любому рабству, хотя бы и обеспеченному. Ах, отец! Вы — с вашей неутомимой энергией, стоической умеренностью и привычкой к непрестанному труду вы исключительны! Но, рисуя себе общество, созданное по вашему подобию, вы не замечаете, что оно благоприятствует только людям исключительным. Позвольте же вам сказать: ваша утопия куда более страшна, нежели все мои утопии. — Ну что ж, Эмиль, прими эту утопию! — с горячностью произнес господин Кардонне. — В ней источник силы и драгоценный двигатель, способный всколыхнуть наше общество мечтателей, бездельников и равнодушных, которое бесит меня. Уподобься мне, и, если на сей день во Франции найдется сотня таких людей, ручаюсь, что лет через сто они уже не будут исключением. Всякая деятельность заразительна, она увлекает, околдовывает. Именно в силу этого Наполеон покорил Европу, и он удержал бы ее, будь он не воином, а промышленником! Ты способен к энтузиазму, но ведь то, к чему я тебя призываю, тоже требует энтузиазма. Стряхни свою вялость и зажгись моим примером. И если нам самим не удастся увлечь за собой человечество, мы проложим широкие борозды, и наши потомки со священной яростью станут трудиться на вспаханной нами ниве. — Нет, нет, отец, никогда! — воскликнул Эмиль, напуганный страшной решимостью господина Кардонне. — Нет, не таков путь человечества! В ваших словах нет ни любви, ни жалости, ни нежности. Человек рожден не затем, чтобы знать одни лишь страдания и простирать свои победы только на блага материальные. Завоевания разума в области идеалов, сердечные радости и наслаждения, которым вы отводите в жизни труженика ничтожную, послушную вашей указке роль, всегда есть и будут наиблагороднейшей и наисладчайшей потребностью гармонического человека. Разве вы не видите, что умаляете намерения и благодеяния божественного промысла? Проповедуя рабство труда, вы не даете человеку времени ни вздохнуть, ни познать себя. Воспитание, направленное на погоню за прибылью, даст не всесторонне развитого человека, но бездушную машину. Вы утверждаете, что лелеете идеал, который осуществится в веках, что наступит время, когда каждый будет вознаграждаться по его способностям. Так знайте же, формула эта порочна, ибо она неполна; если не добавить к ней: «Каждому по его потребностям», она утверждает несправедливость, право более сильного разумом и волей, то есть господство аристократии и привилегий, только под иной личиной. Ах, отец! Чем бороться на стороне сильных против слабых, давайте бороться вместе со слабыми против сильных. Попытаемся! Но тогда уж забудем о наживе, откажемся думать о личном обогащении. Согласитесь же на это, раз согласился я, для которого вы трудитесь. Объединившись на этом пути и отдавшись труду, откажемся от личной выгоды. Раз мы не можем, сейчас своими силами создать общество, построенное на всеобщей гармонии, давайте, подобно труженикам будущего, станем на защиту обездоленных и слабых в обществе настоящего! Если бы гений Наполеона вдохновлен был этим учением, возможно, оно преобразовало бы мир! Пусть найдется сотня людей, похожих на нас с вами, пусть лихорадка стяжательства уступит место священному порыву, пусть нами руководит жажда милосердия, — приобщим рабочих к нашим прибылям, и пусть наше огромное состояние не будет ни вашей, ни моей собственностью, но сокровищем тех, кто в меру своих сил и способностей помогает нам его созидать! И пусть чернорабочий, подносящий камень, получит такую же возможность наслаждаться материальными благами, как и вы, отдающий этому делу свой талант! Пусть и он получит право жить в хорошем доме, дышать чистым воздухом, питаться здоровой пищей, отдохнуть, когда устанет, дать образование детям. И пусть наградой нам служит не эта ненужная роскошь, какою мы можем себя окружить, но радость от сознания, что мы осчастливили людей! Такое устремление мне понятно! Оно может меня захватить! И тогда, отец, дорогой отец, ваше дело благословенно! Эта лень, эта вялость, на которую вы негодуете, — лишь следствие борьбы, где торжествуют единицы за счет огромного большинства, подающего в изнеможении и отчаянии. Но пороки исчезнут сами собой в силу изменившихся обстоятельств. И тогда вы увидите вокруг столько воодушевления и столько любви, что вам не придется уже в одиночку истощать свои силы, побуждая к труду всех прочих, как вы делаете это сегодня. Но сегодня иначе и быть не может, и смешно на это жаловаться. Когда правит закон эгоизма, каждый отдает свои силы и добрую волю соразмерно получаемой выгоде. Что удивительного, если вы — человек, который пожинает все плоды, — одни только вы трудитесь горячо и прилежно, тогда как наемный рабочий, получающий у вас несколько более щедрую милостыню, чем у других, работает на вас несколько усерднее — и только! Вы повышаете оплату труда — это, конечно, превосходно; и вы — лучше, чем большинство ваших конкурентов, которые стремятся ее снизить. Но вы могли бы в десятки, в сотни раз умножить рвение рабочих, словно чудом разжечь в них преданность, найти сердечное понимание в оцепенелых, удрученных душах — неужели вы не желаете этого? Почему же, отец? Ведь наслаждения роскоши не для вас; единственное ваше наслаждение — это опьянение замыслами и успехами. Так вот, откажитесь от личной выгоды — вам она ни к чему, а я отрекусь от нее с восторгом. Мы будем считать себя только хранителями богатства, только распорядителями среди участников общего дела. Тогда богатство, о котором вы мечтаете, не осмеливаясь даже назвать его цифру, настолько превысит ваши ожидания и чаяния, что вскоре вы будете в состоянии предоставить вашим рабочим возможность приобщаться к духовным, умственным и физическим благам, в силу чего они станут новыми, всесторонне развитыми, настоящими людьми, а до сей поры я таковых еще не видал! Всякое равновесие нарушено; вокруг нас только мошенники и скоты, тираны и рабы, могучие хищники орлы да глупые трусишки воробьи, обреченные служить им пищей! Мы живем, подчиняясь слепому закону первобытной природы: кодекс кровожадного инстинкта, тяготеющий над зверями, — вот что является душой нашей мнимой цивилизации! А мы еще смеем говорить, что нет надобности искать новых путей, ибо промышленность спасет мир. Нет, батюшка, нет! Все эти ваши новейшие политико-экономические рассуждения — заблуждение и ложь! Если вы принудите меня принять богатство и власть, о чем вы столько раз мне говорили, если в силу безжалостного могущества денег почитатели их сделают меня своим представителем в каком-нибудь совещательном органе нашей страны, я выскажу все, что у меня на душе. Я скажу все, но только раз, потому что меня принудят замолчать или изгонят. Однако со временем они припомнят мои слова, и те, кто меня избрал, раскаются в своем выборе! До глубокой ночи продолжался этот спор, но, как легко можно себе представить, Эмиль не переубедил отца. Господин Кардонне не был человеком злым, либо бесчестным, либо сознательным преступником перед богом и людьми. Он имел кое-какие житейские добродетели и проявлял недюжинные способности. Но железный характер сочетался у него с душою, лишенной всяких идеалов. Он любил сына, но не понимал его. Он бережно заботился о жене, но даже не думал о том, что душит в ней всякое проявление свободной воли, могущее стать помехой на его пути. Ему хотелось бы так же подавить и волю сына, и, когда он убедился, что это невозможно, чувство глубокого горя охватило его, и не раз во время этой бурной ночной беседы слезы досады увлажняли его воспаленные веки. Он искренне верил, что логика на его стороне, единственно приемлемая и приложимая к жизни логика. Он мучительно размышлял, почему злой рок дал ему в сыновья мечтателя и утописта, и не раз в невыразимой печали вздымал к небесам могучие руки, вопрошая, за какие грехи послана ему подобная кара. Эмиль, надломленный усталостью и тоской, в конце концов сжалился над уязвленной душой отца, над его неисцелимой слепотой. — Вот что, дорогой батюшка, не будем никогда больше говорить об этих вещах! — сказал он господину Кардонне, также утирая слезы, источник которых лежал еще глубже — в самом сердце. — Мы никогда не придем к согласию. Я могу лишь по-прежнему покориться, отдавая вам дань моей сыновней любви и не помышляя более о самом себе и о счастье, какое я приношу вам в жертву. Что же вы прикажете? Должен ли я вернуться в Пуатье, чтобы закончить ученье и сдать экзамены, или мне надобно остаться здесь в качестве вашего письмоводителя либо управляющего? Я слепо подчинюсь и буду работать, как машина, сколько хватит силы. Я стану вашим служащим, вашим конторщиком. — И я перестану быть для тебя отцом? — возразил господин Кардонне. — Нет, Эмиль! Оставайся со мною. Ты свободен. Я даю тебе три месяца сроку: поживи в кругу семьи, вдали от разглагольствований безусых философов, загубивших тебя, и ты сам вернешься на путь разума. У тебя горячий нрав, и от напряженного умственного труда мозг твой, быть может, слишком воспалился. Для меня ты — больное дитя. Вот и поживи в деревне, пока не поправишься. Прогулки, охота, верховая езда — одним словом, развлечения — вернут тебе душевное равновесие, которое, на мой взгляд, нарушено куда более, чем порядок в нашем обществе. Надеюсь, твоя нетерпимость смягчится, когда ты поймешь, что мой дом — не очаг злодейства и порочности. Пройдет время, и, быть может, ты сам скажешь, что пустые бредни наскучили тебе, и пожелаешь добровольно стать моим помощником… Эмиль безмолвно поник головой. С чувством глубокой скорби обнял он отца и молча удалился. Господин Кардонне за неимением лучшего выхода решил выжидать; он улегся спать, но еще долго ворочался в постели, размышляя о том, что на сей раз ему следует нарушить свой обычай и положиться на провидение, а не на самого себя.XIV Первая любовь
Неутомимый Кардонне, с головой окунувшись в каждодневные заботы или же достаточно владея собой, ничем не выдал своих душевных страданий и уже на следующее утро предстал перед домашними во всеоружии своего леденящего высокомерия. Эмиль, угнетенный печалью и страхом, пытался улыбаться матери, но его рассеянный вид, изменившееся лицо взволновали госпожу Кардонне. Однако робость ее была так велика, что она утратила даже чуткость, свойственную женщинам. Все ее способности притупились, и в сорок лет она ничем, кроме внешности, не отличалась от восьмидесятилетней старухи. И все же она продолжала любить мужа в силу неистребимой потребности любви, никогда не получавшей удовлетворения. Она не могла в чем-либо упрекнуть супруга. Он никогда ее не оскорблял, не подавлял открыто своей волей, но всякий порыв чувства или воображения, вспыхивавший в ней, тут же угасал, наталкиваясь на насмешливую снисходительность и презрительную жалость; и теперь все ее мысли и желания ограничились пределами круга, очерченного жесткой рукою господина Кардонне. Заботы о доме не были для нее просто благонравным занятием, которому она предавалась охотно, как и прочие женщины. Они стали для нее суровым и священным долгом, как для римской матроны, и госпожа Кардонне выполняла свои обязанности с ребяческой торжественностью. Итак, госпожа Кардонне представляла собой странный анахронизм: наша современница, наделенная способностью чувствовать и мыслить, она совершила над собой безрассудное усилие, дабы вернуться на много веков назад, к тому времени, когда женщины Древнего Рима считали бесправие прекрасного пола лучшим его украшением. Самое удивительное и грустное во всем этом было то, что действовала она не по убеждению, но, как сама себе признавалась в душе, для собственного спокойствия. А его-то как раз и не было! Чем больше она жертвовала собой, тем больше докучала своему владыке. Ничто так быстро не стирает и не разрушает умственные способности, как слепая покорность. Госпожа Кардонне была тому примером. Рабство иссушило ее мозг, и супруг, не догадываясь, что таковы плоды его господства, втайне ее презирал. Когда-то господин Кардонне был чудовищно ревнив, и жена, давно успевшая подурнеть и отцвести, все еще трепетала, полагая, что муж может заподозрить ее в легкомыслии. Она приучила себя ничего не видеть и не слышать, дабы с чистой совестью ответить на вопрос о каком-нибудь мужчине: «Я на него и не взглянула. Не знаю, что он сказал; я не обратила на него ни малейшего внимания». Единственно, на кого она осмеливалась глядеть, это на собственного сына, и только с ним осмеливалась беседовать, ибо, если ее тревожила чрезмерная бледность лица или суровость взгляда господина Кардонне и она подымала на него глаза, он без церемоний спрашивал: «Что вы на меня уставились? Впервые, что ли, меня видите?» Иной раз, заметив вечером, что жена плакала, он вновь становился по-своему нежен: «А ну-ка, что с тобой? У женушки какое-нибудь горе? Может быть, купить тебе кашемировую шаль? Хочешь, поедем прокатиться в коляске? Нет? Так, может быть, у тебя вымерзли камелии? Я велю выписать из Парижа более выносливые и такие красивые, что ты перестанешь жалеть о прежних». И в самом деле, он старался при всяком удобном случае удовлетворить невинные прихоти своей подруги. Он даже требовал, чтобы она наряжалась роскошней, нежели ей того хотелось. Он считал, что женщины — те же дети и в награду за хорошее поведение следует дарить им игрушки и всякие пустячки. «Несомненно, муж очень меня любит, он удивительно внимателен ко мне, — думала в таких случаях госпожа Кардонне. — На что мне жаловаться? Но тогда откуда же эта постоянная грусть?» Госпожа Кардонне видела мрачное и подавленное состояние сына, но не сумела вырвать у него тайну его печали. После нудных расспросов о здоровье она посоветовала Эмилю пораньше ложиться спать. Впрочем, она подозревала, что тут дело посерьезнее бессонницы, но старалась убедить себя, что лучше дать страданию молчаливо утихнуть, нежели разжигать его излияниями. Вечером, прогуливаясь у околицы деревни, Эмиль повстречал Жана Жапплу. Возвратившись за несколько часов до того, Жан радостно, в кругу многочисленных друзей праздновал у порога деревенского домика свое освобождение. — Значит, ваши дела устроились? — спросил молодой человек, протягивая ему руку. — Что до полиции, сударь, — да. А нищета как была, так и осталась. Явился я с повинной, потолковал с королевским прокурором; выслушал он меня терпеливо, наговорил кучу глупостей, вроде как в назидание, но человек он неплохой: напоследок пообещал, что сделает все возможное, чтобы избавить меня от преследований… А тут как раз ваши письма и подоспели. Прочитал он их и даже бровью не повел, но, видно, принял к сведению, потому что сказал мне: «Ладно, иди с миром, поселись где-нибудь, брось браконьерствовать, работай, и все устроится». Вот я и пришел сюда. Друзья приняли меня, как видите, неплохо, дали мне приют до лучших дней. Надо, однако, подумать о самом необходимом — заработать маленько, какой ни на есть одежонкой обзавестись. Я еще засветло деревню обойду, попробую у добрых людей работы поискать. — Послушайте, Жан! — сказал Эмиль, идя за ним следом, — Я не располагаю большими средствами — отец дает мне определенную сумму на содержание, но я не уверен, что и дальше будет так продолжаться, раз я живу при нем. Однако у меня осталось несколько сот франков; деньги эти мне здесь ни к чему, и я прошу вас их принять: вы оденетесь, и на хлеб насущный вам хватит. Вы очень меня огорчите, если откажетесь. Пройдет несколько дней, вы поостынете и убедитесь, что понапрасну досадуете на отца; тогда попросите у него работу или, еще лучше, поручите мне переговорить с ним; он заплатит вам больше всякого другого, и, я уверен, откажется от суровых условий, какие предложил вначале. Так что… — Нет, господин Эмиль, — возразил плотник, — Ничего этого мне не надо: ни ваших денег, ни работы у вашего батюшки. Не знаю, как там господин Кардонне с вами обходится и как он вас содержит, но только знаю, что для молодого человека ваших лет стеснительно, когда в кармане нет золотой или серебряной монеты, чтобы при случае не отстать от других. Услуг вы мне оказали достаточно, премного вами доволен, представься мне только случай, вы убедитесь, что помогли человеку, который о благодарности не забывает. А чтобы вашему отцу служить — да никогда! Я чуть было не наделал глупостей, но господь бог не допустил! Нехорошо поступил ваш батюшка, приказав Кайо меня арестовать, но я ему прощаю: ведь он, может быть, и не знал, что Кайо мне крестником доводится. Но раз господин Кардонне написал про меня королевскому прокурору, чтоб меня не трогали, приходится про свою обиду позабыть. Да какая тут может быть обида, когда вы столько для меня сделали! Но строить ваши фабрики? Нет, спасибо!.. Вы в моих руках не нуждаетесь, у вас рабочих сколько угодно найдется, а почему я так поступаю, вам известно. Плохое дело вы затеяли, людям на разорение, и не только здешним людям, а всей округе!.. Из-за ваших плотин да водохранилищ хиреют все мельницы, что расположены ниже по течению. Груды камня и земли, принесенные водой с вашей фабрики, испакостили все окрестные луга. Богач, видно, и против своей воли бедняку поперек дороги становится! Не хочу я, чтобы говорили, будто Жан Жапплу в разорении своих земляков повинен. Вы мне больше об этом не толкуйте. Лучше мне взяться за прежнюю работу, а в ней недостатка не будет. Нынче из-за ваших фабрик в городе ни одного плотника не сыщешь: все у вас заняты. Их прежние заказчики перейдут по наследству ко мне. А когда у вас на фабрике с работой станет туго, я вашим плотникам этих заказчиков верну. Верьте мне: нынче ваш батюшка тем берет, что дорого платит рабочему, который трудится на него в поте лица. Но долго так не протянется, если господин Кардонне не желает прогореть. Придет день — и он, может быть, уже недалек! — когда господин фабрикант заставит их работать по дешевке, и горе тогда тем, кто, польстившись на его посулы, пожертвует своею свободой. Батюшка ваш согнет их в бараний рог, а им только и останется, что сдаться на милость хозяина. Не верите? Тем лучше для вас! Значит, во всех этих проделках господина Кардонне вы не повинны. Но помешать — вы ничему не помешаете. Доброй ночи, сынок! А перед отцом за меня не хлопочите: могу вас подвести. Господь бог вызволил меня из беды, ему одному и стану я нынче угождать и постараюсь во всем слушаться голоса совести. Хоть я бедняк, но принесу пользы беднякам больше, чем ваш батюшка со всем его богатством. Я стану работать для тех, кто мне ровня, а им выгодней мне платить малую толику, чем загребать у вас на фабрике помногу. Вот увидите, господин Эмиль, да и все поймут, что я был прав. А когда ярмо на шее, раскаиваться уже поздно! Как ни бился Эмиль, ему не удалось сломить упорство плотника, и он возвратился домой еще более грустный, нежели прежде. Предсказания Жана Жапплу, этого неподкупного труженика, вызвали в нем безотчетный страх. Неподалеку от фабрики он встретил отцовского письмоводителя господина Галюше — человека молодого, но уже разжиревшего, весьма способного по счетной части, однако во всех прочих отношениях совершенного тупицу. Настал обеденный час, и Галюше воспользовался этим, чтобы поудить пескарей. То было его любимое занятие; наполнив корзину рыбой и пересчитав улов, он подытожил добычу этого дня и, приплюсовав ее к предшествующим, вытащил из воды удочку, с удовлетворением заметив: — Семьсот восемьдесят два! Всего лишь за два месяца! И все этим вот крючком! Жаль, что я не вел пескарям учет в прошлом году! Прислонившись к дереву, Эмиль наблюдал за рыболовом. Флегматическая невозмутимость и бездумное терпение Галюше бесили молодого Кардонне. Он не понимал, как можно чувствовать себя счастливым только потому, что тебе платят жалованье и ты не нищий. Он попытался завязать с Галюше беседу, в надежде обнаружить у того под слоем жира хоть проблеск чувства или мысли, способных скрасить унылое существование Эмиля под кровлей родительского дома. Но фабрикант обладал безошибочным глазом и редким нюхом в выборе служащих. Констан Галюше был, что называется, кретин: он не понимал ничего, не знал ничего, кроме арифметики и счетоводства. После двенадцати часов корпения над цифрами у него едва хватало смекалки для ловли пескарей. Все же Эмилю удалось вытянуть из Галюше несколько слов, озаривших отцовские дела самым мрачным светом. Этот человек-машина умел вычислить прибыли и убытки и подвести баланс внизу страницы. Обнаруживая блистательное неведение относительно планов и материальных возможностей своего хозяина, Констан заметил, однако, что заработная плата рабочих чрезмерно высока и, если в течение двух месяцев она не будет снижена наполовину, наличных капиталов не хватит, чтобы покрыть расходы. — Но пусть ваш батюшка не беспокоится, — добавил он. — Коня кормят по той работе, какую с него спрашивают. Так же платят и рабочему: удваивают работу — удваивают и плату за труд, словно лошади порцию овса! А когда дело не к спеху, соответственно снижают рацион в кормушке. — Но отец не сделает этого! — возразил Эмиль. — Он может поступить так с лошадьми, но не с людьми. — Ну, не скажите, сударь, — возразил Галюше. — У вашего батюшки есть голова на плечах: будьте спокойны, глупостей он не натворит. И он ушел, таща своих пескарей, в полном восторге от того, что ему удалось успокоить сына, встревоженного мнимой неосмотрительностью отца. «Неужели это верно? — размышлял Эмиль, взволнованно шагая по берегу реки. — Неужели минутное великодушие отца скрывает бесчеловечные расчеты? Неужели Жан прав? Неужели отец, слепо повинуясь законам общества, не превосходит какого-нибудь прожженного дельца ни добродетелями, ни просвещенностью, могущими смягчить разрушительные последствия его честолюбия? Нет, нет! Этого не может быть!.. Отец добр, он любит людей!» Эмиль был убит горем. Он как бы обозрел всю деятельность отца, всю его жизнь, оправдываемую будущим благополучием сына, — и отпрянул в ужасе и отвращении. Он спрашивал себя: как может он не внушать ненависти всем этим труженикам, работающим на него, богача? И сам он, во имя справедливости, готов был себя возненавидеть. В глубокой тоске проснулся поутру Эмиль, и все же ему радостно было сознавать, что, посвятив часть наступившего дня господину де Буагильбо, остальное время он втайне от домашних, как и задумал накануне, проведет в Шатобрене. Когда он садился на лошадь, господин Кардонне насмешливо окликнул его: — Рано же ты собрался к господину Буагильбо! Как видно, беседа с учтивым маркизом имеет для тебя неотразимую прелесть. Вот бы никогда не подумал! Каким это чудом ухитряешься ты не заснуть между двумя его фразами? — Отец, если вы хотите дать этим мне понять, что намерения мои вам не по душе, — сказал раздосадованный Эмиль, собираясь соскочить с лошади, — я готов от них отказаться, хотя и приглашен к маркизу на обед. — Не по душе? — переспросил фабрикант. — Мне совершенно безразлично, где ты будешь скучать — у Буагильбо или еще где-нибудь. Поскольку ты томишься все более в отчем доме, я ничего не имею против того, чтобы ты развлекался в дворянских домах. При всяких иных обстоятельствах Эмиль отложил бы поездку, чтобы доказать, сколь незаслужен этот упрек; но он начал разгадывать тактику отца, который нарочно поддразнивал его, желая вызвать на разговор. К тому же непреодолимая сила влекла Эмиля в Шатобрен, и он решил не поддаваться на уловки господина Кардонне. Хотя насмешки близких людей были всегда мучительны для юноши, он постарался сделать вид, что ничего не заметил. — Если бы меня действительно ждали в замке Буагильбо одни только удовольствия, — возразил он, — то, поверьте, я не избрал бы самого дальнего пути и не делал бы крюк в пять-шесть лье, как школьник, отлынивающий от уроков. Но если я вам нужен, батюшка, я охотно пожертвую прелестями скачки по косогорам, да еще в самый солнцепек. Но эта военная хитрость не обманула господина Кардонне; бросив на сына острый, пронизывающий взгляд, он ответил: — Поезжай, куда тебя влечет демон молодости! Я спокоен, у меня есть к тому основания. «Ну что ж! — подумал Эмиль, пуская лошадь галопом. — Если вы спокойны, то и меня не особенно тревожат ваши угрозы». И, чувствуя, как в груди его закипает невольный гнев, он, ища успокоения, поднял Вороного в карьер. «Боже! — взмолился спустя несколько минут Эмиль. — Прости мне эти порывы досады, которых я не могу подавить. Тебе ведомо, что сердце мое исполнено любви и уважения к отцу, но ты видишь, как он утесняет все мои сердечные порывы и леденит мою нежность!» То ли из-за нерешительности, то ли из предосторожности, Эмиль не сразу направился в Шатобрен, сделав сначала довольно большой крюк. Но когда с вершины холма перед ним вдалеке, на краю горизонта, открылись развалины замка, он почувствовал такое острое сожаление о потерянном времени, что вонзил шпоры в потные бока Вороного, стремясь поскорее доскакать до места. Летя напрямик к заветной цели, Эмиль десятки раз был на волосок от гибели, он перепрыгивал через рвы, пронесся вскачь по самому краю пропасти и через полчаса очутился на берегу Крёзы. Его окрыляло страстное желание, в котором он, однако, не решался себе признаться. «Я не люблю ее, — твердил он. — Я едва с нею знаком, как же могу я ее любить? Да и напрасно было бы любить ее! Не она привлекает меня и не ее добрейший отец, ноэтот романтический уголок, где все дышит покоем, счастьем и безмятежностью! Я нуждаюсь в зрелище чужого счастья, чтобы позабыть, что у меня нет и никогда не будет своего!» По дороге Эмиль увидел Сильвена Шарассона, который деловито вымачивал в Крёзе какую-то лозу. Мальчуган бросился к нему навстречу и радостно сообщил: — Господина Антуана нет дома. Он отправился на ярмарку продавать баранов, целых шесть голов. Но мамзель Жанилла дома и мамзель Жильберта тоже. — Я им не помешаю, надеюсь? — Нет, что вы, господин Эмиль! Они рады будут вас видеть, они ведь частенько за обедом с господином Антуаном про вас говорят. Они вас очень уважают!.. — Возьми мою лошадь, — сказал Эмиль. — Я пешком скорей доберусь. — Верно, верно, — подтвердил мальчуган. — Стойте-ка! Идите вон туда, по старой тропке. Подальше будет лаз, и оттуда можно спрыгнуть прямо во двор — там невысоко. Жан всегда этой дорожкой ходит. Эмиль бесшумно соскочил в густую траву и подошел к квадратному флигелю, даже не вспугнув двух коз, поглядевших на него как на старого знакомого. Сударь, он же Разбойник, подобно своему хозяину, не был гордецом, хотя и принадлежал к благородной породе охотничьих псов; в случае надобности он не брезговал обязанностями овчарки и сейчас помогал господину Антуану гнать на ярмарку баранов. Подойдя к дому, Эмиль ощутил вдруг сильнейшее сердцебиение, которое приписал быстрому подъему по скалистому косогору. Он вынужден был остановиться, чтоб прийти в себя и предстать перед хозяйками Шатобрена в пристойном виде. Из комнаты доносилось жужжание веретена, и никогда еще никакая музыка не звучала пленительней для слуха юноши. Но вот глухое жужжание прялки оборвалось, и он услышал голос Жильберты: — А ведь право, Жанилла, в те дни, когда батюшка уезжает, меня ничто не веселит. Хорошо еще, что ты со мною, а то я, наверно, не знала бы, куда деваться от скуки. — Работай, доченька, работай! Это самое верное средство против скуки, — ответила Жанилла. — Да ведь я работаю, а все же мне ничуть не весело. Я прекрасно знаю, что вовсе не обязательно все время развлекаться. Но когда батюшка с нами, мне всегда радостно, я готова целый день смеяться, прыгать… Согласись, матушка, что, если б нам пришлось жить в разлуке с ним, мы бы забыли, что такое веселье и радость. О, жить без батюшки! Да это немыслимо! Лучше уж сразу умереть! — Ну вот, нечего сказать, хорошая мысль! — возразила Жанилла. — Боже упаси! Что только тебе в голову приходит? Отец твой еще молод и, слава богу, здоров. С чего это на тебя такая дурь нашла? Вот уже дня два-три, как я замечаю… — Дня два-три? — Ну да, три, даже четыре! Ты уж который раз загадываешь, что с нами будет, если мы — не приведи господи! — лишимся твоего добрейшего отца. — Если мы его лишимся? — воскликнула Жильберта. — Ах, не говори так, я вся дрожу. У меня этого и в мыслях не было! Ах, нет! Я и подумать не могу! — Ну вот, ты уж и в слезы! Ты что же, хочешь, чтоб и матушка Жанилла разревелась по твоей милости? Вот так-так! Нечего сказать, обрадуется господин Антуан, когда, вернувшись, увидит, что у тебя глаза красные! Еще, чего доброго, и сам заплачет, с него станется! Идем, дитя мое, ты сегодня почти не гуляла; убери шерсть и пойдем покормим кур. Ты рассеешься, поглядишь на хорошеньких куропаточек, которых вывела твоя любимица Белянка. И Жанилла заключила беседу материнским поцелуем. Опасаясь, что его застигнут под дверью, юноша поспешно отошел и слегка кашлянул, желая предупредить радушных хозяек о своем присутствии. — Ах! — воскликнула Жильберта. — Кто-то пришел! Какое счастье! Это, наверно, батюшка! И она, не раздумывая, бросилась к дверям с такой поспешностью, что, столкнувшись с Эмилем на пороге, чуть не упала ему на грудь. Но как ни велико было ее смущение, когда она увидела свою ошибку, оно не шло ни в какое сравнение с замешательством Эмиля. Со свойственной ей непосредственностью Жильберта звонко расхохоталась и таким образом вышла из затруднительного положения, тогда как юноша, при мысли, что он едва не очутился в объятиях, предназначенных другому, потерял всякое самообладание. Девушка была так хороша, глаза ее, еще влажные от слез, и звонкий ребяческий смех были так пленительны, что очарованный Эмиль уже перестал сомневаться в том, какая сила влекла его в Шатобрен: добряк Антуан, живописные руины или прелестная Жильберта. — Ну вот, — сказала Жанилла, — чуть не напугали нас! Милости просим, господин Эмиль, как говорит хозяин. Господин Антуан скоро будет. А пока что не мешает вам с дороги выпить чего-нибудь холодненького — я спущусь в погреб и нацежу вина. Эмиль удержал ее за рукав. — Если вы в погреб, — возразил он, — так и я с вами. Пить я не хочу, но я не прочь взглянуть на ваше знаменитое подземелье: вы рассказывали, что оно такое глубокое и мрачное… — Сейчас не ходите, — запротестовала Жанилла, — вы разгорячились, а там холодно. Ну да, разгорячились! Раскраснелись, словно маков цвет. Передохните минутку, а до прихода господина Антуана мы еще покажем вам и погреба, и подземелья, и весь замок: ведь вы его и не разглядели как следует, хоть он того стоит! Еще бы! Иной раз издалека приезжают, чтобы замком полюбоваться! И уж так надоедают нам! Дочурка уходит тогда к себе в комнату и сидит за книгой, пока тут любопытные бродят. Но господин Антуан им не запрещает. «Пускай, говорит, осматривают!» Особенно если люди приезжают издалека. «Когда владеешь таким любопытным местечком, — говорит господин Антуан, — надо и другим дать возможность им полюбоваться». Сказать по совести, Жанилла приписывала господину Антуану свои собственные доводы, которые ловко сумела ему внушить. Дело в том, что, показывая развалины, она выручала кое-какую мелочь и тайком тратила ее, как и все свои личные сбережения, на нужды семьи Шатобрен. Эмиль, которому настойчиво предлагали попробовать чего-нибудь холодненького, согласился выпить стакан воды, и так как Жанилла вызвалась сходить к источнику, он остался наедине с Жильбертой.XV Ступени
Если опытный повеса радуется нежданной удаче, позволившей ему остаться наедине с предметом своих искательств, то целомудренный, искренне увлеченный юноша, напротив, испытывает смущение, почти испуг, когда ему впервые выпадает такой счастливый случай. Так произошло и с Эмилем Кардонне. Жильберта внушала ему глубокое уважение, он боялся поднять на нее глаза или чем-либо обмануть оказанное ему доверие. Наивная, как дитя, Жильберта не испытывала ни малейшего замешательства. Мысль, что Эмиль может воспользоваться ее неопытностью и беззащитностью и допустит, хотя бы на словах, какую-нибудь вольность, даже не возникала в ее благородной и невинной головке. Святое неведение охраняло Жильберту от подобных опасений. Итак, она первая нарушила молчание, и голос ее, словно по волшебству, вернул покой взволнованным чувствам юного гостя. Бывает иногда голос столь задушевный и пленительный, что достаточно услышать его, и ты, еще не видя, уже полюбил того, кому он принадлежит и чей характер выражает так полно. Именно такой голос и был у Жильберты. Слушая, как она разговаривает, смеется или поет, каждый чувствовал, что в душе ее никогда не возникало ни дурной, ни унылой мысли. Что трогает и чарует нас в пении птиц? Не столько мелодия, чуждая всем условностям музыки, и не поразительная переливчатость и мощь, но прежде и больше всего — та особая безыскусность и простота, о которых ничто не напоминает в человеческой речи. Всякий, слыша Жильберту, признал бы, что ее голос подтверждает это сравнение и что самые обычные слова, слетающие с ее уст, приобретают более глубокий смысл. — Сегодня утром мы видели нашего друга Жана, — сказала Жильберта, — пришел на рассвете и забрал с собою весь отцовский инструмент! Нынче Жан работает первый день; он уже получил заказы, и мы надеемся, что недостатка в них не будет. Он посвятил нас во все, что вы для него сделали и что ему предлагали вчера вечером. Поверьте мне, сударь, если отказ его был, возможно, высокомерен и даже грубоват, он от всей души благодарен вам. — Я так мало мог для него сделать, что мне даже неловко вас слушать, — возразил Эмиль, — Особенно грустно, что из-за своего упорства он лишается постоянного заработка: ведь положение его еще очень непрочно. На шестом десятке сызнова начинать трудовую жизнь, и к тому же на голом месте, не имея ни крыши над головой, ни одежды, ни даже необходимого инструмента, — согласитесь, мадемуазель, разве это не страшно? — По-моему, не страшно, — ответила Жильберта. — Когда я росла, мы жили всегда сегодняшним днем, вот потому-то я, наверно, и усвоила эту счастливую беззаботность бедности. Возможно, у меня просто такой характер или же меня успокаивает беспечность Жана, но только сегодня поутру никто из нас не ощутил ни малейшего беспокойства. Жану так мало нужно! Он воздержан и вынослив, как дикарь. Лучше всего он чувствовал себя, когда целых два месяца скитался по лесу и часто ночевал под открытым небом. Он уверяет, что зрение у него стало за эти месяцы острее, что к нему возвратилась молодость и, если бы лето длилось вечно, он никогда бы не вернулся в деревню. Но в глубине души Жан питает непреодолимую любовь к родимым местам, и, потом, он не способен долго наслаждаться бездельем. Только нынче утром мы уговаривали его остаться в Шатобрене и жить, как мы, не заботясь о завтрашнем дне. «Места у нас много и материала на постройку жилья тоже хватит, — говорил ему батюшка, — в камне и дереве недостатка не будет. Я помогу тебе отстроиться, как ты в свое время помог мне». Но Жан отказался. «Вот еще! — сказал он. — Что же я буду делать, живя тут с вами по-господски? Ренты у меня нет, а жить на ваш счет не хочу… Кто знает, быть может, я лет тридцать еще протяну! Будь даже вы и богаты, все равно я умер бы с тоски. Это для вас хорошо, господин Антуан, потому что вы для безделья воспитаны были. Хоть вы и не лодырь — это все знают, — но вернуться к барским привычкам вам ничего не стоит. А мне тогда ни скрываться, ни охотиться больше не придется. Значит, так и сидеть сложа руки? Право, недели не пройдет, как я свихнусь!» — Да, — сказал Эмиль, вспомнив отцовскую теорию непрестанного труда и не знающей отдыха старости. — У Жана никогда не будет потребности в свободе, хотя во имя своей предполагаемой свободы он приносит столько жертв. — Как! — удивленно воскликнула Жильберта. — Разве свобода и безделье одно и то же? Не думаю! Жан горячо любит работу, и для него свобода в том, чтобы делать любимое дело. И когда работа ему по вкусу и требует выдумки, он отдается ей с еще большим пылом. — Вы правы, мадемуазель Жильберта, — с внезапной грустью сказал. Эмиль. — В этом-то все и дело! Человек рожден для того, чтобы постоянно трудиться, но трудиться соответственно своим склонностям и в той мере, в какой работа доставляет ему удовлетворение. Ах, зачем я не умею плотничать! С какой радостью я работал бы вместе с Жаном Жапплу, отдавая заработок этому мудрому и бескорыстному человеку! — Ну вот, сударь, — сказала Жанилла, возвращаясь с глиняным кувшином, который она несла на голове, желая показать свою ловкость. — Вы говорите совсем как господин Антуан! Ведь он собрался было нынче утром, под стать прежним временам, идти вместе с Жаном в Гаржилес на поденную работу. Голубчик мой! До чего только его доводит доброта! «Довольно, говорит, ты помогал мне зарабатывать; теперь я хочу помочь тебе. Не желаешь ты разделить со мною стол и кров, так, по крайней мере, бери себе мой заработок, потому что мне он лишний». И что же вы думаете? И пошел бы! Это в его-то годы и с его положением идти обтесывать такие огромные бревна! — А зачем ты ему помешала, матушка Жанилла? — взволнованно произнесла Жильберта. — И зачем Жан отказывался? Батюшка не стал бы чувствовать себя оттого хуже, а одним благородным поступком в его жизни было бы больше! Ах, почему я не могу взять в руки топор и сделаться подручным у человека, который так долго был кормильцем моего отца! А я, ничего не подозревая, послушная вашей воле, училась в это время петь и рисовать! Ах, вот уж подлинно — женщины ни на что не годны! — Как, как это женщины ни на что не годны? — воскликнула Жанилла. — Вот что я тебе скажу: давай-ка полезем вдвоем на крышу, станем обтесывать бревна и укладывать балки. Правда, правда! Я хоть и стара и ростом не вышла, справлюсь с этим куда лучше твоего! Тем временем наш господин Антуан, у которого руки что крюки, пусть сядет за прялку, а Жан возьмется чепчики гладить! — Ты права, матушка, — ответила Жильберта. — Шерсть на веретено намотана, а я сегодня еще ничего не напряла. Надо поторопиться, тогда еще до холодов успеем приготовить сукно на теплую одежду Жану. Начну-ка я работать, наверстаю потерянное время. Но все же помни, что аристократка — это ты! Ведь ты ни за что не хочешь, чтобы отец снова стал рабочим, хоть ему это и по душе. — Так знайте же, — доверительно и торжественно произнесла Жанилла, — что из господина Антуана так и не вышло хорошего плотника. Охота у него была, но сноровки недоставало, и если я позволяла ему работать, так только для того, чтобы он не скучал и не отчаивался. Спросите-ка Жана, как ему, бедняге, доставалось: он бы вдвое быстрее сам все сделал, чем после этакого подручного подправлять. А вид у нашего хозяина был такой, словно он горы сворачивает. Заказчики были довольны и платили хорошо, но, поверьте, мне в те времена покоя не было. Я не жалуюсь, только вечно я дрожала, как бы господин Антуан не промахнулся, когда бьет по бревну, или не свалился с лестницы, не повредил себе руку или ногу, а то он по свей рассеянности, бывало, расположится на стропилах, словно дома у камелька… — Ты пугаешь меня, Жанилла! — воскликнула Жильберта. — Ах! В таком случае хорошо, что ты своими насмешками отбила у батюшки охоту снова браться за плотничье ремесло. Ты, как всегда, оказалась нашим добрым провидением. Жильберта была ближе к истине, чем полагала. В жизни ее отца Жанилла играла роль ангела-хранителя. Не будь она так осмотрительна, по-матерински деспотична и проницательна, этот превосходный человек вряд ли сумел бы пройти сквозь все невзгоды жизни, ни в чем не отступив от нравственных правил. Во всяком случае, ему не удалось бы сохранить ни внешнего своего достоинства, ни благородства и чистоты врожденных склонностей. Слишком много в нем было смирения, слишком часто он забывал свои интересы. Излишне откровенный и расточительный, он легко потерял бы меру, усвоил бы не только достоинства простого народа, но и его недостатки. И тогда он, быть может, в какой-то мере действительно заслуживал бы то презрение, с каким давали себе право относиться к нему глупые и тщеславные выскочки. Но с помощью Жаниллы, которая, не противореча ему открыто, умела поддержать в нем душевное равновесие и уберечь от излишеств, он вышел из этого испытания с честью, не потеряв ни уважения, ни признания людей разумных. Беседа то и дело прерывалась, заглушаемая жужжанием веретена: Эмиль улавливал лишь отрывистые фразы. Жильберта усердно взялась за работу, решив закончить ее. Но, видимо, не только благородная цель, которую она перед собою поставила, заставляла ее трудиться с таким пылом. Она настойчиво советовала Эмилю пойти с Жаниллой и осмотреть развалины замка, вместо того чтобы слушать однообразное жужжание прялки, но, поскольку Жанилла тоже хотела сначала разделаться со своей пряжей, Жильберта, не отдавая себе в том отчета, торопилась вдвойне, спеша закончить работу одновременно с нею, чтобы принять участие в прогулке. — Мне стыдно, что один я бездельничаю, — заявил Эмиль, не решаясь пристально глядеть на прекрасные руки и изящные движения юной пряхи из опасения встретиться со взглядом маленьких пронзительных глазок Жаниллы. — Не найдется ли у вас и для меня какой-нибудь работы? — А что вы умеете делать? — улыбаясь, спросила Жильберта. — Надеюсь, все, что умеет Сильвен Шарассон. — Я послала бы вас полить салат, — рассмеявшись, сказала Жанилла, — но это лишит нас вашего общества. Может быть, вы заведете часы? Они остановились. — Вот уже три дня, как они стоят, — заметила Жильберта, — и я ничего с ними не могу поделать. Я думаю, там что-нибудь сломалось. — О, это как раз по моей части! — воскликнул Эмиль. — Я ведь немного изучал механику — правда, не скажу чтобы с очень большой охотой. Но вряд ли эту кукушку так уж сложно починить. — А вдруг вы совсем их поломаете? — возразила Жанилла. — Ну и пусть, раз это доставит ему удовольствие, — с добродушным видом сказала Жильберта; в эту минуту она особенно напоминала снисходительного и беспечного господина Антуана. — Если такова их участь, я готов, с вашего позволения, их сломать, но при условии, конечно, что заменю другими, — ответил Эмиль. — Ну уж нет! — сказала Жанилла. — Если сломаете, я хочу получить точно такие же: не надо мне ни лучших, ни больших, нам и эти вполне годятся! Бой у них звонкий и не слишком оглушительный. Эмиль принялся за работу; он разобрал немецкие часы с кукушкой и убедился, что они просто слегка запылились внутри. Склонившись над столом, неподалеку от Жильберты, он вычистил и старательно собрал несложный механизм, перебрасываясь с обеими женщинами шутливыми замечаниями, что придавало беседе дружескую непринужденность. Говорят, что душа открывается за общей трапезой, но не скорее ли душевная близость возникает во время совместной работы? Все трое испытали это сейчас: под конец они почувствовали себя как бы членами единой семьи. — И впрямь это по вашей части, — сказала Жанилла, видя, что ее любимые часы снова пошли. — Чем вы не часовщик? А теперь можно и прогуляться. Только я прежде зажгу фонарь. Мы спустимся с вами в подземелье. — Сударь, — заговорила Жильберта, когда Жанилла вышла, — вы сказали сейчас, что предполагаете обедать у господина де Буагильбо. Какое впечатление произвел на вас этот человек? — Затрудняюсь определить, — ответил Эмиль. — Холодность так странно сочетается в нем с привлекательностью, что сразу его не распознаешь. Надо еще и еще раз его повидать, и понаблюдать, и поразмыслить, прежде чем разгадаешь такого чудака. А вы с ним незнакомы? Может быть, вы поможете мне его понять? — Я совсем его не знаю; раз или два видела мельком, хотя мы и соседи. Очень хотелось бы взглянуть на маркиза — я столько о нем наслышалась! Но всякий раз, проезжая мимо нас с отцом, он, бывало, поклонится, не подымая глаз, словно не знает, кто мы такие, пришпорит своего коня и унесется галопом, будто желая скрыться в облаке пыли, взметенной копытами лошади. — Значит, несмотря на столь близкое соседство, господин де Шатобрен вовсе не поддерживает отношений с маркизом? — Да. И это так удивительно! — с доверительным и наивным видом произнесла вполголоса Жильберта. — Но вам я могу об этом рассказать, господин Эмиль: мне почему-то кажется, что вы сумеете пролить свет на эту тайну. В молодости батюшку связывала с господином де Буагильбо самая задушевная дружба. Мне это известно, хотя он никогда об этом не говорит, а Жанилла упорно отмалчивается, когда я ее расспрашиваю. Но Жан, который, правда, не больше меня знает о причинах разрыва, не раз говорил мне, что когда-то они были неразлучны. Поэтому я всегда и считала, что господин де Буагильбо вовсе не такой гордец и не такая ледышка, как это кажется: батюшка, с его живым, веселым нравом, не мог бы испытывать расположение к человеку высокомерному и черствому. Признаюсь, я не раз слышала, как отец, полагая, что меня нет поблизости, делился с Жаниллой своими мыслями о маркизе. Батюшка утверждал, что единственное непоправимое несчастье его жизни — это потеря привязанности господина де Буагильбо; что он останется безутешным до гроба и готов без колебания пожертвовать глазом, рукою или ногой, лишь бы вернуть дружбу маркиза. Жанилла упрекала его за эти безрассудные, по ее мнению, жалобы и советовала никогда не делать ни малейшей попытки к примирению, так как она слишком хорошо знает господина де Буагильбо и может поручиться, что он никогда не забудет причины их ссоры! «Ну что ж, — возразил однажды батюшка, — я предпочел бы объяснения, упреки, даже поединок в ту пору, когда силы наши были еще примерно равны, — все что угодно, но только не это неумолимое молчание и ледяное упорство, которые разрывают мне сердце. Нет, нет, Жанилла, никогда я с этим не примирюсь, и, если перед смертью мне не удастся пожать ему руку, я умру, сожалея, что жил на свете!» Жанилла всегда старается отвлечь его от этих мыслей, и не без успеха, потому что у батюшки живая и привязчивая натура: он не способен огорчать близких своей печалью. Но вы, господин Эмиль, — горячо любящий сын, и вы, конечно, поймете, как тяготит мою душу тайная скорбь отца с той поры, как я угадала ее. Право, чего бы я только не сделала, лишь бы избавить батюшку от печали. Уже год я все думаю об этом, и раз двадцать мне снилось, будто я еду в Буагильбо, бросаюсь к ногам этого сурового человека и говорю ему: «Мой отец — лучший из людей и преданнейший вам друг. Невзирая на злую судьбу, он счастлив благодаря своим добродетелям. Одно печалит его, и печалит глубоко, но стоит вам сказать лишь слово — и вы исцелите его!..» Он же всякий раз отталкивает меня и в ярости выгоняет вон. В страхе я просыпаюсь, а однажды ночью, когда я крикнула во сне его имя, Жанилла подошла ко мне и, крепко обняв, сказала: «Зачем ты поминаешь его? Злой это человек. Но он над тобою не властен, да и над отцом твоим тоже!» Из этого я заключила, что Жанилла его ненавидит. Но стоит ей сказать хоть слово противу господина де Буагильбо, батюшка горячо становится на его защиту. Что произошло между ними? Может быть, пустяк, ребяческая обида? Возможно, они поссорились из-за охоты, так, по крайней мере, полагает Жан Жапплу. Если это верно, нельзя ли их примирить? Господин де Буагильбо и батюшке тоже снится. Иной раз после ужина, когда батюшка задремлет на стуле, он в глубокой тоске повторяет это имя. Господин Эмиль, я полагаюсь на ваше великодушие и осмотрительность: быть может, вам удастся хоть что-нибудь выведать у господина де Буагильбо! Я дала себе слово при первой же возможности попытаться примирить двух друзей, некогда так любивших друг друга. Если бы Жан действительно вошел в милость к маркизу, я бы понадеялась на его смелость и природный ум. Но и он, подобно отцу, жертва прихоти господина де Буагильбо; вы один можете прийти мне на помощь! — Поверьте, отныне я буду неуклонно стремиться к этой цели, — горячо ответил Эмиль. Но стук деревянных башмаков по каменным плитам возвестил о возвращении Жаниллы, и Эмиль поспешил вскарабкаться на стул, якобы с целью укрепить маятник; на самом же деле он не хотел, чтобы старушка заметила радостное волнение, пробужденное в нем доверием Жильберты. Девушка тоже была взволнована. Ей пришлось собрать все свое мужество, чтобы открыться едва знакомому юноше: не так уж она была ребячлива и по-деревенски простодушна, чтобы не понимать, что поведение ее противоречит правилам приличия. При своей прямоте Жильберте тяжело было таиться от Жаниллы. Но она говорила себе, что намерения ее чисты, а Эмиль не способен злоупотреблять ее доверием. Она взглянула на входящую в комнату Жаниллу, и впервые в жизни в ней пробудилась врожденная женская хитрость. Чувствуя, что лицо у нее горит, Жильберта нагнулась, делая вид; будто разыскивает иголку, которую она с умыслом уронила на пол. Таким образом проницательная старуха была введена в заблуждение двумя детьми, весьма мало искушенными в житейских вопросах, и все трое весело отправились осматривать подземелье. Оно было расположено непосредственно под квадратным флигелем: крутые ступени, высеченные прямо в скале, спускались вниз на головокружительную глубину. Жанилла, привыкшая исполнять обязанности чичероне у приезжавших в Шатобрен туристов, смело шествовала впереди. Эмиль шел за нею следом, прокладывая дорогу Жильберте, за каждый шаг которой трепетала Жанилла, хотя девушка легко и безбоязненно пробиралась вперед. — Осторожней, крошка, — ежеминутно выкрикивала домоправительница. — Господин Эмиль, поддержите Жильберту, а то она упадет! Она такая рассеянная, вся в батюшку! Это у них в роду. Просто младенцы какие-то! Хорошо, что я с них глаз не спускаю, а то бы они давным-давно поубивались! Эмиль был счастлив своею новой ролью опекуна. Он устранял с пути Жильберты осыпавшиеся камни и, так как спуск становился все более и более неровным и трудным, счел себя вправе предложить девушке руку, которая сначала была отвергнута, а затем по необходимости принята. Кто сумеет описать страстное опьянение первой любви, овладевшей мужественной душой? Почувствовав в своей руке руку Жильберты, Эмиль затрепетал и уже не в силах был отвечать на шуточки своих спутниц. Жильберта вначале дурачилась, но мало-помалу, охваченная все возрастающим смущением, умолкла, не находя слов. Они прошли рука об руку всего с десяток ступеней, однако время остановилось для Эмиля, и когда позже, бессонной ночью, он вызывал в памяти эти минуты, они представлялись ему вечностью. Вся предшествующая жизнь вдруг показалась юноше каким-то сновидением, а сам он словно преобразился. Вспоминались ли ему дни детства, годы, проведенные в коллеже, горести и утехи студенческих лет — он чувствовал себя бесконечно далеким от того покорного, скованного существа, каким был до сих пор. Нет, другой Эмиль — с душою, озаренной любовью к Жильберте, — шествовал по жизни, и сама эта жизнь озарена была светом нового дня! Он видел себя ребенком, видел запальчивым школьником, мечтательным и беспокойным студентом, и эти образы, столь различные между собой, как и этапы его жизни, сливались теперь в его представлении в единый образ — образ существа, отмеченного судьбой, победно шествовавшего навстречу тому дню, когда руке Жильберты суждено было очутиться в его руке! Лестница выводила к подножию холма, на вершине которого стоял замок. То был запасной выход на случай осады, и Жанилла не скупилась на похвалы этому искусному и сложному сооружению. Хотя старушка и жила как ровня с господами Шатобрен и ни за какие блага мира не согласилась бы расстаться с ними — так она дорожила своими правами, — она, как это ни странно, была одержима феодальными предрассудками. Жанилла до такой степени отождествляла себя с развалинами Шатобрена, что в конце концов привыкла безоговорочно восхищаться прошлым, о котором, по правде говоря, имела довольно смутное представление. А может быть, зная, что перед нею сын богатых буржуа, старушка считала своим долгом сбить с него спесь, без устали превознося былое могущество предков Жильберты. — Поглядите-ка, сударь, — твердила она, водя Эмиля по мрачным подземельям, — вот где усмиряли непокорных! Здесь еще видны железные цепи, которыми приковывали узников к стене. А вот в этом подземелье, говорят, огромная змея сожрала трех бунтовщиков! У прежних господ водились такие змеи. А сейчас мы вам покажем тайники. Тут уж было не до шуток! Повидали бы вы их до революции, вам бы и в голову не пришло смеяться, не раз со страху перекрестились бы… — К счастью, нынче можно тут и посмеяться да и позабыть об этих чудовищных преданиях! — воскликнула Жильберта. — Благодарение богу, я родилась в такое время, когда все это кажется недобрым сном. Я люблю наше старое гнездо таким вот безобидным, утратившим свой грозный облик. Ты ведь знаешь, Жанилла, что отвечает отец жителям Кюзьона, когда они приходят к нему просить камень для постройки: «Берите, дети мои, берите! Впервые он послужит доброму делу!» — Все равно! — сказала Жанилла. — Что ни говори, а только вы были первыми в округе господами — это чего-нибудь да стоит. — Тем больше радуешься, ощущая свое равенство со всеми и зная, что никому больше не внушаешь страха. — Да, вот этим можно гордиться, вот такому счастью я завидую! — воскликнул Эмиль.XVI Талисман
Если б неделей раньше Жильберте сказали, что наступит день, когда ее сердечный покой будет возмущен еще не изведанным чувством, и мало того, что в кругу ее привязанностей наряду с отцом, Жаниллой и Жаном появится молодой незнакомец, но что это новое имя решительно потеснит дорогие ей имена, она испугалась бы и не поверила. И, однако, она смутно ощущала, что отныне образ стройного юноши с черными кудрями и пламенным взором будет сопровождать ее на каждом шагу, преследовать даже во сне. Она пыталась бежать этой роковой неизбежности, но тщетно. Нежная, целомудренная душа Жильберты медлила отдаться овладевшему ею опьянению, и все же оно завладело ею с той самой минуты, когда рука Эмиля дрогнула и затрепетала, коснувшись ее руки. Неведомое, таинственное могущество любви! Против него бессильны все заклятья, оно подчиняет себе иных прежде, нежели они успеют спохватиться и приготовиться к обороне или нападению. Первое прикосновение этого скрытого пламени слегка взволновало Жильберту, но пока что она шутливо играла с огнем. Безмятежная ясность ее души еще не была потревожена, и, если Эмилю уже приходилось делать над собою усилие, чтобы скрыть волнение, Жильберта по-прежнему непринужденно улыбалась и болтала; но грусть, охватившая ее при отъезде Эмиля, и нетерпение, с каким она поджидала, когда он снова появится, подсказали ей, что присутствие этого юноши отныне стало для нее властной необходимостью. Жанилла ни на минуту не оставляла их одних, но как-то так получалось, что их беседа неприметно переходила на предметы, в которых старушка, при всей живости и остроте своего ума, мало что смыслила. Жильберта получила образование достаточно основательное — насколько это возможно для девушки, воспитанной в парижском пансионе; надо признать, что в большинстве женских учебных заведений за последние двадцать лет произошли большие перемены. К руководству пришли женщины просвещенные, здравомыслящие и прекрасно воспитанные, а люди с именем, нисколько не боясь уронить своего достоинства, соглашались читать этой проницательной и умной половине рода человеческого курс истории, литературы, преподавали начатки естественных наук и математики. Жильберта имела некоторое понятие о том, что принято называть изящными искусствами; однако, всецело подчиняясь родительской воле, она все же обращала преимущественное внимание на развитие своих более серьезных наклонностей. С первых же дней она решила, что в их скромной, уединенной жизни изящные искусства вряд ли ей пригодятся, что работа по дому отнимет слишком много времени, и, если рукам ее суждено трудиться, надо образовать свой ум, чтобы не терзаться впоследствии духовной пустотой и бесплодным воображением. Такое направление дала ей классная наставница, достойнейшая женщина, с которой Жильберта подружилась, сделав ее поверенной своей изменчивой судьбы. Девушка оценила ее мудрые советы и послушно им следовала. Однако наслаждение, с юных лет доставляемое Жильберте науками, духовным развитием, стало причиной ее страданий с той поры, как, поселившись среди развалин Шатобрена, она оказалась без книг. Если бы только господин Антуан мог догадаться о желании дочери, он пошел бы на любые жертвы и достал ей книги. Но, видя, как ограничены их средства, и боясь, что отец ради ее прихоти лишит себя необходимого, девушка остерегалась даже упоминать о книгах. Жанилла, решив раз и навсегда, что ее «дочка» достаточно «ученая», и приписывая Жильберте свою собственную склонность к нарядам, которая самым странным образом уживалась в ней с мелочной экономией, тратила все свои скромные сбережения на «туалеты» своей воспитанницы, и у девушки появлялось то кисейное платье, то какое-нибудь кружевце. Принимая эти скромные подношения, Жильберта всякий раз выказывала радость, чтобы не отравить доброй старушке удовольствие. Но про себя она вздыхала при мысли, что вместо этих тряпок, за ту же скромную цену, можно было бы приобрести хорошую книгу по истории или томик стихов. В свободные часы девушка без конца перечитывала те немногие книги, которые привезла из пансиона, хотя знала их почти наизусть. Раза два ей удалось под каким-то вымышленным предлогом выманить у Жаниллы, хранительницы семейных капиталов, небольшую сумму, предназначенную на покупку нового наряда. Но всегда оказывалось, что либо у Жана развалилась обувь, либо у каких-нибудь бедняков соседей вконец обносились ребятишки. И Жильберта, уступая, как она говорила, неотложной необходимости, откладывала приобретение книг до лучших дней. Кюзьонский священник дал ей почитать «Жития святых» и «Сочинения отцов церкви» в сокращенном издании; эти книги долгое время служили для Жильберты источником радости: при отсутствии выбора ум волей-неволей довольствуется и такой пищей, хотя юность жаждет иных уроков. Сухая материя иногда оказывается благодетельной для здорового ума, и, хотя Жильберта наивно жаловалась Эмилю на свое невежество, он, напротив, дивился ее осведомленности во многих серьезных вопросах, о которых сам судил с чужих слов, не пытаясь в них углубиться. Охваченный восторженной любовью, Эмиль не замедлил признать Жильберту совершенством и в глубине души считал ее самым умным и чистым из человеческих созданий, что было отчасти справедливо. Лучшее и совершеннейшее из существ, несомненно, то, которое находится с нами в наилучшем согласии, лучше всего нас понимает, лучше всего умеет питать и развивать ростки прекрасного, таящиеся в нашей душе, — одним словом, существо, которое могло бы сделать для нас жизнь действительно радостной и полноценной, если бы нам дано было слить наши судьбы воедино. «Как я был прав, что сохранил до сих пор девственное сердце и вел целомудренную жизнь, — думал Эмиль. — Как благодарю я тебя, создатель, что ты помог мне в этом! Жильберта — вот кто предназначен мне судьбой! Без нее я только прозябал бы и страдал!» Беседуя с Жильбертой, Эмиль догадался, что девушка тоскует без книг, но скрывает от домашних, как тягостно для нее это лишение. Эмиль с грустью подумал, что, кроме трудов по вопросам торговли и определенной отрасли промышленности, в доме его отца не найдется ни одной книги, а свою собственную небольшую библиотеку он оставил в Пуатье, предполагая туда вернуться. Но Жильберта намекнула, что весьма обширная библиотека имеется в Буагильбо, — Жану как-то пришлось работать в большой комнате, где было несколько сот томов, — и она очень жалеет, что они никогда не встречаются с маркизом: это соседство могло бы оказаться для нее весьма полезным. Здесь Жанилла, которая даже на ходу не выпускала из рук вязанья, вдруг вмешалась в разговор. — Вот уж, наверно, скука все эти старые книги! Я и глядеть на них не желаю, — сказала она. — А то, чего доброго, свихнешься, как маркиз. Он-то начитался всякой премудрости! — Раз господин де Буагильбо много читает, — сказала Жильберта, — он, конечно, очень образован. — Не пошли ему на пользу ни чтение, ни образованность. Никогда он своей образованностью ни с кем не поделился и не стал от нее ни ласковее, ни любезней! Не желая больше говорить о человеке, которого она ненавидела, и не желая притом — а может быть, не смея — объяснить причину этой ненависти, старушка вышла во двор и там с излишним усердием стала отгонять коз, которые щипали виноградную лозу, обрамлявшую вход во флигель. Воспользовавшись случаем, Эмиль заявил Жильберте, что, если действительно у господина Буагильбо такое множество книг, скоро у нее их будет вволю, хотя бы ему пришлось унести их тайком. Жильберта поблагодарила его улыбкой, не осмеливаясь поднять глаз: с некоторых пор она стала испытывать замешательство, когда ей случалось оставаться наедине с Эмилем. — Ну конечно, — проворчала, входя, старушка. — Господин Антуан не очень-то торопится домой. Знаю я его! Наверно, заболтался по дороге. Повстречал старых приятелей и потчует их где-нибудь в лесочке — и время и деньги переводит зря! Да еще, не дай бог, кто-нибудь выклянчит у него франков десять — пятнадцать на покупку дрянной козы или тощих гусей. Разве он может отказать! Он бы рад все отдать, да боится, что я его ругать буду. Еще бы! Погнал шесть баранов, а в кошелек попадет выручка только за пять — с ним это частенько случается! Тогда берегись матушки Жаниллы! Больше он без меня на ярмарку ни ногой! Ну вот! Четыре пробило! Спасибо господину Эмилю: хорошо часы починил! Ручаюсь, Жильберта, что твой отец только-только домой собрался. — Четыре! — воскликнул Эмиль. — Господин де Буагильбо сейчас садится за стол. Я не могу терять ни минуты! — Так поспешите, — сказала Жильберта, — не надо его восстанавливать против нас: он и так на нас сердится! — А нам-то что, пускай себе сердится! — возразила старушка. — Значит, вы хотите уехать, не дождавшись господина Антуана? — К моему великому сожалению, да. — Где ж этот бездельник Шарассон? — крикнула Жанилла. — Бьюсь об заклад, что храпит где-нибудь в уголке и даже не подумает подать вам лошадь. Стоит только господину Антуану отлучиться из дому, как наш Сильвен куда-то исчезает. Иди сюда, мошенник ты этакий! Куда ты запропастился? — Ах, зачем вы не можете одарить меня каким-нибудь талисманом! — обратился Эмиль к Жильберте, пользуясь отсутствием Жаниллы, отправившейся разыскивать Сильвена: по всему двору раздавался ее громкий, но отнюдь не сердитый голос. — Ведь я отправляюсь, подобно странствующему рыцарю, в пещеру старого чародея, чтобы похитить его тайну — слова заклятия, могущие положить конец вашим мукам. — Постойте, — с улыбкой сказала Жильберта, откалывая от пояса цветок, — вот самая прекрасная роза из нашего сада: быть может, в ее аромате таится какое-нибудь благодетельное свойство, способное усыпить осторожность врага и смягчить его жестокость. Положите ее к нему на стол, пусть он полюбуется ею и вдохнет ее волшебный аромат. Господин де Буагильбо сам искусный садовод, но, кто знает, найдется ли в его обширном цветнике такой красивый цветок: недаром же я трудилась над прививками в прошлом году. Будь я владелицей замка в те достославные времена, которые оплакивает Жанилла, я, возможно, сумела бы произнести заклинание, чтобы наделить этот цветок магической силой. Но я всего лишь бедная девушка и могу только молить бога, чтоб он заронил милосердие в эту суровую душу, подобно тому, как он ниспослал росу, заставившую раскрыться этот розовый бутон. — Неужели я должен оставить маркизу мой талисман?! — воскликнул Эмиль, пряча розу на груди, — Не лучше ли сохранить его, чтобы он послужил мне еще раз?.. Тон, каким Эмиль задал этот вопрос, и волнение, отразившееся на его лице, удивили простодушную девушку. Она неуверенно взглянула на него, не понимая, почему так дорог ему цветок, который она отколола от своего платья. Жильберта попыталась улыбнуться, желая обратить в шутку слова Эмиля, но почувствовала, что краснеет. Воспользовавшись появлением Жаниллы, она ничего не ответила. Эмиль в опьянении любви смело спустился по крутой и опасной тропинке. У подножия холма он решил оглянуться и на лужайке, средь розовых кустов, увидел Жильберту, которая провожала его взглядом, хотя и делала вид, что усердно срезает цветы. В тот день она была одета не наряднее, чем обычно. Платье на ней было чистенькое, как и все, что проходило через руки добросовестной Жаниллы, но оно стиралось и гладилось так часто, что вместо лилового стало бледно-сиреневым, приобретя неуловимо блеклый оттенок увядающей гортензии. Ее великолепные белокурые волосы не держались в прическе и, выбиваясь из-под узкой бархотки, окружали голову девушки легкой золотистой дымкой. Ослепительно белая строгая вставочка обрамляла прелестную шейку Жильберты, позволяя угадывать изящные очертания плеч. Девушка показалась Эмилю очаровательной в отвесно падавших солнечных лучах, от которых она и не думала прятаться. Яркий румянец не пострадал от загара, а свежий цвет ее лица лишь выигрывал от вылинявшего и поношенного платьица. Воображение двадцатилетнего юноши слишком богато: что ему до того, пышен или убог наряд его возлюбленной! В глазах Эмиля это линялое платьице играло всеми красками, перед которыми тускнели многоцветные восточные ткани, и он упрекнул в душе художников Возрождения за то, что они не умели облачать в такое великолепие своих улыбающихся мадонн и ликующих святых. Эмиль застыл на месте, не в силах отвести от Жильберты взгляда, и, если б конь не горячился под ним, не грыз с нетерпением удила, не бил о землю копытом, он бы совершенно забыл, что господину де Буагильбо придется ждать его лишний час. Тропинка, спускавшаяся к подножию холма, прихотливо извивалась среди зелени; однако по прямой расстояние было невелико, и молодые люди превосходно видели друг друга. Жильберта угадала нерешимость всадника, который никак не мог оторвать от нее глаз; она скрылась среди розовых кустов, но еще долго сквозь пышные ветви провожала Эмиля взглядом. А Жанилла по другой тропинке вышла навстречу хозяину. Только заслышав голос отца, Жильберта освободилась из-под власти очарования, державшего ее в плену. Впервые в жизни она позволила Жанилле опередить себя и впервые не она приняла из рук господина Антуана его ягдташ и палку. По пути к Буагильбо Эмиль сотни раз строил и сотни раз отвергал планы осады вражеской крепости, за стенами которой укрывался загадочный ее владелец. Увлеченный романтическим воображением, он верил, что прочтет судьбу Жильберты, а следовательно, и свою, начертанную таинственными знаками в каком-нибудь неведомом углу старинного дома, высокие серые стены которого вставали перед ним. Уединенная эта обитель, огромная, мрачная, печальная и замкнутая, как ее владелец, казалась недоступной самому дерзкому любопытству. Но волю Эмиля отныне подстегивала страсть. Наперсник и поверенный Жильберты, он прижимал к губам полуувядшую розу и клялся, что у него достанет мужества и ловкости преодолеть любое препятствие. Он застал господина де Буагильбо одного на крыльце, ничем, по обыкновению, не занятого и как всегда безучастного. Эмиль поспешил извиниться за то, что опоздал к обеду, и в свое оправдание заявил, что якобы сбился с пути и, не зная еще здешних мест, потратил добрых два часа, чтобы выбраться на дорогу. Господин де Буагильбо, словно опасаясь упоминания о Шатобрене, не стал расспрашивать, какою же он ехал дорогой, но, верный изысканной учтивости, заверил гостя, что не заметил времени и отнюдь не испытывал нетерпения. Однако в отрывистых словах маркиза Эмильуловил оттенок взволнованности и понял, что, если бы нарушил обещание приехать, старик, обреченный на тоску одиночества, не на шутку бы огорчился. Обед оказался превосходным, а старый дворецкий прислуживал за столом с ревностной предупредительностью. Остальных слуг не было видно: они держались на кухне, расположенной в подвале, и не показывались, очевидно, имея на сей счет особое приказание; один лишь старый Мартен обладал даром не оскорблять взоров хозяина. Глухой старик так привык ухаживать за маркизом, что тому почти не приходилось давать распоряжений, и, если слуга не сразу угадывал господскую волю, довольно было одного знака, чтобы он исправил ошибку. Глухота слуги как нельзя лучше устраивала не склонного к многословию хозяина — возможно, господин Буагильбо радовался и тому, что за ним ходит человек, ослабевший взор которого уже не может ничего прочесть на его лице; это был скорее автомат, чем слуга, и, поскольку недуги лишали престарелого дворецкого возможности общаться с людьми, он потерял к этому охоту и не испытывал потребности в таком общении. Нетрудно было догадаться, что оба старика могли долгие годы жить бог о бок, не наскучив друг другу, — так мало осталось в них внешних признаков жизни. Мартен прислуживал не торопливо, но добросовестно. Маркиз и Эмиль просидели за столом часа два. Молодой человек заметил, что хозяин едва прикасается к пище и то лишь с целью побудить гостя отведать все изысканные и вкусные яства. Вина были превосходные, и старый Мартен торжественно наполнял бокалы, осторожно наклоняя горлышко бутылки, покрытой почтенным слоем многолетней пыли. Маркиз время от времени отпивал глоток вина и кивком головы указывал старому слуге на пустой бокал Эмиля; но тот, воспитанный в строгости, следил за собой, боясь, как бы бесчисленные образчики коллекции вин господина де Буагильбо не помутили его рассудка. — Это ваша обычная трапеза, маркиз? — осведомился Эмиль, восхищенный тонким обильным обедом, предназначенным всего лишь для них двоих. — Я… я не знаю… — ответил маркиз, — я… я в эти дела не вмешиваюсь. Мартен всем распоряжается. Мне никогда не хочется есть, и я не замечаю, что мне подают. А вы находите, что это неплохо? — Превосходно! И если бы мне выпала честь быть у вас частым гостем, я просил бы Мартена кормить меня не столь роскошно, из опасения сделаться чревоугодником. — А почему бы и нет? Это такое же удовольствие, как и всякое другое. Счастливы те, у кого их много! — Но есть удовольствия более благородные и менее разорительные, — возразил Эмиль. — Множество людей нуждается в самом необходимом, мне было бы стыдно превратить излишество в повседневную потребность. — Вы правы, — с обычным своим вздохом сказал господин де Буагильбо. — Ну что ж! Я велю Мартену в другой раз накормить вас попроще. Он решил, что молодости присущ хороший аппетит. Но мне кажется, вы едите так, словно уже перестали расти. Сколько вам лет? — Двадцать один. — Я полагал, что вы старше. — Судя по лицу? — Нет, судя по вашим взглядам. — Хотел бы я, чтоб отец услышал ваше мнение, маркиз, и принял его к сведению, — улыбаясь, ответил Эмиль. — Он все еще обращается со мною как с ребенком. — А что за человек ваш отец? — спросил господин Буагильбо с такой простодушной заинтересованностью, что вопрос его отнюдь не показался неделикатным, хотя на первый взгляд можно было бы счесть, что это именно так. — Отец — мой друг, уважения которого я добиваюсь, а осуждения трепещу. Это самое верное, что я могу сказать, желая обрисовать его характер — решительный, суровый и справедливый, — ответил Эмиль. — Я слышал, что он человек весьма способный, весьма состоятельный и весьма печется о своем влиянии. Это неплохо, если влияние употребляется во благо. — А как, маркиз, наилучшим образом употребить его? — Ну, это слишком долго рассказывать! — вздыхая, ответил маркиз. — Вы, наверно, знаете это не хуже меня. Старик невольно поддался тому доверительному тону, каким говорил Эмиль, надеясь вызвать в маркизе ответное чувство; но спустя минуту господин де Буагильбо снова впал в привычное оцепенение, как будто страшась его нарушить. «Необходимо любыми средствами разбить этот тысячелетний лед, — подумал Эмиль. — Может статься, это вовсе не так уж трудно. Возможно, я окажусь первым, кто отважился на такую попытку!» И, умолчав, как и надлежало, об опасениях, внушаемых ему отцовским честолюбием, а также о мучительных стычках между ними, проистекающих от несогласия во взглядах, Эмиль с увлечением и пылом заговорил о своих убеждениях, склонностях и даже поделился с собеседником мечтами о грядущем братстве человечества. Он был уверен, что маркиз примет его за сумасшедшего, и с наслаждением старался разжечь в нем дух противоречия, желая таким образом проникнуть в загадочную душу этого человека. «О, если бы мои слова могли вызвать в нем взрыв негодования или презрения! — думал он. — Вот тогда я увидел бы сильные и слабые стороны противника». Сам того не замечая, он придерживался в отношении маркиза той же тактики, какой следовал по отношению к нему самому господин Кардонне: он с умыслом поносил и сокрушал все, что было свято, как он полагал, в глазах старого легитимиста — власть дворянства и власть денег, крупное землевладение, могущество отдельной личности и рабство масс, иезуитский католицизм, так называемое «божественное право», неравенство прав и состояний как основу общественного строя, господство мужчины над женщиной, которую брачный контракт рассматривает как предмет купли-продажи, а кодекс общественной морали — как собственность, наконец, любые языческие обычаи, не вытесненные Евангелием из общественных установлений и освященные политикой церкви. Казалось, господин де Буагильбо слушал внимательнее обычного; его большие голубые глаза округлились — не от вина, которого, впрочем, он и не пил, а от изумления: очевидно, эта декларация прав человека, изложенная Эмилем, повергла его в состояние удручающего оцепенения. Любуясь игрой столетнего токайского в бокале, Эмиль решил, что для вящего воодушевления прибегнет к помощи вина, если обычной пылкости его юношеского энтузиазма недостаточно, чтобы, пустив в ход все свое красноречие, предотвратить обвал снежной лавины, готовой на него обрушиться. Но надобности в этом средстве не оказалось — то ли снег слишком затвердел и не мог сорваться с ледника, то ли господин де Буагильбо, с виду внимательно слушавший, ничего не слышал, но, так или иначе, он не прерывал громогласной проповеди дерзостного исповедания веры этого сына века и хранил глубокое молчание. — Так как же, маркиз? — спросил Эмиль, удивленный равнодушной терпимостью, с какою хозяин выслушал его речь. — Разделяете вы мои убеждения или же считаете, что они не заслуживают даже того, чтоб их оспаривать? Господин де Буагильбо ничего не сказал. Слабая улыбка пробежала по его губам, разомкнувшимся было для ответа, но испустившим лишь загадочный вздох. Он только положил свою руку на руку Эмиля, и тому показалось, что холодная влажность этой каменной длани являла в ней на сей раз какие-то признаки жизни. Маркиз поднялся наконец и сказал: — Кофе выпьем в парке. — И после минутного молчания добавил, словно договаривая вслух свою мысль — Я с вами всецело согласен. — Неужели?! — воскликнул Эмиль и, осмелев, взял маркиза под руку. — А почему бы и нет? — невозмутимо возразил тот. — Вы хотите сказать, что все это вам безразлично? — О, если бы это было так! — ответил господин де Буагильбо, вздохнув глубже обычного.XVII Лед растаял
До сей поры Эмиль любовался парком Буагильбо лишь через живую изгородь или же сквозь решетку. Теперь его еще сильнее поразила красота этого чудесного уголка с его могучими, живописно разбросанными деревьями. Природа потрудилась здесь на славу, но большую помощь оказала ей искусная рука человека. Среди холмистых склонов открывались прелестные уголки, полноводный источник, пробиваясь из скал, растекался ручейками по всему парку, и под тенистыми ветвями стояла восхитительная свежесть. Дно и кручи оврага, примыкавшего к парку, сплошь — . заросли зеленой чащей, которая так удачно скрывала каменную ограду, сливаясь с живой изгородью, что, с какого бы пригорка вы ни любовались беспредельной ширью и великолепием лесного пейзажа, у вас создавалось впечатление, будто парк тянется до самого горизонта. — Райская обитель! — сказал Эмиль. — Достаточно взглянуть на нее, чтобы убедиться, что вы истинный поэт. — Истинных поэтов вроде меня, то есть людей, которые живо ощущают поэзию, но не могут выразить свои чувства, на белом свете немало, — заметил маркиз. — Разве только в словах, изустных или написанных, поэзия находит достойное выражение? — возразил Эмиль. — Разве живописец, дающий величественное изображение природы, — не поэт? А если это так, то всякий художник, следующий в своих творениях самой природе, но преображающий ее с целью раскрыть все ее красоты, — разве он не создает великие поэтические произведения? — По вашим словам выходит, что да, — сказал господин де Буагильбо лениво-снисходительным тоном, в котором, однако, звучала благосклонность. Но Эмиль предпочел бы самые жаркие споры тому безразличию, с каким маркиз принимал каждое его слово: он начинал опасаться, что атака не удалась. «Что бы мне такое придумать, как бы разозлить и вывести его из себя? — размышлял он. — Ни одна прославленная историческая битва не сравнится по трудности с осадой этой крепости!» Кофе был подан в хорошеньком швейцарском домике, порядок и чистота которого в первую минуту восхитили Эмиля. Но отсутствие людей и домашних животных слишком бросалось в глаза, и уже через минуту ваше восхищение этим сельским приютом улетучивалось. А ведь недостатка тут не было ни в чем: был здесь и поросший мхом, обсаженный елями холм, и прозрачные струи ручья, ниспадавшие в каменный водоем, а затем выбегавшие оттуда с нежным журчанием, и самый домик, сложенный из смолистых бревен, с прихотливо узорчатыми перилами, прилепившийся к гранитным глыбам, и красивая его крыша с широкими выступами, и мебель на немецкий лад, и даже сервиз синего фаянса. Домик этот — аккуратный, сверкающий чистотою, безмолвный и пустынный — был скорее похож на красивую швейцарскую игрушку, чем на сельскую хижину. Старый маркиз и старый дворецкий своими увядшими, сморщенными лицами напоминали деревянные раскрашенные фигурки, как будто нарочито помещенные здесь для вящего сходства. — Вы бывали в Швейцарии, маркиз? — спросил Эмиль. — И сельский домик — дань вашего пристрастия к этой стране? — Путешествовал я мало, хотя однажды и выехал из дома с намерением объехать весь свет, — ответил господин де Буагильбо, — На пути моем попалась Швейцария; страна эта мне понравилась, но дальше я так и не двинулся, решив, что вряд ли где-нибудь окажется лучше, а неудобств придется испытать уйму. — Вы, как видно, предпочитаете наши края всем прочим. Вы поселились здесь навсегда? — Конечно. — Тут у вас, маркиз, настоящая Швейцария в миниатюре, и хотя здесь нет величественных зрелищ, волнующих воображение, зато прогулки менее утомительны и опасны. — Любопытно? Нет, я не любопытен, если подразумевать под любопытством нелепую назойливость, но я нахожусь в том возрасте, когда судьба других людей, да и своя собственная, является загадкой, и когда пытаешься почерпнуть полезный урок, наблюдая некоторых, умудренных житейским опытом людей. — Почему вы говорите «некоторых»? Разве я не похож на всех прочих? — О, ни в коем случае, маркиз! — Вы меня удивляете, — заметил господин де Буагильбо тем же тоном, каким за несколько минут до того произнес: «Я всецело с вами согласен». И добавил: — Положите-ка сахару в кофе. — Но меня еще больше удивляет, — сказал Эмиль, машинально кладя в чашку сахар, — что вы не замечаете сами, какое поразительное и величавое зрелище являет собою для такого юнца, как я, ваше одиночество, сосредоточенность и даже, осмелюсь сказать, ваша мрачная задумчивость. — Неужели я внушаю вам страх? — спросил господин де Буагильбо с глубоким вздохом. — И даже немалый, маркиз, признаюсь в этом чистосердечно. Но не истолкуйте мой простодушный ответ в дурную сторону, ибо так же верно и то, что чувство совершенно противоположное — чувство непреодолимой симпатии — побеждает мой страх. — Удивительно, — сказал маркиз, — весьма удивительно! Объяснитесь, пожалуйста. — Очень просто. В моем возрасте всегда ищешь разгадку своего будущего в настоящем людей зрелых или же в прошлом людей пожилых, и потому нам страшно, когда мы видим непобедимую грусть и печать какого-то затаенного, но глубокого отвращения к жизни на суровом челе. — Да, потому-то мой вид вас и отталкивает. Скажите правду. Не вы первый говорите так, и я этого ждал. — «Отталкивает» — не то слово. Ваш унылый вид повергает меня в какое-то гипнотическое оцепенение, а вместе с тем меня необъяснимо влечет к вам. — Необъяснимо? Конечно, это необъяснимо. Но, уверяю вас, мне далеко до ваших странностей. С первой же минуты, как я увидел вас, я был поражен вашим несходством с людьми, которых знал в юности. — И это впечатление оказалось не в мою пользу, маркиз? — Как раз напротив, — ответил господин де Буагильбо обычным своим безразличным тоном, не позволявшим угадать подлинное значение его слов. — Мартен, — добавил маркиз, обернувшись к старому дворецкому, который согнулся пополам, чтобы расслышать слова хозяина, — Можешь убрать со стола. Рабочие еще в парке? — Нет, маркиз, никого нет. — Тогда уходи. Не забудь запереть калитку. В уединении огромного парка остались только двое — Эмиль и господин де Буагильбо. Маркиз взял юношу под руку и повел в восхитительный уголок, расположенный в скалах над швейцарским домиком. Солнце клонилось к закату, и на пологие склоны холмов ложились длинные тени тополей, словно занавес, прорезанный теплыми бликами. Лиловая линия горизонта сливалась с небом, мерцавшим подобно опалу над океаном потемневшей зелени; в этот час, когда стихает шум сельских работ, отчетливей слышались немолчный шум потока и жалобное воркование горлиц. Вечер был поистине великолепен, и юный Кардонне, обратив взоры и мысли к холмам Шатобрена, погрузился в сладкую мечтательность. Он полагал, что вправе отдохнуть душой, прежде чем снова перейти в атаку, но противник сделал вдруг неожиданную вылазку, первым нарушив молчание. — Господин Кардонне, — сказал маркиз, — если вы не просто из вежливости или забавы ради сказали, что испытываете ко мне некоторое влечение, невзирая на скуку, которую я на вас навеваю, то этому влечению есть причина: мы исповедуем одинаковые убеждения, мы оба придерживаемся коммунистических теорий. — Возможно ли? — воскликнул Эмиль, ошеломленный этим признанием: ему казалось, что он грезит. — А я-то думал, что вы слушаете меня из вежливости или же забавы ради. Неужели мне в самом деле выпало такое счастье и мои желания, мои мечты нашли у вас признание? — Что же в этом удивительного? — спокойно возразил маркиз. — Разве истина не может открыться в уединении, равно как и среди суеты мирской? Разве напрасно прожил я такую долгую жизнь и не могу отличить добро от зла, правду от лжи? Вы считаете меня человеком рассудительным и весьма холодным. Возможно, что я действительно таков; в мои годы так устаешь от самого себя, что нет охоты изучать свою душу. Но, кроме нашей личности, есть общие предметы, более достойные нашего внимания и отвлекающие нас от наших невзгод. Долгое время разделял я убеждения и предрассудки, в коих был воспитан: вялый по природе, я не испытывал потребности присмотреться к ним поближе; к тому же душевные заботы вытесняли подобные мысли. Но с той поры, как старость избавила меня от всяких притязаний на личное счастье, от сожалений или ожиданий, я ощутил потребность отдать себе отчет в том, как вообще живут люди, и, следовательно, разобраться в божественных законах, приложимых к человечеству. Случайно попалось мне несколько сен-симонистских брошюр; я прочел их — так, от нечего делать, не предполагая даже, что можно превзойти дерзновением Жан-Жака Руссо и Вольтера, взгляды которых я стал разделять, изучив их труды. Мне захотелось узнать побольше о принципах новой школы, и я перешел к изучению Фурье. Я принимал все эти воззрения, не слишком хорошо разбираясь в их противоречиях, но испытывал некоторую грусть, видя, как рушится старый мир под тяжестью теорий, неуязвимых в их критической части, но туманных и незавершенных в том, что касается созидательных принципов. Лишь пять-шесть лет назад я с предельным бескорыстием и с огромным душевным удовлетворением принял принципы социальной революции. Вначале я верил противникам коммунизма, и попытки его осуществления казались мне чудовищными. Читая газеты и издания всех направлений, я томительно долго блуждал в лабиринте идей, но, невзирая на усталость, не падал духом. Постепенно гипотезы коммунизма высвободились из-под окутывавшего их тумана. Хорошие книги прояснили мой разум. Я ощутил потребность обратиться к изучению истории мысли рода человеческого. У меня была довольно хорошо подобранная библиотека важнейших документов и наиболее солидных трудов прошлого. Отец мой всегда любил чтение, а я долго ненавидел этот род занятий и даже не подозревал, каким драгоценнейшим утешением явятся для меня книги под старость. Я принялся за работу один, без наставников. Сызнова изучив изрядно забытые мною древние языки, я впервые познакомился в подлинниках с историей религиозных и философских учений, и наконец настал день, когда мне открылось то, что роднит множество великих людей: святых, пророков, мучеников, еретиков, ученых, просвещенных ревнителей веры, новаторов, художников, реформаторов всех времен и всех стран, великих деятелей революции и основателей религиозных учений. В своих многообразных исканиях, даже при всех видимых противоречиях, они призывали к признанию вечной истины, разумной и ясной как день, а именно: к признанию равенства прав, откуда строго и неизбежно вытекала необходимость равенства получаемых благ. С той поры меня удивляло лишь одно: как в наше время, при его богатствах, открытиях, бурной деятельности, просвещении и свободе мнений, мир все еще может пребывать в глубоком неведении относительно закономерности явлений и идей, ведущих к его преобразованию; как из целой армии лжеученых и так называемых теологов, поощряемых и поддерживаемых государством и церковью, не нашлось никого, кто употребил бы свою жизнь на то, чтобы проделать простую работу, какую проделал я, — работу, разрешившую все мои сомнения. Я увидел, наконец, с удивлением и то, что в наше время, когда старый мир, устремившийся по пути крушения и распада, все же надеется спастись с помощью злобы и насилия от готовой поглотить его пропасти, люди, перед которыми открыты законы будущего, еще не обладают всем спокойствием мудрости и не в силах, презрев оскорбления и насмешки, с гордо поднятой головой провозгласить себя последователями коммунистических, и только коммунистических, теорий. Послушайте, господин Кардонне, вы так красноречиво и восторженно говорите о мечтах и утопиях, что я готов простить вам склонность прибегать к этим понятиям, ибо в вашем возрасте истина воспламеняет и становится идеалом, который охотно ставят в некотором отдалении и на известной высоте, чтобы испытать тем большее наслаждение, с боем прокладывая к нему а путь. Во мне же истина не вызывает такого волнения, как в вас: вам она представляется чем-то новым, дерзким — и романтическим, а для меня она непреложна, очевидна и неоспорима. Я обрел эту истину в итоге изучения, более глубокого, и уверенности, более прочно обоснованной, нежели ваша. Пусть вы порывисты, — в этом нет ничего худого, но не пеняйте на меня, если я вынужден буду несколько охладить ваш пыл, который способен только опорочить доктрину. Остерегайтесь этого. Вы так счастливо одарены природой, что расположите к себе даже ваших противников и никогда не покажетесь смешным. Но берегитесь излагать слишком поспешно истины, достойные уважения, первому встречному: всегда найдутся упрямцы, готовые из строптивости противоречить и обороняться, не брезгая ничем. Что бы вы сказали о молодом священнике, который произносит проповедь, сидя за обильным обедом? Вы сказали бы, что он порочит святость и величие священных текстов. Истина коммунизма требует к себе такого же уважения, как истины евангельские, ибо, в конечном счете, обе истины суть одна и та же истина. Так не будем говорить о ней слишком легко в пылу политического спора! Если вы от природы восторженны, научитесь владеть собою, прежде чем проповедовать эту истину. Если вы флегматичны подобно мне, выждите, пока не почувствуете больше доверия к людям и не ощутите большую непринужденность мысли, что позволит вам открыть свое сердце другим касательно столь важного предмета. Видите ли, господин Кардонне, нельзя допустить, чтобы все это называли сумасбродством, пустыми мечтами, лихорадочным пустозвонством или же мистическим бредом. Достаточно уже твердили такое, и немало лжемудрецов дали к тому основание. У сен-симонистов, как мы видели, была своя пора исступленной восторженности, лихорадочных и хаотических мечтаний; тем не менее то, что было в сен-симонизме жизненного, выжило. Заблуждения Фурье не помешали тому, что здравые стороны его учения выдержали испытание. Торжествующая истина совершает свой путь, сквозь какие бы призмы на нее ни глядели и в какие бы одежды ее ни рядили. Но в наше рассудочное время все же лучше сбросить смешную оболочку слепой восторженности. Разве вы не согласны со мною? Разве не пробил час, когда эта область должна стать достоянием логики, должна проповедоваться методами логики? И пусть заявляют, что добытая разумом истина неосуществима! Разве из того, что большинство людей все еще исповедует и приемлет заблуждения и ложь, — разве из этого следует, что зрячие должны вслед за слепцами ринуться в пропасть? Пусть доказывают мне необходимость подчиняться преступным законам и пагубным предрассудкам; меня можно принудить к этому силой, но с тем большей убежденностью восстанет противу пагубы мой разум. Разве заблуждался Иисус Христос? А ведь высказанная им истина вот уже восемнадцать столетий медленно зреет, все еще не давая всходов в человеческих установлениях. Почему же нынче, когда многим из нас становятся ясны его идеалы, нас обвиняют в безумстве за то лишь, что мы видим и признаем истину, которую через сто лет увидят и признают все? Согласитесь же, необязательно быть поэтом или ясновидцем и все-таки можно до конца оставаться убежденным в том, что вам угодно было назвать возвышенной мечтой. Да, истина возвышенна, и возвышенны люди, умеющие ее открыть. Но тот, кто ее обрел, кто нащупал ее и принял как великое благо, не должен предаваться гордыне, ибо, постигнув, но отринув ее, он был бы глупцом или безумцем. Господин де Буагильбо говорил с изумительной для него легкостью и, очевидно, способен был говорить еще долго, а ошеломленный Эмиль слушал в полном молчании. Никогда бы не поверил юный Кардонне, что воззрения, которые называл он своей «верой» и своими «идеалами», могли расцвесть в столь ледяной душе, и на мгновение он усомнился, не отвратит ли его от этих идеалов подобный единомышленник. Но, невзирая на медлительность монотонной речи и застывшие черты лица, господин де Буагильбо произвел на него впечатление чрезвычайное. Этот бесстрастный человек предстал перед ним живым воплощением справедливости, голосом самой судьбы, изрекающей свой приговор над бездной вечности. Покой и тишина великолепного парка, та ни с чем не сравнимая чистота небес, когда угасают последние лучи заката и кажется, что голубой свод еще выше возносится в беспредельность, мгла, сгустившаяся под ветвистыми деревьями, безмятежное журчание ручейка, сливавшееся с однотонным, ровным голосом маркиза, — все это повергло Эмиля в глубокое волнение, подобное суеверному страху, какой охватывал новообращенного, когда он во мраке священной дубовой рощи внимал вещему голосу прорицателя. — Господин де Буагильбо, я готов внять вашим наставлениям и молю простить меня за то, что я хитростью вырвал у вас признание, — сказал Эмиль, глубоко потрясенный словами маркиза. — Я был далек от мысли, что вы можете разделять подобные убеждения, и меня влекло к вам скорее любопытство, нежели почтение. Но знайте, что отныне вы найдете во мне сыновнюю преданность, если только признаете меня достойным вашего доверия. — У меня никогда не было детей, — произнес маркиз. Он взял Эмиля за руку и долго не отпускал ее; в него словно вдохнули новые силы, и его безжизненная рука, обтянутая сухой и тонкой кожей, вдруг потеплела. — Возможно, я недостоин этого. Возможно, я дурно бы их воспитал. Как бы то ни было, я весьма сожалел, что лишен этой радости. Нынче я примирился с тем, что умру, не оставив и частицы себя; но если кто-нибудь захочет подарить меня своею привязанностью, пусть даже незначительной, я приму ее с благодарностью. Я не слишком доверчив. Одиночество настораживает. Но ради вас я попытаюсь преодолеть себя, постараюсь, чтобы мои недостатки, особенно угрюмость, отпугивающая всех, не отпугнула и вас. — Эти «все» просто не знают вас, — возразил Эмиль. — Они принимают вас за другого человека, считают гордецом, упрямцем, не желающим расстаться с призраками старинных привилегий. Вы, должно быть, не пощадили усилий, чтобы оградить свою внутреннюю жизнь от окружающих. — А к чему привели бы объяснения? Не все ли равно, что обо мне думают? Ведь в той среде, где я прозябаю, истинные мои убеждения показались бы еще более смехотворными, нежели те, какие мне приписывают. Если бы я знал, что, открыто воздавая дань тому делу, в которое я верю, и заявив себя его приверженцем, я мог бы принести пользу, никакие насмешки не остановили бы меня. Но в устах человека, столь мало любимого, как я, заверения эти пошли бы скорее во вред торжеству истины. Лгать я не умею, и, если кто-нибудь удосужился бы расспросить меня о тех убеждениях, в каких я утвердился за последние годы, возможно, я ответил бы ему то же, что и вам. Но круг моего одиночества смыкается все теснее, и я не вправе жаловаться. Людей располагает к себе любезность, а я не умею быть любезным; господь бог лишил меня многих достоинств, которых не восполнишь притворством. Эмиль сумел найти в ответ теплые и искренние слова: ему хотелось смягчить горечь, таившуюся под внешним смирением маркиза. — Мне легко мириться с настоящим, — грустно улыбаясь, заметил ему старик. — Жить мне осталось немного, и, хотя я не так еще стар и не так уж болен, я чувствую, как уходит из меня жизнь, как с каждым днем холодеет и стынет кровь. Пожалуй, я мог бы посетовать, что в прошлом вовсе не знал радостей; но когда жизнь позади, не все ли равно, каким было прошлое? Восторг и отчаяние, сила и слабость миновали, как сон. Но все же оставили след! — возразил Эмиль. — Пусть даже сотрутся самые воспоминания, все пережитое — муки ли, радости ли — откладывает в нас свой яд или бальзам, и в зависимости от того, что проникло в наше сердце, оно познает покой или же остается навеки разбитым. Хотя мужество не позволяет вам унизиться до жалоб и гордость заставляет утаивать свои чувства, я вижу, что когда-то вы очень страдали, но оттого я еще больше уважаю вас, испытываю к вам еще большую симпатию. — Я страдал скорее от недостатка счастья, нежели от того, что принято называть несчастьем. Признаюсь, тайная гордыня не позволяла мне искать утешения в сочувствии ближних. Я не способен искать дружбы — она сама должна была позвать меня. — И тогда бы вы приняли ее? — О, конечно, — все так же холодно произнес господин де Буагильбо, но его глубокий вздох дошел до самого сердца Эмиля. — А теперь разве уже поздно? — спросил молодой человек с чувством искренней и почтительной жалости. — Теперь… если бы я мог надеяться, — ответил маркиз, — или ждать… а впрочем, от кого? — А хотя бы от того, кто выслушал вас нынче, кто понял вас. Должно быть, у вас давно не было слушателей, и я — первый? — Да, это правда! — Так что же? Неужели вы презираете меня за молодость? Считаете меня неспособным на подлинное чувство? Или опасаетесь помолодеть, подарив свою привязанность зеленому юнцу? — А что, ежели я состарю вас, Эмиль? — Ну и пусть. Поскольку я попытаюсь вернуть вас вспять, этот поединок принесет пользу нам обоим. Я наверняка выиграю в благоразумии, а вы в вашем суровом унынии, быть может, обретете некоторое утешение. Поверьте мне, господин де Буагильбо, в мои лета не умеют притворяться, и если я осмеливаюсь почтительно предложить вам мою дружбу, то потому лишь, что чувствую себя в силах выполнить обязательства, налагаемые ею, и оценить ее благодеяния. Господин де Буагильбо снова взял руку Эмиля и молча пожал ее от всего сердца. При свете луны, сиявшей высоко в небесах, юноша заметил крупную слезу, скатившуюся по увядшей старческой щеке и затерявшуюся в серебристых бакенбардах. Эмиль победил! Он был счастлив и горд. Нынешняя молодежь питает недостойное презрение к старости, наш же герой, напротив, испытывал законную гордость от того, что сломил сдержанность и недоверие несчастного, но весьма почтенного старика. Ему льстило, что он может служить утешением этому покинутому всеми патриарху и в какой-то мере вознаградить его за несправедливость или забвение со стороны окружающих. Эмиль долго прогуливался рука об руку с маркизом по красивому парку; юноша засыпал старика вопросами, простодушная доверчивость которых пришлась тому по душе. Так, например, Эмиля удивляло, что при всем своем богатстве, будучи свободным от семейных уз, господин де Буагильбо не попытался приступить к осуществлению своих идей и не учредил никакой производственной рабочей ассоциации. — Это не в моих силах, — возразил старик. — Ни по уму, ни по характеру я не способен действовать: мною владеет непреодолимая леность, и еще ни разу в жизни мне не удалось оказать влияние на кого бы то ни было. Ныне я пригоден к этому еще менее, тем паче что пришлось бы не только наметить план устройства такой ассоциации, достаточно простой и осуществимый в настоящее время, но потребовалось бы также выработать религиозные и нравственные каноны, проповедовать свои идеи и внушать другим свои чувствования. Я сознаю, что для покорения душ необходимо чувство, но это не мое оружие. Я не обладаю способностью отдавать и раскрывать свое сердце; во мне осталось слишком мало жизни, чтобы придать убедительность моим словам. И затем, я полагаю, что время еще не настало. Я вижу, вы не согласны. Что ж! Не хочу лишать вас счастливой уверенности. Вы созданы для трудных начинаний, и да представится вам случай действовать! Что до меня, я строю планы на более далекое будущее… После моей смерти… Когда-нибудь я вам, быть может, расскажу… Взгляните на этот прекрасный сад… я создал его не без умысла… Но хочу узнать вас получше, тогда вам все и объясню… Вы на меня не в обиде, надеюсь? — Я подчиняюсь и заранее уверен, что ваша привязанность к этому земному раю отнюдь не праздная помещичья блажь. — А все-таки началось с этого… Дом мне опротивел. Ничто не способствует лености и отвращению больше, чем нерушимый порядок, а вы видели, в каком безупречном состоянии содержится дом. Но я не дорожу в нем ничем и, признаюсь, вот уже пятнадцать лет, как там не ночую. Подлинное мое жилище — швейцарская хижина, где мы с вами пили сегодня кофе. Там у меня спальня и рабочий кабинет, куда я вас не приглашал: с тех пор как выстроен этот домик, туда не заходил еще ни один человек, даже Мартен. Смотрите никому об этом не проговоритесь, иначе меня станут преследовать любопытные. Они и без того по воскресеньям осаждают парк. Бездельники со всей округи бродят по аллеям чуть не до полуночи. Только поздним вечером, когда закрывают ворота, они расходятся, и я могу вернуться в свое жилище. По понедельникам я встаю поздно, чтобы рабочие успели уничтожить все следы воскресного нашествия. За этим наблюдает Мартен. Не считайте меня человеконенавистником, хотя бы к тому и были основания. Попытайтесь лучше разобраться в таком противоречии: перед вами человек, который жаждет жить в обществе, и, однако, инстинкт заставляет его бежать себе подобных. Я принадлежу к поколению одиноких себялюбцев, но что у них порок — то у меня болезнь… Этому есть свои причины… Но я предпочитаю не вдумываться в них — слишком тяжелые воскресают воспоминания. Хотя Эмиль поклялся, что постепенно выведает все тайны господина де Буагильбо или, по крайней мере, все те, в коих могло быть замешано семейство Шатобрен, он не осмелился коснуться этого вопроса. Он рассудил, что для первого дня одержал побед более чем достаточно, и, прежде нежели завоевать полное доверие, следует заслужить уважение, а если возможно, то и любовь. Юноша хотел пока что получить разрешение проникнуть в библиотеку, и маркиз пообещал в следующее их свидание открыть перед ним ее двери. Но день свидания назначен не был. Возможно, что господин де Буагильбо вновь поддался своей подозрительности и пожелал удостовериться, скоро ли навестит его Эмиль по своему собственному почину.XVIII Буря
С этой поры Эмиль почти не жил в родительском доме. Правда, он ночевал там и проводил несколько часов в день, но и в эти часы умом чаще всего пребывал в Буагильбо, а сердцем — почти всегда в Шатобрене. Он, быть может, не так часто навещал бы маркиза, если бы не соседство Шатобрена, — первый визит к господину Антуану дал Эмилю достаточно поводов для дальнейших посещений его замка. Вначале таким поводом были книги, которые Эмиль доставлял Жильберте; и хотя маркиз разрешил юноше брать их из библиотеки в любом количестве, тот старался вручать их Жильберте по одной, чтобы иметь предлог снова увидеть ее. Ни Жанилла, ни господин Антуан не задавались вопросом, почему Жильберта с таким жаром предается чтению, и не следили за выбором книг, первая — по неграмотности, а господин Антуан потому, что проницательность не входила в число его добродетелей. Но сам ангел-хранитель Жильберты не был бы столь озабочен чистотой ее помыслов, как Эмиль. Он любил Жильберту благоговейной любовью; святая невинность девушки была для него сокровищем, которое он оберегал ревнивей, чем ее собственный отец, ибо тот, по выражению Жаниллы, был «задним умом крепок». С каким вниманием Эмиль, бывало, перелистывал страницы книги, прежде чем вручить ее Жильберте, — будь то роман или стихи, книга по истории или морали, — из опасения, как бы иное случайное слово не вызвало краску на ее лице! Когда в трогательном своем неведении Жильберта просила Эмиля достать ей какую-нибудь серьезную книгу, которая, по его представлениям, могла оскорбить девичью стыдливость кое-какими сомнительными подробностями, он отвечал, что ему никак не удается найти это произведение в библиотеке маркиза. Родная мать не могла бы вести себя осмотрительней, чем действовал юный воздыхатель Жильберты: он знал, что господин Антуан и его дочь, оба благодушные и беспечные, вряд ли заметили бы попытку смутить юную душу, и поэтому почитал своим прямым и священным долгом оправдать доверие этих наивных людей. С некоторых пор Жанилла почти не оставляла влюбленных наедине, и Эмилю лишь мельком, и то весьма редко, удавалось поведать девушке о своих беседах с господином де Буагильбо. А когда им случалось бывать в обществе господина Антуана, Жильберта, в силу привычки и сердечной привязанности, ни на шаг не отходила от отца. Все же она вскоре узнала, что дружба Эмиля со старым маркизом крепнет день ото дня и что покоится эта дружба на редкостном согласии их убеждений и идеалов. Но Эмиль старательно таил от Жильберты безуспешность всех своих попыток наладить сближение между обоими домами; позже мы расскажем, к чему привели его усилия в этом направлении. Не теряя надежды добиться со временем успеха, Эмиль скрывал от Жильберты свои неоднократные поражения, а та, понимая, насколько трудна взятая им на себя задача, не торопила юношу, боясь выдать свое нетерпение или же проявить чрезмерную требовательность. И затем, надо признать, что Жильберта несколько охладела к своему замыслу, тогда как решимость Эмиля не ослабевала ни на минуту. Любовь поглощает все думы влюбленных, и наши молодые люди были так заняты друг другом, что вскоре ничто иное уже не шло им на ум. Чувство, страсть завладели всем их существом, и часы пролетали в опьянении свидания или же томительно ползли в ожидании блаженной минуты встречи. Господину Кардонне, внимательно наблюдавшему за сыном, да и самому Эмилю, уже не отдававшему себе отчета в том, что творится в его душе, это казалось странным, а ведь произошло нечто вполне естественное и неизбежное: страсть, пожиравшая нашего героя в его отроческие годы, а именно: жажда все узнать, все изучить, потребность приобщиться к жизни уступила место сладкой полудремоте сознания, некоему забвению излюбленных теорий. В цельном, гармоническом обществе любовь, несомненно, станет движущей силой патриотизма и самоотверженного служения обществу. Но когда смелые и благородные порывы направлены на тягостную борьбу с людьми и окружающей обстановкой, личные чувства берут верх в душе человека и господствуют над ним в ущерб всем иным стремлениям, которые постепенно глохнут. Народ ищет забвения своим горестям и лишениям в вине; влюбленный черпает волшебный напиток забвения во взоре своей возлюбленной. Эмиль был слишком юн, чтобы страдать и желать страдания, и все же он уже много страдал. И нынче, когда счастье само спешило ему навстречу, мог ли он его бежать? Признаемся без ложного стыда: бедный юноша более не помышлял ни о законах, ни о делах житейских, ни о будущем, ни о прошедшем мироздания, ни о пороках общества, ни о средствах его исцеления, ни о бедствиях рода человеческого, ни о божественном промысле, ни о небесах, ни о земле. Земля, небо, промысел божий, судьба, мироздание — все стало любовью: лишь бы видеть Жильберту, читать свой приговор в ее глазах, а там пусть хоть весь мир обрушится — он этого даже не заметит! Он не был в состоянии ни читать книгу, ни поддерживать разговор. Случалось, устав метаться по тропинкам, ведущим к дому его божества, он забывался вечерами подле матери или же читал ей вслух газету, не понимая ни единого слова из того, что произносили его уста. Очутившись один в своей комнате, он поспешно ложился в постель и гасил свет, чтобы не видеть предметов внешнего мира. Тогда внутреннее пламя, горевшее в его душе, озаряло мрак, и перед взором его возникало радужное видение. В исступленном восторге он терял ощущение яви и сна. Он видел с закрытыми глазами, он грезил наяву. Достаточно было приветливого, веселого слова, улыбки Жильберты, случайного прикосновения к ее платью, травинки, сорванной ею и подобранной Эмилем, чтобы занять его мысли на всю ночь. С первыми лучами солнца он бежал на конюшню, сам седлал Вороного и спешил уехать из дому. Он забывал о еде и уже не удивлялся тому, что для поддержания жизни ему достаточно лишь утренней росы да веяния ветерка из Шатобрена. Он не осмеливался бывать там слишком часто, хотя знал, что ему не грозит холодный прием со стороны господина Антуана. Но любви присуще боязливое целомудрие, и она пугается своего счастья, когда может наконец коснуться его. И Эмиль блуждал по тропинкам и кручам, прячась в древесной чаще, и украдкой, сквозь ветви, глядел на развалины Шатобрена, словно боясь, что его как на месте преступления могут застигнуть в эти минуты благоговейного созерцания. Жан Жапплу, которому все еще не удавалось сколотить денег на домик, не желал стеснять своих друзей, и по окончании трудового дня, пользуясь ясными и теплыми ночами, устраивался на ночлег в заброшенной часовенке, выстроенной на холме посреди деревни. Перед тем как растянуться на соломе, служившей ему ложем, он заходил помолиться в красивую гаржилесскую церковь. Жан облюбовал романский древний склеп, стены которого хранили следы любопытной росписи XV века. Из круглого окошка подземелья далеко внизу виднелась гряда утесов и зеленые лощины, по которым пролегает путь полноводной Гаржилесы. Плотник так долго добровольно лишал себя возможности видеть родимый уголок, что теперь частенько, прервав мирную молитву, любовался живописным видом, не то молясь, не то грезя, весь во власти того непередаваемого душевного состояния, которое знакомо простым людям, крестьянам, особенно после утомительных дневных трудов. Нередко, после обеда и прогулки с матерью, сюда наведывался Эмиль, чтобы вместе с Жаном полюбоваться прекрасным памятником архитектуры и побеседовать на вершине холма о том, что обходили молчанием в родительском доме, то есть о Шатобрене, о господине Антуане, Жанилле и, наконец, о Жильберте. Ведь кроме Эмиля был еще человек, который любил Жильберту, пожалуй, не менее, чем он, хотя и совсем иной любовью: это был Жан. Он относился к ней как к родной дочери; но к отеческим чувствам у него примешивалось некое преклонение перед редкостными качествами Жильберты и какое-то грубоватое восхищение, которого он не мог бы испытывать в отношении своих собственных детей. Он гордился ее красотою, добрым нравом, рассудительностью и смелостью, как человек, умеющий оценить эти достоинства, равно как и дружбу со столь благородным существом. Непринужденность, с какою говорил он о Жильберте, опуская словечко «мадемуазель», следуя привычке называть всех запросто, по имени, отнюдь не умаляла того невольного почтения, какое Жан питал к ней, и не оскорбляла слух Эмиля, хотя он-то уж никак не осмелился бы следовать примеру плотника. Молодой человек с восторгом слушал рассказы о детских играх и забавах Жильберты, о ее сердечных порывах, ее великодушном и нежном внимании к бесприютному другу, который совсем бы пропал, не имей он пристанища в Шатобрене. — Не так давно прятался я в горах, — повествовал Жапплу. — Бывало, окружат меня со всех сторон, заберусь я в какую-нибудь расщелину между скал или вскарабкаюсь поутру на верхушку ветвистого дерева — и глянуть оттуда не смею. А тут еще голод дает себя знать. Помню,как-то вечером до того я ослаб и утомился, что стало мне невмоготу. Обогнул я гору, а сам тревожусь, что до Шатобрена еще далеко и, если встретятся мне по пути стражники, у меня силы не хватит от них бежать. Вдруг, гляжу, на тропинке тележка, полная доверху соломы, а возле стоит Жильберта и машет мне рукой. Это она вместе с Сильвеном искала меня повсюду, словно перепела в кустах. Я зарылся в солому. Жильберта тут же уселась наверху, и Сильвен довез нас до Шатобрена. Так я и въехал туда под самым носом у жандармов — они меня в двух шагах от того места искали. В другой раз договорились мы, что Сильвен принесет мне еду и положит в дупло старой ивы, — до нее от Шатобрена не больше лье. Погода стояла мерзкая, дождь лил как из ведра; по правде сказать, опасался я, как бы плутишка — он ведь у нас особенно утруждать себя не любит — не прикинулся, будто позабыл про меня или, чего доброго, не съел мой обед по дороге. Все-таки прихожу к назначенному часу, гляжу: корзина на месте, полная всякой снеди, старательно укрытая. И что же я возле ивы заметил? Угадайте-ка! Следы маленьких ножек на мокром песке. Осмотрелся: ясно было, что тут прошли ножки Жильберты, не раз утопая в грязи по щиколотку. Дитя мое родное! Она и промокла, и перепачкалась, и утомилась, а никому не доверила заботу о старом своем друге! А еще как-то встретила Жильберта жандармов. Они шагали прямо к старым развалинам, я же, не думая, что опасность так близко, спокойно спал среди бела дня. Жара была непереносимая! Как раз в тот самый день вы прибыли в наши края… Так вот, Жильберта кинулась ко мне по кратчайшей тропинке — а тропинка крутая, опасная: всаднику по ней ни за что не спуститься — и опередила жандармов на целых четверть часа; прибежала — сама вся красная, запыхалась, — будит меня и говорит: «Беги скорей куда глаза глядят!..» Она тогда заболела, душенька, а старикам своим слова не сказала! Потому в тот вечер, как мы с вами ужинали в Шатобрене, я так беспокоился. Помните, Жанилла еще сказала, что Жильберта, мол, уже спит. Да что говорить! У нее с малых лет сердечко было золотое! Как в сказке говорится: узнал бы про нее французский король, так за честь бы почел посватать ее за самого любимого своего сына! Ростом она была еще с ноготок, но и тогда уже всякий мог сказать, до чего красивое и милое растет дитя. Где угодно ищи, сынок, хочешь — среди знатных дам, хочешь — среди богачих, а только другой такой Жильберты, как наша из Шатобрена, не найдешь! Эмиль слушал плотника с наслаждением, засыпая его вопросами и десятки раз заставляя повторять один и тот же рассказ. Господин Кардонне недолго оставался в неведении относительно причин перемены, происшедшей в Эмиле. Куда делась сыновняя грусть, тягостные недомолвки, укоризненные намеки! Казалось, у Эмиля никогда и не было с отцом никаких расхождений, казалось, он никогда не замечал, что господин Кардонне придерживается совсем иных взглядов, нежели он. Во многих отношениях Эмиль стал ребячлив: без вздоха печали выслушивал любые планы касательно своих будущих занятий, пропускал мимо ушей то, что явно затрагивало его убеждения, мечтал о красоте летних рассветов, о далеких прогулках по никому не ведомым тропинкам, о прыжках через пропасти. И однако, из этих прогулок он не приносил ни эскизов, ни растений, ни образцов минералов, что не преминул бы сделать во всякое другое время. Деревенская жизнь восхищала его. Край был прекраснейший на свете! Свежий воздух и верховая езда — исключительно целебны! Словом, все было превосходно — только бы не мешали ему носиться на воле! Если же и случалось ему погрузиться в задумчивость, то ненадолго; он стряхивал ее с себя и озирался с улыбкой, казалось, говорившей: «У меня есть над чем поразмыслить, а все, о чем вы говорите, — ничто в сравнении с тем, что меня занимает!..» Если иной раз с помощью какой-нибудь уловки господину Кардонне удавалось удержать сына дома, Эмиль впадал в отчаяние. Но через минуту он смирялся, как смиряется человек, обладающий неиссякаемым запасом счастья, которого у него не отнимешь, и покорно выполнял отцовское поручение, спеша поскорее от него отделаться. «Не иначе как тут замешана какая-нибудь красотка! — размышлял господин Кардонне. — Итак, любовь укротила эту мятежную душу! Что ж, весьма отрадно! Оказывается, философский пыл и умничанье не всегда могут устоять перед жаждой наслаждений или же чувствительными грезами! Как это я тогда не принял в расчет молодости со всеми ее страстями! Пусть бушует этот ураган: он снесет то препятствие, о которое разбились бы мои усилия. Я сам решу, когда наступит время обуздать этот вихрь. Торопись же порхать и любить, мой мальчик! Вспомни, что сталось с Гаржилесой, когда она взбунтовалась против меня. Так же смиришься и ты, как смирилась она, почуяв хозяйскую длань!» Господин Кардонне не сознавал своей жестокости. Просто он не верил в силу и постоянство любви, и юношеское отчаяние смущало его не больше, чем детские слезы. Если бы ему пришло в голову, что жертвой его выжидательной тактики может пасть Жильберта, вероятно, он призадумался бы. Но мания стяжательства и заповедь «всяк за себя», не позволили ему даже задуматься о возможном несчастье другого. «Пусть старик Антуан сам следит за своею дочерью, — размышлял господин Кардонне. — Если этот пьянчуга и проворонит беду — у него командует служанка: это уж ее обязанность покрепче запирать на ночь дверь хваленого флигеля. Когда настанет пора, можно будет открыть дуэнье глаза». Успокаивая себя подобными рассуждениями, господин Кардонне предоставил юноше полную свободу располагать своим временем и поступать, как ему вздумается. Он только подтрунивал над сыном и при случае желчно поносил семейство Шатобрен, желая застраховать себя от упрека, что открыто поддерживал в свое время домогательства сына. По его мнению, Антуан де Шатобрен был ничтожеством, жалким субъектом, который, обнищав, опустился и отупел от безделья. Господин Кардонне испытывал надменную радость, видя, как прежние владельцы поместий, разоряясь, вынуждены искать прибежища у народа, не осмеливаясь рассчитывать на покровительство и дружбу новоиспеченных богачей. Не щадил он также и господина де Буагильбо, хотя последнего трудно было упрекнуть в распутстве либо в неумении держать себя. Богатство, которое маркиз сумел сберечь, делало его в глазах господина Кардонне личностью куда более подозрительной, чем господин Антуан; и если графа он презирал, то к маркизу питал настоящую ненависть. Он заявлял, что Буагильбо прямой кандидат в сумасшедший дом, и не раз повторял, что просто краснеет при мысли об этой бессмысленно долгой жизни и пропадающем втуне состоянии. Эмиль пытался защищать господина де Буагильбо, скрывая, однако, что видится с ним раза два-три на неделе. Он боялся, как бы отец не запретил ему слишком часто навещать маркиза и тем самым не лишил его единственного предлога, оправдывавшего посещение замка Шатобрен, куда он ненадолго заглядывал по пути в Буагильбо. Он особенно нуждался в таком предлоге в глазах Жильберты, так как отлично понимал, что со стороны господина Антуана ждать упреков не приходится; но Эмиль боялся, как бы Жанилла не стала внушать Жильберте, что ее достоинство требует держать на расстоянии молодого человека, который, по мнению света, слишком богат, чтобы стать ее мужем. Юноша предвидел, что в один прекрасный день его чувства будут замечены. «Но тогда, — думал он, — может статься, я буду любим и смогу заявить, что намерения мои серьезны». Он, естественно, опасался, что его ждет бурное и длительное противодействие со стороны господина Кардонне. Но тут в нем вскипала отвага, крепчала воля и сердце трепетало, как у воина, готового ринуться в бой и сгорающего от желания водрузить знамя над разрушенной вражеской крепостью. Он дрожал, словно боевой конь, почуявший запах пороха. Нередко, когда отец обрушивал свой холодный неистовый гнев на кого-либо из подчиненных, Эмиль, скрестив руки на груди и меряя его взглядом, размышлял: «Посмотрим, испугаюсь ли я, согнет ли и меня натиск этого урагана, когда дерзкая рука посягнет на святая святых моей любви. Ах, отец! Вам удалось отвратить меня от моих любимых занятий, попрать все стремления, бушевавшие в моей груди, ранить мое самолюбие, оскорбить мои привязанности… Если вы потребуете в жертву мои умственные склонности, мои вкусы… Что же, я покорюсь!.. Но мою любовь!.. Нет, вы для этого слишком осторожны и проницательны!.. Вы убедитесь, что хотя я ваш сын и люблю вас, но я также ваша кровь и плоть и сумею вам противостоять. Мы разобьемся друг о друга, как две равные силы, и, чтобы стать победителем, вам придется сделаться детоубийцей!» Эмиль жил в ожидании этого рокового дня, а пока стоически наблюдал, как отец срывает свою досаду на добряке Антуане и преданной Жанилле, осыпая их напрасными упреками. Эмиль равнодушно выслушивал все, вплоть до намеков на сомнительное происхождение Жильберты. Его весьма мало трогало, что в ее жилах течет плебейская кровь, и он пропускал мимо ушей разглагольствования господина Кардонне по этому поводу. Впрочем, Эмилю казалось, что попытки защищать отца Жильберты от подобных обвинений были бы для господина Антуана даже оскорбительны. Юноша улыбался, подобно мученику, который, мужественно перенося пытки, бросает вызов палачам. Невзирая на весь свой ум, господин Кардонне заблуждался, и он шел вместе с сыном к пропасти, надеясь в своей гордыне удержать Эмиля на самом ее краю. Он полагал, что знает человеческое сердце, ибо познал тайну человеческих слабостей; но тот, кому ведомы лишь низменное и ничтожное в жизни и в человеке, познал истину только наполовину. «Я не раз вынуждал его сдаваться в более важных случаях, а тут — пустяки, какая-то любовная интрижка!»— думал господин Кардонне. Если бы дело шло только о любовной интрижке, господин Кардонне был бы прав — в этом он кое-что смыслил; но подлинная любовь была ему неведома, и он не мог предвидеть, какую величественную или пагубную решимость она способна внушить. Быть может, и господин де Буагильбо в свою очередь способствовал тому, что ревностный пыл Эмиля в отношении вопросов социальных несколько поутих. Ледяная невозмутимость маркиза порой выводила из себя пылкого юношу; но чаще Эмиль вынужден был признать, что прав этот хладнокровный пророк, который покорно принимал настоящее, полагаясь на свою веру в будущее. Когда господин де Буагильбо взывал к Эмилю во имя логики — властительницы миров и матери человеческих судеб, — ему удавалось утишить и убедить юношу, но, слушая рассуждения отца, прибегавшего к обманчивой и грубой логике фактов, Эмиль горел возмущением. Если несходство характеров Эмиля и господина Буагильбо и вызывало у нетерпеливого юноши нечто вроде благородной досады, все же более зрелый и стойкий ум вскоре вновь обретал над ним власть: старик обнаруживал скрытую силу, таившуюся в нем и возвышавшую его, если дозволено так выразиться, над самим собой. Издевки господина Кардонне задевали Эмиля за живое и побуждали его к неуемному фанатизму. И наоборот, возвышенная логика рассуждений господина де Буагильбо примиряла его с самим собой; он испытывал невольную гордость, встречая признание у столь опытного и непреклонного в своих выводах старца. Глубочайшее согласие, царившее между ними в самом существенном, исключало возможность длительных споров, а поскольку коммунистические теории являлись единственной темой, ради которой маркиз изменял своему обычному немногословию, им случалось зачастую, прогуливаясь рука об руку по аллеям, погружаться в молчаливую задумчивость. Тем не менее Эмиль никогда не скучал в Буагильбо. Прекрасный парк, библиотека и в особенности сдержанная, но несомненная радость, испытываемая маркизом в его обществе, делали для него часы пребывания там приятным и драгоценным отдохновением от более пылких переживаний. Сам того не замечая, он обретал здесь истинный приют, куда более отвечавший его вкусам, чем грохочущие мастерские или же родительский дом, которым по-военному круто командовал его отец. Но еще более милой его сердцу обителью стал Шатобрен. Все тут было ему по душе: люди, развалины замка, даже домашние животные. Провести здесь всю свою жизнь — да это верх счастья, райское блаженство! Но после упоительных мечтаний снова всякий раз приходилось падать с небес на землю, и Эмиль предпочитал для этой цели Буагильбо, где падение ощущалось все же менее резко, чем в Гаржилесе. Здесь он словно был на полпути между пропастью и небесами, здесь было преддверие — переход из рая в чистилище. Его принимали так хорошо и так дорожили его обществом, что он привык чувствовать себя в Буагильбо как дома. Он возился с цветами в парке, расставлял по полкам книги и брал уроки верховой езды во дворе замка. Мало-помалу старый маркиз познал радость общения, и в его улыбке стала иной раз проскальзывать настоящая веселость. Незаметно для него самого — а быть может, он только не желал в этом себе признаться — Эмиль стал ему необходим: юноша был его связью с живым миром. Пока Эмиль был рядом, могло показаться, что господин Буагильбо только снисходит до своего милого гостя, но всякий раз, прощаясь, юноша замечал, как еле уловимо менялось бледное лицо маркиза, и, когда нетерпеливый конь уносил Эмиля вниз по холму, из астматической груди старика вырывался вздох нежности и сожаления. Наконец и сам Эмиль, изо дня в день вчитываясь в таинственные письмена этой души, понял, как сильно нуждается она в любви и сочувствии, как давно гнетет маркиза глухое раскаяние в том, что он обрек себя на одиночество, которое, очевидно, вызвано было серьезными причинами, а не просто болезненной склонностью. Эмиль решил, что наступило время исследовать рану и предложить свое лекарство. Он сотни раз произносил в беседе с маркизом имя Антуана де Шатобрен, но безуспешно: всякий раз оно без отзвука тонуло в тишине парка. Однако Эмиль повторял его вновь и вновь, так что старик принужден был услышать и ответить. — Дорогой Эмиль, — сказал он однажды таким торжественным тоном, каким еще никогда не говорил с ним. — Вы можете причинить мне немалую боль, и, если вам так этого хочется, извольте — я подскажу вам самый верный способ: говорите со мною о лице, имя которого вы только что назвали. — Я знаю, — возразил молодой человек, — но… — Вы знаете? — воскликнул господин де Буагильбо. — Что вы знаете? Он казался столь раздраженным, в угасших глазах его вспыхнуло столь мрачное пламя, что ошеломленный Эмиль невольно вспомнил, как маркиз при первом их свидании говорил о своей вспыльчивости, — впрочем, он произнес тогда эти слова таким равнодушным тоном, что Эмиль счел их простой шуткой. — Да отвечайте же! — чуть менее резко, но с горькой усмешкой повторил господин де Буагильбо. — Если причины моего ожесточения вам известны, как же вы осмеливаетесь мне о них напоминать? — Если они основательны, тогда я их, конечно, не знаю, — отвечал Эмиль. — Потому что те причины, которые называли мне, столь легковесны, что, видя ваш гнев, я уже начинаю в них сомневаться. — Легковесны! Легковесны! Что же вам рассказывали? Говорите правду, не надейтесь, что вам удастся меня обмануть! — Чем я дал вам право подозревать меня в такой низости? Разве я когда-нибудь лгал вам? — не сдержавшись, возмущенно возразил Эмиль. — Господин Кардонне, — сказал маркиз, касаясь руки Эмиля рукой, дрожавшей, как осенний лист под ветром. — Я верю, что вы не станете забавляться моими страданиями. Говорите же, говорите все, что вам известно, — я должен знать. — Мне известно лишь то, о чем толкуют, и ничего более. Утверждают, что двадцатилетнюю дружбу с господином Антуаном вы порвали из-за какой-то косули. Косуля эта была якобы ручная, прирученная вами забавы ради. Она выбежала из вашего заповедника, ну а господин де Шатобрен, повстречав ее неподалеку от вашего замка, по легкомыслию ее пристрелил. Легкомыслие действительно чрезвычайное: он отлично знал, что косули в здешних местах не водятся и что ему попалась одна из ваших любимиц… Но ведь господин де Шатобрен всегда был так рассеян… и, откровенно говоря, не такое уж это великое преступление, чтоб не простить его старому другу. — Кто же вам рассказал эту историю? Он сам, конечно? — Никогда он ничего не говорил по этому поводу — ни со мною, ни при мне. Рассказывал Жан, плотник. О нем ведь вы тоже слышать не желаете, хоть и поступили в отношении него весьма великодушно. Жан говорит, что никаких иных поводов к разладу между вами и господином Антуаном он не знает. — Превосходное объяснение, что и говорить! От кого только Жан его услышал? Не сомневаюсь, что от служанки господина де Шатобрен! — Нет, маркиз. Служанка говорит о вас так же редко, как и ее хозяин. То, что я вам рассказал, — это версия, распространенная среди крестьян. — Ну что ж! По существу она правильна, — произнес господин де Буагильбо после длительного молчания, как будто совершенно успокоившись. — А что же вас тут удивляет, Эмиль? Разве вы не знаете, что иной раз достаточно одной капли, чтобы чаша переполнилась? — Если чаша вашей горечи переполнилась от одной-единственной капли, да еще такой мизерной, как же мне не удивляться вашей обидчивости? У господина де Шатобрен я вижу один лишь недостаток: он несколько безволен и беспечен. Неужели его рассеянность и совершенная им оплошность виной тому, что его присутствие стало для вас непереносимо? Не узнаю вашей мудрой рассудительности! Я на вашем месте проявил бы куда больше терпения, а вы ведь часто называете меня действующим вулканом. Признаться, вечная рассеянность господина Антуана, пожалуй, веселит меня, а никак не раздражает: она свидетельствует о его непосредственности и простодушии. — Эмиль, Эмиль! Не вам судить о подобных вещах! — в замешательстве возразил господин де Буагильбо. — Я сам очень рассеян и страдаю от собственных оплошностей. Но, очевидно, чужие оплошности для нас невыносимы… Говорят, любовь питается противоположностями. Двое глухих или двое слепых быстро бы наскучили друг другу. Одним словом, этот человек мне надоел. Не говорите мне больше о нем. — Ни за что не поверю, что вы сказали это всерьез. Послушайте, благородный друг мой! Если я слишком назойлив, обратите весь ваш гнев против меня одного. Но я не могу не видеть, что этот прискорбный разрыв — один из главных источников вашей печали. В глубине души вы упрекаете себя в несправедливости. И, кто знает, не это ли единственная причина вашей нелюдимости! Мы с трудом переносим окружающих, когда в тайниках нашей души засела мысль, от которой мы не в силах отделаться. Я убежден — и беру на себя смелость сказать вам об этом, — что вы утешились бы, исправив зло, причиненное вами, и к тому же так давно, одному из ваших ближних. — Зло? Я причинил ему зло? А какое это зло, позвольте спросить? Разве я ему мстил? Плохо о нем отзывался? Жаловался на него кому-нибудь? А вы — что вы знаете о моих подлинных чувствах к нему? Пусть он молчит, несчастный! Какая несправедливость! Он еще на меня жалуется! — О нет, маркиз, он не жалуется, он оплакивает утраченную дружбу. Сожаление об этой утрате лишает его сна и омрачает ясную безмятежность этой мягкой, безвольной души! И он тоже неохотно упоминает ваше имя, но когда кто-либо говорит о вас в его присутствии, он осыпает вас похвалами, а на глаза его навертываются слезы. Но есть один близкий ему человек, который страдает еще более, нежели сам господин Антуан, — некто, кто вас уважает, боится и не осмеливается вас умолять; некто, чья любовь и признательность скрасили бы ваше одиночество и стали бы опорой вашей старости. — Что вы хотите этим сказать, Эмиль? — спросил мучительно взволнованный маркиз. — Не о себе ли вы говорите? Уж не ставите ли вы мою снисходительность условием нашей дружбы? Это было бы весьма жестоко с вашей стороны! — Речь идет не обо мне, — возразил Эмиль. — Я слишком глубоко вам предан, моя привязанность к вам совершенно непроизвольна. Я, право, не могу ставить никаких условий. Тот, о ком я говорю, знает вас только с моих слов, но уже понял вас и оценил по справедливости ваши достоинства. Я говорю об особе, которая в тысячу раз лучше меня; вы полюбили бы ее, как отец, если бы только узнали. Это ангел!.. Словом, я имею в виду мадемуазель Жильберту де Шатобрен. Стоило Эмилю произнести это имя, на чары которого он в глубине души рассчитывал, как лицо господина де Буагильбо изменилось самым страшным образом. На впалых и бледных щеках вспыхнули два красных пятна; глаза чуть не вылезли из орбит; руки и ноги судорожно задергались. Он хотел заговорить, но вместо слов с губ его слетел какой-то нечленораздельный лепет. Наконец ему удалось овладеть собою, и он произнес: — Довольно, сударь!.. Довольно! Это уж слишком… Не смейте никогда, слышите — никогда упоминать мне об этой особе. И, оставив Эмиля одного среди скалистых пригорков парка, маркиз удалился в швейцарскую хижину, яростно захлопнув за собою дверь.XIX Портрет
Несколько дней сряду Эмиль не появлялся в Буагильбо: слишком велика была его обида. Сначала он негодовал, возмущаясь непонятными и досадными причудами маркиза. Но вскоре, поразмыслив над странным происшествием, он почувствовал глубокое сострадание к этому человеку с больной душой, у которого за ясными мыслями и сердечными порывами таилось какое-то гибельное безумие, прорывавшееся приступами злобы и ненависти, близкими к помешательству. Только так мог объяснить Эмиль то необычайное впечатление, какое произвело имя боготворимой им девушки на его престарелого друга. Он был настолько опечален этим открытием, что у него недостало духа упорствовать в своих безнадежных попытках и он решил поведать все без утайки Жильберте. Однажды вечером Эмиль направился в замок; он болезненно ощущал свое поражение и впервые пришел в Шатобрен грустным. Но любовь — великая чародейка: нежданными милостями или ударами она равно опрокидывает все наши предположения. Он застал Жильберту одну. Конечно, Жанилла находилась где-то поблизости: она отправилась на поиски заблудившейся козы; но так как молодые люди не знали, в какую именно сторону пошла старушка, они рассудили, что не стоит идти ей навстречу, и нашли в собственных глазах благовидное оправдание этому свиданию наедине. Жильберта тоже казалась немного грустной. Однако она затруднилась бы объяснить, почему и как получилось, что после пяти минут, проведенных с Эмилем, она позабыла все невеселые мысли, томившие ее в ожидании юноши. В Шатобрене давно уже отобедали: по старинной привычке здесь садились за стол в те же часы, что и крестьяне, то есть утром, в полдень и по окончании работ, как и подобает тем, кто не превращает ночь в день. Когда появился Эмиль, солнце клонилось к закату — в этот предвечерний час все становится прекрасным, значительным и сияет улыбкой. Эмиль подумал, что до сих пор еще не сумел постичь всей прелести Жильберты: красота ее так поразила его, как будто он видел любимую впервые, а ведь уже почти два месяца он жил в восторженном ее созерцании. Так или иначе, но Эмиль вдруг пришел к заключению, что до этого дня не замечал всей роскоши ее волос, волшебства, таящегося в улыбке, непринужденной грации ее движений и бездонной глубины взгляда. Ему надо было сказать ей столько важного, а он все позабыл. Он хотел только видеть и слушать ее. Все, что она говорила, было так удивительно, так ново для него! Как живо Жильберта чувствовала великолепие природы, как умела вникать сама и объяснять другим все ее совершенство даже в мелочах! Если Жильберта показывала Эмилю цветок, он обнаруживал в нем оттенки, нежность и прелесть которых и не подозревал до того; если она любовалась небом, он находил, что никогда не видел такого чудесного небосвода; пейзаж, на который она смотрела, внезапно становился сказочным. И Эмиль твердил только одно: — О да, это прекрасно, действительно прекрасно! О, вы правы, как верно вы все замечаете и как тонко выразили! Влюбленным присуща некая пленительная глупость — все у них имеет тайный смысл: «Я люблю вас!» И напрасно мы стали бы искать иного смысла в их всегдашнем и полном единодушии. Пусть Жильберта была менее опытна, чем Эмиль, но она была женщина и лучше разбиралась в своих чувствах, а Эмиль любил так, как человек дышит, не задумываясь над тем, что каждый миг нашего существования — или загадка, или чудо. — Жильберта чаще вопрошала свое сердце и больше дивилась захватывавшему ее чувству. Но вот она сделала над собой усилие и первая нарушила тот молчаливый разговор, когда можно поведать друг другу так много, не произнося ни слова. Она завела речь о господине де Буагильбо, и Эмиль был вынужден сказать ей, что потерял последнюю надежду. Вся утихшая было скорбь ожила в нем при этом признании, и он горько сетовал на судьбу, которая отнимала у него единственную возможность услужить господину де Шатобрен и угодить Жильберте. — Не горюйте, — сказала девушка задушевным тоном, — я все же признательна вам. Ваши старания и настойчивость не пропали даром: я, по крайней мере, теперь спокойна. Узнайте же, что мучило меня более всего. Надменное упрямство маркиза и великодушное смирение батюшки вселили в мое сердце тяжкое подозрение. Я вообразила, что батюшка — конечно, сам того не желая, — совершил какой-то тяжкий проступок, хотела узнать эту тайну и взять на себя искупление его вины. О, я не пожалела бы жизни. Но теперь… — Теперь? Так что же теперь? — спросил господин Антуан, неожиданно появляясь из-за поворота аллеи, скрытого от глаз разросшимся кустарником, и улыбаясь с обычным своим доверчивым и добродушным видом. — О чем это вы ведете такую серьезную беседу, черт возьми? И ради чего ты не пожалела бы жизни, малютка? Она, я вижу, избрала вас, Эмиль, своим духовником и кается, что в сердцах убила муху! Ну, говорите же! Ей-богу, у вас обоих такой смущенный вид, что просто смешно смотреть. Неужели у вас завелись тайны от старика отца! — О нет, батюшка, у меня никогда от вас не будет тайн! — вскричала Жильберта и, обняв господина Антуана за шею, прижалась розовой щечкой к его бронзовому от загара лицу, — И раз уж вы подслушали нас здесь, хоть и не под дверью, а под открытым небом, так извольте узнать, о чем шла речь. Если что-либо и покажется вам предосудительным, не порицайте меня: ведь вы слышали только мои последние слова и истолковали их по-своему — значит, вы потеряли право осуждать меня. Постойте, сударь, я все сама расскажу батюшке. Пусть он знает. Вас огорчает, дорогой отец, несправедливый гнев господина де Буагильбо, тем паче что вызван он сущим пустяком… — Черт побери! Ты-то зачем в это вмешиваешься? Чего ради? Ты ведь знаешь, что мне неприятно, когда говорят о маркизе, — сказал господин Антуан, и веселое лицо его внезапно омрачилось. — И все-таки поговорим об этом — пусть в последний раз, — настаивала Жильберта. — Возможно, мои слова и огорчат вас, зато они снимут тяжесть с вашей души. Милый батюшка, зачем вы отворачиваетесь? Почему у вас такой озабоченный вид? Вы же знаете, как это мучит вашу Жильберту. Я понимаю, вы не хотите, чтобы я упоминала имя маркиза. Вы всегда говорили, что ваши распри меня не касаются, что я ничего в них не смыслю. Но ведь я уже не девочка! Я достаточно взрослая, чтобы разделить и понять ваши заботы и тем более — утешить вас. Так выслушайте же меня! Я спрашивала господина Кардонне — он ведь часто бывает у маркиза и пользуется его доверием в важных делах, — какие чувства питает к нам господин де Буагильбо. Я сказала, что отдала бы жизнь, лишь бы избавить вас от раскаяния за то невольное оскорбление, какое вы нанесли когда-то маркизу. Ведь правда, я это говорила? — Ну, а дальше что? — спросил господин де Шатобрен с удрученным видом, прижимая хорошенькую ручку дочери к своим губам. — Ну, а дальше, — продолжала Жильберта, — господин Эмиль рассказал мне то, что я хотела узнать: он говорит, что господин де Буагильбо затаил против нас ужасную обиду. Но не стоит печалиться по этому поводу, ибо обида неосновательна и вам, слава богу, не в чем себя упрекнуть. Впрочем, я ни на минуту в том не сомневалась, дорогой батюшка. Я знала, что если вы и провинились в чем-нибудь перед маркизом, то единственно по вечной своей рассеянности. Поэтому, умоляю вас, утешьтесь, не огорчайтесь тем, что бывший друг питает к вам злобу. Господин де Буагильбо в самом деле таков, каким его считают, и вам не остается ничего другого, как признать, что несчастный маркиз помешан. — Помешан? — воскликнул господин Антуан в ужасе и тоске. — Действительно помешан? Вы сами слышали, Эмиль, как он заговаривается? Он сильно страдает, жалуется? Его помешательство установлено врачами? Какая ужасная весть! И добряк Антуан бессильно опустился на скамью, тщетно пытаясь удержать глубокие вздохи, разрывавшие его могучую грудь. — Боже мой! Посмотрите, как он все еще любит маркиза! — вскричала Жильберта, бросаясь на колени перед отцом и покрывая его руки поцелуями. — О простите, простите меня, батюшка! Я сделала вам больно, я не подготовила вас к этой вести. Да помогите же мне успокоить его, Эмиль. Юноша вздрогнул, услышав обращение Жильберты: в своем волнении она впервые назвала его просто «Эмиль», а не «господин Эмиль». Она обратилась к нему как к брату, и в порыве умиления он опустился рядом с ней на колени перед господином Антуаном, который так разволновался и побагровел, что можно было опасаться апоплексического удара. — Успокойтесь! — сказал Эмиль. — До помешательства дело еще не дошло и, надеюсь, никогда не дойдет. Господин де Буагильбо находится в добром здравии и твердой памяти. Он помешан на одном лишь пункте, если можно так назвать неприязнь, какую он питает к вашему семейству, но ведь это — давний недуг. Понятно, что, наблюдая подобную странность у человека, весьма спокойного и терпимого во всех прочих отношениях, я счел, что для этого должны быть важные причины. Но сейчас я с полным основанием могу заявить, что их нет; уверен, что это лишь признак временного помешательства, которое пройдет само собой, если не возвращаться в разговоре с ним к запретной теме. К тому же не только вы один вызываете приступы его безумия, есть и другие люди, которые внушают ему то же чувство ужаса и болезненной неприязни, а ведь он совсем их не знает и никак уж не имеет причин на них жаловаться. — Объяснитесь же — сказал господин Антуан, переводя дыхание. — Кто это? — Ну, например, Жан, — ответил Эмиль. — Вам хорошо известно, что у господина де Буагильбо нет никаких оснований избегать Жана, и наш добрый друг положительно не может понять, чем он провинился перед маркизом. — Совершенно верно, ни маркиз, ни кто другой не может ни в чем упрекнуть Жана, но я знаю, почему господин де Буагильбо так поступает. Ну ладно, оставим это! Если речь идет только о Жане, поверьте мне: маркиз ничуть не помешан. Он просто несправедлив в отношении нашего милейшего Жапплу. Но разубедить маркиза так же невозможно, как невозможно залечить рану, которая кровоточит в его сердце. Бедный Буагильбо! Ах, Жильберта, я сам не пожалел бы жизни, лишь бы он забыл прошлое. Но не будем больше об этом говорить! — Постойте, дорогой батюшка! Еще одно, последнее слово, — проговорила Жильберта, — и вы все поймете! Маркиз ожесточился не только против Жана, но даже против меня, — а меня он видел всего два-три раза, никогда со мной не разговаривал и уж конечно не имеет причин на меня сердиться. Господин Кардонне может вам подтвердить, что, когда, желая успокоить маркиза, он произнес мое имя, тот пришел в неописуемый гнев, как будто господин Эмиль упомянул о его смертельном недруге! Он хлопнул дверью и закричал: «Не смейте, слышите, никогда не смейте говорить в моем присутствии об этой особе!» Господин Шатобрен опустил голову и несколько мгновений сидел молча. Он поминутно отирал пот с широкого лба грубым платком в синюю клетку. Наконец он взял руки Жильберты и Эмиля в свои и бессознательно соединил их. Бедняга был глубоко озабочен собственными мыслями, ему и в голову не приходило, что они могут любить друг друга. — Дети мои, — сказал он, — вы думали сделать мне благо, а причинили боль. Спасибо вам за добрые намерения, но прошу вас, дайте мне слово не говорить никогда об этом ни друг с другом, ни со мной, ни с Жаниллой или Жаном. И вы, Эмиль, не касайтесь этого вопроса в беседе с господином де Буагильбо. Никогда, слышите — никогда! — добавил он самым решительным и торжественным тоном, на какой только был способен. Затем он повернулся к Эмилю и, по рассеянности еще крепче прижимая его руку к руке Жильберты, растроганно произнес: — Дорогой мой Эмиль, вы совершили большую оплошность из дружеского расположения ко мне. Вспомните-ка, что я вам говорил, когда вы в первый раз собирались в Буагильбо? Я вам сказал: «Не произносите моего имени в этом доме, если не хотите повредить нашему общему другу Жану». И что же? Кончилось тем, что вы позабыли о моем предупреждении и повредили также и мне. Поверьте, господин де Буагильбо помешан не больше, чем любой из нас троих, и если он несправедлив к Жану и моей дочери, которые неповинны в моих проступках, происходит это потому, что чувство неприязни, какое вызывает в нас недруг, мы, вполне естественно, переносим на его родных и близких. Если бы господин де Буагильбо мог читать в моем сердце и все же не простил бы меня, тогда вы могли бы назвать его жестоким, но он слишком страдает. Уважайте же его горе, Эмиль, и не считайте помешанным этого несчастного человека: он заслуживает полного вашего сочувствия, дружбы и уважения. Итак, ради моего спокойствия обещайте не устраивать больше никаких заговоров: они непременно обернутся против меня. Эмиль и Жильберта, трепеща от волнения, обещали повиноваться, и господин Антуан добавил: — Дети мои, бывают неисцелимые страдания и кара, которую надо терпеть молча! Ну, а теперь пойдемте посмотрим, не нашла ли Жанилла козу. Взгляните-ка, я принес вам целую корзину абрикосов. Я видел, Эмиль, как вы подымались по тропинке, и мне захотелось угостить вас первыми плодами из нашего старого сада. Сделав над собой усилие, господин Антуан вновь обрел присущее ему хорошее расположение духа, и даже скорее, чем Жильберта и Эмиль. Юноша не решался больше ни о чем спрашивать, ничего выяснять, ибо все, что касалось Жильберты, стало для него священным. Достаточно было просьбы господина Антуана забыть о происшедшем, — и он уже забыл. Но у него оставалось немало других причин для волнения; к тому же любовь пустила в его сердце такие глубокие корни, что он сделался, пожалуй, еще более рассеянным, чем сам господин де Шатобрен. Когда Эмиль, ехавший в одиночестве по направлению к дому, добрался до перекрестка, где ответвлялась дорога, ведущая в Буагильбо, Вороной, привыкший и тут и там получать добрую порцию овса, повернул к имению маркиза. Эмиль не сразу заметил это, а заметив, подумал, что такова воля провидения: он вспомнил, что обещал любить старика маркиза как отца, а меж тем оставил его на много дней во власти печального одиночества; он решил немедля просить у маркиза прощения, пусть даже его ждет суровый прием. Достигнув подножия холма, Эмиль увидел, что ворота еще не заперты на ночь. Он въехал в парк и направился к швейцарскому домику, рассчитывая, что если и не застанет сейчас маркиза, то с наступлением ночи хозяин наверняка явится туда. Привязав Вороного у террасы, Эмиль тихонько постучал в дверь, а так как к заходу солнца поднялся легкий ветерок, ему почудилось, что он расслышал внутри движение и даже слабый голос маркиза, приглашающий его войти. Однако это ему только показалось: отворив дверь, он увидел, что в домике никого нет. Но господин де Буагильбо мог находиться в таинственной задней комнате, куда он удалялся каждый вечер. Эмиль кашлянул, скрипнул половицей, чтобы предупредить хозяина о своем присутствии: он твердо решил лучше уйти, не повидав маркиза, чем переступить порог двери, закрытой для всех без исключения. Но никто не отозвался, и Эмиль, решив, что маркиз, должно быть, еще в замке, хотел уйти. Вдруг порыв ветра с силой распахнул окно и дверь задней комнаты. Эмиль повернулся, ожидая увидеть на пороге господина де Буагильбо. Однако никто не показался, а перед Эмилем предстал маленький рабочий кабинет, где, в противоположность покоям замка, царил величайший беспорядок. Эмиль ни за что не вошел бы в эту комнату: ему казалось нескромным даже издали разглядывать бедную, простую обстановку и груду старых книг и бумаг, наваленных на столе и едва различимых в полумраке. Но его внимание невольно привлек женский портрет в натуральную величину, висевший в глубине кабинета, как раз напротив двери, так что его нельзя было не увидеть, а увидев, трудно было оторвать взор от пленительного облика, запечатленного столь совершенной кистью. Дама была одета по моде времен Империи; небесно-голубая, богато расшитая кашемировая шаль, падавшая с плеч свободными складками, скрывала стан красавицы, возможно, недостаточно гибкий и стройный. Светлые волосы чудесного золотого оттенка, уложенные в так называемые «натуральные» локоны, обрамляли прелестное чело. Никогда еще Эмиль не видел более тонкого и очаровательного личика. Это была, без сомнения, госпожа де Буагильбо; и наш герой, позабыв все на свете, стал внимательно разглядывать черты той женщины, чья жизнь и смерть, по-видимому, оказали такое большое влияние на судьбу отшельника. Но портрет редко дает правильное представление о характере оригинала, и в большинстве случаев можно с уверенностью сказать, что изображение человека меньше всего отражает его сущность. Эмиль представлял себе маркизу бледной и печальной, а перед ним была изящная красавица, благородная и величавая, с нежной и гордой улыбкой. Писал ли художник ее портрет до замужества, или такой она стала в последние годы жизни? А может быть, маркиза де Буагильбо просто была совсем иная, чем он предполагал? Одно было ясно: из рамы на него глядело чарующее лицо! И так как Эмиль теперь уже не мог смотреть на изображение молодой и прекрасной женщины, не представив себе тотчас образ Жильберты, он начал сравнивать их лица и с каждой минутой, как ему казалось, обнаруживал все большее сходство. День быстро угасал, а Эмиль не решался ни на шаг приблизиться к таинственной комнате и вскоре почти перестал различать очертания лица маркизы. Только нежная кожа и золотистые волосы светлым пятном выделялись на полотне, создавая столь обманчивое впечатление, что Эмилю стало казаться, будто перед ним портрет Жильберты. Но мало-помалу перед его глазами поплыл туман, пронизанный сверкающими искорками, и только тогда, перестав видеть портрет, Эмиль с трудом вспомнил, что по первому впечатлению — единственно верному в подобных случаях — он не уловил ни малейшего сходства между госпожой де Буагильбо и Жильбертой. Выйдя из домика и никого не встретив в аллеях парка, Эмиль направился к замку. Он пересек огромный двор, по-прежнему безмолвный и уединенный, поднялся по лестнице башенки, но навстречу ему не вышел даже Мартен, чтобы доложить о нем маркизу, — церемония, которую старый дворецкий неизменно выполнял, хотя Эмиль был здесь единственным постоянным гостем. Наконец юноша добрел до темной гостиной, куда даже днем сквозь плотно запертые ставни не проникал свет. Охваченный смутным страхом, словно смерть вошла в этот дом, где давно уже угасла жизнь, Эмиль стремглав пробежал через анфиладу комнат и тут увидел лежавшего на постели господина де Буагильбо. Маркиз был бледен и недвижим, как труп. Лучи заходящего солнца освещали скупым, печальным светом небольшую спальню, и сидевший у изголовья хозяина старый Мартен, который из-за глухоты не расслышал шагов Эмиля, походил скорее на статую. Эмиль бросился к постели и схватил руку маркиза. Она горела огнем; но тут больной пробудился он своего болезненного забытья, а старый его слуга стряхнул с себя дремоту, навеянную усталостью или скукой, и гость с облегчением узнал, что недомогание маркиза не представляет большой опасности. Однако последствия двух дней болезни ослабили это и без того немощное и хилое тело и побуждали опасаться за будущее. — Как хорошо, что вы приехали, — сказал господин де Буагильбо, слегка пожимая руку Эмиля. — Без вас я совсем извелся бы от тоски. Мартен, конечно, не слышал этой фразы, но мысли маркиза каким-то чудом передавались ему, и он повторил вслед за хозяином громким, как у всех глухих, голосом: — Ах, господин Эмиль, до чего же хорошо, что вы приехали! Маркиз очень скучал без вас. И старый слуга рассказал, как третьего дня его хозяин собрался было отбыть на покой в свой швейцарский домик, но вдруг почувствовал озноб и «преспокойно решил, что умирает». Он захотел, чтобы его положили в этой самой комнате, хотя обычно здесь не ночевал, и отдал такие распоряжения, точно не надеялся больше подняться. Ночь прошла довольно плохо, а наутро маркиз сказал: «Я чувствую себя лучше, все обойдется. Но я так устал, будто совершил длинное путешествие, и хочу отдохнуть. Не волнуйся, Мартен. Несколько дней отдыха, немножко покоя и никаких докторов — такова моя воля! А главное, не тревожься!» — А так как я, конечно, тревожился, — продолжал старый слуга, — маркиз и говорит мне: «Не грусти, друг мой. Это еще не на сей раз». — Разве маркиз подвержен таким недомоганиям? — спросил, Эмиль. — Они и впрямь серьезны? Долго ли они длятся? Эмиль позабыл, что Мартен не слышит никого, кроме своего хозяина. — Я дал выговориться Мартену, — сказал господин де Буагильбо, когда по его знаку дворецкий вышел из комнаты, — беднягу все равно не остановишь. Но я надеюсь, что, выслушав рассказ Мартена, вы не сочли меня трусом. Я не боюсь смерти, Эмиль! Когда-то я даже желал ее, а теперь спокойно ожидаю. Уже давно я чувствую ее приближение, но она не спешит, и я умру так же, как жил, — не торопясь. Я подвержен приступам лихорадки, которая лишает меня сна и аппетита. Ее, однако, никто не замечает, ибо она оставляет мне достаточно сил для тех немногих дел, какими я еще в состоянии заниматься. Я не верю в медицину: до сих пор она не нашла средств, которые облегчали бы страдания, не разрушая основ жизни. Что бы ни предпринимала медицина, это все игра вслепую; да к тому же я предпочитаю пасть от десницы бога, чем воспрянуть от руки человека. На сей раз я страдал более обычного. Я чувствовал, что дух мой слабеет; и без ложного стыда признаюсь вам, Эмиль, я понял, чтоне могу больше жить в одиночестве. Старики, подобно детям, легко идут за новым счастьем, но, потеряв его, не могут утешиться столь же легко, как дети. Они снова становятся тем, чем были, — стариками, и умирают. Не придавайте значения моим словам: лихорадка располагает меня к излияниям. Дайте мне выздороветь, и я никогда больше не заговорю и даже не вспомню о тоске одиночества, но инстинктивно буду чувствовать ее, несмотря на мою апатию. Не считайте на этом основании, что вы прикованы к моей печальной старости. Не все ли равно, проживу я годом больше или меньше и закроет ли дружеская рука глаза того, кто был так одинок. Но раз вы вернулись, — спасибо. Давайте говорить не обо мне, а о вас. Что вы делали в течение всех этих тоскливых для меня дней? — Я также тосковал вдали от вас, — ответил Эмиль. — Что ж, возможно! Такова жизнь, таков человек: страдать самому и причинять страдания другим. В этом одно из великих доказательств единения душ. Эмиль провел два часа подле маркиза, который был еще более откровенен и благосклонен к нему, чем обычно. Юноша почувствовал, как крепнет его привязанность к старику, и дал себе зарок не причинять ему впредь страданий. Прощаясь, он выразил сожаление, что позволил больному разговаривать слишком много. — Не тревожьтесь, — ответил маркиз. — Приезжайте завтра и вы увидите, что я буду уже на ногах. Ведь истощает нас не болезнь — убивает и сушит отсутствие близкого человека, которому можно было бы открыть душу.XX Крепость Крозан
На другой день маркиз и в самом деле почувствовал себя настолько лучше, что даже позавтракал вместе с Эмилем. Отныне ничто не омрачало этой необычной дружбы старика и юноши, и Эмиль, памятуя недавние уверения господина де Шатобрен, не смущался больше мыслями о безумии маркиза и всей душой наслаждался его обществом. Эмиль сдержал слово, данное господину Антуану, и остерегался упоминать о владельце Шатобрена, но зато открыл маркизу другие тайны своего сердца, ибо не мог не рассказать ему о своем прошлом и не поделиться с ним мечтами о будущем; он поведал маркизу о сопротивлении отца, которое принесло ему и, несомненно, принесет еще немало страданий, пусть на время они и поутихли. Господин де Буагильбо одобрил намерение Эмиля оставаться почтительным и покорным сыном, но удивлялся рвению, с каким господин Кардонне старался заглушить естественные склонности и порывы юноши, столь трудолюбивого и так счастливо одаренного природой. Маркиз верил, что способности и интерес Эмиля к сельскому хозяйству свидетельствуют о благородном и достойном призвании, и нередко думал, что, выпади ему счастье иметь такого сына, он еще при жизни сумел бы найти применение своему огромному состоянию, которое предназначал для бедных в будущем, но не знал, как использовать в настоящем. Не раз он, вздыхая, думал: «Благословенна участь человека, у которого есть сын, друг, преемник, способный плодотворной деятельностью и талантами внести свою лепту в дело его жизни». В глубине души он осуждал господина Кардонне за то, что тот употребляет во зло силы и средства, дарованные ему богом, чтобы делать добро, и видел в отце Эмиля слепого и упрямого тирана, который чтит деньги превыше всего — превыше счастья не только других людей, но и собственного сына, как будто человек — раб материальных благ, а не слуга истины. Господин де Буагильбо не был чрезмерно религиозным. Эмиль полагал даже, что он слишком равнодушен к вопросам веры. Говоря: «Я верую в бога», маркиз отнюдь не подразумевал под этим: «Я поклоняюсь ему». Когда в минуту наивысшего подъема, на какой только маркиз был способен, мысль его возносилась к творцу вселенной, он не молился, он как бы воздавал ему должное и говорил: «Имя его — премудрость», а когда Эмиль добавлял: «Имя его — любовь», старик пояснял: «Это одно и то же», — и был прав. Эмиль не находил нужных возражений, но по тому, какой упор делал маркиз на величие божественного разума и логики, юноша чувствовал, что маркизу чужд тот горячий восторг перед неисчерпаемой благостью всемогущего, каким всегда было переполнено его собственное сердце. Зато когда несчастья, человеческие слабости, низость и все зло мира слишком явно опровергали идею милосердного провидения и Эмиль падал духом — тут воззрения старого философа одерживали верх. Маркиз никогда не испытывал сомнений, да и не мог их испытывать. Ему не надо видеть, чтобы знать, говорил он не раз, и долгая чреда бедствий, обрушивающихся на наш грешный мир, не могла поколебать в его глазах извечный нравственный закон, как не могут набегающие на солнце тучи изменить закон физический. Эта безропотность объяснялась отнюдь не смирением или кротостью, ибо, по словам маркиза, перед личными невзгодами он склонялся лишь внешне, но считал вселенную носительницей фатального оптимизма, и вера эта была наиболее отличительной чертой его ума и характера, хотя и противоречила его личному пессимизму. — Взгляните, — говорил он, — логика есть во всем! Она бесконечна в божьих творениях, но несовершенна и неуловима в каждой отдельной вещи, ибо каждая вещь конечна, в том числе и сам человек, хотя он — наиболее разительное выражение бесконечности в нашем маленьком мире. Ни один человек не может постичь безграничной премудрости — разве только как понятие отвлеченное, ибо, сколько бы он ни искал ее в себе или вокруг себя, он не может никоим образом ее уловить и доказать. Вы часто называете меня логиком — согласен. Я люблю и ищу логику повсюду. Я чувствую в ней огромную потребность, и все, что ей чуждо, не мило моему сердцу. Но логичен ли я в своих поступках и побуждениях? Менее, нежели кто-либо другой. Чем больше я себя изучаю, тем большую бездну противоречий и беспорядочного хаоса обнаруживаю в своей душе. Что ж! Я лишь частный пример того, что представляет собой человек вообще; и чем нелогичнее я в своих собственных глазах, тем яснее ощущаю веяние божественной логики над моей головой. Я заблудился бы без этого небесного компаса и опрометчиво возложил бы на вселенную ответственность за собственную немощь. Однажды маркиз предложил Эмилю верховую прогулку, и они объехали его обширные владения. Эмиля поразило, что такие огромные земли приносят столь скромные доходы. — Я сдаю в аренду фермы по самой низкой цене, — объяснил маркиз. — Если человек не умеет извлекать прибыль из современного хозяйства, единственно, что ему остается делать, это как можно меньше отягощать трудолюбивого хлебопашца. Вы сами видите, люди благодарны мне и желают долгих лет жизни. Это понятно. Они считают меня очень добрым человеком, хотя я и кажусь им чудаком. Они не понимают, что моя любовь к ним особого рода: ведь в моих глазах они жертвы, которых я спасти не могу, но и палачом их быть не желаю. Я отлично знаю, что при разумном ведении дел эти земли могли бы приносить во сто крат больше того, что приносят сейчас. Мне легче, когда я мечтаю о будущем: я свято верю в наступление того дня, когда мое имение станет ареной свободного труда множества разумных людей; но я не могу закрывать глаза на нынешнее состояние моих земель, и это зрелище печалит мне сердце и леденит душу; вот потому-то я так редко выезжаю. И действительно, почти два года господин де Буагильбо не навещал своих ферм и не объезжал владений. Он решался на этот шаг только в случае крайней необходимости. Крестьяне встречали его с уважением и любовью, к которым, однако, примешивался какой-то суеверный страх, ибо, в силу своих странностей и привычки к уединению, он слыл у деревенских жителей чуть ли не колдуном. Не раз во время грозы крестьяне с горечью говорили: «Если бы господин де Буагильбо захотел, он мог бы отвести от нас град, ведь это в его власти! Но он не делает того, что может, а ищет неведомо чего! И, бог весть, найдет ли!» — А что сделали бы вы, Эмиль, со всеми этими землями, если бы они принадлежали вам? — спросил маркиз на обратном пути. — Ведь я заставил вас совершить эту скучную поездку лишь затем, чтобы узнать ваше мнение. — Я бы дерзнул… — начал с живостью Эмиль. — Конечно, — подхватил маркиз, — я также дерзнул бы, если бы мог, основать настоящую коммуну. Но попытки мои оказались бы тщетными, я потерпел бы неудачу. Да и вы, быть может, тоже. — Ну и пусть! — Вот благородный и безрассудный глас юности: пусть неудача, лишь бы только действовать, не так ли? Юность уступает желанию действовать и не замечает препятствий. А они меж тем повсюду, и самое серьезное из них — люди. Ваш батюшка прав, ссылаясь на простую, но все еще очень важную причину: умы недостаточно зрелы, сердца не подготовлены. Я вижу земли и сильные руки, но не вижу души, освобожденной от всевластного себялюбия, которое царит над миром. Нужно какое-то время, Эмиль, дабы созревшая идея распространилась среди людей; и ждать этого не так долго, как думают. Я этого не увижу, но вы, Эмиль, увидите. Итак, терпение! — Как же это? Разве время может сдвинуть что-либо без наших усилий? — Нет, но для этого мы должны объединить наши усилия. В иные эпохи приходится мириться с тем, что не можешь осуществить свой идеал и лишь проповедуешь его, а затем наступают времена, когда человек получает возможность делать и то и другое. Вы чувствуете в себе достаточно сил? — О да! — Тем лучше! Я тоже верю в вас. Что ж, Эмиль, когда-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу… скоро, быть может, при первом же приступе лихорадки, когда мой пульс будет биться сильнее, чем сегодня… В таких разговорах черпал Эмиль силы, чтобы хоть как-нибудь скоротать часы, которые он проводил вдалеке от Жильберты. Но его дружба с маркизом страдала оттого, что он не мог говорить с ним о Жильберте, о своей любви к ней. Впрочем, счастливая любовь хороша тем, что может обходиться без ободрения окружающих, а для нашего героя еще не наступил тот час, когда в минуту отчаяния влюбленный чувствует потребность жаловаться и искать поддержки. В чем же заключалось его счастье? И вы еще спрашиваете! Во-первых, он любил, а тому, кто истинно любит, этого достаточно. Затем, он знал, что любим, хотя еще ни разу не осмеливался заговорить о своей любви, тем более что ему не отважились бы ответить. Между тем на горизонте сгущались тучи, и вскоре Эмиль почувствовал приближение грозы. Однажды, — когда он уезжал из Шатобрена, Жанилла сказала ему: — Не заглядывайте к нам денька три-четыре! У нас, знаете ли, дела в окрестностях, и нас не будет дома. Эмиль побледнел, как будто выслушал свой приговор: у него едва достало силы спросить, когда же семейство Шатобрен вернется в родные места. — Вероятно, к концу недели, — ответила Жанилла. — Впрочем, возможно, я останусь здесь: не в таких я летах, чтобы лазать по горам. Вот вы по дороге и наведывайтесь ко мне — узнать, не вернулись ли господин Антуан с барышней. — Значит, вы разрешаете нанести вам визит? — спросил Эмиль, пытаясь улыбнуться, чтобы скрыть охватившую его смертельную тоску. — А почему бы и нет, если вам это приятно? — ответила старушка с важной миной, в которой, однако, подозрительный Эмиль почуял лукавство. — Я не боюсь, что меня за это осудят. «Все кончено! — подумал Эмиль. — Мои домогательства замечены; и хотя господин Антуан и Жильберта еще ни о чем не догадываются, старуха задумала меня удалить. Она пользуется в доме неограниченной властью, и решительная минута настала». — Ну что же, мадемуазель Жанилла, — сказал он, — я явлюсь завтра же и с удовольствием поболтаю с вами. — Вот и хорошо! — подхватила Жанилла. — Я тоже не прочь поболтать. Но как раз завтра мне надо дергать коноплю, так что приезжайте лучше послезавтра. Ладно? Помните же, я буду дома весь день. До свидания, господин Эмиль. Мы побеседуем с вами по душам. Что поделаешь, ведь я вас тоже очень люблю! Эмиль не сомневался более, что старая домоправительница Шатобрена догадалась о его любви к Жильберте. Какой-нибудь услужливый сосед в разговоре с ней подивился тому, что встречает Кардонне чуть ли не каждый день на пути к замку. Господин Антуан еще ничего не подозревал. Жильберта также. Когда девушка объявила Эмилю о том, что отец ее уезжает на короткое время, она, видимо, сама еще не предполагала, что Жанилла отправит и ее. Хитрая старушка составила целый план: сначала удалить Эмиля, а затем устроить внезапный отъезд Жильберты, чтобы выиграть несколько дней и предотвратить маленькую бурю, которая, как она предвидела, может разразиться в душе влюбленного юноши. «Итак, придется сказать все откровенно, — подумал Эмиль. — Да и к чему откладывать? Тайные мои надежды неизбежно станут явными. Я открою верной Жанилле и добряку Антуану, что люблю Жильберту и прошу ее руки. Пусть они дадут мне некоторое время, я признаюсь во всем батюшке, мы условимся с ним, какое поприще надлежит мне избрать, так как я до сих пор еще ни на чем не остановил своего выбора. Пора решиться. Предстоит жестокая борьба, но я буду тверд — ведь я люблю! Теперь дело не во мне одном, и я проявлю непреклонное мужество, буду красноречив, уговорю отца». Несмотря на такую уверенность, Эмиль все же провел тревожную ночь. Он представлял себе беседу с Жаниллой и, зная ее настойчивость и прямоту, мог заранее предугадать все вопросы и ответы. «Ну что же, — непременно скажет ему Жанилла, — прежде всего переговорите с вашим батюшкой, получите его согласие. Незачем смущать попусту господина Антуана, ведь вы еще не можете сделать официальное предложение. До тех же пор или вовсе не приезжайте к нам, или наведывайтесь пореже. Никто не обязан знать ваши намерения, а Жильберта не такая девушка, чтобы слушать вас, не будучи уверенной, что она станет вашей женой». Эмиль боялся также, что Жанилла, наделенная от природы здравым смыслом, поймет, что не так-то легко получить согласие господина Кардонне, и запретит Эмилю посещать их дом до тех пор, пока молодой человек не докажет своим поведением, что волен располагать собою. Итак, юноша ясно видел, что сперва ему придется повести борьбу с отцом, а затем уже действовать смотря по обстоятельствам; до той минуты, пока не появится твердая надежда, что он победит, бывать в Шатобрене лишь изредка, а если надежды его рухнут, то и вообще не смущать более покоя семьи Шатобрен бесполезными признаниями — и, значит, уйти, отказаться от Жильберты. Но это последнее решение казалось Эмилю невыполнимым. Скорее мысль о смерти может зародиться в голове ребенка, чем мысль отказаться от любимой женщины в сердце пламенно влюбленного юноши. Эмиль предпочел бы пустить себе пулю в лоб, нежели склониться перед волей отца. «Ну, хорошо, — рассуждал он, — завтра же поговорю с батюшкой, с этим деспотом, наводящим на всех ужас. Я найду нужные слова и явлюсь в Шатобрен с гордо поднятой головой». Однако на следующий день Эмиль не чувствовал себя во всеоружии: он был так изнурен бессонницей, так удручен тоской, что побоялся выказать недостойную слабость и промолчал. И впрямь, может ли юноша, скрывающий даже от самого себя некую сладостную тайну, целомудренную любовь, — может ли он хладнокровно открыть свою тайну людям, которые ее не поймут или отнесутся к ней с презрением? Кому бы Эмиль ни сделал это признание, отцу или Жанилле, все равно ему пришлось бы излить свое сердце, исполненное стыдливого томления и святого восторга, перед сердцами, чуждыми подобных чувств или давно для них закрытыми. А он мечтал о совсем иной, о возвышенной развязке! Разве не Жильберта наедине с ним, под безбрежным небом, должна была первая внять священным словам любви, когда их произнесут его уста! Свет и законы чести, столь равнодушные в подобных случаях, грозили лишить чистое чувство Эмиля того, что было в нем самого девственного и идеального. Эмиль глубоко страдал, и ему казалось, что мир его вчерашних грез отделен мрачной бездной от горестного дня, который сейчас занимался для него. Он вскочил на лошадь, решив вдали от всех, в уединении, найти спокойствие и стойкость, необходимые ему, чтобы, не дрогнув, встретить первый удар. Он хотел бежать из Шатобрена, но очутился возле замка, сам не зная как. Он проехал мимо, не повернув головы, по той самой крутой дороге, что вела к вершине, откуда, застигнутый грозой, он впервые увидел при блеске молний величественные развалины. Эмиль узнал скалы, где он вместе с Жаном Жапплу нашел тогда приют, и не мог поверить, что прошло всего два месяца с тех пор, как он появился впервые в этих краях — беспечный, уверенный, смелый, совсем не похожий на того Эмиля, каким стал теперь. Он направился в Эгюзон: ему хотелось вновь увидеть дорогу, по которой он проезжал тогда и где еще ни разу не бывал с того времени. Но когда он въехал на окраину городка, вид глазевших на него с любопытством жителей вызвал в нем прилив такого ужаса и тоски, какие могли возникнуть разве что у старика де Буагильбо. Эмиль резко свернул на тенистую, сумрачную тропинку, уходившую влево, и без всякой цели поскакал в поле. Эта неровная, но очаровательная дорожка, окаймленная могучими каштанами с потрескавшимися стволами и огромными узловатыми корнями, то взбиралась на невысокие холмы, то пролегала по свежим лугам и мелкому песку. Наконец она вывела Эмиля к каменистой пустоши, и, опустив поводья, он медленно ехал, радуясь тому, что очутился один в этом уединенном уголке. Дорожка то вилась зигзагами, то огибала крутые склоны, поросшие дроком и вереском, то сбегала по песчаным холмам, перерезанным ручейками, которые каждый год пролагали себе новое русло и текли неведомо куда. Куропатки взлетали из травы у самых ног Вороного, зимородок огненно-васильковой стрелой проносился над болотом, почти касаясь его крылом. Прошло, должно быть, больше часа, как вдруг Эмиль, погруженный в свои мысли, заметил, что дорожка суживается и теряется где-то в кустах. Он поднял голову и увидел перед собой, по ту сторону пропасти и глубоких оврагов, развалины башен Крозана, вонзавшихся в небеса на фоне причудливо изрезанных скал, гряда которых терялась вдали. Эмиль уже побывал однажды в этой любопытной крепости. Но тогда он ехал другой дорогой и теперь, в глубокой задумчивости, не сразу узнал местность. Дикий пейзаж и возникшие перед ним пустынные развалины как нельзя лучше соответствовали состоянию его души. Он оставил лошадь у какой-то хижины и пошел по узкой тропинке, спускавшейся по выступам скал к руслу потока. Затем он поднялся по другой такой же тропинке, проник в крепость и провел там несколько часов в созерцании страшных и в то же время величественных руин, предаваясь мрачному отчаянию, доходившему минутами до безумия. Даже первые века феодализма знали немного крепостей, столь удачно расположенных, как Крозан. Крепость стоит на горе, обрывающейся отвесно с двух сторон к рекам Крёзе и Седелле, которые, обогнув полуостров, соединяют в один поток свои рокочущие воды и с немолчным ревом стремятся вперед среди обломков скал и огромных камней. От причудливых склонов горы на всем их протяжении отходят длинные уступы, серые громады нависают над рекой, как сталактиты, исполинами поднимаются со дна пропасти дикие утесы. Развалины крепостных строений приобрели от времени цвет и форму скал и подчас ничем не отличаются от них, особенно издали. Природа ли превзошла здесь человека в смелости, или человек в трагическом своем вдохновении оставил природу далеко позади, но только и склоны горы, и развалины крепости кажутся декорациями, в которых сменяют друг друга сцены неумолимой жестокости и вечной скорби. Подъемный мост, темные норы подземных входов и двойная крепостная стена, прикрытая с боков башнями и бастионами, следы которых еще сохранились до наших дней, — все это делало Крозан неприступным вплоть до дня изобретения пушек. А меж тем история крепости, сыгравшая немаловажную роль в средневековых войнах, почти совсем неизвестна. Если верить дошедшим до нас преданиям, ее воздвигли сарацинские вожди, которые якобы долго ее удерживали. Заморозки, довольно сильные и продолжительные в этих краях, с каждым годом довершают разрушение крепостных стен, разбитых ядрами, а время обращает их в прах. Однако огромная квадратная башня, несомненно мавританской архитектуры, еще высится посредине, хотя основание ее уже расшаталось и она ежеминутно грозит рухнуть вместе со всем прочим. От остальных башен, над которыми беспрестанно реют с клекотом хищные птицы, уцелели лишь остатки стен, торчащие на вершинах остроконечных скал, так что сами башни кажутся зубчатыми утесами. Прогулка по крепости небезопасна. Во многих местах тропинка пропадает, и нога скользит по краю стремнины, над яростно несущимися водами Крёзы. Приближение неприятеля можно было заметить только с высоты наблюдательных башен, ибо нижние ярусы крепости и окрестные горные вершины расположены на одном уровне и отсюда видны одни лишь их голые склоны. Ныне, подточенные и размытые, они приняли на себя пласты плодородной земли, где привольно растут курчавые деревья, но во время паводка бурное течение потоков зачастую выворачивает их с корнем. Дикие козы, которых пасут еще более дикие, оборванные ребятишки, смело цепляются за камни развалин и бесстрашно карабкаются по скалам. Зрелище это так величественно, так неожиданно открываются взору его красоты, что художник не знал бы, на чем остановить свой выбор. Декоратор растерялся бы перед этим обилием ужасов и грозного великолепия. Эмиль провел здесь несколько часов, погруженный в хаос сомнений и беспорядочных замыслов. Уехав из дому ранним утром, он сейчас буквально умирал с голоду, но не сознавал физических страданий, которые, однако, немало способствовали его угнетенному состоянию. Лежа на утесе, он глядел на коршунов, реявших над ним, и вспоминал муки Прометея, как вдруг откуда-то издалека донесся мужской голос, показавшийся ему столь знакомым, что он невольно вздрогнул. Он вскочил, бросился к краю стремнины и увидел, что по противоположному склону оврага спускаются трое. Мужчина в блузе и серой широкополой шляпе шел впереди, время от времени он оборачивался, желая, видимо, предупредить спутников об опасности. Позади него крестьянин вел за уздечку осла, на осле сидела девушка в выцветшем лиловом платье и простенькой соломенной шляпке. Эмиль бросился навстречу путникам, не раздумывая над тем, сказала ли им что-нибудь Жанилла и не встретит ли его настороженный и холодный прием. Он летел как камень, брошенный с крутого обрыва. Он летел как птица, напрямик, перебрался через реку, буйные воды которой напрасно угрожали ему, лизали, окатывая скользкие кручи, очутился наконец на противоположном склоне, попал в дружеские объятия господина Антуана, принял из рук Сильвена Шарассона уздечку послушного ослика, который вез на себе Жильберту, и увидел ее нежную улыбку, внезапный румянец и плохо скрытую радость. Жаниллы с ними не было! Жанилла ничего не сказала! Каким сладким кажется счастье после горести и как быстро любовь наверстывает часы, потерянные в страданиях! Эмиль забыл о том, что было накануне, и уже не думал о том, что ждет его завтра. До самых развалин Крозана Эмиль торжественно вел под уздцы осла, который нес его возлюбленную; по пути молодой Кардонне обломал все ветки кустарника, до каких мог дотянутся, и усыпал ими дорогу, подобно тому, как некогда иудеи бросали пальмовые ветки под ноги смиренному животному, на котором восседал божественный учитель. Затем он принял на руки Жильберту и осторожно опустил ее на непримятую зеленую травку, хотя девушка отнюдь не нуждалась в помощи, чтобы сойти с малорослого и спокойного ослика. Эмиль не робел больше, ибо опьянел от счастья, и, не будь господин Антуан самым недальновидным человеком на свете, он понял бы, что заглушить эту исступленную страсть было столь же трудно, как помешать бурному течению Крёзы и Седеллы. — Ну и голоден же я! — сказал господин Антуан. — Давайте прежде позавтракаем, а потом поговорим, какими судьбами мы здесь с вами встретились. Лишний сотрапезник нам не страшен: Жанилла надавала нам уйму всякой снеди. Открой-ка охотничью сумку, плутишка, — добавил он, обращаясь к Шарассону, — а я развяжу мешок, что на спине осла. Эмиль пусть сбегает в деревню и принесет нам для подкрепления пеклеванного хлеба. Расположимся у реки: горная вода превосходна для питья, особенно если взять ее поменьше, а вина подлить побольше. Вскоре завтрак был накрыт на траве; Жильберта сделала себе тарелку из большого листа кувшинки, а господин Антуан нарезал хлеб и мясо чем-то вроде сабли, которую он называл карманным ножичком. Кроме хлеба, Эмиль принес еще молока для Жильберты и диких вишен; путешественники нашли их превосходными, к тому же горьковатый вкус ягод возбуждал аппетит. Сильвен, пристроившийся, как обезьяна, на изогнутом стволе дерева, получил столь же обильную порцию, как и все остальные, и ел, по его словам, с особенным удовольствием, так как мадемуазель Жанилла осталась дома и никто с укоризненным видом не считал каждый кусок. Эмиль насытился в одну минуту. Хотя нередко посмеиваются над героями романов, которые якобы никогда ничего не едят, но у влюбленных и в самом деле плохой аппетит, и романы в этом столь же правдивы, как и сама жизнь. Какую радость испытывал Эмиль! Он так опасался встретить суровую, недоверчивую Жильберту и вдруг увидел ее непринужденной, благородно-доверчивой — такою же, как накануне! И как он любил Антуана за его детское простодушие, за его открытый, веселый нрав! Эмиль и сам никогда не ощущал такой веселости, никогда не видел более прекрасного дня, чем этот тусклый сентябрьский денек; ни одна местность не казалась ему такой жизнерадостной и чарующей, как сумрачная крепость Крозан. И будто нарочно, на Жильберте было в этот день ее будничное лиловое платьице: Эмиль уже давно не видел на ней этого платьица, напоминавшего ему тот день и час, когда он полюбил ее без памяти! Эмиль узнал, что семейство Шатобрен тронулось в путь, желая навестить родственника, жившего в Клавьере, а затем провести два дня в Аржантоне; но, не застав хозяина дома, они решили совершить прогулку в Крозан и пробыть здесь до вечера — а сейчас был только полдень! Эмилю казалось, что перед ним целая вечность. После завтрака господин Антуан прилег в тени и погрузился в глубокий сон. А влюбленные решили в сопровождении Шарассона обойти крепость.XXI Господин Антуан на привале
Некоторое время юный «паж» Шатобрена развлекал молодую парочку своей наивной болтовней, но вскоре, уступив желанию порезвиться, пустился за козами, затеял было ссору с пастухами и наконец, примирившись с ними, стал бросать камешки в Крёзу, меж тем как Эмиль и Жильберта медленно шли вдоль Седеллы, по противоположному склону горы. Так как во многих местах потоком подмыло берег, им приходилось то взбираться, то вновь спускаться, перепрыгивать с одного камня, еле выступавшего из воды, на другой, преодолевая различные препятствия и даже подвергаясь опасностям. Но юность предприимчива, а любовь не знает страха! Провидение особенно милостиво к тем, кто молод и любит, и наши влюбленные счастливо избегли всех опасностей. И не страх, а совсем иное чувство заставляло трепетать Эмиля, когда он приподнимал Жильберту или поддерживал ее за талию. Она же смеялась, чтоб скрыть или рассеять овладевшее ею смущение. Жильберта была сильна, проворна и отважна, как истое дитя гор; однако она наконец устала взбираться по крутым тропинкам и, опустившись на мох у края бурного потока, сбросила шляпку на траву, чтобы привести в порядок волосы, рассыпавшиеся по плечам. — Сорвите мне вон ту чудесную наперстянку, — попросила она Эмиля, надеясь, что успеет за это время заплести косы. Но Эмиль побежал за цветком и возвратился назад так быстро, что застал Жильберту всю окутанную плащом золотистых волос, в которых тонули ее маленькие ручки. Юноша залюбовался золотистыми прядями, которые Жильберта отбрасывала назад нетерпеливым движением головы; она нимало не гордилась своим сокровищем и давным-давно отрезала бы косы, если бы этому ревниво не противились господин Антуан и Жанилла. Теперь Жильберта, впрочем, узнала им цену: она отнюдь не была кокеткой, но все же заметила, что Эмиль потерял голову от восхищения, хоть она ничуть не старалась его вызвать. Если красота иной раз одерживает победы, а любовь не может им не покориться, случается это именно тогда, когда побед не ждут и не ищут. И в самом деле, такие прекрасные волосы скрасили бы все недостатки даже некрасивой женщины, а Жильберта получила их в дар от щедрой природы сверх всех прочих даров. Жильберта пошла в отца и, по правде говоря, была скорее трудолюбивой, чем ловкой. Вдобавок по пути она растеряла все шпильки, и волосы, свернутые наспех на затылке тяжелым жгутом, распустились, окутав ее с головы до ног. Эмиль не мог оторвать он нее глаз. Жильберта не оборачивалась и тем не менее чувствовала его страстный взгляд, словно пламенем накалявший воздух вокруг нее. Радость девушки сменилась смущением, и, как обычно, она попыталась рассеять шуткой охватившее их обоих волнение. — Ах, если бы я могла распоряжаться своими волосами, — сказала она. — Я отрезала бы их и бросила в реку. Эмилю представлялся прекрасный случай произнести изящный комплимент, но он воздержался. Что мог он сказать об ее волосах, чтобы выразить все свое восхищение? Он никогда не касался кудрей Жильберты и теперь сгорал от желания дотронуться до них. Он украдкой оглянулся. Стена утесов и кустарника отделяла их от всего мира. Даже с горы их нельзя было увидеть. Казалось, Жильберта с умыслом выбрала этот уголок, чтобы ввергнуть юношу в искушение, хотя на самом деле невинное создание даже и не помышляло об этом. Девушке и в голову не приходила мысль о какой-либо опасности. Эмиль перестал владеть собой. Бессонница, страх, горе, радость зажгли огонь в его крови. Он опустился на колени и коснулся трепещущей рукою непокорных прядей, но, почувствовав, как задрожала девушка, отвел руку и сказал: — Мне почудилось, что у вас в волосах запуталась оса, а это всего-навсего мох, маленький-маленький клочок. — Вы меня напугали, — промолвила Жильберта, резко тряхнув головой, — мне показалось, что это змея! Но рука Эмиля неудержимо тянулась к ее волосам. Под тем предлогом, что он хочет помочь Жильберте собрать рассыпавшиеся волосы, которыми играл ветерок, он дотрагивался до них сотни раз и наконец украдкой поднес к губам. Жильберта, казалось, ничего не заметила, она торопливо надела шляпку, прикрыв ею небрежно сделанную прическу, поднялась, стараясь сохранить непринужденный вид, и сказала: — Пойдемте посмотрим, не проснулся ли батюшка! Но она трепетала. Внезапная бледность согнала яркую краску с ее щек, сердце готово было разорваться. Она пошатнулась и прислонилась к скале, чтобы не упасть. Эмиль бросился к ее ногам. Что говорил он ей? Он и сам не знал, а эхо Крозана не сохранило его слов. Жильберта тоже как будто не слышала их: в ушах у нее отдавался рев потока, усиленный во сто крат биением сердца, — ей почудилось, что гора дрогнула и закачалась над ее головой. У нее не было сил бежать, да она и не думала об этом. Напрасно бежать от любви, когда она закралась в душу: любовь срастается с ней и следует за ней повсюду. Жильберта не знала, что любовь таит в себе опасность не только потому, что застает врасплох наше сердце, — впрочем, другие опасности любви не грозили ей наедине с Эмилем. Однако овладевшее ею чувство было столь сильно, что вызвало головокружение, исполненное несказанной прелести. Жильберта могла лишь повторять со страхом, к которому примешивались сожаление и печаль: — Нет, нет, не надо меня любить! — Значит, вы ненавидите меня? — воскликнул Эмиль, и Жильберта, не найдя в себе мужества солгать, отвернулась. — Если вы не любите меня, — продолжал Эмиль, — что вам до того, люблю ли я вас. Но разрешите мне открыть вам мое сердце, таиться я больше не могу. Вы равнодушны ко мне, а ведь то, что безразлично, не может пугать. Поэтому узнайте всю правду. И если я уеду, если не увижу вас более, по крайней мере, вам будет известно почему. Я умираю от любви к вам, я больше не сплю, не работаю, я теряю рассудок и, может статься, скажу вашему батюшке то, что говорю сейчас вам. Пусть вы прогоните меня — вы, а не другие! Прогоните же, но выслушайте сперва, тайна душит меня! Я люблю вас, Жильберта, люблю и умираю от любви! Сердце Эмиля было так полно, что он разразился рыданиями. Жильберта хотела бежать, но вместо этого опустилась на землю в нескольких шагах от Эмиля и тоже заплакала. Их слезы были слезами счастья, а не горя. Эмиль поспешил утешить Жильберту, скоро успокоился и сам, ибо понял, что ее испуг вызван лишь нежностью и сожалением. — Я бедная девушка, — говорила она, — а вы богаты, и ваш батюшка, судя по слухам, только и думает о том, как бы увеличить свое состояние. Вы не можете на мне жениться, а я не должна думать о замужестве: вы же сами знаете положение нашей семьи. Только случайно мне может встретиться человек, столь же бедный, как я, и получивший некоторое воспитание, но я никогда не рассчитывала на такой случай. Я давно сказала себе, что должна найти удовлетворение в скромной жизни, должна воспитать свои чувства сообразно возможностям — не завидовать другим, иметь простые вкусы, привыкнуть к честному труду. Я вовсе не думаю о замужестве — ведь для того, чтобы найти мужа, мне пришлось бы, пожалуй, изменить отчасти мой образ мыслей. Хотите, я вам признаюсь: с некоторых пор Жанилле пришла в голову мысль, очень меня огорчившая. Она хочет, чтобы батюшка искал мне мужа. Искать мужа! Разве это не постыдно, не унизительно? Можно ли представить что-нибудь более отвратительное! Однако эта добрая душа не понимает, почему я противлюсь, и так как отец должен был отправиться в Аржантон за пенсией, Жанилла вдруг потребовала, чтобы он взял меня с собой и познакомил со своими друзьями. Мы привыкли не противоречить Жанилле и поэтому отправились в путь, но, благодарение богу, батюшка не знает, как взяться за дело, а я стараюсь со своей стороны отвлечь его от этого намерения, так что наша поездка не будет иметь никаких последствий. Вы видите теперь, господин Эмиль: не следует ухаживать за девушкой, которая не обольщается напрасными надеждами и без сожаления и ложного стыда отказывается навсегда от замужества. Я рассчитывала, что вы сами поймете это и, оставаясь в рамках дружбы, никогда не смутите моего покоя. Забудьте же безумие, помрачившее ваш рассудок, и считайте меня своей сестрой, которая никогда не вспомнит о том, что произошло нынче, если вы обещаете любить ее спокойной и братской любовью. Зачем же покидать нас? Это очень огорчит батюшку и меня. — Это огорчит вас, Жильберта? — вскричал Эмиль. — Отчего же вы плачете, произнося такие холодные слова? Или я не понимаю вас, или вы что-то скрываете! Но знаете, чего я опасаюсь? Вы недостаточно уважаете меня, не дарите меня доверием. Вы принимаете меня за юного сумасброда, который относится к любви без должного благоговения, без сознания своей ответственности, и потому обращаетесь со мной как с ребенком, которому говорят: «Ты больше не будешь, не правда ли? Я тебя прощаю!» Но если вы верите, что призывами холодного рассудка можно угасить серьезную любовь, — вы сами ребенок, Жильберта, и ваше сердце молчит. Боже мой, возможно ли! Ваши глаза избегают моего взгляда, рука отталкивает мою руку! Что это — презрение или недоверие? — О, довольно! Неужели вы думаете, что я могу согласиться любить вас, зная, что рано или поздно вы женитесь на другой? В моем представлении любить — это быть навеки вместе! Вот почему, отказываясь от замужества, я отказываюсь и от любви. — И я так понимаю любовь, Жильберта! Любить — это быть навеки вместе! Я не представляю себе даже, как смерть может положить ей предел. Разве не сказал я вам все это, говоря: «Я люблю вас!» Ах, как вы жестоки, Жильберта! Вы меня не поняли или не хотите понять, но если бы вы любили меня, у вас не было бы сомнений! Вы не говорили бы, что бедны, а, так же как и я, забыли бы об этом! — Боже мой! Эмиль, я не сомневаюсь в вас! Я знаю, что вы тоже не способны на корыстный расчет. Но, повторяю, разве мы сильнее судьбы, сильнее воли вашего отца? — Да, Жильберта, да! Сильнее, чем весь свет, если… если только мы любим друг друга. Бесполезно приводить продолжение этой беседы. Мы не в силах были бы передать все оттенки страха и уныния, охватившие Жильберту: вдруг становясь снова рассудительной, вернее — поддаваясь отчаянию, она указывала на тысячи препятствий, и в ней, хоть и не очень громко, но достаточно явственно, начинал звучать голос гордости, говоривший, что ей легче перенести вечное одиночество, чем унизительную борьбу против кичливого богатства. Мы могли бы рассказать, какие благородные и искренние доводы приводил Эмиль в подтверждение чистоты своих помыслов. Но самые веские из них, на которые Жильберта не находила возражений, мы не в состоянии передать пером, потому что это были наивные восторги или безмолвные признания. Влюбленные красноречивы, но не так, как ораторы; и если записать их слова, они покажутся бессмысленными любому, кроме того, к кому обращены. Если иной раз хладнокровно вспомнить, какое незначительное слово заставило тебя потерять рассудок, сам недоумеваешь, как могло это случиться, и невольно смеешься над собой. Но голос, взгляд черпают в страсти волшебную силу, и Эмилю скоро удалось убедить Жильберту в том, во что он верил сам: что для них нет ничего проще, чем пожениться, а следовательно, самое важное и самое законное дело на свете — любить друг друга. Благородная девушка любила Эмиля слишком сильно, чтобы обвинять его в самонадеянности и безрассудстве. Эмиль говорил, что сломит сопротивление отца, а Жильберта знала господина Кардонне только по слухам. Эмиль не сомневался в поддержке нежно любившей его матери, и это обстоятельство успокоило совесть Жильберты. Вскоре она уже разделяла самообольщение Эмиля, и они условились, что, прежде чем обратиться к господину Антуану, Эмиль переговорит с отцом. Девушка эгоистическая или честолюбивая вела бы себя осторожнее, чем Жильберта. Она ни за что не призналась бы в своих чувствах, не поставив перед любимым строгих условий, ни за что не согласилась бы вновь увидеться с ним, пока он не попросит ее руки, соблюдая все положенные формальности. Но Жильберта не заботилась о подобных предосторожностях. Она чувствовала в глубине души безграничную веру и уважение к словам любимого и терзалась теперь при мысли, что явится причиной ссор и огорчений для родителей Эмиля в тот день, когда он все им откроет. Она не сомневалась в успехе, ибо Эмиль ручался одержать победу, но страдала при мысли о предстоящей борьбе, и ей хотелось отдалить эту страшную минуту. — Послушайте, — с ангельской наивностью обратилась она к Эмилю, — к чему нам торопиться? Мы и так счастливы, мы молоды и можем ждать. Боюсь даже, что именно это обстоятельство господин Кардонне выставит в качестве самого веского возражения. Вам только двадцать один год, а следовательно, можно опасаться, что вы сделали свой выбор опрометчиво, недостаточно изучили характер невесты. Если ваш отец велит ждать или попросит некоторого времени для размышлений, подчинитесь его требованиям. Если нам удастся соединиться только через несколько лет — не все ли равно, лишь бы мы могли видеться: ведь мы не сомневаемся друг в друге, не правда ли? — О, вы святая! — воскликнул Эмиль, целуя край ее шарфа. — И я буду достоин вас. Вернувшись на то место, где отдыхал господин Антуан, они увидели его вдалеке со знакомым мельником и решили подождать у подножия высокой башни, пока он не кончит своей беседы. Часы летели, как секунды, хоть и были насыщены, словно столетия. Чего только влюбленные не сказали друг другу! И еще больше они не договорили! Счастье видеть, понимать и любить друг друга было столь сильно, что в порыве безумной веселости они резвились, как косули; взявшись за руки, они карабкались по крутым склонам, и камни из-под их ног скатывались на дно пропасти; охваченные неведомым доселе бурным восторгом, они, подобно детям, не сознавали опасности. Эмиль с таким пылом сталкивал вниз обломки скал или ловко перепрыгивал через них, словно то были препятствия, стоящие на его жизненном пути. Жильберта не испытывала страха ни за него, ни за себя, громко смеялась, кричала и распевала, как жаворонок в поднебесье. Она забыла привести в порядок волосы, которые развевались по ветру и порой окутывали всю ее фигурку, словно золотая вуаль. Когда среди этого веселья появился господин Антуан, Жильберта кинулась к нему на шею и горячо обняла, как бы желая передать ему счастье, переполнявшее ее душу. Серая шляпа господина Антуана слетела от этой бурной ласки и покатилась на дно оврага. Жильберта бросилась за шляпой, отец бросился вдогонку за дочерью, испуганный стремительностью ее бега. Еще немного, и оба могли бы разбиться, но Эмиль опередил бегущих, на лету схватил шляпу и, водрузив ее снова на голову господина Антуана, сжал его в объятиях. — Ну, слава богу! — вскричал господин Антуан и, не спрашивая согласия молодых людей, решительно увел их от опасного места. — Я рад, что вам весело, но, признаюсь, вы меня напугали. Уж не встретилась ли вам заколдованная козочка? Все, на кого она кинет взгляд, начинают прыгать и резвиться. Или горный воздух опьянил тебя, малютка? Ну что ж, прекрасно, только не подвергай себя опасности. Как ты раскраснелась! Как блестят твои глазки! Я вижу, надо почаще водить тебя гулять, а то ты совсем засиделась дома. Знаете, Эмиль, последние дни она меня очень беспокоила: аппетита никакого, только и делает, что читает; и я уже решил побросать все ваши книги за окно, если так будет продолжаться. К счастью, сегодня она совсем другая; а раз все в порядке, следует, по-моему, свезти ее в Сен-Жермен-Бопре. Живописнейшая местность! Мы проведем там весь завтрашний день. Хотите поехать с нами, Эмиль? Вы доставите нам большое удовольствие. Что вы на это скажете? Не беда, если мы попадем в Аржантон днем позже. Не правда ли, Жильберта? И проведем там один день вместо двух. — …Даже если не попадем туда совсем! — подхватила Жильберта, запрыгав от радости. — Отправимся в Сен-Жермен, батюшка. Я там никогда не бывала. Какая чудесная мысль! — Мы как раз на пути туда, — продолжал господин де Шатобрен, — но нам придется заночевать во Фресселине — здесь, конечно, нечего и думать найти ночлег. Впрочем, Фресселин и Конфоланс стоят того, чтобы ихосмотреть. Правда, дорога не особенно хорошая, надо будет тронуться в путь засветло. Господин Шарассон, потрудитесь дать Искорке овса. Она охотница до путешествий: ведь матушка Жанилла дома не очень-то ее балует. Осла вы отведете в деревушку Витра, к тем людям, которые нам его одолжили, а затем ожидайте нас с таратайкой и лошадью господина Эмиля на той стороне реки. Мы будем через два часа. — А я, — сказал Эмиль, — напишу матушке несколько слов: боюсь, как бы она не встревожилась моим отсутствием. Наверное, здесь найдется какой-нибудь мальчишка, которого можно послать в Гаржилес с запиской. — Попробуйте-ка, уговорите здешних дикарей отправиться в чужие места. Но, ей-богу, нам, кажется, повезло. Вот кто-то с вашей фабрики, если не ошибаюсь. Оглянувшись, Эмиль увидел Констана Галюше, письмоводителя господина Кардонне, который, сбросив на траву сюртук и прикрыв голову носовым платком, готовился насадить на удочку наживку. — Констан, вы за пескарями, и так далеко? — спросил Эмиль. — Конечно, не за пескарями, сударь, — ответил Галюше с важным видом. — Я льщу себя надеждой поймать форель. — Но вы все-таки рассчитываете вернуться к вечеру в Гаржилес? — Разумеется, сударь. Я не нужен сегодня вашему уважаемому батюшке, и он освободил меня на целый день. Но как только поймаю форель — если будет на то воля божья! — я минуты не останусь в этом гнусном месте. — А если вы ничего не поймаете? — Я прокляну тот час, когда мне пришла в голову мысль отправиться в такую даль поглядеть на подобную рухлядь. Какая мерзость запустения, сударь! Уверен, что нигде не сыщешь более унылого места, да и замок совсем развалился. Подите верьте после этого путешественникам, которые твердят, что здесь прекрасно и что, мол, стыдно жить на берегах Крёзы и ни разу не видеть Крозана. Если только в реке не окажется рыбы, пусть меня повесят, коли я хоть раз сюда загляну! Не верю я в их реку: эта прозрачная вода самая неподходящая для клева, а шум тут стоит такой, что оглохнуть можно. У меня уже голова разболелась… — Значит, вы совершили неудачную прогулку? — спросила Жильберта; она впервые видела Галюше, и его нелепая физиономия и пошлое высокомерие вызывали у нее неудержимое желание рассмеяться. — А по-моему, эти развалины производят сильное впечатление, во всяком случае, они необычны. Вы еще не поднимались на большую башню? — Сохрани меня бог! — ответил Галюше, польщенный вниманием Жильберты; из-под рыжих клочковатых бровей он смешно таращил на нее круглые, широко расставленные глаза. — Я и отсюда вижу всю внутренность этого сарая, ведь он весь сквозной, как фонарь. Полагаю, что вряд ли стоит ради него ломать себе шею. И, очевидно, приняв улыбку Жильберты за одобрение своей язвительной шутки, он добавил тоном, который ему самому казался верхом непринужденности и светскости: — Что и говорить, прекрасный край! Пырей — и тот не растет! Если мавританские короли так жили, то я их не поздравляю. Странный у них был вкус, да и сами они, видно, были хороши! Они, должно быть, ходили в деревянных башмаках и ели руками! — Весьма основательная историческая догадка! — обратился Эмиль к Жильберте, которая покусывала кончик носового платка, стараясь не расхохотаться, так смешили ее напыщенный тон и торжественная мина господина Галюше. — О, я вижу, сударь, вы большой насмешник, — заметила она. — Впрочем, вы имеете на это право. Ведь вы из Парижа, где все блещут остроумием и обладают хорошими манерами, и вдруг очутились здесь, среди дикарей. — Я бы этого не сказал, по крайней мере в данную минуту, — возразил Галюше, бросая победоносные взгляды на прекрасную Жильберту, которая явно пришлась ему по вкусу. — Но, откровенно говоря, край этот очень отсталый. Здешние жители такие нечистоплотные. Посмотрите хотя бы на детей — босоногие, оборванные! В Париже у каждого есть башмаки, а если у кого их нет, так тот не выходит по воскресеньям на улицу. Возьмите хоть сегодня: вошел я в один дом, хотел закусить, а у них ничего не оказалось, кроме черного хлеба, какого и собака не станет есть, да козьего молока, а от него, извините, козлом воняет! Как не стыдно этим людям так скаредничать! — А не оттого ли это происходит, что они слишком бедны? — спросила Жильберта, возмущенная высокомерным тоном Галюше. — Да нет, скорей всего оттого, что они очень ленивы, — ответил тот, несколько озадаченный вопросом Жильберты: подобные мысли никогда не приходили ему в голову. — Ах, что вы об этом знаете! — воскликнула Жильберта с негодованием, смысл которого остался для Галюше непонятным. «Видно, мадемуазель большая насмешница, — подумал он. — А все-таки она мне очень нравится. Решительная такая, смелая. Если б я поговорил с ней подольше, она поняла бы, что я не какой-нибудь неотесанный провинциал!» — Вот вам образец совершенного простофили! — заметил Эмиль, пока Констан шарил под прибрежными камнями, отыскивая червей для наживки. — Боюсь, что он не столько прост, сколько глуп! — возразила Жильберта. — Не дай бог, дети мои, попасть вам на язычок! — заметил добродушный господин Антуан. — Не спорю, молодец не из красавцев, но, кажется, он малый порядочный, и господин Кардонне им очень доволен. Галюше весьма обязательный человек и раза два-три оказывал мне мелкие услуги, даже подарил мне как-то прекрасную бамбуковую удочку. К сожалению, я ее потерял по дороге домой, за что Жанилла меня ругала едва ли не так же, как в тот день, когда я потерял шляпу. Послушайте-ка, господин Галюше, — крикнул он, — не хотите ли половить форелей в наших местах? У меня нет вашего терпения, и я не очень-то докучаю рыбам, вот почему у нас должен быть неплохой клев. Итак, я жду вас в один из ближайших дней: вы позавтракаете с нами, а потом я покажу вам рыбные места; там в изобилии водится усач, а это интересная ловля! — Вы чрезвычайно любезны, сударь, — ответил Галюше, — я непременно приду как-нибудь в воскресенье, если уж вы простираете так далеко свою доброту. И, в восторге от того, что сочинил подобную фразу, Галюше раскланялся самым грациозным образом и удалился, пообещав Эмилю передать записку его родителям. Жильберта намеревалась было пожурить отца за его чрезмерную благосклонность к столь неприятному и тупому субъекту, но она сама была слишком добра и, не желая огорчать отца, преодолела отвращение, а через минуту уже позабыла о Галюше, тем паче что в этот день ничто не могло омрачить ее радость. Наши влюбленные пребывали в таком счастливом состоянии духа, что малейшие дорожные приключения забавляли и радовали их как детей. Старая кобыла господина Антуана, запряженная в двуколку, которая не без основания носила в семействе Шатобрен название таратайки, проявляла чудеса ловкости и послушания, плетясь по ужасным дорогам, ведущим в Фресселин, где их ждал ночлег. В этой таратайке могли поместиться лишь трое, и Сильвен Шарассон, втиснувшийся посредине, «лихо», по его собственному выражению, правил безобиднейшей Искоркой. Тряска, какой подвергались седоки в этом нелепом экипаже, была поистине ужасающей, но это мало беспокоило и отца и дочь, не избалованных удобствами и не боявшихся ни бездорожья, ни ненастья. Впереди гарцевал на своем Вороном Эмиль; он предупреждал своих спутников о препятствиях и помогал им всякий раз, как дорога становилась опасной и приходилось вылезать из двуколки. Когда же таратайка снова катилась по мягкому песку, юноша держался позади, не упуская случая полюбоваться Жильбертой и перекинуться с ней словечком. Ни один щеголь, блистающий на прогулке в Булонском лесу, не впивался взором в роскошную коляску своей ослепительной дамы с таким восхищением и гордостью, с какими Эмиль неотрывно глядел на прекрасную, боготворимую им поселяночку, когда он следовал за ней но едва заметным безлюдным тропинкам, при робком сиянии первых звезд. Что для него, сидела ли она в уродливой двуколке, которую тащила кляча, или в роскошной коляске? Была ли она одета в шелк и бархат или в простое выцветшее ситцевое платьице? Перчатки Жильберты разорвались, и из них высовывались розовые пальчики, державшиеся за спинку двуколки. Боясь измять свой праздничный шарф, она сняла его и положила на колени, отчего ее стан казался еще стройнее и тоньше. Теплый вечерний ветерок мягко ласкал ее белоснежную шею. Дыхание Эмиля смешивалось с ветерком. И он был прикован к таратайке, как раб к колеснице победителя. Вдруг без всяких предупреждений Сильвен резко остановил двуколку, и лошадь Эмиля чуть было не стукнулась о нее мордой. Разбойник положил лапу на подножку, желая напомнить, что он устал и что не мешало бы взять его в таратайку. Господин Антуан нагнулся, схватил собаку за загривок и посадил в кузов: бедный пес был недостаточно проворен и уже не мог прыгать так высоко, как в молодые годы. Тем временем Жильберта ласкала морду Вороного и гладила своей маленькой ручкой его волнистую черную гриву. Эмиль чувствовал, как ускоренно бьется его сердце, точно некий магнетический ток доносил до него ласки девушки. Завидуя счастью, выпавшему на долю Вороного, Эмиль едва удержался от приторного комплимента, достойного галантных речей господина Галюше, но промолчал, опасаясь, что у него и так достаточно глупый вид. Как счастлив бывает порою умный человек, превратившись в такого глупца! Уже совсем стемнело, когда они добрались до Фресселина. Деревья и скалы казались сплошной черной громадой, откуда доносился мощный и торжественный гул потока. Приятная усталость и ночная прохлада повергли Эмиля и Жильберту в какое-то восхитительное оцепенение. Перед ними был долгий завтрашний день — целый век счастья! Постоялый двор, на котором они остановились, слыл лучшим в деревушке, но там оказалось всего две постели в разных комнатах. Решено было, что Жильберта устроится в лучшей комнате, а соседнюю займут Антуан и Эмиль, причем каждый возьмет себе по тюфяку. Но когда дошло до дела, выяснилось, что на кровати только один тюфяк, и Эмиль решил доставить себе невинное удовольствие — переночевать в риге, прямо на соломе. При таком распределении постелей и комнат юному Шарассону грозила участь Эмиля, что отнюдь не улыбалось шатобренскому «пажу». Мальчишка любил понежиться, особенно во время путешествий. Сильвен обычно следовал за хозяином во всех его поездках и отсыпался и отъедался вволю, вознаграждая себя за умерщвление плоти, на какое был обречен в Шатобрене неумолимой Жаниллой. Господин Антуан любил подтрунить над Сильвеном с грубоватой веселостью, но прощал ему все выходки и, хотя разговаривал с ним, как с негритенком-неволь-ником, сам был рабом этого лукавого мальчугана. Так, когда Сильвен делал вид, что чистит лошадь и запрягает двуколку, работал скребницей и ворочал таратайку сам хозяин. Если Сильвен засыпал на козлах, Антуан, превозмогая сон и протирая заспанные глаза, подбирал выпавшие из рук Сильвена вожжи, но не будил своего «пажа». Когда на ужин оставалась только одна порция мяса, господин Антуан говорил Шарассону, пожиравшему лакомый кусок глазами: «Ничего не поделаешь, придется вам с Разбойником глодать кости». Но уж так получалось, что лучший кусок все же доставался Сильвену, а кости грыз сам хозяин. Хитрый малый верил в свою счастливую звезду и знал, что при таком характере господина Антуана ему не угрожает голодный пост, ночное бдение и непосильный труд. Однако сейчас, увидев, что господин Антуан нисколько не озабочен его судьбой, а Эмиль готов довольствоваться соломой, Сильвен, подавая ужин, принялся зевать, потягиваться, жаловаться на длинный путь, на то, что проклятая деревушка заброшена на самый край света, и удивительно даже, как это вообще они до нее добрались. Но господин Антуан, что называется, и ухом не вел и, хотя ужин был отнюдь не роскошный, ел с большим аппетитом. — Вот так я люблю путешествовать! Приедешь куда-нибудь, и все как будто у себя дома: удобства те же и люди знакомые, — говорил он, чокаясь с Эмилем, который заменил его обычного сотрапезника, Жапплу. — И не заикайтесь при мне о дальних путешествиях в почтовой карете или на корабле. Не так-то весело одному рыскать по свету в поисках счастья. Нет, это не для меня! Приятно наслаждаться тем немногим, что у тебя есть, проезжая по чудесной местности, где ты знаешь всех прохожих, все дома, все деревья, даже все выбоины. Ну разве, в самом деле, я здесь не как у себя дома? Если бы с нами за столом сидели еще Жан и Жанилла, мне казалось бы, что я не выезжал из Шатобрена, да и так тоже, раз со мной моя дочка и один из лучших друзей; а затем со мной мой пес и даже господин Шарассон — он-то, я знаю, чувствует себя королем! Во-первых, видит свет, а во-вторых, принят в гостинице по заслугам. — Вам легко так говорить, сударь, — вмешался Шарассон, который и не думал прислуживать за столом, а уселся у камина. — Хороша гостиница — приходится вместе с собаками спать. — Для такого шалопая, как ты, и это большая честь! — отрезал господин Антуан, возвышая голос. — Скажи спасибо, что тебя не посылают спать с курами на насесте. Черт побери! Вот еще неженка! Соломы сколько угодно: и спать хорошо, и с голоду не умрешь. — Простите, сударь, но здесь не настоящая солома, а сено, а от запаха сена у меня болит голова. — Коли так, ты ляжешь прямо на полу подле моей постели: это отучит тебя роптать. Ты сутулишься, словно горбатый. Поспать на ровных досках будет тебе только на пользу. Приготовь же мне постель и расстели попону для Разбойника. Эмиля подмывало узнать, приведет ли господин Шатобрен свою угрозу в исполнение, и, когда Жильберта удалилась в отведенную ей комнату, молодой человек последовал за господином Антуаном посмотреть, как он будет уговаривать своего «пажа» примириться с соломой. Антуан развлекался, заставляя Сильвена прислуживать себе как знатному господину. — Ну-ка, — говорил он, — стащи с меня сапоги, подай фуляровый платок, потуши свечу! Ложись на полу, и горе тебе, если вздумаешь храпеть! Спокойной ночи, Эмиль! Вам будет лучше без этого негодника, он, чего доброго, помешает вам отдохнуть. Он будет спать на полу в наказание за свои вздорные жалобы. Часа через два Эмиль проснулся, почувствовав, как кто-то тяжело повалился рядом с ним на солому. — Ничего, ничего, это я, — сказал господин Антуан. — Не беспокойтесь! Я улегся было с Сильвеном, но его благородие заявил, что у него в ногах судороги, и так меня забрыкал, что я убрался подобру-поздорову. Пусть спит на кровати, если уж ему так хочется! А мне здесь гораздо удобнее. Таково было суровое наказание, которое понес во Фресселине «паж» господина де Шатобрен.XXII Заговор
Покинем на время Эмиля, который, позабыв о свидании, назначенном ему Жаниллой, носится по горам и долам с предметом своих воздыханий. Перенесемся на фабрику Кардонне и проследим нить событий, переплетающихся в судьбе Эмиля. Господин Кардонне начал не на шутку тревожиться частыми отлучками сына; он решил, что настало время понаблюдать за ним и направить его на верный путь. «Эмиль, кажется, начинает забывать о своем социализме, — рассуждал господин Кардонне. — Теперь самое время для него взяться за какое-нибудь полезное дело. Уговоры бессильны против ума, склонного к вздорным возражениям. Надеюсь, Эмилю прискучил его любимый «конек», не будем же напоминать о нем и подумаем, как бы заменить теории практическим делом. В юношеском возрасте обычно руководятся чувствами, а не идеями, хотя надменно утверждают обратное. Впряжем-ка его для начала в повседневную работу, пускай он войдет в мои дела, хотя бы даже и против воли. Эмиль слишком трудолюбив и умен, чтобы работать плохо! Мало-помалу любое занятие, какое я ему выберу, станет для него потребностью. Разве не таким он был всегда? Разве не изучал он право, питая к нему отвращение? Ну что ж, пусть продолжает изучать право, как бы ненавистно оно ему ни было, пусть даже время от времени вспоминает свои заблуждения, столь беспокоившие меня прежде. Надеюсь, с него слетит весь этот проповеднический пыл новомодных школ, и для этого не потребуется ни слишком большого срока, ни слишком искусной кокетки». Но каникулы были в самом разгаре, и господин Кардонне не мог немедленно отослать Эмиля в Пуатье. К тому же он возлагал немалые надежды на пребывание сына в Гаржилесе, ибо Эмиль теперь весьма старательно выполнял работы, поручаемые ему время от времени отцом, и, казалось, забыл о высокой цели, какую так яростно отстаивал еще совсем недавно. Всякое дело, за которое брался Эмиль, он выполнял превосходно, и господин Кардонне льстил себя надеждой, что ему удастся в любой момент излечить сына от любви и в то же время держать его в повиновении, направляя на благо его способности, которые уже стали приносить свои плоды. Госпожа Кардонне, разумеется, и не собиралась обращать внимание мужа на постоянное отсутствие Эмиля. Если бы она могла знать, какое счастье вкушал ее сын во время этих отлучек, и проникнуть в тайну этого счастья, она всячески помогала бы ему избегнуть подозрений, она стала бы его сообщницей, не слишком благоразумной, но зато нежной и преданной. Ей же казалось, что холодный и насмешливый тон, каким часто разговаривал с сыном ее муж, был единственной причиной, гнавшей Эмиля из родительского дома, и, обвиняя в душе своего повелителя, она горько сетовала, что так мало наслаждается обществом сына. Когда Галюше явился с сообщением, что Эмиль вернется только завтра, а то и послезавтра к вечеру, она не могла удержать слез и сказала вполголоса: — Теперь он уж и не ночует дома! Он не хочет быть с нами. Значит, ему у нас очень плохо! — Действительно достойный повод для слез, — заметил господин Кардонне, пожимая плечами, — Разве ваш сын юная девица? Нечего пугаться, что он проведет ночь вне дома. Если вы уже сейчас жалуетесь, то что же будет потом: это ведь только начало маленьких шалостей, вполне позволительных для молодого человека его возраста. — Констан, — обратился он к секретарю, оставшись с ним наедине, — что это за люди, в обществе которых вы встретили господина Эмиля? — Ах, сударь, — ответил господин Галюше, — общество самое приятное. Во-первых, граф де Шатобрен, а, как известно, господин Антуан первый весельчак, человек жизнерадостный, очень обходительный в обращении. А его дочь — роскошная девица! Прекрасно сложена, да и личико прехорошенькое. — Я вижу, вы, Галюше, знаток и с одного взгляда рассмотрели все прелести этой особы. — Еще бы, сударь! Глаза на то и даны, чтобы ими пользоваться, — сказал господин Галюше, громко захохотав от удовольствия, ибо хозяин редко оказывал ему честь говорить с ним на темы, выходящие за пределы его обязанностей. — И, конечно, именно с господами Шатобрен мой сын пустился в свою романтическую прогулку? — Полагаю, что так, сударь. Я видел издали, как он ехал верхом рядом с ними. — Бывали вы когда-нибудь в Шатобрене, Галюше? — Да, сударь, как-то был в отсутствие хозяев, но знай я, что встречу там только их старую служанку, поверьте, не сделал бы этой глупости. — Почему же? — Потому что при них я осмотрел бы замок бесплатно, а старая ведьма, пройдясь со мной по этой трущобе, потребовала с меня, сударь, целых пятьдесят сантимов за свою любезность! Стыдно обирать людей, показывая им этакие развалины! — Полагаю, что старый Антуан многое привел в порядок с тех пор, как я у него был? — Какое там, сударь! Курам на смех! Восстановили только один угол величиной, извините, с ладонь; у них не хватило денег даже на то, чтобы оклеить комнаты обоями. Сам Шатобрен живет куда хуже, чем я у вас. Ну и убого же у них! Кучи камня во дворе, того и гляди, ноги поломаешь, кругом крапива, терновник! Может быть, помните главную арку — она напоминает вход в Венсенский замок и была бы довольно красива, если бы ее хорошенько покрасить, — так в ней ворот не хватает. Да и все остальное не лучше! Ни одной целой стены, ни одной прочной лестницы, щели такие, что человек может в них спрятаться. А плющ, плющ!.. Никто его не вырывает, — а чего, казалось бы, проще. В комнатах ни полов, ни потолков! Право, тамошние жители — истинные гасконцы, они бахвалятся своими старыми замками, гоняют вас по затерянным дорожкам и показывают — что бы вы думали? — кучу обломков да чертополох! По правде говоря, Крозан — это ведь одно надувательство, а Шатобрен стоит не больше Крозана! — Значит, вы не очарованы и Крозаном? Но готов биться об заклад, что моему сыну там очень нравится… — Еще бы господину Эмилю там не понравилось! Разве плохо прогуляться под руку с такой статной девицей. На его месте я тоже не слишком бы жаловался на Крозан. Я — другое дело: я надеялся наловить форели, а не поймал даже пескаря и, понятно, не очень доволен прогулкой; тем более что двадцать лье туда и столько же обратно — вот вам и сорок лье пешком! — Вы устали, Галюше? — Да, сударь, очень устал, а главное, очень раздосадован. Больше меня в эти мавританско-королевские крепости не заманишь! И, вспомнив свою удачную утреннюю шутку, Галюше, язвительно усмехаясь, не без удовольствия повторил: — Хороши были, должно быть, эти короли! Поручусь, что они ходили в деревянных башмаках и ели руками. — Вы сегодня очень остроумны, Галюше, — заметил господин Кардонне, не удостаивая его, впрочем, улыбкой. — Вы поступили бы еще остроумнее, раз уж вы так увлечены, если бы нашли какой-нибудь предлог, чтобы время от времени являться с визитом к господину де Шатобрен. — Я не нуждаюсь в предлогах, сударь, — важно ответил Галюше. — Я хорошо знаком со стариком, он даже приглашал меня удить рыбу в их реке и не далее как сегодня просил к себе на завтрак в воскресенье. — Ну так за чем же дело стало! Почему бы вам не поехать? Я охотно разрешу вам небольшой отдых. — Вы очень добры, сударь. Если только вы обойдетесь без меня, я отправлюсь в будущее воскресенье. Я так люблю рыбную ловлю! — Галюше, друг мой, вы болван! — Как так, сударь? — спросил сбитый с толку Галюше. — Говорю вам, милейший, — продолжал спокойно господин Кардонне, — вы болван! Вы думаете только о своих пескарях, вместо того чтобы ухаживать за хорошенькой девушкой. — Против этого я, сударь, не возражаю! — самодовольно сказал Галюше, почесывая за ухом. — Девица, что и говорить, в моем вкусе! Право, это настоящее сокровище! Глазки голубые-голубые, волосы белокурые, метра полтора длиной, ей-богу, зубки — прелесть, и взгляд лукавый! Я бы здорово в нее влюбился, если бы только захотел! — А что вам мешает захотеть? — Как что? Будь у меня капиталец в десять тысяч франков, я пришелся бы ей по вкусу. Но когда у человека нет ничего, как же он понравится девушке, у которой тоже гроша ломаного нет за душой? — Ее доход, пожалуй, равняется вашему жалованью. — Ну, это еще вилами по воде писано! А старуха Жанилла, которая слывет ее матерью, — должен признаться, мне претит даже мысль сделаться зятем служанки! — старуха Жанилла наверняка захочет получить маленький капиталец для обзаведения. — И вы полагаете, что десяти тысяч франков будет достаточно? — Не знаю, но мне сдается, что эти люди не имеют права требовать слишком много. Их лачуга не стоит и четырех тысяч франков: гора, небольшой лужок — там, у реки, весь поросший камышом, да сад с фруктовыми деревьями, годными только на дрова, — все это вместе, должно быть, не приносит и ста франков дохода. Говорят, у господина Антуана имеется капиталец в государственных бумагах. Но капиталец этот не особенно велик, судя по их образу жизни. Будь у них тысяча франков верной ренты, я уж как-нибудь договорился бы с девицей. Она мне нравится, а в моем возрасте пора обзавестись семьей. — По-моему, у господина Антуана тысяча двести франков ренты. — И рента эта перейдет по наследству к дочери, сударь? — Да, конечно. — Но хоть он и удочерил ее, она все-таки незаконнорожденная и имеет право только на половину. — И все же я вам советую немедля добиваться ее руки! — Благодарствуйте, сударь, а на что жить, воспитывать детей? — Без сомнения, вам понадобится известный капитал. Его можно было бы найти при желании, Галюше, если бы ваше счастье зависело только от этого. — Сударь, не знаю, как и ответить на вашу любезность, но… — Что «но»? Ну же, не скребите так ухо и отвечайте. — Сударь, я не смею… — Почему? Ведь мы с вами беседуем по-дружески. — Чувствительно тронут, — продолжал Галюше, — но… — Опять «но»? В конце концов вы выведете меня из терпения. Говорите же! — Так вот, сударь, даже если вы еще раз обзовете меня болваном, я должен высказаться. Дело в том, что господин Эмиль ухаживает за барышней. — Вы так полагаете? — спросил господин Кардонне, притворяясь удивленным. — Разве вы не знали, сударь? Я буду очень огорчен, если окажусь причиной недоразумения между вами и вашим сыном. — Так уже, значит, ходят слухи? — Не знаю, говорят ли об этом, — мне нет времени слушать сплетни, — но я заметил, что господин Эмиль очень часто навещает Шатобрен. — Что же это доказывает? — Уж как вам будет угодно, сударь, мне-то это совсем ни к чему. Я только хотел сказать, что, если бы мне пришло в голову жениться на какой-нибудь девице, меня бы не очень привлекала мысль быть вторым. — Понимаю. Не думаю, чтобы мой сын всерьез ухаживал за молодой особой, на которой не собирается и не может жениться. У Эмиля слишком возвышенные чувства, и он никогда не опустится до обмана, до лживых обещаний. Если эта девица порядочная, будьте уверены, что ее отношения с ним совершенно невинны. Значит, вы согласны? — Как вам будет угодно, сударь. — К чему такая угодливость! Если бы вы были влюблены в мадемуазель де Шатобрен, неужели вам не хотелось бы удостовериться в ее к вам отношении? — Безусловно, сударь, но я вовсе не влюблен. Я и видел-то ее всего один раз. — Хорошо, в таком случае выслушайте меня, Галюше! Вы можете мне оказать услугу. То, что вы сейчас рассказали, тревожит меня несколько больше, чем вас, и наш разговор — пусть все это шутка или предположение — послужит мне предостережением, я отношусь к нему вполне серьезно. Повторяю вам, мой сын слишком честен, чтобы соблазнить неопытную девушку, да к тому же не имеющую никакого состояния. Но частые встречи все же могут зародить в нем влечение, которое приведет их обоих к ненужным, хотя бы и недолгим, горестям. Мне было бы нетрудно положить этому конец, без промедления удалив Эмиля, но это противоречило бы намеченному мной плану вовлечь его в мои дела. И было бы очень жаль, если бы из-за такого маловажного повода я вынужден был расстаться с Эмилем. Окажите же мне услугу! Раз вы уверены, что вас хорошо примут в Шатобрене, наведывайтесь туда почаще — столь же часто, как и мой сын, подружитесь с тамошними обитателями. Покладистый характер папаши Антуана сослужит вам хорошую службу. Смотрите, наблюдайте и сообщайте мне обо всем, что там происходит. Если ваше присутствие будет досаждать моему сыну, значит, опасность существует. Если он попытается вас выпроводить, держитесь стойко и без колебаний начните домогаться руки девицы Шатобрен. — А если я получу согласие? — Тем лучше для вас! — Это зависит, сударь, от того, насколько далеко зашло дело между нею и вашим сыном. — Неужели вы такой простак, что, бывая там в качестве наблюдателя, не сообразите, как себя вести, и упустите время? — А если я увижу, что пришел слишком поздно? — Тогда удалитесь. — Я останусь в дураках, и вдобавок господин Эмиль будет на меня сердиться. — Галюше, я ведь не прошу у вас ничего безвозмездно. Конечно, это причинит вам некоторые неприятности и потребует хлопот, но жертвы, которых я от вас жду, будут хорошо вознаграждены. — Я понял, сударь. Позвольте сказать еще только слово: если даже девушка мне подойдет и я ей также, я все же слишком беден, чтобы обзавестись семейством. — Я предвидел это и помогу вам создать себе положение. Что вы скажете, если я найму вас на определенный срок и дам вперед пять тысяч франков в счет жалованья, а в случае надобности — еще пять тысяч в дар? — Так это уже не шутка, а всерьез, да? — спросил Галюше, еще яростнее почесывая голову. — Я не имею привычки шутить. Вам это, надо полагать, известно. И на сей раз я отнюдь не шучу. — Слушаюсь, сударь! Вы, право, слишком любезны ко мне. Что ж, будем начеку, и, если я хоть на минуту потеряю господина Эмиля из виду, тогда, значит, он — тонкая штучка! «Во всяком случае, более тонкая, чем ты, да оно и немудрено, — подумал господин Кардонне, как только Галюше ушел. — Но когда Эмиль будет иметь соперника вроде тебя, он устыдится своего выбора. Если в Шатобрене предпочтут эдакого увальня-жениха прекрасному, но случайному воздыхателю вроде Эмиля, он получит хороший урок. В таком случае не стоит жалеть о небольшом денежном даре на устройство господина Галюше, тем паче что благодаря этому мой сын не уйдет от меня и выбросит из головы честолюбивые замыслы покинуть фабрику. Да и то эту жертву придется принести, только если Галюше преуспеет, а тут двадцать шансов против одного, что через некоторое время его выставят за дверь. До тех пор я смогу придумать что-нибудь получше, а пока мне удастся, по крайней мере, помучить Эмиля, разочаровать его, приставить к нему такую докуку, как Констан Галюше, — с эдаким врагом ему придется столкнуться впервые». Расчеты господина Кардонне не были лишены основания и могли бы осуществиться, не будь слишком поздно — или слишком рано — для Эмиля отказаться от своих мечтаний. Любое соперничество подстрекает пошлую душу, но душа возвышенная страдает от недостойного соперника. Благородная натура неизбежно отвращается от того, кому льстит поклонение глупца. Если даже предмет нашего обожания только терпит подобное поклонение, этого достаточно, чтобы вызвать у влюбленного краску стыда и побудить его удалиться. Но в своих расчетах господин Кардонне не учел гордости Жильберты. Эмиль вернулся после двухдневного отсутствия, пылая любовью еще больше, чем прежде, и находясь в том состоянии восторга и счастья, когда все кажется преодолимым. Великодушная Жильберта, разделяя его призрачные мечты и надежды, лишь укрепила их. Она оказалась достойной дочерью господина Антуана, такой же порывистой и недальновидной. Все же Эмилю следовало бы упрекнуть себя в том, что он зашел слишком далеко, не заручившись предварительно согласием господина Кардонне. С его стороны это была страшная неосторожность, более того — преступное безрассудство, ибо только чудо могло предотвратить отказ отца. Но Эмиль жил в состоянии того блаженно-лихорадочного возбуждения, когда человек надеется на чудо и мнит себя полубогом, так как он любим. Однако он вернулся в Гаржилес, не назначив точно дня, когда откроет родителям свои чувства. Жильберта потребовала, чтобы он не торопился, взяла с него слово ни в чем не перечить отцу и исподволь добиваться его согласия. Решено было, что Эмиль до конца недели останется дома, будет усердно выполнять любую работу, которую поручит ему господин Кардонне, и таким образом вознаградит родителей за отлучку, несомненно причинившую им беспокойство. — Приезжайте к нам только в воскресенье, — сказала Жильберта, прощаясь с ним. — И тогда мы вместе обдумаем план действий на будущую неделю. Бедная девушка чувствовала, что надо жить сегодняшним днем, и, подобно Эмилю, находила бесконечную отраду, лелея в душе тайну любви, прелесть и глубина которой была понятна только им одним. Эмиль сдержал слово: он не отлучался из дому всю неделю и написал господину де Буагильбо сердечное письмо, где заверил маркиза в лучших своих чувствах, опасаясь, как бы мнительный старик не встревожился его отсутствием. Эмиль повсюду сопровождал отца, сам просил у него работы и трудился на постройке фабрики, как человек, крайне заинтересованный успехами предприятия. Но нельзя долго идти наперекор сердцу, и Эмиль Не мог принуждать к труду изнуренных, слабосильных рабочих. Не подхлестнуло их и то, что господин Кардонне платил им поурочно. Им не хватало сил, и успехи более выносливых вызывали у них только упадок духа, а не желание быть впереди. Урочный труд оплачивался неплохо, но, видя недовольство хозяина, догадываясь, что их не будут долго держать, рабочие старались подкопить денег на черный день и поэтому всячески ограничивали себя в пище. Когда Эмиль видел, как, присев на мокрые камни, по щиколотку в грязной, тинистой воде, они съедали ломоть черного хлеба с сырой луковицей, точно иудейские рабы на постройке египетских пирамид, его охватывала такая жалость, что он охотно отдал бы этим людям, истощенным недоеданием и непосильным трудом, всю свою кровь, лишь бы избавить их от медленного умирания. Эмиль знал, что он не в силах спасти сотни людей, но пытался убедить отца немного облегчить их участь и подкрепить их силы, прибавив хотя бы вино к их скудному питанию. Но господин Кардонне весьма убедительно доказывал сыну, что в прошлом году виноградники вымерзли, цены на вина очень поднялись, и они доступны только господам. Там, где вся беда кроется в общем экономическом положении, говорил он, отдельные попытки улучшить его безусловно обречены на провал; следуя неумолимой логике цифр, нужно либо вовсе отказаться от постройки фабрики, либо заставить рабочих пройти через тяжелую нужду, неизбежную в их положении. Господин Кардонне делал, впрочем, все возможное, чтобы облегчить их нищенское существование, но это «возможное» ограничивалось слишком узкими рамками. Эмиль мрачно опускал голову и вздыхал, не позволяя себе никаких возражений: он не мог дать Жильберте лучшего доказательства своей любви. — Я вижу, — говорил ему в таких случаях отец, — что в тебе нет жилки настоящего хозяина, но, когда меня не будет на свете, надеюсь, что ты сам это поймешь и найдешь себе хорошего управляющего. Материальная сторона дела весьма мало поэтична, но в промышленности, как и во всех иных отраслях, есть свое искусство и своя наука, и они увлекут тебя. Пойдем в кабинет, помоги мне разобраться в запутанных делах, приумножь мое усердие своим талантом. В течение всей недели Эмиль читал, разбирал, изучал и вкратце излагал многочисленные сочинения по гидростатике. В сущности, господин Кардонне не особенно нуждался в этой работе, но хотел испытать Эмиля и был восхищен его сообразительностью, и ясностью ума. Изучение подобных предметов всегда интересно человеку пытливому, увлекающемуся теориями; любую область науки можно использовать ко благу человечества, и, когда ты не видишь плачевных условий, на какие в наши дни неравенство обрекает людей труда, можно даже увлечься абстрактными науками. Господин Кардонне признавал высокую одаренность Эмиля и утешался надеждой, что человек столь выдающихся способностей не может вечно закрывать глаза на то, что он, господин Кардонне, называл очевидностью. Наступило воскресенье. Эмилю казалось, что он уже целую вечность не видел Шатобрена, этого волшебного уголка, где природа, в его глазах, была самой прекрасной, воздух самым живительным и свет самым ярким. Тем не менее он заехал сначала в Буагильбо, так как вспомнил, что Констан Галюше приглашен на завтрак в Шатобрен, и понадеялся, что к его приезду этот чурбан отправится восвояси или же увлечется рыбной ловлей. Но Эмиль не предвидел коварства Констана. Увы, господин Галюше собственной персоной восседал за столом напротив господина Антуана; с непривычки он немного отяжелел от местного вина и, развалясь на стуле, громогласно изрекал всевозможные пошлости. Жильберта сидела во дворе, с нетерпением дожидаясь той минуты, когда какие-нибудь хозяйственные заботы отвлекут Жаниллу и она, воспользовавшись этим, сможет выбежать навстречу Эмилю. Но Жанилла, как на грех, ничем не была занята. Она, словно ящерица, шныряла среди развалин и подоспела как раз вовремя, чтобы ответить на поклон Эмиля, адресованный Жильберте. Однако юноша с первого взгляда понял, что старая домоправительница еще ничего не рассказала своим хозяевам. — По чести, сударь, — обратилась к нему Жанилла, картавя еще более жеманно, чем обычно, — нельзя сказать, что вы особенно любезны. Мы с дочкой из-за вас чуть не поссорились. Как же так? Вы обещали навестить меня в отсутствие Жильберты, посидеть со мной, назначили день, я жду, надеюсь, — а вместо этого вы отправились путешествовать с барышней только потому, что она на сорок лет моложе! Словно это моя вина! А ведь я достаточно проворна, чтобы бегать, и так же весело болтаю, как молодые! Нехорошо с вашей стороны, нехорошо! Вы умно сделали, что переждали несколько дней, пока не остыл мой гнев. Приди вы раньше, вам бы не поздоровилось! — Разве господин Антуан не рассказал в мое оправдание, что мы по чистой случайности встретились в Крозане и что путешествие в Сен-Жермен затеял он сам, да к тому же совершенно внезапно? — спросил Эмиль. — Простите же меня, дорогая мадемуазель Жанилла, и верьте, что, не будь я на расстоянии десяти лье отсюда, я непременно явился бы на свидание! — Знаю, знаю! — закивала Жанилла. — Конечно, виноват во всем господин Антуан. Он у нас ветреник известный! Но я полагала, что вы-то хоть рассудительнее, чем он. — Я очень рассудителен, голубушка Жанилла, — подхватил ей в тон Эмиль. — И доказательство тому налицо: я целую неделю ни на шаг не отходил от отца, занимался делом и угождал ему, хотя мне не терпелось приехать в Шатобрен и вымолить у вас прощение. — И вы правильно поступили, сынок: приятно видеть, когда молодые люди чем-нибудь заняты. — Вы будете мною довольны и впредь, — сказал Эмиль, кидая взгляд на Жильберту, — отец уже простил мне мое долгое безделье. Он очень добр ко мне, и я отвечу ему добром на добро, доказав, что готов пойти на самые тяжелые жертвы, вплоть до того, чтобы отныне не так часто видеть вас, мадемуазель Жанилла. Браните же меня, но не очень сильно, и простите, потому что в течение нескольких недель я буду, вероятно, вынужден навещать вас довольно редко. Мне предстоит много дел, но, если вы будете на меня сердиться, я совсем паду духом. — Ладно, ладно! Вы славный малый, на вас и сердиться нельзя, — сказала Жанилла. — Я вижу, что мы понимаем друг друга с полуслова, — прибавила она, понизив голос и хитро взглянув на юношу, — приятно иметь дело с таким честным и умным человеком. Столь благополучный исход разговора, затеянного Жаниллой, снял с души Эмиля огромную тяжесть. Положение было и без того серьезное, а тревога и расспросы верной домоправительницы могли его только осложнить. Совет Жильберты — реже показываться в Шатобрене и все предоставить течению времени — оказался наиболее мудрым, и самый опытный дипломат на ее месте не мог бы поступить искуснее. И впрямь, сколько браков, неравных в имущественном отношении, стали бы возможны, если бы женщина поступилась своими требованиями, гордостью и недоверием и не опутывала возлюбленного сетью тревог и страданий, под бременем которых он теряет мужество и благоразумие, необходимые, чтобы преодолеть препятствия! Детская непорочность сочеталась в Жильберте с ясным рассудком и бескорыстным мужеством. Она знала, что может соединиться с Эмилем только через несколько лет, и черпала в своей любви достаточно силы, чтобы ждать. Суровые годы ожидания представлялись Жильберте, исполненной веры, недолгим лучезарным днем, и в этой своей надежде она была отнюдь не безрассудна, как может показаться на первый взгляд. Ибо не благоразумие, а вера сдвигает горы с места.XXIII Чертов камень
Очутившись в дорогом его сердцу замке, Эмиль позабыл все на свете, вплоть до имени Констана Галюше; и, когда он вошел в столовую, чтобы поздороваться с господином Антуаном, и увидел хорошо знакомую дурацкую физиономию письмоводителя, его охватило чувство отвращения, как будто душистый плод, к которому он доверчиво протянул руку, осквернила безобразная гусеница. Галюше приготовился встретить Эмиля непринужденно, как человек, который первым занял почетное место в доме и приветливо здоровается с опоздавшим. Еще немного, и он, чего доброго, вообразил бы себя хозяином замка, принимающим гостя. Но холодный и насмешливый взгляд, каким Эмиль ответил на его фамильярно-предупредительный поклон, сильно смутил Галюше. Глаза Эмиля, казалось, вопрошали: «Что это вы здесь делаете?» Однако Галюше, которого куда больше пленяла мысль заслужить благодарность господина Кардонне, нежели любовь Жильберты, сделав над собой усилие, обрел утраченный было апломб, и его всегда беззлобная физиономия вдруг приняла несвойственное ей дерзкое выражение, весьма неуместное при данных обстоятельствах. Эмиль раз и навсегда определил свое отношение к местному вину, но, посещая замок, не отказывался воздавать ему должное, чтобы не огорчать господина де Шатобрен. Возможно также, что безграничное обаяние, исходившее от дома, где жила и дышала Жильберта, делало эту кислятину даже вкуснее тонких вин, подававшихся к столу его родителей. Но на сей раз вино показалось Эмилю горьким, особенно когда Галюше со снисходительным видом человека, решившего следовать пословице «с волками жить — по-волчьи выть», приблизил к нему свой стакан с намерением чокнуться по примеру господина де Шатобрен. При этом Галюше игриво повел плечом и согнул калачиком руку, полагая, что подражает патриархальной простоте господина Антуана. — Граф, — сказал Эмиль, подчеркивая таким обращением свое особое уважение к господину Антуану, — боюсь, что вы позволили господину Констану Галюше выпить лишнее. Посмотрите, глаза у него совсем красные, взгляд осоловел! Будьте осторожны, предупреждаю вас, у него слабая голова. — Слабая голова, господин Эмиль? Почему вы думаете, что у меня слабая голова? — возразил Галюше. — Если не ошибаюсь, вы еще никогда не видели меня пьяным! — Тогда я буду иметь удовольствие видеть вас в таком состоянии впервые, если вы станете продолжать в том же духе. — Не хотите ли вы сказать, что я доставлю вам удовольствие, если стану вести себя непристойно? — Последуйте моему совету, и, надеюсь, этого не случится. — Ну что же, — сказал Галюше, подымаясь из-за стола, — может быть, господин Антуан желает прогуляться? В таком случае я предложу руку мадемуазель Жильберте, и посмотрим, крепко ли я держусь на ногах! — Я предпочитаю не делать такого опыта, — ответила Жильберта; она сидела у входа во флигель и ласкала Разбойника. — Ну вот, теперь и вы нападаете на меня, мадемуазель Жильберта, — продолжал Галюше, подходя к ней, — Неужели вы поверили господину Эмилю? — Наша дочка ни на кого не нападает,сударь, — вмешалась Жанилла, — да и вообще я не понимаю, почему это вы так интересуетесь теми, кто не интересуется вами? — Вы запрещаете мадемуазель Жильберте взять меня под руку? — спросил Галюше. — Что ж, на это мне нечего возразить. Но если кавалер предлагает барышне руку, думается, что он действует в духе французской учтивости. — Матушка не запрещает мне взять вас под руку, — сказала Жильберта с мягкостью, исполненной достоинства, — благодарю вас за любезность, но я не парижанка и на прогулке не нуждаюсь в опоре. К тому же по нашим узким тропинкам вдвоем и не пройти. — Ваши тропинки не уже крозанских. А чем труднее подъем, тем более дама нуждается в опоре. Я же видел в Крозане, как, спускаясь с горы, вы положили свою прелестную ручку на плечо господина Эмиля. Да, да, видел собственными глазами, мадемуазель Жильберта, и очень ему позавидовал! — Господин Галюше, — сказал Эмиль, — я же говорил, что вы выпили лишнее, иначе вы не занимались бы моей особой. Попрошу вас и впредь мной не интересоваться! — Вот вы и рассердились, — сказал Галюше, стараясь говорить как можно миролюбивее. — Все меня обижают, кроме господина Антуана. — Не потому ли это происходит, — заметил Эмиль, — что вы держитесь со всеми запанибрата? — Что здесь такое происходит? — спросил, входя, Жан Жапплу. — Что за споры? Сейчас я вас всех помирю. Здорово, душенька Жанилла, здравствуй, ангел мой Жильберта, здорово, добрый мой Эмиль, здорово, хозяин Антуан… здравствуй и ты, — обратился он к Галюше, — хоть я тебя не знаю, но все равно! Ба, да это никак приказчик папаши Кардонне! Ага, Разбойник, здорово, милый, тебя-то я и не заметил… — Слава богу! — воскликнул Антуан. — Лучше поздно, чем никогда! Послушай, Жан, как же это ты оплошал? Видимся мы с тобой лишь по воскресеньям, ждем, ждем тебя целую неделю, а ты являешься только в полдень! — Послушай-ка, хозяин… — Не называй меня хозяином, не надо. — А если я хочу тебя так называть? Я, слава богу, довольно побывал твоим хозяином, и мне уже надоело вечно тобой командовать. Теперь, для разнообразия, хочу быть твоим подмастерьем. Выпьем, что ли? Ну-ка, матушка Жанилла, налей винца! Уф, ну и жарища! Не скрою, я уже немного выпил: добрые друзья не отпустили меня из Гаржилеса сразу после обедни. Пришлось зайти поболтать немного к тетушке Лароз, а зря сушить глотку не к чему, вот малость и выпили. Но я торопился: ведь я знаю, что обо мне здесь помнят… Право, Жильберта, с тех пор как я вернулся в наши края, воскресенье должно бы длиться целых сорок восемь часов, иначе мне не поспеть ко всем друзьям, которые так радушно меня принимают… — Ну что ж, голубчик Жан, раз вы счастливы, мы примиримся с тем, что будем видеть вас реже, — сказала Жильберта. — Счастлив ли я? — переспросил плотник. — Да нет на свете человека счастливее! — Сразу заметно, — вмешалась в разговор Жанилла. — Вы посмотрите только, какой у него стал хороший вид с тех пор, как его не травят больше, словно зайца. А потом, Жан бреется теперь каждое воскресенье, да и костюм на нем новый, совсем неплохой. — А кто прял шерсть для моего костюма? — подхватил Жан. — Матушка Жанилла и ее богоданная дочка! А откуда взялась шерсть? Ее настригли с овец господина Антуана. А кто понес расходы? Их оплачивает дружба! Разве у вас, горожан, есть такое платье? В жизни не променяю своей куртки на ваш сорочий хвост из черного сукна. — А меня бы вполне устроила пряха, — заметил Галюше, поглядывая на Жильберту. — Тебя? — весело переспросил плотник, хлопнув Галюше по плечу с такой силой, что у того кости затрещали. — Это тебе-то такую пряху? Матушка Жанилла еще слишком молода для тебя, сынок, а что касается другой — да я ее на месте убью, если она спрядет для тебя хоть волоконце шерсти, будь оно даже короче твоего носа. Галюше, который и на самом деле отличался смехотворно коротким носом, был немало оскорблен намеком плотника и, потирая плечо, заявил: — Послушайте, вы, мужлан, не давайте воли рукам. Знайте, с кем шутить, я вам не ровня и разговаривать с вами не желаю. — Как вы зовете этого молодца? — спросил Жан господина Антуана. — Имя какое-то чертово, никак не могу запомнить! — Ну, ну, Жан, ты немного разошелся, — сказал господин Антуан, — не надо подтрунивать над господином Галюше. Он порядочный юноша и к тому же — мой гость. — Правильно сказано, хозяин! Ну, давайте мириться, господин Мальжюше[6]. Хотите табачку? — Не употребляю, — ответил Галюше высокомерно. — Разрешите, господин Антуан, встать из-за стола? — Не стесняйтесь, молодой человек, будьте как дома, — сказал хозяин замка. — Господин Эмиль тоже не любитель долго сидеть за столом. Можете немного размять ноги, если желаете. Жанилла покажет вам замок, а то спуститесь к реке да прихватите удочку. Мы скоро придем к вам и покажем рыбное местечко. — А, в самом деле! — сказал Жан. — Мальжюше — гроза пескарей! В Гаржилесе целые дни торчит на берегу с удочкой, а если с ним заговоришь, корчит гримасы, чтобы не спугнули его рыбешек. Ну, сейчас он с нашей помощью вытащит кое-что получше уклейки! Послушайте, господин Мальжюше, я готов переменить имя Жапплу на имя Мальжюше, если вы не выудите нам к ужину лосося. Только не торопитесь. Лодка в порядке, я недавно положил ей на брюхо здоровую заплату. Раздобудем где-нибудь багор и поплывем к Чертову камню — там лососей на солнышке, в полдень, видимо-невидимо! Но это место опасное, мы не пустим вас туда одного. — Если Жан поведет лодку, давайте поедем всей компанией, — предложила Жильберта. — Ловить лососей очень занимательно, а места там чудесные! — О, если вы поедете, мадемуазель Жильберта, я, с вашего разрешения, охотно присоединюсь к компании, — заметил Галюше. — Уж не воображаешь ли ты, что она отправится ради твоих прекрасных глаз, щелкопер ты этакий? Малый-то, видать, порядочный нахал! Что, все вы таковы в ваших краях? Ого-го! Да перестань дуться, не пыжься зря, меня такими пустяками не испугаешь! Будешь себя хорошо вести, и я с тобой хорош буду. Коли на тебе черный сюртук, как у нотариуса, это еще вовсе не значит, что ты можешь встать из-за стола, когда я сижу. Нет, дружок, ошибаешься! Садись, садись, Мальжюше, я не кончил пить, давай чокнемся! — Хватит! — сказал, слабо отбиваясь, Галюше. — Говорю вам: с меня хватит! Но Жан скорее переломил бы его, как щепку, чем выпустил из рук. Он силой усадил Галюше на скамейку и заставил осушить еще несколько стаканов вина; Галюше старался бодриться, хозяин же тщетно пытался защитить его от проделок плотника — по своему добродушию он не разделял отвращения, какое внушали присутствующим вид и манеры Галюше. Эмиль незаметно ускользнул вслед за Жильбертой и Жаниллой на лужайку и, обманув ревнивый надзор старушки, успел поведать своей любимой, что в точности следует ее наказу, что отец, как ему кажется, весьма к нему расположен и поэтому уже на следующей неделе можно попытаться начать переговоры. Но Жильберта сочла это преждевременным и убедила его по-прежнему сидеть дома и трудиться не покладая рук. Оба были преисполнены мужества, все им казалось преодолимым. Теперь, когда Эмиль знал, что любим, он чувствовал себя беспредельно счастливым, и, мнилось ему, он долго еще ничего не потребует от судьбы. В его душе царил божественный покой. Как много теперь читал он в ясном и глубоком взгляде Жильберты! Для влюбленных на заре счастья наступает минута блаженного спокойствия, когда самый прозорливый наблюдатель с трудом может угадать по внешнему виду их тайну. Желание говорить друг с другом и видеться ежечасно как бы исчезает, лишь только наступит глубокая уверенность во взаимности. Уж если слова признания соединили души влюбленных, ни докучливые свидетели, ни разлука не могут стеснить и оторвать их друг от друга. Даже всевидящая Жанилла была введена в заблуждение их безмятежно веселым и благоразумным видом, недостижимым для тех, кто страдает и сомневается. Смущение молодого Кардонне, сотни раз подмеченное Жаниллой, внезапный румянец, вспыхивавший на щеках Жильберты при иных словах, смысл которых улавливала она одна, грусть и беспокойство, с трудом скрываемые девушкой, когда она поджидала Эмиля, — все это исчезло со времени поездки в Крозан, и Жанилла дивилась тому, что случайная встреча, казавшаяся ей столь опасной, вдруг обернулась так счастливо. «Значит, я ошибалась, — рассуждала Жанилла. — Дочка не слишком о нем думает; а он если и думает, то, видно, предпочитает молчать и хочет постепенно от нее отвыкнуть, чтобы не нарушать нашего покоя. Что ж, похвально! Жалко огорчать молодого человека, ведь он понял меня с полуслова и покорился!» Будь Жан Жапплу сообщником Эмиля, решившим отомстить за него самонадеянному претенденту, он не мог бы действовать удачнее: пока влюбленные бродили с Жаниллой по саду, плотник целый час держал Галюше за столом, действуя то насмешкой и лестью, то открытой силой. Из этого испытания, оказавшегося ему не по плечу, Галюше вышел, потеряв окончательно ту небольшую долю здравого смысла, которым его наделила природа. Его с самого начала возмутили простые обычаи обитателей замка, и, проникшись презрением к хозяину, он стал взирать на него как на собутыльника. Короче, Констан, вообще не отличавшийся возвышенностью чувств и мыслей и не стоивший мизинца двух простодушных друзей, решил, что унижен недостойной компанией, и поклялся расписать фабриканту, как трудна принятая им на себя задача. С каждым стаканом, выпитым Галюше, его рассудок все более заволакивало туманом, и грубая натура восторжествовала над скрытым тщеславием: он начал хохотать, стучал по столу, кричал, бахвалился какими-то подвигами и наконец повел себя так нахально, что Жапплу, душа которого была столь же чувствительна, сколь грубы манеры, пожалел его и самым холодным тоном строго выговорил ему. — Вот что, сынок, — сказал он, — вы не умеете пить. А когда смеетесь, вы безобразны и острите-то как дурак. Я советую господину Антуану в другой раз подать вам к завтраку вместо вина стакан воды, не то вы, чего доброго, еще заведете при его дочке такие разговоры, что придется мне вас выбросить за дверь. Вы увидели, что мы тут все люди веселые и не очень чинимся друг перед другом, и решили, что мы грубияны и, чтобы стать нам ровней, надо грубить. Вот вы и ошиблись. Тот, у кого нет дурного в душе или нечистых мыслей на уме, может позволить себе держаться запросто. Да если я даже буду пьян в лоск, я все равно знаю, что наутро мне не придется краснеть за свои слова. А вот вы — совсем другое! И вы хорошо делаете, что носите черный сюртук, чтобы те, кто вас не знает, принимали вас за барина, потому что если кто здесь мужлан, так это вы, а не я. Антуан постарался смягчить отповедь Жана, а Галюше сделал вид, что рассердился. Пожав плечами, Жан встал из-за стола, опасаясь, как бы не пришлось дать Галюше наглядный урок, более доступный его пониманию. Когда мужчины вышли из дома, Галюше еще держался на ногах более или менее твердо, но мысли еле ворочались в его разгоряченной голове, и он не решался произнести ни слова в присутствии Жильберты из боязни сказать что-нибудь не совсем подходящее. — Ну что ж, — обратилась Жильберта к Жану, — поедем мы к Чертову камню? Я там не была уже больше года. Жанилла не пускает меня туда с батюшкой — говорит, это место слишком опасное, а мы оба такие рассеянные. Но с тобой она меня отпустит, голубчик Жан. Скажи-ка, достаточно еще у тебя крепка рука и верен глаз? — Это у меня-то? — переспросил Жапплу, — Да я чувствую себя двадцатилетним юнцом! Хоть на край света могу отправиться! — А ты часом не захмелел? — спросила Жанилла, беря Жана за руку и становясь на цыпочки, чтобы заглянуть ему в глаза. — Смотри, смотри на здоровье, — сказал он. — А вот если ты сможешь сделать то, что я сейчас сделаю, — тогда считай, что я пьян! — и, взяв из рук Жаниллы кувшин с водой, он поставил его себе на голову и пробежал немного с этой ношей, не уронив ее. — Подумаешь, — сказала Жанилла. — Я бы тоже могла так пробежать, если бы захотела, да все это ни к чему. Я уверена в тебе и поручаю тебе дочку: у меня нет времени ехать с вами. А вы, господин Эмиль, присматривайте за папашей, он может прыгнуть прямо в воду посреди реки, особенно если увлечется своими россказнями или начнет балагурить. — А кто присмотрит за Мальжюше? — спросил Жапплу, показывая на Констана, шествовавшего впереди с господином Антуаном, — Только не я! — И не я! — сказала Жильберта. — Будьте спокойны, — вмешался Эмиль, — я его мигом усмирю. — Ну, это еще как сказать! — возразил Жан. — Если даже он не пьян, лучше он от этого не становится. Он хоть не совсем готов, но сильно навеселе. Ему бы в постель лечь, а не на лодках разъезжать. — Посмотрите, как он будет спускаться с горы, — посоветовала Жанилла, — и, если увидите, что он может опрокинуть лодку, оставьте его на берегу, пусть выспится на камнях. Галюше уже сидел в лодке вместе с господином де Шатобрен, когда к берегу подошли остальные. Он был красен и молчал. Но лишь только лодка очутилась посредине реки, от быстрого течения у него закружилась голова, и он начал крениться то в одну, то в другую сторону, так что Жапплу потерял терпение и привязал его веревкой к скамье, — так он там и заснул. — У вас премилый письмоводитель! — сказала Жильберта Эмилю. — Надеюсь, батюшка, ты в другой раз не пригласишь его к завтраку? — Боже ты мой! Да разве он виноват. Это Жан заставил его пить, хотя Галюше отказывался. — Что за мужчина, который не умеет как следует пить, — сказал Жапплу, — это не мужчина, а слюнтяй! Лодка быстро скользила вниз по течению, и вскоре наши путешественники увидели скалы, до такой степени суживавшие проток, что лодка легко могла разбиться в щепы. Жан недаром слыл в здешних местах первым силачом. Смелость и крепкая воля удесятеряли его физическую силу. За любое пустячное дело он брался с таким пылом, как будто речь шла о завоевании мира, и, несмотря на юношескую восторженность, обладал редким присутствием духа. Жан вел лодку серединой реки, а как только они вступили в узкий проток, поставил ее поперек течения и, перегнувшись через борт, ухватился руками за выступ скалы, чем предотвратил неминуемый толчок. Эмиль усердно помогал плотнику, поочередно меняясь с ним местами, а когда лодка наконец остановилась, они вооружились багром и молча стали поджидать появления лосося. Как известно, эта рыба всегда плывет вверх по течению. Так и теперь: она шла прямо на лодку, однако близко не подходила, испуганная необычным препятствием, и уплывала обратно. Рыбаку, вооруженному багром, приходилось наклоняться вперед и сильно вытягивать руки. Господин Антуан и Жильберта, стоявшие позади на коленях, следили за тем, чтобы от резких движений рыбаков не опрокинулась лодка или они сами не упали в воду. Когда багром бил Жан, Жильберта хваталась за его одежду, опасаясь, как бы он не свалился. Когда же подходила очередь Эмиля, она горячо упрашивала отца держать его как можно крепче, но, видимо не доверяя никому, сама цеплялась за блузу Эмиля, и он не раз чувствовал прикосновение прелестных маленьких рук, готовых удержать его в случае падения. Хотя опасность грозила равно всем участникам рыбной ловли, Жан и Антуан были целиком поглощены своими лососями, и влюбленные, пользуясь волнением стариков, могли обмениваться взглядами или даже словами, которые еще не совсем проснувшийся Галюше, конечно, был не в состоянии понять. Что бы сказал господин Кардонне, увидев, как усердно его доверенный зарабатывает свое вознаграждение! Наконец под неистовые крики Жапплу был вытащен первый лосось, и Галюше, немного пришедший в себя при виде богатой добычи, попытался было принять участие в ловле. Но его неловкость и упрямство все испортили, он только распугал и разогнал рыбу, так что разъяренный Жан повернул лодку и сказал ему: — Когда вы снова вздумаете багрить лососей, ищите себе другого помощника! Наши пескарики не для вас! А если мы, чего доброго, застрянем здесь, я вам голову проломлю! — Упаси бог отправиться на ловлю еще раз с таким невежей, как вы, — ответил Галюше, присаживаясь на борт лодки. — Не садитесь сюда, — продолжал плотник, — вы мне мешаете. Помогли бы лучше грести против течения. Видите: волна точно железо, с ней не совладаешь. Смотрите, как господин Эмиль трудится: с таким компаньоном не страшно. Вас бог силой не обидел, но вы сидите сложа руки и любуетесь, как мы обливаемся потом! — Это ваша вина, — отвечал Галюше. — Вы заставили меня пить, и я теперь ни на что не гожусь. — Да, но сами-то вы тяжеленный, и, если не желаете работать, мы вас высадим. Ну, к берегу! Сбросим на землю лишний груз! Они причалили к берегу, но Галюше счел оскорбительным такой образ действий и, непристойно ругаясь, отказался выйти из лодки. — Тысяча чертей! — вскричал Жапплу, снова приходя в ярость. — Из-за тебя я упустил великолепную рыбину и не желаю надрываться, прислуживая тебе! И Жан стал выталкивать Галюше из лодки; тот, упираясь, оступился и, скользнув между бортом и берегом, очутился по пояс в воде. — Вот это ловко, честное слово! — воскликнул Жапплу. — Разбавить вино водой никогда не вредно! И он быстро оттолкнул лодку, которую Галюше в порыве бессильной злобы пытался опрокинуть. — Ах поганец! — вскричал плотник. — Видно, и животные бывают безобидные, а бывают и вредные. Пускай побарахтается в воде, — обратился он к своим спутникам, которые, по правде сказать, опасались, как бы подвыпивший Галюше не утонул, хотя здесь и было мелко. — Если он погрузится в воду — не беда, я зацеплю его за пояс крюком и выужу, как лосося. Да что тут! Было бы хоть о ком беспокоиться, а ведь известно, что всякая дрянь, падаль да пустые бутылки, всегда всплывает! Через несколько минут Галюше выбрался на траву, погрозил Жану кулаком и исчез. Этот забавный случай, однако, очень опечалил Жильберту. Она впервые почувствовала, к каким серьезным последствиям может привести снисходительность ее отца. Простодушная доброта близких — зеркало их чистоты и порядочности — начинала ее теперь пугать: она чувствовала, что неопытной девушке нужны более разумные защитники. «Я бедная деревенская девушка, — рассуждала она. — Мне хорошо жить среди крестьян, но лишь при условии, что к нам не будут вторгаться невежественные прислужники богачей, вроде Галюше. Сталкиваясь с ними, крестьяне становятся злыми, а при нашей жизни я беззащитна от мести труса». Она вспомнила об Эмиле: не он ли опора, дарованная ей небом? Но тут же задумалась: в какой среде вынужден жить он сам? И мысль, что отец его пользуется услугами людей, подобный Галюше, вызвала у нее какой-то смутный страх перед характером и привычками господина Кардонне. Вечером, возвращаясь в Гаржилес, Жан Жапплу увидел мертвецки пьяного Галюше, валявшегося посреди дороги. Бедняга, отрезвившийся было после холодной ванны, зашел в кабачок, чтобы просохнуть, и, опасаясь за свое драгоценное здоровье, согласился выпить стаканчик водки, которая его и доконала. Он возвращался домой в буквальном смысле на четвереньках. Жан уже позабыл свой гнев, да к тому же не такой он был человек, чтобы равнодушно пройти мимо и не помочь ближнему, если тому грозила опасность попасть под копыта лошадей. Он поднял Галюше и, терпеливо выслушивая его угрозы и брань, довел, или, вернее, дотащил, до фабрики, а тот, не узнавая Жана, на прощанье поклялся отомстить злодею, который чуть было его не утопил.XXIV Господин Галюше
Проспав двенадцать часов кряду, Галюше наутро почти не помнил о происшедших накануне событиях, и, когда господин Кардонне прислал за ним, у него оставалось только смутное чувство досады на плотника. К тому же ему совсем не улыбалось хвастаться тем, что он оплошал с первых же шагов своей дипломатической деятельности, и в оправдание позднего пробуждения и осоловелого вида он сослался на сильнейшую головную боль. — Я пока только нащупал почву, — отвечал Галюше на все расспросы хозяина. — Мне так нездоровилось, что я почти ничего не приметил. Могу заверить вас лишь в одном: у них в доме обращение самое простецкое, хозяева на короткой ноге с мужичьем, а уж как едят — смотреть не на что! — Все это мне давно известно, — сказал господин Кардонне. — Неужели, пробыв в Шатобрене целый день, вы не заметили ничего более примечательного? В каком часу приехал мой сын? Когда уехал? — Затрудняюсь ответить… У них старые стенные часы, они очень плохо идут. — Это не ответ. Сколько времени он провел там? Понятно, я не требую, чтобы вы это определили с астрономической точностью. — Должно быть, часов пять или шесть, сударь. Я очень скучал. Господин Эмиль, видно, не слишком обрадовался, когда увидел меня. А девица просто-напросто недотрога. Там у них на горе чертова жарища, и к тому же двух слов сказать нельзя, чтобы тебя не перебил этот мужлан. — Очевидно, там действительно было слишком жарко, раз вы и сегодня не в состоянии связать двух слов. О каком это мужлане вы твердите, Галюше? — Да о плотнике Жапплу. Пройдоха и грубиян каких мало! Всем говорит «ты» и вас, сударь, называет просто «папаша Кардонне», как будто вы ему ровня. — Мне это совершенно безразлично. О чем говорил с ним мой сын? — Господина Эмиля его глупости забавляют, а мадемуазель Жильберта находит его чрезвычайно милым. — А не заметили ли вы, чтобы мой сын и эта особа переговаривались между собой? — Нет, сударь, ничего особенного не заметил. Старуха, как я теперь уже твердо знаю, приходится мадемуазель Жильберте матерью, потому что зовет ее «дочкой» и не отходит от девушки ни на шаг, так что к той и не подступиться, тем более что она сама задирает нос и строит из себя принцессу. Честное слово, просто смешно смотреть — это при ее-то нарядах и при их бедности! Да предложи мне такую невесту — я ни за что бы ее не взял! — Все равно, Галюше, вы должны за ней ухаживать. — Разве чтобы посмеяться над ней! Тогда согласен. С удовольствием! — И ради того, чтобы заслужить награду, которой вам не видать, если в следующий раз вы не дадите мне ясного и обстоятельного отчета. А сегодня вы городите просто чушь! Галюше склонился над счетными книгами и целый день боролся с недомоганием — неизбежным следствием излишеств. Всю следующую неделю Эмиль провел за изучением гидростатики: он не позволял себе никаких развлечений, только по вечерам уходил к Жану Жапплу и всякий раз старался перевести разговор на Жильберту. — Послушайте-ка, господин Эмиль, — сказал ему как-то плотник. — Вам, видно, никогда не надоедает говорить о ней. А знаете, матушка Жанилла считает, что вы влюблены в ее дочку. — Что за мысль! — ответил молодой человек, смущенный неожиданным оборотом разговора. — Мысль как мысль! А почему бы вам и не быть в нее влюбленным? — Конечно, а почему бы и нет? — ответил Эмиль, смущаясь все более и более. — Но как вы, Жан, дружище, можете говорить об этом так просто? — Это не я, а вы говорите просто, сынок, потому что отвечаете так, словно мы с вами шутки шутим. Скажите-ка мне всю правду, или навсегда оставим этот разговор. — Жан, будь я в самом деле влюблен в особу, которую уважаю, как родную мать, то и тогда мой лучший друг не услышал бы от меня ни слова. — Знаю, что я вам не лучший друг. Но все же мне хотелось бы услышать от вас правду. — Объяснитесь, Жан! — Объяснитесь-ка вы сначала, я жду. — Вам придется долго ждать. На подобный вопрос я не отвечу, хотя питаю к вам искреннее уважение и любовь. — Коли так, вам придется скоро навсегда распрощаться с Шатобреном. Матушка Жанилла не такая женщина, чтобы зевать, когда под носом опасность. — Опасность! Какое оскорбительное слово! Не думал я услышать обвинение в том, что подвергаю хоть малейшей опасности особу, честь и достоинство которой для меня так же священны, как для ее родителей и самых близких ее друзей. — Хорошо сказано, а все же не хотите вы ответить напрямик. Сказать вам правду? В начале прошлой недели я зашел в Шатобрен, чтобы взять у Антуана рубанок. Я застал только матушку Жаниллу, она вас поджидала. Вы не приехали, а она взяла да все мне и рассказала. Ну так знайте, дружок: если она вас любезно встретила в воскресенье и изредка разрешает вам видеть свою дочку, скажите спасибо мне! — Как так, голубчик Жан? — Выходит, я больше вам доверяю, чем вы мне. Я прямо сказал матушке Жанилле, что если вы полюбили Жильберту, то женитесь на ней, и поручился за вас спасением моей души. — И вы правы, Жан! — вскричал Эмиль, схватив плотника за руку. — Вы сказали святую истину! — Теперь остается узнать, полюбилась ли вам; девушка, а этого-то вы как раз и не хотите сказать. — Я могу довериться только вам одному, раз вы меня так упорно допрашиваете. Да, Жан, я ее люблю, люблю больше жизни и хочу на ней жениться. — Вот это хорошо! — вскричал Жан в восторге. — к Я готов вас обвенчать хоть сегодня… Погодите, погодите! Жильберта согласна? — А если она спросит совета у вас, голубчик Жан? Ведь вы ее друг и второй отец. Что вы ей скажете? — Скажу, что она не могла сделать выбора лучше, что вы мне по душе и я хочу быть свидетелем у вас на свадьбе. — Значит, дружище, теперь дело лишь за согласием родителей. — За Антуана я ручаюсь, надо мне только взяться за него как следует. Он человек гордый и будет опасаться, как бы ваш папаша не заупрямился, но я ему скажу… — Что, что вы ему скажете? — То, чего не знаете вы и про что знаю я один. Но сейчас нет нужды говорить — не пришло еще время, да и вы не можете думать о женитьбе раньше, чем через год или два. — Жан, доверьте мне вашу тайну, как я доверил вам свою. Я вижу только одно препятствие к браку: волю моего батюшки. Я во что бы то ни стало преодолею это препятствие, хотя не скрываю от себя, что это будет не так-то легко! — Ну ладно. Раз ты был так доверчив и откровенен со старым Жаном, старый Жан отплатит тебе тем же. Послушай, сынок, меньше чем через год твой папаша разорится; а если так, ему уже не придется задирать нос перед Шатобренами. — Если наше разорение соединит меня с Жильбертой, да свершатся твои удивительные предсказания, хотя я знаю, что для моего отца это будет большим горем. Я и раньше страшился богатства — правда, по другим причинам. — Знаю, знаю твое сердце и понимаю, что тебе хотелось бы обогатить скорее других, чем самого себя. Все сбудется по-твоему, уж поверь мне! Не один, а десять раз видел я это во сне. — Ну, если вам это только снилось, милый Жан… — Постойте-ка, постойте… Что за книгу вы вечно таскаете под мышкой? Похоже, что вы ее изучаете. — Я вам уже говорил: это ученое сочинение о силе воды, тяготении, законах равновесия… — Помню, как же, вы мне говорили… Но, послушайте меня, ваша книга лжет, или вы плохо ее изучили. Иначе вы знали бы то, что знаю я… — Что же именно? — Что построить фабрику вам не удастся. Ваш батюшка хоть и уперся, во что бы то ни стало хочет совладать с рекой, а река над ним посмеется: он потеряет все, что вложил, а когда спохватится, будет уже поздно. Вот почему я так повеселел с некоторых пор. Пока я верил в успех вашего дела, я грустил и душа у меня болела, но одна надежда не оставляла меня, и мне захотелось проверить свои догадки. Вот об этом-то я вам и скажу. Я много ходил, наблюдал, трудился, изучал. Да, да, изучал без ваших книг, карт и всякой там тарабарщины — и все понял, все подметил. Господин Эмиль, я только простой крестьянин, и ваш Галюше охотно наплевал бы мне в лицо, если бы только посмел, но я могу вам открыть такое, чего вы и не подозреваете. Знайте же, отец ваш ничего не смыслит в том, что делает. Он слушается плохих советчиков, а у вас не хватает знаний, чтобы его образумить. Придет зима, и ваши постройки не устоят: и так оно будет каждую зиму до тех пор, пока господин Кардонне не выбросит в воду свой последний грош. Запомните мои слова: не пытайтесь убедить вашего папашу. Он, наоборот, еще заупрямится, полезет напролом, а нам это совсем ни к чему. Но все равно, вы разоритесь, сынок, — не здесь, так где-нибудь еще; я вашего папашу насквозь вижу. Если он что-нибудь задумал, весь загорается, ничего слышать не хочет, носится со своими выдумками — а раз человек так сотворен, толку никогда не будет. Сначала я было верил, что он ведет игру правильно, а теперь вижу, что он просчитался. Ведь посмотрите: он сызнова восстанавливает все, что уничтожила последняя паводь. До сих пор ему везло, а уж так издавна повелось: если кому везет, тот слушать никого не желает, воображает о себе невесть что. Так было с Наполеоном, на моих глазах ведь все произошло: подымался, подымался, а чем кончилось? Вдруг свалился, как плотник, который взбирается на крышу дома, не узнав, прочен ли фундамент. Какой бы ты ни был искусный плотник, какую махину ни построй, а если стена шатается, все пойдет прахом. Жан говорил таким убежденным тоном и черные его глаза так ярко горели под густыми, тронутыми сединой бровями, что Эмилю передалось его волнение. Он умолял Жана изложить причины, на которых основывались его мрачные предсказания, но плотник долго отказывался. Наконец, уступив настойчивым просьбам Эмиля и отчасти задетый его сомнениями, Жан пообещал ему все разъяснить в следующее воскресенье. — Поезжайте в Шатобрен в субботу или в понедельник, — сказал он, — а в воскресенье мы с вами выйдем на рассвете и прогуляемся берегом реки до того самого места, которое я хочу вам показать. Можете захватить все ваши книги и инструменты. И если они не подтвердят моих слов, тем хуже: значит, ученые врут. Но не вздумайте отправиться верхом или в коляске. Если не рассчитываете на свои ноги, лучше сидите дома. В следующую субботу Эмиль поехал в Шатобрен, но, по обыкновению, завернул сначала в Буагильбо, не решаясь явиться к Жильберте слишком рано. Приближаясь к развалинам замка, он заметил у подножия горы черную точку. Мало-помалу эта точка превратилась в Констана Галюше, одетого с ног до головы во все черное: черный сюртук, черные брюки, черные перчатки, черный атласный галстук и такой же жилет. Этот костюм он носил в деревне зимой и летом, пекся в нем на солнце, потел, задыхался, но никогда не выходил за пределы Гаржилеса иначе как в полном параде. Он боялся, что его могут принять за крестьянина, и потому нипочем не надел бы, как Эмиль, блузу и серую широкополую шляпу. Если согласиться с тем, что современное городское платье — самое убогое, неудобное и неприглядное, какое когда-либо изобретала мода, то нельзя не признать, что все его недостатки и все его убожество особенно бросаются в глаза среди просторов полей. В окрестностях больших городов оно не так отталкивает, ибо пригородная деревня до того однообразно устроена, выровнена, обсажена, застроена и огорожена, что природа лишается всех своих неожиданных красот и прелестей. Можно, пожалуй, восхищаться богатством и порядком, царящим на землях, пользующихся всеми благами цивилизации, но полюбить такую деревню мудрено. Настоящая деревня не там — она здесь, в глубине страны, пусть немного запущенная, пусть дикая; она здесь, где культура еще не проявляет себя жалкими украшениями и ревнивыми оградами; она здесь, где поля сливаются в одно, ибо границу владений отмечает лишь камень или кустик, охраняемые добрыми деревенскими нравами. Только здесь дороги, предназначенные для пешеходов, верховых или тележек, открывают глазу множество живописных видов; только здесь кусты живых изгородей, растущие на свободе, сплетают в гирлянды свои ветви, образуя беседки; и только здесь радуют взор растения, которые тщательно выпалываются в роскошных возделанных парках. Эмиль вспомнил, что исходил десятки лье по окрестностям Парижа и ни разу не встретил там даже крапивы; и теперь он живо ощущал всю прелесть дикой природы, среди которой очутился. Бедность не пресмыкалась здесь стыдливо у ног богатства — наоборот: она привольно и весело выставляла напоказ всю себя; и земля горделиво носила ее эмблемы: полевые цветы и буйные травы, скромный мох и лесную землянику, камыш на берегу широко разлившейся речки и плющ на утесе, который веками преграждает дорогу, не привлекая внимания блюстителей порядка. Нравились Эмилю нависающие над тропинками зеленые ветви, которые щадит рука прохожего, болотца, где, словно предостерегая путника, квакает лягушка — часовой, более бдительный, чем страж, охраняющий королевские покои; нравились ему и разрушенные ограды, которые никто и не думал чинить, мощные корни столетних дубов, арками выпирающие из земли, — все это запустение первобытной природы, так удачно сочетающееся со степенным обликом, с простотой и строгой одеждой крестьянина. Но когда на фоне сурового, величественного пейзажа, уносящего воображение к временам пастушеской поэзии, появляется, как назойливая муха, некий господин на хилых ножках, в черном сюртуке, с выбритым подбородком, в черных перчатках, — сей царь природы кажется здесь смешным недоразумением, досадным пятном, уродующим картину. К чему оно здесь, под нестерпимо жаркими лучами солнца, ваше траурное платье, в которое с особым ехидством вцепляются колючки? В этой стесняющей ваше тело нескладной одежде вы куда более жалки, чем нищий в своих лохмотьях. Чувствуется, что здесь, на вольном воздухе, вы не у места, что ваша ливрея душит вас. Никогда Эмиль не представлял себе этого так живо, как при виде Галюше, который, держа шляпу в руке, с мучительным трудом карабкался на холм, отчего смешно раздувались полы его сюртука, и поминутно останавливался, чтобы смахнуть носовым платком пыль и песок — следы падений. Эмилю стало сначала смешно, но затем он с раздражением подумал, что этот трутень опять вьется вокруг заветного улья. Эмиль пустил лошадь галопом, проскакал мимо отцовского письмоводителя, сделал вид, что не узнает его, и, добравшись до Шатобрена, на сей раз первым возвестил Жильберте о неотвратимом бедствии. — Ах, батюшка, — воскликнула девушка, — умоляю вас, не принимайте этого невоспитанного и докучливого посетителя! Пусть он не портит наш Шатобрен! Неужели вы позволите, чтобы присутствие этого чужого нам человека, который не может и не должен никогда с нами сблизиться, нарушало мирное течение нашей жизни? — Что же прикажешь мне делать? — в замешательстве спросил господин де Шатобрен. — Я пригласил его заходить, когда ему захочется, и уж никак не мог предвидеть, что ты, всегда такая терпимая и великодушная, невзлюбила этого беднягу из-за его непривлекательного вида и недостаточного знания приличий. Во мне такие люди вызывают лишь жалость: все их чураются, и жизнь им становится невмоготу. — Не думаю, — сказал Эмиль. — Напротив, они чувствуют себя великолепно и уверены, что всех пленяют. — А если так, к чему лишать их этой уверенности, без которой они умерли бы с горя? У меня не хватит духу. Не думаю, чтобы и Жильберта дала мне подобный совет. — Батюшка, вы чрезмерно добры, — сказала, вздыхая, Жильберта. — Мне тоже хочется быть доброй, да, кажется, я и незлобива… Но это ограниченное и самодовольное существо называет меня по имени с первой же встречи и оскорбляет своими взглядами… Нет, я его не переношу… Право же, я чувствую, что по его вине у меня портится характер, я становлюсь насмешливой и готова его презирать. — Это правда, Галюше начинает вести себя с вашей дочерью слишком развязно, — подтвердил Эмиль, — и вы вынуждены будете, господин Антуан, рано или поздно напомнить ему об уважении, какое он обязан к ней питать. А когда вам придется его прогнать, вы пожалеете, что приняли его слишком доверчиво. Не лучше ли сегодня же оказать ему более холодный прием и дать понять, что вы не забыли, как нагло он держался при первом посещении. — По-моему, — сказал господин де Шатобрен, — лучше всего будет, если я уведу Галюше удить рыбу и избавлю вас от него, а вы отправляйтесь-ка с Жаниллой в сад. Это предложение не особенно понравилось Эмилю. При господине Антуане он чувствовал себя как бы наедине с Жильбертой, а Жанилла была слишком зорким и проницательным соглядатаем. Однако Жильберта сочла несправедливым возложить всю тяжесть посещения Галюше на отца. — Нет, — сказала она, обнимая господина Антуана, — мы все-таки останемся наперекор тебе, а не то, как только мы уйдем, ты примешь Галюше ласково и приветливо, и он вообразит себя в Шатобрене желанным гостем. О, я знаю тебя, батюшка! Ты непременно пригласишь его к обеду, и он снова напьется. Лучше я останусь здесь, и он вынужден будет сдерживаться в моем присутствии. — Ну, уж это я возьму на себя, — вмешалась Жанилла: она невзлюбила письмоводителя с того самого дня, когда он торговался с нею из-за десяти су, испрошенных за показ развалин. — Я не против, когда господин Антуан пьет вино с друзьями и людьми, ему приятными, но я вовсе не желаю переводить добро на разных лизоблюдов вроде Галюше. Вот возьму и разбавлю вино водой. Конечно, вы, сударь, не любитель пить разбавленный кларет. Ну, зато за столом не засидитесь! — Да ты просто деспот, Жанилла! — сказал господин Антуан. — Значит, ты хочешь посадить меня на хлеб и воду? Ты меня уморишь! — Нисколько, сударь, вы только с лица посвежеете! А если этот малый вздумает привередничать — ну и бог с ним! Жанилла сдержала слово, но Галюше был слишком взволнован и ничего не заметил. Он чувствовал себя все более неловко в присутствии Эмиля, который, презрительно улыбаясь, глядел на него испытующим взором; а когда Галюше, набравшись храбрости, попытался адресоваться с любезностями к Жильберте, то его так осадили, что он не знал, куда и деться. Он решил воздержаться от шатобренского кларета и обрадовался в душе, когда после первого стакана хозяин не стал настаивать на втором. Господин Антуан, как повелевал долг деревенского гостеприимства, первым осушил стакан и, горестно вздохнув, бросил полный упрека взгляд в сторону Жаниллы, не поскупившейся на ключевую воду. Шарассон, посвященный в тайну домоправительницы, разразился громким смехом, за что и был строго наказан хозяином, приговорившим его докончить за ужином остатки сего невинного напитка. Когда Галюше убедился, что общество его несносно для Жильберты и Эмиля, он решил, что настало время выполнить поручение господина Кардонне и сделать формальное предложение. Он отвел господина Антуана в сторону и, заранее уверенный в отказе, предложил его дочери руку, сердце и двадцать тысяч франков. Галюше считал, что ничем не рискует, удваивая сумму своего несуществующего капитала. Узнав об этом небольшом состоянии в придачу к должности, приносившей Галюше тысячу двести франков в год, господин Антуан несколько удивился. По его мнению, это была для Жильберты превосходная партия, и вряд ли она могла рассчитывать на более выгодную, ибо добродушный владелец Шатобрена не мог дать за дочерью никакого приданого, даже если бы лишил себя последнего су. Пожалуй, трудно было найти человека более бескорыстного, чем господин Антуан, что он не раз и доказывал на деле. Но он не без горечи думал о том, что его любимая дочь будет еще надолго, а быть может навсегда, осуждена на девичество, если не встретит человека, который полюбит ее ради нее самой. «Как жаль, — размышлял он, — что Галюше лишен всякой приятности, ведь он, безусловно, малый честный и великодушный. Жильберта ему нравится, и он не спрашивает, есть ли у нее приданое. Он, несомненно, знает, что у нее нет ни гроша за душой, и сам хочет предложить ей все, чем располагает. У этого человека честные намерения, и ему надо отказать мягко и по-хорошему». Опасаясь, как бы Галюше не заподозрил, что Жильберта гордится своим именем, и, с другой стороны, не желая озлоблять жениха отказом, Антуан не дал окончательного ответа, а попросил отсрочки, чтобы подумать и посоветоваться с домашними. Галюше, в свою очередь, попросил позволения приехать еще раз, не для того, чтобы любезничать с Жильбертой, а чтобы узнать свою судьбу, и бедняга Антуан, в полном смущении, согласился на это. Он повел Галюше на берег реки, хотя письмоводитель господина Кардонне не захватил удочки и ему хотелось остаться в замке. Антуан прошел с ним берегом Крёзы, чтобы показать рыбные места, и дорогою, поддавшись минутной слабости и вечному своему добродушию, попросил у него извинения за насмешки и шутки Жана. Галюше был в восторге, великодушно принял всю вину на себя, но, желая выказать себя в лучшем свете, прибавил, что опьянел впервые в жизни, что он не выносит вина и вообще великий трезвенник. — Слава богу! — сказал Антуан. — А то Жанилла усомнилась в вашей воздержанности, но теперь понятно, что она ошиблась. Беседа затянулась. Галюше, отлично понимавший причину смущения хозяина, который никак не желал возвращаться с ним в замок, настоял, однако, на своем, и господин Антуан вынужден был в конце концов вернуться с ним в Шатобрен. Здесь Галюше отвел в сторону Жаниллу, считая нужным доверить ей свои намерения и дать Антуану время предупредить дочь. Он рассчитывал, и не без основания, что вызовет раздражение Жильберты: сейчас, когда он был трезв, он ясно увидел все растущее возмущение Эмиля и чувства Жильберты к избраннику ее сердца. «На сей раз, — рассуждал Галюше, — господин Кардонне не упрекнет меня, что я даром потерял время. Влюбленные голубки обратят всю ярость против меня, и господин Эмиль станет искать предлога к ссоре». Галюше не был трусом и думал не без некоторого удовлетворения, что против Эмиля он выстоит, к тому же последний вряд ли прибегнет к кулачной расправе. Правда, настоящая дуэль по всем правилам была ему еще меньше по вкусу, ибо Галюше ничего не смыслил в благородном оружии, но он уповал на фабриканта, который, несомненно, убережет его от такой опасности. Пока Галюше беседовал с Жаниллой, господин де Шатобрен повел дочь и Эмиля в разросшийся фруктовый сад и сообщил им о том, что произошло между ним и письмоводителем, однако с некоторыми умолчаниями. — Ну вот, — говорил он, — вы обвиняете Галюше в глупости и дерзости. Но вы раскаетесь в вашем суровом приговоре, ибо он достойный малый, у меня есть тому доказательство. Я расскажу обо всем в присутствии Эмиля — ведь он наш настоящий друг, — и если бы Жильберта пожелала взглянуть на вещи без предубеждения, она могла бы попросить у господина Эмиля кое-какие сведения об этом молодом человеке. Скажите-ка, Эмиль, по чести и совести, Галюше — порядочный человек? — Вне всякого сомнения, — ответил Эмиль. — Галюше работает у отца уже три года, и батюшка очень бы огорчился, если б ему пришлось его лишиться. — А у него хороший характер? — Я должен признать, что вопреки его поведению в прошлыйраз он смирный и вполне безобидный человек. — Он выпивает? — Нет, насколько я знаю. — Прекрасно! В чем можно его упрекнуть? — Если бы он не напрашивался к нам в гости, я сочла бы его совершенством, — сказала Жильберта. — Значит, он тебе очень не нравится? — спросил господин Антуан, приостановившись, чтобы взглянуть дочери прямо в лицо. — Да нет, батюшка, — ответила Жильберта, удивленная его торжественным тоном, — Не принимайте всерьез моей неприязни. Я ни к кому не питаю ненависти, и, если у вас есть причины относиться к Галюше с уважением и его общество хоть сколько-нибудь вам приятно, было бы непростительным капризом с моей стороны лишать вас любезного собеседника. Я попытаюсь — и, быть может, мне это удастся — разделить ваше доброе мнение о нем. — Ты рассуждаешь как хорошая и разумная девушка! Узнаю мою Жильберту. Помни же, дочка, что тебе меньше, чем кому-либо другому, пристало гнушаться этим молодым человеком. Если ты не испытываешь к нему никакой склонности, то должна, по крайней мере, быть с ним вежлива и мягко ему отказать. Надеюсь, ты меня понимаешь? — Нисколько! — Боюсь, что я понял! — сказал Эмиль, и щеки его вспыхнули ярким румянцем. — Что же, — продолжал господин Антуан. — Я полагаю, что, когда довольно богатый, по сравнению с нами, молодой человек влюбляется с первого взгляда в бедную, красивую девушку и питает в отношении нее самые честные намерения, нельзя грубо выставить его за дверь да еще заявить при этом: «Нет, сударь, вы слишком уродливы!» Жильберта покраснела так же, как Эмиль, и, несмотря на все свое желание быть покорной дочерью, почувствовала себя настолько оскорбленной притязаниями Галюше, что не могла ничего ответить: слезы выступили у нее на глазах. — Этот негодяй солгал самым недостойным образом, — воскликнул Эмиль, — и вы имеете право прогнать его с позором! У него нет никакого состояния. Мой отец вытащил его из горькой нужды. Он работает у батюшки всего четвертый год и, если только не получил наследства… — Нет, Эмиль, нет, он не солгал. Я вовсе не так доверчив и простодушен, как вы думаете. Я осведомился у него и знаю, что источник его состояния чист и надежен. Ваш батюшка даст ему двадцать тысяч франков в том случае, если Галюше найдет себе невесту в наших краях: господин Кардонне, видите ли, желает навсегда привязать его к себе чувством благодарности. — Но, без сомнения, — сказал Эмиль неуверенно, — мой отец не знает, что Галюше осмелился мечтать о мадемуазель де Шатобрен, иначе он не стал бы поощрять его надежды. — Как раз напротив, — продолжал господин Антуан, который находил все это вполне естественным, — ваш отец узнал от Галюше, что он неравнодушен к Жильберте, и дозволил ему от своего имени просить ее руки. Жильберта смертельно побледнела и взглянула на Эмиля, а он опустил глаза, пораженный, уязвленный и униженный до глубины души.XXV Взрыв
— Что такое? Что случилось? — спросила Жанилла, появляясь в беседке, расположенной у входа в сад. — Чем это Жильберта так расстроена, и почему, когда я подошла, вы замолчали, как будто замышляете заговор? Жильберта бросилась на шею Жанилле и залилась слезами. — Ну, перестань, голубка, — продолжала добрая старушка. — Этого еще не хватало! Моя дочка плачет, а я и не знаю, в чем дело. Говорите же, господин Антуан! — Что, Галюше уже ушел? — спросил господин Антуан, беспокойно оглядываясь по сторонам. — Надо полагать, ушел. Во всяком случае, он со мной попрощался, и я его проводила до ворот, — сказала Жанилла. — Не так-то просто от него отделаться. Малый глуповат! Ему, видно, очень хотелось остаться, но я дала ему понять, что такие важные дела так быстро не делаются, что мне, мол, надо переговорить с вами, что мы ему напишем, если захотим его видеть. Но сначала скажите, что это с дочкой? Кто ее обидел? Ну перестань, перестань! Твоя Жанилла здесь, с тобой, она защитит и утешит тебя! — О да, ты поймешь меня! — вскричала Жильберта. — И не дашь меня в обиду! Я оскорблена, и только ты можешь все объяснить батюшке. Знай, что еще немного, и он сам стал бы ходатайствовать за господина Галюше. — Ах, тебе уже всё известно! Так ты расстроилась из-за наших семейных дел? Я тоже должна кое-что вам рассказать. Но мы, пожалуй, наскучим господину Эмилю. — Я понимаю вас, мадемуазель Жанилла, — ответил молодой человек, — и знаю, что правила приличия повелевают мне удалиться, но я слишком чувствительно заинтересован во всем здесь происходящем, чтобы подчиниться пошлым обычаям. Можете говорить в моем присутствии, мне все известно. — Ладно, сударь, раз вы знаете, о чем идет речь, и если господин Антуан находит удобным объясняться при вас, — что, между нами говоря, ни к чему, — я буду говорить, как будто вас здесь и нет. Первым делом перестань плакать, Жильберта. Чем ты так огорчена, дочка? Тем, что какой-то неуч вообразил, будто достоин тебя? Эх, бог ты мой, тебе еще не раз придется — даже когда ты будешь замужем — встречать самонадеянных людей, которые дадут тебе повод посмеяться. Вот и надо смеяться, дитятко, а вовсе не плакать. Молодой человек думает, что оказывает тебе честь и уважение. Прими его так же уважительно и скажи сама или вели передать через кого-нибудь, что ты, мол, благодаришь, но отказываешь ему. Не пойму, чего ты встревожилась? Уж не воображаешь ли ты, что я собираюсь поощрять его домогательства? Этого еще недоставало! Да имей он хоть сто тысяч, сто миллионов франков, я все равно считала бы его недостойным моей дочери! Урод этакий! Глаза вылупленные, нос задран! Пускай убирается на все четыре стороны! Нет у нас для него невесты! Как бы не так! Матушка Жанилла понимает толк в таких делах: чертополоху не место подле розы. — Прекрасно сказано, дорогая Жанилла! — вскричал Эмиль. — Вы достойны называться матерью Жильберты! — А вам-то что, сударь? — спросила Жанилла, разгоряченная и возбужденная собственным красноречием. — Разве вас касаются наши дела? Или вы знаете что-нибудь худое о нашем женихе? Впрочем, к чему толковать! Мы и без вас сумеем его спровадить. — Погоди, Жанилла, не брани его, — сказала Жильберта, ласкаясь к своей старой няне, — мне становится легче на душе, когда и другие признают, что Притязания этого человека оскорбительны для меня. Я не могу думать о нем без ужаса! У меня стынет кровь, я больна! А батюшка меж тем ничего не понимает. Он польщен сватовством Галюше и, я уверена, не в силах будет избавить меня от его присутствия. — Так, так! — подхватила Жанилла, смеясь, — Вечно виноват батюшка, злодей он этакий! Значит, моя дочка плачет из-за него? Вот так так! Уж не желаете ли вы, сударь, стать тираном на старости лет? Погодите! Матушка Жанилла еще жива и умирать не собирается. — Ну вот, — сказал господин Антуан. — Выходит, я деспот, жестокосердный отец! Ладно, вините во всем меня, если вам от этого легче. А теперь, дочка, скажи наконец, на кого ты сердишься и какое преступление я совершил. — Дорогой батюшка, — сказала Жильберта, бросаясь ему на шею, — не надо шутить этим, мне слишком грустно. Немедленно откажите господину Галюше от дома, чтобы я могла свободно вздохнуть и позабыть этот дурной сон. — В этом-то вся загвоздка, — ответил господин Антуан. — Что я ему напишу? Надо толком посоветоваться. — Слышишь, матушка? — обратилась Жильберта к Жанилле. — Батюшка не знает, что ответить. Значит, он не придумал, как ему отказать. — Что ж, дитя мое, твой отец не так уж виноват, — промолвила Жанилла. — И я тоже выслушала предложение от твоего прекрасного воздыхателя и даже глазом не моргнула, не сказала ему ни да, ни нет. Ну, ну, не сердись. Нельзя же так сразу, надо посоветоваться. Кто же это объявляет молодому человеку: «Вы мне не нравитесь». Такие вещи не принято говорить. А еще хуже будет, если мы скажем: «Мы из хорошего дома, а вы — вы только Галюше». Это и жестоко и оскорбительно. — К тому же это не довод, — подхватила Жильберта. — Что нам наше благородное происхождение? Настоящее благородство в душе, а не в пустых титулах. Не имя Галюше мне отвратительно, а манеры и чувства человека, который его носит. — Дочка права: имя, занятия и состояние ничего не значат, — отозвался господин Антуан, — и потому на это нам ссылаться не следует. Тем более нельзя упрекать человека за его наружность. Лучше всего скажем, что Жильберта не хочет выходить замуж. — Вот уж нет! Постойте-ка, сударь, — воскликнула Жанилла, — я не согласна! Ведь если молодой человек станет повторять ваши слова — а уж он, поверьте, не преминет это сделать, — никто из женихов больше к нам и не явится. А я вовсе не желаю, чтобы наша дочка пошла в монастырь. — Но ведь надо же придумать какую-нибудь причину, — продолжал господин Антуан. — Скажем в таком случае, что она не хочет выходить замуж, так как слишком молода. — Вот и хорошо, батюшка! Это действительно превосходная причина! Я и в самом деле не хочу покамест выходить замуж, я слишком молода. — Неправда! — вскричала Жанилла. — Ты уже на возрасте и, надеюсь, скоро найдешь красивого и хорошего мужа, который понравится тебе, да и всем нам. — Не думай об этом, матушка, — горячо возразила Жильберта. — Клянусь перед богом, что отец говорит правду: я не намерена пока выходить замуж. Пусть все это знают, и пусть женихи не надоедают мне. Ах, если вы будете приглашать назойливых кавалеров, вы только лишите меня счастья, которым я наслаждаюсь, живя в вашем обществе, и омрачите мою юность! И попусту: я все равно не переменю решения и скорее умру, чем разлучусь с вами! — Кто говорит о разлуке? — возразила Жанилла. — Тот, кто тебя полюбит, не захочет причинить тебе горе… а впрочем, один бог знает, что ты сама решишь, когда полюбишь! Ах, бедное дитя мое! Возможно, тогда плакать придется нам, ибо сказано: «Жена да покинет отца и мать своих и да последует за мужем», — а тот, кто это сказал, знал сердце женщины. — Нет! — вскричал Эмиль. — Это ведь закон послушания, а не любви. Человек, который по-настоящему полюбит Жильберту, полюбит и ее родителей и друзей, словно своих собственных, и не захочет ее разлучить с ними, как не захочет расстаться с ней сам. Но тут Жанилла перехватила страстный взгляд, которым обменялись влюбленные, и к ней вернулась вся ее прежняя настороженность. — Помилуйте, сударь, — заявила она, — вы вмешиваетесь в дела, которые совсем вас не касаются, и, думается мне, зря мы тут объяснялись при вас. Но раз уж вы заупрямились, а господин Антуан находит это вполне уместным, прошу вас не повторять слова, сказанные дочкой в порыве досады на вашего Галюше, и особенно — не верить им. Слава богу, не все мужчины на один покрой, и необязательно Жильберта останется в девицах только из-за того, что хочет иметь более приятного супруга. Мы его найдем, будьте покойны! И, пожалуйста, не воображайте, что, если наша дочка не так богата, как вы, она в одиночестве зачахнет от тоски! — Постой, постой, Жанилла! — перебил ее Антуан, беря Эмиля за руку. — Ты наговорила бог знает чего. Похоже, что ты хочешь огорчить нашего друга. Не качай головой. Запомни: Эмиль — наш лучший друг после Жана, которому принадлежит право старшинства, и я заявляю, что за последние двадцать лет, с тех пор как бедность научила меня ценить бескорыстные чувства, никто не выказал и не внушал мне такой привязанности, как Эмиль. Вот потому-то я и твержу: он никогда не будет лишним при обсуждении наших маленьких семейных секретов. По своему уму, благородству убеждений и образованию он намного старше своих лет, да, пожалуй, и нас с тобой, Жанилла; и нам лучшего советчика не найти. Я смотрю на него как на брата Жильберты и головой ручаюсь, что, если нашей дочке представится приличная партия, Эмиль поможет нам разобраться в женихе и будет способствовать браку, который принесет счастье Жильберте, или же помешает союзу, который сулит ей горе. Твоя язвительность, Жанилла, противна здравому смыслу: и если я доверил ему тайну, то знал, почему так делаю. Ты, видно, принимаешь меня за малого ребенка! — Ах вот как, сударь! Теперь уж стали придираться вы! — взволнованно вскричала Жанилла. — Хорошо же, пусть будет так! Раз сегодня решили говорить только правду, скажу и я: не нужно было выводить меня из терпения. Я и вам заявляю и повторяю господину Эмилю, что он еще слишком молод для роли друга нашей семьи, и хорошо бы, если б его дружба немного поостыла, а то вы почувствуете ее неудобства. Зачем ходить далеко, возьмем то, что произошло сегодня. Является молодой человек, он хочет жениться на Жильберте. Нам он не подходит. Отлично! Решено! Но кто помешает этому жениху, которого мы выпроводили, думать и говорить — хотя бы для того, чтобы отомстить нам, — что наша семья, мол, загордилась, что мы ищем для Жильберты богатой партии и отказываем всем женихам, имея виды на господина Эмиля? Конечно, сам-то господин Эмиль этого не думает. Он знает нас достаточно хорошо и разбирается, кто мы такие. Но никто не поручится, что глупые люди не поверят сплетне и нас же первых ославят дураками. Еще бы! Мы откажем господину Галюше от дома потому, что наша дочка, видите ли, слишком молода. А господин Кардонне-сын будет являться в Шатобрен каждую неделю, словно для него закон не писан. Так не делается, господин Антуан! А вы напрасно смотрите на меня так нежно, господин Эмиль, зря становитесь на колени и берете меня за руку, словно хотите объясниться в любви… Что греха таить, я вас люблю и буду о вас сожалеть, и даже очень, но все же я исполню свой долг, потому что здесь только у меня одной голова на плечах, только я одна решительна и умею все предвидеть. Ничего не поделаешь! Вы тоже уйдете подобру-поздорову, мой дружок, потому что матушка Жанилла слов на ветер не бросает… Жильберта побледнела как полотно, а господин Антуан рассердился, едва ли не впервые в жизни. Он находил поведение Жаниллы безрассудным, однако, не смея открыто ей перечить, рассеянно теребил уши Разбойника, но хотя собаке было больно, она терпеливо сносила неудовольствие хозяина и даже лизала ему руку. Эмиль стал на колени между Жаниллой и Жильбертой. Сердце его переполнилось, он больше не мог молчать. — Дорогая Жанилла! — вскричал он в непреодолимом волнении. — И вы, добрый, великодушный господин Антуан! Выслушайте меня и узнайте наконец мою тайну. Я люблю вашу дочь страстно, люблю с первого дня, как ее увидел! И если она соблаговолит ответить на мои чувства, я прошу ее руки — не для господина Галюше, не для кого-либо из приближенных моего отца, не для кого-либо из моих друзей, нет — для меня самого, так как не могу жить без нее! Я не подымусь до тех пор, пока не получу и вашего и ее согласия. — Приди в мои объятия! — воскликнул господин Антуан, вне себя от радости и восторга. — Ты благородный юноша, я знал, что нет на свете другой такой возвышенной и честной души! И он обнял Эмиля так крепко, что чуть не задушил его. Растроганная Жанилла отерла глаза носовым платком, но вдруг, подавив слезы, вскричала: — Но ведь это безумие, господин Антуан, сущее безумие! Владейте собой и не слишком слушайтесь своего сердца. Конечно, господин Эмиль славный молодой человек, и, будь мы богаты или он беден, мы не желали бы лучшего мужа для нашей Жильберты. Но не забывайте, это несбыточно: ведь его семья никогда не согласится. А он в своей юной голове успел сочинить целый роман! Уж очень я вас люблю, Эмиль, а не то побранила бы, что вы так взбудоражили господина Антуана. У него воображение еще богаче вашего, и он, пожалуй, примет всерьез эти бредни! К счастью, Жильберта рассудительнее нас. Взгляните на нее. Она вовсе не смущена вашими нежными словами, хотя признательна вам за них и благодарит за добрые намерения. Но дочка прекрасно знает, что вы себе не принадлежите, не можете обойтись без согласия папеньки, и, если вы даже по возрасту не должны были бы испрашивать отцовского разрешения, она сама из слишком хорошего дома, чтобы насильно войти в семью, которая ее не желает. — Верно, — сказал господин Антуан, словно упал с облаков на землю. — Мы увлеклись, бедные мои дети! Никогда господин Кардонне не согласится на этот брак. Что мы можем ему предложить? Знатное имя? Но оно для него пустой звук. Да и, по правде сказать, мы сами-то не очень высоко его ценим, и богатства оно нам не принесет. Эмиль, Эмиль, прекратим это разговор, мы только зря мучим друг друга! Останемся друзьями, только друзьями! Будьте другом моей дочери, будьте ей братом, покровителем и защитником в трудную минуту. Но не станем думать о браке, о любви, ибо в наше время любовь — мечта, а брак — сделка. — Вы не знаете меня, — вскричал Эмиль, — если полагаете, что я подчинюсь, что я могу подчиниться законам света и соображениям выгоды. Не стану вас обманывать. Я поручился бы за согласие матушки, располагай она свободно своим мнением, но отец не будет благосклонен к нашему союзу. Тем не менее батюшка любит меня и, когда сам убедится в твердости моего намерения, вынужден будет признать себя побежденным. Быть может, желая повлиять на меня, он прибегнет к одному имеющемуся в его распоряжении средству — лишит меня на некоторое время преимуществ богатства. О, с какой радостью я буду тогда трудиться, чтобы заслужить руку Жильберты и чтобы стать достойным уважения, которым не пользуются бездельники и которое заслужили вы, господин Антуан, пройдя через почетные испытания! Не сомневаюсь, со временем отец уступит, клянусь в этом пред богом и пред вами, ибо чувствую в себе силу непобедимой любви. И когда этот умный и рассудительный человек уверится в глубокой силе моей страсти, он от чистого сердца откроет объятия и душу моей невесте, потому что любит меня больше всего на свете и уж конечно больше, чем свое состояние и честолюбие. Я хорошо знаю батюшку, и если он подчиняется судьбе, то делает это без оглядки на прошлое, без мелочной досады, без трусливого сожаления. Уверуйте же в мою любовь, дорогие мои друзья, и надейтесь, как я, на провидение! Нас не должны унизить предрассудки, победить которые мне предстоит; а нежность моей матери, живущей только ради меня и мною, тайно вознаградит Жильберту за предубеждения отца, которые рассеются в недалеком будущем. О, не сомневайтесь в этом, молю вас! Вера творит чудеса, и, если вы поддержите меня в моей борьбе, я буду счастливейшим из смертных, боровшихся за самое священное — за благородную любовь во имя девушки, достойной вечной моей преданности! — Ну, пошел теперь… та-та-та! — прервала его рассерженная Жанилла. — Говорит как по книге и, изволите ли видеть, пытается вскружить голову нашей дочке. Да замолчите вы, златоуст непрошеный! Никто не хочет вас слушать, и никто вам не поверит! Не смейте ему верить, господин Антуан! Вы не знаете, какую еще беду он на вас навлечет и уж наверняка помешает Жильберте составить достойную, разумную партию. Бедный Антуан не знал, кого и слушать. Когда говорил Эмиль, он весь загорался, вспоминая молодые годы и свою любовь, свято веря, что самое высокое и благородное дело — защищать любовь и поощрять такие прекрасные стремления. Но когда Жанилла выливала на огонь ушат холодной воды, он признавал мудрость и осторожность верной домоправительницы и был то заодно с нею против Эмиля, то с Эмилем против нее. — Ну, довольно! — сказала наконец Жанилла, возмущенная колебаниями Антуана. — Совершенно незачем произносить такие речи в присутствии нашей дочери. Что бы получилось, будь она легкомысленная или ветреная девушка! К счастью, она не поддается вашим уговорам и не придает значения вашим капиталам; слишком она горда, чтобы ждать, пока господин Эмиль будет располагать своим сердцем. Она распорядится своим будущим как ей заблагорассудится, и, сохраняя к вам уважение и дружбу, попросит вас не бросать на нее тень своими посещениями. Жильберта, ты у нас разумная и решительная девушка, ответь же господину Эмилю, чтобы разом покончить со всеми этими бреднями! До сих пор Жильберта молчала. Встревоженная и сосредоточенная, она переводила взгляд с отца на Жаниллу, а еще чаще останавливала его на Эмиле, чьи страсть и убежденность воспламенили ее душу. Внезапно она бросилась на колени перед отцом и Жаниллой и, взволнованно целуя руки старушки, воскликнула: — Слишком поздно требовать от меня холодной рассудительности и призывать к эгоистическим расчетам. Я люблю Эмиля, люблю его так же, как он меня любит. И буду ли я его женой или нет — я поклялась никогда не принадлежать другому. Отец и ты, моя богоданная мать, выслушайте мою исповедь. Уже два месяца я томлюсь, а две недели скрываю от вас тайну, которая гнетет меня и будет первой и последней в моей жизни. Я отдала свое сердце Эмилю и поклялась быть его женой в тот день, когда на это согласятся мои и его родители, а до тех пор я буду любить его, буду ждать терпеливо. Я снова клянусь ему в этом, призывая в свидетели бога и вас! Я поклялась также и повторяю вновь, что, если воля его отца непоколебима, мы будем любить друг друга, как брат и сестра; я все равно не полюблю другого, но никогда не сделаю безумного и отчаянного шага. Верьте мне! Вы видите, я крепка духом. И с той поры, когда в моем сердце Эмиль занял место рядом с вами, я счастлива как никогда. Не бойтесь, я не буду ни жаловаться, ни грустить, ни унывать, я не заболею. Я и через десять лет буду такая, какой вы видите меня сегодня. В вашей любви я буду черпать беспредельное утешение, а в своем чувстве — мужество, которое поддержит меня при всех испытаниях. — Милосердный боже! — вскричала Жанилла в отчаянии, — Что за проклятие! Только этого еще недоставало! Дочка любит его и сказала ему об этом, да еще и повторяет при нас! Горе нам, горе! В несчастный день этот молодой человек переступил порог нашего дома! Господин Антуан удрученно вздыхал и обливался слезами, прижимая дочь к груди. Но Эмиль, вдохновленный мужеством Жильберты, нашел нужные слова, чтобы покорить его податливую душу. Даже Жанилла заколебалась, и под конец был принят план, созревший у влюбленных еще в Крозане, а именно: ждать, хотя, по мнению Жаниллы, это еще не разрешало вопроса, и видеться не слишком часто. Последнее обстоятельство немного успокаивало Жаниллу, опасавшуюся людских толков. Когда они ушли из фруктового сада, оттуда немного спустя украдкой выскользнул Галюше и, не замеченный никем, исчез в кустах, пробираясь под их прикрытием к Гаржилесу. Эмиль остался к обеду; ни у Антуана, ни у Жаниллы не хватало духа торопить его с отъездом, так как в следующий раз он мог навестить их только на будущей неделе. Привязчивое и простодушное сердце господина Антуана не могло противостоять ласкам и нежным речам наших влюбленных, и, стоило домоправительнице отлучиться из комнаты, тотчас добряк от всей души благословлял их чувство и разделял их надежды. Жанилла относилась к ним несколько строже: она и в самом деле была искренне опечалена. Но никто лучше влюбленных не умеет привлекать лестью на свою сторону нужных союзников. Жильберта и Эмиль были так добры, так преданны и нежны, так изобретательны и трогательны в своей невинной лести, и отблеск счастья так горел в их взорах и на их лицах, что тигр и тот смягчился бы. Жанилла плакала сначала от досады, затем от горя и, наконец, от нежности. Когда же наступил вечер и они вчетвером отправились посидеть на берегу реки под мягким светом луны, ничто больше не разделяло этих связанных нерушимой любовью людей, чьи сердца бились в лад, а руки сплетались в душевном порыве. Больше всех сияла Жильберта. Ее чистое сердце переполняла нежность, подобная благоуханию цветов, которые раскрывают чашечки при появлении первой вечерней звезды и возносят к небу свой аромат. А Эмиль, как ни был опьянен, не мог забыть о суровом долге, который ему предстояло выполнить, чтобы сочетать благоговейную любовь к Жильберте с сыновней почтительностью. Но Жильберта верила, что можно ждать бесконечно и что, раз есть любовь, чудо свершится само собой, без всяких усилий с чьей бы то ни было стороны. На прощание Эмиль осмелился в присутствии старших поцеловать Жильберте руку, и Жанилла со вздохом сказала, глядя ему вслед: — Вот ты, дочка, и загрустишь теперь на целую неделю. Опять будешь ходить с красными глазами, как бывало до этой проклятой поездки в Крозан. Прощай покой и счастье, они покинули наш дом! — Если ты хоть раз увидишь меня печальной, дорогая матушка, — ответила Жильберта, — запрети Эмилю посещать нас! И если глаза мои покраснеют, я выколю их, чтобы больше его не видеть! Но что ты скажешь, если я стану еще веселее и счастливее, чем прежде? Разве ты не чувствуешь, как спокойно бьется мое сердце? Постой, приложи-ка руку к моей груди, да поскорее, пока еще слышен топот удаляющейся лошади. Взволнована ли я? Зажги лампу и посмотри на меня хорошенько. Разве я не твоя Жильберта, твоя дочка, которая живет только для тебя и батюшки и никогда, ни на минутку, не соскучится с вами? Да, я страдала и плакала, когда скрывала от вас мою тайну, и мучилась оттого, что нельзя было ее открыть. Но теперь, когда я могу говорить вам все, мечтать вслух, я дышу полной грудью, радуюсь, что живу для вас и с вами! Неужели ты не видела, как мы были счастливы сегодня, потому что не таили больше нашей любви и не страшились ее? Уж не думаешь ли ты, что этому наступит конец и что мы с Эмилем можем быть счастливы, если всегда и ежечасно не будем вместе с вами? «Увы! — подумала Жанилла, вздыхая. — Это еще только начало! Что-то ждет нас впереди!»XXVI Ловушка
Эмиль решил не медлить более и серьезно поговорить с отцом, но не признаваться прямо и слишком поспешно в любви к Жильберте, а подойти к объяснению постепенно, после предварительной беседы. Он уговорился с Жаном увидеться утром и не без основания думал, что, если плотник окажется прав, тем самым представится прекрасный повод приступить к разговору с господином Кардонне и доказать ему всю шаткость и тщету его планов обогащения. Нельзя сказать, чтобы Эмиль слепо доверял опыту Жана Жапплу в таких делах, но он знал, как часто логические выводы, сделанные на основании непосредственного наблюдения, могут помочь научному исследованию. Он вышел из дому на рассвете и встретился с плотником в назначенном месте. Накануне он предупредил отца о своем намерении исследовать течение реки, на которой стояла фабрика, умолчав, однако, кого избрал себе в проводники. Экспедиция была трудная, но поучительная, и по возвращении Эмиль попросил отца уделить ему несколько минут для разговора наедине. Господин Кардонне встретил сына спокойно, но его торжествующий вид не предвещал ничего доброго. Тем не менее Эмиль счел своим долгом предупредить отца о том, в чем успел воочию убедиться, и приступил к разговору без обиняков. — Батюшка, — сказал он, — вы стремитесь увлечь меня своими планами, чтобы я осуществлял их с таким же рвением, как вы сами. Последнее время я всячески стараюсь с наибольшей пользой для дела предоставить в ваше распоряжение все мои знания и способности. Вы оказываете мне доверие, но в ответ я должен вам сказать, что мы строим здание на песке и наше состояние не только не удвоится, как вы рассчитываете, но будет поглощено бездонной пропастью. — Что ты хочешь этим сказать, Эмиль? — спросил господин Кардонне, улыбаясь. — Какое грозное начало! А я-то полагал, наука приведет тебя к тем же выводам, к которым приводит практика, другими словами, к выводу, что для воли, руководимой разумом, нет ничего невозможного. Но в результате долгих раздумий ты, как видно, пришел к обратному заключению. Итак, совершив длительную прогулку, ты, без сомнения, произвел глубокое исследование. Я также исследовал в прошлом году реку и уверился: ее надо и можно укротить. А ты как считаешь, сын мой? — Я считаю, отец, что вы потерпите неудачу, ибо вам потребуются издержки, непосильные для частного лица, да они к тому же не оправдаются соответствующим доходом. Тут Эмиль проявил немалую осведомленность и пустился в объяснения, которые мы опускаем, щадя читателя. Мысль его сводилась к тому, что Гаржилеса с ее капризным течением представляет непреодолимое препятствие для выполнения задач, поставленных его отцом, если только в предприятие не будет вложен капитал в десять раз больше того, каким он располагает. Придется приобрести участки, прилегающие к реке, чтобы отвести в сторону ее русло, в другом месте расширить его, кое-где взорвать скалы, препятствующие течению Гаржилесы. Наконец, если нельзя иным путем справиться с постепенным скоплением воды и внезапным и бурным низвержением ее в верхних водохранилищах, придется воздвигнуть вокруг фабрики плотины, в сто раз более мощные, чем те, какие сооружались до сих пор, а это приведет к тому, что воды повернут вспять и затопят окрестные земли. Для проведения этого плана надо было бы скупить половину общины или же обладать такой властью, какой не существует у нас во Франции. Работы, осуществленные до сих пор господином Кардонне, и так уже нанесли серьезный ущерб окрестным мельникам. Отвод воды для надобностей фабрики привел к тому, что мельницы начали работать вхолостую, вращение колес замедлялось, а иногда они и совсем останавливались. Господину Кардонне удавалось умиротворять этих мелких владельцев и ценой немалых расходов возмещать их убытки. Но в конечном счете либо ему самому, либо им грозило разорение: невозможно было применять такую систему возмещений длительное время, и, во всяком случае, она могла существовать лишь до окончания работ. Господин Кардонне очень дорого заплатил одному каменолому за шесть месяцев работы, а другим людям за лошадей, которые потребовались для перевозки материалов. Он успокаивал многих призрачными надеждами, — и, ослепленные временными доходами, люди закрывали глаза на будущее, что свойственно тем, кто не уверен в сегодняшнем дне. Эмиль не останавливался на всех этих подробностях, которые могли лишь вызвать раздражение господина Кардонне, а отнюдь не переубедить его; юноша стремился напугать отца, ибо был твердо уверен, что нимало не преувеличивает. Господин Кардонне с большим вниманием выслушал сына, затем отечески ласково провел рукой по его волосам и с улыбкой, в которой сквозило спокойное превосходство, сказал: — Я очень доволен тобой, Эмиль, я вижу, ты занялся делом, серьезно трудишься и на сей раз не терял зря времени в бесконечных визитах к владельцам замков. Ты умеешь говорить ясно и со знанием дела, как добросовестный адвокат. Я счастлив, что ты начинаешь рассуждать положительно, но знаешь ли, что больше всего меня радует? То, что ты привыкаешь к делу, что изучение его, как я и предсказывал, оказало свое благодетельное влияние… Тебя уже страстно волнует успех нашего предприятия, ты живешь им, ты проходишь через все неизбежные этапы — страх, сомнение и даже временный упадок духа, знакомые любому промышленнику при осуществлении всякого значительного проекта. Да, Эмиль, вот это я называю зачатием и рождением. Это таинство воли осуществляется в муках: мозг мужчины подобен чреву женщины. Но успокойся, мой друг. Опасность, которую ты, как тебе кажется, обнаружил, страшна только для поверхностного наблюдателя, — нельзя охватить всего во время обыкновенной прогулки. Я потратил неделю на исследование реки, прежде чем положил первый камень на ее берегу, и советовался с человеком, более опытным, чем ты. Постой, вот план местности, где указаны уровни, глубина и кубатура. Давай изучим его вместе! Эмиль внимательно разобрался в плане и заметил в нем немало существенных погрешностей. Составители исходили из того, что даже при чрезвычайных обстоятельствах река не поднимется выше определенного уровня и что препятствия на ее пути могут держать этот уровень только известное время. Из этих возможностей и исходили, но самый простейший опыт — свидетельства старожилов, если бы к ним прислушались, — легко опровергал основные предпосылки теории. Однако строптивый и недоверчивый господин Кардонне не желал учитывать всего этого. Он отдался с закрытыми глазами на волю могучих сил, как Наполеон во время кампании в России, и в своем великолепном упрямстве, подобно Ксерксу, охотно приказал бы наказать розгами мятежного Нептуна. Человек, советами которого он пользовался, при всех своих знаниях стремился лишь угодить хозяину и неумеренно льстил его честолюбию, а быть может, незаметно для себя самого, подпал под влияние его непреклонной воли. — Батюшка, — сказал Эмиль, — речь идет не только о гидрографических выкладках. Позвольте мне сказать, что слепая вера в искусственные сооружения ввела вас в заблуждение. Вы смеялись надо мной, когда в первые годы занятий науками я говорил вам, что все человеческие знания кажутся мне связанными между собой и, чтобы овладеть в совершенстве каким-нибудь одним специальным предметом, надо стать почти универсальным ученым. Короче, при изучении любой детали нельзя обойтись без обобщений; и прежде чем постичь механизм часов, надо познать механизм мироздания. Вы тогда смеялись, да и теперь смеетесь надо мной, сбрасываете меня с небес на землю и отсылаете к пресловутым мельницам. Однако если бы, кроме гидрографа, вы взяли себе в советчики геолога, ботаника и физика, они доказали бы вам то, что я заметил сразу, хоть и не советовался с более сведущими людьми, а именно: учитывая направление горного ущелья, куда низвергается Гаржилеса, направление врывающихся туда вместе с водою ветров, а также то, что плоскогорье, где берет начало река, расположено высоко над уровнем моря и там есть вершины, среди которых застревают тучи, являющиеся источником грозных смерчей, — можно предвидеть, что в ущелье то и дело будут обрушиваться каскады воды, которые сметут на своем пути все преграды, — разве только вы начнете работы, какие вам не под силу, потому что они превосходят возможности отдельного капиталиста. А вот что сказал бы вам физик, изучив атмосферные условия: он доказал бы, какое воздействие оказывает молния на скалы, которые ее притягивают; геолог обратил бы внимание на природу почвы, ибо в зависимости от того, мергель это, известняк или гранит, почва либо задерживает, либо поглощает, либо пропускает воду. — А что сказал бы ботаник? — спросил, смеясь, господин Кардонне. — Ботаника ты и забыл! — Ботаник, — ответил Эмиль с улыбкой, — заметил бы на крутых и бесплодных скалах несколько былинок и просветил бы своих ученых собратьев: в отличие от геолога, который никакими исследованиями не мог бы это доказать, ботаник установил бы, что всем этим кручам случалось бывать под водой. «Это растение, — сказал бы ботаник, — выросло здесь не само по себе, это не его область произрастания: взгляните, какое оно чахлое; наводнение, которое занесло сюда его семена, в дальнейшем либо смоет его, либо окружит его родственной средой». — Браво, Эмиль! Нельзя сказать удачнее! — И более верно, батюшка! — И откуда только ты взял все это? Неужели ты вдруг сделался одновременно гидрографом, механиком, астрономом, геологом, физиком и ботаником? — Нет, батюшка. Повинуясь вашей воле, я схватил на лету только начатки этих знаний, составляющих, в сущности, единую науку, но есть натуры избранные, у которых наблюдательность и логика заменяют знание. — Ты не отличаешься скромностью! — Я говорю не о себе, батюшка, а об одном крестьянине, об одареннейшем человеке, который не умеет читать и не знает названий жидких тел, газов, минералов и растений, но разбирается в причинах и следствиях и чей проницательный глаз и безошибочная память устанавливают различия и схватывают природу вещей; я говорю о человеке, который, изъясняясь языком ребенка, показал мне все это и убедил меня в своей правоте. — Не скажешь ли, кто же сей новоявленный гений, которого ты случайно встретил? — Это человек, которого вы не любите, батюшка, и считаете безумцем; его имя я не осмеливаюсь при вас произнести. — А, догадываюсь! Это твой друг, плотник Жапплу, бродяга, состоящий при господине де Буагильбо, деревенский знахарь, который заговаривает болезни, прекращает пожары, вырубая топором крест на балках! До сих пор господин Кардонне слушал внимательно, хотя слова сына отнюдь его не убедили, но после признания Эмиля разразился уничтожающим смехом и заговорил тоном, в котором слышались ирония и презрение. — Значит, — сказал он, — рыбак рыбака видит издалека! Или, вернее, — безумец безумца. Поистине, бедный мой Эмиль, природа сделала тебе плохой подарок, наделив умом и воображением и отказав в главном — в практической сметке, хладнокровии и здравом смысле. Ты чуть ли не бредишь, и все лишь потому, что, начитавшись романов, увлекся первым попавшимся деревенским вещуном. Ты готов бросить к его ногам все свои знания и большую одаренность, лишь бы подтвердить его поразительные выводы. И вот ты уже двинул в бой все науки! Астрономия, геология, гидрография, физика, даже бедная ботаника, которая никак не ждала такой чести, — все науки до единой собираются, чтобы засвидетельствовать непогрешимую мудрость какого-то Жана Жапплу! Пиши стихи, Эмиль, пиши романы! Боюсь, ты не годен ни для чего иного. — Итак, батюшка, вы пренебрегаете опытом и наблюдением, — ответил Эмиль, сдерживая досаду. — Вы не желаете считаться с простейшими выводами разума и в силу этого осмеиваете большинство теорий. Если вы хотите, чтобы я не сообразовался ни с теорией, ни с практикой, во что же тогда я должен верить? — Напротив, Эмиль, — ответил господин Кардонне, — я уважаю и то и другое, но лишь при условии, что ими пользуется здравый ум, потому что в головах безумцев они рождают только болезненные химеры. К несчастью, мнимые ученые принадлежат к числу последних; вот почему я и хотел предостеречь тебя от призраков, создаваемых их воображением. Кто наиболее легковерен, кого легче обмануть, как не педанта с предвзятыми идеями? Вспоминаю одного любителя седой старины, который посетил нас в прошлом году: он решил во что бы то ни стало найти каменные памятники друидов, и они виделись ему повсюду. Желая его ублажить, я показал ему старый выдолбленный камень, на котором крестьяне растирают пшеницу для каши, и убедил его, что это урна, куда галльские жрецы собирали человеческую кровь. Он захотел обязательно увезти камень, чтобы водворить в местном музее. Он принимал за древние гробницы-все гранитные колоды, из которых в здешних местах поят скот. Вот как возникают самые нелепые заблуждения. Если бы я захотел, крестьянские корыта и ступки сошли бы за драгоценные памятники древности. А между тем этот знаток провел полвека за чтением и размышлениями. Остерегайся же, Эмиль: скоро ты станешь превращать каждую муху в слона. — Я выполнил свой долг, — возразил Эмиль. — Я хотел предложить вам заново произвести исследование тех мест, которые осмотрел; мне казалось, что опыт ваших недавних бедствий мог вам подсказать, сколь благоразумен такой шаг. Но раз вы отвечаете шутками, мне нечего добавить. — Постой, Эмиль, — сказал господин Кардонне после минутного раздумья. — Какой же вывод можно сделать из твоих слов и что кроется за твоими великолепными пророчествами? Только то, что мудрейший Жан Жапплу — давний враг моих начинаний (кстати, он повсюду громит «папашу Кардонне», и даже при тебе, так что ты это знаешь лучше меня). Он хочет через твое посредство убедить меня покинуть эти края, где мое присутствие ему, очевидно, не по вкусу. Ну, а у тебя-то что на уме, мой ученый и философ? Каковы твои замыслы? Какую колонию хочешь ты основать? И какие пустыни Америки намереваешься облагодетельствовать с помощью твоего социализма и моей коммерции? — Зачем ходить так далеко? — ответил Эмиль. — Если мы всерьез решим цивилизовать дикарей, нам и здесь хватит дела, но ведь известно, что это не входит в ваши намерения, и поэтому, батюшка, не стоит возвращаться к тому, что уже было сказано. Я решил не перечить вам в этом вопросе, и уже давно, если не ошибаюсь, ничем не нарушал почтительного молчания, которое вы мне предписали. — Полно, друг мой! Не переходи на такой тон: именно твоя сдержанность и скрытность и сердят меня всего более. Хорошо, не будем спорить о социализме. Мы вернемся к нему в будущем году, и, кто знает, оба, быть может, сделаем к тому времени успехи, которые помогут нам лучше понять друг друга. Но подумаем о сегодняшнем дне. Каникулы длятся не вечно. Ну, а затем? Каковы твои планы относительно ученья и работы? — Я желал бы оставаться подле вас, батюшка. — Знаю, — сказал господин Кардонне с лукавой усмешкой, — знаю, что тебе очень нравятся наши края, но это тебе ничего не даст. — Если это мне даст то, что я буду жить в полном согласии с моим отцом, — значит, я не потерял зря времени. — Красиво сказано, ты весьма любезен! Однако, полагаю, таким образом мы мало подвинем наши дела, — разве только ты целиком отдашься моему предприятию. Послушай, хочешь, призовем сюда лучших советчиков и произведем новое обследование местности? — Согласен от всей души и по-прежнему убежден, что мой долг вас к этому побудить. — Прекрасно, Эмиль. Я вижу, ты опасаешься, как бы я не промотал твоего состояния. Это мне по душе! — Вы совершенно неправильно толкуете мои чувства, — живо возразил Эмиль. — Но,— добавил он, сделав усилие, чтобы сдержаться, — понимайте их, как вам угодно. — Ты искусный дипломат, приходится с этим согласиться. Но тебе не удастся так легко от меня отделаться. Слушай, Эмиль, нам следует объясниться. Если после вторичного и более тщательного исследования, которое мы с тобой замышляем, наука и наблюдение решат, что вы с мудрейшим Жапплу не так уж непогрешимы, что фабрика может быть достроена и может процветать, что наше общее состояние, вложенное в нее, принесет плоды, согласен ли ты телом и душой отдаться моим начинаниям, помогать мне всеми силами — руками и головой, умом и сердцем? Поклянись, что ты будешь принадлежать мне, что у тебя не останется иной мысли, кроме мысли о нашем обогащении. Предоставь мне выбор средств, не оспаривай их — и в обмен, клянусь, я дам твоему сердцу и чувствам полное удовлетворение, какое только в моей власти и которое не противоречит нравственности. Надеюсь, я говорю достаточно ясно? — О батюшка! — вскричал Эмиль, стремительно вскочив с места. — Взвесили ли вы ваши слова? — Вполне, и я хочу, чтобы ты также взвесил свой ответ. — Я вас не понимаю, — сказал Эмиль, падая на стул; в глазах у него потемнело, он едва не лишился чувств. — Эмиль, ты ведь хочешь жениться? — снова начал господин Кардонне, желая воспользоваться минутой смятения. — Да, батюшка, — ответил Эмиль, перегибаясь через разделявший их письменный стол и умоляюще протягивая руки к отцу. — О, не играйте моими чувствами, вы убьете меня! — Ты сомневаешься в моих словах? — Не может быть, чтобы вы говорили серьезно. — Я никогда в жизни не говорил более серьезно, и ты сейчас убедишься в этом. Я знаю, у тебя благородное сердце и возвышенный ум, что ты и доказывал не раз. Но с той же искренностью и уверенностью могу тебе сказать, что ты — натура бесхарактерная, чрезмерно горячая и не образумишься еще и через двадцать лет, а может быть — никогда. У тебя от пустяка кружится голова, где ж тебе научиться действовать хладнокровно. Ты пристрастен к людям и делам, неосмотрителен и неосторожен, спасительное чувство самосохранения не остановит тебя, не послужит предостережением твоему рассудку. Ты натура поэтическая. Я с грустью вижу, сколь тщетны мои надежды, вижу, что тебе необходим руководитель и наставник. Так благодари бога, что он дал тебе в руководители и наставники отца, который является лучшим твоим другом. Я люблю тебя таким, каков ты есть, хотя и желал бы видеть своего сына совсем иным, если бы мне дано было право выбора. Я тебя люблю, как любил бы дочь. Но, увы, природа создала тебя мужчиной. Из этих моих слов ты понимаешь, как я тебя люблю. Не жалуйся же на судьбу и не обижайся на мои упреки. Наши отношения приняли определенный характер, который теперь для меня совершенно ясен, тем не менее я готов принести любые жертвы ради твоего счастья и твоего будущего. Я преодолею отвращение — признаюсь, немалое — и разрешу тебе жениться на незаконной дочери дворянина и его служанки. Я сдержу слово и, как сказал, удовлетворю стремление твоего сердца, но при условии, что твой разум целиком будет принадлежать мне и я буду располагать тобой, как самим собою. — Возможно ли! О боже! — воскликнул Эмиль, и в голосе его послышались восторг и страх. — Но какого самоотречения вы от меня требуете? — Кажется, я уже все объяснил. Не притворяйся, будто ты не понимаешь меня. Слушай, Эмиль, я знаю весь твой шатобренский роман, я могу тебе его рассказать от начала до конца — с минуты твоего приезда в ту грозовую ночь до прогулки в Крозан, и с прогулки в Крозан до вашей беседы во фруктовом саду. Я знаю теперь всех действующих лиц так же хорошо, как ты сам, ибо видел их собственными глазами. Вчера, пока ты обследовал течение реки, я был в Шатобрене, объяснив свое посещение тем, что хочу поддержать сватовство Констана Галюше, и имел продолжительную беседу с мадемуазель Жильбертой. — Вы, батюшка?! — Как же мне было не познакомиться с той, которую ты избрал, — правда, не посоветовавшись со мной, — и которая, возможно, станет когда-нибудь моей дочерью? — О отец, отец! — Я нахожу ее очаровательной, красивой, скромной девицей: она горда, но не чванлива, прекрасно выражает свои мысли, обладает выдержкой и превосходными манерами, хорошо воспитана, а главное — рассудительна. Она весьма благопристойно отказалась от жениха, предложенного мною. Да, она добра, скромна, исполнена достоинства. Я остался ею очень доволен. Больше всего меня поразили в ней осторожность, сдержанность и умение владеть собой: признаюсь, я с умыслом задел ее и даже оскорбил, желая проникнуть в тайну ее характера. Папаша отсутствовал, но мать — кстати сказать, она препротивная, эта старуха, зятем которой ты мечтаешь быть! — была так раздражена моими замечаниями об их бедности и уместности брака мадемуазель Жильберты с Галюше, что обошлась со мной весьма высокомерно. Старуха без обиняков обозвала меня буржуа, и так как я нарочно продолжал настаивать, чтобы вывести ее из терпения, она, подбоченившись, заявила, что дочь ее — девушка слишком высокого рода и ей не пристало выходить за слугу фабриканта и что, мол, явись сюда даже сын фабриканта, они бы еще хорошенько подумали, прежде чем согласиться на неравный брак. Она меня очень позабавила! Зато Жильберта держалась с удивительным спокойствием и твердостью. Могу тебя заверить, она свято блюдет данное тебе слово — терпеливо ждать и переносить все страдания во имя своей любви. — О, значит вы заставили ее страдать? — вскричал Эмиль вне себя. — Да, немного, — спокойно признал господин Кардонне, — и очень этим доволен. Теперь я знаю, что она — человек с характером, и буду рад такой невестке. Эти качества очень полезны в семейной жизни. Нет ничего хуже, когда бог посылает человеку в жены существо слабовольное, но упрямое, умеющее только вздыхать и молчать, как… некоторые мои знакомые. С такой невесткой приятно иногда поспорить и убедиться, что она умеет правильно рассуждать, быть настойчивой в своих желаниях и способна дать мужу хороший совет. Ну, Эмиль, — добавил фабрикант, протягивая сыну руку, — ты видишь, надеюсь, что я не слеп, не чрезмерно несправедлив и хочу выйти с честью из положения, в которое ты меня поставил. — О боже мой, если вы согласитесь на мое счастье, батюшка, я готов связать себя с вами любым договором! Я стану вашим поверенным, вашим управляющим, рабочим на многие годы, пока вы не сочтете, что я способен сам распоряжаться своей судьбой. Я подчинюсь вашей воле и стану трудиться для вас день и ночь; вы не услышите от меня ни одной жалобы, я пойду навстречу всем вашим желаниям. — И даже не требуя от меня вознаграждения? — спросил смеясь господин Кардонне. — Полно, Эмиль, не этого я хочу. Видеть тебя в положении слуги было бы противоестественным. Нет, нет, речь идет не о том, чтобы откупиться от меня, да я и не такой человек, чтобы обманываться относительно твоих истинных намерений. Я еще не окончательно разорился и найду средства для оплаты управляющего; к тому же трудно представить себе человека, менее подходящего для роли надзирателя за рабочими, чем ты. Я хочу, чтобы ты стал моим вторым «я», помощником в моей созидательной деятельности, чтобы твои знания пошли на пользу моему делу, чтобы твои идеи вдохновляли меня, а я мог бы оспаривать и исправлять их, чтобы ты изобретал все новые и новые способы увеличить наше состояние, а я прибегал бы к ним в случае надобности. Таким образом, твои занятия наукой и плодотворное твое воображение помогут мне удесятерить предназначенный тебе капитал. Но тогда, Эмиль, нельзя уж будет работать так равнодушно и бесстрастно, как ты работаешь эти две недели. Меня не обманет твое показное смирение. Я знаю, что по уговору с Жильбертой ты решил добиться таким образом от меня согласия. Мне этого мало. Я хочу, чтобы ты повиновался мне всю жизнь. Я хочу, чтобы ты предпринимал длительные путешествия, — можешь при желании брать с собой жену, — знакомился с успехами промышленности, а если понадобится, проникал в тайны наших конкурентов. Я хочу, наконец, заключить с тобой договор, который перечеркнет все твое прошлое, посвященное мечтам и несбыточным надеждам, и обяжет тебя отдать твои убеждения, твою волю, твою веру, твое будущее, твою преданность и чаяния на благо моего начинания. И договор этот мы подпишем не у нотариуса: ты поклянешься моей головой и скрепишь его кровью своего сердца. — А если я не верю в ваше начинание? — спросил Эмиль, побледнев. — А ты поверь. Если же оно неосуществимо, я первый отрекусь от него. Но не думай, что таким образом ты ускользнешь от меня. Если нам надо будет снять отсюда наш лагерь, я перенесу его в другое место, — меня остановит только смерть. Где бы я ни был, чем бы я ни занимался, ты должен следовать за мной, помогать мне, пожертвовав мне всеми своими идеалами, всеми своими мечтами. — Как! Поступиться моими убеждениями, моей верой в будущее? — в ужасе вскричал Эмиль. — О батюшка, вы хотите унизить меня в моих собственных глазах! — Ах, ты отступаешь? Так, значит, ты даже не влюблен, Эмиль! Но оставим это. Боюсь, что для твоей бедной головы волнений больше чем достаточно. Подожди, поразмысли. Я сам, когда сочту нужным, обращусь к тебе за ответом. Проверь силу своей страсти, посоветуйся со своей возлюбленной. Отправляйся в Шатобрен, бывай там ежедневно, в любое время; ты больше не встретишь там Галюше. Сообщи Жильберте и ее родителям о нашей беседе. Скажи им все. Пусть они знают, что я согласен через год поженить вас, при условии, если ты сегодня же дашь мне клятву, которую я требую. Я хочу, чтобы твоя возлюбленная знала все в точности, такова моя воля. Если же ты об этом не сообщишь ей, сообщу я сам — ведь я знаю теперь дорогу в Шатобрен. — Я понимаю вас, батюшка, — сказал Эмиль, глубоко оскорбленный и взволнованный словами отца. — Вы хотите, чтобы Жильберта возненавидела меня, если я ее покину, или стала презирать, если я куплю свое счастье ценой унижения и отступничества. Благодарю вас за предложенный мне выбор. Я восхищен изобретательностью отцовской любви! — Ни слова больше, Эмиль! — холодно возразил господин Кардонне. — Я вижу, что ты упорствуешь в своих социалистических бреднях и что даже любви нелегко восторжествовать над ними. Желаю Жильберте де Шатобрен совершить это чудо, и тогда ты не сможешь упрекать меня в том, что я противился твоему счастью.XXVII Печали и радости любви
После разговора с отцом Эмиль заперся в своей комнате и провел в одиночестве несколько часов, волнуемый жестокими сомнениями. Надежда соединиться с Жильбертой без борьбы, без битвы, возможность миновать ужасное испытание, не разбивать отцовское сердце, о чем он до тех пор не мог думать без ужаса и боли, приводили его в совершенное упоение. Но, вспоминая о бесчестной клятве, которая может лишь унизить его в собственных глазах, он снова погружался в горестное отчаяние и не знал, что выбрать — счастье или страдание. Посмеет ли он, бросившись к ногам Жильберты, признаться ей во всем? Эмиль верил в мужество девушки, в величие ее души. Но, если он хочет исполнить долг любви, разве не обязан он скрыть от любимой ужасную жертву, которую мог бы принести тайно, не посвящая ее в свои страхи и сомнения? Не твердил ли он ей в Крозане, что ради нее, ради того, чтобы добиться ее руки, он вытерпит все и не дрогнет ни перед чем? Но мог ли юноша предвидеть тогда сатанинский замысел отца, задумавшего использовать самое возвышенное, что таится в душе сына, дабы искалечить и растлить эту душу? Он был сражен неожиданным ударом, он чувствовал себя обезоруженным, он терял голову! Много раз порывался Эмиль пойти к господину Кардонне, надеясь уговорить его ничего не предпринимать и скрыть от семьи Шатобрен свои намерения хотя бы до тех пор, пока он, Эмиль, не примет окончательного решения. Но непобедимая гордость удерживала его. Если отец настолько презирал сына, что счел его способным на отступничество, мог ли Эмиль обнаружить свою нерешительность и до конца раскрыть ему сердце, переполненное любовью? Но если честь пересилит в нем любовь, кто падет первой жертвой — он или Жильберта? Он был виновен перед нею, он нарушил ее покой своей злосчастной страстью и увлек ее несбыточными мечтами. В чем провинилась бедная Жильберта, за что ее чистая душа лишилась безмятежности, за что принесли ее в жертву суровому долгу? Не слишком ли поздно он заметил подводные камни, о которые по его вине могла разбиться жизнь Жильберты? И не лучше ли погибнуть самому ради ее спасения? Позволит ли ему совесть отступить перед последними жертвами теперь, когда он навсегда связан с Жильбертой? И даже если Жильберта отвергнет эту непомерную жертву, ведь он, Эмиль, все равно будет бесчестным обманщиком в глазах ее родителей! Поймет ли господин Антуан, который, сам того не ведая, претворял в жизнь идеи равенства, следуя влечению сердца, а также волею обстоятельств, в которые он попал, — поймет ли он, что юноша создал себе из идеи равенства религию и позволил ей восторжествовать над чувством, над клятвой? А Жанилла? Что подумает, подметив даже малейшее его колебание, старуха Жанилла, которая, несмотря на свое скромное положение служанки в разоренном доме, проникнута самыми нелепыми аристократическими предрассудками и, хотя пользуется у своих хозяев всеми преимуществами равенства, вовсе и не помышляет о тех же правах для всего остального человечества? Жанилла сочтет его безумцем или, вернее, решит, что, воспользовавшись подходящим предлогом, он изменил своему слову; она в гневе изгонит его из Шатобрена. Кто знает, не удастся ли ей с течением времени повлиять на Жильберту? И девушка тоже проникнется к нему презрением и негодованием… Не чувствуя в себе достаточно силы перенести столь тяжкое испытание, Эмиль попытался написать Жильберте. Он начинал и разорвал писем двадцать; не видя выхода, он решил открыть сердце старому своему другу, господину де Буагильбо, и просить у него совета. А в это самое время господин Кардонне, повинуясь жестокой прихоти своего коварного замысла, написал письмо Жильберте, гласившее:«Сударыня! Вчера Вы, должно быть, сочли меня весьма назойливым и не особенно любезным. Взываю к Вашей снисходительности и хочу признаться в невинном притворстве, которое, я в том уверен. Вы простите, узнав мои подлинные намерения. Мой сын любит Вас, мне это известно; известно мне также, что Вы соизволили ответить на его чувство. С тех пор как я Вас узнал, я счастлив и горжусь этим. Но разве не законным являлось мое желание, прежде чем решить вопрос столь исключительной важности, увидеть собственными глазами и хотя бы отчасти испытать характер той, в чьих руках сердце моего сына, а следовательно, и будущее моей семьи? Итак, мадемуазель, разрешите принести Вам повинную и сказать, что девушка столь прекрасная и благовоспитанная, как Вы, может обойтись без многого, и даже без состояния, дабы войти в богатое и почтенное семейство. А посему разрешите мне вновь явиться к Вам, чтобы просить у Вашего уважаемого батюшки Вашей руки от имени моего сына, как только Эмиль меня на то окончательно уполномочит. Последние мои слова нуждаются в кратком пояснении, и оно должно найти место в этом письме. Я ставлю моему сыну одно-единственное условие, цель коего сделать его счастье более полным и длительным. Я требую, чтобы он отказался от своих нелепых воззрений, которые смущают наше доброе согласие и в будущем могут лишь пагубно отразиться на его состоянии и положении. Уверен, что Вы достаточно рассудительны и разумны, а потому не интересуетесь доктринами равенства и социализма, при посредстве которых мой дорогой Эмиль рассчитывает вместе со своими юными друзьями в самом скором времени перевернуть мир: уверен, что слова о единении всех людей, о равномерном распределении благ и прав и многие другие термины, которыми пользуется недавно возникшее коммунистическое течение, для вас остаются книгой за семью печатями. Не думаю, чтобы Эмиль рискнул надоедать Вам сей высокопарной философией, ибо трудно допустить, чтобы он добился счастья понравиться Вам, прибегая к таким разглагольствованиям. Не сомневаюсь поэтому, что он раз и навсегда откажется от своих заблуждений. При этом условии и на основании одного лишь его добровольного, но священного обещания я от всей души согласен благословить удачный выбор, который он сделал, пленившись такой совершенной девушкой, как Вы. Благоволите, сударыня, выразить Вашему уважаемому батюшке мое сожаление, что я не застал его дома, и сообщите ему содержание настоящего письма. Примите выражение моего искреннего уважения и отцовской симпатии, с коими я вручаю в Ваши руки судьбу моего сына и мою. Виктор Кардонне».
В то время как слуга в ливрее, расшитой золотыми галунами, прискакав в Шатобрен на прекрасной лошади, передавал в руки Жильберты это послание, Эмиль, удрученный горем, направлялся пешком к парку господина Буагильбо. — Вот и прекрасно! — сказал маркиз, крепко пожимая ему руку. — Я ждал вас только в будущее воскресенье и думал вчера, что вы уже позабыли обо мне. Какая приятная неожиданность! Благодарю вас, Эмиль! С тех пор как вы так усердно работаете на фабрике вашего батюшки, время тянется для меня особенно долго. Я могу только одобрить такое повиновение, хотя, признаюсь, с некоторым страхом спрашиваю себя, не заведет ли оно вас, если вы будете следовать принципам отца, несколько дальше, чем вы сами того желали бы… Но что с вами, Эмиль? Вы бледны, печальны. Уж не упали ли вы с лошади? — Я пришел к вам пешком и упал не с лошади, а с высоты куда большей, — ответил Эмиль, — и боюсь, что у меня сейчас разорвется сердце. Выслушайте меня, друг мой, я пришел к вам, ибо знаю, что вы либо поддержите меня в моей решимости умереть, либо откроете мне тайну жизни. Несказанное счастье и ужасное горе борются в моей груди. С тех пор как мы с вами знакомы, я ношу в себе тайну, которую не смел, не мог вам поведать, но теперь я больше не в силах ее скрывать. Не знаю, поймете ли вы меня, не знаю, посочувствуете ли моим страданиям, но вы меня любите, вы умны, просвещенны, вы исповедуете справедливость. Не может быть, чтобы я не получил от вас спасительного совета. И он рассказал старому маркизу историю своей несчастной страсти, старательно скрывая, однако, имя любимой, место и время действия, которые могли бы навести на мысль, что речь идет о Жильберте и ее семье. Опасаясь давней неприязни маркиза и возможной предвзятости его суждений, Эмиль дал понять, что предмет его любви совершенно незнаком господину Буагильбо и живет не то в Пуатье, не то в Париже. Его желание скрыть имя возлюбленной показалось маркизу более чем понятным. Окончив свою исповедь, Эмиль с удивлением увидел, что строгий его наперсник отнюдь не проявляет той стоической твердости, которой не без страха ожидал юноша. Маркиз, вздохнув, опустил голову, потом поднял глаза к небу и сказал: — Истина вечна! Вслед за тем он снова уронил голову на грудь со словами: — А меж тем я знаю, что такое любовь! — Вы, вы, мой друг? — спросил Эмиль. — Вы понимаете меня, и я могу рассчитывать, что вы меня спасете? — Нет, Эмиль, никто не в силах отвратить от вас чаши горечи. Какое бы решение вы ни приняли, вам предстоит испить ее до дна. Речь идет лишь о том, как сохранить честь, а счастье… забудьте о нем, оно навсегда утеряно для вас. — Ах, я это чувствую, — ответил Эмиль. — Из опьяняющего солнечного дня я спускаюсь в сумрак смерти. Знаете ли вы, что ужасное и непоправимое зло уже совершилось? На какую бы жертву я ни решился, сердце мое оледенело, и теперь, мне кажется, я больше не люблю отца, не боюсь его огорчить, и нет больше во мне ни уважения, ни почтения к нему. О боже милостивый, избавь меня от этих мук — они выше моих сил! Вы знаете, что до сих пор, несмотря на все зло, какое он мне причинил, несмотря на страх, который он внушал мне, я нежно любил его и всеми силами души старался ему верить. Я всегда чувствовал себя его сыном и другом. А сейчас мне кажется, что кровная связь порвалась навеки, — и я борюсь против чуждого мне деспота, против угнетателя, который тяготит мою душу, как враг, как привидение. Ах, я вспоминаю сон, приснившийся мне в первую же ночь, что я провел в этих краях: отец навалился мне на грудь, хотел меня задушить. Какой страшный был сон! И вот он теперь сбывается: отец уперся локтями, коленями, ногами мне в грудь, он хочет вырвать из нее совесть и мое сердце. Он выискивает во мне слабое место, куда можно было бы нанести удар. Он весь во власти своего дьявольского замысла. Возможно ли, чтобы страсть к золоту и культ преуспевания внушали подобные мысли отцу против родного сына? Если б вы видели, как, торжествующе улыбаясь, он обольщал меня своим великодушием, сошедшим на него по злому наитию. То был не покровитель, не советчик — то был враг, расставивший западню и с вероломным смехом хватающий свою жертву. «Выбирай! — казалось, говорил он мне. — А если ты умрешь, что из того! Я одержал победу!» О боже мой! Ужасно! Ужасно осуждать и ненавидеть родного отца! И бедный юноша, разбитый горем, бросился ничком в траву и оросил ее горячими слезами. — Эмиль, — сказал господин де Буагильбо, — вы не должны ненавидеть своего отца, но вы не можете предавать и возлюбленную. Скажите мне, вы действительно дорожите истиной? Умеете вы лгать? Маркиз попал в цель. Эмиль резко вскочил. — Нет, сударь, нет! — сказал он. — Вы отлично знаете, лгать я не умею. И что обман приносит трусам? Разве он дает им счастье или покой? Пусть бы даже я дал клятву отцу отречься от своей веры, пусть бы я сказал ему, что отныне почитаю невежество и заблуждения, несправедливость и безумие, что я ненавижу божеское в человеке и презираю человеческое в себе самом, — разве все это не было бы напрасно, разве я стал бы, в силу какого-то чудовищного превращения, иным? Разве я мог бы почувствовать себя самодовольным и надменным эгоистом? — Может быть, Эмиль, труден только первый шаг, и, обманывая других, в конце концов начинаешь обманываться сам? Увы, такие случаи нередки. — Тогда — долой ложь! Потому что я чувствую себя человеком и не могу по доброй воле превратиться в животное. Мой отец, при всей своей изворотливости и силе характера, слеп. Он требует, чтобы я исповедовал его веру и убеждения и отказался от своих, но если бы ему предложили сделать то же самое, он никогда бы не согласился. Ни расчет, ни страсть не вынудят его пойти на это. Как же он не понимает, что станет первый меня презирать в тот день, когда я унижусь до подлости, на которую сам он не способен? Неужели для того, чтобы утвердиться в своих бесчеловечных принципах, ему нужно уничтожить сына и получить право презирать его? — Не приписывайте ему таких противоестественных чувств. Он человек своего времени, вернее — человек всех времен. Фанатики не рассуждают, а ваш отец — фанатик, он предает еретиков огню и пыткам во славу своей истины. Разве намного мудрее и человечнее священник, который говорит нам в наш смертный час: «Уверуй, или ты будешь проклят!» А вельможа, который говорит бедному чиновнику или голодному художнику: «Служи мне, и я обогащу тебя», — разве он не считает, что оказывает милость несчастным, осыпает их благодеяниями? — Но ведь это гнусно! — вскричал Эмиль. — Да и вообще, — продолжал маркиз, что нынче управляет миром? На чем покоится общественное здание? Надо быть очень сильным, Эмиль, чтобы восставать против этого, ибо тот, кто восстает, должен принести себя в жертву. — Ах, если бы в жертву был принесен один только я! — в тоске воскликнул юноша, — Но она! Бедное, святое создание! Неужели она также должна пасть жертвой? — Скажите, Эмиль, если бы она посоветовала вам солгать, продолжали бы вы ее любить? — Не знаю. Думаю, что да. Раз я люблю ее, нет и не может быть того, что заставило бы меня ее разлюбить. — Вы любите, я вижу! Увы, и я любил! — В таком случае скажите мне, могли бы вы пожертвовать честью во имя любви? — Возможно, если бы я был любим. — О, как слаб человек! — вскричал Эмиль. — Не может быть! Неужели в моей скорби я не найду опоры, руководства, помощи?.. Неужели никто не даст мне силы? Силы!.. О боже мой, на коленях молю тебя о ней! Я никогда не молил тебя с такой жаркой верой. Дай мне силы! Маркиз приблизился к Эмилю и обнял его. Слезы текли по морщинистым щекам старика, но он хранил молчание — он ничем не мог помочь своему юному другу. Долго плакал Эмиль на его груди и чувствовал, что любит этого человека, который после каждого испытания представал перед ним скорее чувствительной, нежели сильной натурой. Он любил маркиза от этого еще больше, но горевал, не находя в нем твердого и надежного советчика, способного поддержать его в минуту слабости. С наступлением темноты он покинул маркиза, господин де Буагильбо сказал ему на прощание: — Возвращайтесь завтра, я хочу знать, что вы решили. Я не сомкну глаз, пока не увижу вас более спокойным. Эмиль выбрал самый длинный путь к дому. Он нарочно сделал крюк, чтобы пройти поближе к Шатобрену, пробираясь лесными тропинками, скрывавшими его от прохожих, но вот перед ним открылись развалины замка, и он остановился, потрясенный. Он подумал о том, сколько, должно быть, выстрадала Жильберта со времени разговора с безжалостным господином Кардонне, но не посмел пойти к ней с утешением, из боязни потерять остаток мужества и силы. Так он стоял, не в состоянии ни на что решиться, как вдруг услышал голос, тихо окликнувший его, и весь затрепетал. Бросив взгляд на дубовую рощицу, окаймлявшую справа дорогу, он увидел мелькнувшее в тени деревьев женское платье. Он кинулся в ту сторону; и когда молодые дубки скрыли его от посторонних взглядов, Жильберта обернулась и окликнула его еще раз. — Пойдемте, Эмиль, — сказала она, как только он очутился подле нее. — Мы не можем терять ни минуты. Отец на полянке, совсем близко отсюда. Я вас заметила и узнала, когда вы спускались по дороге, и, не сказавшись батюшке, ушла, пока он беседовал с косцами. Я хочу показать вам письмо… письмо от господина Кардонне. Здесь темно, и вы не можете его прочесть, но я перескажу вам его слово в слово. Я знаю его наизусть. И, ознакомив Эмиля с содержанием письма, Жильберта спросила: — А теперь объясните мне, что все это значит?.. Мне кажется, я поняла, но я хочу услышать от вас. — О Жильберта! — вскричал Эмиль. — У меня не хватило мужества прийти к вам и все рассказать, но наша встреча совершилась по воле судьбы. Решите сами мою участь. Скажите мне, Жильберта, моя первая и последняя любовь, знаете ли вы, почему я вас люблю? — Мне кажется, потому, — ответила Жильберта, не отнимая руки, к которой Эмиль прильнул губами, — что вы угадали во мне душу, способную вам помочь. — Несравненный друг, мое единственное сокровище в целом мире! Скажите мне теперь, почему вы отдали мне свое сердце? — Хорошо, я могу сказать вам это, мой друг. С первого дня вы показались мне благородным, великодушным, простым, человечным — одним словом, добрым; а для меня нет выше этого качества. — Но ведь есть пассивная доброта, в какой-то мере исключающая благородство и великодушие чувств; есть нежность и мягкость, очаровательные для общения, но в трудные минуты человек, наделенный этими качествами, вступает в спор с долгом и готов предать интересы общества, чтобы уберечь от страданий своих близких и себя самого. — Я понимаю вас и не назову добротой слабость и трусость. Для меня нет настоящей доброты без мужества, достоинства и в особенности без преданности. Если я уважаю вас до такой степени, что могу доверчиво и без стыда признаться вам в своей любви, Эмиль, то лишь потому, что знаю достоинства вашего ума и сердца, знаю, что вы жалеете несчастных и думаете только о том, как бы помочь им, никого не презираете, болеете горестями других, что, наконец, вы готовы отдать все, что у вас есть, готовы пожертвовать последней каплей крови, лишь бы облегчить страдания сирых и бедных. Все это я угадала в вас, как только вы заговорили, как только обратились ко мне, и я подумала: его сердце бьется в лад с моим, его благородные мысли возвышают меня и утверждают во всем, что я лишь смутно до сего угадывала; я сказала себе, что этот чарующий и всепроникающий ум — светоч, и за ним я должна следовать, ибо он поведет меня к самому богу. Вот почему, Эмиль, отдавшись своей любви, я не испытывала ни страха, ни раскаяния. Мне казалось, так я должна поступать, и чувства мои не изменились после того, как я прочла письмо, в котором господин Кардонне осыпает вас насмешками. — Дорогая Жильберта, вы знаете мою душу и все мои помыслы; только одна вы, с вашей светлой душой, перед которой я преклоняюсь, с вашей божественной добротой, ставите мне в заслугу чувства, представлявшиеся мне столь естественными и которыми господь наделил всех, — мне было бы стыдно, если б я был лишен их. Да, чувства эти должны казаться вам такими близкими потому, что вы сами, больше чем кто-либо, преисполнены их; но сколько людей отвергает их и глумится над ними как над опасными заблуждениями. Есть люди, ненавидящие и презирающие эти чувства, так как им самим они недоступны, а есть и такие, которые в силу некой странной аномалии бедны духом и считают себя вправе не следовать велениям добра и разума. Но, боже мой, боюсь, что я не умею объяснить вам все это. — Нет, нет, я понимаю вас. Вот Жанилла — та ангельски добра, но по невежеству и в силу предрассудков отвергает мои идеалы равенства и пытается убедить меня, будто я могу любить обездоленных, жалеть их и помогать им, но не должна при этом забывать, что они существа низшие по сравнению со мной. — Увы, Жильберта, мой отец разделяет предрассудки Жаниллы, но смотрит на дело несколько иначе. Жанилла верит, что знатное происхождение дает право на власть, тогда как мой отец твердо убежден, что ловкость, сила и энергия дают право на богатство, а приобретенное богатство должно приумножаться бесконечно, любой ценой, и что следует пролагать себе дорогу, запретив всем слабым быть счастливыми и свободными. — Но это ужасно! — простодушно воскликнула Жильберта. — Такова страшная власть привычки и предрассудков — я не имею права осуждать отца. Но скажите, Жильберта, должен ли я подчиниться ему, когда он требует клятвы в том, что я разделю его заблуждения, его честолюбивую страсть и надменную нетерпимость? Если же такова цена вашей руки, если я минутами колеблюсь, если меня охватывает глубокий страх, что, отрекаясь от своей веры в будущее человечества, я стану недостойным вас, — разве не заслуживаю я хоть капли вашей жалости, хоть слова одобрения и утешения? — Боже мой! — сказала Жильберта, всплеснув руками. — Вы не понимаете, что случилось с нами, Эмиль! Ваш отец не желает, чтобы мы соединились, и прибегает к хитростям и уловкам! Господин Кардонне прекрасно знает, что вы не можете переменить сердце и ум, как меняют одежду или лошадь; и, будьте уверены, он сам станет вас презирать и отчаиваться, если добьется желаемого! Нет, нет! Он слишком хорошо знает вас, Эмиль, знает, что вы не способны на подобный шаг, и поэтому ничего не боится, но таким путем он достигает своей цели. Он отдаляет нас друг от друга, он пытается нас поссорить; все права на его стороне, а вина падает на вас! Но ему это не удастся, нет, клянусь, Эмиль! Ваша стойкость лишь усилит мою любовь. О, я понимаю, чего он добивается, но я выше этих жалких козней, и ничто никогда не разлучит нас! — Жильберта, вы мое божество! — вскричал Эмиль. — Скажите, как мне себя вести? Я принадлежу вам всецело. Прикажите, и я покорно надену ярмо, пойду на несправедливость, на преступление ради вас!.. — Надеюсь, вы этого не сделаете, — ответила Жильберта кротко, но с достоинством, — я разлюблю вас, если вы перестанете быть самим собою. Мне не нужен супруг, которого я не смогу уважать. Передайте же своему отцу, Эмиль, что я не согласна отдать вам руку на подобных условиях, а я подожду, пока у господина Кардонне, при всем его затаенном презрении ко мне, откроются глаза для справедливости и душа для более достойных чувств к нам обоим. Я не хочу быть наградой за предательство! О благородное создание! — вскричал Эмиль, бросаясь к ее ногам и покрывая их страстными поцелуями. — Я поклоняюсь вам, как богу, я благословляю вас, как мое провидение! Но у меня нет вашего мужества. Что будет с нами? — Увы! — сказала Жильберта. — Некоторое время нам не придется встречаться. Так надо. Отец и Жанилла были дома, когда пришло письмо господина Кардонне. Бедный батюшка совсем опьянел от радости и не понял смысла требований вашего отца. Он все вас поджидал и будет ждать до тех пор, пока я не объясню ему, что вы больше не приедете, — и, надеюсь, мне удастся тогда оправдать и ваше поведение, и ваше отсутствие. Но Жанилла долго вам этого не простит: она и так уже удивляется, сердится и беспокоится, почему вы медлите и почему господин Кардонне как будто ждет вашего согласия, чтобы просить моей руки. Если же вы скажете ей, чего требую я, она проклянет вас и навсегда запретит вам видеть меня. — Боже мой! — вскричал Эмиль. — Не видеть вас более! Нет, это невозможно! — Полноте, друг мой! Разве что-нибудь между нами изменится? Разве вы перестанете меня любить, если несколько недель, пусть даже месяцев, не будете меня видеть? Разве мы прощаемся навеки? Или вы не верите в меня больше? Или не предвидели вы препятствий, страданий, временной разлуки? — Нет, нет! — сказал Эмиль. — Я ничего не предвидел, не верил, что так может случиться… Я еще и сейчас не верю… — Дорогой мой Эмиль! Молю вас, не теряйте мужества — мне ведь оно тоже нужно. Вы поклялись преодолеть упорство отца — и преодолеете. Мы только что разрушили один из самых злых его замыслов. Господин Кардонне не сомневался, что вы откажетесь от бесчестия, и надеялся, что вы падете духом! Но он не знает вас: вы не перестанете меня любить, каждый день вы будете ему это повторять и доказывать. Ведь самое трудное сделано: ему известно все, и, вместо того чтобы негодовать и огорчаться, он с улыбкой принимает бой — как игру, в которой чувствует свое превосходство. Будьте же стойки. Знайте, что я не сдамся. Не забывайте, что наш союз станет плодом долгих лет постоянства и благоговейного труда. Прощайте, Эмиль! Я слышу голос отца: он идет сюда. Бегу! Оставайтесь здесь, подождите, пока мы не отойдем подальше. — Не видеть вас больше, — повторял Эмиль, — не слышать вас — и сохранять мужество! — Если мужество покинет вас, Эмиль, — значит, ваша любовь не так сильна, как моя, и наш союз не сулит нам того счастья, ради которого вы могли бы решиться на длительную и тяжелую борьбу. — У меня хватит мужества! — вскричал Эмиль, побежденный решимостью Жильберты. — Я умею страдать и ждать. Вы увидите, Жильберта, что уверенность в счастье даст мне силы перенести любые страдания! Но разве мы не можем иногда встречаться — случайно, как сегодня, например? — Кто знает! — сказала Жильберта. — Будем надеяться на провидение. — Но иногда нужно помогать провидению. Нельзя ли найти способ сговариваться, предупреждать друг друга?.. Хотя бы письменно… — Да, но тогда придется обманывать тех, кого любишь. — Жильберта, что же нам делать? — Я подумаю. Пустите меня! — Уйти, ничего не пообещав!.. — А моя вера в вас, мое сердце, которое я вам отдала? Разве это так уж мало? — Идите же, — сказал Эмиль, усилием воли разъединив руки, сжимавшие гибкую талию Жильберты. — Даже расставаясь с вами, я счастлив. Разве вы не видите, как я вас люблю, как верю в вас и в самого себя? — Верьте в бога, — сказала Жильберта. — Он охранит вас! И она исчезла среди ветвей. Эмиль с трудом покинул место, где только что была его Жильберта. Он целовал траву, которой касались легкие ее ножки, дерево, которое она задела краем платья, и долго не уходил из рощи. Наконец он скрепя сердце расстался с тенистым уголком — тайным свидетелем пережитого счастья. Меж тем Жильберта побежала вслед за отцом. Господин Антуан быстро шел впереди нее по дороге, ведущей в замок. Неожиданно он обернулся и простодушно сказал: — Ах, ты тут, дорогая моя! А я как раз хотел вернуться за тобой. — Значит, батюшка, вы потеряли меня по дороге? — пошутила Жильберта, пытаясь улыбнуться. — Нет, нет, не говори так. Жанилла опять станет бранить меня за рассеянность! А я как раз думал о тебе. Письмо господина Кардонне не выходит у меня из головы. Может быть, дома нас поджидает Эмиль? Он не мог прийти раньше, возможно, отец задержал его. Идем-ка скорей! Держу пари, что он уже там. И добродушный господин Антуан, доверчиво улыбаясь, ускорил шаг. Жанилла, поджидавшая их, была в неистовстве. Она не могла понять, почему Эмиль медлит, и тревожилась не на шутку. Жильберта старалась развлечь домашних и за ужином была спокойна и почти весела. Но, оставшись одна в своей комнатке, она упала на колени и уткнулась в подушку, чтобы заглушить рыдания, раздиравшие ей грудь.
XXVIII Утешение
Жильберта покорилась судьбе, хотя и была вне себя от горя. Возможно, Эмиль отчаивался меньше; ибо в глубине души еще не покорился. Его поминутно терзали сомнения, и чем больше величия души проявляла Жильберта, чем больше она становилась достойной его любви, тем сильнее он ощущал непобедимое могущество своего чувства. Эмиль уже почти дошел до дому, но вдруг повернул назад, не в силах преодолеть желания вновь увидеть Шатобрен; пройдя несколько шагов, он присел у подножия скалы и опустил голову на руки: никогда еще он не чувствовал себя до такой степени во власти любви, во власти всех человеческих слабостей. «Если бы господин де Буагильбо видел и слышал Жильберту, — размышлял Эмиль, — он понял бы, что я не могу колебаться в выборе между нею и моими убеждениями. Я должен ее добиться во что бы то ни стало, пусть даже ценою лжи. Господи, просвети меня! Ты послал мне любовь, ты дал мне испытать ее силу, так не допусти же меня от нее отказаться». — А, это вы, господин Эмиль? Что вы здесь делаете? — спросил незаметно подошедший Жан Жапплу, присаживаясь возле юноши. — Я вас искал: привык, знаете ли, болтать с вами, и коли мы не посидим после работы, мне точно чего-то недостает. Да что это с вами? Нездоровится, что ли? Чего вы за голову держитесь, будто боитесь ее потерять? — Поздно, мой друг! — ответил Эмиль. — Я уже потерял голову! — Значит, крепко влюбились? Ну так что же! Когда свадьба? — Скоро, Жан, как только захотим! — вскричал Эмиль, которого мысль о свадьбе ввергла в какое-то исступление. — Мой отец согласен, я женюсь на ней. Да, женюсь, слышишь ты! Иначе я умру. Скажи, я должен на ней жениться? — Конечно, должен! С чего это вы вдруг стали сомневаться? Если вы ее обманете, я вам этого никогда не прощу и, думается мне, сынок, все равно заставлю жениться, хотя бы для этого мне пришлось вас отколотить. — Это мой долг, ведь верно? — Можно подумать, что вы в этом сомневаетесь. У вас такой вид, точно вы рехнулись! — Да, я рехнулся, ты прав! Но все равно. Теперь я знаю, в чем мой долг. Это ты помог мне принять правильное решение. Идем сейчас же в Шатобрен! — Значит, вы направляетесь туда? В добрый час! Давайте-ка поспешим, а то уже поздно. По дороге вы мне расскажете, как это ваш батюшка стал вдруг таким разумным. А я-то считал его помешанным! — Он и есть помешанный, — сказал охваченный волнением Эмиль, взяв плотника под руку и шагая рядом с ним, — совсем помешанный, потому что согласился на мою женитьбу при условии, если я солгу, хотя сам-то он все равно мне не поверит. Но заставить меня солгать — в этом для него торжество, истинное наслаждение. — Послушайте-ка, — возразил Жапплу, — да уж не выпили ли вы часом лишнего? Хотя, правда, с вами этого как будто не случается, а между тем вы завираетесь. Говорят, от любви пьянеют, как от вина. И верно — ведь вы бог знает какую чушь городите! — Мой отец помешался, — продолжал Эмиль вне себя, — и он захотел свести с ума меня тоже. И это ему удалось, как видишь! Он хочет, чтобы я не только признал, но и клятвенно подтвердил, что дважды два — пять. И я согласен, понимаешь? Я готов потакать его безумию, лишь бы он разрешил мне жениться на Жильберте! — Не нравится мне все это, Эмиль, — сказал плотник. — Ничего я не понимаю и даже злость берет слушать. Если вы действительно спятили, тогда я не желаю, чтобы Жильберта выходила за вас замуж. Давайте-ка посидим и соберемся с мыслями. Нет у меня охоты провожать вас в Шатобрен, раз вы несете эдакую чепуху, сынок! — Жан, я совсем болен, — сказал, присаживаясь, Эмиль. — У меня кружится голова. Постарайся меня понять, успокой, помоги мне разобраться в самом себе. Ты знаешь, я думаю иначе, чем отец, ну а он хочет, чтобы я думал так, как он. Вот и все. Это невозможно, но ему все равно, лишь бы я говорил, как он. — Да что он говорит-то, черт побери? — вскричал Жан, который, как известно, не отличался долготерпением. — О, нелепицу, вздор! — отвечал Эмиль, чувствуя, что его бросает то в жар, то в холод. — Ну хотя бы, что для бедных великое счастье в том, что существуют богатые! — Враки! — сказал Жан, пожимая плечами. — …что чем больше будет богатых и бедных, тем лучше пойдут дела на свете. — Неправда! — …что между ними — война, на которую сам бог вдохновил богатых, и богатые должны вести ее с исступлением. — Напротив, бог запрещает ее! — Наконец, что просвещенным господам уготовано больше счастья, чем простым людям, ибо такова воля провидения. — Он лжет, разрази его гром! — вскричал Жан, с силой ударяя палкой по скале. — Довольно вам повторять эти глупости, слушать тошно! Наш милосердный господь говорил как раз обратное, и недаром, чтобы доказать свою правду, он, когда сошел на землю, довольствовался долей плотника. — Так ведь то бог и Евангелие, — возразил Эмиль, — а сейчас речь идет обо мне и Жильберте. Мне никак не удается убедить отца, что он заблуждается. Я должен во всем подпевать ему, Жан, и только тогда он разрешит мне жениться на Жильберте. Он сам пойдет завтра в замок просить для меня ее руки у господина де Шатобрен. — Да что он, с ума сошел, что ли? Неужели он думает, что вы будете по своей воле повторять за ним эту чушь? Верно, у него в самом деле не все дома, и оттого вы так страдаете, Эмиль! Ведь я вижу, сынок, что у вас разрывается сердце от горя! Эмиль расплакался; слезы облегчили его, и, придя в себя, он подробно рассказал плотнику, что произошло между ним и господином Кардонне. Жан слушал его, не подымая головы, затем, помолчав немного, взял юношу за руку и сказал: — Не следует прибегать к такой лжи, Эмиль, — это недостойно человека. Я вижу, что отец ваш вовсе не рехнулся, он хитрый, его не удастся провести двумя-тремя брошенными на ветер словами. Знаете, как иногда успокаивают подвыпившего человека: говорят ему что-то, словно малому ребенку. Если вы солжете или пообещаете то, что не в силах будете выполнить, отец вас доконает, и, если вы когда-нибудь попытаетесь снова стать человеком, он вам, поверьте, скажет: «Помни, что ты ничтожество!» Я его хорошо знаю. Он жестокий и высокомерный. Он не даст вам и одного денька в неделю, чтобы подумать на свободе, да и жену вашу сделает несчастной. Я его насквозь вижу! Он заставит вас краснеть перед женой и так ловко поведет дело, что и ей придется за вас краснеть. К чертям ложь и кощунственные речи! Не надо, Эмиль, я вам запрещаю! — А Жильберта? — Жильберта скажет, как и я, и Антуан также, а Жанилла… Наша Жанилла скажет что ей заблагорассудится. Но я не хочу, чтобы ты лгал. Нет на свете такой Жильберты, из-за которой я пошел бы на ложь. — Так, значит, я должен от нее отказаться, не видеть ее больше? — Да, это и в самом деле несчастье, — сказал Жан твердо. — Но когда на нас обрушивается беда, надо мужественно ее переносить. Отправляйтесь-ка к господину де Буагильбо, он скажет то же, что и я; судя по вашим словам, он все понимает и здраво мыслит. — Да нет, Жан, я уже виделся с господином де Буагильбо. Он чувствует, что эта жертва выше моих сил… — Он знает, что вы любите Жильберту? Вот так штука! Вы ему рассказали?.. — Он знает, что я люблю, но имени я не назвал. — И он посоветовал вамсолгать? — Он ничего мне не посоветовал. — Значит, и он тоже потерял голову! Так вот, Эмиль, выслушайте-ка меня, потому что правда на моей стороне. Я человек не богатый, не ученый, уж не знаю, имею ли я право наедаться досыта и мягко спать, но одно твердо знаю: когда я молюсь милосердному богу, он мне никогда не скажет: «Поди прочь!» Когда же я спрашиваю у него, что ложь, что правда, что хорошо, что плохо, он меня всегда наставляет, а никогда не ответит: «Иди да поучись!» Ну-ка пошевелите мозгами! На нашей земле много бедных и маленькая кучка богатых; и если бы у каждого было помногу, земля оказалась бы слишком тесной. Мы все здорово мешаем друг другу и, как ни стараемся, не можем друг друга любить. И вот доказательство: для того чтобы нас примирить, требуются жандармы и тюрьмы. Может ли оно быть иначе? Не знаю. Вы на этот счет говорите очень складно, и, когда начнете, так и слушал бы день и ночь — уж очень у вас все хорошо получается! За это я вас и люблю. Но я никогда не говорил вам, сынок, что надеюсь дожить до той поры. Если такое и возможно, оно еще очень далеко, и я, человек, привыкший к тяжелому труду, молю всевышнего, чтобы мы оставались какие есть и чтоб богачи не могли ухудшить нашу долю. Если бы все были как вы, как я, как Антуан и как Жильберта — все бы люди ели один суп за одним и тем же столом. Но я знаю, что другие и слышать не захотят о таком устройстве и что понадобится слишком много говорить и делать, чтобы они поняли. Я… я-то гордый, и мне нет дела до тех, кто меня презирает, — вот в чем моя мудрость. Я не забиваю себе мозгов политикой, я в ней ничего не смыслю, но не желаю, чтоб меня слопали, и ненавижу людей, которые говорят: «Давайте все слопаем». У вашего батюшки как раз такая ненасытная утроба, и если бы вы пошли в него, да я бы вам скорее голову топором проломил, чем разрешил мечтать о Жильберте. У вас от природы доброе сердце, а истину вы считаете благом. Стойте же за истину — она единственное достояние, которое нечестивцы не могут у нас отнять. Пусть ваш папаша говорит: «Так оно есть, мне это подходит, пусть так оно и будет!» Что ж, его сила в богатстве, и ни вы, ни я не можем его обуздать. Но какой бы он ни был упрямец и ненавистник, ему не удастся заставить вас признать, что вот это-то и есть добро и что бог этим доволен, — нет уж, извините! Говорить, что бог любит зло, — противно религии, а мы ведь христиане, как я полагаю. Вы крещеный, я также и отвергаю дьявола. По крайней мере, за меня от дьявола отрекался у купели мой крестный отец, и я сам, когда бывал крестным, не раз отрекался от дьявола за других. Вот почему мы не должны давать ложных клятв, богохульствовать и говорить, что люди появляются на свет неравными и потому не все заслуживают счастья, — а то выходит, что мы еще до рождения осуждены на адские муки! Так-то, Эмиль! Вы не солжете и заставите вашего папеньку отказаться от своих бессовестных условий. — Ах, друг мой, если бы только я мог видеть Жильберту хоть раз в неделю, если бы я не был обесчещен в глазах ее отца и изгнан из их дома, надежда дала бы мне мужество. — Обесчещены в глазах Антуана? Да за кого вы его принимаете? Неужели вы думаете, что он захочет в зятья предателя и лицемера? — О, если бы он рассуждал так, как вы, Жан! Но он осудит мое поведение. — Антуан пороха не выдумает, это верно. Он никак не мог понять или запомнить теорему про квадрат гипотенузы, а я увидел, как ее выводит мой товарищ, и выучил в пять минут. Но вы зря считаете его слишком большим простаком. Что касается чести и добрых чувств, Антуана не проведешь! Неужели, по-вашему, нужно быть уж таким хитрым и умным, чтобы сообразить, что дважды два — четыре, а не пять? А я вам говорю, что для этого вовсе не требуется прочитать все книги на свете, как маркиз де Буагильбо. Всякий несчастный прекрасно понимает, что его доля несправедлива, если только не он сам повинен в своих несчастьях. Разве не страдал, разве мало перенес наш друг Антуан? Разве богачи не отвернулись от него, когда он обеднел? Как же он может их оправдать? Ведь сам он такой, что, когда у него есть кусок хлеба, он отдаст соседу три четверти, а то и весь целиком. Да разве завели бы вы с ним дружбу, не будь вы настоящим человеком? Разве вы полюбили бы его дочь, захотели бы на ней жениться, если бы разделяли взгляды вашего папаши? Нет, вы на нее и не посмотрели бы, а то, чего доброго, просто бы соблазнили! И подло бросили бы, раз у нее нет приданого. Так что, Эмиль, сынок, мужайтесь! Честные люди вас всегда будут уважать! За Антуана я ручаюсь, это уж предоставьте мне. Ну, а если Жанилла станет кричать, я ведь тоже молчать не буду, — и тогда посмотрим, у кого из нас двоих голос громче и язык лучше подвешен. А Жильберта всю жизнь будет питать к вам самые лучшие чувства и останется признательна за вашу прямоту. Другого она не полюбит, будьте уверены. Я ее знаю. Ее слово крепко. Дайте срок, папаша ваш еще переменит мнение, и случится это, когда сам он станет несчастным; а как я вам предсказал, так оно и будет. — Отец этому не верит. — Значит, вы ему сказали, что я думаю об его фабрике? — Пришлось сказать! — Зря! Но слова не воротишь, пусть будет так, как должно быть. А теперь, Эмиль, пойдемте-ка по домам, вам надо лечь: вас, я вижу, трясет лихорадка, у вас жар. Послушай, сынок, не порти ты себе кровь и положись на милосердного бога. Завтра утром я отправлюсь в Шатобрен и все им скажу. Они меня послушают, не беспокойся. Не такие они люди, чтобы поссориться с человеком из-за того, что он исполнил свой долг! В этом я тебе ручаюсь, не огорчайся. — Жан, дорогой мой, ты меня успокоил! Слушая тебя, я набираюсь сил, чувствую себя уже лучше. — Потому что я иду к цели и пустяков во внимание не принимаю… — Так ты пойдешь в Шатобрен… Завтра, да? Но ведь завтра у тебя рабочий день. — Ну да, завтра. Работаю-то я бесплатно, так что могу начать, когда захочу. Знаете, на кого я работаю завтра, Эмиль? А ну же, догадайтесь, сообразите! Это вас хоть немного развлечет. — Не знаю. На господина Антуана? — Нет, какие же у Антуана работы? А если что и надо сделать, то он сам справляется. Но есть у него один сосед, у того дело всегда найдется, и лишний человек ему не в тягость. — Кто же это? Неужели господин де Буагильбо помирился с тобой? — Нет, насколько я знаю. Но он никогда не запрещал своим арендаторам давать мне работу — не такой он человек, чтобы нарочно причинять мне зло. Одна его челядь и знает, что он на меня сердит, если только это так, потому что сам черт не разберет, что у него в голове происходит. Но, заметьте, работаю я на него, а он и не догадывается, потому что, как вам известно, навещает свои владения раз в год, не чаще. Это немного далековато от наших мест, но по милости вашего панаши рабочих здесь мало, так что за мной прислали, а я не заставил себя просить, хоть и имелось у меня срочное дельце поблизости. А признаться, мне доставляет удовольствие работать на старика. Но, как вы сами понимаете, денег я не беру: я и так перед ним в долгу после всего, что он для меня сделал. — Маркиз не потерпит, чтобы ты работал на него даром. — Придется ему стерпеть, потому что он ничего знать не будет. Да разве он знает, что у него делается на фермах? В конце года он рассчитывается со всеми оптом и в подробности не входит. — А если арендаторы насчитывают ему твой поденный заработок, как будто они тебе его платили? — Для этого надо быть плутами, а они люди честные. Люди, видите ли, таковы, какими их делают. Старого Буагильбо не обкрадывают, хотя нет ничего легче. Но он не обижает и не притесняет никого, а потому и его не надувают и не берут с него больше, чем полагается. Другое дело ваш папаша! Он высчитывает, спорит, следит — и его обкрадывают и будут всегда обкрадывать и другого отношения ему за всю свою жизнь не видать. Жану удалось рассеять и даже утешить Эмиля. Этот прямой, смелый и стойкий человек неизменно оказывал на юношу самое благотворное влияние, и Эмиль, взяв с Жана обещание узнать завтра же вечером, как настроены по отношению к нему родные Жильберты, лег спать почти спокойно. Жан ручался, что откроет им глаза на поведение Эмиля и его отца. Горе делает нас слабыми и доверчивыми, и, если нам недостает мужества, как утешительно вручить свою судьбу человеку решительному и деятельному! Если нашему покровителю и не удается так легко, как он надеется, помочь нам в беде, то все же общение с ним укрепляет нас и ободряет: его вера незаметно передается нам и помогает выйти из затруднения своими силами. «Плотник, которого презирает мой отец, — думал Эмиль, засыпая, — этот необразованный крестьянин, бедняк, эта простая душа, сделал мне больше добра, чем господин де Буагильбо. И когда я просил у неба совета, поддержки, молил послать мне спасителя, — оно послало самого бедного и смиренного человека, и тот в двух словах обрисовал мне мой долг. О, какую силу приобретает истина в устах прямодушного и чистого существа, и как ничтожна наша наука в сравнении с наукой сердца! Отец, отец, больше чем когда-либо, я чувствую, что вы ослеплены, и урок, полученный мной от этого крестьянина, — самое суровое вам осуждение!» Эмиль воспрянул духом, но ночью пережил довольно сильный приступ лихорадки. В часы тяжелых душевных потрясений человек обычно пренебрегает заботой о своем здоровье, не бережет себя. Он не замечает изнуряющего голода, не ощущает холода, дождя и ветра, обливаясь потом или сгорая от лихорадки. Он становится нечувствителен даже к физической боли. Но стоит ей овладеть нами, как мы испытываем чуть ли не облегчение, ибо она отвлекает нас от страданий душевных: человек успокаивает себя мыслью, что страданиям рано или поздно наступит предел, от них когда-нибудь избавит смерть, а сознавать себя слишком слабым для бесконечных горестей — уже немалое утешение. Господин де Буагильбо прождал гостя весь день и, когда, под вечер, убедился, что тот не придет, не на шутку забеспокоился. Старик крепко привязался к Эмилю, хотя внешне почти не проявлял своих чувств; он не мог больше обходиться без общества своего друга и испытывал глубокую признательность к юноше, которого не смогли оттолкнуть холодность и замкнутость отшельника и который, разгадав чувства, скрытые в его душе, свято соблюдал обет сыновней преданности. Молчаливый, вечно печальный старик, слывший повсюду скучнейшим человеком и по малодушию преувеличивавший свои собственные недостатки, действительно нашел друга, когда уже считал, что ему предстоит умереть в одиночестве, не оставив по себе ни в ком сожаления. Эмиль почти примирил его с жизнью, и маркиз поддавался иной раз сладкому самообману и воображал Эмиля своим сыном, видя, как тот постепенно привыкает к его угрюмому нраву и обычаям в его доме, делит с ним досуг, разбирает библиотеку, перелистывает его книги, прогуливает лошадей, даже входит иногда в денежные дела, чтобы оберечь его от самой большой докуки, любит бывать у него и, наконец, проводить с ним время, — как будто характер и вся атмосфера их близости устранили разницу в летах и вкусах. Долгое время в душе старого маркиза то и дело пробуждалось недоверие, и он пытался распространить даже на Эмиля свою болезненную неприязнь к людям — но тщетно! Сидя в одиночестве, он мог сколько угодно убеждать себя, что истинная причина частых посещений молодого собеседника, жадного до серьезных разговоров и философских споров, кроется в безделье или пустом любопытстве, однако стоило появиться в его уединении Эмилю, как маркиз, увидев веселое и открытое лицо юноши, такого чистого и смелого, чувствовал, что у него возрождается надежда, и ловил себя на том, что просто-напросто любит его, хоть и знает, что при новом приступе подозрительности снова будет мучиться. И вот, после того как вся жизнь маркиза, и в особенности последние двадцать пять лет, ушли на то, чтобы отгородиться от чувств, на которые он считал себя уже неспособным, эти чувства вновь завладели им, и мысль лишиться дружбы Эмиля была для него непереносимой. Взволнованно шагал он по аллеям парка, выжидательно останавливаясь у всех калиток, вздыхая на каждом шагу, вздрагивая при каждом шорохе. И наконец, не вынеся безмолвия и одиночества, сокрушаясь при мысли, что не в силах облегчить горе, терзающее Эмиля, старик вышел в поле и направился в сторону Гаржилеса в надежде увидеть скачущего ему навстречу вороного коня. Господин де Буагильбо крайне редко отваживался на такие смелые вылазки за пределы своей обширной усадьбы и теперь старательно избегал проезжих дорог из боязни встретить чужих. Поэтому он пошел напрямик по лугам, не теряя, однако, из виду дороги, по которой должен был проехать Эмиль. Шел он медленно, даже как будто неуверенно, поскольку все движения господина Буагильбо отличались благоразумной осторожностью, на самом же деле шаг его был тверд. Добравшись до небольшого притока Гаржилесы, который, выбегая из-под ограды парка, извивался по долине, он услышал звук топора и чьи-то голоса. Маркиз имел привычку уходить при первом звуке, выдававшем присутствие человека, и готов был сделать любой крюк, лишь бы избежать случайной встречи, но на сей раз он поступил иначе, и на то имелась своя причина. Маркиз питал, если можно так выразиться, страсть к деревьям и не позволял своим арендаторам их рубить, — разве только сухостой. Каждый раз, услышав стук топора, он настораживался и не мог устоять против желания убедиться собственными глазами, не нарушается ли его приказ. Так и теперь — он решительным шагом вышел на луг, где трудились рабочие, и почувствовал искреннюю жалость, увидев десятка три прекрасных деревьев, еще покрытых свежей листвой, которые лежали на земле и были частично уже распилены. Арендатор с помощью сыновей грузил бревна на запряженную волами телегу. Топор, удары которого эхом отдавались в долине, с невероятной быстротой мелькал в проворных руках Жана Жапплу. Господин де Буагильбо отнюдь не преувеличивал, когда однажды поведал Эмилю самым холодным тоном, что крайне вспыльчив по природе. Такой уж у него странный характер. Узнав плотника, один вид которого и даже имя вызывали в нем неприязненное чувство, маркиз побледнел, потом, заметив, что Жан валит прекрасные, еще вполне здоровые и крепкие деревья, задрожал от гнева, покраснел, что-то забормотал и стремительно бросился вперед; никто не поверил бы, что этот человек за минуту до того шел размеренным шагом, тяжело опираясь на палку с золотым набалдашником.XXIX Приключение
Срубленные деревья, при виде которых так сильно огорчился господин де Буагильбо, в беспорядке валялись на берегу узкой речки, так что стройные тополя, старые ивы и великолепные ольхи касались своими верхушками противоположного берега, образуя над бурливыми водами зеленый мост. Пока волы вытаскивали на канатах деревья из речки и подтягивали их к телегам, на которые их должны были погрузить, неутомимый плотник, перепрыгивая со ствола на ствол, над самой водой обрубал переплетавшиеся ветви, мешавшие работе. Всегда ревностный в труде, Жан проявлял теперь не только свойственные ему решительность и ловкость, но наносил удары в состоянии какого-то исступления и с той особой радостью, какая хорошо знакома лесорубам. Река была здесь быстра и глубока, и вряд ли кто-либо другой решился бы работать на таком опасном месте. С легкостью и уверенностью юноши Жан добирался до гибких верхушек деревьев, преграждавших течение, и когда очередь доходила до ветви, на которой он с трудом удерживал равновесие, с маху подрубал ее, но лишь только раздавался зловещий треск, предупреждая, что его ненадежная опора вот-вот рухнет в воду, проворно перепрыгивал на соседние стволы, возбужденный опасностью и восхищением товарищей. Сверкающий топор взвивался молнией над его головой, а зычный голос подбадривал других, и те дивились, глядя, как спорится дело, когда за него берется человек, которому воля и ум помогают сметать с пути все препятствия и делать чудеса. Если бы господин де Буагильбо не потерял обычного хладнокровия, он также, вероятно, залюбовался бы Жаном и даже почувствовал бы некоторое уважение к человеку, который вносил в эту грубую работу такое вдохновение. Но вид прекрасного, полного соков дерева, в самом расцвете сваленного топором, всегда приводил маркиза в негодование и раздирал ему сердце, словно он присутствовал при убийстве, а если, не дай бог, дерево принадлежало ему, он вступался за него, как вступился бы за брата или друга. — Что вы здесь делаете, безмозглые болваны? — потрясая тростью, вскричал он фальцетом, который в гневе зазвучал пронзительно и резко, как солдатская дудка, — А ты, палач, — крикнул он Жану Жапплу, — ты, видно, поклялся меня мучить и оскорблять! Крестьяне бывают туговаты на ухо, а в особенности беррийцы. Погонщики волов, разгоряченные непривычным рвением, не расслышали хозяина, тем более что треск сучьев, хлопанье бичей, скрип ярма и зычные властные окрики плотника покрывали слабый голос маркиза. Все предвещало грозу, с горизонта подымались тяжелые лиловые тучи. Жан обливался потом, но не отпускал рабочих, твердя, что от ливня речонка вздуется и может унести бревна. Он был в каком-то неистовстве и, несмотря на свое благочестие, сквернословил на этот раз хуже язычника, словно брань удесятеряла его силы. Кровь стучала у него в ушах. При каждом взмахе богатырской руки у Жана вырывался ликующий и яростный крик, который сливался с раскатами грома. Порывы буйного ветра забрасывали его листвой и развевали серебристые пряди его жестких волос. Бледное лицо, сверкающие глаза, кожаный передник, высокая поджарая фигура, мощная рука, заносящая топор, придавали ему сходство с циклопом, заготовляющим на склонах Этны запасы дров, чтобы поддерживать огонь в горне своей адской кузницы. Пока маркиз в бессильном гневе взывал к порубщикам, плотник отсек последнюю ветвь, пробежал по тонкому стволу молодого клена с ловкостью, которой позавидовал бы любой акробат, прыгнул на берег, схватил веревку упряжки и, не зная, куда девать избыток своей могучей силы, впрягся вместе с усталыми волами, как вдруг его спину, едва прикрытую грубой рубахой, ожег удар гибкой и сухой трости господина де Буагильбо. Плотник подумал было, что его опять хлестнула ветвь: на долю Жана пришлось немало таких ударов во время сегодняшней битвы с зелеными гигантами. Он быстро обернулся, громко выругался и, разрубив ударом топора наотмашь трость маркиза, сердито крикнул: — Больше ты никого хлестать не будешь — отхлесталась! Только он успел произнести это заклятие, как его глаза, которые словно застлало туманом, так он был опьянен работой, — внезапно округлились от удивления: при вспышке молнии он увидел своего благодетеля, бледного, как призрак. Маркиз держал в дрожащей от бешенства руке золотой набалдашник и обрубок трости. Еще немного, и Жан вместе с тростью отсек бы руку, неосторожно поднявшуюся на него. — Тысяча чертей! Да это никак господин де Буагильбо! — вскричал плотник, отбрасывая топор. — Если это ваш дух явился ко мне, чтобы меня мучить, так сгинь, пропади, но если это вы сами, маркиз, во плоти и крови, скажите напрямик, потому что я не терплю выходцев с того света! — Что ты здесь делаешь? Почему рубишь мои деревья, глупая скотина! — ответил господин де Буагильбо, чей пыл нимало не охладел от того, что он только чудом избег опасности. — Простите, — сказал удивленный Жан, — вы как будто недовольны? Значит, это вы меня так хлопнули? Вы не очень-то приятны, когда разгневаетесь. И хоть бы словом предупредили! Не вздумайте только продолжать в том же духе! Не окажи вы мне великой услуги, я уже перерубил бы вас, как тростинку. — Хозяин, хозяин, простите нас! — сказал арендатор и, бросив своих волов, ловко встал между плотником и маркизом. — Это я попросил Жана срубить деревья. Никто не справится лучше него: он один за десятерых сработает. Сами видите: с полудня тридцать деревьев повалил да еще помог их вытащить из воды! Не сердитесь на него, хозяин. Он у нас злой на работу! Если бы для себя рубил, и то не так бы старался. — Но почему он рубит мои деревья? Кто ему позволил? — Да ведь их подмыло паводью, хозяин, они уже начали желтеть. Еще одна паводь, и их выворотит и унесет с корнями… Сами поглядите. Понемногу маркиз пришел в себя и, оглядевшись, увидел, что и в самом деле последнее наводнение подмыло деревья. Развороченная земля, торчавшие из нее мощные корни подтверждали правильность слов арендатора. Тем не менее, все еще не доверяя собственным глазам, он спросил: — А почему все-таки вы не подождали моего распоряжения? Ведь я вам сто раз наказывал не касаться деревьев без спросу. — Но, хозяин, неужели вы не помните, как я приходил к вам на другой день после паводи и сообщил о беде, а вы еще мне сказали: «Ну что ж, уберите эти деревья и посадите новые». А сейчас сажать в самый раз, вот мы и торопимся расчистить место. А из этих деревьев каких мы лестниц понаделаем! Чего добру зря пропадать! Да вы извольте дойти до нашего двора, там у нас под навесом уже с дюжину стволов лежит, а завтра остальные притащим. — В добрый час! — ответил господин де Буагильбо, смущенный своей несдержанностью. — Да, верно! Ведь и в самом деле я разрешил вам, а вот забыл. Надо мне было раньше прийти сюда и посмотреть, как обстоят дела. — Еще бы, ведь вы так редко показываетесь на людях, хозяин, — добродушно сказал крестьянин. — Я позавчера встретил господина Эмиля, он как раз к вам шел, я ему рассказал, какая у нас беда с деревьями приключилась, и просил вам напомнить. Неужели он позабыл? — Должно быть, — сказал господин де Буагильбо, — Ну ничего! Но пора и по домам, уже стемнело, да и гроза надвигается. — Вы промокнете, хозяин, зашли бы куда-нибудь и переждали дождь. — Не стоит, — ответил маркиз, — дождь может зарядить надолго, а я не так далеко от дома и успею дойти. — Хозяин, вы не успеете, дождь пошел, да какой частый. — Ладно, ладно, спасибо! Это уж мое дело! — возразил господин де Буагильбо. Он двинулся по направлению к замку, а арендаторы погнали своих волов на ферму. — Не очень-то полезно в его лета под дождем разгуливать, — сказал арендатор сыну, глядя вслед удалявшемуся маркизу: без палки старик шагал совсем медленно. — Напрасно он не подождал, — заметил молодой крестьянин, — можно было бы сбегать за каретой. Ну, ну, Весельчак! Лысый! — замахнулся он на волов. — Назад, Серый! А ну, не робей, тяни, голубчики! Понукая волов, отец и сын погнали упряжку прямо через мокрые луга и вскоре исчезли в лесу. Остальные лесорубы следовали за ними, и никто уже не беспокоился о судьбе господина Буагильбо. Крестьянин вообще беззаботен от природы. А старый маркиз тем временем пересек луг и только было собрался пролезть через живую изгородь, как вдруг, обернувшись, увидел Жана Жапплу: плотник неподвижно сидел на пне среди поваленных деревьев подобно победителю, предающемуся грустным размышлениям на поле битвы. Куда девался веселый пыл, с каким этот силач ворочал толстые бревна! Погруженный в глубокую печаль, он словно бы и не чувствовал, как по его разгоряченному лбу катятся крупные капли дождя, смешиваясь с потом. «Мне, видно, суждено оскорблять этого человека и самому терпеть от него мучения», — подумал господин де Буагильбо. Долго он стоял в нерешительности, колеблясь между чистосердечным раскаянием и неудержимой неприязнью к Жану. Наконец маркиз сделал Жану знак приблизиться, но тот, казалось, не заметил, хотя еще не совсем стемнело. Маркиз позвал его еще раз, уже без всякого гнева, своим обычным ровным голосом, но Жан все не откликался. «Ничего не поделаешь! — подумал господин де Буагильбо. — Я виноват, надо уступить». И направился прямо к плотнику. — Ты что здесь сидишь? — спросил он, хлопнув Жана по плечу. Жан вздрогнул и, с трудом отрываясь от своих дум, спросил резко и раздраженно: — Чего вы от меня хотите? Опять драться пришли? Нате, вот кусок вашей трости. Я собирался отнести ее вам завтра, на память о сегодняшнем вечере. — Я был неправ, — сказал господин де Буагильбо, запинаясь. — Легко сказать «неправ»! — возразил плотник. — Если вы богаты, стары и вдобавок маркиз — значит, так вам все и прощать? — Что же требуется, чтобы ты простил? — Вы отлично знаете, что ничего я от вас требовать не вправе. Я мог бы перешибить вас одним щелчком, но я вам обязан. Одного я вам не прощу — того, что вы превратили благодарность в тяжкое и унизительное для меня бремя. Вот уж никогда бы не поверил, что такое может со мной случиться. Ведь и у меня есть сердце, и я горевал, что не мог вас отблагодарить. Лучше мне в тюрьму пойти или снова бродяжить, чем ваши побои выносить. Уходите! Оставьте меня в покое! Только было я начал приходить в себя, как вы снова меня разозлили. Свихнулись вы, что ли! Так и будем знать, тогда и разговаривать нечего. — Ну что же, ты прав, Жан, я немного свихнулся, — грустно согласился маркиз. — Я не в первый раз теряю власть над собой из-за сущих пустяков. Вот почему я и живу одиноко, никуда не выхожу и показываюсь на люди как можно реже. Разве это не тяжелое наказание? Жан ничего не ответил, услышав это печальное признание; он чувствовал к маркизу уже не гнев, а жалость. — Так скажи же, как мне исправить мою вину? — снова начал господин де Буагильбо дрожащим голосом. — Как? — переспросил плотник. — Я вас прощаю. — Спасибо, Жан. Не хочешь ли вернуться ко мне на работу в усадьбу? — К чему? Ведь я и здесь работаю на вас. Мой вид вам докучает, и в вашей власти было не встречаться со мной. Сам я не хотел попадаться вам на глаза. Вы еще вздумаете платить мне, а когда я тружусь на ваших арендаторов, вы не можете принудить меня получать с них деньги. — Но твой труд приносит мне доход, ведь его плоды остаются в моих владениях, Жан. Я не согласен на это. — Ах, вы не хотите! А мне плевать! Я желаю с вами расквитаться, и вы не смеете мне мешать. Уж раз вы меня оскорбили да еще поколотили — я теперь нарочно все отработаю бесплатно, черт возьми! Просто назло вам. Это вас небось унизит? Тем лучше, значит, я буду отомщен! — Отомсти мне каким-нибудь иным способом! — А каким? Побить вас, что ли? Так мы с вами квиты не будем и я останусь вашим должником, а я не хочу чем-либо быть вам обязанным. — Что ж! Рассчитывайся как тебе угодно, раз ты такой гордый и несговорчивый! — сказал маркиз, выходя из себя. — Тебя ослепляет злоба, иначе ты видел бы, как я страдаю! Если бы ты мог понять, тебе не потребовалось бы никакой другой мести, а ты хочешь мстить грубо и жестоко. Ты готов умереть с голоду, готов с ног валиться от усталости, лишь бы я краснел от стыда и мучился до конца дней моих. — Ну, если вы так к этому относитесь… — сказал Жан, смягчаясь. — Я ведь не злой человек, так уж и быть, прощаю ваш юношеский пыл. Да, черт побери! Вы горячи не по летам, и рука у вас крепкая, дай бог всякому! Кто бы мог подумать! Ну, не будем больше об этом говорить. Повторяю еще раз: я вас прощаю. — Согласен ты работать у меня? — За полцены. На этом и покончим! — Нельзя же равнять твое положение с моим, да к тому же получаемая тобою плата несоразмерна твоему труду. Будь великодушен: это самая прекрасная и совершенная месть. Работай у меня на тех же условиях, как у других. Позабудь, что я оказал тебе услугу — кстати, отнюдь не обременительную для моего кошелька, — пусть я, таким образом, буду твоим должником, потому что я нанес тебе тяжкую обиду, а может ли быть более жалкое возмещение за нее, чем деньги. — Как вы все это обернули, и не поймешь ничего! Допустим, я соглашусь. А что, если я приду и вам опять не понравится моя физиономия? Послушайте, господин де Буагильбо, вот уже сколько времени вы на меня злобитесь, за что? По-моему, пора объясниться. Как знать, может быть, я похож на какого-нибудь вашего недруга? Он, верно, нездешний, потому что в наших краях я не припомню никого, кто бы на меня походил, кроме, пожалуй, старой клячи, на которой разъезжает священник. — Не задавай мне вопросов, на которые я не могу ответить. Считай, что я подвержен припадкам безумия, и люби меня из жалости, раз уж меня нельзя любить иначе. — Господин де Буагильбо, — сказал плотник с жаром, — не надо так говорить, вы несправедливы к себе! У вас есть недостатки, это правда: вы капризны, чересчур вспыльчивы, но вы сами знаете, как все вас уважают, потому что есть в вас справедливость, вы любите добро и зла от вас никто никогда не видел. А потом, вы все раздумываете и не из книг свою премудрость взяли — мало кто из богачей до такой дошел… А если бы все думали, как вы, люди могли бы стать счастливыми. Для того чтобы так смотреть на жизнь, мало быть образованным и умным — надо еще горячо любить всех людей на земле, надо, чтобы в груди было сердце, а не камень; думаю, что таких, как вы, наставляет бог. Не говорите же, что вас только жалеют, — стоит вам захотеть, и вас будут по-настоящему любить, вот такого, как вы есть. — Что же, по-твоему, надо для этого сделать? — Надо только не отталкивать тех, кто склонен вас полюбить! — А кого же и когда я отталкивал? — Да меня, к примеру, и не раз… Не говорю уж о других; есть такие, что вы даже имени их не позволяете при вас упомянуть. — Поговорим лучше о тебе, Жан, — сказал господин де Буагильбо с неестественной поспешностью, — или, знаешь, приходи-ка ко мне вечером ужинать и останешься ночевать. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня мы окончательно помирились… на известных условиях, которые я тебе, может быть, скажу… и которые не относятся к существу нашей ссоры. Дождь усиливается, под деревьями больше не спрячешься. — Нет, я не пойду к вам сегодня, — сказал плотник, — но до дома провожу: смотрите, вон какая туча надвигается, через минуту уже трудно будет идти. Вот что, господин де Буагильбо, послушайтесь-ка меня, накиньте на плечи мой кожаный передник; он, правда, не особенно красивый, но грязи на нем нет: ведь дерево — оно чистое, потому-то я свою работу и люблю; к тому же он не боится воды. — Нет, я хочу, чтобы ты им накрылся. Ты вспотел, и хотя обращаешься со мной как со стариком, но ведь и ты не юноша, друг мой… Ну, чего там церемониться! Я одет хорошо. Недоставало только, чтобы ты из-за меня простудился. Довольно и того, что я сегодня тебя ударил. — Ох и хитрый же вы! Ладно, идемте! Да, я, конечно, уже не молод, но пока ничего, на годы не жалуюсь. А знаете ли вы, что я только на десять лет вас моложе? Помните, когда я построил для вас деревянный домик в парке — «шале», как вы его называете? Так вот, в Иванов день минуло ровно девятнадцать лет с тех пор, как я насадил подле него рощицу. — Да, верно! Девятнадцать лет! Только-то? А мне казалось — куда больше. Впрочем, домик чудесно построен, и нужно его лишь кое-где подновить. Хочешь взять на себя этот труд? — Если нужно, я не против. Помню, в свое время я немало над вашим домиком потрудился. Глядишь, глядишь на ваши проклятые рисунки и стараешься, чтобы вышло точь-в-точь. — Это твое лучшее творение, и трудился ты с охотой. — Да, в иные дни эта охота мне дорого стоила, иной раз я просто заболевал от усталости, а тут еще вы подходите и говорите: «Жан, это не то, ты меня не понял!» Да, умели вы меня рассердить! — Мало сказать — рассердить! Ты меня чуть к черту не послал. — В то время вы мне и это спускали. Никогда не поверил бы… Терпели, терпели мой характер, а в один прекрасный день вдруг обозлились, да еще причины не сказали! Ну-ка, что же надо починить в вашем деревянном домике? — Да там одна дверь никак не запирается. — Осела, значит. Когда начинать? — Завтра же. Вот почему я хотел оставить тебя на ночь. Куда ты пойдешь в такую погоду, да еще так поздно? — Верно, того и гляди, в темноте шею сломишь. Смотрите себе под ноги, в яму можно угодить. Но пусть хоть все хляби небесные разверзнутся, я все равно вернусь в Гаржилес! — У тебя там такие важные дела? — Да, я хочу повидать моего сынка, Эмиля Кардонне, мне надо ему кое-что рассказать. — Эмиля? Ты видел его сегодня? — Нет, я ушел рано утром по его делам… Не будь вы такой чудной, я бы вам кое-что рассказал, потому что вы уже сами немало знаете! — Не думаю, чтобы у него были от меня тайны, но раз он тебе что-то доверил, а мне не сказал, я не хочу знать. — Да я и сам не скажу, будьте покойны. — Значит, ты не можешь мне даже сообщить, здоров ли он? Я очень тревожусь. Я надеялся, что он навестит меня сегодня, и как раз вышел ему навстречу. — Ага! Теперь я понимаю, почему вы выбрались так далеко, вы же никогда дальше парка не выходите. Зря вы шагаете, не разбирая дороги. Сейчас на лугах ручьи разлились, и я сам не разберу, куда мы зашли. Ну и дождина, пропади он пропадом! Такая же гроза была в тот вечер, когда Эмиль прибыл в наши края! Мы встретились под большой скалой, вместе укрылись там от непогоды; я тогда еще не знал, что приобрел в тот час друга, нашел истинное человеческое сердце, настоящее сокровище… — Так ты к нему очень привязан? Он не раз пытался говорить со мной о тебе… — А вы ему, понятно, не разрешали? Я так и думал. Он вроде вас, я-то знаю: в глубине души совсем не гордый и готов отдать другому и жизнь, и все свое имущество. Только он не сердится из-за пустяков, и, если уж он с человеком хорош, можешь не опасаться, что он вдруг вытянет тебя дубиной. — Да, я знаю, он гораздо лучше меня и уж конечно куда любезнее. Если ты увидишь Эмиля сегодня вечером или завтра с утра, извести меня. Передай, чтобы он зашел ко мне, я очень удручен его горем. — И я тоже, но не теряю надежды — не то что вы оба. А ведь будь я так богат, как вы… — Что бы ты тогда сделал? — Не знаю, но от таких людей, как папаша Кардонне, при деньгах всего добьешься. Что, если бы вы затеяли с ним какое-нибудь крупное дело, не пожалев нескольких сот тысяч франков? Ведь у вас три или четыре миллиона, а детей нету. Он не так богат, как кажется. Дохода у него, конечно, побольше вашего, а капиталу не бог весть сколько. — Иными словами, ты мне советуешь купить свободу его сына? — Есть люди, которые не только ничего не дарят, а торгуют даже тем, что должны давать даром… Стойте, черт побери, да ведь это пруд! Здорово же мы с вами взяли вправо, хоть как будто и не пили. Как же мы отсюда выйдем? — Не знаю, мы давно должны были бы прийти в Буагильбо, а все никак добраться не можем. — Подождите-ка, подождите, — сказал плотник. — Вон там, позади, просвет, и тут должно быть дерево. Повременим, пока сверкнет молния… Глядите хорошенько! Вот оно. Совершенно верно: это дом тетушки Марло. Ах ты черт! У нее ребятишки больны, у обоих, говорят, тифозная горячка. Но ничего, она женщина славная, и к тому же, будьте уверены, в ваших владениях, куда бы вы ни пришли, вы желанный гость. — Если не ошибаюсь, эта женщина — моя арендаторша. — И платит вам она, должно быть, немного, да и нечасто. Ну-ка, дайте мне руку. — Я и не знал, что у нее больны дети, — сказал маркиз, входя в маленький дворик перед хижиной. — Вполне понятно: вы никогда не выходите из дому и не заглядываете в эти края. Но, слава богу, о детишках уже позаботились. Смотрите, вот стоит двуколка и лошадь, это одна моя знакомая приехала. И очень кстати. — Кто эта дама? — спросил маркиз, заглядывая в окно хижины. — Разве вы ее не знаете? — спросил плотник взволнованно. — Не припомню. По-моему, я ее никогда не встречал, — ответил господин де Буагильбо, внимательно рассматривая внутренность хижины. — Должно быть, какая-нибудь благотворительница занимается здесь тем, что является моей прямой обязанностью. — Это сестра нашего кюзьонского священника, — сказал Жан Жапплу, — молодая вдова. Большой души женщина! Настоящая благотворительница, это вы правильно заметили. Постойте-ка, я предупрежу ее о вашем приходе, потому что она у нас немного стеснительная, я ее хорошо знаю. Жан вбежал в хижину, шепнул несколько слов старухе хозяйке и Жильберте, которую он в порыве внезапного вдохновения превратил в сестру кюзьонского священника, затем вернулся за господином де Буагильбо, открыл дверь и сказал: — Входите, маркиз, входите! Не бойтесь, вы их не обеспокоите. Ребятишки поправляются. Посмотрите, как славно горит хворост. Подсаживайтесь поближе к огоньку, обсушитесь и погрейтесь.XXX Непредвиденный ужин
Только разыгравшаяся непогода, а быть может, и влияние какой-то таинственной и неизвестной самому маркизу силы могли принудить его встретиться с незнакомой особой. Старик вошел в хижину, робко и учтиво поклонился мнимой вдове и подошел к очагу, куда тетушка Марло, при виде насквозь промокшего хозяина, поспешила подбросить большую охапку хвороста. — Ох, да что же это такое? Да как же вы так, маркиз? Ни за что бы не узнала, если бы не Жан! Грейтесь, грейтесь, хозяин! Ведь в ваши годы по такому ненастью недолго простудиться и помереть. Высказывая это мрачное предположение, добрая женщина, очевидно, полагала, что проявляет в отношении гостя величайшую любезность и внимание, и, все еще не оправившись от неожиданности, развела в очаге такой огонь, что чуть не устроила пожара. — Ничего, голубушка, — сказал господин Буагильбо. — Я тепло одет и почти совсем не промок… — Ну еще бы! Вы-то, конечно, хорошо одеты, — продолжала хозяйка, считая, что говорит маркизу нечто приятное и лестное, — денег у вас хватает… — Да не в этом дело, — ответил маркиз, — я только хочу сказать, чтобы вы не утруждали себя и не оставляли из-за меня своих больных. Мне здесь очень удобно, а жизнь такого старика, как я, куда менее ценна, нежели жизнь ребенка. И давно ваши дети больны? — Уже две недели, сударь. Но, слава богу, полегче им стало. — Почему же вы не пришли ко мне, раз у вас дома больные? — Никак не возможно! Да я и не смею. Разве мы можем вам докучать? Мы ведь люди простые, говорить не умеем, и просить нам совестно. — Я должен был бы сам заходить к вам почаще и узнавать о ваших нуждах, — со вздохом сказал маркиз. — Но я вижу, что есть люди более деятельные и самоотверженные, чем я, и они исправляют мою ошибку. Жильберта все это время держалась в глубине комнаты. Онемев от страха и не решаясь поддерживать выдумку плотника, она старалась остаться незамеченной за домоткаными саржевыми занавесками, отделявшими кровать, где лежал младший ребенок. Ей не хотелось вступать в беседу; приготовляя отвар для больного, она стояла вполоборота к вошедшим и усиленно куталась в шаль. Завязанная под подбородком черная косынка из грубых кружев если не совсем скрывала, то, по крайней мере, умеряла блеск ее волос, который невольно поражал всякого, кто хоть раз видел, как отливают золотом эти непокорные кудри. Но господин де Буагильбо встречал Жильберту всего раза два, когда она проходила по дороге под руку с отцом. Еще издали маркиз узнавал господина Антуана и отворачивался. Если бы даже ему пришлось столкнуться с ней лицом к лицу, он все равно закрыл бы глаза, чтобы не видеть лица девушки, которая внушала ему такой страх. Вот почему он не имел ни малейшего представления об ее осанке, чертах и манерах. Жан лгал так уверенно и вдохновенно, что маркиз ничего не заподозрил. Он не узнал даже Сильвена Шарассона, который спал сладким сном возле очага, свернувшись клубочком, как кот на лежанке. Меж тем паж Шатобрена, прожорливый воришка, не раз, вероятно, попадался во время своих дерзких налетов на владения маркиза, когда перелезал через изгородь и рвал спелые плоды. Тем не менее маркиз не только никого ни о чем не расспрашивал, но упорно старался ничего не замечать и не прислушивался к тому, что происходило за оградой его парка, — откуда же ему было знать, кто этот мальчишка. В результате ничего не подозревавший маркиз, уже выведенный из своей замкнутости событиями этого вечера, — а они встряхнули его и морально и физически, — настолько осмелел, что принялся издали следить за движениями молодой благотворительницы, а затем рискнул даже приблизиться к ней и задать несколько вопросов о состоянии больных. Робкая сдержанность сострадательной особы поразила маркиза, и он проникся к ней искренним уважением: он оценил ее благородство и счел хорошим тоном то, что она не только не хвастается своими добрыми делами, а, наоборот, кажется смущенной и даже не особенно довольной, что ее застали врасплох подле больных детей. От страха, что обман откроется, Жильберта забыла, что маркиз никогда не слышал ее голоса, и упорно молчала, давая возможность крестьянке отвечать вместо нее на расспросы старика. Но Жан, со своей стороны опасавшийся, что тетушка Марло не справится с возложенной на нее ролью и по неловкости выдаст Жильберту, всячески старался заслонить хозяйку дома, оттесняя ее к очагу, и всякий раз, как господин де Буагильбо отворачивался, делал ей страшные глаза. Перепуганная тетушка Марло, перестав понимать, что происходит в ее доме, не знала, кого слушать, и молила бога, чтобы поскорее кончился дождь и неожиданные гости убрались восвояси. Наконец Жильберта, несколько успокоенная приятным голосом и учтивыми манерами маркиза, осмелилась заговорить; и так как он все еще упрекал себя за невнимание к бедным, она возразила: — Я слышала, сударь, что у вас очень слабое здоровье, что вы много читаете. Многочисленные занятия не оставляют вам времени для иных забот. Другое дело я — я ничем не занята и живу очень близко отсюда. Как же мне не ухаживать за больными нашего прихода? При последних словах Жильберта взглянула на плотника, как бы желая обратить его внимание на то, что она наконец вошла в навязанную ей роль, и Жан поспешил добавить, чтобы придать больше веса словам благочестивой прихожанки: — Вдобавок, она без этого жить не может, да и положение обязывает. Кому, как не сестре священника, заботиться о бедных? — Меня бы не так мучила совесть, — сказал маркиз, — если бы вы, сударыня, соблаговолили обращаться ко мне в тех случаях, когда я, по забывчивости или по невниманию, пренебрегаю своим долгом. Добрые намерения хоть отчасти заменяют недостаток усердия с моей стороны. Вы, сударыня, избрали самую благородную и самую тяжкую долю — самолично ухаживать за больными, а я могу предоставить в распоряжение благотворителей, не имеющих достаточных средств, мой кошелек. Позвольте же мне стать соучастником ваших добрых дел, сударыня, очень прошу вас. А если вы не пожелаете оказать мне этой чести, посылайте ко мне всех ваших бедняков. Я сочту своим священным долгом исполнять ваши просьбы. — Мне думается, в этом нет нужды, маркиз, — ответила Жильберта, — вы помогаете бедным гораздо больше, чем могу это делать я. — Вы же видите, что это не так: я оказался здесь случайно, а вы пришли намеренно. — О нет, я вовсе не знала, что нужназдесь, — ответила Жильберта, — тетушка Марло сама пришла за мною. Иначе я бы тоже понятия ни о чем не имела. — Вы умаляете свои заслуги, желая смягчить мою вину. А все-таки пришли именно за вами, ко мне же люди в несчастье не смеют даже обратиться. В этом мой приговор и хвала вам. — Черт побери, Жильберта, дорогая! — сказал плотник, отводя девушку в сторону. — Право, вы творите чудеса и при желании можете приручить нашего старого филина! Так, так, так — как любит говорить матушка Жанилла. Все идет чудесно, и, если вы будете слушаться меня, ручаюсь — вы его примирите с вашим батюшкой. — О, если бы я только могла!.. Но, увы, отец взял с меня обещание, даже клятву, что я никогда не буду пытаться это сделать. — А меж тем господину Антуану до смерти хочется, чтобы все уладилось! Поймите, если он взял с вас эту клятву — значит, считал несбыточным то, что сейчас становится возможным, — я не говорю завтра, а именно сегодня, нынче вечером. Куй железо, пока горячо! Вы же сами видите: одно чудо уже совершилось — мы пришли вместе с маркизом, и он говорит со мной по-дружески. — Кто же совершил это чудо? — Это чудо совершила трость, пройдясь по моей спине… Но я расскажу обо всем после. А пока постарайтесь быть любезной, смелой, находчивой — одним словом, берите пример со старого Жана. Я начинаю. И, отойдя от девушки, Жан подошел к старику: — Знаете, что мне сейчас шепнула эта дама? Она непременно хочет отвезти вас домой в своей коляске. Да разве дамам отказывают? Она говорит, что дороги размыло, что вы не можете идти пешком, вы промокли и простудитесь, дожидаясь своей кареты, а у нее двуколка и неплохая лошадка: у деревенских священников лошади смирные и понятливые и бегут довольно быстро, если; только не лень кнутом махать. Через четверть часа вы будете дома, и вам не придется шагать бог знает сколько времени по грязи и камням. Господин де Буагильбо сердечно поблагодарил прекрасную вдову и отказался от ее предложения, но Жильберта упрашивала его с неотразимой грацией. — Умоляю вас, маркиз, — говорила она, поднимая на него свои чудесные голубые глаза и глядя чуть боязливо, как не прирученная голубка, — не огорчайте меня своим отказом! Правда, коляска моя некрасивая, небогатая, забрызгана грязью, да и лошадь, пожалуй, такая же неказистая, но доедете вы спокойно. Я хорошо умею править, а потом Жан отвезет меня домой. — Но эта поездка вас слишком задержит, — сказал маркиз, — ваши родные будут беспокоиться. — Вот и не будут! — сказал Жан. — Видите, здесь сидит служка священника: он помогает ему во время богослужения и звонит в колокольчик; у этого мальчугана крепкие ноги, глаза зоркие, и луж он не боится — совсем как настоящая лягушка. Лапы он не промочит, не беспокойтесь: башмаки у него деревянные и прочнее ваших кожаных; ему добежать до Кюзьона — все равно что мне доску перепилить. Он предупредит домашних, чтобы они не беспокоились, скажет, что госпожа Роза под: надежной охраной и что ее проводит старый Жан, то есть я. Решено? Послушай-ка, молодец, — обратился он к Шарассону, который спросонок беспрерывно зевал так, что чуть не вывихнул себе челюсть и изумленно глядел на господина Буагильбо. — Выйди-ка на свежий воздух, тебе это полезно, а мне нужно шепнуть тебе два слова. Жан вывел Сильвена на улицу, набросил ему на плечи свой кожаный передник и, дергая за ухо, чтобы покрепче запечатлеть в его памяти свою речь, зашептал: — Лети в Шатобрен! Скажешь господину Антуану, что Жильберта едет со мной в Буагильбо; пусть он будет спокоен: все идет хорошо. И если даже мадемуазель Жильберте придется заночевать не дома — все равно, пусть он не беспокоится. Слышишь? Понял? — Слышал, а понять ничего не понял! — ответил Сильвен. — Да оставьте же в покое мое ухо, медведь вы этакий! — Поговори еще, я тебе его живо вытяну, а коли что напутаешь, так оба уха завтра оторву! — Слышал уже, довольно! Оставьте меня! — Но если ты вздумаешь баловаться по дороге, тогда берегись! — Тьфу ты пропасть! Где уж тут баловаться в такую погоду. — Смотри фартук мой не потеряй. — Что, у меня головы на плечах, что ли, нет? Не беспокойтесь, не подведу! И мальчишка пустился бегом по направлению к замку; он, как кошка, находил в потемках дорогу. — Теперь, — сказал Жан, выкатывая из-под навеса таратайку и выводя старую кобылу, — теперь дело только за нами, уважаемая Искорка! Не сердитесь, господин Разбойник, это я. Вы не хотели оставить хозяюшку — весьма похвально с вашей стороны. Маркиз не замечает людей, это верно, но на собак он глядеть не боится и может вас узнать. Сделайте же одолжение и последуйте за вашим другом Шарассоном. Как ни печально, но придется вам возвратиться домой пешком! И, вытянув бедного пса кнутом, Жан направил его по следу Сильвена. — Ну, маркиз, я жду! — закричал потом плотник. И старик, уступив настойчивым просьбам Жильберты, уселся в двуколку между Жильбертой и Жаном Жапплу. Звезды не видели этой странной троицы — все небо заволокли густые тучи, а тетушке Марло, единственной свидетельнице сего невероятного события, было не до того, чтобы предаваться долгим размышлениям. Уходя, маркиз сунул ей свой кошелек, и весь вечер она провела, пересчитывая блестящие экю и твердя своим больным детишкам: «Все это наша добрая барышня! Это она принесла нам счастье!» Тем временем маркиз взял вожжи, желая избавить свою спутницу от излишнего труда, а Жан ухватил своей могучей дланью кнут, чтобы подогревать пыл бедной Искорки. Жанилла, отпуская Жильберту к тетушке Марло, снабдила ее огромным зонтом и старым плащом господина Антуана, и таким образом девушка могла сейчас защитить своего спутника от дождя: одной рукой она придерживала раздувавшийся плащ на плечах господина де Буагильбо, а другой с дочерней заботой прикрывала зонтом его голову. Старик был так тронут этим великодушным вниманием, что, несмотря на свою застенчивость, благодарил девушку в самых горячих и почтительных выражениях. Жильберта трепетала при мысли, что расположение маркиза может смениться гневом, а старый Жан тихонько посмеивался, полагаясь всецело на провидение. Когда наши путешественники прибыли в замок Буагильбо, было около девяти часов, но там все уже спали глубоким сном. Вечером только Мартен прислуживал маркизу, но сегодня дворецкий видел, как господин Буагильбо вошел в свой швейцарский домик, и потому спокойно запер ворота парка, не подозревая, что его хозяин бродит в грозу и бурю по полям в обществе плотника и юной девицы. Жану не особенно хотелось въезжать во двор вместе с Жильбертой: он подозревал, и не без оснований, что кто-нибудь из слуг замка знает очаровательную обитательницу Шатобрена, и первый же возглас удивления может выдать ее. Между тем холодный затяжной дождь не переставал, и Жан ломал себе голову, не зная, под каким бы благовидным предлогом высадить маркиза или Жильберту у главного входа, поскольку господин де Буагильбо настойчиво приглашал своих спутников переждать грозу у камелька. Правда, Жану хотелось воспользоваться подходящим случаем и укрепить начавшееся сближение, но испуганная Жильберта отказывалась войти в темный замок Буагильбо, что и в самом деле было для нее чревато известными опасностями. К счастью, нашим путникам не удалось проникнуть за ограду замка, причиной чего были странные привычки его владельца. Напрасно принимался маркиз звонить в колокол — яростные порывы ветра относили звук далеко в сторону. В этой пустынной и мрачной части здания не ночевал никто из слуг и служанок. Что касается старика Мартена, представлявшего единственное исключение из этого правила, то он был глух и не расслышал бы не только звона колокола, но даже удара грома. Господин де Буагильбо был удручен тем, что не может оказать гостеприимство, к которому его обязывал долг хозяина, и досадовал на себя за то, что не предвидел подобного случая. Его гнев чуть было не обернулся против старого Мартена, привыкшего ложиться спать с курами. Наконец, решившись, он проговорил: — Я вижу, мне придется отказаться от мысли попасть домой. К сожалению, у меня под руками нет пушки, чтобы взять замок приступом или хотя бы разбудить слуг. Но, если вы, сударыня, не побоитесь посетить келью отшельника, я могу предложить вам приют, правда, более скромный. К счастью, ключ от него всегда со мной, и мы можем отдохнуть там и согреться. С этими словами он повернул лошадь к парку, вышел из двуколки, сам открыл калитку и повел Искорку под уздцы, а Жан в это время ободряюще сжимал дрожащую руку Жильберты, чтобы заставить ее решиться и попытать счастья. — Помилуй боже! — шептал он. — Маркиз ведет нас в свой деревянный домик, где по ночам вызывает нечистого. Но будь спокойна, дочка! Я с тобой, и мы сегодня изгоним отсюда злого духа. Затворив за собой калитку парка, господин де Буагильбо приказал плотнику взять лошадь под уздцы и отвести ее в сарайчик садовника, куда Эмиль часто ставил Вороного в тех случаях, когда приезжал к вечеру или же намеревался посидеть с хозяином попозже. И когда Жан вышел ставить под навес Искорку и двуколку господина Антуана, маркиз предложил руку Жильберте. — Я в отчаянии, — сказал он, — но вам придется пройти несколько шагов по песку. Впрочем, вы не успеете промочить ноги, потому что моя обитель совсем рядом, вон за этими скалами. Жильберта, дрожа, вошла в домик вдвоем с этим странным стариком, которого она считала безумным и за которым покорно следовала теперь в потемках. Впрочем, она несколько успокоилась, когда маркиз открыл вторую дверь и она увидела коридор, освещенный лампой, которая была скрыта в нише, украшенной живыми цветами. Это изящное и удобное жилище, построенное на деревенский лад и обставленное незатейливой мебелью, ей чрезвычайно понравилось, и юному ее воображению, плененному поэтической простотой, обитель маркиза представилась тем дворцом, о котором она так часто мечтала. С тех пор как Эмиль был допущен в таинственный домик, здесь многое переменилось к лучшему. Юный Кардонне убедил старика, что его аскетические привычки — своеобразный протест против собственного богатства, — пожалуй, уж слишком суровы для его возраста, и, хотя господин де Буагильбо отличался пока неплохим здоровьем, он сам признавался, что сильно мерзнет в дурную погоду. Эмиль собственноручно перенес из старого замка ковры, драпировки, тяжелые занавеси и удобную мебель; в сырые дождливые вечера он сам топил камин, и маркиз охотно принимал внимание и заботы друга, целительные не столько для его тела, сколько для души, так как видел в них доказательство нежной и ненавязчивой симпатии. Эмиль убрал и украсил комнату, где они нередко ужинали с маркизом, превратив ее в гостиную. И Жильберта была в восторге: впервые в жизни ее маленькие ножки ступали по ковру из медвежьей шкуры, впервые она видела прекрасные севрские вазы на мраморных подставках, наполненные редкими цветами. Огонь в камине, где горой лежали сухие сосновые шишки, вспыхнул как по волшебству, когда маркиз бросил туда кусок горящей бумаги, а свечи, отражавшиеся в зеркале, вделанном в изогнутую дубовую раму, заливали комнату светом, слепившим Жильберту, привыкшую к жалкой маленькой лампе, ибо Жанилла, подобно евангельской разумной деве, экономно расходовала деревянное масло. Господин де Буагильбо, быть может, впервые в жизни проявлял такую галантность, принимая в своем домике прелестную гостью. Он испытывал простодушное удовольствие, видя, как Жильберта рассматривает цветы и любуется ими, и обещал завтра же дать ей черенки и семена для «приходского сада». Казалось, к маркизу снова вернулась молодость: быстро передвигаясь по комнате, он отыскивал сувениры, которые вывез из Швейцарии, и с детской радостью дарил их Жильберте; когда же, вся зардевшись, она отказалась их принять, он взял маленькую корзинку, в которой она приносила больным детям лекарства и варенье, и наполнил ее красивыми вещицами из резного дерева работы фрейбургских мастеров, печатками и кольцами из горного хрусталя, агата и сердолика; наконец, вынув цветы из всех ваз, сделал огромный букет, который получился довольно нескладным, хотя маркиз и вложил в это несложное дело все свое умение. Трогательное смущение, с каким оробевшая Жильберта благодарила старика, ее наивные расспросы про путешествие в Швейцарию, о котором господин де Буагильбо сохранил самые восторженные воспоминания и повествовал в несколько старомодном стиле, интерес к его рассказам, тонкие замечания, которые она осмеливалась время от времени делать, чарующий звук ее голоса, простые и естественные манеры, отсутствие кокетства, смесь страха и оживления, придававшие ее красоте еще большую привлекательность, яркий румянец, глаза, затуманенные усталостью и волнением, грудь, вздымавшаяся от непонятного смятения, ангельская улыбка, казалось, молившая о пощаде или покровительстве, — все это так сильно поразило маркиза и так быстро покорило его, что он вдруг почувствовал себя влюбленным до глубины души, влюбленным свято, — то была отцовская любовь к целомудренному и очаровательному ребенку, а не нечистое влечение старика к молодости и красоте. И когда Жан, переступив порог, остановился, ослепленный ярким светом и восхищенный уютом и теплом комнаты, ему показалось, что он грезит; он не мог поверить своим ушам, ибо господин Буагильбо говорил Жильберте: «Сядьте поближе к камину, дорогое дитя, согрейте ноги, я боюсь, как бы вы не простудились, я в жизни не простил бы себе этого». Затем маркиз, на которого напала удивительная общительность, повернулся к плотнику и, жестом приглашая его войти, сказал: — Садись и ты с нами, Жан, поближе к огню. Как ты, бедняга, плохо одет. Ты, должно быть, промок до костей — и опять я в этом повинен! Если бы ты не вызвался провожать меня, то спокойно вернулся бы на ферму, переждал дождь и, конечно, уже давно поужинал бы, не то что здесь… Чем бы тебя накормить? Я уверен, что ты умираешь с голоду! — Сказать по правде, господин де Буагильбо, дождь мне нипочем! Вот голод — другое дело, — с улыбкой ответил плотник и приблизил свои ноги в деревянных башмаках к огню. — Ваш домик здорово похорошел с тех пор, как вышел из моих рук. Помните, эти полки я самолично для вас сбил. Но если бы в шкафу, где-нибудь в уголке, нашелся кусок хлеба, здесь мне все показалось бы вдвое красивее. Нынче с полудня и до самой ночи я рубил, как каторжный, а теперь, кажется, не мог бы и соломинки переломить. — Ну еще бы! Я думаю! — вскричал господин де Буагильбо. — А знаешь, я ведь тоже не ужинал, но как-то совершенно об этом позабыл. Я уверен, что здесь найдется какая-нибудь еда, только не знаю где. Поищем, Жан! Поищем и найдем! — Стучите и отверзется, — весело сказал плотник, приоткрывая дверь в заднюю комнату. — Не там, Жан, — сказал поспешно маркиз, — там только одни книги. — Ах, значит, эта дверь у вас еле держится? — воскликнул Жан. — Верно! Того и гляди, свалится вам на голову. Завтра же исправлю ее; только всего и дела, что пригнать да стесать наличник, чтобы запирался замок. Ваш старый Мартен, конечно, не догадался починить! Вот уж, право, нескладные руки — с таким пустяком и то не справится! Жан, который был сильнее, чем оба старика — маркиз и его дворецкий — вместе взятые, прикрыл дверь, не проявив ни малейшего любопытства, и маркиз был признателен ему за это, хотя не спускал неспокойных глаз с плотника, пока тот держался за ручку двери. — Обычно здесь всегда стоит накрытый столик, — продолжал господин де Буагильбо, — понять не могу, куда он сегодня девался? Может быть, Мартен забыл принести ужин? — Ну, если только вы сами не забыли завести старика Мартена, чтоб он вовремя прокуковал, как часы, — он промашки не даст! — сказал плотник, с удовольствием восстанавливая в памяти мельчайшие подробности быта маркиза, когда-то хорошо ему знакомые, — А что это там, за ширмой? Глядите-ка, ужин! Правда, не особенно основательный, но зато, видать, вкусный! Отодвинув ширму, Жан обнаружил маленький столик, на котором стояли в полном порядке заливная телятина, белый хлеб, тарелка с клубникой и бутылка бордоского вина. — Что ж, господин Буагильбо, — продолжал плотник, — пища для дамы самая подходящая. — Я был бы счастлив, если бы вы, сударыня, согласились принять мое скромное угощение, — сказал маркиз, подкатив столик к Жильберте. — А почему бы и нет? — спросил Жан, ухмыляясь. — Держу пари, что ваша гостья позаботилась первым делом накормить других, а у самой маковой росинки во рту не было. Вот что, пусть она отведает клубники, вы, господин Буагильбо, скушаете мясо, а я удовольствуюсь хлебом и стаканчиком вина. — Мы поедим, как полагается, — ответил маркиз. — Каждый возьмет, сколько ему захочется, и вы увидите, что тут гораздо больше, чем нужно для одного, и хватит нам всем. Прошу вас, сударыня, доставьте мне удовольствие и разрешите предложить вам подкрепиться. — Я совсем не голодна, — сказала Жильберта; последние дни она была так удручена и взволнована, что потеряла аппетит. — Но вы, пожалуйста, кушайте и вообразите, что я тоже ужинаю вместе с вами. Господин де Буагильбо сел подле Жильберты и усердно прислуживал ей. Жан заявил, что он слишком грязен и не решается сесть рядом с ними; когда же маркиз стал настаивать, плотник признался, что чувствует себя неловко в таких мягких и глубоких креслах. Он разыскал скамеечку, оставшуюся от прежней деревенской обстановки, и, устроившись поближе к камину, чтобы поскорее обсохнуть, принялся за еду. Львиная доля досталась ему, потому что Жильберта съела только две-три ягодки клубники, а маркиз вообще отличался редкой умеренностью в пище. Да если бы даже после сегодняшней прогулки у него и разыгрался аппетит, он охотно уступил бы свою долю Жану. Он не мог забыть, что два часа тому назад ударил плотника, а тот так великодушно простил его. Крестьянин ест медленно и в полном молчании, еда для него не удовлетворение капризного и прихотливого вкуса, а своего рода обряд, потому что в течение трудового дня час трапезы — в то же время час отдыха и размышлений. И Жан с самым торжественным видом, аккуратно и не спеша, резал хлеб на маленькие кусочки, глядя, как пылают в камине сосновые шишки. Исчерпав все темы беседы, какую пристало вести с незнакомой особой, господин де Буагильбо впал в обычную свою молчаливость, а Жильберта, утомленная бессонными ночами и тоской, почувствовала, как неодолимо клонит ее ко сну здесь, у камина, после дождя и поездки по холоду. Она изо всех сил боролась с дремотой, но, увы, бедняжка, под стать плотнику, не привыкла к мягким креслам, меховым коврам и яркому блеску свечей. Она пыталась отвечать и улыбалась отрывистым и редким замечаниям маркиза, но ею овладело какое-то оцепенение, внезапно ее хорошенькая головка откинулась на спинку кресла, маленькая ножка скользнула к каминной решетке, и ровное и легкое дыхание возвестило, что ее воля уступила необоримой силе сна. Увидев, что плотник погрузился в глубокое раздумье, господин де Буагильбо осмелился приблизиться к Жильберте, чтобы вглядеться в черты ее лица, и, когда под слегка сбившимся кружевом заметил сверкающую массу золотистых волос, невольно вздрогнул. Громкий шепот Жана оторвал его от этого созерцания. — Господин де Буагильбо, — сказал плотник, — держу пари, вы даже и не подозреваете того, что я вам расскажу! Поглядите как следует на эту миловидную даму, а я вам открою, кто она. Маркиз вдруг побледнел и растерянно взглянул на плотника.XXXI Неизвестность
— Ну что же, господин де Буагильбо, нагляделись вы на нее? — продолжал плотник с хитрым и довольным видом. — Неужели вы не догадываетесь, что она неспроста вас так интересует? Маркиз стремительно поднялся и тотчас снова опустился на стул. Страшная догадка озарила его, и чутье, которое так долго его обманывало, вдруг подсказало ему истину скорее, чем того хотел Жан. Маркиз почувствовал, что его подозрение справедливо, и воскликнул в порыве неудержимого негодования; — Пусть она немедленно покинет мой дом! Жильберта, проснувшаяся от крика, испугалась, увидев перед собой разъяренное лицо маркиза; она в отчаянии решила, что все потеряно, что ей не только не удалось помирить отца с господином Буагильбо, но даже суждено стать причиной еще более глубокой распри, — и все ее помыслы устремились на то, как бы вымолить прощение для господина Антуана, приняв на себя всю вину. Как цветок, склонившийся под грозным порывом ветра, она упала перед маркизом на колени, схватила его руку и, не в силах вымолвить ни слова от волнения, склонила прелестную головку и прильнула мертвенно-бледным лбом к руке старика. — Ну же, ну! — сказал плотник, хватая другую руку маркиза и с силой встряхивая ее. — Как вам не стыдно, господин Буагильбо, пугать ребенка! Опять на вас нашло? Ей-богу, я рассержусь, и все тут! — Кто она? — спросил маркиз, пытаясь оттолкнуть Жильберту, но дрожащая рука не повиновалась ему. — Скажи мне, кто она, я должен знать. — Вы хорошо знаете, потому что вам уже сказали, — ответил, пожимая плечами, Жан. — Это сестра сельского священника, бедная и простая женщина. Уж не потому ли вы говорите с ней так сурово? Вы, верно, хотите, чтобы она узнала о вас то, что знаю я? Постарайтесь-ка лучше скрыть ваши недуги, господин де Буагильбо. Вы же видите, что ваше злое лицо внушает ей болезненный страх. Странная у вас, однако, манера принимать гостей! Да еще после того, как она была с вами так добра, так любезна. А самое скверное, что я не могу ей объяснить, против кого вы затаили зло, потому что сейчас и сам перестал понимать. — Ты смеешься надо мной! — промолвил совершенно смущенный маркиз. — О чем ты хотел мне только что сказать? — О том, что доставило бы вам удовольствие, но я лучше промолчу, потому что вы опять голову потеряли. — Жан, скажи, объясни мне все, я не могу больше переносить эту неизвестность. — И я тоже! — вскричала Жильберта, заливаясь слезами. — Не знаю, что сказал или хотел сказать обо мне Жан, но я не могу здесь больше оставаться, не знаю, как мне держать себя. Уедем отсюда! — Нет, нет, — нерешительно проговорил смущенный маркиз. — Дождь еще идет, погода ужасная, я не хочу, чтобы вы уезжали. — Хорошо. Так почему же вы только что намеревались ее выгнать? — спросил Жан с презрительным спокойствием. — Кто может разобраться в ваших чудачествах? Во всяком случае, не я, и я ухожу. — Я не останусь здесь без вас! — вскричала Жильберта и, вскочив, бросилась за плотником, направившимся было к выходу. — Мадемуазель или мадам, сказал господин де Буагильбо, останавливая Жильберту, а также удерживая и плотника, — соблаговолите выслушать меня и, если вы не причастны к тому, что терзает меня сейчас, простите мое волнение. Оно должно казаться вам смешным, но, поверьте, мне невыносимо тяжело. Однако я обязан объясниться. Мне только что дали понять, что вы совсем не та особа, за которую я вас принимал, а другая, и ее я не желаю видеть и знать. Боже мой! Я теряюсь, я не нахожу слов… Или вы понимаете меня слишком хорошо, или не можете совсем понять! — А, наконец-то я вас понял! — сказал хитрый плотник. — Я сейчас объясню вашей гостье то, чего вы сами не решаетесь объяснить. Госпожа Роза, — добавил он, обращаясь к Жильберте и смело называя ее именем сестры священника из Кюзьона, — вы, конечно, знаете мадемуазель Жильберту де Шатобрен, вашу соседку? Ну вот, маркиз питает против нее злобу; очевидно, она тяжко оскорбила его, а так как я собирался сообщить маркизу кое-что по поводу вас и господина Эмиля… — Что ты говоришь? — вскричал маркиз. — Эмиля?.. — Это вас не касается, — возразил Жан, — вы больше «ничего не узнаете. Я говорю с госпожой Розой. Да, госпожа Роза, господин де Буагильбо ненавидит мадемуазель Жильберту и вообразил, что вы — как раз и есть она. Вот почему он хотел выбросить нас вон и, пожалуй, даже через окошко, а не через двери. Жильберте невыносимо претило участие в этой нелепой и дерзкой комедии. Весь вечер она чувствовала живую симпатию к маркизу и теперь сурово упрекала себя за то, что злоупотребила его доверием и подвергла таким волнениям, которые, казалось, были ему столь же мучительны, как и ей самой. Жильберта решила проявить больше отваги, чем ее легкомысленный сообщник, и понемногу открыть глаза господину де Буагильбо, приняв на себя возможные последствия его гнева. — В том, что я слышу, есть какая-то загадка, — начала она с благородной решимостью. — Не могу поверить, чтобы Жильберта де Шатобрен была предметом ненависти такого справедливого и почтенного человека, как господин де Буагильбо. До сих пор я не знала за ней ничего такого, что могло бы объяснить подобное презрение, а для меня очень важно понять, какова же мадемуазель де Шатобрен на самом деле. Умоляю вас, маркиз, поведайте мне все плохое, что вам о ней известно, чтобы она, по крайней мере, могла оправдаться перед честными людьми, которые ее знают. — Я бы очень хотел, — сказал маркиз с глубоким вздохом, — чтобы при мне не произносили имени Шатобрен. — Разве это имя запятнано бесчестием? — спросила Жильберта в неудержимом порыве гордости. — Нет, нет, я никогда этого не утверждал, — ответил маркиз, гнев которого угасал почти так же быстро, как вспыхивал. — Я никого ни в чем не обвиняю и не упрекаю. Я в ссоре с особой, о которой идет речь, и не хочу, чтобы мне о ней напоминали, да и сам не говорю о ней… Зачем же обращать ко мне бесполезные вопросы? — Бесполезные вопросы! — повторила Жильберта. — Вы не имеете права считать их бесполезными, маркиз. Согласитесь же, крайне странно, что такой человек, как вы, поссорился с молодой девушкой, которую не знает и даже, может быть, никогда и не видел… Очевидно, она совершила какой-нибудь недостойный поступок или сказала о вас что-нибудь ужасное? Вот об этом-то я и умоляю вас осведомить меня; и если Жильберта де Шатобрен не заслуживает ни уважения, ни доверия, я воздержусь от общения с такой опасной особой. — Умные речи приятно слушать! — вскричал Жан, хлопая в ладоши. — Ну что же, и я тоже не прочь узнать, как мне себя вести. Ведь, по правде говоря, эта самая Жильберта сделала мне немало добра. Она кормила и поила меня, когда я голодал и меня мучила жажда; она пряла шерсть, чтобы одеть меня потеплее и спасти от холода. Жильберта хорошая девушка, нежная, добрая, преданная дочь. Если же она вдруг совершила какой-нибудь позорный поступок, мне стыдно оставаться ее должником, я не желаю быть ей хоть чем-нибудь обязанным. — Это все ты наделал своими нелепыми «объяснениями», и вот мы завели бесполезный разговор, — сказал маркиз, обращаясь к плотнику. — Откуда ты взял все эти глупости да еще приписываешь их мне? У меня старые счеты с отцом молодой особы, а не с самой этой девушкой. Ее я не знаю и не могу сказать о ней ничего, решительно ничего! — И тем не менее вы выгнали бы ее из дома, если бы она осмелилась к вам явиться? — спросила Жильберта, несколько ободренная смущением маркиза, и пристально поглядела на него. — Выгнал бы? Нет, я не выгоняю никого, — ответил маркиз. — Я нашел бы только оскорбительным и странным, если бы ей вздумалось явиться сюда. — Ну так вот, она думала об этом не раз, — сказала Жильберта. — Я это знаю, потому что мне известны все ее мысли, и я лишь повторяю вам то, что она мне говорила. — К чему? — перебил ее маркиз, отвернувшись. — Забудьте случайные слова, вырвавшиеся у меня в минуту гнева. Я был бы в отчаянии, если бы по моей вине об этой девушке пошла дурная молва. Я ее не знаю, повторяю вам, и не могу ни в чем упрекнуть. Единственное, чего я желаю, — это чтобы вы не повторяли мои слова, не искажали их, не переиначивали… Слышишь, Жан? Напрасно ты берешься истолковывать то, что я говорю, — тебе это не удастся. Прошу тебя, если только ты ко мне хоть немного привязан, — добавил маркиз с некоторым усилием, — не произноси никогда моего имени в Шатобрене и избавь меня от каких-либо пересудов. Я прошу вас также, сударыня, уберечь меня даже от косвенного общения, от какого бы то ни было окольного объяснения, наконец, от каких бы то ни было отношений с этой семьей. Надеюсь, вы уважите мою просьбу. И если для этого я должен опровергнуть то, что могла необдуманно породить моя излишняя горячность, я готов отказаться от всего, что в моих словах могло очернить поведение и честь мадемуазель де Шатобрен. Маркиз произнес эти слова нарочито холодно, к нему, казалось, вернулись его обычная сдержанность и достоинство. Но Жильберта предпочла бы новую вспышку гнева — в надежде, что она сменится слабостью и мягкостью. Она больше не осмеливалась настаивать и, поняв по ледяному обхождению маркиза, что ее игра наполовину разгадана и что у старика родилось непреоборимое недоверие, торопилась уехать: она была уже не в силах оставаться здесь. Однако Жана отнюдь не удовлетворил финал объяснения, и он решил испробовать последнее средство. — Что же, — произнес он, — пусть будет так, как хочет господин де Буагильбо. В глубине души он добр и справедлив, не будем же более его огорчать и отправимся в путь. Только прежде я хотел бы, чтобы вы обсудили еще один вопрос… Ну же, немного больше откровенности! Вы сконфузитесь, будете меня бранить, заплачете, чего доброго… Но я-то знаю, что делаю, такого случая, может быть, нам никогда не представится; придется вам немножко потерпеть, если вы хотите помочь тем, кого любите, и утешить их… Что вы смотрите на меня так удивленно? Разве вы не слыхали, что господин де Буагильбо лучший друг нашего Эмиля и Эмиль ему вполне доверяет? Маркиз не знал только, что речь шла о вас, но он очень хорошо осведомлен о вашем несчастье. Да, господин де Буагильбо, это госпожа Роза. Это она… Вы меня понимаете? Итак, поговорите с ней, ободрите ее, скажите, что Эмиль да и она также хорошо сделали, не поддавшись хитрости папаши Кардонне. Вот что я хотел вам сказать, когда вы меня перебили, устроив скандал по поводу мадемуазель де Шатобрен, бог знает почему. Жильберта так смутилась, что господин де Буагильбо, смотревший на нее с любопытством и тревогой, был растроган и попытался ее успокоить. Он взял ее за руку и, подведя к креслу, сказал: — Не смущайтесь! Я старик, и Жан, выдавший вашу тайну, тоже уже не молод. Разумеется, Жан, по своему обыкновению, поступил несколько необычно и весьма смело, но намерения у него добрые, и именно его своеобразный характер отчасти привлек симпатии того человека, которым и вы и я интересуемся больше всего на свете. Попытаемся же победить наше смущение и воспользуемся представившимся случаем, который и в самом деле может не повториться. Но Жильберта, расстроенная решительными словами плотника и возмущенная тем, что тайна ее сердца находится в руках человека, внушавшего ей скорее страх, чем доверие, закрыла лицо обеими руками и ничего не ответила. — Ну вот, — сказал Жапплу (если уж он брался за какое-нибудь дело, будь то примирение заклятых врагов или рубка леса, ничто не могло заставить его отступиться). — Теперь она обиделась и рассердится на меня за мою болтливость. Но будь здесь Эмиль, он бы меня не осудил! Эмиль был бы доволен, что господин де Буагильбо собственными глазами увидел, насколько хорош его выбор, и, поверьте, он будет гордиться, когда завтра господин де Буагильбо ему скажет: «Я ее видел, познакомился с нею и теперь вполне вас понимаю». Ведь верно, господин де Буагильбо, вы именно так и скажете? Маркиз ничего не ответил. Он не отрывал от Жильберты глаз, его влекло к ней, но в то же время мучило ужасное подозрение. Он прошелся взад и вперед по комнате, желая справиться с охватившей его вдруг тоской, но после внутренней борьбы подошел, глубоко вздохнув, к Жильберте и взял обе ее руки в свои. — Кто бы вы ни были, — сказал он, — в ваших руках судьба юноши благородного, я могу лишь мечтать о том, чтобы иметь в старости такую поддержку и утешение. Я скоро умру, и я покину мир, не изведав ни минуты счастья, если оставлю Эмиля не примиренным с самим собою. Молю вас, ведь под вашим влиянием сложится все его будущее, и влияние это может быть благодетельным или роковым… молю вас, сохраните для истины это сердце, достойное быть ее святилищем! Вы молоды, вы еще не знаете, что значит любовь женщины в жизни такого человека, как он. Вы не знаете, быть может, что от вас одной зависит сделать из него героя или труса, мученика или вероотступника. Увы, вам, без сомнения, не понять всего значения моих слов. Нет, вы слишком молоды! Чем больше я на вас смотрю, тем яснее вижу, что вы еще совсем ребенок. Бедное юное существо, неопытное и слабое, вам принадлежит сильная душа, и в вашей воле разбить ее или облагородить. Простите, что я так говорю, я очень взволнован и не могу найти подходящих выражений. Я не хочу ни огорчать, ни смущать вас, но я встревожен. И чем прекраснее и чище вы в моих глазах, тем сильнее я чувствую, что душа Эмиля отныне не принадлежит мне. — Простите меня, маркиз, — сказала Жильберта, утирая слезы. — Я понимаю вас хорошо и, хотя я в самом деле очень молода, чувствую, как велика ответственность, которую несу перед богом. Но речь идет не обо мне, мне хочется защитить и оправдать в ваших глазах не себя, а Эмиля. Вы как будто сомневаетесь в этом благородном сердце. О, успокойтесь! Эмиль не солжет никому — ни вам, ни своему отцу, ни самому себе. Не знаю, достаточно ли глубоко я вникаю в его и ваши убеждения, но я поклоняюсь истине… Я не умею философствовать, я слишком невежественна. Но я благочестива, воспитана в правилах христианства и не могу их толковать иначе, чем их толкует Эмиль. Я знаю, что господин Кардонне, который, когда ему заблагорассудится, также ссылается на Евангелие, хочет, чтобы Эмиль отступился от своих взглядов. Но если бы я считала Эмиля способным на такой поступок, я устыдилась бы своей ошибки — того, что полюбила бессовестного человека, отрекшегося от истины! Бог уберег меня от этого несчастья! Если понадобится, Эмиль скорее откажется от меня, нежели от своих убеждений. А если настанет такая минута, когда воля Эмиля ослабеет, я найду в себе достаточно твердости. Но я не боюсь этого! Знаю, он страдает, да и я страдаю, но я буду достойна его чувства, как он достоин вашего уважения. И мы найдем в себе силы мужественно и терпеливо перенести все испытания, ибо создатель не оставляет тех, кто страдает из любви к людям. — Здорово сказано! — вскричал плотник. — Вот бы мне так! Но хоть я и не умею говорить, зато чувствую все это, и милосердный господь вознаградит меня! — Да, ты прав, — сказал господин Буагильбо, удивленный убежденным тоном плотника. — Я и не подозревал, Жан, что ты такой преданный друг Эмиля и даже, быть может, принесешь ему больше пользы, нежели я. — Я этого не сказал, господин де Буагильбо. Мне известно, что Эмиль почитает вас как настоящего отца, — во всяком случае больше, чем того бездушного человека, которого судьба дала ему в отцы; но и я тоже отчасти его друг и горжусь тем, что вчера вечером немножко подбодрил его, а сегодня утром подбодрил и еще кое-кого… Что до нее, — сказал он, указывая на Жильберту, — она ни в ком не нуждается. Я и не ждал от нее ничего иного. Она приняла решение с первой же минуты; и, право, можно только подивиться, что в ее лета она такая прямая и смелая, хоть вы, кажется, и не очень это замечаете. Маркиз в нерешительности снова прошелся молча по комнате. Наконец он остановился у окна, приоткрыл его и, подойдя к Жильберте, сказал: — Дождь прошел… боюсь, что ваши близкие будут о вас беспокоиться… Я не хочу нынче вас больше задерживать, но… но мы еще увидимся, и тогда я лучше буду подготовлен к разговору с вами… потому что я многое должен сказать вам… — Нет, маркиз, — ответила Жильберта, вставая, — мы больше никогда с вами не увидимся, в противном случае пришлось бы снова вас обманывать, а ложь для меня непереносима. Случай привел меня встретиться с вами, и я думала, что выполняю свой долг, оказывая вам услугу, — правда, весьма незначительную, но сделала я это от всего сердца. Дурного в том ничего не было, посудите сами: мне пришлось лгать поневоле, иначе вы не приняли бы мои заботы. К тому же батюшка взял с меня клятву, что я никогда не буду надоедать вам напоминаниями о его печали, о раскаянии в нанесенном вам когда-то оскорблении, о котором я ничего не знаю, ни о его любви к вам, горящей в его душе подобно открытой ране. Как часто лелеяла я мечту, пусть детскую, припасть к вашим ногам. «Мой отец страдает, — сказала бы я, — он несчастен из-за вас. Если он вас оскорбил, примите в искупление его вины мои слезы, мое смирение, мою покорность, даже мою жизнь! Но протяните ему руку, а потом попирайте меня. Я буду благословлять вас, только снимите с души батюшки горе, которое его гложет и преследует даже во сне». Да, когда-то я убаюкивала себя этой мечтой. Но я отказалась от нее — такова воля батюшки: он полагал, что я могу лишь усилить ваше нерасположение. Сегодня я отказываюсь от такой попытки больше чем когда-либо, видя ваше холодное равнодушие и отвращение, которое внушает вам мое имя. Итак, я удаляюсь. Молю вас простить отца! Я знаю, я уверена, что батюшка — жертва вашего несправедливого гнева. Но я приложу все усилия, чтобы рассеять и утешить его. А вы, маркиз, можете наказать меня за невинную хитрость, на какую я решилась сегодня, желая спасти здоровье, а может быть, и жизнь того, кто так дорог моему батюшке. Пусть моя тайна в ваших руках, ее открыли вам вопреки моей воле; но я не стыжусь, что вы узнали ее, ибо это тайна гордой души и любви, которую благословило ниспославшее мне ее небо. Не опасайтесь, что вы когда-либо увидите меня, маркиз, не бойтесь, что Жан, наш неосторожный, но великодушный друг, навлекший на себя ваше неудовольствие попыткой примирить нас, станет докучать вам напоминанием о семействе Шатобрен. Я сумею убедить его навсегда отказаться от этого намерения. Я удостоилась чести быть вашей гостьей, маркиз, и разрешите мне никогда не забывать сегодняшнего вечера. Вам не придется раскаиваться, ведь вы не были введены в заблуждение нашей ложью; и если это облегчит вашу ненависть, вы можете с позором прогнать со своих глаз дочь Антуана де Шатобрен. — Как бы не так! — вскричал Жан Жапплу, беря за руку Жильберту и становясь между нею и маркизом. — Я один виноват, я пошел на эту ложь против ее воли. Я вбил себе в голову, что ей удастся примирить отца с вами. Вы упрямы, господин де Буагильбо, но, клянусь богом, вы не посмеете обидеть мою Жильберту! А не то я вспомню, как нынче перерубил вашу трость. — Не говорите вздору, Жан, — холодно сказал господин де Буагильбо. — Сударыня, — обратился он к Жильберте, — разрешите предложить вам руку и довести вас до вашей коляски. Жильберта согласилась, ее трясло как в лихорадке, но, подавая руку маркизу, она почувствовала, что и его рука дрожит, пожалуй, не меньше. Старик молча помог ей сесть в двуколку, и, так как было все еще очень холодно, хотя небо и прояснилось, он сказал: — Вы вышли из натопленного помещения, а одеты слишком легко, я принесу вам что-нибудь накинуть. Жильберта поблагодарила за внимание, но отказалась, сказав, что у нее есть плащ отца. — Но плащ насквозь промок, а это еще опаснее, — возразил господин де Буагильбо и направился к домику. — А ну его к черту, этого сумасшедшего старика! — воскликнул Жан, яростно хлестнув лошадь. — Довольно! Он меня разозлил, а толку я никакого не добился! Мне не терпится вырваться из его логова, ноги моей здесь больше не будет! Меня от одного его взгляда лихорадка трясет. Уберемся-ка отсюда подобру-поздорову. — Так не годится, мы обязаны его подождать; неудобно, если он вынужден будет бежать за нами, — сказала Жильберта. — Да неужто вы думаете, что он и в самом деле очень беспокоится, как бы вы не простудились? Он уже и думать-то о вас забыл. Так он и вернулся! А ну, Искорка, пошла! Но когда они подъехали к калитке, она оказалась запертой, ключ от нее хранился у господина де Буагильбо, и им волей-неволей надо было либо его дожидаться, либо вернуться за ключом. Жан осыпал хозяина громкими проклятиями, как вдруг из темноты появился маркиз, он нес сверток, который и положил на колени Жильберты. — Я вас заставил ждать, — сказал он. — Я никак не мог найти нужных вещей. Прошу вас оставить это себе, а также захватить безделушки — вы забыли их вместе с корзиночкой. Не слезайте, Жапплу, я сам открою калитку. — И, отпирая замок, он прибавил: — Я жду вас завтра, голубчик! И маркиз протянул плотнику руку; тот замялся было, но все-таки пожал ее, так и не разобравшись в сумбурных порывах этой непоследовательной и встревоженной души. — Мадемуазель де Шатобрен, — сказал затем маркиз слабым голосом, — протяните и вы мне руку на прощание. Жильберта легко спрыгнула на землю, сняла перчатку, взяла обеими руками дрожавшую руку старика и, охваченная почтительной жалостью, поднесла ее к губам. — Вы не хотите простить Антуана, простите же, по крайней мере, Жильберту, — сказала она. Глухой стон вырвался из груди маркиза. Он сделал движение, как будто хотел коснуться губами лба Жильберты, но вдруг в ужасе отпрянул. Затем обхватил ее голову, сжал изо всех сил и после минутного колебания поцеловал золотистые волосы, на которые упала его слеза, холодная, как капля воды, скатившаяся с ледника; потом вдруг резко оттолкнул девушку и пошел по дорожке, закрыв лицо носовым платком; и сквозь хруст гравия под его неровными шагами, сквозь вой ветра, раскачивавшего верхушки осин, Жильберте почудилось, что она слышит рыдания старика.XXXII Свадебный подарок
Неописуемо тяжелая и мучительная сцена этого необычайного прощания взволновала Жильберту до глубины души, и она тоже зарыдала. — Полно, что случилось? — допрашивал Жан, погоняя Искорку к Шатобрену. — Вы, должно быть, решили выплакать все глаза! Право, уж не рехнулись ли вы, как наш старик, голубка моя Жильберта? То вы говорили рассудительно, прямо как мудрец, то вдруг стали малодушной, жалуетесь и плачете, словно малое дитя. Знаете, что я вам скажу: у господина де Буагильбо золотое сердце, но что бы ни говорили Эмиль и ваш папаша, у него наверняка не все дома. Полагаться на него нельзя, но не следует и отчаиваться… Может статься, вы никогда больше о нем не услышите, а может, в один прекрасный день, встретив господина Антуана, он расчувствуется и кинется ему на шею. Все будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. — Не знаю, что и подумать, — ответила Жильберта. — Я и в самом деле, вероятно, сошла бы с ума, если б жила с ним вместе. Он внушает мне невыносимый страх, а меж тем минутами я испытывала к нему непреодолимую нежность. То же чувствовал и Эмиль вначале, акончилось тем, что он полюбил маркиза и перестал его бояться. Значит, все же его доброта берет верх над болезненными причудами. — Об этом мы еще поговорим, — ответил плотник. — Придется мне, видно, пойти завтра к господину де Буагильбо и разобраться хорошенько в его характере. — Но ты же знал его когда-то так хорошо! Разве он был другим? — О, маркиз сильно изменился к худшему. Раньше, бывало, он все грустит да молчит. Ну, случалось, иной раз и вспылит немного. Но он был отходчив — рассердится, а потом станет еще добрее. Он и теперь такой же, пожалуй, но только прежде на него накатывало раз или два в году, а теперь раз или два на день. Он стал и злее, и добрее. — Он выглядит таким несчастным! — сказала Жильберта, сердце ее сжималось при воспоминании о рыданиях маркиза, отголоски которых еще звучали у нее в ушах. Жанилла и Антуан сгорали от нетерпения, поджидая Жильберту. Сообщение Шарассона повергло их в величайшее изумление, и, заподозрив, что мальчишка что-нибудь перепутал или же обманывает, желая скрыть от них несчастье, приключившееся с Жильбертой, они поспешили к тетушке Марло, чтобы узнать у нее всю правду. Рассказ старухи рассеял их беспокойство, но мало что объяснил. Жанилла гневалась на плотника, не ожидая ничего доброго от его безумной затеи. Антуан также тревожился, но вскоре его легкомысленная натура взяла верх, и он начал строить тысячи воздушных замков, один другого великолепнее. — Жанилла, — говорил он, — наша дочка и Жан могут вдвоем сотворить чудо. А что ты скажешь, если вдруг мы увидим, как они возвращаются вместе с Буагильбо? — Ну и неразумная у вас голова! — отвечала Жанилла. — Вы забываете, что это невозможно. Да этот старый нелюдим, чего доброго, свернет шею нашей девочке, а слушать ничего не захочет. Вдобавок, какие оправдания могут они с Жаном привести, раз сами ничего не знают? — Вот именно, поэтому все и удастся! Больше всего на свете Буагильбо боится, как бы мы не открыли тайны нашим домашним. Увы, уязвленная гордость, не менее чем обманутая дружба, повинна в том, что он превратился в недоверчивого и несчастного человека. Бедный маркиз! Но, быть может, чистота Жильберты и прямодушие Жана смягчат его сердце. Если бы только он простил мне то, чего я сам никогда не забуду. — И вы еще жалуетесь, имея такое сокровище, как Жильберта! Но не надейтесь, что она приручит маркиза. Нет, нет! Он никогда не приедет в Шатобрен, да и прекрасный сынок господина Кардонне тоже, так что наши развалины никогда их не увидят. — Эмиль возвратится с согласия своего отца или не вернется вовсе, Жанилла, я тебе в том ручаюсь. Пока же его поведение заслуживает всяческих похвал: ведь Жан объяснил нам это сегодня утром. — Значит, вы ничего не поняли вроде меня, а по слабости сделали вид, будто вас убедили. Впрочем, вы всегда были такой. Ну что вы восхваляете примерное поведение этого проклятого Эмиля? Как же вы не видите, что только зря сбиваете девочку с толку! Вы бы лучше внушили ей отвращение к нему, доказали бы, что он вертопрах и ее не любит. Их спор был прерван знакомым цоканьем копыт Искорки, которая, обогнув скалу, трусила рысцой по дороге к замку. Старики выбежали навстречу Жильберте; и когда прошли первые минуты, заполненные нетерпеливыми расспросами и невразумительными ответами, Жанилла вдруг заметила сверток, который Жильберта держала в руках. — Что это у тебя? — спросила Жанилла, вынимая из свертка и разворачивая великолепную небесно-голубую индийскую кашемировую шаль, всю расшитую золотом, — Да ведь это же королевский наряд! — Ах, боже праведный! — вскричал побледневший господин Антуан, дотронувшись до шали дрожащей рукой. — Да, это она! — А это еще что за коробочка? — спросила Жанилла, открывая футляр, выпавший из шали. — Это, наверное, камни, — сказала Жильберта. — Кристаллы с Монблана, маркиз собственноручно собрал их во время путешествия. — Нет, нет, ты ошибаешься, — возразил плотник, — они блестят совсем по-иному. Взгляните-ка! И удивленная Жильберта увидела ожерелье из крупных, ослепительно сверкающих бриллиантов. — Боже мой, боже мой, я узнаю и их! — в неописуемом волнении бормотал господин де Шатобрен. — Замолчите же, сударь! — сказала Жанилла, толкая его локтем. — Вы знаете толк в бриллиантах и шалях, не спорю! Ведь вы были достаточно богаты и когда-то немало повидали всяких роскошных вещей. Но разве поэтому надо так громко кричать и мешать нам ими любоваться? Вот славно! Дочка, ты не потеряла времени даром! Этого, пожалуй, хватит, чтобы отстроить наш замок. Оказывается, господин де Буагильбо не такой уж скаред, как я думала. Жильберта, видевшая в своей жизни очень мало бриллиантов, настаивала, что это ожерелье из граненого горного хрусталя, но господин де Шатобрен, внимательно осмотрев застежку и камни, уложил ожерелье в футляр, повторяя рассеянно и печально: — Здесь бриллиантов на сто тысяч франков с лишком. Господин де Буагильбо дает тебе приданое, дочка! — Сто тысяч франков! — воскликнула Жанилла. — Сто тысяч франков! Да знаете ли вы, что говорите, сударь? Возможно ли? — Эти блестящие бусинки стоят такую уйму денег? — спросил Жапплу с наивным удивлением, но без малейшей алчности. — И они хранятся вот так, в маленькой коробочке, и никому от них нет пользы? — Их носят, — сказала Жанилла, надевая ожерелье на шею Жильберты, — и, поверь мне, они очень красят. Набрось-ка шаль, дочка! Да не так! Я видела в Париже, как дамы носят такие вот шали, но, хоть убей, не припомню, каким это манером они в них завертываются. — Может быть, это очень красиво, но весьма неудобно, — возразила Жильберта, — В этой шали и с драгоценностями я похожа на ряженую. Давай-ка сложим и спрячем их, а завтра отправим господину де Буагильбо. Он, очевидно, ошибся в потемках. Маркиз хотел дать мне безделушки, а положил свадебные подарки своей жены. — Верно, — промолвил плотник, — он ошибся. Кто же дарит обноски покойной жены чужим женщинам! Да он рехнулся, бедняга! Оказывается, не только вы, господин Антуан, бываете рассеянны! — Нет, он не ошибся, — заметил господин Антуан. — Маркиз знал, что делает, и Жильберта может оставить у себя эти подарки. — Еще бы, я думаю! — вскричала Жанилла. — Они принадлежат ей, ведь правда, господин Антуан? Все это принадлежит Жильберте по праву… раз господин де Буагильбо дарит их ей. — Но это невозможно, батюшка! Мне они совсем не нужны, — проговорила Жильберта. — Что я буду с ними делать? Хороша я буду в нашей двуколке, в ситцевом платье, увешанная бриллиантами, да еще в кашемировой шали на плечах! — Вот именно! Уж народ и потешится, глядя на вас, а наши дамочки прямо лопнут от зависти, — сказал плотник. — Да вдобавок все вертопрахи будут налетать на ваши бриллианты — они, не разбираясь, кидаются, как майские жуки, на все, что блестит. Если господин де Буагильбо хотел вам дать приданое и тем доказать, что помирился с господином Антуаном, лучше бы он подарил вам небольшую мызу да восьмерку быков. — Быки — это, конечно, неплохо, да и мыза тоже… — сказала Жанилла, — но такие вот сверкающие камешки — все равно что деньги, на них можно расширить флигель, прикупить землю, обеспечить себе две-три тысячи ливров дохода и найти мужа, который сам имеет столько же. Тогда можно спокойно прожить остаток дней и посмеяться всласть над господами Кардонне, папашей и сынком! — И в самом деле, — заметил господин Антуан, — вот твое будущее и обеспечено, дочка! О, господин де Буагильбо благороднейший из мстителей. Я был прав, защищая его от твоих нападок, Жанилла. Неужели и теперь ты осмелишься утверждать, что он дурной и злой человек? — Нет, нет, сударь! В нем есть доброта, это я признаю. Ну, а теперь расскажите-ка нам, как все произошло. Рассказов хватило до полуночи. Вспоминали малейшие подробности, обсуждали на тысячу ладов, как поведет себя в дальнейшем маркиз в отношении господина Антуана. Жан Жапплу, увидев, что засиделся допоздна, заночевал в Шатобрене. Господин Антуан заснул в мечтах о будущем счастье, а старуха Жанилла — в мечтах о будущем богатстве. Она позабыла об Эмиле и недавних горестях. «Все это пройдет, — думала она, — а сто тысяч франков при нас останутся. Теперь, когда мы будем владельцами славного именьица, никакие Галюше к нам больше не сунутся!» И она перебирала в уме всех местных дворян, которые, по ее мнению, могли бы составить счастье Жильберты. «А если к нам посватается кто попроще, — думала Жанилла, — так пусть у него будет недвижимого имущества не меньше, чем на двести тысяч франков». И она положила под подушку ключ от шкафа, в котором заперла приданое Жильберты. Позже всех уснула разбитая от усталости Жильберта и перед сном успела принять важное решение. На другой день, потихоньку от Жаниллы, она долго беседовала с отцом, затем выпросила у Жаниллы подарки господина де Буагильбо и унесла их в свою комнату, чтобы рассмотреть хорошенько на досуге, как она заявила. Старушка доверчиво отдала шаль и ожерелье, а Жильберта решила на сей раз утаить свои истинные намерения от упрямой воспитательницы. Затем молодая девушка написала длинное письмо и показала его отцу. — Ты поступила правильно, дочка, — сказал тот с глубоким вздохом, — но берегись, как бы не узнала Жанилла. — Не бойтесь, дорогой батюшка, — ответила девушка. — Мы скроем от нее, что я действовала в согласии с вами, и весь ее гнев обрушится на меня одну. — Теперь, — продолжал господин Антуан, — придется подождать Жана, потому что эти вещи нельзя доверить такому ветрогону, как наш уважаемый Шарассон. Жильберта ожидала прихода плотника с тем большим нетерпением, что рассчитывала получить от него хоть какие-нибудь сведения об Эмиле. Она не знала, что Эмиль болен. Но при мысли об его страданиях испытывала такую тревогу, что забывала о собственных горестях, и дни предстоящей разлуки с ним, которую, как ей мыслилось, она сможет мужественно перенести, казались ей теперь долгими и мрачными, и она с ужасом спрашивала себя, выдержит ли Эмиль это тяжелое испытание. Жильберта утешалась надеждой, что вопреки ее запрещению Эмиль все же найдет способ ей написать или что, по крайней мере, Жан передаст ей свою беседу с ним от слова до слова. Но плотник все не приходил, и наступивший вечер не принес Жильберте утешения. К ее тайной горести прибавилась еще неприятность: господина Антуана, вначале, казалось, вполне одобрявшего принятое ею решение отказаться от даров господина де Буагильбо, вдруг стали одолевать сомнения; он то и дело порывался посоветоваться с Жаниллой, без которой вот уже двадцать лет не принимал ни одного решения. И Жильберта трепетала при мысли, что властное вето старухи разрушит задуманный ею план. На следующий день плотник также не явился. Он, конечно, работал у господина де Буагильбо, и Жильберта удивлялась, как это, находясь так близко от Шатобрена, он не догадывался, что нужен ей, что ей надо поговорить с ним хоть пять минут. Смутное беспокойство влекло ее в сторону имения Буагильбо. Она направилась к хижине тетушки Марло и, как обычно, положила в корзиночку скромные лакомства, которых лишала себя за обедом ради больных детей. Но, боясь, как бы в ее отсутствие господин де Шатобрен не открылся Жанилле и та, чего доброго, не заперла бы драгоценности на замок, Жильберта завернула ожерелье и шаль и спрятала на дно корзинки, решив больше не выпускать их из рук, пока не вернет подарки по назначению. Как истая деревенская жительница, и к тому же дочь небогатых родителей, Жильберта привыкла ходить одна по окрестностям. Бедность освобождает от излишних условностей, и, очевидно, добродетель богатых девиц считается более хрупкой и драгоценной, чем добродетель бедных, ибо первые шагу ступить не могут без провожатых. Жильберта шла пешком, одна, спокойно и уверенно, как ходят крестьянки; и действительно, ей нечего было опасаться еще и потому, что все, кого она встречала или могла встретить на своем пути, ее знали, любили и уважали. Она не боялась ни собак, ни коров, ни ужей, ни вырвавшегося на свободу жеребенка. Деревенские ребята обычно умеют избегать этих маленьких опасностей — требуется ведь только некоторое присутствие духа и немного хладнокровия. Потому-то Жильберта брала с собой шатобренского пажа и разъезжала на знаменитой таратайке, только когда угрожало ненастье или если она торопилась поскорее вернуться домой. А сейчас солнце еще сияло в ясном небе, дороги были сухи, и она легким шагом шла среди лугов. Если идти по проселочной дороге, хижина тетушки Марло окажется как раз на полпути между Шатобреном и владениями маркиза. Дети уже почти поправились, и Жильберта решила не засиживаться. Тетушка Марло рассказала, что в день их встречи маркиз оставил ей сто франков, и сообщила, что Жан Жапплу работает в парке в деревянном домике: она издали видела, как он проходил, нагруженный плотничьим инструментом. Жильберта подумала, что в таком случае есть надежда встретить плотника, когда он будет возвращаться в Гаржилес, и решила подождать его до захода солнца на дороге, по которой он обычно ходил. Боясь, что ее увидят и узнают, когда она приблизится к парку, Жильберта попросила у тетушки Марло ее накидку из грубой шерстяной ткани, сославшись на вечернюю прохладу и легкое недомогание. Укутавшись в накидку и прикрыв капюшоном свои золотые кудри, она направилась кратчайшей тропинкой к поместью и, пробравшись, как лань, сквозь кустарник, дошла до решетки парка, выходившей на дорогу в Гаржилес. Миновав заросли ивняка, неподалеку от того места, где речка подходила к самому парку, она заметила, что калитка еще не заперта, — верное доказательство того, что господина де Буагильбо не было в парке; в противном случае все входы тщательно закрывались, и эту привычку нелюдимого старика хорошо знали местные жители. Это наблюдение придало смелости Жильберте, и она подошла поближе в надежде увидеть Жана Жапплу. Внезапно она увидела крышу домика — он стоял совсем рядом. Дорожка была темна и пустынна. Легкая, как птица, Жильберта осторожно скользнула в парк, уверенная, что ее не узнают в таком одеянии. Девушка рассчитывала, что, если Жан окажется один, она подаст ему знак и успокоит наконец свое мучительное нетерпение, расспросив об Эмиле. Сквозь полуоткрытые двери домика виднелась пустая комната. На полу в беспорядке валялся плотничий инструмент. Кругом царила глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Жильберта прошла на цыпочках и положила на стол сверток и письмо. Затем, пораздумав, она решила, что опасно оставлять такие ценные вещи на самом виду, и, осмотревшись, взялась за ручку двери, приняв ее за дверцу стенного шкафа; заметив, что замок снят, она верно рассудила, что Жан как раз занят его починкой и, без сомнения, скоро вернется, чтобы закончить работу, и, конечно, лучше всего доверить ценности самому верному своему другу. Но когда она потянула дверцу шкафа, чтобы положить туда сверток, перед ней вдруг открылся кабинет, где вперемежку валялись книги и бумаги, а прямо напротив двери висел на стене большой женский портрет. Жильберте достаточно было бросить один-единственный взгляд, чтобы узнать в прекрасной даме оригинал миниатюры, с которой не расставался ее отец и которую она считала изображением своей матери-незнакомки, давшей ей жизнь. Возможно, что поначалу лицо дамы на миниатюре и не поражало сходством с той, что была изображена на портрете, но поза, костюм и голубая шаль, которую Жильберта как раз держала в руках, свидетельствовали, что миниатюра сделана одновременно с портретом или, вернее, является его уменьшенной копией. Девушка подавила возглас удивления; и так как ее целомудренное воображение не могло даже допустить возможности супружеской измены, она стала себя убеждать, что находится в близком родстве с господином Буагильбо, что она его племянница, а быть может, внучка, что она плод тайного брака, о каких пишут в романах. Внезапно Жильберте показалось, что она слышит чьи-то шаги наверху; она в страхе бросила сверток на камин и стремительно выбежала из домика.XXXIII История одного, рассказанная другим
Через несколько минут после бегства Жильберты Жан, в сопровождении господина Буагильбо, который дожидался его ухода, чтобы приказать запереть все калитки, вернулся в кабинет, где требовалось вставить замок. Плотник заметил, с каким беспокойством маркиз наблюдает за каждым его прикосновением к заветной двери. Жан не терпел, когда его подозревали в нескромности; он резко поднял голову и с обычной своей откровенностью заявил: — Тьфу, пропасть! Господин де Буагильбо, вы, видно, боитесь, как бы я не подсмотрел, что вы там запрятали! Ну подумайте сами: я тут копаюсь уже целый час, в моей власти было заглянуть туда, но я совсем не любопытен, и лучше бы вы прямо сказали: «Закрой глаза, Жан», чем ходить за мной по пятам. Господин де Буагильбо изменился в лице и нахмурил брови. Он мельком заглянул в кабинет, увидел, что от сквозного ветра свалился большой кусок зеленого холста, которым он довольно неумело прикрыл портрет, и понял, что Жан должен был его увидеть, если только он не окончательно слеп. Тогда маркиз решился — он широко распахнул двери и сказал с деланным спокойствием: — Я ничего не прячу, можешь смотреть, сколько тебе вздумается. — Ну, мне не очень-то интересны ваши толстенные книги, — ответил, смеясь, плотник. — Ничего я в них не смыслю и дивлюсь только, зачем это понадобилось написать столько слов, чтобы научить людей жизни. А-а, вот портрет вашей покойной супруги. Узнаю. Да, это она! Вы, значит, приказали перенести портрет маркизы сюда? В мое время он висел в замке. — Я велел перенести портрет сюда, чтобы постоянно иметь его перед глазами, — грустно сказал маркиз. — И что же! С тех пор как он здесь, я почти не смотрю на него. Я стараюсь бывать в кабинете как можно реже и если боялся, что ты увидишь портрет, то лишь потому, что мне самому страшно его видеть. Мне слишком больно. Закрой дверь, если это не мешает тебе работать. — И вдобавок вы боитесь, чтобы вас не заставили рассказать о вашем горе. Понимаю и, судя по вашим словам, готов об заклад побиться, что вы еще не утешились после смерти жены. Ну что же, это точь-в-точь как я сам. Не стесняйтесь меня, господин де Буагильбо; как я ни стар, а в груди у меня, вот здесь, до сих пор сердце заходится, как подумаю, что я совсем один на свете! А ведь я человек веселый, и не сказать, чтоб был особенно счастлив в браке. Что поделаешь! Это сильнее меня! И любил же я свою жену!.. Дело прошлое! Сам черт не мог бы мне помешать ее любить! — Друг мой, — сказал, смягчаясь, господин де Буагильбо: он все думал о своем горе, — ты был любим, так не жалуйся! И ты имел счастье быть отцом! Что с твоим сыном? Где он? — В земле… там, где и жена. — Я этого не знал… слышал только, что ты овдовел… Бедный Жан, прости, что я напомнил тебе о твоих несчастьях! Мне жаль тебя от всей души. Иметь ребенка и потерять его!.. Маркиз положил руку на плечо плотника, который возился с починкой паркета, и на лице господина Буагильбо можно было прочесть, что творится в его доброй душе. Жан выронил рубанок и привстал на одно колено. — Знаете ли вы, господин де Буагильбо, что я был еще несчастнее, чем вы, — не сдержавшись, сказал он, — вы даже представить себе не можете, сколько я выстрадал… — Расскажи мне, тебе станет легче, я пойму. — Хорошо, вам я все расскажу, вы человек ученый… Кому, как не вам, судить о людях и их делах, — конечно, только когда вы не блажите. Я вам, пожалуй, признаюсь в том, что знают многие в наших краях, но сам я до сих пор ни с кем об этом не говорил. Чудная у меня была жизнь, право… И любила меня жена и не любила. Был у меня сын, но не уверен я, что прихожусь ему отцом. — Да что ты? Не надо об этом! О таких вещах не следует говорить, — произнес потрясенный маркиз. — Верно, не следует, пока все болит! А в наши с вами годы можно обо всем говорить, ведь вы не из тех дурачков, которые только и умеют, что смеяться над ближним, над самым тяжким его горем. Вы не насмешник, не злой человек. Скажите мне сами, был я виноват или нет, вел ли себя плохо, поступал как человек или как зверь и как бы вы поступили на моем месте? Ведь в те времена меня осуждал всякий и, не будь у меня тяжелой руки да острого языка, всякий рад бы посмеяться мне прямо в лицо. Посудите сами! Жена моя, бедняжка Нанни, полюбила моего друга, красивого парня и хорошего товарища, честное слово. Но она, однако, любила и меня. Черт побери! Не знаю уж, как это случилось, но в один прекрасный день оказалось, что мой сын больше похож на Пьера, чем на Жана! Сходство бросалось в глаза, сударь! Были минуты, когда мне хотелось отколотить Нанни, задушить ребенка, проломить череп Пьеру. А потом… потом… я смолчал, только плакал и молился богу. До чего же я страдал! Я колотил жену за то, что она, мол, плохо ведет хозяйство, драл за уши малыша за то, что он, мол, слишком шумит, задирал Пьера из-за партии в кегли и чуть было не переломал ему ноги кегельным шаром. А когда они плакали, плакал и я и чувствовал, что я подлец подлецом! Я воспитал сына и оплакивал его; похоронил жену и оплакиваю ее по сей час. Но друг у меня остался, и я все еще люблю его. Вот как все повернулось! Что вы на это скажете? Господин де Буагильбо не ответил. Он ходил по комнате, и паркет скрипел под его шагами. — Бьюсь об заклад, что вы считаете меня трусом и дураком! — сказал плотник, подымаясь с пола. — Но, по крайней мере, вы убедились, что вашим горестям до моих далеко. Маркиз молча опустился в кресло. Слезы медленно катились по его щекам. — Но почему вы плачете, господин де Буагильбо? Что же, и мне прикажете плакать? Так у нас с вами и слез не хватит! В свое время я столько их пролил от гнева и горя, что не осталось у меня ни одной слезинки, ручаюсь чем хотите! Ну же, ну! Поминайте без горечи свое прошлое и предоставьте богу настоящее, потому что есть люди более обиженные судьбой, чем вы. Ваша супруга была дама красивая и умная, хорошо воспитанная, спокойная, вежливая. Может быть, вы не видали от нее столько ласки и участия, сколько я от своей Нанни, но жена хоть не обманывала вас, вы были в ней уверены, недаром отпускали ее в Париж одну, когда ей того хотелось, и не ревновали — ведь для ревности у вас повода не было. А меня днем и ночью терзала ревность, будто тысячи бесов жгли мне грудь! И я следил, подсматривал, скрывал, что ревную, и стыдился этого, а как мучился! И чем больше я наблюдал, тем яснее видел, как ловко меня обманывают. И никогда я не мог их поймать. Нанни была похитрее меня, и я только зря тратил время, выслеживая ее, а она еще устраивала мне сцены за то, что я, мол, ей не верю. Когда ребенок подрос и стало видно, на кого он похож, и я понял, что не на меня… что же вы думаете… мне казалось, я ума решусь! Ведь я любил и баловал его, работал, чтобы прокормить его, дрожал от страха, когда он набивал себе шишки, привык видеть, как он возится возле моего верстака, сидит верхом на моих бревнах и, забавляясь, тупит мой инструмент. У меня ведь он один-единственный был! Я считал его своим сыном. Других детей мне бог не дал. Да что там!.. Не мог я жить без мальчугана. А этот чертов мальчишка как меня любил! Так, бывало, ко мне ластился. Был такой умненький! Когда я его бранил и он плакал, у меня сердце разрывалось. Под конец я уж и забыл свои подозрения, убедил себя, что я его отец, и, когда на войне его скосила пуля, я и сам хотел руки на себя наложить. До чего же он был красивый и храбрый, и на работу спорый, и солдат примерный! А разве его вина, что он не был моим сыном? Да останься он в живых, я бы счастливым человеком был, — работали бы мы с ним вместе, не старился бы я в одиночестве! Было бы мне с кем коротать время, поболтать вечером после рабочего дня, было бы кому ухаживать за мной, когда я болен, укладывать меня в постель, если я выпью. Он мог бы говорить со мной о матери, а ведь я не осмеливаюсь никогда ни с кем о Нанни говорить… все, кроме него одного, знали о моем несчастье. Полноте, полноте, господин де Буагильбо, вам не пришлось перенести такого горя! Вам-то не подсунули наследника, и если вы не имели от него пользы, то хоть и позора не знали! — Да и не сумел бы это перенести с таким достоинством, как ты! — сказал маркиз. — Жан, открой дверь, я хочу смотреть на портрет маркизы. Ты вдохнул в меня бодрость, сделал доброе дело. Я был безумцем, когда прогнал тебя. С тобой я не стал бы таким сумасбродом. Я думал, что изгоняю от себя врага, а лишился друга. — Но какого черта! Почему вы считаете меня врагом? — возмутился Жапплу. — Ты ничего не знаешь? — спросил маркиз, устремив на плотника пронизывающий взгляд. — Ничего, — твердо ответил плотник. — Клянешься честью? — спросил господин де Буагильбо, с силой сжимая его плечо. — Клянусь вечным спасением! — ответил Жан с достоинством, поднимая руку к небу. — Надеюсь, вы хоть сейчас мне все расскажете. Маркиз, казалось, не слышал этих решительных и искренних слов. Он почувствовал, что Жан говорит правду. Опустившись в кресло, он повернулся к открытой двери в кабинет и с глубокой грустью стал глядеть на портрет маркизы. — Ты не перестал любить жену, — сказал он, — простил невинному ребенку — это я понимаю… Но как ты мог встречаться с другом, который тебя предал, и терпеть его — вот это непостижимо! — Ах, господин де Буагильбо, это и в самом деле труднее всего! Вдобавок, никто меня к этому не понуждал, и, переломай я ему ребра, все были бы на моей стороне! Но знаете, что меня обезоружило? Я увидел, что он искренне раскаивается и сильно горюет. Пока Пьер был одержим любовной горячкой, он переступил бы через мой труп, лишь бы соединиться со своей любовницей. Она была и впрямь хороша, словно майская роза! Не знаю, видели вы ее, помните ли, — знаю одно: Нанни была почти красавица; не похожа на госпожу де Буагильбо, а, пожалуй, не хуже. Я с ума сходил по ней, да и он тоже! Он стал бы язычником ради нее, а я… стал дураком. Но когда молодость прошла, я увидел, что они уже охладели друг к другу и стыдятся своей вины. Жена снова стала меня любить — за мою доброту, за то, что я все ей простил, а он… грех лежал такой тяжестью на его душе, что, когда, бывало, мы выпивали вместе, он все порывался покаяться мне. Но я не хотел слушать. Бывало, стоит передо мной на коленях и вопит как сумасшедший: «Убей меня, Жан! Убей меня! Я заслужил это, так мне и надо!» В трезвом виде он не вспоминал об этом, но дал бы себя изрубить на куски ради меня. А сейчас он самый лучший мой друг после господина Антуана. Той, что была причиной наших страданий, уже больше нет в живых, а дружба осталась. Из-за него-то у меня и были неприятности в суде, и чуть я не стал, как вы видели, бродягой. И что бы вы думали! Он работал на моих заказчиков, чтобы сохранить их для меня, отдавал деньги, а потом вернул и самих заказчиков. Все, что у него есть, он готов разделить со мной, а так как он моложе меня, то, надеюсь, в смертный час закроет мне глаза. Это уж его долг. Но в конце концов, сдается мне, и люблю-то я его как раз за то зло, что он причинил мне, за то, что у меня достало силы простить его. — Да, да, — повторил господин де Буагильбо, — чтобы достичь высшего благородства, не следует бояться быть смешным. Он тихонько прикрыл дверь кабинета, а когда вновь подошел к камину, в глаза ему бросился сверток и письмо, которое гласило: «Господин маркиз! Я обещала, что Вы никогда больше обо мне не услышите, но Вы сами вынудили меня напомнить Вам о моем существовании — надеюсь, в последний раз. Вы дали мне вещи столь значительной ценности, вероятно, по ошибке или желая подать мне милостыню. Я не постыдилась бы прибегнуть к Вашей доброте, когда была бы вынуждена просить о ней; но Вы ошиблись, маркиз, считая меня нищей. Мы живем в достатке, принимая во внимание наши скромные потребности и вкусы. Вы богаты и великодушны — я поступила бы опрометчиво, приняв благодеяния, которые Вы можете обратить на других. Взять Ваш дар — значило бы обокрасть бедных. Единственное, что мне было бы приятно унести из Вашего дома, даже заплатив за это своей кровью, — это слово прощения, слово дружбы для моего отца, зачеркивающее все прошлые недоразумения… Ах, сударь, Вы не знаете, как может страдать сердце дочери, когда она видит, что ее отец несправедливо обвинен, и не знает, как оправдать его. Вы не захотели облегчить мою задачу, Вы упорно хранили молчание о причине вашей распри. Но как Вы не поняли, что при таких обстоятельствах я не могу принять от Вас подарок и пользоваться Вашей добротой! Однако я сохраню маленький сердоликовый перстень, который Вы надели мне на палец, когда я вошла к Вам под вымышленным именем. «Это предмет не ценный, — сказали Вы мне, — это память о моих путешествиях…» Он дорог мне, хотя и не является залогом примирения, какое Вы могли бы мне даровать. Но он будет напоминать о той сладкой и страшной минуте, когда я почувствовала, что сердце мое устремилось к Вам, хотя надежды мои оказались напрасными и тотчас угасли… Меж тем я должна бы ненавидеть Вас, ненавидящего моего отца, которого я обожаю. Сама не знаю почему, но я возвращаю Ваши подарки без чувства оскорбленной гордости и не знаю, почему я отказываюсь от Вашей дружбы с такой глубокой болью. Примите же, маркиз, почтительные чувства Жильберты де Шатобрен».XXXIV Воскресение
— Это ты, Жан, принес сюда сверток и письмо? — спросил господин де Буагильбо. — Нет, сударь, я ничего не приносил и не знаю, откуда они, — искренне удивился плотник. — Как я могу тебе верить, — продолжал маркиз, — когда третьего дня ты лгал, смело представляя мне некую особу под вымышленным именем? — Третьего дня я лгал, но клятвы не давал. А нынче клянусь. Я не видел никого и не знаю, кто принес сверток. Но раз уж вы первый заговорили о том, что произошло третьего дня, — сам-то я не осмелился бы, — так позвольте же вам сказать, что бедняжка на обратном пути не осушала слез, думая о вас, и что… — Молю тебя, Жан, не говори мне об этой девушке и об ее отце. Я обещал тебе, что заговорю о ней сам, когда придет время, а ты обещал не мучить меня. Подожди, пока я тебя сам спрошу. — Пусть будет так! А вдруг вы заставите меня ждать чересчур долго и я потеряю терпение, что тогда? — Быть может, я никогда не заговорю. Не расспрашивай меня больше, — сказал маркиз с нескрываемым раздражением. — Это не годится! — возразил плотник. — Мы так не договаривались! — Ну хорошо! Отправляйся домой, — сухо сказал господин де Буагильбо. — Работу ты уже закончил, от ужина отказываешься, Эмиль, конечно, ждет тебя с нетерпением. Скажи ему, чтобы он не падал духом и что я скоро навещу его. Скоро… может быть, завтра. — Если вы собираетесь поступить с ним так, как поступаете со мной: откажетесь с ним говорить о Жильберте и ему не позволите — какая ему польза от вашего посещения? Так его не излечишь! — Жан, не выводи меня из терпения! Не мучай меня! Уходи, пожалуйста! «Так, так, — подумал плотник. — Ветер меняется. Подождем, пока выглянет солнышко». Он надел куртку и направился к двери. Господин де Буагильбо вышел, чтобы самолично запереть за ним калитку. Еще не совсем стемнело. Маркиз различил на разрыхленном граблями песке следы маленькой женской ножки, два ряда следов: это Жильберта проходила здесь к деревянному домику и той же дорогой возвращалась обратно. Он не поделился своими наблюдениями с плотником, а тот ничего не заметил. Между тем Жильберта все ждала и ждала. Солнце уже минут десять, как зашло, и время, казалось ей, тянулось томительно долго. Сгустившийся сумрак и опасение встретить кого-нибудь из обитателей замка увеличивали ее беспокойство и нетерпение. Она отважилась выйти из своего убежища и пошла вниз по реке, стараясь не упускать из виду дороги. Но едва она очутилась на открытом месте, как услышала позади себя шаги и поспешно обернулась: за ней следовал с неизменной удочкой на плече Констан Галюше, возвращавшийся в Гаржилес. Жильберта опустила капюшон, но все же знаменитый ловец пескарей успел заметить золотой локон, блеск голубых глаз, розовую щечку. Впрочем, трудно было ошибиться на таком расстоянии. Да и походка у Жильберты была иная, чем у крестьянских девушек, а из-под грубой шерстяной накидки виднелся подол легкого платья и изящная ножка, обутая в прочный, плотно облегающий башмачок. Констана Галюше весьма взволновала эта встреча. Он слишком презирал крестьянок и конечно уж не снисходил до того, чтобы увиваться за ними во время своих рыболовных вылазок. Но его аристократическое сердце дрогнуло при виде переодетой барышни; к тому же что-то подсказывало ему, кто обладательница этих непокорных золотых кудрей, и Констан решительно двинулся за встревоженной Жильбертой. Он шел за ней буквально по пятам, то отставал, то забегал сбоку, то замедлял, то ускорял шаг — словом, все уловки Жильберты, пытавшейся остаться позади или обогнать Галюше, ни к чему не приводили. Он останавливался, когда останавливалась она, наклонялся к ней и, порой почти задевая, дерзко и с любопытством заглядывал под капюшон. Напрасно девушка обеспокоенно озиралась по сторонам в надежде обнаружить какое-нибудь жилье, где она могла бы укрыться: вокруг были пустынные луга, и ей оставалось только продолжать путь в Гаржилес, в расчете на то, что плотник нагонит ее и освободит от назойливого провожатого. Но никто не появлялся, и Жильберта, не в силах дольше выносить преследование, приостановилась, заглянула в свою корзиночку, будто позабыла или потеряла что-то, затем быстро повернулась и пошла обратно к парку, уверенная, что Галюше, которому незачем было идти в Буагильбо, не посмеет следовать за ней. Но было слишком поздно. Констан ее узнал, и его охватило желание подло отомстить. — Эй, прелестная крестьяночка! — сказал Галюше, настигая ее. — Что это вы там ищете, откройте мне вашу тайну! Не могу ли я вам помочь? Вы молчите! Ага, понимаю! Вы назначили здесь свидание с милым, и я вам помешал. Но что поделаешь! Раз уж молодые девушки разгуливают одни по вечерам, пусть пеняют на себя, если встретят одного поклонника вместо другого. А кто первый пришел, тот и нашел! Не будьте столь разборчивы, ночью все кошки серы! Разрешите предложить вам руку. Если вы не встретили того, кто вам нужен, мы постараемся его заменить и не ударим в грязь лицом. Жильберта, испуганная грубостью письмоводителя, пустилась бежать. Легкая и более проворная, чем Галюше, она неожиданно для него порхнула в кусты и, забравшись в самую чащу, решила, что опасность миновала; но преследователь пришел в ярость, увидя, как стремительно ускользнула его жертва. Не обращая внимания на хлеставшие его ветки, он в три прыжка очутился подле нее, как раз напротив калитки, ведущей в парк Буагильбо. — Черт возьми! — заорал он, ухватив ее за накидку, — Надо же мне знать, стоите ли вы того, чтобы рвать из-за вас в клочья сюртук. Если вы уродливы, вам нечего бежать, милочка: я вами не прельщусь! Но если вы молоды и привлекательны, берегитесь, барышня! Жильберта отбивалась, колотя по лицу и рукам Галюше своей корзиночкой; но силы были слишком неравны: он яростно ухватился за капюшон и едва не оцарапал ее крючком накидки. В эту минуту двое мужчин показались у калитки парка, и Жильберта, сделав отчаянное усилие, вырвалась из рук Галюше и бросилась за помощью к тому, кто шел впереди; ее принял в свои объятия господин де Буагильбо. Девушка, едва не лишившаяся чувств от страха и негодования, прижалась лицом к груди маркиза, так что ни господин де Буагильбо, ни плотник не узнали ее. Но последний, заметив обратившегося в бегство Галюше, почувствовал, как в груди его проснулась затихшая было злоба против приближенного господина Кардонне, и бросился за ним. Толстый и низенький Галюше, хотя и был значительно моложе Жана, уступал ему в ловкости и силе. Видя, что ему не уйти, Галюше, понадеявшись на свои мускулы, решил принять бой. Противники схватились. Галюше, довольно крепко сложенный, выдержал первый натиск, но Жан недаром слыл силачом — он швырнул Галюше на землю, у самой воды. — Ага, тебе мало шпионить за добрыми людьми! — воскликнул Жан, упершись коленом в грудь Галюше и так сдавив ему глотку, что побежденный бессильно разжал руки. — Ты еще и оскорбляешь женщин, подлый холуй? Следовало бы раздавить тебя, как клопа, но с тебя, труса, станется потащить меня в суд. Нет, дружок, этого ты не дождешься. Я сумею тебя так отделать, что даже царапины не оставлю — иди-ка, жалуйся. Для начала мы тебя умоем, мыльце у нас припасено как раз по тебе. И, набрав пригоршню тины, плотник вымазал физиономию, манишку и галстук Галюше, а затем отпустил его с таким напутствием: — Попробуй только тронь! Отведаешь, какова тина на вкус! Галюше слишком основательно ощутил, что такое рука плотника, чтобы подвергать себя новому риску. Он охотно запустил бы камнем в голову Жана, отвернувшегося в эту минуту, но подумал, что дело может принять серьезный оборот и, если не удастся свалить плотника с первого же удара, ему, Галюше, несдобровать. Он отступил, оглашая окрестность бранью и угрозами по адресу Жана и «этой девки», которую тот защищал, но не посмел ни произнести имени Жильберты, ни показать виду, что узнал ее. Он боялся, как бы в один прекрасный день Жильберта не стала невесткой хозяина, ибо последние несколько дней — с тех пор как заболел Эмиль — господин Кардонне казался очень озабоченным и, видимо, был в полной растерянности. Жильберта и маркиз не видели всей этой сцены. Девушка задыхалась от волнения и, едва ли сознавая, что с ней происходит, позволила маркизу отвести себя к швейцарскому домику. Господина де Буагильбо происшествие это привело в сильнейшее замешательство: ему и хотелось помочь девушке, и страшно было заговорить с ней, дать ей понять, что он ее узнал. К нему вернулась обычная недоверчивость: уж не была ли заранее подстроена эта сцена, чтобы бросить в его объятия трепещущую голубку? Но когда Жильберта замертво упала на пороге домика, когда он увидел ее бескровное личико, померкшие глаза и побелевшие губы, его охватила нежность, сострадание к ней и неистовый гнев против того, кто способен оскорбить беззащитную женщину. Затем он подумал, что ведь девушка подверглась опасности только потому, что желала доказать ему свою благородную гордость и бескорыстие. Он поднял Жильберту, усадил в кресло и сказал, растирая ее похолодевшие пальцы: — Придите в себя, мадемуазель де Шатобрен. Успокойтесь, умоляю вас! Здесь вы в безопасности, здесь вы желанная гостья! — Жильберта! — вскричал плотник, увидев с порога дочь господина Антуана, — Жильберта, родная! Великий боже, да что это? Да знай я, что это она, я не пощадил бы негодяя! Но он еще тут где-нибудь, я догоню его и убью! Побагровев от ярости, Жан снова было бросился за Галюше, но маркиз и очнувшаяся Жильберта удержали его — правда, не без труда: он был вне себя. В конце концов маркиз объяснил ему, что ради доброго имени Жильберты следует отказаться от дальнейшей мести. Однако старик чувствовал себя неловко в присутствии Жильберты. Девушка хотела немедленно уйти, он же в глубине души желал ее удержать, но не решался прямо сказать об этом и только повторял, что ей следует отдохнуть и оправиться от пережитых волнений. Жильберта, опасаясь опять встревожить родителей, уверяла, что в состоянии добраться до дому. Маркиз то просил гостью воспользоваться его каретой, то предлагал нюхательные соли. Он стал искать флакон и, конечно, не нашел, он суетился вокруг нее, но главное, что занимало его, — как заговорить с Жильбертой о письме и возвращенных ею драгоценностях. И хотя обычно, приняв какое-нибудь решение, господин Буагильбо действовал непринужденно и смело, на сей раз он был неуклюж, как юнец, впервые появившийся в свете, — так сковывала каждое его движение вновь овладевшая им нерешительность. Наконец, когда Жильберта собралась уходить с Жаном, пожелавшим проводить ее до самого Шатобрена, старик поднялся тоже, надел шляпу и схватил свою новую трость с таким решительным видом, что плотник невольно улыбнулся. — Разрешите и мне, — сказал господин де Буагильбо, — проводить вас. Этот проходимец, чего доброго, засел где-нибудь в кустах, и всегда надежнее два стража, чем один. — Пускай идет с нами, — шепнул Жан, когда Жильберта стала отказываться от услуг господина де Буагильбо. Все трое вышли за ограду парка, и маркиз сначала держался в арьергарде, но потом зашагал впереди своих спутников, как бы возглавляя шествие. В конце концов он очутился подле Жильберты и, заметив, что она еле передвигает ноги, осмелился предложить ей руку. Постепенно он разговорился и овладел собой. Сначала беседа шла об общих предметах, затем маркиз искусно перевел разговор на свою спутницу, стал расспрашивать об ее вкусах, занятиях, чтении и, хотя она отвечала скромно и сдержанно, вскоре обнаружил, что Жильберта — девушка возвышенного образа мыслей и получила хорошее образование. Пораженный этим обстоятельством, господин Буагильбо осведомился, где и как ей удалось приобрести столь серьезные познания, и тут Жильберта призналась ему, что главным источником просвещения ей послужила библиотека замка Буагильбо. — Я горжусь этим, я в восторге! — сказал маркиз. — Отныне вся моя библиотека в полном вашем распоряжении. Надеюсь, что вы будете обращаться ко мне, а быть может, согласитесь, чтобы я сам отбирал для вас книги и посылал каждую неделю. Жан не откажется быть нашим посредником, пока Эмиль не сможет вновь взять эту обязанность на себя. Жильберта вздохнула: молчание Эмиля пугало ее, и она почти не верила, что снова вернутся для нее счастливые дни. — Прошу вас, опирайтесь крепче на мою руку, — сказал маркиз. — У вас совсем больной вид, не отвергайте же мою помощь. Когда они подошли к подножию шатобренского холма, господин де Буагильбо, который, казалось, забылся в разговоре, вдруг стал выказывать признаки волнения и беспокойства, как пугливый конь. Он круто остановился и, осторожно отпустив руку Жильберты, подвел свою спутницу к плотнику. — Вот вы уже почти у цели, — сказал он, — оставляю вас на попечении преданного друга. Я больше здесь не нужен. Не забывайте же своего обещания пользоваться моими книгами. — О, почему я не могу упросить вас пройти еще немного! — воскликнула Жильберта с мольбой в голосе. — Ради этого я согласилась бы не открывать ни одной книги всю мою жизнь, хотя бог видит, какое это для меня огромное лишение. — К несчастью, это невозможно, — ответил маркиз со вздохом. — Но положимся на время и случай, это они устраивают неожиданныевстречи. Надеюсь, сударыня, что мы прощаемся с вами не навсегда, мысль об этом была бы мне нестерпима. Он поклонился ей, повернул обратно и снова заперся в своем домике; там до глубокой ночи он писал, перебирал бумаги, то и дело поглядывая на портрет маркизы. Назавтра, в полдень, господин де Буагильбо надел зеленый фрак, сшитый по моде Империи, свой самый светлый парик, перчатки, замшевые штаны и невысокие ботфорты с короткими, сильно изогнутыми серебряными шпорами. Слуга в парадной форме конюшего подвел маркизу лучшего его коня, вскочил на превосходную лошадь и, пустив ее рысью, последовал за хозяином по дороге в Гаржилес, поддерживая легкую шкатулку, привязанную ремнем к седельной луке. Велико было удивление местных жителей, когда мимо них проехал господин де Буагильбо, вытянувшийся в струнку, на белом коне, чем-то напоминая учителя верховой езды прошлого века. Он был в праздничном одеянии, в золотых очках, а новый хлыст с золотым набалдашником держал, как свечу при богослужении. Целых десять лет господин де Буагильбо не появлялся ни в деревне, ни в городе. Что за великолепная непринужденность осанки! Ребятишки бежали за маркизом толпой, женщины выскакивали на порог, а рабочие изумленно останавливались посреди улицы, забыв о тяжелой ноше, оттягивающей плечи. Маркиз был слишком хорошим ездоком, чтобы щеголять своим бесстрашием, вот почему он медленно поднялся по каменистой тропинке, вившейся над пропастью, и тем же аллюром приблизился к фабрике господина Кардонне, а затем, вновь пустив коня крупной рысью, въехал во двор усадьбы; лошадь под искусной рукой шла как заведенная. Вид у маркиза был, без преувеличения, цветущий, и женщины, глядя ему вслед, говорили: «Ну не колдун ли! Подумать только, какой был, такой и остался! Как будто и десяти лет не прошло!» Маркиза, по его просьбе, провели в комнату господина Кардонне-младшего, где он увидел Эмиля, который полулежал на диване, беседуя с отцом и местным доктором. Несколько поодаль сидела госпожа Кардонне и не спускала с сына встревоженного взгляда. Эмиль был очень бледен, но его состояние не внушало опасений. Он поднялся и пошел навстречу господину де Буагильбо, который нежно обнял его, почтительно поклонился госпоже Кардонне и, более сдержанно, ее супругу. Несколько минут разговор шел о состоянии больного. Эмиль перенес довольно жестокий приступ лихорадки, так что накануне ему пришлось пустить кровь; ночь прошла спокойно, и к утру лихорадка совершенно прекратилась. Больному разрешили совершить прогулку в коляске, и он как раз собирался отправиться к господину Буагильбо, когда тот сам явился к нему. Весь ход болезни Эмиля был уже известен маркизу со слов плотника; однако Жан утаил нездоровье Эмиля от Жильберты. Тревожиться больше не было оснований. Врач объявил, что следует уговорить больного пообедать, и удалился, сказав, что завтра посетит господина Кардонне-сына, хотя не видит в этом особой надобности. Во время этого разговора маркиз внимательно вглядывался в черты господина Кардонне: на этом лице читалось скорее торжество, чем радость. Без сомнения, болезнь Эмиля заставила фабриканта пережить немало мучительных часов, он трепетал при мысли, что может потерять сына; но теперь, когда страх миновал, он считал себя победителем: Эмиль поборол свое горе. Со своей стороны, господин Кардонне также приглядывался к странной фигуре маркиза, которого он находил чрезвычайно смешным. Его важность и медлительная речь выводили фабриканта из терпения, тем более что господин де Буагильбо, тщетно стараясь скрыть смущение, изрекал лишь общеизвестные истины и к тому же весьма поучительным тоном. Через несколько минут хозяин дома извинился и с поклоном покинул комнату, сказав, что его ждут неотложные дела. Госпожа Кардонне, угадав по волнению Эмиля, что он хочет побеседовать со своим старым другом наедине, оставила их, посоветовав, однако, сыну не разговаривать слишком много. — Что же, — сказал Эмиль маркизу, когда они остались одни, — я заслужил мученический венец. Я прошел испытание огнем. Но бог покровительствует тем, кто его призывает, — я вышел целым и невредимым и, как видите, почти неопаленным. Правда, я немного разбит, но спокоен и полон веры в будущее. Нынче утром я, находясь в здравом уме и твердой памяти, повторил батюшке то, что уже говорил ему в минуты возбуждения и даже, быть может, в лихорадочном бреду. Он знает теперь, что я никогда не отрекусь от своих убеждений, и, как бы он ни играл моей страстью, он никогда не одержит победы. Отец как будто вполне удовлетворен, ибо полагает, что ему удалось отвратить меня от брака, который страшит его больше, нежели мои убеждения. Еще сегодня утром он говорил, что мне надо развлечься, поехать путешествовать, посетить Италию. Я сказал, что хочу остаться во Франции и никуда не двинусь из наших краев, если, конечно, он не прогонит меня из родительского дома. Он лишь улыбнулся в ответ. Он опасается пока противоречить, так как накануне мне пускали кровь, но я знаю, что завтра он будет говорить со мной как суровый друг, послезавтра — как разгневанный отец, а там уж — как полновластный хозяин. Не беспокойтесь, у меня хватит мужества, спокойствия и терпения. Осудит ли он меня на изгнание, прикажет ли оставаться при себе, чтобы терзать меня, — что до того? Я сумею доказать ему, как непобедима любовь, когда ее поддерживает сила истины и идеалов. — Эмиль, — сказал маркиз, — я знаю от вашего друга Жана все, что произошло между господином Кардонне и вами. И знаю также, что совершалось в вашей душе! Вы победили. Я и не сомневался в этом. — О дорогой друг, я слыхал, что вы примирились с этим простым, но поистине чудесным человеком. Жан мне говорил, что вы приедете меня навестить. Я вас ждал. — А больше он вам ничего не говорил? — спросил маркиз, пристально глядя на Эмиля. — Нет, ничего больше, — ответил Эмиль с неподдельной искренностью. — Значит, он сдержал свое слово, молодец! — продолжал господин де Буагильбо. — Вы и так были в лихорадке, новые волнения подкосили бы вас. С тех пор как мы не виделись с вами, Эмиль, я сам пережил немало, впрочем, я доволен и когда-нибудь расскажу вам почему. Но только не сейчас, Эмиль, у вас еще плохой вид, да и сам я тоже не вполне уверен в своих силах. Сегодня я вас к себе не зову, мне надобно побывать еще в другом месте, но, возможно, вечером, на обратном пути, я загляну к вам. А пока пообедайте, слушайтесь врача — словом, выздоравливайте! Обещаете? — Обещаю, мой друг. О, если бы я мог сообщить той, кого люблю, что, обретя вновь физические и душевные силы, я люблю ее еще более пылко и верно! — В таком случае, Эмиль, напишите ей несколько строк, но не утомляйтесь. Я вернусь сегодня же и, если она живет не слишком далеко, берусь доставить ей ваше письмо. — Увы, друг мой, я не могу назвать вам ее имени! Но если бы Жан согласился, я мог бы ей написать: за мной теперь не так следят, и я не столь уже слаб, — вполне могу взять в руки перо. — Напишите же, запечатайте письмо, но не надписывайте адреса. Жан работает у меня и получит ваше письмо еще до наступления вечера. Пока Эмиль сидел за письмом, маркиз вышел в соседнюю комнату и спросил, не может ли он переговорить с господином Кардонне. Ему ответили, что фабриканту только что подали коляску и он уехал. — Не скажете ли, где я могу его найти? — спросил маркиз, не совсем уверенный в том, что господин Кардонне в самом деле отсутствует. — Он никому не сообщил, куда отправляется, но можно полагать, что в Шатобрен, так как он посетил замок на прошлой неделе и сейчас поехал той же дорогой. Услышав этот ответ, господин Буагильбо проявил необычную для него живость: он вернулся к Эмилю, взял у него письмо, пощупал у больного пульс, признал его несколько учащенным, распростился, сел на своего коня и ровной рысью выехал из деревни. Но едва только господин де Буагильбо очутился в поле, он пустил лошадь галопом.XXXV Отпущение грехов
Между тем господин Кардонне уже прибыл в Шатобрен и теперь беседовал с Жильбертой, ее отцом и Жаниллой. — Господин де Шатобрен, — сказал фабрикант, непринужденно усаживаясь на стул, тогда как хозяева дома сидели с унылым видом, не ожидая от его визита ничего доброго, — вы, без сомнения, знаете, что произошло между мной и моим сыном из-за мадемуазель Жильберты. Он назвал ее своей избранницей, что делает честь его вкусу и здравому смыслу. Вы, сударыня, и вы, сударь, снизошли к его притязаниям, не справившись о моем согласии. При этих словах Жанилла возмущенно пожала плечами. Жильберта, побледнев, опустила глаза, а господин Антуан побагровел и уже открыл было рот, желая прервать господина Кардонне, но последний, не дав ему произнести ни слова, продолжал: — Должен признать, сначала я не одобрял этого союза, но, приехав сюда и увидев мадемуазель Жильберту, я сдался. Условия мои нельзя назвать тягостными или невыполнимыми. Эмиль — крайний демократ, а я — умеренный консерватор. Я предвижу, что фанатические убеждения пагубно повлияют на ум Эмиля и подорвут доверие к нему. Я настаиваю на том, чтобы он отказался от них и жил в соответствии с требованиями разума и благопристойности. Я заранее радовался, уверенный, что он легко пойдет на эту жертву, о чем, не колеблясь, и сообщил в письме к мадемуазель Жильберте. Но, к великому моему удивлению, Эмиль упорствует в своих взглядах и, как видите, пожертвовал своею любовью, которую я считал более глубокой и прочной. Поэтому я вынужден сообщить вам, что сегодня утром он бесповоротно отказался от руки мадемуазель де Шатобрен, и я счел своим долгом предупредить вас об этом незамедлительно, дабы вы, зная его и мои намерения, не могли обвинить меня в нерешительности и неблагоразумии. Если вы все же и теперь найдете возможным не отвергать его чувства и терпеть его домогательства — ваше дело, я умываю руки. — Господин Кардонне, — ответил Антуан вставая, — мне все это известно, я знаю также, что вы весьма красноречивы и для вас не составит труда посмеяться над нами. Но я… я вам скажу, что если вы так хорошо осведомлены, то лишь потому, что засылали в наш дом шпионов и лакеев, желая оскорбить нас возмутительными притязаниями низкого человека на руку моей дочери. Ваша дипломатия уже заставила нас достаточно страдать, и мы без всяких околичностей просим оставить нас в покое. Мы не так уж просты и понимаем, что ни при каких условиях вы, богач, не захотите союза с нашей бедностью. Ваши уловки ни на минуту не ввели нас в заблуждение. Вы придумали весьма постыдный ход: предложили сыну или нравственно покориться вам, что несовместимо с его убеждениями, или отказаться от брака, на который вы все равно не дали бы согласия, если бы даже Эмиль унизил себя ложью, — вот почему мы поклялись со своей стороны сделать все, чтобы никакой обман, никакое лицемерие не могло коснуться ни нас, ни господина Эмиля. Надеюсь, теперь вы видите, что мы знаем, как нам поступить, что я сумею оградить честь и достоинство моей дочери не хуже, чем вы ограждаете капиталы вашего сына, и что я не нуждаюсь в ваших советах и уроках. Все это было сказано с такой твердостью, какой господин Кардонне никак не ожидал со стороны «старого забулдыги» Шатобрена, после чего господин Антуан снова сел и взглянул прямо в лицо фабриканту. Жильберта замерла от ужаса, но она считала своим долгом поддержать отца: пусть фабрикант знает, что Жильберта так же горда, как по праву горделив ее отец. Она тоже подняла глаза на господина Кардонне, и ее взгляд ясно подтверждал правоту слов господина Антуана. Жанилла, потеряв терпение, решила, что пора вмешаться ей. — Будьте спокойны, сударь, — сказала она, — мы как-нибудь проживем без вашего имени. Имя де Шатобрен не менее почетно. А о деньгах говорить не будем. Мы потеряли состояние, которое имели, но потеряли честно, а еще неизвестно, как вы нажили свои капиталы, которых у вас раньше как будто не было. — Я знаю, мадемуазель Жанилла, — ответил господин Кардонне с видимым спокойствием, скрывавшим глубокое презрение, — как вы кичитесь именем, которое господин де Шатобрен дал вашей уважаемой дочери. Что касается меня, то я уж не такой гордец и закрыл бы глаза на некоторые изъяны происхождения невесты, но я понимаю, что такой особе, как вы, родившейся в сладкой праздности, состояние человека незнатного кажется достойным презрения. Мне остается только пожелать всем вам счастья и попросить извинения у мадемуазель Жильберты за доставленное ей небольшое огорчение. Вина моя невольная, но я надеюсь искупить ее, посоветовав мадемуазель де Шатобрен сделать из всего происшедшего полезный вывод: когда молодые люди заверяют девушку, будто располагают согласием своих родителей, они действуют скорее под влиянием мимолетной прихоти, чем подлинной страсти. Поведение Эмиля по отношению к мадемуазель Жильберте как раз является тому доказательством, и, поверьте, мне стыдно за него. — Довольно, господин Кардонне, довольно! Слышите?! — вскричал господин Антуан, разгневавшись впервые в жизни. — Да я стыдился бы своего ума, если б мой ум служил столь низкой цели: как можно ‘ оскорбить молодую девушку и в ее присутствии вести себя столь вызывающе с ее отцом! Я надеюсь, вы меня понимаете и… — Господин Антуан! Матушка Жанилла! — вскричал Сильвен Шарассон, вихрем врываясь в комнату. — Господин де Буагильбо приехал! Умереть мне на этом месте, если я вру! Сам господин де Буагильбо! Я сразу его признал! И лошадь его белую, и очки блестящие! Услышав эту неожиданную новость, господин де Шатобрен пришел в такое волнение, что позабыл весь свой гнев и, охваченный детской радостью и испугом, поспешил навстречу бывшему своему другу. Он уже готов был броситься в объятия маркиза, но вдруг замер на месте от страха, увидев ледяное выражение лица господина Буагильбо, который склонился в печальном вежливом поклоне. Огорченный до глубины души, весь дрожа, господин Антуан судорожно схватил руку Жильберты, не зная, подвести ли ее к гостю в знак примирения или же, наоборот, удалить ту, которая была неопровержимой уликой его вины. Растерявшаяся Жанилла низко приседала перед маркизом, а он, окинув ее рассеянным взглядом, ответил на ее приветствие еле заметным кивком. — Господин Кардонне, — произнес маркиз, заметив фабриканта, который, распростившись с хозяевами, выходил из флигеля, — вы, очевидно, уходите, я же явился сюда, именно желая увидеться с вами. Я собирался поговорить еще у вас дома, но вы ушли, и я поспешил за вами сюда. Поэтому прошу вас задержаться еще немного и уделить мне несколько минут? — Мы побеседуем в другом месте, если вам будет угодно, маркиз, — ответил Кардонне, — я не могу больше оставаться здесь. Но если вы не откажетесь пройтись со мной… — Нет, сударь, нет, позвольте мне быть настойчивым! Я должен сообщить вам нечто очень важное и хотел бы, чтобы все присутствующие услышали мои слова. Я вижу, что опоздал и не мог предотвратить неприятное объяснение; но вы деловой человек, господин Кардонне, и знаете, что важные для жизни вопросы следует обсуждать не в одиночестве и прибегая при этом к холодному рассудку, даже если за ним скрываются страсти. Граф де Шатобрен, прошу вас уговорить господина Кардонне остаться, его присутствие здесь крайне необходимо. Я стар, болен — кто знает, достанет ли у меня сил снова приехать сюда, совершить столь длинный путь. В сравнении со мной все вы еще молоды, и я прошу у вас лишь немного спокойствия и терпения, чтобы избавить меня от лишних усилий. Неужели вы мне откажете? На сей раз маркиз говорил изящно и непринужденно, он ничем не походил на того господина Буагильбо, которого господин Кардонне видел час тому назад, и теперь фабрикант глядел на старика не только с любопытством, но с живым интересом и даже с уважением. Господин де Шатобрен исполнил просьбу маркиза, и все присутствующие вернулись во флигель, за исключением Жаниллы: по знаку господина Антуана она вышла, но остановилась у кухонной двери, чтобы подслушать разговор. Жильберта колебалась, не зная, войти ей или удалиться, но господин де Буагильбо весьма учтиво предложил ей руку и, подведя к креслу, сел рядом, на некотором расстоянии от ее отца и от господина Кардонне. — Как требует обычай и уважение к дамам, — начал он, — я обращусь прежде всего к мадемуазель де Шатобрен. Сударыня, этой ночью я составил завещание и пришел сюда, чтобы ознакомить вас с его пунктами и различными статьями, но я ни в коем случае не хотел бы получить отказ и осмелюсь прочесть вам мои каракули, если вы заранее пообещаете не гневаться. У меня с собой ваше письмо, причинившее мне столько огорчений, — в нем вы ставите мне свои условия. Я нахожу их справедливыми и понимаю, что вы не хотели принять даже незначительный дар от человека, которого считаете врагом вашего отца… Итак, для того, чтобы умилостивить вас, необходимо прекратить эту распрю. Пусть же ваш батюшка простит мне все обиды, которые я нанес ему. Господин де Шатобрен, — продолжал он с героической решимостью, вставая с места, — когда-то вы оскорбили меня, я ответил на оскорбление тем, что без всяких объяснений лишил вас своей дружбы. Нам надо было драться или простить друг друга. Мы не дрались, но в течение двадцати лет оставались чужими людьми, что очень тягостно для двух друзей, которых когда-то связывала горячая любовь. Сегодня я отпускаю вам ваши грехи. Прощаете ли вы мне мои? — О маркиз! — вскричал господин Антуан и, бросившись к нему, преклонил колено. — Вы никогда не были виноваты передо мной, вы были моим лучшим другом, вы были для меня родным отцом, а я смертельно оскорбил вас. Если бы вы потребовали поединка, я подставил бы обнаженную грудь под удар вашей шпаги, но никогда не поднял бы на вас руку. Вы не пожелали взять мою жизнь, но наказали меня более жестоко — лишили своей дружбы! Теперь вы дарите мне прощение. Я принимаю его, стоя на коленях, в присутствии друзей и недругов, ибо это унижение — единственное удовлетворение, какое я могу вам предложить. А вы, господин Кардонне, — промолвил он, вставая и меряя фабриканта взглядом с ног до головы, — вы вольны смеяться над тем, чего не можете понять. Но не всем я согласен подставить обнаженную грудь и протянуть безоружную руку. И вы скоро узнаете об этом! Фабрикант также поднялся, бросая на господина Антуана угрожающие взгляды. Господин де Буагильбо встал между ними и обратился к Антуану: — Не знаю, граф, что произошло между господином Кардонне и вами, но вы только что предложили мне удовлетворение, которое я отвергаю. Полагаю, что наши обиды были взаимны, и я хочу видеть вас не на коленях передо мной, а в моих объятиях. Но раз вы считаете, что должны изъявить мне покорность, на которую имеют право мои седины, то, прежде чем вас обнять, я требую, чтобы вы примирились с господином Кардонне и первый протянули ему руку. — Это невозможно! — вскричал Антуан, судорожно сжимая руку маркиза и переходя от радости к гневу. — Этот господин только что позволил себе оскорбительно разговаривать с моей дочерью. — Нет, этого не может быть, — возразил маркиз. — Это недоразумение. Мне известны чувства господина Кардонне. Низость несовместима с его нравом. Уверен, господин Кардонне, что вы не хуже любого дворянина разбираетесь в вопросах чести. Только что на ваших глазах состоялось примирение двух людей, которые когда-то жестоко оскорбили друг друга, — они не стыдятся взаимных уступок. Будьте же великодушны и докажите нам, что не имя делает человека благородным. Я приношу вам слова мира и, что еще важнее, средства примирения. Обещайте же мне пожать руку господину де Шатобрен. Нет, нет, вы не откажете старику, стоящему на краю могилы. Мадемуазель Жильберта, придите мне на помощь, скажите что-нибудь вашему отцу. «Средства примирения» прозвучали как благовест в ушах господина Кардонне. Его изощренный ум уже почти угадал истину. Он решил, что лучше уступить и получить военные почести, нежели пережить тяготы безоговорочной капитуляции. — Мои намерения были далеки от предположений господина де Шатобрен, — сказал он, — я всегда был преисполнен почтительности и уважения к его дочери и готов, не колеблясь, взять обратно свои слова, если они могут быть ложно истолкованы. Умоляю мадемуазель Жильберту верить мне, и вот моя рука, господин де Шатобрен, в подтверждение моей клятвы! — Хорошо, сударь, не будем больше говорить об этом, — сказал господин Антуан, пожимая руку фабриканта. — Забудем наши обиды. Антуан де Шатобрен никогда не умел лгать. «Это правда! — подумал господин де Буагильбо. — Если бы он умел притворяться, он скрыл бы от меня истину, и я был бы счастлив, как многие другие…» — Благодарю тебя, Антуан! — сказал он дрогнувшим голосом. — А теперь обними меня! Господин Шатобрен страстно и восторженно обнял своего старого друга, который ответил ему натянуто и несколько принужденно. Принятая маркизом на себя роль оказалась ему не по силам. Он побледнел, задрожал и тяжело опустился на стул. Антуан сел рядом с ним, едва сдерживая рыдания. Жильберта опустилась на колени перед маркизом и, плача от счастья и благодарности, покрывала его руки поцелуями. Эта чувствительная сцена вывела из терпения фабриканта, который созерцал ее с холодным и высокомерным видом, ожидая обещанных «средств примирения». Наконец господин де Буагильбо вытащил бумаги из кармана и прочел их медленно и отчетливо. В немногих кратких и точных словах он определял наличное свое состояние в четыре миллиона пятьсот тысяч ливров, из коих он передавал по завещанию два миллиона в полную собственность мадемуазель Жильберте де Шатобрен, при условии, что она выйдет замуж за господина Эмиля Кардонне, а два миллиона — господину Эмилю Кардонне, при условии, что он женится на Жильберте де Шатобрен. В случае, если эти условия будут приняты, брак должен совершиться не позднее чем через полгода. Себе же господин де Буагильбо оставлял в пожизненное пользование доходы со своих владений. Немедленно после венчания он передавал также молодым в полную собственность и непосредственное пользование пятьсот тысяч ливров, каковая сумма переходила, впрочем, в собственность и пользование мадемуазель де Шатобрен, даже если бы она и не вышла замуж за Эмиля Кардонне. За дверью раздался слабый крик: Жанилле от радости стало дурно, и она упала на руки Сильвену Шарассону.XXXVI Примирение
Жильберта не отдавала себе отчета, что означает эта перемена в ее жизни: она не могла представить себе, каково быть обладательницей четырехмиллионного состояния, — не слишком ли это тяжелое бремя для нее, чья жизнь была такой простой и счастливой? И чувствовала она скорее страх, чем радость. Но она поняла, что ее союз с Эмилем вновь становится возможным, и, не находя слов, судорожно сжимала руку господина де Буагильбо. Господин Антуан был совершенно ошеломлен богатством, свалившимся на его дочь. Так же, как и Жильберта, он не испытывал от этого чрезмерной радости, но видел в поступке маркиза неопровержимое доказательство его великодушия; все происходившее казалось господину ! Антуану сном, и он тоже не мог произнести ни слова. Кардонне был единственным из присутствующих, кто понимал, что значат четыре с половиной миллиона, плодами которых воспользуются его будущие внуки. Но тем не менее он не потерял головы, дослушал чтение завещания с бесстрастным видом, как человек, которого не смиришь могуществом золота, и холодно произнес: — Я вижу, что господин де Буагильбо непременно желает заставить отцовскую волю отступить перед чувством дружбы. Но не бедность мадемуазель де Шатобрен казалась мне главным препятствием к этому браку. Имеется другое препятствие, оно-то и отвращает меня; ведь мадемуазель Жильберта незаконная дочь, и есть основания полагать, что ее мать — я не назову ее имени — занимает в обществе слишком низкое положение. — Вы заблуждаетесь, господин Кардонне, — ответил маркиз твердо. — Мадемуазель Жанилла всегда отличалась безупречной нравственностью, и, я полагаю, вы не вправе относиться с презрением к особе, столь верной и преданной тем, к кому она привязана. Истина требует, однако, чтобы я исправил и это ваше заблуждение. Свидетельствую, сударь, если это может доставить вам удовольствие, что в жилах мадемуазель де Шатобрен течет только благородная кровь. Скажу даже, что я прекрасно знал ее матушку и что она была такого же хорошего рода, как я сам. Ну, а теперь, господин Кардонне, остались ли у вас еще какие-нибудь возражения? Надеюсь, вы не думаете, что характер мадемуазель де Шатобрен может оттолкнуть кого-либо или внушить недоверие? — Конечно, нет, маркиз, — ответил господин Кардонне, — но все же я в нерешительности. Мне думается, что отцовский авторитет и достоинство оскорблены подобным договором и мое согласие как будто куплено ценою денег; все мои честолюбивые замыслы в отношении сына заключались в том, чтобы он нажил состояние собственным трудом и талантом, а теперь его осыпают золотом и тем уготовляют для него жизнь бездеятельную и праздную. — Надеюсь, что этого не случится, — возразил господин Буагильбо. — Если я избрал Эмиля своим наследником, то лишь потому, что он ни в чем не будет, как я твердо уверен, походить на меня и сумеет с большей пользой, нежели я, употребить мое состояние. Фабрикант и не думал сопротивляться. Он понимал, что если будет упорствовать, то навсегда потеряет любовь сына, и, напротив, согласившись, вновь подчинит его своему влиянию, а главное — научит смотреть на богатство так, как смотрит он, Кардонне. Иными словами, фабрикант подсчитал, что четыре миллиона можно превратить в сорок, и не сомневался, что любой человек, будь он даже святой, став вдруг обладателем миллионного состояния, обязательно приобретет вкус к деньгам. «Сначала Эмиль будет безумствовать, — рассуждал господин Кардонне, — и потеряет часть капитала. Увидев же, что сокровище тает, он испугается и захочет восполнить убыль, а, как известно, аппетит приходит во время еды, и он будет стремиться удвоить свое богатство, удесятерить, увеличить во сто крат… и в один прекрасный день, с моей помощью, он станет настоящим магнатом». — Я не имею права, — сказал он наконец, — отвергнуть состояние, предложенное моему сыну. Я лично отказался бы от него, так как эта сделка противоречит моим взглядам и убеждениям, но собственность — высшее благо, а получив подобный дар, мой сын становится собственником. Отказаться от ваших условий значило бы ограбить Эмиля. Поэтому я должен молча принять эту странную сделку, в которой многое оскорбляет мои убеждения; а коль скоро я вынужден уступить, я предпочитаю сделать это с легкой душой… тем более что красота, ум и благородство мадемуазель Жильберты льстят моему эгоизму и сулят счастье нашему дому. — Раз все решено, — сказал господин де Буагильбо, вставая и делая кому-то знак через окно, — я попрошу мадемуазель Жильберту, которая, подобно мне, любит цветы, принять букет к помолвке. В комнату вошел слуга маркиза и поставил на стол небольшую коробку, из которой господин де Буагильбо вынул великолепный букет редчайших благоуханных цветов. Старый Мартен трудился целый час, искусно подбирая цветок к цветку. Вместо ленты букет был перевязан бриллиантовым ожерельем, которое вернула Жильберта, а взамен кашемировой шали, о которой маркиз счел за благо не напоминать лишний раз, к ожерелью был прибавлен еще ряд бриллиантов. «Итак, еще двести или триста тысяч франков в добавление к договору», — подумал господин Кардонне, делая вид, что равнодушно рассматривает драгоценности. — Теперь, — обратился господин де Буагильбо к Жильберте, — вы не можете больше ни в чем мне отказать, ибо ваша воля выполнена. Мне хотелось бы, чтобы вы вместе с батюшкой сели в вашу знаменитую таратайку, которая сослужила мне такую службу и дала счастье с вами познакомиться. Мы поедем в Гаржилес. Я думаю, что господин Кардонне пожелает представить супруге ее будущую невестку, я же, в свою очередь, надеюсь, что госпожа Кардонне будет рада видеть мою наследницу. Господин Кардонне принял это предложение с полной готовностью, и они уже собрались в путь, когда вдруг показался Эмиль. Узнав, что отец отправился в Шатобрен, он побоялся какого-нибудь нового заговора против своего счастья и покоя Жильберты. Позабыв о недавнем кровопускании, лихорадке и обещаниях, данных маркизу, он вскочил на Вороного и помчался, трепеща и задыхаясь, во власти самых мрачных предчувствий. — Посмотри, Эмиль, твоя невеста уже нарядилась к венцу, — сказал господин Кардонне, тотчас угадав причину опрометчивого поступка сына. И он указал ему на Жильберту, всю в цветах и бриллиантах, державшую под руку господина де Буагильбо. Эмиль, нервы которого были чудовищно напряжены, почувствовал, что не в силах выдержать всех этих чудес, лавиной обрушившихся на него. Он хотел что-то сказать, пошатнулся и упал без сознания на руки господина Антуана. Счастье убивает редко. Эмиль скоро ожил; он был как в опьянении. Жанилла растирала ему виски уксусом, Жильберта держала за руку и, — словно для того, чтобы счастье его было уж совсем полным, — открыв глаза, он увидел свою мать. Прислушиваясь к бреду больного сына, она только теперь узнала о его страсти к Жильберте и заставила Галюше все ей рассказать. Как только ей сообщили, что господин Кардонне отправился в Шатобрен, а сын ее, забыв о болезни, ускакал вслед за ним, госпожа Кардонне, опасаясь неизбежной бури, приказала запрячь карету и примчалась в Шатобрен. Впервые в жизни она, казалось, совершенно позабыла о крутом нраве своего супруга, и ее не могли остановить ни его гнев, ни плохие дороги. Она с первого взгляда полюбила Жильберту, а молодая девушка, которая не без страха готовилась войти в семью, где главой был господин Кардонне, поняла, что нежное сердце и доброта его супруги будут ей надежным прибежищем. — Раз уж мы все собрались, — сказал господин де Буагильбо с веселой улыбкой, которая удивила многих, знавших его угрюмость, — давайте проведем вместе остаток дня и где-нибудь пообедаем всем обществом. Нас слишком много, мы, несомненно, доставим излишние хлопоты мадемуазель Жанилле, а если вернемся в Гаржилес — застанем врасплох дворецкого господина Кардонне. Не пожелаете ли вы все посетить Буагильбо, благо замок так близко? Надеюсь, мы не останемся голодными. Быть может, господину Кардонне будет небезынтересно ознакомиться с владениями его детей: мы составим, кстати, брачный договор и назначим день свадьбы. Все присутствующие с восторгом встретили это новое подтверждение того, что в душе маркиза произошел полный переворот. Жанилла тут же сказала, что ради такого торжественного случая ей необходимо приодеть барышню, для чего понадобится не более пяти минут. Но Жильберта, расцеловав в ответ свою матушку, отвергла ее «ухищрения», как она их назвала. Тем временем семья Кардонне бродила среди развалин, а господин де Буагильбо с Антуаном скрылись во флигеле. Никто не слышал их беседы, они унесли в могилу эту тайну. Быть может, они говорили о прошлом? Но едва ли они могли коснуться столь деликатного и щекотливого предмета. Или, быть может, они условились никогда, ни единым намеком не вспоминать о былой распре, как будто никогда и не прерывалась их старая дружба? Только с этого дня они вспоминали о прошлом без горечи и рассказывали о минувших годах не только с удовольствием, но даже с нежностью и улыбкой. Нетрудно было заметить, что, обращаясь к прошлому, они не шли дальше того времени, когда господин де Буагильбо вступил в брак, и имя его супруги никогда не произносилось, как будто ее и не существовало. Но вот появилась Жильберта, принарядившаяся, как только позволяли ей скромные возможности и любовь к простоте, и Эмиль, к своему великому восторгу, увидел, что она надела лиловое платьице, — впрочем, теперь оно стало почти розовым после последней стирки, но зато было вполне свежим — одно из чудес бережливости и аккуратности Жаниллы. Девушка заплела волосы в косы, спускавшиеся до самой земли, и их роскошная небрежность напомнила счастливому жениху знойный день в Крозане. Из подарков господина Буагильбо Жильберта взяла только букет и сердоликовое колечко, на которое и обратила внимание маркиза, нежно при этом улыбнувшись. Она кокетничала с ним, кокетничала простодушно, если можно так выразиться; по отношению же к господину Кардонне выказывала несколько принужденное уважение и внимание, — с маркизом она чувствовала себя совсем просто, и ее манеры и речи свидетельствовали о том, что в нем она видит настоящего отца Эмиля. Когда пришло время трогаться в путь, господин де Буагильбо подал Жанилле руку и с такой учтивостью пригласил ее отобедать у него, как будто она и в самом деле была матерью Жильберты. Его слух отнюдь не оскорбляло то, что они называют друг друга «матушка» и «дочка», — напротив, эта близость рождала в нем чувство уважения. Как он был благодарен в душе старой деве, которая предпочла снести любые сплетни и насмешки, но не открыла никому тайну рождения Жильберты, даже своему другу Жапплу, а ведь маркиз долго считал его наперсником и посланцем Антуана. Услышав это приглашение, фабрикант не мог удержаться от презрительной усмешки. — Господин Кардонне, — сказал вполголоса маркиз, от которого не ускользнула пренебрежительная гримаса фабриканта, — вы еще узнаете и оцените эту женщину, когда она будет нянчить ваших внуков. С тех пор как существовал парк Буагильбо, он впервые принимал под свою сень посторонних, которых гостеприимно ввел сам хозяин. Двери швейцарского домика были также открыты, за исключением кабинета, который благодаря искусству Жапплу был на крепком запоре. Величавая грусть замка, красота редкостной обстановки, пышность парка, атмосфера «хорошего дома» вызвали досаду господина Кардонне. Он прилагал все усилия, чтобы ничто в убранстве его гаржилесского дома не выдавало выскочку, он чувствовал свой вес также и среди развалин Шатобрена и поэтому держался почти без стеснения. Но здесь, посреди этого величественного смешения роскоши и строгости, характерного для владений Буагильбо, он ощущал свою ничтожность. Фабрикант боялся, как бы маркиз не подумал, что гость ослеплен старинным великолепием замка, и пустился в весьма либеральные рассуждения. Господин де Буагильбо, под внешней неловкостью которого скрывалось немало лукавства, только и ждал этой минуты, чтобы преподать господину Кардонне свой самый суровый урок, и отвечал спокойно, пространно излагая свои либеральные воззрения. Кардонне был немало поражен, ибо, как многие, он полагал, что маркиз полон аристократического высокомерия и сохранил самые нелепые предрассудки времен Реставрации. Не удержавшись, он выразил свое удивление, на что господин де Буагильбо с мягкостью заметил: — Вы еще не знаете меня, господин Кардонне, я такой же враг различий и сословных преимуществ, как вы сами. Я считаю людей равными в правах и достоинствах, если только они честные и хорошие люди. В это время доложили, что обед подан; и когда все встали со своих мест, появился Жан, чисто выбритый, в своем праздничном наряде. Шутливо оттолкнув Эмиля, он подал Жильберте руку, чтобы повести ее к столу. — Я свои права знаю, — сказал он. — Помните, Эмиль, я обещал быть свидетелем и дружкой у вас на свадьбе! Плотника восторженно встретило все общество, за исключением господина Кардонне; однако и он не хотел уступить маркизу в свободомыслии. Он промолчал и слегка улыбнулся, когда Жан занял место за семейной трапезой. Он смирился до поры до времени, но в глубине души решил, что уж отыграется после бракосочетания. Стол, накрытый в парке в тени деревьев, пестрел чудесными цветами, блюда были самые изысканные, и старый Мартен, предупрежденный еще с утра, ревностно прислуживал гостям. Сильвену Шарассону выпала честь состоять в этот день под началом Мартена, о чем он вспоминал потом всю свою жизнь. Первые минуты прошли довольно натянуто. Но так как за столом число счастливых превышало число недовольных (в сущности, к последним принадлежал один только господин Кардонне, да и то лишь отчасти), вскоре все развеселились, а за десертом фабрикант обратился к Эмилю: «Итак, ваше сиятельство…» Говорить ли о счастье Эмиля и Жильберты? Счастье нельзя описать, и самим влюбленным недостает слов, чтобы изобразить его во всей полноте… Когда наступил вечер, супруги Кардонне уехали и любезно разрешили Эмилю отвезти невесту в Шатобрен, сказав, что пришлют за ним карету, и взяв с него обещание не садиться на Вороного. Господин Антуан, погрузившись в увлекательную беседу со своим другом Жаном, заблудился в парке, а непоседливая Жанилла, которой надоело изображать даму, не удержалась и стала деятельно помогать Мартену. Тогда господин де Буагильбо взял Эмиля и Жильберту за руки и, подведя влюбленных к скале, где он впервые открылся юному своему другу, сказал: — Дети мои, я сделал вас богатыми, ибо необходимо было преодолеть препятствия, разделявшие вас, и не было иного средства устроить ваше счастье. Завещание я написал уже давно, но сегодня ночью внес в него новые пункты. Мои намерения не изменились. Полагаю, что Эмилю они известны, а Жильберта не откажется их признать. По моей воле в будущем в этих обширных владениях должна быть основана коммуна, план и принципы которой я попытался набросать в первом варианте завещания. Вероятно, этот план не лишен недостатков, а принципы его не совсем исполнимы, вот почему я о нем не жалею, — я всегда понимал, сколь он несовершенен и сколь я сам мало способен что-нибудь организовать и осуществить. Провидение пришло мне на помощь, послав Эмиля. Я решил, что он воплотит мои замыслы, и назначил его моим единственным наследником, а следовательно, и душеприказчиком. Но господин Кардонне никогда бы не согласился на это, и я уничтожил это завещание, решив сначала сочетать вас браком. Ценность официальных актов обычно преувеличивают, а гражданские законы еще никогда не связывали чьей-либо совести. Вот почему, изъявляя свою волю и получив ваше обещание, я чувствую себя гораздо спокойнее, чем если бы наложил на вас хрупкие цепи, называемые статьями завещания. Не отвечайте ничего, дети мои, я читаю в ваших мыслях и знаю чистоту ваших сердец. Вас подвергли самому тяжелому из испытаний, принуждая либо отказаться соединить свои жизни, либо отречься от своих убеждений. Вы вышли из этого испытания победителями. Отныне я во всем полагаюсь на вас, вы хозяева будущего! Вы, Эмиль, предполагаете посвятить себя практической деятельности — я предоставляю вам все возможности; но это еще не значит, что вы уже созрели для этой цели. Вам нужно знание общественных законов, и вы приобретете его долгим, упорным трудом, опираясь на силы вашего века (это уже ваш, а не мой век); развитие этих сил пойдет быстрее или медленнее, с большим или меньшим успехом, согласно воле божьей. Быть может не вы, дети мои, а дети ваших детей увидят плоды моих замыслов, я же завещаю вам богатство и отдаю вам мою душу и мою веру. Если же вам предстоит жить в такую пору развития человечества, когда еще нельзя будет с пользой претворить в жизнь задуманное нами, другие доведут до конца наше дело. Эмиль как-то высказал мысль, поразившую меня. Однажды я спросил его, как бы он распорядился такими владениями, как мои, если б они у него были, и он ответил: «Я бы дерзнул!» Ну что ж, пусть дерзнет! Пусть попытается найти с помощью длительных размышлений и глубокого изучения действительности, вдохновляясь своей мечтой о спасении человечества, организуя и развивая земледельческую науку, такие способы перехода от прошлого к будущему, которые помогут избежать прискорбного разрыва между ними. Я верю в твой ум, Эмиль, потому что он питается соками твоего сердца. Пусть бог осенит тебя, дитя, и пусть он осенит всех людей твоего времени! Ибо один человек — это почти ничто. А я — я тихо упокоюсь в могиле. Если же мне дано будет прожить еще немного с вами обоими, — ну что ж, значит моя подлинная жизнь начнется лишь накануне смерти. Да, я бывал ленив, не приносил никому пользы, впадал в отчаяние. И все же не напрасно прожил долгую жизнь: я нашел человека, который сумеет и обязан сменить меня. Сохраните в тайне мои идеалы и наши начинания, пока не совершится ваш брак или даже — пока Эмиль не приобретет новых и обширных знаний, что должно стать его целью. Я умру спокойно, видя вас свободными и мужественными. Но что бы ни было, дети мои, что бы вы ни решили, каковы бы ни были ваши ошибки, увенчает или нет успех ваши усилия, — знайте: во мне нет тревоги за будущее мира. Пусть любые бури промчатся над головами нынешних и грядущих поколений, пусть заблуждение и ложь изощряются в своем стремлении увековечить тот ужасный беспорядок, который ныне — видимо, в насмешку — называют общественным порядком; пусть несправедливость еще подымает голову в нашем мире — вечная истина все равно восторжествует на земле! Пройдут столетия, и если тени моей суждено посетить эти владения, она увидит, как разрослись деревья, посаженные моей рукой, она увидит здесь людей свободных, счастливых, равноправных, объединенных между собой, а это значит — справедливых и мудрых. Под сенью этих деревьев, где я скрывал свою скорбь и горести, куда бежал я от своих современников, когда-нибудь найдет себе приют, как под сенью величественного храма, многочисленная семья людей; она с благоговением преклонит колени перед созданием природы и отцом людей! То будет сад коммуны, ее гинекей и ее зал для празднеств и торжеств, ее театр, ее храм! Ибо я не хочу слышать о душных склепах, в которых камнем и цементом замуровывают людей и мысль… Не говорите мне о богатых колоннах и мраморных ступенях — что все это в сравнении с природой, вышедшей из рук великого зодчего? В деревья и цветы, в шепот ручейков, в эти скалы и луга я вложил всю поэзию моих мыслей. Не отнимайте же у старого садовника его мечты — если это только мечта. Он верит еще, что бог — во всем и что природа — это храм!1845
Жорж Санд Даниелла
 Мы предлагаем читателю историю, в которой он найдет и повесть, и записки путешественника: роман в путешествии, или путешествие в романе. Для нас это — быль; мы читаем ее в рукописи одного из друзей наших, описавших в ней полугодовой эпизод своей жизни, время волнений и скорби, в которое резко обличились и деятельность его душевных сил, и вся индивидуальность его характера.
До того времени Жан Вальрег (псевдоним, избранный им самим) не был известендругим, да и сам себя не знал. Он вел самую спокойную и самую рассудительную жизнь, какую только можно вести в наше время. Неожиданные, весьма романические обстоятельства внезапно пробудили в нем страсть и такую силу воли, к которой друзья не считали его способным. Этот непредвиденный переворот в образе мыслей и действий составляет главный интерес его рассказа, написанного в виде дневника. Путевые впечатления автора не представляют ничего нового: неподдельная искренность и некоторая независимость мысли — вот все их достоинство. Но мы не должны позволять себе предварительные рассуждения об этом труде; зачем лишать его свежести первого впечатления? Мы ограничимся несколькими подробностями о самом авторе, каким мы его знавали, прежде чем он вполне обнаружил себя в своем рассказе.
Ж. В. (или, пожалуй, Жан Вальрег, как он уже принял этот псевдоним, в котором сохранились начальные буквы его настоящего имени) сын одного из моих старинных приятелей, умершего лет двенадцать тому в глуши нашей провинции. Отец Вальрега по профессии адвокат, был честный и почтенный человек, с основательным образованием и разборчивой совестью, но, как большая часть жителей Беррийского департамента, не отличался деятельностью и оставил детям своим только двадцать тысяч франков.
В провинции с таким капиталом можно жить сложа руки; везде этой суммы достаточно, чтобы получить необходимое воспитание, или начать небольшую торговлю. Итак, друзьям г-на Вальрега нечего было заботиться об участи детей его, которые, впрочем, не остались без покровителей. Мать их умерла еще в молодости; но у них были дяди и тетки — люди честные, на попечение и заботливость которых можно было положиться.
Что касается меня, то я давно уже потерял из вида бедных сирот, когда однажды мне доложили о посещении г-на Жана Вальрега.
Я увидел молодого человека лет двадцати; наружность его не представляла, с первого взгляда, ничего замечательного. Он казался застенчивым, но более осторожным, чем неловким. Я старался ободрить его, и мне удалось это, когда я перестал рассматривать его и ограничился расспросами.
— Я помню, что видел вас часто, когда вы были еще ребенком, — сказал я ему, — помните ли вы меня?
— Если б я вас не помнил, — отвечал он, — я не решился бы прийти к вам.
— Благодарю вас, я искренно любил и душевно уважал вашего батюшку.
— «Вашего»! — прервал он с удивлением, которое тотчас же расположило меня к нему. — Когда я был ребенком, вы говорили мне «ты», а я и до сих пор еще ребенок.
— Пусть будет так. Ты рано лишился отца; кто воспитал тебя?
— Меня никто не воспитывал. Две тетки отбивали друг у друга мою сестру… каждая хотела приютить ее.
— Она замужем?
— Нет! Она умерла. Я одинок на свете с двенадцатилетнего возраста. Отрочество свое провел я в доме приходского священника; но разве такая жизнь не то же одиночество?
— В доме священника? Да, теперь я припоминаю: у твоего отца был брат сельским священником; я видел его раза два, он показался мне очень хорошим человеком. Что же, разве он не радел о тебе с нежной заботливостью родственника?
— Да, в физическом отношении; в нравственном, как умел, подавая собою пример; но умственного образования я вовсе не получил от него. Озабоченный обязанностями своего звания, самым положительным взглядом на вещи, даже на религию и на благотворительность, как того можно было ожидать от человека, покинувшего соху, чтобы поступить в семинарию, он советовал мне трудиться, не указывая труда, и я прожил с ним десять лет, образуя свой ум только по книгам, какие попадались под руку.
— Имел ли ты, по крайней мере, хорошие книги?
— Отец мой завещал дяде свою библиотеку, для передачи мне, когда я буду совершеннолетним. Я нашел там хорошие сочинения, и хотя многие из них не отличались ортодоксальностью, но добрый священник никогда не запрещал мне читать их, потому что почитал их моей неотъемлемой собственностью.
— Почему он не отдал тебя в училище?
— Отец мой намерен был сам заняться моим образованием; я получил от него первоначальные учебные сведения, и мне очень не хотелось поступать в училище; а по смерти отца дядя мой не счел нужным преодолевать мое отвращение к школе. Он говорил, когда принял меня к себе, что, оставив меня дома, сбережет деньги, которые пошли бы на плату за ученье, и что, когда я вступлю в совершенные лета, то буду ему благодарен за это. К тому же, — прибавлял он, — и отец твой намеревался дать тебе домашнее воспитание, а я обязан считаться с волею покойного брата; латынь мне самому не чужда, и я сумею научить ей ребенка, сколько следует ему знать ее. Добрый дядя, в самом деле, имел это намерение, но ему всегда бывало недосуг; а когда он возвращался домой, утомленный после работы, признаюсь, я и сам не хотел еще более утомлять его уроком. После ужина он дремал в своих креслах, а я, по другую сторону камина, читал про себя Платона, Лейбница, Руссо, иногда Вальтера Скотта, Шекспира или Байрона и Гете. Он никогда не спрашивал, что я читаю. Видя, что я спокоен, серьезен, прилежен, по-видимому, счастлив и не имею порочных склонностей, он вообразил, что этим отсутствием пороков и своенравия я обязан ему и что для того, чтобы угодить Богу и людям, достаточно не быть злым, докучным и вредным.
— Так ты полагаешь, что в тебе не развилось ни одной замечательной способности только по недостатку просвещенного руководителя или должной заботливости?
— Я в этом уверен, — отвечал молодой человек со странным спокойствием. — Но я не могу жаловаться на моего дядю, не становясь при этом неблагодарным человеком. Он сделал для меня все, что он был намерен сделать, все, что, по его мнению, было можно сделать лучшего. Старая его служанка, как родная мать, пеклась о моем здоровье, о моей опрятности, о моем довольстве. И она, и дядя предупреждали все мои надобности; я всегда бывал окружен такой тишиной, таким порядком, такой добротой, что, право, ему нечего было обо мне беспокоиться, когда он выходил из дома по своим обязанностям. Каждый день, помня, что его попечениям вверен тройственный залог — моя жизнь, моя душа и мои деньги, — он задавал три вопроса: не болен ли я, не ленюсь ли, не нужно ли мне денег? И так как я обыкновенно отвечал на все три отрицательно, он засыпал спокойно.
— Так ты ни на кого не ропщешь? Но сейчас в словах твоих была заметна как бы жалоба на самого себя, которую ты, казалось, не хотел высказать.
— Я не могу сказать, чтоб я был доволен или недоволен тем, что я теперь. Мне не дано никакого направления и я ничем не заслуживаю внимания; вам осмелился я говорить о себе только потому, что хочу объяснить повод моего посещения.
— Я очень рад твоему посещению; я люблю в тебе сына моего приятеля и лично к тебе чувствую искреннее расположение, хотя еще не вполне разгадал твой характер и твой образ мыслей.
— Нечего разгадывать, — сказал молодой человек скорее с веселой, чем с грустной улыбкой. — Я существо самое ничтожное, лишенное всякого значения. С некоторого времени я начал даже тяготиться моим благополучием, убеждаясь, что не приобрел на него никакого права. Вот почему, как только я достиг совершеннолетия, я попросил у дяди позволения съездить в Париж; я рассказал ему о моих планах и получил его согласие.
— Какие же у тебя планы? Нельзя ли помочь тебе в их осуществлении?
— Не знаю. Вряд ли можно помочь тем, которые ни на что не годятся; может быть, и я принадлежу к числу таких. Вы, пожалуй, отправите меня назад садить капусту, благо у меня, по несчастью, довольно капусты, чтобы жить ею.
— Отчего же по несчастью?
— Оттого, что я разбогател наследством после сестры. У меня теперь двадцать тысяч франков капитала.
Сказав это просто и смиренно, Вальрег отвернулся; мне казалось, что он скрывал слезы, вызванные воспоминанием о бедной сестре.
— Ты очень любил ее? — спросил я.
— Больше всего на свете, — отвечал он. — Я был ее покровителем; я воображал, что буду ей отцом, потому что я четырьмя годами старше ее. Она была мила, понятлива и горячо любила меня. Она жила в трех лье от нас, и каждое воскресенье меня отпускали к ней. Однажды, подходя к дому, я увидел у дверей гробовую крышку… Бедная сестра умерла, прежде чем я узнал, что она нездорова. В нашей глуши, где нет ни дорог, ни потребности сообщений, три лье — большое расстояние. Смерть сестры имела решительное влияние на мою жизнь и на мой характер, уже потрясенный кончиной батюшки. Я сделался мрачен, а близ меня не было никого, кто умел бы внимательной, осмысленной нежностью утешить и ободрить меня. Дядя говорил, что смешно плакать, потому что Жюльета в раю, и ей скорее можно завидовать, чем сожалеть о ней. Я не сомневался в этом, но моя уверенность не научила меня жить без привязанности, без стремления, без цели. Я долго оставался мрачным и унылым, да и теперь я почти всегда грустен и мне ни за что не хочется приняться.
— Но как развилась в тебе эта склонность к бездействию? Вследствие ли твоих дум о тщете жизни или вследствие физического изнеможения? Ты бледен и лицом стар не по летам. Здоров ли ты?
— Я никогда не был болен, и во мне есть охота к физической деятельности. Я неутомимый ходок; любил бы, может быть, и путешествия, но, на беду, сам не знаю, что я люблю, не знаю самого себя, а изучать себя мне лень.
— Но ты говорил мне о каких-то проектах. Ты покинул провинцию и приехал в Париж, вероятно, не без предположений, не без цели жить с пользою?
— Жить с пользою! — сказал молодой человек после минутного молчания. — Да, это, конечно, моя заветная мысль… Но вы должны уверить меня, что человек не имеет права жить только для себя. Я пришел к вам затем, чтобы вы в этом уверили меня, и когда вы растолкуете мне это, когда убедите меня так, чтобы я сам это почувствовал, я посмотрю, к чему я способен, если я в самом деле способен к чему-нибудь.
— В этом никогда не следует сомневаться. Если в тебе есть сознание своего долга, ты должен сказать себе, что долг свой неспособны исполнить только те, которые не хотят исполнить его.
Мы разговаривали так с полчаса. Я нашел много доброй податливости в его уме и сердце. Всматриваясь в него, я заметил в его чертах красоту, нежную и ненавязчивую. Ростом он был невысок; волосы его были до того черны, что придавали оттенок желтизны его лицу; прическа чересчур небрежная; над верхней губой пробивались уже черные, густые усики. С первого взгляда в нем поражала какая-то угрюмость, невнимательность к себе, болезненность; но иногда кроткая улыбка озаряла это желчное лицо, и пробуждавшееся чувство придавало небольшим и несколько впалым глазам его необыкновенный блеск; эта улыбка и этот взор не говорили о бесполезной и неудачной юности. В простоте его речи отзывалась кроткая откровенность и как бы навык к высшей, не деревенской жизни. Он, быть может, ничего еще не знал и ничему не был чужд и показался мне ко всему способным и очень понятливым.
— Вы правы, — сказал он, расставаясь со мной. — Настоящее самоубийство простительнее, чем самоубийство души по беспечности и трусости. Во мне нет большого желания жить, но я не чувствую болезненного отвращения от жизни и, не имея желания расстаться с нею, обязан употребить ее на пользу, по мере сил моих. Скептицизм века заразил меня еще в глуши нашего селения. Я подумал, что между стремлением к призрачной суете жизни и презрением ко всякой деятельности нет, может быть, середины для людей нашего времени. Вы говорите, что я ошибаюсь; посмотрю, подумаю, и когда, руководимый этой надеждой, приведу в порядок свои мысли, приду опять посетить вас.
Прошло, однако же, шесть месяцев, а он ни па что еще не решился и ни разу в это время не заговаривал со мною о себе. Он часто бывал у нас и стал в нашем доме своим человеком. Он любил нас и мы его любили, открыв в нем много прекрасных свойств: прямоту души, скромность, сознание своего достоинства, тонкую разборчивость чувства и мысли. Эти достоинства были, не скажу, свыше его возраста, потому что в этом возрасте, при нормальных условиях жизни, расцветает все лучшее в душе нашей, но свыше того, что можно было ожидать от ребенка, так рано оставленного на произвол собственных влечений.
Особенно удивляла меня в Жане Вальреге его рассудительная и искренняя скромность. Ранняя молодость почти всегда самонадеянна или по безотчетному, инстинктивному чувству; или по выводам мысли. Иногда эгоистические стремления, иногда бескорыстные движения души отнимают у нее ясное сознание собственных сил. В юном друге моем я заметил недоверчивость к самому себе, источник которой таился не в апатии темперамента, как я сначала полагал, но в чистосердечии здравого смысла и в тонкой разборчивости суждения.
Не могу, однако, сказать, чтобы этот милый молодой человек вполне отвечал желанию моему дать ему хорошее направление; он оставался задумчивым и нерешительным. Это придавало много прелести его отношениям с другими: он никому не становился на дороге; с веселыми был, по-видимому, весел, со степенными степенен; но я ясно видел, что в тайне он с грустью и разочарованием смотрел на людей и вещи, и я находил, что он еще слишком молод и не должен предаваться такому разочарованию, прежде чем опыт даст ему на то право. Я сожалел, что он не влюблен, не честолюбив, не энтузиаст. Мне казалось, что в нем слишком много рассудительности и слишком мало сердечных движений, и мне хотелось посоветовать ему лучше сделать какую-нибудь безрассудность, чем оставаться в таком отчуждении от жизни.
Наконец он решился снова поговорить со мной о своей будущности, и так как он обычно не скоро высказывал, что было у него на душе, то мне пришлось в этом объяснении заново с ним знакомиться, хотя я и часто видел его после нашего первого разговора.
В эти несколько месяцев произошли в его наружности замечательные перемены, которые, казалось, обнаруживали более важные изменения в его внутреннем мире. Он был одет и причесан, как все молодые люди его возраста, и, к слову сказать, это никак не испортило его наружности и без того привлекательной. Он приобрел общественный навык и развязность, В разговоре своем и в обращении он обнаруживал замечательную способность сглаживать угловатость своей личности при встречах с внешними предметами, и я ожидал найти в нем более привязанности к свету, но, к удивлению, увидел, что он еще более отдалился от него.
— Нет, — сказал он мне, — я не могу опьянеть от того, что опьяняет теперешнюю молодежь, и если мне не удастся отыскать чего-нибудь, что пробудило бы меня, вдохнуло бы в меня страсть, я проживу свой век, не знавши молодости. Не обвиняйте, однако, меня в склонности к тунеядству; поставьте себя на мое место, и вы будете ко мне снисходительнее. Вы принадлежите к поколению, которое возникло в эпоху великодушных идей. Когда вы были в моем возрасте, вы жили дыханием лучшей будущности, грезою о скором и быстром прогрессе. Ход событий отражал, гнал ваши идеи; он обманул, но не разрушил ваших надежд. Вы и друзья ваши привыкли верить и ожидать; вы навсегда сохраните молодость, потому что вы еще молоды в пятьдесят лет. Можно сказать, что складка сложилась, и ваш опыт в прошедшем даст вам право уповать на будущее.
С нами, двадцатилетними детьми, стало иначе: наши душевные движения шли не тем путем, как ваши. Наш ум смело развернул крылья, но вскоре все изменилось: крылья опустились, солнце померкло. Мне было тринадцать лет, когда мне сказали: «Прошедшее более не существует, началась новая эра»…
— И это говорил тебе твой дядя?
— Понятно, что не он. Дядя мой не боялся за жизнь свою (он был отважен и решителен), но он боялся за свое крохотное достояние, за свой оклад, за свою ниву, за свою рухлядь, за свою клячу. Он ужасался всякой перемены, и хотя не имел ни врагов, ни преследователей, трепетал при мысли о возобновлении 1793 года.
Что касается меня, я читал журналы, прокламации, прислушивался к толкам. Я вдыхал в себя надежду всеми чувствами, всем существом моим, и два-три месяца в 1848 году я был самым восторженным ребенком: вот вся моя молодость…
Настали тяжелые дни июня и внесли ужас и ожесточение даже в самую глушь нашей околицы. У нас видели в каждом прохожем разбойника и поджигателя; бедный дядя, прежде человеколюбивый и милосердный, стал опасаться нищих и запер пред ними дверь свою. Душа моя замерла, а в сокрушенном сердце не осталось и следов прежнего обаяния. Все сосредоточилось для меня в одном понятии: «Люди еще не дозрели!» Тогда я старался ужиться с другой, мрачной и тяжелой мыслью: «Истина новых начал еще не проявилась, — думал я. — Общество пытается еще силой воцарить эту истину, и каждая новая попытка доказывает, что материальная сила — элемент непрочный; он перелетает из стана в стан, как зерно летит по воле ветра. Истинная сила еще не народилась… и, может быть, за мой век не будет еще истинной силы».
Вот каковы были томительные грезы моей юности, посреди других скорбей, о которых я уже говорил вам.
Теперь я прихожу в общество, быстро изменившееся под влиянием непредвиденных событий, понуждаемое к поступательному движению с одной стороны, отражаемое назад с другой — в борьбе со странным обаянием, с загадочной мыслью, какой всегда останется мысль индивидуальная, примененная к массам. Я не придаю политического значения нашему разговору; заключения, выведенные из случайности событий, не имеют веса. Я стараюсь только отыскать в будущем какое-нибудь нравственное положение, к которому я мог бы пристроиться; но, осмотревшись вокруг себя, я не нахожу своего места в этих новых интересах, овладевших вниманием и волей современных людей.
— Послушай, — сказал я ему, — я хорошо понял, что довело тебя до настоящего, грустного настроения. Эту грусть я не вменяю тебе в вину, напротив, она дает мне выгодное о тебе понятие. Но время выбраться из нее, не скажу усилием воли (когда нет цели, нет и воли), но более внимательным исследованием современного общества, которое ты недостаточно знаешь и потому не имеешь права за него отчаиваться.
— Уверяю вас, что я совсем не отчаиваюсь за него, — возразил он, — но я знаю его достаточно для убеждения, что в этом обществе можно жить только или в опьянении, или в разочаровании. Эта мирная среда, рассудительная, терпеливая; эта смиренная, добрая жизнь прежнего времени, которую воскрешает в моем воображении воспоминание о моем собственном детстве, проведенном в затишье простой мещанской семьи; честная и почетная посредственность, в которой можно было держаться без больших усилий и без большой борьбы, — всего этого уж больше нет. Идеи зашли так далеко, что жизнь у домашнего очага или под сенью сельской колокольни не может быть сносна. Лет десять назад — я хорошо помню это — существовал еще дух товарищества в чувствах; была еще общность воли; были желания и сетования, о которых могли быть общие толки. Но нет уже ничего подобного с тех пор, как каждая партия разделилась на бесчисленные оттенки. Горячечная страсть к прениям, которая появилась в первые дни февральской республики, не успела уяснить задачи; эти задачи оставили за собой непроницаемый мрак для настоящего поколения. Несколько избранников и теперь еще разрабатывают великие вопросы нравственной и умственной жизни, но толпа скоро утомляется работой мысли и скоро с отвращением отстает от нее. Теперь нельзя заговорить ни о чем, что выходит за рубеж вещественной пользы, не столько из опасения возбудить подозрение властей, сколько из боязни завязать праздные и желчные прения или вызвать скуку и разлад, которые выводят за собой эти задачи. Зараза проникла в среду самых согласных семейств, и там боятся затронуть важные вопросы из опасения оскорбить друг друга. Мы существуем только внешней жизнью, и если бы кто почувствовал потребность высказаться, ввериться другому, то встретил бы во всех слоях общества атмосферу, тяжелую, как свинец, и холодную, как лед, в которой невозможно дышать.
— Это правда. Но человечество не умирает, и когда жизнь его, по-видимому, угасает с одной стороны, она пробуждается — с другой. Это общество, оглохшее для прений о его нравственных интересах, деятельно трудится в других сферах. В применении науки к промышленности оно ищет господства над землей, и теперь оно на пути к этому завоеванию.
— На это-то именно я и жалуюсь! Общество не заботится теперь о лучшем мире, о жизни чувства, В нем железные и медные внутренности, как в машине. Великое слово; «Не одним хлебом живет человек» потеряло смысл свой и для общества, и для юного поколения, которое оно воспитывает в материализме интересов и в сердечном неверии. Я от рождения склонен к созерцательной жизни, и я чувствую себя чужим, потерянным посреди этой работы, в которой нет для меня никакой доли. Я не чувствую всех тех потребностей благосостояния, для которых, не опускаясь, работает столько миллионов рук. Я ощущаю голод и жажду не более, как человек обыкновенный, и не вижу необходимости увеличивать мое состояние, чтобы наслаждаться роскошью; у меня нет к ней ни малейшей склонности. Я ищу нравственного довольства, я жажду умственных наслаждений: немного любви да чести, а о них-то род человеческий и не думает. Неужели это знание, эти изобретения, эта деятельность, все это богатство и сила настоящего дадут когда-нибудь людям счастье и могущество? Я сомневаюсь в этом. Я не признаю истинной образованности в усовершенствовании машин и в открытии новых способов производства. Если б когда-нибудь пришлось мне увидеть дворцы на месте теперешних хижин, я пожалел бы о роде человеческом, если бы оказалось, что под золочеными крышами живут каменные сердца.
— Ты прав с одной стороны и неправ с другой. Если ты принимаешь дворцы, наполненные пороками и низостью, за цель человеческого труда, я с тобою согласен, но если ты будешь смотреть на общественное довольство как на единственный путь умственного и нравственного усовершенствования, ты не станешь проклинать нашего недужного стремления к материальному прогрессу, который способствует освобождению человечества от прежнего рабского подчинения невежеству и нищете. Человек рассудительный должен прийти к такому заключению: идеи не могут обойтись без фактов, как факты без идей. Хорошо, если бы цель и средства раскрывались вместе, но мы еще не достигли этого, и ты ропщешь только на то, что не родился целым столетием позже. Признаюсь, не раз я и сам досадовал на это, но мы не можем докучать другим такими жалобами, не становясь смешными в их глазах.
— Вы правильно говорите, — промолвил Жан Вальрег, задумавшись на минуту, — Мои желания ненасытнее тех обыкновенных желаний, на которые я нападаю. Но поспешим к заключению. Я не имею склонности к промышленной деятельности, не знаю толку в делах. Точные науки не по мне; классического образования я не получил. Я мечтатель, следовательно, я художник или поэт. Поговорим теперь о моем призвании; я, как видите, решился.
Не знаю, есть ли во мне способности к какому-нибудь из изящных искусств, но во мне есть любовь к одному из них — к живописи. Я после расскажу вам, если хотите, как пришла мне охота к живописи. Но это ничего не докажет; быть может, во мне нет ни малейшего дарования. Во всяком случае, я незнаком даже и с азбукой этого искусства. Попытаюсь поучиться тому, чему можно научиться. Пойду к какому-нибудь живописцу и начну с рабской покорности искусству, а когда понабью руку, дам полную свободу своим влечениям. Тогда вы посмотрите и будете моим судьей, Если во мне есть дарование, я постараюсь развить его; если нет, я приму долю ничтожества со смирением, быть может, даже с радостью.
— Ага, — воскликнул я, — лень или апатия, наконец, проглянула!
— Вы так думаете?
— Имею полное право… Чего радоваться ничтожеству?
— Талант налагает на нас тяжкие обязанности, а мне кажется, что смиренная доля скорее придется по мне. Это вовсе не лень; и если бы я мог, не оскорбляя своей чести, посвятить свои услуги какому-нибудь гениальному человеку, я был бы рад наслаждаться его славой, не неся бремени этой славы. Иметь настолько души, чтобы упиваться величием других, чувствовать в себе жизнь этого величия, не вынуждаясь природой проявлять его с блеском, — вот участь, которой я завидую, вот мечта, которую я лелею, мечта о той тихой посредственности положения, которая допускает и возвышенность чувства, и возвышенность мысли, и раскрытие души в тесном приязненном кругу, и веру во все бессмертное и в кого-нибудь из смертных. Неужели вы поставите мне в вину, что я желаю учиться для развития своих понятий и ничего более не желаю?
— С Богом, Попытайся! Я не думаю, чтоб эта скромность помешала тебе усовершенствовать твое дарование, если ты его имеешь. Подумай, однако, что тебе надобно, по крайней мере, настолько научиться живописи, чтобы она дала тебе средства к жизни, потому что с тысячью франков дохода…
— Тысяча двести! Десятилетние доходы, приобщенные к капиталу, увеличили его, и я получаю теперь сто франков в месяц. Но я сам вижу, с тех пор как живу в Париже, что в наше время невозможно с этими средствами вести жизнь независимую и без занятий. Нужно вдвое больше, и то при большой расчетливости. Дело теперь в том, чтоб приобрести эти средства не для того, чтоб жить сложа руки, я не хочу этого, но чтоб покрыть расходы на мое ученье, а оно, я знаю, потребует многого.
— Что же ты сделаешь, чтоб иметь сто франков в месяц сверх твоего дохода, не отказываясь от живописи, которая в продолжение трех-четырех лет не принесет тебе ничего и дорого будет обходиться?
— Не знаю, подумаю! Если мне нужны будут ваши советы или ваше покровительство, я снова обращусь к вам.
Спустя два месяца Жан Вальрег играл на скрипке в оркестре второстепенного оперного театра. Он был порядочный музыкант и играл довольно хорошо, так что мог исполнить, как следует, свою партию. Мы ничего не знали об этом таланте; он ни разу не похвалился им перед нами.
— Я решился на это, ни у кого не спросясь, — сказал он мне, — пожалуй, стали бы отсоветовать; даже вы сами…
— Я сказал бы тебе правду, что, расхаживая утром на репетицию и вечером на представление, ты не будешь иметь времени заниматься живописью. Но, может быть, ты уже отказался от живописи и предпочитаешь теперь музыку?
— Нет, — отвечал он, — я все еще предпочитаю живопись.
— Но где же ты научился музыке?
— Кое-как, самоучкой. Нужно только терпенье, а у меня его много.
— Почему же тебе не приняться бы серьезно за музыку, с таким прекрасным началом?
— Музыка ставит артиста слишком напоказ перед публикой. Забившись в мой оркестр, я не привлекаю ничьего внимания; а если бы я был замечательным музыкантом, я был бы вынужден не скрываться, стоять на виду; это стесняло бы меня. Мне нужно положение, в котором я оставался бы господином своей воли. Если я буду пачкать плохие картины, меня не освищут; если я буду даровитым живописцем, мне не станут аплодировать, когда я буду проходить по улице. Музыкант всегда стоит или на пьедестале, или у позорного столба. Такое неестественное положение надо принимать, как приговор рока или как долг, возлагаемый Провидением, а то, пожалуй, с ума можно сойти.
— Так как же? Достанет ли у тебя времени, чтобы учиться живописи?
— У меня немного досуга, а все-таки есть досуг. Мне придется учиться долее, чем тогда, когда бы все мое время было свободно, но все-таки теперь я могу учиться, между тем как без помощи моей скрипки не было бы у меня на то средств. Правда, я мог распорядиться моим капиталом и через три-четыре года не иметь ни состояния, ни таланта; но если б я вздумал просить моего дядю передать в мое распоряжение эти деньги, он проклял бы меня и почел бы меня погибшим человеком. Итак, волей или неволей, мне пришлось быть расчетливым и довольствоваться одними доходами. До сих пор все, кажется, идет неплохо. Мне не скучны мои занятия. Я пилю каждый вечер на скрипке, как хорошо смазанная машина, думая между тем о другом. Я свел интрижку со статисткой, глупой, как индейка, и вовсе без сердца. С такими женщинами нетрудно сойтись; я не боюсь, что моя красавица покинет меня или изменит; завтра же можно найти другую, ничем не хуже этой. Я занят и, если моя жизнь несколько зависима, я утешаю себя мыслью, что работаю для независимости. Все это нелегко, это правда, и, может быть, было бы лучше, если б я уселся в деревне и женился на какой-нибудь доброй хозяйке, которая потихоньку смирила бы меня, заставляя носить штопаное платье и нянчить ребятишек с пухлыми щечками, но жребий брошен; я задумал жить своим умом и не имею права роптать.
Я уехал из Парижа и, возвратясь, застал Жана Вальрега почти в том же положении. Ему надоел оркестр, но он нашел другую работу: по вечерам он занят был перепиской дома, а кроме того давал уроки музыки в каком-то пансионе, раза два в неделю. Зарабатывая по-прежнему франков сто в месяц, он продолжал учиться живописи. Всегда одетый опрятно и со вкусом, он сохранил прекрасные манеры и тот вид достоинства, который Бог знает где приобрел он, может быть, в самом себе. Но он казался бледнее и грустнее прежнего.
— Ты несколько раз писал мне, — сказал я ему, — и спрашивал, как я поживаю; благодарю тебя; но ты ни слова не писал мне о себе, и я хочу попенять тебе за это. Ты говоришь мне, что тебе удалось удержаться и при своей работе, и при своих идеях, и при своем образе жизни. Тебе уже больше двадцати лет, и при твоей устойчивости — ты доказал мне ее — вероятно, ты уже искусен в живописи. Я зайду к тебе посмотреть, каково идет дело.
— Нет, нет, — возразил он, — еще не время. У меня еще нет таланта; в моем даровании нет еще никакой индивидуальности. Я хотел вести дело рационально и сначала старался только приобрести уменье. Теперь уже есть у меня все, что нужно, и я попытаю собственные силы. Но для этого нужна другая жизнь, не такая, какую веду я, и которая, признаюсь вам теперь, так нестерпима, так несродна моей натуре, так убийственна для моего здоровья, что уверенный в вашей дружбе ко мне, я не хотел описывать вам душевных страданий моих в продолжение двух последних лет. Я еду, проживу месяц у дяди и потом отправлюсь в Италию.
— Так и ты не ускользнул от пристрастия к Италии? И ты воображаешь, что только Италия создает артистов?
— Нет, я никогда так не думал. Тот нигде не будет артистом, кому не суждено быть артистом; но мне столько говорили о ясном, голубом небе Рима, что я еду туда отогреться и просохнуть от парижской сырости, по милости которой я чуть не превратился в гриб. Кроме того, Рим — это древний мир, который не худо узнать; это жизнь человечества в прошедшем, это древняя книга, которую надо прочесть, чтобы уразуметь историю искусства, а вы знаете, что я во всем последователен. Может быть, после этого я возвращусь в деревню и женюсь, как я говорил вам, на дородной птичнице, доступной каждому владельцу моего разбора. Я должен удержаться в моей теперешней среде, то есть стараться всеми силами выдвинуться из толпы, но всегда быть готовым принять, не унывая, самую смиренную долю. Мне нетрудно держаться в равновесии; меня влекут в разные стороны две совершенно противоположные силы: стремление к идеальному и жажда спокойствия. Погляжу, что пересилит, и во всяком случае уведомлю вас.
— Погоди немножко, — сказал я, когда он брал шляпу, чтобы раскланяться со мною. — Как ты думаешь, если тебе не дастся живопись, не попытать ли другой дороги? Например, вот музыка…
— О, нет, не говорите о музыке. Чтобы любить ее, надобно будет надолго позабыть ее; я лучше хочу умереть, чем жить ею; я вам сказал причину.
— А тебе непременно следует быть артистом; ты человек не однозначный и не получил классического образования. Читая твои письма, я подумал, уж не взяться ли тебе за перо? В тебе заметно дарование.
— Быть писателем, мне? Это невозможно! Я только вскользь взглянул на свет и на жизнь, я только что начинаю понимать их. Писать еще не значит быть писателем. Писатель должен мыслить, а я умею только мечтать и действовать; я вовсе не мыслитель, я вывожу заключения слишком поспешно и обо всем сужу относительно к себе. Литература есть прямое или относительное учение об идеале; а вы знаете, я еще не нашел своего.
— Пусть и так. Обещаешь ли ты мне исполнить одну важную просьбу?
— Вы можете требовать всего, что только от меня зависит.
— Пиши для меня, для меня одного, — если ты этого потребуешь, я обещаю сохранить тайну, — пиши подробный отчет о твоем путешествии, о твоих впечатлениях, какие бы они ни были, и даже о твоих приключениях, если с тобою случится что-либо замечательное, за целый год, не пропуская времени более недели.
— Я догадываюсь, для чего вам это нужно. Вы хотите принудить меня изучать жизнь мою в подробностях и давать себе в ней отчет.
— Именно так. Ты принимаешь иногда, хотя и редко, решительные намерения и строго исполняешь их; но под влиянием этих намерений ты забываешь жить в промежутки редких проявлений твоей воли; сосредоточиваясь весь в ожидании, ты не пользуешься мелкими наслаждениями жизни. Отдавая себе отчет в твоих действительных потребностях, в твоих законных стремлениях, ты в конечном счете придешь к более ясным формулам жизни.
— Так вы почитаете меня безумцем?
— Тот всегда безумец, кто не бывает им никогда.
— Я исполню ваше приказание; может быть, это послужит мне в пользу. Но если я, беспрестанно лелея собственные мысли, начну безумствовать более, чем вы желаете?
— Я указываю тебе возбуждающее и вместе с тем успокоительное средство — размышление!
Я вызвался помочь ему в путешествии, как помогают родители сыну; он мог, не колеблясь, принять от меня эту услугу, но отказался, обнял меня и отправился.
Через неделю я получил от него длинное письмо, которое было как бы предисловием к его дневнику. Я переписываю почти слово в слово это послание, равно как и его путевые записки, которые я упросил его писать для меня.
Мы предлагаем читателю историю, в которой он найдет и повесть, и записки путешественника: роман в путешествии, или путешествие в романе. Для нас это — быль; мы читаем ее в рукописи одного из друзей наших, описавших в ней полугодовой эпизод своей жизни, время волнений и скорби, в которое резко обличились и деятельность его душевных сил, и вся индивидуальность его характера.
До того времени Жан Вальрег (псевдоним, избранный им самим) не был известендругим, да и сам себя не знал. Он вел самую спокойную и самую рассудительную жизнь, какую только можно вести в наше время. Неожиданные, весьма романические обстоятельства внезапно пробудили в нем страсть и такую силу воли, к которой друзья не считали его способным. Этот непредвиденный переворот в образе мыслей и действий составляет главный интерес его рассказа, написанного в виде дневника. Путевые впечатления автора не представляют ничего нового: неподдельная искренность и некоторая независимость мысли — вот все их достоинство. Но мы не должны позволять себе предварительные рассуждения об этом труде; зачем лишать его свежести первого впечатления? Мы ограничимся несколькими подробностями о самом авторе, каким мы его знавали, прежде чем он вполне обнаружил себя в своем рассказе.
Ж. В. (или, пожалуй, Жан Вальрег, как он уже принял этот псевдоним, в котором сохранились начальные буквы его настоящего имени) сын одного из моих старинных приятелей, умершего лет двенадцать тому в глуши нашей провинции. Отец Вальрега по профессии адвокат, был честный и почтенный человек, с основательным образованием и разборчивой совестью, но, как большая часть жителей Беррийского департамента, не отличался деятельностью и оставил детям своим только двадцать тысяч франков.
В провинции с таким капиталом можно жить сложа руки; везде этой суммы достаточно, чтобы получить необходимое воспитание, или начать небольшую торговлю. Итак, друзьям г-на Вальрега нечего было заботиться об участи детей его, которые, впрочем, не остались без покровителей. Мать их умерла еще в молодости; но у них были дяди и тетки — люди честные, на попечение и заботливость которых можно было положиться.
Что касается меня, то я давно уже потерял из вида бедных сирот, когда однажды мне доложили о посещении г-на Жана Вальрега.
Я увидел молодого человека лет двадцати; наружность его не представляла, с первого взгляда, ничего замечательного. Он казался застенчивым, но более осторожным, чем неловким. Я старался ободрить его, и мне удалось это, когда я перестал рассматривать его и ограничился расспросами.
— Я помню, что видел вас часто, когда вы были еще ребенком, — сказал я ему, — помните ли вы меня?
— Если б я вас не помнил, — отвечал он, — я не решился бы прийти к вам.
— Благодарю вас, я искренно любил и душевно уважал вашего батюшку.
— «Вашего»! — прервал он с удивлением, которое тотчас же расположило меня к нему. — Когда я был ребенком, вы говорили мне «ты», а я и до сих пор еще ребенок.
— Пусть будет так. Ты рано лишился отца; кто воспитал тебя?
— Меня никто не воспитывал. Две тетки отбивали друг у друга мою сестру… каждая хотела приютить ее.
— Она замужем?
— Нет! Она умерла. Я одинок на свете с двенадцатилетнего возраста. Отрочество свое провел я в доме приходского священника; но разве такая жизнь не то же одиночество?
— В доме священника? Да, теперь я припоминаю: у твоего отца был брат сельским священником; я видел его раза два, он показался мне очень хорошим человеком. Что же, разве он не радел о тебе с нежной заботливостью родственника?
— Да, в физическом отношении; в нравственном, как умел, подавая собою пример; но умственного образования я вовсе не получил от него. Озабоченный обязанностями своего звания, самым положительным взглядом на вещи, даже на религию и на благотворительность, как того можно было ожидать от человека, покинувшего соху, чтобы поступить в семинарию, он советовал мне трудиться, не указывая труда, и я прожил с ним десять лет, образуя свой ум только по книгам, какие попадались под руку.
— Имел ли ты, по крайней мере, хорошие книги?
— Отец мой завещал дяде свою библиотеку, для передачи мне, когда я буду совершеннолетним. Я нашел там хорошие сочинения, и хотя многие из них не отличались ортодоксальностью, но добрый священник никогда не запрещал мне читать их, потому что почитал их моей неотъемлемой собственностью.
— Почему он не отдал тебя в училище?
— Отец мой намерен был сам заняться моим образованием; я получил от него первоначальные учебные сведения, и мне очень не хотелось поступать в училище; а по смерти отца дядя мой не счел нужным преодолевать мое отвращение к школе. Он говорил, когда принял меня к себе, что, оставив меня дома, сбережет деньги, которые пошли бы на плату за ученье, и что, когда я вступлю в совершенные лета, то буду ему благодарен за это. К тому же, — прибавлял он, — и отец твой намеревался дать тебе домашнее воспитание, а я обязан считаться с волею покойного брата; латынь мне самому не чужда, и я сумею научить ей ребенка, сколько следует ему знать ее. Добрый дядя, в самом деле, имел это намерение, но ему всегда бывало недосуг; а когда он возвращался домой, утомленный после работы, признаюсь, я и сам не хотел еще более утомлять его уроком. После ужина он дремал в своих креслах, а я, по другую сторону камина, читал про себя Платона, Лейбница, Руссо, иногда Вальтера Скотта, Шекспира или Байрона и Гете. Он никогда не спрашивал, что я читаю. Видя, что я спокоен, серьезен, прилежен, по-видимому, счастлив и не имею порочных склонностей, он вообразил, что этим отсутствием пороков и своенравия я обязан ему и что для того, чтобы угодить Богу и людям, достаточно не быть злым, докучным и вредным.
— Так ты полагаешь, что в тебе не развилось ни одной замечательной способности только по недостатку просвещенного руководителя или должной заботливости?
— Я в этом уверен, — отвечал молодой человек со странным спокойствием. — Но я не могу жаловаться на моего дядю, не становясь при этом неблагодарным человеком. Он сделал для меня все, что он был намерен сделать, все, что, по его мнению, было можно сделать лучшего. Старая его служанка, как родная мать, пеклась о моем здоровье, о моей опрятности, о моем довольстве. И она, и дядя предупреждали все мои надобности; я всегда бывал окружен такой тишиной, таким порядком, такой добротой, что, право, ему нечего было обо мне беспокоиться, когда он выходил из дома по своим обязанностям. Каждый день, помня, что его попечениям вверен тройственный залог — моя жизнь, моя душа и мои деньги, — он задавал три вопроса: не болен ли я, не ленюсь ли, не нужно ли мне денег? И так как я обыкновенно отвечал на все три отрицательно, он засыпал спокойно.
— Так ты ни на кого не ропщешь? Но сейчас в словах твоих была заметна как бы жалоба на самого себя, которую ты, казалось, не хотел высказать.
— Я не могу сказать, чтоб я был доволен или недоволен тем, что я теперь. Мне не дано никакого направления и я ничем не заслуживаю внимания; вам осмелился я говорить о себе только потому, что хочу объяснить повод моего посещения.
— Я очень рад твоему посещению; я люблю в тебе сына моего приятеля и лично к тебе чувствую искреннее расположение, хотя еще не вполне разгадал твой характер и твой образ мыслей.
— Нечего разгадывать, — сказал молодой человек скорее с веселой, чем с грустной улыбкой. — Я существо самое ничтожное, лишенное всякого значения. С некоторого времени я начал даже тяготиться моим благополучием, убеждаясь, что не приобрел на него никакого права. Вот почему, как только я достиг совершеннолетия, я попросил у дяди позволения съездить в Париж; я рассказал ему о моих планах и получил его согласие.
— Какие же у тебя планы? Нельзя ли помочь тебе в их осуществлении?
— Не знаю. Вряд ли можно помочь тем, которые ни на что не годятся; может быть, и я принадлежу к числу таких. Вы, пожалуй, отправите меня назад садить капусту, благо у меня, по несчастью, довольно капусты, чтобы жить ею.
— Отчего же по несчастью?
— Оттого, что я разбогател наследством после сестры. У меня теперь двадцать тысяч франков капитала.
Сказав это просто и смиренно, Вальрег отвернулся; мне казалось, что он скрывал слезы, вызванные воспоминанием о бедной сестре.
— Ты очень любил ее? — спросил я.
— Больше всего на свете, — отвечал он. — Я был ее покровителем; я воображал, что буду ей отцом, потому что я четырьмя годами старше ее. Она была мила, понятлива и горячо любила меня. Она жила в трех лье от нас, и каждое воскресенье меня отпускали к ней. Однажды, подходя к дому, я увидел у дверей гробовую крышку… Бедная сестра умерла, прежде чем я узнал, что она нездорова. В нашей глуши, где нет ни дорог, ни потребности сообщений, три лье — большое расстояние. Смерть сестры имела решительное влияние на мою жизнь и на мой характер, уже потрясенный кончиной батюшки. Я сделался мрачен, а близ меня не было никого, кто умел бы внимательной, осмысленной нежностью утешить и ободрить меня. Дядя говорил, что смешно плакать, потому что Жюльета в раю, и ей скорее можно завидовать, чем сожалеть о ней. Я не сомневался в этом, но моя уверенность не научила меня жить без привязанности, без стремления, без цели. Я долго оставался мрачным и унылым, да и теперь я почти всегда грустен и мне ни за что не хочется приняться.
— Но как развилась в тебе эта склонность к бездействию? Вследствие ли твоих дум о тщете жизни или вследствие физического изнеможения? Ты бледен и лицом стар не по летам. Здоров ли ты?
— Я никогда не был болен, и во мне есть охота к физической деятельности. Я неутомимый ходок; любил бы, может быть, и путешествия, но, на беду, сам не знаю, что я люблю, не знаю самого себя, а изучать себя мне лень.
— Но ты говорил мне о каких-то проектах. Ты покинул провинцию и приехал в Париж, вероятно, не без предположений, не без цели жить с пользою?
— Жить с пользою! — сказал молодой человек после минутного молчания. — Да, это, конечно, моя заветная мысль… Но вы должны уверить меня, что человек не имеет права жить только для себя. Я пришел к вам затем, чтобы вы в этом уверили меня, и когда вы растолкуете мне это, когда убедите меня так, чтобы я сам это почувствовал, я посмотрю, к чему я способен, если я в самом деле способен к чему-нибудь.
— В этом никогда не следует сомневаться. Если в тебе есть сознание своего долга, ты должен сказать себе, что долг свой неспособны исполнить только те, которые не хотят исполнить его.
Мы разговаривали так с полчаса. Я нашел много доброй податливости в его уме и сердце. Всматриваясь в него, я заметил в его чертах красоту, нежную и ненавязчивую. Ростом он был невысок; волосы его были до того черны, что придавали оттенок желтизны его лицу; прическа чересчур небрежная; над верхней губой пробивались уже черные, густые усики. С первого взгляда в нем поражала какая-то угрюмость, невнимательность к себе, болезненность; но иногда кроткая улыбка озаряла это желчное лицо, и пробуждавшееся чувство придавало небольшим и несколько впалым глазам его необыкновенный блеск; эта улыбка и этот взор не говорили о бесполезной и неудачной юности. В простоте его речи отзывалась кроткая откровенность и как бы навык к высшей, не деревенской жизни. Он, быть может, ничего еще не знал и ничему не был чужд и показался мне ко всему способным и очень понятливым.
— Вы правы, — сказал он, расставаясь со мной. — Настоящее самоубийство простительнее, чем самоубийство души по беспечности и трусости. Во мне нет большого желания жить, но я не чувствую болезненного отвращения от жизни и, не имея желания расстаться с нею, обязан употребить ее на пользу, по мере сил моих. Скептицизм века заразил меня еще в глуши нашего селения. Я подумал, что между стремлением к призрачной суете жизни и презрением ко всякой деятельности нет, может быть, середины для людей нашего времени. Вы говорите, что я ошибаюсь; посмотрю, подумаю, и когда, руководимый этой надеждой, приведу в порядок свои мысли, приду опять посетить вас.
Прошло, однако же, шесть месяцев, а он ни па что еще не решился и ни разу в это время не заговаривал со мною о себе. Он часто бывал у нас и стал в нашем доме своим человеком. Он любил нас и мы его любили, открыв в нем много прекрасных свойств: прямоту души, скромность, сознание своего достоинства, тонкую разборчивость чувства и мысли. Эти достоинства были, не скажу, свыше его возраста, потому что в этом возрасте, при нормальных условиях жизни, расцветает все лучшее в душе нашей, но свыше того, что можно было ожидать от ребенка, так рано оставленного на произвол собственных влечений.
Особенно удивляла меня в Жане Вальреге его рассудительная и искренняя скромность. Ранняя молодость почти всегда самонадеянна или по безотчетному, инстинктивному чувству; или по выводам мысли. Иногда эгоистические стремления, иногда бескорыстные движения души отнимают у нее ясное сознание собственных сил. В юном друге моем я заметил недоверчивость к самому себе, источник которой таился не в апатии темперамента, как я сначала полагал, но в чистосердечии здравого смысла и в тонкой разборчивости суждения.
Не могу, однако, сказать, чтобы этот милый молодой человек вполне отвечал желанию моему дать ему хорошее направление; он оставался задумчивым и нерешительным. Это придавало много прелести его отношениям с другими: он никому не становился на дороге; с веселыми был, по-видимому, весел, со степенными степенен; но я ясно видел, что в тайне он с грустью и разочарованием смотрел на людей и вещи, и я находил, что он еще слишком молод и не должен предаваться такому разочарованию, прежде чем опыт даст ему на то право. Я сожалел, что он не влюблен, не честолюбив, не энтузиаст. Мне казалось, что в нем слишком много рассудительности и слишком мало сердечных движений, и мне хотелось посоветовать ему лучше сделать какую-нибудь безрассудность, чем оставаться в таком отчуждении от жизни.
Наконец он решился снова поговорить со мной о своей будущности, и так как он обычно не скоро высказывал, что было у него на душе, то мне пришлось в этом объяснении заново с ним знакомиться, хотя я и часто видел его после нашего первого разговора.
В эти несколько месяцев произошли в его наружности замечательные перемены, которые, казалось, обнаруживали более важные изменения в его внутреннем мире. Он был одет и причесан, как все молодые люди его возраста, и, к слову сказать, это никак не испортило его наружности и без того привлекательной. Он приобрел общественный навык и развязность, В разговоре своем и в обращении он обнаруживал замечательную способность сглаживать угловатость своей личности при встречах с внешними предметами, и я ожидал найти в нем более привязанности к свету, но, к удивлению, увидел, что он еще более отдалился от него.
— Нет, — сказал он мне, — я не могу опьянеть от того, что опьяняет теперешнюю молодежь, и если мне не удастся отыскать чего-нибудь, что пробудило бы меня, вдохнуло бы в меня страсть, я проживу свой век, не знавши молодости. Не обвиняйте, однако, меня в склонности к тунеядству; поставьте себя на мое место, и вы будете ко мне снисходительнее. Вы принадлежите к поколению, которое возникло в эпоху великодушных идей. Когда вы были в моем возрасте, вы жили дыханием лучшей будущности, грезою о скором и быстром прогрессе. Ход событий отражал, гнал ваши идеи; он обманул, но не разрушил ваших надежд. Вы и друзья ваши привыкли верить и ожидать; вы навсегда сохраните молодость, потому что вы еще молоды в пятьдесят лет. Можно сказать, что складка сложилась, и ваш опыт в прошедшем даст вам право уповать на будущее.
С нами, двадцатилетними детьми, стало иначе: наши душевные движения шли не тем путем, как ваши. Наш ум смело развернул крылья, но вскоре все изменилось: крылья опустились, солнце померкло. Мне было тринадцать лет, когда мне сказали: «Прошедшее более не существует, началась новая эра»…
— И это говорил тебе твой дядя?
— Понятно, что не он. Дядя мой не боялся за жизнь свою (он был отважен и решителен), но он боялся за свое крохотное достояние, за свой оклад, за свою ниву, за свою рухлядь, за свою клячу. Он ужасался всякой перемены, и хотя не имел ни врагов, ни преследователей, трепетал при мысли о возобновлении 1793 года.
Что касается меня, я читал журналы, прокламации, прислушивался к толкам. Я вдыхал в себя надежду всеми чувствами, всем существом моим, и два-три месяца в 1848 году я был самым восторженным ребенком: вот вся моя молодость…
Настали тяжелые дни июня и внесли ужас и ожесточение даже в самую глушь нашей околицы. У нас видели в каждом прохожем разбойника и поджигателя; бедный дядя, прежде человеколюбивый и милосердный, стал опасаться нищих и запер пред ними дверь свою. Душа моя замерла, а в сокрушенном сердце не осталось и следов прежнего обаяния. Все сосредоточилось для меня в одном понятии: «Люди еще не дозрели!» Тогда я старался ужиться с другой, мрачной и тяжелой мыслью: «Истина новых начал еще не проявилась, — думал я. — Общество пытается еще силой воцарить эту истину, и каждая новая попытка доказывает, что материальная сила — элемент непрочный; он перелетает из стана в стан, как зерно летит по воле ветра. Истинная сила еще не народилась… и, может быть, за мой век не будет еще истинной силы».
Вот каковы были томительные грезы моей юности, посреди других скорбей, о которых я уже говорил вам.
Теперь я прихожу в общество, быстро изменившееся под влиянием непредвиденных событий, понуждаемое к поступательному движению с одной стороны, отражаемое назад с другой — в борьбе со странным обаянием, с загадочной мыслью, какой всегда останется мысль индивидуальная, примененная к массам. Я не придаю политического значения нашему разговору; заключения, выведенные из случайности событий, не имеют веса. Я стараюсь только отыскать в будущем какое-нибудь нравственное положение, к которому я мог бы пристроиться; но, осмотревшись вокруг себя, я не нахожу своего места в этих новых интересах, овладевших вниманием и волей современных людей.
— Послушай, — сказал я ему, — я хорошо понял, что довело тебя до настоящего, грустного настроения. Эту грусть я не вменяю тебе в вину, напротив, она дает мне выгодное о тебе понятие. Но время выбраться из нее, не скажу усилием воли (когда нет цели, нет и воли), но более внимательным исследованием современного общества, которое ты недостаточно знаешь и потому не имеешь права за него отчаиваться.
— Уверяю вас, что я совсем не отчаиваюсь за него, — возразил он, — но я знаю его достаточно для убеждения, что в этом обществе можно жить только или в опьянении, или в разочаровании. Эта мирная среда, рассудительная, терпеливая; эта смиренная, добрая жизнь прежнего времени, которую воскрешает в моем воображении воспоминание о моем собственном детстве, проведенном в затишье простой мещанской семьи; честная и почетная посредственность, в которой можно было держаться без больших усилий и без большой борьбы, — всего этого уж больше нет. Идеи зашли так далеко, что жизнь у домашнего очага или под сенью сельской колокольни не может быть сносна. Лет десять назад — я хорошо помню это — существовал еще дух товарищества в чувствах; была еще общность воли; были желания и сетования, о которых могли быть общие толки. Но нет уже ничего подобного с тех пор, как каждая партия разделилась на бесчисленные оттенки. Горячечная страсть к прениям, которая появилась в первые дни февральской республики, не успела уяснить задачи; эти задачи оставили за собой непроницаемый мрак для настоящего поколения. Несколько избранников и теперь еще разрабатывают великие вопросы нравственной и умственной жизни, но толпа скоро утомляется работой мысли и скоро с отвращением отстает от нее. Теперь нельзя заговорить ни о чем, что выходит за рубеж вещественной пользы, не столько из опасения возбудить подозрение властей, сколько из боязни завязать праздные и желчные прения или вызвать скуку и разлад, которые выводят за собой эти задачи. Зараза проникла в среду самых согласных семейств, и там боятся затронуть важные вопросы из опасения оскорбить друг друга. Мы существуем только внешней жизнью, и если бы кто почувствовал потребность высказаться, ввериться другому, то встретил бы во всех слоях общества атмосферу, тяжелую, как свинец, и холодную, как лед, в которой невозможно дышать.
— Это правда. Но человечество не умирает, и когда жизнь его, по-видимому, угасает с одной стороны, она пробуждается — с другой. Это общество, оглохшее для прений о его нравственных интересах, деятельно трудится в других сферах. В применении науки к промышленности оно ищет господства над землей, и теперь оно на пути к этому завоеванию.
— На это-то именно я и жалуюсь! Общество не заботится теперь о лучшем мире, о жизни чувства, В нем железные и медные внутренности, как в машине. Великое слово; «Не одним хлебом живет человек» потеряло смысл свой и для общества, и для юного поколения, которое оно воспитывает в материализме интересов и в сердечном неверии. Я от рождения склонен к созерцательной жизни, и я чувствую себя чужим, потерянным посреди этой работы, в которой нет для меня никакой доли. Я не чувствую всех тех потребностей благосостояния, для которых, не опускаясь, работает столько миллионов рук. Я ощущаю голод и жажду не более, как человек обыкновенный, и не вижу необходимости увеличивать мое состояние, чтобы наслаждаться роскошью; у меня нет к ней ни малейшей склонности. Я ищу нравственного довольства, я жажду умственных наслаждений: немного любви да чести, а о них-то род человеческий и не думает. Неужели это знание, эти изобретения, эта деятельность, все это богатство и сила настоящего дадут когда-нибудь людям счастье и могущество? Я сомневаюсь в этом. Я не признаю истинной образованности в усовершенствовании машин и в открытии новых способов производства. Если б когда-нибудь пришлось мне увидеть дворцы на месте теперешних хижин, я пожалел бы о роде человеческом, если бы оказалось, что под золочеными крышами живут каменные сердца.
— Ты прав с одной стороны и неправ с другой. Если ты принимаешь дворцы, наполненные пороками и низостью, за цель человеческого труда, я с тобою согласен, но если ты будешь смотреть на общественное довольство как на единственный путь умственного и нравственного усовершенствования, ты не станешь проклинать нашего недужного стремления к материальному прогрессу, который способствует освобождению человечества от прежнего рабского подчинения невежеству и нищете. Человек рассудительный должен прийти к такому заключению: идеи не могут обойтись без фактов, как факты без идей. Хорошо, если бы цель и средства раскрывались вместе, но мы еще не достигли этого, и ты ропщешь только на то, что не родился целым столетием позже. Признаюсь, не раз я и сам досадовал на это, но мы не можем докучать другим такими жалобами, не становясь смешными в их глазах.
— Вы правильно говорите, — промолвил Жан Вальрег, задумавшись на минуту, — Мои желания ненасытнее тех обыкновенных желаний, на которые я нападаю. Но поспешим к заключению. Я не имею склонности к промышленной деятельности, не знаю толку в делах. Точные науки не по мне; классического образования я не получил. Я мечтатель, следовательно, я художник или поэт. Поговорим теперь о моем призвании; я, как видите, решился.
Не знаю, есть ли во мне способности к какому-нибудь из изящных искусств, но во мне есть любовь к одному из них — к живописи. Я после расскажу вам, если хотите, как пришла мне охота к живописи. Но это ничего не докажет; быть может, во мне нет ни малейшего дарования. Во всяком случае, я незнаком даже и с азбукой этого искусства. Попытаюсь поучиться тому, чему можно научиться. Пойду к какому-нибудь живописцу и начну с рабской покорности искусству, а когда понабью руку, дам полную свободу своим влечениям. Тогда вы посмотрите и будете моим судьей, Если во мне есть дарование, я постараюсь развить его; если нет, я приму долю ничтожества со смирением, быть может, даже с радостью.
— Ага, — воскликнул я, — лень или апатия, наконец, проглянула!
— Вы так думаете?
— Имею полное право… Чего радоваться ничтожеству?
— Талант налагает на нас тяжкие обязанности, а мне кажется, что смиренная доля скорее придется по мне. Это вовсе не лень; и если бы я мог, не оскорбляя своей чести, посвятить свои услуги какому-нибудь гениальному человеку, я был бы рад наслаждаться его славой, не неся бремени этой славы. Иметь настолько души, чтобы упиваться величием других, чувствовать в себе жизнь этого величия, не вынуждаясь природой проявлять его с блеском, — вот участь, которой я завидую, вот мечта, которую я лелею, мечта о той тихой посредственности положения, которая допускает и возвышенность чувства, и возвышенность мысли, и раскрытие души в тесном приязненном кругу, и веру во все бессмертное и в кого-нибудь из смертных. Неужели вы поставите мне в вину, что я желаю учиться для развития своих понятий и ничего более не желаю?
— С Богом, Попытайся! Я не думаю, чтоб эта скромность помешала тебе усовершенствовать твое дарование, если ты его имеешь. Подумай, однако, что тебе надобно, по крайней мере, настолько научиться живописи, чтобы она дала тебе средства к жизни, потому что с тысячью франков дохода…
— Тысяча двести! Десятилетние доходы, приобщенные к капиталу, увеличили его, и я получаю теперь сто франков в месяц. Но я сам вижу, с тех пор как живу в Париже, что в наше время невозможно с этими средствами вести жизнь независимую и без занятий. Нужно вдвое больше, и то при большой расчетливости. Дело теперь в том, чтоб приобрести эти средства не для того, чтоб жить сложа руки, я не хочу этого, но чтоб покрыть расходы на мое ученье, а оно, я знаю, потребует многого.
— Что же ты сделаешь, чтоб иметь сто франков в месяц сверх твоего дохода, не отказываясь от живописи, которая в продолжение трех-четырех лет не принесет тебе ничего и дорого будет обходиться?
— Не знаю, подумаю! Если мне нужны будут ваши советы или ваше покровительство, я снова обращусь к вам.
Спустя два месяца Жан Вальрег играл на скрипке в оркестре второстепенного оперного театра. Он был порядочный музыкант и играл довольно хорошо, так что мог исполнить, как следует, свою партию. Мы ничего не знали об этом таланте; он ни разу не похвалился им перед нами.
— Я решился на это, ни у кого не спросясь, — сказал он мне, — пожалуй, стали бы отсоветовать; даже вы сами…
— Я сказал бы тебе правду, что, расхаживая утром на репетицию и вечером на представление, ты не будешь иметь времени заниматься живописью. Но, может быть, ты уже отказался от живописи и предпочитаешь теперь музыку?
— Нет, — отвечал он, — я все еще предпочитаю живопись.
— Но где же ты научился музыке?
— Кое-как, самоучкой. Нужно только терпенье, а у меня его много.
— Почему же тебе не приняться бы серьезно за музыку, с таким прекрасным началом?
— Музыка ставит артиста слишком напоказ перед публикой. Забившись в мой оркестр, я не привлекаю ничьего внимания; а если бы я был замечательным музыкантом, я был бы вынужден не скрываться, стоять на виду; это стесняло бы меня. Мне нужно положение, в котором я оставался бы господином своей воли. Если я буду пачкать плохие картины, меня не освищут; если я буду даровитым живописцем, мне не станут аплодировать, когда я буду проходить по улице. Музыкант всегда стоит или на пьедестале, или у позорного столба. Такое неестественное положение надо принимать, как приговор рока или как долг, возлагаемый Провидением, а то, пожалуй, с ума можно сойти.
— Так как же? Достанет ли у тебя времени, чтобы учиться живописи?
— У меня немного досуга, а все-таки есть досуг. Мне придется учиться долее, чем тогда, когда бы все мое время было свободно, но все-таки теперь я могу учиться, между тем как без помощи моей скрипки не было бы у меня на то средств. Правда, я мог распорядиться моим капиталом и через три-четыре года не иметь ни состояния, ни таланта; но если б я вздумал просить моего дядю передать в мое распоряжение эти деньги, он проклял бы меня и почел бы меня погибшим человеком. Итак, волей или неволей, мне пришлось быть расчетливым и довольствоваться одними доходами. До сих пор все, кажется, идет неплохо. Мне не скучны мои занятия. Я пилю каждый вечер на скрипке, как хорошо смазанная машина, думая между тем о другом. Я свел интрижку со статисткой, глупой, как индейка, и вовсе без сердца. С такими женщинами нетрудно сойтись; я не боюсь, что моя красавица покинет меня или изменит; завтра же можно найти другую, ничем не хуже этой. Я занят и, если моя жизнь несколько зависима, я утешаю себя мыслью, что работаю для независимости. Все это нелегко, это правда, и, может быть, было бы лучше, если б я уселся в деревне и женился на какой-нибудь доброй хозяйке, которая потихоньку смирила бы меня, заставляя носить штопаное платье и нянчить ребятишек с пухлыми щечками, но жребий брошен; я задумал жить своим умом и не имею права роптать.
Я уехал из Парижа и, возвратясь, застал Жана Вальрега почти в том же положении. Ему надоел оркестр, но он нашел другую работу: по вечерам он занят был перепиской дома, а кроме того давал уроки музыки в каком-то пансионе, раза два в неделю. Зарабатывая по-прежнему франков сто в месяц, он продолжал учиться живописи. Всегда одетый опрятно и со вкусом, он сохранил прекрасные манеры и тот вид достоинства, который Бог знает где приобрел он, может быть, в самом себе. Но он казался бледнее и грустнее прежнего.
— Ты несколько раз писал мне, — сказал я ему, — и спрашивал, как я поживаю; благодарю тебя; но ты ни слова не писал мне о себе, и я хочу попенять тебе за это. Ты говоришь мне, что тебе удалось удержаться и при своей работе, и при своих идеях, и при своем образе жизни. Тебе уже больше двадцати лет, и при твоей устойчивости — ты доказал мне ее — вероятно, ты уже искусен в живописи. Я зайду к тебе посмотреть, каково идет дело.
— Нет, нет, — возразил он, — еще не время. У меня еще нет таланта; в моем даровании нет еще никакой индивидуальности. Я хотел вести дело рационально и сначала старался только приобрести уменье. Теперь уже есть у меня все, что нужно, и я попытаю собственные силы. Но для этого нужна другая жизнь, не такая, какую веду я, и которая, признаюсь вам теперь, так нестерпима, так несродна моей натуре, так убийственна для моего здоровья, что уверенный в вашей дружбе ко мне, я не хотел описывать вам душевных страданий моих в продолжение двух последних лет. Я еду, проживу месяц у дяди и потом отправлюсь в Италию.
— Так и ты не ускользнул от пристрастия к Италии? И ты воображаешь, что только Италия создает артистов?
— Нет, я никогда так не думал. Тот нигде не будет артистом, кому не суждено быть артистом; но мне столько говорили о ясном, голубом небе Рима, что я еду туда отогреться и просохнуть от парижской сырости, по милости которой я чуть не превратился в гриб. Кроме того, Рим — это древний мир, который не худо узнать; это жизнь человечества в прошедшем, это древняя книга, которую надо прочесть, чтобы уразуметь историю искусства, а вы знаете, что я во всем последователен. Может быть, после этого я возвращусь в деревню и женюсь, как я говорил вам, на дородной птичнице, доступной каждому владельцу моего разбора. Я должен удержаться в моей теперешней среде, то есть стараться всеми силами выдвинуться из толпы, но всегда быть готовым принять, не унывая, самую смиренную долю. Мне нетрудно держаться в равновесии; меня влекут в разные стороны две совершенно противоположные силы: стремление к идеальному и жажда спокойствия. Погляжу, что пересилит, и во всяком случае уведомлю вас.
— Погоди немножко, — сказал я, когда он брал шляпу, чтобы раскланяться со мною. — Как ты думаешь, если тебе не дастся живопись, не попытать ли другой дороги? Например, вот музыка…
— О, нет, не говорите о музыке. Чтобы любить ее, надобно будет надолго позабыть ее; я лучше хочу умереть, чем жить ею; я вам сказал причину.
— А тебе непременно следует быть артистом; ты человек не однозначный и не получил классического образования. Читая твои письма, я подумал, уж не взяться ли тебе за перо? В тебе заметно дарование.
— Быть писателем, мне? Это невозможно! Я только вскользь взглянул на свет и на жизнь, я только что начинаю понимать их. Писать еще не значит быть писателем. Писатель должен мыслить, а я умею только мечтать и действовать; я вовсе не мыслитель, я вывожу заключения слишком поспешно и обо всем сужу относительно к себе. Литература есть прямое или относительное учение об идеале; а вы знаете, я еще не нашел своего.
— Пусть и так. Обещаешь ли ты мне исполнить одну важную просьбу?
— Вы можете требовать всего, что только от меня зависит.
— Пиши для меня, для меня одного, — если ты этого потребуешь, я обещаю сохранить тайну, — пиши подробный отчет о твоем путешествии, о твоих впечатлениях, какие бы они ни были, и даже о твоих приключениях, если с тобою случится что-либо замечательное, за целый год, не пропуская времени более недели.
— Я догадываюсь, для чего вам это нужно. Вы хотите принудить меня изучать жизнь мою в подробностях и давать себе в ней отчет.
— Именно так. Ты принимаешь иногда, хотя и редко, решительные намерения и строго исполняешь их; но под влиянием этих намерений ты забываешь жить в промежутки редких проявлений твоей воли; сосредоточиваясь весь в ожидании, ты не пользуешься мелкими наслаждениями жизни. Отдавая себе отчет в твоих действительных потребностях, в твоих законных стремлениях, ты в конечном счете придешь к более ясным формулам жизни.
— Так вы почитаете меня безумцем?
— Тот всегда безумец, кто не бывает им никогда.
— Я исполню ваше приказание; может быть, это послужит мне в пользу. Но если я, беспрестанно лелея собственные мысли, начну безумствовать более, чем вы желаете?
— Я указываю тебе возбуждающее и вместе с тем успокоительное средство — размышление!
Я вызвался помочь ему в путешествии, как помогают родители сыну; он мог, не колеблясь, принять от меня эту услугу, но отказался, обнял меня и отправился.
Через неделю я получил от него длинное письмо, которое было как бы предисловием к его дневнику. Я переписываю почти слово в слово это послание, равно как и его путевые записки, которые я упросил его писать для меня.
Дневник Жана Вальрега
Глава I
Община Мер, 10 февраля 185…Вот я и на месте. Я не посылаю вам еще обещанной реляции моих приключений; здесь, я уверен, со мной не случится ничего замечательного. Посылаю вам перечень некоторых обстоятельств из моей жизни, которых я не умел объяснить вам, когда вы расспрашивали о них меня. Вы желали знать, во-первых, почему, не испытав никогда ни излишней строгости, ни дурного обращения, я имел характер вовсе необщительный, не терпел говорить с другими о себе и неохотно занимался собой, Тогда я и сам не понимал, почему это так было; теперь, кажется, я добрался до причины. Дядя мой, аббат Вальрег, вовсе не остроумен и вовсе не зол; при всем том он большой насмешник. У него прекрасный нрав, несколько крутой, но веселый. Он до того положителен, что все, что свыше его ограниченных понятий, вызывает его сомнение и насмешки. Этот склад ума образовался в нем не только внутренним процессом, но и от привычки жить с Мариной, его старой и верной домоправительницей, превосходной женщиной в поступках, но самой спесивой и недоброжелательной на словах. Способная к безграничной преданности людям, наименее в целом приходе достойным участия, она беспощадно злословила о людях самых достойных, как только усаживалась вечером за свою прялку или за свое вязанье, чтоб поболтать с господином аббатом, который, то смеясь, то дремля, снисходительно слушал ее сплетни и сам вдоволь потешался насчет ближнего. Эти пересуды, впрочем, никому не вредили, потому что добрые люди, с истинным уменьем жить в свете, из избы сора не выносили, и их злословие никогда не переходило за порог их жилища. Но я, я слишком долгое время был немым слушателем таких разговоров, и они не могли не отразиться на мне: я привык, сам того не замечая, к бессознательной недоверчивости в моих сношениях с другими. Однако же, я не могу упрекнуть себя, чтобы я разделял это безграничное недоброжелательство. Напротив того, кажется, я усиленно защищался от этого чувства; но, быть может, я невольно убедил себя, что и я заслуживал свою долю недоброжелательства от других и что, если аббат не оказывал мне его, то потому только, что я был его племянником и воспитанником, Что касается насмешек, то, находясь у него, так сказать, под рукой, я был постоянно осыпаем ими. Дядя смеялся надо мной с добрым, родственным намерением, я в том уверен, но насмешка все-таки насмешка. Средство это прекрасно, без всякого сомнения, чтобы истребить зародыш глупой самонадеянности тщеславия; но при частом употреблении это средство гибельное: оно должно было, наконец, угасить во мне всякое уважение к самому себе. Чтобы дать вам понятие о насмешливости моего дяди, я расскажу вам нашу встречу, когда я приехал к нему третьего дня вечером. Так как в нашу деревню не ходит ни один дилижанс, ни другие почтовые колымаги, то я пришел домой с последней станции пешком, в прекрасную погоду и по прескверной дороге. — Ба, ба, ба! Здорово! — вскричал мой дядя, только что меня увидев. — Добро пожаловать. Марина, ступай-ка сюда, вот тебе и он, мой повеса-племянник. Давай-ка ему поужинать; после нацелуешься; он, верно, проголодался, ему теперь похлебка дороже твоих поцелуев. Садись-ка, погрейся тут у камина, Э, брат, да на тебе лица нет; что же это? Или свой хлеб-то тяжело там приходит? Очень уж испостился. Ты, кажется, любезный, в Италию собираешься, Рафаэля с трона спихнуть, да других пачкунов, которых имени я не припомню! С Богом! Мне лестно подумать, что в нашей семье будет знаменитый артист; но вряд от этого вырастет твое состояние; недаром пословица ведется: «Гол, как маляр». А ты все еще петушишься? Ну, что делать, был бы только честным человеком! Да смотри, не промотайся, пока я жив, и не наделай долгов; на мою деньгу плоха надежда; я тебе не царскую долю оставлю, да и знай, что я пожить собираюсь как можно подолее, а судя по твоей физиономии, я, брат, чуть ли не здоровее тебя. Берегись, чтобы мне не пришлось по тебе поминки справлять! После многих таких прибауток аббат Вальрег начал меня расспрашивать, но, не слушая и не понимая моих ответов, продолжал надо мною подшучивать. «Италия! — говорил он. — Не думаешь ли ты, что там деревья растут вверх корнем, а люди вниз головой ходят? Не глупо ли ехать за тридевять земель, чтобы изучать природу, как будто люди не везде одинаково глупы, а вещи мира сего не всюду равно безобразны! Когда я был молод, старшие, видя, что я крепок и здоров, вздумали уговаривать меня сделаться миссионером. «Нет, господа, — отвечал я им, — незачем ездить в Китай, чтобы видеть болванов, или на острова Тихого океана, чтобы насмотреться на диких!» После ужина, за которым я должен был есть вдоволь каждого блюда, иначе Марина обижалась, дядя пожелал видеть образец моих успехов в живописи во время моей парижской жизни. «Ты думаешь, что труды твои передо мной будут то же, что бисер перед свиньями? — сказал он шутя. — Ты ошибаешься, Чтобы судить о том, что делано для глаз, нужны только глаза, Ну-ка, развязывай! Мне хочется полюбоваться произведениями будущего Рафаэля». Надо было раскрыть чемодан и перебрать в нем все вещи, чтобы доказать дяде, что у меня было очень мало рисовальных припасов, и не было ни одного рисунка. Он очень оскорбился. — Это нелюбезно с твоей стороны, — сказал он. — Ты мог бы догадаться, что меня интересуют твои успехи; я начинаю думать, что ты просто бил баклуши в Париже и ничего путного не делал. Если бы не так, ты позаботился бы привезти мне хотя бы какой образок, раскрашенный тобою. У тебя было дарование, я не спорю, но я уверен, что там ты только шатался из угла в угол. Роясь в моих вещах, Марина открыла академическую фигуру, в которую я завернул карандаши. Рисунок этот был изорван и запачкан, и так как у фигуры недоставало головы и оконечностей ног, то Марина сначала не совсем и поняла, что у ней было перед глазами; но вдруг разразилась криком ужаса и негодования и убежала опрометью из комнаты. — Фи, — сказал дядя, смотря на обнаженную фигуру, что так перепугала Марину, — так этим-то вы занимаетесь? Рисуете нагие человеческие фигуры. И отвратительно, и ни к чему не служит. К тому же это, кажется, кое-как наляпано. Признаться, мне больше нравились курьезные человечки, которых ты, бывало, писал. И работа была почище, и, по крайней мере, благопристойно: деревенское платье бывало отмалевано точь-в-точь, и хоть кому покажи, не стыдно глядеть. Но поговорим о деле, — продолжал он, бросая в камин мой академический этюд. — Как вел ты себя в этом новом Вавилоне? Что, долгов наделал? — Нет, дядюшка. — Не запирайся, говори лучше правду. — Божусь вам, что нет; я не хотел ни пугать вас, ни огорчить. На будущее время, если вы позволите убедить себя в некоторых несомненных истинах, может быть… — Ты меня обманываешь; я уверен, что ты кругом должен! — Честью уверяю вас, что нет… — Но ты имеешь намерение… — Я никакого намерения не имею, но я должен сказать вам, что мне сильно наскучила эта система бережливости, доходящая до скряжничества, и если б, по несчастью, я к ней пристрастился, она довела бы меня до самого бессмысленного эгоизма. Я понимаю готовность на лишения в пользу ближнего, но лишать себя возможных удобств в жизни для того, чтобы приобрести эти самые удобства в будущем, и смешно, и безрассудно. До сих пор моя строгая бережливость была делом чести. Вы взяли с меня клятву, что я не буду тратить свыше моих доходов, и, как дитя, я дал эту клятву, не зная, что ста франками в месяц нельзя жить в Париже, а если и можно, так только с условием никогда не трогаться участью человека, еще беднее нас, и подчинить себя самой скупой предусмотрительности, Я не мог вести такую жизнь; я взялся за работу, чтобы удвоить свои средства, но работу, ненавистную для меня, притупляющую мысль и чувство, и при всем этом я еще должен был лишать себя тысячи нравственных и умственных наслаждений, которые могли развить ум и образовать сердце. Наконец, несмотря ни на что, я сумел научиться тому, чему хотел научиться, не уклоняясь ни от одного из приличий, обязательных по моему образу жизни, и не пропуская случая бывать в хорошем обществе, где только я мог показаться, не бросаясь другим в глаза. Я еду теперь в страну, где, как я слышал, и бедный артист может учиться, не терпя большой нужды; но прежде, чем расстанусь с вами, добрый и дорогой мой дядюшка, я должен сказать вам, что беру назад мое слово и более не обязуюсь безусловно сберегать мое наследство, если потребности моей артистической жизни и долг чести вынудят меня прибегнуть к моему капиталу. После этих слов завязалось между мною и дядей жаркое объяснение. Он был взбешен, видя во мне такие неожиданные для него идеи, хотя прежде никогда не требовал у меня отчета в идеях. Высказав мне все, что внушали ему его убеждения (странная смесь эгоизма и христианскогомилосердия, правила помнить о других и не забывать себя, не позволяя себе никаких увлечений ни в пользу других, ни в свою собственную), он встал с места и, будучи неспособен взволноваться чем-либо до такой степени, чтобы пропустить хотя один час сна, он успокоился, промолвя: «На нынешний день довольно хлопотать; завтра подумаем об этом». Часы на сельской колокольне пробили девять, и дядюшка задремал, как, бывало, и в прежнее время, с той регулярностью пищеварительных отправлений, которая свойственна только сильным темпераментам. Марина вошла в комнату, собрала со стола, громко разговаривая со мною, стуча, без всякой предосторожности своими деревянными башмаками по звонкому полу зала. Когда все было прибрано, она громко сказала: «Господин аббат, пора спать; спокойной вам ночи; ступайте молиться, это ваше время, да и ложитесь с Богом». Потом Марина отвела меня в комнату, где я провел половину своей жизни, осмотрела, все ли нужное есть у меня, еще раз меня поцеловала и, нещадно топая по лестнице, отправилась в верхний этаж. Через четверть часа все спало в доме священника, в том числе и я, утомленный несносной дорогой и несносными рассуждениями аббата Вальрега. На другой день, то есть вчера, дядя мой пытался за ужином возобновить наш разговор, но мне удалось отвлечь его до трех четвертей девятого. Я надеюсь, таким образом, не оставляя ему более четверти часа в вечер на споры, без крутого перелома довести его до того, что он свыкнется с принятым мною решением. Вы, может быть, подумаете, заодно с почтенным дядюшкой, что у меня вертится в голове какой-нибудь сарданапальский замысел насчет моего капитала в двадцать тысяч франков? Ничуть не бывало. Все мои намерения ограничиваются желанием идти вперед и не быть рабом положения.
13 февраля.
Мое предположение оправдывается. Дядя привыкает к моей независимой воле и начинает успокаиваться, видя мою рассудительность во всех других отношениях. Так как я уже принялся рассказывать вам о моем прошлом, я расскажу вам, как родилась во мне охота к живописи; я не смел сообщить вам подробности этого случая, когда вы меня об этом спрашивали. Молодость моя протекла здесь в уединении, на лоне природы, Я занимался только чтением и мечтами. Вдруг во мне пробудилось неясное, но сладкое чувство «созерцания». Эта способность была во мне устойчивее и совершалась с меньшим трудом, чем способность «мыслить». Я ощутил это наслаждение в первый раз в один ясный день, при закате солнца, окидывая взором пространный луг, окаймленный высокими деревьями. Лучи яркого света и прозрачные тени придавали очаровательный эффект прекрасной местности. Мне было лет шестнадцать. Я спрашивал себя, почему эта местность, которую я не раз проходил равнодушно, не обращая на нее внимания, вдруг получила в глазах моих неизъяснимую прелесть. Несколько дней я не мог дать себе в этом отчета. Занятый по утрам дома моими обязанностями, то есть сочинениями, которые задавал мне мой дядя аккуратно каждое утро и которые он аккуратно каждый вечер забывал прочитывать, я не мог видеть солнечного восхода. Я уходил часто в поле с книгой в руках, но напрасно искал там в продолжение целого дня того поразительного эффекта, который произвел на меня такое сильное впечатление, он появлялся только вечером, когда солнце опускалось к вершинам окрестных холмов и когда огромные тени, скользя по бархатной зелени, длинными полосами ложились на равнину, облитую ярким золотом света. Это время живописцы называют «моментом эффекта». Наступление этих минут заставляло биться мое сердце, как приближение любимой особы или необыкновенного события. В эти мгновения все становилось в глазах моих прекрасным, хотя я и не мог объяснить себе почему; каждая случайная неровность луга, камень, покрытый мхом, даже прозаические подробности пейзажа: белье, развешанное на веревке у дверей хижины, куры, роющиеся в навозе, шалаш из ветвей, загородка, отделяющая луг от коноплянника, — все изменяло свои формы, все принимало другие оттенки, все облекалось в неизъяснимую прелесть. «Но что же во всем этом удивительного, — спрашивал я сам себя, — и почему я так поражен этим видом? Прохожие и люди, занятые полевыми работами, вовсе не обращают внимания на эту картину, и даже мой дядя, человек самый образованный из всех, кого я здесь вижу, никогда не говорил мне о красоте этой долины. Где же эта прелесть, во внешней природе, или во мне самом? Есть ли это преображение окружающих меня предметов или обаяние моей мысли? Несколько дней я втайне наслаждался этими минутами душевных восторгов. Дядя мой обыкновенно ужинал в это время, а он был чрезвычайно взыскателен, когда дело шло об обычном порядке его домашней жизни. Он не беспокоился, если бы я и целый день был в отсутствии, но минута ожидания меня к ужину сердила его. К тому же он был так добр, что я всеми силами старался не огорчать его. Как только раздавался звон часов с далекой колокольни и стаи голубей начинали пролетать с полей в направлении к деревне, я вспоминал, что Марина накрывает в это время на стол и, отрываясь от восхищавшей меня картины, спешил домой, не вполне насладившись зрелищем. Но мечта моя не покидала очарованной местности, и когда я нарезал ветчину или жаркое тоненькими ломтиками, как это было заведено дядюшкой, перед мысленным взором моим тянулись вереницы кустов с золотыми очертаниями и другие подробности картины, облитые ярким пурпуром заката. Наступала осень, дни становились короче; у меня оставалось более времени любоваться изумительной игрой света и тени и постепенным преображением предметов, уже с тем разумением прекрасного, которое развилось во мне, как неизведанное еще чувство. С каждым новым впечатлением новый восторг овладевал моей душой и, несмотря на то, что я читал много книг, наполненных поэтическими картинами, мне не приходила мысль искать слова, чтобы выразить мое видение. Слова казались мне недостаточными, смешными картины — неясными и неточными. Напрасно вдохновенные поэты старались выразить словами красоты видимого мира. Самый смелый из современных мечтателей, Виктор Гюго, уже не удовлетворял меня. Тогда я почувствовал, что мое внутреннее чувство никогда не проявится в слове, и что я не могу быть писателем. Воображение мое было скудно или лениво, потому что лучшие писатели не дали мне даже приблизительного понятия о том, что глаза мои сами открыли. Долго, однако же, я не решался сказать себе, что я могу быть живописцем; даже и теперь я еще не знаю, было ли чувство, возбужденное во мне этими впечатлениями, сознанием моего призвания; во всяком случае эти впечатления вызвали во мне стремление, теперь преобладающее. Мне было около девятнадцати лет, когда в один из долгих зимних вечеров мне пришла мысль или, правильнее, я почувствовал потребность возобновить перед собою дивный ландшафт; я взял карандаш и начал рисовать. Окончив рисунок, я простодушно удивлялся моему безобразному созданию; я смотрел на него сквозь стекло воображения, которое представляло мне в ином, лучшем виде, набросанный мною эскиз. На другой день я увидел свою ошибку и сжег испачканный мною лист бумаги, но принялся снова рисовать мое видение. Это продолжалось несколько месяцев. Каждый вечер я бывал восхищен моею работой, каждое утро истреблял ее, боясь привыкнуть к безобразию моей картины. А между тем долгие зимние вечера пролетали незаметно. Наконец, мне пришла мысль попытаться рисовать с натуры. Я срисовывал все что попало с удивительной искренностью; я рисовал почти все листики деревьев и в разработке подробностей запутывал идею целого, не выражая, однако же и деталей, потому что каждая подробность есть сама относительное целое. Однажды дядя взял меня с собой в соседний замок, где я впервые увидел картины древних и новейших художников. Я остановился пред картиной Рюйсдаля и долго стоял перед ней в немом созерцании. Я не вдруг понял ее. Мало-помалу мысль моя просветлела, и я уразумел, что такое искусство требует целой жизни. Отходя от картины, я решился посвятить всю мою жизнь, употребить все мои силы, чтобы научиться выражать красками на полотне мечту моей души. Добрые люди одолжили мне несколько хороших рисунков, дядя позволил мне купить ящик акварельных красок. Тогда он не пугался моей мономании, но когда я достиг совершеннолетия и объявил ему мои намерения, он сильно встревожился. Я ожидал этого, и с кротостью опровергал его возражения. Я знал, как он уважает независимость чужой воли и как не любит толковать по-пустому; я знал в нем эту беззаботность, этот оптимизм, который всегда преобладает в людях истинно кротких и искренно добрых, и не сомневался в успехе. Вы спросите меня теперь, почему в первые дни нашего знакомства я утаил от вас такое ничтожное обстоятельство, как склонность мою к живописи. Причина так же проста, как самый факт. Вы просили бы меня показать вам мои рисунки, а они были невыносимо дурны и могли понравиться только Марине и нашему школьному учителю. Вы сказали бы мне, что я сумасшедший, а если бы не сказали, я прочел бы это убеждение в ваших глазах, а я сам не столько еще верую в мой талант, чтобы отстаивать его против критических замечаний друзей. Суд посторонних для меня не страшен; но после вашего приговора мы сомневались бы вдвоем, а мне и одному тяжело сомневаться. В мой тогдашний возраст, при небрежном воспитании, как мое, человек не умеет защищать своих убеждений. Мы сознаем их, но у нас недостает выражений, чтобы высказать их в ясной, определенной форме, и доказательств, чтобы их отстаивать. Мы любим их, потому что, чем бы они ни были, откровением или пустой мечтой, они делали нас счастливыми. Мы скрываем их в глубине души, как тайну первой любви. Это для нас цветы, которые вянут под дыханием пренебрежения, под улыбкой насмешки. Эта боязнь еще и теперь меня не покинула; я не из пустого тщеславия не хотел показать вам мои рисунки; я беспристрастно проверил себя и убедился, что если я не мудрец, то и не безумный, чтобы подумать, что я уже имею талант. Это искреннее сознание успокаивает меня; оно доказывает, что, сохраняя в тайне мои успехи, я люблю не себя, а искусство. Я хочу сохранить девственность моих надежд, не обнажая их ни для нападков неприязни, ни для приговора судей, ни для взора любопытных. Мне кажется, что с таким уважением к моему идеалу я не рискую впасть в заблуждение, и когда я скажу вам; «Вот как я умею выражать мысль свою» я точно буду уверен в успехе, соответственном моим силам, не говорю «моим стремлениям»: этого, кажется, никто не может достигнуть.
Глава II
Марсель, 12 марта 185…Я уже в дороге, добрый друг мой. Я успел уговорить и успокоить дядюшку и получил от него напутственное благословение и свободу. Вы, может быть, и верно говорили, что терпение еще не гений, но мне кажется, что терпение, по крайней мере, добродетель. Только терпением удалось мне так устроить дела, чтобы мой второй отец не сокрушался о моей будущности. Я решился не покидать его, не успокоив его вполне насчет моих намерений; я обязан был поступить так за его доброту и привязанность ко мне. Завтра я намерен отправиться в Геную. Мне сказали, что переход через Альпы теперь затруднителен для пешехода, по причине сильных ветров, свирепствующих там в это время года, и я решился отправиться на Марсель, хотя, сказать правду, и морем плыть теперь не очень удобно. Небо мрачно, а мистраль[7] дует с ужасной силой; сегодня к вечеру он несколько затих, и есть надежда, что генуэзский пароход, как говорят, добрый ходок, выйдет в море. Я уже был в Марселе еще в малолетстве, вместе с покойным отцом. Он, как вам известно, родом из Прованса, а у нас был здесь старый родственник. Этот родственник давно уже умер, и мне здесь некого посещать. Я узнал главные части города и окрестную местность. Я вспомнил, что обедал с моим отцом в каком-то балагане на береговых скалах; это урочище называется «Резервом». Местные жители собираются туда лакомиться особого рода улитками, которые водятся исключительно у этого берега. Балаган сгорел; на его месте выстроен щеголеватый павильон, и тот, говорят, вскоре будет заменен более обширным и удобным зданием. Я прошел далее вдоль по берегу, нагибаясь, чтобы сопротивляться ветру. Я видел море во всей красе его; оно казалось мне еще прекраснее, чем прежде, В детстве оно приводило меня в ужас, теперь поражало своим величием. Безотрадно смотреть на эту беспредельную равнину воды, изрытую порывами бури. Ни один образ не выражает вернее страшного отчаяния, невыносимых мук. Но это отчаяние только вещественное. Душа человека только мыслью о кораблекрушении сочувствует этим терзаниям исполина. Напрасно он стонет, мечется, рвет себя в куски об острые скалы, обливая их бешеными слезами и обдавая их горами пены: это слепое, бесчувственное чудовище. А вон там, вдали, чернеет утлая ладья: она смело борется с бурею, потому что в существах, управляющих ею, находится истинная сила, то есть воля. Грозна природа на этой маленькой планете, которую мы обитаем; человек должен быть отважен. Я понял свой детский ужас перед этим шумом, этим волнением, этой беспредельностью! До тех пор я видал только, как колосья на нивах и трава на лугах колебались под набегом ветра. Отец, бывало, брал меня на руки, но и там мне было страшно. Я не боялся погибнуть в волнах, когда, дрожащий, прижимался к отцовской груди: но это было нравственное головокружение. Мне казалось, что ветер выносил дыхание из моей груди и что душа моя кружилась среди этих бездн. То же ощущение овладело мною и в этот раз, но не такое сильное, скорее приятное, чем болезненное. Мысль о разрушении выводит перед ребенком страшный призрак. Человека, привыкшего к борьбе, этот призрак скорее манит к себе, чем угрожает, и головокружение становится почти наслаждением. Я с каким-то странным удовольствием смотрел, как стая небольших судов проходила через опасный фарватер старой гавани. Каждое из них было в большей или меньшей опасности, в зависимости от строения, искусства кормчего и силы волн. Все прошли благополучно. Маленькое судно, по-видимому, не очень крепкое, обратило на себя мое особенное внимание. Настала минута поворачивать на рейд, минута критическая. Волна, на которой судно это носилось, как морская чайка, нахлынула тогда с борта; баркас лег на бок, так что реи его касались хребта волн, но вдруг он поднялся, резвый и смелый, и снасти натянулись, как тетива упругого лука. Легко и свободно перескользнул он через грозный вал и опустился в спокойные воды, гордый, как лебедь на струях родного озера. В действиях малочисленного экипажа незаметно было никакой тревоги, и я гордился этим, будто принадлежал к числу этих отважных моряков. Да, человек должен быть отважен, и немудрено, что нам так нравится проявление человеческой силы. Что значат море и его бури! Истекающая от Бога душа мира находит свое лучшее убежище в нас; мы презираем смерть. Нет, друг мой, не простое море, не простую землю надобно срисовывать, надобно изображать человека и его жизнь. Вслед за баркасом вошло большое судно с грузом; с ним было больше хлопот. В роковые минуты, когда участь экипажа зависит от удачного маневра, на палубе раздаются голоса; это команда знания и опытности. Такой голос по праву возвышается над ревом разъяренных волн. Эта картина развертывалась передо мною под резкие звуки маленькой арфы, которые слышались неподалеку от меня. Между тем как входящие в гавань суда боролись с волнами, на открытой платформе балагана, в котором помещался кабак, танцевали принаряженные девушки и матросы. Странствующий цыган-арфист, с густыми черными кудрями на голове и с лохмотьями изорванного рубища на теле, играл на плохой арфе, в неровном демонском ритме, род тарантеллы, под которую плясали без такта и порядка пьяные посетители кабака. Контраст двух картин был поразителен, но в обеих обнаруживалась беззаботная отвага моряка. Только что прибывшие из дальнего путешествия, чисто выбритые, принаряженные и обутые в глянцевые башмаки, матросы кружились с дамами в шелковых платьях, весело прыгавшими в семи этажах воланов, окружавших их юбки. День был холодный, небо хмурилось. Волна прибивала до самой террасы и угрожала снести в море и балаган, и пирующих. Большое судно приближалось к берегу, как бы поневоле повинуясь прихоти волн и ветра, и, казалось, угрожало сокрушиться на самой платформе, посреди веселого бала. Никто не заботился об этом, кроме меня. Арфист, я думаю, не прервал бы своих мерных звуков посреди воплей смерти, и громкий смех неистовых львиц питейного дома нераздельно слился бы с хрипением умирающих. Я обедал один в другой, не такой шумной харчевне. К вечеру ветер опал, волнение затихло; повеяло теплом, и темная ночь быстро спустилась на море и землю. Я остался в темном уголке отдохнуть от прогулки; обо мне, казалось, забыли. Между тем как я отдыхал, погружаясь в думы, за соседней перегородкой продолжался разговор, который я давно слышал, но не слушал. Однако вскоре следующие слова англичанина, хорошо говорившего по-французски, обратили на себя мое внимание: «Но к чему иметь свою волю?» Эти слова так соответствовали моим тогдашним мыслям, что я невольно стал прислушиваться, и после обмена несколькими общими фразами, прерываемыми стуком ножей и вилок на тарелках, услышал следующий разговор, в котором, по моему мнению, было много нравственно-назидательного: — Итак, мне было девятнадцать лет (это говорил англичанин), когда мне сказали, что я уже в таком возрасте, что могу жениться на мисс Гэрриет. Я находил, что я еще слишком молод; к тому же мне не хотелось жить в большом свете, которого я тогда не знал, да и не желал узнать. Я был младший сын в семействе, мне почти нечем было жить. Это было уже после моего с вами путешествия на Антильские острова. К морской службе я не имел особой склонности, но я любил странствовать, и мне нравилась независимость такой жизни. Мисс Гэрриет полюбился я Бог знает за что! Я носил знатное имя — это так, но не имел ни таланта, ни большого ума, как вы знаете; не знал светских обычаев, Но она была очень чувствительна, восхищалась моей бедностью и, кажется, страдала мономанией. Воспоминания детства, проведенного со мною вместе, сожаление, о котором я ее вовсе не просил, эксцентрические понятия о долге чести (Боже вас сохрани, любезный, от эксцентрических женщин!), тщеславное желание обогатить бедного родственника — лукавый знает, что именно вселило в нее неотвязчивую привязанность ко мне, и бедняжка чахла от пламенного желания как можно скорее соединиться со мною неразрывными узами. Но я поклялся побывать на Цейлоне, прежде чем надену петлю на шею… — Почему именно на Цейлоне? — спросил француз. — Теперь не припомню, — отвечал рассказчик. — Тогда такова была моя непременная воля, моя идея, Воля человека должна быть священна для всех, но мисс Гэрриет была хорошенькая, даже очень хорошенькая, и, видя ее любовь ко мне, я и сам в нее влюбился. Словом, я женился на девушке с приданым в двести тысяч фунтов дохода, и с этого дня начались все мои несчастья… — Черт возьми, милорд, — воскликнул его собеседник, ударив кулаком по столу, — у вас двести тысяч фунтов дохода? — Нет, отвечал англичанин с глубоким вздохом, от которого хрусталь зазвенел на столе, — теперь восемьсот тысяч: жена моя получила наследство! — Да на что же, прости, Господи, вы жалуетесь? — А на то, что у меня восемьсот тысяч дохода. Это богатство опутало меня новыми обязанностями и в отношении к себе самому, и в отношении к другим, новыми узами, которые не согласуются ни с моим характером, ни с моим воспитанием, ни с моими склонностями. Я люблю все делать по-своему, но я не упрям, Со времени женитьбы моей я не могу жить по своей воле, и оттого несчастлив, хотя я всеми уважаем и очень богат. — Да как же это? Помилуйте! — А вот увидите. На другой день после свадьбы жена преобразовала меня в светского человека. Я не был рожден для этого положения, Мне было скучно в знатном кругу; я больше любил простое общество порядочных людей. Мне хотелось поговорить о жизни моряков, о путешествиях, а я вынужден был болтать о политике, о литературе. Жена моя была синий чулок, blue stoking. Она читала Шекспира, я — Поль-де-Кока. Она любила рослых лошадей, я — маленьких пони. Она занималась серьезной музыкой, я предпочитал звуки охотничьего рожка. Она принимала только знать, я охотно болтал с моими полесовщиками. Я любил сельскую жизнь, она не находила в загородном замке достаточной роскоши и комфорта. Ей всегда было жарко, когда мне бывало холодно, и холодно, когда мне жарко. Ее всегда тянуло в Италию, когда мне хотелось в Россию, и наоборот. Так мы не сходились во всем! — Да что ж за беда! — воскликнул француз. — В этом-то и заключается жизнь всех супругов, с малыми изменениями к лучшему или к худшему. Это скучно в бедности, когда нельзя жить врозь, на две половины, но чтобы богатый лорд… — Не каждый богатый лорд человек без правил, — отвечал англичанин тоном, в котором выразилось превосходство его характера. — Если бы я покинул миледи, она имела бы право роптать на меня и, может быть, право изменить своим обязанностям. Я не хотел, чтобы она осталась замужней вдовой. Я хорошо видел (и скоро заметил это), что она уже не находила меня ни красавцем, ни любезным, ни интересным; она сама краснела за прежнюю безумную любовь ко мне. Этому нельзя было помочь; но я не хотел унизить ее в свете и не покинул ее; да, я не оставил ее, хотя это и для нее, и для меня очень прискорбно. Англичанин вздохнул, француз расхохотался. — Не смейтесь, — сказал англичанин строго. — Я несчастлив, очень несчастлив. Хуже всего, что миледи, кроткая со всеми, как овечка, со мною настоящий тиран. Ей кажется, что она заплатила мне своим богатством за право угнетать меня. Бог не дал нам детей, и этим я много потерял в ее сердце. На беду, она еще ревнива. Поймите это, если можете! Она не любит меня, а ревнует, несмотря на то, что в наши лета ревность смешна. Вообразите, что она укоряет меня в распутстве, меня, когда я истратил почти всю свою волю, чтобы воздерживать себя от всех непозволенных удовольствий. Вы видите, что я даже не пью, а когда вернусь домой, она скажет мне, что я пьян. Я сижу здесь с добрым приятелем, беседую с ним очень рассудительно: она обвиняет меня теперь, я уверен, что я загулял с сорванцами. Да если б она и видела нас здесь за скромным обедом, она и тогда нашла бы к чему придраться. Она сказала бы, что обедать в такой ресторации на берегу моря — неприлично, shoking. Я терпеть не могу комфорта. Все, что отзывается роскошью, напоминает мне жену. Счастье еще, что она взяла с собой в Италию хорошенькую племянницу, и, опасаясь, чтобы она мне не приглянулась, предоставляет мне с некоторого времени более свободы отлучаться. Я обязан этому случаю удовольствием обедать с вами. Хотите курить? Возьмем сигары и пойдем на воздух, чтобы платье мое не пропахло дымом. Они ушли, а я отправился домой ощупью по узким тропинкам, пробитым в скалах. Море пело свою грустную, мелодичную песню; странно, но сладко звучала она в темноте. Мне хотелось послушать эту привлекательную мелодию, но я торопился домой, чтобы писать вам, мой добрый, мой лучший друг, и вот уже давно сижу за делом.
Глава III
Среда 14-го.Вчера к вечеру опять подул мистраль, не переставал всю ночь и теперь еще продолжается. «Кастор» не решается выйти из гавани. Чтобы не скучать эти два дня, я пустился в далекие прогулки и пишу к вам карандашом, на листке, вырванном из моего альбома, в ущелье горы Св. Иосифа. Я нахожусь в нескольких часах пути от города и между тем, как там дует холодный ветер, я купаюсь здесь в теплых лучах истинно итальянского солнца. Я перешел пространную долину и достиг холмов, которые тянутся по ее пределам. Холмы эти не так высоки, чтобы защищать долину, но в горах вдруг нападаешь на самую теплую атмосферу и почти на африканскую растительность. Вы любите цветы, я перечислю для вас попавшиеся мне здесь растения, все пахучие: тимьян, розмарин, лаванда, шалфей преобладают на этих местностях. Небольшие поляны усеяны мелкими золотисто-желтыми цветками, которые пахнут скипидаром. Какая прекрасная местность! Есть за что похвалить Прованс, с его странными, суровыми, часто грандиозными видами. Эти прихотливые формы земной поверхности доказывают, что здесь происходили значительные геологические перевороты. Во многих местах внезапные возвышенности почвы, будто вал укрепления, облегли зубчатым гребнем долины на весьма значительное протяжение. Длинные гряды известковых скал, белых, как каррарский мрамор, которому, вероятно, они сродни, кажутся рядами внезапно окристаллизованных волн, некоторые из них стоят в наклонном положении, как будто согнутые силой ветра. Далее, на пространстве нескольких миль, холмы ступенятся, растительность держится на их уступах в каменных рамах, удивительно правильных форм. Можно бы подумать, что на каждом холме стоял когда-то замок и что эти ступени иссечены руками фей для существ, соответствовавших своими размерами громадным размерам первозданной природы. Это уступы амфитеатра какой-нибудь породы титанов. Но наука сдерживает полет мечты человека и принимает на себя обязанность объяснять все грозные явления природы: эти внезапные возвышения, эти разбега почвы, огромные осадки ее — все эти корчи земной поверхности, которые избороздили лицо земли глубокими морщинами. Наука смотрит на все это с тем же спокойствием, с каким мы глядим на неровности яблока или рассматриваем рельефную сетку на скорлупе грецкого ореха. Я часто думал, заодно с поэтами, что наука, исследуя причины видимых явлений, убивает поэзию. Я мало знаю, но, признаюсь, часто сожалел, что и этому научился. Только вчера и сегодня я убедился в своем заблуждении. Живописцы не должны быть слишком поэтами. Наука смотрит и постигает. Поэт также должен быть видящим оком. А чтобы все видеть, нужно понимать. Я вчера познакомился с живописцем, который едет в Рим и, вероятно, будет моим спутником. Сегодня поутру мы отправились с ним вместе на прогулку. Он вскоре остановился, чтобы срисовать понравившуюся ему местность. Я знаю, что из всего, что раскинула природа перед нашими глазами, поэт может выбирать только то, что пригодно его искусству, но, прежде чем он приступит к делу, не должен ли он объять мыслью общность, построение этого громадного целого, которое в каждой стране имеет свою наружность, свою особую душу? Может ли частица целого что-либо объяснить нам, пока целое ничего не высказало. Здесь есть не только случайности очертаний и игра света, здесь есть формы и общий колорит, который мне не худо бы изучить. Если бы я слушался только моих желаний, я остался бы здесь на некоторое время, но Италия, — это мечта моя, она зовет меня, и я спешу к ней. Как роскошна, однако, природа вокруг меня! Я припоминаю слова Мишеле, обращенные к отлетающей на зиму птице: «Там, за оплотом скалы, — говорит он о Провансе, — ты найдешь, я уверяю тебя, зиму желанной Азии и Африки». Это правда, местность здесь сухая и здоровая. После парижских зимних дождей и туманов я глазам своим не верю, лежа на траве и видя облака пыли, поднимающиеся по дороге под копытами проходящих стад. Приморские ели колышутся над моей головой под набегом теплого летнего ветерка. Пространная долина, лежащая между мною и морем, походит на море цветов и бледной зелени. Это белый цвет миндаля, розовый цветок персика, бледно-розовый абрикоса и неопределенного оттенка цветок оливкового дерева, клубящийся, как облака, среди этого раннего расцвета. Марсель, как прибрежная царица, уселась над синими волнами моря. Море еще грозно. Вокруг меня тепло и тишина, но я отсюда вижу, как мистраль отплесками пены хлещет по голым ребрам приморских скал; я отсюда различаю глубокие борозды между рядами волн, более громадных, чем они кажутся вблизи, когда на расстоянии нескольких миль я охватываю глазом их очертания и не могу следить за их движением.
15 марта.
Я уже на пароходе, в виду берегов Италии. На море свежо, но погода ясная. Мы идем вдоль крутых, живописных берегов. К вечеру затих ветер, и туман задымился над морем. Три морских рыболова летели за нами, при закате солнца, пытаясь усесться на полосе густого черного дыма, который струился из высокой трубы парохода, но, огорченные неудачей, покинули нас, провожая прощальным, странно-мелодическим криком. Ницский маяк сквозит в тумане. Почти никого из пассажиров не укачало. Что касается меня, я никогда не буду страдать морской болезнью, я это чувствую. Пристроившись кое-как, чтобы писать к. вам, я расскажу вам нынешние мои похождения. Спутник мой, живописец, считает меня ленивым дилетантом; я очень рад, что он вздумал быть моим руководителем и покровителем; он все время не отходит от меня ни на шаг. Указывая мне на небо на волны, на громады скал, мимо которых несется пароход, он угощает меня всеми техническими терминами ремесла, удивляясь, что я не понимаю этой болтовни живописцев, которую он величает языком искусства. Надобно вам сказать, что я, для шутки, притворился совершенно не знающим нравов, обычаев и наречия живописцев. Он готов был презирать меня за это, но кротость, с которой я выслушивал его наставления, расположила его в мою пользу. Он показал мне свои марсельские эскизы, набросанные, если хотите, искусною рукой; в них есть удачные мазки кисти, очень удачные; пейзаж прекрасный, очертания сняты верно, но характер местности не схвачен; формы те же, но в них нет жизни, нет чувства. Я пытался растолковать ему это, но, в свою очередь, говорил языком для него непонятным и, вдобавок, не таким забавным, как его техническая болтовня. Брюмьер, впрочем, славный малый. Ему лет тридцать. Имея небольшое состояние, он решился еще раз побывать в Риме, хотя, как он сам говорит, всему уже научился; он недурен собой, а его всегдашняя веселость почти переходит в остроумие; характер у него очень приятный. Мы болтали на палубе о нашем путешествии, о городах, в которых необходимо побывать, как вдруг какой-то господин третьего класса, то есть пассажир-пролетарий, путешествующий по самой дешевой цене, с дантовской осанкой, будто на переправе через Ахерон, вмешался в наш разговор и посоветовал нам не тратить времени в Генуе, выражая к этому городу глубочайшее презрение. Мне показалось, что я не в первый раз встречаюсь с этим человеком. «Где я вас видел?» — спросил я его. «Два дня тому назад, сиятельный господин, — отвечал он по-французски, — я играл на арфе в Марселе, на берегу моря». — «А, это вы? Где же ваша арфа?» — «Ах, добрый барин, арфы уже нет. Моя публика перепилась, перессорилась и передралась. В этой суматохе бедная арфа попала под стол, опрокинутый шестью сорванцами, которые и сами на него попадали и раздавили мою арфу. Когда эти господа перебрались со стола под стол, им уже невозможно было растолковать, что они лишили меня насущного хлеба. Люди они не злые; этого никак нельзя сказать; натощак матрос — добрый парень; но как хлебнет чересчур ромцу, так уж с ним не связывайся. Ром, мосье, ром всему причиной… Что прикажете делать. Чего доброго, пожалуй, и самого на смерть бы уходили; такой уж народ. Делать нечего, бросил там арфу, да и давай Бог ноги; теперь стану чем другим хлеб добывать. Признаться, мне и музыка, и Франция давно уж надоели. Я римлянин, сиятельный господин, я римлянин, — и с этими словами господин римлянин вытянулся во всю длину своего детски-малого роста, при котором щедрая природа одарила его целым лесом волос на голове и окладистой бородой. — Я римлянин, — продолжал он торжественно, — и меня невольно влечет на родные семь холмов. — И хорошо делаешь, что спешишь туда, — отвечал ему Брюмьер. — Ты, должно быть, очень нужен на семи холмах! Но чем ты занимался прежде и какому занятию обречешь теперь драгоценные дни свои? — Я там ничего не делал, — отвечал римлянин, — и как только сколочу копейку, чтобы хватило на целый год, опять целый год проживу без работы. — Так у тебя ничего про запас не осталось от твоей кочевой жизни? — Ничего. Мне даже нечем заплатить за проезд; но экипаж «Кастора» меня знает, и у меня не спросят денег до самой Чивита-Веккии. — Ну, а тогда?.. — Тогда Бог даст, — отвечал он с равнодушием философа. — Может быть, вы, сиятельные господа, не откажете мне в небольшом пособии? — Э, брат, да ты собираешь милостыню? — воскликнул Брюмьер. — Настоящий римлянин, и сомневаться нечего. На, вот тебе мое подаяние; ступай теперь к другим. — Торопиться нечего, время не ушло, — отвечал цыган, протягивая ко мне руку, между тем как другой прятал в карман полфранка, данные ему Брюмьером. — Неужели это римский тип? — спросил я моего товарища, когда арфист отошел от нас. — Это тип-выродок. А все же и выродок этот прекрасен, вам не кажется? Мне вовсе этого не казалось. Огромная борода увеличивала объем головы, и так слишком большой для такого малого и тщедушного тела; нос арлекина, длинный разрез глаз, окаймленных сверху густыми нависшими бровями, широкий, глупый рот, который с каждым движением комически подергивает подбородок, — все это казалось мне карикатурой на древнюю медаль. Приятель Брюмьер, кажется, привык к этому безобразию, и я заметил, что фигуры, смешные для меня, имели прелесть в его глазах, лишь бы в них проявлялась, как он выражается, порода. Мы, однако же, сошлись с ним в мнениях относительно красоты одной из пассажирок. Это какая-то таинственная особа; она, кажется, свела с ума моего приятеля. Ему вообразилось, что это греческая принцесса. Сначала мы сочли ее за щеголеватую горничную знатной барыни, потому что она приходила к завтраку за кушаньем и унесла несколько блюд с собой; но после она, сидя на палубе, отдавала по-итальянски приказания другой женщине, по-видимому, настоящей горничной. Потом к ней подошла пожилая женщина, вероятно, та самая, что была больна, тетка или мать, и они разговаривали по-английски так бойко, как будто век свой на другом языке не говорили. Брюмьер все утверждает, что очаровавшая его женщина — гречанка. В самом деле, у нее совершенно восточный тип: ресницы неслыханно длинны и тонки; продолговатые, с кротким взором глаза вовсе не похожи своей формой на глаза наших красавиц; лоб высокий, но не широкий; талия удивительная по своему изяществу и грации. Мне никогда не случалось видеть такой совершенной красавицы. Я продолжаю письмо мое после двухчасовой остановки. Брюмьер — престранное создание. Он в самом деле влюблен, и то, что я рассказывал вам о нем в шутку, выходит совсем не шутка. Он разговаривал со своей принцессой, как он продолжает называть ее, и утверждает, что она прероманическая, престранная и превосхитительная особа. Она пришла на палубу одна и снисходительно слушала рассказы моего приятеля о звездах (которых, между нами будь сказано, тогда вовсе не было видно), о фосфорическом сиянии волн, которое, в самом деле, в эту минуту великолепно, о диковинках старого Рима, который она знает лучше самого Брюмьера, а это, по словам его, тоже немалая диковинка, словом, она едет прямо в Рим и нигде не остановится на пути своем, вследствие чего мой вертопрах, предполагавший пробыть некоторое время в Генуе, уже не хочет нигде останавливаться. Только приятель мой дал волю своему любопытству и начал расспрашивать, как принцесса озябла и ушла к своей старой родственнице, или, почем знать, барыне, при которой она, быть может, служит компаньонкой или чтицей. Внезапно разбуженный энтузиазм молодого художника навел нас на разговор о любви; у него престранные теории. Я высказал некоторое сомнение насчет знатности его красавицы; он почти рассердился, уверяя, что он знает свет, а в особенности женщин, и что эта непременно принадлежит к высшей аристократии. — Положим, — отвечал я, — вам это лучше знать, чем мне; но если вы, чего нельзя ожидать, ошибаетесь, не все ли вам равно, бедна или богата, маркиза или мещанка ваша героиня? Ведь не в богатство ее и не в знатность влюблены вы, как я полагаю, а в нее самое. Живописец не интересуется рамкой при оценке картины. — Так, так, — отвечал он, — но если рамка хороша, она может придать цены картине. Конечно, можно любить женщину без достояния и без предков; это случалось со мною, случалось, вероятно, и с вами, да и с кем этого не случалось? Но если прекрасная, любезная, умная женщина, кроме этих достоинств, знатна и богата, она много выигрывает этим, потому что тогда она живет в своей настоящей среде, в атмосфере поэзии, созданной для красоты. — Это так, для глаз она много выиграет. Хорошо смотреть, как шитая золотом и перлами мантия Дездемоны стелется по шелковым коврам ее роскошных палат; прекрасна Клеопатра на пурпуровых подушках ее царской галеры; если бы мне удалось видеть это, я, может быть, целую жизнь не забыл бы такого зрелища; но чтобы пожелать быть мужем Дездемоны или любовником Клеопатры, не лишнее быть победоносным Отелло или великолепным Антонием, Будучи безвестным, не прославленным, не богатым, я держался бы в стороне от этих богинь, которым нужны герои, или от этих прелестниц, которым надобны миллионы. Пусть ваша героиня будет богиней или прелестницей, она все не по вас. Посмотрите на себя и загляните в ваши карманы, прежде чем лезть на пьедестал, на котором вы все же будете стоять ниже ее. — Эге, любезный, — возразил он, — вы вздумали играть с любовью. По-вашему, если сказать себе: ты не должен думать об этой женщине, так и дело с концом? Чего же бы лучше! Или вы совсем разочарованы, или еще не знаете, что такое безумная страсть, К тому же, — продолжал он — видя, что я не отвечаю, — разве знатность и богатство — препятствие? Верьте мне, ни разум, ни гордость, ни даже целомудрие женщины не могут успешно бороться с твердой волей мужчины. Положим, мы точно не красавцы, одеты по-дорожному, не слишком изящно, с пустыми карманами, с мещанскими именами и с артистической славой, нигде еще не гремевшей. Чтобы стать в уровень и любезничать с Клеопатрами и Дездемонами, нам, стало быть, по-вашему, нужны другое платье, другие средства обольщения, другая наружность, потому что вас поражает именно наше видимое неравенство. Но не слишком ли вы скромны, или не слишком ли горды, быть может? Я не так думаю; я смеюсь над всем этим. Я ценю себя никак не меньше того, чего стою, и если мне удастся понравиться какой-нибудь знатной красавице, богатой и умной, я буду убежден, что я достоин этой любви и что она не могла сделать лучшего выбора, потому что я, не имея ничего, умел овладеть той, у которой было все. Я часто об этом думал; мне уже не раз навертывались славные случаи, и вы увидите, что когда-нибудь я поймаю отличный. Это случается только с людьми, которые верят в звезду свою, и никогда не случится с человеком, который в себе сомневается! Мы простились после этого разговора. Завернувшись в свой потертый плащ, молодой маэстро прилег на скамью и заснул сном праведника, доверившись судьбе своей и счастливый; может быть, он и прав! Меня более всего поражает в этой самоуверенности, ничем не оправдываемой, что это, может быть, грубое, но всегда верное средство осуществить мечты свои. Но откуда берутся у этих людей их золотые грезы?
Глава IV
Пройдя Геную, 16 марта, 11 часов вечера.Я опять на пароходе, но сегодня я сходил на берег и прекрасно провел нынешний день. Я проснулся в шесть часов утра, после краткого отдыха; и то не знаю, как я сумел заснуть в эту ночь! Вы не можете вообразить, что за наслаждение для людей, непривычных к морю, видеть, слышать, чувствовать движение волн, даже в самую темную ночь. Я говорю «видеть», потому что ночью всплески волн светящейся узорчатой сетью окружают пароход. Право, не наглядишься на эти светлые, изменчивые арабески; никогда бы я не устал любоваться ими. Я продрог, засыпая, а проснулся совершенно согретый. Солнце уже взошло, жаркое солнце Италии. Я сперва приветствовал лучезарное светило, а потом уже смотревшую на меня с берега колоссальную статую. Вы знаете по гравюрам и по фотографическим снимкам восхитительную панораму, представляющуюся взорам при входе в генуэзскую гавань. Живописные сады палаццо Дориа тянутся вдоль берега; статуя, о которой я говорю вам и которая так давно стоит на холме, будто приветствует приходящие суда радушным: «Добро пожаловать». Итак, я избавлю вас от излишних описаний. С первого взгляда город кажется скорее странным, чем великолепным, но самая эта странность производит приятное впечатление; и если средние века не оставили здесь ничего величественного, то и ничего мрачного. Вы должны ждать здесь высадки, по крайней мере, два часа, и потом за удовольствие провести день в сардинских владениях вы дорого поплатитесь, под предлогом прописки паспорта; не говорю уже о потерянном времени в ожидании исполнения всех формальностей со стороны полиции и посольств. Наконец, я добрался до города и бросился отыскивать какой-нибудь ресторан, чтобы позавтракать. Товарищ мой, Брюмьер, не пожелал сойти на берег, потому что его греческая принцесса осталась на пароходе. Он остался хлопотать о счастии поговорить с предметом своей страсти, разведать о ней от слуг. К тому же он, не хуже нашего спутника-арфиста, презирает Геную, презирает все, кроме семи холмов вечного города. Я попал в кофейную под вывеской «Concordia». Увидев из окошка небольшой садик, я приказал приготовить мне мой кофе под тенью померанцевых деревьев, покрытых плодами, посреди множества цветов, которым лучи солнца придавали невыразимый блеск. Не завидуйте, впрочем, мне. Здешний климат, если не так суров, то, право, так же непостоянен, как и наш. Наши несносные весны последних лет отдались и здесь, и я слышу, как говорят мои соседи, что сегодня первый ясный день в этом году. Я благословил небо, допустившее меня видеть во всем блеске солнечного дня древнюю царицу Средиземного моря. Марсель перещеголяла Геную в торговле, в прогрессе и в образованности, но она по своему убранству и живописным особенностям похожа на прекрасную гражданку, тогда как Марсель не более как прелестная авантюристка. Первая из них благоразумна, убрана прилично и по моде, роскошно, опрятно, но убрана как и все; последняя принарядилась немного странно: рядом с изящным убором вы видите на ней Бог знает какие украшения, но она исполнена увлекательной грации, и ее странности очень милы. Общий вид Генуи неудовлетворителен, но зато некоторые подробности увлекательно прекрасны. Разрисованные дома отвратительны; к счастью, эта причуда выходит из обычая. Город, разбросанный по неровной поверхности, не имеет ни начала, ни конца, но красивые улицы действительно прекрасны. Здесь называют красивымиулицы, застроенные великолепными дворцами. По несчастью, эти улицы так тесны, что великолепные дворцы совершенно загромождены. Проходящие могут любоваться входами и нижним этажом этих зданий, но верх их и соразмерность частей невозможно хорошо видеть ни с одного места узкой улицы. Чтобы обозреть одно из этих зданий снаружи и внутри, надобно посвятить целый день. Разнообразие стиля удивляет, занимает и утомляет вас. Много мрамора, много фресок, много позолоты, и все это стоило много денег. Снаружи дворцы не велики и не величественны, но внутренние комнаты огромны, и невольно дивишься, как такие огромные залы находятся в таких небольших зданиях. Прекрасные городские сады и скверы обстроены некрасивыми домишками; церкви великолепны и наполнены драгоценными предметами; там крутая тропинка, окаймленная громадными, но уродливыми зданиями; мрачные и грязные проулки, из которых взор внезапно упирается в массу яркой зелени; спереди и сзади отвесные скалы; далее, видимая с высот синяя равнина моря, бесконечная цепь исполинских укреплений, сады на крышах, виллы, разбросанные на окрестных холмах; множество неуклюжих, выдавшихся из городской черты построек, которые издали ломают естественные очертания города; все это без связи, без соразмерности; это не город, а куча гнезд, свитых разными птицами из разных материалов, по своему выбору, где какой вздумалось. Если это Италия, но наверно не та, о которой мы грезим. Лучше всего не обращать на это внимания и покориться без борьбы влиянию окружающего нас беспорядка, который невольно кружит голову с первого взгляда. Пробегав два-три часа по улицам, то восхищаясь, то досадуя, я, наконец, вошел в один из дворцов. Друг мой, какие превосходные картины Ван-Дейка и Веронеза я там видел! Но как досадно смотреть на странную смесь изящества и безвкусия во внутренних украшениях этих палат! Рядом с превосходными произведениями образцовых художников — грубо намалеванные портреты; украшения новейших времен возле роскошного убранства и редкостей искусства, собранных предками нынешних владельцев. Что за нищенская мебель! Как странно видеть дешевый английский фаянс возле драгоценного китайского фарфора, и как удивлены наши французские бронзовые безделушки последних времен, попав в общество древних статуй и неоцененных картин! Кажется, что потомки знаменитых мореплавателей разлюбили всю эту роскошь пиратов; может быть, они утратили не только склонность к великолепию, но и любовь к изящному. Говорят, что во многих дворцах неверные слуги распродали много драгоценных картин и заменили их плохими копиями, а владельцы и не подозревают подлога. Чтобы высказать вам одним словом общее впечатление, произведенное на меня Генуей, я скажу вам, что здесь все или приятная неожиданность, или неожиданное разочарование. Впрочем, если бы я был в расположении работать, картинность места, быть может, удержала бы меня здесь; в этом грязном городе на каждом шагу открывается новая панорама; пришлось бы останавливаться перед каждым из этих проулков, которые ломаными линиями пробираются с одного плана на другой, ползут бесчисленными аркадами, соединяющими дома между собой и бросающими на эти ущелья жилых гор мягкие, прозрачные тени. О, если бы дело шло только о живописи, то для кропотливого артиста, в таком проулке, с его подвижной перспективой, достало бы предметов на целую жизнь. Но мне не это нужно: я должен идти вперед, я должен изучать и, наконец, жить, если будет возможно. Пока я пожирал Геную глазами, ногами и мыслью, господин Брюмьер преследовал свою богиню. Я расскажу вам его приключения, чтобы заставить вас позабыть безобразный эскиз, который я только что набросал вам. Возвратясь на пароход в восемь часов вечера, голодный и усталый, я нашел на палубе такое многочисленное великосветское общество, что можно было счесть себя в бальном зале. Дело в том, что число наших пассажиров значительно возросло. На пароход перебралось много англичан (без англичан нигде не обойдется на земном шаре), несколько французов и, наконец, дюжина туземцев, которые притащили с собой своих жен, чад, приятелей и знакомых; все эти случайные гости, приехавшие проститься со своими, расхаживали по палубе и болтали в ожидании поднятия якоря. Посреди этой сумятицы, говора и шума, усиливаемого музыкой кочующих певцов и гитаристов, окружающих пароход на маленьких лодках и протягивающих свои шапки к пассажирам, докучливо вымогая от них добровольные награды артистам, я имел случай снова заметить, что генуэзец не скрытен, болтлив, весельчак, радушен и охотник до сплетен. Эти качества отражались, по крайней мере, на всех физиономиях и слышались в голосе тех, кто говорил на местном простонародном наречии. Духовные особы показались мне людьми веселого нрава и шутливыми, вовсе не похожими на французских священников; видно, что они в большем контакте с местными жителями и принимают большее участие в их житейских заботах. Мне, однако же, сказывали, что общественное мнение здесь не очень к ним благоприятно. Наконец гудок парохода избавил нас от докучных посетителей, которые убрались в свои лодки, простившись со знакомыми пассажирами и напутствуя их сердечными желаниями. Когда на палубе стало просторнее, я отыскал своего приятеля Брюмьера; «Кастор» шел уже на всех парах. — Я преглупо провел нынешний день, — сказал он мне, — моя принцесса проспала все время в своей каюте, откуда только недавно появилась вся раздушенная и обворожительно причесанная. Я было подсел к ней, но почтенная тетушка, переставшая на беду страдать морской болезнью, изволила увести ее от меня! Посмотрите, вон они сидят да посмеиваются над нами! Я взглянул на тетку. Вчера она показалась мне старухой, но теперь, освободившись от своих чепцов и от безобразного зеленого зонтика, который путешествующие англичанки придевают к тульям своих шляпок, она представилась мне довольно благообразной, полной женщиной, не слишком пожилых лет. Принцесса действительно мастерски убрала свои темные волосы и позволила нам любоваться изящной прической, держа в руках свою соломенную шляпку с зелеными бархатными лентами. Мне казалось, что они не обращают на нас ни малейшего внимания. — По крайней мере, — сказал я Брюмьеру, — вы знаете теперь, кто эти дамы, вы имели время разведать это. — Тетка — англичанка чистой крови, — отвечал он. — Племянница ее, может, ей и не племянница. Вот все, что я знаю. Багаж свой запропастили они на самое дно трюма, а на ручных чемонданчиках вместо имен выставлены цифры. Слуга их ни слова не знает по-французски, я ничего не понимаю по-английски, и бедная итальянка, их горничная, лежит при смерти, как уверяет Бенвенуто. — Что это за Бенвенуто? — Да ваш же артист. Ему кличка Бенвенуто, этому бездельнику. Я думал, что он будет мне полезен. Он пронюхал мою сентиментальную прихоть и, предупреждая мои желания, сам принялся прислуживать моей страсти, с той неподражаемой угодливостью, с той проницательной догадливостью, которые характеризуют известную касту людей, очень пригодных в Италии вообще и на семи холмах в особенности; но мошенник пропил, кажется, мой задаток и, вероятно, храпит теперь за каким-нибудь тюком с поклажей. Словом, я ничего не знаю, кроме того, что они едут в Рим, и потому только я не унываю. Если бы это глупое море, теперь спокойное, как грязная лужа, вздумало хотя немного поразыграться, старуха убралась бы в свою койку… Но вы, кажется, меня не слушаете; кому же я имел честь все это рассказывать? — Человеку, который слушал вас одним ухом, а другим прислушивался к знакомому голосу… Скажу вам теперь, что дама, которая везет в Италию вашу принцессу, действительно ее тетка, миледи NN; я не знаю ее фамилии, но знаю, что при крещении ей дали имя Гэрриет; знаю также, что она вышла за младшего сына знатной фамилии и принесла в приданое восемьсот тысяч фунтов стерлингов дохода. Муж ее добрый малый и честный человек; он не всегда бывает в веселом расположении духа, но это делу не помеха. Ваша героиня точно знатного происхождения и, статься может, будет наследницей этого огромного богатства, потому что у милорда и миледи детей нет. — Задиг, — вскричал обрадованный Брюмьер, — скажите ради Бога, где вы проведали все это? — А вот и милорд, — продолжал я, указывая на лысого англичанина в клетчатых панталонах, который подошел к дамам и почтительно разговаривал со своей женой. — Что вы, это лакей! — Уверяю вас, что нет. Если он не хотел отвечать вам, так это потому, что вы не были ему представлены, и что он не хочет казаться в глазах миледи тем, что он есть, а именно человеком неспесивым и знающим французский язык, как мы с вами. — Но, любезный Задиг, объяснитесь, откуда вы все это знаете? Я не хотел открыть тайну моего всеведения, во-первых, чтобы позабавиться удивлением приятеля, а отчасти по чувству, может быть, даже излишней деликатности. Я узнал семейную тайну лорда NN, слушая сквозь перегородку таверны, с вниманием не совсем уместным, конфиденциальный разговор двух друзей, и не почитал себя вправе рассказывать этот разговор другим. Может быть, и вы, добрый друг мой, назовете меня Задигом, не понимая, как узнал я человека, которого не видел в лицо. Я отвечу вам, что, во-первых, голос, его произношение, тон, то унылый, то комический, которым он начинал свои фразы, глубоко залегли в моей акустической памяти. Если бы я хотел прослыть колдуном, я прибавил бы, что есть черты лица, выражения физиономии, даже осанки, которые до того приходятся под лад некоторым способам выражаться и некоторым особенностям характера и положения, что нельзя ошибиться. Но чтобы не отступать от истины, я должен признаться вам, что когда выходил из трактира на «Резерве», я встретил на крыльце лицом к лицу этих двух господ в ту самую минуту, как мальчик подавал им фонарь, чтобы закурить сигары. Один из них показался мне флотским офицером; другой был тот самый лысый барин, в клетчатых панталонах и в лакированном картузе на затылке, который подошел к миледи. Они недолго разговаривали, мне не были слышны их слова, но я уверен, что разговор их был следующего содержания: — Вы курили? — Уверяю вас, что нет. — А я уверяю вас, что да. И милорд отошел с покорностью, посвистал что-то, глядя на звезды, и пошел курить за трубой парохода. Он, может быть, и не вздумал бы взяться за сигару, да жена напомнила ему ощущение этого удовольствия. Наконец исполнилось и другое желание Брюмьера, восхищенного моими открытиями; ветер начал крепчать, на море поднялась волна. Леди Гэрриет сошла с палубы. Племянница кажется понадежнее; она осталась с горничной на скамейке. Брюмьер начал похаживать около них, а я ушел вниз. Я пишу к вам в общем зале, куда милорд NN только что пожаловал с прегадкой бурой собакой, которую, как я догадываюсь, он купил в Генуе, чтобы жена почаще прогоняла его от себя. Может быть, хоть это животное его полюбит. Но качка усиливается, и мне становится трудно писать. Ночь нехороша; под открытым небом свежо и неприятно; иду отдыхать от крутых улиц и несносной кирпичной мостовой великолепной Генуи.
Глава V
Суббота, 17-го марта. Все еще на пароходе «Кастор».Одиннадцать часов вечера; я опять принимаюсь за свой дневник. Брюмьер все еще влюблен, милорд все еще молчалив, Бенвенуто по-прежнему услужлив. Товарищ мой не захотел сойти на берег в Ливорно, куда мы заходили сегодня утром после довольно беспокойной ночи, несмотря на верную осадку и спокойный ход «Кастора». Сегодня погода парижская: сыро, пасмурно и вдобавок холодно. Где же ты, лазурное небо Италии? Я намерен еще раз побывать в этих городах, которые посещаю теперь проездом. Трудно противиться искушению сойти на берег, когда пароход останавливается в гаванях и стоит, окруженный лесом мачт вовсе неказистых судов, в спертой атмосфере. Я лучше согласен платить приездную пошлину всем местным полициям, чтобы как-нибудь поразнообразить свой скучный день. Это вводит меня в расходы не по карману бедняка живописца, но я уже освобожден от стеснительной клятвы, и пусть не прогневается аббат Вальрег, а я намерен жить, не скучая от жизни. Я не успел ступить на мостовую Ливорно, как двадцать «веттурино» окружили меня, предлагая свезти меня в Пизу. По железной дороге я проехал бы это небольшое расстояние в несколько минут, но поезд отошел, когда я приехал. Я уже решался заплатить тройную цену, которую запросили с меня эти грабители, как Бенвенуто явился предо мною добрым гением, сторговался, вскочил на козлы и, непрошеный, вступил в должность моего чичероне. Как удалось ему выбраться с парохода? Как отделался от убыточных формальностей высадки, которым я вынужден был подчиниться? Бог его знает. У цыган есть свое Провидение. Мы ехали мимо обширных равнин наносной почвы, с которых море недавно отступило. Во время Адриана Пиза стояла у самого устья Арно; теперь город отстоит от устья реки на три лье. На окраинах этих наносов растут кое-где тощие оливковые деревья и болотный кустарник; над покрытыми водой полями носятся стаи морских рыболовов. Далее от моря обработанные поля, разбитые с однообразной правильностью на участки и селения, не имеющие никакой своей характерной физиономии. Зато Пиза имеет разительную. Все в ней торжественно, пусто, широко, открыто, обнажено, холодно, печально, но в общем довольно красиво. Позавтракав наскоро, я побежал осматривать памятники. Греко-арабская базилика и ее уединенная крестильница, наклоненная башня, Кампо-Санто, все это на обширной площади представляет величественное зрелище. Я не скажу вам, в подражание печатным путеводителям, что вот это прекрасно, а то имеет недостатки и не согласуется с понятиями об изящном и с правилами искусства. И образцовые произведения не чужды недостатков, а эти здания, построенные и украшенные в разные эпохи, поневоле должны отражать и прогресс, и упадок искусства. Воля и могущество каждой эпохи выразились в этих памятниках; вот почему вид их внушает уважение и возбуждает интерес. Эти громадные сооружения, поглотившие много труда, богатства и умственных способностей нескольких поколений, стоят будто надгробные памятники над могилами идей, украшенные трофеями, выражающими идеалы своего времени. Наклоненная башня — прекрасный памятник, и замечательна уже сама собою, не только благодаря случаю, который свел ее в разряд любопытных диковинок. Галилей изучал на ней условия тяготения тел. Не стану описывать врата Гиберти: вы сами хорошо знаете их. Мы работаем не хуже тогдашних художников, но мы искусно подражаем и ничего не создаем. Честь и слава старинным мастерам! Признаюсь, впрочем, что фрески Орканьи мне не очень понравились; это странная греза, и я должен был перебрать в памяти все выше приведенные мной размышления, чтобы смотреть на этот бред кисти без отвращения. Прочие фрески Кампо-Санто менее отзываются варварством, но плохо сохранены, несколько раз обновлены и многие совсем изменены. Только глазами веры можно отыскать в них следы кисти Джотто. Некоторые фрески (может быть, его) скомпонованы мило, наивно, но все не стоят исступленного восхищения, которым угрожал мне Брюмьер. Однако, этот Кампо-Санто остается в душе и тогда, когда вы уйдете оттуда. Трудно сказать, почему память уносит с собой картины этого здания, разрушенного или недостроенного, покрытого тесом. Рамка красивой колоннады на лугу — еще не Бог знает какое чудо; есть колоннады лучше этой, в Испании и в некоторых монастырях других земель, которые мне случилось видеть в рисунках. Коллекция антиков, хранящихся в монастыре, не более как сбор очень поврежденных экземпляров; этот музей, как сказывают, уступит пальму первенства каждой из римских галерей. Изящных фрагментов здесь мало, зато есть всего понемногу, и надобно сознаться, что этот обширный монастырь, которого готические контуры, освещенные бледным лучом солнца, на несколько минут обрисовались передо мною, теневыми очерками набегали, эти мрачные дали, где таинственно покоятся римские гробницы, греческие надгробные полустолбы, этрусские вазы, барельефы эпохи Возрождения, тяжелые торсы времен язычества, тощие мадонны византийской работы, медальоны, саркофаги, трофеи и пресловутые цепи блаженной памяти Пизанской гавани, отбитые и возвращенные генуэзцами; мелкая и бледная мурава луга, усеянная вялыми фиалками; словом, все, не исключая и деревянных поделок, которые ничего не достроили, но ничего и не испортили, — все в сложности составляет величественный памятник, возбуждающий думы и производящий глубокое впечатление. Итак, верьте прекрасным фотографиям, глядя на которые, мы, бывало, говорили: «Эффект все украшает». Нет, Кампо-Санто чарует не одними магическими эффектами солнца, на этот памятник можно смотреть без восхищения, но образ надолго остается в душе. Соборный храм — другой музей религиозного и мирского искусства. Византийские мозаики сводов поразительно прекрасны; но мраморная мозаика центрального помоста бросила меня в дрожь благоговейного почтения. Это та же самая мозаика, что и в храме Адриана. На ней отправлялось служение богам древности, прежде чем стены языческого храма превратились в дом Божий; ее попирали жрецы Марса, изваяние которого и теперь еще сохранилось в церкви, окрещенное именем св. Эфеса. Если б этот вековой помост мог говорить, сколько пересказал бы он нам событий, которых мы напрасно доискиваемся воображением! Вы скажете мне, быть может, что воды реки Арно или хребты Пизанских гор видели еще более. Я отвечу вам, что в нас никогда не рождается желание вопрошать безответную природу о судьбах человечества; Мы знаем, как верно хранит она заветные тайны. Но как только рука человека добыла из недр ее камень и изменила его первобытные формы, этот камень становится памятником, существом одушевленным, свидетелем событий, и мы жадно ищем на нем надписи, борозды резца, какого-нибудь следа руки человеческой, который стал бы для нас живым голосом, внятным преданием. В этом, я полагаю, кроме живописного эффекта форм, заключается интерес развалин: с ними беседует наше любопытство. Признаюсь, я утомлен печатными рассуждениями о судьбах народов и о падении государств. Лет за сорок тому, в период нашей империи, было в моде оплакивать превратность великих эпох и великих обществ. А между тем, мы и сами были тогда великим обществом, жили тоже в великую эпоху и претерпевали бедствия, превращения. Мне кажется, что жалеть о том, чего уже нет, тогда, когда нужнее сознание, что надобно быть чем-нибудь, — пустая поэтическая мечтательность. Прошедшее, каково бы оно ни было, имело право на свое существование и оставило нам эти свидетельства, эти обломки своей жизни, не для того, чтобы отбить у нас охоту жить. Оно должно было бы сказать нам таинственными письменами развалин: «Действуй и начинай снова», вместо этого вечного: «Смотри и ужасайся», фразы, которую литературная мода навязывала романтическим путешественникам в начале нашего столетия. Знаменитый Шатобриан был одним из ревностнейших распространителей этой моды; но он сам был развалина великая, благородная развалина идей, отживших свой век. У него бывали минуты великодушных порывов, как бывают у всякой прекрасной натуры, как трава пробивается в расселинах старых сводов; но эта трава увядала против его воли, и мысль его, как опустевший храм, разрушилась в сомнении и безнадежности. Но я удалился от Пизы. Нет, я не так далеко отошел от нее: я думал все это, проходя по широким улицам, поросшим травой, и глядя на великолепные дворцы, которые величаво и уныло смотрятся в зеркало реки. Целая Пиза то же Кампо-Санто: кладбище, на котором опустевшие дома стоят, как надгробные памятники. Без помощи англичан и больных из всех северных стран, что съезжаются туда в известную пору года, я думаю, Пиза окончила бы свое существование, как маленькие республики аристократов: она умерла бы da se. Нечего сокрушаться ее судьбами: в ее жизни были завидные дни, когда ее конституция была, для того времени, великим прогрессом. Пиза была царицей Корсики и Сардинии, царицей Карфагена — другой развалины, участь которой ожидала и ее впоследствии. Пиза имела сто пятьдесят тысяч жителей, великих художников, флот, знаменитых полководцев, колонии, завоеванные области, несчетные богатства и все упоение славы. Она построила памятники, которые и теперь существуют, которым и теперь удивляются иностранцы. Но настали времена, когда эти маленькие общества, полные жизни и огня, становятся уже не центром распространяющегося влияния, не источником благоденствия для других, а средоточием поглощающей силы, безднами, привлекающими жизненные соки других наций, не возвращая их, как не возвращают своей добычи коршун и пираты. С этой поры их упадок и опустение предрекаются приговорами неба. Юпитер теперь уже не громовержец; но Провидение поселило в сердцах обществ ненасытного червя эгоизма, чтобы он пожирал их, если люди станут через меру удовлетворять его голод. Завистливые или раздражительные соседи затеяли упорную борьбу; отступившее море приютило новых пришельцев на берегах своих. Город Ливорно возник с идеями положительными и, не гоняясь за искусствами и роскошью, утвердил свое господство торговлей. Оскорбления, неизбежные спутники несчастья, наносили удар за ударом гордости высокомерных пизанцев. Благородная республика была продана; чужеземцы вторглись в ее пределы, ограбили ее, оспаривали ее друг у друга, как добычу; голод, чума и недостаток опустошали ее. Ее уже нет. Прекрасная Италия прошлых времен продалась и так же погибла, как она, за то, что слишком питала в недрах своих интересы соперничества, за то, что источником ее славы были своекорыстные страсти, а не великодушные движения души. Requiescat in расе! Я слишком долго водил вас за собой в этом убежище мира и тишины. Пойдемте теперь к пароходу через поля и луга, озарившиеся, наконец, лучами солнца. Я окинул приветным взором окрестные горы monti Pisani, которые густой туман скрывал от меня сегодня утром; они служат прекрасной рамой для величественных памятников города. Не знаю, видны ли отсюда в ясную погоду хребты Апеннин; Пизанские горы — их отроги, отрывочное продолжение той же системы. Бенвенуто был мне очень полезен. Он учен по-своему и болтун не бессмысленный. G его помощью я учусь итальянскому; я и прежде знал немного этот язык, но его музыка была сначала слишком нова для моего слуха и я не мог еще сразу понимать речь; я надеюсь скоро к ней привыкнуть. Вот я и опять на море. Передо мной, как светлые грезы, проходят чередой: Корсика, остров Эльба, скала Монте-Кристо, которой пламенный роман придал известность и которую какой-то англичанин купил с тем, чтобы поселиться на ней. Говорят, что англичане страстно любят утесистые острова Франции и Италии. Гений этих островитян вечно грезит, где бы создать новый мир, как бы установить разумное или фантастическое господство. Впрочем, и я понимаю прелесть этих уединенных приютов, омываемых волнами моря. На некоторых из этих утесов лежит довольно плодородной земли, чтобы питать корни нескольких сосен. Если в этих скалах есть углубления, в виде амфитеатров, обращенные к благоприятной стороне, на них могут гнездиться виллы с цветущими садами, защищенные от волн и ветров, бушующих вокруг внешних сторон скалы. Лето на этих островах должно быть не знойное, а твердая земля довольно близко, и общественные сношения могут не прерываться. Я думаю, однако, что эти приюты опасны для разума. Окружающее море слишком охраняет здесь от всякой неожиданности, слишком приучает к независимости, которая ни к чему в уединении. Брюмьер зашел ко мне вечером. Мисс Медора, точно, гречанка по происхождению, он в этом не ошибся. Отец ее, муж сестры леди Гэрриет, был афинянин чистой крови. Она влюблена в Рафаэля и в Джулио-Романо. С благоговейным нетерпением жаждет она благословения папы, хотя она и не очень набожна. Горничную ее зовут Даниеллой. Вот что рассказал мне сегодня Брюмьер.
Глава VI
Рим, 18-го марта.Наконец, друг мой, я здесь! Но я добрался сюда не без труда и не без приключений, как вы сейчас увидите. Я никак не ожидал видеть Италию в полном блеске всей ее жизни. Мне говорили, что, со времени расположения здесь наших войск, о разбойниках нет здесь и помина, и действительно, как уверяют, благодаря нам, порядок совершенно восстановлен в этой стране, где разбой — грустная необходимость. Это было доказано мне довольно убедительно, и я докажу вам это после. Вы нетерпеливо ожидаете рассказа о моем приключении, но я с умыслом заставляю вас ожидать, чтобы придать более эффекта моему случаю. Не каждый день бывают такие встречи, не часто приходится о них рассказывать. Мы сошли на берег в Чивита-Веккии, простившись с «Кастором» и с его добрым капитаном Бозио. Мы завтракали в трактире, любуясь из окон, обращенных к городскому валу, как французские солдаты обучались с отличающей их ловкостью в приемах. Нас снова посетила полиция на пароходе, снова докучали нам таможенные заставы на берегу, снова помечали паспорта, брали пошлину, заставляли дожидаться по целым часам. Путешественник, сходя на берег, бывает, так сказать, отторгнут от своих первых впечатлений, от своей первой прихоти: бежать, куда глаза глядят, в стране, для него совершенно новой. Каждый путешественник везде возбуждает подозрение; везде он может быть разбойником, что, однако же, никак не препятствует настоящим бандитам приставать к любому берегу и настоящим путешественникам встречать на берегу туземных бандитов, если они в той стране водятся. Но, уверяю вас, что бандиты менее несносны в путешествиях, чем предосторожности местных властей против честных людей. Таможни — истинно варварское изобретение. Здесь можно откупиться от них деньгами; но не оскорбительно ли для путешественника, что он не может отделаться от них честным словом? Моря и горы не преграда для человека; но он сам так распорядился, чтобы в себе самом найти для себя и бич, и помеху на этой земле, которую Господь даровал ему. Дилижанс дожидался исполнения всех установленных формальностей, чтобы свезти нас в Рим. Этот переезд продолжается восемь часов, хотя до Рима всего четырнадцать лье, четыре перепряжки и везде добрые лошади. Не ужасно ли это? Дело в том, что на каждой станции приходится стоять по целому часу; почтальоны не везут, не собрав подати с бедных пассажиров. При дилижансе, правда, есть кондуктор; он как будто торопит ямщиков и, кажется, хлопочет о том, чтобы не было задержки, но все это комедия и, вероятно, этот господин честно делится с грабителями. Он уверяет вас, что вы не обязаны ничего давать почтальонам, но что он не может их принудить к послушанию. Итак, бедные пассажиры в полной зависимости у этих негодяев, которые говорят вам грубости, если вы не уступите их дерзким требованиям, и горе вам, если у вас не окажется мелких денег на расчеты с ними, и именно таких денег, какие им по нраву. Если вы едете из Ливорно и не запаслись римскими «паоли», вы непременно подвергнетесь задержкам. Почтальоны сядут на лошадей, но не тронутся с места, пока вы не заплатите им их контрибуцию римской мелочью или, по крайней мере, не обещаете им принять меры на следующей станции к их удовлетворению. Им и дела нет, что все прочие пассажиры внесли свою долю; один недоимщик может задержать отправление. Шайка зевак, помогавших запрягать, также толпится около экипажа, также требует дани, сопровождая свои домогательства гримасами, показывая вам язык и величая обезьяной и свиньей, если в вашем подаянии окажется иноземная монета, хотя бы она и ходила в двух лье от этой станции. Я уже не говорю вам о нищих по ремеслу, то есть об остальном населении, шатающемся по большим дорогам или бедствующем по деревушкам. Нищета их до того ужасна, до того очевидна, что рад им отдать, что можешь, но число их растет поминутно, и, чтобы никого не обделить и не оставить недовольных, нужно было бы в три тысячи раз быть богаче меня. К тому же, достаточно взглянуть на них, чтобы видеть, что эта оборванная стая наделена всеми пороками, всеми низкими, презренными недугами нищеты: ленью, плутовством, неряшеством, неопрятностью, циничной терпимостью безобразной наготы, ненавистью без сознания собственного достоинства, суеверием без веры, самым низким лицемерием. Эти нищие бьют или обкрадывают друг друга той же самой рукой, которая перебирает зерна освященных четок. Прося подаяния, они не забудут ни одного святого в календаре, но в свою жалостную молитву примешивают бранные слова, если полагают, что их не поймут. Вот какой прием, вот какое зрелище ожидает чужеземца на первом его шагу в Церковной области. Я слыхал уже об этом, но мне казались эти рассказы преувеличенными, гневным выражением личного нерасположения к стране. Я не мог себе вообразить целое население без всякого достояния, ничем не занятое и существующее одной милостыней проезжающих. Мы ехали несколько времени берегом моря довольно быстро, по извилистой дороге между холмами, не осененными ни одним деревом, но поросшими роскошными дикими растениями. В первый раз увидал я розовые анемоны, пробивающиеся сквозь ветви приземистого кустарника. Множество разнообразных полевых растений свидетельствуют о плодородии этой невозделанной почвы. Немного далее появились редкие попытки земледелия. За последней станцией, когда мы находились в самой средине римской Кампаньи, почтальон вдруг остановился; он забыл на станции свой плащ. Пассажиры требовали, чтобы он ехал далее, настаивали, чтобы кондуктор понудил его. «Невозможно, — отвечал он. — Человек, который вздумал бы без плаща возвращаться ночью через равнину римской Кампаньи, не жилец на свете». Казалось бы, что это справедливо, но правда и то, что, отправляя мальчишку за своим плащом, мошенник шептал ему что-то на ухо с многозначительной улыбкой. Это означало: не торопись, потому что мальчик шел будто нехотя, оглядывался и, по условному знаку, еще убавил шагу. Что понуждало этого человека так поступать, Бог его знает; никто из нас не мог бы решить, имел ли он какой скрытый замысел или хотел только досадить Брюмьеру, который угрожал вылезть из дилижанса и проучить его за сказанную им грубость. Погода была прекрасная. Эта новая история с плащом, судя по предшествовавшим, не должна была скоро окончиться. Надеясь прийти в Рим пешком в одно время с дилижансом, я вылез и пошел вперед вдоль по Via Aurelia. Брюмьер уговаривал меня: «Что тебе вздумалось, — говорил он. — Положим, что, по рассказам, давно уже никого не обирали, но все не безопасно путешествовать одному, и еще пешком, по этим благословенным странам. Не теряй, по крайней мере, из виду дилижанса. Я обещал ему это, но скоро забыл свое обещание. Мне и в голову не приходило, чтобы под самыми стенами столицы, среди белого дня и на совершенно открытом месте можно было попасть на неприятную встречу. Я шел уже с полчаса один-одинехонек среди этой широкой пустыни, простирающейся до самого города. Грустная картина, лишенная всякого величия для пешехода, теряющегося на каждом шагу в частых углублениях почвы; он видит только рассеянные по долине ряды зеленеющих холмов с блуждающими на них там и сям стадами, покинутыми целый день на собственный произвол, на земле, также покинутой человеком. Самый страстный пейзажист пройдет здесь со стесненным сердцем, видя, что и сама природа стала здесь немой, опустевшей развалиной. Солнце быстро клонилось к западу; по временам мне виднелся сквозь дымку сумерек огромный купол Св. Петра, не столь величественный, как я воображал его, но тусклый, мрачный, подобный печальному мавзолею на обширном кладбище. На одной из возвышенностей я вспомнил предостережение Брюмьера, но тщетно искал взором дилижанса; воздух начинал свежеть, и я пошел вперед. Немного далее несколько камней, выдавшихся из земли, привлекли мое внимание. Это был след древних сооружений, которыми изобилует Кампанья. Но так как я в первый раз увидел эти остатки древнего мира у самой дороги, я машинально остановился, чтобы посмотреть на них. Я стоял тогда возле небольшого пригорка, и случайно был заслонен от четырех бродяг подозрительной наружности, припавших к противоположной покатости пригорка. Я не видал их, подходя к холму, и они меня не приметили; мягкая мурава заглушила шелест моих шагов; но когда я поворачивал к дороге, чтобы продолжать путь свой, я увидел их, залегших в кустарнике, как заяц на логовище. В их положении и в их молчании выражалась какая-то таинственность, и я счел не лишним быть осторожнее. Я отошел от пригорка так, чтобы поставить эту неровность земной поверхности между мною и ими. В это время я услышал стук колес; полагая, что это дилижанс, я хотел уже бросить надоевшие мне предосторожности, как увидел, что четыре негодяя привстали на колени, и ползком перебрались в расселину холма, которая примыкала к дороге, и таким образом очутились в двух шагах от проезжавшего экипажа. Это был не наш дилижанс, а наемная повозка, запряженная добрыми почтовыми лошадьми. Я узнал этот экипаж, я видел, как в него укладывали в Чивита-Веккии багаж леди Гэрриет и ее семейства. Это была большая открытая коляска. Слуга, отправленный за несколько дней в Рим, чтобы выслать оттуда этот экипаж навстречу высокородным путешественникам, как я узнал после, остался в городе, чтобы устроить приготовленное для них помещение. В коляске сидели лорд В… (я знаю теперь его имя), его жена и его племянница. Итальянка горничная сидела на козлах. Я легко понял намерение бандитов, и начал придумывать, как бы помешать исполнению. Истомленные нищетой и местной лихорадкой, они показались мне не очень сильными, кроме одного молодца, который, по наружности и одежде, казалось, был не туземец; этот был с виду сильного сложения. Все мое вооружение состояло в трости со свинцовой головкой вместо набалдашника, и я внимательно рассматривал, что именно волокли они по траве за собой с большой осторожностью. Когда они привстали в расселине холма, я увидел, что у них не было ничего, кроме дубинок; это обстоятельство утвердило мою надежду на успех. У них, вероятно, были и ножи за поясом, но нельзя было ожидать, чтобы эти люди завели себе пару пистолетов: это была бы роскошь не по их карману. Надо только не дать им времени пустить в дело ножи. На моей стороне была уже та выгода, что я незаметно зашел сзади. Между тем как я обдумывал план моих действий и снимал верхнее платье, коляска подъезжала к роковому месту. Почтальон, по первому требованию, остановил лошадей и бросился на колени, припадая лицом к земле и прося пощады с удивительным смирением. Нас осталось только двое на четверых, и я счел нужным действовать с большой осторожностью, и когда лорд Б…, хладнокровно отворяя дверцы коляски, подсчитывал силы неприятеля, я подал ему знак, чтобы он не сопротивлялся; он очень хорошо меня понял и, выйдя из коляски, сказал им со спокойной улыбкой: — Не мешкайте, друзья мои, дилижанс едет вслед за нами. Эта угроза, казалось, не очень их встревожила; видя, что путешественники и не думали защищаться, что дамы не кричали и добровольно вышли из коляски, оставляя в их распоряжении свою поклажу, бандиты предложили дружелюбную сделку и сделали это предложение в выражениях самой комической вежливости, изъявляя признательность за gentilezza del cavaliere и сказав милое приветствие дамам. Я шел за ними по пятам и, приближаясь к высокому парню, который стоял молча с поднятой дубинкой над головой лорда Б… в виде предупредительного намека, изо всех сил ударил его своей палкой по затылку, так что он упал замертво. Лорд Б… в одно мгновение подхватил дубинку, выпавшую из рук упавшего разбойника, и тотчас сбил с ног оторопевшего бандита, который вступил было с ним в переговоры; третий мошенник, державший лошадей, не дожидался нападения и пустился бежать; четвертый схватился было за нож, но, видя участь товарищей, тоже побежал. Таким образом, на месте битвы остались мы с лордом, разбойник, просящий пощады, другой, не подающий и признака, жизни, почтальон, лежащий лицом к земле, не решающийся взглянуть, что около него происходило, и испуганные женщины. Когда мошенник, сбитый с ног, увидал, что ему не увернуться от нас, он очень замысловато придумал тоже упасть в обморок, вероятно, чтобы затруднить нас на случай нашего намерения взять его пленником. — Я знаю эти проделки, — сказал мне лорд Б…, который, казалось, вовсе не был взволнован происшествием. — Если мы будем здесь ожидать дилижанса, который Бог весть когда к нам подъедет, эти господа могут к нам снова пожаловать с подкреплением; мщение замешается в дело, и тогда нам несдобровать. Если мы поедем далее, мы упустим этих мерзавцев, которые, кажется, с умыслом присмирели и вовсе не так безжизненны, как прикидываются. Лучше всего возвратиться к дилижансу и поторопить его приехать сюда; тогда мы составим акт, удостоверяющий о происшествии и захватим двух раненых, прежде чем они очнутся. Лучше ничего нельзя было придумать. Почтальона пришлось приводить в себя пинками. Лорд Б… не отказался бы, кажется, употребить это успешное средство и со своей супругой, которая была так взволнована, что никак не могла попасть ногой на подножку экипажа. Племянница сохранила геройское спокойствие. Лорд Б… предложил мне разместиться вместе с ними, но я отказался. Усадив на лошадь почтальона и заставив его повернуть лошадей, я вскочил на козлы и уселся возле горничной, испуг которой выражался потоками слез. Мне некогда было унимать ее нервный припадок. Через четверть часа мы отыскали дилижанс, рассказали о происшествии и поехали вперед, чтобы указать место нападения и представить кондуктору видимые доказательства наших показаний. Но каково же было наше удивление, когда мы прибыли на место! Ни убитых, ни раненых, ни малейшего следа события, ни капли крови, которая струей лилась из проломленного мною черепа, ни следов колес или лошадиных подков на песке. Будто ветром смело все эти признаки, хотя в воздухе незаметно было ни малейшего волнения. Лорд Б… был скорее оскорблен, чем удивлен этим случаем. Ему в особенности казалось обидным сомнение, с которым почтальон дилижанса слушал наши рассказы. Почтальон коляски хранил молчание, весь дрожал, был бледен и, может быть, обманут в надеждах. Брюмьер и несколько пассажиров верили словам моим; другие говорили шепотом друг другу, что нам приснилась вся эта битва и что мы рехнулись со страха. Несколько пастухов, пришедших загонять стада, тоже смеялись и божились, что ничего не видали и не слыхали. Лорда Б… разбирала охота сердиться и приступить к подробному исследованию, но наступила ночь, и пассажиры дилижанса торопились в город, а леди Гэрриет, больная и нервная, бранила своего мужа за его упрямство. Брюмьер, восхищенный неожиданной встречей со своей принцессой и завидуя моей роли счастливого избавителя, воспользовался случаем и осыпал ее нежными угождениями. Когда мы отправились в путь, не знаю, как это случилось, но я очутился в дилижансе, Брюмьер с дамами в коляске, а милорд на козлах, с горничной. Эта камерфрау, сказать к слову, очень недурна собой; по нескольким словам, которыми мы обменялись, когда я сидел с ней на козлах, я заметил, что у нее нежный голос и приятный выговор. Я оставил ей мою накидку; она была слишком легко одета, чтобы выдержать инфлюэнцу, то есть атмосферу смертной лихорадки, которая господствует здесь от зари до зари и которая, как и степь и грабеж, царствует на всем пространстве Кампаньи до самого Рима. Я и забыл об этой накидке и вспомнил о ней только у заставы Кавалледжиери, где мы остановились, чтобы еще раз предъявить свои паспорта, и где милая камерина принесла мне ее. Когда я протянул руку, чтобы принять от девушки мою одежду, я почувствовал на руке теплое прикосновение ее свеженьких губок, и, прежде чем я мог дать себе отчет в причине такой странности, она уже исчезла. Подошедший ко мне Брюмьер от души смеялся моему изумлению. «Тут нет ничего странного, — уверял он, — это обычай: так благодарят здешние за оказанную услугу, и это не дает вам права ожидать чего-нибудь более». Но и это было больше всего, что я решился бы требовать от хорошенькой женщины. Целый час осматривали наши чемоданы; кондуктор сказал нам, что это еще ничего не значит и что мы должны будем выдержать еще более тщательный и более продолжительный обыск в таможне, но что он может избавить нас от него, если мы дадим ему каждый по два паоло. Мы умирали с: голода и охотно исполнили его требование; но, когда мы приехали в таможню, наша складчина ни к чему не привела, почтенный кондуктор не мог сойтись с приставами. Преинтересный разговор завязался между ними. Таможенные требовали по полтора паоло с души; кондуктор хотел поделиться пополам и предлагал по одному паоло. Пристава не соглашались, кондуктор рассердился и оставил все деньги у себя, а нас осмотрели. Когда мы выбирались из этого чистилища, смеясь с досады над всем этим шутовством, и собирались каждый искать себе ночлег, лорд Б…, у которого было особое разрешение на пропуск и который давно уже нас оставил, дружески ударил меня по плечу и сказал мне: — Я сейчас сделал заявление о нападении на нас разбойников и потом отвез жену и племянницу на приготовленную для них квартиру. Теперь, по их приказанию, я приехал за вами. Есть у вас здесь родня или друзья, у которых вы намерены поселиться? Я не хотел лгать, но отложил бы мое посещение этим дамам до другого дня, извиняясь тем, что я голоден и устал. — Если вам хочется есть и отдохнуть, я не допущу, чтобы вы остановились в гостинице, где вы не найдете ни хорошего ночлега, ни порядочного стола. У нас готова для вас удобная комната, и мы ожидаем вас к ужину. Все мои отговорки ни к чему не привели. — Я не возвращусь без вас домой, — сказал мне лорд, — а дамы до вашего возвращения не сядут ужинать. Я отказывался под предлогом, что не хочу покинуть моего приятеля Брюмьера. — Это не помешает, — возразил лорд Б…, — приятель ваш также может с нами отправиться. Брюмьер не дожидался, чтобы лорд повторил приглашение. И вот мы в дороге, идем пешком по улицам Рима, в сопровождении носильщиков, которые несли наши вещи, и Бенвенуто, считавшего себя в числе приглашенных. Лорд жил очень далеко от таможни и, признаюсь, я предпочел бы самую скромную гостиницу роскошному дворцу господина британского креза, лишь бы не тащиться такую даль. Дворец этот, когда-то огромный, великолепный дом, показался мне совершенно запущенным. Мне некогда было рассматривать его архитектуру. Мажордом лорда хвалился, что устроил все с возможным здесь комфортом, но если он не хвастун, то надобно сознаться, чтов Риме немного комфорта. Мебель новейших фасонов не идет к огромным комнатам этих палат, и везде очень холодно, несмотря на то, что уже три дня сряду пылает в комнатах неугасимый огонь. Лорд Б… провел нас прямо в назначенную для меня комнату, где мы оставили наши вещи, а потом к леди Гэрриет и мисс Медоре в гостиную, величиною с порядочную церковь, плафон которой, покрытый густой позолотой и живописью, во многих местах растрескался. Дамы однако же искренно удивляются величию этих зал и стараются, кажется, омолодить это дряхлое великолепие. Множество свечей в канделябрах величественного стиля едва освещали огромный стол, в изобилии уставленный кушаньями. Это последнее обстоятельство было мне очень приятно; я страшно был голоден. Вы знаете мою умеренность в пище, но на этот раз или вследствие волнения от битвы на Via Aurelia, или, быть может, наглотавшись в течение трех дней соленого морского воздуха, я был очень голоден и потому почти глух и очень молчалив. Мы сели за стол. Удовлетворив первую жизненную потребность — мой голод, я начал за третьим блюдом знакомиться с моими хозяйками и удивляться их дружескому вниманию ко мне. Милые дамы, вероятно, под влиянием мифологических фресок, непременно хотели сделать меня Юпитером-избавителем, Аполлоном, победителем чудовищ. В миледи Гэрриет это был энтузиазм возбужденных нервов; она, бедная, так перепугалась. Признательность мисс Медоры отзывалась насмешкой, походила на лукавое сознание оказанной услуги. Быть может, это обремененный желудок после столь сытного обеда путал мои мысли, но я ничего не понял из ее взоров, из ее улыбки, из ее преувеличенных похвал. Когда она заметила, что я более смущен, чем доволен ее словами, она оставила меня в покое и заговорила о живописи с Брюмьером. Чуть ли она не малюет голубые и розовые развалины акварелью. Благодарность лорда Б… была для меня приятнее; она казалась мне искренней. Когда я заметил ему, что с его ловкостью действовать палкой он, вероятно, и без меня умел бы разделаться с мошенниками, лорд отвечал мне: — Нет, с одним и, пожалуй, с двумя я справлюсь, но с тремя или с четырьмя трудно. У меня не больше двух рук и двух глаз. Я знаю, что трое из, наших противников и одного не стоили, зато четвертый, с которым вы так ловко расправились, один стоил четверых. Я отвечал, что мне это было нетрудно, потому что я напал на него врасплох. — Я не силен, — прибавил я, — я не имел случая испытать, отважен ли я. В первый раз в жизни я увидел необходимость напасть на противника сзади и не хочу этим гордиться. — Вы отвечаете, как человек скромный, — сказал лорд Б…, строго взглянув на племянницу, что меня еще более убедило в ее нерасположении ко мне. — Но я, — продолжал он, — я знаю, что я и смел и силен, но без вас я не стал бы защищаться. — Oh shame! — прошептала леди Гэрриет. — Жена моя говорит, что это стыдно, — продолжал лорд Б… — Женщины находят весьма естественным, чтобы мы рисковали своей жизнью за их бриллианты, пока они будут лежать в обмороке у нас на руках. — Я не была в обмороке, — прервала мисс Медора, — я искала в коляске пистолеты, и если бы я нашла их… — Но вы не нашли их, — отвечал лорд Б…, — следовательно, были в смущении. Что касается меня, — продолжал он, обращаясь ко мне, — я уже говорил вам, что я не трус. Однако, я никогда не затею неравной борьбы за безделицу, и я не так дорого ценю деньги, чтобы из экономии подвергать опасности жизнь тех, которых я сопровождаю. Пусть думают, пожалуй, что я берегу собственную жизнь. Да и за что бы я любил ее, не имея причин слишком любить самого себя? Но меня возмущает в подобных случаях принуждение исполнять волю тех, которые пристают с ножом к горлу. Я люблю повиноваться только собственной своей воле, хотя и не всегда повинуюсь ей; я уступаю иногда добровольно, иногда с досадой. Я был в этом последнем настроении, когда вы пришли ко мне на помощь, и вы, не то что оказали мне услугу, за которую я хотел бы отблагодарить вас, вы только исполнили долг свой, как и я исполнил бы его на вашем месте, без всяких притязаний на вашу благодарность; но вы избавили меня кстати, и с большим благоразумием, от неприятности, самой несносной из всех мне известных. За это вы приобрели мою дружбу, и я желаю снискать вашу. Проговорив все это и ни разу не взглянув на жену, хотя половина разговора, очевидно, относилась к ней, он протянул мне руку с невыразимым радушием. В эту самую минуту отвратительная желтая собака, которую он ласкал при мне на пароходе, вбежала в комнату и бросилась ему под ноги. — Боже мой, — вскричала леди Гэрриет, — опять эта несносная собака! Так она не отвязалась от вас? — Право, это против моего желания, — отвечал лорд со вздохом. — Неправда, вы купили эту собаку или вам ее подарили… Вы всегда меня обманываете! Вы сказали, что она принадлежит одному из пассажиров, но я вижу, что она принадлежит вам. Признавайтесь!.. Милорд инстинктивно, с отчаянием взглянул на меня. Инстинктивно увлеченный в свою очередь и невольно жалея и собаку, и ее господина, я вздумал сказать, что собака моя. Я слышал, как милорд называл ее. «Буфало, — закричал я, — поди сюда; зачем ты, негодный, убежал из моей комнаты! Venez ici!» Умное животное, будто понимая, что происходило, подошло ко мне, покорно повесив голову. Я собирался отвести его к себе, но мисс Медора начала просить пощады за Буфало у миледи, а та, добрая во всем, что не касалось мужа, попросила меня не уводить собаки, накормить ее и приютить где-нибудь в углу столовой. — Она мне не мешает, — сказала миледи. — Она, кажется, такая добрая и, право, не так отвратительна, как мне сначала показалось. — Извините, — отвечал лорд Б…, — она точно безобразна; да к тому же вы ненавидите собак. — Откуда вы это взяли? Я и не думала их ненавидеть. — Виноват, миледи, — согласился бедный супруг с грустной улыбкой, — вы совершенно правы, вы ненавидите только моих собак. Леди Гэрриет подняла глаза к небу, как жертва, призывающая Бога в свидетели людской несправедливости. Когда встали из-за стола, лорд Б… отвел меня в сторону. — Вы добрый человек, — сказал он, — вы поняли, что я люблю эту собаку и по вашей милости ее не выгонят из дому. Благодаря вам, вот уже в другой раз сегодня исполняю я собственную волю. — За что вы так любите эту собаку, милорд? Она не очень красива. — За то, что я спас ей жизнь. Катаясь на лодке в генуэзской гавани, я видел, как эта бедная собака, вероятно, отставшая от хозяина, прыгая с лодки на лодку, пришла искать убежища на баркасе рыбаков; эти жестокосердные люди повесили ее для потехи на рее своего судна. Я купил ее. Она будто понимает, что обязана мне жизнью и, кажется, меня любит. — В таком случае я останусь ее мнимым владельцем, пока это будет нужно, и постараюсь устроить так, чтобы миледи посоветовала вам приобрести ее от меня. — Вот что значит каприз женщины, — продолжал милорд. — Если бы миледи видела эту несчастную собаку с веревкой на шее, а я прошел бы мимо, не позаботясь о ее спасении, она назвала бы меня бесчувственным, жестокосердным! Жена моя очень добра, уверяю вас, и весьма кроткого нрава; только беда в том, что я… ну, что я ее муж. Это непростительный недостаток быть жениным мужем! Миледи, в свою очередь, отозвала меня в сторону. — Мы обязаны вам более, нежели жизнью. Лишиться жизни — небольшое несчастье, но в таких встречах с разбойниками женщины подвергаются иногда оскорблениям, нестерпимее смерти. Я уверена, что в таком случае лорд Б… пожертвовал бы своей жизнью, чтобы дать нам время уйти, но одно оскорбительное слово клеймит позором женщину нашей касты, нашей нации. Я скажу вам так же, как лорд Б…, и еще более от души, что мы предлагаем вам нашу дружбу и просим взамен вашей. Мы знали вас уже прежде, по словам вашего друга, — не помню его имени… Как зовут его?.. Мне было смешно, что меня спрашивали об имени человека, слова которого были для них достаточной за меня порукой, и поспешил сказать, что Брюмьер знал меня не лучше самой леди Гэрриет. — Все равно, — отвечала она, не смущаясь, — он сказал нам, что вы живописец, как и он, и что у вас замечательный талант. — Как может он знать об этом, миледи? Он никогда не видел моих работ. — Все равно! Он сказал, что вы так хорошо говорите о живописи; он сам мастер говорить о ней. Он так умен и так освоен с приемами хорошего общества. Это премилый молодой человек, — и о вас он так же отзывается. — Это доказывает, — возразил я скромно, — что мы оба премилые молодые люди! Но позвольте, миледи, вы слишком добры; ваша признательность ко мне делает честь вашему великодушию, но я не должен… — Я вижу, — прервала меня миледи, — вижу по вашей скромности и по вашей благородной гордости, что я не обманулась в вас и никогда не буду раскаиваться в моем к вам доверии. Вы небогаты, я это знаю; вы, в несколько дней проживете в Риме, где жизнь так дорога для иностранцев, все деньги, предназначенные вами на продолжительное пребывание в этом городе. Наши доходы превышают наши издержки, и, кроме того, мы не нанимаем дома, в котором живем; нам уступили по знакомству этот дворец, и половины которого мы не занимаем. Вы можете занять целый свободный этаж, в который есть даже особый ход, если кто пожелает жить отдельно. Вы можете посещать нас и приходить к нам обедать тогда только, когда захотите, и даже вовсе не видаться с нами, если мы вам наскучили. Но чтобы не огорчить нас, вы будете жить под одной крышей с нами, дабы в случае болезни, что легко может быть в этом климате, мы могли навещать вас и быть вам полезными. Прося вас остаться с нами, я имею в виду наше собственное удобство, потому что где бы вы ни жили, мы всегда и везде будем всей душой заботиться о вас. Решайтесь и будьте на этот раз снисходительны. Я был в большом затруднении. Предложение было так заманчиво и высказано с такой деликатностью, что невозможно было отказываться. Лорд Б…, более проницательный, отгадал причину моей нерешительности и помог выйти из затруднения. — Она напомнила вам, что она богата, а вы нет, — сказал он мне так, чтобы леди Гэрриет могла расслышать. — Это с ее стороны неловкость, но намерение было доброе. Вы же можете выйти из всего этого с почетом, заплатив нам за свою комнату, что она самим нам стоит; это составит не более двух экю в месяц. Вы позволите предложить вам ненужные нам смежные с ней пустые комнаты; вы там будете заниматься живописью или прогуливаться, с сигарой во рту, в ненастное время. Согласитесь, — шепнул он мне на ухо, — если не хотите, чтобы меня обвинили в холодности, в невежливости, в неловкости и в неблагодарности. Итак, дело о квартире решено. Оставалось решить, где поместится Брюмьер. Я боялся, чтобы он не согласился разделить со мной помещение, которое мне навязали. С его притязаниями на сердце и руку мисс Медоры, он мог ввести меня в неприятные хлопоты. К счастью, предложение было сделано ему не с таким жаром, как мне, и он догадался отказаться. Но его пригласили приходить обедать как можно чаще, и это показывает намерение принимать его накоротке, по французскому обычаю. Я уже не в первый раз замечаю, что когда англичане вздумают быть любезными, они бывают любезны вполне. Так ли они ведут себя дома — не знаю… Мы простились с дамами, утомленными дорогой и приключениями этого дня. Лорд Б… пошел проводить нас и показал нам расположение комнат, «чтобы Брюмьер, — говорил он, — мог навещать меня, не будучи вынужденным заходить к дамам». Когда мы проходили через переднюю в сопровождении Буфало, который, впредь до дальнейших распоряжений оставался под моим покровительством, я увидел, что я еще не от всей моей свиты отделался. Посреди комнаты Бенвенуто отплясывал национальный характерный танец с хорошенькой горничной, которая поцеловала у меня руку. Они прыгали под звуки гитары, на которой, с видом первоклассного артиста, играл толстяк-повар с черными усами — настоящая карикатура Каракаллы, — недавно поступивший в услужение к их британским сиятельствам. — Ну, воля ваша, — сказал я хозяину, — вот спутник, от которого я торжественно отрекаюсь. Этот цыган Бог знает с чего пристал ко мне, и я не беру на себя рекомендовать его вам. — Кто? Тарталья? — возразил лорд Б… улыбаясь. — Он же и Бенвенуто, и Антониучио, и разные другие имена, которых мы никогда не узнаем? Успокойтесь; этот чудак вовсе не за вами шел сюда; его завлек к нам запах кухни. Мы его давно знаем. Это давнишний содержатель наемных ослов и старинный гудочник Фраскати, соотечественник и родственник Даниеллы. При этих словах милорд указал мне на пригожую горничную, продолжавшую прыгать и улыбаться, показывая ровный ряд зубов чудной белизны. Раздавшийся звонок не остановил ее среди танца, но кинул ее ловким прыжком к двери мисс Медоры, при которой она находится в должности куафера или куафезы. — Нужен он вам? — спросил меня лорд Б…, указывая на Тарталью, и, по моему отрицательному знаку, сказал ему: — Ступай спать и приходи завтра спросить, не будет ли нужно миледи послать тебя куда-нибудь; завтра ты получишь обещанное платье, которое, кажется, будет для тебя не лишним. Восхищенный Тарталья поцеловал всем нам руку. «Мошенник, — сказал ему Брюмьер на ухо, — зачем ты притворялся, что не знаешь ни семейства лорда, ни Даниеллы?» — Эх, любезнейший господин, — отвечал он с бесстыдством, — много ли вы дали бы мне, если бы я сразу рассказал вам все? Несколько байок. А теперь вы целую дорогу кормили меня, пока я морил с голоду ваше любопытство. Завтра я буду писать вам, любезный друг, о Риме, по которому я только прошелся сегодня, и то впотьмах. Я нигде не видал города с хуже освещенными узкими улицами и частыми перекрестками. Он показался мне бесконечным и наполненным удушливым запахом горячего сала, который поднимается с бесчисленного множества переносных жаровен frittorie, расставленных под открытым небом и украшенных зеленью и бандеролями. Я прошел вдоль колоннады, что на площади Св. Петра, которая показалась мне величественным сооружением, хотя я взглянул на нее только мимоходом; прошел возле самой цитадели Св. Ангела; перешел Тибр и очутился сам не знаю где. Я так устал, что все представления смешались в голове моей. До завтра! Да, завтра, при восходе солнца, я вспомню слова ваши. Вы говорили мне: «Я так старательно изучал языческий и католический Рим, что знаю его на память, вижу его перед глазами. Мне снится иногда, что я там и что расхаживаю по городу, как по улицам Парижа. Пробудившись, я ощущаю впечатление довольства и восхищения, света и величия». Так и я проснусь завтра, чтобы видеть этот прекрасный сон! Мне почти не верится в это. Глубокое молчание, царствующее вокруг меня, заставляет думать, что я все еще иду по необозримой пустыне римской Кампаньи.
Глава VII
Рим, 19-го марта, десять часов утра.Я просидел целый час у окна. Я теперь на Монте-Пинчио, откуда открывается один из живописнейших видов на Рим. Да, отсюда точно прекрасный вид; перед вами расстилается обширное пространство, покрытое зданиями и памятниками, вероятно, прекрасно освещенными, когда бывает солнце; но сегодня день пасмурный и в воздухе очень свежо. Очертания долины, в которую углубляется Рим и откуда он взбирается потом на свои прославленные холмы, очень грациозны, но линия ближайшей окрестности холодна, горизонт слишком близок и скуден, несмотря на огромные пинии, формы которых рисуются на светлом фоне неба со стороны Villa Pamphili, но которые слишком редки и сухи в контурах. Я знаю, что эти бесчисленные памятники, дворцы, церкви стоят того, чтобы взглянуть на них вблизи, и что город вмещает в себя истинные сокровища для артиста; но что за безобразный, грустный, грязный город — этот великий Рим! Возвышающиеся над ним колоссы архитектуры еще резче обнаруживают его нищету — скажу более — его прозаичность, его бесхарактерность. Отсутствие характера в Риме! Кто мог ожидать этого? Тарталья — здесь все так называют Бенвенуто — стоит позади меня и уверяет, что на Рим не следует смотреть в пасмурную погоду и что красота этого города отнюдь не в гармонии целого… что новый Рим только унижает древний, Я убеждаюсь в этой истине, но я не умею понять частностей, не уразумев общего лица; я тщетно выискиваю, на что все это походит — так похоже все это на дурно выстроенный город, Целые кварталы безобразных, будто покоробленных домов, не принадлежащих по стилю постройки ни к одной эпохе, одни ярко-белого цвета, другие темно-грязного; отсутствие всякой идеи, всякой связи, утомительное однообразие. Как понять это? Что породило это однообразие? Небрежность ли, недостаток или беззаботность о себе? Кажется, что позднейшие поколения не понимали, что они строятся на том самом месте, где стоял древний Рим, или, возненавидев его прежнее великолепие, причину неприятельских вторжений, источник многих бедствий, они поспешили скрыть следы этого великолепия, загромоздив его множеством тесных улиц и отвратительных зданий. Здесь не видно даже ни фантастической прихоти Генуи, ни торжественности Пизы. Возьмите тридцать или сорок бедных городишек средней Франции и стесните их между памятниками Рима времен империи и владычества пап, вы увидите то, что теперь у меня перед глазами! Я смущен, я негодую! Нынче, должно быть, день стирки: окна всех домов, даже великолепных палаццо, увешаны мокрым тряпьем. Заметьте, что здесь вы увидите не красный плащ генуэзского моряка, не пестрые меццари, которыми, как блестящими, яркими пятнами, оживляется гармоническая глубина тесных улиц Генуи: здесь висят бесцветные лохмотья на поблекших стенах, или связки полинявших тряпок на развалине, на великолепном здании, закрывая собой детали компановки — единственную красоту, которую стоит видеть! Неужели голос этого тягостного разочарования не замолкнет во мне? Нет, это влияние пасмурной погоды и моих, тяжелых снов в эту ночь. Я лег в постель, не чувствуя ни сожаления, ни раскаяния в том, что ранил, может быть, даже убил разбойника, грабителя больших дорог, и вот во сне этот душегубец десять раз представлялся мне и десять раз мне виделось, что я опять убивал его. Совесть упрекает меня, что на первом шагу в Италии, в этой священной стране, я вынужден был лишить ее одного из ее жителей. Как-то не пристало мне, человеку мирному и терпеливому, влюбленному в цветы, в поля и в ручейки, пробиваться, как рыцарю сквозь мелодраматические засады разбойников. Я огорчен, пристыжен, раздосадован. Я никогда не прощу этому отродью грубиянов-ямщиков, мошенников-кондукторов, оборванных нищих, которые превратили меня в злого человека; право, они виноваты, что я не на шутку проломил голову первому бандиту, который подвернулся мне под руку, когда я был ожесточен ими. Хотел бы я знать, не прикинулся ли он мертвым? Унесли его или он сам ушел? Это припоминает мне обещание, данное мною лорду Б…, не выходить со двора, прежде чем схожу с ним в полицию объявить с моей стороны об этом происшествии. Тарталья уверяет, что ничего не нужно и что все это ни к чему не приведет, что нас с полгода будут водить на очные ставки со всеми мошенниками, задержанными за другие проступки, что, расследуя это дело, мы подвергнем себя еще худшим проделкам, как только выйдем из Рима, а быть может и в самом городе. Он, кажется, убежден в том, что говорит… Может быть, и он принадлежит к какому-нибудь почтенному акционерному обществу для облегчения путешественников от их пожитков. Я поступлю, впрочем, по усмотрению лорда Б… Я передал вам мнение Тартальи и расскажу кстати, каким странным видением явился он ко мне сегодня, когда я только что проснулся. — Восемь часов, эччеленца. Вы поручили мне разбудить вас. — Ты лжешь. Мне не нужно и я не желаю слуги. — Разве я слуга, мосью? Вы ошибаетесь! Может ли римлянин быть слугою? Этого никто никогда не видел, и никто никогда этого не увидит. — Ах, так? Так ты заботишься обо мне в качестве друга? Слушай же: мне на этот раз и друг не нужен. Убирайся! — Вы не правы, мосью. Tu as souvent beson d'un plus petit que toi. (Ты часто нуждаешься в меньшем себя). — Браво! Да мы народ ученый, даже по-французски! Откуда ты подхватил, любезный, этот костюм? — А ведь хорош, эччеленца, не правда ли? Я надел все, что нашлось у меня лучшего из утренних костюмов, и сейчас скажу вам, для чего это сделал. Лорд Б… обещал подарить мне платье. Я здесь на посылках, и миледи не угодно, чтобы я ходил оборванный. — Так разве твой утренний костюм пришелся не по вкусу миледи? — Бог ее знает, мосью; не в том дело. Мне обещали платье и мне дадут его. Но если увидят, что у меня решительно ничего нет, мне сунут какой-нибудь поношенный лакейский сюртук, да и делу конец. Но если меня увидят в этом костюме, несколько щеголеватом, мне пожалуют черный сюртук, еще не старый из гардероба милорда. Вы видите, что Тарталья рассуждает не глупо. Но отгадайте, в чем состоит его щеголеватый костюм? Кафтан из оливкового баркана, отороченный черным снурком, с заплатами зеленого бутылочного цвета на локтях; той же материи и того же цвета панталоны, с заплатами цвета биллиардного сукна на коленях. Словом, вы видите на нем теневую гамму цветов, самую странную и исполненную диссонансов. Прибавьте к этому кисейную манишку и огромные манжеты, очень чистые, тщательно гофрированные, но с огромными дырами, засаленную веревку, которая когда-то была шелковым галстуком, и род берета, некогда белого, ныне цвета стен римских зданий, objet de gout, привезенный им из дальних странствий, наконец, булавку в манишке из генуэзского коралла и кольцо из лавы на пальце. Это одеяние его маленького корпуса с огромной головой, украшенной щетинистой бородой с проседью, придает ему самый отвратительный вид, а самонадеянное удовольствие, с каким он вертелся перед зеркалом, делало его таким шутом, что я невольно расхохотался. Мне показалось, что я оскорбил его; он посмотрел на меня грустно, с упреком, и я был так простодушен, что раскаивался в этой обиде. Огорчить человека, который развеселил меня, было неблагодарно с моей стороны. Видя мою простоту, он сказал мне: «Легко смеяться над бедняками, когда ни в чем не знаешь недостатка, когда каждое утро есть из чего выбрать любой галстук». Я понял намек и подарил ему новый галстук. Он сейчас же откинул свое поддельное огорчение и сделался по-прежнему весел. — Эччеленца, — сказал он мне, — я люблю вас и принимаю искреннее участие в cavaliere, который понимает, что такое жизнь. (Это его любимая похвала, таинственная, быть может, глубокая, по его мнению). Я дам вам добрый совет. Надобно жениться на синьорине. Это я, я говорю вам это. — Ага, ты хочешь женить меня! На какой же это синьорине? — На синьорине Медоре, на будущей наследнице их британских сиятельств. — Так вот в чем дело! Но для чего же именно на ней жениться? Разве ей так уж хочется мужа? — Не то, но она богата и прекрасна. Ведь красавица, не правда ли? — Ну, так что же? — Как что же? В прошлом году, посмотрите, каким женихам она отказала! Молодым людям папской фамилии, сыновьям кардиналов, всем, что ни на есть знатным. — И ты уверен, что она всем им отказала в ожидании меня? — Нет, этого я не говорю, но кто знает, что впереди? Ведь вы влюблены в нее; почем знать, что она не влюблена в вас? — А, так я влюблен в нее? Кто же тебе это сказал? — Она! — Как, она тебе это сказала? — Не мне, а моей сестре Даниелле, это одно и то же. — Ай да синьорина! Не думал, не гадал такого счастья! — Полноте притворяться, меня не проведете! Вы влюблены. Спросите Даниеллу, она вам то же скажет; а она куда как не глупа, моя племянница! — Ты называл ее сестрою? — Сестра или племянница, не все ли вам равно? Да вот и она пожаловала. В самом деле Даниелла вошла в это время с огромным подносом, на котором под видом утреннего чая стоял полный завтрак. — Это что такое? — спросил я. — Кто прислал это? Я никак не намерен быть здесь нахлебником. — Это не мое дело, — отвечала молодея девушка, — я только исполняю то, что мне приказано. — Кем приказано? — Милордом, миледи и синьориной. Извольте кушать, сударь, не то мне достанется. — А вам достается иногда, Даниелла? — Да, со вчерашнего дня, — отвечала она с каким-то странным выражением. — Кушайте, кушайте! Пришел Брюмьер и от души посмеялся над моей совестливостью; он уверяет, что мне некстати так церемониться. «Ничего нет смешнее, — говорит он, — как восстание мещанской гордости против услужливой щедрости знатных. Эти господа исполняют долг свой и сами себе доставляют удовольствие, лаская и балуя артистов, и на твоем месте я предоставил бы им полную свободу поступать в этом случае, как им заблагорассудится». Приятель мой уверяет, что за то, чтобы снискать такое расположение известной особы из этой семьи, он готов убить целый десяток разбойников, а, пожалуй, в придачу, прирезать человека три из честных людей. Веселость Брюмьера и его шутки очаровали Тарталью и Даниеллу, так что разговор завязался о весьма щекотливых предметах с чрезвычайной искренностью. Я теперь один; дожидаюсь лорда Б…, который обещал зайти за мной, чтобы вместе отправиться в город, и от нечего делать передам вам этот разговор, как картину нравов, Может быть, мне придется на несколько дней прервать нашу переписку, пока я буду осматривать Рим и переваривать впечатления, которые опрометчиво передаю вам сегодня, без поверки, в том виде, как они мне достались. Итак, я воспользуюсь свободным временем, чтобы зазвать вашу мысль в тот мир, в который я случайно попался. Даниелла (Брюмьеру. Между тем как я расправляюсь с котлетой. Даниелла говорит по-французски бегло, хотя и неправильно). Я узнала, эччеленца, что вы тоже вздыхаете по синьорине. Брюмьер. Я тоже? Кто же еще по ней вздыхает? Ваш слуга (продолжая есть). Надобно полагать, что я. Брюмьер. Предатель! Вы мне ни слова об этом не говорили! Не верьте ему, милая Даниелла, и скажите вашей прекрасной госпоже, чтобы она и не думала об этом. Я, я один вздыхаю о ней. Даниелла. Вы один! Всего один обожатель на такую красавицу? Она ни за что этому не поверит! Не правда ли, что и вы также, signor Giovanni di val reggio, и вы любите мою госпожу? Ваш слуга (все продолжая есть). Увы, нет! То есть, нет еще! (Присутствующие застывают в изумлении). — Cristo! — воскликнул Тарталья в негодовании. — Вы слишком нерассудительны, если не доверяете нам! Вы просто дитя, я говорю вам это! Даниелла (с пренебрежением). Они, может быть, не всмотрелись в синьорину? Брюмьер (торжествуя). Видишь, моя красавица, он и не взглянул на нее! Ваш слуга. Вы ошибаетесь, я очень хорошо ее видел. Даниелла (с удивлением). И она вам не понравилась? Ваш слуга (решительно). Нет, черт возьми, она мне вовсе не нравится! Брюмьер (пожимая мою руку, с комической торжественностью). Благородное сердце, великодушный друг! Я отплачу тебе за это, сразу же, когда ты полюбишь другую. Даниелла (обращаясь к Тарталье и указывая на меня). Да это шутник (un buffone)! Тарталья (пожимая плечами). Нет, он сумасшедший (matto)! Даниелла (обращаясь ко мне). Прикажете сказать синьорине Медоре, что она вам не нравится? Тарталья (перебивая). Сохрани Бог! Этот господин под моим покровительством. (Он подарил мне галстук, подумал он, вероятно, в эту минуту). Брюмьер (Даниелле). Вы скажете только, что он влюблен в другую. Вы согласны, Вальрег? Я (с видом великодушия). Я требую этого! Даниелла. Тем хуже. Я вас предпочитала… Брюмьер. Кому? Даниелла. Вам. Брюмьер. Я вспомнил, душа моя, что я еще ничего тебе не дал. Хочешь получить поцелуй? Даниелла (пристально посмотрев на него). Нет! Вы мне не нравитесь. Я. Ну, а я? Она. Вы могли бы мне нравиться. У вас должно быть чувствительное сердце. Но вы уже кого-то любите? Брюмьер. Может быть, меня? Я. Кто знает? Может и это статься! Даниелла. Теперь я вижу, что вы никого не любите и только смеетесь над нами. Я скажу это синьорине. Брюмьер. Разве твоей госпоже очень хочется любви его? Даниелла. С чего вы это взяли? Она и не думает. Я. Видишь, милая Даниелла, не должен ли я радоваться, что твоя госпожа мне не приглянулась? Ты мне во сто раз больше нравишься! Даниелла (поднимая глаза к небу). Пречистая Дева! Можно ли так насмехаться? Я должен сказать вам, что при всем желании произвести эффект моими ответами, я отчасти говорил правду, и говорил без всякого преднамерения, верьте мне, без досады на мисс Медору и без замысла на Даниеллу. Действительно, я нахожу, что первая слишком самонадеянна, воображая, что я не мог видеть ее без того, чтобы не влюбиться в нее, но она точно хороша, и эти притязания можно отнести к ее ребяческой избалованности. Я охотно ей прощаю; не влюблен я в нее потому, что не чувствую к ней ни малейшей симпатии, что она мне кажется странной, что она слишком занята собой, слишком старается выказать свое геройское мужество и свое пристрастие к Рафаэлю. Полюби я за что-нибудь Даниеллу, от чего меня Боже сохрани, потому что она, как мне кажется, слишком уже развязна, — мне скорее пришлись бы по нраву выражение ее лица и тип ее красоты; я говорю красоты, хотя она не более как хорошенькая. Вы сами решите по следующему за сим описанию. Я желал бы вам показать одну из могучих красавиц Трастеверо или изящных уроженок Альбано, в их живописном костюме, с их царской осанкой, с их скульптурным величием, как вы видали их на картинках. Но ничего подобного я не нашел в Даниелле. Она чистокровная уроженка Фраскати, как уверяют Тарталья и Брюмьер, то есть пригожая женщина, по понятиям француза, скорее чем красавица в итальянском вкусе. Она совершенная брюнетка, довольно бледна; у нее прекрасные глаза, великолепные волосы и зубы; нос недурен, рот немного велик, подбородок слишком короток и выдался вперед. Очертания лица скорее смелы, чем изящны; взгляд страстный, несколько дерзкий: искренность это или бесстыдство, не знаю. Стан у нее прекрасный: тонкий, но не худощавый, гибкий, но не тщедушный. Руки и ноги маленькие, что в Италии, сколько я мог заметить, большая редкость. Она жива, ловка и очень грациозна в танцах. Находясь в услужении у леди Гэрриет более двух лет, она ездило с ними во Францию и в Англию, но, несмотря на приобретенный ею в этих путешествиях некоторый лоск образованности, она сохранила природное высокомерие в улыбке и какую-то дикость в жестах, отзывающуюся деревенщиной и ограниченными, упрямыми понятиями крестьянки. Я не рассмотрел ее в дороге: она была закутана в платок и закрыта шляпкой, которые уродовали ее и в которые она не умела, как должно, нарядиться; но с сегодняшнего утра она оделась в обычный местный костюм, который хотя и не принадлежит к числу красивейших, однако, очень ей идет: темное платье с рукавами по локоть, передник, лиф которого прошит китовым усом, служит ей корсетом, и белая кисейная косынка, накинутая на косу и слабо завязанная у подбородка. Вот портрет красавицы, в которую, как уверяют, я влюблен; впрочем, на этом не конец интриги: я еще буду писать вам о ней. Только что Даниелла ушла с остатками моего завтрака, Тарталья стал передо мной с торжественным и несколько трагическим видом и сделал мне следующий выговор: — Берегитесь, мосью! (Я открыл, что он называет меня мосью, когда недоволен мною, а эпитет эччеленца выражает его полное удовольствие). Берегитесь, сказал он мне, берегитесь прекрасных глаз Даниеллы; она из Фраскати и девушка с родней. — Что хочешь ты этим сказать? Брюмьер. Я объясню вам это. Я чуть не попался по милости одной… Тарталья. Я знаю! Брюмьер. Что ты знаешь? Тарталья. Все знаю, Вы не помните меня, но я вас тотчас узнал, еще на пароходе. Года два назад, по обстоятельствам и по неимению лучшего занятия, я держал ослов в Фраскати; вы тогда волочились за Винченцей. Брюмьер. Правда, но я скоро отказался от нее, увидев, что она с родней, то есть, — продолжал он, обретясь ко мне, — что у нее есть семья в среде местных. Надобно вам сказать, что в некоторых селениях Кампаньи, и преимущественно в Фраскати, живет кочующее сословие безземельных крестьян, contadini, и оседлое население — ремесленники. Последние не очень расположены к иностранцам, и, как только какой-нибудь турист, живописец, художник без протекции и кредита, приволокнется за девушкой этой касты, ему предлагают или женитьбу, или поединок на ножах. Только ему не дают ножа в руки, а принуждают или жениться, или бежать. Я избрал последнее и вам советую сделать то же, если вам приведется иметь дело в Фраскати с девушкой, наделенной Провидением многочисленной родней. У Винченцы было, помнится, двадцать три двоюродных брата. Я (обращаясь к Тарталье). А, так как ты называешь себя родственником Даниеллы, то следовательно предупреждаешь меня и стращаешь заранее. Знаешь, меня берет охота полюбезничать с нею. Тарталья. Нет, эччеленца, я ей не родственник и не обожатель. Я не из Фраскати, я римлянин! Даниелла девушка добрая; она выдала меня здесь за родственника, чтобы снискать мне тем расположение миледи. Невинная ложь иногда доброе дело. Но говорю вам, эччеленца, не думайте об этой девочке, если бы вам и никогда не пришлось быть в Фраскати. Брюмьер. Так она… Тарталья. Нет, нет, ничего дурного, она добрая девушка, эччеленца, я говорю вам, добрая! Но что же она? Так, ничего! — и отводя меня в сторону, прибавил: — Смотрите выше; заставьте наследницу полюбить вас, я вам говорю это. — Оставь нас в покое с твоей наследницей и твоими советами. Ты надоел нам своей болтовней. — К вашим услугам, мосью, всегда, когда угодно, — сказал он, скривив рот в недовольную улыбку и уходя с подаренным галстуком. — Не сердите его, — сказал мне Брюмьер, когда мы остались одни. — Эти мошенники или полезны, или опасны средины нет. Как только вы приняли от них какую-нибудь услугу, хотя бы и хорошо за нее заплатили, даже тем хуже, если заплатили хорошо, вы уже принадлежите им телом и душой, вы становитесь их другом, то есть их жертвой. Не думайте отвязаться от них, пока вы в Риме и его окрестностях. Если же они имеют важные причины следить и наблюдать за вами, то, где бы вы ни были в целой Италии, эти мошенники повсюду как из земли вырастают. Как только они узнали или вообразили, что уже знают ваш характер, ваши склонности, ваши нужды или ваши страсти, они принимаются их разрабатывать. Вы, кажется, мне не верите? Сами увидите! Я погляжу, что будет при первом вашем здесь волокитстве. Будь это ночью, в глубине катакомб, под тройным замком, все равно, — Тарталья вас не покинет, всюду будет следовать за вами по пятам и, верьте мне, так устроит дела, что вы вечно будете в нем нуждаться. Впрочем, не огорчайтесь. Если эта непрошеная услужливость домового иногда сердит, она не без удобств, и лучше всего принять ее без обиняков. Эти люди имеют все достоинства своего ремесла: они так же скромно хранят ваши тайны, как нескромно выведывают их. Они знают все; у них тонкий, проницательный, а если нужно, и приятный ум. Они подают вам бесчестные советы в угоду вашим страстям, но подают и добрые для вашей безопасности. Они предупреждают вас от всякой опасности и охраняют вас от тяжких уроков жизни. Их все знают, все пользуются их услугами, все щадят их. Как только вы пообживетесь здесь, вы многое узнаете и удивитесь, до какой степени в этой классической земле барства, бес сводит в таинственное короткое знакомство людей, стоящих на противоположных концах общественной лестницы. Вспомните, что Рим страна свободы, по преимуществу, — свободы делать зло! Так ведется здесь более двух тысяч лет. — Я верю словам вашим, видя, что такой бродяга, как Тарталья, завладел этим домом и этой семьей, как доверенный человек. А между тем мы — у англичан, которые должны бы, кажется, чувствовать омерзение к таким образчикам местных нравов. — В англичанах появляется удивительная терпимость, как только они выберутся на чужбину. Путешествие для них — разгул воображения, отдых от угрюмой строгости домашних обычаев. Наши знакомые уже не в первый раз в Италии, и если я не встречал, их прежде в Риме, так, вероятно, потому, что бывал здесь не в одно с ними время, или, что они были незаметны, пока с ними не было хорошенькой племянницы. Я очень хорошо вижу, что лорд Б… здесь не новичок, и когда он так дружески обошелся вчера с Тартальей, я сразу догадался, что леди Б… ревнива и что милорду часто нужен разведчик, или посредник, или страж. Может быть, Тарталья служит в одно и то же время шпионом жене и поверенным мужу; но ручаюсь вам, что в таком случае он исполняет требования обоих и не изменяет ни одному; его дело жить их милостями и жить не работая; эту задачу решает по-своему каждый из римских пролетариев. — Итак, они отказываются из гордости быть слугами, а по призванию каждый из них… — Пособник интриг. Те, которые не занимаются этим, вынуждены красть или просить милостыню. Многие из них, если не по призванию, так по необходимости, живут пороками знатных. Чем прикажете заниматься народу, у которого нет ни торговли, ни промышленности, ни земледелия, ни сношений с остальным человечеством? Ему поневоле приходится, как чужеядному растению, сосать сок больших деревьев, которые заглушают приземистые растения своей тенью. Это огорчает вас или возбуждает в вас негодование? Что же делать? На то здесь Рим, чудо света, вечный город сатаны, всемирный пир, на который и мы, чужеядцы, в свою очередь, стекаемся искать, смотря по способностям, искусства, таинственности, богатства или наслаждений. Доброму сыну наука! Не затевайте только соблазнительных проделок, и все пойдет своей чередой. Что до меня, то, лишь бы вы не предъявили претензии на сердце мисс Медоры, я готов помогать вам во всяком честном предприятии и простить вам всякое приятное приключение. Засим, я отправляюсь отыскивать il signor Tartaglia; мне кажется, что бездельник оказывает вам предпочтение; это меня беспокоит, и я намерен похлопотать, чтобы он, с помощью Даниеллы, подцветил меня в глазах небесной Медоры. Кстати, — промолвил он, оставляя меня, — позвольте мне в первый же раз, как я буду здесь обедать, обмолвиться моей принцессе, что вам приглянулась — не бойтесь, я вас не скомпрометирую, я знаю, как должно говорить с англичанами — ее хорошенькая горничная. — Скажите, что это прихоть художника! — Именно так! Une Tocade! Этого будет довольно, чтобы поселить в ней глубочайшее к вам презрение. До завтра. Я зайду за вами, чтобы показать вам главнейшие пункты города. Но предупреждаю вас, надобно год времени, чтобы осмотреть все их детали. Addio! Я слышу голос лорда Б…, который идет за мною. Он обещал мне переслать мои письма во Францию, через английскую миссию, так что они не попадутся в руки папской полиции, которая, пожалуй, их совсем не пропустит.
Глава VIII
Рим, 24-го марта 185…Я думаю, что недолго здесь пробуду; я ослаб, мною овладело уныние, смертная тоска. Рим ли тому виной, или недуг во мне самом — не знаю. Наши ежедневные с вами разговоры отрывали меня от размышлений, относящихся исключительно к моей личности, и в эти минуты я жил вне моего сплина. Примусь опять за нашу переписку, даже если мне и не доведется отправить все мои письма. Но я должен прогуляться с вами по этому кладбищу, несравненно более пространному, но в тысячу раз менее величественному, чем Пиза. Я должен показать вам Рим таким, каким он мне показался; не пеняйте, если придется разочаровать вас. Откуда начать? — С Колизея. Вы знаете все памятники Италии по картинам, гравюрам и фотографиям. Я не буду вам описывать ни одного, передам вам только мои впечатления. Этот амфитеатр, хотя гораздо обширнее нимского и арльского, которые я видел в детстве, не так поразителен, как те. Здесь не уцелело уступов с местами для зрителей, а они-то именно и придают обширным аренам древности тот величественный характер, что помогает нашему воображению воссоздавать грозные события прошедшего. Здесь вы видите громадный остов верхних сооружений, и вы не разгадали бы их предназначения, если бы не знали его наперед. Кругом здания внутри идет — путь креста, то есть ряд маленьких часовен, однообразных и совершенно обнаженных, яркий белый цвет которых бросается в глаза среди потемневших развалин. Между часовнями устроены дощатые подмостки, похожие на товарные прилавки на ярмарках; с этих эстрад капуцины говорят свои проповеди во время поста. Эти скудные пристройки искажают величественный вид развалин, но они освящены верой и, вероятно, переживут самый Колизей. — Пойдем, — сказал мне лорд Б…, который взялся быть моим проводником, — это ничего больше, как огромная груда камней. Он почти прав. Форум, храмы, весь этот ряд великолепных развалин, вдоль Campo Vaccino, от Капитолия до Колизея, имеет существенный интерес только для антикваров. Одни триумфальные арки неплохо сохранились, так что заслуживают названия памятников, Нельзя, однако же, без восхищения смотреть на эти кости огромного трупа, которые повествуют его былую жизнь, его деяния. Восстановленные и лежащие в прахе обломки или изящны, или огромны, или хранят на себе следы несметных богатств. То, что устояло, резко отличается своим величием от позднейших зданий, пристроенных к древним или находящихся вблизи, в особенности от сооружений новейших времен, как, например, здание Капитолия — очень красивое, но слишком небольшое для своего основания. Исключая несомненный исторический интерес этих остатков древности, невольно спросишь себя, почему эти развалины не производят более серьезного впечатления на обыкновенных смертных, как ваш покорный слуга? Почему он ощущает при виде их не внезапный восторг, а тоскливое чувство сожаления? Почему должен он сделать значительное усилие, чтобы представить себе призрак прошедшего, носящийся над этими следами времени, еще многозначительными, над этими еще четкими преданиями старины? Причина, по-моему, самая простая: потому, что эти развалины не на своем месте, не в середине города. Чем прекраснее они, тем безобразнее становится все, что их окружает, все, что не развалина. Между жизнью и смертью нет связи, нет перехода. Жизнь сглаживает следы смерти, как смерть стирает следы жизни. Здесь, в Риме, невольно рождается вопрос: существует ли еще Рим, или он только существовал? Я не вижу здесь ни того, ни другого. Прежнего Рима не осталось настолько, чтобы он подавил меня своим величием. Настоящего Рима слишком мало, чтобы затмить память о прежнем, и слишком много, чтобы прежний был виден. Я знаю, что невозможно восстановить древний Рим, но во мне зародилась мысль,мне мерещится видение и, по моему плану, кажется, все могло бы устроиться: уничтожить новый Рим и перенести его на другое место. Можно оставить на месте его дворцы, его храмы, его обелиски, статуи, фонтаны и его громадные лестницы, а на место безобразных улиц и отвратительных домов насадить красивые деревья, развести роскошные цветники и сгруппировать их так искусно, чтобы они отделяли один от другого памятники различных эпох, не заслоняя их. Но прежде, чем приступить к насаждениям, нужно произвести тщательные поиски на этом обширном пространстве земли, и я уверен, что эти раскопки дали бы нам столько же богатств древности, сколько мы видим их теперь поверх земли. О, тогда здесь был бы прекрасный сад, великолепный храм, посвященный гению веков, Рим нашей детской грезы, музей вселенной! Что касается населения, переведите его только на здоровую местность и верьте, что оно не будет жаловаться, Оно не станет жалеть об атмосфере, в которой тает его жизнь, и об этой отчизне вредных миазмов, которые его теперь окружают. Вылечить теперешний Рим от его эпидемических болезней труднее, чем осуществить мою мечту. Возвращаясь к тому, что у меня перед глазами, я повторю, что памятники здесь худо размещены в отношении к окружающей раме безобразных строений, нищенских и поразительно некрасивых. И, к несчастью, невозможно ничего высвободить из хлама этих несчастных мелочей иначе, как чрезвычайными мерами, с большими издержками, огромными средствами и, следовательно, великими замыслами. Не заходя так далеко, как зашел я сию минуту (мне это ничего не стоило!), обширные работы разрушения и восстановления, в которых подвизается теперь городское управление Парижа, встретились бы здесь с грандиозными элементами и великолепными мечтами, не говорю уже о необходимости мер для народного здравия, которых жаждут жители, гибнущие от лихорадки, даже в частях города, славящихся свободным обращением воздуха и своей опрятностью. Если бы вы знали, в чем состоит очистка города, в котором на углу каждой улицы вы увидите то, что здесь называют immondiziario (вместилище нечистот), часто украшенное каким-нибудь любопытным древним фрагментом, безымянным торсом или колоссальной ногой! Сюда сваливают в кучу всевозможные нечистоты. Здесь же хоронят и дохлых собак под грудами капустных кочерыжек и разной другой дряни, которой я не назову, Так как улицы узки, а скопление нечистот значительно, то нередко приходится или возвращаться назад, или брести по колено в этой мерзости. Прибавьте к этому милую бесцеремонность римской черни, которая, где бы ни была, на ступенях ли дворца или церкви, даже под метлами разгневанных стражей, на глазах женщин и священников, преспокойно усаживается на корточки, с римским величием и древним цинизмом, с сигарой в зубах или распевая, между делом во все горло. Невольно подумаешь, как это поэты-созерцатели, о которых я недавно говорил вам, плакали над развалинами и садились на обломки колонн, не задыхаясь от вони, потому что священные развалины осквернены не менее многолюдных улиц и публичных площадей. Намедни я видел, как прекрасная Медора, под руку с приятелем Брюмьером, с приподнятыми взорами на фронтон церкви Санта-Мария-Маджиоре, волокла по этой нечистоте подол своего шелкового платья и шитые фестоны своей необъятной юбки… Я расхохотался, как сумасшедший, и с тех пор не могу себе представить этой романтической красавицы иначе, как с загрязненным подолом, и чувствую, что никогда не влюблюсь в нее. Простите мне, что я сочетал в вашей мысли образ Рима с возмутительной непристойностью его обычаев и устоев, но это самая характерная черта, которая одним разом дает вам ключ к физиономии целого. Совершенное забвение всякой стыдливости, отсутствие обуздания, самоуверенная беззаботность прохожих, лихорадка и смерть, парящие над городом, несмотря на проливной дождь святой воды, — все это объясняет многое, и нечему удивляться, что столько лачужек настроено из камней священных зданий; что грязные лохмотья висят на барельефах, врезанных во все стены, что в нравственном мире, проявляемом этой внешностью, гнездится столько низких пороков, тщетно омываемых очистительной водой, и что много природных добродетелей раздавлены здесь ужасающей нищетой. От нравственного уныния, в которое погрузило меня первое впечатление, я освободился посреди терм Кара-каллы. Это грандиозная развалина колоссальных размеров, развалина, стоящая отдельно, безмолвная и почитаемая. Здесь вы чувствуете все ужасающее могущество цезарей и видите прихотливую роскошь нации, упоенной всемирным владычеством. Но что, на мой личный вкус, лучше всего, что я здесь видел, чему нет подобного на белом свете, — это вид при пасмурном, красноватом небе, на Via Appia (Аппиеву дорогу), на эту дорогу гробниц, о которой менее, чем обо всем другом, говорят в книгах и которой я не видал на картинах. Я думаю, что все это недавно еще открыто и еще не вдоволь орошено слезами поэтов. Я вижу, что раскопки продолжаются, каждый день отрывают новые гробницы. Эффект этой узкой, но неизмеримой перспективы надгробных развалин, ни с чем не может сравниться. Это дорога, уставленная с обеих сторон, без промежутков, древними памятниками всех форм и всех размеров, без нарушения общей гармонии в расстановке и с изобилием невыразимо прекрасных обломков… Все эти обломки добыты из-под земли, где они были рассеяны в беспорядке. Гробницы восстановлены довольно хорошо, так что каждая из них имеет свой смысл, свою физиономию, и на многих сохранились надписи торжественные или шутливые. Эта дорога тянется вдоль римской Кампаньи более, чем на целую милю. Если поиски продолжатся, быть может, отроют всю эту древнюю погребальную дорогу, простиравшуюся вплоть до Капуи. Мостовая из базальта, по которой вы идете, во многих местах та же, что была на древней дороге; колеса теперешних экипажей идут по колеям, выбитым колесницами. По обеим сторонам этой дороги, которая пролегает по прямой линии через римскую Кампанью до Альбано, вы видите в степи двойные и тройные линии монументальных водопроводов, местами разрушенных и оставленных, что придает новую прелесть картине и отчасти доставляет новую пищу местным болезням, Воспоминания роятся на каждом шагу. Здесь гробница Сенеки, там поле битвы Горациев, храм Геркулеса, цирк Ромула и прекрасно сохранившийся величественный памятник — великолепный мавзолей Цецилии-Метеллы. Но я — бедный живописец, и говорю вам только о том, что бросается в глаза. Все прекрасно, все величаво, ярко и еще более, странно на этой Via Appia; на всем лежит печать запустения, которого не нарушает ни одно сооружение новейших времен, никакая будничная случайность.
Я пал еще ниже в мнении мисс Медоры, рассказав ей после прогулки с лордом Б…, что самое сильное впечатление в продолжение этого дня произвела на меня следующая картина. Тарталья, что помимо нашей воли следует за нами повсюду и, несмотря на запрещение вступать с нами в разговоры, умеет заставить нас исполнять его желания, завел нас к отвратительному отверстию сточной трубы, проведенной под садами, в каком-то совершенно деревенском углу Велабра; должен вам сказать, что Рим на каждом шагу представляет то древние развалины, то христианский город, то квартал nobile (аристократический), то деревню. Мы сошли по грязной дорожке и видели, как какой-то человек скидывал в зловонную яму дохлых животных, которыми была наполнена его тележка. Эта бездонная пропасть называется Cloaca maxima, она существует более двух тысяч лет. Цель этого сооружения — очищение города; оно так прочно сложено из огромных камней травертинского или вулканического туфа, что и до сих пор туда сходит вода из канав этой части города, а оттуда уже стекает в Тибр. Но я думаю, что полиция не слишком заботится об этом месте, и потому оно теперь до половины завалено разным сором и нечистотами: мертвую лошадь ведь легче бросить туда, чем зарывать в землю. Лорд Б…, ужасно утомленный древностями, осыпал бранью Тарталью, когда мы, возвращаясь, увидели достопримечательность, ускользнувшую прежде от нашего внимания: место, высеченное в туфе, где в глубине небольшой черной пещеры течет Aqua argentina (серебряная вода), светлая кристальная струя, происхождение которой неизвестно. Эта чистая вода, столь Драгоценная в городе, где вода вообще нездорова, оставлена на произвол первой пришедшей туда прачки. Когда мы проходили, там была уже прачка, которой я никогда не забуду. Одна в этой пещере, высокая, тощая, не без следов былой красоты, отвратительно грязная, одетая в рубище земляного цвета, с черными еще не поседевшими волосами, распущенными по нагой груди, отвисшей, как у престарелой эвмениды; она стирала белье, колотила и, выжимая, крутила его с каким-то ожесточением, напоминавшим мне гальские предания о фантастических ночных прачках. Это была римлянка или, скорее, латинка. Она пела неслыханную песню высоким, гнусливым и жалобным голосом, на особом наречии; я разобрал только часто повторяемые рифмы: mar, amar. Меня бы очень огорчило, если бы Тарталья вздумал мне перевести остальное или сказал бы мне, что это за наречие. Иногда невольно чувствуешь в себе необходимость чтить таинственность некоторых ощущений. Мне также не приходило в голову сделать рисунок этой развенчанной пифии, которая будто выросла там из земли и ударяла в такт по воде, и пробовала свой хриплый голос, пролежав две или три тысячи лет под римскими развалинами. Нет, не я скажу теперь эту классическую формулу, которую мы часто встречаем в романах: «Эту сцену может изобразить только кисть великого художника». Нет, здесь нужно было только видеть, слышать и помнить. Есть вещи, которые нельзя уловить никаким материальным способом, только душа овладевает ими. Хотел бы я видеть, как самый искусный музыкант изобразил бы знаками то, что пела старая сивилла. Это была песнь без ритма; в ней не было ни одного тона, который подходил бы под наши музыкальные правила. И между тем она пела не наобум и пела не фальшиво по своей методе; я долго слушал ее и слышал, как в каждом новом куплете повторялись те же модуляции и под ту же меру. Но как это было странно, мрачно, погребально, Может быть, эта тема — предание столь же древнее, как Cloaca maxima. Может быть, так пели первобытные латины, и, кто знает, не понравилось ли бы нам это, если бы слух наш, сбитый с толку неизменной системой звуков, мог допустить эту систему тонов или, по крайней мере, понять ее? Вот как могу я объяснить вам овладевшее мною волнение, которое лорд Б… просил меня потом передать словами его дорогой племяннице. Я не мог ничего растолковать ей. Я отделался шутками, и между нами произошла маленькая неприятность, к вящему удовольствию Брюмьера, который пил с нами чай и толкал меня локтем, чтобы поощрить меня каждый раз, как мне представлялся случай опротиветь предмету его обожания.
Глава VIII (Продолжение)
Я довольно поводил вас сегодня по могилам. Мы еще возвратимся к ним; здесь трудно из них выбраться, но сегодня побеседуем о живых. Мисс Медора твердо убеждена теперь, что я имею решительное отвращение ко всему прекрасному, и я вижу из слов ее, что Тарталья с помощью Даниеллы устроил дела моего приятеля. Синьорина уже знает, что я равнодушен к ее непреодолимым прелестям и что более восхищаюсь красотой наперсницы, которая и сама, кажется, начинает верить моей любви, видя, что я не перестаю осыпать ее комплиментами. Брюмьер не дремлет и питается надеждами, такими же, по-видимому, неосновательными, как те, которыми Тарталья угощает меня. Это положение дел довольно интересно и могло бы забавлять меня, если б я мог свалить с себя ледяной гнет, которым подавлен мой ум с тех пор, как я в Риме. Однако моя тоска не дает мне права наскучить вам. Передам вам разговор, слышанный мною третьего дня; он может служить продолжением того, который я подслушал в Марселе, за обедом на берегу моря. Кажется, судьба старательно заботится о том, чтобы я узнавал чужие тайны. Не думайте, однако, что я нарочно подслушиваю у дверей и перегородок; вот как это случилось. Чтобы вы лучше поняли меня, я должен описать вам расположение моей квартиры. В Италии, в больших дворцах, часто бывает, что в одном и том же доме, что этаж, то владелец. Так и в том доме, где я живу, внутренность верхнего этажа совершенно отделена от внутренности нижнего, и между ними нет никакого сообщения. Когда я хожу обедать к лорду Б…, я должен сойти на улицу и войти к ним другим входом, устроенным на противоположном фасаде здания. Но это разобщение этажей сделано не при постройке дома, а впоследствии, и я нашел в своей комнате дверь на лестницу, которая ведет к нижнему глухому коридору. Это, по-видимому, был когда-то внутренний проход из одного этажа в другой. Я осмотрел эту лестницу в день моего новоселья и, видя, что она ведет к глухой каменной стене, я оставил это без внимания. Третьего дня, часу в шестом, возвратясь домой, чтобы переодеться и идти обедать к леди Гэрриет, которая раз по семи каждое утро присылает мне сказать, что она надеется видеть меня у себя вечером, я был очень удивлен, увидя, что дверь на эту лестницу растворена и что замечательный испанский берет синьора Тартальи красуется на первой ступеньке; он стоял тогда на половине лестницы и мне виден был один головной убор этого чудака. Я кликнул его, он не отвечал. Слыша, что кто-то шевелится внизу, я сошел туда впотьмах. Когда я дошел до последней ступени, невидимая рука упала мне на плечо. — Что ты здесь делаешь, бездельник? — спросил я, узнавая по приему Тарталью. — Тс… тише, — прошептал он таинственно, — слушайте, она говорит про вас. И, взяв за руку, он прислонил меня к передней стене. Я в самом деле услышал свое имя. Это был голос мисс Медоры, доходивший до меня, как в слуховой рожок; — Ты бредишь, — говорила она, — ты ему совсем не нравишься. Он кокетничает со мною, показывая, что… Даниелла прервала свою мисс громким смехом. Мне не следовало бы слушать далее, я согласен; но в этом случае, как наперед угадал Брюмьер, я невольно подчинился демонскому влиянию мошенника Тартальи. Трудно, впрочем, поверить, чтобы человек моих лет, каким бы степенным ни сделала его судьба, мог противиться искушению подслушать разговор о нем двух хорошеньких женщин. Медора, в свою очередь, прервала смех фраскатанки строгим замечанием: — Вы с ума сошли, — сказала она, — берегитесь! Я не стану держать при себе девушки, которая будет искать соблазнительных приключений. — А что ваша милость называет «соблазнительными приключениями?» — живо возразила Даниелла. — Что в том дурного, если такой молодец и полюбит меня? Он не знатен, не богат, и скорее по плечу мне, чем вашей милости. Мисс Медора начала читать нравоучения своей горничной, объясняя ей, что человек «с моим положением в свете», образованный, каким я кажусь, не может иметь серьезных видов на гризетку, на una artigiana из Фраскати, что она была бы обманута, покинута, и что за минуту удовлетворенного тщеславия ей пришлось бы поплатиться годами раскаяния. Даниелла, кажется, неспособна была предаться безвыходному отчаянию; она отвечала решительным тоном: — Позвольте мне судить обо всем этом по-своему и прогоните меня, синьора, если я буду дурно вести себя. Остальное же вас не касается, и любовь этого молодого человека ко мне должна бы, кажется, только забавлять вас, потому что он вам противен еще более, чем вы ему. Разговор продолжался в этом тоне несколько минут, но вдруг из спокойно-колкого он превратился в шумный. Мисс Медора жаловалась, что она дурно причесана (кажется, Даниелла причесывала ее в это время); и как ни уверяла горничная, что она лучше не умеет и причесала барышню так же хорошо, как всегда, мисс Медора разгневалась, упрекала ее, что она с умыслом это делает и, кажется, распустив волосы, приказала начать снова, Даниелла, вероятно, заплакала, потому что барышня спросила: «О чем ты плачешь, глупая?» — «Вы меня более не любите, — отвечала она, — нет, с тех пор, как этот молодой человек живет здесь, вы совсем изменились: вы все досадуете на меня, и я очень хорошо вижу, что вы его любите». — Если бы я не видела, что вы сумасшедшая дикарка, — отвечала разгневанная англичанка, — я прогнала бы вас за дерзости, которые вы осмеливаетесь говорить мне на каждом шагу; но я очень хорошо вижу, что вы совершенно дикая. Подайте мне платье! Стук захлопнутой двери прервал этот разговор и положил конец греху моего непростительного любопытства. Отыскивая в потемках лестницу, я столкнулся с Тартальей, который все время простоял возле меня и, вероятно, не упустил ни одного слова из слышанного мною разговора. Я было и забыл о нем. «Но зачем ты, несносный шпион, — сказал я ему, — зачем ты забрался сюда и как смеешь подслушивать тайны семейства, которое приютило тебя и дает тебе твой насущный хлеб?» — «В этом мы оба не без греха», — отвечал мне бесстыдный мошенник. «Поделом мне», — подумал я и, чтобы не подражать двум девицам, которых мы подслушивали, я поберег ответ до другого случая. — Прежде чем уйдете отсюда, — сказал он мне с неисправимой в нем всегдашней фамильярностью, — потрудитесь полюбоваться прекрасным изобретением. Шмыгнув о стену фосфорной спичкой, которая нас внезапно осветила, он показал мне в стене небольшое отверстие, как бы от выпавшего кирпича. Я уставил туда свои глаза, но не увидел ни малейшего луча света. — Здесь нечего видеть, — сказал мне этот чичероне семейных секретов. — Это отверстие извивается в стене и устроено не для того, чтобы подсматривать, а чтобы подслушивать. Это вроде «Дионисиева уха». — Это твоя выдумка? — Куда мне! Я еще не родился, когда изобретатель этого умер. Это сделал один кардинал, из ревности к своей невестке, которая… Я не охотник до скандальных рассказов Тартальи и ушел в свою комнату. Тарталья набожен, а между тем рассказывает такие соблазнительные вещи о кардиналах, что я начинаю его опасаться; он слишком много болтает для обычного шпиона. — Мосью, мосью, — воскликнул он, когда я затворил за собой дверь лестницы, обещая надавать ему пинков, если когда-либо опять поймаю его на деле, — вы не сделаете этого! Я, римлянин; к тому же вы не то, что «Медора, которая притворяется равнодушной, когда сердится; вы сердитесь, чтобы скрыть свое удовольствие. Наконец-то вы убедились, что я говорил правду. Вы видите, что она вас любит! Поверьте, я никогда не ошибусь. Теперь смелее, эччеленца! Подслушивая почаще здесь, вы будете знать, что предпринять, а принялись вы за дело, как я вижу, отменно хорошо. Вы возбуждаете досаду, чтобы возбудить страсть. Мастер, нечего сказать; я доволен вами. Смотрите же, когда будете милордом, вспомните и обо мне грешном. — Сказав это, он вышел, очень довольный собой. За обедом, как только мы уселись, я начал хвалить прическу мисс Медоры. Я был, как вы видите, в предательском расположении духа, но сказать правду, у Даниеллы прекрасный вкус, и она много помогает госпоже своей в ее победах над сердцами. «Бедная девушка, — подумал я, — у нее у самой прекрасные волосы, ее собственные волосы, более собственные, чем у мисс Медоры, а их и не увидишь, если не съедет немножко белый головной платок». В разговоре, который я слышал, бедная Даниелла была вызвана на ссору, и она же была унижена, оскорблена. Не возмутительно ли для молодой девушки сторониться, исчезать, чтобы давать место другой, и посвящать жизнь свою для украшения идола, забывая о самой себе? И за то, что эта смиренная жрица осмелилась верить моей хвале, разгневанная богиня хотела изгнать ее из своего святилища. — Да, — говорил я Медоре. — Я никогда не видал, чтобы вы были так хорошо причесаны. — Вы так думаете? — спросила она тоном женщины, которая ставит себя выше этих мелочей. — Я всегда причесываюсь сама и всегда в минуту готова. — Неужели? Вы искусны, как фея, и имеете вкус художника. Мы были одни, она воспользовалась этим, чтобы со мной пококетничать, и не очень искусно, как, кажется, всегда бывает с англичанками, если они за это примутся. — Что вы так пристально на меня смотрите? Я вовсе не красавица на ваш вкус. — Это правда, — отвечал я смеясь, — вы не хороши собою, но все-таки прекрасно причесаны, и я завидую вашему искусству. — Это с какой стати, разве вы хотите заплетать и взбивать свои волосы? — Я хотел бы на всякий случай знать, как научить этому натурщицу. Позвольте мне взглянуть поближе? — Да смотрите внимательнее, и научите вашу прачку «Серебряного ключа» (Aqua argentina) причесываться по-моему. Что вы делаете? Вы дотрагиваетесь до моих волос? Знаете ли, что у англичанки и волоска нельзя тронуть? — Но я имею на это право. Вы как думаете? — Право, это почему? Скажите, пожалуйста. — Потому что я возле вас совершенно спокоен и равнодушен. Я один в целом свете так глуп; я один не могу ничем ни потревожить, ни оскорбить вас. Надобно вам сказать, что, дотронувшись до ее косы, я почувствовал разницу между прядями своих и накладных волос, и уже с уверенностью прибавил: — Может ли женщина, у которой не было бы такого обилия волос, причесаться, как вы? — Почем я знаю, — отвечала она отрывисто, бросив на меня взгляд, полный ненависти, в котором я прочел: «Так ты знаешь, что у меня подвязная коса; Даниелла тебе это рассказала или причесала меня так, что подлог слишком явен для всех». Спустя минуту она вышла и, когда возвратилась, я заметил, что прическа уже поправлена. Я раскаялся в своих словах; они, вероятно, стоили новых слез бедной Даниелле.Судьба бросила меня, как яблоко раздора, между этими женщинами. Я должен перестать дразнить одну из них. Кажется, я не в долгу у Брюмьера и добросовестно упрочил за собой антипатию Медоры. Правда, дерзкие ответы служанки во многом помогли мне в этом. Но довольно, далее идти не следует, если я не хочу накликать бурю на бедную Даниеллу. Знаете ли, что я привязался к самому нелюбезному существу этого дома? Я говорю не о несчастном Буфало, который, в самом деле, очень понятлив и, право, умеет жить в свете, но о настоящей паршивой собаке семейства, о лорде Б…, «о прозаическом, ограниченном, пошлом невеже, о пустом человеке, без ума и без сердца». Таково теперь решительное мнение леди Гэрриет о том, кого она так горячо некогда любила, любила до безумия, до чахотки. Когда я гляжу на эту коротенькую и толстенькую фигурку, так удачно исцелившуюся от любовной чахотки, такую еще свежую в своей осенней поре и такую любезную, когда она забывает плакаться на посредственность своего мужа, я невольно прихожу в ужас при мысли о любви. Неужели передо мной одна из неизбежных реакций сильных страстей, и неужели человек, горячо любимый, должен непременно ожидать этого презрения, которое леди Б… едва может скрывать, и то лишь, благодаря своему умению жить в свете, — презрения, которое точит ее гордость, как медленный яд? Это бы еще ничего, и вы скажете мне, что и в таком случае я еще немного рискую, внушая сильные страсти. Я сам так же думаю; но если в недобрый час мною самим овладеет страсть и если я соединюсь неразрывными узами с обожаемой женщиной, неужели и мне придется со временем испытывать сердечную муку такого разочарования, какое я вижу в леди Б… Всего вернее то, что леди Б… ошибается и насчет своего мужа, и насчет самой себя. Лорд Б… имеет несомненное преимущество перед нею в положительных достоинствах. У него нет ни большого ума, ни больших познаний, но и того, и другого более, чем у нее. Характер у лорда Б… прекрасный: в нем есть такая прямота, такая искренность, такая нравственная чистота, так много философии и великодушия как по увлечению, так и сознательного. Эти достоинства далеко оставляют за собой врожденную кротость, беззаботную щедрость и исступленную, слезливую чувствительность миледи. Впрочем, оба они честные, добрые люди, но муж имеет все существенные достоинства мужчины, а жена лишь самые обыкновенные нравственные прикрасы женщины. Леди Гэрриет — тип, всюду встречаемый; лорд Б… — редкая своеобразность, в тесном кругу семейных добродетелей — образцовое явление. Мне кажется также, что эти два уязвленные сердца ненавидят друг друга, и, проклиная ежедневно соединяющие их узы, они не могли бы видеть без сожаления и ужаса расторжение этой связи. Где же источник разочарования жены и уныния мужа? Может быть, причина таится в их неверной оценке внешнего мира: муж слишком им пренебрегает, жена слишком дорожит им. Но пренебрежение лорда происходит от избытка скромности, а пристрастие миледи — от суетного тщеславия. И вот весь быт семейства навсегда возмущен; две жизни искажены и обессилены, потому что у жены недостает здравого смысла, а у мужа — самонадеянности!.. Мы скоро договорились до этой тайной язвы с лордом Б…, он не умеет скрывать ее, она слишком давно докучает ему! Может быть, природа не дала ему довольно энергии. Я сказал ему, что подслушал разговор его с флотским офицером и решился никому не говорить об этом, еще и не предвидя, что мы будем в коротких отношениях. Он очень благодарил меня за эту деликатность, не догадываясь, что скромность моя ничем ему не поможет. Кто видит его болезненную грусть, его задумчивость, иногда язвительно-насмешливую, когда он бывает с женой, тот легко разгадает тайну, которую я узнал, разве только с большими подробностями. Я позволил себе сказать ему это; он опять благодарил меня за мою откровенность и обещал остерегаться; но у леди Гэрриет бывают часто проблески сдержанного негодования, вздохи сожаления и другие внешние выражения внутренних ощущений, оскорбительные для мужа, и я боюсь, что советы мои останутся бесполезными. К тому же, они оба так, кажется, привыкли быть недовольными друг другом, что умерли бы с тоски и не знали бы что делать, если бы между ними восстановилось согласие. Прекрасная Медора должна бы, кажется, быть точкой соединения между супругами, но вряд ли она когда-либо подумала об этом. Она, кажется, очень легкомысленна, хотя с виду так степенна и серьезна. Воспитанная на большой дороге матерью-путешественницей, потом сирота, переходившая из рук в руки в кругу своих родственников, она, как только достигла совершеннолетия (ей теперь, должно быть, лет двадцать пять), избрала себе дуэньей тетку свою, леди Гэрриет. Это предпочтение объясняется, может быть, сходством склонностей и привычек: любовью к нарядам, к лени и к наружному блеску во всем без исключения. Они называют это отличительными склонностями артистов. Сверх того, молодая племянница поддакивала всегда тетушке в ее жалобах и обидных насмешках над бедным мужем. Лорду Б… это очень неприятно, но он смиренно все переносит. — Она удвоила, — говорит он, — итог выпадавших на мою долю порицаний, внеся в капитал свою часть неодобрительных замечаний на мой счет; но с другой стороны, она облегчила мои страдания тем, что часто умеет рассмешить леди Гэрриет. Они почти всегда смеются надо мной, а когда она смеется, она обезоружена, и если в это время презирает меня более, зато менее беспокоит.
Мы выкинули из дневника Жана Вальрега несколько глав, которые намереваемся издать особо. Путевые впечатления слишком преобладают в них над драмой его жизни. В предлагаемом нами выборе мы старались восстановить равновесие, о котором он не заботился, когда писал к нам свои письма. Мы не последуем за ним ни в музеи, ни в храмы, ни во дворцы вечного города и схватим прерванную нить нашего рассказа с той поры, как молодой артист переехал во Фраскати.
Глава IX
Фраскати, 31-го марта.Я думаю, что я порядочно надоел вам моим сплином в последние дни. Отвращение мое к Риму довело меня до болезни: я пролежал несколько дней. С тех пор, как я переехал во Фраскати, мне лучше. Я простудился в Тиволи, и это было главной причиной моей болезни. Как хорошо в Тиволи! Я опишу вам это место в другое время. Понимаю, что вы хотите прежде всего знать, что случилось со мной. Добрая леди Гэрриет, видя меня в лихорадке, которая начала трясти меня, как только мы возвратились из Тиволи, непременно хотела сама ухаживать за мной. Муж насилу растолковал ей, что ее попечения стеснили бы меня и беспрестанно раздражали бы, так что болезнь моя могла бы усилиться, и сам взялся обо мне заботиться. И с какой обдуманной нежностью занялся он мною! Он — истинно прекрасный человек. Видя, что я, как кошка, хотел скрыть болезнь мою, он тоже скрылся от меня позади моей кровати, и вышел оттуда только тогда, когда я был в бреду и не мог понимать забот, предметом которых был. Было два таких припадка; каждый продолжался по двенадцати часов, равно как и промежуток между ними, Искусный французский врач лечил меня и спас, кажется, от серьезной болезни. Я должен сказать, что и Даниелла также приняла во мне участие, и когда я был не в беспамятстве, я видел, как она помогала лорду Б… ухаживать за мною. После я уже не видал ее, и даже, когда при отъезде моем из дома искал ее, чтобы поблагодарить и проститься с нею, я ее не нашел. Надобно вам сказать, что я потихоньку бежал из Рима. Как только мне стало лучше, я просил доктора Мейера предписать мне загородную жизнь. Я хотел было поселиться в Тиволи, но там нездоровый воздух, и мне посоветовали отправиться во Фраскати. Лорд Б… намеревался сам отвезти меня туда и устроить меня там, но я не терплю занимать других моей глупой особой, нервной и раздражительной, как все расслабленные, и уехал ранее дня, назначенного для нашего отъезда. Я взял наемный экипаж, и вот я на свободе, то есть один. Фраскати лежит в шести милях от Рима на Тускуланских горах. Эта цепь вулканических возвышенностей примыкает, как часть, к системе гор Лациума. Мы все еще в римской Кампаньи, но здесь уже конец ужасной пустыни, окружающей столицу католического мира. Здесь земля перестает пустовать и лихорадка прекращается. Надобно в течение получаса взбираться на гору, чтобы достичь чистого воздуха, разлитого поверх зараженной атмосферы необозримой долины, но эта чистота воздуха происходит здесь не столько от возвышения местности, сколько от обработки земли и от устройства водостоков; Тиволи вдвое выше, по своему положению, а не свободно от вредного атмосферного влияния. На пути к этим возвышенностям, оставив за собой разрушенные водопроводы и три или четыре лье волнообразной местности, на которой нет для взоров простора, вы достигаете, наконец, совершенно гладкой равнины, которая представляет довольно грандиозное зрелище, Это — озеро бледной зелени, простирающееся влево, до самой подошвы горы Дженнаро. При закате солнца, когда мелкая и тощая трава этого неизмеримого пастбища подернется позолотой лучей заходящего солнца и оттенится, местами, силуэтами смежных гор, величественный характер местности обнаруживается вполне. В это время незначительные неровности почвы, исчезающие в этой обширной раме, стада и сопровождающие их собаки, единственные сторожа их, рискующие по целым дням оставаться в некоторых частях степи, не страшась малярии, обрисовываются в очертаниях и отделяются колоритом так явственно, как далекие предметы на море. В глубине этой зеленой пелены, такой ровной, что трудно определить взором ее пространство, основания гор кажутся плавающими на волнах колеблющегося тумана, тогда как вершины их высятся, неподвижные, отчетливо рисуясь на фоне неба. Все это навело мою мысль на критическое замечание: почему римская Кампанья не всегда производит эффектное впечатление? Я говорю о впечатлении природы на глаз художника и, может быть, на душу поэтов. Причина заключается, по-моему, в несоразмерности предметов. Равнина слишком пространна сравнительно с вышиной гор: это огромная картина в узенькой раме. Свод неба слишком громаден, и взор не встречает ни одной заметной группы, которая могла бы задержать на себе внимание. Кругом все торжественно и однообразно, как море во время штиля. К тому же, особый быт этой страны умеет все испортить, даже пустыню. Уж если здесь пустыня, пусть же будет пустыней вполне, как Куперовы американские луга, естественные недостатки которых, как мне кажется, по их описаниям и по виденным мною картинам, довольно схожи со здешними: слишком мелкие хребты гор вокруг обширных плоскостей. Но индийские равнины, по крайней мере, дышат уединением, и живописец, глаз которого, как бы он ни бился, всегда смотрит под влиянием мысли, может отдохнуть на ощущении полного одиночества и торжественного отчуждения. Здесь не думайте позабыть прошлые или настоящие беды общественного быта. Эта равнина усеяна предметами, находящимися между собой в резком разногласии: множеством более или менее славных древних развалин; башнями гвельфов или гибеллинов, огромными вблизи, но микроскопическими на этой беспредельной арене; соломенными навесами, довольно просторными для загона на ночь стад, бродящих днем по степи, но издали до того малыми, что, кажется, и человеку негде поместиться. Эти детали, всегда или совершенно светлые, или совершенно темные, смотря по времени дня и по направлению света, несносны, и благодаря им, равнина похожа на покинутый лагерь. Простите мне эту холодную критику на места, которые мы привыкли находить восхитительными и исполненными поэзии. Надобно же объяснить вам, почему, за исключением редких минут, когда взор случайно ловит здесь гармонические детали (как, например, стада), или какой-нибудь вид между двух холмов, где, по счастью, глаз не наткнется на резкие очертания развалин, я внутренне восклицаю: «Бессмысленная, трижды бессмысленная римская степь! О, мои прекрасные, роскошные ланды в Ла-Марше и в Бурбонне, никто не воспевает вас! Это оттого, что у вас нет чумы, нет трупов, нет разбойников и нет слез поэта!» Наконец, здесь, во Фраскати, вы переселяетесь в другой мир, уютный мир садов посреди скал; в мир, по счастью, своеобразный, не похожий ни на что, и дающий вам понятие о наслаждениях древней жизни. Я постараюсь, как умею, изобразить вам его; здесь в первый раз я почувствовал, что я далеко от Франции, что я в новой стране. Сегодня я расскажу вам только о моем перемещении в жилище столь же странное, как и все его окружающее. Забудьте слова, сейчас только мною сказанные: «Наслаждения древней жизни». Здешняя местность по нраву заслуживает названия прелестной, но для бедного путешественника цивилизация не оставляет здесь ничего, и если истинно царские виллы, которые я вижу из окон моего приюта, обличают остатки древней роскоши, мещанское и ремесленное сословия, прозябающие у самых оград дворцовых садов, не имеют ни малейшего о ней понятия. Город, впрочем, красив не только по своему живописному положению и по кайме римских развалин, висящих над глубоким обрывом, но и сам собою. Он хорошо распланирован и довольно хорошо отстроен. У въезда укрепленные ворота, форма которых не лишена характерности. Площадь, настоящая итальянская, с фонтаном и с базиликой, выражает и значительность, и простор, и удобство, которых в сущности нет; но то же встретите вы во всех небольших городах Церковной Области: везде, прекрасный въезд, памятники, несколько огромных палат, с виду барских; щеголеватая вилла или богатый монастырь, где показывают несколько картин знаменитых художников, и потом, вместо города, довольно миловидное местечко, населенное рубищами и затаившее внутри себя Отвратительную нищету и невыразимую неопрятность. Я осмотрел домов двадцать, приискивая уголок, где бы приютиться. Воспитанный в бедной деревушке, я, уверяю вас, не искал аристократических, прихотливых удобств, — и что же? Повсюду я находил эту противоположность, исключительно свойственную Италии: бесполезную роскошь украшений и недостаток в самых необходимых потребностях жизни. В самом бедном жилище — статуи и картины; зато нигде, разве за непомерную цену, нет опрятной кровати, нет стула с полным комплектом ножек, нет окна без выбитых стекол. Я заходил в эти дома, обманутый их наружным видом. Хорошо построенные и хорошо сохранившиеся снаружи по милости неразрушительного климата, они предвещают удобство; но при самом входе, вы удивитесь, вступая в какие-то сени, служащие отхожим местом для проходящих; далее грязная лестница, со ступенями в аршин вышиной, ведущая в скверный чулан, полный отвратительной вони. Правда, у нас мрамор под ногами и кое-какие фрески над головой. Излишнее необходимо для римлянина — и наоборот, необходимое излишне. Во Фраскати внутренность Albergo Nobile, старинного дворца, сто раз перепроданного, замечательная редкость в этом отношении. Вы проходите через обширные залы, наполненные статуями из белого мрамора, копиями древних статуй, В просторном главном зале, устроенном полукругом, вы видите целый Олимп, колоссально бессмысленный. Далее идут комнаты с ландшафтными видами, которые пересекаются изображенными по стенам колоннами, прекрасные купальни с ваннами из белого мрамора по древним образцам; другие покои, более таинственные, отделаны также белым мрамором с резьбой. А посреди этой роскоши стен — лоскутья, ковры в заплатах, разрозненные кресла, грязные и гнилые, так что и отвратительно, и опасно присесть на них, тюфяки, набитые обломками аспидных плит, а для украшения — полинялые, красные с позолотой вазы с пучками павлиньих перьев. Я воображаю, что король могущественного царства Томбукту или какой-нибудь главарь племени плоскоголовых пришли бы в неистовый восторг, глядя на такие украшения. В вилле Пикколомини я нашел самое удобное и самое дешевое помещение, где я и расположился. Это большой четырехугольный дом, выстроенный на широкую ногу, который, несмотря на свои недостатки и разорение, все еще заслуживает название дворца. Крыльцо, с изломанными и рассохнувшими ступенями, проходя по которым нужно еще нагибаться под развешанное на веревках белье, ведет к сеням, которые, если б уставить их цветами, составили бы прекрасную оранжерею. В Нижнем этаже идет длинный ряд комнат со сводами несоразмерной вышины и с узенькими окнами, которые когда-то затворялись. Целый дом устроен так, чтобы летом была прохлада; зато в настоящее время здесь нестерпимый холод. Фрески, украшающие сверху донизу эти монументальные комнаты, все нелепого вкуса. Художник то старался подражать арабескам Рафаэля и не подражал никому, то изображал нагих человечков, исполняющих должность богов, которые коробятся на плафоне в ужасные позы, уморительно передразнивая фигуры Микеланджело. Двери расписаны по золотому фону и украшены кардинальскими шляпами; эти эмблемы преследуют вас во всех здешних барских палатах; нет ни одной старинной фамилии, в числе членов которой не было бы высших сановников церкви. Все это грязно, растрескалось заплесневело, загажено мухами. Массивные золоченые консоли, крытые дорогой, но не красивой мозаикой, расставлены по углам и до того ветхи, что угрожают разрушиться. Зеркала, в пятнадцать футов вышиной, потускнели от сырости и заклеены на разломах гирляндами из синей бумаги. Помост из маленьких кирпичей крошится под ногами. Железных кроватей, без занавесок, почти не видно в необъятном просторе комнат. Остальная мебель соответствует нищенской роскоши прочего убранства. На пять огромных комнат только один камин, да и тот почти бесполезен; во Фраскати не найдешь дров ни за какие деньги; хотя окрестные холмы покрыты богатой растительностью, но эти рощи принадлежат трем или четырем семействам, которые, по праву рассудительных владельцев, берегут наследственные тенистые приюты, а за своим обиходом лишнего хвороста на продажу у них не остается. Бедные люди и иностранцы, воображающие, как воображал и я, что в Италии теплая зима и жаркая весна, отогреваются здесь на мгновенном пламени перегнившего тростника, который отслужил свое время в виде тычинок на виноградных лозах и который, по негодности к этому употреблению, продается здесь по ценам наших поленчатых дров[8]. Над этим нижним жильем, которое с противоположной стороны дома, построенного на скате горы, составляет бельэтаж, тянется ряд комнат, еще больших размеров; здесь живет летом швейцарская семья, которой принадлежит вилла Пикколомини. Теперь дом этот оставался бы совершенно пустым, если бы четыре работника не приходили ночевать в подвал, а на чердаке не жила старая Мариуччия. Мариуччия, в переводе на французский Марион или Мариота (признаюсь, что сходство ее имени с именем домоправительницы моего дяди не осталось без моего внимания), — единственный страж, служанка, домоправительница, кухарка, управитель, словом, factotum этого огромного дома и принадлежащих к нему угодий. Эта женщина — престранное и презамечательное существо: низенькая, худенькая, плоская, беззубая, запачканная, съежившаяся, она считает себя una trentasettesina (37 лет). Я было перепугался, когда она предложила мне заняться моим хозяйством и стряпать для меня; но, разговорившись с нею, я увидел, что она очень не глупая женщина, пожалуй, и умная, и что она была бы для меня истинным сокровищем в минуты хандры, когда чувствуешь такую настоятельную потребность перемолвиться словом, обменяться мыслями с каким-нибудь живым существом, как бы странно оно ни было. Она водила меня по всем жилым комнатам дома, начиная с парадных покоев, до самых скромных горенок, объявляя цены найма с энергичной решительностью. Так как эти цены были сходнее всех, объявленных мне в других местах, то я торговался только для того, чтобы налюбоваться гримасами ее физиономии и наслушаться ее изумительной скороговорки. Я думал, что меня оберут порядком, ограбят, как жертву мелочных потребностей служанки-хозяйки, и готов был покориться неизбежной участи, но как только я выбрал себе помещение, дела приняли совершенно другой оборот. Мариуччия, или по внезапному расположению ко мне, или по врожденной доброте своей, начала за мной ухаживать, будто за старым знакомым. Она тревожилась, видя, что я очень бледен, и хлопотала, чтобы поскорее натопить мою комнату, разобрать мой чемодан и состряпать мне обед. Она принесла мне лучшее кресло и лучший матрац из целого дома, обшарила покои своих господ, чтобы найти мне книги, лампу, чистый ковер; отрыла на чердаке ширмы и набрала в саду охапку хвороста. Наконец, она назначила мне очень скромную цену за стол и свои услуги. Все это расположило меня в ее пользу, не потому, чтобы я восставал против системы обирания кошельков, которой каждый путешественник должен подчиниться в Италии, если хочет жить мирно, но потому, что всякому отрадно видеть в подобном себе существе, каково бы оно ни было, равного себе по понятиям о честности. Итак, я живу теперь в третьем этаже, который, принимая в расчет непомерную вышину двух нижних, был бы шестым в Париже. Вид из моих окон восхитительный; я должен бы сказать «два восхитительные вида», потому чтоМои две комнаты находятся на самом углу дома, так что из окон одной я вижу цепь гор от Дженнаро до Соракте, римскую Кампанью и целый Рим, как на ладони, вижу его невооруженным глазом, несмотря на тридцать миль расстояния, в прямом направлении по равнине, отделяющей меня от города. Из окон другой комнаты открывается вид еще очаровательнее; за пределами неизмеримой степи виднеется море, тянется берег Остии, чернеет лес Лаурентума, светлеет устье Тибра, и над всем этим на последнем плане картины высятся в небо, как призраки, неясные очертания Сардинии. Перспектива необъятная! Вот блеснул луч солнца и придал этой панораме одухотворенный вид. Здесь могу я жить и больной, могу не скучая лениться, могу переносить заключение в дождливую погоду. Что касается пищи, я обеспечен; со мной живет добрая женщина, на смешную, но добрую физиономию которой я могу любоваться когда угодно; две комнаты, не высокие, но большие; воздух всегда чистый, по причине возвышенного положения и не очень плотной постройки моего жилья; несколько книг, из которых я могу почерпнуть много сведений о здешнем крае, и если будут, хотя и редко, ненастные дни, предо мной такой великолепный вид, каким я никогда не любовался. В то самое время, когда я пишу к вам это, как очарователен описанный мною ландшафт! Далекие горы блещут отливом опала, таким нежным, таким, тонким, что они кажутся как бы прозрачными. Вся восточная сторона картины будто тонет в теплом свете вечерних отблесков. Напротив того, весь запад залит ярко-пурпурным заревом. Солнце, спустившееся на черту горизонта, жарко пылает, а столпившиеся около него темно-фиолетовые тучи придают ему еще более блеска. Болотистые излучины Тибра светлой нитью змеятся около темных масс леса, еще более фиолетовых, чем небо. Море стелется вдали огненной пеленой, а на террасе ближней виллы, будто нарочно, чтобы придать еще блеска и странности картине, на первом ее плане роскошный фонтан сыплет мириады золотых брызг, резко отбивающихся на темном ковре зелени.
Глава X
Фраскати, вилла Пикколомини. 1 апреля.Недаром солнце садилось в тучи: в эту ночь разразилась такая гроза, какой я сроду не видывал. Несмотря на толщину стен и мои маленькие окна, отчего всякий внешний шум должен бы, казалось, отдаваться здесь глуше, я думал, что вилла Пикколомини улетит в пространство, по которому носились вчера мои изумленные взоры. Я, однако же, заснул, но мне снилось, будто я на корабле, который рассыпался вдребезги. Сегодня идет частый, но мелкий дождь. Колоссальный пейзаж, который я вам описывал, более не существует. Не видать ни Дженнаро, ни Соракте, ни базилики Св. Петра, ни Тибра, ни моря. Все туманно, как парижское утро. Я едва различаю дома Фраскати подо мною: надобно вам сказать, что вилла Пикколомини, лежащая на одной из оконечностей города, расположена на верхней площадке естественных зеленеющих уступов, которые мне очень хочется осмотреть поближе. Мариуччия принесла мне чашку хорошего молока. Пока я вынужден сидеть дома, я расскажу вам о некоторых обстоятельствах, пропущенных мной во вчерашнем бюллетене. Речь идет о поездке в Тиволи, о которой я намекнул вам, но приключения которой кажутся мне сегодня до того странными, что мне сдается, будто я видел все это в бреду моей болезни. Я люблю странствовать по живописным местностям или один, или с артистами; но семейство Б… решило отправиться в Тиволи двадцать шестого прошлого месяца и меня взять с собою, Брюмьера не пригласили, хотя и для него нашлось бы место в коляске. Я предложил было разместиться с кучером на козлах, но от моего предложения уклонились, и видя, что дамы этого не желают, в особенности леди Гэрриет, я не настаивал и, естественно, не предупредил Брюмьера, как прежде был намерен, что и ему есть возможность отправиться с нами. Дорога казалась мне страшно скучной до Сольфатары, где начинается геологически интересная местность. В воздухе было то жарко, то прохладно; леди Гэрриет и ее племянница непременно хотели, чтобы лорд Б… и я восхищались поэзией и красотой равнины, а я находил, что она несносна, и дорога по ней утомительно скучна. Мы ехали, впрочем, не тихо. Лорд Б… купил четверку отличных местных лошадей. Здесь славная порода, они не велики, и хотя плотны, но не тяжелы, прытки на бегу, с огоньком и вполне сносны. Мастью они бывают обычно вороные, шерсти мелкой и гладкой, голова у них неказистая, нога похожа несколько на коровью, но прочие стати хороши. Часто бывают они норовисты, и на каждом шагу и во всякое время можно встретить в Риме и его окрестностях нешуточные ссоры этих животных с человеком. Здешние всадники и кучера очень смелы, но вообще обращаются с лошадью скорее бойко, круто, упрямо, чем искусно и разумно. Несчастные случаи, однако же, здесь редки; лошади крепки ногами, и не спотыкаясь, спускаются по мостовой из плитняка с самых крутых съездов на холмах столицы. Вчера я заметил лорду Б…, который в первый раз объезжал эту четверку, что тип этих лошадей тот самый, что у лошади Адрияна, из позолоченной бронзы, на дворе Ватикана. Лорд говорил мне, где именно в Церковной Области водится эта порода, но я забыл. Это, я думаю, не Agro romano; жеребята этой породы, пасущиеся в степи, все чахлые, равно как и их матки. Быки здесь также малорослы и некрасивы, хотя и принадлежат к прекрасной породе скота, молочно-белой масти с огромными крутыми рогами; их употребляют для перевозки тяжестей и на земледельческих работах в нагорных странах. Эта порода не такая рослая, как рогатый скот во Франции, но тонкость стати и шерсти, красота ног и головы должны бы служить моделью для живописцев при изображении этих животных на картинах. Однако же на картинах римской школы мы чаще видим буйволов, вероятно, как животных более странных форм; по-моему, эти буйволы пребезобразные. Эта порода белых быков происходит, как мне говорили, из Венецианской области; но чрезмерное развитие рогов, как мне кажется, есть уже перерождение, следствие влияния местных условий почвы и климата, и скорее признак слабости, чем силы. Здесь пашут на чем попало: на быках, на коровах, на ослах и на лошадях; пашут небрежно, не заботясь о стоках для воды, не принимая должных мер против загрязнения воздуха, не разрыхляя, как следует, земли. Земля здесь плодородна, климат благоприятный; но для хлебопашцев все дело в том, чтобы скорее закончить работы и, по возможности, не долго оставаться в этой зараженной стране. Они все не здешние; кочующие поденщики, они ночуют, в продолжение полумесячной работы своей, в развалинах или под соломенными навесами, которые служат путнику убежищем в степи; окончив кое-как работы, они спешат уйти, ищут заработков в более здоровых местах и возвращаются сюда не раньше, как ко времени жатвы, оставляя зерно попечениям природы и не заботясь о посеве, пока он не созреет. Животные, брошенные в степи почти с той же беззаботностью как и семена, очевидно, терпят от влияния атмосферы. В местах, лежащих выше уровня этой зараженной страны, скот, равно как и растительность, рослее и красивее. Из домашних животных здесь красивее всех козы. Большое стадо коз кашмирской породы прилегло отдыхать близ дороги и спокойно спало, когда мы подъехали; посреди молодых коз спало также дитя, завернутое в козью шкуру. Услышав стук приближающегося экипажа, все проснулось, все вскочило в один прыжок и вихрем понеслось по равнине. Как волна белого шелка, катилось стадо по ровной поверхности степи. Молодые козы крупными прыжками подавались вперед, старые неслись, распустив по ветру блестящую бахрому своей шелковистой шерсти. Молодые пастухи, также белые, потому что единственной их одеждой были козьи шкуры, бежали вслед за стадом, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь на ноги и задыхаясь от быстрого бега и страха. Мы остановились, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я вышел из коляски и сумел успокоить мальчика-пастуха, который позволил мне взять на руки маленького козленка, чтобы показать его мисс Медоре. Здесь начинается, милый друг, мое странное приключение. Прекрасная Медора усадила козленка на колени, ласкало его, кормила хлебом, играла с ним, пока лорд Б… не вышел из терпения и не напомнил, что время проходит и что дай Бог засветло осмотреть наскоро Тиволи и возвратиться в Рим. Отдавая мне животное, она устремила на меня странный взгляд, и потом, откинувшись в глубь экипажа, закрыла платком лицо. Это движение навело меня на мысль, что неприятный запах козленка заставил ее поднести к лицу платок, опрысканный духами. Я поспешил возвратить козленка пастуху, который не забыл протянуть ко мне руку, еще прежде чем я опустил мою в карман, чтобы вынуть для него несколько байок. Когда я снова сел в коляску, я увидел, что мисс Медора рыдала, тетка ее старалась ее успокоить, а лорд Б… насвистывал какое-то lila burello, с видом человека, смущенного смешной сценой. Это непонятное положение смутило и меня. Я осмелился спросить, не нездорова ли мисс Медора? Она сейчас же отняла платок от лица и, взглянув на меня как-то странно, сквозь крупные слезы, еще дрожавшие в глазах ее, весело отвечала мне, что она никогда не чувствовала себя так хороши, как теперь. — Да, да, — поспешила сказать леди Б…, — это ничего, это нервный припадок. «Какое мне дело», — подумал я, и через несколько минут приискал благовидный предлог, чтобы пересесть на козлы, чего мне давно уже хотелось, и это желание очень усилилось со времени странной сцены, в которой я играл нескромную роль безучастного и, следовательно, лишнего свидетеля. Немного далее мы остановились, чтобы осмотреть озерки deitartari[9] и окружающие их любопытные серные кристаллы. Вообразите себе миллионы маленьких вулканических конусов, из которых каждый имеет свое главное жерло и окружные отверстия. Это миллионы миниатюрных Этн. С первого взгляда эти крошечные сопки похожи на особый вид растений, окаменевших на корню, а потом покажутся вам жидкостью, мгновенно окрепнувшей в минуту самого сильного кипения. Вокруг этого поля кратеров и по берегам этих луж мутной воды, называемых озерами, стоят грядами другие необъяснимые сталактиты, принимаемые здесь за окаменевшие растения. Я не очень верю этим догадкам и полагаю, что это, так же как и соседние конусы, продукт вулканической прихоти; отверделые брызги кипевшей грязи, смешанной с серой. Я осматривал этот феномен с большим любопытством, отломил несколько образчиков, и немало удивился, видя, что мисс Медора опять расплакалась. Тетка пожурила ее немного и поспешила увести в экипаж. — Пойдем, — сказал мне лорд Б… — Если это вас так интересует, мы с вами, пожалуй, опять сюда приедем. Вы видите, что у моей любезной племянницы припадок сумасшествия. — В самом деле? — воскликнул я в смущении. — Эта девица подвержена… — Нет, нет, — возразил, смеясь, лорд Б…, — она не настоящая сумасшедшая. Она только дурачится, как и моя жена, которая придает этим странностям слишком большую важность, а вы сами хорошо знаете их причину. — Я ничего не знаю, уверяю вас. — Вы ничего не знаете? — спросил меня лорд Б…, останавливая меня и глядя мне пристально в глаза. — По чести, ничего не знаете? — Честное слово, — отвечал я непринужденно. — Гм… это странно, — возразил он. — Мы поговорим об этом после, если представится случай. И, не дав мне времени расспросить его, он повел меня к коляске и принудил уступить ему место на козлах под предлогом, что сам хочет править лошадьми, чтобы попробовать, не слишком ли они перетянуты уздой. Вы понимаете, что я опять сидел, как на иголках. Мои английские дамы сначала хранили молчание. Леди Б…, казалось, была смущена не менее меня; племянница продолжала плакать. Вынужденный, по уверениям леди Б…, принять это за нервный припадок, я не мог придумать, чем бы тут помочь. Я то поднимал, то опускал стекла, — раз, чтобы впустить свежий воздух, другой, чтобы охранить от пыли. Мы стали подниматься шагом в гору, поросшую тысячелетними оливковыми деревьями, я предложил выйти из экипажа. Дамы с удовольствием приняли мое предложение, но леди Гэрриет, довольно полная, скоро утомилась и опять села в коляску. Лорд Б… оставался на козлах и понукал лошадей. Кучер тоже слез наземь, а мисс Медора, лениво шедшая позади, вдруг побежала, будто укушенная тарантулом, и пустилась, легкая, сильная и грациозная, по крутой, извилистой дороге. — Славная женщина! — сказал наивно кучер с бесцеремонностью, свойственной итальянцам всех сословий, обратившись ко мне с братским дружелюбием. — Славная женщина! От души поздравляю вас, барин. — Ты ошибаешься, друг мой, — отвечал ему я, — эта красавица не жена моя; она еще девушка, вовсе для меня посторонняя. — Я знаю, — отвечал он спокойно, без всякого спроса вынимая у меня изо рта сигару, чтобы закурить свою. — Я нанялся к этим англичанам на лето, и знаю, что она вам чужая, но вся наша дворня, да и весь Рим знает, что вы на ней женитесь. — Так потрудись сказать, любезный, и свой дворне, и, пожалуй, всему Риму, что ваши предположения — сущий вздор и бессмыслица. Я ускорил шаги свои, вовсе не собираясь слушать последствия глупой болтовни Даниеллы и сплетен ее помощника Тартальи. Мне было досадно, что эта челядь отводит мне такую глупую роль, и я старался забыть это, шагая по дороге. Эта новая забота вовсе не кстати развлекла меня в то самое время, когда очарование начинало овладевать мною среди этой поистине удивительной местности. Гора была покрыта ярко-зеленой травой, а древние оливковые деревья сглаживали свои причудливые формы и судорожные изгибы своих ветвей под бархатной оболочкой свежего мха. Оливковое дерево некрасиво, пока оно не доросло до этой колоссальной дряхлости, которую оно сохраняет по несколько веков, не переставая быть плодородным! В Провансе оно чахло, это пуки беловатых листьев, которые кажутся издали клочками седого тумана. Здесь оно достигает огромных размеров и осеняет сквозной тенью, просевая солнце золотым дождем через частую решетку своих полуобнаженных ветвей. Его растреснутый ствол разветвляется со временем на восемь или на десять огромных отщепин, вокруг которых обвиваются, как встревоженные змеи, новые отпрыски сильных корней. Такой лес приводит на память очарованный лес Тасса. Невольно мнится, что и эти деревья — заколдованные чудовища, и вот, того и гляди, оживут, зашевелятся, заревут, заговорят. Но ни в помыслах этого итальянского поэта, ни в здешней природе нет настоящих, действительных ужасов. Зелень слишком прекрасна, а ясная синева дали, виднеющаяся сквозь плетень древесных ветвей, такого нежного колорита, что не бросит мрачной тени на грезу воображения. Здесь, как в поэме Тасса, предчувствуешь благотворное влияние фей, всегда готовых превратить огненных драконов в цветочные вязи, а тернистый кустарник — в обольстительных нимф. Так мечтал я, когда прекрасная, убежавшая вперед Медора, о которой я совсем было забыл, появилась вдруг на повороте горной тропинки, выпрыгнув внезапно из дупла разветвленного дерева, где ей вздумалось притаиться. Я вздрогнул, а она бросилась ко мне веселая, смеющаяся, как будто с ней отроду не было нервных припадков. В эту минуту она действительно была во сто раз прекраснее, чем мне казалось прежде. Излишняя мелочная заботливость о себе, которую я невольно приписываю чрезмерному самолюбию, всегда портила ее в моих глазах. Она всегда слишком хорошо одета, слишком хорошо причесана и цвет ее лица всегда слишком свеж, слишком неизменен. Это красавица из слоновой кости и перламутра, которая беспрестанно меняет платья, ленты и ожерелья, никогда не изменяя своего образа, и я часто очень искренне говорил Брюмьеру, что неизменная красота мисс Медоры надоела мне до смерти. В эту минуту она была совершенно иная. Слезы подернули оттенком утомления ее прекрасные глаза; ее щеки, оживленные от ускоренного движения, покрылись румянцем, менее ровным, но более жарким, чем обыкновенно. Кожа ее утратила всегдашнюю сухость и приобрела больше жизненности; взоры сияли влагой чувства. Бегая, она потеряла заколку с головы, и ее коса рассыпалась по плечам. Может быть, она и спрятала в карман свою накладную косу, но и ее собственных волос было довольно, чтобы не нуждаться в поддельных. Ее не украшала уже неумолимая диадема приглаженных волос, лоснящаяся, как полированный черный мрамор, на беломраморном челе ее; это были ее природные волосы, рассыпавшиеся, как волнистые лучи сияния, на ее розовые, трепещущие жизнью плечи. Вероятно, она заметила в моих глазах признаки удивления красотой ее, потому что подбежала ко мне дружески и взяла меня под руку с естественностью, вовсе не похожей на всегдашние презрительные ужимки. — Что вы задумались, — спросила она меня, — и чему так удивились, когда я выскочила из дупла? Я рассказал ей, как размечтался об очарованной роще Тасса и как появление ее совпало с воспоминаниями об этих волшебных вымыслах. — Вы хотите сказать, что я показалась вам просто-напросто колдуньей? Мне, впрочем, нечего жаловаться; только в таком виде и можно вам понравиться. — Что вам вздумалось присваивать мне такую странную мысль? — А ваше восхищение прачкой Серебряного ключа? Единственное существо моего пола, которое понравилось со времени вашего приезда в Рим, вами же прозвано сивиллой. — Так вы думаете, что, с точки зрения волшебства, я хочу приравнять вас к семидесятилетней старушонке? — Что вы сказали? — прервала она меня, стиснув мою руку своими выточенными пальцами. — Этой женщине семьдесят лет? — Позвольте, но разве я не сказал этого, описывая ее прелести? — Нет, вы не говорили. Зачем вы этого не сказали? Этот странный вопрос, сделанный тоном упрека, до того смутил меня, что я не знал, что отвечать. Она вывела меня из затруднения, прибавив сама: — А Даниелла? Что скажете вы о Даниелле? Не правда ли, и она немножко похожа на чародейку? — Мне этого никогда не приходило в голову; да оно ей и не нужно: она, по-моему, и без того хорошенькая. — А! Вы соглашаетесь, что она вам нравится? Я это и прежде говорила. Надобно быть безобразной, чтобы вам нравиться. — Так, по-вашему, Даниелла безобразна? — Отвратительна! — отвечала она с видом царицы, которая ревнует ко всякому, хотя немного сносному существу на всем пространстве своих владений. — Перестаньте, вы слишком взыскательны, — отвечал я смеясь. — Вы хотите, чтобы на тех, кто не лучше вас, не смели и смотреть. К чему после этого глаза? Их придется выколоть и навек отказаться от живописи. — Это комплимент? — спросила она с видимым волнением. — Комплимент — та же насмешка, а насмешка — оскорбление. — Вы правы. Это не комплимент, но слишком избитая правда, и я не должен бы говорить вам ее; вы, вероятно, до скуки ее наслушались. — В этом отношении вы меня не избаловали. Но доскажите вашу мысль. Вы знаете, что я недурна, но вам не нравятся черты моего лица? — Я думаю, что я любил бы их столько же, сколько им удивляюсь, если бы они были всегда попросту прекрасны, как теперь. Побуждаемый ее настоятельными вопросами, я увлекся и высказал ей, что, по-моему, она всегда слишком старательно убрана, будто оправлена в рамку; слишком прикрашена, и вместо того, чтобы походить на самое себя, то есть на истинно прекрасную, восхитительную женщину, она только и хлопочет, как бы подделать в себе сходство с каждой принаряженной женщиной, с типичными образцами аристократического круга, с манекенами, стоящими на выставке у магазинов мод и ювелирных изделий. — Вы, кажется, правы, — сказала она после минутного задумчивого молчания и срывая с себя брошку и браслеты работы знаменитого Фроман-Мориса, истинно художнические произведения, на которые именно я никак не решился бы восставать, она бросила их в лес с сарданапальским, радостным увлечением. — Вот удивительная выходка! — сказал я, бесцеремонно отпуская ее руку, чтобы поднять эти драгоценные предметы. — Простите мне, как артисту, мой упрек за презрение к такому художественному произведению. Я не без труда отыскал эти вещи и подал их ей, но она, отталкивая их рукой, сказала с гневом: — Оставьте их у себя; мне они больше не нужны. — Да для кого же мне оставлять их у себя? — Для кого хотите: пожалуй, хоть для Даниеллы. Когда она разрядится, она перестанет нравиться вам, как и я. — Я отдам их ей сегодня вечером, чтобы она убрала их в вашу шкатулку, — сказал я, спрятав в карман эти драгоценности. — Вы жестоки! — воскликнула она. — Все ваши ответы холодны, как лед! — И, покинув меня, она опять побежала впереди экипажа, оставив меня в изумлении от ее вспышек. Что происходит в этой странной девичьей головке? Вот вопрос, которого я до сих пор не могу разрешить. Когда коляска догнала ее, она была спокойна и весела. Она всегда скоро успокаивается после волнений, которые, как перелетные птицы, на миг посещают ее сердце.
Глава XI
Фраскати, 1-го апреля. (Другое письмо).Тиволи — прекрасный городок в смысле красоты местоположения, но лихорадка, нищета и неопрятность царствуют там, как и в Риме. Когда мы приехали, все население городка хлопотало за свозом оливок, позднее собирание которых в этой не слишком жаркой местности только что окончилось. Мужчины, женщины и ребятишки представляли, как в Риме, настоящую выставку лохмотьев, невиданную в других странах; смотря на это сборище рубищ, трудно решить, недостаток или мода ввели в общее употребление эту отвратительную ливрею. В праздники, однако же, деревенские женщины одеваются с удивительной роскошью. В каждой слободе свой костюм, можно сказать, залитый золотом и пурпуром; на всех платья и передники из шелкового штофа, дорогие цепи и серьги. В будни все опять в грязных рубищах, все просят милостыню у прохожих. У вас есть рисунок небольшого красивого храма Сивиллы, висящего над обрывом скалы, но по этому рисунку вы никак не можете составить себе верное понятие об этой пропасти, в которую я сейчас сведу вас. Лорд Б… отправил Тарталью в Тиволи накануне, чтобы заказать для нас завтрак. Когда мы приехали, стол уже был накрыт на крутой террасе, возле самого храма, напротив ужасной скалы, на вершине которой находился главнейших из гротов Нептуна. Вершина эта обрушилась несколько лет назад и завалила часть русла Анио, так что река, уклонившись от прежнего направления, потекла под тоннелями окрестных скал и образует теперь главный водопад. Но в прежнем русле осталось еще довольно воды, чтобы питать ручей, протекающий по дну пропасти, а чудовищные обломки грота, рассыпанные у подошвы скалы, придали особую прелесть местности, над которой господствует занимаемая нами теперь терраса. К тому же, по случаю выпавших в последнее время дождей, по верхней площадке скалы Нептуна катилась струя воды и серебряной пеленой спадала на лежащий внизу острый отлом вершины. Откосы пропасти покрыты обильной растительностью, и за нею нам не видать было другого рукава ручья, который образует более значительные водопады почти на дне котловины; мы слышим только оглушительный рев их, равно как и большого водопада, заслоненного от нас другими массами скал. Эти вопли бездны, раздающиеся под навесами деревьев, вершины которых у нас под ногами невыразимо очаровательны. Завтрак был бесподобным, благодаря предусмотрительности лорда Б… и заботливости Тартальи, который знает толк в кухне, как и во всем другом. Лорд Б… был весел, сколько мог по условиям своей натуры. Вдохновленный лишней рюмкой вина Асти, очень приятного на вкус, но довольно крепкого, которому, как я сам вскоре почувствовал, нельзя слишком доверяться, он заговорил о Божьем творении с поэтическим увлечением, тем более замечательным, что оно опиралось на здравый смысл, который является господствующим началом в его характере. Леди Б…, как и всегда, хотелось посмеяться над редким воодушевлением лорда, но мне удалось остановить ее, Я слушал с заметным вниманием слова ее мужа и помогал ему развивать его мысли, когда его природная застенчивость и недоверие к самому себе мешали ему достаточно уяснить их. Он наговорил много хорошего, проникнутого теплым чувством и отмеченного своеобразием его взгляда на вещи. Медора, одаренная более светлым умом, нежели ее тетка, вслушиваясь мало-помалу в слова его, была видимо поражена ими, и, посматривая на нас с удивлением, удостоила, наконец, вступлением в разговор со своим дядей, как с человеком, имеющим в глазах ее некоторую цену. Это одобрение племянницы заразило и тетку: она перестала подпрыгивать на месте при каждом слове своего супруга и раза два-три сказала, слушая его: «Это верно, чрезвычайно верно!» Когда подали кофе, дамы встали из-за стола, чтобы надеть свои мантильи, потому что небо заволокло тучками и в воздухе становилось свежо. Лорд Б… остановил их. — Подождите еще немножко, — сказал он, — налейте себе по рюмке бордо и чокнемся по французскому обычаю. Предложение это возмутило миледи, но Медора, которая имеет много власти над нею, взяла рюмку и, обмочив в нее свои розовые губки, спросила у дяди, за чье здоровье пить? — Да здравствует дружба, — отвечал он со сдержанным волнением. — Леди Гэрриет, будьте так добры, провозгласим тост в честь дружбы! — Какой дружбы? — спросила она. — Нашей дружбы к господину Вальрегу, нашему избавителю? В честь дружбы и признательности! Очень рада! — Нет, нет, — прервал лорд Б…, — Вальрег не требует наших уверений; я говорю о дружбе в общем смысле. — Объяснитесь, — прервала Медора. — Я уверена, что вы прекрасно объясните нам вашу мысль. — Я пью, — сказал лорд, подняв свою рюмку, — в честь бедняжки богини, неутешной вдовы шалуна Купидона, приютившейся в уголку порожнего колчана, как Пандора в заветном ящике всех зол и бедствий. Молодежь презирает мою богиню, потому что она, бедная, устарела и притом очень скромна; но мы, миледи… Я видел, что он готов испортить свое вступление каким-нибудь неловким намеком на слишком зрелые осенние прелести его супруги, и воспользовался одной из многочисленных музыкальных фермат, состоящих из полувздоха и полузевка, которыми он так замысловато оттеняет свою речь, чтобы заглушить ее заключение громкими аплодисментами. Потом я прибавил со сноровкой глубокого сердцеведа, которой я прежде и сам в себе не замечал: «Браво, милорд! Это было во вкусе Шекспира, которого вы будто не разумеете, но, как я убежден, могли бы комментировать не хуже Малона или… самой миледи!» — Неужели! — воскликнула леди Б… с изумлением и с улыбкой удовлетворенного самолюбия. — В самом деле, я часто думаю, что невежество милорда одна аффектация и что в нем несравненно более вкуса и сердечной теплоты, чем он показывает. Милорд, вероятно, давно не слыхал таких любезностей от своей супруги. Бедняга как будто хотел взять ее руку, но, удержанный обратившимися у него в привычку недоверием и боязнью, он меня взял за руку и мне выразил изъявление своей признательности. — Вальрег, — сказал он, — выслушайте и поймите меня. Двадцать лет уже не завтракал я с таким удовольствием! — Правда, — сказала миледи, — с тех пор, как мы завтракали на ледниках Шамуни. Кто был тогда с нами, я не припомню… — С нами никого не было, — отвечал лорд Б…, — и вы, миледи, так же, как теперь, пили со мной в честь дружбы! Яркий румянец вспыхнул на лице леди Гэрриет. Она боялась, что неосторожные слова ее вызовут какое-нибудь нежное воспоминание. Нельзя не заметить, что за исключением малейших оскорблений ее британской стыдливости, ничего не раздражает ее столько, как самое незаметное хвастовство ее мужа насчет прежних отношений с нею, и она была очень довольна, что он вовремя воздержался от дальнейших воспоминаний о их tete-a-tete в Шамуни. — Не смешно ли, — шепнула мне мисс Медора, — что последний день нежности милых дядюшки и тетушки так некстати случился в символическом приюте ледников? Так как она стояла в это время у самой платформы, окружающей храм Сивиллы, облокотясь на железную его ограду и шум водопада заглушал наши слова, то я мог говорить с нею без опасения, что нас услышат, хотя стол, за которым еще сидели милорд и миледи, был в двух шагах от нас. — Я не нахожу ничего смешного, — сказал я насмешнице Медоре, — в неприятном положении людей, так совершенных порознь и так непохожих на себя, когда они вместе. Я полагаю, что если бы кто-нибудь искусно и с любовью стал между ними, то мог бы сколько-нибудь уладить их отношения… — И вы, как я вижу, взялись за это достойное дело?.. — Я им чужой, и сегодня вместе, а завтра врозь. Не мне следует взять на себя эту заботу, чтобы иметь успех. Этот труд по силам только разборчивому уму женщины… — И великодушным влечениям ее сердца. Я поняла и благодарю вас. Я была до сих Пор опрометчива в поведении моем с моими родственниками, сознаюсь в этом; но с нынешнего дня вы увидите, как умею я пользоваться добрым уроком. — Не уроком, а… — Нет, нет, это урок, и я принимаю его с признательностью. — Она подала мне или, скорее, подсунула свою руку по верхней перекладине перил, на которые мы оба облокотились, и я, не считая нужным таиться, поднял эту руку, чтобы поцеловать, уступая в этом естественному внушению признательности, но она поспешно отдернула свою руку, будто эта дружеская приветливость была скрытной вольностью с моей и с ее стороны, и, обращаясь к тетке, которая и не думала, равно как и дядя, наблюдать за нами, сказала, как бы в оправдание тому, что вдруг покраснела, что у нее закружилась голова, когда она смотрела в эту пропасть. Эта уловка, которая показывала, что намерения ее возникли не прямо, а под влиянием постороннего побуждения, и бросала тень на мое как нельзя более простое чувство, мне немного не понравилась. Я молча отошел от платформы, надеясь ускользнуть от моих спутников и без них осмотреть пропасть, но оказалось; что путь в эту бездну зелени загорожен, и ключ от входа хранится у особого сторожа, который дожидался уже нас у своего поста, но отказался пропустить меня одного. — Я не могу этого сделать, — отвечал он мне, — место опасное, и я в ответственности за тех, кого провожаю сюда. Еще недавно три англичанина, вздумавшие осматривать это место без меня, прокатились на самое дно пропасти. Я должен дождаться ваших дам и не смею уйти отсюда с вами, а одних вас пустить опасно. — Эй, любезный, — сказал он, увидя, что Тарталья пронес мимо нас вынутые им из нашего экипажа две бутылки вина, — не думает ли милорд высосать и эти две? — Велика важность, — отвечал Тарталья, — это французское бордо, вино легкое; англичане пьют его, как воду. — Все равно, — возразил привратник бездны, — если милорд навеселе, ubbriaco, воля его, а я не пущу его сюда. Я счел долгом не допустить лорда Б… до объяснений со сторожем. Я всегда знал его человеком воздержанным, но луч надежды восстановить прежние отношения с женой мог много изменить в его привычках. Итак, я возвратился к столу; вино было налито, хотя дамы уже встали и собирались на прогулку, а мой англичанин сделался по-прежнему холоден и серьезен. Супруги успели уже поссориться, а Медора, в свою очередь, успела позабыть роль ангела-примирителя и смеялась над печальной гримасой своего дяди. — Пойдемте, — сказала она, подвязывая свой капюшон от макинтоша, — довольно поэзии на нынешний день. Солнце садится, время не ждет, а мы приехали сюда не за тем, чтобы пить за здоровье всех обитателей Олимпа. — Вы знаете, что место это опасно, — сказала леди Гэрриет, обращаясь к своему мужу, — если пойдет дождь, тропинки сделаются скользкими, и опасность удвоится. Пойдем, или оставайтесь здесь один, если хотите. — Пожалуй, я остаюсь, — сказал он с видом смешного отчаяния. — Идите смотреть, как льется вода; для меня польется вино! Это было решительное восстание. — Так прощайте, — ответила леди Гэрриет презрительно, взяв под руку свою племянницу. — Вальрег, выпейте за мое здоровье, я этого хочу! — крикнул милорд, удерживая меня за руку. — А я не хочу, — отвечал я. — Бордо после кофе было бы для меня настоящей микстурой. К тому же я не понимаю, как можно оставлять без кавалеров в опасном месте дам, с которыми мы приехали. — Вы верно говорите, — сказал лорд, оставляя свою рюмку. — Тарталья, поди сюда. Выпей это вино и выпей все, что осталось в коляске, я тебе это приказываю, и если ты не будешь мертвецки пьян, когда мы возвратимся, ты никогда не получишь от меня ни одного байоко. Такая странная фантазия у человека, который всегда казался мне рассудительным, возбудила во мне подозрение. Я видел, что Тарталья также обратил внимание на замедлившуюся походку лорда. В его поступи было столько расслабленности, что, глядя на его ноги, нельзя было не опасаться за голову. — Не беспокойтесь, — сказал мне догадливый и полезный Тарталья, — я ручаюсь вам за него! И, не забывая вступить во владение подаренным ему вином, он подал знак хозяину гостиницы Сивиллы, чтобы его убрали, а сам пошел по пятам лорда Б…, не подавая и виду, что он за ним наблюдает. Хозяин понял, что Тарталья не выпьет, а сбудет ему это вино, и с проницательностью, присущей итальянцам этого класса, отдал своей прислуге соответствующие приказания. Успокоенный насчет моего приятеля, я поспешил вперед к дамам, которые в сопровождении проводника начали уже спускаться по тропинке, Медора, по своему обыкновению, шла впереди, подняв голову с видом презрения к опасности. Она цеплялась за каждый куст и рвала свое платье, не принимая ни малейшей предосторожности, чтобы этого не случалось. Она всегда и везде ходит, как владычица мира, которой все должно повиноваться, и если бы ей вздумалось пройти сквозь каменную стену, я уверен, что она удивилась бы, почему стена не раздалась, чтобы пропустить ее. Эти ухватки королевы Маб тревожили меня не менее неверной походки не совсем трезвого лорда Б…, но я долгом счел подать руку не ей, а тетке. — Нет, — сказала леди Гэрриет, — я осмотрительна; к тому же со мной проводник. Подайте руку Медоре, она слишком отважна. Я ускорил шаги и заметил, признаюсь не без ужаса, что и у меня немного кружится голова. Во мне возникло безумное желание побежать к Медоре, схватить ее за руку и вместе с нею броситься в эти восхитительные бездны зелени и острых скал. Тропинка была очень удобна, ничто не оправдывало тревожных опасений проводника, и тогда я понял, что мое головокружение было следствием скорее нравственных, нежели физических причин и что, заботясь о том, как бы помешать лорду Б… слишком часто повторять его замысловатые тосты, я забыл обратить больше внимания на самого себя. Впрочем, я мало пил. Асти и бордо не могли произвести этого действия; но мне было жарко, и меня томила жажда. Может быть, это был «удар солнца», лучи которого падали на нас отвесно; может быть, у меня закружилась голова от рева и движения воды в каскаде, который находился прямо перед нашими глазами, от странностей Медоры, от сердечных излияний лорда Б…, но какая бы ни была причина, я чувствовал, что я опьянел и опьянел так, что готов был с невозмутимым хладнокровием сделать величайшую глупость. Я был пьян, говорю я вам, и чувствовал это, когда побежал к мисс Медоре. В несколько секунд, пока я настигал ее, мысль моя, вероятно, от сильного напряжения нервов, чудно просветлела. «Девушка эта, — думал я про себя, — прекрасна и богата. Она так опрометчиво играет в любовь, что игра эта может погубить ее, если ты бесчестен, и соединить ее с тобою, если ты тщеславен. Все это не беда, и тут не было бы опасности ни для нее, ни для тебя, если бы ты умел лучше владеть собой, знал, что говоришь, и понимал, что думаешь; но ты пьян, то есть ты сумасшедший, готовый броситься на борьбу с судьбой, готовый увлечься красотой; в тебе закипели радость, юность, поэзия перед этим величественным зрелищем, перед этими роскошными дарами твоей любимицы! Ты готов теперь высказать все, что на сердце, когда ты должен бы наблюдать за каждым своим взглядом, взвешивать каждое слово, которое произнесешь, чтобы не сделаться ни глупцом, ни злодеем, ни плутом, ни ветреником!» Как все эти рассуждения сгруппировались в моей голове в продолжение двух или трех минут, право, не знаю, но они представились мне так ясно, так отчетливо, что я почувствовал необходимость сделать над собой усилие, чтобы отрезветь. Случалось ли вам видеть во сне, что вы видите сон? Случалось ли вам оторваться от неприятных образов томительной грезы единственно усилием вашей воли? Вот что именно происходило тогда со мной. Я не сумел бы передать вам теперь, сколько энергии и болезненных ощущений было в этой борьбе с винными парами; скажу только, что я остался победителем. Остановись на крутом повороте тропинки и не видя Медоры за выдавшимся углом, я только подумал: «Где она? Я ее более не вижу, Может быть, она упала в пропасть? Что ж, Бог с ней! Тем лучше для нее. Лучше погибнуть, чем сделаться жертвой неуместного и минутного увлечения страсти с ее и с моей стороны». Проговоря себе эту мудрую речь, я уже был снова в нормальном положении и чувствовал одну усталость, будто только что пришел из дальней дороги. Я догнал Медору и подошел к ней спокойно; вместо упреков за ее неосторожность, которые я приготовил мысленно за минуту перед тем, сказал ей улыбаясь, что по поручению тетушки пришел охранять ее от опасности. — Верю, что по ее поручению, вы не сделали бы этого по собственному побуждению. — Вы угадали. Зачем пришел бы я докучать вам моим присутствием, когда эта дорожка так прекрасна и так удобна, что лучшей нельзя желать в таком, как это, месте? Здесь можно бегать, как по паркету, и надобно быть до смешного неловким или бессмысленно самонадеянным, чтобы оступиться на этой тропинке. После этого замечания она пошла медленнее. — Так вы думали, что я хотела блеснуть перед вами моей отвагой, и прибегаете к приемам красноречия, чтобы сказать мне… — Чтобы что сказать вам? — Что мой поступок не будет иметь успеха. Это лишнее. Я очень хорошо знаю, что не могу предаться веселости, весьма, впрочем, естественной, не могу ни на минуту почувствовать себя ребенком и забыть, что вы тут как тут со своими намеками, и что меня тотчас обвинят в желании рисоваться, принимать позу какой-нибудь Аталанты или Дианы Вернон. Согласитесь, что вы не совсем приятный спутник па прогулке и что сидеть под стеклянным колпаком на выставке, может быть, сноснее, чем находиться под вашим разоблачающим, неумолимым, недоброжелательным взором. — Так как разговор наш дошел уже до нелюбезностей, то и я скажу вам, в свою очередь, что я точно желал бы быть здесь один, чтобы без стеснения и беззаботно наслаждаться этим прекрасным зрелищем, какого мне никогда не случалось видеть. Но как освободиться нам от этого tete-a-tete, устроившегося по приказанию? Согласны вы не разговаривать со мной всю дорогу до дна пропасти? — Пожалуй. Не угодно ли вам пробраться вперед, чтобы тетушка, которой видно нас сверху, заметила, что вы исполняете порученную вам должность перил[10]. Если я, по смешной неловкости или по бессмысленной самонадеянности, оступлюсь, вы помешаете мне скатиться вниз. За исключением этого непредвиденного случая, я запрещаю вам оглядываться. — Хорошо, но если вы покатитесь не по тропинке, а в сторону? Если я не буду слышать ваших шагов за мной, надо же будет или оглянуться, или тревожиться за вас, что помешало бы мне любоваться природой и, признаюсь вам, было бы для меня вовсе не весело. — Мы и этому поможем, — отвечала она смеясь. Отколов с шляпы предлинную ленту, она подала один конец мне, а сама взяла другой. Решено было, что когда я не буду чувствовать руки на другом конце ленты, я могу и даже обязан оглянуться. На такой удобной дорожке, как та, которая вела на дно воронки, простительно было заключать такие шуточные условия. Правда, что тропинка была иногда крута, но нигде не было опасности, разве что только с умыслом искать ее. Спуск этот проложен французскими солдатами, под управлением генерала Миолли и, благодаря этому устройству, пропасть превратилась в восхитительный английский сад, где совершенно безопасно расхаживаешь по густым миртовым рощам и посреди частого, разросшегося кустарника. Эта густая растительность по временам заслоняет общий вид бездны, но тем великолепнее и роскошнее кажется картина, когда снова, почти на каждом шагу, открывается нетерпеливым взорам. Вы пишете, что следите за моими странствованиями с лучшими «путеводителями по Италии» перед собой. Я предупрежу вас, что ни в одном вы не найдете верного описания здешних гротов, потому что частые обвалы, землетрясения и работы, необходимые для обеспечения города, который также угрожает обрушиться или быть размыт рекой Анио, беспрестанно изменяют наружный их вид. Я постараюсь дать вам верное о них понятие, потому что, вопреки уверениям путеводителей, будто здешняя местность утратила свой главный интерес, я скажу вам, что эти места до сих пор еще могут считаться восхитительными чудесами мира[11]. Я говорил вам о бездне зелени. Это роща, разведенная по внутренним откосам кратера, который в верхнем крае воронки имеет около полуторы версты окружности. Итак, бездна эта покрыта внутри оболочкой растительности, вольной и дикой, спускающейся почти по отвесным ребрам горы зигзагами, которые дают место извилистой дорожке, окаймленной дерном и полевыми цветами. Дорожка эта устроена по естественным уступам выдавшихся скал и, выбегая поминутно из оттеняющих ее перелесков, она выводит путника на открытые места, с которых виден внизу быстрый поток, в стороне отвесная скала и храм Сивиллы над головой. Все это носит на себе отпечаток прелести и величия, свежести и суровости, составляющих характер итальянской природы. Здесь мрачное и ужасающее сейчас же смягчается или прикрывается прелестной улыбкой природы, исполненной невыразимой неги. На двух третях спуска дорожка приводит вас к боковому гроту, которого до тех пор не было видно. Грот этот имеет вид коридора. Это, кажется, одно из боковых отверстий угасшей огнедышащей горы, главным жерлом которой была описанная мной бездна зелени. Труднее объяснить себе, что за продукт колоссальные макароны (я не придумаю другого названия), извивающиеся по стенам и сводам этой подземной галереи. Они имеют, только в больших размерах, те же формы и то же положение, как мнимые окаменелые растения около сольфатары озера винного камня. Туземцы утверждают, что эти сплетения каменных трубочек в гротах Тиволи такие же окаменелые неизвестные растения, как и в сольфатаре, но в таком случае,зачем они во всю свою длину имеют полую внутренность, совершенно круглую и гладкую? Мне кажется, что это следы освобождавшегося газа или путь с силой стремившейся со дна бездны струи воздуха, образовавшего для себя эти истоки в веществе, расплавленном огнем вулкана. Этот процесс мог совершаться сначала правильно, как в семье огнедышащих сопок сольфатары, и эти трубы шли тогда в прямом направлении; но внезапный вулканический переворот смял, изогнул, спутал и скоробил их во все стороны, прежде чем они совершенно остыли. Вот как объясняю я себе этот феномен. Сочтите эти предположения мечтой невежды, я не рассержусь, но эта мечта удовлетворила потребность, которую я всегда ощущаю при виде геологических странностей, объяснять себе видимые явления. Эти странности, понятные на поверхности земли в сольфатаре, осмотренной мною сегодня утром, становятся величественными тайнами в подземном гроте Тиволи, как и на пути из Марсели в Рокфавур. Каких ужасающих явлений была свидетельницей эта прелестная пещера! Какие всепожирающие извержения, какие удары, какой рев, какое клокотание совершалось на этой тесной сцене! Мне казалось, что эта страна обязана своей прелестью мечте, я почти готов сказать, пробуждённому во мне воспоминанию о мрачных ужасах ее первоначальной формации. Вот развалина прошедшего, не менее носящая на себе характер величия, чем обломки храмов и водопроводов; но развалины природы имеют над развалинами дел человеческих еще то преимущество, что время созидает на них, как новые памятники, чудеса растительности, великолепные совокупления формы и цвета, истинные храмы жизни. Через эту пещеру стремится рукав Анио и с шумом низвергается на обломки скал, пытаясь уравнять их и проложить по ним русло свое. В двухстах футах выше эта река спокойно протекает через город и «работает» на нескольких заводах; но вдруг посреди улиц и садов набегает она на этот путь потухшего вулкана, врывается в него, несется по гладкому помосту пещеры, и потом разбивается в брызги у подошвы скалы, об обрушившиеся обломки ее вершины, лежащие там в грандиозном беспорядке. На этом месте мне пришлось оглянуться, как Орфею на пороге ада, чтобы взглянуть на мою Эвридику, которая предательски отпустила ленту и взобралась на доску, положенную сбоку дорожки над самой пропастью и опиравшуюся на слабый выступ большой скалы. Это было просто удальство, безрассудное фанфаронство, потому что перекладина никуда не вела и подвергала стоявшего на ней ужасной опасности. Я увидел, что моя принцесса была удивительно отважна и с удивительным спокойствием шла навстречу головокружению. Но это была англичанка, а мне всегда хочется верить, что в этих красивых машинах, которые выдают себя за женщин, более железа и дерева, чем чувства и воли. Если бы она упала, она бы разбилась, но ее бы починили, и она стала бы по-прежнему прекрасной мисс Медорой. Первым моим чувством был страшный испуг, а вслед за ним неудержимый гнев. Я подбежал к ней, грубо схватил ее за руку и силой увлек под своды пещеры, где принудил ее сесть, чтобы удержать еще от какой-нибудь выходки в доказательство ее безумной отваги. Чтобы вы могли понять, как я умудрился войти в пещеру, где течет рукав быстрой реки, я должен сказать вам, что пещера эта имеет очень широкое отверстие, и одна только половина ее занята руслом потока; уровень этой половины несколько ниже. Другая сторона, вымощенная также большими каменными слоями, скоробленными от вулканических подъятий, ведет изворотами к верхнему отверстию, через которое поток вкатывается под своды. Таким образом вы всходите легко и под защитой свода, вдоль по крутому и извилистому скату потока, образующего два водопада, — один впереди, другой позади вас. Это объяснило мне, откуда вырывалась глубокая нота глухо ревущего баса, которую мы слышали с платформы храма Сивиллы отдающеюся будто со дна пропасти, тогда как серебристая струя потока, скатывающаяся по отвесу большой скалы, господствовала над этим полным звуком своей свежей, заливной песней в более высоком тоне. Место, где я волей-неволей усадил Медору, было величественное и вместе странное углубление, куда проникает из невидимого еще верхнего отверстия пещеры синеватый луч света, фантастически эффектный. Своды грота, оплетенные мнимыми окаменелыми растениями первозданной, колоссальной природы, походят здесь на каменное небо, усеянное тяжелыми волокнистыми облачками, какие находим у итальянских ваятелей XVII века в венцах сияния, которыми они окружают головы своих Мадонн и святых всадников, В скульптуре оно и безобразно, и бессмысленно; но в игре затейливой природы, на этом плафоне пещеры, освещенном бледным, неверным светом, оттеняющим эти несущиеся группы узорчатых облаков, вид их не только странен, но и величествен. Допустив, что вещество в постепенных превращениях своих хранит признаки формы и цвета своих начальных произведений, можно вообразить здесь вместо нисходящего потока воды восходящий поток лавы, и вместо каменных сводов — свод тяжелых паров, то сбитых в клубы, то разносимых могучими порывами ветров этого вулканического ада. Я так был поражен зрелищем и шумом этого Дантовского круга, что, едва усадив Медору, позабыл о ней совершенно; однако же, рука моя, судорожно сжатая недавним волнением, еще не опустила ее руки; но это была совершенно бессознательная заботливость, и я оставался в окаменении, как небо пещеры, разгадывая сначала по-своему тайный смысл видимых мною явлений, и потом стоял, не трогаясь с места, восторженный, увлеченный мечтой в мир неведомый, скованный чувством бессилия, которое мы испытываем, когда не находим слов выразить наши ощущения, когда при нас нет симпатичного существа, с кем мог бы обменяться взором, способным высказать все, что можно сказать в эти минуты. Я не знаю, долго ли я простоял в этом исступленном оцепенении, одну минуту или четверть часа. Когда я пришел немного в себя, я почувствовал, что все еще держу руку Медоры, и что, мощно сжатая в моей, эта бедная, прекрасная ручка изящной формы совсем посинела. Я устыдился своей рассеянности и, обратясь к моей жертве, намеревался просить у нее прощения. Не знаю, что я сказал ей тогда, что она мне отвечала; рев потока, стремившегося мимо, мешал нам слышать собственные голоса; но я был поражен холодным и презрительным выражением ее больших темно-голубых глаз, устремленных в мои. Я не мог выразить моего раскаяния словами и стал на одно колено, чтобы без слов растолковать мое чувство. Она улыбнулась и встала, но в чертах ее лица сохранялся еще, как мне казалось, оттенок иронии и досады. Однако, она не отнимала руки, которую я все еще держал в своей, но уже не столь крепко, чтобы причинить ей боль, и когда она обратила взоры свои на поток, то и я стал смотреть туда же. Напрасно твердишь себе, что придешь еще раз осмотреть на досуге эти прелести; тайный голос говорит, что, может быть, нам не удастся прийти и для нас не настанет другой подобной минуты. Я все еще оставался на коленях, не за тем, чтобы молить прощенья у красавицы, но чтобы удобнее осмотреть нижнюю часть пещеры, в которой мы находились. Как же выразить вам мое изумление, когда, минуту спустя, я почувствовал на челе своем, охладевшем от влажных испарений потока, нежное и теплое прикосновение, будто поцелуй жарких уст. Почти испуганный, я оглянулся и увидел по положению Медоры, что это не было обольщение мечты. Крик удивления, неподдельной досады и глупого невольного удовольствия вырвался из моей груди и слился с ревом воды. Я поспешно отшатнулся; совесть говорила мне, что всякое радостное движение, всякий порыв признательности с моей стороны был бы ложью тщеславия или чувственности. Победа не могла иметь цены. Прекрасная Медора не возбуждала во мне сильных желаний и ни малейшего сердечного влечения. Я мог бы прельститься ею только в воображении, и я противился этому, убежденный, что и она одним воображением так безрассудно привязалась ко мне. Можно сказать, что даже воображение не участвовало в этой привязанности. Она увлеклась самолюбием, досадой на мое равнодушие, чувством детски-женской ревности к Даниелле. Я припоминаю теперь, что милая фраскатанка чуть не завлекла меня еще страннее, поцеловав мою руку. С ее стороны это было движением служанки, которая ошибочно воображает, что обязана унижаться перед каждым превосходством общественного положения, и эта наивная рабская ласка возбудила во мне желание отплатить ей тем же, чтобы восстановить логику взаимных отношений. Вызов со стороны Медоры не возбудил во мне ничего подобного. Этот вызов был целомудрен именно потому, что смел, Я даже полагаю, что она столько же холодна, как и восторженна, эта англичанка с преднамеренными страстями. В ней нет места, как я заметил уже с первого взгляда, ни нежной дружбе, ни страстной любви. Она во всем поддается увлечению мгновенной прихоти, и ей хотелось бы или одолеть мою непокорность, чтобы насмехаться надо мной после, или уверить самое себя, что она испытывает сильные ощущения непреодолимой страсти. Она задумала, быть может, повторить роман тетки Гэрриет, с тем, чтобы презирать меня после, как леди Б… презирает своего мужа. Благодарю покорно, думал я про себя. Я не буду так слаб, как он, Я сохраню и свою независимость, и сознание собственного достоинства. Я не прельщусь этой опасной, предательской красавицей, которую ее миллионы, пожалуй, скоро приведут к мысли, что она вправе унижать меня. Я думал это, отрезвев и от вина, и от тщеславия, и между тем я дрожал всем телом, как в минуту сильного потрясения, потому что всякий вызов любви волнует в нас глубокий источник если не животных, то душевных движений. Глупо взволнованный, сумасбродно растерявшись, я поспешно вывел Медору из пещеры. Мне нужно было дохнуть свежим воздухом, взглянуть на свет Божий, чтобы вполне прийти в себя. При самом входе в грот мы увидели леди Гэрриет и ее проводника, приостановившихся для отдыха. Леди Гэрриет знала Тиволи наизусть и не удостоила своим посещением пещеру, боясь сырости. Это не помешало ей, однако же, говорить мне о ней с жарким увлечением, группируя готовые фразы с таким красноречием, что, слушая ее, можно было получить неизлечимое отвращение к восторгам удивления. Мы миновали уже все опасности, как уверял проводник, и я сказал, что пойду навстречу лорду Б…, который что-то замешкался; с этими словами я сбежал от дам, решившись не сказать более ни одного слова с Медорой и даже ни разу не взглянуть на нее в этот день. Лорд Б… находился уже гораздо ниже нас; он обогнал нас и разговаривал с Тартальей, конечно, слишком фамильярно, на взгляд своей взыскательной жены. Чтобы настичь их, мне следовало идти по тропинке, которая углублялась длинным коридором, иссеченным в камне рукой человека. Эта галерея с пробитыми в стенах четырехугольными отверстиями в виде окон не портит картины. Она огибает крутой скат горы, и снаружи ее окна, осененные лианами, похожи на ряд келий, оставленных отшельниками и сделавшихся неприступными. Галерея чиста и суха на всем своем протяжении, и в ней очень удобно было бы разместиться, если бы можно было выбирать себе место, где жить в Тиволи. Нам говорили, что она устроена гораздо раньше сооружений генерала Миолли, по прихоти одного папы, влюбленного в гроты Нептуна. Я уже выходил из этой галереи, как шелест женского платья возвестил мне, что за мной погоня. Я имел неосторожность оглянуться и увидел перед собой мисс Медору, бледную, отчаянную. Она бежала за мной, в буквальном значении этого слова. — Оставьте меня, — сказал я ей решительно, — вы с ума сошли. — Я знаю это, — отвечала она решительно, — я здесь, чтобы доказать вам это вполне. Если вам смешно, вы можете смеяться над этим с господином Брюмьером и всеми его товарищами из римской школы… — Вы считаете меня бесчестным или глупцом? Не сумасшествие ли с вашей стороны ввериться человеку, которого вы не знаете? — Нет, я знаю вас! — воскликнула она, — Не злого сердца, не предательства боюсь я в вас — я боюсь вашей пуританской гордости. Вы знаете, что я люблю вас; знаю и я, что вы меня любите; но вы страшитесь моих миллионов и почитаете унижением признаться в любви богатой женщине. Я утомлена искательствами людей тщеславных и устала пугать бескорыстных. Я сказала себе, что, как только увижу, что меня полюбил человек бескорыстный не за богатство, а за мои личные достоинства, я сама полюблю его и не задумаюсь объявить ему это. Вас я выбрала и вас решилась любить. Вы давно уже боретесь со своим чувством и сами страдали, мучая меня своей мнимой антипатией. Оставьте эту комедию, скажите мне правду; я хочу ее слышать, я этого требую! Вы, я думаю, смеетесь, друг мой, представляя себе изумленную фигуру вашего покорного слуги. Я чувствовал, что смущение мое придавало мне такой глупый вид, что мне стало стыдно, но, несмотря на все, я только и сумел проговорить: — Поверьте… честью уверяю вас… я вам клянусь, мисс… я, право, не знал, что влюблен в вас!.. — Но теперь вы это знаете! — вскричала она. — Вы чувствуете это, вы уже не боретесь со своим чувством? Говорите, то ли хотели вы сказать мне? — Нет, нет, — возразил я с ужасом, — я этого не говорил. — Нет? Вы говорите нет? Так я ненавижу вас, я вас презираю! Она была так прекрасна! Сухие глаза ее так ярко пылали; уста побледнели, и так светло сиял в ней проблеск дивного могущества, которое придают нам глубокая печаль или сильное негодование, что у меня снова стала кружиться голова. Красота имеет такую прелесть, против которой никогда не устоит рассудок, а в эту минуту красота Медоры олицетворяла все, что может разбудить мечту, что заставляет трепетать сердце юноши! Я человек, я молод, у меня такое же сердце, как и у других! Я смотрел на нее в беспамятстве и сознавался, что она вправе негодовать на меня, что я был глупец, трус, разиня, мелкий умишко, ледяное сердце. Я не в состоянии был отвечать ей. В конце галереи слышался уже голос идущей к нам леди Гэрриет. «Продолжайте свою прогулку без меня, — сказал я, — умоляю вас об этом. Я слишком смущен, я теряю разум. Позвольте мне успокоиться, собрать свои мысли, прежде чем ответить вам… Слышите, идут, мы после поговорим… — Да, да, понимаю. Вы подумаете и потом уедете, даже не простившись со мной? — Ради Бога, тише… ваша тетушка… с ней посторонний человек… — Что мне до этого! — вскричала она, решившись испытать последнее средство победить мое сопротивление. — Тетка знает о любви моей; я ни от кого не завишу; мне вольно любить, вольно погубить себя, вольно умереть! — При последних словах она страшно побледнела; глаза ее помутились; мне показалось, что она лишается чувств. Я удержал ее на руках моих. Прекрасная ее головка склонилась ко мне па плечо, шелковые пряди ее волос рассыпались по моему лицу. Кровь закипела в голове моей и хлынула к сердцу. Я не знаю, что говорил я ей; не знаю, коснулся ли я своими губами уст ее: это был припадок горячки, мелькнувший, как молния. Леди Гэрриет подходила уже к повороту галереи, и ей стоило сделать еще несколько шагов, чтобы увидать нас. Ужас и стыд овладели мной; я побежал и готов был скрыться в преисподнюю какой-нибудь пещеры, но наткнулся на лорда Б…, который на этот раз перещеголял меня в рассудительности и остановил. — Это я, — сказал мне лорд Б… таинственно-значительным тоном, в котором слышалось опьянение. — Пойдемте, я покажу вам грот Сирен. Я молча последовал за ним и в продолжение нескольких минут, чувствуя, что и сам снова опьянел, на все смотрел будто сквозь туман. Однако я скоро оправился и успокоился — скорее, чем ожидал. Мы сошли на самое дно воронки: это, можно сказать, самое очаровательное место в ней. Оно усеяно обломками утесов, купами деревьев и пересечено рукавом Анио, который, добежав до предела этого маленького естественного цирка, низвергается и исчезает в последнем гроте, который так прекрасен, что можно почесть его за произведение искусства, А между тем стоит только пройти по окраине грота, чтобы перебраться, как по мосту, через поток. Здесь в безопасности за парапетом скал, едва обтесанных, что вовсе не портит дикой прелести места, вы погружаетесь взором в новую бездну, где этот буйный поток совершает свое последнее падение и с последним страшным ревом теряется в безвестных пещерах. — Вот здесь-то, — сказал мне лорд Б…, — два англичанина погибли в этой пасти. Уверяют, что они сошли на этот узкий карниз скалы, по которому, однако, еще очень можно ходить, — вон там под нами, и, поскользнувшись, упали в пропасть. По-моему, на этом карнизе можно прогуливаться, заложив руки в карман, и надобно быть невероятно неловким, чтоб упасть с него. Заметьте притом, что поток вливается в самую середину этого естественного колодца, не задевая краев его, а на тропинку карниза не падает ни одной брызги. — Так вы думаете, что они с умыслом бросились туда? — По-моему, так! — отвечал он, устремив на пропасть задумчивый взор, еще мутный от винных паров. — Вряд ли слухи эти верны, — сказал я, обратясь к Тарталье, — проводник рассказывал, что погибло три англичанина, а милорд говорит, что только два. — Может быть, всего-навсего один, — отвечал Тарталья со своей обычной беззаботностью о достоверности молвы. — Видно, что это самоубийство принесло приплод. Это острое словцо Тартальи так подействовало на лорда Б…, что страшно перепугало бы меня, если б я не стоял с ним рядом; он вдруг, как ловкий наездник, перекинул ногу через парапет и сел на него верхом, как будто намеревался слезть на карниз, но я успел взять его под руку и держал его еще крепче, чем Медору, за несколько минут перед тем. Этот карниз и мне кажется безопасным, но я вовсе не намерен видеть, как прогуливается по нему англичанин, после не слишком трезвого обеда, при этом оглушительном рокоте низвергающегося водопада. — Что с вами? — сказал он спокойно, не слезая с парапета. — Не думаете ли вы, что я намерен прогуляться в преисподнюю? Не тревожьтесь! Жизнь и без того так коротка; стоит ли труда обрывать ее? Дайте-ка мне огня, закурить сигару. Что касается до безнравственности самоубийства, я как англичанин чистой крови протестую против такого убеждения. Когда человек убежден вполне, что он в тягость другим… Он прервал речь свою, чтобы кликнуть свою желтую собаку, которая вскочила на парапет и начала лаять на каскад. — Долой, Буфало, — вскричал он с заботливостью, — долой! Что за безрассудство так лазить над пропастью! И чтобы столкнуть собаку назад с парапета, он перекинул другую ногу к стороне пропасти, с такой небрежностью и беззаботностью, что я снова схватил его за руку. — Вы, кажется, думаете, что я пьян? — сказал он мне. — Право, не более чем вы, любезный друг! Я вам говорил, что когда мы не умеем быть полезными или приятными другим, любить и беречь жизнь свою — малодушие; но покуда у нас есть друг, хотя бы и собака, не следует покидать его. Но слушайте! Если, по-моему, нет никакой обязанности переносить жизнь, какова бы она ни была, самоубийство все еще проступок, потому что оно всегда бывает последствием дурного употребления жизни. Жизнь несносна только тогда, когда мы сами сделали ее несносной. Рассудительный человек всегда может повести ее как должно, только умей сохранить свою независимость и не попадайся в западню несоответственной любви. Я покраснел. Слова эти так прямо относились ко мне, и упрек был вполне мной заслужен; я думал, что лорд сказал это на мой счет. Но я ошибся. Лорд Б… произносил приговор над самим собой; но его неосторожное положение над пропастью, черты лица его, искаженные тоской, и его безотчетная привязанность к своей собаке, так красноречиво выражали плачевные последствия ошибки, от которой он предостерегал, что я поклялся в душе не видеть более Медоры. Эти меланхолические рассуждения навели сон на лорда Б…, и он начал поговаривать, как хорошо было бы прилечь и уснуть на парапете, под шум водопада. Опасаясь, чтобы он не исполнил этого, я не мог отойти от него; а так как дамы вскоре присоединились к нам, то я поневоле снова увидел ту, от которой убегал. Как только милорд услышал слащавый, но сухой голос своей супруги, которая требовала от него объяснения за его слишком небрежное положение на краю обрыва, он тотчас встал и предложил продолжать осмотр местности; из всех водопадов мы видели только наименее замечательные; но дождь пошел не шутя, небо заволокло тучами, солнце скрылось, и хотя Медора настаивала, чтобы мы продолжали нашу прогулку, леди Гэрриет, всегда жалующаяся на свое слабое здоровье, пожелала возвратиться в Рим. Я с живостью поддержал ее предложение. Привели ослов, приготовленных для дам на дне кратера, и они без усталости добрались до храма Сивиллы, где немедленно подали экипаж. Тогда только я объявил, что желаю остаться в Тиволи до вечера следующего дня. — Я понимаю, — сказала леди Гэрриет, — что вам хочется осмотреть все, чего мы не видали сегодня, но не лучше ли возвратиться сюда в хорошую погоду, чем пробыть на дожде сегодня, а может быть, и завтра, чтобы видеть пейзаж, не освещенный солнцем? Я настаивал: лорд Б… хотел остаться со мной; я охотно согласился бы на это, если бы можно было отправить дам без кавалера через римскую Кампанью. Наконец, леди Гэрриет, несмотря на мои отказы и на мое сопротивление, объявила, что пришлет за мной на другой день свой экипаж, и я вынужден был сказать, чтобы сохранить свою независимость, что я, может быть, несколько дней проживу в Тиволи, чтобы зарисовать некоторые виды. Во все время этих переговоров мисс Медора молчала, устремив на меня взор, в котором выражались сначала томление ожидания, потом упрек и, наконец, презрение, которое мне очень трудно было сносить. Наконец, они уехали, и, признаюсь, у меня как гора с плеч свалилась. Вот вам, друг мой, длинный и, может быть, слишком подробный рассказ о событиях, которые привели меня во Фраскати. Простите мне мою болтливость, но мне кажется, что лучше ничего не говорить, чем что-нибудь скрывать от вас. Оставшись один в Тиволи, я, вместо того, чтобы осматривать другие каскады, пошел к тем самым, которые я уже видел. Сторож пропасти, инвалид французских войск, поверил мне на слово, что я не замышляю посягнуть на мою жизнь (пропасть, которую я вам описывал, почитают здесь искусительной), и я мог на свободе мечтать один, защищенный от дождя сводами гротов. Не без угрызений вошел я в галерею, в которой я так опрометчиво отвечал на поцелуй Медоры; я чувствовал еще трепетание жарких уст ее, но вместо наслаждения, воспоминание это вызывало во мне глухие муки совести, и я сознался, что был виновен в безрассудности. Не должен ли я был понять, после странных слез Медоры на дороге в Тиволи, когда я принес ей козленка, и после других непонятных ее припадков во время этого путешествия, что я был предметом ее досады, готовой превратиться в прихоть сердца и принять громкое название страсти? А мне это и в голову не приходило. Я наблюдал без всякого сочувствия и почти нехотя эту странную натуру. Первые слезы я принял за воспоминание, быть может, прошлой любви, проснувшееся в ней по поводу какого-нибудь случайного обстоятельства. В сцене брошенных в лес браслетов я видел гнев царицы, негодующей на подданного, которой не захотел быть придворным льстецом. Даже поцелуй ее в пещере, когда она так неожиданно коснулась устами моего лица, я объяснял галлюцинацией с ее или с моей стороны. До той самой минуты, когда она гналась за мной, чтобы сказать мне «люблю», я упрямо считал все это каким-нибудь недоразумением или, простите мне это выражение, истерическим чадом. Я стою теперь, подумал я, лицом к лицу с любовью, какова бы она ни была, хороша или дурна, в сердце или в воображении, но во всяком случае с любовью искренней, столь же решительной, насколько моя робка и бессознательна. Моя?.. При этой мысли я схватился за сердце, приложил к. нему руку, считал его биения, как врач удары пульса у больного, и, видел, то с радостью, то с ужасом, что в сердце моем не было истинной любви, не было ни верования, ни восторженного благоговения к этому невыразимо прекрасному созданию. Чем же было волнение, овладевшее мной в галерее? Проявление одних чувственных побуждений? Какие же обязательства могут лечь на меня за невольный поцелуй, за слово, сказанное так, что мои уши не слыхали его, а мысль не могла повторить? Здесь дело чести, думал я, в отношении к лорду Б… и к его жене, почтивших меня доверием как человека честного. Малейший признак обольщения с моей стороны заставил бы меня краснеть, а всякое выражение любви к их племяннице было бы обольщением, потому что я не люблю ее. Но я никогда, ни на одну минуту не имел этой низкой мысли; я отвергал ее с отвращением, когда она являлась. Однако же, была минута, было мгновение чувственного увлечения, и так как я в таких случаях (это был первый на моем поприще любовных похождений) не умею владеть собой, то должен предохранять себя от подобных искушений с благоразумием старика. Я все еще был недоволен собой, и мне трудно было отыскать причину этого чувства в глубине души моей. Мне было как-то стыдно, мне казалось подлым оставаться хладнокровно-рассудительным и строго-добродетельным перед такой беззаветной страстью. Мне казалось, что Медора, в порыве своего безумия и своей отваги, наступила на мою голову пятою царицы, как на голову трепещущего раба, и что моя робкая разборчивость ставила меня в самое презрительное положение в отношении к ней. Я упорно продолжал свою исповедь и ясно увидел в чувстве моего смирения наветы глупого самолюбия. Но к чему самолюбие замешалось между мною и ею? Зачем этот враг правоты и истины проскользает в сердца без их ведома? Как зарождается в нас эта эгоистическая и пошлая потребность играть первую роль в отношениях, которым одно небо должно быть свидетелем и судьей? Я надеюсь, что, когда я почувствую истинную любовь, я не буду увлекаться этим зловещим тщеславием, я буду вполне великодушен и безоружен с предметом моего обожания, совершенно простосердечен с самим собой. Но не обязан ли я быть также простосердечен и честен с той, чью любовь я отвергаю? «Что же, пускай заслужу я несправедливое презрение прекрасной Медоры!» — вскричал я, и, освободившись от своих дум, от недовольства собой, завернулся в плащ и пошел осматривать другие фантастические прыжки Анио вдоль по горе Кастилло. Анио, или Тевероне, или Аньене (Анио носит все три названия) притекает сюда из возвышенных долин, составляющих основание групп Монте-Дженнаро. Эта река встречает на пути ворота ущелья, которое приводит ее, мрачную и загрязненную мутными водами римской степи, к самому Тибру. Прежде чем река эта вбежала в роковую пустыню, она несется гордая, шумная и светлоструйная, будто прощаясь с жизнью, с чистым воздухом, с роскошными берегами нагорья. Но этот разгул могущества угрожал горе, на которой находится Тиволи; красивые сооружения разделили многоводную Анио на несколько рукавов и, оставя колесам заводов, развалинам и туристам, собирающимся в Тиволи, таинственные воды гротов Нептуна и очаровательные каскателлы и каскателлины, которые серебряными струйками змеятся по скату горы, рука человека ввела главную массу реки в два великолепных тоннеля, положенных почти возле самой естественной воронки, о которой я писал вам. Из этих-то тоннелей-близнецов переливается река в свое нижнее русло ревущим водопадом, но со страшным невозмутимым спокойствием. Посетители этих мест сходят потом вниз, чтобы взглянуть оттуда на все эти водопады. Ущелье это прекрасно и имеет один только недостаток: оно покрыто почти сплошной и слишком могучей растительностью, среди которой трудно найти место, чтобы охватить взором общность этого карниза, так чудно орошенного светлыми струями водопадов. Развалины древних вилл не привлекли меня своими славными именами. Я утомлен развалинами и не могу смотреть на них, когда передо мной красоты природы. Если эти развалины не служат красивой подробностью в роскошной картине природы, как храм Сивиллы над пропастью Тиволи или вилла Мецената над каскателлами, я смотрю на них с постыдным равнодушием. Я провел ночь в отвратительной постели самой отвратительной комнаты отвратительнейшего трактира под вывеской «Сивиллы», ничем не лучшего разбойничьих притонов комической оперы в Париже. Однако же, меня не зарезали, и домашние, несмотря на их подозрительную наружность, показались мне добрыми людьми. На другой день, несмотря на дождь и чувствуемый мною озноб, я продолжал свои странствования. Из всего виденного мною, ничто не может сравниться с гротом Сирен; я возвратился туда, и целых два часа любовался, как поток вливается в свой бездонный колодец. Это, вероятно, была любимая пещера славной сивиллы тибуртинской, когда в эти гроты можно было проникнуть только потайными ходами, и когда бедные смертные подходили к ним с трепетом, ужасаясь столько же грозности водопадов, сколько и приговорам судьбы. В наше время это место очаровательно. Вы сходите по ковру фиалок, усеянному букетами миртовых кустов, на самую средину этой величественной сцены. Перед вами укрощенный поток, уже не грозный, сохранивший не более свирепости, сколько нужно, чтобы произвести впечатление сильное, но не утомляющее до совершенного изнеможения; вы видите грот, которого резкие угловатости завешены сетью плюща и каприфолии, и сквозь широкие расселины которого видна, как в раме, картина живописной дали. Эти красоты производят на меня странное, магнетическое действие; здесь не раз мечтал я о таком счастии, которое охотно принял бы вместо рая от Провидения. Да, эти живописные пещеры, эти живые, вечно движущиеся воды, эта мощная растительность, солнце, здоровый воздух, и, если бы это было возможно, приют в пещере и женщина по сердцу — и я готов остаться здесь пленником, хотя бы и на целую вечность. Я был погружен в такое сладостное созерцание и до того утомлен телом, что заснул, как желал заснуть накануне лорд Б…, под шум льющегося водопада. Проснувшись, я увидел возле себя Тарталью. — Нехорошо, что вы спите в этой сырости, — сказал он, — есть с чего занемочь. Он был прав; я чувствовал изнеможение во всех частях тела и с трудом добрался до храма. Тарталья, отправившийся накануне в Рим вместе с семейством лорда Б…, сказал мне дорогой, что он приехал за мной, по приказанию мисс Медоры. — Хорошо, — отвечал я, — ты можешь возвратиться туда, откуда приехал, а я пробуду здесь восемь или десять дней. — Виданное ли это дело, мосью! В целой Италии нет места, вреднее здешнего для здоровья; здесь вы непременно умрете. К тому же я должен предупредить вас что, как только Медора узнает, что вы больны, она прикатит сюда с целой семьей, которая во всем пляшет под ее дудку; а сама она решительно без памяти от вас… — Довольно! — прервал я сердито, — Ты меня только бесишь своими глупостями; пора перестать! Сказав это, я сел в экипаж и приказал кучеру везти меня в Рим, прямо к Брюмьеру. Я думал, что освободился от Тартальи; видя, что я рассердился и подозревая, что я начинаю немного бредить, он сделал вид, что намерен остаться в Тиволи, но на половине дороги, очнувшись от лихорадочного забытья, я увидел его рядом с кучером, на козлах. Я опять приказал везти меня к Брюмьеру, намереваясь написать от него прощальное письмо к семейству лорда Б…, просить его прислать мне с Тартальей мои вещи, и немедленно отправиться из Рима. Кучер почтительно поклонился мне, изъявляя тем готовность исполнить мое приказание, и я снова забылся, уступая непреодолимому оцепенению во всем теле. Когда я проснулся, я чувствовал такое изнеможение, что не мог вдруг понять, где я находился, и только заботливые попечения доброго лорда Б… надоумили меня о предательстве Тартальи и кучера. Я находился во дворце и шел по лестнице в мою комнату, поддерживаемый лордом и Даниеллой. Вы знаете остальное. Я должен прибавить, что я так все устроил, чтобы не выходить из комнаты до самого отъезда не видеть Медоры. Надеюсь, что ее прихоть миновала. Когда я подумаю об этом, то мне кажется, что я только вставное лицо романа, который она задумала еще до нашего с ней знакомства. Ей двадцать пять лет, она холодна, она отказала уже нескольким женихам, как меня уверяют. Настало время скуки, заговорила, быть может, и чувственность. Она решилась, как сама говорит, выйти замуж за первого порядочного человека, который полюбит ее и не скажет ей об этом. Почему ей вообразилось, что этот человек я, когда я ее вовсе не люблю? Или она имеет смешную слабость считать непреодолимой власть своих прелестей, или все это обделал Тарталья, которому дерзкая интрига удалась лучше, нежели я полагал. Как бы то ни было, я уже далеко от Рима, в такую погоду, что и собаку жалко на двор выгнать, и через несколько дней, если и в этом жилище будет угрожать опасность, как говорят законоведы, я еще подальше буду искать спасения. Но не находите ли вы, что мои опасения, которыми я перещеголял Casto Giuseppe, как говорит Тарталья (я не повторяю вам его последних нравоучений), отзываются немного смешной самоуверенностью? Кстати о Тарталье. Я должен вам сказать, что чудак заботился обо мне с отеческой нежностью. Все время моей болезни вещи мои были на его попечении, и он мог рыться в них, сколько ему хотелось, но он вполне оправдал мнение о нем лорда Б… — Это сущий бездельник, — сказал мне лорд, — способный вытянуть у вас последнюю копейку просьбой или плутнями, но он верный слуга и не тронет у вас ни волоска, если вы не будете к нему недоверчивы. В Италии много молодцов этого десятка: они грабят тех, кого ненавидят; он находят удовольствие обирать тех, которые вздумают хитрить с ними, чтобы оградить себя от их хитростей, но они готовы красть в пользу тех, кто своим совершенным доверием умеет снискать их дружбу. Приделайте самые мудреные замки к сундукам своим, прячьте ваш кошелек в самые скрытые трещины стен, они непременно перехитрят вас. Но оставьте ключ в двери вашей комнаты, а деньги на вашем столике, и добро ваше станет для них священным залогом. В этом негодяе, как вы видите, есть и доброе, как во всех негодяях, точно так, как у всех добродетельных людей есть свои слабости. Все это говорит лорд Б…, и я пропускаю только его мизантропические возгласы против человечества. Но дело в том, что Тарталья мне надоел, и, заплатив щедро, хотя он и отказывался, должен в этом сознаться, за его услуги, я очень рад, что избавился от его болтовни, от его покровительства и его сватанья. Погода немножко разгулялась, и я спешу воспользоваться этим, чтобы заглянуть в сады виллы Пикколомини и обойти мои владения.
Глава XII
3-го апреля. Фраскати.В последние два дня, несмотря на то, что солнце прячется здесь не хуже, чем в Лондоне, я не слишком жалею об ясной погоде. По вечерам в моем Доме бывает холодно; камин, как водится, дымит, да и дров не скоро достанешь. Но кто-то, кто непрерывно заботится обо мне, принес мне брасеро, и на нем я отогреваю руки, чтобы писать вам. С утра до вечера я под открытым небом, и это мне не вредит. Вам любопытно знать, кто этот кто-то? Потерпите немного, я сейчас расскажу вам. Во-первых, следует вам знать, что я пользуюсь здесь райским блаженством франка за три в день, включая сюда всевозможные домашние издержки. Эта дешевизна позволит мне прожить здесь несколько месяцев, не разоряясь. Честь и хвала древним богам Лациума, принявшим одинокого странника под сень своих священных рощ и охраняющим его спокойствие! Не знаю, что будет дальше с погодой. Мне предсказывают такую жару, что, как уверяют, я перестану не доверять всеобщей молве о солнце Италии. При моей теперешней слабости, я очень доволен здешними теплыми, но бессолнечными днями; зато без солнца нечего и думать о живописи. Как прекрасна должна быть эта страна, когда она прекрасна и под пологом туманов; Брюмьер, просивший меня подождать его, чтобы вместе переехать сюда, говорил правду, что я не найду еще здесь живописных эффектов; но я, может быть, не столько живописец, как поклонник красот природы, и когда не могу переносить их на полотно, все же остаюсь верным их обожателем. Вообразите, что в моей усадьбе есть и поля, и плодовый сад, и уединенные приюты, и пустыня. Цветник перед домом вовсе не предвещает такой роскоши. Это четырехугольное пространство, усаженное овощами и виноградными лозами, с живой подстриженной изгородью. Перспективу замыкает большой фонтан, устроенный полуциркулем в стене, украшенной нишами и классическими бюстами. Вода чиста; вьющихся растений много, и на террасе, опирающейся на это сооружение, роскошные деревья раскинули свои тенистые ветви. Но не в этом вся прелесть этого сада, которым овладели, с одной стороны, опустение, с другой — обыденная забота о домашних выгодах. Прекрасная аллея столетних деревьев ведет по крутому скату к оливковой плантации. По счастью, эти деревья сохранились, и как нельзя было сравнять местность под один уровень, старинный парк виллы Пикколомини, преданный прозаической разработке хозяйственных соображений, сберег свои зеленые дубы, с их плотными шатрами зелени, не пропускающими ни луча солнца, ни капли дождя, сберег холмистость почвы и светлый ручеек, катящий свою резвую струю по пестрому ковру полевых цветов. В одном уголке сада есть совершенно дикое место, положение которого очень живописно. Ручей, вытекающий из ключа ближней виллы, бежит сюда с возвышенности и образует небольшой красивый водопад, по-здешнему каскателлу, окруженный амфитеатром скал. Эта струя светлой воды орошает потом небольшую поляну, перебегает через наш сад и уходит порадовать собой еще третью виллу, смежную с нашей. Здесь не стоят за проточной водой, которой везде много; жители дружелюбно делятся ею, и те, которые пустили ее пожурчать и попрыгать на своем участке, оказывают своим соседям истинную услугу. Тускуланские горы, начиная от Фраскати до самой возвышенной точки своей цепи (Тускулум), представляют беспрерывные сады, разделенные на четыре или пять владений княжеских фамилий. И какие сады! Сад Пикколомини и равнять с ними нечего. В нашем саду, проданном мещанам, которые ищут с него доходов, осталось только то, чего нельзя было отнять у него. Зато вилла Фальконьери, граничащая с ним к востоку, вилла Альдобрандини, смежная с ним к западу, рядом с ней вилла Конти, выше вилла Руфинелла, и опять к востоку — Таверна и Мандрагоне так прекрасны, что мне пришлось бы просидеть часа три, описывая вам эти очаровательные места, дикие дубравы, фонтаны, рощи, пригорки с древними развалинами римскими и пеласгическими, овраги, поросшие плющом и дикой лозой, где на крутых скалах лепятся остатки обрушившихся храмов и спадают по уступам светлые ручьи. Я отказываюсь описывать подробности; они выскажутся, может быть, в общем очерке, который я намерен представить вам. Характер этих садов двоякого рода: один — старинный итальянский, другой — местной природы, преобладающий над первым, по милости беззаботливости или недостатка денег владельцев этих причудливых и великолепных поместий. Подробное описание этих вилл, какими они были за сто лет пред сим, найдете вы в остроумных письмах президента де Бросс, который, несмотря на свое кажущееся легкомыслие, лучше всех осмотрел современную ему Италию. Он часто смеялся над фонтанами, одинокими и в группах, над странными статуями, гидравлическими концертами, деревенскими причудами Фраскати — и был прав. Видя, сколько тратилось денег и усилий воображения, чтобы создавать детски-бесмысленные украшения, он справедливо негодовал на упадок вкуса в отчизне искусства, и немудренор, что насмехался над уродливыми фавнами и наядами, оскорбительно вмешавшимися в семью оставшихся от древности художественных произведений ваяния. Он называл это искажением природы и искусства, с огромным расходом денег и глупости, и я охотно верю, что в курьезное время, когда все эти болваны были еще целы и. новы, когда струи вод лились из флейт, деревья подстригались в формы груш, дерн подрезывался в уровень и деревья аллей стояли ровным строем — человек с умом и с любовью к свободе по праву мог негодовать и насмехаться. Но если бы он теперь заглянул сюда, он нашел бы большую и счастливую перемену. У Панов выпали из рук флейты, у нимф отпали носы. Многим из этих забавных божков недостает еще более: у некоторых из них осталась на цоколе одна нога, а прочие члены лежат на дне бассейнов. Вода не надувает более трубы органов; она падает еще по мраморным раковинам и струится вдоль сложных групп фонтанов, но поет уже своим природным голосом. Отделки из раковин приоделись зеленой сетью плюща, которая придала им вид естественности. Обрезанные деревья, еще полные жизни и силы, разрослись до колоссальных размеров в этом благословенном климате; засохшие расстроили однообразную симметрию аллей. Цветники заросли дикой травой; фиалки и полевые ягоды испестрили прихотливыми узорами зеленые луга; мох покрыл своим бархатом яркие мозаики. Везде господствует своеволие природы, на всем лежит печать небрежения, призрак развалин; повсюду слышится томная песнь уединения. Эти огромные парки, раскинувшиеся по скатам гор, скрывают в огромных складках зеленеющих ковров своих Темпейские долины, где развалины рококо, развалины древности, пожираемые чужеядной растительностью, дают этой победе природы вид необыкновенно веселый. Впрочем, надобно сознаться, что дворцы в этих виллах построены со вкусом и с царской роскошью; что сады, хотя и загроможденные детскими безделушками, разбиты очень искусно, сообразно с отлогостями холмистой почвы, и распланированы с полным разумением эффектности видов; обильные источники проведены с уменьем, для оживления места и очищения воздуха в этой лесистой стороне. После этого не совсем справедливо утверждать, что природа была здесь обезображена и оскорблена искусством. Ломкие игрушки распадаются в прах, но длинные террасы, взор с которых обнимает громадную картину равнины, окрестных гор и моря, грандиозные колоссальные уступы из мрамора и лавы, поддерживающие пространные насыпи земли; крытые аллеи, делающие доступным этот земной рай в какую бы ни было погоду; словом, все прочное, полезное, изящное, уцелевшее от разрушительной прихоти моды, придает новую прелесть этим уединенным местам и охраняет, как в святилище, мудрые дела природы и монументальную красу тенистых приютов. Стоит взглянуть на безлюдную наготу Тускуланских гор и на болотистую почву долин, чтобы увериться, что искусство очень часто пригодно для творческой природы. Видите, мой любезный друг, как усердно я защищаю мои виллы против злословия президента де Бросс и, может быть, против критических замечаний, ожидаемых мной и с вашейстороны? Любовь к собственности овладела мной, когда я здесь один, совершенно один из братии артистов, вступил во владение этих опустелых резиденций. Еще месяц или два, как уверяют, не явятся во Фраскати ни здешние господа, ни forestieri; под этим названием подразумевают здесь артистов, туристов и больных, которые съезжаются сюда наслаждаться здоровым воздухом в начале летней жары. Сейчас же в вилах живут только сторожа, старшие слуги, которые охотно доверяют мне ключи от парков, так что я каждый день выбираю из них любой для своих прогулок, а иногда, если придет охота походить побольше, обегаю их все по очереди. Как удобно владеть чем-нибудь на таких правах! Ни за чем не смотри, ничего не приказывай, ничего не поправляй. Уехал когда вздумается, не заботясь, что станется с этим имуществом в мое отсутствие. Возвратился, а никому и дела нет, что ты приехал. Владеть без отчета и без споров несколькими увеселительными замками, расхаживать в туфлях между ландшафтами Ватто, не рискуя встретить кого-нибудь, с кем бы надо было раскланяться или разговориться! Право, я очень счастлив и боюсь, не сон ли это. Все это принадлежит мне, бедняку, прожившему три года в Париже, в заботах о том, чем бы заплатить за право любоваться из окон бедной комнатки видом соседней крыши и за сапоги для прогулок по грязным лужам парижских улиц! Все это мое, за три франка в день, без обязанности терзаться ответственностью за самого себя, такой необходимой для сохранения собственного достоинства и такой неудобной для сохранения поэзии и независимости в жизни посреди главнейших центров цивилизации. Чем я заслужил, чтобы судьба так баловала меня? А еще Мариуччия, которая сожалеет о моей изнуренной фигуре, о моем беспечном виде и с материнским участием смотрит на мой скудный багаж и на мой тощий кошелек, эта Мариуччия предоброе и вместе с тем презанимательное существо. Она смешлива и говорлива, как ручей ее сада, только расшевели ее вопросами, она становится увлекательно красноречивой, сопровождая свои ораторские выходки такими исступленными жестами, что ее можно счесть деревенской пифией. Она такой совершенный и такой простодушный образец своего сословия и своей местности, что в ее описаниях, ее предрассудках и ее суждениях я читаю лучше, чем в книге, о характере среды, в которой я нахожусь. Но здесь есть характер еще более странный для человека простодушного, как я; я должен поговорить с вами об этой личности, и для этого я стану продолжать мой рассказ с того места, на котором мы остановились. Вчера вечером я спросил Мариуччию, отдала ли она в стирку мое белье. — Разумеется, — отвечала она, подавая мне корзину выстиранного белья, но еще не просохшего и измятого, — Это стирала старуха, которая помогает мне. Хорошо, но я не могу же надеть его неглаженным. Выражение «гладить» затруднило меня; при всем моем знании итальянской литературы, я еще не затвердил на память словаря практической жизни, а Мариуччия ни слова не понимает по-французски. Я призвал на помощь жесты, и как будто бедняк моего разряда позволяет себе неслыханную роскошь, требуя, чтобы белье его было выглажено, Мариуччия воскликнула с изумлением: — Вы хотите una stiratrice? — Да, да, гладильщицу. Разве это искусство неизвестно во Фраскати? — Еще как известно! — возразила она с гордостью. — Нет страны на белом свете, где нашлись бы лучшие artisani. — Так отдайте это одной из ваших лучших мастериц. — Хотите, я отдам племяннице? — Чего же лучше, — отвечал я, удивленный одушевленным и проницательным взором ее маленьких серых глаз, устремленных на меня. Она унесла корзину, и когда я возвратился ужинать, я застал вокруг брасеро, в большой комнате нижнего этажа, где Мариуччия обыкновенно меня кормит, три особы, державшие ноги на теплом пепле и облокотившиеся на свои колени: старуху в лохмотьях, которая занимается непрерывной biancheria Мариуччии, дородного капуцина с приветливой физиономией и худощавую женщину, голова и плечи которой были закутаны в красный шерстяной платок. Женщины не изменили положения, капуцин один поднялся с места, осыпал меня учтивостями и свел речь к тому, что попросил у меня байоко на потребности его братства. Я дал ему пять байоко, которые он принял с изъявлением глубочайшей признательности. — Cristo! — воскликнула старуха, которой он простодушно показал в своей грязной руке крупную медную монету. — Какая щедрость! — и, обратясь ко мне, осыпала меня градом хвалебных эпитетов. Чтобы не прийти в упоение от ее похвал, я отдал ей поскорее остальные, оказавшиеся в моем кармане два байоко, и она пустилась в низкие поклоны и пыталась поцеловать у меня руку, от чего я едва мог отделаться. Не желая знать, как далеко зашла эта бедность и страсть к нищенству, я обратился к худощавой женщине, лица которой не видел под покровом красного платка и которая, как казалось, была опрятно одета. — А вы, милая, — сказал я ей, подсев к ней на скамейку, на вакантное место после отца капуцина, — вы ничего не просите? Она подняла голову, откинула красный платок и протянула мне руку, не говоря ни слова. — Даниелла! — вскричал я, узнавая ее при бледном освещении брасеро. — Даниелла во Фраскати? Даниелла протягивает руку?.. — Чтобы вы подали мне свою, — отвечала она улыбаясь. — Вы стали причиной того, что я лишилась хорошего места, но я не пожалею о нем, если не лишилась вашей дружбы. — Говорите тише, — шепнул я ей, — объясните… — Мне нечего таиться, — возразила она, — я не сделала ничего дурного; к тому же отец Киприян мой дядя, а Мариуччия мне тетка. Это я — ваша stiratrice; я принесла вашу biancheria. — Да, да, — сказала Мариуччия, внося и ставя на стол мой скромный обед, — это все моя родня: отец капуцин мне брат, добрая старушка мне тетка, а Даниелла моя племянница. Вы можете все говорить при нас, здесь все свои, за порог сору не вынесут. Прекрасно, подумал я, недостает только свата Тартальи, чтобы целое население Фраскати узнало подробности моего переселения в эту околицу. — Даниелла, — сказал я молодой девушке, — прошу вас, не… — Довольно, довольно, — молвила старая Мариуччия, — поговорите между собой; мы знаем всю вашу историю. Бедная Даниелла! Она ни в чем тут не виновата; добрая девушка ничего от нас не утаила. — А я, — сказал капуцин, забирая свою котомку и посох, — имею честь вам откланяться, господин иностранец… Я помолюсь за тебя, Даниелуччия, попрошу Бога, чтобы Милосердый смирил гордость этой англичанки. Можете вообразить, каково мне было слышать, как разносит молва семейные отношения ко мне фамилии Б… Я хотел, чтобы Даниелла рассказала мне все в подробности. — Не теперь, — отвечала она, — вы теперь, кажется, разгневаны. Я отнесу белье в вашу комнату и сейчас возвращусь. — Что там случилось? — спросил я Мариуччию. — Что она вам тут наговорила? — Рассказала все, как было дело, — отвечала она. — Я знаю, хорошо знаю эту толстую англичанку, — она почти каждый год приезжает во Фраскати; но я никак не могу выговорить ее имени. — Ну, так что ж? — Ну, так года два назад она полюбила мою племянницу, да и увезла ее с собой. Она хорошо ей платила, и Даниелла была у нее счастлива. Потом, в бытность свою в Англии, леди Бо… леди Би… тьфу пропасть, никак не припомню, как ее зовут, да не в имени дело; леди, как я говорю вам, приняла там к себе племянницу, мисс… мисс… — Все равно! Что же потом? — Мисс Медору, вот как ее зовут. Она, кажется, хороша собою… как вы ее находите? — Да кто ее знает! Что же далее? — Ну, вы знаете, что она пригожа и богата, но зла… нет, Даниелла говорит, что она добра, но бестолкова. Сначала она полюбила мою племянницу, как сестру, и непременно хотела, чтобы она ей одной служила; надавала ей шелковых платьев, золотых вещей, денег. В один год Даниелла получила более, чем заработает в целую жизнь; разве только опять покинет родину и уедет с forestieri; но я ей не советую этого делать; вы, господа иностранцы, все престранные, все чудаки. — Благодарю; продолжайте, что же случилось потом? — Потом, потом… Вы, как вам известно, сказали моей племяннице, что она лучше Медоры собою. С этих пор синьорина начала ее преследовать, мучить, обижать, огорчать. Бедняжка не выдержала, сказала в ответ слова два погромче, когда вы хворали, ее и выставили. Беда еще не велика; ей сделали хороший подарок, и она может выйти здесь замуж, за кого только задумает. Дома все привольней, чем по большим дорогам, и если вы ее любите, мою-то племянницу, если она вам нравится, и вам наша жизнь полюбилась, так и с Богом; от вас зависит быть ее мужем. Вы живописец; за работой в здешней стороне дело не станет. Вот хоть бы принцесса Боргезе: она хочет отделать заново Мандрагоне. Вы можете писать там фрески и собьете копейку на воспитание своих детей. — Так вы, — отвечал я, удивясь практичности соображений Мариуччии, — вы уже уладили это дело в семейном совете со старой теткой, капуцином и Даниеллой? — Даниелла ничего не говорит. Бог ее знает, по нраву ли вы ей; но… — Но вы так думаете, потому что хотите женить меня на ней? — Как знать, что будет! Chilo sa — любимый и решительный аргумент Мариуччии. Она повторяет его так часто, что я отгадал, что это, как знать, выражает у нее: «это уж мое дело», а в иных случаях: «что мне за дело?» На этот раз значение этой поговорки, судя по тону голоса, было загадочное, и я должен был настоятельно требовать объяснений, чтобы узнать, не ввязался ли я в одну из тех интриг, о неприятных последствиях которых мне говорили Брюмьер и Тарталья. Но светлый взор и веселое лицо Мариуччии устраняли всякое подозрение, и в ее ответах на мой вопрос я видел только необдуманное доброжелательство к Даниелле и ко мне. «Если это так, — подумал я, — то и я должен отплатить им такой же откровенностью», — и так как Даниелла не возвращалась, я попросил ее тетку отправиться со мной в мою комнату, где мы и застали Даниеллу. Она чистила мое платье и убирала туалетные принадлежности, как бы была у меня в услужении. — Что вы тут делаете? — спросил я довольно грубым тоном, входя в комнату. Она поглядела на меня кротко, но решительно. Кротость, кажется в ее характере, как и в чертах лица. — Я убираю вашу комнату, — сказала она, — как делала это в Риме, когда вы были больны. Припоминая заботливые попечения обо мне этой доброй девушки, я раскаялся в своей неприветливости. — Милое дитя, — сказал я ей, — садитесь и поговорим. Я хочу знать, как мог я подать повод к вашей разлуке с семейством лорда Б… Вы представили это дело так, как вы разумели его; я должен слышать о нем от вас снова, чтобы поправить вас в том, в чем вы могли ошибиться насчет меня. — Рассказать нетрудно, — отвечала она с уверенностью. — Вы задумали жениться на Медоре. Как человек умный, вы скоро поняли, что для того, чтобы влюбить в себя девушку, которой никто никогда не нравился, надобно было притвориться влюбленным в другую, у нее на глазах, и вам удалось уверить ее в этом. Мной бы пожертвовали в этой игре, если б я имела дело с другими господами, но леди Гэрриет великодушна и, отправляя меня, наградила меня так, что мне грех на них жаловаться. Не то ли я и вам сказала, тетушка Мариуччии? — Быть может, — отвечала тетка, — но и поняла так, что синьор тебе приглянулся, и думала, что и ты ему понравилась. Теперь, когда дело приняло другой оборот, когда он думает жениться на англичанке, и ты была только ступенькой, чтобы добраться до нее, он должен сделать тебе хороший свадебный подарок, и делу конец. Хотя это объяснение Даниеллы должно было расстроить все замыслы се родни на замужество со мной, я не мог, однако, равнодушно снести мысли, что мне приписывают такой смешно-предательский план в отношении мисс Медоры, и счел обязанным объясниться с Даниеллой. — Вы истолковали по-своему мои намерения, милая Даниелла; вы — я должен вам сказать это — в большом заблуждении. Я никогда не притворялся влюбленным в вас. Это была шутка, последствий которой я не мог предвидеть, и я надеюсь, что никто и не думал принимать ее серьезно. Как бы то ни было, я все-таки неправ, потому что это повело к вашему разладу с людьми, к которым вы были, вероятно, привязаны, Я довольно уже виноват и без того, так зачем же мне приписывать нелепый и постыдно-своекорыстный замысел влюблять в себя женщину, слишком для меня богатую, которую я не довольно хорошо знаю, чтобы мог сам полюбить ее. Итак, я прошу вас в откровенных разговорах ваших с многочисленными родственниками не придавать мне без всякой пользы этой гнусной роли. — Без всякой пользы? — возразила она на таком французском языке, который мне пришлось бы переводить, как итальянский. — Вы согласитесь, однако, если это будет с пользой? — Как это? Я вас не понимаю. — Если бы моя родня уверилась, что мы любим друг друга, с нами могла бы приключиться неприятность; лучше пусть они думают, что вы влюблены в Медору. — А какая неприятность, позвольте узнать? — Удар-другой ножом для вас и побои для меня. — От кого же это? Скажите мне все. — От моего брата, он человек злой, предупреждаю вас. Я только от него и завишу, у меня нет ни отца, ни матери. — Так это угроза, под страх которой вам угодно было меня поставить, так доверчиво рассказав родным вовсе неизвестные им обстоятельства? — Я стану угрожать вам и подвергать вас опасности! — вскричала Даниелла, подняв к небу свои блестящие глаза. — Cristo! Неужели вы думаете, что я сказала бы кому-нибудь, что вас знаю, если бы Тарталья не пришел сюда сегодня поутру? — Тарталья! Ну, славно, его только и недоставало! Зачем его черт принес во Фраскати? — Он приходил навестить вас по поручению Медоры, но только тайком, под другим предлогом; она, кажется, беспокоится о вас и хочет скрыть это, боясь, не рассердила ли вас своими отказами. Так как этот сумасброд задумал непременно высватать вам Медору, то он и сказал тетке, чтобы она не допускала нас видеться, потому что вы будете за мной ухаживать, а жениться никогда не женитесь. Вот каким образом, придя сюда с вашим бельем, я вынуждена была отвечать на расспросы. Не моя вина, что все это перепуталось в бедной головушке моей тетки; но монах рассудителен, старуха добра. Мариуччия женщина славная, и дело не пойдет далее, если вы позволите мне сказать им, что вам только и грезится одна мисс Медора. Иначе… — Что же иначе? — Иначе берегитесь, чтобы и брату моему чего не пригрезилось; у него коротка расправа… — Полноте стращать меня, милая, — сказал я с нетерпением. — Я не боец на ножах, но если уж придется, я не спущу ни вашему брату, ни всем вашим родственникам, если они меня затронут, Я очень кроткого нрава, но чувствую, что с такими аферистами, не хуже чем с разбойниками, могу и разозлиться, и им дорого обойдется моя шкура. Говоря это Даниелле по-итальянски нарочно, чтобы Мариуччия слушала и понимала меня, я внимательно наблюдал ту и другую, в особенности Даниеллу, которая, кажется, довольно хитра и, может быть, имеет ко мне не скажу страсть святочных героинь, как Медора, но нежную склонность, основанную на корыстных видах, Мариуччия, хотя тоже не без хитрости, не имеет, кажется, дурных намерений. Что касается моей придворной stiratrice, мне трудно было проникнуть в ее чувства; она, как мне виделось, сама старалась прочитать мои мысли, и мы оба, как говорится, держались настороже. Когда я перестал говорить, она молчала еще некоторое время, будто ища выход из положения, которое ей вздумалось признать затруднительным или опасным. Вдруг, вместо того чтобы отвечать мне, она обратилась к тетке. — Я вам рассказывала, тетушка, как синьор убил одного разбойника близ Казальмарте и прогнал двух других, — сказала она ей. — Я знаю, как он отважен и гораздо сильней, чем кажется. Я видела, как он разделывался с этими бездельниками. Если кто должен бояться, так верно не он, и я не советую Мазолину слишком хорохориться. — Потом, обратясь ко мне, она прибавила по-французски: «Но зачем, скажите, во избежание всякой ссоры, не хотите вы сказаться обожателем Медоры?» — Потому что это неправда и потому что я ненавижу ложь, — отвечал я с досадой. — Вы изволили это выдумать; но будьте уверены, что если я войду здесь в какие-нибудь сношения, и мне представится случай опровергнуть вашу клевету, я не задумаюсь сделать это. В глазах Даниеллы блеснула такая радость, что я сразу понял, что между госпожой и служанкой возникло состязание женского тщеславия, спорным предметом которого был я. — Это удивительно! — проговорила она, очень мило жеманничая передо мною. — Как это сталось, что вы от нее отказываетесь, когда она так в вас влюблена? При этом слове я весь покраснел от гнева. Что Медора безрассудно вверилась моей чести, это не подлежит сомнению. Но она не напрасно вверилась мне и если бы она была даже того недостойна, я должен был бы оправдывать ее для чести лорда и леди Б… Я заставил замолчать горничную с такой строгостью, что она потупила взор, будто в самом деле испугалась меня, и вышла, с поддельным, а может быть, и с истинным смущением. Я жалел, что она не показала, хотя бы для вида, что раскаивается в словах своих: я не так сурово расстался бы с ней, Она так пеклась обо мне во время моей болезни, что я обязан ее поблагодарить, и мне не случилось еще сделать это, потому что она исчезла из дворца прежде моего отъезда из Рима. Кроме того, хотя я и невысокого мнения о ней, но должен, однако же, сознаться, что черты ее лица и ее манеры мне очень нравятся. Я слышал, как она до самой полуночи разговаривала с Мариуччией в чулане на чердаке, возле моей комнаты. Я не мог да и не хотел подслушивать их длинной беседы, но я заметил по тону их разговора, то повествовательному, то веселому, что Даниелла не слишком беспокоится о судьбе своей. Продолжительность этой спокойной болтовни доказывала, что племянница не была под слишком строгим надзором. Наконец я услышал, как отворили дверь, как кто-то сходил по деревянной лестнице, ведущей вниз с этажа, на котором помещаюсь я и Мариуччия, как заскрипела решетка загородки, выходящей на грязную и гористую улицу, прозванную пресловутым именем Via Piccolomini.
Глава XIII
3-го апреля.Сегодня, в шесть часов утра, меня разбудили звуки грудного, нежного голоса, который звал с надворья Розу, старую тетку и служанку Мариуччии. В способе зова выражалась вся певучесть итальянского языка. Когда мы хотим, чтобы нас слышали издали, то усекаем первый слог и продлеваем звук на последнем; здесь, напротив того, ударение падает на начальный слог, и имя Розы, крикнутое или, правильнее, пропетое в октаве нисходящей гаммы, звучало очень мелодично. Протерев глаза и окончательно проснувшись, я узнал голос stiratrice, встал и, взглянув из-за занавески моего окна, увидел ее на улице, в руках с красивым брасеро античной формы, светло выполированным. Через несколько минут Мариуччия выглянула в окно и потянула одну за другой две бечевки. Решетка сада отворилась, а потом дверь входа в дом, и Даниелла вошла. Через полчаса Мариуччия вошла ко мне с упомянутым мной брасеро, наполненным жаром. — Ну, теперь вы не будете зябнуть, — сказала она. — Жаровня, что у нас внизу, слишком велика для вашей комнаты; у вас болела бы голова от нее, и племянница не позволила мне вчера внести эту жаровню к вам, но у нее нашлась поменьше, вот она. — И она лишается своего брасеро ради меня? Этого я не позволю. Я позвал Даниеллу, которая распевала на соседнем чердаке. — Вы слишком добры ко мне, — сказал я ей. — Я уже не болен, и вы балуете человека, который стал вам докучной и неприятной помехой в жизни. Я вас дружески, братски благодарю за это внимание, но прошу вас сохранить для себя эту жаровню; в эту пору года она может еще быть пригодна для вас. — Что мне с ней делать? — отвечала она. — Я только на ночь возвращаюсь домой. И не дожидаясь моего ответа, она сказала Мариуччии, что завтрак мой готов, и что она сейчас подаст его. — Не замешкайтесь, — прибавила она, — приходите поскорей вниз, если не хотите, чтобы яйца переварились, как вчера. И с этими словами она легко сбежала по лабиринту деревянных крутых лестниц, ведущих к каменным сходам нижних этажей. — Как вчера? — спросил я Мариуччию, которая принялась прибирать в моей комнате. — Разве ваша племянница была здесь вчера утром? Так она каждый день к вам приходит? — А то как же? У нее еще немного работы; что было, перешло в другие руки во время ее отсутствия. Но ей недолго сидеть сложа руки; ее все любят и, нечего сказать, она славная мастерица. А пока она помогает здесь мне, как бывало и прежде делывала. Она славная девушка, очень ко мне привязана, а какая живая, словно бабочка; кротка, как дитя, и добра, как ангел. Разве вам неприятно, что она вертится здесь около меня? Это вам ни копейки стоить не будет; она прислуживает мне, а не вам. Мне показалось, что все это заранее сговорено, и мне ничего более не оставалось, как принять настоящее положение дел в той мере, в какой оно, по-моему, могло быть принятым. Завтрак подала мне Даниелла. Ее чистоплотность, менее подозрительная, чем чистоплотность тетки, живость ее и ее нежное внимание ко мне были бы очень по душе, если бы в эту душу не закралась какая-то недоверчивость, которая ставила меня в оборонительное положение. В ее обращении со мной явно был заметен вызов, но вызов нежный и почти материнский, который, помимо моей воли, более трогал меня, чем льстил мне. Я решился выяснить это, и когда она нагнулась, чтобы подать мне кофе, а ее щека почти касалась моей, я от всего сердца выдал ей поцелуй, на который, она, как казалось, напрашивалась. Она покраснела и задрожала, будто вовсе не ожидала этого. Это меня удивило. Я полагаю, однако, что недаром же она гризетка, итальянка, и притом хорошенькая, недаром рыскала два года по свету в звании модной горничной, и, вероятно, с ней случались и более серьезные приключения. Итак, чтобы избавиться раз и навсегда от всякого комедиантства с ее и с моей стороны, я счел нужным задать ей вопрос: — Я вас оскорбил? — Нет, — отвечала она мне без малейшей запинки и обдав меня самым роскошным из своих взглядов. — Я огорчил вас? — Нет. — Так я могу надеяться… — Всего, если вы меня любите, и ничего, если не любите меня. Это было сказано так решительно, что я был поражен ее ответом. — Что вы подразумеваете под словом любить? — спросил я. — Разве вы не знаете значения этого слова? — Я никогда не любил. — Почему? — Потому, вероятно, что мне не удавалось встретить женщину, достойную такой любви, как я понимаю это чувство. — Вы, верно, не искали? — Любви не сыщешь, если бы и вздумалось искать ее. Ее встречаешь иногда вовсе неожиданно. — Стою ли я, по-вашему, такой любви, как вы ее понимаете? — Как это знать? — Вот уже полмесяца, как вы меня знаете. — Но я знаю вас не более, чем вы меня. — Так вы думаете, что для любви нужно знать друг друга лет пятнадцать? Другие не то говорят. — Вы не ответили на мой вопрос. Что понимаете вы под словом любить? — Принадлежать друг другу. — Надолго ли? — На все время, пока любишь. — У каждого своя мера верности. Я не знаю своей; как велика ваша? — Я тоже не знаю. — То есть, вы еще не имели случая испытать ее? — сказал я очень серьезно, думая про себя: «Рассказывай другим, голубушка!» — Я не имела случая испытать свою верность, потому что никогда не знала взаимной любви. — Будем друзьями — это вас ни к чему не обязывает; расскажите мне, как это было? — В первый раз это случилось здесь; мне было тогда четырнадцать лет. Я любила… Тарталью. — Тарталью! — но я должен был давно догадаться. — Это было так глупо с моей стороны; он и тогда был такой же отвратительный, как и теперь. Но я чувствовала потребность любить. Он первый заговорил со мной о любви, как говорят с взрослой девушкой, а мне надоело быть ребенком. — Хорошо; по крайней мере, вы откровенны. И… он был вашим любовником? — Мог бы им быть, если бы искуснее меня обманывал; но у меня была приятельница, за которой он ухаживал в то же время и которая открыла мне это. Поплакав вдоволь, мы поклялись друг другу презирать его и смеяться над ним; а так как у нас еще было немножко ревности, мы то и дело указывали друг другу на его безобразие и глупость, и так хорошо вылечились от любви, что после не только не могли смотреть на него, но даже и говорить о нем. — Ну, слава Богу, с этим все кончилось благополучно. А другой? — Другая любовь пришла гораздо позже. Беда к чему-нибудь да пригодится. Досада и стыд, что я могла мечтать о Тарталье, сделали меня более недоверчивой и более терпеливой. Многие ухаживали за мной; ни один мне не нравился. Я презирала мужчин, и так как это придавало мне вид высокомерия и разборчивости, кокетство мое и моя гордость были удовлетворены. Мне бывало иногда скучно так чваниться, но, по счастью, я выдержала, и все оставалась такой. Не имея приданного, если бы я вышла замуж в ранней молодости, я была бы теперь нищей, да еще, может быть, с кучей детей и с пьяным или ленивым мужем, у которого, пожалуй, нашлась бы и тяжелая рука в придачу. — Все так; но кто же был предметом второй любви? — Погодите… это был лорд Б… — Ай-ай, а я считал его человеком чистых нравов! — Он таков и есть. Он никогда не ухаживал за мной и никогда не знал, что мог ухаживать. — Вот еще непорочная любовь! — Любовь всегда непорочна, если она искренна; а так как леди Гэрриет и слышать не хочет о своем муже, хоть и ревнует его, из опасения чужих толков, то мне не грех было бы стать ее соперницей, лишь бы это было втайне и не расстраивало бы их. Но и этого не случилось, потому что… раз, в Париже, я видела милорда пьяным. Это бывает с ним не часто, когда ему становится уж очень горько. Мне пришлось укладывать его, чтобы жена не заметила. Пьяный, он показался мне таким безобразным, таким старым, со своим бледным лицом и лысиной без парика, таким смешным в своем несчастье, что прихоть моя разом пропала. Он славный человек, и я всегда буду любить его; я только о нем одном жалею из целой семьи; но если бы пришлось выбирать его в отцы или в мужья, я лучше хотела бы быть его дочерью, чем женой. — Ну, с двумя мы покончили; каждый принес вам свою долю разочарования, кто ж третий? — Третий? Третий вы. За это следовало еще раз поцеловать. — Постойте, — сказала она мне после другого поцелуя, — вы откровенны со мной, и я должна заплатить вам тем же. Я вас страстно любила, но теперь уже не так, и я могла бы исцелиться от этой любви, как вылечилась от других. — Скажите же, что может излечить вас, чтобы мне остерегаться этого? — Стоит попытаться обмануть меня, и так как вам провести меня никогда не удастся, то, заметив ваши козни, я разлюбила бы вас. — Что вы называете обмануть? — Любить Медору и уверять меня в противном. — Клянусь честью, я не люблю ее! Что ж, любите вы меня теперь? — Да, — сказала она решительно, но увертываясь из моих рук. — Однако, выслушайте, что я вам скажу еще. — Знаю, — отвечал я с досадой, — вы хотите, чтобы я женился на вас? — Нет, я не пойду замуж прежде чем испытаю в продолжение нескольких лет постоянство моего любовника и свое собственное. А так как в этом отношении вы ничего не обещаете мне, да и я сама ничего обещать не могу, то я вовсе и не думаю быть вашей женой. — Отчего же вы колеблетесь? — Оттого, что вы еще не сказали мне, что меня любите. — По вашему определению, любить — значит принадлежать друг другу; следовательно, мы еще не любим один другого. — Не торопитесь, signor mio! — вскричала она, охватывая меня своим влажным взором, как волной сладострастной неги, но отнимая свои руки, которые я держал через стол. — Вы человек ловкий, да и я не глупа. В наших теперешних отношениях любить — значит только желать так любить, как я говорила. Надобно, чтобы это желание было очень велико с обеих сторон. Женщина доказывает силу своего желания уже тем, что жертвует своей честью; но со стороны мужчины вместо желания может быть одна прихоть: он не рискует ничем. — Но я, кажется, рискую жизнью, если вы говорили мне правду о своем брате и о других своих родственниках. — К несчастью, я не лгала. Правда, мой брат всегда или пьян, или в отлучке, следовательно, не надзирает за мной; но если злой язык его подзадорит, он убьет вас. — Тем лучше, милая Даниелла; я рад, что подвергаясь этой опасности, могу доказать вам… — Что вы не трус? Ваше равнодушие к опасности больше ничего не доказывает. В вознаграждение за мою честь мне нужна уверенность в вашей любви. — Вот уже в другой раз произносите вы это мудреное слово, — возразил я с досадой и нетерпением, — пожалуйста, не говорите его в третий, не то мы навеки расстанемся. Она поглядела на меня с удивлением; потом, пожимая плечами, сказала: — Понимаю, вы не верите; но скажите, почему вы не верите? — Не сердитесь! Если бы я знал, что именно вы понимаете под этим словом, быть может, я поверил бы вам. — Это слово не имеет двух значений. Девушка, которая любит, не думая о браке, считается погибшей. Каждый мужчина присваивает право обладать ею, и если она сопротивляется, ее позорят, ее оскорбляют. — Вы говорите со мной, моя милая, как девушка, которая никому еще не принадлежала. Если бы это так было, я даю вам честное слово, что не искал бы возможности быть первым… — Это почему? — Потому что я слишком молод и слишком беден, чтобы быть для вас опорой, в случае если бы любовь наша продлилась. — Да… — сказала она, задумавшись на минуту, Когда она размышляет, черты ее лица, выражающие решимость и вместе с тем чувственность, оживляются странной энергией. Потом она встала и начала убирать со стола с заметным желанием прервать наш разговор. Я хотел возобновить его, но она молча покачала головой и сошла легко по лестнице, ведущей в сад. Я видел в окно, что в саду, кроме нее, никого не было; я чувствовал, что она обиделась; мне хотелось, чтобы она простила меня, и я стал ее звать, но она осталась недвижима, будто не слыхала меня. Я был в таком волнении, что оно начинало тревожить меня. Это не была, как с Медорой, тревога возбужденной чувственности; это было влечение более сильное, которое рассудок не мог ни заглушить, ни успокоить. Какая была мне Нужда до того, что Даниелла лжет и что она не непорочна; она мне оттого не менее нравилась. Не глупо ли было с моей стороны так ее выспрашивать? В нас всегда гнездится какое-то педантство, которым мы сами себе мутим вольную струю жизни. Но зачем она, так некстати, заговорила о своей чести; она затронула тем мою собственную честь. Что за глупость непременно домогаться любви? Честь, любовь! Эти слова, вероятно, не имели для нее того значения, того смысла, какие я соединяю с этими словами. Но если она имела право ожидать любви и ссылаться на честь свою, о, тогда не стал бы я заботиться о людских толках! Своей преданностью, своей искренностью я бы очистил и возвысил это самое простое, самое обыкновенное обаяние, которому я подвергся! Но, с другой стороны, если она действительно имела то право, как много я виноват перед нею! Как грубо, как недостойно я обращался с нею! В. скольких дурных мыслях и обидных вольностях мне надобно было бы получить от нее прощение, прежде чем иметь право на любовь, так храбро и так наивно мне предложенную! Боязнь сделать непростительную ошибку, грубо возбуждая существо девственное и чистое, овладела мною в моем горячечном волнении. Тревожимый то этой боязнью, то менее сильным опасением попасть в дураки, я решился выжидать, пока не узнаю короче этой девушки, и только тогда возобновить наш щекотливый разговор. В этих мыслях я ушел в поле, чтобы усмирить мое томительное волнение, мое болезненное беспокойство. Красота этих пустынь, где я чувствую себя царем, успокоила меня, и я успел забыть искушение, которое настигло меня так внезапно, что легко могло вовлечь в погрешность или против рассудка, или против совести. Домой возвратился я, по обыкновению, в восемь часов. Я всегда беру с собой ломоть хлеба, на случай если проголодаюсь в промежуток от завтрака до ужина, продолжающийся около двенадцати часов. Пью ключевую воду; она здесь так прозрачна и вкусна, что вполне удовлетворяет моей разборчивости. Когда я подумаю, как мало нужно для благоденствия человека, который много живет умом, я всегда удивляюсь алчности к богатству и стремлению к роскоши. Я теперь в стране, где, по укоренившейся беззаботности, с одной стороны, и по недостатку — с другой, вовсе не знают множества изысканностей, вызванных нашим климатом и нашей цивилизацией. На первый взгляд это отсутствие удобств поражает, потому что составляет резкую противоположность с здешним пристрастием к украшениям; но к этому скоро привыкаешь, и даже появляется желание еще более упростить эту жизнь, так похожую на существование араба под шатром. Когда я вспоминаю все, чем нужно запастись у нас для жизни в пределах самой скромной необходимости, в большом ли городе или в деревне, я вижу, что для небогатых людей со дня на день самая лучшая жизнь — самая естественная, привольная. Может быть, и богатым грезится то же. Я полагаю, что по мере средств возрастают и обязанности, и что на долю щедрого богача выпадает не менее попечений, не менее забот, чтобы с достоинством тратить свои богатства, чем на долю скупца, чтобы сберегать и прятать их. Если б опрятность, одна из первейших потребностей всего живущего, так что самые животные могли бы служить нам в этом отношении примером, если б опрятность могла сдружиться с неприхотливостью этих южных народов, нам бессмысленными показались бы все наши хлопоты и заботы для совершения этого короткого странствования по земле, где мы обзаводимся таким полным домом, словно уверены, что завтра так же принадлежит нам, как и сегодня. Но неопрятность почти везде неразлучна с отсутствием средств и удобств. Человек так создан, что не умеет найти средины между необходимым и излишним. Не таков ли он во всех проявлениях своей умственной, нравственной и общественной жизни? Я не виделся с Даниеллой сегодня вечером. Опасаясь думать о ней или слишком много, или слишком мало, я настолько владел собой, что не спросил о ней тетку. Мариуччия не вызывала, как прежде, моей откровенности, и мы не перемолвились с ней и двух слов в этот день. А между тем, на моем столе две вазы цветов, которых вчера там не было. Как хороши эти белые ирисы; они красивее лилий и запах их еще нежнее. Я сейчас отважился спросить у Мариуччии, которая принесла мне мою маленькую лампу, не из нашего ли сада эти цветы; я знал, что не из нашего, но полагал, что заставлю ее этим вопросом сказать, откуда они. Сначала она притворилась, что не слышит меня, потом отвечала с крайне лукавым видом: — Брат мой, капуцин, прислал вам это. Я не хотел показать, что сомневаюсь в правдивости слов ее, но когда она уходила, я закричал смеясь вслед ей: — Поцелуйте его за меня! — Кого? — спросила она и, видя, что я указываю рукой на цветы: — Cristo! — вскричала она со своей выразительной мимикой. — Поцеловать за вас капуцина? Не заглянуть ли мне, на сон грядущий, в свое собственное сердце? Не произнести ли, прежде чем засну, радостное или грозное слово: я влюблен! Нет, я еще не влюблен. Это, быть может, легкий игривый ветерок прихоти, и я хорошо сделаю, если не буду упиваться его струей. Если же это бурный ветер страсти… Да хранит меня от него Провидение! Со времени жизни моей у дяди я в первый раз нахожусь в таком положении, в котором спокойствие духа и забвение моей личности были бы для меня так целебны и так отрадны.
Глава XIV
4-го апреля.Сегодня я нехотя рассеялся от вчерашних дум. Брюмьер приехал ко мне в десять часов с адским аппетитом. Мариуччия нашла средства накормить его завтраком. Потом мы наняли двух тощих клячонок и верхом отправились в Альбано. Наш первый привал был в монастыре Гротта-Феррата, который я с первого взгляда счел за крепость. Это очень богатое братство базилианцев. Мы остановились там осмотреть фрески ризницы. Эти фрески работы Доминикино и хорошо сохранились. Здесь-то находится знаменитое изображение юноши «одержимого бесом», прекрасное создание по чувству, но уж слишком наивное по исполнению. Проходя в церковь, я видел странную церемонию. Товарищество крестьян, одетых в белые, но уже грязные балахоны, отороченные красной обшивкой (род коротких рубах), с покрытыми платком головами, так что лицо было почти закрыто, окружало что-то вроде кровати черного цвета с позолоченными украшениями, читая нараспев молитвы. Через несколько минут они поспешно спрятали в карман свои платки, посбрасывали с себя свои странные костюмы и торопливо ушли, разговаривая и смеясь между собой, как люди, спешившие отделаться от тягостной обязанности. Я подошел к кровати, оставшейся посреди опустевшей церкви, и увидел предмет, до которого должен был дотронуться, чтобы разгадать, что это такое. Брюмьер, замешкавшийся немного в ризнице, подошел ко мне в эту минуту и также не мог понять того, что было у него перед глазами. — Что это такое? — спросил он. — Я этого еще не видывал. Да это превосходно! Какая правда, какое выражение! Взгляните, художник не забыл даже болезненную опухоль рук. — Из чего эта фигура? — спросил я. — Как вы думаете, воск это или дерево? Не зная сам, он придавил пальцем опухшую руку; тело легко уступило давлению. — Да это мертвая! — вскричал он. Это была старушка, которую вынесли в церковь, чтобы поставить на катафалк до срока погребения. Ей казалось лет около ста, но, несмотря на старость, спокойствие смерти возвратило прежнюю красоту чертам ее. Кожа ее подернулась матовой белизной чистого воска. Резкие черты лица не изобличали ее пола, потому что легкий пух, белый как снег, оттенял крепко сомкнутые уста. Одетая в белое полотняное платье, завязанное у шеи и на кистях рук черными лентами, с кисейным покрывалом на голове, придававшим ей вид монашенки, она, казалось, спала, свободно свесив руки со смертного ложа. На лице ее выражалась такая сосредоточенность мысли; она, казалось, была так довольна своим вечным сном, что из уст ее будто вылетали слова Микеланджело Sonno: «Не будите меня!» Смотря на нее, невольно зарождалось желание умереть как она, без предсмертных мук, без сожаления; уснуть как засыпает странник, нашедший спокойную постель после далекого утомительного пути. Я удивлялся, что сопровождавшие покойницу, так опрятно убранную и принесенную сюда с церемонией, вдруг оставили ее без присмотра и без молитвы в церкви, всегда отворенной для проходящих. — Это всегда так бывает, — сказал мне Брюмьер. — В Италии на смерть смотрят не так серьезно; здешние похороны похожи скорее на праздник, чем на печальную церемонию. Слезы родственников и друзей сопровождают покойника только до порога его хижины, Остальное делается для эффекта. Я встретил однажды на большой дороге в Спеццию умершего бедняка, которого два дюжих крестьянина несли на кладбище. Священник шел весело впереди, посматривая на встречавшихся поселянок и приветливо им улыбаясь, не переставая притом читать молитвы. Молодой парень, одетый в черную мантию, с мрачной погребальной шляпой на голове и с черным деревянным крестом в руках, словом «брат смерти как их здесь называют, скакал и прыгал вокруг священника, то позади его, то по сторонам, на что служитель церкви не обращал особенного внимания: Этот чудак кривлялся, представляя из себя смешные фигуры, гонялся за деревенскими девками, стращая их, и без церемонии целовал их под носом священника, который находил это, как казалось, очень забавным. Я спрашивал у проходивших, что все это значит? «От этого мертвому ни тепло, ни холодно», — отвечали мне эти философы, и когда я спросил, неужели так поступают на всех похоронах умерших жителей, один из граждан отвечал мне разумеется, нет; но этот не здешний. — В другой раз, в Неаполе, — продолжал Брюмьер, — я видел вынос в церковь старого дородного кардинала, с большой церемонией. Покойник лежал в гробу, с открытым лицом, как это водится. Он был с венком на голове и, поверите ли, нарумянен, чтобы встречающимся было веселее смотреть на него. В Кастель-Гандольфо мы проходили вдоль наружной стены другого монастыря. — Посмотрите, — сказал мне Брюмьер, остановясь перед небольшим окошечком с железной решеткой, — вот вам еще пример, как здесь играют смертью. Я подошел и увидел внутри маленькой часовни отвратительное шутовство: полуистлевший скелет стоял на коленях, в умоляющей позе, перед алтарем, сложенным из человеческих костей. Напрестольный крест, свечи, кадило, привешенное к своду часовни, составлены были также из разрозненных костей человеческих скелетов, с целью, вместе мрачной и шуточной, обратить внимание проходящих. Это был призыв общественного милосердия в стране нищеты, призыв, на который набожность жителей отвечала достойным образом: помост часовни был усыпан крупными медными монетами. В самом деле, этот скелет на коленях, не молящийся, а просящий милостыню, характерная фигура! — Вы видите, — сказал мне Брюмьер, — что здесь и мертвые протягивают руку за подаянием. Мы видели с террасы, осененной тенистыми деревьями, Альбанское озеро. Как озеро, этот водоем ничем не примечателен: на окрестных холмах нет высоких деревьев, да и сами холмы не имеют никакого вида, так что я никак не мог разделять восхищения Брюмьера. Он малый неглупый и перед созданиями искусства он — артист, понимающий дело, но этот живописец-литератор (он пишет очень остроумные статьи в парижские периодические издания, называемые там la petite presse), как я думаю, не любит природы; по крайней мере, он смотрит на нее не с нежностью, не с разборчивым вниманием истинного обожателя. Она нравится ему без разбора, какова бы она ни была, как бы нравилась школьнику или затворнику-монаху всякая женщина, молодая или в летах, черная или белая. Для него лишь бы были чистый, прозрачный воздух, темно-голубое небо, дикие формы и в особенности исторические названия и воспоминания; он предпочтет самый скудный образчик южной природы самым лучшим видам северной. Мы вечно спорим об этом. Он похож на большую часть туристов, которые веруют только в славные и отдаленные предметы. Смиренные красы родного их края не существуют для них, и любовь их к странам преданий и солнца обращается в совершенный фетишизм. — Да как же, — возражал он мне, — я буду описывать Шато-Шинон или другое местечко вашей центральной Франции? Оверн, Марш, Лимузен известны всем. — Однако ж, никто их не знает. — Положим. Но ведь и выприехали же сюда посмотреть на прекрасное небо и прекрасные виды? — Да, я для этого приехал сюда и нахожу серое небо и виды, которые обязаны своей прелестью скорее молве, чем природе. Теперь, когда припоминаю иную местность, в окрестностях Марселя, куда вы не хотели последовать за мною, я невольно спрашиваю себя, не лучше ли то, что я видел в Провансе, того, что вижу в Италии. По крайней мере, здесь я не видал еще такого прекрасного дня, какой провел на горе Св. Иосифа, несмотря на то, что тогда дул мистраль. Сейчас только, — прибавил я, — в лесистом ущелье Марино я говорил вам, что я воспитан в дебрях, во сто раз живописнейших, и что это скалистое ущелье, с его маловодным ручейком и деревушкой на откосе холма, хотя и нравятся мне, но кажутся слишком миниатюрными. — Но грустный вид этого местоположения, но его характер, такой своеобразный… — Нет уголка на белом свете, как бы обыкновенен он ни был, который не имел бы своего единственного в мире характера для того, кто умеет понять и прочувствовать его впечатление. Но согласитесь, что в наших впечатлениях воображение играет не последнюю роль и что если бы вы не знали, что Марино исстари слывет разбойничьим притоном на дороге в Террачину, на которой так часто случаются мелодраматические приключения, если бы вы видели это селение в двадцати лье от Парижа, проезжая мимо его по железной дороге, вы не обратили бы на него ни малейшего внимания? — От всего сердца согласен с вами. Это Марино наводит мысль на драму и роман, потому что оно лежит в стране романа и драмы. Но я путешественник простодушный, между тем как вы, с вашим притязанием видеть вещи в их настоящем свете и оценять их по их действительной стоимости, вы произвольно лишаете себя удовольствия, которое они бы вам доставили, если бы вы, как я, принимали их за то, чем они кажутся, и видели в них то, что они напоминают. Пришпоривая порядком наших коней, чтобы заставить их идти рысью, я думал про себя; не прав ли в самом деле Брюмьер, и не довольнее ли, не счастливее ли он меня со своей парижской необдуманностью, вместе крайне подражательной и фантастичной? Подумав хорошенько и сделав над собой усилие, чтобы следовать вашим советам, то есть, чтобы давать себе отчет в своих мыслях, я почувствовал себя в состоянии отвечать ему. Мы приехали в Аричию, в древнюю Аричию латинцев, теперь небольшое, красиво расположенное местечко. Лошади наши отдыхали, а мы, облокотясь на перила великолепного моста, из трех ярусов аркад, один на другом, возобновили нашу беседу. Это местоположение было истинно прекрасно. Монументальный мост новой постройки, но достойный римлян, соединяет два берега глубокого оврага и поднимает под один уровень дорогу из Аричии в Альбано. Таким образом, этот мост идет над пейзажем, раскинутый на дне оврага, а этот пейзаж — девственный лес, брошенный в глубине. Девственный лес, окруженный стеной, — вот истинно царская прихоть! Полвека прошло с тех пор, как рука человека не отсекла ни одной ветви, как нога его не прокладывала ни одной тропинки в лесу Гиджи. Почему это? «Кто знает? Chi 1о sa?» — отвечают местные жители. Это напоминает мне то, что вы рассказывали о доме с забитыми дверьми и окнами, на бульваре Пальма, на острове Майорке, в исполнение воли завещателя, причины которой никто не знает, В этой стране всевластной аристократии есть тайны, которые могли бы служить сюжетами множеству наших романов и которые тщетно старается разгадать ваше пытливое воображение. Стены молчат, а жители удивляются менее нашего, привыкнув не знать причины и более важных фактов, совершающихся в их общественной жизни. Впрочем, этот каприз, понятный, если бы владелец был художник, есть приятная неожиданность для проезжего артиста. По отлогостям рва ступенятся колоссальные дубы, поддерживающие на мощных раменах ветвей своих склонившиеся остовы отживших своих соседей, которые истлевают там в прах, под засохшей оболочкой синевато-белого мха. Плющ вьется по этим развалинам памятников природы, а под непроницаемой сенью лиственных наметов и бледных скелетов усопших лесных великанов кусты терновника и купы диких растений и обломки скал купаются в водах ручья, берега которого непроходимы, Не будь перед вами большой дороги, а позади вас города, можно бы подумать, что вы в лесах Нового Света. Я никогда не видал таких огромных деревьев, как вечнозеленые дубы альбанских галерей. Так называют здесь дороги, окружающие эту знаменитую местность, вдоль по уступам, устроенным человеческими руками над обширной равниной, омываемой Средиземным морем. Этот Лациум — страна, широко открытая, плодоносная, обильная растительностью и живописная. Далее, я скажу вам, чего недостает этой богатой природе; теперь пора вспомнить, что я стою на громадном мосту Аричии, над лесом Гиджи и разговариваю с Брюмьером. — Я применяю ваши рассуждения и свои собственные ко всему, — сказал я ему, — и это доказывает, что каждый, следуя своим личным умозаключениям, думает, что имеет самое верное понятие о вещах и умеет наслаждаться земными благами. Поэтому я смиренно признаюсь, что я, как мне кажется, в выигрыше перед вами. Во мне нет этой беспредельной и безусловной благосклонности, какую чувствуете вы ко всему, что почитается драгоценным. Я точно лишен этого блаженного состояния духа, всегда и всем довольного, но во мне есть неистощимые сокровища наслаждения теми радостями, которые мне по сердцу и по мысли. У меня ум, быть может, несколько критический, не всегда податливый на заказное удивление, но когда я встречаю то, что могу назвать своим, по созвучию предмета с моим внутренним чувством, я бываю так счастлив в моем безмолвии, что не в состоянии расстаться с этим счастьем. Я всегда думал, что если я найду когда-либо уголок земли, которым я буду истинно восхищен, я никогда его не покину, будет ли это у антиподов или в Нантере, будет ли это Карфаген или Пезенас; точно так… Я досказал эту фразу про себя, как часто делывал это и прежде, к вашему всегдашнему неудовольствию, но Брюмьер, очень прозорливый на это раз, договорил ее вслух. — Как, если бы вы встретили женщину, — сказал он, — которую истинно полюбили бы, то будь она царицей Голконды или судомойкой, вы предались бы ей навеки… но надеюсь не исключительно. — Исключительно, клянусь вам в этом; не видите ли вы во мне, по моей прихотливой разборчивости и в отношении к природе, и в отношении к жизни, что я ношу в душе своей идеал, которого не находил еще в действительности и который, вероятно, не ускользнет у меня из рук, если только попадется мне в руки? — Черт возьми, — воскликнул мой товарищ, — я счастлив, что моя принцесса (он все еще продолжает так называть Медору) не слыхала этих слов. Тогда я опустился бы в ее мнении на сто футов под уровень моря, тем более, что со времени вашей поездки в Тиноли мои акции и без того страшно упали. — Полно шутить! — Что тут за шутки! Или вы были обольстительны во время этой поездки, или болезнь ваша сделала вас интересным, или наконец подвиг ваш на Via Aurelia оставил неизгладимые следы, но я нахожу, что вы, в особенности со времени вашего отъезда из Рима, делаете ужасные успехи в сердце этой красавицы, а я пячусь в нем назад, как рак. Жан Вальрег, — прибавил он полушуточным, полуугрожающим тоном, — если бы я стал подозревать, что вы насмехаетесь надо мной и что вы обделываете тут свои собственные дела… — Если вы будете спрашивать меня об этом со сверкающими глазами и грозным тоном, я пошлю вас, любезный друг, к черту, но если вы серьезно обращаетесь к моей чести и будете ценить мои слова как следует… так ли вы меня спрашиваете? — Да, клянусь вам честью вашей и моей! — В таком случае и я клянусь вам вашей и моей честью никогда не помышлять о мисс Медоре. — Стало быть, вы очень уверены, что можете сдержать это слово? Послушайте, любезный друг, не сердитесь. Я, грешный, сомневаюсь во всем, даже в самом себе, и признаюсь, не смел бы в подобном случае дать вам клятву, которую вы так решительно мне дали. — Так сомневайтесь себе на здоровье, а мне больше нечего делать. — Нет, нет, я принимаю ваше слово, я почитаю его священным в отношении к нашему времени; но подумайте, что не сегодня, так завтра, вы можете раскаиваться в том, что его дали! — Как это, почему? — Э, Боже мой, как знать, что может забрать себе в голову молодая девушка, так легко воспламеняющаяся, как иногда Медора. Если бы она почувствовала к вам… склонность, что ли (я только предполагаю), и призналась бы вам, например, что она вас предпочитает… — Так вот в чем дело! — сказал я ему, чтобы положить конец всем догадкам, которые ставили меня в неловкое положение. — Вы пришли, как простодушный любовник, предупредить меня об опасностях, которым я могу подвергнуться, то есть указать мне выгоды моего положения? Брюмьер смекнул, что он становится смешон, и поспешил меня разуверить, но на обратном пути он беспрестанно возвращался к этому разговору, и мне не малого труда стоило избавить себя от прямых вопросов, на которые, признаюсь, я не колебался бы отвечать бесстыдной ложью. Этот случай доказывает мне, что безусловная истина относительно женщин невозможна. Мне удалось успокоить Брюмьера одной истиной: упорным отрицанием во мне всякой склонности к Медоре. Но когда он убедился в этом, его минутное удовольствие превратилось в досаду на оскорбительное презрение к его кумиру, и он прибегал к всевозможным формулам удивления, чтобы доказать мне, что я слеп, и что я в женщинах знаю столько же толку, как могильщик в крестинах. Разговор этот ужасно мне надоел, мешая мне смотреть на внешние предметы с тем вниманием, с каким я всегда их осматриваю, отправляясь с этой целью в путь. Во сто раз лучше совершенное одиночество, чем такое сообщество, в котором нет пищи для сердца. Проснувшись сегодня, я никак не ожидал, что проведу этот день в разговорах о мисс Медоре. Избави Бог от таких рассуждений, от таких умных речей, от таких забот о будущности и о богатстве! Я не гожусь ни к чему подобному, и мне ужасно хотелось остаться одному, так что я невольно шептал себе под нос: на сегодня уж бы довольно этого Брюмьера.
Глава XV
4-го апреля. (Другое письмо).Въезжая во Фраскати, мы встретились лицом к лицу с Даниеллой, разодетой щегольски. Она была в шелковом платье золотистого цвета с отливом, в лиловом переднике, в шарфе из алого crepe de Chine на голове, в ожерелье и серьгах из коралла, словом, вся увешана обносками леди Гэрриет, размещенными на ней сообразно местной моде, и в этом костюме она удивительно походила на красную куропатку. Не знаю для чего, я притворился, будто ее не вижу; может быть, это было бессознательное движение ревности. Я, быть может, думал, что Брюмьер ее не увидит, но он увидал ее и, бросив поводья своей лошади, подбежал к ней и поздоровался с ней, как с приятельницей, содействующей его стараниям у Медоры. Я понял, что он еще не знает, что Даниелла уже не служит у Б…; они, вероятно, сказали ему, что отпустили ее на несколько дней повидаться с родными. — Вы скоро возвратитесь? — спросил ее Брюмьер. — Хотите, я провожу вас сегодня вечером в Рим? — Никогда! — отвечала stiratrice тоном королевы, она будто с лукавым умыслом оставляла его в заблуждении. — Как это, — вскричал Брюмьер, — так вы в ссоре со своей прекрасной госпожой? — Навсегда! — отвечала Даниелла с такой же неукротимой гордостью. — Расскажите, пожалуйста, — продолжал Брюмьер, желая, видимо, прояснить какую-нибудь новую черту характера Медоры. — Никогда, — отвечала фраскатанка в третий раз, оборотясь к нему спиной. — Брюмьер удержал ее. — Если вы скажете ей, что меня встретили, и она спросит, что я говорю о ней, скажите, что я ее прощаю, но не поеду к ней, хотя бы она меня озолотила. Она удалилась, ни разу не взглянув на меня. Брюмьер приступил ко мне с расспросами. Этого-то я и боялся, утомленный всей этой дипломатией. Я отделывался, как мог, уверяя, что я не успел путем поговорить с Даниеллой с переселения моего во Фраскати, и ни слова не сказал о ее родстве с Мариуччией и о распорядке моей жизни на вилле Пикколомини. Отрекаясь таким образом от моих отношений с Даниеллой и притворяясь равнодушным, я внутренне очень досадовал на Брюмьера за небрежный тон, с каким он говорил о ней. — Что бы там такое могло случиться между горничной и госпожой? — спросил он. — Мне ужасно хотелось бы проведать это. Вы должны знать, в Риме вы были в ладах с этой плутовкой! — И когда я отвергал это, он смеялся надо мной. — Э, так вот что! — вскричал он, как бы озаренный новой светлой мыслью. — Она просто в связи с вами, и ее, вероятно, за то и отправили; а вы перебрались сюда потому, что она сюда переселилась! — Мне бы очень было совестно, если бы это была правда, — отвечал я ему. — Непохвально было бы с моей стороны, если б я так распорядился в почтенном семействе и подал повод к увольнению этой бедной девушки, которая, может быть, очень честных правил, как бы вы о ней ни думали. Веттурино, отправляющийся ежедневно из Фраскати в Рим, под незаконно присвоенным титулом дилижанса, въехал в это время на площадь; Брюмьер поторопился занять место и только-только успел проститься со мной. Я отправился в Пикколомини окольной дорогой, следуя случайно и как бы против воли направлению, которым за несколько минут перед тем шла Даниелла. Проулок, в который я вошел, привел меня в предместье, расположенное в овраге, в той стороне, где сохранились еще древние римские постройки. Крутизна эта очень живописна. Старинные дома, несоразмерно высокие, отвесно углубляющиеся в пропасть, построены на фундаментах, которых не отличить от скал и которые состоят из обломков древних развалин, Под колоссальной растительностью, покрывающей эти обломки, виднеются громадные остатки стен с принадлежащими к ним дверьми и лестницами, оставшимися на своих местах, благодаря несокрушимой силе цемента, И для поддержки всего этого обвала, служащего в свою очередь поддержкой новейших построек, вколочены ветхие сваи, кое-как исполняющие свое назначение до первого маленького землетрясения, которое стряхнет всю эту рухлядь в долину. Внизу места много… Посреди этих развалин, обнаживших местами значительные углубления, наполненные водой, жители предместья устроили погреба, прачечные, подвалы и террасы. На вершине распавшейся башенки я увидел посреди роскошной скатерти мха, блестевшего под лучами заходящего солнца, большие кусты белых ирисов, растущих в расселинах цемента. Тайный голос говорил мне, что это был сад Даниеллы, и мне воображалось, что и ее я найду в этом доме или, скорее, в этой четырехугольной башне, по сторонам которой возвышались две круглые башенки более древней постройки. Дом этот страннее и несоразмернее всех других в предместье. Входом в него служила арка, ширина которой занимала почти весь передний фасад дома, если можно назвать фасадом одну из сторон этой длинной, вертикально поставленной каменной трубы. Грязный ручей журчит под порогом входа и неподалеку вливается в одну из древних бездонных ям для стока нечистоты. Мне было тем легче войти, что отверстие это не имеет никакого затвора, и я начал взбираться по грязной лестнице, которая, как мне казалось, служила ходом для многих из жилищ, гнездившихся одно над другим вверх по окраине пропасти. То из них, в которое я вошел, имело в фасаде на улицу около двадцати футов, а в вышину, по крайней мере, сто; в стенах пробито кое-где, будто наудачу, несколько отверстий, которые совестно назвать окнами. Пройдя ступеней шестьдесят, я нашел другую дверь на боковом фасе этого дома и увидел себя в уровень с вершинами древних башенок, а следовательно, и с партером в два квадратные метра, где росли ирисы. Я не в силах был преодолеть желание осмотреть эту площадку, которую вьющиеся по жердочкам розы превратили в крытую беседку, и вышел из клетки лестницы, где до того времени никто не мог видеть меня. Как хороши эти кусты маленьких желтых роз! Листья их похожи на ясеневые, а стебель тянется и вьется, как стебель плюща или виноградная лоза, в неизмеримую длину. Здесь привольно этой розе; стебли куста, о котором я говорю, имеют длину всей высоты башни, то есть футов пятьдесят. Гибкие ветви, извиваясь над площадкой по тростниковым жердочкам, отеняют маленькую платформу и потом идут вверх по бокам дома, твердо решившись все ползти и ползти вверх, пока хватит стены для их поддержки. В этой беседке небольшой мраморный надгробный камень, в виде античного алтаря, добытый из развалин и положенный боком, служит скамьей. Семья гвоздик уселась неправильной, перемежающейся каймой по выщербленным окраинам платформы, а по наносной земле, на которой они растут, виднелись кое-где следы крохотной ножки, пятка которой, вдавившись в землю поглубже, оставила оттиск женской туфли, в какие не обуваются бедные фраскатанские ремесленницы; я был почти уверен, что это следы Даниеллы. След этот шел почти до самого края площадки, где более округлое углубление в земле навело меня на догадку, что здесь опирался кто-то коленом, чтобы, нагнувшись над пропастью, нарвать белых ирисов, которые росли из расселины стены, фута два ниже площадки. Этот садик или, точнее, этот тоннель, образованный вьющимися розами, не огорожен никаким парапетом; цемент расшатавшихся камней скрипел под ногами, и, признаюсь, меня бросало в дрожь при мысли, что сделалось бы со мною, если бы я увидел, как любимая мною женщина нагнулась за черту площадки или только села на надгробный камень, прислоненный к ненадежному переплету из римского тростника, по которому взбираются резвые побеги вьющихся роз. Я присел на эту скамью, чтобы отдать себе отчет в этом внезапном и сильном ощущении, овладевшем мною, или, вернее, преодолеть его, но с каждой минутой биение сердца становилось чаще и, что бы то ни было, желание или сердечная склонность, прихоть или симпатия, только я чувствую себя под властью чего-то неотразимого. Наконец мне удалось несколько собраться с мыслями. «Если, — думал я, — Даниелла действительно здесь живет, и если она девушка честная, не должен ли я воздержаться от посещения ее жилища, что могло бы принести ей и огорчения, и опасность! Если же она только хитрая интриганка, зачем мне, несмотря на предостережения, очертя голову самому лезть в западню?» Рассудок говорил мне, что во всяком случае я должен удалиться отсюда, прежде чем соседние кумушки меня увидели. Я остановился однако же на другом решении, довольно безрассудном: я решил как можно тщательнее осмотреть внутренность этого грязного здания, где, как я полагал, живет щеголеватая субретка мисс Медоры, в какой-нибудь гнусной конуре. «Когда я увижу там, — думал я, — ту отвратительную нечистоту, которая отгоняла меня и от более сносных здешних домов, я исцелюсь от моей причуды, и она не будет более опасна ни для спокойствия Даниеллы, ни для моего собственного». С этими мыслями я опять сошел с площадки на лестницу и продолжал идти вверх. До сих пор эта лестница действительно была общественным путем сообщения, то есть службой или принадлежностью восьми или десяти смежных домов, расположенных так близко к краю обрыва, что они не могли иметь другого выхода. Лестница, вся из песчаника, на нескольких плитах которого сохранились римские надписи, становилась все круче, уже и темнее. Кое-где встречал я на пути площадки и приставные лесенки, которые вели к дверям за висячим замком. Сквозь щели этих дверей видна была иногда внутренность жилищ; это были отвратительно грязные комнаты, в которых стояли одна или несколько больших кроватей, более или менее изломанные соломенные стулья и неисчислимое множество горшков и другой глиняной посуды, составляющей здесь хозяйственную утварь. В другой, более обширной комнате, также пустой и запертой на замок, я увидел большой стол, несколько утюгов и жаровен. «Здесь, — подумал я, — должна быть мастерская моей гладильщицы». Помещение это было до того пусто, что нельзя было ничего заключить об обычной опрятности этой безмебельной квартиры. Я продолжал свое восхождение и везде встречал запертое жилье. «Что за причина, — думал я, — что в этом доме, очевидно обитаемом, я не встретил до сих пор ни одной человеческой фигуры, не слышал ни одного живого слова». Просунув голову в один из просветов лестницы, я заглядывал в растворенные окна соседних домов — и все дома были тоже пусты, во всех царствовала глубокая тишина, хотя тряпки, развешанные по веревкам, и щербатые кувшины и кружки на окнах доказывали, что эти здания еще не были покинуты жителями на жертву разрушению, которое им угрожает. Наконец, я вспомнил, что Мариуччия говорила мне о каком-то знаменитом проповеднике из братства капуцинов, который должен в это самое время говорить проповедь в одной из церквей города, и тогда только догадался, почему все дома опустели и для чего Даниелла так принарядилась. Не подлежало сомнению, что все здешние жители пошли на проповедь, и я, не опасаясь, мог продолжать мой осмотр. «Звон колокола, — думал я, — предупредит меня, когда настанет время убираться отсюда подобру-поздорову». Успокоенный в этом отношении, я, наконец, добрался до последнего этажа. Дверь с испорченным замком сама собой отворилась от легкого прикосновения моей руки. Лестница еще продолжалась, но это была уже деревянная винтовая лесенка без перил. Если здесь жила не Даниелла, то какое-нибудь таинственное существо, которого привычки и потребности удобств разительно отличались от всего, что я видел в этом вертепе, потому что ступени верхней лестницы были прикрыты тонкой, чистой плетенкой из тростника, а в пробои двери вместо замка продета была розовая ленточка и кокетливо завязана в бантик. Я решился постучать, никто не отозвался на этот стук. Я колебался, развязать ли ленточку, которая казалась мне знаком доверия, достойным всякого уважения; но этот бантик мог быть также вывеской какого-нибудь подозрительного приюта. Любопытство превозмогло, я вошел. Это была просторная комната, во всю длину и ширину верхних стен дома. На стенах комнаты, выбеленной известью, висело распятие, сосуд со святой водой из древнего фаянса и несколько гравюр религиозного содержания. Гипсовая статуэтка ангела стояла в маленькой нише у изголовья кровати, над которым воткнута была освященная верба, еще совершенно свежая. Белая, чистая постель; пол, покрытый плетенками; два стула местного изделия из плетенной соломы, с наивной позолотой на спинках; туалетный столик, накрытый салфеткой, обшитой широкими бумажными кружевами; светлое зеркало, мелкие принадлежности туалета, доказывающие тщательную, даже изысканную заботливость о себе хозяйки; большие букеты цветов в глиняных вазах, служивших, быть может, погребальными урнами древним обитателям страны; кисейная занавесь, еще не обрубленная, у единственного в комнате окна; какая-то благоухающая атмосфера старательной опрятности и целомудренной чувственности, вот что представилось мне в приюте гладильщицы, по-видимому, только что прибранном. Но точно ли я в ее жилище? А если в ее, то разве я не могу ожидать, что вслед за мною придет какой-нибудь покупатель, которому известно постыдное значение розовой ленточки? Может ли быть, что пригожая девочка, с такими вольными приемами в обращении и таких свободных правил, девушка, сказавшая мне: «Надейтесь все получить, если вы любите меня», жила здесь, как святая в храме невинности, посреди смиренных затей маленького женского кокетства, не помышляя воспользоваться превосходством своего ума, своей роскоши, своих манер перед прочими здешними девушками? Верить в добродетель, даже только в бескорыстие фраскатанской гризетки, не было бы это, как утверждает Брюмьер, верхом донкихотства? Но какое мне до всего этого дело? К чему это тревожное недоумение? Зачем искать весталку в девочке с искушающим взором, со сладострастной поступью? Не довольно ли убеждения, что она, говоря относительно, столько же заботилась о своей юной красоте, как мисс Медора? Встретить такое стремление к цивилизованной жизни в итальянке ее сословия есть уже такой клад, которым нельзя пренебрегать. Эти философские выводы довели меня до невыносимой грусти. Я сел у окна на раскрашенном и раззолоченном стуле. Перед окном, из расселины камня, поднимался куст petunia; в промежутках белых цветов этого растения взор мой падал в бездну отвратительной cloaca, куда стремились ручьи помой и навозной воды. А между тем, на высоте, где я находился, свежий ветерок, струясь поверх этих зловонных испарений, был проникнут ароматом цветов и этой комнаты. Роскошная зелень утесов и развалин заботливо прикрывала эту мерзкую сточную яму, а неизмеримый свод неба, возвышающийся над римской Кампаньей и над синими горами далекого горизонта, был так чист, так ясен, что мысль о пороке не в силах была сойтись с мыслью об обитательнице этой воздушной кельи. «Вот, — подумал я, отторгаясь от овладевшего мною очарования, — это светлое небо и грязные развалины, эти роскошные цветы и зловонные бездны нечистот, эти упоительные взоры и развращенные сердца — не вся ли тут Италия, эта дева, предающаяся объятиям всех на свете разбойников, эта бессмертная краса, которую ничто не может истребить, но зато ничто не в состоянии очистить?» Звон колокола возвестил, что народ выходил из церкви. Когда я собирался уйти из этой комнаты, еще не вполне уверенный, точно ли то была комната Даниеллы, взор мой обратился на предмет, не замеченный мною до того времени, который доказал мне, что я действительно находился у Даниеллы, и вместе с тем открыл мне трогательную тайну. В нише, в которой стоял ангел-хранитель, я заметил камень странной формы: это был один из маленьких конусов серной лавы, отломленный мною на дороге в Тиволи. Я, быть может, не узнал бы этого обломка, если бы в одном из пористых отверстий не был воткнут засохший цветок барвинка, который я сорвал близ храма Сивиллы. Медора взяла у меня этот цветок и бережно завернула в бумажку, что я приписал тогда английской сентиментальной любви к Италии. Она также выпросила у меня конический отломок сальфатары, и я нашел на нем надпись с означением дня прогулки. Я предположил непременно разведать, похитила ли у нее Даниелла эти вещицы или подняла их в мусоре, но как бы то ни было, я был тронут, видя их у ее изголовья, как вещи для нее священные, и в этом, казалось мне, заключался красноречивый ответ на все мои подозрения. Да, как только мы уверены, что женщина любит нас, то уж тотчас же, само собой, очищается она в нашем воображении, какими бы ни смущалось оно подозрениями. Отдаленные звуки голосов, фальшиво певших церковные стихиры, снова дали мне знать о приближении посторонних. Я завязал было по-прежнему розовую ленточку, но потом, увлеченный сердечной прихотью, снова развязал ее, вошел в комнату и надел на маленький вулкан античное колечко, купленной мною в columbarium di Pietro. Потом я поспешил выйти, сбежал с лестницы и был уже в середине города, прежде чем обитатели этих мест взобрались на высоты оврага. Проходя улицу Tomba di Lucullo (говорят, что древняя башенка, застроенная в стенах одного из городских домов, гробница Лукулла), я увидел, откуда раздавалось слышанное мною пение. Полсотни ребятишек обоего пола, стоя на коленях в грязи, голосили перед тремя свечами, горевшими перед изображенной на стене Мадонной. Я готов был пройти мимо, не обращая внимания на эту церемонию, как туда же подошли несколько молодых девушек с цветами, которые они втыкали в отверстия решетки из желтой латуни, охраняющей это место. Даниелла была в числе этих девиц, но голос ее исчезал в этой разноголосице, и мне не удалось узнать, так ли фальшиво она поет, как и другие. Она увидела меня и, улыбаясь, следила за мною взором, но не переставая петь и не отходя от своих подруг. Я не хотел останавливаться под пыткой любопытных взглядов, видя, что набожная церемония не мешала красавицам перешептываться между собой, и возвратился домой, не сказав гладильщице ни одного слова. Вот уже два дня как мы не разговаривали, что мне кажется довольно странным после нашего тогдашнего разговора. Кажется, она не на шутку рассердилась на меня; я решился спросить Мариуччию, почему ее племянница больше к ней не приходит, она отвечала мне: «Даниелла навещает меня, когда вас нет дома».
Глава XVI
5 апреля. Фраскати.Сегодня прекрасная погода, ясно и почти жарко. Чего бы лучше, кажется, отправиться за черту соседних вилл, на далекую прогулку, какие я иногда предпринимаю? Но сегодня мне как-то тяжело, трудно тронуться с места. После завтрака я опять забрался на свой чердак. Да, чердак, не думайте, что я ошибся, мои комнаты в уровень с чердаком дома, и я должен даже проходить через него в мое помещение. Это отчуждение от всякого жилья мне не неприятно. Мариуччия пришла убирать комнату и выгнала меня, чтобы подмести, я переместился пока на чердак, но, так как я курил там сигару, она все ворчала, уверяя, что я сожгу дом. — Или уж вы не пойдете гулять сегодня? — спросила она меня. — Целый месяц ждали мы такого ведра. Я отговаривался под разными предлогами. — Ну, тем лучше, вам теперь я не нужна, и если вы останетесь, так я оставлю на вас мое хозяйство. — А вы идете куда-нибудь, Мариуччия? — Да ведь сегодня чистый четверг, надо же и мне подумать о своих грехах. — Скажите же, кому отворять, если позвонят? — Кому теперь звонить? — А Даниелла? — Уж скорее кто другой придет, чем она. — Почему это? — Потому что вчера, после проповеди, она положила на себя зарок. Ну, уж и проповедь, сроду такой не слыхивала! Напрасно вы не пришли послушать. Даниелла так и заливалась слезами, она обещала отговеть эту неделю, как следует истинной христианке, поусердней, чем прежде говела, и начала с того, что ходила украсить цветами решетку у Лукулловской Мадонны. — Что же это значит? — А и значит то, что она наложила зарок на себя. — Какой зарок? — О, да какой вы любопытный! — Очень любопытен, как сами видите. — Вот что я посоветовала им всем: и Даниелле, и другим девушкам, которые спрашивали у меня, какой исполнить обет, чтобы очистить себя к светлому дню: снесите цветов к лукулловской решетке, сказала я, и обещайте не сказать ни слова со своими обожателями, пока не получите отпущения в грехах. — Славное дело пришло вам на мысль, Мариуччия! — И они то же говорят. Итак, вы не увидитесь с Даниеллой ни сегодня, ни завтра, ни даже в субботу. — Так у вашей племянницы есть в этом доме любовник? — Э, chi lo sa? — отвечала мне старуха, лукаво на меня посматривая. Потом убрала она на место щетку, которой мела, и пошла принарядиться, чтобы отправиться к службе в церковь отцов капуцинов. Я полагал, что и Даниелла там будет, и сторожил старуху, чтобы следовать за ней издали. Она прошла через сад и, выйдя из него, пошла крутой тропинкой между виллами Пикколомини и Альдобрандини. С четверть часа надобно взбираться в гору, потом поворот налево, потом опять надобно взбираться по широкой, осененной развесистыми деревьями аллее, ведущей к монастырю. Церковь стоит на склоне горы, сокрытая в чаще густой зелени, как птичье гнездо. Когда Ламене приезжал сюда в 1832 году, он жил у отцов капуцинов, которых он очень уважал. Он, сказывали мне, также любил это уединенное убежище, укрывшееся под охрану тенистых рощ, эту прекрасную Фиваиду, окруженную безлюдными, уединенными виллами. В церкви я оглядывался по сторонам; Даниеллы там не было и, видя, что лукавые глазки Мариуччии за мною присматривают, вынужден был выйти. На дороге я подождал немного, но понапрасну. Не ожидая более Даниеллы, я пошел на гору, выше монастыря, и пришел к вилле, которой я еще не осматривал. Эта вилла, по названию Руфинелла, принадлежала поочередно Луциану Бонапарту, иезуитам и королеве сардинской, Сады обширны, расположены выше всех других и господствуют с этой высоты над Прекрасным видом, который не так полно открывается из моих окон, на пол-лье ниже этого места. Дворец — плохой загородный дом, куда, кажется, королева сардинская никогда не приезжала. Однако, по распоряжению ее величества, сделаны были раскопки в окрестностях, и так как Руфинелла называется также villa Tusculana, то я, полагая, что развалины Тускуланума должны быть недалеко, искал их, не расспрашивая о том у садовников и сберегая для себя одного удовольствие открыть их. Я взбирался на гору, на которой раскинулся сад, по странной аллее. Это также один из итальянских капризов, о которых у нас не имеют понятия. На полуотвесном склоне горы написаны, то есть высажены низкорослым самшитом, буквами в один метр величиной, сто имен прославившихся поэтов и писателей. Этот растительный список начинается с века Гезиода и Гомера и оканчивается временами Шатобриана и Байрона, Вольтер и Руссо также не забыты в таблице, составленной толково, с беспристрастием, вероятно, Луцианом. Иезуиты сохранили эту древопись в целости. Между именами прорезаны поперечные дорожки; среди всеобщего запустения роскошных прихотей этого сада эта прихоть заботливо поддерживается. Я дошел до вершины горы, обширной, продолговатой площади, несколько раз сбиваясь с дороги в прекрасных рощах. На противоположном скате горы нет ни растительности, ни жилищ, которыми так изобилует покатость со стороны Фраскати. Передо мною лежала древняя дорога, усаженная по сторонам деревьями; она вела по плоскому, едва заметному склону нагорного гребня к тускуланским развалинам. Я вскоре завидел вдали небольшой круг мелкой муравы, окаймленный обломками древних римских зданий. Немного ниже я пробрался сквозь кусты терновника в подземную галерею, откуда через опускающиеся двери лютые звери, предназначенные для боя, появлялись внезапно на арене перед нетерпеливыми взорами зрителей. Этот цирк замечателен только по своему местоположению. Расположенный на утесе, на верхнем краю покатистого ущелья, которое сбегает красивыми зеленеющими уступами на холмистые окрестности Фраскати, а потом в долину, он возвышается на горе, будто дерновая скамья, устроенная для зрителя, чтобы ему было удобно окинуть взором грустную картину римской Кампаньи, картину, которая становится великолепной в этой чудесной раме. Бугристое возвышение почвы вокруг цирка защищает его от морских ветров. Здесь было бы восхитительное место для зимней виллы. Я отдохнул здесь немного. Со времени моего отъезда из Генуи в первый раз я видел ясную погоду. Тон далеких гор был прекрасен, и Рим был отчетливо виден в глубине равнины. Я удивился, какое огромное пространство занимает этот город, и как громаден издали купол Св. Петра, который, как всем известно, вблизи не производит большого эффекта. Какой-то таинственный звук послышался мне среди моих мечтаний. Это был как бы стон или, скорее, жалобный, мелодический вздох человеческой груди. Кругом меня была пустыня, и мне трудно было разгадать причину этого прерывистого звука, который то утихал, то возобновлялся и звучал всегда одинаково. Наконец я убедился, что он раздавался из подземной галереи, где шум моих шагов препятствовал мне слышать его, когда я посетил это подземелье. Я опять сошел туда и удостоверился, что слышанные мною стоны были не что иное, как звук, происходивший от капли воды, которая, просочившись сквозь камни свода, падала в маленькую лужицу, незаметную во мраке пещеры. Эхо подземного грота, разнося этот звук, придавало ему редкую силу стона: как будто вырывалось стенание какого-то изнемогающего духа, заключенного в подземелье, будто улетала душа из груди непорочной мученицы, умирающей на арене цирка под страшными когтями голодных зверей. Удалясь из этого амфитеатра, я шел по пустыне дорогой, усыпанной мозаиками из драгоценнейших мраморов, обломками разной стеклянной посуды, черепками этрусских ваз, обломками гипсовой штукатурки, на которых виднелись еще краски античных фресок. Я поднял прекрасный обломок из жженой глины, на котором изображен бой льва с драконом. Я не набивал карманов другими обломками; их было так много, что они не искушали меня. Холм, на котором я находился, не что иное, как куча таких обломков; дождь, размывая дороги, с каждым днем обнажает новые пласты. Здешняя почва, хотя в ней много производилось раскопок, должна еще заключать в себе неистощимые сокровища. Верхняя площадь — теперь пространная пустошь. Вероятно, здесь была некогда лучшая часть города, потому что эта степь усеяна плитами и брусьями белого мрамора. Дорога, по которой я пришел, пролегает, без сомнения, по древней улице Патрициев. Груды домов по обеим сторонам свидетельствуют, что эта улица была узка, как все улицы древних городов. В конце равнины дорога приводит к театру. Он не велик, но прекрасно расположен, по правилам римского устройства театров, Партер и уступы полукружия для зрителей еще целы, равно как основание сцены и боковые с нее сходы. Авансцена и выходы, необходимые при сценических представлениях, лежат тут же в обломках, и уцелевший их фундамент указывает их прежнее устройство, так что становится ясным назначение этих театров место хоров и даже декораций. Позади этого театра находится водоем, без свода, совершенно сохранившийся. Здесь центр римского города; стоит взойти на гору, чтобы видеть пелагическую часть его, город Телегоне, сына Уллиса и Цирцеи. Там развалины имеют другой характер, другой интерес. Это первобытный городок, то есть неприступная нагорная крепость, притон шайки бродяг, колыбель будущего общества. Храмы и гробницы предков были там под охраной крепостной стены. Гора, покрытая базами колоны, обличающими места священных зданий, окружена неотесанными камнями, явным следом окружного вала, на котором видны места бывших тайников и ворот; далее, склон горы становится круче и сбегает к другим ущельям, которые вскоре снова поднимаются и образуют холмы и более высокие горы. Это горы Альбанские. На одном из этих влажных лугов, по которым пасутся теперь стада, было некогда Регильское озеро, неизвестно, где именно. Судьба юного Рима в борьбе с древними народностями Лациума решилась где-то здесь, в этой пустыне. Семьдесят тысяч человек сражались здесь на жизнь и смерть, и судьба Рима, подавившая в этот день силу тридцати латинских городов, пронеслась над Тускуланским полем, как гроза, следы которой скоро зарастают свежей травой и цветами. Угодно вам знать историю Тускулама? Ее можно рассказать в нескольких словах, как истории всех маленьких древних общин Лациума: случайно и наудачу, часто вооруженной рукой образуется поселок на землях, плохо защищенных; потом укрепляется он духом гражданской общественности, плодородием почвы и часто неприступностью положения; укрепляется союз с соседними поселениями; упрочивается существование и зарождается цивилизация по мере прекращения грабежа и раздора между членами этой породы бродяг, основателей городов. Потом начинается великая борьба с общим врагом — Римом, который родился после всех, но рос не по годам, а по часам, как мститель за первоначальные хищения, которым подвергалась древняя страна. Конфедерация латинских общин терпит то частные, то общие поражения. Общины вступают с победителем в союз, более вынужденный, чем добровольный; возникают заговоры и мятежи, всегда подавляемые беспощадным правом сильного. Наконец исчезают отдельные народности и свершается политическое слияние их с преобладающей римской народностью. Но здесь смутная история этих побежденных народностей получила бы высокий интерес, если бы она имела более широкие размеры и если бы она не возмущалась ежеминутно вторжениями варваров. Здешние народцы различного происхождения, то вступавшие в союз с римлянами против своих соседей, то снова возвращавшихся к естественному союзу между собой против Рима, всегда сохраняли чувство ограниченного патриотизма или, скорее, тайную гордость породы, которая заставляла их предпочитать чужое иго римскому владычеству. Тускулум беспрерывно до двенадцатого столетия при каждом случае изменяет Риму, присоединяясь охотнее к германцам, чем к правительству пап, как будто оскорбление, нанесенное на Регильском озере, не изгладилось в тысячу лет наружными примирениями. Наконец раздоры средних веков воспламенили во всей силе старинную неприязнь. Римляне напали на Тускулум, разграбили его и не оставили там камня на камне в царствование папы Целестина III. Вот характерная черта времени: папа поставил очищение цитадели Тускулума условием коронования императора, и едва германцы выступили одними воротами, римляне вступили другими, и бедный город подвергся всем ужасам войны. И это случилось уже после, как имя Христа проникло в историю человечества, когда алтари его воздвигались на развалинах храмов языческой Немезиды; победителя звали уже не Фурием, а Целестином. Тускуланское общество исчезло вместе со своим городом, со своей цитаделью, со своими храмами и театрами. Беглецы рассеялись по стране. Одни приютились вокруг часовни, посреди рощ, посвященных Мадонне Листьев (Frasche); отсюда происходит название города Фраскати; отсюда и ненависть настоящего frascatino к Риму и его обитателям. «Tutti ladri, tutti birbanti!» — восклицает поминутно тускуланка Мариуччия, когда забродят дрожжи ее латинских страстей. А между тем Мариуччия так нетвердо знает историю своей страны, что Лукулла почитает папой, а виллу Пикколомини — колыбелью Пелазгов. Она отроду не бывала в Тускулуме, хотя от Пикколомини до него не более одного лье; но зато она знает самые обидные поговорки для всех прочих городов Лациума, поговорки, в которых как будто отражаются древние предания соперничества, в те времена, когда эквы, сабинцы, альбанцы, герники и тускуланцы поочередно опустошали друг у друга только что возникавшие поселения и угоняли стада, бродившие на спорных пастбищах. Вид с вершины тускуланской цитадели самый романтический. Вечный Рим позади вас. Когда каштановые деревья бывают в полной одежде своих листьев, этот вид должен быть еще лучше. Но тогда стаи живописцев и туристов налетают на эти уединенные места, и я радуюсь, что приехал сюда еще до летнего сезона, потому что мне достались эти славные места во всей меланхолической красе их строгого характера. Страстная неделя сзывает местное население, и без того немноголюдное, в монастыри и церкви. Вокруг меня, на всем пространстве, которое только мог обнять взор мой, не видно было ни одной живой души, кроме меня и пастуха, усевшегося в степи между своими двумя собаками. Я подошел к нему и предложил разделить со мной мой съестной запас, то есть кусок хлеба и горсть поджаренных зерен пиний, которые Мариуччия положила в мою походную суму. — Благодарю вас, — сказал он мне, — сегодня ничего не следует есть, такой день; но если вам скучно одному, охотно побеседую с вами. Это был здоровый крестьянин Анконской мархии, лет сорока, с кротким серьезным выражением в чертах лица, Большой орлиный нос его обличал породу; но высокий рост, русые волосы, спокойные манеры, речь неторопливая и его здравомыслие не соответствовали моему понятию о типе пастуха римской Кампаньи. С головы до ног он был покрыт звериными шкурами, будто Могикан, Он сам шьет себе платье и носит его целый год, не сменяя. Через год оно поизносится, тогда он справляет себе другое. Рассказав мне некоторые подробности о своей жизни, он заговорил о местах, где мы находились. — В Риме, — сказал он, — нет театра, который бы так хорошо сохранился и был бы так замечателен, как Тускуланский. К тому же, приятнее, неправда ли, осматривать развалины на таком месте, как вот это, где никто вас не потревожит и где никакие новые постройки не помутят ваших воспоминаний? Я был совершенно того же мнения. Действительно, то были первые развалины, которые произвели на меня сильное впечатление. Для славных остатков, для исторических памятников нужна строгая рама: горы, небо и более всего безлюдье. Этот пастух — человек ученый, В случае надобности он мог бы служить за чичероне; скромен, не слишком говорлив, доброжелателен, без докучной фамильярности и не попрошайка. Он проводит жизнь, копаясь в земле; в его хижине, которую он показывал мне в глубине долины, хранится маленький музей древностей, собранных им в окрестностях Тускулума. Я взошел с ним на самый высокий утес, и он описывал мне оттуда огромное пространство, развернувшееся перед нами будто географическая карта. Благодаря ему, я знаю теперь по пальцам целый Лациум и мог бы повсюду в нем странствовать без проводника. Ничего нет легче, стоит узнать названия и запомнить вид главнейших гор. Я мысленно пробегал по этим местностям, очаровательным и строгим. В этой прогулке я забыл утренние свои заботы. Движение с места на место, любовь к открытиям, что-то упоительное, заключающееся в уединении, еще не нарушенном поисками, вот наслаждения! Общество какой женщины доставит более истинные наслаждения? Да, все-то мы так думаем, пока с нами нет женщины! — Где дом, в котором Цицерон написал свои Тускуланские беседы? — спросил я пастуха, желая знать, как далеко простирается его ученость. — Chi lo sa? — отвечал он, указывая мне неподалеку от цирка, где я недавно отдыхал, здание довольно хорошо сохранившееся. — Одни говорят, что здесь, другие, что там, где теперь сады Руфинеллы. Как только отроют какие-нибудь развалины, ученые решают, что их-то именно и искали, а что прежние открытия ничего не стоят. Но что вам до этого за дело! На всей этой горе нет места, где бы Аннибал, Помпей, Кармилл, Плиний, Цицерон и сто других знаменитых людей, царей, императоров, полководцев, консулов, ученых или пап не ступали ногами по земле, на которой вы теперь стоите, и не дышали тем самым воздухом, которым вы теперь дышите. — Не думаю, — отвечал я, — поверхность равнины слишком нова, воздух стар и заражен. Он был чист и здоров во времена могущества Рима. Неужели вы думаете, что такое государство могло бы существовать в этом заразном болоте, что лежит позади нас? — Ну, по крайней мере, эти знаменитые люди смотрели на те самые горы, на которые вы теперь смотрите, и когда пришли сюда в первый раз, может быть, спрашивали, как зовутся эти высоты и долины у какого-нибудь бедняка, как вы теперь спрашиваете у меня. Вы мне скажете, пожалуй, что они смотрели на солнце и месяц, на которые вы всегда можете смотреть днем или ночью, но об этом я часто про себя думал. — Между ними и мною есть та разница, что я такой же бедняк, как и вы. — Chi lo sa? Сюда, кажется, приезжают каждый год знаменитые люди посмотреть на Тускулум; мне сказывали их имена, но я не помню ни одного. Через тысячу лет тускуланские пастухи узнают их по преданию и будут называть их, как я могу назвать вам имена Гальбы, Мамилия и Сульпиция. — Стало быть, вы думаете, что знаменитые люди производят не такой эффект вблизи, как издали? — Да так и все на свете бывает! Вот ведь это точно, что здешние места хороши, но я знаю места еще получше, а туда никто и не думает заглянуть. Говорят, что сюда приезжают из Америки, самой далекой страны, если не ошибаюсь, чтобы видеть эти мраморные обломки, которые у меня валяются под ногами. Они подбирают здесь кирпичи, осколки битого стекла, мозаики и увозят с собой. Говорят, нет уголка на свете, где бы кто-нибудь не хранил с особенной тщательностью какой-нибудь кусочек из того, что валяется по земле в римской Кампанье. Видно, что постарше да подальше, то нам и дороже. — Правда, правда! Но какая бы тому была причина? Он пожал плечами, и я уже видел, что и на этот раз он думает вывернуться вечным chi lo sa, этой подручной поговорной итальянской лени. — Chi lo sa, — сказал я поспешно, — не ответ от человека мыслящего, как вы. Поищите лучшего ответа, и каков бы он ни был, скажите мне его. — Хорошо, — сказал он, — вот что мне думается. Мы живем, пока живем, а коли живем, так, значит, все мы, и великие, и маленькие, пить, есть хотим, и как там великие люди ни величайся, а все в Боги не попадут. А так как они давно померли, то мы и думаем, что они сотворены были совсем не так, как другие. Я-то, коли хотите, так не думаю; по-моему, человеку живому, хотя бы он никому на свете не был известен, лучше, чем человеку мертвому, о котором все толкуют. — Так, по-вашему, жизнь очень приятна? — Гм!.. Жизнь тяжела, а все-таки люди жалуются, что жизнь коротка. Тяжела жизнь, а все любят жизнь. Так вот и любовь: женщину все посылают к черту, а без нее не могут обойтись. — Вы женаты? — Нет. До женитьбы ли пастуху, пока он гоняет стада? А вы, у вас верно есть жена и дети? — Ни того, ни другого! Мне всего двадцать четыре года. — Что ж, вы старости дожидаетесь, чтобы жениться? Какое самое большое счастье в жизни для человека? Любимая женщина. Не понимаю, как может человек богатый оставаться в одиночестве. — Я сказал уже вам, что я человек бедный. — Бедный человек в суконном платье, в хорошей обуви и в тонком белье? Если бы у меня было на что купить все то, что вижу на вас, я сберег бы эти деньги, чтобы купить постель. Когда есть постель, до свадьбы недалеко. Когда бы вы спали, как я круглый год на соломе, тогда могли бы вы сказать, что по нужде не женитесь. Вот посмотрите, в этой пустыне нас только трое и из троих двое поневоле должны оставаться одинокими. Я взглянул по направлению его взора и увидел монаха в черной с белым рясе, который проходил через тускуланский театр. — Этот, — продолжал пастух, — невольник своего обета, как я невольник моей бедности. Вы свободны, и ни монаху, ни мне, не приходится жалеть о вас. Но вот, солнце уже садится. Загон далеко, я должен вас покинуть. Побываете вы еще когда-нибудь здесь? — Непременно, хоть для того, чтоб потолковать с вами. Как вас зовут? Чтоб я мог кликнуть вас, если вы будете в одном из здешних ущелий. — Меня зовут Онофрио. А ваше имя? — Вальрег. До свидания. Мы пожали друг другу руки, и я направился вниз к театру, смотря на задумчивую позу монаха, который остановился среди развалин. Закат солнца представлял очаровательное зрелище. Эта страна с резкими очертаниями и с зеленеющими площадками, возвышающимися одна над другой, принимала ослепительные оттенки под косвенным отблеском солнечных лучей. Мелкая мурава блестела то изумрудом, то топазом. Вдали море светилось полосой бледного золота под пламенеющим небом. Очертания далеких гор были так тонки, что их можно было принять за вереницу облаков, между тем как разрывы почвы и развалины на первых планах отчетливо обозначались своими черными массами на блестящей поверхности равнины. Монах, неподвижный, как статуя, бросал от себя колоссальную тень. Я прошел близко возле него, полагая, что он протянет руку, и что за мелкую монету я куплю у него слово, результат его молчаливого созерцания. Но потому ли, что он не принадлежал к нищенствующей братии, или оттого, что испугался встречи с незнакомцем в безлюдном месте, он поглядел на меня с недоверчивостью и поналег рукой на свою палку. Я шел далее, оглядываясь по временам, чтобы разгадать причину беспокойства этого человека, для которого произнесенный им обет убожества должен бы, по крайней мере, служить источником беззаботности и безопасности. Вскоре он внезапно исчез за уступами полукружия театра. Всю дорогу не выходили у меня из головы слова пастуха-философа о том, что для человека величайшее счастье состоит в свободе любить. В самом деле, не всякому дана эта свобода. А я, одаренный ею, я пропустил столько лет, которые могли бы быть исполнены счастья! И на что пошли эти года? Я испытывал свои силы, свои умственные способности; я вопрошал грядущее и ожиданию безвестного жертвовал лучшими днями моей юности. Я, почитавший себя иногда немножко умнее своего века, я поступал так, как и все; упускал добычу, гоняясь за тенью, отдавал верное за неверное, отдавал время, которое утекало, за время, которое, быть может, никогда не настанет. К чему эта химера, эта потребность развивать умственные силы в ущерб сердцу? Не истощаем ли мы ее бездействием? И для чего, для кого это напряженное стремление к такой неопределенной цели, как развитие таланта? Как это случилось, что я не встретил любви на своем пути? Потому ли, что я разборчивее, требовательнее других? Нет, мой идеал не имел никакой определенности. Я никогда не мог ясно представить себе образ женщины, которой я должен беззаветно предаться. Я надеялся узнать ее, когда встречу, но я никогда не определял в мысли, какая она: большого или маленького роста, блондинка или брюнетка. Она придет, говорил я сам себе, когда я буду достоин любви, то есть, когда совершу все усилия отваги, терпения и воздержания, чтобы стать вполне тем, чем могу я стать в этом мире. Мне казалось, что я руководствуюсь мудрой мыслью, возделывая свою жизнь будто ниву надежд; но не было ли то внушением безумной самонадеянности? Я, вероятно, как Брюмьер, надеялся найти чудо света, потому что старался и из себя сделать такое же чудо. Не мог ли я довольствоваться смиренной девушкой моего сословия, которая полюбила бы меня таким, каков я в самом деле, и любила бы меня простодушно, свято, не постигая ничего лучшего любви моей? И я был бы счастлив! А вместо того я был только благоразумен и рассудителен, как вы справедливо заметили мне. Я, может быть, тысячу раз заставлял молчать свое сердце; быть может, я тысячу раз прошел мимо женщины, которая могла бы мне открыть истину жизни, но я упорно видел везде опасность преждевременной страсти; я не понимал упоения этой опасности, не понимал смелого, великодушного самопожертвования разума, допускающего безумие любви. Эти мысли роились в голове моей, когда я сходил от Тускулума по склону дубовой рощи. Я возвратился в Пикколомини узкими крутыми дорогами, весь погруженный в тревожное раздумье о личной судьбе моей. Внешние впечатления властно действуют на меня. Перед прекрасным видом я забываюсь, я отрешаюсь, так сказать, от самого себя; но, когда прохожу местами мрачными и однообразными, я мучаю себя вопросами, я ссорюсь с самим собою. Так, по крайней мере, бывает со мною с некоторого времени. Я никогда так много не размышлял о себе. К лучшему ли это? Чем наделит меня уединение, которого я искал здесь: мудростью или безумием? Иначе, мудрецом или безумцем был я до этого испытания? Мне кажется, что мы легко сродняемся с местом нашего пребывания, и я невольно становлюсь итальянцем, то есть человеком, склонным более к чувственной жизни, чем к мыслительной: когда я делаю усилие над собою, чтобы разгадать, которая из них будет моим уделом, мне приходит охота успокоить себя беззаботным chi lo sa Мариуччии и тускуланского пастуха.
Глава XVII
9 апреля. Вилла Мондрагоне.Я пишу к вам карандашом в развалинах. Опять развалины! Я люблю это место. Я могу провести здесь целые сутки, как в огромном дворце, ключи от которого у меня в кармане. Мне нужно многое рассказать вам, и я продолжаю свое повествование с того места, на котором прервал его. Обедая вместе с Мариуччией, которая всегда присядет к столу, когда я ем, я, не знаю как, опять заговорил о зароке Даниеллы. — Итак, — сказал я, — она не станет говорить ни с одним мужчиной до самого светлого праздника? — Я этого не говорила. Я сказала, что она не молвит ни слова со своим любовником, пока не отговеет, но я и не заверяла, что она заговорит с ним тотчас после того. — А, так бедному любовнику придется терпеливо ждать ее милости? — То есть не ее милости, а милости цветов… Но я слишком разболталась; вы еретик, язычник, магометанин; вы ничего тут не понимаете. Я приставал к доброй старухе, она поговорить любит, и наконец я выведал от нее, что недоступность Даниеллы продолжится, пока цветы, воткнутые ею в решетку у Мадонны della Tomba di Lucullo, не рассыплются в прах, или пока не унесет их ветер; словом, пока они не исчезнут. Мне пришла мысль устроить невинную шалость. Около полуночи я выглянул в окно, шел дождь; ночь была темная, и дул сильный ветер. Во Фраскати все замолкло; целый город спал. Я накинул плащ и через минуту был уже за оградой сада. Перебравшись через скалы, что над маленьким водопадом, я очутился на дороге против парка виллы Альдобрандини. Оттуда я в несколько минут спустился к гробнице Лукулла, не встретив ни души на дороге. Если бы не теплился огонек, мне трудно было бы отыскать маленькую фреску с решеткой, но при этом бледном освещении я скоро узнал жонкили, которые я хорошо заметил накануне в руках Даниеллы, когда она со своей таинственной улыбкой при мне втыкала их за решетку. Я не тронул фиалок и анемонов других девиц, но вынул все до одного жонкили моей любезной и спрятал их в карман. После учинения этой кражи я соскочил со столбика, на который влез, чтобы достать до решетки, как вдруг услышал восклицание мужского голоса: «Cristo! Что тут за разбойник?..» В Италии, земле шпионства и доносов, моя сентиментальная шалость могла быть зачтена мне в преступление и навлечь большие неприятности. Я догадался не оборачиваться лицом в сторону услышанного голоса и задуть лампаду. Ободренный моим благоразумием, незнакомец осыпал меня набожными ругательствами, называя меня собакой, собачьим сыном, турком, жидом, Люцифером, желая мне попасть на виселицу, быть четвертованным и многие другие подобные удовольствия. Меня сильно разбирала охота угостить спину этого святоши, кто бы он ни был, полсотней немых возражений, достойных его красноречивого негодования; но рассудок советовал мне воспользоваться темнотой и ускользнуть так, чтобы он не напал на мои следы. Я был уже готов следовать этому благому совету, как вдруг почувствовал, что кто-то, искавший меня ощупью по стене, схватил меня за руку. Я не задумался отвалить полновесный удар кулаком с придачей энергичного пинка ногой этому незванному посреднику и слышал, как он, наткнувшись сперва на столбик, покачнулся и упал Бог весть куда, а я, воспользовавшись этим, пустился бежать и возвратился домой, не изменив себе ни одним словом. Незнакомец, как мне казалось, был порядком пьян, и я полагал, что, проспавшись в грязи, куда я уложил его, он забудет обо всем случившемся. День великой пятницы с утра был ненастный, и я проспал долго. Мариуччия, теряя терпение, вошла ко мне в комнату, и когда я проснулся, я видел, как она, качая головой, вертела в руках мой мокрый плащ и подозрительно посматривала на загрязненную обувь. — Здравствуйте, Мариуччия, — сказал я, протирая глаза, — что вы там разглядываете? — А вот думаю, где вы это ночь бродить изволили, — отвечала она с таким комическим смущением, что я не мог удержаться от смеха, — Добро вам, смейтесь, — возмутилась она, — хороших дел вы наделали! Я хотел все отрицать, но она указала мне на завялые жонкили, которые были брошены мною на камин. — Ну, и что же за важность? Какой же беды я этим наделал? — А такой, что эти жонкили вынули вы из решетки в эту ночь, чтобы снять зарок с моей племянницы. Уж эти мне влюбленные! Знаете ли вы, безрассудное дитя, что ведь это смертный грех? А хуже всего то, что вас видели! — Кто меня видел? — Брат Даниеллы, племянник мой Мазолино, самый злой человек во всем Фраскати. По счастью, он в этот вечер выпил, по обычаю, лишнее и не узнал вас. Но он уже донес об этом, и я уверена, что подозрения падут на вас: ведь кроме вас в нашей околице нет никого из иностранцев. Ко мне подошлют теперь шпионов, чтобы выведать у меня. Давайте-ка сюда плащ, я его схороню, а вы сожгите скорее эти проклятые цветы. — К чему все это? Скажите правду, разве это святотатство? Я взял цветы, чтобы подразнить девушку, которую нет надобности называть. — Да, точно! Вы думаете, что никто и не догадается, кто эта девушка? Уверяют, что вы входили вчера в дом, где живет моя племянница. Правда это? Мариуччия предоброе существо, и я не колеблясь сознался. Она была тронута моим чистосердечием, и я заметил, кроме того, что ей льстило предпочтение, оказанное мною ее племяннице. — Ну, Бог с вами, — сказала она, — только вперед не делайте таких безрассудных шалостей. Застань вас Мазолино в комнате сестры, вам бы не выйти оттуда живому. — Ну, это еще Бог знает, любезная хозяюшка. Я не выдаю себя за силача, но я довольно силен, чтобы сладить с пьяницей, и, право, счастье вашему племяннику, что я встретил его в эту ночь не на верхней ступени лестницы того дома, о котором вы говорите. — Cristo, не ударили ли вы его в эту ночь? — Да не без того. Он всячески ругал и ухватил меня за руку. Но я без труда, с ним разделался. — Он этим не похвастался. Может быть, он и не почувствовал этого; у пьяных тело податливо, все примет. Однако, он был не так пьян, чтобы не видеть и не слышать. Говорили вы что-нибудь? — Нет. — Ни слова? — Даже ни полслова. — Слава Богу, но ради Христа никому ни в чем не признавайтесь. Если он вспомнит, что его побили, и узнает, что это вы, вам несдобровать: он отомстит. — Я его не боюсь; но я должен все знать, Мариуччия! Скажите мне, способен ли ваш племянник воспользоваться для своих видов моей склонностью к его сестре? — Мазолино Белли способен на все. — Но что ему за выгода прочить меня в зятья? Я не богат, вы сами это видите. — Э, полноте! Вы живописец, а этим ремеслом всегда столько заработаешь, чтобы хорошо одеться, иметь удобную квартиру и насущный кусок хлеба. В глазах бедняка богатых много. Вы очень богаты в сравнении с любым ремесленником Фраскати, и если Мазолино задумает женить вас на своей сестре или вытянуть от вас денег, он поймет, что cavaliere, как вы, всегда может заработать или занять сотню скуд, чтобы вместо денег не поплатиться жизнью. — Благодарствуйте, милая Мариуччия; теперь я уже предупрежден и знаю, с кем имею дело. Пускай мессир Мазолино Белли держит ухо востро; у меня всегда найдется сотня палочных ударов к его услугам. — Не шутите этим. Он, пожалуй, и десятерых подговорит на вас. Лучше всего быть поосторожнее в любви вашей и не видаться с вашей любезной иначе, как в этом доме. Мазолино здесь никогда не бывает. — Почему это? — Я запретила ему раз навсегда ко мне показываться. Он не задумался бы ослушаться, а, пожалуй, и прибить меня, если бы он не был мне должен; но теперь я держу его в руках, он боится взыскания. В продолжение разговора, я узнал об этом Мазолино любопытные подробности. Этот молодец не всегда так пьян, как кажется; он ведет таинственную жизнь. По-видимому, он живет во Фраскати, но часто никто не знает, куда он девается, и семья его по месяцу и более не видит его. Он занимает комнату в том же доме, где живет Даниелла, и никто еще не переступал через порог этой комнаты. Если кто постучится, дома он или нет, он не отвечает. Его отлучки, так же, как и возвращение, внезапны и неожиданны. По слухам, он всегда пьянствует с приятелями в каком-нибудь кабаке города или окрестностей; при жене он таился, чтобы избежать ее упреков, а с тех пор, как овдовел, скрытность эта обратилась у него в привычку. Но жена при жизни говаривала, что он бражничает, вероятно, в каком-нибудь неизвестном подземелье, в каком-нибудь неприступном месте, потому что она не раз по целым неделям искала его во всех захолустьях города и окрестностей и нигде не могла даже напасть на следы его. По возвращении у него вырывались иногда слова, которые доказывали, что он пришел издалека, но как бы он ни был пьян, никогда он не проговорится в своей тайне. В молодости он был кожевником, но вот уже лет десять, как он ничем не занимается, и никто не знает, чем он живет. Надо полагать, однако же, что у него есть более чем нужно, если он находит средства более, чем нужно напиваться. По этим сведениям, я полагаю, что он большей частью притворяется пьяницей и напивается действительно только в минуты досуга. Я думаю, что он промышляет разбоем или шпионством, может быть, и тем, и другим; кажется, что эти два ремесла не несовместны в окрестностях Рима. Гораздо более всего этого занимало меня желание узнать, считает ли Даниелла себя освобожденной от обета и появится ли она в Пикколомини; я ожидал ее с нетерпением. Как только раздавался звонок у решетки, я бросался к окошку, но это были все кумушки или соседки, приходившие к Мариуччии переговорить с нею о делах домашних, о хозяйстве виллы, потолковать о подчистке оливковых деревьев или виноградных лоз; о стирке, о засыпке в закрома гороха, о проповеди фра-Симфориано, а также о дерзком похищении цветов. Я слышал эти разговоры, и мне казалось, что многие из собеседников были чересчур любопытны. Мариуччия сказала мне: «В нашей стороне не узнаешь, кто шпион, кто нет». Я удивлялся хладнокровью и ловкости сметливой старухи в ее ответах и слышал, как она говорила, что я захворал еще накануне. «Бедный молодой человек, — говорила она, — всю ночь пролежал в жару; я до самого рассвета не могла отойти от его постели». А так как я не мог быть в двух местах в одно и то же время, то разведчицы удалились, более или менее убежденные в моей непричастности к делу. Наконец, Мариуччия объявила мне, что она идет по церквам поклониться капеллам гроба Господня и просила меня не отворять никому, даже и ее племяннице, если бы она показалась у решетки. — Ну, уж этого я вам не обещаю, — отвечал я. — Надобно обещать, — возразила она. — У Даниеллы есть ключ, и если ей вздумается прийти, она придет и без вашей помощи. Вам нечего выказывать ваше нетерпение тем, которые могут проходить в это время мимо решетки. Когда Мариуччия ушла, я сошел в сад, несмотря на дождь, чтобы осмотреть местность в одном отношении, которого я не принимал в соображение, когда прежде ее осматривал. Мне хотелось узнать, удобен ли этот сад для любовной интриги и есть ли в нем для того довольно скрытое и безопасное убежище. Я увидел, что это дело невозможное, разве только взять в поверенные Мариуччию, старую Розу и четырех поденщиков, живших там для работ в саду и для обработки смежных с ним полей. И то нужно было бы, чтобы за огородом был забор, чтобы нельзя было проходить через решетку и ее разрушенные звенья, чтобы не назначать свиданий в праздничные и воскресные дни, потому что тогда другая решетка виллы, примыкающая к Via Aldobrandini, открыта для публики и верхний сад наполнен гуляющими или прохожими. Я заключил из моих наблюдений, что нет никакого средства сохранить в тайне мои будущие отношения с гладильщицей, и, признаюсь, начал сомневаться в искренности предостережений Мариуччии. Я взобрался на мой чердак и решил во что бы то ни стало не трусить, как только буду убежден в мужестве и в решительности моей соучастницы. И что же? Войдя в свою комнату, я уже застал ее там! Она вошла со стороны подвалов дома, боковой дверью, которой я вовсе не знал. Мое кольцо было у нее на руке. Прекрасные ее волосы были старательно убраны. Несмотря на черное платье и принужденный вид набожной смиренницы, глаза ее горели пылом страсти и на устах сияла улыбка неги, как у влюбленной невесты. И во мне запылала любовь. Я жаждал ее поцелуев; но она защищалась от моих ласк. — Вы сняли с меня обет, — сказала она, — вы проникли в мое жилище и сами принесли мне обручальное кольцо… Дайте мне встретить Пасху, и тогда мы соединимся. Я упал с неба на землю. — Женитьба, — вскричал я, — брачный союз?.. Она прервала меня своим свежим, звонким, мелодичным смехом и потом серьезно сказала: — Союз сердец — брак перед лицом Бога. Я знаю, что грех обходиться без священника и без свидетелей: но Бог прощает все искренней любви. — Так это правда, что ты меня любишь, милое дитя? — Видите ли, я не должна, не могу еще говорить об этом. Я должна всей душой обратиться к Господу, чтобы он благословил любовь нашу и простил нам будущее прегрешение. Я помолюсь за себя и за вас и буду молиться так усердно, что с нами не случится никакого несчастья. Но сегодня не говорите мне об этом, не искушайте меня. Мне надобно еще исповедоваться, покаяться и получить отпущение в прошлых и будущих прегрешениях. Вот вкратце странная система благочестия в душе этой итальянки. Я и прежде слыхал, что эти женщины занавешивают образ Мадонны, отворяя дверь любовнику, но я не слыхивал еще о заблаговременном раскаянии в проступках, еще не совершенных и только замышляемых; не имел понятия о том, что можно выгородить себе право на грех, как говорила теперь Даниелла с такой уверенностью, с таким убеждением. Я пытался опровергать такое удобство верования, но она упорно защищала свои убеждения и меня же обвинила в недостатке любви и в неверии! — Прощайте, — сказала она, — скоро начнется проповедь, и мне надобно зайти в три церкви. Ни завтра, ни в воскресенье мы не увидимся. Я пришла только сказать вам, чтобы вы не сделали какого безрассудства и чтобы не старались видеться со мною, потому что я должна очистить себя от грехов, да еще потому, что брат мой во Фраскати. — Скажите мне, Даниелла, неужели брат ваш, как говорят, решился бы поднять на вас руку, если бы узнал, что я ваш возлюбленный? — Конечно, хотя бы только для того, чтобы узнать, можно ли напугать вас этим. — Вы по опыту знаете, что он способен на это в таком случае? — Да, по вашей милости. Он уже слышал, что француз из Пикколомини приходил в наш дом, и сегодня поутру наговорил мне много страшных угроз. Я знаю, что вы защитите меня от него, но где же вас всегда искать… — Так я буду осторожен, клянусь вам. Стук колес и трель звонка прервали этот разговор. — Лорд Б… приехал навестить вас, — сказала она, выглянув в окошко, — я узнала его желтую собаку. Лорд, должно быть, приехал за вами, чтобы показать вам, как празднуют день Пасхи в Риме; поезжайте, вы меня тем обяжете, но возвращайтесь вечером. — Так вы не ревнуете к… — К Медоре?.. А кольцо-то ваше? Если бы после этого вы могли обмануть меня, я так презирала бы вас что не могла бы уж любить. Звонок не умолкал. Даниелла убежала в ту же дверь, в которую пришла, крича мне: «До воскресенья вечером!», а я пошел отворить лорду Б…, который точно за мной приехал, Мы отправились с ним. — Дела плохи с тех пор, как вы нас оставили, — сказал он мне на дороге. — Леди Гэрриет находила меня менее несносным, пока вы были у нас и умели выставить меня в выгодном свете, поддерживая мои мнения. Я прибег, наконец, к крайнему средству против скуки и тоски: я напивался пьяным каждый вечер один в моей комнате. Это со мной редко случается, но в моей жизни бывают такие мрачные минуты, что нельзя этому не случиться, Жена моя ничего об этом не знает; но так как я бываю спокойнее и унылее, когда мы вместе, то она сделалась еще нетерпеливее. Я только тем в выигрыше, что стал сам равнодушнее к ее вспышкам. — А ваша племянница, лучше ли прежнего она расположена к вам? Мне казалось, когда мы были вместе в Тиволи, что она к тому склонялась. — Вы ошиблись. Моя племянница, то есть племянница моей жены, сделалась невыносима со дня вашего отъезда. Можно подумать, черт возьми, что она влюблена в вас… если уж пришлось сказать правду. Я поспешил перебить лорда Б… Бывают минуты неудержимой откровенности, особенно в таком сердце, которое сжималось долгое время, а я не хочу выведывать от него то, что знаю и сам. — Если бы мисс Медора и могла заразиться такой болезнью, — сказал я, — надобно надеяться, что наша разлука давно ее вылечила. — Я так и думал. К тому же она столько каталась верхом с одним из наших родственников, которые приехали сюда на этой неделе, что, я думаю, она вытрясла эту дурь. Сказать правду, в последние пять дней я только нынче, как говорится, в своем уме. Быть может, во время моей умственной отлучки Медора и влюбилась в своего двоюродного братца; он молодец собой, богат и большой охотник до лошадей и до путешествий. Мне показалось сегодня, что она очень торопилась отправиться с ним на прогулку, и что со своей стороны Ричард Б… заставлял ждать себя с дерзостью счастливого обожателя. «Слава Богу, — думал я, — приключение в Тиволи позабыто, и я в свою очередь могу не вспоминать более о нем». Хотя я до этой минуты сопротивлялся желанию лорда Б…, который пригласил меня разместиться у них; но теперь, не видя более к тому препятствий, согласился на настойчивые просьбы лорда, полагая, что отвергать его гостеприимство было бы даже неловко. В остальное время дороги я увещевал лорда Б… не предаваться своему вакхическому отчаянию и не искать в самозабвении средства к преодолению отвращения к жизни. — Да разве лучше вам кажется, чтобы я пустил себе пулю в лоб в один из тех прекрасных дней, когда сплин мой будет несносен? Однако же, он признался, что после употребления в продолжение нескольких дней этого антисплинического средства, он впадал еще в более мрачную тоску, против которой не в силах был бороться. Он, казалось, был удивлен и тронут участием, с которым я увещевал его. — Так в вас осталось еще дружеское ко мне расположение? — спросил он меня, — Я думал, что так надоел вам и показался вам до того ничтожным, что вы оставили Рим, убегая еще более от меня, чем от самого Рима. Теперь, когда я вижу, что у меня есть друг, я постараюсь не быть недостойным его уважения, а я чувствую, что потерял бы это уважение, если бы уступал искушению искать отрады в бесчувственности. — Стараться недостаточно, надобно захотеть. Он дал мне торжественное обещание не пить целый месяц. Большего я не мог сделать. Подъезжая к Риму, мы увидели, что к нам неслись навстречу по дороге три всадника в облаке, — не пыли, потому что дождь продолжал идти, а мокрого песка, вздымаемого ногами трех лошадей. Я едва узнал мисс Медору в мокрой амазонке, забрызганную, желтую с ног по самую вуаль на шляпке, всю в этой глинистой каше, какую обыкновенно распускает дождь на проселочных дорогах. Но она все же была удивительно прекрасна со своим оживленным лицом, со своей гордой, повелительной осанкой. Англичанки, которых я здесь вижу, все мастерицы ездить верхом, но редкая из них грациозна и хорошо одета. Медора только вполовину англичанка; движения ее гибки, и она хорошо сложена. Верховой костюм красиво обрисовывал ее стройный стан; она управляла своей бойкой лошадью с истинной maestria: родственник Медоры — светло-русый англичанин, густо обросший бородой, с обильными волосами на голове, разделенными на две совершенно ровные половины пробором с середины лба через весь затылок. Он совершенный красавец как чертами, так и цветом лица; но, не знаю почему, почти все англичане, как бы красивы они ни были, кажутся французу какими-то странными, и это что-то странное граничит иногда с комическим. В них есть какая-то типическая неловкость, в физиономии ли то или в одежде, которая не сглаживается даже после многолетнего пребывания на материке. За этой галопирующей прекрасной парочкой ехали полной рысью два проворных, но неловких лакея чистой английской породы. Эта кавалькада вихрем пронеслась мимо нас. Прекрасная Медора не удостоила даже обернуться в нашу сторону, хотя Буфало, усевшись на козлах, лаял изо всех сил и мог обратить внимание всадников па наш экипаж. Через два часа мы все сидели за столом в мрачном, огромном зале дворца. Лорд Б… пил воду; леди Гэрриет осыпала меня нежными упреками за мой побег во Фраскати; двоюродный братец ел и. пил за четверых; Медора, шикарно разодетая и нарядно-прекрасная, какой я не люблю ее, как ей это хорошо известно, едва удостоила со мной поздороваться и разговаривала с сэром Ричардом Б… по-английски с принужденной словоохотливостью. Я не понимаю этого языка и не люблю его мелодии; Медора замечала это несколько раз, Я видел ясно, что я низко пал в ее мнении, и это меня вывело из угнетенного состояния, в котором я прежде находился. После десерта оба англичанина остались за столом, а я последовал за дамами в гостиную. Мы застали там Брюмьера и несколько приезжих англичан и англичанок, с которыми Медора принялась шепелявить и присвистывать на языке своих предков. — А что, — сказал мне Брюмьер, — видели вы братца? Вот Бог послал Бонингтона, который много повредит нам. — Говорите за себя; я не из числа претендентов, и присутствие братца мне вовсе не помеха. — А, вы продолжаете вздыхать по фраскатанке? Я начинаю убеждаться, что я умнее поступил бы, если бы делал то же самое. Я полагаю, что Даниелла не так неприступна и не так капризна. Мы продолжали шутить в этом тоне. Брюмьер угрожал приехать во Фраскати мешать моей любви, а я выказывал притворное равнодушие ко всем красавицам Англии и Италии. В этом разговоре имя Даниеллы, произнесенное им довольно громко, долетело до слуха мисс Медоры, и я видел, как она вздрогнула, будто ужаленная осой. Не прошло и минуты, как она была уже возле нас, стараясь быть любезной для того только, чтобы свести разговор на бедную гладильщицу. Я вывертывался, как умел, в ответах на ее вопросы о том, как проводил время, какие думы набегали мне на ум в уединенных окрестностях Фраскати; но предатель Брюмьер, всегда готовый ввести меня в немилость у Медоры, умел так помочь прекрасной англичанке, что ей представилась возможность прямо спросить меня: — Видели вы мою прежнюю горничную во Фраскати? В голосе, которым это было сказано, слышалось столько досады и столько презрения, что я был глубоко уязвлен и отвечал с поспешностью, предупредившей даже Брюмьера: — Да, я видел ее несколько раз и даже сегодня утром. — Почему вы говорите это таким торжествующим тоном? — спросила она, сопровождая свой вопрос дерзким, молниеносным взглядом, — Мы очень хорошо знали, для чего вы переселились именно во Фраскати, но тут еще нечем хвалиться! Вы счастливый преемник Тартальи и многих других ему подобных. Я отвечал с колкостью, что если бы это и было так, то все же несколько странно слышать это из стыдливых уст молодой англичанки, Ссора наша зашла бы еще далее, если бы не подошел к нам сэр Ричард; мисс Медора вынуждена была переменить разговор. Однако, она продолжала колоть меня намеками; но я уже вполне овладел собой и делал вид, будто не понимаю ее двусмысленностей. На другой день я ходил по церквам и смотрел на толпу народа. Все испытанные мной при этом впечатления собрались и сосредоточились на следующий день, во время великой церемонии Светлого Воскресенья. Я сообщу вам впоследствии, что я видел в этот день и что я обо всем этом думаю. Теперь я не хочу, я не могу прервать мой рассказ. — Послушайте, — сказал мне лорд Б…, возвратясь пешком из базилики Св. Петра, через мост Св. Ангела, — я слышал несколько колких слов в вашем разговоре с моей племянницей по поводу Даниеллы. Я вижу, что вы страшно оскорбили самолюбие этой царицы красоты, имея глаза для прелестей ее горничной; вы вправе полюбить, кого вам угодно, но берегитесь последствий волокитства за итальянкой в стране, где на иностранца смотрят, как на добычу, и где все без исключения становятся предметом спекуляции. Девушка эта очень мила; я даже думаю, что она честна, но не бескорыстна, искренна, но не целомудренна… Я полагаю, что она имела любовников, хотя и не могу утвердительно сказать этого. Мне бы не хотелось, чтобы вы подверглись тут какому-нибудь обману, а особы этого рода умеют с удивительным бесстыдством выдавать ложь за истину. — Послушайте, милорд, — отвечал я, решившись сам прибегнуть ко лжи, чтобы выведать истину, — она была вашей любовницей, я это знаю. — Вы ошибаетесь, — отвечал он спокойно, — мне это никогда и в голову не приходило. Любовная интрига в доме жены? На что бы это походило? — В таком случае… мнение ваше о легкости ее нравов основано на каких-нибудь доказательствах? — Я уже сказал вам, что у меня нет никаких доказательств. Но у нее такая вызывающая наружность, смотрит она такой плутовкой, так походит на деревенскую или городскую кокетку, что если б она и понравилась мне, я не решился бы быть ее любовником. Имея множество слуг и переезжая с места на место, мы не можем и не хотим наблюдать за нравственностью людей, ответственность за которых не лежит на нас. Вот все, что я хотел сказать вам. — Совершенно все? — Клянусь честью. Было шесть часов пополудни. Леди Гэрриет оставляла меня обедать, чтобы я мог после видеть иллюминацию церкви Св. Петра, но у меня не плошки и не шкалики были в голове. Я сказал, что дал слово Брюмьеру обедать с ним вместе, но он, по опрометчивости или с умыслом, выдал меня, ответив, что не брал с меня такого обещания. Во всяком случае я был очень недоволен его ответом и дал ему это почувствовать. — Вы, право, чудак, — сказал он, отводя меня в сторону, когда я стал упрекать его за недостаток сообразительности, — вы недоверчивы, как итальянец, и таинственны, как любовник какой-нибудь принцессы. И все это для этой фраскатанской девчонки! Разве вы не могли предупредить меня, что хотите на ночь воротиться к ней, и я помог бы вам ускользнуть отсюда. Черт возьми, я хорошо понимаю, что неловко было бы намекнуть нашим англичанам о таком естественном деле, но к чему же скрываться от меня, как будто бы речь идет в самом деле о какой-нибудь принцессе? Я был оскорблен, а должен был казаться равнодушным. Я должен был отрекаться от отношений с Даниеллой, а между тем мне очень хотелось поссориться с Брюмьером за тон, с каким он говорил о ней. По какому праву оскорблял он женщину, предмет моих желаний? Какова бы ни была эта женщина, я чувствовал потребность и как будто обязанность защитить ее. Но уступить этой потребности значило бы обнаружить права, которых я еще не имел. Гнев мой пал на Тарталью, который преследовал меня до моей комнаты, надоедая мне своей обычной песней о любви ко мне Медоры и об относительном ничтожестве фраскатанки, «этой пустой девчонки», которая не стоила такого «мосью», как я. К моему нетерпению примешивалась какая-то скрытая досада при унизительной мысли, что этот мерзавец, предмет первой любви Даниеллы, вероятно, употребил во зло ее доверчивость. Я чувствовал, что выхожу из себя и что он замечает мою смешную ревность. — Полноте, полноте, «мосью», — сказал он мне, хватаясь за дверь, так что она очень кстати очутилась между ним и мною. — Кто вам мешает думать об этой девчонке? Тут нет еще большой беды, но чтобы это не мешало вам метить повыше. Вы понимаете, что я говорю вам это не из ревности, у меня, нет ничего с Даниеллой, я уж давно… Он убежал, договорив дорогой свою фразу, которую стук хлопнувшей двери помешал мне дослышать. Я остался в сильном волнении, чувствуя, что оно безрассудно, но я не мог преодолеть его. — Боже мой, Боже мой, — говорил я сам себе, — неужели я влюблен до такой степени, и еще в кого? В прелестницу, быть может, последнего разряда! Может быть, они все правы, насмехаясь надо мной! Когда это водилось, чтобы человек моих лет краснел от того, что ему понравилась женщина, принадлежавшая сотне других? Почему не признаться простодушно, что я желаю ее, какова бы она ни была? Я знаю, что надобно уметь сдерживать животность таких вожделений и по долгу светского человека отложить до завтра свидание, о котором и мысль не должна зарождаться в присутствии честных женщин. Но зачем же, черт возьми, эта Медора, так безумно бросившаяся мне на шею, осмеливается мне говорить о моих чувственных побуждениях? Произнося имя Даниеллы, она явно говорит о них. В этих мыслях я вышел из дворца, протолкался сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг увешанных флагами frittorie и подошел к церкви Св. Иоанна Латеранского, не подумав, на чем бы доехать до Фраскати, но решившись непременно быть там в тот же вечер, если б и пешком пришлось совершить это путешествие. Я дошел, наконец, до ворот Св. Иоанна, припоминая себе, что там, за городскими воротами, у питейных домов, я видел наемных лошадей. Но когда, в восемь часов вечера, я стал спрашивать, кто возьмется довезти меня до Фраскати, вокруг меня раздался крик удивления, насмешки, почти негодования. — Да, да, малария и разбойники, — поспешил я отвечать им, — я все это знаю. Но можно заработать хорошие деньги. Сколько возьмете вы? — Нет, эччеленца, в эту пору вы не достанете лошадь с проводником и за четыре скуда. — А за пять? — За пять? В будни дело возможное; но сегодня, в первый день Пасхи! Нет, нет, и за шесть не найдете! Я готов был предложить семь, на наши деньги франков около сорока. Эта сумма, предложенная таким бедняком, как я, может доказать вам, как сильно в эту минуту я хотел сдержать слово, данное моей любезной, Лорд Б…, предложив пятьсот ф. ст., не был бы расточительнее меня. По счастью для моего тощего кошелька, в эту минуту чья-то рука тронула меня за локоть. Обернувшись, я увидел Тарталью. — Что вы тут делаете, эччеленца? — спросил он меня по-итальянски. — Лошади здесь. Милорд прислал их вам и приказал мне проводить вас. «Добрый лорд Б…, — думал я, следуя за Тартальей к лошадям, которых в десяти шагах отсюда держал за поводья нищий — он нападал на меня за мои безрассудные прихоти и сам же помогает мне исполнять их». Не теряя времени, я вскочил на ожидавшего меня в нетерпении английского скакуна; я и не подумал о том, что, вовсе не зная правил верховой езды и года четыре не садившись на лошадь, легко могу сломить себе шею. Но в детстве я не раз скакал по лугам на необъезженных жеребятах, без седла и без узды; я привык сидеть крепко и спокойно, не делая неловких движений новичка, которые беспокоят и пугают пылкую или щекотливую лошадь, и потому дела пошли недурно. После доброй мили быстрой рыси, удовлетворившей первый пыл лошади, она смирилась, и я почувствовал, что она уже в моих руках и я могу по произволу замедлить или ускорить ее аллюр. Тогда я обратился кТарталье, ехавшему за мной тоже на прекрасной лошади и преважно сидевшему в седле, несмотря на свои коротенькие ножки и огромный плащ, которым была окутана его фигура. — Ты, любезный, можешь сейчас отправляться назад; ты уж и так далеко заехал. Нет надобности подвергаться из-за меня лихорадке или встрече с разбойниками. Возвращайся во дворец и скажи лорду Б…, что ты мне не нужен, а лошадь я отошлю ему завтра. — Нет, нет, мосью, я вас не покину. В этом плаще я не боюсь лихорадки, а что до разбойников, то им нет смысла нападать на бедняка, у которого и десяти байоков не нашлось бы в кармане. — Но их мог бы прельстить твой прекрасный плащ, тем более, что ты драпируешься им с таким величием. — Верьте мне, эччеленца, на таких скакунах нечего воров бояться. Я только прошу вас отбросить самолюбие и в случае недоброй встречи удирать, потому что лошадь вынесет. «Даниелла, я обещаю тебе это», — подумал я про себя. Мне хотелось узнать, каким образом лорд Б… догадался о моем вторичном бегстве, и, несмотря на мое отвращение к разговорам с Тартальей, я начал его расспрашивать, но он уклонялся от моих вопросов. — Нет, нет, мосью, — отвечал он, — теперь не время рассказывать. Я расскажу вам все, что угодно, когда мы увидим первые дома Фраскати; верьте, я вам это говорю, в римской Кампаньи, когда день склоняется к вечеру, нечего зевать, распустя поводья, да балагурить. Поедем скорее, и если вы завидите людей на дороге, пожалуйста, не поленитесь пришпорить свою лошадку. Я непременно хотел отправить его в Рим. — Это невозможно, — отвечал он, — нечего и толковать; милорд выгнал бы меня из дому, если б я посмел его ослушаться. Мы пустились доброй рысью. День был прекрасный, и небо было чисто. Мы уже проехали Tor di mezza via, уединенную башню на половине дороги между Фраскати и Римом, как Тарталья, почтительно ехавший позади меня, обогнал меня галопом и крикнул мне, чтобы я не близко за ним следовал, не укорачивая, впрочем, хода своей лошади. Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль, что он водит хлеб-соль с ночными бродягами и что он узнал об их присутствии по какому-нибудь знаку, неуловимому для моих глаз и для моего слуха. Я не сомневался более в этом, когда, настигнув его рысью, я увидел, что он садился на лошадь, простившись с кучкой людей, в числе которых я заметил одного, высокого роста. Казалось, я видел его не в первый раз, но он как будто избегал моих взоров и отворотился в сторону, когда я проезжал. Другие имели вид местных нищих. — Мошенник, — сказал я Тарталье, когда мы оставили за собой этих людей, — ты, кажется, не без причины не боишься разбойников? — Мосью, мосью, — отвечал он, прикладывая палец к губам, — не говорите о том, чего вы хорошо не знаете. Есть мошенники в римской Кампанье, но есть и честные люди, и, право, не худое дело иметь такого приятеля, как я, который знает, что сказать и тем, и другим. — Позволь, по крайней мере, узнать, что это за люди, от которых ты, как уверяешь, оберег меня теперь, честные или разбойники? — Зачем вам знать это? Я не требую от вас ничего, ни для себя, ни для них. Едем, едем, я боюсь только случайностей. Мы без препятствий доехали до подошвы горы. Я хотел подняться на гору шагом, чтоб поберечь лошадь, но Тарталья энергично восстал против этого. — Что вы это вздумали, мосью! На дворе совсем уже стемнело, а здесь самое опасное место, дорога идет в гору. Поглядите-ка сюда, видите вы там бассейн с. водой? Ни один из проезжих, вздумавший напоить здесь свою лошадь, не поехал отсюда далее. А там, вдоль этой каменной ограды, разве вы не заметили, когда проезжали здесь днем, людские черепа и кости, сложенные крестом? Понять, кажется, нетрудно, что все это значит. Наконец мы приехали к городским воротам, и Тарталья решился, наконец, заговорить о лорде Б… — Вот что, мосью, — сказал он, — не сердитесь только. Лорду Б…, верно, и на ум не приходит, что вы теперь во Фраскати; он думает, что вы прогуливаетесь по римским улицам, любуясь иллюминацией. Мы теперь на горе, и вы можете отсюда судить, от какой прелести вы ускакали. Остановитесь и взгляните назад. Я обернулся. Передо мной открылся великолепнейший вид. Рим блистал во мраке, как громадная плеяда светил небесных. На соборной церкви Фраскати пробило десять часов. — Смотрите, — вскричал Тарталья в восторге, — смотрите на купол Петра, сейчас будет перемена! А, фраскатанские часы бегут минутой… нет, двумя… Подождите! Вот, вот, глядите! Каково? В самом деле, все блестки света на куполе, сиявшие на расстоянии тринадцати миль беловатым светом, вдруг превратились в блестящие алые искры. Огромный маяк на вершине купола пылал, окруженный во мраке венцом красного зарева. Римляне большие охотники до этого зрелища. Пятьсот работников заняты в этот день, чтобы доставить городу это удовольствие, и когда перемена делается не мгновенно, не вдруг на всех частях громадного здания: на куполе, базилике, боковых колоннадах и фонтанах, публика беспощадно освистывает машинистов. Зато машинисты полагают на это дело все свое самолюбие, и Тарталья с хладнокровием философа заметил: — В эту минуту пятеро или шестеро этих бедняков изволят кувыркаться сверху вниз, исполнив проворно, как следует, свой долг, потому что перемена, кажется, очень удалась, и публика должно быть довольна. Что делать, ловкая перемена без того не обходится. Купол круг и очень опасен! — Ну, я довольно насмотрелся на твои шкалики. Скажи мне теперь, каким образом я очутился на лошади лорда Б…, когда он не присылал мне ее, как ты сам говоришь? — А таким образом, что вы вовсе не на лордовом скакуне, а на лошади мисс Медоры. А я выбрал себе из лошадей прислуги, которая поспокойнее в езде и покрепче ногами. Тарталья заставил меня думать, что Медора послала его ко мне с лошадьми, и не выводил меня некоторое время из заблуждения; он признался мне только тогда, когда я уже слез с лошади. «Это я сам по себе оседлал лошадей и принял на себя расправить им ноги дюжиной небольших миль. А уж ноги, нечего сказать, — продолжал, смеясь, бесстыдный цыган. — Мисс Медора заметит, быть может, что ее Отелло не слишком горячится, и сама не будет так дурачиться; на том и делу конец. К тому же небо хмурится, быть ненастью; мисс Медора просидит день-другой дома, а Отелло пока отдохнет. Полно, мосью, не сердитесь; все сделано к лучшему. Когда я увидал, что только пуще раздосадовал вас, и что вы уже подхватили свой чемоданчик и, не говоря ни слова, вышли из дому, я подумал про себя: «Бедный молодой человек не найдет повозки и отправится пешком; а если и найдет, тем еще хуже, его остановят на дороге; он сумасшедший, станет обороняться и, чего доброго, молодца, пожалуй, у меня и уходят…» — Но какой черт просит тебя принимать во мне участие? — закричал я, бросая ему двадцатифранковую монету, от которой он упрямо отказался. — Я принимаю участие в будущем муже Медоры, — отвечал он, — в будущем наследнике леди Б…, потому что, я вперед вам говорю это, вы непременно будете мужем этой мисс и наследником этой леди. Теперь вы вбили себе в голову чернобровую фраскатанку, но не пройдет и недели, она надоест вам, и вы возвратитесь в Рим. Сердце синьорины не лежит к ее дородному братцу Ричарду. Она тем меньше его любит, что больше старается полюбить. Но он глуп, а она это видит. Прощайте, эччеленца; вы щедры, я это знаю, и потому не хочу ничего брать от вас, пока вы не разбогатеете. Обогащая вас, я хлопочу о себе. Сказав это, он вскочил на свою лошадь и повел Отелло в поводу, Я хотел, чтобы он заехал в город и дал отдохнуть лошадям. — Нельзя, — отвечал он. — Конюхи разбрелись теперь по улицам Рима и вверили моим попечениям конюшню; но к рассвету они воротятся. Надо, чтобы кони обсохли и были вычищены к их приходу, так чтобы они ничего не заподозрили. Он помчался галопом, а я стал взбираться на via Piccolomini, пристыженный немного мыслью, что любимая лошадь Медоры привезла меня на свидание, за которое она неизбежно возненавидела бы меня. Я видел также, что предсказания Брюмьера относительно Тартальи сбывались: «В какое угодно время, он всегда появится, как только его услуги будут для вас необходимы, и сумеет сделаться нужным человеком и в ваших удовольствиях, и в минуты опасности», — вот что говорил мне когда-то Брюмьер. С этими мыслями я стоял у запертой решетки. Я не хотел сильно звонить, потому что колокольчик раздавался слишком громко. «Она здесь, — думал я. — Она выйдет украдкой отворить мне калитку».
Глава XVIII
Того же числа.Когда я стоял у калитки и с наивозможным терпением ожидал появления Даниеллы, со мной случилось загадочное приключение, которого я до сих пор не понимаю и, 206 может быть, никогда не пойму. Монах выходил из via Piccolomini, то есть из окраин города, и, казалось мне, шел к via Falconieri, одной из тесных извилистых дорожек, которые пробираются между парками и носят название того из них, к которому ведут. Этот монах прошел очень близко мимо меня, думая, что он не видит меня, я посторонился, чтобы он не задел меня; но он видел меня и, когда поравнялся со мной, быстро сунул мне в руку что-то, похожее на четырехугольную металлическую пластинку, потом, сразу же, не ожидая от меня никаких вопросов, углубился в тропинку и исчез с моих глаз. Это был не капуцин, дядя Даниеллы, а высокий монах в белой с черным рясе, похожий на виденного мной в развалинах тускуланского театра, что тогда, как казалось мне, избегал моих взоров. Только этот был, по-видимому, гораздо худощавее. Таинственным предметом, отданным мне монахом, была жестяная дощечка, величиной с визитную карточку, с несколькими сквозными дырочками, назначение которых невозможно распознать ощупью. Я ломал себе голову, «стараясь отгадать, был ли это какой символический религиозный знак, раздаваемый чужеземным богомольцам, в память их далекого странствия, или таинственный намек от Даниеллы? Но в этом последнем случае, что же он значил и с какой стати вмешался монах в любовную интригу? Помня, однако же, предостережения Брюмьера и лорда Б…, что в этой стране можно ожидать самых необыкновенных случаев, я перестал звонить и также пошел по via Falconieri, не для того, чтобы следить за монахом, но чтобы самому скрыть свои следы от шпионов, если б они за мной наблюдали, и спрятаться от них в темноте. Когда я пришел в такое место дорожки, где царствовала совершенная темнота под нависшими ветвями деревьев двух смежных парков, я зажег спичку, будто для того, чтобы закурить сигару, но в самом деле для того, чтобы увериться, что там, кроме меня, никого не было, и чтобы взглянуть на талисман монаха. Действительно, это должен быть талисман, но трудно отгадать, какой вере он принадлежит. Я не мог придумать, какое назначение имеют дырочки, просверленные в металлической пластинке. Осмотрев их со вниманием, я положил этот амулет в карман и, продолжая путь, пришел в сад своей виллы через вал, окружающий площадку, засаженную оливковыми деревьями, за калиткой, что против решетки виллы Фальконьери. Ночь была тепла и темна; из Фраскати слышались крики веселья, которые были внове для моего слуха. Во время поста, а в особенности на страстной неделе, кроме унылого звона колоколов и однообразного боя башенных часов, я не слыхал никакого звука. Если бы кто вздумал постом заиграть на каком-нибудь инструменте, запеть песню или чем-либо обнаружить желание погулять за стаканом вина или поплясать, тот неминуемо должен бы был cadere in pena, то есть заплатить пеню или посидеть в тюрьме. Зато с первого дня святой недели жизнь пробуждается: все население Церковной Области поет, кричит, пляшет. Таверны снова открыты, везде огни, в каждом сарае бал, и невольно подивишься, как этот народ, осужденный на строгое воздержание, — которое всегда сопровождается огрубением души, если проистекает не из доброй воли, — снова, со всем пылом и наивностью, предается веселью вольной птицы, снова прыгает и кричит, как мальчик, вырвавшийся из школы. Войдя в дом, я увидел, что я напрасно бы звонил до самого утра, потому что в целом доме не было ни души. Меня взяла досада при мысли, что моя отчаянная решимость приехать в назначенный час привела меня только к обманутой надежде. Прождав напрасно с четверть часа, я решился пойти посмотреть на праздничную физиономию Фраскати в надежде встретить там Даниеллу, танцующую, веселую и позабывшую назначенное мне свидание. Но я напрасно обошел целый город и его предместья, заглядывая тайком во все таверны; я видел только Мариуччию, которая, казалось, находила для себя большое удовольствие смотреть на пляски девушек; она не обратила на меня ни малейшего внимания. Я возвратился домой в большой досаде, в дурной и постыдной досаде, и застал Даниеллу в моей комнате: она молилась на коленях, опершись на кресло. Она не прервала своей молитвы, хотя и видела, как я вошел. Я имел время раскаяться, успокоиться и подивиться героическому хладнокровию, с которым эта девушка, дошептывая свою молитву и набожно крестясь, пошла вынуть ключ из моей двери и закрыть задвижку. Тогда только она взглянула на меня и вдруг побледнела. — Что с вами? — спросила она. — Вы смотрите на меня с таким насмешливым и холодным видом. — А вы и не смотрите на меня, хотя я уже минут пять стою перед вами; а я вас так ждал, так искал… — Так это-то рассердило вас? Вы думаете, мне легко прийти сюда в такую позднюю пору, когда мой брат во Фраскати и когда целый Фраскати на ногах? Полноте сердиться и послушайте, как я устроила, чтобы тетка ни о чем не знала; не думайте, чтобы она позволила мне прийти к вам, пока вы не дадите обещания остаться мне верным. Она думает, что я теперь на вилле Таверна-Боргезе, за четверть мили отсюда, в садах. Я взяла там работу на целый месяц и, под предлогом, что в ненастную погоду далеко возвращаться оттуда домой, упросила тамошнюю экономку поместить меня у себя на это время. Эта женщина моя приятельница и с ней дело во всем улажено. Она отвела мне такую комнату, что я могу выходить, когда хочу, так что никто из тамошних этого не заметит. Сегодня вечером я отправилась туда вместе с ней, с моими братом и теткой, и ждала там, пока не появилась возможность ускользнуть в виллу Фальконьери, а оттуда пробраться сюда по знакомым дорожкам, и вот я здесь. Эти последние слова «и вот я здесь» были сказаны с невыразимой прелестью. В прекрасном голосе и прекрасном взоре этой девушки была какая-то ангельская непорочность, которая должна была поразить меня, но обаянию которой я подвергся совершенно безотчетно. Я обнял Даниеллу, но вдруг остановился, удивленный и встревоженный: я почувствовал слезы на ее щеках. — Что это, Daniella mia? — сказал я ей. — Не с сожалением ли предаешься ты любви моей? — Молчи, — возразила она, — не обманывай! В тебе нет любви ко мне! Этот упрек рассердил меня. — Ах, Боже мой, не начнем ли опять говорить друг другу разные колкости и ставить условия? — Условия!.. Разве вы обещали мне хоть два дня привязанности? А я, однако, здесь! — Ты здесь вся в слезах, а это то же самое, как бы тебя здесь вовсе не было! Клянусь тебе, я ничем не хочу быть обязан решимости, смешанной с сожалением. Если я не нравлюсь тебе или если ты жалеешь, что вверилась мне, ступай, я не удерживаю тебя! — Нет, я пришла и останусь, потому что люблю вас! Я только в этом и уверена — тут она закрыла лицо руками и заплакала с такой искренностью грусти, что первые восторги мои сменились тайным душевным страданием. — Послушайте, Даниелла, — сказал я, — если вы девушка страстная и не легкомысленная, расстанемся, пока есть время. Я человек честный и должен сказать вам, что не могу навек остаться здесь, не могу и увезти вас с собой. Я не хочу соблазнять вас и принять на себя обязанность свыше сил моих. Я беден и не могу прилично жить иначе, как в совершенной независимости; я уже говорил вам это. Прощайте, прощайте! Ступайте, пока еще у меня есть силы желать, чтоб вы ушли. — Так вы бы за большой грех почли обольстить девушку, которая еще не имела любовника? — Да, если бы она, как вы, судя по вашим словам, сознавала значение своей жертвы. Я не хочу принять этой жертвы, когда взамен не могу сам ничем пожертвовать. — Вы не в шутку говорите это? — Клянусь в том моей честью! — Ничего взамен!.. — проговорила она, идя к дверям. — Ни одного дня, быть может, ни одного часа верности! Она отворила дверь и медленно вышла из комнаты, как бы давая мне время позвать ее; но у меня хватило силы не сделать этого; я был так странно взволнован; я чувствовал, что я погибну, что я навеки наложу на себя цепи, если, увлекшись минутой, погублю непорочность целой жизни. Не слыша, в продолжение нескольких минут, никакого шума, я полагал, что она ушла. Нервы мои были до того раздражены, голова так горела, что я и сам заплакал с досады и сожаления. Я чувствовал себя совершенным скотом, и, схватив шляпу, хотел уйти. — Куда вы? — вскричала она, стремительно загораживая мне дорогу на чердаке, при выходе из моей комнаты. — Иду шляться по тавернам Фраскати, Проходя мимо, я видел много хорошеньких личиков, и надеюсь найти любезную, которую не заставлю проливать слезы. — Так вы только этого и хотите? Ночь любви без завтрашнего дня? — Без завтрашнего дня или нет, не знаю. Но я не хочу ни условий, ни сожаления. — Идите, — сказала она, — я вас не удерживаю. И она села на первую ступень лестницы, которая была так тесна, что для того, чтобы пройти вниз, мне нужно было как-нибудь отстранить Даниеллу. Она уже не плакала; в словах ее звучала сухость, в позе видно было пренебрежение. — Даниелла, — сказал я, поднимая ее, — мы тратим в ребяческой и грустной игре время, которое бежит и, может быть, никогда не возвратится. Если вы точно любите меня, так почему не принять ту любовь, которую я могу дать? Будьте сами собой. Будьте искренни, если вы слабы; крепитесь, если вы крепки. Уходите или оставайтесь, но не принуждайте меня страдать и безумствовать. — Правда твоя, — вскричала она, охватив руками мою шею, — лучше быть искренней! Да, да, я слаба! Чувства одолевают меня. — Вот так лучше. Благодарю мою счастливую судьбу! Так я не первый твой любовник? — Не первый, не первый! Я лгала! Не упрекай себя ни в чем и люби меня, как я того стою, как только можешь, как только хочешь! Но тише! Я слышу, Мариуччия идет домой; она заглянет, пришел ли ты; притворись, будто спишь, не шевелись; если заговорит — не отвечай. Солнце уже светило, а я был у ног Даниеллы. Друг мой, я плакал, как ребенок, и слезы текли не с досады, не от нервного припадка: они лились из сердца; это были слезы глубокого чувства и слезы раскаяния. Милое, очаровательное создание! Она обманула меня; она хотела принадлежать мне во что бы то ни стало не признанной, оклеветанной, униженной моим недоверием, моей эгоистической, грубой страстью. О, я предчувствовал, что буду наказан собственной совестью, что буду презирать себя! Я так недостойно, так незаслуженно завладел этим сокровищем любви и целомудрия! — Прости, прости меня, — говорил я ей, — я желал тебя, не зная цены тебе; я краснел за чувство, которое влекло меня к тебе; я боролся с ним; я грязнил его, сколько мог в моей мысли. Я поступал, как дети, которые любуются только блестящими красками цветка и обрывают его, не зная об его аромате. Я был недостоин своего счастья, я не стоил твоей преданности, твоей жертвы, и вот, стыдясь за себя, я лежу теперь у ног твоих, ты заслуживала обожания, долгих исканий и молений, а я осквернил чистоту любви, которую должен был принести тебе, прежде чем обладать тобой. Но я искуплю это преступление. Я буду любить тебя теперь, как должен был любить тебя прежде, и буду так долго, как ты хочешь, твоим рабом, прежде чем опять стану твоим любовником. Повелевай мной, испытывай меня, накажи меня, отомсти за оскорбление твоей гордости, твоего достоинства. Я люблю тебя, люблю тысячу раз более, нежели ты можешь, нежели ты должна любить меня! Потом я погрузился в безмолвное, блаженное созерцание этого создания, столь соблазнительного и столь целомудренного, столь пылкого и столь смиренного… Она, чистая, оклеветала себя и загасила свой светильник, чтобы уподобиться деве юродивой, чтобы успокоить дурную и подлую совесть того, кого она любила, и кто так грубо ошибался в ней! «Но это свет наизнанку, — подумал я, — мне досталось на долю невероятное счастье; это сон! И я прижимал ее колени к облегченной груди моей. Я лежал во прахе перед нею и отдавал всю душу мою, отдавал ей безусловно всю жизнь мою. Я был в исступлении, и теперь, когда пишу к вам эти строки, я все еще в исступлении и в безумии! Уже несколько часов сижу я один в этих развалинах, чувствуя невыразимое упоение, какую-то сердечную радость, смешанную с раскаянием и душевным умилением. Нет, с тех пор, как живу, я еще никогда не испытывал такого сильного и такого сладостного чувства. О, Даниелла, Даниелла, могу ли я назвать любовь мою к тебе безумием? Могу ли я сказать, что я существовал до этого времени? Конечно, нет, потому что я люблю в первый раз и чувствую, что если бы за этот день я должен был заплатить целой жизнью, я и тогда благодарил бы Бога за этот блаженный день!.. Жить всем могуществом существа своего, считать ни во что презренные заботы жизни, эти горы и бездны препятствий и неудач, которые восстают и разверзаются под ногами всех, даже самых обыкновенных людей, чтобы бессмысленно терзать их мрачными и бесплодными грезами! Чувствовать в себе силу поднять мир на плечах, чувствовать в себе столько спокойствия, что хоть все небо обрушься над головой, столько пыла, что хоть на небо взбежать! Нежность матери и слабость женщины, подвижность воды, дрожащей от малейшего дуновения, ревность тигра, доверчивость младенца; непреклонность перед чем бы то ни было в мире и смирение перед существом, которое одно что-нибудь значит для нас в мире, волноваться неизведанным исступлением и затихать в блаженном изнеможении… и все это вместе, все это за один раз! Все положения, все ощущения, все силы нравственные и физические и в самом полном, в самом ясном, в самом энергичном проявлении!.. Так это любовь? Не ошибался же я, когда мечтал о ней, как о высочайшем благе, в первые дни моей юности! Но как еще я мало знал, сколько в этом чувстве, когда оно раскрывается вполне, радостей и сил! Я как будто только теперь стал человеком; вчера я был только призрак. Какая-то завеса спала с глаз моих. Все являлось мне смутно и в тумане. Своему уединению и свободе я придавал фальшивую ценность. Я так смешно заботился о своем спокойствии, о независимости, о будущности, об удобствах моего положения, о своем маленьком умственном благосостоянии, о своем ничтожном умишке. Я видел все в ложном свете. Мудрено ли? Я был один на свете! Кто одинок, тот безумен, — и это благоразумие, которое так заботливо воздерживается и отбивается от жизни цельной и полной, — да это просто сумасшествие! Но жить вдвоем, чувствовать, что есть на земле существо, которое предпочитает вас самому себе и которое заставляет вас возвращать ему то, что оно отнимает у себя, чтобы дать вам вполне и безусловно выступить из своего печального «я», чтобы жить в другой душе, чтобы отрешить себя вместе с ней от всего, что не есть любовь, Боже мой, какое странное и таинственное блаженство! И почему все это так? Почему именно эта женщина, а не другая, которая была бы, может быть, и прекраснее, и лучше и любила бы еще более? Вчерашний фальшивый разум напрасно пытался бы сегодня опорочить мой выбор, указать мне образ женщины более желанной. Сегодняшний правый разум, этот мой экстаз, победоносно отвечали бы, что нет желаннее той, которая принадлежит тебе, что обожать можно только ту женщину, которая привела тебя в подобное состояние. Я чувствую себя в эту минуту как бы вне себя, и больше, и сильнее, и моложе себя. Я чувствую себя лучше, достойнее, и мне кажется, будто мои предубеждения и моя недоверчивость, мое ослепление и моя неблагодарность имели своим источником не меня, не личность мою, а ту роль, которую я вынужден был играть в общественной комедии. Я сбросил с себя этот заимствованный костюм; я позабыл эти рутинные слова и заказные рассуждения. Теперь я таков, каким Бог сотворил меня. Любовь первозданной природы разлилась в воздухе, которым я дышу, наполняет всю грудь мою, будто какой-то новый ток проникает и живит меня. Время, пространство, обычаи, опасности, заботы, мнение, — все эти путы, в которых я бился, не будучи в силах двинуться вперед, все это теперь для меня фальшивые мнения, грезы, исчезающие в пустоте. Я пробудился, я уж не грежу, я люблю, я любим. Я живу, живу в этой области, которую считал туманной мечтой, созданием моей фантазии; я нахожусь теперь в ней, чувствую ее в действительности, осязаю ее, дышу ею. Я живу всеми моими чувствами, а всего более этим умственным чувством, которое видит, слышит и постигает неизменный порядок вещей, которое сознательно участвует в бесконечном и беспредельном движении жизни полной и цельной!.. О, позитивизм нашей общественной жизни! Какая груда софизмов, которые при нашем пробуждении в жизни вечной покажутся нам смешными и странными, если мы вспомним о них тогда! Но я надеюсь, что то будет смутное воспоминание, иначе оно было бы тягостно, как напоминание о нашем бреде в горячке. Я надеюсь, что мы будем в состоянии припомнить из этой краткой и обманчивой жизни только дни и минуты, озаренные божественным сиянием любви. Молю Тебя, Боже, оставить мне в вечности воспоминание о настоящей минуте!
Глава XIX
Вилла Мондрагоне, 10 апреля.Я пишу к вам сегодня в том самом уединенном месте, где я провел вчерашний день, описывая вам мое совершенное перерождение. Только вчера был ненастный день, и я писал к вам, сидя на обломках в одном из пустых и полуразрушенных зал этого благородного здания; сегодня я под открытым небом, в прекрасную погоду и в запущенном саду, где великолепные асфодели растут свободно по рассевшимся окраинам высохших и занесенных песком водоемов. Сегодня я еще счастливее, чем вчера, хотя вчера мне это казалось невозможным, хотя вчера я был так счастлив, что не заметил отсутствия солнца; а это случилось со мной первый раз в жизни; я заметил это, только возвращаясь во Фраскати, видя мокрую траву и пасмурное небо, Что мне теперь до того, есть ли свет и тепло на земле? Мое солнце в душе моей; мое жизненное тепло в любви, которая горит во мне. Не будем, однако же, неблагодарны. И то солнце, что надо мной, так чудесно освещает все окружающее меня великолепие; я исключительно полюблю это место, где я от нее так близко, как только можно. Я только и грежу о том, как бы проводить здесь целые дни и целые ночи. Как это сделать, я еще не знаю. Я уже говорил вам, что здесь одни развалины, но во что бы то ни стало я должен непременно приютиться здесь. Дело в том, что вилла Таверна и вилла Мондрагоне находятся в одном и том же парке. Обе принадлежат какой-то княгине Боргезе, которая не хочет разделить их на два поместья. Из виллы Таверна, прекрасной дачи, расположенной на склоне горы, идет stradone, то есть широкая аллея столетних деревьев, такая длинная и такая крутая, что нужно двадцать минут времени, чтобы добраться до ее верхнего конца. Наконец, на самом верху, как только повернете в боскет налево, вдруг открывается перед вами масса строений. Это — Мондрагоне, огромная вилла, исполненная характера, хотя в ней нет ничего величественного. Итальянский стиль последних времен Возрождения отличается скупостью размеров; как бы ни было громадно здание, с первого взгляда глаз всегда ошибается. В это обширное здание я имею свободный вход и могу запираться там под предлогом работы. Домоправительница виллы Таверна, Оливия, приятельница моей Даниеллы, познакомилась со мной и доверяет мне ключ, весом не менее двух фунтов, с тем, чтоб я ей возвращал его в шесть часов. Это дает мне случай два раза в день, проходя мимо, переглянуться с Даниеллой, которая в нижнем этаже хлопочет около своего ужасного щелока. Но я так уважаю ее теперь, что, не желая подвергнуть ее шуткам и намекам домашних, показываю вид, будто вовсе ее не знаю. Ночью она прокрадывается тайком в крытую аллею и прибегает ко мне в Пикколомини. Но ей надобно проходить через виллу Фальконьери, где она может встретить неласковых сторожей, или идти из виллы Таверна на Фраскати, а там ее могут увидеть жители предместья. К тому же трудно долее обманывать Мариуччию. В эти две ночи мы Бог знает каким чудом ускользнули от ее ясновидения, а кто знает, захотела ли бы она нам благоприятствовать в наших теперешних отношениях. Здесь, в этом пустом жилье, окруженном огромными постройками, верхи которых разрушаются, но которых внешние выходы все заперты, я мог бы видеться с моей возлюбленной во всякое время, если б у меня было здесь какое-нибудь помещение, и чтоб отыскать его, я пустился сегодня осматривать все углы этого здания. Я опишу вам мои открытия; может быть, это описание наведет меня на добрую мысль. Представьте себе замок с тремястами семьюдесятью четырьмя окнами[12], замок вроде замков Анны Радклиф, целый мир загадок, длинную цепь сюрпризов, одну из грез Пиранези. Но я должен прежде всего вкратце рассказать вам летопись виллы Мондрагоне, чтобы вы могли понять эту смесь жалкого опустения и царской роскоши, где я ищу себе приюта. Дворец этот сооружен папой Григорием XIII в XVI веке. Вход в него устроен через обширную постройку, род казармы, в которой помещалась вооруженная свита его святейшества. Когда впоследствии папа Павел V (Боргезе) обратил этот замок в простую вилледжиатуру (загородный дом), он соединил одну из боковых стен этой казармы с дворцом посредством галереи, изящные аркады которой обращены с западной стороны к довольно значительной крутизне и служат теперь только свободным путем ветру и дождю. Своды текут, фрески сделались похожими на кору пестрых сталактитов; терновник и крапива растут между плитами рассевшегося помоста; два этажа над этой галереей разрушаются. Крыши почти уже не существует, карнизы последнего этажа подались и оседают, угрожая прохожим, если случаются когда прохожие близ этой фиваиды. Однако, когда вилла Мондрагоне перешла во владение фамилии Боргезе, она была еще великолепным зданием, лет тому пятьдесят, да и теперь отличается веселой наружностью, характерной особенностью этих преждевременных развалин. Лишь в начале нынешнего столетия, во время французских войн в Италии, австрийцы бомбардировали, опустошили и разграбили Мондрагоне, и виллу постигла участь, общая всему в этой стране после политических потрясений: на виллу стали смотреть с отвращением, и она предана запустению. Впрочем, большая часть главного корпуса, именно parte media, еще хорошо уцелела, и расчистив ненужные развалины, можно было бы переделать это здание в прекрасный загородный дом. Нынешняя владелица виллы намерена, как говорят, это сделать, уже предприняты были переделки на роскошную ногу, совершенно в духе местных нравов. Началось, как водится, с бесполезного. Не заботясь о дырявой крыше, о брешах в верхних этажах, сделанных неприятельскими пушками, принялись за переделку паркетов, за живопись и за устройство роскошных ставней в бельэтаже. Ставни эти, кстати сказать, поразили меня, как вещь, какой я еще не видывал. Они сделаны из смолистого дерева с ярко-красными жилками, которые пропускают сквозь себя солнечный свет. В ясный день комната облита ровным розовым цветом. Эта часть здания не совсем заперта, и я довольно легко проник туда и описываю вам то, что сам видел. Над этим этажом тянутся великолепные залы, заваленные бревнами и обломками. Там нашел я характерную особенность; род будуара или капеллы, плафон, который недавно расписан местным художником, в здешнем, старинном вкусе. Это розовые фигуры, плавающие в фоне бирюзово-голубого тона, такие чистенькие и грациозные, что от них веет балом. Зато в боковой стене вы увидите большую трещину, которую еще не подумали заделать, и сквозь которую залетает в комнату стая хищных птиц, занявших под насест конец балки, просунувшейся внутрь комнаты. Они усаживаются там преспокойно каждую ночь, о чем свидетельствует куча следов их пребывания. Вереница блестящих купидонов осеняет с голубого неба тайны любви коршуна с морской орлицей. Эти украшения, обыкновенные предшественники необходимых поправок, остались на полдороге. В последнюю революцию дворец этот был снова занят войсками, и до сих пор терраса завалена кучами лошадиной подстилки. Неизвестно, французская или итальянская кавалерия занимала здесь пост, но, судя по надписям на стене, надобно полагать, что здесь был бивуак итальянцев. В околице носятся слухи, что заброшенные работы вскоре опять начнутся; это важный вопрос для меня. Если они не начнутся, уединение не будет здесь нарушено, и я нанял бы, может быть, уголок, в котором жил бы спокойно. Я никак не мог пробраться в одну странную часть построек, лучше других сохранившуюся. Это будто отдельная маленькая вилла, усевшаяся на одном из боков главной виллы. Кажется, что это было отделение для личных прихотей владельца, которое в подобных итальянских дворцах называется casino, где бы ни было это отделение, вверху или внизу, явно или скрыто в постройках. Здесь — это собрание маленьких павильонов, комнаты которых, судя по окошкам и дверям, должны быть миниатюрных размеров. Была ли это фантазия устроить отшельническое убежище? На террасе стоит сквозная башенка, похожая на какую-то воздушную молельню, способную располагать душу к нравственному совершенству путем благосостояния физического, вследствие красоты вида и свежего воздуха. Но это казино могло служить и убежищем любви, безопасным от любопытства прислуги и от нечаянного посещения. Как бы то ни было, мне очень нравится это изящное убежище; с его аркадами, с его разрушенными мраморными ступенями, с его таинственными окнами, дверьми, плотно заделанными. Сквозь щели этих дверей, ревниво хранящих тайны прошедшего, я вижу маленькую террасу, маленькие павильоны и маленькую круглую башенку этого казино. Великолепные злаки пробиваются из расселин плит, и воробьи здесь совсем дикие, не так как наши городские воробьи щебечут там, не подозревая, что я, отделенный одной дощатой перегородкой, подслушиваю их пересуды. Если бы я мог проникнуть в эту скрытую виллу, я думаю, что нашел бы там удобное и уединенное помещение; я вижу, что двери и окна там еще в хорошем положении. Но туда нельзя пробраться иначе, как взломав вход, а я не должен употреблять во зло доверие сторожей… Отыскивая вход в казино, я сделал другое открытие. Это еще более странный, еще более скрытый уголок и даже более красивый. Блуждая по бесчисленным подземным часовням, кордегардиям и конюшням, расположенным значительно ниже уровня двора и такой прочной и прекрасной архитектуры, что невольно задумаешься, к чему устроены в этом мраке все эти великолепные залы, я пришел к круглой лестнице и сошел по ней вниз. Здесь замок, построенный на горе, становится истинно фантастическим зданием. В этом помещении не могла жить прислуга; она была бы слишком далеко от господ. Это отделение было, кажется, предназначено для какого-то добровольного затворника или государственного преступника. Вообразите себе небольшой дворик внизу на большой глубине, с открытым небом, с постройками по сторонам, составляющими как бы стены этого колодца; а под аркадами этого дворика другую крутую лестницу, которая углубляется еще ниже, Бог знает куда. Я сошел и туда; мне сдавалось, что на этот раз я в самом сердце земли, и, признаюсь, я еще более удивился, заметив, что в этой глубине виднеется солнечный свет. Вероятно, я дошел до самого основания скалистой горы, на которой лежит Мондрагоне против Рима, выше его на всю высоту первого гребня Тускуланских гор. В конце длинной лестницы, по которой я сошел, был, вероятно, выход, но он, как надобно полагать, заложен, потому что свежий воздух и светлый солнечный луч проникали сюда сквозь небольшую расселину, до которой я не мог проникнуть. Слева открылся передо мной длинный ряд зал. Я было пошел туда, но со мной не было спичек, и я вынужден был отказаться от этого опасного путешествия по обломкам, по неожиданным ямам и по множеству головоломных преград. Я взошел опять по лестнице во вновь открытый мной маленький монастырь и придумал для этого места название, В моих письмах к вам я буду называть его монастырем del pianto или просто pianto. Эта мысль пришла мне вследствие предположения, что в этом уединенном месте, невидимом снаружи, какой-нибудь несчастный выдержал продолжительное покаяние. Воздушное казино, о котором я говорил выше, сохранит в моем дневнике название casino. Я должен бы назвать его проклятием: perdizione. Не знаю, почему мне кажется, что эта маленькая терраса, откуда можно многое видеть, не будучи видимым, эти языческие колоколенки и маленькие окошечки этого отделения, смотрящие друг на друга, рассказывают о любовном приключении, укрывавшемся там под предлогом назидательных размышлений. Pianto тем замечателен, что с первого взгляда трудно определить, в какой именно части здания он находится, Несмотря на темноту, происходящую от наглухо забитых отверстий с северной стороны, я нашел, однако же, середину этих построек. Это прихожий зал или скорее двор с сводами, куда, я думаю, въезжали экипажи и всадники. Пространный вход сюда также забит; я искал его снаружи и нашел посреди прекраснейшей террасы, какую только можно вообразить себе. Я называю ее прекрасной по размерам и положению. Это обширный полукруг, обведенный мраморным парапетом и великолепной балюстрадой, теперь кое-где обрушившейся. Посреди возвышается грибом фонтан тяжелого стиля, разбитый водоем которого совершенно иссяк. Струи этого ключа уходят частью в фундамент, частью стекают в огромную нишу, устроенную внизу монументального ската террасы. Но самое странное украшение этой террасы, которую по местному обычаю я назову terrazzone (большая терраса), состоит из четырех исполинских колонн, погнутых ядрами, с изломанными флюгерами и папскими крестами на вершинах. Эти колонны ни что иное, как трубы пантагрюелевских кухонь, устроенных под самой террасой, надобно полагать, в уровень с основанием лестницы, ведущий в pianto; они похожи на огромные телескопы и выпускали дым в уставленные на них вместо капителей уродливые каменные рожи, гораздо выше древесных вершин парка. Все это в итальянском вкусе времен упадка. Отсюда тот же открытый и неизмеримый вид, что и в окнах моего жилища в Пикколомини. Но взор отсюда достигает еще далее, потому что это место на целую милю выше и вид вообще лучше. Вместо старых строений, составляющих у меня темную полосу первого плана картины, здесь представляются на большом пространстве роскошные сады высокого стиля. Кипарисная, круто склоненная аллея, которая от самого terrazzone пролегает через целое это владение, параллельно с крытой дубовой аллеей, идущей к вилле Таверна, поистине монументальна, Эти деревья имеют по восьмидесяти и по сто футов в вышину. Ствол их состоит из связки пирамидальных тонких ветвей, расположенных снопом вокруг центрального стержня. Это странно, уныло, сыро, могильно, посреди ландшафта, не скажу смеющегося, потому что римская Кампанья всегда мрачна, но самого блестящего, какой только может создать воображение. Но я более всего люблю pianto, с его фестонами из терновника и дикой лозы, растущих по расселинам и стелющихся по обломкам надгробных камней, нагроможденных в беспорядке. Тесная рамка этой декоративной картины внушает чувство безопасности. Мне кажется, что человек одинокий, как я, заживо похороненный в этих массах зодчества, куда не проникает ни малейший шум извне, мог бы жить здесь и умереть, посреди блаженства или отчаяния, так что никто и не вспомнил бы о нем. Нет сомнения, что как вы не воображаете меня отчужденным от остального мира, вы не можете себе представить такого скрытого места и такого уединения, как то, откуда я пишу к вам теперь карандашом в альбоме ad hoc. Я еще в Тиволи мечтал об уединении вдвоем, о скрытом убежище в галерее, высеченной в скале над каскадом. Нет сомнения, что то место несравненно прекраснее немой и глухой развалины, в которой я погребен теперь; но теперь я нисколько не помышляю о Тиволи; сумасбродная Медора и лихорадка оставили во мне тяжелое о нем воспоминание. К тому же истинная любовь не нуждается в красотах природы; она ищет тени и тишины. Грозное пение водопадов досаждало бы мне, если бы под этот шум я проронил хотя бы одно слово моей милой Даниеллы. Заговорив о ней, я расскажу вам кстати, что случилось со мной вчера. Вчера вечером я возвращался в Пикколомини по дождю, которого я, впрочем, не чувствовал, в аллее древних падубов; это настоящие своды из непроницаемых листьев и чудовищных ветвей, переплетенных между собой. Проходя мимо виллы Таверна-Боргезе, я услышал смех и голоса, среди которых раздавался, как мне казалось, голос Даниеллы. Я должен был занести Оливии ключ от виллы Мондрогоне и увидел эту милую женщину у окна в нижнем этаже одной из служебных пристроек, в которой она живет со своим семейством. Она подозвала меня к себе и показала мне в большом зале, где Даниелла устроила свою мастерскую, импровизированный бал. Работницы Оливии и другие молодые девушки фермы, равно как и домашние, вздумали поплясать, вместо отдыха, после трудового дня, пока им собирали ужинать. — У нас это каждый день, — сказала мне Оливия, передавая соседке тамбурин, единственный инструмент этих веселых танцовщиц, чтобы поговорить со мной. — Даниелла без ума от танцев, и когда она приходит сюда на работу, уж непременно все эти девушки волей-неволей должны каждый вечер хотя четверть часа попрыгать. А видели вы, как танцует Даниелла? — Один раз и то мельком. — О, так вы еще не знаете, что она лучшая танцовщица в нашем краю! Бывало приходили из Дженсано и подалее, только затем, чтобы поглядеть на Даниеллу в танцах. Хотя она и уезжала отсюда на два года, а не разучилась, и танцует не хуже прежнего. Постойте, вот она начинает, глядите! Я привстал на столбик и начал смотреть через окно в комнату, освещенную одной из этих высоких римских ламп, в три огня, похожих на древние, очень изящных, но плохо освещающих. В комнате толпа растрепанных девушек танцевала род вальса, кружась без памяти; но вдруг одна из них закричала; «La fraschetana!» Это характерный танец, как бы гавот фраскатанский. Все стали в кружок, чтобы видеть, как Даниелла начнет этот танец со старой деревенской женщиной, которая славится тем, что сохранила о нем истинное представление. Оливия подала мне знак, чтобы я влез в окно. Я был очень рад предложению и смешался с толпой, не возбуждая ни малейшего удивления; всевнимание этих девочек было устремлено на эти два образца местного хореографического искусства. Fraschetana — прелестный танец. Женщины, взявшись руками за передник и грациозно раскачивая его перед собой, жеманятся друг перед другом. Старая матрона, с суровыми чертами лица, подражая ужимкам маленьких детей, была смешна до крайности, а между тем никто не смеялся, и это кривлянье нисколько не смущало Даниеллу. Когда я смотрел на Даниеллу, я чувствовал какую-то дрожь ревности во всей крови моей. Если бы тут был еще кто-нибудь из мужчин, я, пожалуй, придрался бы к нему. Мне кажется, что я не был бы в состоянии смотреть на ее танцы, иначе как в кругу этих девочек. Она слишком прекрасна в минуты одушевления. Я не скажу, чтобы в пляске ее были видны искусство и особенная грация: это вдохновение, это исступление, но исступление Сивиллы; это в трепет приводящая, невыразимая энергия. Это палящий взор, ослепительная улыбка и вдруг расслабляющая томность. После девятиминутного танца, она великодушно уступила свое место. «На смену!» — вскричала она, хватаясь за tamburello и звеня им с удивительной силой. Ничего не может быть очаровательнее быстрой игры маленьких пальчиков на упругой коже этого сельского инструмента. Она не держит его над головой и не ударяет в него верхней стороной руки, как это водится в других местах. Здесь женщины держат тамбурин неподвижно и играют на нем пальцами, как на клавишах. Звук, извлекаемый ими одним прикосновением пальцев, страшно силен и обозначает ритм так резко и так внятно, что и плохая танцовщица увлекается. Но пляска не шла так живо, как хотела Даниелла. Чтобы придать ей больше огня, она запела во весь голос, с гневным акцентом, упрекая и возбуждая своих сонливых подруг, с той легкостью импровизации, на которую так податлив итальянский язык; все сословия народа владеют ритмом и рифмой этого языка так же свободно, как прозаическим разговорным словом. Каждое пропетое таким образом слово обладает свойством производить на слушателей возбуждающее или веселящее действие. Пляска остановилась; все слушали, как Даниелла посреди подруг своих пела смешные и язвительные куплеты, Как только она переставала, публика кричала ей: «Еще, еще!» У нее удивительный голос, самый сильный и вместе с тем самый приятный, какой когда-либо удавалось мне слышать; так и хватает за сердце, так упоительно говорит чувствам, даже в ребяческих шутках и в выражении гнева. «Боже мой, — думал я, — как прекрасна, как полна южная натура, она смеется над учением и в себе самой находит истинный смысл прекрасного, во всех его проявлениях». Я почти стыдился, почти пугался мысли, что обладаю этой женщиной, которой толпа рукоплескала бы, если бы она появилась на сцене с этим вдохновением и этой безыскусной небрежностью, для оценки которых я один составляю теперь всю публику. Даниелла была так упоена своей пляской, своим пением, своим тамбурином, что, казалось, еще не успела заметить меня. Мне это было досадно; подойдя к ней, я шепнул ей слово на ухо. Она поспешно отбросила свой tamburello и, обращая на меня свои прекрасные глаза, увлажненные удовольствием, протянула ко мне руки, как будто хотела обнять меня при всех. Я скрылся в толпе, чтоб она не изменила себе, и пошел ожидать ее в Пикколомини, где застал уже ее в моей комнате. Она пришла прежде меня, так что Мариуччия не видала ее. Мне, право, кажется, что у нее есть крылья, что она становится невидимкой, когда ей только вздумается.
Глава XX
Вилла Мондрагоне, 12 апреля.Много нового! Расставшись с вами третьего дня, то есть, закрыв свой альбом, я собирался идти, как вдруг увидел мою возлюбленную у главного входа в «пианто». Она была взволнована. — Я вас везде ищу, — сказала она мне, — вот уже целый час бегаю я по всем углам этих развалин, не смея громко окликнуть вас. — И мы потеряли целый час, который я мог провести у ног твоих; целый час счастья погиб для меня невозвратно! Надо было кликнуть меня! — Нет, теперь надо остерегаться. Мой брат… — Если только о нем речь, так нам нечего бояться. Чего может он хотеть от меня? — Должно быть, денег. — У меня их нет для него. — Может быть, чтобы ты женился на мне. — Так что же? Я рад. Если только ты этого желаешь, так мы скоро сойдемся. Даниелла бросилась ко мне на шею, обливаясь слезами. — Чему же ты удивляешься? — сказал я. — Это так просто. Разве я не сказал, что навсегда принадлежу тебе телом и душой? — Ты мне не говорил этого! — Но я сказал тебе; «Я люблю тебя», и сказал это из глубины души. Для меня в этом слове вся жизнь моя. Если тебе нужны клятвы, свидетели, бумаги, все это так легко в сравнении с тем, что я чувствую, и за это я не хочу, чтобы ты и благодарила меня. Скажи слово, и я завтра обвенчаюсь с тобой, если только можно завтра обвенчаться. — Можно и завтра, но я не хочу этого. Мы потолкуем об этом после; пока я хочу, чтоб оставалась за мной заслуга слепого доверия! На нас грех, что священник не благословил нашего союза; я знаю это и перенесу всякое зло, которое может мне за это прийти от людей. Это небольшое наказание; я могла быть наказана твоим презрением. Вместо этого презрения, которого я ждала от тебя, ты любишь, ты уважаешь меня за мою слабость, и я теперь так счастлива, что ежели бы меня изрезали в кусочки, я бы не крикнула, не вымолвила ни одной жалобы. Грех сделан, и теперь наше венчание не сотрет моего греха из Божьей книги. — Что же это, милая Даниелла, страх, сожаление? — Нет, нет, я так счастлива, что не могу чувствовать раскаяния, и если бы ты даже покинул меня завтра, я и тогда не раскаивалась бы за эти два блаженные дня. Что значат многие годы слез, когда несколько часов дают больше радостей, чем во всю жизнь может случиться великого горя. — Ты права, мой ангел! Горе и страдания — человеческое дело, которому есть на земле и цена, и мера; но радость наша выше всех оценок — радость от Бога. — Да, радость Бог дает нам, это правда! Любовь — как солнце, которое равно светит и для грешных, и для праведных. Так могу ли я после этого краснеть за любовь мою к тебе или в ней раскаиваться? Но на мне долг перед судьей моим, и мне придется расплачиваться, я это знаю. Я жду тяжелого наказания в этой жизни или в вечной, и так как я безропотно приму его, то и долг мой будет уплачен. Я говорю, — продолжала она, целуя меня с жаром, — что долг мой будет уплачен, если я одна буду наказана в этом или в том мире; но если и ты должен быть наказан, если должен будешь страдать вместо меня… я взбунтуюсь, я буду страшно роптать за наказание свыше вины моей. Вот почему я пришла просить тебя быть осторожнее, тебе угрожает теперь опасность из-за меня. — Кто угрожает мне? — В папскую полицию подана жалоба на тебя моим братом по случаю цветов, похищенных из лукулловской решетки. Погасив лампадку, ты, кажется, обломил решетку и облил фреску маслом. Потом мой брат, которого ты ударил и свалил в грязь, будучи мертвецки пьян, вставая, опирался о стену рукой, запачканной в грязи. Вот чем могу я объяснить себе страшные пятна, которые оказались на другой день на фреске, потому что, как ни зол Мазолино, я никогда не поверю, чтоб он нарочно решился на такой ужас. Он обвиняет в этом тебя и доносит, что застал тебя за этим делом. Разумеется, он не знает сам, кого видел, но, услышав, что ты зашел раз в дом, в котором я жила во Фраскати, он подозревает тебя, и в доносе на тебя показывает, В городе этому не верят, но начальство, которое, казалось бы, должно не менее других понимать, чего стоит такой пьяница, покровительствует ему, и по этому делу началось следствие; сегодня приезжали в Пикколомини, чтобы допросить тебя и Мариуччию. Добрая тетка ничего не сказала, и как только они уехали, Прибежала ко мне дать знать. Если ты знаешь, где он, — сказала она мне, — скажи ему, чтобы он не приходил на ночь домой, потому что брат-капуцин узнал и сказывал мне, что его хотят задержать и посадить в тюрьму… Вот, видишь ли, в нашей стороне всякое дело уже важное дело, если в него вмешалась инквизиция; без протекции какой-нибудь важной духовной особы пропасть недолго. А ты, по несчастью, еще не очень набожен. На допросе ты будешь отвечать так, что сам себя погубишь… — Я и совсем не буду отвечать, потому что не скажу ни за что на свете, для чего унес твои жонкили. Я ограничусь показанием, что не в моих правилах оскорблять не только предмет нашей веры, но хоть бы даже языческой, и буду просить защиты у посланника моей страны. — Да когда ты будешь заперт, как узнает твой посланник, что с тобой случилось? Если ты скажешь, что уважаешь языческих идолов, так тебе крепко достанется по суду или без суда; а если ты скроешь, что может извинить тебя, то есть, что унес цветы своей любовницы, тогда твоя любовница пойдет сама рассказать им правду и заступится за тебя, как умеет, несмотря на огласку. Не думай, чтобы я допустила посадить тебя в одну из этих темниц, откуда только Бог знает, как и когда можно выйти. Одна мысль об этом выводит меня из себя, и я готова бежать по улицам и кричать: «Отдайте мне того, кого люблю, кому принадлежу без всяких условий». Все скажут: она сумасшедшая, а брат мой убьет меня, Но тогда пускай убивает. Вот что случится, если ты допустишь схватить тебя. Я напрасно опровергал предположения, вероятно, вовсе не основательные, и отчаянную решимость моей милой Даниеллы. Она была так огорчена и так Взволнована, что я вынужден был обещать ей провести ночь в Мондрагоне. — Если это так мучит тебя, — сказал я ей, — изволь, я останусь ночевать в Мондрагоне, хотя бы мне пришлось и умереть здесь с холоду и с голоду. — Этого не бойся, — сказала она мне, — я обо всем позаботилась. Ты обещаешь быть мне послушным, так ступай же за мной. Она повела меня по лабиринту лестниц и коридоров, во вчерашнее казино, о котором я писал вам, и привела меня в небольшую комнатку, расписанную старинными фресками, довольно опрятную, в которой стояла старая кровать, несколько безногих стульев и старых кувшинов. — Все это скудно, — сказала она мне, — тут жил сторож, пока здесь были рабочие для переделок; но везде хорошо, где найдется свежая вода, да вязанка соломы, потому что с этим можно жить опрятно. Подожди здесь час-другой; как только стемнеет, я принесу тебе чем обогреться и пообедать. — Так ты еще воротишься сегодня?.. — Разумеется, а в Пикколомини мне невозможно было бы прийти; там брат мой должен быть сам настороже. — Что же ты не сказала этого с самого начала? Постарайся, чтобы моя опасность и заключение продлились как можно долее. Вот моя мечта и осуществилась! Мне так полюбились эти развалины, что я давно уже ломаю голову, как бы устроить здесь наши свидания. Ты видишь, что Провидение нас еще не оставило, потому что обратило мою фантазию почти в необходимость. — Да, точно в необходимость! Но погляди, какое множество здесь сору. Я знаю, где найти метлу. Выйди покуда на террасу; тебя никто не увидит снизу, если ты не выставишь голову за перила. Я пойду, вымою и налью водой из фонтана эти кувшины. А за соломой мы вместе пойдем в сарай. Там, я знаю, фермер складывает солому. Все это было прекрасно придумано, за исключением уборки мусора и ходьбы за водой, и я не шутя взбунтовался, настаивая, чтобы моя возлюбленная не была моей служанкой. Она утверждала, что служила мне в Риме, в первые дни моего пребывания в Пикколомини, и что ей приятно служить мне целую жизнь; но я никак не мог согласиться на это. Девушка, отдавшись мне, должна повелевать мною, а не повиноваться мне. Я понимаю теперь, что можно полюбить свою экономку и жениться на ней; но если уж она достойна быть женой, то муж должен обращаться с нею, как с равной себе. — Да, я вижу, — воскликнула она, отдавая мне метлу, которую я вырывал из ее смугленьких, полненьких ручек, — ты обращаешься со мной, не как со своей женой. — Ты ошибаешься! Жена моя должна хозяйничать, когда я буду занят делами для содержания семейства; но когда мне, как сегодня, будет нечего делать, она будет делать только то, чего я уж решительно не сумею сделать. — Но ты именно мести-то и не умеешь. Ты совсем не так метешь, как надо. — Я научусь. Выйди отсюда; я не хочу, чтобы эти облака пыли ложились на твои прекрасные волосы. Когда наши хозяйственные хлопоты окончились, я спросил ее, приходит ли иногда в этот дом фермер, у которого мы похитили две охапки соломы, чтобы устроить мне постель. Даниелла отвечала, что он живет в полудеревенском домике, который виднелся на конце кипарисовой аллеи. В старинных итальянских поместьях фермы и скотный двор обыкновенно строились в самой середине садов. Это настоящая villeggiatura, и это здесь принято. Возы, запряженные волами, разъезжают по аллеям, коровы и лошади пасутся на роскошных дерновых лугах, и это не портит сельских видов. Эти образцовые фермы не похожи на швейцарские, как молочня в Трианоне. Это красивые строения в местном вкусе, в стены которых врезаны обломки античного мрамора, оставшиеся от постройки дворца. Куски белого мрамора, вделанные в розовые кирпичи, производят прекрасный эффект. Мондрагонский фермер, красивый поселянин, которого я встречал иногда в slradone, пользуется неограниченным Доверием всех должностных людей этого поместья, только с Оливией живет не в ладу за то, что она вздумала завладеть одна доходом с туристов и посетителей виллы. Возникли споры и, наконец, управитель решил дело так: все, что находится вне черты строений, составляющих собственно замок, как-то: пристройки, внешние террасы, сады и хозяйственные здания — вверяется управлению и ответственности фермера Фелипоне; а самый замок, дворы, обнесенные стеной, павильоны, галереи и принадлежности, примыкающие к дому, поступают в ведомство Оливии. У каждой из соперничающих сторон есть своя связка ключей и каждая взимает с любопытных особую mancia. Мир восстановился, но мир вооруженный, и каждая сторона, ревнуя к доходам, наблюдает за своим противником и за доброхотными приношениями приезжих. Сбор этот, ничтожный теперь, становится довольно значительным, когда Фраскати наполняется иностранцами. Я старался разведать все эти подробности, опасаясь, чтобы Филипоне не помешал мне, не сорвал бы с меня денег или не предал бы меня; но Даниелла уверила меня, что он никогда сюда не приходит, не имеет ключей от этих зданий и никогда не догадается о моем здесь присутствии. — Но у него есть здесь в одном из залов замка солома, из которой мы с тобой похитили две вязанки. — Солома лежит здесь по милости Оливии, которой Фелипоне платит за это. Фермер не придет за соломой, пока у него не очистится место в сарае; и тогда еще Оливия должна будет отпереть ворота, чтобы пропустить его возы. Ты здесь один, как папа на своей gestatoria, и можешь спокойно спать эту ночь. Она пошла принести мне что-нибудь поесть. Я был бы доволен куском хлеба из ее кармана, лишь бы она поскорей возвратилась, и взял с нее обещание не тратить времени по-пустому. В ее отсутствие я внимательно осмотрел мое жилище, в котором было порядком холодно, но в комнате есть камин, а топливо найдется там, где были переделки. Удостоверясь, что все мои ставни в исправности и не дадут снаружи заметить освещение комнаты, я отправился за стружками. Ночь обещала быть темной и дождливой, как вчера. «Когда она совсем наступит, — думал я, — облака, которые стоят над самой этой вершиной, где я угнездился, скроют дым». Я стал чрезвычайно осторожен. Ожидая к себе мою милую подругу, я хотел, чтобы она была здесь в совершенной безопасности. Поэтому я принялся тщательно осматривать все входы и выходы из крепости. С южной стороны есть двое ворот, почти рядом, обои дощатые, с поперечными брусьями и крепко окованные. Под строениями на дворе с восточной стороны и на северном terrazzone есть много дверей без створов и окон без рам, а восточная галерея вся сквозная; но все эти отверстия находятся на значительной высоте от поверхности земли снаружи по причине уступов горы, и все выходы завалены грудой песчаника и бревен, так что могли бы выдержать приступ. По крайней мере, нечаянного нападения бояться нечего; все проломы находятся так высоко от основания, что в них невозможно проникнуть без штурмовых лестниц, а их во Фраскати, вероятно, не заготовлено. Если предполагать, что пришлют жандармов, чтобы разрушить один из затворов, то эта операция не обойдется без шума, и осажденные имели бы время перебраться на другую сторону и скрыться в одном из тысячи верных убежищ, представляемых окрестными горами, развалинами, монастырями и лесами. С этими мыслями проходил я по темной галерее в pianto. На дворе совсем стемнело, и я останавливался по временам, чтобы прислушаться к странным звукам ночи в этих развалинах. То раздавались крики хищных птиц, ищущих убежища, то стоны ветра, врывающегося под пустые своды здания, но в pianto царствовало безмолвие смерти: так глухо-массивно была застроена эта часть замка. Услыша шаги на верхней лестнице, я затрепетал от радости, убежденный, что это была Даниелла. Да, это она, под ее легкой ножкой хрустел мелкий щебень помоста, Я бросился к ней навстречу, но, взойдя по лестнице до зала с большой аркой (я старался как-нибудь обозначить эти места, история которых мне неизвестна), я очутился один впотьмах. Я звал ее тихим голосом, но голос мой терялся в пустом зале, как в могиле. Я пошел вперед ощупью, мне послышались шаги позади меня, кто-то сходил вниз по лестнице, ведущей в pianto, по которой я только что взошел. Этот кто-то встретился со мной в темноте, слышал, как я звал Даниеллу, и не хотел отозваться; он шел осторожно, но шаги его тяжело ложились на помост, и я мог уже не сомневаться, что это не была Даниелла. Уверившись в этом, я слушал еще внимательнее. Вскоре мне почудился под моими ногами скрип затворяющейся двери. Я возвратился в pianto. Все было тихо и мрачно вокруг меня, и я слышал только отголосок шагов моих под сводами. Кажется, я принял за человеческие шаги один из таинственных звуков ночи, которые часто остаются загадочными, но вызывают нашу улыбку, когда мы открываем их простую, естественную причину. Я был под влиянием страха, который овладевает скупцом, идущим схоронить свое сокровище. Возвратясь, я нашел Даниеллу в казино; она накрывала на стол спокойно и так весело, как будто мы были у себя дома. Она отыскала стол, принесла с собой свечей, хлеба, ветчины, сыру, каштанов, белье на постель и шерстяное одеяло. Огонь пылал в камине, свет струился по комнате и фантастически колебал на стенах фрески цветов и птиц. В нашем приюте было что-то праздничное, какая-то веселая опрятность. Я чувствовал сердечную отраду, которой испытанный мною страх придавал неизъяснимую живость. Я не знал вас, пока не знал любви, восхитительные ощущения, которые удваивают в нас силу жизни! Теперь я только и думал о том, что мы в первый раз сядем с Даниеллой вместе ужинать, и я тысячу раз повторю ей: «Я люблю тебя! Я счастлив!» Было уже семь часов, и мы оба умирали с голода. Никогда я не ел с таким удовольствием, как за этим скромным ужином. — Погоди, — говорила, Даниелла, — этот ужин собран на скорую руку; завтра я угощу тебя лучше, чем лорд Б… в Риме. — Боже меня сохрани от этих излишков, по милости которых ты идешь сюда, навьюченная, как facchino, так что твои путешествия могут быть замечены. — Не бойся! Как только наступит ночь, так сейчас же решетки обоих парков запираются, и посторонние никак сюда не могут войти. Фермеры и сторожа уходят домой ужинать, спать и толковать между собой. Да я и не думаю ходить по stradone. Я пробираюсь по лавровым чащам, где меня никто не увидит; этой дорогой я и днем могла бы пройти сюда, как и прошла намедни и как пройду завтра, чтобы принести тебе весточку о твоем деле и кофе на завтрак. Мысль пить кофе в развалинах Мондрагоне рассмешила меня, а беспечность моей подруги напомнила мне шаги, которые мне послышались; я рассказал ей все в подробности. — Это верно крыса, — отвечала она, смеясь, — без ключа невозможно войти в это место, которое ты называешь pianto. — Но там, под аркадами, есть покои с запертыми ставнями и решетками, куда я никак не мог войти сегодня утром. Там кто-нибудь мог точно так же разместиться, как я здесь. — А Оливия бы не знала? Этого быть не может. Оливия так часто обходит свои владения, да чтобы от нее могло что-нибудь укрыться! Ключи всегда при ней; она в жизни никому не доверяла их, кроме меня. Я твердо знаю все углы и закоулки здесь; и могу сказать тебе, что эти окна, которые так занимают тебя, выходят на галерею, а галерея гораздо ниже монастыря, и если бы кто с галереи попал туда, так не выбрался бы без лестницы, потому что там нет другого выхода, кроме этих самых окон; да и вряд ли когда был другой ход туда. — Так это была тюрьма? — Может быть, и так, не знаю. Но если бы я не была уверена, что ты здесь в совершенной безопасности, я не радовалась бы так, не была бы так счастлива… Она поправила огонь. В это время сверчок, вероятно, занесенный мной вместе с щепами, запел свою звонкую песню. — Это к добру, — воскликнула Даниелла, — это знак, что Бог благословляет наш домашний очаг, наше здешнее хозяйство!
Глава XXI
Мондрагоне, 2-го апреля.Вечер пролетел, как одна минута, хотя в нем заключался для нас целый век счастья. Когда душа раскроется до известной степени, то она как бы теряет понятие времени. Не думайте, однако, друг мой, что я предался одной слепой страсти. Слов нет, Даниелла истинное сокровище страсти, но надобно понимать это слово в его полном, лучшем значении. Правда, что, кроме силы страсти, у нее только один живой, игривый ум, всегда готовый на меткое и колкое слово; правда еще, что у нее много ложных понятий о жизни общественной, хотя, впрочем, поездки ее во Францию и Англию развили ее, и она гораздо образованнее своих подруг; но все это для меня ничего не значит, и я вижу в ней только ее внутреннюю сущность, которою я один знаю, которой один наслаждаюсь; я вижу в ней душу, пылкую до безумия в исключительной преданности, в беззаветном, полнейшем самоотречении, в простосердечном и великодушном обожании своего избранника. Она мне вместе мать и дитя мое, жена и сестра. Она для меня все, более чем все! Она истинно гениальна в любви. Посреди ребяческих предубеждений и несообразностей, свойственных ее воспитанию, ее природе, среде, ее окружающей, она вдруг возносит свое чувство до такой высоты, какой только может достигнуть человеческая душа. В минуты этого страстного вдохновения она совершенно преображается. Какая-то бледность исступления разливается по лицу ее. Эта белизна появляется у нее, как румянец у других, когда она взволнована и сильно возбуждена. Ее черные глаза, которые всегда так прямо, так ясно и твердо смотрят, вдруг замутятся и будто обольются таинственным током; изящные ноздри ее расширятся; странная улыбка, не выражающая ничего из вещественных удовольствий жизни и смешанная со слезами, как будто по естественной гармонии в ее мыслях, уподобляет ее тогда этим чудным фигурам мучениц итальянской живописи, этим лицам, побледневшим от страдания, но обращенным к небу с выражением неизъяснимой неги. Как она прекрасна в эти минуты! Как прекрасна была она, сидя возле меня рука в руку, то наклоняясь ко мне со словами любви, то опрокидывая голову на мраморные плиты камина, чтобы беседовать о себе и обо мне с невидимым духом, носящимся над нашими головами! Мерцающий свет камина обозначил тонкие очертания ее губ, на которых выражение удовольствия становится чем-то строгим, и отражался в ее прекрасных глазах, блестящий взор которых иногда угасал, переходя в ужасающую неподвижность, как будто человеческая жизнь вдруг сменялась в ней другим родом существования, для меня недоступным. И теперь еще для меня в ней все неожиданность, все тайна. Я все еще не знаю ее вполне и, смотря на нее, изучаю ее, как что-то отвлеченное. Она часто говорит, как в бреду, так что я слушаю и не понимаю ее, пока яркий луч света не блеснет в смутных словах ее, наполовину французских, Наполовину итальянских, к которым, чтобы уловить ускользающий оттенок, она примешивает английские слова, произнося их с усилием ребенка. Но когда ей удается облечь в слово свою горячую мысль, она вдруг замолчит, заплачет в восторге и упадет к моим ногам, как перед кумиром, чтобы мысленно ему молиться. А я, я не смею сдерживать этих порывов, которые увлекают меня самого; я сам говорю этим горячечным языком, который был бы для нас бессмыслен, если бы в минуту совершенного спокойствия мы снова заговорили им. Не смейтесь надо мной; эта любовь, начавшаяся во мне грубой страстью, увлекает меня теперь в мир, который я назвал бы метафизическим, если бы знал, что такое метафизика. Я знаю только, что в объятиях этой всесильной очаровательницы душа отделяется от чувств и стремится к чему-то безвестному, для них недостижимому. Осыпав ее поцелуями на земле, я еще не доволен, не успокоен; я томлюсь жаждой небесных лобзаний и не нахожу ни столь внятных слов, ни столь нежных ласк, чтобы выразить ей это ненасытное желание духа и сердца, которое она разделяет, и которое мы не умеем передавать друг другу иначе, как слезами грусти или слезами радости. После этого я нахожусь в каком-то опьянении и должен сделать усилие, чтобы придти в себя, припомнить, где я, что я, что занимало меня вчера и что может озаботить завтра. В эту ночь была минута, в которую я до того забыл всякую действительность, что мне казалось, будто я уж нигде не находился. Дождь лил ливмя, звуча прямыми, тяжелыми струями по низким кровлям окружающих нас строений; с нашей маленькой террасы сливался на terrazzone избыток воды, через изломанные сточные трубы, непрерывным каскадом. Кроме этого однозвучного журчания, не слышно было никакого звука. Ветер опал, флюгера замолкли, ночные птицы затихли и укрылись от дождя в свои гнезда, огонь в камине потухал, сверчок замолк. Повсюду воцарилось безмолвие, прерываемое только однообразным шумом дождя. Мне казалось, что то был потоп, а мы плыли в ковчеге по безвестным морям в беспредельности мрака, не зная, над какими вершинами или над какими безднами совершаем мы путь наш. И жутко, и хорошо! Все впереди было безвестно и чуждо; но ангел-хранитель продвигал наш ковчег по бушующим волнам и держал кормило, говоря: «Спите спокойно!» И я снова засыпал, сам не зная, точно ли я просыпался или нет. Часу во втором утра я проснулся, дрожа от холода, и подавил бой ручных старинных часов, подаренных мне дядей. Каждый раз, когда я беру в руки эту почтенную луковицу, я припоминаю день торжества и упоения в моей ребяческой жизни. Мое прошлое и мое настоящее пришли мне на мысль, и я опомнился. Даниелла спала и, казалось, не чувствовала холода: руки ее были теплы. Я боялся, однако, чтобы сырость не повредила ей, и встал, чтобы развести огонь. Дождь не переставал. Я страдал при мысли, что моя милая должна будет встать до света и по этой слякоти возвращаться в виллу Таверна. «Так нельзя жить, — думал я, — вот уже третье утро сердце у меня разрывается, видя, как Даниелла подвергает опасности и здоровье, и жизнь свою. Я не могу позволить ей продолжать ее опасные прогулки, когда не она, а я должен бы ходить к ней, в дождь, в темную ночь, и подвергать себя опасным встречам. Но, так как, принимая меня у себя или у Оливии, она была бы обесславлена и рисковала бы попасть под руку брату, то я должен увезти ее или поспешить здесь жениться на ней. Наши таинственные свидания исполнены прелести, но они неразлучны с слишком важными неудобствами и причиняют мне много беспокойства и сожалений». Тут я припомнил, что мне угрожал арест. «Не лучше ли, — подумал я, — бежать вместе, чем скрываться в развалинах Мондрагоне, в двух шагах от наших врагов?» Надобно бежать, сказал я самому себе, бежать немедленно, бежать завтра. Эти чудные минуты не должны усыплять меня в наслаждениях эгоизма. Вчерашний счастливый день останется памятным в истории любви нашей, но не далее как в следующую ночь во что бы ни стало надобно выбраться из Папских владений. Приняв это решительное намерение, я сел перед камином и погрузился в сладостные мечты, оживляя в памяти впечатления этой ночи, возвращения которой я не должен был желать. Огонь пламенел в камине и бросал яркий свет на спящую Даниеллу. Какой прекрасный сон! Я никогда не видывал лучшего. Вот одна из противоположностей ее натуры: обыкновенно деятельная и полная активной жизни, Даниелла спокойна и почти безжизненна во время сна. Она не грезит; когда она спит, едва слышно ее дыхание, как будто перед вами прекрасное изваяние в непринужденной, целомудренной позе. Выражение ее лица величественно, бесстрастно; в нем отражается сосредоточенность как бы созерцающей мысли. Нежные, грациозные формы ее не обличают ни той энергии, которой она одарена, ни того хладнокровия, к которому способна. А между тем эта маленькая ручка и эта тонкая, стройная нога не боятся трудов. У нее столько гибкости в движениях, что ее можно счесть слабосильной, но на деле, или вследствие твердой воли, или по породе, или по привычке у нее столько силы, что она, не уставая, может далеко и скоро ходить и переносить довольно большие тяжести; в женщине редко бывает столько силы. Она говорит, что до отъезда своего из Фраскати так страстно любила танцы, что по шести часов сряду танцевала не переводя духу, и, выходя с бала на рассвете, отправлялась работать, и это не стоило ей ни малейшего усилия. Часто смеялась она надо мной, когда я жалел, что она должна вставать до света. Она говорит, что если б она жила без усталости и без волнений, то давно бы уж умерла. Сколько должно быть в ней физических сил, когда деятельность сил нравственных не истощила их! Когда она вынуждена снова обратиться к заботам ежедневной жизни, в ней проявляется такая веселая расторопность, такое присутствие мысли, такая определенность воли, такая быстрота действия, что она может служить образцом всем хозяйкам, служанкам и работницам. Кто подумал бы, видя, с какой maestria она отправляет самую черную работу, что у нее бывают минуты экстаза и мистического изнеможения? С каким наслаждением смотрел я на эти волны черных кудрей, разлившихся по ее прекрасному лбу, на ее длинные ресницы, от которых мягкая тень ложилась на ее щеки, подернутые бархатным пушком! Как мог я не заметить с первого раза этой несравненной, поразительной красоты? Почему при первой встрече с ней я нашел, что она только приятна и не совсем обыкновенна? Почему, когда я уже чувствовал к ней склонность и описывал вам ее из Рима, не смел я сказать, что она прекрасна и в то же самое время писал о красоте Медоры? Теперь в моем воспоминании Медора безобразна и не может быть не безобразной, потому что она совершенная противоположность этому изящному созданию природы, которое у меня в сердце и перед глазами. Часы мои старинным, сухим боем пробили три часа. Это был единственный звук, который слух мой мог уловить в окружавшем меня безмолвии. Дождь перестал; наружный воздух сделался звучен. Вдруг услышал я как бы воздушную мелодию, которая неслась в верхних слоях атмосферы, над высокими трубами террасы; то были звуки фортепиано. Я стал прислушиваться и узнал этюд Бертини, который кто-то играл с возмутительной самоуверенностью. Это было так странно, так невероятно в такую позднюю пору и в таком месте, что я принял это за обман чувств. Откуда бы взялась эта музыка? Я слишком внятно слышал эти звуки, и не мог полагать, что они принеслись издалека; к тому же на целую милю кругом не было дома, в котором можно было бы предполагать фортепиано или пианиста. Не обманулся ли я в инструменте и не показались ли мне за фортепиано маленькие цимбалы, с которыми цыгане-артисты шляются по деревням? Но, в таком случае, кому бы давалась эта серенада в такую погоду и в степи? Нет, это было настоящее фортепиано, плохое, расстроенное, но фортепиано с полной клавиатурой и с обеими педалями. — Есть с чего с ума сойти, — сказал я Даниелле, которую я разбудил своим беспокойством. — Послушай и скажи мне, как понять это! — Эти звуки доходят до нас, — сказала она, прислушавшись к игре невидимого музыканта, — должно быть из монастыря Камельдулов. Там всего и есть только один инструмент, церковный орган; должно быть, кто-нибудь из монахов-музыкантов разучивает мессу к будущему воскресенью. — Мессу на мотив Бертини? — А что? Разве нельзя… — Но эти звуки похожи на звуки органа, как бубенчик на большой колокол. — Ошибиться немудрено. Ночью, особенно после дождя, когда воздух чист и звонок, звуки издали кажутся совсем другими. Пришлось остановиться на этом предположении, за неимением другого, более правдоподобного. Мы заснули под звуки фантастического инструмента, в этих развалинах, которые не грех назвать чертовым замком. Я, в свою очередь, заспался, так что Даниелла, чтобы избежать моего всегдашнего огорчения и беспокойства при нашей разлуке, встала потихоньку с рассветом и тайком ушла, заперев меня в казино, из опасения, чтобы я, имея свободу шляться по развалинам, не попался кому на глаза в каком-нибудь отверстии или проломе замка. Как только она ушла, я проснулся, пробужденный какой-то инстинктивной заботливостью; хотел догнать ее, чтобы сообщить ей о моем намерении бежать, но я был заперт и решился опять уснуть. Заря предвещала ясный день; за синеватыми горами разливался по небу розовый свет ее. На отлогостях, где скалы вулканического образования, выветриваясь, рассыпаются на поверхности в золотистый песок, дождь не оставляет ни грязи, ни даже сырости, и через час после самого сильного ливня следы его остаются только на зеленеющей траве и на освеженных цветах; расставшись с Даниеллой, я утешался тем, что ей предстояла сегодня приятная прогулка через парк. В девять часов она разбудила меня. Бедная целое утро пробегала по моим делам. Она была во Фраскати, будто за покупкой ниток, но собственно за тем, чтобы разведать о положении моего дела. Там она виделась с Мариуччией и принесла мне мой чемоданчик, туалетный несессер, мои альбомы и мои деньги. Это было очень кстати; теперь мы могли уехать. Кроме того, она принесла провизии на два дня, свеч, сигар и, наконец, знаменитый кофе, которого она никак не хотела лишать меня. Все эти припасы и вещи Даниелла уложила в тачку, засыпала сверху сухим горохом и наняла в Пикколомини поденщика отвезти все это к верхнему концу stradone, под видом, что горох продала Мариуччия Оливии, а она велела перевезти его в Мондрагоне, куда, по словам ее, скоро прибудут работники для переделок в замке. Поденщик оставил тачку при въезде во двор и, немедленно отпущенный, не видал, что из нее выгружали. Милая Даниелла очень устала от этой экспедиции, но я радовался ее прекрасному замыслу. — Ты так смышлена и деятельна, — сказал я ей, — так ты и должна все устроить к нашему побегу. Я увезу тебя отсюда и только в таком случае останусь здесь, если ты скажешь мне, что дело мое с инквизицией не будет иметь последствий и что я могу обвенчаться с тобой, не уезжая отсюда и без дальнейших проволочек. — Ты затеваешь невозможное, — отвечала она, качая головой. — Дело твое принимает худой оборот. Брат мой, который, по счастью, не подозревает еще нашей связи, смертельно возненавидел тебя за побои. Он уверяет, что ты бил его, потому что принял его за шпиона, и что ты поносил наше духовное правительство. Он показывает, что узнал тебя, и приводит свидетеля, который хоть и не подоспел, чтобы помочь ему, но слышал слова твои и видел тебя в лицо. Этого свидетеля никто и не видывал во Фраскати, но полиция, кажется, знает его, выслушала и приняла его показания. Вчера вечером были они в Пикколомини, должно быть, чтобы задержать тебя, и, не найдя тебя там, велели отпереть твою комнату, чтобы захватить твои бумаги; теперь они уверяют, что ты принадлежишь к вечному заговору против земной власти святейшего папы; заговорщиков этих открывают каждую неделю. Но добрая тетка все это предвидела: она вынесла из твоей комнаты все вещи, до последнего клочка исписанной бумаги, и запрятала все это в верное место в доме. Им она сказала, что ты отправился накануне в Тиволи пешком с рисовальными припасами, и что прочие твои вещи остались в Риме, когда ты ездил туда на светлый праздник. Как только сбыла с рук этих господ, она сама отправилась в Рим, чтобы посоветоваться с. лордом Б…, как выручить тебя из беды. Тебе придется ждать терпеливо здесь, что будет, потому что пуститься в путь днем или ночью без паспорта, который лежит во французской полиции в Риме, и думать нечего; тебя задержат в первом городе. Пробраться же через границу по тропинкам, по которым проходят разбойники и беглые солдаты, если б даже я и могла служить тебе проводницей, а надобно тебе сказать, что я тут буду плохая проводница, это гораздо труднее и опаснее, чем оставаться здесь; ведь если и дознаются, что ты здесь сидишь, то вряд ли решатся взять тебя отсюда. — Это почему? — Потому что это старинный папский дворец, и место это имело прежде право убежища. Фамилия Боргезе наследовала это право, и хоть все это теперь отменено, но обычай и уважение к старинным правам остались. Чтоб силой отворить эти двери, за которыми ты хоронишься, надобно оскорбить принцессу; они не осмелятся войти сюда без ее позволения. — Но почему же бы им не выпросить этого позволения? — Потому-то и Оливия отправилась в Рим. Она все расскажет своей госпоже, а госпожа ее добрая и примет в нас участие. Ты сам увидишь, что и женщины к чему-нибудь да пригодны, а я думаю, что в нашей римской стороне одни мы только чего-нибудь да стоим. Я был согласен с этим, и, сообразив, что без паспорта невозможно отправиться в море с берегов Италии, не подвергая затруднительным и опасным случайностям свою подругу, которую я не намерен здесь покинуть, я решился последовать ее совету и вверить свою участь покровительству женщин. Глубоко тронутый преданностью Мариуччии и Оливии, я удивлялся предусмотрительности и деятельности этого великодушного и смышленого пола, который во всех странах, а в особенности в Италии, всегда был Провидением преследуемых. — Так вот как, — продолжала Даниелла, убирая комнату и ставя Распятие в изголовье моей постели и горшок с цветами на камин, как будто размещала домашние вещи в обыкновенной, постоянной квартире. — Дело все кончится тем, что ты поскучаешь здесь с неделю, никак не больше. Не может быть, чтобы милорд и принцесса не нашли средства освободить тебя отсюда через неделю. — Скучать? Да разве ты не будешь приходить ко мне? — Могу ли я жить, не приходя к тебе? Если ты хоть один день не увидишь меня здесь, то можешь сказать: «Даниелла умерла». — Но ведь Даниелла не может умереть? — Не может, потому что ты ее любишь!.. Так ты решаешься? — И не вообразишь себе, с какой радостью! Я только того и желаю, чтобы быть здесь взаперти с тобой. Одно только огорчает меня, это твоя беготня взад и вперед для меня. Это истинное наказание для меня. — Напрасно. Вот уже погода разгуливается, ветер подул от Апеннин и сгонит все тучи на море. Небо прояснится, по крайней мере, на целую неделю, и моя беготня, как ты называешь, будет приятной прогулкой; а так как мы с Оливией распустили слухи, что в замок скоро придут работники, то никто не удивится, если она и часто будет посылать меня сюда с разной ношей, к тому же все, что было громоздкого, доставлено; остается только кормить тебя. Если хорошая погода и приведет в Фраскати посетителей, они не будут оставаться здесь до поздней поры, а будут спешить назад в Рим, потому что вечера еще слишком свежи. А чтобы осмотреть виллы в окрестностях города и Тускулум, куда всего больше ходят путешественники, и целого дня мало: стало быть, тебя здесь никто не побеспокоит, да в Мондрагоне и так редко кто заглядывает. А если бы Оливии и случилось привести кого в этот замок, чтобы устранить подозрения, то она велела сказать тебе, что она долго будет стучаться в большие ворота, как будто ожидая, что их отворит изнутри работник, занятый делом на дворе, и так как, разумеется, никто не придет, то она попробует, будто другой ключ, а ключ-то будет настоящий, и им, как будто случайно, отопрет замок. Тебе будет время уйти в казино и запереться там. Туда нет надобности водить посетителей, которые и не знают, существует ли эта часть здания, да и можно сказать, что эта сторона разрушается и что туда не ходят. — Ах, Боже мой, да не обвалилось ли бы это казино, пока ты здесь со мной! Я становлюсь глуп и боязлив, как ребенок. Я так теперь счастлив, что боюсь, чтобы небо не обрушилось на нас и чтобы земля не убежала из-под ног. — Ничто не обрушится, ничто не убежит, потому что мы любим друг друга. Она позавтракала со мной и пошла в Виллу-Таверна, где ей необходимо показаться за работой; и мы решили, чтобы с завтрашнего дня она не приходила ко мне днем, разве только в экстренных случаях. Решено было, чтобы она приходила в шесть часов вечера и уходила не ранее восьми утром. В это время дня она не боялась встретиться с работниками в парке; они могли подумать, что она ходила по поручению Оливии, в монастырь Камельдулов; для вечерних прогулок она нашла бы также достаточные предлоги.
Глава XXII
Мондрагоне, 12 апреля.А пора приняться за работу, не правда ли? С тех пор, как я в Италии, я только и разминал ноги или сидел, сложа руки. Пора не только знать, есть ли у меня талант, а позаботиться и о том, как бы приобрести его. Во всяком случае надобно, чтобы я имел средство вести жизнь безбедную, домашнюю, семейную. Пусть этим средством будет пустое ремесло, без художнической почести, лишь бы оно доставляло кусок хлеба. Это крайность моего положения. Но ремесло может опротиветь, если не вложить в него всех усилий своей нравственной природы, и так как вопрос относительно необходимости приняться за ремесло уже решен, то я хочу внести в мое ремесло всю идеальность, на какую только я способен, весь огонь, который вдохнет в меня любовь. Да, да, для той женщины, которая открыла мне полноту жизни, я должен проявить эту жизнь каким-нибудь отличием, придать ей какую-нибудь цену. Да, я буду иметь талант, так должно быть; и эта задача моей судьбы и моей мысли, которой я так боялся касаться, теперь ясна, как день. Хотеть, надеяться, испытывать! Нет, этого мало; нужно более, нужно то, чем возвышенна и прекрасна моя возлюбленная — иметь веру и силу. Я начал разбирать и раскладывать мой ящик с красками, а потом стал искать предмет, с которого можно начать. Прощаясь с Даниеллой, я поклялся быть благоразумным и осторожным, и она позволила мне расхаживать куда угодно в моих обширных владениях. В этих случайностях распавшегося здания, в этой могучей овладевшей всем растительности, в этой противоположности остатков великолепия сторжественностью опустения, когда все это облито лучами солнца, найдутся мотивы на целую жизнь художника. В этих развалинах ничто не напоминает развалин наших феодальных замков; здесь нечего искать ни строгих линий, ни мрачных красок, ни грозного характера; в самом pianto нет ничего ужасающего. И здесь все та же Италия, смеющаяся и поющая даже под цветами могилы. Но именно потому, что своеобразие здешних развалин еще не измучено литераторами и живописцами, которые или в него не всмотрелись, или его не поняли, они истинный клад для меня. Чтобы перенести эти развалины на полотно, недостаточно изучить самый факт — надобно передать и впечатление, производимое этим фактом, выразить совершенно особенно чувство. Надобно, чтобы картина была оригинальным объяснением предметов, существующих своеобразно. Я старательно изучал перспективу и архитектуру, не желая встречать в работе Материальные препятствия, которые стесняют даже великих мастеров. Товарищи смеялись надо мной, а я упорно держался мнения, что, прежде чем доберусь до внутренней силы искусства, не худо бы узнать первоначальные его правила. Вдохновение не всегда к нашим услугам, а в картине жизни преобладают холодные краски. Много тратится времени в ожидании светлых дней вдохновенного творчества. Луч этого солнца случайно, изредка озаряет нашу душу, но зато в нас есть всегда, если мы не оставим ее в нерадении, спокойная и трудолюбивая воля, над которой во мне вы, добрый друг, не раз подшучивали. Дело в том, что теперь я пленник посреди окружающих меня стен, то есть посреди очертаний, отвесных и горизонтальных линий, углов и проч. Все это и в тени, и при освещении производит магический эффект, а я очень рад, что пока, в ожидании лучшего, знаю по крайней мере приемы и сноровку искусства. Часа два расхаживал я по всем углам, всматриваясь в эффекты. Здесь было все, стоило только выбрать. Нужно наконец начать что-нибудь, и я решился начать завтра же. Но вы знаете, друг мой, что невозможно всегда писать с натуры: природа не таровата на сеансы; она так редко дает их, что зачастую доводит нас до отчаяния. Эта натурщица каждую минуту является в ином свете, так что приходится схватить налету один эффект, и потом уже уяснять представление собственным чувством. Мне нужна была комната, где я мог бы работать, как говорится здесь, da me; я пошел отыскивать ее. Места, слов нет, много, и в этом отношении затруднение состояло только в выборе. Я решил разместиться в огромном зале, прекрасно расположенном в бельэтаже, со стороны полудня; с фасада здания, обращенного на север, это был третий этаж. Кажется, зал этот был некогда папской капеллой. В голых стенах этой комнаты очень много трещин, которые я заложил по возможности досками, оставляя неприкрытыми те отверстия, которые давали хороший свет, находились слишком высоко в стене, и не могли беспокоить Даниеллу насчет моей безопасности. Здесь очень много дерева, большей частью обделанного; есть лестницы, доски, козлы всех размеров. Я нашел даже некоторые плотничьи инструменты: пилу, молоток, клещи и прочие, а в материалах, подготовленных для столярной работы, нашел из чего сладить себе кой-какой станок или мольберт, Я вырос в деревне, не хуже другого сумею взяться за это, и мне не Бог знает как трудно сделаться Робинзоном моего безлюдного жилища. Я уверен, однако, что вы смеетесь над моими хозяйственными заботами и предполагаемыми работами в этих развалинах. Я сам смеюсь, но это не мешает мне заняться серьезно этим делом. Даниелла хлопочет же о моем кофе! Я очень рад начать мои занятия, как мирный, безвестный артист, при самых невыгодных условиях для материального и умственного удобства. Подумав немного, вы сами сознаетесь, что это чувство во мне очень естественно, и что мысль об определенном порядке вещей, хотя бы даже в скалах и пещерах, вносит в жизнь радость и пробуждает в человеке деятельность. Раздобыв все, что было нужно, я подумал, как бы пилить и вбивать гвозди без стука. Я попробовал обернуть молоток лоскутком кожаного фартука, забытого здесь плотниками. Но мое «ателье» господствует над всеми окрестностями, и хотя сады обыкновенно пусты около замка, но в маленькой ферме, что в конце кипарисной аллеи, то есть с четверть лье от меня, слышен, я думаю, скрип флюгеров на террасе. Итак, я должен отказаться от употребления молотка, и попрошу Даниеллу достать мне винтов и буравчик. А работа пилой не так слышна; к тому же я отправлюсь пилить в pianto, куда, как я заметил, не проникают звуки извне, следовательно, и оттуда, ничего не будет слышно. Не имея возможности начать что-либо сегодня, я опять пошел бродить по развалинам, но уже с другой целью. Нужно было знать, можно ли, приставя глаз к щелям дверей или взобравшись на окружную ограду, видеть меня, когда я не бываю в своем казино. Я удостоверился, что все двери новые и плотно сколочены, что стены ограды, хотя и не высоки, но стоят на самом краю почти отвесной крутизны, и что моя крепость, неказистая с виду, представила бы неодолимые затруднения для приступа. Однако ж, я должен считать казино моей резервной цитаделью, на случай вторжения любопытных в другие области моих владений, и решился заделать щели дверей и окон, служащих сообщением между моей маленькой террасой и задней частью портика, который может служить мне местом для прогулки в дождливую погоду и путем для бегства в случае внезапной тревоги, Таким образом я вполне защищен и от шпионов, и от неожиданного нападения, и опасность угрожает мне только в том случае, если бы доброй Оливии предъявлено было законное требование отворить главные покои, отделенные от казино тонкими, ненадежными дверями, кроме того, из казино нельзя бежать, не рискуя сломать себе шею, и эта мысль приводит меня в трепет, когда я подумаю, что у меня могут застать Даниеллу, и что она, вероятно, захочет бежать вместе со мной. Впрочем, в этих итальянских замках всегда есть скрытые комнаты или потаенные выходы, и удивительно было бы, если б я не отыскал и того и другого в этом замке. В этих поисках мысль моя невольно стремится к pianto. Оливия и Даниелла, как видно, не знают здесь никакой скрытой комнаты, но если завалившийся потайной ход изгладил из памяти предание, то разве невозможно отыскать следов его? Я возвратился в pianto. Напрасно старался я проникнуть в кухни, расположенные под terrazzone. Пройдя несколько ничем не приметных комнат, я выходил к стенам или к грудам песчаного камня, подставленным недавно, чтобы поддержать своды, угрожавшие обрушиться; эта часть здания совсем завалена. Возвратясь наверх в мой монастырь, я сумел с помощью долота отворить ставню одного из тех окошек, похожих на отдушины несоразмерностью длины отверстия с значительной шириной его, которые так мучили мое любопытство. Сначала я бросил вовнутрь несколько камней и услышал их падение на довольно значительной глубине; потом кидал туда зажженные бумажки, за падением которых мог следить глазом. Я боялся, когда бросал первую зажженную бумажку, чтобы она не наделала пожара, но, видя, как она медленно спускаясь, освещала внутренность и потом горела еще внизу, я убедился, что там нет ни запаса дров, ни даже обломков сгораемого материала; дно этого подвала было усеяно одними камнями и кирпичами. С помощью других зажженных бумажек я изучил внутренность этого помещения. Это был обширный, сухой подвал со сводами, имевший сообщение с другим, смежным подвалом посредством арки, загроможденной обломками до самого верха. Мне легко было бы спуститься в этот подвал при помощи веревки с узлами, если бы в окне не было довольно частой железной решетки, прочно вделанной в стенки окна. Решетку можно выломать пригодными к тому орудиями; но сколько стуку наделала бы эта операция! Нельзя полагать, чтобы такой стук не был слышен снаружи. При первой буре я воспользуюсь общим шумом и попытаюсь сделать это. Сегодня я не расположен приниматься за эти попытки и возвратился на мою маленькую террасу, чтобы написать вам, что вы прочли теперь. Отсюда открывается передо мной тот очаровательный вид, о котором я говорил вам. Здесь услаждаю я и свое зрение, и слух, потому что, за исключением пастуха, пасущего свое стадо на вершине Тускулума, я живу выше всех жителей окрестных гор, и все звуки холмов и долин доносятся ко мне. Тем временем, как я пишу к вам, я изучаю гармонию, производимую случайным слиянием различных звуков, которую в каждой стране можно бы назвать местной естественной музыкой. Есть местности, в которых песнь эта не умолкает; здешняя мелодичнее всех, которые мне удалось слышать. Первое место в этом хоре звуков принадлежит по праву кантате флюгеров внешней террасы. При самом начале она сложилась из таких правильных фраз, что я положил на ноты шесть тактов, вполне музыкальных. Эти шесть тактов повторяются с каждым порывом восточного ветра, который дует с сегодняшнего утра. Ветер вызывает у первого флюгера жалобную песнь в два такта; второй (флюгер запевает вслед за первым и модулирует фразу, похожую на первую по форме, но более грустную по мелодии; третий продолжает тот же мотив, удачно переходя в другой тон. Четвертый флюгер изломан, следовательно молчит, и молчит очень кстати, потому что его молчание дает время первому снова начать свою тему в том тоне, который придает ему усиливающийся ветер, и тогда, если напряжение ветра продолжится, все три флюгера поют нечто вроде трехголосного канона, очень странного и трогательного, пока порыв ветра не начнет затихать и не доведет их интервалами, чуждыми принятому в музыке разделению тона, то есть попросту фальшиво, до прежней, верной, нормальной интонации их. Эти плаксивые и певучие флюгера, с их звонкими нотами, резко слышатся в общем хоре. Вероятно, какой-нибудь сильф подстраивает их под голоса колоколов монастыря Камальдулов, так что они составляют правильный аккорд с монастырским звоном. По временам долетают до меня отрывочные фразы монастырского органа или приходской церкви Монте-Порцио, деревни, лежащей вправо за монастырем. Из какой же церкви принеслись в эту ночь звуки, принятые мной за игру на фортепиано? Мне никак не удается разгадать это акустическое явление. И другие звуки сливаются с пением флюгеров: песни земледельцев, рассеянных по степи. Все они поют очень дурно, гнусавят, и из сотни, как мне кажется, не найдется и один с музыкальными способностями. Они поют еще с меньшим сознанием, чем мондрагонские флюгера. Однако, в их песнях вырываются дикие фразы, созвучные чувству, разлитому в общей гармонии. Басы этого хора звучат в глухом шуме колоссальных пиний виллы Таверна, которые широким шатром раскинули свои ветви над крытыми аллеями дубов, и в реве водопада, которого мне не видно отсюда, но который, я помню, катится внизу, вдоль каменной стены, поддерживающей terrazzone. Это таинственный потомок развалин. Фонтаны, из которых лилась эта вода, разрушились; теперь освобожденные струи прорыли себе новый путь в основаниях зданий и бегут через расщелины, сквозь сетку пристенных растений, опушивших зелеными кудрями и, бородой зевающие хари фонтанных ниш. Кроме того, раздаются крики птиц, хотя здесь птиц меньше, чем в нашем климате. Здесь преобладает порода орлов и ястребов; мелкой певчей птицы очень мало. Итак, в хоре редко слышатся сладкие переливы певцов рощ и кустарников; раздаются только низкие тоны резких голосов, которые поют будто похоронную песнь, сами насмехаясь над ней. Когда я слушаю этот концерт, меня преследует мысль, которая часто приходила мне на ум при таких случайных сочетаниях звуков природы. Ветер, бегущая струя, скрип двери, лай собак, крик детей, все эти фальшивые звуки производят иногда сильный и многознаменательный эффект тем самым, что подчиняются общепринятым правилам искусства. Может быть, музыканты не правы, чуждаясь их. Фальшивые, по нашим понятиям, звуки могли бы составить свою особую последовательную гамму, и если бы слух наш не был под ярмом принятых условий, мы, быть может, нашли бы выражения истинные и пригодные в диссонансах, не допускаемых правилами. К этому числу следует причислить эолову фантазию, напеваемую мне в эту минуту заржавленными флюгерами. Они плачут, стонут с такой энергией, что никакое музыкальное определение не могло бы выразить раздирающего впечатления этой разноголосицы. Когда они отдаляются от своей, так сказать, правильной темы, когда мне недостает условных знаков, чтобы передать на бумагу их исступленные вопли, тогда-то именно и оглашают они окрестность такими звуками, которые можно почесть за таинственную речь вечности. Грустно подумать, что мы во всех наших искусствах, во всех проявлениях чувства, с такой ужасающей быстротой доходим до пределов возможного. Как живо я ощущаю это теперь, когда вместе с чувством любви проникло мне в душу сознание бесконечного! Как ясно я вижу теперь все бессилие слова, всю ограниченность душевного излияния! Я не смею перечесть то, что написал вам час тому назад, из опасения вознегодовать на себя за покушение передать вам мои ощущения. А между тем сердце мое переполнено, и меня томит потребность высказать всю свою радость ласточкам, что вьются надо мной, и ветеркам, что клонят траву на стенах развалин. Но я молчу, потому что не знаю этой речи бесконечного, которой мог бы заговорить со всем, что живет и любит во вселенной. Скуден и груб язык человека! Чем хитрее слагает он речь, желая высказать любовь свою, тем неприличнее становятся его слова. Любовь! на это есть одно только слово: люблю! Когда человек прибавит: я обожаю, он уже сам не знает, что говорит. В слове люблю заключается все, а остальное, что есть божественного, неисповедимого в этом бесплотном слиянии душ, того высказать невозможно. При известной степени напряжения душевных ощущений, ум наш встречает препятствия, как бы порог при входе в святилище божественной жизни. Ты не пойдешь далее, сказано волне нашей земной страсти. После нескольких восклицаний, вызванных небесным упоением, ты уже ничего не в силах сказать; ты был бы божеством, если бы умел выражать шестое, духовное чувство, а ты должен остаться собой. Солнце садится, да и так уж я не могу писать. Когда настает время нашего свидания, я охвачен невыразимым нетерпением. Вот она; я слышу, как она отворяет дверь калитки. Это не она; это был один из тех звуков, которые я должен исследовать поодиночке, чтобы разгадать их причину. Аспидные плиты поминутно осыпаются с крыши больших казарм, что посредине двора; эти плиты, сорвавшись, скользят по крыше прежде чем упадут, и чертят по ней своими деревянными гвоздями. Она пришла поздно; я был в большом беспокойстве. Наконец она явилась, и пока накрывает на стол, я расскажу вам, в каком положении мои дела. Оливия и Мариуччия возвратились из Рима; Даниелла медлила до семи часов, дожидаясь их, чтобы принести мне известие о результате их поездки. Лорд Б… со своим семейством во Флоренции, и возвратится в Рим не раньше, чем на будущей неделе. Княгиня Боргезе также в отсутствии, но ее главный управляющий, уверенный в великодушии своей госпожи, говорил обо мне с одной значительной особой, которая взялась защищать неприкосновенность моего убежища с тем, чтобы я не покидал его без ее письменного позволения. Вот покровитель, который становится моим тюремщиком, и кажется, я скоро буду здесь пленником на слово. Но это обещание взяла с меня только Даниелла, кардинал ограничился тем, что велел сказать мне, что я до тех пор в безопасности, пока укрываюсь в Мондрагоне; и что ни за что не отвечает, если я хотя бы на минуту оттуда отлучусь. Это добрые вести для меня, и я думаю, что в настоящем положении вещей потребовалось бы много жандармов, чтобы вытеснить меня из моей тюрьмы.
Глава XXIII
Мондрагоне, 18 апреля.Я здесь счастливейший из смертных и чувствую, что это лучшие дни моей жизни. С каждым днем усиливается страсть моя к этой несравненной женщине, которая действительно только мной и дышит. Неужели это упоение любви пройдет вместе с медовым месяцем? Нет, это невозможно, потому что я не могу понять, как мог бы я жить, если б этот жар любви остыл с обеих сторон. Мне кажется, что этот пламень неистощим. Почему же непременно все великое и прекрасное должно утомлять нас? Говорят, однако же, что продолжительная любовь — истинное чудо, мне кажется, напротив, что любовь наша не может угаснуть без особенного страшного чуда. Я веду здесь странную, но восхитительную жизнь, Десять часов моего уединения в сутки пролетают с быстротой мгновения, так что я перестаю верить народной поговорке, что время идет медленно, когда нам скучно; со мной случается совершенно противное. Когда мы с Даниеллой вместе, часы длятся для меня, как века, потому что они полны волнений и несказанных радостей. Мне чудится, что я прожил с моей подругой целую вечность блаженства, и я благодарю Бога за эту обаятельную мечту. Оставаясь один, я занят, — и время проходит так скоро, что мне едва хватает его на мою работу. Когда она здесь, я живу такой жизнью, над которой время теряет власть свою, потому что с каждым наступающим мгновением во мне усиливается жизненность, и я становлюсь влюбленнее, наивнее, моложе, чем в протекшее мгновение. О, мы бессмертны: любовь привела нас к этому откровению! Я систематически распределил свое время, чтобы употребить его с возможной пользой. Мы встаем в пять часов, завтракаем вместе, я провожаю «ее» до калитки цветника и запираюсь; у каждого из нас есть ключ от этой калитки. Я иду в мою рабочую комнату, накладываю палитру и сажусь за мою картину, эскиз которой уже сделал; теперь я прилежно взялся за нее. В первом часу я ем на террасе казино мой скромный полдник. После этого я курю и читаю классические книги, которые Даниелла приносит мне из виллы Таверна, где хранятся на чердаке остатки библиотеки. Несколько страниц этого чтения достаточно, чтобы поддержать деятельность в том уголку мозга, который не следует оставлять в бездействии. Все, что написано, хорошо ли, дурно ли, истинно или ложно, во всяком случае поддерживает связь мысли между нашим «я» и не «я» метафизиков, которые, однако, что ни говори они, все то же самое «мы». Потом я прогуливаюсь, продолжая курить мою сигару и размышляя о прочтенном, после прогулки пишу с натуры до заката солнца; тогда иду старательно прибрать комнату, в ожидании Даниеллы. Я устроился со всеми удобствами, к которым привык. В каком-то углу, под стружками, открыл я два ветхие, позолоченные кресла, сколотил и исправил их, убедившись, что в pianto я могу с некоторыми предосторожностями пустить в дело молоток. Я смастерил также стол и натер его воском, чтобы придать ему более привлекательный вид; вытер до блеска стекла окон, а чтобы всегда иметь свежие цветы на камине, отыскал места, где растут ирисы с черными бархатными лепестками и желтой чашечкой, и пунцовые левкои. Более пятидесяти лет никто не заботился об этих растениях, и они выродились из махровых в простые, но это не лишило их ни привлекательности, ни аромата. Резеда растет здесь на старых стенах, как у нас крапива. Асфодели, белые сверху и зеленые снизу, растут во множестве в здешнем цветнике, и все превосходного сорта, так что я нигде не видал подобных, и полагаю, что это привозные из тропических стран, остатки прежнего цветника, за которым был уход и который теперь совсем запущен. Цикламен, растущий обыкновенно под деревьями, реже встречается в этих развалинах. Однако я отыскал «гнездо» этого растения близ фонтана, что в конце цветника, и берегу эти цветы, как редкость; знаю даже, сколько их по счету. Этот фонтан, из всех фонтанов замка единственный, в котором осталась еще вода, презанимательный предмет в моем саду. Он стоит на возвышении, будто на сцене, на которую ведет лестница с мозаичными барельефами, изображающими драконов. Над этой лестницей стоят пузатые вазы, в которых растет что-то вроде артишоков, вполне соответствующих своим безобразием безобразию ваз; фонтан состоит из огромной чаши, поставленной на огромном пьедестале и окруженной такими же вазами из белого мрамора. Сетка водяных растений с цветами в виде беленьких звездочек раскинулась на дне этой чаши, которая стоит посредине чего-то вроде просцениума лже-античного вкуса, Вокруг устроены ниши, из которых прежние мифологические божества давно исчезли; в одной из этих ниш струится проникнувшая туда извне вода в довольно большой бассейн, врытый в землю наравне с мозаичным полом. Все эти бесполезные украшения сделаны из драгоценных мраморов: лапис-лазури, порфир, яшма, древний красный и древний зеленый мрамор повсюду рассыпаны в кусках под ногами. У ворот свалена целая куча этого драгоценного груза, которым усыпают stradone, как простым щебнем, и в этом мусоре, в углу, около стены, виднеется заросшая лапушником и волчцом вакханка, во вкусе рококо, увенчанная виноградом, с окаменелой улыбкой, с полными выставленными на солнце нагими грудями, между тем как отломанные ее ноги, воткнутые возле нее в мусор, будто ожидают, чтобы она на них стала. В этом заключении, в уединенном моем убежище, я наслаждаюсь удовольствиями, которых не знавал прежде. Сегодня утром я смотрел сквозь балюстраду моей террасы, как внизу на террасе флюгеров (terrazzone) играли ребятишки с фермы. Я подслушивал их разговоры и любовался, как худощавый мальчик с обезьяньей мордочкой рассказывал с истинно римской важностью, что он однажды у приходского священника в Монте-Порцио ел cioccolata. История этого шоколада была без конца, и чтобы возобновить драгоценное о нем воспоминание, мальчик угощал будто бы им своих товарищей из раковин, уставленных на большой аспидной доске. Он подражал ласковым и вместе с тем важным приемам священника, и в продолжение целого часа неумолкаемой и непонятной болтовни слышалось по временам слово cioccolata, произносимое тоном невыразимого наслаждения другими ребятишками, которые вкушали в воображении эту «амброзию», столь расхваленную их товарищем. Я вспомнил, что Даниелла принесла мне несколько плиточек шоколада, и мне потребовалось немало благоразумия, чтобы не бросить им этого лакомства сквозь балюстраду террасы. Каково было бы удивление, какова радость этих детей, при виде этих драгоценных плиточек, ниспосланных им, конечно, ни кем другим, как феей флюгеров! Я уже уступал искушению сделать это безрассудство, как пришла на Террасу молодая женщина, кажется, жена Фелипоне, и принялась бранить ребятишек, что они так близко подходят к замку, подвергая себя опасности попасть под камень или черепицу, которые беспрестанно валятся с крыши. Это опасение несколько удивило меня, потому что в тихую погоду с этой стороны строение никогда не осыпается; видя, как эта женщина спешит увести оттуда детей, я подумал, что она знает о моем здесь пребывании и старается, чтобы тайна эта не была открыта. Даниелла уверяет, впрочем, будто она не может подозревать, что я здесь расположился. Видя удаляющихся детей, я понял грустные радости узников: потребность их слышать человеческий голос и видеть забавы свободных людей. Но я понял это только умозрительно, потому что я самый непритязательный узник, совершенно довольный своим положением. При условиях моей настоящей неволи, я охотно останусь здесь на целую жизнь. Мысль, что Даниелла придет в условный час, наполняет неистощимым наслаждением мое одиночество. С утра до вечера я ожидаю этого свидания и наслаждаюсь этим ожиданием не меньше, чем свиданием. Страсть моя имеет свои минуты глубокого созерцания, как религиозная идея в торжественной жизни анахорета. Я слушаю также с наслаждением слова, приносимые мне издалека ветром, и люблю отгадывать мыслью положения, к которым эти клочки разговора могут относиться. Дорога из монастыря Камальдулов в Фраскати идет очень близко отсюда, и я слышу, как гуртовщики кричат на своих волов или как поселяне разговаривают между собой, сидя на своих телегах. Эти случаи составляют для меня событие, потому что по этой дороге езды мало, и этот редкий шум, по крайней мере, разнообразит монотонную песнь водопада и флюгеров. Но меня более интересуют звуки, долетающие ко мне со стороны виллы Таверна. С этой стороны деревья моего сада так густы и так высоки, что мне видны одни крыши виллы. Даниелла придумала показываться мне в окно комнаты на чердаке, откуда мне виден белый платочек на ее голове и куда она ходит звонить на полдник рабочим. Она нарочно оборвала веревку, чтобы иметь предлог ходить на чердак; ей приятно самой предупреждать меня, хотя издали, что пора завтракать. Иногда также, расхаживая посреди своих работниц, она ударит в свой тамбурин, будто в порыве веселья. Если ветер с запада, он приносит мне это слово любви, которое бросает меня в дрожь от счастья. Погода стоит прекрасная; здешний климат точно прекрасен в эту пору года. Нечего, однако же, слишком им восхищаться: в настоящее время это почти климат средней полосы Франции; фруктовые деревья цветут здесь не более как одной неделей ранее наших, и когда я отъезжал, Прованс опередил в этом отношении римскую Кампанью. Нас обманывает в этом краю вечная зелень беспрестанно сменяющихся листьев, В огромном парке, который у меня перед глазами, все зеленеет: дубы, пинии, оливковые деревья, самшит и мирты. Острый запах различных родов лавра доносится даже до меня и становится иногда несносным. Запах этот походит на запах горького миндаля; он очень приятен, если не слишком силен. Тысяча пчел жужжат на солнце. Небо блестящего голубого цвета. В полдень можно вообразить себя в самой середине лета. Но море и горы привлекают облака, и воздух вдруг холодеет. Птицы еще не начинали вить гнезда. Здешние бабочки появляются не ранее наших. На каштанах и платанах только что начинают завязываться почки. Дубовые рощи еще не сбросили сухих прошлогодних листьев. Дядя говорил правду, что в Италии деревья не растут корнем кверху, и что наш край стоит всякого другого. Но если бы дядя и был здесь, он не понял бы, чем именно отличается каждый здешний камешек от наших камней. Здесь все имеет свою особую физиономию, свое выражение, свой голос, так сказать, свою гамму; здесь я вполне чувствую, что я далеко от Франции, что я чужд той среды, которая как бы составляет часть меня самого, что я путешествую, всему удивляюсь, на все заглядываюсь и интересуюсь всякой травкой. Ночи очень холодны. К счастью, мы нашли в нижних залах груды угля, которые остались от сожженных деревянных поделок и мебели в замке во время захвата его австрийцами, и теперь мы можем нагревать наше уютное помещение в казино, не дымя в трубы. В нашем помещении есть и маленькая кухня, где мы во всякое время можем наполнить нашу жаровню горящими углями, которые храним в печах под пеплом. Это помещение, будто по волшебству, наполнилось мебелью и всеми предметами, нужными для полного хозяйства. Даниелла каждый день приносит что-нибудь с собой, а я, роясь в опустелых покоях замка, каждый день нахожу разбитые вазы, изломанную мебель и обломки произведений искусства, кое-как чиню и исправляю их, и они служат или удобством, или украшением нашего жилища. У меня одна забота в голове: я боюсь, чтобы эта сладостная жизнь скоро не окончилась. О моем деле нет достоверных известий, Капуцин, дядя Даниеллы, который каждый день приходит в виллу Таверна, сказывал своей племяннице, что меня ищут и что carabinieri (здешние жандармы) везде расспрашивают обо мне. Начальству известно, что, вопреки показанию Мариуччии, я не появлялся в Тиволи. Предполагали провести обыск в виллах, но впоследствии отменили это распоряжение, что доказывает, что мой таинственный покровитель не оставался в бездействии. Не знаю, сообщено ли французской миссии о моем деле? Если так, то меня, быть может, по распоряжению нашего посланника, ищут в Риме, чтобы выдать мне паспорт и велеть выехать из Папской области. Я полагаю, что наша миссия именно бы так распорядилась, а потому и не хочу искать ее покровительства. Странный случай еще более запутывает мое дело. Брат Киприян (капуцин) слышал, что агенты полиции при обыске моей квартиры в Пикколомини, откуда Мариуччия с такой предусмотрительностью вынесла мои вещи, нашли на полу четырехугольную металлическую пластинку с кабалистическими знаками. Спросили Мариуччию, мне ли принадлежит эта вещь. Она и сама этого не знала, но на удачу сказала, что пластинку эту оставил там путешественник, занимавший мою комнату за несколько перед тем месяцев и имени которого она не припомнит. Ей не совсем поверили и взяли с собой эту таинственную дощечку, которую признают условным знаком революционеров. Если так, то человек, вручивший мне это знак, был ни кто иной, как агент полиции, переодетый монахом, или настоящий монах, и умышленно хотел вовлечь меня в неприятности; трудно будет мне оправдаться перед святым судилищем с таким обвинителем. Меня еще более утверждает в этой мысли то, что я, в продолжение восьми дней моего здесь пребывания два раза видел на terrazzone этого монаха в рясе белой с черным, которого я встретил на развалинах Тускулума. Эти люди умеют всюду проникнуть, и мне кажется, что он сообщил свои подозрения фермеру Фелипоне, потому что он проходит иногда внизу под казино, с беспокойством посматривая на балюстраду террасы, откуда я могу наблюдать за всеми его движениями. Что касается монаха, который, кажется, принадлежит к ордену доминиканцев или, по крайней мере, переоделся в рясу этого ордена, он, по-видимому, вовсе не обращает внимания на замок. Чаще всего он становится ко мне спиной и внимательно смотрит на обширный вид, открывающийся с террасы. Но, может быть, он наблюдал слухом, и я, несмотря на высоту, на которой находился, инстинктивно сдерживал свое дыхание. Я спросил Даниеллу, не встречала ли она его в окрестностях; она уверяет, что ей не случалось встретиться ни с одним доминиканцем. Я окружен здесь существами менее опасными, чем этот монах. Это змеи с ножками, но с такими маленькими, что не решаюсь причислить их к роду ящериц. Они бегали бы очень плохо с такими коротенькими ногами, если бы в то же время не ползали, как змеи, очень скоро и очень грациозно. Эти хорошенькие животные вовсе не опасны. Я познакомился с ними в Тускулуме; пастух Онофрио показал мне, что их можно брать в руки, не опасаясь. Мне хотелось сделать ручной одну из этих ящериц, которая была не так труслива, как ее подруги; но Даниелла, видя мое пристрастие к животным, привела мне прехорошенькую белую козу, которая и миловиднее, и полезнее ящериц. Она дает мне молоко и щиплет возле меня траву, когда я рисую. Я забочусь о ней, как о подобном себе существе, а ей привольно живется здесь; она часто залезает здесь в траву и цветы по самую шею. Кроме того, у меня в цветнике четыре ручных кролика, и Даниелла хочет принести мне птиц в клетках. О собаке и курах нечего и думать: первая лает, а последние привлекут своими песнями и кудахтаньем охотников, которые, пожалуй, полезут на стены, чтобы украсть их. Скорпионов много. Стоит приподнять камень, и под ним наверняка один или два лежат еще в спячке. В эту пору года они неопасны, и можно убивать, их тысячами; но никто не заботится об истреблении их. Они опасны, только если их раздразнить; говорят, что они редко кусаются. Меня удивляет, как мало насекомых в этой стране садов. Сегодня я в первый раз увидел бабочку, неизвестную в нашем климате. Она очень красива. Кажется, этих бабочек зовут thais, чего, однако же, я с достоверностью не знаю. Я плохо помню названия; знаю все, что цветет и летает в странах, где я жил некоторое время, но названий запомнить не могу. Когда я писал вам это, вдруг… Но меня опять прерывают; случившееся со мной стоит особого письма, и я напишу вам обо всем завтра, если это будет возможно.
Глава XXIV
Мондрагоне, 20-го апреля.Третьего дня, сидя за моим письмом к вам, я следил за томным и нерешительным полетом бабочки, перелетавшей по цветам настенных растений. Я был тогда на террасе казино, спиной к портику, как вдруг легкий шум испугал меня и заставил оглянуться. Тарталья стоял за мной. «О Брюмьер, Брюмьер, — подумал я, — предсказание твое сбылось! Я нигде не скроюсь от этого шпиона!» Мне пришла мысль схватить его поперек и сбросить вниз через балюстраду террасы. Он видел, как судорожно дрожали мои губы, так что я не мог произнести ни слова, и побледнел, но вскоре оправился и сказал мне со своим обычным бесстыдством: — Перестаньте беспокоиться, эччеленца; здесь нет измены. Я отпер дверь вот этим ключом и пришел к вам от Даниеллы. — Боже мой! Что же она не пришла сама? Что случилось с ней? Говори! — Ничего, то есть почти ничего, эччеленца! Она вывихнула себе ногу, сбегая по лестнице с чердака виллы Таверна, куда она лазит каждый день звонить к завтраку тамошних работников — и к вашему, если не ошибаюсь. — Я сейчас побегу к ней! — Нет, нет! В парке есть шпионы; вас тотчас схватят. Мазолино подозревает сестру свою; он присматривает теперь за ней и с утра находится в вилле Таверна. С ним пришел доктор, который уверяет, что опасности нет, но что Даниелле необходимо пролежать с неделю в постели; Оливия ухаживает за ней, как за родной дочерью. Будьте спокойны и терпеливы, иначе вы погубите и Даниеллу, и себя. Если вас задержат, она не улежит, она встанет, будет везде бегать, хотя бы ей и умереть пришлось от этого. Вы еще не знаете, что это за горячая голова! Слава Богу, что я в тот раз там случился и мог ей шепнуть на ухо: «Я все знаю; я уведомлю нашего друга и обещаю тебе, что останусь здесь и буду к его услугам все время, пока ты будешь хворать». Я еще более сделаю для вас, мосью. Хотя вы и не имеете ко мне должного доверия, но я уберегу вас лучше, чем могла это сделать бедная девушка; я собью с толку лазутчиков; я отправлю жандармов туда, где вас нет. Я так все устрою, что вы будете здесь так же безопасны, как в цитадели св. Ангела. Я бессознательно слушал Тарталью. Я думал тогда о страданиях Даниеллы, нравственных и физических. Я боялся грубого обхождения с ней ее брата. Я видел, что между нами возникают преграды, и что в наш неприступный рай сделан уже первый пролом. С изумлением и грустью смотрел я на несносного цыгана, которого отныне принужден буду я ожидать с нетерпением вместо моей Даниеллы. Змей проник в эдем! К моей печали примешивалось тайное раздражение. Зачем, вместо Оливии, Мариуччии или брата Киприяна, тогда как все трое пользовались доверием Даниеллы, прислала она этого мерзавца Тарталью, который всегда казался мне шпионом? Я не хотел его расспрашивать, каким образом, как он сам говорил это, узнал он нашу тайну, прежде чем говорил о ней с Даниеллой. Я вспомнил первые признания Даниеллы, которая со смирением говорила мне, что этот разбойник с шутовской рожей первый говорил ей о любви и немного вскружил ей голову. Она никогда не признавалась ему в этом, и он, может быть, не догадывался о том. Она краснела за свое безумие и смеялась над ним. Она и теперь еще смеется, находит этого шута отвратительным, знает, что он распутный негодяй, но она, по словам ее, сохранила к нему дружбу и даже некоторое уважение, чего я не мог понять, и в чем я непременно упрекнул бы ее, если бы со времени нашего упоения мог припомнить себе о существовании этого шута. Так это удивительное уважение было сильнее, чем я полагал, потому что оно доходило до безусловного доверия, до самой задушевной тайны. И вот наше идеальное счастье имело уже поверенного, комментатора, как бы свидетеля, и какого свидетеля! Самого грязного из всех, кого только можно было выбрать. Мне казалось, что все теперь обнаружено, все осквернено. Горькое чувство против моей божественной Даниеллы примешивалось к моей печали о такой внезапной и такой грустной разлуке с ней. Я чувствовал, что небо мое меркнет, упоение мое остывает и бессознательные слезы текут по щекам моим, между тем как Тарталья-Бенвенуто объясняет мне с самоуверенностью и многословием, сколько утешения я могу почерпнуть в нем. — Полноте, — сказал он, хватая и опуская мою руку, которую я было поднял, искушаемый желанием дать ему пощечину, — вот вы уже разогорчились и расплакались, как баба! Будьте мужчиной, мосью, все это пустяки, все пройдет. Я вижу, что вы не шутя полюбили эту девочку. Дурно делаете; вы могли бы очень выгодно жениться… но не сердитесь; я ничего не говорю. Коли уж попался бесу в когти, так с ним не совладаешь, и я знаю, что теперь, «чем больше с вами спорить, тем крепче и дальше вы будете стоять на своем. Итак, не бойтесь, что я буду наговаривать вам на маленькую stiratrice; во-первых, о ней нельзя ничего сказать дурного: она славная девочка и я сам чуть не полюбил ее… Тут уже я не выдержал и, чувствуя, что готов наделать сгоряча глупостей, убежал и заперся в своей комнате и там старался прийти в себя. Мне удалось, наконец, успокоиться и обдумать мое положение. Первая моя мысль была, что Тарталья меня обманывал, что он унес ключ от цветника у Даниеллы, когда она была в беспамятстве. К несчастью, я не мог сомневаться в том, что с ней что-нибудь случилось, потому что время обеда уже прошло, а она не являлась. Следовательно, Тарталья был шпион, которому поручено открыть, где я скрываюсь; случай помог ему. Надобно было ожидать, что скоро придут арестовать меня; если же покровительство кардинала не сказка, и если оно довольно сильно в Мондрагоне intra muros, то, вероятно, все пути моего сообщения с Даниеллой пресечены и решено голодом принудить меня к сдаче. «Этого не нужно будет, — думал я, — для меня невозможно не знать, в каком положении Даниелла. Во что бы ни стало, я пойду в виллу Таверна, как только стемнеет, я увижусь с ней, оставлю ей все, что только имею, за исключением самого необходимого для бегства, и убегу. За границей Папской области я дождусь ее, обвенчаюсь с ней и увезу ее во Францию». Я начал с того, что осмотрел, крепка ли моя палка со свинцовым набалдашником, потому что решил защищаться в случае нечаянного нападения. Деньги свои я завернул в нарочно сделанный для этого пояс, связал в узел самое необходимое белье и вложил туда альбом, в котором пишу этот рассказ. Вместо паспорта взял я кое-какие бумаги, которые могли бы быть документами для французских властей в опознании моей особы; потом, завернувшись в мой плащ, которого, я думаю, не пробьет и пуля, я отправился к дверям, ведущим из моего строения во внутренность замка. Лишь только я взялся за ручку двери, в нее начали стучаться. Я остановился в нерешимости. «Если пришли меня арестовать, — думал я, — я знаю, куда мне бежать, по крайней мере, из этой комнаты», Я вышел поспешно в противоположную дверь и привязал к балюстраде веревку с узлами, по которой я мог спуститься на terrazzone. Я спешил, думая, что дверь сейчас выломают, но стучали тихо и осторожно. Я слышал даже, возвратясь на порог моей комнаты, жалобный голос Тартальи, который говорил: «Мосью, ваш обед простынет; полноте подозревать меня!» Это, быть может, была ловушка с его стороны, но опасение показаться смешным трусом превозмогло над моей мнительностью. Если Тарталья не предавал меня, предосторожности мои не имели никакого смысла; если же он пришел с конвоем, то, решившись проложить себе дорогу с палкой в руках, я рисковал не более, чем спускаясь по веревке, на которой меня мог бы подстрелить любой кто притаился под моей террасой. С палкой в руке я отворил дверь и не мог удержаться от смеха, увидев, что Тарталья сидел перед ней на полу с покрытым блюдом в руках, терпеливо ожидая моего появления. — Я вижу, в чем дело, — сказал он, входя очень учтиво и не забыв взять под мышку свой грязный берет. — Вы все еще думаете, что я мошенник? Но вы скоро разуверитесь в этом, господин неблагодарный! Вот блюдо макарон, я сам состряпал его на вашей кухне; я старый мастер в этом деле и, пожалуй, лучше Даниеллы буду кормить вас. Бедная девочка! Она никогда не имела способности к поварскому искусству, а я, мосью, гениальный повар: все искусство в том, чтобы из ничего состряпать что-нибудь. Дымящееся блюдо, которое он поставил на стол, так явно опровергало мои подозрения, что мне сделалось стыдно. Весьма естественно, что, находясь более часа в средине моей крепости, он не занялся бы приготовлением блюда макарон с пармезаном, если бы имел намерение предать меня врагам моим. Я воздержан в пище, как бедуин; я был бы сыт горстью фиников и двумя лотами муки в сутки, и вот уже целую неделю я ем только хлеб, холодное мясо и сухие плоды, не желая, чтобы Даниелла тратила на стряпню супов и соусов время, которое может провести возле меня. Но у молодости легко возбуждается аппетит, А здешний свежий воздух очень этому способствует, и я не могу утверждать, чтобы при моей печали, волнении и опасности, в которой я находился, вид и запах горячих макарон был мне противен. — Кушайте, — говорил мне Тарталья, — и не бойтесь ничего. Даниелла не умрет от того, что вывихнула ногу. Когда я расстался с ней, она уже не чувствовала боли и печалилась только о том, что разлучена с вами. Сегодня, когда я с ней увижусь, она прежде всего спросит меня, смог ли я уговорить вас пообедать, не грустить и терпеливо переносить ее болезнь и вашу скуку. — Что говорить о моей скуке! Но болезнь ее и этот брат, которые ей угрожают! Правду ли говорил ты мне? — Сущую правду, эччеленца; это так верно, как то, что вот это макароны; но Даниелла привыкла к угрозам пьяного братца и смеется над ними. Пусть себе, пожалуй, подозревает, но узнать ему ничего не удастся. К тому же, если бы он вздумал бить бедную девочку, жители виллы Таверна не допустили бы этого. А в парке пусть шляется сколько душе угодно, лишь бы вас не встретил; тогда он ничего не докажет против нее. — Не докажет против нее? А разве и она будет замешана в мое глупое дело, если узнают, что мы с ней в дружеских отношениях? — А как же бы вы думали, эччеленца? Ведь вы член тайного общества… — Это ложь! — Я знаю, но так полагают, и если бы брат Даниеллы донес на нее настоятелю доминиканцев или хотя бы приходскому священнику, что она — дурная христианка, влюблена в еретика и в иконоборца, так и ей, бедняжке, пришлось бы потереться о тюремные стены. — О, Боже мой, если так, послушаюсь тебя. Но не обманываешь ли ты меня? — А мне зачем обманывать, и еще вас! Ведь я берегу вас, как зеницу ока, для лучшей участи. Я сел и принялся за макароны, как вдруг посреди уверений Тартальи в преданности я услышал звон бубенчика от моей козы, который мы с Даниеллой привесили к окну и провели от него целую систему бечевок к калитке. «Слышишь ли, — сказал я, вставая, — ты самый низкий плут! Ты солгал мне; вот и Даниелла». — Это не она, мосью, — отвечал он, собираясь идти отворять калитку, — это Оливия или Мариуччия, которые пришли к вам с известием о здоровье своей племянницы. Я с таким нетерпением ожидал верных известий о здоровье Даниеллы, что, не заботясь более о Тарталье,вскочил, стрелой перелетел цветник и отворил калитку без всяких предосторожностей. Это была не Мариуччия и не Оливия, а брат Киприян, который поспешно проскользнул в полуотворенную калитку, прежде чем я успел отворить ее вполне, и тотчас захлопнул ее, подавая мне знак, чтобы я закрыл задвижку. — Тише, — сказал он мне шепотом, — может быть, за мной следили, хотя я и принял все предосторожности! Мы вошли в цветник; он говорил мне что-то, но так путался в словах, по своему обычаю, что я только и понял, что сад занят полицией, хотя и тайно, но несомненно, и что монах, посетив меня, подвергал себя опасности. — Пойдемте к вам, — сказал он, — там мне свободнее будет говорить с вами. Когда мы остались с ним наедине в казино, он подтвердил мне слова Тартальи. Вывих Даниеллы был не опасен, но требовал совершенного спокойствия. Брат ее, поселившись у фермеров виллы Таверна, сторожил двери и окна ее комнаты. Я должен был отказаться от свидания с ней впредь до ее приказания, Она снова требовала от меня честного слова спокойно сидеть взаперти до тех пор, пока меня не будут открыто преследовать в самой внутренности замка. «Дайте мне это слово, любезный брат, — сказал капуцин, — она готова на все решиться и, пожалуй, на коленях приползет сюда». — Я даю его, — отвечал я, — но разве она не могла написать мне? — Она так и хотела сделать, но я не взял письма; меня могли задержать и обыскать, и тогда мы все пропали бы. Успокойтесь и поговорим о деле. Но прежде покормите меня; в это время я обыкновенно ужинаю, а мне еще предстоит порядочный конец; отсюда до монастыря — не рукой подать. Я поспешил подать доброму монаху макароны, которые он ел с замечательным аппетитом. Несмотря на беспокойство, в котором он находился, он с таким усердием занялся этим блюдом, что едва давал один ответ на тысячу моих вопросов. Бедняга, может быть, и не прожорлив, но голоден. Этот аппетит еще усилился, когда Тарталья принес молодого осетра, приготовленного на вине, и блюдо артишоков, поджаренных в свином сале. Тогда невозможно уже было выманить у монаха ни одного путного слова, и в продолжение целого часа я должен был терпеливо любоваться, как он глотал кусок за куском эти кушанья, а сам ел, чтобы только утешить Тарталью, которого я уже не мог считать врагом своим и преданность которого заслужила с моей стороны, конечно, чего-нибудь другого, а не подозрений и грубых выходок. Положение мое становилось очень странным с этими собеседниками. Мое горе и мое беспокойство сталкивались в резком контрасте с аппетитом капуцина, который пользовался редким случаем насытить его, и с угодливостью моего смешного слуги, который в данном случае только о том и заботился, чтобы доказать мне свое мастерство в поваренном искусстве, «Кушайте, кушайте, эччеленца, — говорил он мне, — я вам дам отличного кофе, для сварения желудка. Даниелла наказывала мне: более всего заботься о кофе, это его единственное лакомство». Это наставление так сходилось с привычками милой баловницы Даниеллы, что я поверил искренности Тартальи, за которую, впрочем, ручались доверие и дружба к нему капуцина. У меня, сказать правду, не легко было на сердце при мысли, что и Даниелла не шутя дружна с ним, и я оскорблялся внутренне не тем, что принимал от него услуги, за которые я мог вознаградить его со временем, но что он замешан в сердечные дела Даниеллы и как бы посвящен в таинства моего счастья. Я не мог воздержаться, чтобы не сказать слова два об этом брату Киприяну. «Так вы не были при том, как она упала?» — спросил я его, когда Тарталья пошел за кофе. — «Нет не был, — отвечал он, — но если бы и был, то ни я, ни Оливия, ни Мариуччия, мы не могли бы принять на себя заботы о вас и не помешали бы вам умереть с голода. За этими женщинами теперь строго присматривают; что касается меня, то я подчинен правилам своего ордена. Верьте мне, нельзя было найти друга лучше Тартальи в этом случае; его не арестуют на дороге, когда он пойдет к вам». — В самом деле? А почему бы это? — Этого я не знаю, но это так. Его все знают и он со всеми в ладах. — Даже и с полицией? — Chi lo sa? — отвечал монах тем же тоном, каким говорит сестра его, когда хочет сказать: «Полно вам расспрашивать меня; я и знать этого не хочу». Я думал рассеять себя от своих забот разговором с монахом за чашкой кофе, но очень был удивлен, найдя в нем человека совершенно ничтожного и совершенно глупого. Судя по сведениям, доставленным им. своему семейству о моем деле, и по теперешнему великодушному его посещению, можно было полагать, что он прозорлив, отважен и деятелен. Ничуть не бывало! Он невежа, робок и ленив. Впрочем, он существо кроткое и доброе, сохранившее все свои любящие способности только для сестры и племянницы, и которое, несмотря на искренность своей набожности, всегда готово преступить правила монастырской жизни, чтоб оказать им услугу или одолжение. Но он до того ни к чему не способен, что его содействие совершенно бесполезно. Голова его похожа на растрескавшуюся маковую головку, из которой ветер давно вынес все семена. У него нет ни последовательности в мыслях, ни памяти, ни ясного взгляда на вещи. Он едва знает имя, лета и состояние людей, с которыми находился в частых сношениях, а когда случайно вспомнит это, то повторяет каждое слово несколько раз с тупым самодовольством. Что касается природы, красоту которой и плодородие он превозносит при всяком случае пошлой и всегда одной и той же фразой, то он глядит на нее сквозь креп и, я уверен, не сумеет отличить розы от репейника. Ничто не производит особенного впечатления на эту отупевшую организацию, которая несравненно ниже, чем организация самого изнуренного лихорадкой и самого беспечного селянина римской Кампаньи. В религиозном отношении трудно решить, какое именно составил он в себе понятие о Высочайшем Существе. Он толкует о церкви, о церковной службе, о церковных свечах, о четках; но я не думаю, чтобы, за исключением осязаемых символов веры, он имел какую-нибудь религиозную идею, чувство или какое-нибудь верование. Что касается религиозного и политического положения его страны, это для него запечатанная грамота. Он смешивает самые противоположные явления в одном чувстве глупо улыбающейся покорности. Все, что носит сан кардинала или даже аббата, окружено в его глазах сиянием, ослепляет и порабощает его. Словом, от него ничего не добьешься, а видит Бог, что я желал добиться от него только сведений о моем деле; но и это оказалось невозможным: все кончалось вечным chi lo sa, которое начинает действовать мне на нервы. Он пугался моих вопросов и не понимал их. Он не знал, действительно ли кардинал, мой покровитель, принял какие-нибудь меры; он не знал, в гражданском или в духовном суде производится мое дело и кто будет судить меня: giudice processante, местный следственный судья или судебный инквизитор, — председатель духовного судилища или, наконец, собственно инквизиция; эти три судебные власти распоряжаются поочередно, а, может быть, и все вместе, в политических, гражданских и религиозных следствиях, а возведенное на меня обвинение, по здешнему порядку, относится ко всем трем отраслям судопроизводства. Увидев, что все мой расспросы бесполезны, я поручил Тарталье проводить брата капуцина в его монастырь, но он так напутан, что не хотел выйти из замка ранее двух часов ночи. — В такую позднюю пору, — сказал он (тогда было десять часов), — монастырь наш заперт; его отопрут, когда заблаговестят к заутрене. Не беспокойтесь обо мне: я сам вовремя проснусь, а покуда прилягу на вашу постель да сосну немного. Это предложение возмутило меня, потому что этот монах классически нечистоплотен. Тарталья удержал меня от вспышки, уверив его, что он многим рискует, если его застанут в моей комнате, и увел его спать в кладовую, на солому, где, в случае тревоги, он может просидеть, не будучи замечен.
Глава XXV
Мондрагоне, того же числа.Я не мог спать и, собрав со стола остатки ужина, отворил окно, потом, заперся и зажег свечу, чтобы приняться за этот дневник и разогнать тем скуку и беспокойство. Но не успел я написать и одной строчки, как снова постучались в дверь. Подобный случай встревожил бы меня вчера, когда для меня кроме нас с Даниеллой никого не было на белом свете; но теперь, когда уж я не жду ее, и когда все мои старания смягчить судьбу были бы почти бесполезны, я готов на все, и даже привык к этой жизни, исполненной случайностей более или менее важных. Не трогаясь с места, я отвечал: «Войдите!» Это был опять Тарталья. — Все в порядке, мосью, — сказал он мне. — Капуцин храпит в соломе, на дворе все тихо. Я пришел пожелать вам una felicissima notte, и сам сейчас залягу спать. Отсюда я отправлюсь вместе с fra Cipriano к заутрене и ворочусь еще до света с припасами на целый день. В эту пору даже самый чуткий народ отдыхает, и наблюдателей провести нетрудно. — Так ты тоже думаешь, что сады заняты полицией? Стало быть, это не пригрезилось капуцину? — Ни ему, ни мне, эччеленца, это точная правда. — Признайся, ты и сам принадлежишь к полиции? — Не могу признаться в этом, это неправда; но если бы так было, вы должны бы Бога за это благодарить. — А разве бы ты тогда не предал меня? — Дело вполне возможное, была бы только воля, amico mio. Когда приходится служить многим господам, тогда сердце и совесть решают, за кого из них стоять. Эх, мосью, вам кажется это нечестным и вы надо всем смеетесь. Но вы не итальянец и не знаете, что такое итальянец. Вы родились в стране, где все дела устроены по какому-то мнимому праву, которое стесняет свободу сердца и ума. У вас каждый думает о себе и каждый чувствует или почитает себя в безопасности, когда сидит дома. Оттого вы и себялюбивы, и холодны. Здесь мы кажемся рабами, но мы действуем, обходя законы стороной, и можем делать, чего только захотим, и для себя, и для друзей своих. Когда бывает нужно скрывать и хорошее, и дурное, так тут-то и приходят добродетели, которые вы после оцените: преданность и скромность. Вам следует верить мне, ведь я уже оказал вам большие услуги, да и еще окажу. — Правда, ты помог мне проехать верхом Кампанью. — В первый день Пасхи? Тут-то я промахнулся. Мне бы надобно было всячески помешать вам выехать тогда из Рима! Но я чувствую к вам какую-то слабость и балую вас, как отец свое дитя! — В таком случае, добрый мой папенька, кроме твоего присутствия здесь и вкусного обеда, которым ты накормил меня, за какие еще благодеяния придется мне вознаградить тебя? — О вознаграждении мы поговорим после. А теперь знайте, что все полученные Даниеллой и Мариуччией сведения о вашем деле так своевременно, что вы успели и сами скрыться и скрыть свои вещи, доставил я, а не капуцин, потому что я человек с головой, а он то же, что устрица на солнце. — Ты? Я должен был прежде догадаться об этом. Но зачем же мне сказали, что все эти вести принес монах? — Это вам Даниелла так сказала? Я понимаю почему! Она знает, что вы не доверяете мне. По счастью, она не того же мнения, как вы; она уважает меня и знает, что я… во всех отношениях, потому что, если бы я хотел когда-то воспользоваться ее невинностью… но я не хотел этого, мосью! Он остановился, видя, что растревожил мою рану и что, связанный признательностью, которую обязан был иметь к нему, я с трудом удерживался от желания вытолкать его вон, Кажется, что этот шут знает мою слабую струну и по временам мстит мне урывками за мое к нему пренебрежение. Но он боится меня, и мне стоит нахмурить брови, как он тотчас же прекращает подобные выходки. Он переменил тему и заговорил о Медоре. — В Риме говорят, что она поехала во Флоренцию, где выйдет замуж за своего родственника; но я знаю, что это неправда. Она не любит его. — Как тебе знать это? Даниелла теперь не при ней и тебе некому рассказывать, что она думает. — Я знаю это от лорда Б… Он думает о себе, что он очень скрытен, но я, что хотите, от него выведаю, разумеется, после обеда. — А как проведал ты все, что относится к моему делу? — Вы опять скажете мне, что я служу в полиции? Право, нет. Но у меня везде есть друзья, и я знаю о ваших делах гораздо более, чем говорю. — Однако же, если ты так привязан ко мне, не мешало бы и мне рассказать это, чтобы я знал, как бороться с моими врагами. — Со временем и это будет; спешить не к чему. Но вы устали, мосье! Нельзя знать, что ждет впереди, так что ложитесь-ка, отдохните, да соберитесь с силами на всякий случай. Я в самом деле был утомлен. Внезапный переход от моего прекрасного романа к таким неприятным обстоятельствам так истощил мои силы, как будто я упал на дно пропасти. — Прикажете мне взять с собой ключ от вашей комнаты? — сказал мне Тарталья небрежным тоном, пожелав мне покойной ночи. Вопрос был важный. Может быть, он взялся доставить случай схватить меня без шума и так, чтобы мой покровитель подумал, что я сдался добровольно, избегая скуки одиночества. До сих пор Тарталья видел, что я решился дорого продать свою свободу, и потому, изменяя мне, он должен был желать, чтобы меня задержали сонного. Но, как я уже говорил вам, мне надоели мои подозрения и беспрестанная забота ограждать себя от непредвиденных случаев; я не мог обещать Даниелле избегать их. Кроме того, я с некоторым удовольствием думал, что, если Тарталья предаст меня, я буду иметь право сказать когда-нибудь моей неосторожной любовнице; вот последствия вашей дружбы к этому мерзавцу! Если же этот мерзавец был честен в отношении ко мне, я обязан был дать ему формальное удовлетворение за мою несправедливость. — Возьми ключ, — сказал я, — и прощай! Он, казалось, был восхищен этим ответом. Глаза его блестели как у кошки, поймавшей свою добычу, или от признательности за мою доверчивость. — Спите спокойно, эччеленца, — сказал он, — и знайте, что никто на свете не побеспокоит вас! Сюда строго запрещено входить; хотя и. знают, что вы здесь, но вас оставляют в покое, как вы сами видите. — Так им положительно известно о моем здесь пребывании? Ты не говорил мне этого! — Им это положительно известно, эччеленца! Они полагают, что вы попытаетесь уйти отсюда, что было бы величайшим безрассудством. Им думается, что вас выживет отсюда голод; но они забыли обо мне, эти любезные господа. Он взял мое платье и принялся чистить его в передней. Я был так утомлен, что задремал под шелест его веника. Через час я проснулся и увидел, что мой чудак сидит перед камином и, грея ноги, внимательно читает альбом, в котором я писал этот рассказ со светлого праздника. Что было писано прежде, вы, вероятно, уже получили; я отправил это к вам из Рима с Брюмьером, у которого есть приятель при французской миссии. Видя, как этот мошенник перелистывает мой дневник и останавливается на страницах, которые его интересуют, я готов был вскочить и осыпать его оплеухами; но меня остановила следующая мысль: если он, в чем нельзя и сомневаться, принадлежит к полиции, так он убедится, что я не участвую ни в каком политическом заговоре, и главное средство для моего спасения в его руках. Оставим его увериться в моей невинности. Кроме того, в спокойствии, с каким он читал, было что-то убеждавшее, что он не имел злых намерений, по крайней мере, не имел их в то время: смотря на него, нельзя было подумать, что он замышляет какое-нибудь коварство. Вдруг он начал смеяться, сначала сдерживаясь, но напоследок расхохотался, как сумасшедший. Причина была достаточная, чтобы проснуться. Я приподнялся на постели и поглядел ему в глаза. Улыбка исчезла с его шутовской физиономии. Между нами произошла немая сцена, как в итальянской пантомиме. Сначала он хотел спрятать альбом, но, видя, что уже поздно, не робея, воскликнул: — Боже мой, Боже, как и смешно и приятно видеть себя в рассказе, день в день и слово в слово! Простите мою нескромность, мосью; я так люблю искусства, что, увидя ваш альбом, не мог удержаться, чтобы не раскрыть его. Я думал, что найду в нем рисунки, здешние виды, но вместо них бросилось мне в глаза имя Тартальи. Мне нравится, что я описан здесь, как живой; мое имя не Тарталья и не Бенвенуто, и это меня не компрометирует, А притом вы так умны и так хорошо обо всем этом пишете, что я очень рад припомнить в подробности все, как что происходило. Вот наша ночная поездка на лошадях Медоры и все мои слова, точь-в-точь как я говорил вам их, о разбойниках, об иллюминации св. Петра, о том, как я искусно принудил вас воспользоваться этими лошадьми, которых я на этот случай свел тихонько с конюшни. Признайтесь, мосью, что хотя вы и подозреваете меня, а рады видеть, что я не болван и не дурак. — Если ты доволен моим мнением о тебе, так чего же лучше? Значит, мы оба довольны друг другом, не правда ли? — Эччеленца, я говорил вам, — вскричал он с убеждением, вставая с кресла, — и теперь не отпираюсь от слов своих: «Я вас люблю!» Вы почитаете меня канальей и мерзавцем и на словах и письменно; но убежденный, что со временем приобрету вашу дружбу, как вы приобрели мою, я принимаю слова эти в шутку, как это делается между друзьями. — И хорошо делаешь, сердечный друг мой. Теперь, когда ты уже уверился, что я ничего не замышляю против папы, ты пожалуйста уж не трогай моего писания, если не хочешь получить… — Гм… вы всегда только стращаете, а никогда не ударите. Вы добры, эччеленца, и никогда не обидите бедняка, который терпеть не может ссор, и душой к вам привязан. Я же никак не раскаиваюсь в том, что прочел ваши приключения, а в особенности об этой проклятой жестяной дощечке, которую нашли в вашей комнате в Пикколомини. Это обстоятельство меня ужасно мучило. Каким образом, думал я, попалась ему в руки эта вещь? И если он уж получил ее, как мог допустить, чтобы она валялась у всех на виду? — Так это вещь драгоценная? — Не драгоценная, а опасная. — Что же это такое? — Условный знак тайного общества. Вы отгадали это, потому что сами об этом написали. — Какого общества, политического? — Гм… Chi lo sa? — Кто знает? Разумеется, ты! — Но уж никак не вы; это я вижу! Вы думаете, что эту дощечку подсунул вам агент этого общества; нет, это личный враг. — Кто же бы это? Мазолино? — Нет, он так хитро не придумает; притом же, чтобы осмелиться надеть на себя доминиканскую рясу, надобна посильнее протекция, чем у него; этот пьяница никогда не будет человеком. Видели вы в лицо мнимого монаха? — Да, если это тот самый, которого я встретил в Тускулуме; но в этом я не уверен. — Ну, а тот, что шлялся здесь на этих днях? — Это тот самый, что я видел в Тускулуме; я почти убежден в этом. — Узнаете ли вы его в лицо? — Кажется, что узнаю. — Обратите на это внимание, если вы его еще где встретите, и будьте осторожны. Что, он высок ростом? — Довольно. — Толст? — Да, он довольно полный. — Если толст, так это не он. — Кто же этот «он»? — Тот, о котором я думал; но мы посмотрим, я уж доберусь до правды. Спите спокойно, эччеленца; Тарталья не спит за вас. Он вышел, взял ключ с собой, а я снова заснул. В пять часов, по обыкновению, я проснулся. Возле меня никого не было; я был один; при этой мысли я невольно вздохнул. Одевшись, я вышел на террасу и взглянул на окрестность. На целом видимом мной пространстве не было ни души. Издали только слышалось движение людей, отправлявшихся на полевые работы. В шесть часов Тарталья принес мне котлеты и свежие яйца. Я испугался, заметив какое-то беспокойство в выражении его лица. — Даниелле хуже? — вскричал я. — Нет, напротив, ей легче. Вот письмо от нее. Я вырвал у него письмо. «Надейся и будь терпелив, — писала она мне. — Я скоро с тобой увижусь, несмотря на препятствия. Не выходи из Мондрагоне и не показывайся. Надейся и жди любящую тебя». — Она пишет мне, чтобы я не показывался, — сказал я Тарталье, — а ты уверял, что пребывание мое здесь известно. — Э, мосью, — отвечал он с нетерпением, — ничего я не знаю. Не показывайтесь, это не помешает. Но здесь такие дела делаются, что я и понять не умею… Я недаром думал, на кой черт им этот бедный художник; не может быть, чтобы они считали его опасным. Он, верно, только предлог, а речь не о нем. И точно, тут есть другое дело, или они только воображают себе это. — Объяснись, я не понимаю. — Нет, вы не имеете ко мне доверия. — Напротив, сегодня я уже вполне доверяю тебе; я. целую ночь был в твоих руках и спал спокойно. Я уверен, что ты не желаешь, чтобы меня задержали ни здесь, ни за стенами замка. Говори! — Ну, так слушайте. Что, вы один здесь? — Что, один ли я в Мондрагоне? Ты еще сомневаешься в этом? — Да, я сомневаюсь, мосью… — Знаешь ли, — отвечал я ему, пораженный той же самой мыслью, — если бы ты спросил меня о том в первый день моего переселения сюда, я был бы такого же мнения. В этот день и в наступившую ночь я сам думал, что нас двое, или даже несколько человек укрывается еще в этих развалинах. Но я живу здесь уже целую неделю и уверен, что живу один-одинехонек. — Э, вот уже кое-что и знаем! Кто-нибудь поважнее и поопаснее вас был здесь. Это знают и полагают, что он еще здесь, и если за вами присматривают, так это так, в придачу, или потому, что вас сочитают связанным с этой особой или с этими особами… Ведь вы говорите, что, быть может, здесь было несколько человек? — Это я говорю наудачу; но я могу рассказать тебе, что со мной случилось. Мне показалось, что я слышал шаги в pianto. — Что такое pianto, мосью? — Маленький монастырь. — Знаю, знаю. Так вы слышали?.. — Может быть, мне и послышались шаги человека. — Одного? — Одного. — Что же еще? — А еще — что я ночью слышал и слышал очень хорошо, как играли на фортепиано. — На фортепиано? В этих развалинах? Не приснилось ли вам это, мосью? — Я не спал и был на ногах. — А Даниелла тоже слышала? — Точно так, как и я. Она полагает, что это был орган монастыря Камальдулов и что звуки его изменялись отдалением. — Это верно так и было. А больше вы ничего не знаете? — Ничего. А ты? — Я-то уж узнаю. Скажите мне еще, мосью, вы везде побывали в этих развалинах? — Везде, где только можно пройти. — И в подвалах под terrazzone? — В той части этих подвалов, которая не заделана. — Говорят, что туда опасно ходить. — Да, без свечи и без предосторожностей. — Но свеча и предосторожности не помешают обрушиться этой громадной террасе, которая, Бог знает, на чем держится. — Кто сказал тебе это? — Фермер Фелипоне. — Это правда, что жена его не пускает играть на terrazzone, но это опасение, кажется мне, не основательно. Такая громада, опирающаяся на такую скалу, не боится времени. — Но боится землетрясений, а они здесь не редки. Говорят, что многие огромные своды уже обрушились и что когда-нибудь terrazzone осядет, если не совсем развалится. На этой террасе есть места, где стоит вода, растет камыш и где нога проваливается, как в болото. Вот почему заделали вход в cucinone (большая кухня); колонны с флюгерами были трубами этой кухни, которая до сих пор славится в околотке. Когда я держал наемных ослов во Фраскати, я раза два пытался пробраться туда. Хорошо, если бы можно отыскать удобный вход! Тогда я выхлопотал бы себе у управляющего княгини исключительное право водить туда путешественников и зашиб бы копейку. Но это дело невозможное, мосью, стоит толкнуть заступом в эти старые стены, внутри зашумит, загремит, посыплется, так что волос дыбом станет. Здешние жители думают, что это бесовщина проказит, а дети уверяют, что там живет befana. — Что такое befana? — Это то, чего все боятся, а никто не видел, Это дух-зверь, который делает и добро и зло. — Это название мне нравится; назовем befana место, о котором ты говоришь. — Если вам это угодно, мосью; но ведь я не верю этим сказкам. — И не веришь, чтобы кто-нибудь мог скрываться в квартире этой бефаны? — Не верю, мосью, но в подвале, что под маленьким монастырем, который вы называете pianto… — Я и там производил поиски, потому что мне хотелось открыть подземный ход, на случай занятия замка, Но кажется, что и там все ходы завалены, а у окон претолстые решетки. — Знаю! Я когда-то хотел перепилить одну из этих решеток, в надежде отыскать вход в кухни. Но я побоялся, потому что полоса, которую я пилил, поддерживала часть стены, которая уже растрескалась, и трещина видимо увеличивалась по мере моей работы. Если б вы посмотрели повнимательнее, вы увидели бы, что одна из полос решетки порядком подпилена. Вот с этим инструментом, — продолжал он, показывая английскую тонкую пилу, — с этим инструментом, который должен иметься у всякого благоразумного человека, можно бы продолжать, если бы знать, что галерея монастыря на тебя не рухнет. — Но к чему же это? Разве ты надеешься найти выход? — Chi lo sa? — Но ведь меня не могут задержать здесь; ведь я обещал Даниелле не выходить. — Вы совершенно правы, мосью, говоря только о себе; но что касается меня, если б я знал тайны этого замка, я заработал бы деньги при случае. Когда у меня будет время… и отвага, я еще раз попытаюсь! Я кончил свой завтрак и предоставил Тарталье позавтракать в свою очередь, а сам пошел в свою рабочую комнату, написал вам это послание и попробую поработать, чтобы разогнать тоску.
5 часов. — Я опять сажусь писать, чтобы рассказать вам, что случилось. Я работал над моей картиной, как вдруг раздались тяжелые удары в ворота большого двора. Тарталья прибежал ко мне в тревоге. — Спрячьтесь куда-нибудь, — говорил он, — ломают ворота! — Нет, — отвечал я, — это Оливия, вынужденная ввести сюда какого-нибудь путешественника, чтобы отказом не возбудить подозрения; она предупреждает меня об этом условным знаком. Я не ошибся. Только что я убрался в казино, как увидел в щель двери моей террасы; что Оливия проходила под портиком и тревожно смотрела в мою сторону. Когда она уверилась, что мое святилище как следует заперто, она пошла назад к своим посетителям, которых умела держать от меня поодаль. Это были марсельские обыватели, которые во всеуслышание толковали, что эти развалины ужасны и отвратительны, и, испугавшись бегавших около них маленьких змей, о которых я говорил вам, казалось, не имели большого желания осматривать внутренность замка. Но с ними был высокий, худощавый мужчина, одетый в черный засаленный фрак; он возбудил внимание Тартальи. — Видите вот этого молодца? — сказал он мне на ухо. — Он не принадлежит к обществу этих путешественников. Теперь он исполняет при них должность чичероне, но это не его ремесло; он обманывает Оливию, которая его не знает. Я знаю этого дружка; поглядите на него хорошенько, видали вы его когда-нибудь? — Да, я видал его, но где? Никак не могу вспомнить. — Не он ли дал вам амулет? — Быть может. Он одного роста с монахом, которого я тогда встретил; но тогда было темно. — Не похож ли он на монаха, что вы видели в Тускулуме? — Нет, это не он, я совершенно уверен. Тот был полным и красивым собой, а этот худощав и безобразен. — А монах, что расхаживал по террасе флюгеров? — То был тот же, что в Тускулуме, а не этот. — Но где же вы видели этого, что теперь у вас перед глазами? Припомните хорошенько. — Постой, точно так; это точно он. Я действительно узнал его, Это был бандит, которого я уложил на Via Aurelia. — Погляди, — сказал я Тарталье, — нет ли у него на лбу шрама? — И еще какой! — отвечал мой догадливый товарищ, поняв меня без дальнейших объяснений. — Это точно должен быть он! Дело не ладно, мосью! Это vendetta, а римская вендетта еще хуже корсиканской.
Глава XXVI
Мондрагоне…Я все еще в Мондрагоне! Но я не ставлю числа на этом письме, не зная, одну ли строчку или целый том напишу я вам, Я продолжаю мой рассказ с того места, на котором его оставил. Бандит несколько раз попытался покинуть общество, которое он сопровождал, и ускользнуть во внутренность замка; но Оливия, с которой был ее старший сын и которая, вероятно, начала подозревать этого господина, не спускала с него глаз и вынудила его через несколько времени выйти вместе с путешественниками, с которыми он пришел в виде провожатого. Она со стуком затворила и заперла ворота, чтобы дать мне знать, что опасность миновала. Тарталья подал мне обед, как будто у нас ничего не случилось. — Ты думаешь, — спросил я его, — что этот честный господин — агент полиции? — Я в этом уверен, мосью. Вы опять скажете, что и я тоже, но это неправда. Я знаю, что он принадлежит к полиции, потому что он тот самый свидетель, который показал в пользу Мазолино, будто видел, как вы замарали фреску, и это показание его тотчас было принято, как только он перемолвил несколько слов с комиссаром. — Так и ты был там, если знаешь, как всё это происходило? Тарталья закусил губу и возразил: — Ну, что ж, если я и был там! Почем вы знаете, что я не был призван, как доверенный гражданин, чтобы представить сведения о вас? — Что же ты сказал обо мне? — Что вы молодой человек, неспособный вмешиваться в заговоры, что вы художник, немножко глуповатый, немножко сумасшедший. — Благодарю покорно. — Этим только я и мог отвести подозрения, и вы видите, что я вел себя в этом не как шпион, потому что прямо после допроса побежал предупредить Мариуччию, чтобы она вас спрятала. Вы не можете понять, почему я знал, что вы здесь; я должен был знать это, потому что сам подал мысль перевести вас сюда. Это объяснение порадовало меня. Оно оправдывало Даниеллу и ее излишнее доверие к Тарталье, в чем я в душе упрекал ее. Тарталья вызвал это доверие своим усердием и вполне его оправдывал в глазах моих. — Послушай, однако, — сказал я ему, тронутый его участием в моем деле, — не подвергаешь ли ты себя опасности твоей преданностью ко мне? — Что тут говорить, мосью, — отвечал он, — от опасности не убежишь. Опасно делать добро, опасно делать зло, опасно также ни добра, ни зла не делать. Кто думает об опасности, тот только понапрасну время тратит. На этом свете надобно делать то, что хочется делать, Я не выдаю себя за храбреца перед ружейным дулом, но я ни за что не отступлю в интриге, как бы она ни была опасна. Там, где ум к чему-нибудь может пригодиться, я ничего не боюсь, Я боюсь только грубой, бессмысленной силы, как вот море или пушка, как пуля и гром, словом, всего, что не рассуждает и что не слушает. В это время зазвенел колокольчик. Я сбежал к калитке цветника. Это был капуцин с вестями о своей племяннице. Она все советует мне быть терпеливым. Оливия велела сказать мне, что главная опасность миновала. Но в чем же заключалась эта опасность? Этого не мог мне объяснить добрый монах, но Тарталья думал, как и я, что речь идет о посещении Кампани: так называет он бандита с Via Aurelia. Капуцин пошел за нами в казино, и я с неудовольствием заметил, что он намерен расположиться там, как накануне. Ужин наш ему понравился, и он пришел ужинать, не то, чтобы он сознательно рассчитывал поесть получше, а так, послушный одному инстинкту, как собака, которая чутьем слышит кухню. Я не знаю ничего скучнее этого добряка, с его тремя или четырьмя пошлыми фразами, с его глупыми повторениями и бессмысленной улыбкой. — Набей ему брюхо, — сказал я Тарталье по-французски, — и постарайся скорее его выпроводить. — Это нетрудно, — отвечал мне Фронтен виллы Мондрагоне, — я это сделаю, не тратя даже наших запасов, которые нам понужнее, чем ему. — Любезный брат, — сказал он монаху, — нечего мешкать, я узнал, что в семь часов, то есть через десять минут, к нам приставят часовых. — Часовых? — воскликнул капуцин с ужасом. — Да, чтобы голодом принудить нас к сдаче, и если вы не хотите разделить нашу участь… — Молчи, — шепнул я на ухо Тарталье, — он перепугает Даниеллу этой вымышленной новостью. Но капуцин уже навострил лыжи, и мы должны были бежать за ним, чтобы отворить ему калитку. Тогда только Тарталья решил успокоить его, но уже опоздал. При свете луны, серебрившей своими лучами стены замка, перед нами блеснули два штыка, скрестившиеся под самым носом капуцина, и громкий голос произнес по-итальянски: «Не велено пускать». Шутка Тартальи стала правдой; вилла Мондрагоне была в осаде. Фра-Киприан в ужасе так прыгнул назад, что чуть не упал в объятия мраморной вакханки, лежащей в крапиве. — Черт возьми, — сказал мне Тарталья, захлопнув калитку с большим присутствием духа, но и с немалым страхом. — Жандармы, это новость! — Но это, — промолвил он, подумав, — меня не касается. Это невозможно, или, может быть, это только временная мера. Подождем, что завтра будет. — Нет, — отвечал я, — нам надобно сейчас же узнать, что об этом думать. Отвори калитку и потребуй, чтобы пропустили капуцина. Я прислонюсь к стене, чтобы меня не видели. — Почему и не потребовать? — отвечал Тарталья. — Полицейские видели, как я вошел сюда сегодня утром; они знают меня и ничего мне не сказали. Посмотрим! Он отворил калитку и предъявил свое требование. Унтер-офицер подошел к калитке и между ними завязался следующий разговор: — А, это вы, — сказал голос за калиткой. — Это я, приятель, — сказал Тарталья приветливо. — Здравствуйте. — Вы требуете позволения выйти? — Для бедного монастырского сборщика. Увидя меня, он попросил у меня подаяния, и я отворил ему, потому что… — Избавьте нас от выдумок. Брат квестор там, пусть там и остается. — Это невозможно. — Так приказано. — Надеюсь, что это приказание не относится ко мне, я пришел сюда ставить силки на кроликов… вы знаете, что их очень много в развалинах… — Сами вы кролик. Довольно, прошу замолчать. — Но… любезный друг… подумайте, кому вы это говорите, это я… я, который… — Который изменяет. Ребята, слушай! — Что это вы? Неужели вы думаете?.. Дайте мне сказать вам два слова потихоньку. Подойдите ко мне!.. — Я не подойду. Если угодно, я повторю вам отданное нам приказание: никто не может ни входить в замок, ни выходить оттуда в течение пятнадцати дней… и более!.. — Понимаю, — сказал испуганный Тарталья, — Cristo, вы, право, не христиане! Вы хотите уморить нас голодной смертью? — Вы принесли сюда еду и припасы сегодня утром. Не захватили побольше? Тем хуже для вас! — Но… — Но полно балагурить. Запирайте вашу калитку, или я скомандую пли! в эту дверь. Ребята, стройсь! Тарталья не стал ждать команды пли и поспешно запер калитку. — Плохо, очень плохо, мосью, — сказал он мне, когда мы привели в казино встревоженного капуцина. — Я не думал, чтобы дошло до этого. С полицейскими (между ними есть ужасные оригиналы) мы бы сладили; но эти черти жандармы и слушать не хотят; знай твердят свое проклятое приказание. Santo Dio, как бы убедить их пропустить этого монаха и позволить мне сходить завтра поутру за припасами? — Много ли их там? — С дюжину будет; они расположились в главной части древнего укрепления, что за стеной, прямо против больших ворот двора. Там крепкие своды, которые они заняли; я видел их лошадей. Оттуда они стерегут двое ворот, почти, можно сказать в упор. — Постой, — сказал я, — покамест капуцин отдыхает, пойдем-ка в обход. — К чему это, мосью? Мы оба все видели и все знаем. Вы сами знаете, что с северной стороны все заложено. К тому же, поглядите, — сказал он, осторожно выходя на маленькую террасу казино, — вот они и здесь; они даже разводят огонь, чтобы ночевать здесь! В самом деле, другие двенадцать жандармов занимали большую террасу, что внизу под нашей. Мы осмотрели все стороны замка, откуда только нам можно было бы спуститься по веревке с узлами, везде стояла стража. Мы насчитали до пятидесяти человек около нашей цитадели. Это было больше, чем довольно, чтобы держать нас в блокаде. Решетка эспланады (terrazzone), от которой у нас, впрочем, и ключа не было (она находится во владении Фелипоне) и которая очень близка ко входу в цветник, была также под стражей. Эта предосторожность была излишней, потому что мы не можем выходить на эспланаду. — Ну, теперь, мосью, — вскричал Тарталья, возвратясь со мной в казино, — мы совсем попались! Я уверен, что сюда-то они не пожалуют, буквально соблюдая запрещение кардинала входить в замок; на то, чтобы выломать петли дверей или сжечь эти двери, пятидесяти человек не нужно. Но нас истомят здесь не спеша или будут стрелять по нас, если мы вздумаем выйти. Не высовывайте так головы за балюстраду, мосью! Они готовы пустить в вас пулю, под предлогом, что у вас голова extra muros (за стеной). Тарталья совершенно упал духом, тем более, что капуцин, чтобы оправиться от испуга, доедал обильные остатки моего ужина. — Ogni Santi, — вскричал Тарталья, вырывая из рук его блюдо, — славным товарищем наделил нас Господь! Тут не поможет ни мой поварской талант, ни моя находчивость; что нам делать, мосью, с этим капуцином, который жрет за шестерых, с этим страусовым желудком, с этой пиявкой, которая готова сосать нашу кровь, когда мы будем спать? Убирайся к черту, любезный capucino! — прибавил он по-итальянски. — Я не берусь для тебя стряпать; ты можешь сам парить для себя траву, что растет на дворе; это недурно для человека, звание которого требует умерщвления плоти. Но только дотронься до наших припасов, я тебя, любезный, самого вздену на вертел, несмотря, что ты такой сухопарый и вовсе не аппетитный. Бедный капуцин упал на колени, прося пощады; он плакал, как ребенок. — Успокойтесь, брат Киприан, — сказал я ему, — и ты не слишком отчаивайся, любезный Тарталья. Положение наше совсем не так плохо, как ты думаешь. Во-первых, да будет вам известно, что как только у нас окажется недостаток в съестных припасах и всякая надежда на бегство будет признана невозможной, я не заставлю вас страдать бесполезно ни одной минуты. Я выйду сдаться им за стеной замка, и вас тотчас освободят. — Я на это никогда не соглашусь, мосью! — вскричал Тарталья с геройским исступлением. — Мы будем держаться здесь, хотя бы нам пришлось есть сырые коренья, пока у нас достанет силы разжевать их. — Благодарствуй, мой добрый Тарталья, но это мое дело. Как только жизнь ваша будет в опасности, я уже не буду связан клятвой, данной Даниелле. — Я освобождаю вас от этой клятвы, — пробормотал капуцин в умилении. — Прощаю вам всякое клятвопреступление и все грехи ваши. — Каков этот трусишка, этот эгоист! — возразил Тарталья с презрением. — Я вовсе не забочусь о его шкуре, но знайте, мосью, что, жертвуя собой, вы меня никак не спасете, Вы сами слышали, что меня обвиняют в измене… те, которые считают меня своим сообщником, чтобы преследовать и уговорить вас выйти отсюда! Теперь мои дела не краше ваших, и я предпочту высохнуть, как камень здешних развалин, чем иметь дело со святым судилищем. Мне тюрьма не впервой; я знаю, каково в ней! Выбросьте из своей головы это бесполезное великодушие. Что касается этого монаха, то я надеюсь, что вы не вздумаете подвергать себя и меня опасности из-за того, чтобы он не проголодался и не истощал. — Сдаваясь, я не подвергаю тебя никакой опасности; ты можешь остаться; но я не допущу страдать бедного человека, который пришел сюда… — Чтобы съесть наш ужин! Он только о том и заботился! — Но ведь он дядя моей милой Даниеллы, брат доброй Мариуччии и кроме того, он человек! — Вот уж вовсе нет! — вскричал Тарталья, забывая свое мнимое уважение к духовным особам. — Разве капуцин человек? Нет, уж я не допущу, чтобы вы сдались для спасения этого тунеядца, я лучше избавлю вас от него, спровадив его отсюда, каким угодно путем! Эти угрозы до того напугали капуцина, что он сидел на стуле, как окаменелый. Я заставил Тарталью молчать, просил монаха успокоиться и положиться на меня. Он слушал меня, как казалось, не понимая. В нем уже истощились способности волноваться и рассуждать. К тому же он так наелся макарон, в счет будущего голода, что чувствовал одну тяжесть пищеварения, засыпая за столом. Я отвел его на солому, уступив ему мое шерстяное одеяло, но он и не поблагодарил меня за эту жертву. Когда я возвратился, Тарталья был уже спокойнее. — Ну, мосью, — сказал он мне, — давайте-ка пообдумаем наше положение. Когда человек в беде думает, он всегда хоть немного утешится. Невозможно, чтобы Даниелла, зная, как стерегут… — Меня более всего тревожит ее беспокойство! Она готова встать, поехать в Рим… — Нет, ей нельзя этого сделать! Брат там и не допустит ее до этого. К тому же, если Оливия увидит, что ей опасно сказать, в каком мы положении, она скроет это от нее; зато и Оливия, и Мариуччия не будут сидеть сложа руки. И та, и другая могут съездить в Рим. Может быть, что и лорд Б… возвратился из Флоренции. Кардинал, узнавши, как перетолковали его запрещение, велит солдатам очистить парк и сады. Это продлится не более нескольких дней, и все дело в том, чтобы потерпеть это время на скудной пище. — А разве у нас есть припасы на несколько дней? — Разумеется. У нас есть ручные кролики, их четыре, а вдвоем можно прожить день одним кроликом. — Но нас трое! — Капуцин будет глодать кости; у него славные зубы, как у акулы! Кроме того, у нас есть коза! — Бедная коза! Не лучше ли ее оставить? Она дает молоко, а молоком можно жить. — Верно, козу оставим. Корму для нее есть вдоволь. В эту пору года то, что она выщиплет с одной стороны, подрастет с другой. Только не следует пускать ее в цветник, где она истребляет корни, которыми, кажется, можно бы питаться в случае нужды. — Точно, я видел там дикую спаржу. Мы запретим ей вход в цветник. — А что вы скажете, мосью, если бы вам подали иногда вертел, унизанный жареными воробьями? — Да, это иногда бывает недурно. — Этак, знаете, с ломтиком свиного сала на обертку. Я догадался принести порядочный кусок сала, которого нам надолго хватит. Притом мы можем ловить и диких кроликов силками, как я говорил жандарму, а здесь их всех и не переловишь. — Я не видал ни одного, но зато здесь водятся славные крысы. — Нет, мосью, прежде чем дойдем до этого, мы переведем всех птиц небесных. — Но как же мы добудем их? У нас нет ни ружья, ни пороху. — Мы наделаем себе луки да стрелы, мосью! Я мастер стрелять из лука; да и из пращи не положу на руку охулки. — Я думаю кое о чем повернее, — сказал я ему. — Мы будем делать шпинат из крапивы; я где-то читал, что это совершенно одно и то же. Тарталья поморщился. — Быть может, — сказал он, — но, кажется, что я уступлю мою часть этого блюда капуцину. Вы видите, что мы не скучали. Я помогал моему товарищу придумывать вкусные блюда, видя, что это его главная забота. Сам я заботился о том, чтобы как-нибудь выпустить из замка монаха и через него дать знать Даниелле, что я с терпением переношу свою участь и что припасов наших хватит надолго. — Послушай, — сказал я, Тарталье, — с этим делом покончено; мы с неделю можем жить не голодая. Но зачем нам сидеть сложа руки? Не поищем ли мы подземного выхода, который, без сомнения, некогда существовал и, вероятно, до сих пор существует? — Но дело в том, — отвечал он вздыхая, — существовал ли он когда-нибудь. — Ведь был же выход из этих кухонь, куда ты пытался пробраться? В них входили из замка, а выходили садом, внизу terrazzone. — Я понимаю вас, — сказал Тарталья, деятельный ум которого сразу пробуждается, как только затронешь его сметливость. — Если бы нам удалось найти выход из кухни, которую мы назвали befana, мы пришли бы к самому основанию terrazzone, между тем как жандармы стерегут нас наверху, и мы тотчас бы вошли в чащу олеандровой рощи, а из нее в кипарисовую аллею, а там на двор мызы, и Фелипоне, без сомнения, пропустил бы нас. Он славный человек, я его знаю. — Ну? — Ну, мы прошли бы через кухню, если бы там был выход. Но этот выход покуда неизвестен, мосью. Этот выход должен быть подземный, потому что я не слышу окриков часовых внизу у большого глухого контр-эскарпа terrazzone; это доказывает, что побег с этой стороны почитают невозможным, и потому часовых там не поставили. — Тем более должны мы направить наши усилия на эту сторону. Стену пробить всегда можно, будь она в десять футов толщиной. А может быть, и выход отыщем; я так же, как ты, надеюсь на это. — Так же, как я? Я не слишком на это надеюсь, хотя и слыхал, что выход был. Но вы забыли, мосью, что мудрость не столько в том, чтобы выйти из этой знаменитой betana, сколько в том, чтобы войти в нее. — Что ж, а подвал в pianto? А твоя початая полоса решетки? А твоя английская пила, которая всегда при тебе? А наши руки, готовые работать? — А камни, что осыпаются, мосью? А трещины, что увеличиваются, как только пошатнуть решетку? — Велика важность! Мы подопрем чем-нибудь. — Мы подопрем здание в сто футов вышиной, мы, вдвоем с вами? — Да, нескольких кирпичей, смышленно подставленных достаточно, чтобы не дать обрушиться куполу Св. Петра. Теперь только девять часов; вот поднялся ветер; он заглушит шум нашей работы. Это редко случается с некоторого времени, и этим обстоятельством надо воспользоваться. Мы сегодня не ужинали, следовательно, расположены к работе, мы в прекрасном настроении духа. Неужели нам ждать, пока настанет голод, тоска, уныние?.. — Пойдем, пойдем, мосью, — вскричал Тарталья, вставая, — и пойдем с охотой, весело, по-французски! Но, взявшись за свечу, он остановился. — Не лучше ли пораньше лечь и сберечь свечу? Свечей нам надолго не хватит, а здесь без свечей и неприятно, и неудобно, и опасно. — Свечей у нас также хватит на неделю, теперь дело за тем, как бы отсюда выбраться. Когда Тарталья показал мне подпиленную решетку, я с горестью увидел, что, вынув эту решетку, мы непременно обрушили бы перемычку окна, а как знать, где остановилось бы это разрушение в здании, более пятидесяти лет остающемся в запустении? Однако, рассмотрев повнимательнее, я убедился, что, подставив груду кирпичей под средину перемычки и подперев нижние ее части двумя каменными шарами, которые когда-то служили украшением, а теперь валялись в терновнике, можно было вынуть решетку без опасения и пролезть в оставшееся отверстие слухового окна. Приняв все меры предосторожности и собрав нужные материалы, мы приступили к работе. Плеяды были у нас над самой головой, то есть было около полуночи, когда мы вынули без несчастного случая обе перекладины решетки, и пред нами открылось отверстие, в которое мы могли пролезть. Но мы устали, нам было жарко, и Тарталья не решался отважиться на приключение. Он чувствовал головокружение, ему казалось, что земля колебалась у него под ногами, и он упросил меня подождать до завтра. — Если до завтрашнего утра ничего не обрушится, я клянусь вам, — сказал он, — что буду весел, как дрозд, и спущусь туда, насвистывая качучу. Я уступил его просьбе, и через час мы уже спали, несмотря на перекличку часовых вокруг наших стен и на бивачные огни, которые бросали красный отблеск на камни террасы казино.
Глава XXVII
22 апреля. Мондрагоне.Вчера утром мы плотно позавтракали, несмотря на мои советы быть умеренным и благоразумным, Тарталья страстно любит поесть. Приготовить хорошее блюдо и съесть свою долю — для него первостепенное наслаждение, умственное и физическое. Он очень расположен к хозяйственным занятиям, и его любимая мечта быть дворецким в богатом доме. В ожидании этого благополучия, он очень рад распоряжаться в развалинах Мондрагоне мнимой прислугой и отдавать приказания для пользы и удовольствия своих господ. Мне кажется, что у него бывают минуты, когда он почитает меня за тень старинного папы, потому что жаждет моего одобрения с наивным усердием, и я вынужден осыпать его похвалами, казаться тронутым его стараниями, иначе он печалится и приходит в уныние. Кажется также, что, со своей стороны, он играет свою комическую роль в намерении развеселить меня. Впрочем, это, может быть, укоренившаяся привычка выставлять себя на вид паясничаньем. Сегодня утром я застал его в цветнике с капуцином, которому он подвязал грязную тряпку, вместо кухонного фартука, и заставил его копать полевую спаржу. Он дал ему прозвище, называя его уже не братом Киприаном, a carcioffo (артишок). «Здесь нет монаха, — говорил он, — здесь чумичка, чтобы чистить зелень, щипать птицу под руководством кухмистера Тартальи, а если carcioffo не будет работать, карчоффе не дадут есть». — Ты забыл об одном, — сказал я ему, — у нас нет ни зелени, ни птицы. — Вы ошибаетесь, эччеленца. Вот спаржа — не велика, но зато какая сочная. Что же касается птицы… посмотрите! — Он указал мне на убитую курицу в его корзине. — Так ты выходил? — Увы, ни шагу! Я пытался, но только я их позвал через калитку, как вчера, они отвечали грубым, бессмысленным словом «кладьсь»; я ответил «пли!» и захлопнул калитку, а они расхохотались. — Они смеялись, это добрый знак для тебя; может быть, они и смилостивятся над тобой? — Нет, мосью, итальянец всегда смеется, но это не смягчает его. — Но откуда ты взял курицу? — Мне дали ее они; жандармы дали мне ее, мосью. — Вот еще! Так они согласны доставлять нам припасы? А в таком случае… — Нет, нет, они ничего нам доставлять не будут; не так они глупы; но они все-таки на поверку и не очень умны. Эта бедная курица подошла, Бог знает откуда к их овсу, а они хотели поймать, но только напугали ее; а так как у нее есть крылья и она хоть кое-как летает, то вот она и прилетела на нашу стену, да и уселась там; а я ее камнем, она и упала к моим ногам. А ведь ловко потрафил, мосью! — Да, нечего сказать. — Но она упала не от удара камнем, — заметил капуцин, — она летела возле меня, и я помог вам поймать ее и свернуть ей шею. — Молчите, carcioffo, — прервал его Тарталья, — вы никогда не должны перечить своему начальнику! Видя, что капуцин смеется и позволяет Тарталье подшучивать над ним, лишь бы тот кормил его, я счел долгом не вмешиваться в их отношения. Я, однако же, не подавая вида, наблюдал за ними с тем, чтобы заступиться за бедного монаха, если наш хитрец слишком будет нападать на него. Но я скоро убедился, что Тарталья, при всех его недостатках и пороках цыгана, добр по природе и даже великодушен. Осыпая монаха угрозами и насмешками, он заботился о нем. Капуцину было это на руку; если бы он был предоставлен целиком себе, он совершенно оглупел бы от страха и своего печального положения. После завтрака я заметил, что Тарталья старательно убирал какие-то свертки. Это был запас вермишели и capellini, другого теста того же рода; все это он принес третьего дня утром и не хотел мне показать, сколько у нас было этого припаса. — Нет, нет, — сказал он, прикрывая мешочки своим фартуком, — вы готовы давать этого капуцину, сколько он пожелает, а его не накормишь. Он будет есть с нами, и мы его не обделим. — Пусть так будет. Но пора бы на работу в pianto; что ж, идешь ты? — Пойдем! Но прежде уберем все и запрем казино. Мы оставили капуцина на молитве и возвратились к нашему слуховому окну, захватив с собой веревку и две свечи. Все обстояло благополучно. Маленький свод не осыпался; ни одна из частей здания не осела. Мы без труда спустились в подвал, взобрались на груду обломков, которыми завалена арка, и примерно за час прочистили в них для себя проход. Тарталья более говорит, чем работает. Работа первопроходца не по нему, но он поощряет меня своей болтовней, которая начинает очень забавлять меня! Аркада кажется мне весьма важным открытием. Она выходит на галерею, которая идет полукругом и в которой, по-видимому, был устроен водопровод для кухни — цели наших поисков. Галерея эта имеет футов пять в ширину и от пятнадцати до двадцати в вышину. Это прекрасное сооружение; свод до сих пор хорошо сохранился. Следы отстоя по бокам доказывают, что здесь была некогда вода. Судя, однако же, по высоте свода, можно подумать, что галерея эта построена для проезда конных ланцкнехтов. Мы шли со свечами в руках минут пять и, если я не ошибаюсь, были уже под terrazzone, следуя полуокружному направлению этой террасы. Никакой звук не доносился до нас. Мы уже торжествовали, как вдруг путь нам был пресечен обвалом, который, по-видимому, случился за много лет перед тем. Свод провалился. Вода, просачиваясь в terrazzone, была, вероятно, тому причиной. На земле была лужа, куда вода падала капля за каплей. — А, может быть, это от землетрясения? — сказал Тарталья. — Что нам доискиваться причины! — отвечал я. — Посмотрим, удастся ли нам преодолеть это препятствие. Я возвратился, считая шаги свои, сверяясь с направлением галереи, выслушивал воспоминания и замечания моего товарища о форме и протяжении terrazzone. Не было сомнения, что мы находились тогда у центрального наружного фасада. Свод над головами нашими поддерживал громадную и великолепную балюстраду, окружающую эспланаду террасы. Дверь, выход, какое-нибудь отверстие непременно было здесь, под этими грудами. Надо было пробраться сквозь них. — Мы пройдем здесь, — сказал я Тарталье, — мы должны непременно пройти здесь. Мы старательно осмотрим положение обломков, не тронем тех, которые охраняют нас от дальнейшего разрушения свода, окопаем камень по камню и пророем в мусоре коридор, удобный для прохода. — Это, во-первых, опасно, — заметил он, качая головой, — во-вторых, может продлиться более месяца. — Но, быть может, эта работа не будет ни продолжительна, ни Опасна, как знать это? — Точно так же, как то, что и наша блокада может не продлиться и не подвергнуть нас опасности, если мы подождем конца, не тратя сил и не рискуя собой. — Но блокада может также быть и продолжительна, и опасна, если мы будем ждать конца, как у моря погоды. — Вы правы, мосью. О, я люблю людей, которые здраво судят. Кроме того, в вас есть и вера в успех, и отвага, которые мне нравятся… Чувствую, что с вами я мог бы сделать многое, на что никогда не отважусь один. С вами я готов сойти в кратер вулкана, даже в преисподнюю. Мы возвратились за орудиями, то есть за тем, что мы надеялись сделать полезным с помощью инструментов, оставленных в замке плотниками. Так как эти инструменты были брошены за негодностью, то сначала они были не очень нам полезны; но мы нашли огромный лом и еще довольно целый заступ, и с сегодняшнего утра работа наша идет лучше. В продолжение дня мы прокопали траншею в три фута. В часы отдыха мы наблюдаем за часовыми; им, кажется, порядком наскучило стеречь эти развалины, в некоторых местах угрожающие падением. Тарталья придумал сталкивать вниз время от времени камни, чтобы их тревожить. Но это опасная игра; они стали подозревать, и офицер приказал стрелять в первую брешь, которая в стенах откроется. Наблюдая за этими жандармами, я вижу, что они гораздо хитрее наших. Они недаром итальянцы! Я думаю, что они не неподкупны, но со мной нет столько денег, чтобы подкупить их, если бы я и мог завязать с ними отношения; до сих пор это невозможно, но причине строгого надзора их командиров. Я не скучаю и не унываю. Если бы не печаль, которую я чувствую при мысли, как должна тосковать Даниелла, и не грусть, овладевающая мной, когда подумаю, как мало длилось мое счастье, я не сетовал бы на теперешнюю странную жизнь мою. Тарталья смешил меня, против моей воли, а капуцин, кажется, без усилия привыкает к роли carcioffo. С четками на руке, на коленях пред Мадонной, что на портике, он спит все время, покуда мы работаем. Предусмотрительность не бичует его воображения, и покуда ему будет что положить на зубы, он сохранит улыбку блаженного кретинизма. Я писал к вам эти строки, между тем как Тарталья накрывал на стол. Вдруг Тарталья крикнул мне. — Мосью, мосью, поглядите, поглядите! Как объяснить это? Не во сне ли я вижу это? Посмотрите туда, на верхи этих больших кларнетов на terrazzone! Я поднял голову и увидел, что уродливые рожи на верхушках огромных труб выделялись черными пятнами на красноватом фоне, между тем как из их открытых пастей вырывались клубы дыма. — Все пропало, бедный Тарталья! — вскричал я, — Жандармы нашли вход в знаменитую кухню, расположились и устроили там свою стряпню. — Нет, нет, мосью! Посмотрите, они также удивляются, как и мы! Они так же смотрят и переговариваются между собой, думая, верно, что мы подожгли замок. Да как же зажечь эти подвалы, спрашиваю я вас? Экие дураки! Но они в тревоге побольше нас, потому что не смеют оставаться на террасе. В самом деле, ужас овладел нашими сторожами, так что офицеры едва могли успокоить их. — Обстоятельство это стоит внимания, — сказал я Тарталье. — Как объясняешь ты себе это? — Никак не объясняю, — сказал он крестясь. — Мне давно говорили, что бес возвращается сюда и что тогда на кухне горит огонь, как во времена лукулловских пиров, что давали здесь папы. Но я не верил и никогда не поверил бы этому. Я теперь, признаюсь вам, каюсь в своих прегрешениях и поручаю душу свою Господу.
Глава XXVIII
Мондрагоне…Все еще не выставляю числа на моих записках, прежде чем не опишу целого ряда приключений, которые предстоит мне рассказать вам: пишу, когда и как случится. Но я все-таки продолжаю делить мои записки на главы; это служит мне точнейшим определением тех минут, которые я посвящаю вам. Вам известно, что я человек аккуратный; качества этого не теряю и теперь посреди моей тревожной жизни. Я оставил вас, может быть, погруженным в догадки об этом фантастическом дыме, который вылетал из длинных труб большой террасы. Я не знал, как объяснить это явление, но нисколько не разделял ужаса Тартальи. Напротив, это необъяснимое обстоятельство внушало мне какую-то смутную надежду. Я даже расхохотался, услышав, как мой Скапен, посреди своих молитв, в которых поручал Богу свою бедную грешную душу, вдруг сделал такое замечание: «Ах, Боже мой, как запахло жарким!», а потом принялся причитать прежним жалким тоном: «Помилуй меня, Господи! Поставлю двенадцать свеч моему святому патрону, если ты спасешь меня от» этого дьявольского наваждения… А ведь очень хорошо пахнет, пахнет кухней… Я целые двое суток ничего не ел, и теперь готов проглотить самого черта!» — Да, ты правду говоришь! — вскричал я, пораженный верностью его замечания. — Точно кухней пахнет. — Да еще какой кухней-то, мосью. Здесь нам так и бьет в нос, в упор, а карабинеры эти там внизу ничего не чувствуют! Об заклад побьюсь, что им кажется, будто порохом пахнет! Они думают, что мы подложили под террасу пороху и сейчас взорвем ее! — Право? Если так, то нельзя ли как-нибудь воспользоваться смущением солдат, чтобы улизнуть отсюда? Ну-ка, посмотри хорошенько, у тебя ведь рысьи глаза, так ли они отсюда далеко, чтобы нам можно было спуститься по веревке? — Нет, нельзя, мосью; они и направо и налево, в самых аллеях, которые подходят к terrazzone; они увидят нас, как вот я теперь вас вижу; месяц отлично светит! — Ну, что ж, пусть себе стреляют в нас; не попадут! Терраса велика. — Да уж так-то велика, что я никак не подумаю переходить ее ни вдоль, ни поперек под их выстрелами! Да что ж и делать-то мы будем, когда достигнем балюстрады? Опять спускаться по веревке? Да когда тут привязывать ее? Да и к чему привязывать? Перила-то совсем не держатся! А разве вы думаете, что в кипарисовой аллее нет солдат? — Какая аллея! Стоит только спуститься с эспланады, а там уж будет куда бежать и где скрыться: перед нами целая миля садов и парков, пропасть деревьев, развалин и всяких трущоб. — Ай, ай, ай, мосью, как запахло рыбой! — Да. Но что нам за дело до этой дьявольской кухни? Бежать надо. — Нет, уж поздно, мосью! Вон уже карабинеры опять на тех же местах, и дым уж стал меньше. Монсиньор Люцифер сел теперь кушать, а мы сиди-посиди здесь в тюрьме. Мы приглядывались несколько минут к нашим сторожам и видели, как офицеры храбро шагали по большой террасе, стараясь снова занять ее солдатами; потом видно было, как они примирились с мыслью, что достаточно поставить часовых только по концам террасы, чтобы стеречь это пустое пространство. — Они боятся, — сказал я Тарталье. — Стоит только нам произвести внизу какой-нибудь шум, похожий на подземный взрыв, как они все разбегутся; я уверен, у них теперь только и на уме, что подкопы да взрывы. — А у меня так другое на уме, поумнее, мосью, — возразил Тарталья, выходя из своего размышления. — Послушайте-ка… — Ну-ка, что? — Ведь мы здесь не одни спрятались… или вы еще не уверены в этом? — Не менее твоего; но в чем же дело? — А вот в чем, мосью: люди, которые так славно там стряпают под terrazzone, не боятся выдать себя дымом, и без всякой жалости возбуждают наш аппетит… — Постой! — прервал я его. — Слышишь? Или скажешь, что мне и теперь почудились звуки фортепиано? — Слышу, мосью, очень слышу, я не глухой. Славное фортепиано! Отличная музыка!.. Э, да это из «Нормы»! Эх, если б была теперь моя арфа, вы бы услышали премиленький дуэт, мосью! Мы несколько минут прислушивались к этой фантастической музыке, хоть и не такой отличной, как отозвался о ней Тарталья, но которая при всех наших тревогах возбудила в нас чувство безумной веселости, как это часто бывает во сне, при самых неприятных грезах. Мы удивлялись также тому, что солдаты оставались совершенно равнодушны к этой новой странности. Очевидно было, что они не слыхали музыки и что полые колонны terrazzone, будто акустические трубы, доносили к нам эти таинственные звуки, которые тотчас же терялись в верхних слоях воздуха и были не слышны для наших сторожей, находившихся сотней футов ниже нас. — Так вот как, — заметил Тарталья, — они живут там, внизу, другие-то! У них там прекрасные покои, кушают они славно, да еще отличная музыка за десертом! И они не воображают, что над головами у них стоят карабинеры! — Что они воображают, мы не знаем, а знаем, что сию минуту карабинеры не воображают, что под ними живут люди. — Это точно! То-то они так и испугались этого дыма. Стало быть, точно, как я докладывал, мосью, у нас есть там товарищи по заключению; только как они вошли сюда? — Видно, есть какой-нибудь выход, неизвестный карабинерам. — Отвечаю вам, что и полиции этот выход не известен. — А также и Даниелле, и Оливии; они бы мне сказали, если б знали. — Они, стало быть, не знают, что здесь есть еще другие заключенные, а то бы и об этом нам сказали. — Ну, так что же? — А то же!.. Да если б был выход из этого чертовского замка под большой террасой, то эти господа постарались бы убраться отсюда поскорее, а не сидели бы там, да не кушали бы, да не разучивали бы «Нормы» Беллини. — Я то же думаю; им должно быть еще хуже, чем нам. — Это очень занимает меня, — продолжал Тарталья, покачивая головой. — Вы слышали, как отворяли и затворяли двери. Между нами и этими господами есть какое-нибудь, сообщение, получше этой проклятой галереи, которая нас завалит, если мы все еще будем копаться в ней. Мы не там искали, мосью! — Поищем еще. — Я то же хотел сказать. — Возьми-ка наши инструменты и зажги фонарь. — Да что за черт! Покушайте прежде, мосью. — Нет, мы пообедаем после, надобно действовать по вдохновению, пока оно еще не прошло. Почему-то я уверен, что мы будем иметь успех, убедившись теперь, что в замке есть еще другие. — Дайте мне взять побольше зажигательных спичек, мосью; я храбр, когда светло. — Пойдем через мою мастерскую; там найдем все, что нужно. Мы вошли в старую папскую капеллу, которую я позволяю себе называть без церемонии своей мастерской, чтобы там запастись всем нужным. На глаза мне бросилась начатая мной картина, которою, замечу в скобках, я не совсем недоволен, и мне пришла в голову мысль, что какой-нибудь новый случай помешает мне докончить ее, так же как и альбом, в котором я записываю для вас мои приключения. Какое-то детское чувство привязанности к этим двум вещам, которые служили приправой моим радостям и развлечением в минуты горя, овладело мной, и я вскарабкался по лестнице до одного углубления в стене, которое было случайно открыто мной на этих днях. Туда я спрятал мою картину и рукопись. В случае, если мне придется вдруг оставить замок, думал я, может быть, я найду их здесь когда-нибудь. — Что вы тут делаете, мосью? — сказал Тарталья с беспокойством. — Нет ли уж у вас какого предчувствия? Вы меня совсем обескуражили, а я было надеялся на успех нашей экспедиции. Я еще был на лестнице, но не мог ни спуститься с нее, ни отвечать ему. Мы переглянулись оба с одним и тем же выражением сомнения и удивления; нам показалось, что кто-то слегка постучал в дверь, находившуюся в глубине капеллы. Тарталья, не говоря ни слова, снял с себя башмаки, подошел к двери и приложил к ней ухо. В нее тихо стукнули еще раз. Я дал ему знак отворить дверь. Любопытство превозмогло во мне над опасением. Тарталья испытывал противоположное побуждение; он весьма энергично дал мне знак хранить молчание и наклонился поднять письмо, которое кто-то просунул под дверь. Я схватил это послание и поспешно распечатал его, В нем содержалось следующее, на французском языке: «Князь Мондрагоне просит вас сделать ему честь отобедать и провести вечер у него. Будет музыка». Письмо было адресовано таким образом: «Милостивому государю Жану Вальрегу, живописцу, в его мастерской в Мондрагоне». Розовая атласная раздушенная бумажка была с вырезными краями, с красивым бордюром и украшена на уголке раззолоченным и раскрашенным гербом. В совершенном остолбенении рассматривал я эту странную записку, между тем как Тарталья держал себя за бока, чтобы не расхохотаться: так это казалось ему забавно, и так приятна была мысль об обеде! Но когда я хотел отворить дверь подателю этого вежливого приглашения, Тарталья, возвратившись к своему страху, стал мне поперек дороги. — Нет, нет! — сказал он тихонько. — Это, может быть, ловушка; не попадитесь в нее, мосью. Это мне напоминает ужин командора в «Дон-Жуане»! Стукнули в третий раз, значит, просят ответа. Я оттолкнул Тарталью, громко упрекнув его за излишнюю подозрительность, и впустил грума, очень хорошо одетого и со смышленой наружностью. — Кто это князь Мондрагоне? — спросил я, заглядывая, нет ли еще кого-нибудь за ним. — Это мой господин, — отвечал мальчик без запинки, удерживая веселое, а быть может, насмешливое настроение под почтительным видом хорошо дрессированного лакея. — Славный ответ! — вскричал Тарталья. — Много мы из него узнаем! Мне известно все итальянское дворянство и, клянусь вам, мосью, никогда не слыхал я о князе Мондрагоне! — Что же прикажете ответить князю? — спросил грум, нимало не смутившись. Я счел должным показать такое же хладнокровие и принять эту фантасмагорию за самое обыкновенное дело. — Скажите вашему господину, что я очень охотно воспользовался бы его приглашением, если б у меня был фрак; но… — О, это ничего, сударь! Дам не будет, К тому же известно, что вы путешествуете. — Он думает, что мы путешествуем, — сказал Тарталья жалобным голосом. — А меня-то приглашают? Я не останусь один. — Я со своей стороны приглашаю вас, — отвечал грум. — В официантской также будет обед и вечер. — Но… — возразил Тарталья, передразнивая мой ответ, — у меня нет Ливреи. — Ничего, вы тоже путешествуете. — Да, бишь, путешествую! Я и забыл. — А в котором часу обед? — спросил я. — Сейчас, сударь, только вас и ожидают. — А, так за мной стало дело? Очень хорошо. А где живет князь? — Под большой террасой, сударь. — Знаю; но как дойти туда? — Если вам будет угодно следовать за мной… — сказал мальчик, поднимая маленький глухой фонарь, который был поставлен им у порога капеллы. — А, мосью, — вскричал Тарталья, к которому возвратилась его обычная веселость: — следовало бы немножко почистить ваше пальто, да немножко завить вам волосы!.. Да ведь кто ж мог ожидать этого? Мы пошли за грумом, который повел нас прямо в pianto, сошел с лестницы, проник в один из погребов, которые я прежде осматривал, пробрался через кучу обломков, вежливо светя нам фонарем и предупреждая нас о каждом препятствии на пути, который, по-видимому, был в точности ему известен. Наконец, он скользнул в узенький проход и остановился перед маленькой нишей, где и я прежде останавливался в моих поисках. Тут он подавил пальцем какой-то гвоздик, и тем привел в движение колокольчик, а сам стал в нишу и, сняв учтиво шляпу, сказал нам: — Извините, что я войду вперед; я должен доложить о вас. — Затем он медленно повернулся и исчез. Это было нечто вроде тех поворотных поставцов, которые в строгих монастырях служат средством для передачи приношений снаружи. Этот поставец из цельного дерева и покрыт остатком живописи, так что я не мог отличить его от старой фрески, служащей ему рамой. Повертываясь на своем железном стержне, он издал тот самый глухой шум, который так встревожил меня прежде. Эта машина повинуется толчку, который сообщается ей сзади, где массивные задвижки запирают ее, как бы настоящую дверь. Скрыв от наших глаз грума и представив нам свою выпуклую сторону, она потом повернулась опять своей вогнутой стороной: я поместился туда и вдруг очутился перед человеком в белой куртке и фартуке; человек этот поцеловал у меня руку и поспешил повернуть полуцилиндр, в котором появился в свою очередь Тарталья, хлопая в ладони и вскрикивая от удивления. Он находился в знаменитой громадной мондрагонской кухне, в этой кухне его мечтаний, в «бефане»! Опишу вам эту местность, может быть, единственную в мире, особенно в тех обстоятельствах, среди которых она открылась моим взорам, и опишу так, как будто с первого же раза я отдал себе отчет во всех подробностях, которые лишь мало-помалу были мною осмотрены. Это был зал со сводом, который разделялся на три части двумя рядами толстых пилястров. Он походит на какую-нибудь подземную церковь, с тремя нефами, и очень велик. Одна сторона немного как бы пошатнулась, но, кажется, подперта хорошо: это та самая сторона, которая примыкает к «пианто» и, вероятно, к обвалившейся части галереи, которую открыли мы с Тартальей; потому что вода, которую мы там видели, проникает сюда и образует в этой части кухни прекрасный резервуар в уровень с помостом. Вода бежит по помосту, крутится между обломками развалин и исчезает в тёмной расщелине с таинственным шумом. В другом боковом нефе топились в эту минуту две из четырех громадных печи, дым которых проникал на террасу «казино». Приятный запах, которым наслаждался Тарталья, объяснялся здесь достаточными причинами. Кроме поваренка, принявшего меня при входе, большой повар с черной бородой, величавый, будто сам владыка преисподней, двигался медленно вокруг печей и надзирал за дюжиной кастрюль, выглядевших очень приятно. Не было ни двери, ни окна, ничего, что могло бы изобличить существование этой огромной кухни, которая достаточно нагревалась и снабжалась воздухом посредством своих больших печей, Все прежние выходы были заложены деревянными брусьями, толщина которых равнялась глубине амбразур; только в центре большой, средней части зала находилась широкая лестница, которая вела вниз в перистиль, замыкавшийся аркадой с низким сводом. Этот перистиль устлан соломой, и четыре добрые лошади были привязаны там, точно в конюшне; но всего любопытнее в этой резиденции был конец центральной части, служивший помещением самому господину и устроенный следующим образом:. В полуротонде, несколько более возвышенной над почвой, чем остальная часть здания, стояла большая мраморная чаша, вероятно, соответствующая наружному фонтану, находящемуся у подножия контрфорсов террасы. Из этой чаши с перерывами била в тростниковую трубочку струйка воды. Горшков двадцать с цветами окружали этот фонтан, То были довольно обыкновенные парниковые цветы и несколько маленьких апельсиновых деревьев; но слабый запах этих растений подавлялся испарениями растопленного жира и рыбы, варившейся на вине, — испарениями, так приятно щекотавшими обоняние Тартальи и обильно наполнявшими атмосферу, в которую мы были введены. Впрочем, полуротонда, где уже был накрыт стол, представляла вид некоторого комфорта, хитро завоеванного у печального запустения здания. Холодные стены были обтянуты старыми коврами, футов десять в вышину. Пол был устлан рогожами, а под столом длинношерстными козьими шкурами. Большая софа, ветхость которой была прикрыта растянутыми поверх плащами, и четыре кресла, на которых вместо чехлов набросаны были белые десертные салфетки; довольно безобразное пианино, поставленное для предохранения от сырости на эстраде, устроенной из некрашеных досок; большая жаровня с горящими угольями, которая припекала бедный инструмент с одной стороны, между тем как с другой он зяб от соседства фонтана, — обстоятельства, достаточно объяснявшие мне, почему он казался мне так фальшив; великолепный письменный стол a la Pompadour с набором из розового дерева, до половины уже выпавшим, и с позеленевшей медной оправой; очень изящный туалет из дорожного несессера, расположенный на деревянном белом столе, который был покрыт вместо салфетки большим кашемировым кашне; железная кровать, покрытая стеганым одеялом из индийского ситца с цветами и огороженная старыми ширмами; гитара с тремя только уцелевшими струнами; стол, накрытый посередине и уставленный старинным фаянсом, разрозненным и выщербленным, но и в этом виде еще очень дорогим; наконец, как предмет роскоши и вкуса, маленькая миртовая беседка, в которой поставлен amorino из белого мрамора; таковы были обстановка и украшения этой импровизированной комнаты. Все остальное служило вместе кухней, прачечной, конюшней и помещением для слуг, постели которых, состоявшие из доски, связки соломы и плаща, были очень опрятно расположены на колоссальных базах пилястров. Повторяю, вся эта опись составлена мною не вдруг, потому что в первую минуту, при переходе из темноты к яркому свету факелов, освещавших весь этот зал, и свеч, блиставших в той части, где был накрыт стол, если я и видел что-нибудь, то решительно ничего не мог понять и сообразить, кроме разве того, что следовало отвечать на вежливые приветствия какого-то господина, который подбежал встретить меня и предупредил меня, что он не сам хозяин, а друг князя, и приглашал меня с собой в салон. Этот салон — вы уже знаете его — было пространство, заключавшееся между софой, креслами, пианино, фонтаном и жаровней. Этот господин, лицо которого сильно шевелило во мне какое-то живое воспоминание и перед которым слуги сторонились, называя его signor dottore, шутливо просил у меня извинения в том, что вел меня через кухню, конюшню и людскую. — Дом князя так дурно расположен, — сказал он, смеясь, — что другого входа нет; но неудобство это вознаграждается, — прибавил он с выразительным видом, останавливаясь в центре зала и показывая мне лестницу, которая спускалась к аркаде, заложенной лишь кучей соломы, — вознаграждается тем, что отсюда есть выход!
Глава XXIX
В ту же минуту, как будто в подтверждение этих слов, вошел конюх и принес овса лошадям, которые были поставлены в перистиле у подножия лестницы. Я уже хотел выразить приятное удивление при таком открытии, как князь спустился по двум ступенькам из своего святилища и подошел ко мне. — Вы видите, — сказал он, — что вы свободны, и если нетерпелива хотите удалиться, я вас не удерживаю здесь насильно; но так как я сам располагаю отправиться (вот и мои лошади), то, думаю, вам было бы приятнее сначала пообедать и в порядочной компании подождать полночи, самого удобного времени для людей, которые, подобно нам, имеют дело с местной полицией. Друг мой, — прибавил он, обращаясь к Тарталье, который следовал за мной, как собака, — ступайте к моим людям, я уже приказал им позаботиться о вас. — Мосью, мосью, — сказал мне Тарталья, удерживая меня за платье, — не соглашайтесь на этот обед, не говорите с этим человеком. Я знаю его, это князь!.. Тот, кого называли доктором, взял меня под руку, стараясь увлечь вслед за князем. Тарталья, зайдя с другой стороны, шепнул мне на ухо: — Это портит наше дело и может повредить нам, Мы теперь попали в общество… — Что же вы не идете? — сказал доктор, который думал, что я робею. — Пожалуйста, не пугайтесь князя, это самый любезный человек на свете. — Верю, — отвечал я, — но позвольте мне перемолвиться с товарищем моих приключений. — Ах, извините, я не буду вам мешать! Я отступил с Тартальей на несколько шагов назад. Он хотел говорить, но я перебил его. — Нечего тебе объяснять мне, у кого Мы теперь находимся; об этом мне, конечно, скажут. Впрочем, эта таинственность меня забавляет. Но ты свободен, тебе сказано это. Если хочешь бежать… — Один и натощак, мосью? Нет, уж извините! Мы в гостях у черта, и я хочу познакомиться с его кухней. — Но если ты мне точно друг, как уверяешь, то твое бы дело разузнать теперь этот подземный ход и дать знать в виллу Таверна, что… — Я вам друг, — отвечал он, — и постараюсь уведомить Даниеллу, что мы бежим нынешнюю ночь. — Нет, нет! Скажи ей, что я могу бежать; но что я не отправлюсь без нее, и буду ждать ее выздоровления. — Cristo! Вы не хотите воспользоваться… — Ах, сделай милость, оставь свои рассуждения! Ведь ты теперь совершенно свободен. Ступай, если ты меня любишь! Теперь я знаю, что этим словцом можно все сделать из Тартальи. Он бросился к лестнице, но доктор, который не терял нас из виду, подошел к нам и сказал вежливым, но вместе и серьезным тоном: — Не посылайте его теперь никуда; с вашей и нашей стороны это было бы большое неблагоразумие. Подождите полуночи… Разумнее было покориться и позвать назад Тарталью, который отправился тотчас хлопотать около кастрюль и свести знакомство с поварами. Я последовал за доктором и князем в салон, где мне предложили кресло. Князь, разлегшись беззаботно на софе, очень свободно завязал со мною разговор о живописи и предложил мне несколько вопросов о том, каково мое мнение о влиянии Италии на иноземных артистов, о современных французских мастерах; нисколько не касаясь нашего настоящего положения, он остроумно и легко рассуждал обо всех предметах, за исключением того, который должен был особенно интересовать меня. Во время этого разговора, удивительно спокойного и гораздо более уместного в каком-нибудь парижском салоне, нежели там, где мы находились, доктор ex-professo занимался приготовлениями к столу и вместе с камердинером старался всячески скрыть недостаток изящества или комфорта. Грум заботился только о том, чтобы пускать вверх струю воды, и, меняя тростниковые трубочки, он беспрестанно брызгал на нас; князь с большим терпением переносил его шалости и только время от времени замечал ему: — Карлино, будь же осторожнее! Здесь и так довольно сыро. Князь заговорил о своем помещении, беспристрастно разбирая его выгоды и невыгоды. — Оно очень дурно, — сказал он, — но расположено на хорошем месте! С террасы казино вид великолепный. Я не мог удержаться от замечания, что мое помещение гораздо лучше и что он должен терпеть большие неудобства в этом огромном погребе. — Это совсем не погреб, — возразил он. — Мы живем в горе, вот и все; и если бы не вода, которая разливается из многих прорвавшихся каналов и просачивается сквозь стены, то здесь было бы так же сухо, как у вас; впрочем, как видите, при хорошей топке это не беда. — Однако же здесь и окна и двери заделаны… Солнце никогда не проникает в этот огромный зал? — За исключением двух последних суток мы только ночевали здесь. Дворы замка так обширны, так хороши, а маленький монастырь просто восхитителен! Достаточно сделать несколько шагов, и мы можем дышать чистым воздухом; а здесь, — прибавил он, показывая на середину здания, где находилась лестница, — у нас дорога в поле. В этом-то и заключается главное достоинство моего убежища. Каждое слово князя, несомненно, вызывало у меня тысячу вопросов; но так как он удерживался от любопытства, относящегося лично ко мне, то я счел за лучшее показывать такую же скромность и говорил о Тускулуме и его окрестностях таким тоном, как какой-нибудь турист в гостинице. Между тем как накрывают на стол, я опишу вам этого баснословного князя. Хотя мне известно его настоящее имя, но из предосторожности я буду называть его, положим Монте-Корона, — первое имя, которое пришло мне в голову. Ему будет лет пятьдесят; он принадлежит более к неаполитанскому, нежели к римскому типу. По-французски говорит он, если не совсем правильно, то, по крайней мере, совершенно свободно и со всеми оттенками обыкновенной разговорной речи. В свое время он, вероятно, был красив; но красота его была та преувеличенная итальянская красота, которая с летами переходит в безобразие. Он слишком мал для своего носа, который прямо и без всякой горбинки выдается вперед, как клинок шпаги. Кожа матовая и тонкая, переходит в синеватый цвет; зубы ослепительной белизны, что вместе с его узкими плечами и впалой грудью является признаком расположения к чахотке. Масса волос, до того черных и кудрявых, что нельзя было не признать в них эффект искусства, ниспадают на его впалые щеки и соединяются с черной бородой, которая уже слишком хорошо выросла, потому слишком хорошо, что кажется каким-то чернильным пятном, какой-то массой, слишком непропорциональной с худыми, болезненными чертами его лица. Вы наверное встречали такие лица: старый больной Антиной, смешанный с выродившимся Полишинелем. При этом представьте себе гордый взгляд, кроткое и приятное выражение лица вопреки этой массе волос, делавшей его похожим на калабрийского разбойника; изящные манеры и очень маленькие ноги, обутые с тщательностью, почти смешной, — вот что запечатлелось в моей памяти. Когда камердинер доложил, что кушанье поставлено, хотя такая формальность была совсем лишняя, потому что приготовления происходили у нас перед глазами, князь встал, потянулся, зевнул раза три или четыре и, сказав доктору с видом глубокого огорчения, что не чувствует аппетита, разместился в середине стола, Доктор сел напротив, чтобы хозяйничать за обедом, забота, слишком обременительная для его светлости; меня посадили с правой стороны. Четвертое место оставалось незанятым, и, казалось, предназначалось для кого-то. Когда я хорошенько всмотрелся в лицо доктора en fase и при ясном освещении (до сих пор он был в беспрерывном движении), я узнал в нем тускуланского монаха: это был великолепный мужчина, очень высокого роста и пропорциональной полноты, скорее широкий в плечах, нежели тучный. Он был одних лет с князем, но казался моложе, хотя его волосы уже начали седеть; впрочем, густые от природы, вьющиеся кудри, казалось, потерпели более от действия солнечных лучей, нежели от влияния времени. Все черты его лица превосходны и напоминают статую, Вителлия, за исключением толстоты шеи и дряблости мышц, изобличенной в мраморе. Видно было, что если этот человек и склонен к разгульной жизни, то у него еще достает сил удовлетворять свои склонности и что самые злоупотребления еще не исчерпали мощи его организма. Сверкающий взгляд, безукоризненные зубы, звучный и полный голос, проворство этой колоссальной фигуры показывали, что с годами он нисколько не утратил сил молодости. Заметив артистический интерес, с которым я рассматривал его, доктор засмеялся. — Не правда ли, мы уже встречались? — сказал он, как будто желая помочь моей памяти. — Такие лица, как ваше, не забываются, особенно если они появятся нам в живописном костюме, при великолепном солнечном закате, посреди тускуланских развалин. — Ха, ха, ха! Вот каковы живописцы! — возразил он с улыбкой. — Ничто не укроется от их глаз. К счастью, никто, кроме них, не отличается такой внимательностью и памятью; иначе нельзя было бы безопасно прогуливаться в монашеской рясе даже в самых уединенных местах. Надеюсь, однако, что вы не считаете необходимым для моей личности это переодевание, которое я совершаю всегда с ужасным отвращением? Я отвечал, что его личность останется замечательной при всех возможных костюмах. Князь заметил мою уклончивость и с большим искусством постарался снова обобщить разговор, не желая показать вид, что хочет выведать мои мнения или обстоятельства. Обед был вкусен, хотя и состоял из самых простых блюд. Мои хозяева заговорили о кухне, как знатоки. — Эта страна, — сказал князь, — предоставляет очень мало припасов для стола, особенно в настоящее время года; но путешественники должны заботиться всегда не о материале, а о том, чтобы кушанья, из чего бы они ни состояли, были хороню приготовлены. Вся наука жизни заключается в удовольствии иметь смышленого повара. Есть много ученых поваров, которых я очень мало ценю, потому что они могут отправлять свою службу только в больших городах. Я предпочитаю им вот этого изобретательного человека, которого вы видите здесь. Он калабриец, и этого уже достаточно, чтобы дать о нем понятие. Я долго жил в Калабрии; это самая скудная сторона, особенно подалее от берегов; но, благодаря Орландо, у меня никогда не было плохого обеда. Мне нет дела до того, чем он кормит меня, крысами или ежами, если ничего другого нельзя найти для соуса; я никогда не спрашиваю, что он подает мне. Все, что проходит через его руки, становится съедобным, а человеку только этого и надо. Я не обжора, и не понимаю, как человек может быть рабом своего желудка, особенно если у него такой плохой аппетит, как у меня. Рассуждая таким образом, князь с чрезвычайной важностью отведывал все блюда,которые ему подавали. В самом деле, он ел очень немного; но гастрономия была для него такой важной статьей в жизни, что он не упускал ее из виду даже и теперь, при своем довольно затруднительном положении. Вина соответствовали блюдам, то есть были отличными. Хотя доктор очень усердно делал им честь, но это, по-видимому, не производило на него никакого действия. Подле этой бездонной бочки я казался самым жалким сотоварищем. С первого же блюда я сделался сыт, между тем как он только что входил во вкус, и мне приходилось внутренне сравнивать мою ничтожную организацию с организацией этого потомка римлян времен упадка. В нем очень заметна была итальянская чувственность, этот вопиющий контраст с обеднением и бесплодием, которые постигли роскошную страну, и последнее явление казалось мне следствием первого: если существуют такие способности к потреблению, то ум и руки устают, наконец, производить. На вопрос о предмете моих размышлений, я отвечал доктору, что очень удивляюсь, видя такие заботы о комфорте и наслаждениях стола в подобном убежище, по соседству с жандармами, которые ежеминутно могли захватить нас. — Что касается последнего пункта, — возразил доктор, — то это дело невозможное; жандармы должны еще прежде открыть наш приют. — Неужели, — воскликнул я, — вы думаете, что они, слыша дым вашей кухни, не знают, где вы находитесь? — Они действительно это знают, — сказал князь, — да мы и не рассчитываем на то, чтобы скрываться здесь в неизвестности; но пора уже и перед вами раскрыть наше положение. Доктор некогда принимал участие в деле братьев Муратори, когда и он и они были еще детьми, за что он и был осужден на смерть, и Бог знает, был ли отменен этот приговор, а между тем мать его живет во Фраскати; он не видал ее уже пятнадцать лет, и узнав, что я еду в Рим, пожелал мне сопутствовать. Что касается до меня, я родом из Отрантской провинции, следовательно неаполитанский подданный. Замешанный в последних событиях моей родины, под угрозой тюрьмы и суда за то, что несколько свободно отзывался о короле и поколотил палкой одного из дерзких лаццарони, я убежал в Рим, где у меня есть брат в числе кардиналов. Здесь я имел неосторожность немного побранить одного духовного сановника, который отбил у меня любовницу, и надавать пинков шпиону, который мне надоел. Затем я был принужден оставаться во Флоренции; но тут имел несчастье повздорить с немецким гарнизоном и убить на дуэли офицера; почему и переехал в Пиемонт, где вел себя с большой осторожностью. Узнав, что брат мой кардинал опасно болен, я тайком воротился в Рим, чтобы позаботиться о своих интересах по части наследства; но брат уже оправился и, кажется, плохо поверил моему удовольствию видеть его вне опасности. Он просил меня удалиться, чтобы его не компрометировать; но я не решался последовать его совету, потому что неожиданно был завлечен сердечными делами; тогда кардинал велел известить полицию о моем присутствии в городе, впрочем, не с намерением предать меня, а для того только, чтобы вынудить меня удалиться, и вовремя предупредил меня об опасности. Мне было невозможно совсем уехать при моих новых отношениях к одной даме, и я решил инкогнито провести несколько дней во Фраскати, где нашел приют у матери нашего доктора. Не успел я здесь провести и суток, как брат окружил меня своими шпионами, которым поручено было возмущать наше спокойствие. Между этими молодцами находились два негодяя Мазолино и Кампони, о которых вы, кажется, слыхали… Дайте-ка мне немного ветчины, доктор; за разговором я забыл об обеде, и чувствую некоторую слабость. Сказав это, он передал ветчину доктору, который должен был разрезать ее на тоненькие ломтики, и потом продолжал: — Нас не хотели арестовать, а только грозили компрометировать особу, которою я был занят, и наделал серьезных неприятностей любезному доктору. Доктор был особенно хорошо знаком с фермером Фелипоне, спас жизнь одному из его племянников и отказался от платы; к нему-то обратился доктор с просьбой спрятать нас в одной из полуразвалившихся комнат этого замка. Фелипоне показал себя человеком признательным и преданным. Он не мог поместить нас внутри замка, где не был смотрителем; но внешняя часть, терраса, где мы теперь находимся, вверена его надзору, так же как и сады, к которым она принадлежит. Он один знал, что это место может быть обитаемо, что оно еще довольно крепко, несмотря на случай, действия которого вы вон там видите, и вследствие которого управитель лет двенадцать тому назад велел подпереть своды и потом заложить наглухо все отверстия, чтобы совершенно закрыть эту часть здания. В те времена уже не знали о существовании подземного хода; он был также заделан, неизвестно в какую эпоху, может быть, после австрийского посещения, чтобы разбойники не основали здесь своего притона. Но я устал рассказывать; помогите же мне, доктор; вы только и делаете, что едите! Я просто завидую вашему аппетиту! Что, хороши ли фазаны? Не съесть ли мне одно крылышко? — Отличные! Я вам советую скушать два, — отвечал доктор и, подав блюдо князю, продолжил его рассказ: — Место, в котором мы беседуем, считалось и считается недоступным, опасным, почти несуществующим. Но в одно прекрасное утро Фелипоне, сажая дерево перед своим домом, открыл свод, и поздравил себя обладателем античного храма или, по крайней мере, какого-нибудь колумбария. Но вместо того оказалась простая галерея, в которую он проник тайком, работая ночью, из опасения, чтобы ему не помешали завладеть кладом. Фелипоне долго шел в прямом направлении по обширному коридору, и потом, поднявшись круто, очутился в том прекрасном перистиле, в котором вы видели наших лошадей. Так как выход был завален, то он принялся расчищать его, все еще не догадываясь, в чем дело. Время показалось ему долгим, и, может быть, он льстил себя надеждой, что открыл семнадцатый дом Цицерона, настоящий, единственный, — словом, дом Тускулан… Мызник почувствовал горькое разочарование, когда увидал себя в папской кухне замка Мондрагоне, но вскоре несколько утешился при мысли, что он владеет замечательным памятником и может показывать его туристам под носом у г-жи Оливии, которая заведовала остальной частью замка. Продолжая поиски, он открыл не менее замечательную машину, при помощи которой вы вошли сюда и которая с давних пор оставалась в забвении; так как механизм более не действовал, то Фелипоне сам исправил его. Имея теперь возможность водить путешественников по всему замку, без позволения соперницы, он уже заранее рассчитывал свои выгоды, когда я обратился к нему с просьбой об убежище и уговорил его держать свое открытие в секрете до тех пор, пока оно может быть мне полезно. Он поспешил перенести сюда все вещи, необходимые для нашего водворения; вот почему вы видите здесь эту мебель, утварь и посуду, почтенные остатки старины, уцелевшие в замке от австрийского грабежа и пожара. Эти обои, может быть, украшали некогда комнату Павла III. Что касается цветов, подстриженной мирты и статуэтки, которые находятся на этом столе, — все это любезность со стороны г-жи Фелипоне, которая, не довольствуясь тем, что взялась доставлять нам съестные припасы и делать разные покупки, старается еще окружить нас предметами наивной роскоши. La donna! — воскликнул доктор с энтузиазмом, проглотив большой стакан орвиетто, — она просто ангел-утешитель для изгнанника и спасение для осужденного! Князь слегка подтрунил над доктором и над пламенной симпатией г-жи Фелипоне. Между ними вследствие этого произошел довольно интересный разговор по-итальянски в национальном духе, С одной стороны, добродетель доктора, который спас от смерти ребенка, и благодарность родителей, спасших в свою очередь благодетельного врача — все это очень хорошо и трогательно; но с другой стороны слишком уж философический образ мыслей доктора, простершего пользование этой благодарностью до такой степени, что не посовестился обмануть доброго и преданного мызника — это было слишком натурально и чисто по-итальянски. Я притворился, будто не слушал их беседы, чтобы не показаться некстати и без пользы пуританином или педантом. Я понимаю все возможные увлечения; но то, в чем признавались предо мной эти господа с такой нестыдливостью, приводило меня в смущение.Глава XXX
— Теперь, когда вы знаете наши обстоятельства, — продолжал доктор, — надобно вам сознаться, что ваше прибытие в Мондрагоне много стеснило нас. Мы жили здесь уже целую неделю, и жили отлично. Прежде нам было гораздо свободнее и веселее, потому что мы имели возможность проникать когда угодно во внутренность замка, и в случае посещений госпожи Оливии всегда могли ретироваться через маленький монастырь. Но, с тех пор, как вы завладели местом нашей прогулки, необходимо было прибегать к разным переодеваньям и подвергать себя опасностям для того, чтобы пользоваться чистым воздухом в садах или в поле. Вечером все еще шло обычным порядком, и князь уже уговорил синьору, которая интересуется им, бежать с нами, как вдруг кардинал вздумал воспротивиться обыску, который хотели произвести в Мондрагоне и которого мы желали от всей души, нисколько не опасаясь за себя в нашем убежище. Я прервал доктора извинениями в том, что был невинной причиной этой помехи. — Нет, нет, — возразил он, — кардинал слишком любит немцев и потому не слишком жалует французов. Он покровительствует вам потому только, что вы служите ему предлогом скрыть настоящую причину его поведения. Его приказание уважать внутренность замка могло бы стоить вам дорого: не зная о том, что мы имели возможность бежать тайными путями, кардинал всех нас подверг нескончаемой блокаде со стороны местного начальства, которое, взамен неудавшейся попытки запереть нас в тюрьму, рассчитывало на удовольствие уморить голодом. Дела находились в таком положении, когда мы, не желая, чтобы вы сделались жертвой наших неудач, решились вместе с вами отпраздновать торжественное прощание с почтенным приютом в Мондрагоне, который, быть может, нам не придется никогда более видеть и в котором, правду сказать, мы не слишком страдали. Я кончил свой рассказ. Amen! За ваше здоровье, — заключил он, весело принимаясь за огромный стакан, который осушил залпом. — Что касается меня, — заметил я доктору, — не скажу, чтобы я вовсе не страдал здесь. Несколько дней я скучал страшным образом в своем уединении, и, если бы знал о вашем соседстве, то работал бы еще с большим усердием для того, чтобы проложить к вам дорогу. — Да вы и так работали более, чем мы желали! Этот француз, черт его возьми, — говорили мы, слыша, как вы подкапываете развалины, — пожалуй, похоронит нас под этими сводами. К счастью, развалины выдержали удары вашего лома и заступа, но, тем не менее, пора уже было открыть для вас дверь. — То есть, — прибавил князь, — вы не обязаны нам благодарностью за приглашение, потому что мы не могли ни покинуть вас на жертву голодной смерти, ни оставить вас подкапываться под наши старые стены. Мы одни должны быть благодарны вам за доверие, с которым вы явились сюда, и за удовольствие, которое доставило нам ваше общество. После такой искренней беседы я почувствовал себя гораздо свободнее, нежели прежде, и расположен был откровенно отвечать на то, о чем меня будут спрашивать; но, по-видимому, все мои обстоятельства были им известны, и доктор обратился ко мне только с одним вопросом, именно с таким, на который я не мог отвечать откровенно. — Кой черт, — сказал он довольно резко, — пришло вам в голову испортить фреску? — А каким образом, — спросил я, уклоняясь от прямого ответа, — вы узнали об этой глупой истории? — До блокады наши люди каждый день бывали во Фраскати, — сказал князь, — кроме того, и Фелипоне сообщает нам здешние новости и сплетни. — Так отнесите к сплетням эту нелепость: я сам не понимаю, что это такое. — В самом деле? — возразил доктор. — А я объяснил ее себе очень просто, сравнив с одним из моих собственных воспоминаний. Надобно вам сказать, что во времена своей ранней молодости, живя в Равенне, я имел одну интрижку; но духовник моей возлюбленной вдруг запретил ей целоваться. Так как девушка впадала в этот грех чаще, нежели сколько бы следовало, то она вздумала обетом подкрепить себя против искусителя, вследствие чего повесила свои четки на шею мадонны, сделанной из эмалированного фаянса (это было превосходное произведение Луки делла Роббии), и поклялась не целоваться со мною в губы до тех пор, пока четки будут оставаться на своем месте. Она позволяла мне другие невинные вольности, например, покрывать поцелуями ее руки, щеки и розовое плечико, но всегда с ужасом отворачивала свои губки. Эта история продолжалась три дня; наконец, она призналась мне в своем обете. Не сказав ей ни слова, я тотчас бросился в капеллу и увидал четки на статуе; при своей поспешности я не заметил, что эмаль была надтреснута, и слишком сильно потянул ожерелье: голова статуи упала. К счастью, спасаясь бегством, я не был замечен и мог потом целовать мою возлюбленную, не опасаясь иметь дело с инквизицией. Я не чувствовал особенного желания похвалить доктора за его проницательность и ограничился тем, что нашел этот случай очень интересным, а он не настаивал на сближении между своим приключением и моим. Вино развязало ему язык, и он охотнее готов был рассказывать еще двадцать случаев из своей жизни, нежели выпытывать от меня признание. Впрочем, в ту минуту я был бы очень рад узнать от него что-нибудь о положении Даниеллы, но ни за что в мире я не решился бы заговорить о ней с этим господином. — Вы хорошо бы сделали, — сказал мне князь после обеда, — если б набросали для памяти эскиз этого огромного зала и нашего бивуака при таком освещении; впоследствии, если вам будет угодно принять от меня заказ, я буду просить вас написать мне картину по этому эскизу. Страдая душой и телом, я все-таки считал себя здесь счастливым, Что касается вас, то, несмотря на скуку, вам также будет дорого воспоминание… Я вас не спрашиваю ни о чем… ни даже об «ее» имени; но «она» показалась мне очень хорошенькой. — Так вы видели ее? — воскликнул доктор. — Да, в тот самый день, когда я чуть было не попался на глаза Вальрегу. Я видел, как она вошла… Но заметьте, доктор, что его чувства так же серьезны, как мои, и мы не должны говорить ему о той, которой были обязаны возможностью каждый вечер покуривать сигары на дворе и в галереях замка. Не правда ли, — прибавил он, обращаясь ко мне, — что с шести часов вечера и до шести часов утра вы не выходили из казино, потому что она была там? Но со времени блокады она, кажется, не могла приходить; вот почему вы всегда были на ногах, бегали повсюду и беспрестанно… — Я вижу, что вам были очень хорошо известны мои привычки; но почему же вы так долго не хотели мне довериться и скрывались от меня? — Совсем нет; не зная вас, я уже чувствовал к вам симпатию. Мне нравился ваш талант… — Мой талант? Но у меня еще нет таланта, и притом… — Вы думаете, что я не видал вашей работы? Знайте же, что мы каждый вечер приходили в вашу мастерскую и любовались тем, что вы сделали в продолжение дня. — И я считал себя в полном уединении! — Полного уединения не существует. Но мы не хотели мешать удовольствиям вашего tete-a-tete. В другое время моей жизни, может быть, я был бы менее скромен; но, находясь сам в положении страстно влюбленного… Зевота, произведенная пищеварением, так забавно прервала князя на слове страстно, что я чуть не расхохотался. — Вы думаете, что он шутит? — сказал доктор, заметив мою улыбку. — Совсем нет! Этот ленивый, больной, пресыщенный, изнеженный, этот добрейший князь до сих пор еще предается романическим страстям; и в настоящее время… Впрочем, вот ясное доказательство тому, — прибавил он, показывая на треснувшие своды, — мы сидим теперь в погребе, который каждую минуту готов на нас рухнуть. Я приехал сюда затем, чтобы обнять свою мать, и в мире нет другой женщины, которая бы заставила меня провести хоть три дня без солнечного света; а он, при своем плохом желудке, при своей привычке к роскоши и при своей изнеженности, способен провести здесь три года в надежде победить нерешительность своей возлюбленной! Слава Богу, она, наконец, решилась на похищение, и вас, любезный друг, завербуют в гвардию «укутанной принцессы», то есть, я хотел сказать украденной[13]! Посмотрим, князь, какой чин дадите вы нашему молодому артисту в армии божественной… — Не пейте более, доктор, — заметил князь с некоторым неудовольствием, — вы чуть-чуть не назвали ее! — О, нет! — сказал доктор, показывая пантомимой, что запирает себе рот. — А с каких, однако, пор доктор не может безнаказанно опорожнить все бутылки, которые помещаются на столе? — Что касается до чина, — снова начал князь, — я сейчас же произвел бы нашего нового друга в полковники, потому что он уже показал себя. Знаете ли вы о том, что ваше приключение на via Aurelia наделало шуму, не скажу в Риме, в этом огромном вместилище, где человеческий голос скорее замирает, чем здесь, но в той привилегированной сфере, где можно говорить о чем-нибудь, хотя бы, например, о происшествиях на больших дорогах. Вы, кажется, хорошо отделали одного полицейского агента, который вместо исполнения своей обязанности грабил путешественников. Его побранили, пригрозили и простили, потому что это был драгоценный человек для ловли беглецов. Ему-то поручено следить за нами; но он при этом не забыл своих личных дел и постарался отомстить вам ложными доносами. — Нам говорили, — сказал доктор, — о некоем Мазолино, и потом еще об одном скоте ejusdem farinae, который подстерегал и вас, и следил за нами, но нам удалось обмануть его. Кажется, его называли Тарталья. — Эччеленца, — отозвался Тарталья, который усердно занимался перемыванием стаканов в фонтане, и, услыхав свое имя, думал, что его кличут. — А, так это он? — воскликнули с хохотом князь и доктор. — Да вы, господин Вальрег, терпите подле себя самую отъявленную каналью в целом здешнем краю. Напрасно я старался уверить их в преданности ко мне Тартальи; слова доктора услыхал повар Орландо, который воскликнул в свою очередь: — Cristo, если б я не боялся испортить яичницу, я бы затопил печь этим негодяем! — Шпион, шпион! — заревел басом поваренок. — Шпион! — подхватил тенором камердинер. — В воду, в воду его! — запищал грум Карлино. Эта мысль всем понравилась. Человек, которого я видел около лошадей и который оказался слугой доктора, присоединился к прочим; в одно мгновенье Тарталья был схвачен и отнесен к большому резервуару, куда хотели погрузить его. Вынужденный вмешаться в это дело, я не без труда успел выручить его. Когда я объяснил причины моего доверия к нему, князь удостоил его помилования, что возбудило против меня ропот всей его прислуги. — Оставьте его! — сказал доктор, — Через два часа нас здесь не будет. Этот негодяй, хочет не хочет, должен будет следовать за нами до тех пор, пока мы не переступим за границу. — Да, да, за границу, достопочтеннейшие господа! — воскликнул Тарталья, не помня себя от страха. Однако он сумел обезоружить доктора, который хотел дать ему несколько ударов хлыстом, в угоду недовольной прислуге. Тарталья рассмешил его своими уморительными минами и жалобами вроде Санчо Пансы. — Боже милосердый, — хрипел он, как удавленный, — я собирался так хорошо пообедать! А эти добрые господа, да благословит их небо, совсем прогнали мой аппетит, и вот я должен буду голодать нынешний вечер, тогда как вовсе не имел желания поститься. — Уверяю вас, — сказал я князю, — что если он сдержит свое слово, то уже довольно будет наказан. Что касается до опасений, возбуждаемых им, то я желал бы их уничтожить, и даю честное слово разбить голову Тарталье, если он во время вашего бегства сделает хотя бы малейшую попытку изменить вам или даже сделает какую-нибудь неосторожность. Несмотря на мои торжественные обещания, Тарталью, по приказанию доктора, вздернули в какую-то стенную нишу, футов на двадцать от земли, и потом убрали лестницу. Он довольно благодушно принял эту штуку, потому что мог свободно расположиться в нише, не опасаясь головокружения. Через час ему удалось своими комическими жалобами до того развеселить слуг, что они на вертеле переправили к нему остатки своего обеда. К великому отчаянию Орландо, этот случай был причиной того, что яичница испортилась; но он утешился во время десерта удачным исполнением одного блюда, наверху которого красовался сахарный попугай. К десерту пришел мызник Фелипоне, которого именно и ожидал четвертый прибор. Он не хотел, чтобы заново подавали кушанья, потому что он пообедал. Жена его оставалась при синьоре, которая приготовлялась к отъезду и хотела прийти сюда уже перед самым отъездом, чтобы выпить только чашку чаю. Таким образом, я узнал, что дама, которая готовилась к похищению, скрывалась в одной из маленьких вилл, за кипарисной аллеей, по другую сторону дороги, которая вела во Фраскати, что давало князю возможность видеть ее каждый день у Фелипоне. Но с тех пор, как началась блокада, эти свидания становились все реже и затруднительнее, потому что за мызником присматривали. Заметив меня, он, казалось, удивился, но ему объяснили причину моего присутствия и представили меня, как еще одного приятеля, которому также надобно было помочь бежать. — Так, — сказал он, смотря на меня благосклонно, — это наш молодой живописец, обитатель казино, возлюбленный… Я схватил его за руку, он улыбнулся и замолчал. Через минуту, в то время, как князь и доктор занялись разговором, я шепнул на ухо фермеру: — Здорова ли она? — Ничего. До сих пор ей хорошо, — отвечал он, — но завтра ей будет хуже, когда она узнает о вашем отъезде. — Как вы думаете, могу ли я видеть ее сегодня вечером? — Нет, решительно невозможно, в садах везде расставлены солдаты. — Но разве вы тоже в блокаде? — Нет, я могу завтра идти в виллу Таверна. Что ей сказать от вас? — Что я остаюсь и жду ее выздоровления, потому что она моя жена перед лицом Бога! — Все это очень хорошо, соглашусь ли еще я на это, — сказал добряк, засмеявшись, — я ведь служу ключом к terrazzoni; чтобы вы не умерли от чахотки, надобно будет доставлять вам съестные припасы. Но об этом что толковать? Я не люблю госпожу Оливию: она persona sofistica, но вас я люблю за Даниеллу, которая мне крестница; она праведная девушка, люди еще мало знают ее, и вы хорошо делаете, что любите ее, как честный человек. С той минуты я почувствовал дружеское расположение к доброму Фелипоне. Это был плотный, приземистый мужчина с круглым лицом и курчавыми волосами. Его физиономия постоянно улыбалась, даже и в то время, когда он говорил о чем-нибудь серьезном, но то была не улыбка тупоумия, а какая-то беззаботная, симпатичная веселость… Мне стало досадно на доктора за то, что он обманывает эту открытую, доверчивую душу, хотя он и оправдывал себя по-своему, представляя невозможность возмутить подозрениями тихое спокойствие этой счастливой человеческой натуры. — Пойдемте в салон пить кофе, — сказал нам князь, поднимаясь со своего места, — а вы, друзья мои, — обратился он к слугам, — кушайте досыта, но не пейте много; нам надобно принять меры, чтобы выбраться отсюда, да иметь в виду длинный путь без роздыха. — Так, значит, все улажено, — сказал Фелипоне, садясь на одно из кресел, которыми он ссудил своих гостей, — я привел с собой коня синьоры, она приедет сюда на моей лошаденке, на которой я потом буду провожать вас, потому что не хочу расстаться с вами, пока вы не будете вне опасности. Когда я заметил, что гораздо благоразумнее взять лошадей не ранее, как в деревне, мне объяснили, что внизу подземной галереи, которая идет под кипарисной аллеей, стоит вода почти по колено. — Когда мы будем там, я возьму вас на лошадь, — сказал Фелипоне, — у нее достанет силы нести двойную тяжесть. — Вы забываете, что я не еду. — Вы не едете? — воскликнул доктор. — Вы не едете? — повторил князь. — Нет, — отвечал Фелипоне, — и хорошо делает. Я беру его пока на свое попечение; но он, как друг, не откажется проводить вас вместе со мной. Если во время вашего бегства повстречается несколько солдат, то не худо иметь поболее рук. — Нет, нет! — сказал князь. — Зачем подвергать его опасности?.. Я не хочу этого! Тогда я обратился к нему с просьбой не произносить оскорбительного для меня отказа; чувство чести освобождало меня от клятвы, данной Даниелле. Любовь не может внушить трусости. Я так красноречиво описывал удовольствие, которое доставляю себе в этом случае исполнением своего долга, что князь уступил и крепко пожал мне руку. — Жаль мне будет, если вы возвратитесь сюда, — сказал он, — потому что ваше положение здесь незавидное. Пока мы тут, мой брат кардинал запрещает проникать во внутренность замка, но когда узнает о нашем отъезде, он охотно сделается уступчивее и даст позволение отворить двери. Вас арестуют, и брат мой, вероятно, вами пожертвует; тогда, может быть, вы поплатитесь заточением более жестоким, нежели заточение в Мондрагоне, за тот случай, который нас свел. — Не бойтесь, эччеленца, — сказал Фелипоне, — я помещу его здесь, оставлю ему эту мебель, и поведу дело так, что все будут уверены, что он уехал с вами. Пусть делают тогда полицейский обыск в замке, тем лучше; я отвечаю за него, если он променяет казино на террадзону… — Полагаюсь на вас, — отвечал я, — и на все согласен, лишь бы остаться здесь.Глава XXXI
Кофе оказался превосходным; закурив отличные сигары, мы заговорили о политике. Как только судьба столкнет людей, хотя бы немного симпатичных друг другу, этот разговор делается необходимым. Выражая свои мнения, я старался однако же, не оскорбить моих хозяев. Мне было гораздо приятнее узнать убеждения этих итальянцев, подвергшихся изгнанию и преследованию, нежели навязывать им свои. Я вскоре заметил, что князь и доктор были совершенно различного мнения относительно средств к освобождению Италии. Доктор мыслил последовательнее и смелее князя: он восставал решительно против старого порядка вещей, тогда как князь, отважный по природе, но робкий по правилам, восставал только против злоупотреблений и мечтал о восстановлении Италии в том виде, как она была во времена Льва X и Медичи. О своем родном Неаполе отзывался он с ужасом и презрением. Но не допускал и мысли о перемене настоящего порядка вещей. Он был свидетелем того, как чернь делается добровольным орудием деспотизма, и энтузиазм принципа не мог пересилить в нем отвращения, возбужденного самим фактом. Из этого я вывел для себя заключение, что когда такие доброжелательные и искренние натуры, какова была натура этого князя, не довольны народом, то виноват народ, что во всяком государстве только тогда можно считать народ вполне созревшим и крепким, когда он внушает доверие и сочувствие людям с возвышенным умом и любящим сердцем. Народу можно бы сказать: скажи мне, кто тебя любит, я узнаю, каков ты. Кажется, де-Местр говорит, что «всякий народ имеет такое правление, какого сам заслуживает». Впрочем, защищая законность прав и привилегий аристократии, князь очень мило отрекался от своих собственных в пользу истинных служителей науки и искусства. Мало того, он с простодушной скромностью ставил меня выше себя, потому что во мне предполагал талант, тогда как сам он умел только танцевать, импровизировать на гитаре и ездить верхом. Однако, такие похвалы нимало не ослепили меня; я слыхал, как аристократы и образованные богачи расточают подобные комплименты самым незначительным артистам. Эта фраза, избитая, но хорошего тона, всем говорится и ничего не значит: все светские люди так же просто льстят бедным артистам, как говорят любезности безобразным старухам; это главный признак их благовоспитанности и приятнейшая принадлежность их барства. Впрочем, может быть, князь и действительно был убежден в том, что говорил: в характере его совсем нет того насмешливого лукавства, которого всякому бедняку следует остерегаться от сильных мира сего. Своей простодушной непоследовательностью князь напоминает мне французских вельмож XVIII века, которые превозносили до облаков философов своего времени, но никогда не могли принять результаты их начал. В теориях доктора было вообще более логики, но зато он впадал в другую крайность. Плебей по рождению и демократ по убеждениям, доктор смолоду создал себе идеал гражданского героизма, он оказал при случае примерную храбрость и преданность своему отечеству; но в зрелых годах в нем, как кажется, развились пороки, которые я готов назвать пороками героев: невоздержанность в чувственных наслаждениях и эгоистическая безнравственность грубых страстей. Насытившись толками о республиканских добродетелях, князь, коротко знавший своего друга, упрекнул его в том, что он добр, смел и самоотвержен по темпераменту, а не по принципу, что совесть у него слишком широка: так, например, он был способен обмануть лучшего друга, чтобы сманить у него любовницу или соблазнить жену; хороший обед предпочитал всякому серьезному занятию; едва верил в Бога, — словом, князь находил, что доктор не лучше его самого. Доктор возражал на это, что добродетели гражданина ничего не имеют общего с добродетелями остальных людей; что от патриота, прославившегося своими подвигами, не следовало и требовать узкой нравственности простого смертного; что все должно прощать (чуть-чуть не дозволять) тому, кто мечом или словом способствовал спасению своего отечества. «Не о том должны помышлять итальянцы, чтобы быть благоразумными и нравственными, а чтобы быть мужественными и прогнать чужеземцев. Сначала будем истинными итальянцами, а там уж постараемся быть людьми!» Мне казалось, что он хочет невозможного; чтобы произвести в государстве переворот, необходимо сначала перестроить общество. Спор был не так продолжителен, чтобы надоесть мне, но совершенно достаточен, чтобы ознакомить меня с этими двумя личностями. Обед располагал их к откровенной беседе, и оба высказывались очень отчетливо. Выкурив сигару, князь оставил свое горизонтальное положение и, встав с дивана, посмотрел на часы; осведомился о приготовлениях к отъезду, выразил беспокойство насчет дамы своих мыслей, которая всё еще не появлялась и для которой он велел приготовить всяких закусок на столе, украшенном цветами. — Еще только десять часов, — отвечал доктор, садясь за фортепиано. — Она приедет не ранее как через час; а пока, чтобы умерить ваше нетерпение, хотите, я сыграю вам этюд Бертини? — Пожалуй, я послушаю, — сказал князь. Он снова лег на диван и задремал. Фелипоне, ревностный почитатель всех талантов доктора, приблизился к инструменту и прилег к нему ухом, чтобы лучше слышать. Доктор играл с уверенностью, со смыслом и не сбивался с такта, но в то же время страшно грешил против гармонии, что, впрочем, нимало не смущало его. У многих итальянцев замечал я это самовольство инстинкта и отсутствие всякой методы. Я не мог не сказать ему, что для человека, так мало знакомого с музыкой, он обладает удивительным талантом. Мое замечание нисколько не оскорбило его; он рассмеялся и откровенно признался мне, что ужасно любит слышать громкие звуки и колотить в такт по какому-нибудь звучному телу. Вслед затем он принялся петь скороговоркой все комические речитативы из «Ченерентолы», потом перешел к «Дон-Жуану» Моцарта и, воодушевившись финальным менуэтом первого акта, принялся приплясывать и разыгрывать с Фелипоне сцену Мазетто и Лепорелло. Добродушный мужичок без всякого подозрения прыгал и выделывал разные фигуры в угоду доктору, который его подталкивал, дурачил и помышлял, вероятно, о жене его, своей Церлине. Тарталья, успевший наесться до отвала, несмотря на свое возвышенное и неудобное положение, пришел в такой восторг от изящного танца и превосходной музыки доктора, что сам начал подражать кларнету и фаготу. Искусство его произвело в публике величайший эффект, но лестницы ему все-таки не подставили. Я ушел из гостиной, где князь спал под звуки музыки и танцев. Так как он желал иметь эскиз этой странной сцены, я пошел осматривать ее со всех сторон. Тяжелые беловатые пилястры и полуразрушенные мрачные своды служили рамой картине. Я искал пункта, на котором главные группы представлялись бы в выгодном освещении: на полу сидели слуги и оканчивали сытный обед, от которого не нужно было прибирать остатков; господа занимали задний план, а Тарталья, как статуя какого-нибудь пената, выглядывал из своей ниши. Мне хотелось довершить загадочную оригинальность этой сцены, поставив лошадей на первом плане картины; но это оказалось невозможным, потому что они стояли гораздо ниже. Разглядывая лошадей с верхней ступени крыльца, я заметил, что число их увеличилось до дюжины. Меня так поразила красивая голова и статные ноги одной из них, что я сошел еще несколько ступеней вниз, чтоб ближе полюбоваться ею. Мне показалось, что я уже где-то встречал ее; но наружность животного не может врезаться в память, как физиономия человека; к тому же лошадь была покрыта большим плащом. Я не очень задумывался над разъяснением этого воспоминания и принялся рисовать все, что видел перед собою. В это время на крыльцо взошли две женщины. Одна из них была мызница Кипарисовой фермы, жена Фелипоне, Церлина доктора, она же и Винченца, прежняя приятельница Брюмьера, как сказывала мне Даниелла. Винченца — хорошенькая брюнетка, бледная, пухленькая и очень решительная особа. Другая дама была вся в черном; лицо ее было закрыто вуалью, а стан скрывался под коротким плащом. Одной рукой она придерживала подол своей длинной амазонки; ее бархатная шляпка, дважды обвитая кружевной вуалью, была обыкновенной дамской шляпкой; словом, она была одета так, чтобы, не меняя туалета, путешествовать верхом и в карете. Я не мог рассмотреть, была ли она хороша или дурна, стара или молода. При мне ни разу не произнесли ее имени; слуги и Фелипоне притворялись, будто не знают, как ее зовут: «синьора» — и только. Князь провел ее в свой «салон» и сам прислуживал ей. Пока она обедала, обратясь лицом к фонтану, вероятно, вуаль была поднята и я мог бы видеть ее. Но я понимал, что мне не следует входить в «гостиную», и оставался на таком почтительном расстоянии, что не мог расслышать даже голоса синьоры. Князь заметил мою деликатность и поспешил поблагодарить меня за это. Он дождался, пока я кончил свой рисунок, и спросил, есть ли у меня в казино какое-нибудь оружие и не нужно ли пойти за ним. — Теперь вы знаете дорогу, — прибавил он, — вам стоит только позвонить, чтоб снова войти в крепость. Я покажу вам кнопку нашего звонка. Я показал ему свое единственное оружие — верную палку, которая казалась мне лучшей защитой в случае рукопашной схватки. — Однако вы сумеете владеть ружьем или пистолетом, если понадобится? — Да, я бывал на охоте. — В таком случае, если будет нужно, мы дадим вам оружие. Вы непременно решились сопутствовать нам? Фелипоне говорит, что мы неминуемо встретим вооруженных людей, прежде чем достигнем кустарника, который ведет в Тускулум. А луна светит беспощадно. Во что бы то ни стало, мы должны пройти через неприятельскую цепь… — Потому-то я и решился следовать за вами; я обязан вам свободой, может быть, и самой жизнью. Чувствую, что могу быть вам полезен, а потому пойду с вами, если б вы даже и не хотели того. — Но вам предстоит двойная опасность: вы хотите возвратиться сюда и снова проникнуть в свое жилище. Хотя Фелипоне и отвечает за вашу безопасность, но боюсь… — В таком случае, это дело Фелипоне, и вам нечего беспокоиться. Я только отведу в «казино» бедняка Тарталью, которого отпущу, когда вас здесь не будет, потому что присутствие его при вас, кажется, возбуждает опасение. — Да, признаюсь, я не разделяю вашей доверчивости. Может быть, он и точно привязан к вам; но что ему мешает прокрасться к неприятелю с тем, чтоб поднять преследование против нас? Такая штука была бы для него даже очень выгодна; с одной стороны, он получил бы награду, назначенную сыщику, с другой — ему, конечно, очень приятно отомстить нам за горестное положение, в котором он теперь находится. — Выдавая вас, он выдал бы и меня. Это обстоятельство может служить порукой его преданности. Впрочем, я не настаиваю; за людей, подобных ему, нельзя ручаться честью. Итак, я отведу его в казино? — Нет, нет! Из казино ему удобнее будет сообщаться с солдатами. — Но он в ссоре с полицией, которая косится на него за то, что он слишком верно служит мне. — Тем скорее он захочет помириться с ней, затеет переговоры и наведет на наши следы, испросив наперед помилование себе и, может быть, вам. Он слышал наш разговор и знает, куда мы и едем. Итак, поверьте, лучше оставить его на месте: пусть посидит несколько часов в своей нише: там можно прилечь, а кричать он может, сколько ему угодно, никто не услышит. — Вы ошибаетесь; я слышал звук вашего фортепиано. — Да, из казино, но не с terrazzone: для этого надобно быть выше верхнего отверстия труб. «Уезжая отсюда, мы непременно должны отвлечь внимание солдат и сосредоточить его на этом пункте; для этого мы наделаем как можно больше шума, и вы увидите, какой гвалт надобно поднять, чтобы хоть что-нибудь было слышно вне здания. Скоро полночь, время собираться в путь. Друзья мои, — закричал он, обращаясь к слугам, — пора укладываться и седлать коней! — Пора, пора, — отвечал доктор, шедший нам навстречу. — Орландо, моя прелесть, запали, пожалуйста, побольше огня в печках, чтобы дыму было на славу; а вы, красавцы мои, Антонио, Карлино, Джузеппе, tutti, начинайте концерт на всех инструментах, пойте, пляшите, стучите хорошенько! И доктор, схватив две крышки от кастрюль, начал стучать ими, как бубнами. — Шуму, шуму! — кричали слуги, вооружась кто бочонком без дна, кто свистком, кто кухонным снаряжением. Все пело, горланило, суетилось, застегивая чемоданы и взнуздывая лошадей, которые от шума начали топтаться на месте, особенно красивая вороная, которую я прежде заметил. Итальянцы вообще удивительно ловки и гибки; они имеют над нами великое преимущество грации в комизме, тогда как у нас смешное почти всегда безобразно. Сцена последних приготовлений к отъезду перешла во всеобщий балет с хором: прыгали изо всей силы и пели во все горло. Фелипоне хохотал до упаду, пока доктор, прощаясь с Винченцей, целовал и обнимал ее гораздо крепче, нежели следовало. Князь пел церковные гимны, а Джузеппе, надевавший на него пальто и сапоги, прыгал с ноги на ногу. Доктор свистал в дудочку, подражая флейте, и время от времени смачивал горло остатком вина. Сама синьора, повинуясь общему настроению, стучала по клавишам фортепиано, наигрывая какую-то растрепанную мазурку. Тарталья, видя, что его покидают, делал отчаянные жесты, что придавало ему вид капуцина на кафедре; но так как голос его был совершенно заглушен общим шумом, то он ограничился красноречивой пантомимой. Мне казалось, что можно бы обойтись без этой вакханалии. Я уже знал, что появление дыма из кухонных труб внушало солдатам более желания бежать, нежели тесниться вокруг замка. Следовательно, открывать им существование убежища, до тех пор считавшегося недоступным, было совершенно напрасно и даже безрассудно; но так как заставить выслушать себя было невозможно, то я покорился судьбе и, в свою очередь, принялся воспевать наш выезд. Я был наэлектризован этой веселостью перед сражением, которое казалось неизбежным. Наконец, все замолкло: мы были готовы! — Теперь, — сказал доктор, — ни слова более, вперед! Я успел подойти к Тарталье и сказать ему, что скоро ворочусь к нему на помощь. Мы спустились с крыльца: князь посадил свою героиню на лошадь и сделал смотр остальной свите. Было решено тотчас же встать в том порядке и на таком расстоянии друг от друга, какого следовало держаться во все время пути. Впереди всех ехали доктор и повар Орландо, присвоивший себе эту опасную честь по праву старшинства. Во втором ряду стали Джузеппе, камердинер князя, и Антонио, слуга доктора. Потом князь рядом с синьорой, за ними, в виде пажей, маленький грум Карлино и толстый поваренок. Позади всех ехал я и вез за собой Фелипоне, который должен был проводить нас до своей фермы, а оттуда ближайшей дорогой пробираться вперед и служить нам авангардом. Жена его удостоилась чести доехать до своего дома на одной лошади с доктором. Следовательно, нас было всего десять человек, в том числе и таинственная дама под вуалью; я не считаю Винченцы, потому что она сопутствовала нам не далее фермы. Не зная местности, я не мог хорошенько понять предложенного плана действий. Медленно и без шума въехали мы в подземную галерею, устланную соломой; она так высока и просторна, что двое всадников легко едут в ней рядом. Эта галерея вырыта в сплошном, мягком торфяном грунте, точно так, как римские катакомбы. Следуя направлению почвы, она так круто спускается вниз, что, если бы не солома, лошади наверное стали бы скользить. Вскоре им стало еще труднее идти: мы попали в длинную полосу воды, о которой говорил нам Фелипоне. Тут был и конец склона. Фелипоне соскочил в воду, взял на руки свою толстенькую жену и исчез в боковом коридоре, который выходит прямо в погреб его дома. Мы продолжали потихоньку продвигаться в открытой галерее, ведущей довольно далеко за парк. Орландо держал в руке зажженный факел. Несмотря на сырость некоторых закоулков, воздух был так редок в подземелье, что мы задыхались от жара. Таким образом мы проехали еще четверть часа и вдруг очутились в совершенной темноте: увидев далеко впереди себя слабый свет месяца, Орландо потушил факел. Вскоре мы все заметили тот же свет и остановились. Мы находились в небольшой, заброшенной часовне, полузарытой в обвалах земли и камней. Выезд из нее ведет в поле, отделяющее Мондрагоне от камальдулов. Итак, огромная галерея, которую недавно открыл и прочистил Фелипоне, упиралась в здание, находившееся у него под надзором и под ключом, между тем как никто не подозревал отверстия, сделанного им в этой часовне, для сообщения с подземным ходом. Когда мы подъехали к часовне, Фелипоне был уже там и открыл нам вход, в то же время старший из его племянников, Джианино, сторожил в поле. Мы сошли с лошадей и провели их под уздцы через часовню, коей пол был также устлан соломой. В совершенной тишине выехали мы под тень старых плодовых деревьев, разросшихся вокруг этого маленького здания. Так же тихо снова сели на коней. Фелипоне вывел из кустов маленькую лошадку, подобную той,которая была подо мной, и пущенную в поле заранее, под предлогом паствы. Вместо седла на ней было сложенное одеяло, с привязанными к нему веревочными стременами. Мызник ловко вскочил на нее и поехал вперед, наказав нам не трогаться с места минут с десять. Доктор очень хорошо знал дорогу. До сих пор я не отдавал себе отчета в наших действиях. Мне казалось, что благоразумнее было бы выходить из засады поодиночке или попарно, бежать куда-нибудь подальше от сторожей и, назначив где-нибудь общее сборное место, пробираться туда втихомолку с тем, чтобы там уже сесть на лошадей; но, рассмотрев хорошенько местность, которую мы проходили, и припомнив все подробности перехода, я убедился, что иначе действовать было невозможно. Во-первых, если бы сторожившие нас солдаты встретили нас даже лицом к лицу, то и тогда не вдруг бы распознали мондрагонских пленников в этой толпе верховых людей. Во-вторых, избранная нами дорога была как бы удобнейшим продолжением подземного хода. Вероятно, Не без намерения путь из часовни выходил в узкую, тенистую долину, род оврага, дно которого поросло болотистой травой, заглушавшей топот лошадей и не сохранявшей следа их. В те времена, когда замок был настоящей крепостью, жители Мондрагоне, вероятно, пользовались этим благоприятным обстоятельством. Тогда, вероятно, все пространство, заключавшееся в пределах Монте-Порцио, было засажено деревьями. Я вспомнил, что мы будем проезжать через голые вершины Тускулума, и, сообразив, что, вероятно, на этом пункте нам придется проскакать во весь опор сквозь целый отряд жандармов, я ощупал чушки своего седла, удостоверился, что там были пистолеты, и приготовился воспользоваться ими при первой надобности. В эту минуту Фелипоне возвратился и велел нам ехать шагом в гору по песчаной дороге, направляясь прямо к Тускулуму и оставляя влево монастырь Камальдулов. Он никого не встретил и не видал; путь был свободен, и благоразумие требовало покамест ехать ровным и спокойным шагом. Не торопясь, но безостановочно, проехали мы по торной дороге и, никем не замеченные, достигли оврага, поросшего высоким кустарником и подходящего к заднему фасаду тускуланского театра. Тут мы опять были совершенно закрыты; узкая дорога, очень ровная, но крутая, мешала нам ехать попарно. Каждый из нас вооружился пистолетом или ружьем и наблюдал правую сторону. Слева был только пустой овраг. Тесная и неровная местность, открывавшаяся нам при тусклом свете луны, была чрезвычайно угрюма. Этот вид и среди белого дня уже довольно мрачен, ночью же это такая западня, что Брюмьер пришел бы от нее в восхищение. Лесистый овраг служит предместьем к. Тускулуму; я уже говорил вам, что дорога, лежащая через него, проведена еще в древности, — обстоятельство для нас очень важное в том отношении, что копыта наших лошадей застучали по угловатым мостовинам из лавы, которыми устилали некогда улицы латинских городов. Однако, мы без всякой тревоги доехали до подножия креста, обозначающего высший пункт тускуланской цитадели. Тут мы остановились, чтобы осмотреть противоположный склон горы, с которой нам предстояло спускаться. Хотя площадка была совершенно открытая, однако, мы стояли в густой тени, отбрасываемой группой огромных камней, на которых утвержден крест. Передо мной был превосходный вид, которым я столько любовался при закате солнца; древний театр, где я впервые встретил доктора в монашеской одежде, того самого доктора, который теперь увлекал меня за собой во все опасности своей страннической жизни; далее виднелись зубчатые очертания гор, покрытых серебристым отблеском луны. То были те самые вершины и ущелья, имена которых называл мне пастух Онофрио; я видел их только один раз, но так хорошо запомнил все неровные возвышенности этой страны, что даже один мог бы найти дорогу и верно немногим бы ошибся. Мы поневоле должны были расстроить порядок шествия, чтоб вытянуться вдоль утесов; между тем Фелипоне снова поехал вперед, чтоб узнать дорогу. Я не мог равнодушно видеть, как этот добрый малый один подвергался опасности за всех нас; я было собрался за ним следовать, но князь остановил меня. — Мы не ради себя делаем эти предосторожности, — сказал он мне тихо. — С нами ведь едет женщина; из-за нее одной мы все осторожны; для нее-то я согласился и мызника подвергнуть опасности. Если б я знал дорогу, я сам занял бы его место; но я совсем незнаком с этой местностью. Кому-нибудь нужно идти вперед: одного довольно. — Спасая такого ревностного патриота, как я, — сказал доктор, — Фелипоне служит отечеству. Если его убьют, он погибнет на поле чести! Сказав это с самодовольным пылом, этот толстый красавец прибавил с сентиментальным цинизмом: — Если он погибнет, клянусь не оставлять жены его! — Перестанем говорить, — сказал князь. — Мы невольно возвышаем голос. Ради Бога, молчите все! «А ведь очень неприятно, — подумал я, — если из-за гадкой фразы доктора всех нас перебьют». Мы остановились в совершенной неподвижности. Я очутился возле таинственной амазонки; лошадь ее, не обращая никакого внимания на данное приказание, шумно фыркала. Мне пришло в голову, что, может быть, и эта дама не стоила ни стольких хлопот, ни опасности, которой подвергался из-за нее добрый мызник. Чтобы начать интригу со старым гулякой, пережившим свою красоту и здоровье, женщина сама должна быть такого же разбора, если только не тщеславие или жадность побуждали ее к побегу с ним. Таинственная амазонка была, по-видимому, очень нетерпелива и капризна, потому что никак не могла оставаться в покое. Она то и дело тянула поводья своей лошади и мешала ей стоять на месте. Два или три раза она заставила ее совсем выйти из тени, скрывавшей нас; такое неуместное беспокойство даже рассердило меня. В ожидании отсутствующего, которому, быть может, угрожала опасность, минуты казались мне долгими часами. Я стоял, как вкопанный, но сердце мое билось, и я прислушивался к малейшему шороху. Ночь была так тиха, а воздух так сыр, что мы ясно слышали, как часы на башне камальдулов пробили половину первого. На одной из колонн древнего театра сидела сова и крикливо вторила другой сове, отзывавшейся издали еще пронзительнее. Вслед за тем мы услышали мужской голос, который пел в глубине сырого оврага, потонувшего в тумане. То не была песнь запоздавшего путника, одиноко возвышающего голос, чтобы оживить молчаливую окрестность, но скорее протяжный и мирный гимн молящегося человека. В нем незаметно было ни малейшего волнения: напротив, мужественное спокойствие этих звуков представляло разительную противоположность нашему немому смятению. Наконец, Фелипоне снова показался. — Все благополучно, — сказал он. — Вперед! — А что же за человек распевает там канты? — спросил князь. — Разве ты не слышишь его? — Слышу, и знаю певца. Это набожный пастух, который, как петух, запевает в полночь. Но вот в чем дело: я все надеялся, что туман поднимется и под защитой его нам можно будет выбраться на большую дорогу, чтобы ехать пошибче, но он стелется по земле и только вредит нам. Поэтому я предлагаю не ездить через Марино, а пробраться на Грота-Феррата; оттуда мы проедем в Альбано, оставив озеро влево. Эта дорога хоть и трудная, но прямая; она неровна и вы поедете не так скоро, но зато мы почти все время будем в тени; а сторона такая глухая, что там встретишь разве только воров, которые теперь для нас вовсе не так опасны, как жандармы. — Хорошо, — сказал князь, — едем! Мы спустились с тускуланской горы по прямому направлению, через широкое пространство запущенных полей, заросших резедой; запах от нее был так силен, что князю сделалось дурно; но вскоре мы переехали ручей и выбрались на торную дорогу. Живые изгороди, разросшиеся на свободе и теснившиеся вдоль узких дорог, при лунном свете, ясно напомнили мне мою родину. Днем мне это не приходило в голову, потому что цветущие растения, которые обвивают наши плетни, нимало не похожи на здешние; зато ночью эти извилистые тропы, изредка пересекаемые мелкими ручейками, осененные гибкими ветками, которые хлещут вас по лицу, все это живо напомнило мне те знакомые дорожки, где я ребенком бил баклуши. Мы ехали поодиночке, то скорее, то тише, сообразуясь с неровностями дороги. Достигнув Грота-Феррата, мы свернули в проселок, через рощу каштановых деревьев, разросшихся в глубоком ущелье, между вершинами Монте-Каво (Moris Albanus) и горами, окаймляющими Альбанское озеро. В этом диком месте мы никого не встретили, кроме огромных ужей, которые играли на песке и тотчас прятались при нашем появлении. Воинственный доктор, стремившийся ознаменовать себя каким-нибудь особенным подвигом, шумно возмущался окружавшим нас спокойствием. Не внимая увещаниям князя, он то и дело соскакивал с лошади и перерубал надвое невинных ужей. Через час езды мы все вынуждены были спешиться: приходилось спускаться с горы, почти отвесной. Каждый повел свою лошадь под уздцы; одна синьора осталась на лошади, которую князь взял за повод. В эту минуту я находился позади их и притом очень близко; моя римская лошадка так и рвалась вперед, и я никак не мог осадить ее на такой крутизне. Наклоняясь к луке седла, дама тихо разговаривала со своим сиятельным кавалером. Голос последнего не был так мягок, и потому он не мог сдержать его в том же тоне; я расслышал, что князь непременно желал сам вести лошадь, а дама хотела ехать одна. Я тотчас понял, для чего она просила его избавиться от этого труда: она просто не надеялась на него; сила его преданности и усердия далеко превышала мощь его мускулов; к тому же он близорук и очень неловок. На каждом шагу князь спотыкался, сам держался за повод, вместо того, чтобы поддерживать лошадь, и грозил увлечь ее в своем падении. Я видел, что быть беде, но не смел предложить своих услуг. К счастью, все окончилось благополучно: князь споткнулся и сел на куст; добрый конь слегка откинулся в сторону, но сохранил равновесие и, повинуясь руке искусной наездницы, сбежал в овраг, потом так же быстро начал взбираться на другую крутизну. — Ничего, ничего, я не ушибся, — сказал мне князь, которого я спешил поднять на ноги. — Но синьора так опрометчива! Сделайте милость, ступайте за ней. Здешние дороги опасны, а она чрезвычайно неосторожна. Я опять взял под уздцы своего Вулкана (так зовут лошадку, которую дал мне Фелипоне) и, проехав вперед, догнал амазонку; не обдумывая, в какой степени это может быть ей приятно, я прямо начал говорить о беспокойстве князя на ее счет. Она не отвечала, но лошадь ее, как будто узнав мой голос, отозвалась тем неопределенным ржанием, посредством которого эти благородные животные выражают свое удовольствие. Странное дело, я будто понял, что она хотела сказать мне, и вследствие этого в ту же минуту, как бы по волшебству, вспомнил и узнал эту лошадь, ее имя и услугу, которую она мне оказала однажды. Я просто обрадовался и, не боясь показаться смешным, тотчас ответил: — А, это ты, мой милый Отелло! — Да, это Отелло, — отвечала дама. — Разве вы еще не узнали той, которая правит им? — Мисс Медора! — вскрикнул я в изумлении. — Подъезжайте ближе, — сказала она, — поговорим, пока можно. Остальные далеко за нами. Не читайте мне нравоучений, это совершенно бесполезно. Я и так очень недовольна своей судьбой. Мне нужно, чтоб вы знали мою историю так, как я знаю вашу. Я любила вас, вы единственный человек, которого я любила. Вы меня возненавидели; с досады я хотела полюбить своего кузена Ричарда, но не могла. Он заметил это, обиделся и удалился. Через несколько дней мы уехали из Флоренции и приехали в Рим. Князь, который тогда скрывался во Фраскати, несколько раз приезжал к нам, чтобы видеть меня. Его смелость, его скитальческая жизнь, полная приключений и тревог, возбудили мое участие и усилили дружбу, которую я к нему чувствовала. Вот уже два или три года, как я его знаю, и при каждой встрече он за мной ухаживает. Я желала, да и теперь желаю выйти замуж, но не по любви, а только для того, чтобы иметь общественное положение и забыться в свете. С теткой я уже давно не ладила. Она просто помешалась: стала ревновать меня за ту скудную долю родственной дружбы, которую я оказывала ее мужу. При первом резком слове я оставила их. Между тем князь опять влюбился в меня. Он не так богат, как я, но у него хорошее имя, много ума, светскости и природной доброты. Я совершенно ни от кого не завишу, но из почтения к лорду и леди Б… написала им об этом. Тетка приехала ко мне, умоляла меня возвратиться к ним и отказаться от предложения князя: она находила его слишком старым и безобразным; наконец, чтобы заставить меня повиноваться, она угрожала прибегнуть к мерам власти, которой она не имеет надо мной. Это ускорило мое решение. После жаркого объяснения с теткой, я тайно дала знать князю, что приеду к нему во Фраскати. Я надеялась встретить вас там. Я ничего не знала о ваших приключениях; князь уже после передал мне все, что рассказал ему Фелипоне. Я бы могла и прежде узнать все это от Тартальи, если б не так тщательно скрывалась от этого болтуна. Через несколько дней я узнала, что все старания лорда Б… были напрасны: кардинал решил, что вы останетесь в Мондрагоне пленником, так же как и брат его. Брата он желал проучить, чтоб отнять у него охоту ездить в Рим, а вам пришлось также воспользоваться этим уроком. Увидев, что сообщения с вами были невозможны, что даже и нравственной помощи я не могла вам доставить, потому что вы все еще ухаживали за этой маленькой Даниеллой, я решилась выйти за князя и бежать с ним. Боясь, чтобы леди Гэрриет и муж ее не помешали как-нибудь нашему бегству, я написала им сегодня утром, что мы отправляемся в Пьемонт с тем, чтобы там обвенчаться. Князь сообщил мне о своем желании бежать вместе с вами, на что я дала свое полное согласие, с условием, чтоб он не говорил вам, кто я. Он не знает и никогда не должен знать моих прежних чувств к вам; а вас смею уверить, что они совершенно рассеялись, как бред горячки. Помолчав несколько секунд, она прибавила ясным голосом и спокойным тоном: — Любовь очень глупая болезнь; однако, всякий, даже и самый благоразумный человек, должен испытать ее хоть раз в жизни. Я очень рада, что именно вы были случайным идеалом моей минутной страсти. Вы помешали мне предаться искушению романического брака по любви, который, конечно, не более удался бы мне, чем бедной тетушке Гэрриет. Поэтому я вам очень благодарна, и если хотите, мы навсегда останемся друзьями. Я поблагодарил Медору за откровенность. Я не мог позволить себе сделать ей замечание насчет непривлекательности избранного ею жениха. Да еще поняла ли бы она меня? По-видимому, княжеский титул сглаживает морщины и молодит человека. Я вспомнил также, что Медора была не слишком знатного происхождения, что сестра леди Гэрриет вступила в супружество не по любви, а по расчету. Честолюбие Медоры заключалось в том, чтобы снова взобраться на ту ступень аристократического величия, с которой низошла мать ее. Она считала разумной целью своей жизни исправить эту ошибку. Однако, у нее вырвалось выражение, приходившееся в разлад с заключением ее речи; с самого начала она сказала; — Я и так очень недовольна своей судьбой; не читайте мне нравоучений… Я не упомянул ей об этом признании и только поздравил ее с успехом ее предприятия. Мне казалось, что лорд и леди Б… также не были в убытке от этого происшествия. Если б я увидел их в эту минуту, я не преминул бы и их от всего сердца поздравить с избавлением от опеки и надзора за такой решительной особой, какова была прекрасная Медора. Итак, мы очень спокойно начали толковать об ее планах. Она намеревалась поселиться на генуэзском берегу и приглашала меня навещать ее; но вдруг довольно грубо прибавила: — Только с условием, чтобы вы сначала развязались с мамзель Даниеллой. — В таком случае, — отвечал я решительно, — позвольте мне сегодня же совсем проститься с вами; я намерен жениться на Даниелле, как только мне удастся увезти ее из этого края; признаюсь, если б я даже и был свободен, мне бы не хотелось сделать этого здесь, потому что тогда можно было бы подозревать, что я испугался угроз ее любезного братца. — Как, — вскрикнула Медора, — вы дошли вот до чего! Она и в самом деле уверила вас, что брат угрожает ей, тогда как он ни разу не осведомился о ней, пока она всюду с нами ездила? — Я знаю, что она ездила с вами единственно затем, чтобы спастись от преследований этого брата, который, конечно, хотел бы жить на ее счет и последовал бы за ней, если бы двойное ремесло шпиона и бандита не прикрепляло его к римской почве. — Прекрасно! Так вам известны эти подробности, о которых я не смела заговорить с вами? Итак, вы решаетесь иметь родственником полицейского лазутчика, вдобавок еще грабителя по большим дорогам? — Эту неприятность я предвидел и все-таки решился. После минутного молчания она продолжала: — Я теперь думаю, кто из нас делает глупость: та ли, которая, не любя, выходит за порядочного человека, или тот, который по страсти женится на девушке, которая находится в таком презренном положении? — Вы думаете, — отвечал я, — что благоразумие на вашей стороне; я думаю, что на моей. И оба мы очень довольны собой. Так разрешаются все прения на свете. Так как это непременная развязка всякого спора, то не лучше ли было бы не затевать его, разве, впрочем, для того, чтобы еще более утвердиться в собственных убеждениях? — Бывает так, но не всегда. Есть зрелые, цельные убеждения, которыми опрокидываются всякие полуубеждения. Признаюсь, видя вас до того убежденным в верности вашей теории, я начинаю сомневаться в истине моей. Да, в любви точно есть сила демонская, потому что проповедник любви и в самом безумии страсти кажется более правым, нежели спокойный защитник здравого рассудка. — Вот и князь подъезжает сюда; теперь его дело убедить вас в могуществе любви; он вас любит и ожидает взаимности. — Постойте! Еще одно слово: надеюсь, вы не сомневаетесь, что я еще совершенно свободна? — Извините, я не понимаю вас. — Я хочу сказать, что я ни жена, ни любовница князя. До сих пор я едва позволяла ему целовать мою руку. Если бы вы вообразили что-либо другое, вы бы только зря оскорбили меня. «Какое мне дело до этого?» — подумал я, когда князь проехал между нами и, поблагодарив меня, обратился к Медоре с нежным и несмелым упреком. Я слышал, что она очень сухо отвечала ему, и поспешил возвратиться на свое место в нашем караване.Глава XXXII
В два часа утра мы приехали в маленькую виллу близ Альбано, где беглецов ожидал знакомый и преданный им человек; он приготовил им карету, в которой князь, доктор и синьора должны были окольными путями пробираться к морю. Лошадей, нанятых по этой дороге, следовало оставлять в разных местах, заранее назначенных их хозяевами. Одного Отелло, как неразлучного спутника Медоры, положено было увезти на море. Каково же было мое удивление, когда она предложила оставить его мне! Князь был озадачен не менее меня, но Медора сказала ему: — Эта лошадь только стеснит нас и задержит плавание: наше судно очень невелико, присутствие в нем такого большого животного может быть не только неудобно, но и опасно. — Все это предусмотрено, — отвечал он, — и все распоряжения сделаны. Я скорее соглашусь сам броситься в море, нежели причинить вам малейшую неприятность: вы говорили, что расстаться с этим, верным слугой будет вам всего тяжелее… — Теперь мне жаль… не его, — прервала Медора со странным выражением, — мне жаль, что я не подумала… о всех неудобствах, которых он будет причиной. Господин Вальрег, решительно я оставляю его вам; примите эту лошадь на память от меня. — Но, Боже мой, что же я стану делать с нею в Мондрагоне? — воскликнул я очень простодушно. — Фелипоне будет за нею присматривать; если мы оставим ее здесь, я скажу, что лошадь принадлежит вам, и вы после возьмете ее. — Вы забываете, что в Мондрагоне, как и везде на свете, я прежде всего должен заботиться о собственном прокормлении; а содержать четвероногое, да еще такое огромное… — Ну, как хотите, — прервала она нетерпеливо. — Если вам неудобно держать Отелло, то продайте его, он ваш! — Я, кажется, не давал вам права делать мне подарки, — отвечал я, в свою очередь раздосадованный этим новым капризом. Мы вошли в сад, примыкающий к вилле; карета уже стояла там, запряженная и совсем готовая; князь торопил Медору садиться и ехать. Он вообразил, что она желает чем-нибудь заплатить мне за то, что я послужил ей телохранителем, и ему пришла несчастная мысль спросить, не нужны ли мне деньги. Потом, видя, что я не был намерен прибегать к его помощи, он прибавил, что это будет плата за картину, которую он заказал мне. Я отвечал, что не время говорить о делах денежных, что ночь уже подходила к концу и всем нам следовало торопиться, чтоб быть вне опасности до рассвета. Медора стояла на подножке кареты; ей как будто хотелось продолжить этот неуместный разговор. — Тысячу раз прощу прощения, — сказал я, откланиваясь ей, — но Фелипоне ждет меня; я не потерплю, чтоб из-за меня он опоздал возвратиться домой… Я простился с князем и доктором, которые опять уговаривали меня ехать вместе с ними, но я поспешил сесть на Вулкана и вместе с Фелипоне повернул на дорогу в Мондрагоне. Оставшись вдвоем, мы не думали более о тех предосторожностях, к которым обязывало нас присутствие женщины; лошади же, чуя свое стойло, поскакали так быстро, что менее нежели через час, мы были уже у подошвы тускуланской вершины. Луна закатилась, время было пасмурно; чувствуя себя под защитой мрака, в совершенном уединении, мы успокоились. Тихо разговаривая, мы уже начали въезжать на крутой склон древней цитадели, как вдруг Фелипоне схватил меня за руку и сказал шепотом: — Посмотрите… вверх! На самой середине дороги, по которой нам приходилось проезжать, то есть вокруг камней утеса, поддерживающего крест, рисовались темные фигуры. Фелипоне и минуты не колебался, чтобы принять решение, и не терял времени на объяснения. — Ступайте за мной, — сказал он и, повернув лошадь, съехал в луг, крутым спуском расстилавшийся вправо от дороги, Проехав несколько времени вдоль окраины луга, мы наткнулись на пастушью избушку из вереска и соломы. Такими избушками усеяно все agro romano. — Остановимся здесь и не трогайтесь с места, — шепнул мне Фелипоне. — Не будем понапрасну будить пастухов и собак, которые спят в других шалашах. Их крики выдали бы нас. Здесь много таких хижин; я знаю, что эта пустая. Не надо только входить в нее, не то мы попадем в засаду. Если «те» не заметили нас, то все пойдет хорошо; мы сейчас же пройдем через луг. А если они нас видели, то мы поиграем с ними в гулючки. — В такой темноте, кажется, трудно будет наблюдать. — Когда нельзя видеть, надо слушать. Замолчим и навострим уши. Потерпим четверть часа, а там узнаем, что делать. — Но лошади не будут стоять смирно, они торопятся к дому и выдадут нас или помешают слушать. — Это я знаю. Смотрите, что я делаю, и сделайте то же. Вот вам ремень. Он надел намордник своей лошади и привязал ее к ветке. Мне уже случалось видеть, что это простое средство принуждает к неподвижности даже самых резвых лошадей. Я вдел верхнюю губу доброго Вулкана в глухую петлю и крепко привязал ее к дереву. Так как в этом положении всякое движение причиняет лошади сильную боль, она едва дышит и стоит, как вкопаная. Я принуждал себя также молчать и не шевелиться, но для меня это было верно труднее, нежели для Вулкана. Ничего нет скучнее и тягостнее, как выжидать и избегать опасности, которую гораздо охотнее встретил бы лицом к лицу. Это до того несвойственно французской природе, что у меня от нетерпения сделались спазмы. Но не такова была натура Фелипоне: он слушал и выжидал. Я был около него и видел, как круглые глазки его блестели в темноте, словно у кошки; мне показалось, что даже его вечная улыбка, добродушная и довольная, не сходила с его простого, но приятного лица. Уверенность в его опытности мало-помалу успокоила мои раздраженные нервы. Я стоял, облокотившись обеими руками на соломенную крышу, похожую на шалаш дикарей, и незаметно уснул. Я спал так спокойно, что даже видел сны. Мне снилось, будто Даниелла и Медора, сидя на шалаше, играют своими платками и спорят, которая наденет на меня такой же намордник, как и на Вулкана. Потом я перенесся в свою родную деревню, в дом старого аббата. Дядюшка умирал, а Марион пеняла мне, что я слишком поздно приехал. Множество других образом беспорядочно толпились в голове моей во время этого кратного сна. Положив руку на плечо мне, Фелипоне разбудил меня. — Вы спите? — сказал он тихо. — Э, да вы уж и забыли, что с вами и где вы находитесь? Я не был так спокоен, а таки порядочно струсил. Мне показалось, что в двух шагах от нас я вижу всадника, но это был столб, которого я прежде не приметил в стороне. Потом в траве что-то зашевелилось, верно какой-нибудь зверек, потому что с тех пор ничего не видать. Теперь я уверен, что или нас не заметили, или мы обманули сторожей. Кругом ничего не слышно. — А что это за голоса вдали? — Это вокруг Мондрагоне часовые окликают друг друга. Эти добрые карабинеры воображают, что еще стерегут вас! Но теперь надо стараться, чтобы они не заметили, как мы войдем в крепость: это, может быть, труднее, нежели выйти оттуда. Мы уже своротили с дороги. — Так выйдем на нее опять. — Нет, нельзя! Близ тускуланского креста наверное есть кто-нибудь, хоть там и тихо. — Я уверен, что мы там видели солдат. — И я тоже думаю: это полицейские сыщики, что гораздо хуже. Теперь уже главное дело не в том, чтобы идти напролом, как при выезде князя, нужно бы так войти, чтобы никто и не подозревал, что мы выходили. — Нельзя ли нам потихоньку опять пробраться к часовне, которая ведет в подземелье? — Этого я и хочу. — Вот теперь лошади нам решительно не нужны: они только помешают. — Не помешают! Вы посмотрите, где они! Я взглянул: лошадей уже не было. Пока я спал, что продолжалось не более получаса, Фелипоне расседлал их и пустил на волю. Он спрятал в солому уздечки, одеяло, стремена и подпругу; за всем этим можно было прийти в другое время. Мое седло и пистолеты с намерением были еще прежде оставлены в Альбанской вилле. Вместо всякого другого оружия у нас были на перевязи маленькие ружья, что дозволяется частным людям в стране, где охота не воспрещается. Лошади, почуяв свободу, тотчас направились к тому месту, куда их обыкновенно выгоняли на рассвете; хотя еще не светало, но Фелипоне был уверен, что они сами найдут туда дорогу, хотя он выпустил их и с незнакомого им места. — Ну, теперь в путь, — сказал он, прислушавшись еще немного. — К рассвету небо прояснится, воспользуемся остатком ночи и тумана, чтобы перейти открытое поле; на этот раз мы пройдем по ту сторону камальдульского монастыря; оно хоть и дальше, но безопаснее. Мы пошли прямо через поле, но еще не успели сделать и пятидесяти шагов, как раздался свист, и в ту же секунду в воздухе что-то мелькнуло между нами. — Что это такое? — спросил я с удивлением Фелипоне, который на минуту остановился. — Камешек, — отвечал он, — и вылетел, кажется, из того куста… О-о, это верно Кампани! Ему запрещено иметь огнестрельное оружие, потому что он грабил прохожих; но этот молодец и пращей владеет не хуже пули. Он нас видел. Вперед! Бегите, как я, из стороны в сторону. — Нет, лучше нападем на этот куст и разом покончим с этим негодяем. — А если вся шайка с ним? Вы видите, что они подзадоривают нас. В самом деле, камни продолжали преследовать нас на ровном расстоянии и падали почти у ног наших, глухо ударяясь о дерн. — Скверная штука! — сказал Фелипоне, останавливаясь в недоумении. — Теперь этот град посыплется и из тех кустов, которые против нас. Видно, Кампани и товарищей научил бросать камешки; только они трудятся не для полиции, а чисто в свою пользу, и потому верно боятся шума не меньше нас: ведь у них нет ружей. Пойдем дальше. Они не все так ловки, как их вожак; притом же, кажется, они нас не видят, а только слышал шаги и бросают наудачу. Пройдя еще немного, мызник опять остановился и сказал: — Мы в засаде, зашли в круговину разбросанных кустов, а это для них гораздо выгоднее, чем для нас. Придется выдержать осаду… Ну-ка, с Богом, за мной! Он твердым шагом пустился бежать и, преследуемый камнями, свистевшими со всех сторон, бросился за низенький шалаш, из которого слышался страшный лай нескольких собак, проснувшихся при самом начале выдержанного нами нападения. — Что делать? — сказал Фелипоне. — Этого-то я и боялся. Пастухи проснутся, прибегут, может быть, и нас также примут за разбойников и станут стрелять. Я не знаю, сколько теперь пастухов в поле: уже две недели, как не выходил из Мондрагоне. Вот теперь жаль, что лошадей нет с нами. Между тем собаки в шалаше лаяли с удвоенной яростью. — Кто там? — спросил изнутри твердый, спокойный голос, и в ту же минуту послышался стук ружейного замка. Хозяин, очевидно, готовился встретить нас. — Это ты, Онофрио? — спросил мызник, приложив губы к дверной щели. — Я — Фелипоне, за мной гонятся разбойники. Впусти меня! — Молчать, Лупо! Цыц, Телегоне! — отозвался голос пастуха. Дверь отворилась и тотчас же заперлась за нами поперечным запором. Мы очутились в темноте, в душной атмосфере, проникнутой жирным запахом овечьей шерсти и кислого сыра. — Вас только двое? — спросил пастух кротко и спокойно. — Видел ли кто-нибудь, что вы вошли сюда? — Разумеется, — отвечал Фелипоне. — Их много? — Не знаю. — Вы вооружены? — У нас два охотничьих ружья. — Да мое третье. А у них есть ружья? — Нет, пращи, Это Кампани. — И шайка с ним? А Мазолино тут же? — Chi lo sa? — отвечал Фелипоне. — Ваши ружья заряжены? — спросил еще Онофрио. — Sicuro! — отвечал мызник. — Товарищ твой не боится? — Не больше нас с тобой. — Ну, так давайте защищаться. Нужно осмотреться. Постойте. Он зажег маленькую лампаду и поставил ее между трех каменных плит, служивших ему очагом. Тогда мы увидели внутренность шалаша, построенного им по собственному вкусу. Пол был сделан из обломков скалы и усыпан песком; низкие стены изнутри смазаны глиной; потолок очень искусно связан из соломы, переплетенной ветками и вделанной в камышовые перекладины. Деревянный ящик, наполненный листьями кукурузы, служит постелью; сосновый обрубок — диваном. Вместо стола великолепная капитель древней мраморной колонны; кругом, в виде украшений, развешано множество четок и мощей, вперемежку с разными остатками языческой древности. Общество пастуха состояло из двух худощавых собак, повиновавшихся его голосу с необыкновенной покорностью, и трех больных баранов, которых он взял к себе на излечение. Остальное стадо помещалось в другом шалаше, гораздо просторнее и стоявшем десятью шагами далее, Там сторожили другие собаки, которые все время неистово лаяли из своего убежища. — Шалаш мой прочен, — сказал Онофрио и, узнав меня в лицо, улыбнулся, насколько может улыбаться его бронзовая физиономия, обросшая белокурой бородой. — Если только нас не вздумают поджечь, нам нечего бояться камней; мои соломенные плетенки устоят и против пуль. А вот, — продолжал он, вытаскивая из стены толстые соломенные затычки, — вот тут со всех сторон проделаны отверстия, чтобы вставлять ружье и видеть, куда метишь: это моя выдумка. Пастух всегда должен быть наготове, чтоб защитить своих овец. Теперь, — продолжал он, расставив нас по местам, — думаю, что не надо близко подпускать неприятеля. Как только можно прицелиться, то и пали. — Нет, — отвечал мызник, — не нужно шуметь до последней крайности. — Отчего же? — возразил Онофрио, — На выстрел подъедут солдаты из Мондрагоне и выручат нас. Слухи носятся, Фелипоне, что они стерегут там у вас преопасного молодца, безбожника, который в папу выстрелил? Вот в каком виде дошли мои приключения в шалаши тускуланской долины! Я невольно улыбнулся при мысли, как бы испугался добрый пастух, если б узнал этого злодея в бедном живописце, которому недавно он подал руку, а теперь, с опасностью для собственной жизни, предоставляет убежище и защиту! — Да, да, наш пленник ужаснейший злодей, — сказал Фелипоне, ни на минуту не терявший своей веселости. — Но пора подумать об осаждающих. Я уж вижу их, а собаки ваши опять разозлились. Не выпустить ли их против этих мерзавцев? — Их перебьют камнями, — отвечал Онофрио со вздохом. — А я, кажется, лучше соглашусь, чтобы меня самого убили. Впрочем, если будет нужно, посмотрим! В эту минуту у двери раздался резкий и глухой голос, какой бывает у многих итальянцев с атлетическими формами; этот голос выходил будто из земли. Он говорил: — Пастух, не бойся, угомони собак и слушай. — Это голос Кампани; он, как змей, прополз в траве, — сказал мне Фелипоне с живостью, между тем как Онофрио с величайшим трудом сдерживал собак. — Он забился под шалаш между камнями, которые держат переднюю стену. Мы не можем стрелять в него. — Что тебе нужно? Говори! — сказал Онофрио. — Нам не нужно ни тебя, ни баранов твоих, но у тебя спрятался злой зверь, мондрагонский арестант, убийца святейшего отца! — Нет, — отвечал Онофрио, глядя на меня добродушно. — Ты лжешь, ступай прочь. — Клянусь Евангелием, что это он, — продолжал разбойник. — Если это он, то не ваше дело ловить его: дайте знать солдатам. — Да, а ты покамест дашь ему уйти! К тому же солдаты возьмут его в тюрьму, а мне не того нужно. — Так, так, — шепнул мне на ухо Фелипоне, — это римская vendetta. Он хочет сам убить вас. — Так ты не выдашь его? — спросил Кампани. — Считаю до трех. — Нет! — Раз. Объявляю тебе, что нас пятнадцать человек и что по первому моему знаку избенка твоя в минуту разлетится, а вы все трое будете убиты. Потом мы зажжем шалаш, чтобы все подумали, что ты на молитве заснул у огня. Онофрио затрепетал; он поднес к губам ладанку, висевшую у него на шее, с тем же каменным лицом, тем же бесстрастным голосом, величаво и твердо отвечал: — Нет! Настала минута молчания; потом опять раздался голос Кампани: — Два. Я подам знак: тогда волк поневоле выйдет из конуры. Я не дождался третьего отрицания великодушного пастуха. Не сдерживая долее своего негодования, я выстрелил прямо в голову разбойника, который неосторожно высунулся, не подозревая над собой отверстия, из которого я следил за ним: окровавленный мозг его брызнул в стену хижины и даже запятнал ствол моего ружья. — Не на счастье наскочил! — сказал Фелипоне, нервически засмеявшись. — Убит? — спросил Онофрио спокойно. — Одним меньше. Теперь наблюдайте за другими и не подпускайте их близко, если можно. Я решился не подвергать долее опасности добрых людей, которые так великодушно жертвовали собой для меня, и бросился к двери: — Что вы хотите делать?.. — спросил Фелипоне, сильной рукой оттолкнув меня от порога. — Хочу драться с этими бродягами и как можно дороже продать им жизнь свою. Им только меня и надо. — Этого не будет, я не допущу, — сказали пастух и мызник в один голос. — Если вы выйдете, мы пойдем за вами. Некогда было продолжать этот великодушный спор; к тому же Фелипоне имел причину думать, что и ему крепко достанется от разбойников. — Мазолино должен быть с ними, — сказал он. — Это мой личный враг: один из нас непременно должен погибнуть сегодня. Что касается до Онофрио, то уважение к святыне гостеприимства, казалось, восходило у него до героизма. — Если мы разойдемся, — сказал он, — то мы пропали. Но, оставшись вместе, можем спастись, Что тут толковать! Становитесь по местам. Фелипоне стал у отверстия, обращенного к Тускулуму, я к Мондрагоне. Онофрио наблюдал за остальными бойницами, переходя от одной к другой. Он вставил свой сосновый обрубок в круглую дыру, служившую ему окном, и таким образом укрепил эту сторону. Запертая дверь охранялась сама собой, а если бы неприятель подошел слишком близко, мы стали бы защищать ее общими силами. Страшная тишина водворилась за хижиной вслед за падением тела Кампани: он не испустил ни одного звука. Но вот Онофрио опять зарядил ружье, которое разрядил было, отворяя нам дверь. — Фелипоне, — сказал он тихо, — теперь твоя очередь: не торопись. Фелипоне выстрелил. За дымом он не мог различить, попал ли в цель; притом же, не теряя ни минуты, следовало снова заряжать ружье. Осаждавшие нас бандиты, видя отпор с двух сторон, столпились против других стенок хижины, в которых еще не видали бойниц, и потому считали их незащищенными. Теперь настала моя очередь встречать их; Онофрио, угадав их намерения, стал у четвертого отверстия, обращенного к Монте-Каво. Когда мы открыли правильный огонь, разбойники с своей стороны показали нам, что у них было несколько ружей. Они попытались стрелять в маленькое окно, из которого, может быть, виднелся слабый свет лампады. Но заряды их засели в сосновом пне, а пастух поспешил еще крепче забить отверстие. Один раз мы могли насчитать до пяти человек, столпившихся на одном пункте; но они тотчас разошлись, и тени их, тонувшие в густом тумане, начали как будто размножаться, блуждая вокруг хижины; но, в сущности, может быть, их всего было не более пяти, только они беспрестанно менялись местами. Однако, упорство осады служило почти верным доказательством их многочисленности. Казалось, они решились даже под нашими выстрелами искать своих павших товарищей, убитых или раненых, и отомстить за них, уничтожив нас. После каждого нашего выстрела они, очевидно, подходили ближе; но мы уже не знали, попадали ли в разбойников, потому что они ползли в густой и высокой траве, окружавшей хижину. Может быть, мы совершенно по-пустому тратили заряды, потому что вынуждены были беспрестанно стрелять и заряжать ружья. Мы знали, что если они подойдут к самой хижине и влезут на крышу, тогда мы пропали: они тотчас подожгут наше соломенное убежище. Если бы не сырость туманной ночи, одних пыжей было бы достаточно, чтобы зажечь бедный шалаш. Осада продолжалась, по крайней мере, четверть часе, а мы все еще не знали, что с нами будет. Если бы наши противники были посмелее и решительнее, мы бы, конечно, не могли так долго держаться. Но вскоре открылась причина их нерешимости: в один из тех страшных промежутков молчания, которые страшнее явной борьбы, мы услышали голоса, кричавшие издали: — Вот они! Мы стали прислушиваться и различили тяжелый топот верховых, скакавших по вулканической мостовой древне-латинской дороги. — Мы спасены! — сказал пастух, перекрестившись. — Вот помощь: наши выстрелы были услышаны. — Мы пропали! — сказал Фелипоне. — Нет, нет, — продолжал Онофрио, — бродяги обратились в бегство: смотрите, смотрите! Я так и знал, что они не от правительства посланы. Надобно преследовать их. Сюда, Лупо! Ко мне, Телегоне! — Друг, — сказал Фелипоне, удерживая его, — солдаты не должны знать, что ты видел в эту ночь меня или моего спутника. Останься здесь, а мы скроемся. — Так я не видал вас? — спросил пастух без всякого любопытства или удивления, но с видом человека, слепо выслушивающего приказание. — Не видал. Прощай! На тебя нападали разбойники, ты защищался один; если их поймают и они будут говорить противное, не признавайся. Тебя знают и тебе поверят. Бог наградит тебя — да ты знаешь, что и Фелипоне умеет помнить добро. До свидания! — Мир вам, — отвечал пастух. — Если не хотите быть замеченными, то ступайте в каштанник и оттуда пробирайтесь до buco de Rocca-di-Papa. — Он верно говорит, — сказал мне мызник. — Уж рассвело, и поздно возвращаться в Мондрагоне. Пойдем. Мы бросились вон из шалаша; нам пришлось перешагнуть через обезображенное лицо Кампани, который упал на спину и лежал у двери. Далее, под каштановым деревом, валялся другой труп, грудь его была прострелена горстью крупной дроби. — Ага, вот куда дополз! — сказал Фелипоне, наклоняясь к убитому. — Он самый, и я убил его! Вот и заряд моего двуствольного ружья. Посмотрим, точно ли он умер… Да, уж остыл! — Вперед, скорее! — сказал я. — Солдаты уже близко. — На таком расстоянии они не страшны. Хоть я и толстенек, а бегаю хорошо, А вы умеете бегать? — Надеюсь. Но пойдем скорее… что вы тут делаете? — Ищу в кармане у этой собаки одну вещицу… Вот она! Постойте… Надо плюнуть ему в рожу… Ну, теперь с Богом. Мы углубились в лес, сначала по направлению к Грота-Феррата, потом повернули влево, на извилистую тропинку, которая, суживаясь мало-помалу, наконец совершенно исчезала на берегу живописно извивающегося ручья. Уже рассвело, и лес осветился алыми лучами зари. — Вот мы и в безопасности, насколько возможно, — сказал мызник, ложась врастяжку на мшистую землю. — Ох, если б я знал, что мне придется столько бегать, попостился бы с неделю! Впрочем, ничего, еще ноги носят. А вам каково, молодец? О чем задумались? Или вы не рады, что избавились, наконец, от Мазолино? — Избавился! Почем знать? Вы думаете, что он был туг? — А вы разве никогда не видали его? — Днем? Никогда. — Ну, так знакомство ваше не будет продолжительно. Это я ему мимоходом пощечину дал. — Как, брату Даниеллы! — Я убил его, говорю это с радостью и даже с гордостью! Поделом дьяволу! Это ему за то, что он вздумал сильно приставать к моей жене, когда она одна ходила мыть белье у ручья. Даниеллуччия наденет траур; ничего, это ей к лицу! Женщинам траур всегда к лицу. А ведь славную свечу должна она поставить Лукулльской мадонне за то, что я избавил ее от такого негодяя-брата! Таково было надгробное слово бандиту. Оживленное лицо Фелипоне выражало такое искреннее удовольствие, что я, несмотря на физическую усталость и нравственное изнеможение, невольно поддался его влиянию. — Однако, — продолжал он, отдохнув немного, — мы еще не добежали до того места, куда надобно спрятать вас; лезть туда очень скверно. Но вам, может статься, это место покажется прекрасным, потому что живописцы на все смотрят не так, как другие люди. — Прежде всего, — сказал я, — я желаю знать, чему вы можете подвергнуться за все услуги, которые мне оказываете. — За вас ничему не подвергаюсь с тех пор, как Мазолино и Кампани убрались ко всем чертям. Либо ваше дело уладится, либо вы убежите со своей возлюбленной. Теперь вам известно, что не вы были самой важной птицей в Мондрагоне. Из-за князя я тоже не пострадаю; брат его, кардинал, при случае сам не откажется поблагодарить меня за то, что я выпустил его; да если пошло на правду,признаюсь вам… впрочем, об этом когда-нибудь после! — Он верно сам тайно помогал вам в этом? — Chi lo sa? А вот, если когда-нибудь узнают, что я доктору помог убежать, то придется мне посидеть в тюрьме дольше, чем хочется. Теперь мое дело спасать вас — по дружбе к Даниелле и к вам самим, потому что вы мне нравитесь; постараюсь, однако, и тут себя выгородить. Это будет легко сделать, если никто не откроет моего подземелья. Потому-то я и не хочу соваться туда среди белого дня. Я пойду теперь по большой дороге, под открытым небом, засунув руки в карманы, настоящим мызником. Солдаты спросят меня, куда я иду. Я уже приготовил ответ, запасся отговорками и стакнулся с приятелями. Долго вам рассказывать все это. Знайте только, что мне удобнее возвращаться через два часа, нежели теперь. Итак, вы обо мне не беспокойтесь, а ждите меня до ночи в том месте, которое я укажу вам. — Отчего же мне не оставаться здесь? Место нравится мне и, по-видимому, совершенно пусто. — Не совсем пусто! Через час придут пастухи или дровосеки. Надо найти такую глушь, где ни стад не гоняют, ни леса не рубят, а главное, куда полицейские солдаты не захотят соваться даже и пешком. Ну-ка, товарищ, пройдем еще немножко; соберитесь с силами! — Признаюсь, я точно устал, особенно… особенно с тех пор, как увидел Мазолино, и это мучит меня. Души их не были сходны, но родственное чувство заговорит в ней, она будет плакать! — Но скоро утешится, завтра же, когда вы ее покрепче обнимете. — Завтра? Вы думаете, что она уже настолько оправилась от болезни, что может уйти из виллы Таверна? — Если хотите все знать, теперь я могу все сказать вам. Она и не была больна, и не думала вывихнуть себе ногу; все это выдумали, чтобы помешать вам наделать глупостей. Бедняжка под замком. — Как под замком? — Так, в своей комнате, во Фраскати, Брат запер ее там, и Богу одному известно, что она вытерпела! — Боже мой! Она и теперь еще не свободна? — Будет свободна через два часа. Я пойду и тихонько отопру ей дверь. Разве вы не видали, что, пошарив около Мазолинова трупа, я достал из его кармана этот огромный ключ? Фелипоне показал мне тяжелый ключ, обрызганный кровью. — Обмойте его! — сказал я, вспомнив о том, как это обстоятельство может подействовать на Даниеллу. — И руки также вымою, — сказал он, наклоняясь к ручью, — мне противна кровь этого скота. Я скажу своей крестнице: «Милое дитя, поплачь, это твой долг; но вместе с тем и порадуйся, я принес тебе добрую весть, Онуфрио убил твоего негодного брата, который хотел разграбить его тускуланские древности. Возлюбленный твой свободен, но по собственной охоте снова желает закабалиться в Мондрагоне с тем, чтобы оттуда бежать с тобой, когда будет можно». — Но, добрый друг мой, почему бы ей не прийти прямо сюда, чтобы завтра же ночью бежать вместе со мной? Теперь я знаю дорогу. — Но, мой любезный, есть ли у вас в кармане десяток тысяч франков, чтобы нанять маленькое судно у контрабандистов? В таком случае она, назло всем препятствиям, будет ждать вас у берегов Торре-ди-Патерно или Торре-ди-Ваяника. — Увы, нет! Я забыл, что я не князь и увожу не богатую наследницу. Мне приходится идти самой обыкновенной дорогой, то есть предлинным и неудобным путем. Итак, проводите меня вечером в мое прежнее гнездо. Ступайте, освободите Даниеллу! Я сам спрячусь куда-нибудь. Впрочем, к чему все эти предосторожности? В моем настоящем положении можно надеяться только на Божью помощь. Разве не может случиться, что убежище, обещанное мне вами, уже занято теми бродягами, которых мы недавно встретили? Они также спасаются от жандармов и верно спрячутся туда же, если еще не спрятались. — Я не дурак, чтобы опять подставить вас под их камешки. Будьте спокойны! Эта шайка не здешняя: жители Фраскати вовсе не такие негодяи и не такие отчаянные головы. Они очень хорошо знают Мазолино и не пошли бы с ним заодно. Ваши враги из другого околотка. Бьюсь об заклад, что они все из Марино, этого чертова городка! Теперь уж они прошли Ферентийский лес и в эту минуту все по домам. Разденутся, лягут спать, как добрые люди; а когда к ним нарядят следствие, жены их поклянутся Христом Богом и присягнут в том, что они ночью не вставали и не отлучались. Знайте, что моя пряталка в самом деле секретная: знают ее только Онофрио, который сам первый открыл ее, доктор, я, да жена моя. Эта добрая душа целые сутки кормила там нашего приятеля, пока я расчищал вход в свое подземелье. Итак, пойдемте; да здесь кстати лежит и моя дорога; я не хочу, чтобы видели, как я пробираюсь в трущобе, я пойду через Рокка-ди-Папа. Мы снова пустились в путь, направляясь вверх по течению быстрого источника; он был так стеснен в крутых каменистых берегах своих, что мы иногда с трудом находили, куда поставить ногу, и перепрыгивали с берега, на берег, или шли по колено в воде, когда ручей, расширяясь, бежал по мелкому песчаному дну. Как силен во мне врожденный инстинкт пейзажиста! Несмотря на усталость и на препятствия, встречавшиеся на каждом шагу, несмотря на тысячу дум, то мрачных, то упоительных, которые как в лихорадке мелькали передо мной, я беспрерывно увлекался неожиданными извивами и дикой прелестью этого таинственного ручья; так живописно он пробирался сквозь благодатную почву, покрытую роскошными цветами, так звонко журчал в скалистых берегах, пестреющих бархатным мхом. Мы бежали, как дикие звери, через льяны девственного леса; мне было грустно и больно ломать эти гирлянды плюща и повилики, топтать целые ковры ирисов и нарциссов, словом, расстраивать гармонию этой изящной и роскошной декорации. Здесь природа как будто разгулялась на свободе, и вдали от разрушительного влияния человека с особой щедростью расточала свои украшения. Наконец утесы и кустарники расступились, и глазам моим открылся более обширный вид местности, в которой мы ползли будто в яме. То была очаровательная картина, озаренная первыми лучами солнца, Мы находились в глубине узкой, холмистой долины, поросшей густым кустарником и покрытой разнообразными буграми и рытвинами, свойственными вулканической почве. Многочисленные холмики, образовавшиеся по всей долине и защищенные во всех сторон целой цепью более крупных возвышенностей, делали это пустынное место самым надежным убежищем для меня. За ними расстилались ярко-зеленые поля, усеянные кустами, которые блестели от росы и сходили крутыми уступами в низменные долины Тускулума. С этой стороны вид замыкался развалинами небольшого водопровода, заросшего деревьями и ползучими растениями. Прямо перед нами отвесной стеной возвышался остроконечный утес, еще завешенный туманом, отчего он казался несколько далее, нежели был на самом деле; с вершины его тихо падал широкий каскад, ровный, как масса серебра, покойный, как утренний луч. Этот водопад показался мне красивее всех тиволийских, потому что окружающий его ландшафт величественнее и проще. Однако он не знаменит: никто его не посещает, не рисует, его даже никак не зовут; это просто buco, то есть яма Папской Скалы, Rocca-di-Papa: так называют маленькую деревеньку, выстроенную недалеко отсюда на вулканическом возвышении, и существования которой невозможно и подозревать с того места, на котором мы стояли. Неизвестность прелестного водопада объясняется тем, что он исчезает именно в то время, когда туристы начинают свои странствия: как только кончаются дождливые месяцы, источник, образующий этот водопад, тонкими струями выливается в ближнюю трещину; таким образом, водопад находится в полном блеске только ранней весной и служит дополнением к дикой прелести этого места, сохраняемого природой как будто только для себя и для редких путешественников, начинающих свои прогулки с первых дней апреля. Я видел этот водопад издали, в тот день, когда разговаривал с пастухом Онофрио у тускуланских развалин; но он сказал мне, что нельзя близко подходить к нему, потому что доступ слишком труден; и точно, с первого взгляда всякому покажется невозможным пройти сквозь сплошную чащу орешника и низкорослых дубов, покрывших все наиболее удобные склоны. Однако нам это удалось вполне: мне показалось даже, что этот подвиг был не так труден, как те, которые иногда приходится совершать в гористых перелесках моей родины, В здешнем краю нет одного препятствия, самого важного в чащах остальной Европы, а именно: здесь не бывает колючек. Тут вы не засядете, будто в клетке, в целой трущобе шиповника и дикой шелковицы, которые наполняют наши леса, так что самые отважные борзые собаки не решаются пробегать через них. Здесь природа не коварна и не злобна, хоть и оказывает иногда величавое сопротивление. Она больше угрожает, нежели вредит, соответствуя таким образом характеру своих обитателей, которые отважны и предприимчивы, но не упорны и совсем не стойки. Впрочем, на этот раз я должен сознаться, что Фелипоне оказался крепче меня, то есть веселее и беззаботнее. Я был измучен: у меня были нервы, а у него только мускулы. Мы ползли, опираясь на руки и на колени, и, наконец, достигли одной из отлогостей отвесной скалы, куда, казалось, никогда не ступала нога человеческая, даже звериных следов не было видно. Справа стремился водопад, а прямо перед нами открывалась узкая трещина, глубоко бороздившая вулканическую гору. Трещина была изрыта уступами, по которым журчал настоящий источник, тогда как большой водопад образовался из случайных дождевых потоков. По мере возвышения в гору эти уступы углубляются в скалу и, наконец, совсем теряются в ней. — Ступайте вверх, все по уступам этого маленького Водопада, — сказал мне Фелипоне, — тут всегда можно пролезть не замочившись, если только половчее приняться за дело. Жена моя лазила здесь, чтобы проведать нашего приятеля доктора. Я не мог идти сам, потому что у меня тогда очень зубы болели, а бедняжка моя жена всегда так бережет меня! Здесь я вас оставлю, а сам, как коза, пойду перепрыгивать до Рокка-ди-Папа; оно тут близехонько, а вы бы верно и не догадались; здесь в самом деле такая глушь. — Так и я должен идти до этой деревни? — Нет, вы скоро доберетесь до одного диковинного здания, там подождите меня. Вы будете одни-одинехоньки, может быть, у вас голова закружится, но это не опасно, площадка загорожена перилами. — За меня не бойтесь, бегите к Даниелле. — Да, сначала к ней, а потом пойду вытащу из ниши беднягу Тарталью, который верно уж стосковался и очень будет рад позавтракать, чтобы разогнать скуку. Однако, ведь и вам не худо бы позавтракать на этой вышке. — Это мне все равно, я хочу только спать… — А когда проспитесь, то проголодаетесь. Да что, черт возьми, вот вам моя трубка и немножко табаку, а вот фляжка анисовки и кожаная чарка для воды, здесь ее не занимать! — Нет, нет, не оставляйте мне этого, вам самому будет нужно на возвратном пути, ведь вам предстоит еще длинный путь… — Вот еще, это не беда, я совершенно отдохнул, как увидел Мазолино, прошпигованного моей дробью. Я вот только выпью чарку за ваше здоровье, чтобы меня на дороге сон не разобрал. Он наполнил водой свою кожаную чашку, влил в нее несколько капель анисовки и подал мне, приговаривая с шутливой вежливостью: «Прежде вы!» — Ай-ай, — вскрикнул он вдруг, когда мы оба утолили свою жажду, — что я вижу? Бог не оставляет вас, приятель. Берите скорее то, что Он посылает; это не вкусно, но питательно, и теперь я спокоен на ваш счет. Сказав это, он вытащил из потока небольшой мешок, сшитый из грубого холста и прицепленный к одному из выдававшихся камней утеса.Глава XXXIII
В мешке заключалось несколько фунтов люпиновых семян. Эти жесткие и нестерпимо горькие зерна разводятся в огромном количестве на всем протяжении римской Кампаньи и составляют главную пищу бедных людей. Растение люпина красиво и очень плодовито. Чтобы сделать семена его съедобными, прежде всего отваривают их в воде и счищают толстую шелуху; потом кладут в мешок и опускают в проточную воду, что отнимает горечь: затем снова варят их, наконец, грызут. Многие рабочие и крестьяне не знают другой пищи. — Этот мешочек пришел оттуда, — сказал мызник, указывая на вершину скалы. — Какой-нибудь деревенский бедняк положил его в ручей и так плохо прикрепил камнями, что его унесло водой. Возьмите без церемонии эти семена, они уже пропали для своего хозяина. Посмотрим, довольно ли они вымокли! Он раскусил зерно и сморщился. — Похуже вчерашнего ужина, — сказал он засмеявшись, — но добрые люди говорят, что не худо иногда поговеть для спасения души. Впрочем, во всяком случае, это хорошая находка. Так как никто не пришел сюда искать этого мешка, значит дорогу считают непроходимой, и потому вы здесь в совершенной безопасности. Итак, с Богом, мой любезнейший. Я очень рад, что познакомился с вами, надеюсь свидеться с вами часов через двадцать, а покамест употреблю все старания, чтобы быть вам полезным. Мы дружески обнялись. Он настоял на том, Чтобы я оставил при себе его фляжку и чарку. Я нашел в своем кармане целую связку превосходных сигар, которыми накануне князь насильно наделил меня. Фелипоне закурил свою трубочку, затянулся несколько раз, чтобы освежить свои силы, и пошел дальше, уверив меня прежде, что до тех пор не остановится, пока не дойдет до Даниеллы. Несмотря на бессонницу и трудный переход, он шел так твердо, а круглое лицо его было так свежо, что я невольно стал надеяться. Без большого труда взобрался я по уступам маленького каскада и очутился вдруг перед самым странным строением, какое мне когда-либо случалось видеть. Это старинная гвельфская башня, со стрельчатыми отверстиями и косыми зубцами, высеченными наподобие пилы. Во времена вражды Орсини и Колонна такими башнями защищали обыкновенно входы в ущелья; почти такая же запирает овраг потока Марино. Скала имеет сбоку углубление и образует площадку, на которой стоит эта башня, совершенно скрытая и неприступная (хотя я сам проник в нее с этой стороны), потому что уступы маленького водопада можно бы и теперь сделать непроходимыми, проведя в эту трещину большую массу воды. Арка, проделанная в фундаменте здания, теперь сквозном, по-видимому, была назначена именно для этой цели. В настоящее время под ней протекает скудная струя, которая с трудом просачивается сквозь груды мусора и обломков. Когда я достиг площадки, может быть, стоило только внезапно разбросать эти обломки, чтобы совершенно прекратить сообщение между мной и остальным светом в этой башне голода. С площадки я вошел в небольшой полукруглый зал, не имевший другого — выхода. Не здесь ли запирали пленников? И как проводили их в эту комнату?.. Не стараясь ответить себе на все эти вопросы и изнемогая от усталости, я бросился на кучу извести и кирпича, и заснул, как в пуховике. Проснувшись, я ничего не мог припомнить, ни того, что мне снилось, ни того, что привело меня в это странное место. Лишь тогда я был в состоянии отдать себе отчет в своем положении, когда увидел подле себя ружье. Я посмотрел на часы: они показывали полдень, но так как я не заводил их, то, может быть, было и больше двенадцати. Солнца мне не было видно, потому что за стенами башни, скрывавшими от меня горизонт, возвышались еще отвесные скалы. Я только сбоку мог видеть частицу оврага и, судя по направлению и длине теней, отбрасываемых несколькими тощими деревьями, заключил, что могу безошибочно перевести стрелку на два часа. Несмотря на порядочный холод и страшный аппетит, я проспал часов шесть сряду. Я вспомнил, что во сне мне грезилось, будто я ел что-то. Я вынул полусырые и еще очень горькие семена, посланные мне судьбой, и начал грызть их. С помощью анисовой водки и хорошей сигары этот завтрак показался мне сносным. Мало-помалу я согрелся и пришел в самое приятное состояние духа, какого можно было ожидать после моих незабавных приключений. Силы мои возвратились. Я взобрался на обломки своего убежища, чтобы удостовериться, в какой мере я мог считать себя вне опасности. Зная, что селение в двух шагах отсюда, я не мог понять, как дети, которые везде пролезают и все находят, не добрались еще до этой башни, будто бы открытой пастухом Онофрио? Я долез до пролома в стене и убедился собственными глазами, что башня кругом загорожена, а скала, поддерживавшая ее, стоит совершенно отдельно; вероятно, прежде через пропасть был перекинут мост, который впоследствии обвалился; поэтому и самую башню считали, быть может, ненадежной и бросили ее. Впрочем, она уже ни на что не годилась, так как даже пастухи считали овраг непроходимым, то верно никому не пришло в голову влезать по уступам водопада. Для этого нужно, чтобы человек, как зверь, спасался от погони, или имел такого проводника, как Фелипоне. Я раздумывал, к чему могло служить это здание, выстроенное в такой глуши и до того завязшее в расселине, что из него невозможно было даже наблюдать окрестность. Наконец, мне пришло в голову предположение, очень вероятное в стране, подверженной частым землетрясениям, а именно, что эта башня была выстроена на вершине утеса, футов на сто выше; но скала внезапно могла обвалиться, а здание, переломанное и разбитое, скатилось на площадку, которая теперь служит ему подножием, и останется в этом положении до другого случая, то есть до тех пор, пока другой толчок не сбросит его окончательно в пропасть. Нечто подобное случилось уже однажды в тиволийском Нептуновом гроте, где своды обвалились от чрезмерной быстроты потока. Итак, вначале тут была башня, наблюдательный пост на вершине скалы, над пропастью и водопадом. Предполагаемое землетрясение могло прорыть потоку другое русло и тем уменьшить массу воды в водопаде; тогда же должна была образоваться расселина, в которую попала башня, вместе с обломком утеса, на котором она стояла. Все это могло случиться в XV веке, вскоре после необдуманного построения этой maledetta — так назову я эту башню, — чтобы вы знали впоследствии, что я говорю именно о ней. Шум водопада мешал мне расслышать какие-либо посторонние звуки, и я не мог узнать, был ли кто-нибудь надо мной, на верхней площадке скалы. Вероятно, она обитаема, потому что селение так близко, но так как я никого не видел, то заключил, что и меня никто не видит. Не знаю, можете ли вы представить себе все величественные ужасы этого жилища: даже совы боятся тут селиться. Над головой моей разбитая башня со всех сторон представляла проломы и обвалы, кое-как поддерживаемые сводами небольшой комнаты, в которой я находился. Куча песку, нанесенного на площадку случайными дождевыми стоками, служила убежищем множеству пресмыкающихся, которых я тотчас изгнал. Вход в мою Конуру не был защищен ни ставнями, ни дверью; но так как отверстие было не велико, то я был совершенно закрыт от ветра. Я постарался так устроиться, чтобы провести день как можно терпимее. Сев на маленькую площадку, я старался победить головокружение, предсказанное мне мызником: я действительно чувствовал очень сильное головокружение. Вообразите себе дырявое гнездо, прицепленное к стене пропасти, глубиной в несколько сот футов; вдоль этой стены льется водопад, который сверху как будто сейчас упадет вам на голову, а под годами теряется в неизведанном пространстве. Спокойствие этой блестящей струи, гладко скользящей по утесу и небрежно катящейся вниз, заключает в себе что-то великолепное и вместе отчаянное. Здесь нет опьяняющего шума тиволийских водопадов; я забрался так высоко, что мне ничего не слышно, кроме серебристого, чистенького и однообразного звука, который беспрерывно твердит: «Уйду, уйду», и ничего более. Мне также хотелось уйти, броситься вниз и, спрыгнув в овраг, вместе с ручьем бежать во Фраскати. При мысли, что я скоро могу увидеть Даниеллу, я задыхался от нетерпения; я уже не в силах был превозмочь себя и рассуждать с самим собой, как делал это во время последнего пребывания в Мондрагоне. Мне казалось, что я уже расквитался со всеми неудачами, с волнениями, опасностями и трудами всякого рода, что, наконец, после стольких мрачных и скорбных дней, я имел право хоть на один день полного счастья. Я спорил с судьбой, хотел избавиться от всех испытаний и нетерпеливо спрашивал, когда же им будет конец. Я чувствовал себя грустным и бессильным, меня пугали воспоминания недавно прошедшего: мне представлялся разбитый череп Кампани, кровавый мозг его на стене шалаша, собаки пастуха Онофрия, лижущие на камнях еще теплую кровь; мне казалось, что на стволе моего ружья все еще были отвратительные пятна, и я чуть не сбросил его в водопад. Мне виделся неподвижный взгляд мертвого Мазолино, и его сходство с Даниеллой снова защемило мое сердце. Я не воин, а художник; я не люблю и не привык убивать; как ужасно жить в стране, которую закон не хочет и не может защитить от истинных врагов ее! Это просто разбойничий притон; как бы вы ни были кротки и добродушны по природе, но при случае, непременно должны сделаться палачом в этом распадающемся обществе. Голова моя кружилась не только от глубины пропасти, бывшей у меня под ногами, но и от всех ощущений, волновавших мою душу: я чувствовал ожесточенное презрение и свирепую ненависть к этим испорченным отбросам человечества. Я живо представил себе светлый взгляд и безмятежную улыбку, с какими Фелипоне приветствовал солнечный восход после этого ночного «побоища, и подумал: «Вот до чего доходит человек добродушный и способный к преданности, когда он поставлен в среду этих дряхлых, отживших обществ, где всякий обязан защищаться своими средствами и так же спокойно убивать человека, как бешеную собаку». Решительно я не создан для подобной забавы. Я пробовал охотиться, но никогда не любил охоты, и если бы мне самому приходилось резать цыплят на жаркое, я бы согласился лучше ничего не есть, кроме зерен и травы. Но охотиться за людьми всегда будет для меня совершенным кошмаром. Мне нужно было употребить всю силу воли и все усилия ума, чтоб отогнать какие-то видения, начавшие, как в бреду, представляться в мрачной обстановке моего убежища. К счастью, в кармане моего платья нашелся маленький походный альбом и карандаш. Я начал изучать очертания водопада и скал; потом, чтобы согреться и расправить члены, предпринял гимнастическую прогулку по уступам. Овраг был так пуст, что мне пришла охота идти дальше, но из страха расстроить близкое счастье я сделался совершенным трусом и продолжал прятаться в расселине, которую нельзя увидеть иначе, как подошедши к самой подошве утеса, что, как я испытал, очень трудно. Поужинать мне не удалось: я забыл положить в воду мешок с люпиновыми семенами, и они совершенно засохли. Однако, во избежание слишком сильного голода, я разгрыз несколько зерен и выкурил сигару. Вкушая эту скудную пищу и сравнивая себя с отшельниками минувших веков, я вспомнил бедного монаха, оставленного накануне в Мондрагоне; по всей вероятности, он ничего не ел со вчерашнего дня, разве Тарталья вздумал уделить ему частицу съестных припасов, которые так тщательно прятал и запирал от него. Но Тарталья поступил, вероятно, так же, как я: не забыл ли он своего друга Carcioffa, как и я забыл его, прощаясь с Фелипоне? Да, действительно, бедный брат Киприан точно так же выпал у меня из головы, как старое платье, брошенное в шкафу. Поголодав один день, он не мог умереть, но, вспоминая о мощных способностях его желудка, о беспощадных зубах, наводивших на нас ужас и уныние, я не мог не упрекнуть себя в забывчивости и мысленно просил прощения у Даниеллы за все зло, которое я причинял ее родственникам. Настала ночь, у меня не было никаких способов к искусственному освещению, так как я ожидал Фелипоне не прежде одиннадцати или двенадцати часов ночи, то попытался заснуть, чтобы как-нибудь умерить свое нетерпение; но я не мог думать ни о чем, кроме Даниеллы. Я с наслаждением повторял себе, что после всего испытанного мною за нее, она будет единственной моей любовью; и по мере того, как жизнь моя наполнялась странными приключениями, совершенно противными моему мирному нраву и скромному положению, привязанность Даниеллы казалась мне желаннее и дороже всего на свете. Мысль, что я страдаю за ту, которая уже столько выстрадала за меня, была мне так утешительна и сладка, что мало-помалу я почти согрелся и уже не чувствовал лихорадочной дрожи, мучившей меня целый день. Я устроил себе род постели из песка, найденного на площадке, и сухих листьев, сорванных мною с верхушки одного деревца, упавшего корнями вверх с вершины утеса в каскад. То был род чинара; он уперся в площадку своими развесистыми ветвями и таким образом держался против течения воды, которая влекла его в мою сторону. В корнях его еще оставалась глыба сырой земли, прошлогодние листья сидели на ветках, а молодые почки пробивались по концам. Ему, по-видимому, хотелось пожить в этом положении как можно долее; я почти извинялся перед ним в том, что для удовлетворения своей прихоти обрывал его ветви. Как ни мягка была моя скороспелая постель, я не мог спать и принялся решать задачу: что такое время? Что такое течение времени? — спрашивал я самого себя. — Для безначального и бесконечного — нет времени: время есть противоположность вечности. Бог видит, мыслит и чувствует все существа, проходящие в нем, подобно этому водопаду, которого спокойный шум непрерывно, без начала и без конца для моего слуха, напевает мне свою неизменную, роковую песню. Перевороты в мирах вселенной не более возмущают движение всемирного бытия, чем песчинка может возмутить однообразное течение этой струи. А между тем я считаю биение своего сердца и всеми силами души хочу ускорить течение этих секунд и минут, которые уже не возвратятся для моего «я», каким я знаю себя, но возвратятся в вечности для того бессмертного «я», в котором заключается существо мое. Отчего же мысль человеческая так лихорадочно рвется всегда за пределы настоящего часа, как будто может она уйти от Божьего непреходящего часа. Свойства нашей земной природы совершенно противоположны свойствам всемирной природы, закону бытия всеобщего, вечного движения, не знающего ни покоя, ни утомления, ни произвольного разделения времени, ни границ. Не оттого ли это, что личность человеческая есть только половина существа, которое стремится собственно не к тому, чтобы ускорить течение жизни, потому что всегда боится потерять ее, но пополниться сообществом, без которого жизнь для нее не имеет цены. Другая половина души наполняет жизнь человека и распределяет время. Она доставляет ему в один миг столько радости, что этот миг стоит целого столетия. Отсутствие ее повергает его в томительное состояние, которое не есть жизнь; и напрасно он считает минуты, они не движутся, не идут для него, потому что не существуют, Они должны представлять промежутки ничтожества, небытия и, как бездушные песчинки, падать в недвижную вечность. Погрузившись в этот бред, я вдруг почувствовал, что чья-то рука, шарившая в темноте, задела меня по лицу и легла на грудь мою. Угол, в который я забился, был погружен в непроницаемый мрак, а шум водопада помешал мне расслышать шаги человека, очутившегося теперь возле меня. — Фелипоне, — вскричал я, вскакивая, — это вы? Ответа не было. Я схватил ружье, бывшее у меня под рукой, и взвел курок. Две руки обхватили меня, и горячие уста встретились с моими. — Даниелла! Так это ты? — вскрикнул я. — Наконец! Это была она, живая, свежая и не более утомленная восхождением по крутому утесу, чем фраскатанкой, протанцованной на паркете. — И ты прошла в этом непроходимом кустарнике, через этот опасный ручей, против течения этого потока, который грозит беспрестанно сбить с ног? Одна, ночью? Ведь ты была больна? Может быть, ты голодала в своей тюрьме? Брат бил тебя? Но ты не отчаивалась? Тебе говорили обо мне? Ты все так же любишь меня, ты знала, что я ни о чем, кроме тебя не думаю, что я только и жил для тебя? Теперь уж мы не расстанемся ни на один час, ни на минуту!.. Я осыпал ее сотней вопросов. Она отвечала мне только другими вопросами; наше взаимное беспокойство было так велико, а смятение и радость свидания так сильны, что мы долго не могли собраться отвечать друг другу. Я прижимал ее к груди своей, как будто боялся, чтобы кто-нибудь опять не отнял ее у меня; восторженность этой высшей радости на земле не была похожа на чувственное удовольствие. То была другая половина души моей, наконец возвращенная мне; и вот я снова ожил, снова почувствовал невозмутимое, высокое наслаждение вечного союза. В эти минуты нечего было и думать о толковом объяснении, о дельном разговоре. Между слов она вздумала еще устраивать мне всякие удобства. Сняв свою мантилью, она завесила ею узкое стрельчатое отверстие, служившее дверью и окном; потом зажгла свечу. — Боже мой, как тебе здесь холодно, — сказала она, — я вижу, что ты ухитрился устроить себе постель, а не догадался, как добыть огня. Я знаю, что здесь недавно скрывался кто-то. Фелипоне велел мне искать угольев и других вещей под камнями у закоптевшей части стены; помоги же мне найти! Мне не хотелось искать, не хотелось слушать; я даже забыл, что было холодно. Однако, видя, что она роется в кирпиче и мусоре своими трудолюбивыми ручками, я принялся помогать. Мы нашли под камнями кучу мелкого угля и пепла. — Скорее сделай очаг, — сказала она мне, — вот три плоские камня, они уже были употреблены на это. — Боже мой, так тебе холодно? — Нет, мне тепло; но нам нужно будет ночевать здесь. Она разожгла угли с умением, свойственным южным женщинам, которые обращаются с этим топливом так, что не производят угара. Порывшись еще по углам, она нашла глухой фонарь, большой «лоскут старой шпалеры и два тома латинских молитв, из которых многие страницы были уже вырваны на растопку, Даниелла прикрепила шпалеру к двери, в виде портьеры, воткнула свечу в фонарь; вместо стола поставила перед нами корзину, которую принесла с собой, вынула оттуда хлеб, масло, ветчину и очень тщательно разложила все это на чинаровых листьях. Наконец, мы уселись на камни и, продолжая разговор, начали ужинать. Вот что я узнал о состоянии дел наших. Даниелла не знала имен князя, доктора и даже таинственной дамы под вуалью. Фелипоне рассказал ей только, что из Мондрагоне бежали знатные особы, предлагали взять меня с собой, но я не согласился следовать за ними. Бегство их еще не было всем известно, но, вероятно, кардинал уже был предупрежден, потому что в тот же день инкогнито приезжал во Фраскати, он говорил с Фелипоне без свидетелей, после чего приказал со следующего дня допустить полицейских к осмотру замка. Тогда может случиться, что подземный ход будет отыскан, хотя Фелипоне и не думает этого; впрочем, он, кажется, не боится, что будут считать его соучастником беглецов. Убийство Кампани осталось второстепенным происшествием. Донесено было, что он покушался ограбить тускуланского пастуха, который, как известно всему околотку, собрал несколько драгоценных древностей, и что пастух для собственной защиты убил Кампани. Шайка его разбежалась. — А брат твой? — спросил я, удивляясь, что Даниелла ни разу не произнесла его имени. — Брат мой был с ними, кажется, — отвечала она бледнея. — Несчастный! Я не думала, что он будет так безрассуден и примется опять за это, после… — За что, после чего? — Да как же? Ведь он был с теми бродягами, которых ты разогнал на Via Aurelia! Разве ты не помнишь, что я плакала после этого побоища? Он не узнал меня, потому что я сидела на козлах в шляпке, с вуалью; но я видела его; вот почему я потом говорила тебе, что этот человек на все способен. — Но… сегодня ночью, что с ним сталось? — Ведь ты знаешь, — отвечала она, потупив голову. — Не будем говорить о нем. — Но ты знаешь, что не я?.. — Не ты… но все равно, так было Богу угодно. — Нет, Богу угодно было сделать это не через меня. — Фелипоне говорит то же… я надеюсь, что это правда. — Совершенная правда. Мазолино убит крупной дробью, а мое ружье было заряжено пулей. — Слава Богу! Но не думай, что я перестала бы быть твоею, если бы это было иначе. Если бы он был добрейшим братом, если бы ты просто из злости убил его, то и тогда не от меня бы зависело меньше любить тебя. Если бы ты сделал преступление, я пошла бы за тобой на плаху. О, да, уж лучше умереть с тобой, нежели разлюбить тебя!Глава XXXIV
Итак, я должен был скрываться в башне «Maledetta», пока в Мондрагоне производили полицейский обыск. В случае, если подземелье не будет открыто, я возвращусь туда на следующую ночь. В противном случае, мне найдут другое убежище или средство к побегу. Но всего более хотелось нам пожить в нашей милой Мондрагонской тюрьме, до тех пор, пока розыски в окрестностях не прекратятся; не найдя никого в замке, местное начальство, без сомнения, распорядится насчет строжайшего и тщательного обыска вокруг. — Фелипоне поручил мне еще, — прибавила Даниелла, — извиниться перед тобой, что он не сдержал своего слова. Ему едва хватит всей нынешней ночи на то, чтобы уничтожить все следы пребывания беглецов в большой кузне, хоть он и говорит, что полицейские сыщики не догадаются, как войти сюда. Он мне все рассказал; во мне он уверен. А в казино и в мастерской твоей не осталось и следа твоего пребывания. Тарталья все убрал и спрятал. — Куда же он сам денется? — Это его дело; он сказал, чтобы о нем не беспокоились. — Ах, Боже мой! — воскликнул я, снова поразившись мыслью, которая, к несчастью, всегда приходила после всех других. — Где же твой дядя-капуцин? — Тарталья накормил его и оставил ему съестных припасов на целый день, Ему не хотят открывать потаенного хода; может быть, угрозы его начальников тотчас заставили бы его разболтать этот секрет. Мы уже думали вывести его оттуда с завязанными глазами, но на это нужно слишком много времени; рассудили, что будет лучше, если он попадется в руки жандармов; они очень удивятся, что им удалось поймать только одного бедного запуганного монаха, и отправят его в целости в монастырь. Ему сделают допрос: он может сказать только, что я посылала его к тебе. О других беглецах он ничего не знает. — Так мы останемся здесь на целые сутки? И ты не уйдешь от меня? — Никогда больше не уйду, только завтра поутру схожу похоронить брата, а там покину Фраскати хоть навек, если хочешь. — И не будешь тосковать о нем? — Нисколько. Я больше никого из тамошних не люблю, кроме Мариуччии и Оливии; да еще немножко люблю бедного Тарталью за то, что он служил тебе верно. — А Фелипоне и Онофрио? — Да, всех, кто был хорош с тобой. У нас есть в самом деле такие добрые, хорошие люди, что из-за них стоит простить остальным, а остальные-то все больше злые и подлые люди. Поверишь ли, что, когда брат запер меня в моей комнате, никто не решился оказать мне помощь! В первый день подходили к двери и говорили со мной через скважину; жалели меня, но ни у кого не достало духа сбить огромный замок, который он привесил вместо моей розовой ленты. Я об него до крови исцарапала себе руки, переломала всю свою мебель, целые ночи напролет выбивалась из сил. Когда я уж очень шумела, брат входил ко мне и бил меня. Я боролась с ним до того, что падала в обморок, Оливия и Мариуччия десять раз приходили, и ни разу не могли уговорить кого-нибудь из мужчин идти вместе с ними. Впрочем, Мазолино почти всегда был туг. Он спал в коридоре и грозился прибегнуть к местным властям, чтобы меня посадили в настоящую тюрьму. «Я, пожалуй, донесу, что она заодно с изменниками, которые сидят в Мондрагоне, — говорил он, — я хочу, чтобы эти проклятые заговорщики померли с голода, а я знаю, что она доставляет им съестные припасы». Что же было делать моим друзьям? Они стали выжидать, из страха, чтоб он не приступил к крайним мерам. Другие издевались над моим горем и досадой. «Поделом ей, — говорили они, — зачем она связалась с безбожником?» Они говорили это, чтобы выказать себя истинными католиками, и чтобы Мазолино не донес на них. Так как он не имел на них подозрения, то они могли бы освободить меня; но никто не решился. Тарталья завел было со мной отношения и просовывал под дверь записочки; но когда я узнала через него, что ты решился терпеть и ни в чем не нуждаешься, я подумала, что и мне надо потерпеть. Когда же и Тарталья перестал ходить ко мне, я думала, что сойду с ума, и уже начала резать свои простыни, чтобы при помощи их спуститься из окна. Мне бы несдобровать… К счастью, мой крестный отец Фелипоне успел перебросить мне записку, в которой было сказано: «Все идет хорошо, потерпи». Я стала ждать. Всю прошлую ночь я не слыхала Мазолино и догадалась, что если он перестал стеречь меня, то уж, верно не без злого умысла против тебя; до самого утра я все билась, как бы мне уйти. Мне удалось уже немного проломать стену около косяка. От усталости я заснула. Через час я открыла глаза и увидела перед собой Винченцу. «Вставай скорее, — сказала она мне, — закройся моим платком и беги в Кипарисную ферму. Через несколько минут я выйду за тобой, запру опять дверь и догоню тебя». Вот как я спаслась. Я дала знать об этом Оливии и Мариуччии, а день провела в Мондрагоне: там все еще стоит караул. От радости я прыгала и смеялась с Тартальей, заставила плясать капуцина-дядю, словом, совсем забыла, что ношу траур по брату. Вспомнив об этом, я раскаялась и поплакала, заказала ему честные похороны и много обеден за упокой его души; потом, собрав у Фелипоне все нужные сведения о месте твоего убежища, пришла сюда. — Так, стало быть, ты знаешь все мышиные норки в этом краю? Как же ты нашла дорогу в такой темноте? — Сначала я шла прямо до Рокка-ди-Папа; не доходя до деревни, у самой подошвы горы, я искала глазами утес, о котором сказывал мне Фелипоне. Там гораздо светлее, нежели тебе кажется отсюда; хотя месяц сегодня в тумане, но все видно. Я знала, что, с небольшим запасом памяти и ловкости, оттуда нетрудно найти овраг. Правда, дороги нет, но расстояние невелико, ты видишь, что я даже не устала. — Но ты не спала прошлую ночь? — Спала один час. Уж этого со мной давно не случалось. Она показала мне на руках и плечах синие следы побоев; говоря мне о мучениях своих, она улыбалась. — Бедный Мазолино, — говорила она, — я прощаю тебя — вот все, что могу сделать. Но тосковать о тебе не буду. Теперь, соединившись с тем, кого я так люблю, я жалею, что не пострадала еще больше; прошлые горести несравненно меньше теперешнего счастья! Я уговорил ее отдохнуть. Она легла на постель из песка и листьев и, положив голову на мои колени, заснула тем тихим, прекрасным сном, на который я не могу налюбоваться. В немом восторге провел я всю ночь, глядя на нее; я ничего не думал; я жил только одной мыслью: «Теперь она моя, и навсегда!» Все окружающее казалось мне восхитительным, звонкий голос каскада превратился в небесную музыку. Слабый свет фонаря рисовал на разбитой стене какие-то странные и забавные тени. Лоскут драпировки, прикрепленный снизу камнями, надувался, как парус от свежего дыхания водопада, Этот остаток какого-нибудь старинного украшения Мондрагонского замка, без сомнения, занесенный сюда Винченцей для доктора, был не обрывок ковра, как я думал сначала, но просто старая масляная картина на полотне, вырванная из рамы, дурное подражание плохой кисти Альбано, изношенное, истертое, полинялое, но посредине еще как-то уцелел бледный, жеманный амурчик, рисовавшийся на тусклом фоне темного пейзажа. Мне казалось, что этот бедный купидон грелся в теплой атмосфере нашего очага, и в радости, что снова видит свет, порывался со своего фона, в который так жестоко влепил его художник, порывался, подобно ночной бабочке, сжечь свои ощипанные крылья на свечке. На рассвете моя милая Даниелла проснулась и тотчас собралась идти в Грота-Феррата, куда отнесли трупы двух разбойников, поручив их базилианским монахам. По бандитам, умершим без исповеди, в смертном грехе, могло только личное участие возносить молитвы, и тела их могли быть преданы земле лишь в стороне от освященного кладбища. Расставаться еще раз с Даниеллой было для меня новым мучением. Теперь мне казалось, что как только она на два шага отойдет от меня, я снова утрачу ее; я беспокоюсь о ней, как самая раздражительная, самая мнительная мать беспокоится об единственном ребенке. Я проводил ее до тройного утеса, откуда она должна была идти обыкновенной дорогой. Осторожно пробираясь в этой путанице кустов, по холмистым извилинам, усыпанным обломками лавы, как Фонтенблонский лес усыпан песчаником, мы увидели, как тут легко укрываться от преследований. Рассмотрев местность при дневном свете, Даниелла так успокоилась, что позволила мне, на обратном пути в наше гнездо погулять немного по оврагу. Изучая все неровности берегов ручья, я упражнялся в том, чтобы так искусно прятаться, на случай тревоги, как будто бы я целый век занимался этим козьим ремеслом. Прогулка моя продолжалась часа два; не слишком удаляясь от своего убежища и не встретив никакого живого существа, я успел набросать несколько беглых рисунков с этих прелестных уголков; потом пошел назад той же дорогой, чтобы дождаться Даниеллы у тройного утеса. Надеясь на совершенную пустынность этих мест, я без больших предосторожностей подошел к редеющей опушке леса и вдруг услышал топот лошадей по песку. Я забился в кусты, чтобы увидеть проезжих всадников, быть может, врагов моих. Каково же было мое изумление, когда я узнал Отелло, гордо и бойко несущего таинственную синьору! Вслед за ней, на почтительном расстоянии, ехал грум князя, точно будто на прогулке в Булонском лесу. Я припал к земле, потому что мне показалось, будто она настойчиво смотрит в Мою сторону. Она проскакала мимо, и, проехав еще шагов двадцать, вдруг быстро и легко спрыгнула с лошади, почти не останавливая ее, бросила повод своему жокею и, ловко придерживая юбку своей амазонки, побежала ко мне. В надежде, что она направится в другую сторону, я продолжал неподвижно сидеть за кустом; но она подошла ближе и вполголоса произнесла: «Вальрег!» Я был очень удивлен этой встрече в лесу, тогда как предполагал Медору в море и, воображая, что какое-нибудь несчастье случилось с ее спутниками, сделал ей знак, чтобы она не останавливалась и не заговаривала, а следовала бы за мной в горы. Когда мы достаточно скрылись за камнями, она сказала: — Не бойтесь ничего! — И, сев на траву, она сбросила с головы шляпу, как бы желая отдохнуть, — Я вижу, что вы плохо прячетесь, — прибавила она, — я гораздо осторожнее вас, потому что вы показываетесь на дороге, а я велела жокею спрятаться с лошадьми подальше, чтобы не возбудить внимания прохожих. Надеюсь, что нам можно поговорить хоть пять минут. Скажите, пожалуйста, зачем вы здесь? Стало быть, вы не успели возвратиться в Мондрагоне? — Нет-с, я возвращусь туда только на следующуюночь. — Вы здесь одни? — Да, покамест. — Кого же вы ждете? Верно Даниеллу? Я сейчас встретила ее в Грота-Феррата, у монастырских ворот, на похоронах. Я ужасно перепугалась, вообразила себе, что с вами что-нибудь случилось, и что она уж провожает вас на кладбище. Я чуть не остановилась, чтобы заговорить с этой девушкой! Но она не видала меня, ей было не до того. Я не хотела слишком близко подъезжать, чтобы не обратить на себя общего внимания; я надеялась, что узнаю что-нибудь от прохожих, но до сих пор не встретила ни души; однако, осматриваясь попристальнее кругом, в надежде отыскать крестьянина, который мог бы сказать мне имя умершего, я увидела вас. Ах, Вальрег, как я рада, что вижу вас в живых! Последние слова сказаны были отрывисто, с тем нервным выражением лица и голоса, которое я заметил у нее в Тиволи; я с почтительнейшей холодностью поблагодарил ее за участие. — Если б это случилось, я была бы неутешна, — продолжала она серьезным тоном. — Не Фелипоне ли убили? — Нет, благодаря Богу, убитый вам незнаком и неинтересен. — Извините, может быть, и не так! Даниелла, верно, не стала бы служить панихиду по чужому человеку? — Не станем много толковать, мне некогда. Сегодня ночью Мазолино Белли напал на нас, и Фелипоне убил его, Я убил Кампани. — На этот раз совсем? — Совсем. Если бы вы смотрели внимательнее, то увидели бы, что не одного Мазолино принесли на кладбище. — Вы сами убили этого разбойника? Дайте мне руку, Вальрег; мне приятно пожать руку человека, который убил своего врага. В наше время так редки примеры энергичного мщения! — Этот человек столько же был моим врагом, как волк или змея, которые бы на меня бросились, — сказал я, холодно дотронувшись до протянутой мне руки и вглядываясь в странное выражение какой-то восторженной свирепости, налетевшее на это красивое лицо. — Я очень смирный человек и незлобнейший из смертных. — Вальрег, — продолжала она с живостью, — вы не знаете себе цены! Ваше скромное равнодушие делает вас истинным героем. — Меня? — Не смейтесь, я говорю не шутя: решившись для меня на такие подвиги и испытав столько приключений, вы навсегда заслужили мою благодарность и уважение. Выводить ее из заблуждения было очень нелюбезно и даже неосторожно; однако она говорила с таким увлечением, что я поспешил оправдаться, объяснив ей, что действовал из благодарности к ее спутникам, а не к ней, потому что я и не подозревал об ее присутствии в подземелье. — Не может быть, — сказала она смеясь, — вы узнали меня! — Честное слово, я даже не взглянул на вас. — Напрасно вы так стараетесь отвергать выражение моей чистой и спокойной признательности, — продолжала она, вставая с волнением, которое противоречило смыслу ее слов. — Видя, что вы добровольно вступаете в число моих телохранителей, я имела право приписать вашу преданность чувству рыцарской дружбы. Мне казалось, что я заслужила эту дружбу, смело предложив вам любовь мою и сохранив к вам искреннюю привязанность и уважение, после того как вы отказались от чувства более пылкого. — Если эхо так, то действительно благодарность должна быть, но с моей стороны, только я еще ничем не доказал вам ее. Вот все, что я хотел сказать. Теперь позвольте спросить, где ваши друзья и спутники? Каким образом вы расстались с ними и очутились в этой глуши? — Здесь совсем не такая глушь, как вы думаете. Неподалеку от этого утеса и очень близко к тому селению есть маленькие дачи, на которых я в прошлом году жила с теткой; я намерена нанять одну из них на несколько дней, пока придумаю, что мне делать. — Но князь… — Что князь?.. — сказала она засмеявшись. — Князь и доктор, со своими поварами и поваренками, плывут теперь в Ливорно или в Аяччио — Бог их знает куда, должно быть, куда ветер подует, а мне до них решительно нет дела. Что мне князь? Разве я люблю его? Разве я принадлежу ему? Какие права имеет он на меня? Я свободна: захотела выйти замуж, и почтила его своим выбором; раздумала, так что ж? — Конечно, я не смею рассуждать об этом; я только спросил вас, где и в каком положении находятся эти любезные люди. — В совершенной безопасности, потому что вчера поутру они отплыли. Вы хотите знать наши приключения? О, они совсем не так замечательны, как ваши. Мы ехали в карете через какие-то ужасно некрасивые, плоские места; я бы очень была рада заснуть на это время, если бы князь не помешал мне, потому что сам вздумал заснуть; и вообразите, mon cher, как кстати пришлось мне сделать преполезное открытие: князь изволит так храпеть, что заглушает шум колес, катящихся во весь опор! А я чувствую особенное отвращение к этому недостатку. Мой любезный дядюшка, лорд Б…, имеет привычку каждый вечер засыпать в гостиной своей супруги и храпеть! Князь же храпит именно так, как он, то есть до того смешно, неприлично, досадно и даже страшно, что, проезжая Лаурентийский лес, мне показалось, что за нами гонятся все буйволы из ближнего болота. Я поклялась себе никогда не быть женой человека, который храпит во сне, и разбудила доктора, чтобы сообщить ему о своем решении, пока друг его продолжал всхрапывать. Доктор употребил все усилия, чтобы возвратить меня на путь, по его мнению, истинный; но когда он тщетно истощил свое красноречие, знаете ли, что он придумал? Ну, попробуйте отгадать! — Он хотел удержать вас насильно? — Нет, еще лучше: он предложил мне свою руку и пятидесятилетнее сердце! Правда, что он красивее князя, но он не князь: он простолюдин, республиканец, и притом ест вдвое больше князя, который уж и так ест вдвое больше, чем следует, потому и храпит. — Мне очень хотелось смеяться, — продолжала Медора, — но я предпочла рассердиться, чтобы скорее развязаться с ними. Князь ничего не слыхал, и этот крепкий сон делал его еще смешнее. Когда мы приехали на берег моря, он проснулся и зевнул, от чего карета наполнилась запахом старой сигары и каких-то допотопных духов, которыми он пропитывает свою бороду, кажется, лавандной воды. Ну, можно ли душиться лавандной водой? Он тотчас опротивел мне, и, спрыгнув на песок, я объявила ему, что одумалась и переменила намерение, что я не хочу больше ни бежать, ни выходить замуж, но сей же час возвращусь к тетушке Гэрриет. — Бедненький князь грозил застрелиться; доктор взялся помешать ему в этом, в случае, если он в самом деле возымел такой замысел; а так как любезный доктор очень обиделся моим пренебрежением, то постарался доказать князю, что я взбалмошный, капризный демон. Бедняжка заступался за меня и всю вину брал на себя. Долго бы еще продолжался этот спор, если бы не рассвело. Вдали начали появляться приморские сторожа. Хозяин отвратительной шлюпки, в которую бы я и башмака своего не согласилась положить, приходил в нетерпение и грозился отчалить без пассажиров. Желая прекратить переговоры, я вскочила на Отелло, которого грум привел вслед за нами, и наговорила моим влюбленным старичкам кучу неприятностей, чтоб отбить у них охоту задерживать меня. Потом, пользуясь кашлем князя, заставившим его выпустить из рук поводья Отелло, я пустилась скакать так быстро, как еще никогда не скакала. Князь великодушно хотел оставить одного из своих служителей, чтобы проводить меня до Рима, но никто из них не имел паспорта, кроме грума, который согласился следовать за мной. Я видела, как он полетел вслед за Отелло, но до тех пор не останавливалась, пока не уверилась собственными глазами, что лодка отчалила, и берег опустел. — Тогда я поехала отдохнуть в Альбано; свободе моей не угрожает никакое полицейское преследование; но так как я совсем не намерена разглашать своих глупых фантазий о замужестве и смешной развязке всех этих романических приключений, то сегодня до свету уехала из Альбано в Рокка-ди-Папа, где в настоящее время, без сомнения, не встречу ни одного из светских знакомых своих. Уединение научит меня, что теперь делать. Рассказав все свои проделки с каким-то особым чистосердечием, которое свойственно людям, лишенным нравственной религии, прекрасная Медора преспокойно надела шляпку; желая надежнее прикрепить ее к волосам, она приказала мне поискать в траве большую стальную шпильку, которую выронила, сбрасывая с себя шляпку. Как ни весело была рассказана ее история, но в настоящих обстоятельствах она показалась мне слишком длинной. Будучи вынужден беспрестанно осматриваться, прислушиваться, отдавать себе отчет в малейшем шорохе или движении, происходившем вокруг, я не был расположен смотреть на предметы с беззаботной и легкой точки зрения этой капризной англичанки. Мне казалось, что она заставила меня искать свою шпильку из утонченного, эгоистического хвастовства, тем более, что вслед за тем начала прегромко хохотать неизвестно над чем; может быть, ей пришло в голову, что испытав и победив множество серьезных опасностей, было бы очень смешно, если б я попался в руки своих врагов, из-за того только, что не вовремя занялся отыскиванием шпильки. Самолюбие, которое, волей или неволей, всегда бывает задето, если мы знаем или думаем, что нас дразнит хорошенькая женщина, самолюбие помогло мне скрыть свое нетерпение и найти роковую шпильку, с самым примерным хладнокровием. — Хорошо, — сказала она, взяв ее с торжествующим видом. — Право, вы единственный человек, которого бы я могла любить. Но нет, я уж ни к кому не буду иметь другого чувства, кроме дружбы. До свидания! Желаю вам благополучно возвратиться в Мондрагоне! Отойдя шага два, она повернулась и сказала: — Разве вы не поможете мне сесть на лошадь? — Нет, — отвечал я, раздосадованный этим новым требованием, — Я слышу чьи-то шаги. — Ах, да, точно, — продолжала она, помолчав с минуту, — я бегу! До скорого свиданья. И, не дожидаясь ответа, которого я не намерен был давать, она исчезла. Я нечаянно сказал правду; мне хотелось только прекратить это опасное свидание, а между тем, наклонившись к земле, я ясно расслышал, как под чьими-то ногами хрустели сухие сучья; Медора убежала налево, а приближавшиеся шаги слышались с другой стороны. Ухом и сердцем я угадал, что это Даниелла, и в восхищении бросился к ней навстречу. Она была бледна и вся дрожала; думая, что за ней погоня, и приготовил было ружье, но она знаком показала мне, что этого не нужно, и с какой-то порывистой поспешностью углубилась в чащу, оглядываясь по временам, чтобы удостовериться, следую ли я за ней. Лицо ее было сильно взволновано, но не страхом, а скорее гневом. Дойдя до подошвы утеса del buco, я хотел заставить ее объясниться; но она не отвечала и твердо, быстро, как козочка, начала взбираться по неровным, иногда огромным, ступеням каскада. Взойдя в башню прежде меня, она бросилась на землю и залилась слезами. — Даниелла, моя бесценная, — воскликнул я, схватив ее в свои объятия, — что же это значит? Что случилось с тобой? Неужели эти похороны тебя так встревожили? Не угрожает ли нам какая опасность? Не разлука ли предстоит нам? Нет, я не хочу этого, это невозможно! Лучше пусть убьют меня, но не разлучают с тобой! Отвечай же, не обидел ли тебя кто из-за меня? Кто тебя огорчил или оскорбил? Говори же, я с ума сойду! — Вы еще спрашиваете, — проговорила она, наконец, глухим голосом, — вы еще сомневаетесь в том, что я оскорблена, унижена, доведена до отчаяния? Вы думаете, что я не видала ее, этой женщины, которая убежала, заслышав мои шаги? — Этой женщины! Как? Так она-то причина твоего горя? Эта женщина менее всякой другой должна страшить тебя: это мисс… — Мисс Медора? — Именно. — Вы сознаетесь в этом, потому что чувствуете, что я узнала ее. О, она и не думала скрываться! Напротив, проходя шагах в десяти от меня, она подняла вуаль, да еще так нагло засмеялась. Она дразнит меня и унижает. Это ясно доказывает, что вы изменяете мне. Напрасно я хотел оправдаться: это грозное дитя не слушало меня. По временам она как будто и силилась понять смысл моих речей, но видно было, что ничего не понимала. Она в волнении ходила по площадке и иногда с ужасной небрежностью бросалась к самой окраине террасы. Я трепетал от страха, что она бросится в пропасть. Она была трагически прекрасна в этом припадке страсти и отчаяния; волосы ее распустились, мраморная бледность охватила лицо, вокруг глаз посинело, губы дрожали; она внушала мне страх и восторженное удивление. Ничто не могло успокоить ее, ничто не могло убедить. Пораженная одной мыслью, помутившей ее рассудок, она с диким красноречием осыпала меня обвинениями и жалобами, находила тысячу проклятий и упреков своей сопернице; казалось, целая бездна ненависти, давно уже накипевшей и затаенной в сердце, поднялась теперь и вылилась наружу. Она стонала, как раненая львица, накликала страшное мщение; она была, как безумная. Я смотрел на нее в оцепенении и думал, что весь этот гнев, все это страдание произошли от одной булавки; еще минута, и счастье наше не было бы возмущено; одна минута, одна шпилька, быть может, навсегда его разрушили! Я долго противился влиянию этого безумного порыва. Наконец, почувствовал, что умерить его я не в силах, и что он заражает и меня самого: я не находил слов в свое оправдание, нервы мои также сжались, а голова закружилась от однозвучного шума водопада. Я был, как в чаду: любовь Даниеллы обратилась в презрение, душа ее омрачена подозрением, уста полны проклятий… ужасный сон! Я не мог перенести мысли, что переживу свое короткое счастье, которое было слишком велико для здешней жизни. Отчаяние притупило все мои способности, и я, как окаменелый, выслушивал упреки Даниеллы. Видя меня в таком положении, она бросилась ко мне на шею. Тут я, в свою очередь, не понимал того, что она говорила мне: душа как будто оставила меня, грудь моя стеснилась, точно на ней лежала железная, холодная рука; я поневоле хранил суровое молчание, которое она приняла за гнев. Бедняжка просила у меня прощения, вилась у ног моих, целовала мои руки и до тех пор не могла успокоиться и утешиться, пока нервическая реакция не вырвала у меня целого потока слез. Мне казалось, что грудь и голова моя разорвутся от рыданий. Но когда рассказал ей все, что случилось с Медорой, Даниелла едва не впала в прежний припадок; она не могла простить мне того, что я утаил от нее имя таинственной дамы, и подумав немного, я сам увидал, что в глазах ревнивой женщины все обстоятельства были действительно против меня. Могло случиться, что, увидев Медору в Мондрагоне, я позавидовал счастью князя; во время побега я с опасностью собственной жизни провожал ее, что могло быть доказательством страстной любви, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В эту ночь я говорил с ней и, может быть, склонил ее на то, чтобы она оставила своего жениха. Могло быть и то, что я назначил ей свидание, расстроенное Даниеллой; кроме того, Даниелла издали видела, как я встал на колени, чтобы найти шпильку; может быть, она прервала признание, как бывает на театральной сцене, где эта классическая пантомима должна означать для зрителя непременную принадлежность преступной беседы. Как ни откровенно было мое оправдание, для бедной моей Даниеллы все-таки оставался один пункт неразгаданным: она старалась принудить меня к объяснению этого пункта, но долг честного человека заставлял меня молчать. Воображаемая любовь Медоры, о которой сама она не побоялась напомнить мне с таким горделивым равнодушием; сцена в Тиволи и все, что она впоследствии говорила мне в этом же смысле, все это должно было оставаться тайной даже для моей возлюбленной Даниеллы, иначе я сам обвинил бы себя в подлости и хвастовстве. Довольно было и того, что я, как благородный человек, клялся, что никогда, ни на минуту, не любил Медоры. Я не обязан никому в мире рассказывать о минутной слабости, о заблуждении женщины, которая доверилась моей чести. К несчастью, расспросы Даниеллы так настойчиво налегали на это щекотливое обстоятельство, что я поневоле должен был солгать. В порыве своей дикой страсти она требовала клятвы, что никогда Медора не старалась действовать ни на мое сердце, ни на воображение, ни на чувственность. Если бы пошло на правду, я бы мог торжественно оправдаться. Со времени тиволийской прогулки все мои поступки, все поведение доказывали с моей стороны полное отречение от прекрасной англичанки, предложившей мне свою руку, но этого-то и нельзя было говорить, и Даниелла и не знала, что Медора заходила так далеко; напротив, она думала, что во время этой прогулки Медора меня отвергла; что лихорадка моя была только следствием этой неудачи; и что, наконец, с досады и горя, я обратил внимание на нее, Даниеллу. Она требовала от меня полного признания, и я уверяю вас, что нужно было много твердости, чтобы устоять против искушения выдать ей Медору с ее навязчивостью и разочарованием. Хотя я и уверял, что эта красавица никогда не внушала мне ни малейшей симпатии, однако ни разу не позволил себе насмехаться над ней или порицать ее поведение. Заметив это, Даниелла снова разразилась; но гнев уже истощился, полились слезы. — Зачем скрывать от меня то, что я давно подозревала и чему уже почти верила? — воскликнула она, отчаянно ломая свои маленькие ручки. — Эта бессовестная кокетка сама говорила мне, что вы не любите ее, но что она сумеет заставить вас полюбить себя! — Как! Она сама говорила такую глупость, такую нелепость? — Да, иногда; потому что в Риме, когда ты жил у них, с ней всякий вечер делались нервические припадки, и тут она от досады болтала все, что у нее было на уме; когда же она замечала, как мне приятно видеть ее горе, тогда начинала говорить совсем другое. Она уверяла, что с самого первого раза, как ты видел ее на пароходе, ты не переставал любоваться ею, что куда она ни пойдет, как ни взглянет, ты все на нее смотришь. Она уверена, что когда ты убежал от дилижанса на Via Aurelia, это было только затем, чтобы узнать, поедет ли она прямо в Рим или остановится в одной из окрестных вилл; и что, наконец, бросившись так смело на толпу разбойников, тогда как ты легко мог скрыться от них, ты сделал это затем, чтобы отличиться перед нею. Что же делать? Все эти пустые слова щемили мне сердце: я уже тогда любила тебя! Я никогда не говорила тебе, что эта взбалмошная и своевольная девушка заставила меня вытерпеть из-за тебя. С каким презрением выражалась она о моем низком состоянии и простой наружности, как она любила твердить мне, что с ее красотой, умом и богатством против нее никто не может устоять! Во время твоей болезни она говорила мне: «Он никогда не посмеет признаться мне в любви своей, потому что считает меня намного выше себя, но я вполне ценю такую скромную гордость, и чем менее он высказывается, тем лучше я понимаю его». — Если она точно говорила тебе все это, значит она не проницательна и недогадлива. — У нее совсем нет ни ума, ни сердца. Я ее хорошо знаю! Горничная всегда лучше знает свою госпожу, нежели все мужчины, которые за ней ухаживают. Горничная знает все подделки и недостатки ее наружности, знает также все ее слабости и глупости. Эти куклы, одетые нашими руками, повертятся перед вами напоказ, и вы видите только то, что снаружи; а как только они разденутся, так и роль свою с себя снимут, и тут-то начинают хвастать перед нами своими победами. Досада и ненависть развязали язычок Даниеллы, и она, как настоящая дочь Евы, не упустила случая напасть на красоту Медоры и открыть мне некоторые подробности касательно искусственной подделки ее талии и цвета лица. Сначала я улыбаясь слушал эти россказни, которые как будто облегчали ее; но потом мне стало грустно. Я бы никогда не хотел говорить с ней о Медоре, и мне казалось прежде, что она понимала, как неприятно звучало это воспоминание в гармоническом аккорде нашего счастья. Как прекрасна, как возвышенна казалась она мне, когда говорила: — Если б я могла сомневаться в тебе, я бы не могла любить тебя! А теперь, невзирая на мое честное слово, мою искренность, она употребляла все усилия, чтобы очернить, осмеять свою воображаемую соперницу. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей этого, и тем нанес ей новый удар. Так утраченная вера в идеальное совершенство приносит с собой бездну горечи и мелочных неприятностей. Она жестоко упрекала меня в том, что я не хочу выслушивать излияния ее ненависти и внутренне защищаю ту, которая лишила ее покоя и счастья. Пока она продолжала говорить с энергией, которая далеко превосходила мою, я задремал. Я не спал всю прошлую ночь, избыток радостей и страданий истощил мои силы. Утомление овладело мной, а ссора наша представлялась мне, как тяжелое сновидение, смысл которого беспрестанно путался в моей голове. Кажется, я проспал около часа. Проснувшись, я увидел Даниеллу, сидевшую возле меня; она отмахивала комаров и так грустно, так нежно смотрела на меня, что мне стало больно. — Прости меня, — сказал я, привлекая ее к себе на грудь, — ты страдала, а я заснул! Это случается со мной в первый раз; я никогда не думал, чтобы слезы твои могли совершенно уничтожить меня и чтобы я не в силах был утешить тебя. Это значит, что я не в состоянии выносить твоих страданий, и если они будут продолжаться, я могу заснуть навеки. Послушай, если счастье наше невозвратно, если мне суждено приносить тебе одно горе, перестань любить меня: ты сильна; пусть лучше я убью себя, потому что чувствую себя решительно слабым и неспособным отражать твои упреки. — Нет, нет, — сказала она, — этого не будет, Если мне еще придется страдать, страдай и ты. Что могу я обещать тебе в будущем? Ничего, потому что при одной мысли, что могу быть обманута, я схожу с ума. Да, я помешаюсь: ты видел, что я не могла более понимать ни тебя, ни себя. В душе я оправдывала тебя, я знала, что ты говоришь искренно; но какой-то демон еще сильнее шептал мне в уши другое. О, не говори, что счастье наше невозвратно; если бы ты думал это, я бы тотчас убила себя. Но нет, нет! Клянусь тебе, что я больше не ревную и не хочу ревновать. Если со мной когда случится что-нибудь подобное, сочти это за страшный припадок горячки и не оставляй меня, как больную. Боже мой, разве ты не можешь понять, что когда любишь страстно, то ревнуешь до бешенства? Разве бы ты мог спокойно и равнодушно видеть, как я бегу и скрываюсь с этим князем или доктором, о которых ты говорил мне вчера? Нет, ты бы также потерял рассудок, ты бы не слушал меня, и был бы, может быть, так же несправедлив, как и я. Да разве любовь только в одном счастье? Разве нет ее в минуту печали, отчаяния, беспокойства, причиняемых друг другу? Разве сами мы уже не потерпели от нашей любви и охладели ли мы от этих страданий? — Ты права! Не так нужно счастье, как сама любовь. Теперь огорчай меня, мучь, сколько хочешь, но только под конец одари меня снова своей улыбкой, своим горячим поцелуем! Весь остаток этого дня наслаждались мы небесной прелестью взаимной нежности, получившей какое-то особенное, небывалое свойство страстной деликатности. После этого страшного переворота Даниелла как будто переродилась: речь ее стала возвышеннее и яснее; она начала глубже и внятнее выражать любовь свою. Окружающей природой любовалась она почти, как поэт, как артист. Самая красота ее, казалось мне, приняла более трогательное, более понятное выражение. Она уже не поражала меня неожиданными порывами. Она была разумна, как существо, развитое с детства, и нежна, как самая кроткая, самая тихая из женщин. Я не смел признаться ей, до какой степени изумила меня эта быстрая перемена. Не оттого ли мне это показалось, что, увидев однажды взрыв страстей, доселе скрытых под наружным спокойствием, я теперь только узнал ее вполне и восхитился самою необузданностью ее страстной любви? Может быть также, это быстрое возвращение к полной ясности и это раскрытие еще совершеннейшей нравственной красоты были просто следствием ее натуры, которой иногда бывает нужно излить избыток сил, чтобы продолжать свое естественное развитие. Видно, что южные души то же, что южное небо: после страшнейших бурь оно одаряет опустошенную, обезображенную им землю самыми благотворными лучами и вызывает из почвы лучшие цветы. В одиннадцать часов мы стали собираться в путь. Сняв с отверстия полотно, служившее нам дверью, мы сложили его и спрятали под камни вместе с другими вещами; потом погасили очаг и свечу. Я снова зарядил ружье. Даниелла подобрала свое платье. Мы поцеловались и дружески простились со старой башней и серебристым водопадом. Затем мы сошли по уступам, чтобы дожидаться внизу Фелипоне, обещавшего прийти к полуночи.Глава XXXV
Мы ждали недолго; но шаги, послышавшиеся со стороны тройного утеса и приближавшиеся к нам, вызвали у нас некоторое беспокойство. Нам показалось, что вместо одного человека идут двое. Даниелла внимательно прислушивалась; она не всегда умеет оставаться спокойной, но присутствие духа никогда не оставляет ее. Она тотчас снова поднялась на гору по нескольким уступам и, распознав оттуда, в чем дело, сошла ко мне назад, говоря: — Я знаю, кто идет вместе с крестным; они заговорили между собой, и я узнала голос и выговор господина Брюмьера. И точно, это был он. — Я привел к вам знакомого человека, — сказал Фелипоне, шедший вперед к нам навстречу. — Этот знакомый принес вам вести из Рима. Я не знаю его, но жена моя поручилась за него, Только лучше бы было, если б он не ходил сюда со мной. Этот человек пяти минут не может провести без разговоров, а вы знаете, каково разговаривать по этой дороге, притом же для меня оно даже несколько опасно. Он любезен, весел, но уж слишком болтает, когда следовало бы помолчать. Впрочем, может быть, он тогда молчит, когда нужно говорить, бывают и такие люди! Брюмьер подошел к нам и обнял меня с искренней горячностью: «Можно здесь говорить?» — спросил он Фелипоне, не видя Даниеллы, которая закуталась в свою мантилью и стояла за два шага от нас. — Если в самом деле вам необходимо что-нибудь передать ему здесь, то можете, только поскорее, — сказал Фелипоне, — а я покамест посижу с крестницей. — Его крестница? — шепнул мне на ухо Брюмьер, стараясь разглядеть мою спутницу. — В самом деле Даниелла с вами? — Почему вы сомневаетесь в этом? — Сейчас скажу, только пойдемте подальше… еще дальше! — прибавил он, когда мы отошли несколько шагов: — Шум этого каскада раздражает мне нервы… — Однако надобно покориться ему: этот-то шум и дозволяет нам безопасно разговаривать, Ну, любезный друг, скажите же, как и зачем вы сюда попали? — Да ради вас, если хотите, мой милый, для того, чтобы при случае помочь вам выпутаться из беды. Скажите, могу ли я быть вам полезен? Клянусь честью, что я готов защищать вас. — Не сомневаюсь в этом и благодарю вас. Но если у вас есть другое дело, пожалуйста, не стесняйтесь. Если уж Фелипоне пришел за мной, значит я без всяких опасений могу оставить это убежище. — Если так, будьте откровенны со мной, и я сейчас же уйду в Рокка-ди-Папа. Точно ли это Даниелла Белли? — Да. Что же далее? — Нет, да вы даете честное слово? — Честное слово. — А где же другая? — Какая другая? — Будто вы не знаете! Владычица моего сердца, божественная и капризная племянница леди Гэрриет. — Право, милый друг, не знаю, имею ли право отвечать вам на это. Кто поручил вам искать ее? — Во-первых, я сам; во-вторых, ее дядя и тетка, которые сегодня вечером приехали во Фраскати и со всевозможной осторожностью, необходимой в таких случаях, поручают другим искать ее, потому что сами не могут этого сделать. Леди Гэрриет больна, и муж ее не смеет отойти от нее. У нее нервическая, римская лихорадка, вроде той, что была у вас; а во время пароксизмов никто не может поручиться, что болезнь не смертельна. — Если вы действуете от имени леди Гэрриет, то я почитаю себя обязанным сказать вам, что мисс Медора должна быть очень недалеко отсюда, в одной из этих окрестных вилл. — Вы не знаете, в которой именно вилле? — Нет, этого я у нее не спрашивал, тем более, что и сама она, по-видимому, не знала, где остановится. — Но с кем же она? — Одна, с жокеем. — С жокеем? Князь, о котором говорил мне лорд Б…, не моложе сорока лет. Я надеюсь, что он не может нарядиться грумом! — Упомянутый князь уехал без нее, впрочем, может быть, он уже опять где-нибудь пристал к берегу и снова скачет за нею; но вчера утром она сама видела, как он вышел в море. — Так вы уже видели ее с тех пор? — Да, сегодня. — О, traditore! Я так и знал, что вы с ней в заговоре, и что она притворилась, будто бежит с этим старым волокитой, тогда как в самом-то деле убежала за вами и прячется с вами в горах! — А леди Гэрриет и муж ее того же мнения? — Не знаю, но я так думаю. — Долго ли я еще буду разуверять вас? Еще раз уверяю вас честью, что я не принимаю ни малейшего участия в эксцентрических выходках мисс Медоры. — Вальрег, я верю вам. Когда я с вами, я совершенно убежден в вашей искренности, но как только я вас не вижу, признаюсь, начинаю сомневаться даже в вашем честном слове. Поставьте себя на мое место: я знаю вас потому только, что полюбил вас с первой встречи нашей в Марселе, а ведь я могу почти по пальцам счесть часы, проведенные нами вместе. Я вижу, что женщинам вы как-то особенно нравитесь, может быть, это потому, что вы сентиментальный юноша и восхищаете их своими теориями о вечной любви; а может быть и потому, что вы маленький иезуитик, который никакую ложь, никакое притворство не считает грехом. Да что, к черту!.. Ведь вас воспитал какой-то аббат, он очень мог внушить вам, как даются всевозможные клятвы, сила которых уничтожается посредством дополнительных словечек, говоримых про себя. — Если вы делаете на мой счет такие приятные предположения, то прошу вас более никогда не предлагать мне вопросов: я обещаю себе ни в каком случае не отвечать вам. — Полноте, не будем ссориться. Правду ли вы говорите или нет, по крайней мере, как вы видите, я очень простодушно признаюсь, что мне достаточно видеть и слышать вас, чтобы поверить вам безусловно. Если я окажусь простофилей, то не премину предложить вам перекинуться несколькими пулями. Покамест будем уверены, что этого никогда не случится, а теперь помогите мне. — В чем прикажете? — В том, чтобы воспользоваться сумасбродным поступком мисс Медоры, поступком, как, впрочем, я убежден, совершенно невинным. Я отправлюсь отыскивать ее и, выследив в уединенном приюте, явлюсь пред нею, как какой-нибудь рыцарь, как посланник мира или голубь из ковчега леди Гэрриет. Я постараюсь, чтобы искреннее признание в моей нежной страсти вознаградило ее за ваше гордое равнодушие и за предпочтение, которое вы осмелились оказать ее горничной; ведь я знаю, что вся беда в этом! Раздосадованная женщина ищет развлечения и мстит за первую неудачу новыми причудами и привязанностями. Почему бы мне не сделаться предметом такой привязанности и не заменить того господина, который чуть было не увез ее? А между тем, говорят, он не молод и не красив. Стало быть, она вовремя опомнилась, если бросила его? — Вероятно; но вам с чего пришло в голову искать ее здесь? — Мне всегда покровительствует само Провидение. Оно балует меня, как любимое дитя свое. Вообразите, мой милый, что в ту самую минуту, как я расспрашивал о вас и «о ней», и старая приятельница моя Винченца, ныне супруга Фелипоне, все мне рассказывала, вдруг прибегает на двор черная лошадь Медоры, она порвала свои поводья и резвым шагом пришла во Фраскати, где, по-видимому, у нее есть свои привычки или зазноба. Так как на ней было дамское седло, я перетревожился, думая, что случилось какое-нибудь несчастье с наездницей; но Винченца успокоила меня, говоря, что лошадь, вероятно, затруднила их как-нибудь, они ее пустили на волю, и она нашла дорогу к своему недавнему стойлу. Я пошел прогуляться и собрал сведения у крестьян, которые видели Отелло и объявили мне, что он бежал по дороге от Рокка-ди-Папа. Я тотчас сопоставил это обстоятельство с тем, что вы скрываетесь в ущелье buco, то есть в соседстве с моей звездочкой. Вы видите, что и я не без хитрости; бросьте же свою и скажите мне прямо, так как вы точно видели Медору… — Довольно, довольно! — закричал в эту минуту Фелипоне. — Пора в путь! Он приходил в нетерпение, и Брюмьеру пришлось молча следовать за нами. Он расстался с нами у тройного утеса; предложив мне еще раз свои услуги, он пошел по направлению к Рокка-ди-Папа; хотя эта дорога была ему мало известна, но с нее трудно сбиться. Мы пошли к Камальдульскому монастырю, выбрав новую тропинку, которая была гораздо удобнее и короче, нежели русло источника, приведшее нас «накануне к buco, и без всякой помехи достигли часовни Santa-Galla — так называется маленькое здание, ведущее в подземелье. Очутившись, наконец, в таинственной галерее вместе с моей Даниеллой, я не мог удержаться, чтобы не обнять ее с восторгом. — Так вы рады, что сошлись в этом подземелье? — сказал Фелипоне, глядя на нас с улыбкой и зажигая фонарь, чтобы проводить нас по темным переходам. — Вот это я люблю, мой милый! Хорошо, что вы любовь предпочли свободе. Это по-моему. Женщина все заменяет тому, кто достоин названия мужчины. Для моей Винченцы я бы согласился на всю жизнь запереться в погребе. Она мое солнышко, моя звездочка; и плохо пришлось бы тому, кто вздумал бы отнять у меня ее сердце! Я вспомнил о докторе и о Брюмьере, который в беглом разговоре со мной уже успел сообщить мне, что он утешает Винченцу в разлуке с ее последним любовником. Доверчивость мызника вовсе не казалась мне смешной; напротив, меня возмущала окружающая его измена. Он еще молод, красив, лицо его приятно и цветет здоровьем. Правда, он немного чересчур хвастает грубым неверием в будущую жизнь, и самые глубокие верования считает предрассудками; но его доброта, храбрость, преданность и приветливость беспрестанно противоречат этому мнимому атеизму. Он имеет то полуобразование крестьянина, которое хотя и расширяет несколько горизонт его понятий, но еще не лишает его первоначальной наивности. Если б я был женщиной, то, без сомнения, предпочел бы его Брюмьеру и доктору, потому что один из них понимает любовь, как чувственную потребность, а другой видит в ней путь к богатству и к удовлетворению тщеславия. И тем не менее благородная натура Фелипоне служит только поощрением для преступных слабостей его жены. По-моему, тут нет ничего смешного, и за этими веселыми интригами мне уже слышится рокот страшной драмы. — Теперь мы можем поговорить, — сказал Фелипоне, освещая нам дорогу. — Пойдемте тише, я устал немного. Вот как идут наши дела, дети: сегодня здесь производили обыск. Нашли целый десяток старинных тайников; привели архитектора: он очень подробно объяснил, каким образом люди, которые скрывались в Мондрагоне, могли убежать; но когда рассмотрели хорошенько эти лазейки, то оказалось, что тут и черт ногу сломает; а настоящую-то, единственную дорогу, то есть сообщение terrazzone с маленьким монастырем и с часовней Santa-Galla никто не нашел и не подозревает, так что тайна моя остается при мне, а госпожа Оливия из себя выходит с досады. Монах ничего не мог сказать, он только и твердил, что ему поесть хочется; решили, что он рехнулся, и отпустили его… прости за грубое словцо, крестница! Тарталья, уверившись, что я не забуду его любезного господина, как он называет Вальрега, навострил лыжи, чтобы не иметь неприятностей со здешней полицией. Жандармы разъехались: они отправились для дальнейших розысков к морскому берегу, только, разумеется, опоздали. Кардинал запретил продолжать дело о происшествии у Лукульской решетки, и я сам слышал, как он говорил судье: «Не стоит боле обращать внимания на святотатство, учиненное самими обвинителями. Их убили, и теперь никто не будет поддерживать этого дела. Ничего нет неприятнее, как настаивать на важности доноса, которого нельзя доказать. Итак, оставьте это негодное дело, а если французский художник опять появится в здешнем краю, — я слышал, что у него тут любовница, — то просто без шума, посадите его в тюрьму и держите подольше, если он тотчас не согласится объяснить, каким образом попался ему условный знак, найденный в его комнате». — Что касается до Онофрио, кардинал призвал его к себе с тем, чтобы лично переговорить с ним наедине. По-видимому, его хотели заставить сознаться, что он укрывал князя в своем шалаше и оказал ему помощь; за признание ему обещали большую награду. Но ведь я говорил вам, что Онофрио — Божий человек. Он и нам бы не повредил, и себе бы получил пользу, если бы сказал, что укрывал князя; но так как я велел ему молчать, то он, без дальних размышлений, смолчал. Тогда кардинал, удивленный такой редкой честностью в крестьянине, предложил ему пасти стада за десять миль отсюда, в собственном имении кардинала, чтобы укрыть пастуха от мщения разбойников; но Онофрио, боясь, чтобы и тут не было западни, отказался; он сказал, что еще на два года вперед нанялся пасти в дачах замка Боргезе, что он любит Тускулум, что он тут выгодно продает свои древние редкости чужестранцам. Впрочем, он уверяет, что не боится более ничьего мщения, потому что те, кого он относил к шайке Мазолино и Кампани, не посмеют показаться здесь, чтобы опять не попасть под его пули. В этом он не ошибается: убей змею, яд пропадает. Лишившись начальника, эти канальи тотчас уберутся из наших мест, если еще не убрались до сих пор. Словом, кардинал отпустил пастуха, поручив себя его молитвам и сказав подлинную речь об истинной вере и бескорыстии богобоязненных и простых душ. Я тоже говорю, что тускуланский пастух святой человек, потому что для правого дела не запнулся соврать. — Впрочем, этот добрый малый достаточно награжден за свою скромность: весь околоток прославляет его за то, что он избавил Фраскати от Кампани, который пугал беременных женщин своим безобразием, да и от твоего негодного брата, бедненькая моя Даниелла! С тех пор, как он убит, у него не осталось ни одного благожелателя; даже и те, кто третьего дня поил его, чтобы спастись от доносов, сегодня уже говорят, что он был fattore и что они теперь и на святую воду не пожертвуют для него ни байока. В Тускулум уже ходят поздравлять пастуха, видеть место сражения и заставляют его рассказывать, как все было. И он уж им там рассказывает, как знает. Мы вошли в befana, где нашли Винченцу, которая приготовляла для нас помещение. — Сегодня вам придется еще переночевать здесь, — продолжал мызник, — а потом, я думаю, вы можете опять забраться в казино и там выжидать у моря погоды. — Тем более, — сказала Винченца, — что во Фраскати живут теперь англичанин и англичанка, прежние господа Даниеллы; они сегодня хотели видеться с кардиналом и непременно бы устроили дела господина Вальрега, если бы приезжая дама не заболела. Но все-таки они за все отвечают и велели сказать вам только, чтобы вы не показывались. Итак, успокойтесь и потерпите. Мне было очень легко последовать этому совету. Я возвращался в эту тюрьму, как в рай, на время потерянный. Мы были так счастливы мыслью, что соединились вновь и навсегда, что прошедшие дни страдания и страха казались нам ничтожной платой за настоящее блаженство. К пяти часам утра мы наконец успокоились и проспали до полудня. Проснувшись в темноте, подруга моя испугалась: наш фонарь погас, и она не могла припомнить, где мы находились, но, как только засветился огонь, она развеселилась; а когда я начал изъявлять сожаление, что вовлек ее в такую грустную жизнь, то зажала мне рот поцелуями; потом, припевая, стала одеваться и, чтоб расправить онемевшее тело, принялась пританцовывать вокруг меня. Невесело было наше жилище при свете единственного ночника, покинутое деятельной и шумной толпой, которую я встретил там за тридцать шесть часов. Несмотря на то, что через все это огромное здание протекает вода, а окна наглухо заделаны, здесь сухо и тепло; то же можно заметить во всех строениях, основанных на вулканической почве, как, например, в римских катакомбах и в подвалах больших дворцов, где бедные сельские жители ищут пристанища в зимнее время. Но теперь весна, и нам хотелось поскорее выбраться на свет Божий. Мы вынесли завтрак свой в pianto и вскоре весеннее солнце развеселило нас совершенно.Глава XXXVI
Мондрагоне, 30-го апреля.Фелипоне пришел к нам, Он говорил, что для его успокоения я не должен принимать никого, ни даже лорда Б…, который приходил к нему осведомляться обо мне, ни Мариуччию, которая очень беспокоиться о своей племяннице. Фелипоне не хотел без нужды открывать многим подземный ход, и потому успокаивал наших друзей, говоря им просто, что мы недалеко и в безопасности. — Жена моя, — прибавил он, — будет носить вам продовольствие, а мне нужно остаться дома; теперь множество любопытных ходят разузнавать о ваших приключениях и толкуют их по-своему; есть между ними и полицейские, которые очень бы желали выведать от меня всю правду; только при них я корчу глупейшую рожу и очень удивляюсь, когда рассказывают, что здесь прятались какие-то господа и вылетели потом в большие трубы terrazzone. Сегодня и завтра зеваки еще верно будут шататься вокруг замка, и как ни запирай садовых калиток, какие-нибудь ребятишки непременно проскочат между ног. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы вас не заметили, когда будете перебираться в казино. Оливия никого не пустит во внутренние дворы; я уже намекнул ей, что вы здесь. Она скажет посетителям, что полиция впредь до нового распоряжения запретила пускать в Мондрагоне, Все свои пожитки вы найдете в befana, куда я сейчас отнес их. Прощайте, дети, оставайтесь с любовью и надеждой! Перед уходом я расспросил его о здоровье леди Б… Ей лучше. Муж ее завтра же надеялся ехать в Рим, чтобы как-нибудь положить конец нелепым подозрениям, которым я подвергался и которые, по его мнению, должны были пасть сами собой, потому что особы, считавшиеся заодно со мной, уже скрылись от преследований. Целый день мы занимались устройством казино. Так как полиция не нашла там ничего подозрительного, то и не тронула ничего. Капеллу я снова превратил в мастерскую и с удовольствием нашел в целости свою картину и записную книжку, спрятанные мной в углублении стены. Погода претеплая, и заботы о поддержке огня уже не затрудняют нашего существования. Я нисколько не сожалею о том, что лишен кухмистерства Тартальи и общества фра-Киприана. Оливия привела нам опять нашу козу, а кролики по-прежнему играют в высокой траве. Я никак не могу убедить Даниеллу, чтобы она позволила мне отучиться от кофе; но я успел уверить ее, что люблю холодный кофе и терпеть не могу никаких соусов. Мы питаемся холодным мясом, салатом, яйцами и молоком. Она целый день хлопочет обо мне и около меня, и вот уже три дня, как я пишу вам этот рассказ, прочитывая моей подруге все, что могло интересовать ее в нашей смиренной поэме. Вэти три дня я так счастлив, как еще никогда не бывал. Даниелла постоянно около меня. Все думают, что она бежала со мной. Как только будет можно мне показаться на свет, первым делом моим будет повести ее к алтарю. Я желал бы получить согласие дяди и некоторые бумаги, необходимые для заключения брака, вполне обязательного перед французским законом. Я уже написал к аббату Вальрегу и просил лорда Б… отправить мое письмо. Надо ожидать со стороны почтенного дядюшки нескончаемых расспросов, советов и проволочек. Но решение мое непреклонно; Даниелла уже довольно пострадала за меня. Хотя я и знаю, что ей достаточно моей клятвы перед Богом, однако, не хочу, чтобы кто-нибудь мог возыметь сомнение в вечной моей преданности, которой она так достойна. И к вам также отправил я письмо, в котором кратко сообщил то, что теперь записываю в моем дневнике. Письмо мое даст вам возможность воздействовать на моего дядю; я знаю, что если вы возьметесь поддержать меня и подкрепить мою сыновнюю просьбу, то ваше слово будет иметь большой вес в его мнении. А теперь я снова примусь за живопись. С удовольствием вижу, что все эти треволнения, радости, опасности и труды не только не расслабили меня, но напротив развили во мне потребность, охоту, а может быть, и способность работать, В наше время, время цивилизации, все артисты очень, законно требуют, в известную эпоху своей жизни, средств к безбедному существованию. И я бы тоже не прочь обеспечить себя, достигнуть прочного и приятного положения, которое дало бы мне возможность развить мой талант и проявить в нем всю мою нравственную и умственную ценность. Но, с одной стороны, я еще не имею права помышлять об этих спокойных удовольствиях, об этих здоровых привычках зрелости. С другой стороны, может быть, мне и никогда не суждено достигнуть их; а дни веры, здоровья, живого чувства, которые я переживаю теперь, посланы мне не затем, чтобы я ожидал результата их в неизвестном будущем. Именно в этих-то минутах таинства, восторженности и любви, в этой бедности, которой я так решительно предаю себя, должен я искать спокойствия и силы душевной. Мне приходят на память все эти бодрые художники прошедших времен, испытавшие столько бедствий, столько трагических переворотов, страданий и горестей и никогда не вкусившие сладости счастья и славы. Но они работали, несмотря на это; они знали вдохновение и плодотворный труд среди тревог своей жизни. Что ж, пойду и я по этому трудному пути, изрытому потоками и пропастями; он проложен уже прежде меня многими, которые были, конечно, и выше и лучше меня!..
С 1-го по 15-е мая.
Многое еще случилось с тех пор, как я оставил свой дневник. Так как удобнее высказать все за один раз, то дневник мой будет более походить на повествование. На другой день после того, как я записал все предыдущее, Брюмьер просил меня, через Винченцу, повидаться с ним наедине. Хотя Фелипоне запретил или, вернее, просил жену свою не открывать Брюмьеру входа в подземелье, однако, она привела его в befana. — Я принес вам добрые вести, — сказал он весело, — Но прежде всего позвольте прижать вас к моему юношескому сердцу. Сознаю, что вы вполне благородный и добрый малый. Вы не обманули меня… Медора… но я не хочу быть эгоистом… прежде поговорим о вас… Вы свободны. Лорд Б… прислал меня известить вас об этом; а от себя скажу вам, что в ожидании какого-то законного обсуждения возведенной на вас вины, добряк англичанин, который, кажется, в самом деле полюбил вас, внес в виде поручительства за вас большую сумму денег, должно быть, просто баснословную сумму, потому что нужды здешнего правительства очень велики, а требовать оно может, сколько ему вздумается; но лорд Б… не говорит, сколько именно он дал, и с великодушием настоящего вельможи утверждает, что дело это обошлось ему очень дешево. Итак, любезный друг, отправьтесь лично поблагодарить его и утешить его в болезни жены, которой теперь очень плохо. Позвольте же теперь поговорить немножко и о моих делах. Я очень скоро отыскал свое капризное божество в окрестностях Рокка-ди-Папа. Сев на благородного Отелло, который раз десять покушался сломить мне шею, и стяжал этим право войти в цитадель со всеми воинскими почестями. От радости, что конь возвратился, и всадника приняли довольно ласково и благосклонно. Может быть также, что горное уединение, в котором целые сутки провела моя героиня, уже немного надоело ей. Впрочем, узнав о болезни тетки, она тотчас отложила все свои планы пожить в уединении и на свободе, и отправилась к больной. Вот уже два дня как Медора во Фраскати, куда я сам имел честь сопровождать ее; она ехала на своем борзом коне, а я на отвратительнейшем паршивом осле: в этом скверном селении не нашлось другого. К счастью, у него были хоть ноги, так что я не очень отставал от наездницы. Дорогой мы говорили о вас, и даже кроме вас ни о чем не говорили; только я заметил, что моя принцесса упоминает о любви своей к вам, как о происшествии почти допотопном. Как приятно иметь дело с сердцами этих владычиц, которые беспрестанно меняют батареи и из всей своей причудливой жизни делают какую-то волшебную пьесу с переменой декораций! Любо слушать, как она смеется над вами и над вашей любовью к Даниелле. Дошло до того, что уж теперь я должен заступаться за вас, тем более, что мне бы очень выгодно было уверить ее, что вы действуете благоразумнейшим образом и что нет ничего лучше, как вступить в брак по влечению сердца, не обращая внимания на неравность состояния. Ваш пример помог мне развить перед ней разные теории, которые очень подвигают мои дела, так что не сегодня — так завтра я могу обратить ее внимание на одного бедного, но прекрасного молодого человека, вашего знакомого. Теперь, любезный друг, я особенно надеюсь на вашу помощь: постарайтесь так опротиветь ей, чтобы я непременно понравился. — Что это, — отвечал я, — вы все еще продолжаете эту шутку? Так вы до сих пор уверены, что я рискую слишком нравиться, если не буду из кожи лезть, чтобы казаться менее обворожительным? — Вы говорите, милый Вальрег, так, как следует вам говорить, и сознаюсь, как я ни провоцировал вас, но до сих пор ни разу не вызвал на вашем лице самодовольной улыбки. Будь я на вашем месте, может быть, я не был бы так строг и добросовестен. Дело в том, что ведь я знаю все! Не говорите, не говорите! Что тут хитрить? Все знаю! Медора все сама рассказала мне, и притом так откровенно и дерзко, что я было сначала взбесился, а потом успокоился; такое полное доверие даже очень понравилось мне, потому что дало мне средство доказывать мою преданность, а также дало право называться другом и поверенным моей принцессы. Итак, я знаю, что она любила вас без взаимности, и сама призналась вам в этом. Знаю, что в тиволийском гроте дошло до поцелуя… Кой черт, если б я не видел, что вы способны делать всякие глупости для Даниеллы, я бы счел вас вторым святым Антонием. Видно, эта Даниелла просто упоительна, если внушила вам такую добродетель! — Не будем говорить о ней, сделайте милость, — сказал я отрывисто. — Я пойду сказать ей, что ухожу из дому; потом оденусь и тотчас приду к лорду Б… Где он живет? — В Пикколомини. Я побегу предупредить его о вашем прибытии. Даниелла приняла с восторгом известие о моем освобождении, Она видела конец моим опасностям и близость нашего религиозного соединения. Хотя она всегда старалась показывать, что не требует этого для своего счастья, но я знаю, что ее религиозная совесть втайне призывала исполнение церковного обряда, как разрешение от греха. — Мы пойдем вместе, — сказала она, приготовляя мое парадное платье, — я также хочу благодарить лорда Б…, твоего друга и избавителя. Хотя я почувствовал всю неловкость этого, однако, не думая решился снести все его последствия. Но бедная малютка прочла в глазах моих мимолетное выражение. Она вперила в меня свой глубокий взгляд и села молча, положив мой черный фрак к себе на колени. — Что же ты не одеваешься? — спросил я. — Нет, — отвечала она уныло, — я не пойду, мне не следует идти! Я еще не называюсь твоей женой, и мне тотчас дадут понять, что мое место в передней. — Однако, если они хотят продолжать со мной знакомство, должны же они будут принимать тебя наравне со мной. — Когда мы обвенчаемся… может быть… Да нет, не быть этому! Леди Гэрриет такая важная английская дама, она никогда не решится сидеть рядом с бедной девушкой, которая столько раз шнуровала ей ботинки. Нет, никогда! Как могла я забыть это! Я совсем с ума сошла! — Может быть! Но что за беда? Я только пойду поблагодарить их за доброту и раскланяюсь с ними совсем. — Нельзя же тебе уехать из Фраскати, пока деньги, которые за тебя внесены в залог… — Знаю, я и не уеду из Фраскати, но не увижусь более с леди Б… Я тотчас извещу ее о нашем браке, и она, конечно, будет очень рада, что я прекращу свои посещения. — Так, значит, я буду причиной того, что твои лучшие друзья, которые так много для тебя сделали, откажут тебе от дома?.. Ах, тяжело думать, а не могу не думать!.. Постой, послушай, не говори обо мне ничего, это не нужно, ступай скорее. Нынче вечером я скажу тебе, как мне вести себя с ними; я подумаю об этом. Надевай фрак и ступай скорее. Мешкать не годится: тебя сочтут неблагодарным. Иди! Она проводила меня до калитки и почти толкнула в slradone, как будто боялась одуматься и остановить меня. Мысль, что я один вышел на волю, казалось, вдруг пробудила в ней сознание чего-то очень горького для нее и тяжелого для нас обоих; она глубоко задумалась. Я поцеловал ее и, пройдя несколько шагов, оглянулся: она стояла на пороге, недвижная, бледная, и провожала меня мрачным, внимательным взором. В эту минуту я вспомнил, что Медора в Пикколомини, и мне, верно, придется увидеть ее. Дрожь пробежала по моим жилам, когда я вообразил, что Даниелла узнает это, и ревность ее опять разыграется. Решившись сказать ей всю правду, я было возвратился, но тут же сообразил, что если она не пустит меня к лорду Б… благодарить его и лично осведомиться о здоровье жены его, я окажусь непростительной дрянью. Даниелла будто угадывала мои тайные колебания. Прекрасные, но грозные глаза ее следили за выражением моего лица и за всеми моими движениями. Я уже повернулся, надо было подойти к ней. — Ты забыл что-нибудь? — спросила она, не шевелясь с места. — Нет, мне захотелось еще раз поцеловать тебя! — И я с содроганием поцеловал ее; я чувствовал, что обманываю ее, что впоследствии она упрекнет меня. А между тем, если бы сцена, происшедшая в проклятой башне, началась в эту минуту и продолжалась хоть до вечера или до следующего дня, в глазах самых почтенных из друзей моих, во мнении всех серьезных людей я был бы унижен и некоторым образом обесчещен. Поручив себя Богу и чистоте своего сердца, я бегом пустился в путь, сознавая в то же время, что такая поспешность, происшедшая чисто от желания поскорее вернуться назад, может впоследствии быть истолкована, как нетерпение видеть Медору. Грустные мысли, тяготившие мое сердце, мешали мне вполне насладиться свободой. Мы с Даниеллой уже так сладко, так хорошо мечтали о том времени, когда нам с ней позволено будет, наконец, выйти на свет рука об руку! Мы предполагали в тот же день обвенчаться, и никак не думали, что освобождение мое случится так скоро и неожиданно. И вот она осталась в этих стенах одинокой и грустной пленницей, между тем как я без внимания пробегал эти очаровательные сады, где мы намеревались вместе нарвать цветов для ее свадебного венка! Проходя в ворота виллы Фалькониери, в сквозную арку которых просунулась огромная ветвь старого дуба, подобно руке, манящей или отталкивающей прохожих, я встретил Мариуччию: она бросилась мне на шею и, обнимая меня с горячностью, требовала, чтоб я ей выдал племянницу, и пересыпала свои нежности упреками и сомнениями. — Подождите еще несколько дней, — сказал я, — тогда вы будете совершенно верить мне, потому что я женюсь на Даниелле. Ступайте к ней в Мондрагоне, развлеките ее час-другой, пока меня не будет дома, а главное не говорите… Чувство ложного стыда прервало мою речь: шагах в десяти я увидел Медору, которая шла ко мне навстречу по stradone Пикколомини и опиралась на руку Брюмьера. — Понимаю! — сказала Мариуччия, заметившая неудовольствие на моем лице. — Не нужно говорить ей, что Медора здесь! Но это будет мудрено: она прежде всего осведомится об этом. — Подождите до моего возвращения: я тотчас приду, и сам скажу ей. Когда Мариуччия удалилась по дороге в Мондрагоне, я услышал насмешливый голос Медоры, говорившей Брюмьеру очень громко: «Нечего сказать, приятно должно быть целоваться с такой тетушкой, как Мариуччия! Я бы советовала ему прочесать себе голову по возвращении домой!» — Судя по вашей веселости, — сказал я, раскланиваясь, — можно надеяться, что леди Гэрриет не так больна, как я думал? — Извините, — отвечала она, принимая вдруг притворно-печальный вид, — бедная тетушка в опасном положении, может быть, мы лишимся ее! Выражение ее голоса было так сухо, что мне стало гадко. «О, Даниелла, — подумал я, — почему ты не можешь видеть, как растет отвращение, внушаемое мне этой красивой куклой!» Я поклонился и прошел мимо, не извинившись даже в такой поспешности; но услышал слова: «Он уже сделался груб!», сказанные Брюмьеру нарочно так, чтобы я расслышал их. Не оборачиваясь, я приподнял шляпу, в знак благодарности за комплимент, и пустился почти бегом по аллее. Лорд Б… ожидал меня на крыльце. Он страшно изменился. — Наконец-то вы здесь! — сказал он, взяв меня за обе руки. — Как я желал видеться с вами! Она плоха! Мне не говорят всей правды, но я чувствую это в глубине моего сердца, которое совсем замрет с ее последним вздохом. Я любил ее, Вальрег! Вы не верите этому? Но это правда, я и теперь люблю ее! Друг мой, пожалуйста, останьтесь со мной на эту ночь. Если лихорадочный припадок возобновится, то он будет уже последний. Не знаю, как я перенесу это. Вы не можете, не должны покидать меня! — Я не хочу и не должен покидать вас, — отвечал я, — позвольте мне только предупредить жену. — Вашу жену? Разве вы женаты? — Да, я связан словом, которое стоит дела. — Ну, так подите за Даниеллой, скажите, что я прошу ее прийти присмотреть за моей женой. Я знаю, что теперь она уже никому не захочет служить за плату, и потому прошу от нее чисто дружеской услуги. Леди Гэрриет всегда любила ее и не согласилась бы с ней расстаться, если бы Медора не объявила, что тотчас же оставит наш дом, если не сошлют бедную девушку. Теперь Медора может убираться, если ей угодно. У нее нет ни головы, ни сердца, и я не берусь удерживать ее от дальнейших глупостей. Подите, друг мой, скажите, что за миледи дурно смотрят, что она никем не довольна, и что Даниелла нужна нам. Она добра, она придет! — Конечно, сейчас придет! — воскликнул я, и снова побежал в Мондрагоне. Пора было прийти на помощь Мариуччии. Даниелла отгадала, что Медора тут. Гроза готова была разразиться, но я предупредил ее. — Мисс Медора точно здесь, — сказал я ей, — но она совершенно равнодушна к отчаянному положению леди Гэрриет. Эта бедная женщина и муж ее нуждаются в двух преданных сердцах. Нас с тобой желают и просят. Надень твою шаль, и пойдем. Она ни минуты не колебалась, и через полчаса мы все трое были в Пикколомини. Леди Гэрриет сидела в большой комнате нижнего этажа и спокойно разговаривала с мужем, племянницей и Брюмьером. Она не похудела и вообще мало изменилась. Кроме особенного блеска в глазах, незаметно было следов болезни, быстрый и опасный ход которой давал ей промежутки совершенного спокойствия и даже веселости. Леди Гэрриет не подозревала, что ей, может быть, оставалось жить лишь несколько часов. Увидев меня, она протянула мне руки и, заглядывая позади меня, искала глазами Даниеллу, которая осталась у двери, задыхаясь не от скорой ходьбы, а от присутствия Медоры. — Что же? — сказала леди Б… — Отчего она не идет? Мне приятно будет видеть ее. Я понял, что она не знала цели прихода Даниеллы, потому что не чувствовала опасности своего положения и необходимости в ее услугах, Лорд Б… поспешил предупредить Даниеллу. Она подошла и, преклонив колено, по итальянскому обычаю, поцеловала руку его жены. — Милое дитя мое, — сказала ей леди Б…, — я очень рада, что вижу тебя здоровой. Я немножко прихворнула, но это ничего. Я желала видеть тебя, чтобы поговорить о серьезном деле, когда мы останемся одни. — Мы оставляем вас! — сказала Медора, развалясь в креслах небрежнее самой больной и оглядывая Даниеллу, которая стояла перед ней. Лорд Б… спас положение. Он придвинул кресло к постели своей жены и подвел к нему Даниеллу, которая, однако, не решалась сесть: она боролась между желанием выказать презрение своей сопернице и привычкой обращаться почтительно с ее теткой. — Да, да, садись, — сказала леди Б… с добродушием, жестокости которого она и не подозревала. — Мне не так трудно будет говорить с тобой. — Вам и не следует много разговаривать, милая тетушка, — сказала Медора, вставая; казалось, что между ею и Даниеллой была какая-то пружинка, не позволявшая им сидеть в одно время. — Вы же знаете, что когда волнуетесь, то вечером у вас бывает нервный припадок. Она вышла вместе с Брюмьером, которому удалось занять в Пикколомини мою прежнюю комнату, чтобы всячески прислуживать семейству. Лорд Б… увел меня в сад, покуда племянница его отправилась по stradone, в сопровождении своего нового кавалера. — Жена моя, — сказал лорд Б…, — хочет расспросить Даниеллу. Она без особенного удивления и ужаса узнала о вашем предполагаемом браке. Не будь у нее этой страшной лихорадки, которая не дает ей покоя всю ночь, было бы, конечно, не то; но эта болезнь совершенно утомляет и смягчает ее, так что днем она как будто sfogata. Ее характер и мнения становятся тогда такими, какими были в прежнее время… когда она полюбила меня! Она понимает возможность брака по любви и интересуется теми, кто повторяет ее собственную историю. Одного она боится за вас. Хотя она утверждает, что Даниелла горда и холодна, но она боится, что Даниелла была слаба, один только раз в жизни слаба, именно ко мне, Я рассмешил ее сегодня утром, говоря, что, взяв в соображение мои лета и наружность, такую слабость можно бы скорее назвать силой, то есть вспышкой честолюбия или любопытства со стороны благоразумной девушки. «Все равно, — отвечала она, — вы не признаетесь мне, а она мне скажет, потому что я имею на нее влияние; и если у нее на душе есть этот грех, то я прочту ей хорошую нотацию, чтобы она впредь оставалась достойной любви господина Вальрега.» — А потому, друг мой, — продолжал лорд Б…, — если эта девушка ни с кем, кроме вас, не грешила, то клянусь вам… — Знаю; я совершенно спокоен и поэтому женюсь на ней. — Женитесь! Но подумали ли вы об этом хорошенько? — Больше, чем подумал: я открыл мою душу для веры. — Но разница воспитания, ее связи, положение в свете, мнение вашего семейства? — Обо всем этом я не думал. — В том-то я и упрекаю вас. Нужно подумать. — Нет, лучше просто любить и жить! Он вздохнул и замолчал, как бы для того, чтобы обдумать дальнейшие доводы; но собственное горе отвлекло его от этого предмета. Он даже удивился, когда я стал благодарить его за то, что он сделал для меня: он почти совсем забыл об этом деле. — Ах, да, — сказал он, проводя рукой по своему лысому и морщинистому лбу, — ваше дело очень беспокоило меня! Тогда я еще не тревожился о здоровье миледи; но в последние два дня я пережил целый век. Скажите же мне, что с вами случилось? В надежде развлечь его, я подробно начал рассказывать ему свои приключения; но вскоре увидел, что хотя он и очень старался слушать меня, но понимать не мог и, прежде чем я успел кончить, он сказал: — Пойдемте к леди Гэрриет. Она не должна утомляться разговором. Мы нашли ее очень оживленной. — Я довольна ею, — сказала она мужу, указывая на Даниеллу, — у нее прекрасная душа, и ум ее гораздо выше, чем я думала. Вот каковы все мы, люди богатые и рассеянные: никогда хорошенько не узнаем окружающих нас людей! Вальрегу не трудно будет дать ей порядочные манеры и воспитание: он сделает из нее очаровательную женщину, потому что она действительно любит его. Впрочем, если б и не так, я охотно приняла бы всякую, которая будет носить его имя. Для него я пренебрегла бы всеми условными приличиями и мнениями. Я никогда не забуду, что он спас мне жизнь, а может быть, и честь! Теперь я устала, — прибавила она, — и хотела бы прилечь. Только мне не нужна Фанни; она опротивела мне. Эта Мариуччия, которую я здесь видела, добрая женщина, но она слишком шумит. Племянница слишком надушена… впрочем, и неприлично, чтоб она служила мне. — Я буду служить вам, — сказал лорд Б… — О чем вы беспокоитесь? — О, это еще неприличнее! — А я, миледи? — сказала Даниелла, предлагая ей свою руку. — Вы позволите мне еще послужить вам? — Но… это невозможно! Господин Вальрег едва ли позволит тебе… — За всякую услугу, которую она вам окажет, — отвечал я, — Вальрег полюбит ее еще более, если это возможно. — Ну, так это мне очень приятно, благодарю вас. Пойдем, душечка, я не останусь у тебя в долгу! Когда они вышли, лорд Б… сказал мне: — Пусть она говорит, что хочет! Если она предложит денег Даниелле, не велите ей отказываться, но если, как я полагаю, вас это оскорбляет, то бросьте их в первую церковную кружку. Леди Гэрриет не совсем постигает гордость бедных людей. Ей кажется, что богатый всегда имеет право заплатить. Теперь с ней ни в чем не надо спорить, Спросите, пожалуйста, не приехал ли из Рима доктор Майер? Он всегда бывает здесь в этот час. Доктор только что приехал и пожелал видеть больную. Но она уже была в постели и, из английского жеманства или из кокетства, не захотела принять его. Она не считала себя достаточно больной, чтобы допустить такое неприличие. Больше всего не следовало досаждать ей, и потому доктор остался вместе с нами в гостиной, у самой двери в спальню больной. Через несколько минут Даниелла вышла оттуда. Леди Гэрриет едва легла в постель, как тотчас и заснула. Муж и доктор вошли в спальню для наблюдения над симптомами лихорадки, которая принимала новый характер. Я остался один в гостиной и слышал, как в столовой застучали тарелками: накрывали стол для обеда. Равнодушие этих английских лакеев, которые с методической аккуратностью исполняли свои ежедневные обязанности, представляло разительную и грустную противоположность горестным волнениям хозяина, находившегося в соседней комнате. Через четверть часа один из этих лакеев вошел доложить, что кушанье поставлено, и Фанни, опальная горничная, пробежала через гостиную, чтобы известить об этом лорда Б… — Я не буду обедать, — сказал он, появившись на пороге комнаты жены своей. — Мой милый Вальрег, откушайте, пожалуйста, с моей племянницей и господином Брюмьером, который так добр, что не покидает нас в этих горестных обстоятельствах. — Я ел недавно, — отвечал я. — Позвольте мне остаться здесь и заменить вас в комнате больной. Я пробовал уговорить его съесть что-нибудь, но он только покачал головой. — Она уже проснулась, — сказал он, — и едва сносит присутствие мое и доктора. Оставайтесь здесь, если чувствуете в себе довольно храбрости. От времени до времени я буду выходить к вам. Это послужит мне поддержкой. — Стало быть, доктор очень опасается? — Очень. И лорд Б… ушел опять к больной. В эту минуту через другую дверь вошла Медора и, сняв соломенную шляпу, стала перед зеркалом, чтоб поправить волосы. — Разве леди Гэрриет опять легла? — спросила она небрежно. — Кажется, еще не время. Я думала, что она сядет за стол с нами. — Припадок случился сегодня раньше обычного. — В самом деле? Я пойду взгляну на нее. Она подошла к самой постели, но лорд Б… тотчас взял ее под руку и отвел назад ко мне, говоря: — Из этого припадка еще ничего нельзя заключить, но вы знаете, что присутствие ваше раздражает миледи, когда она нездорова. Подите же обедать и пока что не извольте беспокоиться. Он вошел к жене и затворил за собой дверь. Я тотчас подал руку Медоре и довел ее до столовой, где дожидался Брюмьер; потом поклонился и хотел возвратиться в гостиную. Она употребила столько кокетства, иронии, горечи и грациозности, чтоб удержать меня в столовой, что я даже удивился немного: никогда еще не видал я, чтоб она была так ловка и упряма. В угодность ей, Брюмьер счел своим долгом также упрашивать меня, хотя эта прихоть иногда очень была ему досадна. Но как только он показывал свою досаду, она взглядывала на него или вклеивала какое-нибудь словцо, с целью дать ему понять, что она смеется надо мной. Между тем я очень ясно видел, что она непременно хотела усадить меня за стол возле себя, пока Даниелла занимает должность сиделки или горничной (по ее мнению) в комнате леди Гэрриет. Я приходил в негодование, видя, с каким присутствием духа, с какой сметливостью и свободой она продолжает свое мщение во время самого горестного семейного положения. Должен сознаться, что мне ужасно хотелось есть, потому что я с утра ничего не ел и три раза пробежал между Мондрагоне и виллой Пикколомини, что совсем не близко; но ни за что на свете не взял бы я и куска хлеба с этого стола, и пошел к Мариуччии, которая сидела в казино за блюдом lazagna, и с радостью разделила его со мной. Не знаю, говорил ли я вам, что казино виллы Пикколомини пользуется некоторой знаменитостью. Это небольшой павильон, примыкающий к дворцу в виде низенького флигеля; здесь славный ученый Барониус писал свои церковные летописи. Ныне этот павильон отдается внаймы вместе с остальными частями здания. Мариуччия приготовила мне там постель на случай, если состояние больной позволит мне лечь спать. Она удивилась тому, что я не хочу обедать с господами, но, узнав причину моего отказа, улыбнулась и сказала: — Я вижу, что вы точно любите мою племянницу и умеете поберечь чувствительную женщину. Бог благословит вас, и я крепко надеюсь на вас в будущем. Я оставил Мариуччию наедине с ее братом-капуцином, который издалека пронюхал съестное и пришел с деревянной чашкой за остатками бедного кушанья. Он удивился, встретив меня, и пока добрая старуха старалась втолковать ему причину моего посещения, я ушел в гостиную. Мне пришлось проходить через столовую и выдержать новую атаку от Медоры, которая заставляла меня пить кофе. Но когда и это не удалось, она дала Брюмьеру какое-то поручение, а сама пришла ко мне в гостиную, куда Даниелла выбежала на минуту, чтобы сказать мне, что положение леди Гэрриет подает надежду, потому что припадок не усиливается. Видя, что соперница ее приблизилась ко мне и спокойно села на софу, не удостоив ее своим вниманием, Даниелла прижалась ко мне, и рука ее, как змея обвилась вокруг моей руки. — Можете вы уделить мне одну минуту? — сказала мне Медора, заметившая плохо скрытое движение Даниеллы. Положение мое между этими двумя женщинами было как нельзя более смешным; но, по-моему, гораздо легче перенести всевозможные насмешки со стороны нелюбимой, нежели малейший упрек со стороны любимой женщины, а потому я знаком удержал Даниеллу возле себя, и сказал Медоре, что весь к ее услугам. — Но я хочу говорить с вами наедине, — сказала она с гордой самоуверенностью. — Даниелла, моя милая, пожалуйста, оставьте нас; притом же вы нужны тетушке. — А мне, — сказал я, — милорд дал поручение. Я буду иметь честь выслушать вас в другое время, менее тяжелое для вашего семейства. Я повернулся, чтобы выйти, но Даниелла остановила меня словами: «О чем говорил милорд, то уже сделано. Ничто не мешает вам остаться здесь и поговорить с синьорой. Кого же это может беспокоить?» — прибавила она вполголоса, но так, чтобы соперница расслышала ее, и в гордости своего торжества крепко затворила дверь за собой. — Эта девушка все такая же сумасшедшая! — сказала Медора, скрывая свой гнев; потом, не давая мне времени отвечать, она прибавила: — Ну, любезный Вальрег, дайте же мне добрый совет насчет господина Брюмьера; мне нужен ваш совет, и при наших взаимных отношениях вы не можете отказать мне в нем. — Я думаю, — возразил я, — что вы шутите, спрашивая моего совета; я совсем не понимаю приличий, соблюдаемых в вашем кругу; что же касается наших взаимных отношений, то я не думаю, чтобы они налагали на нас какие-либо обязанности. — Извините, отношения наши очень серьезны, и я очень охотно сознаюсь в этом; напротив, я даже подчинилась им, ища объяснения с вами, а главное, ставя себя в зависимость от мамзель Даниеллы, которая очень ясно дает мне это чувствовать. — Я думал, что вы обо мне лучшего мнения и можете не опасаться, что я рассказал Даниелле все, вас касающееся. — Как, вы ничего не рассказывали ей о Тиволи? — Ничего. Я скромнее вас, потому что вы все рассказали Брюмьеру. — И вы можете поклясться, что говорите правду? — Да-с! — Вот странное «да-с!» Я чувствую, что мое сомнение рассердило и оскорбило вас; прошу прощения; но неужели вы не можете быть менее гордым и холодным? — Не могу. — Почему же? Постойте, объяснимся. Вы испугались моей любви, это я понимаю. Вы недоверчивы, проницательны и тотчас догадались, что из этого каприза не выйдет ничего хорошего; но вы также боитесь моей дружбы, это уж я нахожу неслыханно странным, и это мне всего прискорбнее. Будьте же совершенно откровенны, хотя бы с примесью грубости, если уж таков ваш нрав. Мне надоело напрашиваться на вашу благосклонность, и сегодня я делаю это в последний раз. Таково было вступление в откровенное объяснение, на которое меня вызвали и которое я сделал, наконец, почти в следующих выражениях. Вам, более нежели кому либо, желал бы я верно передать его, чтобы вы могли судить, как я мыслил и действовал в этом щекотливом положении. Между людьми искренними и серьезными дружба основывается на взаимном уважении или на взаимном влечении ума или характера. Но люди легкие, а также расчетливые, имеют странное обыкновение злоупотреблять именем и наружными преимуществами дружбы. Мне кажется, что женщины, и в особенности хитрые и легкомысленные, употребляют священное имя дружбы, как опахало, которое они распускают между собой и истиной. Я знаю, что эта женщина ненавидит меня и желает помучить. Она выдумывает дружбу, чтобы держать меня у себя под рукой и мстить мне; таким же образом, желая приобрести блестящий титул, она выдумала любовь к этому бедному князю, и потом вдруг насмеялась над ним, и бросила его за то, что он захрапел в карете и надушил свое платье лавандной водой; наконец, чтобы завербовать себе нового поклонника, за неимением лучшего, она изобрела дружбу и поверяет все свои тайны Брюмьеру. Легкость, с какой мужчины поддаются таким дружеским отношениям к молодым женщинам, объясняется просто тщеславием. Как бы мы ни были скромны и благоразумны, но пока нас любят, и даже когда перестанут любить, нам лестно думать, что мы внушаем чувство, которое кажется серьезным, доверие, как бы служащее доказательством высокого уважения. Некоторые преимущества дружеской короткости непременно действуют на чувственность, и я сам сознаю, что если б я не любил страстно и исключительно другую, эта женщина, оказавшая столько внимания к моей особе и послушания моим советам, могла бы подшутить надо мной и очень ловко привести к желанной цели, то есть заставила бы меня влюбиться в себя, чтоб иметь удовольствие сказать мне: «Поздно хватились, любезный друг!» Не то, чтобы Медора походила на женщин-тигриц или змей, так часто выставляемых в нынешних романах, о, совсем нет, она просто женщина, как и многие другие в любом обществе и во все времена, то есть одна из тех женщин, которые не обладают ни великим сердцем, ни великим умом, но, одаренные красивой наружностью и богатством, свободно разыгрывают роль балованных детей со всеми простодушными или тщеславными людьми, которых удается им поймать. Они охотно хитрят, не будучи собственно лукавы; любят поставить на своем, не имея твердости характера, интригуют, не будучи искусными дипломатами. Они очень любят себя самих той глупой, бестолковой, но исключительной и упрямой любовью, которая внушает им всякие уловки, помогающие исполнению их планов. Они подвергают себя пересудам, не теряя репутации, и предлагают любовь, не предаваясь чувству; беспрестанно вредят себе в чужом мнении, но остаются невредимы: так сильно двойное могущество красоты и богатства! Эти женщины часто обманывают мужчин, которые гораздо лучше и тверже их, и мне кажется, что Брюмьер, одаренный несравненно большим умом, проницательностью и последовательностью в характере и мнениях, нежели Медора, кажется осужден на то, чтобы она поводила его за нос и потом оставила с приятным титулом верного и преданного друга, как только представится другой поклонник, более блестящий или более полезный. Все это я откровенно высказал Медоре в продолжение нашего разговора и заключил тем, что не могу верить ее дружбе, а она не должна требовать моей. Приключение в Тиволи не налагало на меня никаких обязательств по отношению к ней, кроме простой скромности, которая никакому честному человеку не стоит больших усилий; и странная признательность, которую она желала наложить на меня за один поцелуй и за несколько безумных слов, не лежала у меня ни на сердце, ни на совести. Одно мое самолюбие могло бы принять это за что-то серьезное, но я решился не щадить этого маленького демона, полного всяких глупых двусмысленностей и уверток. Что же касается благодарности, внушенной ей моею деликатностью, я просил ее не считать себя в долгу и не говорить мне о ней так часто, чтобы я не подумал, будто она сомневается в ее продолжительности. Удивленная, разгневанная и как бы сокрушенная тщетными попытками улучить во мне незащищенное местечко, она оставалась задумчива и безмолвна. Лорд Б… вошел, чтобы сказать мне, что больная успокоилась и лекарство подействовало. — В таком случае, — сказала Медора, — может быть, вы на несколько минут обойдетесь без Даниеллы: мне бы надо поговорить с ней. Через минуту вошла Даниелла; лицо ее сияло наивным торжеством. Я догадался, что она воспользовалась безопасным положением больной, чтобы послушать, что я говорил Медоре: Медора отгадала это и бросила тревожный взгляд на полуоткрытое окно: выйдя через заднюю дверь спальни, Даниелла могла все слышать с крыльца и даже из павильона Барониуса. — Вы что-то очень веселы! — сказала ей Медора, дрожа от досады и страха. — Оттого, что миледи лучше, — отвечала Даниелла с кротостью, которой я не ожидал от нее. — Не можете ли вы пойти со мной в мою комнату? — продолжала Медора в сильном волнении. — Мне непременно нужно переговорить с вами. Я сказал, что Даниелла с часу на час могла понадобиться больной, и сам вышел в столовую, куда только что прошел Брюмьер. Я увел его курить в сад и слышал, как запирали окно гостиной. Брюмьер нисколько не сомневается в искренности Медоры в отношении к нему. Он и не подумал расспрашивать меня о том, о чем я говорил с нею, но был полон радостных надежд. — Знаете ли, — сказал он, — что дела мои идут хорошо? Бог да сохранит добрую леди Гэрриет! Но если ему будет угодно пресечь дни ее, то Медора, уже пытавшаяся жить у прочих своих родственниц, не будет знать, куда деваться, и, наверное, решится на супружество. Ведь она уже решалась, потому что чуть не вышла за старого князя. Но, к счастью, эта прихоть вовремя прошла, и так как вместо толпы обожателей я перед нею один на эту минуту, и так как судьба послала ей меня в это скучное Фраскати, как будто на перепутье между отвращением к последнему поклоннику и смертью последней покровительницы, то я вижу тут самый удобный для себя случай, которым и намерен непременно воспользоваться. Но что она делает с вашей Даниеллой? — Поживя здесь, я бы мог отвечать вам по-здешнему: chi lo sa? Но всякий не природный итальянец непременно захочет предположить что-нибудь, и потому я воображаю, что она желает примириться с женщиной, которую оскорбляла так несправедливо. — Да, должно быть так, ведь она предобрая, не правда ли? Благородная натура, вспыльчива, но великодушна; иногда она сумасбродна, иногда будто опьяняет от артистических фантазий в своих эксцентрических выходках, но когда она приходит в себя, то в ней сказывается удивительная логика и удивительный здравый смысл. Это женщина необыкновенная, но скучающая, вот и все. Вы увидите, в какое восхитительное создание преобразит ее любовь! Брюмьер так наивно присваивал себе право этого чудного преображения, что разуверить его было бы мудрено. Да и зачем? Избыток самодовольства так усладителен сам по себе, что пусть себе за мечтами следуют разочарования. Вперед полученные вознаграждения действительны не менее тех, которые следуют за бедствием. Мне оставалось лишь подивиться этой способности самообольщения. Я зафилософствовался про себя о положении этого семейства: с одной стороны лорд Б…, на пороге огромного, неутешного горя; с другой — Медора, занятая своими планами; и рядом с ней Брюмьер, который говорит: «Дай Бог здоровья леди Гэрриет, но только смерть ее очень бы была мне полезна на эту минуту!» Когда я вновь встретился с Даниеллой и начал расспрашивать ее о переговорах с Медорой, она показалась мне задумчивой и скрытной в ответах. — Боже мой, — сказал я ей, — ты, кажется, опечалена? Не сказала ли она тебе чего-нибудь такого, что заставляет тебя опять сомневаться во мне? — О, нет, напротив! Она была очень откровенна, очень добра, очень великодушна. Она призналась мне в том, что любила тебя, и что по ребяческому капризу, по женской гордости хотела понравиться тебе, говорит, что это не удалось ей, и что она рада этому; обвиняет себя, и сама над собой смеется за дурное чувство, которое побудило ее оскорбить меня и удалить из дома. Она просит моей дружбы и хочет, чтобы я обещала ей твою. Вот что она говорит и, кажется, думает. Я все простила ей, и мы поцеловались, я от сердца… и она тоже, думаю. Тут Даниеллу позвали к леди Гэрриет. Вечер прошел в колебаниях между надеждой и страхом; в полночь лихорадка спала; припадок был гораздо слабее прошлых. Врач, убедившись, что опасность миновала, пошел спать. Лорд Б… хотел отпустить Даниеллу отдохнуть, но она предпочла заснуть в креслах у постели больной. Медора пила чай с Брюмьером и ушла в свою комнату. Я остался в гостиной с лордом Б…, который через каждые четверть часа выходил на цыпочках, чтобы прислушаться к дыханию своей жены. — Я должен казаться вам смешным, — сказал он в один из этих промежутков, разговаривая со мной. — Вы можете поставить меня в число тех чудаков-мужей, которые двадцать лет сряду жалуются на жену и открывают возможность ужиться с женой только в ту минуту, когда приходится разлучаться навеки. Не надивлюсь своему чувству, потому что были часы… часы, в которые я напивался, постыдные часы, когда я говорил почти серьезно: смерть освободит либо меня, либо ее! Но теперь, видя, как подходит эта смерть и уносит ее еще не отцветшую, еще полную жизни, ее, а не меня, старого и одряхлевшего душой, я ужаснулся и почувствовал угрызение совести. Не имеет ли она всех прав на жизнь после стольких грустных лет, проведенных со мной? Судьба казалась мне такой несправедливой в своем выборе, что я сделался фаталистом. Мне приходила мысль убить себя, чтоб обезоружить судьбу. Я молча слушал эти признания и ждал, когда он истощит всю горечь, обыкновенно затаенную в глубине его души, чтобы потом дружески образумить его и оправдать его в собственных глазах, не обвиняя жены. В наших нравственных действиях нет таких роковых влияний, которые не могли бы мы осилить и победить совершенно; это мое убеждение, и я искренно высказал его, прибавив, что в тех собирательных фактах, которые зовутся общественными законами, есть страдания неизбежные, по-видимому, роковые, и мы часто относим к ним свои личные горести и ошибки людей, нас окружающих; но человек должен полагать всю свою силу, весь свой ум на борьбу с этими дурными результатами как в нас самих, так и вокруг нас. Средства к тому не легки, но просты и ясно обозначены. Старые добродетели вечной религии остаются истинными, при всех различных заблуждениях в их приложении, и никакой софизм, никакая общественная почва, никакая ложь эгоизма не помешают добру быть самому по себе, вопреки всякому внешнему злу, верховной радостью, восхитительным понятием, возвышенным светом. Если совесть наша чиста, сердце живо, мысль здорова, то мы можем считать себя вполне счастливыми; Требовать большего, значило бы безумно восставать против законов божественных, которых не изменит наш ропот. — Я совершенно согласен с вами, — сказал мне лорд Б…, — потому-то сердце мое очерствело и совесть возмутилась, что я не обратился к этому здравому понятию, о котором вы говорите. Я виноват перед другими, став виновным перед собой самим; у меня не достало воли, чтобы заставить ценить себя, и в опьянении я искал иногда самозабвения, которое только глубже погружало меня в апатию; мне недоставало веры, это я вижу, и если я стал отвратителен и жалок женщине, которая любила меня, то в этом виноват я, а не она… Знаете ли, — сказал он еще, видя, что во время нашего длинного разговора больная ни разу не проснулась, — если Бог возвратит мне ее, я думаю, что буду задним числом достоин ее прежней любви ко мне. В наши лета любовь была бы смешна, если б не изменялась в своей природе; но дружба, которая переживает ее и в честь которой, если вы припомните, я предложил грустный тост у Сивиллина храма, лучше самой любви, реже встречается и в тысячу раз ценней. Вот что желал бы я внушить и чего не умел внушить моей жене. Я утешал его, говоря, что следовало надеяться на выздоровление леди Гэрриет и всей душой приготовиться к славному завоеванию этой святой дружбы, которая не отнимает прав у любви, но наследует их; он бросился в мои объятья и залился слезами, которые струились по его неподвижной физиономии, как ручей по каменным плитам. — Вы утешили меня более, нежели думаете! — сказал он своим безжизненным голосом, который так дисгармонировал с его словами. — Все выражения участия и ободрения — только условные фразы, может быть, и ваши имеют не более смысла. В самом деле, вы не сказали мне ничего нового, ничего такого, чего я сам себе еще не говорил; но я чувствую, что вы говорите с глубоким убеждением, что в сердце вашем есть истинное желание вразумить меня; и потому; несмотря на вашу молодость и неопытность», вы имеете на меня особенное влияние. Причина этому в искренности вашей натуры, в согласии между вашими понятиями и действиями.Впрочем, признаться ли вам, — сначала я не понимал вашей любви к Даниелле; я думал, что это просто чувственное влечение, что вы даете ему слишком много власти над собой, что оно берет слишком много места в вашей жизни. Теперь я вижу, что вы не только подчиняетесь этой страсти, но и смотрите ей в лицо, сознаете ее, и нахожу, что вы правы; я уверен, что вы никогда не будете несчастливы, потому что будете далеки от несправедливости и малодушия. Однако, послушайте. Я обязан кое-что высказать вам, что может иметь свою важность. От вас зависело и, может быть, еще зависит жениться на племяннице жены моей. Медора любила вас, я думаю и теперь любит, насколько она может любить. Во всяком случае заметно, что с тех пор, как она прихоти или с досады сосватала и забраковала в короткое время двух женихов сряду, ее сумасбродное воображение жадно ищет новых впечатлений, и господин Брюмьер точно так же, как и всякий другой, может воспользоваться этим случаем. Подумайте об этом, разберитесь с собой хорошенько: не может ли богатство быть для вас условием силы и счастья? Ни жена моя, ни я не можем воспрепятствовать этой причуднице выйти за кого бы ей ни вздумалось. Мы попробовали отговаривать ее от этого отжившего, хворого князя (впрочем, отличного человека), мы только возбудили в ней безумную охоту бежать с ним. Я думаю, прости, Господи, что только одна опасность быть убитой в своем побеге с ним расшевелила ее притупившийся мозг, который жаждет напрасный волнений. Она сказала нам, что перед отплытием увидела вас, и мне показалось, что вы могли быть невольной причиной ее возвращения. Может быть, такая внезапная измена князю есть в глазах ваших только новая вина: мне тоже кажется, что, как гласит французская пословица, если вино налито, так надобно пить его; но как бы вы ни судили о ее поступках, я обязан уяснить вам собственное ваше положение. Для вас леди Б… отступится от своих предрассудков; она сказала вам это, и в этом вы не можете сомневаться. Следовательно, вы можете получить руку ее племянницы, не причиняя ей тем ни малейшего неудовольствия. О себе я и не говорю: я не имею никаких предубеждений касательно неравенства общественных положений и нахожу, что вы бесконечно выше мисс Медоры. Разумеется, нимало не колеблясь, я тотчас объявил лорду Б…, что есть одна непреодолимая причина, почему я не желаю нравиться его племяннице, именно та, что я не люблю ее. — Это, конечно, причина, — сказал он, — и на этот раз я не буду оспаривать ее, В продолжение двадцати лет я постоянно проклинал супружества по любви, а теперь вижу, что любовь в супружестве есть идеал человеческой жизни, Если мы не достигаем его или теряем по достижении, значит мы недостойны пользоваться им. В пять часов утра доктор был опять и нашел больную вне опасности со стороны лихорадки, последний припадок которой был совершенно остановлен, благодаря его стараниям. Зато он нашел, что дыхание леди Гэрриет заметно затруднилось. В течение дня открылось воспаление легких. То была уже новая болезнь, которая должна была идти своим путем, и врач обещал ежедневно приезжать на несколько часов, чтобы наблюдать за ее ходом. Другой врач поселился в Пикколомини, чтобы, по указаниям первого, ежеминутно следить за признаками недуга и бороться с ним. В тот же день из Рима выписали целую аптеку могущих понадобиться лекарств. Все мы немного отдохнули, даже лорд Б…, не спавший уже несколько ночей сряду, прилег в комнате своей жены. Медора уехала верхом с Брюмьером. Через два дня все опасные признаки миновали, благодаря искусству и опытности доктора Майера. Лорд Б… возвратил мне свободу, а леди Гэрриет самым дружеским образом поблагодарила Даниеллу и пригласила ее почаще бывать у них. Винченца, рекомендованная Брюмьером, была принята на время в услужение, взамен англичанки Фанни, которая впала в немилость и проводила целые дни за чаем, чем возбуждала к себе величайшее презрение и ужас Мариуччии. Мы возвратились в Мондрагоне, строя планы о будущем и советуясь друг с другом относительно нашего помещения, о чем имели теперь право мечтать. Теперь от нас зависело очень спокойно разместиться в старом казино, и при одной мысли расстаться с нашими развалинами у нас сжималось сердце. Мы остановились в вилле Таверна, чтобы спросить у Оливии, может ли она на несколько недель отдать нам казино внаймы. Оказалось, что она имеет это право или, по крайней мере, присвоила его себе. Плата была очень незначительна; Даниелла тотчас послала Фелипоне с телегой за своим маленьким имуществом во Фраскати, куда она не хотела показываться до нашей свадьбы; по этой же причине она уговорила мызника привозить ей из города хлеб и скромные ежедневные припасы вместе с провизией для своего семейства. Впрочем, это жилище, выбор которого с первого взгляда может показаться странным, едва ли не единственное место, вполне удобное для нас теперь. Оно отдаляет нас от докучных пересудов и представляет все удобства к побегу через потаенный ход, в случае если дела наши с инквизицией не примут того благоприятного оборота, какого ожидает добрейший лорд Б… Если же мне вздумается не дожидаться исхода этих дел, он берется доставить мне паспорта для отъезда отсюда. Но я не имею ни малейшего желания покидать теперь Фраскати; во-первых, затем, чтобы не лишить лорда Б… заложенной за меня суммы, хотя он по своей деликатности очень желает, чтобы я не думал о ней; потом я бы никак не хотел оставить его в минуту забот и горя. Наконец, у меня есть здесь свои привязанности, своя семья, роскошное солнце, начатая работа, прекрасные виды, которые я уже присвоил себе и восхищаюсь ими, и другие, которых я коснулся только слегка, но жду не дождусь, чтобы завладеть и ими; а пуще всего привязывают меня места, бывшие свидетелями моего счастья, эти атрии: чувствую, что не легко мне будет расставаться с ними. Это латинское слово atrium, имевшее в древности такой домашний, патриархальный смысл, представляет для меня целый порядок вещей, получивший такое значение в моей скитальческой жизни. Могу сказать, что мне знакомы атрии всех прекрасных садов, меня окружающих, и тускуланских, и тех, что в ущелье del buco; чудесная природа, еще недавно принявшая меня, как пришельца, ныне принадлежит мне, и сама владеет мною. Она открыла мне свои святилища и разоблачила свои тайные красоты. Между ею и мной образовалась неразрывная связь; где бы я ни был, воспоминание будет переносить меня сюда; величавые аллеи и узкие тропинки, мягкие склоны и угловатые утесы, гигантские тиссы и голубенькие звездочки кустарников — все это принадлежит мне, и навсегда! Итак, мы опять устроились в своей крепости, и с террасы казино я могу перебрасывать куски шоколада маленьким племянникам Фелиппоне, когда они приходят играть на нижнюю террасу с флюгерами. Теперь уж мы не подумаем съесть нашу козу. Спим мы уже не на соломе. Даниелла не вздрагивает при малейшем шуме, а я тружусь над своей картиной, надеюсь благополучно окончить ее, не опасаясь, что ее проколют штыками. Фортепиано, взятое князем напрокат, дослуживает свой месяц в моей комнате, и Даниелла вздумала учиться музыке. Теперь я очень доволен, что знаю музыку и могу учить Даниеллу. Память и способности ее удивительны; а я могу быть порядочным учителем, потому что наслышался очень много всякого пения, сидя в театральном оркестре. Ее голос еще сильнее и лучше, чем я думал, а инстинкт ритма и мелодии чрезвычайно развит. Мне кажется, что нужно только растолковать ей причины всего того, что она уже имеет, и через год она будет великой певицей и никому не уступит. Эта мысль сильно занимает меня с тех пор, как она узнала, что я музыкант. «Когда ты сказал, что у меня хороший голос, — говорит она, — мне стало грустно, что я ничего не знаю, а учиться не имею ни способов, ни времени. Что мне в ремесле гладильщицы? Оно дает только насущный хлеб и больше ничего. — У него, — думала я, — есть талант; он будет доставлять мне все удобства, а я буду краснеть, видя, что только стесняю его». Вот что я думала, а теперь уже не так отчаиваюсь в себе. На меня уж не будут смотреть, как на работницу, как на служанку, когда ты привезешь меня к себе на родину; я буду артистка, тебе подобная и равная, и ты не будешь стыдиться, что полюбил меня. Когда она говорит это, лицо ее принимает такое значительное выражение, а черные глаза расширяются и вглядываются с такой силой воли, что я не могу сомневаться в будущности, о которой она мечтает. А между тем чувствую, что желал бы немного усомниться в этом. Я объясню вам почему.
Глава XXXVII
15 мая. Мондрагоне.Вчера Брюмьер пришел навестить нас, пока она брала урок пения. Он еще издали услышал этот великолепный голос, но не хотел поверить, что то был голос Даниеллы. Когда же, наконец, он убедился в этом и выслушал прекрасный этюд, кажется, сочинения Гасса, найденный мной между старыми бумагами в вилле Таверна, то прошелся раза два по моей мастерской с озабоченным видом. — Да ведь у нее нет никаких музыкальных познаний? — сказал он. — Она выучила это, как попугай, не по нотам читает, верно вы ей напели? Я засмеялся. — Чему вы смеетесь, скажите, пожалуйста? — Тому, что вы задаете мне такой детский вопрос. Она в два дня поняла значение писаной музыки; через две недели будет свободно разбирать всякие ноты, а через месяц, при ее понятливости и желании учиться, будет в состоянии правильно исполнить целую партитуру с оркестром. Что же касается азбуки, которой вы придаете такое значение, то не будь Даниелла так щедро наделена от природы, азбука ни на что бы не пригодилась ей. Есть артисты, которые трудятся по десяти лет, и все-таки не могут сделать того, что досталось ей без всякого учения. — Это правда, — согласился он простодушно, — черт побери! Да она поет лучше *** и ***! — Вот уж вы из одной крайности бросились в другую! Ей еще неизвестно ремесло, а ремесло для искусства то же, что тело для души. Ей нужно еще научиться владеть своими способностями, чтобы они не изменяли ей даже в том случае, когда недостанет вдохновения, а оно мимолетно. Притом же это естественное превосходство, эта инстинктивная возвышенность нуждаются в собственной внутренней оценке. Она достигнет этого знанием, которое даст своему чувству. — Да, ей остается еще узнать почему и как. Но сохранит ли она эту свежесть голоса и простоту выражения? — Надеюсь, потому что у нее не будет других учителей, кроме меня, а мне кажется, что я сумею развить как следует ее природу. — А, так, стало быть, и вы великий музыкант? — Нет, не великий музыкант, но понимаю музыку, вот и все. — И страстно любите ее? — Да, на этих днях я пристрастился к ней. — И жена ваша будет великой певицей? — Да, — закричала ему Даниелла полусмеясь, полудосадуя на нескончаемые вопросы, цель которых была ей неясна. Но я видел эту цель и постарался избежать ссоры. — Послушай, Даниелла, — сказал я, — спой ему какую-нибудь народную песню. В песне выражается вся душа твоя, она одна, со всем, что дала тебе природа, с тем характером и оттенками, которым никто не мог научить тебя, которых никто в этом смысле не передаст лучше тебя. Вспомни, что ты пела раз вечером, в вилле Таверна. — Да, да! — воскликнула она. — Ах, мне будет очень приятно пропеть это! Она спела один или два куплета, но, недовольная собой и находя, что ей недостает пыла и увлечения, схватила тамбурелло и, как бы одушевляясь настойчивыми призывными звуками этого дикого бубна, голос ее стал живее и сильнее. Однако она все еще с досадой качала головой. — Что с ней? — сказал Брюмьер. — Она того и гляди подожжет замок! — Нет, нет, я не в голосе и не в духе, — сказала она. — Это не поется, а пляшется! И, устремившись на середину, она перепрыгнула через доски и стружки, которые еще наполняли часть комнаты, и принялась в одно и то же время плясать, петь и тамбуринировать, с тем самым исступлением, которое уже приводило меня в трепет любви и ревности. Я надеялся, что Брюмьер не заразится этим восторгом; к тому же я боялся провиниться в эгоизме, помешав этому воздушному созданию хоть на минуту расправить свои крылья. Но Брюмьер так же впечатлителен, как и пылок в своих изъявлениях: он восклицал от удивления и так далеко зашел в припадке артистического энтузиазма, что я не на шутку рассердился. Я вырвал тамбурин из рук Даниеллы и почти на руках притащил ее к фортепиано, невольно ворча на нее. — Зачем же вы мешаете ей покрасоваться? — говорил Брюмьер. — Вы просто варвар, педант! Дайте ей показать себя… Ну, еще, еще! Чтобы как-нибудь объяснить свою досаду, я сказал, что пляска с пением портит голос. — Ты думаешь? — спросила Даниелла, нимало не запыхавшись и облокачиваясь на фортепиано, с видом серьезным и задумчивым. — Нет, — отвечал я ей шепотом, — но я говорил тебе, что если ты любишь меня, то ни для кого, кроме меня, не будешь танцевать. — Однако, любезный друг, — сказал Брюмьер, как будто угадывая мою мысль; — вы напрасно хотите скрыть от всех такие способности! У синьоры Даниеллы сто тысяч франков доходу в горлышке, в ножках, в сердце, в глазах, в лице. Да вы видно не промах, что узнали и поймали налету сильфиду, которая прикинулась крестьяночкой. Сколько грации, силы, сколько очарования в одном существе! Это уж чересчур! Меньше, чем через год это будет такое чудо, что это превзойдет все чудеса наших театров! Музыка и танцы в равном совершенстве… Даниелла быстро прервала его. Она заметила, что эти похвалы в упор терзали мои нервы, и хотела показать мне, что они не вскружили ей головы. — Вы смеетесь надо мной, — сказала она ему, — и я сама виновата в этом, показавшись перед вами чересчур крестьянкой; но она исчезнет, потому что я хочу быть только тем, чем он захочет. Пока же докажу вам, что я еще хорошая хозяйка и сейчас подам кофе, который приготовлю сама. Она вышла и больше не возвращалась. Я остался глубоко благодарен ей за эту деликатность чувства. Не замечая моего волнения, Брюмьер продолжал восторгаться прелестями моей жены и без обиняков говорил, что билет, вынутый мной из лотереи любви, вышел удачнее того, который достался на его долю. Он принимал меня за философа, то есть за олуха и дурака; но теперь ясно видел, что я проницательнее его, что я, по его мнению, в навозе нашел алмаз, а он, перебирая жемчуг, выкопал только жука. Я воспользовался этим сравнением, чтобы прекратить речь о Даниелле и навести разговор на Медору. Хотя мне нисколько не интересно было слушать последние главы этого романа, однако, я притворится, будто принимаю в нем большое участие. — Ну, любезный друг, — отвечал он, — скажу вам, что очень бы желал быть с вами на такой планете, где бы можно было сказать приятелю: «Поменяемся! Вот вам моя мечта, отдайте мне вашу». Право, с завистью смотрю на вашу божественную, великолепную римлянку, которая, в ожидании славы и богатства, дает вам вместе и все упоение, и всю уверенность Любви! О, теперь я вижу, как вы счастливы. Что же касается меня, то эта ветреная и в то же время холодная англичанка так надоела мне, что я иногда хотел бы провалиться от нее на сто футов в землю; сто раз в день приходит мне охота не то чтобы бежать с ней, а бежать от нее. Ах, если б у меня в этот вечер появился хоть маленький аэростат, как бы я воспользовался им сейчас же! — Но что же случилось нового и как могло все так измениться за одну неделю? — Любезный друг, вы еще неопытны и не понимаете, что такое кокетка. Это зеркало, которым ловят жаворонков, то блеснет, то померкнет, потому что только и блестит, пока вертится. — Кто же вас заставляет разыгрывать роль жаворонка? — А честолюбие! Я с вами не церемонюсь и говорю откровенно: мне хочется иметь восемьсот тысяч дохода, право, ужасно хочется! Я не такой бедуин, как вы, я рожден сатрапом. В этом, право, нет ничего дурного, — разумеется, если для достижения такого благосостояния не сделаешь никакой подлости или гадости. Надеюсь, вы довольно знаете меня, чтобы быть совершенно уверенным, что даже за богатство Ротшильда не возьму ни горбуньи, ни старухи, ни урода, ни распутной женщины. Но Медора — красавица, и как она ни старается испортить свою репутацию, но я знаю, что она чиста. К тому же, когда она захочет, ум и характер ее очаровательны! Словом, я от нее без ума!.. — И дожидаетесь только аэростата, чтоб вырваться из этого очарования? Идите же своим путем и следуйте за своей звездой. Зачем вы осуждаете и клянете ее за один капризный день? Если она не совершенство, то ведь и вы не совершенство. — Почему же нет? — возразил он смеясь. — Чего мне недостает, чтоб быть восхитительным молодым человеком? Впрочем, речь не о том, продолжать ли мне гоняться за ней, а о том, не напрасно ли я теряю время и изнашиваю последние сапоги свои, чтобы под конец дождаться только лестного титула: любезный друг. Послушайте! Вам легче было добиться ее руки, нежели мне; почему бы, черт возьми, не занять вам моего места и не уступить мне своего? Когда Даниелла поет или танцует, с ней никто не сравнится. Даже когда она задумается, ее глаза, ноздри… я никогда еще не рассматривал ее, как сегодня. Она бедна и безвестна, но от нее зависит составить себе фортуну и славу, а так как всем этим она обязана вам, то, может быть, и останется вам верна. — Ваше может быть совершенно лишнее, мой милый; если хотите сделать мне большое одолжение, то позвольте мне самому судить о достоинствах моей жены. — Уж не ревнивы ли вы? — А почему нет? — Это правда. Но что это, черт возьми, вы делаете? — сказал он, видя, что я поставил свою картину на мольберт и взял в руки палитру. — Занимаюсь живописью, — отвечал я. — Э, э, — воскликнул он, всматриваясь еще с большим вниманием, — это в самом деле живопись! Черт возьми! Знаете ли, что это очень хорошо? Я не думал, что вы уж так сильны. — И были правы: я совсем не силен. — А я говорю вам, что да! Вот хитрец, все скрываете! Смешной вы человек, право! А Медора видела когда-нибудь вашу работу? — Никогда. А что? — Не показывайте ей, пожалуйста. Если она увидит ваше искусство, то моего совсем не признает. Он еще долго ходил вокруг меня, произнося похвалы преувеличенные, но наивные, как и все его первые побуждения; напоследок он горестно признался мне, что с самого приезда в Рим не брал кисти в руки. — А ехал ведь с намерением работать, потому что в Париже два года сряду гулял и не заглядывал в мастерскую. Мне необходимо быть художником; я не имею никакого состояния, а легкие литературные статейки, которыми я занимался, почти ничего не приносят. У меня в голове всегда зрели трудные планы и великие замыслы, а, пока я развиваю свои мечты, время проходит и результаты удаляются. — Сегодня вы хандрите; завтра заговорите другое. — Едва ли. Медора испытывает меня, как нового лакея. — Или как будущего мужа. — Вы хотите утешить меня; но я совсем расстроен. Однако, нам обещали кофе, хотите, я схожу за ним? — Нет, я сам пойду. — Я вижу, что вы сделались настоящим тигром, — продолжал он, когда я возвратился с кофе, который Даниелла приготовила, но не принесла, зная, что я сам приду за ним. — Я вас понимаю, только не бойтесь меня: я так занят, что не могу быть опасен. С одной стороны, состою в должности верной, но иногда ворчливой собаки при моей принцессе; с другой, завел себе маленькую интрижку, для препровождения времени. Вы знаете Винченцу? — Знаю. Муж ее мне больше нравится. — Ее муж простофиля, совершенно привыкший к участи, которой он мне обязан. — Вы ошибаетесь: он только слеп. Но если уж вы заговорили мне об этом, то я должен предупредить вас. Берегитесь этого веселого толстяка: худо будет, когда он откроет глаза. — Я знаю, что это мне не дешево обойдется. Я не богат, а он верно потребует платы. — Напрасно вы воображаете, что он пощадит вас, если вы заплатите ему за бесчестье. Этот человек гораздо выше и лучше, нежели кажется. Мне удалось коротко узнать и оценить его, и я каждый день беседую с ним не без интереса. Он любит жену свою, верит ей, и при случае умеет мстить… Более ничего не могу сказать вам. Будьте осторожны. — Вот еще! Я знаю Фраскати, как свои пять пальцев! Здесь женщины гораздо вольнее девушек. Было время, когда я отказался от притязаний на эту Винченцу, потому что дело оказалось не шуточным, а я совсем не так любил ее, чтобы на все решиться; теперь же она замужем, поселилась на несколько дней в Пикколомини… Ай, не говорите этого Даниелле: она нынче сошлась с Медорой и, пожалуй, все расскажет ей, тогда я пропал. Ведь я нимало не дорожу этой мызницей: она миленькая, чистенькая такая, но вот и все! Притом же я заметил одно: чтобы быть в состоянии поддразнивать и завлекать кокетку, надо стараться, чтобы нервы были в спокойствии. Вот тут-то очень полезно иметь неважную любовницу под рукой; однако, я вижу, что оскорбляю ваши уши и мешаю вашей жене прийти к вам. А мне нужно пойти посмотреть, замечено ли было мое отсутствие и гнев. Я нашел Даниеллу озабоченной и почти грустной. — Ты рассердилась на меня за мою ревность? — спросил я, став перед ней на колени. — Я не имею права сердиться за это, — отвечала она. — Сама подала тебе дурной пример, и была гораздо хуже тебя. — Да, ты сомневаешься во мне, а я, клянусь тебе, даже не думал, чтобы ты желала понравиться Брюмьеру. — И это правда? — Правда, как и то, что я люблю тебя. — Ну, так я тебя прощаю. — И все-таки грустишь? — Нет, я так задумалась; меня мучит другая мысль. Господин Брюмьер говорил, что с моими способностями к музыке и танцам я могла бы составить себе состояние. Он говорил о театре, о публике… Ты никогда не говорил мне этого! Неужели ты стал бы ревновать, если бы вместо одного такого болтуна на меня смотрели тысячи поклонников, а дом мой наполнился бы льстецами? — Как ты об этом думаешь? Отвечай сама. — Я думаю, что ты бы сильно ревновал, потому что на твоем месте со мной было бы то же. — А ревность ведь очень мучительна, не правда ли? — O, Dio Santo, какая пытка! — Чтобы избавить меня от нее, ты бы согласилась отказаться от той блестящей жизни, о которой говорил Брюмьер? — Да сейчас же! Если ты будешь страдать, когда я выучусь чему-нибудь, то не учи меня больше ничему! — Напрасно, Никто не имеет права задерживать развитие сил в другом человеке, когда эти силы прекрасны и благородны. Тем грешнее тушить этот священный огонь, чем больше любишь того, в ком горит он. Итак, что бы ни случилось, я дам тебе средства к развитию. — Но чему же послужит мне наука, если я должна скрывать ее? — Во-первых, я ничего не требую и не решаю на будущее время. Статься может, что гений твой увлечет тебя на путь солнца и огня, и лишь бы ты меня любила, я всюду за тобой последую. Может случиться и то, что, видя больше истинного света и тепла в Скромной доле, ты предпочтешь остаться при ней со мной. Если же ты хочешь знать, на что послужит тогда твой талант, я могу отвечать только сравнением: послушай соловья; как ты думаешь, для кого он поет, для себя или для нас? — Ни для нас, ни для себя, а для того, что любит. — Ответ твой лучше того, о котором я думал, но не забудь, что если разлучить соловья с его подругой и посадить в клетку, он все-таки будет петь. — Тогда он запоет, чтоб петь. А! Это я понимаю. Вот и я точно так же всегда любила песни и пляску; я говорила подругам, что не люблю вечеринок, но хожу на них, чтобы потанцевать; и они знали, что я прихожу не для вздыхателей, не для комплиментов, а просто затем, чтоб оторваться душой и ногами от земли, по которой ходишь каждый день. — За это сравнение следует расцеловать тебя, моя милая птичка. Ты еще яснее и глубже поймешь смысл своих слов, по мере того как будешь открывать в искусстве те истинные источники наслаждения и Восторга, которые теперь только предчувствуешь. — Стало быть, я должна трудиться, не заботясь, что из того будет. Однако… скажи мне, у тебя большой талант? — Не думаю, но я стараюсь приобрести его. — И думаешь, что достигнешь? — Да, надеюсь: надеяться — значить верить. — Но это еще не скоро? — Может быть, и скоро. — И ты разбогатеешь? — Это сомнительно. Не знаю. Но тебе разве хочется быть богатой? — Мне? Зачем мне богатство? Я всегда была бедна, но ты богат! — Ты находишь? — Да, в сравнении со мной; и мне все думается, что ты истратишь на меня все свое состояние и только избалуешь меня. — Так работай с Богом и не бойся ничего. Чтоб избегнуть разочарования, скажем себе раз навсегда, что общими силами всегда заработаем необходимое, а без лишнего обойдемся. — Но… послушай, ведь ты знаешь, что у меня ничего нет? — Я никогда и не спрашивал, какое у тебя приданое. — Этот сундучок с платьем и эта мебель — тут все мое имущество. У меня было немного денег и украшений, которые подарила мне добрая леди Гэрриет; оставляя их дом, я ничего не хотела принять от ее племянницы; но когда Мазолино запер меня в комнате, он все утащил, под тем предлогом, чтоб я не помогала заговорщикам; не знаю, куда девались все эти вещи. Ни на нем, ни в его комнате ничего не нашлось. — Ну, что ж? Тем лучше! Теперь ты мне еще милее. — Это не беспокоит тебя? — Нет. — И тебе, может быть, было бы неприятно, если б я выслужила у леди Гэрриет много денег? — Это мне все равно. — А если б я приняла подарки от Медоры? — Это было бы для меня унизительно. Я очень благодарен тебе, что ты так гордо отвергла их. Она поцеловала меня и потащила скорее обедать, чтобы, по обыкновению, идти вечером в Пикколомини навестить больную. Мне показалось, что милая жена моя чем-то взволнована и слишком спешит уйти из дома. Я приписал это беспокойство тому, что рассказал ей об отношениях Винченцы к Брюмьеру, прося ее пожурить эту бабенку или, по крайней мере, посоветовать ей быть осторожнее. Даниелла очень привязана к своему крестному отцу, Фелипоне, и новая измена жены его привела ее в негодование. Леди Гэрриет с каждым днем поправляется. Даниелла пробыла с ней около часа, потом пошла наверх к Медоре, а на обратном пути, проходя под платанами виллы Фалькониери, обняла меня крепко и сказала: — Ты дал мне прекрасный совет, и я избавилась от ужасного беспокойства. Сейчас признаюсь тебе во всем: слушай!.. Помнишь, когда Медора, выбившись из сил, чтобы тебе понравиться, пригласила меня поговорить с ней наедине, она казалась до того униженной и расстроенной, до того растеряла свою гордость, что мне стало жаль ее. Она только что обманулась в надежде добиться даже твоей дружбы, и это так унизило ее передо мной, что я совсем перестала на нее сердиться. С меня уже было довольно, я готова была все простить и все забыть. Она ужасно боялась меня, она поняла, что я хорошо слышала ваш разговор, и при одной мысли, что такая ничтожная девушка, как я, может издеваться над ней, она так страдала, как будто кто-нибудь уличил ее в преступлении. Уверяю тебя, что все это было точно так. Я видела, как Медора делала такие глупости, каких ни одна английская синьора, да и никакая светская девица себе не позволила бы. Бывало, она рассказывает мне об этом, а сама смеется и танцует по комнате; но вот тут она пыталась вскружить голову мужчине, и это не удалось ей, конечно, в этом случае, я была очень неприятной свидетельницей и соперницей, которую было бы очень приятно задушить. — Однако, — прервал я, — ты говорила мне, что она обошлась с тобой кротко, благородно и великодушно? — Да ей больше ничего не оставалось делать. Все, что я тогда сказала тебе, была правда. Она говорила очень мило и расцеловала меня. — Отчего же ты думаешь, что она сделала это не от сердца? Если б кокетки получали иногда такой вежливый, скромный, но ясный урок… — Ты хочешь сказать, что они бы исправились, этого я не знаю, но знаю только, что Медора поступила очень лукаво: она предложила мне денег… — Чтобы купить твое молчание? — И я ей сказала то же, и отказалась. Ее сомнения казались мне обидными; я протянула руку, говоря, чтоб она ничего не боялась, что все останется между нами: можно было поверить мне, она клялась, что верит, что уважает меня, и что я не имею права отказаться от маленького свадебного подарка, от каких-нибудь 20-ти тысяч франков! «Я знаю через господина Брюмьера, говорила она, что у господина Вальрега есть точно такой же капитал, ни более, ни менее. Я хочу, чтобы ты была ему, равна по состоянию; этим я доказываю тебе свою дружбу и если ты не понимаешь этого, то значит, ты не любишь Вальрега, который будет очень бедным человеком и, может быть, пойдет в простые рабочие, чтобы прокормить жену и детей». Она столько наговорила мне, и так было мне больно подумать, что я доведу тебя до нищеты, что я согласилась и целые три дня носила в кармане передника эти двадцать тысяч банковыми билетами. — А теперь у тебя нет их, я надеюсь? — Нет, сегодня вечером я отдала их назад и только оставила себе на память этот атласный кошелек. Вот он, посмотри, пустой! Я расцеловал мою милую Даниеллу и благословлял ее за то, что она вышла победительницей из этого искушения. — Тебе спасибо, — продолжала она, — за то, что ты дал мне почувствовать, какая должна быть жена у тебя. А правду сказать, я была очень рада этим двадцати тысячам франков! Я по три и по четыре раза в день пересчитывала их в pianto, пока ты работал в мастерской; но так как любоваться ими можно было только втайне от тебя и я никак не решалась показать их тебе, то почувствовала, что эти деньги не добром нажиты и тяготят меня, как свинец. Мариуччия порядком побранила меня сегодня за то, что я отдала их; она говорит, что мы сумасшедшие. Но если ты доволен мною, так значит я очень умно сделала. — Да, да, моя милая, мое сердце, ты делаешь меня совершенно счастливым. Не жалей ни о чем. Оставь мне счастье и славу трудиться для тебя, и если даже, как уверяет Медора, я вынужден буду сделаться ремесленником, чтобы прокормить тебя, то будь уверена, что и это мне не будет трудно или стыдно. Я выбрал себе девиз, в котором выражается вся моя вера и сила: Tutto per l'amore!
25-го мая. Мондрагоне.
Бумаги мои все еще не пришли, так же как и письмо аббата Вальрега; я решился просто обвенчаться, без гражданского акта; здесь достаточно одного церковного брака. Во Франции заключу я гражданский брак, или в первый же день поеду на несколько часов в Корсику, чтоб удовлетворить требования французских законов. Положение Даниеллы тем более мучит меня, что она, кажется, беременна, и я не могу перенести мысли, что все еще не исполнил своего гражданского долга относительно будущего гражданина, который уже наполняет мое сердце радостью и восторгом. Подожду еще два дня, и если все-таки не получим бумаг, то обойдемся и без них. Медора, по-видимому, все еще надеется, что я одумаюсь. Леди Гэрриет находит очень неприличным наше сожительство в Мондрагоне до законного брака. Она права: мужчина должен отвечать перед Богом и перед людьми за честь и достоинство любимой женщины. Замедляющая формальность оглашения в церкви здесь очень сокращена и отчасти даже можно обойти ее, заплатив известную сумму. Я уже с этой целью послал Фелипоне к приходскому священнику во Фраскати. Свадьба наша совершится без шума, сообразно с нашим положением и с трауром Даниеллы. Сегодня утром, распорядившись обо всем, я пошел в Пикколомини, чтобы известить об этом лорда и леди Б… Я нашел леди Гэрриет в первый раз вставшей с постели после болезни. Из предосторожности ей запрещено выходить из комнаты еще две недели. Узнав, что день свадьбы назначен прежде, нежели ей можно будет выехать, она обнажила еще одну черту женского характера. Вот уже неделя, как она сокрушается о необходимости нашего немедленного бракосочетания; когда у нее бывает лихорадка, на нее нападает такое благочестие, что она уверяет, будто мы с Даниеллой не могли бы войти в царство небесное, если б умерли теперь. И тем не менее моя готовность последовать ее увещаниям сильно досадила ей в эту минуту. Она было собралась приехать в церковь на свадьбу и приготовила себе к этому дню какое-то утреннее платье, еще не надеванное ни разу, потому она с трудом удержалась, чтобы не попросить меня отсрочить церемонию. Это платье, впрочем, подало повод к домашней сцене, которую мне хочется передать вам, потому что она очень растрогала меня. Лорд Б… сидел подле жены, которую он не оставляет ни На минуту, и когда она изъявила свое сожаление, он рассмеялся над ее ребячеством с таким добродушием, какого я еще никогда не замечал у него в ее присутствии. — Милорд, по обыкновению, насмехается надо мной, — сказала мне леди Б… с некоторой досадой. — Я насмехаюсь? — отвечал он, мгновенно сделавшись серьезным, — Право, нет! Я очень рад, что вы вспомнили о туалете: это признак выздоровления. А в самом деле, хорошо это платье? Нельзя ли видеть его? — Нет, оно вам не понравится, вы толку не знаете! — Но Вальрег знает толк, он живописец! — Мне бы очень хотелось видеть платье! — воскликнул я, желая продлить веселость обоих супругов. Фанни принесла платье, которое совсем не понравилось мне само по себе, но можно было похвалить его многосложные украшения. Англичанки, кажется, не отличаются вкусом. Леди Гэрриет выбрала в Париже материю довольно грубого цвета, но швея исправила дело отделкой. Лорд Б… нашел, что платье не хорошо, и упрекнул жену в том, что она более не носит розового цвета. Она заметила (и очень справедливо!), что уже устарела для розового; но старый муж утверждал, что она еще все так же хороша, как была в двадцать лет, и говорил это с таким настойчивым убеждением и так порывисто, что вышло лучше всякого ловкого комплимента. Добрая леди Гэрриет пожеманилась немножко, но кончила тем, что почти согласилась с мужем. Однако она просила его замолчать, находя, что такая любезность неуместна в моем присутствии; когда же он опять заговорил о грубом цвете голубого платья, то она довольно сухо заставила его молчать. Лорд Б… встал и начал задумчиво прохаживаться по комнате. Я взял газету и притворился, будто не слышу их маленького спора. Вдруг леди Гэрриет потихоньку отняла у меня газету и сказала шепотом: — Он не спал ни одной ночи, пока я была больна, целые сутки проводил у моей постели; он устал и не хочет отдохнуть. — Так вы знаете это? — сказал я ей. — Я думал, что вы не знали. — Он скрывал, но Даниелла мне все рассказала. Ваша Даниелла стала престранная! Откуда взялась у нее такая смелость?.. Верно, от вас переняла. Она журит меня, как ребенка. — Журит вас? — Да, говорит, что я не люблю лорда Б… — А ведь это неправда? — возразил я с живостью, без церемонии сжимая в руках моих беленькие ручки леди Гэрриет. — Да, она очень ошибается, — отвечала она, возвысив голос, — я люблю его всей душой. — Кого? — спросил лорд Б…, останавливаясь посреди комнаты. — Самого лучшего и самого любящего человека на свете. — Кого же? — Угадайте! Говоря это, они взглянули друг на друга: она улыбалась и казалась растроганной, он дивился простодушно и не понимал, что речь идет о нем. Видя, что этот бедный человек опять пропустил такой единственный случай для объяснения, я встал и толкнул его к ногам жены; она как будто прониклась моим чувством и, забыв свое жеманство, обняла его обеими руками, не с тем, впрочем, чтобы поцеловать; это было бы уже слишком низкое действие; но она сказала ему с восторженной чувствительностью: «Милорд, вы были моим ангелом-хранителем, и вам я обязана жизнью!» Лорд Б… совсем потерялся. Он был до того взволнован, что сначала окаменел, а через минуту вышел из комнаты, не произнеся ни слова. — Ну, вот видите, — сказала мне жена его с досадой, — он человек честный и благородный, и я не знаю, как выразить ему мою признательность за все его заботы обо мне; но он до того бесчувствен, что не может понять моей благодарности: он находит ее смешной. Всякое изъявление чувства кажется ему или чем-то смешным или аффектацией. Я упросил леди Б… хоть через силу опереться на мою руку и подойти к окну: тут она увидела своего мужа, севшего за угол маленькой пирамиды, поставленной над фонтаном казино. Он воображал, что очень хорошо спрятался, и ему, верно, не приходило в голову, что мы смотрим на него сбоку. Он закрывал лицо платком, но по беспрерывному вздрагиванию плеч видно было, что он рыдал. Леди Гэрриет очень растрогалась и также заплакала, возвращаясь к своему креслу. — Подите же, позовите его, — сказала она, — пора нам, наконец, объясниться. Он думает, что я отталкиваю его, тогда как с некоторого времени… именно с тех пор, как Медора не вмешивается между нами, я изо всех сил стараюсь внушить ему доверие. — Он не вас и боится, а себя, миледи. Если я сейчас пойду за ним, он не захочет прийти или опять постарается заглушить в себе всякое сердечное движение в вашем присутствии. — Но зачем же он это делает? — Неужели вы и до сих пор не разгадали этого застенчивого человека? Вы всегда требуете от него того, чему одни вы могли научить его. Экспансивность есть врожденный, небесный дар; способность выразить то, что чувствуешь, есть природное артистическое свойство, которое у людей застенчивых заменяется неловкими, недосказанными проявлениями. Лорд Б… слишком умен и горд, и не захочет подвергнуться насмешке. Он остается бесстрастным по наружности, а вы не видите его страданий. Вместо того, чтоб ободрять и беспрестанно оживлять его тем магнетическим влиянием, какое может иметь только любимая женщина, вы в продолжение пятнадцати или двадцати лет ждете, чтобы он сам высказался, и напрасно ждете: он не выскажется, пока не почувствует, что вы разгадали его. — Вот и вы тоже браните меня… как Даниелла! — сказала леди Гэрриет. — Скажите, правда ли все то, что она рассказывала мне об отчаянии милорда во время моей болезни? Я передал ей все, что слышал от него самого в ночь с первого на второе мая. Леди Гэрриет была глубоко поражена, и добрая душа ее как будто воспрянула от продолжительного уныния. — Я чувствую, что пошла не той дорогой! — сказала она. — Я не понимала этого чувствительного и застенчивого характера. Подите же, говорю вам, приведите его ко мне, и я при вас же буду просить у него прощения в своем легкомыслии и неделикатности. Говоря таким образом, она воображала себя молоденькой девушкой, которая желает поправить вчерашнюю ошибку, и детским, наивно-манерным тоном обещала исправиться. Она разразилась потоком аффектированных слов и искренних слез: то и другое восхитило ее мужа, который в порыве благодарности произносил только «го!» и «га!», далее не шло его красноречие. Смешны были наши постаревшие голубки, но я был глубоко тронут их примирением, тем более, что виновницей его была, как мне казалось, моя Даниелла.
26-го вечером.
Случилось очень странное и довольно неприятное происшествие: по неизвестным причинам фраскатанский священник не соглашается венчать нас в настоящее время до новых распоряжений. Пока я уходил из дома, чтобы срисовать один вид, он призывал к себе Даниеллу и всячески уговаривал ее отказаться от этого брака; он говорил ей, что я человек неизвестный, может быть, бродяга, что я на дурном счету у полиции и обвинен в важном преступлении; что меня, по меньшей мере, навсегда изгонят из Италии; что таким образом ей придется оставить семейство и друзей, без надежды когда-либо опять с ними свидеться, и следовать за человеком подозрительного поведения, у которого нет, что называется, ни кола, ни двора… Видя, что Даниелла остается непреклонной, он объявил, что дает ей неделю на размышление, и до истечения этого срока ни за что не обвенчает нас, разве лишь по приказанию высшего начальства. Когда же она определенно спросила его, будет ли он наверное венчать нас хоть тогда, он замялся и сказал: «Может быть, посмотрим. Я надеюсь, что до тех пор вы одумаетесь и откажетесь друг от друга». Такое положение сильно беспокоит и раздражает Даниеллу, тем более что священник распускает слух между своими богомольными прихожанками, что мы, по всей вероятности, никогда не будем обвенчаны. Потребовав к себе мою бедную подругу, он вынудил ее показаться в самом городке, где она возбудила любопытное внимание, очень неприятное для нее самой и неблагоприятное для меня. Хотя сначала все очень дружно радовались смерти Мазолино, но теперь уверяют, что я убил его, чтобы легче обмануть сестру, и что она берет на душу страшный грех, решаясь выйти замуж за убийцу своего брата. Еще один денек таких толков и сплетен, и священник сам вооружится ими против нас. Фелипоне пришел провести с нами вечер. — Вот теперь, — сказал он, — вы совершенно в том же положении, как «Обрученные»[14] у нашего Мандзони, а наш parrochiale очень похож на дона Аббондио. Не сыграть ли вам с ним ту же штуку, которую придумал Ренцо? — Я бы нисколько не задумался, — отвечал я, — если бы в наше время еще возможно было делать такие штуки. — Как, — возразил Фелипоне, — вы думаете, что это невозможно? Да хотите, завтра же будете обвенчаны? — Разумеется, хотим! — Да? Право? А ты, крестница? — О, да, да, — воскликнула она, хлопая в ладоши, — свадьба alla pianeta! Сейчас я объясню вам, что объяснили мне тут же; тайный брак еще считается совершенно законным в Римской области. Обряды и приготовления к нему почти так же просты и быстры, как те, которые описаны автором «Обрученных». Нужно только, чтобы шла обедня да были два свидетеля.
Глава XXXVIII
Мондрагоне, 4 июня 185…Я был прерван самым неожиданным посещением и расскажу вам по порядку обо всем случившемся. Я писал вам, только что обсудив с Даниеллой и Фелипоне все выгоды и невыгоды брака alla pianeta, как вдруг у ворот большого двора послышался звонок. Я оставил Даниеллу с крестным отцом в казино, а сам пошел отворять. Каково же было мое удивление, когда я увидел Медору! Она пришла ко мне в десять часов вечера. — Мне только вас и нужно, — сказала она мне, — пойдемте под деревья. — Нет, — отвечал я, — что подумают те, которые могут встретить и увидеть нас? Войдите ко мне, там Жена моя и Фелипоне. — Это невозможно. Вы еще не женаты а так как вы даже и не женитесь, то я должна считать Даниеллу не более как вашей любовницей. — Нельзя ли узнать, почему вы думаете, что я не женюсь? — Это я узнала из письма, полученного моим дядей от вашего. Аббат Вальрег решительно противится вашей, как говорит он, непростительной глупости. — Так вы из участия к моей особе изволили прийти одна, ночью, чтобы известить меня об этой неприятности? — Я не одна, господин Брюмьер ждет меня неподалеку отсюда. Что же касается участия моего к вам, то ононеподдельно, потому что, как бы вы ни приняли меня, я никогда не пропущу случая оказать вам все зависящие от меня услуги. — Неужели такое поспешное сообщение неприятности, по-вашему, считается услугой? — Да, конечно, если это может пригодиться. — Но если ни на что не годится? — Доброе намерение все-таки остается. Я предупредила вас: теперь от вас зависит оставлять Даниеллу в заблуждении, которого вы уже не можете разделять. Судя по тому, что вы говорили нам об аббате Вальреге, и говорили с жаром и убеждением, я не могу предполагать, чтобы вы хотели ослушаться его. — Это уже мое дело и нисколько вас не касается. Но не можете ли вы сказать мне, какие причины побуждают моего дядю противиться моему браку? — Причины очень важные, если основание их справедливо. До него дошли очень неблагоприятные слухи насчет Даниеллы. — Лорд и леди Б… уверят его в противном. — Конечно, и я также. Я не могла упрекнуть эту девушку ни в каком важном проступке, во все время ее служения при мне. Но мне неизвестна ее прошлая жизнь. — Мне она известна, и дядюшка поверит мне на слово. Прикажете проводить вас к Брюмьеру? — Не нужно. Прощайте. Подумайте! Она исчезла. Едва я успел затворить ворота, как Даниелла вышла ко мне с озабоченным видом. — Кто это приходил? Я думала, Оливия… — Это и была Оливия, — отвечал я, решившись не сообщать ей неприятной вести, принесенной Медорой. — Ей нельзя было войти, но она мимоходом спрашивала, не надо ли нам чего. Когда мы возвратились к Фелипоне, уходившему через pianto и подземелье (это кратчайший путь, другого он и знать не хочет), я остановил его, чтобы объявить, что завтра же решился жениться. — Так что ж? Fiat voluntas tua, — сказал он со своей обычной решимостью и веселостью. — Стоит только найти двух свидетелей. Один уже есть, — прибавил он, положив руку на свою широкую грудь. — Другого будет не так легко найти: не многие захотят ссориться с попом. Да ничего, утро вечера мудренее! Приходите ко мне, через подземелье, ровно в шесть часов. А теперь прощайте, спокойной ночи! Мне надо быть на ногах до свету. — Что же ты сейчас не идешь во Фраскати? — спросила Даниелла. — Теперь еще не поздно и все уже дома. — Э, нет, — возразил он, — когда требуешь от человека услуги немножко щекотливой, не следует давать ему целую ночь на размышление. Он удалился. Даниелла бросилась в мои объятия и умоляла также подумать о принятом решении. Ее пугало молчание дяди, она боялась навлечь на меня горе. — Подождем еще несколько дней, — говорила она, — не получим ли мы, наконец, ответа, который успокоил бы и развеселил нас к прекрасному дню нашей свадьбы. — Что нам дожидаться! Будем теперь же спокойны и веселы, — отвечал я ей. — Если мне и предстоит какая-нибудь семейная неприятность, то она не значит ничего в сравнении с тем, что ты вытерпела для меня. Дядя мой не имеет никакого законного права препятствовать моему браку. Во всяком другом случае воля его могла бы иметь надо мной большую власть; но настоящее обстоятельство для меня выше всяких соображений. Подумай, Даниелла, что ты носишь в себе существо, которое я уже люблю страстно. Я уже могу сказать, что вас двоих люблю больше всего на свете! Кому же я больше принадлежу, скажи сама? И к чему я стану выжидать всех этих переговоров, которые между нами ничего не могут изменить и кончатся тем же. В прошлую ночь мне снилось, что я слышу какой-то ангельский голос. То был голос моего ребенка; он говорил мне: «Я существую; я уже нахожусь в черте твоего существования; Бог дал меня Даниелле для тебя». Суди, могу ли я ждать хоть один день? Дитя наше завтра же может прошептать мне во сне: «Так ты не хочешь меня?» — Да, да, завтра! — вскричала Даниелла с увлечением. — Обвенчаемся завтра же! Ничто не разлучит нас, никто не скажет: вот бедный ангелочек, непрошенный, нелюбимый, пришел на землю! В шесть часов утра мы отправились к Фелипоне. Жена его все еще в Пикколомини, где она продолжает ухаживать за леди Гэрриет. Это не очень нравится мызнику. «Но так Винченце захотелось, — говорит он, — хоть она здесь ни в чем не терпит недостатка, однако, видно хочет заработать денег на наряды». — А ты нашел другого свидетеля, крестный? — спросила его озабоченная Даниелла. — Нашел, — отвечал он. — Мы его захватим по дороге. Ты, figlioccina, ступай вперед и пробирайся к приходской церкви через дальние слободы. Жених твой пройдет поближе, а я обойду через городские ворота. Как только заблаговестят к обедне, каждый из нас должен уже быть у одной из трех церковных дверей. Я войду первый и подам вам знак. Вы за мною замечайте, и идите в мою сторону через боковые приделы. Таким образом, мы вместе подойдем к ризнице, не возбудив внимания священника, не то он, пожалуй, сыграет с нами какую-нибудь штуку, чтобы помешать нам подойти к нему вовремя. — Но где же другой свидетель? — повторила Даниелла. — Он уже ждет на своем месте, — отвечал Фелипоне. — Вы увидите одного набожного человека, на коленях перед часовней Св. Антония, Мимоходом троньте его за плечо, Вальрег. Он встанет и пойдет за вами. Антониева часовня будет у вас на левой руке, крайняя. Когда нам пришлось расходиться, Даниелла в страхе пала на колени и молила своего ангела благословить наше предприятие, Потом окутала свое лицо и стан большой белой шалью и пошла самой дальней дорогой, как мы условились прежде. — А ты, — сказал Фелипоне, посмотрев на меня пристально, — слишком смахиваешь на иностранного синьора; тебя тотчас заметят. Надень лучше этот плащ да крестьянскую шляпу и отправляйся. Как только начали благовестить к ранней обедне, я уже стоял у правой церковной двери и держал ее полуотворенной. Через несколько минут противоположная дверь также до половины отворилась, и я увидел закутанную голову Даниеллы. В церкви начали читать часы; во время этой службы по будням бывает очень мало народа; всего какая-нибудь дюжина стариков и старух стояли по углам, и наше одиночество в этом безлюдном храме было довольно неблагоприятным обстоятельством. Через минуту, показавшуюся мне целым столетием, Фелипоне вошел в главную дверь и, скрываясь под тенью массивных колонн, направился в мою сторону, между тем как мы с Даниеллой, с двух противоположных концов, пробирались через малые приделы к средине. У меня занялся дух, особенно когда Фелипоне проговорил, нетерпеливо пожимая плечами: — А другой свидетель? Я совсем забыл о нем и прошел мимо, не заметив его. Одна минута задержки, и все бы пропало. В ризнице послышались медленные шаги. Я бросился к часовне Св. Антония, но наш неизвестный друг уже шел мне навстречу. То был крестьянин, в остроконечной шляпе и плаще из козьей шкуры; я бы принял его за Онофрио, если б он был футом повыше. Некогда было рассматривать его: священник уже вышел из ризницы, чтобы пройти к алтарю. Мы прижались к стене по обеим сторонам двери; Даниелла была с крестным отцом, я со своим свидетелем. Мы в одно время схватились за pianetta, то есть за ризу священнослужителя; я выступил вперед и, указывая на завешенную Даниеллу, сказал: вот жена моя, а она в то же время указала на меня, говоря: вот муж мой. Священник никогда не видал меня; он улыбнулся мне почти приветливо, как будто хотел сказать: лучше хоть такой брак, нежели никакого. Он взглянул на моего свидетеля, и лицо его совсем развеселилось; глаза мои быстро обратились на этого человека, благоговейно и поспешно скинувшего шляпу при виде священника, то был… Тарталья! До сих пор все шло отлично. Лицо служителя церкви нимало не напоминало того мохнатого утеса, с которым автор Обрученных сравнивает мрачную физиономию дона Аббондио; напротив того, оно сияло веселостью и здоровьем, глаза его смело сверкали. Но как только Даниелла отбросила покрывало, темное облако омрачило его светлое лицо; а увидев за нею безбожника Фелипоне, он нахмурился еще грознее. Но было уже поздно; мы держались за ризу и произнесли роковые слова, призывающие насильно благословение и покровительство церкви. Священник принужден был записать наши имена, отобрать требуемые законом подтверждения свидетелей и, благословляя свою паству перед началом обедни, дать нам in petto брачное благословение. Поведение Даниеллы во все время этой церемонии очень тронуло меня. Ее восторженная важность и глубокое умиление являлись совершенной противоположностью лицемерным и смешным коленопреклонениям Тартальи и неверующего Фелипоне. Покрытая белой шалью, ниспадавшей с ее смуглой головки на траурное платье, Даниелла представляла дивную гармонию строгих тонов с чистотой очертаний, напоминавшую кроткое величие мадонн Гольбейна. Эта красота, дышащая такой полной страстью в часы сердечных излияний, способна совершенно преображаться в минуты самосозерцания и внутреннего восторга. Глаза ее то сыплют жгучие искры, то теплятся тихим сиянием светил. Никогда еще не представала она мне в такой чистой красоте, в такой святой радости! Когда служба кончилась, мы, не сказав ни слова священнику, взяли в ризнице законное свидетельство и вышли с Даниеллой из церкви. Фелипоне пошел домой, не желая давать огласки участию, принятому им в нашей свадьбе; пока мы наскоро изъявляли ему свою благодарность, Тарталья уже исчез, как сновидение. Едва только мы с женой показались на улице, как одна за другой до двадцати кумушек стали подходить к нам с расспросами. Через четверть часа по всему Фраскати разнеслась молва о том, что мы как следует обвенчаны. Мы забавлялись тем, что извещали об этом каждую сплетницу на ухо, прося ее держать это втайне: это было лучшее средство огласить наш брак. Прежде всего пошли мы сообщить это известие обитателям виллы Пикколомини. По дороге мы встретили тетку Мариуччию, которая от радости заплакала, но изъявила некоторое опасение. — Вы нажили себе преопасного врага в нашем священнике, — сказала она. — Он не злой человек, но будет сердиться, что вы так пренебрегли его властью. Да еще Бог знает, зачем к лорду Б… приехал какой-то чужестранный священник, который, я думаю, еще и теперь там сидит. Он весь в черном, такой страшный; право, не ходите в Пикколомини, пока он не уехал оттуда. Но угрозы Мариуччии уже не могли испугать меня. Будучи законно обвенчан с Даниеллой, я чувствовал себя таким сильным и вольным человеком, как будто обладал вселенной. Мы прошли в калитку и увидели лорда Б…, медленно ходившего по stradone с каким-то священником. Они были обращены к нам спиной. Я хотел идти прямо к ним, но Даниелла остановила меня, заметив, что сначала нужно сходить поздороваться с леди Гэрриет. — Не знаю, отчего этот черный человек наводит на меня такой страх, — сказала она; — спросим миледи, не для нас ли он сюда приехал, в таком случае не покажемся ему. Пойдем скорее, не то он повернет в нашу сторону. Но было уже поздно: гуляющие повернулись, и священник, в походку которого я все вглядывался, обернулся ко мне лицом. То был аббат Вальрег. Я побежал к нему, обнял его, потом подвел к изумленной Даниелле и сказал, как фраскатанскому священнику: — Вот моя жена! — Жена, жена! — сказал он, гораздо более благосклоннее, нежели я ожидал. — Это еще не решено! — Решено и подписано! — отвечал я. — Мы сейчас только вышли из церкви, где нас обвенчали. — Обвенчали?.. Обвенчали без моего согласия? Когда я сам написал здешнему священнику, что я противлюсь… О! Теперь я вижу, что все идет по-чертовски в этой священной земле! Теперь мне еще досаднее, зачем я сюда приехал? Если бы меня здесь и не было, вышло бы не хуже? — Так это вы ради меня сюда приехали? — А то ради кого же? Не думаешь ли ты, что я тоже охотник тратить время и деньги по дорогам? — В этом поступке я вижу сильное доказательство вашего расположения, которое несказанно радует меня. Да, да, мой милый старичок!.. — И, назвав его так, как бывало называл в детстве, я опять обнял его почти насильно… — Да, да, этот день будет лучшим днем в моей жизни, по «ее» и по вашей милости, потому что вы здесь! — Вот так! — произнес он полусмеясь, полуворча. — Я явился сюда с тем, чтобы проклинать тебя, а ты находишь, что все очень мило, очень смешно и забавно! — Нет, нет, я нахожу, что это так великодушно с вашей стороны, что люблю вас теперь в тысячу раз более прежнего. — То есть это значит, что, полюбив меня в тысячу раз более, с тех пор как ты меня ослушался и поступил со мной, как со старой куклой, я должен ожидать впоследствии умножения твоей привязанности в том же смысле. Это утешительно! Я не мешал излиянию его неудовольствия. Лорд Б… увел Даниеллу к жене своей, а мы ходили большими шагами взад и вперед по stradone; я следовал за дядей, как ребенок. Досада его могла бы очень рассмешить меня, если бы я из опасения слишком серьезно огорчить его, не находился в постоянном ожидании более грозной вспышки. Но этой вспышки не последовало, чему я очень удивился, зная что аббат Вальрег, хотя и не был мстителен, однако очень упорно ссорился с теми, кого называл неблагодарным. Он довольствовался тем, что поворчал на меня около часа, задавал мне вопросы, не слушая ответов, тут же упрекал, что я не отвечаю ему, и придирался к излияниям моей привязанности, чтобы сердиться еще более; потом вдруг смягчился до добродушия и принялся с новым рвением, по-моему опять-таки без всякой справедливости, — потому что мнения наши постоянно расходятся, — порицать меня за все, что, по моему убеждению, я сделал хорошего, и отзывался очень легко о том, чего, к сожалению, я не мог избежать. Например, он находил, что я прав, пренебрегши его волей, потому что он не имел законного права располагать мною. — Всякий хлопочет о себе, — говорил он. — Так все идет на свете, иначе и быть не может. Ты знал, что я скажу нет, и поторопился все кончить. За это я не сержусь на тебя: всякий сделал бы то же на твоем месте. Но что бесконечно глупо и безрассудно, так это то, что ты отказался от богатой наследницы, чтобы жениться на беднейшей девушке; ведь я знаю все твои дела: я говорил с этим англичанином, который кажется мне очень хорошим человеком, хотя говорит очень странно. Слово за словом, я таки вытянул из него все, что мне было нужно. Я ведь еще не такой разиня, как ты думаешь, и тотчас увидел, что ты здесь ничего не наделал, кроме глупостей. У тебя свой взгляд на вещи! Ты воображаешь, что деньги так и посыплются с. твоей кисти. А я думаю, что когда пойдут у тебя дети, так и нечего будет грызть, а ты всегда будешь рохлей, так что, сколько бы я ни накопил по копеечкам тебе денег, тебе все будет мало. Вот хоть теперь, уж какое приятное путешествие заставил ты меня предпринять! Оно будет стоить мне, по меньшей мере, пятидесяти франков моих собственных денег! Хорошо еще, что наш епископ заплатил мои прогоны, потому что дал мне поручение к другу своему, кардиналу Антонелли. Если бы не так, я бы вынужден был истратить свой годовой оклад. Правда и то, что и не поехал бы тогда!.. Конечно бы, не поехал! Ворча таким образом, дядя сказал мне, что уже четыре дня назад он приехал в Рим, за это время исполнил возложенное на него поручение и испросил у монсиньора Антонелли отпущение моих грехов. — Слухи носятся, — продолжал он, — что ты занимаешься тем, что плюешь на иконы и носишь при себе масонские знаки? — Ведь вы этому, конечно, не поверили? — Нет, не поверил, и даже поклялся в этом; я сказал под присягой, что тебе никогда и в голову не приходило ругаться над образами, О масонском знаке ты сам мне писал, что не понимаешь, в чем дело: так и в этом тоже я поручился за тебя. Они было немножко поломались, не хотели выпускать дела из рук; но, как видно, я привез им добрые вести от епископа, или он в своих письмах отозвался обо мне с хорошей стороны; притом же я настойчив и не побоюсь разговаривать ни с какой духовной особой, — так что я переупрямил всех. Ты свободен; закладные деньги будут возвращены твоему англичанину, который, кажется, сделал для тебя более, чем ты стоишь. Если ты не наживешь себе еще врагов в этом краю, то можешь скопить кое-какие деньжонки. Он сказал мне еще, что письма его к лорду Б… и к фраскатанскому священнику, насчет отсрочки моей свадьбы, писаны были из Рима. Они-то и заставили священника затягивать это дело. Главной причиной такого замедления были, по словам дяди, слухи о дурном поведении Даниеллы. — Только я теперь знаю, что это неправда, — прибавил он поспешно. — Английский лорд разуверил меня на этот счет. Эта девушка, кажется, честная, и злословили ее только из зависти. Я упрашивал его сказать мне, кто распускал такие слухи, и он признался, что еще в Мере получил письмо без подписи, в котором его просили воспрепятствовать моему браку с интриганкой, с женщиной дурного поведения. — Это меня и вынудило идти к нашему епископу, — продолжал он. — Я попросил его написать в эту проклятую страну, чтобы не смели венчать тебя. Он и говорит мне: «Отчего бы вам самим не съездить туда? Мне именно теперь нужно доставить в Рим секретную депешу, через верные руки. Вы, кажется, человек верный!» О, да, конечно! — отвечал я ему. — Я человек смирный, и ничуть не намерен мешаться в дела важных особ! Это рассмешило его. «Так поезжайте, говорит, я беру на себя ваши издержки…» Он, однако, очень ошибся в расчете: он думал, как я, что в Италии дешево жить, а между тем здешние гостиницы просто западни! О, как бесили меня все эти обдиралы, лодочники, кондукторы, трактирные слуги, сами трактирщики и facchini! У меня от них голова идет кругом. Везде нужно платить: церкви заперты на замок, как сундуки: хочешь пойти в церковь — плати; спросишь на улице дорогу — плати; в таможне — опять плати. А издержки на заставе! А нищие! Просто стыдно смотреть, сколько по улицам этих оборванцев! Если бы в моем приходе завелась такая мода, я бы бежал оттуда навсегда! Все, что я вижу здесь, повергает меня в удивление: священники ходят в театр, кардиналы водят под руку дам по храму Св. Петра; а в Ватикане всякие Венеры и Комусы, и Бахусы! Языческие идолы в самих церквах! Еще хорошо, если б все это было хоть красиво: а то ведь нет, прескверно! В самых лучших кварталах валяются кучи старых камней, статуи без рук и без ног; по всей окрестности ужасное небрежение: вокруг святого города такие же пустыри, как в Водеване, такая же грязь, как в Мезьере! Водопроводы без воды, тощие быки, а люди все ни дать, ни взять, разбойники, так что невольно оглядываешься на них, думая, что хоть он и снял перед тобой свою захудалую шляпенку, а вот сейчас воротится да и зарежет! Женщины грязные, да притом еще и смотрят как-то нахально; в хлебе попадаются скорпионы, в супе волосы… И какой еще суп, святители! Я бы не согласился даже вымыть им копыта своей кобылы! Тьфу, что за скверный край! Смотри на меня хорошенько: я не долго останусь в вашей прекрасной римской Кампанье! Высказав таким образом всю свою досаду, усталость, разочарование и удивление, он понемногу успокоился и согласился позавтракать с нами в Пикколомини, где нас уже ожидала леди Гэрриет. В это утро она в первый раз садилась за общий стол, и я нашел Даниеллу сидящей возле нее. Когда мы все уже были на местах, вошла Медора, разгоряченная утренней прогулкой: при виде приема, сделанного моей жене, лицо ее выразило почти бешенство; но она тотчас оправилась и, поздоровавшись с теткой, ушла к себе, под предлогом головной боли; но видно было, что она просто не хотела сидеть за одним столом с Даниеллой. Леди Гэрриет оказала в этом случае чрезвычайную любезность и доброту; она замяла грубость своей племянницы, говоря, что Медоре действительно нездоровилось; но она сказала это с таким видом, что тотчас можно было заметить, как мало влияния имела на нее эта своевольная и несправедливая девушка, и как мало леди Гэрриет обращала внимания на ее гнев. Она наскоро заказала повару завтрак, гораздо изысканнее обыкновенного, и велела Мариуччии украсить цветами все десертные тарелки, говоря, что более ничего не успела приготовить к нашему свадебному пиру. Аббат Вальрег, не будучи человеком прихотливым, привык жить хорошо, но с тех пор, как оставил свой дом, был постоянно ограничен в этой привычке, и потому совершенно развеселился, сидя за этим обильным и чисто приготовленным завтраком. Добрая Мариуччия, которая никогда не мешалась с прислугой наших англичан, захотела на этот раз помочь на кухне. Эта любящая и преданная женщина с восхищением смотрела через полуотворенную дверь, как ее племянница кушает за одним столом с господами. Во время десерта лорд Б… заметил ее и сказал что-то на ухо своей жене, которая велела позвать ее и просила выпить вместе с нею за здоровье новобрачных. Она сама налила вина в резной кубок и подала ей его на тарелке, наполненной сухариками и вареньем; однако не пригласила Мариуччию сесть: так далеко не заходило еще перевоплощение леди Гэрриет. Впрочем, Мариуччия и не ожидала такой чести, тем более, что она была не в форме, и ей бы неприятно было так долго оставаться с нами. Она обошла кругом стола и со всеми чокнулась, потом с восторгом обняла свою племянницу и унесла гостинцы для капуцина; она любит и балует этого полоумного брата, хотя и говорит, что он пошел в монастырь потому, что ни на что больше не годился. Брюмьер был также очень любезен. Он написал экспромтом премиленькие стихи, которые набросал карандашом на тарелке: в них он очень кстати восхвалил доброту и редкую проницательность благородной леди, принявшей материнское участие в гениальной женщине, будущей великой артистке. Леди Гэрриет потребовала объяснений этой загадки. Даниелла противилась, смеясь преувеличенным похвалам нашего друга; но он, не слушая нас, с таким жаром рассказывал о чудном голосе и музыкальных способностях жены моей и о собственном моем искусстве в живописи и музыке, что волей или неволей мы прослыли восьмым чудом. Леди Гэрриет, которая так легко восторгается и всему верит, тотчас предалась мечтам о нашей будущей славе и втайне наслаждалась мыслью, что она наша первая покровительница. Она объявила, что первым ее выездом будет визит в Мондрагоне, где она хочет послушать пение Даниеллы и полюбоваться моей живописью. Видно было, что, переломив свои приличия и аристократические предрассудки, она развеселилась и была очень счастлива. Я чувствовал, что такая перемена не может быть продолжительна и что все это были лишь маленькие вольности, внушенные добродушием и любезностью, позволительные только в глуши Фраскати, еще поддержанные воспоминанием о Via Aurelia, присутствием моего дяди, — а главное для путешествующей англичанки нет ничего слаще, как думать, что она делает нечто необыкновенное. Но между всеми этими соображениями было еще одно, самое важное и для меня самое приятное: то было желание угодить мужу, которого она так долго не понимала и не ценила. Леди Гэрриет действительно очень тронута доказательствами его привязанности, и если даже ей суждено, — чего Боже сохрани! — снова впасть 6 те же грустные заблуждения на его счет, то, по крайней мере, он вкусил несколько счастливых и спокойных дней, пока выздоровление и чувство возвращения к жизни располагало леди Гэрриет к более справедливой оценке.
Глава XXXIX
Аббат Вальрег непременно хотел проводить нас в Мондрагоне, чтобы видеть, как мы там устроились. При виде этих громадных развалин он был неприятно поражен, и прежде чем мы прошли через заросший цветник, чтобы привести его в казино, им овладел уже новый сплин. Он находил, что я сошел с ума, предпочитая это мрачное, по его словам, жилище и эту бедственную жизнь удобной жизни в моем поместье. Даниелла, с ее светлой радостью от этого уединения, приводила его в изумление; и он почитал ее то святой, то такой же безумной, как и я. После разговоров с нею он увидел в ней ревностную христианку, и эта душа, верующая и пламенная, произвела на него сильное впечатление, хотя он и не замечал ее превосходства над ним. — В самом деле, — сказал он, собираясь ехать от нас, — ты не худо выбрал: жена твоя женщина с сердцем и с правилами. Но беда в том, что ты испортишь ее, набьешь ей в голову нелепых мыслей и, пожалуй, вздумаешь сделать из нее артистку, то есть ленивицу, тогда как она могла бы быть славной хозяйкой, Но это твое, а не мое дело; пословица говорит: между дверей пальца не суй. Я исполнил долг свой в отношении к тебе, справил поручение мое к кардиналу Антонелли и отъезжаю немного спокойнее, чем отъезжал из дому, и с большим удовольствием расстаюсь с Римом, чем с моим жилищем. Теперь вряд ли заманят меня без дела на чужую сторону! Приезжай, пожалуйста, поскорей домой; разве что найдешь здесь случай разбогатеть, в чем я очень сомневаюсь. Впрочем, нельзя же тебе вдруг покинуть и этих англичан, которые спасли тебя от тюрьмы, а может быть, и от виселицы; а нечего греха таить, ты стоил того или другого за твою безмозглую голову! Но уж так сталось, что дела приняли лучший оборот, чем я ожидал, я оставляю тебя не в плохих обстоятельствах и советую быть признательным к друзьям, которые для тебя столько сделали. Он уехал, не позволив нам провожать себя далее порога нашего жилища. Ему хотелось увидеться с приходским священником Фраскати, чтобы помирить его с нами, как помирил нас с римскими кардиналами; потом он намеревался как можно скорее выехать из Рима. «Я умру, — говорил он, — если хотя бы день еще вынужден буду там остаться». Очевидно было, что с его тоской по родине и с его вовсе недипломатической привычкой сказать при случае слово правды ему нечего было долее здесь медлить.Мондрагоне, 5 июня.
Мне грустно, однако же, было расстаться с ним так скоро; он был со мной добр по-прежнему и даже кроток и снисходителен свыше моего ожидания. Во всем этом присутствовало желание поскорее уехать и другие причины, которые объяснились впоследствии. Мы с наслаждением провели эту неделю в нашем уединении. Даниелла вовсе не страдает от своей беременности, и мы воспользовались несколькими ясными днями, в промежутки которых бывали дожди и грозы, для прогулок вокруг озер. Я предпочитаю маленькое озеро Неми; рама его не так грандиозна, как у озера Альбано, зато берега восхитительно прелестны. Здесь, на рубеже длинной гряды грозных скал, стоял некогда храм, посвященный Диане, прозванной Nemorina; по путевым указателям, храм этот, вследствие землетрясения, обрушился в озеро, и от него не осталось ни малейших следов. В таком случае, обломок, на котором мы уселись, выдался на поверхность земли недавно, вероятно, тоже от землетрясения. Эта колоссальная масса древнего здания остановилась на самом краю маленького озера; огромное дерево, свалившееся вершиной в воду, охватило своими ветвями этот обломок и как бы поддерживает его на своих могучих корнях. Дерево это еще здорово; роскошно купает оно свои зеленые кудри в зеркале Дианы. Древние дали это поэтическое название маленькому озеру, светлому алмазу синеватой воды, в оправе из скал, зелени и роскошных цветов. Лежа на этом громадном обломке, вокруг которого с тихими вздохами рассыпались мелкие струи спокойного озера, я с отрадой и наслаждением любовался светлой и нежной красотой Даниеллы, сидевшей на одной из ветвей склоненного дерева. Легкий ветерок навевал на ее лицо дрожащие тени листьев и золотые просветы солнца. Потом она также прилегла на дереве, утомленная зноем, чувствительным даже под тенью густых столетних ветвей. Голова ее, склоненная к прибрежному тростнику, обвилась естественным венком зелени, как голова Наяды. Гибкий стан ее утратил уже свою девственную тонкость, и я со страстным умилением, исполненным уважения, смотрел на опустившиеся плечи и на утратившие свою округлость бедра милой Даниеллы; в этих легких признаках я уже предвидел счастье, которое Бог посылает нам. В глубине сердца моего молился я с теплой верой, пока она, забывшись сном, отдыхала предо мной с улыбкой на устах, будто в объятиях светлых грез. Каждый раз, когда я смотрю на нее, я открываю в ней новые очарования, которых не знал прежде. Может быть, она не так прекрасна в глазах других; я был бы рад убедиться в этом. Я с удовольствием припоминал теперь, что Медора находила, ее дурнушкой, а Брюмьер приятной. Если бы эта таинственная красота, которая приводит меня в упоение, только мною могла быть видима и ценима, я гордился бы своим даром постигать ее. Мы говорили о вас на берегу этого маленького озера, угасшего кратера, расселины которого стали настоящими гнездами диких цветов, Даниелла любит вас и поминает имя ваше в своих молитвах. Она поняла, что я и сам начинаю постигать теперь: взяв с меня слово описывать вам жизнь мою по дням и по часам, вы привели меня к коренному преобразованию моей природы. Я уже не тот, каким помню себя, когда жил, не сознавая как и зачем, теряясь в неопределенных грезах и страшась взглянуть на цель моего существования, когда я жил, не понимая себя, не радея о себе, почти пренебрегая собой и предаваясь иногда унынию, всегда овладевающему людьми, которые жаждут идеала, между тем как общество не представляет и не обещает никакого идеала. Теперь я чувствую, что существую; против воли я испытывал свое сердце и знаю теперь, что оно без трепета, без нерешимости, без лжемудрия всегда прямо направлялось к указанной ему цели: Tutto per l'amore. И мне ли теперь заботиться о богатстве, об известности, об удобствах, приличиях, о мнении, о моде, обо всем, что делает, говорит и думает свет относительно цели нашего краткого существования? И что мне до этого за дело? Время от времени попадаются мне на глаза новые издания, в которых я вижу выражение желаний, потребностей и мечтаний человеческих. Побольше денег! Даже в романах, которые должны бы быть картиной более чистого идеала, чем финансовые бюллетени в журналах, часто вижу я необузданное стремление к какому-нибудь сокровищу вроде того, какое заключалось в пещерах Монте-Кристо. Я не удивляюсь тому и не возмущаюсь. Я ясно вижу, что в обществе, столь неопределенном и смутном, в этой Европе, которая трепещет от страха и надежды между грезами о баснословном благосостоянии и грозным ожиданием всемирного общественного потопа, пылкие воображения, как воображение Брюмьера, стремятся к осуществлению страшной задачи: разбогатеть или погибнуть. Здесь-то, по моему мнению, зло нашего времени; мы выбиваемся из сил и губим себя, чтобы построить огромный корабль, тогда как нам нужна лишь маленькая лодка. Возвратясь с одной из таких прогулок, мы застали Брюмьера у ворот виллы Мондрагоне в каком-то волнении, в каком-то восторге; он ждал нас, чтобы рассказать нам о своем удивительном приключении. — Знаете ли, — сказал он, — что взбрело в голову Медоре: свадьба такая же, как ваша, un matrimonio segreto, свадьба alla pianeta! — С кем же это? — спросила его, улыбаясь, Даниелла. — Сперва я и сам об этом призадумался: но наконец, к великому удовольствию моему, убедился, что, должно быть со мной. — Расскажите же нам все поскорее. — Я только затем и приехал. Дело в том, что со времени вашей странной свадьбы принцесса моя только и грезит об удобстве, приятности, бесцеремонности и быстроте такого способа избегнуть (если уже conjungo решительно избран) всех скучных формальностей, проволочек, пересудов и церемониала официального бракосочетания. Она говорит, что в век не выйдет замуж, если между «да», сказанным в гостиной, и «да», произнесенным перед алтарем, оставят ей две недели на размышление. «Господин Вальрег хорошо это понял, — говорит она. — Он побоялся увещаний родных своих и своих собственных возражений; он решился поймать себя врасплох; он подает мне назидательный пример. Я должна выйти замуж, это решено. И так как я ни в кого не влюблена, то я буду принадлежать тому, кто полюбит меня страстно, не ожидая от меня ничего, кроме дружбы, не требуя никакой поруки за счастье, кроме моей добродетели. Тетка и дядя, будут, конечно, против поступка, который они назовут сумасбродством. Леди Гэрриет, которой так удался ее брак по страсти, поступает теперь, как Лафонтенова бесхвостая лисица, и эти добрые мои родственники, с их беспощадным желанием сделать меня счастливой, заботятся только о том, как бы продлить мою скуку и свои бесконечные поучения. А потому я решилась при первом случае сказать им: «Я иду за Петра или Павла». Они скажут, что ни Петр, ни Павел мне не партия, что я с ума сошла, — приветствие, которого меня уже удостаивали, а я и вовсе не желаю часто слышать его. Так при первом отказе в согласии на первое из моих намерений я уцеплюсь за рясу первого попа, который мне попадется на пути в церковь, и конец делу, Я знаю, что через час буду раскаиваться; но так как я раскаиваюсь в потере всех случаев, когда могла лишиться своей свободы, и эта свобода, по правде сказать, мне мочи нет надоела, то я решилась броситься в пропасть очертя голову, как господин Вальрег». Прошу вас извинить меня, друзья мои, — продолжал Брюмьер, — что я повторяю эти Легкомысленные слова. Я знаю, что вы рассуждали не так, но, разумеется, я не вступал в споры с моим божеством. Боги всегда правы. Я объяснился в любви моей с истинным красноречием; мне не отвечали еще ни да, ни нет; но я видел, что страсть моя не была неприятна, что ее взрыва ожидали давно и слушали мои длинные объяснения не прерывая. Медора позволяла мне становиться на колени и целовать ее руки. Словом, я ожидаю решения и надеюсь! Молите со мною Бога, чтобы эта женитьба не понравилась леди Гэрриет, потому что, если она согласится, Медора не будет уже иметь предлога желать тайного брака, и союз со мной потеряет для нее всю прелесть; она желает этого только по духу противоречия; для ее разочарованного воображения нужна борьба: если нет борьбы, она умирает со скуки, и мне часто приходит мысль сказать ей, что я не люблю ее и не хочу ней жениться. Если бы у меня достало на это храбрости, я убежден, она уверила бы себя самое, что она от меня без ума, и вышла бы за меня, чтобы взбесить меня. Это предположение Брюмьера было так основательно, что я было подумал то же посоветовать ему, руководствуясь своим собственным опытом. Нет сомнения, что Медора так упорно желала быть моей женой только по причине моего к ней равнодушия. Но по своему простодушию я не мог учить моего приятеля притворству, напротив, старался убедить его, что в подобных обстоятельствах, приводимых случаем или прихотью, брак его с Медорой сделал бы его несчастным и несколько унизил бы его; но это невозможно было растолковать ему. Он видел в этой женитьбе победу трудную и редкую, борьбу гордости и хитрости, случай, который принесет честь его ловкости в любовных делах и его настойчивости. — Вы увидите, — говорил он, — что я малый не промах и что осуществление мечты моей, огромное состояние и очаровательная жена будут наградой за мою веру в счастливую звезду мою и доверие к самому себе. Сам не плошай, так и Бог поможет. — Хорошо, хорошо! Я допускаю, что вы преуспеете, что вы, наконец, будете обладать и этой дивной женщиной, и этим дивным приданым. Что же после? Если вас будут ненавидеть, обманывать? — Этого уж я вовсе не боюсь! Во-первых, потому, что она холодна и горда; во — вторых, ведь и я не пошлый дурак и сумею заставить любить себя. — Оставь его в покое, — сказала мне Даниелла, когда мы остались одни, — он не любит ее, он хочет только разбогатеть. А она просто смеется над ним, как и над другими. Разве Брюмьер такой человек, чтобы нравиться Медоре? Он не знатен, не умеет ездить верхом, ничем не славится, ну, словом, ничего у него нет такого, что могло бы вскружить голову Медоре. — Это правда, но Медора девушка уж очень и очень зрелая, быть может, в ней заговорила чувственность. Он молодец собой, Она ищет раба, а Брюмьер готов играть эту роль, пока ей будет угодно; он не глуп, не без таланта, в нем много самоуверенности… — Ну, так с Богом, пускай идет за него! Тебе что за дело? Я видел, что ревность Даниеллы еще не совсем прошла и может снова пробудиться при малейшем подозрении. Я успокоил ее уверением, что забочусь о Брюмьере, а не о Медоре. На другой день у нас был жаркий разговор с лордом Б…, который посещает нас иногда по утрам. Вообразите, что леди Гэрриет вздумалось дать Даниелле приданое; она переговорила об этом с аббатом Вальрегом, и вот причина, почему он вдруг так успокоился. Документы, которыми я могу подтвердить законность моего брака с Даниеллой, уже получены, и я должен завтра отправиться в Рим вместе с ней и с моими свидетелями, чтобы исполнить некоторые формальности у французского консула. Леди Гэрриет намерена при этом случае укрепить за моей женой приданое в сто тысяч франков, и я должен был почти ссориться, чтобы отделаться от этого щедрого подаяния, Лорд Б… понимает отказ мой принять деньги в награду за мой просто человеческий поступок на Via Aurelia; он согласен, что я поступил бы подло, если бы, спрятавшись, безучастно смотрел на грабеж, а может быть, и убийство, и что я еще не заслуживаю вознаграждения за то, что я не подлец. Он признает также, что Даниелла, ухаживая за его больной женой и разговаривая с ней умно и кротко, так что умела тронуть ее и водворила некоторое спокойствие и счастье в семействе, повиновалась только прекрасному внушению своего сердца, и что за такие услуги платят также сердцем, а не кошельком. Но леди Гэрриет так угодно, а милорд очень затрудняется ей противоречить. Я уверен, что он опять влюбился в свою жену и теперь влюблен более, чем прежде, потому что он всегда умел сопротивляться ее влиянию, когда оно казалось ему дурным, а теперь слепо повинуется ей. Прежде он говорил: «Я люблю ее, хотя она и ошибается»; теперь он, кажется, говорит, что «она не может ошибаться». Добрая леди не может понять, почему ее благодеяния унизительны для меня, и очень огорчится, даже сочтет себя оскорбленной, если я откажусь от них; муж не знает, как передать ей мой ответ. Пришлось войти в сделку: дарственной записи совершать не будем; Даниелла получит деньги, а милорд возьмет их обратно, без расписки, сказав жене, что берет наш капитал на сохранение. Даниелла, присутствуя при этих переговорах, говорила со свойственным ей благородством то же, что и я. Впрочем, после она немного упрекала меня. У нее есть уже страстный инстинкт материнского чувства, и она говорит, что мы не имеем права отказываться от того, что, по ее мнению, обеспечивает независимость и благосостояние нашего ребенка в будущем. Она соглашалась, что мы не могли ничего принять от Медоры; но в отношении к леди Гэрриет она не так разборчива; леди всегда была добра к ней, и никогда ничем не унижала ее. Не без труда уверил я ее, что для нашего ребенка было бы, может быть, несчастьем родиться с обеспеченным наследством, слишком блестящим, говоря относительно, для состояния, в котором я намеревался воспитать его. Мне не принесло счастья мое небольшое достояние, потому что аббат Вальрег, принимая в соображение права мои на праздную жизнь, ничему не учил меня, пока я был у него под опекой. Если б я не любил чтения, я остался бы совершенно дураком, а если б у меня не было некоторого рода отваги, я никогда не позаботился бы о выборе для себя профессии. — Ты потому боишься, — сказала мне Даниелла, — иметь богатое дитя, что дядя твой поступал с тобой не умно. Он хотел сделать тебя рабом твоего маленького капитала, и тебе опротивело то средство к независимости, из которого сковали для тебя цепь; но мы будем иначе воспитывать детей наших, мы скажем им… — Мы поневоле скажем им правду. Нельзя же обманывать детей своих, хотя бы и для их пользы. А когда в них появятся рассеянность и леность, от которых следует отучать их кротко, но без устали, мы будем уступчивы, мы побоимся перечить им, утомлять их, и сделаем из них ленивцев и тунеядцев. Тогда в них зародятся склонности, не совместные с умеренностью, разовьются не одни душевные потребности. Они будут почитать себя бедняками, потому что сто тысяч франков — капля в море для тех, кто не приобрел их своими трудами, кому остается только тратить их. Даниелла уселась в углу комнаты и заплакала. — Что ты плачешь? — спросил я, целуя ее. — Я плачу, потому что твоя правда, — отвечала она. — Ты надоумил меня, что нам придется перечить нашему ребенку, нашей радости, нашему счастью, он ведь все на свете для нас!.. А мы уж начали муштровать его, прежде чем еще он пришел на свет. Но как быть? Так видно надо! Ты научишь меня любить его рассудительно и видеть в твоей чести, в твоем сознании собственного достоинства, в твоем мужестве его лучшее наследство. Полно об этом думать. Вот уже в другой раз я богатею и в другой раз ты убеждаешь меня, что все мое богатство заключается в нашей любви.
Глава XL
Мондрагоне, 7 июня.Вчера мы были в Риме, и теперь мы соединены неразрывно. К неожиданному счастью, мне сделан заказ, Мечты Мариуччии осуществились. Княгиня Б…, услышав нашу историю и видя, что я уже освободился от всех преследований, пригласила меня к себе с женой и приняла ее очень благосклонно. Мы только что вышли от консула и я только что отделался от денег, которыми леди Гэрриет хотела обогатить меня. Провидение послало нам внезапное возмещение и как бы награду за наше к нему доверие. Княгиня видела эскиз моей работы, который я отдал Брюмьеру и который он так непременно вздумал, без моего ведома, подсунуть на глаза владелице Мондрагоне, Это был эскиз фрески, проект орнамента из цветов, плодов и детских фигур для ванной комнаты, которую в прошлом году почти совсем отделали, так что можно было расписывать ее. Гармония размеров этой маленькой комнаты поразила меня, и я на досуге набросал на бумаге акварелью идею плафона. Кажется, моя идея понравилась. Мне поручили исполнить ее и обещали дать помощника, знакомого с приемами живописи al fresco, не совсем хорошо мне известными. Если моей работой останутся довольны и если мне не вздумается выехать отсюда, мне поручат расписать и другие комнаты в замке и отделают на зиму казино для моего семейства. За работу в это лето предложено мне три тысячи франков, а это уже недурно для начинающего. И вот я сижу за моим эскизом, стараясь вдохновить себя моей прежней работой. Все эти amorini, которых я непременно сделаю красавчиками, будут иметь фамильное сходство между собой. Все они будут похожи на Даниеллу… Леди Б… так довольна пребыванием своим во Фраскати, что замышляет купить здесь виллу и хочет приезжать сюда каждый год, а покуда распоряжается так, чтобы провести целое лето или в своей будущей вилле, или в Пикколомини, которую намеревается прилично меблировать. Согласие между супругами, по-видимому, установилось. Она, кажется, заметила то странное явление, что после двадцатилетней сварливой супружеской жизни лорд Б. снова начинает свой медовый месяц, а удовольствие испытать любовь в зрелые лета льстит самолюбию этой доброй дамы. Она обходится теперь со своим мужем, как стыдливаяшалунья, как робкая молоденькая девочка, как жеманная смиренница; это презабавно со стороны, но Медора так язвительно смеется над этим, что мы с Даниеллой и улыбнуться боимся. Это пробуждение старого купидона, управляющего рулем дома Б…, новый расцвет миледи, которая тайком от мужа красит свои волосы, побелевшие от недавней болезни, ревность Фелипоне, который, говорят, частенько затевает ссоры со своей вероломной Винченцей, наше тихое счастье, весна, пение птиц, красноречие Брюмьера, и все, и все, и Бог ведает что, внушили, наконец, Медоре некоторый род расположения к ее cavaliere servente, а молодец, как он сам себя называет, умел так дурно расположить леди Гэрриет к своим надеждам, что надежды эти сделались вероятностью. Леди Б… находит, и не без основания, что ее племянница употребляет во зло свободу, предоставляемую английским девицам, и что вереница поклонников, поощренных и потом обманутых, начинает компрометировать достоинство тетки и добрую славу девушки-невесты. Она хотела бы выдать ее замуж за человека приличного, по ее взгляду на вещи, и если бы она могла прогнать Брюмьера из Пикколомини, она давно бы это сделала. Он сам видит, что его неохотно принимают в покоях миледи, очень этому рад, и дожидается только, чтобы ему перед носом захлопнули дверь в гостиную. В этот день Медора решится быть госпожой де Брюмьер; наш приятель открыл или, лучше сказать, открылся перед нами, что у него есть кое-какие предки, что будет не лишним к устройству его женитьбы. А Тартальи все нет, как нет; пропал, как говорится, без вести. Его помощь в нашей женитьбе, неожиданная перемена мнения относительно союза с Медорой, похождения его с тех пор, как он исчез из Мондрагоне, — все осталось для нас тайной. Явившись нам, как пришелец с того света, в фраскатанской церкви, он исчез, как тень, прежде чем мы успели поблагодарить его. Фелипоне уверят, что ему не более нашего известно о Тарталье. Он рассказывал нам, что сперва он подговорил нам в свидетели одного из своих друзей, трактирщика Симоне ди-Миттиа, который до того напивался пьян к вечеру, что поутру не в состоянии рассудить о последствиях ссоры с приходским священником, но, когда нужно было идти в церковь, Симоне вдруг раздумал, доказывая тем, как говорил Фелипоне, что он от своего вина не так пьянеет, как от чужого. Приятель наш фермер был в большом затруднении и думал уже отложить дело до другого дня, как вдруг Тарталья, переодетый в горного пастуха, будто с неба упал на перекрестке улицы, согласился быть нашим свидетелем, уверяя, что из любви своей ко мне не побоится еще пуще испортить свои отношения с полицией, и без того уже испорченные, когда может тем угодить мне. Мызнику было тогда не до расспросов, в церкви уже благовестили. Онофрио, к которому мы заходим иногда, рассказывал, что Тарталья вечером того дня шлялся около Тускулума; после он не встречал его.
15 июня. Мондрагоне.
Мы нашли его наконец; с ним новые приключения; я расскажу вам о них. Решено было, что восьмого этого месяца мисс Медора обвенчается с де Брюмьером тайно. Вот что привело ее к этой решимости: Брюмьер получил позволение просить у леди Гэрриет руки Медоры, которая все еще посмеивалась и готова была отречься от своего жениха, если бы предложение его было принято. Но Брюмьер так устроил дела, что ему, в присутствии Медоры, сказаны были разные колкости, как, например: «Я надеюсь, что моя племянница еще одумается; я не имею на нее других прав, кроме моего участия в судьбе ее; но если бы имела малейшую власть над ней, я старалась бы отговорить ее от замужества с человеком, чувства и мнения которого так не сходны с чувствами и мнениями того круга, в котором ей суждено жить». Надобно сказать, что Брюмьер, не имеющий никакого политического мнения, прикинулся в этот день, в присутствии леди Б…, человеком самых крайних убеждений, и что Медора, не менее своего обожателя равнодушная к политике, нашла очень забавным пуститься, по его примеру, в самые отчаянные мнения. Как он предвидел, так и случилось: леди Гэрриет была шокирована, а Медора признала себя жертвой преследований. Тут же были назначены день и час тайного бракосочетания. Медора, впрочем, несколько изменила программу свадьбы Даниеллы. Опасаясь, чтобы священник во Фраскати не был предупрежден, она решила венчаться в Рокка-ди-Папа, где и намеревалась провести первые дни после свадьбы. Брюмьер, извещая нас об этом формальном похищении, просил меня быть у него свидетелем; но я отказался от этой чести, не желая досадить этим леди Б… Брюмьер рассказал нам все это в Рокка-ди-Папа, где мы встретили его; он приехал туда разведать местность, а нас завела туда прогулка, и меня, между прочим, желание, в интересах моей работы, насмотреться на ребятишек, которые в эту пору года ходят здесь гурьбой и почти нагишом. Здесь можно изучать их поведение в их полной естественной свободе. Рокка-ди-Папа, по своей постройке, самое странное и самое живописное из всех виденных мною местечек. Я уже описал вам дикое ущелье, загроможденное девственным лесом, лежащим на самом дне пропасти del buco. Мы взяли от этой пустыни вправо и шли по удобной и широкой дороге, которая ведет к городу, пролегая по каштановым рощам. Проходя мимо тройного утеса, Даниелла отвернулась, чтобы не видеть места, где она застала меня с Медорой. Место это напоминало ей единственную горесть, причиненную нами друг другу. Местечко Рокка-ди-Папа построено на вулканическом конусе; строения лепятся по скатам, одно над другим, до самой вершины, на которой стоит развалившаяся крепость, Подвалы одного пояса строений опираются о чердаки другого; дома так, кажется, и ложатся на спину; от малейшего ветра сыплется град черепицы и трещат подпорки. Улицы, становясь мало-помалу почти отвесными, оканчиваются лестницами, а они в свою очередь оканчиваются массами лавы, служащими основанием неприступной развалины, из расселины которой выдается старое дерево, наклоненное над местечком и похожее на флаг, развевающийся с высокой башни. Все старо, растрескалось, подалось в сторону и закопчено, как лава, из которой возникло это гнездо нищеты и неопрятности. Но вы знаете, как все это прекрасно для живописца. Солнце и тень резко сталкиваются на углах скал, которые со всех сторон сквозят между домами, а дома то склоняются один к другому, то внезапно отворачиваются друг от друга, повинуясь прихотям плотной и шероховатой почвы, которая держит их на себе, и то прижимает их друг к другу, то разлучает их. Как в предместьях Генуи, там и сям тяжелая арка перегибается с одной стороны на другую, и эти воздушные мосты сами служат улицами жителям верхней части города. Везде пропасти в этом сумасшедшем местечке, отчаянном убежище времен войны. На рубеже римской Кампаньи часто встречаются такие остроконечные сопки, в виде сахарной головы, одетые по скатам строениями, беспрестанно обрушающимися и снова возникающими, благодаря упрямству привычки и любви к родимой местности. Это упорство объясняется чистым воздухом и живописными видами, но от этих видов бывает головокружение, а чистый воздух заражен миазмами от нечистоты селения. Женщины, дети, старики, свиньи и куры день-деньской кучами шевелятся в навозе. Группы эти живописны, а бедные дети, нагие на солнце и ветре, часто прекрасны, как амуры, но все-таки сердце сжимается, глядя на них. Мне кажется, что я никогда не привыкну видеть, как они бегают по краям пропасти. Беззаботность матерей, которые оставляют едва годовалых детей своих ходить и скатываться по страшным крутизнам, приводит меня в ужас. Я спросил, не часто ли случаются здесь несчастья? — Да, — отвечали мне спокойно, — немало убивается здесь детей; часто и с большими беда эта случается; но что же делать? Такое уж опасное место! Я зашел в один из беднейших домов, чтобы иметь понятие о здешнем быте, и удивился, увидев кучу жизненных припасов и разной посуды, нагроможденных в этой норе: кувшины и кадки с горохом, с каштанами, зерном и сухими плодами. На балках висели вязанки кукурузы, луку; лежали сыр, соленая свинина; стояла глиняная, деревянная и фаянсовая посуда; в корыте грязное белье. По углам комнаты стояли огромные кровати; образа, четки, статуэтки святых, кресты и ковчеги с мощами, все в куче, все так нагромождено, что около печи, столов и кроватей нельзя было пройти без того, чтобы не зацепить за что-нибудь плечом, не наступить на что-нибудь ногой или не уронить чего-нибудь. Это изобилие в беспорядке, в грязи, покрытое насекомыми, заставило меня призадуматься. У этих людей есть все необходимое для жизни: почва плодородна, жизненных припасов и домашней рухляди у них вдвое более, чем у наших поденщиков, чистенькие домики которых содержат только то, что составляет обыденную потребность, У нас бедный не имеет запасов в неурожайные года; он работает для насущного хлеба, собирает хворост на топливо; жена круглый год стирает белье и чинит ветхую одежду семьи. Здесь нет неурожайных годов; здесь всегда в изобилии собирают разнообразные припасы и заваливают ими даже свои жилища; даже под кроватью откармливают домашних животных, землю обрабатывают наемные поденщики, а одежды никогда не чинят. Здешние жители не работают, и не заботятся о том, что их осыпают насекомые; они валяются на солнце и протягивают руку проходящим: вот как живут в здоровом климате, в плодородных странах! Отчего же это происходит? На этот вопрос отвечайте вы; я продолжаю свой рассказ. Не без труда вышли мы из Рокка-ди-Папа, по узкой, крутой улице, скользкой от стекавшей по ней грязной воды, по которой в то же время спускался караван мулов, навьюченных дроком, которые не могли остановиться на спуске, а мимо их не было места пройти. Мы торопились бежать из этого, раздирающего сердце, скопища нечистых лачуг, из окон которых взоры попадают на бездны роскошной зелени, на блестящие озера, на живописные крутояры и на опаловые громады далеких гор. Через десять минут пути мы пришли к источнику del buco. Этот обильный водою ключ, льющийся в большие водоемы из белого камня, представляет живописный вид на вершинах диких скал. Вода источника сбегает сетью мелких струй, которые пенятся на волнистой поверхности скалистого ската и в нескольких шагах отсюда вливаются в buco. Мы находились тогда на плоскостях, составляющих обширные террасы между албанскими и тускуланскими горами, недалеко от предполагаемого лагеря Аннибала. Под нашими ногами, в колоссальной расселине стен утесов, гремел водопад и возвышались обломанные зубцы башни, в которой я провел столько счастливых и столько грустных часов, Туда ведет почти непроходимая тропинка, и я не хотел позволить Даниелле сойти по ней. Я был уверен, что как сверху, так и снизу нельзя видеть моего прекрасного водопада и моей фантастической башни, не сломав себе шеи. Странные формы этих плоскостей, усеянных остроконечными и усеченными конусами, и страшные трещины крутых скатов свидетельствуют о бывших здесь насильственных переворотах во время вулканической эпохи. На одной из этих террас сильный ветер прихотливо раздувал волосы Даниеллы, когда она собирала для вас красивые генцианы (горчанки), голубые, с розовыми прожилками, и маленькие полевые гиацинты, прекрасные по формам и цвету, от которых, впрочем, вы получите одни сухие остовы. Даниелла была печальна, срывая эти цветы и озираясь на мрачную, окружавшую нас природу: на необработанные долины, непроходимые кустарники, ручьи без течения, образовавшие болота даже на вершинах, обуреваемых ветром. Этот дикий ландшафт тянется, с одной стороны, до Monte-Cavo (mons Albanus), с другой — до противоположного нам ската тускуланского агх, который с высоты кажется гораздо ближе, чем казался мне из моего убежища в пропасти. — Пойдем отсюда, — сказала мне Даниелла, — здесь и тело, и душа зябнут. Мне дурно от шума этого водопада. Ты не пускал меня взглянуть на проклятую башню, и хорошо сделал: меня замучила бы совесть. — А я так люблю этот водопад, который звучал своей заунывной песней во время твоего сна, и эту развалину, где после долгого беспокойства и смертельной тоски, я, наконец, прижал тебя к моему сердцу, и ты уснула на моей груди. — Так ты не помнишь, что я была несправедлива, безумна и жестока! Это одно только преступление в моей жизни, но оно велико, и я дрожу от страха, как только вспомню о нем. Ты помнишь, что я говорила тебе в первые дни нашей жизни в Мондрагоне: «Бог, которого я оскорбила, отдавшись тебе без Его благословения, накажет меня; и Он наказал меня строже, чем я думала. Я была разлучена с тобой, много пострадала, была оскорблена, бита, обкрадена, и все это при смертельных опасениях за тебя; но я почти ожидала этого». Сознание моего греха уже заранее готовило меня к этому. Но я, в первый день нашего свидания после этой разлуки, в тот день, который я должна бы провести на коленях перед тобой, благословляя и благодаря Бога, я стала виновна перед тобой, я заставила тебя ужасно страдать… это был адский день, посланный мне за вину, и когда я припоминаю сейчас мое исступление, у меня кружится голова, как будто сатана давит меня и, сжимая мое сердце, кричит мне: «Не последний раз ты в моей власти, я еще приду к тебе, ты опять попадешься». — Господи, — воскликнула моя бедная Даниелла в исступлении, — не введи меня в искушение! Лучше смерть, чем жить на горе тому, кого я люблю! Я утешил ее, уверяя, что теперь она может ревновать без малейшей опасности. — Моя вина, — продолжал я, — что мы оба так много страдали. Огорчение застало меня врасплох; во мне недостало веры и силы. Я должен был словами и ласками успокоить тебя и вывести из заблуждения; заклинаниями изгнать беса, которым ты была одержима. Я был утомлен и болен, и кроме того мрачные и неправые мысли приходили мне в голову в этом печальном месте. Я роптал, как глупый ребенок досадует на мать. Я восставал против часов, которые текли слишком медленно; я безумствовал! Я заслуживал наказание, и понес его. Теперь я не боюсь потерпеть такое наказание, теперь уж я не заслужу его. Любовь наша освятит нас и отгонит злого духа, который подстерегает счастливые сердца. Любовь наша будет нашей религией и добродетелью. Но разве уже это не так? Разве я не пренебрег для тебя всеми упреками и не разрушил все препятствия, не отказался от богатства, чтобы быть для тебя всем, чтобы все заменить для тебя. Ты видишь, что Бог простил и благословляет нас; я благополучно избег опасностей, и все, о чем я молил Бога, исполняется: у меня теперь ты, у меня теперь ребенок, работа и сохраненное достоинство. Она вытерла слезы и, увлеченная моей верой, восторженно молилась. Я не думаю, чтобы она снова сделалась рабой своих инстинктов, Я сказал ей то, что думаю; я не боюсь ее, этой женщины, которую обожаю. Я вижу, что со временем научу ее бороться с порывами первых впечатлений, и она будет счастлива. Мы уже шли к Тускулуму, когда Брюмьер закричал нам, чтобы мы подождали его и, догнав нас, рассказал нам о своей победе.
Глава XLI
Он возвращался из Рокка-ди-Папа, где нашел свидетелей и разведал, что ему было нужно для успеха его предприятия. Когда он вдоволь наболтался, то понял, что ставит меня в щекотливое положение, мне приходилось или употребить во зло его доверие, или обмануть лорда и леди Б…, если б они стали подозревать и Спросили меня. Я решил не видеться с ними в этот день и возвратиться поздно в Мондрагоне, на случай, если бы милорду вздумалось посетить меня после обеда. — Вы возвращаетесь, не обходя Тускулума, — сказал Брюмьер, — так я пойду с вами, тут в самом деле ближе. Мы решили расстаться с ним у Онофрио, но когда пришли к пастуху, желание видеть его музей удержало Брюмьера. Приятель мой любит поглазеть, как все веселые и общительные натуры. Мы были уже с полчаса у Онофрио, когда кто-то позвал меня из-за двери. Я вышел, узнав голос Фелипоне. В самом деле это был он, с ружьем в руках и с двумя собаками; в ягдташе у него было несколько куропаток. — С кем вы там? — спросил он меня, указывая на хижину. — С женой и Брюмьером. Что же вы не войдете? — Сейчас войду. Я думал, нет ли с вами кого постороннего, а вы знаете, наш брат глуп, застенчив. — Вы застенчивы? — Да, с незнакомыми. — Брюмьера-то вы ведь знаете; пойдемте! — Как его не знать: добрый человек, славный малый. Я взглянул на него, чтобы видеть, нет ли укоризны в этой похвале. Круглое мирное лицо мызника выражало кротость. Я подумал, что Винченца, как женщина, искуснейшая во лжи, усыпила подозрения своего мужа, и возвратился в хижину, полагая, что Фелипоне идет следом за мной, Он снова позвал меня. — Подождите, — сказал он, — мне нужно кое-что сказать вам. Позовите мою крестницу, это и ее касается. Я позвал Даниеллу. Онофрио тоже вышел из хижины, и стал перевязывать одну из своих собак, укушенную змеей. Брюмьер стоял на пороге, рассматривая со вниманием этрусскую фибулу редкой красоты. Даниелла отошла несколько шагов от хижины, поглядела на Фелипоне и подозвала меня: — Я не могу идти далее, — сказала она, — шип терновника проколол мне башмак, и я боюсь, чтоб он не вонзился глубже. Я полетел к ней на помощь. — Наклонись, — сказала она мне, — и сделай вид, будто ты ищешь. Я вовсе не занозила ноги, но мой крестный отец хочет убить Брюмьера. — Бог с тобой! Он спокоен и весел, как всегда. — Нет, уверяю тебя. Я вижу, что ему хочется удалить нас отсюда. Увидишь, он расскажет нам какую-нибудь сказку, чтобы нас выпроводить. — Что же нам делать? — Не терять его из виду и заслонять от него цель. Не покидай ни на шаг бедного молодого человека. Фелипоне любит тебя и не будет стрелять, чтобы не попасть в тебя. Я постараюсь отговорить его, если ему теперь пришла эта дурная мысль, или выведаю все и уговорю его, если он задумал это прежде. Я не верил в опасность, которую подозревала Даниелла, но послушался ее совета. Я подошел к Брюмьеру, а она к Фелипоне, который, опершись на свое длинное ружье, спокойно ожидал нас, со своей вечной улыбкой на пунцовых толстых губах. — Вот драгоценная вещь, — сказал мне Брюмьер, которого я заслонил собой, будто случайно. — Посмотрите, как мастерски вырезана эта головка барашка, и как изящно просты и хорошо расположены эти филигранные украшения. Пастух не может знать цены этому сокровищу, и вы должны помочь мне купить у него это за дешевую цену. Это будет мой свадебный подарок завтра, пока не найду чего лучшего. Я подошел с ним к Фелипоне, не с тем, чтобы помочь ему выторговать фибулу, но чтобы опять заслонить его. Онофрио строго честен, но это не значит, чтобы он был слепо бескорыстен и чтобы его легко было обмануть. Брюмьер, как искусный меняла, спросил небрежно, настоящий ли это антик, и притворился, что считает это подделкой из неаполитанского золота, как это часто случается, прибавив, что он любит эти подделки не менее оригиналов, и что бы это ни было, подделка или нет, он предлагает за нее два римские скуди, желая дать добрую цену гостеприимному и сведущему человеку. При этом предложении кроткая физиономия пастуха приняла выражение строгого презрения. — Вы ребенок, — сказал он. — Отдайте-ка мне это назад. Это не годится для тех, кто не смыслит толку в этих вещах; это хорошо для артистов. Брюмьер, несколько обиженный, упорно утверждал, что хорошей копии нельзя отличить от оригинала. — Я не золотых дел мастер, — отвечал Онофрио, — я пастух. Я не делаю таких вещей, я нахожу их. Я от роду не был в неаполитанских лавках; я роюсь и ищу в тускуланских камнях. Вам меня не уверить, что я купил или сам сделал эту застежку. — Может быть, какой-нибудь путешественник купил ее в Неаполе или Флоренции и потерял ее в Тускулуме. — Думайте, как хотите! — сказал пастух, взяв назад свою вещь с видимым презрением. Брюмьер оскорбил в нем не только честь его, но и самолюбие антиквара, Я поглядел на Фелипоне, который прохаживался с Даниеллой на некотором расстоянии от нас, и подумал, что в случае недоброго замысла со стороны мужа Винченцы уж никак не Онофрио окажет помощь безрассудному Брюмьеру. Брюмьеру нечего было подарить своей невесте, и он, не желая упустить единственного случая достать приличный подарок, предлагал уже двести франков за этрусскую брошку. — Нет, — отвечал Онофрио, — за эту цену я не уступил бы ее и господину Вальрегу; вам я отдам ее за пятьсот франков. — Спасибо за предпочтение! — вскричал Брюмьер. — Так вы на меня сердитесь? — Вы хотели обмануть меня, а я хочу содрать с вас побольше. — Убирайтесь к черту! — Берегитесь, чтобы вам не пришлось прежде меня к нему отправиться, signore! Тон этого ответа был так резок и так не соответствовал обычному хладнокровию Онофрио, что я начал верить, что Брюмьер не в безопасности. — Пойдемте отсюда, — сказал я ему потихоньку, — Здесь вам несдобровать, кажется. — Он с удивлением посмотрел на меня; я сообщил ему о моих подозрениях. Он был очень благодарен мне. — Мне говорила Винченца, — сказал он, — что муж ее в первый раз в жизни начал подозревать ее. Но он обвиняет лорда Б… в намерении обольстить ее, потому что добрый англичанин, из признательности за попечения Винченцы о леди Гэрриет, делал ей слишком дорогие подарки. Вот каково быть богатым и щедрым! Я, оставаясь еще на целые сутки бедняком-артистом, не рискую быть обвинен в том, что покупаю женские сердца на вес золота. Но мы теряем понапрасну время. Хотите оказать мне услугу? Поторгуйтесь и купите для меня эту брошку. Мне ее нужно во что бы то ни стало. — Онофрио не отдаст ее иначе, как за наличные деньги, даже мне, своему другу; он очень хорошо видит, что я покупаю ее не для себя, а у вас, я полагаю, так же как и у меня, нет при себе двух или трех сот франков. — Разумеется, нет; но я сбегаю за деньгами во Фраскати… — Этого не нужно; пойдем в Мондрагоне и возьмем с собой Онофрио; там я заплачу ему. Онофрио уступил мне брошку за триста франков, но не захотел идти с нами в Мондрагоне. Он не мог отлучиться. Прочие загоны были слишком отдалены и другие пастухи не могли прийти стеречь его стадо. Когда ему нужно было иногда отлучиться, он еще накануне принимал все меры, чтобы оставить кого-нибудь на свое место. Онофрио вызвался принести нашу покупку на другой день вечером. Это было слишком поздно для Брюмьера. Я вздумал попросить Фелипоне, который подошел к нам, постеречь стадо до возвращения пастуха, то есть один час времени; таким образом я разлучал соперников, уводя с собой Брюмьера, Мызник очень учтиво отвечал, что во всяком другом случае был бы готов оказать услугу господину Брюмьеру, но теперь ему необходимо сейчас возвратиться в Мондрагоне. — Даниелла знает эту необходимость, — сказал он. — Вы не хотели выслушать, что я хотел сказать вам об этом; она перескажет вам. Во всяком другом случае, как сказал Фелипоне, весьма естественно было бы просить мызника поручиться за уплату, чтобы Брюмьер мог взять вещь с собой; но у меня не доставало духу просить у него какой-нибудь услуги, тем более денежной, для человека, который предавал его; и Брюмьер сам, несмотря на свою всегдашнюю самоуверенность, не мог решиться на это. Кроме того, что-нибудь да значило и то, что Фелипоне, всегда стать обязательный и предупредительный, не предложил даже и мне своей поруки. — Так пойдем к вам, — сказал мне Брюмьер. — Вы одолжите мне денег и я возвращусь расплатиться; в таком случае я буду во Фраскати еще до ночи. Я заметил какую-то особенную улыбку на губах мызника; но в чертах лица, где привычное напряжение мускулов выражает постоянную веселость, трудно уловить какое-либо движение души. Мы, Даниелла, Брюмьер и я, отправились в Мондрагоне. Фелипоне остался еще поговорить с Онофрио, а потом мы видели, как он следовал за нами со своим ружьем и собаками. Он торопился догнать нас; Даниелла советовала прибавить шагу, чтобы поскорее выйти из лесистой теснины, которая спускается от Тускулума к Камальдульскому монастырю. Но я нашел, что такая поспешность могла бы более раздразнить Фелипоне, чем успокоить его; к тому же Брюмьер никак не хотел согласиться на это. Когда мы вошли в тенистые излучины этого оврага, мызник исчез у нас из виду. — Вот премиленький лесок, — сказал нам Брюмьер, — но надо сознаться, что это настоящая разбойничья трущоба. — Я заметил это, — отвечал я, — еще во время моего ночного странствия с князем и Медорой. — Здесь, — возразила Даниелла, — убито людей без счета, и так как крестный мой отец не может равнодушно видеть господина Брюмьера, то он хорошо сделает, если поспешит во Фраскати, не заботясь о безделушке, которая не стоит того, чтобы подвергаться из-за нее опасности. Брюмьер оглянулся и задумался. — О чем вы думаете? — спросил я его. — Теперь некогда раздумывать. — Так вы полагаете, — сказал он, — что этот краснощекий толстяк, с его глупым смехом, вбил себе в голову недобрую мысль всадить в меня пулю и что у него достанет духа исполнить это? — Я не думаю, — отвечал я, чтоб он имел эту мысль. Что же касается духа, нужного, чтобы отомстить, уверяю вас, что у него достанет его с избытком на такое дело. Я припомнил вдруг в эту минуту свирепо-веселую ярость, с какой Фелипоне плюнул в лицо Мазолино, когда тот валялся в крови у его ног. — А я, — прибавила Даниелла, взяв под руку нашего приятеля, чтобы вынудить его идти вперед, — я повторяю и клянусь вам, что мой крестный отец намерен убить вас. — Он сказал вам это? — Если бы сказал, то не хотел бы исполнить: о том не говорят, что решено исполнить. — Но если он ничем не обнаружил своего намерения, как же можете вы знать его? — Чтобы видеть, что у итальянца в глазах, надобно иметь итальянские глаза. В необыкновенной веселости моего крестного отца я видела, что было у него на душе. Он тяжело страдает, верьте мне. — Бедный добряк, — сказал Брюмьер, смеясь. — Скажите нам правду, — прервал я его, — не подстерег ли вас Фелипоне на свидании с его женой? — Как вам сказать? И да, и нет. Сегодня утром мы были в роще виллы Фальконьери, и на этот раз без всякой лукавой мысли — уверяю вас! — Винченца вздумала, хотя немного поздно, ревновать к Медоре, что, говоря к слову, заставляет меня перенести в Рокка-ди-Папа мой супружеский шатер, потому что эта несвоевременная ревность может, пожалуй, наделать хлопот. Я успокаивал ее, как умел и лгал, как на пытке, чтобы помешать ей говорить слишком громко, но, несмотря на это, она не умолкала. Наконец, мне удалось избавиться от нее без большого крика; но когда я возвращался один-одинешенек по одной из аллей стриженого самшита, которые походят на дороги с зелеными стенами, я сошелся носом к носу с мессером Фелипоне… точь-в-точь, как теперь, — продолжал он, понизив голос и указывая на мызника, который, переходя ров поперек, шел, улыбаясь, нам навстречу. Брюмьер прибавил: — Он приветливо посмотрел на меня и поклонился, как вот и в эту минуту кланяется. Брюмьер еще не договорил этих слов, как раздался выстрел над нашими головами. Фелипоне, стоя на скале, в десяти шагах от нас, выстрелил по зайцу. — Шерш, шерш! — закричал он собакам, которые бросились в овраг. Он пошел за нами, сходя с крутизны с легкостью, вовсе не свойственной его толстому туловищу и коротким ногам, но которую я уже заметил в нем во время бегства нашего к buco. — Ему хочется похвастать верным глазом и верной ногой, — сказал Брюмьер, видя, как Фелипоне поднимал убитого им зайца на дне оврага. — Если это шуточная угроза, то она недурна, и мызник начинает мне нравиться. Но вы испугались, Даниелла? — Да, за вас, — сказала она. — Заряд пролетел так близко от вас, что нельзя не подумать, что выстрел был сделан не без умысла. Он хотел испугать вас. — Это очень мило с его стороны; я не предполагал в нем столько остроумия. Но эти шалости не безопасны для вас и было бы бесчестно оставаться с вами долее. К тому же, надобно выяснить это дело. Если этот шут задумал убить меня, он подстережет меня, сегодня или завтра, где-нибудь за углом; лучше уже сразу узнать, чего ожидать от него. — Не ходите, — возразила Даниелла, стараясь удержать его, — один ствол его ружья еще заряжен. Брюмьер не послушался; он соскочил в овраг, крича мызнику: — Не добивайте его, подождите; мне хочется взглянуть на него, пока он жив. Брюмьер говорил о зайце, которого Фелипоне держал за уши. Эта смелость или это доверие, казалось, внушили уважение мызнику, или мы были слишком близко и он не хотел иметь таких свидетелей своего мщения; могло быть и то, что Даниелла ошиблась в своих предположениях. Мы слышали, как они разговаривали в добром согласии. — Вы его совсем разбили, — сказал Брюмьер, — ружье было заряжено крупной дробью, годной на диких коз. — Чем бы ни стрелять, — отвечал Фелипоне, — лишь бы убить! Они пошли вместе по направлению в Мондрагоне, вдоль высохшего ручья, который проходит по дну оврага, и ушли от нас вперед. Вскоре скрылись они у нас из виду в гущине леса; мы шли скоро, стараясь не отстать от них, и остановились прислушаться. — Что это? Мне показалось, будто кто-то глухо застонал, — сказала Даниелла. Мы стали внимательнее прислушиваться: вдали раздался грубый смех Фелипоне. — Видишь, ты ошиблась, — сказал я Даниелле, которая, побледнев, слушала с напряженным вниманием. — Другой не смеется, — отвечала она. Мы сошли с дороги, чтобы поглядеть в глубь оврага, но это было невозможно. Взоры наши проникали в просветы ветвей мелкорослых дубов, но не могли проникнуть сквозь высохшие и еще державшиеся листья. Ночь приближалась, и когда мы опять вышли на дорогу, недалеко от монастыря, мы столько уже потеряли времени, что наши спутники должны были уже добраться до Мондрагоне, если только вышли из теснины. Мы не смели окликнуть Брюмьера, боясь ускорить тем исполнение замысла, приписываемого Даниеллой мызнику. Мы успокоились у ворот Мондрагоне, где застали Фелипоне, как всегда, веселого, и Брюмьера живого и здорового. Они были, как казалось, в ладу. Несмотря на мое удовольствие видеть, что любовник Винченцы цел и невредим, я не мог удержаться от презрения к ее мужу. — Заяц молодой и еще теплый, — сказал нам Фелипоне, — он будет вкусен, и вы скушаете его за обедом, Я напрашиваюсь к вам на обед и берусь сам изжарить его. А вы обедаете с нами, господин Брюмьер? — Очень бы рад, — отвечал он, — но это невозможно. Я бегу расплатиться за фибулу, и возвращусь в Пикколомини натощак. Вспоминайте обо мне и выпейте за мое здоровье. Я вручил ему деньги, он побежал, а Фелипоне пустился в россказни, поливая жарившегося на вертеле зайца. Мы не отходили от него, и Даниелла, все еще встревоженная его замыслами, притворилась, будто ее очень занимает стряпня ее крестного отца, с тем чтобы помешать ему уйти и подстеречь Брюмьера на углу леса. Вдруг он вытер облитое потом лицо, и сказал нам: — Я сообщу вам новость, добрые друзья мои, которая удивит вас. Я уже намекнул об этом Даниелле, не сказав имени; она, кажется мне, не верит, но вы увидите! Приятель, пропадавший без вести, отыскался и, если вы хотите, я пойду за ним и приведу его к ужину… — Кто это? — спросил я. — Кто бы ни был, не пускай его, — шепнула мне Даниелла. — Он хочет только уйти от нас; это один предлог. — Я пойду с вами, — отвечал я мызнику, — Мне хочется поскорее встретить эту нечаянность. — Не из чего беспокоиться, — отвечал он, — он уже здесь, и я слышу, что он накрывает на стол. В самом деле в нашей столовой слышался стук тарелок. Я вошел туда и увидел, что лакей, в новом длинном платье и в манжетах безукоризненной белизны, стоял лицом к буфету, но его низкий рост и бойкий вид так бросались в глаза, что я не мог не узнать его в ту же минуту. — Тарталья! — вскричал я, подбегая к нему. — Не Тарталья, мосью, — отвечал он, кланяясь мне с шутовскими ужимками, — а Бенвенуто, первый камердинер, поверенный, а с некоторого времени управляющий домом его светлости князя Монте-Корона в Генуе. — Как, ты служишь у этого доброго князя? Где он? Каково он поживает? — Он здоров и живет в Генуе, как я уже доложил вам. — Ну, а ты, как ты попал сюда? — Он мне дал тайное поручение (Тарталья понизил голос). Я приехал сюда инкогнито, чтобы вручить прекрасной Медоре письма, которые могли ее компрометировать; князь великодушен. — Это очень хорошо. Но в это короткое время, с тех пор, как ты был у меня свидетелем, ты не мог съездить в Геную и возвратиться. — Оно бы и мог, но я не сделал этого длинного путешествия. Князь был еще на границе Церковной Области, когда почтил меня своей дружбой, определил меня к себе и вверил мне поручение, по которому я сюда приехал.Глава XLII
Даниелла была очень рада увидеться с Тартальей и узнать о его благополучии. — Если ты хочешь накрыть за меня на стол, — сказала она, — так, по крайней мере, садись с нами ужинать. Проговорив это приглашение, она обернулась ко мне, как бы прося прощения, что забыла мою недоверчивость к этому чудаку и не сообразила, что мне не слишком нравится его компания. Но, впрочем; события доказали мне добросовестность Тартальи в дружбе, и я был так много обязан ему, что не мог нисколько колебаться, допустить ли между нами такую же короткость отношений, в какой жена моя всегда с ним находилась. Я подтвердил ее приглашение, что, казалось, чрезвычайно польстило ему. — Вы добры, как умный человек, — сказал он мне, — и не напрасно, мосью, подали вы руку Тарталье, чтобы приблизить его к себе. Тарталья никогда не был дурным человеком, вы это хорошо знаете, но, между нами будь сказано, он бывал иногда порядочным плутом. Что делать! Молодость, страсти, бедность, тут немножко вина, там немножко лени, а там женщины. Но Тарталья состарился и в один прекрасный день сказал самому себе, что кончить надо добром. Случай ему пособил, то есть Бог помог ему. Выслушайте его приключения. Вырвавшись из когтей полиции, которой он изменил по влечению дружбы, он попал в небольшую деревушку в сиенской низине, куда негодная однопалубная шлюпка только что привезла знаменитого изгнанника, нашего дорогого князя. Вы знаете, как его люди распорядились с бедным Тартальей в этой проклятой befana, где его, будто статую, засадили в нишу. Проведя ночь в этой киоте, Тарталья поразмыслил немного о том, что ему удалось заметить, и сказал себе: эта прекрасная вороная лошадь, которую я видел там внизу у подъезда, ведь это Отелло! Я хорошо знаю его; я ведь, бывало, чистил и прогуливал его; даже в одну ночь, на дороге во Фраскати, где, к слову будь сказано (теперь все говорить можно), я вам не дал попасть в лапы Кампани (черт побери его душу!), выдав вас за господина Манжена, префекта полиции… Но это мимо! Итак, я узнал даму под вуалью, потому что узнал Отелло, и вот что сообразил; Медора не поедет с князем, потому что увидела господина Вальрега. Далее я сказал себе; этот добрый князь очень влюблен и очень тароват. Если б он не погнушался спросить моего совета, то он бы увидел, что и я на что-нибудь могу пригодиться. И вот как неисповедимы судьбы, мосье! Когда я снова встретился с ним в этой деревушке, о которой я вам говорил (она называется Порто-Эрколе), я пошел прямо к нему и насказал ему таких вещей, что он стал слушать обоими ушами, а между прочим, вот что: «Медора страстно влюбилась в одного хвата (я не назвал вас), который о ней и не думает, а любит другую. Потерпите немного, и я вас женю на этой красавице, только сделайте меня вашим управляющим. Дайте мне сроку один месяц. Правда, я тут рискую моей шкурой, но место, которое вы мне обещаете, стоит того». — «Разве я тебе обещал его? — отозвался князь, улыбаясь. — Ну, да так и быть, пожалуй! Я ничем не рискую, потому что ты ничего не сделаешь». А я говорю: увидим! Итак, мосью, я одет, как вы видите, порядочным человеком и решился быть таким на самом деле. Я хорошо начал, присоветовав князю возвратить письма, что и действительно благородно, и может умилостивить Медору. А что вы об этом думаете? Но вы заняты чем-то другим, и моя болтовня вам надоедает. — Нисколько, но я вижу, что жена моя о чем-то хочет говорить с тобой; она посылает меня заглянуть в кухню. В самом деле Даниелле пришла счастливая мысль рассказать Тарталье об опасности, какой может, как она думала, подвергнуться Брюмьер, если Фелипоне уйдет от нас прежде двух часов. Тарталья избавил ее от всякого объяснения. — Да, да, — сказал, — знаю, знаю! Он, наконец, ревновать начинает. Тарталья взялся удержать Фелипоне, хотя и не имел слишком пламенного желания сохранить жизнь Брюмьера. Он узнал уже от мызника, пришедши к нему сегодня утром, что Брюмьер сделался cavaliere servente Медоры; но он не очень о том беспокоился. Он думал, что Медора потешается над Брюмьером; Даниелла строго хранила его тайну. Только нам с ней и была вверена эта тайна. Свидетели, приглашенные в Рокко-ди-Папа, сами не знали, для какой надобности были позваны, и уже получили половину назначенной им платы. В продолжение этого объяснения я помогал мызнику снять зайца с вертела, и с каждой минутой убеждался более и более, что он думает только как бы поесть, похохотать и поболтать. Когда мы утолили первый голод, Тарталья опять принялся за свои рассуждения с мызником на любимую тему о своих предположениях, как нажить деньги. Мне казалось, что Фелипоне очень хорошо знал его надежды помирить князя с прекрасной англичанкой. Я даже понял из нескольких вырвавшихся у него слов, что князя со дня на день ожидают в befana, его прежнем местопребывании. Я пожалел о его напрасном труде и об опасностях, которым снова он подвергался, но высказаться прямее я не решался. С такими догадливыми людьми, как мои гости, малейшее замечание обнаружило бы тайну Брюмьера. Я оставил Тарталью, или теперь уже лучше сказать, Бенвенуто, лелеять себя мечтами, которые, впрочем, не казались мне совсем несбыточными, потому что он уже пользовался доверием князя. Очевидно было, что он ему понравился, а сдержать свое слово и сделаться честным человеком он был в состоянии. У него были отличная одежда, чистый паспорт и полный карман золота: три вещи, которых всегда домогался этот чудак, потому что только с их помощью был он в силах, как говорил, снова выйти на путь добродетели. За обедом, надо отдать ему справедливость, он вел себя очень прилично. — Знаете ли, друзья мои, — сказал он нам, — есть края, где быть хорошим человеком и приятно, и полезно, оттого что доброе поведение ценится и одобряется, но есть такие сторонки, где положение людей, подобных мне, так убого, а воспитание так плохо, что им никак нельзя выбиться из этой грязи без особой помощи. Если вы всмотритесь попристальнее, то увидите, что в Италии, где всякий верит в неизбежность судьбы, прошлое не помешает общему уважению, и вот каков я ни на есть, теперь я хочу, прежде чем пройдет два года, быть господином Бенвенуто, почтенным управителем, пользоваться уважением хозяина, быть грозой для дворни, жениться на миленькой женщине и быть отцом красивого мальчика, который будет со временем лекарем или адвокатом, а не то художником, в чем, конечно, я не буду ему мешать нисколько. И почему же не так? Э, господин Вальрег, неужели вы думаете, что ремесло нищего очень приятно, и что быть порядочным человеком не лучше всего на свете, особенно для бедняка, который всегда жил милостыней, пинками и подзатыльниками? Быть порядочным человеком! Я всегда об этом мечтал, как мечтают распутицы стать благочестивыми старушками. Кто уж добродетельным человеком родится на свет, тот живет, как вы; терпит, трудится, а все к той же цели приходит, к какой и блудный сын, который возвращается в родительский дом, имея в виду телятину и новое платье. Разница только в том, что вы избрали длинный путь, чтобы приобрести доброе имя; вы упрочите его только двадцатью, тридцатью годами безукоризненной жизни, а все-таки можете потерять его за какой-нибудь пустячный грешок; свет уж так создан; чем больше вы ему даете, тем больше ему надо. Если же негодяй делается вдруг честным человеком, то не знают, как и благодарить его. Все дивятся, радуются, а кто приписывает себе заслугу его исправления, тот так гордится своим успехом, что не наговорится о нем. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, как мой князь будет развозить меня по всем своим друзьям, как свое собственное создание. Однако ж, по сущей истине, если я кому-нибудь чем-нибудь обязан, то, конечно, вам, господин Вальрег, потому что… по чести не могу понять — почему! Какая-то симпатия, убеждение, ваша любовь к этой Даниелле, которая стоит сорока Медор… Но что это я!.. Скоро надо будет говорить Медоре: ваша светлость, и принимать от нее приказания при шпаге и треугольной шляпе. Он болтал до девяти часов, и если б я не знавал его в его недавней низкой доле, то по его приемам подумал бы, что он долго жил в кругу порядочных людей. Наблюдая людей большого света и служа им шутом, он умел при случае играть роль приличного и смышленого служителя. Щеголеватый наряд, чисто выбритая борода, прежде всегда растрепанные, а теперь остриженные и приглаженные на висках волосы, так изменили его лицо и самое обращение, что он мог надеяться, что его не тотчас узнают. — Растолкуй мне, как ты попал на мою свадьбу? — спросил я, провожая его до pianto, вместе с мызником, который оттуда отправился к себе домой. — Очень просто. В этот день князь посылал меня поразведать наше дело. Я явился к мисс Медоре и был принят не очень хорошо. Но в тот же вечер опять вернулся к ней, и меня уже выслушали благосклоннее: ваша женитьба сделала переворот в ее мыслях. Вот потому-то я тотчас отправился за письмами. — Ну, а сегодня ты видел Медору? — Нет, еще иду к ней сейчас; я увижусь с ней у Фелипоне, чтобы вручить ей письма, и моим красноречием надеюсь обратить это свидание в пользу его светлости. — Ну, теперь ты уж не беспокоишься? — спросил я мою жену, вернувшись к ней на террасу казино. — Фелипоне пошел домой с посоловелыми глазами; теперь он, я думаю, спит, как будто целый день охотился в болоте. Брюмьер поверг к стопам своего идола свои дары; он, Верно, в Пикколомини. — Да, — отвечала она, — все это так, но я не могу быть спокойна. — О, да ты со своими предчувствиями и страхами заставишь меня ревновать тебя к Брюмьеру! — Мой Джованни, — сказала она с выражением целомудренной искренности, — не ревнуй меня к Брюмьеру; я упрекаю себя за то, что еще мало думаю об этом бедном молодом человеке. Мысли мои заняты только моим крестным отцом, который очень несчастлив, поверь мне! Я хорошо знаю, что такое ревность! Она очень больно уколола мне сердце! Я знаю, что вертится в голове Фелипоне или что он затеет завтра, потому что сегодня, как я думаю, он еще ничего незнает. Если же Винченца ревнует Брюмьера, то она наделает глупостей, а муж ее не век же будет слеп. Если он не убьет Брюмьера, так убьет Винченцу. — Так что ж, — отвечал я, — не велика потеря! — Эта женщина и глупа, и виновна, — продолжала Даниелла, — но Фелипоне очень любит ее, и если убьет, то убьет и себя, если не сойдет с ума. — Мне кажется, милый дружок, что твое сердце и воображение создают роман страшнее действительности. Фелипоне любит жену чувственной страстью. Все черты его лица выражают только чувственность. Жена успокоит его своими ласками. Он не так развит нравственно, чтобы это оскверненное тело и эта увядшая любовь сделались ему отвратительными и ненавистными. — Ты рассуждаешь так по своим понятиям, но у нас чувства заставляют человека делать такие ужасы, что ты и представить себе не можешь. Да ты и неверно судишь о сердце Фелипоне: он любит и сердцем, В последнее время он был для меня отцом, а его дружба к тебе показывает, что он гораздо умнее, чем кажется с первого взгляда. Ах, мне очень жаль его! Мне удалось, наконец, рассеять в ней мрачные мысли и заставить ее повторить со вниманием наши сольфеджио; но, заснувши, она видела такие страшные сны, что ночью вставала три раза и выбегала на террасу послушать. Она была убеждена, что действительно слышала стоны и отдаленный шум отчаянной борьбы. С рассветом она оделась и просила меня пойти с ней прогуляться около фермы. Видя ее очень встревоженной, я согласился. Она хотела пройти через подземелье. Я ей припомнил, что Тарталья живет в befana и что князь, может быть, там же. — Он всю ночь провел в дороге и, вероятно, больше рад уснуть, чем нас видеть. Мы прошли в темную кипарисную аллею и обогнули фермы; работники уже начинали хлопотать около своих волов. — Очень странно, что мы не видим крестного, — сказала мне Даниелла, — он всегда встает раньше всех. Она спросила у Джанино, старшего из сирот, племянников Фелипоне, которых добрый мызник взял к себе на воспитание у той самой маленькой обезьянки, «помните» alla ciocolata. От него узнали мы, что мызник вышел со двора еще до рассвета. — Сходи в его комнату, — сказала Даниелла, и посмотри, измята ли постель. Его жена ночует в Пикколомини; леди Гэрриет оставила ее у себя на всю неделю. Постель Фелипоне была нетронута: он не ложился. — Вот видишь ли, — сказала Даниелла, — а у него смыкались глаза… Знаешь ли, что теперь надо делать? Пойдем к Онофрио, он что-нибудь да знает. Не успели мы дойти до загона, как встретили тускуланского пастуха на площадке, в самой середине древнего латинского города, между цирком и театром, Онофрио холодно слушал нас и, казалось, не понимал наших вопросов. — Он приходил вчера вечером, расплатился со мной и тотчас ушел. Он расплатился как следует. — Вы говорите о Брюмьере, — сказал я, — а Фелипоне? Он не видал его и, кажется, сказал правду; наконец, утомленный нашей настойчивостью, он перестал отвечать, проворчав: — Дети, оставьте меня в покое! Я хочу молиться, а вы мне мешаете. Нам оставалось одно средство узнать истину — идти в Пикколомини или в Рокка-ди-Папа, Мы решились на последнее. Свадьба была назначена в семь часов, а Брюмьер хотел прийти до рассвета. Медора должна быть уже пути. Отправляясь на площадку del buco, по противоположному склону Тускулума, мы могли попасть вовремя к обедне. Как мы ни спешили, однако ж, обедня уже оканчивалась, когда мы пришли в Рокка-ди-Папа. Чтобы не возбудить любопытства предпринятым в такую раннюю пору богомольем молодой дамы, уже известной в околотке и прискакавшей что есть духу верхом к обедне, не было принято достаточных предосторожностей. Медора не позаботилась переодеться и оставить в лесу Отелло. Он красовался на улице, вместе с двумя другими красивыми лошадьми, которых держал маленький грум, оставленный князем у своей неблагодарной красавицы. Толпа народа теснилась около церкви, то есть на маленькой горной площадке очень неправильной формы, куда надо было всходить по ступенькам, иссеченным в лаве. Мы увидели, что небольшая толпа, которой удалось пробраться в церковь, уже выходила оттуда. На паперти вдруг раздался голос, заставивший меня вздрогнуть от удивления. «Пустите, пустите, посторонитесь, говорят вам!» Это был голос Тартальи. Скоро и сам он показался в парадном наряде мажордома, под руку с Фелипоне, веселым и разнаряженным. Они-то были свидетелями при венчании Медоры с… Угадайте! Что до меня, я думал, что наяву грежу, и не мог найти слов высказать мое изумление Даниелле, которая, несмотря на недавнее мучительное беспокойство, разразилась нервическим смехом при виде новобрачных, также выходивших из церкви. То были князь и Медора, ныне княгиня Монте-Корона. Я готов был и сам расхохотаться, но, опомнившись, подошел к Фелипоне и, сердито схватив его за руку, спросил: — Фелипоне, где Брюмьер? — Его здесь нет, — сказал он, высвободив свою руку с силой быка, но без страха и не очень сердечно. — Говори, — обратился я к Тарталье, — что вы с ним сделали? — Оставили его холостяком, впредь до распоряжения, ничего более, мосью. Будьте спокойны. Тарталья теперь уже честный человек и не позволит никому сделать зла. Вы найдете вашего друга без малейшей царапинки, в той нише, с которой я очень коротко познакомился и откуда, как я знаю по опыту, нельзя сойти без лестницы, если не захочешь разбиться о помост вдребезги… А кто сочинил эту прекрасную штуку? Все я, мосью, это моя собственная выдумка! Скажите мне спасибо, — прибавил он, отводя меня в сторону, пока Фелипоне уходил с толпой: — Мызник хотел убить его. О! Даниелла очень хорошо все предвидела. Но я растолковал этому ревнивцу, что мертвому гораздо покойнее, чем живому, и что, помешав врагу своему в женитьбе, которая составляла все его честолюбие, он отомстит несравненно больше. Он взялся заманить Брюмьера в подземелье, под тем предлогом, что его спрашивает Медора, которая на самом деле была на ферме вместе с князем. Потом ловко, без всякого вреда, он завязал ему рот, отнес в befana (вы знаете, он силен, как бык) и всадил его в нишу, с помощью Орландо, Князева повара. В это время князь, которого Медора (я должен теперь сказать княгиня) не ожидала найти на ферме, пустился в изъявления своей покорности, умолял о прощении, клялся, плакал, уходил и возвращался. Так что через час не больше, мисс Медора очень основательно убедилась, что старый ее вздыхатель отличный человек, и что для нее — лучше быть княгиней, чем мещанкой. Одно только обстоятельство затрудняло ее: как покончить с ее любезным Брюмьером? Вот тут уже счел я долгом вмешаться и рассказать о проказах этого бедного малого с хорошенькой мызницей. Тогда дело закипело. Узнав, куда ревнивый муж запрятал своего соперника, Медора хохотала до упаду. — Как же вы узнали о предполагаемом браке? — Через Винченцу, мосью; она подслушала у дверей, а от нее я узнал обо всем прежде, чем увидел вас. Даниелла попыталась было догнать Фелипоне, но напрасно. Она возвратилась к нам. — Пока ты тут болтаешь, — сказала она Тарталье, — знаешь ли ты, что теперь с Брюмьером, и не задумал ли Фелипоне… — Не бойтесь ничего, — отвечал он: — Бенвенуто обо всем помнит и не захочет, чтобы свадьба, составившая его счастье, была запятнана каким-нибудь случаем. Теперь Фелипоне удовлетворен, а притом Орландо на карауле при пленнике и отвечает за него головой. Между тем, как мне передавали эти известия, Медора и ее супруг, окруженные толпой нищих, горстями сыпали золото на ступенях церкви. Почти все население той местности, протягивая руку, взывало на все лады к милосердию, и потому новобрачные с большим трудом пробирались к нам сквозь толпу. Князь, пробравшись, наконец, ко мне, с жаром обнял меня. Я удивился этому выражению приязни при стольких свидетелях. Он сказал мне, что получил формальное позволение провести три дня в Папских владениях. Надежда видеть его женатым на богатой невесте побудила брата его, кардинала, оказать ему на минуту свою могущественную протекцию, под которой приютился и Тарталья. — Теперь, — сказал мне князь, — моя первая забота поехать поскорее с моей женой к леди Б… Я хочу, чтобы Медора испросила нам прощение и не иначе рассталась бы с теткой и с дядей, как помирившись с ними. Я уверен, что леди Гэрриет, которая терпеть не может Брюмьера, будет теперь очень рада породниться с человеком одного с нею звания. Вы поедете с нами? Вы походатайствуете за нас? — Нет, не могу. Я здесь пешком и с женой. — С женой! — торопливо сказал он. — Так представьте же меня ей. Он поцеловал у Даниеллы руку и просил ее расположения с той милой вежливостью, которая так идет знатным людям и так дешево им стоит в обращении с женщинами. Он выразил свое крайнее сожаление, что не было его кареты, которую желал бы предложить нам; но ведь в Рокка-ди-Папа карета есть вещь столько же неизвестная, сколько и бесполезная. — Я догадываюсь, — сказал он, прощаясь с нами, — что вы поспешите освободить бедного господина Брюмьера. Когда вы увидите его, скажите ему, прошу вас, что я узнал о проделке, какую с ним сыграли, тогда только, когда дело было сделано, в чем могу поклясться честью. Если же он найдет, что я должен был его выручить и уступить ему сегодня мое место в церкви, то передайте ему, что я пробуду здесь еще три дня и готов к его услугам. — Я выполню ваше поручение; однако скажу ему, что хорохориться ему не следует.Глава XLIII
Мы нашли Брюмьера не в нише, но уже в pianto, куда Орландо отвел его и оставил на свободе, рассчитав, что свадебная церемония уже кончилась. Нам тяжело было смотреть на бедного молодого человека. Он защищался с таким остервенением, что был в совершенном изнеможении и не мог пошевелиться без сильной боли. Притом от тоски, стыда и досады его била лихорадка. Орландо, освобождая его из заточения в нише, рассказал ему обо всем происшедшем. Брюмьер совсем обезумел от удивления и отчаяния. Мы привели его к себе, уложили в постель и дали лекарства. Он проспал несколько часов и почувствовал себя лучше, однако же, не захотел выйти на террасу казино, где мы поставили ему кресло. Казалось, ему свет опротивел; то смеясь, то плача, он твердил нам, что и облака, и птицы смеются над ним. Жалобное пение флюгеров казалось ему каким-то сатанинским смехом. Когда он увидел, что в нашем к нему внимании не было вовсе насмешки, он стал немножко повеселее. Скоро убедили мы его, что его досада и оскорбление пройдут так же скоро, как прошла его любовь. Он никогда не любил Медоры сердцем, Он промахнулся в выгодном деле, и промахнулся смешно, в этом и вся беда. Несмотря на это щекотливое положение, он сохранил силу рассудка и потому мог быть справедливым. — Она потешалась надо мной, — сказал он, — она жестоко смеялась над моим злоключением, так и должно быть. Глупая связь моя с Винченцей дала ей это право надо мной. Но если б она имела немного более сердца и справедливости, она поняла бы, что я любил только ее; если же терпел мызницу до последней минуты, так, конечно, только потому, что не знал, как отделаться от нее без огласки. Но такая гордая женщина, как Медора, конечно, не может простить того, что покажется ей оскорблением ее красоты и могущества. Уже другой раз пришлось ей выдержать соперничество с женщиной, которая, по ее мнению, принадлежит к низшей породе, чем она сама. Этого не могла перенести Медора, и я поплатился за двоих. Что же касается князя, на его месте я сделал бы то же самое. Вчера еще я доказал вам, что не хочу с ним ссориться, и, право, не из трусости. Мне кажется, что, вызвав князя, я подал бы Медоре повод думать, что я в самом деле безутешен. А этого вовсе нет. Досада моя проходит, а для утешения что-нибудь да найдется. О Фелипоне Брюмьер судил еще с большей справедливостью. Не без душевного волнения описал он нам все, что было между ним и фермером, и притом такими живыми красками, что я не сумею передать их в моем рассказе. — Этот пузатый итальянец — человек с замечательной энергией. Как мне ни хотелось задушить его в эту ночь за его телесную силу, я невольно чувствовал уважение к его нравственной силе. Не знаю, он ли выдумал заманить меня в западню, но я совершенно попался, Винченца сама предательски или из самоотвержения пришла сказать мне в Пикколомини, что Медора желает видеть меня. В саду Медора удостоила принять от меня в подарок этрусскую фибулу, но часов в восемь ушла в свою комнату, а я побежал пешком по тускуланской дороге так скоро, что едва переводил дух. Мне надо было вставать до света, и я сразу же уснул. Ни свет ни заря встаю, одеваюсь, убежденный, что Медора ждет меня в саду или казино Барония, где мы часто болтали до полуночи. На лестнице я встречаю Винченцу. «Вас ждут у моего мужа», — сказала она. Тяжело вздохнув, я бегу еще быстрее прежнего. Когда я пришел на ферму, мне пришло в голову, не хочет ли Фелипоне в самом деле угомонить меня, но жокей Медоры явился ко мне и сказал, что его госпожа в той комнате, которая примыкает к подземелью. С каждой минутой я яснее и яснее видел расставленные мне силки, но что было делать? А если Медора вправду была там, как было мне отступить? Только сделал я один шаг в эту проклятую комнату, где и огня вовсе не было, как почувствовал, что на меня накинули одеяло и завернули в него с головой. Сколько я ни кричал, ни ругался, меня, как маленького ребенка, унесли в подземелье. Когда мы были в знаменитой кухне, два человека скрутили меня; одного я не знаю, другой был Фелипоне. На этот раз в комнате было светло. Я думал, что меня хотят задушить, и потому защищался с отчаянием погибающего и рычал, как дьявол. Но эта бешеная получасовая борьба ни к чему не привела, разве только к тому, что они еще больше поколотили и помучили меня. Все это время Фелипоне сохранял изумительное хладнокровие, сказать по правде, хладнокровие геройское. Этим хладнокровием он уничтожал меня гораздо более, чем силой своих мускулов. В моем бессильном бешенстве я слушал его отрывистые речи, которые время от времени он обращал ко мне. «Синьор, вы поступаете неблагоразумно, что так отбиваетесь… Вы без всякой жалости вводите меня в искушение… Я поклялся не делать вам никакого зла… Подумайте же, как тяжело мне сдержать эту клятву! Не дразните меня, не выводите меня из терпения; мне надо еще много терпения». Иногда он обращался к своему сообщнику: «Видишь, Орландо, я его не царапаю, и не крепко сжимаю, а столько, сколько нужно, чтобы обнять его и уверить в искренней любви моей». Когда они спеленали меня, как мумию, и подняли в нишу по двойной лестнице, Фелипоне минут пять внимательно глядел на меня. Другой сошел вниз. «Мы вас, кажется, хорошо уложили, signore mio, — сказал он, — вы можете спокойно спать и забыть о тех, кого вы лишились на целую жизнь. Меня уверили, что вы согласились бы лучше умереть, чем томиться, как теперь, между тем как ваша возлюбленная отправляется венчаться с другим и смеется, вспоминая, где вы теперь находитесь. Вот почему я и волоска на голове у вас не тронул, однако ж, убирайтесь, говорю вам, отсюда; я отвечаю за себя только до завтра». При этих словах он не переставал улыбаться, но его неизменная веселость показалась мне страшнее радости дьяволов в Страшном Суде Микеланджело. — Вот видите, — сказала Даниелла Брюмьеру, — вам надо уехать! Опасность для вас еще не миновала. — Конечно, лишь только я буду в состоянии передвигать ноги, я покину эту проклятую страну. Вечером пришла к нам Мариуччия. Брюмьер хотел непременно слышать ее рассказ о примирении Медоры с. теткой и просил нашу любезную тетеньку не пропускать ничего из насмешек, которые, без сомнения, должны были к нему относиться. Но в Пикколомини ничего не знали о его печальном приключении. Думали, что он вчера еще получил отставку и в ту же ночь уехал. Медора хорошо обделала дела свои. Она вошла к тетке во время завтрака, кинулась на колени и просила прощения за свою непокорность. Леди Гэрриет прочла ей наставление, имевшее предметом ее образ жизни, ее прогулки верхом в неуказанные часы, а в особенности неприличную короткость с Брюмьером. В эту минуту князь, разыгрывавший за дверью роль милого малютки, тоже прибежал упасть к стопам миледи и объявил себя счастливым супругом, кончилось тем, что все вместе позавтракали очень дружелюбно. Назавтра князь приехал в Мондрагоне рано утром и пожелал видеть Брюмьера. — Милостивый государь, — сказал он ему, — я очень досадил вам и готов дать вам в том удовлетворение; но прежде всего я хочу избавить вас от опасности, которая, как я узнал от моего управителя Бенвенуто, усиливается с каждой минутой. Я уезжаю отсюда не ранее, как послезавтра. Вы можете взять мою карету и сегодня же ехать; Орландо и Бенвенуто проводят вас до Рима; оттуда вы поедете в Чивита-Веккию с Орландо, который там и дождется меня. Вы завтра же можете сесть на пароход; а потом мы увидимся, где и когда вам будет угодно. Брюмьер не принял предложения князя; но они расстались, пожав друг другу руку. Спустя час, лорд Б… приехал в карете, чтобы взять Брюмьера и отвезти его на пароход. Фелипоне не показывался с того времени, как мы встретили его в Рокка-ди-Папа. Бенвенуто суетился и приискивал все средства, чтобы пролог его будущего благополучия не был обагрен кровью, Он думал, что мызник караулит свою добычу, и потому просил лорда Б… спасти, по крайней мере, жизнь бедного отставного обожателя. Брюмьер простился с нами с выражением искренних чувств приязни и признательности, и просил отдать от него Винченце этрусскую брошку, которую Медора прислала ему назад. — Так вы хотите, чтобы муж непременно убил Винченцу? — спросила Даниелла. — Поберегите лучше этот подарок для первой герцогини, за которой будете волочиться. Брюмьер побледнел, вспомнив об ужасном положении, в котором оставлял Винченцу, и улыбнулся при мысли о новой, более блестящей победе. Мы видели, что неудачи не вылечили его от страсти к необыкновенным приключениям. Князь и княгиня отправились в Геную в тот день, когда истекал срок позволения оставаться в Папских владениях. Медоры мы уже не видали более. Князь приезжал проститься с нами, уверял в своей дружбе и звал меня к себе, если я вздумаю принять на себя работы по украшению его дворца. Бенвенуто не хотел принять от меня никакого вознаграждения за оказанные мне услуги. — Теперь я богаче вас, — сказал он мне, — и если когда вас посетит нужда, вспомните, что у вас есть друг Тарталья, который сочтет за счастье услужить вам. Леди Гэрриет, чувствуя себя совершенно здоровой, в тот же день отпустила Винченцу. Винченца пришла к нам спросить, не знаем ли мы что-нибудь о ее муже. — Как! — сказала ей с негодованием жена моя, — ты спрашиваешь об этом так спокойно? — Я знаю, — отвечала маленькая бесстыдница, — что господин Брюмьер теперь в безопасности, а мне Фелипоне ничего не сделает. — Которым же из двух вы больше интересуетесь? — спросил ее я. — Конечно, моим бедным мужем; тот меня обманывал. — А за себя ты совсем не боишься? — спросила Даниелла. — Чего мне бояться? Я помогала Фелипоне отомстить Брюмьеру и расстроить его женитьбу. — И ты еще надеешься иметь по-прежнему власть над своим мужем? — Chi lo sa! — отвечала она. — Но я уверена, что он со мной не сделает ничего дурного. — А ты не боишься, что он сделает что-нибудь над собой? — Что он убьет себя? О, если бы все обманутые мужья наказывали себя так строго за свою легковерность, мы все были бы вдовами. Бесполезно было читать ей наставления, Это была натура беспечная и бесстрашная. — Поди, по крайней мере, присмотри за племянниками твоего мужа; если б я не позаботилась о них в эти дни, они умерли бы с голоду. — Вот еще! Ты хлопочешь об этих обезьянах? Мне мочи нет, как надоели они и опротивели. — Они будут поистине достойны жалости, если твой муж не воротится. Он или очень далеко, или сильно страдает, если забыл об этих бедных малютках. Даниелла продолжала еще свои увещевания, когда Фелипоне вошел в pianto, где мы были в то время. Жена пошла к нему навстречу и обняла его; он поцеловал ее в обе щеки с совершенной непринужденностью, как будто между ними ничего не было, и просил ее пойти домой привести все в порядок. — Ступай вперед, — сказал он, — да убери тюфяки и одеяла, которые остались в befana; я сейчас приду помочь тебе. Сходя с лестницы pianto, она запела и украдкой кинула на нас насмешливый и полный торжества взгляд, которым, казалось, говорила: «Посмотрите на этого бедняжку!» — Дети, — сказал мызник, пожимая нам руки, — помолитесь за меня, помолитесь, вы веруете… Пожалеть меня очень стоит. Он не переставал улыбаться, когда у него вырвалось это первое и последнее выражение его отчаяния. — Судьба Винченцы решена! — сказала мне Даниелла. — Пойдем за ним! — Да к чему это приведет? Не нынче, так завтра; приговор ей вынесен. — Может быть, еще нет! Всего опаснее первая минута. Я кинулся вслед за мызником, но не мог догнать его, и нашел уже оборотную дверь затворенной и запертой изнутри. Эта массивная дверь была в шесть дюймов толщиной, а за ней каменная переборка с другой плотной дверью, так что сквозь их никакой шум в befana не мог быть слышен. Напрасно я прикладывал ухо к чуть заметной щелке, которая оставалась между деревом двери и каменной разделкой; более пяти мину не слышал я никакого звука, кроме шелеста шагов жены моей, которая ко мне подходила. Потом нам показалось, что кто-то вбежал в промежуток между двух дверей, бормоча несвязные слова; вскоре мы ясно разобрали голос мызника, который произнес: «Basta!» Задняя дверь, затворяясь снова, казалось, заглушила своим глухим скрипом подавленный крик, и все погрузилось в прежнюю тишину. — Ты будешь больна от этих потрясений, — сказал я Даниелле, которая дрожала и не могла держаться на ногах, — Жизнь твоего ребенка дороже жизни Винченцы. Поди отсюда и потерпи немного, если ты меня любишь. Клянусь тебе, я сделаю все, что человек в силах сделать, чтобы не дать Фелипоне… — Поздно! — сказала мне Даниелла. — Я тебя послушаюсь, а ты постарайся только узнать, что станется с моим крестным отцом. Она ушла из этого проклятого места, а я побежал на ферму через Мондрагоне, не надеясь добраться туда подземельем (Фелипоне, вероятно, принял свои предосторожности) и не рассчитывая наверное прийти вовремя, если бы даже двери были не заперты. Нужно было, по крайней мере, десять минут времени, чтобы вернуться к передним воротам и пройти во всю длину строения с наружной его стороны до кипарисной аллеи; столько же времени надо было, чтобы бегом пробежать аллею; а я не решился бежать, боясь быть замеченным и привлечь внимание посторонних в таком деле. С некоторого времени, а особенно с того дня, как пропал Фелипоне, ферма была совсем покинута. Двое работников оставались в поле; дети играли на маленьком дворике. Я спросил Джанино, пришел ли дядя. Он отрицательно махнул головой, и на желтом курносом лице его показалось выражение печали и беспокойства, не вдруг рассеянное беспечностью его возраста. Я всячески пробовал войти в нижний зал: он, как и всегда, был крепко заперт. Я дожидался битый час. Потом пошел, будто прогуляться, на луг к маленькой часовне, через которую есть выход из подземелья в поле. Часовня была так же заперта огромным замком. Я вернулся в Мондрагоне, сошел в углубление к противоположной оборотной двери; та же темнота и безмолвие. Я решился посоветоваться с Даниеллой. Она молилась перед иконой Богоматери, вставленной в портике. — Что делать теперь? — спросил я. — Ничего, если он уже исполнил свое намерение; мы должны делать вид, что ничего не знаем. Если же будем его искать и спрашивать, мы доведем его до плахи. Подождем еще час; там я понесу что-нибудь поесть бедным сиротам. Фелипоне, всегда добрый, совсем забыл о них! Как только я заметила в нем такое равнодушие, я подумала: это худой знак! День прошел без всякой перемены в нашем мучительном положении. К вечеру Даниелла предложила мне сходить к Онофрио. — Если крестный убил жену, а себя не убил, так он там. Онофрио был всегда его лучшим другом. Догадливость Даниеллы не обманула нас. На развалинах тускуланского цирка Фелипоне сидел рядом с пастухом. Овцы щипали около них сочную траву амфитеатра. Солнце садилось; легкий ветерок обвевал жесткие кудри фермера, не шевеля их. — Прекрасный вечер, — сказал он, поднявшись навстречу нам. — Здесь хорошо, и вы умно сделали, что пришли посмотреть закат солнца отсюда. — Это лучшее место во всей римской Кампаньи, — заметил Онофрио со своим обычным спокойствием, — даже в самые ненастные зимние дни мне здесь не бывает холодно. В январе я хожу сюда греться. Ведь это никому зла не делает, не так ли? Господь Бог не жалеет солнышка, и бедные люди, которым никто на свете и полена не даст, греются даром на солнце. С мучительным беспокойством вглядывались мы в лица двух собеседников; в них не было заметно, чтобы они с принуждением вели с нами речь о погоде; они как будто спокойно продолжали свой мечтательный разговор. — Незавидна жизнь пастуха, — сказал Фелипоне, — а все же, когда я был еще холост, волочился за нашими красавицами и нередко заглядывал в таверны, находили на меня минуты, когда и меня что-то влекло к уединенной, благочестивой жизни, как жизнь этого христианина. Если бы я верил, я не делал бы дела вполовину и непременно пошел бы или в капуцины, или в пастухи. Но скорее в пастухи, чем в капуцины, потому что капуцин, как машина, каждый день делает то же, что делал вчера, и читает все одни и те же молитвы; а пастух идет, куда ему вздумается, и говорит Богу, что душе сказать хочется. — И у пастуха есть дни радости и печали, — прервал его Онофрио. — Теперь жизнь его не плоха; в здешней стороне я живу уже десять лет: нечего сказать, славная сторона. Но в молодости плохое было мне житье в местах, где человека и не встретишь, где я не спал по целым ночам от лихорадки. Длинна бессонная ночь, когда твою скуку разгоняют только удары грома да молния. Читаешь молитвы да вместо четок считаешь капли дождя, падающие на крышу. Если при такой жизни ни во что не верить, брат Фелипоне, то скоро поглупеешь, как овцы, которых стережешь. — Я не говорю, что ни во что не верю, — отвечал мызник, — я верю в безумство мужчин и лукавство женщин. Говоря это, он закинул назад голову и разразился своим звучным смехом. Даниелла сжала мне руку и глазами указала, на его обнажившейся шее еще свежие царапины ногтей: Винченца защищалась. — Где твоя жена? — спросила она мызника, когда Онофрио встал, чтобы собрать стадо. — Жена моя? — сказал он с удивлением. — Должно быть, дома. Это было сказано так просто, так естественно, что я совершенно обманулся. Мы вместе дошли до мызы. Джанино, увидев своего дядю, побежал к нему навстречу и бросился мызнику на шею. Некрасивый, неловкий, но умный и чувствительный ребенок повис на нем и осыпал его ласками. — Бедный ребенок, — сказал мызник, посадив его к себе на плечо, — он очень скучал без меня. — Дядя, ты опять уйдешь? — спросил Джанино. — Нет, мой Джанинуччио, я останусь дома; я устал шляться по полям. — А тетя, она скоро придет? — Разве она еще не приходила? — Это тебя удивляет? — сказала Даниелла крестному отцу своему, глядя ему пристально в глаза. — Нимало, — отвечал хладнокровно мызник, опуская Джанино на землю, — она, должно быть, сбежала со своим последним любовником.…июня.
Вот все, чего мы могли добиться от Фелипоне. От Брюмьера получили мы письмо; он во Флоренции, здоров и просил нас уведомить, не слишком ли поколотил мызник свою жену.
Глава XLIV
…июня, Мондрагоне.Не думайте, что мы сидели сложа руки эти две недели и совсем уже отказались от надежды отыскать жертву ужасного супружеского мщения. В ночь того дня, когда случилось происшествие, Даниелла не могла заснуть и все время была в нервном состоянии, которое меня беспокоило. Вдруг она сказала мне: — Вставай, друг мой, мы должны непременно пробраться в эту проклятую befana. Мне не верится, чтобы у него достало духу убить свою жену; может быть, она только заключена в подземелье на время. — Я потерял всякую надежду, но, чтобы успокоить тебя, я готов попытаться, готов на все, даже на невозможное. Как ты думаешь, что делать? Когда мы с Бенвенуто отыскивали ход в befana, мы добрались до нее близко; доктор говорил мне, что он слышал нашу работу и что наши поиски очень их встревожили. — Это была опасная работа; я не хочу, чтобы ты снова начал ее; но я думаю, я уверена, что есть другой вход в befana, кроме того, который мы знаем, вход, открытый мызником уже после того времени, как там находились князь и доктор; тайну этого открытия Фелипоне бережет для себя одного. — Но почему ты так думаешь? — Право, не знаю… мне было какое-то видение… Не смотри на меня с таким беспокойством, не думай, что у меня жар, что я в бреду. Я говорю видение, но это, может быть, одно воспоминание; это воспоминание совершенно было изгладилось, но вдруг пробудилось, когда я сидела задумавшись, а, может быть, и задремала. Послушай! В тот день, когда Фелипоне подал нам мысль обвенчаться тайно, я встретила его в запустелой части парка, между кипарисной аллеей и стеной замка. Он рыл какую-то яму, и так как это вовсе не его дело, я удивилась. Он что-то отвечал мне, но я не обратила на ответ его особенного внимания; а как раз в этот день и в следующий мне было не до того, и я совсем забыла о таком пустом деле. Теперь все это вдруг пришло мне на память; может быть, Богу угодно, чтоб я об этом вспомнила. Пойдем туда! — Оставайся дома, я пойду один. Расскажи мне, где это? — Нет, ты не найдешь. Бери с собой инструменты, я понесу потайной фонарь. Мы пробрались между лавровыми и оливковыми деревьями до чащи, которую Даниелла никогда внимательно не осматривала, но где она с замечательным инстинктом нашла место, на котором, как ей виделось, мызник рыл землю. Вместо ямы мы нашли там холмик, по-видимому, давно насыпанный. Густая пелена мха доказывала, что это место давно забыто. Даниелла, державшая фонарь, нагнулась и тронула эту кору мха, которая тотчас отделилась и почти вся пристала к руке. Видно было, что она была наложена, а не выросла там; мох был так свеж и зелен, что, вероятно, был наложен там за несколько перед тем часов. Вследствие всего замеченного я не колебался пустить в дело заступ и лом. Рыхлая, недавно копанная земля в несколько минут была отвалена. Под ней я нашел плиты, расположенные в виде двойной лестницы, прикрывающей четырехугольное отверстие в уровень с землей. Я нагнулся к этому отверстию и почувствовал, что внизу пустота. Прибегнув, как делал я прежде, к зажженным бумажкам, которые бросил я в эту пропасть, я увидел внутренность обширного колодца, который книзу становился шире, Это был погреб. Я привязал принесенную мной веревку с узлами к дереву, которое отчасти прикрывало отверстие; Даниелла потихоньку спускала туда на бечевке фонарь. Мы более не сомневались; эта искусственная накладка земли навела нас на истинный путь. Мне пришлось спускаться не более трех метров. Немного выше дна погреба я увидел узкую и низкую лазейку и подумал, что дородный Фелипоне не без труда тут пролез. Пройдя немного, я достиг галереи, которая ведет к befana. Возвратившись оттуда, чтобы успокоить жену, я сказал ей, чтоб она пришла ко мне через pianto. Я уверен был, что мы выйдем отсюда через башню, удостоверясь в таинственном и, вероятно, ужасном событии, которое мы желали исследовать. Я прошел в befana без препятствия; слабый свет моей свечи не позволял мне видеть сразу всю внутренность, но, осмотрев порознь все части, я начинал думать, что нам пригрезились предполагаемые нами ужасы. Я пошел отворить Даниелле, которая вскоре пришла к оборотной двери, и старался успокоить ее. — Здесь никого нет, — сказал я ей. — Если б он здесь запер свою жертву, он запер бы на замок эту дверь, в которую она могла выйти. — Но если он убил ее! Везде ли ты искал? Посмотри сюда, вот новость! Большая печь со стороны казино заложена. — Не для того ли заложили печь, чтобы нам не слышны были крики Брюмьера, когда он содержался здесь целую ночь? — Он рассказывал нам, что ему завязали рот. Они не сделали бы этого, если б печь была заложена. Я пробил ломом кирпичную стенку, закрывавшую отверстие печи и увидел кучу сена за этой перегородкой, по-видимому, недавно сложенной. Фелипоне, как видно, принял все предосторожности, чтобы из казино не были слышны крики его жертвы. — Все заранее обдумано, — сказал я Даниелле, — нам не остается никакой надежды. Если он убил ее, то, вероятно, и зарыл где-нибудь здесь или в другом месте подземелья; может быть, даже в погребе, в который я спустился и вход в который он так заботливо скрыл. Мы осмотрели все. Кровать, на которой Тарталья ночевал за ночь перед тем, как устроил на ферме свадьбу князя, стояла еще тут с матрасом и одеялом. Мы вспомнили, что мызник заманил жену свою в befana под предлогом, чтобы она прибрала эту постель, а постель не была прибрана. Лестница, по которой внесли Брюмьера в нишу и свели его оттуда, была еще здесь; я влез по ней и нашел в нише запонку, которую я прежде видел на рукавах у Брюмьера. Нигде не было видно следов какой-нибудь борьбы. — Как хочешь, — сказала Даниелла, — меня что-то тянуло сюда, и я не выйду отсюда, пока не удостоверюсь. Бледная и дрожащая, она прокричала три раза своим звучным голосом имя Винченцы в этом мрачном и глухом здании. После третьего раза послышался слабый стон, и мы бросились к обломкам, откуда он раздавался. Мы нашли в углублении обрушившейся части здания несчастную женщину, сидевшую в бессмысленном оцепенении. Одежда ее была изорвана, волосы в беспорядке прилипли на лбу к запекшейся крови; черты лица ее так изменились, что невозможно было узнать ее. Она казалась до того страшной, что суеверная Даниелла в испуге отскочила от нее, вскрикнув: «Это befana!» Несчастная Винченца не в состоянии была отвечать нам. Она хотела встать, но не могла держаться на ногах и снова опустилась на свое место. Потеря крови истощила ее. На голове видны были следы удара, возле виска широкая рана, но она ничего не видела и не чувствовала боли, спрашивала только, нет ли чего на лице, и, казалось, утешилась, когда узнала, что лицо не обезображено. Кровь не текла уже из раны; кость, казалось мне, не была повреждена. Очевидно было, что Фелипоне хотел убить и думал, что убил ее, но у него не достало духу нанести второй удар. Этот человек, и сильный, и ловкий, не был в состоянии убить любимую женщину. Винченца вспомнила, что она боролась, прежде чем ее привели к водоему, в котором, как она думает, муж хотел утопить ее. Потом она упала от сильного удара и была в беспамятстве до той самой минуты, когда услышала свое имя, произнесенное мной и Даниеллой в befana. Она не узнала наших голосов и в эту минуту не была еще в полном сознании, но, слыша свое имя, произнесенное голосом, который не пугал ее, она сделала усилие, чтобы отвечать нам. Ей казалось, что ее столкнули в водоем, нанеся ей удар, от которого она лишилась памяти, и она, вероятно, не ошиблась в этом, потому что ее изорванное платье было мокро по пояс. Прийдя в себя, она дотащилась до того места, где мы нашли ее. Это было бессознательное усилие с ее стороны; она ничего не помнила об этом. Даже эти неполные подробности сообщила она нам лишь после нескольких часов отдыха. Даниелла едва могла согреть ее и провела остальное время ночи у ее постели. Я, как умел, перевязал рану, залил ее коллодием и покрыл липким пластырем, который дядя мой, великий лечило в своем приходе, сунул мне в чемодан на всякий случай. Я столько раз помогал ему перевязывать раны, что и теперь сделал это не совсем неловко. Благодаря не слишком раздражительной нервной системе и не испорченной крови, больная не подверглась реакции, которой я опасался, и в два дня рана закрылась и стала заживать. Мы решили хранить этот случай втайне; во-первых, чтобы не подвергнуть Фелипоне взысканию по законам, во-вторых, чтобы не навлечь на бедную жену нового мщения оскорбленного мужа. В ту же самую ночь, когда мы так неожиданно отыскали Винченцу, я скрыл все следы моих поисков; запер изнутри поворотную дверь и вышел через погреб, которым спустился в подземелье. Естественно было полагать, что у Фелипоне недостанет духу снова войти в befana, но он, вероятно, будет осматривать входы, чтобы увериться, что никто не открыл его преступления. Я не ошибся; он закладывал наглухо вход из подземелья в его погреб. Я узнал это от Джанино, который слышал, как он работал там по ночам и видел, как он сносил туда камни; и я сам, несмотря на его предосторожности, видел однажды утром, как он выходил из той части рощи, где погреб. Мне хотелось поглядеть тайком, что он там делал: холм был насыпан выше и усажен деревьями. В другой раз я видел Онофрио, без собак и без стада, близ часовни Santa Galla. Там, вероятно, вход был также забит. Мы с нетерпением ожидаем выздоровления Винченцы и случая выпроводить ее отсюда. Мы в беспрестанном опасении, чтобы муж не открыл ее в нашем казино. Он посетил нас только один раз с тех пор, как она живет с нами, и сел на ступень лестницы в той комнате, которая выходит на маленькую террасу, напротив наших покоев. Облокотясь на перила, я курил, не показывая вида, что наблюдаю за ним. Мне поневоле приходится быть таким же скрытным, как подобные ему итальянцы. Он сидел насупясь и как будто окаменев, со своей вечной улыбкой. Если б я осмелился сказать ему: «Она жива, она здесь, возле вас!» — быть может, я возвратил бы жизнь и спокойствие ему самому. Но Даниелла научила меня, верностью своих догадок, не доверять наружности. Вполне возможно, что выражение отчаяния и угрызений совести, которые я читал на лице этого несчастного, было только мрачным следом удовлетворенного мщения.
5-го июля.
Наконец, Винченца оправилась, — и пора ей было избавить нас от своего присутствия; я не мог уже переносить его. Без сердца и без рассудка, эта женщина только о том и думала, чтобы снова начать свою беспорядочную жизнь. Ею владеет бессмысленная чувственность; в ней одна только алчность к нарядам, и еще, лежа в постели, едва будучи в состоянии вымолвить слово, она расспрашивала об этрусской фибуле Брюмьера и упрекала Даниеллу, что та не захотела принять эту безделушку для нее. Расточительная, беззаботная, она помышляет не о том, как добыть кусок хлеба, а о том, будут ли у ней шелковое платье и вышитая косынка. Привычка к любовным интригам пробудилась в ней даже прежде восстановления сил; благодаря меня за оказанные ей помощь и услуги, она с глупым бесстыдством предложила мне свою благосклонность. Согласитесь, что это странный способ отблагодарить Даниеллу за ее преданность. Общество ее со дня на день становилось для нас неприятнее. Она тревожила и грязнила поэтическую гармонию нашей жизни своей ребяческой болтовней и развратностью своих ограниченных мыслей. Одно только можно было похвалить в ней, — ее кротость, но эта кротость происходила от недостатка энергии и всякого сознания собственного достоинства. Она смеясь получает самые жестокие уроки, а мужа только боится, никогда не чувствуя желания отомстить ему. «Бедный, — говорит она, — я уверена, что он искренно сожалеет о том, что сделал. Бог с ним, я ему не желаю зла! Если б я захотела, он опять взял бы меня к себе и на коленях просил бы у меня прощения». А когда ей советуют помириться, она отвечает, что хотя она и не сомневается в успехе, но что неприятно жить с таким ревнивцем. Ужас ее положения в befana и предстоявшая ей голодная смерть, если бы мы не спасли ее, не оставили в ней никаких следов. Она удаляет от себя эти воспоминания безо всякого усилия, утверждая, что не должно думать о грустных вещах, и доказывая тем, что есть натуры, одаренные счастливой неспособностью к страданию, похожие на известный род животных, почти бездейственных, которые совершенно слепо исполняют жизненные отправления в низших слоях творения. Даниелла поступала очень рассудительно, что не ревновала, несмотря почти на очевидные притязания на меня со стороны Винченцы. — Я не могу сердиться на нее, — говорила она, — она сама не понимает своего положения; она безвинна, как скоты. Фелипоне, верно, чувствовал это, поэтому и совесть не мучит его… А между тем Фелипоне терзался угрызениями совести и впал в безутешную тоску. Я привык читать в чертах его лица борьбу страсти с его сангвиническим темпераментом. Винченца начинала ходить, и мы стали думать, как бы помочь ей тайно бежать отсюда. В одну бурную ночь мы услышали звонок у ворот большого двора. Посещение в такую позднюю пору и в сильную грозу требовало некоторых предосторожностей. Человек верхом, закутанный в плащ с головы до ног, просил впустить его на минуту в замок. Это был доктор Р… — Вы догадываетесь, что привело меня сюда, — сказал он мне. — Я приехал за Винченцей… если еще не поздно. Он встретил Брюмьера в Спецции. Узнав, что он едет из Фраскати, доктор, хотя и не был знаком с ним, расспрашивал его о лицах, которыми интересовался: о своей матери, обо мне, о Фелипоне. Брюмьер только что получил письмо от нас, в котором мы писали, каким опасностям подвергалась и еще подвергается Винченца, и рассказал это доктору. — Я понял, — продолжал доктор, — что господин Брюмьер, хотя он и не хвалился этим, должен был замешан в несчастные дела этих супругов. Не могло быть, что в глазах мужа я один был всему виной. К тому же, если женщина принадлежала мне, без коварства и без своекорыстных видов, я почитаю себя обязанным быть ее защитником всегда, когда я могу быть ей полезен. Я знаю Фелипоне с его исключительными страстями; он столько же способен любить, как и ненавидеть. Я приехал узнать, должен ли я увезти его жену или не могу ли я помирить их. Во всяком случае я готов привлечь опасность на себя, чтоб отвратить ее от Винченцы. Когда доктор узнал о происшедшем, он уже не колебался. — Отдайте мне эту бедную женщину, — сказал он, — я посажу ее с собой на лошадь и берусь отвезти ее в безопасное место, а оттуда отправлю ее во Францию, где один из друзей моих просил меня прислать ему итальянскую кухарку, а она мастерски готовит макароны. Может быть, муж ее когда-нибудь раскается в своих жестокостях и будет рад узнать, что она жива; но сказать ему, где она находится, было бы безрассудно и бесполезно. Я сообщил все это Даниелле; она одела Винченцу в свое собственное платье, закутала ее, и я посадил ее потом на лошадь к доктору, который не хотел даже слезть с лошади и все время говорил со мною потихоньку, сидя верхом, под сводамиказармы, служащей подъездом к замку. Винченца радовалась, как ребенок, своему отъезду, восхищенная надеждой увидеть Париж и умереть для Фелипоне. — Мы многим рискуем, — сказал мне доктор на ухо. — Потрудитесь взглянуть в сторону Камальдульского монастыря, не заметил ли кто моего приезда? Когда я исполнил его просьбу, он пожал мне руку и пустился в галоп с опасной спутницей, которую с такой отвагой взял под свое попечение. Изгнанник, голова которого оценена, он подвергал жизнь свою риску для спасения женщины, которую не любил, если только он вообще кого-нибудь любил в своей жизни, проведенной среди легких удовольствий. Этот поступок был признаком человечности, свойственной его характеру, рыцарским делом, совершенным отважно, молодецки, но без хвастовства. Великая душа! Я не скажу типичная в отношении к Италии, где типы так разнообразны; но все же итальянская, в том смысле, что столько же способна к высоким, прекрасным движениям, как и к самым пагубным порывам. Ничего наполовину; все велико, все громадно. Где зло становится мелким проступком, там национальный тип, можно сказать, совершенно изгладился. К несчастью, здесь он огромных размеров. Такой тяжкий ответ дадут Богу те, кто умерщвляют душу поколений и населяют гнусными призраками благословенные страны, где провидение так щедро разлило красоту идей и форм!
Заключение
На этом месте кончается дневник Жана Вальрега. Постоянные занятия, порученные ему работы по части живописи, музыкальные уроки жене, прогулки, необходимые для сохранения здоровья, и частые посещения виллы Таверна, где лорд и леди Б… провели лето — все это отнимало у него столько времени, что ему было трудно писать свой дневник, по данному мне обещанию, и он просил моего разрешения заменить его простыми письмами. Сообщаю читателям все, что узнал я из этих писем о положении Жана Вальрега осенью того же года. Трагическое происшествие в befana не возбудило подозрений, несмотря на отсутствие Винченцы и неизвестность, куда она скрылась. Фелипоне не искал жены своей. Когда его спрашивали, он отвечал, что он becco, beccone, becco cornuto, и смеялся. Винченца исчезла в одно время с Брюмьером, отъезда которого никто не видал; все думали, что он похитил мызницу, потому что связь его с ней ни для кого не была тайной. Окружавшие виллу строения продолжали разрушаться и осыпались мало-помалу в ров. Один центральный павильон оставался невредим и украшался фресками и роскошной отделкой. Казино превратилось в веселое, свежее, поэтическое обиталище скромной супружеской четы. Любопытство видеть любящих супругов, приютившихся в развалинах, привлекало иногда и докучных, лишних посетителей, но это любопытство было выражением сочувствия, и кроме того к вечеру всякие посещения прекращались. За обедом и целый вечер молодые супруги оставались одни, среди тихого и величественного уединения, и эти часы были истинным праздником для Вальрега и Даниеллы. Они мечтали о милом малютке, который еще не родился, а пока любили Джанино, одевали его опрятно и учили грамоте. Фелипоне, по-видимому, был спокоен, как прежде. Он продолжал заниматься своими делами, содержал свою мызу и свою молочню еще лучше прежнего, ласкал своих племянников, хвалил Джанино, как какое-нибудь диво, не обращал никакого внимания на женщин и насмехался над обманутыми мужьями и над самим собой. «Мы замечаем только, — писал Вальрег, — что он худеет и глаза у него тускнеют. Он много пьет и после ужина часто заговаривается, но не проговаривается; никогда не вымолвит слова, которое могло бы его компрометировать; но его вечная улыбка получила особенное выражение постоянного страдания. Мне кажется, что он страдает печенью и, кажется, сам хлопочет о том, чтобы болезнь эта не продлилась. Он часто ходит беседовать с тускуланским пастухом, который старается вылечить его от атеизма, но до сих пор старания его безуспешны. Однако же, эта дружба между людьми столь противоположных мнений и характеров объясняется, может быть, в Фелипоне бессознательной потребностью веры. Иногда кажется, что он для того только отстаивает свое неверие, чтобы его опровергли. К сожалению, пастух, при всем своем здравом смысле, слишком подчинен местным предрассудкам, и не может быть хорошим проповедником. Онофрио верит в колдунов. Другой пастух, сосед Онофрио, прославился своими зароками: он gettatore, заговорщик, и своими заговорами переморил много баранов у Онофрио, который заискивает с ним, из опасения, чтобы он не напустил на негр болезнь, как на одну старушку из Марино: «Бедную все рвало волосами; все волосы да волосы; так комом и лежали в желудке, и такие длинные, густые, без конца; кажется, можно бы завалить ими Монте-Каво». Как видите, мудрец Онофрио, ученый, философ, воздержанный и строгий к себе, как святой, человек с душой во всех отношениях, все-таки мужик не лучше наших. Фелипоне смеется над его россказнями о чудесах, и даже угрозы адом не пугают закоснелого безверца и не пробуждают в нем угрызений совести. Я только однажды слышал, как он сожалел о своем неверии, но он тут же прибавил: «Рай и ад на земле; кто изведал их здесь, тому нечего более ни желать их, ни бояться». Не такая вера у Даниеллы. Но она считает уже себя прощенной и без опасений наслаждается своим счастьем, которое удваивается надеждой быть скоро матерью. Медора строит себе в окрестностях Генуи баснословно роскошную виллу. Тарталья обделывает при этом случае свои дела «честным образом», как он уверяет. Лорд и леди Б… живут в согласии. Когда леди бывает не в добром расположении духа, она бранит Буфало, который пользуется уже правом находиться в гостиной. Я видел в Берри аббата Вальрега; он сказал мне, что добрая леди Гэрриет в духовном завещании своем отказала небольшое состояние будущим детям Жана Вальрега. Это распоряжение хранится втайне от молодых супругов.Жорж Санд Жак
I
Тилли, близ Тура…Ты хочешь, дружок, чтобы я сказала тебе правду, и упрекаешь меня в том, что я скрытница, как мы говорили в монастыре. Совершенно необходимо, пишешь ты, чтобы я открыла тебе свое сердце и сказала, люблю ли я Жака. Так вот, душечка: да, я люблю его, и очень. Почему бы мне теперь не сознаться в этом? Завтра подписывается брачный контракт, а меньше чем через месяц мы поженимся. Прошу тебя, успокойся и не приходи в ужас от такой быстроты. Я надеюсь — нет, я уверена, — что в этом браке меня ждет счастье. Ты просто глупышка со всеми твоими страхами. Напрасно ты воображаешь, будто матушка приносит меня в жертву — из честолюбия, из желания выдать меня за богатого. Правда, она более, чем следует, чувствительна к такому преимуществу, меня же, напротив, при состоянии Жака и наших скромных средствах тяготила бы мысль, что я всем обязана мужу, — да, тяготила бы, не будь Жак благороднейшим в мире человеком. Насколько я знаю своего жениха, мне остается лишь радоваться его богатству: ведь иначе матушка не простила бы Жаку его незнатное происхождение. Ты говоришь, что не любишь моей матери и что она всегда производила на тебя впечатление злой женщины. Право, нехорошо, что ты так говоришь о ней, — ведь я должна относиться к ней с уважением, должна ее почитать. Вижу, что тут я сама виновата, сама привела тебя к такому мнению, ибо нередко имела слабость посвящать тебя в свои мелкие горести и обиды, которые она мне, случалось, причиняла. Больше уж не заставляй меня раскаиваться в этом, дорогой дружок, не говори дурно о моей матери. Разумеется, не это любопытно в твоем письме, а та своего рода подозрительность и прозорливость, благодаря которым ты угадываешь многое. Ты, например, заявляешь, что Жак, несомненно, стар, холоден, сух и весь пропах табаком. Предположения отчасти верные: мой жених уже не первой молодости, с виду он спокоен и серьезен, курит трубку. Видишь, как хорошо для меня, что Жак богатый человек, — иначе, наверное, матушка не потерпела бы ни трубки, ни табачного запаха. Когда я увидела его в первый раз, он курил, а из-за этого мне всегда приятно видеть его с трубкой в руках и в той самой позе, в какой он был тогда. Мы встретились у Борелей. Я говорила тебе, что господин Борель был уланским полковником — во времена Другого, как говорят здешние крестьяне. Жена Бореля никогда и ни в чем ему не противоречила и, хотя терпеть не могла трубки, скрывала свое отвращение, а потом постепенно привыкла и теперь без труда с ней мирится. Мне не надо будет вдохновляться этим примером, чтобы быть снисходительной к мужу. Я не питаю отвращения к запаху табака. Эжени Борель разрешает мужу и всем его приятелям курить и в саду, и в гостиной, и всюду, где им вздумается, и она правильно поступает. Женщины обладают удивительным талантом доставлять неудобства и стеснять мужчин, которые их любят, а все потому, что капризницы не желают сделать маленькое усилие над собой и приноровиться к мужниным вкусам и привычкам. Наоборот, они заставляют мужей приносить множество мелких жертв, чувствительных, однако, в домашнем быту как булавочные уколы, и мало-помалу семейная жизнь становится невыносимой… О, представляю себе, как ты хохочешь и восхищаешься моими сентенциями и благими намерениями. Что поделаешь! Я готова одобрить все, что приятно Жаку, и если будущее оправдает твои насмешливые предсказания, если когда-нибудь мне придется разлюбить все, что мне нравится в нем сейчас, то я хоть познаю счастье в медовый месяц. Образ жизни Борелей ужасно скандализирует местных ханжей. Эжени смеется над ними; ведь она счастлива, любима мужем, окружена преданными друзьями да еще и богата — обстоятельство, которому она обязана вниманием самых ярых легитимистов, время от времени ее навещающих. Даже моя матушка принесла свою гордость в жертву этому соображению, так же как она жертвует ею в своих отношениях с Жаком, и именно у госпожи Борель она учуяла и выследила богатого жениха для своей бесприданницы дочери. Ну вот, опять я невольно принялась высмеивать маменьку. Право, какая же я еще школьница! Жаку придется заняться моим исправлением, а ведь Жак не из смешливых. Теперь же следовало бы тебе, противная, журить меня, а не насмешничать вместе со мной!.. Так вот, я тебе говорила, что первый раз увидела Жака у Борелей. Уже за две недели до этого у них только и было разговору, что вот скоро приедет капитан Жак, офицер, вышедший в отставку после того, как он получил в наследство миллион. Моя матушка широко раскрывала глаза и вся обращалась в слух, впивая магическое слово «миллион». У меня же это богатство вызвало бы сильное предубеждение против Жака, если б не удивительные рассказы Эжени и ее мужа — в них только и речи было, что о храбрости Жака, о великодушии Жака, о доброте Жака. Правда, ему приписывали и кое-какие странности. Но мне так и не удалось получить сколько-нибудь вразумительное объяснение этих странностей, и я напрасно ищу теперь, что же в его характере и манерах могло дать повод к такому мнению. Этим летом мы пришли однажды вечерком к Эжени Борель; мне думается, матушка учуяла, что в воздухе пахнет выгодной партией. Эжени с мужем вышли нам навстречу со стороны двора. Нас усадили в гостиной, в нижнем этаже, я села у окна, занавески которого были полураздвинуты. — Ну как, приехал наконец ваш друг? — спросила через три минуты маменька. — Приехал нынче утром, — с веселым видом ответила госпожа Борель. — Ах, поздравляю и радуюсь за вас! — подхватила маменька. — Надеюсь, мы увидим его? — Он убежал со своей трубкой, как только услышал, что у нас гости, — ответила Эжени. — Но он, конечно, вернется. — А может быть, и не вернется, — заметил ее муж. — Он ведь дикарь, как обитатели берегов Ориноко (это, знаешь ли, одна из излюбленных шуток господина Бореля), а я не успел предупредить, что хочу представить его двум прекрасным дамам. Надо узнать, Эжени, не отправился ли он на дальнюю прогулку, и послать человека предупредить его. Во время этого разговора я не сказала ни слова, хотя очень хорошо видела господина Жака в щелку между занавесками. Он сидел в десяти шагах от дома на ступеньках каменного крыльца, на которое Эжени с весны выставляет красивые вазы с цветами из своей теплицы. На первый взгляд мне показалось, что ему лет двадцать пять самое большее, хотя в действительности ему не меньше тридцати. Трудно себе представить более красивое, более благородное лицо с чертами более правильными, чем у Жака. Ростом он невелик и кажется хрупким, хотя уверяет, что у него крепкое здоровье; он всегда бледен, а черные как смоль волосы, которые он отпускает до плеч, еще подчеркивают его бледность и худобу. Я подметила, что улыбка у него печальная, взгляд унылый, лоб ясный, осанка горделивая; в общем, все выдает в нем душу гордую и чувствительную, изведавшую суровые испытания судьбы и вышедшую из них победительницей. Не говори, что я пишу высокопарно, как в романах; право же, я уверена, если б тебе пришлось увидеть Жака, ты нашла бы все это в его облике, да, несомненно, и многое другое, чего я еще не уловила, так как он внушает мне крайнюю робость. Мне чудятся в его характере черты необычайные, и понадобится много времени для того, чтобы их распознать, а быть может, и понять. Я тебе буду рассказывать о них день за днем в надежде, что поможешь мне судить о них, — ведь ты и проницательнее и опытнее меня. А пока я опишу тебе некоторые его особенности. Чувство резкого отвращения или романической симпатии возникает у него внезапно, с первого взгляда. Я знаю, что у всех так бывает, но никто не отдается своим впечатлениям с таким слепым упорством, как он. Если какое-то впечатление достаточно сильно, чтобы на основе его он мог с первого взгляда составить свое суждение, он уже заявляет, что никогда не изменит его. Боюсь, что он неправ, что это источник многих заблуждений, а может быть, иной раз и жестокости. Скажу тебе даже, чего я опасаюсь, — как бы он не вынес такого поспешного суждения и о моей маменьке. Несомненно, он не любит ее, она не понравилась ему с первого же дня знакомства; он мне этого не говорил, но я сама заметила. Когда господин Борель извлек его из глубины размышлений и из облаков табачного дыма и привел в гостиную, чтобы представить нам, он подошел как-то нехотя и поклонился нам с ледяной холодностью. Маменька обычно держится высокомерно и холодно, но с ним была поразительно любезна. — Позвольте пожать вам руку, — сказала она, — Я хорошо знала вашего отца да и вас самих, когда вы были еще ребенком. — Знаю, сударыня, — сухо ответил Жак, не выказывая желания обменяться с маменькой рукопожатием. Думается, она это поняла, так как его нежелание было весьма заметно, но маменька очень осторожна и так искусно ведет себя, что никогда не попадает в ложное положение. Она сделала вид, будто приняла отвращение господина Жака за робость, и настойчиво сказала: — Дайте же мне руку, я ваш старый друг. — Я это прекрасно помню, сударыня, — ответил он еще более странным тоном и почти судорожно сжал ей руку. Словом, повел он себя так необычно, что супруги Борель удивленно переглянулись, а маменька, хоть ее и нелегко смутить, тяжело опустилась на стул и побледнела как смерть. Через минуту Жак опять ушел в сад, а маменька велела мне спеть романс, о котором она говорила Эжени. Впоследствии Жак сказал мне, что мой голос вызвал у него такую симпатию, что он возвратился в гостиную посмотреть на меня, — до тех пор он не видел меня в моем уголке. И с этого мгновения он полюбил меня — по крайней мере он так уверяет. Но я все говорю совсем не о том, что собиралась сказать. Я ведь начала рассказывать о странностях Жака и об одной написала, теперь хочу написать о другой. Недавно он пришел к нам как раз в ту минуту, когда я выходила из дому, повязанная синим ситцевым передником, и несла в руках глиняную миску с супом; я нарочно вышла через заднюю калитку, не желая никому попадаться на глаза в таком убранстве. Но случаю угодно было, чтобы господин Жак по прихоти, столь свойственной ему, повернул свою породистую лошадь именно в этот переулок. — Куда это вы направляетесь? — спросил он, спрыгнув на землю, и загородил мне дорогу. Мне очень хотелось избежать встречи с ним, но это было невозможно. — Дайте мне пройти, — сказала я, — и ступайте в дом, подождите меня. Я сейчас вернусь, только отнесу корм своим курам. — А где же они находятся, ваши куры? Я хочу посмотреть, как вы их кормите. Он забросил поводья на шею лошади, сказав ей: «Фингал, иди в конюшню!», и лошадь, которая понимает его слова, как будто знает человеческий язык, тотчас послушалась хозяина. А Жак взял у меня миску из рук, бесцеремонно снял крышку и увидел суп, очень аппетитный на вид. — Черт возьми! — сказал господин Жак. — Так вы кормите своих кур супом? Полноте, я вижу, что вы идете навестить какого-нибудь бедняка. Не надо этого скрывать от меня — дело это самое обычное, и мне приятно видеть, что вы сами несете миску. Я пойду с вами, Фернанда, если позволите. Я взяла его под руку, и мы направились к домику старухи Маргариты, о которой я часто тебе писала. Господин Жак всю дорогу нес суп, не боясь запачкать свои бледно-желтые замшевые перчатки, нес с таким непринужденным видом, как будто это было для него самое привычное в жизни дело. — Другой на моем месте, — сказал он мне дорогой, — воспользовался бы удобным случаем и наговорил бы вам кучу изысканных комплиментов, восславил бы и в прозе и в стихах ваше милосердие, вашу чувствительную душу, вашу скромность, а я ничего вам этого не скажу, Фернанда, — меня нисколько не удивляет, что вы на деле даете исход добрым своим чувствам. Было бы просто ужасно, не окажись у вас душевной мягкости и сострадательности, — ведь тогда вашу красоту и чистосердечный вид надо бы назвать мерзкой ложью самой природы. Увидев вас, я решил, что вы полны искренности и святой чистоты; и для того, чтобы убедиться, что я не ошибся, мне вовсе не нужно было встречать вас на дороге к хижине бедняков. Я не назову вас ангелом за то, что вы шли туда, но скажу, что вы не могли поступить иначе, потому что вы ангел. Прости, что я так подробно пересказываю тебе наш разговор; ты, пожалуй, подумаешь, что я немного хвастаюсь ласковыми словами господина Жака. И в самом деле, милая Клеманс, так оно и есть: я очень горжусь его любовью; можешь смеяться надо мною, это ничего не изменит. И не следует ли мне передать тебе нашу встречу во всех подробностях, раз ты хочешь знать всю историю моей любви и все черты характера моего жениха? Уж теперь-то тебе нельзя будет упрекнуть меня в краткости моих посланий. Итак, продолжаю. Мы пришли к тетушке Маргарите. Она изумилась, увидев, что миску с супом ей принес красивый господин в бледно-желтых перчатках. И вот началась обычная ее болтовня; говорливая старушка прямо при Жаке принялась расспрашивать, не муж ли он мне, и слать мне пожелания всяких благ, рассказывать о своих горестях, а главное, жаловаться, что пришел срок платить за квартиру, — ведь даром-то ее держать не будут — и при этом она смотрела на меня так жалобно, словно хотела сказать, что я должна была принести ей что-нибудь поважнее супа. А у меня денег нет: у маменьки их совсем мало, и она мне ничего не дает. Я запечалилась, как это часто бывает со мной, когда я сознаю, что не могу облегчить даже сотую долю тех горестей, которые вижу вокруг. Жак как будто и не слышал ни одного слова из сетований Маргариты. Он нашел на полке старую Библию, обглоданную мышами, и, казалось, внимательно ее читал, но вдруг, внимая жалобам Маргариты, я почувствовала, что в карман моего передника упало что-то тяжелое; я опустила в карман руку и нащупала там кошелек; я не выразила никакого удивления и спокойно дала старушке ту сумму, которая ей была нужна. Все шло хорошо, у Жака вид был кроткий, спокойный, но вот, выходя, я совершила неловкость: тихонько сказала Маргарите, что деньги ей подарил Жак. Тогда она осыпала его бесконечными благодарностями и благословениями, чересчур многословными, как у всех бедняков, и немножко глуповатыми; но, думается мне, их следует принимать, поскольку для несчастных это единственное средство отплатить за оказанную им помощь. А знаешь, что сделал Жак? Сначала слушал, досадливо насупив брови, а потом оборвал благодарственные причитания старухи и сказал резким и нетерпеливым тоном: «Перестаньте! Довольно!». Бедняжка Маргарита умолкла, такая изумленная, униженная. Я немножко рассердилась на Жака и, когда мы отошли от домика, упрекнула его. Он улыбнулся, а вместо всяких оправданий взял меня за руку и сказал: — Фернанда, вы доброе дитя, а я уже не молодой человек; вам по праву нравятся излияния благодарности, которую вы вызываете, — это невинное удовольствие, и я хотел бы, чтобы вы и дальше его испытывали. Меня же такие вещи уже не могут радовать, а, наоборот, кажутся мне смертельно скучными. А я ответила ему: — Я готова верить, что вы всегда поступаете правильно, и покорно признаю, что неправа; но объяснитесь, Жак, постарайтесь, чтобы я хорошо поняла вас и чтобы мне в любом случае и в голову не приходило осуждать вас. Он опять улыбнулся, но как-то печально, и, не удостоив меня объяснения, которого я просила, повторил прежние свои слова: — Я уже сказал, дорогое дитя, что вы правы и нравитесь мне такой, какая вы есть. Вот и все. Он заговорил о другом, а у меня, не знаю отчего, весь день было на душе грустно и тревожно. Подобные столкновения бывают у нас нередко; есть в нем что-то странное, непостижимое, пугающее меня, и, думается, напрасно он не хочет дать себе труд мне все объяснить. Но сколько в нем черт, достойных восхищения, восторга! Не стоит обращать внимания на маленькое облачко, когда над тобою простирается чистое небо. Но все равно, мне хочется знать твое мнение об этих пустяках: я доверяю твоему здравому смыслу и привыкла на все смотреть немножко твоими глазами. Кстати, маменьке это не по душе. Ничего, вскоре я уже буду свободна писать тебе не таясь. До свидания, дорогая Клеманс. Второе письмо напишу, не дожидаясь ответа на первое. Целую тебя тысячу раз. Твоя подруга Фернанда де Терсан.
II
От Сильвии — Жаку Женева…Неужели это правда, Жак, что ты скоро женишься? Жена твоя будет очень счастлива! Но ты-то, друг мой, найдешь ли ты счастье в этом браке? Мне кажется, ты слишком торопишься, и это пугает меня. Не знаю почему, но бедная моя голова не может вообразить тебя женатым; ничего тут не понимаю, и смертельная тоска гложет меня: мне кажется невозможным, чтобы какое-нибудь событие изменило к лучшему твою участь, все думается, что новые страдания разобьют твое сердце. Ах, дорогой мой Жак, таким людям, как мы с тобой, надо быть очень осторожными. Все ли ты обдумал? Хороший ли выбор сделал? Ты одарен наблюдательностью, ты проницателен, но ведь иной раз можно обмануться, иной раз сама истина лжет! Ах, как часто ты в своей жизни обманывался! Сколько раз впадал в отчаяние! Сколько раз я слышала от тебя: «Это последняя попытка!». Ну, почему меня преследуют мрачные предчувствия? Что может случиться? Ты мужчина, у тебя много сил. Но как же это тебе пришла мысль о браке! Меня это изумляет. Ты совсем не создан для общества! Ты всем сердцем ненавидишь его нравы, его обычаи и предрассудки! Ты подвергаешь сомнению даже вечные законы правопорядка и цивилизации и уступаешь им лишь потому, что не вполне уверен, следует ли их презирать; и вот при таких взглядах, при таком непостижимом характере и неукротимой душе ты собираешься выказать свою покорность обществу, связав себя нерасторжимыми узами; ты готов поклясться в вечной верности некоей женщине — это ты-то! Твоя честь и совесть будут тогда связаны твоей ролью покровителя жены и отца семейства. О, говори что угодно, Жак, но тебе эта роль совсем не подходит — ты выше или ниже ее; каков бы ты ни был, ты все-таки не создан для жизни с заурядными людьми. Итак, ты хочешь отказаться от всего, чем жил до сих пор и чем мог бы жить и дальше? А ведь твоя жизнь — это бездна, куда вперемежку падало все хорошее и все дурное, что дано чувствовать человеку. Ты за один год прожил двадцать жизней обыкновенного человека; ты исчерпал и растратил много существований, еще не зная, началось ли твое собственное существование. А на ту жизнь, которая теперь предстоит тебе, ты тоже будешь смотреть как на переходное состояние, как на узы, которые должны порваться и уступить место другим. Я не более, чем ты, поклоняюсь правилам нашего общества, от рождения ненавижу их; но где ты найдешь людей, которые в силах бороться против общества и даже просто жить без него? А какова женщина, на которой ты женишься? Такая же, как ты? Можно ли отнести ее к числу тех редкостных натур, каких рождаются единицы на протяжении целого столетия, к числу созданий, назначением которых является любовь к истине и которые умирают, так и не внушив людям этой любви? Не принадлежит ли она к тем, кого мы называли дикарками в часы нашей грустной веселости? Жак, берегись! Во имя неба, вспомни, сколько раз мы оба с тобой считали, что встретили себе подобных, и сколько раз оба оставались одинокими! Прощай! Не спеши! Постарайся хотя бы поразмыслить хорошенько. Подумай о своем прошлом, подумай о прошлом твоей сестры Сильвии.
III
От Фернанды — Клеманс Тилли…Дорогая, сегодня я сделала открытие, которое произвело на меня странное впечатление. Слушая текст брачного контракта, я узнала, что Жаку тридцать пять лет. Разумеется, такой возраст не назовешь пожилым; к тому же человеку столько лет, сколько ему кажется с виду, а при первой встрече я дала Жаку на десять лет меньше. И все же, не знаю почему, но самое звучание этих слов — тридцать пять лет! — испугало меня. Я посмотрела на Жака удивленно и даже сердито, словно он до сих пор обманывал меня. Однако ж он никогда не говорил мне, сколько ему лет, да мне и в голову не приходило спросить его об этом. Я уверена, что он тотчас же сказал бы мне правду: по-видимому, он весьма равнодушен к таким вещам и совершенно не заметил, какое впечатление произвело не только на меня, но и на многих присутствовавших при чтении контракта то обстоятельство, что моему жениху тридцать пять лет. А ведь я находила его чуточку староватым для меня, когда думала, что ему только тридцать!.. И уж как бы я ни старалась перебороть себя, признаюсь, Клеманс, мне досадна эта разница в возрасте: мне теперь кажется, что Жак гораздо меньше мой товарищ и друг, чем я воображала; он чуть ли не в отцы мне годится — ведь он старше меня на восемнадцать лет! Право, мне это немножко страшно, и характер моей привязанности к нему как-то меняется. Насколько я могу судить, во мне происходит перемена: мое доверие и уважение к Жаку возрастают, а восторг и гордость уменьшаются. В общем, нынче вечером мне было совсем не так радостно, как утром, — и этого я не могла скрыть. Мне все вспоминается твое письмо, и я думаю об этом «старом и холодном человеке», каким он тебе кажется. А между тем, Клеманс, если бы ты только видела Жака! Как он красив, какая у него стройная, юная фигура, какие мягкие и простые манеры, какой добрый взгляд, какой благозвучный и свежий голос. Право, ты и сама в него влюбилась бы! Он поразил, он пленил меня с первой же минуты, и каждый день меня все больше привлекали его манеры, его взгляд и звук его голоса; но надо правду сказать: до сих пор мне недоставало ни смелости, ни хладнокровия, чтобы хорошенько его рассмотреть. Когда он приходит, я здороваюсь с ним и смотрю на него с радостью, и в это мгновение ему семнадцать лет, как и мне, а потом я уже и не смею смотреть на него, потому что он не сводит с меня глаз. Стоит выражению его лица хотя бы слегка измениться, я замечаю, что он наблюдает за мной, и отказываюсь от роли наблюдательницы. Да и зачем мне эта роль? Разве я увижу в нем что-либо неприятное для меня? И разве у меня хватит умения угадать его тайные мысли и чувства, если он даст себе хоть немножко труда скрыть их от меня? Я так молода, а он… У него, вероятно, большой жизненный опыт!.. Иногда он наблюдает за мной, а я подниму на него робкий взгляд, будто жду его приговора, и вдруг читаю на его лице столько любви, удовольствия и какое-то безмолвное, тонкое и нежное одобрение, что сразу успокаиваюсь и чувствую себя счастливой. Я вижу, как все, что я делаю, все, что я говорю, все, что думаю, нравится Жаку, и вместо сурового критика нахожу в нем существо, понимающее меня, снисходительного друга, быть может, возлюбленного, ослепленного страстью. Ах, да зачем же я порчу свое счастье и ослабляю свою любовь, копаясь в таких мелочах! Не все ли равно, больше или меньше Жаку на сколько-то лет? Он прекрасен, мой чудесный Жак, в нем столько благородства, его вполне заслуженно уважают и восхищаются им все, кто его знает, и он любит меня, я уверена в этом. Чего мне еще требовать?
IV
От Клеманс — Фернанде Из аббатства О-Буа, Париж…Получила оба твоих письма в один день. Два удовольствия разом! Радости хоть отбавляй, да вот беда, дорогая моя Фернанда: все дело портят тревога и беспокойство, которые вызвали у меня твоя неуверенность и какое-то ненадежное положение. Ты спрашиваешь у меня совета в самом важном и самом сложном для женщины деле; ты просишь, чтобы я разъяснила тебе то, чего я и сама не ведаю, — ведь я незнакома с твоим окружением, ничего не знаю о происшествиях, очевидицей которых не была. Ну каких же ответов ты ждешь от меня? Из тех штрихов, что ты набросала, я могу составить лишь смутное, шаткое мнение, и тебе придется долго вдумываться в него и подвергнуть его подробному разбору, прежде чем согласиться с ним. С господином Жаком я незнакома и поэтому не могу сказать, легко ли будет тебе пренебречь такой преградой, как большая разница в годах, разъединяющая вас; но я могу кое-что сказать тебе об этом в общих чертах. Ты уж сама решай, надо ли отбросить мои соображения, если ты уверена, что к тебе они неприменимы. Существует мнение, что мужчины созревают для жизни в обществе позднее, чем женщины, что в тридцатипятилетнем возрасте мужчины менее рассудительны и менее опытны, чем двадцатилетние женщины. Я полагаю, что это неверно. Мужчина обязан составить себе карьеру и, лишь только окончит коллеж, добиваться положения в обществе; а юная девица, покинув монастырский пансион, находит уже готовое для нее положение: либо она тотчас выходит замуж, либо до замужества еще несколько лет живет при родителях. Вышивать гладью и крестиком, хлопотать по хозяйству, шлифовать свои изящные таланты, потом стать супругой и матерью, кормить грудью детей и купать их — вот и все, что полагается делать добродетельной женщине. И я считаю, что при такой программе двадцатипятилетняя женщина, если она после замужества не вращалась в свете, — попросту говоря, еще дитя. Я думаю, что в девицах она лишь выезжала в свет, танцевала там на балах под надзором своих родителей и научилась лишь искусству одеваться, грациозно ходить, грациозно садиться, грациозно делать реверансы. Однако в жизни нужно научиться многому другому, и женщины учатся этому на свой риск. Обладать грацией, изящными манерами, некоторым остроумием, самой выкормить детей, а потом посвятить несколько лет поддержанию порядка в доме — всего этого еще недостаточно, чтобы оказаться вне опасностей, которые могут нанести смертельный удар семейному счастью. Зато как много узнаёт мужчина, пользуясь неограниченной свободой, которая предоставляется ему, лишь только он выйдет из отроческих лет! Сколько грубого опыта, суровых уроков, разочарований изведает он в течение первого же года, и как это идет ему на пользу! Сколько мужчин и женщин успевает он изучить в том возрасте, когда женщина знает лишь двоих людей — отца и мать. Итак, совершенно неправильным является мнение, что двадцатипятилетнего мужчину можно приравнять к пятнадцатилетней девочке и что в разумном брачном союзе мужу следует быть на десять лет старше жены. Правильно, конечно, что муж должен стать защитником и руководителем жены — ведь он же глава семьи, но надо пожелать, чтобы он был благоразумным и просвещенным главой. Даже когда супруги в одинаковом возрасте, мужу вполне достаточно предоставленного ему превосходства; если же муж значительно старше, он этим злоупотребляет, становится ворчуном, педантом или деспотом. Предположим, что господин Жак никогда не будет похож на такого мужа; допускаю, что он наделен всеми достоинствами. О любви я не говорю — да, представь себе! Скажу только, что я совершенно не верю, будто любовь необходима в браке, и сомневаюсь, действительно ли ты влюблена в своего жениха; в твоем возрасте девушки нередко принимают за любовь первую свою сердечную склонность. Я говорю только о дружбе и уверяю тебя, что женщина погибла, если не может смотреть на мужа как на лучшего своего друга. А ты уверена в том, что можешь уже теперь быть лучшим другом тридцатипятилетнего мужчины? Знаешь ли ты, что такое дружба? Знаешь ли ты, сколько нужно взаимной симпатии для того, чтобы зародилась дружба, какое сходство вкусов, характеров и мнений необходимо, чтобы она упрочилась? А какая симпатия может возникнуть между двумя людьми, которые по одной уже разнице в возрасте получают от одних и тех же предметов совершенно противоположные впечатления? То, что привлекает одного, отталкивает другого; то, что более зрелому кажется достойным уважения, молодой находит скучным; то, что жене кажется милым и трогательным, в глазах мужа опасно или смешно. Подумала ли ты обо всем этом, бедняжка Фернанда? Не ослеплена ли ты потребностью любить, которая так жестоко мучит иных девушек? А может быть, тебя вводит также в заблуждение тайное тщеславие, в котором ты не отдала себе отчета? Ты бедна, и вот является богатый человек и просит твоей руки. У него и замки и земли, он красив, держит прекрасных лошадей, хорошо одевается; он тебе кажется очаровательным, потому что все считают его таким. Твоя маменька, женщина самая корыстная, самая лживая и хитрая на свете, все устраивает так, чтобы свести вас. Возможно, она уверила свою дочку, что господин Жак без ума от нее, а его уверила, что ты влюбилась в него, хотя в действительности вы, может быть, нисколько не влюблены — ни ты, ни он. С тобой случилось то, что бывает с юными пансионерками, у которых волей случая есть какой-нибудь кузен, и они неизбежно в него влюбляются, поскольку это единственный знакомый им мужчина. Я знаю, у тебя благородное сердце, и ты совсем не думаешь о богатствах господина Жака, как будто их и нет у него; но ведь ты женщина, ты не можешь остаться равнодушной к тому обстоятельству, что своей красотой и прелестью совершила одно из тех чудес, на которые общество смотрит с изумлением, ибо они действительно явления редкостные: богатый человек женится на бедной девушке. Держу пари, что я тебя разгневала, но ради Бога, дорогая, не принимай мои слова слишком близко к сердцу. Будь смелой и то, что я сказала, скажи сама, учини себе строгий допрос; очень возможно, что мои подозрения — сущая напраслина. В таком случае мое письмо — просто-напросто несколько листочков бумаги, которые я зря измарала чернилами, желая оказать тебе услугу. Но я хочу написать и кое-что другое: это не назовешь логическим выводом из размышлений, это мне подсказывает безотчетное, инстинктивное чувство, и ты можешь отнестись к моим словам без особой серьезности. Скажу тебе вот что: не люблю я, когда лицо человека не соответствует его возрасту. Сразу же у меня возникают всякие суеверные мысли, и как бы ни были они безумны и несправедливы, я не могу отнестись с доверием к тому человеку, возраст которого на первый взгляд я определила с ошибкой в десять лет. Если он показался мне моложе, чем в действительности, я подумала бы потом, что черствость сердца, холодная небрежность к людям помешали ему сочувствовать чужому горю или же научили его искусно сторониться несчастных, избегать тяжелых переживаний, которые старят всех людей. А увидев старообразное лицо, я подумала бы, что пороки, разврат или по крайней мере необузданные страсти привели этого человека к беспорядочной жизни; поэтому он постарел больше, чем следовало бы по его годам; словом, я не могу смотреть без изумления и страха на явное нарушение законов природы; в нем всегда есть нечто таинственное, что следовало бы рассмотреть внимательно. Но разве можно что-либо рассматривать внимательно в твоем возрасте, да еще когда жажда новизны, готовность «раньше, чем через месяц» переменить свое положение закрывают тебе глаза на все опасности? Ты говоришь, что господина Жака уважают и любят все, кто его знает; мне кажется, что тех, кто его знает и кто мог бы сказать тебе о своих чувствах к нему, очень немного. Вспоминая те строки в двух твоих письмах, где говорится об этом, я вижу, что число этих почитателей сводится к двум его друзьям — к господину Борелю и его жене. Твоя маменька знала его десятилетним мальчиком, и так как она была близка с его отцом, ей легко было получить весьма точные сведения о наследстве, ожидавшем Жака. Полагаю, что только это ее и интересовало, и она даже не подумала указать тебе, что ты моложе жениха на восемнадцать лет, а это довольно серьезное препятствие. Она прекрасно знала возраст господина Жака, но я уверена, что она избегала говорить об этом кому бы то ни было. Пожилые женщины редко говорят о прошлом, не стирая все его даты. Ты упрекаешь меня за то, что я не люблю твоей маменьки; ничего тут не могу поделать, дорогая моя Фернанда, и бесконечно рада, что ты нисколько на нее не похожа. В чрезмерной поспешности, с которой заключается твой брак, для меня единственным утешением служит лишь то, что он вскоре разлучит тебя с матерью: ты не можешь попасть в более скверные руки, чем те, из которых вырвешься. Будь уверена, что я говорю истинную правду. Я отнюдь не стремлюсь следовать освященным традицией предрассудкам и полагаю, что согласно законам разума должна открыть тебе глаза на характер женщины, занимающей такое важное место в твоей жизни, а разум — единственный мой руководитель, единственный Бог, которому я служу. Охотно верю, что господин Жак действительно проницателен. Первые суждения обычно бывают верными, ибо человек, который их выносит, сосредоточив всю свою наблюдательность, глубоко воспринимает полученные впечатления. Господин Жак составил правильное мнение о тебе и о твоей матери; однако вынести суждение о последней ему, быть может, помогло какое-нибудь воспоминание детства: неприязнь, которую он когда-то испытал к твоей матери, снова заговорила в нем при встрече с нею. Ваш визит к Маргарите, по-моему, напрасно вызывает у тебя столько изумления и даже тревоги. Господин Жак поступил как умный человек, когда помог тебе подать милостыню старухе, но я прекрасно понимаю, как ему скучно было слушать ее причитания. По этому поводу замечу, что вы с господином Жаком обречены всегда чувствовать и вести себя по-разному, даже если вы оба правы. От души желаю, чтобы он терпеливо переносил это различие и не мешал тебе испытывать те волнения, для которых его собственное сердце замкнуто. До свидания, милая моя Фернанда. Как видишь, я не питаю никакого предубеждения против твоего жениха. Впрочем, в тот день, когда тебе не захочется больше слушать правду, ты ведь можешь и не спрашивать больше моего мнения и не просить у меня советов. Я по-прежнему живу спокойно и счастливо в тиши своего аббатства. Монахини бросили свои придирки и оставили меня в покое. Я принимаю каких мне угодно посетителей, а иной раз и сама выезжаю «в мир», поскольку я уже сняла вдовий траур. Родня моего покойного мужа держит себя вполне прилично в отношении меня, а ведь все они не очень любезные люди. Я вела себя с ними очень осторожно. Вернее сказать — разумно. Разум, Фернанда, разум! С помощью разума, милая моя, именно разума, человек сам строит свою жизнь и может вести существование если не блистательное, то по крайней мере свободное и спокойное. Твоя подруга Клеманс де Люксейль.
V
От Фернанды — КлемансДружба — великая радость, но как уныл разум, дорогая Клеманс! Твое письмо нагнало на меня самую настоящую хандру. Я перечитала его несколько раз и находила в нем все новые и новые поводы для грусти. Оно породило во мне недоверие и к маменьке, и к Жаку, и ко мне самой, и даже к тебе. Да, признаюсь, я немного сержусь на тебя за то, что ты так сурово разочаровываешь меня в моем счастье. Ты, однако ж, права, и я хорошо чувствую, что ты мне действительно друг; именно от тебя я жду советов и поддержки, которых не смею просить у маменьки. Я по-прежнему полагаю, что ты слишком дурно думаешь о ней, но поневоле вижу, как она холодна ко мне, вижу, что в моем замужестве она ищет только выгод, которые дает богатство. Правда, ее самое мой брак не обогатит: она намерена жить в Тилли, а меня отпустить с мужем в Дофинэ — стало быть, тут у нее нет личного интереса. Она думает, что деньги — величайшее благо на земле, и все ее усилия направлены не на то, чтобы их приобрести, а на то, чтобы раздобыть их для меня. Разве я могу вменять ей в вину, что она заботится о моем счастье на свой лад и сообразно своим воззрениям? Что касается меня, то я хорошо разобралась в своих чувствах и могу заверить, что тщеславие нисколько на них не влияет. Я так боялась, как бы любовь не ослепила меня, что нынче утром, перечитав твое письмо, решила немного поссориться с Жаком, желая подвергнуть испытанию его любовь и мою собственную. Я выждала, когда маменька оставила нас одних за пианино, как она всегда это делает после завтрака. А тогда я перестала петь и резко сказала: — Знаете, Жак, я слишком молода для вас. — Я уже думал об этом, — ответил он с обычным своим спокойным выражением лица. — А раньше вы не принимали в соображение мой возраст? — Это было бы трудно: я ведь не знала, сколько вам лет. — В самом деле? — воскликнул он, побледнев как полотно. Я почувствовала, что сделала ему больно, и тотчас раскаялась. Он добавил: — Мне следовало предусмотреть, что ваша мать не скажет вам этого, хотя я просил ее передать вам, чтобы вы поразмыслили о разнице в возрасте, разделяющей нас. Она заверила меня, что выполнила мою просьбу, и сказала, будто вы обрадовались, что найдете во мне и отца и возлюбленного. — Отца? — ответила я. — Нет, Жак, я этого не говорила. Жак улыбнулся и, поцеловав меня в лоб, воскликнул: — Ты простосердечна, как дикарка! Я люблю тебя до безумия, ты будешь для меня дорогой моей дочкой, но если ты боишься, что, став твоим мужем, я сделаюсь твоим наставником, то я буду называть тебя дочкой только про себя, в сердце своем. Однако ж, — сказал он через минуту, вставая с места, — весьма возможно, что я слишком стар для тебя. Если ты это находишь,значит так оно и есть. — Нет, Жак, нет! — живо возразила я и тоже встала из-за пианино. — Смотри не ошибись, — продолжал он, — мне ведь тридцать пять лет, на целых восемнадцать лет больше, чем тебе. Разве ты этого никогда не замечала? Разве это нельзя прочесть на моем лице? — Нет! Когда я увидела вас в первый раз, я вам дала по виду двадцать пять лет. А потом мне всегда казалось, что вам не больше тридцати. — Вы, значит, никогда не разглядывали меня, Фернанда? Посмотрите же на меня внимательно. Пожалуйста, прошу вас. Чтобы вас не смущать, я отведу взгляд в сторону. Он притянул меня к себе, а взгляд свой отвел в сторону. И тогда я пристально всмотрелась в его лицо. Я обнаружила, что под нижними веками и в уголках губ у него еле заметные морщинки, а на висках в густой волне черных волос пробиваются белые нити. Вот и все. «Вот и вся разница между мужчиной тридцатипятилетним и мужчиной тридцати лет!» — подумала я и засмеялась при мысли, что он просил хорошенько вглядеться в него. — Сейчас я скажу вам всю правду, — обратилась я к нему. — Ваше лицо — вот такое, каким я вижу его сейчас, — нравится мне гораздо больше, чем мое, но боюсь, что разница в годах скажется на вашем характере. И я постаралась все сомнения, которые заключены в твоем письме, изложить так, словно они исходят от меня самой! Он слушал очень внимательно, и спокойное выражение его лица ободрило меня еще до того, как он заговорил. Когда же я высказалась, он ответил: — Фернанда, никогда не встретишь двух совершенно одинаковых характеров; возраст тут ни при чем: в пятнадцать лет я был во многом гораздо старше вас, а в другом я и до сих пор моложе. Мы, несомненно, отличаемся друг от друга, но со мною вы будете страдать из-за этого гораздо меньше, чем с кем-либо другим. Поверьте мне! Ну, что я могла ему ответить? Раз он так сказал, я поверила. Он говорил очень убедительно. Ах, Клеманс, возможно, что он обманывает меня или сам обманывается, но я-то не могу обмануться — я люблю его. Нет, во мне не говорит потребность в любви, как у глупенькой пансионерки. Я ведь видела многих мужчин до него, и никто из них не внушал мне симпатии. В доме Эжени Борель всегда много мужчин — моложе, веселее, элегантнее, чем Жак, и, может быть, красивее его; никогда у меня не возникало желания выйти замуж за одного из них. Меня не ослепляют также соблазны ожидающей меня судьбы. Письма твои произвели на меня большое впечатление. Я вдумываюсь в них, заучиваю их наизусть, то и дело применяю отдельные фразы к своему страстному увлечению и вижу, что осторожность тут бесполезна, рассудок бессилен. Я замечаю, какими опасностями грозит мне моя любовь, но боязнь, что я буду несчастной с Жаком, не лишает меня желания провести жизнь именно с ним. Ты пишешь, что только двое друзей Жака хорошо отзываются о нем. Сейчас передам тебе разговор, который произошел несколько дней тому назад в Серизи у Борелей. Там было пять-шесть соратников господина Бореля. У Жака вид был более серьезный, чем обычно, но и лицо его и манеры говорили о неизменном спокойствии души. Он выпил чашку кофе и несколько раз молча прошелся по комнате. — Ну что, Жак, как вы себя чувствуете? — спросила Эжени. — Лучше, — мягким тоном ответил он. — Так, значит, он болен? — легкомысленно спросила я. Тотчас все взгляды обратились но мне, и на всех лицах появилась благожелательная и немного насмешливая улыбка. Я почувствовала, что краснею до корней волос, но нисколько этим не смутилась; меня охватила тревога за Жака, и я повторила свой вопрос. — У меня немного болит голова, — ответил Жак, поблагодарив меня ласковым взглядом. — Но это пустяки, не стоит об этом беспокоиться. Тогда заговорили о другом, а Жак вышел в сад. — Боюсь, что он действительно болен, — сказала Эжени, глядя ему вслед, когда он проходил по дорожке. — Следовало бы спросить, не надо ли ему каких-нибудь лекарств, — сказала маменька с притворным сочувствием. — Нет, главное, надо оставить его в покое, — резко сказал господин Борель. — Жак не любит, чтобы на него обращали внимание, когда он нездоров. — Черт побери, как ему не мучиться! — заметил один из гостей. — У него ведь три ранения в грудь, и таких серьезных, что любой другой отправился бы к праотцам. — Старые раны редко у него болят, — сказала Эжени, — но боюсь, что сегодня они дали себя знать. — Никто не может угадать, больно Жаку или нет, — заговорил опять господин Борель. — Разве он сотворен из плоти человеческой? — Думаю, что да, — ответил один из гостей, пожалей драгунский капитан, — во думаю также, что у него не человеческая, а дьявольская душа. — Нет, скорее ангельская, — вмешалась Эжени. — Ага, вот и госпожа Борель заговорила, как другие дамы, — подхватил драгунский капитан. — Не знаю уж, право, что напевает Жак на ушко дамам, но все они говорят о нем как о белокрылом херувиме, а про наши гражданские добродетели и воинские доблести все забывают. (Это была любимая шуточка капитана.) — О, что касается меня, — сказала Эжени, — я действительно обожаю Жака, и мой муж всем своим друзьям предписывает благоговеть перед ним. Тут посыпались деликатные насмешки, которые косвенно касались и меня, так как имели благую цель доставить мне удовольствие, но немного меня смущали. Я взяла под руку мадемуазель Реньо и вышла с нею, словно собиралась прогуляться по саду; но там я призналась ей, что мне до смерти хочется послушать, что же говорят о Жаке, и она провела меня к окну, откуда слышно было все, о чем шла речь в гостиной. Я услышала голос господина Бореля и поняла, что он говорит с одним из гостей, очень мало знакомым с Жаком. — Вы, я думаю, заметили бледность Жака и его рассеянный вид? — говорил Борель. — Не знаю, обратили ли вы внимание, как он потихоньку мурлычет себе под нос лесенку, когда набивает трубку или чинит карандаш, собираясь рисовать. Так вот, если у него сильные боли, все свидетельства его мук и нетерпения сводятся к этой песенке. Я не раз ее слышал от него при таких обстоятельствах, при которых мне лично совсем не хотелось петь. Под Смоленском мне ампутировали два пальца на правой ступне, а у него извлекли две пули, засевшие между ребрами; я тогда ругался как проклятый, а Жак изволил напевать. И тут господин Борель очень ловко изобразил, как Жак напевал «Лила Бурелда» — излюбленную свою песенку. Все засмеялись. А у меня от этих рассказов возник перед глазами образ Жака: раненый, окровавленный, он все-таки напевает под ножом хирурга. У меня выступил холодный пот, и я лишний раз убедилась, что люблю Жака, — ведь я осталась совершенно равнодушной к страданиям господина Бореля; Эжени, без сомнения, трепетала, думая о них, а мне было безразлично, на сколько пальцев стало меньше на его ступне. — А вы помните, — послышался другой голос, — как Жак прибыл в полк, незадолго до сражения под ****? — Да, да. Славный паренек был, — прервал другой. — От роду только шестнадцать лет, и с виду — хорошенькая барышня. Их прибыло к нам человек пять-шесть, и через час они предстали перед нами, все холеные юнцы в своих наглухо застегнутых теплых сюртуках, которыми их снабжали маменьки, все такие маленькие, аккуратно причесанные, румяные и не очень-то довольные, что им придется спать прямо на поле в палатках. Был тут и Жак, с кроткой, уже и тогда бледной рожицей, с пробивающимися усиками и с любимой своей песенкой. Кто-то у нас сказал: «Вот этот — ужасно смешной: строит из себя удальца, а сам побледнел как — полотно». Другой съязвил: «Господин Жак — салонный Юлий Цезарь. Посмотрим, что он запоет, когда громыхнет пушка». А Лорен… Кто помнит лейтенанта Лорена, верзилу с огромным носом, любителя отпускать злые шутки, не расстававшегося ни с саблей, ни с альбомом для карикатур? Рисовал он отлично, — честное слово. Да и стрелял искусно — лучше всех в полку. И вот эта скотина при свете бивачного костра рисует угольком карикатуру на Жака и его юных компаньонов, изображает их с веерами и зонтиками, а внизу подписывает: «Так богатенькие барчуки идут в бой». Жак проходит позади него с обычным своим кротким и ласковым видом, наклоняется и, взглянув через плечо Лорена, говорит: «Это очень мило!». «Вы довольны?» — спрашивает Лорен. «Очень доволен», — отвечает Жак. «Ну, и я тоже», — подхватывает карикатурист. Все хохочут. Жак, нисколько не смущенный, подсаживается к костру и просит меня одолжить ему трубку. Мне хотелось стукнуть его этой трубкой по лбу. «А что, у вас нет своей Трубки?» «Нет, я ведь еще никогда в жизни не курил, и мне хочется попробовать. Как это делают?» «Вот с этого конца разжигают, а этот конец берут в рот и затягиваются изо всех сил, чтобы дым вышел с другой стороны». Жак с простодушным видом покачал головой и взял трубку. Мы надеялись, что он закашляется, что у него все закружится перед глазами; каждый спешил набить табаком свою трубку, и один за другим предлагали Жаку докурить, да заодно и выпить глоточек, подливая ему такие порции хмельного, что бык, и тот бы свалился с ног. Не знаю, может быть, Жак жульничал и выпивал не все подношения, но, во всяком случае, он ни разу не поморщился и не поперхнулся, даже руки у него не дрожали; он пил и курил до полуночи, не теряя хладнокровия, не давая повода ни к малейшим издевкам; право, можно было подумать, что кормилица с колыбели поила его водкой и давала курить трубочку. Капитан Жан, присутствующий среди нас, конечно, прекрасно помнит то, о чем я рассказываю; он еще подошел ко мне тогда и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Поглядите на эту райскую птичку. Видите? Так я вам предсказываю, Борель, что это будет один из лучших наших усачей. Я понимаю в этом толк. Ростом невелик, но крепок, как сухой самшит, а тот ведь потверже стальной булавы. Отец у него разбойник, зато первостатейный рубака; у сына, однако, хладнокровия больше, и если пушечное ядро не вычеркнет его завтра из моих списков, он проделает двадцать кампаний, не жалуясь, что стер ноги». На следующий день, как это многим известно, Жак проявил воинскую доблесть и получил орден прямо на поле боя. — И вы думаете, он возгордился? — сказал драгунский капитан. — Вы думаете, он прыгал от радости, как это делают зеленые юнцы, которым выпадает такая удача, или мы, великовозрастные вояки; ведь мы, уединившись в каком-нибудь укромном уголке, бывало, радовались и целовали свой орден. Вид у Жака был тогда самый равнодушный: каким его изобразил на карикатуре Лорен, таким наш Жак оставался, и когда был в первый раз под огнем и когда получил первую рану, Он просто и дружелюбно отвечал на рукопожатия, не выражая ни удивления, ни радости. Не знаю, что может заставить Жака засмеяться или заплакать, и, право, я не раз задавался вопросом, — не сверхъестественное ли он существо, такой, знаете ли, призрак, в каких верят немцы. — Видно, вы никогда не знавали Жака влюбленным, — прервал его господин Борель, — а то бы увидели, как он тает, словно снег на солнце. Только женщины имеют власть над этой головой. Зато уж и сводили же они его с ума! В Италии… Тут господин Борель осекся, и я поняла, что кто-то — вероятно, его жена — подал ему знак помолчать. А меня охватили ужасное нетерпение, любопытство и тревога… — Хоть бы кто-нибудь мне сказал, — послышался после короткого молчания голос Эжени Борель, — когда Жак успел выучиться всему, что он знает, — ведь он понимает толк и в литературе, и в поэзии, и в музыке. — Кто его знает! — ответил капитан. — Я думаю, он таким и родился. Уж во всяком случае, не я учил его всем этим премудростям. — Могу предположить, — заметила маменька, — что он получил солидное образование еще до вступления в военную службу. Я его знаю с десятилетнего возраста — он и тогда был поразительно развитым для своих лет. Зато уж апломба и самоуверенности было у него, как у взрослого. Должно быть, позднее он приобретал познания необыкновенно быстро. — Капитан Жан, пожалуй, прав: Жак не совсем принадлежит к роду человеческому, — шутливо сказал господин Борель. — Душой и телом он закален, как сталь, и секрет такой закалки теперь, должно быть, утрачен. Вот ведь, до двадцати пяти лет он казался старше своего возраста, а с тех пор он с виду моложе своих лет. — Никогда не забуду, — заговорил кто-то другой, — как он справился с первой своей дуэлью. — Да, да! А дрался-то он как раз с этим чертовым Лореном, — подхватил капитан Жан, — и я сам принудил его драться. Я ведь от всего сердца любил этого мальчика! — Как? Вы его принудили? — изумился человек, мало знавший Жака. В сущности, для него и рассказывали все эти истории. — А вот сейчас я вам расскажу, как это вышло, — вмешался опять капитан. — Жак, разумеется, прекрасно показал себя в сражении при ****, но одно дело внушить уважение вражеским пушкам, а другое — своим товарищам. Нельзя сказать, что тогда в армии процветали дуэли, — слишком нам много было хлопот с неприятелем. И, однако же, дня не проходило, чтобы у Лорена не бывало маленьких или больших столкновений с каким-нибудь новичком: на поле боя он был куда менее храбр, чем у барьера; в дуэлях же он был великий мастак — никто не мог безнаказанно сказать ему что-нибудь неприятное. Я не любил этого молодца и, право, отдал бы свою лошадь, лишь бы он сгинул с глаз моих. Два раза я промахнулся, имея с ним дело, и поплатился за свою оплошность: видите — пробито пулей запястье, и вот шрам на щеке. Он терпеть не мог нашего Жака — злился на то, что такой юнец сумел заслужить в бою при **** уважение заядлых насмешников. Сам-то он не совершил никаких подвигов и не получил никаких знаков отличия, даже ни единой царапины! В утешение себе он рисовал карикатуры, всячески высмеивая в них Жака; и эти дьявольские шаржи были так здорово нарисованы, что нельзя было смотреть на них без смеха. Меня это раздражало. Однажды вечером он нарисовал Жака в виде маленькой собачки в доломане. Ну, уж это было слишком! Я разыскал Жака, мирно спавшего на траве, растолкал его и сказал: «Жак, ты должен драться на дуэли!». «С кем?» — спросил он, позевывая и потягиваясь. «С Лореном». «Из-за чего?» «Из-за того, что он тебя оскорбляет». «Каким образом?» «А карикатуры! Разве это не издевательство?» «Нисколько». «Да он же смеется над тобой». «Ну, а мне-то что?» «Ах, вот как! Ты, значит, храбр только в стычках с неприятелем?» «Ей-богу, не знаю». — Тут у меня, — сказал капитан Жан, — вырвалось крепкое слово (не рискну повторить его при дамах). Я одернул Жака: «Говори потише и смотри не вздумай повторить при ком-нибудь то, что ты мне сейчас сказал». «Да почему, Жан?» — протянул он, зевая во весь рот. «Ты спишь, приятель?» — сказал я, встряхнув его как следует. «Ну, если ты переломаешь мне кости, — отозвался он с обычным своим хладнокровием, — то разве ты этим убедишь меня? Ты хочешь, чтобы я заявил, будто мне ничего не стоит стать у барьера? Ведь я же никогда не дрался на дуэли. Если бы ты накануне сражения задал мне вопрос, как я поведу себя, я ответил бы тебе то же самое. То было первое испытание моей военной жилки, а если вам угодно теперь подвергнуть меня другому испытанию, я не возражаю, но как я с ним справлюсь, знаю не больше твоего». Ну и странное существо был этот мальчишка, любитель философских рассуждений! Я был уверен в нем, как в самом себе, несмотря на все его старания вызвать у меня сомнения в его храбрости. «Я тебя уважаю, — сказал я ему, — потому что ты не фанфарон, а человек отважный. И я по чистой дружбе говорю тебе, что ты должен драться с Лореном на дуэли». «Ну ладно, согласен. Но найди какой-нибудь предлог, чтобы я мог вызвать Лорена на дуэль, не показавшись при этом дураком. Признаюсь откровенно: пожелать убить человека только за то, что он рисует забавные карикатуры на мою скромную особу, кажется мне просто невозможным. Я нисколько не сержусь на Лорена, наоборот, его шаржи очень меня потешают, и я был бы в отчаянии, если б убил человека, который рисует такие смешные карикатуры». «А ты вот постарайся-ка лучше ранить его в правую Руку, да так, чтобы он уже никогда не мог рисовать на кого-нибудь карикатуры». Жак пожал плечами и опять заснул. Я остался недоволен и, дождавшись утра, Отправился к Лорену. «Знаешь, — сказал я ему. — Жаку разонравились твои шуточки. Он говорит, что при первой же карикатуре вызовет тебя на дуэль». «Прекрасно! — ответил Лорен. — Ничего не желаю лучшего». Тут он взял кусок угля и на широкой белой стене, у которой мы с ним стояли, нарисовал Жана в виде великана. Подписал его имя и изобразил его орден. Словом, точь-в-точь Жак. Я собрал своих приятелей и сказал им: «Что вы сделали бы на месте Жака?» «Совершенно ясно что», — ответили они. Я иду искать Жака. «Жак, наши ветераны решили, что тебе надо драться на дуэли». «Хорошо, я согласен, — ответил Жак, разглядывая свой портрет. — А только не стоило бы, право! Вы действительно думаете, что мне нанесено оскорбление?» «Оскор-скорбленьище!» — ответил один шутник. «Будь по-вашему, — сказал Жак. — А кому угодно быть секундантом?» «Мне, — ответил я. — И Борелю». К завтраку пришел Лорен. Жак направляется прямо к нему и любезно, словно предлагая ему понюшку табаку, произносит: «Лорен, говорят, вы меня оскорбили. Если вы и в самом деле нарисовали меня с таким намерением, я требую от вас удовлетворения». «Да, я действительно имел такое намерение, — отвечает Лорен, — и готов через час дать вам удовлетворение. Предоставляю вам выбор оружия!» «А какое оружие мне выбрать?» — спросил Жак, возвращаясь ко мне, чтобы позаимствовать у меня огонька и разжечь угасшую трубку. «Выбирай то оружие, которым лучше владеешь». «Да я никаким не владею хорошо, — сообщил Жак. — Я ведь новобранец. По милости Господней я не родился солдатом». «Как, несчастный! Ты не владеешь никаким оружием и посмел вызвать на дуэль такого мастака, как Лорен?» «Вы сказали мне, что я должен его вызвать, вот я и вызвал», — сказал Жак. «Ну ладно. Рубке тебя уже обучали — выбирай саблю». «А какие тут приемы?» «Дерись, как можешь, если не знаешь приемов». «В добрый час. Когда Лорен будет готов, позовите меня, а я пока подремлю», — говорит Жак и, растянувшись на столе, засыпает. В назначенный час Лорен с язвительным видом пожаловал на место поединка. Он всячески насмехался над Жаком и с подчеркнутым пренебрежением предлагал дать ему любые преимущества. И вот юный дуэлянт берет в свои коротенькие ручки длинную саблю, начинает вертеть ее над головой и, наступая на противника, тычет клинком наугад — направо, налево, вперед и, нисколько не думая парировать удары, лезет на Лорена. Столкнувшись с такими приемами, Лорен в растерянности попятился и спросил, что это значит. «А это значит, — ответил я, — что Жак не умеет владеть саблей и сражается, как может». Лорен приободрился и перешел в наступление, но тотчас же получил такую глубокую рану в правое плечо, что попросил пощады и больше уж не лез в драку. После этого поединка он полгода не мог держать в руках ни саблю, ни карандаш. Собеседники еще долго говорили о Жаке, и если бы я не боялась надоесть тебе длинным своим письмом, я бы тебе рассказала, как героически Жак переносил ужасные страдания во время русской кампании. Но, если хочешь, опишу это в следующий раз; сегодня потребность говорить о нем завела меня довольно далеко; пора уж избавить тебя от труда разбирать мои каракули, а мне пора ложиться спать. До свидания, мой дорогой друг.
VI
От Жака — Сильвии Серизи, близ ТураЗачем ты пробуждаешь мою боль теперь, когда она утихла, неосторожная Сильвия? Она неисцелима, я это знаю. Неужели ты опасаешься, что я их позабыл? Но чего именно ты боишься? Какая страница моей жизни может тебе показаться странной? Ведь она подписана Жаком! Чему ты удивляешься? Тому, что я влюблен? Что тебя страшит? Моя любовь или предстоящий брак? Да, если б я мог чему-нибудь удивляться, то дивился бы тому, что чувствую себя таким счастливым. Но ведь я уже не раз был счастлив и не раз находил в себе силы отказаться от счастья. Когда придет время преодолеть свое чувство, я его преодолею. Я люблю, люблю всем сердцем юную девушку, прекрасную, как истина, неподдельную, как красота, простую, доверчивую, быть может слабую, но искреннюю и прямодушную, как ты. И все же Фернанда не может сравняться с тобой; никто в мире, Сильвия, с тобой не сравняется, я и не жду этого от моей невесты. Зачем требовать от нее твоей силы и гордости, которые придают тебе душевное величие? Но я надеюсь, что она подарит мне ласку и привязанность, нежную заботливость, в которых так нуждается мое сердце. Я жажду покоя, Сильвия. Давно уже я иду одиноко по трудной дороге. Мне нужна поддержка светлой, чистой души; твое сердце не может целиком принадлежать мне; и я должен завладеть сердцем, еще никого не знавшим, кроме меня. Фернанда — сущая дикарка. Если бы ты видела, как разлетаются и в беспорядке падают на плечи этой порывистой резвушки ее белокурые локоны; если бы ты видела ее большие черные глаза, всегда какие-то удивленные, вопрошающие и такие наивные, когда любовь смягчает их пылкость; если бы ты слышала ее голос, немножко резкий, но с такими четкими, выразительными интонациями, — ты признала бы по всем этим бесспорным признакам натуру открытую и честную. Фернанде семнадцать лет, она маленькая, беленькая, кругленькая, но изящная и легкая. Черные глаза, черные брови и целый лес густых белокурых волос придают своеобразный характер ее красоте. Лоб у нее не очень высокий, но прекрасного рисунка и свидетельствует скорее об уме восприимчивом, нежели пытливом, скорее о хорошей памяти, нежели о наблюдательности. В самом деле, она удачно распределяет и применяет то, что ей уже знакомо, но сама не делает никаких открытий. Я не стану говорить, по примеру всех влюбленных, что и по характеру и по складу ума моя невеста прямо создана для того, чтобы составить счастье всей моей жизни. Столь избитая фраза под стать письмоводителям нотариусов;, а я еще да поглупел до такой степени от близости женитьбы. У Фернанды есть свой собственный характер, я его изучаю, стараюсь вникнуть в него и приноровиться к нему. В юности я верил, что встречу женщину, как будто созданную для меня. Я искал эту избранницу в натурах самых противоположных, и когда разочаровывался в одной, спешил с такой же надеждой обратиться в своих поисках к другой. Так лишь множились мои огорчения, и не раз я впадал в отчаяние. Романтическая любовь! Мучение и химера самых цветущих лет моей жизни! Только ты не обманывайся на мой счет, Сильвия. Я вовсе не пресыщенный ипохондрик, который решил распроститься с любовными увлечениями и степенно жить с миловидной и благовоспитанной простушкой женой. Я еще молод душою и страстно влюблен в девушку, на которой намереваюсь жениться по двум причинам: во-первых, это единственное средство обладать ею, а во-вторых, единственное средство вырвать ее из рук злой матери и дать ей возможность жить свободно и независимо. Как видишь, я женюсь по любви, не стану отпираться. Если бы мое решение действительно могло повлечь за собою бедствия, которых ты опасаешься, мои ум и воля, уже более чем зрелые, взяли бы верх над чувством и я обратился бы в бегство; но страхи твои напрасны, Сильвия, и я сейчас это докажу. Я не изменил своих воззрений, не примирился с обществом и по-прежнему считаю брак одним из самых варварских установлений, которые создала цивилизация. Не сомневаюсь, что оно будет уничтожено, если род человеческий пойдет вперед по пути справедливости и разума; брак тогда заменят более человечными и не менее священными узами, при которых будет обеспечено существование детей, рожденных от союза мужчины и женщины, не сковывающего навсегда их свободу. Но мужчины слишком грубы, а женщины слишком трусливы, чтобы потребовать закона более благородного, чем тот железный закон, который сейчас управляет их судьбой, — людям без стыда и без совести нужны тяжелые цепи. Улучшения, о которых мечтают немногие широкие умы, невозможно осуществить в нашем веке; эти реформаторы забывают, что они на сто лет опередили своих современников и что, прежде чем изменить закон, нужно изменить человека. Когда ты принадлежишь к людям, жаждущим перемен, когда чувствуешь, что ты менее груб и менее жесток, чем общество, в котором ты обречен жить и умереть, нужно или вступить с ним в схватку, или удалиться от него. Первое я уже сделал, теперь хочу сделать второе. Я жил одиноко, презирая людскую суету, умывая перед Богом руки в знак невиновности своей в подлостях рода человеческого; теперь я хочу жить вдвоем и дать существу, подобному мне, покой и свободу, в которых мне было отказано. Всю свою силу и независимость, которые я приобрел в жизни одинокой и полной ненависти к людям, я хочу обратить на пользу существа слабого, угнетенного, бедного, и оно будет всем обязано мне; я хочу дать моей жене счастье, неведомое женщинам, хочу, вопреки правилам общества, которое я презираю, дать ей те блага, в которых оно отказывает женщине. Я хочу, чтобы моя жена была существом благородным, гордым и искренним; хочу чтобы она осталась такой, какою ее создала природа; хочу, чтобы у нее не было ни нужды, ни желания лгать. Я ухватился за ту мысль — вот что теперь стало целью моего унылого и бесплодного существования, я уверяю себя, что если мне удастся Осуществить свое намерение, жизнь моя будет не совсем напрасной. Не улыбайся, Сильвия; дело это непростое, и, быть может, оно окажется более важным перед лицом Господа, чем завоевания Александра Македонского. Я применю в нем все свое мужество, всю свою силу; если понадобится, я пожертвую всем — состоянием, любовью и тем, что люди называют честью; ведь я не скрываю от себя, какие трудности ожидают меня и какие препятствия поставит передо мною общество. Я знаю царящие в нем предрассудки, знаю, что его угрозы, его ненависть окажутся путами, которые будут мешать моим шагам и ледяным ужасом на-, полнят ту, которую я взял за руку, чтобы повести ее с собою безлюдной дорогой; но я все преодолею, я это чувствую, я знаю. Если мужество мое ослабнет, разве ты не будешь возле меня, разве не скажешь: «Жак, помни, что обещал ты Богу!».
VII
От Фернанды — Клеманс Тилли…Какая ты насмешница! Ты находишь, что я подражаю жаргону старых вояк, словно сочинитель, написавший десяток водевилей. А все же ты ведь нашла, что я правильно сделала, передав тебе подслушанные разговоры. Я тоже так полагаю, ибо вижу, что ты почти уже примирилась с Жаком, — его хладнокровие и смелость тебе нравятся. А что же мне-то сказать о них! Я последовала твоему совету и, право, уж не знаю, какие выводы должна сделать из моего недавнего разговора с Борелями. Сейчас передам его тебе, хоть и опасаюсь, что ты опять назовешь меня дурочкой. Ты мне скажи откровенно свое мнение. Случай для беседы представился самый удобный. Маменька отправилась в гости к нашей соседке, госпоже Байель, а к нам приехали Эжени с мужем. Жака вызвали в Тур по какому-то делу. — Я в восторге, что мы с вами одни в доме, — сказала я Борелям. — Мне о многом надо спросить вас обоих. Во-первых, скажите, вы действительно мне друзья? Могу ли я положиться на вас, как на самое себя? Эжени поцеловала меня, а ее муж с грубоватостью военного протянул мне руку размашистым жестом, что маменька нашла бы дурным тоном, а мне внушило больше доверия, чем самые тонкие любезности. — Прошу вас, — продолжала я, — побеседуйте со мной о Жаке. Вы всегда говорили мне о нем только хорошее; неужели вы не находите в нем никаких недостатков? — Что это значит? — воскликнула Эжени. — Душенька, — ответила я, — ведь скоро я безвозвратно свяжу себя с человеком, которого очень мало знаю. Все произошло так поспешно, что это было бы безумием, если бы вы не уверили меня в благородстве моего жениха. Теперь я вовсе не собираюсь взять свое слово обратно, так как и он и все вы знаете, что я полюбила его; но несмотря на это и даже именно поэтому мне хочется лучше знать его, чтобы держаться настороже против больших и маленьких недостатков, которые, возможно, у него имеются. Когда никто еще и не думал, что он может стать моим мужем, вы мне однажды сказали: «У него много странностей». И вот теперь для меня крайне важно узнать, какие же у него странности, чтобы невольно не задеть его и всегда избегать того, что может их пробудить. Я пока заметила лишь слабую их тень; иной раз мне даже приходит мысль: неужели человек может быть столь совершенным существом, каким мне кажется Жак? Я хочу защититься от слепой восторженности. Прошу вас, друзья мои, поговорите со мной, откройте мне всю правду. — Дьявольски затруднительная штука! — ответил господин Борель. — Право, уж и не знаю, что вам сказать. Вы такая чистосердечная и славная барышня, что будь вы мне родной сестрой, я и то не мог бы питать к вам больше уважения и дружеской приязни. С другой стороны, Жак — мой самый старый, самый лучший друг; при отступлении из России он больше трех лье нес меня на спине. Да, барышня, невысокий Жак нес такого огромного детину, как я, а без него мне пришлось бы замерзнуть рядом с моей убитой лошадью; он сам чуть не умер от такой легонькой ноши. Я, кажется, вам уже рассказывал про это? Но я мог бы вам рассказать еще много о том, что он сделал для меня. Платил мои долги, предотвращал дуэли, парировал сабельные удары в сражениях, а случалось, и в кабаках, без конца оказывал мне всякие услуги. А я? Что я сделал для него? Ровно ничего. Разве я имею право говорить о нем как о любом другом? — С кем-нибудь посторонним — конечно нет, — ответила я, — но со мной, поверьте, вы обязаны говорить откровенно. — Не знаю, ей-богу, не знаю! Я вас очень люблю, дорогая мадемуазель Фернанда, но, видите ли, Жака я люблю еще больше. — Верю. Однако я расспрашиваю вас не только ради себя, но и в интересах Жака. — Фернанда права, — вмешалась Эжени. — Она должна знать характер своего мужа, чтобы избавить его от мелких огорчений, а может быть, и от больших горестей. Ведь она сказала, что любит Жака и житейские мелочи не могут оттолкнуть ее от него. Раз Фернанда так говорит, надо поверить ей — она не станет лгать. Я считаю, что ее слово свято. С другой стороны, я знаю, что Жака нельзя упрекнуть в серьезных грехах, и, стало быть, будет вполне удобно сказать ей все, что ты знаешь о нем. Я вот, например, часто слышала о каких-то чудачествах Жака. Но могу во всеуслышанье заявить, что никаких странностей с его стороны не замечала, и за три месяца, что он живет у нас, мне приходилось удивляться только его мягкости, его ровному характеру и трезвому уму. — Вот как раз ты делаешь то, чего я не хотел делать, — прервал ее муж, — ты уклоняешься от истины. Правда, ты обманываешь нас безотчетно. Женщины всегда на стороне Жака, даже моя Эжени, хоть она-то, конечна, женщина здравомыслящая. — Ну что ж, я хочу быть еще более пристрастной к Жаку, — сказала я. — Хочу увидеть его таким, каков он в действительности. Говорите, дорогой полковник. Какой характер у Жака? Кто он? Прихотливый оригинал? Человек вспыльчивый? — Вспыльчивый? Шт. А если он и поддается горячности, я этого никогда не замечал. Он всегда кроток, лак ягненок. — А как насчет прихотей? — Я отвечу вам лишь при том условии, что вы позволите мне дословно передать Жаку наш разговор — сегодня же вечером. Условие несколько смутило меня. «Как, — думала я, — Жак узнает, что я заподозрила его в горячности, лишающей человека здравого смысла, и что я выспрашивала у его друзей о неведомых мне чертах его характера, вместо того чтобы напрямик расспросить его самого и всецело положиться на его слова!» — Не беспокойтесь, — сказал мне полковник Борель. — Оставим в стороне этот вопрос, избавьте меня от необходимости отвечать на него, и ручаюсь честью, что я ничего не скажу Жаку. — Может быть, я напрасно приступила к вам с расспросами, — возразила я, — но раз я это сделала, то и должна претерпеть все последствия своего любопытства. По-моему, будет честнее настаивать на своих вопросах, чем утаить их от Жака. Говорите же, я принимаю ваши условия. Господин Борель наконец решился и охарактеризовал Жака приблизительно в следующих словах: — Не знаю, каков Жак с женщинами, и, право, не вижу, какую пользу принесет вам то, что я могу сказать. Все дамы, которых я видел в обществе Жака, без ума от него, и не знаю, может ли хоть одна из женщин, любивших Жака, в чем-либо упрекнуть его. А вот я, хоть и люблю моего друга всем сердцем, зачастую сержусь на него. Я нахожу, что он сух, горд, недоверчив; меня возмущает, что в иные минуты он умеет внушить человеку любовь к себе, а пройдет эта минута, он тебя как будто и не знает. «Что с тобой, Жак?» — «Ничего…» — «Тебе неможется?» — «Нет…» — «Какие-нибудь неприятности?» — «Подумаешь!» — «А все же ты, как видно, не в своей тарелке…» — «Нет, в своей…»— «Ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое?» — «Да…» — «Ну, в добрый час…» Оно, конечно, пустяки, все мы иной раз бываем в дурном настроении, однако ж, если мы уверены в друге, то обращаемся к нему за помощью, прося о любой услуге, накую он в силах оказать. Но не думайте, Жак никогда не попросит о малейшем одолжении — даже подать ему воды in articulo mortis[15], и все это не столько из гордости, сколько из недоверия. Он не скажет, почему молчит о своих нуждах, но это ясно из его тона, когда он в иных случаях советует: «Не делайте этого — как можно меньше подвергайте дружбу испытаниям». Видите, какая странность: человек, способный ради друга на всякие жертвы, отрицает дружбу, когда речь идет о других людях. Это несправедливо, и гордость Жака часто вызывала во мне гнев. Такая странность влечет за собой и другие. Если он окажет кому-нибудь услугу, то терпеть не может, чтобы его благодарили, он способен убежать, долго уклоняться от встреч с тем, кто ему обязан, даже может совсем порвать с ним: кажется, что ему противно смотреть на людей, которым он чем-то помог. Это происходит от чрезмерной деликатности, но есть тут и кое-что иное: а именно жестокое убеждение, что все, кому он сделал добро, должны стать его врагами. Есть у него и другие необъяснимые причуды; в иные минуты ему явно неприятно, что на него смотрят, а почему — неизвестно. Он не любит, чтобы его расспрашивали о его болезнях, чтобы его лечили. Мне особенно неприятно, что он не выносит, когда говорят о войне и рассказывают о тех кампаниях, в которых он участвовал: он всегда уходит, если за десертом начинается пустая болтовня. Он никогда не пьянеет, сколько бы ни выпил, никогда не теряет хладнокровия, а так как все это резко отличает его от нашей братии, в полку его всегда больше уважали, чем любили. Если б не его боевые заслуги и притом весьма значительные, его бы ненавидели, как плохого товарища, — военные не любят тех, кто молчит за столом и сидит с таким видом, будто он умнее всех. — Судя по вашим словам, — сказала я, — у него какое-то горе на сердце, и вообще он склонен к меланхолии. — Что у Жака на сердце — угадать не легко, — ответил господин Борель, — но по характеру он вовсе не меланхолик. Как и у всех людей, у него бывают печальные и радостные дни; он любит повеселиться, но никогда не забывается. Веселье у него спокойное, но от его шуток сотрапезники просто умирают со смеху, пока вино еще не совсем затуманило их ум и способность ценить тонкие остроты; но когда гуляки разойдутся и пирушка становится грубой, смотришь, Жака уже нет как нет: исчез, словно дым от трубок, скрылся потихоньку, и даже не скажешь, вышел он через дверь или выпрыгнул в окно. — Мне это не кажется большим недостатком, — заметила я. — И мне не кажется, — подхватила Эжени. — Теперь и я с вами согласен, — сказал господин Борель. — Я остепенился и уже не стремлюсь буйно веселиться. Но когда-то я был сорвиголова и, признаюсь, очень сердился на Жака, что он не такой проказник, как мы. Иные гуляки не могли ему простить, что он никогда не теряет рассудка, и говорили: «Разве можно доверять человеку, которому вино никогда не развязывает язык?». Вот самый большой упрек, какой могли ему сделать. Сами судите, надо ли вам избавлять Жака от подобных недостатков. — Ни в коем случае! — смеясь ответила я. — И это все? — Все, клянусь честью! Как видно, вы философски приняли мой рапорт о «странностях» Жана, и я очень рад, что все рассказал вам. А вы-то, держу пари, воображали всякие ужасы. — Не знаю, — весело ответила я, — есть ли на свете недостаток более ужасный, чем благоразумие и умеренность на хмельной пирушке. Эжени, наверное, радуется, что ей не приходится упрекать вас в этом. — Какая вы злючка! — сказал Борель, поцеловав мне руку и уколов ее своими длинными усами. — Ну, теперь больше не будете допрашивать меня? Его жалобы на Жака показались мне весьма забавными, и я от души смеялась вместе с моими гостями; но, когда они ушли, я задумалась над кое-какими словами господина Бореля, которые сначала не поразили меня, в особенности над следующей фразой: «Ему противно смотреть на людей, которым он чем-то помог». Не знаю почему, но мысль, выраженная в этих словах, испугала меня, у меня даже возникло желание сейчас же написать Жаку и порвать с ним. Ведь я бедна и вдруг получу от Жака богатство. Быть может, он и женится на мне лишь для того, чтобы облагодетельствовать меня, и когда я во всем окажусь обязанной Жаку, самая легкая вина с моей стороны покажется ему неблагодарностью; он, пожалуй, решит, что я перед ним в долгу больше, чем любая женщина перед своим мужем, и, возможно, он будет прав. Впервые мое положение тревожит меня, да еще так сильно! Страдает моя гордость, а еще больше — моя любовь.
VIII
От Сильвии — ЖакуБыть может, ты обманываешься, Жак; быть может, любовь тебя ослепляет и влечет к этой девушке, а твое стремление обратить свою влюбленность во что-то прекрасное и великое — просто мечта, зародившаяся у тебя, когда ты писал мне ответное письмо. Я ведь знаю тебя, восторженный человек, насколько можно тебя знать, ибо твоя душа — бездна, в которую ты и сам, вероятно, никогда не заглядывал. Возможно, что ты, такой сильный с виду, совершишь поступок, который окажется проявлением крайней слабости. Я хорошо знаю, что ты выйдешь из положения путем какого-нибудь героического чудачества, но зачем же подвергать себя мучениям? Разве мало ты в жизни настрадался? Увы! Теперь я противоречу тому, что говорила в прошлом письме. Раньше я боялась, как бы ты не зарыл в землю блестящие свои дарования, а теперь мне кажется, что ты ищешь самого трудного и горестного испытания ради удовольствия испробовать свои силы и выйти победителем в поединке, самом страшном из всех. Тебе не удастся убедить меня, что я должна радоваться твоему замыслу; меня терзают самые мрачные предчувствия по поводу новой полосы в твоей жизни. Почему ночами мне снится твое бледное лицо? Ты как будто приходишь, садишься у моего изголовья и молча, недвижно смотришь на меня до самой зари? Почему твоя тень бродит со мною в лесу при свете луны? Душа моя привыкла к одиночеству, на то Божья воля. Зачем же ты, одинокий, являешься мне? Хочешь ли ты предупредить меня о какой-то опасности или возвестить о близком несчастье, более страшном, чем все, что я уже пережила? Недавно под вечер я сидела у подножия горы; мгла затягивала небо, ветер стонал в деревьях, и вдруг среди звуков этой унылой гармонии явственно прозвучал твой голос. Он бросил в пространство три-четыре ноты какой-то мелодии, слабые, но такие чистые, отчетливые, что я подбежала к кустам, откуда они принеслись, — я хотела убедиться, что тебя там нет. Подобные явления редко обманывают меня: Жак, гроза собралась над нашими головами! Я хорошо вижу, что любовь завлечет тебя в новую ловушку; в твоем письме есть единственно правильные слова; «Я женюсь на этой девушке, потому что это единственное средство обладать ею». А когда ты разлюбишь ее. Жак, что с ней будет? Ведь настанет день, когда тебе надоест твоя любовь так же сильно, как сейчас ты жаждешь предаться своей страсти. Чем эта любовь отличается от других твоих романов? Неужели ты так изменился за последний. год, что нынче способен на постоянства — свойство, самое ненавистное твоей душе? Чему ж иному может быть обязана любовь, которая выдерживает испытание интимной близостью? Ты способен понять, изведать, сделать очень многое, даже то, что люди почитают невозможным; однако ж то, что очень легко для многих и вполне возможно для иных, для тебя Господь сделал совершенна невозможным, словно желая умалить тяжким уродством великие щедроты, которые он ниспослал тебе. Ты не можешь терпеть слабостей человеческих — вот твоя слабость, вот в чем тебе отказано и чем тебя обидел Господь, хоть ты и можешь похвастаться сильным характером; вот в чем ты наказан за то, что не знал несчастий и горестей обычных людей. И ты прав, Жак! Я всегда тебе говорила, что ты совершенно прав, не желая ничего прощать замаранным людям; ты прав, когда замыкаешь свое сердце, увидев пятно грязи на предмете своей любви! Тот, кто прощает, унижает себя] Я-то, несчастная женщина, хорошо знаю, как душа теряет свое величие и святость, если простирается ниц перед оскверненным идолом. Рано или поздно она разобьет алтарь, на который вознесла своего ложного бога; но совершит она это справедливое дело не с холодным спокойствием: от ненависти и отчаяния дрожит рука, держащая весы правосудия. Месть выносит приговор… О, тогда уж лучше родиться без сердца, чем познать любовь! Ты сильный человек, ты умеешь хранить тайны других, прикрытая чужие проступки щитом молчания; ты великодушно подаешь руку павшему, ты помогаешь ему встать, стряхиваешь грязь с его одежды, стираешь даже след его падения на твоей дороге, но ты перестаешь любить этого человека. В тот день, когда ты начинаешь прощать, любовь твоя угасает. И я тебя видела в такие дни. Ах, как ты страдал! Неужели ты еще раз подвергнешь себя мучению, которое ты назвал «болью милосердия»? Пусть твоя избранница мила, добра и чистосердечна, все же она женщина, была воспитана женщиной и, значит, будет трусливой и лживой — может быть, слегка, но этого «слегка» окажется достаточно, чтобы ты почувствовал к ней гадливость. Тебе захочется бежать от нее, а она все еще будет тебя любить — ведь ей не понять, что она недостойна тебя и обязана твоей любовью лишь тому, что душу твою томит потребность любить, которая закрывала тебе глаза пеленой, но пелена эта спадет в тот самый день, как твоя любимая согрешит впервые! Несчастная! Я жалею ее и завидую ей. У нее были чудесные минуты, а предстоит ей пережить минуту ужасную. Ты, как я вижу, предусмотрел это; ты подумал о том времени,когда она лишится твоей привязанности, и в утешение ей решил предоставить несчастной независимость. Да на что ей независимость, если она все еще будет любить тебя? Ах, Жак, я всегда трепетала, когда замечала, как любовь овладевает тобой: ведь я всегда предвидела то, что и случилось потом в действительности; всегда я заранее знала, что ты внезапно разорвешь связь, и твоя возлюбленная обвинит тебя в холодности и непостоянстве в день самых сильных твоих мучений, порожденных жаром и силой твоей любви. И как мне не страшиться, когда ты собираешься вступить в брак, соединить себя с женщиной неразрывными узами, ибо законы, верования и обычаи запретят вам обоим искать утешения в другой любви! Законы, верования и обычаи — это пустые слова для тебя, а для твоей жены, какой бы ни был у нее характер, они станут железными оковами. Чтобы сбросить их, она должна будет перенести все кары, какие общество обрушивает на непокорных своих детищ. Какою выйдет она из этой борьбы? Измученной, подобно мне? Сильной, подобно тебе? Или растоптанной, как стебель тростника? Бедная женщина! Она, конечно, любит тебя доверчивой любовью и полна надежды. Слепое дитя, она не знает, куда идет, не знает, глупенькая, какую глыбу хочет нести на своих плечах и с каким исполином свирепой добродетели столкнется ее спокойная и хрупкая невинность. Ах, какую странную клятву вы вскоре произнесете! Бог не услышит вас — ни того, ни другого. Он не запишет эти чудовищные слова в книгу судеб. Но для чего мне предостерегать тебя? Я лишь отравляю твою радость, и мне не под силу вырвать с корнем ужасную, пожирающую тебя надежду на счастье. Я знаю, что это такое, и не обижаюсь на твое упорство. Я любила, я желала, я надеялась, как ты, и я разочаровалась, как ты разочаровывался столько раз и разочаруешься опять!
IX
От Клеманс — ФернандеДругая бы на моем месте, не жалея труда и времени, стала доказывать тебе, что ты вращаешься в каком-то странном обществе, где царит дурной тон и все делается неподобающим образом. Могу тебя только пожалеть, так как убеждена, что хорошее общество — самое рассудительное из всех общественных кругов и самое просвещенное И что его обычаи и тонкости лучше всего помогают достичь благих и полезных целей. Впрочем, твоя маменька это знает, и, несмотря на все ее недостатки, я признаю, что у нее все же очень много здравого смысла и большое умение держать себя; это ей, однако, не помешало пожертвовать всем ради желания выдать дочь за богатого человека, и она толкнула тебя в плохую компанию. Эжени всегда была самой заурядной мещанкой, и монастырский пансион, где обычно приобретают приличные манеры, нисколько ее не исправил. Меня вовсе не удивляет, что ей безумно нравятся солдатские шуточки приятелей ее супруга, что в ее замке все пропахло табачищем, но я поражена и даже немного возмущена, как твоя маменька позволила тебе дружить с этими господами. Ничего не поделаешь, придется мне с этим примириться, раз господин Жак всецело на стороне основателей «Убежища» — по крайней мере я так полагаю. У меня нет предрассудков, я вижусь с людьми всякого рода, я горжусь своим беспристрастием в политике, я приучаю себя переносить всевозможные разногласия, которых так много в обществе, и ничему не удивляться. И вот я хочу высказать тебе свое мнение, как я высказала бы его какой-нибудь чужой девушке, оказавшейся на твоем месте, причем я не буду придерживаться никакой системы, отброшу все привычки, чтобы стать на твою точку зрения. И вот, я скажу тебе, что грубый, но здравомыслящий господин Борель, быть может, прав, и надо серьезно задуматься над его словами, рисующими твоего Жака; «Он никогда не пьянеет, сколько бы ни выпил, никогда не теряет хладнокровия». Если бы мне сказали это о господине де Вансе или о маркизе де Нуази, я бы смеялась, как засмеялась ты, когда это сказано было о Жаке; но поскольку речь шла о нем, я не стала бы смеяться. Господин Жак жил среди людей, которые пьют, хмелеют и болтают; какое бы воспитание ему ни довелось получить, он с шестнадцати лет стал солдатом Бонапарта, следовательно, из него должен был получиться человек, равный господину Борелю или бесконечно выше его; берегись, Фернанда, я склонна думать, что он выше, — судя по всему, что ты мне рассказывала о нем. Но что, если мы обе ошибаемся? Что, если он ниже всех этих храбрых солдафонов, которых ты так любишь? Они по крайней мере отличаются откровенностью и честностью. Что, если вся его сдержанность, которую ты считаешь благородством манер, — просто осторожность человека, скрывающего какой-то свой порок? Скажу напрямик, что я опасаюсь. Мне пришло на ум, что господин Жак принадлежит к числу жуиров зрелого возраста, — все они распутники и гордецы. У этих людей все — сплошная тайна, но лучше не пытаться откинуть завесу, скрывающую истину. Больше ничего не решаюсь сказать, и к тому же я, быть может, глубоко ошибаюсь.
X
От Жака — СильвииНу что ж, да — это любовь, это безумие. Называй это как угодно, даже преступлением, если хочешь. Может быть, я в этом раскаюсь, да уж будет поздно: может быть, по моей вине окажутся двое несчастных вместо одного, но я уже не могу рассуждать, я качусь по наклонной плоскости, я скатываюсь в пропасть. Я люблю и любим. Я не способен ни думать, ни чувствовать что-нибудь иное. Ты не знаешь, что значит для меня — любить. Нет, я тебе этого никогда не говорил, потому что, любя, я испытываю эгоистическую потребность замкнуться в самом себе и скрывать свое счастье, как тайну. Ты единственный в мире человек, которому я мог открыться, но способен я был на это в редкие мгновения. Бывали такие минуты в моей жизни, когда одному только Богу я мог доверить свою скорбь или радость. Сегодня я попытаюсь открыть тебе всю свою душу, чтобы ты могла спуститься на дно пропасти, неведомой мне самому, как ты говоришь. Может быть, ты увидишь, что я не такой уж грозный борец, каким ты меня считаешь; может быть, гордая моя Сильвия, ты будешь меньше меня любить, увидев во мне больше человеческих слабостей, чем ты полагала. Да почему же считать слабостью самозабвенное влечение сердца? Нет, слабость — это оскудение чувств. Когда человек больше не может любить, он должен плакать над самим собой и краснеть за то, что дал угаснуть священному огню; я же с гордостью чувствую, что огонь этот с каждым днем все сильнее разгорается во мне. Нынче утром я с наслаждением вдыхал первые веяния весны, видел, как начинают распускаться первые цветы. Полуденное солнце уже грело жарко, в аллеях парка Серизи воздух напоен был смутным ароматом фиалок и свежего мха. Синицы щебетали над первыми бутонами и, казалось, просили их поскорее раскрыться. Все говорило мне о любви и надежде; я так живо чувствовал эту благостыню небесную, что готов был броситься на молодую травку и от всего сердца возблагодарить Бога за его щедроты. Клянусь тебе, что даже в первой любви я не изведал такой чистой радости и такого дивного восторга; я весь трепетал, горел как в лихорадке. Нынче мне кажется, что душа моя молода, очистилась от страстей и впервые познает любовь. А ты, мечтательница, видела в воображении, как мой призрак в страхе бродит вокруг тебя. Да ведь никогда я не был так счастлив, никогда так не любил! Не вспоминай, что я то же самое говорил при каждой новой своей влюбленности. Разве это важно? Воображаемое чувство становится чувством подлинным. Впрочем, я готов поверить, что бывают различные ступени в силе последовательных увлечений страстной и такой бесхитростной души, как у меня. Я никогда не старался работой воображения разжечь в себе чувство, которое еще не возникло, или возродить его, когда оно умерло; я никогда не мог любить по сознанию долга или сохранять постоянство по обязанности. Когда я чувствовал, что моя любовь угасла, я это говорил, не испытывая ни стыда, ни укоров совести, и повиновался провидению, которое влекло меня дальше по моему пути. Жизненный опыт состарил меня — я прожил два или три столетия; но, дав мне зрелость, опыт иссушил меня. Я знаю свое будущее, но ни за что на свете холодно и трусливо не пожертвую из-за него настоящим. Как я, человек, привыкший страдать, отступлю перед судьбой, так скупо, отмеряющей нам радости, не попробую вырвать у нее те немногие блага, которые она еще может мне дать? Да разве я был чересчур счастлив? Разве мне уж нечего будет познать, разве ничем новым нельзя мне завладеть под солнцем нашего земного мира? Я чувствую, что жизнь моя еще не кончена, что я еще не насытился, я чувствую, что еще найдутся радости для моего сердца, так как в сердце моем не угасли желания и потребности. Я хочу, завоевать эти радости и насладиться ими, хотя бы мне пришлось заплатить еще дороже, чем за все те блаженные мгновения, которые по воле Божьей я уже испытал. Если судьбой назначено человеку (по крайней мере мне) быть счастливым и потом страдать за это, всем обладать и все потом потерять, пусть будет так! Если моя жизнь — непрестанная борьба, восстание надежды против невозможности, я принимаю единоборство. Я еще чувствую в себе силы побороться с судьбой и быть счастливым хотя бы один день, ценою всех остальных дней моей жизни. Я бросаю вызов — пусть судьба попробует запугать меня перед поединком, пусть разобьет меня, если она сильнее. Не говори мне, что я играю счастьем другого человека, связанного со мною. Прежде всего в той среде, из которой я беру его, этот человек был бы куда более несчастным, чем в моих руках; да и то, что ему суждено выстрадать со мною, нельзя и сравнить с тем, что мне, возможно, придется перенести из-за него. Я знаю, какие муки меня ожидают, и по своим собственным горестям представляю себе горести других. Как же ты хочешь, чтобы я чувствовал к кому-нибудь сострадание? Неужели ты думаешь сравнивать меня с остальными людьми? Разве я по силе страданий не окажусь среди них исключением? Любой на твоем месте посмеялся бы над такими притязаниями и принял бы их за глупую гордость, но ты-то знаешь, что это вовсе не хвастовство, а горькая жалоба сердца. Ты знаешь, как я не раз проклинал небо, ибо оно отказало мне в том свойстве, которым так щедро наделило всех людей: мне оно не дало способности забывать прошлое. В каких только несчастьях люди не утешаются! А я никогда не мог найти утешения! Других горе чуть касается, не знаю уж, какой ветер овевает их раны, но все они тотчас подсыхают. Почему же мои раны вечно кровоточат? Почему первое в моей жизни страдание, вместо того чтобы кануть во мрак забвения, всегда стоит у меня перед глазами, ужасное и живое, как гидра, у которой вместо отрубленной головы вырастают две новые? Для всех людей несчастье — это погребальное песнопение, оглашающее их путь, звуки его мало-помалу стихают, когда унесутся вдаль последние аккорды и слух не сохраняет их звучание. Почему же они так гремят вокруг меня? Почему в душе моей всечасно раздается эта вечная песня смерти и я оплакиваю свои утраты? Почему на голове моей терновый венец, и шипы его раздирают мне лоб при каждом дуновении ветра, играющего душистыми цветами в венках, которые украшают головы других людей? О, я прекрасно вижу, что другие не испытывают и сотой доли моих страданий. Они сетуют во сто раз громче, потому что по-настоящему не ведают, что такое страдание. Наглые сибариты, они жалуются на морщинку в лепестке розы; я вижу, как быстро они исцеляются и, успокоившись, слепо предаются новой иллюзии. Порода малодушных глупцов. Они бежали бы от этих иллюзий, если б знали, как я, во что обходится самообольщение. Когда же судьба грозит им горем, они признаются, что ошиблись. «Ах, если б я знал, — говорят они, — что это так кончится!» А я знаю, как все кончается, и все же бросаюсь к новой любви. Вот видишь: я во сто раз храбрее, во сто раз несчастнее, чем другие. Итак, Фернанда будет страдать вместе со мной. Ты хочешь, чтобы я заранее вынес смертный приговор моему счастью? Хорошо, будь по-твоему, стоическая душа, неумолимая сила! Один из нас разлюбит — она или я, это неважно. Тот, кто отойдет последним, не обязательно будет более несчастным! Фернанда утешится; она искренняя и добрая, но слабая, как ребенок. Слабой будет и ее скорбь. Я все говорю о своей любви и своей радости, а между тем есть одно, что мучает меня и вызывает возмущение против меня самого, да и против тебя, Сильвия. Мне стыдно, что в последнем своем письме я не расспросил тебя кое о чем; мне обидно, что ты хранишь презрительное молчание, словно думаешь, будто я стал равнодушен к твоей судьбе. Если у тебя явилась такая мысль, Сильвия, я готов немедленно приехать к тебе и на коленях молить, чтобы ты вернула мне свое доверие и уважение. Ответь же мне, что у тебя на душе, бедняжка, поговори о себе. Да как же это! Уже три недели в наших письмах речь идет только обо мне и нет в них ни слова о твоем новом положении! В последний раз, когда мы об этом беседовали, ты как будто уже успокоилась немного. Но я не могу не тревожиться, зная, в каком одиночестве я тебя оставил. В твоем возрасте и при твоей энергии тяжело переносить одиночество — ведь чем с большей силой человек борется против скорби, тем сильнее он страдает. Скажи мне, скажи, победила ли ты свое горе. По тому, как ты разбираешь мое положение, мне кажется, что к тебе еще не пришло душевное спокойствие. Поговори со мною о твоем сердце, которое так сурово судит и анатомирует меня, а меж тем способно на такие же безумства и такую же смелость. Все-таки не забывай, Сильвия, что нас связывает чувство более сильное, чем любовь, что тебе стоит сказать слово, и я помчусь к тебе с одного края света на другой.
XI
От Фернанды — КлемансДорогая, меня ужасно напугало твое письмо. Во-первых, я в нем ничего не поняла. Что ты подразумеваешь под развращенностью? Что это — непостоянство или потребность перемен в любви? Мне стало так страшно! Интересный разговор был у меня с толстым капитаном Жаном, о котором я тебе писала. Нынче утром мы отправились на прогулку в лес Тилли; нас было десятеро — пять мужчин и пять дам, ехали мы в тильбюри. В эти высокие колясочки садятся по двое — дама и мужчина, который и правит лошадью; маменька сочла неприличным, чтобы я проехала восемь лье в тильбюри рядом с Жаком на глазах у восьми свидетелей (хотя ежедневно часов на пять она оставляет меня с ним наедине в нашем саду); Жаку, несомненно, совсем не хотелось быть кавалером маменьки, и господин Борель принес себя в жертву вместо него; по правилам приличия я могла ехать только с женатым человеком, а у капитана четверо уже больших детей, и потому было принято единодушное решение посадить ко мне этого прелестного пажа. Раз Жак не мог ехать со мной, то мне было все равно, кто сядет возле меня; капитан всегда казался мне услужливым и добрым человеком. А на деле это самый глупый и болтливый из всех солдафонов на свете, и я страшно сожалею, что всю дорогу вынуждена была ехать с ним. Правда, тут есть и моя вина. Получив возможность поговорить наедине с человеком, который знает Жака целых двадцать лет и отличается словоохотливостью, я не могла удержаться и сама затеяла разговор. И вот болтун смело начал полудружеским, полунасмешливым тоном говорить о характере Жака, потом разошелся и, отвечая на мои вопросы, поощряемый моей притворной шутливостью, рассказал мне о его любовных делах. Не могу определить, какое впечатление произвело тогда на меня это повествование, но сейчас я вся дрожу от волнения; кажется, я должна прийти к выводу, что Жак — натура пылкая и непостоянная — по крайней мере капитан мне раз двадцать подчеркивал это. — Вы должны гордиться, — говорил он, — что приковали сокола, немало он поохотился на таких куропаточек, как вы! А вот теперь пойман, покорен и сидит в колпачке на руке своей повелительницы. Подрежьте ему крылья, если желаете, чтобы он не улетел. — Что это значит? — спросила я. — Неужели так трудно держать в плену сердце господина Жака? — О! Уж не одна женщина хвалилась, что одержала над ним победу, — ответил капитан. — Но они, бедняжки, плохо знали Жака. — Тр-р-р!.. Казалось, клетка хорошо заперта, а глядишь, птица вырвалась и улетела. Но вас, как видно, это не тревожит, вы делаете свое дело и уверены, что исцелите сокола от жажды перемен. — Ну конечно! — воскликнула я, стараясь деланным смехом скрыть свой ужас. — Но почему же вы, капитан, образец добродетели, как говорит господин Борель, почему вы не решаетесь пожурить такого грешника? — Дьявольски трудная задача! — ответил он самодовольным тоном. — Ведь он человек восторженный, он сумасшедший! Другого такого юбочника не найдешь. Увлечения, увлечения! Ну, просто недуг какой-то! Насколько он холоден и сдержан с мужчинами, настолько нежен и рассыпается мелким бесом перед красотками. Да кому я это говорю! Вы ведь лучше меня это знаете, мадемуазель Фернанда! И толстяк захохотал своим противным зычным хохотом. — Так он, верно, натворил немало безумств в своей жизни? — спросила я. — Да еще каких безумств! — подхватил он. — Достойных тайных домов свиданий. И ради каких дур! Ради надменных дряней (передаю, точно его выражения, чтобы ты имела представление о том, как он относится к романам Жака), ради наглейших мерзавок; ради женщин прекрасных, ка и ангелы, и злых, как демоны; ради алчных, честолюбивых, деспотических интриганок; ради прожженных негодяек, которых очень много на свете и на которых вы нисколько не похожи, мадемуазель Фернанда. — Но как же он влюблялся в подобных женщин? — Попадался на удочку — принимал их за ангелочков и готов был перерезать горло всякому, кто не соглашался с таким мнением. Ах, если бы вы только знали, каким бешеным бывает влюбленный Жак! Да, впрочем, что я говорю! Кому же это лучше знать, как не вам? Правда, по поводу вас никто с ним не спорит, наоборот, когда он сообщил, что скоро женится, все ему говорят, что его невеста — сущий ангел; услышав в первый раз о скорой его свадьбе, я воскликнул: «Вот здорово! Давно пора тебе, Жак, полюбить женщину, достойную тебя!». Он пожал мою руку, но косо поглядел на меня: ему приятно было слышать, как хвалят вас, и все-таки он злился, что говорят дурно о тех чертовках, которых он любил прежде. И знаете ли, у нас с ним раз десять дело чуть не доходило до дуэли, потому что я не желал допустить, чтобы он разорился, вышел в отставку и женился на величайшей в мире распутнице! Я люблю Жака как родного сына, он оказал мне такие услуги, которых я никогда не забуду, но я, пожалуй, немного отплатил ему добром, когда помешал ему полезть волку в пасть. — А как же вы ему помешали? Расскажите. — Он влюбился в маркизу Орсеоло. Ах, черт побери, об этом романе знал весь Милан! Еще бы! Первейшая в Италии красавица и умна как дьявол. Жак в таких делах понимает толк, и в выборе возлюбленной у него всегда играло некоторую роль тщеславие. Особенно в те годы., А, ведь вся итальянская армия была у ног маркизы Орсеоло. Она выказывала самый пламенный патриотизм — чувство, редкостное для итальянских дам, а беднягам французам выражала глубочайшее презрение. Она раззадорила моего сумасшедшего Жака, и вот он, кавалер с интересной бледностью и большими грустными глазами, увивается вокруг красавицы, повсюду следует за нею как тень и в конце концов побеждает ее гордую отвагу и суровую добродетель. Все шло хорошо, Жак уже собирался расстаться с военной службой, увезти свою очаровательную добычу во Францию, предварительно женившись на ней, как она того желала, то есть совершить величайшее безумство, но, к счастью для него, я получил неопровержимые доказательства слишком нежной близости, связывавшей эту даму с ее духовником, и поспешил, как вы, конечно, догадываетесь, сообщить об этом Жаку. Он хоть и не очень-то поблагодарил меня, но через четверть часа после моего сообщения исчез куда-то на полгода. Мы встретили его потом в Неаполе у ног знаменитой певицы, которая пленила его не меньше, чем маркиза, и точно так же обманывала его. Из-за этой прелестницы он совсем голову потерял. Да я бы, право, никогда не кончил, если б стал рассказывать вам о любовных приключениях Жака. Несмотря на свою спокойную физиономию, он самый романтический человек, но при всех своих чудачествах чрезвычайно великодушный и храбрый малый! Вы будете с ним счастливы, мадемуазель Фернанда. А если нет, считайте меня первостатейным вралем и надерите мне уши. Вот видишь, дорогая Клеманс, каков Жак. Скажи свое слово: ведь теперь я как будто меньше его знаю, чем раньше. И какая смертельная тоска охватила меня! Жак говорит, что он так меня любит, а между тем уже два раза отдавал свое сердце презренным женщинам; он подвержен слепым, восторженным увлечениям, готов все принести в жертву своей безумной любви, дает клятвы в вечной страсти, а вскоре бывает вынужден нарушить свой обет и возненавидеть женщину… А что, если и со мной он поступит так же? Что, если накануне свадьбы он уже охладеет ко мне? Значит, завтра будет еще хуже?.. Ах, Клеманс, Клеманс! Я на краю пропасти. Скажи, что мне делать. Уже несколько дней я почти не вижу Жака. Он занят — все подготовляет к свадьбе, два-три раза в неделю ездит в Тур и в Амбуаз. Впрочем, он внушает мне теперь ужас… Но я не решаюсь объясниться с ним из страха, что он успокоит меня. Ему это очень легко, мне ведь так хочется верить в него. Когда сомнения одолевают меня, я чувствую себя такой несчастной!
XII
От Сильвии — ЖакуИди же, куда влечет тебя твоя судьба! Мне последнее твое письмо больше нравится, чем предыдущее: оно по крайней мере хоть откровенно. Больше всего я боюсь, чтобы ты вновь не поддался былым обольщениям молодости. Но если ты смело идешь навстречу опасности, если ты ясно видишь, что перед тобою пропасть, быть может, ты избегнешь гибели. Какие только препятствия не побеждает человеческая отвага! Ты устал медленно разыгрывать партию, ты хочешь поставить на карту все свое будущее и сделать последний ход. Если проиграешь, помни, что есть у тебя друг, чье сердце поможет тебе прожить остаток жизни, а если захочешь избавиться от нее, твой друг уйдет вместе с тобой. Ты просишь меня рассказать о себе и упрекаешь за то, что я храню «презрительное молчание». Знаешь ли ты, Жак, почему я так строго взираю на новую фазу любви, к которой привела тебя судьба? Знаешь ли ты, почему мне страшно, почему я предупреждаю тебя об опасности, почему так мрачно смотрю на то, что ты стремишься к ней? Не догадываешься? Ведь я тоже бросилась в это бурное море, я тоже отдалась на волю судьбы и поставила на карту весь остаток сил и все надежды. Октав здесь. Я его видела, я ему все простила. Я допустила большую ошибку, не предусмотрев, что он может приехать. Всю свою жизнь я построила так, чтобы забыть о его отсутствии, а не так, чтобы бороться с его возвращением. Он вернулся, я была потрясена; радость оказалась сильнее рассудка. Я говорю о радости, и ты тоже о ней говоришь. Да какая же у нас с тобой радость? Мрачная, словно пламя пожара, зловещая, как последние лучи солнца, пронизывающие облака перед грозой. Разве мы можем радоваться? Какая насмешка! Ах, странные, странные мы существа! И почему нам всегда хочется жить так же, как живут другие? Я знаю, что любовь — единственное, что имеет некоторый смысл, и ничего другого нет на земле. Я знаю, было бы трусостью бежать от нее, боясь, что придется заплатить за нее страданиями. Но если хорошо видишь, как развивается любовь и каковы ее последствия, разве можно вкушать при этом чистые радости? Для меня, например, они невозможны. Бывают минуты, когда я вырываюсь из объятий Октава с какой-то ненавистью и ужасом, потому что читаю на его сияющем лице приговор — грядущее свое отчаяние. Я знаю, что по характеру он совсем мне не подходит; знаю, что он слишком молод для меня; знаю, что он добрый, но совсем не добродетельный человек, привязчивый, но не способный на глубокую страсть; знаю, что любить он может достаточно сильно, чтобы натворить всяких грехов, но недостаточно для того, чтобы совершить что-нибудь большое. Словом, я не могу уважать его в том особом значении, которое мы с тобой вкладываем в это слово. В начале моей любви мне была мила в нем его слабость, которая доставляет мне теперь столько страданий. Я не предвидела, что она вскоре будет возмущать меня. В самом деле, со мною происходит то же самое, что сейчас творится с тобою. Я слишком много рассчитывала на великодушие моей любви. Я воображала, что чем больше Октав будет нуждаться в поддержке и совете, тем дороже он мне станет — от сознания, что всем он обязан мне; мне казалось, что самая счастливая, самая благородная любовь женщины к мужчине должна походить на нежность матери к своему ребенку. Прежде я искала силу, но — увы! — попытки найти ее оказались бесплодными. Мне думалось; вот, нашла себе опору в человеке более сильном, но он тут нее отталкивает меня ледяной холодностью. И тогда я решила: сила у мужчины — это бесчувственность, величие сводится к гордыне, а спокойствие — к равнодушию. Я почувствовала «отвращение к стоицизму, тогда как прежде так глупо поклонялась ему. Я пришла к выводу, что любовь и энергия несовместимы в сердце столь израненном и униженном, как мое, что целительным бальзамом для него будут нежность и кротость и что я найду их в привязанности Октава, этой наивной души. Разве важно, думала я, умеет он или не умеет переносить горести? Со мною он не будет знать горя. Я возьму на себя все тяготы жизни. Ему останется лишь благословлять и любить меня. То была мечта, такая же, как и другие мечтания; вскоре мое заблуждение принесло мне муки, и мне пришлось признать, что если в любви характер у одного должен быть сильнее, чем у другого, то, конечно, не у женщины. Во всяком случае, должно быть некоторое равновесие, а у нас его не было. Я играю роль мужчины, и она так утомила мое сердце, что я сама становлюсь слабой — мне опротивела сила. И все же в душе этого ребенка столько хорошего! Какая чуткость, какая чистота, какая бесхитростная вера в сердце ближнего, да и в свое собственное! Я люблю Октава» потому что не встречала человека лучше его. Тот, кто стоит особняком от всех, внушает мне, да и сам ко мне чувствует, только дружбу. Дружба — это тоже своеобразная любовь, огромная и возвышенная в иные, минуты, но ее недостаточно, потому что она подает свой голос лишь при серьезных несчастьях, выступает лишь в важных и редких случаях. Дружба и думать не думает о повседневной жизни, о будничных мелочах, таких противных и тягостных в одиночестве, о непрестанной череде маленьких неприятностей которые только любовь может обратить в удовольствия. Ты, Жак, действительно способен по доброте сердечной все бросить и кинуться мне на помощь, если я попаду в тяжелое положение, помчаться на край света, чтобы оказать мне услугу, но ведь ты не способен спокойно провести со мною неделю, не думая о Фернанде, которая ждет и любит тебя. Так и должно быть, ведь и со мною было бы то же самое., Я пожертвую своей любовью, чтобы спасти тебя от несчастья, но не отдам и малой ее частицы, чтобы уберечь тебя от неприятности. Право, жизнь как будто расколота надвое: глубочайшая близость — в любви, а в дружбе — великая преданность. Но сколько я ни стараюсь убедить себя, что это прекрасный распорядок, что мне надо ему радоваться, что Господь Бог щедро одарил меня, послав мне такого возлюбленного, как Октав, и такого друга, как ты, — я нахожу, что любовь ребячлива, а дружба очень уж строга. Я хотела бы почитать Октава, как тебя, не, теряя при этом сладкого чувства нежности и постоянной заботливости, которое питаю к нему. Глупая мечта! Надо принимать жизнь такою, какой Бог ее создал. Но это трудно, Жак, очень трудно!
XIII
От Фернанды — Клеманс.Не пиши мне, не отвечай. Не говори больше об осторожности, не старайся предупредить меня об опасности. Кончено! Я с завязанными глазами бросаюсь в пропасть. Я люблю, разве я способна что-нибудь ясно видеть? Пусть все будет, как Бог велит. Да и так уж ли важно, в конце концов, буду я счастлива или нет? Неужели моя особа так драгоценна, что всем следует ее оберегать? К чему ведет все это предвидение? Ведь оно не мешает человеку рисковать собой, а лишь заставляет рисковать трусливо. Не лишай меня мужества, не говори больше о Жаке, но позволь мне постоянно говорить о нем. Вчера он врасплох застал меня в парке — я сидела одна на скамье и, закрыв лицо руками, плакала. Он спросил, что за причина моей печали, и рассердился на меня, когда я отказалась открыть ее. Да еще как рассердился! Схватил меня обеими руками и так крепко сжал в объятиях, что сделал мне больно. Но представь, мне не было ни страшно, ни обидно, что он так груб со мной. Он держал меня за руку и властным тоном требовал: «Говори же, говори! Сейчас же ответь, что с тобой». Хоть я и ненавижу, когда мной командуют, мне было приятно, что он стремится властвовать надо мной. Сердце у меня колотилось от радости, как в ту минуту, когда Жак впервые назвал меня на ты. Мы перебирались тогда через ручей, и он сказал мне: «Ну прыгай же, прыгай, трусишка!». Ох, только на этот раз сердце у меня колотилось сильнее! Не могу объяснить, что я почувствовала. Всем сердцем я была перед ним, словно рабыня его, готовая броситься к ногам своего повелителя, или же как ребенок на руках у матери. Тут уж обмануться невозможно: я знаю, что люблю его, не могу не любить, ибо он заслуживает любви, и Бог не допустит, чтобы такое доверие и влечение я испытывала к злому человеку. В ответ на его настойчивые вопросы я ему рассказала о своем разговоре с капитаном Жаном и о том, какой непреодолимый ужас вызвали у меня его рассказы. — Ах, в самом деле, — ответил он, — я хотел с тобой поговорить о страхах, которые тебя одолевают, и о тех вопросах, которые ты задавала Борелю и его жене. Они меня немного смутили. Что я могу тебе сказать? Что упреки Бореля не обоснованы, что рассказы капитана — сплошная выдумка? Я не умею лгать. Это правда, что у меня есть очень большие недостатки и что в жизни я совершил немало безумств. Но какое это имеет отношение к тебе и к будущему, которое нас ждет? Я могу тебе поклясться только в том, что я честный человек и никогда дурно не поступлю с тобой. Запомни мои слова, если для твоего спокойствия нужны заверения, и брось меня в первый же раз, как я нарушу свой обет. Но если ты думала, что тебе никогда не придется страдать из-за моего характера, что тебе никогда и не в чем будет упрекнуть меня, значит, ты рассчитывала умчаться со мною в Эльдорадо, мечтала об участи, никому из смертных недоступной. Тут он вдруг умолк и долго сидел грустный и молчаливый, как и я. Наконец, сделав над собою усилие, он сказал: — Видите, бедное дитя, вы уже страдаете. Не в первый и, к несчастью, не в последний раз. Разве вы никогда не слышали, как люди говорят: «Жизнь соткана из мучений, это юдоль слез»? Он сказал это с горькой печалью, слова его отозвались в моем сердце, и у меня опять невольно слезы потекли по лицу. Он крепко сжал меня в объятиях и тоже заплакал. Да, Клеманс, этот строгий человек, несомненно привыкший видеть женские слезы, заплакал. Мои слезы растрогали его. Какое у него чувствительное и отзывчивое сердце! И в эту минуту я совершенно ясно поняла: совсем не имеет значения, что Жаку тридцать пять лет. Неужели он мог быть лучше и более достоин любви в двадцать пять лет? Увидев его слезы, я обвила руками его шею. — Не плачь, Жак, — молила я. — Не заслуживаю я твоих благородных слез. Я существо трусливое, лишенное величия; я не доверилась тебе слепо, как должна была это сделать. Я отнеслась к тебе с подозрением, мне понадобилось рыться в тайниках твоего прошлого. Прости меня, твое горе — тяжелое для меня наказание. — Дай мне поплакать, — сказал он, — и будь благословенна за то, что дала мне изведать минуту душевного умиления. Давно уж со мною этого не случалось. Разве ты не догадываешься, Фернанда, что самое сладостное чувство в мире — это разделенная печаль и что наши слезы, смешавшиеся со слезами дорогого тебе создания, самое верное целительное средство в горестях жизни? Хотел бы я часто плакать вместе с тобою и никогда не плакать в одиночестве. Ну, теперь все кончено!., Пусть говорят о Жаке что угодно, я буду слушать только его. Не брани меня, друг мой, не доставляй мне бесполезных страданий. Отдаю себя на волю судьбе. Пусть все будет, как Богу угодно. Я уверена, что все смогу перенести, лишь бы Жак любил меня.
XVI
От Жака — ФернандеВ прошлый раз, вечером, я хотел вам сказать очень много и не мог говорить; наши слезы смешались, наши сердца поняли друг друга! Этого достаточно для влюбленных, но для супругов этого, пожалуй, мало. Быть может, не только чувством, но и умом вам необходимо успокоиться и проверить себя. Попросив вас принять мое имя и разделить со мною мою судьбу, я тем самым потребовал от вашей привязанности очень больших доказательств доверия, дитя мое. Меня удивляет, что вы, зная меня так мало, с такою доверчивостью положились на меня. Как видно, в вашей душе много благородства и великодушия, или же вы угадали, что вам нечего бояться старого Жака. Я верю и в то и в другое — в вашу доверчивость и в вашу прозорливость. Но я хорошо понимаю, что до сих пор вы лишь сердцем чувствовали надежность нашего союза, а я беспечно молчал об этом; но уже пора помочь вам научиться уважать меня немного. Не стану говорить вам о любви. Не стану утверждать, что моя любовь сделает вас навеки счастливой, — не знаю этого; могу только сказать, что люблю вас искренне и глубоко. Я хочу поговорить с вами в этом письме о браке, а любовь — это ведь совсем особое чувство, связывающее нас независимо от обязательств, налагаемых законом и совестью. Я просил вас, и вы обещали мне жить подле меня, чтобы я был вам опорой, защитником вашим, вашим лучшим другом. Тем, кто связывает свои жизни обоюдным обещанием, необходима лишь дружба. А когда обещание становится клятвой, которую один из супругов может нарушить и тем причинить страдания другому, надо, чтобы оба они питали друг к другу очень большое уважение, в особенности женщина, которую законы человеческие, верования и социальные установления ставят в зависимость от мужа. Вот об этом, Фернанда, я и хотел раз и навсегда договориться с вами; если ваше сердце слепо предалось любви, знайте по крайней мере, кому вы вверяете заботу о вашей независимости и вашем достоинстве. Вы должны питать ко мне уважение и дружбу, Фернанда, я их заслуживаю, — говорю это без всякой гордости и хвастовства; я уже в таких зрелых годах, что могу разобраться в себе и знаю, на что я способен. Не допускаю мысли, чтобы я мог оказаться глубоко виноват перед вами и вы лишили меня своего доверия — совсем или хотя бы отчасти. Я говорю так, ибо полон уважения к вам и верю в вас. Я знаю, что вы справедливы, что у вас чистая душа и здравые суждения. Уверен, что вы никогда не обвините меня без причины или по крайней мере примете мои оправдания, когда в них будет явно звучать голос истины. Надо, однако ж, все предусмотреть; любовь может угаснуть, дружба может стать унылой и тяжелой, а интимная близость вдруг да станет мученьем для одного из нас, а может быть, и для обоих. В этом случае взаимное уважение необходимо. Для того чтобы вы имели мужество отдать мне в руки свою свободу, вам надо знать, что я никогда не отниму ее у вас. Вы уверены в этом? Бедная девочка, вы, может быть, даже не думали о таких вещах. Ну вот, чтобы рассеять страхи, которые могут возникнуть у вас, помочь вам прогнать их, я даю вам клятву; прошу вас запомнить ее и перечитывать мое письмо всякий раз, как светское злословие или какие-нибудь внешние черты в моем поведении вызовут у вас мысль, что я становлюсь тираном. Общество скоро продиктует вам те клятвы, которые вы обязаны принести: вы должны поклясться в верности и в послушании мужу, то есть в том, что никогда никого не полюбите, кроме меня, и будете во всем мне покорны. Одна из этих клятв — нелепость, а другая — низость. Вы не можете ручаться за свое сердце, даже если б я был самым великим человеком и обладал всеми совершенствами; вы не должны обещать повиноваться мне, ибо это было бы унижением и для вас и для меня. Итак, дитя мое, спокойно произнесите слова, освященные церковью, — ведь без них ваша маменька и свет запретили бы вам принадлежать мне; я тоже произнесу слова, которые продиктуют мне священник и мэр, ибо только этой ценой мне дозволено посвятить вам свою жизнь. Но к этому обязательству быть вашим покровителем, которого требует от меня закон и которое я буду соблюдать благоговейно, я хочу добавить еще одно; хотя люди и не сочли его необходимым для святости брака, но без этого обязательства ты не должна брать меня в мужья. И это клятвенное обязательство уважать тебя я хочу произнести у ног твоих, пред лицом Бога, в тот день, когда ты назовешь меня своим возлюбленным. Но я приношу эту клятву уже сейчас, и ты можешь считать ее нерушимой. Да, Фернанда, я буду уважать тебя, потому что ты слаба, потому что ты чиста и невинна, потому что ты имеешь право на счастье, по крайней мере — на покой и свободу. Если я недостоин навсегда наполнить собою твою душу, я все же никогда не буду ни твоим палачом, ни тюремщиком. Если я не смогу внушить тебе вечную любовь, я внушу тебе привязанность, которая переживет в твоем сердце все остальное, и навсегда останусь самым твоим верным и надежным другом. Помни, Фернанда, если ты найдешь, что я слишком стар, чтобы быть твоим любовником, ты можешь, указав мне на мои седины, потребовать от меня лишь отеческой нежности. Если ты боишься стариковской власти, я постараюсь помолодеть, перенестись душой в твои годы, чтобы понять тебя и вызвать у тебя доверие и откровенность, которые ты выказывала бы родному брату. Если я не пригожусь ни для одной из этих ролей, если я, несмотря на мои заботы и преданность, буду тебе в тягость, я удалюсь, оставив тебя полной хозяйкой своих поступков, и ты никогда не услышишь от меня ни единой жалобы. Вот что я могу тебе обещать — остальное от меня не зависит. До свидания, мой ангел. Ответь мне — твоя мать предоставляет тебе для этого полную возможность. Мой слуга завтра утром зайдет к тебе за письмом. Мне придется весь день пробыть в Туре. Твой друг Жак.
XV
От Фернанды — ЖакуДа, я доверяю вам, я полагаюсь на вашу порядочность. Мне не нужны ваши клятвы, я и без них знаю, что никогда вы не будете унижать или угнетать меня. Я еще ребенок, никто не дал себе труда развить мой ум, но у меня гордая душа, а ведь простого рассудка достаточно, чтобы некоторые истины стали ясными. Я ненавижу тиранию, и, если бы с первого взгляда не угадала правду и не увидела вас таким, какой вы есть, я бы никогда не почувствовала к вам ни уважения, ни любви. Маменька всегда мне говорила, что муж — повелитель, что жена обязана ему повиноваться. И вот я твердо решила не выходить замуж, если только не встречу чудо. А такая удача невероятна, гораздо легче было предположить, что я спокойно достигну некоторой независимости, какой пользуются на склоне лет девушки-бесприданницы. Но иной раз я все же воображала, что Бог сотворит ради меня чудо и пошлет мне мужа — сущего ангела в образе человеческом, и он будет моим заступником и покровителем в жизни. Романтическая мечта, в которой я не признавалась маменьке, и все-таки не могла ее прогнать! Когда я сидела за пяльцами и видела за окошком такое синее небо, такие зеленые деревья, любовалась красотой природы и думала о том, что я еще очень молода, — о, тогда для меня просто невозможно было поверить, что я осуждена на заточение и одиночество. Что поделаешь! Мне семнадцать лет, в моем возрасте разум еще не созрел, а тут провидению вздумалось осыпать меня дарами, как балованное дитя. В один прекрасный день явились вы, Жак, пока еще скука не истомила меня, пока еще от слез отчаяния не увяла моя свежесть шаловливой школьницы и я еще не рассталась со своими мечтами и безумными надеждами. И вот благодаря вам все они осуществились, пока меня еще не коснулись жестокие сомнения и страх! Право, ведь я совсем недавно зачитывалась сказками. Всегда в них совершались чудеса, и как это было прекрасно! Всегда в них говорилось о какой-нибудь несчастной девушке, забитой, обездоленной, покинутой или заточенной в темницу; из какой-нибудь щелки в своей башне или с верхушки дерева в пустынном месте она, как во сне, видит прекрасного принца, а вокруг него — все сокровища, все радости земные. И тут добрая фея творит чудеса за чудесами, чтобы освободить бедную девушку, которой она покровительствует: в один прекрасный день Золушка познает любовь, и весь мир лежит у ее мог. Мне кажется, что это моя история. Я дремала в своей клетке и видела золотые сны, которые вы обратили в действительность, и так быстро, что я еще не знаю, сплю ли я или все это правда. И поэтому мне немного страшно. Счастье пришло быстро, нежданно, и я не смею ему поверить. Все же я верю что вы меня любите и что лучше вас нет никого на свете, я знаю, вы поведете себя со мною именно так, как обещаете, и знаю, что я не окажусь недостойной вас; вы даете клятву не порабощать меня, и я тоже клянусь в этом; я обещаю никогда не прибегать к тирании просьб, молений, упреков и истерик, которыми так искусно умеют пользоваться женщины. Хотя у меня и нет вашей опытности, мне кажется, я могу поручиться за свою гордость. Итак, меня не страшат суровые требования брака. Вы любите меня и хотите дать мне все, чем обладаете; я принимаю дар, потому что люблю вас. Если даже мы когда-нибудь перестанем уважать друг друга, я не тревожусь за свою судьбу: я сумею своим трудом заработать себе на жизнь и не вижу в этом страшной беды, которая помешала бы мне принять сейчас то счастье, какое вы мне сулите; нужда и всякие обыденные горести, пугающие людей из общества, меня не страшат — я думаю лишь о вашей любви ко мне, а главное, о своей любви к вам. Вы не хотите об этом говорить, Жак, а я только об этом и беспокоюсь, только это меня заботит. Быть может, я поступаю неблагоразумно, рассказывая вам об этом, когда вы так настойчиво желаете говорить со мной о совсем ином чувстве; но вы приучили меня открывать вам без обиняков все свои мысли. Нередко вы утверждали, что нарочитая сдержанность, которую соблюдают иные женщины и в манерах и в речах, — сплошное лицемерие, а целомудрия в ней нет и следа. И поэтому с вами я без страха и стыда отдаюсь порывам сердца. Если бы я выходила за вас ради тех благ, из-за которых идут под венец три четверти моих подружек по пансиону, меня вполне удовлетворило бы то, что вы мне обещаете: раз мне сулят богатство и независимость, стоит ли заботиться о вашей, о моей любви? Но ведь у нас с вами все иначе, Жак! Как могли вы подумать, что я боюсь чего-то иного, чем утраты любви, которая владеет вами сейчас? Я прекрасно знаю, что вы останетесь моим другом, но неужели выполагаете, будто с меня хватит одной лишь дружбы, будто она меня во всем утешит? Ах, полноте, перестанем говорить о супружестве, будем говорить так, словно нам предназначено быть только возлюбленными. Есть нечто куда более торжественное, нежели закон и клятва, о которых вы говорите: есть то, что происходит во мне, — моя привязанность к вам, возрастающая с каждым днем, потребность оторваться от всего остального, любить только вас, видеть вас одного в целом мире. Вот поэтому я и трепещу, ибо чувствую, что моя любовь будет вечной, а вы ничего не знаете о своей любви. Эта неуверенность ужасна после того, что мне рассказали о вашем восторженном характере и о том, с какой легкостью вы переходите от одного увлечения к другому. Ах, Жак, ну что вам стоило бы сказать мне всего четыре слова, которые успокоили бы меня больше, чем все ваше письмо, и которым я бы слепо поверила; «Всегда буду любить тебя». Но вы их не сказали, вы заколебались, вы не решились написать это, словно испугались, что совершите святотатство! Вы можете поклясться мне в вечной дружбе, в возвышенной преданности, в героическом бескорыстии, в великодушии, способном презреть все предрассудки, пойти на все жертвы, претерпеть все страдания. А вы написали: «Остальное от меня не зависит!». Ужасные слова, Жак! Вычеркните их, возвращаю вам письмо. Зачем мне ваши клятвы? Они мне не нужны, они похожи на договор, на капитуляцию. Когда вы прижимаете меня к сердцу и говорите: «Дитя мое, как я тебя люблю!» — я гораздо больше уверена в своем счастье!
XVI
От Жака — Фернанде ТурАнгел мой, жизнь моя, последний луч солнца над моей седеющей головой! Не своди меня с ума, пощади твоего старого Жака, ему нужны весь его разум и сила… Ты не знаешь, не знаешь, бедняжка, что ты обещаешь и чего требуешь. Ты не думаешь о том, что тебе семнадцать лет, а мне вдвое больше, что ты будешь еще совсем молодой, когда я буду уже стариком, что для меня будущее полно ужаса, если я предамся радостным надеждам, безумным и себялюбивым желаниям. Неужели ты думаешь, что только боязнь изменить своему чувству мешает мне дать тебе обет в такой же страстной любви, в какой ты клянешься мне? Да знаешь ли ты, что я никогда не изменял первым, что в дни пылкой юности я после первого разочарования пять лет никого не любил и даже не смотрел ни на одну женщину? Неужели это называется «с легкостью переходить от одного увлечения к другому»? Право, те, которые заявляют, что они изучили мой нрав, и пытаются рассказать тебе о моей жизни, не знают ни моего характера, ни моей жизни. Говорили они тебе, что отказаться от привязанности меня вынуждало презрение? Знают ли они, чем была бы для меня страсть, основанная на подлинном уважении? Знают ли они, чего мне стоило не дать прощения и как я близок был к тому, чтобы унизить себя подобным милосердием? Да кто же знает меня? Кто когда-нибудь понимал меня? Я никогда ничего не рассказывал ни о своих страданиях, ни о своих радостях людям, которые вмешиваются в мои дела и решаются судить обо мне, хотя у нас с ними общего лишь то, что и я и они сохраняли хладнокровие на поле боя и солдатский стоицизм в походах. Ты лучше расспрашивай меня самого, Фернанда, одного меня — кто же знает меня лучше, чем я сам, а ведь я не бросаю слова на ветер? Да, я всегда буду тебя любить, если ты этого хочешь и всегда будешь хотеть. Быть может, между нами это окажется возможным, как знать! Ты уверена в себе, дорогой мой ангел? В какую, должно быть, печальную улыбку складываются у меня губы, когда я читаю твои клятвы! Как трудно противиться надежде, которую ты подаешь мне, и не предаться безрассудной мечте! Старость ума, как трудно совместить тебя с молодостью сердца! Ты же сама видишь: терзая себя мыслями о будущем, мы дошли до того, что стали сомневаться друг в друге, дошли до взаимных признаний в своих опасениях, а ведь нет на свете ничего горше и печальнее таких подозрений. Зачем приподнимать священные завесы судьбы? Сердца самые твердые не всегда выдерживают ее неизбежные удары. Какими обещаниями, какими клятвами можно сковать любовь? Вера и надежда — вот надежнейшие ее узы. Надо остерегаться слишком часто заглядывать в ту таинственную книгу, где рукою всевышнего записаны сроки нашего счастья: примем его дар с благодарностью и будем наслаждаться блаженством любви, не отравляя его мыслями о завтрашнем дне. Пусть счастье продлится только год, только неделю, пусть за единый день твоей нежности мне пришлось бы заплатить дорогой ценой — мучиться всю жизнь одиночеством и сожалениями, я не стал бы жаловаться и мое сердце сохранило бы вечную признательность Богу и тебе. И я хочу, чтобы ты смело бросилась в волны неведомого тебе житейского моря, в котором предвидения ничему не помогут, где даже сила послужит, возможно, лишь тому, чтобы мужественно погибнуть. Не может быть победы для тех, кто не хочет сражаться; не может быть наслаждения для тех, кого мучает страх. Приди в мои объятья, отбросив и страх и ложный стыд; будь всегда простодушной, как дитя, моя целомудренная, моя святая; не краснея, говори мне о своей любви. Девственной чистоте пристала нагота, как Еве до ее грехопадения. Быть может, человек, который двадцать лет своей жизни был солдатом, видел униженные нации, чьи нравы покорители презирали, чьи обычаи попирали, человек, который прошел через всю поверженную Европу в рядах грубых и спесивых захватчиков и при этом не заразился их пороками, ничем не запачкал себя, — быть может, он достоин твоей любви хотя бы на несколько лет. Если позднее, в старости, сердце его очерствеет, если на смену любви и преданности в сердце его воцарятся эгоизм и унылая ревность, перестань его любить — ты получишь полное право на это, ибо он будет уже не тем Жаком, которого ты знала и которого обещала любить всегда. Быть может, всего этого не довольно для тебя и ты потребуешь от меня иных клятв — не знаю, не могу сказать тебе ничего другого. Я честный человек, но я ведь не совершенство, я только человек, а не ангел. Не могу поклясться, что моя любовь всегда будет удовлетворять потребности твоей души; мне кажется, что да, так как я люблю тебя искренне и горячо; но ведь ни ты, ни я не знаем, долго ли продлится восторг, которым чистая любовь отличается от дружбы. Я не могу обещать тебе, что у меня восторженное чувство сможет устоять перед большим разочарованием, но отеческая нежность никогда не умрет в моем сердце. Жалость, заботливость, преданность — в этих чувствах я могу поклясться: они всегда должны быть у мужчины; любовь — пламя более яркое и священное. Бог ее ниспосылает, и он же отнимает ее. До свидания. Не отвергай дружбы твоего старого Жака.
XVII
От Сильвии — ЖакуТеперь, когда вы находитесь в преддверии брака, мы с вами вступаем в новый фазис безымянного чувства, которое питаем друг к другу, и вы должны сказать мне всю правду об одном из важнейших обстоятельств моей жизни. До сих пор я должна была и могла терпеть ваше молчание, а теперь больше не могу ждать. Вы были единственной моей опорой на земле, и вот, я, быть может, ее потеряю: я ведь не знаю, могу ли я по-прежнему принимать ваше покровительство и ваши дары. Когда вы жили независимо, мне не так уж важно было знать, кто вы для меня: мой опекун или просто мой благодетель. А теперь у вас будет семья, чужая мне, ваше состояние по закону должно принадлежать ей; я не хочу брать ни малейшей его доли, если не имею священных прав на ваши заботы. К тому же эта неуверенность мне тягостна, покров тайны, скрывающий от меня истинную природу наших отношений, вносит в мою жизнь ужасные и странные сомнения. Даже Октава они беспокоят: он не обладает достаточным душевным величием, чтобы слепо довериться моему честному слову, и достаточной смелостью, чтобы откровенно обвинить меня. Наглые пересуды любопытных, которых немало в здешнем городе, сводятся к тому, что вы были моим любовником и теперь из деликатности обеспечили мою судьбу. Я презираю эти мерзкие толки, неизбежные следствия моей уединенной жизни и моего безвестного происхождения. Я уже с давних пор привыкла к тому, что у меня нет семьи и что мне надо идти трудным путем в холодном свете, который презрительно вопрошал меня: «Кто вы такая? Откуда вы явились? Кому вы принадлежите?». Я никогда не рассчитывала на так называемое почтение. Быть может, мне удалось бы добиться его, приобретая знакомства, ища себе друзей, но я не чувствовала в них потребности: с меня вполне достаточно было вашей привязанности — она наполняла мою жизнь, когда любовь не захватывала меня. А теперь, быть может, я лишусь вашей дружбы, ваша новая привязанность разлучит нас; надо мне постараться ближе сойтись с Октавом, простить ему, что он сомневался во мне, а меж тем я никому не простила бы этого при других обстоятельствах; я готова даже снизойти до того, чтобы предоставить ему доказательства моей невиновности, — я лично уверена, что коротенькая записка, которую вы напишете, будет достаточным доказательством; напрасно вы отказывались написать ее — я уже давно догадалась, кем мы приходимся друг другу. Так напишите эти слова, они проложат меж нами священную черту, которую подозрение не посмеет перейти, и я буду спокойно спать под кровлей вашего дома. Признайтесь, что я не дочь одного из ваших друзей, признайтесь, что вы мой брат. Вы принесли клятву у смертного одра того, кто дал мне жизнь; теперь вы должны ее нарушить, ибо от этого зависит спокойствие всей моей жизни. Ну, почему не открыть мне имени моего отца? Я не знаю умершего, я не могу его любить, но прощаю ему, что он бросил меня. Как бы то ни было, я никогда не стану проклинать его; быть может, я буду благословлять его, если это твой отец.
XVIII
От Жака — СильвииЯ много думал о твоей просьбе. Когда я давал клятву у смертного одра моего отца, я оговорил себе право нарушить ее, если по некоторым причинам это окажется необходимым для твоего спокойствия и твоей чести. И вот мне кажется, что этот час наступил. Но, право же, то, что я могу сказать, — такое недостаточное, такое неточное доказательство, что, пожалуй, было бы лучше молчать и остаться твоим названым братом. Но раз ты отказываешься от моей поддержки, я должен все сказать, успокоить твою гордость и заверить тебя, что моей привязанностью ты обязана не состраданию, а чувству долга, узам крови, которые мое сердце приняло и сделало законным с того самого дня, как я узнал тебя. В глубине души я убежден, что ты моя сестра; но у меня нет уверенности, я не в силах доказать это; и все же ты можешь сказать всему миру, что я всегда питал к тебе лишь братские чувства. Маленький образок святого Иоанна Непомука, одна половинка которого у тебя, а другая у меня, — вот и все доказательство, что мы с тобой брат и сестра. Но в моих глазах — это торжественное и священное доказательство, и я верю ему всей душой. Когда отец умер, мне было двадцать лет; я был скорее его другом, чем сыном. Он был человеком добрым и слабым, у меня же другой характер. Он боялся моего осуждения, но верил в мою любовь к нему. Несколько часов его терзала медленная агония; время от времени он приходил в себя, тревожно озирался, судорожно сжимал мою руку и вновь бессильно падал на подушки. В последнюю минуту ему удалось взять в изголовье и вложить мне в руку какую-то записку и сказать при этом; — Делай с ней, что захочешь, что считаешь долгом своим сделать. Я полагаюсь на тебя. Поклянись сохранить тайну. — Клянусь сохранить тайну, — ответил я, бросив взгляд на бумагу, — до того дня, когда мое молчание вредно отразилось бы на судьбе несчастного существа, которого касается тайна. Поверьте, я буду оберегать честь моего отца. Он утвердительно кивнул головой и повторил: — Я полагаюсь на тебя. Это были его последние слова. А вот что представляют собою бумаги, состоявшие из трех отдельных листочков. На одном было написано:
«15 мая 17… года сдан в воспитательный дом в Генуе младенец женского пола; для опознания взята иконка святого Иоанна Непомука».
На втором листочке значилось:
«Это преступление совершил я, и вот мои оправдания. У госпожи де *** одновременно со мной был еще и другой любовник. Неуверенность, сострадание побудили меня помочь ей при родах. Она была одна. Тот, другой, покинул ее; но я не мог решиться взять ребенка этой женщины; по взаимному с нею согласию мы его сдали в воспитательный дом. Это окончательно внушило мне ненависть и презрение к недостойной матери. Я сохранил опознавательный знак, решив, что если когда-нибудь будет доказано, что ребенок принадлежит мне… Но это невозможно, я никогда этого не узнаю».
Имя этой женщины написано полностью рукою моего отца, и я ее знаю. Она жива, она слывет добродетельной особой, по крайней мере претендует на это. Я никогда не назову тебе ее имя, Сильвия, — ведь это ничему не поможет, и честь запрещает мне сделать это. Третий листок представлял собою обрезанную половину образка, вторая половина которого была надета на твою шейку. Я был почти так же неуверен, как и мой отец. Он часто говорил мне об этой даме. Она отравила ему жизнь. Я видел ее в детстве, я ее не выносил. Прийти на помощь ее дочери, плоду двойной любви, гнусной и лживой, это уж было бы чрезмерным великодушием, и сперва я чувствовал к этой мысли непреодолимое отвращение. Отец сказал мне, чтобы я поступил так, как сочту нужным. Я было попытался похоронить тайну во мраке забвения и бросить бедную малютку на произвол судьбы. Но есть небесный голос, который говорит на земле людям доброй воли, как их наивно именует священное песнопенье. Лишь только я решил покинуть тебя, я как будто услышал голос самого Господа Бога, ежечасно и гневно повелевавший мне прийти тебе на помощь. Несколько раз я видел сны, в которых явственно слышал голос умирающего отца, — он говорил мне: «Это твоя сестра! Это твоя сестра!» Помнится, мне приснилось однажды, что по небу летят ангелы и несут прекрасное дитя, прекрасное, но бескрылое, бледное, плачущее. Прелесть этого ребенка, его скорбь произвели на меня такое сильное впечатление, что я бросился к нему, чтобы обнять его, и в это мгновение я проснулся. Я подумал, что мне явилась новая душа, улетавшая в небеса. «Она умерла, — думал я, — но перед тем как вернуться к Богу, пожелала прийти ко мне и сказать:,Я была твоей сестрой, а плачу я из-за того, что ты бросил меня»». Однажды я взял образок святого Иоанна, плохонькую гравюру, поспешно вырванную из какого-нибудь молитвенника в ту минуту, когда тебя решили подкинуть в воспитательный дом. Странное впечатление это оказало на меня. «Эта картинка — все твое наследство, — думал я, — все твои документы, дающие тебе право на любовь и заботы семьи; тут вся судьба человеческая, все будущее несчастного ребенка. Вот дар, который ты получила от родителей, давших тебе жизнь; вот чем ограничились попечение и щедрость матери! Она повесила тебе на грудь этот великолепный подарок и сказала: «Живи и благоденствуй»». Я почувствовал такое глубокое сострадание, что слезы выступили у меня на глазах и я зарыдал, словно ты была моим ребенком и тебя, похитив у меня, бросили в сиротский приют. Образок вызвал у меня несказанное волнение, я и до сих пор еще не могу видеть его без слез. Мы с тобою часто рассматривали его вместе, и когда ты была еще девочкой, ты горячо целовала картинку всякий раз, как я давал ее тебе для того, чтобы сложить мою половинку с той, что висела у тебя на груди. Бедная девочка, эти поцелуи казались мне красноречивым и ангельским упреком, обращенным к твоей гнусной матери. В детские твои годы тебе говорили, что этот святой Иоанн — твой покровитель, твой лучший друг, что он поможет тебе найти родных, и когда я пришел к тебе, ты его так благодарила; вдвое выросла твоя вера и любовь к — нему; тогда и я полюбил эту картинку. Если не сам святой, то его изображение стало мне дорого. Я смотрел на него глазами души своей и открыл в его чертах выражение, какого в них художник, быть может, и не вложил. На моем отрезке осталось три четверти изображения: там нарисована голова молодого человека с короткими волосами и лицом самым обыкновенным; но она склонилась с каким-то кротким и грустным вниманием над страницей Библии, которую он держит в руках. В этой книге, говорил я себе (когда еще не видел тебя и думал, что ты умерла), твой опечаленный покровитель как будто читает повесть короткой и жалостной судьбы ребенка, вверенного его попечению. Он вспоминает о тебе с нежностью и состраданием, ибо, кроме него, никто на земле не пожалел сироту. Какое-то непонятное, почти сверхъестественное чувство непреодолимо влекло меня к тебе; через полгода после смерти отца я оставил Париж и направился в Геную. Я навел справки в приюте. Поиски не привели к надежным результатам. Мне известно было, какого числа тебя сдали, но не указан был час, а в этот самый день поступило несколько детей. Порывшись в реестрах, мне дали различные сведения. Единственным опознавательным знаком у меня был образок святого Иоанна Непомука, а ведь ты могла уже давно потерять его. Первые попытки разыскать тебя остались бесплодными; у подкидыша, на которого мне указали, был другой знак — ребенок был горбатый уродец. Как я боялся, что эта девочка — моя сестра! Затем я отправился в горную деревушку на морском побережье, где, как мне сообщили, жила крестьянская семья, которая взяла на воспитание одного из детей, подкинутых 15 мая 1… года. Какие горькие мысли о тебе одолевали меня дорогой! Как тебя могли унижать, как дурно с тобой обращаться — ведь тебя, такую маленькую, беззащитную, отдали в руки грубых, черствых людей, которые наживаются на деле милосердия: берут на воспитание сирот, а на самом-то деле растят их только для того, чтобы обратить позднее в бесплатных своих батраков! Наконец я приехал в Сан-***, живописную деревушку, где ты жила первые десять лет твоей жизни и о которой сохранила дорогие сердцу воспоминания. Я нашел тебя в кругу честной семьи, где тебя лелеяли наравне с родными детьми; ты пасла коз на склонах Приморских Альп. Мы никогда не забудем день нашего первого свидания, дорогая Сильвия, правда? Сколько раз мы с тобой вспоминали свои впечатления от этой встречи. Но я тебе не говорил, как я волновался, наводя справки. Я был так еще неуверен! Твои приемные родители заверили меня, что у тебя действительно есть образок какого-то святого, но они не умели читать, да и на их половинке стояли только последние буквы имени — Непомука, а они не запомнили, какого святого называл им приходский священник, когда рассматривал вместе с ними опознавательный знак. Женщина, вскормившая тебя, всячески старалась убедить меня, что ты не тот ребенок, которого я ищу. Надежда получить вознаграждение не смягчала для нее горечь разлуки. Как тебя тут любили! Ты уже умела внушать всем окружающим сильную привязанность. В этой семье о тебе говорили с каким-то суеверным почтением, что казалось мне свидетельством того таинственного покровительства, которое Бог ниспосылает сиротам, всегда наделяя их какими-нибудь привлекательными чертами или добрыми качествами взамен естественного покровительства родителей, и эта детская прелесть вызывает любовь в тех людях, которые волею случая стали опорой сироты. По мнению этой славной женщины, ты, несомненно, родом из какой-то знатной семьи, потому что в характере у тебя столько гордости, словно в твоих жилах течет королевская кровь. Священник и деревенский учитель восхищались твоим умом и сердечностью. Когда другие дети только еще читали по складам, ты уже научилась писать. Я никогда не забуду, что говорила о тебе твоя кормилица: — Непокорная она, как море, а рассердится, так будто шквал налетит. Хочет, чтобы все ей уступали. Молочные-то братья подчиняются ей, как дурачки, они ведь у меня простодушные, а она гордячка. Но уж какая ласковая, добрая, чисто ангел небесный, когда заметит, что обидела кого. Она три дня в лихорадке лежала — до того, голубушка, огорчилась, что больно ушибла маленького Нани, когда рассердилась на него. Она его толкнула, он упал, и из носика у него кровь пошла. Я как это увидела, рассердилась, подбежала сперва к ребенку, подняла его, потом бросилась за чертовой девчонкой, чтобы ее отколотить; но у меня духу не хватило и пальцем ее тронуть: вижу, подходит она ко мне вся бледная, бросилась обнимать Нани, кричит: «Я его убила! Я его убила!». Мальчику-то не очень и больно было, а Сильвия совсем расхворалась. Пришел священник и заверил меня, что на твоем опознавательном знаке — Иоанн Непомук. Сердце у меня забилось от радости, я уже успел полюбить тебя за этот час. То, что мне рассказывали о твоем характере, совпадало с моими воспоминаниями детства, я с каждой минутой все больше чувствовал себя твоим братом. Тем временем за тобой послали — ты повела коз на горное пастбище, но до него было неблизко, и я нетерпеливо ждал тебя у порога дома. Священник предложил мне пойти тебе навстречу, и я с радостью согласился. Сколько вопросов я задал ему дорогой! Сколько черт твоего характера узнал от него! Я не решался спросить, хорошенькая ли ты, — мне казалось, что это ребяческий вопрос, а между тем умирал от желания узнать это. Ведь я и сам-то был еще почти ребенком и по возрасту питал к тебе романтический интерес. Твое имя, необычайно изысканное для деревенской пастушки, ласкало мой слух. Священник мне сказал, что тебя назвали Джованна, но что одна старуха француженка, маркиза, поселившаяся в окрестностях селения со времени эмиграции, полюбила тебя с младенческих твоих лет и придумала для тебя это фантастическое имя, и, несмотря на уговоры и наставления священника, оно заменило имя святого Иоанна — твоего небесного покровителя. Славный старик священник не очень-то любил маркизу и полагал, что зря она вместо назидательных рассказов забивает твою голову всякими вымыслами и небылицами, заставляет тебя читать вслух сказки Перро и госпожи д’Онуа, которые он считал опасными. — Хорошо еще, — сказал он, — что состояние у этой дамы было невелико и не позволило ей заплатить приемным родителям ребенка достаточно большую сумму, чтобы они отдали ей Джованну-Сильвию. Они предпочли вырастить ее пастушкой, а так как будущее бедной девочки было туманно, это решение оказалось и к их и к ее пользе. Теперь вот небо посылает ей иную судьбу, должна произойти перемена к лучшему, ибо провидение заботится о сиротах, брошенных людьми. Но умоляю вас, сударь, — сказал он, — следите за ее воспитанием. Вы еще слишком молоды и не можете сами заняться этим делом, однако же постарайтесь дать ей разумного воспитателя, чтобы из его руки на добрую почву упали добрые семена. В этой душе имеются задатки незаурядных качеств, но надо, чтобы их сумели развить. А что, если из-за небрежности или неосторожности наставников в юном сердце расцветут пороки? Она будет красива, хотя наше солнце опалило ее кожу, а красота — роковой дар для женщин, которые не имеют опоры в религии. — Вы говорите, она красива? — переспросил я. — И еще как! Да вот она сама, — ответил священник, указывая мне на девочку, уснувшую на траве. — Долго бы нам пришлось ждать ее прихода. Ах, как ты была хороша в сонном забытьи, моя Сильвия, моя милая сестрица! Каким крепким, смелым и гордым ребенком ты мне показалась, когда я увидел тебя на ложе из вереска, на фоне неба и альпийских вершин, под жаркими лучами солнца и дуновением морского ветра, который налетал порывами и осушал испарину, увлажнявшую твой широкий лоб и черные волосы! Длинные ресницы опустились темной тенью на твои смуглые детские щечки, бархатистые, как персик; полуоткрытые губы улыбались беспечной и вместе с тем грустной улыбкой. «Да, сердечность и гордость, — думал я. — Кормилица-горянка простодушными своими словами верно обрисовала мне характер своего приемыша». Я остановил священника, когда он протянул руку, желая разбудить тебя. Мне хотелось рассмотреть тебя, внимательно вглядеться в твои черты. Я искал и как будто находил в тебе смутное сходство с отцом или со мной — в форме головы и в чертах лица. Не знаю, существовало ли в действительности это сходство или то была игра воображения, но мне казалось, что я, несомненно, твой брат: это сразу заметно, об этом говорят широкий лоб, смуглый цвет лица, густые черные волосы, которые у тебя, Сильвия, заплетены были в две толстые косы, спускавшиеся ниже колен. Да, пожалуй, и очертания подбородка; однако сходство выражено недостаточно ярко и не может служить свидетельством перед людьми. Куда более разительно сходство наших душ и характеров. Священник окликнул тебя; ты приоткрыла глаза, но не заметила его, потом нетерпеливо дернула плечом и локотком и снова уснула. Тогда старик снял с твоей шеи ладанку, раскрыл ее и приложил находившуюся в ней половинку гравюры к той, которую достал я. Мы сразу узнали образок. Ты вдруг проснулась, посмотрела на нас испуганным взглядом молодой лани, поискала на шее ладанку и не нашла, и увидев ее в наших руках, кинулась к нам, пытаясь вырвать ее. Но священник показал тебе сложенные вместе половинки образка, и ты поняла, что произошло. Тогда ты, как козочка, прыгнула ко мне, крепко, как настоящая горянка, обняла меня и воскликнула: «Вот мой папа! Мой папа нашелся!». С трудом удалось убедить тебя, что я не твой отец, — ты говорила, что я просто не хочу признаться. Священник старался внушить тебе, что мне невозможно быть твоим отцом, так как я всего на десять лет старше тебя. Тогда ты порывисто спросила, где же твой отец, где мама, и потребовала, чтобы я отвел тебя к ним. Я ответил, что они умерли. Ты топнула о землю босой ножкой: — Я так и знала! Теперь придется мне остаться здесь. — Нет, — ответил я. — Я заменю тебе отца. Он был моим лучшим другом, он передал мне свои отцовские права на тебя. Хочешь ты поехать со мной? — Да! да! — стремительно ответила ты, целуя меня. — Вот каковы дети! — грустно заметил священник. — Их любят, растят, живут только для них, и когда вы уже думаете, что они заплатят вам своей признательностью и любовью, они с радостью бросают вас и уходят за первым попавшимся незнакомцем, даже не спрашивая, куда он их ведет. Ты прекрасно поняла упрек и ответила священнику: — Неужели вы думаете, что я вас брошу? Ведь я же вернусь повидаться с вами и еще буду пасти коз матушки Элизабетты. Но, видите ли, мне надо попутешествовать, посмотреть все страны, какие есть на свете. Когда-нибудь я вернусь, приплыву на корабле, привезу много-много денег и отдам их моим молочным братьям: мы купим много-много коз, большое стадо, и построим овчарню на Раковинной горе. Ты всегда говорила таким языком, словно сказку рассказывала или Библию читала, — это были твои единственные книги. Я провел несколько дней в твоей деревне. И мне приходило желание оставить тебя там — такой счастливой казалась мне жизнь в этом горном селении, такими жалкими и смехотворными представали передо мною удовольствия общества, в которое я собирался ввергнуть тебя, в сравнении со здоровым, спокойным существованием трудолюбивых крестьян… Но наблюдая за тобой, совершая с тобой долгие прогулки в горы, испытывая множеством вопросов твой пылкий и наивный ум, скрупулезно разбирая твои странные ответы, то поражавшие здравомыслием и рассудительностью, то нелепые, как то свойственно детской фантазии, я убедился, что ты не создана для сельской жизни и не сможешь к ней привыкнуть. Позднее, познав многие горести, ты кротко упрекала меня за то, что я вывел тебя из этого оцепенения, в котором ты жила бы тихо, мирно, и бросил тебя в мир страданий и разочарования. Увы, бедное мое дитя, зло совершилось раньше, чем я пришел к тебе, и мне думается, не следует даже обвинять в нем сказки, которые давала тебе читать маркиза. Во всем виноват твой пытливый, проницательный ум; зачатки отчаяния таились в твоей душе, в этом полураскрывшемся бутоне надежды. Ты ведь не походила на своих коротконогих, тяжеловесных молочных сестер, и тебе бы никогда не удавалось так хорошо, как они, варить сыр и прясть шерсть. Я расспрашивал у тебя самой и у твоей кормилицы, каковы были твои первые впечатления в жизни. Я знаю, как ты мучилась, пытаясь угадать, кто твои родители, когда узнала, что Элизабетта тебе не родная мать. Ты тогда целые дни проводила у края тропинки, что ведет к морю, и лишь только видела вдалеке парус, говорила: «Вот мама едет ко мне в гости, и на ней белое платье». К этой постоянной мечте обрести родную семью прибавились мысли о путешествиях, о богатстве и щедрости. Ты только и мечтала о том, как станешь королевой и богатыми дарами вознаградишь своих приемных родителей. Эти золотые сны не могли пройти безнаказанно для твоего детского ума. Они бы не исчезли бесследно, когда бы ты достигла сознательного возраста, не уступили бы место заботам чисто материальной жизни. Твои мечтания порождены были уверенностью, что тебе суждена участь иная, чем всем окружающим; ты с горечью простилась бы со своими грезами или погубила бы себя, пытаясь их осуществить. Ты была прелестным ребенком — чистосердечным, смелым, предприимчивым, то по-детски ласковым, то капризным. Но уже пора была занять тебя более возвышенным делом, внушить тебе более разумные мысли, смирить бурные порывы твоей юной души; необходимо было дать тебе воспитание — не для того, чтобы ты стала счастливой: твоя чувствительная натура мешала этому, но хотя бы для того, чтобы ты не опустилась с той высокой ступени, на которую Господь возвел твой разум. В каком-то страстном отчаянии простилась ты с Элизабеттой, с молочными братьями, со стариком священником, со всеми своими друзьями и даже с козами. Ты всех по очереди перецеловала, проливая потоки слез. Однако же, когда тебе предложили остаться, ты воскликнула!. — Нет, это невозможно, это невозможно! Мне ведь надо попутешествовать. Ты чувствовала, Сильвия, что жизнь у матушки Элизабетты не по тебе. Из бездн неведомого непрестанно долетал до тебя таинственный голос и требовал, чтобы ты прошла через назначенные тебе бури. Ты стала такой, какою все любуются теперь, нисколько не утратив прежней своей прелести дикарки и смелой откровенности. Ты познакомилась с нашей цивилизацией, но осталась дочерью гор. Можно ли удивляться, что у тебя очень мало симпатии к глупому и лживому свету, раз ты принесла из горной пустыни неуклонную прямоту и суровую любовь к справедливости, которую Бог открывает чистым душам и сильным умам, раз все твое существо, вплоть до крепкого здоровья, отличает тебя от окружающих. Ведь ты на голову выше их, Сильвия, и ты уже устала наклоняться и высматривать, найдется ли на земле сердце, достойное того, чтобы его подобрали. Я прекрасно знаю, что ты создана не для Октава, хоть он и превосходный молодой человек — искренний, ласковый, привязчивый; но ведь и лучший из всех юношей неровня тебе, и ты страдаешь. Ну, что мне еще тебе сказать? Люби его так долго, как сможешь. Что касается тайны твоего рождения, заклинаю тебя: не открывай ему ничего, даже какой-нибудь мелочи; на его подозрения отвечай, что я твой брат. Люди благожелательные так и должны думать, не требуя объяснений. Тревога Октава меня оскорбляет — за тебя. Возможно, я неправ, он не знает тебя, как я, он страдает, как страдали бы на его месте девять десятых мужчин; он ропщет, потому что влюблен. Я привожу себе все эти доводы, но не могу прогнать негодования: кровь моя кипит при мысли, что Сильвию подвергают оскорбительному подозрению. Вот такие у нас с ним отношения. Ах, сестра моя, мы с тобой слишком горды, наша жизнь будет вечной борьбою. Но что поделать! Проживи я хоть сто лет, я не смогу признать себя виновным в подлостях, в которых свет всегда подозревает свои чада. Сердце у меня переворачивается при одной мысли, какие гнусности он считает вполне допустимыми и естественными! И когда я вижу улыбку на губах человека, отказывающегося верить в мою чистоту, когда он, обвинив меня в какой-нибудь мерзости, уходит, крепко пожав мне руку, и еще говорит на прощание: «А, пустое! Пусть будет так, как вам угодно! До свидания. Весь к вашим услугам!» — мне хочется дать ему пощечину для того, чтобы между нами была откровенная ненависть вместо подлых и марающих меня приятельских отношений. А ты, правдивая, святая душа! Только ты одна на свете понимаешь старого Жака и сочувствуешь его страданиям, его уязвленной гордости. Будь для него кем хочешь, но позволь ему всегда считать и чувствовать себя твоим братом.
XIX
От Фернанды — Клеманс Сен-Леон в Дофинэ…Прости меня, милый друг, за то, что целый месяц не писала тебе. Это очень дурно с моей стороны, и ты имеешь право пожурить меня. Да, совершенно верно, я надоедала тебе своими письмами, когда мучилась, когда нуждалась в твоих советах и утешениях! А теперь я счастлива и немножко отдалилась от тебя. Ты сама говорила: любовь эгоистична, она зовет себе на помощь дружбу лишь в дни страданий. По крайней мере, я поступала именно так, словно подобное поведение было неизбежно; теперь мне за это стыдно, и я прошу у тебя прощения. Наилучшее средство исправить мою вину — это поскорее ответить на все твои вопросы, доказав тем самым неизменное мое доверие к тебе. Но раз я возвращаюсь к переписке с тобой, не думай, насмешница, будто мой медовый месяц кончился, — сейчас увидишь, что нет. Люблю ли я своего мужа так же, как в первый день? О, конечно, Клеманс, и даже могу сказать, что люблю еще больше. Да и как могло быть иначе? Каждый день я открываю в Жаке какие-нибудь новые хорошие качества, новую черту совершенства. Его доброта ко мне неисчерпаема, он заботится обо мне так же нежно и внимательно, как мать о своем ребенке. И каждый день мне поневоле приходится любить его еще больше, чем накануне. К ликованию сердца, к радостям счастливой и удовлетворенной любви прибавь еще множество мелких удовольствий; упоминать о них, пожалуй, сущее ребячество, но я чувствую их очень живо, так как доныне они были мне неведомы. Я имею в виду удовольствия, которые приносит богатство, — оно пришло ко мне после жизни, требовавшей большой бережливости, многих лишений. Я не страдала от такого жалкого существования, я к нему привыкла, я совсем не мечтала о богатстве и, выходя замуж за Жака, даже де думала, о его большом состоянии, как будто его и не было вовсе; однако я полагаю, что с моей стороны не будет низостью душевной замечать, какие преимущества оно приносит, и уметь пользоваться ими. Эти повседневные удовольствия, роскошь, окружающая меня, изобилие, проявляющееся в каждом пустяке, были бы мне не милы, а постылы, будь я обязана ими унизительному браку, получи я их из рук ненавистного мне гордеца; но получать знаки внимания от Жака — да ведь это значит вдвойне радоваться нм! В его подарках и предупредительности столько природной доброты и какого-то изящества! Право, кажется, что он рожден для того, чтобы заботиться о счастье других людей, и что у него нет другого дела в жизни, как любить меня. Ты спрашиваешь, нравится ли мне жить в старом замке, не надоело ли мне тут, не пугает ли меня одиночество. Одиночество? Какое же это одиночество, когда подле меня Жак? Ах, Клеманс, сразу видно, что ты никогда не любила. Бедный друг мой, как мне тебя жаль! Ты не изведала самого прекрасного, что есть в жизни женщины. Если бы ты любила, ты бы не спросила, пугает ли меня одиночество, жажду ли я удовольствий и развлечений, свойственных моему возрасту. В моем возрасте женщине свойственно любить, Клеманс, и просто невозможно, чтобы мне нравилось что-либо чуждое моей любви. Что касается развлечений, которые я разделяю с Жаком, я их люблю и у меня их сколько угодно — даже больше, чем я хотела бы; зачастую я предпочла бы остаться дома одна с мужем и спокойно побродить по аллеям нашего прекрасного парка, вместо того чтобы сесть в седло и мчаться по лесам во главе целой армии доезжачих и охотничьих собак. Но Жак все боится, что он мало меня развлекает! Милый мой Жак, какой возлюбленный, какой друг! Ты хочешь, чтобы я подробно описала тебе наш дом, наш край, наш образ жизни? Охотно расскажу об этом: мне приятно говорить о радостях, которыми я обязана мужу. Мы прибыли сюда в одиннадцать часов вечера; путешествие, самое долгое за всю мою жизнь, меня очень утомило. Волей-неволей Жаку пришлось донести меня на руках от кареты до крыльца. Было темно и очень ветрено. Я ничего не видела кругом, кроме нескольких собак, прыгавших с оглушительным лаем около колес кареты, когда мы въезжали во двор; а как только Жак спустился с подножки, они ринулись к нему с радостным визгом. Я пришла в ужас, увидев, как эти огромные псы скачут вокруг меня. — Не бойся, — сказал мне Жак, — и будь всегда добра к бедным моим собачкам. Разве человек проявил бы подобную радость, увидев лучшего своего друга после долгой разлуки? Затем перед моими глазами предстала процессия слуг всех возрастов, окружившая Жака и смотревшая на него с ласковым и вместе с тем тревожным видом. Я поняла, что мое появление очень беспокоит этих славных людей, и страх перемен, которые я могу произвести в установившихся здесь порядках, немного умаляет удовольствие от возвращения их доброго хозяина. Жак провел меня в мою спальню, обставленную по старинной моде и очень роскошно. Мне хотелось перед сном бросить взгляд на сад, и я отворила окно, но в темноте могла лишь различить густые купы деревьев перед домом, а за ними огромную долину. Из сада поднималось благоухание цветов. Ты знаешь, как я люблю цветы, с каким наслаждением я вдыхаю аромат розы! И когда на меня повеял ветер, напоенный чудесными запахами, я вся затрепетала от радости, словно какой-то голос прошептал мне: «Ты будешь здесь счастлива!». Услышав, что Жак с кем-то говорит позади меня, я обернулась и увидела молодую девушку лет шестнадцати — восемнадцати, прелестную, как ангел, и одетую так, как одеваются крестьянки в Дофинэ, но более изящно. — Ну вот, — сказал Жак, — вот твоя горничная. Это славная девушка, и она будет стараться угодить тебе. Она моя крестница, зови ее Розетта. Эта служанка с удивительно умным и добрым личиком, поцеловавшая мне руку с ласковой и почтительной улыбкой, была для меня еще одним добрым предзнаменованием. Жак оставил нас одних и пошел расплатиться с кучером почтовой кареты. Когда он вернулся, я уже была в постели. Он попросил у меня разрешения выпить кофе в моей спальне, и пока Розетта наливала ему чашку, я тихонько задремала. Проживи я до ста лет, мне не забыть этот вечер, хотя тогда все было вполне обыкновенно и очень естественно. Но какие радостные мысли, какое блаженное чувство баюкали мой первый сон под кровлей Жака! Вот уж действительно могу сказать, что я заснула с глубокой верой в свою счастливую звезду. Даже в самой усталости от путешествия было что-то очаровательное: она меня сковала, у меня не было сил о чем-либо думать; глаза мои еще были открыты, но я уже не останавливала их сознательно на том или другом предмете, а смутно видела лишь всю милую, приятную картину. Взгляд мой переходил от серебряной бахромы шелкового полога постели к спокойному и красивому лицу Жака; от чашки тончайшего японского фарфора, из которой он пил душистый кофе, к высокой, стройной фигуре Розетты, тень которой вырисовывалась на резной панели чудесной работы. Розовый свет лампы, шум ветра в саду, приятная теплота в комнатах, мягкая постель — все было как в сказке, как в детской мечте. Я задремала, но время от времени пробуждалась, словно хотела полнее насладиться счастьем. Жак говорил мне своим мягким и ласковым голосом: «Усни, дитя мое, спи хорошенько!». И я уснула крепко, а проснулась только в восемь часов утра. Жак, давно уже поднявшийся, сидел возле моей постели, как накануне; он словно охранял мой сон, и, право, уж не знаю, прошла ли целая ночь или четверть часа с того мгновения, когда он на прощание поцеловал меня. — Ах, Боже мой, как хорошо в постели! — воскликнула я. — Но все же я хочу поскорее встать и осмотреть весь этот волшебный замок, где так хорошо спится. Какая нынче погода, Жак? А цветы твои пахнут так же чудесно, как вчера? Он закутал меня в стеганое одеяло, крытое бело-розовым атласом, и поднес к окну. Я вскрикнула от радости и восторга, ибо перед глазами моими развернулась дивная картина. — Нравится тебе наш край? — спросил Жак. — Если ты находишь его слишком диким, я прикажу понастроить здесь домов. Но сам я так люблю пустынные места, что нарочно купил пять или шесть маленьких ферм, разбросанных тут, чтобы убрать из этого пейзажа всякие избушки, которые, по-моему, совсем к нему не подходят. Если ты придерживаешься иного мнения, ничего нет легче, как усеять эту долину домишками и садиками, — найдется достаточно бедных семей, у которых дела будут тут процветать, да и наши тоже. — Нет, нет! — ответила я. — Ты достаточно богат, чтобы помочь всем, кому захочешь, не противореча своим и моим вкусам. Этот дикий и романтический пейзаж мне безумно нравится! Какие тут густые, темные леса! Какое приволье, сколько зелени! Так и кажется, что здесь никто никогда не возделывал землю. А эти огромные луга похожи на саванны. Погляди, какие прихотливые излучины у этой речки. Да она во сто раз красивее, чем большая река. Пожалуйста, не будем ничего менять в любимом твоем уголке. Разве у меня могут быть вкусы, отличные от твоих? Ты думаешь, у меня есть свои собственные глаза? Он прижал меня к своему сердцу и воскликнул: — О, первая пора любви! Небесное блаженство! Ах, если бы всегда так было! Мне понадобилось больше недели, чтобы ознакомиться со всеми красотами замка и его окрестностей. Это имение принадлежало матери Жака, здесь она провела свое детство, и позднее она охотнее всего жила здесь. Он с благоговейной почтительностью относится к воспоминаниям, которые рождаются у него в этих местах, он нежно благодарит меня за то, что я разделяю его чувства и не хочу никаких перемен ни в обстановке, ни в людях, окружающих его. Милый мой Жак! Каким тупым чудовищем надо быть, чтобы потребовать от него подобных жертв! На следующий день после нашего приезда он представил мне старых слуг своей матери и других, помоложе, которые уже много лет приставлены к нему. Он рассказал мне о недугах одних, о недостатках других и просил меня проявить к ним терпение и наивозможную снисходительность, однако не доставляя себе из-за этого неприятностей. — Будь уверена, — сказал он мне, — что я никогда не поставлю на одну доску спокойствие нашей домашней жизни и удовольствие видеть вокруг себя лица, к которым я привязан долголетней привычкой. Мне в любую минуту не трудно будет удалить их от себя, если они чем-нибудь тебе досадят, но я сделаю это так, чтобы они не оказались в нищете и не имели бы права проклинать тебя. Но мне будет куда приятнее, если их присутствие не станет раздражать тебя, если они, как и ты, почувствуютсебя удовлетворенными. Ведь ты хочешь, чтобы я был доволен, Фернанда? — добавил он с ласковой улыбкой. Я бросилась в его объятия и поклялась любить все, что он любил, покровительствовать всем, кому он покровительствует; я умоляла его всегда говорить мне, что я должна делать, так как не хочу причинить ему ни малейшего огорчения. Если ты хочешь знать, как мы проводим время, то про себя скажу, что у меня время куда-то уходит, и я не замечаю, как дни бегут, а вот Жак всегда делает что-нибудь полезное, много занимается имением, но не поглощен им всецело. Он сумел окружить себя честными людьми и присматривает за ними, не придираясь ни к кому. Он полагает, что в основе всего должна быть справедливость; беспечность и показное великодушие ему не нравятся; он говорит, что тот, кто по своему небрежению позволил людям разорить его, лишился права и удовольствия дарить; а того, кто нашел случай украсть и воспользоваться этим к своей выгоде, надо больше пожалеть, чем если бы он разорился. Жак щедр и великодушен, сердце у него справедливое, и он считает своим долгом облегчать судьбу неимущих; но из гордости не желает оказаться жертвой обмана, к которому нередко прибегают бедняки, чтобы раздобыть кусок хлеба. Он неумолимо суров с теми, кто вздумает играть на его великодушии. Мне далеко до его умения разбираться в людях, и зачастую я поддаюсь на обман. Жак не обращает на это внимания, а если и заметит, остается верен своей системе — никогда не журить и даже не предостерегать меня. Иной раз ошибки мои огорчают меня самое — я корю себя за то, что плохо употребила драгоценное золото, которым могла бы облегчить подлинное несчастье. Итак, у Жака свои дела, у меня свои. А когда мы бываем вместе, то музицируем или отправляемся на прогулку; Жак курит, а всякий раз, как мы присядем, рисует; я же смотрю на него, и можно сказать, что восторженное созерцание — главное мое занятие за целый день. Я живу в блаженной беспечности и даже боюсь светских развлечений, которые могут нарушить ее. Так хорошо любить и чувствовать себя любимой! Дни коротки, не исчерпать восторга и радости, которыми переполнено сердце. Зачем мне развивать свои маленькие таланты или приобретать новые? У Жака их столько, что хватит на нас обоих, и я им радуюсь, как будто сама обладаю ими. Когда меня поражает какой-нибудь красивый вид, мне гораздо приятнее увидеть его в альбоме нарисованным рукою Жака, чем моей. Я не стремлюсь сформировать и украсить чтением свой ум: Жаку нравится моя простота; он знает решительно все и, беседуя со мной, научит меня гораздо большему, чем все книги на свете. Словом, жизнь моя сложилась так, что я вполне довольна. Столько счастья вокруг меня, невозможно и желать иного, лучшего ее устройства. Жак — сущий ангел, и, пожалуйста, не вздумай, Клеманс, говорить, будто я ошибаюсь или Жак переменится, — теперь я его знаю и сумею защитить. До свидания, милый мой друг; ты должна порадоваться моему счастью — ты ведь так тревожилась за меня! Будь теперь спокойна и поздравь меня. Почаще подавай о себе весточки и будь уверена, что я теперь всегда буду отвечать, не стану больше небрежничать. Прости — ведь надо кое-что и прощать упоению первыми днями счастья. P. S. Я получила письмо от маменьки; она еще в Тилли и в Париж вернется только к зиме. Она спрашивает меня, довольна ли я Жаком, и так же, как ты, ужасается, зачем он держит меня в таком уединении. Я не решилась ответить ей, как тебе, что уединение это наполнено любовью и поэтому дорого мне; маменька сочла бы это пустячным доводом. Я ей сказала о тех благах, какие она ценит: о прекрасных лошадях, подаренных мне Жаком; о больших охотах, что он устраивает для меня; обширных садах, где я прогуливаюсь; редкостных и дорогих цветах, которыми изобилуют здесь теплицы; подарках, которыми муж балует меня. При таких обстоятельствах она уже никак не может допустить мысли, что я несчастлива.
XX
От Жака — СильвииЯ предаюсь первым восторгам обладания и совсем не хочу думать, что за ними придут огорчения и докуки. Ну что ж, когда они придут, разве у меня не хватит силы перенести их? Разве уж так необходимо проводить в подготовке к будущим тяготам дни покоя, ниспосланного небом? Кто любил хоть раз, хорошо знает, как много в жизни и скорби и радости. Не правда ли. Сильвия? Ты требуешь от меня того, что противоречит моему характеру и привычкам всей моей жизни. Рассказывать одно за другим переживаемые мною волнения, бросать ежедневно испытующий взгляд на состояние своего сердца, жаловаться на свои горести или хвалиться нежданной удачей, копаться в себе, любоваться собою, открывать всем свои чувства — этого я никогда и не помышлял делать. До сих пор я скрывал свои любовные увлечения, молчал о своих радостях; я тебе рассказывал о своих романах лишь после того, как они кончались, а о своих страданиях, когда уже чувствовал себя исцелившимся от них; да и то считал, что оказываю тебе большое доверие, изливая тебе свою душу, так как никому другому я не способен был открыться и никто не услышал бы от меня ни единого слова о самых простых событиях моей внутренней жизни. Она была такой бурной, столько в ней было страшного, что я боялся бы утратить редкие мгновения счастья, рассказывая о них, или привлечь к себе грозное око судьбы, от которого надеялся укрыть хоть несколько светлых дней. Однако теперь я не чувствую былого отвращения, готовясь сломать печать этой новой книги, где должна быть записана повесть моей последней любви. Мне и самому думается, что точный и подробный разбор того, что будет происходить во мне, окажется спасительным — он предохранит меня от необъяснимых разочарований, которыми чревата любовь. Быть может, изучая причины болезни, мне удастся предотвратить ее развитие; быть может, внимательно наблюдая тайные изменения, происходящие в наших душах, я добьюсь того, чтобы мелочи не приобретали чрезмерного значения, как это всегда случается в интимной жизни. Я попытаюсь заклятиями покорить судьбу; если же это невозможно, то по крайней мере встречу свои несчастья стоически, как человек, который всю жизнь искал истины и всем сердцем жаждал справедливости. Но прежде чем начать этот дневник, мне хочется сказать, при каких обстоятельствах я его начинаю, каково мое душевное состояние и как устроена теперь моя жизнь. Ты знаешь, что я увез Фернанду в Дофинэ, желая поскорее удалить ее от матери, злой и опасной женщины, которая люто меня ненавидит, но низко льстит мне, желая выдать за меня дочь и тем обеспечить ей богатство, а когда оказалось, что на этот счет ей уже нечего опасаться, она принялась дерзко нападать на меня. Несчастная, если б она знала, что стоит мне сказать слово, и она побледнеет от страха! Но я никогда не унижусь до того, чтобы вступать в единоборство с подлыми людьми. Я знал, что под влиянием этой ловкой особы Фернанда может составить неверное мнение обо мне и что наше счастье будет отравлено мелкими, но ужасными по своим последствиям дрязгами. И вот я похитил свою подругу прямо из-под венца; таким образом я избавился от наглых, гнусных и глупых шуточек, процветающих на свадебных пирах. Я уехал и здесь наслаждаюсь своим счастьем вдали от любопытных взглядов докучливых людей; я счел бесполезным подвергать столкновению целомудрие моей жены с бесстыдством многоопытных дам и дерзкими улыбками мужчин. Один лишь Бог был судьей и свидетелем самого святого, что есть в любви и что общество сумело сделать мерзким и смешным. За целый месяц еще ничто не нарушило нашего счастья, ни малейшая песчинка не упала в светлые, тихие воды чистого озера. Наклонившись над его прозрачной гладью, я с восторгом любуюсь небесной лазурью, отраженной там. Я внимательно слежу за самыми легкими признаками угрожающих потрясений, держусь настороже, боясь, как бы падение песчинки не повлекло за собой низвержение лавины. Но, в сущности, для чего мне мучиться? Что может человеческая осторожность против всемогущей руки судьбы? Как бы я ни старался предотвратить беду, я могу надеяться лишь на то, чтобы не потерять по своей вине сокровище, доверенное мне Богом; если уж оно должно быть у меня отнято, мне по крайней мере утешением будет сознание, что я этого не заслужил. Впрочем, сейчас всякое предвидение, всякие страхи вызывают у меня легкую улыбку. Какая самая страшная беда может случиться с честным человеком? То, что он вынужден будет умереть? А что тут страшного, позволь тебя спросить? Я что-то не замечал, чтобы уверенность в предстоящей смерти мешала кому-нибудь наслаждаться жизнью. Почему страх перед будущим несчастьем должен сейчас омрачать мое счастье? Это не значит, что уже и сейчас у меня нет поводов к страданиям, и, конечно, в молодости я бы непременно воспользовался ими — ведь тогда я жаждал недостижимого блаженства и требовал для себя, гордец и безумец, безоблачных небес и любви без огорчений. Этой непостижимой потребности, из-за которой у человека развивается обостренная, чрезмерная чувствительность, у меня уже нет. Я научился довольствоваться тем, чем раньше пренебрегал, научился считаться с препятствиями, против которых когда-то восставал. Я не могу, конечно, не чувствовать жала горестей, повседневно уязвляющих нас, сердце мое еще не окаменело, и мне даже кажется, что, наоборот, я никогда не испытывал более сильных волнений. К счастью, рассудок научил меня сдерживать даже самое легкое содрогание, вызванное болезненной раной, не выдавать ни словом, ни стоном, ни жестом боль, которая легко возникает и может стихнуть, но разрастается и ширится ужасающим образом, если ей позволяют развернуться во всю силу и разбить свои оковы. Пусть душа моя будет могилой всем тяжелым снам, которые еще терзают ее! О, если б я мог ничем не выдавать своих мучений! В любви скорбь заразительна, и если любовник, испытывающий душевную боль, не умеет ее скрыть, она тотчас передается возлюбленной, даже если он ничего ей не объяснит. Ну, на сегодня достаточно. До свидания, дорогая сестра. Мы теперь почти соседи с тобою; я, разумеется, навещу тебя и что бы ты ни говорила, не откажусь от мысли познакомить тебя с Фернандой и заманить тебя к нам.
XXI
От Фернанды — КлемансНе знаю, право, что делается с Жаком вот уже два дня! Кажется, он загрустил, а от этого и мне стало так грустно, что я решила побеседовать с тобой, надеясь развлечься и успокоиться. Да что же такое с Жаком? Какие огорчения могут тревожить его близ меня? Я вот не могла бы радоваться или печалиться чему-нибудь, что не имеет отношения к Жаку; вне любви к нему моя жизнь сводится к столь малому! Я по-настоящему живу только три месяца, а Жак, должно быть, перенес в прошлом ужасные страдания. Но, может быть, он был раньше счастливее, чем теперь со мною; быть может, он иной раз с сожалением вспоминает в моих объятиях о прежних днях. Ах, это ужасная мысль, надо поскорее отогнать ее! Но кто может так огорчать его? И почему Жак не говорит мне об этом? У меня ведь нет тайн от него, а у него, несомненно, есть. В его жизни, вероятно, было столько необыкновенного! Знаешь, Клеманс, я нередко трепещу при этой мысли. Девушка идет под венец, не зная по-настоящему своего жениха, и сущим безумием будет надежда, что она узнает его в супружестве. Позади них разверста пропасть, в которую она не может проникнуть. Эта бездна — прошлое, которое никогда не исчезнет и может отравить все будущее. Подумать только! Три месяца назад я еще не знала, что значит любить, а Жак, возможно, уже лет двадцать как познал любовь! Нежные, ласковые слова, которые он говорит мне, он, быть может, говорил и другим женщинам, а страстные ласки… Ах, какие ужасные картины встают у меня перед глазами! Право, я сегодня словно с ума сошла… Чтобы успокоиться и отвлечься от таких мыслей, я села к окну и увидела Жака — он прошел по аллее и углубился в парк; он шел, скрестив на груди руки и наклонив голову, как будто погрузился в глубокие размышления, боже мой, я никогда его таким не видела! Правда, человек он серьезный, а характер его не только мягкий, но несколько меланхоличный — ему больше свойственна задумчивость, чем живость; но в тот день на лице его застыло какое-то необычное выражение, — не могу определить его, но какое-то странное, быть может, из-за того, что он был очень бледен. Быть может, ему приснился дурной сон. и поскольку Жак знает, что я суеверна, он и не захотел рассказать мне, что ему пригрезилось. Если это верно, то уж лучше бы он рассказал свой сон, чем заставлять меня так тревожиться! А вдруг он болен? Ах, готова биться о заклад, что болен! Мне говорили, что он не любит, чтобы за ним наблюдали в такие минуты. Однако же я однажды видела его больным, я заметила это по тихой песенке, которую он мурлыкал, — я тебе говорила о ней. Я его тогда спросила, и он ответил, что ему действительно нездоровится, но он просил меня не обращать на него внимания. Нездоровилось ли ему в тот день слегка или сильно — этого я не знаю; я так боялась противоречить ему, что не осмелилась даже смотреть на него. Во всяком случае, ему было не по себе, как говорится; а вот сегодня очень заметно его недомогание — может быть, телесное, может быть, нравственное. Вчера мне показалось, что он как-то холодно поцеловал меня; я плохо спала; проснувшись ночью, я увидела свет в его спальне. Я перепугалась: а вдруг он заболел; но еще больше боясь надоедать ему, я встала совсем бесшумно и подошла на цыпочках к двери, поглядела в щелку; он курил, читая книгу. Я снова легла в постель и понемногу успокоилась, жалела только, что Жаку не спится. А я до сих пор еще таи беспечна и ребячлива, что даже тут, несмотря на свою печаль, сразу же уснула. Бедный мой Жак! Он страдает бессонницей, а ведь, должно быть, так мучительно томиться долгие ночи без сна. Почему же он не позовет меня! Я бы с радостью поборола желание спать, болтала бы с ним, читала бы ему вслух, чтобы развлечь его Пожалуй, мне следовало бы попросить его, чтоб он позволил мне бодрствовать вместе с ним, но я не посмела. Как страшно! Нынче утром я открыла, что боюсь Жака почти так же сильно, как люблю его. У меня вот не хватило храбрости Спросить у него, что с ним было. Слова Бореля о странной гордости Жака не выходят у меня из головы, хотя мне следовало позабыть о них или по крайней мере убедиться, что со мною Жак не будет таким гордецом. Досадую на себя, зачем я не преодолела свою робость и не умолила Жака открыть мне причину его страданий — ведь мне-то они не могут быть докучны, и я просто не понимаю, зачем ему нужно таиться от меня и стоически переносить мучительную бессонницу. А раз я молчу, он, пожалуй, решит, будто я ничего не замечаю. Что же он подумает обо мне? Грубая и беспечная душа? Нет, я не могу оставить его с такими мыслями. Надо мне сейчас же пойти и разыскать его. Верно, Клеманс? Ах, Боже мой, почему тебя нет со мною! У тебя столько рассудительности, такой развитый ум, ты дала бы мне дельный совет. Поскольку я не могу услышать сейчас голос разума и дружбы, буду с доверием слушать голос своего сердца: пойду сейчас в парк, разыщу Жака и, если надо, на коленях буду молить его открыть мне свою душу. Вернувшись, все расскажу тебе и запечатаю письмо…
Ну вот, моя дорогая, я просто безумная: это не Жаку, а мне самой приснился дурной сон; прости меня, что я наделала тебе хлопот своими ребяческими страхами. Сейчас я разыскала Жака; он дремал, лежа на траве. Я тихонько подошла, так что он не заметил, и, наклонившись над ним, долго смотрела на него. Должно быть, лицо мое выражало беспокойство, так как едва Жак открыл глаза, он вздрогнул и, обхватив меня обеими руками, воскликнул: «Что с тобой?». Тогда я чистосердечно призналась в своих тревогах и горьких мыслях. Он, смеясь, обнял меня и заверил, что я глубоко ошибаюсь. — Действительно, я нынче плохо спал — мне немного нездоровилось, и, взяв книгу, я стал читать. — А почему ты меня не разбудил? — спросила я. — Разве в твоем возрасте легко проснуться? — ответил он. — Знаешь, Жак, ты со мной обращаешься как с маленькой девочкой. — О! Слава Богу, я с тобой обращаюсь, как ты того заслуживаешь! — воскликнул он, прижимая меня к сердцу. — Именно потому, что ты дитя, я обожаю тебя. И тут он наговорил мне столько чудесных, ласковых слов, что я заплакала от радости. Видишь, как я способна сама себя мучить! Но я не жалею, что немного погоревала, — от этого я еще живее чувствую, какое счастье я омрачила своими сомнениями и как хорошо, что оно вновь засияло во всей своей свежести. О, Жак совершенно прав: самое драгоценное и чистое в мире — это слезы любви. До свидания, Клеманс. Еще раз порадуйся со мною: никогда я не была такой счастливой, как сегодня.
XXII
От Жака — СильвииУже несколько дней мы грустим, не зная почему, — то она, то я, а то и оба вместе. Не хочется ломать себе голову, отыскивая причину, — это уже было бы хуже всего. Мы любим друг друга, и ни тот, ни другой ни в чем не виноваты. Мы не обидели друг друга ни словом, ни делом. И ведь это такая простая вещь: сегодня у меня одно расположение духа, а завтра другое — печальное. Хмурое небо, дождь, температура воздуха понизилась на один градус — этого достаточно, чтобы мысли наши омрачились. Мое старое тело, покрытое шрамами, склонно к недомоганиям; юная и деятельная головка Фернанды живо навообразит всяких ужасов при малейшей перемене в моих повадках. Иной раз ее горячие заботы меня даже немного тяготят; она меня преследует, она меня гнетет. Мне все время приходится держаться настороже, следить за собой и даже притворяться. Но разве я могу обижаться на это? Ведь эта утомительная предупредительность так сладостна по сравнению с тем ужасным одиночеством, в котором я жил, пока не встретил Фернанду; в самую цветущую пору жизни я зачастую принуждал себя к самому нелепому стоицизму. Если Фернанда действительно будет страдать моими страданиями, я пожалею о том времени, когда они затрагивали лишь меня одного; но, надеюсь, мне удастся приучить ее к моим приступам уныния и озабоченности, и она не будет мучиться из-за них. У Фернанды сохранилась ребячливость, свойственная ее возрасту. Как она бывает хороша и трогательна, когда подходит ко мне с распущенными белокурыми волосами и, глядя на меня большими черными глазами, в которых дрожат крупные слезы, бросается мне на шею, жалуясь, что она очень несчастна, так как я простился с нею хуже, чем вчера, — недодал ей одного поцелуя! Она не знает, что та кое боль, и крайне ее боится. Право же, я часто думаю об этом и страшусь за нее: что, если у нее не хватит силы переносить тяготы жизни? И я не очень-то знаю, что надо ей сказать, как научить ее мужеству. Мне кажется преступлением и, уж во всяком случае, жестокостью влить первые капли желчи в сердце, полное иллюзий; и, однако ж, настанет час, когда придется открыть ей, что такое судьба человеческая. Как выдержит она удар молнии? А разве я смогу долго скрывать от нее этот зловещий свет? Я получил очень печальное известие: мой друг, о котором я тебе говорил, опять бежал. Жертвы, принесенные мною ради него, не спасли его, а, наоборот, дали ему возможность снова кутить и распутничать. Теперь уж невозможно скрыть его бесчестье, его имя запятнано, жизнь загублена. Значит, тут я, как и повсюду, где пролегал мой путь, старался напрасно. Вот к чему приводит дружба, вот чему служит преданность! Нет, люди ничего не могут сделать друг для друга — им дана только одна путеводная звезда, единственная опора, и она находится в них самих. Одни называют ее совестью, другие — добродетелью, а я именую ее гордостью. У этого несчастного недостало гордости, ему остался лишь один выход — самоубийство. Клевета по-настоящему никого не затронет и не опорочит — время или случай опровергнут ее, но подлость не сотрется. Дать кому-нибудь право презирать тебя — значит вынести себе смертный приговор в этом мире; надо иметь мужество уйти в иной мир, препоручив свою душу Господу Богу. Но у несчастного и на это недостанет гордости; я его знаю; это человек развращенный, исполненный низких вожделений. Страдать он может только из-за уязвленного тщеславия, но тщеславие никому не придает храбрости — это румяна, которые сходят с лица при малейшем дуновении ветра и не выдерживают холодного воздуха одиночества. Недолго же я льстил себя надеждой исправить негодяя своими укорами и всякими услугами; он пал еще ниже, чем прежде! Вот еще одному человеку не задалась жизнь, и, пожалуй, никто, кроме меня, не пожалеет его. Но ведь я-то помню счастливые дни, которые провел с ним, когда он был молод, когда ни он сам и никто другой не думал, что его красивое смеющееся лицо, живой и веселый характер скрывают такую подлую душу! У него была мать, были друзья, доверявшие ему, а теперь!.. Не будь я женат, я помчался бы к нему, еще раз попробовал бы образумить его; но это ничему не поможет, а Фернанда очень тосковала бы без меня. Жаль мне его, беднягу! Надо, однако, утаить свою грусть, а то она заразит и бедную мою девочку. Нет, я не хочу видеть, как вновь омрачится ее прелестное личико, не хочу, чтобы по ее свежим и бархатистым щечкам потекли слезы. Пусть она любит, пусть смеется, пусть сладко спит, пусть всегда будет спокойна, всегда будет счастлива. А я… я создан для страданий, это мое ремесло, шкура у меня крепкая.
XXIII
От Фернанды — КлемансМне опять грустно, моя дорогая, и я начинаю думать, что любовь не сплошь радость, есть в ней и слезы; но я теперь не всегда плачу на груди у Жака, так как вижу, что увеличиваю его печаль, если показываю ему свою. За месяц на нас обоих несколько раз нападала беспричинная и все же мучительная тоска. Правда, когда она проходит, мы бываем еще счастливее, чем прежде, нежнее ласкаем друг друга, и я неизменно даю себе слово, что больше никогда не буду мучить Жака своими ребячествами, но всегда получается так, что я опять принимаюсь за свое. Не могу видеть, когда он ходит грустный, — тотчас и сама загрущу; мне кажется, это доказательство любви, и Жак не должен на меня сердиться, да он и не сердится. Он всегда со мной такой ласковый, такой добрый!.. Разве он мог бы говорить со мною резко или хотя бы холодно? Но он огорчается и мягко укоряет меня; тогда я плачу от угрызений совести, от умиления и благодарности и ложусь спать усталая, разбитая, твердо обещая себе больше не начинать; ведь, в конце концов, это тяжело, и подобные дни сокращают наше счастье. Конечно, мне приходят безумные мысли, но, право, я не знаю, можно ли любить и не терзаться такими мыслями. Меня, например, постоянно томит страх, что Жак не очень меня любит, и я не осмеливаюсь сказать ему, что это и есть причина всех моих волнений. Я хорошо понимаю, что бывают дни, когда ему просто нездоровится, но несомненно и то, что иногда на душе у него неспокойно То его взволнует прочитанная книга, то какие-нибудь обстоятельства, с виду незначительные, как будто воскрешают в нем тяжелые воспоминания. Я бы меньше беспокоилась, если бы он доверил их мне, но он тогда бывает нем, как могила, а со мной обращается как с посторонней. Недавно я запела старый романс, каким-то образом попавший мне под руку. Жак лежал в гостиной на большом диване и курил турецкую трубку с длинным чубуком, которой очень дорожит. Лишь только я пропела первые такты, он, словно от внезапного волнения, ударил трубкой о паркет и разбил ее. — Ах, Боже мой! Что ты наделал! — воскликнула я. — Ты разбил свою любимую александрийскую трубку. — Возможно, — сказал он, — я и не заметил. Ну, пой, пой! — Я, право, не смею, — возразила я. — Должно быть, я сейчас ужаснейшим образом сфальшивила — ты ведь подскочил как ужаленный. — Это тебе просто показалось, — ответил он. — Пой, прошу тебя. Не знаю, как это выходит, но я всегда ловлю те впечатления, которые Жак пытается скрыть от меня. По некоему тайному инстинкту, который, быть может, обманывает меня, а быть может, открывает мне истину, я всегда приписываю то, что Жак говорит или делает, какой-либо причине, роковой для моего счастья. Я вообразила, что этот романс когда-то пела его любовница, что воспоминания о ней еще дороги ему, и вдруг почувствовала нелепую ревность. Отбросив ноты в сторону, я запела другой романс. Жак слушал, не прерывая, потом еще раз попросил меня спеть первый романс, сказав, что знает и очень любит его. Слова эти, казалось, подтверждающие мои подозрения, словно кинжалом пронзили мне сердце; я нашла, что Жак терзает меня с бессмысленной жестокостью, раз он ищет в нашей любви воспоминания о былых своих увлечениях, но я спела романс, хотя крупные слезы падали мне на пальцы. Жак лежал неподвижно, повернувшись ко мне спиной, и, конечно, полагал, что я не замечаю его волнения; но несмотря на сердечную муку, я зорко следила за ним и подметила два-три вздоха, казалось, исходившие из глубины тоскующей души и сотрясавшие все его тело. Когда я кончила, мы оба долго молчали; я плакала и, как ни старалась, не могла сдержать рыданий. Жак так был поглощен своими мыслями, что ничего не заметил и вышел, напевая с меланхолическим видом припев романса. Я устремилась в парк, чтобы поплакать на свободе, но на повороте аллеи столкнулась лицом к лицу с Жаком. Он с обычной своей мягкостью, но холоднее, чем бывало, спросил меня, о чем я грущу. Его строгий вид так испугал меня, что я не захотела признаться, почему у меня красные глаза; сказала, что это от ветра, что у меня мигрень; наговорила всяких небылиц, а он притворился, будто верит им, — не настаивал и пытался меня развлечь. Это было ему не трудно — я такая ветреная, что меня все забавляет. Он повел меня посмотреть кашмирских коз, которых ему только что привезли вместе с их пастухом, таким дурачком, что я просто умирала со смеху. Но посмотри, какая я! Лишь только осталась одна, снова расплакалась, вспоминая утренние события. Особенно больно мне было то, что я рассердила Жака. Он проявил равнодушие, которое доказывало, что ему совсем не хочется выслушивать мои ребяческие излияния и огорчаться моими страданиями. Быть может, у него и были такие мысли, а может быть, его зазрила совесть, зачем он заставил меня спеть этот романс, а возможно, мы и без всяких объяснений прекрасно поняли друг друга. Во всяком случае, вечером он с деланной беззаботностью спросил, знаю ли я наизусть тот романс, который пела утром. — А тебе он очень нравится? — спросила я с горечью. — Очень, — ответил он. — Особенно в твоих устах. Нынче утром ты спела его так выразительно, что взволновала меня до глубины души. И вот из какой-то потребности усилить свои терзания, принося себя в жертву его прихоти, я предложила спеть романс еще раз и уже хотела было зажечь свечу, чтобы прочесть ноты, но Жак остановил меня, сказав, что мы отложим это до другого раза, а сейчас ему больше хочется прогуляться со мною при лунном свете. На следующий день утром я поискала на фортепьяно ноты и не нашла. Несколько дней кряду я безуспешно искала их. Любопытно! Куда же пропали ноты? Я даже решилась спросить у Жака, не видел ли он их. — Я по рассеянности разорвал их; больше не стоит об этом думать, дружок. Мне показалось, что слова «больше не стоит об этом думать» он произнес как-то особенно многозначительно. Быть может, я неправа, но никогда я не поверю, что он разорвал ноты по рассеянности. Сначала ему понадобилось узнать, могу ли я спеть романс наизусть, и, удостоверившись, что не смогу, он уничтожил ноты. Романс вызвал у него искреннее волнение — должно быть, напомнил ему о былой бурной любви! Если Жак угадал, что происходит во мне, но счел это пустяками, недостойными внимания, он ошибается. Будь он на моем месте, он страдал бы гораздо больше меня: ведь он — моя первая и единственная любовь, я ни словом, ни делом, ни помышлением не оскорблю его; он без страха может заглянуть в мою жизнь, всю ее окинуть взглядом и убедиться, что он — единственная моя любовь. Зато его жизнь для меня — бездна, которая тонет в непроницаемом мраке; те немногие ее события, что мне известны, походят на зловещие метеоры, ослепительные и сбивающие с пути. Когда до меня впервые дошли обрывки этих недостоверных сведений, мне пришла страшная мысль, что в Жаке нет ни постоянства, ни правдивости; мне стало страшно, что я напрасно так высоко ценю его любовь; мое благоговение перед ним как будто пошатнулось. Ныне я знаю, что за человек Жак и чего стоит его любовь. Она мне так дорога, что я отдала бы целую жизнь, исполненную покоя, но жизнь без Жака, за те два месяца, которые я прожила с ним. Я знаю, что он не способен обмануть меня ложными клятвами. Теперь я уже почти и не беспокоюсь о будущем, но ужасно мучаюсь, ревнуя его к тому, что было у него в прошлом. А как бы я терзалась сейчас, в настоящем, если б не верила в Жака, как в Бога! Но я не могу сомневаться в честном его слове и не стану ревновать без причины. А та ревность к былому, которая порой овладевает мною, свободна от низких подозрений, она полна грусти и смирения. Но как мне все-таки больно!
XXIV
От Жака — СильвииНе знаю, кто из нас оступился, но в озеро упала песчинка. Я так остерегался, так старался предотвратить это несчастье, и все же поверхность прозрачных вод замутилась. В чем причина беды? Никогда этого не знаешь, дай замечаешь беду, лишь когда она уже нагрянула. Она непоправима. Но можно воздвигнуть плотину и преградить путь уже покатившейся лавине. Этой плотиной будет мое терпение. Надо с мягкостью противиться чрезмерной чувствительности юной души. Мне удавалось ставить такого рода укрепление между собой и самыми бурными характерами; не будет очень трудной задачей успокоить Фернанду, такую добрую и простодушную девочку. У нее есть свойство, спасительное для нас обоих, — честность. Она ревнива, но душа у нее благородная, и подозрения не могут ее осквернить. Она изобретает для себя всевозможные терзания по поводу того, что ей неизвестно, но слепо верит тому, что я ей говорю. Сохрани меня Бог злоупотребить этим святым доверием и стать недостойным его, солгав ей хоть в каком-нибудь пустяке! Когда я не могу дать ей объяснение, которое может удовлетворить ее, я предпочитаю не давать ей никакого объяснения: из-за этого ей приходится помучиться немного дольше, но что поделаешь! Другой унизился бы до каких-нибудь уловок, которые помогают улаживать любовные ссоры, но мне это кажется низостью, на это я никогда не пойду. Недавно между нами произошла размолвка, довольно болезненная для нас обоих и касавшаяся вопроса деликатного. Она запела романс, который я в первый раз слышал когда-то из уст прелестной женщины, предмета первой моей любви. Любовь была весьма романтическая, весьма идеальная, нечто вроде несбывшейся мечты, не сбывшейся, быть может, из-за моей робости и восторженного моего уважения к этой даме, хотя она мало чем отличалась от других дам, как мне впоследствии казалось. Конечно, ни эта женщина, ни былая моя любовь к ней совсем не таковы, чтобы Фернанде стоило из-за них огорчаться, а все же на светлое небо нашего счастья набежало облачко. Я с живым удовольствием слушал мелодичную, простую песню, возродившую в моей памяти иллюзии и радостные сны юности. Она воскресила волшебную плеяду воспоминаний: я вновь увидел тот край, где впервые познал любовь, леса, где я предавался своим безумным мечтам, парк, где я прогуливался, сочиняя плохие стихи, которые находил превосходными, и сердце мое забилось от радости и волнения. Разумеется, я не сожалел об этой любви, которая и существовала-то лишь в воображении, лишь в мечтах шестнадцатилетнего юноши, но есть какое-то неизъяснимое очарование в далеких воспоминаниях. Ведь первые жизненные впечатления любишь отеческой любовью: прошлое любишь, может быть, оттого, что в настоящем томишься скукой и сам себе надоел. Как бы то ни было, я на минуту перенесся в мир былого — я, конечно, не променяю на него тот мир, в котором теперь живу, но ведь я считал его навеки позабытым и вдруг, к радости моей, очутился в нем. Казалось, Фернанда догадалась, какое удовольствие она доставляет мне. и пела, как ангел, а я слушал в блаженном упоении, и когда она умолкла, не мог и слова вымолвить от восторга. Вдруг я заметил, что она плачет, и так как у нас уже был подобный случай, я понял, что с ней происходит, и немного подосадовал на нее. С первым впечатлением не в силах справиться человек самого твердого характера. В такие минуты способны притворяться только вероломные люди, а честные могут сделать лишь одно — молчать и таиться. Я вышел из комнаты пройтись по парку, и эта прогулка рассеяла легкое мое раздражение. Но я понял, что никакие мои объяснения не утешат Фернанду. Понадобилось бы убедить бедняжку в том, что ее подозрения ошибочны, то есть солгать ей, или же попытаться объяснить ей, какая разница существует между романическим воспоминанием о прошлом, которое дорого тебе, и сожалением о забытой любви. Этого она никогда не желала понять, да и в самом деле, это недоступно пониманию в ее возрасте и, может быть, при ее характере. Мое признание в довольно невинном чувстве было бы для нее больнее, нежели мое молчание. Я все поправил, доказав ей, что я готов пожертвовать из-за ее обидчивости маленьким своим удовольствием: я отказался послушать еще раз романс, когда Фернанда, пустив в ход уловку, предложила спеть его вторично, а после этого, ничем себя не выдав, я бежал от нее. Необходимо, конечно, в подобных случаях, когда лучшего выхода нет, набраться мужества и не выказывать досады. Но, право, это дается мне с трудом. Я долго был жертвой ревности некоторых женщин, и все, что хотя бы отдаленно напоминает мне это, вызывает у меня дрожь отвращения. Но я постараюсь привыкнуть. У Фернанды есть свои недостатки, или, вернее, слабости ее возраста, а у меня свои. Какая мне была бы польза от жизненного опыта, если б он не закалил меня во всяких страданиях? Я должен следить за собой и сдерживаться. Я непрестанно изучаю себя и исповедуюсь перед Богом в одиночестве сердца своего, дабы предостеречь себя от греха непреклонной гордости. Разбираясь в своей душе, я нашел в ней много пятен, которые могут послужить оправданием частых волнений Фернанды. Например, у меня есть плачевная привычка сравнивать теперешние свои горести с прошлыми. И тогда возникает траурная вереница теней в черных покровах, они держатся за руки, а стоит потревожить одну из них, пробуждаются от дремоты и все остальные. Когда бедняжка Фернанда огорчает меня, это не она причиняет мне боль, это воскресают мои былые любовные страдания, уподобляясь старым ранам, которые раскрываются и начинают кровоточить. Ах, невозможно излечиться от своего прошлого! Но все же можно ли Фернанде на меня сетовать? Кто больше меня умеет наслаждаться настоящим? Кто более свято чтит сокровище, дарованное ему Богом? Как дорожу я алмазом, которым обладаю, с которого сдуваю малейшую пылинку! Кто берег бы его более тщательно, чем я? Но разве дети что-нибудь понимают? Я по крайней мере могу хоть сравнить прошлое с настоящим; бывает, что иной раз я страдаю вдвойне, оттого что много перестрадал, но чаще учусь путем сравнения наслаждаться сегодняшним счастьем. Фернанда думает, что все мужчины умеют любить так, как я; а я чувствую, что другие женщины не умеют любить так, как любит она. Я более справедлив к ней и более благодарен ей. Но надо признаться — так и должно быть. Увы! Неужели миновала пора счастья и настало время быть твердым? О нет! Нет! Оно еще не пришло, это было бы слишком скоро! Пусть они охраняют друг друга, и пусть счастье вознаграждает мужество.
XXV
От Клеманс — ФернандеЯ больше огорчена, чем удивлена тем, что у тебя случилось: твои горести кажутся мне неизбежными последствиями неравного брака. Во-первых, твой муж намного старше тебя, а во-вторых, ты совсем неверно понимаешь свое положение. Женщине по характеру спокойной, даже несколько холодной, не трудно было бы привыкнуть к огорчениям, которые я тебе предсказала и которые, к сожалению, возникли; но для такой восторженной особы, как ты, господин Жак при его жизненном опыте — самый неподходящий муж. Я не собираюсь возлагать на него вину за все то, что произошло между вами, наоборот, мне кажется, что он всегда бывает прав, и вот поэтому-то мне тебя жаль: ничего нет хуже, как быть — по своему положению или в силу обстоятельств — всегда виноватой. Восторженная любовь, которой ты ухитрилась воспылать к нему, чувство просто сверхъестественное; вспыхнула она, как соломенный факел, и так же внезапно должна угаснуть; но до этого она доставит тебе жестокие страдания и при всем терпении твоего мужа будет невыносима ему. Мне лично кажется, что любовная страсть противоречит достоинству и святости брака. Ты вообразила, что внушила страсть своему мужу. Сомневаюсь в этом. Думаю, что ты приняла за страстную любовь пылкие ласки, на которые так щедры мужья в первые дни супружества, в особенности когда жена такая юная и такая прелестная, как ты. Но будь уверена, что твои восторженные порывы, твои сердечные иллюзии не по вкусу тридцатипятилетнему мужчине, и как только они, вместо того чтобы способствовать его утехам, будут лишь смущать его и досаждать ему, он откроет тебе правду и, быть может, довольно грубо. Тогда ты придешь в отчаяние, Фернанда, а между тем с его стороны это будет простой и законный акт самозащиты. Ну, по какому праву ты позволяешь себе своими безумствами и капризами отравлять существование человека, который был до сих пор свободен и спокоен и искал твоей руки ради того, чтобы ты жила и благоденствовала вместе с ним, а не царила над ним, как ревнивая и властная повелительница? Я вижу, что ты уже успела сделать его довольно несчастным. У тебя на это талант! Твоего стремления шпионить за ним, выпытывать его мысли, истолковывать по-своему все его слова достаточно для того, чтобы твоя любовь стала казнью Господней. А между тем, Фернанда, ты была такая ласковая, с тобой было так легко жить: в твоем характере не было и тени деспотизма; в сердце у тебя было столько великодушия и справедливости! Но ты полюбила, и вот как действует любовь на женщину, которая не умеет побороть себя. Берегись, дорогая! Я говорю с тобой очень сурово, даже жестоко, но ведь ты ищешь поддержки в моей рассудительности, и я рада поддержать тебя твердой рукой. Я уже говорила, что, когда для тебя будет очень трудно переносить правду, тебе стоит только перестать писать мне, и я все пойму по твоему молчанию. Я никогда не стану и пытаться помочь тебе против твоей воли, я не торгую советами. Прощай, мой друг. Постарайся излечиться от склонности все преувеличивать, иначе ты погибнешь.
XXVI
От Сильвии — ЖакуТы правильно делаешь, Жак, что не очень пугаешься легких облачков. Я не знаю, будешь ли ты вечно любить Фернанду, не знаю, является ли любовь по природе своей вечным чувством, но несомненно то, что при таких благородных характерах, как у тебя с ней, любовь должна цвести как можно дольше, а не увядать с первых же месяцев. Я видела, как люди, гораздо меньше подходившие друг к другу по характеру и менее достойные друг друга, жили в нежной любви годы и годы, и расстаться им было больно. Ты сам это испытал; ты любил женщин, куда более далеких от совершенства, чем Фернанда, но любил их долго, до тех пор, пока они не начинали мучить тебя, не вызывали чувства отвращения. И вот мне кажется невозможным, чтобы первое падение песчинки уже смутило вашу любовь. Нет, ваше озеро останется спокойным и чистым. Быть может, двум возвышенным душам трудно столковаться, когда они страдают обе; пусть лучше за все столкновения расплачивается один. Быть может, им необходимо проверить себя перед тем, как слиться друг с другом; им нужно испытать свои силы, сломать некоторые преграды, которые еще мешают их единению. Большое счастье, долгую страсть можно купить лишь ценой страдания. Когда сажают в землю крепкое дерево, то лишь после того, как оно переболеет и привыкнет к новой почве, ему удается показать, какой мощи оно в дальнейшем достигнет. Маленькие огорчения твоей подруги лишь доказывают чрезмерную утонченность ее любви. Хотела бы я, чтоб меня любили так, как она тебя любит. Не смей жаловаться, преодолей свою гордость и, если нужно, согласись прибегнуть не ко лжи, но к объяснению. Ты оскорбляешь Фернанду, думая, что она не поймет тебя; она была бы польщена тем, что ты снизошел к ее женской слабости и к неведению, свойственному ее возрасту; она бы постаралась быстрее пойти навстречу тебе и встать на твою точку зрения. Чего только не может достигнуть такая душа, как у тебя, и такое красноречие, как твое, когда ты удостаиваешь говорить откровенно! Не замыкайся в молчании! Зачем тебе показывать свою силу этому ангельскому созданию, которое и так уже готово, преклонив колени, ловить твои слова? Вспомни, какой была я, когда узнала тебя, и что ты сделал с несложившейся, юной душой, дремавшей в первозданном хаосе. Что было бы со мной, если б ты не снизошел до меня, если бы ты не передал мне то, что ты знаешь о Боге, о людях и о жизни? Разве я не поняла тебя? Разве я не приобрела некоторой возвышенности мысли — это я-то, девочка-дикарка, жившая во мраке невежества, не способная своими силами разобраться, что хорошо и что плохо? Вспомни о наших с тобой долгих прогулках в Альпийских горах в пору летних каникул. С какою жадностью я слушала тебя. Какою просветленной и чистой возвращалась я в монастырский пансион! Ах, милый мой Жак, ты можешь сделать чудесным созданьем ту, которая стала твоей женой и владеет твоим сердцем. Предсказываю, что с такой спутницей тебя ждет великое будущее. Утри же ее светлые слезы, открой ей все сокровища своей души; я буду жить вашим счастьем.
XXVII
От Октава — СильвииПочему вы так медлили с ответным письмом, которое избавило бы нас от многих страданий, и почему вы, если Жак действительно ваш брат, не решались мне в этом признаться? Вы непостижимое существо, Сильвия! Что вам за удовольствие мучить себя и меня? Напрасно я присматриваюсь к вам, изучаю вас! Бывают дни, когда я чувствую, что все еще не знаю, кто вы — первая или самая последняя из женщин, и что представляет собою ваша гордость — возвышенную добродетель или же бесстыдство лицемерной и порочной натуры. Ах, не терзайте меня своим холодным презрением и насмешками! Не говорите, ради Бога, что никто не заставляет меня любить вас и что я свободно могу отказаться от вас. Не говорите так — я и без того уж достаточно несчастен! Не гордитесь своим презрением и равнодушием: вы стали бы более достойны любви, будь вы менее сильны и менее жестоки. И разве никогда не знали вы близ меня мгновения слабости и неуверенности? Разве не обвиняли вы меня во многих проступках, которые затем милостиво прощали мне? Зачем вы так резко высмеивали мое недоверие, зачем говорили, что у меня нет любви к вам, поскольку яосмеливаюсь сомневаться в вас? Да знаете ли вы, что такое любовь, раз вы говорите так? Но нет, вы меня любили: недаром же, оттолкнув меня, вы вновь призывали меня. Да вы и сейчас еще меня любите, ибо после трехмесячного упорного молчания вы все же написали мне, чтобы снять с себя подозрения! Но как лаконичны и надменны ваши оправдания! Никогда я не решился бы сказать кому-нибудь откровенно, как вы властвуете надо мной, — уж очень меня умаляет, принижает ваша любовь. Боже мой! Если б вы пожелали, вы были бы ангелом, но гордость превращает вас в демона! Когда вы даете волю своей чувствительности, вы так прекрасны, так обаятельны! Какие счастливые дни я проводил возле вас! Неужели они никогда не вернутся? Нет, я не хочу отказаться от них. Будет ли то силой или слабостью, малодушием или мужеством, но я вернусь к тебе! Я еще раз сожму тебя в своих объятиях, еще раз заставлю поверить в меня, и ты подаришь мне свою любовь. За один-единственный день блаженства я готов на всю жизнь остаться униженным в собственных своих глазах. Я знаю, что вновь буду несчастным из-за тебя, я знаю, что ты сведешь меня с ума, а затем вероломно и хладнокровно прогонишь. Ты не поймешь или не захочешь понять, что если я вновь бросился к твоим ногам, хотя сердце мое еще обливается кровью от сомнений и подозрений, то, значит, я люблю тебя с бешеной страстью. Ты скажешь мне, что я не знаю истинной любви, ты будешь мнить себя существом возвышенным и весьма великодушным, раз ты прощаешь мне подозрения, которые возникли бы у каждого мужчины, окажись он на моем месте! У тебя железный характер, ты сломишь всякого, кто приблизится к тебе, и не склонишься ни перед какими требованиями жизни. И ты хочешь, чтобы я, как призрак, слепо следовал за тобою в воображаемый мир, куда не ступала моя нога, пока я не узнал тебя? Ах, разумеется, если ты действительно такова, какою кажешься моему восхищенному взгляду, ты достойна поклонения, и я должен провести всю свою жизнь у твоих ног; если же в тебе есть то, что мой рассудок иной раз как будто угадывает, скрой, хорошенько скрой истину, искусно обмани меня, ибо горе тебе, если ты сбросишь личину! Прощай! Прими меня так, как пожелаешь. Через три дня я припаду к твоим коленям.
XXVIII
От Фернанды — КлемансТы меня унижаешь, ты разбиваешь мне сердце. Если то, что ты стараешься внушить мне, — правда, то это очень суровая правда, бедненькая моя Клеманс. Но ты видишь — я принимаю ее, как бы жестока она ни была, я по-прежнему твоя подруга, только более несчастная, чем до твоего ответа на мое письмо. Так, значит, я виновата? Боже мой! А я-то думала, что раз я столько настрадалась, то уж меня нельзя винить. Злые люди — это те, кто смеется над страданиями ближних. А я плачу над муками Жака еще больше, чем над своими; я хорошо знаю, что огорчаю его, но где мне взять силы, чтобы скрыть свое горе? Можно ли запретить слезам своим литься, можно ли заставить себя оставаться бесчувственной к тому, что раздирает твое сердце? Если кому-либо и удавалось достичь такого умения, должно быть, оно доставалось ему ценою долгих и жестоких страданий, от которых кровью исходило его сердце. Я еще слишком молода, не могу надевать маску и скрывать свое волнение; да мне и невозможно было бы обмануть Жака. А эта борьба с собою только усилила бы мое несчастье — ведь тут нужно было бы подавить свое чувство, любовь свою! О небо! Да разве я могу ее преодолеть? При одной этой мысли она еще более усиливается. Что со мной станется теперь, когда я познала любовь и вдруг почувствовала, что сердце мое опустошено? Да я умру от тоски. А если так, лучше умереть от скорби — смерть придет скорее. Ты встаешь на сторону Жака, и ты вполне права! Он ангел, его должна бы любить женщина с такою сильной и спокойной душой, как у тебя. Но разве я совсем недостойна его? Разве я не люблю его любовью самой искренней и преданной? Во мне говорят не только вспышки восторженной страсти, нет, душа моя полна постоянного благоговейного чувства, и оно пребудет вечным. А он действительно меня любит, я это знаю, я это чувствую. Не надо говорить, что он любит во мне только мою молодость и свежесть. Если б я так думала… Нет, это слишком жестокая мысль. Ты преисполнена непреклонного презрения к любви. Твой наблюдательный ум обо всем выносит беспощадные суждения. Но по какому праву говоришь ты о чувстве, которое тебе не довелось испытать? Если б ты знала, как для меня будет мучительно сомнение в любви Жака, у тебя недостало бы жестокости заронить его в мое сердце. Да, да. Если бы ты оказалась права и Жак любил меня лишь мимолетной любовью, меж тем как я готова отдать ему всю свою жизнь и люблю его всеми силами души, я постаралась бы разлюбить его. Но так как это для меня невозможно, я просто умерла бы. Голова у меня идет кругом! Ну, что за письмо ты мне написала! Я не могла скрыть впечатления, которое оно произвело на меня, и Жак спросил, не получила ли я какой-нибудь дурной вести. Я ответила, что нет, не получила. — Ну, значит, — сказал он, — пришло письмо От маменьки. Я смертельно испугалась, что он попросит показать письмо, и, растерявшись, сидела, опустив голову, ничего ему не ответив. Жак ударил куланом по столу так сердито, как этого еще не было у нас, и крикнул: — Пусть эта женщина не пытается отравить твое сердце! Клянусь честью моего отца, она дорого поплатится за малейшее посягательство на святость нашей любви! Я вскочила в ужасе и тут же упала на стул. — Ну что ты! Что с тобой? — сказал Жак. — А что с вами? Что вы имеете против моей матери? Что она вам сделала, чем так прогневила вас? — У меня есть основания ненавидеть ее, Фернанда, огромные основания, величиною с гору. Дай Бог, чтобы ты их никогда не узнала. Прошу тебя, ради нашего покоя, прячь от меня письма твоей маменьки, а главное, не показывай, как они тебя волнуют. — Клянусь, что ты ошибаешься, Жак, — воскликнула я. — Письмо было не от маменьки, а от… — Мне не надо знать, от кого письмо, — прервал он меня. — Не обижай меня ответом на такие вопросы, которые я никогда не стану тебе задавать. И он вышел. Я не видела его целый день. Господи Боже мой! Мы почти поссорились. И из-за чего? Из-за того, что мне он показался грустным и это встревожило меня. Ах, если бы в основе этой ссоры не было какой-то доли правды, мы бы не дошли до размолвки. У Жака случались неприятности, которые он скрывал от меня — возможно, с благими намерениями, но он поступал неправильно; если бы он открыл мне причину недовольства в первый раз, я в дальнейшем и спрашивать бы не стала, а теперь я всегда воображаю, что он скрывает от меня какую-то тайну, и обижаюсь на него — ведь моя-то душа открыта для него, и он каждое мгновение может читать в ней. Я хорошо вижу, что он чем-то озабочен, что-то отвлекает его от любви, которую он еще так недавно питал ко мне; случается, он так сердито нахмурит брови, что я вся задрожу. Правда, если я наберусь храбрости и заговорю с ним в такую минуту, тучи рассеиваются, взгляд его становится добрым и нежным, как прежде. Но ведь раньше я ни на минуту не переставала нравиться ему, и тогда я, бывало, доверчиво говорила ему все, что в голову придет; если скажу какую-нибудь нелепость, он только улыбнется и ласково поправит мою ошибку. А теперь я вижу, что иной раз случайно вырвавшиеся у меня слова дурно действуют на него — он меняется в лице или же начинает мурлыкать ту песенку, которую пел под Смоленском, когда был ранен и ему вынимали пулю из груди. Очевидно, мои слова причиняют ему такую же боль. Уже шесть часов вечера, Жак еще не вернулся к обеду, а ведь он всегда знает счет времени и боится причинить мне малейшее беспокойство или вызвать нетерпеливое ожидание. Что это? Сердится он на меня? Или так поглощен печалью, что и не заметил, как пробежало время с полудня? Я волнуюсь. Не случилось ли с ним какого несчастья? А может быть, он разлюбил меня? Может быть, я сегодня так раздосадовала его, что ему тошно смотреть на меня. Ах, Боже мой! Даже видеть меня ему противно!.. От всех этих мыслей мне так больно! Я беременна и чувствую себя очень плохо. Тревоги, которые я не могу отогнать, еще усиливают мое недомогание. Нет, надо с этим покончить, надо броситься к ногам Жака и молить его, чтобы он простил мне мои безумства; это не может меня унизить, мольбы свои я обращу не к мужу, а к возлюбленному. Я оскорбила его душевную деликатность, уязвила его сердце. Пусть он простит меня, и пусть все будет навсегда позабыто. Давно мы не объяснялись, это убивает меня. К горлу подступает комок, рыдания душат меня, я должна выплакать слезы на груди у него, и пусть он возвратит мне свою нежность, пусть вернется чистое, упоительное счастье, которое я уже вкусила.
Воскресенье, утром
О, милый друг мой, как я несчастна! Ничто мне не удается, по воле рока всякая моя попытка к спасению обращается во зло. Вчера Жак вернулся в половине седьмого; он подошел ко мне с самым миролюбивым видом и поцеловал меня, как будто совсем позабыл о нашем маленьком столкновении. Теперь я хорошо знаю Жака, я знаю, как ему трудно преодолевать свою досаду; знаю я также, что затаенная боль, как раскаленное железо, жжет душу. Я сделала над собою усилие, чтобы мы могли пообедать спокойно; но лишь только мы остались одни, я разразилась слезами и бросилась к его ногам. Знаешь, что он сделал? Вместо того чтобы протянуть мне руки и утереть мои слезы, он вырвался из моих объятий и в ярости вскочил; я закрыла лицо руками, чтобы не видеть его в таком состоянии; я лишь слышала его голос, дрожавший от гнева; — Встаньте и больше никогда не становитесь передо мной на колени! Я почувствовала тогда мужество отчаяния. — Нет, не встану, — воскликнула я, — не встану до тех пор, пока вы не скажете, в чем я провинилась, из-за чего утратила вашу любовь? — Ты с ума сошла, — ответил он, несколько смягчившись, — и уж просто не знаешь, что бы такое выдумать, чтобы нарушить наш покой и испортить нашу счастливую жизнь. Ну, давай объяснимся, поговорим, поплачем. Ведь тебе нужны всяческие волнения — это пища для твоей любви; но ради Бога встань, и чтоб я больше никогда не видел тебя в такой позе. Ответ этот показался мне очень суровым, очень холодным, я откинулась назад, едва живая от унижения и горя. — Значит, надо поднять тебя насильно? — сказал он и, взяв меня на руки, отнес на софу. — Какое бешеное стремление у всех женщин обнажать свою душу, словно они подвизаются на театральных подмостках! Неужели человек страдает меньше или любовь его охладевает, если он твердо стоит на ногах и не плачет навзрыд? Что же станете вы делать, бедные дети, когда на головы ваши внезапно обрушатся настоящие несчастья? — Ужасные слова вы говорите, — ответила я. — Вы, стало быть, презираете меня и потому хотите избавиться от моей любви? Она вам уже наскучила? Он сел возле меня и все молчал, опустив голову, с видом кротким, но глубоко печальным. Я долго плакала, и он не утешал меня; потом, сделав над собою усилие, взял меня за руки, но я видела, что это ласковое движение дорого ему стоило, и тотчас высвободила руки. — Увы! Увы! — сказал он и вышел. Я окликнула его. Напрасно — он не вернулся, и я почти лишилась чувств. Розетта принесла в гостиную зажженную свечу и увидела, что я лежу неподвижно, как мертвая. Она перенесла меня в спальню, раздела и, уложив в постель, послала предупредить мужа; он пришел и проявил много внимания ко мне. Мне не терпелось остаться с ним наедине: я надеялась — вот он сейчас скажет такие слова, которые совсем меня утешат, ведь на лице у него было написано столько волнения! Я не могла скрыть своей досады, видя, что Розетта все не уходит, все суетится возле меня, и в конце концов сделала ей довольно резкое замечание, а Жак заступился за нее. Нервы у меня действительно были расстроены, и не знаю уж почему, но мне показалось ужасно обидным, что Жак защищает от меня мою горничную; я не могла совладать со своим раздражением. В последние дни уже не раз эта девушка выводила меня из терпения, и Жак журил меня за это. — Я прекрасно знаю, что у вас всегда Розетта права, а я оказываюсь виноватой, — сказала я. — Вы в самом деле больны, бедняжка Фернанда, — ответил он. — Розетта, ты слишком шумишь около постели. Выйди из комнаты. Я позвоню тебе, когда ты понадобишься. Тотчас я почувствовала, как я несправедлива, как безрассудно поступаю. — Да, я больна, — ответила я, как только осталась с Жаком наедине. И я заплакала, спрятав лицо у него на груди. Он утешал меня, расточая мне самые нежные ласки, называя меня самыми нежными именами. У меня не было сил добиваться объяснения, я чувствовала себя совсем разбитой, голова у меня кружилась; я заснула на плече у Жака. А нынче утром, когда я позвонила горничной, то вместо Розетты увидела другую женщину, с лицом некрасивым и невыразительным. — Кто вы? — спросила я. — И где Розетта? — Розетта уехала, — тотчас ответил Жак, выходя из своей спальни. — Мне нужна была расторопная и честная управительница на мою ферму в Блосе, и я послал туда Розетту до конца лета. Ты заменишь ее новой горничной по своему выбору, а пока что я выписал тебе для услуг сестру Розетты. Я промолчала, но в душе сочла этот упрек очень строгим и очень холодным. Да! Теперь я хорошо поняла недавний эпизод с романсом. Что мне делать? Я вижу, что мое счастье с каждым днем уходит все дальше, и не знаю, как его остановить. Несомненно, я опротивела Жаку, и произошло это по моей вине, а он передо мной ни в чем не виноват; но и за собой я не вижу никаких проступков, не знаю, в чем провинилась перед ним, Мы взаимно причиняем друг другу боль, словно по воле злого рока. Может быть, Жак не умеет подойти ко мне. Он слишком серьезен, строг, молчалив, когда принимает какие-либо решения. Мне кажется, что и в самих этих решениях и в быстроте, с которой он разрубает узел возникающих между нами столкновений, есть какое-то высокомерное презрение ко мне. Гораздо лучше действовали бы на меня слова ласковой укоризны, слезы, пролитые вместе. Жак слишком совершенное существо, меня это пугает; у него нет недостатков, нет дурных черт; он всегда одинаков — спокойный, ровный, рассудительный, справедливый. Право, думается, что он недоступен слабостям природы человеческой и готов терпеть их в других лишь благодаря своему молчаливому и мужественному великодушию; он не желает объясняться, вступать в переговоры. Не слишком ли много тут гордости? Ведь я еще ребенок, меня нужно вести за руку, поднимать, если я упаду. Да, ты права, Клеманс; я начинаю думать, что по складу характера Жак недостаточно молод для меня. Вот откуда придет мое несчастье; ведь за высокие совершенства я люблю Жака больше, чем любила бы молодого мужа, но его чрезмерная рассудительность, быть может, никогда не даст нам прийти к доброму согласию.
XXIX
От Жака — СильвииЯ не изменил своего решения, ни разу не поддался нетерпению, не проявлял несправедливости, не действовал как супруг и повелитель, и все же зло совершилось и развивается так быстро, что если какое-либо постороннее обстоятельство не помешает этому, если в мыслях Фернанды не произойдет переворот, мы вскоре перестанем быть любовниками. Признаюсь, я страдаю. В мире есть только одно счастье — любовь, все остальное — пустяки, с которыми приходится мужественно мириться. Я примирюсь с чем угодно, я согласен удовлетвориться дружбой, я ни на что не буду жаловаться, но позволь мне поплакать у тебя на груди, пролить те горькие слезы, которых свет не увидит, а главное, не увидит Фернанда, ибо они увеличили бы ее скорбь. Шесть месяцев любви! Это очень мало, да еще сколько дней за последнее время было отравлено! Если на то воля Божья — да будет так. Я готов перенести все — и усталость и муки; но все же, повторяю, слишком скоро я утратил блаженство, которым надеялся наслаждаться гораздо дольше. Но на что мне жаловаться? Я ведь хорошо знал, что Фернанда еще ребенок, что по возрасту и характеру у нее должны быть такие чувства и мысли, которых у меня уже нет; я знал, что не буду иметь ни права, ни желания вменять ей это в преступление. Я приготовился ко всему, что произошло. Я ошибся только в одном — в длительности нашей иллюзии. Первые восторги любви исполнены такой бурной силы и так высоки, что все препятствия отступают перед их могуществом, все зачатки разногласий цепенеют, все идет по воле этого чувства, которое с полным основанием называют душою мира и которое можно было бы сделать Богом вселенной; но когда любовь угасает, вновь обнажается уродливая житейская действительность, колеи дорог превращаются в канавы, бугорки вырастают высотою с гору. Мужественный путник, тебе надо одолевать тяжкий и опасный путь среди бесплодных скал, двигаясь до самого дня смерти. Счастлив тот, кто может надеяться на новую любовь. Бог долго благословлял меня, долго дарил мне способность исцелять свое сердце и находить ему обновление в этом божественном пламени; но мое время отошло, совершается последний оборот колеса; я больше не должен, не могу любить. Я думал, что эта последняя любовь согреет последние годы молодости моего сердца и продлит их. Я еще не отлюбил, я еще готов забыть эти бури; если Фернанда сможет успокоить свои волнения и сама исправит зло, которое она нам обоим принесла, я готов вернуться к радостям первых дней; но я не льщу себя надеждой, что в ее душе произойдет такое чудо, — она уже слишком много перестрадала. Вскоре она возненавидит свою любовь. Фернанда обратила ее в пытку, во власяницу, которую она носит во имя восторженной преданности. Но такие чувства для молодой женщины — химера; преданность убивает любовь и превращает ее в дружбу. Ну хорошо! Дружба нам останется, я приму ее дружбу и еще долго буду называть любовью свою дружбу, для того чтобы Фернанда не презирала ее. Свою любовь, последнюю свою любовь я набальзамирую в молчание, и мое сердце послужит ей вечной гробницей — оно уже не откроется для новой, живой любви. Я чувствую старческую усталость и холод смирения, сковывающий все мое существо. Одна лишь Фернанда может оживить его еще раз, ибо оно еще хранит тепло ее объятий. Но Фернанда дает угаснуть священному огню и засыпает в слезах; очаг охладевает, скоро пламя развеется дымом. Ты даешь мне совет, которому последовать я не могу. Ты верно указала причину наших страданий, сказав, что мы не понимаем друг друга, но ты убеждаешь меня: добейся, чтоб она поняла, и не думаешь о том, что любовь доказывается иначе, чем все прочие чувства. Дружба покоится на фактах, ее доказывают услугами; уважение можно математически исчислить; любовь же исходит от Бога, к нему возвращается и вновь нисходит на нас по воле всемогущей нерукотворной силы. Почему ты не можешь добиться, чтобы Октав понял тебя? Да по тем же самым причинам, по которым Фернанда больше не понимает меня. Октав не мог достигнуть той степени восторга, когда любовь становится возвышенной и великой; Фернанда уже утратила ее. Подозрение помешало развиться любви Октава; некоторый эгоизм сковал любовь Фернанды. Как же ты хочешь, чтобы я доказал ей, что меня она должна любить больше, чем себя, и скрывать от меня свои страдания, как я скрываю свои муки? У меня хватает силы таить свою печаль и подавлять досаду; каждый день после одинокой минутной скорби я возвращаюсь к ней без всякого злопамятства, готовый все позабыть и ни единой жалобой не выдавать своих огорчений; но как она встречает меня? У нее заплаканные глаза, на сердце камень, на устах укор — не тот явный и грубый укор, который похож на оскорбление и сразу же исцелил бы меня и от любви и от дружбы, но укор деликатный, робкий, который наносит незаметную, но глубокую рану. Укор этот мне понятен, я чувствую его, он вонзается мне в самое сердце. Ах, какое это мученье для человека, который хотел бы ценою собственной жизни никогда не вызывать его, и в сокровенных тайниках души чувствует, что нисколько не заслужил упрека! А Фернанда, бедная девочка, страдает потому, что она слаба и поддается ничтожным огорчениям, хотя и чувствует, что напрасно унижает себя мелочами, ибо теряет в моих глазах свое достоинство. Страдает тогда ее гордость, а все мои усилия поднять ее дух, ободрить ее — напрасны: она их приписывает лишь моему великодушию и милосердию, а от этого печалится еще больше и чувствует себя униженной. Моя любовь теперь слишком сурова для нее, она считает себя обязанной вымаливать ее, она больше не понимает меня. Недавно она бросилась к моим ногам, заклиная меня вернуть ей мою любовь. Мужа, считающего себя повелителем, быть может, растрогало бы такое доказательство покорности, но я был возмущен. Мне вспомнились бурные сцены, которые не раз приходилось мне переносить, когда женщины, которых я любил, потеряв мое уважение, тщетно пытались возродить мою любовь. Видеть Фернанду у ног своих! Такую святую, такую целомудренную и чистую! Нет, подобной любви мне не надо. Я не хочу вызывать у своей жены чувство, которое рабыня питает к своему господину! Мне показалось, что в этой страшной позе она отрекается от нашей прежней любви и обещает мне какое-то иное чувство. Она не поняла, какую боль причинила мне, и быть может, в душе упрекала меня в неблагодарности, раз я не оценил ее попытки утешить меня. Бедная Фернанда! Ты советуешь, чтобы я вел себя с нею так же, как когда-то держался с тобой! Сильвия, да разве это я сделал тебя такою, какой ты стала теперь? Неужели ты думаешь, что человек способен вложить в другого человека силу и величие? Вспомни предание о Прометее, которого боги покарали не за то, что он создал человека, а за то, что дерзнул вдохнуть в него душу. У тебя душа была уже широкая и пылкая, когда я пролил в нее слабый свет своего рассудка и жизненного опыта; но я отнюдь не возносил тебя в небеса, я старался лишь просветить твой ум, направить к цели, достойной тебя, мощную силу твоих порывов и жар твоих добрых чувств, я лишь указал им верный путь; сам Бог дал твоей душе крылья, чтобы она возносилась к горным высотам. Ты была воспитана в пустыне, твой ум был так восприимчив и свеж, что открывался всем разумным мыслям; но этого было бы недостаточно, если б твое сердце не было подготовлено для тех чувств, о которых я говорил тебе; ты могла бы все понимать, но ничего не чувствовать. Словом, я не собирался вдохновлять, а только развивал тебя. Если б я этого не делал, ты, может быть, не научилась бы пользоваться дарованиями, которыми наделил тебя Бог; но, несомненно, они не пропали бы даром — во всех серьезных случаях жизни они сказались бы в твоем благородном и твердом поведении. У Фернанды меньше душевной силы, да к тому же ей пришлось бороться с роковым влиянием предрассудков, среди которых она выросла: быть может, она лучшая из всех женщин, принадлежащих к светскому обществу, но она никогда не сможет безнаказанно избавиться от воззрений, почитаемых в обществе. В отличие от тебя, природа не наделила ее крепким телом и сильной душой; ей старались привить благоразумие, расчетливость, взгляды, спасающие от некоторых горестей и необходимые для благоденствия, которым общество позволяет женщинам наслаждаться на определенных условиях. Ей не говорили того, что внушали в свое время тебе: «Солнце жжет, ветер бушует. Мужчина создан для того, чтобы бороться с непогодой на море, а женщина — для того, чтобы пасти жарким летом стадо в горах. Зима приносит туда снег и лед; твой путь будет пролегать по тем же местам; иди и научись греться у костра, который придется разводить самой из сухостоя, набранного тобою в лесу; а если не захочешь разводить костер, переноси холод как сумеешь. Вот гора, вот море, вот солнце; на солнце изнываешь от жары, в море тонешь, в горах устаешь. Иной раз случается, что дикие звери уносят овец из стада, а то и пастушонка; живи среди всего этого как сможешь; если будешь умной и смелой девочкой, тебе подарят башмаки, и ты будешь надевать их по праздникам». Хороши уроки для женщины, которой пришлось впоследствии жить в обществе и пользоваться утонченными благами цивилизации! А Фернанду вместо всего этого учили, как избегать солнца, ветра и усталости. Что касается опасностей, которые ты встречала так спокойно, Фернанда едва ли знала, что они существуют в тех краях, где она жила; она с ужасом читала о них в каком-нибудь описании путешествия в Новый Свет. Ее нравственное воспитание было под стать ее развитию. Никто не имел смелости сказать ей: «Жизнь бесплодна и безрадостна, покой — это химера, благоразумие бесполезно; рассудок только сушит сердце; есть лишь одна доблесть — постоянное самопожертвование». Такие суровые речи я и держал перед тобой, когда ты обращалась ко мне с первыми вопросами; таким образом я далеко отбрасывал волшебные сказки, на которых ты выросла; но любовь к чудесному ничего в тебе не испортила. Когда я навестил тебя в монастырском пансионе, ты уже не верила в сказочное волшебство, но ты еще любила сказки, потому что твое воображение находило в них аллегории и олицетворение тех идей о рыцарской справедливости, отваге и предприимчивости, которые соответствовали твоему характеру. Я тебя учил, что надо жить и страдать, переносить все беды и не допускать, чтобы любовь к справедливости склонилась перед каким-либо законом света. Я не считал необходимым много говорить об этом предмете: в твоем характере были особенности, которые свет называет недостатками и которые я уважал, как приметы смелой и прямой души. Мне противны условности и правила, которые общество вдалбливает женщинам, всем без различия. Искреннее и наивное сердце Фернанды возмутилось против этого ярма, и я полюбил эту девушку за ее ненависть к педантичности и фальши, свойственным женскому полу. Но то суровое воспитание, которое я не побоялся дать тебе, я никогда не посмел бы испробовать на Фернанде; она сама создала себе мир иллюзий, как обычно это делают женщины с любящей душой, пытаясь бороться с пеленой уродливых предрассудков, застилавшей им глаза; у нее был тот прелестный, но роковой характер, который называют романическим и при котором не видят действительность ни такою, какой ее являет общество, ни такою, какой она существует в природе; она верила в вечную любовь и в безмятежный, ничем не рушимый покой. На мгновение у меня возникло было желание испытать ее мужество и сказать ей, что она ошибается, но у меня не хватило на это духу. Ну, что я мог тут сделать, раз она называла меня своим спасителем, — ведь в семнадцать лет, как и ты в свои десять, она видела во мне доброго духа из сказки? Ну, как бы я посмел сказать ей: «Покоя нет на свете, любовь — это мечта, длящаяся лишь несколько лет; существование, которое я предлагаю тебе разделить со мною, будет тягостным и горьким, как всякое существование людей в этом мире»? Я попытался было внушить ей эту мысль, и тут вдруг она — такой ребенок! — потребовала от меня клятвы в вечной любви. Она притворялась, что принимает все опасности, ожидающие нас в будущем, — по крайней мере она убедила себя, что принимает их; но я хорошо видел, что ни в какие опасности она не верит. Ее упадок духа, ее изумление достаточно ясно доказывают, что она не предвидела самых простых неприятностей обыденной жизни. Что же мне теперь делать? Пойти к ней и наставительно поговорить с ней о страданиях, о смирении и молчании? Пойти к ней и, пробудив ее от всех ее мечтаний, сказать: «Ты слишком молода, иди ко мне, старику, чтобы я передал тебе свою старость. Ведь вот твоя любовь уже угасает. Так и должно быть, так и будет со всеми радостями твоей жизни!»? Нет. Если я не мог дать ей счастья в настоящем, оставим ей по крайней мере возможность счастья в будущем. Я не могу объясниться с ней, сама видишь. Непременно случится так, что она возненавидит меня и в одно прекрасное утро прочтет по моему лицу, что мне тридцать пять лет. Нет, лучше подольше обращаться с нею как с ребенком. В самом деле, я мог бы стать ее отцом; почему же мне отказаться от этой роли? Если возможно утешить Фернанду и продлить ее любовь, то лишь нежными словами и нежными ласками, а когда она будет любить меня только как отца, я избавлю ее от своих ласк и окружу ее заботами. Я не чувствую себя ни оскорбленным, ни обиженным ее поведением; я принимаю без гнева и отчаяния утрату своей иллюзии; это не вина Фернанды и не моя вина. Но какая смертельная тоска! О, одиночество! Одиночество сердца!
XXX
От Фернанды — КлемансСегодня Жак очень порадовал меня: он дал мне доказательство своего доверия. — Друг мой, — сказал он, — я хочу, чтобы с нами жила особа, которую я очень люблю. Я уверен, что и вы ее полюбите. Помогите мне вырвать ее из уединения, в котором она живет, и убедите ее хотя бы некоторое время погостить у нас. — Я сделаю все, что тебе угодно, и полюблю, кого тебе угодно, — ответила я полугрустно-полувесело, как это часто теперь со мной бывает. — Я никогда тебе о ней не говорил, но эта женщина — мой друг и очень мне дорога. Я, можно сказать, воспитал ее; это побочная дочь моего лучшего друга, который на смертном одре поручил ее мне. Никогда не расспрашивай меня об этом — я дал клятву назвать имя родителей девушки лишь при определенных обстоятельствах, судить о которых могу только я сам. Я поместил ее в монастырский пансион, а когда взял оттуда, устраивал ее в различных странах, где она пожелала жить: сперва в Италии, затем в Германии, а теперь в Швейцарии; она живет вдали от общества, пользуясь независимостью, которую свет счел бы странной, но которую надо признать разумной и законной для того, кто ничего не требует от света и не скучает в одиночестве. — Молода она? — спросила я. — Ей двадцать пять. — А хорошенькая? — быстро вставила я. — Очень! — ответил Жак, казалось, совсем не заметив,; как я покраснела. Я задала ему еще много вопросов относительно характера незнакомки и по ответам Жака должна была бы почувствовать к ней приязнь, и все-таки лишь сделав над собою усилие, я в конце концов сказала, что буду рада видеть ее у нас, а когда я осталась одна, то изведала все муки ревности. Конечно, я не думала, что Жак был любовником этой женщины и теперь вздумал привести ее в дом для того, чтобы возобновить старую связь. Для этого Жак слишком благороден, слишком деликатен; но я опасалась, что такая горячая дружба между ним и этой: молодой женщиной началась с какого-то иного чувства. Жак не поддался ему, думала я, вероятно, рассудок и честь победили слишком живую нежность к подопечной, но он часто испытывал волнение близ нее; он не мог равнодушно видеть в ней столько прелести, ума и талантов; быть может, он не раз думал сделать ее своей женой, и, во всяком случае, у него осталось к ней то непреодолимое чувство, которое должно сохраняться у мужчины к предмету его былой любви. Жак бывает порою очень странным! Быть может, он хочет, чтобы эта женщина стояла меж нами в качестве примирительницы при наших грустных размолвках; быть может, он предложит мне подражать ей как образцу или по крайней мере будет невольно сравнивать нас, а так как она более близка к совершенству, чем я. то когда я в чем-нибудь провинюсь, сравнение окажется не в мою пользу. Такие мысли наполняли мою душу скорбью и гневом; не знаю почему, но я испытывала неодолимую потребность еще и еще расспрашивать Жака, но не решалась это делать, и боюсь, что он угадывал мои подозрения. Наконец к вечеру, когда мы довольно весело болтали о чем-то, имеющем весьма отдаленное отношение к нашим делам, я набралась храбрости и, притворяясь, будто говорю в шутку, почти ясно спросила о том, что мне хотелось знать. Несколько мгновений он молчал; я пристально смотрела на него, но не могла истолковать выражение его лица. Это часто бывает со мной, да и пусть кто-нибудь попробует узнать, каков он в эти минуты — спокоен или недоволен. Наконец он протянул мне руку и сказал серьезным тоном: — Скажи, ты считаешь меня способным на подлость? — Нет, — тотчас ответила я и поднесла его руку к своим губам. — А на предательство? — Нет, нет! Никогда. — Ну, а на что-нибудь другое недоброе? Ведь ты же заподозрила меня в чем-то нехорошем, — добавил он, устремив на меня проникновенный свой взгляд, которому я не могу противиться. — Ну что ж, да! — ответила я смущенно. — Я тебя обвинила в неосторожности. — Объясни, — сказал он. — Нет, — ответила я, — дай мне клятву, и я навеки буду спокойна. — Клятву? Между нами? — сказал он укоризненным тоном. — Ах, ты же знаешь, что я слабая! — воскликнула я. — Ко мне надо относиться снисходительно. Пусть твоя гордость не возмущается, смягчись, прошу тебя! Поклянись, что никогда ты не любил эту молодую женщину и уверен, что никогда не полюбишь ее! Жак улыбнулся и попросил, чтобы я продиктовала ему точный текст клятвы. Я потребовала, чтобы он поклялся своею честью и нашей любовью. Он согласился без спора и кротко спросил, довольна ли я. Тогда я поняла, что совершила безумство, мне стало очень стыдно и страшно, что я оскорбила его; но он успокоил меня и словами и ласками. Теперь я даже думаю, что хорошо сделала, поговорив с ним откровенно и признавшись без ложного стыда в своих опасениях. Достаточно было несколько слов объяснения, и спокойствие навсегда вернулось ко мне; теперь я без малейшего неудовольствия приму эту женщину, его друга. Если бы я, не опасаясь, говорила бы ему все, что приходит мне в голову, в сумасшедшую мою голову, быть может, мы никогда и не страдали бы. После нашего разговора я чувствую себя такой счастливой и спокойной, какою уже давно не была. Я ужасно благодарна Жаку за его снисходительность ко мне, за то, что он согласился для моего успокоения дать клятву, которую я и сама считаю теперь поистине ребяческой, но без которой, возможно, пришла бы сейчас в отчаяние. А в общем, Жак относится ко мне то как к младенцу, то как к вполне зрелому человеку, воображая, что я должна понимать его с полуслова и никогда не давать неразумных истолкований его словам. Если же он заметит, что у меня так не получается, он считает ошибку непоправимой и с каким-то оскорбительным презрением оставляет меня в моем заблуждении, вместо того чтобы сказать несколько слов, которые сразу же исцелили бы меня. Жак слишком хорош для меня, вот что несомненно, и он не умеет скрывать от меня свое превосходство; он знает, как утешить мое сердце, но не желает щадить мое самолюбие. Я чувствую, в чем должна быть ему ровней, и знаю, что как раз этого мне недостает. Ах, как участь моя отлична от той, какую я видела в мечтах! Ни надежды мои, ни опасения не оправдались. Жак в тысячу раз выше моих надежд; я и понятия не имела, что у человека может быть такой великодушный, такой спокойный, даже бесстрастный характер; но я ждала радостей, которых не нахожу близ него, ждала больше непосредственности, откровенности и товарищеского отношения. Я считала себя равной ему, а этого нет.
XXXI
От Жака — СильвииКажется, Фернанда радуется сейчас своим ребячествам; сначала она стыдилась их, скрывала; щадя ее гордость, я притворялся, будто не замечаю их; теперь она простодушно выказывает их, сама смеется над ними и почти ими хвастается; я дошел до того, что полностью подчиняюсь им и обращаюсь с ней как с десятилетней девочкой. О, если бы мне самому было на десять лет меньше, я попытался бы доказать ей, что она не только не движется вперед в своей внутренней жизни, а идет вспять и, стараясь устранить малейшие тернии со своего пути, теряет время, в течение которого могла бы проложить себе новую дорогу, красивее и шире прежней; но мне боязно разыгрывать роль педанта-наставника — я слишком стар и потому f не рискую взяться за нее. На днях я говорил с нею о тебе и о своем желании пригласить тебя к нам на некоторое время; она тотчас принялась расспрашивать, сколько тебе лет, хороша ли ты собой, а в конце концов взяла с меня торжественную клятву, что у меня никогда не было к тебе иных чувств, кроме братских. Она не нашла в своем сердце, в своем уважении ко мне достаточно сильной защиты от этих жалких подозрений; она считает меня способным унизить ее и довести до отчаяния себе на потеху! Целый день она предавалась этим страхам, а когда я принес клятву, которую она требовала, все опасения исчезли, и она вполне довольна. Увы! Все женщины, кроме тебя, Сильвия, похожи друг на друга. Я кротко выполнил требование Фернанды, но мне казалось, будто я перечитываю одну из читанных и перечитанных глав в книге жизни. А до чего ж нелепа и однообразна эта жизнь, с виду столь бурная, столь разнообразная и столь романтическая! Все события в жизни человеческой отличаются друг от друга лишь кое-какими обстоятельствами, а сами люди — некоторыми чертами характера; но вот мне тридцать пять лет, а мне так же одиноко и грустно среди людей, как и в начале моего пути: я жил напрасно. Я никогда не находил согласия и сходства между собою и прочими людьми. Моя это вина или вина моих ближних? Неужели я сухой человек, начисто лишенный сердца? Может быть, я не способен любить? Или у меня слишком много гордости? Мне кажется, никто не любит более самоотверженно и страстно, чем я; мне кажется, что моя гордость готова всему покоряться и что моя любовь выдержит самые страшные испытания. Стоит мне оглянуться на прошлую свою жизнь, я вижу в ней лишь самоотречение и жертвы; почему же там столько опрокинутых алтарей, столько руин, такое ужасное мертвое молчание? Что сделал я преступного? Почему стою в одиночестве среди обломков всего, что считаю своим достоянием? Неужели обращается в прах все, к чему я приближаюсь? Но ведь я ничего не разбил, ничего не осквернил; я молча прошел мимо лживых оракулов, я покинул кумиры, обманувшие меня, и не начертал проклятие им на стенах храма. Кто более смиренно, более спокойно, чем я, уклонялся от поставленной для меня западни? Но истина, за которой я следовал, потрясала своим сверкающим зеркалом, и пред нею падали преграды лжи и обольщений; сломанные и разбитые, как идол Дагона пред лицом истинного Бога; я шел и, оборачиваясь, бросал назад печальный взгляд, говоря себе: «Неужели нет в жизни ничего верного, ничего прочного, кроме этого божества, которое идет впереди меня, все разрушая на своем пути и нигде не останавливаясь?». Прости мне мои грустные мысли и не думай, что я намерен отступиться от своей трудной задачи — более чем когда-либо я с твердостью принимаю жизнь. Через два месяца я буду отцом; надежда эта не преисполняет меня юношескими восторгами, но я принимаю это высокое благодеяние небес сосредоточенно, как человек, понимающий свой долг. Больше я не принадлежу себе, я больше не позволю своим мыслям идти в том направлении, какое они зачастую’ принимали; не буду также предаваться ребяческой радости и честолюбивым мечтаниям иных отцов, строящих радужные планы о будущем своего потомства: я знаю, что дам жизнь еще одному несчастному на земле. И я обязан научить его, как можно страдать, не допуская, чтобы несчастье унизило тебя. Я надеюсь, что предстоящее материнство отвлечет Фернанду от ее горестей и направит ее заботы к цели более полезной, чем непрестанно выпытывать мысли и терзать сердце человека, всецело принадлежащего ей, ничего не оставившего себе; если она не исцелится от этого нравственного недуга, когда дитя будет у нее на руках, придется тебе, Сильвия, приехать к нам и быть среди нас, для того чтобы продлить, насколько возможно, ту половинчатую любовь, половинчатое счастье, которое нам еще остается. Я надеюсь, что твое пребывание у нас внесет большие перемены в нашу жизнь; твой сильный и решительный характер сначала удивит Фернанду, а потом окажет на нее спасительное действие; ты защитишь бедную мою любовь, охраняя ее от слабодушия Фернанды, а может быть, и от советов ее маменьки. Она получает письма, после которых очень грустит; я не хочу ничего о них разузнавать, но ясно вижу, что какая-то опасная дружба или женское коварство растравляет ее раны. Ах, почему она не может излить свои горести сердцу достойному, которое смягчило бы ее страдания! Но дружеские излияния вредны для такой натуры, как она, если их не воспринимает чья-либо высокая душа. Я ничем не могу помочь этому несчастью; никогда я не буду поступать как господин и повелитель, хотя бы на глазах у меня убивали мое счастье.
XXXII
От Фернанды — КлемансДни наши протекают медленно и грустно. Ты права — я нуждаюсь в каком-нибудь развлечении. На меня напала такая тоска, своего рода сплин, что в моем возрасте можно и умереть от нее, если человек находится под зловредным влиянием, и, наоборот, можно легко и быстро исцелиться — ведь природа дает на то великие возможности, надо лишь оторвать больного от роковых мыслей. Но где же найти развлечения? Я сейчас беременна, на сносях, и мне все нездоровится, меня одолевает такая усталость, что приходится весь день проводить на кушетке; нет сил даже приодеться. Присматриваю только за шитьем приданого для младенца — оно поручено Розетте; я упросила Жака возвратить ее, она работает прекрасно, по характеру очень кроткая, иной раз умеет позабавить меня. Когда Жака нет возле меня, я для развлечения усаживаю ее у своего дивана, но через минуту мне уже скучно с ней. Жак, по-моему, стал ужасно строгим и молчаливым и почти не расстается с трубкой. Прежде мне чрезвычайно нравилось смотреть, как он лежит на ковре и курит душистый табак; он, право, очень хорош в этой небрежной позе, а шелковый пестрый халат придает ему вид настоящего султана. Но этим зрелищем я наслаждаюсь так часто, что оно уже начинает мне надоедать; не понимаю, как можно так долго и так неподвижно лежать в мрачном молчании; чего доброго, так и сам сделаешься ковром, полом или табачным дымом. А Жак, по-видимому, блаженствует. О чем он может так долго думать? И как это столь деятельный ум обитает в столь ленивом теле? Мне иногда кажется, что его воображение цепенеет, душа засыпает, и в один прекрасный день мы окаменеем и превратимся в статуи. Табак моего супруга начинает серьезно раздражать меня. Каким было бы облегчением сказать об этом, но ведь тогда Жак с самым спокойным видом разбил бы все свои трубки и навсегда лишил бы себя удовольствия, быть может самого большого в его жизни. Счастливый народ — мужчины: не много им нужно для утехи. Они заявляют, что мы, женщины, якобы ребячливы; но, право, мне было бы просто невмочь три четверти суток выпускать изо рта колечки и завитки дыма, то более, то менее густого. Жаку же это доставляет истинное наслаждение, и ни одна женщина не вытесняет меня так из его сердца, как любимая трубка из кедрового дерева с перламутровыми инкрустациями. Чтобы ему понравиться, мне придется облечься в кедровую кору и надеть на голову остроконечный янтарный тюрбан. Вот в первый раз за много дней я чувствую в себе силу посмеяться над скучным моим существованием, и подобное мужество порождено во мне надеждой стать в скором времениматерью красивого младенца, который утешит меня за все презрение господина Жака. Ах, как я уже люблю моего малютку, как мечтаю, что он будет хорошенький, розовенький! Думаю о нем с утра до ночи, строю воз душные замки, а без этого я бы умерла с тоски. Да, я чувствую, что ребенок мне все заменит, займет все мои мысли и чувства, разгонит облака, омрачившие мое счастье. Сейчас я очень занята подыскиванием имени для него, листаю все книги в библиотеке и не могу найти ни одного имени, достойного будущей моей дочери или сына. Мне больше хочется девочку; Жак говорит, что и он ради меня предпочел бы девочку. Я нахожу, что он чересчур равнодушен к такому важному вопросу. Если я произведу на свет сына, Жак скажет, что это воля случая, и нисколько не будет мне благодарен. Мне вспоминается, как радовался и гордился господин Борель, когда Эжени родила ему мальчика. Бедняга просто не знал, как выразить ей свою благодарность. Он заказал почтовых лошадей и, поехав в Париж, купил ей там великолепное кольцо. Это очень по-детски для старого военного, а все же это было трогательно, как все простые и непосредственные чувства. Жак слишком большой философ, чтобы совершать подобные безумства; он смеется над долгими моими совещаниями с Розеттой по поводу фасона детского чепчика или покроя распашонки. Однако он уделил много внимания заказу колыбели, раза два-три заставлял ее переделывать, находя, что в нее недостаточно проходит воздуху, что она недостаточно удобна, недостаточно предохраняет от несчастных случаев разного рода, которые могут грозить его наследнику. Несомненно, Жак будет хорошим отцом: он такой мягкий, такой заботливый, так предан тем, кого любит. Бедный Жак! Право, он заслуживает более рассудительной жены, чем я. Бьюсь об заклад, что с тобою, Клеманс, он был бы счастливейшим из смертных. Но уж придется ему удовольствоваться своей сумасбродной Фернандой — я вовсе не склонна предоставить его утешениям какой-нибудь другой женщины, даже твоим, дорогая Клеманс. Вижу, вижу, как ты презрительно поджимаешь губки и говоришь, что у меня теперь очень дурной тон. Но что поделаешь? Мне ведь скучно! Маменька пишет мне письмо за письмом. Право, она очень мила ко мне. Вы с Жаком несправедливы к ней. У нее есть свои недостатки, у нее много предрассудков, и близкое общение с нею не всегда приятно, но у нее доброе сердце, и она действительно любит меня. Она даже чересчур беспокоится о моем положении и пишет, что хочет приехать к моим родам. Я-то, конечно, этому рада, но боюсь. что Жак будет недоволен: он ее терпеть не может. Какая я неудачница во всем!.. Ну, почему у него такая антипатия к моей матери? Ведь он довольно мало ее знает, и она всегда обращалась с ним прекрасно. Эта неприязнь кажется мне незаслуженной, и я не узнаю тут спокойную и холодную справедливость Жака. Что ж, у каждого свои прихоти, даже у него, хотя он само совершенство, и ему не пристало капризничать.
XXXIII
От Жака — СильвииМоя жена стала матерью двоих близнецов: мальчика и девочки. Дети крепенькие, хорошо сложенные, и я надеюсь, что оба будут жить. Фернанда кормит их в очередь с кормилицей — для того, чтобы малютки не ревновали, как она говорит; она поглощена своими материнскими обязанностями, и теперь, надеюсь, у нее не будет времени огорчаться чем бы то ни было, что не имеет отношения к ее детям. Она перенесла на них всю свою заботливость, и мне приходится применять власть, чтобы она не уморила их от избытка нежности: то она будит их, чтобы покормить, когда они спокойно спят, то не дает им грудь, когда они проголодаются; она играет с ними, как ребенок забавляется птичьим гнездышком; слишком она еще молода для того, чтобы быть матерью. Я целые дни провожу у колыбели. Мне уже видно, что я, мужчина, необходим для этих птенчиков, едва вылупившихся из яйца. Кормилица, как все крестьянки, полна нелепых предрассудков, которым Фернанда доверяет гораздо больше, нежели простым советам здравого смысла; к счастью, она такая добрая и мягкая, что если и рассуждает неправильно, то всегда готова уступить первой же нежной просьбе. С тех пор как появились у меня два этих бедных младенца, моя грусть как-то смягчилась; склоняясь над ними, я любуюсь их спокойным сном, слежу за легким трепетаньем, пробегающим у них по личику, и мне думается: должно быть, они уже мыслят. Я уверен, что в их еще дремлющих душах проносятся грезы о неведомых мирах, а может быть, и смутные воспоминания об иной жизни и о странных скитаниях сквозь туманы забвения. Бедные создания, обреченные жить на этом свете! Откуда они явились? Будет ли им лучше или хуже в той жизни, которая вновь начинается для них? Смогу ли я облегчить им ее бремя и долго ли буду им в помощь? Ведь я стар, и они будут еще молодыми, когда я умру… У нас с Фернандой произошла небольшая ссора по поводу их имен: я предоставил ей полную свободу — пусть выбирает, какие понравятся, при условии, что ни тому, ни другому ребенку не дадут имени бабки, а как раз Фернанда хотела, чтобы нашу дочь назвали Робертиной; в споре со мной Фернанда ссылалась на обычаи, на свой дочерний долг! Мне поневоле пришлось ей сказать, что первый ее долг посчитаться с моим желанием. Самая эта мысль и слова эти противны мне, но, право, я возненавидел бы свою дочку, если б она носила имя подобной женщины. Фернанда горько плакала, говорила, что я хочу поссорить ее с матерью, и даже занемогла от этой неприятности. Вот видишь, все у меня не ладится! Приезжай к нам, друг мой. Ты должна попытаться побороть влияние, которое мать оказывает на Фернанду во вред мне. Может быть, приглашение погостить у меня — неделикатность с моей стороны, но ведь ты давно ничего не писала об Октаве, и так как мне казалось, что ты нарочно умалчиваешь о нем, я не решался расспрашивать тебя. Если он находится близ тебя, если ты счастлива, не приноси мне в жертву ни одного из радостных дней своей жизни — светлые дни так редки. Но если ты одна, если тебе не противно мое приглашение, подумай над ним.
XXXIV
От Сильвии — ОктавуНеожиданные и не зависящие ни от вас, ни от меня обстоятельства, которые я не имела права открыть вам, заставляют меня уехать, и я не знаю, надолго ли. Я постаралась бы объясниться пространно и смягчить обещаниями печальные стороны этой вести, если бы полагала, что ваша любовь может выдержать хотя бы недельную разлуку; но сколь бы легким ни было испытание, оно окажется вам не под силу, и я не возьму на себя ненужный труд утешать вас — через неделю вы сами стали бы смеяться над моими заботами. Итак, вы совершенно свободны, ищите себе каких угодно развлечений; я ничего не смогу сделать для вашего счастья, а вы для моего — еще меньше. Мы действительно любим друг друга, но не пылаем страстью. Иной раз я давала волю своему воображению, а вы это делали еще чаще, и тогда наша любовь казалась нам гораздо сильнее, чем была в действительности; но если вникнуть глубже в истинное положение, то я скорее ваш друг, ваш брат, чем ваша подруга и ваша возлюбленная; у нас совершенно различные вкусы и взгляды, противоположные характеры. Уединение, потребность в любви и романтические обстоятельства сблизили нас, и мы привязались друг к другу; привязанность эта если и не возвышенная, то вполне честная. Однако ваша любовь, исполненная тревоги и подозрительности, постоянно заставляла меня краснеть, а моя гордость зачастую ранила и унижала вас. Простите мне горести, которые я вам причиняю, как и я прощаю обиды, нанесенные мне вами; в конечном счете нам не в чем упрекнуть друг друга. Нельзя полностью изменить свою душу, а ведь тут необходимо было, чтобы такое чудо произошло и в вас и во мне; только тогда мы подошли бы друг к другу и любовь связала бы нас прочными узами; мы никогда не обманывали, никогда не изменяли друг другу; пусть эта мысль послужит нам утешением в мучениях, пережитых нами, пусть она сотрет воспоминания о наших ссорах. Я унесу о вас память как о человеке слабохарактерном, но порядочном; о душе не героической, но чистой; у вас так много достоинств, что вы составите счастье женщины менее требовательной, чем я, и к тому же не такой мечтательницы. У меня не останется никакой горечи против вас; если мне когда-нибудь представится случай оказать вам услугу, я с радостью сделаю это. Если вы сколько-нибудь цените мою дружбу, будьте уверены, что она сохранится навсегда; но любовь, еще не совсем угасшая в моем сердце, приведет лишь к взаимному нашему мучительству. Я постараюсь подавить ее, и уж во всяком случае, что бы ни случилось, вы можете устраивать свою судьбу как вам заблагорассудится; никогда след этой любви не станет в будущем преградой на вашем пути.
XXXV
От Фернанды — КлемансНезнакомка прибыла. Нынче утром Розетта с таинственным видом вызвала Жака; через несколько минут он возвратился, ведя за руку высокую молодую особу в дорожном костюме, и, подтолкнув ее в мои объятия, сказал: — Вот мой друг, Фернанда. Если хочешь сделать меня вполне счастливым, будь и ты ее другом. Незнакомка оказалась такой красавицей, что я опешила и не сразу решилась ее поцеловать. Но она сама обвила руками мою шею, заговорила со мной на ты и ласкала меня с таким чистосердечным дружелюбием, что у меня слезы выступили на глазах. Я заплакала, то ли от радости, то ли от печали — сама не знаю, почему, как это частенько со мной случается; тогда Жак, обняв нас обеих, поцеловал незнакомку в лоб, а меня в губы, прижал обеих к сердцу и сказал при этом; «Будем жить вместе, будем любить друг друга, крепко любить; Фернанда, даю тебе доброго, искреннего друга, а тебе, Сильвия, я доверяю ту, что мне всего дороже на свете. Помоги мне сделать ее счастливой. Если я буду творить какие-нибудь глупости, брани меня; о Фернанде же помни, что она еще дитя и не умеет выражать свои желания. Ах, милые мои дочки, полюбите друг друга из любви к старому вашему Жаку! Он благословляет вас». И он заплакал как дитя. Мы провели весь день вместе. Водили Сильвию по всем живописным уголкам парка; она выказывала большую нежность к близнецам и говорила, что хочет заменить Розетту во всех заботах, какие им потребуются. Сильвия просто очаровательна; тон у нее решительный и добрый, и такие ласковые черные глаза, и простые манеры. Она итальянка, насколько я могу судить по ее акценту, и с Жаком говорит на каком-то из тамошних наречий. Мне это немножко неприятно: они могут разговаривать на этом диалекте о чем угодно, а я почти ничего не понимаю. Но ревнуй не ревнуй, а как ее оттолкнуть, когда она такая услужливая и так хочет меня любить. Она рано ушла в свою комнату, и тогда Жак поблагодарил меня за радушный прием, который я оказала ей, поблагодарил так горячо, что мне было и больно и приятно его слушать. Я очень довольна, что нашла случай показать Жаку, как я слепо покоряюсь его желаниям и могу пожертвовать своими слабостями ради его счастья. А все-таки, знаешь, Клеманс, все это необычайно, и мало найдется женщин, которые, не испытывая мучений ревности, смотрели бы на столь пылкую дружбу между их мужьями и молодыми красавицами. Когда я дала согласие принять Сильвию в дом, я не знала и даже вообразить не могла, что Жак станет ее обнимать, да еще говорить с ней на ты! Я, конечно, понимаю, это еще ничего не доказывает. Он ведь поклялся мне, что никогда ее не любил и никогда не полюбит. Поэтому мне нечего бояться их близости. Жак смотрит на Сильвию как на свою дочь и соответственно обращается с нею. И все же странно мне слышать, что Жак говорит ты не только мне, но и чужой женщине! Ему следовало бы избавить меня от этих обидных мелочей — ведь любой женщине, окажись она на моем месте, они были бы неприятны. Напиши, что ты думаешь об этой Сильвии и как ты полагаешь, могу ли я ей довериться. Я очень хотела бы с ней подружиться, потому что она мне ужасно нравится. И как устоять перед ее обращением, таким естественным и приветливым?
XXXVI
От Клеманс — ФернандеЯ думаю, друг мой, что было бы нелепо, низко и несправедливо подозревать, будто Жак привел в дом свою любовницу. И, право, не вижу, какие у тебя причины мучиться — ведь не можешь же ты до такой степени презирать своего мужа, чтобы у тебя возникали подобные подозрения. Какое тебе дело до красоты этой молодой особы? Она могла бы стать весьма опасной, если бы твоему мужу едва исполнилось восемнадцать лет; но в его возрасте мужчина может устоять перед таким искушением, и если б он был падок до подобных соблазнов, то, уж верно, не стал бы ждать и согрешил бы с нею раньше, чем женился на тебе. Скажу поэтому с уверенностью, что ты просто-напросто сумасбродка и с твоей стороны почти преступление, что, приняв новую свою подругу, ты не питаешь к ней полного доверия. Если же тебе не под силу относиться к ней с доверием, зачем ты потребовала клятвы от своего мужа и как ты можешь чувствовать к ней дружеское расположение, если считаешь ее низкой и бесстыжей негодяйкой, способной вытеснить тебя даже в собственном твоем доме? Мысль о такой опасности никогда мне не приходила, но после того, как ты передала мне свой разговор с Жаком по поводу нее, мне стало ясно, что эта «дружба втроем» приведет к весьма серьезным осложнениям. Не знаю, стоит ли сейчас предупреждать тебя о них — при твоей бесхарактерности тебе не избежать их, да и заметишь ты их слишком поздно. Наименьшая из всех грозящих вам неприятностей — это мнение света о вашей романической троице. Я достаточно повидала на своем веку дружеских отношений, выходящих за рамки обычного, и знаю, что внешние приличия далеко не всегда спасительны. Вот я, например, от всей души верю в чистоту вашей дружбы; но будьте осторожны, иначе в глазах света, который нисколько не считается с исключениями, вы покроете себя позором, вас оклевещут и выставят в смешном виде. Одного уж обращения на ты, самого по себе невинного и вполне естественного, достаточно для того, чтобы очернить во мнении общества привязанность господина Жака к мадам или мадемуазель Сильвии. Да и тебя, бедненькая моя Фернанда, тоже не пощадят! Надо немедленно дать обществу более веское объяснение вашей близости с прелестной незнакомкой, чем то, что она приемная дочь Жака и потому привязана к нему. Лучше было бы выдавать ее за твою компаньонку и не показывать перед посторонними, что она держится с вами запросто. Раз твой муж не хочет никому выдавать тайну ее происхождения, он мог бы прибегнуть к невинному обману и сказать на ушко тому, другому, что Сильвия — его побочная сестра. Слух побежит тайком из уст в уста, и наглые толки сразу же прекратятся. Советую тебе поговорить об этом с мужем, но представить мои опасения как твои собственные и добиться, чтобы он проявил тут надлежащую осторожность. Удивляюсь, как ему самому не пришло это в голову. Может быть, Сильвия действительно его сестра, и как раз это он и хочет скрыть. Но почему же у него недостало доверия потихоньку сказать тебе об этом?
XXXVII
От Фернанды — КлемансТвои советы не пригодились мне. Едва я передала Жаку малую долю твоих предупреждений о грозящих нам неприятностях, он посмотрел на меня недоуменным взглядом и сказал: — Где это ты набралась такой премудрости? И с каких это пор тебя так беспокоит мнение света? — Затем печально добавил: — Правда, твое предназначение — блистать в обществе. Я ошибся, вообразив, что ты готова похоронить себя в этом уединенном уголке. Ты уже борешься с желанием кружиться в вихре света, и уже беспокоишься о том, что могло бы помешать тебе войти в общество. Только и всего. — Ах, не говори так! — ответила я. — Я могу быть счастлива только там, где будешь ты и где тебе будет весело. Я никогда не думаю о свете, да мне почти и неизвестно, что такое свет. Я говорю об этом лишь в интересах Сильвии и в твоих интересах. Ваша добрая слава мне дороже моей собственной. На это Жак ничего не ответил, только насупил брови, как это бывает у него в минуты сдерживаемого гнева. На губах же у него заиграла ироническая улыбка, и я поняла, что такие рассуждения казались ему забавными в моих устах. Однако он подавил желание высмеять меня и ответил серьезным, спокойным тоном: — Дорогое мое дитя, я уже давно порвал со светом. Это от тебя зависит, чтобы я согласился жить среди его удовольствий и праздной суеты. Если они тебя соблазняют, мы будем выезжать в свет, но знай, что между ним и мною нет ни малейшей симпатии; а так как я уступаю лишь советам сердца и совести, то никогда не принесу самой пустячной жертвы ради того, чтобы добиться его поддержки и одобрения. Скажу больше: из гордости я не пойду ни на какие уступки. И пусть свет думает обо мне что угодно. У меня за плечами тридцать пять лет честной жизни; если этого недостаточно, чтобы оградить меня от подлейших подозрений, тем хуже для светского общества. Мне думается, у Сильвии приблизительно такие же воззрения, да кроме того, она никогда не будет иметь светских связей и, следовательно, ей не придется вести борьбу с теневыми сторонами независимой жизни. А ты, дорогая моя девочка, укрылась в глуши, куда никто не явится подслушивать наши слова, читать наши мысли, разгадывать взгляды. Людская злоба сюда не проникнет. Когда тебе захочется расстаться с этим уединенным уголком, будь уверена, что Сильвия не поедет с тобою в Париж, а потому знакомые твоей маменьки не будут задавать тебе затруднительных вопросов относительно Сильвии. Мне кажется, Жак прав, и, значит, я сделала глупость. Я попыталась ее исправить, но безуспешно. — Я не беспокоюсь о мнении общества, я не собираюсь выезжать в свет, — ответила я. — Но вот как быть со слугами? Что они будут думать и говорить про вашу чрезмерную близость? — Заботиться о том, что думают и говорят обо мне. слуги, я не привык, — надменно ответил Жак. — Я всегда поступаю так, чтобы не подавать им дурного примера, и полагаю, что лучшими судьями непорочности нашего поведения как раз и окажутся эти свидетели, которыми мы окружены и которым известна вся подноготная нашей жизни. Не знаю, найдут ли они противоречащим законам светских приличий то, что Сильвия живет в нашем доме и обращается с нами запросто, но уверен, что они никогда не скажут, будто мы в чем-либо погрешили против порядочности. Жак умолк и с мрачным видом зашагал по комнате. Несколько раз я заговаривала с ним — он меня не слышал. Наконец он направился к двери, я бросилась к нему. Я видела, что ужасно раздосадовала его, и, думалось мне, — угадала, что он принял решение вроде того, за которым последовало исчезновение проклятого романса и высылка бедняжки Розетты. Я остановила его. — Послушай, Жак, — сказала я, вся замирая от страха. — Я, конечно, была неправа и наговорила всяких нелепостей. Ради Бога, не говори ничего Сильвии, не лишай меня ее дружбы; достаточно того, что я лишилась твоей любви. Я упала на стул и едва не лишилась чувств. Жак поцеловал меня с горячей нежностью, как в первые дни. — Обещаю тебе совсем позабыть о нашем объяснении, — сказал мне он, — и никогда не говорить о нем Сильвии. Совершенно ясно, что это не ты, а какая-то другая женщина говорила твоими устами. Ты такая добрая, бедненькая моя Фернанда! Наберись сил и не слушай ничьих советов, кроме велений собственного сердца. Жака всегда преследует мысль, что маменька восстанавливает меня против него. Правда, она не очень-то его любит, но Жак ошибается, если воображает, будто я рассказываю ей то, что происходит у нас в семье. Я только с тобой могу быть так откровенна. Ах, будь она проклята, наша разлука! Твои советы издалека зачастую приносят мне больше вреда, чем пользы. То я очень плохо объясняю тебе свое положение и поэтому ты не можешь правильно судить о нем; то я очень уж неловко применяю твои советы, как его улучшить. Да еще, надо признаться, я по своему легкомыслию или ограниченности ума не умею справиться с препятствиями, которых ты не могла предвидеть. Как я была спокойна и счастлива, когда мне пришло на ум начать объяснение с Жаком, которое его взволновало и серьезно обидело! Но теперь наша жизнь стала куда веселее. Дай Бог, чтоб она опять не сделалась несчастной по моей вине. Право же, для нас очень полезно, что с нами живет Сильвия. Нет человека лучше ее и добрее. Она большая оригиналка, таких я еще никогда не встречала. Чрезвычайно деятельная, гордая, решительная. Ее ничем не испугаешь, ничем не удивишь. Она в тысячу раз умнее меня, и беседы с нею более полезны для меня, чем все книги, которые я прочла. Менее молчаливая, более общительная, чем Жак, она лучше него угадывает, что именно мне непонятно, и объясняет, опережая мои вопросы. Хотя характер у нее жизнерадостный и несколько насмешливый, ее, по-моему, осаждают очень печальные мысли, и это меня удивляет. В ее-то годы, и при таком очаровании, каким ее одарила природа!.. Должно быть, тут замешана несчастная любовь. По-моему, Сильвия — натура восторженная. Даже дружбу свою она выражает так пылко, что видно, как много в ее сердце огня и преданности; быть может, в юности у нее был неудачный роман. Теперь она как будто питает неприязнь к нежным чувствам и говорит, что любовь — мечта, без которой жизнь очень прозаична, зато спокойна и легка. Она не раз спрашивала меня, как я думаю — нельзя ли обойтись без любви. Но в ответ я заявляла, что тот, кто изведал любовь, не может отказаться от нее — иначе умрешь от тоски и печали. Жак слушает нас с грустным видом и на все наши рассуждения отвечает одним и тем же изречением; «Смотря по обстоятельствам». Ведь эта сентенция его ни к чему не обязывает. Мы делаем большие прогулки, Сильвия обучает меня начаткам ботаники и энтомологии. По вечерам мы поем и, право, можем похвастаться нашим трио. У Сильвии великолепное контральто, и владеет она им так хорошо, что, конечно, могла бы сделать прекрасную карьеру как певица. — Просто удивительно, что при твоем презрении к закоренелым предрассудкам общества, — сказала я ей вчера вечером, — тебя не прельстило такое своеобразное и такое блестящее поприще. — Разумеется, я бы попробовала вступить на него, — ответила она, — не будь у меня средств к существованию. Но мне всегда хватало маленького наследства, которое я через Жака получила от своих родителей. Благодаря ему я могла свободно следовать своим вкусам, а они всегда влекли меня к безвестной, одинокой жизни. Самым страшным для себя я считала зависимость. Если б я почувствовала, что обречена жить определенным образом, в определенном месте, я возненавидела бы и этот образ жизни и это место, хотя они и соответствовали бы моим склонностям. А при мысли, что я завтра же могу уехать куда мне заблагорассудится, я способна остаться двадцать лет в каком-нибудь уединенном уголке. — Совсем одна? — спросила я. — Будь возле меня душа, хорошо понимающая мою, я жила бы счастливо; без нее я предпочла бы одиночество. Жить одиноко, но в спокойствии, разве это плохо? — Да что ты! — воскликнула я. — Одиночество! Такое будущее не пугает тебя? Неужели тебе никогда не приходило желание выйти замуж, чтобы иметь опору, друга на всю жизнь, стать матерью? Да ведь слаще этого нет ничего на свете! — Я не боюсь ни настоящего, ни будущего, — ответила Сильвия, — у меня достанет силы не приходить в отчаяние от приближения старости. Я не чувствую потребности в опоре: у меня хватит мужества перенести в жизни все мучения. А вот найти друга, который никогда не изменит, — такое счастье выпадает одной женщине из тысячи. Ты простодушный ребенок, Фернанда, если думаешь, что удел каждой женщины найти такого мужа, как твой. А что касается счастья материнства, я его понимаю, я могла бы его оценить, но мне еще не встречался мужчина, с которым мне радостно было бы выполнить священный долг женщины. И я не льщу себя надеждой столкнуться с таким человеком. Если он встретится, я не отвергну его. Но я недостаточно романтична, чтобы надеяться на невероятное, и не так слаба, чтобы страдать от неосуществимых желаний. — Какой твердый характер! — заметила я. — А вот если б я потеряла мужа и детей, у меня и не возникало бы мысли кем-то заменить Жака; я не хотела бы найти другого человека, который бы выполнил, как ты говоришь, священные обязанности отца. Я просто умерла бы. — Ты, пожалуй, и умерла бы, — сказала Сильвия. — У меня же такое крепкое здоровье, что расстаться с жизнью я могла бы, лишь наложив на себя руки. Она произнесла все это своим низким, грудным голосом; гостиную, где мы сидели, постепенно заволакивали сумерки; время от времени Сильвия брала на фортепьяно печальный аккорд, а потом под ее пальцами зазвучала такая странная, такая грустная мелодия, что у меня затрепетали все нервы. — Ах, боже мой! — воскликнула я. — Как ты меня пугаешь нынче! И зачем мы, право, завели этот разговор? Я прошла через комнату, хотела дернуть шнурок для звонка и приказать, чтобы принесли свечи, и мне почудилось, что в углу кто-то поднялся с дивана. Я пронзительно закричала и, еле живая от страха, бросилась к Сильвии. — Ну, какая ты еще девочка и трусишка! Это не годится для жены Жака! — сказала Сильвия с ласковой укоризной и встала, чтобы дернуть шнурок. — Не уходи! — вскрикнула я. — Кто-то есть в комнате. Право, есть — вон там, около дивана. — Даже если и есть, так чего же все-таки бояться? Ведь это может быть только Жак. — Это ты, Жак? — спросила я дрожащим голосом. Жак подошел, обнял нас и поцеловал обеих. — Вели подать свечей, злюка, — сказала я. Он, не отвечая, вышел из комнаты и вернулся лишь через полчаса. Я уже сидела за пяльцами, а Сильвия переписывала ноты. — У тебя очень храбрая жена, — сказала ему Сильвия веселым, но, как всегда, немного резким тоном. Жак сделал вид, что не понял насмешки; вероятно, желая помистифицировать меня, он заявил, будто больше часа гулял в парке и только что пришел оттуда. Близнецы чувствуют себя прекрасно и растут на глазах, как цыплята. Жак иной раз досаждает мне из-за них. Он занимается ими даже больше, чем это пристало мужчине, и утверждает, что я ничего не понимаю в уходе за детьми. В дело обычно вмешивается Сильвия и уносит колыбель со словами: — Это вас не касается — ни того, ни другого. Они не ваши, а мои детки.
XXXVIII
От Фернанды — Клеманс ПонедельникДорогая, несомненно, в доме есть привидение. Жак и Сильвия смеются над моими страхами. Возможно, что какой-то наглец любезничает с кем-нибудь прямо у нас под окнами, или же под таким предлогом в наш дом проникает ловкий вор. Садовник видел, как в два часа ночи кто-то бродил около пруда, и старик до того испугался, что даже захворал, бедняга. Только я одна и жалею его. Нынче весь вечер собаки ужасно лаяли и выли. Я умоляла Жака обратить на это внимание, он же только пошутил над моими опасениями и отправился вместе с Сильвией на соседнюю мызу смотреть, как там убирают сено; меня они не взяли с собой, потому что вечером в нашей долине очень сыро, а я и без того сильно простужена. Мне уж и самой стала смешна моя боязнь, и я спокойно собиралась сесть за письмо к тебе, как вдруг под окном раздался звук флейты. Сначала я просто слушала с удовольствием музыку, уверенная, что это играет Жак, — ведь у него множество всяких талантов, и чуть ли не каждый день я открываю в нем новые дарования. Я вышла на балкон и, когда музыка кончилась, крикнула, перегнувшись через перила: — Ангельская песня! Вот тебе награда, прекрасный менестрель! И, сняв с руки браслет, я бросила его на посыпанную песком площадку, он заблестел при лунном свете. Тотчас из кустов выскочил какой-то мужчина, подобрал браслет и убежал с ним. И вдруг я услышала за своей спиной голос Жака и остолбенела. Я рассказала, что произошло, но не решилась сказать о браслете. Ведь я так легко поддалась мистификации и попала в такое смешное положение, что могла бояться насмешек Сильвии, да, пожалуй, и упреков Жака: браслет был его подарком, там переплетались наши инициалы, вырезанные гравером, и меня приводила в отчаяние мысль, что он попал в руки чужого человека. Дай Бог, чтоб это был просто вор. Конечно, ужаснейшая глупость бросать к ногам жуликов свои драгоценности, но по крайней мере вор постарается переплавить золото, и браслет не станет трофеем какого-нибудь наглеца. И я только рассказала, что услышала, как кто-то играет на флейте, окликнула музыканта, вообразив, что это Жак, и увидела убегающего мужчину приблизительно одного роста с Жаком и одетого так же, как он. Тогда мы припомнили напугавшее меня происшествие в большой гостиной. Жак по-прежнему утверждал, что он туда не входил и не подслушивал для развлечения мой разговор с Сильвией. Сомнения одолевали меня, и я не осмелилась рассказать о поцелуе, который подарили нам с Сильвией. Что до нее, то она такая рассеянная и ей так не свойственны ни любопытство, ни пугливость, что она, вероятно, уже и не помнит об этом событии; во всяком случае, она ничего не сказала ни Жаку, ни мне, и я не знаю, что и думать об этом необычайном и неприятном приключении. Браслет, несомненно, подобрал какой-то чужой человек, а что касается поцелуя — тут я сомневаюсь: Жак в эту минуту еще гулял в парке, он сказал эго совершенно серьезно. Правда, иной раз он шутит, сохраняя непроницаемо спокойное выражение лица, и, возможно, теперь потешается про себя над моим конфузом. Подождем, когда выяснится, что означают дурные шутки нашего привидения, а сейчас я хочу поговорить о происхождении Сильвии, которое все еще остается для меня тайной. Так ты полагаешь, что она действительно сестра Жака? Иной раз я и сама так думаю, и эта мысль огорчает меня. Почему же в таком случае Жак скрывает это от меня? Неужели он считает меня неспособной сохранить тайну? Если Сильвия его сестра, я буду его ревновать к ней больше, чем к посторонней, потому что он наверняка любит ее больше, чем меня. Ты очень ошибаешься, Клеманс, если думаешь, что я способна питать к мужу грубую ревность, опасаться неверности с его стороны; я с завистью выпытываю, с тоской вопрошаю его сердце, его благородное сердце — столь драгоценное сокровище, что весь мир должен бы его оспаривать у меня, а я не смею считать себя достойной безраздельно владеть им. Сильвия гораздо умнее, гораздо храбрее и образованнее меня; по возрасту, по воспитанию и по характеру она ближе Жаку, чем я, и между ними должно царить куда более прочное доверие. Ведь Я-то еще девчонка, ничего не знаю, ничего не понимаю, По части изящных искусств и всяких наук, которым меня обучает Сильвия, я как будто не лишена способностей, но когда заходит речь о познании сердца человеческого — тут я ничего не соображаю и даже не могу представить себе, что может существовать такая наука. Я ровно ничего не понимаю в «истоках мужества», в «принципах героизма и стоицизма». Возможно, все это годится для Жака и Сильвии. Но если Бог вдруг ниспошлет мне чрезмерную твердость характера, я скажу: «Зачем она мне?». Я с детства привыкла к мысли, что неизбежному следует повиноваться, и когда меня волнуют тревожные мысли о будущем, я всегда мечтаю лишь о счастье встать под защиту и покровительство того, кто меня любит и будет моим утешителем. В первые дни замужества мне казалось, что в моем союзе с Жаком эта мечта чудесно претворилась в жизнь. Отчего же он иной раз словно жалеет, что я ему неровня? Почему его покровительство и его доброта очень часто причиняют мне страдание?
Четверг
Не знаю уж, что и думать о наших делах. Я готова поверить, что Сильвия, в которой все удивляет — фантастическое имя, странный характер и вдохновенный взор, — это волшебница, напускающая на нас дьявола во всевозможных обличиях. Вчера пришли сообщить нам, что из чащи леса Рео вышел дикий кабан и укрылся в одном из перелесков нашей долины. Охота на страшного вепря немного пугает меня; я боюсь не за себя — меня-то всегда окружают и охраняют, словно принцессу какую-нибудь, — мне страшно за Жака: он так смело идет навстречу опасностям. Я знаю, что он осторожен, силен и ловок, что он никогда не «теряет хладнокровия, и все же не могу быть вполне спокойной; я было попыталась отвратить его от мысли устроить облаву на вепря; но Сильвия закричала от радости, представив себе, как она затравит зверя, даст на охоте волю своей энергической и, как мне кажется, немного жестокой натуре. Мы собрались и переоделись в охотничье платье меньше чем за полчаса. Доезжачих с собаками уже выслали вперед. Для Сильвии оседлали очень горячую арабскую лошадку, на которой я никогда не решалась ездить, и когда я увидела, как всадница умеет заставить своего коня слушаться ее, хотя она гораздо хуже меня знает правила верховой езды, я почувствовала зависть и досаду. А Сильвия для забавы нарочно обгоняла меня, гарцевала по узким и опасным тропинкам, где великолепные ноги ее скакуна совершали настоящие чудеса. Подо мной была очень красивая и смирная английская кобыла, чересчур послушная и спокойная, нарочно подобранная для такой трусихи, как я; поэтому в седле я отнюдь не блистала, и Сильвия затмила меня в глазах Жака. — Держу пари, — сказала она, когда мы въехали в лес, — что тебе до смерти хочется быть на моем месте. Верно? Ах, как верно она угадала! — Ну, что ж, — добавила она. — Давай поскорее поменяемся лошадьми, и пусть Жак увидит тебя на своем любимом Шуимане, чего он никак уж не ожидает. Около нас никого не было, кроме двух доезжачих. Сильвия соскочила на землю, прежде чем хоть один из сопровождавших нас растяп догадался помочь ей; а в это мгновение собаки подняли кабана, он вышел прямо на нас и пробежал в трех шагах от меня, даже и не подумав напасть на кого-нибудь; но арабская лошадь испугалась, взвилась на дыбы и чуть не опрокинула Сильвию, которая упрямо не выпускала из рук поводьев. И вдруг откуда-то выскочил человек — мне показалось, что это один из наших доезжачих, ибо он был одет приблизительно так же, как они; ему удалось удержать лошадь, которая чуть было не вырвалась. У меня уже пропало всякое желание испробовать ее резвость. Незнакомец помог Сильвии взобраться на лошадь, а лишь только она села в седло, подал ей поводья, но она хлыстом ударила его по пальцам, воскликнув: «Ах, вот как!» — странным тоном, выражавшим и удивление и насмешку. Незнакомец исчез в зеленых зарослях так же внезапно, как и появился, и я, сгорая от любопытства, спросила у Сильвии, что это значит. — О, ничего! — ответила она. — Неловкий доезжачий оцарапал мне руку. Вот уж усердие не по разуму! — И за это ты ударила человека хлыстом? — А почему же не ударить? — ответила она и пустила лошадь в галоп. Мне пришлось последовать за ней. Меня нисколько не удовлетворило ее объяснение и по меньшей мере удивило то, что Сильвия так обращается с людьми моего мужа. Я спросила у доезжачих, сопровождавших нас, как зовут неожиданно появившегося мужчину; они сказали, что никогда прежде его не видели. Несколько часов мы были заняты охотой, и, казалось, у Сильвии ничего другого и не было на уме. Я внимательно наблюдала за ней, заподозрив, что возникшее в лесу привидение просто-напросто отвергнутый ею поклонник. То, что произошло на обратном пути, вызывает у меня новые предположения. Мы возвращались проселком, при свете взошедшей луны; право, такого прекрасного вечера еще не случалось в этом году: было довольно свежо, но лунное сияние так красиво озаряло пейзаж, в воздухе разливались такие приятные запахи душистых растений, избирающих себе место по берегам ручьев, и так сладко пел соловей, что я была расположена к романтическим мыслям. Жак предложил для сокращения пути поехать другой дорогой. — Лошадям она довольно тяжела, — сказал он мне, — до сих пор я не решался возить тебя по ней; но раз нынче ты так расхрабрилась, что хотела испробовать побежку Шуимана, у тебя, я думаю, хватит смелости и на то, чтобы спуститься по крутой тропке. — Разумеется, — ответила я, — раз ты считаешь, что это не опасно. И мы тронулись в весьма живописном порядке. Во главе двигался целый отряд загонщиков и егерей в сопровождении собак; пешие несли убитого кабана, который оказался огромным; далее следовали верховые, а в середине — хозяева; наша процессия огибала холм черной полосой, и от времени до времени сумрак прорезала искра, когда чей-нибудь конь подковой ударял о кремень; за нами медленно двигался отряд пеших егерей с собаками, и с обоих концов каравана, победно перекликаясь, раздавались звуки медных охотничьих рожков. Когда мы были на самом крутом месте спуска, Жак сказал одному из егерей, чтобы тот взял мою лошадь под уздцы и свел ее вниз; затем он предложил Сильвии подурачиться. — Подурачиться? — переспросила она. — Пустить лошадей сразу отсюда в долину? — Да, — ответил Жак. — Ручаюсь, что Шуиман в целости и сохранности доставит тебя, если ты не будешь ему мешать. — Идет! — согласилась наша сумасбродка, и, не слушая моих упреков и воплей, они стрелой помчались по гладкому, крутому склону. У меня по всему телу выступил холодный пот, замерло сердце и снова начало биться лишь в то мгновение, когда я увидела, что оба всадника благополучно спустились к подножию холма. Лишь тогда я заметила, что верховые, ехавшие впереди, уже находятся далеко от меня, так как мою лошадь вел по уздцы пеший егерь, а все, кто двигался позади нас, пораженные, вероятно, смелостью Жака и Сильвии, остановились и смотрели на них; словом, я осталась одна на тропинке, довольно далеко от всех, лошадь мою держал под уздцы чужой человек. Всякие россказни о ворах и привидениях, всю последнюю неделю мелькавшие у меня в голове, вновь пришли мне на ум, и человек, шагавший рядом со мной, вдруг начал внушать мне невероятный страх. Я внимательно смотрела на него и находила, что он не похож ни на одного из егерей мужниной охоты. Зато мне показалось, что я узнаю в нем того самого таинственного незнакомца, которого Сильвия наградила утром таким ловким ударом хлыста. Однако я тогда не успела разглядеть как следует его одежду, а лицо его закрывала широкополая соломенная шляпа — видна была только черная борода, от которой, как мне казалось, за версту отдавало разбойником. Теперь же, хоть он был совсем близко от меня, я видела его еще хуже, потому что в седле я возвышалась над ним, и шляпа совсем уж заслоняла его лицо. Но так как он шел спокойно и молчал, я постепенно ободрилась. Я ведь не Знаю всех лесников и любителей охоты из числа крестьян, которые с разрешения Жака присоединяются к нам, как только услышат в долине звук охотничьего рога. Зачастую, возвращаясь с охоты, муж приглашает их к нам подкрепиться вместе с доезжачими. Почти все они носят блузы и соломенные шляпы. Словом, я уже перестала бояться и поверила Сильвии — ведь она вполне способна была ударить егеря, как рабовладельцы бьют негров. Осмелев, я заговорила со своим проводником и спросила у него, нельзя ли уже мне ехать одной по дороге. — О, нет еще! — ответил он. Самый звук его голоса и почти молящие интонации ответа были совершенно необычны для псаря, и меня снова обуял страх. «Будь у меня столько смелости, как у Сильвии, — пришла мне мысль, — я бы со всего размаху ударила хлыстом этого разбойника, и пока он с изумленным видом потирал бы себе руку, я бы подняла лошадь в галоп и живо догнала остальных охотников». Но, во-первых, я ни за что не решилась бы на такой поступок, а во-вторых, если этот человек действительно наш слуга, мой удар оказался бы самой дикой наглостью. Предаваясь таким размышлениям, я, однако, заметила, что мы без всяких происшествий приближаемся к верховым, и когда я уже собиралась каблуком подогнать лошадь, чтобы вырваться из рук загадочного спутника, он повернул ко мне голову и, подняв руку, засучил рукав блузы. На запястье у него блеснул золотой обруч, и я узнала свой браслет. У меня перехватило дыхание, не было сил крикнуть, а незнакомец, выпустив уздечку, остановился у дороги и произнес вполголоса следующие странные слова: «Вся моя надежда на вас». Затем он исчез за деревьями, а я, ни жива ни мертва, пустила лошадь вскачь. Больше всего меня огорчает и даже мучает то, что по воле судьбы между мною и этим человеком появилась какая-то тайна. Теперь я хорошо вижу, какие плачевные последствия имеет история с браслетом, и еще больше, чем прежде, боюсь рассказать о ней Жаку. Что, если он разыщет дерзкого и вызовет на дуэль? Что, если он обвинит меня в неосторожности и просто в легкомыслии? Какая я несчастная! Ведь я же действительно думала, что бросила браслет самому Жаку! А тот, кто подобрал золотой браслет, вообразил, будто я романическая особа, которую легко покорить поцелуем в темноте и арией, сыгранной на флейте. Я теперь так досадую на себя, зачем не поговорила с ним, не объяснила ему свою ошибку и не потребовала браслет обратно. Быть может, незнакомец и отдал бы его. Но ведь я тогда совсем потеряла голову, как это всегда со мной случается, когда необходимо проявить лишь немного хладнокровия. Я попыталась узнать у Сильвии, что она думает о незнакомце. Она сказала, что я просто сумасшедшая, что в нашей долине нет ни одного мужчины, кроме Жака. А тот, которого видел садовник, вероятно, воришка — залез, чтобы нарвать фруктов; тот же, который играл на флейте, — бродячий комедиант, а еще вернее — разъездной приказчик, заночевавший в деревне на постоялом дворе: он для забавы перепрыгнул через канаву, окружавшую сад, а потом похвастается в каком-нибудь кабачке, что у него в дороге было романическое приключение. Относительно человека, которого Сильвия ударила хлыстом, она по-прежнему утверждает, что это был крестьянин; и вот я не осмеливаюсь рассказать ей о человеке, подобравшем браслет, так как мне крайне обидно думать, что незнакомец, завладевший залогом моей благосклонности, просто-напросто приказчик или бродячий музыкант. В сущности, объяснение Сильвии кажется мне довольно приемлемым. И если бы я не боялась вызвать какую-нибудь беду, я бы все рассказала Жаку, и он по заслугам наказал бы негодяя. Но этот человек может оказаться смельчаком и опытным дуэлянтом. И при мысли, что я втяну Жака в такого рода столкновение, у меня на голове волосы шевелятся. Нет, лучше буду молчать.
XXXIX
От Октава — М*** Долина Сен-ЛеонДорогой Герберт, сколько раз ты мне говорил, что я сумасшедший! И я начинаю этому верить. Но, право же, я очень доволен своим сумасшествием — без него я был бы несчастным человеком. Если ты спросишь, где я живу и чем занимаюсь, мне было бы затруднительно тебе ответить. Сейчас я нахожусь в таком краю, где еще ни разу не бывал, в местности, которой я не знаю и где могу выходить из дому только под чужой личиной. А занимаюсь я тем, что брожу вокруг некоего старого замка, играю на флейте при лунном свете, и время от времени меня награждают ударом хлыста по руке. Тебя бы, думаю, неудивил мой внезапный отъезд, если б ты знал, что Сильвия за месяц до того уехала из Женевы. Ты бы, конечно, предположил, что я поехал к ней, и не ошибся бы в этом. Но ты, разумеется, и не подозреваешь, что я без ее приглашения и даже без разрешения помчался по ее следам. Она покинула свой уединенный уголок на берегу Лемана — странная прихоть, как и все решения, возникающие у нее нежданно, да еще в такие минуты, которые ты проводишь у ног ее, полный душевного спокойствия и мня себя счастливейшим из смертных. Удивительное создание, быть может слишком страстное или слишком холодное для любви, но уж наверняка слишком красивое и необычайное среди женщин, — такое, что стоит ей появиться перед глазами мужчины, и она уже сводит его с ума. Я знал, что господин Жак женат, и догадался, что она поехала к нему, решив поселиться в его доме, — ведь уже несколько месяцев она пугала меня этим намерением, всякий раз, как бывала в дурном расположении духа и желала довести меня до отчаяния. Но я не знал, где сейчас господин Жак — в Турени или в Дофинэ. В надменной записке, которую Сильвия оставила для меня в своем домике, она не удостоила сказать, куда направляет свои стопы, и поэтому сюда я приехал наугад. Я устроился в хижине лесного сторожа, скаредного и скрытного старика; я выбрал его среди других хозяев за то, что у него злая физиономия, на которой написана алчность, — за деньги он готов помочь мне поубивать здесь всех мужчин и похитить всех женщин. Итак, можешь теперь рисовать в догадках мое пребывание в самой романтической на свете долине, где я, чтобы избежать любопытных, чаще расхаживаю в костюме браконьера, нежели в одежде порядочного человека, — и я действительно браконьерствую под покровительством моего хозяина, а по вечерам вместе с ним приготовляю ужин, который мы добываем с оружием в руках. Вообрази себе, как крепко я сплю на дрянной койке, читаю в лесу урывками какой-нибудь роман под сенью могучих дубов, а иной раз отправляюсь на сентиментальные потаенные вылазки, блуждая вокруг жилища моей жестокосердой повелительницы (ни дать ни взять господин Ловлас), и как я пишу тебе на колене, при свете смоляного факела. Самое смешное во всех моих похождениях то, что я отдаюсь им совершенно серьезно, что я действительно грущу и влюблен, как голубок. А эта Сильвия! Горе мое! Право, лучше бы мне руки лишиться, чем с нею встретиться! Ты достаточно хорошо ее знаешь и можешь понять, сколько страданий должны доставлять такому простодушному человеку, как я, ее романтические прихоти и гордое презрение ко всему, находящемуся за пределами идеального мира, в котором она замыкается. Я сам немного виноват в своем несчастье. Я обманывал ее, вернее — обманывался сам, уверяя Сильвию, что я беглец, покинувший этот идеальный мир и вполне способный возвратиться в него. Да я и в самом деле так думал и в первые дни был именно тем поклонником, какого она должна была или могла полюбить. Но мало-помалу обычная моя беспечность и легкомыслие взяли верх. Я прислушался также к голосу холодного рассудка и увидел Сильвию такой, какова она в действительности, — восторженной, все преувеличивающей, немного сумасбродной. Но это открытие не помешало мне страстно влюбиться в нее. Восторженность, которая делает провинциальных девиц такими смешными, придавала красоте Сильвии что-то необычайное, вдохновенное — в этом, пожалуй, и состоит самое большое ее очарование, самая пленительная черта. Но Сильвия получила ее от Господа Бога на свою беду и на беду своих обожателей, потому что она может вызвать у них восторг, но не в силах покорить их. Гордая до безумия, она требует полного к себе доверия, словно мы живем в золотом веке, и заявляет, что всякий, кто осмелится ее заподозрить в чем-либо дурном, — человек подлый и развратный. Поскольку у меня вызывают тревогу странности в ее поведении и я стал ревновать ее из-за необычной для женщин свободы в поступках, она потеряла ко мне всякое уважение; я был низвергнут с горних высот, куда она возвела меня и посадила рядом с собою, я упал с небес в грязный мир страстей человеческих, в который эта сильфида еще не удостаивала ступить своей белоснежной точеной ножкой. И с тех пор наша любовь стала чередой размолвок и примирений. Помню, как однажды я с грустью рассказал тебе о нашей ссоре, последовавшей за недавним примирением. И ты меня спросил: — На что ты жалуешься? — Ах, друг мой, ты, может быть, и знаешь женщин, но ты не знаешь Сильвии. У нее малейшая твоя провинность приобретает огромное значение, каждая новая ошибка роет могилу, в которой она хоронит частицу своей любви. Правда, она и прощает, но это прощение хуже, чем гнев. Гнев у нее бурный — тогда она исполнена страстного волнения, а прощение холодное, не знающее жалости, как смерть. Я был во власти бесконечных подозрений: то меня мучила неуверенность, то я опасался стать жертвой искуснейшей кокетки, то боялся, что оскорбляю чистейшую из женщин, и я был несчастен близ нее, но никогда у меня не хватало сил расстаться с нею. Двадцать раз она меня прогоняла, и двадцать раз я просил у нее пощады после тщетных своих попыток жить без нее. В первые дни изгнания я надеялся, что буду только радоваться вновь обретенной свободе и покою. Я блаженствовал, испытывая сладостное чувство безразличия и забвения. Но вскоре на меня напала тоска, и я уже сожалел о волнениях и благородных муках страсти. Я бросал вокруг испытующие взгляды в поисках новой любви, но беспечность моя и деятельный характер равно отдаляли меня от других женщин. По своему нраву я предпочитал обществу женщин охоту, рыбную ловлю, все энергические утехи сельской жизни, которые Сильвия делила со мной. К тому же мне страшно было, что придется обучаться другим видам осады ради новой победы. Да и какая женщина может сравниться с Сильвией красотой, умом, чувствительностью и благородством души! Теперь, когда я потерял ее, я отдаю ей справедливость, я сам себе удивляюсь и негодую на себя за то, что мог заподозрить в недостойном поступке столь возвышенную женщину, у которой даже надменность доказывает, что она не способна унизиться до лжи. А когда я бываю с ней, я страдаю от ее крутого, неумолимого нрава, от ее бурного характера, от ее невыносимой таинственности и от странных ее требований. Она не снисходит к моему несовершенству, не прощает ни одного моего недостатка, из всего извлекает доводы, чтобы доказать, до какой степени ее душа выше моей. А что может быть более пагубно для любви, чем это взаимное исследование двух ревнивых и гордых сердец, стремящихся превзойти друг друга? Я быстро уставал от этой борьбы, мне хотелось любви менее требовательной и менее возвышенной. Сильвия подавляла меня своим презрением и иной раз так красноречиво, с таким жаром доказывала мое убожество, убожество моей души, что я приходил к убеждению, будто я не создан для любви и даже не осмеливался надеяться, что достоин ее познать. Но если это так, к чему же Господь предназначил меня в сем мире? Не знаю, куда влечет меня мое призвание. У меня нет никакой сильной страсти, я не игрок, не распутник, не поэт; я люблю искусства, довольно хорошо понимаю в них толк, они дают мне отдохновение и радость, но я не мог бы сделать их главным своим занятием. Свет скоро мне надоел, я чувствую, что человеку необходимо найти цель в жизни, а самая желанная цель, по-моему, — это любить и быть любимым. Возможно, я был бы счастливее и разумнее, будь у меня профессия; но я обхожусь без нее — ведь у меня есть скромное состояние, не расстроенное никаким беспутством, и поэтому я могу вести ту праздную и легкую жизнь, к которой привык. Для меня было бы несносно тянуть какую-нибудь лямку. Я люблю сельскую жизнь, но, конечно, хотел бы вести ее с подругой, которая дарила бы мне радости ума и сердца, а иначе среди окружающего чисто материального существования мною скоро овладела бы тоска одиночества. Быть может, мое назначение — брак и семья. Я люблю детей, характер у меня мягкий и спокойный; мне думается, я был бы почтенным обывателем какого-нибудь захолустного городка нашей мирной Швейцарии. Меня уважали бы, как знающего земледельца и примерного отца семейства, но я хотел бы, чтобы моя жена была более образованною особой, чем те мещанки, которые с утра до вечера вяжут синий чулок. Да боюсь, что я и сам отупел бы, почитывая газету, покуривая трубку и попивая пиво в кругу моих достойных сограждан — один другого проще и безобиднее. Словом, мне нужно найти себе жену, которая по развитию была бы ниже Сильвии, но выше всех знакомых мне невест, какие, думается, не прочь выйти за меня. Однако прежде всего мне нужно исцелиться от любви к Сильвии, но от этого недуга моя душа еще не скоро избавится. Не зная, что делать, я приехал сюда, решив еще раз попытать счастья. Сначала я намеревался, как обычно, броситься к ее ногам, но вдруг мне пришло желание последить за ней, расспросить, какого мнения о ней окружающие, все разведать и понаблюдать за ней без ее ведома — все для того, чтобы раз и навсегда выбросить из головы подозрения, которые так часто мучили меня и, быть может, будут еще мучить: ведь Сильвия отличается поразительным талантом вызывать эти подозрения, глубоко презирает самые простые объяснения, а в несчастной моей голове живо разыгрывается фантазия и жестоко меня терзает. До сих пор я еще ничего не узнал, так как моя повелительница живет здесь лишь три недели и в этих местах никто о ней ничего не слышал. Если б она знала, что я задумал, она бы мне никогда не простила такой затеи, но она о ней не узнает, тем более что мои наблюдения почти уже закончены. Вчера она меня узнала, несмотря на мой маскарад, и оказала мне весьма дерзкий прием. Мне придется появиться в своем обычном виде. Жак меня знает и все равно скоро открыл бы, что это я. Они с Сильвией, пожалуй, стали бы смеяться надо мной, так уж лучше я сам буду смеяться вместе с ними. Этот Жак, несомненно, порядочный человек; его холодный характер и сдержанные манеры никогда не позволяли мне обращаться с ним запросто, а к тому же я до сих пор питал ужаснейшую ревность к нему. Теперь у меня есть основания считать, что мои подозрения были грубой несправедливостью. Но я все-таки немного сержусь на него — ведь он отчасти виноват в том, что Сильвия так долго и с такой презрительной гордостью отказывалась успокоить меня, раскрыв мне свое родство с Жаком и объяснив тем самым свои отношения с ним. Я досадую на него также за то, что для Сильвии он идеал, воплощение всего великого и прекрасного на свете, единственная душа, достойная парить в эмпиреях на одной высоте с нею, словом — предмет платонической любви, романтического преклонения, которое уже не вызывает у меня ревности, но в достаточной мере уязвляет мое самолюбие. Это не помешает мне стать другом господина Жака, готовым во всех обстоятельствах оказать ему услугу; но если бы я мог, перед тем как обменяться с ним дружеским рукопожатием, немножко подразнить его и отомстить Сильвии, изобразив, что я влюбился в другую, меня бы это позабавило. Для того чтобы уразуметь это мое новое безумство, тебе надо знать, что у господина Жака есть жена, очаровательная маленькая женщина с розовым личиком. Прелесть невообразимая! Она не так хороша, как Сильвия, но, бесспорно, ее милее, менее горда и надменна, хоть душа у нее на свой лад романтическая. Я получил от нее залог благосклонности — браслет, который был мне брошен из окна с очень ласковыми словами; это произошло недавно вечером, когда я решил усладить слух моей тигрицы страстными звуками флейты. Я вовсе не самодовольный фат и не вижу в полученной награде ничего лестного для своего тщеславия, даже не знаю, видела ли она мое лицо, а в тот вечер я не предстал перед ней даже в виде призрака: лишь звукам флейты, упоению весенним вечером и какой-нибудь мечте, достойной юной школьницы, обязан я этим залогом покровительства. Я человек порядочный и весьма неловкий герой романа, а потому не способен злоупотребить маленьким кокетством молодой женщины. Но ведь дозволительно же мне продлить роман еще на несколько дней. Я начал его с поцелуя, который, возможно, заронил некоторое волнение в сердце белокурой Фернанды, когда она узнала, что ее и Сильвию поцеловал в темноте не Жак, а кто-то другой. Не находишь ли ты, что под влиянием досады я стал, вопреки своей натуре, существом вероломным? В вечер поцелуя я думал только о Сильвии: я проник в дом через одну из застекленных дверей гостиной, которая выходит в сад; я намеревался открыто попросить у Сильвии прощения за все свои грехи — за те, которые совершил и которых не совершал. Сильвия играла на фортепьяно. Было темно; женщины не заметили, что вошел кто-то третий. Я сел на диван. Одна из подруг села рядом со мной, но в темноте не заметила меня. Я хотел было схватить ее в объятия, как вдруг по голосу определил, что Сильвия по-прежнему сидит за фортепьяно. Я подслушал их короткий сентиментальный разговор с Фернандой, а в ту минуту, когда они обнаружили меня, поцеловал Сильвию и хотел было заговорить, но тут Фернанда, услышав, что я поцеловал ее подругу приняла меня за своего мужа и подставила мне личико, сделав обиженную гримасу, как ревнивый ребенок. Попробуй-ка удержись тут от соблазна! Не знаю, уж как, но в темноте наши губы встретились. Честное слово, я так был смущен этим приключением, что тут же убежал, не открыв женщинам, что я вовсе не Жак. С тех пор я знаю через моего хозяина, который приходится дядей Розетте, горничной обеих дам, что прелестной Фернандой овладел панический страх, и стоит шелохнуться в парке листочку или мыши пробежать в замке, как ей делается дурно. Страх и обмороки хозяйки замка были бы на руку какому-нибудь дерзкому проказнику, но, к счастью для Фернанды, я не принадлежу к дерзким проказникам, да и не так уж влюблен. Но эти приключения меня занимают и забавляют; это дозволительно в моем возрасте — мне двадцать четыре года. Погожие дни, лунные ночи, дикая и живописная долина, густые леса, полные тени и таинственности, величавый замок, возвышающийся на пологом склоне холма, егеря, мелькающие в долине, оглашающие ее звуками медных рожков, лай собак, две охотницы, прекраснее, чем все нимфы Дианы: одна темноволосая, высокая, гордая и отважная, другая белокурая, робкая и сентиментальная, обе на великолепных лошадях, бесшумно скачущих по лесным мхам, — все это похоже на сон, и мне хотелось бы никогда не просыпаться.
XL
От Фернанды — Клеманс ВторникПриключение все осложняется и уже причиняет мне много волнений и горя. Я очень виновата перед Жаком, что все скрыла от него, молчу и теперь, и с каждым днем вина моя все увеличивается, но я боюсь его упреков и гнева. Не знаю, каков Жак в гневе, не могу поверить, что он когда-нибудь покажет мне это, и все же, разве может мужчина спокойно отнестись к тому, что его жена приняла от кого-то объяснение в любви? Да, Клеманс, вот к чему меня привело роковое недоразумение с браслетом. Вчера вечером я была в своей спальне с детьми и с Розеттой; дочке, по-видимому, нездоровилось, она все не засыпала. Я велела Розетте унести свечу, — может быть, свет раздражает ребенка, думалось мне. Некоторое время мы сидели в темноте, я держала малютку на коленях и старалась убаюкать ее песенкой, но она только сильнее кричала, и я уже начала беспокоиться, как вдруг с другого конца комнаты раздались звуки, похожие на нежную, тихую жалобу. Девочка тотчас умолкла и как будто с восхищением слушала; я сидела, затаив дыхание, не могла пошевельнуться от удивления и страха. Так, значит, незнакомец проник в мою спальню, он наедине со мною? Я не осмелилась позвать на помощь, не осмеливалась убежать. Когда флейта умолкла, вошла Розетта и восхитилась, видя, что маленькая успокоилась и уже не плачет. — Иди скорее за свечой! Скорее! Скорее! — сказала я. — Мне ужасно страшно. Зачем ты оставила меня одну? — Но вам придется еще побыть одной, пока я принесу свечи. — Ах, Боже мой, да зачем же у тебя нет свечи в спальне? — воскликнула я. — Нет, не уходи, не оставляй меня одну. Ты разве ничего не слышала, Розетта? Ты уверена, что, кроме нас, тут никого нет? — Я никого не вижу, кроме вас, сударыня, ваших малюток и себя самой, и я ничего не слышала, кроме флейты. — Кто же играл на флейте? — Не знаю. Наверно, барин. Кто же еще в доме умеет играть на флейте? — Это ты, Жак? — крикнула я. — Если это ты, перестань, пожалуйста, пугать меня. Право, я умру от страха. Я прекрасно знала, что играл не Жак, и говорила так для того, чтобы заставить нашего преследователя дать нам объяснение или удалиться. Никто не ответил. Розетта раздвинула оконные занавески и при свете луны обследовала все углы и закоулки комнаты, но никого не обнаружила. Она, вероятно, посмеялась в душе над моими страхами, да мне и самой стало стыдно за себя; я велела ей пойти принести свечу, а когда она вышла, заперла дверь на задвижку. Напрасный труд! Незнакомец влез в окно. Не знаю, как он это сделал, может быть, отважно спустился с верхней галереи на решетчатую ставню моего окна или же взобрался снизу с помощью лестницы. Как бы то ни было, он проник в комнату так же спокойно, как будто вошел с улицы. Гнев придал мне силы, я бросилась вперед и, закрывая грудью колыбель своих детей, позвала на помощь; но он стал на колени посреди комнаты и сказал мне тихим голосом: — Возможно ли, что вы боитесь человека, который хотел бы доказать вам свою преданность, отдав за вас свою жизнь? — Не знаю, кто вы, сударь, — ответила я дрожащим голосом, — но, конечно, это большая дерзость с вашей стороны войти таким способом в мою спальню. Уходите! Уходите! И чтобы я вас никогда больше не видела, а не то я все расскажу мужу. — Нет, — ответил он, приближаясь ко мне. — Нет, вы не сделаете этого. Пожалейте человека, доведенного до отчаяния. В эту минуту я увидела на руке у него браслет, и мне пришла мысль потребовать его обратно. Я предъявила свое требование властным тоном и поклялась, что полагала, будто бросила браслет мужу. — Я готов во всем вам повиноваться, — сказал он с покорным видом, — возьмите ваш браслет, но знайте, что вы отнимаете у меня единственную мою радость, единственную в жизни надежду. Он снова опустился на колени, совсем близко от меня, и протянул ко мне руку. Я не решилась сама снять браслет — ведь мне пришлось бы дотронуться до его руки или хотя бы до одежды; я считала это неприличным. А он, видимо, подумал, что я колеблюсь, и сказал: — Вы почувствовали сострадание ко мне? Вы согласны оставить его мне, не правда ли? О дорогая Фернанда! Он схватил мою руку и дерзко поцеловал ее несколько раз кряду. Я принялась звать, кричать, и тотчас на соседней галерее послышались шаги, но, прежде чем ко мне вошли, незнакомец, как кошка, выскочил из окна. Жак и Сильвия постучались в дверь, которую я заперла на задвижку и все не отпирала, хоть и молила их Господом Богом войти. И вот эта запертая мною дверь, обстоятельство, роковым образом связанное с появлением какого-то мужчины в моей спальне, помешала мне рассказать всю правду. Я только сказала, что услышала флейту, что я послала Розетту за свечой, что она нечаянно заперла меня, что мне послышался какой-то шум в моей спальне и тогда я совсем потеряла голову. Так как домашние считают меня немножко помешанной на всяких страхах, они прекратили свои расспросы. Розетта подтвердила, что, проходя по галерее, она действительно слышала флейту. Произвели наспех розыски в доме и в саду. Никого не нашли и, смеясь, постановили вызвать жандармский патруль для охраны моей особы. Сильвия принесла доломан и кивер Жака, нарядилась в них и приклеила себе усы, затем встала с саблей наголо за моей спиной и следовала за мной по комнате в качестве телохранителя. Она была прелестна, как ангел, в этом костюме. Мы хохотали до полуночи, а потом легли спать, и до утра все было спокойно. Но на душе у меня очень тревожно. Я чувствую, что поступила нехорошо, вмешалась в какое-то безрассудное приключение, которое может иметь плачевные последствия. Дай Бог, чтобы все они пали на меня одну!
Четверг
Я получила следующую записку, переданную Розетте ее дядей, лесным сторожем:
«Прелестная и кроткая Фернанда, не сердитесь на меня, не думайте дурно о моем поведении. Вы можете спасти меня от вечного несчастья и сделать меня счастливейшим из друзей и возлюбленных. Я люблю Сильвию, и она любила меня. Не знаю уж, какой я совершил непоправимый проступок, за что она лишила меня своего доверия, чем я заслужил ее гнев. Я откажусь от нее лишь вместе с жизнью. Я надеюсь на вас. Да, на вас вся моя надежда. У вас любящая и благородная душа, я это знаю. Вообще я знаю о вас больше, чем вы думаете. Я подобрал браслет, который вы бросили мужу, и готов отдать его вам, если вы не оставите его мне во имя святой братской дружбы; ведь он в глазах моих — залог доверия и спасения. Простите меня за то, что я напугал вас, — я надеялся поговорить с вами по секрету; теперь я вижу, что это невозможно, если вы сами не окажете мне такую милость. Не правда ли, вы окажете ее мне, прекрасный белокурый ангел? Ваше назначение на земле утешать несчастных. Нынче вечером я буду ждать вас под большим вязом на Перекрестке четырех тропинок у входа в Темную долину. Если угодно, возьмите с собою провожатого, какого-нибудь надежного человека, но только не супруга вашего. Он меня знает, я льщу себя мыслью, что он уважает меня и расположен ко мне; но сейчас он настроен против меня, и если вы не постараетесь оправдать меня, у меня нет никакой надежды снова войти к нему в доверие. Если вы не придете, я положу ваш браслет под камень около вяза; прикажите взять его оттуда, но он будет запачкан моею кровью. Октав».
Как ты полагаешь, что я должна сделать? Но к чему спрашивать? Ты мне ответишь только через неделю, а мне надо принять решение сегодня, еще до вечера. Пойти на свидание к этому молодому человеку, в особенности теперь, когда я знаю, что Жак не на его стороне; сделать это ради того, чтобы примирить его с Сильвией? Конечно, это во мнении света большая неосторожность, но совесть моя судит иначе: я не вижу тут ничего дурного. Могут последовать неприятности, но лишь для меня одной; я рискую рассердить Жака и навлечь на себя его упреки. Однако ж, если мне будет сопутствовать удача, я могу оказать услугу Сильвии и Октаву, быть может — составить счастье всей их жизни, так как без любви не может быть счастья. Пусть Сильвия скрывает свое горе — я вижу теперь, почему ее томят черные думы, почему таким мрачным ей кажется будущее. Если она могла полюбить этого молодого человека, то, уж верно, он выше заурядных людей, наверно, у него прекрасная душа: ведь Сильвия очень разборчива в своих привязанностях и слишком горда, чтобы полюбить недостойного человека. Теперь мне ясно, что на охоте она сразу узнала своего возлюбленного, переодевшегося егерем. Как она его ударила за попытку оказать ей услугу! И мне ясно также, что в этом ударе хлыстом и в полном молчании, которое она хранила относительно своего открытия, гораздо больше лукавой насмешки, чем настоящего гнева. Держу пари, что она умирает от желания снова увидеть милого дружка у ног своих и жаждет, чтобы его поскорее привели к ней. Иначе и быть не может. Октав любит ее до безумия, раз он пускается на такие проделки, чтобы добиться ее прощения. У него прелестное лицо — по крайней мере оно показалось мне прелестным, когда я мельком увидела его при свете луны в своей спальне. Жак слишком суров и непреклонен. С Сильвией он обращается как с мужчиной, он не догадывается о слабостях женского сердца и не понимает, как я понимаю, сколько тоски и страданий таится в твердости Сильвии. Если я откажусь помочь ее примирению с Октавом, быть может, ей придется проститься с мечтой о счастье, быть может, она обречет себя на вечное одиночество. А этот молодой человек! Что, если он и в самом деле покончит с собой! По-моему, он на это способен — он, должно быть, действительно влюблен. Что делать? Не осмеливаюсь принять никакого решения. К счастью, у меня еще есть время — могу думать до вечера.
XLI
От Октава — ГербертуДруг мой, я поспешил все поставить на свое место, а то мои дела уже начали запутываться. Фернанда принимала мои шутки всерьез, и пора было открыть ей глаза, иначе она могла узнать, кто я такой, и пожаловаться мужу, или же мне пришлось бы ухаживать за ней по-настоящему. Я не хотел ни того, ни другого. Может быть, при моем по-женски впечатлительном характере, постоянно подвергающемся приступам какого-нибудь волнения, мне было бы легко обратить в свою пользу романтические обстоятельства своего знакомства с Фернандой и за короткий срок достигнуть больших успехов в ухаживании за нею. Ведь такие женщины, как Сильвия, отдаются по любви, а такие, как Фернанда, попадаются в сети, сами не зная почему, и тут же приходят в отчаяние. Думаю, что на моем месте какой-нибудь жуир поступил бы не столь добродетельно, как я, но ведь я не имею чести быть Ловласом и поступил по-своему, избегая всякого коварства. Взволновать чувства молодой женщины, к которой я вовсе не питаю любви, а на следующий день, к стыду и гневу несчастной, приняться на ее глазах ухаживать за другой — было бы не только подло, но и глупо. После того как я добьюсь обладания обеими подругами, они, несомненно, меня прогонят и возненавидят; к тому же я не думаю, что воспоминание о едином часе пылких объятий с Фернандой стоило бы радости просто сидеть целый год рядом с Сильвией. И вот я внезапно оборвал интригу, становившуюся уж слишком безрассудной, но по своему сумасбродству не решился прекратить сразу весь роман, а сделал Фернанду своей наперсницей и покровительницей. Я написал ей сентиментальное письмецо, где с помощью некоторой лести, преувеличения и маленькой лжи умолял ее прийти ко мне на свидание, чтобы поговорить о великом деле моего примирения с Сильвией. Я составил план с таким расчетом, чтобы завязавшиеся у меня невинные отношения с моей прелестной защитницей продлились как можно дольше. Стало быть, еще несколько дней можно тешиться лунным светом, призывами флейты, прогулками по мху, мельканьем белых платьев между деревьями, записочками, положенными под камень возле старого вяза, словом — всеми аксессуарами романа, то есть главной его прелестью. Я настоящий ребенок, не правда ли? Ну что ж — ребенок! И не стыжусь этого. Ведь так долго меня снедали тоска и грусть.
XLII
От Фернанды — КлемансНу вот, я все-таки решила пойти утешить бедненького влюбленного. Говори что хочешь, но мне думается, я поступила правильно, и сердце мое исполнилось блаженным чувством умиления. Я взяла с собой Розетту, потребовав, чтобы она обо всем молчала (она уже посвящена в тайну), и мы вместе пошли к вязу. Несчастный Октав встретил меня радостными изъявлениями признательности. Он очень приятный молодой человек и, как я теперь уверена, достоин Сильвии. Он мне рассказал о своих горестях, обрисовал характер Сильвии и свой собственный так хорошо, что я поняла, почему они должны были зачастую обижать друг друга без всякой видимой причины. Знаешь, его рассказ произвел на меня странное впечатление: мне казалось, что я читаю историю моей любви за последний год. Бедный Октав! Мне жаль его так сильно, что он этого и представить себе не может. Я понимаю, сколько он выстрадал, и, право, уж не знаю, не следовало ли мне посоветовать ему забыть навеки свою любовь и поискать душу, более схожую с ним. Да, у него те же мучения и та же участь, что у меня. Молодому, доверчивому, неопытному, как у меня, сердцу пришлось столкнуться с таким же гордым, упрямым и строгим характером, как у Жака. Теперь, когда он меня хорошо познакомил с натурой Сильвии, я убеждена, что она действительно сестра моего мужа. Если же она только его ученица, он, несомненно, внушил ей свои правила любви, и она в точности усвоила их. Зачем они не супруги! Оба были бы на одном уровне. Примирить Сильвию с Октавом — дело нелегкое, и я даже не знаю, возможно ли это. При первом свидании мы с Октавом не пришли ни к какому заключению. Я могла остаться только час, и весь он ушел на то, чтобы Октав мог разъяснить их взаимоотношения. Октав обещал сказать завтра, что мне надо сделать. Значит, сегодня вечером мы еще раз встретимся. Мне нетрудно отлучиться на час тай, чтобы в замке ничего не заметили. Жак и Сильвия всегда не прочь побыть вдвоем и пофилософствовать, высказывая крайне мрачные мысли, и в это время они не очень-то обращают внимания на мою особу — где я и что делаю. Да и кто знает, любит ли еще меня Жак настолько, чтобы чувствовать ревность? Ах, как все переменилось, милая моя Клеманс! Правда, мы и теперь счастливы, если счастье состоит в спокойствии и в отсутствии взаимных упреков. Но какая разница с первыми днями нашей любви! Тогда нас переполняла радость, непрестанный восторг, а души наши оставались спокойны и безмятежны. Кто же разрушил этот светлый покой, кто погубил это счастье? Не могу поверить, что только я всему причиной. Правда, есть тут и моя вина, но с человеком менее совершенным и более снисходительным, чем Жак, первые наши страдания не ослабили бы уз, соединяющих нас, а быть может, укрепили бы их. Почему Октав, несмотря на суровость и странности Сильвии, любит ее с каждым днем все больше, словно любовь его возрастает от тех мук, которые он переносит из-за нее? Почему Жак не может быть со мною ребенком — ведь становится же Октав рабом и терпеливой жертвой Сильвии? Кажется, Жак теперь доволен, что дети отвлекают меня от него, а Сильвия отвлекает его самого от меня. Но он-то не ревнует меня к детям, а я ревную его к сестре. По всей видимости, между мною и Жаком только дружба; он от этого не страдает, а я плачу ночи напролет о прежней нашей любви. Да разве эта Сильвия — женщина? У нее каменное сердце. Разве Жак не должен был бы предпочесть ей меня? Ведь я бы умерла, если б потеряла его, а Сильвия готова перенести любые несчастья и уверена, что во всех горестях найдет себе утешение. В этом мире мы любим лишь себе подобных. Почему же я тогда по-прежнему люблю Жака? Вся сила характера, все величие души не делают его любовь столь же прочной и великодушной, как мое чувство. Сильвия больше не думает об Октаве, как будто его никогда и на свете не было. Однако она знает, что он тут и что приехал он только ради нее. Это не мешает ей спокойно спать, петь, читать, беседовать с Жаком о звездах и луне, не удостаивая бросить взгляд на землю и посмотреть на преданного поклонника, плачущего у ее ног. Меж тем Октав достоин лучшей участи и более нежной любви. У него чудесный дар красноречия, чистое сердце и очень приятная наружность. Я едва его знаю, а уже питаю к нему дружеское расположение, ибо он сумел пробудить во мне участие к его судьбе и бесхитростно открыл мне свою душу. Как бы я хотела помирить его с Сильвией, и пусть бы они жили неподалеку от нас! Какой бы появился у меня тогда надежный друг! Какую бы приятную жизнь мы вели вчетвером! Приложу все старания, чтобы мечта моя сбылась, — это будет доброе дело. И, быть может, Бог благословит мою любовь к Жаку за то, что я возродила любовь Октава и Сильвии.
XLIII
От Октава — ФернандеКаким счастливым, каким утешенным оставили вы меня сегодня, мой прекрасный друг, дорогой мой ангел-хранитель! Вернувшись к себе, под кровлю из листьев папоротника, я чувствую потребность поблагодарить вас и сказать, что сердце мое переполнено надеждой и признательностью. Да, вы достигнете успеха, потому что очень этого хотите, как вы сказали; если потребуется, вы броситесь на колени рядом со мной, чтобы умолить надменную Сильвию, и вы победите ее гордость. Да услышит вас Бог! Как хорошо я сделал, что обратился к вам и возложил надежды на вашу доброту! Ваша наружность не обманула меня: вы действительно ангельское создание — недаром говорят об этом и ваши большие глаза, и ваша ласковая улыбка, и ваша миниатюрная фигурка, изящество которой напоминает прелестные изгибы цветка, и ваши золотистые волосы, словно озаренные лучом яркого солнца. Когда я увидел вас в первый раз, я прятался в вашем парке, и вы прошли мимо меня, читая книгу. По всему вашему женственному облику я понял, что вы именно та, кого я искал. И вы действительно оказались той, кто был мне нужен тогда, — вас послал мне Бог по милосердию своему. Спрятавшись в листве, я смотрел, как вы медленно идете по аллее. Вы держали в руках книгу, но время от времени поднимали от страницы глаза и устремляли вдаль грустный и рассеянный взгляд; мне казалось, что вы тоже несчастливы, и, если уж говорить все начистоту, Фернанда, мне и теперь кажется, что вы, во всяком случае, не так счастливы, как того заслуживаете. Когда я вам рассказываю о своих страданиях, они, мнится мне, находят отклик в вашем сердце, а когда я говорю, что любовь чаще можно назвать первым из зол, чем первым благом, вы отвечаете мне: «О да!», и в голосе вашем звучит несказанная скорбь. Ах, милая Фернанда, если вам нужна помощь друга, брата и если мне выпадет счастье оказать вам такую услугу или по крайней мере облегчить ваше горе, поплакав вместе с вами, откройте мне причину святых ваших слез, и пусть Бог поможет мне воздать вам добром за добро. С того дня, как я увидел вас, у меня, дошедшего до полного отчаяния, возродилось мужество жить; я приехал для того, чтобы сделать последнюю попытку, решив умереть, если она не удастся. Вечером я пришел к вам в гостиную и услышал ваш разговор с Сильвией. И тогда я познал вашу душу, она открылась мне в немногих словах; вы говорили о несчастной любви, вы говорили о смерти. Для вас немыслимо было одинокое будущее, а ваша подруга смотрела на него без страха. «О, вот кто мне сестра! — думал я, слушая вас. — Так же, как и я, она полагает, что без любви жить нельзя, лучше умереть; ее сердце — спасительное убежище, буду молить ее о спасении; у нее я найду сострадание, и если она не в силах мне помочь, то хотя бы пожалеет меня; ее жалость я приму на коленях, как манну небесную. Если Сильвия прогонит меня и я должен буду отказаться от нее, я унесу в сердце светлое воспоминание о святой дружбе и буду взывать к нему среди своих страданий». Ах, Фернанда, зачем Сильвия так непохожа на вас? Не можете ли вы смягчить ее непокорную душу, поделиться с нею кротостью и милосердием, которых так много у вас? Поведайте ей, как женщины любят, научите ее, как они прощают, а главное, скажите ей, что забвение провинностей нередко является более возвышенным, нежели само их отсутствие; и, чтобы стать действительно выше меня, ей надо меня простить. Ее злопамятство более преступно перед Богом, чем все мои грехи. Совершенство, которое она ищет, о котором мечтает, существует лишь на небесах; но дается оно в награду только тем, кто был милосерден на земле. Нынче вечером я буду бродить вокруг вашего дома. Луна встает лишь в десять часов; если вы достигнете некоторых успехов, подойдите к окну и спойте несколько слов по-итальянски; если запоете по-французски, стало быть, ничего доброго не можете мне сказать. Но тогда тем более мне необходимо будет поговорить с вами, Фернанда. Приходите на условленное место в одиннадцать часов. Сжальтесь над своим другом, своим братом! Октав.
XLIV
От Фернанды — ОктавуВчера я уже сказала вам, как мало я преуспела. Сегодня у меня еще меньше надежды. Однако не надо падать духом, Октав: будьте уверены, что я не брошу вас. Погода ужасная, и я не очень надеюсь встретиться с вами сегодня, а посему решила написать вам и отдать письмо Розетте. Она положит мое послание под камень около вяза. Я попыталась поговорить с Сильвией о вас, но натолкнулась на трудности, на которые и не рассчитывала: при своем крутом и замкнутом нраве она воспротивилась моему дружескому выпытыванию. Напрасно я приступала к ней с ласковыми и вместе с тем деликатными расспросами — я даже не могла добиться от этой скрытницы признания, что она когда-то любила. Вот видите. Октав, близкие обращаются со мной как с четырехлетней девочкой; мой муж и Сильвия воображают, что я не в состоянии понять их чувства и мысли. Оба они замкнулись в своем мирке, считают, что он доступен только им одним, и безжалостно запирают передо мною вход в него; я живу в одиночестве меж двух гордецов, которые меня обожают, но не умеют это выразить. Вчера я сказала вам, что не могу назвать себя счастливой; быть может, я нехорошо поступила, сделав подобное признание, но вы так настойчиво спрашивали, так ласково укоряли меня за скрытность, и мне казалось, что я нанесу оскорбление вашей дружбе, если в ответ на нее откажу вам в доверии. Вы поведали мне о своих страданиях; вчера я была так взволнована, что вряд ли сумела понятно передать мои собственные мучения. Но вам, Октав, легко их вообразить себе — ведь Это те же страдания, какие изведали вы сами, и тот, кто три года переносит такую жизнь, как ваша, конечно, поймет и то, что я выстрадала за год. Вы по праву называете меня своей сестрой. Мы с вами братья по несчастью, у каждого из нас судьба смешала в одной чаше слезы и желчь; мы оба обижены и не поняты. Жак — родной брат Сильвии, не сомневайтесь: у него тот же характер, та же гордость, то же непреклонное молчание. У меня масса недостатков, иных, чем те, в которых вы себя обвиняете, — часто у нас с мужем происходят столкновения, мы терзаем друг друга без видимой причины: одного слова, вопроса, взгляда бывает достаточно, чтобы мы грустили целый день; меж тем Жак — сущий ангел, и, судя по тому, что вы говорили мне о Сильвии, ей, как видно, далеко до его мягкости и доброты в минуты прощения. Но если характер у Жака и лучше, в сущности сердце у них одинаковое; лишь потому, что мы разного пола и положение у нас не одно и то же, они обращаются с нами по-раз-ному. Жак не может издеваться надо мной и прогонять меня, как это делает с вами Сильвия, но в душе он с каждым днем все дальше отходит от меня и про себя думает то, что Сильвия бросает вам всегда: «Мы не созданы друг для друга!». Ужасные слова, быть может — неумолимый приговор! Ах, что мы сделали? Чем заслужили его? Для меня непостижимо, как можно не любить того, кто любит тебя; для этого достаточно одного основания: он любит. Разве это не наилучшее основание? Разве это не заслуга, за которую ему следует все простить? Разве не заключают в себе полное искупление всякой вины слова: «Я люблю тебя!». Жак часто мне говорил их, и с каким восторгом я их ловила! Случалось, я целыми днями думала о том, что он очень жесток и очень виноват передо мной, но стоило ему подойти ко мне с этими сладостными и святыми словами, я не просила у него иных оправданий: они стирали в моих глазах все его провинности и все зло, причиненное им. Почему в моих устах эти слова не имеют такой же ценности? Ах, Октав, эти двое думают, что они умеют любить! Ну что, ж! Наберемся мужества и будем любить их печальной и терпеливой любовью; быть может, они станут справедливы, видя наше смирение; быть может, они пожалеют нас, видя, как мы страдаем. Дадим же друг ДРУГУ руку и пойдем вместе по юдоли слез. Если моя дружба вам в помощь и утешение, знайте, что и ваша дружба мне тоже дорога. Как жаль, что я не могу дать вам счастья! Да и как бы мне дать его? Разве дашь то, чего у тебя нет? Надо решиться поговорить с Жаком; но чем дальше, тем меньше я льщу себя надеждой, что просьба, переданная моими устами, принята будет хорошо. Последние два-три дня он непостижимо холоден со мной, совсем меня не замечает. А Сильвия необычайно внимательна, предупредительна, осыпает меня ласками; но когда я пытаюсь поговорить с ней о чем-либо ином, кроме ботаники или музыкальных партитур, я наталкиваюсь на искусные преграды — Сильвия стремится избежать моего попечения. Она точно Жак: добрая, привязчивая, преданная — и, как он, недоверчивая, непонятная. Попробуйте написать или ей, или моему мужу, я передам письмо: скажу, что видела вас, и буду тогда иметь право поговорить с ними и взять вас под свою защиту. Но если вы до сих пор не позволяете мне сказать, что вы здесь, чего же я, по-вашему, могу добиться от людей, которые делают вид, будто они не знают даже имени вашего? Если вы последуете моему совету и напишете письмо, мне придется скрыть от Жака нашу с вами дружбу и сказать, что вы меня встретили в парке, подошли ко мне в тот самый день, когда я заведу о вас речь. Это будет первая ложь в моей жизни, но, мне думается, она необходима. Если у нас будет такой вид, что мы слишком уж хорошо сговорились, чтобы победить их гордость, они и сами сговорятся и станут держаться настороже; они поведут между собой разговор о нас обоих, и если им случится в день самого мрачного их философствования провести параллель между нами, мы с вами погибли! Тот из нас, кто еще не совсем низвергнут в бездну, упадет в нее вместе с другим. Прощайте, Октав. Расположение духа у меня унылое, как нынешняя погода, и меня одолевает какой-то необъяснимый страх; боюсь, как бы вы не принесли мне несчастье или как бы я сама не погубила все, желая вас спасти. Простите, что я пала духом, когда вы так нуждаетесь в надежде и утешении; может быть, завтра день будет для нас обоих удачнее. Не забудьте, друг, в первое же наше свидание принести мой браслет. Буду Бога молить, чтобы дождь перестал. Если сегодня вечером мне нельзя будет выйти, поставлю на подоконник фонарь.
XLV
От Клеманс — ФернандеФернанда! Фернанда! Ты губишь себя и, уж сказать по правде, начала слишком рано. Мне больно думать о тебе. Я хорошо знала, что когда-нибудь это с тобой случится. При твоей слабохарактерности и отсутствии глубокой любви между тобой и мужем это всегда казалось мне неизбежным; но я надеялась, что ты дольше будешь сопротивляться своей судьбе и поведешь против нее более благородную, более мужественную борьбу. Ты слишком быстро дала победить себя. Бедненькая моя Фернанда, ты в таком возрасте, когда женщины еще не умеют извлечь; пользу из своей злой участи и по крайней мере благоразумно вести свои сердечные дела. Ты себя скомпрометируешь, попадешься мужу, будешь молить его о прощении, он тебя простит, ты снова изменишь и мало-помалу станешь его врагом или рабыней. Фернанда, да неужели ты не могла подождать два-три года? Я знаю, ты еще чиста и, до того как произойдет первое грехопадение, бесполезно прольешь много слез, будешь искать защиты у всех святых и ангелов-хранителей, напрасно вознося к ним молитвы; но зло уже совершилось, ты уже согрешила в сердце своем. Ты любишь, любишь, дорогая, бесспорно, не мужа своего, а другого мужчину. Ты писала мне, еще не зная об этом, иначе письмо, пожалуй, не было бы таким подробным, но положение твое для меня столь же ясно, бедненькая моя Фернанда, как твое прошлое и твое будущее. Этот Октав молод, ты заметила, что у него прелестное лицо; он влезает в твои) окна, он играет на флейте и волшебными ее звукамиубаюкивает твоих детей; он разыгрывает роман, увиваясь вокруг тебя, и вот ты полна смятения, смущения, волнения, иначе говоря — ты влюблена. Ты прекрасно могла с самого начала рассказать мужу о дерзком поведении Октава: и поставить этого господина на место, не заслужив при этом ни малейшего упрека со стороны Жака. Но ведь тогда слишком быстро кончилось бы приключение, которое не столько страшит, сколько забавляет и очаровывает тебя: ты ведь готова падать в обморок всякий раз, как появляется привидение, и все же всегда устраиваешься таким образом, чтобы вызвать в темноте этот призрак. А враг повел обстрел с других батарей и, чтобы приручить тебя, повествует тебе о своей любви к Сильвии, хотя любви, быть может, никогда у него и не было, — это только предлог, чтобы добраться до тебя. Ты с готовностью ухватилась за этот предлог и без малейшего подозрения в искренности господина Октава бегаешь к нему на свидания; словом, ты запуталась в любовной интриге, которая будет иметь обычные последствия: кое-какие утехи и горькие слезы. Правда, чтобы извинить в собственных твоих глазах новую любовь, которая, как ты это чувствуешь, забурлила в твоем сердце, ты перечисляешь, в чем твой муж виноват перед тобою, и силишься доказать себе самой, что только благодаря своему мужеству и самоотверженности ты до сих пор любила его. Но вся твоя теория любви и права на неверность зиждется на ложных основах. Во-первых, ты никогда по-настоящему не любила Жака; во-вторых, его поведение не оправдывает проступка, который ты собираешься совершить. Судя по всему, что ты мне рассказывала о нем, он прекраснейший человек, и единственная его вина перед тобой — то, что он вдвое старше тебя. Зачем искать какие-то другие, более важные его преступления? Зачем нападать на его характер и его сердце? Это несправедливо, Фернанда, ты неблагодарная женщина. Достаточно того, что ты вот-вот изменишь мужу, зачем же еще и клеветать на него? Признай лучше, что ты молода, ветрена, что у тебя нет твердых правил, а в характере — никакой силы, что ты чувствуешь потребность в любви и предаешься ей. Все это несчастья, а не преступления, но имей по крайней мере мужество Отдать справедливость Жаку и не обвиняй его ни в чем — разве только в том, что в тридцать пять лет он вздумал жениться на тебе. Бьюсь об заклад, что ты уже успела посвятить господина Октава в тайны своих домашних неприятностей — ведь он поведал тебе, сколько он перестрадал из-за Сильвии или из-за какой-нибудь другой дамы, и его повествование пробудило в тебе столько сочувствия к нему, что ты мгновенно решила обратить его в своего друга, в своего брата. С тех пор ты соответствующим образом и ведешь себя — пошли записочки и свидания. Ах, что за прелесть первое письмо, которое написал тебе господин Октав! Сколько там страсти, сколько похвал, какие мольбы, какие нежные слова — и все это для тебя, Фернанда! И ты, конечно, не заставила его долго ждать: первая прибежала к нему на свидание, держу пари! Теперь он, должно быть, весьма ясно сказал тебе, что любит тебя, а не Сильвию, или если он когда-нибудь и любил эту особу, то, узнав тебя, совершенно ее позабыл. Возможно, его признание помешало тебе два дня подряд ходить к большому вязу, но на третий день у тебя уже не хватило сил удержаться, и теперь вы оба охвачены очаровательным бредом платонической любви. Вы, конечно, решили блюсти честь господина Жака, но это до поры до времени, пока в один прекрасный вечер чувства не возьмут верх над волей. Разве уже не бывало, что с помощью нескольких луидоров, извлеченных из кармана господина Октава, у Розетты то подвернется нога, то появится на другой ноге царапина, которая помешает ей дойти с тобой до старого вяза? Ну, скажи, верно я угадала? Разве не происходило у вас ничего подобного? Может случиться, что некоторые обстоятельства изменят ход событий. Например, господин Жак крайне удивится, что ты вдруг очень уж расхрабрилась и в девять часов вечера разгуливаешь по парку и по полю, тогда как лишь несколько дней тому назад не смела пройти в темноте через гостиную, и, удивившись, он вздумает понаблюдать и последить за тобой; самое меньшее, что он может сделать, как человек мудрый и осторожный, это прочесть тебе краткую, но строгую проповедь и, приняв должные меры, удалить твоего вздыхателя. Тогда отчаяние разожжет страсть, вы проявите больше изобретательности и более искусно будете скрывать ваши тайные отношения; но тем быстрее и неизбежнее господина Жака постигнет несчастье. Если господин Октав любит тебя не так уж сильно, чтоб рисковать своей жизнью, пробираясь к тебе через окно, ты как-нибудь утешишься, но возненавидишь мужа, потому что, находясь в дурном расположении духа, женщина во всех своих огорчениях всегда обвиняет мужа. Однако скоро ты найдешь себе другого вздыхателя, ибо твое сердце будет страстно призывать новую привязанность, чтобы изгнать снедающую тебя скорбь и тоску. Ты не обладаешь терпением и наблюдательностью, а потому не сможешь распознать характер человека, которому доверишься, и вполне может случиться, что ты вновь сделаешь дурной выбор, а тогда горе тебе! Тогда ты пойдешь торной дорожкой — от заблуждения к ошибке, от безрассудства к легкомыслию. И вот прелестный цветок чистоты и невинности, которым все любовались, увянет и напитается отравой по воле злой судьбы и по слабой своей натуре. Что бы ни случилось, Фернанда, я тебя не покину; чтобы помочь и утешить тебя, я готова победить предрассудки, хотя и считаю их вполне обоснованными и, к несчастью, необходимыми, ибо они оберегают устои общества. Но моя дружба плохая для тебя защита, и я с грустью вижу, в какую пропасть ты готова броситься с завязанными глазами. Прости, что письмо мое написано так сурово; быть может, мои слова обидели тебя, но если я причинила тебе боль, утешением мне послужит надежда, что мне удалось вдохнуть в тебя немного благоразумия и хотя бы замедлить на некоторое время ту печальную участь, к какой ты стремишься.
XLVI
От Жака — Сильвии Блосская фермаДела, из-за которых я приехал сюда, — только предлог. Меня постигло нежданное несчастье. Говорить о нем сейчас не могу даже с тобой. Я ничем не выдал свое горе. Я хотел, чтобы между ею и мною легло расстояние миль в пятнадцать, чтобы заставить себя поразмыслить, а потом уж действовать. Если для встречи с обидчиком установить промежуток в несколько часов, ярость не так легко возьмет верх над волей. Вот что я хотел тебе сказать. Вечером в понедельник, как ты, наверно, помнишь, я оставил тебя в доме Реми, а сам пошел в сторону Сен-Жана поговорить с лесниками. Мы условились встретиться на Перекрестке под старым вязом — ты должна была идти не спеша, а если придешь первой, подождать меня; по удивительному стечению случайностей ты ошиблась тропинкой и пришла прямо в замок, тогда как я спешно направился к условленному месту. Было темно, помнишь? Только что прошел дождь. Мокрая трава заглушала шаги. Я совсем неслышно подошел к вязу, и те, кто сидел под ним, не заметили меня. Их было двое — Фернанда и какой-то мужчина. Они обменялись поцелуем и разошлись в разные стороны со словами: «До завтра!». Перед расставанием они что-то сказали друг другу вполголоса; я уловил лишь одно слово: «Браслет». Мужчина перепрыгнул через живую изгородь и исчез в лесу. Фернанда несколько раз окликнула Розетту, та, очевидно, была довольно далеко, так как явилась не сразу, потом они пошли вместе; я двинулся вслед за ними на некотором расстоянии. Возвратившись в гостиную, Фернанда имела совершенно спокойный вид, а когда я спросил ее, где она была, она невозмутимо ответила, что не выходила из парка. Я проводил Фернанду до ее спальни и там подождал, пока она снимет браслеты; когда она прошла в свою уборную, я рассмотрел оба браслета, один из них был, несомненно, подменен: хоть он в точности походил на другой и помечен был теми же инициалами, на нем отсутствовало маленькое клеймо, меж тем как женевский ювелир, которому я заказывал эти браслеты, поставил клеймо на оба. Я пожелал Фернанде покойной ночи, ничем не выдав своего волнения; она с обычной своей нежностью обвила руками мою шею и, как она всегда это делает, упрекнула меня, что я мало ее люблю. Утром она пришла ко мне в спальню и осыпала меня Ласками, но я уклонился от них и, придумав предлог, поспешил выйти из дому. Я тогда почувствовал, что скрыть ужас, который внушала мне эта женщина, свыше моих сил. Днем я уехал. Уже несколько дней я замечал что-то странное в поведении Фернанды. Эта басня о воре или о призраке, который расхаживает по всему дому, казалось, до некоторой степени объясняла ее волнение при малейшем шуме. Я видел ее смятение, ее страх и, честное слово, не питал и тени подозрений! Когда мы прибежали, испуганные ее воплями, и обнаружили, что она заперлась в спальне, мне и на мысль не приходило, что мог найтись такой наглец, который пытается обольстить ее, а она не сказала мне в первый же день о его попытках. Дальше я видел, как она бродит в парке, чаще обычного пишет письма, о чем-то совещается с Розеттой и вдруг становится такой оживленной и веселой, какой я давно уже не видал ее, а главное, от крайней трусости она перешла к своего рода отваге. Разрази меня гром, у меня не возникало ни малейшего желания понаблюдать за ней, чтобы найти объяснение этим странностям! Я ведь знал, какая она наивная, целомудренная, правдивая; знал, как она обвиняла себя в грехах, которых у нее не было, и в провинностях, которых не совершала. Несчастная! Кто мог так быстро обольстить и развратить ее? Наверно, были у нее зачатки мерзкого бесстыдства и вероломства; должно быть, маменька, украсив дочь всеми Прелестями наивности, внесла в ее кровь каплю того яда, который источают ее собственные жилы. Иль, может быть, у мужчины, в столь краткий срок подчинившего ее своей власти, есть что-то адское в дыхании его, и стоит женщине коснуться поцелуем его уст, тотчас в нее вливается дух низкого сладострастия, и она становится его рабой. Я знаю, есть распутники столь развратные, что кажутся наделенными какой-то сверхъестественной силой, ибо в их руках невинность словно чудом вдруг превращается в порочность. Есть и женщины, отмеченные печатью врожденного бесстыдства; в годы юной неопытности оно прикрыто очарованием молодости и походит на детскую доверчивую искренность; но с первых же их шагов по стезе порока все в их душе становится ложью и подлостью. Я видел все это и, однако ж, никогда не мог бы заподозрить Фернанду. И вот я так изумлен, ошеломлен, поражен, как будто внезапно изменилось все движение светил небесных. А теперь надо решить, что мне делать. Меня не беспокоит мысль, что со мною станет: презрение — сильнейшая опора, на которую может положиться оскорбленная душа: я уеду и увижу ее лишь тогда, когда мои дети достигнут такого возраста, что на них уже смогут оказывать роковое влияние пример матери и ее уроки; тогда я отниму их от нее, а ей обеспечу богатое и независимое существование. Боже! Боже! О таком ли будущем я мечтал для себя и для нее? Но ведь она лгала не краснея, она целовала меня без стыда и смущения, она упрекала меня в том, что я мало люблю ее, — она говорила это даже в тот самый день, когда изменила мне. Кто бы мог предвидеть, что у нее подлое сердце и что у меня остается один выход — предать эту женщину забвению! Я прошу тебя только об одной услуге: не выказывай ни малейшего волнения и некоторое время внимательно наблюдай за нею. Я думаю, что она любит своих детей; мне даже кажется, что ее заботливость и нежность к ним усилились с тех пор, как она нашла в объятиях другого мужчины то счастье, которого жаждала. Однако я хочу знать, не ошибаюсь ли я и не заставит ли ее эта новая любовь забыть и презреть священные законы природы. Увы! Я дошел до того, что теперь считаю ее способной на все преступления. Наблюдай за ней, прошу тебя. И если мои дети пострадают от ее страсти, скажи об этом без жалости; я тотчас же возьму маленьких и уеду с ними без всяких объяснений. Но нет, это было бы слишком жестоко. Она может несколько пренебречь своими обязанностями, но и тогда не перестанет их любить. Вырвать у нее из колыбели детей! Детей, которых она еще кормит грудью! Бедная женщина! Это слишком суровое наказание. В ней заговорила дурная, неблагородная женская натура, но все-таки она любит детей — ведь и животные любят своих детенышей. Я их оставлю ей, но ты должна будешь жить при них, ты будешь охранять их, не правда ли? Прощай! Жду ответа с нарочным, который привезет мое письмо. Фернанде скажи, что дела удерживают меня здесь и что я прошу сообщать мне о здоровье сына, которого я оставил больным. Бедные мои дети!
XLVII
От Сильвии — ЖакуТы ошибаешься! Клянусь Отцом нашим небесным, ты ошибаешься! Фернанда не виновата. Человек, которого ты видел, — не ее любовник: это мой возлюбленный, это Октав. Я его видела, я знала, что он тут, что он бродит вокруг дома. Я полагала, что он уже уехал. Но если ты видел, что Фернанда разговаривает с каким-то мужчиной, — это мог быть только он. Он взывал к ней о помощи, просил, чтоб она примирила его со мной. Ты слышал звук поцелуя, но это Октав поцеловал ей руку. Октав не отличается сильным характером, и у меня не много осталось любви к нему, но это вполне порядочный человек, и я знаю, что он не станет обольщать твою жену. Что касается Фернанды, невозможно и думать, что она так легко поддалась искушению, да еще лжет с таким апломбом. Я пока ничего не знаю; то, что происходит, кажется мне странным, и я не берусь дать сейчас объяснение событиям. Не понимаю, когда они успели подружиться, но за то, что они не стали любовниками, ручаюсь. Я знаю не их поступки, а их души. Не суди прежде времени, сохраняй спокойствие, жди. Надеюсь, завтра ты все узнаешь. Мне досадно, что я не могу дать тебе сегодня более вразумительные объяснения, но я не хочу расспрашивать Фернанду — боюсь, как бы она не догадалась о твоих подозрениях. Однако смело могу сказать, что она их не заслуживает. До свидания, Жак, постарайся уснуть этой ночью. Что бы ни случилось, я сделаю все, что ты пожелаешь. Моя жизнь принадлежит тебе.
XLVIII
От Фернанды — ОктавуМужайтесь, мой друг, мужайтесь! Я наконец поговорила с Сильвией и теперь надеюсь. Для разговора представился удобный случай. Вы так просили меня не ускорять ход событий, что я ужасно боялась, не слишком ли я поспешила. Но, с другой стороны, очень не хотелось упустить благоприятную минуту — может быть, она больше не повторится. Никогда еще я не видела Сильвию такой предупредительной, такой доброй, такой ласковой; казалось, ей хочется побеседовать со мной. Вчера вечером она пришла ко мне в спальню и спросила, почему я такая печальная. Я ответила, что вот Жак пишет ей из Блосса, справляется о здоровье детей, а мне не написал ни строчки. Я не имею права обижаться на такое явное предпочтение, которое он оказывает Сильвии, но оно глубоко огорчает меня. Я так попросту и сказала. Она горячо поцеловала меня и воскликнула: — Бедная моя девочка! Да как же это возможно, чтобы ты огорчалась из-за меня! А я-то надеялась способствовать твоему счастью и своей любовью если не увеличивать, то поддерживать его. Да что же это, Фернанда! Неужели ты думаешь, что в глазах Жака я женщина? — Нет, — ответила я, — я знаю — или по крайней мере мне так кажется, — что ты его сестра, но от этого еще сильнее чувствую свое несчастье. Тебя он любит больше, чем меня. — Нет, Фернанда, нет! — воскликнула Сильвия. — Если бы это было так, я бы меньше уважала и любила Жака. Ты ему дороже всех на свете, ты его возлюбленная, ты мать его детей. И ты сама его любишь превыше всего, не правда ли? — Превыше всего, — ответила я. — И ты никогда не могла упрекнуть себя в какой-нибудь важной вине перед ним? — Никогда! — сказала я с уверенностью. — Беру Господа Бога во свидетели. — Тогда тебе нечего бояться, — сказала она. — Правда, Жак бывает строг и неумолим в некоторых случаях, но очень мягко и снисходительно относится к мелким проступкам. Будь уверена, Фернанда, что участи твоей можно позавидовать, и если ты недовольна, то, значит, ты просто неблагодарная. Увы! Как бы я хотела поменяться с тобой! Ты можешь любить всеми силами души, можешь уважать предмет своей любви, можешь всецело предаться ему; такого счастья я никогда не знала. — Да правда ли это? — воскликнула я, обвив рукою ее шею. — Разве ты никогда не любила? — Любила. Но никогда не принадлежала любимому и никогда не буду принадлежать, потому что он не существует. Все мужчины, которых я пробовала любить, лишь издали походили на мой идеал, а вблизи становились самими собою, и как только я узнавала их, я переставала их любить. — О Боже! — воскликнула я. — Ты, значит, пробовала не раз? — Да, много раз, — смеясь ответила Сильвия, — и почти всегда моя любовь кончалась накануне того дня, который я назначала себе, чтобы признаться в ней. Только с двумя я зашла несколько дальше и со вторым выдержала довольно серьезные испытания. Когда любовь моя угасала, случалось порой, что она вновь загоралась, но всегда недостаточно жарко для того, чтобы отдать ей силы, которые я чувствую в своей душе. — Так, значит, ты не от холодности и бедности сердца хочешь жить одиноко? — Нет, наоборот, от избытка его богатства и энергии. Душа моя томится неутолимой жаждой любить и поклоняться высокому существу, а мне встречались лишь самые обыкновенные люди. Я хотела бы обратить своего возлюбленного в божество, но мне попадаются только простые смертные. И вот, видя, что она так разговорилась, я попросила ее рассказать мне о ее последнем увлечении, а также засыпала вопросами о вашем характере. Она мне сказала, что вы первый мужчина, которого она узнала, и последний из возлюбленных, о каких она мечтала. — Но разве Жак, — вдруг сказала она, — никогда тебе об этом не говорил? — Никогда. — И не читал тебе мои письма после вашей свадьбы? — Никогда. — Шаль! — заметила она. — Ну, а ты сама, что ты думаешь о его характере и его наружности? Встречала ты его, когда он тут бродил в парке? Не правда ли, он с большой выразительностью играет на флейте? — Ах, Сильвия! Злюка! — воскликнула я. — Ты, стало быть, прекрасно знала, что он здесь? — Ну, что ж он тебе рассказывает? — со смехом сказала на. — Ведь он пишет тебе письма. Тогда я бросилась в ее объятия, почти к ее, ногам, и с полной откровенностью, с жаром рассказала ей о дружбе, завязавшейся у нас с вами. Она слушала меня внимательно, и на лице ее было необычайное выражение удовольствия и любопытства. О, я надеюсь, Октав, что она вас любит больше, чем признается в том, больше, чем думает. Один раз она прервала меня — спросила, когда я вас увидела в первый раз, при каких обстоятельствах вы заговорили со мной; ее вопросы несколько смутили меня, однако ж я рассказала ей почти все и, в свою очередь, спросила, откуда она знает про наше знакомство. — Я случайно увидела в руках Розетты письмо, присланное тебе, и узнала почерк, которым был надписан конверт. Не можешь ли ты показать мне одно из его писем? — добавила она. — Любопытно было бы прочитать, что он говорит обо мне. Я побежала и принесла предпоследнее письмо[16], в котором говорилось только о ней. Она быстро прочла его и, улыбаясь, возвратила мне; затем, явно взволнованная, стала ходить по комнате, как это делает Жак, когда колеблется, обдумывая какое-нибудь решение, и наконец сказала мне, беря свой подсвечник со свечой: — До свидания, Фернанда. Дай мне на размышление два-три дня, и я тебе отвечу, что я намерена делать с Октавом; а сегодня желаю ему спать так же хорошо, как я. Но хотя она говорила нарочито насмешливым тоном, лицо ее просто сияло; она так горячо поцеловала меня, так ласково сказала столько приятного о моей особе, что, казалось, она была восхищена моим поведением: как видно, ей только и нужно было выслушать вашу защитницу, чтобы отпустить вам вину. Надейтесь, Октав, надейтесь! А теперь, когда она знает наши хитрости, нам бесполезно видеться потихоньку от нее. Подождем немного; если я увижу, что ее милосердие, к счастью, возрастает, я призову вас в замок, и вы броситесь к ее ногам, но мне думается, она сначала хочет посоветоваться с Жаком. Предоставьте ей свободу действий — ведь это необходимо. О друг мой, как я буду горда и счастлива, возвратив вам счастье! А возможно ли еще счастье для меня самой? Жак так холоден ко мне, что я в отчаянии и почти не смею и думать о любви. Я постараюсь жить дружбой; ваши радости наполнят мою душу и заменят мне те, которые я утратила.
XLIX
От Сильвии — ЖакуЯ тебе говорила, Жак, что ты ошибаешься: Фернанда чиста, как кристалл; сердце этой девочки — сокровище простоты и наивности. Зачем ты сам причинил себе столько страданий? Разве ты не знаешь, что в иных случаях не следует верить даже собственным глазам и собственным ушам? Кое-какие обстоятельства в этом приключении еще остаются для меня непонятными, например — история с браслетом. Я не имела случая расспросить Фернанду — тут нужна осторожность, иначе она догадается о твоих подозрениях; пусть лучше она никогда не узнает, что ты осудил свою жену, даже не выслушав ее. А так как ее полная невинность для меня ясна, как солнце, несомненна, как существование мира, я уверена, что ты вовсе не слышал слово «браслет» — ты ошибаешься и что клеймо ювелира было поставлено только на одном браслете; если в этом деле и есть между ними какая-то тайна, будь уверен, что она столь же ребячески невинная, как и остальные подробности. Возвращайся, я тебе все расскажу, все объясню, и ты успокоишься. Я знаю, что Октав переписывался с Фернандой, я читала их письма, знаю, что они говорили друг другу; Фернанда мне все простодушно рассказала. Это двое детей. Будь на месте Октава кто-нибудь другой, можно было бы сказать, что Фернанда поступала неосторожно, но ведь Октав — истый швейцарец, то есть воплощенные чистосердечие и честность. Возвращайся, мы поговорим обо всем этом. Не спрашивай меня, почему я не сказала тебе, что Октав был тут. Мне это было известно: во время последней нашей охоты на кабана я узнала своего вздыхателя, хоть он и оделся в костюм егеря. Для того чтобы ты понял его странное и романтическое поведение, мне пришлось бы признаться, что я солгала тебе, сказав, будто Октав отступился от меня и мы порвали отношения по взаимному согласию. Я-то действительно порвала с ним, но не спрашивая его согласия и не зная, сильно ли он будет страдать от такого решения. Ты написал мне, что мое присутствие тебе стало необходимо. Я еще любила Октава, но без восторгов, без страсти. Больше всех на свете я люблю, Жак, тебя, и ты знаешь это; за тебя я готова отдать жизнь; я всем обязана тебе, и служить тебе — вот мой долг в этом мире, вот единственное мое счастье. Поэтому я без колебаний рассталась с Женевой и, чтобы избежать бесполезных и тягостных объяснений, уехала, не повидавшись, не простившись с Октавом. Я знала, что эта новая разлука причинит ему много горя; я знала, что моя привязанность никогда не принесет ему добра и он меньше будет мучиться, если расстанется со мной, если прекратится эта борьба между надеждой и отчаянием, которая идет в его душе уже больше года; я полагала, что разрыв будет легким, тем более что я не сказала Октаву, куда уезжаю, а время, которое он потратит, отыскивая меня, поможет ему утешиться. Тебе я сказала, будто он расстался со мною без сожаления, а иначе ты вообразил бы, что я принесла ради тебя великую жертву, и эта мысль отравила бы тебе радость свидания со мной. Нет, жертва была невелика, мой друг: я действительно уже не люблю Октава. Правда, он еще мне дорог как друг, как приемный сын, и в тайниках души я скорбела о его горе и молила Бога облегчить его страдания, переложив их на меня. Но как я ныне вознаграждена за свои тайные огорчения, когда вижу, что я тебе полезна и делаю что-то хорошее для Фернанды! Впрочем, все теперь исправлено. Октав открыл, куда я бежала; он приехал, принялся петь и вздыхать под моим балконом, словно севильский или гренадский идальго; он поведал о своих страданиях Фернанде и умолял ее вступиться за него. Разве я могу в чем-нибудь отказать Фернанде? Возвращайся и, чтобы все сошло прилично, возьми на себя труд представить нам Октава, а нас — ему, и пригласи его погостить у тебя некоторое время. Я берусь выпроводить его без шума и упреков, так как, полагаю, мне не придет охота расставаться с вами и последовать за ним.
L
От Сильвии — ОктавуВы сумасшедший и чуть было не причинили нам ужасное горе! Не видя вас нигде, я возымела надежду, что вы уехали, а вы, оказывается, вздумали играть покоем и честью целой семьи. Неужели вы совсем уж не от мира сего? Вы беспрестанно упрекали меня за то, что я слишком пренебрегаю житейской действительностью, и как же вы не знаете, что самые чистые отношения между мужчиной и женщиной могут быть дурно истолкованы даже весьма мягкими и весьма порядочными людьми? Вы с такой горечью бранили меня за то, что своим независимым, слишком, по-вашему, независимым поведением я подвергаю свою репутацию сомнениям равнодушных людей. Почему же вы ведете себя так безрассудно или так эгоистично, что муж Фернанды мог бы заподозрить ее в неверности? К счастью, этого не случилось, Жак ничего не заметил, но я-то раскрыла ваши мальчишеские выходки. Любой на моем месте порицал бы вас, судя по внешней стороне. К счастью, я знаю, что вы порядочный человек, и я знаю также сердце Фернанды, святую его чистоту. Но что должны думать слуги и крестьяне, которым вы доверяете тайну ваших ребяческих свиданий? Неужели вы думаете, что лесник, у которого вы живете, и горничная, сопровождающая Фернанду к Перекрестку четырех тропинок, уверены в невинности ваших встреч и тщательно хранят секрет? К тому же вся эта таинственность бесполезна. Почему вы не обратились прямо ко мне, а если уж полагали, что вам необходим посредник и заступник, то почему вы не написали Жаку, который дружески расположен к вам и имеет на меня гораздо больше влияния, чем Фернанда? Не могу понять такой глупости! Почему вы не решаетесь явиться лично? Надо поскорее покончить с этим вашим сумасбродством и исправить его последствия. Оденьтесь, пожалуйста, завтра как все люди и приходите к нам пообедать. Жак пригласит вас погостить в замке, вы должны принять приглашение. Но запомните, Октав, следующее. Я совсем не люблю вас. Когда-то я думала, что воспылала любовью к вам, быть может — даже это так и было, но уже давно в моем сердце осталась только дружба к вам. Не обижайтесь и поверьте, что я говорю очень искренне, говорю сущую правду. Перестаньте приписывать какой-то прихоти или мимолетной грусти мое решение порвать любовные отношения с вами. Страстные поцелуи хороши лишь между любовниками, а навязывать их дружбе — значит осквернять ее. Можете ли вы вкушать счастье в моих объятиях, зная, что я открываю их вам лишь из жалости, что с моей стороны это самопожертвование? Перестаньте и думать об этом, будем братом и сестрой. Я отнимаю у вас радость уже угасшую, и помните, это не я, а вы сами разрушили чувство, переполнявшее меня восторгом и страстью. Но не будем повторять бесполезных упреков — не ваша вина, что я ошиблась. Могу вам сказать, что в моей душе уважение пережило любовь, а ведь это редкостное мнение, которое женщина может составить о мужчине, зная его так близко, как я вас знала. Если вы пренебрежете моей дружбой, если вы отвергнете ее, бесполезно для вас надолго задерживаться здесь — достаточно нескольких дней, чтобы исправить последствия вашей ветрености; если же вы, наоборот, готовы принять мою дружбу, все мы будем счастливы видеть вас в нашем кругу как можно дольше, и тогда нежной дружеской привязанностью я постараюсь загладить резкий тон моих откровенных слов.
LI
От Жака — СильвииЗавтра буду близ тебя, а сегодня я болен. Читая письмо, я почувствовал внезапный приступ лихорадки; до этого я был так взволнован, что не замечал своего недуга, а как только моя душа исцелилась, тело вдруг почувствовало ужасный удар, нанесенный мне, и как будто хотело распасться на части; несколько часов состояние мое было таким отчаянным, что мне казалось, будто я умираю, и я уже было думал вызвать тебя, но тут привезли из соседней деревни лекаря, и он очень кстати пустил мне кровь. Мне стало легче, завтра я буду на ногах. Не беспокойся, пожалуйста, и ничего не говори Фернанде. Я несправедливо обвинил ее; я преступник перед ней; прощения я не буду у нее просить — такого рода признания усиливают вину; но я искуплю ее. Моя горячая привязанность к ней не утратила своей силы, и от прежних мучений мое сердце не потеряло способности любить. Не знаю, можно ли еще назвать любовью то чувство, которое Фернанда питает ко мне, — я сомневаюсь в этом; ведь эта любовь принесла ей столько страданий, а я не думаю, чтобы она могла, как я, страдать, не питая отвращения к источнику своих мук. А я, кажется мне, все тот же, как в тот день, когда впервые заключил ее в свои объятия, тот же благодетельный и святой пламень поддерживает во мне молодость сердца? я все так же полон преданности ей, так же уверен в себе, так же спокойно могу переносить повседневные огорчения, которые неизбежны при тесной близости. Прошлое не вызывает у меня ни малейшей горечи, настоящее — ни малейшей досады, будущее — ни малейшего страха: да, я люблю Фернанду по-прежнему, но теперь я несколько менее счастлив. Октав вел себя в этой истории крайне эксцентрично, но, может быть, такой уж у него характер, а тогда нельзя и упрекать его. Ты права, полагая, что нужно поскорее прекратить это ребяческое приключение и исправить в глазах наших людей дурное впечатление, которое оно должно было производить. Объяснение дать им невозможно, и даже, если б это и можно было сделать, не стоит труда объяснять. Быстро установившееся между нами доброе согласие и то, что Октав неделю или несколько недель будет сидеть за нашим столом, — вот победоносный ответ на все злые толки. Ты извиняешься, что скрыла от меня свою жертву — ведь ты действительно, Сильвия, принесла мне в жертву свой роман. Я знаю твое сердце, знаю, сколько в нем таится благородной гордости, спокойной решимости и нежного сострадания: я знаю, ты, должно быть, плакала над слезами Октава и, причиняя ему горе, истерзалась душой. Ты говоришь, что я для тебя дороже всех на свете. Милая Сильвия, ты еще не встретила того, кто будет тебе дороже всех на свете. Встретишь ли ты его? А если встретишь, то на свое счастье или на свое несчастье? Прошу тебя, будь с Октавом как можно мягче и добрее; его и так уж надо пожалеть за то, что он не мог добиться твоей любви; не кори его, избавь от упреков. Что касается меня, то, как ни странно Октав поступил, обратившись за помощью к моей жене, а не ко мне, я выражу ему и дружеские чувства и уважение, которых он заслуживает. Итак, до завтра! Ты спасла меня, Сильвия; если б не ты, я уехал бы, покинув Фернанду, и навсегда остался бы преступником и несчастным человеком. Бедная Фернанда! Милая Сильвия! О, я еще буду очень счастлив, чувствую это. А дети! Ведь я думал, что увижу их только лет через пять, через шесть. Дорогие мои дети, завтра я обниму вас, проливая сладостные слезы!
LII
От Фернанды — КлемансНе могу, друг мой, ни сердиться на тебя, ни огорчаться твоим письмом — оно просто комично, вот и все! У меня даже возникла мысль, что ты серьезно заболела и письмо свое написала в горячечном бреду. Если это действительно так и было, мне очень грустно. Дай Бог, чтоб я ошиблась, тем более что не хочется потерять такой благодарный случай весело посмеяться. Значит, на непоколебимую рассудительность и высочайший здравый смысл иной раз находит сон, и снится им всякая чушь. Дорогая Клеманс, твое состояние меня беспокоит, заклинаю тебя, пригласи врача и пусть он пощупает тебе пульс. Несмотря на все твои милые пророчества и любезные смертные приговоры, ничего из предсказанного тобою не случилось. Я не влюбилась в господина Октава, а господин Октав не влюбился в меня. Правда, мы очень искренне любим друг друга, но настоящую любовь я питаю только к Жаку, а Октав — к Сильвии. Он знает Сильвию так хорошо и нисколько не собирался обманывать меня, когда описывал течение их любви и их размолвки, — Сильвия все подтвердила мне, слово в слово. Я добилась от нее, чтобы она, по крайней мере, вернула ему свою дружбу, и нынче утром Жак помог мне примирить их. Я немного тревожилась за Жака: он провел четыре дня на ферме в Блоссе и ни разу не написал мне за это время, хотя к Сильвии ежедневно посылал нарочного; нынче утром они мне признались наконец, что Жак был очень болен, а несколько часов и совсем был плох, едва не умер; он и сейчас бледен как мертвец. Но никогда я еще не видела его таким красивым. Движения у него какие-то томные, а во взглядах такая нежность, что прямо с ума сойдешь, хорошо, что это уже давно со мной случилось! Прошу у тебя прощения: все обстоятельства находятся в явном противоречии с той картиной, которую нарисовали твоя мудрость и проницательность. Жак, к счастью, не поставил свою подпись под высочайшими твоими приговорами: никогда еще он не был так общителен и так ласков со мной. Ну, право же, вернулись прекрасные дни нашей страстной любви, не во гнев тебе будет сказано, дорогая Клеманс. Перейдем к продолжению рассказа. Я назначила свидание Октаву, и во время завтрака под окном раздались звуки флейты. О, если бы ты видела физиономии слуг! «Привидение! Опять привидение, да еще среди бела дня!» — говорили они в ужасе. — Ну, Фернанда, — улыбаясь, сказал мне Жак. — Иди за своим подопечным. И когда Октав закончил арию, Сильвия и Жак, смеясь, захлопали в ладоши. Я вышла из-за стола и привела Октава, накинув ему на голову салфетку, чтобы он походил на привидение. Он вошел с таинственным видом, и я привела его к ногам Сильвии; она открыла ему лицо и ударила ладонью по одной щеке, а в другую щеку поцеловала, Жак обнял его и пригласил пожить у нас, сколько захочется, пообещав при этом склонить Сильвию к сострадательности. Октав был взволнован и робок, как дитя; он старался казаться веселым, но все смотрел на Сильвию с выражением страха и радости. Преисполнившись добрых надежд и видя, как ласков со мною Жак, я до того взволновалась, что готова была, как дурочка, плакать при каждом слове, которое произносили за столом. Нам удалось ; наконец усадить Октава за стол, а так как перед этим он не ел целый день, то теперь принялся уплетать за обе щеки. Он сидел между Сильвией и мною; Жак курил возле — окна; все притихли — говорили лишь глазами, но какое блаженное состояние испытывали все, сколько радости было у всех в сердце! Сильвия подтрунивала над Октавом, говоря, что его ужасный аппетит совсем не к лицу герою романа. В отместку он целовал ей руки и время от времени сжимал мне пальцы; он и мне поцеловал руку, когда вставал из-за стола, а Жак, подойдя к нам, обнял меня и сказал: «Благодарю вас, Октав, за то, что вы питаете к ней чувство дружбы. Ведь у Фернанды ангельская душа, и вы это угадали». До самого вечера время прошло в прогулках, беготне, в музицировании. Колыбель малышей всегда находится возле нас — садимся ли мы за фортепьяно или дышим прохладой в саду. Октав осыпал малюток ласками и всяческими знаками внимания: он безумно любит детей и наших близнецов находит прелестными; он убаюкивает их волшебными звуками флейты, как ты говоришь, и Жаку очень нравится смотреть, как играет наш волшебник. Словом, мы провели чудесный день, полный чистых радостей. Надеюсь, что жизнь у нас будет очень мало похожа на ту, которую рисовало для меня твое веселое воображение. Очень жаль противоречить тебе, милая Клеманс, но приходится сказать откровенно, что на этот раз твоя великая прозорливость потерпела неудачу и я еще не погибла. Благодарю тебя за непреклонный приговор, которым ты обрекаешь меня на верную гибель в пучине порока; предсказание милосердно и облечено в весьма изящные выражения, но я попрошу у тебя дозволения подождать еще несколько дней, а уж тогда брошусь в бездну. А как у тебя, Клеманс? Когда ты выйдешь замуж? Не наскучило ли тебе твое одиночество? По-прежнему ли ты довольна своим монастырским житием в двадцать пять лет? Как, должно быть, приятно остаться молодой вдовой, независимой и совершенно чуждой любви! Завидую твоей участи! Ты-то не погубишь себя, ты спряталась за решетку, заперлась на замки, сберегая свое счастье и свою добродетель, — ты же знаешь, они не убегут, если их охранять таким способом. Позволь мне еще несколько лет любить своего мужа и лишь после этого вступить в вашу строгую обитель. Прощай, моя прелесть! Желаю тебе всего лучшего. Попробую-ка и я по твоему примеру отречься от человеческих привязанностей и познать бесстрастие душевного небытия.
LIII
От Октава — ГербертуПраво, не знаю, что творится со мной! Не сплю по-,ночам, горю в лихорадке — словом, похоже, что я начинаю влюбляться; но в кого же мне влюбиться, как не в Сильвию? И, однако, ничего понять не могу: я живу меж двух прелестных женщин и, кажется, одинаково влюблен в обеих. Я взволнован, доволен, полон энергии, веселости, радуюсь всему; на меня нападает ребяческая смешливость, хочется прыгать, как резвому щенку. Быть может, я нашел наконец тот образ жизни, который мне подходит. Не делать ничего докучного, полегоньку заниматься рисованием и музыкой, жить в живописном, тихом краю с любезными сердцу друзьями, ходить на охоту, на рыбную ловлю, видеть, что окружающие счастливы тем же счастьем, что и я, и обладают теми же склонностями, — да, это сладостная и святая жизнь. Признаюсь, я уже начал было серьезно влюбляться в Фернанду, но, к счастью, Сильвия раскрыла наш роман и покончила с ним при помощи нескольких упреков и пожатия руки. И хорошо сделала: этот роман совсем вскружил мне голову; тайные свидания, леса, летние ночи, записочки, нежные признания, Фернанда, удрученная холодностью мужа и так мило проливающая слезы у меня на груди, — право, все это становилось уж слишком упоительным, бедная голова моя захмелела; я больше не думал о Сильвии, словно ее никогда и не было, я избегал всех случаев достигнуть успеха в мнимом моем стремлении примириться с ней. Я не очень-то раскаиваюсь в безумных мыслях, мелькавших у меня в эти дни счастья и безрассудства. Другой на моем месте поступил бы хуже. Но я очень простодушный злодей и обретаю счастье скорее в мыслях о преступлении и в надеждах на него, чем в самом преступлении. Мне внушают ужас утехи, которые достигаются вероломством и за которые надо платить укорами совести. Завлечь Фернанду на свидание и тихонько целовать ей руки, слушать, как она называет меня своим другом, своим братом, — это казалось мне гораздо более приятным, чем страстные объятия и следующее за ними отчаяние… Я никогда не обольщал женщин и не думаю, чтобы укоры и ужас обольщенной давали соблазнителю счастье; к тому же есть какое-то странное удовольствие в том, чтобы оберегать и чтить чистоту той женщины, которая вверилась вам и всецело полагается на вас. Мысль, что стоило бы мне захотеть, и я мог бы все перевернуть в этой наивной душе, мог бы похитить это сокровище, была вполне достаточна для моей гордости; я испытывал утонченное тщеславие, видя, как Фернанда предается мне, и совсем не желал злоупотреблять ее доверием. Однако я начинал уж слишком сильно волноваться, сам не понимал, что говорю, и если Фернанда не угадывала, что происходит во мне, значит, она была чиста, как девственница. Думаю, что так оно и есть в действительности, и это увеличивает мое уважение, восхищение и — отчего бы не сказать? — мою любовь. Ну да, да, думай обо мне что хочешь, но я влюблен в нее по меньшей мере так же сильно, как в Сильвию. Что же тут дурного? Ведь я больше не буду любовником Сильвии и никогда не стану любовником Фернанды. Сильвия мне заявила решительно, упрямо и ясно, что отныне мы с нею только друзья. Не знаю, действительно ли она приняла такое решение или хочет подвергнуть меня испытанию, но, право, я немного устал от ее капризов, и, как я полагаю, досада весьма поможет мне утешиться. Во всяком случае, Сильвия ошибается, если воображает, будто позднее я с готовностью приму ее прощение: нет, я отказываюсь от ее любви, а моя любовь окончательно угасает, и никакими усилиями Сильвии уже ее не разжечь. Несмотря на эти странные обстоятельства и несколько загадочные наши отношения, трудно представить себе существование более приятное, чем наше. Жак, Сильвия и Фернанда, несомненно, избранные души, светлые умы, свободные от всех предрассудков, от всех узких и пошлых мыслишек. Сильвия заходит даже слишком далеко в независимости своих выводов — вряд ли это принесет счастье ее возлюбленному; но если смотреть на нее лишь в свете дружбы, она существо необыкновенное и возвышенное. Жак разделяет многие ее воззрения и чувства, но высказывает их менее резко, да и по характеру он более мягок и любезен; я не знал его и неправильно о нем судил. В радушии, с которым он встретил меня, в доверии, которое он оказывает мне, в спокойствии, с которым он принимает мою мнимую дружбу с его женой, есть что-то столь благородное и высокое, что я стал бы презирать себя, если б вдруг да нашел его смешным. Предательски отнестись к такому доверию! Сама эта мысль внушает мне ужас, мне нечего и бороться с подобным искушением. Та любовь, какую питает к нему Фернанда, любовь, вызывающая у меня восхищение, как божественное свойство ее души, — надежный и вечный наш оплот. Не знаю, как я расстанусь с ней, как откажусь от счастья проводить близ нее дни своей жизни, но, несомненно, я уеду отсюда, не оставив горечи в ее душе и не испытывая угрызений совести. Я хотел бы найти возможность поселиться неподалеку от них и видеться с ними каждый день, не живя у них и не завися от капризов Сильвии, — ведь она завтра же может изгнать меня из дома, где она обитает, а мне нечего будет и сказать, так как считается, что я гощу здесь только ради нее и с ее дозволения. Есть тут в горах на расстоянии в полмили хорошенький и превосходно расположенный домик, где когда-то помещался священник; если б я мог выжить оттуда старого рубаку, который теперь его снимает, дав ему отступного вдвое больше, чем он платит за эту квартиру, я был бы счастливейшим из смертных и к тому же обладал бы наипрекраснейшим жильем. Если я устроюсь в этом домике, приглашаю тебя провести со мною конец лета. Ты немножко влюблен в Сильвию, хотя никогда не докладывал о своих чувствах. Мы с тобой будем жить охотой, рыбной ловлей, музыкой и созерцательной любовью.
LIV
От Фернанды —КлемансНет, милый друг, нет, я не сержусь. Может быть, в ту минуту, как я писала ответ, во мне и поднялось раздражение, желание уязвить тебя — уж очень твое письмо было суровым и жестоким! Но клянусь, лишь только я написала тебе, сорвала досаду, я и думать позабыла о нашей ссоре, как будто ничего и не произошло. Если я в ответном своем письме зашла слишком далеко, прости меня, но в другой раз будь более милостивой. Право же, я не заслужила столь строгих наставлений; конечно, я вела себя несколько безрассудно, но сердцу моему остались совершенно чужды чувства, которые ты во мне предполагала, и на этот раз я не могла принять твой приговор как полезную для меня истину. В твоем письме я увидела какое-то презрение ко мне, которое я не могла, да и не должна была стерпеть. Ради Бога, не будем больше никогда говорить об этом. Ты долго злилась и только после трех моих писем написала наконец, что разгневалась на меня. Надеюсь, ты увидишь в моем настойчивом стремлении продолжать переписку доказательство преданной дружбы, неуязвимой для уколов обиженного самолюбия. Так и должно быть. Не помни зла, дорогая, вернись ко мне, как я возвращаюсь к тебе — искренне и радостно. Ты высказала полное равнодушие к событиям, касающимся меня, заявив, что отныне они совершенно безразличны тебе, и, право, я едва решаюсь говорить о них. И все же я надеюсь упросить тебя, чтобы возобновившаяся наша переписка была такой же, как прежде. Мне было так приятно рассказывать тебе всю свою жизнь, неделя за неделей! Стоило мне доверить тебе свои горести, и они становились вдвое легче; правда, теперь у меня больше нет горестей. Никогда еще я не была столь счастлива и спокойна. Все легкие раны, которые мы с Жаком наносили друг другу, зарубцевались навсегда; мы понимаем друг друга во всем решительно, мы всё угадываем. Я была очень виновата перед ним и теперь просто не понимаю, как я могла зачастую обвинять не себя, а Жака, хотя у него одна мысль в голове, одно желание в душе — мое счастье. Нынче мое поведение кажется мне каким-то сном, и я не могу объяснить себе, что это было со мной, — возможно, тут причиной являлась слишком уж уединенная жизнь и полная наша праздность. Хотя бы маленькое общество и некоторые развлечения необходимы в моем возрасте, необходимы они даже в возрасте Жака, — он тоже кажется более счастливым с тех пор, как мы живем в семейном кругу. Я уже тебе писала, что Октав поселился в полумиле отсюда в очаровательном домике, и мы всей компанией раза два в неделю навещаем его, напросившись к нему на завтрак. А сам Октав бывает у нас ежедневно. Нынче летом у него два месяца гостил один из его приятелей, господин Герберт, славный швейцарец, простодушный и мягкий человек. Мы только и делали, что охотились, ели, хохотали, катались на лодке, пели. И как прекрасно спалось нам по ночам после здоровой усталости и веселья! Сильвия — душа нашего общества, зачинщица всех развлечений. Не знаю, в каких она сейчас отношениях с Октавом; он не жалуется на нее, но хотя оба заявляют, что они только друзья, я сильно подозреваю, что они влюблены друг в друга еще больше, чем прежде. Сильвия с каждым днем хорошеет и становится все милее; она так сильна, так деятельна, что увлекает нас за собой, как вихрь. Она всегда просыпается первой, и именно она назначает распорядок дня и наших развлечений; сама она с таким жаром предается им, что заставляет и нас веселиться от души. Жак, при его хладнокровии, самый комичный, самый смешной из нас; он старательно участвует в наших забавах и шалостях, храня непроницаемо серьезный вид, и проказничает так славно, так мило, так чинно, что одно удовольствие смотреть на него. Октав веселится более бурно — ведь он еще так молод. Он играет, скачет и бегает в наших лугах, как вырвавшийся на волю жеребенок. В дождливые или слишком знойные дни его друг Герберт, который гостил у него, читал нам вслух, пока мы рисовали или занимались вышиванием. Среди этого благоденствия и радостей мои малыши растут, как грибочки; все наперебой ласкают их, я никогда не видела таких всеми любимых и балованных детей. Моя дочка всем предпочитает Октава; он ложится на ковер, где она возится на солнышке, и целые часы малютка забавляется тем, что запускает ручонки в длинные белокурые волосы своего друга. Сильвия — любимица моего сына; держа его на коленях, она играет на фортепьяно одной рукой, а он слушает с таким видом, будто понимает язык музыки; время от времени он с восхищенной улыбкой поворачивается к ней и пытается что-то сказать, но издает лишь нечленораздельные звуки, которые, по словам Сильвии, представляют собою очень ясные и очень логичные ответы на ее музыку. Интересно наблюдать, как Сильвия истолковывает и переводит малейшие его жесты, смотреть, с каким серьезным, сосредоточенным видом Жак слушает эти разговоры. Ах, какие все мы дети! И как мы счастливы! С тех пор как Герберт уехал, холод уже дает себя знать, и мы становимся домоседами. Начинается осень, однако ж выпадают и прекрасные, погожие дни, а вечера наши исполнены прелестной меланхолии. Сильвия импровизирует на фортепьяно, а мы сидим у камелька, где ярко пылают сухие виноградные лозы. Сильвия никогда не греется у огня: зная свой сангвинический темперамент, она постоянно боится, что у нее кровь бросится в голову. Мой старый курильщик Жак расхаживает взад и вперед по комнате и время от времени дарит поцелуем свою сестру и меня, затем похлопает по плечу Октава и скажет ему: «Ты что загрустил?». Октав поднимает голову, и мы иной раз замечаем, что лицо у него мокрое от слез. Так действуют на него странные, то унылые, то буйные мелодии — импровизации Сильвии. Бывает, что Жак и Октав рассказывают друг другу те поэтические грезы, какие навевают на них пение и игра на фортепьяно. Удивительно, что одни и те же ноты, одни и те же звуки совсем различно действуют им на нервы; иной раз Жаку чудится, что он скачет на коне из Апокалипсиса, а Октаву кажется, что он спит в темнице на соломе, а то случается, что Жака удручает тоска в какой-нибудь ужасной пустыне, Октав же летает при лунном свете вместе с сильфами над чашечками цветов. Очень любопытно слушать, какие фантазии мелькают у них в голове. Сильвия редко вмешивается в разговор: ведь она фея, она вызывает видения и молча, без волнения созерцает их; она привыкла управлять человеческими грезами. Ее больше забавляет впечатление, которое ее музыка оказывает на охотничьего пса Октава, и она по-своему истолковывает подвывание, повизгивания и стоны, вырывающиеся у собаки при некоторых музыкальных фразах; Сильвия заявляет, что нашла такие аккорды, такие сочетания звуков, которые действуют на все фибры собачьей души, и что ощущения у пса более живые и поэтичные, нежели у господ охотников. Ты и представить себе не можешь, как нас забавляют и веселят подобные глупости. Когда несколько человек так крепко любят друг друга, как мы, то мысли и вкусы одного становятся общими для всех, между друзьями устанавливается горячая симпатия и полное единодушие. До свидания, дорогая. Смотри же, пиши мне. Как раньше ты принимала участие в моих горестях, прими ныне участие в моей радости.
LV
От Октава — ФернандеФернанда, я больше не могу, я задыхаюсь: эта добродетель выше моих сил. Я должен признаться и бежать или же умереть у ваших ног. Я люблю вас. Невозможно, чтобы вы этого не замечали. Жак и Сильвия — возвышенные души, но оба они безумцы, я тоже безрассудное существо, да и вы, Фернанда, такая же. Как же они могли, как все мы могли воображать, что я в состоянии жить между Сильвией и вами, не пылая любовью к той или другой? Долго я льстил себя надеждой, что любить буду только Сильвию; но Сильвия этого не пожелала. Она отвергла меня с жестоким упорством, которое оттолкнуло меня от нее, и мало-помалу мое сердце подчинилось ее воле, без гнева и без всяких усилий оно пришло к дружбе, и, право, это чувство, возникшее между нею и мной, дало мне гораздо больше счастья, чем прежняя наша любовь. Именно так я должен был любить Сильвию всегда, именно так я буду любить ее всю жизнь — спокойно, глубоко и почтительно. Но вас, Фернанда, я люблю в тысячу раз больше, чем любил когда-то Сильвию. Я весь горю страстной, безнадежной любовью и поэтому должен уехать. О Боже, Боже! Зачем я встретил вас, Фернанда! Каждый день вы спрашиваете меня, почему я грущу, беспокоитесь о моем здоровье; неужели вы не понимаете, что я не брат вам и не могу им быть? Неужели вы не видите, что я всеми порами впиваю яд и что ваша дружба убивает меня? Что я вам сделал, за что вы любите меня так нежно и с такой безжалостной кротостью? Гоните меня, оскорбляйте или говорите со мной как с посторонним. Я пишу вам в надежде вызвать у вас негодование. Что бы вы ни сделали, какое бы несчастье ни обрушилось на меня, всё это будет некоей переменой, а спокойствие, в котором мы живем, душит меня, гнетет, сводит с ума. Долго я был счастлив возле вас. Ваша дружба, которая сейчас раздражает меня и причиняет мне страдания, в первые месяцы была божественным бальзамом, излившимся на раны истерзанного сердца. Я был полон растерянности, волнения и какой-то смутной надежды, был сам не свой от желаний, которых не мог объяснить, считая, что единственная моя цель — вечно быть подле вас. Я так тогда устал от жизни! Сильвия обратила для меня любовь в чувство горестное и мучительное, я столько перестрадал, теряя ее милости, опять обретая их и вновь теряя, что был совершенно разбит, лишился всяких надежд и склонен был предаться мечтам и химерам. Вот как велико было мое безумие: я с первого взгляда влюбился в вас; я почувствовал к вам не ту братскую, тихую дружбу, которой хвастался, но романтическую и опьяняющую любовь. Я всецело отдался этому увлечению, живому и чистому; если бы оно было всеми отвергнуто, то, быть может, стало бы яростной страстью; но вы встретили его так доверчиво и простодушно! А затем Жак так благородно пригласил меня к вам, и я мог ежедневно наслаждаться счастьем видеть вас; мало-помалу я привык любоваться вами, не дерзая желать вас. Я думал тогда, что этого мне всегда будет достаточно, или по крайней мере говорил себе, что если это чувство доставит мне слишком много мучений, у меня всегда хватит решимости уйти; а теперь я охотнее думаю, что у меня тогда хватит сил умереть. Где то время, когда я, поцеловав вам руку, чувствовал себя бесконечно счастливым, или когда один-единственный взгляд ваш на всю ночь запечатлевался у меня в глазах и в душе? Откроюсь вам, Фернанда, я обладал вами в сновидениях, и этого мне было достаточно. Любовь к Сильвии, еще не совсем угасшая, время от времени разгоралась, и я обманывал свое сердце, смотря по обстоятельствам, которые теснее сближали меня то с Сильвией, то с вами. Сколько раз я сжимал в своих объятиях призрак, имевший и ее черты и ваши, раскидывавший по моей груди и по плечам свои длинные, черные как смоль волосы, перемешанные с шелковистыми золотыми прядями! В бреду блаженных ночей я по очереди призывал вас обеих, вспоминал привязанность, которой вы одарили меня, и мне казалось, что обе вы спускаетесь с неба и касаетесь поцелуем моего лба; но постепенно черты Сильвии стушевывались, и призрак уже появлялся передо мной в вашем облике. Иногда я все еще призывал в воспоминаниях вашу подругу — по привычке, из страха, повинуясь укорам совести, но она уже не отвечала мне; а вы непрестанно возникали у меня перед глазами, как образ моей судьбы, как пророчество, открывшееся мне по воле Господа, и тогда я отдался своей участи, начал страдать; но муки свои я приносил вам в жертву. Я видел, что вы любите Жака, и он вполне этого заслуживает; я уважаю, я чту его, разве могу я желать вырвать у него самое драгоценное его достояние на земле? Нет, уж лучше убить его. Долгое время добродетельные помыслы поддерживали мое мужество и готовность к самопожертвованию; я убеждал себя, что будет благоразумнее и легче бежать от вас, нежели вечно молчать о своей любви; но было уже слишком поздно, я не мог этого сделать — мне казалось, что я смогу вытерпеть какие угодно муки, только бы видеть вас. Я молчу уже восемь месяцев; я героически перенес зиму, которую провел возле вас, без всяких развлечений и почти что наедине с вами, ведь вы не можете отрицать, что среди нас четверых есть два дуэта — Жак с Сильвией и мы с вами: они во всем понимают друг друга с полуслова, то же происходит и с нами. Когда все в сборе, то мы двое — словно давние приятели, которые беседуют о своих радостях и горестях не таясь, открывают, какие чувства они испытывают, что они оба собою представляют. Мы с вами не рассказываем друг другу никаких историй, мы едины душой, и нам нет нужды выражать словами то, что мы оба чувствуем. Однако у меня есть потребность излить то властное и упоительное чувство, которым я безмолвно наслаждаюсь. Мы понимаем друг друга без слов — они излишни; за нас ведут разговор наши глаза и биение наших сердец. Но ведь нам нужны объятия и жаркие поцелуи, их требует тот огонь, что разгорается с каждым днем все сильнее — ведь, может быть, и ты меня любишь!.. Ах, простите меня, Фернанда, я схожу с ума. Прощайте! Прощайте! Завтра я уеду. Не презирайте меня. Я сделал все, что мог. Таить свою любовь выше моих сил…
LVI
От Фернанды — ОктавуОктав, Октав, что ты делаешь? Какое заблуждение! Ты сошел с ума, друг мой! Ведь ты мне брат, ты в этом поклялся перед Богом, передо мною. Ты не можешь преступить клятву, не можешь запятнать себя, ведь я знала тебя таким благородным и чистым. Да разве я могла бы любить тебя иначе, чем сестра любит брата? Какие ужасные мысли теснятся в бедной твоей голове! Ты болен, ты страдаешь душевным недугом, дорогой мой Октав, я это вижу; призраки, порожденные горячкой, тревожат твой сон; рассудок, память, здравый смысл покинули тебя. Тебе мнится, что ты любишь меня, а если б я ответила тебе любовью, ты пришел бы от нее в ужас, как от злодеяния. Нет, мой друг, ты не любишь меня, это тебе кажется; ты принимаешь за любовь свою жажду любви. Ты любишь Сильвию, а если не ее, то тебя влечет к какой-то другой женщине, живущей где-то в знакомом тебе месте. Тебе надо поехать, отыскать ее. Да, ты прав, уезжай, отправляйся в путешествие. Надо тебе рассеяться, избавиться от безумия. Увы! Ты, значит, не можешь остаться с нами! А я-то думала, что мы до самой старости будем жить вместе, и была так счастлива этой мыслью. Но ты излечишься и тогда возвращайся сюда, Октав; ты возвратишься с подругой, достойной тебя, и счастье всех нас станет еще более чистым и мирным. Ты говоришь, что я должна была догадаться о твоей любви ко мне. Да если б я прожила вот так, возле тебя, тысячу лет, я бы по-прежнему свято верила твоему слову, никогда бы я не подумала, чтобы ты смог стать клятвопреступником даже в тайниках души. Еще и сейчас я уверена, что ты заблуждаешься; я с изумлением смотрю на твои муки, я ошеломлена и тревожусь за тебя, словно тебя внезапно постиг страшный недуг — припадок сумасшествия или жестокие судороги. Что я тогда думала бы? Ничего, только чувствовала бы, как ты мучаешься, и мучилась бы сама. Разве могла бы я сердиться на тебя или считать себя виновницей твоей болезни? Я бы с нежностью ухаживала за тобой, старалась бы успокоить тебя добрым словом, святыми ласками, и тебе стало бы легче. Друг мой, любимый друг мой, опомнись, приди в себя, возвратись к нам, забудь пагубное потрясение. Сожжем эти письма, и пусть никогда не будет о них речи. Все это сон, ничего не случилось. Никто не слышал слов, которые ты произносил в бреду; они погребены в моем сердце и нисколько не изменили спокойствия и нежности, царящих в нем. Разве может такая дружба, как наша, разбиться в один миг — в миг заблуждения и горькой муки? Уезжай, друг мой, но, как только выздоровеешь, возвращайся, возвращайся без страха и стыда. Промелькнувшая молния не оставила зловещего следа в нашем ясном небе, и ты найдешь нас такими же, какими оставил.
LVII
От Октава — ФернандеТы права, любимая сестра моя, я сумасшедший; недуг поразил мои мозг и сердце, мне надо набраться мужества и уехать. Ты ангел, Фернанда, какое письмо ты мне написала! Ах, ты никогда не узнаешь, сколько добра и сколько зла оно мне причинило. Ну хорошо, убеди себя, что я болен, постарайся убедить меня, что я поправлюсь и тогда смогу вернуться: ведь выше сил моих мысль, что я должен расстаться с тобой навеки. Ссылайся на мое слово и на святость наших уз, называй дорогое, уважаемое имя Жака; говори все, что надо сказать для того, чтобы дать мне силу, которая мне так нужна. И у меня будет эта сила, Фернанда: твоя простота и твое сострадание спасут нас обоих. Я не ожидал, что ты оттолкнешь меня с такою милосердной нежностью и будешь жалеть меня; я надеялся, что ты отвергнешь мою любовь сурово, резко, и мне можно будет меньше любить и уважать тебя. А тогда — горе тебе! Я бы остался, и, быть может, мне удалось бы погубить тебя. Но что я могу сделать пред лицом такой спокойной и сострадательной добродетели? Самый последний из негодяев — и тот бросился бы на колени перед тобою, а я, как ты знаешь, человек порядочный, я буду мужественным и уеду. Прощай, Фернанда! Прощай, дорогая сестра, прощай, моя единственная и последняя любовь. Пусть будет со мной, что Богу угодно. Я умру или выздоровею. Не в этом дело — важно, чтобы ты оставалась счастливой и чистой; я уеду с этой мыслью, и она поддержит меня. Простите мне воровство, совершенное мною, — ведь тот браслет, что вы мне как-то вечером бросили из окна, приняв меня за Жака, я так и не возвратил вам. Вместо него у вас точная его копия, которую я заказал в Лионе и отдал вам, чтобы не оскорбить вас своим сопротивлением. У меня не хватило духу расстаться с этим первым залогом приязни, ставшей для меня столь необходимой и роковой; ныне, когда я чувствую себя преступником в сердце своем, я не осмелился бы увезти этот браслет без вашего позволения. Но вы не можете отказать мне, раз я уезжаю и, быть может, навсегда. Я приношу мучительнейшую из всех жертв, так неужели вы будете безжалостны? За свою любовь я, быть может, заплачу жизнью, а ваше великодушие ничего вам не будет стоить, так как никто не может догадаться о подмене. Я велел стереть со щитка браслета инициалы Жака, переплетенные с вашими инициалами, и заменил их моими. Если в ужасную и торжественную минуту расставания вы милостиво отдадите мне этот залог дружбы и прощения, он станет мне еще дороже, чем прежде. Нынче вечером я скажу, что уезжаю завтра; я найду предлог и пообещаю возвратиться. Будьте спокойны, я не выдам себя. Но неужели я уеду, не попрощавшись с тобой, не облив слезами твои руки? Не бойся остаться со мной наедине, как ты испугалась вчера, Фернанда. Чего ты боишься? Неужели ты не уверена в себе? Разве ты не знаешь, что если бы я даже на минуту поддался слабости и отчаянию, ты единым словом повергла бы меня к ногам своим и обратила бы в самого молчаливого и смиренного человека? О, не беги от меня, не заставляй меня страдать в последний день, который я проведу близ тебя! Если тебе больно смотреть на мои слезы, если мои жалобы надоели тебе, потерпи, наберись мужества — мне его надо гораздо больше, чтобы расстаться с тобой. Подумай, что твое испытание завтра кончится, а мое испытание, ужасное, вечное, завтра только еще начнется! Подумай о том, что я поднимаюсь по ступеням эшафота и что Господь зачтет тебе слово милосердия, которое ты подаришь мне, отправляя на муки.
LVIII
От Октава — ФернандеО мой ангел, любимая моя, мы спасены! Да ниспошлет Господь благословение тебе, самому чистому и самому святому из всех его творений! Да, ты права — у того, кто хочет набраться силы, она появляется, и небо не покидает в опасности того, кто от всего сердца, искренне взывает к нему. Что сталось бы со мной вдали от тебя? Мою душу загрязнили бы злые сожаления, ярость, нелепые замыслы, а может быть, и нелепые деяния, направленные на то, чтобы найти тебя и уловить в свои сети; а меж тем теперь ты поможешь мне быть добродетельным и спокойным, как ты сама. Постоянное созерцание твоей ангельской безмятежности вольет такое же спокойствие в мою душу и в мои чувства. Я бы погиб, если бы ты не протянула мне руку помощи; позволь же мне прильнуть к ней устами, и пусть она ведет меня куда угодно. Я смиренно готов принести все жертвы, я буду молчать, я исцелюсь. Да разве я уже не исцелился? Разве я не испробовал душевные свои силы в ту ночь, которую ты дозволила мне провести в твоей спальне? Я был сам не свой, когда встал, чтобы зайти к тебе и попрощаться. И надо же было, чтобы Жак вчера вечером уехал — как раз в часы ужасного приступа моей убийственной лихорадки и горячечного бреда. Ах, то была воля провидения] Если бы ты отказалась принять меня, я выломал бы дверь — ведь я сам уж не понимал, что делаю! Но ты сама отворила мне и хорошо, что сделала это. Найдется ли во всем мире столь бурный порыв и бредовое безумство, которые могли бы устоять перед святым доверием столь чистого божественного создания, как ты? Ты тоже еще не спала, дорогая моя девочка, даже и не раздевалась еще, ты молилась за меня. Ангел небесный, Бог услышал твою молитву. Когда я увидел тебя, такую прелестную, такую невинную в белом твоем платье с распущенными по плечам белокурыми волосами, с ласковой улыбкой на устах, с большими прекрасными глазами, влажными от слез, пролитых за меня, мне показалось, что я вижу деву Марию, и я бросился к твоим ногам, словно преклонил колена перед алтарем. О, как сострадательно ты слушала мои скорбные речи, с какой несказанной нежностью ты отерла мои слезы и, плача сама, обнимала меня! О, как ты безрассудна в своей высокой чистоте! Ужели ты существо бесплотное? Что за божественное могущество ниспослано тебе свыше, раз ты можешь успокоить порывы яростной страсти нежными ласками, которые должны были бы ее распалять? Как свежи были твои уста, коснувшиеся поцелуем моего лба! Мне казалось, что волшебный эликсир побежал по моим жилам, и кровь моя стала столь же чиста, как у твоих детей, мирно спавших возле нас. О, как прелестны твои дети, и как я люблю их! На личике твоей дочери уже отражается твоя девственная душа. Я бы похитил ее, если б ты меня прогнала; я не мог бы расстаться с этой колыбелью, в которой она так часто засыпала под звуки моей флейты; сердце мое разрывалось при мысли, что мне придется жить в одиночестве, всеми покинутому, тогда как восемь месяцев я наслаждался несказанным счастьем вашей привязанности. Я терял тебя, мое сокровище, и сколько еще драгоценных благ — дружбу Сильвии, красавицы Сильвии, женщины великой души и просвещенного ума! Я лишился бы дружбы Жака, за которого готов был отдать жизнь. Где еще я нашел бы людей с таким сердцем? Кто скрасил бы мне жизнь вдали от всех вас? Будь благословенна, моя Фернанда! Ты не хотела довести меня до отчаяния, и когда я спросил у тебя, думаешь ли ты, что нам можно безопасно жить друг подле друга, сам Господь подсказал тебе ответ: «Да!». А это «да», с каким восторгом и доверием ты произнесла его! Меня словно ударил электрический ток: ведь я так мало надеялся услышать слово ободряющее, слово прощения. Достаточно было его, чтобы я в один миг стал другим человеком. Раз ты уверена во мне, уверен в себе и я; бежать было бы трусостью, когда я могу победить себя, да и разве эта победа так уж трудна? Мне теперь даже непонятно, почему мной овладело такое бурное смятение. Конечно, издали опасность всегда кажется страшнее, чем вблизи. К тому же, когда я страшился, что могу пасть и увлечь тебя за собою, я еще не знал тебя и считал, что ты обыкновенная женщина, такая же, как и все, а ты божество, которое не могут запачкать пятна грязи человеческой. Я не мог себе представить, чтобы вместо страха или гнева, которые ты выкажешь, когда я признаюсь тебе в своих мучениях, на лице твоем будет сиять светлое доверие, а на губах — сострадательная улыбка: я думал, что ты с ужасом вырвешься из моих объятий, и когда я попытаюсь, как в другие дни, коснуться твоей щеки братским поцелуем, ты с негодованием отпрянешь. Но твоя невинность смело идет навстречу грубым опасностям и стойко преодолевает их. Ах, я мог бы возвыситься до тебя и реять в таком же полете над бурями человеческих страстей, в лучезарном небе, вечно ясном, вечно чистом. Позволь мне любить тебя, позволь мне все еще называть любовью то странное и возвышенное чувство, которое я испытываю; дружба — слово слишком холодное и обыденное для столь пламенного чувства: в языке человеческом не найдется названия для него. Но разве не называют также любовью привязанность матерей к своим детям и восторженное поклонение Богу? То, что ты мне внушаешь, напоминает все эти чувства, но представляет собою и нечто большее. Ах, поверь, Фернанда, надо очень сильно любить женщину, чтобы исполниться того безмерного спокойствия, которое снизошло на меня шесть часов тому назад. Странное и блаженное ощущение! Возвратившись домой после твоего целомудренного объятия, я чувствовал себя чище и спокойнее и заснул спокойным, благодетельным сном, каким еще ни разу не спал за все лето, а проснулся нынче утром таким радостным и веселым, каким мне не случалось пробуждаться за всю мою жизнь. Видишь, сколько добра принесли мне твои слова! Напиши мне, повтори то, что ты сказала мне, и я на коленях буду перечитывать письмо, если облачко грусти пробежит в моем ясном небе и на мгновение скроет твой чистый свет, о моя лучезарная путеводная звезда! Мне кажется, будто я впервые вижу солнце, — такой сияющей и молодой мне представляется природа. Только что прозвучал колокол, призывающий тебя к завтраку, и я вздрогнул, словно услышал голос друга. Как прекрасна жизнь, как мы счастливы! Так как я живу недалеко от тебя, Фернанда, западный ветер принес мне знакомые шумы из твоего дома и благоухания твоего сада. Я еще успею одеться и прийти сесть за стол одновременно с тобой, пока Сильвия методически прибирает и раскладывает свои книги и карандаши в большой гостиной. Да неужели я все это увижу — все, с чем вчера вечером, казалось, расстался навсегда? Неужели я еще буду смеяться и болтать за этим столом, где дозволяется сидеть, положив локти на стол, и где можно сколько угодно раз вставать за трапезой? Неужели я еще буду петь с тобой наш любимый дуэт? О, какой праздник! А если б ты знала, как красиво нынче на заре закатывалась луна, когда я возвращался по долине домой. Как обильно была усыпана бледными алмазами мокрая от росы трава и каким свежим, сладким ароматом благоухали первые цветы миндальных деревьев! Но ведь и ты наслаждалась картиной рассвета: ты стояла у окна, и я видел тебя долго, пока позволяло расстояние. Ты провожала меня взглядом, моя красавица, ты слала мне вслед добрые пожелания, ты просила Бога сохранить то, что сотворили твои благоговейные усилия — ту новую душу, которой ты наделила меня, ту новую добродетель, которую ты открыла во мне. Ну, довольно! Складываю письмо и ухожу. Сейчас посмотрел в подзорную трубу, прикрепленную к окошку и направленную на ваш дом; увидел Сильвию — она в голубом платье ходит по саду. Ты еще спишь, мой ангел, или одеваешь детей. Иду тебе помогать, буду играть на флейте, чтобы твоя дочка не плакала, когда ты станешь надевать ей чулочки. А наш Жак, он вернется вечером, не правда ли? Я крепко обниму его, словно не виделся с ним десять лет! А ты больше уж не будешь обнимать меня, но дозволишь мне сколько угодно целовать твои ножки и край твоего платья.
LIX
От Фернанды — ОктавуРазлучиться? Нет, это ужасно, это невозможно! Я прекрасно знаю, что у вас хватит сил отогнать эту зловещую мысль и не покидать меня. Я полагалась на вашу дружбу, когда сказала: «Да, ты можешь остаться, Октав. Останься откажись от преступных мечтаний, сделай благородное усилие над собой; открой глаза, посмотри, какой святой любовью тебя любят, как ты можешь быть счастлив в кругу твоих друзей, которые наперебой балуют тебя, и как ты будешь страдать в одиночестве, терзаясь угрызениями совести за то, что привел в отчаяние сердце, искренне любившее тебя, и сожалея о том, что огорчил своим отъездом два других сердца. Загляни в свою душу, посмотри, как она хороша, молода и сильна. Разве не может она из двух жертв принести более благородную и более великодушную? Неужели ты не уверен, что всегда будешь управлять своими страстями? Разве я поверю, что у тебя чувственность возьмет верх над сердцем? Ведь я всегда буду тут и укреплю в тебе мужество, если оно ослабеет. Неужели ты останешься глух к моему голосу, когда я буду молить тебя? А эти сладостные слезы, которые ты проливаешь теперь, неужели они иссякнут, когда польются мои слезы!». О, дорогой Октав, говоря так, я чувствовала, что Бог вдохновляет меня. Доверие, чудесная вера снизошли в мою душу, мне как будто ниспослано было откровение, и я увидела то, что произойдет меж нами. И действительно, разве не было чудом мое решение и восторг, объявший тебя в ту минуту? Ты не знаешь, как ты был прекрасен, когда, упав на колени, поднял руки к небу, призывая его в свидетели своих клятв; как разрумянилось и оживилось твое бледное лицо; каким огнем вдруг загорелись твои усталые и почти угасшие глаза. Небесный луч оставил на тебе свой отблеск, и со вчерашнего дня у тебя совсем иное выражение лица, иная красота, которой я прежде не знала. Изменился и твой голос: в нем появилось что-то новое, проникающее в душу, как прекрасная музыка, и когда ты читаешь вслух, я не слушаю слов, не понимаю смысла прочитанных фраз, одна лишь гармония твоего голоса меня волнует, и мне хочется плакать. Я чувствую, что и сама я переменилась: у меня возникли какие-то новые способности, мне понятно теперь множество вещей, которых вчера я еще не понимала; на сердце у меня теплее, и оно стало богаче. Больше чем когда-либо я люблю мужа, свою сестру Сильвию и своих детей; а к тебе, Октав, я чувствую привязанность, имени которой не стану искать, но знаю, что Бог вдохнул ее в меня и Бог ее благословляет. Как ты благороден и чист, друг мой, как непохож ты на других мужчин и как мало тех, кто способен понять тебя! Что сталось бы со мной, если б ты покинул нас? От одной мысли о разлуке с тобой я все еще болезненно вздрагиваю. Да знаешь ли ты, друг мой, как ты необходим для всех нас, а главное, для меня? В прошлом письме ты совершенно правильно сказал: мы с тобой единое целое. Никогда два характера так не соответствовали друг другу, никогда два сердца так не понимали друг друга, как наши. Между Жаком и Сильвией большое сходство, а на нас они не походят, и именно поэтому мы их так любим; вот почему у нас могла возникнуть любовь к ним, а меж нами любовь невозможна. Мне думается, для любви необходима разница во вкусах и мнениях, мелкие обиды, примирения, слезы — все, что может взволновать чувствительность и пробудить повседневную заботу; дружба, братская любовь, если хочешь, счастливее, более ровна и чиста: это убежище против всех житейских бед, высшее утешение в горестях, которые причиняет любовь. До нашего с тобой знакомства у меня была подруга, которой я изливала все свои огорчения, и хотя ее ответные письма были язвительны и суровы, одна уж привычка писать ей о всех событиях моей жизни приносила мне большое облегчение. Ты читал ее письма, делал из них свои выводы и умолял меня сместить мою наперсницу и передать тебе ее обязанности. Не знаю, право, оказалась ли она, как ты полагаешь, мнимой и дурной подругой, но, уж конечно, она не могла сравняться с тобой, мой дорогой, мой добрый Октав. Ах, как далеко ей было до твоей мягкой и чувствительной души! Она меня все пугала, а ты стараешься убедить; она мне грозила неизбежными бедами, а ты учишь меня, как оберегаться от них; ведь у тебя-то, во всяком случае, не меньше ума и здравого смысла, чем у нее, а кроме того, ты знаешь, как надо говорить со мною, как убеждать. С тех пор как ты живешь здесь, я привыкла постоянно открывать тебе свое сердце и благодаря этому исцелилась от мелких нравственных недугов, избавилась от многих недостатков, которые мешали и вредили моему счастью. Ты научил меня мириться с огорчениями повседневной жизни, терпеливо сносить несовершенства любимого, не требовать от сердца человеческого больше, чем оно может дать; ты внушил мне стремление к справедливости; ты научил меня любить Жака так, как надо его любить, чтобы сделать его счастливым. Стало быть, и мое и его счастье — дело рук твоих, дорогой мой друг! И я так привыкла прибегать к тебе во всех затруднениях, что мое благоденствие рухнуло бы в тот день, как я лишилась бы твоей помощи; быть может, вернулись бы ко мне прежние мои недостатки, и я утратила бы плоды твоих советов. Итак, останься и больше никогда не говори о разлуке. Мы заживем еще лучше, чем жили до сих пор. Дети мои будут расти у тебя на глазах, и мы вместе будем их воспитывать: мы постараемся развивать их ум так же заботливо, как теперь заботимся о телесном развитии и здоровье этих крошечных особ. После детей и после Жака ты для меня будешь самым дорогим, хотя я считаю Сильвию своей сестрой и люблю ее как сестру. Но по характеру ты ближе мне, я чувствую к тебе больше доверия и душевного тяготения, особенно теперь, и мне кажется, что мы получили новое крещение и что Бог покарает нас, если мы будем порознь взывать к нему. Оставь у себя мой браслет, но при одном условии: прикажи восстановить на нем инициалы Жака, не стирая твоих инициалов, — пусть и те и другие будут переплетены с моими инициалами, и пусть сердце твое никогда не отделяет меня ни от него, ни от тебя.
LX
От Жака — Сильвии Блосская фермаВчера ты спросила меня, почему я так часто езжу в Блосс, и упрекала за то, что с некоторых пор я все ищу уединения. Это правда: никогда еще я так сильно не чувствовал потребности побыть одному и поразмыслить. Это пустынное место с угрюмым ландшафтом нравится мне и действует на меня благотворно. Я чувствую, что некая рука, неумолимая, но и в суровости своей все еще отеческая, ведет меня в безмолвие лесов и учит там меня смирению. Присев у подножия векового замшелого дуба, я вспоминаю всю свою жизнь. Это меня успокаивает. Разве ты не знаешь, что со мной? Неужели ты не заметила, что Октав любит мою жену? Долго эта любовь была романтической и невинной, но она становится яростной, и если Фернанда еще не видит этого, то скоро увидит и она. Мы были неосторожны, постоянно оставляли их одних, а они так молоды! Но что мы могли сделать? Разве стала бы ты притворяться и требовать от Октава любви, которую сама же и отвергла? Ты из гордости отказалась бы от всего, что походит на низкую ревность и уязвленное тщеславие. А мое положение было гораздо хуже. Ведь сначала я несправедливо обвинил этих молодых безумцев; я чувствовал, что должен искупить свою вину перед ними, и страх совершить новую ошибку заставлял меня закрывать глаза. Признаюсь, вопреки очевидности, я все еще не могу допустить, что Октав влюблен в Фернанду; вначале он казался таким уверенным в себе и весь прошлый год был так счастлив в нашем кругу. Но вот настала зима, он изменился, с каждым днем все больше волновался, делался все рассеяннее, а теперь по-настоящему заболел от горя. Он честный человек; неудивительно, что он держится со мной сухо и холодно. Он не умеет скрыть от меня чувства неловкости и смущения, которые я вызываю у него, а между тем он искренне любит меня. Вчера вечером, когда я уже собирался сесть на лошадь, он вышел во двор вместе со мной и заговорил о поездке в Женеву, которую собирается предпринять. Я понял, что он хочет удалиться от Фернанды, и молча пожал ему руку; тогда он бросился мне на шею, воскликнув: «Ах, милый мой Жак!..». Затем вдруг остановился и стал говорить о моей лошади. Бедняга Октав, он несчастен, и притом по нашей вине: мы предоставили ему слишком большую свободу действий среди опасностей, подстерегавших его в молодые годы. Но где бы они ему не встретились? И где бы он мог так мужественно бороться с ними? Он уедет, я в том уверен, и, может быть, сейчас уже уехал. У него было какое-то необычное выражение лица, словно он принял какое-то тягостное, но твердое решение. А заставляло меня немедленно уехать на ферму то, что я заметил за обедом внезапную и сильную перемену в моей жене: до тех пор я даже по лицу ее был убежден, что она совсем не подозревает о любви Октава, а теперь я не знаю, что и думать. Правда, за последнее время ей нездоровится: ведь она отняла детей от груди, а молока у нее все еще в изобилии, и зачастую она недомогает из-за этого. Я не хотел внимательно наблюдать за ней, мне было страшно. Что бы ни произошло между нею и Октавом, раз у него хватает мужества уехать, не следует отравлять ему, быть может, последний день, который он проведет возле нее. Я уверен в рассудительности и осторожности Фернанды, она удалит Октава, не оскорбляя его и не разжигая его страсть бесполезными проявлениями своей непреклонности; я видел, что должен предоставить ей свободу действий и что слепая доверчивость — лучшая порука их добродетели. Итак, я нисколько не беспокоюсь, но мне очень грустно, и я ужасно устал, да к тому же глубоко недоволен собою. У меня был искренний, любезный сердцу, преданный друг. Но он должен уехать, потому что я существую на свете! Вы жили прекрасной жизнью в тесном своем кругу, веселой и чистой, как ваши сердца, и вот жизнь эта взбудоражена, испорчена, отравлена, потому что я, господин Жак, — супруг Фернанды! Я так мало надеюсь на себя, так мало верю в свое будущее, что лучше хотел бы умереть, оставив вас всех счастливыми, чем сохранить свое счастье ценою счастья кого-либо из вас. А возможно ли отныне для меня счастье, если сердце Фернанды терзают сожаления? Вот что привело меня вчера в ужас. Быть может, она любит его; если это так, сама она этого еще не знает, но разлука и тоска откроют ей правду. Зачем же ему уезжать, если она будет оплакивать его, а меня возненавидит? Нет, она не будет ненавидеть меня, она такая добрая и ласковая. Я тоже буду добрым и ласковым с ней, но она будет несчастной, несчастной из-за наших нерасторжимых уз. Я много думал об этом, прежде чем мы поженились, а с некоторого времени опять думаю. Не говори со мной, не сообщай ничего, пока я сам не спрошу. Боюсь, что в первый раз ты слишком уверила меня в их дружбе; тогда она была чиста, да чиста еще и теперь, но прежде они легко могли расстаться, а теперь разлука разобьет им сердца. Да простит нас Бог, мы ничего не делали с дурным и преступным намерением. Завтра я вернусь домой. Если Октав к тому времени не уедет, мне надо будет подумать над тем, что я должен и могу сделать.
LXI
От Октава — ФернандеВот уже месяц мы все вместе. И как странно мы провели время. С того дня, как вы мне приказали подавить свою любовь, я так усердно прикрыл ее пеплом, что иной раз мне казалось, будто она совсем угасла. Конечно, так Я чувствую себя куда спокойнее, чем зимой, но, право, вам следовало бы время от времени хоть немного оживлять пламя восторга тайной страсти, которая заставляла меня все обещать и всем жертвовать. Ваше сердце, по-видимому, отвергло меня, и я с каждым днем все больше впадаю в уныние. Быть может, вы боитесь, что я не буду слушаться ваших наставлений? Почему вы уже отступились от меня? Может быть, вам надоела моя грусть? Может быть, вам докучают мои сетования? А ведь как легко было бы вам утешить меня немногими словами доверия и сострадания! Неужели вы не знаете своей власти надо мной? Когда же она ослабевала? Иной раз вы бываете безотчетно жестоки и делаете мне ужасно больно, не замечая этого: разве не могли вы, например, немножко скрывать от меня свою любовь к мужу? Во всем остальном вы так великодушны и деликатны, но в этом, словно нарочно, с каким-то упорством причиняете мне страдания. Оставьте эту ненужную выставку супружеских чувств для женщин, сомневающихся в себе. А как тактично вы держали себя в первые дни, в дни милосердия своего! Как хорошо вы умели сказать мне такие слова, которые утешали или по крайней мере смягчали мое горе! Разумеется, вам на ум не приходила кощунственная мысль умалить достоинства вашего мужа, которые я и сам ценил, но все-таки раньше, когда вы говорили о нем, то, не отрицая своей привязанности к нему, которую я и не хотел бы отнять у него, вы обладали чудесным уменьем убеждать меня, что и моя доля так же хороша, как его, хотя и отличается от нее; а теперь вы проявляете бесполезный и жестокий талант мучить меня, показывая, как великолепна его доля и как ничтожна моя. Разве не могли вы скрыть от меня эти фокусы с детьми и с колыбельками? Не знаю, как объясниться яснее, боюсь быть грубым — сегодня я в язвительном расположении духа. Ну, вы приказали вынести колыбели детей из вашей спальни, верно? В добрый час! Вы молоды, чувства ваши в расцвете, муж преследовал вас требованиями поскорее отнять детей от груди. Ну что ж, тем лучше. Нынче утром вы менее прекрасны и кажетесь мне менее чистой. Я чтил вас в мыслях своих, благоговел перед вами; видя вас, такую молодую, с двумя младенцами на коленях, я сравнивал вас с Богоматерью, с белокурой и целомудренной мадонной Рафаэля, ласкающей своего сына и сына Елизаветы. В самых пламенных восторгах страсти увидев, как из вашей белоснежной точеной груди падают капли молока на невинные уста вашей дочери, я замирал в каком-то неведомом чувстве и почтительно отводил взгляд из страха осквернить эгоистическим желанием святейшую из тайн благодетельной природы. А теперь… Теперь прикрывайте хорошенько свою грудь, вы снова стали женщиной, вы более не мать и не имеете права на то наивное уважение, которое я питал к вам вчера и которое переполняло мое сердце любовью и грустью. Я чувствую себя более равнодушным и более смелым. Как дурно вы поступаете с человеком столь простодушным, по-деревенски простодушным, как я: ведь вы могли иначе вернуть своему супругу право входить по ночам к вам в спальню — можно было и не оповещать об этом весь дом, а главное, не оповещать меня.
LXII
От Жака — Сильвии Блосская фермаЯ должен уехать. Не знаю, на сколько времени, но уехать мне необходимо: я становлюсь противен Фернанде, а это уж хуже всего на свете. Она любит Октава, теперь для меня это несомненно. Вчера, когда она по моему настоянию велела перевести детей из спальни, так как они своими криками не давали ей спать и довели ее до изнеможения, заметила ли ты, какой странный спор возник между Октавом и ею: — А вы уверены, что дети будут обходиться без вас всю ночь? — сказал он. — Надо им привыкать, — ответила она, — их уже пора отнимать от груди. — Мне кажется, они слишком малы для этого. — Им скоро исполнится год. — Flo за ними плохо будут ухаживать. Кому же мать может передать заботу следить ночью за детьми? — Я без всякого страха могу поручить это Сильвии. Тогда он нетерпеливо махнул рукой и вышел, ни с кем не простившись. Сначала я не понял, что означаетего поведение, но, когда поразмыслил, мне все стало ясно. Я внимательно поглядел на Фернанду: за последнее время она очень побледнела, но скорее от какой-то печали, чем от болезни. Я решил узнать, что с ней, как мне держаться, и в полночь вошел в ее спальню. Бог мне свидетель, что, приказав унести детей, я не имел тех намерений, которые Октав приписывал мне. Уже больше года жена не засыпала у меня на груди, а это было бы столь же сильной и столь же чистой радостью, как и в первый день нашего союза, будь эта радость взаимной; но целый месяц меня томят сомнения, и этот месяц, в который я, не принуждая ее нарушить святые обязанности материнства, мог бы сжимать ее в своих объятиях, был исполнен для меня неизбывной тоски. Как она теперь мрачна и молчалива! Ты заметила, Сильвия? Октав печален, а иногда ходит как в воду опущенный. Они борются, сопротивляются, несчастные! Но любят друг друга и страдают. Напрасно я то принимал, то отбрасывал мысль об их взаимном влечении — она все сильнее укреплялась во мне. Наконец я решил вчера согласиться с этой мыслью, как она ни была для меня ужасна, и на мгновение отважился показаться своей жене низким человеком, чтобы никогда не подвергаться опасности стать негодяем. Я подошел к ее постели и увидел, что Фернанда притворилась спящей, — бедняжка надеялась таким образом избавиться от моей назойливости. Я поцеловал ее в лоб, она открыла глаза и протянула мне руку; но я заметил, что она вздрогнула от ужаса и отвращения. Я, как и прежде, заговорил о своей любви, она назвала меня дорогим своим Жаком, своим другом, ангелом-хранителем, но о слове «любовь» и не вспомнила, а когда я попытался привлечь ее губки к своим губам, лицо ее приняло странное выражение унылого смирения. Ангельскую кротость излучало ее чело, во взгляде сквозила безмятежность чистой совести, но уста были бледны и холодны, руки двигались вяло. Я почел испытание достаточно сильным; для меня было бы немыслимо искать удовольствия в ее мучениях. Во мне вызывали ужас мои супружеские права, а она, видимо, полагала, что я способен воспользоваться ими против ее воли. Я поцеловал ей руки и попросил, чтобы она рассказала мне, о чем она горюет и чего не хватает для ее счастья. — Да как же я могла бы считать себя несчастной, — ответила она, — когда единственная твоя забота — сделать мою жизнь приятной, избавить меня от малейших огорчений? Какой надо быть женщиной, чтобы жаловаться на тебя! — А если б тебе захотелось переменить образ жизни, — сказал я, — поехать в другие края, окружить себя более многочисленным обществом, знай, что достаточно тебе сказать слово, и я с величайшей радостью готов буду исполнить твои желания. Если ты печальна и больна, оттого что тоскуешь, почему не признаешься мне в этом? — Нет, я не тоскую, — ответила она со вздохом, и я увидел, что ее искушает мысль открыть мне свое сердце. Вероятно, она так и сделала бы, если б тайна принадлежала лишь ей одной, но она не могла исповедаться мне за другого. Я помог ей замкнуть в груди свое признание и ушел, сказав следующие слова: — Помни, я твой отец и готов нести тебя на руках, чтобы ты не ступала по терниям. Только скажи мне, когда ты устанешь идти одна. В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, Фернанда, никогда не бойся меня. — Ты ангел, ангел! — повторила она несколько раз, и лицо ее осветилось благодарностью за то, что я ухожу. Я возвратился в свою спальню и в отчаянии бросился на постель. Последний раз в жизни я переступил порог ее спальни. Значит, это непоправимо — она меня больше не любит. Увы! Разве я давно уже этого не знал? Зачем мне понадобилось еще одно испытание, чтобы удостовериться в этом? Ведь уже несколько месяцев, сама того не зная, она любит Октава. А та мирная привязанность, которую она выражает мне, — не что иное, как дружба. Со мной ей теперь хорошо, спокойно, из-за него же она начинает страдать, любовь всегда будет приводить ее к страданиям; вот сейчас ее будут мучить всякие страхи и все трудности светской жизни. Бог знает, какие преувеличенные укоры совести терзают ее, но что ж мне делать? Отвести ее от опасности и постараться, чтобы она позабыла Октава? Если я брошу ее в вихрь света, она при своей впечатлительности и простодушии опять будет тянуться к любви и сделает плохой выбор: ведь она гораздо выше тех салонных кукол, которых называют светскими женщинами, и вряд ли ей понравится их пустое существование и глупые их удовольствия. Возможно, что такая суета на некоторое время удивит, ошеломит ее и отвлечет от пережитой страсти, но вскоре она еще сильнее почувствует живущую в ней потребность в любви, в сердце ее пробудится любовь — к Октаву или к кому-нибудь другому, который не будет ее стоить и погубит ее. А тогда она справедливо возненавидит меня за то, что я оторвал ее от привязанности, которая была еще невинной и, быть может, навсегда осталась бы такой, и бросил ее в бездну разочарования и горестей. Но если я оставлю ее здесь, однажды утром она окажется преступницей в собственных своих глазах и, проливая потоки слез, обвинит меня в том, что в час опасности я покинул ее с полным равнодушием или глупой доверчивостью. Быть может, она возненавидит любовника за все свои страдания, волнения и упреки совести, а меня будет презирать за то, что я не сумел уберечь ее. Итак, я стою в растерянности на перепутье и не знаю, как поступить, словно никогда и не предвидел того, что сейчас совершается. Вот уже два года я всячески пытался представить себе то самое будущее, которое ныне наступило, но ведь есть тысячи причин для того, чтобы потерять любовь женщины, и всегда действует как раз та причина, которой ты не предвидел. Глупо предписывать себе правила поведения, когда лишь случай может указать тебе, какое решение явится наилучшим. Вот почему человеческое общество всегда строилось на самовластных законах, хороших для всей массы людей, ужасных и нелепых для отдельной личности. Можно ли создать кодекс добродетели, обязательный для всех, если человек не может создать такой свод для себя одного и обстоятельства вынуждают его менять эти правила десять раз в жизни? В прошлом году, когда я думал, что Фернанда дерзко обманывает меня, я собирался уехать, намереваясь бросить ее без всякой жалости и угрызений совести. Почему же так странно изменились теперь мое поведение и мои намерения? Она любит Октава, как я и полагал; перед ними те же самые места, те же люди, то же положение они занимают в обществе; но чувства мои уже не те: я полагал, что Фернанду грубо влечет к мужчине, а теперь вижу, что она любит трепетной любовью и против своей воли, любит душу, понявшую ее. Она бледнеет, она трепещет, она плачет. Вот как будто и вся разница, но эта разница все решает: вместо бессердечной женщины я вижу женщину благородную и искреннюю. Теперь я уже не могу утешаться презрением. Из-за чего она могла лишиться моего уважения? Что она сделала? Поистине ничего. И если б даже уступила пылкой страсти любовника, она лишь подчинилась бы велению неизбежной судьбы. Меня она больше не любит, а ей девятнадцать лет, и она прекрасна, как ангел. Если теперь она питает ко мне лишь чувство дружбы, это не моя и не ее вина. Могу ли я требовать больше жертв, преданности и привязанности, чем она приносит, ведя такую борьбу с искушениями? Могу ли я требовать, чтобы сердце ее иссохло и чтобы жизнь ее кончилась, раз пришел конец нашей любви? Я был бы глупцом и чудовищем, если б в гневе что-то замыслил против нее, но я ужасно несчастен, так как моя любовь еще жива. Фернанда ничего не сделала, чтобы угасить ее: она только причиняет мне страдания, но ничем не оскорбила и не унизила меня. Я стар и не могу, как она, открыть свое сердце для новой любви. Настало время мучений, и нет надежды отсрочить или избегнуть его. Но против страданий у меня есть щит, который не могут пронзить никакие стрелы: это молчание. Молчи и ты, сестра. Я ищу облегчения в письме к тебе, но пусть ни одно слово не сорвется с твоих уст.
LXIII
От Фернанды — ЖакуДруг мой, поскольку ты вернешься только завтра, я хочу сегодня написать тебе и обратиться с просьбой, которую мне выразить очень нелегко; но вчера ты говорил со мной так ласково, был таким добрым, что это придает мне смелости. Ты сказал, что, если эти места наскучили мне, ты с удовольствием предоставишь мне любые развлечения, каких я пожелаю. Я не ответила сразу согласием, не зная, как объяснить, что со мной творится, и не зная также, как тебе это сказать. Ты думаешь, мне скучно? Я не могу скучать возле тебя, да еще в твоем живописном краю, да еще с милыми своими детьми и двумя такими друзьями, как наши. У меня есть решительно все, что нужно для счастливой жизни, дорогой мой Жак, лучший друг мой, милый мой муж. Но что мне сказать тебе? Мне грустно, у меня тяжело на душе, а отчего тяжело — не знаю. Все какие-то мрачные мысли, совсем не сплю, все меня волнует, раздражает, от всего устаю. Может быть, это какой-то душевный недуг. Вдруг воображу, что я сейчас умру, что воздух, который я вдыхаю, душит меня, что он отравлен. И вот является не то чтобы желание, а потребность в перемене места. Может быть, это прихоть, но прихоть больной женщины, и ты пожалеешь меня. Увези меня отсюда на некоторое время; мне думается, я тогда поправлюсь и вскоре смогу возвратиться сюда. Ты мне на днях говорил, что господин Борель убеждал тебя купить имение господина Рауля, и ты прочел мне письмо, где Эжени и присоединяется к мужу и умоляет тебя приехать посмотреть имение, а заодно привезти меня, чтобы я провела у нее лето. И вот мне почему-то кажется, что это путешествие развлечет меня. Мне захотелось поехать с тобой и увидеться с добрыми нашими друзьями. Уговори Сильвию сопровождать нас: я не в силах сейчас перенести такое огорчение, как разлука с ней. Письмо я посылаю со слугой, пусть он же привезет и ответ от тебя. Избавь меня от дальнейших объяснений: мне так неловко, я чувствую, что прихоть моя смешна, но ничего не могу с собой поделать. Будь снисходителен, прояви ту божественную кротость, к которой ты приучил меня. До свидания, мой любимый! Дети чувствуют себя хорошо.
LXIV
От Жака — ФернандеТвои желания для меня приказ, моя бедняжка: поедем, куда тебе угодно; готовься, распоряжайся, чтобы нам выехать на следующей неделе, даже завтра, если хочешь; в жизни у меня нет более важных забот, чем твое здоровье и твое благополучие. Сию же минуту напишу Борелю, что охотно принимаю его любезное предложение. Как раз у меня сейчас есть свободные средства, и мне будет приятно вложить их в покупку земли в Турени, где надзор друга обеспечит ее доходность. Мне было бы грустно совершить эту поездку без тебя. Не знаю, сможет ли Сильвия сопровождать нас, с этим связано много затруднений и неудобств — больше, чем ты думаешь. Я поговорю с ней, и если только этот замысел не окажется совершенно неосуществимым, она не расстанется с тобой. Итак, мы поедем — на какой тебе угодно срок, моя милая детка; но помни, что если в Серизи тебе будет скучно или неприятно, то я готов, хотя бы на следующий же день после нашего прибытия, отправиться с тобой в другое место или привезти тебя обратно домой. Не бойся, что я сочту тебя причудницей: я знаю, что ты больна, и отдал бы свою жизнь, лишь бы тебе стало легче. Прощай. Шлю поцелуй Сильвии и тысячу поцелуев детям.
LXV
От Октава — ФернандеИтак, вы уезжаете. Я вас оскорбил, и вы покидаете меня, не желая видеть мое отчаяние, не желая слышать мои бесполезные и назойливые сетования. Вы совершенно правы, а все же вы сильно упали в моих глазах. Как вы были великодушны, когда говорили, что не любите меня, но что вам меня: жаль и вы согласны терпеть мое присутствие, пока я буду нуждаться в ваших утешениях и поддержке вашей! Теперь вы ничего больше не говорите. Как в лихорадочном бреду, я твержу вам о своей любви, а вы из сострадания молчите — вероятно, боясь довести меня до отчаяния; у вас уже не хватает терпения слушать меня, и вот вы уезжаете. Как быстро вас, Фернанда, утомила возвышенная обязанность, которую вы по своему почину взяли на себя, но не имели сил выполнить! Я еще не исцелился от своей любви, вы только растравили рану, она открылась и стала жгучей, палящей язвой. Ведете вы себя очень осторожно. Я не ожидал от вас такой изобретательности; вы все мгновенно уладили, преодолели все препятствия с величайшим искусством и хладнокровием опытного стратега. Великолепно для вашего возраста! Сильвия была резка и откровенна: уезжая, она оставляла мне записки и без обиняков сообщала в них, что уже не любит меня. Вы более политичны, умеете пользоваться удобным случаем, поймать его на лету. Вы все устроили так ловко, так правдоподобно, что можно было бы поклясться, будто вас насильно увозит муж, меж тем как его великодушное и доброе сердце полно удивления и он лишь подчиняется вам, не понимая, что за прихоть пришла вам в голову. Сильвии не очень-то хочется ехать к чужим людям, которые ее совсем не знают, и быть может, весьма бесцеремонно будут обращаться с ней. Вы при своих близких удостаиваете меня лицемерными знаками сожаления и привязанности, но так искусно избегаете случаев побыть со мною наедине, что, не будь я взбешен, я впал бы в отчаяние. Не беспокойтесь: у меня, как у любого возмущенного человека, пробуждается гордость, раз меня обдают холодом презрения. Вам бы следовало выразить негодование в тот день, когда я имел дерзость признаться вам в любви: тогда я тотчас же уехал бы, и вы уж давно избавились бы. от меня. Почему вы задали себе теперь столько хлопот? Зачем покидаете свой дом и перевозите в другое место все семейство, когда вам стоит сказать мне только слово, и я отправлюсь в Швейцарию? Неужели вы думаете, что я потащусь за вами по пятам и буду надоедать вам своими преследованиями? Вы выбрали себе в качестве убежища дом Борелей, полагая, что это единственное место в мире, куда я не посмею проникнуть. Ах, Боже мой! Зачем столько беспокойства! Оставайтесь, живите спокойно, я уеду через четверть часа. Распаковывайте свои чемоданы, скажите мужу, что вы передумали. Сегодня я вас видел последний раз в жизни. Прощайте, сударыня.
LXVI
От Фернанды — ОктавуВы совсем неверно истолковываете причины моего отъезда и моего обращения с вами. Я требую, чтобы вы остались до завтра, если только вы не желаете, чтобы мой муж угадал тайну, которая может лишить его счастья, а меня — покоя. Сегодня в десять часов вечера мы уедем, пожав вам руку. Ступайте к большому вязу — под камнем вы найдете письмо, мое последнее, прощальное письмо.
От Фернанды — Октаву (Письмо, положенное под камень)
Я уезжаю, потому что люблю вас: сказать вам это и по-прежнему противиться вашей страсти я бы не могла. Равным образом свыше моих сил уехать, не сказав вам это. Я слаба, я больше не властна над своим сердцем; я чту свои обязанности, искренне хочу выполнить их. Под своими обязанностями я понимаю не только законы общества: общество сурово наказывает тех, кто нарушает его законы, но Бог милостив, он дает прощение. Ради вас я смело перенесла бы и насмешки и осуждение, которыми встречают проступок женщины; но я не могу принести вам в жертву (да вы бы и сами от этого отказались) счастье Жака. Ах, почему он такой безупречный! Почему он ни в чем не провинится передо мной, чтобы я могла располагать по своему усмотрению и его честью и своим покоем! Но ведь он ведет себя со мною и с вами так благородно! Что же нам делать? Покориться, бежать друг от друга и скорее уж умереть от горя, чем обмануть его доверие. Не знаю, когда я полюбила вас. Быть может, в первый же день, как вас увидела; быть может, Клеманс сделала печальный, но правильный вывод, написав мне, что я лишь пытаюсь обмануть свою совесть, а на деле уже погибла, когда вздумала способствовать вашему примирению с Сильвией. Теперь я не могу определить хорошенько, что происходило за последний год в бедной моей голове; я разбита усталостью от всей этой борьбы и волнений. Пора мне уехать — я уж и сама не знаю, что делаю; сейчас со мной творится то же самое, что испытывали вы месяц тому назад. Но тогда у меня еще были силы — впрочем, мне их придавала боязнь потерять вас. Чего я только не выдумала бы, в чем только не убеждала бы себя, в чем только не клялась бы перед Богом и людьми, лишь бы по-прежнему видеть вас! Мысль о разлуке была для меня ужасна, и я не могла с ней примириться; но одержанная победа, которой мы так гордились, оказалась выше сил человеческих: едва я увидела вас на вершине восторженной любви и мужества, на какую просила вас подняться, как душа моя разорвалась, словно слишком сильно натянутая веревка; я впала в необъяснимое уныние, а когда выходила из этой летаргии, то, любуясь вашей самоотверженностью и добродетелью, чувствовала, что мне нужно бежать от вас или погибнуть вместе с вами. Да хранит нас Бог! Теперь жертва принесена; если я умру, вспоминайте обо мне с жалостью. Простите, что я причинила вам столько мучений. Если хотите оказать мне последнюю милость, останьтесь еще на несколько дней в Сен-Леоне; а поскольку Сильвия не решилась поехать со мной, обратитесь к священной дружбе, которую небо оставляет вам в утешение. Сильвия тоже грустит; не знаю, что с ней; быть может, она угадывает, что я несчастна. Она преданно заботится о моих детях и заменит им мать. Взгляните на этих бедных крошек, которых я тоже покидаю, бросая разом все, что мне дорого на земле; взгляните на них, вспомните нашу с вами обязанность, и вы будете меньше страдать в эти первые дни. Избегайте угрюмого одиночества, раскройте душу для мыслей о нашей честной дружбе, и тогда картины этих мест будут напоминать вам о простых, бесхитростных сценах, исполненных дружеской близости, о вечерах, проведенных в семейном кругу, о том, как вы были счастливы, и тогда вы порадуетесь, что ничем не запятнали этих чистых воспоминаний.
LXVII
От Сильвии — ЖакуВы хорошо сделали, что оставили детей дома: такое путешествие очень повредило бы вашей дочке — она не совсем здорова. Надеюсь, ничего серьезного у нее нет, но в дорожной карете, где невозможен тщательный уход за ребенком, ее состояние могло ухудшиться. Не говори жене о болезни малютки — к тому времени, как ты получишь письмо, девочка, вероятно, уже поправится. Меня всегда страшно пугает малейшее недомогание твоих детей, особенно теперь, когда я одна; я все трепещу; а вдруг они заболеют по моей вине, поэтому я не отхожу от них ни на минуту, и пока дорогая наша детка не выздоровеет, я не сомкну глаз. Очень рада, что вы благополучно доехали и что вам оказали любезный прием; но очень Меня удручает и страшит непостижимое уныние, в которое, по твоим словам, погружена Фернанда. Бедная девочка! Может быть, напрасно ты так быстро исполнил ее желание, может быть, следовало дать ей время поразмыслить и опомниться. Мне кажется, что в минуту отъезда она была в отчаянии и если б не боялась огорчить тебя, то отказалась бы ехать. Ничего хорошего я не жду от этой разлуки. Октав сейчас как сумасшедший. Пока что мне удается удерживать его здесь, но я не в силах его успокоить. Я пробовала заставить его разговориться: я надеялась, что, излив мне свое сердце, он успокоится или проникнется мыслью, что ему необходимо держаться твердо; но твердость не в характере Октава, и даже если б я добилась от него кое-каких благородных обещаний, его решение оказалось бы недолгим порывом и продлилось бы лишь несколько часов. Я хорошо его знаю и, видя, как он безумно влюбился в Фернанду, мало надеюсь, что он поможет ей выполнить ее высокий замысел. Он в ужаснейшем смятении, страдает так сильно и глубоко, что мне жаль его, и в глубине души я готова плакать над ним. Будь снисходителен и милостив с ним, мой родной: право, они достойны сожаления. Я никогда не бывала в таких обстоятельствах и не знаю, что бы я сделала на их месте. Мое независимое положение, отчужденность от общества, свобода от всяких семейных обязанностей стали причиной того, что, когда во мне заговорило сердце, я повиновалась его велениям. Если у меня есть твердость, то я приобрела ее не в борьбе с собою, так как мне никогда не приходилось ее вести. Мысль о том, что я должна принести в жертву ненавистному мне светскому обществу истинную и глубокую страсть, приводила меня в содрогание, и я не считала себя на это способной. Правда, единственный подлинный долг Фернанды — это ее обязанности перед тобой; своим поведением ты налагаешь эти обязанности на всех, кто любит тебя, и у того, кто стал в отношении тебя предателем, не может быть ни минуты счастья. Помоги же Фернанде, помоги ей с присущей тебе мягкостью совершить великую; жертву — отказаться от своей любви. Я попытаюсь добиться чего-нибудь от добродетели Октава; но он закрыл мне доступ в свое сердце, а мне противна мысль насильно вырывать признания больной души, хотя бы и в надежде исцелить ее.
LXVIII
От Октава — ГербертуЯ в плачевном положении, дорогой мой Герберт; пожалей меня, но не пытайся давать мне советы: я не в состоянии воспринимать какие бы то ни было наставления. Фернанда все испортила, сказав, что любит меня; до тех пор я. считал, что она полна презрения ко мне; досада придала бы мне силы. Но, расставаясь со мной, она призналась в с во-; ей любви и теперь надеется, что я смирюсь с мыслью навсегда ее потерять. Нет, это невозможно! Пусть говорят что хотят три этих странных существа, среди которых я прожил целый год, ныне представляющийся мне сном, неким путешествием моей души в воображаемый мир! Да что же такое добродетель, о которой они твердят? В чем состоит истинная сила? В том, чтобы подавлять свои страсти, или в том, чтобы давать им волю? Неужели Бог послал нам чувства для того, чтобы мы отрекались от них? А тот, кто испытывает страсти настолько сильно, что готов пренебречь; всеми обязанностями, всеми бедствиями, укорами совести, всеми опасностями, — разве такой человек не является более смелым и более сильным, чем тот, которым управляют осторожность и благоразумие, сдерживающие все его порывы? А откуда это лихорадочное возбуждение в моем мозгу? Откуда этот огонь, пылающий в груди, это кипение крови, которое толкает, влечет меня к Фернанде? Разве это ощущения слабого человека? Те трое мнят себя сильными, потому что они холодны. Впрочем, кто знает их потаенные мысли, кто может угадать подлинные их намерения? Жак целый год подвергал меня опасности и, несмотря на свою тонкую проницательность, не замечал, что я у него на глазах схожу с ума. Сильвия все больше выказывала нежную привязанность ко мне, по мере того как я все спокойнее переносил ее презрение и бросал ей вызов, полюбив другую женщину. Кто они, эти люди, — возвышенные души или глупцы? С кем имели мы дело — с холодными резонерами, которые бесстрастно взирали на наши муки, занимались философским их анализом и с великолепным равнодушием эгоистической мудрости ожидали нашего поражения? Или же это герои милосердия, апостолы христианской морали, приносящие на алтарь мученичества и свою любовь, и свою гордость? Теперь, когда уже нет магнита, притягивающего меня к ним, я больше не знаю их. Не знаю, смеются ли они надо мною, даруют ли мне прощение, или обманывают меня. Быть может, они меня презирают, быть может, радуются своей власти над Фернандой и тому, что они с легкостью разлучили нас, когда она уже могла стать моею. О, если это так, горе им! Двадцать раз на день я вскакиваю с места, готовый помчаться в Турень. Но Сильвия меня останавливает, вселяет в меня нерешительность. Будь она проклята! Она все еще оказывает на меня влияние, неодолимое, роковое влияние. Ты вот веришь в магнетизм, и тебе тут была бы немалая пожива: попробуй объяснить, откуда у нее эта власть надо мной, хотя любовь моя к Сильвии уже угасла, а по характеру мы совсем непохожи, совсем не соответствуем друг другу. Когда Фернанда была тут, я чувствовал себя таким счастливым, вопреки своим мучениям, что на все смотрел ее глазами. Сильвия была для меня другом, дорогой сестрой, потому что она была подругой и дорогой сестрой Фернанды. А теперь она меня удивляет, вызывает у меня подозрения. Я не могу поверить, что она не враг мой; а жалость, которую она выказывает мне, унижает меня, как высшее доказательство презрения, которое женщина может дать своему бывшему возлюбленному. Ах, если бы я мог довериться ей, плакать перед ней, сказать, что я страдаю, если б я был убежден, что именно этого она ждет! Впрочем, к чему бы это привело? Она сестра Жака или по крайней мере столь близкий ему друг, что может лишь осуждать меня и противиться моей любви к Фернанде. Даже если б она была настолько великодушна, что хотела бы видеть меня счастливым с другой женщиной, как раз Фернанда — единственная женщина, чьей любви Сильвия не помогала бы мне добиться. Ах, если она меня презирает, то она права: у меня нет ни характера, ни убеждений. Я чувствую, что я не злой человек, не развратник, не подлец; я отдаюсь всем волнам, которые играют мной, всем ветрам, которые уносят меня. В моей жизни были минуты безумного и святого восторга, потом наступало ужасное уныние, жестокое сомнение и глубокое отвращение к людям, к их поступкам, которые накануне казались мне благородными. Я страстно любил Сильвию, мечтал возвыситься до нее, — она, мнилось мне, парила в небе, полусокрытая облаками; потом я почувствовал презрение к ней, заподозрил, что она куртизанка; затем опять проникся уважением к ней до такой степени, что, став отвергнутым возлюбленным, хотел жить возле нее хотя бы в качестве ее друга; а теперь она меня страшит, и у меня зарождается что-то вроде ненависти к ней; и все же я пока еще не могу вырваться из тех мест, где она живет. Мне все кажется, что она может сказать такое слово, которое спасет меня. Но почему я такой? Почему я не могу ни поверить твердо чему-либо, ни твердо отрицать что-либо? О, какую дивную ночь провел я возле Фернанды; я проливал у ног ее слезы, казавшиеся мне благодатным даром небес, но, быть может, то была лишь комедия, которую я играл сам с собою и где был вдохновенным актером и до глупости восхищенным зрителем. Кто знает, кто может сказать, каков я в действительности? Для чего ломать себе голову над всякими мучительными загадками, так что она того и гляди лопнет? А к чему ведет эта экзальтированность, которая вдруг стихает сама собою, как вспышка пламени? Фернанда была искренна в своих намерениях, верила в них, бедная девочка, но, клянясь Господу Богу, что не будет меня любить, она втайне уже любила меня. Она бежит от опасности, боясь сказать мне это, и наивно говорит мне обо всем в письме. Вот почему я так люблю ее! Именно из-за этой прелестной слабости ее сердце на одном уровне с моим. В ней-то я по крайней мере никогда не сомневался: с первого же дня я почувствовал, что мы созданы друг для друга, что ее натура родственна моей. Ах, я никогда не любил Сильвии, это невозможно: у нас с ней так мало сходства! Я хочу сжать в своих объятиях Фернанду — настоящую женщину, свою избранницу, любовь свою! И они еще воображают, будто я откажусь от нее? Но что будет потом? Все равно! Если они сделают ее несчастной, придется похитить ее вместе с дочкой, которую я обожаю, и мы уедем на мою родину, будем жить в какой-нибудь горной долине. Ты ведь дашь мне убежище? Ах, не читай мне проповедей, Герберт, я и без тебя знаю, что сам приношу себе несчастье, совершаю одно безумство за другим; я хорошо знаю, что, будь у меня профессия, я не жил бы в праздности, что, будь я, как ты, инженером путей сообщения, я не влюблялся бы попусту, но что поделаешь! Я не гожусь ни для какого ремесла, не могу подчиняться правилам и никакому принуждению. Любовь опьяняет меня, как вино; если б я мог, как ты, не хмелея, выпить за обедом две бутылки рейнвейна, то, верно, был бы в силах прожить год между двумя очаровательными женщинами и не влюбиться ни в одну, ни в другую. Прощай! Не пиши мне, так как я не знаю, куда отправлюсь. Двадцать раз на дню я укладываю чемодан, намереваясь ехать в Женеву, позабыть Фернанду, Жака и Сильвию, утешиться с помощью охотничьего ружья и собак; а то хочу отправиться в Тур, спрятаться в какой-нибудь гостинице, где мне можно будет писать письма Фернанде и получать от нее ответы; то жалостливо смеюсь над собой, видя свое нелепое положение, то плачу от бешенства, чувствуя, как я несчастен!
LXIX
От Жака — СильвииТо, что ты пишешь о маленькой, крайне меня тревожит: впервые она заболела; наверно, ей часто придется хворать — это в порядке вещей, но я не могу справиться со своим беспокойством: ведь мои дети — двойняшки, и поэтому их жизнь больше в опасности, чем у других детей. Девочка родилась более хрупкой, чем брат: по-видимому, оправдывается всеобщее убеждение, что один из близнецов развивается в утробе матери за счет другого. Если дочке станет хуже, сообщи немедленно, я приеду — не для того, чтобы помочь тебе в уходе за ней, ибо уверен, что ты заботишься о больной малютке прекрасно, но чтобы облегчить тебе бремя ответственности, которая легла на твои плечи. Я как можно дольше буду скрывать эту весть от Фернанды — ее здоровье очень пошатнулось, горе и тревога усилят ее недуг. Здесь она окружена заботами, вниманием друзей и развлечениями, но ничто ей не помогает. Она погружена в беспросветное уныние, и я просто поражен! Нервы у нее так раздражены, что характер ее совершенно изменился. Ты права, Сильвия, разлука не привела ни к чему хорошему. Мало найдется людей с такой сильной душевной организацией, что они спокойно и твердо выдерживают тяжкое решение; у обычных смертных совесть способна лишь на однодневный порыв — почти все падают без сил на другой же день, не перенеся мучительного испытания. Я полагал своим долгом согласиться на жертву, которую принесла Фернанда, и даже считал себя обязанным помочь ей в этом; я вовсе не надеялся на счастливый результат для себя самого: когда любовь угасла, ничто уже ее не разожжет. Уезжая из Дофинэ, я отнюдь не имел на своем лице радостного и глупого выражения, свойственного самолюбивому супругу, восторжествовавшему над женой; не было у меня в сердце и безумной надежды влюбленного, мечтающего обрести прежнее блаженство ценою несчастья ближних. Я хорошо знал, что в разлуке с Октавом Фернанда будет его любить еще более яростно; мне удалось защитить свою жену лишь от той опасности, от которой, возможно, ее спасло бы и собственное целомудрие. Я знал, что стрела все глубже будет вонзаться ей в сердце, по мере того как несчастная, напрягая последние силы, будет пытаться вырвать ее. Все мужья забывают свои любовные похождения и, когда у них отнимают ту, которую они почитают своей собственностью, притворяются, будто уж и не знают, что такое любовь. Надо тогда посмотреть, какими нелепыми аргументами они стараются доказать, что женщина, которая их покидает, преступница перед ними. Я же обвинил бы Фернанду лишь в том случае, если б она с безмятежным лицом принимала мои ласки, если б лживая улыбка играла у нее на губах. Но ее поведение благородно, ее грусть была бы для нее оплотом против моей тирании, будь я настолько груб, чтобы стать деспотом. Время от времени она невольно проявляет нечто вроде отвращения ко мне, и этот яростный взрыв искреннего чувства, по-моему, лучше лицемерной простоты. Бедная дорогая девочка! Бедная наша девочка (как ты ее называешь)! Она делает все, что может. Иногда она с рыданием бросается мне на шею, а иногда с ужасом отталкивает меня. Но чего ей бояться? Скоро я предложу ей возвратиться домой, если состояние ее не улучшится, так как не хочу, чтобы она была несчастной, да еще и ненавидела меня. Пусть падут на меня все беды, все оскорбления — только не это. Подожду еще несколько дней: может быть, ее нервное возбуждение уляжется, как припадок болезни. Я должен был согласиться привести ее сюда, даже будучи уверен, что это ничему не поможет; я должен был дать ей возможность совершить благородное усилие, чтобы у нее сохранилось воспоминание о добродетельной минуте в ее жизни: по крайней мере одним укором совести окажется у нее меньше, одним основанием больше для моего уважения к ней. Когда она упадет, устав бороться, я не подниму руку, чтобы прикончить ее, но предложу ей опереться на мое плечо и отдохнуть. Увы! Если б она знала, как я ее люблю! Но мне следует молчать, любовь моя была бы укором, а я чту ее страдания. Какой я глупец! Бывают минуты, когда у меня вдруг рождается надежда, что Фернанда вернется ко мне, что совершится чудо и вознаградит меня за все горести, которые я изведал в моей безрадостной жизни.
LXX
От Сильвии — ЖакуПриезжай немедленно: твоя дочь впала в состояние полной подавленности, и оно ухудшается с ужасающей быстротой; привези с собой доктора, более искусного, чем наши. Если Фернанда действительно так больна и печальна, как ты пишешь, скрой от нее положение дочери. Но как же мы сообщим ей позднее правду, если мои опасения оправдаются? Сделай так, как считаешь нужным. А как же оставить Фернанду у Борелей? Хорошо ли там будут за ней ухаживать? Правда, скоро в Тилли приедет ее мать, и Фернанда, если захочет, может поехать туда, как она мне сообщила; но из всего, что ты мне говорил об этой маменьке, видно, какой она плохой друг и какая ненадежная опора для своей дочери. Ах, зачем мы расстались! Это принесло нам несчастье. Октав уехал в Женеву. Он тоже пошел на жертву, чего же еще требовать от него? Я тщетно пыталась смягчить дружеским своим участием его горе; более чем когда-либо я убеждена, что его не назовешь человеком широкой души, что мелкое тщеславие или эгоизм (не знаю, что больше) закрывают возвышенным мыслям и благородным чувствам доступ в его сердце. Представь себе, он раздумывает и все не может решить — не намеревалась ли я открыть его тайны, для того чтобы злоупотребить ими, или же я искренне хотела примирить его с самим собой. Вообрази, ему пришла нелепая мысль, что я кокетничаю с ним, хочу, чтобы он опять пал к моим ногам. Он подозревал меня в низком и глупом самолюбии, считал, что я занята мелочными, жалкими расчетами, когда у меня душа разрывалась из-за страданий Фернанды и его собственных; когда я готова была отдать всю свою кровь, чтобы исцелить их путем разлуки или отправить их вместе в какую-нибудь страну, где бы они жили счастливо, но так, чтобы их счастье не касалось твоей жизни, в какую-нибудь страну, куда бы твоя нога никогда не ступала. Бедный Октав! К глубокому моему сожалению, он умом понимает, что такое величие, но достигнуть его не может, так как сердце у него слишком холодное, а характер слишком слабый. Он воображает, будто Фернанда ровня ему, но жестоко в этом ошибается: Фернанда гораздо выше его, и дай Бог, чтоб она могла его забыть! Ведь любовь Октава, может быть, сделала бы ее еще более несчастной. Он наконец уехал, поклявшись мне, что направляется в Швейцарию. Подождем решения судьбы и, каким бы оно ни было, самоотверженно посвятим себя тем, у кого не хватает силы для самоотверженности.
LXXI
От Октава — ФернандеВаш супруг в Дофинэ, а я в Туре; вы любите меня, и я люблю вас — вот и все, что я знаю. Я найду способ увидеться и поговорить с вами, не сомневайтесь. Не пытайтесь еще раз убежать от меня: я последую за вами на край света. Не бойтесь, что я скомпрометирую вас — я буду осторожен; но не доводите меня до отчаяния и не разрушайте бесполезным и безрассудным сопротивлением мои старания встретиться с вами так, чтобы никто об этом и не подозревал. Чего вы страшитесь? От каких опасностей убегаете? Неужели вы думаете, будто я домогаюсь счастья, которое стоило бы вам слез? Значит, у вас нет никакого уважения ко мне, если вы думаете, что я потребую от вас жертв. Я хочу лишь увидеть вас, сказать, что я вас люблю, и убедить вас возвратиться в Сен-Леон. Там мы опять заживем по-старому, вы останетесь столь же чистой, как сейчас, а я все таким же несчастным. Я готов все обещать и все принять, лишь бы меня не разлучали с вами — только это одно для меня невозможно. Я уже бродил вокруг замка и в садах Серизи, я уже подкупил садовника и приручил собак. Нынче в два часа ночи я проходил под вашими окнами; у вас в спальне был свет. Завтра я вам напишу, как мы можем увидеться без малейшей опасности. Я знаю, что вы больны, что вас (как утверждают) убивает какое-то тайное горе. И ты думаешь, что я тебя оставлю, когда твой муж тебя бросает и отправляется убирать сено, философствовать с Сильвией да подсчитывать свои доходы, поступающие натурой и деньгами? Бедняжка Фернанда, твой муж — скверная копия господина Вольмара; но Сильвия, конечно, не старается подражать бескорыстию и тонкости Клары — она просто кокетка, холодная и весьма красноречивая кокетка, вот и все. Перестань же ставить двух этих ледяных истуканов выше всего на свете, перестань жертвовать ради них твоим и моим счастьем; приди в объятия того, кто действительно любит тебя, возьми себе убежищем единственное сердце, понявшее тебя. Потребуй от меня любых жертв, но дай мне еще раз пролить слезы у твоих ног, сказать, как я тебя люблю, и дождаться, чтоб и с твоих уст сорвались эти слова.
LXXII
От Октава — ГербертуЯ в Туре уже целый месяц; терпеливейшим образом переношу томительные дни, выжидая редкие мгновения, когда мне бывает дозволено видеть ее. Да я еще потерял две недели, добиваясь этой милости, которую наконец и получил. Безрассудная! Она не знает, как ее сопротивление, ее укоры совести и слезы влекут меня к ней и разжигают мою страсть. Ничто так не может возбудить мое желание, ничто так не отгоняет природную мою беспечность, как препятствия и отказы. Немало пришлось потрудиться, чтобы побороть ее опасения, что все расстроится и она будет скомпрометирована. Словом, я был очень занят. Ты вот говоришь, что я нигде не служу, не занимаю никакой должности. Но уверяю тебя, нет более хлопотной, более порабощающей обязанности, чем необходимость тайно проникать к женщинам, которых охраняет свет и собственная их добродетель. Мне пришлось бороться с влиянием госпожи де Люксейль (той самой Клеманс, о которой я как-то раз говорил тебе) — на всем свете не сыскать столь невыносимой педантки и философки, столь сухой, холодной женщины, завидующей чужому счастью. Я составил о ней правильное мнение по ее письмам. Да еще у меня был случай порасспросить о ней моего приятеля, который живет в Туре и знает ее очень хорошо, потому что она часто сюда приезжает. И мне известно теперь, что это так называемая изысканная натура, одна из тех особ, которые не могут ни любить, ни внушать к себе любовь и проклинают всех, кто любит на этой грешной земле, одна из строгих наставниц, Обладающих прискорбным даром прозревать несчастья других женщин и со злорадством предсказывать им всякие беды, желая утешиться тем, что они-то сами чужды миру живых людей, не знают ни их мучений, ни их ликования, ибо они просто мумии, у которых вместо сердца пергаментный свиток с изречениями и которые, будучи неспособны на доброту и привязанность, гордятся своим безжалостным рассудком и здравым смыслом. Зная, что Фернанда живет сейчас в Серизи и что она, по словам ее знакомых в Туре, умирает от анемии, она явилась, чтоб навестить подругу и насытиться ее печалью, как ворон, поджидающий последнего вздоха умирающего на поле битвы. Быть может, ей даже удалось настроить против бедняжки Фернанды госпожу Борель — они обе ее товарки по монастырскому пансиону. Фернанда находит, что все теперь очень холодны с ней, и невольно жалеет о Сен-Леоне. Она вернется туда — я ее уговорю, и там я преодолею и ее угрызения совести и свои собственные. Да, Герберт, таких жалких соблазнителей, как я, еще не бывало. Я отнюдь не герой — ни в добродетели, ни в пороке; может быть, поэтому-то я всегда тоскую, волнуюсь и большую часть времени несчастен. Я слишком люблю Фернанду и не могу отказаться от нее. Лучше уж совершить любые преступления и перенести все бедствия. Но поскольку я люблю искренне, я не могу преследовать ее, пугать ее своей страстью, которой она еще не разделяет. Она разделит ее по воле Бога и природы. Какая преграда может противостоять неодолимому, жгучему влечению двух любящих сердец, ежечасно призывающих друг друга? Мне понятны экстатические радости платонической любви у молодых и полных жизни людей, сладострастно отдаляющих плотские объятия, чтобы подольше сливаться душою в поцелуях. У несчастных узников или бессильных людей такая воздержанность — невольное самоотречение, за которое они расплачиваются тайной тоской и мизантропией. Я предаюсь любовным излияниям и в угоду Фернанде возношусь в небесные сферы платонических чувств. Я ведь уверен, что, когда мне вздумается, я спущусь на землю и увлеку за собой Фернанду. Ты, верно, удивлен, что я веду такую жизнь. Я тоже удивляюсь. Однако, говоря по правде, беззаветно отдаваться на волю случая или судьбы, подчинять свои поступки страстям своим — это единственное, что мне подходит. Ведь в конце-то концов, я еще молод, по-настоящему молод и откровенно признаюсь в своих чувствах; я искренний человек, и может быть, единственный из всех, кто меня окружает, не хочу разыгрывать никакой роли. Я не хочу насиловать своей натуры и не стыжусь этого. Одни драпируются в греческую тогу, другие красятся, а есть и такие, что обкладывают себя гипсом, желая обратиться в величественную статую. Иные привязывают себе крылышки мотылька, хотя по природе своей они сущие черепахи. Как правило, старики хотят казаться молодыми, а молодые изображают из себя мудрецов и держатся с важностью пожилых особ. Я же следую всему, что мне приходит в голову, и ни в коей мере не думаю о зрителях. Недавно я слышал, как два господина рисовались друг перед другом. Один говорил про себя, что он желчный и мстительный, а другой назвал себя беспечным и апатичным. Выйдя из дилижанса, мы расстались, но в ту минуту характеры обоих уже проявились, Господин, именовавший себя желчным холериком, с величайшим хладнокровием встретил вызывающую дерзость «апатичного», который не мог перенести весьма маленького несогласия с ним в политическом вопросе. Потребность в кривлянии так велика у людей, что они гораздо охотнее хвастаются отсутствующими у них недостатками, чем возможными своими достоинствами. Я же бегу за магнитом, притягивающим меня, бегу, не глядя ни направо, ни налево, не прислушиваясь к тому, что говорят обо мне встречные. Иногда я смотрюсь в зеркало и сам смеюсь над собой. Но я ничего не меняю в своем образе — это стоило бы мне слишком много труда. При таком характере не очень скучно, не очень тоскливо ждать, что сделает со мной судьба; я заполняю досужее свое время самыми мирными занятиями — достаточно мне подумать о своей любви, как у меня кровь бросается в голову и разгорается надежда. Запершись впрохладном и темноватом номере гостиницы, я в самые жаркие часы дня рисую или читаю романы (ты, верно, не забыл мое пристрастие к романам). Здесь меня никто не знает, кроме двух-трех парижан, не имеющих никакого отношения к Борелям. Впрочем, Борели не знают моего имени, не видели меня в глаза, и мое пребывание здесь не может ни перед кем скомпрометировать Фернанду. Жак все пишет, что приедет за ней на следующей неделе, однако ясно как день, что он об этом и не думает, — для него куда важнее заботы о своем имении, чем о больной жене. Правда, ей ничего не стоит нанять почтовых лошадей, сесть с горничной в карету и отправиться к нему. Я как раз и стараюсь склонить ее к такому решению; после ее отъезда я вернусь в свой уединенный уголок — приеду туда через несколько дней после ее возвращения, а Жаку и Сильвии скажу, что я совершил небольшое путешествие по Швейцарии. Они или ни о чем не подозревают, или не желают ничего видеть. Охотнее всего я делаю последнее предположение — оно успокаивает остатки угрызений совести, которые еще шевелятся в моей душе, когда Фернанда с любовью глядит на меня своими большими, влажными от слез глазами и говорит громкие слева о жертвах и добродетели, снова и снова делая меня игрушкой желания и робости. Я — и вдруг робею? Представь себе, это правда. Я взобрался бы на стены башни Вавилонской, не испугался бы никого, кто охраняет красавицу, — ни евнухов, ни собак, ни полевых сторожей, но одного слова любимой женщины достаточно, чтобы я пал на колени. К счастью, мольбы возлюбленного действуют более властно, чем любые приказы земных владык и даже чем страх перед угрызениями совести. Нынче вечером я увижу Фернанду. Она иногда бывает с госпожой Борель на балах, устраиваемых гарнизонными офицерами; я там потанцую с ней в какой-нибудь фигуре кадрили, сделав вид, что мы незнакомы, и вообще найду способ перемолвиться с ней несколькими словами. У госпожи Борель есть тут большой дом, совсем пустой, он служит лишь для наездов в город, в нем только раз в неделю отпирают ставни и двери. Думаю, в него легко проникнуть и встретиться там с Фернандой. Она больше не хочет, чтобы я приходил в парк Серизи и бродил в нем. Мне, правда, очень нравится любовь на испанский лад, но моя трусишка со мной несогласна.
LXXIII
От господина Бореля — ЖакуСтарый мой товарищ! У тебя умирает дочь — допустим. Но над тобою нависла и другая беда: жена твоя губит себя. Дочь ты спасти не можешь, а другую беду попытайся отвести. Оставь детей на какого-нибудь надежного человека и приезжай за госпожой Фернандой. Я взял бы на себя обязанность отвезти ее домой, если б ты дал мне право приказывать ей. Но я слышал от тебя при твоем отъезде только следующие слова: «Друг мой, поручаю тебе свою жену». Не очень хорошо понимаю, что ты подразумевал под этим, ты ведь у нас философ. У вашего брата мысли весьма отличны от наших. Я-то старый вояка и знаю только полковой кодекс поведения. Однако ж в мое время вот как это делалось, да и сейчас делается в моем доме. Когда какой-нибудь друг, собрат по оружию, поручает мне свою жену или свою любовницу, свою сестру или дочь, я считаю себя облеченным определенными правами, или, говоря точнее, полагаю, что на меня возложены следующие обязанности. 1. Надавать пощечин или отколотить палкой любого нахала, каковой увивается за моей подопечной с явным намерением нанести урон чести моего друга, причем красавчик, которого я угостил пощечинами или побоями, никаких объяснений моим действиям не получает, даже если и вздумает их потребовать. Сей первый пункт будет в точности выполнен, можешь на это рассчитывать, если только разбойник, оскорбивший твою честь, попадется мне в руки, но до сих пор он был неуловим, как огонь, как ветер. 2. Если жена моего друга заартачится или же останется глуха к добрым моим советам, которые я в первую голову стараюсь ей дать, я считаю себя обязанным предупредить самого друга, для того чтобы он призвал к порядку свою жену, ибо я-то не имею права наказывать ее, как сделал бы это при подобных обстоятельствах со своей супругой. И вот эту вторую обязанность я и выполняю с глубокой печалью и даже с отвращением, поверь мне, но уж приходится, ничего не поделаешь. Ведь это немалая ответственность — сохранить нетронутой добродетель такой молодой и хорошенькой женщины, как твоя жена. Я стараюсь изо всех сил, но верь, она прекрасно может обвести меня вокруг пальца — в таких делах женщины куда хитрее мужчин. А промолчать — это значит терпеть зло и попустительствовать ему, да еще предоставить свой дом для предосудительной связи, в которой мы с женой будем казаться сообщниками. Я тебе излагаю дело без всяких прикрас, воспользуйся моим сообщением, как найдешь нужным. Пятнадцать дней, вернее сказать — пятнадцать ночей тому назад, в третьем часу утра я услышал, что кто-то шагает взад и вперед под моим окном. Моя любимая собака, которая всегда спит около моей кровати, бросилась с лаем к полуоткрытому окну, но, к великому моему удивлению, только одна эта борзая из всех наших псов так отнеслась к происшествию. Все остальные, хотя они обычно исправно исполняют свои обязанности, молчали, и я подумал, что ходит кто-то из своих. Я несколько раз окликнул полуночника: «Кто там?». Ответа не получил. Тогда я вышел во двор, вооружившись только тростью со шпагой внутри. Во дворе никого не оказалось, и Фернанда, стоявшая у своего окна, заверила меня, что она ничего не видела и не слышала. Мне это показалось странным, даже невероятным; однако я не выразил своего мнения, но держался начеку в следующие ночи. В третью ночь я очень явственно услышал те же шаги, борзая опять подняла шум; я ее успокоил и тихо-тихо вышел в сад. Я увидел, как в одну сторону убежал мужчина, а в другую женщина — не кто иная, как твоя жена. Я не показался ей на глаза в эту минуту, однако на следующий день за завтраком постарался намекнуть, что мне ее проделки известны; она сделала вид, будто не поняла меня. Однако ж вздыхатель больше не появлялся. Сначала я хотел было начистоту объясниться с твоей женой, но Эжени отговорила меня: оказывается, она уже выполнила эту обязанность и, чтобы не огорчать Фернанду (женщины лучше нашего умеют деликатничать), сказала, что только она одна раскрыла ее интрижку. Фернанда разрыдалась, забилась в нервном припадке, а потом ответила, что действительно она невольно внушила пламенную страсть некоему молодому безумцу, к которому она, однако же, питает только дружеские чувства, и что выслушивала она его признания лишь из жалости, а встретилась с ним для того, чтобы удалить его от себя навсегда. Я передаю тебе слова моей жены, женщины тоже довольно романтической на свой лад, — именно так она рассказывала мне о ночном происшествии. Можешь думать об этой таинственной дружбе все, что тебе угодно, а я тут не верю ни одному слову; но так как Фернанда поклялась Эжени, что сей господин уехал по меньшей мере в Америку, и так как в течение нескольких дней ничего не происходило, я охотно отказался от неприятной роли соглядатая. Так обстояло дело, когда командир гвардейского полка пригласил нас на свои балы. Я совсем не люблю этих вертопрахов — офицеров нынешней армии, франтов, которые щеголяют лакированными сапожками, а не шрамами от боевых ран и носят иностранные ордена вместо нашего старого креста Почетного легиона; но, в конце концов, полковник — любезный человек. Кое-кто из этих господ — бывшие наши военные, которых необходимость составить себе положение принудила переметнуться в другой лагерь; на ужинах у господ гвардейцев пьют хорошее вино и ведут крупную игру; ты знаешь, что я не святой, моя жена до безумия любит танцы, и вот, поворчав немного, я согласился посадить ее в коляску, взять в руки вожжи и повезти в Тур вместе с Фернандой, возвестившей, что она чувствует себя гораздо лучше, и с госпожой Клеманс, этой ханжой, которую я терпеть не могу (слава Богу, она простилась с нами, как только мы приехали в город). Твоя жена принарядилась для бала и была хороша как ангел. Поглядев на нее, никто бы не сказал, что она так больна, как уверяет. Я отошел к тем, кто не танцует, а дам оставил с теми, кто не поморозил себе ног в России; я только посоветовал Эжени хорошенько следить за своей подругой и тотчас предупредить меня, если окажется, что она танцевала несколько раз с одним и тем же кавалером или слишком часто болтала с ним. Я сам раза три-четыре заглядывал в бальный зал посмотреть, как она себя ведет. С виду все шло чрезвычайно прилично и, если только моя жена не сговорилась с твоей (на что я считаю ее неспособной), то поклонника надо признать весьма-ловким и менее безумным, чем его изобразила Фернанда. Возможно, она находится с ним в самом добром согласии и постаралась ничем не выдать его присутствия, Я совершенно не могу себе представить, кто же из тех кавалеров, с кем она танцевала на двух балах, столковался с ней и предложил ей план, который она так прекрасно выполнила. Продолжу свой рассказ. На другой день после второго бала, когда мы возвратились в Серизи, она сказала нам, что забыла кое-что купить и для развлечения съездит на днях верхом на лошади в город, чтобы исправить свою забывчивость. Я ответил, что в тот день и час, которые она изберет для своей поездки, я буду готов сопровождать ее вместе с моей женой или без жены, если Эжени окажется занята. Я предложил ей поехать завтра или послезавтра. Фернанда ответила, что это будет зависеть от состояния ее здоровья и что она предупредит меня в первое же утро, когда почувствует себя хорошо. На следующий день, около полудня, увидев. что она все не выходит в гостиную, я встревожился, не стало ли ей хуже, и послал справиться о здоровье нашей гостьи; но ее горничная ответила нам, что мадам в шесть часов утра уехала верхом на лошади, в сопровождении слуги. Это меня несколько удивило, я пошел на конюшню выяснить обстоятельства поездки. Я знал, что кобылу, принадлежащую Эжени, и маленькую лошадку, на которой обычно ездит твоя жена, отвели к кузнецу, за два лье от нас. Значит, Фернанде пришлось сесть на мою верховую лошадь, слишком норовистую и сильную для такой трусливой женщины, как твоя жена; решимость взять такую лошадь, казалось мне, выдавала страстное стремление поскорее попасть в Тур, и это усилило мое беспокойство. Я боялся, что Фернанда сломает себе шею, а ведь это, честное слово, было бы куда страшнее, чем все остальное. Я направился к воротам парка, решив подождать ее там, и вскоре увидел, как она мчится на лошади вскачь, запыленная и мокрая от пота. Увидев меня, она смутилась; вероятно, она надеялась, что никто не заметит ее возвращения и она успеет переодеться, сбросив с плеч одеяние, носящее на себе следы ее форсированного марша. Увидев меня, она все же набралась духу и сказала довольно развязно: — Вы не находите, что я ранняя птица и очень храбрая особа? — Да, — ответил я. — Поздравляю!.. Вот до какой степени вы переменились после отъезда Жака! — А вы заметили, как я хорошо правлю вашей лошадью? — добавила она, притворяясь, что не поняла намека. — Правда, сегодня я прекрасно себя чувствую! Я встала на рассвете и, видя, что погода превосходная, не могла воспротивиться фантазии совершить эту прогулку. — Очень мило! — сказал я. — Но разве Жак позволяет вам скакать одной по полям? — Жак позволяет мне делать все, что я хочу, — сухо ответила она и, не добавив ни слова, пустила лошадь в галоп. Я попытался было прочесть ей нотацию через свою жену, но ведь женщины выгораживают друг друга, словно мошенники: не знаю, какой у них вышел разговор. Эжени попросила меня не вмешиваться в это дело и все старалась доказать, что я не имею права наставлять особу, которая не является ни моей сестрой, ни дочерью, что мои насмешки грубы и обижают Фернанду, а мы ведь должны бережно относиться к ней — она так одинока, и вообще они противоречат законам гостеприимства. Что поделаешь! Она так хорошо отделала меня, что я прикусил язык, а твоя жена два дня спустя, то есть вчера, еще раз побывала в Туре таким же способом. Что я мог возразить, как я мог помешать ей съездить в город? Разве Фернанда не могла мне заявить, что ей просто-напросто надо было купить перчатки и белые туфельки? Эжени верила этому или притворялась, будто верит. Но вот какова была развязка. Ты не хуже моего знаешь, что в провинциальных городах все обо всех замечают, обо всем сплетничают, все раскрывают. Хорошенькое личико твоей жены произвело фурор на балах, и, конечно, гарнизонные офицеры наперебой ухаживали за ней, но так как нет на свете более чопорных особ, нежели дамы, которым надо скрывать кое-какие свои секреты, то все атаки кавалеров были с уроном для них отбиты. Они видели Фернанду, когда она приехала в первое утро, и издали следовали за ней до городского дома, как жена называет наше пристанище в Туре; они видели, как она вошла и потом вышла, заметили, сколько времени она там провела, дознались, что в доме нет никого, и, естественно, удивились, зачем она пробыла там взаперти два часа, — уж не молилась ли она Богу или не вздумала ли поспать? Пятеро или шестеро младших лейтенантов, праздных, как все гарнизонные офицеры, и лукавых, как и подобает молодым военным, повели расследование так искусно, что обнаружили дверь на черную лестницу, по которой через несколько времени после отъезда Фернанды ушел какой-то молодой человек, фамилии коего никто не знал, хотя с некоторых пор и видели его в гостинице «Золотой шар». Вчера, когда бедняжка Фернанда снова приехала на свидание, наблюдатели выждали, когда молодчик войдет в дом по черной лестнице, и незаметно для него отрезали ему путь к отступлению. Вокруг дома поставили охрану, но Фернанде дали выйти, не испугав ее ни единой враждебной выходкой, — эти господа все из порядочных семей и, как люди благовоспитанные, не решились заговорить с дамой при подобных обстоятельствах. В мое время мы были менее почтительны. Другие времена — другие нравы, к счастью для твоей жены. Эти господа гневались только на счастливого соперника, которого она предпочла им. Во дворе она села на лошадь, заперев входную дверь на ключ, который выпросила у моей жены под тем предлогом, что она хочет минутку отдохнуть в гостиной, пока перед обратной дорогой слуга взнуздает ее лошадь; ключ она положила в карман и, прежде чем выйти, разумеется, забаррикадировала парадное, чтобы никакой любопытный не помешал ее любовнику спокойно удалиться; а сопровождавший ее слуга, который был, а может быть, и не был посвящен в ее тайну, увез с собою ключ от ворот. Фернанда проехала меж двумя шеренгами зрителей — они делали вид, что покуривают трубку, разговаривая о своих делах, и, однако же, через минуту уже устроили засаду перед слуховым оконцем чердака, в которое любовник проник из соседнего дома. Они с большим удовольствием следили за его беспомощными усилиями выйти и долго держали его в плену — я узнал, что они хотели заставить его вступить с ними в переговоры, ответить на кое-какие вопросы и только тогда выпустить его на свободу. Он оставался глух ко всем призывам, ко всем шуточкам, молчал и не шевелился целый день, как мертвый. Осаждающие, изрядные плуты, решили взять его голодом и продержали под стражей всю ночь: поставили вокруг дома часовых и сменяли их ежечасно, как на военных постах. Но пленник нежданно-негаданно удрал по крышам, и эту его отчаянную вылазку можно назвать чудом смелости и удачи. Преследователи видели, как он, словно тень, пронесся в воздухе, но добраться до него не могли; в то же утро он покинул город, но никто не знал, по какой дороге он уехал. Твой бывший товарищ Лорен, ныне командир эскадрона в конно-егерском полку королевской гвардии, приехал ко мне пообедать и рассказал нам всю эту историю с нескрываемым удовольствием, так как он очень и очень не любит тебя. Как только он уехал, я направился к твоей жене: она, сказываясь больной, весь день не выходила из своей комнаты. Я устроил ей чертовскую сцену, а она разозлилась, как дьяволенок. Вместо того чтобы просить меня умолчать об ее авантюре, она дерзко потребовала, чтобы я сообщил тебе о ее поведении, и заявила, что я не имею права так разговаривать с нею, что я сущий грубиян и что она даже от тебя самого не стерпела бы тех упреков, какими я осыпаю ее. Ну, раз дела так обстоят, я умываю руки; однако ж совесть велит мне рассказать тебе всю правду. Она меня выгнала из комнаты и хотела немедленно послать за почтовыми лошадьми, решив уехать из нашего дома, где ее, как она говорит, оскорбляют и угнетают. Эжени постаралась ее успокоить, с Фернандой случился нервный припадок, на сей раз неподдельный, и это положило конец нашему столкновению. Теперь она лежит в постели, и Эжени проведет ночь подле нее; я же спешу написать тебе, так как боюсь, что завтра у нее опять явятся и силы и желание уехать, а я не хочу отпустить ее одну с молоденькой горничной, которая, кстати сказать, по виду и скрытница и самая настоящая пройдоха. Я сделал все возможное, чтобы убедить ее подождать тебя. Но, ради Бога, поскорее выведи меня из затруднительного положения. Не упрекай меня — ты же видишь, что я действовал с самыми благими намерениями, но я, право, не могу отвечать за то, что может случиться. Вдруг да она вздумает уехать, устроит какую-нибудь безумную эскападу, убежит с любовником или выкинет еще что-нибудь. Что мне делать? Я ведь не могу запереть ее. Не скрою, у нее сейчас голова не в порядке; в минуту гнева, вызванного ее сопротивлением моим советам, у меня вырвалось, что лучше бы она ехала домой ухаживать за умирающей дочерью, чем занималась экстравагантными любовными похождениями, из-за которых она уже стала посмешищем всей провинции и всего полка. Тут же я рассердился на себя — зачем, вопреки твоей просьбе, сказал о дочери. Фернанда забилась в истерике, что убедило меня, насколько тяжела для нее эта весть и как еще сильна в ней материнская любовь. В заключение прошу тебя: будь снисходителен к ней. Я знаю твое самообладание и рассчитываю, что ты поведешь себя благоразумно, но прибавь к этому еще и немного жалости к несчастному заблудшему созданию. Она еще очень молода, она может раскаяться и исправиться. Немало найдется хороших матерей семейства, которые в свое время пережили дни безумств; у нее, думается, доброе сердце; по крайней мере до свадьбы она была прелестным существом, я просто не узнал ее, когда ты привез ее к нам: какие-то капризы, судороги, истерики… Никогда бы прежде не подумал, что она способна на такие выходки. А ты, не скрою, показался мне уж очень благодушным мужем. Видишь, что получается, когда человек слишком влюблен в свою жену. Иные говорят, что и за тобой водятся грешки и что ты живешь у себя в имении в слишком нежной, интимной близости с некоей родственницей, приехавшей к тебе неизвестно откуда после твоей женитьбы. Я, конечно, понимаю, что когда жена беременна или кормит ребенка, мужу извинительно кое-какое баловство, но оно не должно происходить под супружеской кровлей, это весьма неблагоразумно, и вот как жены мстят за себя. Не сердись, что я это говорю, я знаю о разглагольствовании; одного разъездного приказчика, который, услышав нынче-! утром в кафе рассказ о приключении Фернанды, заявил, что ты, пожалуй, заслужил свою участь. Может быть, это заведомая ложь. Но как бы то ни было, приезжай, хотя бы для того, чтобы разведать, где укрылся соперник, и отделать его, как он того заслуживает. Я тебе помогу. Запечатываю письмо. Уже полночь. Твоя жена уснула, стало быть, ей лучше. Завтра я принесу ей свои извинения.
LXXIV
От Фернанды — Октаву Тилли, близ ТураЯ у маменьки. Обиженная и почти оскорбленная господином Борелем, я нашла приют не в доме покровительницы или подруги, а под кровлей той, чьи поучения, как бы ни были они суровы, все же не будут незаконным присвоением власти; я могу стерпеть любые речи, исходящие от матери, хотя они возмутили бы меня, услышь я их от какого-нибудь невежественного солдафона. Завтра я уезжаю в Сен-Леон, меня повезет туда маменька. Она знает о нашем злосчастном приключении (кто о нем не знает!), но отнеслась ко мне менее жестоко, чем я ожидала. Всю вину она возлагает на моего мужа и, вопреки всем моим доводам, упорно заявляет, что Сильвия — его любовница и что он оставил меня для того, чтобы жить с нею. Не знаю, кто распространил в наших краях эту гнусную ложь, но все охотно верят ей — люди с готовностью верят всему дурному. Увы, мало того, что своим поведением я обратила Жака в посмешище, я не могу помешать злым языкам клеветать на него! Его доброту, его доверие ко мне будут приписывать низким побуждениям. Я уверена, что Розетта нас выдала и продает наши секреты: сейчас я столкнулась с нею, когда она выходила от маменьки, и она очень смутилась, увидев меня. Через минуту маменька пришла ко мне поговорить о моих семейных делах, о моей безрассудной любви, и я убедилась, что наша история известна ей. до мельчайших подробностей. Но в каком духе ее обо всем осведомили! Вы и представить себе не можете, как были загрязнены и искажены все факты в истолковании этой служанки; наши первые свидания под большим вязом, когда я полагала, что предаюсь чувству безупречно чистому и совсем не опасному, были изображены в виде бесстыдной интрижки; прием, оказанный вам в те дни Жаком, насмешники именуют гнусной снисходительностью, а нашей дружбе с вами и с Сильвией, так долго протекавшей спокойно и ныне по-прежнему чистой, вынесен безоговорочный приговор — «любовный квартет». Что я могу ответить на все эти обвинения? У меня нет силы бороться против такой плачевной участи, и я предоставляю людям подавлять, унижать, пачкать меня. Я думаю о том, что дочь моя умирает, и, может быть, приехав через три дня домой, я уже не застану ее в живых. Небо разгневалось на меня — я, видно, совершила великое преступление, полюбив вас! Ваше письмо было для меня утешением, насколько может меня что-либо утешить. Но что теперь вы можете исправить? Я знаю, вы страдаете моими страданиями; знаю, вы отдали бы жизнь, чтобы избавить меня от них, но уже поздно, слишком поздно. Я не буду упрекать вас; я погибла, чего же теперь жаловаться? Не знаю, каким образом дошло до меня ваше письмо; но по тому средству, какое вы указываете для получения ответа, видно, что вы сейчас неподалеку, что вы вот-вот проникните в дом. Октав! Октав! Вы играете роковую роль в моей судьбе! Вы погубили меня своим поведением, и вы в нем упорствуете. Чему послужат ваши заботливость и пламенные преследования, из-за которых вы подвергаете свою жизнь опасности и порочите мою честь? Зачем пытаетесь вы спорить из-за меня с обществом? Оно смеется над нашими усилиями и видит в нашей привязанности скандальную связь и повод для издевательства. Как бы вы ни маскировались, с какими бы предосторожностями ни приближались ко мне, вас опять настигнут. Дом маленький, меня зорко стерегут, и Розетта вас знает; сами видите, к чему приводит помощь и преданность этих людей: за один луидор они вам помогут, а за два продадут. И для чего вам свидание со мной? Вы ничего не можете сделать для меня. Пусть уж лучше муж знает все, мне останется только добиться его прощения. Это будет не так уж трудно, я очень хорошо знаю Жака, и мне нечего бояться дурного обращения с его стороны; но его уважения я лишусь навсегда, он будет лишь жалеть меня, и эта его доброта станет для меня неизбывным унизительным укором. Что касается вас, то если вы вздумаете упорствовать в своем желании видеться со мной, за это вам, может быть, придется заплатить жизнью — ведь гордость Жака пробудится наконец от сна, в который ее погрузило доверие. Я не могу помешать вам идти навстречу своей судьбе, но муки, которые вы принесли мне, увеличатся, ибо любовь приведет вас к гибели. Ну что же, хорошо… Все, что может ускорить мою смерть, я сочту Божьим благодеянием: пусть Господь отнимет у меня дочь, пусть поразит вас вскоре и я последую за вами.
LXXV
От Октава — ФернандеЯ погубил тебя, ты в отчаянии, да еще думаешь, что я покину тебя? Да неужели я посчитаюсь с опасностями, которые могут грозить моей жизни, когда страдания подтачивают твою собственную жизнь? Ты, значит, принимаешь меня за негодяя? Ах, достаточно уж мне быть безумцем, проклятым небесами, чьи надежды всегда разрушает судьба, препятствуя всем его начинаниям. Пусть! Не время сейчас жаловаться и падать духом; помни, что теперь уж я не могу больше компрометировать тебя, — зло совершилось, и моя вина навеки останется кровоточащей раной в моем сердце. Но если прошлое исправить невозможно, то по крайней мере будущее принадлежит нам, и я не допускаю мысли, что оно станет для меня вечной, неумолимой карой. Бедняжка моя! Бог не захочет, чтобы ты всю жизнь страдала из-за греха, которого не совершала; если небо пожелает покарать нас, пусть начинает с меня. Да нет, Бог милостив и охраняет тех, на кого нападает свет. Он спасет тебя своими неисповедимыми путями, он сохранит тебе дочь. Этот мерзавец Борель преувеличил опасность ее болезни, желая отомстить тебе за вполне справедливую твою гордость, с которой ты отвергла его наглые наставления. Когда я уезжал из Сен-Леона, девочке слегка нездоровилось, и только, а ведь она крепенький ребенок, и, стало быть, ее организм вполне способен сопротивляться неизбежным детским болезням. Вернувшись, мы найдем ее здоровой, и, уж во всяком случае, она поправится, засыпая у тебя на руках. Все беды пришли для нее, как и для нас, оттого, что ты уехала. Мы жили счастливой семьей, верили друг другу, казалось, единое дыхание жизни воодушевляло нас. А ты вздумала нарушить это дружеское согласие, которому само небо предписывало нам следовать. Оно толкало тебя в мои объятия; Жак не знал бы ничего или терпел бы, а Сильвия не посмела бы обижаться. Теперь же свет сказал свое слово, обрушив свое лицемерное проклятие на нашу любовь, и нужно смыть его кровью. Позволь, я дам Жаку право пролить мою кровь, всю, до последней капли. Ведь я был бы мерзким подлецом, если бы поступил иначе. Если он успокоится, отняв у меня жизнь, и вновь сделает тебя счастливой, я умру утешенным, чувствуя, что я очищен от своего преступления; но если он будет дурно с тобой обращаться, грозить тебе или хотя бы раз унизит тебя, горе ему. Я вверг тебя в пропасть и сумею извлечь тебя оттуда. Ужели ты думаешь, что мнение света тревожит меня? Когда-то я полагал, что общество — строгий и справедливый судья; я порвал с ним в тот день, когда оно запретило мне любить тебя. И теперь я презираю его злословие. Я схвачу тебя в объятия и унесу на край света. Я увезу вместе с тобой и твоих детей, во всяком случае — дочь твою, и мы будем жить в глуши, в каком-нибудь уединенном уголке, куда не дойдут нелепые вопли общества. Я не могу подарить тебе большое состояние, как твой муж, но все, чем я обладаю, принадлежит тебе; я готов ходить в крестьянской одежде, я буду работать, зато дочку твою буду наряжать в шелка, и тебе не придется ничего делать, только играть с нею. Со мною тебя ждет жизнь менее блестящая, чем теперешнее твое существование, но в ней ты найдешь больше доказательств любви и преданности, чем во всех дарах твоего мужа. Итак, ободрись и поспеши домой. Если б я не опасался усилить гнев Жака, нынче же вечером я приехал бы за тобою и сам отвез бы тебя к мужу; но он, пожалуй, подумает в первую минуту, будто я хочу бросить ему вызов, а у меня и в мыслях нет такого намерения. Я приехал бы с целью предложить ему любое удовлетворение, какое он потребует. С полным правом он мог бы презирать меня, если б я бежал от него в такой час. Нынче утром я вошел в садик твоей матери и увидел, что она ведет какое-то важное совещание с Розеттой. Как можно скорее прогони эту девку. Я видел и тебя. Как ты была бледна, как убита! Я чувствовал мучительные укоры совести и отчаяние. На мне было крестьянское платье, и это у меня твой слуга купил букет цветов, в котором ты, верно, нашла мою первую записку. А второе письмо я сам принесу нынче вечером, отдам тебе в минуту отъезда и тоже двинусь в путь, в двух шагах от тебя. Мужайся, Фернанда! Я люблю тебя всеми силами души! Чем будем мы несчастнее, тем больше я стану любить тебя.
LXXVI
От Октава — ГербертуМне нужно многое рассказать тебе. Я отправился обратно в Дофинэ вечером пятнадцатого августа вместе с Фернандой и госпожой де Терсан; мать и не подозревала, что один из двух кучеров, правивших лошадьми, был не кто иной, как любовник, от которого она тешила себя надеждой увезти свою дочь. Госпожа де Терсан женщина злая, однако же очень осторожная, сторонница разумных и ловких мер; днем она дала расчет Розетте и отправила ее в Париж, снабдив ее довольно крупной суммой и рекомендательным письмом к некоей особе, которая должна найти этой горничной хорошее место. Я встретил Розетту на постоялом дворе в соседней деревне, где она села в дилижанс; мне так хотелось отделать ее хлыстом, но я вспомнил, что в интересах Фернанды мне следует поступить совсем иначе. Я дал ей вдвое больше, чем она получила от госпожи де Терсан, и дождался, когда дилижанс отправился в Париж… Там по крайней мере зловредное шипение ее языка потеряется в великом грозовом шуме голосов, которые гудят над бездной, поглощающей все вперемежку: и проступки и осуждение их обществом. В минуту отъезда Фернанды я с удовольствием видел, что госпожа Борель выказывает ей нежную дружбу, которая, должно быть, принесла хоть малое утешение разбитому сердцу несчастной женщины. На первой же станции я подошел к дверце кареты и, обменявшись с Фернандой взглядом и рукопожатием, передал ей записку, а затем сбросил с себя кучерской костюм и, наняв верховую лошадь, всю ночь скакал вслед за ее каретой; на каждой подставе я подходил к ней и при таинственном свете какого-нибудь фонаря видел в ее глазах искорку надежды и радости. Днем, когда она завтракала в гостинице, я нанял на станции экипаж и дальше уже ехал на перекладных. Кстати сказать, пришли мне поскорее денег — ведь если мне предстоит совершить еще какое-нибудь путешествие, не знаю, как я выйду из положения. Госпожа де Терсан не раз замечала в пути мою физиономию, но раньше она меня никогда не видела, а тут я имел вид разъездного приказчика, совсем не интересующегося ни ею, ни ее дочерью, и она никак не могла угадать мои намерения. Я остановился при въезде в долину Сен-Леон и, предоставив госпоже де Терсан ехать дальше по большаку, направился к церковному дому, велев кучеру пустить лошадей шажком, а через полчаса, свернув на проселок близ Коллин, а затем на лесную дорогу, я доехал до замка. Я вошел, никем не замеченный, и сел в гостиной за ширмой, за которой иногда ставили днем колыбельки близнецов. Там стояла только одна пустая колыбель; сердце у меня сжалось — я догадался, что девочка умерла, и залился слезами, думая о моей несчастной Фернанде. Какое горе ждет ее! Я пробыл там с четверть часа, поглощенный своими мыслями, подавленный всеми этими несчастиями, и вдруг услыхал шаги нескольких человек: это был Жак, а с Ним Фернанда и ее мать, которые только прибыли. — Где моя дочь? — спросила Фернанда мужа. — Покажи мне скорее дочь. Она произнесла эти слова душераздирающим голосом. А Жак с какой-то странной, жестокой интонацией ответил: «Где Октав?..». Я тотчас встал и вышел из-за ширмы, сказав решительным тоном: «Я здесь». Жак застыл на мгновение, потом устремил взгляд на госпожу де Терсан, на лице которой выразилось непритворное и вполне понятное удивление. Тогда Жак протянул мне руку и заметил: «Это хорошо». Вот наше первое и последнее объяснение. Фернанду мучила тревога о судьбе дочери и желание увидеть, как поведет себя со мною Жак; бледная, дрожащая, она упала на стул и сказала глухим голосом: — Жак, скажи, что дочь моя умерла и что ты получил письмо от господина Бореля. — Я не получил никакого письма, — ответил Жак, — и твой приезд для меня неожиданное счастье. Он сказал это так спокойно, что Фернанда, должно быть, поверила ему. Я и сам обманулся бы, если б не узнал через Розетту, которой были известны все тайны в Серизи, что господин Борель написал Жаку письмо и все в нем рассказал. Фернанда быстро поднялась, проблеск радости на мгновение озарил ее лицо, но тут же она опять упала на стул: — А дочка? Она умерла! — Я вижу, — ответил Жак, ласково наклоняясь к ней, — вижу, что Борель имел неосторожность объяснить, что за причины удерживали меня вдали от тебя. Печальное оправдание моего отсутствия, бедненькая моя Фернанда, не правда ли? Примем его и поплачем вместе. В эту минуту вошла Сильвия с сыном Фернанды на руках; подбежав к несчастной матери, она положила ей на руки ребенка и, вся в слезах, покрыла ее лицо поцелуями. — Один! — воскликнула Фернанда, обнимая сына, и лишилась чувств. — Сударь, — сказала тут госпожу де Терсан, беря зятя под руку, — предоставьте заботы о моей дочери двум особам, которых я, к удивлению моему, вижу здесь, и уделите мне сейчас же минуту для короткого разговора с вами в другой комнате. — Нет, сударыня, — ответил Жак сухим и надменным тоном. — Позвольте мне самому помочь моей жене, а потом вы мне скажете все, что вам угодно будет сказать, но обязательно в присутствии этих двух особ, находящихся здесь. Фернанда, — сказал он, обращаясь к жене, которая уже немного пришла в себя. — Мужайся, Фернанда, вот все, чего я прошу от тебя в награду за мою неизменную нежную любовь к тебе. Позаботься о своем здоровье, побереги себя для ребенка, оставшегося у нас. Посмотри, как он тебе улыбается, бедное наше, единственное наше дитя! Ты должна дорожить жизнью — ведь ты окружена людьми, обожающими тебя. Вот, гляди, — Сильвия: она ждет, чтобы ты по дружбе к ней сделала над собой усилие и ответила на ее ласки; вот я — гляди, я у ног твоих заклинаю тебя противиться своей скорби… А вот… Октав. Мое имя он произнес с явным трудом. Фернанда бросилась в его объятия, думая лишь о его горе; по лицу Жака катились крупные слезы, и он взглянул на меня с удивительным выражением упрека и прощения. Необычайный человек! В это мгновение мне хотелось броситься к его ногам. Около часа мы провели в слезах. Жак был так добр, так деликатен с женой, что она уже не опасалась хоть одного из двух несчастий, грозивших ей: она думала, что Жак еще ничего не знает, и настолько ободрилась, что протянула мне руку — мне последнему, после бесчисленных изъявлений своей привязанности к сыну, к мужу и к Сильвии. — Вот видишь, — тихо сказал я ей, когда на минуту оказался один близ нее, — видишь: не все удары разом падают на человека, и я по-прежнему у твоих ног. Тут я встретил взгляд госпожи де Терсан, q негодованием наблюдавшей за мною. Подошел Жак с Сильвией. Они уговорили Фернанду немного подкрепиться, и мы повели ее к столу. За завтраком все были грустны и молчаливы, но наши заботы мало-помалу как будто возвращали Фернанду к жизни. Никто не разговаривал с госпожой де Терсан, по-видимому совершенно равнодушной к горю, постигшему ее дочь, и занятой лишь наблюдением за мной и Сильвией: она поочередно оглядывала нас обоих, с подчеркнутой иронической вежливостью благодарила за услуги, которые мы изредка оказывали ей. Зато Жак нарочно не обращал на нее никакого внимания. Когда мы вернулись в гостиную, госпожа де Терсан, обращаясь к Жаку, сказала дерзким тоном: — Итак, сударь, вы отказываетесь объясниться со мной без свидетелей? — Решительно отказываюсь, сударыня, — ответил он. — Фернанда, — сказала госпожа де Терсан, — слышите, как обращаются с вашей матерью в собственном вашем доме? Я приехала сюда для того, чтобы защитить вас и оказать вам покровительство; я намеревалась примирить вас с мужем, насколько это возможно, доводами учтивыми и разумными побудить его признать свои грехи и, отказавшись от них, простить вам ваши провинности. Но меня оскорбили, прежде чем я успела вымолвить хоть слово в защиту вас. Как же, по-вашему, я должна вести себя впредь? — Маменька, умоляю вас, — в испуге и смятении воскликнула Фернанда, — отложите объяснения с кем бы то ни было до другого времени! — Разве ты, думаешь, Фернанда, — сказал Жак, — что нам с тобой когда-нибудь понадобится посредник, что иначе мы объясниться не можем? Ты, стало быть, просила свою мать приехать сюда и оказать тебе покровительство, защитить от меня? — Нет, нет!.. Никогда! — воскликнула Фернанда, пряча голову на груди у Жака. — Не верь этому! Все случилось против моей воли… Не слушай, не отвечай… Маменька, сжальтесь надо мной, молчите. — Молчать? Это было бы с моей стороны низостью, — возразила госпожа де Терсан, — если то, что я собираюсь сказать, может принести пользу. Но, как видно, мне не стоит стараться. Раз тут все довольны друг другом, мне остается только уехать. Однако помни, Фернанда, мы видимся в последний раз; я надеялась спасти тебя от позора, тебе же хочется еще глубже увязнуть в нем. Я вынуждена прекратить всякие отношения с вами. Иначе в глазах света я буду казаться потатчицей, поощряющей твое скандальное поведение по примеру твоего снисходительного супруга. Фернанда, бледная как смерть, упала на диван, прошептав: — Господи, смилуйся надо мной! Жак был так же бледен, как она, но только нахмуренные брови выдавали его гнев. (Когда-то Фернанда открыла мне эту примету, а госпожа де Терсан и не знала важного ее значения.) — Сударыня, — произнес он дрогнувшим голосом, — никто в мире, кроме меня, не имеет прав над моей женой, вы отреклись от своих прав, когда выдали дочь замуж. И вот, в силу своей власти и моей любви к Фернанде, я запрещаю вам корить и оскорблять ее. В том состоянии, в котором вы видите Фернанду, волнения могут иметь для нее роковые последствия. Я знаю, что ради удовольствия досадить мне вы не пожалеете жизни своей дочери, но если вы хотите напасть на меня, я сумею ответить — мне достаточно сказать то, что я о вас знаю. Госпожа де Терсан переменилась в лице, но гнев взял верх над страхом, который, казалось, вызвала у нее эта странная угроза; она встала и, взяв Фернанду за руку, грубо подтащила ее ко мне и почти бросила ее мне на колени, крикнув: — Ну, раз это ваш выбор, оставайтесь в пучине позора, куда вас ввергнул муж. Мне не под силу поднять столь низко павшую душу. А вас, мадемуазель, — сказала она Сильвии, — вас я поздравляю с успехом! Хорошую роль вы здесь играете! Как ловко вы подсунули любовника своей сопернице, чтобы вам можно было занять ее место на супружеском ложе. Сейчас я уеду. Я выполнила свой материнский долг, предложив дочери поддержку, о которой ей следовало бы молить меня, но которую она отвергла. Да простит ее Бог, а от меня ей нет прощения — я проклинаю ее! Фернанда вскрикнула от ужаса. Я невольно прижал ее к сердцу. Сильвия с ледяным презрением сказала госпоже де Терсан, что ей непонятна такая резкость и что она не станет отвечать на загадки. — Я сейчас сообщу тебе разгадку, — сказал Жак с горечью. — У этой дамы нет состояния, а я дал ее дочери дарственную, которая в случае вдовства Фернанды или раздельного нашего жительства обеспечит ей блестящие условия существования. И вот госпожа Терсан пытается рассорить нас для того, чтобы дочь уехала к ней, жила под ее опекой и предоставила маменьке распоряжаться ее имуществом, дающим пятьдесят тысяч ливров дохода в год. Вот и вся разгадка. Госпожа де Терсан позеленела от злобы, но ненависть чудесным образом развязала ей язык, и она осыпала Жака и Сильвию такими язвительными оскорблениями, что Жак потерял терпение, брови его сошлись на переносье; тогда он раскрыл свой бумажник и, достав оттуда листочек, на котором была наклеена половинка образка и написано несколько слов, показал этот клочок госпоже де Терсан и воскликнул громовым голосом: — А это вам знакомо? Она бросилась к нему в бешенстве, хотела схватить бумагу, залепетав, что она не понимает, что это значит, но Жак, оттолкнув ее, подошел к Сильвии и снял у нее с шеи нечто вроде ладанки, которую она всегда носила на груди. Он разорвал этот мешочек из черного атласа, извлек оттуда вторую половину образка и, показывая его госпоже де Терсан, повторил все таким же громовым голосом, как еще никогда не говорил при мне: — А это вам знакомо? Несчастная женщина едва не лишилась чувств от стыда, потом вскочила с места и закричала с ненавистью и отчаянием: — А все-таки она ваша любовница, так как вы хорошо знаете, что она не сестра вам! — Она не сестра тебе, Жак? — переспросила Фернанда, которой не больше нашего была понятна эта странная и таинственная сцена. Видя, что матери плохо, она подошла, чтобы помочь ей. — Нет, она ему не сестра, а любовница! — в бешенстве кричала госпожа де Терсан, пытаясь увлечь за собою дочь. — Бежим из этого дома — это место блуда, позора. Едем, Фернанда, ты не можешь оставаться под одной кровлей с любовницей мужа. Бедняжка Фернанда, разбитая жестокими волнениями, ошеломленная такими неожиданностями, стояла в растерянности, а мать, словно в бреду, трясла ее за плечи и толкала к дверям. Жак избавил жену от этих мучений и, освободив из рук матери, подвел к Сильвии. — Если она не сестра мне, то тебе-то уж она наверняка сестра; обними ее и забудь свою мать, которая сейчас сама погубила себя. Госпожа де Терсан забилась в ужаснейшей истерике. Ее унесли в спальню дочери. Фернанда вышла, чтобы помочь ей; вслед за нею двинулась было Сильвия, но вдруг, остановившись между Жаком и мною, взяла каждого из нас за руку. — Жак, — сказала она, — ты зашел слишком далеко! Не следовало говорить этого при Фернанде и при мне. Мне очень горько было узнать, что такая женщина — моя мать. Я думала, что смерть унесла ту, которая дала мне жизнь и тут же покинула меня. К счастью, Фернанда, должно быть, ничего не поняла в этой сцене; легко будет внушить ей мысль, что, называя меня ее сестрой, вы просто имели в виду мою дружбу с ней. Пусть она истолковывает все это как может! Никому из нас не следует объяснять ей эти печальные тайны. Октав должен свято хранить их. — Охотно буду молчать, тем более что я ничего не знаю и угадать эти секреты могу не больше, чем Фернанда. Мы расстались, и Сильвия провела остаток дня в комнате госпожи де Терсан. Фернанда занемогла и лишь только увидала, что мать ее немного успокоилась, тоже слегла. Сильвия усердно ухаживала за обеими больными. Право, у нее высокая и благородная душа. Не знаю, что произошло между нею и госпожой де Терсан, но на следующее утро, когда эта дама уезжала, не пожелав ни с кем проститься, она дозволила Сильвии проводить ее до экипажа. Я видел, как они проходили по парку, а они не могли меня заметить. Госпожа де Терсан имела удрученный вид; казалось, у нее уже не хватало сил ни гневаться, ни досадовать. Перед тем как сесть в карету, ожидавшую ее у ворот, она протянула Сильвии руку, но вдруг, после краткого колебания, бросилась в ее объятия и зарыдала. Я слышал, какСильвия предложила госпоже де Терсан проводить ее и помочь ей. — Нет, — ответила та, — смотреть на вас мне слишком тяжело. Но если я перед смертью позову вас, дайте слово, что вы приедете, чтобы закрыть мне глаза. — Клянусь! — ответила Сильвия. — И клянусь также, что Фернанда никогда не узнает вашей тайны. — А тот молодой человек будет молчать? — добавила госпожа де Терсан, говоря обо мне. — Простите меня, ведь я так несчастна! — Я кое-что хочу отдать вам, — сказала Сильвия. — Возьмите тот листок, который Жак вчера показывал вам. Три строчки, написанные на нем, — единственное доказательство моего происхождения. Вы можете и даже должны его уничтожить. Вот вторая половинка образка. Оставьте мне вашу: она никому ничего не откроет, а я дорожу ею из-за Жака. — Добрая, добрая девушка! — воскликнула госпожа де Терсан, с восторгом принимая листок бумаги, который протянула ей Сильвия. Вот и все изъявление благодарности, которое дочь услышала от матери. В злом сердце госпожи де Терсан радость избавления от страха за себя мгновенно взяла верх над раскаянием и смятением преступной совести. Она велела кучеру гнать лошадей. Сильвия долго стояла неподвижно и смотрела ей вслед; когда карета исчезла из виду, девушка скрестила на груди руки, и я услышал, как ее бледные губы произнесли чуть слышно: «Моя мать!». — Объясни же мне эту тайну, Сильвия, — сказал я, подходя к ней, и поцеловал ей руку с неодолимым чувством благоговения. — Как же эта женщина оказалась твоей матерью, когда ты считала себя сестрой Жака? Лицо Сильвии выразило глубокую сосредоточенность, и она ответила: — Во всем мире только эта женщина могла бы сказать, кто мой отец, но она и сама этого не знает. И эта женщина — моя мать. — Ее, значит, любил отец Жака? — Да, — ответила Сильвия, — но у нее одновременно был и другой любовник. — А что было на листке? — Рукою покойного отца Жака написано несколько слов, удостоверяющих, что я дочь госпожи де Терсан, но указывающих, что у него совсем нет уверенности, что он действительно является моим отцом, и, сомневаясь в этом, он не желает брать на себя заботы обо мне. Образок, половинка которого находилась у меня, он сам надел мне на шею, отправляя меня в воспитательный дом. — Что за участь у тебя, Сильвия! — сказал я. — Недаром же Бог дал тебе такое мужественное сердце. — Мои горести — ничто! — ответила она и повела рукой, словно отбрасывая всякие мысли о самой себе. — Больно мне из-за ваших мучений, из-за страданий Фернанды и особенно из-за Жака. — А меня тебе не жаль? — печально спросил я. — Тебя жаль больше всех, — сказала она, — потому что ты самый слабый. Но все же одно меня утешает: ты приехал сюда — это смелость, достойная мужчины. Мне очень хотелось поговорить с ней о наших общих горестях; в ту минуту сердце мое было полно такого доверия и уважения к ней, каких, пожалуй, никогда больше я не буду чувствовать. На моих глазах она совершила благородный поступок, я готов был открыть ей все свои мысли; но она меня наказала за прошлые мои подозрения, закрыв мне доступ в свою душу. — Это касается Жака, — сказала она, — а я не знаю, что у него на сердце. Твой долг — ждать, какое он примет решение. Будь уверен, что он все знает, но сейчас его первая и единственная забота — успокоить и утешить Фернанду. И, оставив меня, она углубилась в парк одна по другой аллее. Я пошел справиться о здоровье Фернанды; в спальне был муж, он читал, пока она дремала. Мое положение ужасно, Герберт! Вести себя с этой семьей так же, как прежде, невозможно: произошли события, из-за которых мы с Жаком должны стать непримиримыми врагами! Поймешь ли ты, сколько мне нужно было отваги, чтобы постучаться в дверь, которую Жак отворил мне, и как я страдал, когда он вышел, сказав мне с непроницаемым спокойствием: «Добейтесь, чтоб у нее хватило мужества жить». Что скрывается за бесстрастным великодушием этого человека? Неужели он в порыве великой любви подавляет неистовую свою ненависть ко мне и свои страдания? Бывают минуты, когда я этому верю, но это слишком уж противоречит натуре человеческой, и я не могу верить вполне искренне. Если б не многократные доказательства храбрости и презрения к жизни, которые не раз давал Жак и которых мне, быть может, никогда не случится дать, кто-нибудь мог бы сказать, что он боится вызвать меня на дуэль; но для меня, наблюдавшего за ним день за днем целый год, знающего через Сильвию всю его жизнь, такое объяснение — чистейшая бессмыслица. Придется мне остановиться на таком мнении: сердце у него храброе, но не пылкое: привязанности — благородные, но не страстные. Он играет в стоицизм — да, да, он, как и все люди, хочет играть определенную роль и теперь так сжился с избранным для себя образцом — каким-нибудь героем древности, что и сам стал этаким античным героем, чудесным и вместе с тем смешным в наш век. Что же ему подскажет его мечта о величии? До чего дойдет его великодушие? Ждет ли он, когда жена поправится, и тогда порвет с ней? Мне кажется, он смущен и вместе с тем доволен моей смелостью, а случается, смотрит на меня таким взглядом, в котором сверкает жажда крови. Лелеет ли он какие-нибудь замыслы мести, или принесет их в жертву своей любви? Я жду. Вот уже три дня мы все в том же положении. Фернанда действительно больна, и одну ночь мы очень тревожились за нее — ей было плохо. Жак и Сильвия позволили мне тогда бодрствовать вместе с ними в ее спальне; что бы ни таили они в глубине души, я от всего сердца благодарен им. Я надеюсь, что Фернанда вскоре поправится: молодость, крепкий организм и заботы близких, старающихся отогнать от нее всякую мысль о какой-нибудь новой беде, сделают, думается, еще больше, чем помощь превосходного врача, которого привели к умиравшей девочке и оставили теперь, чтобы лечить Фернанду. Прощай, друг. Сожги это письмо: оно содержит тайну, которую я поклялся сохранить и которую не выдал — ведь я все поведал только тебе, своему второму «я».
LXXVII
От Жака — господину БорелюБлагодарю тебя, мой старый товарищ, за твое письмо и за прекрасные твои намерения. Я знаю, что ты охотно подрался бы на дуэли, чтобы защитить мою жену от какого-нибудь оскорбления, и даже ради того, чтобы оказать мне меньшую услугу. Надеюсь, ты считаешь такую преданность взаимной, и если тебе понадобится дружеская помощь в каком-либо серьезном случае, ты обратишься за нею только ко мне. Поблагодари также от меня добрую твою Эжени за ее заботы о Фернанде и попроси, чтобы она, если будет писать ей, ни словом не упоминала, что я получил от тебя письмо, в котором ты сообщил мне обо всем случившемся. До свидания, славный мой Борель! Рассчитывай на меня. Твой на жизнь и на смерть Жак.
LXXVIII
От Жака — ОктавуЯ хочу избавить вас от стеснительного устного объяснения — между нами оно было бы трудным и мучительным. В письменной форме мы договоримся быстрее и более хладнокровно. У меня есть к вам несколько вопросов —.надеюсь, вы не станете оспаривать мое право спрашивать вас о некоторых вещах, интересующих меня по меньшей мере так же, как и вас. 1. Полагаете ли вы, что мне неизвестно то, что произошло между вами и особою, называть которую нет необходимости? 2. Какие намерения были у вас, когда вы возвратились сюда одновременно с этой особой и смело явились ко мне? 3. Питаете ли вы к ней истинную привязанность? Возьмете ли вы на себя заботы о ней и обязуетесь ли посвятить ей свою жизнь, если муж покинет ее? Ответьте на эти три вопроса и, если вы дорожите покоем и жизнью этой особы, сохраните от нее в тайне содержание моего письма; выдав его, вы сделали бы ее спасение и ее счастье невозможными.
LXXIX
От Октава — ЖакуЯ отвечу на ваши вопросы с полной откровенностью и доверием человека, не сомневающегося в своих чувствах. 1. Уезжая из Турени, я знал, что вы осведомлены о том, что произошло между нею и мной. 2. Я приехал затем, чтобы предложить вам жизнь в искупление оскорбления, нанесенного вам, и моей вины перед вами; если вы будете великодушны в отношении ее, я раскрою свою грудь и буду молить вас выстрелить в меня или ударить шпагой, будучи сам безоружным; но если вы захотите выместить обиду на ней, я буду защищать свою жизнь. Постараюсь убить вас. 3. Я питаю к ней столь глубокую и столь искреннюю привязанность, что если вы расстанетесь с нею по причине смерти или в негодовании бросите ее, я даю клятву посвятить ей всю свою жизнь и таким образом исправить, насколько это возможно, зло, которое я причинил ей. Прощайте, Жак. Я несчастен, но не могу рассказать вам, сколько я выстрадал из-за вас; если вам угодно отомстить мне, вам достаточно пожелать — и я встану к барьеру. Я был бы жалким трусом, если б молил вас, и бесстыдным наглецом, если б дерзко бросил вам вызов. Но я должен ждать решения, и я жду.
LXXX
От Октава — ГербертуЖак уехал. Куда? Когда вернется? И вернется ли когда-нибудь? Все это пока еще секрет для меня. Окружать себя тайной — пристрастие этого человека. Я предпочел бы получить двадцать ударов шпагой, чем терпеть его презрительное молчание. Однако не в чем я могу его обвинить? До сих пор он вел себя в отношении жены весьма благородно, но его милосердие ко мне унижает меня, а то, что он медлит отомстить, приводит меня в раздражение. Непрестанные сомнения и неуверенность в будущем — что это за жизнь! Я послал тебе копию той записки, которую он прислал мне из Сен-Леона, и копию моего ответа, написанного мною в доме священника. Посланиями мы обменялись между завтраком и обедом, за которым ежедневно, как и прежде, собирается вся семья. Тут не лишним будет заметить, что несколько дней тому назад Фернанда просила меня возобновить наш прежний образ жизни и сказала, что Жак сам поручил ей сделать мне такое предложение, Как раз в этот день она впервые после болезни вышла в гостиную, а на следующий день Жак прислал мне письмо со своим грумом. У меня достало смелости прийти к ним обедать, как и накануне, и Жак встретил меня так же, как и в предыдущие дни — с серьезным лицом и пожал мне руку. Это рукопожатие, которым он не удостаивает меня, когда мы встречаемся одни, очевидно предназначено для успокоения его жены и представляет собою чисто внешнюю церемонию, а недавняя смерть ребенка разрешает ему хранить безмолвную сдержанность, которую можно принять за грусть. Только после обеда он вышел вслед за мною в сад и сказал мне: — Намерения ваши таковы, как я и предполагал, этого достаточно. Вы неверный друг, но не бессердечный человек. Я требую от вас только одного: дайте честное слово, что вы скроете от Фернанды, какое объяснение было у нас с вами, и что никогда в жизни, будь я за тридевять «земель, будь я даже мертв, вы не скажете ей, известна ли мне правда. Я дал честное слово, и он добавил: — Хорошо ли вы понимаете всю важность клятвы, которую даете? — Мне кажется, понимаю. — Помните, что это первое и главное удовлетворение, какого я требую от вас за все зло, причиненное вами. Помните, что вы бы нанесли Фернанде смертельную рану, если б когда-нибудь открыли ей, что я простил ее. Ведь вы, конечно, понимаете, как при некоторых обстоятельствах может быть унизительна и мучительна признательность: человек жестоко страдает, когда не может благодарить благодетеля без краски стыда, а вы ведь знаете, что Фернанда горда. — Жак, — сказал я в волнении, — я знаю, как ты великодушен к ней! — Не благодари меня, — сказал он изменившимся голосом, — к тебе я не могу быть великодушен. И он быстро ушел. Вчера я застал Фернанду в печали и тревоге. — Жак опять нас покидает, — сказала она, — говорит, что неотложные дела призывают его в Париж. Но при теперешнем нашем положении все меня пугает. Быть может, он получил наконец роковое письмо от Бореля, случайно задержавшееся на почте, и теперь из сострадания обманывает меня притворной ласковостью. Я трепещу от страха, что он все знает и, быть может, замыслил совсем оставить меня без всякого объяснения. Я успокоил Фернанду, сказав, что в таком случае Жак счел бы нужным объясниться со мной, а он, наоборот, продолжал я, никогда еще не выказывал мне столь теплой дружбы. Фернанду легко обмануть: она совсем не привыкла рассуждать и настолько лишена наблюдательности, что вовсе не разбирается ни в окружающих, ни в своей жизни. Она кроткое и простодушное создание, ею всегда руководит инстинктивная жажда любви, потребность доверять людям, благоговейная вера в привязанность близких, и у нее совсем нет проницательности. Вошел Жак и заговорил о своих делах так правдоподобно, а Сильвия слушала его с таким видом, словно верила его словам, и все мы казались такими добрыми друзьями, что вечером Фернанда сказала мне: — Ах, какое героическое доверие со стороны Жака! Он опять оставляет нас вместе. Помните, Октав, что вы были бы чудовищем, если бы злоупотребили его доверием, и тогда я вынуждена была бы возненавидеть вас. Нынче утром Жак уехал. Он спокоен и поистине стоически выразил мне при всех дружескую приязнь. Но что у него в мыслях? Вероятно, он думает, что его жена —.моя любовница, а ведь этого нет. Она стойко сопротивлялась мне, а у меня хватило силы подчиниться ее отказам даже при таких обстоятельствах, когда страх потерять ее и смятение страсти должны были бы восторжествовать над всякой щепетильностью. Быть может, если б Жак знал это, он вел бы себя иначе; быть может, мне следовало сказать ему правду. Каким было бы героизмом с моей стороны убедить его остаться, сказав ему: «Твоя жена чиста. Вернись к ней. Я уезжаю». Но, видно, мне на роду написано никогда не быть героем, для меня это невозможно, я питаю непреодолимое отвращение к громким словам и банальным сценам. Я слишком хорошо себя знаю: я вышел бы в дверь, а через неделю пробрался бы через окно; я признался бы, что вот уже год представляю собою глупейшего из соблазнителей, и тотчас после такой чистосердечной исповеди действительно стал бы преступником. А впрочем, разве Жак поверил бы моим словам — как в отношении прошлого, так и в отношении будущего? Я больше не могу считать его слепым. Бывают минуты, когда его парадное великодушие кажется мне столь возвышенным, что я с детской непосредственностью восхищаюсь им; а затем рассудок берет верх, и я говорю себе, что, в конце концов, жизнь — это комедия, в которую не верят те, кто ее разыгрывает, что после громких тирад и эффектных — сцен каждый актер стирает с лица грим, снимает костюм и садится за ужин или укладывается спать. Жак действительно был бы стоиком, коим воображает себя, если б природа наделила его, как меня, живыми страстями. Если б он любил Фернанду так, как я люблю ее, и отказался бы от нее, как сейчас, я бы преклонялся перед ним. Но я хорошо знаю, Что, когда человек влюблен так сильно, как я, он неспособен на подобные жертвы. Жаку нравится героический жанр, и его мирная натура, привычка рассуждать и возраст, уже охладивший его страсти, прекрасно этому способствуют. Пусть ему хотя бы на четверть часа вложат в грудь мое сердце, и эти театральные подмостки рухнут. Он просто рад сейчас удалиться от жены: он, как Чайльд-Гарольд, любит одиночество и путешествия, ему больше хочется осуществить на практике созданную им теорию самоотречения, чем наслаждаться всеми благами жизни, и его гордость более удовлетворена возможностью помиловать меня, чем убить меня на дуэли. Он думает о том, что я восхищаюсь его геройством, что раскаяние, которое будет мучить меня, отомстит за него лучше, чем моя смерть. Не думай, что я стану отрицать все хорошее в его характере и в его поведении — поистине, я считаю его способным на подвиги, достойные Регула. Но будь я свидетелем жизни Регула, я уверен, что нашел бы в ней множество поводов для сомнения и усмешки. Герои — те же люди, но считают себя полубогами и в конце концов бывают ими в некоторые минуты, оттого что презирают человеческие чувства и борются с ними. А для чего все это, в конце концов? Для того чтобы найти себе среди потомков восторженных почитателей и подражателей? А чем наслаждается человек в глубине могилы? Напрасно я пытаюсь искать счастье жизни в утехах гордости — истина затмевает их блеском своего зеркала, и я остаюсь одиноким и беспомощным, тогда как сердце мое полно желаний и страсти. Вчера, когда Жак уезжал, столько безумных намерений приходило мне в голову: мне хотелось пойти проститься с Фернандой и уехать с ним. Да и то ли еще!.. Но как только он уехал и Фернанда, горько плача, позволила мне поцеловать ее влажные от слез руки, а потом и белоснежную шею и прекрасные волосы, прикасаясь к которым я трепещу от счастья, я был очень доволен, что остался наедине с нею, и невольно благодарил Господа Бога, надоумившего Жака уехать. Сколько бы я ни старался убедить себя, что признательность к Жаку и восхищение им должны исцелить меня от любви, кипящая моя кровь и порывы сердца победили бы эту тщетную попытку и педантичную добродетель. Фернанда еще глубоко взволнована, потрясена отъездом Жака; она прелестное дитя и верит в мужа, как в Бога? я сейчас считаю неблагородным бороться с этим поклонением. Правда, она, по-видимому, считает Жака дураком, так как твердо убеждена, что он даже и не подозревал о нашей любви, — вот что значит восторженное восхищение! Это как вера в чудеса: воображение работает вовсю, воспламеняя сердце и парализуя рассудок. Фернанда уже почти совсем поправилась; но сын ее на глазах худеет и бледнеет. Она еще этого не замечает, но боюсь, что вскоре опять ей придется проливать слезы, — ведь оба ее ребенка родились слабенькими! Все несчастья, которые могут постичь ее, сильнее привяжут меня к ней[я не какой-нибудь великий человек, «о я люблю ее, и я не разыгрывал роли, когда поклялся посвятить ей жизнь. Сильвия в глубокой печали — вот уж не думал, что она способна на такую грусть. Она скрывает свои чувства от Фернанды и добра к ней, как ангел; но лицо выдает ее тайные страдания и озабоченность, совершенно чуждую ее методическому и спокойному нраву. С некоторого времени мне приходят на ум странные мысли о Сильвии; если они окрепнут, я расскажу тебе. P. S. Фернанда получила письмо от госпожи Борель — та сообщает, что письмо ее мужа к Жаку так и не, было отправлено, что она самолично разорвала его на клочки, вместо того чтобы отправить на почту. Вероятно, и к этому сообщению Жак приложил руку. Нечего обманывать себя: этот человек изобретателен и на редкость тщательно выполняет свою задачу.
LXXXI
От Жака — Сильвии ПарижТы меня оплакиваешь, бедняжка Сильвия! Забудь меня, как забывают мертвых. Со мною все покончено. Протяни между нами, как завесу, погребальный покров и постарайся жить с живыми. Я выполнил свою задачу, жил достаточно и достаточно настрадался. А теперь я могу упасть во прах, смоченный моими слезами. Расставаясь с тобою, я заплакал, и глаза у меня не просыхали три дня. Я теперь хорошо вижу, что для меня все кончено, никогда еще я так не чувствовал, что сердце у меня разбито. Поистине я ощущаю, как оно разрывается в груди. Бог отнимает у меня силу — ведь она мне отныне бесполезна. Мне больше не надо страдать, не надо любить, моя роль среди людей окончена. Пусть Фернанда считает меня слепым, глухим и беспечным. Поддерживай в ней эту уверенность; пусть она никогда не подозревает, что я умираю от ее руки. Она стала бы плакать, а я не хочу, чтоб она горевала из-за меня, достаточно она и так помучилась. Она слишком хорошо узнала, что значит связать свою судьбу с моей и какое проклятие поражает тех, кто дарит мне свою любовь. — Она была словно меч в руках Азраила; но не по ее вине ангел-истребитель воспользовался ее любовью как отравленной стрелой и пронзил мое сердце. Надеюсь, теперь гнев Божий утихнет. На мне уж нет места живого, некуда наносить удары. Теперь все вы отдохнете и исцелитесь от любви ко мне. Меня тревожит ее здоровье, и я с нетерпением жду твоего письма. Надеюсь, мой отъезд и волнения при прощании со мной не усилили ее болезнь. Мне, может быть, следовало остаться еще на несколько дней, выждать, пока она окрепнет, но я больше не мог выдержать. Я человек, а не герой. Я чувствовал в груди все муки ревности и боялся, что могу поддаться гнусному порыву себялюбия и мести. Фернанда невиновна в моих страданиях; — она о них и не знает, она полагает, что мне чужды человеческие страсти. Быть может, и сам Октав воображает, будто я спокойно переношу свое несчастье и без особых усилий повинуюсь долгу, который взял на себя… Пусть они так думают и пусть будут счастливы! Их сострадание привело бы меня в ярость. Я еще не могу отказаться от жестокого удовлетворения — хочу, чтобы сомнение и ожидание возмездия повисло над головою этого человека, как дамоклов меч. Ах, нет у меня больше сил! Ты видишь, стоическая ли у меня душа. Нет, совсем не стоическая. Это ты, Сильвия, героическая натура и судишь обо мне по себе самой. Но я такой же человек, как и другие: страсти уносят меня, как ветер, и пожирают, как огонь. Я отнюдь не создал для себя правила добродетели выше естества человеческого, но чувство любви владеет мною всецело, и я вынужден приносить ему в жертву все, что мне принадлежит, даже живое сердце свое, когда мне больше нечего отдать. Я всегда изучал на свете только одно — любовь. Изведав на опыте все, что омрачает и отравляет ее, я понял, какое это благородное чувство, как трудно его сохранить, сколько оно требует преданности и жертв, прежде чем ты можешь похвалиться, что познал его. Не люби я Фернанду, я, быть может, и поступил бы дурно. Не знаю, удалось ли бы мне совладать со своей обидой и ненавистью, которую внушает мне тот, кто своей неосторожностью и эгоистическим сумасбродством сделал ее посмешищем чужих людей. Но она любит его, и поскольку я соединен с нею вечной своей привязанностью, жизнь ее любовника стала для меня священной. Я уезжаю, чтобы одолеть искушение избавиться от него, и одному Богу известно будет, каким отчаянием и муками я заплачу за каждый день, который подарю ему. Если есть у меня какая-нибудь добродетель помимо моей любви, то, может быть, лишь природная моя справедливость, прямота суждений, на которую никогда не влияли ни социальные предрассудки, ни личные соображения. Я не мог бы добиваться для себя какого-нибудь благополучия путем насилия или вероломства — тотчас же я почувствовал бы отвращение к своей победе. Мне казалось бы, что я украл приобретенное мною сокровище, я швырнул бы его на землю, пошел бы и повесился, как Иуда. Я считаю подобный конец вполне логическим следствием гнусного проступка и не могу не гордиться, что я не такая грубая скотина, как три четверти известных мне мужчин. На моем месте Борель преспокойно отколотил бы свою жену и, пожалуй, после этого без стыда принял бы ее на ложе, униженную его побоями и его поцелуями. А есть мужчины, которые, не задумываясь, зарежут неверную свою жену, ибо смотрят на нее как на свою законную собственность. Другие же вызовут соперника на дуэль, убьют или искалечат его, а затем идут вымаливать поцелуи у женщины, которую они якобы любят, хотя она в ужасе отшатывается от них или смиряется с отчаянием. Вот самые обычные случаи в супружеской любви, самые обычные поступки мужчин; у свиней — и то любовь менее низка и менее груба, чем у этих людей. Я допускаю, что на смену любви может прийти ненависть, что коварство жены порождает негодование в сердце мужа, что иные низкие поступки той, которая его обманывает, дают ему до известной степени право на месть; а тогда понятны и насилие и ярость; но что делать тому, кто любит? Я не могу сказать о себе (хотя многие, несомненно, будут так думать), что я человек глупый и слабохарактерный, раз я так упорствую в своей любви. В моем сердце нет низости, искажающей наши суждения. Будь Фернанда недостойна моей любви, я уже разлюбил бы ее. Одного часа презрения к ней было бы достаточно, чтобы исцелить меня. Прекрасно помню, что я чувствовал в течение трех дней, когда считал ее подлой. Но ведь ныне она уступает страсти, которая за год борьбы и сопротивления укоренилась в ее сердце; я поневоле восхищаюсь ею, и я мог бы еще любить ее, если б даже пришлось ждать еще месяц. Человек не властен над своим сердцем, никого нельзя считать преступником за то, что он полюбил или разлюбил. Унижает женщину только ложь. Прелюбодеянием надо считать не то, что женщина подарила час любовнику, а то, что она вслед за тем провела ночь в объятиях мужа. О, я возненавидел бы свою жену и мог бы поступить жестоко, если б она подставила моим губам свои губы, еще горячие от поцелуев другого мужчины, и отдала моим объятиям свое тело, еще влажное от его испарины! Она стала бы мне омерзительна в тот день, я бы раздавил ее,, как гусеницу, заползшую в мою постель. Но Фернанду, бледную, подавленную, страдающую всеми муками робкой совести, не способную солгать, постоянно готовую исповедаться мне в невольном своем грехе, я могу лишь простить и пожалеть. Разве я не видел со времени своего возвращения, что мое кажущееся доверие к ней причиняет ей ужасную боль, что колени у нее подгибаются и она готова упасть мне в ноги и молить о прощении? Сколько мне понадобилось искусства и осторожности, чтобы удержать на ее устах рвущееся из сердца признание! Ты спрашивала меня, почему я не принял ни исповеди, ни жертвы, которые она так часто хотела принести мне. Да потому, что я считал исповедь бесполезной, а жертву невозможной. Ты не любишь, когда сомневаются в добродетели близких нам людей, и не раз упрекала меня, что я не хочу довериться героизму, на который Фернанда, может быть, была бы еще способна. Полно, Сильвия! Разве не достаточно было недавнего испытания — роковой поездки в Турень, чтобы испытать силы Фернанды? Я хорошо ее знаю, знаю предел, до которого восходит ее добродетель и где она кончается. Лучшая ее защита — прирожденное целомудрие, и, без сомнения, оно долго охраняло Фернанду. Но решение навсегда расстаться с Октавом не может долго продержаться в этой по-детски чувствительной душе, которую пугает малейшее страдание и которая не выдержит настоящего несчастья. Разве это ее вина? Не окажемся ли мы глупцами и палачами, если потребуем от нее то, чего она не может дать, если будем ударами заставлять ее идти, когда у нее подкашиваются ноги? Ведь она едва не умерла, когда потеряла дочь. Бедная страдалица! Мимоза, сжимающая листочки под дуновением ветра. Могу ли я настолько исполниться мужской грубости и нелепой надменности, чтобы презирать и мучить тебя за то, что Бог создал тебя такой слабой и милой? Ах, как я любил тебя, скромный цветок, сломанный ныне ветром! Я любил тебя за твою тонкую и чистую красоту и сорвал тебя, надеясь сохранить для себя одного твой сладостный аромат, который ты источала в тени и в уединении; но налетевший вихрь рассеял его, и ты утратила былое очарование! Разве это причина для того, чтобы возненавидеть тебя и растоптать тебя ногами? Нет, я тихонько положу тебя на траву, блистающую росой, — туда, где нашел тебя, и скажу: «Прощай», ибо от моего дыхания ты уже не можешь затрепетать и есть кто-то другой близ тебя, кто должен тебя поднять и оживить. Расцвети же еще раз, моя прекрасная лилия, я больше не коснусь тебя.
LXXXII
От Жака — Сильвии ТурЯ вернулся в Тур. Почему пришла мне в голову эта странная мысль, объясню через несколько дней. Твое письмо я получил — мне добросовестно переслали его сюда из Парижа вместе с письмом Фернанды, очень ласковым и очень коротким. Да, понимаю, ей тяжело писать мне. Увы! Она не может любить меня даже как друга! Воспоминание обо мне станет для нее мукой; как укор совести будет возникать перед нею мой призрак! Спасибо тебе за твое сообщение, что она уже совсем поправилась, что на щеках у нее заиграл румянец, признак здоровья, что теперь она реже и не так горько плачет о дочери. Такие вести возрождают во мне мужество. Мужество! А для чего оно мне? Когда нужно было, у меня находилось мужество, а для чего оно мне теперь? Что бы ты ни говорила, Сильвия, а мне больше нечего делать на земле. Ты ведь знаешь, что мне сказал доктор о сыне в ответ на мои настойчивые вопросы. Я с полуслова понял, чего мне надо бояться и на что можно надеяться. Самое большее на то, что он на год переживет сестру. У него тот же недуг. Значит, я не буду необходим своему сыну и должен стараться не думать о нем, как о погибшей надежде. Я мог бы еще пожить для Фернанды, окажись я нужен ей. Но ведь если тот, кого она любит, когда-нибудь покинет ее, с нею будешь ты, ее сестра, истинная ее сестра по взаимной любви и по крови. Ты заменишь меня в заботах о ней, Сильвия, и твоя дружба будет для нее менее тягостна и нужнее, чем моя. Моя смерть может принести ей только пользу. Я знаю, что сердце у Фернанды слишком доброе, чтобы радоваться ей, но она невольно почувствует, что судьба ее изменилась к лучшему. В дальнейшем она может выйти замуж за Октава и тогда нашумевшая здесь скандальная история их любви окажется навеки похороненной. Ты мне пишешь, что произошедший скандал очень ее огорчает, что воспоминание о нем, которое долго заслоняла более глубокая скорбь о смерти дочери и страх потерять мою привязанность, вновь пробудилось в ней, когда она немного свыклась со своим горем и немного успокоилась относительно меня. Ты пишешь, что она ежечасно спрашивает, возможно ли, чтобы слухи о ее похождениях не дошли до меня в Париж, а теперь, когда тебе удалось ее успокоить доводами, которые не убедили бы даже ребенка, она трепещет при мысли, что стала всеобщим посмешищем, служит предметом игривых шуточек в провинциальной кофейне и россказней в полковой казарме. Во всем тут виноват Октав, а она ему прощает. Как же, значит, она любит его! В отношении последнего повода для страданий и тревог ты можешь ее успокоить довольно убедительными соображениями. Я очень доволен, что она откровенно говорит с тобой обо всем — это для нее большое облегчение: ты при своей искренней дружбе к ней и жизненном своем опыте больше, чем кто-либо другой, можешь смягчить ее мучения. Такого рода скандалы не так уж опасны для молодой женщины, как она воображает. Многие дамы даже гордились бы, что из-за этого приключения стали своего рода знаменитостью, приобрели особую привлекательность, и мужчины будут домогаться их внимания и милостей. Для какой-нибудь кокетки это стало бы исходной точкой блестящей карьеры, полной отважных похождений; и триумфов. У Фернанды не такой характер, она способна весь век свой стыдиться и прятаться. Пусть она живет в уединении Спокойной и счастливой жизнью, которую я пытался создать для нее, а теперь хотел бы оставить ей в наследство, и пусть она не оплакивает происшествие, над которым посмеются один день, а назавтра забудут о нем, заинтересовавшись другим анекдотом. Бывают смешные и постыдные приключения, грязь которых трудно смыть с себя, но подобного рода авантюр не может быть в жизни такой женщины, как Фернанда. Что про нее могут сказать? Что она красива; что она внушала страсть поклоннику; что он, не желая скомпрометировать ее, убежал по крышам с опасностью для жизни, ибо он рисковал сломать себе шею. В этом нет ничего безобразного и низкого. Если бы Октав вступил в переговоры со злыми шутниками, осаждавшими дом, получилось бы совсем иное. Любовь труса позорит женщину, как бы благородна она ни была. Но Октав вел себя хорошо. Всем известно, что он поехал вслед за Фернандой и сопровождал ее до самого дома. Великие замыслы и великие хитрости этого безумца всегда удаются. К счастью, он наделен отвагой, и, раскрыв его ребяческие секреты, не найдешь повода презирать его. В смешном и мерзком положении оказался не он, а я. Меня обвиняют в том, что я привел в дом свою любовницу. Рассказывают даже (так быстро облетают свет дурацкие шпионские сведения и ошибочные толки), что я попытался рыдать ее за свою сестру, но явилась госпожа де Терсан и разоблачила мою ложь. Такие слухи распространяет кто-то из служанок, а может быть, и сама госпожа де Терсан. Вот как подлые души умеют извлечь для себя выгоду из долготерпения и великодушия ближних. Словом, я всеми оплеван в Туре. Лорен, бывший мой однополчанин, с которым у меня произошло столкновение двадцать лет тому назад, Потешается надо мной вовсю. Но поскольку это касается лично меня, это дело я беру на себя. Ты не упоминаешь имени Октава. Догадываюсь, что делаешь это намеренно, щадя меня, да только напрасно — не бойся ничего. Правда, я не могу ни прочесть, ни начертать это злополучное имя без дрожи ненависти, охватывающей меня с головы до ног, но надо мне привыкать к нему, Мне ведь необходимо знать, что происходит там, любит ли он ее, дает ли ей счастье. Прощай, Сильвия, единственный человек, никогда не причинивший мне зла. Думаю, не стоит и напоминать тебе, что надо скрыть от Фернанды мое пребывание в Туре.
LXXXIII
От Сильвии — ЖакуБоже мой! Жак, зачем ты приехал в Тур? Я в ужасе. Уж не думаешь ли ты мстить за клевету, которую распространяют о нас? Если б я меньше знала тебя, то-была бы уверена в этом. И все же, сколько я ни стараюсь помнить о твоем отвращении к дуэлям, я все боюсь, что ты вмешался в какую-нибудь историю такого рода; ведь не раз ты считал себя обязанным нарушить свои принципы и совершить поступок, противный твоему характеру. Однако я не вижу, чтобы в данном случае ты обязан был играть своей и чужой жизнью. Разве это исправит вред, причиненный Фернанде? Другой на твоем месте ответил бы, что он мстит за оскорбление, нанесенное лично ему. Но разве ты способен из мести за себя лично совершить то, что сам считаешь преступлением? Ты мне рассказывал о своей первой дуэли — она ведь у тебя была с Лореном. Ты уступил тогда настояниям друзей, но та дуэль была просто необходима — ссора произошла на глазах целого скопища людей, и все вы были военные. Не имело уж очень большого значения, что пуля или сабля лишит одного из вас жизни днем позже или раньше. Что такое была жизнь в те времена? Нынче положение твое совсем иное. Неужели ты проделал долгий путь нарочно для того, чтобы кровью смыть с себя оскорбление, хотя ложные наветы не должны бы тебя затрагивать? Зачем мстить за насмешки, которые наглецы осмеливаются адресовать тебе лишь издали? Напрасно ты пытаешься доказать мне, что отныне твоя жизнь никому не нужна. Ты ошибаешься. О, не позволяй же себе так пасть духом! Не слушай голоса лени, которая хочет, чтобы ты скрестил на груди руки и убедил себя, что твоя задача кончена. Зачем ты в отчаянии обрекаешь сына на смерть? Разве врач не говорил тебе, что природа творит чудеса вопреки всем предвидениям науки, это благодаря заботливому уходу и строгому режиму здоровье твоего ребенка еще может окрепнуть? Я самым тщательным образом придерживаюсь предписанного режима, и вот уже несколько дней малютке стало лучше. А если, бы я умерла, кто стал бы ходить за ним? Фернанда не знает, в чем его недуг, и к тому же ее заботы почти всегда неумелы. А кто заставит меня жить, если ты собираешься так легко распроститься с жизнью? Ты воображаешь, что мне очень сладко будет жить без тебя? А разве Фернанде ты уже больше не нужен? Что мы знаем об Октаве, если он сам о себе ничего не знает и хвастается тем, что никогда не противится никаким своим прихотям? Он заявляет, что вечно будет любить Фернанду; может быть, это и правда, а может быть, и ложь. Он вел себя хорошо с тех пор как скомпрометировал ее. Но может ли этот человек занять твое место и заполнить сердце, в котором ты царил? Долго ли она будет любить его? Не почувствует ли она когда-нибудь настоятельного желания, чтобы ее избавили от него? Ты хочешь, чтобы я тебе сказала о них всю правду, и я полагаю, что должна это сделать. Сейчас они счастливы, любят друг друга страстно; сейчас они слепы, глухи и бесчувственны. У Фернанды бывают минуты пробуждения и отчаяния, у Октава — мгновения испуга и неуверенности; но оба они не могут сопротивляться потоку, уносящему их, Октав пытается успокоить свою совесть, умаляя твое великодушие, — сомневаться в нем он не осмеливается, но пытается все объяснить причинами, уменьшающими твои достоинства. Желая избавиться от необходимости восхищаться тобой и утешаться в том, что у него-то самого нет душевного благородства, он подкапывается под пьедестал, на который ты поднялся заслуженно. Ты угадал верно, он отрицает в тебе кипение страстей, дабы не признавать твои жертвы. Фернанда защищает тебя, и так энергично, что ты, пожалуй, и не ожидал этого; благоговение ее перед тобою может выдержать любой натиск. Она утверждает, что ты любишь ее так сильно, что способен вечно оставаться слепым; и тут она горько плачет; мне приходится ее утешать и стараться поднять ее в собственных глазах. Бедная моя сестра! Иной раз я сержусь на нее за то, что она причинила тебе столько зла. Когда я вижу, что она с безмятежно-счастливым лицом держит за руку Октава, я убегаю от них, прячусь где-нибудь в парке или плачу у колыбели твоего сына: чтобы не огорчать их, я изливаю свою душу в безмолвных слезах негодования. Но если я замечаю, что Фернанду мучают угрызения совести, мне жаль ее, и я страдаю вместе с ней. Я, как и ты, думаю, что ее приключение — менее страшный грех, чем желают всех в этом убедить некоторые целомудренные дамы. Госпожа Борель, особа великодушная и здравомыслящая, нисколько не изменила своей приязни к Фернанде. И если бы Октав захотел, жизнь Фернанды могла бы сложиться прекрасно. Я уверена, что жена вернулась бы к тебе, если б у нее появилась обида против Октава или если б он вдохнул в нее мужество, но он, наоборот, стремится лишить ее смелости. А разве ей следует Стыдиться прощения, которое от души дал бы ей такой благородный человек, как ты? И разве ты бы страдал, простив Фернанде ее вину? Ведь ты еще любишь ее. И какой высокой любовью! Утопая в океане мучений, ты заботишься лишь о том, чтобы избавить ее от горя, хотя оно составляет лишь сотую долю того, что ты испытываешь. Я получила от госпожи де Терсан странную посылку — несколько сот франков. Принять их я отказалась — не оттого, что сумма слишком скромная (я знаю, что у нее нет состояния и при ее средствах эти деньги — щедрый дар), но меня изумляет такой способ искупления своей вины: ведь она с легкостью бросила меня, на всю жизнь оставила сиротой. Эта посылка походила на насмешку; однако ж я поблагодарила госпожу де Терсан и объяснила свой отказ лишь отсутствием нужды в деньгах. Быть может, мне следовало почувствовать благодарность за доброе намерение, но я не могу, я никогда не прощу ей, что она произвела меня на свет.
LXXXIV
От Жака — СильвииНу, что мне тебе сказать? Лорен был злым человеком, и я убил его. Он стрелял в меня первым (ведь я его вызвал) и промахнулся. Я знал, что мне надо только захотеть его убить, и я этого захотел. Совершил ли я преступление? Разумеется. Но это неважно. В настоящую минуту я не способен испытывать никаких укоров совести. Столько чувств кипит в моей груди, и я просто сам не свой! Бог простит меня. Это не я действую: прежний Жак умер, человек, явившийся ему на смену, — несчастное существо, которому Бог не дал своего благословения и не оказывает ему никакой милости. Я мог быть добрым, если б моя судьба была под стать моим чувствам; но все в жизни моей рушилось, все ускользало от меня; физическая сторона взяла теперь верх в моем существе, и, как у всех людей, у меня пробудились инстинкты тигра. Меня томила палящая жажда крови; это убийство немного утолило ее. Умирая, несчастный сказал: — Жак, так уж мне на роду написано, что я умру от твоей руки; иначе ты в молодости не искалечил бы меня за какую-то карикатуру, а сегодня не убил бы, мстя за то, что стал… И, произнеся циничные слова, казалось, облегчившие ему боль, он умер. Я долго стоял неподвижно и смотрел на его лицо, на котором застыло ироническое выражение; остановившиеся глаза убитого, казалось, издевались надо мной, его улыбка как будто обращала в ничто мою месть; мне хотелось убить его вторично. «Надо убить другого, все равно кого, — думал я. — У меня будет легче на душе, Фернанде же новая моя дуэль принесет пользу: ничто так не восстанавливает репутацию женщины, как месть за оскорбления, нанесенные ей». Здесь говорят, что я сумасшедший. Мне это безразлично. Зато не будут больше говорить, что я трус и терплю измену жены только потому, что не хочу драться на дуэли; пусть лучше говорят, будто мною владеет такая страстная любовь к жене, что я теряю от этого рассудок. Ну и что ж, по крайней мере скажут, что, как видно, Фернанда — женщина, достойная любви, раз все еще пользуется такою властью над супругом, хотя уже не любит его. Другие женщины позавидуют своего рода возведению ее на трон, которое я совершил как в бреду; и сам Октав на минуту позавидует моей роли — ведь только я имею право драться на дуэли из-за Фернанды, и он поневоле предоставит мне возможность исправить то, что он натворил. Прощай. Не беспокойся обо мне, я останусь жив: чувствую, что так решено судьбой, — сейчас мое тело неуязвимо. Невидимая рука прикрывает меня, оставляя за собой право в дальнейшем поразить меня. Нет, моя жизнь не находится во власти людей — я втайне вдруг ощутил это; свою жизнь я принес в жертву Фернанде, и мне совершенно безразлично, останусь я жив или умру. Во сне мне явился ангел-хранитель Фернанды и говорил со мной. Когда я выхожу на поединок ради нее, он простирает надо мной свои крылья; когда я больше никому не буду нужен, он покинет меня. В Париже я составил завещание: в случае смерти моего сына две трети моего имущества переводят к жене, а остальное — тебе. Но не бойся ничего, мой час еще не настал.
LXXXV
От господина Бореля — капитану Жану СеризиДорогой друг, вам придется тотчас же поехать в Тур к Жаку, заменить меня в качестве секунданта, так как нынче вечером он еще раз дерется на дуэли. Я не могу быть его секундантом и даже не в силах добраться до вас и лично передать вам свои обязанности: у меня столь основательный приступ подагры, что я не в состоянии проехать одну милю в экипаже. А Жак прислал за мной. Поезжайте сейчас же проселочными дорогами, принесите ему мои извинения и предложите свои услуги — в таких случаях они обязательны, отказывать нельзя. Постараюсь в двух словах изложить суть дела. Едва отдохнув после вчерашней дуэли, на которой он уложил Лорена (упокой, Господи, его душу!), Жак, как ни в чем не бывало, направляется в кофейню и там, держась с ледяной холодностью, которая, как вы знаете, всегда скрывает у него сильнейший гнев, курит трубку и попивает кофе в присутствии сотни молодых и старых усачей, рассматривающих его с вполне понятным любопытством. Молодыеофицеры, разыгравшие известный вам фарс с участием любовника его жены, почли себя оскорбленными его присутствием и выражением его лица, — во всяком случае, они увидели в этом браваду; они нарочно стали громко говорить об обманутых мужьях, и за соседним столиком прозвучало слово, отнюдь не лестное для Жака. Он сохранял бесстрастное спокойствие; тогда они заговорили о его жене яснее, а в конце концов охарактеризовали ее так хорошо, что Жак поднялся и сказал: «Это ложь» — таким тоном, словно заявил: «Я к вашим услугам». Двое из этих господ, говорившие в последнюю очередь, встали и осведомились, кому он адресовал свое опровержение. — Вам обоим, — ответил Жал. — Пусть тот, кто пожелает первым потребовать от меня удовлетворения, назовет свое имя. — Я Филипп де Мюнк. Встретимся завтра, в какой вам угодно час, — сказал один из них. — Нет, прошу вас перенести встречу на сегодняшний вечер. Ведь вас двое, и завтра мне надо еще успеть объясниться с вашим приятелем, прежде чем полиция помешает мне. — Вы правы, — ответил господин де Мюнк. — Нынче вечером в шесть часов. На саблях. — На саблях? Хорошо, — согласился Жак. Как видите, это дело ни в коем случае нельзя уладить. Два часа спустя я получил от него письмо с просьбой еще раз быть его секундантом; но как раз вчера, в росистый вечер, на дуэли Жака с Лореном я и почувствовал очередной приступ подагры, а может быть, на меня немного подействовало волнение, охватившее меня, когда упал этот бедняга Лорен. Смерть его не великая потеря, но он долгонько жил возле нас, дожил до седых волос, а мы уже не в том возрасте, когда смотришь на сраженного товарища спокойно, как на орех, свалившийся с ветки. Жак, право, удивительное существо! Вот вам ясное доказательство, что человек меняется только внешне. Дерево лишь обновляет кору, и Жак ныне такой же, каким мы его знали двадцать лет назад. Теперь уж не посмеют сказать: «Посмотрите, как обабились старые вояки. Жены обводят их вокруг пальца! Вон тот в молодости дрался на дуэли из-за карандашного наброска, а теперь молча позволяет позорить себя». Честное слово, я и сам это говорил, и положение Жака так меня беспокоило, что позавчера, за час до того, как я узнал о его приезде в Тур, я видел его во сне и, проснувшись, кричал, как говорит моя жена: «Жак! Жак! Что с тобой сталось?». Но отважный человек всегда возьмется за ум. Будем надеяться, что, покончив с этими дуэлями, он поедет и ухлопает любовника своей жены; дайте ему почувствовать, что он должен это сделать, что без этого все его теперешние сражения ни к чему не ведут. Поворачивайтесь побыстрее. Наш префект — славный малый и на дуэли смотрит сквозь пальцы, однако же три поединка за три дня — это больше, чем допускается уставом, и может случиться, что после второй дуэли Жак будет арестован. Поторапливайтесь. Пришлите мне с нарочным письмо нынче вечером, когда Жак покончит с господином де Мюнком… Я просто в бешенстве оттого, что не могу при этом присутствовать. Право, я предпочел бы потерять руку, чем видеть, что Жак спасовал.
LXXXVI
От капитана Жана — господину Борелю ТурЖак справился с обоими противниками, не получив ни одной царапины. Ему везет в игре, как всем, кто несчастлив в семейной жизни. У господина Мюнка останется шрам через всю физиономию, причем нос разрезан пополам, что, вероятно, крайне огорчает неудачника. Это, конечно, не возвратит чести никаким мужьям-рогоносцам, но, быть может, кое-кого из них утешит, а других предостережет. Одним красавчиком стало меньше. Прелестная дама поплачет, а потом найдет ему преемника. Второй дуэлянт живо стушевался. Это изнеженный птенчик, единственный сынок почтенных родителей, ему девятнадцать лет или около того. Секунданты его изо всех сил старались уладить дело, и мы согласились заявить, что будем сожалеть о сделанном вызове, если правда, что противная сторона не имела намерения нас оскорбить. «Противная сторона» заверила, что такового намерения у нее не имелось. Примирение может очень навредить мальчишке, но я понимаю, почему секунданты испугались за него и вабили отбой: слишком уж неравная была партия между Мим и Жаком. Мы еле-еле урезонили Жака: у него дьявольски разыгралась желчь, и лишь после зрелого размышления он немного смягчился. А знаете, наш товарищ ведет себя молодцом. Не раскис, как говорится; и уж прав он или не прав, что рубится на саблях здесь, а не там, где надо, все-таки приятно видеть, как старый приятель дает смелые уроки голубчикам из новой армии. В общем, он отнюдь не в добром расположении духа, и тем, кто его хоть немного знает, ясно, что он жаждет крови других противников. Не знаю, что он намеревается сделать. Когда он благодарил меня за то, что я послужил ему секундантом, я сказал: — Я готов еще раз выступить в роли твоего секунданта и для этого охотно совершил бы с тобой маленькое путешествие. Теперь ты уже набил себе руку, и разве ты не думаешь взяться за того, с кем надлежит расправиться? Он мне ответил как-то странно — ни то ни се: — Если тебя про это спросят, скажи, что тебе ничего не известно. — Ах, вот как! Ты уж теперь и на старых приятелей злишься? — сказал я. Тут он меня обнял и просил передать тебе поклон и самые дружеские его чувства. Теперь он, должно быть, уже уехал, так как префект велел ему передать втихомолку, чтобы он поскорее уносил отсюда ноги, а не то придется его арестовать. Я оставил его, когда он запирал чемодан, и вот я уже опять на родном нашесте, где с удовольствием угощу вас завтраком, как только подагра позволит вам выехать из дому; а до тех пор я приеду к вам выкурить трубку и поболтать обо всех этих происшествиях. Многое можно сказать за и против Жака — это конь с норовом, зато уж если помчится, так во весь опор.
LXXXVII
От Жака — Сильвии АостаТы, вероятно, получила посланное мною из Клермона письмо, в котором я извещал тебя, что на трех своих дуэлях не получил ни единой царапины, что тело мое в добром здравии, а душа больна, — самая плохая весть, какую человек может дать о себе. Тело, упрямо продолжающее жить и усердно питающее измученную душу, — печальный дар небес. Я тебе не сообщал, что проеду в двух шагах от своего дома и не повидаюсь с тобой. Двадцать раз я проезжал по Лионской дороге, но впервые проехал близ милой моей долины, не заехав в нее. Было шесть часов утра, когда мы поднялись на гребень холма Сен-Жан, и кучера почтовой кареты, которые хорошо знают меня, уже собирались свернуть на ту дорогу, что спускается по склону, а я вдруг велел им ехать дальше, к югу. Высунувшись из дверцы, я долго любовался прекрасным пейзажем, который, быть может, больше никогда не увижу, смотрел на тропинки, по которым мы с тобою столько раз ходили вместе; но долго я не решался взглянуть на свой дом. Наконец, когда Марионский лес чуть было уже не заслонил его, я велел остановить лошадей и поднялся вверх по дороге, чтобы вдоволь наглядеться на него и упиться своей скорбью. У тебя на оконных стеклах сверкали лучи восходящего солнца: ты, значит, уже встала? У Фернанды ставни были заперты; она, быть может, спала в объятиях любовника. И я почувствовал какую-то ненависть и к дому, и к парку, и к долине. Только что я убил человека и обезобразил другого бее всякой разумной причины — лишь бы удовлетворить уязвленное тщеславие, а теперь вот должен спокойно смотреть на кровлю, которая дает приют виновнику моего отчаяния и моего позора. Да, моего позора! Я хорошо знаю, что это условное выражение, принятое в нашем дурацком обществе, и по сути дела, в нем нет никакого смысла: честь мужчины не может быть связана с лоном женщины, и никто не может опорочить или замарать мою честь; тем не менее я обязан быть со всеми в состоянии войны, потому что я попал в смешное положение и, чтобы выйти из него, напрасно обагряю себя человеческой кровью. Ведь я хорошо знаю, что только один враг может своею смертью согнать жестокую улыбку, которую я вижу на лицах всех моих друзей. Ах, Фернанда, пусть лучше надо мной смеются, чем видеть, что ты проливаешь слезы! Да, пусть насмехается надо мною весь мир, только бы ты не возненавидела меня, только бы ты не скорбела! И, чтобы желать этого, не надо быть героем: ведь я стал мстительным и жестоким зверем, но у меня еще осталось достаточно здравого смысла и справедливости, чтобы понять то, что мне доказывает логика моей любви. У меня были странные разговоры с Борелем; некоторые мои приятели, старые боевые товарищи, то ли из сочувствия ко мне, то ли из любопытства, ловко пытались заставить меня разговориться. Я отвечал уклончиво, а иной раз даже грубо — их дружба, как и все прочее, приводила меня в ужас. Однако от разговоров с Борелем я не мог, да и не хотел избавиться, потому что в его нелепом кодексе поведения кроемся иной раз прирожденный здравый смысл практического философа и порой Бореля можно кое в чем убедить, а за его сердитыми наставлениями, которыми он щедро меня угощал, стоит искренняя преданность. Он так был настроен против Фернанды, что я прежде всего испытывал потребность оправдать ее. Мы провели с ним в Туре два дня; он читал мне нотации, а я, слушая его одним ухом, искал повода вызвать Лорена на дуэль. Мы с Борелем обменялись многими бесполезными рассуждениями; он все пытался доказать мне, что я больше не могу любить свою жену, а я старался втолковать, ему, что я все еще ее люблю и для меня невозможно ее не любить. В заключение» этой проповеди он спросил, чего я хочу достичь своим поведением — уж не надеюсь ли я Дослужить типическим образцом покладистого супруга; на это я, смеясь, ответил, что не притязаю даже на то, чтобы моему примеру следовали любовники. При всей своей тяжеловесной заботливости он не удержался ни от одного булавочного укола, которыми люди так любят награждать разбитое несчастьем сердце. Из всех знакомых мне людей, будь то друг, недруг или безразличный человек, не нашлось ни одного, кто не старался бы столкнуть меня в могилу. С большим трудом мне удалось успокоить волнение разгоряченной крови; право, я мог бы встать перед жерлом пушки с уверенностью, что не меня ждет смерть, а сам я буду служить раскаленным ядром, убивающим других. Этот своеобразный фатализм мог обратить меня и в героя, и в кровожадного тигра, в зависимости от едва приметной разницы в обстоятельствах, которые захватили и влекут меня. Я чуть было не убил девятнадцатилетнего мальчика из-за глупой остроты, а потом помиловал его, когда получил таинственное письмо, в котором некая женщина молила меня смягчиться и пощадить его жизнь. Великолепное письмо по силе выразительности и чувства! Я сначала подумал, что оно написано матерью, и с умилением собирался уступить ее мольбам, как вдруг, перечитав послание, заметил, что его писала любовница. Она заклинала меня не отнимать у нее счастья. Счастье! От этого слова ярость снова овладела мною. Увы, бедная моя Сильвия, я совсем потерял голову, мне хотелось поубивать всех, кто менее несчастен, чем я; я упорно требовал к барьеру этого юношу; мне казалось, что я повинуюсь толчку невидимой руки и осуществляю в жизни какой-то страшный сон. Капитан Жан, один из моих секундантов, долго уговаривал меня, но я не понимал ни слова из его речей; наконец до сознания моего дошла одна фраза: «Ах, вот оно что, Жак! Тебе нынче понадобилась бойня?». Слово «бойня» упало на мою горевшую грудь, будто капля холодной воды, и я словно очнулся от сна. Я сделал все, что хотел Жан, даже не слушая, в каких выражениях ограждают в протоколе мою честь: для меня совсем не важно было похвастаться своей храбростью, вначале у меня было только одно желание — отвести от себя упрек в трусости; ради этого чувства уязвленной гордости я пожертвовал бы жизнью родного отца, но это был только предлог, и, воспользовавшись им, мое отчаяние толкало меня на убийство; у меня просто-напросто был припадок бешенства, а когда оно стихло, я впал в апатию, как буйный сумасшедший, потерявший все силы после припадка, когда он, упав на солому, смотрит вокруг тупым взглядом. Ко мне подвели противника: согласно обычаю, нам полагалось обменяться рукопожатием; но ведь с каждой минутой в моем мозгу пробегали столетия, я повиновался правилу машинально и с удивлением. Я не помнил, видел ли я когда-нибудь этого человека, уже целый век отделял меня оттого, что минуту назад совершалось во мне, в душе моей воцарилось небытие, и отныне оно будет для меня убежищем в жизни. Итак, я достиг спокойствия. Но какой ценой, да простит меня Господь!.. Но ведь Бог знает, что это зависело не от меня, что все существо мое преобразилось помимо моей воли. Ах, это исступление, как оно было ужасно! Но оно принесло мне пользу, как полезны эпилептику в минуты припадка судороги и вопли. Я стал теперь тяжелее горы, холоднее ледников; я созерцаю свою жизнь с ужасающим хладнокровием; мне кажется, я похожу на мучеников, которые в сказочные времена христианства после пыток и казни чудом поднимались, спокойно подбирали свою отрубленную голову и сердце, трепещущее на арене цирка, и уходили, унося с собою на глазах охваченных страхом зрителей свою душу, уже отделенную от тела. Никто, кроме меня, не мог бы перенести подобную участь, лишь у меня одного на всем свете достало сил жить такой жизнью, не умереть от усталости и не покончить с собою в припадке безумия. Я прошел через все, и тем не менее живу. Все молодое, великодушное, полное чувств отмерло в моей душе. Унылый мой разум ясно видит крушение своих иллюзий, но тело по-прежнему крепко. Будь проклят мой равномерно действующий, хорошо слаженный организм, которого не могут сломить горестные события! Роковой дар! Неужели я еще до рождения совершил какое-нибудь преступление и за то несу на себе проклятие, поразившее первого человека на земле, — изгнание в пустыню и повеление жить? Нынче утром я проходил мимо заброшенного загородного дома. Соблазнившись красотой ландшафта, его построили тут, у подножия гор, но суровый климат принудил обитателей виллы покинуть ее. Меня привлек печальный вид запустения, царивший в этом уголке, я вошел в калитку и пробыл в саду два часа, погрузившись в мысли о своем несчастье и одиночестве. Ведь и ты тоже, старый Жак, создан был из прочного и чистого мрамора, ты вышел из рук Божьих гордый и незапятнанный, как выходит из мастерской ваятеля новая статуя и высится на пьедестале в горделивой позе; теперь ты подобен одной из этих обветшалых, стершихся под рукою времени аллегорических фигур, которые еще стоят в заброшенном саду. Несчастная статуя, ты прекрасно подходишь к этому безлюдью, почему же ты как будто томишься скукой в одиночестве? Ты находишь, что время тянется бесконечно долго, а зима очень сурова; тебе не терпится рухнуть, обратиться в прах и больше не поднимать к небу некогда великолепное чело, по которому ныне дерзко хлещут ветер и дождь, а сырость покрывает его черноватым мхом, словно траурным крепом. Столько бурь разразилось над тобой, что блеск твой потускнел, и прохожие теперь уже не могут угадать, какова ты под этой погребальной пеленой, изваяна ли ты из алебастра или вылеплена из глины? Оставайся, оставайся в своем небытии, не считай больше дней: ты, может быть, продержишься еще долго, жалкий камень! Когда-то ты гордился, что создан из несокрушимого материала, а теперь завидуешь судьбе засохшего тростника, который ломается в ветреные дни. Но от холода мрамор трескается: холод разрушит тебя, надейся на него.
LXXXVIII
От Октава — ГербертуНесмотря на гнев, обуревающий одних, на укоры совести, терзающие других, и на мою растерянность в вихре происходящих событий, я не могу не чувствовать себя счастливым, дорогой мой Герберт, так как сердце мое полно любовью и судьба моя определилась. Отныне нерасторжимые узы связывают меня с Фернандой: не сомневайся в этом, я не страдаю непостоянством. Меня можно оттолкнуть, любимой женщине, упорно отвергающей меня, в конце концов удается меня отпугнуть; но пока она сама не прикажет мне оставить ее, Другая женщина не привлечет меня к себе. Несмотря на ужаснейшую разницу в наших характерах, я долго любил Сильвию и долго боролся с ее пренебрежением, когда она уже разлюбила меня. Фернанда совсем другая. Она словно рождена для меня, и самое сочетание ее недостатков как будто дано ей нарочно, чтобы укрепить наши узы и сделать нашу близость необходимой. Не знаю, такой ли уж я преступник, каким изображает меня Сильвия, но я не могу подавить в себе чувство любви и восторженную радость. Любовь эгоистична; слепая и ликующая, она восседает на руинах целого, мира и млеет от наслаждения, взирая на груды мертвых костей, как на кусты белых цветов. Я принес ей в жертву горе своего ближнего и готов пожертвовать собственной жизнью. Я больше не признаю закона: это твое, а это мое. Фернанда доверилась мне, я дал клятву любить ее, жить и умереть ради нее; я знаю только это, а все остальное мне чуждо. Пусть Жак приходит в любой час дня или ночи и потребует моей крови, я не буду спорить; пусть он упьется ею вдоволь. Для очистки совести я подставлю свою грудь обнаженной. Может ли человек сделать большее? Жаку не на что жаловаться. Я не ношу кирасы и не сплю, запершись на засовы. Сильвия, полагая, что я паду на колени перед ее кумиром, читает мне кое-какие отрывки из его писем: он начинает поэтизировать свое горе — значит, уже наполовину выздоровел. Он храбро дрался на дуэли — и хорошо сделал. Я бы на его месте поступил так же и, если б имел на то право, опередил его. Он правильно советует скрыть от Фернанды эти события; тут он может не беспокоиться, я об этом позабочусь. Мне вовсе не хочется, чтоб она снова заболела, и я охраняю ее как свое достояние, отныне принадлежащее мне. Вчера я нашел на почте письмо на ее имя от Клеманс. Прекрасно зная почерк этой особы, я без лишних церемоний вскрыл послание и нашел в нем то, что и ожидал: всяческие Милосердные предупреждения; в дополнение к ним сообщалась новость, вернее сказать — чистейшая ложь, о том, что, по слухам и по сведениям самой Клеманс, Жак будто бы получил тяжелое ранение в грудь. Я разорвал письмо и принял меры к тому, чтобы все депеши, адресованные Фернанде, проходили при получении через мои руки. Письма Жака будут сохраняться с благоговейной почтительностью, ну, а другие — берегитесь! Я достаточно дорого заплатил за то, чтобы видеть, как Фернанда, счастливо улыбаясь, засыпает у меня на груди. Я совсем не хочу, чтобы эта завистливая ханжа ее приятельница и подлая доченька примчались и разбудили ее, желая для собственного удовольствия причинить зло нам обоим. Фернанда еще не оправилась как следует; отсутствие Жака, который редко ей пишет, и нездоровье сына — достаточные причины ее тревоги и грусти. Лишь мои заботы еще поддерживают в ее сердце спокойствие и надежду. Я ничего не пожалею, пойду на что угодно, лишь бы как можно дольше уберечь ее от грозящих ей ударов. Я эгоист, знаю, но эгоист без страха и упрека. Эгоизм, который таится и краснеет от стыда за себя — это мелочный и пошлый эгоизм; а тот, что действует смело при ярком свете дня, — храбрый рубака, который сражается с врагом и обогащается за счет побежденного. Уж он-то может завоевать себе счастье или защитить счастье ближнего. Кому приходило в голову обвинять в воровстве и жестокости триумфатора, если он пользуется своей победой в благих целях?
LXXXIX
От Жака — Сильвии АостаЛишь тот, кто прожил жизнь, подобную моей, может понять, как ужасна для меня полная оторванность от всего. Я страстно любил уединение, но ведь это совсем другое дело. К тому же тогда я был молод. Я наслаждался настоящим и передо мною было будущее. Не раз я уходил в горы, когда в сердце моем кипели страсти. Я предавался мечтам в диких уединенных местах. Я упивался там своим счастьем или скрывал свои страдания, словом — я жил. Там совершалась во мне перемена. Я прощался со своей любовью и вновь возвращался к ней, вернее — я приносил туда в тайниках сердца свое чувство, чтобы разобраться в нем и напитать им свою душу. Я проливал там сладостные слезы надежды, я прижимал к сердцу обожаемые призраки, образы пламенных возлюбленных. Правда, я приходил туда также, проклиная и ненавидя то, что прежде любил, но в эти минуты я уже любил что-то иное или ждал новой любви. Сердце у меня было богатое: я мог поставить алмазного идола на место рухнувшего золотого. А теперь я прихожу туда с сердцем пустым, истерзанным и по самому своему страданию хорошо вижу, что мне уже никогда не исцелиться. Самое ужасное не то, что нет у меня надежды, а то, что нет желаний. Скорбь моя мрачна, как покрытые льдом ущелья, в которые никогда не проникает солнце. Я знаю, что больше не живу, и у меня больше нет желания жить. Эти скалы и эти холодные пещеры внушают мне ужас, я забираюсь туда, как сумасшедший, который топится в реке, убегая от пожара. Стоит мне поглядеть вдаль, меня охватывает страх; при одном лишь взгляде на горизонт я трепещу: мне чудится, что там реют все мои воспоминания и все мои несчастья; в воображении своем я вижу, как они преследуют меня на быстрых своих крыльях. Куда мне бежать от них? Везде будет одно и то же. Я приехал сюда с намерением предпринять путешествие по этому краю или по крайней мере обойти пешком самые романтические места. Во мне заговорили вдруг остатки энергии и какое-то беспокойство из-за того, что я еще не умер по-настоящему. Но вспышки хватило ненадолго — я дошел до этого отрога Сен-Бернара и не собираюсь теперь расставаться с хижиной, в которой остановился, думая провести там часок. И вот я живу тут почти уже месяц, с каждым днем все более вялый, все более ко всему равнодушный, словно скованный параличом. Я даже не чувствую теперь перемены погоды — зачастую мне жарко, когда другим холодно, а иной раз солнце, сжигающее траву у моих ног, не может согреть мою застывшую в жилах кровь. Бывают дни, когда я быстрым шагом иду по краю пропастей, не замечая опасности, не чувствуя усталости; тогда я подобен маховику машины, который, потеряв балансир, бешено вертится, вертится, пока не лопнет чрезмерно натянутая цепь и не сломается механизм. В такие дни я словно чудом пробираюсь по диким ущельям, куда еще никогда не ступала нога человека, и потом, заметив, какой переход совершен мною, не могу понять, как я одолел его. Иной раз мне кажется, что я сошел с ума. Но вслед за ужасным возбуждением наступают дни полного упадка. Болезненная сила внезапно исчезает, уступая место безысходной усталости. И во всем этом сознание играет очень малую роль. Иногда ночью я тщетно стараюсь вспомнить, чем занят был мой мозг в течение дня. В памяти возникают лишь материальные предметы, окружающие меня. Я вижу горы, овраги, узкие мостики, повисшие над безднами, где белым дымом клубится туман; и все виденное следует одно за другим, тянется непрерывной панорамой целые часы, неотвязно преследуя меня. Тогда я встаю в темноте, ощупываю стены комнаты, делая невероятные усилия, чтобы очнуться от этих сновидений без сна. Иногда я опять ложусь, так и не отогнав навязчивые образы, с нетерпением жду рассвета и снова, словно против своей воли, устремляюсь в горы. Тогда все стушевывается, я иду куда глаза глядят, и мне чудится, что меня обволакивает и скрывает от меня действительность пелена тумана. Случается, что я сознаю, какие у меня проносятся мысли; передо мной возникают страшные картины: я вижу умирающего сына, свою жену в объятиях другого, но смотрю на все с тупым равнодушием до тех пор, пока очнусь и пробудившееся сознание покажет мне мой собственный образ. Я вижу самого себя в этих картинах: вот эта женщина — моя жена, ребенок — мой сын; я — Жак, забытый возлюбленный, оскорбленный супруг, отец, лишившийся надежды иметь потомство; тогда я сажусь, потому что ноги меня не держат и промелькнувшая мысль утомляет меня больше, чем целый день душевного волнения и невольных блужданий. Два года тому назад я находился в плачевном состоянии, тосковал и мучился. Но чего бы я ни дал теперь, лишь бы вернулись те дни! Я боялся, что больше уж не могу любить. Давно мне не встречалась женщина, достойная любви. Меня приводил в нетерпение, меня пугал этот долгий сон моего сердца; я спрашивал себя, не потому ли оно спит, что в нем иссякли силы, хотя хорошо чувствовал, что это неверно. А годы меж тем пролетали, как сны, и я говорил себе, что времени терять нельзя, если я хочу еще раз изведать счастье. Я думал, что, обладая женщиной в браке, я обеспечу, насколько это возможно, длительность своего счастья; я не льстил себя надеждой сохранить его на всю жизнь, но надеялся прожить счастливо до последнего периода молодости, когда легко бывает проникнуться философским спокойствием, поскольку страсти в нас угасают. Этого не произошло. Я еще недостаточно стар, чтобы отрешиться от всего и примириться с тем, что я все потерял. Моя надежда умерла в цвету, погибла насильственной смертью; но я уже недостаточно молод, чтобы верить, будто она может возродиться. Ведь это была последняя попытка, которую еще позволяли мои нравственные силы. Я нашел себе семью, дом, родной край; я соединил на одном клочке земли два существа, единственно дорогие мне в целом свете, — ее и тебя. Бог меня благословил, послав мне детей. Счастье могло продлиться пять-шесть лет! Наша долина так прекрасна! Я так старался сделать свою жену счастливой, и она, казалось, так страстно любила меня! Но пришел чужой человек и все разрушил; его дыхание отравило молоко, питавшее моих детей. Да, я уверен, что первый его поцелуй, осквернивший уста Фернанды, убил наших детей, так же как первый его взгляд, устремленный на нее, убил ее любовь ко мне. Быть может, с моей стороны несправедливо и безрассудно обвинять его; быть может, Фернанда полюбила бы если не Октава, так кого-нибудь другого; быть может, она никогда меня и не любила. Она чувствовала потребность отдать кому-нибудь свое сердце и вот безотчетно доверила его мне; она приняла за долгую страстную любовь то, что было лишь детским капризом или же чувством дочерней привязанности; она обманулась, не зная, что такое любовь. Близ меня она непрестанно страдала, всем была недовольна; мне никогда не удавалось влиять на ее ум так, как я хотел, каждый мой поступок она приписывала побуждениям, противоположным его действительным причинам; мы или совсем не понимали друг друга, или понимали слишком хорошо. Во время нашего путешествия в Турень, когда она пыталась принести непосильную для нее жертву, которой противилось все ее существо, не раз бывало, что в приступе непреодолимого нервного раздражения Фернанда говорила мне, будто она всегда чувствовала, насколько мы не созданы друг для друга. Она утверждала, будто я и сам это чувствовал, и винила меня, зачем я женился на ней; она припоминала множество мелких обстоятельств и преподносила их мне как доказательства своей правоты. Правда, на следующий же день она отказывалась от своих слов, говорила, что они вырвались у нее в запальчивости, и я притворялся, что забыл их; но они, словно кинжалы, вонзались мне в сердце, и я часто вспоминал о них, растравляя свои раны. Увы! Неужели нужно отказаться от прошлого? Она могла бы оставить мне его, и тогда скорбь моя была бы менее горькой. Но теперь я вижу, как все разрушено и испорчено, — даже воспоминания об утраченном счастье! Если она меня любила, то любила меньше времени и не так сильно, как Октава; ведь в него она влюбилась с первого же дня, это уж несомненно. И она сама обманывалась в течение шести или восьми месяцев; в ее возрасте сердце так богато иллюзиями! Она вообразила, что еще любит меня, но я-то хорошо видел, что с ней делается. Новая любовь врасплох настигла ее, когда она еще не знала, что старая любовь умерла. Горе мое утихнет, не сомневаюсь в этом; я даю ему излиться, совсем не стараюсь бороться с ним, не стыжусь кричать как женщина, когда приступ боли терзает меня. Я знаю, что в конце концов приду к спокойствию и смирению; но я не тороплю эту минуту — она будет еще ужаснее, чем нынешнее мое состояние. Я покорно приму приговор судьбы, ясно увижу свое несчастье, почувствую его всеми порами существа своего; в сердце у меня больше не останется ничего молодого, угаснет даже сожаление о прошлом. Гордость не позволяет человеку требовать любви, когда она уходит, когда всякая надежда потеряна. Приходится смириться, и в несколько дней человек становится стариком. Я еще люблю Фернанду — такая любовь, как моя, не может умереть без конвульсий мучительной агонии; но я чувствую, что скоро уже не в силах буду ее любить, и тогда участь моя станет еще горше. Если бы Бог сотворил ради меня чудо, если б он сохранил мне сына, я продолжал бы жить — не с радостью, но по чувству долга, и старался бы этот долг выполнить. Но мое бедное дитя тщетно пытается влачить существование; ему не изменить приговор, безжалостно отмеривший ему краткий срок жизни. Мне придется подождать этого жалкого червячка, который медленно ползет к смерти, — без него я не хочу уходить из жизни. Помню, как ты мне сказала однажды; «Что самое страшное для порядочного человека? А вот что — умереть по принуждению». Ныне я вижу, что есть нечто более страшное: жить против воли.
XC
От Сильвии — ЖакуЖак, вернись! Помоги Фернанде: она вновь заболела, потому что ее опять постигло великое горе. Ничто не может ее успокоить; она с тоской зовет тебя и говорит, что причиной всех несчастий, которые обрушились на нее, является разлука с тобой; что ты был ее провидением и вот покинул ее. Испуганная долгим твоим отсутствием, она говорит, что ты, вероятно, все знаешь, раз тебе так опротивели и семья и дом. Она боится, что ты ее возненавидел, мысль эта мучительна для нее, и тут все наши утешения бессильны: она хочет умереть — ведь для того, говорит она, кто владел твоей любовью и утратил ее, уже не может быть на земле ни единого мгновения покоя и надежды. Наберись мужества, Жак, и приезжай, чтобы страдать здесь. Ты еще необходим, пусть эта мысль придаст тебе силы! Вокруг тебя есть люди, которым ты нужен, Да ведь и жизнь твоя еще не кончена. Неужели на свете нет ничего, кроме любви? Дружба, которую Фернанда питает к тебе, сильнее любви ее к Октаву. Все его заботы и преданность, поистине превзошедшие мои ожидания, перестают действовать на нее, когда дело касается тебя. Да и может ли быть иначе? Разве может она чтить другого так, как тебя? Вернись, живи среди нас. Неужели я ничто в твоей жизни? Разве я мало тебя любила? Разве ты не знаешь, что ты моя первая и почти единственная привязанность? Преодолей отвращение, которое вызывает у тебя Октав; ты быстро справишься с собою. Я тоже страдала, видя его на твоем месте, но оставь ему это место и займи другое, лучшее место — будь другом и отцом, утешителем и опорой семьи. Ужели ты не можешь подняться выше бесполезной и грубой ревности? Владей снова сердцем твоей жены, отдав остальное этому юноше. Быть может, воображению и чувствам Фернанды нужна любовь менее возвышенная, чем та, которую ты хотел внушить ей. Ты смирился с этой жертвой, смирись еще более, будь свидетелем ее счастья, и пусть великодушие заставит умолкнуть в тебе голос уязвленного самолюбия. Да разве любовные ласки могут поддержать или уничтожить такую святую привязанность, как ваша? Ребяческая ревность недостойна твоей высокой души, и в волосах твоих достаточно седины, которая дает тебе право быть отцом своей жены, не унижая своего достоинства супруга. Ты можешь не сомневаться: Фернанда будет очень деликатно избегать всякого положения, которое могло бы оскорбить тебя. Даже встречи с Октавом станут для тебя терпимыми. У него довольно благородная натура, и за эти три месяца, такие тяжелые для всех нас, я открыла в нем достоинства, на которые и не рассчитывала. Он упал бы к твоим ногам, если б ты объяснился с ним, если бы он узнал тебя и понял, что ты собою представляешь. Вернись же, утри слезы Фернанды: ведь только ты один можешь вдохнуть немного мужества и спокойствия в ее душу. Она еще не оправилась от несчастья — одного из тех, в которых любовь не может послужить утешением. Только ты один можешь утешить ее, потому что ты разделяешь с нею это горе. Ты понял, что случилось? Приезжай, жду тебя.
XCI
От Жака — СильвииЯ приеду, но очень прошу предупредить за несколько дней о моем прибытии, так как не хочу никого застать врасплох. Для меня было бы ужасно увидеть на лице Фернанды выражение стыда или ужаса. Скажи ей, чтоб она, если понадобится, принудила себя к притворству, но не дала бы мне заметить то, что происходит; по-прежнему уверяй ее, что я ничего не подозреваю, и убеждай ее поддерживать во мне доверие. Нет, я еще не чувствую себя достаточно сильным, чтобы стать свидетелем их любви, — я не принадлежу к философам-стоикам, и, несмотря на мои седины, во мне еще клокочет огненная душа. Ты очень жестоко поступаешь со мной, Сильвия: я был почти погребен в могиле, а ты призываешь меня в мир живых, для того чтобы я промучился там еще несколько дней и вновь убедился, что мне необходимо навсегда покинуть этот мир. Пусть так: Фернанда страдает, я нужен ей, говоришь ты. Сомневаюсь в этом, но чувствую, что не умру спокойно, если не постараюсь смягчить ее горе. Оно будет последним — больше ей уж нечего терять. Лишившись детей, избавившись от мужа, она впредь может всецело и без страха предаться любви. Тесная близость между нами, которую ты еще считаешь возможной, — просто романтическая мечта: даже если я забуду свои обиды, разве сами-то любовники забудут зло, которое они мне причинили? А ведь несносно смотреть на человека, которого мы сделали несчастным, — так же неприятно глядеть на труп убитого нами врага. Я приеду через два дня после этого письма. Итак, опять я увижу свой злополучный дом. Я понял, что случилось: мой сын умер.
XCII
От Октава — Фернанде ЛионЯ подчинился твоей воле и по-прежнему думаю, что должен был так поступить; но дальше я не поеду: расстояния в десять миль достаточно для того, чтобы между им и мною установились мир и тишина. Почему ты боишься за меня? Не думаешь ли ты, что Жак замышляет отомстить мне за мое счастье? Но для этого он слишком великодушен и слишком рассудителен. Я согласился уехать, так как Мое присутствие было бы ему неприятно, а мне видеть его менее тяжело, чем он полагает. Я ведь не могу чувствовать за собою действительные грехи против него: он вполне мог помешать мне согрешить, на его стороне были и правда и сила. Я не совершил воровства, воспользовавшись сокровищем, которое он мне оставил. Разве это преступление — бороться против тех, кто безразличен к наносимому им ущербу, или настолько великодушен, что просто его не замечает? Если это — свойство возвышенной души, как ты считаешь, тем больше у меня оснований с удовольствием увидеться с Жаком и самым дружеским образом пожать ему руку. Ничего я не понимаю в ваших тонких чувствах: все они возникают по причине ложных идей, которые ты воспринимаешь от окружающих и мучаешься из-за них, как будто еще мало ты была несчастна. Бедная моя девочка! Оплакивай жестокие утраты, постигшие тебя; я оплакиваю их вместе с тобой, и ничто не утешит меня в горьких сожалениях о смерти твоей дочери, даже… О моя Фернанда!.. Даже то событие, которое, как тебе кажется, увеличивает число твоих несчастий, тогда как я считаю его благодеянием небес и как бы доказательством их примирения со мною. Позволь же моему сердцу радостно биться при этой мысли, позволь мне предаваться мечтам, строить радужные планы. Несомненно, родится девочка, и мы назовем ее Бланш, в память умершей; у нее будут хорошенькие глазки и белокурые волосики, как у твоего маленького ангелочка, так похожего на тебя. Вот увидишь, новая Бланш будет вылитым портретом прежней — такая же прелестная, такая же ласковая, такая же капризная, но более крепкая; ведь дети любви не умирают: Бог дает им долгую жизнь и ниспосылает им больше здоровья, чем детям, рожденным в браке, потому что он знает, как много им нужно силы, чтобы сопротивляться бедствиям в той жизни, где им оказывают плохой прием. Пусть все это подтвердится на твоем ребенке. Неужели ты будешь плакать над ним, вместо того чтобы поцеловать его в тот день, когда он появится на свет? Ах, если ты примешь его с горестью, если ты оттолкнешь его, если ты откажешься любить его, потому что не Жак стал его отцом, отдай его мне, и пусть провидение покинет его: я беру на себя заботы о нем; я прижму его к груди, буду кормить его козьим молоком и плодами, как отшельники старых хроник, которые мы с тобой недавно читали вместе. Он будет почивать рядом со мной, будет засыпать под звуки моей флейты; я воспитаю его и разовью в нем те таланты, которые ты любишь, и те достоинства, которые тебе нужно будет найти в нем, для того чтобы быть счастливой. А когда ребенок вырастет и уже сможет хранить свою и нашу тайну, он придет обнять тебя и скажет: — Меня зовут Октав, другого имени мне не нужно: именем вашего мужа я бы меньше дорожил, и оно было мне ни к чему. Я чту, уважаю вас: вы не пожелали ложью обеспечить мне положение в обществе, вы не дали мне в наставники человека, для которого я никто; меня воспитал мой отец, и он научил меня обходиться без денег и без покровительства. Мне нужна только нежность, дайте мне ее; я никогда не назову вас своей матерью, но поцелуйте меня потихоньку в лоб, и я познаю все радости сыновней любви. Скажи, ты оттолкнешь его, когда он обратится к тебе с такими словами? Тебе неприятно будет иметь в нем лишнего друга? Он Тебе доставит только одну заботу — скрывать от мужа его существование. Но и в настоящее время и в дальнейшем что будет очень легко, и мне непонятно, почему ты тревожишься. Тебе стало горько, что ты не сможешь открыто признать ребенка своим и ввести его в общество? Но подумай, дорогая Фернанда, ведь Жак вдвое старше тебя; нельзя закрывать глаза на то, что по законам природы ты должна намного пережить его, и придет время, когда ты станешь свободна. Но и до этого может случиться многое — любое происшествие, любое несчастье, — которое соединит нас. Неужели ты думаешь, что я и через десять, через двадцать лет не буду по-прежнему у твоих ног и что я не почту величайшим счастьем сказать обществу: — Эта женщина принадлежит мне; я завоевал ее своими мольбами, упорством, грехами своими, любовью своей; и если я запятнал ее репутацию, то по крайней мере не бросил ее, как это делают другие. Я остался с нею; вся жизнь моя протекла по воле ее мужа, который, несомненно, хорошо умел драться на дуэлях и мог в любую минуту прийти и зарезать меня в объятиях своей жены. Я оставался возле нее, готовый дать удовлетворение оскорбленному супругу или защитить его жену в случае необходимости; я посвятил каждое мгновение своей жизни той, которая однажды принесла себя в жертву мне. Я начал с того, что добился обладания ею неотступными преследованиями, а кончил тем, что заслужил своей нежностью ее любовь? теперь она законно принадлежит мне. Пусть же люди признают наш союз, против которого они тщетно боролись. Ты хорошо знаешь, Фернанда, что моим чувствам ты можешь верить; все остальное зависит от провидения, и оно будет на нашей стороне, не сомневайся. Так уж нам на роду было написано: встретиться, понять и полюбить друг друга. Случай в конце концов покоряется любви; силы притяжения преодолевают все препятствия, и магнит притянет железо в недрах земли, вопреки разделяющему их граниту. Бедная трепещущая возлюбленная, приди в мои объятия, я защищу тебя от всего мира. Бедная скорбящая мать, утри свои слезы: дети, которые будут у нас с тобой, не умрут! Не теряй надежды, вспомни, какие чудесные дни были у нас среди самых мучительных тревог. Когда мы бываем в объятиях друг друга, разве не исчезаем мы в мире блаженства, куда не доходят вопли и жалобы земли? Будь уверена, кстати сказать, что ты причиняешь мужу не так уж много зла, как тебе кажется: оскорбления, изрыгаемые людской глупостью, не могут его затронуть — он стоит выше их и, конечно, не думает, что мы для забавы обращаем его в посмешище. Быть может, он знает или догадывается, что мы принадлежим друг другу, но ты же видишь, что это не вызывает у него ни малейшего гнева. Он человек спокойный и рассудительный, больше того — человек прекрасной души; если б он знал о твоих мучениях, он бы утешил, успокоил тебя и избавил от страха, одолевающего тебя; ручаюсь, что когда-нибудь он это сделает. Еще два-три года, и он будет стариком; любовь покинутого возлюбленного уступит место великодушию утешившегося друга. Сейчас он путешествует, хочет быть вдали от нас — ведь у всех нас троих положение очень трудное, щекотливое, и мы не знаем, как держать себя друг с другом. Время сотрет это отвращение и, быть может, скорее, чем мы надеемся: будущее кажется нам вне пределов досягаемости, но время работает с такой быстротой, что мы только дивимся, видя, как много оно совершило за краткий срок. Предайся же любви, она всегда будет повелительницей; твое сопротивление лишь уменьшает радости, которые она дает тебе. А как они прекрасны, как упоительны! Чти эти священные дары неба, старайся оградить их от превратностей глупой и слепой судьбы — нужно ею управлять с Твердостью и мужеством, а не принимать ее такой, какой она дается нам. Не думай, что Жак упрекает тебя за свои невзгоды; если б он знал, как сильна, как непреодолима наша любовь, как велико наше счастье, он позволил бы нам наслаждаться этим блаженством. Жду скорого ответа. Сообщи, надолго ли приехал Жак. Впереди у меня, надеюсь, еще целая жизнь с тобою вместе, а все же я не могу без сожаления подчиниться необходимости потерять хотя бы одну неделю. Ты ведь знаешь: если бы Жак, в согласии с тобой, потребовал долгого моего изгнания, я покорился бы; но теперь ему, пожалуй, кажется, что я уехал далеко; если он спросит, скажи, что я в Лионе; главное же, подавай о себе весточку и береги то, что мне дороже всего на свете.
XCIII
От Фернанды — ОктавуЖак скоро уезжает, но перед этим он хочет увидеться с тобой. Ты верно говоришь, Октав, — он человек прекрасной души. Сколько в нем великодушия, мягкости, деликатности и разума! Я хорошо вижу, что он все знает. Я готова была во всем ему признаться, так мне тяжело было от кажущегося избытка его доверия и уважения ко мне; но с первых же слов он дал мне понять, что ничего знать не хочет, и выказывал мне самую искреннюю дружбу и такую великую снисходительность, что я была глубоко растрогана и благодарна ему. Ты правильно судишь, дорогой Октав, о его намерениях и о положении каждого из нас. Жак серьезно поразмыслил о разнице лет между им и мною и, вероятно, победил остатки своей любви ко мне — он беседовал со мною совершенно в духе твоего письма. Он сказал, что некоторые толки вынуждали его держаться вдали от нас для того, чтобы в свете не судачили,что он потакает нашей любви. — А как ты сам думаешь об этой любви? — спросила я. — Считаешь ты, что возникшие толки — клевета? Я вся дрожала и готова была броситься к его ногам. Он сделал вид, будто не замечает моего волнения, и ответил: — Я уверен, что это клевета. Он, несомненно, знает всю правду, но полон такого спокойствия, что у меня отлегло от сердца, словно тяжелый камень свалился с груди. Жак такой добрый, такой преданный друг, и он умеет рассуждать: ведь он уже не молод, он знает, что меня можно извинить, и, как ты говоришь, его природному великодушию помогает его мудрая рассудительность. Он подал мне надежду, что каждый год будет по нескольку недель проводить с нами, а через несколько лет уже с нами не расстанется. Твое письмо побудило бы меня сохранить в тайне мою беременность, даже если бы Жак и не помог мне обойти молчанием наши с тобой отношения. Я тебе доверяю и всецело полагаюсь на тебя. Ты хорошо знал, что я никогда не дойду до бесстыдства и не воспользуюсь законом, который заставил бы Жака дать свое имя и свое состояние нашему ребенку, плоду любви; еще менее я способна искать ласк моего мужа, для того чтобы обмануть его и выдать будущее дитя за его законного ребенка; ты бы скорее убил меня, чем позволил сделать такую низость, не правда ли? Так, значит, ты возьмешь наше милое дитя, ты его спрячешь и будешь заботиться о нем. Мы доверим его какой-нибудь честной крестьянке, очень преданной нам и очень опрятной женщине, которая выкормит его; мы будем навещать его каждый день. Ах, какова бы ни была моя судьба и при каких бы обстоятельствах он ни появился на свет, будь уверен, что я стану любить его так же, как любила моих умерших малюток, а может быть, и больше, помня о том, как я страдала, потеряв их! Если Жак когда-нибудь узнает о его рождении, он не возненавидит его, не станет преследовать. Кто знает пределы его доброты? Он способен на самые странные и высокие поступки… Но как я рада, что великодушие сейчас не достается ему такой дорогой ценой, как я думала. Я никогда не могла бы успокоиться и любить тебя без угрызений совести, если б видела, что нам пришлось разбить благородное сердце Жака. К счастью, в его возрасте уже не бывает пылких страстей, и к тому же он мне всегда говорил (а он хорошо сознавал, что говорил): «Когда ты уже не позволишь мне быть твоим возлюбленным, я стану твоим отцом». И он сдержал слово. Дорогой мой Октав, ни одной ночи мы не проведем вместе, не преклонив перед сном колени и не помолившись за Жака. А какой ты добрый! Как ты умеешь любить! О, я никогда никого не любила, кроме тебя! Мне казалось, что я люблю Жака, но то была лишь святая дружба, ибо это нисколько не походило на мое чувство к тебе. Сколько в тебе пыла, и как ты постоянно думаешь о моем спокойствии, как преданно заботишься обо мне: ты не муж мой, а посвящаешь мне всю свою жизнь; тебя не отталкивают мои слабости и слезы, ты не упрекаешь меня за мои недостатки. Жак тоже не упрекает, он тоже очень добрый, но он мне не ровня, он мне не товарищ, не брат, не любовник, как ты. В нем уже нет ничего детского, как в нас, и потом, в его жизни играет роль не только любовь, Ему нравится многое: одиночество, путешествия, ученые занятия, размышления, а мы только любим друг друга. Будем же любить и нашего чудесного Жака; приезжай повидаться с ним. Он хочет, говорили мне, пожать тебе на прощание руку. Я с некоторой тревогой спросила, не желает ли он что-нибудь сказать тебе. — Нет, — ответил Жак. — Но почему Октав держится где-то вдали, когда я приезжаю? Какие у него причины избегать меня? Я сказала, что тебе надо было увидеться с Гербертом, который, возвращаясь из Парижа в Швейцарию, проездом остановился в Лионе. — Напиши ему поскорее, чтобы он приехал сюда, и если Герберт до сих пор в Лионе, пусть привезет его с собой. Мы проведем еще один славный день все вместе, как прежде. Тебе это будет на пользу. Какой милый Жак!
P.S. Нынче утром я страшно испугалась по самой ничтожной причине. Я оставила твое письмо распечатанным на письменном столе в своем кабинете и не заперла дверь на ключ. Жак никогда в жизни не заглядывает в мои письма. В этом отношении он необычайно щепетилен, и я не привыкла к осторожности. Мне почему-то вспомнилось это, когда мы с Сильвией гуляли по парку. И тут же я подумала: «А где сейчас Жак?», и меня до последней степени испугала мысль, что он, возможно, зашел ко мне в кабинет. Я ушла из парка и побежала к дому. Я поднялась по лестнице, не встретив Жака, и вошла в свои комнаты. Там — никого, на письменном столе ничего не тронуто. Немного успокоившись, но все еще дрожа от страха, я села к столу и взяла твое письмо, чтобы его сложить и спрятать. На последних строчках я увидела каплю воды, совсем еще свежую. Я вообразила, что это слеза, и чуть не упала в обморок от волнения и ужаса. Но тут же я ободрилась, заметив и на других бумагах еще капли воды, упавшие с букета роз, мокрых от дождя, — я сама поставила его в вазу рядом с бумагами. Но погляди, до каких ребяческих страхов и глупой слабости довели мою бедную голову горе в беспокойство: мне показалось, что капля, упавшая на твое письмо, теплая, а другие — холодные. Ты, наверно, посмеешься над моим безумием, но, право, я так испугалась, что даже закричала. И тотчас я услышала голос Жака — он окликнул меня из гостиной и, стремглав взбежав по лестнице, испуганно спросил, что случилось, подумав, что у меня нервный припадок. Признаюсь, этого едва не случилось. Однако выражение лица Жака меня успокоило, и я совсем ожила, когда он стал говорить, чтобы ты приехал сюда, что он хочет с тобой увидеться, и прочие добрые слова, которые я уже передала тебе в начале письма. Я поняла, что мой испуг — плод расстроенного воображения. Видишь, в каком я нелепом состоянии! Возвращайся! Один твой поцелуй подействует на меня лучше, чем все лекарства; а когда я увижу, что вы с Жаком подали друг другу руки, я совсем успокоюсь.
XCIV
От Жака — Сильвии ЖеневаМоя дорогая, любимая моя! Я приехал сюда с Гербертом. Ты думала, что я распрощусь с ним в Лионе, — не тут-то было. Его общество отнюдь не оказалось для меня неприятным, — мы постоянно говорили о тебе. Ты, верно, заметила, что он влюблен в тебя. Я приглядывался к нему, расспрашивал его, стараясь получше познакомиться с ним. По-моему, он достойный юноша, простой, честный, услужливый, искренний. У него порядочное состояние, славный дом; живет он в краю, который ты любишь, а работа, которой он занят, предохранит его от мелочной придирчивости, свойственной положительным степенным людям. Герберт просил меня быть его сватом: он предлагает тебе руку и сердце, и я советую принять его предложение, не сейчас, — ты пока еще не расположена заниматься такими делами, — но позднее. Ты не найдешь счастья в любви, Сильвия. Тебе долго придется искать человека, достойного тебя, и если ты встретишь такого, тебя постигнет та же участь, что и меня: найдешь ты его слишком поздно, сердце твое тогда уже состарится, и тебя недолго будут любить. Мы с тобой любим на свой лад, совсем иначе, чем прочие люди, и никогда не найдем подобных себе в этом мире. А ведь только одно важно в жизни — любовь. Но, вспомни, любовь в сердце женщины бывает двоякая: любовь к мужчине и любовь материнская. Как бы несчастен я ни был, я все-таки жил бы ради детей. Они умерли. Это убивает меня. Но ты сможешь вырастить своих малюток и, не ведая тех горестей, которые удручают меня, быть счастливой в материнстве. Ты так лелеяла моих детей, так ухаживала за ними, и не трудно предсказать, что ты будешь идеальной матерью. Выходи замуж за Герберта. Достаточно, чтобы ты питала к нему уважение и дружеское чувство. Он достоин их. Герберт принадлежит к тем прекрасным по натуре людям, которым неведомы ни восторги страсти, ни ее роковые страдания. Он не станет требовать от тебя больше привязанности, чем ты расположена будешь подарить ему, а когда ты его узнаешь хорошенько, то подаришь ее не меньше, чем он заслуживает. Жизнь у вас будет спокойная и патриархальная. Ты ведь настоящая Руфь — деятельная, мужественная и преданная, как сильные женщины прекрасных библейских времен. Ты принесешь священную жертву, отказавшись от неосуществленной мечты и тщетных желаний, и перенесешь на своих сыновей любовь, которую не могла отдать мужчине. Не отнимай у меня этой надежды, дай мне унести ее с собой в могилу. Она пришла мне недавно, когда мы в Сен-Леоне устроили пикник и обедали в лесу. Я на минутку встал, а потом, вернувшись, полюбовался двумя парами, сидевшими на траве: Октав и Фернанда, Герберт и ты. Герберт внимательно следил за каждым твоим движением, не спускал с тебя глаз, искал случая оказать тебе услугу, чтобы услышать от тебя: «Спасибо, Герберт». Другая пара сияла счастьем, и я с радостью воздаю им должное: они весь день осыпали меня знаками внимания, были милы и ласковы со мной. На мгновение мое сердце наполнилось дивным спокойствием, когда я увидел, что вы все счастливы — или по крайней мере можете быть счастливы. Ах, какой это был необычный и торжественный день! День, когда я навеки прощался с вами. Кто бы это мог подумать! Бывали минуты, когда я и сам об этом забывал и, вспоминая о былом нашем счастье, готов был верить, что все, случившееся с тех пор, — только сон. Погода была чудесная, трава такая зеленая, птицы так славно пели, и так хороша была Фернанда, на лице которой после нескольких дней недомогания возродился нежный румянец. Перед обедом я соснул на траве с четверть часика, а когда пробудился, увидел ее — она сидела возле меня и букетом полевых цветов отгоняла от меня мух; Октав пел дуэт с Гербертом, ты мыла фрукты для десерта, а в ногах у меня спали мои собаки. Это была картина счастья, простого, сельского и столь мирного счастья, что некоторое время я созерцал ее, совсем позабыв о неизбежности смерти. Но когда среди такой прелести мне в голову пришла эта мысль… Сейчас я совсем спокоен, но еще очень страдаю; я тебе говорил сто раз: ты упорно стараешься обратить меня в героя и призываешь меня жить, как будто у меня хватит на это силы. Не забудь, что еще совсем недавно я любил и был бы полон ярости, если б обстоятельства не сразили меня. Впрочем, ты ведь не читала письмо Октава и письмо Фернанды! А я прочел их. Это мой смертный приговор. Я увидел, что, несмотря на все их почтение и дружбу ко мне, моя жизнь им в тягость. Простодушные любовники, они наивно мечтают, чтобы я умер, и, сами того не замечая, говорят это. У них есть весьма законные причины для подобного желания, и я уважаю эти причины, но из-за этих причин у меня заледенела кровь в жилах. Фернанда больше мне не жена, а жена Октава, она уже не принадлежит мне, и я больше не могу сжать ее в объятиях, если она даже искренне бросится мне на шею. Теперь она поистине дочь для меня, иное чувство походило бы на кровосмешение. Не говори больше, что она может вернуться ко мне, и я все позабуду: нет, ведь она скоро будет матерью его ребенка. Я не питаю к ней за это ни ненависти, ни презрения, но, конечно, теперь мы должны расстаться навеки. Сама рука Божья положила эти письма перед моими глазами. А то я, пожалуй, потерял бы свое достоинство, унизился бы — ведь я уже готов был принять ту фальшивую и невозможную роль, о которой ты мечтала для меня. Умиленный твоим романтическим красноречием, растроганный слезами Фернанды и ее смиренными мольбами, я уже собирался пообещать ей провести остаток своей жизни между нею и ее любовником, каждую минуту меня тянуло сказать ей: «Мне все известно, но я прощаю вас обоих; будь моей дочерью, а Октав будет моим сыном; позвольте мне скоротать свой век возле вас, и пусть за то, что вы приняли и утешили несчастного своего друга, небо благословит вашу любовь». Разве не была утонченной пыткой иллюзия, длившаяся несколько часов, луч надежды, блеснувший в последний мой день и покинувший меня у врат вечной ночи? Увидеть на мгновение кусочек неба, когда ты обречен живым лечь в могилу! И все же я очень доволен, что поразмыслил обо всем и сделал все возможные для меня усилия вновь приобщиться к жизни. Теперь я умру без сожаления. Сама судьба привела меня в ту комнату, где был написан мой смертный приговор. Я зашел туда взять чернил и бумаги, чтобы написать Октаву и предложить ему вернуться; наклонившись над столом, я увидел письмо, узнал почерк Октава, и мне бросилась в глаза ужасная фраза, огнем опалившая мои зрачки: «Дети, которые будут у нас с тобой, не умрут». Я хотел узнать свою участь и чувствовал, что обычные соображения деликатности должны умолкнуть перед оракулом судьбы; к тому же, я не способен хоть чем-нибудь повредить Фернанде и мог без зазрения совести проникнуть в ее тайны. А иначе я ошибся бы дорогой и пошел бы навстречу новым бедам, которые точно так же привели бы меня к теперешнему моему решению, но только я был бы тогда менее мужественным и менее чистым, чем сейчас. Да, я правильно сделал, что прочел письмо, — ты же видела, как я вел себя после этого. Решение я принял очень быстро, и с этой минуты моя душа и выражение моего лица были полны спокойствия отчаяния. Он прав — их дети не умрут: природа благословляет и лелеет человека, любимого женщиной, а тот, кого она разлюбила, познает холод смерти. Все ускользает от него, и даже цветы увядают в руке проклятого; жизнь уходит от него, и раскрывается гроб, чтобы принять его самого и первенцев, рожденных от него; воздух, которым он дышит, отравлен, и люди бегут от нелюбимого: «Неужели этот несчастный никогда не умрет?» — говорят они. Прочитанное письмо подсказало мне мой долг, я понял, что именно надо сказать Фернанде, чтобы ее утешить и исцелить; он-то это знал — ведь он теперь понимает ее лучше, чем я. Я выполнил все, что он обещал ей от моего имени; я сообразовался и с тем характером, который он мне приписывает, и, сделав это, увидел, что она действительно хотела только одного: поскорее избавиться от моей любви. Как только я сказал, что любовь моя угасла, Фернанда словно возродилась, и, казалось, ее глаза говорили: «Значит, я могу свободно любить Октава?». И пусть она любит его! Человек менее несчастный, чем я, быть может, нашел бы случай открыто пожертвовать собою ради предмета своей любви и в награду за это услышать благословения тех, кто обязан ему своим счастьем; но у меня судьба иная: я должен умереть украдкой. Мое самоубийство казалось бы упреком, оно бы отравило будущее, которое я им предоставляю, и, пожалуй, даже сделало бы его невозможным: ведь, в конце концов, Фернанда — ангел доброты, и ее сердце, чувствительное к малейшим огорчениям, могло бы разбиться под тяжестью укоров совести. К тому же свет принялся бы проклинать ее; да, после того как люди издевались надо мною при жизни, он стал бы преследовать и мою вдову своими слепыми проклятиями. Я знаю, как это делается: выстрел из пистолета в голову вдруг превращает в героя или в святого того, кто еще накануне был предметом всеобщей ненависти или презрения. Подобный апофеоз внушает мне ужас. Я слишком презираю людей, среди которых жил, чтобы приглашать их на свою агонию, как на спектакль. Нет, никто не проведает, почему я умираю; я не хочу, чтобы обвиняли тех, кто переживет меня, не хочу защитить от злословия память обо мне. Я желал встретиться перед отъездом с Октавом, чтобы собственными глазами увидеть, могу ли я спокойно завещать ему ту, которая для меня всего дороже в мире. Он человек, полный необычайного эгоизма, но умеющий обратить этот порок в добродетель, а его смелость мне нравится. Я надеюсь, что с ним Фернанда будет счастлива. Он горячо поцеловал меня на прощание, и она тоже. Оба были весьма довольны.
XCV
От Сильвии — ЖакуТеперь я не льщу себя никакой надеждой, твое отчаяние охватило и мою душу, но у тебя оно величавое и кроткое, у меня мрачное и горькое. Итак, все кончено, ты принял решение. О, Боже, Боже! Такой человек хочет покончить с собою, и ты, Господи, не сотворишь чудо, чтобы помешать этому. Ты позволишь, чтобы эта святая и высокая жизнь упала в бездну вечности, как малая песчинка в пучину океана; она падет вместе с жизнями злодеев и подлецов, и вселенная не восстанет против Бога, отказываясь от этой жертвы! О Жак, твоя несчастная судьба обратит меня при последнем моем вздохе в атеистку. Ты говоришь мне о будущем, о счастье, замужестве, материнстве! Так, значит, тебе неведомо… Нет, ты не знаешь моей дружбы, если думаешь, что я могу пережить тебя. Пусть даже из чувства негодования, но я возненавидела жизнь; ты покорился своей участи, а я восстаю против неба и людей за то, что они привели тебя к такой участи. Я ненавижу Октава и уже не могу смотреть на свою сестру — я убегаю от нее, потому что боюсь возненавидеть ее. Вот как хорошо понимала тебя женщина, которую ты любил, и вот какого человека она предпочла тебе! Да, они правы, они действительно созданы друг для друга; пусть наслаждаются, пусть спят на твоем гробу: это будет их брачное ложе. Но зачем же тебе умирать? Если они хотят твоей смерти, так разве ты не свободен от любого долга перед ними? У них явилась преступная мысль, а ты вдруг предлагаешь себя Господу Богу в качестве искупительной жертвы за их злодеяние! Что же будет с надеждой на провидение и верой в справедливость, заложенной в сердце человека, если лучшие из людей будут обрекать себя на смерть и жертвовать своей жизнью ради того, чтобы смыть грехи с самых худших? Да разве ты не можешь покинуть навсегда эту проклятую Европу, в которой неизбывны все твои несчастья, и поискать девственные края, где ты не проливал слез и где ты мог бы начать новую жизнь? Неужели у тебя действительно совсем опустошена душа и в ней ничего не осталось, даже дружбы ко мне? А ведь я пошла бы за тобою на край света. Привязанность к тебе наполнила всю мою душу и подавила всякую искру любви, которая могла бы вспыхнуть у меня к какому-нибудь другому мужчине. Но моей дружбы тебе всегда казалось мало; ты приезжал отдохнуть около меня, искал у меня утешения, но очень быстро возвращался к бурной жизни, где кипели страсти, в конце концов и сломившие тебя. Но ведь страсти твои уже мертвы, и разве ты теперь не можешь жить спокойно, старея возле твоей сестры под ясным небом какого-нибудь чудесного уголка Нового Света? Вернись, уедем, забудем все, что мы перестрадали: ты — из-за того, что любил слишком сильно, а я — из-за того, что не могла любить достаточно сильно. Если захочешь, мы усыновим какого-нибудь сиротку; будем думать, что это наш ребенок, и воспитаем его в своих правилах. Мы возьмем даже двух сирот, мальчика и девочку, и когда-нибудь сочетаем их браком пред лицом Бога — в пустыне, которая будет для них храмом, и без священника, которого заменит им любовь; мы вложим в их души стремление к истине и справедливости, и, может быть, благодаря нам на земле появится счастливая и чистая чета. Ах, дай мне помечтать, помечтай и ты со мной. Ведь должно же быть в жизни что-то иное, кроме любви. Ты говоришь — нет. Как же это случилось, что такой человек, как ты, одаренный всяческими талантами, умудренный науками, богатый идеями и воспоминаниями, никогда не хотел жить иначе, как жизнью сердца? Разве ты не можешь найти себе прибежище в умственной деятельности? Почему ты не стал поэтом или ученым, политиком или философом? Ведь при таких занятиях жизнь и в престарелом возрасте с каждым днем становится краше и полнее. Зачем же тебе в сорок лет умирать, как юноше, от любовного отчаяния! Ах, Жак, значит, слишком пламенная у тебя душа, она не хочет стареть, для нее лучше разбиться, чем угаснуть. Ты слишком скромен для того, чтобы взяться просвещать людей наукой, слишком горд для того, чтобы блистать своими дарованиями перед людьми, не способными тебя понять, слишком справедлив и чист, чтобы царить над ними, играя на их честолюбии, или плести интриги; словом, ты не знал, на что употребить свои природные богатства. Богу следовало бы нарочно создать для тебя ангела и послать вас жить вдвоем, совсем одним, в ином мире; или по крайней мере сделать так, чтобы ты родился в те времена, когда вера и любовь к Богу служили целям просвещения и возрождения наций. Тебе нужна была бы огромная, героическая задача, которую ты осуществлял бы, полный смирения и энтузиазма; тебе по плечу жизнь святая и страдальческая, подобная жизни Христа. Но если такой человек, как ты, рождается в тот век, когда для него не находится дела, ему, с его душой апостола и стойкостью мученика, приходится брести изувеченному и недужному среди людей, не имеющих ни сердца, ни цели в жизни, влачащих пустое существование, чтобы заполнить ничтожными своими делами скучную страницу истории, и он задыхается, он умирает в этой отравленной атмосфере, в гуще тупой толпы, которая теснит, давит, толкает и даже не видит его. Злые ненавидят его, глупцы высмеивают, завистники боятся, слабые покидают, и ему остается только одно: бросить борьбу и вернуться к Богу с чувством безмерной усталости от бесплодного труда и глубокой грусти от того, что он ничего не достиг. Мир остается низким и гнусным, и это называется торжеством человеческого разума! Ты взял с меня клятву, что я останусь возле Фернанды, пока она не утешится в твоей смерти; ты вырвал у меня эту клятву, не можешь ли ты освободить меня от нее? Смогу ли я сдержать ее, когда узнаю, что роковой день настал, что близится твой последний час? Неужели ты думаешь, Жак, что я не брошу все и не помчусь к тебе, чтобы разделить с тобою яд или пули! Ты меня насмешил своими уговорами принять предложение Герберта! Помни, что и ты поклялся мне не приводить своего замысла в исполнение, пока ты не предупредишь меня, чтобы я успела приехать и в последний раз поцеловать тебя.
XCVI
От Жака — Сильвии Горы ТироляСмири свою скорбь, дорогая моя сестра: она лишь пробуждает и мою скорбь, а изменить мое решение не может. Когда жизнь какого-нибудь человека для одних вредна, ему самому тягостна, а для всех прочих бесполезна, самоубийство — законный акт, и несчастный может его совершить, хоть и жалея о своей неудавшейся жизни, но по крайней мере не чувствуя угрызений совести за то, что решил положить ей конец. Ты меня рисуешь более добродетельным и куда более великим, чем я есть; однако глубокая правда таится в том, что ты говоришь о тоске, которая томит человека, полного добрых, но бесплодных намерений и погибших надежд, когда он вынужден бывает бросить все попытки выполнить свою задачу. Совесть ни в чем не упрекает меня, и я чувствую, что мне дозволено будет лечь в могилу и отдохнуть в ней от жизни. На днях я проходил через то место, которое лет пятнадцать тому назад было полем сражения, — там я впервые оказался под огнем, в облаках пыли, порохового дыма и впервые увидел кровь; я был тогда очень молод, передо мной открывалась блестящая карьера, если б я только пожелал воспользоваться случаем. Для моих товарищей это была пора бранной славы и опьянения ею. Помню, я провел бессонную ночь в дозоре на соломенной кровле одной из низеньких хижин, построенных у подножия гор, — они служат тирольцам амбарами и овчарнями. Я находился на склоне холма; перед глазами у меня была великолепная панорама: внизу, у ног моих, — французский лагерь; вдали — костры вражеского бивака; в этом обрамлении — полководец Наполеон. Я много думал о судьбе, манившей меня, и об этом гениальном человеке, повелевавшем судьбами множества людей. Но меня оставляли холодным его кровавые труды и зловещая слава; быть может, лишь один я по всей армии не завидовал Наполеону. Я принимал ужасы войны с душевным спокойствием, которое рассудок дает человеку, когда отступать ему невозможно;-но, проезжая на следующий день верхом и видя, как лошадь моя разбивает копытом черепа, скачет по трупам или умирающим, которые еще стонали, я почувствовал глубочайшую ненависть к людям, называющим все это славой, и непреодолимое отвращение к этим мерзким сценам; с тех пор бледность всегда покрывает мое лицо, и на нем застыло выражение ледяной сдержанности. С того дня я замкнулся в себе, как будто откололся от всех смертных; я сражался, полный отвращения и отчаяния, а люди называли это хладнокровием, но по этому поводу я не вел с ними объяснений — ведь эти скоты не могли бы понять, как же среди них оказался человек, которому противны и вид и запах крови. Я видел, что они простираются ниц перед честолюбцем, проливавшим кровь множества людей, питавшимся их слезами; и когда я видел, как он шагает среди мертвецов, а около него тучей вьются ястребы, которых он откармливал человеческим мясом, мне хотелось убить его, чтобы меня прокляли и изрубили саблями его почитатели. Нет, образ гения, лишенного доброты, не ведавшего чувства любви и преданности, никогда не пленял и не искушал меня. Я буду жить у ног женщины, говорил я себе, я полюблю одно из этих слабых и чувствительных созданий, которые падают в обморок, увидев каплю крови. Я искал слабости и нашел ее, но слабость убивает силу, потому что слабость хочет жить и наслаждаться, а сила умеет отказаться от наслаждений и умереть. Не проклинай двух любовников, которым пойдет на пользу моя смерть. Они не виноваты, они любят друг друга. Искренняя любовь — не преступление. Эти двое погрязли в эгоизме, но ведь эгоизм, пожалуй, ценное качество. У кого нет эгоизма, тот не приносит пользы ни себе самому, ни другим. Кто не хочет, чтобы его вытеснили с его места в обществе, должен любить жизнь и стремиться к счастью вопреки всему. То, что в обществе называется добродетелью, представляет собою искусство удовлетворять свои желания, не задевая открыто других и не навлекая на себя их опасную враждебность. Ну что ж, зачем же ненавидеть человечество, раз люди так устроены? Это уж Бог вложил в них инстинктивную тягу к самосохранению, и она действует сама собой. В большой мастерской, где он отливает в изложницах все типы душевной организации людей, он создал несколько образцов более строгих душ и более глубоко размышляющих умов. Он сотворил их такими, что они не могут жить только для самих себя, ибо их непрестанно томит потребность действовать на благо обычным людям. Они подобны крупным колесам, которые приводят в движение тысячи шестеренок и колесиков большой машины. Но наступают времена, когда машина так расшатается, так износится, что ее уже не заставишь работать, и тогда Бог, которому она надоела, ударом ноги разобьет ее, а вместо нее сделает новую. В такие времена бывает много лишних людей, им предоставляется право любить и жить, если они могут, или умереть, если их не любят и если жить им тошно. Ты меня упрекаешь за то, что я мало тебя любил. Перед смертью можно все сказать откровенно. И я должен тебе заметить (говорю в первый и в последний раз), что мы с тобой оказались в крайне сложном положении. Из всех людей, которых я знаю, самую горячую привязанность я питал именно к тебе. Но ты молода и красива, и я никогда не знал, действительно ли ты моя сестра. У тебя не было никаких сомнений, ты меня считала своим братом, но даже в тот час, когда твоя мать, которая и сама тут запуталась, сказала, что я не брат тебе, наша с тобою судьба уже давно определилась, и мы уже не могли бы любить друг друга иначе, чем прежде. Если бы мы знали раньше, и притом из более надежного источника, что нам можно было стать мужем и женой, жизнь наша сложилась бы совсем иначе; но неуверенность сделала бы самую мысль об этом счастье омерзительной для нас обоих. И вот я полностью и навсегда отказался от этой мечты — в первый же день, как заподозрил, что мог бы предаться ей; я даже подавил в своем сердце частицу дружбы к тебе, опасаясь обмануть свою совесть. А что могло бы произойти между нами, не будь мы более сильными, чем Октав и Фернанда! Ведь достаточно было одного недостоверного и злобного слова госпожи де Терсан, чтобы ввергнуть нас в ужасную тревогу! Прости же мне этот избыток благоразумия, которого ты никогда не понимала и даже не замечала, потому что твоя душа, более спокойная и здоровая, чем моя, никогда не заставляла тебя держаться в стороне. Но именно это благоразумие дает мне возможность умереть с чистым сердцем, не оскверненным ни единой мыслью, за которую Бог должен был бы возненавидеть и покарать меня. А теперь запомни, милая моя подруга, что тебе нельзя последовать за мною в могилу. Как бы ни опостылела тебе жизнь, какой бы одинокой ты ни чувствовала себя после моей смерти, ты не можешь разделить ее со мной, не запятнав память о себе и обо мне тем самым обвинением, которое возводили на нас при жизни. Люди искренне стали бы говорить, что ты была моей любовницей и что отчаяние заставило нас покончить с собою в объятиях друг друга. Ты знаешь, как Октав подозрителен и как слаба Фернанда, — даже они поверили бы этому. Ах, оставим им воспоминание обо мне незапятнанным! Пусть они чтят его, когда меня не станет, когда это чувство им уже ничего не будет стоить. Но не обвиняй меня в том, что я не умел ценить тебя, моя дорогая Сильвия, сестра моя перед Богом. Ведь я сто раз говорил тебе, что лишь ты одна на всем свете делала мне только добро. Одна ты меня понимала, одна ты думала так же, как я. Казалось, в нас с тобою была вложена одна душа. Но самые ее благородные черты достались тебе. Ты предпочитала меня своим возлюбленным, и я предпочел бы тебя своим любовницам, если б не боялся, что зайду слишком далеко в чересчур горячей привязанности к тебе. Ты-то бесхитростно предавалась ей, у тебя такая спокойная душа и твердая воля! Ты была алмазом, а я грубой породой, охраняющей его; боясь своих порывов и желаний, я в качестве спасительной преграды всегда ставил между нами любовницу, которой отдавал свои ласки, что, однако, не мешало моей глубокой любви к тебе. Видишь, как я доверяю твоему слову и как уважаю тебя: я дерзаю открыть тебе все свои слабости, все страдания своего сердца! С тех пор как я узнал тебя, ты всегда была моей наперсницей и утешительницей, а до тебя я никогда никому не открывался. Будь же моей последней надеждой в мире, который я покидаю. Из глубины могилы моя душа еще будет приходить к вам, узнавать, счастливы ли те, которых я оставил на земле. Заботься о своей сестре, я тебе ее поручаю. Если ты хочешь, чтобы я умер с миром, дай мне унести с собою уверенность, что ты никогда ее не покинешь. Ты такая разумная, и дружба твоя ценнее, чем любовь других людей.
XCVII
От Жака — Сильвии Рунские ледникиКакое прекрасное нынче утро! Небо такое чистое, природа полна безмятежного спокойствия, и я хочу воспользоваться этим, чтобы спокойно проститься с печальным своим существованием. Я написал Фернанде, но в таком духе, чтобы у нее никогда и мысли не являлось, что я покончил с собой. Я написал ей о скором своем возвращении; я даже вошел в некоторые мелочи домашнего обихода, сообщил ей, какие улучшения собираюсь произвести в замке; я хотел, чтоб она была очень далека от отчаяния и приписывала, мою смерть несчастному случаю. Ты одна будешь хранительницей этой тайны, от которой зависит будущее счастье Фернанды. Сожги все мои письма или спрячь их в надежном месте и потребуй, чтоб в случае твоей смерти они были погребены вместе с тобой. Будь осторожна и тверда в дни скорби; не допусти, чтобы я умер напрасно. Сейчас ухожу из гостиницы и больше туда не вернусь. Может быть, я покончу с собою только завтра или через несколько дней. Но больше меня уже не увидят. Душа мой смирилась, но еще страдает, и я умру печальным, печальным, как человек, для которого прибежищем является лишь слабая надежда на небеса. Я поднимусь на вершину ледника и помолюсь от всего сердца; быть может, вера и надежда будут ниспосланы мне в то торжественное мгновение, когда я, отрешившись от людей и от жизни, брошусь в пропасть, воздев к небу руки и крикнув с мольбою: «О справедливость! Справедливость Господня!».
* * *
После упомянутого здесь письма к Фернанде, прибывшего в Сен-Леон одновременно с письмом к Сильвии, больше от Жака не было никаких вестей. Горцы, у которых он остановился, сообщили властям своего кантона, что проживавший в их доме иностранец исчез, оставив у них свой саквояж. Поиски не привели ни к каким результатам, и судьба его неизвестна; в бумагах не обнаружено никаких намеков на замышленное самоубийство, и его исчезновение приписали смерти от несчастного случая. В деревне видели, как он шел по тропинке, ведущей к ледникам, и поднялся очень высоко, к снежным вершинам; предполагают, что он свалился в одну из трещин, которые попадаются в толще льда, и нередко бывают глубиной в несколько сот футов. Примечание издателяЖорж Санд Индиана
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Однажды поздней осенью, в дождливый и холодный вечер, трое обитателей небольшого замка Де-ла-Бри в раздумье сидели у камина, смотрели на тлеющие угли и машинально следили за медленно двигающейся часовой стрелкой. Двое из них молчаливо и покорно скучали, тогда как третий выказывал явные признаки нетерпения. Он еле сдерживал громкую зевоту, поминутно вскакивая со стула, разбивал каминными щипцами потрескивающие головешки, словом, всячески старался не поддаваться одолевавшей их всех скуке. Этот человек — полковник Дельмар, хозяин дома, — был значительно старше двух других. Некогда красивый, бравый вояка, теперь отяжелевший и лысый, с седыми усами и грозным взором, он, выйдя в отставку, стал превосходным, но строгим хозяином, перед которым трепетало все — жена, слуги, лошади и собаки. Наконец он встал, чувствуя, что начинает терять терпение от напрасных усилий придумать, как бы прервать тоскливое молчание, и принялся тяжелыми шагами ходить по гостиной; во всех его движениях сказывалась выправка бывшего военного: он держался очень прямо, повертывался всем корпусом с самодовольством, никогда не покидающим образцового офицера, привыкшего всю жизнь красоваться на парадах. Но миновали дни его славы, когда он, молодой лейтенант, упивался победами на поле брани. Теперь он вышел в отставку, был забыт неблагодарным отечеством, и ему приходилось терпеть все последствия своей женитьбы. Он был женат на молодой и красивой женщине, владел недурной усадьбой с прилегающими к ней угодьями и, сверх того, успешно вел дела на своей фабрике. Поэтому полковник постоянно пребывал в дурном настроении, в этот же вечер в особенности, потому что погода была сырая, а полковник страдал ревматизмом. Он важно расхаживал по старой гостиной, обставленной в стиле Людовика XV, по временам останавливаясь то перед фреской над дверью, где голые амуры украшали гирляндами цветов учтивых ланей и добродушных кабанов, то перед лепным панно с таким запутанным рисунком, что его причудливые узоры и капризные завитки утомляли глаз. Но это незначительное и пустое занятие только на время отвлекало его внимание, и каждый раз, проходя мимо двух своих молчаливых компаньонов, полковник бросал то на одного, то на другого проницательный взгляд. Вот уже три года, как он неотступно следил за женой, ревниво охраняя свое хрупкое и драгоценное сокровище. Ей ведь было девятнадцать лет, и если бы вы видели эту тоненькую, бледную и грустную женщину, которая сидела, облокотясь на колено, у огромного камина из белого мрамора с позолоченными инкрустациями, если бы вы видели ее, совсем еще юную, в этом старом доме рядом со старым мужем, ее, похожую на цветок, вчера только выглянувший на свет, но уже сорванный и распускающийся в старинной вазе, — вы пожалели бы жену полковника Дельмара, а может быть, еще больше вы пожалели бы самого полковника. Третий обитатель этого уединенного дома сидел тут же, по другую сторону пылающего камелька. Это был мужчина в полном расцвете молодости и сил; его румяные щеки, густая золотистая шевелюра и пушистые бачки составляли резкий контраст с седеющими волосами, с поблекшим и суровым лицом хозяина. Однако даже человек со слабо развитым вкусом предпочел бы суровое и строгое лицо полковника Дельмара правильным, но невыразительным чертам третьего члена этой семьи. Пухленькое личико амура, изображенное на чугунной плите камина и устремившее свой взгляд на горящие поленья, было, пожалуй, более осмысленно, нежели лицо белокурого и румяного героя нашего повествования, также смотревшего на огонь. Впрочем, его сильная, статная фигура, резко очерченные темные брови и гладкий белый лоб, спокойные глаза, красивые руки и даже строгая элегантность охотничьего костюма делали его «красавцем мужчиной» в глазах всякой женщины, склонной во взглядах на любовь придерживаться так называемых философских вкусов прошлого века. Но, по всей вероятности, молодая и скромная жена господина Дельмара никогда еще не рассматривала мужчин с такой точки зрения, и едва ли между этой женщиной, хрупкой и болезненной, и этим мужчиной, любившим поспать и поесть, могло быть что-нибудь общее. Как бы там ни было, ястребиный взор аргуса-супруга тщетно старался уловить взгляд, вздох или трепетное влечение друг к другу этих столь различных людей. Убедившись в полном отсутствии повода для ревности, полковник впал в еще большее уныние и резким движением засунул руки глубоко в карманы. Единственным счастливым и радующим глаз существом в этой компании была красивая охотничья собака из породы грифонов, голова которой покоилась на коленях сидящего мужчины. Это был огромный пес с большими мохнатыми лапами и умной, острой, как у лисицы, мордой, с большими золотистыми глазами, сверкающими сквозь взъерошенную шерсть и похожими на два топаза. Эти глаза гончей, такие мрачные и налитые кровью в азарте охоты, теперь выражали грусть и бесконечную нежность. И когда хозяин, предмет ее инстинктивной любви, часто более ценной, чем рассудочная любовь человека, перебирал пальцами ее серебристую шерсть, нежную, как шелк, глаза собаки блестели от удовольствия и она равномерно ударяла длинным хвостом по мозаичному паркету, задевая очаг и разбрасывая золу. Эта бытовая сценка, слабо освещенная огнем камина, могла бы послужить сюжетом для картины в духе Рембрандта. Яркие вспышки пламени по временам озаряли комнату и лица, затем переходили в красные отблески и понемногу гасли. Тогда большая зала постепенно погружалась в темноту. Каждый раз, когда господин Дельмар проходил мимо камина, он появлялся как тень и тотчас исчезал в таинственном сумраке гостиной. На овальных рамах с лепными веночками, медальонами и бантами, на мебели черного дерева с медными украшениями и даже на поломанных карнизах деревянной панели вспыхивали по временам золотые полоски света. Но когда в камине одна из головешек гасла, а другая еще не успевала как следует разгореться, предметы, которые только что были ярко освещены, погружались в темноту, и из мрака, поблескивая, выступали другие. Таким образом, можно было рассмотреть постепенно все детали обстановки: консоль на трех больших позолоченных тритонах, расписной потолок, изображавший небо в облаках и звездах, тяжелые, отливавшие шелком драпировки алого штофа с длинной бахромой, широкие складки которых, казалось, колыхались, когда на них падал колеблющийся свет камина. При взгляде на неподвижные фигуры двух людей, четко выделявшихся на фоне камина, можно было подумать, что они страшатся нарушить неподвижность окружающей обстановки. Застывшие и окаменевшие, подобно героям старых сказок, они словно боялись, что при первом слове или при малейшем движении на них обрушатся своды какого-то заколдованного замка, а хозяин с нахмуренным челом походил на колдуна, который своими чарами держит их в плену. В тишине и полумраке комнаты раздавались только его размеренные шаги. Наконец собака, поймав благосклонный взгляд своего господина, поддалась той магнетической власти, какую имеет глаз человека над умным животным. Она робко и тихо залаяла и с неподражаемым изяществом и грацией положила обе лапы на плечи любимого хозяина. — Пошла прочь, Офелия, пошла! И молодой человек сделал на английском языке строгий выговор послушному животному; пристыженная собака с виноватым видом подползла к госпоже Дельмар, как бы прося у нее защиты. Но госпожа Дельмар по-прежнему сидела задумавшись; она не обратила внимания на собаку, положившую голову на ее белые, скрещенные на коленях руки, и не приласкала ее. — Что же это такое? Собака, видно, окончательно расположилась в гостиной? — сказал полковник, втайне довольный, что нашел повод сорвать на ком-то свое раздражение и хоть как-нибудь скоротать время. — Ступай на псарню, Офелия! Вон отсюда, глупая тварь! Если бы в ту минуту кто-нибудь наблюдал за госпожой Дельмар, он отгадал бы по одному этому ничтожному эпизоду печальную тайну всей ее жизни. Легкая дрожь пробежала по ее телу, и, как бы желая удержать и защитить свою любимицу, она судорожно сжала крепкую мохнатую шею собаки, голова которой лежала у нее на коленях. Господин Дельмар вытащил из кармана куртки охотничью плетку и с угрожающим видом подошел к несчастной Офелии, которая растянулась у его ног, закрыв глаза, и заранее испуганно и жалобно заскулила. Госпожа Дельмар побледнела сильнее обычного, рыдания сдавили ей грудь, и, обратив на мужа большие голубые глаза, она произнесла с выражением неописуемого ужаса: — Ради бога, не убивайте ее! Услышав эти слова, полковник вздрогнул. Вспыхнувший в нем гнев сменился печалью. — Ваш намек, сударыня, мне хорошо понятен, — сказал он. — Вы непрестанно укоряете меня с того самого дня, когда я в запальчивости убил на охоте вашего спаниеля. Подумаешь, велика потеря! Собака, которая не хотела делать стойку и накидывалась на дичь! Кого бы это не вывело из терпения? К тому же, пока она была жива, вы не проявляли к ней особой привязанности, но теперь, когда это дает вам повод упрекать меня… — Разве я когда-либо вас упрекала?.. — сказала госпожа Дельмар с той кротостью, какая вызывается снисходительностью к любимым людям или уважением к самому себе, если имеешь дело с теми, кого не любишь. — Я этого не сказал, — возразил полковник скорее тоном отца, нежели мужа, — но в слезах иных женщин таятся более горькие укоры, нежели в проклятиях других. Черт возьми, сударыня, вы прекрасно знаете, что я не выношу слез… — Вы, кажется, никогда не видели, чтобы я плакала. — Ах, да разве я не вижу постоянно ваших покрасневших глаз! А это, честное слово, еще хуже! Во время этой супружеской размолвки молодой человек встал и спокойно выпроводил Офелию. Потом он вернулся на свое место напротив госпожи Дельмар, но сначала зажег свечу и поставил ее на камин. Столь незначительное обстоятельство оказало неожиданное влияние на настроение господина Дельмара. Как только ровный свет разлился по комнате и, сменив колеблющееся пламя камина, озарил его жену, он заметил ее страдальческий, изможденный вид,усталую позу, исхудалое лицо, обрамленное длинными черными локонами, и темные круги под утратившими блеск, воспаленными глазами. Он несколько раз прошелся по комнате, потом вдруг подошел к жене и резко переменил разговор. — Как вы себя чувствуете, Индиана? — спросил он с неловкостью человека, у которого сердце и характер почти всегда находятся в разладе. — Как обычно, благодарю вас, — ответила она, не выражая ни удивления, ни обиды. — «Как обычно» — это не ответ, или, вернее, это женский, уклончивый ответ. Он ничего не выражает: ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо! — Так оно и есть, я чувствую себя ни хорошо, ни плохо. — Ну, так вы лжете, — снова грубо сказал полковник, — я знаю, что вы чувствуете себя плохо. Вы говорили об этом присутствующему здесь сэру Ральфу. Что, разве я лгу? Отвечайте, Ральф, говорила она вам это или нет? — Говорила, — флегматично ответил сэр Ральф, не обращая внимания на укоризненный взгляд Индианы. Тут появилось четвертое лицо — правая рука хозяина дома, старый сержант, когда-то служивший в полку господина Дельмара. В немногих словах он сообщил полковнику, что, по его наблюдениям, жулики, ворующие у них уголь, залезали в парк в предшествующие ночи как раз в эту пору, и потому он пришел за ружьем, чтобы обойти парк перед тем, как запереть ворота. Господин Дельмар, усмотрев в этом происшествии какое-то воинственное приключение, тотчас же схватил охотничье ружье, дал другое Лельевру и уже пошел к дверям. — Как? — в ужасе воскликнула госпожа Дельмар. — Вы собираетесь убить несчастного крестьянина из-за мешка угля? — Убью, как собаку, каждого, кто бродит ночью в моих владениях, — ответил Дельмар, раздраженный ее словами. — И если вы знакомы с законом, вы должны знать, что законом это не карается. — Отвратительный закон, — с жаром возразила Индиана, но тотчас же сдержала себя и прибавила более мягко: — А как же ваш ревматизм? Вы забыли, что идет дождь? Вы завтра же заболеете, если выйдете сегодня вечером. — Видно, вы очень боитесь, что вам придется ухаживать за старым мужем, — ответил Дельмар и, хлопнув дверью, вышел, продолжая ворчать на свои годы и на жену.2
Индиана Дельмар и сэр Ральф (или, если вам угодно, мы можем называть его господином Рудольфом Брауном) продолжали сидеть друг против друга так же спокойно и невозмутимо, как если бы муж все еще находился с ними. Англичанин вовсе не думал оправдываться, а госпожа Дельмар чувствовала, что у нее нет оснований серьезно упрекать его, так как он проговорился из добрых побуждений. Наконец, с усилием прервав молчание, она решилась слегка пожурить его. — Вы поступили дурно, дорогой Ральф, — сказала она. — Я запретила вам повторять слова, вырвавшиеся у меня в минуту страдания, а с господином Дельмаром я меньше чем с кем-нибудь хотела бы говорить о своей болезни. — Не понимаю вас, дорогая, — ответил сэр Ральф, — вы больны и не желаете лечиться. Мне пришлось выбирать между возможностью потерять вас и необходимостью предупредить вашего мужа. — Да, — грустно улыбаясь, сказала госпожа Дельмар, — и вы решили предупредить «высшую власть». — Вы напрасно, совершенно напрасно, поверьте мне, настраиваете себя против полковника: он человек честный и достойный. — Но кто же возражает против этого, сэр Ральф?.. — Ах, да вы первая, сами того не замечая. Ваша грусть, болезненное состояние и, как он сейчас сказал, ваши покрасневшие глаза говорят всем и каждому, что вы несчастны… — Замолчите, сэр Ральф, вы слишком далеко заходите. Я не разрешаю вам высказывать свои догадки. — Я вижу, что рассердил вас, но ничего не поделаешь. Я Неловок, не знаю тонкостей французской речи, и, кроме того, у меня много общего с вашим мужем: я, как и он, совсем не умею утешать женщин ни на английском, ни на французском языке. Другому, может быть, удалось бы без слов объяснить вам то, что я сейчас так неумело высказал. Он нашел бы способ незаметно завоевать ваше доверие, и, вероятно, ему удалось бы смягчить ваше сердце, которое ожесточается и замыкается передо мной. Уже не в первый раз я замечаю, что слова имеют больше значения, чем мысли, особенно во Франции. И женщины предпочитают… — О, вы глубоко презираете женщин, дорогой Ральф. Я здесь одна, а вас двое, и мне остается лишь примириться с тем, что я всегда бываю неправа. — Докажи нам, что мы неправы, дорогая кузина, будь, как прежде, здоровой, веселой, свежей и жизнерадостной! Вспомни остров Бурбон, очаровательный уголок Берника, наше веселое детство и нашу дружбу, которой столько же лет, сколько и тебе. — Я вспоминаю также и моего отца… — сказала Индиана и, бросив на сэра Ральфа взгляд, исполненный грусти, взяла его за руку. Они снова погрузились в глубокое молчание. — Видишь ли, Индиана, — немного погодя сказал сэр Ральф, — наше счастье всегда зависит от нас самих, и часто нужно только протянуть руку, чтобы схватить его. Чего тебе недостает? Ты живешь в полном достатке, а это, может быть, даже лучше богатства. У тебя прекрасный муж, который любит тебя всем сердцем, и, могу смело сказать, у тебя есть верный и преданный друг… Госпожа Дельмар слегка пожала ему руку, но продолжала сидеть в прежней позе, уныло опустив голову и не сводя печального взора с волшебной игры огоньков на тлеющих углях. — Ваша грусть, дорогой друг, — продолжал сэр Ральф, — результат вашего болезненного состояния. У кого из нас не бывает горя и тоски. Посмотрите на окружающих: многие из них с полным основанием завидуют вам. Так устроен человек — он всегда стремится к тому, чего у него нет… Мы избавим читателя от повторения тех избитых истин, которые сэр Ральф, желая утешить Индиану, твердил однообразным и нудным голосом, вполне соответствовавшим его тяжеловесным мыслям. Сэр Ральф вел себя так не потому, что был глуп, но потому, что область чувств была ему совершенно недоступна. Он обладал и здравым смыслом и знанием жизни, но роль утешителя женщин, как он сам признавался, была не по нем. К тому же ему так трудно было понять чужое горе, что при самом искреннем желании помочь он, касаясь раны, только растравлял ее. Он отлично сознавал свою беспомощность и потому обычно старался не замечать огорчений своих друзей. Сейчас ему стоило невероятных усилий выполнить то, что он считал самым тяжелым долгом дружбы. Видя, что госпожа Дельмар почти не слушает его, он умолк, и теперь в комнате слышно было только, как потрескивали на тысячу ладов дрова в камине, как жалобно пели свою песенку разгорающиеся поленья, как, съежившись, шипела и лопалась кора, как трещали, вспыхивая голубым пламенем, сухие сучья. По временам вой собаки присоединялся к слабому завыванию ветра, проникавшего в дверные щели, и к шуму дождя, хлеставшего в окна. Такого печального вечера госпожа Дельмар еще никогда не проводила у себя в усадьбе. Кроме того, ее впечатлительную душу тяготило какое-то смутное ожидание несчастья. Слабые люди живут в постоянном страхе и полны предчувствий. Как и все креолки, госпожа Дельмар была суеверна, к тому же очень нервна и болезненна. Ночные звуки, игра лунного света — все предвещало ей роковые события, грядущие несчастья, и ночь, полная тайн и призраков, говорила с этой мечтательной и грустной женщиной на каком-то особом языке, понятном ей одной, который она и истолковывала сообразно со своими опасениями и страданиями. — Вы, наверное, сочтете меня безумной, — сказала она, отнимая свою руку у сэра Ральфа, — но я чувствую, что на нас надвигается несчастье. Опасность нависла здесь над кем-то, наверное надо мной… Знаете, Ральф, я так взволнована, как будто предстоит большая перемена в моей судьбе… Мне страшно, — сказала она вздрагивая, — я чувствую себя плохо. Ее губы побелели, лицо стало восковым. Сэр Ральф, напуганный не ее предчувствиями, которые он считал признаком душевной подавленности, но ее смертельной бледностью, быстро дернул за шнурок звонка, чтобы позвать на помощь. Никто не шел, а Индиане становилось все хуже. Испуганный Ральф отнес ее подальше от огня, положил на кушетку и стал звать слуг, бросился искать воду, нюхательную соль; он ничего не мог найти, обрывал один за другим все звонки, путался в лабиринте темных комнат, ломая руки от нетерпения и досады на самого себя. Наконец ему пришла в голову мысль открыть застекленную дверь, ведущую в парк, и он начал поочередно звать то Лельевра, то креолку Нун — горничную госпожи Дельмар. Через несколько минут из темной аллеи парка прибежала Нун и с беспокойством спросила, что случилось, не чувствует ли себя госпожа Дельмар хуже, чем обычно. — Ей совсем плохо, — сказал сэр Браун. Оба поспешили в залу и принялись приводить в чувство лежавшую в обмороке госпожу Дельмар; Ральф неуклюже и неумело суетился, а Нун ухаживала за своей хозяйкой с ловкостью и умением преданной служанки. Нун была молочной сестрой госпожи Дельмар, они выросли вместе и нежно любили друг друга. Нун, высокая, сильная, пышущая здоровьем, жизнерадостная и подвижная девушка, с горячей кровью страстной креолки, затмевала своей яркой красотой бледную и хрупкую госпожу Дельмар. Но природная доброта обеих и взаимная привязанность уничтожали между ними всякое чувство женского соперничества. Когда госпожа Дельмар пришла в себя, ей прежде всего бросились в глаза встревоженное лицо горничной, ее растрепанные мокрые волосы и волнение, сквозившее во всех ее движениях. — Успокойся, бедняжка, — ласково сказала ей госпожа Дельмар. — Моя болезнь тебя извела больше, чем меня. Подумай о себе самой, Нун. Ты худеешь и плачешь, тогда как тебе только и жить. Милая моя Нун, перед тобой вся жизнь, счастливая и прекрасная! Нун порывисто прижала к губам руку госпожи Дельмар и, словно в бреду, испуганно оглядываясь по сторонам, воскликнула: — Боже мой, сударыня, знаете ли вы, зачем господин Дельмар пошел в парк? — Зачем? — повторила за ней Индиана, и слабый румянец, появившийся на ее лице, мгновенно исчез. — Постой, не помню… Ты меня пугаешь! Что случилось? — Господин Дельмар, — ответила прерывающимся голосом Нун, — уверен, что в парк забрались воры. Они с Лельевром делают обход, и оба с ружьями. — Ну и что же? — спросила Индиана, казалось боявшаяся услышать какую-то страшную новость. — Как что же, сударыня? — продолжала Нун, в волнении сжимая руки. — Страшно подумать — ведь они могут убить человека! — Убить! — в ужасе воскликнула госпожа Дельмар, словно ребенок, испуганный сказками няни. — Да, да, его убьют, — сказал Нун, еле сдерживая рыдания. «Они обе положительно сошли с ума, — подумал сэр Ральф, с изумлением наблюдавший эту странную сцену. — Впрочем, все женщины сумасшедшие», — мысленно добавил он. — Что ты рассказываешь, Нун? — начала госпожа Дельмар. — Ты разве тоже думаешь, что там воры? — Ох, если б воры! А то просто какой-нибудь бедный крестьянин решил тайком набрать охапку хвороста для семьи. — В самом деле, какой ужас!.. Но не может быть. Здесь, в Фонтенебло, у самой опушки леса так легко набрать хвороста, — зачем для этого перелезать через ограду чужого парка? Успокойся, господин Дельмар никого не встретит. Но Нун как будто не обращала внимания на ее слова. Прислушиваясь к малейшему шороху, она перебегала от окна к кушетке, где лежала ее хозяйка, и, казалось, колебалась, не зная, что ей делать: бежать к господину Дельмару или остаться возле больной. Ее страх показался господину Брауну таким странным и неуместным, что он, обычно такой невозмутимый, вышел из себя и, крепко сжав ей руку, сказал: — Да вы с ума сошли! Разве вы не понимаете, что напугали свою госпожу и что ваши глупые страхи ее волнуют? Нун его не слушала. Она смотрела на свою хозяйку, которая внезапно вздрогнула, точно от действия электрического тока. Почти в то же мгновение стекла в гостиной задрожали от выстрела, и Нун упала на колени. — До чего нелепы эти женские страхи! — воскликнул сэр Ральф, раздраженный их волнением. — Сейчас вам торжественно преподнесут убитого кролика, и вы будете сами над собой смеяться. — Нет, Ральф, — сказала госпожа Дельмар, решительно направляясь к двери, — я уверена, что пролилась человеческая кровь. Нун пронзительно закричала и упала вниз лицом. Из парка послышался голос Лельевра: — Попался, попался, голубчик! Прекрасный выстрел, господин полковник, вы уложили вора на месте! Сэр Ральф тоже начал беспокоиться. Он последовал за госпожой Дельмар. Через несколько минут под колоннаду у подъезда дома принесли окровавленного человека, который не подавал никаких признаков жизни. — Ну, чего расшумелись и раскричались? — со злобной радостью сказал полковник испуганным слугам, суетившимся вокруг раненого. — Это просто шутка, ружье было заряжено солью. Кажется, я даже в него не попал, он свалился от страха. — А кровь у него тоже льется от страха? — тоном глубокого упрека спросила госпожа Дельмар. — Почему вы здесь, сударыня, и что вам нужно? — воскликнул господин Дельмар. — Я пришла исправить причиненное вами зло, потому что это мой долг, — холодно ответила она. И, подойдя к раненому с решимостью, которой не хватало ни у кого из присутствующих, она поднесла свечу к его лицу. Все ожидали увидеть бедняка в лохмотьях, а перед ними оказался молодой человек с тонкими и благородными чертами лица, одетый в изящный охотничий костюм. У него была только небольшая рана на руке, но разорванная одежда и обморок указывали на то, что он разбился при падении. — Еще бы, — сказал Лельевр, — он свалился с высоты не менее двадцати футов. Когда полковник в него выстрелил, он как раз перелезал через ограду; несколько дробинок, а может быть, просто несколько крупинок соли, попали ему в правую руку, и он не удержался на стене. Я видел, как он сорвался и упал, — больше уж он, бедняга, не пытался бежать! — Просто не верится, — заметила одна из служанок, — такой прилично одетый человек и вдруг занимается воровством! — У него карманы набиты золотом, — заметил другой слуга, расстегивая жилет мнимого вора. — Все это очень странно, — с большим волнением произнес полковник, глядя на лежащего перед ним человека. — Если он умер, то я в этом не виноват. Осмотрите его руку, сударыня, найдете ли вы там хоть одну дробинку?.. — Мне хотелось бы верить вам, сударь, — ответила госпожа Дельмар, внимательно щупая пульс и исследуя шейные артерии раненого с необычайным хладнокровием и присутствием духа, на что никто не считал ее способной. — Вы правы, — добавила она, — он жив, и надо скорее оказать ему помощь. Этот человек непохож на вора и заслуживает ухода. Да если бы он его и не заслуживал, все равно мы, женщины, обязаны позаботиться о нем — это наш долг. Госпожа Дельмар велела перенести раненого в бильярдную, которая находилась ближе всего к колоннаде. Сдвинули несколько скамеек, положили на них матрац, и Индиана с помощью служанок занялась перевязкой, а сэр Ральф, сведущий в хирургии, пустил раненому кровь. Тем временем полковник, смущенный, не зная, как себя держать, находился в положении человека, выказавшего себя более жестоким, чем он сам того хотел. Он испытывал потребность оправдать себя в глазах окружающих, или, вернее, хотел, чтобы окружающие оправдали его в его собственных глазах. Стоя у колонн, среди своих слуг, он принимал горячее участие в пространных, никому не нужных разговорах, какие обычно ведутся после уже случившегося несчастья. Лельевр в двадцатый раз со всеми подробностями рассказывал, как все произошло: выстрел, падение и что за этим последовало; а полковник, пришедший в благодушное настроение в кругу своих домочадцев, что с ним бывало всегда после того, как ему удавалось сорвать на ком-нибудь свою злобу, приписывал самые преступные намерения молодому человеку, перелезшему ночью через ограду в чужие владения. Все соглашались с хозяином, но садовник, отведя его незаметно в сторону, стал уверять, будто вор как две капли воды похож на молодого помещика, недавно поселившегося по соседству, и будто он видел, как этот человек три дня тому назад разговаривал с Нун на сельском празднике в Рюбеле. Эти разъяснения дали новое направление мыслям господина Дельмара. На широком блестящем и лысеющем лбу полковника вздулась вена, что всегда являлось у него предвестием бури. «Проклятие! — подумал он, сжимая кулаки. — Госпожа Дельмар слишком интересуется этим щеголем, залезшим ко мне через ограду». И он вошел в бильярдную, бледный и дрожащий от гнева.3
— Успокойтесь, сударь, — сказала ему Индиана, — мы надеемся, что человек, которого вы чуть не убили, поправится через несколько дней, хотя он еще и не пришел в себя… — Дело вовсе не в том, сударыня, — произнес полковник сдавленным голосом. — Я хотел бы узнать от вас имя вашего странного пациента и хотел бы также знать, почему он так рассеян, что принял стену парка за аллею, ведущую к подъезду моего дома. — Мне это совершенно неизвестно, — ответила госпожа Дельмар с такой холодной надменностью, что ее грозный супруг на мгновение остолбенел. Но ревнивые подозрения очень быстро вновь овладели им. — Я все узнаю, сударыня, — сказал он вполголоса, — будьте уверены, я все узнаю… Госпожа Дельмар делала вид, что не замечает его бешенства, и продолжала ухаживать за раненым; тогда полковник, чтобы не вспылить перед служанками, вышел и снова подозвал садовника: — Как фамилия того помещика, который, по твоим словам, похож на нашего мошенника? — Господин де Рамьер. Он недавно купил загородный дом господина де Серей. — Что это за человек? Дворянин, франт, красивый мужчина? — Очень красивый мужчина и думаю, что дворянин… — Должно быть, так. «Господин де Рамьер!» — напыщенным тоном повторил полковник. — Скажи-ка, Луи, — добавил он, понизив голос, — не видел ли ты, чтоб этот франт бродил возле нашего дома? — Сударь… Прошлую ночь, — в замешательстве ответил Луи, — я действительно видел кого-то… Был ли это франт, не могу сказать… Но это наверняка был мужчина. — Ты сам его видел? — Видел собственными глазами под окнами оранжереи. — И ты не стукнул его лопатой? — Я было собирался, сударь, а тут, гляжу, из оранжереи вышла женщина в белом и подошла к нему. Тут я и подумал: «Может быть, господам вздумалось под утро прогуляться», — и снова лег спать. А сегодня утром слышу, как Лельевр говорит о каком-то жулике, будто он видел чьи-то следы в парке. Тут уж и я решил: здесь дело нечисто! — Почему же ты тотчас не сообщил мне об этом, дуралей? — Что вы хотите, сударь, мы тоже деликатное обхождение понимаем, — бывают иной раз такие случаи… — Ага, ты, кажется, смеешь что-то подозревать? Дурак! Если ты когда-нибудь позволишь себе делать подобные дерзкие предположения, я оборву тебе уши. Я прекрасно знаю, кто этот мошенник и зачем он пожаловал в мой сад; я расспрашивал тебя только для того, чтобы проверить, как ты охраняешь оранжерею! Помни, у меня есть очень редкие растения, которыми чрезвычайно дорожит госпожа Дельмар. Бывают сумасшедшие любители, способные выкрасть их из теплиц своих соседей. А вчера ночью ты видел меня с госпожой Дельмар. И несчастный полковник ушел, еще более встревоженный и раздраженный, нисколько не убедив своего садовника в существовании таких завзятых любителей-садоводов, которые готовы рисковать жизнью ради черенка редкого растения. Господин Дельмар вернулся в бильярдную и, не обращая внимания на то, что раненый начал наконец подавать признаки жизни, собрался обыскать карманы его куртки, лежавшей на стуле; но в это время незнакомец, протянув руку, промолвил слабым голосом: — Вы хотите знать, милостивый государь, кто я? Не трудитесь напрасно. Я расскажу все сам, когда мы останемся вдвоем. А пока разрешите мне не называть себя, принимая во внимание то смешное и грустное положение, в какое я попал. — Очень жалею, что так случилось, — язвительно ответил полковник, — но, признаюсь, это меня мало трогает. Однако я надеюсь, что мы встретимся с вами наедине, и потому готов отложить до этого случая наше знакомство. А пока что будьте любезны сказать мне, куда следует вас перенести. — На постоялый двор в ближайшую деревню, если вы будете настолько любезны. — Но больной в таком состоянии, что его нельзя еще тревожить, не правда ли, Ральф? — с живостью возразила госпожа Дельмар. — Вас слишком беспокоит состояние больного, сударыня, — сказал полковник. — Ну, а вы все ступайте прочь, — обратился он к служанкам. — Наш непрошеный гость чувствует себя лучше и теперь сможет, наверное, объяснить, каким образом он очутился у меня. — Да, — ответил раненый, — и я прошу всех, столь любезно оказавших мне помощь, выслушать меня. Я чувствую, как важно, чтобы мое поведение не было ложно истолковано; да и для меня самого не менее важно, чтобы меня не приняли за того, кем я вовсе не являюсь. Итак, вот что привело меня к вам. При помощи чрезвычайно простых средств, известных вам одному, сударь, вы так поставили дело на своей фабрике, что доход от нее намного превосходит доходы всех других подобных фабрик в вашем крае. У моего брата на юге Франции есть схожее с вашим предприятие, но содержание его стоит огромных средств. Дела брата идут из рук вон плохо; и вот, узнав о том, что вы преуспеваете, я решил обратиться к вам за советом и просить о великодушной услуге, которая не может повредить вашим интересам, так как мой брат вырабатывает совсем другие товары. Но доступ на вашу фабрику был для меня закрыт. Когда же я захотел обратиться к вам, мне ответили, что вы не разрешите мне посетить вашу фабрику. Обескураженный таким нелюбезным отказом, я решил с риском для собственной жизни и чести спасти жизнь и честь моего брата. Я перелез к вам ночью через ограду для того, чтобы проникнуть на фабрику и осмотреть машины. Я решил где-нибудь спрятаться, потом подкупить рабочих, — одним словом, выведать ваш секрет и помочь честному человеку, не повредив вам; в этом моя вина. Теперь, сударь, если вы потребуете другого удовлетворения, кроме того, что вы сейчас получили, я к вашим услугам, как только поправлюсь. Возможно, я и сам буду просить вас об этом. — Я думаю, мы квиты, милостивый государь, — с облегчением ответил полковник, почувствовав, что эти слова немного рассеяли мучившие его опасения. — А вы все будьте свидетелями того, что здесь было сказано. Если считать, что мне следовало мстить, я отомстил слишком жестоко. Теперь уходите и дайте нам поговорить о моем прибыльном предприятии. Слуги вышли, но лишь их одних удалось обмануть этим примирением. Раненый, ослабев после длинной речи, не способен был понять, каким тоном были сказаны последние слова полковника. Он упал на руки госпожи Дельмар и снова потерял сознание. Склонившись над ним, она не обращала внимания на гнев своего мужа, а господин Дельмар и господин Браун — один с бледным, искаженным от злобы лицом, а другой спокойный и, как всегда, с виду бесстрастный — молча и вопросительно смотрели друг на друга. Сэру Ральфу без слов было понятно состояние господина Дельмара; тем не менее полковник отвел его в сторону и, до боли сжимая ему руку, сказал: — Великолепно сплетенная интрига, мой друг! Я доволен, весьма доволен, что этот молодой человек так ловко сумел оградить мою честь перед слугами. Но, черт возьми, он дорого заплатит за нанесенное мне оскорбление! А она, как она ухаживает за ним… И притворяется, будто вовсе не знает его! Ох, до чего же хитры все женщины! — И он заскрежетал зубами от злости. Пораженный сэр Ральф трижды обошел залу размеренным шагом. После первого круга он решил: невероятно, после второго: невозможно, после третьего: доказано. Затем со своей всегдашней невозмутимостью он подошел к полковнику и пальцем указал ему на Нун, которая стояла с помертвевшим лицом возле больного и, ломая руки, не сводила с него взгляда, полного отчаяния, ужаса и смятения. Истина таит в себе такую молниеносную и беспощадную силу убеждения, что никакие, самые красноречивые доводы сэра Ральфа не могли бы поразить полковника больше, чем этот энергичный жест. Господин Браун имел и другие основания думать, что он напал на верный след. Ему вспомнилось, как Нун прибежала из парка, когда он ее искал, вспомнились ее влажные волосы, промокшая, грязная обувь, изобличавшая странную фантазию гулять ночью в парке под дождем, и другие мелочи, на которые он почти не обратил внимания во время обморока госпожи Дельмар, но которые теперь всплыли в его памяти; потом ее непонятный страх, судорожное волнение и крик, который вырвался у нее, когда раздался выстрел. Господин Дельмар понял все, хотя и не знал этих подробностей; дело касалось непосредственно его самого, и потому он был более проницателен. При первом же взгляде на девушку ему стало ясно, что виновата только она. Тем не менее внимание его жены к герою этого любовного приключения крайне не нравилось ему. — Индиана, — сказал он, — уходите отсюда — уже поздно, и вам нездоровится. Нун останется возле больного на ночь, а завтра, если ему станет лучше, мы подумаем, как доставить его домой. Против такого неожиданного решения вопроса возразить было нечего. Госпожа Дельмар, находившая в себе силы противиться грубости мужа, всегда уступала, когда он обращался с ней мягко. Она попросила сэра Ральфа побыть еще немного возле больного и ушла к себе в спальню. Полковник распорядился так не без умысла. Час спустя, когда все легли спать и в доме воцарилась тишина, он тихонько прокрался в залу, где лежал господин де Рамьер, и, спрятавшись за портьерой, из разговора молодого человека с горничной понял, что они влюблены друг в друга. Редкая красота юной креолки производила огромное впечатление во время окрестных сельских праздников. У нее не было недостатка в поклонниках даже среди самых видных людей в округе. Многие красавцы уланы мелэнского гарнизона пытались снискать ее расположение. Но Нун любила впервые, и только внимание одного было ей дорого — внимание господина де Рамьера. Полковник Дельмар не собирался далее следить за ними. Убедившись, что его жена нисколько не интересует новоявленного Альмавиву, он тотчас же удалился. Тем не менее он слышал достаточно, чтобы понять разницу между любовью бедной Нун, которая предавалась ей со всею силою и страстью своего пылкого существа, и чувством молодого дворянина, не потерявшего рассудок и рассматривавшего этот роман как мимолетное увлечение. Когда госпожа Дельмар проснулась, она увидела Нун возле своей постели, сконфуженную и грустную. Наивно поверив объяснениям господина де Рамьера, тем более что уже не раз люди, занимающиеся коммерцией, пробовали выведать путем хитрости и обмана секреты фабрики ее мужа, Индиана приписала смущение своей горничной усталости и волнениям прошлой ночи. А Нун со своей стороны успокоилась, когда полковник в веселом, добродушном настроении вошел в спальню к жене и заговорил с ней о вчерашнем происшествии как о самом обыкновенном деле. Сэр Ральф утром осмотрел больного. Падение не имело серьезных последствий, а рана на руке уже затянулась. Господин де Рамьер пожелал, чтобы его немедленно перенесли в Мелэн, и роздал все свои деньги слугам, прося их молчать о случившемся, дабы не напугать, как он сказал, его мать, жившую всего в нескольких лье. История эта стала известна не скоро, и толки о ней ходили самые различные. Слух о том, что у брата господина де Рамьера есть фабрика, подтвердил его удачную выдумку. Полковник и сэр Браун из деликатности молчали и даже самой Нун не подали виду, что знают ее тайну, а затем очень быстро в доме Дельмаров позабыли об этом происшествии.4
Многим, вероятно, покажется несколько странным, что Реймон де Рамьер, блестящий и остроумный молодой человек, наделенный различными талантами и всевозможными достоинствами, привыкший к успехам в свете и галантным приключениям, мог питать прочную привязанность к горничной, живущей в доме скромного владельца фабрики Дела-Бри. Однако господин де Рамьер не был ни самовлюбленным фатом, ни развратником. Он, как было сказано, обладал умом, следовательно, знал цену всем преимуществам благородного происхождения. Когда он рассуждал спокойно, он придерживался определенных принципов, но вспыхивавший в нем по временам огонь страстей часто заставлял его действовать вопреки этим принципам. Тогда он был уже не в состоянии рассуждать и старался заглушить в себе голос совести. Порою он совершал ошибки как бы непроизвольно, а затем пытался путем самообмана оправдаться перед самим собой. К несчастью, в нем брали верх не его принципы — те же, что и у других философов в белых перчатках, страдавших такой же непоследовательностью в своих поступках, — но пылкие страсти, не подчинявшиеся принципам; все это выделяло его из того бесцветного общества, где нельзя быть оригинальным, не показавшись смешным. Реймон обладал каким-то особым даром: он часто причинял людям страдания, но не вызывал к себе ненависти, порою вел себя странно, но никого не шокировал. Нередко он ухитрялся даже возбудить жалость в тех, кто имел полное основание на него жаловаться. Бывают такие счастливцы, которых балуют все, кто с ними встречается. Приятная внешность и красноречие часто заменяют им доброе сердце. Мы не собираемся сурово осуждать господина Реймона де Рамьера или давать его портрет прежде, чем познакомимся с его поступками. Мы сейчас смотрим на него со стороны, как смотрит толпа на прохожего. Итак, господин де Рамьер был влюблен в молодую креолку с огромными черными глазами, вызвавшую всеобщее восхищение на сельском празднике в Рюбеле, но это было только увлечение и ничего больше. Возможно, он познакомился с ней просто от нечего делать, но успех разжег его желание. Он достиг большего, чем хотел, и в тот день, когда завоевал ее бесхитростное сердце, он вернулся домой, испуганный своей победой, и с беспокойством подумал: «А что, если она меня полюбит?». Только получив полное доказательство ее любви, он понял всю силу ее чувства. Тогда он пожалел о случившемся, но было уже поздно: приходилось примириться с будущим и всеми его последствиями или трусливо отступить. Реймон не стал задумываться; он позволял себя любить и сам любил из благодарности. Любовь к опасности побудила его перелезть через ограду владений Дельмара, но по собственной неловкости он упал и тяжело расшибся. Горе, проявленное молодой и прелестной возлюбленной, так сильно тронуло его, что отныне он считал себя оправданным в своих собственных глазах и, не задумываясь, продолжал рыть ту пропасть, куда Нун неминуемо должна была скатиться. Как только он поправился, все стало ему нипочем: ни зимний холод, ни опасности, которые таит в себе темная ночь, ни угрызения совести — ничто не могло удержать его. Он пробирался лесом на свидание к своей креолке, клялся, что любит только ее одну, что не променяет ее даже на королеву, и нашептывал ей множество нежных уверений, которые никогда не перестанут нравиться бедным и легковерным молодым девушкам. В январе госпожа Дельмар с мужем уехали в Париж, сэр Ральф, их достойный сосед, перебрался к себе в имение, а Нун, оставшись хозяйкой дома, могла отлучаться под различными предлогами. Для нее это обстоятельство оказалось пагубным: частые свидания с возлюбленным намного сократили мимолетное счастье, выпавшее ей на долю. Поэзия леса, покрытого инеем, свет луны, таинственная калиточка, через которую он ранним утром украдкой покидал парк, следы маленьких ножек Нун на заснеженной дорожке — вся эта волнующая обстановка тайных свиданий опьяняюще действовала на господина де Рамьера. Нун, вся в белом, с распущенными черными волосами, казалась знатной дамой, королевой, феей. Когда она выходила из красного кирпичного дома — тяжелого квадратного здания эпохи Регентства, в архитектуре которого было что-то от рыцарских времен, — она казалась ему владелицей феодального замка; и в павильоне, заставленном экзотическими цветами, где она опьяняла его чарами своей юности и страсти, он легко забывал о том, над чем ему пришлось задуматься впоследствии. Но когда, отбросив всякую осторожность и, в свою очередь, пренебрегая опасностью, Нун стала приходить к нему в своем белом фартучке и в кокетливом Мадрасе — национальном головном уборе креолок, — она уже была только горничной, служившей у красивой женщины, горничной, которой довольствуются за неимением лучшего. Все же Нун была прелестна и в этом наряде. Такой он увидел ее впервые на сельском празднике, когда, растолкав толпу любопытных, он подошел к ней и одержал первую легкую победу, вырвав ее у двадцати соперников. Нун не раз с нежностью напоминала ему об этом. Бедная Нун, она и не подозревала, что Реймон еще не любил ее и что тот день, которым она так гордилась, напоминал ему только об удовлетворенном тщеславии. А смелость, с какой она приносила ему в жертву свое доброе имя, нисколько не способствовала усилению чувства господина де Рамьера и совсем не нравилась ему. Если бы так компрометировала себя жена пэра Франции, это была бы для него драгоценная победа, но горничная!.. То, что для одной считается геройством, в другой кажется бесстыдством. В первом случае вам завидует целая плеяда ревнивых соперников, во втором — вас осуждает толпа возмущенных лакеев. Знатная женщина жертвует для вас двадцатью прежними любовниками, а горничная только одним — своим будущим мужем. Что поделаешь! Реймон был человеком светских нравов, изысканной жизни, поэтической любви. Горничную он даже не считал за женщину, и Нун только благодаря своей необычайной красоте удалось увлечь его в тот день, когда ему захотелось приобщиться к народному веселью. Вина не его; Реймон был воспитан для жизни в высшем свете, ему внушали честолюбивые мечты о будущем, твердую уверенность, что он создан для блестящей жизни, а его горячая кровь неожиданно увлекла его на путь мещанской любви. Он прилагал все старания, чтобы удовольствоваться этой любовью, — и не мог. Что было делать? Сумасбродные и великодушные мысли теснились, в его голове. В первые дни, когда он был особенно сильно влюблен в свою красавицу, он мечтал о том, чтобы поднять ее до себя и узаконить их связь… Да, клянусь честью, он думал об этом. Но любовь, которая оправдывает все, понемногу ослабевала, она исчезла вместе с опасностями приключения и соблазнительностью тайны. Брак перестал казаться возможным, и, обратите внимание, Реймон рассуждал вполне разумно и всецело в интересах своей возлюбленной. Если бы он действительно любил ее, он бы мог, пожертвовав ей всем — будущим, семьей и репутацией, — обрести с ней счастье, а следовательно, дать счастье и ей, ибо любовь — такой же взаимный договор, как и брак. Но на какую жизнь обрекал он эту женщину теперь, когда он ее разлюбил? Жениться для того, чтобы она ежедневно мучилась, видя его печальное лицо, чувствуя, что он охладел к ней и что ему опостылел их семейный очаг? Жениться для того, чтобы его семья возненавидела ее, чтобы люди его круга унижали ее, чтобы челядь смеялась над нею, ввести ее в общество, где она будет не на месте, где к ней будут относиться свысока, допустить, чтобы она изнемогала от угрызений совести из-за всех тех несчастий, которые навлекла на своего возлюбленного? Вы, бесспорно, согласитесь с ним, что это действительно было невозможно, что это было бы невеликодушно, что нельзя так бороться с обществом, что такой добродетельный поступок напоминал бы поединок Дон-Кихота, сломавшего копье о крылья ветряной мельницы, что это никому не нужное геройство, рыцарство прошлого века, которое кажется смешным в наше время. Взвесив все, Реймон понял, что необходимо порвать эту злополучную связь. Встречи с Нун начали тяготить его. Его мать, уехавшая на зиму в Париж, неминуемо должна была вскоре узнать о скандале в семье. Ее и так удивляли частые отлучки сына и то, что он пропадал в Серей по целым неделям. Правда, он всегда ссылался на серьезную работу, которую хотел закончить в сельской тиши. Но этот предлог становился малоправдоподобным. Реймону тяжело было обманывать свою добрую мать и лишать ее столь долгое время своего внимания. Что можно к этому прибавить? Он покинул Серей и больше туда не возвращался. Нун плакала, ждала, приходила в отчаяние и, видя, что время идет, решилась чему написать. Бедная девушка! Этим она нанесла своей любви последний удар. Письмо от горничной! Хотя она и воспользовалась атласной почтовой бумагой и душистым сургучом госпожи Дельмар и хотя письмо ее было криком сердца… но орфография! Знаете ли вы, какое влияние на силу чувств может иногда оказать одна лишняя буква? Увы! Бедная полуграмотная девушка с острова Бурбон понятия не имела о правилах грамматики. Она полагала, что говорит и пишет не хуже своей хозяйки, и, видя, что Реймон не возвращается, думала: «Мое письмо так хорошо написано! Он непременно должен вернуться!». Но Реймон даже не прочел письмо до конца — у него не хватило на это мужества. А оно, наверно, было замечательным в своей наивности и трогательной страстности, и даже Виргиния, покидая родину, вряд ли написала Павлу более очаровательное письмо. Господин де Рамьер поспешил бросить его в огонь, боясь, что ему станет стыдно за самого себя. Но что поделаешь? Всему виной предрассудки, привитые нам воспитанием; к тому же самолюбие присуще любви так же, как интерес — дружбе. Отсутствие господина де Рамьера было замечено в свете. А это уже говорит о многом, ибо в светском обществе все как две капли воды похожи друг на друга. Можно быть умным человеком и ценить светскую жизнь, так же как можно быть глупцом и презирать ее. Реймон любил свет и был прав. Многие искали знакомства с ним, он нравился, и обычно равнодушная и насмешливая толпа салонных манекенов к нему была внимательна и любезна. Люди несчастливые легко становятся человеконенавистниками, но те, кого все любят, редко бывают неблагодарными. Так по крайней мере думал Реймон. Он был признателен за малейшее проявление внимания, стремился снискать всеобщее уважение и гордился тем, что у него много друзей. В светском обществе, где все основано на предрассудках и предвзятом мнении, он преуспевал во всем, и даже его недостатки нравились. Когда он начинал искать причину всеобщего и столь постоянного расположения к себе, он обнаруживал, что она кроется в нем самом: в его желании добиться этого расположения, в той радости, которую он от этого испытывает, и в его собственной неистощимой благожелательности к людям. Успехом в свете он также был обязан своей матери — женщине выдающейся по уму, красноречию и душевным качествам. От нее он унаследовал те превосходные нравственные устои, которые всегда возвращали его на правильный путь и не давали ему, несмотря на юношеский пыл, утратить уважение общества. Правда, к нему относились гораздо снисходительнее, чем к другим, потому что его мать, даже осуждая его, умела найти ему оправдание и с видом трогательной мольбы требовала к нему снисхождения. Это была одна из тех женщин, чья жизнь протекала в столь различные эпохи, что научила их применяться ко всем превратностям судьбы. Такие женщины, испытавшие много несчастий и обогащенные немалым опытом, избежавшие эшафота в 1793 году, пороков Директории, суетности Империи и озлобленности Реставрации, встречаются теперь во французском обществе все реже и реже. После долгого отсутствия Реймон впервые появился в свете на балу у испанского посла. — Господин де Рамьер, если я не ошибаюсь? — спросила в гостиной одна хорошенькая женщина у своей соседки. — Господин де Рамьер — комета, которая по временам появляется на нашем горизонте, — ответила та. — Уже целую вечность ничего не было слышно об этом красивом юноше. Говорившая была пожилая иностранка. — Он очень мил, не правда ли? — заметила ее собеседница, слегка покраснев. — Очарователен, — ответила старая сицилианка. — Держу пари, что вы говорите о герое наших модных салонов, о темноволосом красавце Реймоне, — сказал бравый гвардейский полковник. — Какая прекрасная голова для этюда! — продолжала молодая женщина. — И что вам, пожалуй, еще больше понравится — он настоящий сорвиголова! — сказал полковник. Молодая женщина была его жена. — Почему сорвиголова? — спросила иностранка. — Южные страсти, сударыня, достойные жгучего солнца Палермо. Несколько молодых дам повернули хорошенькие, украшенные цветами головки, прислушиваясь к словам полковника. — Он в нынешнем году затмил всех офицеров нашего гарнизона. Придется завязать с ним ссору, чтобы избавиться от него. — Если он ловелас, тем хуже, — заметила молодая особа с насмешливым лицом. — Терпеть не могу всеобщих кумиров. Итальянская графиня подождала, пока полковник отойдет, и, слегка ударив веером по пальцам мадемуазель де Нанжи, сказала: — Не говорите так; вы не знаете, как ценят в нашем обществе мужчину, который жаждет быть любимым. — Так вы полагаете, что мужчинам стоит только пожелать… — ответила молодая девушка с насмешливыми миндалевидными глазами. — Мадемуазель, — сказал полковник, подходя к ней, чтобы пригласить ее на танец, — берегитесь, как бы красавец Реймон не услышал вас. Мадемуазель де Нанжи рассмеялась, но за весь вечер никто из кружка хорошеньких женщин, к которому она принадлежала, не решался больше говорить о господине де Рамьере.5
Господин де Рамьер не чувствовал ни скуки, ни отвращения, расхаживая среди оживленной, нарядной толпы. И все же в тот вечер он никак не мог побороть свою грусть. Снова очутившись в привычном для него обществе, он ощущал нечто вроде упреков совести, вернее — какой-то стыд за сумасбродные мысли, навеянные ему его недостойным увлечением. Он любовался женщинами, такими прекрасными при блеске бальных огней, прислушивался к их тонкой, остроумной болтовне, слышал, как превозносят их таланты, и, глядя на этих избранных красавиц, на царственную роскошь их нарядов, внимая их изящному разговору, во всем видел и чувствовал упрек себе за собственное непорядочное поведение. Но, кроме стыда, Реймона терзали и более мучительные угрызения совести, потому что сердце его, хотя и достаточно закаленное в подобного рода делах, все же было весьма чувствительно к женским слезам. В этот вечер взоры всех были обращены на однуникому не известную молодую женщину, впервые появившуюся в свете и именно поэтому пользовавшуюся особым вниманием общества. Среди других дам, украшенных бриллиантами, перьями и цветами, она выделялась уже самой простотою своего наряда. Несколько ниток жемчуга, вплетенных в черные волосы, были ее единственным украшением. Матовая белизна ее ожерелья, белое шелковое платье и обнаженные плечи издали сливались в одно целое, и, несмотря на царившую в комнатах жару, на щеках ее играл лишь легкий румянец, нежный, как бенгальская роза, распустившаяся на снегу. Она была чрезвычайно хрупким, миниатюрным и грациозным созданием. В гостиной, при ярком свете люстр, ее красота казалась волшебной, но поблекла бы от лучей солнца. Она танцевала так легко, что, казалось, порыв ветра мог унести ее. Но эта легкость не была стремительной и радостной; когда она садилась, стройное тело ее сгибалось, как будто она была не в силах держаться прямо, а когда говорила и улыбалась, улыбка ее была печальной. В то время сказки пользовались большим успехом, и знатоки их сравнивали эту молодую женщину с восхитительным видением, которое вызвано магическим заклинанием и с наступлением утра должно побледнеть и исчезнуть, как сон. А пока что мужчины толпились вокруг, приглашая ее на танцы. — Торопитесь, — сказал своему другу некий романтически настроенный денди, — сейчас пропоет петух, и ножки вашей дамы уже едва касаются паркета. Держу пари, что вы даже не чувствуете прикосновения ее руки. — Посмотрите, какое у господина де Рамьера смуглое и оригинальное лицо, — сказала одна из дам, художница, своему соседу. — Не правда ли, как прекрасно выделяется он своей мужественной внешностью рядом с этой бледной, тоненькой особой? — Эта молодая особа, — добавила одна из дам, знавшая всех и поэтому выполнявшая на вечерах роль справочника, — дочь старого сумасброда Карвахаля, который корчил из себя жозефиниста, а, разорившись, отправился умирать на остров Бурбон. Эта женщина — прелестный экзотический цветок, но, кажется, она сделала весьма неудачную партию. Зато ее тетка теперь пользуется большими милостями при дворе. Реймон подошел к прекрасной креолке. Странное волнение охватывало его всякий раз, когда он смотрел на нее. Он уже видел это грустное, бледное лицо в одном из своих снов; он знал, он помнил, что уже видел где-то эти черты, и его взгляд останавливался на Индиане с той радостью, какую испытывает человек при виде дорогого и милого образа, который, казалось, был для него навсегда утрачен. Его настойчивое внимание смутило ту, на кого оно было обращено. Скромная и застенчивая, не привыкшая к светским балам, она была скорее смущена, чем обрадована своим успехом. Реймон прошелся по гостиной, узнал, что эту женщину зовут госпожой Дельмар, и пригласил ее на танец. — Вы не помните меня, — сказал он, когда они затерялись в толпе, — а я не мог забыть вас, сударыня. Хотя я видел вас всего лишь одно мгновение и как бы в тумане, вы выказали тогда столько доброты, с таким сочувствием отнеслись ко мне… Госпожа Дельмар вздрогнула. — Ах да, сударь, — сказала она с живостью, — это вы! Я тоже вас узнала. Она покраснела, как бы испугавшись, что нарушила светские приличия, и оглянулась, желая узнать, не слышал ли ее кто-нибудь. От смущения она стала еще милее, и Реймон почувствовал, что тронут до глубины души звуком ее нежного, тихого голоса, как будто созданного для молитв и благословений. — Я очень боялся, что мне никогда не представится мучай поблагодарить вас. Явиться к вам в дом я не мог и знал, что вы не бываете в свете. Мне не хотелось также встречаться с господином Дельмаром, — наши отношения с ним не таковы, чтобы эта встреча была приятной. Как я счастлив, что наконец настал миг, когда я могу выполнить свой долг и выразить вам мою глубокую признательность. — Для меня было бы еще приятнее, — ответила она, — если бы господин Дельмар был здесь и слышал ваши слова; если бы вы его больше знали, то убедились бы, что, несмотря на свою вспыльчивость, он очень добр. Вы бы простили ему, что он случайно чуть не убил вас. Он, несомненно, страдал от этого больше, чем вы от своей раны. — Не будем говорить о господине Дельмаре, сударыня, я прощаю ему от всей души. Я был виноват перед ним и понес заслуженное наказание. Остается только забыть об этом. Но вы, сударыня, так нежно и великодушно ухаживали за мной, что я всю жизнь буду помнить ваше отношение ко мне, ваше прекрасное лицо, вашу ангельскую доброту и эти ручки, пролившие бальзам на мои раны, ручки, которые я не мог даже поцеловать… Произнося эти слова, Реймон держал руку госпожи Дельмар, готовясь вместе с нею начать кадриль. Он нежно пожал ее пальчики, и кровь прилила к сердцу молодой женщины. Когда они вернулись на место, тетка госпожи Дельмар, госпожа де Карвахаль, куда-то отошла; ряды танцующих поредели. Реймон сел рядом с Индианой. У него была та непринужденность в обращении, которая дается опытом в сердечных делах; пылкость желаний, стремительность в любви обычно заставляют мужчин вести себя глупо. Человек, искушенный в любви, скорее жаждет понравиться, чем полюбить. Однако господин де Рамьер ощущал глубокое волнение в присутствии этой простой и неискушенной женщины — волнение, какого до сих пор еще никогда не испытывал. Возможно, причиной тому было воспоминание о ночи, проведенной в ее доме. Во всяком случае, несомненно одно: его уста говорили то, что чувствовало его сердце. Привычка к объяснениям с женщинами придавала его речам большую силу и убедительность, и неопытная Индиана внимала им, не подозревая, что они произносились уже не раз. Если мужчина умно говорит о своей любви, то, значит, он не слишком сильно влюблен, и женщины это отлично понимают. Однако Реймон был исключением из этого правила. Красиво выражая свои чувства, он горячо переживал их. Однако не страсть делала его красноречивым, а красноречие возбуждало в нем страсть. Когда ему нравилась женщина, он стремился покорить ее пылкими речами и, стремясь ее покорить, влюблялся сам. Он напоминал адвоката или проповедника, которые, трудясь в поте лица, чтобы растрогать других, сами проливают горячие слезы. Ему, конечно, встречались женщины достаточно утонченные, которые не доверяли его пылким излияниям, но ради любви Реймон был способен на безумства. Однажды он увез молоденькую девушку из хорошей семьи, не раз компрометировал он женщин, занимавших видное положение, у него были три наделавших шума дуэли, и как-то на рауте, в зале, полной гостей, он обнаружил перед всеми смятение чувств и безумие любовной горячки. Если человек совершает такие поступки, не боясь показаться смешным или возбудить ненависть, и если это ему удается, — он неуязвим: он может отважиться на все, всем рисковать и на все надеяться. Итак, Реймон мог сломить самое искусное сопротивление, ибо он умел убедить в искренности своей страсти. Мужчина, способный ради любви на безумства, — явление редкое в свете, и любовью таких мужчин женщины обычно не пренебрегают. Не знаю, как он ухитрился это сделать, но, усаживая госпожу де Карвахаль и госпожу Дельмар в карету, он успел прижать к губам маленькую ручку Индианы. Никогда еще мужчина не касался тайным и жгучим поцелуем пальцев этой женщины, несмотря на то, что она родилась под южным небом и ей было девятнадцать лет, а девятнадцать лет на острове Бурбон соответствуют двадцати пяти в нашем климате. Она была так болезненно нервна, что чуть не вскрикнула от этого поцелуя, и Реймону пришлось поддержать ее, когда она садилась в карету. Такой впечатлительной натуры он еще никогда не встречал. Креолка Нун обладала крепким здоровьем, а парижанки не падают в обморок, когда им целуют руку. «Если я еще раз увижу ее, я потеряю голову», — подумал Реймон удаляясь. На следующий день он окончательно забыл о Нун; он помнил только одно — что она служит у госпожи Дельмар. В его мыслях, в его мечтах царил бледный образ Индианы. Когда Реймон чувствовал, что начинает влюбляться, он обычно старался как-нибудь забыться, но не для того, чтобы подавить зарождающуюся страсть, а наоборот, чтобы отогнать от себя доводы рассудка, не желая и боясь подумать о последствиях нового увлечения. В своей жадной погоне за наслаждениями он упорно шел к цели и не мог заглушить кипящую в его груди бурю страстей, так же как не в силах был разжечь потухающее чувство. На следующий день ему удалось узнать, что господин Дельмар уехал по торговым делам в Брюссель. Уезжая, полковник поручил жену попечениям госпожи де Карвахаль. Он ее сильно недолюбливал, но это была единственная родственница Индианы. Сам он выслужился из простых солдат и происходил из бедной и незнатной семьи, которой очень стеснялся, хотя и твердил постоянно, что ему не приходится за нее краснеть. Непрестанно упрекал жену в презрительном отношении к его родственникам, что совсем не соответствовало истине, он тем не менее чувствовал, что не следует принуждать ее к сближению с этими маловоспитанными людьми. Несмотря на свою нелюбовь к госпоже де Карвахаль, он не мог отказать ей в уважении, и вот по каким причинам: госпожа де Карвахаль, родом из знатной испанской семьи, принадлежала к числу женщин, всю жизнь стремящихся играть видную роль. Во времена господства Наполеона в Европе она преклонялась перед его славой и вместе с мужем и деверем примкнула к партии жозефинистов. Ее муж был убит при падении этой недолговечной династии завоевателя, а отец Индианы бежал во французские колонии. Тогда ловкая и энергичная госпожа де Карвахаль переехала в Париж и на остатках былой роскоши, неизвестно при помощи каких биржевых спекуляций, вновь сколотила себе приличное состояние. Благодаря уму, интригам и безграничной преданности Бурбонам она завоевала также расположение двора, и дом ее, хотя и не блестящий, был одним из самых уважаемых среди тех, кто получал подачки из королевской шкатулки. Когда после смерти отца Индиана, выйдя замуж за полковника Дельмара, вернулась во Францию, госпожа де Карвахаль не очень-то одобрила эту далеко не завидную партию. Однако, убедившись, что господин Дельмар приумножил свои скудные средства и что его практическая смекалка и энергия возмещают отсутствие состояния, она купила для Индианы небольшое поместье в Ланьи и находящуюся при нем фабрику. За два года, благодаря техническим знаниям господина Дельмара и деньгам, которые ссудил ему сэр Ральф — дальний родственник его жены, дела полковника настолько поправились, что он начал выплачивать долги, и госпожа де Карвахаль, в чьих глазах богатство являлось для человека наилучшей рекомендацией, стала проявлять нежные чувства к племяннице и обещала сделать ее своей наследницей. Индиана, лишенная честолюбия, окружала тетку заботой и вниманием не из корысти, а из чувства благодарности. Но в почтительном отношении полковника к госпоже де Карвахаль оба эти чувства играли одинаковую роль. Полковник был непоколебим в своих политических убеждениях, он не допускал нападок на любимого императора и защищал его славу со слепым упорством шестидесятилетнего ребенка. Ему стоило огромных усилий сдерживать ярость в гостиной госпожи де Карвахаль, где превозносилась только Реставрация. Что вытерпел бедный господин Дельмар из-за нескольких старых ханжей, передать невозможно. Эти неприятности до известной степени являлись причиной его дурного настроения, которое он так часто срывал на жене. Изложив все эти подробности, вернемся к господину де Рамьеру. Через три дня он был уже в курсе всех домашних дел семьи Дельмар — так настойчиво старался он найти путь к сближению с нею. Он понял, что, завоевав симпатию госпожи де Карвахаль, получит возможность видеться с Индианой. На третий день вечером он явился к ней с визитом. В гостиной находилось несколько допотопного вида особ, с важностью игравших в карты, и два-три дворянских сыночка, представлявших собою полнейшее ничтожество, — такими бывают только представители трехсотлетнего дворянства. Индиана терпеливо вышивала в пяльцах, заканчивая узор, начатый теткой. Она не отрывалась от работы и, казалось, была всецело поглощена этим механическим занятием, а пожалуй, даже и довольна тем, что оно позволяет ей не принимать участия в пустой болтовне присутствующих. Длинные черные локоны скрывали ее грустное личико, склоненное над вышиванием, и, возможно, она вновь переживала то краткое и волнующее мгновение, которое приобщило ее к новой жизни. В это время слуга возвестил о прибытии нескольких гостей. Не обратив внимания на их фамилии и почти не поднимая глаз от работы, она машинально встала, но, услышав голос одного из прибывших, вдруг вздрогнула как от электрического тока и вынуждена была опереться на свой рабочий столик, чтобы не упасть.6
Реймон никак не предполагал очутиться в такой мрачной гостиной и в таком немногочисленном и скромном обществе. Нельзя было произнести ни слова, чтобы оно не было услышано во всех углах комнаты. Почтенные матроны, игравшие в карты, казалось, присутствовали здесь только для того, чтобы мешать разговорам молодежи, и на их застывших лицах Реймону чудилось скрытое злорадство старости, находящей удовлетворение в том, чтобы портить удовольствие другим. Он рассчитывал на встречу, более удобную для нежных разговоров, чем та, что была на балу, а вышло все иначе. Непредвиденное затруднение придало больше страсти его желаниям, больше огня его взглядам, больше изобретательности и живости вопросам, косвенно обращенным к госпоже Дельмар. А она, бедняжка, была совсем не искушена в подобного рода стратегии. Обороняться она не могла, так как, собственно, и обороняться было не от чего. Но ей волей-неволей приходилось выслушивать пылкие признания в страстной любви, чувствовать, что ее опутывают опасными сетями соблазна, между тем как она не имеет возможности оказать никакого сопротивления. И чем смелее становился Реймон, тем больше росло ее смущение. Госпожа де Карвахаль, с полным основанием считавшая себя умной и блестящей собеседницей и слышавшая, что господин де Рамьер обладает теми же качествами, бросила карты и завязала с ним изысканный спор о любви, в котором обнаружила и чисто испанскую страстность и знакомство с немецкой философией. Реймон с готовностью принял вызов и, якобы отвечая тетке, высказал племяннице все то, что та иначе отказалась бы слушать. Бедная, беззащитная молодая женщина, ставшая жертвой столь быстрого и умелого нападения, не находила в себе сил принять участие в этом щекотливом разговоре. Напрасно тетка, желавшая дать ей возможность блеснуть, старалась втянуть ее в философские рассуждения о различных тонкостях чувств. Она, краснея, призналась, что ничего в этом не смыслит, и Реймон, опьянев от радости при виде ее вспыхнувшего лица и плохо скрываемого волнения, мысленно поклялся заняться ее обучением. В эту ночь Индиана спала еще хуже, чем в предыдущие. Мы уже говорили, что она еще никого не любила, хотя ее сердце давно созрело для чувства, которое не сумел внушить ей ни один из встречающихся на ее пути мужчин. Воспитанная отцом, человеком вспыльчивым и со странностями, она никогда не знала того счастья, которое дает любовь близких. Господин де Карвахаль, обуреваемый политическими страстями и терзаемый неудовлетворенным честолюбием, приехав в колонию, стал одним из самых жестоких плантаторов и неприятных соседей. Дочери пришлось немало натерпеться от его скверного характера. Постоянно видя картину горя, порождаемого рабством, страдая от одиночества и зависимости, она выработала в себе внешнее спокойствие, редкую доброту и снисходительность по отношению к людям, находящимся в зависимом положении, но в то же время железную волю и невероятную силу сопротивления всему тому, что угрожало ее свободе. Выйдя замуж за господина Дельмара, она только переменила хозяина, а поселившись в Ланьи, сменила одну тюрьму на другую. Она не любила мужа, быть может по той простой причине, что была обязана любить его и что душевное сопротивление всякого рода нравственному принуждению стало ее второй натурой, основой поведения, внутренним законом. Но от нее и не требовалось ничего, кроме слепой покорности. Воспитанная в уединении почти не обращавшим на нее внимания отцом, среди рабов, которым она могла помочь лишь слезами и сочувствием, она привыкла утешать себя тайной надеждой: «Настанет день, и моя жизнь изменится, я буду в состоянии делать добро людям, меня полюбят, и я отдам свое сердце тому, кто отдаст мне свое, а пока надо терпеть. Буду молчать и беречь свою любовь в награду тому, кто меня освободит». Но этот освободитель, этот мессия не появлялся. Индиана все еще ждала его, хотя даже в мыслях не осмеливалась себе в этом признаться. Она понимала, что здесь, среди подстриженных буковых аллей, даже мысли ее не были так свободны, как под девственными пальмами острова Бурбон. И, поймал себя на привычной мечте: «Настанет день, и он явится», — она всякий раз подавляла в себе это дерзкое желание и думала: «Мне остается одно — умереть!». И бедная Индиана в самом деле угасала. Непонятная болезнь подтачивала ее здоровье. Она не спала и теряла силы. Врачи напрасно искали видимых причин ее недуга — их не было; но весь организм ее постепенно ослабевал: внутренний жар истощал ее, взгляд померк, сердце то учащенно билось, то замирало, — несчастная затворница была близка к могиле. Однако, несмотря на всю покорность судьбе и полное отчаяние, в ней продолжала жить потребность в любви. Ее разбитое сердце по-прежнему ждало молодого, горячего чувства, которое могло бы его согреть. До сих пор она больше всех любила Нун, веселую и смелую подругу своих грустных дней; а к ней самой наибольшее расположение выказывал ее флегматичный кузен Ральф. Но разве могли утолить снедавшую ее тоску простая, невежественная девушка, такая же беспомощная, как и она сама, и англичанин, увлекавшийся только охотой на лисиц? Госпожа Дельмар была глубоко несчастна. И когда она впервые почувствовала среди угнетавшей ее ледяной атмосферы горячее дыхание молодой и пылкой любви, когда впервые услышала опьянившие ее нежные и ласковые слова, когда трепещущие губы, подобно раскаленному железу, обожгли ей руку, она забыла обо всем, что ей внушали: о долге, об осторожности, о возможности испортить свое будущее. Она помнила только о своем тяжелом прошлом, о долгих годах страдания, о деспотизме отца и мужа. Она не думала и о том, что Реймон может оказаться лгуном или ветреным повесой. Она видела его таким, каким желала видеть, каким рисовала его себе в мечтах, и Реймону ничего не стоило бы ее обмануть, если бы он сам не был искренен. Но мог ли он быть неискренним перед такой красивой и любящей женщиной? Где еще он встретил бы такую чистоту и невинность? Кто другой мог дать ему в будущем более полное и прочное счастье? Разве не была она рождена для того, чтобы любить его, разве эта женщина-раба не ждала только знака, чтобы разорвать свои цепи, только слова, чтобы последовать за ним? Само небо создало для Реймона это печальное дитя с острова Бурбон, которое не знало еще ничьей любви и без него неминуемо погибло бы. Тем не менее безумное счастье, охватившее госпожу Дельмар, сменилось вскоре чувством ужаса. Она вспомнила о ревнивом, придирчивом и мстительном муже, и ей стало страшно — не за себя, так как она уже привыкла к угрозам, а за того, кому предстояла смертельная борьба с ее тираном. Она была столь мало знакома с нравами общества, что жизнь представлялась ей романом с трагической развязкой. Она была робка и не смела отдаться любви из боязни погубить своего возлюбленного — и в то же время нисколько не думала о грозившей ей самой опасности. В этом заключалась тайная причина, побуждавшая ее оказывать сопротивление и оставаться добродетельной. Наутро она приняла решение избегать господина де Рамьера. Как раз в этот день вечером должен был состояться бал у одного из крупных парижских банкиров. Госпожа де Карвахаль, женщина старая, не имевшая никаких привязанностей, любила свет, и ей хотелось, чтобы Индиана сопровождала ее на бал. Но там они могли встретиться с Реймоном, и Индиана решила не ехать. Чтобы избежать уговоров тетки, госпожа Дельмар, которая не умела отказывать без достаточно веских оснований, сделала вид, будто соглашается на ее предложение. Она велела горничной достать бальное платье, а сама накинула капот и села у камина, дожидаясь, пока тетка закончит свой туалет. Когда старая испанка, затянутая и разряженная, словно сошедшая с портрета Ван-Дейка, пришла за ней, Индиана заявила, что чувствует себя плохо и не в силах ехать. Напрасно тетка уговаривала ее пересилить свое недомогание. — Мне самой очень хочется поехать, — сказала Индиана, — но вы видите, что я еле держусь на ногах и была бы вам сегодня только обузой. Поезжайте на бал без меня, милая тетушка, и развлекитесь. Я буду рада за вас. — На бал без тебя! — с досадой воскликнула госпожа де Карвахаль. Ей до смерти не хотелось, чтобы ее старания принарядиться пропали даром, и к тому же перспектива провести вечер в одиночестве пугала ее. — Мне там нечего делать! Я женщина старая, мною интересуются и меня ценят только ради тебя и твоих прекрасных глаз. — Полноте, тетушка, разве ваш ум не стоит моих прекрасных глаз? — ответила Индиана. И маркиза де Карвахаль, только и ждавшая, чтобы ее уговорили, наконец уехала. Тогда Индиана, закрыв лицо руками, заплакала. Она принесла огромную жертву и, как ей казалось, разрушила волшебный замок, созданный ею накануне. Но Реймон решил иначе. Первое, что он увидел на балу, был горделивый эгрет старой маркизы. Напрасно искал он глазами белое платье и темноволосую головку Индианы. Подойдя к маркизе, он услыхал, как та вполголоса говорила своей знакомой: — Моей племяннице нездоровится. Или, вернее, — прибавила она, чтобы оправдать свое присутствие на балу, — это просто каприз молодой женщины. Ей захотелось остаться одной, посидеть с книгой и помечтать — она ведь такая мечтательница. «Неужели она избегает меня?» — подумал Реймон. Реймон тотчас же уехал с бала, отправился в дом маркизы, прошел, не говоря ни слова, мимо привратника и попросил первого попавшегося ему в прихожей заспанного лакея доложить о себе госпоже Дельмар. — Госпожа Дельмар нездорова. — Знаю. Я приехал по поручению госпожи де Карвахаль осведомиться, как она себя чувствует. — Сейчас доложу… — Не трудитесь, госпожа Дельмар меня примет. И Реймон вошел без доклада. Все остальные слуги уже спали. В пустых комнатах царила печальная тишина. Только одна лампа под зеленым шелковым абажуром слабо освещала большую гостиную. Индиана сидела спиной к двери, в таком глубоком кресле, что ее почти не было видно. Она грустно смотрела на тлеющие угли, так же, как в тот вечер, когда Реймон проник в Ланьи через ограду парка. Но сейчас у нее на душе было еще тяжелее; это уже была не прежняя смутная грусть и безотчетные желания, — теперь она горевала о потерянном мимолетном счастье, ярким лучом озарившем ее жизнь. Реймон, в бальных туфлях, бесшумно подошел к ней по пушистому и мягкому ковру. Он видел, что она плакала. Как только она обернулась, он очутился у ее ног и прильнул к ее рукам, которые она напрасно старалась отнять. И она почувствовала невыразимую радость от того, что план ее сопротивления рухнул. Она поняла, что страстно любит этого человека, который не побоялся препятствий и пришел подарить ей счастье вопреки ее воле. Она благословила небо, отвергнувшее ее жертву, и, вместо того чтобы бранить Реймона, готова была благодарить его. Что касается Реймона, то он уже знал, что любим. Ему даже не надо было видеть той радости, которая, несмотря на слезы, светилась на ее лице, — он и так понял, что имеет над ней неограниченную власть и может на все дерзнуть. Он не дал ей времени спросить его о чем бы то ни было и, поменявшись с ней ролями, стал сам задавать вопросы, даже не пытаясь объяснить или оправдать свое неожиданное появление. — Вы плачете, Индиана? Я хочу знать, почему вы плачете. Она вздрогнула, услышав, что он назвал ее по имени, но и эта неожиданная вольность преисполнила ее счастьем. — Зачем вы спрашиваете, — ответила она, — я не должна вам это говорить. — Ну, так я сам знаю почему, Индиана. Я знаю всю вашу жизнь, всю вашу историю. Ничто, касающееся вас, не может быть мне чуждым и безразличным. Я старался разведать о вас все, но узнал не более того, что стало для меня ясным за то короткое время, которое я провел в вашем доме. Я понял все уже тогда, когда меня, окровавленного и разбитого, принесли к вашим ногам и когда ваш муж так возмущался, видя, как вы, добрая и прекрасная, поддерживали меня своими нежными руками и своим дыханием проливали целебный бальзам на мои раны. Он ревновал, я понимаю его; будь я на его месте, я тоже ревновал бы вас, Индиана, или, вернее, будь я на его месте, я покончил бы с собой, так как быть вашим мужем, обладать вами, держать вас в своих объятиях и не быть достойным вас, не владеть вашим сердцем — это значит быть самым несчастным или самым жалким из мужчин. — Замолчите, ради бога! — воскликнула Индиана, закрывая ему рот рукою. — Замолчите, я совершаю преступление, слушая вас. Зачем вы говорите мне о нем? Зачем учите меня ненавидеть его? Если бы он слышал вас!.. Ведь я не говорила вам про него ничего дурного и не разрешала вам делать это. У меня нет ненависти к нему; я уважаю, я люблю его. — Скажите лучше, что вы его безумно боитесь. Этот деспот разбил ваше сердце, и, с тех пор как вы стали его собственностью, страх не покидает вас. Индиана, вы отданы на поругание этому грубому человеку, который своей железной рукой подавил вашу волю и погубил вашу жизнь! Бедное дитя! Вы такая молодая и прекрасная и уже столько страдали! Меня вам не обмануть, Индиана, я вижу больше, чем равнодушная толпа. Все тайны вашей жизни мне известны, и не надейтесь что-либо скрыть от меня. Пусть люди, любующиеся вашей красотой, замечая вашу бледность и печаль, говорят: «Она больна», — пусть! Но я, любящий вас всем сердцем и преданный вам всей душой, знаю, в чем причина вашего недуга. Я знаю, что если бы судьба захотела отдать вас мне — мне, несчастному, который готов биться головой о стену, потому что явился слишком поздно, вы не были бы больны. Нет, Индиана, клянусь жизнью! Я так любил бы вас, что и вы полюбили бы меня и стали бы благословлять связующие нас узы. Я бы носил вас на руках, чтобы вы не поранили свои ножки, я согревал бы их своим дыханием. Я прижал бы вас к сердцу, ограждая от всех страданий, отдал бы всю свою кровь, чтобы вернуть вам силы. И если бы вы не могли уснуть, я всю ночь нашептывал бы вам ласковые слова, улыбался бы, чтобы вселить в вас бодрость, хотя и плакал бы, видя ваши страдания. А когда сон слетел бы наконец на ваши нежные веки, я закрыл бы их легким прикосновением своих губ и на коленях бодрствовал бы до утра у вашего изголовья. Я заставил бы воздух ласкать вас и навевать вам золотые сны. Нежно целовал бы я ваши темные косы, с восторгом прислушивался бы к трепетному биению вашего сердца, и, проснувшись, вы бы увидели меня у своих ног, оберегающим вас, как ревнивый властелин, готовым служить, как раб, подстерегающим вашу первую улыбку, вашу первую мысль, первый взгляд, первый поцелуй… — Довольно, довольно! — произнесла растерянная и трепещущая Индиана. — Вы причиняете мне боль. Если бы от счастья умирали, Индиана умерла бы в этот миг. — Не говорите мне таких слов, — продолжала она, — я не могу быть счастливой. Не открывайте земного рая мне, обреченной на смерть. — Обреченной на смерть! — воскликнул он, схватив ее в объятия. — Ты обречена на смерть? Ты, Индиана, еще не жившая и не познавшая любви?.. Нет, ты не умрешь, я не дам тебе умереть, ибо моя жизнь отныне связана с твоей. Ты та женщина, о которой я грезил, в тебе я нашел ту чистоту, перед которой всегда преклонялся, ты мечта, ускользавшая от меня, яркая звезда, постоянно светившая мне во тьме и словно говорившая: «Продолжай свой жизненный путь в этом печальном мире, и небо ниспошлет тебе одного из своих ангелов». От рождения ты предназначена мне судьбой, Индиана; твоя душа была обручена с моей. Люди и их железные законы распорядились тобой, они отняли у меня подругу, которую сам бог избрал бы для меня, если бы он помнил свои обещания. Но что нам до людей и до их законов, раз я люблю тебя, хоть ты и принадлежишь другому, и раз ты любишь меня, несчастного, потерявшего тебя? Ты видишь сама, Индиана, что ты моя, что мы с тобой две половины одной и той же души, которые давно искали соединения друг с другом. Когда на острове Бурбон ты мечтала о друге, ты мечтала обо мне. Когда с трепетом и надеждой думала о будущем муже, — этим мужем должен был стать я. Разве ты не узнала меня? Не кажется ли тебе, что мы встретились после долгой-долгой разлуки? А я, разве я не узнал тебя, мой ангел, когда ты отирала мне кровь своей вуалью и прикладывала руку к моему угасающему сердцу, чтобы вернуть меня к жизни? Ах, я помню все!.. Когда я раскрыл глаза, я подумал: «Это она! Такой она являлась мне в мечтах — бледной, печальной и доброй. Она моя, она должна дать мне неизведанное блаженство». И даже к жизни я вернулся благодаря тебе. Ты сама видишь, что нас соединили не обычные жизненные обстоятельства! Не случай, не каприз, а рок и смерть распахнули мне дверь в новую жизнь! Твой муж, твой повелитель, подчиняясь судьбе, сам принес меня, окровавленного, к тебе в дом и бросил к твоим ногам со словами: «Возьмите его, он ваш!». И теперь нас ничто не может разлучить. — Он, именно он может нас разлучить! — живо перебила его госпожа Дельмар, с наслаждением внимавшая восторженным речам влюбленного Реймона. — Увы, вы не знаете его; этот человек ничего не прощает, его нельзя обмануть. Он убьет вас! — И она со слезами прижалась к его груди. Реймон страстно обнял ее. — Пусть он придет, — воскликнул он, — пусть придет и попробует вырвать у меня мое счастье! Я не боюсь его! Оставайся здесь, Индиана, у моего сердца. Здесь твое убежище и защита. Люби меня, и я буду неуязвим. Ты прекрасно знаешь, что этот человек не властен меня убить; однажды, безоружный, я уже был под его выстрелами. Ты, Индиана, мой добрый ангел, витала надо мной и охраняла меня своими крыльями. Не бойся ничего, мы сумеем отвратить его гнев, теперь и за тебя я больше не страшусь, — ведь я с тобой. И когда этот тиран станет угнетать тебя, я буду твоим защитником. Я вырву тебя, если понадобится, из-под ига его жестокого закона. Хочешь, я убью его? Скажи мне, что ты любишь меня, и я убью его, если ты желаешь его смерти. — Замолчите, вы приводите меня в ужас. Если надо убить кого-нибудь, убейте лучше меня; благодаря вам за один день я прожила целую жизнь и не желаю ничего большего. — Умри же, но умри от счастья! — воскликнул Реймон, прильнув к губам Индианы. Это было слишком сильным потрясением для столь слабого создания. Она побледнела и, прижав руку к сердцу, лишилась чувств. Сначала Реймон думал, что его ласки вернут ее к жизни; но напрасно покрывал он поцелуями ее руки, напрасно называл самыми нежными именами, — ее обморок не был притворным, как это часто бывает у женщин. Госпожа Дельмар давно была серьезно больна и страдала нервными припадками, продолжавшимися несколько часов подряд. В отчаянии Реймон стал звать на помощь. Он позвонил. Вошла горничная; вдруг пузырек, который она принесла, выскользнул из ее рук, из груди вырвался книг — она узнала Реймона. Тотчас же овладев собой, он сказал ей на ухо: — Тише. Нун, я знал, что ты здесь, и пришел к тебе. Но я никак не ожидал встретиться с твоей хозяйкой, — я думал, что она на балу. Своим появлением я испугал ее, и она лишилась чувств. Будь осторожна, я ухожу. Реймон быстро вышел, оставив вместе обеих женщин. Каждая теперь владела тайной, которая могла привести в отчаяние другую.7
На следующее утро Реймон, проснувшись, получил от Нун второе письмо. На этот раз он не отбросил его с презрением, а напротив, поспешно вскрыл, надеясь что-нибудь узнать из него о госпоже Дельмар. Так оно и было; но в какое затруднительное положение попал Реймон из-за того, что две его любовные интриги так тесно переплелись между собой. Молодая креолка не могла больше скрывать свою тайну. От горя и страха она так сильно осунулась, что госпожа Дельмар заметила ее болезненное состояние, хотя и не понимала его причин. Нун очень боялась строгого полковника, но еще больше стеснялась своей доброй хозяйки. Она прекрасно знала, что та простит ее, но Нун готова была умереть от стыда и отчаяния при мысли, что придется признаться во всем. Что будет с ней, если Реймон не избавит ее от предстоящих унижений! Он должен наконец позаботиться о ней, иначе она бросится к ногам госпожи Дельмар и расскажет ей обо всем. Эта угроза подействовала на господина де Рамьера, и потому он прежде всего решил удалить Нун от госпожи Дельмар. «Без моего согласия вы не смеете ни в чем признаваться, — ответил он ей. — Постарайтесь приехать сегодня вечером в Ланьи — я буду там». Дорогой он обдумывал, как ему поступить в дальнейшем. Нун была достаточно благоразумна и не могла рассчитывать на то, что он узаконит их отношения. Она никогда не решалась говорить о браке, она была скромна и великодушна, и потому Реймон не считал себя очень виноватым. Он успокаивал себя тем, что не обманывал ее и что Нун сама должна была знать, на что идет. Материальная сторона вопроса также не смущала Реймона, — он готов был щедро обеспечить несчастную девушку и взять на себя все заботы, которые подсказывала ему совесть. Но ему было тягостно признаться в том, что он больше не любит ее, ибо он не умел обманывать. Хотя его отношение к ней могло показаться вероломным и лицемерным, в душе он оставался по-прежнему искренним. Он любил Нун лишь чувственной любовью, а госпожу Дельмар любил по-настоящему, всем сердцем. До сих пор он не лгал ни той, ни другой. Ему не хотелось лгать и в дальнейшем, однако он чувствовал, что не способен как обманывать бедную Нун, так и нанести ей смертельный удар. Приходилось выбирать между подлостью и жестокостью. Реймон был очень несчастен. Он подошел к воротам парка Ланьи, так ничего и не решив. Со своей стороны, Нун, не ожидавшая столь скорого ответа, вновь обрела надежду. «Он не разлюбил меня, — решила она, — он не собирается меня бросить. Сейчас он несколько охладел ко мне, оно и понятно. В Париже, где столько развлечений, где все женщины добиваются его любви, он перестал думать о бедной креолке. Увы, кто я такая? Разве он пожертвует ради меня знатными дамами, более красивыми и богатыми, нежели я? Почем знать, — подумала она в простоте душевной, — быть может, сама французская королева влюблена в него». Размышляя о всех соблазнах роскоши, окружавшей ее возлюбленного, Нун придумала способ, как ему лучше понравиться. Она нарядилась в платье своей хозяйки, затопила камин в ее спальне, расставила всюду самые красивые цветы, какие только нашла в оранжерее, приготовила фрукты и тонкие вина, словом, создала изысканную обстановку свидания, а раньше это никогда не приходило ей в голову. Взглянув на себя в зеркало, Нун убедилась, что сама она несравненно прекраснее тех цветов, которыми себя украсила. «Он часто повторял, — подумала она, — что я хороша и без драгоценностей и что ни одна знатная дама во всем блеске своих бриллиантов не стоит моей улыбки. А теперь он увлекается этими женщинами, которыми раньше пренебрегал. Ну же, смотри веселей, Нун, оживись, улыбайся, и, может быть, сегодня ночью ты вернешь его любовь». Реймон оставил лошадь в лесу, у лачуги угольщика, и проник в парк с помощью имевшегося у него ключа. На этот раз он не боялся, что его примут за вора. Почти вся прислуга уехала в Париж вместе с хозяевами, садовник был посвящен в их тайну, а парк Ланьи Реймон знал, как свой собственный. Ночь была холодная. Густой туман окутывал деревья, и Реймон с трудом различал их темные стволы сквозь дымку, одевшую их белой влажной пеленой. Он несколько минут бродил по извилистым аллеям, прежде чем очутился у двери беседки, где его ждала Нун. Она вышла к нему навстречу, закутанная в шубку с капюшоном, наброшенным на голову. — Здесь нельзя оставаться, — сказала она, — тут слишком холодно. Ступайте за мной и молчите. Реймон почувствовал непреодолимое отвращение при мысли о том, что он войдет в дом госпожи Дельмар в качестве возлюбленного ее горничной. Однако пришлось уступить. Нун быстро шла впереди него, к тому же свидание предстояло решающее. Они прошли через двор, Нун успокоила лаявших собак, бесшумно открыла двери и, взяв его за руку, молча повела по темным коридорам. Наконец они вошли в круглую комнату, изящно и просто обставленную, где цветущие померанцевые деревья разливали свое тонкое благоухание. В канделябрах горели восковые свечи. Нун усыпала паркет лепестками бенгальских роз, разбросала фиалки по дивану; нежное тепло ласкало тело; хрусталь сверкал на столе среди спелых фруктов, красиво уложенных на зеленом мху в корзинках. Ослепленный внезапным переходом от мрака к яркому свету, Реймон в первую минуту растерялся, но почти тотчас же понял, где он находится. Изысканный вкус и целомудренная простота обстановки — на полках красного дерева романы и книги о путешествиях, пяльцы с красивым и ярким вышиванием — немым свидетелем терпения и грусти, арфа, чьи струны, казалось, еще трепетали тоской и надеждой, гравюры, изображающие пастушескую любовь Павла и Виргинии, горные вершины острова Бурбон и лазурную бухту Сен-Поля, в особенности же узкая кровать, наполовину скрытая кисейным пологом, белая и девственная, с пальмовой веткой у изголовья, сорванной, вероятно, в день отъезда из родных мест, — все, все говорило ему о госпоже Дельмар. И Реймона охватило странное волнение при мысли, что закутанная женщина, которая привела его сюда, может быть и есть сама Индиана. Точно в подтверждение этой фантазии, он увидел напротив себя в зеркале отражение дамы в белом нарядном платье, в тот момент, когда она, приехав на бал, сбрасывает с себя шубку и предстает перед взорами всех, ослепительная, полуобнаженная, в ярком освещении зала. Но это заблуждение длилось всего секунду. Индиана, конечно, была бы одета гораздо скромнее. Она прикрыла бы грудь густым тюлем; возможно, она украсила бы волосы живыми камелиями, но вряд ли расположила бы их на своей голове в таком соблазнительном беспорядке. Она могла бы надеть атласные туфельки, но ее целомудренные одежды никогда не выдали бы тайн ее стройных ножек. Нун была выше и полнее госпожи Дельмар, и видно было, что она нарядилась в чужое платье. Она была прелестна, но в ней не было благородного изящества. Она была красива, но это была женщина, а не фея. Она сулила наслаждение, но не могла дать блаженства. Реймон, не поворачивая головы, оглядел ее в зеркале, а затем перевел взгляд на то, в чем отражался чистый облик Индианы: на музыкальные инструменты, картины и на узкую девичью кровать. Его опьянял легкий запах, оставшийся в этом святилище от ее присутствия, он трепетал при мысли о том дне, когда сама Индиана откроет для него двери этого рая. А Нун, скрестив руки, стояла за его спиной и восторженно смотрела на него, уверенная, что он очарован ее стараниями понравиться ему. Наконец он прервал молчание: — Благодарю вас за все приготовления, которые вы сделали ради меня, в особенности же за то, что вы привели меня сюда, но я уже достаточно насладился этим очаровательным сюрпризом. Пойдемте отсюда, в этой комнате нам не место: я обязан уважать госпожу Дельмар даже в ее отсутствие. — Это жестоко, — ответила Нун; она не поняла его, но видела, что он холоден и недоволен. — Очень жестоко! Я надеялась вам понравиться, а вы меня отталкиваете. — Нет, дорогая Нун, я вас не отталкиваю и никогда не оттолкну. Я пришел, чтобы серьезно поговорить с вами и доказать свою привязанность. Я очень признателен вам за желание понравиться мне, но я предпочитаю видеть вас без этих чужих украшений — ваша юность и красота не требуют никаких уборов. Нун, только наполовину поняв, что он хотел ей сказать, горько заплакала: — Какая я несчастная! Я просто ненавижу себя, раз я вам больше не нравлюсь… Я должна была предвидеть, что вы скоро разлюбите меня, бедную, необразованную девушку. Я ни в чем вас не упрекаю, — я знала, что вы на мне не женитесь. Но если б вы любили меня по-прежнему, я бы пожертвовала всем, ни о чем бы ни жалела, безропотно перенесла бы все. Увы, я погибла, я опозорена!.. Меня, наверное, выгонят. У меня родится ребенок, он будет еще несчастнее, чем я, и никто меня не пожалеет!.. Каждый будет считать себя вправе всячески унижать меня. Но знайте, я перенесла бы это с радостью, если бы вы все еще любили меня. Нун долго не могла успокоиться. Правда, она выражала свое горе не теми словами, что я здесь привожу, но высказывала те же мысли и говорила во сто раз лучше меня. В чем кроется секрет красноречия, которое вдруг появляется у невежественного и примитивного человека под влиянием настоящей страсти и глубокого страдания? Слова тогда приобретают какое-то иное, необычное значение. Обыденные фразы звучат трагически под влиянием чувства, которым они продиктованы, и благодаря выражению, с каким они произносятся. В такие минуты самая простая женщина точно преображается и в пылу волнения становится красноречивой и говорит убедительнее, чем женщина с воспитанием, привыкшая сдерживаться и владеть собой. Реймон был польщен тем, что сумел внушить такую беззаветную любовь; благодарность и жалость к Нун, а отчасти и удовлетворенное тщеславие, зажгли в нем на мгновение ответное чувство. Нун задыхалась от слез. Она сорвала цветы, украшавшие ее голову, и длинные волосы рассыпались по ее полным, красивым плечам. Если бы не ореол страдания и покорности судьбе, окружавший госпожу Дельмар и придававший ей особый интерес в глазах Реймона, Нун в этот миг совсем затмила бы ее своею красотой. Она была прекрасна в порыве любви и горя. Побежденный Реймон привлек ее к себе, усадил рядом с собой на диван и, придвинув маленький столик с графинами, налил ей немного апельсиновой воды в позолоченный бокал. Его внимание, больше чем прохладительный напиток, подействовало на Нун. Немного успокоившись, она вытерла глаза и бросилась к его ногам. — Люби меня по-прежнему, — сказала она, страстно обнимая его колени. — Повтори еще раз, что ты меня любишь, и ты исцелишь, ты спасешь меня! Поцелуй меня как раньше, и я никогда не пожалею, что погубила себя, дав тебе несколько часов наслаждения! Она обняла его своими смуглыми, нежными руками, окутала длинными волосами, ее большие черные глаза горели огнем страсти, и она захватила его своим пылким желанием, той восточной негой, которая покоряет волю и заставляет молчать рассудок. Реймон забыл все: принятое решение, свою новую любовь, место, где он находился. И ответил ласками на безумные ласки Нун. Он пил с ней из одного бокала, и от крепких вин, в изобилии стоявших перед ними на столике, оба окончательно потеряли рассудок. Понемногу обрывки смутных воспоминаний об Индиане стали возникать в одурманенном мозгу Реймона. Образ Нун, отраженный стенными зеркалами, расположенными друг против друга, множился до бесконечности, и казалось, что комнату населяет толпа призраков. Реймон старался различить в этом двойном отражении более нежные черты, и ему стало казаться, будто в одном из дальних и смутных обликов он узнает гибкую и стройную фигуру госпожи Дельмар. Нун, охмелев от непривычных для нее возбуждающих напитков, не отдавала себе отчета в странных речах своего возлюбленного. Если бы она не была в таком же опьянении, как он, она поняла бы, что даже в разгаре страсти Реймон думает о другой. Она поняла бы, что он целует шарф и ленты, принадлежащие Индиане, вдыхает аромат ее духов, сжимает в своих горячих руках шелк, покрывавший прежде ее грудь. Нун принимала на свой счет восторги своего возлюбленного, в то время как Реймон видел не ее, а только платье Индианы, которое она надела. Целуя черные волосы Нун, он мысленно целовал черные локоны Индианы. Индиану видел он в пламени пунша, зажженного рукою Нун. Это она манила его и улыбалась ему из-за белого прозрачного полога; о ней он мечтал даже в ту минуту, когда, опьяненный вином и любовью, увлек на это скромное, девственное ложе свою обезумевшую от страсти креолку. Когда Реймон проснулся, рассвет уже пробивался сквозь ставни; он не скоро пришел в себя и долго лежал неподвижно, думая, что видит во сне и комнату и кровать, на которой лежит. В спальне госпожи Дельмар все уже было приведено в порядок. Нун, уснувшая накануне королевой, утром снова проснулась горничной. Она унесла цветы и убрала остатки ужина. Мебель стояла на своих местах, ничто не выдавало любовной оргии прошедшей ночи, и комната Индианы вновь обрела свой невинный и благопристойный вид. Подавленный стыдом, Реймон встал и хотел уйти, но оказалось, что он заперт. Окно находилось на высоте тридцати футов, и ему поневоле пришлось остаться в комнате, где он, подобно прикованному к колесу Иксиону, должен был мучиться угрызениями совести. Он упал на колени перед измятой и оскверненной им постелью, от одного вида которой сгорал со стыда. — О Индиана, — воскликнул он, ломая руки, — как я тебя оскорбил! Сможешь ли ты простить мне такое святотатство? Но если б даже ты и простила меня, я сам не прощу себе этого. Гони меня теперь прочь, нежная и доверчивая Индиана, ведь ты не знаешь, какому грубому и низкому человеку хочешь ты отдать сокровища твоей невинности! Гони прочь, презирай меня — меня, не пощадившего этого чистого и священного приюта, меня, упившегося, как лакей, твоими винами вместе с твоей служанкой, меня, осквернившего своим нечистым дыханием и гнусными поцелуями твои одежды, которые надела на себя другая! Я не побоялся отравить мир твоих одиноких ночей, позволил соблазну и блуду проникнуть на это ложе, которое уважал даже твой собственный муж! Как сможешь ты впредь найти покой под этим пологом, над тайной которого я надругался? Какие грешные сновидения, какие нечистые мысли будут отныне томить и иссушать твой бедный мозг? Какие порочные и дерзкие образы начнут витать вокруг твоего девственного ложа? Какое целомудренное божество захочет теперь оберегать твой сон, чистый, как сон ребенка? Разве не обратил я в бегство ангела, охранявшего твое изголовье, разве не открыл путь в твой альков демону сладострастия, разве не продал ему твоей души? Что, если безумная страсть, сжигающая тело этой чувственной креолки, пристанет теперь к тебе, подобно одежде Деяниры, и истерзает тебя? О, я несчастный, несчастный преступник! Если б я мог смыть своей кровью позор, которым запятнал твое ложе! И Реймон горько рыдал у постели Индианы. Вошла Нун в передничке и Мадрасе. Увидя Реймона, стоящего на коленях, она решила, что он молится. Она не знала, что светские люди не привыкли молиться, и молча ждала, когда он соблаговолит обратить на нее внимание. Увидев ее, Реймон почувствовал смущение и гнев, но не посмел ни упрекнуть ее, ни обратиться к ней с дружеским словом. — Почему вы заперли меня? — спросил он наконец. — Подумали ли вы о том, что уже светло и я не могу уйти, не скомпрометировав вас? — Вам незачем уходить, — ласково ответила Нун. — В доме никого нет, никто не узнает, что вы здесь; садовник не бывает совсем на этой половине — ключи от нее находятся только у меня. Сегодняшний день вы проведете со мной, вы мой пленник! Ее план привел Реймона в отчаяние; он чувствовал теперь к своей возлюбленной только отвращение. Но ему пришлось подчиниться; к тому же, несмотря на все муки, которые он испытывал в этой комнате, какие-то непреодолимые чары удерживали его здесь. Когда Нун ушла, чтобы принести ему завтрак, он стал рассматривать при дневном свете окружавшие его предметы — немых свидетелей одиночества Индианы. Он перелистал несколько книг, раскрыл ее альбом, потом быстро закрыл его, боясь снова оскорбить ее нескромным проникновением в ее женские тайны. Затем он начал ходить по комнате и вдруг заметил на стене, напротив кровати госпожи Дельмар, большую картину в дорогой раме, затянутую густой кисеей. А что, если это портрет Индианы? Сгорая от нетерпения, забыв свои благие намерения, Реймон вскочил на стул, отколол кисею и с удивлением увидел портрет красивого молодого человека, изображенного во весь рост.8
— Мне кажется, я где-то видел это лицо, — сказал он Нун, стараясь казаться равнодушным. — Ах, как нехорошо, сударь, — ответила она, ставя завтрак на стол, — нехорошо, что вы хотите узнать сердечные тайны моей хозяйки. При этих словах Реймон побледнел. — Сердечные тайны? — сказал он. — Если это действительно сердечная тайна и ты о ней знаешь, Нун, зачем же ты привела меня сюда? — Какая там тайна, — сказала с улыбкой Нун, — господин Дельмар сам помогал вешать сюда портрет сэра Ральфа. Разве заведешь сердечные тайны при таком ревнивом муже? — Сэр Ральф, говоришь ты, кто это сэр Ральф? — спросил Реймон. — Сэр Рудольф Браун — двоюродный брат госпожи Дельмар. Ее друг детства, да, можно сказать, и мой также. Он такой добрый! Реймон с удивлением и беспокойством разглядывал портрет. Мы уже упоминали, что сэр Ральф, несмотря на свое невыразительное лицо, обладал красивой внешностью; белый, румяный, высокого роста, с густой шевелюрой, всегда безукоризненно одетый, он, пожалуй, не мог бы вскружить какую-нибудь романтическую головку, но, несомненно, мог понравиться особе положительной. Флегматичный баронет был изображен в охотничьем костюме, приблизительно таким, каким мы видели его в первой главе нашей повести, окруженный своими собаками, с красавицей Офелией на переднем плане, которую из-за ее серебристой шерсти и чистоты шотландской породы поставили впереди всех. В одной руке сэр Ральф держал охотничий рог, а в другой — поводья великолепного английского скакуна, серого в яблоках, занимавшего почти весь задний план. Это была прекрасно исполненная картина, настоящий фамильный портрет, где каждая мелочь, каждая деталь была выписана с кропотливой добросовестностью. Портрет этот мог бы растрогать до слез кормилицу, вызвать громкий лай собак и привести в восторг портного. Невыразительнее его был только сам оригинал. Несмотря на это, он привел Реймона в бешенство. «Как, — подумал он, — этот молодой широкоплечий англичанин пользуется привилегией находиться в спальне госпожи Дельмар! Его дурацкое изображение всегда здесь в качестве равнодушного свидетеля самых сокровенных минут ее жизни! Он наблюдает за ней, охраняет ее, следит за всеми ее движениями, ежечасно владеет ею! Ночью он видит, как она спит, и проникает в тайны ее снов; утром, когда она, вся в белом, встает с кровати, вздрагивая от холода, он видит, как она спускает на ковер нежную босую ножку; когда она, одеваясь, старательно задергивает на окне занавески, запрещая даже дневному свету нескромно касаться ее, когда она думает, что одна в комнате и скрыта от чужих глаз, — его наглая физиономия глядит на нее и взор его упивается ее прелестями! Этот мужчина в охотничьих сапогах присутствует при ее одевании!» — Что, этот портрет всегда задернут кисеей? — спросил он. — Всегда, когда госпожи Дельмар нет дома. Но не трудитесь закрывать его — она на днях приезжает. — В таком случае, Нун, вы хорошо сделаете, если скажете ей, что у портрета дерзкое выражение лица… На месте господина Дельмара я бы сперва выколол ему глаза, а уж потом повесил его сюда. Ну и глупы же эти ревнивые мужья: воображают невесть что и не замечают того, что следует видеть. — Чем вам не нравится лицо нашего доброго господина Брауна? — спросила Нун, оправляя постель Индианы. — Лучшего хозяина не найти! Прежде я не особенно любила его, так как всегда слышала от своей госпожи, что он эгоист, но с того дня, когда он принял в вас такое участие… — Правда, — перебил ее Реймон, — он оказал мне помощь, это верно. Но он сделал это по просьбе госпожи Дельмар. — Моя госпожа очень добрая, — сказала бедная Нун, — с ней всякий станет добрым. Когда Нун говорила о госпоже Дельмар, Реймон слушал ее с интересом, о котором она и не подозревала. День прошел довольно тихо. Нун так и не решилась заговорить о самом главном. Наконец вечером она сделала над собой усилие и вызвала своего возлюбленного на объяснение. Реймон стремился только к одному — удалить опасного свидетеля и избавиться от женщины, которую он разлюбил. Но он считал необходимым обеспечить ее и робко предложил ей щедрое вознаграждение. Бедная девушка восприняла это как горькую обиду. Она рвала на себе волосы и, наверное, размозжила бы себе голову о стену, если бы Реймон силой не удержал ее. Тогда он пустил в ход все свое красноречие, всю хитрость, которыми наделила его природа, и стал убеждать ее, что хочет оказать помощь не ей, а будущему ребенку. — Это мой долг, — сказал он, — деньги предназначаются ему, и вы не имеете права из-за ложной гордости лишать его этой помощи. Нун несколько успокоилась и вытерла глаза. — Хорошо, я приму их, но обещайте любить меня по-прежнему; этим подарком вы исполняете свой долг по отношению к ребенку, но не по отношению ко мне. Ваши деньги дадут ему возможность жить, а я… я умру, если вы меня разлюбите. Возьмите меня к себе в услужение. Я многого не требую и не думаю о том, чего другая на моем месте сумела бы добиться хитростью. Позвольте мне быть вашей служанкой, устройте меня к своей матушке. Она останется мною довольна, клянусь вам; и если вы разлюбите меня, я по крайней мере буду вас видеть. — Вы требуете от меня невозможного, дорогая Нун. В вашем положении нечего и думать о том, чтобы поступить куда-нибудь на место, а обмануть мою мать, злоупотребить ее доверием было бы низостью, и на это я никогда не соглашусь. Поезжайте в Лион или Бордо, а я позабочусь о том, чтобы вы ни в чем не ощущали недостатка до тех пор, пока вам снова можно будет показаться на людях. Тогда я устрою вас к кому-нибудь из моих знакомых, даже в Париже, если вы этого пожелаете… если вы настаиваете на том, чтобы быть ближе ко мне… Но жить под одной крышей нам невозможно… — Невозможно?.. — воскликнула Нун, скорбно сложив руки. — Я вижу, что вы меня презираете и стыдитесь. Так нет же, я не уеду! Я не хочу умирать в одиночестве в каком-нибудь далеком городе, где вы покинете меня. Что мне честь? Мне нужна только ваша любовь! — Нун, если вы боитесь, что я вас обману, поедемте вместе. Мы уедем туда, куда вы пожелаете. Я последую за вами куда угодно, но только не в Париж и не к моей матери; я позабочусь о вас, как велит мне долг. — Да, а потом вы бросите меня в чужом городе, на следующий же день после приезда, как ненужную обузу, — сказала она с горькой улыбкой. — Нет, нет, я остаюсь, я не хочу лишиться всего сразу. Если я последую за вами, я расстанусь с той, кого до нашего знакомства любила больше всего на свете. Но я не так уж боюсь позора, чтобы пожертвовать разом и любовью и дружбой. Я брошусь к ногам госпожи Дельмар, расскажу ей все, и она простит меня, я уверена, потому что она добрая и любит меня. Мы родились с ней чуть ли не в один день, она моя молочная сестра. Мы никогда не расставались, и она не захочет, чтобы я ее покинула. Она будет плакать вместе со мной, будет заботиться обо мне и полюбит моего ребенка — моего несчастного ребенка! Бог не дал ей детей — кто знает, быть может, она воспитает моего ребенка как своего! Ах, я, должно быть, совсем обезумела, задумав уехать от нее, — ведь только она одна в целом свете и пожалеет меня! Эти слова повергли Реймона в ужасное смятение, но в эту минуту во дворе послышался шум подъезжающей кареты. Испуганная Нун подбежала к окну. — Госпожа Дельмар! — воскликнула она. — Бегите! В спешке они не могли найти ключа от потайной лестницы; Нун схватила Реймона за руку и быстро потащила его в коридор. Но они не дошли и до половины его, как услышали, что кто-то идет им навстречу. В десяти шагах от них послышался голос госпожи Дельмар, и свеча, которую нес сопровождавший ее лакей, уже озарила своим колеблющимся светом их испуганные лица. Нун едва успела вернуться в спальню, увлекая за собой Реймона. Он мог бы спрятаться пока в ванной, отделенной от спальни стеклянной дверью, но она не запиралась, и госпожа Дельмар могла в любую минуту войти туда. Чтобы выиграть время, Реймон бросился в альков и притаился за пологом. Госпожа Дельмар, вероятно, не сразу ляжет спать, а Нун тем временем улучит минутку и поможет ему ускользнуть. Индиана быстро вошла, бросила на кровать шляпу и с нежностью сестры поцеловала Нун. В комнате было так темно, что она не заметила волнения своей подруги. — Разве ты ждала меня? — спросила она, подходя к камину. — Как ты узнала о моем приезде? И, не дождавшись ответа, она сказала: — Господин Дельмар будет здесь завтра. Я тотчас выехала, как только получила от него письмо. Мне хотелось встретиться с ним здесь, а не в Париже. Я потом расскажу тебе, какие причины заставили меня так поступить. Но что же ты молчишь? Ты как будто не рада моему приезду? — У меня очень тяжело на душе, — сказала Нун, опускаясь на колени, чтобы снять с Индианы ботинки. — Мне тоже надо поговорить с вами, но не сейчас. А теперь пойдемте в гостиную. — Боже меня сохрани, что за выдумка? Там смертельный холод. — Нет, там топится камин. — Что ты говоришь! Я только что проходила через гостиную. — Но вас ждет ужин. — Мне не хочется есть. К тому же, наверно, ничего не приготовлено. Пойди принеси мое боа, я оставила его в карете. — Хорошо, я потом схожу за ним. — Не потом, а сейчас. Ступай же скорей! С этими словами она шаловливо подтолкнула Нун, и та, чувствуя, как ей важно не потерять смелость и присутствие духа, решилась на несколько минут выйти из комнаты. Как только она вышла, госпожа Дельмар заперла дверь на задвижку и, сняв шубку, положила ее на кровать рядом с шляпой. В эту минуту она так близко подошла к Реймону, что тот невольно попятился. Кровать была на очень подвижных колесиках и с легким скрипом сдвинулась с места. Госпожа Дельмар удивилась, но не испугалась, так как подумала, что толкнула кровать сама; тем не менее она раздвинула полог и вдруг, при слабом свете горящего камина, увидела на стене тень от мужской головы! В ужасе она закричала и бросилась к камину, чтобы позвонить и позвать на помощь. Реймон предпочел бы уж лучше вторично сойти за вора, чем быть застигнутым в таком положении, но если он не выйдет, госпожа Дельмар созовет прислугу и скомпрометирует себя. Уверенный в любви Индианы, он бросился к ней, пытаясь успокоить ее и помешать ей позвонить. Боясь, что его услышит Нун, которая, несомненно, была где-то поблизости, он прошептал: — Индиана, это я, не бойся и прости меня! Индиана, простите несчастного, потерявшего из-за вас рассудок; я не мог решиться уступить вас мужу, не повидавшись с вами хотя бы еще раз. И он сжал Индиану в своих объятиях — отчасти чтобы растрогать ее, отчасти чтобы не дать ей позвонить; в это время Нун, трепеща и замирая от волнения, постучала в дверь. Госпожа Дельмар, вырвавшись из объятий Реймона, подбежала к двери, отперла ее и упала в кресло. Бледная, помертвевшая от страха, Нун бросилась к двери, чтобы скрыть от слуг, которые то и дело проходили по коридору, эту странную сцену. Она была еще бледнее, чем ее хозяйка, колени ее тряслись, и, прижавшись спиною к двери, она ожидала решения своей судьбы. Реймон понял, что при некоторой находчивости он может обмануть сразу обеих женщин. — Сударыня, — сказал он, становясь перед Индианой на колени, — мое присутствие здесь должно показаться вам тяжким оскорблением. — Я у ваших ног, чтобы вымолить прощение. Согласитесь выслушать меня наедине, и я вам все объясню… — Замолчите, милостивый государь, и уходите отсюда прочь! — с достоинством сказала госпожа Дельмар, овладев собою. — Уходите не скрываясь, открыто! Нун, выпустите этого господина, пусть вся прислуга видит его и пусть позор его поведения падет на него одного. Нун, решив, что тайна ее раскрыта, бросилась на колени рядом с Реймоном. Госпожа Дельмар молча с изумлением смотрела на нее. Реймон хотел было взять руку госпожи Дельмар, но она с негодованием отдернула ее. Покраснев от гнева, она встала и указала ему на дверь. — Уходите прочь, — повторила она, — говорю вам, уходите! Ваше поведение гнусно! Так вот каким образом собирались вы действовать, милостивый государь, спрятавшись, как вор, у меня в спальне! Следовательно, таков ваш обычный способ вторгаться в чужую семью! И это та чистая любовь, в которой вы клялись мне вчера вечером! Так-то вы собирались оберегать, уважать и защищать меня! Так вот каково ваше обожание! Вы встречаете женщину, оказавшую вам помощь, женщину, которая ради того, чтобы вернуть вас к жизни, не побоялась гнева своего мужа; вы выказываете ей притворную благодарность, клянетесь в любви, которой она достойна, — и в награду за заботы, в награду за доверие хотите воспользоваться ее сном и самым подлым путем достичь своей цели! Вы подкупаете горничную, на правах признанного возлюбленного прокрадываетесь к ней чуть ли не в постель, не стыдитесь посвятить слуг в тайну несуществующих отношений… Да, сударь, вы сделали все, чтобы как можно скорее разочаровать меня! Ступайте вон, говорю вам, не смейте больше ни одной минуты оставаться здесь! А вы, несчастная, вам не дорога честь вашей хозяйки, и вы заслуживаете того, чтобы я вас выгнала. Отойдите от этой двери, я вам приказываю! Нун, помертвев от изумления и отчаяния, впилась глазами в Реймона, как бы требуя от него объяснения этой непонятной тайны. Затем с безумным видом, шатаясь, она подошла к Индиане и крепко схватила ее за руку. — Что вы сказали? — воскликнула она, в ярости стиснув зубы. — Он любит вас? — Как будто вы не знали этого, — ответила госпожа Дельмар, отталкивая ее с силой и презрением. — Вы отлично понимаете, зачем мужчина прячется за пологом алькова в спальне женщины. Ах, Нун, — прибавила она, видя отчаяние девушки, — какая неслыханная подлость! Никогда не думала, что ты на нее способна! Ты хотела продать мою честь, а я так верила тебе!.. И госпожа Дельмар заплакала от гнева и горя. Никогда еще не была она так прекрасна, но Реймон не осмеливался смотреть на нее, так как гордый взгляд оскорбленной им женщины невольно заставлял его опускать глаза. Он был убит, повержен в прах. Будь он наедине с госпожой Дельмар, он, конечно, смог бы смягчить ее гнев, но присутствие Нун парализовало его. Выражение лица Нун было ужасно: ярость и ненависть совершенно исказили ее черты. Стук в дверь заставил всех троих вздрогнуть. Нун снова бросилась к двери, чтобы преградить вход в комнату. Но госпожа Дельмар решительно оттолкнула ее и повелительным жестом приказала Реймону скрыться в глубине комнаты. Со свойственным ей в трудные минуты самообладанием она набросила на себя шаль, приоткрыла сама дверь и спросила стучавшего слугу, что ему надо. — Приехал господин Рудольф Браун, — ответил тот — Он спрашивает, можете ли вы принять его. — Передайте, что я очень рада и сейчас выйду к нему. Затопите камин в гостиной и велите приготовить ужин. Постойте, принесите мне ключ от калитки парка. Слуга ушел. Госпожа Дельмар все так же стояла возле двери, не закрывая ее. Она не желала слушать того, что говорила ей Нун, и своим надменным видом повелевала Реймону молчать. Через несколько минут лакей вернулся. Госпожа Дельмар, продолжая держать дверь приоткрытой и, таким образом, скрывая господина де Рамьера от взглядов слуги, взяла ключ, приказала поторопиться с ужином и, как только слуга отошел, обратилась к Реймону: — Приезд моего кузена, сэра Брауна, избавляет вас от позора. Узнай он о вашем поступке, он, как человек чести, горячо вступился бы за меня, но я не хочу из-за вас рисковать жизнью такого достойного человека и потому разрешаю вам удалиться без скандала. Нун провела вас сюда, она вас и выведет. Ступайте. — Мы еще увидимся с вами, сударыня, — ответил Реймон, стараясь казаться спокойным, — и хотя я очень виноват, вы, может быть, пожалеете, что так строго обошлись со мной сейчас. — Надеюсь, милостивый государь, что мы больше никогда не встретимся, — ответила она. Не отходя от двери и не отвечая на его поклон, она смотрела, как он удалялся вместе со своей дрожащей, жалкой сообщницей. Очутившись наедине с Нун во мраке парка, Реймон ожидал упреков. Однако Нун не сказала ему ни слова. Она довела его до калитки, и, когда он хотел взять ее за руку, ее уже не было. Он тихо окликнул ее, желая знать, что же она решила делать, но ответа не последовало. Подошедший садовник сказал ему: — Теперь, сударь, уходите — хозяйка вернулась, и вас могут увидеть. Реймон удалился в глубоком отчаянии, терзаясь мыслью, что оскорбил госпожу Дельмар; он совсем забыл про Нун и думал только о том, как и чем заслужить прощение Индианы. Он был из тех людей, которые загораются при появлении препятствий и страстно стремятся лишь к тому, чего почти невозможно добиться. Вечером, после ужина с сэром Ральфом, прошедшего в глубоком молчании, госпожа Дельмар рано отправилась к себе, но Нун не пришла, как обычно, чтобы помочь ей раздеться. Напрасно она звонила — та не являлась; тогда Индиана, решив, что Нун поступает так умышленно, закрыла дверь и легла спать. Но она провела ужасную ночь и, как только рассвело, вышла в парк. Она вся горела, ей хотелось прохлады, чтобы унять жар, пылавший в ее груди. Еще вчера в это время она была счастлива, отдаваясь новому для нее чувству опьяняющей любви! Но сколько разочарований за одни сутки! Сначала известие о возвращении мужа значительно раньше, чем она его ожидала. Она так надеялась провести эти несколько дней в Париже, в ее представлении они были целой вечностью, бесконечным счастьем, сном любви, за которым не должно последовать пробуждения. Но уже наутро ей пришлось отказаться от этой мечты, вновь подчиниться семейному игу и ехать к своему повелителю, дабы он не встретился с Реймоном у госпожи де Карвахаль. Индиана была уверена, что не сумеет обмануть мужа, если тот увидит ее в присутствии Реймона. И вот теперь Реймон, которого она так боготворила, нанес ей самое тяжкое оскорбление. Наконец, спутница ее жизни, любимая ею молодая креолка, неожиданно оказалась тоже недостойной доверия и уважения! Госпожа Дельмар проплакала всю ночь. На берегу небольшой речки, пересекавшей парк, она опустилась на траву, побелевшую от утреннего инея. Был конец марта, природа еще только пробуждалась; утро, хотя и холодное, было прекрасно: клочья тумана разорванной пеленой лежали на воде, птицы начинали петь свои весенние любовные песни. Индиана почувствовала облегчение, и какое-то благоговейное чувство охватило ее душу. «Богу было угодно, — решила она, — послать мне испытание, дабы я прозрела. И это счастье для меня: этот человек, несомненно, увлек бы меня на путь порока, он погубил бы меня, а теперь я знаю все его низменные побуждения и не позволю бурной и пагубной страсти, бушующей в его сердце, соблазнить меня. Я буду любить своего мужа… Я постараюсь! Во всяком случае, я буду ему покорна, сделаю все, чтобы он был счастлив, не буду ни в чем противоречить ему. Буду избегать всего, что могло бы вызвать его ревность, так как знаю теперь цену тому лживому красноречию, которым опутывают нас мужчины. А может быть, бог сжалится над моими страданиями и пошлет мне скорую смерть». За ивами, растущими на противоположном берегу, послышался шум мельницы, приводящей в движение машины на фабрике господина Дельмара. Река, забурлив, стремительно хлынула в только что открытые шлюзы; госпожа Дельмар следила грустным взором за ее быстрым течением и вдруг заметила на воде, среди тростника, какую-то темную массу, которую течение старалось увлечь за собою. Она встала, наклонилась над водой и ясно увидела женскую одежду — одежду, слишком хорошо ей знакомую. Ужас сковал госпожу Дельмар, а вода все прибывала, течение подхватило мертвое тело, застрявшее в камышах, и понесло его все ближе и ближе к тому месту, где она стояла. На ее отчаянный крик прибежали рабочие с фабрики. Госпожа Дельмар без чувств лежала на берегу, а по реке плыло тело Нун.ЧАСТЬ ВТОРАЯ
9
Прошло два месяца. Ничто не изменилось в Ланьи, в том доме, куда я вас ввел однажды осенним вечером. Только теперь вокруг цвела весна, оживляя красные стены, выложенные серым камнем, и шиферную крышу, пожелтевшую от покрывающего ее столетнего мха. Семья наслаждалась тишиной и благоуханием вечера. Заходящее солнце золотило стекла окон, и шум фабрики смешивался со звуками, доносившимися с фермы. Господин Дельмар, усевшись на ступеньку крыльца, занимался стрельбой по пролетающим мимо ласточкам. Индиана, вышивавшая в пяльцах в гостиной, выглядывала по временам и печально смотрела во двор на жестокое развлечение полковника. Офелия прыгала, лаяла и всячески проявляла свое негодование по поводу такой непривычной для нее охоты, а сэр Ральф, сидя верхом на каменных перилах лестницы, курил сигару и, по своему обыкновению, бесстрастно взирал на радости и горести окружающих. — Индиана! — воскликнул полковник, отложив ружье. — Бросьте работу, вы трудитесь так, словно получаете поденную плату. — Еще совсем светло, — ответила госпожа Дельмар. — Неважно, сядьте поближе к окну, мне надо вам что-то сказать. Индиана повиновалась, и полковник, подойдя к окну, обратился к ней тем шутливым тоном, какой свойствен иногда старым и ревнивым мужьям: — Вы сегодня хорошо поработали и весь день были паинькой, за это я скажу вам нечто приятное. Госпожа Дельмар заставила себя улыбнуться. Такая улыбка привела бы в отчаяние другого, более тонкого, чем полковник, человека. — Дело в том, — продолжал он, — что, желая вас развлечь, я пригласил к нам на завтрак одного из ваших преданных поклонников. Вы, плутовка, конечно, спросите — кого, потому что их у вас целая коллекция. — Вероятно, нашего старичка священника, — сказала госпожа Дельмар, на которую веселое настроение мужа всегда нагоняло еще большую тоску. — Вовсе нет! — Так, значит, мэра из Шайн или старого нотариуса из Фонтенебло. — Женская хитрость! Вы прекрасно знаете, что не о них идет речь. Ну-ка, Ральф, подскажите вы ей то имя, которое вертится у нее на языке, — она почему-то не хочет сама его произнести. — К чему столько приготовлений, когда можно просто сообщить о приезде господина де Рамьера? — спокойно произнес сэр Ральф, бросая сигару. — Я полагаю, что для Индианы это совершенно безразлично. Госпожа Дельмар почувствовала, как вся кровь бросилась ей в лицо; она отвернулась, делая вид, будто что-то разыскивает, а затем, немного овладев собой, снова подошла к окну. — Надеюсь, это шутка, — сказала она, дрожа всем телом. — Напротив, совершенно серьезно. Вы увидите его здесь завтра в одиннадцать утра. — Как, вы примете человека, который проник к вам в дом, чтобы овладеть вашим секретом, и которого вы едва не убили, как злодея? Вы оба слишком миролюбивы, если забываете такие обиды. — Вы мне сами подали пример, моя дорогая, оказав ему благосклонный прием, когда он нанес визит вашей тетушке. Индиана побледнела. — Я совсем не отношу этого визита на свой счет, — торопливо возразила она, — и так мало польщена им, что на вашем месте я бы его не приглашала. — До чего женщины лживы и хитры по самой своей природе! Ведь вы же танцевали с ним на балу чуть не целый вечер — так мне по крайней мере рассказывали. — Вам сказали неправду. — Госпожа Карвахаль сама мне об этом рассказала. Впрочем, не старайтесь оправдываться. Я не вижу тут ничего плохого, поскольку ваша тетка желала этого знакомства и способствовала ему. А господин Рамьер давно его добивался. Он оказал несколько важных услуг моему предприятию, причем сделал это очень деликатно и почти без моего ведома, а так как я далеко не такой свирепый, как вы утверждаете, и, кроме того, не хочу быть в долгу перед посторонним человеком, я и решил отплатить ему за его услуги. — Каким образом? — Подружившись с ним. И вот сегодня утром мы вместе с сэром Ральфом были в Серей. Мы познакомились с матушкой Рамьера, очень симпатичной женщиной; дом их обставлен хорошо, со вкусом, но без излишней роскоши — ни в чем не видно чванства, свойственного старым дворянским семьям. Да и сам Рамьер — милейший молодой человек; я пригласил его позавтракать с нами, а затем осмотреть фабрику. О его брате я тоже получил хорошие сведения и убедился, что не потерплю ущерба, если он применит мои методы. Пусть уж лучше эта семья, а не кто-либо другой воспользуется моими знаниями. Нет такого секрета, который рано или поздно не стал бы общим достоянием, и мое усовершенствование тоже скоро может стать секретом полишинеля, если промышленность будет двигаться вперед такими быстрыми шагами. — Я, дорогой Дельмар, как вы сами отлично знаете, никогда не одобрял того, что вы храните ваши дела в тайне, — сказал сэр Ральф. — Открытие, сделанное честным гражданином, принадлежит столько же его стране, сколько и ему самому, и если бы я… — Черт возьми! Вы опять за свое, сэр Ральф, с вашей практической филантропией! Можно подумать, что ваше состояние принадлежит вовсе не вам, и если бы завтра народ захотел отобрать его, вы бы с радостью обменяли ваш доход в пятьдесят тысяч франков на суму и посох. Такому барину, как вы, любящему роскошь жизни не хуже самого султана, совсем не к лицу проповедовать презрение к богатству. — То, о чем я говорю, вовсе не филантропия, — ответил сэр Ральф, — а разумный эгоизм, побуждающий нас делать добро людям, чтобы помешать им вредить нам. Всем известно, что я эгоист. Я перестал стесняться этого и пришел к тому выводу, что в основе всех добродетелей лежит личный интерес. Любовь и благочестие — чувства, казалось бы, бескорыстные — в действительности, пожалуй, самые эгоистические, да и патриотизм тоже, уж вы мне поверьте. Я не очень люблю людей, но ни за что на свете не согласился бы показать им это, потому что я боюсь их в такой же мере, в какой не уважаю. Итак, мы оба эгоисты, но я сознаюсь в этом, а вы отрицаете. Между ними завязался спор, и с помощью доводов, продиктованных собственным эгоизмом, каждый старался доказать большую эгоистичность другого. Госпожа Дельмар воспользовалась этим и ушла к себе в спальню, чтобы наедине подумать обо всем, что всколыхнуло в ее душе столь неожиданное известие. Следует не только познакомить вас с ее тайными мыслями, но и рассказать вам о людях, которых так или иначе затронула смерть Нун. И для вас, читатель, и для меня достаточно ясно, что несчастная девушка бросилась в реку с горя, в минуту отчаяния, когда человеку ничего не стоит решиться на все. Но так как она не возвращалась в замок после того, как рассталась с Реймоном, ее никто не видел и никто не мог знать о ее намерениях, а потому никаких прямых указаний на то, что она покончила жизнь самоубийством, не было. Только двое не сомневались в том, что она сама лишила себя жизни: господин де Рамьер и садовник. Первому удалось скрыть свое горе, сказавшись больным, а другой молчал под влиянием страха и угрызений совести. Ведь только этот человек, который из корысти потворствовал всю зиму свиданиям двух любовников, и мог заметить тайное горе молодой креолки. Справедливо опасаясь вызвать недовольство хозяев и осуждение прислуги, он почитал за лучшее молчать, а когда господин Дельмар, который знал об этой любовной интриге и кое-что подозревал, спросил садовника, продолжалась ли она в их отсутствие, тот ответил отрицательно. Кое-кто из местных жителей (кстати сказать, места эти были довольно безлюдны) замечал, правда, что Нун иногда поздно вечером ходила в Серей, но с конца января всякие отношения между ней и господином де Рамьером, по-видимому, прекратились, а утонула она двадцать восьмого марта. На основании всего этого смерть ее можно было приписать несчастному случаю. Проходя поздно вечером по парку, Нун могла заблудиться из-за густого тумана, державшегося уже несколько дней, и упасть в воду, шагнув мимо мостика, переброшенного через речку с крутыми берегами, сильно вздувшуюся от дождя. Хотя в душе сэра Ральфа, отличавшегося гораздо большей наблюдательностью, чем можно было думать, и шевелились серьезные подозрения, что виноват во всем господин де Рамьер, он никому не говорил об этом, ибо считал бесполезным и жестоким упрекать человека, который и без того достаточно несчастен, имея такое пятно на совести. Он даже дал понять полковнику, сообщившему ему кое-какие догадки на этот счет, что из-за болезненного состояния госпожи Дельмар необходимо и в дальнейшем скрывать от нее предположение о самоубийстве ее подруги детства. Итак, к смерти бедняжки Нун отнеслись так же, как и к ее роману. По общему молчаливому соглашению о ней никогда не говорили в присутствии Индианы, а скоро и вообще перестали говорить. Но все эти предосторожности были напрасны, потому что у госпожи Дельмар были свои причины в какой-то мере подозревать истину. Горькие упреки, которые она высказала Нун в тот роковой вечер, казались ей достаточным основанием для того, чтобы бедная девушка могла внезапно принять роковое решение. В ту страшную минуту, когда Индиана первая увидела плывущее по реке тело, ее нарушенному душевному покою и измученному сердцу был нанесен последний удар. Болезнь, развивавшаяся сперва медленно, пошла теперь быстрыми шагами, и эта молодая и, возможно, даже крепкая женщина, не стремившаяся выздороветь и скрывавшая свои страдания от любящего, но непроницательного и нечуткого мужа, медленно угасала под бременем горя и разочарования в жизни. — Какое несчастье, какое несчастье! — воскликнула она, входя к себе в спальню после того, как ей сообщили о предстоящем приезде Реймона. — Да будет проклят этот человек, который принес в наш дом отчаяние и смерть! Господи! Почему ты позволяешь ему вторгаться в мою жизнь, распоряжаться моей судьбой? Ведь ему достаточно только протянуть руку, чтобы завладеть мною. Он скажет: «Она моя! Я заставлю ее потерять рассудок, разобью ее жизнь, а если она будет сопротивляться, посею смерть вокруг нее, заставлю ее терзаться угрызениями совести, сожалениями и страхом!». Господи, разве справедливо подвергать бедную женщину такому преследованию? И она горько заплакала, ибо мысли о Реймоне заставили ее с новой силой и болью в сердце вспомнить о Нун. — Бедная моя Нун, бедная подруга детских дней, моя соотечественница и единственный друг! — горестно сетовала она. — Этот человек — твой убийца. Бедняжка! Он погубил нас обеих! Ты так сильно любила меня, ты одна понимала мои страдания и умела смягчить их своей детской веселостью! Какое несчастье, что я потеряла тебя! Для того ли привезла я тебя сюда из-за океана! Какими хитростями сумел этот человек овладеть твоим доверием и подговорить тебя на такую подлость? Вероятно, он ловко провел тебя, и ты поняла свой поступок только при виде моего негодования. А я была слишком строга к тебе, Нун, больше того — жестока, я довела тебя до отчаяния, я обрекла тебя на смерть. Несчастная! Почему не подождала ты, пока мой гнев не рассеется, как дым. Почему не пришла поплакать на моей груди, почему не сказала: «Меня обманули, я не понимала, что поступаю дурно, но вы знаете, как я уважаю и люблю вас!». Я бы крепко обняла тебя, мы поплакали бы вместе, и ты бы осталась жива! А теперь ты умерла! Умерла — молодая, красивая и жизнерадостная! Умерла в девятнадцать лет, и такой ужасной смертью! Оплакивая свою подругу, Индиана невольно оплакивала и свои погибшие мечты — мечты, которыми она жила в продолжение этих трех самых прекрасных дней ее жизни, единственных дней, когда она чувствовала, что живет полной жизнью, ибо в течение этого времени она любила Реймона с такой страстью, какой он не мог бы себе представить даже при самом безграничном самомнении. И чем сильнее и доверчивее была ее любовь, тем острее чувствовала она нанесенное ей оскорбление. Первая любовь у людей с таким сердцем, как у Индианы, бывает всегда целомудренной и хрупкой. Тем не менее Индиана действовала скорее под влиянием стыда и обиды, чем следуя строго обдуманному решению. Я не сомневаюсь, что Реймон вымолил бы ее прощение, будь у него еще хоть несколько минут. Но несчастное стечение обстоятельств помешало ему выказать свою любовь и проявить свою находчивость, и госпожа Дельмар искренне думала, что отныне ненавидит его.10
Реймон не из пустого тщеславия или уязвленного самолюбия стремился теперь, больше чем когда-либо, заслужить любовь и прощение госпожи Дельмар. Он считал это невозможным, и потому ему казалось, что никакая женская любовь, никакое земное счастье не может сравниться с любовью Индианы. Так уж он был создан. Всю жизнь его снедала неутолимая жажда бурных чувств и новых приключений. Он любил свет с его законами и налагаемыми им оковами, ибо находил там обширное поле для борьбы и сопротивления, и боялся, что ниспровержение общественных устоев вызовет какую-то необыкновенную свободу нравов, при которой наслаждения станут слишком доступными и потеряют для него остроту. Не думайте все же, что он равнодушно отнесся к смерти Нун. В первую минуту он показался самому себе таким негодяем, что зарядил пистолеты с твердым намерением пустить себе пулю в лоб. Но его остановило чувство весьма похвальное. Что станется с его матерью?.. С его старой и слабой матерью? Бедная женщина, видевшая столько горя и забот, жила только для него, он был ее единственной радостью и единственной надеждой. Неужели он разобьет ее сердце, ускорит ее смерть? Конечно нет. Лучший способ искупить свое преступление — отныне всецело посвятить себя матери; с этим решением он вернулся в Париж и приложил все усилия к тому, чтобы загладить свое невнимание к ней. Реймон имел необыкновенную власть над всеми, с кем он соприкасался, так как, несмотря на все ошибки и заблуждения молодости, был значительно выше окружавшего его общества. Мы еще не сказали вам, на основании чего утвердилась за ним слава умного и талантливого человека, потому что это не касалось тех событий, о коих здесь говорилось. Пора сообщить вам, что этот самый Реймон, со всеми его слабостями, Реймон, которого вы, возможно, осуждаете за легкомыслие, принадлежал к числу людей, оказавших на вас в свое время огромное влияние и воздействие, независимо от того, какие взгляды вы теперь исповедуете. Вы зачитывались его политическими брошюрами, а просматривая газеты, увлекались красотой его стиля и изысканностью его учтивой и светской логики. Я говорю сейчас о временах, уже отошедших для нас в область предания, ибо теперь время измеряется не столетиями и даже не царствованиями, а сменой министров. Я говорю сейчас о кабинете Мартиньяка, о том периоде относительного покоя и колебаний, который вторгся в нашу политическую эру не как мирный договор, а как соглашение о перемирии, — о пятнадцати месяцах господства тех доктрин, которые так своеобразно повлияли на наши устои и нравы и, возможно, подготовили неожиданный исход нашей последней революции. В ту пору расцветали юные таланты, родившиеся, на свое несчастье, в дни безвременья и бездеятельности; им тоже пришлось отдать дань примирительным и колеблющимся настроениям эпохи. Никогда еще, насколько мне известно, люди не достигали такого совершенства в умении пользоваться словами, чтобы скрыть свое невежество и истинное значение вещей. Умеренность в политике и политичность в обращении проникли в нравы, и тут и там вежливость служила маской, под которой скрывалась неприязнь и которая давала людям возможность бороться без скандала и шума. Надо все же сказать в оправдание молодым людям того времени, что их часто тащили на буксире, подобно тому как большие корабли тащат за собою легкие суда, и они весело плыли, сами не зная куда, гордясь тем, что могут рассекать волны и распускать новенькие паруса. По рождению и богатству Реймон принадлежал к сторонникам абсолютной монархии, но он отдал дань новым идеям и стал горячим приверженцем хартии. По крайней мере он сам так думал и всячески старался это доказать. Но договоры, не нашедшие применения, могут толковаться по-разному, и с хартией Людовика XVIII произошло то же, что с Евангелием Иисуса Христа: она стала текстом, которым пользовались краснобаи для упражнения в красноречии; и потому любые политические речи того времени имели не больше последствий, чем церковная проповедь. В эту эпоху роскоши и равнодушия цивилизация как бы замерла на краю бездонной пропасти, и все стремились упиться наслаждениями. Реймона по его взглядам нельзя было отнести ни к сторонникам неограниченной власти, ни к сторонникам свободы, — он держался золотой середины; но позиция эта была непрочная, и люди благонамеренные напрасно искали здесь убежища против надвигающейся бури. Ему, как и многим другим неискушеннымумам, казалось, что вполне можно быть публицистом и в то же время человеком добросовестным. В такое время, когда все притворялись, что уступают голосу рассудка, лишь для того, чтобы надежнее и вернее подавлять его, это, безусловно, было заблуждением. Реймон считал себя человеком беспристрастным и незаинтересованным, но это был самообман, ибо существующий общественный строй был ему и выгоден и благоприятен. Если бы произошел переворот, его личное благосостояние, несомненно, пострадало бы; а полная уверенность в своем положении влияет на образ мыслей и прекрасно способствует выработке умеренных взглядов. Где тот неблагодарный человек, который станет упрекать провидение за то, что оно посылает несчастье другим, если его самого оно дарит улыбками и милостями? Как можно было втолковать молодым приверженцам конституционной монархии, что она уже устарела, что строй этот давит на общество и лежит на нем тяжким бременем, раз они находили его очень удобным для себя и пользовались при нем всеми благами? Разве верит в нужду тот, кто ее не испытал? Ничего не может быть легче и проще, как обманывать самого себя, когда обладаешь умом и достаточно хорошо владеешь всеми тонкостями речи. Наша речь подобна продажной женщине, способной возвыситься или опуститься до любой роли, куртизанке, которая прячется под разными масками, прихорашивается, притворяется и стушевывается. Речь — это ловкий сутяга, находящий ответ на все, всегда все предвидящий и умеющий извернуться на тысячу ладов, чтобы оказаться правым. Самый честный человек — тот, кто мыслит и действует лучше других, но самый могущественный — тот, кто умеет лучше других писать и говорить. Богатство избавляло Реймона от необходимости писать ради заработка, — он писал по призванию и, как сам полагал, из чувства долга. У него было редкое умение талантливо опровергать очевидные истины, и за это его ценило правительство, ибо он приносил властям больше пользы своей «беспристрастной оппозицией», чем их собственные ставленники своей слепою преданностью; ценило его также и молодое блестящее парижское общество, которое охотно отрекалось от нелепых старинных привилегий и в то же время хотело сохранить все свои нынешние преимущества. В самом деле, нужно было обладать большим талантом, чтобы поддерживать это готовое рухнуть общество и в то же время, находясь между Сциллой и Харибдой, спокойно и ловко бороться с суровой действительностью, стремящейся тебя поглотить. Создать себе убеждения вопреки очевидности и внедрить их в умы людей, не имеющих вовсе никаких убеждений, — это огромное искусство, недосягаемое для примитивного и неизощренного человека, не научившегося искажать истину. Стоило только Реймону вернуться в свет, оказаться в своей родной стихии, как он сразу ощутил на себе его живительное и бодрящее влияние. Волновавшие его любовные интриги на время были вытеснены другими, более широкими и блестящими интересами. Он отдался им с присущим ему пылом и смелостью и, увидев, что самые известные люди Парижа больше чем когда-либо добиваются знакомства с ним, понял, что еще никогда не любил так жизнь, как теперь. Был ли он виноват в том, что, презрев тайные укоры совести, стал пожинать лавры за услуги, оказанные отечеству? Он чувствовал в своем молодом сердце, в своем деятельном уме, во всем своем живом и сильном организме бьющую через край жизнь; судьба, помимо его воли, дарила ему счастье, и он просил прощения у беспокойной тени, иногда являвшейся ему во сне, за то, что ищет в любви живых людей забвения и защиты от ужасов могилы. Окунувшись в прежнюю жизнь, он вскоре почувствовал, что мечты о любви и романтических приключениях снова начинают занимать его мысли наряду с размышлениями на политические и философские темы и честолюбивыми замыслами. Я говорю о честолюбии не в смысле почестей и денег, которые были ему не нужны, а в смысле успеха и популярности среди аристократии. Сперва он не смел надеяться снова встретить когда-либо госпожу Дельмар после трагической развязки своей двойной любовной интриги. Но, понимая всю тяжесть утраты и не переставая думать о потерянном сокровище, он постепенно вновь обрел надежду, а вместе с надеждой — волю и уверенность. Он взвесил все возможные препятствия и понял, что, вначале всего труднее будет преодолеть те, которые воздвигнет сама Индиана. Тогда он решил прежде всего завоевать симпатию мужа — способ не новый, но верный. Ревнивые мужья особенно склонны оказывать подобного рода услуги. Через две недели после того как эта мысль пришла ему в голову, Реймон уже находился на пути в Ланьи, где его ожидали к завтраку. Надеюсь, вы не потребуете от меня подробного рассказа о том, как ловко он сумел оказать некоторые услуги господину Дельмару и, таким образом, нашел способ ему понравиться. Я бы предпочел, раз уж я занялся описанием действующих лиц этой повести, набросать сейчас портрет полковника. Знаете ли вы, кого в провинции называют порядочным человеком? Того, кто не захватывает незаконно поля своего соседа, не требует с должников ни копейки сверх долга, кто снимает шляпу в ответ на поклон каждого встречного, кто не насилует женщин на больших дорогах, не поджигает чужих амбаров и не грабит прохожих около своего сада. Только бы он свято чтил жизнь и кошелек своих сограждан — большего от него не требуется. Он волен бить жену, дурно обращаться с прислугой, разорять детей, — до этого никому нет дела. Общество осуждает только за действия, наносящие ему ущерб. Частная жизнь его не касается. Так рассуждал господин Дельмар. Он знал один-единственный общественный договор: «Каждый у себя дома хозяин». Душевную деликатность он считал женским ребячеством и излишней чувствительностью. Человек неумный, бестактный и невоспитанный, он пользовался тем не менее более прочным уважением, чем иные талантливые или добрые люди. У него были широкие плечи, тяжелая рука, он прекрасно владел саблей и шпагой, к тому же отличался угрюмой обидчивостью. Он плохо понимал шутки, и потому ему вечно чудилось, что над ним смеются. Не умея ответить на шутку шуткой, он знал только один способ защиты: угрозами заставить шутника замолчать. Его любимые анекдоты и разговоры сводились всегда к рассказам о драках и дуэлях; вот почему соседи, упоминая его имя, обычно прибавляли эпитет «храбрый», ибо, по мнению многих, широкие плечи, большие усы, крепкая ругань и бряцание оружием по всякому поводу — неотъемлемые признаки военной доблести. Боже меня сохрани думать, что походная жизнь превращает людей в скотов! Но разрешите считать, что надо иметь большую жизненную мудрость, дабы не приобрести привычки к проявлению деспотической власти. Если вы были на военной службе, то прекрасно знаете, кого там называют храбрым рубакой, и согласитесь, что таких людей очень много среди ветеранов наполеоновской гвардии. Эти люди, собранные воедино и направляемые могучей рукой, совершали сказочные подвиги и вырастали в гигантов в дыму битв. Но, возвратясь к мирной жизни, герои превращались в наглых и грубых солдафонов, рассуждавших и действовавших как машины. Хорошо еще, если они не вели себя в обществе как в завоеванной стране! Не они были в этом виноваты, а век, в котором они жили. Как людям недалеким, им льстили оказываемые им почести, они поверили в то, что они великие патриоты, ибо защищали родину, хотя и делали это — одни по принуждению, а другие из-за чинов и денег. Да и как защищали родину эти сотни тысяч людей, слепо осуществлявшие бредовые планы одного человека, если они сначала спасли Францию, а потом привели ее к такому ужасному поражению. Далее, если преданность солдат своему полководцу кажется вам великой и благородной добродетелью, — будь по-вашему, согласен, но я называю это верностью, а не патриотизмом. Я поздравляю победителей Испании, но не благодарю их. Если же говорить о чести Франции, то мне не совсем понятно, как такими методами можно заставить наших соседей относиться к ней с уважением, и мне трудно поверить, что наполеоновские генералы думали о ней в ту печальную эпоху нашей славы. Я знаю, что об этом запрещено говорить откровенно, и потому умолкаю — пусть потомство произнесет над ними свой приговор. Господину Дельмару были присущи все достоинства и недостатки этих людей. Щепетильный до мелочей в некоторых вопросах чести, он в остальных делах прекрасно умел отстаивать свои интересы, нисколько не беспокоясь о том, как это отзовется на других. Совестью для него был закон, а моралью — собственное право. Он обладал той честностью, педантичной и непреклонной, которая не позволяет людям брать взаймы из страха не вернуть долга, но не позволяет и давать в долг из боязни не получить своих денег обратно. Это был тот порядочный человек, который ничего не дает ближнему, но и сам ничего не возьмет, который скорее умрет, чем похитит вязанку хвороста из казенного леса, и, однако, не задумываясь убьет человека за щепку, взятую в его владениях. Он никому не вредил, но и никому не приносил пользы, кроме самого себя. Он не интересовался чужими делами — из боязни, как бы не пришлось оказать ближнему какую-либо услугу. Но когда он считал для себя вопросом чести оказать таковую, никто не делал этого с большим усердием и рыцарским благородством. Доверчивый, как ребенок, и в то же время подозрительный, как деспот, он верил ложным клятвам и не доверял искренним обещаниям. В повседневной жизни, как и на военной службе, все сводилось у него к форме. Он во всем руководствовался общепринятыми мнениями, а потому здравый смысл и рассудок не играли никакой роли в его решениях; так принято было для него неопровержимым доводом. Это была натура, совершенно противоположная натуре его жены: понять и оценить ее он не мог — ни сердцем, ни умом. К тому же постоянное подчинение породило в душе этой женщины какую-то сдержанную и молчаливую неприязнь, даже не всегда справедливую. Госпожа Дельмар не верила в доброту своего мужа. Он был только суров, а она считала его жестоким. Во вспышках его гнева было больше грубости, чем злобы, в его манерах — больше невоспитанности, чем наглости. По природе он не был злым, у него бывали минуты, когда он испытывал жалость и раскаяние, и тогда он становился даже чувствительным. Походная жизнь сделала грубость его житейским правилом. С другой, менее деликатной и кроткой женщиной он был бы робок, как прирученный волк, но Индиана, ненавидевшая свою участь, не стремилась ничем облегчить ее.11
Выходя из экипажа во дворе усадьбы Дельмаров, Реймон почувствовал, как замирает его сердце. Сейчас он войдет в этот дом, с которым у него связаны столь ужасные воспоминания! Доводы рассудка, которыми он оправдывал свою страсть, могли заставить его преодолеть сердечное волнение, но не могли совсем заглушить его, — а в это мгновение голос совести говорил в нем так же громко, как и голос страсти. Первым вышел ему навстречу сэр Ральф Браун в своем неизменном охотничьем костюме, окруженный собаками, важный, как шотландский лэрд, и Реймону показалось, что это сошел со стены тот портрет, на который он обратил внимание в спальне госпожи Дельмар. Несколькими минутами позже пришел полковник; был подан завтрак, а Индиана все не появлялась. Когда Реймон проходил через переднюю в бильярдную, он узнал комнаты, где бывал раньше при столь различных обстоятельствах; ему стало не по себе, и он почти забыл о цели своего приезда. — Госпожа Дельмар решительно отказывается выйти к столу? — спросил с недовольством полковник у своего верного Лельевра. — Госпожа Дельмар плохо спала, — ответил Лельевр, — и Нун… Простите, опять у меня сорвалось с языка это проклятое имя… Мадемуазель Фанни, хотел я сказать, сообщила мне, что мадам легла отдохнуть. — Не может этого быть, я только что видел ее у окна. Фанни ошибается. Пойдите и доложите госпоже Дельмар, что завтрак подан. Или лучше вы, сэр Ральф, пожалуйста, поднимитесь, дорогой друг, и посмотрите сами, действительно ли больна ваша кузина. Если при имени несчастной девушки, по привычке сорвавшемся с языка у слуги, Реймон горестно содрогнулся, то распоряжение полковника вызвало в нем странное чувство гнева и ревности. «К ней в спальню! — подумал он. — Он не только повесил там его портрет, но еще и посылает туда его самого. Этот англичанин пользуется здесь такими правами, воспользоваться которыми как будто не решается даже муж». Господин Дельмар, казалось, угадал мысли Реймона. — Пусть это вас не удивляет, — сказал он. — Господин Браун — наш домашний врач, кроме того, он наш кузен и славный малый, которого мы все здесь очень любим. Ральф не возвращался минут десять. Реймон был рассеян и не в духе. Он ничего не ел и часто поглядывал на дверь. Наконец англичанин появился в столовой. — Индиана действительно нездорова, — сказал он, — и я посоветовал ей лечь. Он со спокойным видом сел за стол и принялся есть с большим аппетитом. Полковник также не отставал от него. «Несомненно, это предлог, чтобы не встречаться со мной, — подумал Реймон. — Оба они не верят ее нездоровью, и муж скорее недоволен, чем обеспокоен состоянием жены. Прекрасно! Мои дела обстоят гораздо лучше, нежели я предполагал». Препятствие подхлестнуло его, и образ Нун, вызвавший в нем леденящий ужас, исчез из-под этих мрачных сводов. Воздушный облик госпожи Дельмар снова всецело завладел им. В гостиной он присел за ее пяльцы и, разговаривая с весьма деловым видом, стал рассматривать вышитые ею цветы, перетрогал ее шелка, вдохнул в себя аромат, оставшийся на них от ее тонких пальцев. Он уже видел раньше это вышивание в спальне Индианы. Тогда оно было только начато, а теперь его покрывали цветы, распустившиеся под ее лихорадочным дыханием и орошенные ее слезами. Реймон почувствовал, что у него на глазах тоже навернулись слезы; под влиянием какой-то тайной мысли он печально посмотрел вдаль, куда обычно устремляла свой грустный взор Индиана, и заметил на горизонте белые стены Серей, ярко выделявшиеся на темном фоне полей. Голос полковника вывел его из задумчивости. — Теперь, любезный сосед, — сказал Дельмар, — настало время отблагодарить вас и выполнить свое обещание. Фабрика на полном ходу, и все рабочие на местах. Вот карандаш и бумага, может быть, вы пожелаете что-нибудь записать. Реймон последовал за полковником; с внимательным и заинтересованным видом осматривал он фабрику, делал замечания, указывавшие на то, что и химия и механика ему в одинаковой степени знакомы, с поразительным терпением выслушивал бесконечные ученые рассуждения господина Дельмара, соглашался с некоторыми его доводами, возражал против других, — словом, вел себя так, будто чрезвычайно интересуется всем, тогда как сам почти ни во что не вдумывался, ибо мысли его всецело были заняты госпожой Дельмар. Реймон был достаточно образован и осведомлен о новейших научных открытиях; к тому же ему хотелось помочь брату, действительно вложившему все свое состояние в подобное же предприятие, но гораздо более крупное. Специальные знания господина Дельмара — единственное преимущество, которым тот обладал, — дали возможность Реймону найти наилучшую тему для их беседы. Сэр Ральф — плохой коммерсант, но мудрый политик — при осмотре фабрики делал весьма веские замечания экономического порядка. Рабочие старались не ударить в грязь лицом перед знатоком, показать свое умение и понятливость. Реймон все видел, все слышал, на все отвечал, но думал только о своей любви, ради которой приехал сюда. Когда с осмотром машин было покончено, стали говорить о силе и скорости течения воды. Все вышли из здания и, взобравшись на плотину, велели старшему рабочему поднять заслонки шлюза, чтобы установить разницу в уровне воды. — Прошу прощения, сударь, — сказал рабочий господину Дельмару, обратившему внимание присутствующих на то, что максимальный уровень воды равен пятнадцати футам, — но в этом году вода поднималась до семнадцати футов. — Когда же это? Не может быть, — возразил полковник. — Простите, сударь, это было накануне вашего возвращения из Бельгии. Постойте, как раз в ту ночь, когда утонула Нун. Ведь тело проплыло поверх плотины, и его прибило вон туда, где сейчас стоит ваш гость. Рассказывая об этом с большим оживлением, рабочий указал на то место, где стоял Реймон. Несчастный молодой человек побледнел как смерть. Он бросил испуганный взгляд на текущую у его ног реку, увидел свое бледное отражение в воде, и ему почудилось, что там плывет утопленница. У него закружилась голова, он пошатнулся и упал бы в реку, если бы господин Браун не взял его под руку и не отвел в сторону. — Возможно, — сказал полковник, который ничего не заметил и так мало думал о Нун, что даже и не подозревал о душевном состоянии Реймона. — Но ведь это случай исключительный, а средняя сила течения равняется… Но что с вами обоими, черт возьми? — спросил он, внезапно оборвав свою речь. — Ничего особенного, — ответил сэр Ральф. — Повернувшись, я наступил на ногу господину де Рамьеру. Я очень огорчен, — ему, наверно, очень больно. Сэр Ральф ответил полковнику таким спокойным и естественным тоном, и Реймон поверил тому, что он говорит вполне искренне. Они обменялись несколькими учтивыми словами, и разговор возобновился. Несколько часов спустя Реймон уехал из Ланьи, так и не повидав госпожу Дельмар. Это было лучше того, чего он ожидал: он боялся, что она встретит его равнодушно и спокойно. Но и в следующий его приезд к Дельмарам ему опять не посчастливилось. На этот раз полковник был один. Желая его пленить, Реймон пустил в ход всю свою находчивость: он проявил поразительную уступчивость, хвалил Наполеона, которого вовсе не любил, сожалел о равнодушии правительства, совсем не заботившегося о славных ветеранах «великой армии» и относившегося к ним даже с некоторым пренебрежением, высказывал оппозиционные взгляды, насколько это позволяли ему его принципы, и среди своих многочисленных убеждений выбирал те, которые могли прийтись по вкусу господину Дельмару. Чтобы завоевать его доверие, он даже самого себя изобразил совсем не таким, каким был в действительности: прикинулся кутилой, весельчаком, беспечным повесой. «Вряд ли ему когда-нибудь удастся покорить мою жену!..» — подумал полковник, глядя ему вслед. И, усмехнувшись, решил, что Реймон — «милейший молодой человек». Госпожа де Рамьер находилась в то время в Серей. Реймон расхвалил ей красоту и ум госпожи Дельмар и, не предлагая ничего сам, искусно сумел внушить матери мысль поехать к ней с визитом. — В самом деле, — сказала она, — только с этой соседкой я незнакома, а так как я приехала сюда последней, то мне и следует сделать первый шаг. На будущей неделе мы вместе поедем в Ланьи. Настал назначенный день. «Теперь ей уж не удастся избежать встречи», — подумал Реймон. И действительно, госпожа Дельмар была поставлена в необходимость принять его. Увидя, что из коляски выходит незнакомая пожилая дама, она поспешила ей навстречу на крыльцо дома. В ту же минуту она узнала в мужчине, сопровождавшем гостью, Реймона. Она поняла, что тот обманом побудил свою мать приехать к ним с визитом, и недовольство этим поступком дало ей силы держаться с большим достоинством и спокойствием. Она приняла госпожу же Рамьер почтительно и приветливо, но была так убийственно холодна с Реймоном, что тот не мог этого вынести. Он не привык к подобному обращению, и гордость его возмущало то, что он не мог одним взглядом заставить Индиану изменить ее презрительное отношение к нему. Он сделал вид, что не обращает внимания на этот ее каприз, и, попросив разрешения присоединиться к господину Дельмару, гулявшему в парке, оставил дам одних. Постепенно Индиана поддалась тому обаянию, какое исходит от человека с тонким умом и благородной, возвышенной душой даже при самом поверхностном знакомстве с ним: она повеселела и стала такой же ласковой и доброй, как и сама госпожа де Рамьер. Она не помнила своей матери, а госпожа де Карвахаль, несмотря на все ее подарки и похвалы, конечно не могла заменить ей мать. Именно поэтому она испытывала какое-то сердечное влечение к матери Реймона. Реймон вернулся в гостиную, когда уже пора было уезжать. Он заметил, как Индиана, прощаясь с госпожой де Рамьер, поднесла к своим губам ее руку. Бедная Индиана чувствовала потребность с кем-нибудь сблизиться. Она была одинока, несчастна и всей душой откликалась на малейшее проявление участия и внимания. Кроме того, она решила, что госпожа де Рамьер спасет ее от сетей, в которые завлекал ее Реймон. «Я брошусь в объятия этой чудесной женщины, — думала она, — и, если понадобится, расскажу ей все. Я буду умолять ее спасти меня от ее сына; ее благоразумие охранит его и меня». Реймон рассуждал иначе. «Милая моя матушка! — думал он, возвращаясь с госпожой де Рамьер в Серей, — ее обходительность и доброта творят чудеса. Чем только я ей не обязан: воспитанием, успехами в жизни, уважением общества! Не хватает только, чтобы я был ей обязан счастьем, завоевав с ее помощью сердце такой женщины, как Индиана». Реймон, как видите, любил мать за ее заботы, за все то благополучие, которым она окружала его. Так все избалованные дети любят своих матерей. Несколько дней спустя Реймон получил приглашение провести три дня в Бельриве — чудесном поместье, принадлежавшем сэру Ральфу и расположенном между Серей и Лакьи. Там ему предстояло вместе с лучшими местными охотниками заняться истреблением дичи, опустошавшей леса и сады владельца. Реймон не любил охоты и не чувствовал симпатии к сэру Ральфу. Но обычно в дни больших приемов госпожа Дельмар исполняла роль хозяйки в доме своего кузена, и в надежде встретиться с нею Реймон, не раздумывая, согласился. Однако на этот раз сэр Ральф не рассчитывал на приезд госпожи Дельмар — она заранее извинилась, что не может приехать, сославшись на нездоровье. Но полковник, всегда недовольный, когда ему казалось, что его жена ищет развлечений, сердился еще больше, когда она отказывалась от тех развлечений, которые он ей разрешал. — Вы хотите, чтобы все соседи думали, будто я держу вас взаперти, — сказал он. — По вашей милости я прослыву ревнивым мужем, а я вовсе не желаю играть эту комическую роль. Кроме того, как объяснить вашу неучтивость по отношению к кузену? Приличествует ли отказывать в такой маленькой услуге, когда мы обязаны ему постройкой и процветанием нашей фабрики? Вы ему нужны, а вы не хотите исполнить его просьбу. Не понимаю ваших капризов! Все те, кто мне не нравится, пользуются вашим расположением, а тот, кто мне приятен, вам всегда не по вкусу. — Мне кажется, что я совсем не заслужила подобного упрека, — ответила госпожа Дельмар. — Я люблю своего кузена как родного брата, и мы уже были старыми друзьями, когда ваша дружба с ним только началась. — Ах, все это только красивые слова! — воскликнул полковник. — Однако я отлично знаю, что вы считаете его, беднягу, недостаточно чувствительным! По-вашему, он эгоист, потому что не любит романов и не плачет над околевшей собакой. Но дело не только в нем. Какой прием вы оказали господину де Рамьеру? Милейший молодой человек, честное слово! Госпожа де Карвахаль познакомила вас с ним, и вы его любезно приняли. Но я имел несчастье хорошо отнестись к нему, и вы сразу нашли его невыносимым, а когда он приехал к нам в гости, вы отправились спать. Вы, вероятно, хотите, чтобы я прослыл человеком, не знающим приличий. Пора прекратить это. Надо жить так, как живут все. Реймон решил, что не в его интересах проявлять особое усердие в ухаживании за госпожой Дельмар: показным равнодушием можно добиться успеха почти у каждой женщины, считающей себя любимой. Но когда он прибыл к сэру Ральфу, оказалось, что охота началась с утра, а госпожа Дельмар должна была приехать только к обеду. В ожидании ее приезда он принялся обдумывать план действий. Решительная минута приближалась. Он стал измышлять способ оправдаться в ее глазах. В его распоряжении было два дня, и он распределил свое время так: остаток сегодняшнего дня на то, чтобы растрогать ее, завтрашний день — чтобы убедить, и послезавтра — чтобы стать счастливым. Он даже посмотрел на часы и рассчитал по минутам свои шансы на успех или поражение.12
Он находился уже около двух часов в гостиной, когда услышал в соседней комнате нежный, тихий голос госпожи Дельмар. Он так долго обдумывал план обольщения, что увлекся, как автор увлекается сюжетом своего произведения, как адвокат увлекается защищаемым им делом; волнение, охватившее Реймона при виде Индианы, можно было сравнить с тем, что чувствует при появлении героини драмы актер, настолько вошедший в свою роль, что он уже не отличает искусственных сценических переживаний от действительных. Госпожа Дельмар так сильно изменилась, что, несмотря на свое нервное возбуждение, Реймон почувствовал к ней искреннюю жалость. Горе и болезнь оставили глубокие следы на ее лице: ее нежная красота поблекла, и теперь победа могла скорее польстить его самолюбию, чем доставить наслаждение. Но Реймон считал себя обязанным вернуть этой женщине счастье и жизнь. Видя ее бледность и печаль, он решил, что не встретит большого сопротивления: под такой хрупкой оболочкой не могла таиться сильная воля. Он подумал, что прежде всего следует напугать ее, обратить ее внимание на то, что она серьезно больна и выглядит очень плохо, а затем пробудить в ее душе желание жить и надежду на лучшее будущее. — Как вы изменились, Индиана! — сказал он, прекрасно скрывая свою самоуверенность под видом глубокой грусти. — Никогда не думал, что это мгновение, которого я так ждал и так страстно добивался, причинит мне столько горя! Госпожа Дельмар совсем не ожидала подобных речей. Она предполагала, что Реймон, сознавая всю тяжесть своей вины, будет сконфужен и растерян, а он, вместо того чтобы просить прощения, уверять в своем раскаянии, выражал ей сочувствие и жалость. Какой она, значит, выглядит слабой и подавленной, раз внушает сострадание даже тем, кто, казалось бы, сам должен был умолять ее о сострадании! Француженка, светская женщина, не растерялась бы, попав в такое запутанное положение, но Индиана была неопытна, она не обладала находчивостью, не научилась скрывать свои чувства, а потому не сумела воспользоваться выгодными для нее обстоятельствами. Слова Реймона напомнили ей о перенесенных страданиях, и слезы блеснули на ее ресницах. — Я на самом деле больна, — сказала она, устало опускаясь в кресло, пододвинутое ей Реймоном. — Я чувствую себя очень плохо и имею основание жаловаться на это вам, сударь. Реймон не ожидал столь быстрого успеха. Он тотчас же ухватился за счастливый случай и, взяв ее похудевшую и холодную руку, воскликнул: — Индиана, не говорите мне этого, не говорите, что я причина ваших страданий, иначе я сойду с ума от горя и радости. — От радости? — повторила она вслед за ним, взглянув на него своими большими голубыми глазами, полными грусти и удивления. — Я не совсем точно выразился — от надежды, так как радость моя вызвана надеждой: ведь если я причина вашего горя, то я, может быть, могу и исцелить вас. Скажите только слово, — продолжал он, опускаясь перед ней на колени, — и я отдам за вас всю мою кровь, всю мою жизнь! — Ах, замолчите! — с горечью ответила Индиана, отнимая у него руку. — Вы бессовестно нарушили свои обещания и не можете исправить причиненное вами зло! — Но я хочу исправить его и исправлю! — воскликнул Реймон, пытаясь вновь взять ее за руку. — Слишком поздно, — сказала она. — Верните мне мою подругу, мою сестру. Верните мне Нун, моего единственного друга! Кровь застыла в жилах Реймона. На этот раз ему не надо было притворяться взволнованным. Существуют такие чувства, могучие и страшные, которые возникают без искусственного возбуждения. «Она знает все, — подумал он, — и осуждает меня». Самым тяжелым было для него то, что его невольная сообщница упрекала его в преступлении, и самым горьким то, что соперница Нун сама оплакивала ее. — Да, — продолжала Индиана, поднимая к нему свое залитое слезами лицо, — вы виноваты во всем… Но увидев, как побледнел Реймон, она замолчала. Бледность его была ужасающей, никогда еще он так не страдал. Тогда сердечная доброта и невольная нежность, которую внушал ей этот человек, снова одержали верх в душе госпожи Дельмар. — Простите, — сказала она со страхом, — я причинила вам боль, но я так исстрадалась. Сядьте и поговорим о чем-нибудь другом. Эта неожиданная сердечность и великодушие глубоко тронули Реймона. Из груди его вырвались рыдания. Он поднес руку Индианы к губам и покрыл ее поцелуями. Это были его первые слезы после смерти Нун, — волею судеб именно Индиана сняла с его души тяжелый гнет. — О, если вы так плачете о ней, — сказала она, — хотя вы почти совсем не знали ее, если вы так сильно раскаиваетесь в причиненном мне зле, я не смею больше вас упрекать. Будем вместе оплакивать ее, пусть она оттуда, с небес, увидит нас и простит нам. Холодный пот выступил на лбу Реймона. Слова: «хотя вы почти совсем не знали ее» — рассеяли мучившие его сомнения, но обращение к памяти погубленной им девушки, прозвучавшее из нежных уст Индианы, поразило его суеверным ужасом. Не в силах совладать с собой, он встал и, подойдя к открытому окну, сел на подоконник, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Индиана молчала, она была глубоко взволнована. Видя, что Реймон плачет, как ребенок, и теряет сознание, как слабая женщина, она испытала тайную радость. «Он добрый, — подумала она, — он любит меня, у него горячее и благородное сердце. Он виноват, но его раскаяние искупает все, и мне следовало раньше простить его». Она с нежностью смотрела на него, и сердце ее вновь наполнялось доверием; она приняла угрызения совести виновного за раскаяние влюбленного. — Не плачьте! — сказала она, вставая и подходя к нему. — Это я убила ее, я одна во всем виновата. Совесть будет мучить меня всю жизнь, я поддалась чувству гнева и подозрению, оскорбила ее, ранила в самое сердце. Я излила на нее всю горечь моей обиды на вас. Вы, только вы оскорбили меня, а я наказала свою бедную подругу. Я так жестоко обошлась с ней! — И со мной также, — сказал Реймон, сразу позабыв о прошлом и думая только о настоящем. Госпожа Дельмар покраснела. — Возможно, я была неправа, обвинив вас в тяжкой утрате, которую я понесла в ту ужасную ночь, — сказала она. — Но я не могу забыть вашего безрассудного и оскорбительного поступка. Ваша романтическая и преступная затея сильно огорчила меня. Я думала тогда, что вы меня любите, а вы меня даже не уважали! К Реймону вдруг вернулись силы, воля, любовь и надежда. Овладевшее им мрачное настроение рассеялось, как кошмар. Он очнулся и снова почувствовал себя молодым, пылким, полным желаний, страсти и надежд на будущее. — Если вы меня ненавидите, значит я виновен, — сказал он, бросаясь к ее ногам, — но если вы меня любите, то я не виновен и никогда не был виновен. Индиана, скажите, вы меня любите? — А вы заслужили мою любовь? — спросила она. — Если для того, чтобы заслужить твою любовь, надо боготворить тебя… — Послушайте, — сказала она, не отнимая у него руки и устремив на него свои большие влажные глаза, по временам загоравшиеся каким-то мрачным огнем, — послушайте, знаете ли вы, что значит любить такую женщину, как я?.. Нет, вы этого не знаете! Вы думали, что дело идет об удовлетворении минутного каприза, вы судили о моем сердце по тем пресыщенным сердцам, над которыми вы испытывали до сих пор вашу мимолетную власть. Вы не знаете, что я еще никогда не любила и потому не отдам мое чистое, нетронутое сердце в обмен на сердце холодное и опустошенное, мою восторженную любовь — в обмен на любовь, лишенную пыла, всю мою жизнь — за один короткий день. — Индиана, я страстно люблю вас! Мое сердце тоже молодо и горячо, пусть оно недостойно вашего, но ведь нет человека, чье сердце было бы достойно вашего сердца. Я знаю, как надо любить вас. Я понял это не сегодня. Разве я не знаю всей вашей жизни, разве я не пересказал ее вам на балу в первый же раз, как мне представилась возможность поговорить с вами? Разве не прочел я историю вашего сердца в первом же взгляде, который вы бросили на меня? И разве я увлечен только вашей красотой? Да, без сомнения, она способна вскружить голову даже менее пылкому и менее молодому человеку, чем я. Но я боготворю ваш нежный и милый облик, потому что у вас чистая, неземная душа, потому что в вас горит божественный огонь, потому что я вижу в вас и женщину и ангела. — Я знаю, вы умеете льстить, однако не надейтесь, что вам удастся пробудить во мне тщеславие. Мне нужны не восхваления, а истинная любовь. Я хочу, чтобы меня любили безраздельно, безвозвратно, безгранично. Я хочу, чтобы вы были готовы пожертвовать ради меня всем: богатством, добрым именем, долгом, делами, убеждениями и семьей — всем, потому что в ответ на свое самоотверженное чувство я жду такой же любви. Вы сами видите, что так любить меня вы не можете. Реймон уже встречал женщин, относящихся к любви серьезно, хотя такие примеры, к счастью для нашего общества, стали редкими. Но он знал также, что любовные клятвы не являются делом чести, — опять же к счастью для нашего общества. Случалось даже, что женщина, требовавшая от него торжественных обещаний, сама первая нарушала их. Он нисколько не испугался требований госпожи Дельмар, или, вернее, ему не хотелось думать ни о прошлом, ни о будущем. Он был захвачен неотразимой прелестью этой женщины, хрупкой и страстной, слабой физически, но со смелой душой и решительным сердцем. Диктуя ему свою волю, она была так прекрасна, так оживлена, внушала ему такое уважение, что он как зачарованный смотрел на нее. — Клянусь, — сказал он, — принадлежать тебе телом и душой, посвятить тебе всю жизнь, отдать тебе свою кровь и отказаться от собственной воли! Бери все, распоряжайся всем: моим состоянием, честью, совестью, чувствами — всем моим существом! — Замолчите, — перебила его Индиана, — сюда идет мой кузен. Действительно, в комнату с невозмутимым видом вошел флегматичный сэр Ральф Браун, которого удивил и обрадовал неожиданный приезд кузины. Он попросил позволения обнять ее в знак признательности и, наклонившись, не спеша поцеловал прямо в губы, согласно обычаю их родины. Реймон побледнел от гнева, и, как только Ральф вышел, чтобы отдать кое-какие распоряжения, он подошел к Индиане и хотел было поцеловать ее, желая стереть с ее губ след этого дерзкого поцелуя. Но госпожа Дельмар отстранила его. — Помните, что вам еще многое нужно искупить, если вы хотите, чтобы я вам поверила, — спокойно сказала она. Реймон не понял, сколько душевной чуткости было в этом отказе. Он понял только, что получил отказ, и затаил неприязнь против сэра Ральфа. Несколько мгновений спустя он заметил, что когда Ральф разговаривает вполголоса с Индианой, то говорит ей «ты», а Реймон готов был усмотреть в светской сдержанности сэра Ральфа осторожность счастливого любовника. Но, встретив чистый взгляд Индианы, он покраснел за свои оскорбительные подозрения. Вечером Реймон был в ударе и блистал остроумием. Гостей собралось много, его слушали с интересом, ибо его красноречие не могло не привлечь к себе всеобщего внимания. Он говорил очень умно, и будь Индиана тщеславна, она, слушая его, вкусила бы первую радость от своей любви. Но при ее здравом уме и простодушии такое заметное превосходство Реймона над остальными пугало ее. Она пыталась бороться против того неотразимого очарования, которое исходило от него, словно излучение какой-то магнетической силы, даруемой иным людям небом или адом. Власть этого непонятного обаяния так велика, что ей не может противиться ни один обыкновенный смертный, и вместе с тем так недолговечна, что от нее не остается никакого следа, и после смерти этих людей все удивляются, почему они пользовались при жизни столь необычайным и шумным успехом. Минутами Индиана поддавалась очарованию этого блеска, но тотчас же с грустью думала, что ей хочется не славы, а счастья. Она с тревогой спрашивала себя, может ли этот человек, жизнь которого так разнообразна, так захватывающе интересна, отдать ей всю свою душу, пожертвовать ради нее своим честолюбием. И теперь, слушая, как он шаг за шагом так смело и искусно, так страстно и вместе с тем хладнокровно отстаивает свои умозрительные теории, решает проблемы, столь чуждые их любви, она с ужасом думала, как мало места занимает она в его жизни, тогда как он для нее — все. Она с горечью сознавала, что она для него лишь мимолетный каприз, тогда как он — мечта всей ее жизни. Когда они выходили из гостиной, Реймон, предлагая Индиане руку, шепнул ей несколько ласковых слов, но она печально ответила: — Вы слишком умны! Реймон понял этот упрек и провел весь следующий день возле госпожи Дельмар. Остальные гости были заняты охотой и предоставили им полную свободу. Реймон был красноречив, а Индиане так хотелось ему верить, что и половины сказанных им слов было бы достаточно, чтобы убедить ее. Француженки, вы не знаете, что такое креолка! Вы бы, конечно, не поддались так легко обольщениям — ведь вас не проведешь и не обманешь!13
Когда сэр Ральф вернулся с охоты и, подойдя к госпоже Дельмар, по своему обыкновению пощупал ей пульс, Реймон, внимательно наблюдавший за ним, заметил, что на его обычно спокойном лице промелькнуло радостное удивление. Затем, неизвестно под влиянием какой тайной мысли, взоры обоих мужчин встретились, и под пристальным взглядом светлых глаз сэра Ральфа Реймон невольно опустил свои черные глаза. И весь день в отношении баронета к госпоже Дельмар сквозь обычную невозмутимость проглядывало какое-то особое внимание, нечто вроде сочувствия или заботы, если вообще какие-либо переживания могли отражаться на его лице. Но Реймон тщетно пытался угадать, что волновало Ральфа — тревога или надежда. Ральф был непроницаем. Вдруг Реймон, стоявший в нескольких шагах позади кресла госпожи Дельмар, услыхал, как Ральф вполголоса сказал ей: — Тебе неплохо было бы прокатиться завтра верхом, кузина. — Но вы прекрасно знаете, — ответила она, — что у меня нет сейчас верховой лошади. — Мы найдем тебе лошадь. Хочешь принять участие в охоте? Госпожа Дельмар попробовала было под разными предлогами уклониться от приглашения. Реймон понял, что она предпочитает остаться с ним, но заметил также, что ее кузен всячески старается помешать этому. Реймон тотчас же оставил своих собеседников, подошел к Индиане и присоединился к настойчивым просьбам сэра Ральфа. Он досадовал на непрошеного опекуна госпожи Дельмар и во что бы то ни стало решил усыпить его бдительность. — Если вы согласитесь поехать на охоту, — сказал он Индиане, — я осмелюсь последовать вашему примеру. Я не любитель охоты, но ради счастья быть вашим оруженосцем… — В таком случае я поеду, — неосторожно вырвалось у Индианы. Она обменялась с Реймоном многозначительным взглядом. Как ни был мимолетен этот взгляд, Ральф успел перехватить его, и весь вечер Реймон не мог посмотреть на Индиану или заговорить с ней: сэр Браун тотчас же начинал наблюдать за ними и прислушиваться к его словам. Чувство неприязни и, пожалуй, даже ревности поднялось в душе Реймона. По какому праву этот кузен, этот друг дома брал на себя роль наставника любимой им женщины? Он мысленно поклялся, что заставит раскаяться сэра Ральфа, и весь вечер ждал случая рассердить его, не компрометируя госпожи Дельмар, но это оказалось невозможным. Сэр Ральф был изысканно вежлив с гостями, держал себя с холодным достоинством и не давал повода к какой-либо насмешке или замечанию. Наутро, не успели еще протрубить сбор, как сэр Ральф с торжественным видом вошел в комнату Реймона. Держался он еще чопорнее обычного, и от нетерпения у Реймона сильнее забилось сердце, ибо он надеялся услышать вызов. Но дело шло всего-навсего о верховой лошади, на которой Реймон приехал в Бельрив и которую он выражал желание продать. Сделка была заключена в пять минут. Сэр Ральф не спорил о цене, он достал из кармана сверток с золотыми монетами и с каким-то странным хладнокровием принялся отсчитывать деньги, не обращая внимания на возражения Реймона, удивлявшегося такой поспешности и точности. Выходя из комнаты, Ральф повернулся и спросил: — Так, значит, с сегодняшнего дня лошадь принадлежит мне? Реймон решил, что Ральф подстроил это нарочно, чтобы помешать ему принять участие в охоте, и довольно сухо ответил, что не собирается идти на охоту пешком. — Сударь, — ответил несколько надменно Ральф, — я хорошо знаю правила гостеприимства. — И вышел из комнаты. Сойдя вниз, Реймон увидел возле колоннады госпожу Дельмар в амазонке, весело играющую с Офелией, которая рвала ее батистовый платок. На щеках ее опять появился легкий румянец, глаза снова блестели, к ней вернулась ее прежняя красота. Черные локоны выбивались из-под небольшой шляпки, что было ей очень к лицу; сшитая по фигуре суконная амазонка, застегнутая доверху, обрисовывала ее тонкую и гибкую талию. Главное очарование креолок, на мой взгляд, заключается в их необычайно изящных чертах лица и стройной фигуре, благодаря чему они очень долго сохраняют какую-то детскую миловидность. Смеющаяся и шаловливая Индиана казалась пятнадцатилетней девочкой. Восхищенный ею прелестью, Реймон внутренне ликовал от сознания своей победы; он обратился к ней с комплиментом, наименее избитым, какой только мог придумать. — Вы беспокоились о моем здоровье, — тихо сказала она, — разве вы не видите, что я хочу жить? Он ответил ей взглядом, полным счастья и признательности. Сэр Ральф сам привел лошадь для своей кузины, и Реймон узнал в ней ту, которую только что продал. — Неужели господин де Рамьер так любезен, что уступает мне свою лошадь? — удивленно спросила госпожа Дельмар, видевшая, как ее объезжали накануне вечером во дворе замка. — Ведь вы восхищались вчера тем, что она такая красивая и смирная, — сказал сэр Ральф. — С сегодняшнего дня она ваша. Я очень огорчен, дорогая, что не мог подарить ее вам раньше. — Вы, верно, шутите, кузен, — сказала госпожа Дельмар. — Ничего не понимаю! Кого я должна благодарить — господина де Рамьера, согласившегося уступить мне свою верховую лошадь, или вас, так как, по-видимому, вы его об этомпросили. — Благодари своего кузена, он купил ее для тебя, — сказал ей господин Дельмар. — Неужели правда, дорогой Ральф? — спросила госпожа Дельмар, лаская животное с радостью девочки, впервые получившей в подарок драгоценное украшение. — Ведь мы же с тобой условились, что я подарю тебе лошадь за то, что ты сделаешь мне вышивку для кресла? Садись в седло и ничего не бойся. Я знаю ее нрав, еще сегодня утром я сам объезжал ее. Индиана бросилась на шею сэру Ральфу, а затем вскочила на лошадь Реймона и смело прогарцевала на ней. Эта семейная сцена происходила во дворе на глазах у Реймона. Ему было очень тяжело смотреть на простую сердечную привязанность этих людей друг к другу и думать, что он, несмотря на свою пылкую страсть, не может даже дня пробыть наедине с Индианой. — Как я счастлива, — сказала она, когда они въехали в аллею. — Добрый Ральф словно угадал, какой подарок доставит мне самое большое удовольствие. А вас, Реймон, разве не радует, что ваша любимая лошадь принадлежит теперь мне? Она будет и моей любимицей. Как ее зовут? Скажите мне, я хочу оставить ей то имя, какое вы ей дали. — Если кто здесь счастлив, так это ваш кузен: он делает вам подарки, за которые вы его так горячо целуете, — ответил Реймон. — Неужели наша дружба и эти звонкие поцелуи вызывают в вас ревность? — спросила она смеясь. — Ревность? Возможно, что и так, Индиана, не знаю. Но я страдаю, когда ваш молодой, румяный кузен целует вас в губы, берет в свои объятия, чтобы посадить на лошадь, которую он вам подарил, а я — продал. Нет, я не чувствую себя счастливым оттого, что вы стали владелицей моей любимой лошади. Я прекрасно понимаю, что подарить ее вам — это счастье, но играть роль продавца и дать возможность другому доставить вам приятное — это унижение, ловко придуманное сэром Ральфом. Если б я был уверен, что он сделал это умышленно, я отомстил бы ему. — Такая ревность вам совсем не к лицу! Неужели вы завидуете нашей родственной близости? Разве вы не чувствуете, что мы с вами находимся вне рамок обычной жизни и что вы должны создать для меня новый, волшебный мир счастья? Я недовольна вами, Реймон: мне кажется, что в вашей неприязни к моему бедному кузену большую роль играет уязвленное самолюбие. Вы предпочитаете мое открытое, дружеское внимание к нему тому глубокому, но тайному чувству, которое я питаю к вам. — Прости, прости меня, Индиана, я неправ, я недостоин тебя, мой кроткий и добрый ангел, но, признаюсь, я жестоко страдаю оттого, что этот человек присваивает себе какие-то права на тебя. — Присваивает? Он? Вы не знаете, Реймон, чем мы ему обязаны. Вы не знаете, что его мать была родной сестрой моей матери, что мы родились в одном и том же краю, что еще подростком он оберегал мои младенческие годы, что он был моей единственной опорой, моим наставником и товарищем на острове Бурбон, что он следовал за мной повсюду, покинул родину, когда я покинула ее, и поселился там, где живу я. Одним словом, только он один на свете любит меня и интересуется моей жизнью. — Боже мой! Ваши слова, Индиана, еще больше растравляют мою рану. Значит, этот англичанин очень любит вас! А знаете ли вы, как я вас люблю? — Ах, не будем сравнивать. Если бы вы оба питали ко мне одинаковые чувства и были соперниками, мне следовало бы предпочесть более давнюю привязанность. Но не бойтесь, Реймон, я никогда не попрошу вас любить меня такой любовью, какою любит меня Ральф. — Объясните же мне, что он за человек, умоляю вас, ибо невозможно понять, что скрывается за его невозмутимым спокойствием. — Вы хотите, чтобы я сама описала вам достоинства моего кузена? — с улыбкой спросила она. — Должна признаться, мне трудно быть беспристрастной; я очень люблю его и буду его расхваливать. Боюсь, что вам он не очень понравится. Попробуйте помочь мне. Ну, каким он вам кажется? — Судя по лицу, он полнейшее ничтожество, — простите, если я этим обидел вас, — однако в его речах, когда он соблаговолит заговорить, видны и здравый смысл и образованность. Но он с такой неохотой, с таким равнодушием рассуждает обо всем, что его познания никому не приносят пользы, а его манера говорить всех расхолаживает и утомляет. Кроме того, и мысли у него какие-то тяжеловесные и избитые, что не искупается ясностью и точностью употребляемых им выражений. Мне кажется, что весь он пропитан чужими идеями, так как он слишком ленив и недалек, чтобы иметь свои собственные. Как раз таких людей в свете принято ценить и считать глубокомысленными. Главное их достоинство — важность, а остальное дополняется безразличным отношением ко всему и ко всем. — В вашем описании есть доля истины, — ответила Индиана, — но есть и предубеждение. Для вас все ясно, вы смело разрешаете все сомнения, а я сужу не так решительно, хотя знаю Ральфа со дня своего рождения. Вы правы, он на многое смотрит чужими глазами — это большой недостаток. Но виной всему его воспитание, а не его ограниченность. Вы считаете, что, не получи он воспитания, он был бы совершенным ничтожеством, а я думаю, что без воспитания он был бы им в меньшей степени. Я расскажу вам об одном обстоятельстве его жизни — это поможет вам понять его характер. На горе Ральфа, у него был брат, которого родители открыто предпочитали ему. Этот брат обладал блестящими дарованиями, каких не было у Ральфа. Учение давалось брату Ральфа легко, у него были способности ко всем видам искусства, он блистал остроумием. Лицо его, с менее правильными чертами, чем у Ральфа, было более выразительным. Он был ласков, приветлив, деятелен — словом, очень привлекателен. Ральф, напротив, был неуклюж, меланхоличен, малообщителен. Он любил одиночество, учился неохотно и не выставлял напоказ своих скромных знаний. Видя такую разницу между ним и старшим братом, родители стали дурно обращаться с Ральфом. Хуже того, они начали всячески унижать его. Тогда, несмотря на то, что он был еще совсем ребенком, характер его стал мрачным и мечтательным, непреодолимая робость сковала все его действия и мысли. Ему сумели внушить нелюбовь и презрение к самому себе, он разочаровался в жизни, и с пятнадцати лет на него напал сплин — недуг, парализующий тело под туманным небом Англии и душу под живительным небом острова Бурбон. Он часто рассказывал мне, как однажды ушел из дому, твердо решив броситься в море; но, сидя на песчаном берегу и собираясь с мыслями перед тем как выполнить свое намерение, он увидел меня на руках у подошедшей к нему негритянки, моей кормилицы. Мне было тогда пять лет. Я, говорят, была очень хорошенькая и выказывала моему хмурому кузену расположение, которого никто не разделял. Правда, и он относился ко мне очень заботливо и нежно, а я совсем не была приучена к этому в родительском доме. Мы оба были несчастны и уже понимали друг друга. Он учил меня своему родному языку, а я в ответ лепетала на своем. Смесь испанского и английского — этим, пожалуй, и объясняется характер Ральфа. И вот я кинулась к нему на шею и, видя, что он плачет, но не понимая причины его слез, тоже заплакала. Он прижал меня к своей груди и дал клятву, как он потом мне рассказал, отныне жить только для меня, заброшенного и, может быть, даже нелюбимого ребенка, которому он и его дружба могли оказаться нужными и полезными. В его печальной жизни я была первой и единственной привязанностью. С этого дня мы почти не расставались; свободные и здоровые, мы проводили счастливые дни в уединении гор. Но, может быть, вам наскучили рассказы о нашем детстве; хотите, пустим лошадей галопом и догоним охоту. — Безумная! — сказал Реймон, удерживая за повод лошадь господи Дельмар. — Тогда я продолжаю, — снова заговорила она. — Эдмонд Браун, старший брат Ральфа, умер двадцати лет. Мать с горя скончалась, отец был неутешен. Ральф хотел чем-нибудь облегчить его скорбь, но господин Браун так холодно ответил на первые попытки сына добиться сближения, что лишь усугубил его природную застенчивость. Ральф часами молча сидел возле сокрушавшегося старика, не решаясь обратиться к нему с нежным словом или ласкою, — так боялся он, что его утешения будут неуместны и бесполезны. Отец обвинял его в бессердечии; и после смерти Эдмонда бедный Ральф стал еще более несчастен и одинок, чем прежде. Я была его единственным утешением. — Что бы вы мне ни говорили, жалеть его я не могу, — прервал ее Реймон. — Но в его жизни и в вашей для меня одно непонятно: почему он не женился на вас? — Сейчас объясню почему. Когда я достигла того возраста, что могла выйти замуж, Ральф, который на десять лет старше меня — а это большая разница в наших краях, где девочки рано становятся женщинами, — был уже женат. — Сэр Ральф вдовец? Я никогда не слышал, чтобы вспоминали о его жене. — И не спрашивайте его о ней никогда. Она была молода, красива и богата, но она любила Эдмонда и была его невестой. Различные соображения и заинтересованность семьи в этом браке заставили ее выйти замуж за Ральфа, но она даже не пожелала скрыть свою неприязнь к нему. Они уехали в Англию, а когда он вернулся после смерти жены на остров Бурбон, я уже была замужем за господином Дельмаром и собиралась в Европу. Ральф прожил некоторое время один, но одиночество тяготило его. Хотя он никогда не рассказывал мне о своей жене, я имею все основания думать, что он был еще более несчастлив с нею, чем ребенком в своей родной семье, и что новые тяжелые переживания только усугубили его природную меланхолию. На него снова напал сплин. Тогда он продал свои кофейные плантации и решил переехать во Францию. Моему мужу он отрекомендовался весьма оригинальным образом, над чем бы я очень посмеялась, если б меня так не растрогала привязанность моего славного Ральфа. «Сударь, — сказал он, — я очень люблю вашу жену. Я ее воспитал и смотрю на нее как на сестру или, вернее, как на дочь. Она моя единственная родственница и единственная привязанность. Сочтете ли вы возможным, чтобы я поселился около вас и чтобы наша жизнь протекала совместно? Говорят, что вы немного ревнивы, но говорят также, что вы человек чести и долга. Раз я даю вам слово, что никогда не любил и никогда не полюблю ее как женщину, вы можете быть так же спокойны, как если бы я был ее родным братом. Верите ли вы мне, сударь?» Господин Дельмар, очень кичившийся своим честным словом солдата, принял это откровенное заявление с подчеркнутым доверием. Однако он несколько месяцев приглядывался к нам, прежде чем его доверие, которым он похвалялся, перешло в подлинное. Теперь оно так же несокрушимо, как неизменная и спокойная преданность Ральфа. — Убеждены ли вы, Индиана, — спросил Реймон, — что сэр Ральф не обманывает самого себя, уверяя, что никогда не любил вас? — Мне было двенадцать лет, когда он уехал со своей женой в Англию. А когда он вернулся обратно, мне было шестнадцать, и я была замужем, однако он проявил больше радости, чем огорчения, узнав о моем браке. Теперь Ральф уже совсем старик. — В двадцать-то девять лет? — Не смейтесь, его лицо молодо, но сердце состарилось от страданий. Ральф никого больше не любит, ибо не желает больше страдать. — Даже вас? — Даже меня. Его дружба перешла в привычку; раньше, в дни моего детства, когда он воспитывал и оберегал меня, дружба его была самоотверженной, и тогда я любила его, как он любит меня теперь, потому что нуждалась в нем. Сейчас я с радостью возвращаю свой долг и всячески стараюсь скрасить и наполнить его жизнь. В детстве я любила его больше инстинктом, чем сердцем, — он, став мужчиной, любит меня так, как я любила его в детстве. Я ему необходима, потому что только я одна и люблю его; но так как господин Дельмар тоже проявляет к нему привязанность, он любит его почти наравне со мной. В былое время он храбро защищал меня от деспотизма отца, но в отношении моего мужа он ведет себя гораздо осторожнее и мягче. Он не чувствует укоров совести, видя мои страдания, ему важно одно: чтобы я была рядом с ним. Он не спрашивает себя, счастлива ли я, — ему достаточно того, что я живу. Он не хочет стать на мою сторону в семейных размолвках, потому что это может рассорить его с господином Дельмаром и нарушить его спокойствие. Ему неустанно твердили, что у него черствое сердце, и он сам поверил этому; и сердце его действительно очерствело в бездеятельности, на которую он обрек себя из-за неверия в собственные силы. Душевные качества этого человека расцвели бы от любви окружающих, но он был лишен ее и ожесточился. Теперь счастье для него только в покое, а радость — в удобствах жизни. Сам не зная забот, он не интересуется чужими заботами, и надо признаться, что Ральф эгоист. — Тем лучше, — сказал Реймон, — теперь он мне больше не страшен, и, если хотите, я готов даже полюбить его. — Да, полюбите его, Реймон, — ответила она, — он будет вам за это признателен. Ведь важно не почему нас любят, а как нас любят. Счастлив тот, кто любим, не все ли равно, по какой причине. — Ваши слова, Индиана, — возразил Реймон, обвивая рукой ее гибкую, тонкую талию, — это стон одинокого, печального сердца. Но я хочу, чтобы вы знали, почему и как я вас люблю; в особенности — почему. — Потому что хотите дать мне счастье? — спросила она, подняв на него печальный и полный страсти взгляд. — Потому что хочу отдать тебе жизнь! — воскликнул Реймон, касаясь губами развевающихся волос Индианы. Звук рога, раздавшийся поблизости, напомнил им, что следует быть осторожнее. Это трубил сэр Ральф, но видел он их или нет — так и осталось неизвестным.14
Когда спустили собак и началась охота, Реймон поразился той перемене, которая вдруг произошла с Индианой. Она оживилась, глаза ее заблестели, щеки разрумянились, ноздри раздулись, как бы в предвкушении опасности или наслаждения. Внезапно покинув его, она пришпорила лошадь и помчалась вслед за Ральфом. Реймон не знал, что у Ральфа и Индианы было только одно общее — их страсть к охоте. Он не подозревал также, что в этой хрупкой и с виду такой робкой женщине таилась более чем мужская смелость, безумная отвага, возникающая в результате нервного подъема даже у самых слабых людей. Женщины редко обладают физической силой, помогающей терпеливо переносить боль и опасности, но им часто присуща та душевная сила, которая появляется в минуты риска или страдания. Впечатлительная Индиана всем своим существом реагировала на раздававшиеся вокруг крики, быструю езду, волнения охоты, в какой-то мере напоминающей войну с ее трудностями, уловками, расчетами, борьбой, удачами и неудачами. В своей скучной и однообразной жизни она нуждалась в таких сильных ощущениях — тогда она словно просыпалась от летаргического сна и в один день растрачивала энергию, накопившуюся в ней за целый год. Реймон с испугом смотрел на ее бешеную скачку, на то, как она бесстрашно отдавалась во власть разгорячившейся лошади, на которую села впервые. Индиана смело неслась в самую гущу леса, с необычайной ловкостью уклонялась от хлеставших ее по лицу гибких веток, не задумываясь перескакивала через канавы и рвалась вперед, чтобы первой напасть на свежий след кабана, совсем не думая о том, что может разбиться, если лошадь поскользнется на глинистой и скользкой почве. Такая решительность страшила и отталкивала Реймона. Тщеславию мужчин, в особенности влюбленных, больше льстит покровительствовать беспомощным женщинам, нежели восторгаться их смелостью. Признаюсь, что Реймон испугался при мысли о том, какую смелость и упорство в любви сулило такое бесстрашие. Он вспомнил о покорности бедной Нун, которая предпочла утопиться, а не бороться со своей несчастной судьбой. «Если в ее любви столько же страсти и пыла, как в ее увлечениях, — подумал Реймон, — если она с такой же непреклонной настойчивостью, с какой преследует сейчас кабана, будет стремиться заполонить меня, то ни общество, ни законы — ничто ее не удержит; она меня погубит, мне придется пожертвовать ради нее своим будущим». Отчаянные крики, испуганные голоса, среди которых был слышен и голос госпожи Дельмар, вывели Реймона из задумчивости. Охваченный тревогой, он пришпорил коня; к нему сейчас же присоединился сэр Ральф и спросил, слышал ли он крики о помощи. В эту минуту появились испуганные егеря, они бессвязно кричали, что кабан кинулся на госпожу Дельмар и сбросил ее с лошади. Прискакали другие, еще более перепуганные охотники, звавшие сэра Ральфа. — Надежды нет, — сказал всадник, примчавшийся последним. — Ваша помощь уже не нужна. В этот ужасный миг Реймон взглянул на господина Брауна — лицо Ральфа было бледно и мрачно. Он не кричал, не выходил из себя, не ломал рук: вынув охотничий нож, он с чисто британским хладнокровием собрался перерезать себе горло. Реймон выхватил у него нож и увлек Ральфа за собой, туда, откуда доносились крики. Ральф точно очнулся от тяжелого сна, увидя госпожу Дельмар; она бросилась ему навстречу, умоляя поспешить на помощь к ее мужу, лежавшему на земле без признаков жизни. Убедившись, что полковник еще жив, Ральф немедленно пустил ему кровь. Но у господина Дельмара был перелом бедра, и пришлось спешно перенести его в дом. Очевидно, в суматохе и сутолоке охотники по ошибке вместо господина Дельмара назвали его жену, а вернее всего, Ральфу и Реймону послышалось ее имя, потому что они оба думали только о ней. Индиана была жива и невредима, но от страха и волнения едва стояла на ногах. Реймон, поддерживая ее в своих объятиях, простил ей причуды ее женского сердца, ибо видел, как она глубоко потрясена несчастьем, постигшим мужа, которого, по правде сказать, у нее было больше оснований прощать, нежели жалеть. К сэру Ральфу уже вернулось его обычное спокойствие, и только необычная бледность указывала на пережитое им потрясение, — ведь на всем свете он любил только этих двух людей и чуть не потерял одного из них. В эту минуту всеобщего смятения и переполоха только Реймон отдавал себе полный отчет в том, что происходит, ибо он один не потерял присутствия духа и ясно понял, как сильна любовь сэра Брауна к своей кузине и как отличается эта любовь от его привязанности к полковнику. Это обстоятельство, безусловно опровергавшее мнение Индианы о чувствах Ральфа, не ускользнуло от внимания не только Реймона, но и других свидетелей происшедшей сцены. Однако впоследствии Реймон никогда не говорил госпоже Дельмар о том, что господин Браун хотел покончить с собой. В этом намеренном умалчивании было, без сомнения, что-то эгоистическое и неприязненное, но вы, вероятно, простите Реймона, так как известно, что все влюбленные очень ревнивы. Только через полтора месяца полковника с большим трудом перевезли в Ланьи. Но прошло не менее полугода, прежде чем он начал ходить, потому что, кроме плохо сраставшегося перелома бедра, его мучил еще острый ревматизм в больной ноге, надолго приковавший его к постели. Жена с нежной заботливостью ухаживала за ним. Она не отходила от его изголовья, безропотно переносила его угрюмый и раздражительный нрав, грубые вспышки гнева и бесконечные придирки. Несмотря на все огорчения, на тяжесть такого печального существования, Индиана расцвела, здоровье ее окрепло, а сердце было переполнено счастьем. Реймон любил ее, и любил по-настоящему. Он приезжал каждый день, преодолевал все трудности, чтобы увидеть ее, выносил причуды больного мужа, холодность кузена, натянутую атмосферу встреч. Один его взгляд дарил Индиане радость на целый день. Она и не думала больше жаловаться на судьбу, — она была полна своим чувством, ей было для чего жить и кому посвятить свою молодость. Постепенно полковник сдружился с Реймоном. В простоте душевной он считал частые посещения своего соседа доказательством глубокого сочувствия и беспокойства о его здоровье. Госпожа де Рамьер тоже приезжала иногда, как бы скрепляя своим присутствием эту близкую дружбу, и восторженная Индиана страстно привязалась к матери Реймона. В конце концов муж и возлюбленный его жены стали друзьями. Постоянно встречаясь, Реймон и Ральф тоже невольно сблизились и уже называли друг друга «дорогой друг». Утром и вечером они обменивались рукопожатиями. Если один из них обращался к другому с просьбой о какой-либо небольшой услуге, он обыкновенно начинал свою речь так: «Я очень рассчитываю на вашу дружбу» и т.д. Наконец за глаза каждый говорил о другом: «Это мой друг». Но хотя оба были людьми искренними, насколько это вообще возможно в свете, на самом деле они не чувствовали никакого взаимного расположения. У них на все были разные взгляды, разные вкусы, и даже их любовь к госпоже Дельмар была настолько различна, что это чувство не сближало, а еще больше разъединяло их. Им доставляло своеобразное удовольствие противоречить и портить друг другу настроение разными замечаниями и намеками, которые, хотя и высказывались в общей форме, однако дышали горечью и недоброжелательством. Чаще всего их разногласия начинались с политики и кончались вопросами морали. Обычно это бывало по вечерам; все собирались около кресла господина Дельмара, и спор возникал по малейшему поводу. Внешне соблюдались все требуемые приличия: одного обязывало к этому его философское мировоззрение, а другого — умение держать себя в обществе, но тем не менее намеками высказывались очень неприятные вещи, что доставляло большое удовольствие полковнику, так как у него был воинственный и сварливый нрав и за отсутствием битв он пристрастился к спорам. Я считаю, что политические взгляды целиком определяют человека. Скажите мне только, что вы думаете и что вы чувствуете, и я скажу вам, каковы ваши политические убеждения. К какому бы обществу или партии ни принадлежал человек по рождению, его характер рано или поздно одержит верх над предрассудками или воззрениями, привитыми ему воспитанием. Вы, пожалуй, сочтете мое утверждение слишком категоричным, но можно ли ждать чего-либо хорошего от человека, спокойно соглашающегося с существованием такого государственного строя, который несовместим с понятием человеколюбия и благородства? Покажите мне человека, считающего смертную казнь необходимой, и, как бы он ни был образован и убежден в своей правоте, ручаюсь, что между мной и им никогда не возникнет симпатии; если такой человек вздумает преподать мне какие-либо неизвестные доселе истины, он ничего не добьется, потому что, при всем моем желании, я не могу ему верить. Ральф и Реймон расходились во всем, хотя раньше, до их знакомства, на многое у них не было определенных, твердо установившихся взглядов. Но с того момента, как начались их горячие споры, когда каждый старался доказать противоположное тому, что защищал другой, у них создались непоколебимые и законченные убеждения. Реймон всякий раз выказывал себя приверженцем существующего порядка, Ральф критиковал его со всех точек зрения. Это объяснялось очень просто. Реймон был баловнем судьбы, любимцем общества, а Ральф всю свою жизнь видел только горе и неприятности. Один находил все прекрасным, другой был всем недоволен. Люди и обстоятельства были суровы к Ральфу — и очень благосклонны к Реймону; и оба, словно дети, судили обо всем со своей точки зрения и безапелляционно решали важнейшие вопросы социального порядка, в которых ни тот, ни другой не были сведущи. Ральф лелеял мечту о республике, где не будет злоупотреблений, предрассудков, несправедливости, — мечту, основанную всецело на том убеждении, что род человеческий должен в корне измениться. Реймон отстаивал наследственную монархию, предпочитая, как он выражался, «переносить злоупотребления, предрассудки и несправедливости, чем видеть, как воздвигаются эшафоты и льется невинная кровь». В начале спора полковник почти всегда бывал на стороне Ральфа. Он ненавидел Бурбонов и в своих суждениях высказывал всю свою злобу против них. Но Реймон очень быстро и искусно перетягивал его на свою сторону, доказывая, что монархическое правление в принципе куда ближе к наполеоновской империи, нежели республика. Ральф не обладал умением убеждать, бедный баронет был наивен и неловок! Его искренность казалась грубой, логика сухой, а взгляды страдали нетерпимостью! Он не щадил никого и не старался подсластить истину. — Помилуйте! — говорил он полковнику, когда тот проклинал вмешательство Англии. — Что сделала вам, лично вам — человеку, как я считаю, здравомыслящему и неглупому — целая нация, честно сражавшаяся против вас? — Честно? — повторял господин Дельмар, стискивая зубы и размахивая костылем. — Предоставим державам самим решать вопросы внешней политики, — снова начинал сэр Ральф, — поскольку мы приняли государственный строй, который запрещает нам обсуждать свои интересы. Если народ ответствен за ошибки своей законодательной власти, то не окажутся ли французы виновнее всех? — Верно, — кричал полковник, — это позор, что Франция предала Наполеона и приняла короля, посаженного на трон иностранными штыками? — Я не говорю, что это позор, — продолжал Ральф, — а говорю, что это несчастье для Франции. Приходится лишь пожалеть, что она оказалась такой слабой и немощной в тот день, когда, избавившись от тирана, вынуждена была принять жалкое подобие конституционной хартии — эту пародию на свободу, к которой вы начинаете проникаться уважением, вместо того чтобы отказаться от нее и завоевать себе полную, настоящую свободу. Тогда Реймон принимал вызов, брошенный ему сэром Ральфом. Горячий сторонник хартии, он хотел вместе с тем быть и поборником свободы и очень искусно доказывал Ральфу, что хартия является выражением свободы и что, уничтожив хартию, он сам разобьет свой кумир. Напрасно сэр Ральф пытался бороться против ловко подтасованных доводов господина де Рамьера, тот всячески убеждал его, что более свободный строй непременно повлек бы за собой эксцессы 1793 года, что народ не созрел еще для такой свободы и она неминуемо превратилась бы в анархию. Сэр Ральф утверждал, что нелепо ограничивать конституцию определенным количеством параграфов, ибо то, что удовлетворяло прежде, не может удовлетворять теперь, и ссылался на пример выздоравливающего, чьи потребности растут с каждым днем. Но на все эти общие места, упорно повторяемые сэром Ральфом, Реймон возражал, что хартия не есть нечто незыблемое, что она может измениться вместе с потребностями Франции и впоследствии будет отвечать требованиям народа, хотя сейчас отвечает только требованиям королевской власти. Что касается Дельмара, то его воззрения ни на йоту не изменились с 1815 года. Он был заядлым противником нового строя, таким же упорным, как эмигранты Кобленца, над которыми он всегда зло посмеивался. Этот старый младенец ничего не понял в великой драме падения Наполеона. Он видел только военное поражение там, где одержала победу сила общественного мнения. Он непрестанно твердил о предательстве и проданной родине, как будто целая нация может предать одного человека, как будто Франция допустила, чтобы ее продали несколько генералов. Он обвинял Бурбонов в тирании и сожалел о славных днях Империи, совершенно забывая, что тогда не хватало рук для обработки земли и многие семьи сидели без хлеба. Он порицал Франше и хвалил Фуше. Он все еще жил во времена Ватерлоо. Чрезвычайно любопытно было слушать сентиментальные бредни Дельмара и де Рамьера — этих двух филантропов-мечтателей: один считал, что люди могут быть счастливы только под боевыми знаменами Наполеона, а другой — под скипетром Людовика Святого; Дельмар все еще находился у подножия пирамид, а Реймон восседал под монархической сенью венсенского дуба. Вначале их утопии казались непримиримыми, но мало-помалу собеседники начинали понимать друг друга. Реймон опутывал полковника любезными речами, но, соглашаясь с ним в чем-нибудь, требовал от него в десять раз больших уступок. Незаметно он приучал Дельмара к той мысли, что белое знамя в конце концов увенчало двадцать пять лет славы Франции. Если бы Ральф своей резкостью и грубостью не портил впечатления от цветистой риторики господина де Рамьера, Реймон неминуемо обратил бы господина Дельмара в приверженца монархии 1815 года; но Ральф, стараясь поколебать убеждения полковника, своей неуклюжей прямотой задевал его самолюбие, и тот еще больше укреплялся в своих симпатиях к императору. Тогда все усилия господина де Рамьера пропадали даром; Ральф безжалостно топтал его цветы красноречия, и полковник с ожесточением и упорством возвращался к своему трехцветному знамени. Он клялся, что когда-нибудь «стряхнет насевшую на нем пыль», ругал династию Бурбонов, возводил герцога Рейхштадтского на «престол его предков», снова начинал завоевание мира и кончал всегда жалобами на позор Франции, на ревматизм, пригвоздивший его к креслу, и на неблагодарность королевской фамилии к усачам ветеранам, которых жгло палящее солнце пустыни и заносили снега на московских дорогах. — Друг мой, — говорил Ральф, — будьте справедливы. Вы недовольны тем, что Реставрация не платит за услуги, оказанные Империи, и в то же время предоставляет денежную помощь эмигрантам. Скажите, если бы завтра Наполеон воскрес во всем своем могуществе, сочли бы вы справедливым, чтобы он лишил вас своей милости и перенес ее на легитимистов? Каждый стоит за себя и за своих, это все споры и пререкания из-за личных интересов, которые мало касаются Франции. Теперь, когда вы превратились в такого же немощного старика, как и бывшие вояки эмиграции, когда все вы страдаете подагрой, женаты и недовольны всем на свете, — вы все одинаково бесполезны для родины. Однако ей приходится вас кормить, а вы только и знаете, что наперебой жалуетесь на нее. Когда придет к власти республика, она не признает ваших требований, и это будет справедливо. Такие простые и очевидные истины воспринимались полковником как личные оскорбления. Ральф, при всем своем здравом смысле, не понимал, как мелочен и ограничен человек, которого он уважает, и потому не щадил его в спорах. До появления Реймона между этими двумя людьми существовало молчаливое соглашение избегать разговоров на такие щекотливые темы, где их убеждения могли бы столкнуться и вызвать взаимную неприязнь. Но Реймон внес в их тихое убежище всю казуистику и хитрые уловки, изобретенные современной цивилизацией. Он показал им, что во время спора можно говорить что угодно, во всем упрекать противника. Он ввел у них в доме дебаты на политические темы, в то время чрезвычайно модные в салонах, ибо страстная ненависть «Ста дней» уже улеглась и приняла различные оттенки. Но убеждения полковника оставались без изменений, и Ральф жестоко ошибался, думая, что тот способен внять доводам рассудка. С каждым днем господин Дельмар все больше злился на него и сближался с Реймоном, который, не идя на слишком большие уступки, умел быть любезным и не задевать самолюбия. Заниматься политикой в домашнем кругу от нечего делать — большая неосторожность. Если теперь есть еще где-нибудь спокойные и счастливые семьи, я советую им не подписываться на газеты, не читать даже самой короткой статьи о бюджете, уединиться в своих поместьях, как в оазисе, и отгородиться неприступной стеной от остального общества, ибо если эти счастливцы дадут возможность отголоскам наших споров проникнуть к ним, то прости-прощай мир и покой в их доме! Нельзя представить себе, сколько горечи и яду вносит в семью различие убеждений, — в большинстве случаев оно служит поводом к тому, чтобы упрекать другого в скверном характере, ограниченности и бессердечии. Никто не посмел бы ни с того ни с сего назвать кого-нибудь обманщиком, дураком, честолюбцем или трусом. Однако тот же смысл вкладывается в слова: «иезуит», «роялист», «бунтарь» и «умеренный». Слова, правда, другие, но оскорбления те же, и тем более обидные, что спорщики позволяют себе беспрерывно нападать друг на друга и безжалостно и беспощадно преследовать противника. Тут уж не прощают взаимных ошибок, не признают ни милосердия, ни деликатности, ни выдержки. Ничего друг другу не спускают и под маской политических убеждений изливают в словах свою мстительную ненависть. Счастливые сельские жители — если еще сохранились во Франции настоящие села, — бегите, бегите от политики и читайте «Ослиную шкуру»! Но, увы, политическая зараза сильна, и нет такого дальнего уголка, такого полного уединения, где мог бы укрыться и спастись человек с добрым сердцем, желающий оградить себя от общественных бурь и политических разногласий. Напрасно обитатели замка Де-ла-Бри защищались в продолжение нескольких лет от этого пагубного вторжения. В конце концов они утратили свою беззаботность, деятельная домашняя жизнь их была нарушена, не стало больше долгих вечеров, проводимых в молчании и размышлениях. Громкие споры будили заснувшее эхо, слова, полные горечи и угроз, пугали поблекших амуров, в течение целого столетия улыбавшихся с высоты пыльных карнизов. Тревоги современной жизни проникли в старый дом, и все предметы устарелой роскоши — свидетели былой эпохи наслаждений и легкомыслия — с ужасом взирали на наш век сомнений и разногласий, представленный тремя мужчинами, которые сходились ежедневно, чтобы спорить с утра и до ночи.15
Несмотря на эти постоянные раздоры, госпожа Дельмар с доверчивостью молодости надеялась на какое-то светлое будущее. Она переживала свое первое счастье, и ее пылкое воображение, ее любящее сердце давали ей то, чего ей не хватало в действительности. Она умела создавать себе живые и чистые радости и дополняла ими случайные милости судьбы, выпавшие ей на долю. Реймон любил ее. Он не лгал, уверяя, что за всю свою жизнь любил только ее одну: в самом деле, его чувство никогда еще не было столь чистым и продолжительным. Возле нее он забывал обо всем, общество и политика переставали занимать его мысли. Ему нравилась и уединенная жизнь и та семейная обстановка, которой окружила его Индиана. Он восхищался терпением и нравственной силой этой женщины, он удивлялся контрасту между ее умом и характером, а в особенности тому, что после всей торжественности, какою был окружен их первый договор, она была так мало требовательна, довольствовалась редкими, мимолетными минутами счастья, беззаветно и слепо верила ему. Любовь была для нее совершенно новой и возвышенной страстью, множество тонких и благородных чувств примешивалось к этой любви, придавая ей силу, непонятную для Реймона. Сам он сперва сильно страдал от постоянного присутствия ее мужа или кузена. Он представлял себе, что эта любовь будет такой же, как и все пережитые им раньше, но вскоре, под влиянием Индианы, его чувство стало более возвышенным. Покорность, с какой она переносила постоянный надзор, выражение счастья, с каким она украдкой смотрела на него, ее глаза, говорившие с ним немым, но красноречивым языком, ее восторженная улыбка, когда во время разговора случайный намек сближал их сердца, — все это теперь давало Реймону утонченное и изысканное наслаждение, доступное ему при его уме, воспитании и культуре. Какая разница была между целомудренной Индианой, словно не ведавшей, что ее любовь может прийти к определенной развязке, и другими женщинами, всячески старавшимися ускорить эту развязку и в то же время притворявшимися, будто они вовсе не хотят этого. Когда случайно Реймон оставался наедине с Индианой, щеки ее не вспыхивали румянцем, она не отводила от него в смущении взгляда. Нет, ее глаза, ясные и спокойные, по-прежнему в упоении смотрели на него, ангельская улыбка не сходила с ее губ, розовых, как у девочки, не знающей других поцелуев, кроме материнских. Видя, как она доверчива, полна любви и невинна, как всецело поглощена своим чувством и ничего не подозревает о мучительном томлении, какое испытывал возлюбленный, находясь у ее ног, Реймон не осмеливался проявить себя мужчиной, боясь показаться ей недостойным ее мечты, и из самолюбия сам становился таким же добродетельным, как она. Госпожа Дельмар была малообразованна, как и все креолки, и до сих пор никогда не задумывалась над теми серьезными вопросами, которые теперь ежедневно обсуждались при ней. Воспитывая ее, сэр Ральф, имевший невысокое мнение об уме и способностях женщин, ограничился тем, что дал ей только некоторые, основные и необходимые для жизни знания. Она имела слабое понятие о всеобщей истории, и всякие серьезные рассуждения наводили на нее скуку. Но Реймон, благодаря своему уму и красноречию, вкладывал в самый сухой предмет столько поэзии и изящества, что она стала прислушиваться к его речам, пытаясь понять их, а затем робко начала задавать ему такие наивные вопросы, какие без труда разрешила бы любая десятилетняя девочка, воспитанная в свете. Реймону нравилось развивать ее нетронутый ум, без сопротивления усваивавший его взгляды. Но, несмотря на то влияние, которое он оказывал на ее чистую, простую душу, иногда его софизмы встречали у нее отпор. Индиана противопоставляла требованиям цивилизации, возведенным в принципы, простые и ясные законы здравого смысла и человечности, ее возражения дышали неподдельной искренностью, и хотя они подчас приводили Реймона в замешательство, все же он всегда восхищался их детской непосредственностью. Он поставил себе задачей обратить ее постепенно в свою веру, привить ей свои взгляды и прилагал к этому столько старания, словно занимался серьезной работой. Он был бы горд, если бы сумел заставить ее смотреть на все его глазами, изменить ее честные и здравые от природы убеждения, но это удавалось ему с трудом. Возвышенные воззрения сэра Ральфа, его непримиримая ненависть к порокам общества, его нетерпеливое ожидание торжества новых законов и иных нравов — все это находило отклик в Индиане благодаря печальным воспоминаниям ее детства. Но иногда Реймон повергал в прах противника, доказывая, что нелюбовь Ральфа к современности — чистейший эгоизм. Он горячо описывал свои собственные чувства, свою преданность королевскому дому, изображая ее героической и даже чреватой опасностями, говорил о своем уважении к преследуемым ныне верованиям своих предков, о своих религиозных убеждениях, которые, по его словам, он принимал не рассуждая, чувствуя инстинктивную потребность в вере. А потом — какое счастье любить своих ближних, сознавать что связан с современным поколением узами чести и человеколюбия; какая радость оказывать услуги родине, борясь против опасных нововведений, поддерживая внутренний порядок; какое блаженство отдать, если это понадобится, всю свою кровь за каплю крови последнего из своих сограждан! Он очаровывал Индиану искусно нарисованными картинами счастливых утопий, и ей хотелось любить и уважать то, что любит и уважает Реймон. Что Ральф эгоист, считалось уже доказанным. Когда он защищал какую-нибудь благородную идею, ему в ответ улыбались: всем было ясно, что в такие минуты ум и сердце его находятся в противоречии. Не предпочтительнее ли верить Реймону, у которого такая пламенная, широкая и открытая душа? Однако бывали мгновения, когда Реймон почти забывал о своей любви и помнил только о неприязни к Ральфу. Сидя около госпожи Дельмар, он видел лишь сэра Ральфа, сурового, холодного и рассудочного сэра Ральфа, который осмеливался нападать на него, человека высокоодаренного, разбившего наголову стольких славных врагов. Он испытывал даже некоторое унижение при мысли, что ему приходится бороться с таким ничтожным противником, и тогда он старался подавить его своим красноречием, пускал в ход весь свой талант, и ошеломленный Ральф, не умевший быстро соображать, а тем более быстро парировать удар, чувствовал свою полную беспомощность. В такие мгновения Индиане казалось, что Реймон совсем не думает о ней. Она ощущала беспокойство и страх при мысли, что, может быть, все эти благородные, возвышенные чувства, которые он так красиво выражал, не более как набор пышных слов, насмешливая болтовня адвоката, с упоением слушающего самого себя и разыгрывающего чувствительную комедию, чтобы растрогать простодушных слушателей. Она вся дрожала, когда, встречая его взгляд, догадывалась, что глаза его горят не от радости, не оттого, что она поняла его, а от удовлетворенного самолюбия, торжествующего победу, ибо ему удалось отстоять свои взгляды. Тогда ей становилось страшно, и она думала о Ральфе, об этом эгоисте, к которому все, возможно, были несправедливы. Но Ральф ничего не умел сказать кстати, чтобы поддержать в ней эти сомнения, а Реймон несколькими словами ловко рассеивал их. Итак, в этом доме только один человек чувствовал себя действительно несчастным и убитым — это был Ральф, родившийся под несчастливой звездой; жизнь ему, бедняге, никогда не улыбалась и не дарила настоящих и глубоких радостей. Судьба его была неудачна и безотрадна, а между тем никто не жалел его, и он сам никому ни на что не жаловался: поистине проклятая судьба, лишенная всякой поэзии, ярких впечатлений и выдающихся событий, — заурядная, невеселая обывательская жизнь, не скрашенная ни дружбой, ни любовью; он молча, безропотно продолжал влачить существование с тем героизмом, который дается любовью к жизни и вечной потребностью на что-то надеяться. Он был одинок; хотя у него, как и у всех, когда-то были отец и мать, брат, жена, сын, подруга, но он никогда не видел от них ни любви, ни привязанности. Он чувствовал себя чужим для всех в жизни, протекавшей безрадостно и бесцветно, и даже не переживал особенно остро своего несчастья, так как не имел той романтической жалости к самому себе, которая побуждает искать наслаждение даже в страданиях. Несмотря на силу характера, этот человек иногда начинал терять веру в добродетель. Он ненавидел Реймона. Одного слова Ральфа было бы достаточно, чтобы заставить Рамьера покинуть Ланьи, но он молчал, ибо свято следовал принципу, одному-единственному, но более сильному, чем все убеждения Реймона; не религия, не монархия, не общество, не честь и не законы побуждали его к самопожертвованию, а совесть. Ральф прожил одинокую жизнь и не привык рассчитывать на других, но в одиночестве он научился познавать самого себя. Он слушался только голоса своего сердца; замкнувшись в себе, он старался понять причину людской несправедливости и убеждался, что ничем не заслужил ее. Это даже перестало возмущать его, так как он был невысокого мнения о своей личности, считая себя ничтожным и заурядным. Ральф понимал, почему люди равнодушны к нему, он примирился с этим, но в душе сознавал, что сам способен на все те чувства, которые не мог вызвать к себе в других; и, прощая всем людям, в отношении самого себя он был нетерпим. Его замкнутость и скрытность создавали впечатление эгоизма, и, пожалуй, ничто таксильно не походит на эгоизм, как уважение к самому себе. Однако нередко случается, что, желая поступить как можно лучше, мы поступаем неудачно, — так и сэр Ральф, боясь упреков совести, из чрезмерной деликатности совершил большую ошибку, причинившую непоправимое зло госпоже Дельмар. Ошибка эта заключалась в том, что он не сообщил ей о подлинной причине смерти Нун. Вероятно, тогда она задумалась бы над теми опасностями, которые ей сулила любовь Реймона. Позднее мы узнаем, почему господин Браун не собрался рассказать все Индиане и какие тяжелые сомнения заставили его молчать. Когда же он решился заговорить, было уже поздно — Реймон успел за это время упрочить свое влияние. Тем временем произошло неожиданное событие, оказавшее большое влияние на будущность полковника и его жены. Бельгийский торговый дом, от которого зависело благополучие дельмаровского предприятия, неожиданно обанкротился, и полковник, еще не совсем оправившись после болезни, спешно выехал в Антверпен. Поскольку он был еще болен и слаб, жена хотела его сопровождать, но господин Дельмар, зная, что ему грозит полное разорение, и собираясь уплатить по всем обязательствам, боялся, как бы его путешествие не приняли за бегство, и решил оставить свою жену в Ланьи — в залог того, что он вернется. Он отказался также взять с собой сэра Ральфа и попросил его остаться и помочь госпоже Дельмар в случае каких-либо неприятностей со стороны докучливых и требовательных кредиторов. В это тяжелое время Индиану страшила только мысль о том, что ей, вероятно, придется покинуть Ланьи и расстаться с Реймоном. Но он успокоил ее, уверив, что полковник при всех обстоятельствах, несомненно, переедет в Париж. Кроме того, он поклялся, что под тем или иным предлогом последует за ней всюду; и доверчивая женщина была почти рада грозившим ей невзгодам, так как они давали ей возможность испытать его любовь. А Реймона со времени получения этого известия преследовало одно желание, одна тревожная и неотступная мысль: наконец-то, впервые за полгода, он останется наедине с Индианой. Она, казалось, никогда не избегала его, и хотя он не торопился увенчать полным торжеством свою любовь, наивная чистота которой имела для него своеобразную прелесть, все же он начинал чувствовать, что дело его мужской чести довести ее до конца. Он с достоинством опровергал всякие лукавые намеки на свои отношения с госпожой Дельмар, скромно уверяя, что между ними существует только нежная и спокойная дружба, и ни за что на свете не признался бы даже лучшему другу, что уже полгода, как он страстно любим, а еще ничего не добился. Реймон был несколько разочарован, когда увидел, что сэр Ральф решил, по-видимому, взять на себя роль господина Дельмара: он появлялся в Ланьи с утра и возвращался к себе в Бельрив только вечером. Больше того, так как домой они ехали одной и той же дорогой, Ральф с подчеркнутой вежливостью старался приурочить свой отъезд к отъезду Реймона. Такое явное намерение помешать раздражало Реймона, а госпожа Дельмар тоже видела в этом оскорбительное недоверие к себе и желание Ральфа проявить деспотическую власть. Реймон не смел просить о тайном свидании; всякий раз, как он пытался заговорить об этом, госпожа Дельмар напоминала ему об их уговоре. Однако со дня отъезда полковника прошла уже неделя, он мог скоро вернуться, и надо было воспользоваться удобным случаем. Дать сэру Ральфу возможность восторжествовать над собой казалось Реймону позорным. Однажды утром он незаметно вложил в руку госпожи Дельмар следующее письмо: «Индиана! Значит, вы не любите меня так, как я люблю вас? Ангел мой, я несчастен, а вы даже не замечаете этого. Я печалюсь и беспокоюсь о вашем будущем, не о своем, конечно: я последую за вами всюду, буду жить и умру там же, где вы. Но меня пугает предстоящая вам нищета: бедняжка, вы такая слабенькая и хрупкая! Как сможете вы перенести ожидающие вас лишения? У вас есть богатый и щедрый кузен. Ваш муж, возможно, согласится принять от него то, что он откажется принять от меня. Ральф сможет облегчить вашу участь, а я ничто не могу сделать для вас. Вы отлично понимаете, дорогой друг, что у меня есть причины быть мрачным и грустным. Вы мужественны, вы ничего не боитесь, вы не хотите, чтобы я болел за вас душой. Ах, мне так нужны ваши ласковые слова, ваши нежные взгляды, чтобы поддержать мои силы! Но по роковому стечению обстоятельств эти дни, которые я надеялся провести с вами, у ваших ног, принесли мне еще больше мучений. Скажите только одно слово, Индиана: разрешаете ли вы мне побыть с вами наедине хотя бы час, чтобы я мог оросить слезами ваши белые ручки, сказать вам, как я страдаю, и услышать от вас слова утешения и поддержки? И затем, Индиана, у меня есть одно заветное желание, каприз ребенка, вернее — каприз влюбленного: я хочу, чтобы вы позволили мне прийти к вам в спальню. О, не пугайтесь, я уже поплатился однажды за свою дерзость и научился не только уважать вас, но и бояться. Именно поэтому я и хотел бы войти к вам в спальню, стать на колени на том самом месте, где я видел вас такой разгневанной, что несмотря на мою обычную смелость, не дерзнул даже взглянуть на вас. Я хотел бы пасть перед вами ниц, провести час в счастливом и благоговейном молчании. Единственная милость, о которой я просил бы тебя, Индиана, — это положить руку мне на сердце, очистить его от греха, успокоить, если оно будет слишком сильно биться, и вернуть мне твое доверие, если теперь ты считаешь, что я достоин тебя. О, я так хочу доказать тебе, что я заслуживаю теперь твоего доверия, что я понял тебя, преклоняюсь перед тобой и чту тебя так же чисто и свято, как девушка чтит мадонну! Я должен быть уверен, что ты меня больше не боишься, что ты уважаешь меня так же, как я боготворю тебя. Прижавшись к твоему сердцу, я хотел бы прожить один час жизнью ангелов. Скажи, Индиана, хочешь ли ты этого? Один только час — первый и, быть может, последний! Пора, Индиана, вернуть мне твое доверие, так безжалостно отнятое у меня, простить мне мою вину, искупленную такой дорогой ценой. Разве ты все еще недовольна мною? Скажи, разве не провел я у твоего кресла целые полгода, подавляя страстные желания и ограничиваясь созерцанием твоих черных локонов и твоей белоснежной шеи, склоненной над работой? Когда ты сидела возле окна, я вдыхал тонкий аромат твоих духов, приносимый мне легким ветерком, и довольствовался этим. Неужели такая покорность не заслуживает награды? Подари мне один поцелуй, поцелуй сестры, если хочешь, поцелуй в лоб. Я не нарушу нашего уговора, клянусь тебе! Не попрошу ничего больше… Но ты, жестокая, ничего не хочешь мне дарить! Уж не боишься ли ты самой себя?» Госпожа Дельмар поднялась к себе в спальню, чтобы прочесть это письмо. Она сейчас же написала ответ и незаметно передала его вместе с ключом от калитки парка — ключом, так хорошо знакомым ему: «Нет, теперь я не боюсь тебя, Реймон! Я слишком хорошо знаю, как ты меня любишь, и верю тебе беззаветно. Приходи же! Себя я тоже не боюсь; если бы я не любила тебя так сильно, то, возможно, была бы менее спокойна, но ты даже не знаешь, как я люблю тебя… Уезжайте пораньше, чтобы усыпить подозрительность Ральфа. Возвращайтесь в полночь, — парк и дом вы знаете хорошо; вот ключ от калитки, заприте ее за собой». Это наивное и благородное доверие вызвало краску стыда у Реймона, хотя он сам старался пробудить его, думая, что сумеет впоследствии им воспользоваться, рассчитывая на ночь, на случай, на опасность. Если бы Индиана обнаружила страх, она погубила бы себя, но она была спокойна. Она верила в его честность, и он поклялся, что ей не придется раскаиваться. Впрочем, самым важным для него было провести ночь в ее спальне, чтобы не оказаться глупцом в своих собственных глазах, обмануть бдительность Ральфа и иметь право в душе посмеяться над ним. Это принесло бы Реймону то удовлетворение, которого он давно жаждал.16
Ральф в этот вечер был поистине невыносим. Никогда еще не был он так неловок, холоден и скучен. Все, что он говорил, было невпопад и некстати, и, к довершению всех бед, несмотря на поздний час, он вовсе не собирался уезжать. Госпожа Дельмар сидела как на иголках. Она поглядывала то на часы, которые показывали уже одиннадцать, то на дверь, скрипевшую под напором ветра, то на столь надоевшее ей лицо своего кузена, расположившегося напротив нее у камина и невозмутимо смотревшего на огонь, как будто он и не подозревал, что его присутствие ей в тягость. Однако под непроницаемым выражением лица сэра Ральфа, под его каменным спокойствием скрывалось бушевавшее в нем мучительное и сильное волнение. От этого человека ничего не ускользало, потому что он хладнокровно наблюдал за всем. Притворный отъезд Реймона не обманул его. Он отлично видел тревогу госпожи Дельмар. Он страдал от нее больше, чем сама Индиана, и колебался между стремлением предостеречь ее ради ее же пользы и опасением дать волю чувствам, которых в душе он не одобрял. В конце концов желание сделать добро кузине одержало верх, и он, собрав все душевные силы, решился прервать молчание. — Мне вспомнилось, — неожиданно сказал он, следуя за ходом волновавших его мыслей, — что сегодня минул ровно год с тех пор, как мы с вами вот так же сидели у этого самого камина. Час был приблизительно тот же, погода стояла пасмурная и холодная, как и сегодня вечером. Вам нездоровилось, печальные думы тревожили вас, и, вспоминая об этом дне, я готов поверить в предчувствия! «Куда он клонит?» — подумала госпожа Дельмар, с изумлением и беспокойством глядя на своего кузена. — Помнишь, Индиана, — продолжал он, — ты чувствовала себя тогда хуже, чем обычно! Мне запомнились твои слова, они еще звучат у меня в ушах. «Вы, наверное, сочтете меня безумной, — сказала ты, — но какое-то несчастье надвигается на нас, кому-то из нас грозит опасность. Наверное, мне, — добавила ты. — Я так взволнована, как будто предстоит большая перемена в моей судьбе, мне страшно…» Это твои собственные слова, Индиана. — Моя болезнь прошла, — отвечала Индиана, ставшая вдруг такой же бледной, как и тогда, в тот вечер, о котором вспоминал сэр Ральф, — и я уже не верю больше в пустые страхи. — Но теперь я верю в них, — возразил он, — потому что тогда ты оказалась пророком: нам действительно угрожала большая опасность, зловещие тени надвигались на это мирное жилище… — Боже, я вас не понимаю!.. — Сейчас поймешь, мой бедный друг. В тот памятный вечер появился здесь Реймон де Рамьер… Ты помнишь, в каком он был состоянии? Ральф выждал несколько мгновений, не смея поднять глаза на кузину. Она ничего не ответила, и он продолжал: — Я был обязан вернуть его к жизни и сделал это отчасти чтобы исполнить твое желание, отчасти из человеколюбия. Но, по правде сказать, Индиана, я спас жизнь этому человеку на горе себе. Я единственный виновник всего несчастья. — Не знаю о каком несчастье вы говорите, — сухо возразила Индиана. Она предвидела объяснение и была этим глубоко оскорблена. — Я говорю о смерти нашей бедной Нун, — сказал Ральф. — Если бы не он, она была бы жива; если бы не его роковая страсть, эта красивая и честная девушка, так нежно любившая вас, была бы еще здесь… Госпожа Дельмар все еще ничего не понимала. Она была возмущена до глубины души тем странным и жестоким способом, какой выбрал Ральф, чтобы упрекнуть ее в привязанности к господину де Рамьеру. — Довольно, — сказала она вставая. Но Ральф, казалось, не обратил никакого внимания на ее слова. — Меня всегда удивляло, — продолжал он, — как это вы не поняли, зачем, собственно, господин де Рамьер перелез тогда через ограду. Внезапное подозрение промелькнуло в уме Индианы, ноги у нее подкосились, и она снова села. Своими речами Ральф вонзил ей нож в самое сердце. Но лишь только он увидел, какое впечатление произвели его слова, он ужаснулся, тому, что сделал. Он думал теперь только о горе, причиненном той, кого он любил больше всего на свете, и чувствовал, что сердце его разрывается от боли. Он горько заплакал бы, если бы вообще мог плакать. Но он, бедняга, не обладал этой способностью и не умел красноречиво выражать свои чувства. Внешнее хладнокровие, с каким он совершил эту жестокую операцию, сделало его палачом в глазах Индианы. — В первый раз, — с горечью сказала она, — я вижу, что ваша неприязнь к господину де Рамьеру побудила вас прибегнуть к недостойным средствам; но я не понимаю, зачем в вашей мести вы черните память дорогого мне человека, чья трагическая смерть должна была сделать эту память для нас священной. Я вас ни о чем не спрашивала, сэр Ральф; я не понимаю, о чем вы говорите. Разрешите мне вас больше не слушать. Она встала и ушла, оставив господина Брауна в полной растерянности и совсем убитого горем. Он предвидел, что объяснение с госпожой Дельмар только восстановит ее против него. Голос совести требовал, чтобы он предупредил Индиану, к чему бы это ни привело, и он повиновался этому голосу со свойственной ему резкостью и неумелостью. Но он не предвидел силы действия такого запоздалого лекарства. В страшном отчаянии Ральф покинул Ланьи и стал блуждать по лесу, находясь в состоянии, близком к помешательству. В полночь Реймон был у калитки парка. Он открыл ее, но, уже входя, почувствовал, что пыл его страсти остыл. Зачем он шел на это свидание? Он решил быть добродетельным. Но смогут ли целомудренная встреча и братский поцелуй вознаградить его за те страдания, на которые он обрекал себя? Если вы вспомните, при каких обстоятельствах он однажды ночью украдкой пробирался по этим аллеям и проходил этим садом, вы поймете, что надо было обладать большим душевным мужеством, чтобы идти на поиски счастья дорогой, связанной со столь тяжелыми воспоминаниями. В конце октября в окрестностях Парижа бывает обычно туманно и сыро, в особенности по вечерам около рек. Судьбе было угодно, чтобы эта осенняя ночь была такой же молочно-белой, как и ночи прошлой весны. Реймон неуверенно шел среди окутанных мглой деревьев. Поравнявшись с павильоном, куда на зиму убирали прекрасную коллекцию герани, он посмотрел на дверь, и сердце его невольно забилось сильнее при мысли, что она сейчас откроется и оттуда выйдет женщина, закутанная в шубку… Реймон усмехнулся своему суеверию и продолжал путь. Но чем ближе он подходил к реке, тем сильнее его пробирала дрожь и тем труднее ему становилось дышать. Чтобы попасть в цветник, необходимо было перейти реку по узенькому мостику, перекинутому с одного берега на другой. Здесь, над рекой, туман был еще гуще, и Реймон ухватился за перила, чтобы не оступиться и не упасть в росшие у берега камыши. Луна еще только всходила и, силясь пробиться сквозь мутную пелену, бросала тусклый свет на камыши, колеблемые ветром и течением воды. В шелесте ветра, скользившего по листьям и волновавшего воду, ему слышались чьи-то жалобы, похожие на обрывки человеческой речи. Вдруг тихий стон раздался возле Реймона, и тростник зашевелился; это вылетел кулик, вспугнутый его шагами. Крик этой птицы, живущей возле воды, удивительно похож на крик новорожденного, а его стремительный взлет из камышей напоминает последние отчаянные движения утопающего. Вы, может быть, решили, что Реймон был очень труслив и малодушен, ибо чуть не упал в обморок, но, устыдившись своего страха, он быстро овладел собой и, стиснув зубы, поднялся на мостик. Когда он был почти на середине, какая-то неясная человеческая тень выросла перед ним у конца перил, словно кто-то стоял там и ждал его. Мысли Реймона смешались, он был потрясен и потерял способность рассуждать. Он вернулся обратно и притаился в тени деревьев, не сводя пристального, полного ужаса взгляда с видения, расплывчатого и зыбкого, как речной туман или дрожащий свет луны. Он подумал, что это плод его больного воображения и что он принял за человека тень от дерева или куст, но тут же ясно увидел, что призрак зашевелился и направился к нему. В ту минуту, если бы ноги не отказались ему служить, он пустился бы бежать так же быстро и трусливо, как ребенок, который, проходя ночью по кладбищу, внезапно слышит позади себя шорох травы и принимает его за чьи-то легкие шаги. Но он не мог сдвинуться с места и, чтобы не упасть, обхватил ствол ивы, под сенью которой укрылся. Сэр Ральф, закутанный в светлый плащ, придававший ему издали вид призрака, прошел мимо него и удалился по дороге, где только что проходил Реймон. «Неумелый шпион!» — подумал Реймон, видя, как тот ищет его следы. — Я обману твою бдительность, и, пока ты будешь сторожить меня здесь, я буду наслаждаться счастьем там». С легкостью птицы и уверенностью счастливого любовника он перешел мост. Все его страхи рассеялись: Нун больше не существовала, реальная жизнь вступила в свои права. Там была Индиана, она ждала его, — здесь стоял на страже Ральф, желавший преградить ему путь. — Стой на страже, — весело сказал Реймон, увидя издали, как Ральф ищет его на противоположном берегу. — Стой на страже всю ночь, милейший Рудольф Браун, охраняй мое счастье, любезный друг! И если залают собаки, а слуги поднимут тревогу, успокой их, уйми, скажи им: «Можете мирно спать, я охраняю ваш сон!». Исчезли все колебания, умолкли упреки совести и голос добродетели. Слишком дорогой ценой купил Реймон наступающий час. Кровь, застывшая в жилах, бурно приливала теперь к его разгоряченной голове. Только что перед ним витали призраки смерти, вставали мрачные воспоминания об умершей, — теперь его ждала горячая живая любовь, острые радости жизни. Реймон почувствовал себя юным и бодрым, как бывает утром, когда пробуждаешься от ярких и радостных лучей солнца после тяжелого, сковавшего тебя могильным холодом кошмара. «Бедный Ральф! — думал он, поднимаясь смелым и легким шагом по потайной лестнице. — Ты сам меня на это толкаешь».ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
17
Расставшись с сэром Ральфом, госпожа Дельмар заперлась у себя в спальне; в ее душе поднялась целая буря. Уж не впервые смутные подозрения набрасывали зловещие тени на шаткое здание ее счастья. Как-то в разговоре господин Дельмар позволил себе несколько нескромных шуток — из тех, что обычно принимаются за комплимент. Он так недвусмысленно поздравлял Реймона с его успехами в романтических похождениях, что даже посторонние люди могли догадаться о его любовных интригах. Всякий раз, когда госпоже Дельмар случалось говорить с садовником, тот по самым различным поводам с роковой неизбежностью сводил разговор к Нун, а затем, по какой-то непонятной ассоциации, упоминал имя господина де Рамьера, точно оно было постоянно у него на уме и помимо его воли преследовало его. Госпожу Дельмар удивляли его странные, неуместные вопросы. Садовник путался в словах по малейшему пустяку: казалось, его мучит совесть, и, стараясь это скрыть, он сам себя выдавал. Замешательство Реймона порою также вызывало в ней тягостные сомнения, и, хотя Индиана не искала доказательств его вины, эти доказательства напрашивались сами собой. Особенно одно обстоятельство могло открыть ей глаза, если бы она намеренно не старалась отогнать от себя всякое подозрение. На пальце Нун нашли очень дорогое кольцо; госпожа Дельмар видела у нее это кольцо незадолго до ее смерти, и Нун сказала, будто бы она нашла его. После смерти Нун госпожа Дельмар постоянно носила его в память о ней и часто замечала, как бледнел Реймон, поднося ее руку к своим губам. Однажды он начал умолять ее никогда не упоминать при нем о Нун, потому что он считает себя виновником ее смерти; а когда она, стараясь снять с его души это тяжкое бремя, стала доказывать, что во всем виновата она одна, он сказал: — Нет, Индиана, не обвиняйте себя напрасно, вы не знаете, как велика моя вина!.. Эти слова, сказанные с мрачной горечью, испугали госпожу Дельмар. Она не решилась настаивать на разъяснении, и даже теперь у нее не хватало мужества сопоставить все эти улики и, собрав их воедино, сделать какой-то вывод. Она открыла окно. Любуясь тихой ночью, бледной, прекрасной луной, сиявшей на небосклоне сквозь серебристую дымку тумана, думая, что сейчас придет Реймон, что он, вероятно, уже в парке, грезя о том счастье, которого она ждала от этого таинственного часа любви, Индиана проклинала Ральфа, отравившего своими словами ее мечту и навсегда нарушившего ее покой. Она даже почувствовала ненависть к этому несчастному человеку, заменившему ей отца и пожертвовавшему ради нее своим будущим. Все его счастье и все его будущее заключались в дружбе Индианы, а он — ради ее спасения — решился потерять эту дружбу. Индиана не могла прочесть то, что таилось в глубине его сердца, так же как не могла проникнуть и в душу Реймона. Несправедливость ее проистекала от неведения, а не из неблагодарности. Охваченная глубокой страстью, она была не в состоянии спокойно пережить нанесенный ей удар. Одно мгновение она готова была обвинить во всем самого сэра Ральфа, предпочитая скорее очернить его, чем заподозрить Реймона. Кроме того, у нее было очень мало времени, чтобы разобраться в своих мыслях и принять какое-то решение. Она ждала Реймона с минуты на минуту. Возможно, это он уже блуждает там, возле мостика. Какое отвращение почувствовала бы она к Ральфу, если бы узнала его в этой неясной тени, поминутно исчезавшей в тумане и похожей на призрак, что преграждает грешнику вход в Элизиум. Внезапно ей пришла в голову странная и безумная мысль, одна из тех, какие зарождаются только в уме взволнованных и несчастных людей. Она решила поставить на карту свою судьбу и подвергнуть Реймона необычному и рискованному испытанию, которого тот никак не мог ожидать. Не успела она окончить свои приготовления, как услышала шаги Реймона на потайной лестнице. Открыв ему дверь, она вернулась на прежнее место и поспешила сесть, ибо была настолько взволнована, что едва держалась на ногах; но, как бывало с ней всегда в решительные минуты жизни, она сохраняла ясность суждения и присутствие духа. Реймон вошел, сгорая от нетерпения снова увидеть свет и вернуться к действительности; он был еще бледен и с трудом переводил дыхание. Индиана сидела к нему спиною, закутавшись в меховую шубку. По странной случайности, эта же самая шубка была на Нун во время их последнего свидания, когда она выходила встречать его в парк. Не знаю, помните ли вы, что у Реймона тогда на мгновение возникла невероятная мысль: уж не госпожа ли Дельмар эта закутанная в шубку женщина? Теперь, увидев при слабом, мерцающем свете лампы ту же фигуру, печально сидящую в кресле в комнате, куда он не входил после самой страшной ночи в своей жизни, где каждая вещь напоминала ему о прошлом, где все будило в нем тяжкие упреки совести, он невольно отступил и остановился на пороге. Он не мог отвести взгляд от неподвижно сидящей женщины и дрожал, как последний трус, боясь, что, когда она обернется, он увидит посиневшее лицо утопленницы. Госпожа Дельмар нисколько не сомневалась в том впечатлении, какое она производит на Реймона. Она накинула на голову шелковый индийский шарф, небрежно завязав его, как это обычно делают креолки; так всегда повязывалась Нун. Охваченный ужасом, Реймон чуть не лишился чувств, подумав, что его суеверные предположения, видимо, сбылись. Но узнав наконец в сидящей ту женщину, которую он собирался соблазнить, он забыл о той, которую соблазнил, и подошел к Индиане. Она серьезно и задумчиво смотрела на него, и ее пристальный взгляд выражал скорее напряженное внимание, чем нежность; она не сделала ни малейшего движения, чтобы поскорее привлечь его к себе. Реймон, удивленный такою встречей, приписал ее целомудрию и скромной сдержанности молодой женщины. Он бросился на колени и воскликнул: — Любимая, неужели вы боитесь меня? Но он тут же заметил, что госпожа Дельмар держит что-то в руках и с подчеркнутой торжественностью как бы преподносит ему. Наклонившись, он увидел несколько черных, неровных, по-видимому наспех срезанных прядей, которые Индиана гладила и перебирала. — Вы узнаете эти волосы? — спросила она, впиваясь в него прозрачными, пронизывающими глазами, горевшими каким-то странным огнем. Реймон ответил не сразу; он посмотрел на шелковый шарф, покрывавший ее голову, и ему показалось, что он догадался. — Какая вы нехорошая! — сказал он, взяв волосы из ее рук. — Зачем вы срезали ваши косы? Они были так красивы, и я так любил их. — Вчера вы спрашивали меня, — ответила она, пытаясь улыбнуться, — могла ли бы я пожертвовать для вас своими волосами? — О Индиана, — воскликнул Реймон, — ты отлично знаешь, что отныне будешь еще прекраснее в моих глазах! Отдай же мне их, я не буду жалеть о том, что волосы, которыми я ежедневно любовался, не украшают больше твоей головки, — теперь я смогу целовать их постоянно, когда захочу; отдай мне их, я никогда не расстанусь с ними… Но, взяв в руки волосы и перебирая эти пышные пряди, ниспадавшие почти до самого пола, Реймон почувствовал, что они сухие и жесткие, чего он никогда не замечал, касаясь локонов, обрамлявших чело Индианы. Его охватила нервная дрожь, когда он ощутил холод и тяжесть этих волос, которые, казалось, были срезаны очень давно, когда он заметил, что они уже потеряли свою шелковистость, аромат и жизненное тепло. Тогда он стал рассматривать их более внимательно и не увидел знакомого синеватого отлива, делавшего их похожими по цвету на вороново крыло: волосы были черные, как у негра или индейца, и какие-то мертвенно-тяжелые. Индиана по-прежнему не сводила с Реймона своих ясных и проницательных глаз. Он невольно отвел взгляд и увидел открытую шкатулку черного дерева, где лежало еще несколько таких же прядей. — Это не ваши волосы, — сказал он, сдернув индийский шарф с головы госпожи Дельмар. Ее волосы были целы и рассыпались во всем своем великолепии по ее плечам. Но она оттолкнула его и снова указала ему на срезанные пряди. — А эти волосы вам незнакомы? — спросила она. — Разве вы не любовались ими и не ласкали их когда-то? Может быть, сырая ночь виновата в том, что они утратили свой аромат? Неужели вы все забыли и у вас не осталось ни слезинки, ни вздоха сожаления для той, кому принадлежало это кольцо? Реймон упал в кресло; волосы Нун выскользнули из его дрожащих рук. Столько тяжелых переживаний было ему не под силу. Он был сангвинического темперамента, кровь его бурно текла по жилам, нервы легко возбуждались. Он задрожал с головы до ног и без сознания упал на пол. Когда он пришел в себя, госпожа Дельмар, обливаясь слезами, стояла возле него на коленях и молила о прощении, но Реймон почувствовал, что больше не любит ее. — Вы причинили мне ужасное страдание, — сказал он, — и искупить это страдание не в ваших силах. Вы никогда не вернете мне веру в ваше доброе сердце. Вы только что показали мне, сколько мстительности и жестокости таится в нем. Бедная Нун! Бедная, несчастная девушка! Да, я был виноват перед нею, но не перед вами. Она имела право мне мстить, однако не сделала этого. Она убила себя ради моего будущего и пожертвовала жизнью ради моего спокойствия. Вы, сударыня, не были бы способны на это!.. Отдайте мне ее волосы; они мои и принадлежат мне. Это все, что мне осталось от женщины, которая одна по-настоящему любила меня. Несчастная Нун, ты была достойна иной любви! И это вы, сударыня, упрекаете меня в ее смерти! Вы, кого я так сильно любил, что забыл ее и обрек себя на ужасные угрызения совести. Из-за обещанного вами поцелуя я перешел через реку по тому самому мостику, один, гонимый страхом, преследуемый адскими призраками совершенного преступления. И когда вы убедились, с какой неистовой страстью я люблю вас, вы вонзили ваши женские коготки мне в сердце, чтобы узнать, не осталось ли в нем еще хоть капли крови, готовой пролиться за вас. Ах, когда я променял ее преданную любовь на вашу любовь, любовь жестокую, я был не только безумцем — я был преступником! Госпожа Дельмар ничего не ответила. Она стояла неподвижно, бледная, с рассыпавшимися по плечам волосами, уставившись в одну точку. Жалость овладела Реймоном. Он взял ее за руку. — И все же, — продолжал он, — моя любовь к тебе так слепа, что я могу еще забыть все — я чувствую это — и прошлое и настоящее, и преступление, омрачившее мою жизнь, и зло, которое ты мне только что причинила. Люби меня, и я все прощу тебе! Отчаяние госпожи Дельмар вновь пробудило желание и гордость в сердце ее возлюбленного. Видя, что она так боится потерять его любовь, видя ее смирение и готовность подчиниться в будущем всем его требованиям, чтобы как-нибудь заслужить прощение, он вспомнил, с какой целью обманул бдительность Ральфа, и понял все преимущества своего положения. Сперва он прикинулся глубоко огорченным и мрачным; он едва отвечал на ласки и слезы Индианы: он хотел, чтобы сердце ее надорвалось от рыданий, чтобы она почувствовала, как ужасно быть покинутой, лишилась бы сил от отчаяния и страха, и теперь, добившись этого, увидя ее у своих ног, в изнеможении ожидающую смертного приговора, он с судорожной яростью схватил ее в объятия и прижал к груди. Она не противилась и, слабая как ребенок, покорно отдавалась его поцелуям. Она была почти без чувств. Но вдруг, точно очнувшись от сна, она вырвалась из его страстных объятий, убежала на другой конец комнаты, туда, где висел портрет Ральфа, и, как бы прося защиты у этого человека со строгим лицом, чистым лбом и спокойно сжатыми губами, дрожащая, растерянная и охваченная каким-то странным испугом, прижалась к стене. Реймон решил, что его объятия глубоко взволновали ее, что теперь она в его власти и страшится самой себя. Он подбежал к ней, властно взял ее за руку и, отведя от стены, заявил, что пришел с намерением сдержать свое обещание, но ее жестокий поступок освобождает его от всех клятв. — Теперь я не буду больше ни вашим рабом, ни вашим союзником. Я только мужчина, который страстно вас любит, а вы злая, капризная, жестокая, но прекрасная, соблазнительная и обожаемая женщина, которую я держу в своих объятиях. Ласковыми и задушевными словами вы могли бы сдержать мой пыл; будь вы такой же спокойной и великодушной, как вчера, я оставался бы по-прежнему нежным и покорным. Но вы разожгли во мне страсть, спутали все мысли, довели меня до отчаяния, до бешенства, сделали несчастным, трусом, больным и безумным. Теперь вы должны сделать меня счастливым, иначе я потеряю всякую веру в вас, не в силах буду любить и благословлять вас. Прости меня, Индиана, прости! Если я внушаю тебе страх, ты сама в этом виновата: ты заставила меня так страдать, что я потерял рассудок. Индиана дрожала всем телом. По своей неопытности она считала, что сопротивление невозможно, и уже готова была уступить ему не из любви, а из страха. Делая слабые попытки вырваться из объятий Реймона, она с отчаянием сказала ему: — Неужели вы способны прибегнуть к насилию? Реймон, пораженный тем, что, несмотря на свою физическую слабость, она еще находит в себе нравственные силы сопротивляться, резким движением оттолкнул ее. — Никогда! — воскликнул он. — Лучше умереть, чем овладеть тобою против твоей воли. Он бросился к ее ногам и всю изощренность своего ума, заменявшего ему сердце, всю поэзию, какую воображение способно придать страсти, вложил в свою пылкую и обольстительную мольбу. Когда он увидел, что она не уступает, он стал упрекать ее в холодности; сам он относился с насмешкой и презрением к этому избитому приему, и ему было смешно, даже немного стыдно, что он имеет дело с женщиной наивной, способной поверить его словам. Его упрек задел Индиану за живое гораздо сильнее, чем все романтические восклицания, какими он разукрасил свою речь. Но внезапно она что-то вспомнила и спросила: — Реймон, та, что так любила вас… та, о которой мы только что говорили… она, наверное, ни в чем не отказывала вам? — Ни в чем, — ответил Реймон, выведенный из терпения таким неуместным напоминанием. — Но вместо того чтобы постоянно вспоминать о ней, помоги мне лучше забыть, как сильно она меня любила! — Послушайте, — задумчиво и серьезно сказала Индиана, — подождите еще немного, мне надо поговорить с вами. Может быть, вы вовсе не так виноваты передо мной, как я думала раньше. Мне было бы отрадно простить вам то, что я считала смертельным оскорблением… Скажите же… когда я вас застала здесь… для кого вы приходили сюда, для нее или для меня? После минутного колебания Реймон, решив, что ей нетрудно будет узнать правду, а возможно, она уже и знает ее, ответил: — Для нее. — Что же, так, пожалуй, и лучше, — грустно сказала она. — Я предпочитаю неверность оскорблению. Будьте откровенны до конца, Реймон. Сколько времени вы находились у меня в спальне до того, как я туда вошла? Помните, что Ральф знает все, и, если бы я захотела спросить его… — Вам незачем прибегать к доносам сэра Ральфа, сударыня. Я был в вашей комнате с предыдущего вечера. — И вы провели ночь… здесь?.. Ваше молчание достаточно красноречиво. Несколько мгновений оба молчали, затем Индиана встала, собираясь что-то сказать, но в эту минуту раздался резкий стук в дверь, от которого она вся похолодела. Они замерли, затаив дыхание. Кто-то просунул под дверь записку. На листке, вырванном из записной книжки, было неразборчиво написано карандашом: «Ваш муж здесь. Ральф».18
— Низкая ложь! — воскликнул Реймон, как только затихли легкие шаги Ральфа. — Сэра Ральфа следует проучить, и я проучу его так… — Я запрещаю вам это, — сказала Индиана холодным и решительным тоном. — Мой муж вернулся — Ральф никогда не лжет. Мы оба погибли. Было время, когда одна мысль об этом привела бы меня в ужас, сейчас мне это безразлично. — Тогда, — вскричал с восторгом Реймон, схватив ее в объятия, — раз нам грозит смерть, будь моей! Прости мне все, и пусть в этот решительный миг твоим последним словом будет слово любви, моим последним вздохом — вздох счастья. — Это ужасное мгновение, требующее от нас такого мужества, могло бы стать самым прекрасным в моей жизни, — воскликнула она, — но вы погубили все! Во дворе усадьбы раздался стук колес, а затем кто-то нетерпеливой и грубой рукой дернул за колокольчик у ворот замка. — Узнаю его манеру звонить, — холодно сказала Индиана прислушиваясь. — Ральф не солгал. Но у вас еще есть время бежать, уходите! — Нет, я не уйду! — воскликнул Реймон. — Я подозреваю подлое предательство и не хочу, чтобы вы одна были его жертвой. Я останусь и буду защищать вас своей грудью. — Никакого предательства нет… Вы слышите, слуги проснулись, и сейчас откроют ворота. Бегите, деревья сада скроют вас, да и луна еще только всходит. Ни слова больше, идите! Реймону оставалось только повиноваться; она проводила его до конца лестницы и внимательным взором окинула деревья и цветник. Все было тихо и спокойно. Она долго стояла на последней ступеньке, со страхом прислушиваясь к скрипу его шагов на песке, совсем забыв о приезде мужа. Что ей было до его подозрений и гнева, лишь бы Реймон был вне опасности! А тот между тем быстро и легко перешел по мостику через реку, добрался до калитки, хотя в волнении не сразу смог открыть ее. Не успел он очутиться за оградой, как перед ним предстал сэр Ральф и сказал так хладнокровно и спокойно, как если бы их встреча произошла где-нибудь на рауте: — Будьте любезны вернуть мне ключ. Если его начнут искать и он окажется у меня, то это никого не удивит. Реймон предпочел бы самое тяжкое оскорбление этой великодушной иронии. — Я не из тех, кто забывает о настоящей услуге, — сказал он, — но я из тех, кто мстит за оскорбление и наказывает за предательство. Сэр Ральф не изменился в лице, и голос его по-прежнему был спокоен. — Мне не нужна ваша благодарность, а ваша месть мне не страшна, — ответил он. — Но сейчас не время для разговоров. Ступайте своей дорогой и подумайте о госпоже Дельмар. И он исчез. Эта ночь, полная треволнений, так потрясла все существо Реймона, что в ту минуту он готов был поверить в волшебство. Он добрался до Серей на рассвете и, дрожа как в лихорадке, лег в постель. А госпожа Дельмар, сохраняя полное спокойствие и самообладание, угощала завтраком мужа и кузена. Она еще не успела обдумать своего положения и действовала под влиянием инстинкта, который подсказывал ей, что надо быть хладнокровной и держать себя в руках. Полковник был мрачен и озабочен. Он был всецело поглощен делами и далек от каких-либо ревнивых подозрений. К вечеру Реймон пришел в себя и стал размышлять о своем романе. Он чувствовал, что его любовь угасает. Ему нравились препятствия, но он отступал перед неприятностями, а теперь, когда Индиана была вправе упрекать его, он предвидел, что их будет очень много. Наконец он вспомнил, что следовало бы справиться о ней, и послал слугу в Ланьи разведать, что там происходит. Посланный принес ему следующее письмо, переданное госпожой Дельмар: «Я надеялась, что в эту ночь лишусь жизни или рассудка. На мое несчастье, я сохранила и то и другое; но я не собираюсь жаловаться, я заслужила свои страдания. Я сама захотела этой бурной жизни, и было бы малодушно теперь отступать. Не знаю и не хочу знать, виновны ли вы, — мы никогда больше не будем говорить на эту тему, хорошо? Для нас обоих это слишком тяжело, и я в последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Вы сказали одно слово, доставившее мне огромную радость. Бедная Нун! Ты теперь на небесах, прости меня; ты больше не страдаешь и не любишь. Ты, может быть, жалеешь меня!.. Вы сказали, Реймон, что принесли мне в жертву эту несчастную, что любили меня больше, нежели ее!.. О, не отрицайте, вы говорили это. Я так хочу вам верить — и я верю, хотя ваше поведение прошлой ночью, ваша настойчивость и безумие могли бы вызвать у меня сомнение в вашем чувстве. Я прощаю вас, — в тот миг вы были очень взволнованы, но теперь у вас было время все обдумать и прийти в себя; ответьте мне: можете ли вы отказаться от такой любви ко мне? Любя вас всей душой, я полагала, что могу внушить вам любовь столь же чистую, как моя. Кроме того, я почти не задумывалась о будущем, не заглядывала вперед, мысль о том, что когда-нибудь, побежденная вашей преданностью, я пожертвую ради вас своим долгом и совестью, не приводила меня в ужас. Но теперь все изменилось. Теперь в своем будущем я вижу страшное сходство с судьбою Нун. О, если вы любите меня не сильнее, чем ее… Я даже боюсь об этом подумать!.. А ведь она была красивее меня, гораздо красивее! Почему вы предпочли меня? Значит, вы любите меня иной и лучшей любовью… Вот что я хотела вам сказать. Вы были ее любовником, но согласны ли вы отказаться от мысли когда-либо стать моим? Если да, я еще могу уважать вас, верить вашему раскаянию, вашей искренности и любви. Если нет, то забудьте меня, мы никогда больше не увидимся. Возможно, я умру с горя, но лучше умереть, чем унизиться до того, чтобы стать только вашей любовницей». Реймон был озадачен и не знал, что ответить. Ее гордость оскорбила его. Он не мог представить себе, чтобы женщина, сама бросившаяся в его объятия, отказывалась теперь принадлежать ему и могла так холодно рассуждать о причинах своего сопротивления. «Она не любит меня, — решил он. — У нее черствое сердце и надменный нрав». С этой минуты вся его любовь к ней пропала. Она уязвила его самолюбие, отняла надежду одержать еще одну победу, лишила его ожидаемых наслаждений. Теперь она значила для Реймона даже меньше, чем значила когда-то Нун! Бедная Индиана! А она мечтала стать для него всем. Он не оценил ее страстной любви; с презрением отнесся он к ее вере в возможность идеальных отношений. Реймон никогда не понимал ее и потому, конечно, не мог долго любить. Сильно раздосадованный, он поклялся, что добьется победы. И поклялся уже не из гордости, а из мести. Теперь он думал не о том, чтобы завоевать свое счастье, а о том, чтобы наказать ее за обиду; не о том, чтобы обладать женщиной, а о том, чтобы сломить ее. Он дал себе слово стать любовником Индианы, хотя бы на один день, а затем бросить ее и насладиться ее унижением. Под влиянием первого впечатления он написал ей следующее письмо: «Ты хочешь, чтобы я дал тебе обещание… Безумная, как ты можешь желать этого. Я обещаю все, что тебе угодно, так как готов во всем повиноваться тебе. Но если я нарушу свои клятвы, то не буду виноват ни перед богом, ни перед тобой. Если бы ты любила меня, Индиана, то не налагала бы на меня такие жестокие испытания, не подвергала бы риску оказаться клятвопреступником, не стыдилась бы стать моей любовницей; но ты считаешь мои объятия для себя унизительными…» Реймон почувствовал, что и его письме сквозит невольная горечь. Он разорвал написанное и, поразмыслив, начал писать снова: «Вы пишете, что сегодня ночью едва не лишились рассудка. Я же потерял его окончательно. Я был виновен… нет, я был безумен. Забудьте эти часы страдания и бреда. Сейчас я спокоен; я много думал — и я все еще достоин вас… Да благословит тебя бог, ангел, ниспосланный мне небом, за то, что ты спасла меня от самого себя, за то, что указала мне, как следует любить тебя. Приказывай мне, Индиана, я твой раб, ты это знаешь. Я отдал бы жизнь за счастье пробыть час в твоих объятиях, но я готов мучиться всю жизнь за одну твою улыбку. Я буду тебе другом, братом, ничем больше. И если буду страдать, ты этого не узнаешь. Если подле тебя кровь моя закипит, если в груди зажжется пламя страсти, если глаза затуманятся от прикосновения к твоей руке и твой нежный поцелуй, поцелуй сестры, обожжет мне лоб, я смирю волнение в крови, разумом уйму страсть и не позволю себе коснуться тебя губами. Я буду нежен, покорен, буду несчастлив, если для твоего счастья нужны мои страдания, лишь бы увидеть тебя еще раз и услышать от тебя, что ты меня любишь. О, скажи мне это, верни мне радость и твое доверие! Скажи, когда мы снова увидимся? Я не знаю, чем кончились события этой ночи, почему ты ничего не пишешь об этом и заставляешь меня мучиться неизвестностью? Карл видел, как вы втроем гуляли по парку. Полковник, по его словам, выглядел не то больным, не то грустным, но не раздраженным. Так, значит, Ральф не выдал нас! Странный человек! Но можем ли мы полагаться на его скромность, и как осмелюсь я появиться в Ланьи теперь, когда наша судьба в его руках? И все же я приеду. Если нужно унизиться до мольбы, сломлю свою гордость, пересилю свое отвращение к нему, сделаю все, лишь бы не потерять тебя. Одно твое слово — и я готов обречь себя на какие угодно угрызения совести; ради тебя я согласился бы покинуть даже мать, ради тебя я пошел бы налюбое преступление. Ах, Индиана, если бы ты могла понять, как велика моя любовь!» Перо выпало из рук Реймона; он невероятно устал, он почти засыпал. Тем не менее он перечитал письмо, желая убедиться, насколько ясно выражены его мысли; но от утомления мысли его путались, он ничего не понимал. Он позвонил лакею, велел ему чуть свет ехать в Ланьи и заснул тем глубоким целительным сном, каким спокойно наслаждаются только люди, вполне довольные собой. Госпожа Дельмар не ложилась; она не чувствовала усталости и писала всю ночь; получив письмо от Реймона, она тут же ответила ему: «Благодарю вас, Реймон, благодарю! Вы возвращаете мне жизнь и силы. Теперь я могу пойти на все и все вытерпеть, потому что вы любите меня и самые тяжелые испытания не пугают вас. Да, мы снова увидимся, ничто нас не остановит! Пусть Ральф поступает с нашей тайной, как ему заблагорассудится, — я больше ничего не боюсь: ты любишь меня. Даже мой муж мне больше не страшен. Вы хотите знать, как обстоят наши дела? Вчера я забыла сообщить вам об этом. А между тем они приняли печальный оборот: мы разорены. Стоит вопрос о продаже Ланьи, идет даже разговор об отъезде в колонии… Но что мне до того, я ни о чем не могу сейчас думать. Знаю только одно: мы никогда не расстанемся… Ты поклялся мне в этом, Реймон, — я верю твоему обещанию. Верь же в мое мужество! Ничто меня не испугает, ничто не удержит, мне предназначено судьбою быть подле тебя, и только смерть может нас разлучить». — Женская восторженность! — сказал Реймон, комкая письмо. — Романтические проекты и опасные предприятия возбуждают их робкое воображение, как горькие лекарства возбуждают аппетит больного. Я добился своего, она вновь в моей власти, а что касается безумств, которыми она мне угрожает, то мы еще посмотрим!.. Все они таковы, эти легкомысленные и лживые создания, они всегда готовы предпринять невозможное и считают великодушие добродетелью, требующей огласки! Кто бы подумал, прочтя это письмо, что она так скупа на поцелуи и нежности! В тот же день он поехал в Ланьи. Ральфа там не было. Полковник дружески принял Реймона и очень откровенно беседовал с ним. Желая поговорить обо всем на свободе, он увел его в парк и там сообщил, что окончательно разорен и что завтра будет объявлено о продаже фабрики. Реймон предложил свою помощь, но Дельмар отказался. — Нет, мой друг, — сказал он, — я и так слишком много страдал оттого, что был обязан своим благосостоянием милости Ральфа. Я все время стремился рассчитаться с ним. Продажа поместья позволит мне уплатить сразу все долги. Правда, у меня ровно ничего не останется, но у меня есть мужество, энергия и умение вести дела. Будущее в наших руках. Однажды я уже сколотил себе небольшое состояние и теперь начну все снова. Я обязан сделать это ради жены: она молода, и я не хочу, чтобы она терпела нужду. У нее есть небольшой дом на острове Бурбон; туда я и намерен уехать и начать там новое дело. Через несколько лет, самое большее лет через десять, я надеюсь снова увидеться с вами… Реймон пожал руку полковнику. Вера Дельмара в лучшее будущее и то, что он говорил о десяти годах как об одном дне, заставили Реймона внутренне усмехнуться: лысина и изможденный вид полковника достаточно красноречиво говорили о его подорванном здоровье и недолговечности. Тем не менее Реймон притворился, будто разделяет его надежды. — Я рад слышать, что неудачи не сломили вас, узнаю а этом ваше мужество и ваш отважный характер. А что, госпожа Дельмар так же мужественна, как и вы? Не думаете ли вы, что она будет возражать против вашего намерения покинуть Францию? — Очень жаль, если это случится, — ответил полковник, — но женщины созданы для того, чтобы повиноваться, а не давать советы. Я еще не объявил Индиане своего окончательного решения. Не знаю никого, кроме вас, мой друг, о ком она могла бы пожалеть. И все же предвижу, что начнутся слезы и истерики, хотя бы из духа противоречия… Черт бы побрал всех женщин! Как бы там ни было, я рассчитываю на вас, дорогой Реймон: вы должны образумить мою жену, она верит вам. Повлияйте на нее, чтобы она не плакала, — терпеть не могу слез! Реймон обещал приехать на следующий день и сообщить госпоже Дельмар о решении ее мужа. — Вы окажете мне настоящую дружескую услугу, — сказал полковник, — я уведу Ральфа на ферму, чтобы вы могли свободно поговорить с ней. «Лучше не придумаешь», — сказал себе Реймон, удаляясь.19
Планы господина Дельмара вполне соответствовали желаниям Реймона: он предвидел, что эта любовь, утратившая для него почти всякий интерес, ничего не даст ему в будущем, кроме неприятностей и забот. Он был очень доволен, что обстоятельства складываются так благоприятно и избавляют его от неизбежных и скучных последствий исчерпанной любовной интриги. Теперь Реймону оставалось только воспользоваться последними минутами возбуждения госпожи Дельмар и предоставить затем своей счастливой звезде оградить его от дальнейших слез и упреков. Итак, он отправился на следующий день в Ланьи с намерением довести до предела экзальтированность этой несчастной женщины. — Знаете ли вы, Индиана, — сказал он входя, — какую роль заставляет меня играть ваш муж? В самом деле, странное поручение! Я должен умолять вас уехать на остров Бурбон, уговаривать вас покинуть меня, должен сам разбить свое сердце и жизнь. Как вы думаете, он удачно выбрал себе адвоката? Но мрачная серьезность госпожи Дельмар несколько сдержала его мрачные излияния. — Зачем вы мне это говорите? — спросила она. — Вы боитесь, что я послушаюсь уговоров и подчинюсь? Успокойтесь, Реймон, мое решение принято. Две ночи я обдумывала его со всех сторон и знаю, на что иду; знаю, с чем мне придется бороться, чем придется пожертвовать и чем пренебречь. Я готова пройти через это тяжелое испытание. Разве не вы будете моей опорой и руководителем в это время? Реймон на мгновение испугался ее хладнокровия и почти что поверил ее безумным угрозам; но затем постарался убедить себя, что Индиана не любит его и поступает сейчас так лишь потому, что это соответствует тем пламенным чувствам, о которых она читала в книгах. Чтобы не отстать от своей романтически настроенной возлюбленной, он начал изощряться в страстном красноречии, в патетической импровизации, и ему удалось ввести ее в заблуждение. Но всякому спокойному и беспристрастному зрителю было бы ясно, что в этой любовной сцене столкнулись притворство и искренность. Преувеличенные чувства и поэтические восторги Реймона казались холодной и жестокой пародией на подлинную любовь Индианы, о которой она так безыскусственно говорила. Он жил умом, она — сердцем. Реймон все же немного опасался, что она приведет в исполнение свои намерения, если он не сумеет ловко помешать задуманному ею плану сопротивления, и потому убедил ее притвориться покорной и безучастной до того момента, когда можно будет открыто восстать против воли мужа. По его мнению, ей следовало молчать, пока они не покинут Ланьи, чтобы не посвящать в скандал прислугу и избежать нежелательного вмешательства Ральфа. Но Ральф не оставил своих друзей в несчастье. Напрасно предлагал он им свое состояние, замок Бельрив, доходы, получаемые из Англии, и продажу колониальных плантаций — полковник был непоколебим. Его дружеское расположение к Ральфу исчезло, он больше не хотел быть ему чем-либо обязанным. Будь у Ральфа ум и обходительность Реймона, он, пожалуй, уговорил бы полковника; но, раз высказав с полной ясностью и определенностью свои мысли и чувства, бедный баронет считал, что этим все сделано, и не надеялся, что ему удастся заставить кого-либо переменить свое мнение. Он сдал в аренду свой замок Бельрив и последовал за Дельмаром и его женой в Париж, в ожидании их отъезда на остров Бурбон. Ланьи было назначено к продаже вместе с фабрикой и всеми угодьями. Зима проходила для госпожи Дельмар скучно и грустно. Правда, Реймон жил в Париже и они виделись ежедневно; он был внимателен, ласков, но оставался у нее не более часа. Он приезжал обычно к концу обеда и, когда полковник уходил по своим делам, Реймон тоже отправлялся куда-нибудь на вечер. Вам уже известно, что великосветское общество было стихией и жизнью Реймона. Толпа, шум и движение были ему необходимы как воздух: он делался остроумным и непринужденным, в полной мере ощущая свое превосходство. В интимном кругу он умел быть любезным и приятным, в свете же становился блестящим. Там он был не просто человек, принадлежащий к определенной компании, приятель того или другого, а гений, талант, который принадлежит всем, для которого общество является отчизной. Кроме того, у Реймона, как мы уже говорили, были свои принципы. Когда он увидел, что полковник выказывает ему столько дружбы и доверия, считает его образцом порядочности и искренности, делает посредником между собой и женой, он решил оправдать это доверие, заслужить эту дружбу, помирить супругов, отказаться от расположения Индианы, поскольку оно могло нарушить покой ее мужа. Он вновь стал высоконравственным и добродетельным и теперь смотрел на вещи философски. Как долго это продолжалось — увидите сами. Индиана, не понимавшая происшедшей с ним перемены, невыносимо страдала оттого, что он пренебрегал ею. Однако, к счастью, она даже не отдавала себе полного отчета в крахе своих надежд. Ее легко было обмануть, она сама шла на это: уж слишком тяжела и печальна была для нее действительность. Муж ее становился все более невыносимым. На людях он старался казаться мужественным, беззаботным человеком, который никогда не падает духом, а в семейной жизни превращался в ребенка, раздражительного, смешного и требовательного. Он вымещал на Индиане все свои невзгоды, и, надо признаться, она сама во многом была виновата. Если бы она повысила голос, если бы мягко, но решительно высказала свои обиды, Дельмар, который был только груб, устыдился бы своего поведения, побоявшись прослыть злым человеком. Смягчить его сердце и держать его в руках было очень легко, но для этого надо было опуститься до его уровня и не выходить из круга идей, доступных его пониманию. Индиана же была непреклонна и высокомерна в своем послушании. Она всегда подчинялась молча, но это было молчание и покорность рабыни, считающей свою ненависть добродетелью, а свое несчастье — заслугой. Ее смирение было подобно смирению короля, готового скорее согласиться на цепи и темницу, чем на отречение от короны и громкого титула. Обыкновенная женщина сумела бы управлять этим заурядным человеком: на словах она соглашалась бы с ним, но оставляла бы за собой право мыслить по-своему; она притворялась бы, что уважает его предрассудки, а втихомолку смеялась бы над ними; она ласкала бы его и одновременно обманывала. Индиана видела, что многие женщины поступают так, но она чувствовала себя настолько выше их, что стыдилась подражать им. Она была добродетельной и целомудренной и не считала себя обязанной льстить своему властелину на словах, раз она безупречна в своих поступках. Она не желала его нежности, потому что не могла ответить ему взаимностью. В ее глазах было куда большим грехом проявить любовь к нелюбимому мужу, чем отдать ее возлюбленному, вызвавшему в ней это чувство. Обман — вот что было в ее глазах преступлением, и не раз она готова была открыто признаться, что любит Реймона. Только страх потерять его удерживал Индиану от этого шага. Ее надменное повиновение раздражало полковника гораздо больше, чем явный протест. Если бы он перестал быть неограниченным повелителем в собственном доме, его самолюбие было бы, конечно, задето, но он страдал куда сильнее от сознания того, что играет роль ненавистного и смешного деспота. Ему хотелось убедить жену в своей правоте, а на самом деле он только повелевал; хотелось царить, а приходилось покорять. Иногда он неточно выражал какое-либо приказание или давал необдуманное распоряжение в ущерб собственной выгоде. Госпожа Дельмар выполняла все беспрекословно, безропотно, с равнодушием лошади, влекущей плуг в любом направлении. Дельмар, видя, к чему подчас приводит выполнение его неправильно истолкованных мыслей, плохо понятой воли, приходил в бешенство, но, когда Индиана с ледяным спокойствием указывала ему, что ее поступок точно соответствовал его приказанию, ему не оставалось ничего другого, как пенять на самого себя. Такому человеку, как он, человеку с мелким самолюбием и вспыльчивым нравом, это причиняло невыносимую муку и представлялось кровной обидой. В такую минуту он мог бы убить свою жену, живи они в Смирне или Каире. И все же в глубине души полковник любил эту слабую женщину, находившуюся в полной зависимости от него и свято хранившую тайны всех его недостатков. Любил ли он ее или только жалел — не знаю. Ему хотелось, чтобы она любила его; он гордился ее образованностью и превосходством над собой. Он вырос бы в собственных глазах, если бы она согласилась пойти на уступки, отказалась от своих взглядов и принципов. Когда он входил к ней утром, собираясь затеять ссору, и заставал ее спящей, он не осмеливался будить ее. Он молча смотрел на нее, его пугала хрупкость жены, бледность ее щек, спокойная грусть и то тихое горестное смирение, которое отражалось на ее неподвижном, безмолвном лице. Ее вид вызывал в нем бесчисленные упреки, угрызения совести, гнев и боязнь потерять ее; он краснел при мысли о том, какое влияние имело на его судьбу это хрупкое существо, а ведь он был человеком железной воли, он привык повелевать, по одному его слову шли в бой тяжелые эскадроны, ему повиновались и горячие лошади и закаленные в битвах воины. И вот женщина, почти дитя, причиняла ему столько страданий! Ока заставляла его задумываться над своими поступками, разбираться в своих желаниях, многое менять, от многого отказываться, — и при всем этом она даже ни разу не соблаговолила сказать ему: «Вы неправы; прошу вас, сделайте иначе». Никогда, никогда она ни о чем не просила его, никогда не снисходила до того, чтобы считать его равным себе и признать себя спутницей его жизни. Если бы он захотел, он мог бы одной рукой сломить эту тщедушную женщину, быть может мечтавшую в его присутствии о другом и даже во сне казавшуюся непокорной. Порой ему хотелось задушить ее, схватить за волосы, растоптать, чтобы заставить ее молить о пощаде и прощении. Но она была такая хрупкая, красивая и бледная, что ему становилось жаль ее, как ребенку делается жаль птичку, которую он только что собирался убить. И этот железный человек плакал, плакал, как женщина, и уходил, чтобы не дать ей возможность торжествовать при виде его слез. По правде сказать, я не знаю, кто из них был несчастнее — она или он. Жестокость ее проистекала от добродетели, так же как его доброта — от слабости; у нее было слишком много терпения, тогда как у него терпения не хватало; ее недостатки были следствием ее достоинств, а его достоинства — следствием его недостатков. Супругов Дельмар, так мало подходивших друг к другу, окружало много людей, пытавшихся их сблизить; одни занимались этим от нечего делать, другие — потому, что любили совать свой нос в чужие дела, третьи — потому, неверно понимали обязанности друга. Одни принимали сторону жены, другие становились на сторону мужа. Эти люди ссорились из-за них, в то время как супруги Дельмар не ссорились никогда: постоянная покорность Индианы лишала полковника возможности затеять с ней ссору. Кроме того, были и такие друзья, которые вообще ни в чем не разбирались, но хотели стать для них необходимыми. Одни советовали госпоже Дельмар покориться мужу, не замечая того, что она и так слишком покорна; другие советовали мужу ни в чем не уступать жене и не быть у нее под башмаком. Это были люди недалекие, с ущемленным самолюбием и потому всегда опасавшиеся, что им наступят на любимую мозоль; люди такого сорта стоят обычно друг за друга, их можно (встретить повсюду, они вечно толкутся у всех под ногами и много шумят, дабы обратить на себя внимание. Супруги Дельмар имели особенно много знакомых в Мелэне и Фонтенебло. Они вновь встретились с ними в Париже, и эти люди принялись с жадностью собирать все сплетни и толки, ходившие на их счет. Вы, наверное, знаете, что нигде так не развито злословие, как в провинциальных городках. Хороших людей там не ценят, а человека выдающегося считают заклятым врагом общества. Стоит только кому-либо стать на сторону глупца или грубияна, наши обыватели тут как тут! Если кто затеет ссору, они не преминут явиться, чтобы не пропустить такого зрелища; они держат пари, они наступают вам на ноги — так им хочется все видеть и слышать. Побежденного они забрасывают грязью и осыпают проклятиями: тот, кто слабее других, всегда неправ. Если вы боретесь с предрассудками, мелочностью и пороками, вы этим наносите им личное оскорбление, вы задеваете их святая святых, вы предатель и опасный человек. Вас могут привлечь к суду люди, имени которых вы даже не знаете, а между тем они обвиняют вас в том, что вы именно их имели в виду «в ваших гнусных намеках». Что еще прибавить к этому? Если вам доведется встретиться с таким человеком, упаси вас бог наступить на его тень, даже при последних лучах солнца, когда человеческая тень имеет тридцать футов длины; все пространство, занятое его тенью, принадлежит ему, и вы не имеете права поставить туда ногу; тем, что вы дышите одним с ним воздухом, вы уже наносите ему ущерб, ибо вы вредите его здоровью; если вы пьете из его колодца, колодец от этого высыхает; если вы поддерживаете торговлю в его округе, вы набиваете цену на покупаемые им товары; если вы ему предлагаете табак, вы желаете его отравить; если вы находите его дочь красивой, вы собираетесь ее обольстить; если вы хвалите его добродетельную супругу, вы над ней насмехаетесь, так как в глубине души, несомненно, презираете ее за невежество; если, на свое несчастье, вы скажете ему комплимент, он не поймет вас и будет всюду рассказывать, что вы его оскорбили. Забирайте ваши пожитки и уходите с ними в глушь лесов или в безлюдные долины. Только там, может быть, провинциальные жители оставят вас в покое. Даже здесь, в стенах Парижа, провинция продолжала донимать несчастную супружескую чету. Состоятельные семьи Мелэна и Фонтенебло переехали на зиму в столицу и привезли сюда свои милые провинциальные нравы. Эти любезные знакомые сделали все возможное, чтобы окончательно испортить взаимоотношения супругов Дельмар, отчего их несчастье только увеличилось, а обоюдная неуступчивость ничуть не уменьшилась. Ральф был благоразумен и не вмешивался в их супружеские споры. Госпожа Дельмар одно время подозревала, что он восстанавливал мужа против нее или, во всяком случае, стремился выжить Реймона из их дома. Но вскоре она убедилась в несправедливости своих обвинений. Отношение полковника к господину де Рамьеру, дружелюбное и спокойное, служило неопровержимым доказательством молчания ее кузена. Тогда ей захотелось выразить ему свою признательность; но всякий раз, как они оставались наедине, он старательно избегал каких-либо объяснений. Он уклонялся от ее попыток начать разговор и притворялся, будто не понимает, в чем дело. Это был такой щекотливый вопрос, что госпожа Дельмар не могла решиться заставить Ральфа заговорить на эту тему. Она только постаралась нежными заботами и ласковым вниманием дать ему почувствовать свою благодарность. Но Ральф делал вид, что ничего не замечает, и его гордое великодушие оскорбляло Индиану. Боясь оказаться в роли виноватой женщины, молящей сурового свидетеля о снисхождении, она стала вновь холодна и сдержанна с бедным Ральфом. Она считала, что его поведение при данных обстоятельствах является лишним доказательством его эгоизма и что он хотя и любит ее, но уже не уважает; ее общество доставляло ему удовольствие и было необходимо только потому, что он не хотел лишаться привычной домашней обстановки и ее неустанных забот. В конце концов она решила, что его даже не интересует, виновата ли она перед мужем и своей совестью. «Вот в чем сказывается его презрение к женщинам, — думала она. — В его глазах они только домашние животные, обязанность которых поддерживать в доме порядок, готовить еду и разливать чай. Он не снисходит до того, чтобы обсуждать с ними их действия, их проступки ему безразличны, лишь бы только они не затрагивали его лично и не нарушали его привычек. Ральфу нет дела до моего сердца, ему нужны мои руки, умеющие приготовить его любимый пудинг и играть для него на арфе. Какое ему дело до того, что я люблю другого, что я тайно страдаю, смертельно томлюсь под гнетущим меня ярмом! Я для него просто служанка, и ничего иного он от меня не требует».20
Индиана больше ни в чем не упрекала Реймона; он так неудачно оправдывался, что она боялась окончательно убедиться в его вине. Быть покинутой им было для нее еще страшнее, чем быть обманутой. Она не могла отказаться от веры в него и надежды на то будущее, которое он ей обещал. Жизнь в обществе господина Дельмара и Ральфа стала для нее невыносимой, и если бы она не рассчитывала в ближайшее время вырваться из-под власти этих мужчин, она бы утопилась. Нередко она думала о том, что, если Реймон поступит с ней так же, как с Нун, ей, чтобы избежать невыносимой участи, не остается ничего другого, как последовать ее примеру. Эти мрачные мысли неотступно преследовали ее и доставляли ей какую-то горькую отраду. Тем временем день их отъезда приближался. Полковник, по-видимому, вовсе не ожидал встретить какое-либо сопротивление со стороны жены. Целыми днями он приводил в порядок свои дела, каждый день выплачивал один из долгов. Госпожа Дельмар спокойно наблюдала за всеми его сборами, — она была уверена в себе и своей решимости. Со своей стороны, она так же готовилась к предстоящим трудностям. Прежде всего она постаралась заручиться поддержкой тетки, госпожи де Карвахаль, и призналась ей в своем нежелании уезжать; старая маркиза, рассчитывая на то, что красота ее племянницы будет приманкой для посетителей ее салона, заявила полковнику, что он должен оставить жену во Франции: было бы жестоко подвергать ее опасностям утомительного морского путешествия, поскольку ее здоровье лишь недавно несколько окрепло. Одним словом, полковник пусть едет и наживает себе состояние, а Индиане лучше остаться возле своей старой тетки и ухаживать за ней. Вначале господин Дельмар смотрел на эти намеки как на вздорную болтовню старухи, но ему пришлось отнестись к ним с большим вниманием, когда госпожа де Карвахаль дала ему совершенно ясно понять, что только при таком условии она сделает Индиану своей наследницей. Хотя Дельмар любил деньги, как человек, всю жизнь усердно работавший, чтобы нажить их, тем не менее он отличался гордым характером и решительно заявил, что жена непременно поедет с ним вместе. Маркиза никак не могла представить себе здравомыслящего человека, для которого деньги были бы не главным в жизни, и потому не сочла этот ответ за окончательное решение Дельмара. Она продолжала поощрять упорство своей племянницы, обещая ей взять на себя ответственность перед обществом за ее поведение. Только такая развращенная постоянными интригами, тщеславная и лицемерная в своем ханжестве женщина могла закрывать глаза на истинные причины, заставлявшие ее племянницу сопротивляться отъезду. Страсть Индианы к господину де Рамьеру оставалась тайной лишь для ее мужа. Но, поскольку она не давала никаких поводов к скандалу, знакомые пока еще втихомолку сплетничали об этом, и госпожа де Карвахаль не раз слышала подобные разговоры. Глупая и тщеславная старуха была в восторге. Ей только того и хотелось, чтобы ее племянница стала «светской львицей», а любовь Реймона служила для этого хорошим началом. Все же госпожа де Карвахаль не была похожа на модниц эпохи Регентства. Реставрация принуждала женщин ее склада к добродетели; при дворе требовалось безупречное поведение, и потому госпожа де Карвахаль больше всего ненавидела скандалы, которые губят репутацию и разоряют людей. Во времена госпожи Дюбарри она держалась бы менее строгих правил, теперь же, при дворе дофины, она стала сугубо чопорной. Но вся эта чопорность была только для виду; госпожа де Карвахаль относилась с негодованием и презрением лишь к проступкам, получавшим огласку, и, прежде чем осудить какую-нибудь интригу, ждала всегда, чем все кончится. Она оправдывала супружеские измены, если они хранились в тайне. В ней просыпалась испанка, когда дело касалось любовных интриг, происходивших за закрытыми ставнями, и виновными в ее глазах были только те, кто не умел скрыть своего увлечения от глаз любопытной толпы. Индиана — женщина страстная и вместе с тем целомудренная, влюбленная и вместе с тем сдержанная — представляла большой интерес для госпожи де Карвахаль, ею стоило заняться. Женщина, подобная ей, могла бы при желании покорить наиболее влиятельных людей в этом лицемерном обществе и справиться с любым щекотливым поручением. Маркиза рассчитывала извлечь пользу из ее душевной чистоты и пылкого воображения. Бедная Индиана! К счастью, судьба, разрушив надежды госпожи де Карвахаль, увлекла Индиану на путь страданий, и, таким образом, она избежала опасного покровительства своей тетки. Реймона вовсе не интересовало, как сложится в дальнейшем судьба Индианы. Эта любовная история в высшей степени тяготила его, она вызывала в нем скуку. А когда человек скучает в присутствии любимой — это значит, что она утратила для него всякий интерес и значение. Но Индиана, к счастью, еще доживала последние дни своих иллюзий и ни о чем не догадывалась. Однажды, возвратившись на рассвете с бала, Реймон застал у себя в спальне госпожу Дельмар. Она пришла сюда в полночь и уже целых пять часов ждала его. Стояли самые холодные дни года. Она сидела у потухшего камина, подперев голову рукой, страдая от холода и беспокойства с тем мрачным терпением, к которому приучила ее жизнь. При его появлении она подняла голову, и окаменевший от изумления Реймон не прочел на ее бледном лице ни досады, ни упрека. — Я жду вас, — сказала она кротко. — Я не видала вас уже три дня, за это время произошли события, о которых вам необходимо поскорее узнать, и потому я ушла из дому вчера вечером, чтобы сообщить вам о них. — Какая неслыханная неосторожность! — сказал Реймон, старательно закрывая за собой дверь. — Мои слуги знают, что вы здесь, мне только что доложили о вас. — Я и не собиралась прятаться, — ответила она холодно, — и ваше слово «неосторожность» неуместно. — Я сказал «неосторожность», а следовало бы сказать — «безумие»! — А я сказала бы — мужество! Но неважно, слушайте. Господин Дельмар собирается через три дня ехать в Бордо и оттуда в колонии. Мы с вами условились, что вы оградите меня от насилия, если он к нему прибегнет. Вне всякого сомнения, так оно и будет, потому что, когда я вчера вечером сказала ему о своем решении, он запер меня на замок. Я вылезла в окно; видите, у меня руки в крови. Сейчас меня, вероятно, разыскивают, но Ральф в Бельриве и не может сказать, где я. Я решила скрываться до тех пор, пока господин Дельмар не смирится с необходимостью оставить меня в покое. Подумали ли вы о том, где приготовить для меня убежище и как устроить мой побег? Я так давно не виделась с вами наедине, что не знаю, каковы теперь ваши намерения. Однажды, когда я выразила сомнение в вашей решимости, вы ответили, что не понимаете любви без доверия; вы указали на то, что сами никогда не сомневались во мне, и дали мне понять, что я несправедлива к вам; вы всячески старались доказать, что я неправа, — и тогда, побоявшись оказаться недостойной вас, я отбросила все свои ребяческие подозрения и не стала предъявлять те чисто женские требования, которые так опошляют любовь. Я не жаловалась на то, что вы уделяли мне мало внимания, что мы не имели возможности поговорить наедине, что вы старательно избегали каких-либо объяснений со мною, — я продолжала верить вам. Бог мне свидетель: когда беспокойство и страх терзали мое сердце, я гнала от себя прочь эти мысли, считая их преступными. Пришло время, и я хочу получить награду за мое доверие. Скажите, принимаете ли вы мою жертву? Наступила решающая минута: Реймон почувствовал, что не в силах долее притворяться. Он пришел в ярость от сознания, что попался в собственные сети, и, потеряв над собою власть, разразился ругательствами и проклятиями. — Вы с ума сошли! — воскликнул он, бросаясь в кресло. — О какой любви вы мечтаете? По какому роману, написанному для горничных, изучали вы нравы общества, скажите на милость? Он остановился, испугавшись, что зашел слишком далеко, и мысленно подыскивая другие, более мягкие выражения, для того, чтобы высказать ей свое мнение и отделаться от нее без лишних оскорблений. Но она была спокойна, как человек, готовый все выслушать. — Продолжайте, — сказала она, скрестив на груди руки и чувствуя, как сердце ее замирает, — я слушаю вас. Вы, наверно, еще многое можете мне сказать. «Придется еще раз призвать на помощь свою фантазию и разыграть еще одну любовную сцену», — подумал Реймон и с живостью вскочил. — Никогда, никогда я не приму такой жертвы! Когда я уверял тебя, что у меня хватит на это сил, я хвастался, Индиана, или, вернее, я клеветал на себя, ибо только подлец может пойти на то, чтобы обесчестить любимую женщину. Плохо зная жизнь, ты не поняла всей опасности подобного плана, а я, боясь потерять тебя, не хотел об этом думать… — Зато сейчас вы все прекрасно обдумали! — сказала она, отнимая у него руку, которую он попытался было взять. — Индиана, — возразил он, — неужели ты не видишь, что своим героизмом ты толкаешь меня на бесчестный поступок и осуждаешь за то, что я хочу остаться достойным твоей любви? Сможешь ли ты любить меня, ответь мне, наивная и неопытная женщина, если я принесу в жертву своему наслаждению и тебя и твою репутацию?.. — Вы противоречите сами себе, — сказала Индиана. — Если я буду с вами и дам вам счастье, то что вам за дело до мнения окружающих? Разве оно дороже для вас, чем я? — Ах, не ради себя я дорожу им, Индиана!.. — Значит, ради меня? Я предвидела ваши сомнения и, чтобы избавить вас от угрызений совести, решила действовать сама. Я не стала дожидаться, пока вы увезете меня от мужа, я даже не посоветовалась с вами, перед тем как навсегда покинуть свой дом. Решительный шаг сделан, и вам не в чем упрекать себя. Я уже обесчещена, Реймон. В ваше отсутствие я считала часы, проведенные здесь, часы, отмечавшие мой позор, и хотя сегодня я так же невинна и чиста, как вчера, в глазах света я уже погибшая женщина. Вчера я еще могла встретить сочувствие в сердцах людей; сегодня я найду в них только одно презрение. Я все это взвесила, прежде чем действовать. «Несносная женская предусмотрительность!» — подумал Реймон. И тут он стал убеждать ее, словно перед ним находился судебный исполнитель, пришедший описывать его имущество. — Вы преувеличиваете значение вашего поступка, — сказал он ласковым и отеческим тоном. — Нет, мой друг, далеко не все еще потеряно, хоть вы и поступили безрассудно. Я прикажу своим слугам молчать… — Но вы не можете приказать молчать моим слугам; они, вероятно, крайне обеспокоены и повсюду ищут меня сейчас. А муж? Неужели вы думаете, что он способен сохранить мою тайну? Неужели вы думаете, что он захочет принять меня, после того как я провела ночь под одной крышей с вами? Может быть, вы посоветуете мне вернуться к нему, броситься к его ногам и умолять, как о милости, снова надеть на меня цепи, разбившие мою жизнь и загубившие мою молодость? Неужели вы без сожаления согласитесь, чтобы женщина, страстно вами любимая, вновь оказалась во власти другого, когда вы вольны распоряжаться ее судьбой и можете оставить ее у себя на всю жизнь, когда она здесь, в ваших объятиях, и не хочет расставаться с вами? Неужели вам не тяжело и не страшно вернуть ее неумолимому властелину, который, быть может, ждет ее только для того, чтобы убить? Внезапная мысль блеснула в мозгу Реймона. Настала подходящая минута сломить наконец гордость этой женщины; такая минута могла больше не повториться. Она пришла к нему, готовая на все жертвы — жертвы, ему ненужные, — и стояла перед ним в гордой уверенности, что не подвергается никаким другим опасностям, кроме тех, какие заранее предвидела. Реймон придумывал способ, как бы отделаться от ее непрошенной самоотверженности или по крайней мере извлечь из этого какую-то пользу. Он считал себя другом господина Дельмара и слишком ценил его доверие, чтобы похитить его жену; поэтому он решил только соблазнить ее. — Ты права, моя Индиана, — с жаром воскликнул он, — ты снова делаешь меня прежним, ты пробуждаешь во мне восторги, остывшие лишь потому, что я думал о предстоящих опасностях и боялся повредить тебе. Прости мою излишнюю осторожность, пойми, сколько в ней нежности и настоящей любви. Но твой чарующий голос воспламеняет мою кровь, твои пылкие слова зажигают огонь в моих жилах. Прости, прости меня, что сейчас, когда ты принадлежишь мне, я мог думать о чем-нибудь другом, кроме этого блаженного мгновения. Дай мне забыть обо всех грозящих нам опасностях и позволь на коленях благодарить тебя за счастье, дарованное тобою. Позволь мне полностью отдаться сладостному мгновению, которое я могу провести у твоих ног, — даже ценою моей жизни я не смогу оплатить его. Пусть придет и попробует вырвать тебя из моих объятий твой глупый муж, который запирает тебя на замок, а потом спокойно спит после своей грубой выходки. Пусть попробует отнять у меня тебя, тебя — мое сокровище, мою жизнь! Отныне ты больше ему не принадлежишь: ты моя возлюбленная, моя подруга, моя любовница!.. Реймон постепенно вдохновлялся собственными словами, как это бывало с ним обычно, когда он старался уверить кого-нибудь в своей страсти. Положение становилось напряженным, романтическим, полным опасности. Как истый потомок благородных рыцарей, Реймон любил опасность. В каждом шуме, раздававшемся на улице, ему чудились шаги мужа, пришедшего за своей женой и жаждущего крови соперника. Искать любовных радостей среди возбуждающих волнений столь драматических обстоятельств было по душе Реймону. В продолжение четверти часа он страстно любил госпожу Дельмар. Он расточал перед ней все чары своего пламенного красноречия. Речи его звучали убедительно, он был искренен в своей игре; этот человек с пылким воображением смотрел на любовь как на искусство, украшающее жизнь. Он так хорошо разыгрывал страсть, что начинал сам в нее верить. Позор этой глупой женщине! Она с восторгом внимала его лживым уверениям, чувствовала себя счастливой и расцветала от радости и надежды. Она все простила и была готова отдаться ему. Однако Реймон сам все погубил излишней поспешностью. Если бы он сумел удержать Индиану хотя бы сутки в том положении, в какое она попала, придя к нему, он, может быть, овладел бы ею. Но занимался день, яркий и солнечный, он заливал светом всю комнату, шум на улице с каждым мгновением все возрастал. Реймон взглянул на часы, было уже семь утра. «Пора кончать эту канитель, — подумал он, — с минуты на минуту может явиться Дельмар, необходимо до этого убедить ее добровольно вернуться домой». Он стал более настойчив и менее нежен. Его губы побледнели от страсти и нетерпения, а поцелуи делались все более настойчивыми и ожесточенными. Индиане стало страшно. Какой-то добрый гений, казалось, распростер свои крылья над ее трепещущей и смятенной душой. Она очнулась и вновь обрела силы для борьбы с холодным и эгоистичным пороком. — Оставьте меня, я не хочу уступать вам из слабости, я хотела бы отдаться вам из любви или из благодарности. Вам не нужны доказательства моего чувства; то, что я здесь, достаточно ясно говорит об этом, а впереди нас ждет целая жизнь. Но позвольте мне сохранить мою совесть чистой, чтобы быть твердой и спокойной в борьбе с тяжелыми препятствиями, которые все еще разъединяют нас. — О чем вы говорите? — гневно воскликнул Реймон, не слушавший ее и возмущенный ее сопротивлением. Потеряв окончательно голову от раздражения и досады, он грубо оттолкнул ее и в ярости принялся ходить по комнате; дыхание с трудом вырывалось у него из груди, голова горела; он схватил графин и залпом выпил стакан воды. Это сразу успокоило его и охладило его страсть. Иронически посмотрев на нее, он сказал: — Итак, сударыня, вам пора уходить. Эти слова открыли наконец глаза Индиане и обнажили перед ней всю душу Реймона. — Вы правы, — сказала она и направилась к двери. — Не забудьте ваше манто и боа, — прибавил он, останавливая ее. — Ах да, эти следы моего присутствия могут скомпрометировать вас, — ответила она. — Какое вы еще дитя! — сказал он вкрадчивым тоном, заботливо, словно ребенка, укутывая ее. — Вы прекрасно знаете, что я люблю вас, но вам доставляет удовольствие мучить меня и сводить с ума. Подождите, я сейчас вызову карету. Я проводил бы вас до дому, но это значило бы погубить вас. — Так вы считаете, что я еще не погубила себя? — спросила она с горечью. — Нет, дорогая, — ответил Реймон, жаждавший теперь только одного — чтобы она поскорее оставила его в покое. — Вашего отсутствия, по-видимому, не заметили, раз никто сюда за вами не пришел. Хотя меня заподозрили бы, вероятно, в последнюю очередь, все же естественно, что вас начнут разыскивать по всем знакомым. Кроме того, вы можете искать защиты у своей тетки, — это, по-моему, было бы самым лучшим: она сумеет все уладить. Вам поверят, что вы провели ночь у нее. Госпожа Дельмар не слушала его; бессмысленным взглядом смотрела она на яркое, красное солнце, поднимавшееся над блестевшими от его лучей крышами. Реймон хотел оторвать ее от этого зрелища. Она перевела на него глаза, но, казалось, не узнала его. Смертельная бледность покрывала ее щеки, а сухие губы были судорожно сжаты. Реймон испугался. Он вспомнил о самоубийстве Нун и в ужасе, не зная, что предпринять, боясь оказаться вторично преступником и вместе с тем чувствуя, что изобретательность его иссякла и ему не удастся больше обмануть Индиану, осторожно усадил ее в кресло, запер за собою дверь и прошел на половину матери.21
Госпожа де Рамьер уже не спала; привыкнув в эмиграции к деятельной и трудолюбивой жизни, она приобрела обыкновение рано вставать и не рассталась с этой привычкой и теперь, когда снова стала богатой. Увидев бледного, взволнованного Реймона, вошедшего к ней рано утром во фраке, она поняла, что он снова попал в затруднительное положение, как это нередко случалось с ним на протяжении его бурной жизни. В таких случаях она всегда являлась его опорой и спасением и в своем материнском сердце болезненно и глубоко переживала все его треволнения. Ей не легко дались удачи и успехи Реймона, они сильно отразились на ее здоровье. Характер ее сына — неистовый и в то же время холодный, страстный и тем не менее рассудочный — был плодом ее неистощимой любви и всепрощающей нежности. С другой, менее любящей матерью он был бы лучше, но она приучила его принимать все ее жертвы и извлекать из них пользу. Благодаря ей он привык желать и добиваться своего благополучия так же страстно, как она добивалась его для сына. Считая себя созданной для того, чтобы ограждать его от всяких огорчений и приносить ему в жертву свои личные интересы, она приучила его думать, что весь мир существует только для него и что стоит ему сказать ей слово, как все должно быть к его услугам. Своим материнским самоотречением она достигла только одного — вырастила из него бездушного эгоиста. Бедная мать побледнела и, приподнявшись на кровати, с беспокойством посмотрела на Реймона. Ее взгляд говорил: «Что я могу для тебя сделать, куда должна бежать?». — Матушка, — сказал он, беря ее за прозрачную сухую руку, — я ужасно несчастен и нуждаюсь в вашей помощи. Облегчите мои страдания. Вы знаете, что я люблю госпожу Дельмар… — Нет, я не знала этого, — сказала госпожа де Рамьер тоном нежного упрека. — Не отрицайте, дорогая матушка, — сказал Реймон, дороживший каждым мгновением, — вы это знали, и только ваша исключительная деликатность помешала вам Первой заговорить со мной об этом. Так вот, эта женщина приводит меня в отчаяние, я теряю голову. — Говори все, — сказала госпожа де Рамьер с юношеской живостью, которая пробуждалась в ней под влиянием горячей материнской любви. — Не буду ничего скрывать, тем более что на этот раз я ни в чем не виноват. Уже несколько месяцев я пытаюсь успокоить ее пылкую головку и вернуть ее на путь истинный. Но все мои старания только сильнее разжигают в ней жажду опасности и потребность в приключениях, присущую женщинам ее родины. Сейчас, когда я разговариваю с вами, она находится здесь, у меня в спальне, куда пришла без моего ведома, и я не знаю, как убедить ее уйти. — Несчастное дитя! — воскликнула госпожа де Рамьер, поспешно одеваясь. — Это при ее-то застенчивости и скромности! Я пойду и поговорю с ней. Ты об этом пришел просить меня, не правда ли? — Да, да! — сказал Реймон, растроганный нежностью матери. — Пойдите к ней и уговорите ее быть благоразумной. Она, конечно, прислушается к голосу добродетели, поддастся, может быть, вашим ласковым увещаниям, возьмет себя в руки. Несчастная, она так страдает!.. Реймон бросился в кресло и разразился слезами — так он был потрясен всеми пережитыми за это утро волнениями. Мать плакала вместе с ним, и только дав ему выпить успокоительных капель, она наконец решилась оставить его. Когда госпожа де Рамьер вошла к Индиане, та встретила ее спокойно и с достоинством; на лице ее не видно было слез. Госпожа де Рамьер не ожидала такого самообладания и невольно смутилась, словно совершила бестактность, зайдя в спальню к сыну и застав там Индиану. Под влиянием большой симпатии и искренней сердечности она ласково протянула ей руки. Госпожа Дельмар бросилась к ней. Ее отчаяние вылилось в горьких рыданиях, и обе женщины долго плакали в объятиях друг друга. Но когда госпожа де Рамьер попыталась что-то сказать, Индиана остановила ее. — Не говорите ничего, — прервала она ее, вытирая слезы. — Вы не найдете такого слова, которое не причинило бы мне боли. Ваше сочувствие и ласка ясно доказывают мне ваше доброе отношение и облегчают мои страдания, насколько это вообще возможно. Я ухожу. Вам не надо убеждать меня — я сама прекрасно понимаю, что мне следует делать. — Я пришла к вам не для того, чтобы уговаривать вас уйти, а для того, чтобы утешить, — ответила госпожа де Рамьер. — Менянельзя утешить, — возразила Индиана, целуя ее. — Любите меня, это поддержит меня немного, но не говорите мне ни о чем. Прощайте! Вы верите в бога — помолитесь за меня! — Нет, я не пущу вас одну, — воскликнула госпожа де Рамьер. — Я сама отвезу вас к вашему мужу, чтобы оправдать и защитить вас. — О, как вы великодушны, — сказала Индиана, прижимая ее к своей груди, — но это невозможно. Вы единственная, кто не знал тайны Реймона; сегодня вечером о ней будет говорить весь Париж, и ваше участие в этой истории скомпрометирует вас. Предоставьте мне одной перенести все последствия скандала, — страдать мне придется недолго. — Что вы хотите этим сказать? Неужели вы пойдете на преступление и лишите себя жизни? Дитя мое, разве вы не верите в бога? — Верю и поэтому через три дня уеду на остров Бурбон. — Позволь мне как матери обнять и благословить тебя, моя дорогая! Бог вознаградит тебя за твое мужество… — Я уповаю на него, — сказала Индиана, подняв глаза к небу. Госпожа де Рамьер хотела было послать за каретой, но Индиана воспротивилась этому. Она пожелала вернуться домой одна и тайком. Напрасно мать Реймона, видя, как она слаба и подавлена горем, отговаривала ее, боясь, что у нее не хватит сил пройти пешком такой длинный путь. — Не бойтесь, — ответила она, — одного слова Реймона было достаточно, чтобы вернуть мне силы. Закутавшись в манто и опустив на лицо черную кружевную вуаль, она вышла из дома потайным ходом, указанным ей госпожой де Рамьер, и на улице с первых же шагов почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Ей казалось, что разгневанный муж уже хватает ее своей грубой рукой, бросает наземь и топчет в грязи. Но скоро уличный шум, беспечные лица прохожих и холодный утренний воздух вернули ей силы и спокойствие, хотя это было спокойствие и решимость отчаяния, — то затишье перед бурей, которого опытные моряки опасаются больше, чем самой бури. Она прошла по набережной от Института до Законодательного корпуса, но, вместо того чтобы перейти мост, продолжала машинально идти вдоль реки в каком-то бессмысленном и тупом оцепенении. Она не заметила, как очутилась у самой воды; льдины с сухим и холодным треском разбивались о прибрежные камни у ее ног. Зеленоватая вода неотразимо влекла к себе Индиану. Можно привыкнуть к самым страшным мыслям и, раз допустив их, находить в них даже известное удовольствие. Уже давно возможность последовать примеру Нун успокаивала Индиану в часы отчаяния. Самоубийство стало для нее каким-то сладостным искушением, только мысль о том, что это грех, останавливала ее. Но в этот миг ни одной ясной мысли не было больше в ее опустошенном сознании. Она не помнила ни о боге, ни о Реймоне, а инстинктивно, словно в каком-то гипнозе, подходила все ближе к реке. Почувствовав леденящий холод воды, коснувшейся уже ее ног, она, как лунатик, очнулась от забытья и огляделась кругом, стараясь понять, где она; позади нее находился Париж, а у ног ее текла Сена, и на маслянистой поверхности реки отражались белые фасады домов и серое небо. Непрерывное течение воды и неподвижность земли смешались в ее представлении, и ей стало казаться, будто вода стоит неподвижно, а земля убегают у нее из-под ног. У Индианы закружилась голова, она прислонилась к стене, потом, как зачарованная, медленно шагнула к воде, принимая ее за твердую почву. Внезапно она услышала лай собаки, которая, подбежав, вдруг запрыгала вокруг нее, и она остановилась. В ту же минуту привлеченный лаем собаки мужчина схватил Индиану на руки и, отнеся ее подальше от воды, положил в развалившуюся лодку, брошенную на берегу. Индиана смотрела ему в лицо и не узнавала. Он опустился на землю у ее ног, завернул в свой плащ, взял ее руки в свои, пытаясь согреть их, и назвал по имени. Но она была слишком слаба, чтобы сделать над собой какое-либо усилие. Уже двое суток она ничего не ела. Однако, немного согревшись, она узнала Ральфа, стоявшего перед ней на коленях. Он держал ее руки в своих и с тревогой смотрел ей в глаза, ожидая, когда к ней вернется сознание. — Вы встретили Нун? — спросила его Индиана. Затем, все еще находясь под влиянием своей неотвязной думы, она добавила: — Я видела, как Нун проходила по этой дороге. — И она указала рукой на реку. — Я хотела пойти за ней, но она шла слишком быстро, и у меня не хватило сил догнать ее. Это был какой-то кошмар. Ральф с отчаянием смотрел на Индиану. Он тоже чувствовал, что голова его идет кругом и мысли путаются. — Уйдем отсюда, — сказал он. — Уйдем, — согласилась она. — Но сначала найдите мои ноги, я потеряла их там, на камнях. Ральф увидел, что нога у нее совсем промокли и окоченели. Он взял Индиану на руки и отнес в один из соседних домов, где гостеприимная хозяйка приютила ее, пока она окончательно не пришла в себя. Тем временем Ральф поспешил сообщить господину Дельмару, что его жена нашлась, но, когда посланный пришел, того не оказалось дома. Полковник продолжал свои поиски, он дошел до предела беспокойства и гнева. Ральф был более сообразителен и успел уже побывать у господина де Рамьера. Тот только что лег в постель и встретил Ральфа холодно и насмешливо. Тогда Ральф, вспомнив о смерти Нун, направился к реке и пошел вдоль берега, а слугу послал разыскивать Индиану тоже вдоль берега, но в противоположном направлении. Офелия быстро напала на след хозяйки и привела Ральфа к тому месту, где он ее и нашел. Постепенно Индиана припомнила все, что случилось в эту злополучную ночь, но напрасно пыталась восстановить в памяти те минуты, когда она находилась в каком-то лихорадочном бреду. Она никак не могла объяснить своему кузену, какие мысли владели ею час тому назад. Но Ральф, не спрашивал, понял сам, в каком она была состоянии. Взяв ее за руку, он сказал ласковым и вместе с тем торжественным тоном: — Кузина, вы должны дать мне одно обещание, — это будет последним доказательством вашей дружбы, больше я ничем не буду докучать вам. — Говорите, — ответила она, — сделать что-нибудь для вас — единственная радость, которая мне осталась. — Поклянитесь, — продолжал Ральф, — что вы никогда больше не будете пытаться лишить себя жизни, не предупредив меня. Со своей стороны, клянусь вам честью, что не буду препятствовать вам в этом. Прошу вас только заранее предупредить меня: вы ведь знаете, что я отношусь равнодушно к смерти и мне самому не раз приходили в голову подобные мысли… — Почему вы говорите мне о самоубийстве? — спросила его госпожа Дельмар. — Я не собиралась кончать самоубийством. Я считаю это грехом, не то бы… — Только что, Индиана, когда я схватил вас за руки, а это преданное животное, — он погладил Офелию, — удержало вас за платье, вы, забыв о боге, обо всем на свете и о вашем кузене Ральфе тоже… Слезы навернулись на глаза Индианы, и она сжала руку сэра Ральфа. — Зачем вы остановили меня? — печально спросила она. — Я была бы теперь на небе, — ведь я не совершила бы греха, так как не сознавала, что делаю. — Я это видел, но считаю, что самоубийство должно быть результатом обдуманного решения. Если вам будет угодно, мы еще поговорим на эту тему. Индиана вздрогнула: карета, в которой они ехали, остановилась перед их домом, где ей предстояло встретиться с мужем. У нее не было сил подняться по лестнице, и Ральф на руках отнес ее в спальню. Всю свою прислугу они рассчитали; осталась одна служанка, ушедшая посудачить с соседкой об исчезновении своей хозяйки, да Лельевр, который, не зная, что предпринять, отправился в морг осматривать доставленные в это утро трупы. Ральф не отходил от госпожи Дельмар, так как она все еще сильно страдала. Резкий звонок возвестил о том, что вернулся полковник. Дрожь ужаса и ненависти охватила все существо Индианы; она судорожно уцепилась за руку своего кузена. — Послушайте, Ральф, — сказала она, — если у вас есть хоть капля любви ко мне, избавьте меня от присутствия этого человека, — я в таком состоянии, что не могу его видеть. Я не хочу, чтобы он жалел меня, я предпочитаю его гнев состраданию. Не открывайте дверь или отошлите его. Скажите, что меня не нашли. Губы ее дрожали, она крепко держала Ральфа за руку и не отпускала его. Бедный баронет, терзаемый двумя противоположными чувствами, не знал, на что решиться. Дельмар с такой силой дергал звонок, что каждую минуту мог оборвать его, а Индиана была почти без чувств от волнения. — Вы думаете только о его гневе, — воскликнул наконец Ральф, — и совсем не думаете о его волнении и беспокойстве. Вы почему-то считаете, что он ненавидит вас… Если бы вы видели, в каком горе он был сегодня утром! Индиана в изнеможении опустила руки, и Ральф пошел открывать дверь. — Она здесь! — закричал полковник входя. — Черт знает что такое! Я весь город обегал, разыскивая ее. Премного ей благодарен за такое чудесное времяпрепровождение! Будь она проклята, не хочу ее видеть, я способен убить ее. — Вы не думаете о том, что она вас слышит, — шепотом сказал Ральф. — Она в таком состоянии, что не в силах вынести никакого волнения. Возьмите себя в руки. — Будь она трижды проклята! — завопил полковник. — Я не так еще волновался из-за нее все сегодняшнее утро! Мое счастье, что у меня нервы как канаты! Кто из нас, скажите на милость, больше оскорблен, больше устал и действительно болен — она или я? Где вы ее нашли, и что она делала? Из-за нее я поссорился с этой безумной старухой Карвахаль, которая давала уклончивые ответы и винила меня в милой проделке своей племянницы… Черт побери, как я измучен! Проговорив все это хриплым и грубым голосом, Дельмар сел на стул в передней и вытер лоб, покрытый потом, несмотря на холодное время года. Пересыпая свою речь проклятиями, он начал жаловаться на усталость, волнения и муки; он задавал тысячи вопросов, но, к счастью, не слушал ответов, потому что бедный Ральф совсем не умел лгать и не мог ничего придумать, чем бы успокоить полковника. Он сидел за столом, невозмутимый и молчаливый, как если бы горе этих двух людей его вовсе не касалось, а между тем, вероятно, страдал больше, чем они сами. Госпожа Дельмар, услышав брань мужа, почувствовала, что у нее больше мужества, чем она думала. Его гнев оправдывал ее в собственных глазах, тогда как великодушие вызвало бы угрызения совести. Она вытерла слезы и собрала последние остатки сил, не думая о том, что они могут ей еще понадобиться, — настолько опротивела ей жизнь. Муж подошел к ней с непреклонным и суровым видом, но ее самообладание смутило его, — он почувствовал, что она сильнее его, и изменил тон и выражение лица. Он попробовал было вести себя с таким же холодным достоинством, как она, но это ему не удалось. — Не соблаговолите ли вы, сударыня, сообщить мне, где вы провели утро, а может быть, и ночь? — спросил он. Из этого «может быть» госпожа Дельмар поняла, что ее отсутствие было замечено довольно поздно, и она почувствовала себя немного увереннее. — Нет, сударь, — ответила она, — я совсем не намерена сообщать вам об этом. Дельмар позеленел от злости и изумления. — Неужели вы надеетесь все скрыть от меня? — сказал он дрожащим голосом. — Не собираюсь, — ледяным тоном ответила она. — Я отказываюсь отвечать исключительно из принципа. Я хочу доказать вам, что вы не имеете права задавать мне такие вопросы. — Не имею права, черт вас побери! Кто же здесь хозяин — вы или я? Кто из нас ходит в юбке и должен подчиняться? Вы хотите меня сделать бабой? Ничего не выйдет, голубушка! — Я знаю, что я раба, а вы мой хозяин. По закону этой страны — вы мой властелин. Вы можете связать меня по рукам и ногам, посадить на цепь, распоряжаться моими действиями. Вы пользуетесь правом сильного, и общество на вашей стороне. Но моей воли вам не поработить, сударь, один только бог властен над нею. Попробуйте найти закон, тюрьму или орудие пытки, чтобы овладеть моей душой. Это так же невозможно, как ощупать воздух или схватить пустое пространство. — Замолчите, глупая и дерзкая женщина! Ваши изречения, взятые из романов, нам всем надоели. — Вы можете приказать мне молчать, но не помешаете думать. — Дурацкая гордость, спесь ничтожного червяка! Вы злоупотребляете жалостью, которую вызываете к себе. Но вы скоро увидите, что можно без особого труда усмирить ваш «сильный характер». — Не советую даже пробовать. Ваш покой пострадает, а мужское достоинство ничего не выиграет. — Вы так полагаете? — спросил он, с силой сжимая ее руку. — Полагаю, — ответила она, нисколько не меняясь в лице. Ральф сделал два шага, схватил полковника за локоть, согнул его руку, как тростинку, и спокойно произнес: — Я не допущу, чтобы хоть один волос упал с головы этой женщины. У Дельмара было сильное желание ударить его, но он почувствовал, что неправ, а краснеть после за свои поступки он не любил, этого он боялся больше всего на свете. Поэтому он сдержался и, оттолкнув Ральфа, сказал ему: — Не вмешивайтесь в чужие дела! Затем он снова повернулся к жене: — Итак, сударыня, — продолжал он, скрестив руки на груди, чтобы удержаться от желания ударить ее, — вы не подчиняетесь моей воле, отказываетесь ехать на остров Бурбон, хотите разойтись со мной? Ну, так я тоже хочу этого, черт возьми!.. — Я больше не хочу развода, — ответила она, — я хотела его вчера, но сегодня утром решила иначе. Вы прибегли к насилию, заперев меня на замок. Я выпрыгнула из окна, желая доказать вам, что вся ваша власть ничто, если вы не подчинили себе волю женщины. На несколько часов я сбросила вашу деспотическую власть, вырвалась на свободу, дабы вы поняли, что морально я не подчиняюсь вам и завишу только от себя самой. Во время прогулки я все обдумала и решила, что долг и совесть обязывают меня вернуться к вам. Тогда я вернулась по собственной воле. Мой кузен проводил, а не привел меня сюда. Если бы я не захотела пойти с ним, он не мог бы меня к этому принудить, — надеюсь, вы это понимаете? Итак, сударь, не теряйте времени и не пытайтесь переубедить меня; вы все равно не заставите меня изменить мои взгляды; вы потеряли всякое право влиять на мои убеждения с тех пор, как применили силу. Займитесь приготовлениями к отъезду, я готова помочь вам и сопровождать вас — не потому, что такова ваша воля, а потому, что таково мое намерение. Вы можете осуждать меня, но слушаться я буду всегда только себя. — Мне от души жаль, что ваш рассудок в таком расстроенном состоянии, — сказал полковник, пожав плечами. Он ушел к себе и начал приводить в порядок свои дела, в душе очень довольный решением госпожи Дельмар: теперь он был уверен, что не встретит больше никаких препятствий, ибо верил слову, данному этой женщиной, в такой же мере, в какой презирал ее взгляды.22
Оказав весьма сухой прием сэру Ральфу, который пришел к нему узнать об Индиане, Реймон тотчас же крепко заснул, так как был очень утомлен. Чувство блаженства охватило его душу, когда, проснувшись, он вспомнил, что в его романе с Индианой наконец наступил перелом. Он давно предвидел, что настанет время, когда ему придется вступить в борьбу с любовью этой женщины, чтобы отстоять свою свободу от притязаний столь романтической страсти; он заранее решил не соглашаться на ее требования. Наконец трудный шаг был сделан: он сказал «нет». Возвращаться к этому вопросу не придется, потому что все обошлось благополучно. Индиана не очень плакала и не очень настаивала. Она проявила благоразумие, все поняла с первого слова, покорилась своей участи быстро и гордо. Реймон был чрезвычайно доволен. Он верил, что судьба печется о нем, словно любящая мать, и устроит все его дела как можно лучше, хотя бы и за счет его ближних. До сих пор у него не было причин сомневаться в ее благоволении. Предвидеть последствия своих ошибок и беспокоиться о них он считал грехом неблагодарности по отношению к охраняющему его доброму гению. Он встал, все еще чувствуя сильную усталость от нервного напряжения, которого потребовала от него недавно пережитая тяжелая сцена. Тем временем вернулась его мать. Она ездила к госпоже де Карвахаль справиться о здоровье и душевном состоянии госпожи Дельмар. Маркиза, казалось, ничем не была озабочена, но после осторожных расспросов госпожи де Рамьер она сильно расстроилась. Впрочем, в истории с внезапным исчезновением госпожи Дельмар ее потрясло только одно — возможность огласки. Она стала горько жаловаться на племянницу, которую вчера еще превозносила до небес. Госпожа де Рамьер поняла, что своим поступком несчастная Индиана навсегда восстановила против себя свою родственницу и лишилась единственной остававшейся у нее поддержки. Для тех, кто знал, что представляет собою маркиза, это не было бы большой потерей. Но госпожа де Карвахаль слыла за особу безупречно добродетельную даже в глазах госпожи де Рамьер. О событиях своей бурной молодости маркиза предусмотрительно молчала, тем более что следы их терялись в вихре революций. Мать Реймона не могла удержаться от слез при мысли о печальной судьбе Индианы и всячески старалась оправдать ее, но госпожа де Карвахаль ядовито заметила госпоже де Рамьер, что та слишком заинтересована в этом деле и потому не может судить беспристрастно. — Что же будет с этой несчастной молодой женщиной? — спросила госпожа де Рамьер. — В ком найдет она защиту, если муж начнет притеснять ее? — На все воля божья, — ответила маркиза. — Что касается меня, то я не собираюсь вмешиваться в ее дела и не хочу больше ее видеть. Добрая госпожа де Рамьер чрезвычайно встревожилась и решила во что бы то ни стало разузнать о госпоже Дельмар. Она приказала ехать на угол той улицы, где жила Индиана, и послала лакея расспросить привратника, приказав ему, если только удастся, повидать сэра Ральфа. Сама она осталась в карете и там дожидалась результатов своего поручения; вскоре Ральф пришел к ней. Госпожа де Рамьер была, быть может, единственным человеком, сумевшим правильно оценить Ральфа. Они обменялись всего несколькими словами и сразу поняли, как искренне и бескорыстно они оба интересуются судьбой Индианы. Ральф рассказал о том, что произошло утром; относительно событий прошлой ночи у него были только смутные подозрения, и он не старался выяснить их. Но госпожа де Рамьер сочла нужным сообщить ему все, что знала, полагая, что он так же, как и она, будет способствовать разрыву этой роковой и пагубной связи. Ральф, чувствовавший себя с ней свободнее, нежели с кем-либо другим, не скрывал глубокого волнения, которое отразилось на его лице, пока он слушал ее откровенный рассказ. — Вы говорите, сударыня, — пробормотал он, подавляя охватившую его нервную дрожь — что она провела ночь в вашем доме? — Ночь одинокую и, несомненно, тяжелую. Реймона нельзя винить в соучастии, потому что он вернулся домой только в шесть часов утра, а в семь он уже был у меня, прося успокоить и образумить эту несчастную женщину. — Она хотела покинуть мужа! Она хотела обесчестить себя! — повторял Ральф с остановившимся взглядом, в каком-то странном смятении чувств. — Как же сильно она любит этого недостойного человека! Ральф совсем забыл, что говорит с матерью Реймона. — Я уже давно догадывался, — продолжал Ральф, — но почему я не предвидел, что наступит день, когда она решит окончательно погубить себя! Я скорее убил бы ее, чем допустил это! Такие речи в устах Ральфа крайне поразили госпожу де Рамьер; она думала, что говорит с человеком спокойным и снисходительным, и теперь раскаивалась, что поверила его внешней невозмутимости. — Боже мой! — с ужасом воскликнула она. — Неужели и вы будете беспощадны к ней и отвернетесь от нее так же, как и ее тетка? Неужели ни в ком из вас нет жалости и вы не умеете прощать? Значит, все друзья отшатнулись от нее, узнав о ее проступке, из-за которого она уже столько выстрадала? — Относительно меня вы можете быть спокойны, — ответил Ральф. — Вот уже полгода, как я знаю все и молчу. Я был случайным свидетелем их первого поцелуя и тем не менее не сбросил господина де Рамьера с лошади; я часто перехватывал их любовные послания и никогда не уничтожал их. Я встретил однажды господина де Рамьера на мосту, когда он шел на свидание с ней; дело было ночью, мы были одни. Я гораздо сильнее его, однако не столкнул его в реку; увидав, что ему все-таки удалось скрыться, обмануть мою бдительность и проникнуть к ней, я, вместо того чтобы выломать двери и выкинуть его в окно, спокойно предупредил их о приближении мужа и спас жизнь одному, чтобы спасти честь другой. Вы видите, сударыня, я умею щадить и быть милосердным. Сегодня утром этот человек был в моих руках; я прекрасно знал, что он — причина всех наших несчастий, и если не имел права обвинить его без доказательств, то мог по крайней мере вызвать его на ссору за его дерзкий и насмешливый вид. И что же! Я снес его оскорбительное презрение, так как знал, что смерть его убьет Индиану. Я позволил ему спокойно уснуть, повернувшись на другой бок, в то время как Индиана, обезумевшая и еле живая, стояла на берегу Сены, собираясь последовать за его первой жертвой… Вы видите, сударыня, что я терпелив с теми, кого ненавижу, и снисходителен к нем, кого люблю. Госпожа де Рамьер, сидя в карете напротив Ральфа, смотрела на него с изумлением и со страхом. Он был так непохож на самого себя, что у нее мелькнула мысль о его внезапном помешательстве. Намек на смерть Нун подтверждал ее предположение, ибо она ничего не знала об этой истории и принимала слова Ральфа, вызванные негодованием, за обрывки мыслей, совершенно не относящихся к предмету их разговора. В самом деле, Ральф в эту минуту находился в состоянии такого душевного волнения, которое испытывают хотя бы раз в жизни даже самые рассудительные люди и которое граничит с буйным умопомешательством. Обычно, подобно всем уравновешенным натурам, Ральф и в гневе бывал холоден и сдержан, но чувство это, как у всех людей с благородной душой, вспыхивало в нем с такою силой, что в минуты гнева он становился действительно страшен. Госпожа де Рамьер взяла его за руку. — Видно, вы очень страдаете, дорогой господин Ральф, — мягко сказала она, — если так безжалостно причиняете мне мучительную боль. Вы забываете, что тот, о ком вы говорите, мой сын и что его дурные поступки, если он действительно совершил их, куда больше ранят мое сердце, чем ваше. Ральф тотчас же пришел в себя и с чувством горячей симпатии, проявление которой было ему так же мало свойственно, как и проявление гнева, поцеловал руку госпожи де Рамьер. — Простите меня, — сказал он, — вы правы, я очень страдаю и забываю о том, к чему должен был бы отнестись с уважением. Забудьте и вы о вырвавшихся у меня горьких словах, я и впредь сумею все скрыть в своем сердце. Госпожа де Рамьер, несколько успокоенная этим ответом, не могла, однако, побороть тайный страх при виде глубокой ненависти Ральфа к ее сыну. Она попыталась оправдать Реймона в глазах его врага, но Ральф остановил ее. — Я угадываю ваши мысли, — сказал он, — но не тревожьтесь: господину де Рамьеру и мне не суждено в скором времени встретиться. Не раскаивайтесь также в том, что рассказали мне о моей кузине. Если все отшатнутся от нее, клянусь вам — один друг у нее всегда останется! Возвратившись к вечеру домой, госпожа де Рамьер застала Реймона в мягких ночных туфлях, уютно усевшегося у горящего камина с чашкой чая в руках. Он старался разогнать остатки нервного потрясения, пережитого им в то утро. Он еще не совсем оправился от своих треволнений. Но сладкие мечты о будущем уже волновали его душу; наконец-то он чувствовал себя свободным и мог всецело наслаждаться этим счастьем, которое, однако, не умел хранить. «Почему, — думал он, — мне так быстро надоедает это неизъяснимо приятное сознание своей свободы, которую приходится покупать потом такой дорогой ценой! Когда я попадаю в сети к женщине, мне не терпится скорее порвать их, чтобы вновь обрести душевный покой. Будь я проклят, если я снова пожертвую им так скоро! Горе, которое я вытерпел из-за этих двух креолок, послужит мне хорошим уроком, впредь я буду знаться только с легкомысленными и насмешливыми парижанками… с настоящими светскими дамами. Может быть, мне следовало бы жениться и пристать, как говорят, к тихой пристани?..» Он был погружен в эти спокойные и приятные мысли, когда вошла его мать, расстроенная и усталая. — Ей лучше, — сказала она. — Все обошлось благополучно. Я надеюсь, что она успокоится. — Кто? — спросил Реймон, внезапно пробудясь от сладких грез. На следующее утро он все же решил, что обязан вернуть себе если не любовь, то хотя бы уважение Индианы. Ему не хотелось, чтобы она имела возможность думать, будто сама его бросила. Он решил доказать ей, что его благоразумие и великодушие побудило ее совершить этот шаг; он хотел сохранить свою власть над нею даже после того, как сам оттолкнул ее, и потому он написал ей: «Дорогой друг, я пишу вам не затем, чтобы просить у вас прощения за несколько жестоких и дерзких слов, которые вырвались у меня в минуту безумия: в пылу страсти нельзя правильно оценить положение и спокойно высказать все, что думаешь. Не моя вина, что я не бог, что я не могу владеть собою, что возле вас у меня закипает кровь и я теряю голову и схожу с ума. Быть может, я, со своей стороны, имел бы право жаловаться на то жестокое хладнокровие, с каким вы без всякого сострадания обрекли меня на страшные муки. Но и это тоже не ваша вина. Вы слишком совершенны, чтобы походить на нас, обыкновенных смертных, подвластных людским страстям, рабов своих грубых инстинктов. Я не раз говорил вам об этом, Индиана, и, когда я спокойно думаю о вас, я прихожу к убеждению, что вы не женщина, вы ангел. Я преклоняюсь перед вами, как перед божеством. Но, увы, вблизи вас во мне нередко просыпался первобытный человек, благоуханное дыхание ваших уст обжигало горячим пламенем мои губы. Зачастую, когда я склонялся над вами и мои волосы касались ваших, страстная нега разливалась по всему моему телу, и я забывал, что вы неземное создание, олицетворение мечты о вечном блаженстве, ангел, сошедший с небес, чтобы охранять мой путь в этой грешной жизни и посвящать меня в радости иного существования. Зачем, чистый дух, принял ты соблазнительный облик женщины? Зачем, светлый ангел, обольщал ты меня греховными чарами? Много раз я думал, что держу счастье в своих объятиях, но, увы, я обнимал холодную добродетель. Простите мне мои преступные сожаления, я был недостоин вас. И, может быть, если бы вы снизошли до меня, мы оба были бы счастливее. Но вы постоянно страдали от моего несовершенства и считали преступлением, что у меня не было ваших добродетелей. Теперь, когда вы простили меня, — в чем я уверен, ибо идеальное существо не может не быть милосердным, — разрешите мне еще раз обратиться к вам, чтобы поблагодарить и благословить вас. Поблагодарить!.. О нет, жизнь моя, я не так выразился, ибо я страдаю больше вашего оттого, что вы с таким самообладанием вырвались из моих объятий. Но я преклоняюсь перед вами, одобряю ваше решение, хотя и обливаюсь слезами. Да, Индиана, вы нашли в себе силы принести такую великую жертву. Этим вы разбили мне сердце и жизнь, омрачили мое будущее, разрушили мое существование. Ну что ж! Я люблю вас так сильно, что готов безропотно перенести все; я не думаю о себе, для меня важно только ваше счастье. Я готов тысячу раз пожертвовать для вас своей честью, но ваша честь мне дороже тех радостей, которые вы могли бы мне дать. Нет! Такой жертвы я никогда не приму! Напрасно старался бы я забыться в восторгах и опьянении любви, напрасно искал бы в ваших объятиях неземного наслаждения, — упреки совести не переставали бы мучить меня. Они отравили бы мне жизнь, и я чувствовал бы себя куда более опозоренным, чем вы сами, видя, как люди презирают вас. О боже, знать, что это я унизил и загубил вас! Знать, что вы утратили уважение окружающих! Держать вас в своих объятиях, знать, что вас за это оскорбляют, и не быть в состоянии смыть обиду! Я мог бы пролить за вас всю свою кровь, мог бы отомстить за вас, но никогда, никогда не мог бы оправдать вас в глазах света. Мое пламенное желание вас защитить послужило бы только лишним обвинением против вас, а моя смерть — неопровержимым доказательством вашего преступления. Моя бедная Индиана, я погубил бы вас своей любовью! И как я был бы несчастен! Уезжайте же, моя любимая; под другим небом вы найдете утешение в вере и награду за свою добродетель. Милосердный бог воздаст нам за такую жертву. Он соединит нас в иной, более счастливой жизни, и, быть может, даже… Но нет, эта мысль тоже греховна; тем не менее я не могу запретить себе надеяться!.. Прощайте, Индиана, прощайте! Вы видите, что наша любовь — преступление!.. Увы, мое сердце разбито. Хватит ли у меня сил сказать вам последнее прости?» Реймон сам отнес это письмо госпоже Дельмар. Но она заперлась у себя в спальне и отказалась его принять. Он покинул их дом, сердечно распрощавшись с мужем и успев все же передать письмо служанке. Спустившись с последней ступеньки, он почувствовал необычайную легкость: погода показалась ему особенно приятной, женщины особенно красивыми, магазины особенно нарядными, — это был чудесный день в жизни Реймона. Госпожа Дельмар, не распечатывая, заперла письмо в сундук, который не собиралась раскрывать до приезда в колонии. Она хотела проститься с теткой. Однако сэр Ральф категорически воспротивился этому намерению. Он побывал у госпожи де Карвахаль и знал, что та собирается встретить Индиану упреками и презрением. Он был возмущен ее лицемерной строгостью и не мог примириться с мыслью, что Индиана подвергнется ее нападкам. На следующий день, когда Дельмар с женою садились уже в дилижанс, сэр Ральф сказал им со своей обычной невозмутимостью: — Я часто говорил, друзья мои, что не хочу расставаться с вами. Но вы как будто не понимали, о чем шла речь, и не отвечали мне… Разрешите ли вы мне ехать с вами? — В Бордо? — спросил господин Дельмар. — На остров Бурбон, — ответил Ральф. — Помилуйте, — возразил господин Дельмар, — ну как можно так кочевать и связывать свою судьбу с людьми, будущее которых неопределенно, а благосостояние ненадежно! С нашей стороны было бы низостью воспользоваться вашей дружбой и допустить, чтобы вы пожертвовали ради нас всей своей жизнью и отказались от положения, которое вы занимаете в обществе. Вы богаты, молоды и свободны. Вам надо снова жениться, создать свою семью… — Не в этом дело, — ответил холодно Ральф. — Я не умею изворотливо облекать мысли в слова, искажающие их, и потому скажу откровенно то, что думаю. Мне показалось, что за последние полгода вы оба изменились по отношению ко мне. Быть может, я был в чем-то неправ, но из-за своей нечуткости не понял этого. Одного вашего слова достаточно, чтобы меня успокоить в том случае, если я ошибаюсь. Позвольте мне следовать за вами; если же я в чем-нибудь виноват, пора мне это сказать. Расставаясь со мною, вы должны снять с моей души мучительное сознание, что мне не удалось загладить свою вину. Полковник был так растроган этим бесхитростным и великодушным признанием, что забыл все обиды, нанесенные его самолюбию и разъединившие его с Ральфом. Он протянул ему руку, поклялся, что его дружба никогда не была более искренней и что он отвергает его предложение только из деликатности. Госпожа Дельмар молчала. Ральф, желая добиться от нее ответа, сделал над собою усилие и спросил ее сдавленным голосом: — А у вас, Индиана, осталась ли хоть капля дружеского расположения ко мне? Его слова пробудили в ней былую привязанность, она вспомнила об их детстве и о той задушевной сердечности, которая существовала когда-то в их отношениях. Со слезами на глазах они бросились в объятия друг другу, и Ральф едва не лишился чувств, ибо этого крепкого человека, с виду спокойного и сдержанного, обуревали сильные страсти. Побледнев, не в силах вымолвить ни слова, он сел, чтобы не упасть, и просидел так несколько мгновений; затем взял руку полковника и руку его жены. — В этот час, когда мы расстаемся, быть может, навсегда, — сказал он, — будьте со мною откровенны: вы не хотите, чтоб я ехал с вами, из-за меня или из-за вас? — Клянусь вам честью, — ответил Дельмар, — отказывая вам, я думал только о вашем благополучии. — Что касается меня, — сказала Индиана, — то вы прекрасно знаете, что я хотела бы никогда не расставаться с вами. — Было бы грешно усомниться в вашей искренности в такую минуту! — ответил Ральф. — Я верю вашему слову и благодарю вас обоих. И он исчез. Спустя полтора месяца бриг «Корали» готовился к отплытию из порта Бордо. Ральф написал своим друзьям, что приедет в Бордо к концу их пребывания в этом городе, но, по своему обыкновению, написал так лаконично, что невозможно было понять, хочет ли он только проститься или же решил ехать вместе с ними. Напрасно ждали они его до последней минуты; капитан уже дал сигнал к отплытию, а Ральфа все не было. Последние здания порта скрылись за зелеными берегами, и мрачные предчувствия овладели Индианой, и без того печальной и подавленной. Она ужаснулась при мысли, что отныне осталась одна на свете с ненавистным ей мужем, что ей предстоит жить и умереть подле него, без друзей, которые могли бы ее утешить, без родных, способных защитить ее от его деспотической власти. Но, обернувшись, она увидела позади себя на палубе спокойное и ласковое лицо Ральфа, который, улыбаясь, глядел на нее. — Так, значит, ты не покинул меня? — воскликнула она, заливаясь слезами, и бросилась к нему на шею. — И никогда не покину! — ответил Ральф, прижимая ее к груди.23
Письмо госпожи Дельмар господину де Рамьеру Остров Бурбон, 3 июня 18… «Я решила не напоминать вам больше о себе, но, приехав сюда и прочитав письмо, которое вы передали мне накануне моего отъезда из Парижа, почувствовала, что должна вам ответить: в том состоянии отчаяния и горя, в каком я находилась тогда, я зашла слишком далеко, я заблуждалась на ваш счет и теперь хотела бы загладить перед вами свою вину — не как перед возлюбленным, а как перед человеком. Простите меня, Реймон, в ту ужасную минуту моей жизни вы показались мне чудовищем. Одним вашим словом, одним вашим взглядом вы лишили меня навсегда надежды и веры. Я знаю, что теперь уже никогда не буду счастлива, но все же надеюсь, что мне не придется презирать вас, — это было бы для меня последним ударом. Да, я сочла вас негодяем, хуже того — эгоистом. Я почувствовала к вам отвращение. Я пожалела, что остров Бурбон находится недостаточно далеко, мне хотелось бы скрыться от вас еще дальше, и негодование дало мне силы испить чашу горя до дна. Но когда я прочла ваше письмо, мне стало легче. Я не сожалею о вас, но и не чувствую к вам больше ненависти, и я не хочу, чтобы вы упрекали себя в том, что погубили мою жизнь. Будьте счастливы и беспечны, забудьте меня. Я еще жива и, может быть, проживу долго!.. В самом деле, вы ни в чем не виноваты: это я лишилась рассудка. У вас есть сердце — только я не нашла дороги к нему. Вы не лгали мне — я сама себя обманывала. Вы не были клятвопреступником или черствым человеком — вы просто не любили меня. О боже, вы не любили меня! А я? Неужели я мало вас любила? Но я не унижусь до жалоб, я пишу вам не для того, чтобы отравить тяжелыми воспоминаниями покой вашей теперешней жизни. Я не прошу у вас и сочувствия к моим страданиям, — у меня хватит сил перенести их одной. Теперь я лучше знаю, какая роль вам к лицу, и потому хочу вас оправдать и простить. Я не стану опровергать то, что вы мне пишете, — сделать это очень нетрудно. Не буду отвечать и на ваши рассуждения о том, в чем состоит мой долг. Успокойтесь, Реймон, я знаю, в чем он заключается: я любила вас слишком сильно, чтобы нарушить его необдуманным поступком. Незачем указывать мне, что люди стали бы презирать меня за мою ошибку, — все это было мне хорошо известно. Я знала, что навсегда запятнаю свою честь, знала, что все отвернутся от меня, проклянут, обольют грязью и что я не найду никого, кто бы пожалел и утешил меня. Да, я все это знала! Единственное мое заблуждение — это вера в вас, вера в то, что вы раскроете мне свои объятия и что на вашей груди я забуду горе, одиночество и людское презрение. Только одного я не ожидала — что вы откажетесь от моей жертвы уже после того, как я ее принесла. Я не представляла себе, что это может случиться. Когда я шла к вам, я предвидела, что сначала, повинуясь принципам и чувству долга, вы оттолкнете меня, но я была твердо уверена, что потом, узнав о неизбежных последствиях моего поступка, вы сочтете себя обязанным мне помочь. Нет, я никогда, никогда не думала, что вы предоставите мне одной пожинать горькие плоды и расплачиваться за все последствия моего опасного шага, вместо того чтобы открыть мне свои объятия и оградить своей любовью. Как смело бросила бы я тогда вызов всему свету, не убоялась бы его молвы, безразличной для меня и бессильной мне повредить! Уверенная в вашем чувстве, с каким презрением отнеслась бы я к людской ненависти! Моя страстная любовь к вам заглушила бы слабый голос совести! Живя только для вас, я забыла бы о себе! Я гордилась бы тем, что завоевала ваше сердце, и совсем не думала бы о своем позоре. Одного вашего слова, взгляда, поцелуя было бы достаточно, чтобы я почувствовала себя правой. Для людей с их законами не осталось бы места в нашей жизни. Да, я была безумна, да, я знала жизнь, как вы цинично выразились, по романам для горничных, по этим веселым и наивным выдумкам, увлекающим нас удачным завершением рискованных авантюр и возможностью несбыточного счастья. Вы сказали тогда ужасную правду, Реймон! Меня приводит в отчаяние и убивает то, что это действительно так. Одно только я недостаточно хорошо уясняю себе: почему мы столь различно отнеслись к преодолению непреодолимого? Почему я, слабая женщина, почерпнула в своем восторженном чувстве столько силы, что не побоялась поставить себя в невероятное, взятое из романов, положение, — а вы, сильный мужчина, не нашли в себе решимости последовать моему примеру? А между тем вы разделяли мои мечты о будущем, вы соглашались с моими безумными планами и поддерживали во мне несбыточную надежду. Вы выслушивали с улыбкой на лице и радостью в глазах мои детские фантазии, мои тщеславные и глупые замыслы и отвечали на них словами любви и признательности. Ведь и вы были слепы, непредусмотрительны и храбры на словах. Почему же вы стали благоразумны только в минуту опасности? Я всегда думала, что опасность привлекает человека, возбуждает в нем мужество, заставляет забыть о страхе, — вы же испугались в решительную минуту! Неужели вам, мужчинам, свойственна только физическая храбрость, которая бросает вызов смерти? Неужели вы неспособны на нравственную храбрость, которая может вынести любое несчастье? Вы так превосходно умеете объяснять все, — объясните же мне это, прошу вас. Может быть, все дело в том, что мы мечтали о разных вещах? Ведь я черпала храбрость в своей любви к вам, а вы — вы только вообразили, что любите меня, и поняли свою ошибку в тот день, когда я, уверенная в вашем чувстве, в свою очередь совершила ошибку, придя к вам. Великий боже! Каким странным заблуждением была ваша любовь, раз вы не предвидели всех препятствий и с ужасом осознали их лишь в ту минуту, когда настало время действовать, раз вы впервые заговорили о них, когда было уже поздно! К чему упрекать вас теперь? Разве вы вольны в своих чувствах? Разве от вас зависело любить меня вечно? Без сомнения, нет! Моя вина в том, что я не сумела внушить вам более прочную, настоящую любовь. Я ищу причину этому и не нахожу ее в своем сердце. Но, очевидно, она все же существует. Может быть, я слишком любила вас; может быть, моя нежность наскучила вам или утомила вас… Вы мужчина и, следовательно, любите свободу и наслаждения. Я была вам в тягость. Я пыталась иногда подчинить вас себе. Увы, все это небольшие грехи, и я не заслужила того, чтобы вы так жестоко покинули меня! Наслаждайтесь же свободой, купленной ценой моей жизни, — я больше не потревожу вас. Почему вы не преподали мне раньше этого жестокого урока? Я бы меньше страдала, и вы, вероятно, тоже. Будьте счастливы — это последнее желание моего разбитого сердца. Не призывайте меня к мыслям о боге, предоставьте нравоучения священникам, это их удел смягчать сердца грешников. Моя вера глубже вашей, я служу другому богу, но служу ему чище и лучше. Ваш бог — бог людей, он царь, основатель и поддержка вашей касты. Мой бог — бог вселенной, создатель, надежда и опора всего живущего. Ваш бог создал все только для вас одних; мой же сотворил все живые создания на пользу друг другу. Вы считаете себя хозяевами мира, а я думаю, что вы просто тираны. Вы уверены, что бог покровительствует вам, что он разрешил вам захватить всю власть на земле, — по-моему, он терпит это до поры до времени, и настанет день, когда вы все, как песчинки, будете сметены его дыханием. Нет, Реймон, вы не знаете бога, или, лучше, позвольте мне повторить вам то, что вам сказал однажды Ральф в Ланьи: «Вы ни во что не верите». Ваше воспитание и потребность в неограниченной власти, которую вы противопоставляете «грубой силе народа», побудили вас слепо принять верования ваших отцов; но сердцем вы не верите в существование бога и, должно быть, никогда не молились ему. У меня же есть вера, какой у вас, безусловно, нет: я верю в бога, но я отвергаю придуманную вами религию; все ваши правила морали, все ваши заповеди отражают интересы вашего общества; вы возвели их в законы и утверждаете, будто они исходят от самого бога, уподобляясь тем самым священнослужителям, которые создали религиозные обряды, чтобы упрочить свое богатство и власть над народами. Но все это обман и нечестие. Я верю в бога и понимаю его, и я прекрасно знаю, что между ним и вами нет ничего общего; поклоняясь ему всей душой, я не могу быть с теми, кто постоянно стремится уничтожить его деяния и осквернить его дары. Не подобает злоупотреблять именем бога для того, чтобы сломить сопротивление слабой женщины, заглушить жалобу ее разбитого сердца. Бог не хочет, чтобы угнетали и губили творения рук его. Если бы он по благости своей вмешался в наши жалкие дела, он сломил бы сильного и поддержал бы слабого; он поднял бы свою могучую десницу и уравнял бы всех нас, как воды морей. Он сказал бы рабу: «Сбрось оковы и беги на холмы, где я создал для тебя воды, цветы и солнце». Он сказал бы королям: «Отдайте свою багряницу нищим, дабы послужила она им подстилкою, и идите спать в долины, где я разостлал для вас ковер из мха и вереска». Он сказал бы сильным: «Преклонитеколена и переложите на плечи свои бремя ваших слабых братьев; отныне вы будете нуждаться в них, ибо я наделю их силой и мужеством». Вот каковы мои мечты. Они принадлежат другой жизни, другому миру, где закон сильного не будет угнетать слабого, где сопротивление и бегство не будут преступлением, где человека, если он, подобно антилопе, ускользнувшей от пантеры, сумел вырваться из-под власти другого человека, не закуют в цепи властью закона и не бросят к ногам врага; где его не будут оскорблять, уступая голосу предрассудков, и непрестанно попрекать: «Ты подлец и негодяй! Как посмел ты не смириться и не раболепствовать?». Нет, не говорите мне о боге, в особенности вы, Реймон. Не прибегайте к его имени для того, чтобы послать меня в изгнание и заставить молчать. Подчиняясь, я уступаю только власти людей. Если бы я послушалась голоса моего сердца и того благородного инстинктивного чувства, которое и является, быть может, истинной совестью у смелых и сильных натур, я убежала бы в пустыню, сумела бы обойтись без помощи, без защиты и любви. Я поселилась бы одна среди наших прекрасных гор, забыла бы о тиранах, о несправедливых и неблагодарных людях. Но, увы! Человек не может обойтись без себе подобных, и даже Ральф не может жить один. Прощайте, Реймон! Постарайтесь быть счастливым без меня. Я прощаю вам то зло, которое вы причинили мне. Вспоминайте меня иногда вместе с вашей матушкой — это самая лучшая женщина из всех, кого я знала. Помните, что в моем сердце нет ни горечи, ни чувства мести. Моя печаль достойна моей былой любви к вам. Индиана». Несчастная Индиана слишком много брала на себя. Чувство собственного достоинства продиктовало ей эти слова глубокой и спокойной печали. Оставаясь наедине с собой, она предавалась самому бурному отчаянию. Порою, впрочем, луч необъяснимой надежды загорался перед ее затуманенным взором. Может быть, она еще не потеряла окончательно веры в любовь Реймона, несмотря на жестокий урок, полученный ею, несмотря на ужасные мысли, ежедневно напоминавшие ей о том, каким холодным и равнодушным становился этот человек, когда дело не касалось его личных выгод или удовольствий. Мне кажется, если бы Индиана не закрывала глаза на горькую правду, она не могла бы влачить дальше свою изломанную, жалкую жизнь. Женщины неразумны по самой своей природе. Как будто для того, чтобы уравновесить их явное превосходство над мужчинами в тонкости душевных восприятий, небо намеренно вложило в их сердца слепую суетность и глупое легковерие. И, чтобы овладеть этими нежными существами, такими податливыми и трогательными, быть может, нужно лишь умело их превозносить и льстить их самолюбию. Иногда мужчины, совершенно не имеющие влияния на своих собратьев, приобретают безграничную власть над женской душой. Лесть — это ярмо, под которое женщины сами подставляют свои легкомысленные и пылкие головки. Горе мужчине, желающему быть искренним в любви: его постигнет судьба Ральфа! Вот мой ответ тому, кто стал бы говорить, что Индиана — натура исключительная и что заурядная женщина не проявляет в своем сопротивлении мужу ни такого хладнокровного упорства, ни такой удручающей покорности. Я напомнил бы ему об оборотной стороне медали и указал бы на жалкую слабость, которую Индиана питала к Реймону, на ее безрассудное ослепление. Я спросил бы его, где он найдет женщину, которая не умела бы с равной легкостью обманывать других и обманываться сама; которая не могла бы в продолжение десяти лет хранить в своем сердце надежду и потом в минуту безумия опрометчиво поставить все на карту, которая не была бы столь же покорной в объятиях своего избранника, сколь неприступной и сильной — перед человеком, ею не любимым.24
Между тем семейная жизнь госпожи Дельмар протекала теперь гораздо спокойнее. Вместе с мнимыми друзьями исчезли и многие неприятности, которые только усугублялись стараниями этих ретивых и услужливых посредников. Сэр Ральф, молчаливый и с виду ко всему безучастный, лучше их всех умел сглаживать мелкие недоразумения, которые так легко раздуть в ссору при помощи сплетен. Впрочем, Индиана проводила почти все время в одиночестве. Дом их был расположен в горах над городом, и каждое утро господин Дельмар, державший свои товары на складе в порту, уходил туда на весь день заниматься торговыми делами, которые он вел с Индией и Францией. Сэр Ральф, поселившийся вместе с ними, всячески скрашивал им жизнь и делал это так деликатно, что они даже не замечали его благодеяний. Он изучал естественные науки и наблюдал за работами на плантации. Индиана вернулась к своим прежним привычкам и в ленивом безделье, столь свойственном креолкам, проводила знойные часы дня в гамаке, а длинные вечера — в уединении гор. Остров Бурбон представляет собой огромный конус, основание которого занимает площадь размером около сорока лье, а гигантские вершины поднимаются на высоту тысячи шестисот туазов. Почти со всех точек этой огромной горы, за острыми скалами, узкими долинами и высокими лесами, взору открывается голубое море, сливающееся на горизонте с небом. Из окна своей спальни, сквозь расщелину поросшей лесом горы, покатый склон которой находился как раз напротив их жилища, Индиане видны были белые паруса, скользившие по Индийскому океану. В продолжение тихих дневных часов это зрелище привлекало ее взоры и превращало ее печаль в какое-то беспросветное и безысходное отчаяние. Чудесный пейзаж совсем не вызывал в ней поэтического восторга, наоборот — при виде этих красот природы ее мысли становились еще мрачнее и безотраднее. Она опускала соломенную штору на окне и, стараясь скрыться даже от дневного света, проливала наедине жгучие и горькие слезы. По вечерам, когда ветерок с гор приносил ей запах цветущих рисовых полей, она уходила в саванну и оставляла Дельмара и Ральфа наслаждаться на веранде ароматным настоем фахама и курить сигареты. Она взбиралась на вершину какой-нибудь доступной для подъема скалы — кратера потухшего вулкана — и смотрела оттуда на заходящее солнце, зажигавшее ярким пламенем облака и рассыпавшее золотую и рубиновую пыль на шелестящие верхушки сахарного тростника и на сверкающую поверхность выступающих из воды рифов. Она редко спускалась в ущелье реки Сен-Жиль, потому что вид моря причинял ей страдания, и в то же время оно неотразимо притягивало ее своими обманчивыми миражами. Ей казалось, что за волнами и туманной далью перед ее взором предстанет волшебное видение иной земли. И действительно, порой скользящие облака принимали фантастические контуры: то ей мерещилось, что на поверхности моря встает гигантская белая волна, похожая по очертаниям на фасад Лувра; то два квадратных паруса выплывали внезапно из тумана и представлялись ей башнями собора Парижской богоматери в тот час, когда над Сеною поднимается густой туман, окутывающий основание собора и башни кажутся повисшими в воздухе; или же клочья розовых облаков своей изменчивой формой напоминали ей причудливую архитектуру огромного города. Индиана все еще находилась во власти прошлого и вся трепетала от радости при виде воображаемого Парижа, хотя в действительности время, проведенное в этом городе, было самой тяжелой порой ее жизни. Странное состояние овладевало ею тогда. Она находилась на головокружительной высоте над землей, у ног ее извивались ущелья, отделявшие ее от океана, и при взгляде на них ей казалось, что она — стрела, выпущенная в воздушное пространство и с необычайной быстротой приближающаяся к чудесному городу, который создало ее воображение. Вся во власти своей мечты, она машинально цеплялась за скалу, служившую ей опорой. И если бы кто-нибудь увидел тогда ее жадный взор, высоко вздымавшуюся грудь и дикую радость, которая озаряла ее лицо, он подумал бы, что перед ним безумная. А между тем это были единственные часы радости, единственные отрадные минуты, о которых она мечтала в продолжение целого дня. Если бы мужу вздумалось запретить ей эти одинокие прогулки, я не знаю, чем бы она заполнила свое существование, потому что она жила только своими иллюзиями, пламенным стремлением к тому, что нельзя было назвать, ни воспоминанием, ни ожиданием, ни надеждой, ни сожалением, а только страстным, пламенным желанием. Так проводила она под небом тропиков целые недели и месяцы, предаваясь пустой мечте, любя и лаская лишь тень. Ральф также выбирал для своих прогулок мрачные и тенистые места, куда не долетало дыхание морского ветра, ибо вид океана стал ему ненавистен, равно как и мысль о новом путешествии. В его воспоминаниях Франция была каким-то проклятым местом. Там он был так несчастен, что подчас терял мужество, несмотря на то, что привык к горю и терпеливо переносил страдания. Он всеми силами старался забыть об этой стране. Хоть он и разочаровался в жизни, ему все же хотелось жить, пока он чувствовал, что кому-то нужен. Итак, он всячески избегал говорить о своем пребывании во Франции. Чего бы он ни дал, чтобы вырвать из памяти госпожи Дельмар это ужасное воспоминание! Но он мало надеялся на успех: он знал, что неловок и некрасноречив, и потому избегал Индианы и не пытался чем-нибудь развлечь ее. Из-за своей чрезмерной сдержанности и деликатности он по-прежнему казался холодным и эгоистичным. Он уходил один со своими страданиями как можно дальше от людей, и, видя, как он целыми днями блуждает по лесам и горам в погоне за птицами или насекомыми, можно было подумать, что это охотник или натуралист, всецело поглощенный своей невинной страстью и нисколько не интересующийся сердечными делами, волнующими окружающих. На самом же деле охота и занятия науками были для него только предлогом, помогавшим ему скрывать свои горькие и тягостные думы. Конусообразный остров Бурбон на всем своем протяжении изрезан узкими ущельями, на дне которых горные речки катят свои прозрачные бурные воды; одно из таких ущелий носит название Берника. Это очень живописное место — глубокая и узкая долина, зажатая между двумя рядами отвесных скал, склоны которых покрыты цепляющимся за камни кустарником и зарослями папоротника. В расщелине между двумя скалами течет ручеек. У края расщелины ручей низвергается с огромной высоты и образует на месте своего падения небольшое озеро, заросшее тростником. Водяная пыль стоит над ним. По его берегам и по берегам ручейка, вытекающего из полноводного озера, растут бананы, личи и померанцевые деревья, покрывающие все ущелье своей темной пышной зеленью. Сюда-то и скрывался Ральф от жары и людей. Все его прогулки кончались у этого излюбленного им места. Однообразный шум прохладного водопада успокаивал его. Когда его сердце сжималось от тайных и никем не понятых мук, он приходил сюда и здесь в никому не ведомых слезах и молчаливых жалобах изливал свое горе и нерастраченную силу своей души и молодости. Чтобы вам стал понятнее характер Ральфа, следует, может быть, сказать, что по крайней мере половина его жизни прошла в глубине этого ущелья. Сюда приходил он в своем раннем детстве, здесь учился стойко переносить несправедливость родителей, здесь набирался душевных сил для борьбы с жестокой судьбой и здесь же выработал в себе твердость, ставшую впоследствии его второй натурой. Сюда, будучи уже подростком, он приносил на плечах крошку Индиану, укладывал ее спать на прибрежную траву, а сам удил рыбу в прозрачной воде или лазил по скалам в поисках птичьих гнезд. Одиночество его нарушали только чайки, буревестники, водяные курочки и морские ласточки. Эти береговые птицы, гнездившиеся в расселинах неприступных скал, то и дело взмывали вверх или камнем падали вниз, парили и кружились над пропастью. К вечеру они собирались беспокойными стаями и наполняли гулкое ущелье своими резкими, хриплыми криками. Ральфу доставляло удовольствие следить за их величественным полетом, слушать их тоскливые голоса. Он называл их своей маленькой ученице, рассказывал об их жизни, обращал ее внимание на красивую мадагаскарскую уточку с оранжевым брюшком и изумрудной спинкой, вместе с ней восхищался полетом фаэтона, который иногда залетал на эти берега. Эта птица с алыми перьями, похожими на соломинки, может за несколько часов перелететь с острова Маврикия на остров Родригес, куда она всегда возвращается на ночь к своему выводку, пролетев над морем двести миль. Буревестники также прилетали сюда, чтобы посидеть на скалах, распустив заостренные крылья, оглашая воздух громкими жалобными криками; прилетал сюда и царь морей — большой фрегат с раздвоенным хвостом, свинцовым оперением и изогнутым клювом; птица эта так редко опускается на землю, точно воздух — ее единственная стихия, а движение — естественное состояние. Пернатые обитатели скал, по-видимому, привыкли к двум детям, постоянно вертевшимся около их гнезд, и почти не пугались при их приближении. Когда Ральф влезал на скалу, где они только что расположились, они взлетали черной стаей и, как бы назло ему, садились немного выше. Индиана смеялась, следя за ними, а затем осторожно уносила в своей соломенной шляпе яйца, добытые для нее Ральфом зачастую с большим трудом, так как ему приходилось смело отвоевывать их у крупных морских птиц, защищавших их своими сильными крыльями. Воспоминания возникали, проносились в голове Ральфа и наполняли его душу горечью, так как времена изменились и маленькая девочка — его всегдашняя спутница — перестала быть его другом или, во всяком случае, не была с ним так откровенна и доверчива, как прежде. Хотя он вновь обрел ее привязанность и она окружала его вниманием и заботами, между ними еще стояло что-то, мешавшее им быть откровенными, — это было воспоминание, которое владело всеми их помыслами. Ральф знал, что не может коснуться этого вопроса. Однажды — в минуту опасности — он осмелился это сделать, но его мужественная попытка ни к чему не привела. Повторить ее теперь было бы бесполезной жестокостью, и Ральф скорее решился бы оправдать Реймона, этого светского человека, к которому он чувствовал сильнейшее презрение, чем вынести ему справедливый приговор и тем увеличить горе Индианы. Итак, он молчал и даже избегал ее. Хотя они жили под одной крышей, он ухитрялся видеться с нею только за столом; и все же, словно провидение, он тайно оберегал ее. Он покидал плантацию только в те часы, когда жара удерживала ее в гамаке; вечером, когда она уходила на прогулку, он под разными предлогами оставлял Дельмара одного на веранде, а сам отправлялся к подножию скал и ждал ее в том месте, где, как ему было известно, она имела обыкновение сидеть. Он проводил там целые часы, поглядывая на нее сквозь ветви деревьев, слабо освещенных восходящей луной, но никогда не приближался к ней и не осмеливался нарушить хотя бы на мгновение ее печальную задумчивость. Когда она спускалась в долину, она всегда встречала его на берегу быстрого ручья, вдоль которого шла тропинка к их дому. Он ждал ее обычно, сидя на одном из огромных валунов, омываемых серебристыми струйками журчащей воды. Когда белое платье Индианы показывалось на берегу, Ральф молча поднимался, предлагал ей руку и доводил до двери, не произнося ни слова, если только она сама, чувствуя себя более грустной и подавленной, чем обычно, не начинала какой-нибудь разговор. Потом, расставшись с ней, он уходил к себе в спальню, но не ложился, пока все в доме не засыпали. Если Дельмар повышал голос, Ральф, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, шел к нему и старался успокоить или отвлечь его, ни в коем случае не давая понять, что делает это намеренно. Их жилище по сравнению с домами наших краев можно было бы назвать прозрачным, и, чувствуя себя постоянно на виду, полковник невольно обуздывал свой нрав. Вечное присутствие Ральфа, при малейшем шуме появлявшегося в качестве третьего лица между ним и его женой, принуждало господина Дельмара сдерживаться, ибо полковник был достаточно самолюбив и умел взять себя в руки при этом молчаливом, но суровом свидетеле. Для того чтобы сорвать дурное настроение, накопившееся за день и вызванное различными неприятностями делового характера, полковник ждал, когда его строгий судья отправится спать. Но напрасно — тайное око, казалось, постоянно наблюдало за ним: стоило ему произнести резкое слово, стоило громко крикнуть, как тотчас же из спальни Ральфа доносился звук передвигаемой мебели или шарканье ног, и полковник умолкал, поняв, что осторожный и терпеливый покровитель его жены не дремлет.ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
25
Смена кабинета 8 августа произвела большое смятение во Франции и нанесла жестокий удар благополучию Реймона. Он не принадлежал к числу тех слепых честолюбцев, которые радовались мимолетной победе. В политику он вкладывал всю свою душу, на ней строил все планы на будущее. Он надеялся, что король, вступив на путь искусных компромиссов, сможет еще долго сохранять в стране равновесие, необходимое для спокойного существования старинных дворянских семей. Но появление Полиньяка разрушило эту надежду. Реймон был слишком дальновиден и слишком хорошо знал «новое» общество, чтобы строить свои расчеты в надежде на временный успех. Он понял, что его благополучие пошатнулось вместе с монархией и что его состояние, а может быть, даже и сама жизнь, висит на волоске. Он очутился в щекотливом и затруднительном положении. Честь обязывала его преданно служить королевскому дому, интересы которого были до сих пор тесно связаны с его собственными, несмотря на всю опасность такой преданности, — в этом отношении он не мог поступиться своею совестью и изменить памяти предков. Но, как человек осторожный и рассудительный, он не одобрял совершенно явно проявлявшегося стремления установить неограниченную монархию, — это, как он сам говорил, противоречило его внутренним убеждениям. Такое направление политики угрожало его карьере и, что даже хуже, выставляло в смешном свете его, известного публициста, который не раз смело обещал от лица королевской власти справедливое отношение ко всем и выполнение клятвенно взятых на себя обязательств. И вот теперь действия правительства полностью опровергли неосмотрительные заверения молодого политика; спокойные и равнодушные люди, еще два дня назад поддерживавшие конституционную монархию, переходили теперь в оппозицию и называли обманом все, что писалось Реймоном и его единомышленниками. Наиболее вежливые обвиняли их в непредусмотрительности и бездарности. Для Реймона было большим унижением прослыть простофилей после того, как он играл такую видную роль в монархической партии. В глубине души он начинал проклинать и презирать вырождавшуюся монархию, в своем падении увлекавшую его за собой. Ему хотелось бы отойти от нее до того, как наступит час решительной борьбы, но сделать это так, чтобы все приличия были соблюдены. В течение некоторого времени он прилагал невероятные усилия, чтобы завоевать доверие и того и другого лагеря. Тогдашние оппозиционеры охотно допускали в свои ряды новых сторонников. Им нужны были люди, а так как они не требовали от новообращенных особых доказательств преданности, то привлекли многих недовольных. Впрочем, они не гнушались также и представителями знатных фамилий, и ежедневно при помощи ловкой лести в газетах им удавалось привлечь на свою сторону наиболее видных приверженцев рушившейся монархии. Лесть эта не могла обмануть Реймона, но он не отвергал ее, так как был уверен в том, что сумеет извлечь из нее пользу. С другой стороны, защитники престола делались все нетерпимее, по мере того как их положение становилось все более и более безнадежным. Они беспощадно и необдуманно изгоняли из своих рядов самых нужных им людей и вскоре начали высказывать недовольство и проявлять недоверие по отношению к Реймону. Реймон, больше всего на свете дороживший своей доброй славой как одним из важнейших преимуществ в жизни, не знал, как выпутаться из затруднительного положения, но он — очень кстати — заболел острым ревматизмом и принужден был временно отказаться от всяких дел и уехать в деревню вместе с матерью. В уединении Реймон страдал от сознания, что заживо похоронен и не может принять участие в лихорадочной деятельности распадающегося общества; что не может примкнуть к тому или другому лагерю, не только из-за болезни, но и потому, что затрудняется в выборе; что не может стать под развевающиеся повсюду воинственные знамена, призывающие к решительной борьбе даже самых незначительных и неспособных людей. Жестокие боли, одиночество, скука и лихорадка незаметно изменили направление его мыслей. Впервые, быть может, он задавал себе вопрос: стоит ли высший свет тех усилий, которые он прилагал для того, чтобы снискать его благоволение? Видя, как все равнодушны к нему, как быстро были забыты его выдающиеся способности и слава, он осудил высший свет. И хотя его надежды были обмануты, сознание, что он смотрел на общество лишь как на средство к достижению своих корыстных целей и что он достиг их только благодаря самому себе, утешало Реймона. Ничто не укрепляет так эгоизма, как подобные рассуждения. Реймон пришел к выводу, что для счастья светского человека необходимы удача и в общественной и в личной жизни, и победы в свете, и семейные радости. Мать, самоотверженно ухаживавшая за ним во время болезни, сама опасно заболела. Настал его черед забыть о своих недугах и позаботиться о ней, но это было выше его сил. Сильные и страстные натуры в минуты опасности становятся выносливыми и выказывают чудеса стойкости, но слабые и вялые люди неспособны на такой душевный подъем. Хотя Реймон и был, по мнению общества, хорошим сыном, у нега не хватило физических сил, и он не вынес такого напряжения. Прикованный к постели, видя у своего изголовья лишь слуг или немногих друзей, изредка навещавших его и спешивших скорее окунуться в водоворот общественной жизни, Реймон вспомнил Индиану и искренне пожалел о ней, ибо сейчас она была ему очень нужна. Он вспомнил, с какой трогательной заботой она ухаживала за своим старым ворчливым мужем, и представил себе, какой нежностью и вниманием окружила бы она своего возлюбленного. «Если бы я принял ее жертву, — размышлял он, — она была бы опозорена, но какое значение имело бы это для меня в настоящее время? Я не был бы теперь одинок. Пусть легкомысленный, эгоистичный свет „покинул бы меня“, та, от которой все отвернулись, сидела бы, любящая и преданная, у моих ног; она плакала бы вместе со мной и облегчала бы мои страдания. Зачем я оттолкнул эту женщину? Она так любила меня, что счастье, которое она подарила бы мне, заставило бы ее забыть о людском презрении». Он решил, что непременно женится, как только выздоровеет, и принялся перебирать в своей памяти имена и лица, обращавшие на себя внимание в буржуазных и аристократических салонах. Восхитительные видения проносились в его мечтах: красивые головки, украшенные цветами, белоснежные плечи с накинутыми на них боа из лебяжьего пуха, стройные талии, стянутые атласными и муслиновыми корсажами; пленительные призраки реяли на прозрачных крыльях перед тяжелым, лихорадочным взором Реймона. Но он представлял себе этих пери только в благоуханном вихре бала. Очнувшись, он спрашивал себя, могут ли их розовые губки улыбаться не только кокетливо, могут ли их белые ручки врачевать душевные раны, могут ли они, при всем своем тонком и блестящем уме, утешить и развлечь измученного тоской больного? Реймон был человеком рассудительным и потому больше чем кто-либо другой опасался женского кокетства и ненавидел эгоизм, так как отлично понимал, что такие свойства характера не могут принести ему счастья. Выбрать себе жену было не менее трудно для Реймона, чем прийти к определенным политическим убеждениям. Одни и те же причины побуждали его не торопиться и действовать осторожно в обоих вопросах. Он принадлежал к строгой аристократической семье, не простившей бы ему неравного брака, а между тем прочным состоянием владели теперь только плебеи. По всей вероятности, буржуазии суждено было прийти на смену дворянству, и, чтобы сохранить за собой главенствующее положение, нужно было стать зятем промышленника или биржевика. Реймон считал, что самым разумным было бы подождать и посмотреть, откуда дует ветер, прежде чем решиться на шаг, от которого будет зависеть все его будущее. Эти практические размышления ясно показали ему, что чувство в светских браках играет ничтожную роль; поэтому надежду найти себе когда-нибудь спутницу жизни, достойную любви, он мог основывать только на счастливой случайности. Пока что болезнь затягивалась, и надежда на лучшее будущее не могла уменьшить страданий, испытываемых в настоящем. Он пришел к печальному выводу, что был слеп в тот день, когда отказался похитить госпожу Дельмар, и теперь проклинал себя за то, что не понял своей собственной выгоды. Как раз в это время он получил письмо, написанное Индианой с острова Бурбон. То, что Индиана, несмотря на несчастья, которые, казалось, должны были сломить ее, сохранила непоколебимую и мрачную силу духа, произвело на Реймона огромное впечатление. «Я неправильно судил о ней, — подумал он, — она по-настоящему любила меня, любит и сейчас; ради меня она готова совершить геройские подвиги, на какие обычно неспособны женщины, и, может быть, стоит мне сказать только слово, и она прилетит ко мне с другого конца света. К сожалению, для того, чтобы это проверить, потребуется шесть, даже восемь месяцев, а то бы я обязательно попробовал!» Он заснул с этой мыслью, но вскоре проснулся от суматохи, поднявшейся в соседней комнате. Он с трудом встал, надел халат и еле дошел до спальни матери; госпоже де Рамьер было очень плохо. Только утром к ней вернулись силы. Она понимала, что ей осталось жить недолго, и последними ее мыслями были мысли о будущем сына. — Во мне вы теряете вашего лучшего друга, — сказала она ему. — Молю бога, чтобы взамен меня он послал вам достойную вас жену! Но будьте осторожны, Реймон, и не жертвуйте ради честолюбия спокойствием всей вашей жизни. Увы, только одну женщину хотела бы я назвать своей дочерью, но небо уже распорядилось ее судьбой. Однако, сын мой, Дельмар уже стар и немощен, — кто знает, может быть, длительное путешествие окончательно подорвало его силы. Уважайте честь его жены, пока он жив, но если, как мне кажется, он вскоре последует за мной, помните, что на свете есть женщина, любящая вас почти так же сильно, как любила вас мать. Вечером госпожа де Рамьер скончалась на руках сына. Горе Реймона было искренним и глубоким. Утрата его была так тяжела, что тут не могло быть места притворным чувствам или расчету. Мать была ему по-настоящему нужна, с ее смертью он лишился огромной нравственной поддержки. Он обливал горькими слезами ее восковой лоб и потухшие глаза. Он обвинял небо, проклиная судьбу и плакал также об Индиане. Он упрекал бога за то, что тот не дает ему должного счастья, поступает с ним как с обыкновенным смертным, лишает его сразу всего. Затем он усомнился в самом существовании бога, который так покарал его, и предпочел лучше отречься от него, чем подчиниться его воле. Соприкоснувшись с жестокой действительностью, все иллюзии Реймона рассеялись как дым, и в сильном жару он снова слег в постель, обессиленный и поверженный, как развенчанный монарх или падший ангел. Немного оправившись, он стал интересоваться тем, что происходит во Франции. Положение в стране все ухудшалось, народ отказывался платить налоги. Реймон поражался глупому ослеплению монархической партии и, решив не вмешиваться пока что в драку, уединился в Серей, где предался грустным воспоминаниям о матери и госпоже Дельмар. Постоянно возвращаясь к одной и той же мысли, которая вначале только мелькнула у него в голове, он пришел к тому выводу, что Индиана отнюдь не потеряна для него и при желании он может вернуть ее. В осуществлении этого проекта он видел немало трудностей, но еще больше преимуществ. Не в его интересах было ждать, пока она овдовеет, и жениться на ней, как советовала ему госпожа де Рамьер. Дельмар мог прожить еще двадцать лет, да и Реймон вовсе не собирался отказываться от возможности сделать впоследствии блестящую партию. Его богатое и живое воображение рисовало ему более заманчивую картину. Он полагал, что без особого труда может подчинить Индиану своей воле; он чувствовал в себе достаточно хитрости и ловкости, чтобы сделать из этой возвышенной и пылкой женщины покорную и преданную возлюбленную. Он мог бы укрыть ее от нападок общественного мнения, ограничив ее жизнь домашним очагом, хранить ее, как сокровище, в своем уединении и в моменты одиночества и грусти черпать счастье в ее чистой и благородной привязанности. Гнев мужа тоже не страшил его. Ведь не явится же он разыскивать жену за три тысячи лье, когда торговые дела требуют его присутствия в другой части света. Индиана не будет стремиться к развлечениям и свободе после тяжелых испытаний, приучивших ее к покорности. Ей нужна только его любовь, а Реймон чувствовал, что полюбит ее из благодарности, как только она окружит его заботами. Он вспоминал также о том постоянстве и нежности, какие она выказывала ему в долгие дни его охлаждения и равнодушия. Он строил планы, как сохранить свою свободу и в то же время не дать Индиане повода к жалобам; он рассчитывал приобрести над ней такую власть, чтобы со временем она согласилась на все, даже на его брак. Все это казалось ему вполне осуществимым: он знал многочисленные примеры таких тайных связей, существовавших, несмотря на традиции и законы общества, так как благодаря осторожности и ловкости удавалось держать их в тайне и ограждать от людского осуждения. «Впрочем, — добавил он мысленно, — эта женщина готова принести мне любую жертву. Для меня она приедет с другого конца света и, не думая, чем будет ее жизнь, отрежет себе путь к отступлению. Общество сурово только к мелким и заурядным проступкам; необычайная смелость поражает, исключительное несчастье обезоруживает. Ее пожалеют, возможно даже начнут восхищаться поступком этой женщины, совершившей для меня то, на что ни одна другая не отважилась бы. Ее будут порицать, но смеяться над ней не будут; и никто не осудит меня за то, что я взял ее под свою защиту после такого несомненного доказательства ее любви, а может быть, начнут даже превозносить мое мужество. Во всяком случае, у меня найдутся защитники, а мое поведение станет предметом неразрешимых споров и даже будет истолковано в мою пользу. Свет любит иногда, чтобы с ним не считались, он не восхищается теми, кто идет избитыми путями. В наше время надо управлять общественным мнением, подстегивая его ударами хлыста». Под влиянием этих мыслей он написал госпоже Дельмар. Письмо его было именно таким, какого можно было ожидать от этого ловкого и опытного человека. Оно дышало любовью, печалью и звучало правдиво. Увы, каким же гибким тростником является правда, если она гнется под первым порывом ветра! Однако Реймон был настолько умен, что не высказал в письме открыто своего желания. Он притворился, что смотрит на возможность возвращения Индианы как на несбыточное счастье, и на этот раз очень немного распространялся об ее обязанностях и долге. Он передал ей последние слова матери, яркими красками изобразил отчаяние, в какое повергла его ее смерть, тоску одиночества и опасность своего положения. Обрисовал мрачную и грозную картину революции, назревающей во Франции, и выразил притворную радость, что он в одиночестве встретит надвигающийся ураган. Он дал понять Индиане, что для нее настало время проявить ту преданность и верность, которыми она так похвалялась. Затем Реймон сетовал на свою судьбу, говоря, что дорого заплатил за свою добродетель, что несет тяжелый крест, что сам осудил себя на вечное одиночество, несмотря на то, что держал счастье в своих руках. «Не говорите мне больше о том, что вы любили меня, — прибавил он, — это отнимет у меня последние силы, лишит меня мужества, и я начну проклинать свою решимость и ненавидеть свой долг. Скажите, что вы счастливы, что забыли меня, — для того, чтобы я не стремился порвать цепи, которые разъединяют нас». Короче говоря, он писал, что чувствуя себя несчастным, а это значило дать Индиане понять, что он ждет ее.26
Прошло три месяца с момента отправки этого письма и до прибытия его на остров Бурбон, а положение госпожи Дельмар за это время стало совсем невыносимым из-за одного домашнего происшествия, имевшего для нее огромное значение. У нее сложилась грустная привычка ежедневно записывать все огорчения, накопившиеся за день. В этом дневнике своей скорби она обращалась к Реймону, и, хотя не собиралась посылать ему эти строки, тем не менее то горько сетуя, то вся горя от волнения, она делилась с ним своими горестными переживаниями и чувствами, которые не могла в себе заглушить. Записи эти попали в руки Дельмару, вернее — он попросту взломал шкатулку, где они хранились вместе с прежними письмами Реймона, и прочел их, дрожа от ревности и злобы. В первую минуту полковник от ярости потерял власть над собой; задыхаясь и сжав кулаки, он стал ждать возвращения жены с прогулки. Если бы она пришла несколькими минутами позже, то, может быть, несчастный Дельмар успел бы прийти в себя; но по воле рока она почти тут же вернулась домой. Не будучи в состоянии произнести ни слова, он схватил ее за волосы, бросил наземь и ударил ногой по голове. Как только Дельмар увидел кровавый след на ее лбу, он сам себе стал противен за столь жестокое обращение со слабым существом; в ужасе от содеянного, он убежал и, запершись у себя в спальне, зарядил пистолеты, чтобы пустить себе пулю в лоб. Но в тот момент, когда полковник собирался выполнить свое намерение, он увидел на веранде Индиану, — она поднялась с земли и со спокойным и холодным видом вытирала кровь, струившуюся по ее лицу. Сперва он обрадовался, что она жива, но затем гнев его разгорелся с новой силой. — Это пустая царапина, а следовало бы убить тебя! Нет, я не покончу с собой — я не хочу, чтобы ты наслаждалась в объятиях своего любовника! Не хочу, чтоб вы были счастливы! Буду жить назло вам обоим, буду смотреть, как ты сохнешь с тоски и горя, проучу насмеявшегося надо мной подлеца. Он продолжал бесноваться, когда Ральф вошел на веранду через другую дверь и увидел Индиану, растрепанную, в ужасном состоянии после только что происшедшей дикой сцены. Однако она не обнаружила никакого страха, не кричала, не молила о пощаде. Она была измучена жизнью и, казалось, даже хотела, чтобы Дельмар совершил убийство, а потому нарочно не звала на помощь. Во всяком случае, Ральф, находившийся в это время поблизости, не слышал никаких криков. — Индиана, — воскликнул он, отшатнувшись от нее в ужасе и изумлении, — кто ранил вас?! — Вы еще спрашиваете! — ответила она с горькой усмешкой. — Кто другой, как не «ваш друг»? Только у него поднимется рука на такое дело, только он имеет на это право. Ральф швырнул на землю свою бамбуковую трость. Ему не нужно было оружия, голыми руками хотел он задушить Дельмара. В два прыжка очутился он у его двери и выбил ее ударом кулака… Дельмар лежал на полу, лицо его побагровело, шея раздулась, он задыхался от апоплексического удара. Ральф подобрал разбросанные по полу бумаги. Узнав почерк Реймона и увидав взломанную шкатулку, он понял, что здесь произошло. Бережно собрав эти компрометирующие листки, он сейчас же передал их госпоже Дельмар и посоветовал немедленно сжечь их. По всей вероятности, Дельмар не успел еще прочесть все. Затем он попросил ее уйти к себе, а сам собирался тем временем созвать слуг на помощь полковнику. Но Индиана не захотела ни сжечь бумаги, ни скрыть нанесенную ей рану. — Нет, — высокомерно ответила она. — Я не хочу. Этот человек не пожелал в свое время утаить от госпожи де Карвахаль мое бегство, он поспешил разгласить то, что называл моим позором. Пусть же все видят теперь знак его позора, который он сам постарался запечатлеть на моем лице. Странная справедливость, требующая, чтобы один человек скрывал преступление другого, в то время как этот другой присваивает себе право безжалостно клеймить позором свою жертву! Когда Ральф увидел, что полковник пришел в сознание, он стал упрекать его с такой резкостью, какой трудно было от него ожидать. И Дельмар, отнюдь не злой по натуре, заплакал, как ребенок, раскаиваясь в своем поступке. Но раскаяние его было какое-то неосознанное, как это всегда бывает, когда люди действуют под влиянием минуты, не отдавая себе отчета ни в последствиях, ни в причинах своего поведения. Теперь он был готов броситься в другую крайность, хотел тут же позвать жену и просить у нее прощения, но Ральф отговорил его, убедив, что такое ребяческое поведение может умалить его авторитет и в то же время нисколько не примирит Индиану с нанесенным ей оскорблением. Он прекрасно знал, что есть обиды, которые не прощаются, и несчастья, которые не забываются. С этого времени Индиана возненавидела мужа. Все его попытки как-нибудь загладить свою вину привели только к тому, что она утратила последнее уважение к этому человеку. И в самом деле, вина его была огромна. Если не чувствуешь в себе достаточно силы холодно и неумолимо довести свою месть до конца, лучше отказаться от всякого поползновения проявить недовольство или неприязнь. Середины быть не должно: либо надо быть христианином и простить зло, либо человеком светским — и развестись с женой. К чувствам же Дельмара примешивалась известная доля эгоизма. Он был стар, заботы жены становились для него все более необходимыми. Он страшно боялся одиночества и если под влиянием оскорбленной гордости обращался с ней как грубый солдафон, то после некоторого размышления по-стариковски пугался, что она его бросит. Он был слишком стар и слаб и не надеялся стать отцом. Женившись, он сохранил привычки старого холостяка; он взял себе жену, как взял бы в дом экономку. Он прощал Индиане то, что она его не любит, движимый не нежными чувствами к ней, а старческим эгоизмом. Ее равнодушие огорчало его лишь потому, что он боялся на старости лет лишиться ее заботливого ухода. Госпожа Дельмар всей душой презирала и ненавидела существующие законы о браке, ставившие ее в столь унизительную зависимость от нелюбимого мужа, и к этой ненависти примешивалось еще чувство личной неприязни. Но, быть может, присущее нам стремление к счастью, ненависть к несправедливости, жажда свободы, угасающие в нас только вместе с жизнью, не более как основные элементы эгоизма — под этим англичане подразумевают любовь к самому себе, которую рассматривают не как порок, а как право каждого человека. Мне кажется, что человек, осужденный страдать от законов, выгодных для других людей, должен, если в нем есть хоть капля воли, бороться с таким произволом. Я думаю также, что чем благороднее и возвышеннее его душа, тем более чувствителен он к людской несправедливости. И если такой человек мечтах о том, что счастье должно быть наградой за добродетель, то какие ужасные сомнения, какое мучительное недоумение, какое разочарование принесет ему жизненный опыт! Итак, все думы Индианы, все ее поступки, все муки были вызваны великой и ужасной борьбой природы человека с цивилизацией. Если бы горы пустынного острова могли послужить для нее надежным приютом, она, конечно, бежала бы туда, после того как муж чуть не убил ее. Но остров Бурбон был слишком мал, ее, несомненно, вскоре отыскали бы, и она решила, что только море и полная неизвестность ее местопребывания могут оградить ее от тирана. Приняв такое решение, она успокоилась и даже повеселела. Господин Дельмар был так поражен и обрадован этим, что со свойственной его примитивной натуре грубостью подумал: «Полезно иногда дать почувствовать женщине свою силу». А она между тем мечтала о побеге, одиночестве и свободе. В ее больном воображении рождалось множество романтических планов: она думала о том, как поселится в пустыне Индии или Африки. По вечерам она следила за полетом птиц, улетавших на ночлег на остров Родригес. Этот уединенный остров сулил ей сладость одиночества, столь необходимого для истерзанной души. Но она не решилась искать убежища на соседних островах по тем же причинам, что и на острове Бурбон. Она часто встречала у себя в доме крупных подрядчиков с Мадагаскара, у которых были дела с ее мужем; то были люди неуклюжие, загорелые, грубые, их ум и смекалка проявлялись только в тех случаях, когда дело касалось торговли. Тем не менее их рассказы увлекали госпожу Дельмар; ей нравилось расспрашивать их об этом прекрасном, плодородном острове, и все, что они говорили о его чудесной природе, еще сильнее разжигало в ней желание уехать и скрыться там. Величина острова и немногочисленность европейского населения вселяли в нее надежду, что там ее не смогут найти. Итак, она остановилась на этом плане, и все ее помыслы были полны мечтами о жизни, которую она сама хотела себе создать. Мысленно она уже рисовала себе одинокую хижину у опушки девственного леса, на берегу неизвестной реки, где она сможет найти приют среди племен, не знающих ига наших законов и предрассудков. В своем неведении она надеялась, что найдет гам добродетели, изгнанные из нашего полушария, и будет мирно жить вне всякого общественного строя; она не представляла себе опасностей одинокой жизни, не думала о болезнях, свирепствующих в том климате. Слабая женщина, не имевшая сил вынести гнев мужчины, надеялась на то, что сможет противостоять нравам дикарей! Погружаясь в эти романтические грезы и строя невероятные планы, она забывала о своих страданиях, она создавала себе особый мир и находила утешение, уходя от печальной действительности; она старалась не думать о Реймоне, ибо в предстоящей ей одинокой и созерцательной жизни для него не оставалось места. Занятая мыслями о будущем, которое она создавала в своих мечтах, она меньше думала о прошлом; она чувствовала себя более смелой и свободной, и ей казалось, что она уже пожинает плоды своей отшельнической жизни. Но пришло письмо от Реймона, и все ее воздушные замки рассеялись как дым. Теперь ей казалось, что она любит его больше прежнего. Мне не хочется думать, что она никогда не любила его всеми силами души. По-моему, неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как заблуждение от истины; мне кажется, что собственная восторженность и пылкость настолько ослепляют нас, что мы принимаем такое увлечение за сильное и истинное чувство, и только позднее, вкусив блаженство настоящей любви, мы узнаем, как мы обманывались. То, что писал Реймон осебе и своем положении, снова вызвало в сердце Индианы порыв великодушия, свойственного ее натуре. Узнав, что он одинок и несчастлив, она сочла своим долгом забыть о прошлом и не думать о будущем. Накануне она хотела бросить мужа из чувства ненависти и обиды; теперь она даже жалела, что не уважает его и потому не может принести Реймону настоящую жертву. Она была в столь восторженном состоянии, что такие доказательства ее любви, как побег от вспыльчивого мужа, способного убить ее, и опасное четырехмесячное путешествие по морю, казались ей недостаточными. Она с радостью отдала бы жизнь за одну улыбку Реймона и не сочла бы это слишком дорогой ценой. Так уж создана женщина! Теперь весь вопрос был в том, чтобы уехать. Обмануть подозрительного мужа и проницательного Ральфа было делом нелегким. Но не в этом заключалось главное препятствие; трудно было избежать огласки, потому что, по закону, каждый пассажир должен был объявить о своем отъезде в газетах. Среди немногих судов, стоявших на якоре в опасной Бурбонской гавани, был корабль «Евгений», который готовился к отплытию в Европу. Индиана долго искала случая поговорить с капитаном украдкой от мужа; всякий раз, как она выражала желание прогуляться в порт, он просил сэра Ральфа сопровождать ее, а сам следил за ними с терпением, приводившим ее в отчаяние. Однако, тщательно собирая все сведения и стараясь найти какую-либо возможность для выполнения своего плана, Индиана узнала, что у капитана судна, отходящего во Францию, в деревне Салин, в глубине острова, живет родственница и что он часто возвращается от нее пешком обратно на корабль. С этой минуты она не покидала скалы, служившей ей наблюдательным пунктом. Чтобы не вызвать подозрений, она добиралась туда окольными тропинками и с наступлением ночи таким же путем возвращалась домой; но все было напрасно: интересовавший ее путник не появлялся. Оставалось только два дня, на которые она могла рассчитывать, так как подул ветер с берега. Якорная стоянка становилась ненадежной, и капитан Рандом горел нетерпением выйти в открытое море. Тогда она обратилась с горячей мольбой к богу — защитнику угнетенных и слабых, а затем, пренебрегая опасностью, не думая о том, что ее могут заметить, вышла на дорогу, ведущую в Салин. Не прошло и часа, как капитан Рандом стал спускаться по тропинке. Это был настоящий морской волк, всегда грубый и циничный, независимо от настроения; его взгляд заставил похолодеть от ужаса бедную Индиану. Однако она собрала все свое мужество и пошла ему навстречу с решительным и полным достоинства видом. — Сударь, — сказала она, — я отдаю в ваши руки свою жизнь и честь. Я хочу покинуть колонию и вернуться во Францию. Если вы не согласитесь взять меня под ваше покровительство и выдадите мою тайну, мне останется только одно — броситься в море. Капитан в ответ стал божиться, что море откажется потопить такую красивую шхуночку и что он готов тащить ее на буксире хоть на край света, раз она сама становится под ветер. — Значит, вы согласны, сударь? — с тревогой спросила его госпожа Дельмар. — В таком случае прошу вас принять вот это в уплату за переезд. И она протянула ему футляр с драгоценностями, когда-то подаренными ей госпожой де Карвахаль. В них заключалось все ее состояние. Но у моряка было другое на уме, и он вернул футляр, добавив несколько слов, от которых у Индианы вся кровь прилила к лицу. — Я очень несчастлива, сударь, — ответила она, еле сдерживая слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. — Мой поступок дает вам право оскорблять меня, но если бы вы знали, как невыносима для меня жизнь на этом острове, вы, несомненно, почувствовали бы ко мне сострадание, а не презрение. Благородный и трогательный вид Индианы произвел впечатление на капитана Рандома. Люди, обычно не склонные к состраданию, в некоторых случаях способны чувствовать глубоко и искренне. Он тотчас же вспомнил несимпатичную внешность полковника Дельмара и ходившие в колонии толки о его обращении с женой. Присматриваясь опытным глазом распутника к этой хрупкой, прелестной женщине, он был поражен ее невинным и наивным видом; в особенности тронул его белый шрам, выступивший у нее на лбу, когда она покраснела. В свое время он имел с Дельмаром торговые дела и затаил обиду на этого несговорчивого и прижимистого человека. — Черт возьми, — воскликнул он, — я презираю мужчину, способного ударить сапогом по лицу такую хорошенькую женщину! Дельмар — сущий разбойник, и я с удовольствием подложу ему свинью. Но будьте осторожны, сударыня, и не забывайте, что я рискую для вас своим положением. Вам следует незаметно скрыться, когда зайдет луна, и выпорхнуть, как маленькой птичке, из глубины какого-нибудь темного ущелья… — Я знаю, сударь, — продолжала она, — что, оказывая мне такую услугу, вы нарушаете существующие законы и рискуете заплатить штраф; вот почему я прошу вас принять мои драгоценности — они стоят вдвое дороже, чем плата за проезд. Капитан с улыбкой взял футляр. — Сейчас не время для денежных расчетов, — прибавил он, — но я охотно возьму на сохранение ваш маленький капитал. Принимая во внимание обстоятельства, я полагаю, что у вас, вероятно, не будет большого багажа; приходите в ночь, когда мы будем сниматься с якоря, на скалы Пальмовой бухты. Туда около двух часов ночи я пришлю за вами шлюпку с двумя хорошими гребцами, и они доставят вас на борт.27
День отъезда пролетел как сон. Индиана боялась, что он будет тянуться долго и мучительно, но он промелькнул, как одно мгновение. Тишина и спокойствие, царившие на плантации, составляли резкий контраст с душевной тревогой, волновавшей госпожу Дельмар. Она заперлась у себя в спальне и приготовила те немногие вещи, какие хотела взять в собою; потом, пряча их под шалью, постепенно перенесла все в Пальмовую бухту, уложила там в корзинку и зарыла ее в песок. Море было неспокойно, и ветер с каждым часом крепчал. Из предосторожности «Евгений» вышел из порта, и госпожа Дельмар видела вдали белые вздувшиеся паруса судна, лавирующего по ветру, чтобы удержаться на стоянке. Ее душа неудержимо стремилась навстречу кораблю, который, словно горячий конь, в нетерпении рвался с места. Прежний покой и тишина охватывали ее в горных ущельях, когда она возвращалась в глубь острова. Солнце ярко светило, воздух был чист, весело щебетали птицы, жужжали насекомые; работы шли своим обычным порядком, как накануне, и никому не было дела до ее мучительных переживаний. Тогда она начинала сомневаться в реальности всего происходящего и спрашивала себя, уж не грезит ли она наяву? К ночи ветер стих. «Евгений» подошел ближе к берегу, и на закате солнца госпожа Дельмар услышала со своей скалы пушечный выстрел, гулко раскатившийся по всему острову. Это был сигнал, оповещавший, что судно отплывает завтра с восходом солнца. После обеда господин Дельмар почувствовал себя нехорошо. Его жена подумала, что все пропало, что весь дом будет теперь всю ночь на ногах и ее план рухнет; кроме того, он страдал, нуждался в ней, — в такую минуту она не должна была бы покидать его. Ее охватило раскаяние, и она спрашивала себя, кто пожалеет этого старика, когда она его бросит. Мысль о том, что она может оказаться преступницей в собственных глазах и что голос совести осудит ее сильнее, чем общественное мнение, приводила ее в ужас. Если бы, как обычно, Дельмар грубо и настойчиво требовал ее забот, если бы был капризен и раздражителен, то Индиане, этой угнетаемой им рабыне, показалось бы законным и сладостным возмутиться против его власти. Но он впервые за всю жизнь переносил свои страдания терпеливо и тепло благодарил жену за заботу. В десять часов вечера он заявил, что чувствует себя совсем хорошо, потребовал, чтобы она пошла отдохнуть, и просил всех больше о нем не беспокоиться. Ральф подтвердил, что ему действительно гораздо лучше и что всего важнее для него теперь отдых и спокойный сон. Когда пробило одиннадцать, в доме все уже стихло. Госпожа Дельмар бросилась на колени и, обливаясь горькими слезами, стала молиться; она брала на свою душу великий грех и отныне только от бога могла ждать прощения. Затем она тихо вошла в комнату к мужу. Он спал крепким сном; лицо его было спокойно, дыхание ровно. Индиана уже собиралась уйти, как вдруг увидела в полутьме человека, спавшего в кресле. Это был Ральф, бесшумно пробравшийся сюда, чтобы в случае нового припадка прийти на помощь полковнику. «Бедный Ральф, — подумала Индиана, — какой красноречивый и жестокий упрек мне!» Ей захотелось разбудить его, признаться ему во всем, умолять его спасти ее от нее самой, но она вспомнила о Реймоне. «Еще одну жертву приношу я ему, — подумала она, — и самую тяжелую: я жертвую для него своим долгом». Любовь — добродетель женщины; проступки, совершенные во имя любви, она считает подвигом. Любовь дает ей силу бороться с угрызениями совести. Чем ей труднее совершить преступление, тем большей награды она ждет от любимого. Это тот фанатизм, который делает верующего способным на убийство. Она всегда носила на шее золотую цепочку, доставшуюся ей от матери, и теперь, сняв с себя, тихонько надела ее на шею Ральфа — в залог своей братской любви; затем она еще раз осветила лицо своего старого мужа, желая убедиться, что он не страдает. Ему что-то снилось в это мгновение, и он произнес слабым и грустным голосом: — Берегись этого человека, он погубит тебя. Индиана задрожала с головы до ног и убежала в спальню. Она ломала руки в мучительной нерешительности; но вдруг ей пришла в голову мысль, внушившая ей мужество: ведь она едет не ради себя, а ради Реймона; она не ждет от него счастья, а сама должна дать ему это счастье и готова обречь себя на вечные муки, лишь бы скрасить жизнь своего возлюбленного. Она бросилась бежать из дому и быстро достигла Пальмовой бухты, не смея обернуться и увидеть то, что оставляла позади. Она откопала спрятанную корзинку и села на нее. Безмолвная и дрожащая, она прислушивалась к завыванию ветра, к шуму волн, разбивавшихся у ее ног, к пронзительному крику ночной птицы сатанита, доносившемуся из морских водорослей, что покрывали подножия скал. Но все эти звуки заглушались биением ее сердца, отдававшимся в ее ушах как звон погребального колокола. Долго ждала она. Затем вынула часы, нажала репетир и убедилась, что назначенное время уже прошло. Море в эту ночь было очень бурным, а плавание у берегов острова Бурбон даже в тихую погоду настолько затруднительно, что Индиана стала уже сомневаться, приедут ли за ней гребцы, которым было поручено доставить ее на борт; но тут она увидела в блестящих волнах черный силуэт пироги, пытавшейся причалить к берегу. Прибой был так силен, волны так огромны, что утлое суденышко поминутно исчезало в волнах, словно в складках темного савана, усыпанного серебряными блестками. Индиана встала и несколько раз откликнулась на призывный сигнал, но ветер уносил ее крики, они не долетали до лодки. Наконец гребцы приблизились настолько, что смогли услышать ее голос; с большим трудом направили они лодку в ее сторону и остановились, дожидаясь попутной волны. Как только матросы почувствовали, что лодка приподнялась на гребне, они удвоили усилия, и волна выбросила их на берег. Сен-Поль построен на почве, образовавшейся из морских наносов и песков, принесенных рекой Гале из далеких гор в свое устье. Груды обточенных прибоем камней образуют вдоль берега подводные мели, и течение уносит, раскидывает и вновь нагромождает их, как и где ему заблагорассудится. Такое передвижение каменистых мелей неизбежно приводит к кораблекрушениям, и самый умелый и ловкий лоцман не проведет судно среди этих постоянно перемещающихся подводных рифов. Большие корабли, стоящие в гавани Сен-Дени, часто срываются с якоря, сильное течение относит их к берегу, и они разбиваются вдребезги. Когда начинает дуть береговой ветер и наступает внезапный отлив, остается одно — скорее выбраться в открытое море, что и сделал бриг «Евгений». Лодка уносила Индиану с ее небольшим багажом, а вокруг вздымались волны, выла буря, и гребцы ругались, не стесняясь вслух проклинать ее за ту опасность, которой они подвергались. Уже два часа тому назад, говорили они, корабль должен был сняться с якоря, из-за нее капитан упорно отказывался дать приказ об отплытии. Они высказывали оскорбительные и грубые предположения, и несчастная беглянка молча глотала стыд и обиду. Один из матросов заметил другому, что им может достаться за грубость по отношению к любовнице капитана. — Отстань от меня! — ответил с руганью тот. — Как бы нам не пришлось иметь дело с акулами; если мы еще и встретимся с капитаном Рандомом, то уж, поверь мне, он будет не злее их. — А вот и они, — заметил первый, — кажется, одна уже почуяла нас, я вижу за лодкой какую-то страшную морду. — Дурак, ты принимаешь собачью морду за морду морского хищника! Эй ты, четвероногий пассажир! Тебя, верно, забыли на берегу, но — тысяча чертей! — не придется тебе отведать наших матросских галет! Нам дан приказ доставить только барышню, а о болонке разговору не было… С этими словами он замахнулся веслом, чтобы ударить собаку по голове; в это время госпожа Дельмар рассеянно, сквозь слезы, взглянула на море и узнала свою красавицу Офелию, нашедшую ее по следу и теперь вплавь догонявшую лодку. В ту минуту, когда матрос хотел ударить собаку, волна далеко отбросила ее от лодки, и Индиана услышала ее жалобный, полный нетерпения визг. Она стала умолять гребцов подобрать Офелию, те, притворились, что согласны, но когда верное животное подплыло к ним, они с грубым хохотом размозжили ему череп, и Индиана увидела на волнах труп Офелии — этого преданного друга, любившего ее больше, чем Реймон. В то же мгновение огромная волна вскинула лодку на гребень и увлекла ее за собою в бездну; теперь смех матросов сменился отчаянными ругательствами. Но плоская и легкая пирога вынырнула на поверхность и, птицей взлетев на гребень, снова погрузилась в бездну, чтобы опять подняться на пенный вал. По мере того как они удалялись от берега, море становилось менее бурным, и вскоре лодка поплыла быстро и беспрепятственно по направлению к кораблю. К гребцам вернулось хорошее настроение, а вместе с ним и способность рассуждать. Они старались как-нибудь загладить свою грубость по отношению к Индиане, но их заигрывания были еще оскорбительнее, чем их злоба. — Успокойтесь, дамочка, — сказал один из них, — вы спасены! Капитан, наверно, попотчует нас самым лучшим вином из камбуза за то, что мы доставили в целости и сохранности его драгоценный груз. Другой сделал вид, будто сожалеет о том, что она сильно вымокла, и прибавил, что капитан ждет ее не дождется и позаботится о ней. Индиана не шевелилась и молча в страхе слушала их разговор; она понимала весь ужас своего положения и не видела другой возможности избегнуть оскорблений, как кинуться в море. Несколько раз она готова была выброситься из пироги, но сдерживала свое отчаяние, мысленно повторяя: «Я терплю все эти муки ради него, ради Реймона. Пусть меня забросают грязью, но я должна жить!» Она прижала руку к своему измученному сердцу и нащупала кинжал, который из инстинктивной предосторожности еще утром спрятала на груди. Сознание, что у нее есть оружие, успокоило ее; это был короткий отточенный стилет, который всегда носил ее отец, — старый испанский клинок, принадлежавший одному из представителей рода Медина-Сидония, чье имя вместе с датой — 1300 год — было выгравировано на стальном лезвии клинка. Наверное, этот стилет не раз обагрялся благородной кровью, им, вероятно, было смыто не одно оскорбление, наказан не один наглец. Нащупав кинжал, Индиана почувствовала, что и в ее жилах течет испанская кровь, и смело взошла на корабль с мыслью, что женщине нечего бояться опасности, раз у нее есть возможность лишить себя жизни и тем избегнуть позора. Она не захотела мстить своим грубым проводникам, наоборот — щедро наградила их за услуги. Затем, удалившись в каюту на корме, с тревогой стала ждать часа отплытия. Наконец рассвело, и на море появилось множество пирог, подвозивших пассажиров к кораблю. Индиана из своего уголка со страхом всматривалась в лица подъезжающих. Она боялась увидеть среди них мужа, явившегося за ней. Наконец пушечный выстрел, возвестивший об отплытии с острова, который был для нее тюрьмой, замер, отозвавшись эхом в скалах. За кораблем заклубилась пена, а взошедшее солнце озарило радостным розовым светом белые вершины Салазских гор, которые постепенно скрывались за горизонтом. Когда корабль отошел на несколько лье, капитан Рандом решил разыграть комедию, чтобы его не заподозрили в обмане. Он притворился, будто случайно обнаружил госпожу Дельмар, изобразил удивление, стал расспрашивать матросов, сделал вид, что рассержен, затем успокоился и, наконец, составил акт о том, что на борту корабля обнаружен «заяц», — обычная формулировка в подобных случаях. Здесь позвольте мне закончить свой рассказ об этом плавании. Но я должен прибавить в оправдание капитана Рандома, что, несмотря на всю его грубость, у него оказалось достаточно здравого смысла, и он быстро разгадал характер госпожи Дельмар; после нескольких слабых попыток воспользоваться ее одиночеством капитан, тронутый ее несчастной судьбой, сделался ее другом и покровителем. Однако порядочность этого человека и достоинство, с каким держала себя Индиана, не спасли ее от всяких толков, насмешливых взглядов, оскорбительных предположений, непристойных шуточек и намеков. Это было настоящей пыткой для бедной женщины в течение всего путешествия; об утомлении, лишениях, опасностях, тоске и морской болезни я не говорю, потому что она сама считала их пустяками.28
Через три дня после того, как письмо было отправлено на остров Бурбон, Реймон совсем забыл и о письме и о той, кому оно было адресовано. Он почувствовал себя гораздо лучше и решил поехать в гости к соседям. Имение господина Дельмара, Ланьи, которое он оставил кредиторам в счет долга, было приобретено богатым промышленником, неким господином Юбером, человеком предприимчивым, но достойным уважения, мало похожим на обычных богачей коммерсантов и скорее составлявшим исключение среди людей этого типа. Новый владелец уже устроился в доме, с которым у Реймона было связано столько воспоминаний. В саду, где, казалось, еще сохранились на песке следы легких ножек Нун, в просторных комнатах, где как будто еще раздавался нежный голос Индианы, его охватило сильное волнение, но вскоре присутствие нового лица изменило направление его мыслей. В большой гостиной, на том самом месте, где обычно занималась рукоделием госпожа Дельмар, теперь сидела за мольбертом высокая и стройная молодая девушка с миндалевидными глазами, взгляд которых был нежным и в то же время лукавым, ласковым и в то же время насмешливым. Она развлекалась, срисовывая причудливые стенные фрески. Это была очаровательная копия, сделанная акварелью, тонкая и остроумная карикатура, носившая отпечаток насмешливого и изысканного вкуса художницы. Ей нравилось слегка преувеличивать претенциозную манерность старых фресок, уловив в чопорных фигурках дух мишурного и блестящего века Людовика XV. На ее рисунке воскресли прежние, поблекшие от времени, краски оригинала, она верно передала жеманную грацию льстивых царедворцев и одинаково пышно разряженных маркиз и пастушек. Эту насмешку над историей она назвала подражанием. Она медленно подняла на Реймона свои проницательные глаза, в которых сквозила какая-то насмешливая обольстительная и коварная ласка, чем напомнила ему почему-то шекспировскую Анну Пейдж. В ее манере держаться не было ни застенчивости, ни излишней бойкости, ни светской жеманности или неуверенности в себе. У них завязался разговор на тему о влиянии моды на искусство. — Не находите ли вы, сударь, что моральный облик эпохи отразился в этой живописи? — спросила она Реймона, указывая на панель, расписанную пасторалями в стиле Буше. — Ведь эти барашки ходят, спят и щиплют траву совсем не так, как теперешние. А эта прелестная прилизанная природа совсем не похожа на настоящую — эти пышные кусты роз, растущие в чаще леса, где в наше время встречается только шиповник; а ручные птички — такой породы, по-видимому, больше не существует; а эти атласные розовые платья, которые не выгорают от солнца? Сколько во всем этом поэзии, неги и счастья, как чувствуется здесь жизнь, полная покоя, бесполезная и безобидная. Несомненно, эти смешные фантазии стоят наших мрачных политических разглагольствований. Почему не родилась я в ту эпоху, — добавила она с улыбкой, — такой легкомысленной и пустой женщине, как я, гораздо больше пристало заниматься разрисовкой вееров и модами, чем обсуждать газетные статьи и разбираться в прениях палат! Господин Юбер оставил молодых людей вдвоем, и постепенно их разговор перешел на госпожу Дельмар. — Вы были очень дружны с прежними владельцами здешнего дома, — сказала молодая девушка, — и с вашей стороны очень любезно приехать к новым хозяевам. Госпожа Дельмар, говорят, замечательная женщина, — прибавила она, пристально глядя на него, — и, верно, оставила здесь по себе такие воспоминания, что нам трудно будет заставить вас забыть о ней. — Превосходная женщина, — ответил Реймон равнодушно, — и муж ее очень достойный человек… — Но, — беспечно возразила молодая девушка, — мне кажется, она больше, чем просто превосходная женщина. Насколько я помню, ее очаровательная внешность заслуживает более яркого и поэтического эпитета. Я видела ее два года тому назад на балу у испанского посланника. Она была обворожительна, вы помните? Реймон вздрогнул при воспоминании о том вечере, когда он впервые заговорил с Индианой. Одновременно он припомнил, что на том же балу обратил внимание на изящное лицо и умные глаза молодой девушки, разговаривающей с ним сейчас. Но тогда он не осведомился, кто она. Да и теперь, только уезжая, когда он при прощании говорил господину Юберу комплименты по адресу его прелестной дочери, он узнал ее имя. — Я не имею счастья быть ее отцом, — возразил промышленник, — но я вознаградил себя, удочерив ее. Разве вы не знаете моей истории? — Я был болен несколько месяцев, — ответил Реймон, — и ничего не знаю о вас. Я только слышал, сколько добра вы уже сделали в нашей округе. — Некоторые люди, — продолжал господин Юбер улыбаясь, — ставят мне в большую заслугу то, что я удочерил мадемуазель де Нанжи. Но вы, сударь, при вашем благородстве, поймете, что я не мог поступить иначе, ибо так подсказывала мне совесть. Десять лет тому назад благодаря неустанной работе я нажил большое состояние и, будучи человеком одиноким и бездетным, стал искать ему применения. Мне представилась возможность приобрести в Бургундии земли и замок де Нанжи, которые в то время принадлежали государству и очень мне нравились. Я уже некоторое время владел этим поместьем, когда узнал, что бывший хозяин живет в жалкой лачуге вдвоем с семилетней внучкой и что они очень бедствуют. Правда, старик получил вознаграждение за свои земли, но он полностью отдал эти деньги в уплату долгов, сделанных им в эмиграции. Мне захотелось облегчить его участь, и я предложил ему поселиться у меня. Но, несмотря на свои несчастья, он сохранил родовую гордость и отказался жить из милости в доме своих предков; вскоре после моего прибытия он умер, не пожелав принять от меня ни малейшей услуги. Тогда я взял к себе его внучку. Маленькой гордой аристократке поневоле пришлось согласиться на мою помощь; но в этом возрасте предрассудки неглубоки и принятые решения недолговечны. Очень скоро она привыкла считать меня своим отцом, и я воспитал ее так же, как воспитал бы собственную дочь. Она щедро вознаградила меня тем счастьем, которым озарена теперь моя старость. Боясь потерять это счастье, я удочерил мадемуазель де Нанжи и теперь стремлюсь только к тому, чтобы найти ей хорошего мужа, способного умело управлять состоянием, которое я ей оставлю. Незаметно для себя этот достойный человек под влиянием интереса, проявленного Реймоном к его рассказам, в первое же свидание с откровенностью простолюдина посвятил его во все свои домашние дела. Тут внимательный собеседник понял, что у него крупное и прочное состояние, находящееся в полном порядке и ожидающее только хозяина, более молодого и с более изысканными вкусами, чем добряк Юбер. Реймон почувствовал, что он, возможно, и есть тот самый человек, который призван выполнить эту приятную обязанность, и поблагодарил изобретательную судьбу, сумевшую так удачно подстроить все в его интересах и столкнувшую его при помощи романтической случайности с молодой особой, равной ему по происхождению, наследницей богатого плебея. Такой счастливый случай нельзя было упустить, и он принялся действовать со свойственным ему искусством. К тому же сама наследница была очаровательна, и Реймон готов был забыть о выпавших на его долю испытаниях. Что касается госпожи Дельмар, то он не хотел даже и думать о ней. Он гнал прочь опасения, которые внушало ему посланное им письмо, и старался уверить себя, что бедная Индиана не поймет его скрытого смысла или что у нее недостанет мужества что-либо предпринять. Реймону удалось наконец убедить себя в собственной невиновности, ибо ему было бы очень тяжело признаться в эгоизме. Он не принадлежал к тем простодушным злодеям, которые появляются на сцене лишь для того, чтобы чистосердечно покаяться самим себе в присущих им пороках. Порок не любуется своим уродством, так как он испугался бы собственного изображения, и шекспировский Яго, закоренелый злодей в своих поступках, поражает неестественностью вложенных в его уста речей, когда, вынужденный сценическими условностями, разоблачает себя и все тайники своей коварной и порочной души. Редкий человек может так хладнокровно презирать свою совесть. Обычно он извращает ее, подчиняет своим требованиям и, когда она уже изломана и исковеркана, обращается к ней как к снисходительному и податливому наставнику, потакающему его выгодам и страстям, что не мешает, однако, этому человеку притворяться, будто он боится своей совести и прислушивается к ней. Итак, Реймон стал часто бывать в Ланьи, и его посещения были приятны господину Юберу — вы уже знаете, что Реймон обладал искусством нравиться; вскоре богач только и мечтал, как бы назвать его своим зятем. Но господин Юбер хотел, чтобы его приемная дочь сама остановила свой выбор на Реймоне, и предоставил молодым людям полную свободу ближе познакомиться и узнать друг друга. Лора де Нанжи не торопилась осчастливить Реймона и очень искусно держала его на грани сомнений и надежд. Менее великодушная, чем госпожа Дельмар, но более изворотливая, холодная и льстивая, гордая и в то же время приветливая, она была именно той женщиной, которая могла покорить Реймона, ибо в такой же мере превосходила его лукавством, в какой он превосходил в этом отношении Индиану. Она очень скоро поняла, что ее поклонник домогается ее богатства не меньше, чем ее самой, но она была женщиной здравомыслящей и не ожидала ничего иного. У нее было слишком много благоразумия, чтобы мечтать о бескорыстной любви, которая бы не зависела от ее миллионного приданого. Спокойно, философски смотря на вещи, она примирилась с этим и не осуждала Реймона; она не презирала его за то, что он расчетлив и практичен, как истый сын своего века, но слишком хорошо понимала его, чтобы любить. Она гордилась тем, что идет в ногу со своим холодным, рассудочным веком, и из самолюбия не позволила бы себе питать наивные иллюзии, а всякое разочарование сочла бы последней глупостью. Словом, она видела героизм в том, чтобы не допустить в свое сердце любовь, тогда как госпожа Дельмар, наоборот, всем сердцем стремилась к ней. Считая брак социальной необходимостью, мадемуазель де Нанжи согласилась выйти замуж, но пока ей доставляло лукавое удовольствие пользоваться своей свободой и время от времени проявлять свою власть над человеком, стремившимся отнять у нее эту свободу. Этой молодой девушке, которой суждено было рано познать все ничтожество богатства, были неведомы безмятежность юности и сладкие грезы, для нее не существовало светлого, заманчивого будущего. Жизнь казалась ей построенной на холодном расчете, а счастье — наивной иллюзией, которой следовало опасаться как смешной слабости. В то время как Реймон устраивал свою судьбу, Индиана приближалась к берегам Франции. Каковы же были ее изумление и ужас, когда по прибытии она увидала на стенах Бордо трехцветное знамя. В городе царило сильное волнение: накануне чуть не убили префекта, народ всюду поднимался, гарнизон, казалось, готовился к кровавой борьбе, но никто еще не знал результатов восстания в Париже. «Я приехала слишком поздно!» Эта мысль как громом поразила госпожу Дельмар. Она была так взволнована, что, оставив на корабле последние деньги и вещи, в полной растерянности принялась бродить по городу. Она искала дилижанс, который отправлялся бы в Париж, но все почтовые кареты были переполнены; люди в панике бежали из города или спешили поживиться имуществом побежденных. Только к вечеру Индиана получила место в дилижансе. Но в тот момент, когда она садилась в дилижанс, патруль национальной гвардии задержал пассажиров и потребовал, чтобы они предъявили свои документы. У Индианы их не оказалось. Пока она старалась рассеять нелепые подозрения торжествующих победу национальных гвардейцев, она услыхала вокруг себя разговоры о том, что королевская власть пала, король бежал, а его министры и все их приверженцы перебиты. Эти новости, сопровождавшиеся криками ликования и радости, поразили госпожу Дельмар в самое сердце. В происходившей во Франции революции ее лично интересовало лишь одно, во всей стране для нее существовал лишь один человек. Она упала без чувств на мостовую и пришла в себя уже в больнице через несколько дней. Только два месяца спустя она вышла оттуда, без денег, без вещей, без белья, слабая, еле живая, перенесшая воспаление мозга, истощенная болезнью, во время которой не раз была на краю гибели. Когда она очутилась на улице, едва держась на ногах, одна, без поддержки, без средств и без сил, когда с усилием вспомнила, что с ней произошло, и поняла, как она бесконечно одинока в этом большом городе, ее охватило невыразимое чувство страха и отчаяния при мысли о том, что судьба Реймона давно уже решена и что около нее нет никого, кто мог бы вывести ее из мучительной неизвестности. Ужасное сознание одиночества тяготило ее больную душу, и безнадежное отчаяние, вызванное обрушившимися на ее невзгодами, понемногу притупило все ее чувства. В состоянии полного душевного оцепенения она дотащилась до гавани и, дрожа от лихорадки, села на каменную тумбу погреться на солнышке; она просидела так несколько часов, равнодушно уставясь на воду, плескавшуюся у ее ног, ничего не желая, ни о чем не думая, ни на что не надеясь; затем вспомнила, что оставила вещи и деньги на бриге «Евгений» и, быть может, сумеет получить их обратно; но уже стемнело, и она не осмелилась справиться о корабле у матросов, которые со смехом и грубыми шутками заканчивали свою дневную работу. Не желая привлекать внимания, она вышла из гавани и решила укрыться в развалинах снесенного дома, стоявшего позади широкой набережной Кэнконс. Там, забившись в угол, она провела целую ночь — холодную октябрьскую ночь, полную горьких дум и страхов. Наконец наступил день, а с ним и острый, мучительный голод. Она решила просить милостыню. Ее одежда, хотя и потрепанная, все же была слишком хороша для нищенки: на нее смотрели с любопытством, недоверием и насмешкой и ничего не подавали. Она снова побрела в порт, спросила о бриге «Евгений» и узнала от первого встретившегося ей матроса, что это судно все еще стоит в Бордо на рейде. Отправившись туда на лодке, она застала капитана Рандома за завтраком. — Как, моя прекрасная пассажирка, вы уже вернулись из Парижа? — воскликнул он. — Хорошо, что вы прибыли, а то я завтра отправляюсь в обратный путь. Не надо ли вас доставить на остров Бурбон? Он сообщил госпоже Дельмар, что повсюду разыскивал ее, желая передать ей вещи. Но, когда Индиану взяли в больницу, она не имела при себе никаких документов, по которым можно было бы узнать, кто она. В больнице и в полиции она так и значилась: «неизвестная», и потому капитан не мог получить о ней никаких сведений. На следующий день, невзирая на слабость и утомление, Индиана выехала в Париж. Казалось бы, теперь она могла успокоиться, увидя, какой оборот приняли политические события; но тревога не рассуждает, а любовь внушает необоснованные опасения. Прибыв в Париж, она в тот же вечер поспешила к Реймону и с замиранием сердца стала расспрашивать о нем привратника. — Барин здоров, — ответил тот, — он сейчас в Ланьи. — В Ланьи? Вы, верно, хотите сказать в Серей? — Нет, сударыня, в Ланьи, теперь он хозяин этого имения. «Милый Реймон! — подумала Индиана. — Он купил наше имение, чтобы я могла укрыться там от людской злобы. Он был уверен, что я вернусь!..» Опьяненная счастьем, окрыленная надеждой на новую жизнь, Индиана побежала устраиваться в гостинице. Ночь и часть следующего дня она отдыхала. Уже столько времени несчастная женщина не спала спокойно! Ей снились сладкие, обманчивые сны, и, проснувшись, она не пожалела об иллюзиях сновидений, так как действительность казалась ей полной надежды. Она тщательно оделась, потому что знала, какое значение придает Реймон всем мелочам костюма. Накануне она заказала себе новое красивое платье, которое ей принесли к ее пробуждению. Но, когда она захотела сделать прическу, оказалось, что это нелегко: ее чудесные длинные волосы остригли в больнице. Только сейчас она обратила на это внимание, — все это время тяжелые переживания и заботы отвлекали ее от всяких мыслей о своей внешности. Тем не менее, когда она завила свои короткие черные волосы и взбила их над белым высоким лбом, когда надела на свою хорошенькую головку маленькую шляпу английского фасона и приколола к поясу любимые цветы Реймона, она решила, что у нее еще есть надежда понравиться ему; теперь она снова стала хрупкой и бледной, как в первые дни их знакомства; болезнь стерла с ее лица следы тропического загара. После полудня она наняла экипаж и около девяти часов вечера подъехала к деревне, находившейся на опушке леса Фонтенебло. Там она велела выпрячь лошадей и приказала кучеру дожидаться ее до утра, а сама пошла пешком по лесной тропинке и менее чем через четверть часа очутилась у парка Ланьи. Она попыталась открыть калитку, но та оказалась запертой изнутри. Индиане хотелось войти тайком, незамеченной слугами, и неожиданно появиться перед Реймоном. Она пошла вдоль ограды парка. Ограда была старая, и Индиана вспомнила, что местами она проломана; действительно, на ее счастье, она вскоре нашла одно такое место и без особого труда проникла в парк. Ступив на землю, которая принадлежала Реймону и отныне должна была стать ей убежищем, святыней, крепостью и родиной, она почувствовала, что сердце ее забилось от счастья. Радостная и легкая, бежала она по извилистым и так хорошо знакомым ей аллеям английского парка, в этой своей части мрачного и пустынного. Все здесь осталось по-прежнему, исчез только мостик, связанный для нее с такими горестными воспоминаниями, и самое русло реки было отведено; места, напоминавшие о смерти Нун, совсем изменили свой облик. «Он хотел, чтобы ничто не напоминало мне о тех тяжелых минутах, — решила Индиана. — Напрасно, я все бы вынесла. Ведь это ради меня он омрачил свою душу такими тяжелыми угрызениями совести. Отныне мы равны, ибо я тоже совершила преступление. Очень возможно, что я виновница смерти мужа. Реймон может принять меня в свои объятия, мы заменим друг другу и чистую совесть и добродетель». Она перешла реку по доскам, положенным там, где предполагалось построить новый мостик, и вышла в цветник. Здесь она остановилась; сердце ее готово было разорваться. Она подняла глаза к окну своей бывшей спальни. О счастье! За голубыми занавесками сиял свет, — значит, Реймон был там. Да и мог ли он выбрать для себя другую комнату? Дверь потайной лестницы оказалась открытой. «Он каждую минуту ждет меня, — подумала она, — он будет счастлив, но не изумлен». На лестнице она остановилась, чтобы немного перевести дух. Радость была для нее не так привычна, как горе, и она почувствовала, что силы изменяют ей. Нагнувшись, она поглядела в замочную скважину. Реймон был один, он читал. Да, это был он, Реймон, полный жизни и сил; горе нисколько не состарило его, политические бури не тронули ни одного волоска на его голове. Он сидел спокойный и красивый, подперев белой рукой свою темноволосую голову. Индиана порывисто толкнула дверь, и та послушно открылась. — Ты ждал меня! — воскликнула она, падая на колени и прижимаясь головой к груди Реймона. — Ты считал месяцы, дни! Ты видел, что все сроки прошли, но был уверен, что я не могу не откликнуться на твой призыв… Ты позвал меня — и вот я здесь, я здесь! Мне кажется, я умираю!.. Мысли ее смешались. Некоторое время она молчала, задыхаясь, не будучи в состоянии ни говорить, ни думать. Затем, как бы очнувшись, она открыла глаза, узнала Реймона и, вскрикнув, с неистовой радостью прильнула к его губам, опьяненная счастьем и страстью. Он был бледен, нем и неподвижен, словно оглушенный громом. — Разве ты не узнаешь меня? — вскричала она. — Это я, твоя Индиана, твоя раба! Ты позвал меня из изгнания, и я проехала три тысячи лье для того, чтобы любить тебя и служить тебе. Я избранная тобою подруга жизни, ради тебя я бросила все, ничего не побоялась, пожертвовала всем, чтобы дать тебе эту минуту счастья. Счастлив ли ты? Доволен ли мной? Отвечай! Я жду награды. Одно слово, один поцелуй — и я буду вознаграждена сторицей! Реймон ничего не отвечал. Свойственная ему необычайная самоуверенность на этот раз покинула его. Он был потрясен, подавлен ужасом и раскаянием при виде этой женщины у своих ног. Он закрыл лицо руками и готов был провалиться сквозь землю. — Боже мой! Боже мой! Ты молчишь, не целуешь меня, не отвечаешь ни слова! — воскликнула госпожа Дельмар, обнимая его колени. — Ты не в силах отвечать? Счастье причиняет страдание, оно может убить, я это знаю. Ах! Ты страдаешь, ты задыхаешься, я появилась слишком внезапно. Посмотри же на меня, посмотри, какая я бледная, как постарела, сколько я выстрадала. Но я страдала ради тебя, и за это ты полюбишь меня еще сильнее! Скажи мне хотя бы слово, хотя бы одно слово, Реймон! — Мне хочется плакать, — произнес глухим голосом Реймон. — Мне тоже! — ответила она, покрывая поцелуями его руки. — Да, слезы облегчают. Плачь, плачь у меня на груди, я осушу твои слезы своими поцелуями. Я пришла дать тебе счастье, Реймон, я буду для тебя всем, чем ты захочешь, — твоей подругой, служанкой или любовницей. Прежде я была жестокой, безумной эгоисткой; я мучила тебя и не хотела понять, что требую от тебя невозможного. Но с тех пор я много передумала, и раз ты не боишься людского мнения и идешь ради меня на все, я готова для тебя на любую жертву. Располагай мной, бери мою жизнь, я твоя душой и телом. Три тысячи лье я проехала, чтобы стать твоей, чтобы сказать тебе об этом. Возьми же меня, я твоя собственность, ты мой господин! В голове Реймона вдруг мелькнула адски коварная мысль. Он опустил руки, которыми закрывал лицо, и с дьявольским хладнокровием посмотрел на Индиану. Жестокая усмешка появилась на его губах, глаза его загорелись, так как Индиана была еще очень хороша. — Прежде всего тебе надо спрятаться, — сказал он вставая. — Зачем мне прятаться? — спросила она. — Разве ты не хозяин здесь и не можешь принять и защитить меня? Ведь у меня, кроме тебя, нет никого на свете, и без тебя мне придется просить милостыню на больших дорогах. Не бойся, свет не посмеет осудить тебя за твою любовь ко мне. Всю вину я принимаю на себя… Я во всем виновата… Но куда ты уходишь? — закричала она, видя, что он направляется к двери. Она со страхом прильнула к нему, как ребенок, боящийся хоть на минуту остаться один, и на коленях поползла за ним. Он намеревался запереть дверь на ключ, но было уже слишком поздно: не успел он взяться за ручку, как дверь отворилась, и вошла Лора де Нанжи. Казалось, она была скорее оскорблена, чем удивлена; у нее не вырвалось ни единого восклицания, она только немного наклонилась и, прищурившись, посмотрела на женщину, лежавшую почти без чувств на полу. Затем с холодной и презрительной усмешкой сказала: — Госпожа Дельмар, вам было угодно поставить нас троих в несколько странное положение; спасибо вам за то, что мне по крайней мере вы предоставили наименее смешную роль. В благодарность за это я могу сказать вам только одно: потрудитесь удалиться! Негодование вернуло силы Индиане, и она встала с гордым и независимым видом. — Кто эта женщина, — обратилась она к Реймону, — и по какому праву она приказывает мне у вас в доме? — Вы находитесь здесь у меня в доме, сударыня, — возразила Лора. — Отвечайте же, сударь! — закричала Индиана, яростно тряся несчастного Реймона за руку. — Скажите, кто она вам — любовница или жена? — Жена, — ответил совершенно растерявшийся Реймон. — Я прощаю вам ваше неведение, — сказала госпожа де Рамьер с жестокой улыбкой. — Если бы вы оставались там, где, согласно вашему долгу, вам надлежало быть, вы получили бы извещение о свадьбе господина де Рамьера. Право, Реймон, — прибавила она с насмешливой любезностью, — мне очень жаль, что вы попали в такое неловкое положение, но всему виной ваша молодость; в дальнейшем, надеюсь, вы поймете… что в жизни следует быть более осторожным. Предоставляю вам самому закончить эту нелепую сцену. Она вызвала бы у меня смех, если бы у вас не было такого несчастного вида. С этими словами она удалилась, довольная тем, что держалась с достоинством, и втайне торжествуя, что ее муж оказался в столь унизительном и зависимом от нее положении. Когда к Индиане вернулась способность чувствовать и мыслить, она увидела, что сидит в карете, быстро катившейся по направлению к Парижу.29
У заставы карета остановилась, к дверце подошел слуга, которого госпожа Дельмар узнала, так как он и в прежнее время служил у Реймона, и спросил, куда барыня прикажет себя доставить. Индиана машинально назвала улицу и гостиницу,где остановилась накануне. Приехав туда, она упала на стул и просидела так до утра, позабыв о сне, не будучи в состоянии двинуться, желая только умереть; но она была слишком разбита и подавлена, чтобы найти в себе силы для самоубийства. Ей казалось, что после таких страданий жить невозможно и что смерть сама придет за ней. Она просидела так весь следующий день, ничего не ела и не отвечала, когда к ней обращались с предложением услуг. Я не знаю ничего более ужасного, чем пребывание в плохой парижской гостинице, в особенности если она, подобно той, о которой идет речь, помещается на узкой и темной улице, где в пасмурные дни тусклый свет как бы нехотя пробивается сквозь пыльные окна и ползет по закоптелому потолку. Да и в окружающей вас чужой и непривычной обстановке есть что-то неприязненное и холодное; не на чем остановить взгляд, ничто не вызывает приятного воспоминания. Тут все предметы, если можно так выразиться, никому не принадлежат, потому что принадлежат всем постояльцам сразу; в этом помещении никто не оставляет иного следа своего пребывания, кроме никому не известной фамилии на визитной карточке, засунутой иногда за раму зеркала. Эти сдаваемые внаем помещения, служащие приютом для стольких бедных путешественников, стольких одиноких чужестранцев, для всех одинаково негостеприимны; стены их видели много людских страданий, но не умеют ничего о них рассказать; разноголосый и непрерывный уличный шум не позволяет спокойно уснуть и хоть на время забыться, освободившись от скуки и тоски. Эта обстановка может вызвать тяжелое, подавленное настроение даже у людей, не находящихся в таком ужасном душевном состоянии, в каком приехала сюда госпожа Дельмар. Несчастный житель провинции, ты покинул поля, голубое небо, зеленые леса, дом и семью для того, чтобы запереться в этой темнице духа и сердца, так смотри же: вот он, Париж, вот прекрасный Париж, который представлялся тебе полным чудес! Смотри, вот он расстилается перед тобой, почерневший от дождя и грязи, шумный, зловонный, стремительный, как поток сточной канавы! Вот тот обещанный тебе непрерывный праздник жизни, блестящий и благоухающий, вот они, эти опьяняющие удовольствия, эти захватывающие неожиданности, услада для зрения, слуха и вкуса, которые манили тебя, а ты боялся, что у тебя не хватит сил упиться всем сразу. Смотри, вот бежит парижанин; он вечно спешит, вечно озабочен; это тот самый парижанин, которого тебе изображали таким любезным, предупредительным и гостеприимным! Утомленный шумной толпой и бесконечным лабиринтом улиц, ты в ужасе спасаешься в «приветливую» гостиницу, где тебе наскоро отводит помещение единственный слуга этого иногда огромного заведения и где ты можешь спокойно умереть, пока дождешься, чтобы он явился на твой зов, если от утомления и горя не имеешь сил сам позаботиться о тысяче мелочей, нужных для жизни. Но быть женщиной и очутиться здесь, отвергнутой всеми, за три тысячи лье от своих близких; очутиться здесь без денег, что гораздо хуже, чем оказаться без воды в необъятной пустыне; не иметь в прошлом ни одного счастливого воспоминания, которое не было бы отравлено или выпачкано грязью; не иметь в будущем никакой надежды, ничего, что могло бы отвлечь от тяжкой действительности, — вот предел людского несчастья и заброшенности. И госпожа, Дельмар покорилась своей горькой участи и не пыталась бороться за свою разбитую, погибшую жизнь; без единой жалобы, без единой слезы предоставила она голоду, болезни и горю делать свое разрушительное дело и не предпринимала ничего, чтобы скорее покончить со своими страданиями. Наутро второго дня ее нашли на полу, окоченевшую от холода, со стиснутыми зубами, посиневшими губами и потухшим взором; однако она была еще жива. Хозяйка гостиницы, осмотрев ящики письменного стола и убедившись, что там почти ничего нет, стала раздумывать, не отправить ли в больницу эту незнакомку, очевидно не имевшую средств оплатить расходы, которых требует длительная болезнь. Но так как она была женщина гуманная, то велела уложить Индиану в постель и послала за врачом, чтобы выяснить, проболеет ли ее постоялица больше двух дней. И тут неожиданно явился врач, за которым не посылали… Открыв глаза, Индиана увидела его у своего изголовья. Нет надобности называть вам его имя. — Ах, это ты, ты! — вскричала еле живая Индиана, бросаясь в его объятия. — Это ты, мой добрый ангел! Но ты пришел слишком поздно: мне осталось только умереть, благословляя тебя. — Вы не умрете, дорогой друг! — с волнением ответил Ральф. — Жизнь еще улыбнется вам. Законы, запрещавшие вам быть счастливой, отныне не будут служить помехой вашему чувству. Я дорого дал бы за то, чтобы разрушить те непреодолимые чары, какими опутал вас человек, которого я не люблю и не уважаю, но это не в моей власти, а видеть, как вы страдаете, я больше не в силах. Ваша жизнь до сих пор была ужасной, хуже она уже стать не может. Впрочем, если даже мои печальные предположения сбудутся, если счастье, о котором вы мечтали, продлится недолго, вы все же насладитесь им некоторое время и не умрете, не познав его. Итак, я решил подавить в себе антипатию к господину де Рамьеру. Судьба, подарившая мне эту встречу с вами, обязывает меня теперь, когда вы одиноки, стать вашим опекуном и отцом. Я должен сообщить вам, что вы свободны и можете соединить свою судьбу с судьбой господина де Рамьера. Дельмара больше нет в живых. Слезы медленно катились по лицу Ральфа, когда он это говорил. Индиана порывисто приподнялась на кровати и, ломая руки, в отчаянии воскликнула: — Мой муж умер! Это я убила его! Вы говорите мне о будущем и о счастье, но разве счастье возможно для человека, который ненавидит и презирает сам себя. Знайте же, что бог справедлив и что я проклята! Господин де Рамьер женился! В изнеможении она снова упала на руки своего кузена. Только спустя несколько часов они возобновили этот разговор. — Ваши угрызения совести мне понятны, но успокойтесь, — сказал Ральф торжественным и в то же время кротким и печальным тоном, — Дельмар был уже обречен, когда вы покинули его; он не проснулся от сна, в котором вы его оставили, он ничего не узнал о вашем бегстве и умер, не проклиная и не оплакивая вас. Под утро, очнувшись от дремоты, охватившей меня в то время, как я сидел у его изголовья, я увидел, что лицо его посинело, а сон стал тяжелым и лихорадочным: с ним случился удар. Я побежал за вами и был очень удивлен, не найдя вас в спальне; но мне некогда было задумываться и искать вас, ваше отсутствие встревожило меня только после смерти Дельмара. Все медицинские средства ни к чему не привели, состояние его быстро ухудшалось; через час он скончался на моих руках, так и не придя в себя. Однако в последнее мгновение в его цепенеющем мозгу промелькнул луч сознания, он взял мою руку, приняв ее за вашу, ибо его пальцы уже похолодели и потеряли чувствительность, попытался пожать ее и умер, лепеча ваше имя. — Я слышала его последние слова, — мрачно проговорила Индиана, — в ту минуту, когда я собиралась покинуть его навсегда; он разговаривал со мною во сне. «Этот человек погубит тебя», — сказал он. Слова его остались у меня здесь, — продолжала Индиана, прижав одну руку к сердцу, а другую ко лбу. — Когда я собрался с силами и оторвался от мыслей об умершем, — снова заговорил Ральф, — я подумал о вас, о вас, Индиана. Теперь вы свободны и горевать о муже можете лишь по доброте сердечной или как человек верующий. Только для меня его смерть была утратой, так как я был его другом, и если он не всегда бывал приветлив, то, во всяком случае, у меня не было соперников в его сердце. Я боялся испугать вас слишком неожиданной новостью и решил дожидаться у входа в дом, полагая, что вы скоро вернетесь с утренней прогулки. Я ждал долго. Не буду говорить о моей тревоге, о поисках и о том ужасе, который обуял меня, когда я нашел окровавленный и разбитый о скалы труп Офелии, выброшенный волнами на берег. Увы! Я боялся обнаружить там же и ваш труп, ибо решил, что вы наложили на себя руки. В продолжение трех дней я считал, что на всем свете мне уже некого больше любить. Не стоит говорить вам о моих страданиях, вы должны были предвидеть их, покидая меня. Однако вскоре в колонии распространился слух о вашем бегстве. Судно, пришедшее в наш порт, встретилось с бригом «Евгений» в Мозамбикском проливе, где оно подходило вплотную к вашему кораблю. Один из пассажиров узнал вас, и три дня спустя весь остров был осведомлен о вашем отъезде. Не буду рассказывать вам о тех нелепых и оскорбительных толках, которые возникли из-за совпадения двух событий, совершившихся в одну и ту же ночь: смерти вашего мужа и вашего бегства. Меня тоже не пощадили, строя и на мой счет различные великодушные предположения; но я не обращал на это никакого внимания. Я должен был выполнить свой долг — убедиться в том, что вы живы, и прийти вам на помощь, если это нужно. Я уехал вскоре после вас; переезд был ужасный, а я прибыл во Францию всего неделю тому назад. Моей первой мыслью было отправиться к господину де Рамьеру и узнать что-нибудь о вас. Но случайно я встретил его слугу Карла, который привез вас сюда. Я не спросил его ни о чем, кроме вашего адреса, и пришел в гостиницу, уверенный, что найду вас не одну. — Одна, одна, покинутая самым недостойным образом! — воскликнула госпожа Дельмар. — Но не будем говорить об этом человеке! Никогда, никогда не будем говорить о нем! Я не могу больше любить его, ибо я его презираю; не надо напоминать мне о том, что я его любила, — это значило бы напоминать мне о моем позоре и преступлении и отравить ужасными укорами совести мои последние минуты. Ах! Будь моим ангелом-утешителем, ведь в несчастье ты всегда протягивал мне руку помощи. В последний раз выполни свою добрую миссию, скажи мне слово милосердия и утешения, дай мне умереть спокойно, уповая на прощение всевышнего судии. Она призывала смерть, — но горе не разбивает, а только еще тверже скрепляет звенья цепи, связывающей нас с жизнью. Заболеть смертельной болезнью было бы для нее облегчением, но даже на это у нее не хватило сил, и она впала в какое-то состояние слабости и полнейшей апатии, граничащей с отупением. Ральф всячески пробовал отвлечь ее внимание от всего, что могло ей напомнить о Реймоне. Он увез ее в Турень, окружил вниманием и заботами, неотлучно находился при ней и только и думал, как бы ему хоть немного облегчить ей существование; но, видя, что все его попытки ни к чему не приводят, что все его старания напрасны и не могут вызвать даже тени улыбки на ее мрачном и поблекшем лице, он приходил в отчаяние от своего бессилия и неумения утешить ее и горько упрекал себя за то, что при всей своей нежности и любви ничем не может помочь ей. Однажды, когда она была в еще более подавленном и угнетенном состоянии, чем обычно, он, не смея заговорить с ней, с грустным видом молча сел рядом. Тогда Индиана обернулась к нему и, нежно пожав ему руку, сказала: — Бедный Ральф, как я мучаю тебя! И с каким терпением помогаешь ты мне, эгоистичной и малодушной женщине, переносить мое несчастье. Право, ты уже давно выполнил свой тяжелый долг. Ни от какой самой преданной дружбы нельзя требовать большего, чем сделал для меня ты. Теперь предоставь меня моему горю. Не губи свою чистую и благородную жизнь, не связывай ее с моей проклятой судьбой, поищи счастья где-нибудь еще, раз оно невозможно возле меня. — Я действительно отчаялся излечить вас, Индиана, — ответил он, — но никогда не покину вас, даже если вы скажете мне, что я вам надоел. Вы нуждаетесь в уходе и заботах, и если вы не хотите, чтобы я был вашим другом, позвольте мне по крайней мере быть вашим слугой. Выслушайте меня: я могу предложить вам одно средство, оставленное мной на крайний случай, и средство это заведомо верное. — Я знаю только одно лекарство от горя, — ответила она, — это забвение, ибо уже давно убедилась, что разум здесь бессилен. Будем же надеяться, что время все излечит. Если бы я могла, я тотчас же, из благодарности к тебе, стала бы такой же веселой и спокойной, как в дни нашего детства. Поверь, мой друг, мне совсем не хочется носиться со своим горем и растравлять свою рану; разве я не знаю, что все мои страдания отзываются в твоем сердце? Увы, как бы я хотела все забыть и выздороветь! Но я всего лишь слабая женщина, Ральф; будь терпелив со мной и не считай меня неблагодарной. И она горько заплакала. Сэр Ральф взял ее за руку. — Послушай, дорогая моя Индиана, — сказал он. — Забвение не в нашей власти. Я не обвиняю тебя. Я могу вынести любые страдания, но видеть, как страдаешь ты, выше моих сил. Да и стоит ли нам, слабым созданиям, бороться с неумолимой судьбой? Довольно влачить это тяжкое существование. Бог, в которого мы оба верим, обрекая человека на страдания, дал ему возможность от них избавиться. Мне кажется, превосходство человека над неразумным животным и состоит в том, что он знает средство, которое может избавить его от всех несчастий. Это средство — самоубийство, его-то я тебе и предлагаю и даже советую. — Я часто думала об этом, — немного помолчав, ответила Индиана. — Когда-то у меня было сильное искушение лишить себя жизни, и только мои религиозные взгляды удерживали меня от этого. С тех пор я много передумала в одиночестве, и мои мысли стали более возвышенными. Постигшие меня несчастья научили меня иной религии, не той, что исповедуют люди. Когда ты явился мне на помощь, я уже приняла решение умереть голодной смертью, но ты просил меня жить, и я не имела права отказать тебе в этой жертве. Теперь меня удерживают твоя жизнь и твое будущее. Что будешь делать ты, мой бедный Ральф, если останешься один на свете, без семьи, без любви, без привязанности? После нанесенных мне сердечных ран я уже ни на что не годна, но я, возможно, выздоровею. Клянусь тебе, Ральф, я приложу к этому все старания! Потерпи еще немного, быть может, скоро я начну улыбаться… Я хочу снова стать спокойной и веселой, хочу посвятить тебе свою жизнь, за которую ты столько боролся… — Нет, нет, мой друг, — возразил Ральф, — я не хочу такой жертвы и никогда не приму ее. Разве моя жизнь дороже вашей? Чего ради обрекать себя на мучительное существование только для того, чтобы скрасить мне жизнь? Неужели вы думаете, что я могу наслаждаться жизнью, зная, что вы не разделяете моей радости? Нет, я не настолько эгоистичен. Поверьте мне, не следует брать на себя такой непосильный подвиг: отказаться от всякого себялюбия — это слишком большая гордыня и самонадеянность. Обсудим спокойно наше положение, будем рассматривать те дни, что нам остается прожить, как наше общее достояние, которым ни один из нас не имеет права располагать без согласия другого. Уже давно — с самого рождения, мог бы я сказать, — жизнь тяготит меня. Теперь у меня нет больше сил выносить ее без горечи и возмущения. Уйдем вместе, Индиана, вернемся к богу, пославшему нас на эту несчастную землю, в эту юдоль слез; он, без сомнения, не отвергнет нас и примет в свое лоно, когда, усталые и измученные, мы предстанем перед ним, умоляя его о милосердии и прощении. Я верю в бога, Индиана, и я первый научил вас верить в него. Послушайтесь меня: благородное сердце не укажет ложного пути тому, кто с чистой душой вопрошает его. Мы оба так много страдали, что, наверно, искупили все наши грехи. Крещение горем очистило наши души, вернем их тому, кто создал их. Эта мысль занимала Ральфа и Индиану в течение нескольких дней, после чего они решили, что вместе лишат себя жизни. Оставалось только выбрать способ самоубийства. — Это очень важный вопрос, — сказал Ральф, — я уже размышлял над ним, и вот что я хочу предложить. То, что мы задумали, не плод минутного заблуждения, а спокойно, тщательно обдуманный шаг, который вытекает из нашей веры, поэтому приступить к выполнению его нужно с тем же благоговением, с каким верующий приступает к церковному таинству. Для нас мир — это тот храм, где мы поклоняемся богу. Среди величественной и девственной природы мы сильнее чувствуем его могущество, не оскверненное рукою человека. Вернемся же в пустыню, — там мы сможем молиться. Здесь, в этой стране, кишащей людьми и пороками, на лоне цивилизации, отвергающей бога или извращающей его лик, я буду чувствовать себя стесненным, рассеянным и печальным. А я бы хотел умереть радостно и безмятежно, обратив свой взор к небесам. Но разве здесь увидишь небо? Я укажу вам уголок земли, где можно расстаться с жизнью красиво и торжественно; это пустынное ущелье Берника на острове Бурбон, у водопада, низвергающего свои прозрачные, отливающие радугой воды в глубокую пропасть. Там провели мы самые счастливые дни нашего детства; там плакал я в самые тяжелые минуты жизни; там научился я молиться и надеяться — и там хотел бы в одну из тех прекрасных ночей, какие бывают только на юге, погрузиться в чистые воды и найти прохладную и цветущую могилу на дне зеленой бездны. Если у вас нет другого места, которое вы предпочитали бы этому, согласитесь совершить наше двойное жертвоприношение в ущелье, бывшем свидетелем наших детских игр и юношеских страданий. — Хорошо, — ответила госпожа Дельмар, протянув ему в знак согласия руку. — Меня всегда с непреодолимой силой притягивала вода, вероятно из-за воспоминаний о бедной Нун. Мне приятно умереть так же, как умерла она; это будет искуплением за ее смерть, невольной причиной которой я оказалась. — Кроме того, — продолжал Ральф, — новое путешествие по морю, на этот раз совершенно в ином душевном состоянии, даст нам прекрасную возможность собраться с мыслями, отрешиться от земных привязанностей, чтобы предстать очищенными от всякой скверны перед верховным судией. Оторванные от мира, готовые с радостью покинуть жизнь, мы с восхищением будем созерцать во всей ее мощи и красоте взволнованную бурей стихию. Уедем, Индиана, отряхнем от своих ног прах этой неблагодарной земли. Умереть здесь, на глазах у Реймона, было бы мелкой и недостойной местью. Предоставим богу покарать этого человека… Нет, лучше будем молить его даровать свое милосердие этому неблагодарному и черствому сердцу. Они уехали. Шхуна «Нахандов», быстрая и легкая как птица, понесла их на родину, дважды ими покинутую. Никогда еще не совершали они такого радостного и быстрого путешествия. Казалось, попутный ветер решил сопровождать до мирной гавани обоих страдальцев, так долго скитавшихся среди бурных волн и подводных камней жизни. Все три месяца Индиана пожинала плоды своего послушания советам Ральфа; она чувствовала себя значительно лучше, морской воздух, живительный и свежий, укрепил ее слабое здоровье, ее измученное сердце успокоилось. Уверенность в том, что скоро наступит конец их страданиям, действовала на нее так же, как обещания врача действуют на верящего в них больного. Она забыла о прошлом, душа ее теперь жила надеждой на лучшую, иную жизнь, и мысли были проникнуты чудесной, неземной отрадой. Никогда еще море и небо не казались ей такими прекрасными. Как будто она видела их впервые, — столько блеска и величия открылось теперь ее взору. Чело ее прояснилось, и, казалось, божественный свет лился из ее кротких голубых глаз. Столь же необычайная перемена произошла и в душе и во внешности Ральфа; одни и те же причины одинаково подействовали на обоих. Его душа, ожесточившаяся в борьбе с несчастьями, смягчилась под влиянием живительного луча надежды; оскорбленное и измученное сердце успокоилось. Его слова отражали теперь его чувства, и Индиана впервые узнала его настоящий характер. Установившиеся между ними теплые, родственные отношения способствовали тому, что у него пропала мучительная застенчивость, а у нее — несправедливые предубеждения. Присущая Ральфу неловкость постепенно исчезала, а Индиана совершенно изменила свое неправильное мнение о нем. В то же время мучительное воспоминание о Реймоне сглаживалось, бледнело и рассеивалось как дым перед неизвестными ей доселе добродетелями и душевным благородством Ральфа. По мере того как один рос и возвышался в ее глазах, другой падал все ниже; наконец, благодаря постоянному сравнению этих двух людей, последнее воспоминание о роковой и слепой любви к Реймону угасло в ее душе.30
В прошлом году, в один из тех вечеров вечного лета, что царят в здешних широтах, со шхуны «Нахандон» сошли на берег два пассажира и спустя три дня после своего прибытия отправились в глубь гористого острова. Эти три дня они посвятили отдыху, — поступок весьма странный и, казалось бы, противоречащий приведшему их сюда намерению. Но они, очевидно, рассуждали иначе; испив на веранде ароматного фахама, они оделись с особой тщательностью, как если бы собрались провести вечер в гостях, а затем направились по горной тропинке к ущелью Берника, куда и пришли через час. Случаю было угодно, чтобы этот вечер был одним из самых прекрасных лунных вечеров под тропиками. Ночное светило, едва поднявшись из темных волн, уже протянуло по морю сверкающую серебряную дорожку. Но его сияние еще не проникло в ущелье, и на поверхности озера трепетало только отражение нескольких звезд. Даже по хрупким и блестящим листьям лимонных деревьев, росших наверху, на склоне горы, еще не рассыпались светлые лунные блестки. Эбеновые и тамарисковые деревья шелестели во тьме, и лишь одни пышные верхушки высоко вознесшихся стройных пальм светились каким-то зеленоватым сиянием. Морские птицы затихли в расселинах скал; только вдали, за выступами гор, слышалось печальное и страстное воркование синих голубей. Красивые жуки, похожие на ожившие драгоценные камни, тихо шуршали в листве кофейного дерева или с жужжанием скользили над поверхностью озера; однообразный шум водопада, казалось, вел таинственную беседу с эхом своих берегов. Два одиноких путника дошли по извилистой тропинке до вершины ущелья, откуда поток низвергается в пропасть, подобно легкому столбу белой водяной пыли. Они очутились на небольшой площадке, вполне пригодной для исполнения задуманного ими плана. Лианы, спускавшиеся с ветвей рафии, образовали здесь естественную беседку, нависшую над водопадом. Сэр Ральф с изумительным хладнокровием срезал несколько ветвей, которые могли помешать им, затем взял свою кузину за руку и усадил ее на скале, покрытой мхом, откуда днем открывается прекрасный вид на всю эту дикую и могучую природу. Но сейчас, когда мрак ночи и облако брызг над водопадом окутывали все вокруг, пропасть, лежавшая под ними, казалась бездонной и страшной. — Должен вам заметить, дорогая Индиана, — сказал Ральф, — что для успеха того, что мы задумали, необходимо полное самообладание. Если вы слишком поспешно броситесь в ту сторону, приняв в темноте скалы за пустое пространство, вы неминуемо разобьетесь и умрете медленной и мучительной смертью; но если вы постараетесь попасть в белую полосу водопада, то он увлечет вас с собою и сам погрузит в волны озера. Впрочем, если вы хотите, мы можем подождать еще час — луна тогда поднимется достаточно высоко, и мы будем ясно видеть все окружающее. — Хорошо, — ответила Индиана, — тем более что эти последние мгновения мы должны посвятить мыслям о боге. — Вы правы, мой друг, — отозвался Ральф, — я тоже считаю, что этот последний час должен быть часом размышления и молитвы. Я не хочу сказать, что мы должны примириться со всевышним, — это значило бы забыть расстояние, которое отделяет нас от его могущества, но мы должны, как мне кажется, простить людей, заставивших нас страдать, и пусть вольный ветер донесет слова милосердия и прощения тем, кто находится на севере, за три тысячи лье от нас. Индиана выслушала его спокойно и без удивления. За последние месяцы ее восхищение Ральфом возросло в той же мере, в какой изменился сам Ральф. Теперь он не был для нее только флегматичным наставником, — она шла за ним не рассуждая, как за добрым гением, который должен освободить ее от всех земных страданий. — Я согласна, — ответила Индиана, — я с радостью чувствую, что мне нетрудно простить, в моем сердце нет больше ни ненависти, ни сожаления, ни любви, ни злобы. Сейчас я готова забыть все горести моей печальной жизни и неблагодарность людей, окружавших меня. Великий боже, ты видишь, мое сердце открыто перед тобой, ты знаешь, что оно спокойно и чисто, и все мои помыслы с любовью и надеждой обращены к тебе. Ральф сел у ног Индианы и стал вслух читать молитвы; громкий голос его заглушал шум водопада. Возможно, что впервые за всю жизнь его мысли находились в полном соответствии с произносимыми им словами. Час смерти настал, душа его была теперь свободна, в ней не было ничего скрытого, она принадлежала только богу; все земные оковы спали с нее; она очистилась от греховных страстей и в свободном порыве стремилась к ожидавшему ее небу; покров, скрывавший столько добродетели, величия и внутренней силы, теперь исчез, и светлый ум Ральфа засиял той же красотой, что и его благородное сердце. Подобно тому, как пламя сверкает в клубах дыма и рассеивает их, священный огонь, дремавший в глубине его души, вырвался наружу и загорелся ярким светом. Как только этот человек с неподкупной совестью впервые почувствовал, что его ничто не связывает, что ему нечего скрывать, слова с легкостью полились из его уст, и он, за всю жизнь не говоривший ничего, кроме самых банальных вещей, стал в свой последний час таким красноречивым и убедительным, каким никогда не бывал Реймон. Не буду передавать вам те странные речи, которые он доверил горному эху; он сам не смог бы повторить их нам. Бывают в жизни такие мгновения, полные экстаза и вдохновенного восторга, когда наши мысли очищаются, становятся возвышенными и отрываются от земли. Эти редкие мгновения поднимают нас на такую высоту, уносят так далеко, что, спустившись на землю, мы не в силах вновь вызвать только что испытанный нами душевный восторг и не умеем отдать себе в нем отчет. Кто может понять таинственные видения отшельника? Кто может рассказать о мечтах поэта, прежде чем тот, очнувшись от экстаза, переложит их на бумагу? Кто может поведать о чудесах, открывающихся душе праведника в час, когда небо готово принять его? Ральф, казавшийся таким заурядным, был, однако, человеком исключительным, ибо твердо верил в бога и поступал всегда согласно своей совести, — теперь же он подводил итог всей своей жизни. Наконец-то он мог быть самим собой, мог обнаружить свою внутреннюю сущность и снять с себя перед всевышним судией ту маску, какую люди заставили его носить. Сбросив власяницу, в которую страдания облекли его бренное тело, он выпрямился во весь рост, величественный и радостный, как если бы уже вошел в райскую обитель. Слушая его, Индиана не испытывала удивления и не спрашивала себя, Ральф ли это. Прежнего Ральфа больше не существовало, а тот, кому она внимала сейчас, казался ей другом, являвшимся ей иногда в сновидениях и воплотившимся в человека теперь, когда она была на краю могилы. Индиана почувствовала, что ее душа увлечена тем же порывом. Горячее, благоговейное чувство наполняло ее тем же волнением; слезы восторга катились из ее глаз на склоненную голову Ральфа. В это время луна поднялась над верхушкой большой пальмы, и ее бледный мягкий свет, проникнув сквозь густую сеть лиан, озарил белое платье и черные косы Индианы. В лунном сиянии она казалась призраком, блуждающим среди пустынных скал. Сэр Ральф опустился перед ней на колени и сказал: — Теперь, Индиана, прости мне все то зло, которое я причинил тебе, чтобы и я мог простить его себе. — Увы, — ответила она, — мне нечего прощать тебе, бедный мой Ральф! Я должна благословлять тебя в свой последний час, так же как благословляла тебя во все тяжелые минуты своей грустной жизни. — Не знаю, насколько я виноват, — продолжал Ральф, — но не может быть, чтобы за все время долгой и трудной борьбы с жестокой судьбой я ни в чем не провинился перед тобой, хотя бы невольно. — О какой борьбе говорите вы? — спросила Индиана. — Об этом, — ответил он, — я и хочу рассказать вам, прежде чем умереть; это тайна всей моей жизни. Вы уже спрашивали меня о ней на корабле во время нашего обратного путешествия, и я обещал объяснить вам все на берегу озера Берника в тот час, когда луна в последний раз взойдет над нами. — Этот час настал, — сказала она. — Я слушаю вас. — Наберитесь терпения, Индиана, я должен рассказать вам очень длинную историю — историю всей моей жизни. — Мне думается, я ее знаю, — ведь я почти никогда не расставалась с вами. — Ни один день, ни один час моей печальной повести вам не известен, — грустно промолвил Ральф. — Когда я мог рассказать вам ее? Судьбе было угодно, чтобы единственным подходящим моментом для моего признания оказались последние минуты нашей жизни. Но, насколько это признание было бы преступным и безумным раньше, настолько сейчас оно естественно и уместно. Никто не может упрекнуть меня за то, что в свой последний час я хочу открыть вам душу. Я уверен, что вы доставите мне эту последнюю радость и согласитесь выслушать меня со свойственными вам терпением и кротостью. Дослушайте же до конца мою печальную повесть, и, если мои слова будут утомлять или сердить вас, внимайте шуму водопада, поющего нам похоронную песнь. Я был рожден, чтобы любить. Никто из вас не хотел этому верить, и это заблуждение наложило свою печать на мой характер. Природа, наградив меня пылкой душой, совершила странную ошибку: она дала мне невыразительное лицо и неповоротливый язык; она отказала мне в том, чем обладают даже самые грубые люди, — в умении выражать свои чувства словами и взглядами. Это и сделало меня эгоистом. О моем нравственном облике судили по внешности, и я засыхал, как несорванный плод под жесткой кожурой, которую не мог сбросить. Чуть не со дня рождения я был лишен той нежности, в какой нуждается ребенок. Моя мать не захотела сама меня кормить, так как улыбка не озаряла моего младенческого лица в ответ на ее ласку. В возрасте, когда трудно отличить чувство от потребности, я был заклеймен отвратительным прозвищем эгоиста. Уже тогда все решили, что меня никто не полюбит, ибо сам я никогда не говорил о своих привязанностях. Меня сделали несчастным и считали, что я этого не чувствую; меня почти изгнали из родительского дома, и я искал приюта на скалах, словно пугливая морская птица. Вы знаете, каково было мое детство, Индиана! Я проводил целые дни в одиночестве среди гор, и никогда мать не тревожилась, не искала меня, ничей ласковый голос не раздавался в тишине ущелий и не звал меня с наступлением ночи домой. Я вырос одиноким и жил одиноким; но судьба не допустила, чтобы я оставался несчастным до конца моих дней, так как умру я не один. Однако уже в то время небо послало мне утешение, надежду и радость. Вы вошли в мою жизнь, как если б вы были созданы для моего счастья. Бедное дитя! Вы были так же заброшены, как и я, так же лишены любви и ласки и, казалось, были предназначены мне; по крайней мере я льстил себя этой надеждой. Был ли я слишком самонадеян? В продолжение десяти лет вы принадлежали мне, принадлежали безраздельно, я не знал соперников, не знал тревог. Тогда я не понимал еще, что такое ревность. Это время, Индиана, было лучшим в моей жизни. Вы стали моей сестрой, дочерью, подругой, ученицей, моим единственным товарищем. И вот когда я осознал, что я вам нужен, жизнь приобрела для меня значение, и я уже не жил, как дикое животное. Ради вас я старался преодолеть подавленное состояние, в какое повергло меня презрительное отношение близких. Я начал уважать себя, зная, что необходим вам. Буду вполне откровенен, Индиана: решив ради вас нести бремя жизни, я в душе надеялся на награду. Я привык к мысли (простите меня за мои слова, я и сейчас не могу произнести их без трепета)… я привык к мысли, что вы станете моей женой. Вы были еще ребенком, а я уже смотрел на вас как на свою невесту; мое воображение рисовало мне вас во всем очаровании юности, и я с нетерпением ждал того дня, когда вы станете взрослой. Мой брат, вытеснивший меня из родительского сердца, любил заниматься хозяйством и развел сад на холме, который днем виден отсюда, — новые владельцы превратили его теперь в рисовую плантацию. Уход за цветами доставлял ему много радости; каждое утро он спешил взглянуть на цветы — выросли ли они за ночь — и удивлялся, что они не растут так быстро, как бы ему хотелось. А для меня, Индиана, единственным занятием, единственной радостью, единственным сокровищем были вы. Вы были тем молодым растением, которое я выращивал, и я не мог дождаться, когда бутон распустится и превратится в цветок. Каждое утро я жадно взглядывался в ваше лицо, стараясь уловить, как отразился на вас еще один прожитый день, — ведь я был уже юношей, а вы все еще ребенком. В моей груди уже зарождались неведомые вам желания; мне было пятнадцать лет, и воображение мое проснулось, — а вы, вы удивлялись тому, что я нередко грустил и не разделял вашей радости, хотя и принимал участие в ваших играх. Вы не понимали того, что какая-нибудь птичка или плод не радовали меня в такой же мере, как вас, и уже тогда я казался вам холодным и странным. И все же вы любили меня таким, каким я был; несмотря на мою грусть, каждое мгновение моей жизни принадлежало вам; мои страдания сделали вас еще дороже моему сердцу, и я питал безумную надежду, что в один прекрасный день вы превратите мою печаль в радость. Увы! Простите мне эту кощунственную мысль, но я жил ею в течение десяти лет. Если для меня, несчастного юноши, было преступлением мечтать о вас, прекрасное и свободное дитя гор, то бог один виноват в том, что вложил мне в душу эту дерзкую мечту, составлявшую весь смысл моего существования. Чем еще могло жить мое сердце, непонятое и оскорбленное, жаждавшее любви и нигде не находившее себе отрады? От кого еще мог я ждать нежного взгляда, улыбки любви, как не от вас, которую я любил и как отец и как возлюбленный? Но пусть вас не пугает, что вы выросли под защитой несчастного юноши, сгоравшего от любви. Ни одной нечистой мыслью, ни одной преступною мечтой не осквернил я вашей детской души. Никогда с греховными помыслами не касался я губами ваших щек. Я боялся стереть с них налет невинности, которым они были покрыты, подобно тому как плоды бывают покрыты утром влажною росой. Мои поцелуи были только отеческими, и когда вы шаловливо касались вашими невинными губками моих губ, вас не обжигало пламя страсти. Нет, не в вас, маленькая синеглазая девочка, был я тогда влюблен. Когда я держал вас в своих объятиях, любуясь вашей невинной улыбкой и милыми ласками, вы были для меня дочкой или младшей сестренкой. Но я был влюблен в ту девушку, какой вы должны были стать в пятнадцать лет; и, отдаваясь пылу своей юности, я жадным взором заглядывал в будущее. Когда я читал вам историю любви Павла и Виргинии, вы только наполовину понимали ее. И все же вы плакали, хотя для вас это была лишь повесть о брате и сестре, тогда как я трепетал от сочувствия к страданиям влюбленных. Для меня эта книга была пыткой, а вас она радовала. Вам нравилось слушать рассказ о привязанности верного пса, о красоте кокосовых пальм и о песнях негра Доминго. Я же наедине перечитывал беседы Павла с его подругой, вчитывался в ужасные сомнения одного, тайные муки другой. О, как хорошо понимал я эти первые волнения юности, это желание найти в своем сердце объяснение тайн жизни, это восторженное обожание предмета своей первой любви! Но будьте ко мне справедливы, Индиана: ничем и никогда не нарушил я мирного течения вашего детства, ни единым словом не обмолвился при вас, что в жизни существуют муки и слезы. В десять лет вы были такой же невинной и беспечной, как и в тот день, когда ваша кормилица положила вас мне на колени, в день, когда я хотел лишить себя жизни. Часто, сидя один на этой скале, я в исступлении ломал руки, слушая голоса, воспевавшие весну и любовь и эхом отдававшиеся в горах, видя, как птицы преследуют и дразнят друг друга, как насекомые в нежной истоме дремлют в чашечках цветов, вдыхая душистую пыльцу, летящую от пальмы к пальме. Тогда я пьянел, безумствовал и просил любви у цветов, у птиц, у водопада. Я неистовствовал, призывая неведомое мне блаженство, и одна мысль о нем сводила меня с ума. Но стоило мне увидеть вас, радостно и весело бегущую ко мне по тропинке, темноволосую, в белом платьице, — вас, такую маленькую, так неуклюже карабкавшуюся по скалам, что издали вас можно было принять за антарктического пингвина, — как пыл мой стихал и губы переставали гореть. При виде десятилетней Индианы я забывал о той пятнадцатилетней девушке, о которой только что грезил; с чистой радостью я протягивал к вам руки, ваши ласки освежали мой горячий лоб; я был счастлив, я чувствовал себя отцом! Сколько мирных, счастливых дней провели мы здесь, в глубине этого ущелья! Сколько раз я мыл вам ножки в прозрачной воде этого озера! Сколько раз смотрел на вас, спящую здесь, в тростниках, в тени латании, служившей вам зонтиком! В такие минуты порой возобновлялись мои мучения. Я приходил в отчаяние от того, что вы еще так малы, и спрашивал себя, доживу ли я, испытывая такие страдания, до того дня, когда вы сможете понять меня и ответить на мое чувство? Я осторожно касался ваших тонких, как шелк, волос, и с любовью целовал их, сравнивал их с локонами, срезанными с вашей головки в предыдущие годы и спрятанными у меня в бумажнике. Я с радостью замечал, что с каждым годом они все более темнеют. Затем я смотрел на ствол финиковой пальмы, где в течение нескольких лет отмечал ваш рост. На дереве еще сохранились эти зарубки, Индиана, я нашел их в последний раз, когда приходил сюда предаваться своему горю. Вы выросли и расцвели. Как и следовало ожидать, ваши волосы стали черными как смоль, но… но увы! — все это было не для меня: не для меня вы выросли, не для меня расцвела ваша красота и не для меня, а для другого впервые забилось ваше сердце! Помните, как мы носились легкими голубками вдоль миртовых кустов? Помните, как порой блуждали в саваннах, высоко в горах? Однажды мы решили добраться до туманных вершин Салаза, но не подумали о том, что чем выше, тем реже будут попадаться фруктовые деревья, тем труднее будет находить воду в горных ручьях, тем сильнее и резче будет ветер. Когда вы увидели, что растительность исчезает, вы захотели вернуться, но вскоре за полосой вереска мы наткнулись на поляну земляники, и вы с таким удовольствием принялись собирать ягоды и наполнять ими вашу корзиночку что не хотели уходить. Пришлось остаться. Потом мы шли по пористым скалам вулканического происхождения, покрытым пушистыми мхами. При виде жалких былинок, колеблемых ветром, мы невольно подумали о доброте природы, которая, казалось, дала им теплую одежду для защиты от холодного воздуха. Затем туман сделался таким густым, что мы не могли идти дальше, и нам пришлось повернуть обратно. Я нес вас на руках, осторожно спускаясь по крутым склонам горы. Ночь застала нас на опушке леса, встретившегося на нашем пути. Я нарвал для вас гранатов, а сам, чтобы утолить жажду, удовольствовался чистым и прохладным соком лиан, обильно вытекавшим из надломленных мною веток. Мы вспомнили тогда о приключениях наших любимых героев, заблудившихся в лесах Красной реки. Но у нас не было, как у них, ни любящих матерей, ни преданных слуг, ни даже верной собаки, и о нас никто не беспокоился. Тем не менее я был доволен и горд, что один охраняю вас, и считал себя счастливее Павла. Да, уже тогда я чувствовал к вам истинную, глубокую и чистую любовь. Нун в десять лет была на голову выше вас; как настоящая креолка, она была не по годам развита, ее влажный взор временами принимал странное выражение, — по своим повадкам и характеру она была уже девушкой. Однако я не любил Нун, или, вернее, я любил ее только из-за вас, поскольку она была подругой вашего детства. Я не думал о том, красива ли она и станет ли со временем еще лучше. Я не смотрел на нее. В моих глазах она была более ребенком, нежели вы. Это потому, что я любил вас и думал только о вас: вы были моей избранницей, мечтой моей юности… Но я не мог знать, что готовит мне будущее. Брат мой умер, и меня принудили жениться на его невесте. Не стоит рассказывать об этой поре моей жизни; она не была для меня самой тяжелой, Индиана, хотя я и был женат на женщине, нелюбимой мною и ненавидевшей меня. Я стал отцом и потерял сына, а когда овдовел, узнал, что вы уже замужем! Не буду рассказывать вам о днях, проведенных мной в изгнании в далекой Англии, о том, как я страдал тогда. Если я и был виноват перед кем-нибудь, то не перед вами, а на того, кто виноват передо мною, я не хочу жаловаться. Так я сделался еще большим эгоистом, то есть стал еще грустнее и подозрительнее, чем прежде. Чем больше во мне сомневались, тем больше замыкался я в себе и привыкал рассчитывать только на собственные силы. В посланных мне судьбой испытаниях меня поддерживал лишь голос моего сердца. Меня осуждали за то, что я не люблю женщину, вышедшую за меня замуж по принуждению и не выказывавшую мне ничего, кроме презрения. В дальнейшем одним из главных признаков эгоизма считали мою кажущуюся нелюбовь к детям. Реймон не раз безжалостно насмехался над этой моей чертой, говоря, что заботы о воспитании детей не вяжутся со строго размеренными привычками старого холостяка. Он, наверное, не знал, что я был отцом и что я воспитал вас. И никто из вас не хотел понять, что воспоминание о сыне долгие годы оставалось для меня таким же мучительным, как и в день его смерти, и что мое истерзанное сердце больно сжималось при виде белокурых головок, напоминавших мне о нем. Когда человек несчастлив, в нем стараются найти как можно больше плохого, — вероятно, из боязни, что придется жалеть его. Никто не мог понять также глубокого возмущения и мрачного отчаяния, овладевшего мной, когда меня, несчастного юношу, выросшего в пустыне и не видевшего никогда ни от кого сочувствия, оторвали от здешних мест, чтобы навязать ему общественные обязанности; когда мне приказали занять после брага место среди тех, кто оттолкнул меня, и когда стали внушать, что у меня есть долг по отношению к людям, никогда не выполнявшим своего долга по отношению ко мне. И что же? Никто из моей семьи не хотел быть в свое время мне опорой, а теперь все стали призывать меня на защиту своих интересов! Мне не позволили даже спокойно наслаждаться тем, в чем не отказывают и париям, — наслаждаться одиночеством! У меня в жизни была только одна радость, одна надежда, одна мечта — мечта о том, что вы станете моей женой. У меня отняли эту мечту и сказали, что вы недостаточно для меня богаты. Какая горькая ирония для меня, выросшего в горах, изгнанного из родительского дома! Я не ощущал вкуса к богатству и не умел им пользоваться, а меня заставляли теперь заботиться о процветаниидругих! Однако я подчинился. Я не имел права просить о том, чтобы меня не лишали моего счастья; меня и так достаточно презирали, а если бы я начал протестовать, то стал бы ненавистен всем. Мать, неутешно оплакивавшая смерть моего брата, заявила, что умрет, если я не выполню своего долга. Отец ставил мне в вину, что я не умею утешить его, как будто я был виноват в том, что он недостаточно любил меня и готов был проклясть, если я посмею его ослушаться. И я подчинился. Но то, что я выстрадал, даже вы, Индиана, так много страдавшая сами, вряд ли можете понять. Гонимый, оскорбленный, угнетаемый людьми, я все же не отплатил им злом за зло, — и уже по одному этому можно судить, что сердце мое не было черствым, как все думали. Когда я вернулся сюда и увидел человека, за которого тебя выдали замуж… прости меня, Индиана, тут я действительно оказался эгоистом. В любви всегда есть доля эгоизма, раз даже моя любовь не была лишена его! Я испытывал какую-то жестокую радость при мысли, что эта пародия на брак дала тебе хозяина, а не супруга. Тебя всегда удивляла моя привязанность к нему. Видишь ли, я не считал его своим соперником. Я прекрасно понимал, что этот старик не может ни внушить любовь, ни почувствовать ее сам и что сердце твое останется девственным в этом браке. Я был ему благодарен за твою холодность и твою грусть. Если бы он остался здесь, я, быть может, стал бы виновен во многом, но вы уехали, а я оказался не в силах жить без тебя. Я пытался побороть неукротимую любовь, которая вспыхнула во мне с новой силой, когда я увидел тебя, красивую и грустную, именно такую, какой видел в своих мечтах еще в твои детские годы. Одиночество лишь усилило мою тоску, и я не мог уже противиться желанию видеть тебя, жить с тобой под одной крышей, дышать одним воздухом, постоянно наслаждаться звуками твоего нежного голоса. Ты знаешь, с какими препятствиями я встретился, какое недоверие мне пришлось побороть; и я понял тогда, какую тяжелую задачу взял на себя. Я не мог жить с тобой вместе, не успокоив твоего мужа священной клятвой, — а я всегда держал свое слово. Я твердо решил умом и сердцем никогда не забывать принятой на себя роли брата, — и скажи, Индиана, нарушил ли я хоть когда-нибудь свой обет? Я понял также, что для меня будет очень трудно, быть может даже невозможно, выполнить этот тяжелый долг, если я сброшу с себя маску, не допускающую ни близости, ни возникновения глубокого чувства. Я понял, что мне не следует играть с огнем, так как моя страсть слишком сильна и может вырваться наружу. Я почувствовал, что должен оградить себя ледяной стеной, чтобы не возбуждать в тебе — на свою погибель — ни интереса, ни участия. Я сказал себе, что в тот день, когда ты пожалеешь меня, я уже буду виновен, — и согласился на всю жизнь прослыть черствым эгоистом, каким я, к счастью, и был в ваших глазах. Успех моего притворства превзошел все ожидания, вы выказывали мне оскорбительную жалость, вроде той, какую питают к евнухам, вы считали меня бездушным и бесчувственным, вы презирали меня, а я из чувства долга принужден был сдерживать свой гнев и желание отомстить, так как иначе выдал бы себя и показал вам, что я мужчина. Я жалуюсь на людей, но не на тебя, Индиана. Ты всегда была добра и снисходительна ко мне; ты не гнала меня, несмотря на ту отвратительную личину, какую я надел, чтобы быть возле тебя. Ты всегда бережно относилась ко мне, и я не краснел, что взял на себя такую роль; ты заменяла мне все, и порой я с гордостью думал, что если ты благосклонно относишься ко мне, несмотря на мое притворство, то, может быть, ты полюбила бы меня, узнав, каков я в действительности. Увы, всякая другая оттолкнула бы меня, не протянула бы руки такому ничтожеству, как я, не умевшему ни мыслить, ни говорить. Все, кроме тебя, с презрением отвернулись от эгоиста. Ах, на свете было лишь одно существо, настолько великодушное, чтобы взять на себя эту тяжкую задачу. Только одно благородное сердце могло согревать своим священным огнем замкнутую и холодную душу человека, отверженного всеми, сердце, в избытке обладавшее теми чувствами, каких недоставало мне. На свете была только одна Индиана, способная любить такого Ральфа! Кроме тебя, снисходительнее других относился ко мне Дельмар. Ты даже обвиняла меня в том, что я предпочитаю его тебе, жертвую твоим благополучием ради себя, отказываюсь вмешиваться в ваши семейные ссоры. Несправедливая, слепая женщина! Ты не видела, что я делал для тебя все возможное, а главное, ты не поняла того, что я не мог открыто заступаться за тебя, не выдав этим своих чувств. Что сталось бы с тобой, если б Дельмар прогнал меня? Кто оберегал бы тебя терпеливо и молча, с постоянством и твердостью вечной и неугасающей любви? Ведь не Реймон же! А затем, признаюсь: я любил этого грубого и сурового старика из благодарности за то, что он, имея возможность отнять у меня мое единственное счастье, не сделал этого; любил за то, что он не был любим тобою; за то, что его горе сближало его со мной; любил и за то, что он никогда не давал мне повода терзаться муками ревности. Но сейчас я подхожу к рассказу о тех страданиях, какие я пережил, — о той роковой поре, когда вы отдали свою любовь, о которой я столько мечтал, другому. Только тогда я окончательно понял, какое сильное чувство я подавлял в себе столько лет. Ненависть проникла в мое сердце и отравила его, а ревность лишила меня последних сил. До тех пор вы были всегда чисты в моем воображении. Я благоговел перед вами и даже в самых дерзких сновидениях не осмеливался приподнять тот покров, который мое уважение набросило на вас. Но ужасная мысль о том, что другой увлекает вас за собой, отрывает от меня, упивается счастьем, о котором я не смел даже мечтать, приводила меня в бешенство; я жаждал видеть ненавистного мне человека на дне пропасти, я жаждал камнем размозжить ему голову. Однако вы так страдали, что я забывал о своих муках. Я уже не хотел его смерти, так как это причинило бы вам горе. Не раз даже — да простит мне бог! — у меня являлось желание сделаться предателем, совершить подлость по отношению к Дельмару и помочь моему врагу. Да, Индиана, я сходил с ума, я мучился, видя ваши страдания, и горько раскаивался, что попытался открыть вам глаза; я охотно отдал бы свою жизнь и завещал Реймону мое сердце, чтобы он мог любить вас так, как я. Негодяй! Пусть бог простит ему то зло, которое он причинил мне, но пусть накажет за то горе, которое испытали вы! Я ненавижу его не за свои, а за ваши страдания, ибо я забыл о своих муках, увидя, во что он превратил вашу жизнь. Этого человека, развращенного и бездушного, следовало бы изгнать из общества, а его носили на руках. Ах, я узнаю в этом людей! И я не должен был бы возмущаться, потому что, превознося нравственного урода, разрушающего счастье и честь других, они послушны своей природе. Простите, Индиана, простите! С моей стороны, быть может, жестоко жаловаться вам, но я делаю это в первый и последний раз. Пусть мои проклятия падут на голову неблагодарного, толкающего вас в могилу. Какой понадобился страшный урок, чтобы раскрыть вам глаза! Ни гибель Нун, ни слова Дельмара в час смерти: «Берегись его, он тебя погубит!» — не остановили вас. Вы были глухи, ваш злой гений увлек вас; и теперь вы опозорены, людская молва осудила вас и оправдала его. Он причинил столько зла — и никого это не трогает. Он убийца Нун — и вы забыли об этом; он погубил вас — и вы простили его. Он умеет пускать пыль в глаза и отуманивать разум, его искусные коварные речи проникают в сердца людей, его змеиный взгляд гипнотизирует их; вот если бы природа наградила его моим неподвижным, каменным лицом и неповоротливым умом, она создала бы вполне законченный экземпляр. Да, пусть бог накажет его за его жестокость к вам… Нет, лучше пускай простит его, потому что он, наверное, поступал так по глупости, а не по злобе. Он не понял вас, не оценил того счастья, которым мог насладиться!.. А вы так любили его! И он мог сделать вашу жизнь такой прекрасной! На его месте я не устоял бы перед искушением, я скрылся бы с вами в глубь диких гор, я вырвал бы вас из общества, чтобы безраздельно владеть вами, постарался бы заменить вам весь мир и боялся бы только одного — что вас не все отвергли, не все покинули. Я ревниво относился бы к вашему доброму имени, но совсем не так, как он: я бы хотел чтобы все отвернулись от вас, и тогда я заменил бы вам всех своею любовью. Я страдал бы, если б другой человек дал вам хоть каплю счастья, хоть минуту радости, я счел бы, что он обокрал меня, ибо сделать вас счастливой было моим долгом, достоянием, жизнью, вопросом чести! Мне не надо было бы иного жилья, кроме этого дикого ущелья; иного богатства, кроме этой природы, и я чувствовал бы себя гордым и счастливым, если б небо даровало мне вместе с ними вашу любовь!.. Дайте мне поплакать, Индиана! Я плачу первый раз в жизни. Небу было угодно, чтобы я перед смертью познал эту печальную радость. Ральф плакал как ребенок. Этот человек с мужественной душой впервые почувствовал жалость к самому себе; к тому же он больше оплакивал судьбу Индианы, нежели свою. — Не плачьте обо мне, — сказал он, увидев, что она тоже обливается слезами, — не жалейте меня; видя ваше сочувствие, я позабыл о прошлом, и настоящее уже утратило для меня свою горечь. Зачем мне теперь страдать? Ведь вы его больше не любите. — Если бы я узнала вас раньше, Ральф, я бы никогда не полюбила его! — воскликнула Индиана. — Но вы были слишком добродетельны, и это погубило меня. — Кроме того, — продолжал Ральф с печальною улыбкой, — у меня есть и другие причины радоваться. Во время наших откровенных бесед на корабле вы невольно сделали мне одно признание. Вы сообщили мне, что Реймон не получил того счастья, на которое имел дерзость рассчитывать, и этим сняли с моей души огромную тяжесть; вы освободили меня от угрызений совести, ибо я мучился, что не уберег вас, так как по своей самонадеянности считал, что сумею защитить вас от его чар; таким подозрением я оскорбил вас, Индиана. Я не верил в то, что вы устоите, и теперь прошу у вас прощения и за эту вину. — Увы, — ответила Индиана, — вы просите у меня прощения за то, что я загубила вашу жизнь, за то, что я заплатила вам за вашу чистую, самоотверженную любовь непостижимым ослеплением и жестокой неблагодарностью. Мне следует пасть перед вами ниц и молить о прощении. — Значит, ноя любовь не возбуждает в тебе ни гнева, ни отвращения, Индиана? Боже мой, благодарю тебя, теперь я умру счастливым! Не упрекай себя, Индиана, за мои муки. В этот час я не завидую ни в чем Реймону. Я считаю, что он должен был бы завидовать моей судьбе, будь у него настоящее человеческое сердце. Теперь я навеки твой брат, твой муж, твой возлюбленный! С того дня, как ты обещала мне уйти вместе со мной из жизни, я лелеял в себе сладостную мечту, что ты принадлежишь мне, что ты возвращена мне, никогда меня не покинешь, — и мысленно я снова называл тебя своей невестой. Обладать тобой здесь, на земле, было бы слишком большим счастьем, или, может быть, счастьем недостаточно полным. В небесах ждет меня блаженство, о котором я с детства мечтал. Там ты будешь любить меня, Индиана. Там твоя душа, освободившись от земной суетности, вознаградит меня за жизнь, полную жертв, горя и отречения. Там ты будешь моей, моя любимая! Ты мое небо, и если я заслужил рай, то заслужил и тебя. Потому-то я и просил тебя надеть белое платье, — пусть оно будет твоим подвенечным платьем, а эта скала над озером — нашим алтарем. Он встал, сорвал цветущую ветку померанца и прикрепил ее к черным волосам Индианы. Затем, упав перед ней на колени, воскликнул: — Осчастливь меня, согласись на этот небесный брак. Даруй мне вечность, не заставляй меня стремиться к небытию. Если рассказ о том, что пережил Ральф не произвел на вас никакого впечатления, если вы не полюбили этого благородного человека, значит у меня недостало умения передать вам его чувства и ту непреодолимую власть, какую имеет голос истинной страсти. К тому же над вами сейчас не светит луна с ее грустным очарованием, не поют птицы, не благоухают гвоздичные деревья, вы не чувствуете всей опьяняющей неги тропической ночи, которая туманит сладким ядом ум и сердце. Вы, верно, не знаете также по собственному опыту, какие сильные и новые ощущения пробуждаются в душе перед лицом смерти и как все жизненные явления предстают в их истинном виде в минуту, когда вы по собственной воле расстаетесь с ними навеки. Таким внезапным и ярким светом озарилась вся душа Индианы; повязка, столько времени лежавшая на ее глазах, вдруг спала. Прозрев, она увидела Ральфа таким, каким он был в действительности; черты его лица стали теперь совсем иными, сильное душевное напряжение произвело на него действие, подобное электрическому току; он освободился от внутренней скованности, замыкавшей ему уста и парализовавшей его тело. В своей искренности и добродетели он был прекраснее, чем Реймон, и Индиана поняла, что его, а не Реймона, она должна была любить. — Будь моим супругом на небе и на земле, — воскликнула она, — пусть этот поцелуй обручит нас с тобой навеки! Уста их слились. В настоящей любви есть, без сомнения, могучая сила, какой нет в мимолетном чувственном влечении. Этот поцелуй перед лицом вечности был для них символом всех земных радостей. Ральф взял на руки свою нареченную и понес ее на вершину скалы, чтобы вместе с ней броситься в поток…ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Господину Ж.Неро В прошлом году, в один из теплых и солнечных январских дней, я вышел из Сен-Поля и отправился побродить и помечтать в дикие леса, покрывающие остров. Я думал о вас, мой друг; мне казалось, что в этих девственных лесах еще живет память о ваших прогулках и занятиях, что земля еще хранит следы ваших ног. Я повсюду встречал те чудеса природы, о которых читал в ваших волшебных рассказах, так скрашивавших часы моего досуга, и, желая полюбоваться вместе с вами чудесной природой, я мысленно призывал вас из старой Европы, где вы живете сейчас в благодетельной и мирной безвестности. Счастливый человек! Ни один коварный друг не сделал еще вашего таланта и ума всеобщим достоянием. Я направился в одно уединенное место, расположенное в самой возвышенной части острова и известное под названием Долины гигантов. Огромный кусок горной породы, оторвавшись во время землетрясения, проложил по склону главного хребта дорогу, усеянную нагроможденными в самом поэтическом беспорядке обломками скал. Тут мелкие камни удерживают в равновесии огромную глыбу, там выросла целая стена утесов, легких, воздушных, кружевных и ажурных, как мавританский дворец; здесь обелиск из базальта, словно высеченный резцом ваятеля, высится на зубчатом основании; еще дальше — развалины средневекового замка рядом с бесформенной и причудливой китайской пагодой. Тут как будто собраны всевозможные виды искусства, различные образцы архитектуры, и кажется, что гений всех веков и всех народов черпал свое вдохновение в этом величественном зодчестве, созданном случаем и разрушением. Вероятно, эти фантастические постройки породили мавританскую архитектуру. Стройные пальмы в лесах также должны были послужить искусству прекрасными образцами для подражания. Дерево, цепляющееся за землю сотней корней, отходящих от ствола, должно быть первым навело на мысль построить собор, опирающийся на легкие своды. За одну ночь буря собрала в Долину гигантов все формы, все виды красоты, смело нагромоздила их друг на друга, разбросала, соединила в причудливые группы. Вероятно, духи воздуха в огня принимали участке в этой дьявольской работе; только они могли придать созданию своих рук такой дикий, фантастический и незавершенный характер, отличающий их творения от творений человека. Только они могли нагромоздить такие невероятные глыбы, сдвинуть с места гигантские массивы, передвинуть горы, как песчинки, и среди возведенного ими хаоса, поражающего воображение человека, разбросать грандиозные замыслы искусства, величественные контрасты, которые невозможно осуществить и которые, как бы насмехаясь над дерзновенными попытками художника, говорят ему: «Попробуйте сотворить нечто подобное!». Я остановился у подножия базальтового обелиска высотою около шестидесяти футов, как будто отшлифованного искусным гранильщиком. На середине этого необычайного сооружения виднелась крупная надпись, казалось начертанная какой-то нечеловеческой рукой. На камнях вулканического происхождения часто встречаются такие следы. Когда-то вулканический огонь расплавил их, и прилипшие к ним раковины и лианы оставили на них свои оттиски. Этой случайностью и объясняется странная игра природы — отпечатки иероглифов, таинственные письмена: словно имя, начертанное здесь каким-то сверхъестественным существом при помощи кабалистических знаков. Я долго стоял перед обелиском, охваченный наивным желанием проникнуть в смысл этой загадочной надписи. Силясь разгадать ее, я так глубоко задумался, что совсем забыл о времени. А меж тем густой туман, покрывавший сначала лишь вершины гор, начал спускаться по склонам и быстро скрыл от моего взора их очертания. Прежде чем я дошел до средины плато, туман настиг меня и непроницаемой завесой окутал окрестности. Но тут поднялся страшный ветер и в одно мгновение разогнал его. Затем ветер стих, туман опять сгустился и вновь был рассеян бешеным порывом бури. Чтобы укрыться от урагана, я спрятался в пещеру, но к ветру присоединилось вскоре новое бедствие: от дождя вздулись реки, берущие свое начало на вершинах гор. Через час вся местность была затоплена, и вода, ручьями стекая со склонов, бешеным потоком понеслась в долину. После двухдневного тяжелого и опасного пути провидение наконец сжалилось надо мной и привело меня к жилищу, расположенному в живописном и диком месте. Домик, построенный просто, но красиво, устоял под натиском бури, так как был защищен навесом скал, служившим ему как бы щитом. Чуть подальше бешеный поток низвергался в ущелье, образуя на дне его озеро, теперь вышедшее из берегов; над озером красивые деревья уже поднимали свои верхушки, помятые и согнутые грозой. Я постучал. Человек, показавшийся на пороге, невольно заставил меня отступить. Не успел я попросить о приюте, как хозяин молча вежливым жестом пригласил меня войти. Итак, я вошел и очутился лицом к лицу с сэром Ральфом Брауном. Прошел год с тех пор, как господин Браун и его спутница вернулись в колонию на шхуне «Нахандов», и за это время сэра Ральфа видели в городе не более трех раз; что же касается госпожи Дельмар, то она жила так замкнуто, что многие жители даже сомневались в ее существовании. Приблизительно в то же время и я впервые прибыл на остров, и теперешняя встреча с господином Брауном была второй в моей жизни. Первое наше знакомство оставило во мне неизгладимое впечатление: мы встретились в Сен-Поле, на берегу моря. Его внешность и манеры сперва не остановили моего внимания, но затем, когда я из праздного любопытства стал расспрашивать о нем местных жителей и получил странные и противоречивые ответы, я начал с большим вниманием приглядываться к отшельнику с озера Берника. — Грубый и невоспитанный человек, — говорили одни, — полное ничтожество! Единственное его достоинство, что он вечно молчит. — Человек исключительно образованный и серьезный, — говорили другие, — но такого высокого мнения о себе, такой гордец, что не желает даже разговаривать с простыми смертными. — Он любит только самого себя, — говорили третьи, — посредственный, но неглупый, невероятный эгоист; говорят даже, что он совершенный нелюдим. — Разве вы о нем ничего не знаете? — спросил меня один юноша, выросший в колонии и отличавшийся благодаря этому узостью провинциальных взглядов. — Это дурной человек, негодяй, подло отравивший своего друга ради того, чтобы жениться на его жене. Такое мнение настолько ошеломило меня, что я обратился к пожилому колонисту, человеку, как я знал, рассудительному. На мой вопрошающий взгляд, настойчиво требовавший разъяснения этих загадок, он ответил: — Когда-то сэр Ральф был светским человеком, его уважали, но не любили за замкнутый и необщительный нрав. Вот все, что я могу сказать о нем, так как со времени той злополучной истории я с ним не встречался. — Какой истории? — спросил я. И мне рассказали о внезапной смерти полковника Дельмара, о бегстве его жены в ту же ночь, об отъезде и возвращении господина Брауна. Загадочные обстоятельства этих событий не были выяснены, несмотря на судебное расследование; никто не мог доказать вины бежавшей. Прокурор прекратил следствие, но все знали о пристрастном отношении властей к господину Брауну, и общественное мнение было возмущено тем, что дело, запятнавшее двух людей такими ужасными подозрениями, не было разобрано. Подозрения больше всего, казалось, подтверждались тем, что оба, тайком возвратившись в колонию, поселились в пустынном ущелье Берника. По мнению людей, они бежали с острова, чтобы дать делу заглохнуть; но во Франции высшее общество отвергло их, им пришлось уехать обратно и укрыться подальше, дабы в уединении спокойно наслаждаться своей преступной любовью. Но слухи эти полностью опровергались: говорили — и это последнее сообщение исходило от людей наиболее осведомленных, — что госпожа Дельмар никогда не чувствовала симпатии, а скорее питала отвращение к своему кузену господину Брауну. Потому-то я тогда внимательно, я сказал бы даже — пристально, стал вглядываться в героя столь странных рассказов. Он сидел на тюке товаров, ожидая возвращения матроса, с которым договорился о какой-то покупке; его синие, как море, глаза, спокойные и мечтательные, были устремлены вдаль. Черты его лица выражали полнейшую безмятежность; в этом здоровом и мощном организме все, казалось, находилось в равновесии, и ничто не нарушало общей гармонии; поклялся бы, что его напрасно так зло оклеветали, что на совести этого человека нет никакого преступления, что даже в мыслях он не способен на это и что его сердце и руки так же непорочны, как и его чистый лоб. Вдруг рассеянный взгляд баронета остановился на мне, — я смотрел на него с жадным и нескрываемым любопытством. Сконфузившись, как пойманный с поличным вор, я в смущении опустил глаза, ибо увидел, что сэр Ральф смотрит на меня со строгим упреком. С тех пор невольно я часто думал о нем, он даже снился мне, и эти мысли вызывали во мне смутное беспокойство, непонятное волнение, точно какой-то магнетический ток исходил от этого человека с такой необычайной судьбой. У меня появилось сильное и настойчивое желание поближе узнать сэра Ральфа, но я предпочел бы наблюдать за ним издали, так, чтобы он сам не видел меня. Мне казалось, что я в чем-то виноват перед ним. Холодная ясность его взгляда приводила меня в трепет. Этот человек, должно быть, обладал либо исключительным нравственным превосходством, либо невероятным коварством, и я чувствовал себя перед ним ничтожным и мелким. Он принял меня учтиво, но сдержанно и без суеты. Провел к себе в комнату, предложил переодеться во все сухое, а затем познакомил со своей подругой жизни, которая уже ждала нас за столом. При виде ее красоты и молодости (ей казалось не больше восемнадцати лет), любуясь ее свежестью и очарованием, слушая ее нежный голос, я почувствовал какое-то болезненное волнение. У меня тотчас же явилась мысль, что эта женщина или очень преступна, или очень несчастна, или она действительно виновата в ужасном злодеянии, или напрасно заклеймена позорным обвинением. Целую неделю вышедшие из берегов реки, затопленные равнины, дожди и ветры удерживали меня в Бернике; но вот выглянуло солнце, а я все еще не думал расставаться со своими гостеприимными хозяевами. Ни тот, ни другой не обладали ни внешним блеском, ни остроумием, но все, что они говорили, было значительно или очень приятно; они жили сердцем, а не умом. Индиана была малообразованна, но это не было грубое невежество, происходящее от лени, небрежности или ограниченности. Ей страстно хотелось приобрести те знания, которые она не смогла получить из-за трудных обстоятельств своей жизни; может быть, с ее стороны было известным кокетством постоянно обращаться с вопросами к сэру Ральфу, чтобы дать ему возможность блеснуть передо мной своими обширными и разнообразными познаниями. Она была весела, но без излишней живости; в ее манерах была грустная медлительность, свойственная креолкам, и в ней мне это казалось особенно пленительным; ее необычайно кроткие глаза как будто говорили о жизни, полной страдания и горя; даже когда ее губы улыбались, взгляд ее оставался печальным, но эта печаль словно отражала думы о выпавшем на ее долю счастье и трогательную благодарность судьбе. Как-то утром я сказал им, что мне пора наконец уходить. — Как, уже? — спросили они. Это было сказано так искренне и сердечно, что я решил остаться еще на некоторое время. Мне хотелось во что бы то ни стало узнать от сэра Ральфа всю их историю; но ужасные подозрения, запавшие в мою душу, вызывали во мне непреодолимую робость. Я попытался побороть ее. — Послушайте, — сказал я, — люди — страшные мерзавцы, они наговорили мне про вас много дурного. Познакомившись с вами, я этому больше не удивляюсь. Ваша жизнь была, по-видимому, настолько прекрасна, что ее решили оклеветать. Я внезапно остановился при виде наивного изумления, появившегося на лице госпожи Дельмар. Тогда я понял, что она ничего не знает об отвратительных слухах, распространявшихся на ее счет. А на лице сэра Ральфа появилось высокомерное и недовольное выражение. Я встал, чтобы проститься с ними, сконфуженный и огорченный, уничтоженный взглядом господина Брауна, напомнившим мне о нашей первой встрече и о немой беседе, происшедшей между нами на берегу моря. В отчаянии от того, что приходится при таких условиях навсегда расставаться с этим прекрасным человеком, упрекая себя за те оскорбление и обиду, которые я нанес ему в благодарность за счастливые дни, проведенные в его доме, я почувствовал, что сердце у меня сжалось, и горько заплакал. — Молодой человек, — промолвил он, взяв меня за руку, — останьтесь с нами еще на день. Я не могу отпустить так нашего единственного друга. — Затем, когда госпожа Дельмар вышла из комнаты, он продолжал: — Я понял вас и расскажу вам свою жизнь, но не в присутствии Индианы: есть раны, которые не следует бередить. Вечером мы пошли прогуляться по лесу. Буря сорвала всю листву с деревьев, таких зеленых и красивых всего две недели тому назад, но теперь они уже снова покрывались толстыми смолистыми почками. Птицы и насекомые вернулись в свои владения. Новые бутоны распускались на месте увядших цветов. Ручьи стремительно освобождались от песка, нанесенного в их русло. Здоровая и счастливая жизнь опять вступала в свои права. — Посмотрите, — сказал Ральф, — с какой поразительной быстротой прекрасная и богатая природа залечивает свои раны. Не кажется ли вам, что она как бы стыдится потерять время и всеми силами старается в несколько дней проделать работу целого года? — И ей удается это, — заметила госпожа Дельмар. — Я помню прошлогодние бури: через месяц от них не оставалось и следа. — То же бывает и с разбитым сердцем, — сказал я ей, — если счастье к нему возвращается, оно быстро расцветает и вновь обретает молодость. Индиана протянула мне руку и посмотрела на господина Брауна с выражением бесконечной нежности и счастья. Когда настала ночь и она ушла к себе в спальню, сэр Ральф, усадив меня рядом с собой на скамейке в саду, рассказал мне свою историю, начав ее с того места, где мы остановились в предыдущей главе. Вдруг он умолк и, казалось, совсем забыл о моем присутствии. Крайне заинтересованный всем услышанным, я решился прервать его размышления и задать ему последний вопрос. Он вздрогнул, как человек, очнувшийся от сна, но затем, добродушно улыбнувшись, ответил: — Мой юный друг, есть воспоминания, о которых не следует рассказывать, дабы не нарушать их святости. Скажу вам только одно — я тогда твердо решил умереть вместе с Индианой. Но, верно, небо не захотело принять от нас подобной жертвы. Врач, вероятно, сказал бы вам, что у меня закружилась голова и я пошел не по той тропинке. Но я не врач и предпочитаю думать, что ангел Авраама и Товия, этот прекрасный белоснежный ангел с голубыми глазами и золотым поясом, какого вы часто видели в ваших детских сновидениях, спустился на лунном луче и, паря в брызгах водопада, распростер свои серебристые крылья над моей нежной подругой. Единственное, о чем я могу сказать с уверенностью, это то, что луна совершенно скрылась за вершинами гор, а мирное журчание водопада не было потревожено ни единым зловещим звуком. Птицы, спавшие на скалах, встрепенулись, лишь когда белая полоса показалась на горизонте; и первый луч солнца, озаривший заросли померанцевых деревьев, застал меня на коленях, славящим бога. Не думайте, однако, что я без колебаний принял неожиданное счастье, возрождавшее меня к новой жизни. Я даже боялся представить себе лучезарное будущее, которое ожидало меня; и когда Индиана открыла глаза и улыбнулась мне, я показал ей на водопад и стал говорить о смерти. «Если вы не жалеете, что дожили до сегодняшнего утра, — сказал я, — то мы можем признаться друг другу, что вкусили счастье во всей его полноте и теперь нам тем более следует расстаться с жизнью, потому что завтра моя звезда может померкнуть. Кто знает, быть может, покинув эти места и выйдя из состояния безумного опьянения, в какое повергли меня мысли о любви и смерти, я вновь превращусь в того бесчувственного человека, которого вы презирали еще вчера. Не покраснеете ли вы за себя, если я опять стану таким, как прежде? Ах, Индиана, избавьте меня от этого ужасного горя, это было бы последним ударом судьбы». «Разве вы сомневаетесь в своем сердце, Ральф? — спросила Индиана, и на лице ее появилось очаровательное выражение нежности и доверия. — Или мое сердце вам кажется недостаточно надежным?» Сказать ли вам правду? Первые дни я не был счастлив. Я не сомневался в искренности Индианы, но будущее пугало меня. В продолжение тридцати лет я относился к себе с недоверием, и мне трудно было в один день свыкнуться с мыслью, что я могу нравиться и быть любимым. Минутами на меня нападали сомнения и страх; не раз я жалел о том, что не бросился в озеро в тот миг, когда одно слово Индианы даровало мне счастье. У нее, по-видимому, тоже бывали такие минуты, когда грусть снова овладевала ею; она с трудом отучала себя от страданий, так как душа свыкается с горем, сживается с ним и очень медленно отрывается от него. Но я должен отдать справедливость этой, женщине: она никогда не пожалела о Реймоне, она забыла его настолько, что у нее не осталось к нему даже ненависти. И вот, как это бывает при настоящей и глубокой любви, время не уменьшило нашей привязанности, а наоборот — укрепило и увеличило ее. С каждым днем наше чувство приобретало новую силу, потому что с каждым днем мы все больше уважали и ценили друг друга. Постепенно наши страхи исчезли, и, видя, как легко было рассеять все наши сомнения, мы с улыбкой признались, что виноваты оба, ибо были трусами и боялись своего счастья. И с этого времени мы спокойно наслаждаемся нашей любовью. Ральф замолчал, и несколько мгновений мы оба сидели молча, погруженные в благоговейное раздумье. — Не буду говорить вам о моем счастье, — снова начал он, сжимая мне руку. — Если есть страдания, о которых не говорят и которые окутывают душу как бы смертным саваном, существуют и радости, навсегда затаенные в человеческом сердце, потому что их нельзя выразить ни одним земным словом. Впрочем, если бы даже какой-нибудь ангел спустился с небес на эти цветущие ветви и рассказал вам о них, вы все равно не поняли бы его, молодой человек, так как жизненные бури и грозы еще не коснулись вас. Увы, душа, никогда не страдавшая, не может постичь счастья! Что же касается наших преступлений, — прибавил он с улыбкой, — то… — О! — воскликнул я со слезами на глазах. — Послушайте, — тотчас же перебил меня Ральф, — вы прожили с преступниками ущелья Берника очень недолго, но и одного часа вам было достаточно, чтобы узнать нашу жизнь. Все дни ее похожи один на другой, все они одинаково спокойны и прекрасны и протекают так же быстро, как чистые дни нашего детства. Каждый вечер мы благодарим небо и каждое утро молим его послать нам те же радости и горести, что и накануне. Большую часть нашего дохода мы тратим на выкуп больных негров. Это и есть главная причина всех тех недоброжелательных слухов, которые распускают про нас колонисты. Как жаль, что мы не настолько богаты, чтобы освободить всех, кто находится в рабстве! Наши слуги — это наши друзья: они разделяют наши радости, а мы заботимся об их нуждах. Так проходит наша жизнь — без горя, без сожалений. Мы редко говорим о прошлом и так ж редко о будущем. Мы вспоминаем прошлое без горечи смело смотрим вперед. Если нам на глаза навертываются иногда слезы, то ведь бывают слезы блаженства, и только тяжелое горе не знает их. — Друг мой, — сказал я после продолжительного молчания, — если бы людские обвинения достигли вас, то ваше счастье было бы им достойным ответом. — Вы еще молоды, — ответил он, — и для вас, чистого душой и не испорченного светом, наше счастье — лучшее доказательство нашей добродетели, но для людей оно — наше главное преступление. Поверьте мне: одиночество прекрасно, и о людях жалеть не стоит. — Не все обвиняют вас, — заметил я, — но даже те, кто отдает вам должное, осуждают вас за презрение к общественному мнению и, признавая вашу добродетель, считают вас гордым и высокомерным. — В этом упреке, — возразил Ральф, — больше гордыни, чем в моем предполагаемом презрении. Что касается общественного мнения, то, видя, кого оно превозносит, следовало бы протянуть руку тем, кого оно презирает. Говорят, что без людского уважения нельзя быть счастливым, — пусть тот, кто думает так, и хлопочет о нем. Я же лично искренне жалею тех, чье счастье зависит от каприза людской молвы. — Некоторые моралисты осуждают ваше уединение, они считают, что каждый человек принадлежит обществу. Говорят также, что вы подаете другим опасный пример. — Общество не может чего-либо требовать от того, кто сам ничего не ждет от него, — возразил сэр Ральф, — а что мой пример заразителен, я не верю. Для того чтобы порвать с обществом, нужна очень большая сила воли, а эта сила воли приобретается слишком тяжкими страданиями. Итак, позвольте нам мирно наслаждаться нашим безвестным счастьем, мы обязаны им только самим себе и прячем его от всех, чтобы не возбуждать зависти. Идите, молодой человек, туда, куда влечет вас ваша судьба; не отказывайтесь от друзей, родины, положения, создавайте себе доброе имя. А у меня есть моя Индиана. Не порывайте цепей, связывающих вас с обществом, уважайте его законы, если они защищают вас, цените его суждения, если они справедливы, но если когда-нибудь общество оклевещет и отвергнет вас, найдите в себе мужество обойтись без него. — Да, — ответил я, — чистое сердце помогает выносить изгнание, но, чтобы полюбить изгнание, надо иметь такую подругу жизни, как ваша. — Ах, если бы вы знали, — сказал он с невыразимой улыбкой, — какую жалость внушает мне общество, презирающее меня! На следующий день я расстался с Ральфом и Индианой. Он обнял меня, а Индиана прослезилась. — Прощайте, — сказали они, — возвращайтесь в свет, но, если он когда-нибудь отвернется от вас, вспомните о нашей индийской хижине.КОММЕНТАРИИ
«Индиана», первый роман, подписанный именем Жорж Санд, вышла в свет в середине мая 1832 года. Псевдоним этот имеет свою историю. Роман «Роз и Бланш», созданный Авророй Дюдеван в соавторстве с Жюлем Сандо, как и некоторые фельетоны, опубликованные ими в журнале «Фигаро» в 1831 году, был подписан их общим псевдонимом Жюль Санд. «Индиана» также была задумана как совместный роман, но Жюль Сандо так и не принял участия в этой работе, и роман был написан Авророй Дюдеван самостоятельно. Сандо нашел его вполне законченным и не нуждающимся в редактуре. Аврора Дюдеван по соображениям личного характера не хотела выступать в литературе под собственным именем. Издатель настаивал на сохранении псевдонима, уже знакомого читающей публике. С другой стороны, Сандо не согласился выпустить в свет под общим псевдонимом книгу, к которой он не имел никакого отношения. Выход был найден: вымышленная фамилия остается неизменной, но имя Жюль меняется на Жорж. Надо сказать, что в литературных кругах, там, где близко знали и Аврору Дюдеван и Жюля Сандо, сложилось представление о литературной зависимости молодой писательницы от ее соавтора и друга. Так полагал, например, известный критик Сент-Бев. На самом же деле Аврора Дюдеван уже не нуждалась в чьей-либо литературной помощи. Критика быстро заметила роман. Буквально через несколько дней после выхода он был весьма сочувственно упомянут в очередном обозрении новостей политической и культурной жизни в журнале «Ревю де де монд». У читателей «Индиана» имела шумный успех, даже принявший характер сенсации. Эпоха довольно точно обозначена в самом романе: действие его начинается осенью 1827 года и завершается в конце 1831-го. Это были годы кризиса режима Реставрации, повлекшего за собой падение этого режима. В «Индиане» — только отзвуки этих событий: глухо и бегло упомянуто о смене кабинетов, о реакционных действиях властей, о восстании в Париже, о бегстве короля — ровно настолько, чтобы дать хронологические ориентиры и необходимый фон, позволяющий воспринять роман как современный. Даже разговоры о политике, которые порой ведутся в романе, носят настолько общий и схематичный характер, что воспринимаются лишь как средство, позволяющее более контрастно противопоставить героев. Правда, есть страницы, где характеристики общественных отношений и процессов даны глубже и обстоятельней, — это страницы, рассказывающие о политической роли Реймона де Рамьера, о его положении в свете, о его женитьбе на аристократке, унаследовавшей, однако, «плебейский» капитал. Страницы эти много дадут современному читателю для понимания эпохи, но все же думается, что при том малом внимании автора к событиям, потрясавшим страну, которое характерно для «Индианы», и это место в книге служит главным образом средством более углубленной обрисовки характера Реймона — героя, колеблющегося между влечением и долгом, помогая этому характеру точно вписаться в «психологический треугольник»: легкомыслие в поступках — житейский карьеризм — нравственный эгоцентризм. Таким образом, перед нами роман, где события внешней социальной жизни являются только схематично намеченным фоном, тогда как внутренний мир героев, анализ их чувств, переживаний, поступков даны с особой тщательностью и убедительностью. И вот в таком, на первый взгляд чисто психологическом, романе нашли выражение свободолюбивые надежды и устремления многих передовых людей Франции. Жорж Санд, воспитанная на литературе, несущей идеи свободы и гуманизма, на сочинениях Руссо, энциклопедистов и Франклина, пробудила своим романом горячее чувство протеста против попрания личности бездушными общественными установлениями. И вряд ли бы эта книга произвела столь глубокое воздействие на современников, если б автор ее не шел дальше проповеди женской эмансипации и права женщины на любовь. В ней есть глубже заложенный идейно-эмоциональный пласт, превращающий проблему угнетения женщины в проблему угнетения человека вообще. Поэтому «Индиана» очень скоро стала восприниматься как роман по-своему революционный, и не только во Франции, но и в России, где те же проблемы волновали передовые круги, и волновали острее и больнее, где на целые десятилетия Жорж Санд стала властительницей дум молодых поколений. Споры вокруг «Индианы» вынудили Жорж Санд выступить несколько раз с разъяснениями своих намерений. Второе издание романа, вышедшее в том же 1832 году, было сопровождено авторским предисловием, в котором Жорж Санд стремится отвести обвинения в безнравственном характере своей книги. Она уподобляет писателя зеркалу, отражающему явления жизни. В ответ на замечания об отсутствии назидательности Жорж Санд пишет: «Если вы хотите, чтобы роман оканчивался как сказка Мармонтеля, вы, может быть, упрекнете меня за последние страницы и найдете дурным, что я не вверг в нищету и одиночество существо, которое на протяжении двух томов преступало законы человеческие. Здесь автор ответит, что прежде всего он стремился не морализировать, но только быть правдивым… Он лишь рассказал судьбу Индианы, историю человеческого сердца со всей его слабостью и с его неистовством, с его притязаниями и заблуждениями, с его благими и дурными поступками». Спустя десять лет, в 1842 году, «Индиана» вышла с новым предисловием. Оно написано довольно сдержанно и дипломатично, хотя Жорж Санд и упрекает своих противников в предвзятости и голословности утверждений. Писательница заявляет, что и теперь, спустя десять лет, она не находит в своих первых романах ничего, что не согласовывалось бы с ее нынешними убеждениями. Они все проникнуты той же идеей: «неустроенность отношений между мужчиной и женщиной по вине общества». Она по-прежнему подчеркивает, что выступает только как писатель, но отнюдь не как философ или моралист, «Индиана» написана в одушевлении «чувством, правда, не сверяющимся с рассудком, но полным сознания правоты, чувством убежденности в том, что законы, которые до сих пор определяют положение женщины в браке, семье, обществе, несправедливы и дики». «Я не писал, — говорит автор, — трактата по юриспруденции, но сражался с общественным мнением, ибо в нем главное препятствие к усовершенствованию общества. Война будет жестокой и долгой, но я не первый, не единственный и не последний боец в этой славной битве, и я буду защищать это дело до последнего дыхания». Уже в первом романе Жорж Санд проявилось мастерство писательницы. Прежде всего оно сказалось в тонком психологическом анализе. Современная критика, подчеркивая большое значение «Индианы» для общественного самосознания, к числу художественных достоинств книги относила полный искренности и убедительности образ главной героини, а также особую выразительность образа Реймона де Рамьера, усматривая в беспощадном анализе этого характера оригинальность романа. По первоначальному замыслу роман должен был кончаться самоубийством Ральфа и Индианы. Однако такой конец могнеблагоприятно отразиться на судьбе первой книги писательницы, ибо самоубийство осуждалось католической церковью. В окончательной редакции романа появилась заключительная глава уже со счастливой концовкой. Во второй половине XIX века в некоторых дешевых изданиях этот роман появлялся во Франции в печати без последней главы, завершаясь самоубийством героев. Русские читатели рано познакомились с творчеством Жорж Санд. Роман «Индиана» в переводе А. и И.Лазаревых вышел в свет уже в 1833 году. Большинство читателей приняло эту книгу восторженно. Иначе дело обстояло с критикой. Передовая русская критика обратилась к творчеству Жорж Санд позже, в сороковых годах. Это, в частности, относится и к Белинскому, который в то время, в период своего «примирения с действительностью», отрицательно оценил первые романы Жорж Санд. Отношение Белинского к творчеству писательницы резко изменилось в сороковых годах. В тридцатых годах критики русских журналов охранительного направления Булгарин, Греч, Сенковский распространяли всяческие небылицы, рожденные необычайным образом жизни автора «Индианы». Сенковский, стараясь выглядеть остроумным, прозвал Жорж Санд «госпожой Егором Зандом». Критики этого направления оценивали произведения французского автора как безнравственные и расшатывающие общественные устои. Характерна в этом смысле небольшая анонимная заметка в «Журнале министерства народного просвещения» за 1836 год. Автор ее пробует воздать должное мастерству Жорж Санд, объясняет ее «озлобление» против общества тяжелой «личной участью» и выражает надежду, что столь сильное дарование обратится к предметам, достойным его. Но вот что там сказано по поводу ее первых романов: «Между современными литературными талантами юной Франции особенно привлекает внимание своею злобою на общество и на существующий в нем порядок, ненавистью к браку, странным искажением женских характеров, стремлением поколебать законы человеческие и даже посяганием на законы высшие писатель, скрывающийся под формою Жоржа Занда — именем, запятнанным в мире политическом и нравственном, а ныне прикрывающим своею эгидою самые необузданные литературные порождения». Тут произошла любопытная ошибка: прочитав, подобно некоторым своим современникам, на немецкий лад французскую фамилию Sand, автор заметки решил, что псевдоним взят неспроста и что писательница с умыслом использовала имя студента Карла Занда, убившего реакционера, немецкого писателя Коцебу. А имя Занда для всех охранителей существующего порядка в ту пору было особенно ненавистно. До революции и в советское время роман «Индиана» неоднократно издавался в русских переводах. Остров Бурбон — одно из прежних названий острова Реюньон, входящего в группу Маскаренских островов. Альмавива — легкомысленный граф, один из героев трилогии Бомарше («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро», «Преступная мать»). Эпоха Регентства (1715-1723) — время правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского, который в последние годы своей жизни был регентом при малолетнем короле Людовике XV. …и даже Виргиния, покидая родину, вряд ли написала Павлу более очаровательное письмо. — Имеются в виду герои романа французского писателя Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737-1814) «Павел и Виргиния» (1787), рисующего идеальную любовь и дружбу юноши простого происхождения и девушки-дворянки вдали от цивилизации. В данном случае речь идет об отъезде Виргинии во Францию. …корчил из себя жозефиниста… — то есть сторонника Жозефины Богарне (1763-1814), состоявшей в браке с Наполеоном до 1809 года. Титул императрицы был сохранен за ней и после развода. Сен-Поль — портовый город на острове Бурбон. Иксион — в греческой мифологии царь, полюбивший богиню Геру, супругу Зевса, и в наказание за это прикованный Зевсом к вечно вращающемуся огненному колесу. …пристанет теперь к тебе, подобно одежде Деяниры. — В греческой мифологии Деянира, жена Геракла, думая сохранить любовь своего мужа, дала ему одежду, пропитанную кровью убитого Гераклом кентавра Несса. Но одежда эта пристала к телу Геракла, вызывая нестерпимые мучения. Не выдержав мук, Геракл бросился в огонь. Сцены встречи Реймона и Нун в спальне Индианы и самоубийства Нун произвели большое впечатление на читателей. Альфред Мюссе написал большое стихотворение, посвященное Нун и Индиане, которое послал Жорж Санд 24 июня 1833 года. Мартиньяк Жан-Батист (1776-1832) — французский политический деятель, член палаты депутатов, роялист, лавировавший между крайними монархистами и умеренными либералами. Кабинет, возглавленный им, просуществовал семнадцать месяцев (январь 1828 — июнь 1829) и осуществил некоторые послабления жестокого реставрационного режима. Хартия — конституция, принятая 14 июня 1814 года и гарантировавшая от имени короля двухпалатную систему правления с выборностью нижней палаты, ответственность правительства перед народом и ряд свобод, обеспечивавших правовое положение граждан, в первую очередь свободу слова и свободу печати. Я поздравляю победителей Испании… — Имеется в виду французская экспедиционная армия, посланная Карлом X в апреле 1823 года в Испанию для подавления испанской революции. Французские войска оставались на территории Испании до 1828 года. Эмигранты Кобленца. — Западногерманский город Кобленц был в годы французской революции главным центром аристократической эмиграции. Франше — в годы 1821-1828 директор департамента полиции, входившего тогда в состав министерства внутренних дел. Фуше Жозеф (1759-1820) — французский политический деятель, умело приспособлявшийся к новым режимам. Начав как якобинец, он занимал пост министра полиции при Директории, во времена Наполеона и Людовика XVIII. …Людовик Святой. — Так называли короля Франции Людовика IX (1226-1270). В его царствование были значительно урезаны права феодалов. …венсенского дуба… — Венсен — старинная резиденция французских королей. По преданию, под дубом в Венсене Людовик IX решал споры между вассалами и вершил суд. …белое знамя — знамя династии Бурбонов. …двадцать пять лет славы Франции — эпоха революции и наполеоновской империи. Трехцветное знамя — знамя Французской республики и Империи, вновь восстановленное в революцию 1830 года. …"стряхнет насевшую на нем пыль»… — Жорж Санд перефразирует слова из рефрена стихотворения Беранже «Старое знамя». Герцог Рейхштадтский — Наполеон-Франц (1811-1832) — сын Наполеона I и второй его жены, императрицы Марии-Луизы. Легитимисты — сторонники политической доктрины, признающей историческое право династий ненарушимым. Во Франции так обычно именовали сторонников восстановления династии Бурбонов. «Сто дней» — вторичное правление Наполеона I после возвращения его с острова Эльбы (с 20 марта по 22 июня 1815 года). «Ослиная шкура» — французская народная сказка, обработанная писателем Шарлем Перро (1628-1703). Элизиум — у древних греков местопребывание душ умерших героев и добродетельных людей. Госпожа Дюбарри — Мари-Жанна Бекю (1743-1793), фаворитка Людовика XV. В последние годы жизни короля (Людовик XV умер в 1774 году) вмешивалась в государственные дела и принимала деятельное участие в политических интригах. Была гильотинирована по приговору революционного трибунала. Туаз — мера длины во Франции до введения метрической системы мер, равная 1,95 метра. Фахам — название одной из орхидей, листья которой в сушеном виде используются для приготовления ароматного напитка, употребляемого также в лечебных целях. Личи — тропическое фруктовое дерево. Фаэтон — морская птица, обитающая в тропиках. Родригес — один из Маскаренских островов. Фрегат — крупная птица тропических морей из семейства веслоногих. Смена кабинета 8 августа… — 8 августа 1829 года министерство Мартиньяка было вынуждено уйти в отставку и передать власть в стране крайне реакционному кабинету, во главе которого встал Жюль-Опост Полиньяк (1780-1847), занявший также пост министра иностранных дел. Полиньяк был сторонником крайнего абсолютизма и стал вдохновителем ордонансов Карла X, вызвавших революцию 1830 года. …одному из представителей рода Медина-Сидония… — Титул герцогов Медина-Сидония носил род Гусманов, принадлежавший к высшей испанской знати. Анна Пейдж — персонаж из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы». Буше Франсуа (1703-1776) — французский художник и театральный декоратор. …вознаграждение за свои земли. — Речь идет о законе, принятом палатой депутатов 27 апреля 1825 года, предоставлявшем лицам, чьи земельные владения были конфискованы во время революции, денежную компенсацию, равную двадцатикратной сумме дохода, полученного ими в 1790 году. Общая сумма компенсации несколько превысила миллиард франков. …никто еще не знал результатов восстания в Париже. — Имеется в виду Июльская революция, совершившаяся в три дня — с 27 по 29 июля 1830 года. …патруль национальной гвардии… — Так называлось созданное еще в эпоху французской революции ополчение, состоявшее главным образом из представителей мелкой и средней буржуазии. Национальная гвардия продолжала существовать при всех последующих режимах и была распущена только после беспорядков 1827 года. В революцию 1830 года отряды национальной гвардии вновь собрались и выступили против Карла X. …рассказ о привязанности верного пса, о красоте кокосовых пальм и о песнях негра Доминго. — Имеется в виду роман Бернардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния». …любимых героев, заблудившихся в лесах Красной реки. — В романе Бернардена де Сен-Пьера эта река названа Черной. Неро Жюль — один из ближайших друзей Жорж Санд, совершивший в молодости путешествие на острова Мадагаскар и Бурбон. По возвращении во Францию Неро составил для Жорж Санд обстоятельное описание природы острова Бурбон, которое писательница использовала в «Индиане». …ангел Авраама и Товия… — Имеются в виду два библейских сказания о посланных богом ангелах. В первом из них ангел останавливает руку Авраама с ножом, занесенным над его сыном Исааком, которого Авраам собирался принести в жертву богу; во втором сказании рассказывается об ангеле в человеческом облике, который помогает Товию, сыну Товита, пройти через многие испытания. …вспомните о нашей индийской хижине. — В этих словах содержится намек на повесть Бернардена де Сен-Пьера «Индийская хижина» (1791), где добродетельный и мудрый человек, отвергнутый обществом, находит смысл жизни в единении с природой.Жорж Санд Исповедь молодой девушки
Господину М.-А. Мой друг, перед тем как принять серьезное решение, к которому вы меня побуждаете, я хочу самым искренним образом поведать вам о себе и о своей жизни. Мой рассказ будет долгим, точным, подробным, иногда несколько наивным. Я просила вас дать мне возможность в течение трех месяцев побыть в одиночестве, чтобы собраться с мыслями, привести в порядок свои воспоминания и спросить свою совесть, нет ли у нее ко мне упреков. Позвольте мне не принимать никакого решения, не высказывать даже никакого мнения о предложении, которое вы мне делаете, прежде чем этот рассказ не будет представлен вашему вниманию.Люсьена
I
30 июня 1805 года госпожа де Валанжи ехала в своей старой карете, представлявшей собою весьма странное и сложное сооружение, в котором было что-то от коляски, что-то от таратайки и что-то от ландо, но которое, в сущности, не было ни тем, ни другим, ни третьим. Это был один из тех причудливых экипажей, которые провинциальные фабриканты изобрели для удобства путешественников во времена Директории,[17] в эту эпоху перемен, поисков вслепую и всяческих прихотей во всех областях жизни. Тяжелая и прочная карета была еще вполне пригодна, а госпожа де Валанжи отнюдь не стремилась изменить свои привычки. Она избежала революционных гроз, укрывшись в своем замке Бельомбр, где-то в глубине горного ущелья Прованса, сохранив в неприкосновенности свое скромное состояние и свои умеренные взгляды. Это была превосходная женщина, малообразованная, выражаясь литературным языком, но зато кроткая, любящая и преданная, обладавшая безошибочной чуткостью сердца. Не она сдала Тулон англичанам и желала побед чужеземцам. И не она взяла Тулон обратно[18] и желала побед Республике или Империи.[19] — Я уже старуха, — говорила она, — и прошу только, чтобы меня оставили в покое. Кроме того, я женщина, а потому не могу желать никому зла. Эта прекрасная женщина спокойно ехала сейчас в своей карете. Рядом с нею сидела крепкая провансальская крестьянка, держа на руках здоровенького грудного младенца, родную внучку госпожи де Валанжи, мадемуазель Люсьену, которой было десять месяцев. Этот ребенок, привезенный в Прованс, родился в Англии, где его отец, маркиз де Валанжи, женился во время пребывания за границей на ирландке из хорошей семьи. Английский климат не был благоприятен для двух первых детей, рожденных от этого брака, и они умерли во младенчестве. Почти с самого рождения Люсьену доверили французской кормилице и поручили заботам ее бабушки, которая приехала за ней в Дувр и затем в течение трех месяцев благополучно воспитывала ее под южным солнцем. Этот ребенок, которого в силу обстоятельств его рождения и положения его отца увезли за границу, отнюдь не нарушил своим возвращением покоя Франции, но ему суждено было самым странным образом нарушить покой своей собственной семьи. Дорога поднималась в гору все выше. Жара стояла невыносимая. Открытая и низкая карета двигалась так медленно, как только могут плестись две старые клячи, если кучер крепко уснул на козлах. Видя, что госпожа де Валанжи тоже заснула, кормилица хорошенько закутала в белое муслиновое покрывало затихшую Люсьену, которая задремала раньше всех, и решила, конечно, зорко следить за своим сокровищем. Но было так жарко и они ехали так медленно, что, когда они достигли перевала и лошади, почуяв запах конюшни, сами прибавили рыси, все вдруг проснулись. Кучер, чтобы показать, что он не спит, начал нахлестывать лошадей, а госпожа де Валанжи бросила спокойный и нежный взгляд на покрывало, под которым спала ее внучка… Но вдруг кормилица, почувствовав, что под покрывалом никого нет, что нет никого и у нее на руках, что нет никого у нее на коленях, вскочила с помутившимся от ужаса взором. Она лишилась дара речи, ее глаза блуждали, она казалась полумертвой, полусумасшедшей: ребенок исчез. Она не издала ни звука, она не могла вымолвить ни слова, она выскочила на дорогу, она упала, она лишилась чувств. Кучер остановил лошадей и, смутно соображая, что ребенок, вероятно, выпал из рук кормилицы на дорогу, не стал ожидать приказания своей оцепеневшей от ужаса хозяйки, а постарался как можно скорее повернуть карету назад. Разочарованные лошади не выказывали особого усердия. Бедняга кучер сломал даже свой кнут, но дело от этого вперед не продвинулось. Старуха, полагая, что может бежать, вышла из кареты. Тем временем кучер, хлеща что есть сил лошадей кнутовищем, опередил ее. Кормилица, как только пришла в себя, изнемогая, потащилась за старухой. На пыльной дороге не видно было ни одного прохожего, все следы уже были сметены свежим бризом, всегда дующим в этих местах. Несколько крестьян, работавших в отдалении, примчались на крики женщин и тоже с воплями и причитаниями пустились на поиски. Наиболее усердным все-таки был кучер, который с ужасом ожидал, что вот-вот они найдут в колее раздавленного колесами ребенка. Он всхлипывал, как человек добросердечный, извергая в то же время кощунственные ругательства, как настоящий язычник. Но куда там! Ничего не нашли — ни раздавленного ребенка, ни обломка кареты, ни клочка ткани, ни капли крови, никакого следа, никакого знака на этой пустынной и немой дороге! Огромные мельницы, старинные владения монашеских орденов, расположены здесь в двух-трех лье друг от друга, вдоль бурного течения Дарденны. Кучер взывал о помощи, расспрашивал всех, стараясь выяснить, бия себя в грудь, когда же он уснул. Никто не мог ему этого сказать, настолько все привыкли видеть его спящим на козлах! Никто не обратил внимания, когда ребенок исчез из кареты. Никаких следов! Через несколько часов вся округа была на ногах, от замка Бельомбр до деревушки Реве, где карета делала остановку и где ребенка еще видели прильнувшим к груди кормилицы. Полиция не так уж скоро прибыла на место происшествия, но зато она сделала все, что было возможно. Обыскали все столь редкие жилища этой долины, обследовали все овраги и ямы, арестовали несколько бродяг, подвергли допросу всех, кого было можно… Но минул день, неделя, месяц, год, и никто даже представить себе не мог, что, собственно, произошло с малюткой Люсьеной.II
Кормилица впала в состояние буйного помешательства, пришлось держать ее взаперти. Старик кучер, которого снедало горе и терзало уязвленное самолюбие, стал искать утешения — или, скорее, забвения — в вине. И однажды вечером он утонул вместе с одной из своих лошадей в Дарденне, которая выступила из берегов. Говорят, что маркиз де Валанжи скрывал как можно дольше от своей жены эту зловещую и таинственную историю. Когда она узнала правду, она умерла. Маркиз сделался сумрачен, раздражителен, несправедлив и поклялся, что его останки не будут преданы земле на его неблагодарной и столь роковой для его судьбы родине. Он отверг предложения госпожи де Валанжи, которая умоляла его принять все меры для возвращения во Францию. Он объявил, что никого и ничего больше не любит. Он не мог простить своей матери, что она не уберегла его единственного ребенка. Только старая госпожа де Валанжи устояла под градом ужасных ударов, которые обрушились на ее семью. Она преисполнилась набожности и благочестия, давала обеты и делала вклады во все церкви округи, не теряя надежды на то, что какое-то нежданное чудо вернет ей бедняжку внучку. Прошло четыре года. Наступил 1809 год. Госпоже де Валанжи было уже семьдесят лет. Однажды утром к ней пришла женщина с поблекшими щеками, которую отпустили из больницы. Это была Дениза, кормилица, оправившаяся от умственного расстройства, но страшно постаревшая и истощенная до такой степени, что ее едва можно было узнать. — Сударыня, — сказала она, — мой покровитель святой Денис три раза являлся мне во сне. Трижды он велел мне отправиться к вам и сказать, что мадемуазель Люсьена вернется, и вот я пришла. Лекари уже давно считают меня здоровой. Только эти господа, которые ни во что не верят, твердят, что у меня с головой что-то неладно. Вот почему я дважды не вняла голосу святого, моего покровителя. Но на третий раз я уже не посмела идти наперекор ему. Послушайте, что я скажу вам, а потом поступайте, как вам будет угодно. Я знаю, что выполнила свой долг. Появление Денизы испугало старую даму, но она успокоилась, увидев ее мягкий, искренний и полный внутренней решимости взгляд. К тому же видение, представшее Денизе, отвечало ее смутным мечтам и негаснущим надеждам. Она вознесла столько молитв, раздала столько милостыни, столько раз ездила на богомолье, заказала столько обеден, что для нее просто невозможно было не уповать на помощь Божью. Галлюцинации Денизы казались ей некими откровениями. Ей желательно было знать, в каком виде являлся ей святой, сколько ему могло быть лет, во что он был облачен, в каких выражениях он объяснялся с нею. Дениза была совершенно простодушной, она была начисто лишена фантазии, она не хотела да и не могла ничего выдумать. Ей предстал некто, в ком она узнала святого, она слышала слова, которые возвещали о возвращении ребенка, и больше она ничего не знала. Госпожа де Валанжи попросила своего врача и своего священника освидетельствовать и расспросить Денизу. Доктор объявил, что мозг ее в порядке. Пастырь провозгласил ее чистой душой, и все это было верно. Старая дама заключила отсюда, что видение есть неоспоримый факт и предсказанию можно верить. Она все время держала Денизу при себе и снова начала поиски, как будто ее внучка пропала только вчера. Это необъяснимое происшествие наделало в округе много шуму. Но его уже начали постепенно забывать, как вдруг разнесся слух, что внучка нашлась так же таинственно, как и пропала. Друзья, родственники, бездельники и просто любопытные толпами отправились в замок, чтобы все разузнать, подозревая, не обман ли все это, но исполненные решимости установить истину. Дениза весьма радостно принимала всех, вопя о чуде и злобно шипя на тех, кто не хотел этому верить. Госпожа де Валанжи была настроена совсем иначе. Она объявила, что помощь провидения тут вполне естественна и что ее дорогую малютку доставили ей здоровой и невредимой добрые люди, которые ее где-то нашли. Все хотели увидеть ребенка. Но она отказывалась сделать это, говоря, что девочка устала от путешествия и чувствует себя растерянной в новой обстановке. Это было заявлено столь решительным тоном, что все разъехались, одни — убежденные в том, что госпожа де Валанжи говорит всерьез, другие — что у нее есть какие-то малопонятные причины распускать слухи, лишенные всякого основания. Два ближайших друга семьи, доктор и адвокат, были единственными, кому было дозволено поглядеть на Люсьену, и вот что поведала им бабушка. Некое лицо, имени которого она назвать не пожелала и даже не сообщила, какого оно пола, попросило ее спуститься в Зеленую залу — так называлось одно место в парке, расположенное в овраге ниже замка. Там ее заставили поклясться, что она никогда не обмолвится ни одним словом, которое могло бы навести на следы виновников этого дела. На этих условиях ей отдадут ребенка и докажут его подлинность. Госпожа де Валанжи поклялась на Евангелии. Тогда ей рассказали такие вещи, которые не оставили у нее ни малейшего сомнения в том, что это и есть ее внучка, и следующей ночью в той же самой Зеленой зале ей возвратили ребенка, не пожелав даже получить никакого вознаграждения или компенсации за те заботы, которыми была окружена девочка в течение четырех лет, или за путевые расходы по ее возвращению. Так что нечего было и задавать бесполезные вопросы госпоже де Валанжи или надеяться, что она нарушит свою клятву. Она добавила притом, что так как девочка говорит только на иностранном языке, который мог бы выдать место, откуда ее привезли, то никто ее не увидит, пока она этот язык не забудет. Адвокат, господин Бартез, пояснил госпоже де Валанжи, что те предосторожности, которыми она по необходимости окружает самый факт возвращения своей внучки, могут впоследствии повлечь за собой серьезные затруднения в вопросе об установлении гражданского положения ребенка, если только не будут представлены неоспоримые доказательства подлинности ее личности. — У меня будут такие доказательства, — возразила госпожа де Валанжи. — У меня и сейчас уже их достаточно, чтобы укрепиться в своей уверенности. А те, которые могут потребоваться по закону, в свое время и в должном месте будут предъявлены. Я уполномочиваю вас сообщать всем, что вы видели мою внучку, присовокупляя при этом, что я в здравом уме и твердой памяти, что я не приписываю ее возвращения чуду, что меня не обманули, не воспользовались мною для своих целей и, наконец, что я знаю, что это именно она, и я это со временем докажу. Каждый поймет, что я не могу да и не хочу выдавать тайну лица невиновного, которое близко, однако, к виновникам, и я не должна предать их в руки правосудия.III
Вот и все, что я знаю об обстоятельствах своего вторичного появления в мире, ибо вновь найденный ребенок — это я, и сейчас я поведу речь от собственного имени, чтобы попытаться воскресить воспоминания своего раннего детства. Самое отчетливое из этих воспоминаний — белое платье, самое первое в моей жизни, а также цветы и розовые ленты на моей кудрявой головке. Этот наряд как-то особенно волновал меня, но я не могла бы сказать, где меня в него облачили; помню только, что это было под открытым небом, теплой ночью, при лунном сиянии. Меня закутали в легкое пальто и понесли в какую-то пропасть. Мне кажется, что меня нес мужчина, но рядом шла женщина, которую я называла мамой, а она меня дочкой. Дальше в моих воспоминаниях начинается какая-то путаница. Кажется, меня взяли и увели две другие женщины, которых я совсем не знала, а моя мать, кого я тщетно призывала, несмотря на мои крики, отчаяние и сопротивление, так и не пришла ко мне на помощь. Я полагаю, что это было самое первое горе в моей жизни, и это было ужасно, ибо я не помню, как долго оно длилось. Мне кажется, что я просто на время умерла, хотя мне говорили, что я даже не больна, но я твердо помню, что это было какое-то душевное оцепенение, застой во всей моей нравственной и умственной жизни. То, что я собираюсь поведать об этих ранних временах, было рассказано кем-то мне самой, и я передаю это лишь со слов третьих лиц. Моя бабушка и моя кормилица — так как меня возвратили именно им — не могли извлечь из меня в течение нескольких недель ни одного французского слова. Французский не был моим родным языком, но все-таки меня ему немножко обучили, ибо я его понимала, а легкость, с которой я его изучила позднее, когда развеялась моя тоска, доказывала, что я его уже где-то слышала раньше, как и другой язык или местное наречие, на котором я предпочитала изъясняться. Видимо, подобное предпочтение было с моей стороны злостной выходкой, и еще долго потом я упорствовала, не желая отвечать ни слова многочисленным посетителям, которые являлись полюбоваться на меня как на чудо, причем большинство из них, моряки или путешественники, задавали мне самые разные вопросы на всевозможных языках. Но когда убедились, что эта назойливость только усиливает мою строптивость, меня оставили в покое, и бабушка сочла за благо не относиться больше ко мне ласково и ни в чем не потакать мне. Однажды, когда меня повели на прогулку к Зеленой зале, я вдруг вспомнила о своей матери и начала истошно кричать. Потом меня долго туда не водили. Меня оставляли играть в полном одиночестве в саду, уступами спускавшемся вниз, под наблюдением бабушки, которая сидела в гостиной первого этажа и вышивала, делая вид, что не обращает на меня никакого внимания. Бедняжка Дениза, которая просто обожала меня, хотя я не могла выносить ее, потихоньку притаскивала мне разные лакомства и раскладывала их на ступеньках сада или на краю бассейна, где струилась ключевая вода. Я решительно ничего не желала принимать из рук кормилицы и только выжидала удобного момента, когда меня никто не видит, чтобы завладеть этими лакомствами. Я не хотела ни с кем здороваться, не хотела никого благодарить. Я старалась укрыться куда-нибудь от всех, чтобы поиграть с куклой, которая казалась мне верхом совершенства, — это я отлично помню. Но как только на меня обращали внимание, я швыряла ее на землю, отворачивалась к стене и не двигалась, пока докучные зрители не удалялись прочь. Я смутно припоминаю, что именно горе сделало меня такой злой. Может быть даже, я ощущала в своем сердце какую-то обиду, которую сама не могла себе объяснить. Вероятно, меня больше всего задевало, что я была так безжалостно покинута той, кого я в глубине души называла своей матерью. Вероятно и то, что я уже умела выражать свое горе словами, потому что мне рассказывали, что иногда я разговаривала сама с собой на языке, которого не понимал никто. — Не будь этого, — уверяла потом моя кормилица, — тебя бы все считали немой. А может быть, такую дикую робость вызывала во мне бабушка, одежда и прическа которой были для меня невиданным, фантастическим зрелищем. Меня, должно быть, до тех пор воспитывали в бедности, ибо роскошь, среди которой я вдруг очутилась, порождала во мне что-то вроде ослепления, смешанного с испугом. По всей видимости, моя угрюмость вызывала у всех беспокойство, да и длилась она гораздо дольше, чем этого следовало ожидать от ребенка моих лет. Наверно, и переход от этого яростного настроения к более спокойному расположению духа происходил довольно медленно. Наконец в один прекрасный день, после того как на меня было потрачено много терпения и доброты, было признано, что я очаровательна. Не знаю уж, сколько тогда мне было лет, но я совершенно забыла свой чужеземный язык, свою мать, которой я так и не знала, и фантастическую страну своего раннего детства. Однако какие-то смутные воспоминания еще сохранились во мне, и их-то я не забыла. Однажды меня привели на берег моря, которое было от нас хорошо видно, но от нашей долины до него было около пяти лье. Издали я всегда глядела на него равнодушно, когда же я оказалась на берегу и увидела, как огромные волны разбиваются о гальку — в этот день на море было большое волнение, — меня охватила неистовая радость. Нисколько не боясь бушующих валов, я порывалась бежать вслед за ними, я собирала ракушки, которые нравились мне гораздо больше, чем все мои игрушки. Я унесла их к себе домой как драгоценность. Мне казалось, что я нашла что-то давно мною утраченное. Вид рыбачьих лодок тоже пробудил во мне смутные видения прошлого. Дениза, которая готова была исполнить малейшее мое желание, согласилась покататься со мной на лодке. Сети, рыба, плывущая лодка — все это волновало меня. Я совсем не робела и не держалась надменно, как с другими еще незнакомыми мне людьми, наоборот, я резвилась и смеялась вместе с этими моряками, как со старыми знакомыми. Когда пришло время с ними расставаться, я самым дурацким образом разревелась. Дениза, приведя меня обратно к бабушке, сказала ей, что она уверена, что я воспитывалась где-то у рыбаков, потому что соленая морская вода мне так же близка, как маленькой чайке. Именно тогда бабушка, которая дала обещание не заниматься розысками виновника моего похищения, но отнюдь не отказалась от попытки узнать что-то о моей прошлой жизни — увы, у меня уже было прошлое! — стала задавать мне самые разные вопросы, на которые я даже не знала, как ответить. Я уже ничего о себе не помнила, но, как это часто бывает, особенно когда Дениза, которой было строго-настрого запрещено расспрашивать меня, куда-то уходила, мне начинали приходить в голову такие мысли, о каких другие дети и представления не имели. Мне казалось, что я не похожа на других детей, потому что вместо того, чтобы поведать мне о том, кто я и кем была раньше, меня самое заставляли рассказывать об этом. Я предавалась диким мечтам, и так как Дениза перед сном рассказывала мне разные благочестивые истории вперемежку со сказками о феях, моя бедная фантазия неистово заработала. Однажды я вообразила себе, что я — выходец из фантастического мира чудес, и я самым серьезным образом рассказывала своей славной бабушке, что сначала я была серебряной рыбкой и что огромная птица схватила меня и унесла на вершину дерева. Там оказался ангел, который вознес меня в облака, но некая злая фея сбросила меня вниз, в Зеленую залу, где меня хотел съесть волк, а я спряталась под большой камень, пока не пришла Дениза, не взяла меня оттуда и не надела на меня прекрасное белое платье. Бабушка, видя, что я несу всякую чушь, перепугалась, как бы я не сошла с ума. Она сказала, что все это вранье, а так как я упорствовала, и даже слишком решительно, дала мне клятву, что все это я видела во сне, и совершенно перестала меня о чем-нибудь расспрашивать. Болезнь не развивалась дальше, но она глубоко укоренилась во мне. Я не была лгуньей, я просто была чересчур романтичной. Реальная действительность меня не удовлетворяла. Я искала чего-то более необычного и блистательного в мире мечты. Такой я и осталась до сих пор; это и послужило причиной всех моих дальнейших бедствий, а может быть, также и первоначальным истоком всех моих жизненных сил.IV
Кажется, мне было семь или восемь лет, когда я познакомилась с Фрюмансом Костелем. Ему тогда было лет девятнадцать-двадцать. Он был сирота, племянник священника нашего прихода. Странный приход была эта деревушка Помме! Я не могу говорить о Фрюмансе, не дав описания местности, где бабушка отыскала его, чтобы доверить ему мое образование. Ибо хотя лицо, для которого я пишу, и знает мой Прованс, но я не могу рассказать ни об одном событии, не обрисовав фона, на котором оно происходило. Редкие деревушки в наших горах, по преданию, были древними римскими колониями, которые были захвачены, разграблены и потом заняты сарацинами, а затем уже отняты у тех туземцами. Какими туземцами? Трудно допустить, чтобы эти дикие гнезда, затерянные в безводных оврагах, могли иметь других обитателей, кроме отважных колонистов или пресыщенных добычей пиратов. Утверждают, однако, что эти области, ныне столь опустошенные, играли важную роль в те времена, когда ценнейшее насекомое, дававшее пурпур, обитало в листве карликового дуба, который ботаники называют хвойным дубом. Что произошло с пурпуром? Что произошло с насекомым? Что произошло с великолепием наших морских берегов? Большая часть наших земель состоит из узких плодородных участков, изрезанных руслами горных потоков, пересыхающих почти на три четверти года, и из редких оливковых рощ, расположенных на нижних уступах гор. Долина Дарденны, где вода не пересыхает круглый год, — это настоящий оазис в пустыне, а вся округа представляет собою не что иное, как нагромождение живописных скал и горных хребтов, то крутых, то плоских, каменистых и весьма унылых для прогулок и для осмотра. Рядом с нашим приходом на красивых холмах все-таки можно найти немного растительности. Округлая вершина горы, которая возвышается над этой местностью, покрыта скудной зеленью, восхитительной в мае и выжженной солнцем в июле. Там есть также и естественный источник и ручей, впадающий в Дарденну. Деревушка состоит из полусотни домиков, разбросанных по крутому склону горы, и маленькой церкви, где господин Костель, дядя Фрюманса, занимал должность священника. Я всегда буду помнить, как мы первый раз пришли в гости к этому священнику. Так как деревушка была расположена на склоне ущелья напротив нас и, чтобы перейти Дарденну по камням и добраться до другой стороны холма, нужно было иметь не такие ноги, как у моей бабушки, нам приходилось совершать длинный объезд в карете, и даже в этом случае дорога была такой трудной, что бабушка завела обычай служить мессу в маленькой церкви Бельомбра. Священник из Помме, наскоро отслужив обедню своим прихожанам, проворно спускался по крутому холму, мгновенно перелетал ложбину по тропинкам и, отслужив нам, с разрешения своего епископа, вторую короткую мессу, усаживался за внушительный завтрак, сервированный для него бабушкой и Денизой, которые очень заботились о нем и вдобавок вручали любезному кюре небольшую дополнительную плату. Добрый священник был невероятным ходоком и невероятным едоком. Это был человек высокого роста, сухой, желтый и ужасно неряшливый; но его ум и образованность могли вполне сравниться с его нищетой и аппетитом. Мне кажется, что больше всего ему недоставало религиозного рвения, ибо за пределами своей службы он никогда не заговаривал о делах небесных. Нечего было и говорить с ним на эту тему за столом, так как у нас он наедался чуть ли не на целую неделю. Однажды он дал нам знать, что из-за легкого недомогания принужден сидеть дома и не сможет прийти к нам и отслужить мессу. Это легкое недомогание оказалось первым приступом еще неведомой ему подагры. Бабушка полагала, что небо не покарает нас, если мы разок обойдемся без мессы, но Дениза, католичка более пылкая, испросила позволения пойти со мной в Помме. Я уже была достаточно большой девочкой, чтобы совершать такие прогулки, и весьма ловко прыгала по скалам. Все на свете забывается, ибо бабушка запамятовала, что Дениза уже один раз потеряла меня и после этого стала немного придурковатой. И вот мы в дороге, идем по полям и лугам. Стояло лето, и Дарденна разбилась на тонкие полоски воды и узкие ручейки, еле зыблемые на своем ложе. Мы легко перешли ее, даже не замочив обуви, затем мы вошли в оливковую рощу, потом в сосновую, прошли по изрезанным оврагами тропинкам и наконец благополучно добрались до крутого спуска, где приютилась наша полуразрушенная церквушка. Я полна была ликования и гордости, потому что прошла пешком весь путь, считавшийся столь утомительным, но вид деревушки удивил и даже немного испугал меня. По крайней мере половина домов была разрушена, а остальные стояли запертые, и, вероятно, уж давно, ибо все двери и окна увили виноградные лозы и плющ и войти туда можно было бы разве только с помощью серпа. На улицах не было видно ни телеги, ни скота, нигде ни живой души. Когда я обратила на это внимание Денизы, она объяснила мне, что из деревни ушли почти все жители, и теперь здесь осталось только пять человек, включая мэра, священника и полевого сторожа. Так как в этот день мэр поехал по делам в Тулон, а сторож заболел, то священник служил свою мессу совершенно один в пустой церкви. Когда я говорю — совершенно один, то это не совсем точно: ему помогал его ризничий, юноша высокого роста, такой же сухой и желтый, как он сам. Это и был его племянник, Фрюманс Костель. Пустая церковь и покинутая деревня произвели на меня сильное впечатление, и так как я вовсе не была приверженной к религии, просто из чувства противоречия Денизе, которая была уж чересчур фанатичной и этим докучала мне, то я во время мессы старалась представить себе те романтические или ужасные события, которые до такой степени опустошили Помме. Может быть, это была чума, которая в былые времена производила такие неслыханные опустошения в наших местах? Мне рассказывали об этом, но я не имела точного представления о хронологии. А может быть, это были волки, разбойники или злые чары какой-нибудь колдуньи? Мозг мой работал так усердно, что мне стало страшно, и мои глаза устремились на дверь: я ждала, что вот-вот оттуда выскочит какое-нибудь чудовище. Высокая трава и черные гирлянды ползучих лилий вокруг иззубренной аркады свода вызывали во мне трепет каждый раз, когда ветер слегка колыхал их. Месса, к счастью, продолжалась недолго; священник повел нас к себе, и я, хотя и была разочарована, вместе с тем несколько успокоилась, узнав, что со времен сарацин деревушка не была ни завоевана врагами, ни разграблена, ни сожжена, а жители ее не были перебиты или съедены волками. Она обезлюдела потому, что вся округа постепенно становилась все менее плодородной, дороги все ухудшались, и вся молодежь переселилась на берег моря, где, как со вздохом заметил священник, работы хватает на всех. Старики мало-помалу перемерли, просто от старости. Небольшой участок плодородной земли, принадлежавший ушедшим, был передан пятому жителю, крестьянину-вдовцу, который вместе с мэром, кюре, Фрюмансом и сторожем составлял отныне все население деревни. Эта деревушка была не единственной, которую так покинули ее обитатели. Есть даже целые старые города, расположенные высоко в горах, которые постепенно спустились на морской берег или в глубь долин. Домик священника был в неслыханном запустении и смутно напоминал мне какое-то жалкое пристанище, которое я видела в далеком детстве. Мне казалось, что и этот домик я вижу не впервые. Может быть, моя приемная мать, когда привела меня в Бельомбр, нашла себе здесь временный приют.V
Служанки у священника не было; эту обязанность выполнял его племянник, и надо сказать, что выполнял он ее очень плохо, ибо этот жалкий церковный домик был просто лачугой. Нам хотели приготовить завтрак, и за яйцами не пришлось ходить далеко — куры неслись прямо на кроватях. Но так как Фрюманс мучительно старался придумать для нас еще что-то, Дениза успокоила его, притащив корзинку, где нашлось кое-что из съестного. Я ужасно проголодалась и ужасно боялась, как бы священник не посягнул на часть моего завтрака, которая, как я справедливо полагала, не окажется ничтожной. Но хотя Дениза предложила ему принять участие в трапезе, он скромно отказался. Я-то, впрочем, не совсем еще успокоилась, видя, как этот верзила племянник распаковывает наши припасы и с голодным видом суетится вокруг нас. Я не знала еще тогда гордости и сдержанности этого человека. Несмотря на то что Дениза весьма почитала лиц духовного звания, она любила чистоту и опрятность и объявила, что я привыкла есть на свежем воздухе, и мы отправились завтракать на уступ скалы, который считался садиком кюре, но где под сенью ююбы пробивалась лишь скудная травка. Вскоре дождь заставил нас вернуться в церковь, и тут разразилась такая неистовая гроза, что нечего было и думать пускаться в обратный путь, прежде чем она кончится. Добродушный священник очень беспокоился, как это мы пойдем назад сразу после такого ливня. Тропинка стала очень трудной, а Дарденна даже опасной. Кюре так сильно хромал, что не мог нас проводить, и поручил сделать это своему племяннику. Все шло хорошо до перехода через поток, который хотя и не представлял собой серьезной угрозы, зато залил камни и сделал их очень скользкими. Фрюманс предложил перенести меня на руках, но я уже чувствовала себя маленькой принцессой, а его воскресный черный костюм был так засален, черные волосы так взлохмачены даже в воскресенье, что вид его внушал мне непреодолимое отвращение. Я отказалась, скорее из боязни, чем из вежливости, от этого предложения и, взяв за руку Денизу, смело пустилась вниз по созданным природой ступеням, по которым шумно пенилась вода. Когда мы уже были почти на середине потока, мне показалось, что Дениза дрожит; я увидела, или мне это почудилось, что она ведет меня совсем не туда, потому что у нее началось головокружение, и, потащив ее изо всех сил обратно, я чуть не свалила ее в воду. — Скорей, скорей, не ссорьтесь, идите вперед! — закричал Фрюманс, шедший за нами. Это восклицание заставило меня бросить взгляд на реку вверх по течению. Она вздулась, помутилась и гнала вперед волну желтой пены, которая быстро приближалась к нам. Дениза совсем потеряла голову и начала искать меня справа, тогда как я шла слева от нее, а я совсем не соображала, что я делаю. Меня охватил безотчетный страх, но мне не хотелось, чтобы они это видели. Мы уже, вероятно, были в опасности, когда Фрюманс быстро вклинился между нами, схватил Денизу за руку, а меня поднял, как перышко, и посадил себе на плечо, как он это сделал бы с маленькой обезьянкой. Он довел нас так до берега, подталкивая вперед мою совсем растерявшуюся кормилицу и не обращая никакого внимания на то, что я ужасно злилась, что меня несут, как девочку, меня, которая уже считала себя взрослой девицей. Я оказаласьвесьма неблагодарным созданием, ибо бедный юноша, спасая меня и Денизу, еле удержался на ногах под неистовым напором потока, вымок по колена и выпачкался илом и тиной чуть ли не до пояса. Он даже не замечал этого и, радуясь, что на мое розовое платье не попало ни пятнышка грязи, настоял на том, чтобы донести меня до самого замка, утверждая, что я устала. Я пришла в совершенную ярость, но не посмела сопротивляться, так как, чтобы спрыгнуть на землю или начать отбиваться от него, мне пришлось бы запачкать свое платье об его насквозь промокший костюм. Я прямо ненавидела его, и если бы не отвращение, которое мне внушали его курчавые волосы, я с превеликим удовольствием выдрала бы из них порядочный клок. Вот так я познакомилась с тем, кому суждено было стать лучшим другом моей юности. Тут мы увидели людей, вышедших нам навстречу. Бабушка уже очень беспокоилась и ожидала нас на ступеньках террасы. Дениза, вообще склонная к преувеличениям, расписала ей Фрюманса как самоотверженного героя, который вырвал нас из пасти верной смерти. Добрая старушка приняла Фрюманса самым ласковым образом; она хотела, чтоб его уложили в постель с грелкой и дали ему бокал горячего вина. Он засмеялся и, поблагодарив ее, просто пошел на кухню обсушиться у огонька, а потом вернулся, чтобы проститься с нами. Тут как раз наступило время обеда, и его, конечно, не хотели отпустить голодным. Он заставил себя долго упрашивать, но наконец согласился и вел себя очень скромно, совсем не так, как его дядя. Он выказал себя сдержанным, но без застенчивости, и назойливость Денизы, казалось, была ему неприятна. За десертом он остался с бабушкой и со мной и немного разговорился. Бабушка расспрашивала его так ласково и добродушно, что он в конце концов решился кое-что рассказать о себе. — Вы делаете мне большую честь, — начал он, — называя меня господин Костель. Но я вовсе не прихожусь племянником или родственником вашему досточтимому кюре. Я найденыш, да, найденный ребенок в полном смысле слова, он нашел меня у дверей своего дома. Он меня крестил, вскормил и вспоил, он меня воспитал, он называет меня своим приемным племянником и хочет, чтобы я носил его имя, говоря, что это единственное, что он может оставить мне в наследство. — Вот благородный поступок, который досточтимый священник всю жизнь от меня скрывал! — воскликнула бабушка. — Тем более благородный, — подхватил Фрюманс, — что он дорого за него заплатил. Затем, когда он перешел к подробностям, которых я не должна была знать, бабушка попросила меня пойти собрать клубники покрупнее, потому что Дениза забыла подать ее к столу, и, пока я была в саду, Фрюманс рассказал бабушке все то, что я узнала только впоследствии. В то время когда он был найден священником, у того был небольшой приход вблизи Пьерфё, получше, чем теперешний. Никто из прихожан и не подумал вменить ему в вину появление подкидыша у его двери или чувство милосердия, которое заставило его взять младенца на воспитание. Высокая нравственность его была известна всем, и в тот момент ни одна из деревенских девушек не могла вызвать подозрения. Так прошло несколько лет, и вдруг на господина Костеля был подан донос одной из прихожанок, старой ханжой, которая обвинила его в том, что он толкует Евангелие слишком ясно и просто, в духе протестантов и атеистов. Он, мол, заядлый галликанец,[20] он не столько творит молитвы, сколько занимается чтением газет, он кичится тем, что он скорее эллинист, чем христианин, и, наконец, при нем проживает ребенок, у которого нет ни отца, ни матери, и все это, дескать, доказывает, что господин Костель не отличается высокой нравственностью. Епископ не оставил так этого дела. Он вызвал к себе господина Костеля, убеждал его признать свои ошибки, обещая за это отнестись к нему снисходительно. Но Костель отличался гордостью и резкостью и, к несчастью для себя, был плохим дипломатом. Он ответил епископу, не стесняясь в выражениях и несколько свысока. Тогда он попал в опалу, и его перевели в эту несчастную деревушку Помме, где побочных доходов не было и кругом царила нищета. Собирая клубнику, я все время думала о том, что Фрюманс рассказал бабушке в моем присутствии. Я совершенно не знала, что означает слово «найденыш», но так как я знала о том, что я сама была найдена на Зеленой зале, то мне казалось, что в жизни Фрюманса, как и в моей, когда-то произошло нечто таинственное и сверхъестественное. Это немного возвышало его в моих глазах, и мне очень хотелось бы услышать, что такое он там рассказывает бабушке, так как я полагала, что речь шла о феях и духах. Когда я принесла клубнику, он рассказывал ей о тех серьезных научных занятиях, которые вел с ним господин Костель, когда он подолгу жил у него в заброшенной деревушке. Бабушка широко открыла глаза, узнав, что дядя и племянник были совершенно счастливы вдвоем, предаваясь чтению и научным занятиям, которые полностью поглощали их внимание и заставляли забыть о лишениях и тоске одиночества. — Но как же это? — спрашивала она. — Вы, такой образованный и трудолюбивый, не нашли себе подходящего занятия, чтоб хоть как-то облегчить жизнь бедного, доброго кюре? — Я несколько раз пытался давать уроки в городе, — ответил Фрюманс, — но это все-таки слишком далеко. Я терял целый день на ходьбу туда и обратно, а кроме того… я был не очень-то прилично одет. Если сразу видно, что человек нищий, то ему платят как можно меньше. Пробовал я также устроиться учителем в коллеж, но для этого приходилось оставлять бедного дядю совсем одного в горах, и через месяц, когда я смог его навестить, я увидел, что он так ослабел и так угнетен своим одиночеством, что я боялся, вдруг он заболеет. Он взял себе служанку, но никак не мог с ней поладить. Праздная женщина, которой не с кем поболтать, настоящее бедствие для человека ученого, для которого просто невыносимо слушать всякую ерунду. К вопросам ведения хозяйства господин Костель был совершенно равнодушен. Он привык обходиться без излишней роскоши. Он так тяжело переживал мое отсутствие, что ему совсем не нужна была моя небольшая денежная поддержка. В один прекрасный день он откровенно сказал мне об этом, и с той поры я решил больше не разлучаться с ним. Я помогаю ему служить мессу, и ему не нужно держать ризничего. Я ухаживаю за козой и курами, я чиню, как умею, его башмаки, я даже научился от одного бывшего матроса подшивать ему рукава. Ну что же вы хотите? Делаешь все, что возможно, и бедность не такое уж несчастье, как иногда себе это представляют! Но я злоупотребляю добротой, с которой вы меня слушаете, сударыня, и мне пора вернуться к моему дорогому дяде; он, вероятно, будет беспокоиться обо мне, если я задержусь, как вы недавно беспокоились о своей внучке. Затем этот честный и достойный юноша взял свою ужасную шляпу, которую он застенчиво сунул куда-то в уголок, и удалился, попрощавшись со мной как со взрослой. Это немножко примирило меня с ним. — Идите по направлению к мельницам! — крикнула ему бабушка с террасы. — Не пытайтесь перейти вброд. Я даже отсюда вижу, какое волнение на реке. — Ничего, — ответил Фрюманс с улыбкой. — Пройти можно. Он словно хотел сказать, что представляет собой слишком ничтожное создание, чтобы река взяла на себя труд унести его. Я имела дерзость подумать вслух, что ему не помешало бы искупаться. — Дорогая моя, — сердито сказала бабушка, — такого человека, как он, отмыть от грязи легче, чем злое сердце. — А разве у меня злое сердце? — растерянно спросила я. — Да нет же, слава богу, — ответила бабушка. — Но, сама того не сознавая, ты сказала вещь очень нехорошую. Этот юноша сегодня утром спас тебе жизнь, а ты даже и не думаешь о том, что, возвращаясь вечером домой, он подвергает опасности свою собственную жизнь. — Но зачем же он подвергает ее опасности? Он вполне мог бы остаться у нас до завтра. — Но его дядя беспокоился бы и волновался за него всю ночь, а ты видишь, что Фрюманс любит своего дядю пуще собственной жизни. Я поняла, что бабушка дала мне хороший урок. Она давала мне обычно уроки не прямо, а косвенно, и я их прекрасно понимала. Но Дениза чуть ли не боготворила меня, и раз одна потакала всем моим слабостям, я готова была оказывать сопротивление другой. Это, может быть, толкало меня даже на путь неблагодарности, наперекор моим природным склонностям, которые отнюдь не были уж такими плохими. Возможно также, что в раннем детстве я испытала много страданий, и во мне осталась какая-то раздражительность, непонятная мне самой. В следующее воскресенье у нас вновь появился аббат Костель, и бабушка стала выговаривать ему за то, что он не взял с собой племянника. — Он помог бы вам служить мессу гораздо лучше, чем мой садовник, — говорила она, — и нам бы доставило удовольствие видеть его у себя. Мы его как-то очень полюбили. Священник ответил, что его племянник где-то неподалеку, ибо, видя, что дядя еще немного хромает, славный юноша вызвался проводить его до брода, но что он слишком стеснителен, чтобы прийти в замок без приглашения. — Надо пойти за ним! — воскликнула бабушка. — Я сейчас отправлю туда Мишеля. И, многозначительно взглянув на меня, она добавила: — Он вел себя героем по отношению к моей внучке, а Люсьена не такое уж неблагодарное создание. Я сразу поняла этот упрек и, скорее из чувства гордости, чем доброты, попросила разрешения пойти вместе с Мишелем, чтобы передать приглашение бабушки господину Фрюмансу. — Да, деточка, вот это очень мило, — сказала бабушка и поцеловала меня. — Иди, конечно. Мы подождем его с обедом. А господин кюре пока слегка закусит — ведь он, вероятно, уже как следует проголодался. Я пошла с лакеем. Мы нашли Фрюманса шагах в пятидесяти от дома; он сидел на берегу с удочкой, а на коленях у него лежала книга. Он снял сюртук, и на нем была белая рубашка, вся рваная. Однако в таком виде он внушал мне меньше отвращения, чем в своем сюртуке с засаленным воротом, и я довольно любезно выполнила поручение. Сначала он, видимо, был недоволен, что ему помешали, но, зная, что его ждут, он отдал Мишелю пойманных им рыбешек и предложил мне руку, чтобы подняться к замку. Эта рука, которой он только что дотрагивался до рыб, мне не очень-то улыбалась. Я ответила ему, что могу идти сама, и, чтобы доказать это, пустилась бежать вперед, как лань. Оборачиваясь иногда, чтобы посмотреть, идет ли он за мной, я каждый раз встречала его взгляд, устремленный на меня с выражением какого-то детского восхищения, и я слышала, как он говорил слуге: — Что за дитя! Я никогда в жизни не видел более обворожительного и милого создания. Бедняга Фрюманс! Он воплощал для меня что-то уродливое и отталкивающее, мне было трудно удержаться и не высказать ему это, а я казалась ему самым милым существом на свете! Не знаю уж, благородство ли его души заставило меня покраснеть или мне как-то льстило восхищение, которое я ему внушала, но мне начало казаться, что он не такой уж тупица, и, может быть даже, я инстинктивно рисовалась перед ним легкостью походки и изяществом манер. Могу признаться в этом без ложного стыда. Я вспоминаю, что все дети обычно любят рисоваться и что они всегда упиваются похвалами, как самые настоящие дикари.VI
Пока меня не было, священник, воздавая должное завтраку, занимал бабушку разговором о благородном характере и редкостных достоинствах своего приемного племянника. Он охарактеризовал его как кладезь учености, как ангела душевной чистоты и самоотверженности. Значительно позднее я узнала, что он ничего не преувеличил. Добрейшая бабушка, которая была воплощением милосердия и заботливости, пыталась найти способ воспользоваться свободным временем Фрюманса, чтобы как-то улучшить жизнь его дяди, но господин Костель упрашивал ее не предпринимать в этом смысле никаких мер. — Даже и не говорите о том, чтобы нас разлучить, — сказал он, — мы вполне счастливы и так, как мы живем. Меня очень беспокоила наша бедность, ибо я считал, что наступит день, когда мне придется как-то устроить этого мальчика, чтобы он тут не испортился. Но этот момент так и не наступил. Фрюмансу уже двадцать лет, и он никогда со мной не скучал, стало быть, у него нет никаких дурных мыслей. Он учен, как философ, и чист, как источник. Здоровье у него великолепное, и он очень неприхотлив. Моего содержания вполне хватает на нас двоих, и так как я, прав я или не прав, в принципе не считаю, что священнику должны оплачиваться требы, я ничуть не огорчен тем, что сумма моих доходов равняется нулю. Фрюманс все-таки что-то зарабатывает: он сведущ в земледелии, и дядюшка Пашукен иногда нанимает его на поденную работу — обрезать оливковые деревья или собирать фрукты. Дядюшка Пашукен был пятым обитателем Помме, который взял в аренду земли всех уехавших отсюда людей. Бабушка, узнав теперь все о Фрюмансе, стала изыскивать средство найти ему менее утомительную работу, не разлучая его притом с дядей. Но все, что она предлагала в тот день и в следующие воскресенья, было отвергнуто обоими отшельниками. Они ссылались или на свою гордость, или на беззаботность, только бы их оставили в покое. Добрая бабушка сожалела о том, что она недостаточно богата, чтобы позволить себе роскошь стать благодетельницей. Она бы, конечно, могла взять к себе дядю вместе с племянником. Но когда она высказывала свои сожаления Денизе, та только качала головой. Дениза понемногу обнаружила или полагала, что обнаружила, будто оба Костеля не истинно верующие. Она была слишком невежественна, чтобы спорить с ними, но чувствовала, что ее приверженность к чудесам не одобряется священником и только вызывает смех у Фрюманса. Бабушка очень любила Денизу и даже относилась к ней с уважением, но они резко расходились в своих религиозных убеждениях. Если одна и та же вера объединяла их у подножия одного и того же алтаря, то различное толкование религии отдаляло их друг от друга: бабушка считала, что духовенство должно ограничиваться выполнением обрядов и не вмешиваться в общественную жизнь. Дениза, все более и более подпадая под власть религии, не допускала и мысли о том, что на этом свете можно быть честной и полезной, не трудясь на благо церкви. Трудиться на благо церкви значило для нее отдавать все свое время украшению часовен и обряжению мадонн; пылая страстью к этим изображениям, она понемногу безотчетно становилась идолопоклонницей. Сначала бабушка боялась, чтобы она не сбила меня с толку, потом она стала бояться, чтобы презрение к суетной мелочности этой несчастной женщины не превратило меня в неверующую. Но она успокоилась, видя, что я люблю и слушаюсь только ее. Как только я забыла свою незнакомую приемную мать, бабушка безраздельно завладела моим сердцем, и я всегда и во всем была ей послушна. Здесь я опускаю какой-то период времени, который не был ознаменован никакими особыми событиями, до начала моего обучения. Мне разрешили немного пожить вольготно и порезвиться — таково было предписание врача. Когда меня возвратили бабушке, я была, как говорили, крепкой, хорошо сложенной девочкой, но перемена образа жизни и климата сделала меня вялой и бессильной. В первый год меня даже не учили читать. Когда же потом мне стали показывать буквы, то обнаружили, что я читаю довольно бегло, но из лености или из упрямства не хочу этим хвалиться. Местность, где мы жили, оказывала большое влияние на мое развитие, ибо эта местность была пустынной. Близких соседей у нас не было, из Тулона к нам доходили уже запоздалые новости, и бабушка так привыкла жить, не поспевая за ходом событий, что она просто испугалась бы, если бы ее заставили поинтересоваться настоящим, которое для нее всегда было прошлым. Когда люди подобным образом привыкают к пассивному восприятию того или иного события, становится совершенно бесполезным его объяснять, и они уже не дают себе труда что-либо как следует понять, а принимают все с почти фаталистическим равнодушием. В этом отношении некоторые южные кантоны в ту эпоху имели определенное сходство с Востоком. И своим видом наша местность оказывает отупляющее влияние на ум человека. Долина Дарденны — один из редкостных оазисов департамента Вар, но тем, кто побывал в центральных и северных провинциях Франции, он покажется весьма сухим и бесплодным. Хотя наша усадьба была расположена в самой прохладной и лучше всего орошаемой части ущелья, голые горы кругом с их пепельными склонами и белыми известковыми вершинами обжигают взор и приводят в оцепенение разум. Тем не менее это прекрасная местность, с резкими очертаниями, вся открытая воздействию солнца, суровая, безжалостная и внешне непривлекательная, ничуть не кокетливая, но и отнюдь не пошлая или жеманная. Понятно, почему ее любили мавры: она, казалось, была самой природой создана для этих воинственных племен, которые не стремятся к лучшему и живут с верой в свою незыблемую судьбу. Ее сравнивают и с Иудеей, колыбелью учения, которое отрекается от земных наслаждений и видит в горных высотах лишь мечту о бесконечном. Не могу ничего сказать о своих первых впечатлениях. Я не могла отдать себе в них ясного отчета, но я прекрасно знаю, что год за годом этот Прованс производил на мой ум, если можно так сказать, подавляющее впечатление, тогда как моя личность, стремясь к действию, вздымала во мне целые ураганы, но без грозовых разрядов и вспышек молний. Поэтому-то так бурно развилась во мне мечта и в таком застое оставался мой разум. Бельомбр — старинный маркизат, принадлежавший одному ныне угасшему роду. Муж моей бабушки, дворянин из Прованса и морской офицер высокого ранга, купил эту усадьбу еще до революции, и его вдова никогда больше оттуда не уезжала. Она поздно вышла замуж и через несколько лет потеряла мужа. Поэтому она прожила одна большую часть своей жизни. Ее сын шестнадцати лет уехал в эмиграцию, и она жила пятнадцать лет совершенно одиноко, пока не нашла меня и не сосредоточила на мне всю свою любовь. Привычка к одинокой, беззаботной и тихой жизни породила в ней какую-то отрешенность мысли, и ей стало трудно общаться с людьми. Хрупкое здоровье было еще одной причиной ее сидячего образа жизни, и, обладая самым нежным и преданным сердцем, она как бы создавала между собой и теми, кого она любила, зияющую пропасть. Говорила она мало, и в семьдесят лет в ней чувствовалась еще какая-то странная застенчивость. Не получив, как большинство благородных девиц ее времени из тех же мест, никакого образования, она весьма сдержанно относилась ко многим вопросам, о которых боялась высказать свое мнение. И, если уж говорить все до конца, ее считали женщиной любезной, хорошо воспитанной, гостеприимной и добродушной, но ни во что ее не ставили. В этом была большая несправедливость, так как она здраво судила обо всем, тонко и благородно оценивала все явления и даже отличалась умом весьма приятным, когда бывала в настроении. Неспособность действовать была результатом шаткости ее здоровья, инертности окружающей среды, власти привычки, а совсем не отсутствия способностей. Да если бы она и обладала лишь одной способностью — любить, разве не кощунством было бы ни во что не ставить эту благородную душу? Я должна была сказать это раз и навсегда, чтобы полная независимость, в которой я воспитывалась, никого не удивляла и чтобы терпимость бабушки не приписывали какой-то нравственной апатии. Скорее всего это было заранее обдуманным решением, в ожидании того, что возраст сам подскажет, как надо действовать. Она жила почти незаметно, боясь ветра, жары и пыли — всех неудобств нашего климата, никогда не испытывая потребности куда-нибудь поехать или утратив силы бороться с усталостью. Она кротко жаловалась на свое состояние и ни в коем случае не хотела, чтобы я шла тем же путем. Она очень волновалась, видя, как я спокойно сижу около нее, и все время гнала меня на свежий воздух, говоря, что отец и мать для ребенка — это прежде всего солнце. Позднее, мягко упрекая себя в том, что она не заботилась о развитии своего интеллекта, бабушка приобщила меня к умственной жизни, и ей нравилось наблюдать, как широко раскрываются передо мной жизненные горизонты. Конечно, я была избалована, но я утверждаю, что так поступали, следуя определенной системе, а отнюдь не из-за простой небрежности.VII
Жилище бабушки являлось как бы необходимой рамкой для ее милого облика. В этом старом, тяжелом четырехугольном доме, бесформенном с архитектурной точки зрения, на этих раскаленных скалах, высоко возносивших его над руслом Дарденны, владелица поместья создала себе некий оазис покоя, тишины и свежести. Ни за какие деньги не хотела она продавать свои древние деревья морскому флоту, этому неумолимому врагу тенистой листвы побережья. Дом был целиком в тени, и обычно семь раз примеряли, прежде чем отрезать какую-нибудь ветку, которая угрожала ворваться в комнаты. Кроме того, здесь позволили свободно разрастаться виноградным лозам, жимолости, вьющимся розовым кустам, бегониям и азорским жасминам, стебли которых тянулись от итальянских колонок, украшавших дорожки цветника; их гирлянды вились по проволокам, переплетаясь повсюду, так что весь сад, идущий уступами вниз, утопал в цветах и зелени. Низкорослых растений, конечно, не было, их выращивали на склоне холма. Бабушка жила под этим зеленым сводом, и особенно ей нравились некоторые экзотические кустарники, семена которых были когда-то привезены ее мужем из его далеких морских походов. Между ними был один китайский питтосфор, который разросся в целое дерево, и его гладкий черный ствол возвышался над террасой и немного закрывал широкий вид на море из окон гостиной. Приходилось выходить из дому, чтобы полюбоваться морем. Но питтосфор был так красив, так усыпан цветами весной, давал столько тени, да к тому же дерево этой породы и величины было во Франции такой редкостью, что было бы просто кощунством подрезать его ветви. Я, конечно, находила наш сад не слишком просторным. Я предпочитала крутизну Зеленой залы, куда можно было попасть через огород, когда вода стояла низко, но куда я любила добираться узким и опасным проходом между скалами, выше по течению реки. Эта Зеленая зала представляла собою небольшую круглую площадку, окруженную отвесными скалами, густо поросшими зеленью; воды Дарденны каскадами падали на каменные глыбы, раскиданные с дикой живописностью, затем утихали, образуя крохотное озерцо, а там снова, бурля и грохоча, текли дальше. Это было чудесное место, но заснуть во время грозы тут было опасно, потому что внезапный подъем воды в потоке мог отрезать вам выход с обеих сторон. Мне было запрещено ходить туда одной, но как только я оставалась одна, я сейчас же устремлялась туда. Ниже по течению реки, как раз под нашим замком, стояла старая мельница, питавшаяся водой из канала, проведенного еще во времена мавров; он всегда содержался в хорошем состоянии и доставлял нам чистую и светлую воду Дарденны. Поток у Зеленой залы был уже довольно многоводен. Наш канал, соединясь несколько ниже с этим потоком, превращался в настоящую реку, которая приводила в движение все другие мельницы, расположенные по дороге в Тулон. Ущелье, круто наклоненное к морю, спускалось вниз все расширяющимися уступами. У подножия длинной и внушительной горы Фарон, с того места, где мы находились, мы могли созерцать глубокое пространство между высокими и великолепными холмами и отвесной лазурной стеной Средиземного моря. Вдалеке все время гремели пушечные залпы из фортов: оглушительный вход кораблей в гавань, все сигналы и салюты десятикратно повторялись горным эхом. Дарденна тоже часто ревела, когда грозы делали ее свирепой и заставляли преодолевать огромные естественные ступени известковых скал, на которых росли мирты и олеандры. Резкий контраст этих внезапных и чудовищных звуков с унылым и пустынным пейзажем был одним из самых ранних впечатлений моего детства, и оно живо запечатлелось в моей памяти. Позднее я часто сравнивала все это с моей внутренней бурной и фантастической жизнью в лоне жизни внешней, столь скудной и однообразной. Моя бабушка все продолжала изыскивать средство как-то смягчить нищету аббата Костеля и его приемного сына, когда внезапно представился подходящий случай. Умерла ее племянница, которую бабушка очень любила, и когда я увидела в первый раз, как она плачет, я была растрогана до глубины души. Племянница, всегда жившая в Грассе, навещала нас так редко, что я едва ее помню. Это была девица д’Артиг, вышедшая замуж бесприданницей за одного из Валанжи, жившего в Дорфине́, человека весьма надменного и весьма ничтожного, который оставил ее в крайней бедности с малолетним сыном. В свою очередь, умирая, она выразила желание, чтобы моя бабушка взяла на себя заботу о ее единственном сыне, которому тогда было двенадцать лет, и стала бы его воспитательницей. Наследство, оставленное ею, состояло из тридцати тысяч франков, помещенных на хранение к нотариусу в Грассе. Бабушка охотно приняла на себя эту новую миссию, и юный Мариус де Валанжи в одно прекрасное утро почтовым дилижансом прибыл к нам в Тулон. Слуга поехал за ним в двуколке, а мы в это время уже готовили гостю комнату и ужин. Я очень обрадовалась, что у меня хоть на несколько недель появился товарищ, с которым можно будет играть, и побежала на дорогу встречать своего кузена. Я немного оробела, увидев, как он вышел из повозки, подошел и поцеловал мне руку с изяществом и уверенностью тридцатилетнего мужчины, а затем, вложив мою руку под свою, повел меня в дом, расспрашивая о своей двоюродной бабушке, о которой слышал, что она лучшая из женщин, и с которой жаждет познакомиться и обнять от всего сердца. Не знаю уж, выучил ли он все это заранее, но говорил он так хорошо, был такого высокого роста для своих лет, у него было такое очаровательное лицо, такие прелестные белокурые вьющиеся волосы, такая стройная фигура в черной бархатной курточке, такая открытая шея в накрахмаленном воротничке, такие изящные ноги в маленьких гетрах с блестящими пуговицами, словом — он был такой красивый, такой вежливый, такой чистенький и нравственно и физически, что сразу внушил мне чувство самого высокого почтения и глубокого уважения. — Это настоящий аристократ! — сказала бабушка Денизе, когда он приветствовал ее точно так же, как и меня. — Я вижу, что он получил великолепное воспитание и не доставит нам ни малейших затруднений. Но в глубине души бабушка, вероятно, думала, что было бы лучше, если бы он молча бросился в ее объятия и поплакал вместе с ней о своей так недавно умершей матери.VIII
Но я об этом не думала. Как бы вызванная на соревнование превосходными манерами моего кузена, я хотела доказать ему, что я тоже не какая-нибудь деревенская дура, и начала ухаживать за ним с торжественностью, исполненной изящества. Мы оба производили весьма комическое впечатление. Бабушка обладала достаточным количеством здравого смысла, чтобы сразу же не заметить этого. Она порекомендовала нам держаться не столь напыщенно и, в ожидании ужина, немного побегать по саду. Мариус не уловил насмешки. Он снова предложил мне руку, что было весьма лестно, и мы стали чинно прогуливаться по аллеям парка, где, казалось, не было ничего достойного внимания Мариуса. Я так часто слышала, как расхваливали наши цветники и гирлянды, подвешенные на тройном ряду итальянских колонок, наши раковины, в которых слышался шум моря, великолепный вид с террасы на море и красоту китайского питтосфора, что мне хотелось, чтобы и он все это высоко оценил. Но он нашел питтосфор слишком тяжеловесным и слишком черным, раковины — ужасно уродливыми, колонки — страшно ветхими, а вид на море — очень забавным. — Почему же он забавный? — спросила я. — Не знаю. Все это уходит куда-то вглубь, как огромная улица. А вот внизу, эта голубая штуковина, это и есть море? — Да. Вы должны были видеть его очень близко по дороге в Тулон. — Может быть. Я его не рассмотрел. Так, значит, это и есть океан? Я решила, что он просто смеется надо мной. Может ли такой элегантный молодой человек и вдобавок так хорошо воспитанный не знать, что Прованс омывается Средиземным морем? Я не осмеливалась возражать ему, боясь, что у меня не хватит остроумия поддержать шутку, и тогда я спросила, не очень ли ему было грустно расставаться со своими родными местами. — Ничуть, — ответил он, как будто и не вспомнив даже о потере матери, — у меня были такие скучные учителя, и если бабушка хочет, чтобы я остался в деревне, я буду очень рад поездить верхом и поохотиться. Тут есть дичь? — Да, у нас это частое блюдо. Вы, стало быть, умеете стрелять из ружья? — Конечно, и я привез свое ружье с собою. — Наверно, оно очень большое и тяжелое? — Нет. Но из него можно превосходно стрелять куропаток. — И много вы уже их настреляли? — Да, я уже одну убил, а другую ранил. Я пришла к выводу, что мой кузен довольно-таки глуп. Но постаралась отбросить от себя эту мысль, сочтя свое скромное мнение дерзостью. В это время гонг позвал нас к столу. Как деликатно и аккуратно ел мой кузен! Никогда он не вытирал рот скатертью, как Фрюманс, никогда не заливал себе подбородок соусом, как аббат Костель, никогда не тянул руку, чтобы взять себе конфетку или какой-нибудь плод с десертного блюда, как это иногда случалось даже со мной. Он держался на своем стуле прямо, он не дозволял ни одному пятнышку появиться на своей вышитой рубашке. Он был весьма предупредителен и вовсю расхваливал наш обед бабушке и мне. Дениза просто замирала от восхищения, и на этот раз я готова была с ней согласиться.IX
Теперь пришло время сказать о том скромном круге знаний, которым я овладела тогда (дело было в 1813 году). Бабушка научила меня почти всему тому, что знала сама: читать, писать, шить и считать. Я знала даже больше, чем она, ибо она не была сильна в орфографии, а я благодаря зрительной памяти и постоянному чтению инстинктивно научилась писать так хорошо, как редко пишут в моем возрасте. Я безумно любила читать и знала наизусть несколько доступных мне повестей и романов, которые составляли нашу скудную библиотеку. Мне позволяли рыться в книгах совершенно невозбранно: все, что там можно было найти, было невинным чтением, но там нельзя было найти истинно поучительного. Однако именно там я приобрела некоторые познания по истории, географии и мифологии. Но мне хотелось знать гораздо больше. Запас бабушкиных сведений уже подходил к концу, а кроме того, и зрение ее быстро ухудшалось. Она часто говорила, что пора бы уже найти мне гувернантку, которая не скучала бы в нашем захолустье и ладила бы с Денизой. Но особу такого рода найти было нелегко. Когда же ей пришлось подумать и о Мариусе, то ее задача еще больше осложнилась. Мариус был очень спокойным мальчиком, и все упражнения в верховой езде и охотничьи подвиги, возвещенные им столь громогласно, ограничивались лишь гибелью нескольких воробьев, которых он весьма терпеливо выслеживал, а затем убивал почти в упор, и несколькими поездками верхом на чрезвычайно смирной лошадке мельника. Однажды ружье, заряженное им слишком туго, дало сильную отдачу, и он перепугался. В другой раз лошадка, которую он вздумал пришпорить, стала брыкаться и сбросила его из седла на траву. После этого он стал очень осторожным. С прогулками пешком дело обстояло ничуть не лучше. Он хвастался тем, что он великолепный ходок и что у него ноги альпиниста. Когда он видел, как я бегом лечу вниз, в Зеленую залу, и перехожу через поток по огромным камням, он делал хорошую мину при плохой игре и устремлялся вслед за мною, но он заявил, что это омерзительное место и что ему больше нравится сад. А море, куда нас возили в карете, он объявил вещью совершенно идиотской, ибо едва он вошел в лодку, как у него началось головокружение и он растянулся во весь рост и захныкал, что умирает. Доброй бабушке нечего было бояться, что в ее доме заведется буйный и дерзкий дьяволенок. Она на него не жаловалась. В конце концов, Мариус был хорошим мальчиком, душевно чистым и с прекрасным характером. Если он не обладал никакими выдающимися достоинствами, то в нем не было и никаких внушающих опасение недостатков, никаких серьезных пороков. Она вполне могла держать его у себя, доверить нас друг другу и спать совершенно спокойно. Но какое образование могла она дать этому мальчику, раз она считала себя неподходящей воспитательницей даже для девочки? Она решила посоветоваться по этому поводу с аббатом Костелем и Фрюмансом, дружба с которыми крепла у нее все больше и больше. — Прежде всего следовало бы выяснить, — сказал священник, — каковы знания этого молодого человека, и, если хотите, Фрюманс устроит ему небольшой предварительный экзамен. — Хорошо, — ответила бабушка. — Боюсь, что я слишком мало знаю, чтобы самой проэкзаменовать его. Если господин Фрюманс возьмет на себя этот труд, он окажет мне большую услугу. Мариус де Валанжи всегда любезно и вежливо относился ко всем стоящим ниже его. Но когда он узнал, что бедняга Фрюманс приглашен судить о его познаниях, он проявил к нему такое презрение, которое уже граничило с дерзостью. Он принял по отношению к нему в высшей степени насмешливый тон и в ответ на его вопросы нес такую чушь, которая меня весьма удивила. Но у него не хватило ума, чтобы сбить с толку Фрюманса, который отвечал ему гораздо более ехидными колкостями. Мариус, униженный до предела, разразился слезами, но так как он, в сущности, не был ни мстительным, ни по-настоящему наглым, то в конце концов признался, что не знает ничего из тех предметов, о которых его спрашивали. — Может быть, это и не ваша ошибка, — заметил Фрюманс. — Может быть, вам просто все это плохо объяснили. И когда он остался наедине с дядей и моей бабушкой, Фрюманс объявил им, что Мариус еле-еле умеет читать, имеет весьма слабое представление о самых элементарных вещах, что он, быть может, и умеет танцевать и исполнять кадриль на скрипке, как он сам хвастался, но ничего не смыслит ни в латыни, ни во французском языке и что если его поместить в коллеж, то его примут только в восьмой класс. — Избави бог, — сказала бабушка, — чтобы я отдала этого двенадцатилетнего мальчугана, которому на вид уже пятнадцать, в низший класс, где он будет сидеть вместе с малышами. Я вижу, что его мать не пошла на такое унижение, и я не должна теперь подвергать его тому же. Вот что, господин Фрюманс, у меня давно была — а теперь я все больше думаю об этом — одна мысль. Вам, с вашими великолепными длинными ногами, потребуется не более получаса, чтобы добраться сюда. Приходите каждый день к нам на шесть часов, включая и время на еду. Утро и вечер вы будете проводить с вашим дорогим дядей, но вы уж разрешите мне вознаградить вас за потраченное на нас время и труды, как это позволят мне мои средства. Я знаю, что если у нас с вами и возникнут затруднения, то только потому, что мне придется заставлять вас принять то, что вы заслуживаете. Но вы должны обещать мне, что сделаете все так, как я хочу. Фрюманс отказался получать какие-нибудь деньги, ссылаясь на то, что завтрак и обед — уже достаточный расход для бабушки. Кроме того, ему казалось столь же странным продавать знания тем, кого он любил, как его дяде — продавать таинства верующим. — Если вы не примете плату, — возразила бабушка, — то я не смогу принять ваше беспокойство и труды. Фрюманс колебался. Он не осмеливался отказаться быть полезным бабушке, которую действительно любил и уважал. Но он ясно понимал, что устроить себе ежедневное беспокойство, да еще обучать такого непросвещенного молодого человека, как мой кузен, было бы для него весьма неприятной жертвой, которой он, конечно, предпочел бы свою бедность, свой черный хлеб и свою изношенную одежду. — Дайте ему совет в его же интересах, — сказала бабушка Костелю. — Он стремится, сударыня, — философски ответил кюре, — иметь как можно меньше неприятностей в этом печальном мире, и я полагаю, что те трудности, с которыми он встретится, обучая вашего племянника, могут принести ему много огорчений, если он потерпит неудачу и если мальчик, что весьма возможно, будет испытывать к нему отвращение. — Вы правы, дядюшка! — воскликнул Фрюманс. — Вот этого я больше всего и боюсь. — А вы неправы, — возразила бабушка. — Мариус очень милый мальчик, и если он не такой способный, как я считала, то это, может быть, возместится вам моей внучкой, которая просто жаждет заниматься и которая отнюдь не глупа. Тут лицо Фрюманса так быстро изменилось, что я была поражена. Его большие черные глаза заблестели, он смотрел на меня, и яркий румянец вдруг разлился по его желтоватым щекам. — Разве, — пробормотал он, не отрывая от меня взгляда, — разве я буду также иметь честь… и удовольствие давать уроки мадемуазель Люсьене? — Ну конечно, — ответила бабушка. — Она будет вам крайне благодарна, и вы сможете ею гордиться. — Правда ли это, мадемуазель Люсьена? — повторил Фрюманс с выражением неотразимой искренности и сердечности. Я ответила, что это правда, но в этот момент две огромные слезы покатились по моим щекам. Я разрывалась между сочувствием и уважением, которые Фрюманс, безусловно, заслуживал, и чувством отвращения, которое внушала мне его нищета. Мое волнение не было правильно понято, или, может быть, бабушке вздумалось приписать его только благородному чувству великодушия. — Вот и хорошо, девочка моя, — сказала она, — умница, поцелуй меня. — Разрешите пожать вам руку, — сказал Фрюманс, глубоко растроганный. Пришлось мне протянуть ему свою маленькую ручку, о которой я начала тщательнейшим образом заботиться с тех пор, как Мариус выразил свое глубочайшее презрение к ногтям с черной каймой. Но когда Фрюманс поднес мою руку к губам, я вдруг испытала такое отвращение, что чуть не упала в обморок. Бабушка поняла, что во мне происходит какая-то внутренняя борьба, и сейчас же услала меня вместе со священником к моему кузену. То, что она сказала Фрюмансу, который с той минуты с энтузиазмом взялся за должность наставника, я потом узнала от него самого. Она сказала ему, что я очень слабонервная и что нужно устранить все причины, могущие вызвать антипатию или насмешку между ним и его учениками. Она заставила его взять немного денег вперед, и, таким образом, были приняты меры, чтобы осуществить метаморфозу, в блеске которой Фрюманс появился перед нами в следующее воскресенье. Мы с Мариусом ожидали его, как вы можете себе представить, без особого нетерпения: всю неделю мы провели, изливая свои жалобы по поводу решения бабушки. Мариус высказал свое полнейшее презрение к педанту в лохмотьях, которого нам навязали, и со своим обычным бахвальством пообещал сыграть с ним самые скверные шутки и ничему у него не учиться. Я чувствовала, что Мариус неправ, но когда он начинал копировать фигуру и манеры Фрюманса, когда он изображал с помощью очень смешно сложенной и ловко проткнутой старой газеты его поношенную одежду и шляпу, когда он говорил мне: «На уроках я буду надевать перчатки, чтобы не дотрагиваться до перьев, уже побывавших у него в руках. Бабушка хорошо сделает, если снабдит нас для занятий черной бумагой и белыми чернилами, потому что когда они побывают у него в лапах, чернил уже на белой бумаге не увидишь», и делал тысячи других саркастических замечаний, я уже не только не осмеливалась сказать ни слова в защиту бедного педагога, но и сама начинала изощряться в разных выдумках вместе с моим несравненным кузеном.X
Наконец Фрюманс появился, и в первую минуту я его просто не узнала. На нем было совершенно новое белоснежное белье, новый скромный костюм и шляпа, новые ботинки. Волосы были причесаны, подстрижены, приглажены и напомажены. На нем были перчатки, а когда он снял их, мы увидели безукоризненно чистые руки и ногти, хотя пока еще затвердевшие и грубые от постоянной работы в саду. Бороду он сбрил, чистое лицо как бы просветлело, несмотря на загар и естественную смуглость. Словом, Фрюманс не только блеснул новизной своей внешней оболочки, но видно было, что он дал себе твердое обещание заняться собственной наружностью и надеялся сдержать это слово. Он был нескладен, неуверен в себе и в течение нескольких дней еще был смущен своим новым обличьем, но этим все и кончилось. Он остался безупречным в своей одежде и в своих привычках и очень скоро стал похож на человека, всегда жившего в достатке и не чуждого светского общества. Я тогда подумала, что нечто подобное, вероятно, случилось и со мной, что подобная метаморфоза должна была произойти во мне, когда от бродячей жизни, может быть даже от крайней нужды, я перешла в благоухающие ароматами руки моей бабушки. Что до Фрюманса, то уход и обильная еда вскоре сделали свое дело — от его худобы не осталось и следа, а бледность лица сменилась здоровым румянцем. В один прекрасный день Дениза сказала бабушке: — Вы знаете, сударыня, что господин Фрюманс сейчас очень хорошо выглядит и вообще он очень красивый молодой человек? А что об этом думает Люсьена? — Я? Я очень довольна, что он расстался с грязью! — воскликнула я. — Но я считаю его все-таки очень уродливым. Мариус, не правда ли, он ужасен? — Нет, — ответил Мариус, — он славный мужлан. — Он великолепен, — возразила бабушка, считавшая полезным время от времени слегка сбивать спесь со своего двоюродного внука. — У него замечательные глаза, зубы, волосы, фигура… — И лапы! — перебил ее Мариус. — Большие лапы превосходной формы, которыми он знает как управляться, — продолжала бабушка. — Хотела бы я, мой дорогой, чтобы ты когда-нибудь стал похож во всех отношениях на этого человека. Мариус сделал гримасу и ничего не ответил, но, пошептавшись со мной в уголку, поспешил уверить меня в том, что у Фрюманса никогда не будет приличного вида и что настоящее место для подобных красавчиков за плугом. Или, когда их облачат во все новое, — на запятках кареты. В сущности говоря, меня мало волновало, красив Фрюманс или некрасив. Дети в этом ничего не понимают; мой кузен был для меня образцом благовоспитанности. Отказывая в этой благовоспитанности, естественной или благоприобретенной, нашему учителю, он тем самым невольно воздействовал на то мнение, которое постепенно складывалось у меня о Фрюмансе. Отвращение исчезло, на смену ему вполне естественно явилось уважение и даже дружба. Но несмотря на чуткую заботу бабушки, которая всячески старалась подчеркнуть бескорыстие и гордость Фрюманса, достаточно было одного слова Мариуса, чтобы я рассматривала нашего учителя как что-то подчиненное, низшее посравнению с моим кузеном. В то время у нас, конечно, не было никакой теории общественной иерархии: мы повиновались тому инстинкту, который заставляет детей искать нечто еще им неизвестное среди людей, стоящих выше их самих, но никогда или очень редко ниже. В этом смысле дети похожи на все человечество, которое никогда не хочет возвращаться к прошлому, но они не могут понять, что их идеал может таиться во внутренних достоинствах. Они хотят, чтобы он был облачен в золото и атлас и обитал во дворце фей. Для меня изящные курточки, маленькие руки и красивые белокурые локоны моего кузена, а может быть, также его цепочка от часов и его розовая помада давали ему бесспорное преимущество над всеми теми, кто нас окружал. Но не нужно думать, что мое сердце или рано проснувшееся чувство было хоть как-то затронуто им. Я была в полном смысле слова ребенком и должна предупредить в самом начале моего рассказа, что не только тогда не была влюблена в него, но и никогда впоследствии. Отсюда-то и возникала необычность чувства, которому суждено было тревожить как меня, так и его. Его превосходство надо мной было, в сущности, тем более трудно объяснимо, что он всегда вызывал у меня нетерпение или скуку. Общих склонностей у нас с ним не было, и он очень редко жертвовал ради меня своими, в то время как я постоянно, то безропотно, то с неохотой, жертвовала моими ради него. У меня была привычка и даже потребность в стремительном движении, и, всецело отдаваясь тому, что я делала, я страстно полюбила наши уроки. Для него же урок с Фрюмансом был настоящим бедствием, которому он покорялся, протестуя против него всей своей непобедимой инертностью, а любое движение вызывало такую усталость, которой он при всей своей силе воли не мог преодолеть так, как я. Его здоровье было столь же шатким, сколь ум его был ленивым. Поэтому он все время мешал успехам, которые я хотела бы и могла бы сделать на уроках Фрюманса, и если бы бабушка не потребовала, чтобы я, вместе с Мариусом или без него, продолжала свои обычные занятия, то я все свободное время проводила бы, играя с ним в карты или глядя, как он показывает свое искусство в бильбоке.XI
Я еще ничего не сказала о небольшой группе людей, которые, кроме аббата Костеля и Фрюманса, господина Бартеза, адвоката, доброго и подлинного друга нашей семьи, и доктора Реппа, представляли собою круг наших знакомых. Я не могу сказать «наше окружение», потому что у нас почти не было соседей. Только по воскресеньям нам наносили из Тулона визиты, которые бабушка по своему возрасту и нездоровью вообще не могла отдавать, разве что раз или два в год. Самыми значительными из этих гостей были: адмирал, начальник порта, личность, которая меняла пункт своего пребывания как раз тогда, когда вы знакомились с ней, префект, который делал то же самое и с которым бабушка, умеренная роялистка, всегда держалась очень сдержанно, имперский прокурор, который был старинным другом дома, прекрасный человек, очень дотошный, у которого не было иной мысли, иной забавы, кроме исполнения своих обязанностей. У него была прыщеватая жена, которую он иногда привозил с собою и которая все время укоряла нас за то, что мы живем так уединенно, и советовала нам переселиться в город, хотя, впрочем, рассказывала нам о нем всякие страшные вещи. Приезжал также и один разорившийся дворянин, который немного поправил свои дела торговлей и уверял, что приходится нам кузеном. Его звали господином де Малаваль, и он был еще относительно молод. Этот человек, очень честный в делах, очень искренний, на которого вполне можно было полагаться, отличался одной необъяснимой странностью, в которой упрекают всех жителей Средиземноморья, коих он был законченным образцом. Он не мог сказать и трех слов, не сболтнув самой невинной лжи. То ли он совершенно не думал о том, что говорит, и не хотел выражаться кратко, то ли факты представлялись ему неестественными и словно вывернутыми наизнанку, но все его высказывания были настолько пронизаны ложью, что их всегда следовало понимать наоборот. Если его спрашивали о расстоянии от одного места до другого, он называл вам не допускающим возражения тоном фантастическую цифру, которая всегда была вдвое больше или вдвое меньше реальной. Если разговор заходил о высоте горы, он без колебаний заявлял, что в ней тысяча двести туазов, когда в действительности в ней дай бог было двести, и, наоборот, он говорил, что гора маленькая, когда она была большая. Если он сообщал нам о новостях на рейде, то объявлял о прибытии и перечислял названия кораблей, существовавших только в его воображении, или об отплытии тех, которые не вышли из гавани. Все анекдоты, которыми он уснащал разговор, все исторические сведения, которыми он хвастался, — все это было ложью чистейшей воды. Большего лгуна мне никогда не приходилось встречать. Он всегда вычитывал из газет какие-то необычайные события, о которых нигде не было и речи, и при этом он не был ни пессимистом, ни распространителем тревожных слухов, ибо всегда объявлял нам о какой-нибудь победе великой армии за шесть недель до битвы. Однажды он утверждал, что имперский прокурор, по праву своей должности, приговорил накануне к смерти одного человека, который, наоборот, как раз был оправдан. Он, видите ли, присутствовал в зале суда, он слышал, как прочитали приговор, и уж не знаю, кажется, даже видел этого человека на эшафоте. Самое странное во всем этом было то, что у господина Малаваля был закадычный друг, господин Фурьер, бывший капитан корабля, у которого мозги были так же набекрень, как и у его друга, и который с той же самоуверенностью и самым невинным образом утверждал всякую чушь. Без увлечения, без задней мысли, без всякой причины эти два человека старались перещеголять друг друга, искажая всевозможные события и факты. У них была фальшивая память, как иногда бывает фальшивый голос: они рассказывали в два голоса тут же придуманные истории и все время перебивали друг друга, чтобы уточнить свои воспоминания, причем каждый старался с полной серьезностью в чем-то превзойти бредовые выдумки другого. Их можно было легко принять за сумасшедших. Однако в практической жизни они были довольно разумны. Бабушка говорила, что ее покойный отец страдал тем же недостатком, и она приписывала эту странность излишнему потреблению горячительных напитков, а также бурным переживаниям, которыми полна жизнь моряка. Остальные не стоят внимания, но я должна упомянуть о некой госпоже Капфорт, которая выдавала себя за англичанку и иногда называла себя Кэпфорд, хотя все знали ее предков, из поколения в поколение бывших мельниками. Она обитала на самой большой мельнице у входа в долину; это было старинное, обветшавшее, но еще крепкое здание, похожее на крепость, которое она охотно именовала своим замком. Госпожа Капфорт была высокая и сухощавая женщина, с плоской талией, лицом и характером, втершаяся к нам смиренно и в то же время нагло под предлогом приобщить бабушку к делам благотворительности и к религиозным сборищам. Ее никто не любил, и ее собственные мельники, с которыми она обращалась самым безжалостным образом, говорили, что она запутывала все расчеты и присваивала себе значительную часть пожертвований на церковь, сборщицей коих она сама себя назначила, чтобы поправить свои дела и увеличить приданое своей дочери. Эта дочь, прямая, как аршин, и сухая, как раковина, иногда отправлялась сама по домам собирать пожертвования. Говорили, что главная цель ее — подыскать себе мужа. Уж не знаю, кто из них, дочь или мать, казался мне более ненавистным, более кислым, более медоточивым и более лицемерным. Они пользовались религиозностью как средством проникать в разные семьи, делая вид, что им покровительствует высшее духовенство, и выдавая себя за набожных и всеми уважаемых дам в старинных дворянских домах нашей местности. Они уже давно морочили голову бабушке, а Дениза любила посплетничать вместе с ними о господине Костеле и других неверующих в округе. Но бабушка, здравый смысл которой с годами все возрастал, не придавала этим дамам особого значения и приказала моей кормилице помалкивать.XII
Что особенно помогло просветить ум моей дорогой бабушки — это уроки Фрюманса, на которые она часто приходила. Зрение ее ухудшалось со дня на день: она уже почти не могла владеть иглой, и даже когда она вязала, ей нужно было, чтобы я сидела рядом и поднимала все время спускавшиеся петли. Сначала она вообще не прислушивалась к тому, что делается на наших уроках: она вбила себе в голову, что абсолютно ничего в них не поймет. — Я всегда жила неученой, — говорила она, — и ради того небольшого отрезка времени, что мне остается прожить, право же, не стоит менять свои привычки. Но объяснения Фрюманса были такими ясными и интересными, что она незаметно вошла во вкус, и с ней произошла вещь совершенно необычайная: в семьдесят пять лет она приобрела знания гораздо более широкие, чем в молодости. Как лампа, которая вспыхивает гораздо ярче перед тем, как погаснуть, так и ум бабушки озарился на закате ее жизни. Ее религиозность очистилась от всякой примеси суеверия, и даже ее представления об обществе освободились от предрассудков ее времени и среды. Когда Империя рухнула и возвращение Бурбонов[21] вновь принесло с собой притязания и верования иной эпохи, она сумела удержаться от ложного опьянения и относилась весьма сдержанно к жестокостям и ребячествам легитимистской[22] реакции. В глубине души бабушка всегда сохраняла чистый источник мудрости и разума, который ни ужасные горести, ни в иные моменты вредное влияние Денизы не могли замутить. Вновь обретя независимость ума, она, без сомнения, обрела наконец сама себя. Но Дениза была неспособна к какому-то движению вперед. Ее вскоре стало беспокоить то положение, которое Фрюманс занял в нашей семье. После того как она встретила его так приветливо и так восхищалась им в первое время, ее охватила тревога по поводу его безверия, и она начала мучить его самым изощренным образом. Дениза была еще совсем молодая женщина и выдавала себя за вдову, но бабушка хорошо знала, что она никогда не была замужем и вполне могла еще без памяти влюбиться. Тогда-то на моих глазах и разыгралась небольшая драма, в которой ни Мариус, ни я не могли ничего понять, хотя одно обстоятельство, весьма поразившее меня, могло бы навести меня на путь многих открытий и выводов. Однажды, — мне было тогда около двенадцати лет, я училась очень хорошо и все просто восхищались мною, — я получила от бабушки, в награду за свое примерное поведение, разрешение пойти посмотреть на Рега́ вместе с Фрюмансом, Мариусом и Денизой. Рега, или регаж, рагаж или рага, — это название применяется во всех разновидностях местного наречия ко всем пропастям в наших горах, — есть не что иное, как естественный колодец, где на страшной глубине безмолвно застыла вода, еле доступная взору. Отверстие этого колодца представляет собою огромную вертикальную щель, прорезанную в отвесной скале, в расщелине которой растет великолепное фисташковое дерево, одно-единственное в этой местности, не без изящества возвышающееся на этой грандиозной и пустынной громаде. Площадка, которая служит как бы решеткой ворот в эту пропасть, подобна тупику, который является последней ступенью, доступной на пути к последней вершине, и превращается в какой-то дикий сад, полный деревьев и цветов, посреди раскиданных всюду скал и огромных глыб. Чтобы добраться сюда от русла Дарденны, надо в течение получаса преодолевать почти отвесный подъем. Мариус, выбившись из сил и заявив, что решительно все ужасно в этом отвратительном месте, бросился на траву и погрузился в глубокий сон. Я совершенно не устала, и это место было мне очень по душе, хотя я не осмеливалась в этом признаться. Грандиозность окружающей природы говорила многое моему воображению. Средиземное море, видное нам оттуда, простиралось вдали, подобно отвесной лазурной стене, между причудливых очертаний вершин, расположенных ближе к нам. Другие вершины, идущие уступами вплоть до нашей, были белы как снег. Искривленные и уродливые сосны, лепившиеся по их бокам, кусты алоэ, заполнившие их расщелины, казались черными, как чернила. Эти вершины, пересеченные хребтами, одного из которых мы сейчас достигли, скрывали от нас вид на долину. Все это казалось раскаленным и суровым. Я чувствовала возбуждение и прилив новых сил в одно и то же время, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы выслушать объяснения, которые нам давал Фрюманс о таком редкостном явлении природы, каким был Рега. Он показал нам высохшее русло потока, который изливается из этой огромной вертикальной пасти, когда дожди переполняют бездну. — Это происходит всего только раз или два в год, — сказал он, — когда в течение двух или трех дней льет как из ведра. Вы видите, однако же, что дождь не может попасть отсюда в эту пещеру, но вода проникает сюда из всех расщелин или из притоков, скрытых внутри горного массива. Она накапливается здесь, как в сифоне, а затем, когда колодец переполняется доверху, вода яростно вырывается наружу и водопадами низвергается вниз, вздувая ложе Дарденны и являясь, вероятно, одним из ее наиболее изобильных источников, впрочем, также и одним из самых бесполезных, потому что у него нет естественного выхода. Быть может, наступит такой день, когда попытаются прорыть подземный канал от нижнего русла Дарденны до уровня этого источника. Я часто приходил сюда и производил исследования вместе с дядей. Мы пришли к выводу, что во время засухи в этом колодце всегда скапливается огромное количество воды, которая могла бы питать такой город, как Тулон. Но, чтобы проникнуть в мощную толщу этой горы, пришлось бы открыть двигательную силу, значительно превосходящую ту, которой сейчас могут располагать люди без излишних затрат времени и денег. Видя, что я предалась своим мечтам, Фрюманс предложил мне собрать гербарий на площадке Рега, и я помогла ему наполнить его ящик дамасской чернушкой, чьи небесно-голубые цветы, свисая с высоких и хрупких стеблей, вызвездили кругом почву, образцами ракитника, тростниковой вязели, мыльнянки, мирта, толокнянки, листьев мастикового дерева, средиземноморской сосны, сассапарели, циста и лаванды. В кустарниках поблизости мы собрали белый озирис, красивую афиланту, различные виды подсолнечников, млечник, а на скалах — белый шпеофил и десятка два других средиземноморских растений, которые уже были мне знакомы. Я сохранила этот гербарий и могла бы назвать все растения, но это не продвинуло бы вперед мой рассказ и помогло бы мне только вспомнить один из самых таинственных дней моего детства. Когда мой учитель посвятил меня в тайны этих немногочисленных образцов альпийской флоры, он предложил мне немного отдохнуть. Я легла на траву неподалеку от Мариуса, который уже давно храпел вовсю, и постаралась уснуть, но это мне никак не удавалось. Без всякого любопытства и сначала без малейшего интереса я машинально прислушивалась к разговору Денизы с Фрюмансом в нескольких шагах от меня. Так как я закрыла лицо, чтобы защитить его от мошек и солнца, они решили, что я сплю, а когда я уже начала жадно вслушиваться, то старалась не пошевелиться, чтобы они думали, что это действительно так. Я передаю их диалог с того момента, как он показался мне странным. Дениза говорила тихим и как бы слегка дрожащим голосом: — Ага, вот вы и разозлились, господин Фрюманс. Я же вижу, что вы разозлились. — Почему же это я разозлился, мадемуазель Дениза? — Потому что ее лицо закрыто, и вы не можете пожирать ее глазами, как это вы обычно делаете. — Пожирать ее глазами? Вечно вы любите преувеличивать! Я считаю, что она хорошенькая, умная и добрая, и, конечно, всегда рад ее видеть. Но я отнюдь не собираюсь ее пожирать — ни глазами, ни как-нибудь иначе. — Ну, что касается ума и миловидности, то этого у нее не отнимешь. Но добрая — это уж извините! Она развлекается тем, что издевается над вами и надо мной и так и старается устроить нам какую-нибудь пакость вместе со своим двоюродным братцем, от которого она без ума. — Пусть дети забавляются, Дениза. Это вовсе не значит, что они злые. — О, вы ее всегда защищаете. Вы прощаете ей все. — А вы сами разве ее тоже не балуете? Ведь это так естественно! — Я? Да, я ее раньше баловала, но больше не буду. Теперь я терпеть ее не могу. — Что вы говорите, Дениза? От вас ли я это слышу? — Да, от меня. И вы прекрасно понимаете, что я хочу вам сказать. — Нет, клянусь честью, даже не догадываюсь. — Попробуйте-ка отрицать, что вы влюблены. Да, да, влюблены как безумный. Вы и есть безумный. Фрюманс был настолько ошарашен, что даже не нашелся сразу, что ответить. — Попробуйте-ка отрицать это! — закричала Дениза так неистово, что проснулся бы любой, кто не спал таким крепким сном, как Мариус. — Мне нечего отрицать, — ответил Фрюманс. — И я не обязан отдавать вам отчет в своих чувствах, каковы бы они ни были. Но если бы даже я и влюбился, что в моем возрасте совсем не удивительно, какое отношение могла бы иметь моя любовь к дружбе, которую я питаю к этой маленькой девочке? — Ну, пускай к маленькой девочке! Но ведь она растет. Боже ты мой, как быстро растет это дьявольское отродье! — Дениза, — очень строго сказал Фрюманс, — я знаю, что вы особа в высшей степени взбалмошная. Но мне кажется, что сейчас вы совершенно потеряли рассудок. — Не говорите об этом! — возбужденно возразила Дениза. — Не говорите об этом никогда, господин Фрюманс! Меня в свое время сочли сумасшедшей, меня заперли на замок, меня заставили выносить ужасные мучения, и все из-за этого проклятого ребенка, которого у меня украли и который без меня никогда бы не вернулся. Да, это от горя мой рассудок тогда помутился, но я вовсе не была сумасшедшей, и только моя вера, мои молитвы помогли вернуть малышку. Разве это могла бы сделать сумасшедшая, я вас спрашиваю? Я сумасшедшая? Ах, как несправедлив мир! — Ну, если вы не сумасшедшая, — ответил Фрюманс, — так, значит, вы вконец испорченное создание. Ну, довольно, разбудим детей и пойдем отсюда. Я совершенно не желаю с вами разговаривать. — А я, — яростно возразила Дениза, — я хочу вам сказать все. Не так часто представляется такой удобный случай. Когда я улучу момент, вы поворачиваетесь ко мне спиной. Вот увидите, вы будете причиной моей смерти, если раньше не изведете меня вконец! — Хватит, Дениза, хватит уж! — с раздражением сказал Фрюманс. — Если дети услышат… — Пусть слушают, если им угодно! — воскликнула Дениза, держась от него на некотором расстоянии и повышая голос, будучи не в силах сдержать обуревавшие ее чувства. Фрюманс говорил вполголоса, и мне удалось уловить только несколько слов. — Эта девочка, этот бедный невинный ангелочек! — говорил он. — Это просто возмутительно, ужасно — то, что вы думаете. — Вот уж нет! — кричала Дениза. — При чем тут возраст? Через несколько лет ее увидят все. Вы сейчас видите ее раньше других, вот и все. Вы такой неблагоразумный, такой глупый, такой нечестивый! Вы ни во что не верите, вы революционер! Вы думаете, что вам ее отдадут, эту красивую барышню, богатую и знатную, вам, найденышу, такому же несчастному, как и я, слуге, немного более обласканному, вот и все! Но как только вы заикнетесь о ваших прекрасных мечтах, вас выдворят за порог, и она, которая влюблена в своего кузена и кокетничает с вами только ради забавы, она будет вас презирать, можете быть в этом уверены, она плюнет вам прямо в лицо! Говоря это, она начала всхлипывать и кричать. Мариус проснулся, и мне пришлось прервать свой притворный сон, чтобы поспешить на помощь Фрюмансу, который старался заставить замолчать Денизу и поднять ее с земли, потому что она теперь была во власти какого-то истерического припадка. Я хотела подойти к ней, но она посмотрела на меня блуждающим взглядом и, схватив камень, швырнула бы им в меня, если бы Фрюманс не успел вырвать его у нее из рук. — Ничего, ничего! — крикнул он, видя, что я страшно испугалась. — Это у нее нервный припадок, солнечный удар, это сейчас пройдет. Спускайтесь медленно по тропинке, дети, через несколько минут она тоже сможет пойти. Я помогу ей, не бойтесь. — Я останусь здесь, — ответила я, — я не боюсь. Мариус тоже не боится. Не так ли, Мариус? Скажите, что нам нужно делать, господин Фрюманс. — Ничего. Вот она уже почти успокоилась. Все кончилось. Пойдемте. Я возьму ее под руку. А вы, дорогой Мариус, помогите вашей кузине. По этой тропинке не так-то легко спуститься. Мариусу было тогда пятнадцать лет, и он стал более выносливым, чем раньше, хотя он по-прежнему боялся солнца и усталости. Он продолжал презирать Фрюманса и очень любил Денизу, но Дениза безумная внушала ему скорее страх, чем жалость, и он ускорил шаги, чтобы отойти от нее подальше, забыв обо мне и о просьбе Фрюманса. У подножия горы мы увидели слугу, приехавшего в двуколке за нами. Фрюманс посадил туда Денизу, которая, казалось, немного успокоилась, и предложил нам пройтись домой пешком. Я очень обрадовалась, но Мариус не послушался: он вскочил на козлы рядом с кучером и предложил мне последовать его примеру. Я уже собиралась по привычке подчиниться его капризу, как вдруг почувствовала, что Фрюманс как-то по-особенному взял меня под руку. — Если вы не устали от жары, — сказал он, — я предпочел бы, чтобы вы тихонько прошлись пешком. Милая девочка, — сказал он, когда мы остались на тропинке вдвоем, — я не опасаюсь того, что Дениза вообще относится к вам плохо. Однако у этой бедной девушки некоторое время тому назад появились очень странные мысли, и сейчас она даже, по-видимому, не узнает тех, кого любит. Вот почему я позволил себе разлучить вас с ней, не сердитесь уж на меня. Помимо наших уроков, я присваиваю себе только такую власть над вами, которая способна предохранить вас от опасности или горя. — Разве Дениза опять сойдет с ума да так и останется? — спросила я и заплакала. — Нет, нет, это пройдет. Но вы, значит, думаете, что она уже сходила с ума? — Да, я знаю об этом, — ответила я, — мне говорила старая Жасинта. Фрюманс сделал вид, что сомневается в этом. Его беспокоило то, что я так взволнована: он, в противоположность Денизе, ратовал за то, чтобы дети пребывали в безмятежном неведении и ничего не знали о темных сторонах жизни. — Спать и расти, — часто повторял он, — вот что им нужно прежде всего. Все, что нарушает эти две важнейшие жизненные функции, поистине отвратительно. Как встревожился и опечалился бы бедный Фрюманс, если б у него закралось хоть малейшее подозрение, что я слышала бредовые речи Денизы и что мой возбужденный ум уже искал ключ к этой загадке! Почему Дениза обвиняла Фрюманса в том, что он в меня влюблен? Но прежде всего — что такое любовь? Не было ли это слово изобретено для разных Амадисов[23] и Персине[24] из старинных легенд? Не то же ли это самое, что и дружба, только дружба более утонченная, романтическая и способная совершать великие подвиги? Могло ли случиться, что Фрюманс влюбился в меня и мечтал когда-нибудь жениться на мне, он, который в свои двадцать три года казался мне глубоким стариком. А кроме того, ведь Фрюманс сказал в заключение: «Нет, это было бы нехорошо!», а я привыкла относиться к его словам с уважением. Так я молча и прошла весь остальной путь, мучительно раздумывая обо всех этих неразрешимых и даже опасных в моем возрасте вопросах. Фрюманс приписал мой задумчивый вид тому печальному эпизоду, свидетельницей которого я невольно стала, и воздал должное моим чувствам. Когда мы уже были около усадьбы, он взял меня за руку и сказал: — Не думайте, что вас на длительное время разлучат с вашей кормилицей; она, несомненно, выздоровеет. — Значит, бедняжка Дениза все-таки должна уехать? — Я думаю, что небольшое путешествие пойдет ей на пользу. Доктор скажет, как нужно ее лечить.XIII
Не знаю, Фрюманс ли сообщил обо всем бабушке или Дениза, с которой она беседовала вечером, сама обнаружила перед ней помрачение своего рассудка. Я только видела, что в доме царит беспокойство, и добрая бабушка велела поставить мою кроватку в своей комнате. Раньше я всегда спала в комнате рядом со спальней Денизы. Неужели опасались, что она может причинить мне какое-нибудь зло? Я не могла себе этого представить. Когда припадок безумия прошел, бедная девушка снова, как и раньше, стала относиться ко мне с какой-то ребяческой и сердечной дружбой, и даже впоследствии мне думалось, что, удвоив свои заботы и ласки, она старалась доказать, что действовала в каком-то бреду и что я по-прежнему остаюсь ее кумиром. Я видела, что она огорчена и раскаивается, и относилась к ней ласковее, чем обычно. Ее возбуждение, ее особое пристрастие ко мне от этого только усиливались, но она была вполне искренна, в этом у меня нет сомнения. Она была ужасно огорчена тем, что бабушка, как я полагаю, запретила ей сопровождать меня на прогулках и не спускала с меня глаз, когда Фрюманса не было поблизости. Без меня Дениза испытывала страшные муки. Создавалось впечатление, что она находится под домашним арестом. С утра до вечера она плакала. Ей было запрещено также появляться на уроках, и Фрюманс тщательнейшим образом избегал ее. Иногда мне удавалось проскользнуть к ней в комнату, чтобы хоть как-то ее утешить, и мне казалось, что она уже совсем здорова. Через несколько недель она стала совсем безвольной и очень кроткой. Доктор считал, что лечение, которое он назначил, пошло ей на пользу. Понемногу все успокоились, приписав все, что с ней произошло, сильному воздействию майского солнца. Однажды утром бабушка велела заложить лошадей в большую карету и решила отдать визиты своим друзьям в Тулоне. Большая карета — так ее у нас называли — была та самая, из которой меня когда-то украли. Та самая карета, которую с тех пор уже не раз переделывали и перекраивали. После переделок и изменений эта карета превратилась в открытый шестиместный шарабан. Мариус уселся на переднюю скамью вместе со слугой и Фрюмансом, у которого были дела в городе. Бабушка с Денизой сели на заднюю, а я поместилась между ними. Мы проехали около лье довольно спокойно, как вдруг Дениза начала неистово обнимать и целовать меня с риском испортить мою соломенную шляпку и смять ленты, которыми я так гордилась. Я раза два оттолкнула ее прочь, но наконец попросила бабушку сказать ей, чтобы она оставила меня в покое. — О сударыня! — воскликнула Дениза. — Подумать только, что на этой дороге, в этой самой коляске и, может быть, на этом самом месте у меня украли эту бедняжку, мое дорогое сокровище! — Незачем говорить об этом, — ответила бабушка. — И так уж ты достаточно наболтала девочке, которая ничего не поняла из твоих рассказов. А кроме того, это вовсе и не здесь было, а около Реве. Ну, можно ли так ошибаться? Успокойся, пожалуйста, иначе я больше никогда не возьму тебя с собою. — Я буду послушной, — сказала Дениза с кротостью младенца. — Но пусть Люсьена позволит поцеловать себя еще раз, в последний разочек сегодня, клянусь вам. — Ну, поцелуй ее разочек, ладно уж, — разрешила бабушка, — и хватит об этом. Дениза привлекла меня к себе, заставила сесть к ней на колени и стала неистово целовать, произнося какие-то бессвязные слова и бросая на меня такие пылающие взгляды, что мне стало страшно. Вдруг, в то время как я с помощью бабушки хотела освободиться от ее назойливых ласк, я почувствовала, что она с какой-то неслыханной силой приподнимает меня и хочет швырнуть в пропасть, мимо которой мы проезжали. Я закричала от ужаса и изо всех сил уцепилась за шею Фрюманса, который сидел ко мне спиной. Но он, обеспокоенный возбуждением Денизы, уже зорко следил за нею. Он схватил меня в объятия, посадил рядом с собою, приказал остановить лошадей и совершенно спокойно, с удивительным присутствием духа сказал бабушке: — Одна из лошадей захромала. Я полагаю, сударыня, что нам следует вернуться на мельницу, чтобы ее подковать. Бабушка сразу же все поняла. А Мариус ничего не понял. Мы вернулись в усадьбу, где Денизу в лихорадочном бреду уложили в постель. Вместо того чтобы везти нас в Тулон, карета отправилась за доктором, чей домик был недалеко от мельницы госпожи Капфорт. Он нашел, что больная уже успокоилась, но затем у него был серьезный разговор с бабушкой и Фрюмансом, после чего было решено, что несчастная Дениза больше не может оставаться с нами. В сумасшедший дом ее помещать не хотели, не убедившись прежде, что она может выздороветь и в другом месте. Госпожа Капфорт, прибывшая вместе с доктором в надежде, что ее услуги понадобятся, и увидевшая тут возможность выманить хитростью или даже вырвать силой побольше доверия, в котором ей вовсе отказывали, дала совет, показавшийся бабушке не таким уж плохим. Этот совет, как оказалось впоследствии, имел свои отрицательные стороны, но сейчас он, вероятно, был единственно подходящим. Она предложила приехать за Денизой на следующий день и отвезти ее к одной из знакомых монахинь, которая убедит ее остаться в монастыре. Туда Денизу возьмут за благочестивость, дадут ей работу в часовнях, как-то рассеют ее и, может быть, даже совершенно излечат от черной меланхолии и припадков бешенства. По крайней мере попробуют это сделать, но если после такого заботливого ухода ее все-таки сочтут неизлечимой, то будет признано желательным запереть ее покрепче. Все было сделано так, как посоветовала услужливая соседка, и на следующий день Денизу увезли, в то время как Фрюманс повел нас на прогулку в противоположную сторону. Верный своей методе не волновать детей тяжелыми зрелищами, он помог бабушке скрыть от нас состояние здоровья моей кормилицы и возможный срок ее изгнания. Добрая бабушка скрыла от нас также и свое большое горе, но я-то видела его, несмотря на ее попытки скрыть его, в то же время скрывая от нее мое горе, которое оказалось более глубоким, чем я могла бы в том признаться Мариусу. Мариус все высмеивал и развлекался, издеваясь надо мной и охлаждая мои, как он называл их, возвышенные порывы чувствительности. Так как все на свете имеет свою оборотную сторону и противоположность, то отъезд Денизы избавил нас от многих беспокойств и неприятностей. Уже давно ее манеры, бессвязные речи и дикие выходки утомляли бабушку и сбивали меня с толку. Думаю, что Фрюманс, который, вызвав сначала ее ненависть, внушил ей потом, сам того не ведая, безответную страсть, тоже облегченно вздохнул, ибо теперь ему уже не нужно было спасаться от ее диких фантазий и упреков. Мариус, тщеславие которого она неосторожно подхлестывала своими непомерными похвалами и восторгами, стал вести себя более разумно и более внимательно относиться к урокам. Наши прогулки с Фрюмансом не отравлялись отныне постоянными страхами, как бы чего не случилось. Словно по какому-то внушению свыше я не говорила никому, даже Мариусу, об опасности, которой Дениза дважды подвергала мою жизнь, и о странной ненависти ко мне, таившейся в ее больной душе под маской подчеркнутой нежности. Бабушка, которая знала все, никогда со мной об этом не говорила. Я чувствовала, что также должна молчать — из уважения к несчастью моей кормилицы, а может быть, даже ради себя самой. Детство отличается тонкостью переживаний, которая дается ему тем более легко, что оно не представляет себе ясно их глубины. Недоумение, внесенное Денизой в мои представления о человеческих чувствах, рассеялось тем быстрее, что я никому о нем не говорила. Я лишь изредка узнавала что-то о своей кормилице, когда нас навещали госпожа Капфорт или доктор. Иногда они говорили мне: «Она чувствует себя не худо», а иногда: «Особых улучшений незаметно». Все это плохо согласовалось между собою и не могло дать мне точного представления о состоянии ее здоровья. Несмотря на ужас, который она мне внушала, я хотела бы ее повидать. Бабушка не разрешила этого, хотя госпожа Капфорт и предлагала повезти меня в монастырь. Дениза сделалась поводом для назойливых ухаживаний этой особы за бабушкой, которая прекрасно могла бы обойтись и без них, но не решалась отвечать на столь деспотическую преданность неласковым приемом. Госпожа Капфорт была любопытна, как сорока: она высматривала все, что можно, выспрашивала всех, кого могла, и когда, чтобы дать ей понять, что она уж слишком навязчива, ее заставляли подождать в гостиной, она делала вид, что восхищена этим обстоятельством. Она шныряла повсюду — появлялась в окрестностях, на мельнице, в поле; она возвращалась в кухню и снова появлялась у нас, переговорив со всеми бог знает о чем. Она знала лучше нас, что творится в нашем доме. Она знала все дела наших арендаторов, все прошлое и настоящее наших слуг. Мариус, настроенный теперь весьма иронически, сравнивал ее с «музеем, где статуи и картины завалены грудой всякого хлама — сломанных гребней, яблочных огрызков, горлышек от бутылок и стоптанных башмаков». — Вот и все, — говорил он, — что можно было бы извлечь из мозга миледи Кэпфорд, если преодолеть в себе отвращение и покопаться в нем. Я почти ничего еще не сказала о докторе Реппе, а ведь он был одним из наших завсегдатаев, когда жил на даче по соседству с мельницей Капфорт. Это был человек очень добродушный, румяный и полный, почти так же плохо одевавшийся в деревне, как и аббат Костель, но, как говорили, довольно богатый. Ему было около пятидесяти пяти лет, и врач он был неплохой — в том смысле, что не верил в медицину и, не утруждая себя бесполезными исследованиями, почти никогда ничего не прописывал своим больным. У него ни к кому не было затаенной злобы, и ни к кому он не был привязан, за исключением девочки Капфорт, к которой он относился как к родной дочери, каковою на самом деле она, может быть, и являлась. Я также ничего не сказала об одном человеке, который должен был играть значительную роль в моей жизни. Но что могла бы я сказать о моем отце? Я не знала его и никогда его не видела, я думала даже, что никогда его и не увижу. Я хорошо знала, что у меня есть отец, человек обаятельный, как говорила мне Дениза, человек светский, как говорила бабушка, но Дениза знала его очень мало, а бабушка немногим больше. Он уехал за границу в шестнадцать лет, он искал убежища и счастья в чужой стране, он там дважды женился, он имел уже нескольких детей от второго брака и жил безбедно. Когда наши друзья, всегда равнодушно, но с вежливой улыбкой на устах, спрашивали бабушку: «Как давно нет новостей о господине маркизе?», она неизменно отвечала им с той же сдержанной улыбкой: «Благодарю вас, он чувствует себя превосходно». При этом она не говорила им, что он аккуратно писал ей раз в год, не чаще, что бы ни случилось, что письма его были малоинтересны, но что в неизменном постскриптуме он осведомлялся о Люсьене, никогда не называя ее своей дочерью. Я знала его только по детскому портрету в гостиной, исполненному пастелью и вставленному в дорогую раму. Он мне ничего не говорил. Представление об отце, изображенном в детском возрасте, не может сложиться у ребенка, который старше, чем тот, что на портрете. Мой отец на холсте выглядел пухлым пятилетним мальчуганом, розовеньким, с напудренными волосами и в красном костюмчике. Мариус ужасно издевался над этим костюмчиком, и его дядя, столь странно наряженный, внушал ему так мало уважения, что он не мог на него смотреть без того, чтобы не сделать ему гримасу или насмешливый реверанс. Беседуя со мной о своем сыне, бабушка всегда говорила, что я должна уважать его и молиться за него. Но никогда она не требовала, чтобы я любила его, пока однажды я не спросила: — А он меня любит? На что она ответила очень кратко: — Он должен тебя любить. Я знала, что моя мать умерла. Но я не знала, что мое похищение было причиной ее смерти. К счастью, Дениза этого тоже не знала, иначе она не побоялась бы ужаснуть мою душу этим открытием. Однако она не преминула сказать мне, что мой отец женился вторично. — Стало быть, у меня есть новая мама? — несколько раз спрашивала я бабушку. — У тебя есть мачеха, — отвечала она, — но у тебя нет другой матери, кроме меня. Рано привыкнув к такому странному и неопределенному положению, я не обращала на это ни малейшего внимания. Настоящее было безмятежно и безоблачно. Моя бабушка была существом ангельской доброты, и я даже не помышляла о том, что могу когда-нибудь ее потерять.XIV
Однако она все больше слабела с каждым днем, хотя ни Мариус, ни я этого не замечали. Ее ум оставался ясным и воля незыблемой, но ее зрение быстро ухудшалось, и она была уже не в силах вести хозяйство. Теперь нам очень и очень не хватало Денизы: хотя она вела хозяйство из рук вон плохо, она избавляла бабушку от излишнего утомления, и хотя Фрюманс задерживался у нас дольше положенного времени, приводя в должный порядок счета, он все-таки не мог следить за ведением домашних дел. Меня никогда не посвящали в эти низменные подробности, столь полезные и необходимые для каждой женщины. Я уже опоздала найти в этом вкус, да я была еще и слишком юной, чтобы получить обо всем этом подлинное представление. У Денизы была привычка распоряжаться довольно грубо, и в конце концов ее вопли и крики внушили мне непреодолимое отвращение к любым приказам. Бабушка чувствовала, что в доме нужна женщина, заботам и надзору которой она могла бы поручить мою бесценную особу, да и сама она в этом крайне нуждалась. Она посоветовалась с аббатом Костелем, который то ли из скромности, то ли по лености не слишком любил вмешиваться в чужие дела и предложил ей обратиться к Фрюмансу. — Фрюманс, — сказал он, — более практичен, чем я, особенно с тех пор, как он все время проводит у вас и видится с разными людьми. Думаю, что он знает кого-нибудь… У Фрюманса с бабушкой состоялся разговор, после которого мне показалось, что она взволнована и обрадована. — Фрюманс обещает раздобыть мне сокровище, — сказала она. — Теперь я смогу спокойно прожить остаток дней. — Значит, это кто-то знакомый вам, дорогая бабушка? — Только по слухам, деточка. Эта женщина будет очень привязана к тебе, и я прошу заранее полюбить ее так же, как я люблю ее… даже не зная ее. — Она скоро сюда приедет? — Надеюсь, что да, хотя Фрюманс еще не уверен, удастся ли ее уговорить. Фрюманс собирался что-то писать. Он подозвал меня к себе. — Если бы вы захотели, — сказал он, — приписать две строчки в моем письме, эта особа, вероятно, согласилась бы приехать сюда ухаживать за вашей бабушкой и за вами. Мне показалось, что возложенная на меня обязанность придает мне некую значительность. — Вы, стало быть, уверены, — сказала я, — что она нас по-настоящему полюбит? — Я ручаюсь вам за это. — И вы думаете, что бабушка будет с ней счастлива? — Я совершенно уверен в этом. — Значит, я должна написать этой даме? — Таково мое убеждение. — Вы будете мне диктовать? — Нет, вы сами должны решить, что нужно сказать, чтобы вызвать в ней доверие к вам. Та, о которой я вам говорю и которой пишу сейчас, не будет никому служить иначе, как в знак преданности, и при условии, что ее тоже будут любить. — Разве можно дать обещание любить того, кого еще не знаешь? — Предложите ваши условия: если она их не выполнит, ваше право не любить ее, и тогда она уедет. Все более проникаясь сознанием собственной важности, я начала писать на чистом листе, который мне дал Фрюманс: «Мад…» — Ее нужно называть мадемуазель? — Нет, мадам. Она вдова. Я написала:«Мадам, если вы хотите приехать к нам и любить мою бабушку от всего сердца, то я тоже полюблю вас всем сердцем.— Это великолепно, — сказал Фрюманс. И он сложил письмо, но опустил его в карман, не надписав адреса. — Как зовут эту особу? — спросила я. Он ответил, что она сама мне это скажет, когда приедет, а когда я захотела узнать, где она живет, он заявил, что сейчас этого не знает, но у него есть способ доставить ей наше письмо. — Наверно, это будет какая-нибудь бедная родственница, — съязвил Мариус, когда я сообщила ему об этом. — Особа, приведенная сюда Костелями, вероятно, такое же изголодавшееся существо, как этот несчастный кюре. Что до меня, то мне абсолютно все равно, кто это будет. Думаю, что мне теперь уже недолго осталось здесь маяться. За последнее время Мариус несколько раз заговаривал об отъезде, и каждый раз у меня сжималось сердце и на глаза навертывались слезы. То, что я была постоянно рядом с ним, стало чем-то очень важным в моей жизни. Была это дружба или эгоизм — не знаю. Он, конечно, меня не любил и ни в чем мне не помогал, но он всегда был рядом со мною и как бы отрывал меня от самой себя. Он препятствовал мне быть собою, и я не знала бы, что мне делать с собой без него. Я часто испытывала потребность уйти от него и вновь обрести себя, но через несколько часов мне его уже опять недоставало. И, кажется, ему тоже недоставало меня. Мы дружили, как два щенка, которые слегка грызутся, но тем не менее не могут расстаться друг с другом. Склонный к праздности, Мариус, для своих лет весьма мало развившийся умственно и нравственно, считал меня еще ребенком, не способным выслушивать его, противоречить ему и вообще занимать его внимание. Но он и не сомневался в том, что я была ему необходима, и бессознательно привлекал меня к себе и не отпускал от себя. По мере того как он становился все более взрослым, в нем возникало желание заглянуть в свое будущее и как-то вырваться из уединения, в котором мы жили, однако он никак не мог представить себе, что он хочет делать в жизни и кем собирается стать. Он очень серьезно спрашивал меня об этом, но я не знала, что ему ответить. Тогда он обижался и делал вид, что ужасно хочет уехать, чтобы заставить меня придумывать вместе с ним, куда, собственно, он хочет отправиться. У бедняжки не было почти ничего, хотя сам он считал себя богатым. Он слышал о том, что унаследовал тридцать тысяч франков, и полагал, что это состояние, способное обеспечить ему независимость и роскошь в течение всей жизни. Напрасно Фрюманс, с которым он на этот счет соизволил посоветоваться, убеждал его, что тридцать тысяч франков лишь вполне приличное подспорье для того, кто работает и живет скромно, но ничто для того, кто бездельничает, а сам хочет жить роскошно. Мариуса все это не убедило: он продолжал верить, что, живя на широкую ногу и не работая, он никогда не исчерпает до конца свое наследство. Он также разглагольствовал о такой профессии, которая даст ему возможность слонятьсябез дела и одеваться, как ему вздумается. Бабушка, воспитывавшая и одевавшая его с ног до головы на собственный счет, чтобы сохранить в неприкосновенности его небольшое состояние, строго ограничила его широкие потребности в области элегантных нарядов. Она одевала его прилично и добротно, и все же ему приходилось не раз краснеть за фасон своих костюмов и форму своих шляп, ибо они отнюдь не согласовались с последним криком моды. Это было для него подлинным источником стыда и досады, и когда мне разрешалось подарить ему одну из своих новых косынок, чтобы он сделал себе галстук, он целые дни торчал у зеркала, с безумной радостью завязывая и перевязывая его на различные лады. Он лелеял надежду, что наступит день, когда у него будет собственный портной или он обзаведется красивым мундиром. Ему нравилась статная выправка юных моряков, и бабушка хотела, чтобы он избрал себе эту профессию, в которой отличились ее муж и другие представители их семьи, но Мариус не очень-то был силен в математике и питал к морю непреодолимое отвращение. Он хотел стать моряком, не вступая на борт корабля. — Значит, ты хочешь служить в пехоте? — спрашивала я. — Да, — отвечал он. — Я должен быть гусаром или стрелком: только у них красивые мундиры. — Но ты еще не дорос до того, чтобы стать солдатом? — Я и не буду солдатом. Я хочу быть офицером, ведь я же дворянин. — Но Фрюманс говорит, что тогда надо поступать в военное училище, где изучают математические науки, но что ты их никогда не усвоишь, если не будешь как следует учиться. На этом дело кончалось, так как Мариус не хотел да и не мог ничему учиться. Самое большее, на что он был способен, это делать вид, что слушает Фрюманса и внимательно следит за его объяснениями. Но это было лишь победой, одержанной его несколько высокомерной вежливостью над отвращением к любому принуждению. Он обладал только одной силой — мягкостью, которой он пользовался, чтобы побудить и других быть с ним мягкими. Когда Фрюманс — образец терпеливости — бывал доведен до крайности его отсутствующим видом, Мариус говорил ему с преувеличенной вежливостью: — Прошу прощения, сударь, не будете ли вы любезны выражаться несколько яснее. Как будто в этом был виноват учитель, а не он сам! Когда же это начинало раздражать меня, он говорил: — Ты знаешь, что я вовсе не собираюсь злиться, и можешь болтать себе все, что угодно: мне это совершенно безразлично. И он изрекал это таким гордым и спокойным тоном, что гроза моментально проходила, не затронув его, не взволновав ни на мгновение, не потревожив ни волоска на его изящно завитом хохолке, взбитом надо лбом наподобие угольника. Он продолжал быть самым красивым мальчиком на свете, что не мешало ему притом быть и самым ничтожным. Я уже привыкла к его лицу и не находила в нем больше никакого очарования. Его элегантные манеры уже больше не ослепляли меня, а постоянное стремление причесываться и тщательная чистка ногтей начинали не на шутку раздражать меня. Его бильбоке вызывало во мне ненависть, а охотничьи приключения с Фрюмансом, который убивал всю дичь, по которой Мариус промазал, производили на меня комическое впечатление. Но он покорял меня своей невозмутимостью. Потом я узнала, что бабушка, сперва очень озабоченная его будущим, положилась далее на волю Божью, исторгнув из Фрюманса признание в полной неспособности его ученика. — Что ж, — сказала она, — запасемся терпением и постараемся не сделать его несчастным. Не осознавая своих ошибок, он не поймет и кары за них. Кем он станет? Может быть, жалким мелкопоместным дворянчиком, как сотни других, который будет отказывать себе во всем целый год, чтобы пускать пыль в глаза в течение недели, или увлечется охотой и вообще не будет блистать в свете, или из него получится какой-нибудь несчастный унтер-офицер, лет двадцать ожидающий эполет. Пусть только он не следует примеру моего сына, который был красивым мальчиком и, умея лишь привлекать внимание дам, дважды спасся удачной женитьбой. Бедная бабушка не знала, что окажется пророчицей.Люсьена де Валанжи».
XV
Недели через две, как-то вечером, когда Фрюманс уже ушел от нас, мы вдруг увидели, что он возвращается, слегка чем-то взволнованный. Он был не один: за ним шла маленькая смуглая женщина, приятное лицо которой понравилось мне с первого же взгляда. Хотя она была тоненькой и миниатюрной, выглядела она крепкой и энергичной. У нее были тонкие черты лица, и загар подчеркивал свежесть ее румянца. Одета она была очень чисто, во все новое, на манер наших крестьянок. Ее взор сразу остановился на мне, и так как она не знала, как начать разговор, я, увлекаемая непреодолимым порывом, бросилась к ней и крепко обняла ее. Она разразилась слезами, покрыла мои руки поцелуями и сказала с легким иностранным акцентом, который вовсе не шел к ее одежде, но который показался мне как-то странно знакомым: — Я чувствовала, что полюблю вас, но вот уже я вас люблю, и если захотите, то на всю жизнь. Я привела ее к бабушке, которая приняла ее весьма любезно и усадила рядом, чтобы обсудить с ней, с чего она должна начать у нас свою деятельность. Когда я уходила, какое-то любопытство вдруг заставило меня замедлить шаги, и, оглянувшись, я через полуоткрытую дверь гостиной увидела, как бабушка обняла ее и прижала к груди, называя «мое дорогое дитя» и ласково целуя в лоб. Я решила, что Фрюманс, вероятно, рассказал бабушке что-нибудь необычайно хорошее о нашей новой домоправительнице, и благодаря тайне, окружавшей это открытие, мои уважение и симпатия, которые я уже испытывала к ней, возросли еще больше. С этого вечера госпожа Женни Гийом (под таким именем она вошла в наш дом) приступила к исполнению своих обязанностей, не пожелав даже отдохнуть с дороги, не выказав даже признаков усталости. Не знаю уж, сообщил ли ей Фрюманс в своем письме о наших привычках и характерах, но нет сомнения в том, что управлялась она за ужином так, как будто никогда ничего другого в жизни не делала. Бабушка, вероятно, хотела, чтобы она поужинала с нами. Но она отказалась от этой чести и с самого начала заняла положение скромной управительницы, которая приказывает слугам в силу своей должности, но за пределами своих обязанностей держится с ними наравне. О, моя благородная и возвышенная Женни, какого друга, какую настоящую мать суждено мне было обрести в тебе! Именно тебе я обязана великодушием и отвагой, которые теперь открылись во мне. Она не была так суматошна и навязчиво нежна, как Дениза. Ее фигурка не сгибалась в поклоне по любому поводу, ее глаза не были полны слез, ежеминутно готовых брызнуть. Но одно ее слово стоило для меня больше, чем все ребяческие ласки моей кормилицы. Какое различие было между ними, и насколько Женни во всем превосходила мою несчастную безумицу! Она обладала интеллектом, который я еще не способна была по достоинству оценить, но он воздействовал на меня с покоряющей силой истины. Так как она никогда ничего не рассказывала о своем прошлом и не разрешала задавать о нем вопросы, нельзя было понять, где она научилась всему тому, что она знала. Она читала и писала лучше меня и, конечно, лучше Мариуса и бабушки. Она говорила, что неустанно работала всю жизнь и прочла бесчисленное количество хороших и посредственных книг, достоинства и недостатки которых определяла с поразительной тонкостью. Благодаря ли чтению или глубокой интуиции озарила она свой разум, проникла в тайны человеческого сердца и с безошибочностью познала все оттенки человеческих чувств? Она отличалась также замечательной наблюдательностью и удивительной памятью. Когда она вместо бабушки присутствовала на наших уроках, она или шила что-нибудь у окна, или чинила белье, не отрывая глаз от своей работы, но она не упускала ни слова из того, что нам объясняли. Когда у меня возникали затруднения с завтрашним уроком, я вечером в своей комнате обращалась к ней за помощью, и она исправляла мои ошибки или разъясняла мне все непонятное простым и ясным языком, который был как бы самой сутью того, что по необходимости столь подробно и пространно объяснял Мариусу Фрюманс. Где находила она всеобъемлющую способность переходить от мелочей кухни и птичьего двора, — ибо она смотрела за всем, — к этим упражнениям, требующим интеллекта и разума? Она даже немного знала математику и латынь. Для этого энергичного и ясного ума не было ничего таинственного. Гораздо более одаренная, чем я, она в беседе заставляла меня запоминать исторические даты и технические термины, которые все время ускользали у меня из памяти. Но ей мало было этой работы, она еще часть ночи проводила в постели за чтением. Ей вполне достаточно было поспать четыре-пять часов. Она всегда ложилась последняя, вставала утром первая, ела мало, никогда днем не отдыхала, никогда ничем не болела, а если и болела иногда, то никто об этом не знал, да вряд ли знала и она сама. Ее лицо, на котором играл свежий румянец, несколько неподвижное в правильных очертаниях камеи, никогда не отражало следов усталости и горя. Это удивительное создание, безусловно, продлило существование бабушки, отведя от нее все житейские хлопоты и все ужасы старости. Она установила в доме порядок, чистоту и разумное ведение хозяйства, что сделало для нас жизнь легкой и ясной, как прозрачная вода, которая широко льется в мраморный бассейн. Никаких остановок, никаких выходов из берегов. Казалось, что она держит в руках все замки от шлюзов нашей жизни. Бабушка почувствовала, что как бы остановилась на несколько лет между старостью и дряхлостью. Слуги прекратили совершать злоупотребления, и у них не было ни разу оснований пожаловаться на нарушение круга их обязанностей. Арендаторы стали более добросовестны, они были теперь довольны своей судьбой. Аббат Костель стал строже следить за собою и, оставаясь по-прежнему философом и ученым, сделался как-то чистоплотнее и воздержаннее. Госпожа Капфорт стала приезжать к нам не так часто и усвоила себе, что слуги уже менее расположены отвечать на ее постоянные расспросы обо всем. Только господин Малаваль и его друг Фурьер не умерили пыла своих фантастических выдумок. И при этом Женни никогда не выходила из своей роли, никогда не позволяла себе сказать хоть слово за пределами своих обязанностей. Она не делала никаких замечаний по поводу посторонних людей, и никогда еще наш дом не был столь уважаем всеми. Но на бабушке и на всех нас появился какой-то отпечаток прямоты ума и твердости духа Женни. Благодаря совместной жизни с нею мы стали более стойкими в своих мыслях и более сдержанными в своих манерах. Общий вид дома и все, кончая хозяйственными делами и приемом пищи, носило теперь на себе печать некоего декорума и достоинства, под которым чувствовалось чье-то тайное влияние. Непринужденность жизни средиземноморского побережья уступила место подлинному гостеприимству, более действенному, потому что его больше поддерживали. Я наслаждалась полным счастьем. Какое право имела я в то время жаловаться на свою судьбу? Мною так восхищались, меня все так любили. Сколько других невинных детей в моем возрасте знали только заброшенность и несправедливость!XVI
В 1818 году мне было четырнадцать лет, а Мариусу семнадцать. Мое образование было вполне достаточным для моего возраста, его — лишь таким, каким оно могло быть. Оно принесло ему какую-то пользу в том смысле, что, усваивая объяснения вещей, которые он слушал плохо и понимал мало, он все-таки получил какое-то представление об этих вещах и мог что-то сказать о них как о чем-то знакомом. Он был красив, у него было знатное имя, природный ум, он умел вести приятную и шутливую беседу. В светском обществе он всем нравился, ибо уже начал появляться в свете. Бабушка разрешила ему завести себе лошадку и поддерживать знакомства в Тулоне и Марселе, куда он время от времени наведывался. Его первые выступления в провинциальном обществе ознаменовались бо́льшим успехом, чем этого мог ожидать добросовестный и несколько наивный Фрюманс. Ибо, тогда как он краснел за посредственность своего питомца и опасался, как тот будет держаться в обществе, Мариус отовсюду слышал похвалы, завязывал новые знакомства и всегда возвращался домой таким непринужденным и самоуверенным, что мы просто поражались. Он знал, как вести себя, и усваивал обычаи с легкостью человека, который ставит обычаи превыше всего. Однако его великолепное умение жить отнюдь не мешало ему постоянно подчеркивать, что у нас ему ужасно скучно и он жаждет как можно скорее расстаться с нами. Видя, как нетерпеливо он стремится к этому, бабушка снова стала беспокоиться о том, какую профессию он должен себе избрать. У нас в некоторых аристократических семьях еще сохранились предрассудки против коммерции, промышленности и большинства свободных профессий. Молодой человек из приличной семьи, но без средств может быть только моряком или военным. Но, чтобы стать военным, то есть сразу офицером, как это представлял себе Мариус, нужно было пройти через непреодолимые преграды, и бабушка, хорошо зная надменность и тонкость чувств своего внука, не осмеливалась предложить ему стать юнгой или простым солдатом. Однажды в незыблемом спокойствии нашей жизни произошла небольшая драма, смысл которой открылся мне гораздо позднее и последствия которой я увидела ясно, хотя и не понимала их причины. А причина была очень простая. Мариус, который еще не был подвластен зову плотских страстей и был слишком недоверчив или слишком благоразумен, чтобы его вовлекли где-то вдали от нас в какую-нибудь недостойную авантюру, вдруг стал беспокойным, рассеянным, возбужденным, даже несколько сумрачным. Он ненавидел Женни, которая ему никогда не льстила, и тем не менее в одно прекрасное утро он сделал попытку установить с ней более дружеские отношения, объявив ей, что она красавица. В ответ на это Женни только пожала плечами. Несколько дней подряд он все повторял ей, что она красавица. Не знаю уж, какой урок она ему дала, но он разозлился на нее и стал резок и дерзок с Фрюмансом. В моем присутствии он позволял себе какие-то странные насмешки над предпочтением, которое Женни якобы оказывала этому фатоватому верзиле-педагогу, которого он, Мариус, совершенно не выносит. Как-то Мариус явился на урок в охотничьем костюме и с ружьем в руках. Он вручил Фрюмансу свои тетради. — Будьте любезны поскорее поправить их, — сказал он. — Сегодня я предполагаю отправиться на охоту. Это была явная демонстрация. Фрюманс ничего не ответил, взял тетрадки, поправил их и вернул ему, сказав с невозмутимым спокойствием: — Желаю вам удачной охоты, господин Мариус. — Господин Фрюманс, — возразил Мариус, искавший предлога для ссоры, — меня зовут господин де Валанжи. — Тогда, — продолжал Фрюманс с кроткой улыбкой, — я желаю удачной охоты господину де Валанжи. — Благодарю вас, господин Фрюманс. Я ухожу и ставлю вас в известность, что отныне буду заниматься один. — Это уж как вам будет угодно, — ответил Фрюманс. — Но, — не унимался Мариус, — так как не принято, чтобы у молодой девицы был наставник, когда у нее уже есть гувернантка, я полагаю, что вы могли бы теперь избавить себя от необходимости сопровождать мою кузину на прогулках, по крайней мере хотя бы тогда, когда ее гувернантка не будет ощущать необходимость в вашем обществе, в каковом случае у меня больше не будет к вам никаких замечаний. — Вы могли бы избавить себя от необходимости делать и это замечание, — сказал Фрюманс, покраснев. — Я нахожу его безвкусным и бестактным. — А я нахожу ваше замечание дерзким. — Но ваше является обидным. — Вы считаете себя обиженным, господин Фрюманс? — Да, господин Мариус, и довольно об этом. Прошу вас не продолжать дальше. — А если я все-таки буду продолжать, что тогда? — Тогда вы проявите неуважение к дому вашей двоюродной бабушки. — К дому моей двоюродной бабушки, то есть к ее людям? — К ее людям, если угодно. Я ожидал всего этого от вас, понимая, в каком настроении вы находитесь. Но вы действуете наперекор своему характеру, который выше, чем ваши сегодняшние слова. Я не хочу раздражать вас своими ответами, и больше вы от меня ничего не услышите. Он взял мои тетрадки и углубился в их рассмотрение, как будто Мариуса здесь и не было. Тут я увидела, что Мариус взял книгу и уже поднял руку, чтобы швырнуть книгой в Фрюманса. Я мгновенно пересела на стул рядом с Фрюмансом, по другую сторону стола. Теперь Мариус не мог метнуть свой снаряд, не задев меня. По моему стремительному движению он понял, что я хочу предостеречь его от безумной выходки, от скверного поступка. Он швырнул книгу на пол и вышел из комнаты. Видя, что я побледнела и вся дрожу, Фрюманс закрыл тетради и, взяв на другом столе стакан с водой, протянул его мне. — Успокойтесь, мадемуазель Люсьена, — сказал он, — это все пустяки. Господин Мариус обычно мягок и вполне безобиден: это просто приступ лихорадочного безумия. — О боже! — воскликнула я. — Неужели с ним приключится то же самое, что с нашей бедной Денизой? — Нет, он еще молодой, в его возрасте это проходит очень быстро. Идите прогуляться немножко с госпожой Женни. А я немедленно переговорю с вашим кузеном, чтобы окончательно успокоить его, когда он сам немного придет в себя. Я пошла искать Женни. От нее у меня не было тайн. Я попросила ее объяснить мне, что, собственно говоря, произошло. Она сделала вид, что тоже ничего не понимает, и, как и Фрюманс, сказала, что Мариус, вероятно, не совсем здоров и ему надо куда-нибудь уехать, чтобы немного рассеяться. Мариус уже куда-то исчез, и притом так, что его нигде нельзя было найти, а вечером он также не вернулся. Мы бы ужасно беспокоились, если бы он через одного крестьянина, встретившегося ему по дороге, не сообщил нам, что останется до завтра в Тулоне. На следующий день к нам приехал доктор Репп и сказал бабушке, что Мариус сейчас у него. Он встретил его на пути в Тулон и воспрепятствовал ему поступить очертя голову — сделаться моряком. — Вы, может быть, напрасно его отговорили, — заметила бабушка. — Мальчик стал мужчиной, который не может больше оставаться здесь без всякого дела. — Да, да, конечно, — подхватил доктор. — Я знаю, почему он так возбужден, и госпожа Капфорт, эта дьявольски тонкая, превосходнейшая женщина, вынудила у него признание, что он больше не в силах оставаться здесь. Мы посоветовали ему адресоваться к вашему родственнику, господину де Малавалю, не даст ли он ему какое-нибудь место в своей конторе. — Мариус в роли счетовода! — воскликнула бабушка. — Но ведь он же питает отвращение к цифрам! — Чепуха! С него многого не потребуют, а возьмут сверх штата, чтобы дать ему время перебеситься. Вы должны сами обсудить все это с господином де Малавалем. Они посмотрят, как юноша будет себя вести, а там выяснится, что из него получится. Во всяком случае, знаете, тут надо применять выжидательную терапию. Это единственное, что будет согласоваться с ходом времени и особенностями организма. Бабушка вступила в необходимые деловые переговоры с господами Малавалем и Фурьером, но, рассердившись на Мариуса, она запретила им говорить ему об этом. Он провел неделю в летней резиденции Реппа, бездельничая в обществе доктора и почтенной Капфорт, причем первый учил его, как нужно ловить подходящий момент, а вторая пыталась вдолбить в его бедную голову эгоистические расчеты и влить яд неблагодарности.XVII
Через неделю Мариус вернулся домой. На следующий день он должен был начать свою деятельность в конторе «Малаваль, Фурьер и К°» — вести коммерческую корреспонденцию и изучать движение прибылей и убытков в торговом флоте. Он был абсолютно спокоен и с удивительной невозмутимостью попросил у бабушки прощения за минутную вспышку гнева, причем, как он сказал, она отнюдь не вызвана была поведением господина Фрюманса Костеля по отношению к нему. Он сожалел, что я была свидетельницей этой сцены, но не полагал необходимым, несмотря на уговоры бабушки, примириться со своим наставником. — Теперь я не скоро его увижу, — добавил он, — и раз между нами не будет возникать никаких трений, то не будет и никаких споров или раздоров. Я хочу поблагодарить вас за доброту ко мне и сказать вам, дорогая тетушка, что я собираюсь в момент своего совершеннолетия вознаградить некоей суммой господина Фрюманса за уроки, которые он мне давал, и господина Малаваля — за гостеприимство, которое он намерен мне оказать на время моей службы у него. Я не хочу быть в долгу ни перед кем и надеюсь, что вы это понимаете и никогда в этом не сомневались. Бабушка казалась чем-то очень огорченной, особенно последние два дня, и, услышав его надменно-холодные слова, она не могла удержаться, чтобы не выразить ему свое порицание и сочувствие. — Бедное дитя! — сказала она, обнимая его как-то особенно значительно. — Я хотела бы, чтобы тебе была дарована свобода от всех обязательств и благодарностей по отношению к кому бы то ни было. Но правду, которую я скрыла бы от тебя, если бы ты остался со мною и вел себя благоразумно, я теперь вынуждена сказать тебе со всей резкостью, раз ты, не посоветовавшись со мною, избрал собственный путь в жизни. Итак, выслушай меня, а ты, Люсьена, поди к Женни. Через час я увидела, как Мариус вышел от бабушки и с опущенной головой побрел к Зеленой зале. Меня охватил непреодолимый ужас. Женни только что поведала мне, что у Мариуса нет ничего. Хранитель его небольшого капитала обанкротился; бабушка только позавчера узнала о катастрофе, которая низвергла Мариуса на грань нужды. — Да, пойдите вместе с ним, — сказала Женни. — Не бойтесь, что он покончит с собой, но утешьте его, как можете, ибо он и вправду достоин сожаления. Я нагнала Мариуса у небольшого озера, которое он созерцал зловещим взором, но — я теперь в этом совершенно уверена — не испытывая ни малейшего желания броситься в воду. — Я знаю, что ты разорен, — сказала я, взяв его за руку и ничуть не обижаясь на то, что он оттолкнул меня довольно грубо. — Но, видишь ли, и в несчастье есть свои хорошие стороны, как говорит Женни. Теперь ты останешься с нами? — Это Женни тебе так сказала? — спросил он с внезапной живостью. — Нет, это я сама говорю. — Дело в том, что Женни терпеть меня не может, а я плачу ей тем же. Но ты… ты не в силах сделать так, чтобы я остался здесь, не покрыв себя позором. Ты, стало быть, не понимаешь?.. Ты еще ребенок, и напрасный труд объяснять тебе вещи, которые выше твоего разумения. — Если на то пошло, — возразила я, — то именно и надо мне все объяснить. Я уже достаточно взрослая, чтобы все понять. — Ну, ладно, — сказал он, — пойми, что, если меня оставят здесь из жалости, я должен буду безропотно выносить все, что меня оскорбляет и ранит, и прежде всего мадемуазель Женни, эту подлинную хозяйку дома, с ее презрительным и дерзким видом, а затем — господина Фрюманса, который вечно сожалеет о моей неспособности к точным наукам. Ну, я знаю теперь, как мне держаться по отношению к этим двум высокоуважаемым личностям. Мадемуазель Женни не что иное, как интриганка, которая разыгрывает роль бескорыстного создания, чтобы моя тетушка оставила ей побольше по завещанию, а господин Фрюманс просто хам, у которого, возможно, даже двойная цель: жениться на Женни, когда она разбогатеет, или же… Но остального ты не поймешь, я уже и так сказал тебе достаточно много. — Нет, я хочу знать все. Надо, чтобы я знала все, что ты думаешь. — Ну хорошо, тогда постарайся бросить взгляд за пределы своего возраста, постарайся заглянуть в будущее. Тебе четырнадцать лет. Через год-два уже, может быть, начнут подумывать о том, что тебя пора выдать замуж, и если этот педагог будет тут болтаться, ты будешь скомпрометирована. — Скомпрометирована? Что это значит? — Ну вот, ты сама видишь, что не понимаешь. — Тогда объясни мне. — Это очень трудно, очень уж деликатная штука. Это значит, что тебя будут подозревать. — Но в чем? — В том, что ты думаешь выйти замуж за Фрюманса. — Я? Да разве это возможно? — Это было бы возможно, если бы ты оказалась столь недостойной имени, которое ты носишь, чтобы променять его на имя деревенского мужика, а так как ты собираешься пребывать с этим человеком, так сказать, тет-а-тет, тебя будут подозревать в том, что ты поощряешь его план. И тогда, пойми ты, честные люди будут тебя презирать, а я, который не сумел прогнать его отсюда, ибо даже после скандала, который я ему закатил, он все еще здесь и собирается и дальше тут околачиваться, я подвергнусь всеобщему осуждению за то, что примирился с таким положением вещей. — И ты думаешь, что господин Фрюманс может лелеять на мой счет такие планы… Он, который вполне мог бы быть моим отцом? — Господину Фрюмансу всего двадцать пять лет, и он никак не мог бы быть твоим отцом. Что касается его планов, то он лелеет их уже давно, он с ними и пришел сюда. — Но ты бредишь, Мариус, не может этого быть. — А почему? Он прекрасно знал, что ты вырастешь, станешь богатой и когда-нибудь выйдешь замуж. Ну, допустим даже, что он никогда не надеялся стать твоим мужем, но он говорил себе: «Она будет скомпрометирована моим присутствием, и все само устроится, и у меня будут большие деньги или хорошее место, которое я заставлю ее себе дать». Ты мотаешь головой, ты мне не веришь? — Нет. — Ну ладно, тогда спроси у доктора или у других соседей в округе — ведь все же это знают, — почему изгнали отсюда бедную Денизу. Она, может быть, сейчас немножко и рехнулась, ведь она натерпелась столько горя. Но она не была такой слабоумной, когда ее посадили под замок. Я ведь знаю все: она любила Фрюманса! — Да что ты? — Вот тебе и да что ты! Господин Фрюманс не столь уж добродетелен, как о нем думают. Он, конечно, пообещал ей жениться, а когда потом раздумал, она видела все, что происходило. Фрюманс очень ласково относился к тебе, он баловал тебя, носился с тобою, как с маленьким ребенком. Он хотел привязать тебя к себе, как добрый папочка, чтобы потом управлять тобою, как ему угодно. Тогда Дениза, особа весьма впечатлительная, стала ревновать его к тебе. Она стала говорить о мести, наговорила уйму разных глупостей. Все перепугались, и Фрюманс поспешил выдать ее за сумасшедшую… — Это, значит, доктор говорит теперь, что она не сходила с ума? — Доктор говорит то, что ему прикажут, ты это прекрасно знаешь. Иногда он говорит — да, иногда — нет, но я-то знаю все подробности от других лиц, которым Дениза во всем призналась и все рассказала. — Эти другие лица — это госпожа Капфорт? Говори же! И действительно, бедный мальчик был лишь эхом этой злыдни. Он, который всегда презирал ее и насмехался над нею, сейчас прислушивался к ее словам, ибо, недовольный собою, испытывал необходимость оправдать в собственных глазах ошибку, которую некогда совершил, обращаясь со своими первыми любезностями к достойной уважения Женни и считая Фрюманса своим соперником. К тому же Мариус, забывая о собственных недостатках и пуще всего опасаясь, как бы я их не распознала, утешался в своем нелепом поведении мыслью, что он оказал много чести этим жалким личностям и что отныне он должен всемерно разрушать их интриги. На одно мгновение я была ошеломлена этими мерзкими, клеветническими откровениями и, надо признаться, была на грани того, чтобы поверить им. Мариус в моем представлении был уже мужчиной, человеком, побывавшим в светских кругах, который, невзирая на недостаток книжной премудрости, обладал собственным суждением и опытом в практических вопросах. А я была в этом смысле еще таким ребенком! Меня воспитывали в такой чистоте и полном неведении зла! Каждый раз, когда в моем присутствии заходила речь о каком-нибудь преступлении или непристойном событии, бабушка сейчас же старалась удалить меня, чтоб я ничего не слышала. Женни уводила меня куда-нибудь, Фрюманс давал мне прочесть какую-нибудь интересную повесть, и, если я начинала волноваться, мне говорили: — Люди, которые причиняют зло, попросту больные люди. Не думай о них, пусть этим занимаются врачи. Со времени эпизода с Денизой этот довод всегда казался мне достаточно убедительным, ибо Дениза меня любила и в то же время стремилась меня убить. После рассказа Мариуса мне показалось, что безумие повсюду окружает меня, разрушая и опустошая души, в которых моя душа находила прибежище, помутив все умы, в которых мой ум находил себе опору и образец. Я начинала бояться, что сама уже схожу с ума и что вместо того, чтобы защитить своих друзей и разбранить Мариуса, я только впадаю в бред, ужасаюсь вместе с ним, как будто мы оба внезапно рухнули в какую-то бездну.XVIII
В конце концов я справилась с этим наваждением, ко мне вернулся разум, и я отвергла подозрения с такой энергией, что Мариус был ошеломлен и ему стало стыдно за свою доверчивость. Но он не желал полностью признать несостоятельность своих рассуждений. — Ну, допустим, — сказал он, — что все это преувеличено и господин Фрюманс не настолько коварен и дальновиден, чтобы таить подобные замыслы. Но несомненно то, что его дальнейшее пребывание здесь именно теперь, когда я уезжаю, становится бесполезным и даже опасным для твоего будущего. Моя тетушка очень стара, и Женни взяла над нею полную власть. Женни покровительствует Фрюмансу, для меня это ясно, и возможно, что она не отдает себе отчета в грозящей опасности. В конце концов, Женни, несмотря на свой ум, не что иное, как женщина из народа, и не имеет никакого представления о свете, его обычаях и злословии, которому подвергается всякое событие, выходящее за рамки приличия. То, что ты говоришь о госпоже Капфорт, можно применить и ко многим другим. Люди подозрительны и склонны приписывать разные скверные поступки тем, кто не согласен с их мнением. Ты принадлежишь к светскому обществу, и когда-нибудь тебе придется вести себя в соответствии с его правилами. Ты должна с самого начала подчиниться ему и бояться его. Значит, Фрюманс не должен остаться здесь, будь он хоть самым честным человеком на земном шаре. Обещай мне отказаться от его уроков, иначе я буду думать, что ты хочешь жить как дикарка, насмехаться над тем, что будут о тебе говорить, и разорвать все связи с обществом порядочных людей. Тогда, как ты понимаешь, я умою руки и больше никогда сюда не вернусь. — Тебе гораздо проще было бы остаться здесь, — сказала я. — Если бы ты пожелал, Фрюманс помог бы тебе наверстать потерянное время. — Нет, дорогая моя, — ответил Мариус, — слишком поздно. Здесь я никогда ничему не научусь, здесь нет соперничества, и тетушка оказала мне весьма скверную услугу, не определив меня в Сен-Сир,[25] где я, может быть, учился бы не хуже, чем другие. Так Мариус, покидая нас, только упрекал всех — даже бабушку, свою благодетельницу, даже меня, которую он, по-видимому, не считал способной возбудить в нем дух того, что он именовал соперничеством! Его неблагодарность показалась мне в этот миг чудовищной. Я не в силах была что-нибудь сказать ему, и мы молча покинули Зеленую залу. На сердце у меня лежала огромная тяжесть, но я чувствовала, что гордость моя уязвлена, и плакать мне совсем не хотелось. Мариус шел с высоко поднятой головой и рассеянным видом, в холодной ярости, и то ломал ветки, то топтал растения, как будто презирал и ненавидел все, что попадалось ему на пути. — Ну что ж, — вымолвил он, когда мы поднялись на луг, — ты тоже дуешься на меня? Хочешь поскорее увидеть меня в лапах дьявола? — А ты в самом деле отправляешься в ад? — спросила я, пытаясь замаскировать шуткой свое беспокойство. — Да, дорогое дитя, — сказал он с горечью, которую напрасно старался превратить в непринужденность. — Мне придется спать в каком-то чулане с крысами и блохами. Пальцы у меня будут в чернилах, а одежда в смоле. Я буду заниматься сложением и вычитанием по десять-двенадцать часов в сутки. Я прекрасно знаю, что господин де Малаваль разрешит мне обедать вместе с ним, хотя бы для того, чтобы я, несчастный, выслушивал его враки. А затем вечером мне предложат для развлечения небольшую прогулочку в лодке по территории порта, от одного корабля к другому. Вот-то будет безумно весело! Что поделать! Когда ты беден, то тебе приходится мыкать горе. Вот что мне все говорят… чтобы утешить меня! — Ты преувеличиваешь. Наша добрая бабушка всегда даст тебе денег. — Твоя добрая бабушка будет давать их мне, пока я не стану сам получать жалованье. Но она не очень-то богата, да и молодому человеку вообще не дают почти ничего, боясь, чтобы он не натворил каких-нибудь глупостей. Вот почему за меня будут платить, пока я не получу новую должность, и мне будут, вот как сегодня, совать в карман двадцать франков, говоря: «Пойди, мальчуган, повеселись как следует!» Этот разговор был прерван Фрюмансом, который искал нас, чтобы проститься с нами. — Господин Мариус покидает нас, — сказал он мне, — и теперь вам, мадемуазель Люсьена, нужен уже не учитель, а гувернантка. Ваша бабушка поняла это и разрешает мне удалиться. Мне жаль, что приходится прекратить уроки, которые я имел удовольствие давать вам и которые вы так хорошо воспринимали. Но, с другой стороны, мой дядюшка без меня скучал, и я нужен ему, чтобы помогать переводить один большой памятник античной литературы. Я буду иметь честь иногда в воскресенье являться сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение госпоже де Валанжи, и надеюсь, что если вы, в свою очередь, совершите как-нибудь прогулку в Помме, дядюшка будет иметь честь принять вас у себя. Так просто и спокойно простился с нами Фрюманс. Я была столь изумлена и растрогана этим неожиданным решением, что не могла ответить ему ни слова. По моему виду он понял, что я очень огорчена, и протянул мне свою огромную ручищу, куда я вложила свою руку, еле удерживаясь от слез. Я надеюсь, что он догадался, что со мной творится, и для него не было сомнений в том, как я к нему отношусь. Что до Мариуса, то он был так смущен, увидев, что его обвинения были триумфально опровергнуты уходом Фрюманса, что был ошеломлен еще больше меня. Он, который так изящно умел отдавать прощальные поклоны, на этот раз с трудом и очень неловко ответил на холодно-вежливый поклон нашего учителя. — Вот видишь, — сказала я, когда мы остались одни, — ты уверовал в ужасную ложь, и мерзкие замыслы, подозреваемые тобою, попросту не существуют. Признайся, что ты был крайне несправедлив, и не дай уйти нашему бедному другу, которому ты причинил такую боль, не примирившись с ним. Мариус обещал мне исполнить это, и, конечно, он как следует обдумал все за ночь, ибо на следующее утро он оседлал свою лошадь и отправился с визитом к Фрюмансу. Не знаю, хватило ли у него мужества открыто попросить у него прощения. Но его поступок явился актом раскаяния и уважения к Костелям, которые были ему за это весьма признательны. Вечером Мариус, прощаясь с бабушкой и со мной, даже расплакался. В первый раз он продемонстрировал хоть чуточку чувства, и я была необычайно растрогана. Я не задавалась вопросом, горюет ли он оттого, что лишается привольной жизни дома или ласкового отношения к нему в нашей семье. Он плакал, и это было событием столь редкостным, что бабушка тоже была глубоко тронута. Когда настало время садиться в карету, которая должна была отвезти его со всеми вещами в Тулон, он сделал над собой неслыханное усилие, подошел к Женни и попросил у нее прощения за свое нелепое поведение. Женни как будто не поняла его, протянула ему руку, заверила, что не помнит за ним никакого особого зла, и посоветовала ему присылать ей свое белье для починки. Кучер уже сидел на козлах с кнутом в руке, когда Мариус пошел сказать последнее прости, которое было для него более душераздирающим, чем все прочие: он пошел проститься со своей лошадью. Это была уже не маленькая лошадка мельника, а красивая корсиканская лошадь, купленная для него бабушкой в прошлом году. Я увидела, что Мариус плачет еще пуще, выходя из конюшни, чем освобождаясь из наших объятий, но, право же, в этот момент мне было не до наблюдений. Мне было жаль его, потому что он терял все сразу — и свои привязанности и удовольствия. Я обещала ему добиться, чтобы его лошадь не продавали, что он найдет ее здесь, когда приедет повидаться с нами.XIX
Когда Мариус уехал, я почему-то испытала чувство огромного облегчения. Я осознала, что принадлежу только себе, и так как мне уже не нужно было развлекать его, я целый день забавлялась сама, как хотела. Я могла снова, уже в который раз, начать засаживать цветами свой садик, надеясь, что теперь уж его не будут ради озорной забавы вытаптывать и что там, где я посадила гиацинты, я не найду потом спаржи. Но уже на следующий день я начинала упрекать себя в эгоизме, и мне казалось, что Мариус несчастен, лишен, быть может, всего, что ему нужно, и это он, столь утонченный, которому приказывают и которого унижают, его, такого независимого и надменного! Как-то раз Женни увидела, что я плачу где-то в уголке. Она, как могла, утешила меня, и когда я пожаловалась, что у меня нет денег для моего бедного кузена, чтобы хоть немного облегчить его тяжелую жизнь, она ответила: — Они у вас есть. Подите возьмите в моей комнате сколько вам нужно. А я даже и не знала, что у меня есть сбережения! Она уверила меня, что скопила их, откладывая кое-что из подарков к Новому году и ко дню рождения, которые делала мне бабушка. Я была ребенком, меньше всего способным что-то считать и рассчитывать. В том, что мне сказала Женни, у меня не было никаких сомнений, и дрожащим голосом я спросила ее, есть ли у меня сто франков. На мой взгляд, это были огромные деньги для скромных удовольствий юноши, но я не считала себя вправе предложить меньшую сумму Мариусу, у которого было столько расходов. — У вас больше, чем сто франков, — объяснила мне Женни. — Но не давайте ему сразу много, лучше делайте ему такие приятные сюрпризы почаще. Но я не могла удержаться. Как только у меня в руках оказались сто франков и Мариус приехал повидаться с нами, я предложила ему их с какой-то ребяческой радостью. Он рассмеялся мне прямо в лицо и спросил, откуда я их взяла. Он, который всегда занимался всякими расчетами, прекрасно знал, что у меня нет ни гроша. — Послушай, — сказал он, с досадой оттолкнув от себя деньги и увидев, что я заплакала, — как можно быть такой дурой, чтобы представить себе, что я способен принять милостыню? — Почему же ты называешь это милостыней? Просто я делаю тебе подарок. Я полагаю, что ты можешь принять от меня подарок. — Нет, бедняжечка Люсьена, не могу. — Почему? — Почему! Почему! Потому что это деньги Женни! — Ну, а если она дала мне их взаймы? — Нет, нет, спасибо, Люсьена! Не надо мне ничего. Ты хорошая девочка, у тебя доброе сердце. Я тебя очень люблю, поняла? Я тебе об этом никогда не говорил, глупо ведь говорить такие вещи совершенно зря. Но мне было жаль расставаться с тобой. Не хочу я твоих денег, вот и все. Это было бы низко! Я совершенно не понимала его доводов и упрекнула его в том, что он относится ко мне совсем не по-дружески. — Обходиться со мной как с маленькой девочкой — а это уж слишком! — возмутилась я. — Женни ценит меня гораздо выше. Она считает, что мы никогда не бываем слишком маленькими, чтобы любить своих родственников и беспокоиться за них. Я вижу, что я для тебя ничто и ты попросту хочешь нас всех забыть. Мариус дал излиться потоку моих упреков, он как будто не знал, что мне ответить. Наконец он принял грандиозное решение, которое, казалось, ему дорого стоило. Он насильно положил деньги мне в карман. — И довольно об этом, — сказал он. — Чем больше ты мне говоришь об этом, тем больше я убеждаюсь, что ты ничего не смыслишь в делах света. Но надо, чтобы я все-таки попытался тебе это объяснить. Мужчина может принять покровительство и благодеяния только от трех женщин: от своей матери, сестры или… — Или от кого? — Или от своей жены. Ну так вот, матери у меня нет, а тетушка… как бы она ни была добра, это все-таки не то. А сестра… ты же не моя родная сестра. — А я думала, что это все равно. — Сейчас да, но через два-три года это уже будет не все равно. Ты выйдешь замуж, а мужья не любят кузенов. — Почему? — Какая ты дура со своими вечными почему! Да потому что они ревнуют! Они всегда подозревают, что кузены влюблены в своих кузин. — Но ты же в меня не влюблен. — Я-то нет, потому что ты еще слишком мала. Но когда ты станешь старше, я бы мог тебя полюбить, но какой в этом прок? Ты слишком богата для меня. — Богатство ничего не значит, если мы будем друг друга любить. — Что верно, то верно. Первый раз слышу от тебя разумные речи. Когда люди равны по происхождению, когда они воспитывались вместе и оба не уроды, то тут брак вполне возможен, и тогда что есть у одного, то и у другого. Если жена владеет богатством, то муж тоже старается обогатиться. Все приходит с возрастом и опытом, и свет одобряет это. Но чтобы вступить в брак, нужно, чтобы люди еще и подходили друг к другу, а ты, когда вырастешь, быть может, будешь обладать тщеславием, кокетством и целым рядом других недостатков, которых пока еще у тебя нет, но которые, как говорят, со временем появляются у молодых девушек. — Это тебе сообщила госпожа Капфорт? Так, стало быть, ты не хочешь жениться? — В таком возрасте мне еще рано об этом думать. Поживем — увидим. — Как ты думаешь, могла бы я когда-нибудь тебя полюбить? — Ну, уж этого я не знаю. Это зависит от того, что ты понимаешь под любовью. — Но… я вообще ее не понимаю. Я никогда ее даже и не видела. Любовь, вероятно, такая дружба, когда отдаются друг другу целиком, когда уже нет понятия твое или мое, как ты только что сказал. — Совершенно верно. — Ну тогда, Мариус, я уже, может быть, и люблю тебя. — Да ну что ты! — Да, потому что мне грустно, что я богаче тебя, но не могу сделать и тебя богатым. Впрочем, постой! То же самое чувство у меня и к Женни. А ты позволил бы мне любить Женни так же, как тебя, если бы мы поженились? — Да, если бы Женни помогла нам стать мужем и женой. — Хочешь, я спрошу ее, что она об этом думает? — Нет, пока еще слишком рано. Она скажет, что мы болтаем о вещах, совершенно неподходящих для твоего возраста, и я думаю, что мы действительно несем дикую чушь. — Я вовсе не считаю чушью разумный разговор. Послушай, давай поговорим серьезно. Скажи, что бы ты думал и как бы вел себя, если бы когда-нибудь полюбил меня? — Люсьена, тогда я стал бы работать! Я знал бы, что мой долг заключается в том, чтобы вести себя безупречно. В моем сердце царило бы спокойствие, яглядел бы в будущее без страха. Мне хотелось бы всегда быть тебе приятным, я был бы к тебе предельно внимателен. Я охотнее выполнял бы твои желания, чем даже свои собственные. Я был бы более любезен с тобою, чем раньше. Я бы хорошо одевался, чтобы доставить тебе удовольствие. Я как можно скорее заработал бы достаточно денег, чтобы купить изящный кабриолет и прекрасную лошадь и совершать с тобой прогулки. Каждое утро я преподносил бы тебе букет цветов. Я сопровождал бы тебя, куда ты хочешь, в те места, которые тебе нравятся, а мне нет. Я считал бы прекрасным все, что тебе нравится, даже Рега и море. Словом, я был бы галантен, как тот молодой человек, которого я видел в Авиньоне и который только что по любви женился на своей кузине. Кажется, они оба были вполне счастливы, и хотя он не был богат, зато его кузина обладала богатством, достаточным для двоих, и, по-видимому, была весьма довольна. — Если бы ты был таким хорошим, как ты говоришь, Мариус, и начал бы как следует работать раньше, уверяю тебя, что я тоже была бы рада выйти за тебя замуж. — Ну что ж, Люсета, так оно и может произойти, кто знает? Звонок на обед прервал эту странную беседу, которой суждено было иметь для меня в будущем весьма прискорбные последствия.XX
Конечно, не Мариусу принадлежала инициатива соблазна, и если ему кое-что и удалось, то совершенно помимо его воли: он как бы катился по наклонной плоскости, увлекаемый чисто ребяческой непосредственностью. Но, конечно, госпожа Капфорт в какой-то степени подготовила путь для обета, который мы только что дали друг другу. Она заставила Мариуса признаться во всем незаметно для него самого, и отныне она узнала все, что ей хотелось знать: прежде всего, что Мариус и я вовсе не рано развившиеся дети и что мы никогда не играли с ним в любовь, доказательством чего является то, что при первом же пробуждении мужских чувств Мариус понял, что я еще не женщина и что единственной женщиной в доме была Женни; затем, что Фрюманс вызвал в нем ревность и что он быстро воспользовался этим предлогом, чтобы избавиться от его власти; и, наконец, что Мариус не способен был добиться какого-нибудь прочного положения в свете и что он был пригоден лишь для того, чтобы стать смазливым муженьком какой-нибудь провинциальной девицы, достаточно вульгарной, но с приличным приданым. Тогда в уме госпожи Капфорт сложился быстрый и логический вывод. У нее была весьма некрасивая дочь, но единственная и довольно богатая. Она сказала себе, что у Мариуса есть имя и связи, которые наконец поставят ее на один уровень с этой провинциальной знатью, в ряды которой она так страстно желала вступить. Одной религиозности тут было недостаточно, к этому союзу приходилось идти другими, обходными, маневрами и интригами. Мариус как будто был создан для того, чтобы подпасть под ярмо ее дочки в обмен на приданое. Но, убеждая Мариуса, что его будущее зависит от удачной женитьбы, она пробудила в нем мысль жениться на мне, которая, по-видимому, раньше никогда не приходила ему в голову. Она увидела его удивление, его нерешительность, может быть даже его боязнь и, обнаружив, что завлекла его на ложный путь, поспешила уверить его, что я для него еще слишком молода. А вот девушка шестнадцати лет (такая девушка, как Галатея Капфорт) могла бы явиться олицетворением его будущего. А так как Мариус, по-видимому, не соизволил ее понять, когда он, вероятно, заговорил обо мне, своем лучшем друге, Капфорт не замедлила внушить ему отвращение ко мне, выдумав гнусную и бессмысленную историю, героем коей был Фрюманс. Все это, как легко догадаться, подкреплялось самыми невероятными признаниями, которые ей удалось вырвать у Денизы во время ее безумных припадков. Результат всей этой тщательно возведенной постройки оказался совершенно иным, нежели она предполагала. Мариус даже и не думал о Галатее, обычной жертве его ядовитейших сарказмов. Не отдавая себе в этом отчета, он стал думать обо мне, может быть даже из чувства протеста против Фрюманса и Женни. Мариус, очевидно, решил пока мне ничего не говорить, а дождаться того возраста, когда смутные мечты юности смогут осуществиться. Захваченный врасплох возникшими обстоятельствами, известием о своем разорении, вспышкой моего сочувствия и желанием спасти его, а также моей полнейшей невинностью, которая заставляла меня говорить о любви как о неизвестном числе при решении математической задачи, тронутый, может быть, моей искренней дружбой и чистосердечием своих предполагаемых врагов, он наконец совершенно неожиданно пришел к мысли найти во мне прибежище от своих бед. Он дошел даже до того, что согласился позволить себя любить, если уж мне в голову пришла такая фантазия, и даже, может быть, платить мне взаимностью, если я потом буду достойна этого. А я, безумное дитя, шла навстречу своей странной судьбе, к которой меня не влекли ни мои чувства, ни увлечение, ни глубокое уважение, ни полет фантазии, словом — ничто из того, что образует серьезную, роковую или романическую любовь в сердце молодой девушки. Единственно серьезным во всем этом для меня была жалость, единственно роковым — привычка баловать Мариуса, единственно романтическим — непреодолимая потребность в самопожертвовании. А Женни, моя бесподобная Женни, не поняла, что она должна была остановить меня на этой скользкой тропе, или, если она немного перепугалась, то сочла за лучшее совсем не предупреждать меня, чтобы у меня не закружилась голова. Когда я, в нетерпеливой жажде излить свои чувства, рассказала ей в тот же вечер, о чем мы так долго разглагольствовали с Мариусом, она в ответ мне лишь рассмеялась. — Господин Мариус еще в большей степени ребенок, чем вы, — сказала она. — Даже еще через два года вы не будете готовы к тому, чтобы выйти замуж. В шестнадцать лет еще не отдают себе отчета в том, кого любят, да и он будет еще слишком молод, чтобы преисполниться глубоких мыслей. У вас впереди еще несколько лет счастливой и безоблачной жизни, а что касается мужа, который у вас когда-нибудь появится, то об этом пусть беспокоится ваша бабушка. — Ты права, Женни, — ответила я, — и я совсем не тревожусь за себя. Но если бы, руководствуясь этой мыслью, Мариус стал бы разумным и добрым, то стоило бы ему ее оставить. — Нет, — возразила Женни, — это совершенно бесполезно. Мариус сам по себе станет разумным и добрым. Вы прекрасно знаете, что он кроток, честен и стыдится, если совершит какую-нибудь глупость. Его еще нельзя принимать всерьез. Мариус еще даже не молодой человек: он попросту школьник, который толкует о свете, зная его ничуть не больше, чем мы с вами. В нем есть гордость — это прекрасно, он отказался взять ваши деньги — это превосходно. Но он, бедняжка, боится оказаться в тисках нужды. Ну, ладно, посмотрим, как он будет себя вести. Если он проявит храбрость и терпение, я поеду к господину де Малавалю, вручу ему ваши деньги, и тогда вашего кузена без его ведома будут лучше кормить и создадут ему лучшие условия жизни. Я попрошу, чтобы впредь к нему относились повнимательнее, он будет думать, что это результат его хорошего поведения, и будет стараться вовсю. Женни излучала какой-то кроткий магнетизм. Ее речи всегда действовали на меня успокоительно. Я уснула спокойным сном. Она тоже отогнала от себя всю тревогу. Подвергшись самым страшным бедам, какие только могли обрушиться на женщину, она в своем беспримерном великодушии сделалась оптимисткой. Особенно сильно она верила в детей. Она говорила, что для того, чтобы сделать их добрыми, их надо сделать счастливыми. Она не питала к Мариусу ни предубеждения, ни злопамятства. Она всегда подшучивала над ним, но без особого ехидства, как бы не замечая досады, которую она в нем вызывала. В тот день, когда он вдруг заметил, что она красива, эта достойная и энергичная женщина даже не рассердилась на него: она попросту расхохоталась ему прямо в лицо. Она утаила от всех смехотворность этой мимолетной попытки ухаживать за ней. Умная и добрая, она тем не менее не догадывалась, на какие скверные дела способен слабый и нерешительный Мариус. Должна признаться, что у меня не хватало духу просветить ее на сей счет. Я слишком уважала ее, чтобы повторять ей омерзительные инсинуации госпожи Капфорт. Поэтому Женни не имела тогда ясного представления о мелочности характера моего бедного кузена. Что касается Фрюманса, то я совершенно не понимала причин, по которым он так быстро отказался быть и впредь моим учителем. А мне, конечно, были еще очень нужны его уроки, и мне уже никогда больше не суждено было иметь такого наставника. И только много времени спустя я узнала, что произошло в тот день, когда Мариус закатил ему такую дикую, выходящую за все рамки приличия сцену. Фрюманс понял теперь, что никакой пользы Мариусу он больше принести не может и что нелепая ревность этого мальчишки могла бы поставить и его самого в смешное положение. Он чувствовал, что один из них должен уступить место другому и что это должен быть именно он. Он пытался найти Мариуса, чтобы уведомить его о своем решении удалиться. Но, не найдя его, поговорил с бабушкой, сославшись на работу, которая отныне будет поглощать все его время, и, не выказав ни сожаления, ни слабости духа, незаметно исчез. Он уходил с разбитым сердцем, бедняга Фрюманс, но в нем было подлинное мужество и способность преодолеть все испытания.XXI
Я не должна упустить из виду одно событие, которое впервые навело меня на мысль о необычайности моего положения в свете, несмотря на все видимое благополучие и счастье. Примерно через месяц после того, как уехал Мариус, я отправилась вместе с Женни в Тулон — нужно было сделать кое-какие покупки. В одной из лавок мы встретили госпожу Капфорт с женщиной, которую я сначала не узнала, ибо голова ее была закутана в черную накидку. Я сначала даже не обратила никакого внимания на эту женщину, но вдруг она бросилась ко мне и начала обнимать и целовать меня так неистово, что чуть не задушила. Это была моя бедная Дениза, но она настолько изменилась и подурнела, что я еле удерживалась от слез, отвечая на ее ласки. Она так бурно выражала свою радость, увидев меня, что это могло привлечь внимание прохожих. Поэтому госпожа Капфорт увела нас в заднюю комнату лавки и тихо сказала мне: — Не бойтесь, она всегда чуть-чуть слишком экспансивна. Но сейчас она уже не сумасшедшая, вы же видите, что я выхожу вместе с ней на улицу. Я, конечно, ничего не боялась, и так как Женни была со мной, я была уверена, что бабушка не станет бранить меня за то, что я так участливо отнеслась к своей кормилице. Дениза сначала пыталась спокойно говорить со мной, но вид Женни вызвал у нее внезапную вспышку ревности, и по ее горящим глазам и отрывистой речи я прекрасно понимала, что она отнюдь еще не излечилась. Что ни говорила Женни, чтобы ее успокоить, все это только усиливало ее ярость, и вдруг, вскочив с места, она крикнула: — Вы лгунья, интриганка, и больше ничего! Уж я-то все хорошо знаю. Вы вернули эту девочку (тут она указала на меня) бедной госпоже де Валанжи, но это не ее ребенок, а ваш! Госпожа Капфорт, с жадностью впивавшая в себя каждое слово Денизы, сделала вид, что хочет вывести ее из заблуждения, и задала Женни довольно коварный вопрос, действительно ли она вернула меня моей бабушке. Женни ответила, что не понимает, о чем идет речь, и тогда Дениза разразилась по ее адресу целым потоком ругательств, все время повторяя, что она ее узнала. — Неужели вы думаете, что все тут поверят вашим россказням? — кричала она. — Это меня-то вы думаете одурачить, когда я прекрасно знаю, что ребенок умер? А кому как не мне знать, что он мертв, раз я сама его убила? — Замолчите, Дениза, — сказала госпожа Капфорт, но таким тоном, как будто просила ее продолжать. — Опять вы начинаете нести всякую чушь. Не могли же вы убить ребенка, которого кормили грудью; надо быть безумной, чтобы совершить такое дело. — А кто вам сказал, что я не была безумной? — яростно возразила Дениза. — Разве я сама знаю, когда у меня это началось? О нет, я этого не помню. Я знаю, что меня потом держали под замком и заставили вытерпеть всевозможные мучения. Но я знаю также, что был мост и была карета. Я уже не помню теперь, где это было, и не могу сказать, когда это было. Я бросила ребенка в воду, чтобы посмотреть, есть ли у него крылышки, потому что мне приснилось, что они есть. Но у него их не оказалось, потому что он утонул и никто никогда его потом не нашел. А затем… Тут Денизой овладел такой приступ бешенства, что она не в силах была вымолвить больше ни слова, и все приказчики магазина сбежались на помощь и держали ее, пока Женни поспешно не увела меня прочь. Женни пыталась успокоить меня, разными способами отвлекая мое внимание от этой дикой и мучительной сцены. Но она сама была потрясена не меньше, чем я. На обратном пути мы чуть ли не полдороги не в силах были сказать друг другу ни слова. Наконец она прервала молчание и спросила, о чем я думаю. — Ты еще спрашиваешь! Я думаю о том, как жестоко и неосторожно было со стороны госпожи Капфорт устроить нашу встречу с этой несчастной Денизой. Она должна была прекрасно понимать, что Дениза еще не в своем уме и что волнение обязательно вызовет у нее припадок! — Неужели вы полагаете, — задумчиво проронила Женни, — что госпожа Капфорт подстроила все это умышленно? — Конечно, боже ты мой, как же иначе! Госпожа Капфорт ненавидит нас, почему — уж не знаю. — Но уж Денизу-то она не ненавидит. Она заботится о ней, она ее увещевает, она прогуливается с нею. Нет, госпожа Капфорт не предвидела, что с нею может произойти такая история. — Ну, допустим. Но разве ты думаешь, Женни, что Дениза всегда была сумасшедшей? — Именно об этом я тоже хотела вас спросить. Вам никогда не приходилось слышать о том, что она уже была со странностями, когда стала вашей кормилицей? — Нет, никогда. У нее в голове все путается, и она ничего не помнит толком. Конечно, она хотела меня убить, но это произошло уже незадолго до того, как она нас покинула в последний раз. И я рассказала Женни, как Дениза собиралась выбросить меня прочь из кареты в последний раз, когда мы были вместе. Женни заставила меня припомнить решительно все подробности, и, видя, что она слушает меня с неослабевающим вниманием, с тревогой на лице, я сказала: — Знаешь, у тебя такой вид, будто бы ты думаешь, что я была убита. — Не могу я думать этого, — возразила она, улыбаясь моей наивности, — раз вы здесь, рядом со мной. — Ну конечно, Женни, но если это не я? Что, если Дениза бросила в поток подлинную Люсьену, сама не понимая, что делает, а если та, которую она хотела потом бросить туда вторично, не настоящая Люсьена, как она старается нас уверить? — Значит, выходит, что вы не настоящая Люсьена? — Боже ты мой, кто может это знать? — Кому-то, значит, было выгодно так подло обмануть вашу бабушку? — Или кто-то мог обмануть, сам того не зная, когда привел к ней чужую девочку? — Значит, вы считаете, что Дениза знает, что говорит? — А разве ты сама хоть немножко не веришь этому? У тебя такой горестно-изумленный вид. — Но ведь Дениза уверяет, что это я вернула вас. Верите вы этому? — Нет, если ты скажешь мне, что это ложь. — Могу поклясться вам в том, что я сегодня видела Денизу первый раз в жизни. Мне показалось, что Женни избегает ответа на мой вопрос, и я, в свою очередь, так пристально взглянула на нее, что она смутилась. — О, моя добрая Женни, — воскликнула я, — если это ты вырастила меня и вернула бабушке, то не делай из этого тайны. Ведь я тебя так любила! — Вы любили меня? — растроганно спросила Женни. — Я любила свою мать. Огромные усилия были потрачены на то, чтобы я ее забыла. Но единственное, чего я не забыла, это горе, которое я испытала, когда она оставила меня у незнакомой мне бабушки. Я ни с кем никогда не говорю об этом. Я не хотела бы причинить горе бабушке. Но, слышишь ты, я очень долго не могла ее полюбить, и даже теперь иногда, когда я думаю о той, другой, я безотчетно понимаю, что дороже ее у меня нет никого на свете. То ли Женни не была тем лицом, о ком я говорила, то ли ей было категорически запрещено раскрывать мне какие-нибудь тайны и она согласилась солгать в интересах моего спокойствия, но она отвергла мои подозрения и даже слегка пожурила меня за то, что я предпочитаю своей бабушке какой-то призрак, привидевшийся мне, наверно, во сне. — Я очень хотела бы убедиться в этом, если уж так нехорошо вспоминать об этом, — ответила я. — Но не понимаю, почему я не могла бы быть твоей дочкой и в то же время горячо любить свою бабушку? — Люсьена, вы рассуждаете как ребенок! Вы уже достаточно взрослая, чтобы не говорить такой ерунды. Если бы вы были моей дочкой, вы не были бы внучкой госпожи де Валанжи, а Дениза имела полное основание называть меня интриганкой и лгуньей, ибо тогда я обманывала бы вашу бабушку, что было бы просто отвратительно. — То, что ты говоришь, заставляет меня умолкнуть. Я совсем об этом не подумала, и то, что тут болтала Дениза, меня прямо обескуражило. Я вижу теперь, что Фрюманс совершенно прав: дети не должны вступать в разговоры с сумасшедшими, это вносит в их головы страшную путаницу. Я хочу тебе сказать только одно, Женни: если предположить все-таки, что я не настоящая Люсьена… то ведь ты об этом ничего не знаешь и никто не может доказать обратного. — Простите, доказать обратное можно всегда. Но допустим даже… Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать, что в конце концов мне это абсолютно безразлично. Раз бабушка любит меня как своего ребенка, то и я люблю ее как бабушку и не могу быть привязана к своей бедной матери, которую совсем не знала, и к отцу, которого, вероятно, так никогда и не узнаю. Можешь себе представить, Женни, что он ни разу ни одним словом не ответил на письма, которые меня заставляли ему писать! А ведь эти письма были полны такой нежности! Я прилагала столько усилий, обещала ему свою большую любовь, если он захочет полюбить меня хоть немножко. Но что же оказалось? Он не захотел. — Этого не может быть, — возразила Женни. — Но допустим, что так. Зато ваша бабушка любит вас за двоих, а посему не надо говорить ей, что вы хотите быть не настоящей Люсьеной. Ей было бы очень горько узнать об этом. — Я не хочу огорчать ее, но тебе, Женни, раз ты мне никто, тебе ведь должно быть все равно, настоящая я или не настоящая. — Ну конечно, это меня не касается. Будьте кем хотите, я все равно буду вас так же любить. — Значит, ты любишь меня больше всех. Ведь все другие, даже моя бабушка, отвернулись бы от меня, если бы я была кем-то другим, а не мадемуазель де Валанжи. И это уж была бы не моя вина. Мы приехали домой. Женни, видя, как я напряженно продолжаю думать, поспешила рассказать о нашем неприятном приключении бабушке, чтобы она меня успокоила. Ей, конечно, вскоре удалось это сделать, ибо я относилась к спокойствию и серьезности бабушки с величайшим уважением. — Можешь быть уверена, деточка, — сказала она, — что ты моя, а твоя несчастная кормилица не соображает, что она говорит. Пожалей ее и забудь о ее речах. Уважай и люби Женни не меньше, чем меня, мне этого очень хотелось бы, но знай, что у тебя нет другой матери, кроме меня. Что до твоего отца, которого ты немного жалеешь, вспомни, что он тебя почти совсем не знает, что у него не было времени, чтобы приехать сюда повидаться с тобой, и что сейчас у него другая жена и другие дети, которым он должен посвятить себя. Он знает, что тебе у меня хорошо, и ты не можешь считать себя вправе упрекать его в чем-либо. Обещай мне, что этого ты никогда не сделаешь. Я обещала, и вскоре безумные речи Денизы, да и мои собственные, совершенно изгладились в моей памяти. Однако ничто не могло разуверить меня в том, что Женни и моя первая мать — одно и то же лицо. Это как бы врезалось мне в сердце, иначе говоря — в мою память. Отсюда не следовало, конечно, обязательно, что я дочь Женни, но я вполне могла быть воспитана ею. Эта встреча имела последствия, на которые я сначала не обратила внимания и не сумела должным образом оценить. Я рассказала о ней Мариусу, а он, вместо того чтобы успокоить меня, как бабушка, впал в глубокую задумчивость и не давал мне больше случая вернуться к нашим планам о браке. Так как они были результатом неосознанного чувства, то через несколько лет я о них совсем забыла, да и в нем они, по-видимому, не оставили ни малейшего следа.XXII
Когда Фрюманс и Мариус уехали, для меня началась новая жизнь, жизнь, где меня подстерегали, так сказать, интеллектуальные опасности. Я полагаю, что воспитание девушки не должно осуществляться одними женщинами, если только ее не предназначают для поступления в монастырь. И, сама не отдавая себе в этом отчета, я вскоре ощутила недостаток того мужского и более широкого взгляда на жизнь, который до сих пор давали мне занятия с Фрюмансом. Мне взяли гувернантку, которая соскучилась у нас за две недели, а затем вторую, которая докучала мне гораздо дольше и принесла мне много зла. Здесь виной была слишком большая скромность бедняжки Женни. Она не считала себя способной выполнить столь трудную задачу, но видит Бог, что, внимательно следя за моими тетрадями, книгами и заметками во время уроков с Фрюмансом, она, со свойственным ей даром интересоваться решительно всем, постигать сущность и цель всех вещей и, наконец, сделать работу интересной, вполне могла бы в качестве его заместителя последовательно, без рывков развивать дальше мой ум, пусть несколько медленнее, но зато разумно и спокойно. Она опасалась, что, отдав мне все свое время, вынуждена будет совсем забросить бабушку, чей преклонный возраст требовал так много мелочных забот. Кроме того, навещавшие нас соседи убедили ее, что барышня моего круга не должна быть личностью широко образованной, а, так сказать, свободным художником. В области искусства у нее были только инстинктивные понятия прирожденного вкуса, но она и не подозревала о том, что существует практика: она не знала, что для этого надо быть особо одаренным или получить глубокие специальные познания. Она слышала, как говорили о тех, у кого было много талантов, и не сомневалась, что все они у меня обнаружатся. Кстати, так же думала и того же хотела бабушка. В результате мое воспитание поручили англичанке, которая, как говорили, только что закончила образование некой юной леди, вышедшей замуж в Ницце, и о которой мы получили самые лучшие рекомендации. Она должна была в течение двух-трех лет обучать меня музыке, рисованию, английскому и итальянскому языкам, а сверх того, немного усовершенствовать в истории и географии. К счастью, в этой области я уже знала больше, чем она сама. Мисс Эйгер Бернс была девица лет сорока, весьма некрасивая, которая сделалась мне антипатичной и, так сказать, чужой с первого же взгляда. Я не могла бы даже теперь дать верный очерк ее характера, вероятно, потому, что в нем не было ничего определенного. Она была не личностью, а скорее продуктом общества, одной из монет, стершихся от постоянного употребления, на которых уже не различить изображения и которые имеют только условную цену. Я думаю, что она происходила из хорошей семьи и в ранней молодости испытала самые разнообразные несчастья. За этим последовала жизнь, проведенная в стесненных условиях и в зависимости от других людей и закончившаяся полным внешним подчинением законам общества. В глубине души она уважала только общепринятые приличия, и если в ней не было больше чувства протеста, то только потому, что она не умела протестовать. В ее бесцветных глазах таилось какое-то безволие, в ее длинных, тощих руках, всегда бессильно повисших, чувствовалась апатия, в ее глухом голосе и протяжной речи слышалось уныние. И под этим заурядным обликом увядшей особы скрывалась гордость низвергнутой с трона принцессы, быть может — воспоминание о каком-то страшном обмане. Единственным живым чувством в ней было воображение, но это была туманная, нелепая фантазия, беспорядочные бледные мечты. Короче говоря, каждая частица ее существа излучала скуку. Она испытывала скуку сама и вселяла ее в других людей. Она не научила меня ничему стоящему, а только заставила потерять массу времени. Ее уроки были длинными, унылыми и путаными. Под предлогом строгой пунктуальности она нисколько не заботилась о моих успехах. Дело для нее заключалось лишь в том, чтобы заполнить мои и свои часы бесполезным размеренным трудом. Пунктуальность наших занятий вполне успокаивала ее совесть. Не любя ничего и никого, она влачила свою жизнь, томная и разочарованная, внешне полностью покорившаяся, но внутренне протестующая против всех людей и вещей в мире. Из всего того, что ей полагалось мне преподавать, я изучила только английский язык. Итальянский я знала лучше, чем она. Фрюманс обучал меня ему по сравнительной грамматике с латинским, и я очень хорошо усвоила все правила. Благодаря южному акценту, который все время звучал в моих ушах, у меня было лучшее произношение, чем у мисс Эйгер с ее присвистыванием и неисправимой британской интонацией. Она прошла со мной основы музыки, но сухостью своей игры вселила в меня непобедимое отвращение к роялю. Она рисовала карандашом и акварелью с дерзостной глупостью: заучив на память какую-то одну условную композицию, она применяла ее везде, к месту и не к месту. Все скалы у ней получались несколько округлыми, все деревья — немного заостренными, вода у нее всегда была одинакового голубого цвета, небо — всегда розового. Если она рисовала озеро, то не могла не изобразить на нем лебедя, а если лодку, то в ней неизменно оказывался неаполитанский рыбак. Она безумно любила всякие руины и всегда находила возможность, каков бы ни был возраст и местоположение ее моделей, рисуемых с натуры, впихнуть туда стрельчатую арку, увитую тем же плющом, гирлянда которого служила ей для украшения всевозможных арок и сводов. Она не прилагала усилий, чтобы научить меня пению. Она вызвала во мне такую ненависть к пению своими вибрирующими сентиментальными романсами и резким голосом, похожим на крик чайки, что я в первый же день учинила дикую выходку, запев на четверть тона ниже. Она объявила, что я фальшивлю, и так я была навсегда спасена от романсов. Оставался, следовательно, только английский язык, который я выучила, постоянно разговаривая с ней. Языки вообще мне давались легко, и я быстро запоминала разные обороты. Кроме того, я обнаружила, что единственный способ выносить банальные разговоры мисс Эйгер — это извлечь из них максимальную пользу на прогулках. Так как в четырнадцать-пятнадцать лет я сделалась несколько вялой, Женни потребовала, чтобы каждый день я совершала большую прогулку, и для меня было бы удовольствием, если бы она могла сопровождать меня. Но если она случайно оставляла бабушку на попечение мисс Бернс, она могла быть уверена, что найдет англичанку спящей или глубоко задумавшейся где-нибудь в уголке гостиной, а бедная бабушка сидела одна в своем кресле в печальном полузабытьи или была окружена назойливыми гостями.XXIII
Итак, пришлось смириться и совершать прогулки с мисс Эйгер, правда, рискуя тем, что она уснет на ходу. Она заявляла, что ничего не боится и совершила восхождение пешком на все горы Швейцарии и Италии с юными леди, которых она воспитывала. Но, видимо, в те времена у нее было больше сил и отваги. Или теперь, выбившись из сил, она предпочитала, как и во всем остальном, хорошо укатанные дороги, ибо ей совсем не нравились наши крутые горные тропинки и пропасти. А я как нарочно вела ее в самые опасные места, по самым трудным тропинкам, и так как она не хотела посрамить своей репутации английского ходока, то тащилась за мной, вся красная, как свекла, с вспотевшим носиком. Когда мы добирались до цели, она усаживалась под предлогом, что хочет полюбоваться красотой пейзажа, и открывала свой портфель с резким запахом английской кожи, чтобы зарисовать данную местность в своей обычной манере. Но, рисуя, она тут же начинала рассказывать мне о Пик-дю-Миди в Пиренеях, о Монблане и Везувии, и эти воспоминания мешали ей видеть и понимать то, что находится у ней перед глазами, и она вновь возвращалась к своим округлым скалам, заостренным деревьям и фантастическим аркадам, служившим им фоном. Притворяясь, что я тоже рисую, я понемногу отходила от нее все дальше и в поисках неизведанного углублялась одна куда-нибудь в овраг или, скрывшись за выступом скалы, в укромном уголке любовалась природой или предавалась полету своей фантазии. Ее мало беспокоили мои отлучки, и часа через два я заставала ее дремлющей от усталости в не очень-то изящной позе или поспешно сующей в сумку роман, который она втихомолку читала. Мне ужасно хотелось узнать, что она читает, и раза два, незаметно подкравшись, я ухитрялась из-за ее плеча прочесть несколько строк. Искушение отведать запретного плода и вдобавок какое-то озорство заставляли меня тайком проникать в ее комнату и похищать один из томов, которые она читала, в то время как мисс Эйгер, тоже тайком, брала с собою на прогулку следующий том. Я прятала свою книгу в корзинку, и как только она начинала рисовать, потихоньку исчезала, в полной уверенности, что она вскоре предастся чтению. И вот таким образом, тайком друг от друга, разделенные кустами или оврагом, мы с жадностью поглотили неслыханное количество разных романов. Эти романы в испачканных обложках и с засаленными полями мисс Эйгер брала в библиотеках Тулона при содействии госпожи Капфорт, с которой они были друзьями и которая всегда хотела всем угодить. Это, конечно, не были такие уж плохие книги, но это были весьма плохие романы: истории неразделенных чувств влюбленных, почти всегда разлученных друг с другом разбойниками или жестокими предрассудками семьи. Почти всегда действие развертывалось где-нибудь в Италии или Испании. Герои почти всегда именовались дон Рамиро или Лоренцо. Везде вы встречали великолепный свет луны, при котором можно было читать таинственные послания, романсы, распеваемые под балконом замка, ужасные скалы, где скрывались добродетельные отшельники, пожираемые угрызениями совести, журчащие источники, готовые принять в себя потоки слез. Там было также невероятное количество кинжалов, молодых девиц, похищенных и спрятанных в неведомых монастырях, писем, перехватываемых предателями, всегда сидящими в засаде, неожиданных встреч дочери с отцом, брата с сестрой, добродетельных, непризнанных и доказавших свою преданность друзей, черной ревности и страшных ядов, против которых некий старый, сочувственно настроенный монах всегда знал какое-нибудь противоядие. Голос крови всегда играл здесь провиденциальную роль и приводил к безошибочным откровениям в этих хитроумных интригах, шитых белыми нитками с первых же страниц. Конечно, попадались и хорошие романы, которые Фрюманс позднее не боялся предлагать мне, но мисс Эйгер, несомненно, уже знала их наизусть, и ее отупевшему мозгу нужны были эти грубые возбуждающие средства, как пресыщенному вкусу бывают нужны острые приправы. Эта скверная пища производила на меня впечатление незрелого плода, который всегда предпочитают дети. Я жадно поглощала эти романы, прекрасно понимая, что они полны стилистических огрехов и неправдоподобных ситуаций. С чисто литературной точки зрения они были для меня совершенно безобидными. Нравственность их была безупречна, единственное зло, которое они мне причинили, заключалось в том, что я привыкла любить неестественное, а это весьма вредная склонность как в хорошем, так и в плохом. Я мечтала о возвышенных добродетелях, которые даются необычайно легко, о героической храбрости, всегда стремящейся к деятельности, всегда презирающей благоразумие, о душевной чистоте, побеждающей все опасности, о слепом бескорыстии, и, в довершение всего, я вообразила себя самой совершенной героиней, которую могли бы создать мои авторы. Это возвращало меня к романтическим склонностям моего детства, которые развились благодаря чудесным легендам Денизы и которые более умная и более чистая Женни, не заглушая их во мне, сумела было направить на должный путь, но которые теперь самым нелепым образом пошли по ложному пути из-за легкомыслия мисс Эйгер. Другое вредное влияние подобного чтения заключалось в том, что я преисполнилась отвращения к серьезным книгам. Таким образом, я нисколько не продвинулась вперед в интеллектуальном отношении с моей англичанкой, и в том возрасте, когда ребенок постепенно превращается в молодую девушку, моя душа, вместо того чтобы укрепляться достойной духовной пищей, сохранялась в чистоте только благодаря неведенью. В таком периоде нравственного развития и нашел меня Мариус, когда, после годового отсутствия, приехал повидаться с нами. После нескольких озорных выходок в Тулоне его перевели в Марсель, и с тех пор там были им весьма довольны. Он очень повзрослел, но я нашла, что он подурнел из-за своих едва пробившихся светлых бакенбард, которыми он необычайно гордился и пожертвовать которыми не согласился бы ни за что на свете. Он стал уже настоящим молодым человеком благодаря своей небольшой бородке и почти мужчиной благодаря своему дару предвидения. Но это было предвидение эгоиста, который рассчитывает лишь на других и не испытывает ни малейшего желания работать даже ради себя самого. На мои расспросы он ответил, что скучает в Марселе так же, как и у нас, но что он решил вести себя образцово, чтобы не подвергаться унизительным выговорам. Хотя господин де Малаваль относился к нему по-отечески ласково, он презирал его, как нелепого и педантичного начальника. К своим новым знакомым он относился не лучше, чем к старым, и его ум теперь более чем когда-нибудь был склонен осуждать и хулить все на свете. Легко понять, что Мариус, со своими развязными манерами, отнюдь не вскружил мне голову. Во многих романах, уже прочитанных мною, никакой Лоренцо не являлся мне под холодным и насмешливым обликом моего кузена. Все эти чувствительные персонажи были пылкими энтузиастами: они умирали от любви к своей красавице, они готовы были десять лет разыскивать ее на суше и на море, когда злодейская судьба разлучала их с нею. Вся их жизнь заключалась в слезах, в прозрачных реках и озерах и в романсах и серенадах. Такая любовь польстила бы моей гордости и зажгла бы во мне пламя самой рыцарственной преданности. Мариус, более положительный и невозмутимый, чем когда-либо, заставил меня поверить в то, что он навеки останется легкомысленным и задиристым мальчишкой, вместе с которым я воспитывалась, и я всячески остерегалась поверять ему свои девичьи грезы. Мне не так уж трудно было скрыть их от него. Он уделял гораздо больше времени своей лошади, чем мне. Он отпускал довольно забавные шуточки по поводу желтоватых волос и пестрых платьев мисс Эйгер. С Женни он вел себя вполне прилично, но забыл даже спросить о том, как поживает Фрюманс. Он нанес визит госпоже Капфорт, но по возвращении невероятно издевался над нею. Наконец он уехал, пожелав мне немножко подрасти, так как, дескать, существует угроза, что в дальнейшем я останусь карлицей.XXIV
Приступы подагры начали так сильно тревожить аббата Костеля, что он уже не мог больше приходить к нам служить обедню. Фрюманса теперь я почти не видела. Бабушка, которая всегда весьма строго относилась к исполнению религиозных обрядов и не отступала от раз принятых правил, решила, что я буду ездить в Помме с мисс Эйгер и слугой, который будет вести под уздцы лошадь Мариуса, а мы с гувернанткой будем по очереди садиться на нее, когда устанем. Мисс Эйгер безропотно подчинилась этому распоряжению, но как только она уселась на лошадь, она сразу пустила ее в галоп и, промчавшись стрелой, вернулась и предложила мне тоже прокатиться. Ошеломленная сначала неустрашимостью англичанки, я почувствовала легкую зависть, видя, как блистательно у нее это получилось, и, как только я оказалась в седле, я не стала ждать, пока слуга возьмет поводья. Я пришпорила лошадь, и Зани, уже вошедший во вкус скачки, стремглав понес меня по полям. Мне было очень страшно, но самолюбие помогло мне сохранить присутствие духа. Я не сбивала свою лошадь с толку неверными маневрами и не пугала ее криками. Я думала лишь об одном: как бы с позором не свалиться с лошади, и поэтому я совершенно не сознавала грозящей мне опасности. Когда Зани набегался вдоволь, он остановился, чтобы пощипать травку. Я потрепала его по холке и, вновь обретя уверенность, поправила поводья, и мне удалось повернуть его и спокойно возвратиться к своим спутникам. С этого дня я стала такой же бесстрашной всадницей, как мисс Эйгер. Я никогда не потерпела бы превосходства надо мной со стороны столь неизящной особы и не собиралась выслушивать ничьих советов, кроме советов Мишеля. Ведь Мишель был наш старый слуга, бывший драгун, вполне приличный наездник и лучший человек на свете. Уже давно, примерно года два, я не навещала Помме. Все тот же таинственный и унылый вид деревни предстал перед нами: церковь так и не поднялась из развалин, а аббат Костель сам превратился в какую-то развалину. После обедни мы не могли уклониться от того, чтобы нанести ему визит. Мне, кроме того, не терпелось увидеть Фрюманса, который пока еще не появился. Служить обедню в присутствии мэра и дядюшки Пашукена, пятого обитателя деревни, аббату помогал пастух. Однако Фрюманс знал о том, что мы пришли, но он хотел оказать нам не столь скромное гостеприимство, как в прошлый раз. Он сохранил свою привычку держать все в порядке и, будучи не в силах преодолеть хаос, царивший у его дяди, хотел избавить нас от неприятных минут, которые мы провели бы в той части аббатства, где жил господин Костель. Фрюманс продолжал жить под одной крышей со своим дядей, но он сделал себе из бывшей кухни и прилегающего к ней чулана просторный рабочий кабинет и небольшую спальню. Он сам побелил потемневшие стены своего помещения, приподнял пол из плиток, смастерил себе большой стол и два деревянных стула, набитых водорослями и покрытых циновками. Он насадил у дверей и окон кусты вьющихся роз и испанских жасминов, а также виноградные лозы. Нижнюю часть стен украшали цветущие каперсовые кусты, и заметим мимоходом, что это самые красивые цветы на свете. Сад был в образцовом порядке, фруктовые деревья хорошо подстрижены, хвойные — давали тень, разросшиеся мастиковые деревья образовали живую изгородь, и в калейдоскопе избранных растений перуанские и аравийские лилии служили клумбой для великолепного букета того гигантского медоцвета, который из-за разреза своих листьев называется африканским бедрецом. — Вы видите, мадемуазель Люсьена, — сказал Фрюманс, проводя нас мимо своего цветника, — что я сделался в Бельомбре садовником. Все семена я взял у вас. Мой цветник не так богат, как ваш, но вид отсюда почти так же хорош. Перед вами расстилается такое же голубое море, а старый, заброшенный форт вон там, на самом ближнем склоне горы, не так уж портит всю картину. И пока мисс Эйгер открывала свой портфель, чтобы поскорее сделать набросок форта, Фрюманс провел меня в свой огромный кабинет, где груда бумаг и книг уже была отодвинута на самый край стола. С другой стороны стол был покрыт грубой белой скатертью, и на глиняных тарелках красноватого этрусского оттенка лежали свежие яйца; сливки из козьего молока, хлеб и фрукты — все это было сервировано весьма изящно. Комната тоже производила приятное впечатление: никакой паутины, никаких ящериц или скорпионов, бегающих по стенам, которых я когда-то с ужасом наблюдала у священника. Старинный таган был начищен до блеска, и пол покрыт испанской циновкой, вероятно, подарком какого-нибудь друга — путешественника или купца. Фрюманс радостно наблюдал, как я с удивлением и одобрением рассматриваю его уютную комнату, ибо он боялся чувства отвращения, некогда внушенного мне его уединенной хижиной. — По-видимому, это Женни, — сказала я, — научила вас, как удобно устроиться в этой комнате, так же как наш садовник научил вас развести сад. — Да, это Женни, — ответил он, — это госпожа Женни преподала мне столь хороший урок. Она заставила меня понять, что вещи, которые нас окружают, должны быть как бы символом нашей чистой совести и не раздражать своим видом. Даже живя совершенно одиноко, всегда следует быть готовым гостеприимно принять путешественника или друга, которого нам посылает небо. Сегодня для меня большой праздник, мадемуазель Люсьена; я был бы очень счастлив, если бы госпожа Женни могла прийти с вами, но вы расскажете ей, что не так уж плохо были приняты в моей пустыни. Не хотите ли вы позавтракать и не должен ли я сообщить вашей гувернантке, что вы голодны? У меня тут есть для нее чай. Я вспомнил, что англичанки не могут жить без чаю. — Если у вас есть чай, — сказала я, — то это единственное, что она у вас высоко оценит. Пусть она там порисует, а мы пока позавтракаем. Как только я увидела этот изящный сервиз, я сразу почувствовала, что хочу есть. Фрюманс поблагодарил меня за то, что я хочу позавтракать у него, так, как будто я оказала ему величайшую честь. Он пришел в восторг, видя, как я расхваливаю его японский кизил. Он был выращен в его саду, и я такого никогда еще не видела. Это красивый плод, несколько напоминающий абрикос, с маленькой косточкой. Я хорошо помню именно эту деталь, а также ботанические объяснения Фрюманса, который, то сидя, то вставая, читал мне свою лекцию, преисполненный самой нежной и ласковой заботы обо мне, как и Женни. Я была тронута столь дружеским приемом и даже немного польщена, что он устроен только для меня, ибо мы совсем забыли о мисс Эйгер, и первый раз в жизни со мной обращались как с дамой, приехавшей погостить в деревню. Это настолько придало мне уверенности, что я сочла необходимым поведать хозяину дома, что я ехала верхом без посторонней помощи, пустила лошадь в галоп и ни капельки не боялась. Фрюманс слушал внимательно и глядел на меня с простодушным восхищением. Он совсем не был педагогом, и в первый раз я поняла, какой это скромный и доброжелательный человек. Он даже не спросил меня, продолжаю ли я серьезные занятия, и, казалось, ничуть не сомневался в том, что мисс Эйгер превосходно может заменить его. Он говорил со мной только о том, что, по его мнению, могло быть для меня приятным. Он считал, что я люблю музыку и рисование, и ему казалось, что я счастлива, занимаясь с такой хорошей учительницей. Совершенно случайно он кое-что разузнал о Мариусе и был чрезвычайно рад сообщить мне, что изящные манеры и тонкий ум Мариуса производят на всех самое приятное впечатление. Во внезапном приливеоткровенности, следуя той манере, в которой он сам всегда воспитывал меня, я ответила, что мисс Эйгер ничему меня не научила, ибо сама ничего не знает. — Что до Мариуса, — добавила я, — хорошо было бы, если бы он был несколько менее любезным и обладал несколько более любящим сердцем. Фрюманс на мгновение был удивлен, услышав мои слова, но быстро подавил в себе это чувство. Он был немного смущен, не понимая, кто перед ним — ребенок или молодая девушка. Я находилась в том неопределенном возрасте, когда мы, в сущности, ни то, ни другое, и Фрюманс казался мне очень робким и в то же время очень привлекательным. Он попытался высказать мне свои сомнения насчет некомпетентности мисс Эйгер и эгоизма Мариуса. Я прервала его, энергично замотав головой, что означало, что я хочу говорить с предельной откровенностью. — Послушайте, господин Фрюманс, — сказала я, — вы слишком уж добры. Вы как Женни, которая старается все истолковать в лучшую сторону, потому что не хочет, чтобы я слишком рано узнала жизнь. И я боюсь огорчить ее, рассказывая ей все, что меня тревожит. Но вам, вам я могу откровенно поведать, что я уже не так счастлива, как была раньше. Фрюманс был крайне поражен, лицо его омрачилось. Он взял мою руку в свою и молчал в ожидании, что будет дальше, не смея принуждать меня говорить. И вот я уже была на грани того, чтобы сделать решительное признание! Это был подходящий случай высказаться, подвести какой-то итог перед самой собой, познать себя, войти в жизнь как некая личность, перестать быть маленьким человечком. Иначе я не могу объяснить себе того порыва смелой искренности, с каким я в довольно красочных выражениях нарисовала Фрюмансу весьма иронические портреты мисс Эйгер и Мариуса. Он слушал меня с величайшим вниманием, иногда улыбаясь в ответ на мои насмешки и плохо скрывая свое восхищение блистательным умом, который он, этот превосходнейший человек, во мне угадывал, иногда устремляя на меня пристальный взгляд с глубокой проницательностью и нежным сочувствием. Когда я излила ему все свои горести и все свое нетерпение, он сказал так: — Дорогая мадемуазель Люсьена, вы поступили неправильно, не поведав всего этого смело и откровенно вашей Женни, которая передала бы этот вопрос на рассмотрение вашей доброй бабушки. — Моя бабушка уже очень старенькая, Фрюманс! Она по-прежнему так же добра ко мне и озабочена моим счастьем. Но она совсем слаба, и малейшее волнение для нее вредно. Женни просила уберечь ее от всяких беспокойств, и теперь, не смея сказать ей все это, я буду очень страдать. — Но ведь вы не очень страдаете сейчас, не так ли? — спросил Фрюманс с доброй и ласковой улыбкой. — Не знаю, — возразила я, — может быть, и страдаю. Говоря это, я преисполнилась такой жалости к себе самой, что две слезинки покатились из моих глаз на руки Фрюманса. Я даже не предполагала, что он может быть столь чувствительным, этот огромный мужлан, закаленный нуждой и опаленный солнцем. У него стеснилась грудь, и я увидела, что он отвернулся, чтобы скрыть волнение. И тогда я снова превратилась в совсем маленькую девочку, которую он когда-то так баловал и которая позволяла ему баловать себя. Я обняла его и заплакала на его груди, сама даже не зная почему: ведь мисс Эйгер вовсе не обращалась со мной плохо, а неблагодарность Мариуса отнюдь не мешала мне спокойно спать ночью. Как удалось Фрюмансу понять меня? Ведь я так мало понимала сама себя! Он сделал попытку разгадать мой характер и понял, что я стремлюсь жить и мыслить, но он вообразил себе больше того, что было в действительности: он решил, что для меня настала пора любить и что я люблю Мариуса. — Успокойтесь, деточка, — сказал он, внезапно вновь принимая свой прежний отеческий тон. — Идите подышите свежим воздухом у источника, а я пока немного займусь вашей гувернанткой. Я не хотел бы, чтобы она видела, как вы плачете: она начнет беспокоиться, ничего, в сущности, не понимая. Я сейчас пойду и предложу ей чаю, мой дядюшка составит ей компанию, и тогда я смогу вернуться к вам, чтобы побеседовать с вами о ваших маленьких горестях.XXV
Хотя выражение «маленькие горести» меня слегка задело, я спустилась на один уступ ниже и уселась в тени скалы, венерины волосы и папоротники которой медленно проливали над моей головой скупые слезы источника. Мне нравилось быть в одиночестве и чувствовать себя в поэтическом настроении. Наконец-то я оказалась в романических обстоятельствах: какая-то тайна, верный друг, который сейчас придет в это укромное и живописное место, чтобы утешить меня и исцелить своими мудрыми речами, достойными древнего отшельника, жестокая мука, причины которой я точно не знала и которой час назад даже не замечала; это был непредвиденный случай в моей скучной жизни, это было, наконец, мое первое приключение! Я предавалась ему с истинным наслаждением, сравнивая себя с одной из прославленных несчастных героинь моих романов, и с некоторым удивлением и беспокойством изыскивала способ, как бы мне сделать так, чтобы Фрюманс не считал отныне мои горести мелкими и ребяческими. Четверть часа спустя он вернулся, взял меня под руку, что было ему не очень-то удобно, так как я была еще коротышка, и сказал: — Возвращаясь сюда, я думал о том, что вы мне сказали. Я видел эти нелепые рисунки мисс Эйгер и слышал, как она несколько минут говорила с дядей. Из этих мгновенных наблюдений я сделал вывод, что мисс Эйгер существо не злое, хотя довольно ничтожное и несколько неестественное. Не такие уж это крупные недостатки, чтобы стремиться как можно скорее уволить ее и чтобы вы с нетерпением ожидали дня, когда наконец освободитесь от нее. — Это верно, — согласилась я. — Она зарабатывает здесь свой кусок хлеба, и мне, конечно, не хотелось бы, чтобы ее уволили из-за такой ерунды. — Вы всегда отличались добротой, и сейчас вы такая же добрая. Постарайтесь же не замечать недостатков этой особы до тех пор, пока ее не сумеют заменить другой с пользой для вас и без обиды для нее. Способны ли вы на это? — Да, — ответила я, польщенная тем, что могу продемонстрировать свое великодушие, — я чувствую, что способна. — Я обещаю вам, — сказал Фрюманс, — поговорить о вас серьезно с госпожой Женни. Если вы собираетесь приехать сюда и в будущее воскресенье, постарайтесь, чтобы она приехала с вами, а мисс Эйгер осталась бы в замке. Мы изыщем способ найти вам более полезную компанию, чем эта рассеянная особа. Скажите… Я вижу, что уже в течение двух часов, что вы здесь, она сидит где-то в стороне от вас. Разве у ней вошло в привычку так мало интересоваться тем, что происходит с вами? — Я уже сказала вам, Фрюманс, что это я вывожу ее прогуляться, как козу в поле, и что без меня она сразу потеряется, как носовой платок. — А Женни не знает этого? — Нет, ясно себе она этого не представляет. Когда я отправляюсь куда-нибудь с мисс Эйгер, та проявляет обо мне необыкновенную заботу: раз двадцать повторит, не забыла ли я свою вуаль и перчатки, а сама забывает все на свете, кроме… — Кроме чего? — Кроме своих романов. — Она любительница читать романы? — Она не читает ничего другого. — Но вас-то она ведь не заставляет их читать? — Нет, — ответила я, слегка покраснев, — она прячется от меня, чтобы упиваться ими в уединении. Фрюманс увидел, что я покраснела, и ласково стал меня расспрашивать. Лгать я не умела и призналась ему, что читаю все романы мисс Эйгер одновременно с нею, и перечислила ему все названия, на что он вполне мог бы мне ответить: «Пусть меня повесят, если мне знаком хоть один из них». Но так как под его искренностью таилось много тонкости, он сумел понять, что я увлеклась этой беллетристикой и если до сих пор еще не поведала Женни о небрежном отношении гувернантки к своим обязанностям, то потому только, чтобы не лишиться этого запретного, но столь притягательного чтения. Сперва Фрюманс решил дать мне понять все ничтожество и опасность этих романов, но, не зная пока, удастся ли ему отторгнуть меня от мисс Эйгер, он прибегнул к более действенному средству. — Я не знаю этих книг, — сказал он, — но почти уверен, что в них не найдется ничего полезного и поучительного для девицы ваших лет. Но раз вы любите чтение, то не лучше ли вам читать хорошие, увлекательные книги? Хотите, я достану их для вас? — Да, но если это не входит в программу отупляющей системы образования мисс Эйгер, она их у меня отберет. Она крепко держится за свои идеи, если им случится взбрести ей в голову. — Ну хорошо, раз вы тайком от нее читаете ее собственные книги, почему бы вам заодно не читать те, которые предлагаю вам я? Это была блистательная мысль, и я сразу согласилась с ней. — Тогда до воскресенья, — заключил Фрюманс. — На этой неделе я поеду в Тулон, поищу там эти книжечки в карманном формате и привезу вам. Женни будет вашей наперсницей, а вы прекрасно знаете, что она не предаст вас. А теперь, — добавил он, — потолкуем о Мариусе. Причинил ли он вам какое-нибудь горе, против которого нужно было бы попытаться найти лекарство? — Нет, — возразила я, — Мариус сейчас очень любезен со мною. Он уже не так деспотичен, как раньше, и я, со своей стороны, не могу на него пожаловаться. — Так в чем же дело? Я не знала, что ответить. Мариус, конечно, не усугублял мою обычную скуку, и моя помолвка с ним нисколько не волновала меня. Еле-еле мне удалось ответить Фрюмансу. Я объявила (и, говоря это, сама убеждала себя в этом), что хотела бы видеть в Мариусе нежного брата, а нашла в нем лишь безучастного приятеля. — Он не доверяет вам? — спросил Фрюманс. — О, нет, я его поверенная, потому что я рядом с ним, а ведь нужно же о чем-то говорить. Но изливать свою душу ему незачем, он никогда не любит и не ненавидит, сердце у него ледяное. Я выжимала из себя эти фразы, потому что нужно же было что-то говорить. Фрюманс воспринимал их так же, как я сама. Я искала повод для печали, чтобы возвыситься и заблистать в собственных глазах. Он же верил в действительное горе и с самым серьезным видом утешал меня, в чем я совершенно не нуждалась. — Конечно, — сказал он, — Мариус — существо довольно апатическое и легкомысленное. Но он еще так юн, что было бы несправедливо осуждать его характер. Он обладает такими качествами, которым я всегда готов был воздать должное, и если вы действительно его очень любите, то вам следует решительно взяться за устранение его недостатков, впрочем, не слишком резко упрекая его за них. Его легко обидеть: это объясняется ложным положением, в котором он находится. Он, считавший свою жизнь обеспеченной в силу своего происхождения, вынужден теперь полагаться только на себя. Вероятно, для человека это истинное несчастье — вдруг убедиться в том, что существует нечто и за пределами его нравственной личности, но вы его перевоспитаете, откроете ему глаза и постепенно, может быть через несколько лет, за вашу заботу о нем и добрые советы он наконец почувствует к вам благодарность, которой вы заслуживаете. Вы ощущаете все слишком обостренно, мадемуазель Люсьена, но не будьте слишком восприимчивой, избыток чувств может сделать вас несправедливой. А теперь поднимемся снова к домику священника, и вы поедете домой, чтобы обнять Женни и вашу добрую бабушку. В этом отношении вам очень повезло — у вас две нежные матери. Подумайте же о тех, у кого нет ни одной! Мы вернулись в домик священника, где мисс Эйгер повествовала аббату Костелю о Везувии, Ледовитом океане и Пик-дю-Миди. Фрюманс помог мне вскарабкаться на Зани и предупредил, чтобы на спуске с горы я не мчалась галопом и даже не ехала рысью. Меня так и подмывало не послушаться его, но я видела, как он следит за мной, пока я не скрылась из виду, и как он снова появлялся то на одной, то на другой скале, как бы для того, чтобы еще хоть разок бросить на меня взгляд. Я была польщена таким вниманием Фрюманса и с тех пор стала относиться к нему вполне серьезно. «У меня теперь есть настоящий друг, — говорила я себе. — Я не одна на свете». Каким я была неблагодарным существом! Я была, очевидно, уже пресыщена редкостной любовью Женни или привыкла принимать ее как должное. Мне необходимо было что-то новое, и я нашла его в старой, уже забытой мною дружбе Фрюманса.XXVI
Женни долго не могла решить — поехать со мной в Помме или нет, и меня это очень удивило. Пришлось сказать ей, что Фрюманс хочет поговорить с нею обо мне и что жизнь моя протекает отнюдь не так безмятежно, как она себе это представляет. Когда я увидела, что она заволновалась, я уклонилась от дальнейших объяснений, сказав, что это уж дело Фрюманса. Наконец она решила поехать, после того как заручилась обещанием доктора позавтракать с бабушкой и побыть с нею до нашего возвращения. Когда мы завтракали вместе со священником, Фрюманс вдруг сделал мне знак выйти с его дядюшкой в сад, а сам целых полчаса беседовал с Женни. После этого он вернулся ко мне, а священник ушел. Лицо Женни выражало спокойную решимость. Фрюманс был растроган, глаза его ярко блестели. Он взял меня за руки, обвил ими шею Женни и сказал: — Любите ее по-настоящему, ибо, кроме вас, у нее в жизни нет больше ничего. — Господин Фрюманс прав, — подхватила Женни, целуя меня. — Вы всегда были и будете для меня превыше всего. Но почему же вы не признались мне, противная девчонка, что эта англичанка вам так неприятна? — Я же тебе это говорила, Женни. Но ты мне отвечала: «Вы поладите между собою». Теперь ты наконец видишь, что пришлось вмешаться Фрюмансу. — Он рассказал мне о том, чего я совсем не знала. Ну ладно, мы поступим так, как он советует. Прежде всего запаситесь терпением. Вы не будете больше читать книги, которых вы не понимаете, а только те, которые мы привезем отсюда. Добрая бабушка постепенно приищет новую гувернантку, но это произойдет не сразу, а пока что вы будете заниматься сами. Вы же это мне обещали. Вы не будете скакать верхом с риском сломать себе шею, а затем… — А затем что, Женни? — А затем, вместо того чтобы целый день предаваться пустым мечтам, вы будете заниматься как и раньше, будете сами себе давать задания, сами будете своим учителем. Фрюманс считает, что воли у вас на это хватит. Но я не знаю, что вы на это скажете. — Фрюманс, стало быть, лучше тебя может судить о моих способностях? — Может быть, и так. Но Фрюманс говорит, что вы не можете и не должны ему ничего обещать, потому что он уже больше не ваш учитель и его могут упрекнуть, что он вмешивается в то, что его уже не касается. Вы должны теперь давать обещания только самой себе. Именно вы должны сказать нам, знаете ли вы себя и считаете ли себя способной осуществить это? Я чувствовала, что я почти обижена сомнениями Женни. — Себе самой я могу обещать все, — ответила я. — Но я не могу до всего доискаться сама, и нужно, чтобы Фрюманс настолько интересовался мною, чтобы время от времени наставлять меня на путь истинный и объяснять мне то, что я не понимаю. Речь идет уже не об учителе и ученице, но я просто не понимаю, почему Фрюмансу не быть моим другом, если я этого хочу, и не принять моего доверия, раз я его охотно ему вручаю. Незаметно для себя самой и Фрюманса я втягивала его в орбиту своей жизни, и, чтобы объяснить то положение, в котором он оказался между своим и моим «я», я должна объяснить, что происходило в нем самом. Фрюманс из-за того, что читал античных авторов и жил вдали от современников, был настоящим стоиком. Этому великолепному уму не хватало ясного представления о мире деятельности и общественных отношениях, в которых он не нашел себе места. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Фрюманс не верил в иную жизнь и Бог казался ему великим законом, существующим самим по себе и для себя, созидающим и разрушающим, без любви и ненависти, предметы и живые существа, подвластные его всепожирающей энергии. Раз все проходит так быстро и безвозвратно, говорил он, зачем же метаться и суетиться в столь малой сфере свободы и инициативы, дарованной человеку? Пусть каждый повинуется своим порывам и вкусит ту малую частицу удовольствия, которая досталась ему на долю! После этого он довольно наивно подверг анализу самого себя и обнаружил, что эта система эгоизма подчинена инстинктам преданности, с которыми ему было бы трудно бороться, поэтому он поклялся совсем не бороться с ними. Больше всех на свете он любил своего приемного отца и решил жить только для него одного, работать для него со всем азартом алчности, если это нужно будет для его благосостояния, или еле-еле, если нужно будет только обеспечить ему самое необходимое. Аббат сделал свой выбор. Общество Фрюманса было для него всем на свете. Фрюманс же отбросил все мысли о своем будущем, пока будет жить его друг, а в перспективе его ожидало самопожертвование в таком же роде по отношению к другому человеку, которого он сочтет достойным этого. Упростив таким образом свою жизненную задачу, он обрел полное спокойствие и всецело отдался своим научным занятиям. На хлеб насущный им вполне хватало жалованья священника. Во Франции в то время можно было прожить на несколько су в день. Шесть часов физической работы у Пашукена добавляли еще несколько су, которых вполне хватало на одежду. Домик при церкви начал постепенно приходить в ветхость, и Фрюманс сделался каменщиком, он разбивал каменные глыбы и сам чинил его. У дяди была собрана кое-какая библиотека, а что касается новинок, то в Тулоне нашлись друзья, которые снабжали его ими в достаточной степени, чтобы следить за выходящими интересными изданиями. Но в приходском домике Помме ими не очень-то интересовались! Там так любили античных классиков, что не допускали мысли о каком бы то ни было движении вперед. Там были убеждены, что человеческий ум всегда вновь проходит те же самые фазы, и поскольку это в известной степени верно, то там скорее верили в колесо, которое вращается вокруг собственной оси, чем в колесо, которое, вращаясь, движется вперед. Эта истина, весьма распространенная ныне, еще лет десять тому назад вызывала ожесточенные споры,[26] и она еще не проникла в глубины наших гор. Стало быть, Фрюманс не был уж столь эксцентричным, выкраивая свою жизнь по образцу Эпиктета[27] или Сократа. Вполне удовлетворенный принятым решением, которое напоминало нечто вроде умственной летаргии, он, видимо, очень колебался, стоит ли ему заняться воспитанием меня и моего двоюродного брата. Исключительные обстоятельства, которые позволили ему одновременно заниматься с нами и быть при дяде, заставили его решиться, как он говорил, воспользоваться милостью фортуны, то есть зарабатывать по шестьсот франков в год в течение трех с половиной лет. С этим сокровищем, которое он запрятал в старую солонку, подвешенную у изголовья дяди, рядом с распятием стоика Христа, Фрюманс не беспокоился больше ни о чем на свете. Теперь его дядя мог болеть или просто недомогать, у него было на что лечить его. Он немного потратился лишь на то, чтоб одеться как крестьянин и иметь приличный вид. Итак, он был счастлив, если не считать тайной боли, которую он преодолевал и скрывал, — своей привязанности к Женни, ко мне, к моей бабушке и даже к Мариусу. Он не мог жить с нами и не привязаться к нам, и он упрекал себя за эту слабость, вовлекавшую его в сложную ситуацию трудно определимой преданности. Фрюманс верил только в то, что он сам мог точно определить. Неясное повергало его в сомнение, а неизвестное приводило в ужас — это было его достоинство и недостаток. Он слишком любил людей именно потому, что запрещал себе их любить. Это был человек, который, сто раз сказав себе: «Я ничем не могу им помочь!», очертя голову бросался ради них в любые опасности, без рассуждений и без оглядки. На призыв моей дружбы он не колеблясь отвечал тем же. — Вы хорошо знаете, — простодушно сказал он, — что я люблю вас всем сердцем и готов выполнить любое ваше приказание. Но только при одном условии — чтобы ваша бабушка больше не присылала сюда подарков. Мы могли бы заполнить целый погреб теми бутылками старого вина и открыть кондитерскую с теми лакомствами, которые добрая госпожа присылает нам. Моему дяде этого хватит надолго, а я не большой любитель таких сладостей; кроме того, это походит на плату, а вы сказали, дорогая Люсьена, что нет больше учителя и ученицы, а есть два друга, которые смогут беседовать, когда вы захотите, то есть когда это будет необходимо. В моей власти было сделать это необходимым. Без всякой задней мысли я снискала себе дружбу, участие и внимание Фрюманса, не подозревая даже, что мои суетные и ничтожные признания могут нарушить его спокойствие и привычный ход его жизни. Я хотела быть для него таким же избалованным ребенком, каким я была у Женни, но при этом я хотела также быть вдумчивым другом, интересным для него человеком. Женни была мне матерью, я стремилась к тому, чтобы Фрюманс был мне братом. Я была большой эгоисткой, но это не помешало мне по-настоящему привязаться к нему. Мы виделись с ним каждое воскресенье. Каждое воскресенье мы скромно завтракали за большим столом вместе с Женни и мисс Эйгер, которые по очереди сопровождали меня. Но странная вещь — и мне стыдно признаваться в этом — я больше любила приезжать сюда с мисс Эйгер, которая давала мне возможность беседовать с глазу на глаз с моим другом, чем с Женни, откровенные суждения и строгость которой немного стесняли меня, когда я порывалась высказать ему все, что приходило мне в голову. Мне ужасно хотелось вникнуть в смысл столь странно стоической жизни моего отшельника; раньше я об этом совсем не думала. Теперь я спрашивала себя, как можно жить в таком одиночестве, не испытывая ужаса и скуки, и когда Фрюманс говорил мне, что ведет такую жизнь добровольно и не сожалеет об этом, он вырастал в моих глазах в человека значительного и таинственного, и я была горда тем, что чувствую себя с ним как равный с равным. Я читала превосходные книги, которые он мне доставал. Мне трудно было, конечно, перейти от разных Лоренцо и Рамиро к героям Плутарха, но, полагая, что от знакомства с ними я интеллектуально вырасту, я понемногу втянулась и незаметно для самой себя повышала свой умственный уровень. Видя, как все больше расширяются мои горизонты, Фрюманс был весьма удивлен, что я в такое короткое время постигла подлинно прекрасное. К несчастью, книг, которые он так любезно мне добывал, вскоре стало не хватать. Он понял, что нет почти ничего такого, что можно было бы дать прочесть молодой девушке, ум которой он хочет сохранить в чистоте, и что придется прибегнуть к сокращениям в тексте. Однако хорошее чтение — это единственная защита молодой девушки от всего того, что способно смутить ее воображение. Фрюманс понял, что ему придется начать отбирать для меня фрагменты, а это занимало у него несколько вечеров в неделю. Сначала он делал это с неохотой, а потом стал находить в этом удовольствие, ибо я откликнулась на его усердие настоящими успехами, и он даже стал немного гордиться мною. Мне необыкновенно нравилась такая метода занятий, которую мы хранили в тайне от Женни. Бабушка поняла наконец, что мисс Эйгер не обучает меня ни рисованию, ни музыке и что она превратилась в нечто совершенно бесполезное. Она предупредила, чтобы та подыскала себе место в другом семействе, и в один прекрасный день мисс Эйгер отбыла в Неаполь, в восторге, что снова увидит Везувий, и нисколько не огорчаясь тем, что покидает нашу мерзкую страну. Ее отъезд так мало взволновал нас, что его почти не заметили; но я испытала некоторое беспокойство, когда Женни заявила мне, что она не может больше оставлять бабушку одну, что новую гувернантку еще не нашли и поэтому я не могу больше ездить в церковь по воскресеньям. Я не была особой охотницей до обеден, Дениза навсегда отвратила меня от набожности. Я была христианкой, и Фрюманс хорошо делал, что скрывал от меня свой атеизм, ибо это могло бы меня сильно шокировать, но я не считала серьезным упущением пропускать церковные службы, более того — я чувствовала, что лучше пропустить их, чем пренебречь заботами о бабушке. Но лишиться воскресных встреч с моим ученым другом — это было настоящее горе, и я начала даже сожалеть об отъезде мисс Эйгер. Но все-таки мне необходимы были прогулки, и, заметив, что я слегка побледнела, Женни забеспокоилась и решила, что под наблюдением Мишеля я буду ездить верхом, чтобы приучить Зани к открытому полю. У него была другая лошадь, и он ездил со мной, чтобы руководить моими упражнениями в верховой езде. Поле мне скоро наскучило, и мне было разрешено вместе с моим конюшим поехать по дороге в Реве, а потом немного дальше, а потом уже почти всюду. И наконец, раз уж у меня больше не было предлога лишаться обедни, на которой всегда настаивала бабушка, я снова возобновила свои поездки в Помме и воскресные встречи. Все шло хорошо, я больше не скучала, уединение перестало быть для меня опасным, я стала находить вкус в независимости и деятельности, вовсе не стремясь отыскать цель жизни и возможность применения всех своих сил. Фрюманс развивал мой ум и управлял моими мыслями с большим пониманием и тактичностью. Вскоре он обнаружил, что я немного рисуюсь перед ним и что я не нахожусь уже в таком смятении и не столь интересна, как он полагал сначала. Он считал, впрочем, что меня легко излечить, и, полагаясь на свой оптимизм, мечтал о моем будущем, исполненном разума и счастья. Мне шел уже восемнадцатый год, и в моем сознании еще не проносились бури. Вдруг непредвиденный случай взметнул ураган, и притом рукой самого мудреца Фрюманса.XXVII
Я обладаю достаточным религиозным чувством, и меня слишком много обучали рациональной философии, чтобы я верила в слепой рок. Тот рок, который порою как будто властвует над судьбами людей, есть не что иное, как плод нашего воображения, ибо мы сами устремляемся к иллюзорным опасностям, которые он будто бы нам создает. Незаметное событие, о котором я собираюсь рассказать, должно было из-за моей гордости привести к зловещим последствиям. Эта гордость была не только беспокойством и мучением моей юности, но она чуть не стоила жизни человеку, которого я любила больше всех на свете, в результате встречного удара, пусть запоздалого, но глубокого и медленно подготовлявшегося. Даже сейчас исповедь, которую я на себя налагаю, может воздвигнуть непреодолимое препятствие к доверию, которое как будто внушает мой характер. Но все равно, я выскажу здесь все с полной откровенностью. В одной из тетрадей, куда Фрюманс записывал избранные для меня отрывки из серьезных книг, я нашла как-то в воскресенье вечером листок другого формата, чем тетрадь, исписанный более сжатым, торопливым и менее разборчивым почерком. Тем не менее это, конечно, был почерк Фрюманса. Но это была заметка, предназначенная для него самого, вероятно — только для него одного, и попавшая туда случайно. Вот эта заметка: «Теперь принято говорить и считать, что древние народы не знали любви. Это, как полагают, чувство новое, возникшее из все более развивающейся утонченности мыслей и идеала христианства. Следовало бы уточнить, что понимается под любовью в том веке, когда мы живем. Не вращаясь в свете, я могу искать ее только в литературе, которая всегда является выражением чувств и стремлений эпохи. Но новейшая литература производит на меня скорее впечатление искусственности, нежели искренности. Я вижу в ней налет преувеличения, который должен отобразить некое лихорадочное состояние. Поэмы и романы в период Империи создаются в силу чисто литературного стремления выразить страстное волнение или горькое разочарование. В основе всего этого, как мне кажется, находится человеческое сердце, столь же примитивное и зверски эгоистичное, как и на заре цивилизации. Неужели я ошибаюсь?» До этого места заметка Фрюманса не вызвала у меня особого интереса. Однако я продолжала читать, полагая, что этот критический этюд может быть предназначен для меня. «Если ты сомневаешься, то воздержись, — гласит мудрость. Я вполне могу воздержаться от суждения о современных писателях, и я не так уж стремлюсь хорошо узнать людей, которые идут той же дорогой, по которой уже шли их предшественники. Но откуда возникает эта потребность учинять допрос самому себе, спрашивать себя, любили ли наши предки, страдали, стремились ли к высшему благу, как… скажем, как я? Что я знаю о себе? Что я знаю о высшем благе, ином, нежели принцип справедливости в сердце справедливого человека? Однако существует глас, вопиющий в пустыне: любовь, дружба, брак! Да, вот три ноты, которые я слышу в вечернем ветре и в жалобе потока. Таинственный голос неизгладимой поэзии… И, однако, Фрюманс, ты не поэт! Ты не веришь в Бога! Тогда кто же ты? Взрослый ребенок, воспламененный мечтатель или попросту молодой человек без женщины? Кто заставит тебя помыслить, что ты любовник без возлюбленной? Любовник, ты, который принимаешь решение, не обращаясь к разуму? Имеешь ли ты право любить, ты, который не хочешь сам внушать любовь? Любовник, то есть человек, который любит! Но любви не существует без взаимности, которая ее освящает. До тех пор это ожидание, стремление, инстинкт и больше ничего. Она была бы осквернена, как мне кажется, эгоистическим домогательством. Стало быть, я не должен говорить, не должен думать, не должен верить, что я ее люблю. Но я могу думать о ней, как я думаю о природе, о всем, что есть прекрасного, простого и великого под небесами. Она существует, она есть она, и я вижу ее очами своей души как высшее благо, которое предстает мне во всем и не принадлежит никому. Я…» Здесь кончалась страница, все остальное отсутствовало. Я много раз перечитывала этот таинственный бред, я ничего не понимала. То мне казалось, что я могу объяснить все, то я не могла объяснить ничего. Как уловить это тонкое различие между инстинктом, который оскверняет, и взаимностью, которая освящает? Это была какая-то галиматья, и Фрюманс совсем свихнулся, или же это высокое определение из области метафизики любви, и это выше моего разумения. Я прекрасно понимала, что это написано не для меня и вообще ни для кого, что тут скрыта тайна души, взволнованной чувством, с которым приходится бороться, или какой-то сложной задачей. Был ли Фрюманс влюбленным или поэтом? Сам он заявлял, что он ни то, ни другое. Однако в его мечтах мелькали вспышки поэзии и, наряду с вдохновенными стремлениями, — насмешки над самим собой, а затем идеал, немое обожание кого-то, порыв страсти, суровость отречения. Я уснула в самом разгаре своих попыток объяснить все это, с таинственной страницей, сложенной и спрятанной у меня под подушкой.XXVIII
Я видела во сне Фрюманса. Я видела, как он в одеянии восточного принца идет по волшебному саду. Некая фея совершила это превращение и теперь вела его к сверкающему храму, где его ожидала невеста, покрытая большой вуалью. Почему же простой крестьянин Фрюманс стал столь великолепным? И кто его невеста? Кто-то сказал мне: «Это ты!» Я рассмеялась, храм исчез, и я увидела, как Фрюманс, облаченный в лохмотья, помогает аббату Костелю служить обедню. Я встала рано и в ожидании завтрака пошла подышать свежим воздухом на террасе. В этот день я спустилась в Зеленую залу, чтобы никто не застал меня за чтением таинственной страницы. Неужели Фрюманс всерьез отрицает Бога? Кто эта она? Вот к чему сводились все мои предположения. Была ли то мудрость, высшее благо философов? Свет разума, любовь метафизиков? Не скрывается ли под словами «женщина», «возлюбленный», «брак» аллегория в духе Платона? Я дала себе слово спросить обо всем этом Фрюманса. Но настаивать я не смела. Нет, это была не аллегория. Фрюманс любил. Она — это была женщина. Но какая женщина? Где? Как? Мое любопытство превратилось в навязчивую идею, в какое-то наваждение. Я изучала эту тарабарщину и забывала о всех остальных занятиях. Бывали мгновения, когда это эссе казалось мне великолепным, а стиль Фрюманса шедевром. Минуту спустя оно уже казалось мне бессмысленным бредом, над которым Мариус не упустил бы случая поиздеваться. Во всяком случае, то была дверь, распахнутая в мир гораздо более возвышенный, нежели романы мисс Эйгер, любовь созерцательная и, так сказать, безличная. «Если бы я осмелилась, — думала я, — я бы попросила Фрюманса посвятить меня в нравственную науку любви, ибо это наука, я это хорошо понимаю. И, может быть, самая замечательная из всех наук. Мне кажется, я поняла бы ее, какой бы отвлеченной она ни была». Но стыд удерживал меня, и я так же простодушно искала для себя определения этого стыда, как Фрюманс искал определения любви. Во мне нарастал также внутренний протест против его безбожия. В течение всей недели я искала случая поговорить с ним и незаметно навести разговор на эту важную тему. И вдруг, в воскресенье, когда мы ехали по долине с Мишелем, меня словно что-то озарило, сердце сильно забилось, и не знаю уж какой таинственный голос прошептал мне, как во сне: «Она — это ты!» Я была возмущена. Повернув лошадь назад, я сказала Мишелю: — Сегодня мы к обедне не поедем. — Мадемуазель нездорова? — Да, Мишель, ужасная головная боль. Я вернулась домой. Женни забеспокоилась, заставила меня выпить липового отвару и часа на два лечь в постель. Я обещала ей, только чтобы она оставила меня в покое. Я перечитала проклятую страницу и удивилась, как же я не поняла этого раньше. Она — это была, конечно, я. Я была божеством, высшим благом. Разум не допускал даже возможности брака, но я была предметом безмолвного обожания. Я возникала в облаках, моя речь звучала в водопаде, но мне никогда этого не скажут. Что же мне делать теперь, когда разгадка найдена? Я не любила Фрюманса, я не могла его любить, и не из-за бедности и незнатного происхождения, — я в слишком большой степени была героиней романа и античным философом, чтобы обращать внимание на такие пустяки, — но потому, что во мне была душа стоика, парящая высоко над земными страстями, и Фрюманс это прекрасно понимал. Я была недостижимым идеалом! Ответить на земную любовь мне, существу высшего порядка? Нет уж, увольте! Я не могла сойти с пьедестала, куда меня возвели и где я выглядела столь импозантно. Поэтому я решила, что любить я не буду, что Фрюманс постиг меня, что я слишком возвышенна для любви и, наконец, что братская дружба — есть единственное достойное меня чувство, что мне следует пожалеть Фрюманса, постараться излечить его от пагубной скорби, вновь обратить к вере и, таким образом, спасти от отчаяния, оставаясь в то же время предметом его восхищения. Итак, в следующее воскресенье я отправилась в путь со спокойствием, исполненным кротости. Я пустила лошадь шагом, быстрый аллюр нарушил бы мою серьезность. Я должна была предстать перед своим несчастным другом полной достоинства и с улыбкой на устах. Занятие, за которым я его застала, не очень-то соответствовало облику мученика любви. Он стоял у наружной стены ризницы и мелом выводил на ней цифры какой-то математической задачи. В другой руке он, сам того не замечая, держал оловянный кувшинчик, который только что наполнил вином, и ждал, когда аббат облачится в свой пожелтевший стихарь и пыльную ризу для службы. В тот день пастух был болен, и Фрюманс должен был помогать служить обедню. — Ах, это вы! — сказал он, не отрываясь от своего дела. — Сегодня, мадемуазель Люсьена, с завтраком придется немного подождать, я ризничий. — А почему вы ризничий, ежели вы не верите в Бога? Его удивил мой резкий вопрос. Он еще не заметил пропажи листка из своих бумаг. Он не писал дальше свою абракадабру и даже, может быть, и не перечитывал ее, и так как до этого он никогда не говорил ни со мной, ни при мне о религии, он ничего не знал о моей находке. — А кто вам сказал, что я не верю в Бога? — спросил он тоном человека, старающегося что-то вспомнить. — Я никогда не высказывал по этому поводу никаких предположений. — Никто мне не говорил, — ответила я. — Мне просто пришла эта мысль в голову, когда я увидела, как мало интересует вас свячение этого вина, которое вы так неосторожно проливаете на землю, и одновременно пишете цифры, не имеющие никакого отношения… — Это верно, — ответил он, улыбаясь и глядя на почти пустой кувшин. — Я все пролил, и аббату Костелю нечего будет святить. Я пойду к нему. Садитесь на скамью, Люсьена, теперь я уж не буду ничем отвлекаться и успею к обедне. Я смотрела на него во время обедни и в первый раз внимательно следила за его лицом и манерами. Фрюманс относился ко всему, что он делал, серьезно и добросовестно. Он знал обедню досконально и совершал службу с математической точностью. Он становился на колени, вставал, вновь преклонял колени, как хороший солдат, выполняющий свои упражнения машинально и пунктуально. На его лице нельзя было прочитать ни малейшей насмешки, ни религиозной аффектации. То же спокойное выражение наблюдалось в лице и манерах аббата. В них не было ничего, что могло бы хоть чуточку шокировать. Когда мы снова, как обычно, остались вдвоем, Фрюманс предвосхитил мое желание, повторив свой вопрос: — Кто-то, очевидно, сказал вам, что я неверующий? — Да нет же, говорю я вам, если не считать Денизы и госпожи Капфорт, которые осуждали вашего дядюшку и вас за то, что вы служите обедню, не веря. Да я уже забыла все это… но… — Но вы об этом думали и вспомнили об этом сегодня? — Ну, пусть так. Я просто сказала вам то, что мне пришло в голову. Я рассердила вас, господин Фрюманс? — Никоим образом. А разве я задел вас когда-нибудь своим поведением в церкви? — Нет, но… — Но что? — Я задаю себе вопрос, почему вы делаете то, во что сами не верите. — Предположим, что… — Не хочу я ничего предполагать. Я хочу, чтобы вы мне сказали, верите вы в Бога или нет и презираете ли вы его культ? — Я думаю, что во всяком культе есть что-то хорошее, что в любой вере есть доля истины, и я не презираю никакой религии ни в настоящем, ни в прошлом. — Иначе говоря, вы ни во что не верите? — Вы настаиваете на том, чтобы непременно узнать это, мадемуазель Люсьена? Для чего вам это нужно? — Но… я интересуюсь вами, господин Фрюманс. Я уважаю вас и думаю, что аббат — человек достойный, и мысль о святотатстве… — По-вашему, человек, который не верит в таинство евхаристии, может помешать таинству причащения и его обедня тем самым превращается в ничто? Ведь у аббата Костеля вы впервые причащались и конфирмовались. Соответствовали ли катехизису, которому он должен был вас научить, его религиозные наставления? А можете ли вы считать недействительным таинство, которое он совершил? — Конечно, нет, и церковь разрешает нам считать благим всякое религиозное действие, согласное с правилами. Кроме того, если бы епископ считал аббата Костеля атеистом, он отлучил бы его от церкви. — Но имел бы он для этого основания? — Да, если бы он опасался, что священник будет внушать своей пастве атеизм. — Но если бы было признано и подтверждено, что он этого не делает и что его проповеди согласуются с существующей программой? — Тогда епископ, я уверена, не имел бы возражений, и лишь один Бог мог бы судить совесть пастыря, поступки которого расходятся с его служебным долгом. — Приятно слышать, когда вы рассуждаете так разумно, дорогая Люсьена, и я сейчас отвечу вам, но не будем говорить об аббате Костеле. Он верит в Бога и в Евангелие, за это я ручаюсь. Он любит христианскую религию больше, чем какую-либо другую, хотя относится терпимо к свободе совести. Он этого не скрывает, как вы слышали; вы видели, как он поступает, и я даже думаю, что ваши религиозные убеждения являются довольно точным отражением его убеждений. — Это верно, Фрюманс. Для меня невозможно осуждать кого-то, и я должна сказать, что аббат Костель мне этого не предписывал и не запрещал. Думаю, что он во многом сомневается, но в чем именно — я не знаю. — И вы, дитя малое, хотите читать в суровой совести старика, который всю жизнь провел, взвешивая все доводы за и против! — Да нет же, — возразила я, убоявшись строгого тона Фрюманса. — Речь идет не об аббате Костеле, которого я уважаю без всякой задней мысли, с того момента, как он стал истинным христианином. Речь идет… — Обо мне, который им не является? — Да, конечно, — ответила я с некоторой живостью, так как сочла себя оскорбленной его чуть-чуть презрительной сдержанностью. — Вы научили меня рассуждать, и вот я рассуждаю, а вы ведь обещали мне ответить. — Я вовсе не обещал делиться с вами своими частными мнениями, — ответил он также с оттенком живости, — и нахожу, что вы в этом смысле чересчур уж любопытны. Речь шла о том, чтобы узнать, совершает ли человек, коего вы считаете атеистом и который и в самом деле может им быть, низость или профанацию, став служителем некоего культа. Ну так вот, я вам отвечу: это смотря по обстоятельствам. Существует непреложное сомнение, которое дает совести каждого человека право участвовать в любом официальном акте гражданского и религиозного закона своего времени и своей страны, ничуть не презирая и не оскорбляя его. Занятия и размышления человека серьезного могут, конечно, привести его к выводу, что любая религия — это ложь и любой культ — лицемерие; в таком случае ему не следует входить в храм, чтобы отдавать дань подчинения обычаю. Но другой человек, столь же серьезный, может извлечь из своих размышлений и занятий совершенно противоположное убеждение. Он может говорить себе, что идеализм — это естественная потребность человеческого ума и что все, что порождает в нем понятие о добре и красоте, должно уважаться, конечно, при условии, что оно не внушено силой или хитростью. Так вот, видя, как я помогаю своему дяде выполнять обязанности, которые он полагает благом, вы могли бы сказать себе, что я человек, который терпимо относится ко всему на свете, не отвергая ничего. Homo sum…[28] И так как вы уже немного знакомы с латынью, то легко поймете остальное. — Стало быть, вы хотите, чтобы я вас так и воспринимала, вас, от которого я жду наставлений в жизни? — Я хочу, чтобы вы считали меня честным человеком с чистой совестью и чтобы вы больше ничего у меня не спрашивали, если считаете, что мои знания вас больше не удовлетворяют и я не могу создать в вас идеал, согласующийся с вашими стремлениями. У каждого свои стремления, мое дорогое дитя, и мудрость заключается в том, чтобы познать их, так же как и воспитание должно заключаться в постоянной заботе о том, как бы не вступить с ними в противоречие. — Но если они плохие? — Плохих стремлений не могло бы быть, если бы они могли свободно развиватьсяв хорошо устроенном обществе. Я знаю, что свободой можно злоупотреблять: это неизбежная опасность для всего того, что в существе своем является хорошим. Но нетерпимость, вдобавок еще сопутствуемая деспотизмом, есть самое худшее из зол, из коих надлежит выбирать меньшее. Поэтому, если вам это нравится, отдайтесь религии всецело, но не требуйте от меня благочестия. Когда ты волен не советоваться с другими, так просто избежать лишних споров! Фрюманс преподал мне здесь урок мудрости, который я, может быть, приняла бы с признательностью недели две тому назад. Но как согласовать независимость его мыслей с обожествлением меня? Я сочла его декларацию за протест и приписала ее гордости, уязвленной моими подозрениями. Я держалась с ним несколько надменно, стараясь, впрочем, смягчить горечь, которую, как мне казалось, он испытывал. Не помню уж, в каком стиле я продолжала свою исповедь, но я упорно продолжала верить в то, что должна спасти его от атеизма. — Хоть вы и счастливы, — добавила я, — этим неограниченным сомнением, в котором, как я вижу, находите удовольствие, но мне оно кажется ужасным. — Неужели? — спросил он с ласковой улыбкой, которая была так характерна для его обычно задумчивого лица. — Вас беспокоит вопрос о моем счастье на этом и на том свете? — Давайте говорить только о земном мире, ведь это единственный, в который вы верите. Скажите, если вас охватит горькая печаль, тайные муки, в чем вы найдете утешение? — В дружбе ближнего, — ответил он без колебаний. — Только он может понять мои слабости и помочь мне в моих горестях. Если бы мне было разрешено спросить Бога и он соизволил бы ответить, он сказал бы: «Твои страдания — закон твоей жизни. Ищи себе опору в тех, кто находится под властью того же закона, ищи ее в себе самом, если ближние не в силах помочь тебе». Мне показалось, что Фрюманс дошел наконец до существа вопроса и я начинаю читать его мысли. — Я прекрасно понимаю, — сказала я, — что вы обладаете огромной внутренней силой и что ваша гордость превосходит ваш здравый смысл. Вы очень страдаете, но вам нравится страдать в одиночестве, не прибегая к помощи видимого или невидимого провидения. — Невидимое провидение, — ответил он, — находится во мне и в сердце моих друзей. Оно именуется желанием блага. С тех пор как я уже больше не человек, одержимый иллюзиями, я чувствую в себе и своих ближних эту действенную силу, и от меня зависит, как воспользоваться ею себе на благо. — Стало быть, вы будете вести борьбу с горем, которое вас терзает, один на один или прибегая к советам вашего дяди? — Да меня вовсе не терзает никакое горе! — воскликнул Фрюманс, весело смеясь над моими вычурными фразами. — Мне не нужно бороться ни с тайной болью, ни с горькой печалью. Таких страданий для философов вроде меня вообще не существует. — А какого рода ваша философия? — спросила я, в высшей степени разочарованная. — Это философия человека, который не выставляет ее напоказ, но кладет ее в основу своих поступков, — ответил он с некоторым оживлением. — Я же не профессор философии. Я не читаю лекций и не пишу книг. Я люблю разум таким, какой он есть, и вкушаю его, как самую здоровую пищу. Он везде мне на потребу, он растет на всех деревьях. Имея даже скромные познания, можно научиться срывать его лучшие плоды, и тогда уже мелодраматическое отчаяние, притворные душевные страдания кажутся вам чем-то вроде извращенного аппетита или несварения желудка. Фрюманс говорил с такой убежденностью, что я почувствовала, что должна сказать ему все, чтобы снять со своей души огромную тяжесть. Я показала ему знаменательную страницу, не без коварства задав ему вопрос — не фрагмент ли это из перевода какой-то новой книги? — Наверно, перевод или какой-то отрывок, — промолвил он, пробегая текст глазами. Но вдруг он покраснел, увидев, что назвал себя по имени во фразе: «И, однако, ты не поэт, Фрюманс. Ты не веришь в Бога!» — Так вот что шокировало вас, — сказал он, подавляя смущение, смешанное с недовольством. — Ну хорошо, не будем больше никогда об этом говорить. Совершенно не к чему писать для себя то, что ты не хочешь, чтобы прочли другие. Но это больше не повторится. Он скомкал страницу и швырнул в камин, а потом, успокоившись, хотел начать свою очередную лекцию по древней истории. Но я была исполнена решимости заставить его исповедаться передо мной. Я поддалась жгучему любопытству, я бы сказала — почти преступному, если бы сознавала, что я делаю. — Речь идет не о греках и римлянах, — ответила я, — а о вас и обо мне. — Обо мне — может быть, но почему же о вас? — Потому что я ваша добровольная ученица, которая имеет право задавать вам вопросы. Ваши мысли порождают мои. Что вы разумеете под…? — Забудем мои загадки. — Но это невозможно! Я знаю их наизусть. — Тем хуже! — отпарировал он с недовольным видом. Но вскоре он вновь обрел спокойствие. — Ну, раз уж я сделал ошибку, я должен ее исправить. О чем вы меня спрашиваете? — О том, что вы называете высшим благом. — Я полагаю, что уже написал об этом: чувство справедливости в сердце справедливого человека. — Превосходно, но имеется еще особа, о которой вы выразились так: «Она есть высшее благо». — Да. Она ассоциируется в моем сердце с представлением о справедливости, истине и добре. — И с мыслью о любви, дружбе и браке, ибо это ваши подлинные слова. — Зачем же мне отрицать это? Вы уже в таком возрасте, чтобы суметь понять, что цель всякой подлинной склонности есть объединение двух личностей, которые уважают друг друга настолько, чтобы провести всю остальную жизнь вместе. Этот день через несколько лет наступит и для вас, Люсьена! Сделайте же удачный выбор — вот мораль, которую вы можете извлечь из моих мыслей, раз уж вы так интересуетесь ими. — Стало быть, вы хотите жениться, Фрюманс? Я о том не знала, вы никогда мне ничего подобного не говорили. — Я и не собирался говорить вам об этом. Чего ради? Однако давайте правильно поймем друг друга: я совсем не жажду жениться, а только жалею, что не могу этого сделать. — Потому что… — Да потому что единственная женщина, которая мне подошла бы, не может быть моей! А посему я об этом даже и не мечтаю. — Но все-таки вы втайне мечтаете об этом, наперекор себе! — Если это наперекор собственной воле, то это все равно как если бы я совсем об этом не думал. Поймите, Люсьена, я очень рад, что это даст нам сегодня повод немного пофилософствовать. Бывают непроизвольные мечты, как и вполне определенные мысли. Умственная жизнь зиждется на этих альтернативах, которые можно было бы сравнить со сном и бодрствованием в жизни телесной. В любом возрасте, а в вашем еще больше, чем в моем, бывают периоды умственной усталости или избытка живости в воображении, которые низвергают нас в мечту. Разумно как можно меньше предаваться такого рода праздности мысли, ибо это область иллюзий, а иллюзии — это время, потерянное для разума. Здравый ум уделяет очень мало мгновений и питает весьма мало доверия к мечте. Он быстро превращает ее в размышление, а размышление есть поиски точных и истинных ценностей. Вы хорошо меня понимаете? — Кажется, да. Вы хотите помешать мне стать романической особой. — Но вы уже были ею. — Теперь это прошло. Вы привили мне вкус к силе и разуму, но если вы хотите, чтоб я и дальше продолжала в этом духе, вам самому не следует становиться романическим. — Спасибо за урок, мой дорогой философ! Я, безусловно, был таким минут пять, недели две тому назад. Но так как я уже обо всем совершенно забыл, это равносильно тому, как если бы вообще ничего не произошло. Наш разум порою не что иное, как больной в белой горячке, за которого здоровый человек отнюдь не может нести ответственность.XXIX
Мы говорили с ним о чистой философии, а потом я уехала, вполне успокоенная в отношении Фрюманса. Но сама-то весьма уязвленная. Как! Эта огромная и глубокая любовь, на которую он дал мне мельком взглянуть, была всего-навсего нелепой химерой, отброшенной им, мимолетной мечтой, которую он даже ясно себе и не представлял! Предмет этой мечты был, таким образом, унижен и представлен каким-то ничтожеством, и мне не хотелось верить, что это была я. А я верила в это целых пятнадцать дней! Я была то взволнована, то испугана, то оскорблена, то опьянена, даже чуть не заболела, и все это только для того, чтобы услышать, что обо мне мечтали лишь каких-нибудь пять минут, а дальше постараются избавиться от этого наваждения! Злое чувство пробудилось в избалованном и одиноком ребенке, и внезапно я превратилась в какую-то дурочку. Но я не хочу выяснять здесь, было ли это результатом кризиса неистового характера, которому подвержены молодые девицы. Я сурово взираю на это растаявшее в тумане прошлое, которое представляется мне даже несколько позорным и связано с угрызениями совести, и я не хочу ничего преуменьшать. Единственный вывод, к которому я могу прийти, это то, что я затеяла игру со страстью, сама не зная почему и для какой цели. Я поймала себя на том, что жалею, что не нарушила покой Фрюманса, и стыжусь, что так возвеличила свои достоинства. Досада была настолько сильна, что я искала способа избавиться от нее, убеждая себя, что Фрюманс, будучи добродетельным и сдержанным, умудрился скрыть свою любовь и обмануть мою проницательность. Он обожал меня уже давно. Он любил меня еще тогда, когда я была ребенком, когда Дениза почти обезумела от ревности. Он, может быть, проболтался кому-нибудь тогда, когда злющая Капфорт приписывала ему планы обольстить меня и хитростью завладеть моим имуществом. Он, может быть, отчасти и забыл меня в те два года, что мы не видались, но вот уже год, как мы снова стали встречаться каждую неделю, и он неистово полюбил меня, с восхищением любовался мною, увлеченно со мною занимался. Ему было ясно, что он не только не может жениться на мне, но не смеет даже помыслить об этом. Раб долга, обладающий твердой волей, он боролся со своей склонностью, он упрекал себя за нее и даже смеялся над собой. Он согласился бы скорее умереть, чем дать мне понять это, и когда я уже почти готова была разгадать загадку, он стал весело отшучиваться, что было, конечно, великолепным актом героизма. Уяснив себе все это, я снова начала играть роль кумира, которая мне очень нравилась, а Фрюманса я считала вполне достойным меня обожателем. Он был молчалив, послушен, боязлив, восхитителен в своем самоотречении. Он спокойно говорил о моем будущем браке с человеком, избранным мною из моего же круга. Он был готов стать моим наперсником и преданным слугой моей блистательной любви, даже если мне уготовано было умереть от отчаяния на следующий же день после моей свадьбы с Мариусом или с каким-нибудь другим знатным молодым человеком. Я уже заранее жалела его, своего благородного друга, приносящего себя в жертву. Я воздвигала ему на горе достойную гробницу и писала ему эпитафию. Я избрала для этого строку из Тассо,[29] которую заставила меня выучить мисс Эйгер и которую, впрочем, я с тем же успехом могла бы и вовсе не учить:Brama assai, poco spera e nulla chiede.[30]
XXX
Бабушка обращалась ко всем своим знакомым, чтобы они приискали мне новую гувернантку. В наших местах трудно было найти иноземку, которая согласилась бы замкнуться в нашей глуши, а нашим дамам недоставало этих прославленных талантов к изящным искусствам, которые продолжали считаться столь необходимыми. Так как у меня не было никакой склонности к изящным искусствам, преподносимым нам таким манером, бабушка решилась принести их в жертву. Но она убедила себя, что я очень одинока, что Женни слишком занята ею (бедняжка упрекала себя в этом!), наконец, что мне скучно, и если уж не гувернантка, то пусть будет хоть какая-то девица-компаньонка. Доктор Репп уже давно называл одно имя, которое не вызывало ни у кого из нас сочувствия, а мне было почти ненавистно. Речь шла о его протеже Галатее Капфорт. Ей было тогда двадцать лет, она была крайне уродлива, но, по его словам, девушка с прекрасным характером и весьма разумно воспитанная. Она недавно вышла из монастыря, где всегда получала высшие отметки за шитье, арифметику и отличное умение держать себя. Она была весьма религиозна, что крайне важно для женщины, как говорил доктор, сам прекрасно обходившийся без религии в гораздо большей степени, чем Фрюманс, ибо он издевался над всеми культами, считая их недостойными своего пола. Галатея, говаривал он, была бы для меня настоящей находкой. Она бы сделала меня хоть чуточку женщиной. Доктор опасался, как бы мои вкусы амазонки, мое воспитание под руководством мужчины и независимость мыслей не помешали моему счастью и не повредили моей репутации в светском обществе! А общаясь с этой умненькой и кроткой девицей, я буду питать большую склонность к сидячей жизни, а если нет, то всегда можно будет сказать, что у меня благоразумная подруга, и такой выбор будет единодушно одобрен всеми здравомыслящими людьми нашей местности. Последний пункт оказался верным. С помощью всяких низостей и лицемерия госпожа Капфорт добилась того, что ее стали принимать знакомые бабушки, и все вдруг начали упрекать добрую старушку за предубеждение, которое они сами раньше разделяли. Мы с бабушкой долго упорствовали, но каким-то образом, уж не знаю как, госпожа Капфорт раздобыла для Мариуса место в управлении морского флота с приличным жалованьем, где было не так уж много работы, нечто вроде синекуры, причем он мог постоянно жить в Тулоне. Пришлось отблагодарить ее за столь неожиданный успех, выпавший на долю этого члена нашего семейства. Она предлагала свою дочь gratis,[35] только из чувства дружбы и преданности. — Единственным вознаграждением Галатеи и ее единственной выгодой, — говорила она, — будет то, что в общении с госпожой де Валанжи она обретет манеры и тон высшего общества, а в Люсьене найдет прелестную подругу. Женни, которая до той поры была на моей стороне, теперь сочла своим долгом уступить. Галатея казалась ей кроткой и послушной. Набравшись опыта в делах благотворительности, куда ее мать любым способом старалась ее всунуть, чтобы все восхищались ребенком, она умела ухаживать за больными и забавлять стариков. — Если она вам не понравится, — сказала Женни, — то я тщательно присмотрюсь к ней, и, увидев, что она хорошо ухаживает за бабушкой и развлекает ее, я чаще смогу бывать с вами. — Но зачем же нам нужна чужая девушка, когда мы с тобой вдвоем можем прекрасно ухаживать за бабушкой? Женни ответила, что бабушка не хочет, чтобы я посвящала ей все свое время с утра до вечера, что ее беспокоит, что я жертвую собою ради нее. В этом была известная доля правды. Бабушка уже почти потеряла зрение, и когда ей начинали читать вслух, сразу начинала дремать. С ней нужно было вести легкую беседу, но я не способна была изо дня в день говорить одно и то же. А Галатея сумеет болтать с ней о разных пустяках и не соскучится, потому что в голове у нее ничего нет. Галатея была уже взрослая девица и вполне могла довольно долго просидеть без движения. Наконец, бабушке хотелось все-таки исполнить желание ее матери, да и доктор говорил, что можно попробовать несколько месяцев, это ни к чему не обязывает, а там видно будет. Такова была его формула по отношению ко всем больным. Итак, я тоже была вынуждена уступить — Галатея поместилась в комнате мисс Эйгер. Женни упрашивала меня оказать ей любезный прием. Она робка и нескладна, может быть, даже ее придется как-то пожалеть или подбодрить. Я сделала все, что могла, мне хотелось отнестись к ней великодушно. Я научила Галатею одеваться, садиться за стол, есть, здороваться, закрывать двери, не натыкаться носом на стены и не падать на лестницах, ибо эта девица, которая должна была напомнить мне об особенностях моего пола, была настоящая деревенщина, чувствующая себя здесь куда более ошеломленной, чем любая пастушка коз из Рега. Пока ей были знакомы только монахини и молодые парни на мельницах. Довольно скоро она приоделась и приняла вполне приличный вид. Я убедилась, что это была, в общем, хорошая девушка, услужливая, добросовестная в своих заботах о бабушке, ничуть не обидчивая, не интриганка, не обманщица, одним словом, она резко отличалась от своей матери, весьма напоминая добродушие и нерешительность доктора Реппа. Я отнеслась к ней вполне дружески, хотя ум ее не представлял собой ничего приятного. Она была воплощенное ничтожество и умела лишь ставить метки на белье да писать на бумаге всякие нелепости. Она проводила жизнь в повторении и переписывании молитв, и ее способности в области изящных искусств заключались в раскрашивании образков и распевании церковных гимнов, где она меняла и переставляла стихотворные строки самым нелепым образом. Но раньше у меня было против нее предубеждение: я считала ее способной действовать исподтишка и злословить, но я была несправедлива к ней и хотела исправить свою ошибку. Она была ласкова, как собака, которая лижет руку, готовую ее ударить. Когда она выводила меня из терпения своей глупостью, она сразу видела это по моему лицу и бросалась целоваться, чтобы тем вернее обезоружить меня. Я тоже целовала ее, раскаиваясь в своей опрометчивости, хотя у нее было такое неприятное лицо, все кирпично-красного цвета и усеянное веснушками. Ее гладкие волосы напоминали пеньку, а всегда влажные руки вызывали во мне непреодолимое отвращение. Она умерла бы от отчаяния, если бы пропустила воскресную обедню, поэтому мне приходилось брать ее с собой в Помме. У нас была только одна верховая лошадь, Зани, которой она очень боялась, но она упросила Мишеля, чтобы он сажал ее на круп своей огромной упряжной лошади, объяснив, что так она обычно ездила со своими мельниками. Когда Фрюманс увидел меня в сопровождении Галатеи, он перестал избегать меня, и я больше чем когда-нибудь убедилась в том, что он боялся остаться со мной наедине. Но я ужасно ошибалась: Фрюманс боялся только всяких толков и пересудов. Наши встречи стали теперь повторяться чаще, и Галатея присутствовала на них с разинутым от изумления ртом, так как абсолютно ничего не понимала. Мне казалось, что она скоро устанет и мы в течение часа вгоним ее в сон. Ничего такого не произошло, и я не могла не заметить, что ее внимание ничуть не ослабевает. Я предложила ей воспользоваться великолепными лекциями, которые я слушала, и так как она, казалось, решила совершить все, что в ее силах, я вообразила, что с помощью Фрюманса могу сделать ее чем-то получше, чем наивной дурочкой. Но она отнеслась к этому совсем не так, как я ожидала. На первых же уроках она объявила, что я слишком многого от нее требую и что она не понимает меня так хорошо, как Фрюманса. Как-то я попробовала вкратце изложить ей одну из лекций Фрюманса. Я увидела, что она даже не понимает, о чем там шла речь. Однажды во время воскресного урока я обратила внимание на то, что она вдруг необычно раскраснелась, а потом страшно побледнела, и так продолжалось все время. Фрюманс спросил, не заболела ли она, она стояла на том, что нет, и кончила тем, что упала в обморок. В другой раз она вдруг беспричинно ударилась в слезы. Фрюманс стал подшучивать над ее нервами, пожалуй, немного резко, и когда я сказала ему, что Галатея приложила немалые усилия, чтобы повысить свой интеллектуальный уровень, он тихо ответил мне, что она поступила бы гораздо лучше, если бы признала свое полное ничтожество и возвратилась в монастырь или на свою мельницу. Галатея то дулась на меня, то проявляла ко мне преувеличенную нежность. Ночью она плакала в постели, днем погружалась в молитвы. Наконец она удостоила меня своим полным доверием и довольно откровенно поведала о том, что прямо-таки умирает от любви к господину Фрюмансу Костелю. Мне бы следовало попросить ее хранить в глубине души тайны своего столь чувствительного сердца, но суетное любопытство подтолкнуло меня узнать все. Галатея относилась к разряду особ необычайно влюбчивых. Она не помнила даже такого времени, когда бы не была в кого-нибудь влюблена. С самого детства она обожала некоего Тремайяда, мальчишку с мельницы. После некоторых других ejusdem farinae[36] (здесь это звучит вполне уместно!) она страстно влюбилась в Мариуса, и Мариус, по ее словам, дал ей ясно понять, что собирается жениться на ней. Госпожа Капфорт порекомендовала ей быть с ним полюбезнее, но однажды Мариус оскорбил ее какими-то своими выходками. Он насмехался над ней в обществе, она теперь должна была забыть его навеки, тем более что она снова увидала Фрюманса, в которого уже неоднократно влюблялась, встречаясь с ним в нашем доме. С той поры как она стала видеться с ним каждую неделю, выяснилось, что тут уже не могло быть ошибки — он-то и есть ее возлюбленный навеки. Она надеялась, что внушит ему склонность к себе. К тому же у него нет ни гроша, а она богата или будет потом богата. Доктор Репп обещал дать ей приданое. Ее тщеславная мамаша, конечно, будет против этого брака, но Галатея прибегнет к помощи доктора, который ни в чем ей не отказывает. Госпожа Капфорт боится доктора и поэтому уступит. Фрюманс, узнав о верности Галатеи, окажется лучшим из мужей и счастливейшим из смертных. Такова была любовная история Галатеи. Но я оказалась препятствием этому блистательному будущему и должна была помочь своей чувствительной подружке, вместо того чтобы противодействовать ей. Тут я наконец потеряла терпение и сухо спросила, что она, собственно говоря, имеет в виду. — Дорогая моя, — ответила она, — нечего тут тебе скрывать. Я прекрасно понимаю, что ты тоже влюблена в господина Фрюманса. Да все кругом только и говорят об этом. Ты умнее и образованнее меня, но ты страшная кокетка, потому что ты не очень религиозна. Так вот, тебе следует забыть господина Фрюманса. Ты знатного происхождения и не можешь выйти за него. Надо поговорить с ним обо мне в открытую, как ты это умеешь, когда захочешь. Надо дать ему понять, что незачем ему быть со мной таким гордым и боязливым, все равно я решилась выйти за него, и если мамаша захочет опять запихнуть меня в монастырь, я устрою так, что он меня похитит. И тогда уж нас должны будут обвенчать. В этом нет ничего худого. Брак очищает все, и мой духовник сказал, что грех, совершенный без дурных намерений, не является смертным грехом. Она преподносила мне сотни глупостей в таком же роде, даже не давая времени ответить ей, и когда она истерически выложила мне все это, то умчалась в свою комнату, крикнув, что я должна хорошенько подумать и попросить Бога внушить мне благие мысли. Меня не так возмутила ее глупость, как то, что она приписала мне любовь к Фрюмансу. Сойти с пьедестала таинственного кумира, чтобы вступить в борьбу с этой вульгарной соперницей, — это было унижение, от которого я залилась краской до корней волос, и если бы Галатея вовремя не исчезла, я думаю, что наверняка отколотила бы ее. Меня разжалобило ее раскаяние, и совершенно напрасно. Мне отнюдь не следовало позволять, чтобы эта глупая и необразованная девица, беспомощная перед бурными порывами, бушевавшими в ней, толковала мне о своих несбыточных иллюзиях, о своем томлении и физиологической необходимости брака. Я и не подозревала о той животной страсти, которая таилась в глубинах нелепого романа, о котором она мне поведала. Может быть, она и сама не вполне ясно отдавала себе в этом отчет. Я хочу верить, что она не понимала всего того, относительно чего делала вид, что понимает, ибо она позволяла себе прибегать к таким выражениям, которые могут быть священными в условном языке исповеди, но сами по себе были грубыми до непристойности. К счастью, я не понимала их, да и не старалась понять, но, слушая малодушные жалобы этой девицы на скуку в одиночестве или на то, что она именовала презрительностью и недоступностью своего возлюбленного, я, наоборот, пришла к другой крайности — стала рассматривать любовь как позорную слабость и решила никогда в жизни не любить. Это могло быть превосходным противоядием против опасностей первой молодости, но, как все решения, принятые без достаточных знаний и опыта, это было началом неверного представления о жизни и браке.XXXI
Мне исполнилось девятнадцать лет, когда Мариус перебрался в Тулон, заняв там скромное место, впрочем, более приятное, нежели должность приказчика в торговом доме Малаваля. Жалованье он получал небольшое, но одно из его заветных желаний осуществилось: он стал моряком по форме, хотя фактически им не был. Он носил хорошо сшитый синий мундир, обшитую шнуром фуражку, и ему не нужно было плавать на корабле. Он снова превратился в хорошенького юнца, и благодаря тому, что жизнь его улучшилась, манеры его облагородились. Он по-прежнему отличался насмешливостью, но теперь шутил с гораздо большим увлечением и веселостью. Не очень отягощенный своей работой, он стал приезжать к нам по воскресеньям и вскоре обратил внимание на забавные гримасы Галатеи при упоминании имени Фрюманса. При своем насмешливом характере он обладал известной долей проницательности и сумел догадаться о том, о чем Женни даже не подозревала. И он стал находить забаву в издевательствах над мадемуазель Капфорт. Он писал ей от имени Фрюманса какие-то невероятные послания, назначал ей свидания во всех тайных уголках нашей горы, подстраивал такие штуки, что она находила любовные письма даже у себя в башмаках. Далее он забавлялся тем, что разыгрывал комедию влюбленности в нее и ревности к Фрюмансу. В конце концов, если он не свел ее с ума, то лишь потому, что она была для этого слишком глупа. Я не одобряла такой жестокости и никогда не участвовала в подобных шутках. Но Мариус, не советуясь со мной, когда он измысливал свои проделки, потом рассказывал мне о них, и я не могла удержаться от смеха. Я так давно уж не была веселой! Общение с Мариусом возвращало меня в счастливые дни детства, и это как-то успокаивало бурные порывы воображения, которые мучили меня в то время. Он отправлялся с нами к обедне, куда в хорошую погоду мы часто ходили пешком. Он дружески вел себя по отношению к Фрюмансу, и тот считал его любезным и добрым молодым человеком. Он давал нам возможность заниматься спокойно и углубленно, ибо уводил Галатею в сад или к ручью, где устраивал ей такие сцены ревности, что она уже совершенно запуталась в том, кого ей любить — Фрюманса или Мариуса. Мне кажется, что она мечтала о том и о другом сразу, и это вызывало в ней приступы какой-то нервической и сумасшедшей веселости, когда она и говорила и вела себя совсем как пьяная. Иногда он забавлялся тем, что делал вид, что потерял ее где-то в горах, а затем являлся и говорил мне, что ждать ее не нужно, она, мол, одна вернулась в Бельомбр. Мы с Мишелем тогда уезжали домой, а Галатея заставала в Помме Фрюманса, который при виде ее бывал весьма удивлен. Он, конечно, знал, что Мариус способен на разные дикие выходки, но не верил, что тут был замешан именно он. И тогда он любезно провожал мадемуазель Капфорт домой, где она приходила в смертельный ужас, видя, что Мариус встречает ее с пистолетом в руке. Однажды он послал к ней мальчишку с запиской, где было сказано: «Когда вы придете, я буду уже хладным трупом!!!» Она поверила, что он замыслил самоубийство, и помчалась к нему сломя голову. А Мариус тем временем куда-то спрятался и заставил ее часа два искать себя. Ничто не могло вывести из заблуждения эту бедную дурочку. Когда я пыталась втолковать ей, что Мариус над нею смеется, она отвечала, что я его люблю и ревную к ней. Должна признаться, что с тех пор я преисполнилась к ней глубоким презрением и решила — пусть Мариус отныне делает с ней что ему угодно. В ходе всех этих коварных шалостей Мариус, конечно, беседовал со мною о смешных иллюзиях любви и был приятно удивлен, как он выразился, что у меня на этот счет весьма разумные и положительные взгляды. Дело в том, что если бы ему надо было внушить мне нежные чувства к себе, то в этом бы он не преуспел никогда. Он был слишком холоден, чтобы сам их испытывать, и слишком ироничен, чтобы притворяться, но он открыл мне путь к теории, которая разрушила все мои романические иллюзии до основания. Он старался втолковать мне, что брак — это взаимный договор мирной дружбы, преимущество и достоинство которого состоит в полном отказе от темперамента и страсти. Он исповедовал эту теорию вполне искренне: если его уму было двадцать два года, то сердцу все сорок. Понемногу я стала думать так же, как и он, и утрачивать свой идеал, слишком отдалившись от него. Желая убедить себя, что я выше любви, я все еще невольно благоговела перед ней, ибо считала, что возвысилась над чем-то великим, но теперь, из-за нелепых обид Галатеи, которые показались мне карикатурой на мои прошлые иллюзии, из-за едких насмешек моего кузена на ее счет, я говорила себе, что не поняла поступков Фрюманса, что я никогда не была ничьим идеалом, хотя бы просто потому, что для людей разумных идеальной любви не существует. Сколько колебаний и размышлений в уме девятнадцатилетней бедняжки! Вот я и стала скептиком на новом этапе своей юности! Мариус вновь обретает надо мной утраченное влияние. Я снова становлюсь веселой и деятельной, хотя, в сущности говоря, мне не до веселья, ибо всякое разочарование — вещь печальная. В беседах с Фрюмансом я ищу отныне лишь сухие факты исторической действительности, я больше не люблю поэтов, я поражаю своего наставника холодной твердостью своих суждений и представляюсь ему атеисткой еще в большей степени, чем он сам. Наконец, один из последних переломных моментов обозначил границу моего женского тщеславия. Однажды, когда я упрекала Мариуса за все его уж слишком озорные штуки, я спросила, не таилась ли в Галатее, несмотря на ее дикие глупости, настоящая привязанность к Фрюмансу. Нечто преувеличенное, неудачно понятое, неудачно выраженное, но само по себе заслуживающее уважения. — А кроме того, — добавила я, — что знаем мы о будущем? Фрюманс, в конце концов, может быть тронут тем, что эта богатая девушка предпочла его богатым женихам, а так как мы очень любим Фрюманса, мы с тобой пожалеем о том, что так мучили и почти презирали его жену. — Ну уж это совершенно бредовая идея! — воскликнул Мариус. — Прежде всего эта комическая Галатея никогда в жизни не выйдет за уважающего себя человека. Далее, у Фрюманса, помимо того, что он именно такой человек, есть глубокая привязанность, отнюдь не романическая, но уже весьма давняя, к некой особе, тебе известной… Почему же ты покраснела? Ты думаешь, что я выдаю тайну? Да нет же. Я уже давно был посвящен в эту тайну, и, так как вижу, что ты тоже ее знаешь, я расскажу, как я ее узнал. Ты помнишь, что года четыре тому назад, когда я решил покинуть этот дом, у меня было какое-то предубеждение против Женни и Фрюманса. Но я был неправ. Они доказали мне свою привязанность и чуткость. Мне наговорили о них много плохого, я, кажется, что-то тебе об этом рассказывал… Это тоже была ошибка, но я был тогда еще ребенком, и теперь это надо предать забвению. Только я никогда не забуду, что твоя бабушка, открывая мне истину, прочитала мне строгую нотацию. Она, по-видимому, вообразила, что я ухаживаю за Женни, потому что сочла своим долгом напомнить мне, что я дворянин и не могу, да, конечно, и не хочу жениться на женщине из народа, как бы ее ни уважали. Она добавила: «А кроме того, Женни не вольна выслушивать твои предложения. Она невеста нашего доброго и умного Фрюманса. Я хотела этого брака и говорила с ней о нем. Женни не могла выйти за него сразу же по причинам весьма уважительным, о которых сейчас тебе незачем знать, но которые не сегодня завтра могут исчезнуть. Женни при мне обещала Фрюмансу выйти за него в тот день, когда эти препятствия будут устранены, и ты можешь ответить тем, кто возводит клевету на эту прелестную и достойную женщину, что дружеское отношение Фрюманса к ней и ее уважение к нему вполне согласуются с законами чести». Это откровение Мариуса поразило и взволновало меня. Мы как раз ехали верхом в Помме, так как в этот день ему одолжили лошадь в Тулоне, а Галатея ехала вслед за нами, сидя на крупе позади Мишеля. Я не могла устоять против желания в последний раз сыграть какую-то роль в этой новой любовной истории. Я испытывала чувство острого унижения, что раньше ничего не знала об этом, а ведь это могло избавить меня от выражения сочувствия Фрюмансу, и что не догадалась о том, что вопль его души: «Любовь, дружба, брак!» — относится к моей милой Женни, а совсем не ко мне. Как только я улучила случай остаться с ним наедине, я почувствовала необходимость стереть в его памяти то впечатление, которое могло сложиться у него в результате моей манеры держать себя и моих неосторожных расспросов. Кто знает, не догадался ли он при своей проницательности о моем ребяческом заблуждении на его счет? Я умело навела разговор на тему о браке. Сначала он слегка нахмурил брови, возразив мне, что я уже знаю историю брака во все времена и во всех цивилизованных странах и что в его программу вовсе не входит давать мне сведения применительно к нынешней эпохе. — Это вещь столь логическая и общепринятая в высоконравственном обществе, — добавил он, — что у меня нет по этому поводу никаких особых философских взглядов, которыми бы я мог с вами поделиться. — Простите, Фрюманс, — ответила я со всей серьезностью. — Я достигла такого возраста, когда мне, может быть, не сегодня завтра предстоит сделать свой выбор. Не можете ли вы сказать, надо ли мне решиться на брак как на неминуемый исход в моем положении или вы советуете мне подождать, пока я стану более компетентной, более разумной и более способной к самостоятельному решению? — Я не могу давать вам никаких советов. Если бы вы были совершенно свободны, я бы сказал, что спешить незачем. Но если ваша бабушка, которая боится оставить вас одну на свете, хочет, чтоб вы с этим не медлили, я никоим образом не должен противоречить ее желанию. Я рискнула пойти на обман, чтобы узнать правду. — Я полагаю, — сказала я, — что бабушка хочет моего брака. — Тогда послушайтесь бабушку и Женни, обе они заботятся о вашем счастье. — Мое счастье, Фрюманс! Почему вы пользуетесь столь банальными выражениями, вы, который взирает на все с таких высот? Разве следует рассматривать брак как залог счастья? Не лучше ли было бы принять его как ясный и простой долг, как дань обществу и семье, не задавая себе вопроса, что в нем найдут — плохое или хорошее? — Если вы держитесь таких взглядов, мой дорогой философ, — с улыбкой сказал Фрюманс, — то это великолепная защита против таинственных случайностей грядущего. Но позвольте мне надеяться, что вся эта благородная мудрость, которой вы вооружились, будет вознаграждена судьбой. — Зачем обольщать меня иллюзиями, которых я больше не хочу, дорогой Фрюманс? У меня было их вполне достаточно, вы это знаете, я была мечтательной, отрешенной от жизни девушкой. — Да, — засмеялся Фрюманс, — но с тех пор прошел уже целый век, то есть год или два! — Если я считала, что брак может дать какую-то радость в жизни, то это отчасти и ваша вина, мой друг. — Моя? Но почему же? — Ах, боже мой, разве вы не были во власти увлечения, которое меня поразило… конечно, помимо вашей воли. Но в конце концов, вы были очень близки к тому, чтобы полюбить, если только вы уже не любили кого-то, кого любите сейчас, не так ли? Фрюманс покраснел. Его мужественное и смуглое лицо еще хранило на себе эти внезапные перемены окраски, свойственные детству. — Люсьена, — ответил он, — вы были любопытны, когда были мечтательной девицей, это вполне логично, но теперь… — Теперь, дорогой Фрюманс, я стала серьезной и откровенно перехожу к теме, которая меня интересует. Но не лишайте же меня вашего доверия и уважения. Я способна хранить тайну и уже давно знаю о вашей любви к женщине, которая мне дорога. — Она сама сказала вам об этом? — Нет, но я знаю, что бабушка уже давно желает этого брака, и меня удивляет, что столько препятствий стоит на его пути. — Эти препятствия могут быть вечными, Люсьена, и вы видите, что я примиряюсь с ними с достоинством, которого требует подобный случай. — Да, но должна ли я заключить из этого, что вы верите в счастье как награду за исполненный долг не больше, чем в будущую жизнь, которую нам обещают? — Дорогое дитя, — сказал Фрюманс, поднявшись с места и как бы желая прекратить дальнейший разговор, — я верю в долг и счастье в этой жизни, потому что одно есть если не награда, то по крайней мере неминуемое следствие другого. Зная, что я испытывал священную любовь к женщине, я уверен, что буду вполне удовлетворен, если сумел ей это доказать, но если фатальные обстоятельства вынуждают меня пройти мимо этого счастья, так и не обретя его, у меня все-таки останется утешение, что я могу сказать себе, что в любой час своейжизни я сумел быть достойным мечтать о нем и что я унесу с собой в могилу уважение той, которая была мне другом. С такими мыслями вы не подвластны ни мукам, ни иллюзиям, вы выполняете долг преданности до конца, а если он окажется бесполезным, вы приемлете смерть спокойно — тут уж никто не виноват! Фрюманс произнес все это стоя, одной рукой опираясь на стол, а другую положив себе на грудь, без всякой напыщенности, но с какой-то особой торжественностью. Мне казалось, что он словно переродился. Я никогда его таким не видела — лицо и поза были великолепны, а глаза блистали, как два черных бриллианта, излучавших солнечный свет. Я была глубоко тронута и поражена его видом, словно неким откровением, и не могла вымолвить ни слова. Мне хотелось вырвать у него его тайну, тайну терпения и упорства, в которой я различала, помимо могучей воли стоика, еще и таинственное пламя, еще более прекрасное, чем философия. Любовь, призрак, появившийся и мгновенно исчезнувший, мелькнула предо мной и внушила мне уважение, смешанное со страхом, быть может, даже с сожалением!XXXII
Мариус не преминул начать подшучивать над моими чувствами. Я покинула Помме потрясенная и замкнувшаяся в себе, и Мариус в этот день всячески старался развлечь меня, но напрасно. Я твердо решила подвергнуть Женни тому же испытанию, что и Фрюманса. Прежде чем избрать ледяной путь, открытый передо мной иронией Мариуса, я хотела знать, существует ли любовь большой нравственной силы в возвышенной душе и может ли женщина любить мужчину, не напоминая при этом томимую любовными страданиями Галатею. В тот же вечер, уединившись с Женни, я попробовала вызвать ее на откровенный разговор, но гораздо больше смущаясь, чем до этого с ее женихом. В Женни было нечто такое строгое, что в ее присутствии мне становилось стыдно. Как только она догадалась, о чем я ее спрашиваю, она бросила на меня суровый взгляд. — Кто же мог сказать вам об этом? — промолвила она. — Ведь на эту тему вели разговор только трое: ваша бабушка, Фрюманс и я. Я не смела солгать ей и рассказала все то, что поведал мне Мариус. — Господин Мариус должен был держать это при себе, — возразила она. — Для вас еще не наступило время заботиться о судьбах других людей. У вас хватит забот, когда дело пойдет о вас самой. — А когда это произойдет? — Когда вы сами изъявите желание. Разве оно у вас уже возникло? — О нет, Женни, желания у меня нет, я испытываю только чувство неуверенности. Мне хотелось бы знать, очень ли нужно любить своего мужа. — Да, конечно, его нужно любить больше всех на свете, если он того заслуживает, а если нет, то нужно всю жизнь стремиться скрывать его ошибки и провинности. Это очень тяжелая участь; вот почему надо иметь мужа, заслуживающего уважения, которого можно любить, а не выходить замуж, не отдавая себе отчета в том, что делаешь. — Ты вышла замуж очень молоденькой, Женни? — Да, слишком рано. — И ты была несчастна? — Не будем говорить обо мне. — Нет, будем! Раз ты решила стать женой Фрюманса, значит, ты его очень уважаешь. — Да, я его очень уважаю. — Стало быть, ты любишь его больше всех на свете? — Нет, Люсьена. — Как это нет? — Есть некто, кого я люблю больше, чем его. — Кто же это? — Вы. — Ах, Женни, — воскликнула я, обнимая ее. — Ты боишься, что я буду ревновать к нему. Но я не буду, я не эгоистка, я хочу, чтобы ты любила своего мужа больше, чем меня. — Фрюманс не мой муж, Люсьена. Да он им, наверно, никогда и не будет. — Почему же? — По причинам, которые я не могу вам открыть и которые не зависят ни от него, ни от меня. — Как это все загадочно, Женни! — Ничего не поделаешь, дитя мое. Я заметила, что лицо ее помрачнело, такой я ее еще никогда не видела. Вся в слезах я бросилась в ее объятия. — Ты пугаешь меня, — сказала я, — мне кажется, что ты все еще несчастна. — Здесь? С вами? — возразила она с улыбкой. — О нет, это невозможно. Если я была несчастна на этом свете, то не по своей вине, поэтому, как вы видите, я совершенно спокойна. — Ты говоришь, как Фрюманс, но только спокойнее. Он прекрасно сказал, что спокойная совесть вознаграждает за все, но при этом глаза его блестели, и ясно было, что он любит тебя превыше всех на свете. — Так, значит, вы говорили обо мне с Фрюмансом! Ну и озорница! Вы смело делаете все, что вам угодно! — Ты считаешь это преступлением? — Нет, вы такая, потому что вы хорошая, и еще потому, что вы думаете о нас обоих. А вот этого бы мне и не хотелось: можно себе представить, что думают о себе, когда думают только о вас. — А почему бы тебе самой не подумать о себе? — Деточка моя дорогая, — сказала Женни серьезно и твердо, — я никогда не стремилась выйти замуж вторично. Ваша бабушка, существо ангельской доброты, вообразила себе, что мне нужна еще и другая привязанность, кроме ее и вашей. Фрюманс пришел к этому же убеждению, потому что так говорила бабушка. Но сейчас Фрюманс прекрасно понимает, что я прежде всего мать, что вы мой единственный ребенок и что я не из таких женщин, которые беспокоятся о своем будущем: что будет, то будет. Я позабочусь о своем будущем, когда устроится ваше. Ваш муж, быть может, не оценит меня так, как вы… и тогда… тогда посмотрим! — Стало быть, твоя любовь к славному Фрюмансу зависит от твоей воли? Ты достаточно сильна, чтобы сказать себе: «Я могла бы его полюбить, но не захотела», или даже: «Я полюблю его в тот день, когда мне заблагорассудится полюбить!» — Вы смеетесь, насмешница? — промолвила Женни, не теряя спокойствия. — Ну да, я именно такая. Я прошла школу, которой вам, слава богу, никогда не доведется пройти, и там я обрела силу воли в такой степени, в какой Фрюманс сумел набраться из своих книг. Наступит время, когда я вам поведаю все это, но пока еще не могу. — Но скажи мне хоть одно, Женни! Ты сама-то веришь в Бога? — О да, конечно. Те, кто много страдал, не могут иначе. — А ты знаешь, что Фрюманс не верит? — Знаю, это его основная мысль. — И тебя не волнует, когда ты говоришь себе, что, может быть, станешь его женой? — Прежде всего часто я себе этого не повторяю. Бесполезно думать о том, чего нельзя ни приблизить, ни отдалить. Надо принимать время таким, какое оно есть в своем движении. А затем, если мне когда-нибудь придется жить с человеком, который сомневается в существовании Бога, мне представляется, что я его переделаю. — А если тебе это не удастся? — Ну, я как-нибудь утешусь. Я скажу себе, что он будет видеть более ясно в лучшей жизни и что Бог сочтет, что там он достоин узреть больше света, чем в этом мире. Ну, хватит, Люсьена, уже одиннадцать часов. Спокойной ночи, и пусть моя судьба вас не тревожит. Не надо было мне жаловаться, раз вы меня так любите. Она поцеловала меня в лоб и удалилась в свою комнату, такая же спокойная, как и в другие вечера. Исповедь Фрюманса приоткрыла мне дверь к идеалу, протест Женни вновь закрыл ее. В течение некоторого времени на небесах грядущего я видела лишь непроницаемое облако. Сильная душа Фрюманса грезила о любви и возвышала ее. Большая душа Женни старалась отдалить ее, даже не мечтая о ней. Значит, этот тиран людских сердец был весьма добродушен, и его легко было держать в узде любому, кто обладал острым умом, а я имела основания считать себя отнюдь не ниже других.XXXIII
Именно тогда, беседуя в свободное время о Фрюмансе, о Женни и даже о полоумной Галатее, мы с Мариусом как-то незаметно стали иногда переводить разговор на самих себя. Во мне возникла необъяснимая досада на судьбу, и Мариус с удивлением обнаружил в моем сердце какие-то бездны печали и разочарования. Он не воспользовался этим с заранее обдуманным намерением, а извлек из этого некую пользу для себя, как, впрочем, обычно из всего того, что падало ему прямо в руки с неба. — Ты совершенный ребенок, — сказал он, — если ты так занята своим будущим. Оно у тебя настолько простое, что тебе остается только принять его. Ты знатного происхождения, получила прекрасное воспитание, и независимо от того, есть или нет у твоего отца большое состояние и другие дети, твоя бабушка, как мне известно, устроила все так, что ты являешься ее единственной наследницей. Это дает тебе примерно двенадцать тысяч ливров ренты, то есть тысячу франков в месяц — в провинции это просто великолепно! — Но меня не интересуют деньги, Мариус, я ведь о них никогда не думала. — Напрасно. Прежде всего надо знать, чем ты можешь стать в жизни. Ты выгодная партия и должна понимать, что это создает тебе в обществе независимость. — Ну, предположим. Но что мне делать с этой независимостью? — То же, что и все женщины, — выйти замуж. — То есть постараться поскорее освободиться от этой драгоценной независимости? — У тебя ложное представление о браке. Брак — это ярмо только для несчастных и мелких людишек. Люди благовоспитанные и не думают о том, чтобы угнетать друг друга. — Кто же им мешает? — Нечто весьма могущественное и властвующее над миром: умение жить. — И все? — Да, все, но в этом все и заключается. Ты, может быть, веришь в религию, в добродетель, в любовь? — Допустим, а ты? — Я тоже верю в это, но лишь постольку, поскольку они являются частью того главного, что я называю умением жить, то есть уважением к себе и боязнью мнения света. — Это мне кажется слишком холодным, Мариус! — Дорогая моя, только холод сохраняет, а от тепла все портится. — Значит, я должна начать с того, чтобы найти себе мужа в мире, где царит умение жить? — Да, в мире, к которому ты принадлежишь и с которым не можешь расторгнуть связи, не уронив самым позорным образом своей репутации. — Однако за пределами этого мира существуют же великие умы и характеры? — Берегись всего того, что является великим. Море огромно, но оно — источник ураганов. Если ты стремишься к героической и трудной судьбе, то не проси у меня совета: я не любитель сложного и сверхъестественного. Я полагаю счастье в благоприличии — это ясно, как апельсин. Никакого суетного тщеславия, никаких утонченных мыслей! Здравый, практический смысл, тихий нрав, любезные взаимоотношения, доброжелательность и достаток, насмешка как средство третировать глупцов, внимательность и заботливость по отношению к тем, кого любишь, досуг и покой, чтобы воспитывать своих детей в уважаемой и мирной среде, — что еще нужно двум воспитанным людям, двум разумным существам? Постоянно возвращаясь к этой теме, Мариус убедил меня, что он прав, и я краснела, вспоминая о своих иллюзиях. Я начала исследовать свою совесть в прошлом и пришла к выводу, что избрала тогда ложный путь. Я поняла свое неосознанное кокетство с Фрюмансом и утешилась только тем, что он, вероятно, его не заметил. Потом я стала задавать себе вопрос, что произошло бы, если бы он был человеком тщеславным, беспринципным или попросту слабохарактерным. Передо мной предстал весь ужас моего позорного положения, нелепые мучения, подобные страданиям Галатеи, свет, предающий меня анафеме, укоры Женни, отчаяние бабушки. И все это могло случиться со мной, несмотря на невинность моей души и чистоту намерений! Я сурово осуждала себя и старалась примириться с собой, убеждая себя, что Мариус спас меня от пустых иллюзий и я должна быть благодарна ему. Мой ум много потрудился над этим, и, чтобы успокоиться, я делала над собой страшные усилия, которые только отдаляли наступление желанного спокойствия. В первый же раз, как я увидела Фрюманса после исторгнутой мною у него исповеди, я смотрела на него уже другими глазами. Его внешняя красота, которой он действительно отличался и к которой я относилась равнодушно, теперь, казалось, обрела нравственное достоинство, чего я раньше как-то не замечала. Меня раздражали жадные взгляды, устремляемые на него Галатеей. Я была с ним серьезна и сдержанна, как никогда раньше. Я изучала его в аспекте пресловутого умения жить, столь высоко ценимого Мариусом, и нашла, что Фрюманс со своими простыми манерами и непринужденным разговором имеет вполне пристойный вид и говорит на хорошем литературном языке. Я без всякой задней мысли сказала это Мариусу, а он мне ответил: — Конечно, Фрюманс — малый приличный и обладает чувством такта: таков закон и добродетель подъяремных. Мне это словечко не понравилось, и я дала ему это понять. Мариус расхохотался и спросил, не собираюсь ли я пойти по следам Галатеи. Тут уж я так обиделась на подобное сравнение, что он вынужден был попросить у меня прощения. Эта небольшая размолвка потом повторялась и волновала меня больше, чем следовало бы. Я невольно думала о Фрюмансе так же часто, как в то время, когда я думала о нем добровольно, чтобы пожалеть его. Я уже больше не витала над ним, не была ангелом его грез. Он стал неотвязным, необъяснимым, может быть даже угрожающим властителем моих мечтаний. Я, конечно, не любила его, я не могла его любить, но он воплощал в себе любовь могучую и истинную, верную и преданную, о которой я получила представление в свой романический период, и когда я мысленно переносилась в то счастливое время, когда я готова была уверовать в свою высокую участь, я жалела о нем и действительность казалась мне печальной и плоской. Как часто я восклицала в своем уединении: — А стоит ли вообще жить? Когда боль усилилась, я совершила героический акт: приняла решение отказаться от уроков и бесед с Фрюмансом. Мне помог отъезд Галатеи, с которой Мариус, уступая моим настояниям, стал наконец говорить серьезно. Фрюманс тоже начал замечать амуры этой девицы и дал ей понять, что она ведет себя слишком назойливо. Мариус взялся открыть ей глаза и прочитать соответствующую нотацию. Когда в первый раз к ней отнеслись серьезно, она сочла себя оскорбленной и осмеянной. Она устроила нам дикую сцену отчаяния и в одно прекрасное утро ушла к своей матери, которая как следует отругала ее и в тот же вечер привела обратно. Женни вынуждена была разъяснить ей истинное положение вещей. Госпожа Капфорт не подала виду, что она разгневана, смиренно поблагодарила Женни за ее добрые советы, а Мариуса — за его доброе отношение к ее «бедной девочке, такой искренней». Она уехала, благословляя нас всех, но глубоко униженная и поклявшись в неумолимой ненависти к нам. Я воспользовалась случаем заявить Женни, что не считаю больше необходимым посещать Помме по воскресеньям. Мне показалось вполне возможным, что Галатея в приступе идиотизма вдруг признается своей мамаше, как она ревновала Фрюманса за то, что он отдает мне «предпочтение» перед ней, и что госпожа Капфорт сейчас же начнет рассказывать обо мне всякие неслыханные, нелепые истории. Женни поняла, что я права, и взяла на себя труд рассказать бабушке о том, что произошло. Я вступала теперь со дня на день, и притом по собственной воле, в новый период своей жизни — в нравственное уединение и шла на риск того, что мне придется без посторонней помощи нести страшный груз смятенного и опустошенного сердца. Я не старалась нарочно избегать Фрюманса. Он приходил с дядей, который по большим праздникам служил обедню в Бельомбре. Иногда я встречалась с ним и на прогулках, и мы дружески здоровались. Но так как я всегда ехала верхом, а он шел пешком, то нам удавалось лишь обменяться несколькими словами. Я больше не посылала ему своих литературных фрагментов и ни о чем уже с ним не советовалась. У Мариуса в это время как будто возникло в Тулоне сердечное увлечение, и под различными предлогами он стал приезжать уже не каждую неделю, а чуть ли не раз в месяц. Женни так слабо поощряла мое стремление излить свою душу, что я совсем перестала говорить о том, что меня волновало. Я отдалась вместе с ней заботам о бабушке, около которой я сидела почти весь день с работой в руках. Вечером, когда она ложилась спать, — а это всегда бывало очень рано, — я еще немного читала в своей комнате. В шесть часов утра я уже была верхом на лошади и каталась с Мишелем до десяти или в одиночестве прогуливалась по нашему обширному поместью, откуда достаточно было сделать всего несколько шагов, чтобы попасть из этого уединения в уединение скрытых в горах и пустынных оврагов. Я стала такой прилежной и мечтательной, что Женни забеспокоилась, но пришлось предоставить мне свободу действий. Я не могла больше жить в этом ужасном уединении, не предаваясь со страстью интеллектуальным занятиям. Я изучала древние языки, естественные науки и философию. Я читала самые сложные книги, я принялась одолевать даже геометрию. Я нашла средство заполнить свои дни и постепенно ощущать их не такими уж длинными для всего того, что я хотела познать или по крайней мере понять в природе и человеческой жизни. Мой ум был достаточно развит для моего возраста и пола, что не мешало мне сильно страдать от пустоты в сердце: чем больше я погружалась в работу, чтобы подавить его стремления, тем больше оно заявляло о своих правах в дни протеста. Дело дошло до того, что я стала рассматривать его как своего злейшего врага и считать его чуть ли не преступником! Однако видит Бог, что оно продолжало оставаться чистым и требовало для себя лишь исключительной и святой любви. Но где могло найтись ей место? Мой разум возражал ему, что не может предоставить ей гостеприимство и что бесцельная любовь есть чувство опасное, которое надлежит задушить в зачатке. Умственный труд был для меня серьезной опорой, и когда я принималась за новый цикл занятий, я предавалась этому с таким наслаждением и пылом, что мне казалось, будто я уже навсегда успокоилась, навсегда одержала победу. Но внешние обстоятельства, воспрепятствовать которым было не в моей власти, вновь ввергли меня в смятение. Бабушка хотела выдать меня замуж, и время от времени ее друзья господин Бартез, господин де Малаваль, доктор и некоторые другие приезжали к ней обсудить эти неясные планы или предложить какие-то реальные варианты будущего брака. Она советовалась со мной или просила Женни сделать это, но все, что мне говорили об этих претендентах на мою руку, мне не нравилось. Прежде всего я стремилась никогда не покидать бабушку и быть уверенной в том, что меня не разлучат с Женни, а в этом-то и заключалась главная трудность: одни были моряки, люди бездомные и зависимые от службы, за которыми надо было повсюду следовать или ожидать их на том или ином берегу, у других были семьи, которыми они не могли ради меня пожертвовать. Мне называли лиц, которых я уже раньше встречала, но они становились мне отвратительны сразу же, как только я вспоминала, что ради них я должна утратить свою независимость. Они мне вовсе не нравились, хотя бы по той простой причине, что нравились мне слишком мало. Положение девушки, которой предстоит вступить в брак, имеет свои горести и опасности, которым мужчины не придают особого значения. Они склонны считать надменной и взбалмошной ту, кто, ни в чем не упрекая их, просто не испытывает к ним ни малейшей симпатии. Не столь разборчивые, как мы, ибо они знают, что всегда будут властвовать над нами, как мало бы личных и социальных преимуществ они ни имели, они думают, что оказывают нам честь, предлагая свое покровительство. Мы, которые знаем, что, отдавшись им, уже перестаем принадлежать себе и своим родственникам, мы полны страха перед этим чужаком, который приходит покупать нас и довольно часто при этом торгуется. Желание и чисто детское любопытство порождают больше браков, чем способность здраво рассуждать. В пятнадцать лет не особенно возражают, в двадцать — ужасаются, а я как раз достигла этого возраста, когда возникли серьезные предложения руки и сердца. Должна сказать, впрочем, что их было не так уж много. При всей моей сдержанности моя репутация ученой девушки, весьма осмеянная и поставленная мне в вину госпожой Капфорт и ее присными, превознесенная и преувеличенная господином Бартезом и его друзьями, отпугнула многих претендентов. В нашей местности господствуют варварские обычаи: в людях много предрассудков ума и, конечно, воображения, но мало культуры, и нравы царят, в общем, жестокие. Кроме того, стороной я постепенно узнала, что мое романическое положение потерянного и найденного ребенка вызывало довольно серьезные опасения, которые дурная молва использовала против меня. Бредовые речи Денизы нашли отклик, и совершенно ясно, кто из недр дома для умалишенных распространял и толковал вкривь и вкось бессвязные слова бедняжки. Эти слухи имели целью убедить всех, что я дочь Женни и что, льстя себя надеждой сделать меня своей наследницей, бабушка лелеяла лишь несбыточные иллюзии. Однако господин Бартез, который был ее лучшим и самым верным другом, утверждал, что мое будущее во всех отношениях незыблемо. Мариус, занимавшийся моими делами, тоже не имел, по-видимому, никаких сомнений, а Женни, с которой я осмеливалась заговаривать об этом очень редко, так как боялась оказаться неделикатной, рассуждала на эти темы так спокойно, слова ее были для меня столь священны, что я рассматривала все словопрения насчет подлинности моей личности как пустую и нелепую шумиху, которая ни на мгновение не должна причинять мне беспокойства. Невероятно, но я волновалась так мало, что иногда даже как бы презирала устойчивость моего положения. В моменты хандры мне нравилось воображать, что моему будущему грозит некая катастрофа, которая дала бы толчок моей ныне бездействующей воле. Мне приятно было мечтать о том, что я ребенок из простой семьи, коему рано или поздно предназначено вернуться во мрак и безвестность трудовой жизни. И в подобных мечтах, — я должна здесь все поведать, — я представляла себе друга, товарища, супруга, такого, как Фрюманс, бедного, неизвестного, стоического, занятого физическим трудом при свете солнца и умственным в тишине ночей. Человека действительно сильного и смелого, самозабвенно отдавшегося своей цели, закаленного в Стиксе[37] и гораздо более счастливого сознанием исполненного долга, чем всеми обольщениями славы и богатства. Сей призрак, похожий на Фрюманса, все-таки не был им, он и не мог быть им, ибо он любил Женни, да, кроме того, я и сама не хотела, чтобы это был он. Но тот, кто не был похож на него, не казался мне достойным моего доверия и уважения. Но это умственное увлечение не было, однако, чем-то постоянным. Я должна сказать здесь всю правду или по крайней мере все, что я знаю об этой загадочной странице моей жизни. Я проводила дни, недели, месяцы, совсем не думая о Фрюмансе, а когда я все-таки думала о нем, то всегда все с большим и большим душевным спокойствием. Женни мне о нем почти не напоминала. Еще больше, чем я, погруженная в свои повседневные дела, она, казалось, совсем не думала о нем, а если ей и случалось обмолвиться о нем, то это всегда касалось каких-то реальных мелочей или чего-то не связанного лично с нею. С каждым уходящим днем возможность их брака казалась ей все более невероятной. Она начала вести счет своим годам, и если я говорила ей, что она гораздо красивее меня и почти так же молода, она пожимала плечами и отвечала: — О чем тут говорить? Ведь мне тридцать три года! Впоследствии я хорошо поняла, почему Женни всей своей нравственной силой, которой она была наделена столь щедро, отстраняла от себя мысль о любви. Видя, что мне по моему характеру и создавшемуся положению не так-то легко выйти замуж, она не хотела, чтобы я стала свидетельницей или просто помыслила о счастье, столь от меня далеком. Ей почти удалось заставить меня забыть, что Фрюманс, несмотря ни на что, все-таки стремится к этому счастью и в бесконечном ожидании его находит удовлетворение, достойное их обоих. Я пробовала подражать этим двум избранным существам и полностью отрешиться от себя, чтобы жить лишь чувством долга. Увы! Я была слишком молода, чтобы без всяких усилий и рецидивов былой болезни осуществить столь огромную жертву. Мной овладела скука, подумать только — скука в жизни такой энергичной и деятельной, как моя! Ну да, конечно, это была скука. Бывали мгновения, когда самые увлекательные книги валились у меня из рук, как будто они были тяжелые, как горы. Во время прогулок мною иногда овладевало яростное желание перепрыгнуть через пропасть или кинуться ничком в траву и зарыдать. По ночам я видела, как какой-то бесформенный и безымянный призрак склоняется надо мной и вырывает перо из моих рук. Этот призрак неотступно был около меня, и я слышала, как он шепчет мне на ухо: — Берегись! Между путем, которым ты шла раньше, и тем, который ты должна будешь избрать теперь, лежит целая пропасть, и новый путь не приведет тебя никуда. Наконец наступил день, когда я почувствовала, что так напугана этим наваждением, что в надежде избавиться от него решила броситься в объятия Мариуса — головокружительный шаг от сознания безвыходности своего положения!XXXIV
Он покончил со своей любовной интрижкой в Тулоне и стал снова постоянно бывать у нас. Эта мимолетная вылазка в мир увлечений ничуть не изменила его. Он говорил мне, как раньше, как всегда: — Счастье — это отсутствие забот, это отрицательное состояние. Я в последний раз выслушала его незыблемые теории, немножко позавидовала его невозмутимому равнодушию и, вдруг набравшись храбрости, с грустью спросила, не думает ли он, что мы с ним в один прекрасный день можем осуществить его мечту. Он, казалось, был необычайно удивлен. — Ах, вот что! — ответил он с каким-то нервическим смехом. — Надеюсь, ты не собираешься сказать мне, что влюблена в меня? — Будь спокоен, я отнюдь в тебя не влюблена. Я знаю тебя и знаю теперь себя в достаточной степени, чтобы видеть, что о браке можно говорить так же, как и о любой другой реальной вещи. Думал ли ты когда-нибудь о том, что мы могли бы пожениться, если б того захотели? — Это не так легко, как ты думаешь. Я равен тебе по происхождению, а женитьба сделала бы меня равным тебе и по состоянию. Но твоя бабушка, которая сама уже больше ничего не решает, но, может быть, еще лелеет для тебя какие-то тщеславные надежды, должна будет ждать, что скажешь ты, чтобы решиться на это. — Это означает, что все зависит от меня. — И от меня, если угодно! — Несомненно, об этом-то я тебя и спрашиваю. Ты будешь рад стать моим мужем? — Погоди, дай мне подумать. — А, так, значит, это в первый раз! Ну, будь же искренен! — Я хочу быть искренним. Я думал об этом уже сотни раз. Иначе и быть не могло. Ты, конечно, та, которую я люблю больше всех на свете, но это отнюдь не означает, что я умру от отчаянья, если ты выйдешь замуж за кого-то другого, более богатого, более образованного, более учтивого, — это твое право. И именно потому, что я всегда признавал за тобой это право, я никогда не рассматривал тебя как существо, от которого зависит моя жизнь. Ясно? — Да, и это вполне разумно. — Это разумно и честно. — И к тому же согласуется с умением жить. — А, Люсьена, я понимаю! Ты иронизируешь, малютка! — Нет, я просто подлаживаюсь к твоему словарю, чтобы избежать недоразумений. — Послушай, деточка, если это испытание, которому ты хочешь меня подвергнуть, то не утруждай себя. Я никогда не буду ухаживать за тобой, иначе говоря — не буду тебе лгать. Я не буду закатывать глаза и испускать вздохи, способные заставить вертеться мельницы Галатеи. Я никогда не превращусь в пастушка, никогда не буду брать твои руки в свои и никогда не буду просить тебя о сладостном поцелуе под сенью древес. Ты никогда не увидишь меня перед собою на коленях. Помимо того, что это было бы ужасно глупо, это было бы еще и весьма скверно. Ты ведь уже не ребенок и знаешь, что молодая девушка, как бы хорошо она ни была воспитана, может быть нервной, даже не обладая чувствами Галатеи. А я знаю, что человек из высших кругов не должен стремиться волновать чувства юной девицы, не пользуясь ее полным доверием, в свободном согласии, под эгидой разума. Вот уж где я не какой-нибудь неотесанный болван, и ты должна признать, что умение жить, которое я ставлю себе в заслугу, это настоящее достоинство для молодого человека моего возраста. Я была весьма довольна тем, как Мариус все это выразил. Как бы я ни говорила или думала, я любила великое: мы были детьми Империи, и хотя меня воспитали легитимисткой, фимиам героизма еще витал в моем уме. Мне казалось, что я вижу нечто весьма высокое в постоянной холодности Мариуса, и призрак Фрюманса казался мне скорее напыщенным, чем искренним. В своей философии Мариус был наивным, весь его стоицизм — это был он сам, его плоть и кровь. Я приняла ничтожность за величие. — Я довольна тобой, — заключила я. — Именно так я и понимаю взаимное уважение, которое мы должны чувствовать друг к другу. Тебе остается только сказать, будешь ли ты благодарен мне, если я повлияю на бабушку? — Что ты хочешь этим сказать? — Будешь ли ты действительно на свой лад счастлив, разделив со мной жизнь? — Да, если твоя жизнь останется такой же, какая она теперь. — А что ты, в свою очередь, хочешь сказать? — То есть если ты собираешься руководствоваться и в дальнейшем здравыми принципами и иметь полное доверие к моим. — Я доверяю твоему характеру и хочу сохранить свои здравые принципы. Что еще я могу сказать? — Ну ладно, мы еще вернемся к этому разговору, еще потолкуем на свободе, и если еще некоторое время мы будем довольны друг другом, мы решим больше не разлучаться. Если, наоборот, мы признаем это неосуществимым, мы отвергнем этот вариант, не переставая, впрочем, уважать друг друга и быть лучшими друзьями на свете. Это тебе подходит? — Вполне. С этого момента я полагала, что для моего ума наступил период полного отдыха. Я думала о Мариусе так, как думала бы о приобретении хорошего, долговечного дома или библиотеки, предназначенной для того, чтобы в спокойном уединении провести там всю остальную жизнь. Я вновь обрела сон, печаль моя развеялась. Я стала строить планы счастья для других. Женни будет жить со мной, я уговорю ее выйти за Фрюманса, который станет учителем моих детей. Мариус отдаст должное этим добрым друзьям. Я уже никогда не разлучусь с ними. У меня никогда не будет иного домашнего очага, нежели дом моей дорогой бабушки. Я никогда не разлучусь и с ней, живой или мертвой. Я свято сохраню все, что создано и устроено ею, я буду жить в священном мире воспоминаний. Мариус сдержал свое обещание: он не ухаживал за мной, но мой серьезный и полный решимости вид вселял в него доверие. Раньше он никогда не давал себе труда быть столь любезным. Это была сдержанная почтительность, постоянная внимательность, братская предупредительность без малейшей аффектации, и в этом не было ничего предумышленного. Он, казалось, незаметно подпадал под очарование более тонкого чувства, чем наши обычные товарищеские отношения. Он вел себя безупречно в отношении бабушки, которая снова начала дарить его своей дружбой и даже баловать. Я старалась сделать все, чтобы помочь этому. Мне тоже было очень приятно баловать кого-то, и я открыла свое сердце дружбе, которая, как мне казалось, с избытком должна была заменить любовь. Я не хочу быть ни неблагодарной, ни несправедливой по отношению к Мариусу. Он поступал вполне честно в том смысле, что, желая обрести со мной счастье, то есть благосостояние, заботы о себе и устойчивость быта, он твердо решил вознаградить меня за это ласковостью, внимательностью и тысячью маленьких уступок в интимной жизни. Не следовало, да и нельзя было требовать от него того, что было выше его возможностей, и стремиться к тому, чтобы он понял то, что было за пределами его понимания. С женой, лишенной воображения и остроты чувств, он был бы образцовым мужем. Я прилагала большие усилия, чтобы стать похожей на него и начать чувствовать совершенно иначе, и тогда он легко мог бы обмануться и с полной искренностью обещать мне сделать меня счастливой. С недели на неделю наше взаимное доверие незаметно крепло все больше и больше. Осенью 1824 года он получил месячный отпуск, который нас совсем сблизил. Он любил охотиться, и так как он все время стремился к утверждению своей независимости, то сначала стал ездить на охоту каждый день, чтобы посмотреть, как я к этому отнесусь. Я поняла, что он подвергает меня испытанию, но не подала вида. Он отдал должное моей хитрости, и поездки на охоту прекратились. Теперь он проводил все время около меня, листал мои книги, критикуя их вкривь и вкось, но притворяясь, что интересуется ими, давал мне советы по ведению хозяйства в доме, как мужчина, который умеет все сделать простым и ясным, помогал мне развлекать бабушку, сопровождал меня на прогулки, делая вид, что не ищет случая остаться со мной наедине, но в то же время стремясь к нему, чтобы воспользоваться им и заставить меня представить себе наше будущее так, как он его сам понимал.XXXV
Я очень хотела посоветоваться с Женни, но Мариус воспротивился этому и доказал мне, что его право требовать, чтобы никто не вмешивался в наши отношения. — Я больше не хочу, чтобы тебе говорили обо мне хорошо или плохо. Я думаю, что Женни теперь меня уважает, и я почти уверен, что она посоветует тебе избрать в мужья меня. Думаю, что и Фрюманс тоже. Но неужели ты хочешь, чтобы я получил твое доверие из вторых рук, с ручательством за меня твоих друзей? Нет, этого я не потерплю, я был бы глубоко оскорблен. Я не навязывался тебе в мужья, я никогда бы даже не стал говорить с тобой об этом, как бы страстно я этого ни желал, ибо это не в моем обычае. Мысль эта принадлежит тебе, и, может быть, даже она и хороша, но я хочу быть обязанным за тебя только одной тебе, и пока ты будешь испытывать хоть малейшее колебание, я буду продолжать играть роль брата, которая кажется мне очень легкой и к которой я уже давно привык. Мне нравились и другие поступки, говорившие о его гордости. Он, например, ни за что не хотел взять обратно свою лошадь, которая уже стала моей, и потратил свои сбережения на то, чтобы приобрести себе другую. И все это только для того, чтобы сопровождать меня на прогулках и доказать, что он всегда сумеет заработать достаточно, чтобы как следует одеться и купить себе верховую лошадь. — Мужчине не так уж трудно, — говаривал он иногда, — обойтись без посторонней помощи. Если я останусь бедным, то сумею сделать так, чтоб никто этого не заметил, а если не буду счастлив, то не покажу вида, что я несчастен. Однажды мы пошли погулять к Рега. Он помог мне вскарабкаться туда, и когда я уже была наверху, он спустился за Женни и с таким же усердием помог взобраться и ей, чтобы доказать, что он вовсе не ухаживает за мною. Мне ужасно понравились какие-то цветы, и он преодолел отвесные скалы, залез туда, набрал огромный букет и швырнул мне его вниз, вместо того чтобы самому вручить его. Женни была немного удивлена этим. — Люсьена прекрасно знает, — сказал он ей, слезая оттуда, — что я не ухаживаю за ней, а просто делаю ей приятное. Эта манера привлекать к себе подобным способом, притворяясь равнодушным, задела мою гордость. Однажды, когда мы сидели на берегу озерца Зеленой залы, на нас нахлынули воспоминания детства, и в нем промелькнул отблеск какой-то нежности. — Ты помнишь, — сказал он, — на этом самом месте шесть лет назад ты спросила меня, считаю ли я возможным, чтобы мы полюбили друг друга? Так вот, сейчас между нами возникло нечто гораздо лучшее — истинная дружба, и мы помышляем о браке как о самом высшем доказательстве уважения друг к другу. — Ты принял решение, Мариус? — Я решил, и твердо решил, считать хорошим то, что изберешь ты, скажешь ли ты «да» или «нет». Я попыталась сопоставить твердость Мариуса по отношению ко мне с твердостью Фрюманса по отношению к Женни, но я почувствовала, что это не одно и то же, и мне не хотелось думать об этом слишком много. Не знаю, подавила ли я в себе последний прощальный вздох, обращенный к мечте о любви, но я приняла твердое решение освободиться от нее. — Завтра, — сказала я, — я сообщу бабушке, что решила выйти за тебя, если она согласна. — А если она скажет «нет»? — Почему же она скажет «нет»? — Ну предположим. — Тогда я попрошу ее сказать «да» и буду умолять каждый день, пока она согласится. — Значит, она согласится, потому что она всегда хочет того, чего хочешь ты. — Стало быть, мы обручены? — Да, — вымолвил Мариус. И, отпустив мою руку, он быстро удалился. Я была необычайно удивлена. Минуту спустя он возвратился. — Прости меня, — сказал он. — Мне кажется, что я был взволнован и боялся, что, поблагодарив тебя сейчас же, сболтну какие-нибудь глупости. Ведь это при бабушке, когда она согласится, я должен выразить тебе, как глубоко меня трогает благородство твоего сердца. Иначе это будет как-то нехорошо, а я не должен вести себя как мальчишка. Месяцем позже, после некоторых колебаний, нескольких совещаний с Женни, наведения в Тулоне ряда справок о том, как ведет себя Мариус, бабушка сказала «да». Женни вполне разделяла мою веру в Мариуса, а Фрюманс самым серьезным образом поздравил меня с моим выбором. Все трое полагали, что я всегда любила своего двоюродного брата и что теперь он это понял и заслужил. Бабушка избавила Мариуса от благодарственных излияний, потребовав от него лишь выполнения некоего священного и весьма трогательного обряда. — Не говори ни слова, дитя мое, — сказала она, — а встань передо мной на колени и, взяв меня за руки, поклянись сделать мою девочку счастливой. Мариус повиновался, приняв весьма серьезный вид, и попросил разрешения подарить мне кольцо с бриллиантами, доставшееся ему в наследство от матери. — Так, значит, ты его не продал, сын мой! — сказала бабушка ласково. — А ведь у тебя был трудный момент в жизни. Такое благородство чувств меня трогает, и сегодня ты вполне вознагражден за него, видя это кольцо на пальце Люсьены. Подали обед, и в это время пришли аббат Костель и Фрюманс, единственные свидетели нашей помолвки. Было решено, что все будет храниться в тайне до получения согласия от моего отца, которому аббат должен был немедленно послать письмо от имени бабушки. Мариус в тот же вечер должен был уехать в Тулон и не возвращаться, пока не будет получено родительское благословение. Этого требовали семейные традиции, и мы без возражений покорились им. Обед начался весьма торжественно. Бабушка прилагала все усилия, чтоб он проходил весело, насколько ей позволяло ее здоровье, участвуя в разговоре, хотя она могла расслышать только несколько слов. Единственная, чью речь она понимала, была Женни, которая, как она выразилась, знала, с какой стороны она лучше слышит. Увы, с какой же это? Но Женни стояла за ее стулом и быстро повторяла ей основное слово из каждой фразы разговора. Остальную часть бабушка отгадывала сама и начинала смеяться. Ей захотелось выпить две капельки муската, и она сразу почувствовала себя бодрее. Она высказала нам ряд тонких и умных мыслей. Рассуждала она весьма здраво. Аббат также держался превосходно и вел себя вполне разумно. Фрюманс блистал перед Мариусом красноречием, а тот отвечал ему весьма любезно. Женни старалась показать, что она просто в восхищении, но я заметила на ее лице волнение и даже какое-то беспокойство. Мне кажется, что она сочла, что Мариус ведет себя слишком мирно. Что до меня, то я великолепно играла свою роль: я чувствовала, что полна какого-то нового достоинства и должна сдержать данное Мариусу обещание быть невозмутимо спокойной. Но раза два-три мучительное волнение, жестокий страх сжимали мне сердце, кровь приливала к лицу, боязнь упасть в обморок заставляла меня смертельно побледнеть, рыдания сдавливали грудь. Почему? Я не могла сказать, но это было так, и, чтобы никто ничего не заметил, я старалась не выдать своих страданий.XXXVI
Я завершила длительный и правдивый анализ своего умственного и нравственного развития. Теперь я должна дать краткое резюме. Я начала с периода устремления к чудесному, что было неизбежным результатом ненормальных обстоятельств, возникших вследствие мистических фантасмагорий моей кормилицы. Женни удалось успокоить меня. Благодаря ей и урокам Фрюманса я спокойно и с пользой для себя дошла до отрочества. Тогда мое умственное развитие несколько притупилось, и в то же время воображение было чрезмерно возбуждено романами мисс Эйгер. Фрюманс вторично излечил меня серьезными занятиями, но это был момент, когда мое сердце, так сказать, искало цель жизни наугад, и во мне возникла причудливая смесь стоицизма и поэзии. Потом пришло разочарование, как следствие обманутого тщеславия. Я чуть было не поддалась чувству жалости к Фрюмансу и, краснея за себя, подвергла каре свое сердце, желая уничтожить его. Я решилась на спокойную дружбу и основанный на разуме, облагороженный чувством великодушия брак с моим бедным кузеном. Такой, какой я была, я в ходе однообразной и на первый взгляд спокойной жизни обрела самопознание и тайную силу, что достигается довольно значительными страданиями или внутренними переживаниями. Я слишком сильно себя любила и слишком высоко себя оценивала. Теперь я уже не так сильно любила себя, я отдавала себя слишком дешево, но во мне была внутренняя сила. Я была серьезна, искренна, совершенно бескорыстна и еще достаточно отважна, чтобы вынести непредвиденные превратности выпавшей на мою долю столь исключительной судьбы. День, в который я сама, по своей воле вовлеклась в помолвку с Мариусом, был отмечен роком. Обед продолжался дольше, чем обычно, мои метания между двумя крайностями — ужасом и ощущением победы над собой — угрожали выдать меня, и я нетерпеливо ожидала, когда можно будет запереться где-нибудь с Женни, чтобы выплакаться у нее на груди и получить объяснение или облегчение моих мук. Аббат Костель, который привык спать у себя дома и ложиться пораньше, предложил встать из-за стола, чтобы написать торжественное письмо моему отцу. Бабушка об этом, видимо, уже и не думала, когда Женни обратила мое внимание на то, что она слегка раскраснелась и с улыбкой на устах заснула. Мы привели ее в гостиную, где она уже окончательно уснула в своем огромном кресле. Это было не в ее обычае. — Она сегодня слишком взволнована, — заметила Женни, — пусть она отдохнет как следует. И, встав перед ней на колени, она стала поддерживать ее поникшую голову. — Господин аббат, набросайте черновик письма, — добавила она. — Когда госпожа проснется, мы прочтем его ей, и если она его одобрит, вы напишете письмо завтра утром, потому что сегодня ведь оно все равно не уйдет. Аббат начал писать, советуясь с Мариусом об именах, фамилиях и званиях, а Фрюманс, сидя за этим же столом, помогал дяде ясно изложить мысли и одолеть дремоту. Вэтот момент дверь осторожно отворяется, и Мишель делает мне знак подойти к нему. Полагая, что речь идет о каких-то распоряжениях по хозяйству, я выхожу в соседнюю комнату, где вижу нашего родственника господина де Малаваля вместе с господином Бартезом. — Не с вами, дорогое дитя, мне хотелось бы сперва поговорить, — сказал последний, пожимая мою руку. — Мне сообщили, что аббат Костель тут, не могу ли я повидать его и побеседовать так, чтоб ваша бабушка этого не заметила? Я ответила, что бабушка спит и что я пойду и позову аббата. — Бесполезно! — произнес де Малаваль, остановив меня. И, обратясь к Бартезу, он спросил: — Эта милая Люсьена не очень хорошо знала своего отца? — Она его совсем не знала, — возразил Бартез. — Ах, простите, — подхватил де Малаваль, у которого, как помнит читатель, воспоминания никогда не совпадали с истиной. — Когда он вернулся во Францию в эпоху… постойте… это было в тысяча восемьсот седьмом году. Я уверен в этом, я его сам видел, он сказал мне… — Теперь не время фантазировать о том, чего никогда не было, — нетерпеливо прервал его Бартез. — Маркиз никогда не возвращался из эмиграции, и Люсьена никогда его не видела. — Если вы так говорите, — сказал де Малаваль, — то это лишний повод, чтобы… — Вы хотите сообщить нам о семейном несчастье? — воскликнула я, обращаясь к Бартезу. — Мой отец… — Вы никогда его не видели, дитя мое? — спросил он. — Так вот, вы никогда его и не увидите! Я была гораздо больше потрясена этой мыслью, чем самой новостью, и то, что наш друг считал утешением, для меня было настоящим горем. Мне надо было выплакаться, теперь мои слезы нашли себе исход. Мариус, который стоял у приоткрытой двери, увидел это и сейчас же подбежал ко мне. Заставив его прикрыть дверь, де Малаваль, непрерывно поправляемый Бартезом, поведал нам наконец, что сегодня днем он получил известие о смерти маркиза де Валанжи, официальное известие за подписью адвоката его семьи, господина Мак-Аллана. Мой отец скончался в своем поместье в графстве Йоркшир в результате падения с лошади, после чего он прожил лишь два часа, не приходя в сознание. Поэтому я не могла даже предполагать, что в свой последний час он думал обо мне. — Так как нам было поручено довести это печальное известие до сведения вашей бабушки, — сказал Бартез, — мы не хотели выполнить это без соответственных предосторожностей. В ее возрасте подобные катастрофы переживаются нелегко. Теперь мы удалимся, пока она еще нас не видела, а вы, дорогие дети, понемногу подготовьте ее с помощью аббата Костеля и достойнейшей госпожи Женни. Вы выберете удобный в смысле ее здоровья момент. Пусть, если понадобится, пройдет несколько дней, спешить некуда. Однако у меня есть причины, Люсьена, почему я хотел бы побеседовать с нею до конца недели. Устройте так, чтобы к тому времени она уже знала об этом событии. Когда мы провожали их обратно, господин де Малаваль, видя, что я так расстроена, и зная, что Мариус — человек положительный, счел своим долгом дать ему вполголоса наставление, как успокоить меня. — Ну, ну, — говорил он, — раз уж она знала своего отца так мало (он продолжал утверждать, что я все-таки могла его немного помнить), скажите, что ей предстоит стать очень богатой. Он оставил после второго брака полдюжины маленьких англичан, но уверяют, что он оставил также и полдюжины миллионов фунтов стерлингов. — Вы ничего не понимаете, — возразил Бартез. — Люсьену мало интересуют деньги, и сейчас не время заводить об этом разговор. Я пожала ему руку и вернулась с Мариусом в гостиную, где бабушка продолжала спать, опершись головой на плечо Женни, в то время как аббат с помощью Фрюманса все писал свое торжественное письмо, адресованное покойному. Резкий контраст этого обычного спокойствия в нашем доме с трагической картиной, которую смерть отца представила моему воображению, лишила меня дара речи. Я села около бабушки, чтобы сменить Женни, которой я сделала знак подойти к столу, где Мариус стал объяснять ей, а заодно аббату и Фрюмансу, каким зловещим способом дошло до нас согласие моего отца. — Кто там умер? — вдруг спросила бабушка, проснувшись оттого, что Мариус слишком отчетливо произнес одно слово. — Никто, — ответила Женни, у которой хватило присутствия духа на всех. — Я сказала Мариусу, чтоб он говорил потише, потому что вы отдыхаете. — Я, кажется, совсем не спала, — возразила бабушка. — У меня что-то голова тяжелая. Дети мои, ваше старое вино и молодая любовь опьянили меня. Отложим письмо на завтра. Я должна как следует выспаться. Женни увела ее, и аббат, сказав мне несколько ласковых слов в утешение, также удалился. Фрюманс счел нужным оставить меня вдвоем с моим женихом. — Ну, к чему так сильно горевать, дорогая моя? — утешал меня Мариус. — Он никогда не относился к тебе как отец, и если бы он был жив, он причинил бы твоей бабушке много беспокойств и неприятностей по случаю нашей свадьбы. Как ни печально, но эта внезапная смерть сегодня для нас почти перст божий. — Не знаю, — промолвила я, несколько уязвленная подобными выражениями, — можно ли рассматривать смерть отца, каков бы он ни был, как благодеяние провидения. Но я твердо знаю, что помолвка, какой бы счастливой она ни казалась, омрачена и это печальное известие является для нее как бы угрозой. — Послушай, Люсьена, — возразил Мариус, в свою очередь несколько уколотый, — ты, по-видимому, думаешь, что меня волнуют материальные интересы. Позволь сказать тебе, что только по слухам я знаю о состоянии, которое предполагают у твоего отца, но я всегда говорил себе, что ты, конечно, получишь в наследство самую скудную часть его, может быть — даже ничего. Взяв богатое приданое за второй женой, он должен был принять меры предосторожности, чтобы закрепить за детьми, которых она ему родила, состояние, принадлежащее и ей и ему. Я нахожу это вполне естественным и ничуть не жалею, если так оно и есть. Но если я приветствую то обстоятельство, что между нами нет расхождений во взглядах, не выводи отсюда, пожалуйста, заключения, что я принимаю всерьез фанфаронство де Малаваля и рад миллионам фунтов стерлингов, о которых он возвещает столь громогласно. — Право же, Мариус, я не понимаю, о чем ты мне толкуешь — о каких-то миллионах да наследствах! Ты даже и не думаешь о возложенном на нас обоих поручении — объявить бедной бабушке, что единственный сын ее умер, не простившись с нею и не получив ее благословения! А если, узнав это, она сама умрет? — Вот это действительно было бы несчастьем! — возразил Мариус, вытирая мне глаза моим же носовым платком. — Но слезы горю не помогут, и мне казалось, что в тебе больше храбрости перед лицом серьезных испытаний… Ну хватит, поди отдохни, ты совсем развинтилась! А я пойду поищу Фрюманса, и мы подумаем с ним о том, как бы лучше подготовить бедную бабушку к роковому известию. Это сейчас гораздо важнее и нужнее, чем заранее лить слезы по поводу того, что может случиться. Он говорил строго, но с легкой иронией. Я чувствовала, что он уже берет надо мною власть, как над ребенком, которого надо вести за ручку и направлять в жизненной борьбе. Мне было страшно, хотя винить его, собственно говоря, было не в чем.XXXVII
Я так и не могла поговорить с Женни. Я села с нею около бабушки, за которой она следила, не смыкая глаз. Она опасалась за ее здоровье. Ее волнение передалось и мне, мы молча просидели рядом с нею до часу ночи. Затем Женни против моей воли велела мне идти спать. Но я не сомкнула глаз и на рассвете опять пошла к бабушке, которая спала спокойно, и лицо ее снова приняло свой обычный вид. Она встала, как всегда, со свежей головой и потребовала к себе аббата, который прочел ей черновик письма, составленного накануне. Она выразила желание подписать заранее белую страницу, предназначенную для этого послания, затем распорядилась, чтобы Мариус вернулся в Тулон, как она решила накануне. Мариус притворился, что уехал, а сам вернулся, ибо считал, что его присутствие здесь необходимо, да и я хотела, чтобы он на всякий случай был под рукой. Он старался не попадаться ей на глаза, а это было не трудно, так как бедная бабушка видела совсем плохо. Мне пришлось даже водить ее рукой, чтобы она подписала роковое письмо, которому так и не суждено было быть отправленным по назначению. Днем, видя, что она совсем успокоилась, я попыталась поговорить с ней о моем отце в связи с предстоящей свадьбой. Она обычно или совсем избегала говорить на эту тему, или отвечала предельно кратко. Но на этот раз, в виде исключения, она сказала с заметным волнением: — Твой отец для тебя чужой, но хоть он и забыл нас, ему придется в решающий час выполнить свой долг. А кроме того, время — великий советчик. Твой отец еще довольно молод, ему всего сорок четыре года, но он упускает из виду, что мне уже больше восьмидесяти и что, если он задержится с приездом, он меня не застанет. Но вообще я хочу надеяться, что по случаю твоей свадьбы он даст себе труд наконец вспомнить о нас. — Не будем обольщаться, бабушка, он не любит Франции, у него другая семья, меня он не знает… — А меня он разве не знает? Не говори мне таких жестоких слов, малютка! Свою мать не забывают. Приедет он или нет, оставь мне эту иллюзию. Если у меня ее отнимут, я умру. Испуганная и глубоко тронутая тем, что это материнское сердце все еще исходит кровью, я вынуждена была взять свои слова назад и притвориться, что разделяю с ней ее надежды. На следующий день оказалось уже совершенно невозможно развеивать ее иллюзии, а еще через день Женни добилась лишь того, что пробудила уснувшую нежность и вызвала слезы, за которые я с готовностью заплатила бы собственной кровью. — О Мариус, мы совершили преступление! — воскликнула я, вернувшись к своему жениху, который ждал меня в саду. — Мы хотели пожениться, то есть поставить бабушку перед лицом события, для нее очень тяжелого. А теперь мы ищем возможность нанести ей ужасный удар, чтобы ускорить ее решение. Она умрет от этого, клянусь тебе, и не кто иной, как мы, убьем ее! — Так что ж, — без малейшего колебания ответил Мариус, — тогда убережем ее от этого испытания… Подождем полгода, год, если нужно, то есть если найдется средство помешать ей узнать правду. Будет не так уж легко — нам придется быть очень осторожными, Люсьена! — Мы с Женни берем это на себя. К тому же это очень легко. Вернись к своим делам и будь уверен, что я воздам должное терпению, с которым ты будешь меня ожидать. — Не знаю, откуда ты взяла, что мне нужно так много терпения, — возразил Мариус. — Мы с тобой молоды, и у нас впереди много времени: ты дала мне слово, а я тебе. Если ты потеряешь бабушку, ты будешь зависеть лишь от себя самой. И, наконец, если ты передумаешь… ты знаешь, что я человек, держащийся светских приличий и хорошего тона. Когда приехал Бартез, мы уже разговаривали между собой так холодно, как никогда раньше. Но приезд адвоката был оценен Мариусом весьма высоко. Я оставила их вдвоем и отправилась уведомить бабушку о приезде ее старого друга. Но предварительно я объяснила ему, что никоим образом не считала возможным сообщить ей роковую новость, и взяла с него обещание, что он тоже ей ничего не скажет. Когда я вернулась, чтобы попросить Бартеза подождать, пока бабушка проснется, я увидела, что они ведут оживленную беседу. Бартез знал о нашей помолвке и был весьма рад этому. Он был хорошего мнения о поведении Мариуса, и ему нравилось давать ему различные советы. Бартез был прекрасным человеком, преданным, всегда готовым оказать услугу, немного непредусмотрительным и немного медлительным, как большинство тех, кто меня окружал, и как многие из провансальцев, которых я знала. Я понимала, что он всячески старается успокоить Мариуса по поводу тех непредвиденных случайностей, которые могли бы возникнуть в связи со смертью моего отца. — Не беспокойтесь, — утешал он, — помимо того, что у Женни есть доказательства, опровергающие ряд возражений, имеется достаточно ясное завещание, где госпожа де Валанжи оставляет Люсьене всю ту часть имущества, которая находится в ее распоряжении, то есть половину своего состояния, а что касается остального, то она должна полагаться на добрую волю и щепетильность маркиза. Я предпочел бы, чтобы она закрепила это наследство за Люсьеной без указания на то, что это ее внучка, ибо об этом могут возникнуть споры, если придется иметь дело с лицами, враждебно к ней настроенными. Госпожа де Валанжи отвергла этот совет, как обидную предосторожность в отношении благородства своего сына, и я не смел настаивать. — Но ее сына больше нет, — возразил Мариус, — а его наследники могут занять враждебную позицию. — Его наследники — это дети, невероятно богатые со стороны своей матери; какой же им интерес разорять Люсьену с ее сравнительно скромной долей наследства? Сейчас я хотел бы, чтобы госпожа де Валанжи могла написать своей невестке, как законной опекунше детей от второго брака, и согласовать с нею некоторые вопросы — ну, скажем, об обмене каких-то небольших владений, приобретенных господином де Валанжи в Англии, на все поместье Бельомбр. Отказавшись от своей части наследства отца, Люсьена получила бы полное право на наследство бабушки, а вдова маркиза, по-видимому, имеет необходимые полномочия, чтобы вести переговоры на эту тему, хотя бы предварительно. — Важно было бы знать, — заметил Мариус, который, как мне казалось, знал и судил о моем положении не только лучше меня (что, в общем, было несложно), но и лучше, чем сам Бартез, — дал ли маркиз де Валанжи свое согласие на то, чтобы его мать завещала все Люсьене? — Что до этого, то он и не дал его, и не отказал, ибо по этому поводу не написал ни одной строки. После второго брака его письма стали приходить все реже и реже, а формулировки в них были столь туманны, что толковать их можно как угодно. Он, безусловно, знал о завещании своей матери, ибо она советовалась с ним перед тем, как его составить, и тем не менее он ни разу не высказал своего мнения об этом документе. Можно подумать, что он не принимал всего этого всерьез или что он не получил писем, в которых его об этом уведомляли. Почти так же отнесся он к тому, что Люсьена нашлась: он считал, что радостное известие еще требует проверки, и никогда не называл ее своей дочерью. Есть даже его письма, — они все у меня тут, и я перечитал их перед тем, как пойти к вам, — где он именует ее «фантазией», это его подлинное выражение. — Как это я могу быть «фантазией»? — спросила я у Бартеза, оцепенев от удивления. — Вы могли быть, допустим, чьим-то ребенком, которого госпожа де Валанжи возымела фантазию воспитывать как свою внучку, чтобы утешиться после ее утраты. — Вы никогда не говорили о такого рода подробностях ни Люсьене, ни мне, — задумчиво промолвил Мариус. — Совершенно незачем. Они были бы слишком для вас тягостны. Госпожа де Валанжи посвятила в это дело только меня, и вы оба поступите разумно, если никому об этом не скажете. Сегодня все изменилось, и только вдова Вудклиф могла бы искать ссоры с вами. Но ради чего? — Кого называете вы вдовой Вудклиф? — Богатую вдову, на которой господин де Валанжи женился вторым браком и которая, не находя его, конечно, достаточно знатным, продолжала именоваться леди Вудклиф, добавляя к этому титул маркизы де Валанжи. — А как мой дядя стал маркизом? — спросил Мариус, все больше погружаясь в задумчивость. Бартез намеренно или по рассеянности не ответил ему и вернулся к прерванному разговору: — У этой дамы нет никаких оснований завидовать имени и состоянию Люсьены, ибо у нее и у ее детей более значительное состояние и имя. Это очень знатная леди, и от нее нельзя ожидать мелочных поступков. Со своей стороны, господин де Валанжи так третировал свою мать, покинул своих друзей и забыл свою родную страну, что вряд ли мог оставить распоряжения, расходящиеся с теми, которые могли быть сделаны здесь в его отсутствие. Таким образом, дорогие мои, я думаю, что ваше будущее ничем не омрачено. Но так как лишние предосторожности никогда не помешают, я держусь того мнения, что Люсьена должна взять на себя труд сообщить бабушке о том, что произошло, как можно скорее и, когда она сможет, было бы, вероятно, хорошо попросить ее сформулировать свое завещание иначе. — Да, Люсьена, — добавил Мариус, — надо подумать об этом в твоих же интересах. И так как я молчала, он настойчиво продолжал: — Разве ты не слышишь, что тебе говорят? — Слышу, — ответила я с некоторым раздражением. — Но ведь я уже сказала, что не хочу ни волновать, ни огорчать бабушку. Я нахожу, что за последние дни она очень ослабела, и пусть лучше я не получу в наследство ни гроша, чем укоротить хоть на неделю ее жизнь. — Ах, боже ты мой, я же говорю не о деньгах, — нетерпеливо возразил Мариус. — Разве ты не понимаешь, что это вопрос чести? — Объяснись! Поистине день каких-то загадок! — А между тем все объясняется очень просто. Если ты действительно не внучка бабушки, ты тем самым присваиваешь имя, которое тебе не принадлежит. Значит, надо постараться уладить все так, чтобы не было попыток подвергнуть сомнению твое общественное положение, ибо если для тебя ничего не значит быть разоренной, то я полагаю, что быть опозоренной все-таки что-то да значит.XXXVIII
Я была так оскорблена этим грубым ответом, что не могла и шагу ступить. Я опустилась на скамью и разразилась слезами. Бартез слегка пожурил Мариуса за неосторожное обращение и очень ласково дал мне понять, что, вообще-то говоря, я, конечно, могу опасаться серьезных осложнений. Вот тут-то я впервые отдала себе отчет в том, что могу быть совершенно чужой для бабушки, ребенком, предназначенным для выманивания у нее денег, дочкой какого-нибудь цыгана, быть может — даже разбойника с большой дороги! Я подавила рыдания и спросила Мариуса: — Ну что ж, ты все еще хочешь жениться на мне? — Я дал тебе слово, а слово назад не берут. Он вымолвил это таким ледяным тоном, что я почувствовала, что он бросает мне вызов, чтобы я выполнила свой долг так же, как он выполнил свой. — Не бери назад своего слова, — сказала я с большой силой. — Я сама возвращаю тебе его. В присутствии Бога и господина Бартеза я разрываю наше соглашение. Совсем не этого ожидал Мариус или по крайней мере не в таких выражениях. Еще ничто не доказывало, что я не мадемуазель де Валанжи и что кто-то будет оспаривать мое имя и наследство. Мариусу хотелось бы, чтобы договор был предварительный, и Бартез выдвинул такую идею. Но я уже заранее потеряла всякую надежду на свою будущую участь, а кроме того, должна признаться, что я несколько опасалась характера Мариуса и сожалела о своей свободе. Он угадал это и начал упрекать меня, не для того, чтобы заставить переменить свое решение, а чтобы оставить себе лазейку. Но так как я не уступала, он пришел в раздражение и, раскланявшись с Бартезом, которого как раз позвали к бабушке, сказал мне почти шепотом: — Ты понимаешь, дорогое дитя, что в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, когда ты отлучаешь меня от своего будущего, каково бы оно ни было, я должен покинуть этот дом. Если бы нам предстояло вступить в брак, мое присутствие тут было бы вполне естественным и законным, если же это не должно осуществиться, тогда оно тебя компрометирует. Бабушка думает, что я уехал, пусть так оно и будет. Прощай! Время от времени я буду наезжать сюда, чтобы справиться о ее здоровье. Он удалился, не ожидая моего ответа, и я чуть не побежала за ним. Мне горько было думать, что наша дружба могла рухнуть вместе с браком, так как в его прощальном привете звучало явное пренебрежение, и казалось, что во всем виновата одна я. Но у меня не было времени проверить столь различные порывы своего сердца. Ко мне быстрым шагом приближалась Женни. Она была бледна, и ее сжатые зубы не давали ей возможности произнести мое имя. Объятая ужасом, я помчалась навстречу ей с криком: — Бабушка умерла! — Нет, — возразила она, — но наберитесь мужества! И тоном, печальная торжественность которого еще звучит у меня в ушах, она добавила: — Она умирает! — Кто это сказал? — крикнула я, порываясь бежать. — Никто. Сама она ничего не знает, но ее час пробил. И, остановив меня у входа в гостиную, Женни схватила мою руку и произнесла с душераздирающей энергией: — Улыбнитесь! Так говорят молодым девушкам, наряжая их перед балом. Моя горячо любимая бабушка умирает — вот какой праздник ожидал меня! Бледная как призрак, она сидела выпрямившись в кресле, и улыбка еще играла у нее на лице. У нее!! Бартез держал ее за руку. Жасинта пыталась согреть ее ледяные неподвижные ноги: она уже не могла поднять их на грелку. Глубоко взволнованный, с глазами, полными слез, Бартез, заметив, что взор ее обращен к открытому окну, сказал: — Да, сегодня такая дивная погода! Я подошла, чтобы поцеловать ее холодные руки; она как будто была удивлена, что не чувствует этого. Она еще мыслила и видела, ибо смотрела на меня так, как будто спрашивала себя, не видит ли она меня во сне. Она сделала страшное усилие, чтобы сказать несколько слов, и ей удалось вымолвить: — Бартез!.. Это моя девочка, вы же знаете это. Тут ее голова откинулась назад, и небесное спокойствие отразилось на ее лице. Я подумала, что она уже умерла, и подавила готовый вырваться у меня крик. Женни метнула на меня властный взгляд, перед которым склонился бы весь мир. В тот момент, когда наша дорогая бабушка уже стояла на пороге вечности, она не должна была услышать вопль земного прощания. Бартез хотел увести меня, но никакой человеческой силой нельзя было оторвать меня от кресла, к которому я молча приникла. Так прошло несколько минут, и я не сумела уловить переход от жизни к смерти на этом умиротворенном лице, глаза которого были неотрывно обращены ко мне. Тут вошел доктор Репп, совершавший свой ежедневный объезд. Он сразу все понял, молча взял ее за руку и стал слушать пульс. — Ну что ж, это конец! — сказал он. — Вот и все. Он сказал это так, как будто произнес: «Вы видите теперь, что умереть совсем не трудно». Я ничего не понимала, я не верила этому. Моя бабушка была здесь, перед моими глазами, все в той же позе, с тем же лицом, которое я наблюдала сотни раз в часы ее отдыха или сна. — Пойдемте, пойдемте! — настаивал доктор, подталкивая меня. — Вам совершенно незачем было об этом знать, но вот уже две недели, как я каждое утро ожидал этого события. Когда в лампе иссякает масло, она гаснет. Ваша бабушка прожила прекрасную жизнь. Трудно было надеяться, чтобы это продлилось еще долго. Уйдите отсюда, деточка, вам здесь больше нечего делать. — Оставьте ее в покое, — вмешалась Женни. — Не надо бежать от мертвецов, как от врагов. И разве душа ее бабушки умерла? Она может быть еще где-то здесь, видит и слышит нас. Доктор пожал плечами. Но, взволнованная нежной духовностью Женни, я покрывала слезами щеки, руки и одежду бабушки и все повторяла, как будто она могла меня слышать: — Я люблю вас, люблю, люблю! — Хорошо, — сказала Женни, лицо которой тоже было залито слезами. — А теперь оставьте нас здесь с Жасинтой… Когда я уложу в гроб нашу дорогую бабушку и одену ее, вы вернетесь еще немного поговорить с ней. Только не плачьте слишком много, чтоб не огорчать ее там, где она сейчас находится. — А где она, Женни? — воскликнула я в полной растерянности. — Не знаю, но, безусловно, где-то вместе с Богом. Он ведь также и с нами, и мы не так уж разлучены, как обычно думают. Незыблемая вера Женни придала мне сил. Я бодрствовала над телом дорогой покойницы вместе с нею, и, два дня спустя, поддерживаемая Мариусом, я поднималась вместе с Женни на холм Помме. Небольшая повозка, задрапированная черным и влекомая мулами, двигалась перед нами. Наши друзья из Тулона и все жители округи замыкали траурный кортеж. Все очень любили бабушку, и под палящими лучами чуть ли не африканского солнца все шли в сосредоточенном молчании с обнаженной головой. Аббат Костель ожидал нас у врат церкви. Фрюманс был на кладбище, где вот уже двадцать лет никого не хоронили. Он сам вырыл могилу, это был его священный долг. Когда гроб поднесли к ней, я увидела, что он стоит с заступом в руках. Он был единственным, чей вид поразил меня. Я пыталась найти в его взоре разрешение той страшной загадки небытия, против которой вера с трудом борется в час, когда неумолимо осуществляется последняя разлука с земным созданием. Во взгляде Фрюманса я прочла лишь глубочайшее уважение и подлинную скорбь, но никакого признака горечи или слабости. Он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы примириться с мыслью о том, что что-то в этом мире может найти свой конец. А я была неспособна на это и с тревогой глядела на Женни, которая, казалось, была преисполнена заботы, благословляла и хотела сохранить до самого погружения в лоно земли этот драгоценный прах. Я искала поддержки в силе Женни, единственной, которая была близка моей. В тот миг, как могила была зарыта, вокруг меня раздались пронзительные крики и громкие вопли. Этот древний обычай, еще сохранившийся в недрах деревень, не столько свидетельство печали, сколько нечто вроде блистательной почести, воздаваемой покойному. Это, может быть, также что-то вроде целительного волнения, которое хотят вызвать в родственниках и друзьях, чтобы исторгнуть слезы и облегчить печаль, заставив ее излиться. Другие утверждают, что шум этот отпугивает злых духов и мешает им унести душу мертвеца… Эти крики испугали меня, и я побежала к Фрюмансу, который пришел сразу за мной. Но он не знал, что я там, и не видел меня. В каком-то забвении он поставил свой заступ в угол и, прислонясь головой к стене, стал всхлипывать как ребенок. Я встала и кинулась ему в объятия. Мы плакали вместе, не говоря друг другу ни слова.XXXIX
Я не знаю, что было потом. Внешне я казалась бодрой, но поступки мои были почти бессознательными. Не помню уж, что я отвечала на вопросы. Все мне представлялись добрыми, даже госпожа Капфорт, и я спокойно относилась к тому, что около меня вертится Галатея. После погребения у нас был обед. Это древний обычай, который сейчас я восприняла как нечто жестокое, но Женни отнеслась к нему со свойственным ей хладнокровием и тщательно следила за тем, чтобы все были обслужены как следует. Мариус, как мне кажется, говорил со мной ласково, но я безразлично относилась ко всем утешениям. Откровенно говоря, ни одно из них не доходило до глубины моего сердца, и только безмолвная печаль Фрюманса немного облегчала его. Были выполнены какие-то формальности, не помню уж какие. Когда через три-четыре дня я осталась вдвоем с Женни, я не чувствовала, что я у себя дома. Мое «я», отторгнутое от «я» бабушки, стало для меня ничем. А тем временем было вскрыто ее завещание. Оно делало меня владелицей всего ее имущества. Если никто не станет его оспаривать, то тем самым я признавалась ее наследницей. Возражений можно было ждать, когда известие о смерти бабушки дойдет до вдовы и детей ее сына. Бартез иногда навещал меня и был рад, что пока нет ответа, — он надеялся, что мои родственники за морем будут ко мне так же равнодушны, как всегда был мой отец. Мариус нанес мне официальный визит вместе со своими старинными покровителями — господами де Малавалем и Фурьером. О нашем браке не было сказано открыто ни одного слова, хотя де Малаваль, чьим протеже был Мариус, делал все возможное, чтобы возобновить этот вопрос. Я старалась избежать ответов на его намеки. Я рассматривала свое положение как совершенно неопределенное, и эта мысль мне даже была как-то приятна, когда я думала о том, что если я получу свое наследство, то у меня уже не будет предлога отказаться стать женой Мариуса. Я была слишком честной, чтобы придумывать какие-нибудь другие предлоги, но не подлежит сомнению, что деловитость и сухость моего жениха вызывали во мне серьезные опасения, и я упрекала себя, что совершила безумную глупость, позволив ему внушить к себе неограниченное доверие. Он, со своей стороны, помогал мне разобраться в наших будущих взаимоотношениях. В этот день Малаваль видел в моей судьбе только все хорошее, а его друг Фурьер, наоборот, расценивал все весьма мрачно. Мариус был подобен страждущей душе между двумя этими демонами-искусителями, и все его хладнокровие не помогло ему скрыть от меня его крайней растерянности. Впервые после печального события, которое сделало все сразу зыбким и неопределенным, мне вдруг захотелось слегка поиздеваться над нерешительностью и беспокойством моего кузена. Я прекрасно понимала, что он догадался об этом, и это его все больше и больше шокировало. Мне так хотелось, чтобы он покрепче на меня разозлился. Но он не мог решиться на это. Когда он уехал, я горько плакала, изливая Женни все свои сердечные тайны. Ведь до сих пор от гордости или мужества я скрывала от нее все это. — Я не знаю, судите ли вы ошибочно о характере этого мальчика, — ответила мне она со своим здравым смыслом, как всегда, соединенным с широтой взгляда на вещи. — У всех людей есть огромные недостатки, и дружба заключается в том, чтобы не замечать их. Я видела все недостатки Мариуса, но считала вас слепой к ним и не полагала их неизлечимыми. Я говорила себе, что вы даже с закрытыми глазами исправите его. Людей исправляют только тогда, когда их любят. А вы его не любите или больше уже не любите, потому что вы его осуждаете. Значит, не надо выходить за него замуж. — Но как быть, Женни, если я получу свое наследство? — Не знаю, но думаю, что нужно сказать ему всю правду. — Он станет моим врагом и, может быть, даже начнет поносить меня на всех углах. — Это вполне вероятно, и, несомненно, у него будет право обвинять вас в том, что вы капризны. — Ну, уж если ты бранишь меня, значит, меня есть за что бранить, и поэтому я должна пожертвовать собою и, несмотря ни на что, выйти за Мариуса! — Нет, Люсьена. В браке не только жертвуют собой, а помимо своей воли делают несчастными и тех, кого не любят. Я не понимаю, как это вы, всегда чувствуя, как вы говорите, недоверие к Мариусу, оказались на грани того, чтобы выйти за него замуж. Это была какая-то фантастическая мысль, а я очень не люблю мыслей, которые мне непонятны. Если это ваша вина перед собой, то вы сами должны ее искупить. Вы приобретете врага, так как вы обманулись в друге, но это лучше, чем выходить замуж с отвращением. Это будет еще более страшная ошибка, и кара будет неотвратимой: она падет на невиновного и на виноватого. — Это Мариус, по-твоему, невиновен? — Ах ты боже мой, ну да, потому что из вас двоих он в меньшей степени разумен и утончен. Он идет напролом, такой, какой он есть. Вам надо было получше разобраться в нем раньше. Женни была права. У меня были ложные представления о том, что такое счастье, и очень примитивное понятие о браке. Я рассматривала его как договор о ясном и простом спокойствии, а не как идеал взаимной преданности. Я была наказана за свою ошибку, потому что вынуждена была отступить назад и сказать Мариусу: «Я не могу тебя любить». А он был вправе ответить: «Зачем же ты заставила меня верить в обратное?» Я была оскорблена создавшимся положением, и временами, когда гордость поднимала меня на высоты подлинного достоинства, я готова была лучше любой ценой сдержать свое слово, чем выслушивать упреки, что я его не сдержала. Женни поборола во мне это дурное самовнушение. Она хотела, чтобы я лучше отказалась от всего на свете, чем осквернила вечную и неразделимую любовь супружества. Моя душа возвышалась в тесном союзе с ее душой, но в то же время мое сердце, которое я считала уже окаменевшим, вновь разрывалось на части. Мечта о любви пробуждалась опять, и одиночество сжимало меня в когтях смертельной тоски! Так как Мариус выжидал дальнейшего развития событий и не появлялся у нас уже несколько недель и так как он ничего не писал мне, чтобы уведомить, что он в моем распоряжении при всех возможных поворотах судьбы, я совершенно успокоилась на его счет. Я дала понять Женни, что, открыв ему всю правду, когда он приедет узнать ее, я не рискую охладить его нежность. В этой связи я осмелилась спросить ее, что она думает о моих правах, в случае если их попытаются оспаривать. — Я думаю, — сказала она, — что если даже у вас отберут половину состояния вашей бабушки, подвергнув сомнению ее завещание, вам еще останется на что жить. Добавив сюда и то, что имею я… — Замолчи, Женни, не будем говорить о деньгах. То, что принадлежит одной, принадлежит и другой, это решено и подписано, и нам хватит на двоих. А вот что меня немного беспокоит, так это желание узнать, кто же я такая. Документы, оставленные бабушкой, не вносят в этот вопрос никакой ясности. — То, что должно прояснить этот вопрос, — ответила Женни, — в наших руках. Оно находится там, в этом письменном столе, ключ от которого у вас и где вы уже сотни раз видели запечатанный пакет. Когда наступит день, в который вас спросят, та ли вы, за кого вас принимают, мы вскроем пакет и прочтем его содержимое. Больше не спрашивайте меня об этом. До назначенного часа я должна молчать, а если этот час не придет никогда, вы прочтете это одна и сохраните для себя. Я не хотела больше ни о чем расспрашивать Женни. Ее лицо хранило такое торжественное выражение, что я боялась, что совершу кощунство, дотронувшись до этих бумаг, которые она мне доверила.XL
Прошло два месяца, и я уже начала думать, что обо мне забыли или почему-то пощадили меня. Я жила вместе с Женни в печальном уединении. Я запретила себе куда-нибудь выезжать. Мне казалось, что мой траур не должен отныне видеть солнца, даже если мне придется прервать свое одиночество. Чувство какой-то необъяснимой сдержанности заставляло Женни и меня оставаться в этом безмолвном и замкнутом доме, где мы продолжали верить, что нечто от дорогого для нас и навеки исчезнувшего существа все еще нуждается в наших заботах. Мы не строили планов на дальнейшее, мы чувствовали, что еще не имеем права их строить. И если бы даже мое будущее определилось, мы упрекали бы себя в том, что не постарались прожить как можно дольше в думах об оплакиваемом нами прошлом. Все же однажды Женни пришла в беспокойство о моем здоровье, которое немного пострадало от этого заточения. Несмотря на свой небольшой рост, я была полна неуемной энергии и чувствовала себя хорошо только тогда, когда много двигалась и много была на свежем воздухе в любое время года. — Поезжайте верхом, вам это необходимо, — сказала она, — съездите в Помме. Почти всю неделю на этой дороге ни души не встретишь. Фрюманс прислал известие, что гробница нашей дорогой госпожи закончена и уже установлена. Вот возьмите и свезите ей этот букет, который я собрала для нее сегодня утром. Это цветы, которые она любила. Поезжайте, моя милочка, Мишель поедет с вами. — Почему ты не едешь со мной, Женни? — Я отвечу вам откровенно. Фрюманс считает, что теперь я могу и должна выйти за него замуж. Он говорит, что ему было бы приличнее заниматься устройством ваших дел, если бы мы с ним были мужем и женой. — Стало быть, ты получила какое-то известие, устраняющее препятствия, о которых я ничего не знаю, но о наличии которых ты мне говорила. — Да, я уже знаю, что я вдова. Мой муж умер на чужбине. Мне об этом написали, даже прислали свидетельство о его смерти, и, по-видимому, оно в полном порядке. — Так почему же тебе не выйти за этого твоего замечательного друга, который так тебя любит? — Потому что ваша судьба еще не устроена. А кроме того, Фрюманс не должен оставлять одиноким своего дядюшку. Если вы будете разорены или даже просто будете нуждаться, то как смогу я вам помочь, засев в такой глуши, как Помме, где нельзя заработать ни одного су? — Милая Женни, значит, ты думаешь, что я дальше буду жить твоими трудами? И ты полагаешь, что я на это соглашусь? — А что же станется с вами? Ну хорошо, что вы умеете делать? Если бы вы хотели учиться музыке и живописи… Ну, тогда я могла бы представить себе, что это даст какой-то заработок. Но вы не любили этого. Вы желали быть ученой женщиной. Конечно, не надо было чинить вам препятствий, надо уважать стремления юной души… Но что может сделать женщина, знающая латынь, греческий и все высокие материи, которые Фрюманс вбил вам в голову? Вы прекрасно могли бы воспитывать мальчиков, и если бы вам пришлось выйти за вашего кузена, это был бы превосходный случай обучить ваших сыновей тому, чего Мариус и знать не хотел. Но если речь пойдет о том, чтобы стать гувернанткой или компаньонкой, вам же не доверят молоденьких девушек, чтобы вы сделали из них старых дев. — Тем лучше, Женни! Очутиться в положении мисс Эйгер и Галатеи? Надеюсь, что это со мной никогда не случится! — Хорошо, вы исполнены гордости, я знаю это, но всегда от самого человека зависит, чтобы его не унижали другие. Разве меня унижали здесь, меня, которая никогда никому не прислуживала? — Ты права, Женни, я просто идиотка. Я могла бы, как ты, быть где-нибудь экономкой… вместе с тобой! — О, бедное дитя, как вы наивны! Двух экономок в один дом не берут. А кроме того, вы не знаете ничего из того, что надо знать, в вас больше ума, чем следует, но у вас не хватило бы терпения! — Мы станем белошвейками или портнихами, ладно? Мы будем работать у себя дома. — Да, каждая из нас заработает по шести су в день, а сверх того, придется расходовать еще по двадцати на каждую, чтобы хоть как-нибудь прокормиться и снять себе плохонькую комнатушку. — Что же ты предполагала сделать для меня, когда только что говорила мне… — Это моя тайна. У меня есть источник средств, пусть очень маленький, но зато верный. Например, может быть, нам придется покинуть эту местность, вот почему я и не хочу выходить за Фрюманса. Ну вот, вы опять впали в задумчивость! Все, о чем мы сейчас говорим, — это наихудший из возможных вариантов, а обычно ведь получается не то, что мы предполагаем. Кроме того, до сих пор у вас нет оснований ожидать чего-то плохого. Так вот, не думайте об этом и поезжайте подышать воздухом, вам это необходимо. Я уселась на лошадь и в сопровождении Мишеля приехала в Помме. Дома я застала только аббата Костеля. Он повел меня к гробнице, которую я хотела украсить цветами. Это тоже была работа Фрюманса. Он выбрал великолепный камень, один из тех, что по своей белизне и благородству напоминают мрамор. Он велел вытесать его по моим чертежам и сам выгравировал на нем надпись и орнамент. Я возложила на могилу букет, который мне дала Женни, и, несмотря на то, что твердо решила не плакать, мне пришлось сделать огромное усилие, чтобы побороть себя, когда я думала о той, которая лежала здесь и не могла уже больше защищать меня. Я уже собралась было опять сесть в седло, когда вдруг увидела Фрюманса с каким-то незнакомцем, человеком лет сорока, среднего роста, с лицом скорее тонким, чем правильным, но излучающим ум и доброту. Держался он очень свободно, а его одежда, простая, но изысканная, выдавала в нем представителя самой современной цивилизации. Однако когда Фрюманс подошел ко мне и представил вновь прибывшего, в его взоре я прочла беспокойство, а какая-то необычная печаль, отразившаяся на его благородном лице, как бы возвестила мне, что час испытаний наступил. — Господин Мак-Аллан, — сказал он, — адвокат из Англии, поверенный в делах семьи вашего отца, покойного маркиза де Валанжи, приехал сюда, чтобы поговорить с вами. Я почувствовала, что бледнею, и еле сумела пролепетать несколько слов. Мое волнение возросло еще больше, когда я увидела, что иностранец заметил мое смущение и жалеет меня. Это меня оскорбляло и в то же время приводило в негодование, ибо я отнюдь того не заслуживала. Но все это было лишь началом длинной цепи предстоявших мне тяжелых испытаний.XLI
Англичанин, поклонившись весьма любезно с точки зрения обычаев своей страны, но недостаточно галантно для нашей, смотрел на меня с любопытством, в котором, конечно, не было ничего оскорбительного, но которое все-таки меня глубоко задело. Я подняла голову. — Не будучи хорошо знакома с обычаями страны этого господина, — обратилась я к Фрюмансу, — я вижу, что ему достаточно быть представленным мне одним из моих друзей, чтобы иметь право спрашивать меня и давать объяснения. Но мне кажется, что в сложившихся обстоятельствах ему следовало бы представиться мне у меня дома. — Вы совершенно правы, мадемуазель, — сказал Мак-Аллан на превосходном французском языке, но с легким акцентом, скорее приятным, чем неправильным. — Я приехал сюда, чтобы попросить господина Костеля привести меня к вам, и если я позволяю себе представиться вам у него, то лишь для того, чтобы вы знали, кто я такой, и разрешили мне прибыть в замок Бельомбр вместе с господами Костелем и Бартезом. — Вы можете это сделать в любое время, когда вам всем будет угодно, — ответила я. — Я не собираюсь назначать ни дня, ни часа, так как вопрос, по-видимому, деловой и я не имею права что-нибудь предлагать. — Мадемуазель Люсьена, — сказал адвокат, — не соизволите ли вы, против обыкновения, разрешить мне поговорить с вами здесь? Раз это происходит в доме и в присутствии кюре и господина Фрюманса, одного из ваших друзей, то здесь нет, как мне кажется, ничего нарушающего приличия, и я уверен, что эти предварительные сообщения, которые вас ничем не связывают и на которые вы даже не обязаны ответить мне сегодня, могут как-то успокоить вас, а мне сберечь много времени. — Что вы об этом думаете? — спросила я аббата Костеля. Он сказал, что видит господина Мак-Аллана впервые, и полагает, что с этим вопросом надо обратиться к Фрюмансу, который уже говорил с ним и, конечно, знает, с какой целью тот сюда явился. Фрюманс, в свою очередь, ответил, что считает своим долгом посоветовать мне выслушать Мак-Аллана с полным доверием, и мы все четверо заняли места за большим столом, где, как всегда, в беспорядке были навалены книги Фрюманса. В мгновение ока адвокат оценил обстановку. Он увидел, что аббат Костель ничего не смыслит ни в моих делах, ни вообще в каких-нибудь практических вопросах. Но он уже понял, что Фрюманс вполне заслужил тот моральный авторитет, которым удостаивали его бабушка и я. Поэтому, обращаясь главным образом к нему и ко мне, а не к аббату, он сказал: — Прежде всего я должен объяснить, кто я такой и какую роль призван здесь сыграть. Я не оратор, а законовед, нечто вроде того, что вы во Франции называете юристом-консультантом. Я в достаточной степени изучил французское законодательство, чтобы вести дела, и поэтому леди Вудклиф,маркиза де Валанжи уполномочила меня действовать от имени ее малолетних детей, оспаривая и поддерживая их интересы во Франции. Следовательно, я приехал во Францию отнюдь не для того, чтобы выступать против вас, мадемуазель Люсьена, а для того, чтобы поговорить с вами и передать вам предложения госпожи маркизы. — Если вы приехали сюда говорить с мадемуазель де Валанжи, — возразил Фрюманс, увидев на моем лице волнение, — ей было бы желательно, чтобы это происходило в терминологии высочайшего взаимного уважения, и я позволю себе заметить, что во Франции, за исключением случаев семейной близости или серьезного чувства, не принято называть молодую девушку просто по имени. На губах Мак-Аллана появилась тонкая улыбка, и я заметила на его лице столь частое несоответствие между ироническим ртом и ясным, открытым и доброжелательным взглядом. Я никак не могла решить, что вызывал во мне этот человек — страх или симпатию. Он колебался несколько мгновений, прежде чем ответить, как бы подготавливая меня к удару, который он собирался нанести, а затем принял решение, как человек, у которого сняли с плеч огромную тяжесть, вызвав на откровенность. — Вы движетесь стремительно, сударь, — сказал он, — но вы движетесь прямо к цели, и мне не на что тут жаловаться, ибо и я стремлюсь к тому же. Вы затронули самую суть вопроса, и, прежде чем перейти в наступление, я умоляю присутствующую здесь мадемуазель не усматривать никакой непочтительности в моем сдержанном отношении к имени, которое она носит. Вы уже знаете, сударь, что мое намерение состоит лишь в том, чтобы достигнуть соглашения, и я не принял бы поручения, которое могло бы явиться для меня тягостным, если бы мне не было поручено прежде всего предложить условия мира. — Стало быть, я нахожусь в состоянии войны с семьей моего отца? — спросила я, сделав над собой усилие. — К счастью, пока еще нет, но от вас и ваших советников будет зависеть, объявить ее или нет. На мгновение он умолк, потом пристально взглянул на меня и, поднявшись с места, произнес с некоторой подчеркнутостью в своем приятном произношении: — Мадемуазель Люсьена, увы! Вас, может быть, даже и не зовут Люсьена: это крестное имя дочери маркиза де Валанжи от первого брака, и ничто не доказывает, ничто, быть может, никогда и не докажет, что именно вы и есть эта дочь. Тайна, которую я считаю непроницаемой, окружает ваше существование. Семья, интересы которой я представляю, не видит и не хочет видеть в вас ничего иного, кроме как подкинутого ребенка. Мое личное мнение в этом отношении почти совпадает с ее мнением, однако, если вы потребуете, я клянусь вам, что со всей беспристрастностью и искренностью проведу любые, какие представится возможным, поиски истины. Я честный человек; вы об этом ничего не знаете и не обязаны верить мне на слово, но вам придется узнать это, если мне придется стать вашим противником. Не будем пока вступать на путь борьбы. Мы можем избежать этого… Я вкратце повторю вам сейчас то, что я уже более подробно излагал господину Фрюмансу. Сегодня утром в Тулоне я видел господина Бартеза, который в данный момент, вероятно, находится в Бельомбре, чтобы проконсультироваться с госпожой Женни, вашей доверенной подругой и советчицей. Вы, конечно, застанете его там и сможете с ним посоветоваться. Господин Бартез, которого я уважаю и на слово которого вполне полагаюсь, по-видимому, не особенно-то рассчитывает на доказательства, которые может представить вышеозначенная госпожа Женни. А я, не веря в эти доказательства, хочу сделать вам серьезное предложение. Откажитесь от наследства, которое вы можете удержать лишь ценой тяжелой и длительной борьбы, а она, вероятнее всего, закончится для вас катастрофой. Сохраните имя Люсьена, прибавьте к нему, если вам угодно, «де» в начале, и станьте мадемуазель де Люсьен, если не последует никаких возражений от однофамильцев. Но откажитесь от имени де Валанжи и от наследства вашей благодетельницы, весьма спорного по всем пунктам. Согласитесь принять двойную пенсию по сравнению с тем, что дает вам земля Бельомбр. Покиньте Прованс или, если угодно, Францию и живите там, где вам заблагорассудится, свободная и богатая. Никто никогда не потребует у вас отчета в ваших поступках, в расходовании ваших средств или в условиях вашей жизни. Подумайте об этом. Вот мое поручение и выполнено. Сказав это, Мак-Аллан сел, как будто не ожидал на свои слова ответа, но по его взгляду я поняла, что ему было желательно, чтобы я ответила тут же, под влиянием первого порыва. И я, может быть, и сделала бы это, если бы Фрюманс не опередил меня: — Прежде чем мадемуазель де Валанжи выскажет свое мнение по поводу этого необычайного предложения, она должна поговорить со своими друзьями. Она только что достигла совершеннолетия, и ее бабушка, предвидя свою близкую смерть, назначила ее опекуном господина Бартеза, мнение которого еще будет ей полезным. — Я отнюдь не ожидаю, — возразил Мак-Аллан, — что мадемуазель решит этот вопрос сегодня. Что до ее совершеннолетия, то я готов согласиться, что оно наступило. Но вам так же трудно будет установить возраст мадемуазель Люсьены, как и ее положение в обществе. Здесь все происходит совершенно как в романе, но это не ваша и не моя вина. Так как это наверняка чья-то вина, может быть тех лиц, которых мадемуазель Люсьена не захочет вмешивать в эту историю из-за возможной клеветы, я не боюсь, что она будет потом раскаиваться, избрав тот образ действий, который я ей рекомендую. — Умоляю вас, объяснитесь! — воскликнула я. — Я вас не понимаю. — Господину Мак-Аллану, должно быть, неприятно давать вам объяснения здесь, — вмешался Фрюманс. — Мадемуазель де Валанжи, я полагаю, что наступил момент безотлагательно представить доказательства, о коих было говорено выше, и то лицо, которое с полным основанием надеется рассеять его сомнения. Мой совет — немедленно вернуться в Бельомбр, а мы через несколько минут последуем за вами, ибо должны встретиться там с господином Бартезом, а может быть, и с господами де Малавалем, Мариусом де Валанжи и доктором Реппом. Я знаю, что они сегодня собирались нанести вам визит. Вы не должны принимать никаких решений, прежде чем не посоветуетесь со своими родственниками и друзьями. А я спешила посоветоваться с Женни. Неужели ее обвиняли в причастности к темной истории моего похищения? Вся дрожа, я пожала руку Фрюманса и поклонилась Мак-Аллану, чей ясный и спокойный взор, казалось, властно подчинял себе все чувства, волновавшие мое сердце, и все неясности моей будущей судьбы. Не сказав ни слова, я опять села на лошадь и уехала. Не успела я проехать шагов сто, как почувствовала, что вот-вот упаду в обморок. Это ужасное и странное видение, которое с самого детства и особенно в последнее время смутно возникало в моем воображении, предстало передо мной во всей своей жестокой реальности. Итак, у меня не было теперь ни имени, ни возраста, ни семьи, ни прошлого, ни будущего, ни защиты, ни ответственности! Я не могла отдать себе отчет в положении, в котором вдруг оказалась. По тому ужасу, который овладел мною, я поняла, что меня предупреждали совершенно напрасно: ничего подобного я даже не могла себе представить. И сейчас еще я не понимала, что произойдет дальше. Я пыталась понять, но темное облако как бы застилало мой взор. Равнина, вся сверкающая от солнечных лучей, показалась мне серой и тусклой. Морской ветерок, раскаленный как самум, бил мне в грудь, как зимний вихрь. Стремясь преодолеть этот внезапный упадок сил, я пришпорила лошадь и натянула поводья. Бедный Зани, который давно уже не переходил в галоп, помчался как ураган. Он пересек Дарденну, перескакивая с одного скользкого уступа на другой с ловкостью горной козы. Я почти бессознательно доверилась его отваге. Мне нужно было повидать Женни, мое единственное утешение. Я и не думала о том, чтобы обернуться: я увидела бы за собой на горе Мак-Аллана, который ехал вдали вместе с Фрюмансом, делясь с ним своими мыслями о моем бурном и неистовом характере.XLII
Я застала Женни, как мне уже сообщили, за разговором с господином Бартезом, который, повидавшись утром в Тулоне с Мак-Алланом, рассказывал Женни то, что собиралась ей рассказать я. — Итак, мое бедное дитя, — сказал он, беря меня за руки, — война объявлена! Нам посылают полномочного посла, очень вежливого и очень осторожного, но который тем не менее очень точен и тверд. Хотят, чтобы вы отказались от всего, и предлагают вам денежную компенсацию на лучших условиях… — Которую я никогда не приму! — воскликнула я. — Это предложение оскорбительно для памяти моих родственников: ведь моя бабушка признала меня, и моя мать от меня не отреклась. Я или их ребенок, или ничей, и я ни в коем случае не могу принять милостыни. — Люсьена права, — сказала Женни и поцеловала меня. — Я была уверена, что она именно так и ответит. — Не будем так спешить, — возразил Бартез. — Я только что перечитал сие знаменитое доказательство. Оно внушает полное доверие и не вызывает во мне никаких сомнений. Но с юридической точки зрения оно не является неоспоримым, не надо закрывать на это глаза. Господин Мак-Аллан уже давно знаком с этим делом, и мы можем демаскировать наши батареи. Сомневаюсь только, что они его так уж сильно напугают. Женни сжимала в руках сложенную бумагу и невольно мяла ее. У нее был скорее удивленный, чем ошеломленный вид. Она всегда верила этому доказательству, сомнения Бартеза не укладывались в ее уме, а стало быть, и в моем. Я хорошо знала характер нашего друга: обычно доверчивый, он иногда впадал в робость. Я старалась заставить себя поступить иначе, не так, как он. Но времени уже не оставалось — Мак-Аллан должен был прибыть с минуты на минуту. Я сказала Бартезу, что он приедет вместе с Фрюмансом, и спросила, не может ли скомпрометировать кого-нибудь борьба, в которую мне предстояло вступить. — Да, конечно, — ответил он, — и притом весьма серьезно. — Но никого из живых! — воскликнула Женни, и я была поражена тем, с какой печалью она это сказала. — Простите, именно из живых, — возразил Бартез, — существо весьма уважаемое, которое, клянусь вам, никогда не вызовет у меня никаких сомнений. Но обстоятельства могут сложиться против… — Против кого же? — воскликнула я в свою очередь. — Скажите же, господин Бартез, вы должны это сказать! Бартез подмигнул мне и сделал быстрый знак рукой. Он указал на Женни, которая как раз подошла к окну, услышав, что подъехали всадники, и не подозревая, что разговор идет о ней. Она обернулась к Бартезу, спросив его с нетерпеливым спокойствием: — Итак, против кого же? — Сейчас об этом говорить бесполезно, — ответил Бартез. — Может быть, эта мысль и не придет в голову нашему противнику. А вот он и сам идет, не так ли? Я должен посоветовать вам обеим быть крайне осторожными. Никаких излишних порывов, никаких необдуманных решений, никаких вызывающих поступков! Полное спокойствие, безупречная вежливость, что бы нам ни говорили, и в особенности сегодня воздержимся от определенных ответов, пока мы все вместе как следует все не обсудим. Мак-Аллан с Фрюмансом вошли в сад. Я спустилась вниз встретить их. Аббат Костель шел за ними. Подождали, когда он придет, и разговор, сначала бессодержательный и натянутый, вскоре перешел прямо к самой сути. — Прежде чем продемонстрировать вам наши вооруженные силы, — сказал Бартез, — нам хотелось бы знать причину, по которой нам объявлена война. Я знаю, сударь, что вы любезно собираетесь принести нам мир. Но под вашими любезными предложениями, безусловно, скрывается угроза, и ваша честность не позволит вам утаить от нас ее причину. Я в какой-то степени готов понять, что удар наносят по завещанию, составленному в пользу мадемуазель де Валанжи в ущерб ее единокровным братьям и сестрам. Но то, что атака ведется на ее имя, это уже доказательство личной враждебности, не имеющей никаких оснований, и вы должны ее нам объяснить. — Это именно то, что я сейчас не хотел бы делать, — возразил Мак-Аллан мягким тоном, отнюдь не смягчившим, впрочем, твердость его ответа. — Если и существуют мотивы враждебности, с чем я не могу согласиться, то я не буду доискиваться причины их вместе с вами до тех пор, пока не буду вынужден сделать это. Повторяю, сударь, что я приехал сюда в роли примирителя, чтобы изучить положение, которое я могу и хочу спасти для блага обеих сторон, если мне окажут доверие, каковое я постараюсь оправдать. Я имею неограниченные полномочия для заключения мира, и я хочу заключить мир. Я имею также неограниченные полномочия вести войну; не знаю, может быть, я ими не воспользуюсь. Я сохраняю за собой полную свободу действий; быть может, наступит момент, когда мне придется передать другим заботу о ведении войны, и тогда вам захочется, чтобы я не уступал никому этой заботы и этого права. Не будем же заниматься бесцельной дипломатией. Дайте мне взглянуть на ваше оружие, и я покажу вам свое. Мадемуазель Люсьена, примите мой совет, не отвергая советов господина Бартеза. Взвесьте то и другое на одних весах. Реальную истину вы увидите в той или другой чаше, но чистосердечие и честность намерений будут одинаково весить в обеих, я ручаюсь вам в этом. Мак-Аллан обладал даром неотразимого убеждения. Был ли это профессиональный навык, привычное красноречие? Не скрывалась ли под этой уверенностью в себе неумолимая беспощадность? По лицу Бартеза я видела, что он лишь отчасти доверял ему, а по лицу Женни видно было, что она доверяла ему полностью. Фрюманс слушал внимательно, ни единым жестом или словом не выдавая своих мыслей. Что до Мак-Аллана, то если он и играл какую-то роль, то играл ее хорошо. Он так легко и свободно чувствовал себя среди нас, как будто был одним из членов нашей семьи, и если во взглядах, которые он украдкой бросал то на меня, то на Женни, и проскальзывало любопытство, то, уж во всяком случае, невозможно было усмотреть в них ни малейшего недоброжелательства. — Довольно об этом, — сказала Женни, предложив всем нам сесть. — Я уверена, что этот господин стремится к истине и что истина его поразит. Раз я должна открыть ее, то я ее и открою. Сначала пусть прочтут всю историю так, как она произошла, а если я упустила что-то, пусть мне потом зададут вопросы, и я на них отвечу. Она уже развернула бумагу, которая была у нее в кармане, когда вдруг приехали доктор Репп с Мариусом и де Малавалем, как меня о том предупредил заранее Фрюманс. Мне очень хотелось, чтобы Мариус узнал всю правду. Мнение доктора тоже могло быть полезным, и только Малаваль вызывал опасение, что вдруг сболтнет какую-нибудь нелепость; впрочем, можно было полагаться на его слово, что он оставит это при себе. Бартез попросил об этом и его и всех других. Приняв такие меры предосторожности и представив всех незнакомых лиц друг другу, Бартез прочел нижеследующее.XLIII
«Я, нижеподписавшаяся, Жана Гилем, именуемая ниже Женни, родившаяся в Сен-Мишеле, что на острове Уессан (Бретань) 10 апреля 1789 года от состоявших в законном браке Кристена Гилема и Мари Керне, которые с рождения проживали в вышеупомянутом Сен-Мишеле, ныне заявляю и клянусь перед Богом, что буду свидетельствовать здесь правду, всю правду и только правду. Мой отец зарабатывал на жизнь рыболовством, богатства не нажил, но всем, что имел, был обязан трудам своих рук, примерному поведению, а также бережливости своей жены, столь же мужественной и благонравной, как он сам. Если будет надобность, о них можно навести справки. Мне было четырнадцать лет, когда умерла моя мать. Через год я вышла замуж за Пьера-Шарля Ансома, двадцати двух лет, родом из Шатлена (Бретань), происхождения неизвестного. Он воспитывался в приютском доме, потом нанялся помощником к моему отцу и ходил с ним в море. После нашей женитьбы Ансом, наскучив деревенской жизнью, предложил мне попытать счастье в торговле, считая, что понимает в ней толк. Я любила мужа, а так как мой отец был в тех годах, когда мужчина еще может жениться вторично, да он уже и поговаривал о женитьбе и меня это немного печалило, то я без особых колебаний согласилась на предложение Ансома. Он накупил товаров, и мы с год вели довольно выгодную торговлю в прибрежных бретонских поселках. Я обязана здесь рассказать всю правду о нем, поэтому не скрою, что трудолюбием он не отличался, всю работу сваливал на меня, но человек был не злой, ничего худого не творил, и мы с ним никогда не бранились. Вот только замыслов у него было чересчур много, а образования не хватало, и он не умел правильно взяться за дело, довольствоваться же малым ни за что не хотел. Ему не терпелось побольше заработать, не обманом, конечно, этого я не допустила бы, просто он все время что-нибудь да придумывал. Сегодня мы торговали одними товарами, завтра другими, но в делах я соблюдала порядок, работы не боялась, и удача шла к нам в руки, а он все не мог угомониться. И сперва даже не из-за денег, просто его подстегивало воображение, не давало ни минуты покоя. Он повторял, что при его уме и моем прилежании обязательно разбогатеет и станет видным человеком. Больше всего Ансом любил переезжать с места на место и, когда через год пришло мне время рожать, был очень недоволен, что теперь придется где-то обосноваться. Тогда я предложила такой план: я уеду на Уессан, в Сен-Мишель, там рожу и оставлю младенца кормилице, потому что приходилось выбирать — или отказаться от нашего ремесла, или расстаться с ребенком. И вот я вернулась на родину. Отец мой был к тому времени уже женат, его вторая жена не очень-то хотела, чтобы я поселилась у них, и меня приютила давняя моя знакомка, жившая на самом побережье. Она как раз собиралась отлучить от груди своего малыша и предложила мне выкормить моего ребенка. Имя этой доброй женщины Иза Карриан, а живет она, так же как ее брат Жан Поргю, все в том же поселке, так что, если кто пожелает, может ее там найти. У нее-то я и родила 3 июля 1803 года девочку, которой при крещении дали имя Луиза. Когда я настолько поправилась, что снова могла взяться за работу, я уехала в Ланьон, где меня ждал муж. Он успел распродать все товары, но себе в убыток. Хорошо, что у меня кое-что было отложено про черный день, потому что Ансом ничего не смыслил в торговле и сразу все запутывал, стоило ему взяться за нее без моего присмотра. Пока меня с ним не было, он очень переменился и водил теперь компанию с людьми, которые не пришлись мне по душе: работать они не работали, но у них всегда хватало денег на то, чтобы угостить Ансома. Он не был гулякой, здоровье не позволяло ему много пить, но зато страсть как любил поговорить с людьми, и одной рюмки ему хватало на целый день. Ну, говоря короче, время моего отсутствия было потерянное время, и когда я предложила Ансому уехать из Ланьона, он не стал возражать. По дороге в Морле — мы собирались возобновить там запас товаров — он вдруг заявил, что хватит с него мелочной торговли, пора ему попытать свои силы в другом деле, а в каком — так толком и не мог объяснить. Он много говорил и все так бессвязно и запальчиво, что мне даже стало страшно: Ансом не был пьян, но словно бы потерял рассудок. Мне удалось его успокоить, и в Морле он даже позволил мне пополнить товарами нашу передвижную лавчонку, но только все стало налаживаться, как вдруг мой муж сорвался и уехал в Лорьян, заявив, что вернется не раньше чем через неделю: у него там важная встреча, какое-то новое дело, которое надо изучить, а я ему буду только помехой, потому что все равно ничего в этом не пойму. Перечить ему не имело смысла — Ансом был человек неплохой, но очень упрямый. Я огорчилась, потому что была привязана к нему, несмотря на его недостатки, да и не следует слишком приглядываться к недостаткам своего мужа. Меня только пугало его сумасбродство, но денег он взял немного, да и выбора у меня не оставалось: с ним ли, без него ли, а я должна была зарабатывать деньги, чтобы не лишать мою маленькую Луизу хотя бы самого необходимого. Ансом отсутствовал три месяца, и я совсем извелась от беспокойства, но внезапно он приехал ко мне в Нант. Заработать он ничего не заработал, но ничуть не печалился из-за этого и говорил, что повидал новые места и узнал немало способов разбогатеть. Что это за способы, он так и не объяснил, потому что побаивался меня, считал чересчур совестливой и любил повторять, что я, мол, как та ломовая лошадь в давильне: знай себе крутит колесо, а откуда берется сидр, понятия не имеет. Сколько-то времени он крепился, но потом опять затосковал и опять как будто потерял рассудок. — Отпусти ты меня постранствовать, — твердил он. — Я поеду в Англию, в Америку, и ты либо вообще больше никогда обо мне не услышишь, либо я привезу миллионы. Нельзя было даже и заговорить с ним о том, что пора нам сколотить небольшое состояние, а потом зажить спокойно где-нибудь в глухом углу с нашей дочкой. Я видела, что бедная его голова совсем расстроена и что теперь у моей девочки только я и есть на свете. Ансом рвался в Париж, но я не соглашалась ехать с ним, и однажды утром он исчез, а через два месяца снова объявился и на этот раз привез гору прекрасных товаров, купленных будто бы в Лионе. Откуда у него взялись деньги на их покупку, он так и не объяснил. Меня это встревожило, и я отказалась торговать ими. — Ты, выходит, думаешь, что я их украл? — сказал он, посмеиваясь. Я ответила, что умерла бы с горя, если бы так думала, но знаю, на какие опасные аферы он может пойти по своему легкомыслию, поэтому и не хочу брать товары, неизвестно как попавшие к нему. Я до сих пор убеждена, что мой бедный муж был не в себе, иначе он не натворил бы такого. А я старалась не вникать ни в это дело, ни в другие подобные. То он привозил мне драгоценности, то деньги, но я и притронуться к ним не желала. Он на меня не сердился, только посмеивался или обзывал дикаркой. Меня это немного успокаивало, ведь я-то знала, что ум у него как-никак есть, да мне и не верилось, что, творя дурные дела, можно сохранять веселость. Но самой мне было, конечно, не до веселья. Я никак не показывала своей тревоги, но это было совсем не легко. В третий раз он исчез, когда я в Нормандии торговала портняжным прикладом. Мне удалось неплохо заработать, и я решила дать себе отдых и хоть несколько дней провести на родине с моей бедной малышкой, которую почти и не знала. К тому же о ней уже довольно давно не было вестей. Я совсем было собралась в дорогу, как вернулся мой муж. На руках он нес хорошенькую девочку. — Вот твоя дочка, — сказал он мне, — вот я привез нашу Луизу. Она уже отлучена от груди, и теперь мы с ней не расстанемся: она болела, смотри, какой заморыш, никак не скажешь, что ей полтора года. И верно, она была щупленькая и маленькая, как десятимесячный ребенок, и я, хотя себя не помнила от радости, тут же горько расплакалась. В личике у нее не было ни кровинки, а женщина, которую муж нанял, чтобы нянчить в пути Луизу, была с виду просто нищенка с большой дороги. Муж заплатил ей и тут же отправил восвояси; больше я ее никогда не встречала и, если бы столкнулась с ней, вряд ли узнала бы. Ансом назвал имя женщины, объяснил, что она живет на острове Уессан, но я ее там ни разу не видела и имени такого не слыхала, к тому же он сначала назвал ее по-одному, потом по-другому, так что, по правде говоря, я об этой женщине ничего не знаю. Ансом уверял, что был в Испании, вернулся оттуда морем, высадился в Бресте, узнал у нашего стряпчего, где я нахожусь, потом захотел навестить дочку и, увидев, что ухода за ней никакого, решил привезти ее ко мне, а в няньки нанял первую попавшуюся женщину: никакая более подходящая не соглашалась ехать так далеко. — Ну, раз моя Луиза со мной, — сказала я ему, — я тебе все прощаю. Мне удалось скопить немного денег на поездку к ней, значит, теперь я могу оставить ее при себе и пожить на одном месте, пока она не наберет жирку — ей это позарез нужно. Я была счастлива, что дочка со мной, что смогу наконец познакомиться с собственным ребенком. Лошадь и фургон я временно поставила у одного нормандского фермера вблизи Кутанса и там же сняла комнату для себя, потому что Ансом опять стал поговаривать об отъезде и действительно через два дня уехал. Не прошло и двух месяцев, как моя крошка снова стала здоровенькая, розовая, веселая, и я научила ее первым словам: когда Ансом ее привез, она еще не умела говорить, хотя дети в этом возрасте обычно уже немного лепечут. Целые дни я проводила с ней на лугу, глядя, как она копошится в траве. В любом доме можно было купить отличное молоко. Я только о дочке и думала. К нам все были добры, а фермерша утешала меня, говорила, что и ее дети были такие же хилые и слабые, но потом поправились и окрепли. Ее слова вселяли в меня мужество, я забывала о своих невзгодах и впервые в жизни была по-настоящему счастлива. И вот однажды я получила из Бордо письмо от Ансома. Он писал, что уезжает в Америку, наказывал хорошенько смотреть за нашей дочкой и посылал мне сто луидоров. Мне страшно было брать эти деньги, но все-таки я их взяла, успокаивая себя тем, что, если они и нажиты нечестным путем, я-то ведь честная и верну их владельцу, как только тот докажет мне свои права. И потом, я не смела подозревать своего мужа в нечестности, мой супружеский долг запрещал мне это; никаких доказательств у меня не было, и даже сейчас я могу поклясться, что, не считая истории с ребенком, мне его дурные дела были неизвестны. Придет время, к несчастью, когда я буду обязана заняться розысками, и тогда, может статься, на память Ансома ляжет пятно. Постараюсь оттянуть этот день, сколько возможно, и горячо возблагодарю Бога, если он вообще не настанет. Деньги Ансома я добавила к собственным сбережениям, и так как мой муж предоставил меня самой себе и теперь я вольна была распоряжаться своей судьбой, то решила уехать на родину и год-два мирно пожить там с Луизой. Она нуждалась в материнском присмотре и еще не так окрепла, чтобы делить со мной мою трудовую жизнь на колесах. Я высадилась на побережье Уессана как раз напротив дома Изы Карриан, и хотя мне следовало бы сердиться за то, что малышка у нее так захирела, все же решила не проходить мимо ее дверей: пусть посмотрит, как поздоровела моя дочка, и, если сможет, оправдает себя. Я вошла к ней и увидела, что она в трауре, — у нее, оказывается, умерли муж и сынишка. — Ты пришла в дом, где поселилось горе, — сказала она, обнимая меня. — Я теперь одна-одинешенька на свете. Спасибо тебе за доброту, за то, что не держишь на меня зла. Моей вины тут не было, я горько плакала и по твоей девочке. Но вижу, у тебя есть кем утешиться, ты завела второго ребенка, и твоя младшая такая же крепенькая, как Луиза: ей наверняка не больше года, а на вид она старше. Я решила, что Иза сошла с ума. Но когда я поклялась, что держу на руках Луизу, она поклялась, что Луиза умерла полгода назад и что покажет мне и свидетельство о смерти, и могилку. А мужа моего никто в этих местах не видел с тех самых пор, как мы отсюда уехали: он обманул меня, выдал за мою дочь своего незаконного ребенка, прижитого, может, с той нищенкой, которая была при девочке. Эту нищенку ни Иза, ни другие тамошние жители в глаза не видели. Что тут говорить о моем горе. Всю ночь я просидела с бедной Изой. Она ни в чем не была передо мной виновата, мою дочку выхаживала не хуже, чем собственного сына. Они оба умерли от какого-то поветрия, а Карриан погиб в море. Иза жила в большой нужде и все же попыталась вернуть мне деньги, которые я послала ей вперед за ребенка. Я их не взяла, и мы стали раздумывать, что же мне делать с лже-Луизой. Долго мне голову ломать не пришлось: я ее любила и уже разлюбить не могла. Ну, а своего мужа я не имела права, да и не хотела бесчестить. Иза дала мне слово хранить тайну и свято его соблюла. Девочка, точный возраст которой мне был неизвестен, вполне могла сойти за моего второго ребенка. На следующий день я показала ее своему отцу, и он попрекнул меня — как же это я не написала, что второй раз стала матерью? В ответ я мягко попрекнула его — как это он не известил меня о смерти Луизы? Тогда он сказал, что дурные вести и сообщать не хочется. Мы обнялись. В семье никто ничего не заподозрил насчет Ивонны — я теперь называла девочку Ивонной, не могли же обе мои дочери зваться одинаково! Моя мачеха была неплохая женщина, и все-таки она обрадовалась, когда я поселилась на побережье у Изы. Нанятые мною рабочие все починили и привели в порядок в домике у Изы, и я там открыла лавчонку. В нее заглядывали и те, что уходили в море, и те, что возвращались, торговля шла бойко, мы жили в довольстве и чистоте. С каждым днем я все больше привязывалась к Ивонне и так прожила четыре года, и, можно сказать, не так уже плохо. Но однажды я отправилась на другой конец острова навестить больную родственницу. Возвращалась я с дочкой уже под вечер, шла пустынным берегом и увидела в прибрежных скалах небольшое суденышко, а в нем контрабандиста, — он, видно, решил там заночевать. Я узнала этого человека — одного из тех беспутных дружков моего мужа, с которыми он встречался чуть ли не в каждом городе, вечно о чем-то шушукался и неделями пропадал неведомо где. Мне не очень хотелось с ним заговаривать, но я подумала — а вдруг он что-нибудь знает об Ансоме, поэтому подошла поближе к скале, за которой он укрывался, и спросила. Он ответил, не выходя на берег, что вот какая удача, ему действительно кое-что поручено передать мне, если придется со мной встретиться. От его рассказа у меня прямо все оборвалось внутри: я узнала, что мой муж долго занимался контрабандой, потом морским разбоем и, надо думать, все еще плавает у берегов Америки, где этот человек видел его около года назад. Больше я от него ничего не добилась, он и сам промышлял тем же и не очень-то хотел распространяться о себе. На вопрос, не его ли прозвище Эзаю, он стал уверять меня, что я обозналась, что его имя Бушет. Я поняла — больше из него ничего не вытянуть, и уже собралась уходить, но тут он поглядел на Ивонну, уснувшую у меня на плече, и словно что-то вспомнил. — Это у вас та самая девчонка? — Какая та самая? — Ну, которую мы привезли с юга вместе с цыганкой-кормилицей? У той молоко кончилось, ребенок совсем голодал. — Да, та самая. Я ответила так, чтобы выпытать правду, и сделала вид, что его вопрос нисколько меня не удивил, напротив, попросила сказать, чья же это все-таки девочка: муж наказал мне ухаживать за ней, а потом вернуть тем, у кого ее взяли. — Да как хотите, так и поступайте с ней, — ответил контрабандист. — Ансом взялся за это дело, а теперь, наверно, и думать о нем забыл — он же всегда так. Дурацкая история — мне она с самого начала была не по душе. Слишком опасная и головоломная. А вы-то понимаете, что Ансом не в своем уме? — Мой муж не в своем уме? — Ну да, на него по временам находит, и тогда ему надо что-нибудь вытворить, вот он и творит глупости. — Но скажите мне все-таки правду: у кого цыганка взяла ребенка? — Откуда ребенок — я знаю, но вот цыганка его украла или Ансом — это мне неведомо. — Зачем ему это понадобилось? — Затем, чтобы потом вернуть девчонку, будто он ее нашел и спас, и получить за это кругленькую сумму. То он говорил одно, то другое, то собирался сразу вернуть, но боялся, что его сцапают, то собирался написать письмо без подписи, чтобы ему заранее отвалили побольше. Цыганке он не доверял, а я не хотел вмешиваться в это дело. Девочка тем временем все чахла, и он стал бояться, как бы она не померла в дороге. У меня тоже душа была не на месте, потому что пропажу везде разыскивали, и в Балансе на Роне я дал тягу. Ансом старался сбить полицию со следу, пробирался в Париж окольными путями, не торопясь, и встретились мы там только через три недели. Я посоветовал ему отвезти малышку к вам на поправку — она так захирела, что о хорошем вознаграждении и мечтать было нечего. Так он и сделал, но перед отъездом в Америку, видно, забыл сказать вам главное. Весь Ансом в этом. То ли он вас боялся, то ли голова у него уже была занята другим. Ничего не поделаешь, такой он человек. — Неважно, о чем думал Ансом, а важно, что я хочу вернуть девочку, — настаивала я. — Скажите мне, чья она. — Ей-богу, сейчас уже и не припомню. Знаю одно — произошло это поблизости от Тулона. Езжайте туда, там все разузнаете. Такие истории случаются не часто, шуму, должно быть, было много. Мне хотелось расспросить его подробнее, но он приметил, а может, вообразил, что приметил берегового стражника, и сразу отчалил, махнув мне рукой, чтобы я уходила. Мне пора было возвращаться — малышка очень устала. Несколько дней подряд я разыскивала этого человека по всему побережью, но он как сквозь землю провалился. Тогда я стала думать, как же мне поступить. Отдать Ивонну было так трудно, что скажу правду — я не раз давала себе слово, прижимая ее к себе, что никому ничего не скажу и не расстанусь с ней. Но потом мне становилось стыдно — я представляла себе, как убиваются ее родители, и молила Бога дать мне силы для свершения его воли. Через неделю я поехала в Тулон и там, ничем не выдав себя, разузнала, что четыре года назад у владелицы ближнего поместья пропала десятимесячная внучка и она до сих пор разыскивает девочку. Тогда я выспросила, где она живет и кто ее соседи, пошла в Помме и поговорила с тамошним кюре. Он хорошо меня принял, и я попросила его устроить мне тайную встречу с бабушкой пропавшей девочки. Она назначила мне свидание в Зеленой зале — укромном уголке своего парка. Я оставила девочку у кюре и его племянника господина Фрюманса, нарядилась провансальской крестьянкой, низко надвинула чепец на лоб и, встретившись с этой почтенной женщиной, рассказала ей мою историю. Она отнеслась ко мне с таким доверием, что, еще не видя ребенка, тут же хотела заплатить мне за его возвращение, но я, понятно, денег не взяла: я в них не нуждалась, да и не хотела зарабатывать на том, что была обязана сделать. На следующий вечер я с теми же предосторожностями отвела малышку к ее бабушке. Госпожа де Валанжи не узнала девочку, но она помнила, что на ухе и на правой ножке у нее были родимые пятна, и сколько раз ей прививали оспу, и что в ее черных волосах была белокурая прядка. Она давно уже записала у себя эти приметы на случай, если ребенка возвратят. Все они оказались у Ивонны, даже белокурая прядь, которая и сейчас еще очень заметна, так что ни у госпожи де Валанжи, ни у меня никаких сомнений не осталось. Я из рук в руки передала ей внучку, но сперва попросила поклясться на Евангелии молчать обо всем, что я ей рассказала: за такое дело виновного могли сослать на галеры, а виноват в нем был, возможно, мой муж… Госпожа де Валанжи была так добра, что даже предложила мне остаться у нее, но я отказалась: стали бы допытываться, кто я и что, и в конце концов добрались бы до Ансома. Но я дала ей честное слово, что вернусь, если овдовею, и что освобожу ее от клятвы, если когда-нибудь для узаконения прав Люсьены придется сообщить всю правду. И я сдержала слово: вернулась, как только получила весть, что мой муж умер, но из уважения к его памяти ни словом не обмолвилась о прошлом. Стараясь избежать расспросов, я не подавала виду, что прежде знала Люсьену, и даже имя свое немного изменила. Говоря короче, я сделала для бедняги Ансома все, что велел мне долг, и сейчас, в присутствии госпожи де Валанжи и господина Фрюманса, приемного племянника аббата Костеля, еще раз клятвенно заверяю, что память моя ни в чем мне не изменяет. Вот то, что я знаю, и все, что знаю, в подтверждение чего собственноручно подписываю эту бумагу в Троицын день года 1816.Жана Гилем, вдова Ансом.Замок Бельомбр».
XLIV
Как подействовало чтение этого документа на остальных, не знаю, но меня он так взволновал, что я почти и не задумалась о его значении для моего дела. Он говорил мне лишь о доброте Женни, о ее чистосердечии, бескорыстии, мужественной простоте, о милосердной снисходительности к мужу и нежности ко мне, о том, что она выстрадала, решившись, при всей своей любви, больше никогда не называть меня дочерью. Даже она, моя бедняжка Женни, вспомнив, какой боли стоила ей разлука со мной, боли, таимой столь целомудренно, что в этой исповеди она почти не говорила о ней, тут неожиданно для самой себя разрыдалась. Я обняла ее и, забыв обо всем на свете, тоже залилась слезами. Опомнилась я, только услышав голос господина Бартеза, который, поднявшись с кресла, произнес торжественно и вместе с тем растроганно: — Я не намерен говорить сейчас о том, насколько весом для суда будет только что прочитанный документ. Думаю, даже самый взыскательный, самый строгий суд рассмотрит его с величайшим вниманием. Мне он внушает полное доверие — это, господин Мак-Аллан, я говорю с полной ответственностью и готов под присягой и во всеуслышание повторить где и когда угодно. Я взглянула на Мак-Аллана: впервые его лицо стало задумчиво и строго. В нем появилось вдруг что-то от неподкупного, исполненного достоинства судьи, и таким он был приятнее мне, чем в роли учтивого, многоопытного правоведа, съевшего зубы на хитроумных сделках. — Прежде чем поделиться с вами своими впечатлениями, — сказал он, обращаясь к господину Бартезу, но не спуская пронзительных глаз с Женни, которая утирала слезы, постепенно обретая обычную свою спокойную решимость, — я позволю себе задать вам вопрос. Самостоятельно ли госпожа Жана Гилем составила этот документ? — Самостоятельно, в моем присутствии, — ответил Фрюманс. — Мы все собрались тогда в этой гостиной. Госпожа де Валанжи сидела там, где сидите сейчас вы, и вполголоса разговаривала со мной, а госпожа Женни писала за тем вот столиком между окнами. Дети — господин Мариус де Валанжи и его кузина — играли на лужайке перед домом. Госпожа Женни писала не меньше часа, а потом прочла нам свои показания — это мы предложили ей составить их на случай внезапной смерти. — И вы ничего не добавили, не вычеркнули, никак их не исправили, господин Фрюманс? Скажите «да» или «нет» — вы же знаете, мне довольно вашего слова. — Клянусь, что не изменил ни единого выражения, ни единой фразы, ни единой буквы. Будь это свидетельство написано неправильно или неясно — чего, на мой взгляд, нет, — я и то счел бы преступлением против совести хоть как-то нарушить его непосредственность, я даже сказал бы — человеческую неповторимость. — Вы нашли правильное определение, господин Фрюманс, — заметил Мак-Аллан, оторвав наконец взгляд от Женни. — Это свидетельство делает честь уму и характеру госпожи Ансом. Добавлю вслед за господином Бартезом, что оно также имеет немалую нравственную силу, ибо полностью снимает с нее ответственность за свершившееся, мне это не менее ясно, чем ему. В доказательство полной моей искренности прошу госпожу Женни (она, кажется, предпочитает называться этим именем) оказать мне честь, позволив пожать ей руку. Ни секунды не колеблясь, Женни встала и протянула руку нашему противнику. Глядя ему в глаза, она сказала: — Да, я предпочитаю так и остаться Женни — с этим именем в моей жизни связана только одна утрата — смерть госпожи… Впрочем, пусть меня зовут как угодно, лишь бы восторжествовала правда. — Как же ей не восторжествовать? — произнес господин де Малаваль, которому надоело быть молчаливым свидетелем происходящего. — Ведь для всех несомненно, что господин де Валанжи признал свою дочь. Мак-Аллан удивленно взглянул на него, но, заметив нетерпеливую гримасу, тронувшую губы господина Бартеза, понял, что на неожиданные высказывания этого персонажа не следует обращать внимания. Бледный луч веселья, на мгновение озаривший нас, тут же исчез. Снова усевшись, Мак-Аллан заключил свою речь словами, поразившими меня и Женни не меньше, чем замечание господина де Малаваля: — Я назвал этот документ свидетельством, — сказал он, обращаясь в лице господина Бартеза к нам всем, — и настаиваю на этом определении, столь удачно найденном господином Фрюмансом. Да, это свидетельство, я сказал бы даже — сертификат, который госпожа Женни, не зная и не помышляя об этом, выдала самой себе. Я счастлив заверить ее, что, если бы у меня и были какие-то сомнения по поводу ее добропорядочности, теперь их бы не осталось. Но… — и тут господин Мак-Аллан сделал паузу, чтобы мы приготовились по достоинству оценить силу его аргументов, — но заявляю, что хотя чтение упомянутого свидетельства лично меня взволновало, однако ничуть не изменило моей точки зрения на дело как таковое. У Мариуса, уже решившего, что я выиграла тяжбу, вырвался жест гневного изумления, но Мак-Аллан, то ли не заметив этого, то ли не пожелав заметить, спокойно продолжал: — Я и раньше знал если и не последовательность фактов, то, во всяком случае, сами факты, перечисленные в свидетельстве, и моя оценка нисколько не переменилась в результате их связного изложения. — Но откуда вы их узнали? — изумилась Женни. — Узнал — и так подробно, — ответил Мак-Аллан, — что они послужили основой для расследования, предпринятого мною до приезда сюда. — А не согласились бы вы сообщить нам, каким путем дошли до вас эти факты? — спросил господин Бартез. — Нет, сударь, на это я не уполномочен, но вы можете принять следующее вполне правдоподобное и убедительное объяснение: госпожа де Валанжи, ни словом не выдав тайны Женни, давно уже посвятила своего сына во все обстоятельства, которые должны были бы убедить маркиза, что мадемуазель Люсьена — его дочь. Ответ и впрямь был убедителен, но я уловила недоверчивый взгляд, брошенный господином Бартезом на доктора Реппа, сохранявшего, впрочем, полную невозмутимость и как будто равнодушного к происходящему. Тут надо сделать пояснение: доктор был единственным из посторонних, кому доводилось оставаться наедине с бабушкой, и, следовательно, воспользовавшись минутой слабости, он мог выпытать у нее все, что она решила и поклялась никому не рассказывать. В душе доктор был неисправимым провинциалом и под маской безразличия таил жадное любопытство. Ему ничего не стоило выболтать госпоже Капфорт то, о чем он догадался или узнал, а ей ничего не стоило обмануть его доверие незадолго, а быть может, и задолго до смерти бабушки. Как бы там ни было, господин Мак-Аллан, не обманувший ничьего доверия, продолжал: — Итак, я собрал достаточно сведений, чтобы начать розыски, и в ходе их выяснил, что госпожа Гилем оказалась косвенно замешанной в контрабандной торговле на побережьях Франции и Англии, и не потому, что принимала в ней участие или хотя бы знала о ней, а потому, что контрабандой занимался Ансом, ее законный муж. Я узнал, что у госпожи Ансом была дочь Луиза, родившаяся и умершая на острове Уессан в 1803 году. Все факты, сообщенные ею по этому поводу,безукоризненно точны, Я узнал также, что она вновь приехала на этот остров с девочкой, которую называла второй своей дочерью, и что в течение четырех лет воспитывала ее, безвыездно живя у вполне добропорядочной женщины по имени Иза Карриан. Знаю я и то, что, уехав через четыре года вместе с ребенком и никому не сказав о цели своего путешествия, она вскоре вернулась одна и уже не появлялась в родной своей деревне, где у нее не осталось никого из близких: отец ее умер, когда она ездила на юг. По возвращении она опять занялась торговлей вразнос вместе с Изой Карриан, пока не узнала о смерти Ансома. Тогда она приехала сюда и поступила экономкой к госпоже де Валанжи. Иза Карриан не прекращала торговли до самой своей смерти. — Как! Иза умерла? — воскликнула Женни, пораженная и глубоко опечаленная. — Да, в Анжере, полгода назад, — подтвердил господин Мак-Аллан. — Вижу, вы об этом не знали, и сожалею, что нанес вам такой удар, тем более что Иза Карриан была бы очень важным свидетелем в вашу пользу. У вас на родине только она и знала, что Ивонна не ваша дочь, но хранила тайну, и там до сих пор ни одна душа не догадывается об этом. Что касается контрабандиста или флибустьера по имени Эзаю или Бушет — о нем я слышу впервые. Если он и жив, почти нет надежды разыскать человека, скрывающего свое имя, свои занятия, быть может, преступления и к тому же вам едва знакомого. След цыганки-соучастницы, служанки или поверенной Ансома, обнаружить еще труднее, а по поводу Ансома мне известно, что копию свидетельства о его смерти вы послали в Сен-Мишель на острове Уессан, чтобы там продали кое-что из вещей, которые принадлежали вам, но числились за ним. Итак, подводя итоги, вот результаты розысков, которые я в течение двух месяцев неустанно вел в Бретани и в Нормандии, в Вандее и на островах, стараясь бросить свет на эту историю. Супруги Ансом оставили в самых различных местах, где они вместе вели торговлю, отчетливые воспоминания о себе. Ансом запомнился ряду лиц природным остроумием, веселостью, бесшабашностью и чудачествами. Потом, занявшись темными делами, он стал непрерывно менять имена, и вскоре след его теряется. Воспоминания о его жене более отчетливы и подробны. Торговлю она всегда вела с безукоризненной честностью. Ее многие знают и сожалеют, что теперь во время крестных ходов в Бретани или ярмарок в Нормандии уже не видно ее лотка с пестрыми лентами и цветными тканями, которые так весело развевались по ветру. Люди спрашивают, что с ней сталось за эти двенадцать лет. Но за двенадцать лет население всегда успевает хотя бы частью обновиться или переменить место жительства, поэтому в одних деревнях не помнят, как ее зовут, в других — какая она с виду, в третьих забыли и то и другое. Ни один человек не мог мне сказать, сколько у нее было детей — их при ней никто никогда не видел. По слухам, муж часто оставлял ее без средств, а потом окончательно бросил. Вот все, что мне удалось разузнать, так как действовал я без посредников. Вам нечего тревожиться, госпожа Женни: я старался не навлекать подозрений на особу, которую тогда не имел еще чести знать, поэтому намекал, что вам завещано маленькое наследство и мне необходимо вас отыскать. Заканчивая свое сообщение, повторяю: рассказанная вами история правдива во всем, что касается вашей собственной жизни. Она, быть может, покажется вполне правдоподобной тому, кто отнесется к ней как к искусно построенному вымыслу. В ней есть подробности, которые, возможно, помогут установить личность мадемуазель Люсьены де Валанжи, но никаких решающих сведений по этому главному пункту она ни в какой мере не дает. Вы, быть может, безрезультатно потратите годы на поиски двух свидетелей — флибустьера, весьма вероятно, уже вздернутого на корабельную рею, и цыганки, которую вы, по вашим же словам, вряд ли узнаете. Главного действующего лица нет в живых, тому есть подтверждение, и перед смертью он не оставил никаких письменных показаний или вещественных доказательств содеянного. Следовательно, гражданские права мадемуазель Люсьены основаны только на существовании некоторых внешних примет, которые, по утверждению госпожи де Валанжи, были и у ее внучки, — двух-трех родимых пятнышек на коже и золотистой пряди, которую я различаю — не стану этого отрицать — в ее темных волосах. Но неужели друзья и советчики мадемуазель Люсьены серьезно считают, что суду покажутся убедительными эти столь распространенные приметы в совокупности с иллюзией добросердечной престарелой дамы и свидетельством одной-единственной особы, достойной доверия, но недостаточно осведомленной, вероятно, обманутой и, уж во всяком случае, не имеющей возможности представить нам во плоти человека, чей рассказ она приняла на веру? Неужели правовед, который все это сейчас слушает, врач, знающий, как меняются приметы ребенка на протяжении первых лет жизни, да кто угодно, сколько-нибудь отдающий себе отчет в том, что такое подлинность, несомненность, очевидность фактов человеческой жизни — вы, мадемуазель Люсьена, особа здравомыслящая и, полагаю, прямодушная, даже вы сами, госпожа Женни, женщина, далеко превосходящая средний уровень по ясности ума и широте понимания, — неужели, спрашиваю я вас, вы думаете, что ваши показания будут иметь хоть какую-нибудь цену перед лицом закона?XLV
Мак-Аллан замолчал, растерянно молчали и остальные. Одна Женни не поддалась унынию. — Да, — твердо сказала она, — я верю, что правду всегда можно доказать правдой. Только дайте нам время! Я сама займусь поисками. Почему считать, что контрабандист умер? Может, он еще жив. Прошло десять лет, прежде чем я получила подтверждение смерти моего мужа, но все-таки я его получила. Пусть я не знаю имени контрабандиста, но однажды я узнала его в лицо, почему же не узнаю и во второй раз? Контрабандисты не вывелись ни на Уессане, ни в других местах, и все они знакомы друг с другом. Я разыщу их, выведаю, что мне нужно. Тот контрабандист сказал правду — зачем ему было выдумывать? Да и как выдумка могла так совпасть с истиной? На свете не бывает подобных совпадений! Сам он в похищении не участвовал — почему бы ему не рассказать мне сейчас всего, что он знает? Нет, нет, нельзя складывать руки только из-за того, что мы не раздобыли нужных свидетельств, — не раздобыли раньше, раздобудем теперь. Сейчас самое подходящее время для этого. Меня уже ничто не останавливает — моего мужа можно осудить, но нельзя покарать. Детей у меня тоже нет. Он никогда не был связан семьей, не связана ею нынче и я. Опозорено будет только мое имя. Ничто больше не мешает мне положить все силы на спасение Люсьены. Я и без того, наверно, виновата перед ней — слишком долго ждала. Сперва нужно думать о невинных, только потом о виноватых. Что поделаешь, он был моим мужем. Когда в Бресте или Тулоне мимо проходила партия каторжников, я всегда думала: «Неужели мне своими руками отправить его туда?» Простите меня за слабость, бедная моя Люсьена! Я постараюсь все исправить, завтра же, если надо, поеду на розыски и, если надо, отправлюсь хоть в Америку! — Погодите, Женни! — прервал ее господин Бартез, взволнованный почти так же, как я. — Вы обещали ответить на наши вопросы. Где умер Ансом? — В Канаде, в долговой тюрьме. Говорят, он, бедняга, под конец совсем лишился ума. — Как вы узнали, что он умер, и почему стали выяснять, где это случилось, и доискиваться подтверждений смерти Ансома только спустя десять лет после его исчезновения? — Подтверждений я стала искать, как только до меня дошли вести о его смерти, но я не знала, где он умер. Бретонские китобои встретили на Новой Земле канадских рыбаков, старинных своих знакомцев, и разговорились с ними о прежних товарищах. Зашла речь и о моем муже. Совсем еще молодым парнем он побывал с артелью рыбаков в тех местах и остался у многих в памяти, потому что был самый веселый и самый ленивый. И вот какой-то канадец сказал: «Я повстречался с Ансомом в Монреале. В Канаде он и умер. О рыбном промысле он и думать забыл, другими делами занимался». Что это были за дела, наши рыбаки не поняли и просто мне сказали: «Вы овдовели». Но я не очень этому поверила и попросила стряпчего из наших мест навести справки. Я извела немало денег, он написал груду писем, но только два года назад удалось наконец установить, что Ансом умер в квебекской тюрьме и что называл он себя тогда Персвилем. Впрочем, кредиторы отлично знали, что настоящее его имя — Ансом, под этим именем он и значится в тюремных списках умерших. Я хотела заплатить его долги, но не смогла найти кредиторов — они, видно, тоже перекати-поле, как он. Я запросила через стряпчего, не осталось ли после его смерти вещей, бумаг, письма на мое имя. Не осталось ничего, ответили мне, а если он что-нибудь и писал, это был бред сумасшедшего. Но все-таки почему мне не поехать туда сейчас, не узнать все самолично? Сумасшедшие иной раз много чего говорят, в их бреду бывает и толика правды. Я отыщу людей, с которыми он вместе сидел в тюрьме, поговорю с врачом, с фельдшером, расспрошу, не мучила ли его перед смертью совесть, не терзал ли страх, не вспоминал ли он о ком-нибудь, не говорил ли о ребенке… — Разума у вас не меньше, чем воображения, госпожа Женни, — мягко сказал Мак-Аллан, — подумайте же сами, даже если вам удастся совершить эти чудеса настойчивости и преданности, будут ли иметь хоть какую-нибудь законную силу смутные, бредовые речи, произнесенные так давно и пересказанные лишь сейчас? Нет, поверьте мне, это пустая затея! Все поведанное вами здесь только утончает нить — чтобы не сказать волосок, — что связует мадемуазель Люсьену с аристократическим обществом. Действия, намеченные вами, уничтожат возможность выгодной, осмелюсь даже сказать — блестящей сделки для дорогой вам особы. Ваши розыски могут длиться очень долго, а какова тем временем будет участь мадемуазель Люсьены, стесненной в средствах, лишенной вашего присмотра, обреченной на одинокую и тяжкую борьбу за существование? Не говорю уже об опасностях, которые грозят беззащитной молодой девушке, не имеющей в свете должной опеки. — Заблуждаетесь, сударь, — сухо заметил Мариус. — У моей кузины есть опекуны в лице господина де Малаваля и в моем. — Вы опекун еще очень неоперившийся, — возразил адвокат, — а господин де Малаваль предлагает себя в качестве такового из одного лишь бескорыстного великодушия. Устоят ли эти опекуны, когда в более или менее близком будущем почувствуют тяжесть обязанностей, взятых ими на себя из мнимого чувства долга? Не знаю, что ответил бы ему Мариус, но тут в разговор вступил аббат Костель, который до сих пор молчал, ничем не выдавая своих чувств. — Вы не осведомлены, сударь, о том, — сказал он с восторженной горячностью, — что мадемуазель де Валанжи обручена с господином Мариусом де Валанжи и сохранит принадлежащее ей имя, согласна на то ее мачеха или нет. Если она и потеряет его по суду, то, без сомнения, вновь обретет в самом близком будущем. Таким образом, ваши предложения неуместны. Ни господин Мариус, ни его кузина никогда не согласятся взять деньги, сама мысль об этом для них оскорбительна. Мой вам совет: ничего больше не предлагайте, ну, а желаете обращаться в суд — обращайтесь. Возможно, вы добьетесь раздела имущества бабушки мадемуазель де Валанжи между нею и ее сводными братьями, возможно, добьетесь даже того, что ее вообще лишат наследства, — так или иначе, она будет ждать решения суда и мужественно встретит любой удар судьбы, находя утешение в любви супруга и преданности друзей. — Как это прекрасно! — без тени замешательства ответил Мак-Аллан. — Если таков окончательный итог наших переговоров, я умолкаю, так как миссия моя окончена. Оспаривать законность завещания и гражданского состояния наследницы предоставляю другим, более охочим, чем я, до судебных процедур. Вся ответственность за грозящую катастрофу ложится теперь на господина Мариуса де Валанжи, а я умываю руки. Свой долг я исполнил. Аббат Костель сделал решительный ход. У Мариуса уже не было выбора, приходилось идти ва-банк, но весь его героизм сводился к одной только позе и рыцарственные замашки отлично уживались с умением блюсти свою выгоду. Он счел вполне уместным предложить мне покровительство, рассчитывая, что его великодушный жест навеки свяжет меня с ним, если я выиграю тяжбу, но, если проиграю, покровительство это отнюдь не означало такой крайности, как женитьба. Он побледнел и, чувствуя, что взгляды присутствующих устремлены на него, совсем потерял самообладание, сжал кулаки и бросил на меня взгляд одновременно вызывающий и испуганный. Эта странная смесь угрозы и ужаса не ускользнула от столь проницательных наблюдателей, как господин Бартез, Мак-Аллан и Фрюманс. Что мне оставалось, как не подтвердить во всеуслышание заявление, уже сделанное мною господину Бартезу? Понимала я также, что все должна взять на себя, — только так можно было избавить Мариуса от унизительного сознания своей неспособности сыграть благородную роль, которую ему необдуманно навязал аббат Костель. Поэтому я тут же сказала, что по причинам, не связанным с нынешними обстоятельствами, переменила свое намерение и заранее отказываюсь от великодушного предложения, которое мой кузен собирался мне сделать. Едва с плеч Мариуса свалилось непосильное бремя, как он снова овладел собой и сделал под занавес красивый жест. — Если так, — сказал он, подходя ко мне, — у меня остается только совещательный голос, но, надеюсь, ты сочтешь возможным сообщить мне свое решение и выслушать мои советы. А сейчас, после того как я предложил тебе все, чем располагаю, с моей стороны было бы неучтиво настаивать на спасительном выходе, безоговорочно и, быть может, опрометчиво тобою отвергнутом. Поэтому я ухожу, избавляя тебя от тягостного объяснения причин твоего отказа. Он поцеловал мне руку, с непринужденным изяществом отвесил общий поклон и удалился с господином де Малавалем, который перед уходом счел необходимым выразить мне неодобрение, облаченное в форму учтивого соболезнования. В дальнейшем, когда начало работать его неукротимое воображение, он рассказывал и пояснял этот эпизод так: Мариус на семейном совете попросил моей руки и сделал это с настойчивостью самой пылкой и в выражениях самых красноречивых. Он, господин де Малаваль, равно как господин Бартез и даже господин Мак-Аллан, всячески убеждали меня вознаградить любовь столь самоотверженную и пламя столь чистое, но я тем не менее вняла дурным советам аббата Костеля и Фрюманса. Не знаю, какая роль в этой семейной драме была отведена Женни, но так или иначе, разрыв был делом исключительно моих рук: я вела себя как упрямый, капризный, избалованный ребенок и сама виновата, что проиграла игру. Такова была версия господина де Малаваля, постепенно обраставшая новыми подробностями, но в основе своей неизменная.XLVI
С уходом господина де Малаваля и Мариуса положение упростилось. В неприятном недоразумении, вызванном великодушным, но неуместным выступлением аббата Костеля, была и положительная сторона: теперь можно было возобновить переговоры, уясняющие мне мое положение. Мак-Аллан, разумеется, сразу спросил меня, поддерживаю ли я и сейчас, когда из щепетильности порвала помолвку с Мариусом, безоговорочный отказ аббата Костеля. В его вкрадчивых словах мне послышалась ирония, и я сказала, что должна подумать, как этот отказ обосновать и в какую форму облечь. — Решение мое принято, — добавила я, — и менять его я не собираюсь, но что касается формы отказа, тут мне необходимо узнать мнение моих старших и более опытных друзей. Так сдержанно я ответила лишь в угоду господину Бартезу — могла ли я отказать ему в этом знаке уважения? — Оставляю вас наедине с вашими друзьями, — сказал Мак-Аллан, вставая, — и прошу прощения за то, что в первый же день проявил такую настойчивость. Но должен сразу предупредить — завтра собираюсь проявить не меньшую. Да, мне обязательно нужно вас повидать завтра же. — Так скоро, сударь? — Это, конечно, скоро, — согласился он, — тем более что мне для улаживания нашего дела отпущено довольно много времени. Но и у длительного времени есть пределы, и чем больше мы его потеряем, тем труднее нам будет сговориться. К тому же у меня есть и личные причины для частых встреч с вами. Когда-нибудь я, возможно, вам их изложу, а пока даю слово, что побуждают меня к ним ваши же интересы. Если господин Бартез, господин Фрюманс, или доктор Репп, или все трое согласятся присутствовать при нашей завтрашней встрече, я буду очень рад, так как ни в коем случае не намерен добиваться от вас решения за их спиной. — Завтра я занят и приехать не смогу, а доктор здесь просто благожелательный свидетель, не больше, — ответил господин Бартез. — Если мадемуазель де Валанжи пожелает, она, разумеется, примет вас и завтра и в любой другой день, но на правах преданного друга ее бабушки я ставлю одно условие: вы обещаете ограничиться лишь возобновлением предложений, не требуя в мое отсутствие окончательного ответа от мадемуазель де Валанжи, равно как и она даст слово не идти без меня ни на какие соглашения. Думаю, мою просьбу поддержат и господин Костель, и господин Фрюманс, и госпожа Женни. Мак-Аллан с готовностью принял это условие, я тоже обещала соблюдать его. Адвокат попросил меня назначить точный час следующей встречи, я назначила ее на полдень, после чего он ушел, уведя с собой и доктора. После их ухода господин Бартез рассеял остаток надежды, еще таившейся у Женни, у Фрюманса и у меня. — Пусть вас не вводит в заблуждение мое внешнее спокойствие, — сказал он нам. — Иначе вести себя с нашим противником я не имею права. Но положение, на мой взгляд, очень серьезно, а предполагаемое путешествие Женни связано с такими трудностями, что я не только не рекомендую его, но, напротив, считаю затеей совершенно безнадежной. Оно и продлится дольше, и окажется бесплоднее любой тяжбы. Все необходимые и возможные розыски с сегодняшнего дня я беру на себя, но рассчитывать на чудо и поэтому отказываться от разумных и неоскорбительных предложений было бы просто вызовом судьбе. Все зависит от формы этих предложений и побудительных причин. Не возмущайтесь, господин Костель, а вы, Люсьена, не будьте заранее предубежденной. Пока я еще не улавливаю мотивов, толкающих вашу мачеху такой дорогой ценой покупать у вас отказ от имени, которое вы могли бы носить без всякого ущерба для нее. Тут что-то кроется, и при большой осмотрительности и терпении мы проникнем в эту тайну. Если в ней окажется нечто оскорбительное для вас, я первый буду настаивать на непримиримой борьбе. В противном случае долг ваших друзей — просить вас хорошенько поразмыслить и, быть может, когда приспеет время, пойти на уступки. С мнением господина Бартеза согласился и Фрюманс, а это, в свою очередь, поколебало господина Костеля и Женни. Оба они обещали ничего не предпринимать, пока не прояснится суть дела: Фрюманс рассчитывал до нее докопаться, господин Бартез надеялся ее разгадать. — Вот что, мадемуазель Люсьена, — прощаясь, сказал Фрюманс, — я попытаюсь проверить предположения, которые покамест не хочу высказывать вслух, хотя, видимо, они возникли и у господина Бартеза, а вы тем временем докажите, что не менее искусны, чем господин Мак-Аллан, и заставьте его выложить карты на стол. Нам обязательно надо разузнать, действительно ли ваша мачеха заочно возненавидела вас, и, если это правда, выяснить, чем такая ненависть вызвана. — К несчастью, Фрюманс, я совсем неискусна, а Мак-Аллан, боюсь, чересчур искусен. — Чересчур? Нет, это не так, — возразил Фрюманс. — Быть чересчур искусным значит быть двуличным, а господин Мак-Аллан искренен, — не настолько, разумеется, чтобы выдать тайны своих клиентов. Пустите в ход его же оружие, то есть прямодушие. Попробуйте припереть его к стене, пусть он поймет, что вы пойдете на уступки, только если в них не будет ничего унизительного. — Но зачем идти на уступки? — спросила я Женни, едва мы остались вдвоем. — Если мои права мнимые — пусть меня их лишат. Но почему они требуют, чтобы я продала имя, которое, по их же утверждению, мне не принадлежит? Продать можно лишь свою собственность, а продать чужую — все равно что ее присвоить, украсть. Тебе понятно поведение моей мачехи? Мне оно совершенно непонятно. — Я твердо верю, что свое имя вы носите по праву, и вижу, что они не надеются так уж легко отнять его у вас, — ответила Женни. — Почему им этого так хочется? Пожалуй, кое о чем я догадываюсь. Вы ничего не знаете о своем отце, а я его историю знаю, но говорить о ней не имела права. Теперь пришло время все узнать и вам, не то вы можете натворить ошибок. Пойдемте пообедаем, а потом я вам все расскажу.XLVII
После смерти бабушки мы с Женни всегда обедали вместе. Я и помыслить не могла, что она, стоя за моим стулом, будет мне прислуживать. В конце концов Женни сдалась на мои уговоры, и теперь мы сидели с ней за столом друг против друга. Трапезы наши были так скромны, что помощь прислуги нам была не нужна. — Знаете ли вы, почему у вашего отца был титул маркиза, а у бабушки титула не было? — спросила Женни за десертом. — Наверно, она тоже маркиза, но в годы революции из осторожности это скрывала. — Почему же не напомнила об этом в годы Реставрации, по примеру многих аристократов, которые во время Империи не очень-то любили вспоминать о своих титулах? — Не знаю, Женни. Наверно, бабушка не была тщеславна, вот и все. — Ваша бабушка гордилась своей знатностью. Тщеславна она не была, но у всех аристократов такая гордость в крови. Титулы она почитала, поэтому и отмахивалась от того, который ей не принадлежал. — Значит, она не маркиза? — И ваш отец тоже не маркиз. — Какой стыд! Зачем же он присвоил?.. — Господи, он ведь был эмигрант, вот и поступил, как многие другие. Они ничем не владели, кроме имени, поэтому стали прибавлять к нему титул, чтобы им легче было устроиться в чужой стране. Титул помог ему жениться на вашей матери: она не из знатных, но за ней дали неплохое приданое. Отец ваш быстро его проел, ну, а потом остался вдовцом, без гроша в кармане, но зато по-прежнему считался титулованным. Он был красавец, приятен в обхождении и быстро вскружил голову леди Вудклиф, богатой и знатной вдове. Ее родня потребовала доказательств, что он и вправду маркиз, а где ему было взять эти доказательства? Он подумал, подумал и написал своей матери, чтобы она выхлопотала восстановление в его пользу старинного и уже угасшего маркизата Бельомбр: тогда ваш отец звался бы маркизом де Валанжи-Бельомбр или просто де Бельомбр. Он думал — это дело несложное, для него ведь революции словно бы и не существовало. А госпожа даже и пытаться не захотела, считая это нелепой затеей: ни в каком родстве с маркизами де Бельомбр ее предки не состояли, а похвалиться перед Бурбонами она могла только тем, что два ее брата сражались в английской армии против Бонапарта и были убиты. Госпожа не желала напоминать об этом, потому что держалась взглядов своего мужа, который был, как она любила говорить, из породы патриотов. И еще она говорила, что старинное дворянское имя и без титула хорошо и что ей нет нужды себя облагораживать: ее род не уступит в благородстве самому знатному провансальскому семейству. Сын госпожи все-таки женился на леди Вудклиф, несмотря на все препоны со стороны ее семейства: она любила вашего отца. Но потом, видно, ей пришлось в этом раскаяться: он был мот и не разорил ее только потому, что она крепко взяла его в руки и обходилась с ним довольно сурово. Судя по всему, эта женщина — кремень. Но ей так и не удалось принудить своих благородных родственников величать ее маркизой: они продолжали попрекать леди Вудклиф неравным браком, вот она и не может простить госпоже, что та пренебрегла ее желанием. Она так ни разу и не навестила госпожу и не позволила вашему отцу открыто признать вас своей дочерью. Я догадываюсь о ее теперешних замыслах — ваш отец не раз намекал на них в письмах: она желает, чтобы ее старший сын получил титул маркиза, собирается хлопотать об этом при дворе и уж денег тут не пожалеет. Ей нужно добиться, чтобы Бельомбр стал ее родовым поместьем — только тогда она перестанет грызть себя за то, что до сих пор была просто госпожой де Валанжи. Вас хотят навсегда изгнать отсюда — поэтому и предлагают такие деньги. Ей, наверно, кажется, что будущий муж мадемуазель де Валанжи, которая принесет в приданое поместье Бельомбр, без труда добьется и титула. Как иначе объяснить ее поведение? — Ты, конечно, права. Но согласись, это какое-то помешательство. — Бог мой, да ведь половину всего, что творится на свете, только помешательством и объяснишь. Потому нам и надо сохранять здравый рассудок и терпеливо обходиться с умалишенными. — Это святая правда, дорогая моя Женни. Я как раз собиралась сказать, что прощаю твоего мужа. Знаешь, как подумаю, что только благодаря Ансому узнала тебя, так готова благословлять его, несмотря на все неприятности, которые мы терпим из-за него. Женни поцеловала меня. — Я тоже виновата в ваших нынешних бедах. Может, пожертвуй я мужем, у нас были бы сейчас доказательства. — Ты исполнила свой долг, и за это я еще больше тебя уважаю. Понимаешь ли, Женни, сегодня утром я пришла в полное смятение, когда встретила этого англичанина, но потом, услышав нашу с тобой историю, снова набралась мужества. Как бы я гордилась, если бы на самом деле была твоей дочерью! — Не говорите так! Вы тогда не были бы внучкой своей бабушки. — Да, это верно, ради нее я обязана отстаивать право на имя, которым она с таким доверием снова меня назвала, и гордиться смею только тем, что я плоть от плоти этого ангела доброты. Ну, а что касается титулов, мне они так же не нужны, как были не нужны ей. — Вот и хорошо. Но имя ее вам должно быть свято, и продавать его вы не должны. Пусть его отнимут у вас, если смогут и захотят, но пусть никто не посмеет сказать, что у вас его купили! — Женни, дорогая моя, ты просто читаешь в моем сердце! — воскликнула я. — Это уже твердо решено, и я только потому не отчитала господина Мак-Аллана, как это сделал господин Костель, что не хочу разговоров, будто поступаю под влиянием уязвленного самолюбия, не хочу открытой ссоры. И потом, мне обязательно надо выяснить, почему все-таки они меня преследуют; Фрюманс был прав, когда настаивал на этом. — Ненавидят вас из-за вашей бабушки, потому что не смогли отомстить ей, пока она была жива, но никакого преследования я пока не вижу. Тяжбу против вас начали только из тщеславия. В Лондоне, наверно, прослышали, что вы выходите замуж за Мариуса. — Но как это дошло до Лондона? О нашей помолвке никто, кроме самых близких, не знал — ведь то письмо отцу так и не было отправлено. — В том-то и дело. Значит, здесь есть человек, который шпионит и обо всем доносит туда, не брезгует, возможно, и ложью. Это было ясно уже по письмам вашего отца к госпоже, и знали бы вы, как она огорчалась! Вся ее переписка сейчас у господина Бартеза, и, думаю, он многое понимает, но до поры до времени помалкивает. — Ты, как всегда, права. Должно быть, кто-то написал моей мачехе столько дурного обо мне, что теперь она считает меня недостойной имени, которое носит сама. — Нет, нет, этого не может быть! — возмутилась Женни. — Кто посмеет сказать о вас хоть одно дурное слово! Женни страдала оптимизмом — этот благородный недостаток вкоренился в ее великодушную натуру, твердую в испытаниях и глубоко уравновешенную. Ей удалось утишить мою тревогу и вселить в меня необычайное спокойствие, столь свойственное ей самой. Особенно спокойной становилась Женни в часы испытаний, а если ей и случалось дать волю порывам восторга или негодования, мгновение спустя она уже бралась за дело с присущей ей терпеливой настойчивостью. — Как тебе понравился Мариус? — спросила я, улыбаясь, когда она причесывала меня на ночь. — Мариус? Лучше я помолчу о нем, — ответила она. — В твоих устах это звучит суровым осуждением. — Не вынуждайте меня говорить прямее. — Нет, а все-таки, разве ты не считаешь, что Мариус, воспитанный бабушкой, всем ей обязанный, должен был совершить этот безумный шаг и жениться на мне? — Он немного слабодушен, а вы не дали ему времени справиться с собой. Скажи вы: «Мариус, я рассчитываю на тебя», — и он волей-неволей подтвердил бы слова аббата. Но вот аббат поступил опрометчиво. С этим юношей нельзя так обходиться. — По-твоему, я должна была ждать, пока он соберется с духом, и даже еще ободрять его? — Вы слишком требовательны — это не приносит счастья в жизни. Вы что ж, хотите, чтобы человек так вот сразу понял свой долг и тут же исполнил его? — А ты, Женни, сомневалась когда-нибудь, стоит ли тебе исполнить свой долг? Не твой ли пример научил меня идти к цели прямо, не мешкая по дороге? — Не у всех одинаково зоркие глаза и быстрая походка. Погодите осуждать этого мальчика: может, он уже сегодня вечером раскается, а завтра прибежит и скажет, что хочет вас спасти. — Ох, Женни, упаси его Бог от такого благородного порыва! Не то, боюсь, придется мне принять предложение — ведь я обязана спасти от надругательств имя, унаследованное от бабушки. — Почему вы так говорите, Люсьена? Из-за оскорбленного самолюбия? Скажите по совести, у вас и впрямь не осталось приязни к Мариусу? — Приязнь, пожалуй, осталась. Я прощаю ему эгоизм и нерешительность, а какие-то его свойства даже уважаю. Но… — Но что? Вы не влюблены в него, знаю, но мне казалось, вам вовсе и не хочется влюбляться. — Конечно, не хочется! Я боюсь любви — в ней столько неистовства! Но… — Какое еще «но»? — Сама не знаю, Женни. Ведь и приязнь, должно быть, бывает разная. Вот ты, например, не влюблена во Фрюманса? — Не влюблена. — Зато в твоей приязни к нему полное доверие, а это такое замечательное чувство! — Да, чувство хорошее. Но люди вроде Фрюманса встречаются не часто. Может, он один такой и есть. Не забывайте, он жил по-иному, чем другие, и совсем не знал искушений. Фрюманс ничего не хочет от света, и свет не побежит к нему навстречу. У меня и в мыслях нет, чтобы вы пошли за кузена только ради положения в обществе, но все-таки, сдается мне, он заслуживает дружбы. Подумайте, сколько вокруг него честолюбивых людей, а может, и дурных советчиков… — Поговорим лучше о Фрюмансе. Почему ты не влюблена в него? — А почему мне быть влюбленной? Вы-то ведь называете любовь безумием — позвольте же и мне, моя девочка, сохранять разум. Час был поздний, я устала, к тому же знала по опыту — стоит мне коснуться в разговоре некоторых тем, и Женни немедленно превращается в закрытую книгу.XLVIII
На следующий день ровно в полдень появился господин Мак-Аллан. К моему удивлению, он пришел пешком. — А я теперь живу не в Тулоне, — объяснил он. — Мне необходимо часто совещаться с вами, и пришлось бы тратить слишком много времени на переезды, да и глазам моим вредна дорожная пыль. Доктор Репп предложил мне свое гостеприимство, и я принял его — ведь вблизи от вас нет другого пристанища. Женни чуть нахмурилась, и я поняла, что наш противник стакнулся с союзником более чем прохладным, к тому же связанным с некой дамой, более чем ненадежной. Я невольно спросила Мак-Аллана, познакомился ли он уже с госпожой Капфорт. — Да, — без запинки ответил он. — Видно, в наказание за грехи мне пришлось провести целый вечер в обществе этой медоточивой дамы и ее потрясающей дочери. — Чем вас так потрясла Галатея? — Всем. Но я не для того докучаю вам своим визитом, чтобы разговаривать о ней: я пришел предложить вам свои услуги. Женни под каким-то предлогом вышла из комнаты: она надеялась, что наедине со мной господин Мак-Аллан скорее откроет мне тайну, которую, по совету Фрюманса, я должна была у него выведать. Но он был человек искушенный, а я совсем не умела хитрить: все мои наводящие и прямые вопросы разбивались о его непроницаемость. Хуже того — он при этом словно бы играл в открытую. — Зачем вы пытаетесь проникнуть в побуждения маркизы де Валанжи? — сказал он, так и не ответив ни на один мой вопрос. — У нас с вами одна задача — обсудить нынешнее положение, и я так же не позволю себе допытываться, что вы думаете о моей клиентке и что чувствуете к ней, как не стану говорить с вами о маркизе иначе, чем о неком препятствии, которое мешает вашим планам на будущее. Улыбнувшись, я возразила, что не это он обещал мне, торжественно предложив свои услуги. — Я был уверен, что вы не потребуете от меня ничего противного моим обязательствам, — ответил он. — Вы невольно располагаете к доверию, поэтому я и рассчитывал, что могу, не изменяя долгу, предложить вам распоряжаться мною. — И, надеюсь, не ошиблись в своих расчетах. Но я-то полагала, что ваш долг — сказать мне правду. В качестве кого вы пришли ко мне? В качестве вестника мира, который говорит: «Хотя мы и убеждены, что у вас нет прав на нашу собственность, тем не менее, сжалившись над вашим бедственным положением и памятуя любовь, которую питала к вам госпожа де Валанжи, предлагаем взамен этой собственности средства к существованию»? Или, надменно и пренебрежительно глядя на меня сверху вниз, заявляете: «Мы отрицаем все ваши права, но, желая избавить себя от неприятной судебной процедуры, готовы заплатить вам за отречение, так же мало заботясь о вашем прошлом, как и о будущем»? — Первая гипотеза мне кажется удачной, — сказал Мак-Аллан. — Именно в таких выражениях я и намерен составить наш договор, если вы дадите на то согласие. — Вы считаете мое истолкование удачным, но даете ли слово, что оно правильно? — А вы, мадемуазель, даете слово, что, если оно правильно, вы согласитесь на мои предложения? — Вы же знаете, что я могу дать ответ, только предварительно посоветовавшись. — Точно так же, как я могу дать ответ, только заручившись сперва вашим согласием. — Короче говоря, мы с вами вертимся в заколдованном кругу, и вы пользуетесь моей неопытностью. Особой чести вам это не принесет, господин Мак-Аллан. Должно быть, в вашей жизни бывали победы и более трудные, и более почетные. Хорошо, сейчас я вам скажу все, что думаю об этом деле. Я не только помеха каким-то замыслам, мне неизвестным, но и по причинам, также мне неизвестным, являюсь особой, родства с которой стыдятся. Поэтому, если бы я приняла… если я приму эти предложения, мои низость и жадность доставят, вероятно, вашей клиентке много радости. Хотя я и решила не показывать Мак-Аллану своих чувств, волнение сквозило в каждом моем слове, негодование рвалось наружу. Он пристально смотрел на меня, потом попытался взять за руку, но я ее отдернула, чем, видимо, его удивила. Это удивление, в свою очередь, поразило меня и даже немного обидело. — Итак, — произнес он, тоже как будто немного взволнованный, — вы, я вижу, идти на соглашение не желаете. Повремените еще хотя бы неделю, посоветуйтесь с господином Бартезом: он-то хочет, чтобы вы согласились. — Вам, сударь, ничего не известно о желаниях господина Бартеза. — Простите, мадемуазель, вы заблуждаетесь. Господин Бартез — человек стойкий, верный, осторожный, он неплохо владеет собой, но непроницаемым его никак нельзя назвать, потому что скрывать свои чувства от внимательного наблюдателя умеют только люди или бесчестные, или равнодушные. Господин Бартез знает, что перед лицом закона вы беззащитны, и, будь он при этом разговоре, его очень обеспокоила бы ваша горячность. Лучше мне уйти, пока вы безрассудно не сожгли всех своих кораблей. — Что ж, — сказала я, словно не замечая, что он собирается откланяться, и продолжая сидеть, — ваше поведение не назовешь ни очень добропорядочным, ни очень прямодушным. Вы обрекаете меня на неделю бесцельных волнений, а могли бы уже сейчас поставить лицом к лицу с моей собственной совестью. Чем серьезнее положение, тем серьезнее наши обязательства. Есть, конечно, они и у меня. Мое единственное желание — исполнить свой долг, так почему, почему от меня скрывают, в чем он состоит? Неужели мне, как несмышленому ребенку, бездумно подписать договор, который или обесчестит меня, или оставит нищей? Должна ли я внять житейскому благоразумию, взять деньги и утратить имя или, доверившись врожденной гордости, вступить за него в борьбу с таинственными и, быть может, неумолимыми силами? Как! Я по-прежнему буду в неведении, и моим разумом, моей совестью станет распоряжаться какой-то пункт закона, выгодный или, напротив, губительный для меня? Нет, я уже не ребенок, со вчерашнего дня я чувствую в себе силу и мужество взрослой женщины! Скажите, что во имя чести меня просят пойти на величайшую жертву, — и я не колеблясь пойду на нее, или что из какой-то непонятной ненависти меня хотят растоптать, — и я не задумываясь вступлю в борьбу. Но не вздумайте повторять, что мне грозит опасность и во имя собственного блага я должна выбирать между позором и нищетой. Позора, мне кажется, я не заслужила, а слепо соглашаться на нищету не расположена. — Хорошо, мадемуазель Люсьена, — сказал Мак-Аллан, видимо тронутый моим смятением, — я уже ничего не советую вам, а только обращаюсь с просьбой: дайте мне неделю отсрочки. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы облегчить положение, в которое вас поставили, и надеюсь в самом скором времени явиться с предложениями, для вас уже приемлемыми. — За неделю вы никак не успеете получить ответ из Англии сюда, на самую окраину Франции. — Возможно. Но я-то свое письмо отправлю и, отправив, смогу, вероятно, воспользоваться всеми своими полномочиями. А сейчас я собираюсь откланяться, но сперва скажите, нельзя ли мне взглянуть на тот своеобразный и живописный уголок парка Бельомбр, о котором я наслышан? — Вы, наверно, имеете в виду Зеленую залу, — сказала я. — Пойдемте, я провожу вас: сейчас вода стоит еще высоко, и человеку, не знающему этих мест, идти туда одному опасно. — Нет, что вы, я попрошу кого-нибудь из местных жителей показать мне дорогу. — В такое время дня вы никого не найдете. — Значит, придется отказаться… Поверьте, это нелегко, прогулка с вами так соблазнительна! Но ведь если я соглашусь, вы сочтете меня невежей? — Разумеется, нет: я сама предложила проводить вас. — В таком случае с благодарностью принимаю вашу любезность.XLIX
Мак-Аллан был в великолепной соломенной шляпе, искусно приспособленной к защите английского гражданина от южного солнца. Он немало удивился, увидев, что я иду с непокрытой головой, хотя полуденные лучи пекли немилосердно. — Я заметил, — сказал он, — что черные волосы южанок всегда с каким-то огненным отливом, меж тем как у жительниц северных стран они грубее по тону, тусклы и, если позволительно так выразиться, бескрасочны: худосочные статуи в черных бархатных или атласных наколках. А вот вы, дочери солнца, словно золотом осыпаны. — Это намек на мою белокурую прядь, не так ли, господин Мак-Аллан? — Клянусь честью, я и забыл о ней, просто любовался вашей кудрявой головой. На мой взгляд, мадемуазель де Валанжи, вы необыкновенно красивы, и это не пошлый комплимент, а чистосердечное признание. В недоумении я взглянула на Мак-Аллана. С чего ему вздумалось расточать мне неуместные любезности? Странный человек этот англичанин, совсем непохожий на большинство своих соплеменников! Жители приморских стран неизбежно сталкиваются с множеством людей чуждого склада, вот и у меня уже было с кем сравнивать Мак-Аллана. Тем не менее при всем желании я не находила в нем той чопорности в обращении и бесстрастия во внешности, которые составляют разительный контраст с нашей южной пылкостью. Он был так изящен, так гибок, что скорее заслуживал упрека в недостатке британской степенности. Привлекательное лицо с тонкими чертами было, пожалуй, греческого типа; национальность Мак-Аллана с несомненностью выдавала только чересчур длинная верхняя губа. Безукоризненно причесанный и выбритый, он носил ослепительное белье, с белизной которого спорили, однако, его руки, ухоженные, как у женщины. Ноги у него были необычайно малы, и он щеголял в башмаках из столь тонкой кожи, что они вполне могли сойти за бальные. Говоря короче, весь его облик носил печать аристократизма и утонченности; рядом с ним я производила, должно быть, впечатление существа грубого и неотесанного. Я не была слишком рослой или громоздкой, отличалась тонкостью стана, как истая дочь своей родины, но непокорностью волос и смуглостью кожи могла бы поспорить с мавританкой, ходила без перчаток, умела голыми руками, не поранившись, раздвинуть колючие ветки и пренебрегала всем, что хоть немного скрасило бы суровость моего траура. Мак-Аллан смотрел на меня с волнением, даже как будто с восторгом; это показалось мне не только странным, но и подозрительным. На мой взгляд, он никак не мог мною восхищаться. Кто же он такой, этот Мак-Аллан, — сердцеед и фат, захотевший поухаживать за собеседницей? Или ловкий политикан, подстегивающий женское тщеславие, чтобы таким образом выведать, в чем главная слабость противницы? От него не ускользнуло, что и я наблюдаю за ним; он весело улыбнулся, чересчур длинная верхняя губа стала незаметна, блеснули белые зубы. — Не смотрите на меня так недоверчиво, — сказал он. — У вас порою столь грозный взгляд, что душа ушла бы в пятки, если бы не чистый рисунок ваших бровей и нежная тень от ресниц. Я не собираюсь отпускать комплименты во французском духе, вам и без меня отлично известно, что вы — это вы: наверно, уже сотни прохожих вслух восхищались вашей красотой! — Господин Мак-Аллан, я не прислушиваюсь к замечаниям прохожих, не встречаюсь с ними взглядом, и, разумеется, никто из моих родных, друзей или близких никогда не говорил мне, что я красива. — Выходит, здесь живут одни слепцы? — Здесь, как и везде, живут люди, которые с уважением относятся к уважающим себя девушкам. — Право, я не заслужил этой нотации, хотя бы потому, что более всего на свете почитаю красоту. Я изъездил всю Италию и Грецию, только чтобы насладиться прекрасными произведениями искусства и природы. Считайте меня педантом, который к месту и не к месту выражает свои восторги, но не забывайте при этом, что я бескорыстен и говорю: «Вы красивы!», как сказал бы: «Вы прекрасно освещены солнцем!» — Ну, если я прекрасно освещена, — подхватила я, все так же строго глядя на него, — скажите, похожа я на своего отца? Он помрачнел, но быстро справился с собой. — Меньше всего я думал сейчас о маркизе де Валанжи, но раз вы спрашиваете, что ж… Нет, совсем не похожи. Теперь настал мой чередподавить огорчение, но это было не так уж трудно. Меж тем мы остановились у довольно опасного места — прохода в Зеленую залу. Я показывала дорогу. — Воспользуйтесь прекрасным солнечным освещением и в точности повторяйте мои движения. Поставьте правую ногу сюда, а правой рукой ухватитесь за это железное кольцо. Не отпускайте его, пока левой рукой не возьметесь за ветку, за которую держусь сейчас я. Будьте внимательны и, если поскользнетесь, больше рассчитывайте на руки, чем на ноги. Я проделала все это с легкостью, дающейся долгой привычкой. Мак-Аллан, улыбаясь, последовал за мной. Зеленая зала привела его в восторг, но от меня не ускользнуло, что, как будто от души наслаждаясь свежестью и живописностью природы, он в то же время внимательно изучал все вокруг, словно перед ним было место преступления, а сам он выступал в роли судебного следователя. — Знаю, что у вас сейчас на уме, — сказала я. — Вам, конечно, рассказывали, что как раз здесь Женни возвратила меня бабушке, и вы недоумеваете, как могла пожилая женщина спуститься сюда. Это проще простого: когда вода убывает, в Зеленую залу идут по песку и по очень удобной тропинке — она вон там, прямо против вас. — Благодарю за разъяснение, — с полным спокойствием ответил Мак-Аллан. — Оно мне поможет установить истину. Если позволите, я на глазок набросаю план местности. Вынув из кармана записную книжку и быстро начертив план, он заметил: — А меня заверили, что пробраться в Зеленую залу невозможно. Значит, старались обмануть, здесь очень красиво. Можно сорвать этот цветок? — Разумеется, хотя я и не понимаю, какая связь между ним и вашим расследованием? — Решительно никакой, — ответил он, вкладывая цветок в записную книжку. — Это на память. — На память о чем? — О вас. Вы не скажете мне его название? — Львиный зев. — А по-латыни? Я слышал, вы превосходно знаете ботанику. Запишите его, пожалуйста, вот здесь, в моей книжке. — Вам нужен образец моего почерка? Извольте — я ведь никогда не писала вещей, от которых потом пришлось бы отказываться. Я написала латинское название цветка. Мак-Аллан попросил поставить рядом и дату. Разговаривая, он все время улыбался, и было в его улыбке неистребимое спокойствие, страшно меня сердившее. Он с полной непринужденностью расспрашивал об особенностях нашего края, о том, что здесь сеют, какие есть поблизости красивые места, даже о моих склонностях и занятиях. Казалось, ему любым способом нужно оттянуть деловую беседу, а я считала, что обязана удовлетворить деланую или подлинную любознательность адвоката, так как истинной целью этого допроса была моя персона: Мак-Аллан, несомненно, старался составить себе самое подробное представление обо мне. — Как мог господин Мариус де Валанжи нарушить свой долг по отношению к вам? — прервал он разговор несколько неожиданным восклицанием. — Никаким долгом Мариус со мной не связан, — возразила я. — Простите, но, на мой взгляд, связан, хотя бы потому, что вы приняли его предложение, когда считали себя богатой. Чувствую, что вот-вот начну презирать этого юного красавчика. — А я отказываю вам в этом праве, сударь. Вы забываете… — О вашем родстве? Признаться, действительно все время забываю и прошу у вас прощения за это… Но почему вы его так защищаете? — Потому что, насколько мне известно, Мариус ни в чем не провинился передо мной. Ведь помолвку порвала я. — И совершенно напрасно. Вы, значит, не любите его? — Ваш вопрос нескромен, господин Мак-Аллан. — Клянусь вам, у меня и в мыслях не было никакой нескромности. Как вы заблуждаетесь, дорогое мое дитя, не доверяя мне! Он сказал это искренне и участливо, так что мне стало стыдно чрезмерной своей осторожности. Я объяснила, что отношусь к Мариусу лишь с сестринской привязанностью, которой не изменила и сейчас. — Какие же недостатки господина Мариуса де Валанжи помешали привязанности превратиться в чувство более глубокое? Быть может, он ревнив, подозрителен? Вместо ответа я невольно рассмеялась. — Значит, ни то, ни другое, — недоуменно протянул адвокат. — В таком случае позвольте заметить, что рассудительная девушка, которую заботит общественное мнение и обеспеченное будущее, обязательно удержала бы при себе этого юношу, не позволив трусости и неблагодарности взять верх над другими сторонами его натуры. — Если я не считаю поведение моего кузена неблагодарным или трусливым, вы и подавно не должны так думать. Знайте, я недостаточно рассудительна, чтобы принять от кого бы то ни было слишком тяжелую жертву. Может быть, мне суждено все потерять — в таком случае моя беда только моей и останется. Мы уже выбрались на луг; вдали прогуливались по дорожке Женни и Фрюманс. — Кстати, — продолжал Мак-Аллан, — ваш друг Фрюманс… Он ведь лучший ваш друг, не так ли? — Надеюсь, что да, — простодушно ответила я. — Почему он не женится на госпоже Женни? Говорят, он очень в нее влюблен. — Женни не хочет выходить за него, пока не решатся мои дела. — А она его любит? — От души уважает. — И с полным основанием! Какой превосходный, какой достойный молодой человек! Я даже сказал бы — какой незаурядный ум! Вы согласны? — Да, вполне. — Я знаю, он обучал вас, и вот теперь все время думаю — кто на кого больше повлиял: учитель на ученицу или наоборот. — Как могла несмышленая девочка повлиять на такого образованного и мудрого наставника? — По слухам, он вас боготворит. — Какое нелепое преувеличение! — Боготворит по-отцовски, разумеется. Не понимаю, почему это слово так вас задело. Я залилась краской. Сам того не подозревая, Мак-Аллан напомнил мне мой детский роман, ту выдуманную мною страсть Фрюманса ко мне, которая когда-то так меня волновала. Но ведь знала об этом романе одна только я, так что возмущаться глаголом «боготворить» не было никаких оснований. Тут я стала совсем пунцовой. Мак-Аллан, ничего, казалось, не заметивший, добавил: — Очевидно, я не всегда понимаю оттенки иных французских выражений. Жаль, что вы не любите английский и не пожелали его изучать. Говори вы на нем, мы быстрее поняли бы друг друга. Я спросила на хорошем английском языке, почему это он приписывает мне нежелание говорить с ним по-английски и вообще пренебрежение к его родному языку? Он снова удивился, и с этой минуты мы почти уже не говорили по-французски. Мак-Аллан нашел мою речь беглой, а произношение правильным. Тогда я поинтересовалась, у кого он почерпнул столько ложных сведений обо мне, но он притворился, будто запамятовал. — Это, конечно, госпожа Капфорт сообщила вам, что я особа своенравная и вообще со странностями. — Возможно, и так, но не поручусь, — отмахнулся он. — Эта дама любит поговорить, а слушать ее не слишком приятно. — И все же старайтесь слушать повнимательнее, раз вы поселились у доктора Реппа, — заметила я. — Я уже сказал вам об этом? Да, я рассчитываю на его гостеприимство до самого моего отъезда. Вас это тревожит? — Напротив, успокаивает. — Отличный ответ. Ставлю вам за него высший балл. — Как и за все остальное? — Да, — ответил он с заминкой еле заметной, но мною тут же ему подчеркнутой. Меж тем Женни с Фрюмансом уже шли нам навстречу, и от дальнейших разговоров на эту тему я была избавлена.L
Фрюманс был озабоченнее обычного, но с Мак-Алланом старался держаться ровно и спокойно. Тот прошел вперед с Женни, непринужденно беседуя, словно приехал к нам с простым визитом. — Что вы разузнали о намерениях противника? — спросил меня Фрюманс. — Ровным счетом ничего. Нет, нам из этого англичанина никаких признаний не вытянуть. Но одно я все-таки поняла: госпожа Капфорт рисует ему мой портрет, вовсе не заботясь о сходстве. — И занимается этим уже давно, — заметил Фрюманс. — Выходит, она переписывалась с ним, еще когда он был в Англии? — С ним или с леди Вудклиф — это дела не меняет. — Откуда вы знаете? — Не знаю, но догадываюсь и очень надеюсь, что прав. — Почему? — Потому что предубеждение господина Мак-Аллана быстро рассеется, если уже не рассеялось. Не бойтесь же показаться ему такой, какая вы есть. — Значит, вы полностью ему доверяете? — Ну, для полного доверия мне нужно узнать его поближе. Пригласите нас обоих к обеду. Женни поможет вам придать приглашению непринужденность и безыскусность. — Хорошо, я сделаю, как вы советуете, но объясните мне все-таки, чем, какими дурными поступками я заслужила такую дурную славу? — У вас никогда не было ни единой дурной мысли — о каких же дурных поступках может идти речь? Рассеять глупые толки о вас проще простого, и если этот англичанин не лицемер или отъявленный негодяй, он сам этим и займется. Мы вошли в дом, и Мак-Аллан, увидев накрытый к обеду стол, собрался откланяться. Было всего только три часа, но мы с Женни сохраняли распорядок дня, установленный бабушкой. Женни, позаботившаяся поставить четыре прибора, сказала адвокату, что один из них предназначен ему. Мак-Аллан почти и не отказывался — он, видно, очень хотел остаться. Я ограничилась замечанием, что в наших краях отвергать гостеприимные приглашения не принято. — Ну, если таков обычай, пусть моя навязчивость будет на вашей совести, — сказал он, усаживаясь справа от меня: я сама указала ему это место. Ел Мак-Аллан мало, словно женщина, но все кушанья хвалил как истинный знаток кулинарии и расточал Женни комплименты по поводу сервировки и всяческих лакомств. Он беседовал с нами обо всем на свете и был очень оживлен. Впервые после смерти бабушки наше негромкое веселье разбудило эхо, уснувшее было в омраченном печалью доме. Но приятная беседа, не требовавшая усилий от такого светского человека, как Мак-Аллан, нисколько не помогла нам проникнуть в его тайные замыслы. С необычайной ловкостью он отводил малейший намек на дела, и Фрюманс, уже не надеясь выведать его планы, перевел разговор на темы отвлеченные, в надежде, что это даст мне возможность высказать высокие мысли и чувства, которые он всегда старался заронить в меня. Я поняла это и смутилась, а внутренний голос шепнул мне, что в таких случаях молодой девушке лучше всего молчать. В кругу близких друзей, не страшась прослыть синим чулком, я говорила, расспрашивала, рассуждала о предметах, доступных моему пониманию, а порой и о тех, которые еще только силилась понять. Но тут, перед этим чужим человеком, я не хотела выставлять напоказ то немногое, что действительно знала, поэтому только слушала и отмалчивалась, хотя сам Мак-Аллан довольно прямо вызывал меня на разговор. Большая сообщительность не была бы с моей стороны дерзостью — я ведь никогда не кривила душой и не навлекала на себя упреков в развязности, — но, оказавшись в центре внимания, я не желала, чтобы думали, будто это доставляет мне удовольствие. После обеда, подав мне руку и ведя в гостиную, Мак-Аллан восхищенно говорил о глубоких познаниях Фрюманса. — Быть может, это не вполне совместимо с моим долгом, — шутливо сказал он, — но мне так хорошо и вольно у противной стороны, что век бы не уходил. Просто не припомню, когда еще я так приятно проводил время за обедом, как сегодня, в этой прохладной, полной свежего воздуха комнате с видом на необъятный, прокаленный солнцем пейзаж и на море, сверкающее вдали, в обществе трех человек, по-своему замечательных. Госпожа Женни воплощает для меня все лучшее, что есть во французском народе, — его доброжелательность, преданность долгу, рассудительность, здравомыслие и прямодушие. Ее жених — я ведь не ошибся, он ее жених? — истинный философ, редкий ум. Ни разу в жизни я не встречал столь глубокого понимания жизни в сочетании с такой несравненной простотой нравов и чистосердечностью. А вам, мадемуазель Люсьена, я просто не смею высказать всего, что думаю о вас, из боязни оскорбить вашу скромность. — Ну, на этот раз вы погрешили против правды! — воскликнула я, смеясь. — Слушая заслуженные похвалы моим друзьям, я радовалась вашей проницательности, но сейчас вам вздумалось сделать комплимент и мне, а я за все время трех слов не произнесла. Тут я поняла, что вы просто решили посмеяться над нами, а это неблагодарно и жестоко по отношению к людям бесхитростным, которые приняли вас с полным радушием. — Нет, вы только послушайте! — воскликнул Мак-Аллан, обращаясь к подошедшему Фрюмансу. — Мадемуазель де Валанжи обидела меня: она думает, будто я все еще ее не разгадал! — Не разгадали? — повторил Фрюманс. — А разве нуждается в разгадывании та, которой во всю ее жизнь нечего было скрывать? Та, что по склонностям и складу характера никогда ничего не скрывает? — Простите, — возразил Мак-Аллан, — она скрывает образованность, ум, редкие свои достоинства, потому что отличается скромностью — свойством, обаятельным в любой женщине и особенно драгоценным в особе, столь богато одаренной. Правильно я разгадал? — Правильно, — сказал Фрюманс. — Поэтому вы, не колеблясь, воздали должное, назвав ее именем, ей принадлежащим. — Мадемуазель де Валанжи, — продолжал Мак-Аллан, который, несомненно, оговорился, но, как всегда, нимало этим не смущенный, — я не беру на себя никаких обязательств, называя вас именем, к которому вы привыкли: это ведь общеизвестное правило учтивости — даже свергнутых королей именовать «величествами». Я английский протестант, но, входя в католический храм, обнажаю голову перед божеством, которому там поклоняются, потому что знаю — оно заслуживает поклонения, каково бы ни было вероисповедание. Вы только что бросили мне горький упрек, заподозрили меня в том, что и мое восхищение и моя приязнь наиграны. Скажите, сударь, вы тоже так думаете? — Нет, — ответил Фрюманс, словно клинком вонзаясь взором больших черных глаз в ясную голубизну глаз Мак-Аллана. Эти люди столь непохожих обликов, один — воплощение изящества, другой — мужественности, казалось, бросали вызов искренности друг друга. Каждый как будто говорил: «Если вы мне лжете, я вас раздавлю!» Но Мак-Аллан, бесстрашно отразивший гордый вызов Фрюманса, перед моим вызовом смешался: я нисколько не была тронута его восхвалениями, и женское тщеславие ни на минуту не затмило мне разум. Изменившись в лице, адвокат сказал, что его знобит, продолжая, однако, хвалить нас за умение сохранять прохладу в домах. — Ну, если вам здесь чересчур прохладно, делу помочь легко, — заметил Фрюманс. — Стоит шагнуть за порог, и вы сразу согреетесь. Они вместе вышли на лужайку, беседуя так оживленно, что Женни решила подать им кофе под китайским питтосфором, где, случалось, мы завтракали за маленьким столиком. — А мадемуазель де Валанжи не присоединится к нам? — спросил Мак-Аллан, повышая голос так, чтобы услышала и я в гостиной. — Нет, — ответила Женни, — мадемуазель никогда не пьет кофе. — Очень жаль! — воскликнул Мак-Аллан, усаживаясь за столик вместе с Фрюмансом, который был рад возможности поговорить с адвокатом без помех. Я тоже считала, что не надо мешать их беседе, и стала помогать Женни по хозяйству. Для нас это уже не было удовольствием — мы понимали, что, быть может, скоро распростимся с благоустроенной жизнью, но обе заботливо поддерживали ее, чтобы не из-за нас и нашего небрежения начало разрушаться все созданное бабушкой. Через час появился Фрюманс. — А где адвокат? — спросила Женни. — Ушел, не пожелав попрощаться с вами. — Уж не решил ли он, что я рассердилась? — спросила я. — Не знаю. Он был очень взбудоражен. — Чем? Что вы о нем думаете? — Что он пьян. — Да ведь он пил, можно сказать, одну воду, а трезвенниками англичан никак не назовешь, — заметила Женни. — Я, честно говоря, не обратил внимания, сколько он пил, но если вы говорите, что мало, тогда мне совсем непонятно, в чем дело. Возможно, это какое-то духовное опьянение, но так или иначе, поверьте, он был не в себе. Да он и сам это понимал, потому что ушел, не то плача, не то смеясь, и повторял, что у него разыгралась невралгия и в таком виде нельзя показываться дамам. — Думаете, это была комедия? — Нет, скорее действие нашего климата, непривычного для него, что бы там он ни говорил. Когда эти северяне начинают заигрывать с южным солнцем, оно частенько их кусает. По сосредоточенному виду Женни я поняла, что она хочет поговорить с Фрюмансом наедине, и под каким-то предлогом ушла из комнаты.LI
С Женни мы увиделись только за ужином. К тому времени Фрюманс уже ушел. — Знаете, — сказала она, — последние двое суток Фрюманс в большой тревоге: он решился ехать в Америку. — Боже мой! Ты так хладнокровно говоришь об этом, Женни! Как он добр, мой дорогой Фрюманс! Он так необходим дядюшке, но готов покинуть его, так привязан к тебе, но готов разлучиться с тобой, и все только для того, чтобы искать в этой дали доказательств моих прав, скорее всего несуществующих! — Да, стоило мне заикнуться вчера о своем намерении, как Фрюманс сразу решил, что ехать туда лучше ему, но господину Костелю ночью стало совсем худо, а я ходить за ним не могу — нельзя же бросить вас совсем одну в этом доме. Поэтому Фрюмансу надо отложить поездку. И знаете, что придется сделать? Чтобы прекратить толки обо мне… такие, что и пересказывать неприятно, придется нам с Фрюмансом обвенчаться. — Женни, — воскликнула я, бросаясь ей на шею, — как я рада за вас обоих! Я была искренна, говоря это, но сердце мое разрывалось. Мне чудилось, что я теряю и Женни и Фрюманса, что теперь всегда буду одна, что среди обломков постигшего меня крушения любовь обласкает и утешит всех моих близких, и только я, никому не сумевшая внушить ее, до самой смерти так и проживу нелюбимой. Вся неутоленная сердечная жажда, все упования, прежде неосознанные, а ныне жестоко растоптанные, быть может, смутное воспоминание о радости, испытанной в те давние дни, когда я вообразила, будто любима Фрюмансом, бог весть, что еще — острая боль, невыразимое сожаление, двойная беспощадная ревность сжали мне грудь с такой силой, словно вместе с надеждой меня покидала и сама жизнь. Что было дальше, не помню. Очнулась я в своей постели: волосы мои растрепались, я расцарапала себе руки, прокусила губу. Бледная, встревоженная Женни сжимала меня в объятиях. — Что это со мной, Женни? Что случилось? Я упала? Умерла? — спросила я, стараясь вспомнить. — Вам было очень плохо, я даже испугалась, не помешались ли вы. Должно быть, в салат попала какая-то ядовитая трава. Но успокойтесь, теперь все прошло и, надеюсь, не повторится. Тут я вспомнила, что Женни вот-вот выйдет за Фрюманса, и, ни словом не выдав, как мне это горько, залилась слезами. — Поплачьте, — сказала Женни. — Невыплаканные слезы душат человека. Поговорим, когда вы совсем поправитесь. Я была так измучена, что уснула крепчайшим сном и проснулась против обыкновения поздно. Как только Женни утром вошла ко мне, первый мой вопрос был о здоровье аббата. — Лучше ему не стало, пожалуй, даже хуже, — ответила она. — Доктор Репп уже был у него сегодня, хотя аббат и сердился: он не желает лечиться, говорит, что совершенно здоров. Но доктор сказал, что у него воспалился желудок и что это очень опасно. — Бедный наш аббат! Неужели и он покидает меня? Я разом теряю всех, кто был мне опорой, всех друзей! — Только, с вашего позволения, не меня: если случится несчастье и аббат не выживет, Фрюманс немедля отправится в Канаду, а какой смысл выходить замуж, чтобы тут же расстаться? — Но я не хочу, чтобы Фрюманс из-за меня ехал неведомо куда! Я ему запрещаю уезжать! Я хочу, чтобы ты наконец подумала о себе, чтобы ты была счастлива, Женни! — Я не для своего счастья собиралась замуж. Какое уж тут счастье, коли вы несчастливы! — Клянусь, что бы ни случилось, мне будет хорошо, если хорошо будет тебе. Поэтому выходи поскорей замуж! — Нет, — покачала она головой. — Я все обдумала и решила, что этого делать не надо. Фрюманс на минутку забежал сегодня, и я спросила, так ли уж он без ума от меня, а он ответил, что причина его нетерпения совсем не в этом. И объяснил — про нас с ним болтают неведомо что, и ради вас с этими толками надо покончить. Но я-то считаю, когда живешь честно, нечего обращать внимание на всякую напраслину. У меня ни к кому нет особого расположения, и если и у Фрюманса ко мне тоже только дружба, значит, от моего отказа он мучиться не станет. Так вот, я поразмыслила и поняла, сколько для меня неудобств в этом браке, ну, а раз они будут и так и этак, я выбираю, где поменьше. Пусть пока все останется как есть, а там поглядим. Я продолжала настаивать, но тщетно: под конец Женни сумела все же убедить меня в своей правоте и в том, что на замужество она согласится, только если это хоть чем-нибудь облегчит мою судьбу. Назавтра я уже совсем оправилась и даже хотела поехать верхом в Помме — навестить аббата Костеля, но Женни меня не пустила: к нам собирался господин Бартез, и надо было его дождаться. Разговор с ним так ничего и не прояснил. Правда, ему удалось узнать, откуда идут злые толки обо мне и о Женни, и хотя имен он не называл, мы поняли друг друга с полуслова. Когда я рассказала ему о моей длинной вчерашней беседе с Мак-Алланом и о горячности, сперва обворожительной, а потом несколько странной, с которой тот изливался в будто бы неподдельной симпатии ко мне и моим друзьям, господин Бартез выразил надежду, что в лице адвоката моей мачехи я, быть может, обрету беспристрастного защитника и деятельного примирителя. Он добавил, что господин Мак-Аллан живо поддержал его намерение навести справки в Монреале и в Квебеке о конце жизненного пути Ансома и о признаниях, возможно, сделанных им на смертном одре. — Кое-какие шаги я уже предпринял, — добавил господин Бартез. — Придем ли мы к соглашению, начнем ли судебное дело, нам все равно надо запастись всеми возможными свидетельствами. Ну, а если добыть их не удастся, у нас по крайней мере будет чистая совесть.LII
На следующий день я отправила Мишеля узнать, как чувствует себя аббат. Фрюманс прислал Женни следующий ответ:«Дядюшке немного лучше — надеюсь, он будет спасен и на этот раз. Благодарить надо, видимо, господина Мак-Аллана: не доверяя знаниям доктора Реппа, он по собственному почину отправился в Тулон за английским корабельным врачом, на мой взгляд — очень сведущим. Тот принял решительные меры, и они немедленно дали отличный результат. Господин Мак-Аллан теперь живет здесь, в доме Пашукена: по его словам, соседство госпожи К. стало ему невыносимо, и он предпочитает нашу унылую деревушку, где по крайней мере может помочь мне беречь и развлекать моего больного. Что вам сказать? Он выказывает ко мне большую приязнь, и хотя я не совсем ее понимаю, тем не менее могу ли не быть признательным за нее? Но горе ему, если это ловушка!»
Через день Фрюманс снова написал нам:
«Мой дорогой болящий сегодня чувствует себя еще лучше, чем вчера. Он разговаривает и почти не задыхается. Английский врач опять посетил нас и нашел его состояние сносным. Драгоценный дядюшка выразил желание повидать мадемуазель де Валанжи. Живи господин Мак-Аллан по-прежнему на мельницах, я запротестовал бы против ее визита, счел бы его неуместным, но адвокат все время здесь, и появление Люсьены очень, очень желательно. Приезжайте обе завтра утром». Мы не заставили себя ждать. Аббат сидел в комнате у Фрюманса, читавшего ему какой-то греческий текст. Тут же был господин Мак-Аллан и с великим интересом слушал чтение. — Не смените ли вы меня? — сказал Фрюманс, протягивая мне книгу. — Я немного устал. Отказаться было бы неучтиво. Я стала читать, не обращая внимания на Мак-Аллана, который весь превратился в слух и время от времени спрашивал меня значение какого-нибудь слова или якобы темной фразы. Аббат, все еще слабый, пытался их растолковать ему, но я, досадуя на то, что меня прерывают, несколько раз отвечала адвокату сама то по-английски, то на латыни. Фрюманс как воды в рот набрал: он во что бы то ни стало хотел, чтобы Мак-Аллан оценил мою ученость. Я даже рассердилась, когда наконец поняла эту уловку. Немного погодя аббат Костель попросил, чтобы его оставили наедине с Женни и со мною. — Дорогие мои, — сказал мужественный старец, — не думайте, что это я удерживаю около себя Фрюманса. Я знаю, он колеблется между двумя решениями: уехать в Америку и сослужить там службу мадемуазель де Валанжи или остаться и, уже в качестве супруга Женни, быть ей полезным. Не мне решать, какой из этих планов разумнее; все обдумать и выбрать должны вы трое. Но я не могу допустить, чтобы Фрюманс отказался от поездки только из боязни оставить меня одного. Болезнь моя пустяковая, легкое недомогание, я еще молод и крепок. Знаю, мне случалось в мелочах вести себя эгоистично, но сейчас речь идет о деле очень важном, и, право, я не малое дитя. Пусть Фрюманс едет хоть сегодня, если это нужно сегодня. Я не буду печалиться, даю вам слово, а если вы не верите мне, значит, считаете недостойным вашей дружбы. Аббат уверял нас, что здоров и полон сил, а сам был так желт, худ, костляв и говорил таким слабым голосом, что я тут же в душе поклялась не отрывать от него племянника, хотя и сказала, стараясь успокоить моего великодушного друга, что как только Фрюманс действительно нам понадобится, мы немедленно призовем его на помощь. Мы уже собирались уходить, когда Фрюманс передал нам от имени господина Мак-Аллана, что тот просит нас к себе на чашку чая, и посоветовал не упускать случая привлечь его на мою сторону. Мы согласились и отправились в дом Пашукена. Это самое древнее и прочное здание в заброшенной деревушке, построенное еще в Средние века, было своего рода маленькой крепостью: под крышей, среди разросшихся сорняков, видна была галерея с навесными бойницами, обращенными в сторону обрыва. Мак-Аллан вышел к нам навстречу. За недолгое время, проведенное нами с аббатом, он успел переодеться и приготовиться к приему гостей. Адвокат устроился в огромном пустом амбаре с окнами без рам. Под той же крышей было и жилье Пашукена, довольно опрятное, хотя жена хозяина умерла, а прислуги он не держал. Его шурин, полевой страж, взялся закупать и доставлять господину Мак-Аллану провизию, и даже мэр, дядя Пашукена, с готовностью исполнял все, что поручал ему Джон, лакей адвоката. Сейчас большая часть населения деревни в лице вышеназванных трех персон собралась на кухне, где мистер Джон, столь внушительный, что эти трое совершенно тушевались перед ним, то требовал поскорее вскипятить воду, то отдавал распоряжения насчет тартинок, то самолично руководил священной церемонией заваривания чая. — Сейчас увидите, как надо устраивать комфортабельную жизнь в диких странах, — сказал Мак-Аллан, ведя меня через эту лабораторию, где трое провансальцев под началом англичанина в поте лица трудились над несколькими чашками горячей воды для нас. Мне и впрямь было интересно посмотреть, как столь безупречно одетый, обутый и причесанный человек существует в подобном жилище, не изменяя привычкам образцового джентльмена. Оказалось, что живет Мак-Аллан не в запущенном амбаре Пашукена, а в походной палатке размером с небольшую квартирку, и что палатка эта, сделанная из непромокаемой ткани, отлично размещается в упомянутом амбаре. Спальня, где висел гамак и стоял столик с зеркалом, днем отделялась занавеской от парадного помещения, торжественно именуемого гостиной. Там были не только диван, стол, складные стулья, книжные полки из легчайшего, но крепкого бамбука, но и цветы, и оружие, и скрипка, и книги, и великолепные несессеры, содержащие все необходимое, чтобы писать, рисовать, есть на серебре и готовить пищу. Наверно, где-нибудь в укромном уголке притаилась и ванна. Джон жил рядом, в палатке поменьше, но почти столь же удобной, и все это хозяйство можно было за час упаковать и погрузить на любую телегу, запряженную парой мулов. С этой палаткой, этим лакеем, этим снаряжением для охоты, рыбной ловли, туалета, приготовления еды и занятий изящными искусствами господин Мак-Аллан объехал всю Грецию, весь Египет и, кажется, часть Персии. Я не постеснялась сказать, что мне его затеи кажутся изобретательным ребячеством. — Вы неправы, — возразил он. — Только одни англичане и умеют путешествовать. Они предусмотрительны, поэтому везде как дома. Им не страшны опасности, перемены погоды, болезни, упадок духа — эти бичи путешественников других национальностей, и со своим снаряжением, над которым вы издеваетесь, они едут и дальше и быстрее, чем все прочие, странствующие налегке. — Возможно, так оно и есть, но скажите, господин Мак-Аллан, отправляясь в Прованс, вы, видимо, считали, что едете в Сахару? — А знаете, разница не так уж велика, — засмеялся он. — Но одно несомненно: без моей утвари я не мог бы жить в этом краю там, где мне заблагорассудится, разве что стал бы ночевать под открытым небом, а это мне совсем не по вкусу. Полевая трава чудесна, но в ней водятся змеи, а во мху на скалах ютятся скорпионы. Нет, что вы там ни говорите, человек не создан, чтобы спать на лоне природы; их обязательно должны отделять друг от друга одеяла, ковры, оружие и даже ногтечистки: опрятность — одна из важнейших заповедей английского вероисповедания. — Женни, конечно, согласится с вами, да и я не стану спорить, — ответила я. — Но позволю себе заметить, что путешествовать с такими удобствами могут только люди очень состоятельные. О, разумеется, я вполне понимаю богача, который, ничем не жертвуя и не рискуя, ищет в путешествиях высоких наслаждений, но восхищаюсь все же нищим ученым или художником, который отправляется на поиски неведомого идеала один-одинешенек, ничего не предусматривая, бросая вызов опасностям и невзгодам, как безумец или, если хотите, как дикарь. Он смешон, но в этом вся доблесть, вся поэзия, все благородство французского духа. — Вижу, англичане вам не нравятся, — грустно сказал Мак-Аллан. Он принялся угощать меня чаем и сандвичами, но до конца нашего визита был неразговорчив и грустен. — Что с вами? — спросила я, видя его озабоченность. — Впрочем, понимаю, наш пустынный край наводит на вас уныние. — Нет, не в крае дело. Ваш край прекрасен, и я не в унынии, я gloomy.[38] — А разве это не одно и то же? — Нет. Уныние вдохновляет француза на стихи или музыку, а gloom соблазняет англичанина перерезать себе глотку бритвой или броситься с утеса в пропасть. — Боже, какие ужасы вам приходят в голову! Наше южное воображение неспособно на них. Сознайтесь, вам здесь скучно и хочется поскорей уехать на родину. — Англичанину хочется скорей уехать, только когда он в Англии: его манят лишь те страны, которые далеки от родных пенатов. Этот, с вашей точки зрения, холодный и тупой персонаж вечно стремится к недосягаемому счастью. Женни, не принимавшая участия в беседе, так как мы говорили по-английски, решила еще раз заглянуть к аббату Костелю. Уверенная, что на смену ей вот-вот придет Фрюманс, я осталась в палатке вдвоем с хозяином этого удивительного жилища. Он полулежал у моих ног на прекрасном персидском ковре, облокотившись о надувной диван, где сидела я, и лениво освежал воздух взмахами большого пальмового веера. — Мадемуазель де Валанжи, — снова заговорил он, осторожно указывая на меня кончиком своего опахала, — вам, значит, была бы не по нраву созерцательная и беспечная жизнь в настоящей пустыне? — Я провансалка и, как все провансалки, полна энергии. — Провансалка вы, итальянка или бретонка — об этом вам решительно ничего не известно. — У вас, видно, не хватило смелости добавить, что, возможно, я цыганка! — Как знать? Вот было бы чудесно! — Для вашего дела? — Мое дело интересует меня не больше, чем вот эта штука! — воскликнул он, отбрасывая веер. — Что мне до него? Ваше положение так ясно, что совесть моя совершенно чиста. Вам сделано известное предложение, вы можете принять его или отвергнуть. Свою миссию я исполнил, сказал вам правду, которую от вас скрывали, и не намерен больше давить на вашу волю. Мне совершенно безразлично, как вы поведете себя с семейством, которое поручило мне вступить с вами в переговоры. Аристократка вы или цыганка, богачка или нищая, меня это трогает не больше, чем чепцы вашей бабушки, будь она крестьянкой или маркизой. — Наконец-то вы чистосердечно высказались, господин Мак-Аллан! Ваша забота обо мне была чистым притворством! — Вот уж нет! Вы заботили меня, даже когда я еще не знал вас. Тогда это была жалость. Мне поручили вас уничтожить, но я не хотел прибегать к медленной пытке и надеялся, что вы окажетесь робкой и благоразумной. Если бы, испугавшись неустроенного будущего, вы нашли утешение в деньгах, я, человек мягкий и гуманный, от души порадовался бы, что спас обездоленную девушку. Но вы все отвергаете… — Я этого не говорила. — Что из того, что не говорили? Вы откладываете решение, повинуясь господину Бартезу, но меня не проведете: я вижу, как неколебима гордыня в вашем сердце. Вы предпочитаете ваше несуществующее право богатству, которое вам кажется милостыней. — Нет, господин Мак-Аллан, я совсем не такая гордая и мужественная. От друзей я приняла бы все, даже милостыню. — А от врагов? — Ни гроша. Короче говоря, все зависит от того, какие чувства я внушаю своим врагам — симпатию или отвращение. — Но на карту поставлены две ставки. Что для вас важнее — имя или деньги? — Вы отлично знаете: только имя. — Если у вас не будут оспаривать имени, вы откажетесь от наследства? — А это уже область господина Бартеза. Я не могу отвечать на вопросы, которые вы еще не задавали мне в его присутствии. — Согласен. Но предположим, что после долгой, мучительной, запутанной тяжбы вы потеряете и то и другое — а для меня это очевидно, — жалеть вы будете только об утрате имени? — Да, и еще обо всем, что меня окружает: о доме, где выросла, о воспоминаниях детства, обо всех ничтожнейших мелочах вокруг, потому что на них запечатлен образ бабушки… Но вам-то что до этого? Вы сами сказали, что вас это нисколько не трогает. Я ведь понимаю, что больше не пользуюсь вашей благосклонностью, так как смотрю на вещи иначе, чем вы, и не принимаю ваших советов. И, по-моему, о моих делах вам лучше говорить с господином Бартезом и Фрюмансом, а со мною ограничиться болтовней о погоде. — Послушайте, кончим с этим, — сказал Мак-Аллан, вставая. — Любите вы обеспеченную жизнь, роскошь, свой край, своих друзей? Хотите, чтобы у вас не оспаривали Бельомбр? Откажитесь от имени и титула, о большем вас не просят. — У де Валанжи никогда не было титула. Я не могу отказаться от того, что мне не принадлежит. — Ну, а имя? Сколько вы за него хотите? — Нисколько! — воскликнула я вне себя, забыв о всех своих обещаниях господину Бартезу. — Пусть у меня отнимут его, если смогут, но никогда в жизни я не пойду на такую низость, никогда не стану торговать тем, что завещано мне бабушкой! — Вот видите! — засмеялся Мак-Аллан, потирая руки и словно радуясь тому, что наконец принудил меня высказаться напрямик. В эту минуту он показался мне таким безжалостным, таким неумолимым, что я решила уйти, и встала. Я сердилась на Женни и Фрюманса, — зачем они оставили меня наедине с моим врагом? Как это неуместно, а главное, неосторожно — все ведь прекрасно знают, что я не умею долго сдерживать обиду, если во мне задето чувство собственного достоинства, и проявлять осторожность, если меня оскорбляют! — Мадемуазель де Валанжи, — почтительно и даже смиренно продолжал Мак-Аллан, — прошу вас, не жалейте о том, что были со мной откровенны. Я рад, что у вас вырвался этот крик сердца и совести, и немедленно начну действовать. — Значит, война объявлена? — Напротив. Теперь я вижу, какого уважения, какой приязни вы достойны, и надеюсь добиться мира. Вы знаете, что только об этом я и хлопочу, и сами дали мне неделю отсрочки для первой попытки. — Почему же вы сказали, что моя судьба вам безразлична? — Вы неправильно меня поняли. Впрочем, я должен был это предвидеть. — Тогда объяснитесь. — Попробуйте догадаться. — Я не сильна в догадках. — Да, для этого в вас слишком много от ангела и недостаточно от женщины. Тут наконец появился Фрюманс, но если раньше я с нетерпением ждала его, то теперь подумала, что он пришел слишком рано: повремени он, и, быть может, мой странный противник исповедовался бы мне во всем. Фрюманс вполголоса спросил у него: — Ну как, сказали вы?.. — Нет, еще не время, — так же тихо ответил тот. Когда мы прощались, Фрюманс и Мак-Аллан опять обменялись какими-то непонятными мне намеками: Фрюманс хотел проводить нас с Женни и по дороге что-то объяснить, но Мак-Аллан возражал против этого. Одержал верх, видимо, адвокат, и мы уехали одни. Я была заинтригована, но Женни, судя по всему, куда более осведомленная, чем я, не пожелала меня просветить. При всей своей наивности я все же заметила, что Мак-Аллан пытается ухаживать за мной, но мое постыдное заблуждение насчет чувств Фрюманса не только научило меня скромности, но и заставило впасть в противоположную крайность. К тому же, когда Фрюманс был у нас в последний раз, он говорил, что Мак-Аллан не то пьян, не то безумен, а потом написал Женни многозначительные слова: «Но горе ему, если это ловушка!» Так мог ли Фрюманс, не уверенный в разуме и порядочности этого человека, тут же благословить его притязания на мою руку? Разумеется, нет, ничего такого и быть не может, решила я, и без труда и сожалений выбросила эти мысли из головы.
LIV
Через два дня я встретила Мак-Аллана на прогулке. Я была одна, забрела довольно далеко от дома, и мне не хотелось вступать с ним в разговор. Притворившись, что не вижу его, хотя мы почти столкнулись, и глядя прямо перед собой, я свернула на тропинку вправо, и он, повинуясь моему явному желанию продолжать путь в одиночестве, тоже сделал вид, будто не замечает меня. На следующий день я шла вверх по Дарденне глубоким оврагом, который упирается в Зеленую залу и всегда безлюден, потому что для прогулок тропинка там неудобна — либо выбита, либо завалена камнями. Меня поразило, что на нее — то прямо мне под ноги, то сразу за моей спиной — все время сыплется песок, словно кто-то осторожно пробирается сквозь кустарник по краю оврага. Я начала незаметно приглядываться и обнаружила Мак-Аллана, в свою очередь следившего за мной. Наверно, он надеялся застать меня врасплох за каким-нибудь неподобающим, а то и предосудительным занятием. Я решила позабавиться: сперва заставила идти по неудобнейшей из дорог, потом битый час ожидать, пока, сидя на берегу, я читала какую-то книгу. Домой я вернулась той же тропинкой, зная, что он неотступно идет за мной. Вечером пришло довольно странное письмо от Галатеи. Опускаю бессчетные орфографические ошибки, но в точности сохраняю стиль.«Дорогая Люсьена, ты думаешь, я тебя забыла, и, может, решила, что больше тебя не люблю, но я по-прежнему твой друг и хочу предупредить о том, что может пойти тебе на пользу. Поверенный твоей мачехи, который два дня жил у нас, я хочу сказать — у доктора, с первого взгляда влюбился в тебя. Так говорит мама. Ему бы думать о выгоде твоей мачехи, а он переметнулся, и они, конечно, рассорятся, потому что она терпеть тебя не может и ни во что не ставит. Этот господин совсем не плох, но одно ему не по вкусу — твоя любовь к Фрюмансу. Он очень ревнует к нему. Когда бы не это, он обязательно женился бы на тебе, и ты сделала бы выгодную партию. Говорят, у него много денег и хорошее положение в английском высшем обществе. И вот я тебе советую поскорей порвать с господином Фрюмансом, который моложе и собой красивее, тут ничего не скажешь, но без гроша в кармане, и ты с ним пропадешь. Послушай совета любящей подруги, которая хочет тебе добра.Г. К.
P. S. Никому не показывай этого письма, не то мама меня прибьет — зачем я выдала ее тайну. Она очень строга со мной, но я прежде всего хочу добра тебе».Я показала это письмо Женни, и, дважды внимательно прочитав его, она сказала: — Глупая записка, но она важнее для вас, чем вы думаете. Я спрячу ее — это ключ ко всем пакостям госпожи Капфорт. Письма с клеветой на вас сочиняла, конечно, она, и теперь мы знаем, что это за клевета. Госпожа Капфорт пустила слух, будто вы стараетесь выйти замуж за Фрюманса. Рано или поздно сплетня дошла бы и до вас, так лучше уж я сама вам все скажу. Я знала и раньше об этой сплетне, да и насчет того, кто ее сочинил, тоже догадывалась. — Но, при всей склонности госпожи Капфорт придумывать гадости, как ей все-таки могла взбрести в голову такая гадкая мысль? — Как вам сказать… Вы ведь не подозреваете, что Галатея… Но для чего вам все это знать? — Что Галатея влюблена во Фрюманса? Давным-давно знаю. Она и сейчас удостаивает меня ревности к нему. — Значит, дуреха призналась вам? Я-то надеялась — у нее хватит разума промолчать. Госпожа Капфорт прочила — может, и сейчас прочит — Галатею за Мариуса, а он жестоко высмеял девчонку. Галатея не то чтобы злая, она хуже того — глупая. Стоило потянуть ее за язык, она все и выложила — и что любит Фрюманса, и что ревнует его к вам, и что Мариус смеется над ней. Вы, наверно, тоже немножко грешны в этих насмешках? — Что ты, Женни, мне претят такие вещи. — Ну, неважно. Мариус, конечно, на одну вас и смотрел, а над Галатеей издевался. Госпожа Капфорт узнала про это, и ей удалось помешать вашему браку, восстановив против вас людей, которые теперь стараются погубить все ваше будущее. Сейчас мы ее поймали с поличным, попытаемся же извлечь из этого пользу для себя. Вам пора наконец узнать все как есть, тем более что Мак-Аллан сам себя выдал. Помните, они с Фрюмансом пили тут кофе? Вот тогда он и задал вопрос — по его мнению, очень хитро, но Фрюманс поумнее адвоката и сразу догадался, что тот подозревает его в слишком близкой дружбе с вами. Фрюманс так ему ответил, что дело чуть было не дошло до поединка. Потом в Мак-Аллане вдруг заговорила совесть, он устыдился, что поверил сплетням, и сразу ушел, мрачный и очень взволнованный. На другой же день он съехал от Реппа и поселился в Помме. Там он помогает ухаживать за аббатом и выказывает Фрюмансу полное доверие и уважение. Значит, он больше ни в чем вас не подозревает и честно хочет помирить с леди Вудклиф. — Что не мешает ему следить за мной, шпионить, ходить по пятам, когда я гуляю. — Ах, господи, это он просто беспокоится за вас или, чего доброго, ревнует. А вдруггоспожа Капфорт права и адвокат впрямь вбил себе в голову, что неравнодушен к вам? Вы-то сами что об этом думаете? — Ничего не думаю, Женни, кроме того, что господин Мак-Аллан и страшит меня, и обижает. Как ты считаешь, сказал он Фрюмансу, что хочет жениться на мне? — Может, и сказал, — уклонилась Женни от прямого ответа. — Фрюманс писал тебе что-нибудь об этом вчера или сегодня? — Писал, но он, как и я, считает, что мы еще не можем с уверенностью судить о господине Мак-Аллане, — слишком мало его знаем. Если он не хуже, чем кажется, и если попросит вашей руки, Фрюманс посоветует вам хорошенько подумать о его предложении. Сперва он собирался сразу поговорить с вами об этом, но господин Мак-Аллан упросил его повременить: еще, мол, рано, вы пока по-прежнему относитесь к нему с неприязнью. В общем, обдумайте все сами, только решать не торопитесь.
LV
Тут наш разговор был прерван: несмотря на довольно поздний час, пришел Фрюманс. — Можете говорить при Люсьене, — сказала Женни, протягивая ему письмо Галатеи, которое он тут же прочел, краснея от негодования. — Сами видите, секретничать нам больше незачем. — Что ж, скажем ей все, — согласился Фрюманс. — Господин Мак-Аллан любит Люсьену. Серьезно ли его чувство? Я несведущ в страстях такого рода, и меня поражает подобная пылкость и стремительность в сорокалетнем человеке, — а ему сорок лет, и он этого не скрывает. Теперь я уже ручаюсь, что он не притворяется ни перед нами, ни перед собой. Это натура впечатлительная, тонко чувствующая, по-своему романичная. Итак, дорогая моя Люсьена, его любовь, может быть, не так сильна, как он думает, но думает-то он, что она в точности такая, какой кажется ему сейчас. — Вы убеждены в этом, Фрюманс? — Да, совершенно убежден. Вчера вечером он просто безумствовал, так велико было его отчаяние. Я не дался бы в обман, играй он комедию, да и зачем ему лицедействовать? — Я потому задала этот вопрос, — продолжала я, — что хочу твердо знать, не оскорбительна ли для меня его так называемая страсть и не следует ли ее с презрением отвергнуть? — Нет, тут вы можете быть спокойны. У его так называемой страсти одна цель: предложить вам достойное имя и немалое состояние, каков бы ни был исход тяжбы. В доказательство этого он готов немедленно обвенчаться с вами, хотя, по его словам, предпочел бы, чтобы у вас уже не было ни денег, ни имени: тогда вы поняли бы, насколько его преданность бескорыстна. — Если это правда, я полна к нему уважения и благодарности. — Но только если он состоятелен, а ваши дела и впрямь плохи, — добавила Женни. — У меня не укладывается в голове, что человек, так богато одаренный, с такими широкими взглядами, может оказаться непорядочным, — сказал Фрюманс. — Нет, я боюсь другого: Мак-Аллан слишком порывист, слишком легко воспламеняется — окажется ли он способен на глубокую и прочную дружбу, которую Люсьена надеялась обрести в чувстве Мариуса? — Знаете, Фрюманс, я так обманулась в Мариусе, что уже не смею доверять собственному суждению. Лучше мне положиться на вас и Женни — только пусть между вами не будет разногласий. — Что ж, если мне приходится выступать в роли защитника Мак-Аллана, — сказал Фрюманс, вынимая из кармана небольшой бумажник, — вот вам веское свидетельство в его пользу: он написал вашей мачехе и попросил меня отправить это письмо завтра утром. Я получил разрешение показать его вам. Читайте, Люсьена. Я раскрыла бумажник из русской кожи — Мак-Аллан вложил в него свое послание, чтобы оно дошло до меня в девственно чистом виде и пропиталось запахом, который столь любезен всякому англичанину, а по мне, малоприятен, так как навеки неотделим от образа мисс Эйгер. Вынув и развернув письмо, я с невольной улыбкой прочла обращение:«Миледи Вудклиф, маркизе де Валанжи-Бельомбр. Миледи, я счастлив сообщить, что в точности исполнил ваше поручение и на следующий день по прибытии в Тулон передал все, о чем мы с вами говорили, мадемуазель Люсьене, именуемой де Валанжи. Как и вы, я полагал, что ваши предложения сразу прельстят и покорят особу, мечтающую о свободе и равнодушную к привилегиям дворянства, — так нам изобразили приемную внучку вдовствующей госпожи де Валанжи, ныне покойной. Они были встречены с неожиданным для меня удивлением и неудовольствием. Окончательного ответа мне пока не дали, тем не менее, не предвосхищая его, я занялся рассмотрением всех обстоятельств дела, в твердой уверенности, что, если упомянутая молодая особа достойна уважения, вы не захотите опровергать ее прав на имя, которое она до сих пор носила. Я присматривался к лицу, манере держать себя, повадкам, укладу жизни этой девушки, разговаривал с ней, встречался с ее друзьями, наблюдал за немногочисленными и почтенными людьми, которые составляют ее общество, и обнаружил у них лишь чистейшие чувства, бескорыстную преданность, глубокое уважение или отеческую нежность. Разумеется, у мадемуазель Люсьены есть враги и хулители; во главе их стоит та женщина, которая двадцать лет подряд в письмах доносила вашему мужу обо всем, что происходит в Бельомбре, — женщина, не заслуживающая никакого доверия. Я выяснил, что в молодые годы она пыталась влюбить в себя маркиза, тогда совсем еще юнца, и, навсегда возненавидев госпожу де Валанжи, высмеявшую ее притязания, потом всю жизнь мечтала ей отомстить. Отмечу еще одну подробность: эта особа хотела выдать свою дочь за молодого Мариуса де Валанжи, но он отверг ее авансы — новый повод для ненависти к Люсьене, которую, по слухам, любит ее кузен. Для полноты картины добавлю штрих, без которого портрет упомянутой дамы был бы неполон. Она переслала вам любовное письмо, написанное якобы Люсьеной некоему молодому человеку, живущему по соседству, и обнаруженное, по утверждению вашей корреспондентки, у ее «невинной дочери». Так вот, написала письмо как раз эта самая дочь, а невинна она лишь в том смысле, что не знает или не понимает, как ее безрассудством воспользовалась мамаша. Я сравнил почерки, заставив под каким-то предлогом мадемуазель Люсьену написать в моем присутствии несколько строк, но, заверяю вас, в этом не было никакой нужды. Стиль и орфография девицы вам известны, а мадемуазель Люсьена, которую мы a priori считали вульгарной, дурно воспитанной и лишенной чувства собственного достоинства, оказалась девушкой необычайно образованной, говорящей на нашем родном языке не хуже, чем мы с вами, обладающей большими познаниями, чем многие знакомые нам мужчины, и воспитанной наилучшим образом. Словом, она не только могла бы войти в ваш круг и семью, но сделала бы им честь, так как достаточно ее увидеть, чтобы почувствовать к ней уважение, приязнь и, осмелюсь сказать, проникнуться восхищением. Труднее было проверить обстоятельство более щекотливого свойства. Вам донесли, что мадемуазель де Валанжи давно неравнодушна к «молодому негодяю — учителю», введенному в дом «мерзавкой служанкой». Меж тем «молодому негодяю» тридцать два года, и он обладает обширными познаниями, высокой нравственностью и редкими душевными свойствами. Он беден, по происхождению простолюдин, но если бы Люсьена избрала его спутником жизни, она нисколько не унизила бы себя, напротив, доказала бы, может быть, высоту своих помыслов и чувств. Впрочем, я знаю ваши взгляды на общественные условности и не собираюсь их сейчас оспаривать. Мне было поручено установить факты — излагаю вам их: «молодой человек» с негодованием отверг клеветническое обвинение в корыстном умысле. Более того — он сообщил мне, что уже давно обручился в присутствии госпожи де Валанжи с «мерзавкой служанкой» — ангелом-хранителем этого дома, олицетворением преданности, разума, прямодушия, трудолюбия и целомудрия. Я многое могу рассказать вам об этой Женни, о роли, которую она сыграла в жизни мадемуазель Люсьены, о том, какую ценность имеют, с моей точки зрения, ее свидетельские показания. Передо мной раскрыли все карты, и я лишь утвердился в своем мнении касательно вопроса о гражданском состоянии. По первому вашему требованию изложу вам всю правду, как велят мне мой долг и совесть. Не изменил я также взгляд на незаконность завещания, лишающего ваших детей наследства их бабушки. Но все это — вопросы второстепенные, с ними можно повременить, тем более что я принял все меры, дабы оградить права ваших детей. То, что интересует вас в первую голову, вам теперь известно: мадемуазель де Валанжи достойна имени, на которое притязает — с полным, быть может, основанием, хотя доказать это, по моему убеждению, она не сможет. Но вполне возможно, что она будет настаивать на своих притязаниях. По букве закона она ни на что не имеет права, тем не менее, если суд примет во внимание высокую нравственность как мадемуазель Люсьены, так и Женни, тяжба, возможно, затянется. К тому же вам следует принять в расчет общественное мнение, играющее немалую роль во Франции вообще, а в ее южных областях в частности, особенно когда разбираются дела романтические, окутанные покровом тайны. Здесь в ходу множество предположений, недоуменных вопросов, даже шуточек по поводу чудесного возвращения девочки и неодобрительной воркотни иных синих чулок насчет ее неженственного воспитания и эксцентрических замашек вроде верховой езды и одиноких прогулок по пустынным местам, которые у нас в Англии вовсе не кажутся эксцентрическими. Клевета, пущенная вашей недостойной корреспонденткой, распространится — а скорее всего, уже распространилась — среди пошлых мещан и даже в ханжеских кружках здешней аристократии провинциального толка. Но я беседовал с английским консулом, с префектом, с мэром, с командующим нашей флотилией лордом Певерилом, уже десять лет живущим в Йере, с миссис Оук, у которой бывает весь высший свет Тулона, навел справки в Лионе и Марселе, написал в Ниццу и Канн адресатам, указанным мне вами, и уже получил от них ответы. Таким образом, могу заверить вас, во-первых, в том, что самая почтенная и влиятельная часть общества стоит за Люсьену де Валанжи и против ее завистников и клеветников; во-вторых, что слишком ожесточенное оспаривание прав этой особы будет встречено неодобрительно; в-третьих, что тяжба по поводу наследства, затеянная людьми куда более богатыми, чем указанная в завещании наследница, произведет дурное впечатление и очень усложнит положение уполномоченного вами лица. Полагаю, миледи, что, говоря правду, я лишь иду навстречу вашим добрым намерениям и благородным чувствам. Позволяю себе выразить свою преданность вам, более чем когда-либо почтительную,Джордж Мак-Аллан.
NB. Не могу не упомянуть еще доктора Реппа, писавшего вам такие туманные письма. Этот человек лишен характера и нравственных устоев: им верховодит известная вам дама, живущая на мельнице. Позор — но весьма умеренный! — тому, кто дурно помыслит об этом».
LVI
— Ну что ж, — сказала Женни, которая во время своих торговых разъездов выучилась немного читать по-английски, а потом пополнила эти знания в те три года, что я занималась и болтала с мисс Эйгер, — что ж, господин Мак-Аллан — человек достойный и к тому же умный. Сдаюсь, Фрюманс! Подумайте о его предложении, Люсьена, и спросите совета у собственного сердца. — Хорошо, Женни, спрошу. Но неужели я уже сейчас должна что-то обещать ему через Фрюманса? — Нет, нет, повремените с этим, — взволнованно сказал Фрюманс. У меня потемнело в глазах — на секунду я вообразила, будто у него не хватает мужества толкнуть меня в объятия другого. Но заблуждение мое тут же рассеялось. — Женни, — торжественно продолжал он, — вы знаете, как я вас люблю, но мне хочется еще раз сказать вам об этом в присутствии великодушной девочки, которая дорога нам обоим. Вы моя сестра, моя мать, избранница моего сердца. Препятствия, нас разделяющие, меня не пугают, я готов, если понадобится, ждать еще хоть десять лет, ждать, пока вы не сочтете, что больше не нужны Люсьене. Ее решение может поторопить и вас с окончательным ответом мне, — вот поэтому я и не хочу, чтобы она спешила. Если она счастливо выйдет замуж, ничто уже не будет мешать вам согласиться на мое предложение. Но пусть лучше моя заветная мечта рассеется в прах, чем усыпит во мне совесть и помутит разум. Я должен понаблюдать за Мак-Алланом, узнать все подробности его прошлой жизни, все особенности характера — только тогда я со спокойным сердцем поддержу его притязания. Он доверяет мне. Отложим ненадолго этот разговор, а до тех пор, Люсьена, не избегайте Мак-Аллана, старайтесь понять этого человека. Вы вправе ничего не знать о его планах — не получи вы письма от Галатеи, я промолчал бы о них. — Но если он спросит, догадываюсь ли я о чем-нибудь, вы ведь не захотите солгать? — Ради вашего достоинства и независимости я готов покривить душой, моя дорогая. Бывают обстоятельства, когда ложь не такой страшный грех. — Спасибо, Фрюманс! — воскликнула я, пожимая протянутую им руку. — Спасибо за ваши бесконечные жертвы… Но почему ты, Женни, никак не отзовешься на прекрасные и возвышенные слова, обращенные к тебе? Счастливая женщина, ты пресыщена его необыкновенной преданностью! — Я отвечу ему при вас, — сказала Женни, — и ничего нового он от меня не услышит. Вы знаете, Фрюманс, что нет мужчины, которого я уважала бы и ценила больше вас. Но я старше годами, много страдала в замужестве, и на душе у меня было бы спокойнее, если бы вы не задумали жениться на мне. Я счастлива и тем, что есть, и ставлю вас так высоко, как только можно поставить человека. Если я вам сестра и мать, вы мне брат и сын. Поверьте, это лучшее из всего, что есть на свете. Если вы и вправду желаете мне добра, не считайте, что брак обязателен для нашей дружбы. Глаза Фрюманса затуманились, но это облачко быстро рассеялось. Он пожал Женни руку, как прежде пожал мне, и ушел со словами: — Как вы скажете, так и будет. Хотя в душе я считала, что Женни жестоко обошлась с Фрюмансом, тем не менее радовалась этому. Что происходило в моем сердце? Всю ночь я не смыкала глаз. Увлечение Мак-Аллана — прихоть ли, истинная ли страсть — пробудило во мне целый мир радужных мечтаний, давно уже, казалось, развеянных. Значит, любовь действительно существует? Не только в книгах, но и в жизни? Пусть Фрюманс одолевает ее, Женни отталкивает, Мариус отрицает, Галатея превращает в пошлость, Мак-Аллан, возможно, преувеличивает, — она все-таки здесь, эта незнакомка, и если положить ее на весы судьбы, она одна перетянет для меня все остальное, все крушения и победы. Напрасно я старалась вычеркнуть даже ее имя из книги своего существования — она без моего ведома и согласия заполнила в ней все страницы. Любовь была причиной ненависти ко мне, любовь — пусть в теории, пусть как некий идеал — стала безымянной целью всех моих стремлений, любовь, тем более громогласная, чем строже я приказывала ей: «Замолчи!» — кричала мне: «Не выходи за Мариуса!», любовь ручалась за преданность Фрюманса, любившего меня по-отечески только потому, что всем сердцем он полюбил Женни, любовь, наконец, переоделась деловым человеком, приняла облик Мак-Аллана и, как водится в старинных водевилях, подсунула мне любовное письмо вместо вызова в суд. Я солгала бы, сказав, что не была польщена, обрадована, окрылена впечатлением, произведенным моими скромными достоинствами на человека с такой благородной, более того — возвышенной душой. Письмо Мак-Аллана окончательно убедило меня в его неколебимой порядочности. Но могла ли я положиться на прочность чувства, так внезапно возникшего? Моему самолюбию страстно хотелось поверить в это, и оно испытало болезненный укол, когда Фрюманс своими сомнениями попытался спустить меня на землю. Но ведь он сам говорил, что ничего не понимает в страстях такого свойства! Все ли они представлялись ему ничтожными или все-таки существовала одна, которую он считал достойной себя? Одна-единственная, которая была бы достойна и меня? Я старалась уснуть, убежать от сумятицы мыслей, и моим мозгом завладевали сны, вернее — какие-то смутные видения, но их тотчас рассеивал разум, который желал рассуждать и отказывался подчиняться дреме. Мне являлся Мак-Аллан, он был обольстителен и казался мне еще изящнее и благороднее, чем на самом деле. Я вслушивалась в его слова, еще недавно оскорблявшие меня, потому что их смысл был мне непонятен, а теперь ласкавшие мой слух как самая сладостная музыка. Я живо представляла себе, как он искал в горах встречи со мной и каким убитым вернулся домой, когда я не пожелала его заметить, как он крался за мной по оврагу, а потом, замирая от счастья, смотрел на меня, погруженную в чтение. Тут мне вдруг послышался голос Фрюманса — «Берегись!», он пролетел мимо меня в огненной колеснице и скрылся в облаках, унеся с собой Женни, а я осталась в матерчатой палатке Мак-Аллана, где пахло цветами, виндзорским мылом[39] и резиной. Мой муж казался мне слишком смазливым и многословным остряком, я издевалась над его гладкими фразами и плоскими мыслями, обзывала стряпчим, и мы ссорились, он обзывал меня цыганкой, и я кричала Женни: «Зачем ты отдала меня этому англичанину?» Заставив себя проснуться, я села на кровати и, свесив ноги, непричесанная, дрожащая, стала разглядывать себя в зеркальной дверце шкафа. «Неужели я и вправду такая красивая? — спрашивала я себя. — С чего Мак-Аллан взял, что я хороша собой?» Фрюманс никогда не показывал и виду, что ему приятно на меня смотреть, Женни никогда даже не заикалась об этом, а Мариус беспрерывно повторял, что я недоросток, чернушка, растрепа. Когда на него находил хороший стих и ему хотелось сделать мне комплимент, он сравнивал меня с довольно изящной индийской статуэткой на каминной доске у бабушки и называл принцессой Пагодой. Но должна же быть во мне хоть какая-то привлекательность, если я произвела такое впечатление на сорокалетнего мужчину! Годы Мак-Аллана не казались мне недостатком — напротив, придавали особую значительность его восхищению мной. Как бесстыдно льстива и как угодлива любовь! Как легко ей завладеть сердцем юной девушки, жаждущей восторженных похвал! У френологов[40] в ходу варварское словечко «апробативомания», точнее других выражающее извечную потребность человека в ободрении, ибо нет такого молодого существа, которое не нуждалось бы в приязни и поддержке. Безразлично, юноша то или девушка, до первого любовного свидания они живут, не ведая, кто они, боясь других, не доверяя себе. Особенно мнительны девушки: стоит на них взглянуть — и они заливаются краской. Что скрывается за этим румянцем смущения? Первое волнение чувств? Далеко не всегда — порою чувства в них еще спят. Куда чаще краска стыда вызвана страхом, что их неправильно поймут, подымут на смех или обольют презрением. В ту пору, когда беззащитная душа радостно приветствует весь мир, даже намек на иронию, пренебрежение или нескромное любопытство омрачает ее, словно туча; но вот приходит любовь с ее поэтическими преувеличениями, с ее страстными гиперболами — и вчерашний ребенок переступает порог жизни. Теперь он знает истинный ее смысл или пытается его узнать, заглядывая в собственное сердце, становится законченным существом или стремится им стать. Впервые он твердо уверен, что живет. Разделяет он или нет внушенное им чувство — пренебречь им он уже не может, ибо в этом чувстве — та самая сила, которую он искал и наконец обрел. Вот и я вступила во владение жизнью, и эта минута не прошла для меня незамеченной, не затерялась в хаосе поразительных и непонятных открытий. Воспитанная на мужской лад, я мнила себя философом — разумеется, без всяких оснований. Все же способность рассуждать была во мне настолько развита, что я старалась во всем отдавать себе отчет. Не без смущения я призналась себе, что любовь Мак-Аллана мне приятна и что, утаив это от Женни и Фрюманса, я вела себя как лицемерка. Призвав на помощь все свое прямодушие, я заглушила голос тщеславия и повторяла, что надо или победить охватившую меня радость, или, беззаветно отдавшись ей, ответить на чувство, в котором мне открылся Мак-Аллан. Но и то и другое оказалось для меня равно невозможным — от этой мысли я пришла в еще большее смятение. Я не была увлечена Мак-Алланом, не испытывала слепого восхищения им и, трезво отдавая должное его достоинствам, скорее преуменьшала их, нежели преувеличивала. Его одобрение не утоляло моей потребности в одобрении. Я жаждала чувства еще более глубокого и возвышенного, еще более лестного для самолюбия. Не того ли, какое Фрюманс питал к Женни? Возможно! Но и Фрюманс, по моему разумению, слишком стоически подчинял любовь долгу. В мечтах мне представлялся человек, наделенный великодушным мужеством Фрюманса и утонченной пылкостью Мак-Аллана. Но, быть может, дело в той, кого любят? Быть может, Женни слишком сдержанна, чтобы Фрюманс проникся к ней страстью, а я слишком ребячлива, чтобы Мак-Аллан отнесся ко мне с полной серьезностью? Придя к выводу, что сердце мое растревожено, но не заполнено, ум увлечен, но не насыщен, обессиленная внутренней борьбой, я уснула, повторяя: — Или я еще слишком молода, чтобы по-настоящему любить, или уже не в том возрасте, чтобы питать иллюзии.LVII
Я проснулась на рассвете после короткого сна и сама удивилась, что не чувствую никакой усталости: казалось, бессонные ночи стали естественной средой для кипевших во мне жизненных сил. Первым делом я подумала о Фрюмансе, лишь потом — о Мак-Аллане. События минувшего дня обрели стройность в воспоминании; перед моими глазами вдруг возникла фраза из письма адвоката к его клиентке: «Он беден, по происхождению простолюдин, но если бы Люсьена избрала его спутником жизни, она нисколько не унизила бы себя, напротив, доказала бы, может быть, высоту своих помыслов и чувств». Фраза эта так взволновала меня и привела в такое смущение, что, читая ее Женни, я спотыкалась на каждом слове. Впрочем, она выслушала и оценила ее как будто с таким же беспристрастием, как и все прочие фразы. Мак-Аллан знал, что я прочту это письмо, — с какой же целью он писал его? Что это — высшая форма учтивости или благородное признание Фрюманса достойным соперником? Великодушное оправдание чувства, которое он втайне мне приписывал и хотел или победить, или оправдать? Мак-Аллан, сам того не желая, ревновал меня к Фрюмансу — так утверждала Галатея. Разумеется, верить Галатее смешно, но ведь и Женни не отрицала, что это возможно, — значит, так оно и есть. Что же мне делать? Если я согласна принять любовь Мак-Аллана, мой долг — рассеять его ревность, но если отвергаю — к чему тогда оправдывать себя? Да и в чем? Могла ли я думать о Фрюмансе как о возможном спутнике своей жизни, не думая в то же время о женщине, которую он любит? Нет, такая мысль ни разу не приходила мне в голову, да и теперь мой разум отвергал ее как оскорбительную бессмыслицу. Зачем же было Мак-Аллану спрашивать меня о том, что он сам же считал невозможным, так как знал о предполагаемом браке Женни с Фрюмансом и даже сделал последнего своим наперсником? Сразу после завтрака Женни доложила, что пришел мой «поклонник» — это слово она произнесла при мне впервые, и я, наверно, обиделась бы, если бы ее улыбка не сказала мне: «Не относитесь к этому так серьезно. Лучшая ваша защита — веселье. Оно охранит вас вернее, чем чопорность». Мне очень хотелось придать себе цену, не сразу согласившись принять моего «поклонника», но могло быть и так, что он пришел только в качестве полномочного посла — в этом случае я должна была встретить его как ни в чем не бывало. Я поздоровалась с ним просто, не выразив никакого удивления. Впрочем, он с первого слова принес мне свои извинения. — Я пришел сегодня, не испросив заранее позволения, и, знаю, поступил нечестно, — сказал он. — По всей вероятности, вы сочли бы меня назойливым и не приняли бы, поэтому я предпочел нагрянуть к вам незваным и докучным гостем и любой ценой повидать вас, чем заранее получить отказ и вовсе не увидеть. И вот я здесь. Не гоните же меня — вы ведь ничего мне не позволили, значит, ничем себя не связали. — Разве такой светский тон подобает человеку, которому я обязана глубочайшей благодарностью? — сказала я с улыбкой, стараясь держаться непринужденно. — О чем, черт возьми, вы толкуете, мадемуазель де Валанжи? — спросил он тоном, в котором сквозь беспечность проглядывало беспокойство. — О письме, которое вы написали вашей клиентке. Какими словами выразить мне благодарность вам за доброе мнение обо мне? Вы знаете меня так мало, но не побоялись сразу встать на мою защиту. — Истина озаряет нас как молния, — ответил Мак-Аллан. — Правоведы ищут ее с бесконечным прилежанием и поразительной добросовестностью, но и в делах судебных, и в науке она ускользает от них в ту минуту, когда им кажется, будто они уже ее обрели. Я диковинный адвокат, не так ли? Подумайте, всю жизнь я занимался иссушающим анализом и бесплодными подсчетами вероятностей… Что ж, это мое ремесло, и я любил его, как любят искусство. Но после двадцатилетней работы я, как и в первый день, вижу только один подлинный критерий истины: первое впечатление, вспышку молнии. В любви это называется любовью с первого взгляда. — Я еще ничего не знаю о любви, — заметила я, — но думаю — она подчиняется тем же законам, что и другие движения души. И вы всегда смело вверяетесь первому впечатлению? А не случалось вам потом жалеть об этом и говорить себе: «Как я ошибся!»? — Случалось, но редко, да и то в ранней юности. Если человек зрелого возраста, всю жизнь наблюдавший за мужчинами и женщинами, которыми движет алчность или еще какая-нибудь страсть, так и не научился распознавать людей с первого взгляда, значит, этот человек безнадежно туп. А чем тупица многоопытней, тем больше оснований остерегаться его вымученных и близоруких суждений. — И вы убеждены, что леди Вудклиф держится того же мнения? Не покажется ли ей сомнительным суждение, так быстро составленное и так решительно выраженное? — Леди Вудклиф… — Почему вы боитесь поделиться со мной своими предположениями? — Потому что тогда пришлось бы говорить о характере леди Вудклиф, а это не в моих намерениях. — Не говорите ничего, о чем пришлось бы потом пожалеть. Ведь вы адвокат — значит, умеете говорить лишь то, что вам угодно сказать. — Вы, кажется, смеетесь над адвокатами, даже чуть-чуть их презираете. Будь я в этом уверен, тут же выбросил бы адвокатское облачение. — Это не ответ. Вам, видно, хочется, чтобы я по-прежнему жила в тревоге, хотя письмо, которое по вашей просьбе мне показали, вселило в меня надежду. — Вот уж к чему я не стремился! Надежда — это сирена, которая дивно поет, но, словно струйка воды, мгновенно ускользает из рук. Не женщина, а надежда коварна, как волна.[41] Поэтому я и не считал возможным обещать вам, что обязательно добьюсь успеха. Я ставил себе только одну цель — убедить вас в том, что я порядочный человек и что если вы все еще мне не доверяете, значит, вам просто хочется быть несправедливой. — Но кто же сомневается в вашей порядочности? Нет, господин Мак-Аллан, не надо подозревать меня в несправедливости, в этих обстоятельствах она граничила бы с низостью или безумием. Но как бы я хотела положиться на доброе сердце леди Вудклиф, как сейчас полагаюсь на ваше великодушие! — Что ж… Я не могу распространяться о сердце госпожи Вудклиф, но, так или иначе, она принадлежит к высшему свету по праву рождения, по несомненному уму, по красоте, тоже пока несомненной, по связям, значительным, несмотря на некоторое неодобрение… — Которое навлек на нее брак с французским эмигрантом хорошего дворянского рода, но отнюдь не маркизом. — Не бросайтесь словами, мадемуазель де Валанжи: если вы станете издеваться над титулами, столь драгоценными для леди Вудклиф, я начну раздумывать, действительно ли вы принадлежите к этой семье. — И, значит, принадлежит ли к ней моя бабушка — она-то ведь была против незаконного присвоения титулов? Не стоит об этом говорить. Итак, несмотря на неравный брак, леди Вудклиф принадлежит, по вашим словам, к высшему свету… — И, вполне естественно, ей небезразлично общественное мнение. Вот на этой-то струнке я играл, указывая, что все ее осудят, если она начнет оспаривать ваше право и на имя, и на имущество. Как вы ни предубеждены против моей клиентки, согласитесь, что в данных обстоятельствах мой ход самый правильный. — А разве я предубеждена против нее? Я совсем не так уверена в этом, как вы. Мне ничего не известно о ней, кроме того, что она сознательно скрывает от меня свои намерения, тогда как я открыла все без утайки. — Дорогое мое дитя, — сказал Мак-Аллан отеческим тоном, который казался мне одной из самых разительных странностей в изменчивом облике этого человека, — сейчас вы знаете, что вам надобно знать. Вас оклеветали. Леди Вудклиф и я были введены в заблуждение. Стараясь исключить вас из членов этой семьи, мы считали, что заботимся о ее чести. Этот мотив отпал — он был основан на вымысле. Я признал это — таково было веление долга. Теперь все мои усилия направлены на то, чтобы ему подчинилась и моя клиентка. Если она не захочет, — значит, у нее есть другие причины преследовать вас, и пока мне их не изложат, я откажусь их признавать. Надеюсь, вы не думаете, что я слепое орудие в чьих-то руках, некая машина, которая, будучи смазана деньгами, покорно исполняет чужие приказы. Я мужчина и джентльмен, и знаете, у меня тоже есть предки, — может быть, это хоть немного поднимет меня в ваших глазах, хотя, по-моему, они ровно ничего не добавляют к моей персоне, разве что воспрещают моим высокородным клиентам обходиться со мной как с первым встречным наемным крючкотвором. Этому предрассудку я никогда не служил, зато он, помимо моей воли, служил мне верой и правдой в той аристократической среде, где протекает моя деятельность. К тому же я не менее богат, чем большинство тех, чьи интересы мне приходится защищать. Состояние, как и ремесло, я унаследовал от отца и приумножил свое богатство, но лишь для того, чтобы приумножить независимость. Нет человека, который мог бы похвалиться, что воздействовал на мое судебное красноречие посулами щедрого вознаграждения. Сейчас я разбираюсь в вашем деле и в притязаниях леди Вудклиф из любви к искусству — для меня это вопрос и удовольствия и чести. Никто меня сюда не посылал — просто я собирался побывать на юге Франции, ваша романтическая история меня заинтриговала, вот я и предложил леди Вудклиф докопаться до истины на месте. У меня есть известные обязательства, им я буду верен, но никакая корысть не заставит меня преступить их пределы. Если леди Вудклиф заблагорассудится лишить меня полномочий — это ее дело, если она разгневается — меня это не тронет. Поверьте, Люсьена, моя репутация вне подозрений, она неколебима — это единственное, что я с гордостью могу предложить вам… как залог моей нелицеприятности в ведении вашего дела.LVIII
Я беседовала с Мак-Алланом добрых два часа, прогуливаясь от двери дома до газона, от Зеленой залы до луга, то в сопровождении Женни, которая порою присоединялась к нам, а потом снова уходила, то наедине с моим поклонником. Да, он был моим поклонником, не видеть этого я не могла, но всем своим поведением как бы воспрещала ему сделать мне прямое признание. Воздаю ему должное: он с таким тактом держался на грани между любовью и дружбой, что не лишал меня ни прямодушных дружеских речей, ни сладостных любовных напевов. Вечером Фрюманс написал Женни:«Значит, она приняла его очень приветливо? Он вернулся, не помня себя от счастья. Хочет ли она, чтобы я ободрил его или, напротив, окатил холодной водой? Умоляю вас, Женни, убедите ее дать мне время получше разобраться в этом человеке. У меня нет возможности поговорить с вами — аббат не очень хорошо себя чувствует».Ответила Фрюмансу не Женни, а я:
«Ни ободрять, ни окачивать холодной водой. Я жду и умею ждать».Утром следующего дня пришло еще одно письмо — на этот раз от Мариуса:
«Дорогая моя девочка, хотя ты во всеуслышание и более чем сухо отказалась от моего предложения помощи и поддержки, тем не менее долг велит мне обратиться к тебе если не с советом, которому ты вряд ли расположена следовать, то, во всяком случае, с предостережением. Немедленно запрети Мак-Аллану так часто навещать тебя, иначе твоя репутация очень и очень пострадает. Этот господин и не думает скрывать, что ты ему нравишься, что он достаточно богат и не нуждается в твоем приданом, достаточно сумасброден и предпочитает, чтобы ты была без роду без племени. На мой взгляд, поверенным своих чувств он должен был сделать прежде всего господина Бартеза — единственного человека, на которого ты действительно можешь опереться, или господина де Малаваля — единственного немолодого мужчину из числа твоих родственников. Добавлю, что и я был бы для него куда более подходящим наперсником, чем Фрюманс — добрый малый, но понятия не имеющий об условностях и вообще не знающий света. Можешь передать Мак-Аллану, что я считаю его поведение легкомысленным, а как он это примет — дело его. Разумеется, ты вольна выходить замуж за кого тебе заблагорассудится, но не следует сразу же восстанавливать против себя общественное мнение, особенно в твоем и без того щекотливом положении. Заставь же этого красавчика англичанина подчиниться нашим обычаям, внуши ему, что во Франции барышни твоего возраста не выходят замуж без ведома и согласия старших и не позволяют ухаживать за собой незнакомцам. Если этот господин компрометирует тебя против твоей воли или без твоего ведома, ты только скажи мне, и я сразу его выдворю. А если тебе это по вкусу — что ж, у меня нет права насильно встать на твою защиту, но я обязан предупредить тебя, что ты на опасном пути. Дальше решай сама. Твой кузен и, невзирая ни на что, другПослание Мариуса меня глубоко задело. Как это благородно и доблестно — с такой легкостью бросить меня на произвол судьбы, а потом проявлять заботу о моей репутации! Мне хотелось поскорей выбросить его письмо из головы, но Женни решила посоветоваться с господином Бартезом. Он был очень занят, и мы с ней сами явились к нему в его тулонскую контору. Свое отношение к тону письма он выразил пожатием плеч, а потом сказал: — Человеку малодушному не стоит разыгрывать храбреца. Мариус упустил случай показать себя в выгодном свете — другой такой ему вряд ли представится. Что касается поведения Мак-Аллана, которое будто бы угрожает вашей репутации, все эти угрозы изготавливаются на мельнице, а что касается самого Мак-Аллана, то я навел о нем справки — у нас в Провансе достаточно высокопоставленных англичан, и мне это не составило труда. Отзывы о нем превосходные, на своей родине он пользуется большим уважением. Я убежден, что он не способен вас намеренно компрометировать, а его визиты так понятны и необходимы для решения ваших дел, что ни о каком нарушении условностей и речи быть не может. Принимайте его у себя, как он того заслуживает: поведение господина Мак-Аллана внушает большие надежды, не вздумайте же ими жертвовать, следуя недобрым советам, цель которых — лишить вас истинно дружеской поддержки. Господин Бартез уже знал о письме Мак-Аллана к леди Вудклиф. Он не сомневался в его благотворном действии и заразил своей уверенностью и нас. Я успокоилась, но все же, несмотря на живой интерес к Мак-Аллану, предпочла бы подольше не встречаться с ним. Мне претила роль, которую приходилось играть с ним, и все время казалось, что я напрашиваюсь на любовное признание. Поэтому стоило появиться кому-то, кто мог заподозрить меня в кокетстве с Мак-Алланом, — и от смущения я уже не знала, ни что говорить, ни что делать. Он посетил меня еще несколько раз и был обворожителен. Своеобразие его поведения все еще удивляло меня, но не отталкивало, а скорее привлекало: оно приоткрывало врожденное чистосердечие натуры Мак-Аллана, в котором прежде я очень и очень сомневалась, и, кроме того, задевало воображение, как все, нам еще неведомое. Порою мы даже ссорились: Мак-Аллан был обидчив, а я склонна к насмешке. Он во что бы то ни стало хотел избежать обвинения в тех смешных, а иногда и досадных чудачествах, которые и теперь раздражают нас в англичанах, а в те времена, когда мы еще не привыкли к их достоинствам и недостаткам, особенно бросались в глаза. Не желая прослыть педантичным тяжкодумом, он становился легковесным, и тогда я упрекала его в том, что он недостаточно англичанин. Всего неприятнее мне было обнаруживать в нем черты сходства с Мариусом — пусть даже в ничтожных мелочах, вроде чрезмерного внимания к собственной внешности или чрезмерной учтивости с людьми безразличными, но Мак-Аллан относился к характеру моего кузена с таким высокомерным пренебрежением, что, боясь его оскорбить, я даже и не намекала на это сходство. К тому же оно действительно было очень поверхностно. В сложных жизненных перипетиях Мак-Аллан неизменно проявлял и мужество, и благородство. Впрочем, не знаю, заслуживает ли особенного восхищения человек, который, располагая богатством, независимостью, отличной репутацией, готов пренебречь любыми условностями, если таковы веления его сердца и разума. Поэтому, когда адвокат начинал слишком уничижать Мариуса, я спрашивала, что сталось бы с его отвагой, окажись он в положении столь же шатком, как положение Мариуса. Тут он приходил в великий гнев. — Дерево надо судить по плодам, — говорил он. — Вы занимаетесь ботаникой, значит, вам известно, что определяют растение только после того, как оно достигло зрелости. Цветущий юноша еще не мужчина, но уже можно распознать, не окажется ли бесплодным его цветение, не опадет ли до времени его листва. Мариус — одно из тех чахлых, вернее сказать — тепличных растений, которые весной кажутся полными жизни, но летом — и вам ли этого не знать! — мгновенно увядают, словно их и не было. А я вот уже на пороге осени, но удивляю вас молодостью мыслей и чувств. Разгадка проста: я и весной был крепким ростком, а потом вошел в полную силу. Мак-Аллан любил метафоры, в отличие от Фрюманса, который их не ценил и почти никогда не употреблял. Ум его был менее основателен, но более подвижен. Он многое повидал в своей жизни и, если и не углублялся в суть вещей, во всяком случае умел уловить их облик и проявлял при этом незаурядный вкус и меткость взгляда. Рассказывая о своих путешествиях, он развлекал и в то же время давал пищу для размышлений. Наделенный артистическим чутьем и даром живописного слова, Мак-Аллан довольно тонко судил и о людях, хотя, по моему мнению, проявлял к ним излишнюю снисходительность: я была непримирима в своих суждениях о добре и зле, меж тем как он подчас признавал право на существование за этими извечными врагами, равно необходимыми, как он утверждал, для сохранения мирового порядка. Иногда подобный скептицизм казался мне следствием поверхностности, но спустя минуту Мак-Аллан вдруг поражал меня глубоким анализом жизненных явлений, не говоря уже о его всегдашнем превосходстве надо мной, когда речь заходила о нравственных и философских основах поведения людей. Он не умел рассуждать так последовательно, как Фрюманс, и, сделав все необходимые выводы, подчинять им свои поступки или видеть предмет своего размышления в перспективе более широкой, чем прежде. Куда более впечатлительный и нетерпеливый, Мак-Аллан схватывал мысли на лету, составлял суждения с быстротой стрелы, но тем не менее редко бил мимо цели, потому что, не будучи глубоким философом, он был умным человеком.Мариус».
LIX
Следующая неделя пролетела для меня как один час. Через день, то утром, то после обеда, являлся Мак-Аллан. Хотя вначале сложение его казалось Фрюмансу хрупким, а привычки — изнеженными, адвокат умел ходить, как заправский горец, и не хуже нас переносил жару. Он был очень силен, но не кичился этим и продолжал принимать тысячу предосторожностей, всюду таская за собой зонтики, москитные сетки, веера, которыми я пренебрегала, осыпая их владельца насмешками. Однако он прошел бог весть сколько лье под солнцем самых немилосердных широт, а его белокурые, мягкие как шелк волосы были все так же густы, белые зубы до единого целы, движения по-женски изящны. Этот слабый на вид красавчик оказался закаленным, как самая лучшая сталь. Поглядывая на него, Фрюманс шептал мне на ухо: — Да, да, все правильно: такой физической силе, таящейся под изысканной внешностью, должна соответствовать несгибаемая воля, прикрытая утонченным умом. Фрюманс с каждым днем относился к нему все лучше и, видимо, хотел, чтобы он нравился и мне. И действительно, Мак-Аллан мне очень нравился, но как только Фрюманс начинал его превозносить, я тут же к нему охладевала. Вообще я стала порывиста и неуравновешенна, капризничала, то беспричинно радовалась, то с трудом подавляла приступы гнева, то смеялась, как ребенок, то еле справлялась со слезами. Но все худшее было впереди; пока что Мак-Аллан не торопил меня с ответом, а Фрюманс, стремившийся оттянуть время, чтобы поближе узнать его и при этом не согрешить двоедушием, больше не вступал со мной в откровенные беседы. Но вот пришло письмо от леди Вудклиф, и, значит, настала пора обеим сторонам сделать выбор. Письмо было коротко и сухо. В нем сказалась вся ненависть мачехи ко мне, ненависть еще более непримиримая и непонятная, чем прежде. Прочесть его вслух Мак-Аллан отказался, но поспешил сообщить моим советчикам и мне, что его освобождают от ведения дела, которым, судя по всему, он и сам не желает заниматься. Его просят не удивляться тому, что теперь указанную тяжбу поручено вести другому правомочному лицу, которое со всей непреклонностью опротестует завещание моей бабушки и мое гражданское состояние, если в течение трех ближайших дней я, с согласия моих советчиков, не подпишу полного отказа от притязаний на наследство и на имя де Валанжи. В этом случае мне по-прежнему предлагают пожизненный пенсион в сумме восьмидесяти тысяч франков ежемесячно с тем непременным условием, однако, что я не позже чем через неделю покину Францию и поселюсь безразлично где, исключая Англию. В случае, если оное предписание будет нарушено хотя бы на один день, я навсегда лишаюсь пенсиона. Это было так грубо и оскорбительно, что, разумеется, ни господин Бартез, ни Фрюманс, ни господин де Малаваль, ни Мариус, ни Женни не попытались хотя бы единым словом повлиять на моерешение. — Будьте добры, — сказала я господину Бартезу, — напишите леди Вудклиф две-три строчки и известите ее, что я отказываюсь от какого бы то ни было соглашения и буду отстаивать свои права. Происходило это в Тулоне, в кабинете господина Бартеза, собравшего нас у себя, чтобы выслушать сообщение Мак-Аллана. Не приглашен был только доктор Репп. Все встали и молча по очереди пожали мне руку: Фрюманс — с видом отеческой гордости за меня, Бартез — с величавым достоинством, Малаваль — рассеянно, Мариус — чопорно и мрачно, словно кропил святой водой мой саван. Выражение его лица было так забавно, что я чуть было не расхохоталась. Женни порывисто обняла меня, чтобы никто не заметил моей улыбки, и все расстались в обстановке возвышенно-торжественной. Не успели мы вернуться, как явились Фрюманс и Мак-Аллан. Последний так и сиял. — Ну вот, — сказал он, — вы не только сожгли собственный корабль, но и взорвали всю эскадру, так что взлетел на воздух и я. Но никто еще не взлетал с таким изяществом, как вы, и с таким легким сердцем, как я. Теперь надо подумать, как мы поступим с обломками наших кораблей. Этот вопрос надо решать без отлагательств, поэтому прошу вас выслушать меня, но обязательно с глазу на глаз. В эту минуту мы и были с ним с глазу на глаз, поэтому меня особенно озадачила такая боязнь возможных слушателей. — Мне кажется, — ответила я, — вы не можете сказать мне ничего такого, чего не следовало бы знать Фрюмансу и Женни. — И очень заблуждаетесь, — возразил Мак-Аллан прежним своим тоном испытанного правоведа. — Сейчас перед вами не Мак-Аллан, а адвокат, и у него к вам важное дело. Фрюманс знает, что только вы одна можете решить вопрос, который я собираюсь представить на ваше рассмотрение. — И вы надеетесь, что я что-то утаю от Женни? — Не надеюсь, а убежден в этом. Сейчас убедитесь и вы. Он предложил мне руку, и мы спустились к реке. Там, усевшись рядом со мной под ольхой, Мак-Аллан сказал следующее: — Вы приняли благородное решение, я его одобряю, а вами восхищаюсь. Тем не менее вам придется от него отказаться. Вы не примете подачек от леди Вудклиф, это само собой разумеется, но, ручаюсь, не станете защищать свои права. Не делайте больших глаз, не смотрите на меня с таким удивлением и недоверием. Сию секунду я скажу вам всю правду, и кто как не вы сможет смело посмотреть ей в глаза и сделать все вытекающие из нее выводы? Если вы доведете дело до суда, ваша дорогая Женни будет скомпрометирована, а возможно, и понесет наказание. — Что вы такое говорите? Это серьезно? — Так же серьезно, как серьезно мое уважение, доверие, дружеское участие к Женни. Я адвокат, но прежде всего прямодушный человек, а тот, кто в скором времени заменит меня, будет прежде всего адвокатом. Поймите меня правильно, я вовсе не считаю себя единственным порядочным человеком среди моих собратьев по ремеслу. Слава богу, нас, честных адвокатов, совсем не мало, но когда клиент хочет прибегнуть к букве закона, сулящей ему выгоду, не прислушиваясь к голосу совести или к подсказке добрых чувств, он не станет обращаться к услугам того, для кого и совесть и добрые чувства что-то значат. Он начнет искать — и без труда найдет — ловкого крючкотвора, который готов пренебречь любым нравственным законом. Итак, в ближайшем будущем в Тулоне появится, если уже не появился, очень опасный противник, какой-нибудь продувной французский стряпчий, за спиной которого скорее всего стоит адвокат, съевший собаку на скандальных процессах. Эти люди, которых отнюдь не просили найти путь к примирению с вами, взорвут бомбу, не предупредив вас, не повидав, не попытавшись понять вас и оценить. Им и в голову не придет, что вы можете искренне заблуждаться. Они потребуют в самом что ни есть судейском стиле, чтобы у вас отняли мошеннически присвоенные права: на свете нет ничего безжалостнее законов о гражданских правах и наследстве, и кто вступает в борьбу на этой арене, тот не щадит противника. Не думаю, что возможные попытки опозорить вас достигнут цели, что вы будете признаны виновной в преступном замысле и подвергнуты наказанию. Вся тяжесть судебного преследования обрушится на Женни, и вот она-то, несомненно, будет обвинена в сговоре со своим мужем, сговоре, имеющем цель выдать за наследницу де Валанжи дочь цыганки, быть может, ее собственную дочь. Я заранее могу рассказать вам все эпизоды и перипетии этой судебной драмы. Первым делом Женни начнет собирать всяческие доказательства; тем же займется и Фрюманс, а значит, не на шутку скомпрометирует себя. Я предвижу, что он тоже будет привлечен к делу, и адвокат противной стороны постарается доказать его соучастие, лицеприятно подобрав факты, бросающие на него тень. Но предположим, что случилось нечто маловероятное в нынешних обстоятельствах: Женни и Фрюманс соберут важные свидетельства и неопровержимые показания. Уверены ли вы, что одержите победу только потому, что ваше дело каким-то чудом из сомнительного вдруг стало несомненным? Все неопытные и простодушные люди вроде вас с Женни тешат себя радужной иллюзией, что правое дело нельзя проиграть, но все законники и опытные сутяги скажут вам, что правого суда не бывает. Только тот адвокат наделен здравым смыслом и заслуживает доверия, который твердит своим клиентам: «Главное, старайтесь не доводить дело до суда!» При самом выигрышном деле, при самых проницательных и беспристрастных судьях, самом красноречивом и умелом защитнике, самых несомненных и неопровержимых свидетельствах в вашу пользу, при самом достойном и здравом поведении, короче говоря — при самых благоприятных обстоятельствах вы все равно можете проиграть тяжбу из-за ловко использованного против вас параграфа, из-за какой-то процедурной уловки, из-за непредвиденной случайности, из-за мухи, отвлекшей судей, из-за чего-то невесомого и неосязаемого, что оказалось на весах Фемиды, к великому смущению самых опытных законоведов. Не считаете же вы, что невинных осуждают только по злому умыслу? Уверяю вас, в наши дни такие случаи очень редки, и судья, сознательно выносящий несправедливый приговор, — явление исключительное. Поймите, я оптимист, когда утверждаю, что добро и зло в нашем мире уравновешены. Ни во что абсолютное на земле я не верю и к тому же проиграл слишком много правых дел, чтобы обвинять род человеческий в том, будто он ведает, что творит. Нет, нет, Люсьена, не ведает, поэтому вручать свою судьбу нескольким людям, пусть даже лучшим из лучших, не более разумно, чем выходить в бурное море на корабле без руля и ветрил. Приведите мне хоть одно нашумевшее дело, которое до конца удовлетворило бы совесть и разум всех, кто принимал в нем участие. Я присутствовал при многих разговорах об этих нашумевших делах, и всякий раз заключение было одно: «Полностью истина все же так и осталась нераскрытой». Величайшие преступники, о которых повествуется в преданиях и истории судопроизводства, всегда находят защитников, а самые неопровержимые оправдания всегда оставляют крупицу сомнения. Сколько старых и молодых адвокатов сжимают кулаки при мысли о том, что и тюрьмы и каторга полны несчастными, которых эти адвокаты защищали, которых они с чистым сердцем стали бы защищать и ныне! И для меня, как и для всех, в любом процессе всегда есть нечто скрытое, непроницаемое для людского взгляда — оно-то и дает повод к бесконечным спорам и современников, и потомков. На этот счет у меня есть твердое убеждение — сейчас изложу его вам. Полностью объяснить преступление невозможно, потому что необъяснима сама его природа. Преступление — это акт безумия. В основе самого ловкого мошенничества всегда лежит заблуждение разума, притупление совести, иными словами — некая пустота. А как ухватить пустоту? Как взвесить то, что не имеет веса? Человек тут бессилен. Вот почему, столкнувшись с подобной пустотой, с подобным отсутствием представления о том, что такое человечность, которое и составляет суть бесчеловечных поступков, люди, обладающие знаниями и мудростью, приходят в волнение, начинают совещаться, ломать себе голову и говорить, говорить, говорить, с единственной целью — разобрать и правильно оценить, то есть доказать и вынести приговор. Что доказать и чему вынести приговор? Доказать, что у слабоумия был разумный замысел? Вынести приговор человеческому рассудку, одержимому безумием? Вы ведь понимаете, что это невозможно. Взять хотя бы ваше собственное дело. Стоит нам вдуматься в него — и вот перед нами возникает человек по имени Ансом, который любой ценой и с помощью самых нелепых способов стремился разбогатеть; человек, который, вместо того чтобы зарабатывать на жизнь, вверяясь здравому смыслу и добропорядочности своей жены, строил какие-то химерические планы, не говоря ей, какие именно, или утверждал, что она все равно их не поймет, — и был в этом прав, потому что не понимал их он сам; человек, который в одно прекрасное утро — я действительно так думаю, Люсьена, — увидев в медленно проезжавшей мимо него карете спящую кормилицу с младенцем на руках, схватил этого младенца, сперва сам не зная зачем, а потом решил оставить его у себя, чтобы получить за него большой выкуп. Но дело оказалось таким рискованным, что, напуганный грозящей опасностью, Ансом махнул на него рукой. Возможно и другое объяснение — то, которое пришло в голову и Женни и контрабандисту: он быстро забыл свой замысел, возникший случайно, плохо продуманный, и занялся другими делами, столь фантастическими, что они привели его под конец в сумасшедший дом. Но, лишенный разума и ясного сознания, этот человек проявлял порой доброту и мягкосердечие (Женни говорила, что он не был ни груб, ни жесток, и она любила его, любит, быть может, и сейчас, поэтому не решается отдать Фрюмансу сердце, уязвленное памятью о пережитом разочаровании). Он позаботился о несчастном младенце, нанял ему кормилицу — первую попавшуюся нищенку, — а потом отвез жене, чтобы та, приняв девочку за собственного своего ребенка, растила ее, пока не изменятся обстоятельства. Бред сумасшедшего — в этих словах вся история Ансома и одновременно подоплека вашей тяжбы. Ничего иного я в ней не вижу. Но неужели вы думаете, что члены суда, важно восседающие в своих креслах, что адвокаты, которые засучили рукава и приготовились к бою, удовольствуются столь простым объяснением, ведущим к обелению памяти Ансома? Да разве стоило бы для этого тратить столько красноречия, проявлять такую проницательность? Необходимо во что бы то ни стало найти состав преступления, констатировать предумышленное похищение, указать пальцем на виновного. Ансома нет в живых, но у него был сообщник, которого, вероятно, не смогут разыскать; зато под рукой его пособница, которая все знала и помогала Ансому, и эта пособница — Женни. Она единственная, кому это дело все еще сулило выгоду, и вот она приводит ребенка и требует за него мзду. Мы-то знаем, что никакой мзды Женни не приняла, но где тому доказательства? Поверят ли ей ее противники? Женни пошла на службу к госпоже де Валанжи из любви к вам, но, по ее собственному признанию, она получала хорошее жалованье и, как нам известно, не тратила его, чтобы в случае беды вы не остались без средств. Но ведь намерения недоказуемы, а если Женни и докажет свои, от этого ничего не изменится: просто вас обвинят в совместном воровстве. — Довольно, довольно, господин Мак-Аллан! — взмолилась я. — У меня кровь леденеет от ваших слов. — Сейчас я вкратце подведу итоги и кончу, — продолжал он. — Будь я адвокатом противной стороны, мои действия не отличались бы от нынешних: я изучил бы местность, прошел бы всю дорогу вдоль Дарденны и обратил бы внимание на крутой поворот этой обрывистой дороги и узкий мостик, по которому, однако, может без труда проехать карета, запряженная спокойными лошадьми, привыкшими к своему вечно дремлющему кучеру. Я не преминул бы заметить, что из открытого экипажа (тут я посетовал бы на многочисленные переделки в устройстве указанного экипажа, который, не будь этого, послужил бы важным вещественным доказательством — я дал себе труд взглянуть на него в вашем каретном сарае), — так вот, я не преминул бы заметить, что из открытого экипажа, едущего по самой кромке дороги или вдоль низкого мостового парапета, спящий младенец мог незаметно свалиться в поток, бурно несущийся внизу, и тогда течение подхватило бы его и унесло, а грозный гул бурливых вод — тут я подпустил бы немного поэзии — заглушил бы его крики, и он, по всей вероятности, навеки исчез бы в одном из тех неисследованных и, быть может, не поддающихся исследованию водоворотов, которыми изобилуют местные реки вообще, а Дарденна в частности. Я счел бы вполне обоснованным предположение, что Ансом или любой другой прохожий с неясным и сомнительным прошлым, на подозрении у полиции, словом — человек, предпочитающий большим дорогам тропы на дне оврагов, стал свидетелем этого несчастного случая. Спасти ребенка он не мог, а звать на помощь не стал — ему вовсе не хотелось выступать потом свидетелем на суде. Раздумывая над неожиданным происшествием и его возможными последствиями, он постепенно сочинил целый роман и рассказал его своему приятелю Бушету, своей жене Женни и ее подруге Изе Карриан. Все это и привело через четыре года к подмене ребенка — это ведь достаточный срок, чтобы ребенок стал неузнаваем! Наконец, я заявил бы, что мадемуазель Люсьена мертва, и это заявление было бы поддержано весьма важным свидетелем; вы о нем не подумали, но ваши противники держат его в запасе. Это ваша бывшая кормилица. «Она умалишенная!» — воскликнет ваш защитник. «О да! — скажу я. — Мы это утверждаем и рады, что вы согласны с нами. Дениза сумасшедшая, всегда была сумасшедшей и в припадке безумия выбросила ребенка в реку». Она припоминает этот случай, винит себя в нем, горько кается в минуты просветления, хвалится, когда сознание у нее затемнено, но никогда уже не отрицает, что все произошло именно так, потому что госпожа Капфорт вдалбливает в нее это убеждение. Оная дама утверждает к тому же, что сравнительно недавно, во время прогулки в той самой карете, Дениза попыталась столкнуть вас в реку. Фрюманс и Мариус были тому свидетелями и не смогут отрицать этого факта. Доктор Репп подтвердит, что мысль убить вас была навязчивой идеей Денизы, таким образом, показания сумасшедшей станут решающими. Итак, маленькой Люсьены нет в живых, а есть маленькая Ивонна, неведомо чей ребенок, которого Женни взяла на воспитание с обдуманным намерением, поскольку, при всей своей молодости и неопытности, никак не могла ошибиться насчет его возраста и принять девятимесячную девочку за свою полуторагодовалую дочку. Короче говоря, я привел бы все мыслимые доказательства незаконности гражданских актов, ссылаясь на кои мадемуазель Люсьена, здесь присутствующая, притязает на имя и наследство госпожи де Валанжи, а в отношении госпожи Ансом потребовал бы наложения денежного штрафа и тюремного заключения, то есть разорения и позора. Возможно, я выиграл бы, возможно, проиграл бы дело, но в случае выигрыша я сказал бы заплаканной мадемуазель Люсьене, или Ивонне: «Вам предлагали спокойную, независимую, свободную от денежных забот жизнь, а вы предпочли удовлетворить свою гордыню и ей в жертву принесли Женни. Пеняйте на себя!» Я кончил, Люсьена, теперь слово за вами. — Благодарю вас, господин Мак-Аллан, за то, что вы все мне объяснили! — воскликнула я, заливаясь слезами. — Бог свидетель, я никогда и ни с кем не стану судиться. — Это не всегда в наших силах, — ответил он. — Сейчас вопрос в том, как избежать суда и вместе с тем не пойти на сделку, которая вам так претит. — Научите, что я должна сделать; как вы скажете, так я и поступлю. — Надо исчезнуть, чтобы суд вынес приговор в ваше отсутствие; надо покинуть дорогой вам край, любимый дом, верных друзей, которые будут тосковать в разлуке с вами, достойного Фрюманса, уже готового ко всему; надо уехать вдвоем с Женни, которая сумеет заработать на жизнь и себе и вам. Главное — это избавить обеих от жесточайшей борьбы с неведомым исходом. Если никто не будет представлять ваши интересы, значит, не будет и речи противной стороны, обвинительного акта, бесплодных розысков, ненужного скандала. Суд, призванный вынести решение о законности завещания, может это сделать, лишь установив сперва ваше гражданское состояние, а для этого вы должны представить свои доказательства. Но вы отказываетесь это сделать, господин Бартез, посвященный в причины вашего отказа, тоже хранит молчание, следовательно, суд лишает вас всех ваших прежних прав, и процесс не состоится. Удовольствуется ли леди Вудклиф решением суда первой инстанции, которое вы можете опротестовать? Она ведет себя очень неразумно, но все же вряд ли решится пойти на риск проигрыша, продолжая вас преследовать. Впрочем, от разъяренной женщины всего можно ожидать, поэтому нам надо обдумать, как принудить ее отказаться от дальнейших шагов… Но у вас отсутствующий вид. О чем вы задумались? — О том, как предупредить господина Бартеза, чтобы он не писал леди Вудклиф. Боюсь, он уже составил письмо, и она, оскорбленная моим надменным ответом, решит начать тяжбу, которая скомпрометирует Женни. — И теперь вы согласитесь принять от нее деньги? — Да, и все оскорбления, и потерю чести и достоинства — все, что угодно, лишь бы навсегда оставили в покое Женни. — И ни перед чем не отступите? — Как я могу отступить, если шаг вперед или назад означает спасение или гибель той, которую я любой ценой хочу оберечь? Ведь есть, наверно, средства сделать унижение не таким мучительным для меня — например, пустить эти деньги на добрые дела. Я осную больницу или открою мастерскую для бедняков и заранее откажусь от всех доходов, потому что, Бог свидетель, никогда в жизни я не возьму ни гроша из денег леди Вудклиф! Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь, господин Мак-Аллан! — Есть путь куда проще и короче, — сказал он. — Согласитесь на все, подпишите, а когда договор войдет в силу, вернитесь во Францию или поезжайте в Англию. У вас сразу отнимут пенсион, и вы с улыбкой будете говорить всем и каждому, что сделали это нарочно. — Да, да, вы правы! — воскликнула я. — Знаете, я просто забыла, что меня изгоняют из родной страны. Разумеется, я останусь, поселюсь в Помме, Женни выйдет за Фрюманса и вместе с ним займется торговлей вразнос. А я стану присматривать за бедным аббатом, читать ему Эсхила и Платона, продлю ему, сколько возможно, жизнь… Я буду иногда прибегать сюда, смотреть украдкой на этот дорогой мне дом, на сад, на дерево, которое так любила бабушка… А впрочем, зачем? Я и от этого сумею отказаться. Вон там ее могила, ее прах. Их-то у меня не отнимут! Пусть мне воспрещено ходить по ее гостиной, молиться в ее кресле, но я посажу цветы на кладбище, где она спит, и, значит, буду еще ближе к ней. Да, да, это решает все! Только помогите мне, дорогой мой друг, поскорее устроить новую жизнь! Я была взволнована, плакала, и тем не менее меня переполняло счастье. Мак-Аллан, которому я наконец безоглядно и восторженно доверилась, смотрел на меня увлажненными глазами, не в силах сдержать нервной дрожи. Казалось, ему и страшно оттого, что я так внезапно приняла его совет, и жалко меня. — Нет, меня вовсе не надо жалеть, — сказала я. — Никогда в жизни я не испытывала такой глубокой радости. Сейчас вы все поймете. Вспомните, что я говорила вам две недели назад. Мне надо было принять решение, и я боялась этого, потому что не понимала, в чем же мой долг. Целых две недели я билась над этой задачей и чувствовала, как мои силы иссякают. Вы ее решили, сказав мне: «Единственный способ воздать Женни за все, что она сделала для вас, — это пожертвовать гордостью». Будьте же благословенны, Мак-Аллан! Я снова дышу, снова живу и счастлива, что этим обязана вам, потому что вы лучший из людей! Мак-Аллан медленно опустился на колени, медленно склонился до земли и поцеловал мне ноги. Мне стало страшно — так поразил меня этот знак глубочайшего благоговения. — За что вы просите у меня прощения? — спросила я. — Неужели вы просто испытывали меня? Или обманули, чтобы проверить, как глубоко я предана Женни? — Нет, нет, — сказал он, вставая с колен. — Я и раньше знал, на что вы способны, и никогда не позволю себе обмануть вас. То, что вы услышали от меня, — правда, а теперь пора действовать. Я немедленно еду в Тулон — надо задержать письмо господина Бартеза леди Вудклиф. Дайте мне записку к нему, попросите его приехать к вам завтра или ждать вас у себя в конторе. Для решения нам дано три дня с момента получения письма. Завтра вечером этот срок истекает, следовательно, завтра вечером необходимо послать леди Вудклиф договор, подписанный вами в присутствии господина Бартеза и всех ваших советчиков. Со стороны господина Бартеза возражений не будет, он не надеется, что вы выиграете тяжбу, и поймет ваши мотивы. Фрюманс поймет вас еще лучше. Малаваль любит деньги, поэтому он поймет все на свой лад, а рыцарь Мариус, увидев, что у вас будут неплохие доходы, предложит вам руку и сердце, так как помните, Люсьена, если решение ваше серьезно, вы ни единым нетерпеливым словом или пренебрежительным жестом не должны выдать своего намерения нарушить условия договора. Поверьте, почти все одобрят ваше нынешнее согласие на выгодное предложение, но презрительный отказ от денег поймут очень немногие. Большинство ценит лишь материальную выгоду, а романтические порывы считает бессмыслицей; они отвечают идеалам лишь ничтожного меньшинства. Таким образом, сперва на вашей стороне будет большинство, потом меньшинство. Но сейчас вам надо обдумать, как преодолеть единственное серьезное препятствие вашему благородному замыслу — сопротивление Женни. — Как раз об этом я и думаю: Женни ни в коем случае не должна знать, чем вызвана перемена в моем поведении. Я знаю, чтобы спасти мое имя, она способна начать тяжбу на свой страх и риск, исходит всю землю, переплывет моря, — только бы восторжествовала правда. Женни не понимает, как можно идти на сделки, колебаться, дрожать от страха. Она свято верит в добро и к вашим советам отнесется как к бреду больного. Ей надо внушить, что я попросту малодушна. Да, мне предстоит нелегкая схватка с нею, но ведь я стараюсь ради нее, и это придаст мне сил. Только бы Фрюманс… Но вы как будто сказали, что Фрюманс меня поймет и поддержит? — Дорогая моя Люсьена, Фрюманс уже давно находится в невыносимом положении. Но он смирился с ним, потому что, при всей своей редкой проницательности, верит в идеал, как Дон Кихот, а это тем более достойно уважения, что здравый смысл у него, как у Санчо Пансы, а практической сметки не меньше, чем у вашего покорного слуги. Он и раньше понимал, что, если когда-нибудь у вас начнут оспаривать право на имя, Женни может оказаться погубленной, а он опозоренным, но выхода не видел. Я показал ему этот выход, и вот он мечется между вами двоими и не знает, в ком же ему поддерживать героическое мужество — в своей ученице или в своей невесте. Он чувствует, даже знает, какое решение вы примете, горд за вас, страдает за Женни и за себя, потому что и у него, у нашего дорогого философа, есть своя гордость. Фрюманс-мужчина предпочел бы все самое тяжкое разделить между собой и Женни, но Фрюманс-наставник должен предоставить вам совершить подвиг добродетели, внушенной его же уроками, а Фрюманс — супруг Женни соглашается передать дело ее спасения в руки своему детищу. — Как замечательно! — воскликнула я, смеясь. — Фрюманс увидит, что его детище хорошо изучило мудрецов древности… Но солнце уже заходит, вам надо немедля ехать в Тулон. Берите мою лошадь, сегодня она еще принадлежит нам. Мак-Аллан долгим поцелуем припал к моей руке и, не сказав ни слова о том, что касалось его самого, уехал. Я была глубоко благодарна ему за это забвение всего, кроме долга, который мне предстояло выполнить.LX
Неподалеку от дома я встретила Фрюманса — он шел мне навстречу. — Итак, — сказал он, — Мак-Аллан собирается в Тулон? Он уже уехал? — Да, дорогой Фрюманс, и вы знаете зачем. — Женни тревожится и не понимает, в чем дело. Что вы ей скажете? — Я все обдумала. Скажу, что в моих теперешних обстоятельствах не могу принять предложение Мак-Аллана; что та самая гордость, которая воспрещала мне выйти за Мариуса, воспрещает выйти и за адвоката; что как я не хотела обречь на нищету первого, так не хочу стать богатой с помощью второго, а в заключение добавлю: «Мак-Аллан начинает мне нравиться, поэтому я больше не желаю борьбы и уколов самолюбия, только отдаляющих меня от него. Я принимаю эти деньги, чтобы не нуждаться в его деньгах и с полным правом сказать себе, что люблю Мак-Аллана за него самого». — Да, никакого другого объяснения не придумаешь: Женни простит вам малодушие, только если оно — следствие зарождающейся любви. — Значит, все уладится, Фрюманс. Хотите, могу даже сказать, что безумно влюблена в Мак-Аллана. — Вы это говорите так, что мне становится грустно за него. — Я искренне люблю Мак-Аллана, но вовсе не собираюсь замуж — вот и все, что я говорю. — Но разве брак с ним не был бы решением всех наших проблем, наградой за все ваши жертвы? — А вы считаете, что я должна смотреть на Мак-Аллана как на якорь спасения, когда мой корабль идет ко дну? Нет, нет, Фрюманс, если мне суждено выйти замуж, то, надеюсь, совсем не так. Позавчера, когда я еще надеялась сохранить нынешнее свое положение, мне можно было строить планы на будущее. Но сегодня, когда никакого будущего у меня нет, позвольте мне хотя бы тешиться надеждой, что любовь к мужу никогда не свяжется в моей душе с мыслью о житейских удобствах. — Понимаю вас, Люсьена. После смерти бабушки вы проявили такую прямоту и силу характера, что они превзошли мои самые смелые ожидания. Да, вы заслуживаете того, чтобы Женни предпочла вас Фрюмансу, а Фрюманс — самому себе. Вы еще совсем девочка, но подаете мне такой пример, что я был бы полным ничтожеством, если бы посмел жаловаться на судьбу. — Фрюманс, — сказала я, — теперь и речи нет о том, чтобы вы жертвовали собой. Если вы оба не будете счастливы, то к чему тогда моя жертва? У Мак-Аллана не было времени сказать вам, что я — только держите это пока в тайне — решила поселиться в Помме у вашего дяди. Вы женитесь на Женни — это необходимо для всех троих, иначе нам не уберечься от грязных сплетен. Кроме того, вам надо заработать хоть немного денег, а Женни говорит, что в такой заброшенной деревушке, да и вообще в нашей пустынной округе, это невозможно. Вы с ней уедете, а я останусь — кто-то ведь должен ухаживать за аббатом Костелем. Кроме того… кроме того, после таких тяжких испытаний я должна немного побыть наедине с собой. Не знаю, может быть, Фрюманс и отверг бы мой план, но в эту минуту появилась Женни. Увидев мое оживленное лицо, на котором не было и следа растерянности, она решила, что я счастлива. — Мак-Аллан чем-то очень доволен, — сказала она. — Он ускакал на вашей лошади, сияя, как ясное солнце. А вы, Люсьена, тоже довольны? — Да, — ответила я, обнимая ее. — Я решила слепо следовать его советам, потому что он мне настоящий друг. Прошу тебя, Женни, не расспрашивай меня сегодня, я все равно не сумею тебе ответить. Мне сперва надо немного помечтать, потому что размышлять уже не время. Но сама видишь — я весела и ни о чем не жалею. Доверчивую Женни легко было ввести в заблуждение. Она так жаждала моего счастья, что сразу поверила в него и не стала задавать вопросы, оберегая то, что считала целомудренной сдержанностью первой любви. Я приносила в жертву все мое былое существование с искренним и восторженным пылом. И все же в мои чувства вкрались гнев и горечь, когда я заметила, что Женни говорит с Фрюмансом менее сдержанно, чем обычно, словно, проникшись надеждой на мой скорый брак с Мак-Алланом, она перестала наконец отталкивать мысль и о своем соединении с нашим общим другом. Сразу после обеда я оставила их наедине и пошла бродить по голым ущельям, которые тянутся вдоль длинного склона горы Фарон. В моем сердце шла жестокая борьба, оно словно разрывалось на части и восставало на самое себя. Как мне хотелось, чтобы Мак-Аллан был рядом со мной, чтобы он наконец прямо сказал мне о своей любви, чтобы убаюкал красноречивыми и нежными словами на эту волнующую, сладостную тему, опьянил пленительной лестью, внушил и мне чувство, которое опьяняет, покоряет, радует, возносит душу над всеми боязливыми сомнениями и суетной гордыней. «Любовь не вымысел, — говорила я себе, — она существует на земле. Меня любят — так не пора ли полюбить и мне? Люби я Мак-Аллана так же сильно, как, мне кажется, он любит меня, разве стала бы я вспоминать, что когда-то мечтала внушить, но так и не внушила это чувство другому человеку?» Как я вознегодовала на себя при этом воспоминании! Почему оно так занимает меня, так тревожит? Неужели я кокетка, ревнующая ко всем женщинам, даже к Женни? Почему я с такой легкостью готова принести ей в жертву всю мою жизнь, но завидую тому единственному, что мне не принадлежит, единственному, чем я не могу пожертвовать ради нее, — любовью Фрюманса? Я ужасалась, готова была рвать на себе волосы, расцарапать лицо, вскрыть сердце и уничтожить в нем этого неведомого гостя, этого жука-точильщика, которого не знала, как назвать: завистью, низостью, эгоизмом или страстью. «У меня испорченная натура, — повторяла я, вспоминая сомнения Мак-Аллана по поводу моего происхождения. — Да, натура, которую одолевают порочные наклонности, как того бандита или ту неведомую цыганку, — кто знает, может быть, она и была моей матерью? Или я просто низменна, тупа и, как Галатея, влюбляюсь во всех знакомых мужчин? Возможно, я была влюблена и в Мариуса. Что я о себе знаю? Как я была самонадеянна, осмеливаясь уважать себя! Теперь я вижу, что достойна лишь презрения. Но так ли это важно, если у меня хватит гордости разумно вести себя, скрыть боль и сделать все возможное, чтобы соединить наконец Женни с Фрюмансом? Словом, сделать обратное тому, на что толкают меня мои дурные инстинкты? Я буду бороться с ними и сумею их победить. Бог мне поможет — он видит, как я стараюсь сопротивляться пороку». Я долго бродила по ущельям — солнце уже начало склоняться к горизонту. Гору окутала синеватая, отливающая перламутром, уходящая в бесконечность дымка, море вдали было как расплавленное стекло. «Прекрасный край, хотя, быть может, и не здесь моя родина, — думала я. — Как я любила его, как восхищалась им, как впитывала в себя, с какой любовью исходила вдоль и поперек, не позволяя усталости осилить меня и охладить мой пыл. Но буду ли я по-прежнему любить его, когда придется жить в этих местах одной, когда по моему настоянию уедут дорогие мне люди и в сердце у меня будет пустота, когда исчезнут все надежды, все желания, а вместо них останется только иссушающий долг и ощущение безмерной заброшенности?» Я приходила все в большее волнение, охваченная яростной, неразумной и всевластной вспышкой чувств, свойственной полуденным натурам: впервые я оказалась в тисках этой роковой силы. «Понял бы меня Мак-Аллан, — спрашивала я себя, — если бы вдруг оказался рядом со мной и узнал обо всем, что во мне происходит?»LXI
И в эту минуту я увидела Мак-Аллана. Он вернулся из Тулона, отвел Зани в конюшню и, узнав от Женни, в какую сторону я пошла, отправился разыскивать меня, чтобы отчитаться в делах. Рассказ его был краток: господин Бартез с восторгом принял мое отречение. Разумеется, он не знал, что, согласившись сейчас обеспечить себе безбедное существование, я намеревалась сразу же от него отказаться. Господин Бартез просил меня завтра приехать к нему в контору, чтобы, согласно моему желанию, выправить все бумаги. — Но что случилось? — спросил Мак-Аллан. — У вас заплаканные глаза. Да вы и сейчас плачете! Вы жалеете о своем решении, Люсьена? Но игру еще можно переиграть: ваши близкие ни перед чем не отступят, и если вы хотите объявить войну, я на вашей стороне. Вы ведь знаете, теперь я ваш верный вассал до последнего вздоха. — Нет, я ни о чем не жалею и не менее тверда, чем мои близкие. Но я должна знать, вправду ли вы меня так любите, как говорите? Вы действительно хотите на мне жениться, Мак-Аллан? Не молчите, мне пора все знать. В первую минуту Мак-Аллан онемел, так он был потрясен, что я первая заговорила об этом: видимо, ему казалось, что юные француженки не столь прямолинейны и предпочитают окольные пути. Но вдруг он все понял. — Если вы спрашиваете, Люсьена, — с жаром воскликнул он, — значит, собираетесь меня отвергнуть! Да, понимаю! Вы горды и не желаете быть мне обязанной всем. Боитесь, что это увлечение с моей стороны, или просто я вам не нравлюсь… Но вы пока еще так мало меня знаете! Умоляю вас, не торопитесь с ответом. Испытайте меня, сравните со своей мечтой: разумеется, я не выдержу сравнения, но, быть может, помогу вам забыть прежний идеал, предложив новый, не столь высокий, но и не вовсе ничтожный. Что вам сказать? Я верю в себя, но не могу требовать, чтобы сразу поверили и вы. Нет, я не сержусь на вас, Люсьена, хотя мне очень больно. Но я готов и дальше терпеть эту боль. Ничего не говорите, я тоже больше ничего не скажу. Вернемся, я не хочу слышать, что вы меня не любите. Мы молча направились к дому. Я была мрачна, подавлена, злилась на Мак-Аллана за то, что он все время упрямо прижимал мою руку к груди, словно хотел насильно подчинить своей воле. — Послушайте, — сказала я наконец, отдергивая руку, — вы все-таки должны узнать правду. В моем нынешнем положении я могу выйти замуж за вас только по страстной любви, иначе мне придется краснеть за себя. — Знаю, — ответил он. — Значит, я должен внушить вам страстную любовь. Если мне это не удастся, моя будет и вина и расплата. Я предупрежден и вступаю в борьбу куда более серьезную, чем та, которую мне поручили вести с вами, — борьбу за себя, за собственное счастье и жизнь. Да, да, все это я знаю. Мне надо добиться, чтобы вы согласились принять от меня и состояние и имя — вы, предпочитающая отказаться от своего имени, чем принять состояние от врага. Я не враг, но этого мало: мне нужно стать вашим избранником, а я сорокалетний англичанин, к тому же адвокат, и все эти пороки вам не по вкусу, и, значит, я должен от них избавиться. Что говорить, задача нелегкая. Дайте же мне время и проявите хоть немного терпения. — Вы весьма остроумны, — сухо сказала я. — Кажется, даже слишком, а вы терпеть не можете остроумцев. В список моих уродств я забыл включить и это. Что еще я опустил? Раз уж мы заговорили о них, перечислите все подряд. — Самое отвратительное — это способность шутить, когда мне так плохо. Думаю, у Мак-Аллана чесались руки поколотить меня, но он воздержался, потому что, при моем тогдашнем расположении духа, я немедленно ответила бы тем же. Он дал понять, что и у него нелегко на душе, а шуткой он только прикрывает боль, но добавил, что продолжает надеяться. Его твердая вера в победу надо мной меня очень уязвила. Под изысканными фразами Мак-Аллана таилась или истинная и сознающая себя сила, или неисправимое фатовство. Но как мне было распознать, что именно? Я была недовольна собой, унижена собственной слабостью, ждала от него бурных излияний, надеялась, что чудодейственные свойства, которыми сама и наделила его, исцелят мое сердце. Притом я не только не помогала ему, но, напротив, обескураживала, возмущаясь, что в ответ на мои резкости он не проявляет гнева, который испугал бы меня, или отчаяния, которое меня бы растрогало. Люби я его, разве относилась бы к нему с такой нелепой требовательностью? Мне было бы довольно одного слова, чтобы понять его чувства. Все казалось бы мне подлинным и непререкаемым выражением любви, и, как в былые времена, когда Фрюманс старался обойти мои назойливые вопросы, я с легкостью убедила бы себя, что благоразумная сдержанность и есть признак великой страсти. Нет, я не любила Мак-Аллана! Потом я стала сердиться на него за то, что он так искусно разыгрывает комедию перед Женни. Чтобы как-то принять мое отречение, она во что бы то ни стало должна была поверить в мой скорый брак с Мак-Алланом, поэтому он изображал уверенность, которой, безусловно, не чувствовал. Однако и это я считала дерзостью. Назавтра произошло мое самозаклание. Я унизила себя перед людьми, которые два дня назад рукоплескали моей твердости, отреклась от своего слова, изъяла себя из общества порядочных людей, без колебаний подписав отвратительный договор в присутствии дрожащей Женни, угнетенного Фрюманса, меланхолически настроенного господина Бартеза, сбитого с толку Малаваля и потрясенного Мариуса. Договор тут же был отправлен в Лондон. Я испытывала горькую радость. — Consummatum est,[42] — сказала я, улыбаясь. — Теперь я просто мадемуазель Люсьена, а так как вполне возможно, что у меня постараются отнять и это имя, прошу вас, друзья, придумайте мне какое-нибудь новое, но не очень противное. — А разве господин Мариус де Валанжи уже не расположен предложить вам то имя, которое позволит вам ничего не менять? — ехидно спросил Мак-Аллан. — Уступаю дорогу вам, — сухо отрезал Мариус. Мак-Аллан сознательно спровоцировал эту дерзость: ему нужен был повод, чтобы объявить о своих намерениях. — Я был бы очень счастлив, — громко сказал он, глядя на господина Бартеза, — если бы мадемуазель Люсьена тоже так считала. Она не останется без имени и поддержки — пусть только скажет слово. — Вы это серьезно? — воскликнул господин Бартез, пожимая ему руки. — Воистину вы достойный человек! А что скажете вы, Люсьена, дорогая моя девочка? — Я обещала подумать, — ответила я. — Итак, — сквозь зубы процедил Мариус, белый от гнева, — наша помолвка больше не в счет? — Мариус, — сказала я, — вы были помолвлены с мадемуазель де Валанжи: она умерла, и теперь вы вдовец. — Она права, — мягко сказал господин Бартез. — Дорогой Мариус, настаивать на помолвке следовало тогда, когда мадемуазель де Валанжи еще существовала. — Я совершил бы непоправимую ошибку, вы сами это видите, — сказал Мариус. — Люсьена уже тогда надеялась на более выгодную партию. Она выбрала себе выигрышную роль, но я все же предпочитаю свою, хотя мне и дали отставку. — Что ж, с легким сердцем предоставляю тебе играть ее, — заметила я. — Ох, прошу прощения, я и забыла, что больше не прихожусь вам кузиной. Все пути к возврату для нас уже отрезаны, поэтому, во имя истины, должна сказать, что слишком еще мало знаю господина Мак-Аллана для иного ответа, чем слова благодарности за его рыцарское поведение. Попрощавшись со всеми за руку, я напомнила, что через неделю обязана уехать из Франции, поэтому, не мешкая, начну готовиться к отъезду. Вернувшись домой, мы с Женни собирались разойтись по спальням — было уже около девяти вечера, — когда в садовые ворота позвонили. Мишелю не пришло в голову спросить меня, приму ли я Мариуса: привыкнув относиться к нему как к члену семьи, он просто впустил его. И вот к нам в гостиную внезапно вошел Мариус.LXII
Подстрекаемый Малавалем, он решил пойти ва-банк и был очень взволнован. — Люсьена, — сказал он, — между нами произошло недоразумение, я попал из-за тебя в невозможное положение. — Из-за меня? Раз мы сегодня все еще говорим друг другу «ты» — объясни, в чем дело. — Правда ли, что ты выходишь за Мак-Аллана? Отвечай — да или нет? — Еще не знаю, но вполне возможно. Тебе-то что до этого? — Ты обижаешь меня, наносишь мне оскорбление. — Чем же? — Даешь всем понять, что я покинул тебя в беде. Женни вышла, понимая, что мой ответ заденет его самолюбие, особенно если при этом будет присутствовать она. — Отвечай же! — крикнул Мариус: теперь он уже не старался сдерживаться. — Видишь ли, мой дорогой, я на тебя не сержусь, все тебе простила, но мне ясней ясного, что ты оставил меня на произвол судьбы как раз в ту минуту, когда был моей единственной опорой. — Да ведь я слова не промолвил… — Верно, ты не промолвил ни слова, которое можно было бы повторить, процитировать тебе в укор, но твои глаза мне все сказали, Мариус. Я прочла в них, что, прими я за чистую монету преданность, которую приписал тебе аббат Костель, супруг заставил бы меня потом жестоко поплатиться за веру в мужество жениха. — Что за вздор, Люсьена! Ты щепетильна, требовательна, романтична — да, хуже всего, что ты романтична, в этом главное наше горе, и твое и мое. Ты не способна смотреть на вещи здраво, твоя фантазия все преувеличивает, все искажает. Тебе показалось, что у меня смущенный взгляд, что я на секунду заколебался, — и ты сразу порвала наши отношения. По какому праву? — Вот как? Ты отказываешь мне в праве на гордость и щепетильность? — Да, отказываю. Я не обманывал тебя, не клялся, что буду страстным любовником, я только обещал быть преданным и благопристойным мужем. Уж на что-что, а на героизм я не притязал, не повторял вслед за мисс Эйгер: «Ах, с милым рай и в шалаше!» Жизнь казалась нам нетрудной, и я сулил тебе только нетрудные добродетели. — На что ж ты жалуешься? В один прекрасный день я обнаружила, что жизнь трудна, и не захотела навязывать тебе трудные добродетели. — Я жалуюсь на оскорбительную поспешность. Добродетель трудна, согласен, но это не значит, что она невозможна для меня. К тому же это еще и вопрос чести, а с чего ты взяла, что я не способен исполнить свой долг? Только тебе следовало мягко напомнить мне о нем, а не рвать одним махом. — А тебе, Мариус, следовало хоть немного повременить с отказом от меня. Никогда в жизни я не пыталась внушить тебе, что у меня кроткий, терпеливый, смиренный нрав, не клялась быть сдержанной и бесстрастной. Я горда, ты-то ведь это знаешь. Чему же ты удивляешься? Мы оба были верны себе, а вывод из этого простой: нам никогда бы не ужиться друг с другом. — Ты принимаешь это с такой легкостью — еще бы, тебе на помощь пришли миллионы господина Мак-Аллана. — О миллионах господина Мак-Аллана мне ничего не известно, я справок не наводила. — В этом я не уверен. — Мариус, ты поставил меня в очень унизительное положение, потому что в некоторых обстоятельствах покинуть кого-то значит его опозорить. Меня оклеветали, кому об этом знать, как не тебе, поэтому, когда ты в присутствии наших друзей, в присутствии иностранца, который тогда был моим противником, с явным облегчением принял мой отказ, тем самым ты навлек на меня такие подозрения и дал пищу таким кривотолкам, что я до сих пор краснею, вспоминая об этом. Потом ты написал мне очень обидные слова, вот и сейчас говоришь их, доходишь до прямых оскорблений, ты — мягкий и учтивый, меж тем как я,такая вспыльчивая, не сказала тебе ни единого резкого слова, да и другим запрещала порицать тебя при мне. — Наверно, ты лучше меня, Люсьена, не спорю. Но разве ты не видишь, как я страдаю? — Отчего ты страдаешь, Мариус? — Оттого, что ты уходишь одна неведомо куда, неведомо с кем, а ведь ты единственная моя родственница и самый давний мой друг. Пусть ты променяла имя на обеспеченное будущее, все равно ты моя кузина, ты и была и будешь мадемуазель де Валанжи, и все происки твоих врагов не властны запретить людям так тебя и называть. Как же ты можешь думать, что твой отъезд не тревожит меня и не печалит? Скажи мне прямо, что ты выходишь замуж за Мак-Аллана, что он тебе нравится. Не скрытничай, не обходись со мной так, словно мы стали чужими друг другу. — Хорошо, скажу прямо: господин Мак-Аллан мне очень нравится, я постараюсь его полюбить хотя бы из благодарности. Теперь ты спокоен за меня? Мариус взял с камина фарфоровую статуэтку, ту, из-за сходства с которой прозвал меня Пагодой, секунду смотрел на нее, потом яростно швырнул на пол. Она вдребезги разбилась. — Так нельзя, — упрекнула я его. — Здесь ведь уже нет ничего моего. За каждую разбитую вещь мне придется платить. — На это у тебя хватит средств, — сказал он, берясь за шляпу. — Прощай, Люсьена, ты опозорила меня, я призову к ответу твоего будущего мужа. Я испугалась, стала его удерживать: он был вне себя, ослеп от бешенства, как это случается с людьми холодными, когда они внезапно теряют самообладание. Я поверила, что он вызовет Мак-Аллана на дуэль. Как знать, может быть, и вызвал бы. — Мариус, — сказала я, — способен ты сохранить тайну? Обещаешь молчать о том, что я тебе сейчас расскажу? Он обещал, и я решилась рассказать ему правду о том будущем, которое ожидало меня. — Меня поражает, — сказала я, — что ты, поверив, будто я способна продать свое имя, сохранил ко мне какое-то уважение даже после того, как я заключила эту сделку. Знай же — я сделала это, чтобы избежать отвратительных скандальных толков и опасностей, о которых не имею права говорить. — Я и так знаю, что это за опасности, — перебил он меня. — Ты скомпрометировала себя с Фрюмансом и теперь боишься, что на процессе все выплывет наружу. — Ну нет, — возмущенно воскликнула я, — мне нечего бояться того, чего не было! Но если ты поверил этому — а ты поверил, иначе не стал бы говорить — и все равно выступаешь соперником Мак-Аллана, значит, ты последний из негодяев! — В таком случае что же это за опасности? — Я собиралась рассказать тебе, но ты недостоин моего доверия, уходи, я ничего тебе не скажу. Впервые в жизни Мариус сложил оружие передо мной: он попросил у меня прощения за грубость, уверяя, что не вкладывал в свои слова дурного смысла. — Ты с детства пользовалась опасной свободой, — добавил он. — Ходили слухи, что Фрюманс влюблен в тебя, возможно, так оно и было. Ты не подозревала, не замечала этого, хотя я не раз предупреждал тебя о сплетнях. Разумеется, они мне были неприятны, но я ни на минуту не верил, что ты в чем-то виновата. Так что успокойся и расскажи мне свою тайну. — Ну хорошо; вот она, эта тайна: по той или иной причине, по мотивам, о которых никому, кроме меня, не дано судить, сделав ход, неважно какой, я не получу от леди Вудклиф ни единого гроша. У меня, Мариус, не осталось ничего, ровным счетом ничего, я от всего отказалась, и будет суд или нет, но сегодня, как и вчера, я могу предложить тебе только одно — нищету. Мариус был сражен: в третий раз ему представился случай совершить подвиг мужества, и в третий раз он оказался неспособен на это. Он сделал вид, будто о чем-то размышляет, потом вышел из положения, нанеся мне новое оскорбление. — Если ты покорно согласилась отказаться от имени и состояния, — сказал он, покусывая перчатку, — и даже не можешь объяснить мне, что толкнуло тебя на этот трусливый шаг после того, как накануне ты так хорохорилась, значит, на твоей совести тяжкий грех или же случилась беда и ты боишься разоблачения. Опровергать его я не стала, только открыла дверь и крикнула: — Убирайся вон! Он начал что-то лепетать, но я позвала Мишеля и велела посветить Мариусу, который якобы собирался уходить. Вернулась Женни, а я вышла из комнаты. С ней Мариус объясняться не захотел и ушел, разозленный и пристыженный, но в душе довольный, что ничем себя не связал. Он уже и не думал драться на дуэли с Мак-Алланом, дулся на господина де Малаваля, который заставил его так просчитаться, держался со всеми настороже и не обмолвился ни единым дурным словом обо мне. Узнала я об этом много времени спустя, потому что до самого моего отъезда он не появлялся в Бельомбре и я ни разу его не видела.LXIII
Я не стала рассказывать Женни о том, что произошло между мной и Мариусом. У меня появилась тайна от нее — она не должна была узнать, что я пожертвовала ради нее своей гордостью, потому что никогда не приняла бы такой жертвы. Поэтому я хранила молчание, удивившее ее и даже немного испугавшее. Приласкавшись к ней, чтобы она не очень огорчалась, я быстро ушла к себе, ссылаясь на усталость, так и не сказав ни слова о Мак-Аллане. Наутро Женни взялась за работу, считая, что должна оставить Бельомбр в идеальном порядке и чистоте. Все было прибрано и расставлено по местам, все было вымыто и перетерто. Ценные вещи она замкнула в шкафы, а ключи надела на кольцо, чтобы передать всю связку Мак-Аллану. Со своей стороны, я расплатилась с прислугой, привела в порядок бумаги, касавшиеся ведения хозяйства, оплатила счета. На это ушла арендная плата, которую я получала с фермеров. Я боялась, что новые владельцы рассчитают наших преданных слуг, и старалась сделать так, чтобы они не понесли ни малейшего ущерба. Я советовала им дождаться, пока господин Мак-Аллан не решит их судьбу, подчиняясь распоряжениям леди Вудклиф, хотя они, бедняги, видя, что я готовлюсь к отъезду и считая меня богачкой, просили взять их с собой. Они тоже стали складывать пожитки, и отговорить их от этого стоило немалого труда. Днем пришел Мак-Аллан и побеседовал с ними. Не знаю, что он им пообещал, но они как будто немного успокоились. На следующий день мы принялись укладывать мои чемоданы. Я брала с собой только свой весьма скромный гардероб, несколько книг и дешевые безделушки — подарки бабушки ко дню моего рождения. Зато у меня был огромный ларь с гербариями и тетрадями, уложенный так старательно, словно мне предстояло в каком-то мирном уголке вести легкую и досужую жизнь. Занималась я этим машинально, но очень тщательно, не столько для того, чтобы с радостью вернуться когда-нибудь к прежним занятиям, сколько чтобы ничего моего не осталось людям, захотевшим отнять у меня все. Вечером Женни спросила у меня, куда мы едем. Повинуясь мне, она поспешила все уложить и приготовить, и моим долгом перед ней было решить за нас обеих, в каком краю и месте мы обоснуемся. — Прежде всего я хочу, чтобы ты вышла замуж, — заявила я. — До этого никаких решений я принимать не стану. — Но вы ведь знаете, что аббат Костель все еще болен. Ему то лучше, то хуже, как же можно отнимать у него сына, — ответила она. — Кто об этом говорит! Но, быть может, нам в скором времени удастся вернуться. Обещай Фрюмансу, что выйдешь за него не позже чем через месяц. — Дайте такое же обещание Мак-Аллану. Она смотрела на меня так пристально, что я невольно потупилась. Мое живое романтическое воображение подсказывало мне, что я должна обмануть Женни во имя ее же блага, и я очень хотела, очень старалась ввести ее в заблуждение, но сила ее правдивости была такова, что как только она задавала мне прямой вопрос, ложь застревала у меня в горле. — Зачем ты гонишь меня замуж за человека, которого я знаю без году неделю? — сердито сказала я. — А вот ты знакома с Фрюмансом двенадцать лет, и твои колебания и жестоки и смешны. Скажу тебе одно — да ты сама все знаешь, странно только, что тебя это ничуть не трогает. Про меня говорят, что я люблю или любила Фрюманса. Я считаю, с этими сплетнями пора покончить. Мне нельзя жить с вами, пока вы не поженитесь. Женни украдкой смахнула слезу, и я вдруг поняла, что, стараясь убедить ее, первый раз в жизни была с ней резка. Мне захотелось броситься перед ней на колени, но я тут же решила, что должна проявить твердость, иначе ничего не добьюсь. Женни была так сильна и твердокаменна, что сломить ее волю можно было, лишь больно задев сердце. Я с жаром стала настаивать на своем и, желая изобразить нетерпение, невольно выдала затаенную горечь. Стремясь поставить между собой и Фрюмансом непреодолимую преграду, я воображала, что вот он женится — и в тот же день мое сердце обретет свободу и покой, а от тщетных волнений, так терзавших его, не останется и следа. — Не удивительно ли, — сказала я моей бедной, потрясенной Женни, — что с самого моего детства этот человек, якобы любимый мною и поэтому всегда вызывавший ревность Мариуса, человек, из-за которого меня чуть не убила Дениза и произошли все нынешние беды, — ведь это он послужил поводом для мерзкой клеветы и для унижений, которым я подвергаюсь, человек, любящий одну тебя и, несомненно, любимый тобою, потому что ты только и ждешь моей свадьбы, чтобы сказать ему «да», — не удивительно ли, что этот самый человек непрестанно находится рядом со мной, занимается моими делами и воспитанием, устраивает мое настоящее и будущее, а ты не желаешь освятить положение, само по себе безгрешное, но оскверненное злоязычием наших врагов. Все дело в том, Женни, что ты жаждешь жертвовать собой, но твой героизм чрезмерен и переходит в безрассудство. Тебе казалось, что я, быть может, ревную к Фрюмансу, что могу подумать, будто его ты любишь больше, чем меня, пренебрегаешь мной из-за него. Возможно, в детстве так оно и было. Но, вместо того чтобы вразумить меня — а уж тебе это было бы совсем нетрудно, — ты приучила меня считать, что в твоем сердце и разуме я всегда на первом месте. Так вот, хватит считать меня ребенком. Я уже не избалованная наследница поместья Бельомбр, я отщепенка, изгнанница, и не будь у меня, на мое счастье, большего запаса мужества, чем ты предполагаешь, я умерла бы от гнева и горя. Но, благодарение Богу, я не слабее тебя, и теперь ты не сможешь поставить на своем, тебе придется выполнить свой долг — да, да, долг! — по отношению ко всем: к Фрюмансу, несчастному по твоей милости, к Мак-Аллану, который, как ты же сама и сказала, будто бы ревнует меня к нему, и больше всего ко мне, потому что из-за твоей излишней преданности на мой счет строят унизительные предположения. — Унизительные предположения! — воскликнула Женни, выпрямляясь во весь рост. Глаза ее остекленели, казалось, она вот-вот лишится чувств. — Вы считаете, что, если бы полюбили Фрюманса, вас это унизило бы? Я так вас поняла? Я почувствовала, что тоже бледнею: мне показалось в эту минуту, что Женни давно уже все разгадала, и мое бурное возмущение не помешало ей увидеть отчаяние, разрывавшее мне сердце. — Уж не думаешь ли ты, что я его люблю? — закричала я, встряхивая ее похолодевшие руки. — И поэтому приносишь себя в жертву мне? Отвечай, если хочешь, чтобы я от тебя ничего не скрывала. — Бог весть что приходит вам в голову, — сказала она обычным своим ровным голосом и снова села. Лицо ее было грустно. — У вас страсть к преувеличению, а сейчас и я заразилась ею. Мы сами не понимаем, о чем говорим. Вы хотите, чтобы я вышла за Фрюманса, хорошо, выйду, но не раньше, чем выйдете замуж вы. Фрюманс вполне согласен со мной, он иначе и не мыслит. Я стала бы противна и ненавистна самой себе, если бы бросила вас до того, как у вас появится твердая опора в жизни. Давайте же вместе уедем. Вижу, вам действительно еще рано останавливать выбор на Мак-Аллане. Фрюманс не скомпрометирует ни вас, ни меня, когда мы обе будем далеко отсюда. Я так и не поколебала Женни и еще больше встревожилась, убедившись в ее проницательности.LXIV
Когда Мак-Аллан снова пришел к нам, я пожаловалась ему на упрямство Женни, но он не только не поддержал меня, а, напротив, разбранил и стал доказывать мою неправоту. — Я не перечил вам, когда вы предавались детским мечтам, но надо наконец приступить к исполнению условий договора, иначе он ничего не стоит: когда ваши противники обнаружат, что вы не придаете ему никакого значения, они немедленно дадут делу ход, а начавшись, оно неведомо когда кончится. Короче говоря, если вы остановитесь на полпути, все ваши старания сведутся к нулю. — Сколько же времени потребуется, чтобы освободиться от позорного клейма, которое я надеялась смыть на следующий же день? — Столько, сколько потребуется леди Вудклиф, чтобы вступить во владение вашими бывшими правами и больше вас не бояться. — А точнее? — Думаю, не больше полугода. Мы с Бартезом постараемся проделать все как можно быстрее. — И полгода я должна путешествовать на деньги леди Вудклиф? — Бартез будет брать их от вашего имени, но вы вольны не притрагиваться к ним. Они ваши, коль скоро вы уедете из Франции. А чтобы успокоить вашу гордость, условимся, что, вернувшись, вы возвратите вашей противнице не только капитал, но и проценты. — Это действительно необходимо, чтобы Женни навсегда оставили в покое? — Безусловно. — Жертва оказалась тяжелее, чем я думала. — Разумеется: полгода унижений вместо недели. Но Женни отдала двадцать лет жизни на служение вам и при этом рисковала всем. Вы еще далеко не расплатились с ней. — Простите мое слабодушие, Мак-Аллан, и спасибо вам за новые силы, которые вы все время вливаете в меня. Но как я смогу жить за границей, не тратя этих отвратительных английских денег леди Вудклиф? — Вы совсем без средств? — Когда все расходы на похороны бабушки будут оплачены и все ее благотворительные дела завершены, — а я не хочу, чтобы их завершали другие, — у меня останется франков двадцать. — Вот такой я и люблю вас, Люсьена, такой и вижу всегда. — Но такая я не могу быть вашей, Мак-Аллан, потому что не чувствую и, может быть, никогда не почувствую той страстной любви, которая заставляет онеметь гордость. — Знаю, знаю, зачем напоминать мне об этом? Но неужели эта гордость так непомерна, что вы откажетесь от скромного займа у отвратительного английского друга, который случайно оказался немного богаче других ваших друзей и даже не ощутит столь мизерного долга? — Этот долг был бы для меня не унизительным, а священным, но, чтобы он священным и остался, мне все же надо знать, что когда-нибудь я смогу расплатиться. А из каких денег? У Женни есть несколько тысяч франков, предназначенных якобы для меня, но к ним я и пальцем не притронусь: это основа ее будущей жизни с Фрюмансом. Что ж, по-вашему, я отправлюсь в увеселительное путешествие по Италии или Швейцарии на их сбережения? — Вы не отправитесь путешествовать ни по Италии, ни по Швейцарии, а поселитесь в скромном домике, который есть у меня на примете: это чистенькая лачуга в Соспелло — изумительном месте у подножия Альп, неподалеку от Ниццы. Оттуда до Франции рукой подать. Я решил расстаться с Джоном и подарил ему этот домик. Он будет там жить, но лучшие комнаты собирается сдавать. Вы снимете их, деньги это ничтожные. За очень скромное вознаграждение Джон будет доставлять вам продукты, готовить, исполнять все поручения, даже исполнять роль проводника, потому что Альпы он знает, как вы — свои провансальские бау. Итак, за жизнь без роскоши, но и без нужды вы будете платить двести франков в месяц и к тому же сможете располагать верным человеком: Джон — образец верности, мужества и доброты. — Прекрасно, но эти двести франков мне не по карману, если у меня не будет возможности вернуть их потом Женни или вам. Не могли бы вы найти мне какой-нибудь заработок, чтобы хватало на жизнь? — Ну, разумеется! Я обязуюсь найти для вас переводы. Вы образованны, прекрасно знаете языки — я поручусь за вас любому издателю, не сомневайтесь в этом. Уезжайте со спокойной душой. Даю вам слово чести — я позабочусь о том, чтобы в ближайшее время у вас было чем расплатиться с Джоном. — Благодарю вас, Мак-Аллан, но правда ли это? Не собираетесь ли вы поселить меня в вашем собственном доме и не будет ли плата за наем фиктивной? — Надо полагать, я не для того дарю своему лакею домик в благодарность за преданную службу, чтобы потом отобрать подарок. Итак, платя за наем комнат, вы будете чувствовать себя там полновластной хозяйкой, а зарабатывая эти деньги, никого не обремените собой. — Ну, а если вам захочется пожить там? — Если вы пожелаете, чтобы я навеки сгинул с ваших глаз, что ж, да будет ваша воля. Вы не верите моему слову? Я не смела не верить. Женни была вне себя от счастья, когда я рассказала ей о моих новых планах, уже не требуя, чтобы она рассталась со мной и немедленно обвенчалась с Фрюмансом. Она снова заявила, что или мы обвенчаемся в один и тот же день, или она вообще не выйдет замуж. Я обещала нанести прощальные визиты госпоже и господину Бартезу и другим моим знакомым в Тулоне и окрестностях, но боялась, что плохо сыграю свою роль — ведь мне надо было представляться глубоко опечаленной или по крайней мере взволнованной предстоящей бессрочной разлукой; поэтому, не желая лицемерить, я предпочла всем написать, что прощание огорчило бы их, а я на это не имею права, к тому ж тороплюсь с отъездом, не желая упускать компаньона по сухопутному путешествию в Италию, где думаю обосноваться. Этим спутником был Джон, нанявший в Тулоне экипаж, потому что мне хотелось ехать не спеша, с остановками. Я не имела представления, куда направит свои стопы Мак-Аллан, когда меня уже не будет в Провансе, а спрашивать его не решалась: он мог бы подумать, что мне не хочется отпускать его далеко от себя. Меж тем я и впрямь привыкла рассчитывать на его поддержку и облегченно вздохнула, когда он сам сообщил мне, что собирается еще некоторое время пожить во Франции. — Вполне вероятно, — добавил он, — что до вашего возвращения я так и не уеду из Прованса. Надеюсь, ваша покорность обезоружит леди Вудклиф, и, быть может, она соблаговолит вернуть мне доверие. В этом случае я подавлю желание наотрез отказать ей и приму все нужные меры, чтобы ввести ее во владение Бельомбром. Так или иначе, поручат ли это мне или кому-нибудь другому, но, пока нет нового распоряжения, я считаю себя обязанным жить здесь. Ну, а потом попутешествую по Провансу удовольствия и любознательности ради. Хочу посмотреть интересные и живописные места, о которых наслышан, — долину Пьерфе, обитель Монрие, пик Брюск, Сифур, да мало ли что еще. Таким образом, вы еще довольно долго сможете отдавать мне распоряжения и получать сведения, какие переводы могли бы заинтересовать издателей. Я взяла с Мак-Аллана слово, что назавтра же после моего отъезда он поселится в Бельомбре. Мне казалось, что расставание с моим осиротевшим домом будет не так горько, если он останется, хоть на короткое время, под присмотром друга. Настал день отъезда, и Мак-Аллан с Фрюмансом в пять утра были уже в Бельомбре, чтобы узнать мои прощальные пожелания и усадить нас в карету. Мне вдруг показалось нелепостью брать с собой огромный ларь с гербариями и книгами, и я решила передать его на хранение Фрюмансу. Меня уже ничто не трогало, но Мак-Аллан заявил, что стоит мне совершить хоть одну прогулку в Альпы — и я снова увлекусь ботаникой. С помощью Джона он своими холеными руками установил и привязал весь мой багаж, потом дал нашему спутнику подробнейший наказ, словно провожал и вверял попечению надежного капитана собственную дочь. Женни деловито укладывала провизию для нашей первой остановки и трапезы, которую мы собирались устроить где-нибудь в лесной тени. Она так искусно скрывала волнение, что казалась совершенно спокойной. Не желая уступать ей в самообладании, я безмятежно простилась с Фрюмансом, с Мишелем, со старушкой Жасинтой, с нашими друзьями-мельниками. Слезы подступили к глазам, только когда я пожимала руку Мак-Аллану: мне не было нужды подавать ему пример мужества, вот я и отдалась жалости к себе, той беспредельной, всепоглощающей жалости, которую читала в его глазах, полных сочувствия и нежности. Он не спросил, скоро ли мы увидимся, а я не считала себя вправе отблагодарить его за великодушную деликатность, пригласив навестить нас, как только у него выпадет свободное время. Удивленный моим молчанием, Фрюманс тревожно взглянул на меня. Больше всего на свете я боялась, что Женни посвятила его в свои подозрения насчет моих тайных чувств, поэтому через силу проговорила: — Напишите мне, Мак-Аллан, я вам отвечу. Это прозвучало довольно неопределенно, но он все же поблагодарил меня и попросил позволения сопровождать нас верхом до поворота на большую дорогу. Я согласилась, по-прежнему только для того, чтобы не настораживать Фрюманса. А он, бедняга Фрюманс, даже об этом не попросил Женни. Они едва обменялись несколькими словами, и рукопожатие их было молчаливо и коротко. Тем не менее мне показалось, что эта сдержанность, по крайней мере у Фрюманса, таит больше страсти и горя, чем внешнее внимание и торжественный эскорт Мак-Аллана. Кто мог бы угадать, тем более увидеть, что творилось в сердце у Женни? Она была точно кузнечный молот, который кует железо и безотказно, не зная устали, расплющивает его и придает желанную форму. Звенья ее тяжкой трудовой жизни то и дело рвались, но, так сказать, незрячим усилием воли она вновь и вновь их соединяла. Узкий живописный проселок, который прихотливо вился по дну лощины между горами Фарон и Кудон, привел нас к дороге на Ниццу, чуть выше городка Лавалет. Мак-Аллан спешился и подвел Зани к окошку кареты. — Хотите попрощаться с вашей лошадкой? — спросил он. Я поцеловала Зани в лоб. — Почему же вы не взяли его с собой, если так привязаны к нему? Зани — ваша собственность, подарен вам, и только вам, бабушкой, и никто не посмел бы отнять его у вас. Он ваш, как, скажем, шляпа или туфли. — Вы, вероятно, правы, но зачем мне теперь верховая лошадь? — Продайте мне Зани. — С радостью, но деньги обязательно отдайте леди Вудклиф: я не желаю быть хоть чем-то обязанной ее снисхождению. — Да будет так! Ну что ж, украсьте ему лоб этой веткой дикой оливы, которую держите в руках, — это будет значить, что он продан и принадлежит мне. — Подойдите сюда, господин Мак-Аллан, теперь я хочу проститься с вами! — воскликнула я. — Нет на свете человека лучше и добрее вас. Вот вам оливковая ветка, возложите ее на могилу бабушки. Когда будете писать мне, пришлите в письме листья с ее любимого дерева. Если, гуляя, забредете в Зеленую залу, вспомните обо мне, а вспомнив, скажите себе, что сделали мне столько хорошего, сколько было в ваших силах. Я протянула ему руку, и он, не снимая перчатки, сильно встряхнул ее, словно прощался с юношей, вместо того чтобы нежно поцеловать, как делал всегда, когда мы оставались наедине: в присутствии Джона Мак-Аллан вновь становился англичанином до мозга костей. Карета тронулась. Я забилась в угол и опустила вуаль, чтобы Женни не видела, как горько я плачу.LXV
Не могу сказать, о чем из утраченного я сильней всего горевала. Потеряно было все, и это страшное крушение, казалось, отгородило меня от прошлого, — я уже не чувствовала себя связанной с ним. То, что осталось от меня в Бельомбре и в долине Дарденны — мой дом, больше не принадлежащий мне, бабушка, принадлежащая теперь только Богу, Фрюманс, никогда меня не любивший, — все было лишь скорбными руинами, и в последнюю минуту мне пришлось расстаться с надеждами, навеки ушедшими, с воспоминаниями, уже погребенными… Но безмятежное и мирное прошлое, детские годы, безбрежная доверчивость, потом нескончаемые мечты, первые волнения чувств, влекущие тайны, отгадки, найденные и тут же утраченные, ощущение силы, ощущение слабости, приступы малодушия, целый мир, развеянный, как сон, — вот что жило во мне жизнью бесцельной, бесплодной, до конца себя исчерпавшей. Значит, все это было не нужно? Я потратила шестнадцать лет на то, чтобы развить свой разум, который сослужил бы мне службу в привычной для меня среде, но все, к чему я привыкла стремиться, уже не имело прямого и ясного отношения к новой жизни, открывающейся передо мной. Меня охватывал ужас при мысли о прошедшем и о будущем, на рубеже которых я стояла, одинокая и безоружная, и была минута, когда мне показалось, будто я уже мертва. Но разве не было рядом со мной Женни, той самой Женни, которая отныне должна была стать истинной целью моего существования, потому что только ради нее я принесла такую жертву? Глядя на нее, ничего не ведающую, уверенную, что она живет для меня одной и при этом ничем мне не обязана, я поражалась ее неколебимости в испытании, пригибавшем меня к земле. Женни всегда смотрела вперед, очень редко бросала взгляд в сторону и никогда не оглядывалась. Ее жизнь до того, как она меня удочерила, тоже была опустошена и разбита, но она собственными руками, не прося ничьей помощи, скрепила ее и вновь посвятила мне. И вот в третий раз она меняет страну, работу, среду, чтобы следовать за мной, служить мне, охранять меня, и держится при этом так, словно на свете лишь я и существую, а все остальное не стоит даже тени сожаления: несравненная преданность, которую мне ничем не окупить! Путешествие поразило новизной впечатлений только меня. Женни просто вернулась к привычной ей некогда жизни на колесах, точно и не отвыкала от нее. Джон чувствовал себя как рыба в воде, тем более что часто бывал в этих местах. Но я, впервые покинувшая свою гору, смотрела на другие горы — на Эстерельский и Мавританский хребты — с великим интересом и вниманием. Зато Ницца мне не понравилась — там было слишком много шума, роскоши, цивилизации, а главное — слишком много англичан. Одного дня в этом городе мне хватило за глаза, я торопилась посмотреть на пристанище в Соспелло, обещанное мне Мак-Алланом. Оно было прелестно — опрятный домик, просто обставленный, уединенный, удобный, полный прохлады и тишины. Вокруг — изумительный горный край, скалы, водопады и такая растительность, что мой бедный Прованс показался мне выжженным и ничтожным; мне даже стало немного совестно — как это я могла так восхищаться им? Первые дни прошли в каком-то опьянении. Я была не только естествоиспытательницей по воспитанию и склонностям, но и, сама того не подозревая, натурой художественной: меня равно восхищали и грандиозные картины природы, и очаровательные подробности каждого пейзажа. Несравненное удовольствие, испытанное мною при виде Альп, было для меня приятной неожиданностью и заставило задуматься над тем, существуют ли на свете обстоятельства, при которых я, наделенная такой восприимчивостью и способностью радоваться наедине с собой, буду чувствовать себя до конца несчастной? Как все юные и романтические души, я мечтала жить в хижине на нехоженых высотах и пасти стадо, деля одиночество только с книгой. Мне хотелось заразить своим восторгом и Женни. — Ты все знаешь, потому что все умеешь видеть, — говорила я ей, — как же ты до сих пор не объяснила мне, что в мире есть такие прекрасные края, что стоит только попасть туда — и уже чувствуешь себя счастливой, даже когда живешь в нужде, отрезанная от людей? — Если вы так думаете, значит, все хорошо, потому что, выходит, мы думаем одинаково. Для меня нет края красивее Бретани, но мне по душе все красивые места, даже совсем непохожие на мою родину. К тому же, когда вы восхищаетесь чем-нибудь, у меня сразу как будто глаза открываются. Мой отец отличался от других рыбаков: он был беден, необразован, но так любил море и рассказывал о нем такими словами, что, когда я в детстве слушала его, у меня дыхание спирало. Может, тогда я и научилась смотреть и слушать… Но все-таки не слишком заглядывайтесь на эти прекрасные горы, — сказала она однажды, когда мы набрели на такой чудесный уголок, что я отказалась идти домой обедать. — Кто знает, вдруг вам придется жить где-нибудь в долине, или в городе, или в горном краю, но так же непохожем на этот, как непохож на него ваш Прованс? — А почему бы мне не жить где захочется? — У вас будет муж, Люсьена, не забывайте об этом, и как бы вы ни были богаты, вам придется уважать его вкусы, занятия и обязанности. — Я стараюсь забыть о замужестве, а ты вечно напоминаешь о нем! Неужели так необходимо связывать себя? Объясни мне это наконец, тем более что сама ты вовсе не склонна к замужней жизни. — Для одинокой жизни нужно слишком много мужества, Люсьена. Мне его было не занимать стать, и все-таки, сами знаете… А когда от замужества у меня не осталось ничего, кроме ребенка, да и то чужого, я не променяла бы этого ребенка ни на какие удовольствия свободной и независимой жизни. Поверьте мне, женщины устроены так, что им обязательно надо любить кого-то больше, чем себя: мужа — если он того стоит, а уж детей — во всех случаях. — Женни, дорогая, ты ведь все знаешь по опыту, но я-то еще не понимаю таких вещей, я пока что сама ребенок, и мне нужно только одно — чтобы меня любили и баловали, как балуешь ты. — Сейчас вы в своем праве, но так будет не всегда. Придет час, и, уверяю вас, вам тоже захочется иметь какие-то обязанности в жизни, а на свете нет обязанностей слаще, чем эти. — Зачем ты внушаешь мне такие мысли, Женни? Ты, против обыкновения, поступаешь очень неосмотрительно. Рассказывать девушке о радостях материнства можно, лишь когда она уже встретила того, кто станет ее мужем, и полюбила его. — Я так говорю потому, что вижу, — в последнее время вы не думаете о будущем, а только играете с мыслями о нем. Я смотрю на вас, и у меня сердце не на месте, пора мне вам это сказать. Вы почти не поминаете господина Мак-Аллана, а ведь немалым пожертвовали ему, не захотели быть у него в долгу по людскому счету, чтобы стать его вечной должницей перед Богом. Почему вы ему не пишете? — А может, мне ему не о чем писать? — А может, это нехорошо с вашей стороны? Он вас любит. — Господи! — возмущенно воскликнула я. — Когда-нибудь, возможно, полюблю его и я, но дай мне время. Разве я знаю, что такое любовь? Ты ничего мне о ней не рассказывала. Вот объясни, почему ты мне никогда не говорила — какая она, любовь? — Потому что вам не так-то легко было выйти замуж. Люди сомневались в вашем праве на наследство — это ведь началось давно. К тому же вы и сами разборчивы: те, что попадались на вашем пути, не подошли бы вам. Я видела, что вам никто не нравится, поэтому и не хотела разжигать желание выйти замуж. — А теперь разжигаешь, я ведь все вижу! Ну, сознайся, ты и сама… — Ну, если вы считаете, что я думаю о себе, тогда не будем никогда говорить об этом, — рассердилась Женни. Я задобрила ее поцелуями и с радостью перевела разговор на другую тему. Не могла же я сказать ей, что бедна как церковная крыса, но принять миллионы Мак-Аллана мне еще труднее, чем я показываю.LXVI
Мы получили письма от Мак-Аллана и от Фрюманса — от одного немногословные и суховатые, с известиями о людях, которые нас интересовали, от другого — изящные и остроумные, повествующие с мельчайшими подробностями обо всем, порученном его заботе, пока я в отсутствии. В отсутствии! Мы с ним твердо решили, что в недалеком будущем я снова увижу родные места и друзей. Но я уже не очень стремилась в Бельомбр, так как все, что прежде составляло для меня привычную среду и родину, переходило в руки моих врагов. Раньше я хотела забыть Фрюманса, а теперь хотела забыть все напоминавшее о нем. Уже было ясно, что Мак-Аллан не смог изгладить из моей памяти его образ, вот я и считала, что мне нельзя возвращаться, и больше всего думала, как бы найти какие-нибудь средства к существованию. Я написала Мак-Аллану и напомнила о его обещании. Если он раздобудет мне работу, я терпеливо подожду возможности порвать соглашение и вернуться в Прованс, но жить там уже не собиралась, предпочитала любое другое место, может быть, Париж, пусть даже на короткий срок. Да и какая молодая девушка с артистическими наклонностями не жаждет хоть раз в жизни побывать в Париже? Я не скрыла от Мак-Аллана моей нерешительности и жажды нового, и он счел это хорошим знаком, одобрил меня и снова обещал работу, о которой я мечтала как о единственном способе сохранить независимость и самоуважение. Но для этого Мак-Аллану нужно было снестись с иностранными издателями; он им написал, однако ответа еще не получил. В другом письме он непринужденным тоном сообщал, что леди Вудклиф, сменив гнев на милость, поручила ему найти управителя поместьем и домом Бельомбр. Желая сделать мне приятное, он нанял Мишеля, отлично подходившего к этой должности. Тут же в доме вместе с ним будет жить и Жасинта. Поблагодарив Мак-Аллана за участие к моим старым друзьям, я попутно спросила, не собирается ли он вернуться в Англию, и добавила, чтобы угодить Женни и не проявить неблагодарности, что перед его отъездом надеюсь повидаться с ним.«Нет, — ответил он, — перед отъездом я не успею повидать вас, потому что уезжаю завтра. Мне в голову взбрела мысль, довольно здравая, несмотря на ее английское происхождение. Так как леди Вудклиф очень смягчилась и готова отказаться от предубеждения против вас, я подумал — почему бы мне не попытаться вразумить ее? Пусть себе настаивает на весьма проблематичном маркизате, чтобы прибавить титул к французскому имени своего старшего сына, но зачем ей отнимать у вас все права теперь, когда она откупила их у вас и вы не притязаете на то, чем дорожит она? Зачем изгонять вас из Франции и лишать имени де Валанжи, которому вы только оказываете честь? Надо выяснить ее мотивы, что я и постараюсь сделать. Если я добьюсь отмены хотя бы одного из запретов, это уже будет победа; спустя какое-то время за ней, быть может, последует и другая. Позвольте мне действовать, я ни на что не пойду, не получив заранее вашего согласия».
Почти сразу пришло еще одно письмо от Мак-Аллана, на этот раз помеченное Парижем.
«Я не еду в Лондон, — писал он. — Леди Вудклиф сейчас в Париже, и, значит, Париж — место, где я буду трудиться вам на пользу».
Первые шаги Мак-Аллан уже сделал. Он не счел нужным скрыть от своей клиентки, что я собираюсь нарушить унизительные условия договора, и, указав на то, что моя гордость и бескорыстие бросят на нее тень, положат, можно сказать, позорное пятно, горячо убеждал прекратить судебное преследование и взять назад заявление. Мой отказ от прав на наследство бабушки будет тем окончательнее и бесповоротнее, что никто уже не станет оспаривать мое гражданское состояние.
«Думай я, что на решение моей клиентки влияют денежные соображения, — добавлял Мак-Аллан, — я предложил бы ей от вашего имени вдвое уменьшить вам пенсион, ибо уверен, что вы не гонитесь за суммой и от всего откажетесь, только бы вновь обрести свое имя. Доверьтесь мне и позвольте вести ваши дела. Ни одно из моих предложений не было отвергнуто, на будущей неделе со мной вновь хотят встретиться и все обсудить. Как знать, возможно, даже выразят желание познакомиться с вами, а познакомившись, устыдятся недоброго предубеждения против вас! Как только я дам знать, немедленно выезжайте вместе с Женни в Париж».
Я ответила Мак-Аллану, что моя судьба в его руках и я буду покорно следовать его указаниям. Я не показала этого письма Женни, надеясь, что к тому времени, когда она узнает правду, все уже будет улажено, но рассказала ей о неустанных стараниях Мак-Аллана примирить меня с леди Вудклиф. — Если вам вернут имя, я не стану огорчаться из-за остального, — сказала Женни. — Думаешь, я так дорожу именем? — возразила я. — Нет, Женни, для меня это было таким тяжким ударом только из-за любви к бабушке и благоговейного уважения к ее воле. Но если бы я не знала этой прекрасной, удивительной женщины и так горячо ее не любила, клянусь, мне было бы безразлично, как зваться — Ивонной никакой или Люсьеной де Валанжи. — Вы и впрямь так думаете? — удивилась Женни. — А я-то считала — знатность у человека в крови и он держится за нее, как за жизнь. — Ты настоящая бретонка, Женни, у тебя все предрассудки твоих земляков. — Очень может быть. Мы знатность уважаем. Мой отец был вроде как шуан. У меня нет своего мнения об этом, но я не осмелилась бы вступить с вами в спор, будь у вас такие же взгляды, как у вашей бабушки. — Уверяю тебя, бабушка ничего не внушала мне на этот счет, и я не стала бы раздумывать о своей знатности, если бы с нею не носился Мариус. Но он так старался привить мне сословную гордость, что только вызвал отвращение к ней. А теперь, отрекшись от своего прежнего имени, я вдруг поняла: ничего с тех пор во мне не изменилось, я не чувствую на себе никакого позорного пятна. Я вот ни на столечко не стала хуже, все хорошее так при мне и осталось, и, если хочешь знать, в тот день, когда исполнится моя главная мечта и я смогу заняться настоящей полезной работой, — в этот день я начну наконец немного гордиться собой, потому что впервые почувствую, что и я в этом мире что-то значу. — И это правда, Люсьена? Не выдумка, чтобы утешить себя? Это была правда. С той минуты, как у меня из виду исчезли стены усадьбы, я почувствовала, что и в силах и вправе с полной искренностью и прямотой восставать против предрассудков и несправедливости. Женни сразу увидела, что я не притворяюсь. — Если это и впрямь так, — сказала она, — не связывайте себя, пока не полюбите кого-нибудь по-настоящему. — Понимаешь теперь, что для замужества я недостаточно люблю Мак-Аллана? — Я думала, вас соблазнит его знатность. Но если я ошибаюсь, бог с ними, с его деньгами! — Единственное, что меня соблазняет, — это его неоспоримая преданность. Я благодарна ему за нее, но только по-дружески. Если хочешь, чтобы я узнала любовь… — Конечно, хочу, Люсьена! Прислушайтесь к голосу сердца и сознайтесь, называло оно вам какое-нибудь другое имя — пусть тихо, по секрету, как бы помимо вас самой? Женни всегда шла к цели так прямо, что эта прямота порою граничила с грубостью. Я страшно смутилась и даже не сумела этого скрыть. — Что с вами? — продолжала она. — Вы сердитесь? Или огорчены? Или боитесь меня? Как мне это понять? Если у вас есть тайна — кому вы ее поведаете? Если горе — с кем разделите? Если желание, надобность в чем-то — кто не пожалеет трудов, чтобы исполнить малейшую вашу прихоть? Вы всё для Женни, а Женни, выходит, ничто для вас? Ну, скажите, Люсьена, кого вы любите? Не надо таиться от меня. Она с силой притянула меня к себе, но я вырвалась из ее объятий и убежала в спальню. Женни так пеклась обо мне, что ее заботы меня убивали. Теперь я знала — она видит меня насквозь, читает в моем сердце, проникает в него, как солнце в оконное стекло. Ей оставалось только назвать имя Фрюманса, и если бы я не убежала, она, конечно, произнесла бы его. Меня возмутила эта идолопоклонническая любовь. Женни не только уже много лет жертвовала собой ради меня, она собиралась принести в жертву и Фрюманса, который любил не меня, а ее! Ее бескорыстие превращалось в бесцеремонность, самоотверженность — в тиранию. Она не понимала, как унижает меня, и была уверена — едва Фрюманс узнает о моей любви к нему, он тут же падет к моим ногам. Мысль о том, что ее можно предпочесть мне, показалась бы ей нелепой. Она считала себя безобразной и старой, словно никогда не смотрелась в зеркало, а я в ее глазах была неким сверхъестественным созданием, которому стоит пожелать — и оно затмит все светила вокруг, изменит законы вселенной, покорит все сердца. Женни словно нарочно старалась сделать меня тщеславной, эгоистичной, неблагодарной и глупой. На этот раз я по-настоящему рассердилась на нее, потому что с нее сталось бы в один прекрасный день написать Фрюмансу: «Люсьена не придает никакого значения знатности, так что приезжайте. У нее уже нет аристократического имени, у вас его никогда не было, она вас любит — я догадалась об этом, следила за ней, выжидала. Я не в счет, женитесь на ней и возблагодарите Бога!»
LXVII
В эту минуту мне принесли очередное письмо от Галатеи, еще больше омрачившее меня. Несмотря на мое упорное молчание, это глупое существо, исполненное, несомненно, добрых намерений, считало долгом помогать мне советами и вестями.«Все ужасно удивлены, — писала она, — что ты согласилась отказаться от имени. Я и сама знаю, что деньги не безделка, но все-таки и не самое главное, и думала — ты дорожишь своим происхождением. Это произвело у нас дурное впечатление. Говорят, тебя запугали из-за твоей дружбы с господином Фрюмансом и из-за переписки, которую господин Мак-Аллан нашел в Помме и переправил твоей мачехе. Этому верят еще и потому, что он не поехал за тобой в Ниццу, и все считают, что вы поссорились. И еще ходят слухи, будто он собирался жениться на твоей мачехе, но из-за тебя рассорился с ней. Ну, в общем, очень неприятно, что тебя все время поносят то одни, то другие, и ты не права, что не пишешь мне, как тебя защищать».
В довершение всех огорчений меня и ослица лягнула! На секунду я так разозлилась на Фрюманса, точно он и на самом деле был виноват во всех смехотворных и прискорбных неприятностях, которые я из-за него терпела. Слухи о возможном браке Мак-Аллана с леди Вудклиф меня нисколько не тронули, и я рассказала о них Женни, только чтобы она подивилась богатству фантазии дам с мельницы. Тем не менее, не придав этой поразительной сплетне никакого значения, я решила не писать Мак-Аллану, пока не получу от него известия о том, что в конце концов собирается предпринять мачеха. Он писал мне еженедельно в течение уже двух месяцев, но ничего определенного не сообщал, так же как и не упоминал о договоре с издателем хоть на какую-то работу. Вместо этого Мак-Аллан советовал мне перевести французский роман по своему выбору, уверяя, что для готового перевода обязательно найдет издателя, но — какой роман? Он не назвал ни одной книги, еще не переведенной и могущей вызвать интерес в Англии.
«Запаситесь терпением, — добавлял он. — Надеюсь, мои старания и упорство приведут к тому, что пенсион, который выплачивает вам леди Вудклиф, из унизительного условия превратится в плату за ваше имущество».
Неопределенность положения всегда сопровождается нетерпением, не будь этого, я была бы счастлива в Соспелло. Жизнь устроилась как нельзя приятнее, погода стояла отличная, и я совершала долгие прогулки, не уставая восхищаться красотой этого края. Однажды утром крестьянин из окрестностей Бельомбра привел нам Зани. Покидая поместье, Мак-Аллан отослал его на сохранение к Джону с просьбой, чтобы я время от времени каталась верхом — иначе лошадьзастоится. Могла ли я не оценить утонченность внимания этого чудесного человека? У Джона был свой верховой конь, он раздобыл лошадь и для Женни, отличной наездницы — она все на свете делала ловко и безбоязненно. Джон, воплощение услужливости, знал все живописные уголки в округе — в прежние времена он приезжал сюда со своим хозяином. Скромный, почтительный, внимательный, воздержанный, внушительный по виду и манерам, он был при мне скорее джентльменом-телохранителем, чем управляющим или лакеем. Я видела, что он не остался равнодушным к достоинствам Женни, но она словно и не замечала этого. Мы решительно ни в чем не нуждались. Еда у нас была самая скромная, мы обе не любили мяса и, как истые провансалки, готовы были питаться одними оливками, гранатами, апельсинами и миндалем, тем не менее Джон умудрялся готовить на редкость вкусные кушанья, и стоило все это так дешево, что мы с Женни только диву давались. Он выписывал из Ниццы все книги, которые мне хотелось прочесть, и ради малейшей моей прихоти готов был перевернуть вверх дном весь край. Для него не существовало слова «трудно», и думаю, ему ни разу не случалось вступать в спор с людьми, о благополучии и спокойствии которых он взялся заботиться. Уже одно его присутствие внушало уважение к нам. Всегда одетый по моде, такой же опрятный и хорошо выбритый, как его хозяин, неизменно в свежих перчатках, он с самого начала попросил нашего позволения ехать рядом с нами во время прогулок на правах не столько слуги, сколько спутника, чей долг — оберегать своих дам от неприятных встреч. По его указанию мы избегали дорог, излюбленных праздношатающимися. Не знаю, что он говорил зевакам, подходившим порою к нашему домику или пытавшимся заглянуть через ограду, но никто никогда нам не докучал и не досаждал. Таким образом, мне не пришлось заботиться о перемене имени: о нем не спрашивали, а если и спрашивали, то оставались ни с чем. На расспросы обо мне и Женни Джон отвечал — «это дамы», а если кто-нибудь решался любопытствовать и дальше, он вообще замолкал. Его холодное, учтивое, бесстрастное лицо внушало безотчетное уважение. Не уверена, стал бы он отвечать даже мне, явись у меня соблазн узнать что-либо о Мак-Аллане. Он произносил это имя так, что оно звучало как некая мистическая, священная поэма, но при этом не позволял себе ни единого лестного эпитета, точно не было на человеческом языке слов, достойных выразить доблести и совершенства его хозяина. Короче говоря, Джон создал нам такую удобную и приятную жизнь, что я с удовольствием вернулась к прежним занятиям. Я радовалась тому, что если еще и не забыта целым светом, то, во всяком случае, укрыта от чужих глаз и недосягаема для наветов. Может быть, моя необычная история и наделала шуму, но я об этом не знала и смело могла думать, что за пределами капфортовской кухни никого не интересую. Так как письма ко мне шли на имя Джона, я показала ему почерк Галатеи и попросила сжигать, не распечатывая, послания с мельницы. По своему обыкновению, он не стал мне возражать, но с этого дня откладывал их, не вскрывая, чтобы я могла прочесть всю кипу, приди мне в голову такая фантазия. Сардинская полиция, разумеется, знала, кто мы такие, но так как Джон взял на себя все переговоры с ней, нас с Женни никакими допросами не тревожили. Эта уединенная жизнь, где занятия чередовались с приятно заполненным досугом и чудесными прогулками, пошла мне на пользу. Я забыла Фрюманса, вернее — он перестал быть источником болезненных мечтаний и выдуманных угрызений. Как только Женни благоразумно прекратила разговоры о Мак-Аллане и ничто вокруг уже не казалось мне настойчивым напоминанием, что пора принять решение за или против него, мои мысли сами собой все чаще стали обращаться к нему. Теперь я думала о нем спокойно, и более всего этому способствовала редкостная сдержанность его писем. Его словесные излияния в любви казались мне иной раз чересчур самонадеянными, но в письмах он в совершенстве владел своими порывами: никто не вычитал бы в этих безукоризненно учтивых и ласковых посланиях что-либо, кроме дружеской приязни, полной нежности и уважения. Со дня нашей ссоры Женни все время немного грустила, и мои старания развлечь ее ни к чему не приводили. Я раскаивалась, что огорчила ее, но ни за что на свете не вернулась бы к разговору, вызвавшему размолвку. Однажды она повергла меня в глубочайшее удивление. — Я должна поведать вам тайну, — сказала она. — Джон сделал мне предложение. Не возмущайтесь — ничего обидного в этом нет. Он мне ровня, как я, из простолюдинов, и корни у нас одинаковые: его отец тоже рыбак, только с острова Мэн. Как я, он пошел в услужение не для денег, а из привязанности. Господин Мак-Аллан взял его к себе, когда он был совсем еще юнцом, и с тех пор он не менял хозяина. Они так же любят друг друга, как мы с вами. К тому же теперь он стал независим, у него свой дом. Конечно, он в любую минуту побежит хоть на край света за своим господином, но и в любую минуту тот отпустит его и поможет зажить в собственном углу: существование достойное и приятное. — Хорошо, но к чему ты это ведешь? — К тому, что если вы выйдете за Мак-Аллана… — Это что, косвенный вопрос? Нет, Женни, я еще не могу ответить на него. — Вы перестали мне доверять? — Да, с тех пор, как перестала внушать доверие тебе. Но послушай, не собираешься же ты замуж за Джона? — Почему бы и нет? — Ты просто издеваешься надо мной! Ведь все-таки на свете существует Фрюманс! — Он отказался от меня. — Женни, ты лжешь! — Хотите убедиться? Вот читайте. Я прочла следующее:
«Да, Женни, вы правы, я еще долго, может быть, никогда не смогу быть вам поддержкой. Судьба, которую я должен возблагодарить, вернула силы аббату, и он снова заключил контракт с жизнью. Я согласен с вами, что моя унылая деревушка была бы могилой для вас и Люсьены, и настаивать теперь на нашем совместном будущем граничило бы с преступлением. Значит, я должен или желать смерти своему благодетелю, о чем и помыслить невозможно, или отказаться от недоступного счастья. Так говорите вы, и я не смею спорить с вами — я ведь и считал, и считаю вас самой разумной и нравственной женщиной на свете. И я не жалею, что так долго питал эту надежду: ей я обязан чистотой своей юности, развитием умственных сил, склонностью к возвышенным мыслям. Мечта улетела, но оставила мне в наследство драгоценное сокровище, поэтому я не только не кляну ее за разочарование, но, напротив, — благословляю за щедрость. Как я признателен вам за то, что вы не отняли ее у меня слишком рано и слишком быстро! Теперь я зрелый человек, зрелый, пожалуй, даже умом, привыкший находить счастье в исполнении долга, не тяготящийся одиночеством, нечувствительный к лишениям, спокойный, как разделяющие нас недвижные горы. Спасибо, Женни, благородная женщина, всем этим я обязан вам. Позвольте мне сказать вам еще одно: какой бы жребий вы ни избрали, будете вы жить совместно с Люсьеной или отдельно от нее, я навсегда останусь вашим деятельным и верным слугой, если буду свободен, верным и неколебимым другом, если буду связан».
— Женни, — воскликнула я, — тебя обманула душевная сила Фрюманса! Он невыносимо страдает, ты убиваешь его! Откуда у тебя эта прихоть? Неужели ты дала ему понять, что собираешься замуж за другого? Нет, нет, это уму непостижимо! Как ты можешь предпочесть человека, которого знаешь всего несколько месяцев, тому, кто любит тебя уже столько лет? — Кто ж говорит о предпочтении или браке, — сказала Женни. — Просто я решила сохранить независимость — мне она по вкусу, да я и заслужила ее. Фрюмансу я ничего не давала понять, Джону ничего не обещала, но никто не запретит мне думать, что, будь я на пятнадцать лет моложе, разумнее было бы выбрать Джона, чем Фрюманса. Фрюманс слишком образован для меня. — Неправда! Ты понимаешь все на свете! — Понимать-то понимаю, но этого мало. Нам вдвоем не пробиться в жизни. И потом, он чересчур молод: ему может захотеться любви, а я на это уже неспособна и сама себе буду казаться смешной. Или еще хуже — начну его ревновать. Лучше уж смерть, чем это! Нет, нет, Фрюманс мне не пара, я была бы просто в отчаянии, если бы пришлось выйти за него замуж. Но сами видите, он не строит на этом своего счастья. И вы нехорошо сказали, что его душевная сила обманула меня. Если бы здравый ум Фрюманса был только кривлянием, а добродетель — игрой, он заслуживал бы одного презрения и Мариус не ошибался бы, называя его педантом.
LXVIII
Я не нашлась, что ответить на ее обдуманные доводы, и, выслушав горячие похвалы Джону, решила, что, как ни благоразумна и уравновешенна моя дорогая Женни, все же она поддалась чувству более властному, чем многолетняя привязанность к Фрюмансу. Джон был уже немолод, красотой, судя по всему, никогда не блистал, но он отличался своеобразием характера, некоторой утонченностью, благовоспитанностью и, пожалуй, остроумием. Он многое повидал, и Мак-Аллан дал себе труд многое ему объяснить. В чем-то Джон был как бы отражением своего хозяина, ну, а если хозяин казался привлекательным мне, почему достойный слуга не мог показаться привлекательным Женни? Но едва я осталась одна и задумалась над этим странным признанием, как мне стало ясно, что Женни придумала искусную маскировку своему самопожертвованию. Решив, что я люблю Фрюманса, она три месяца подряд каждым письмом незаметно старалась отдалить его от себя. Это было первое действие задуманной ею пьесы. Второе она только что разыграла передо мной: внушила мне, что способна полюбить — если уже не полюбила — другого. В третьем действии Женни, несомненно, постарается влюбить Фрюманса в меня. Поразительная женщина! Привязанность ко мне свела ее с ума, — что, кроме безумия и какой-то опьяняющей радости самопожертвования, могло научить ее дипломатии? На этот раз я не рассердилась, напротив, растрогалась и, положив голову на руки, залилась слезами. Помню, был теплый, мглистый вечер, недавно прошел дождь, по низкому небу, подернутому светло-серой завесой, бежали темно-серые расплывчатые, бесформенные облака. Мир безмолвствовал, сопричастный смутной тайне этого вечера, которому не предшествовали сумерки. Происходило это двадцать четвертого июня, но, не будь на улице так тепло, погода скорее напоминала бы конец октября. Молчание нарушали только вздувшиеся горные потоки. Городок уже погрузился в глубокий сон, еле ощутимые порывы ветра то и дело доносили свежий аромат цветов, запахи мха и влажной листвы. Мои нервы, так давно натянутые, вдруг совсем успокоились. Всем существом я ощущала воздействие новой для меня природы: это уже не знойный, тревожный Прованс, это зеленая страна, где все способствует душевной углубленности и телесному умиротворению. Я чувствовала себя здоровой, разумной, отдохнувшей, прозревшей. Обезоруженная и умиленная великодушием Женни, я внезапно почувствовала, что вовсе не хочу им воспользоваться. Я отнюдь не была маленькой девочкой, не ведающей, каковы последствия любви и цели брака, и слишком много занималась историей, слишком прилежно изучала природу, чтобы не догадываться о тайнах, на которые воображение набрасывает подчас такие обманчивые покровы. Думая о том, каким был бы мой союз с человеком не менее самоуглубленным и рассудочным, чем я сама, — а Фрюманс как раз и являл собой образец такого человека, — я невольно улыбнулась. Могло ли божественное безумие охватить двух людей, столько раз совместно подвергавших анализу жизнь, человеческое сердце, философию, нравственность? Даже предположив, что Фрюманс сможет забыть Женни или что он никогда ее не любил, все равно невозможно представить себе, что он загорится ко мне тем безотчетным чувством, которое я так хотела и внушить и испытать. Он слишком хорошо меня знал, слишком много и долго учил, вышучивал, вразумлял, критиковал и наставлял, чтобы из ученицы я вдруг превратилась для него в обожаемую женщину. А я жаждала, — и признавалась себе, что жажду, — хоть на один день стать для кого-то обожаемой женщиной. И верила, что имею право на это, потому что на обожание смогла бы ответить обожанием. Любовь открыла мне наконец свой прекрасный, смеющийся лик, и великолепная аскетичность Фрюманса, готового смириться с потерей своей избранницы, утверждающего, что нет радости слаще, чем сознание исполненного долга, привела меня в такой ужас, что я тут же побежала к Женни и стала умолять одуматься. — Откажись от этой затеи, противной мне, безумной, бесчеловечной, — твердила я. — Я не люблю Фрюманса — то была не любовь, а болезнь воображения. Да, ты угадала мое смятение, но неверно поняла, неверно истолковала его. Мое сердце томилось желанием любить, а он был единственным достойным человеком из всех, кого я знала, только поэтому его образ и преследовал меня. Но поверь, Женни, он скорее внушал мне страх, чем восторг, и теперь, когда я лучше знаю свое сердце, мысль об этой любви не меньше ужасает меня, чем мысль о кровосмешении. Я люблю Фрюманса как отца, но мои чувства оледенели бы, стань он моим возлюбленным. Позволь мне все тебе высказать! Во мне произошел перелом, я стала взрослой, не пугайся же, что я говорю с тобой как женщина с женщиной. Твоя дочь уже не ребенок, у нее нет тайн от тебя, потому что нет тайн и от самой себя. Теперь я понимаю все, что ты боялась мне объяснить, знаю себя и владею собой — я ведь уже не только живу, но и предчувствую, ради чего живут. Ты была права, Женни: без любви нет жизни, вот я и хочу полюбить. Но отдать лишь часть души я неспособна, мне надо боготворить, а разве могу я боготворить Фрюманса? Когда уважаешь человека, его неизбежно побаиваешься. Он был бы для меня как прекрасная книга на чужом языке: силишься правильно перевести ее, но начинаешь клевать носом, потому что ты молода, и солнце манит в поле, а тут сидишь взаперти с непосильной для тебя задачей. Вы с Фрюмансом не любители смеяться, вы преодолели горы забот, пропасти страданий, вам будет хорошо вместе, как богам — победителям чудовищ. Я не шучу, Женни: для меня нет никого, кто был бы выше вас двоих, но на свете есть еще что-то, устрашающе огромное и влекущее, и этого ни ты, ни он не сможете мне дать. Не надо мне твоего замечательного Фрюманса — для меня он чересчур замечателен! Я хочу сердца более молодого, даже если оно бьется в груди у сорокалетнего мужчины. Пусть приходит Мак-Аллан, пусть снова повторит мне, что я красива и совершенна, что он рад жениться на мне, разоренной, изгнанной, безымянной, что до меня никогда не любил, что я первая страсть в его жизни. Я отлично знаю, что это вздор и неправда, но пусть он говорит чистосердечно, сам себе веря, пусть клянется всем, что для него свято, — и я поверю ему, буду счастлива поверить! Это и есть любовь, Женни, другой для меня не существует. На твой взгляд — заблуждение, на взгляд Фрюманса — безумие. Но с меня довольно рассуждений, здравых мыслей, анализа, логических категорий, глубокой философии; хватит, я устала от них! Я хочу узнать это пленительное заблуждение, погрузиться с головой в беспредельное безумие. Позволь мне, Женни, любить на свой лад и никогда больше не говори о Фрюмансе: он или свел бы меня в могилу, или наскучил бы, я возненавидела бы его или, хуже того, стала бы над ним смеяться. В нем я обрела лучшего из друзей, не отнимай же его у меня, заменив нелюбимым мужем!LXIX
Женни слушала меня с не меньшим удивлением, чем час назад я слушала ее. Она по-матерински сжала мне голову ладонями, пристально поглядела в глаза, потом, словно врач, пощупала пульс. — Смотри сколько хочешь, Женни, — сказала я, — ты увидишь только одно — что я говорю тебе чистую правду. А вот мне и смотреть не пришлось, я и без того почти сразу поняла, что ты нечестна. Дорогая моя, вы само совершенство, но, признайтесь, вы мне солгали! Вы любите только Фрюманса, и будь иначе, я уже не могла бы вас так уважать. И случись Фрюмансу забыть вас ради меня, он тоже пал бы в моих глазах. Не пускайтесь же на хитрости, они все равно вам не удаются, а если бы удались, вы сделали бы несчастными всех троих! Лицо Женни вдруг осветилось растроганной, простодушной улыбкой. С минуту она молчала, потом, покачав головой, проговорила: — Вы хотите расстроить мои планы, а ведь они разумны, только зря я скрывала их от вас. Не спешите, подумайте хорошенько: если вы не любите Мак-Аллана, значит, любите Фрюманса или — уж не сердитесь — обоих сразу. Вы слишком долго оставались ребенком и сейчас еще не такая взрослая, как думаете… Да и воспитали вас как мужчину и только напутали, а мужчиной все равно не сделали… У вас не воображение, а бог весть что, — то вы будто бы настоящий мужчина, то женщина, то судите о сильном поле так, словно сами с бородой, то подавай вам кого-то, кто подчинит вас себе, а это значит, что никакой вы не мужчина и созданы только для того, чтобы любить и жертвовать собой… Но кого любить? Фрюманс слишком серьезен для вас, согласна, но достаточно ли серьезен Мак-Аллан? Если хотите знать правду — а знать ее, по-моему, вам надо, — он уже много любил в своей жизни. Джон доверяет мне, как, думаю, не доверял никогда и никому на свете, и я, хотя и ненавижу выспрашивать и выпытывать, тут не утерпела и кое-что вытянула из него. Ради вас я пойду на то, чего никогда бы не сделала ради себя. — Что же ты узнала? — Что Мак-Аллан слывет волокитой, но это не так: он просто горячая голова и, когда любит женщину, готов ради нее на все, ни перед чем не остановится, бросится хоть в огонь, хоть в воду, сразится с целым войском. И при этом настойчив и терпелив, а значит, особенно опасен для тех женщин, которые не вправе его слушать, если не хотят отступить от долга. — Как хорошо, Женни! Если он такой, я уже его люблю! — Да, вот вы и размечтались о страстной любви и, вижу, ничего другого знать не желаете. Но ведь нужно и еще кое-что: нужно, чтобы оба хранили верность. — А Мак-Аллан неспособен к верности? — Этого не скажу. У него были долгие увлечения, все они кончались — видите сами, он до сих пор не женат. — Изменял он или изменяли ему? — И то бывало, и другое. Вот и сейчас есть женщина, которая мучается от ревности. Выходит, у него была серьезная связь, когда он влюбился в вас. — А меня он любит, это правда? — Любит, и очень. Джон изучил все симптомы и говорит — никогда еще его хозяин не влюблялся так сильно. — Почему же тогда он медлит с приездом? Я ведь позволила ему навестить меня. — А вот этого Джон то ли не знает, то ли не хочет сказать. Но я, пожалуй, понимаю, в чем причина. — В чем? — Мак-Аллан одно время ревновал вас. Теперь этого нет, то есть нет ничего обидного для вас. Но все равно он еще боится, что неугоден вам, и, готова поклясться, Джон должен здесь наблюдать за вами, давать отчет о ваших прогулках, занятиях, расположении духа, о всех мелочах вашей жизни. — Уж не ведет ли Джон дневник? — Похоже на то. Он столько пишет по вечерам, что или роман сочиняет, или… — Но это настоящая слежка! Она оскорбительна для меня! — Напрасно вы так думаете. У Мак-Аллана серьезные намерения — он хочет жениться на вас. В вашем поведении он не сомневается, но в чувствах не уверен… — И дает мне время разобраться в них? Что ж, он прав. Его сдержанность казалась мне странной, но теперь я ее понимаю. И все-таки, Женни, над поведением Мак-Аллана нельзя не задуматься. Почему ты говоришь, что, может быть, он недостаточно серьезен? — Потому что на серьезной любви, которая длится год-другой, ничего не построишь. А чтобы любить всю жизнь, нужна большая твердость. Я теперь немного разобралась в Мак-Аллане и думаю — он способен ждать вас хоть несколько лет, если понадобится, и подарит вам чудесный медовый месяц. Ну, а потом что? Если мужчина так легко загорается и так быстро меняет предмет любви… О чем вы задумались? — О медовом месяце, Женни. Какое красивое слово! — Очень пошлое, дитя мое. — Все равно чудесное! Оно означает те часы в жизни, когда два человека верят, что созданы друг для друга, и каждый предпочитает другого самому себе. Так вот, дорогая, я хочу насладиться этой медовой иллюзией, хочу идти, озаренная сиянием этого обманчивого светила, и никогда не променяю его на солнечные лучи рассудка. Ты говоришь — у меня слишком много мужской проницательности. Может быть, но сейчас я мечтаю превратиться в обыкновенную женщину и, не мудрствуя, верить в счастье. Сегодня я еще хорошо понимаю, что этот мед нам дано вкушать, быть может, не больше месяца, но, испробовав его, я сойду с ума и поверю, что он неиссякаем. Более того — разум твердит мне, что счастье нужно мерить не временем, а полнотой чувств. Мгновение, по словам поэтов, может вместить в себя целую вечность радости или муки. Это говорит мне нынче и мое чутье, но никогда не говорил Фрюманс, он таких вещей не знает. Терпеливый до бесчувствия, он сам не жил и в других не может вдохнуть жизнь. А вот Мак-Аллан узнал это раньше меня, мне есть чему у него поучиться. Мир праху его былых увлечений! Прощение его будущим изменам! За один день настоящей жизни я буду признательна ему больше, чем за долгие годы ученых занятий с Фрюмансом! — Если так, — вздохнула Женни, — будь по-вашему. Но позвольте мне записать в памяти ваши нынешние речи и повторить их в тот день, когда вас станет терзать горе, подозрение или гнев. — Бесполезно, Женни. Когда такой день придет, воспоминания о прежней вере и мужестве не вылечат меня от сомнений и разочарования… Но о чем ты тревожишься? Ты-то ведь знаешь, что нет жизни без горя, как и медали без оборотной стороны. Дай мне любить, страдать, вдохновляться радостью победы, проливать море слез, дай жить, как живут все на свете! Ты и без того слишком долго держала меня в вате. Судьба всегда издевалась и всегда будет издеваться над заботливостью матерей. Твоя дочь жаждет выйти в море и поспорить с бурей. Не удерживай ее! — Значит, в путь! — сказала Женни. — Я ко всему готова, лишь бы мне быть при вас, когда плавание станет опасным. — Но как раз этого я и не хочу. Фрюманс… — Фрюманс обойдется и без меня. Он сильный человек, а вот вы — дело другое. — Но ты… — Я люблю только вас. Фрюманс это знает и твердо помнит.LXX
Несколько дней Женни внимательно наблюдала за мной. Чувства мои не менялись. Я недолго радовалась своей победе, но все-таки она была одержана, и теперь я думала о Фрюмансе без малейшего волнения. Гроза пришла оттуда, где, казалось, небо ясно и безоблачно. Так уж устроена жизнь. Однажды я получила от Мак-Аллана поистине чудесное письмо, полное радужных предсказаний по поводу моего будущего; в этом письме он обещал вот-вот приехать с добрыми вестями.«Дорогая Люсьена, — писал он в конце, — не удивляйтесь, что я так старательно восстанавливаю здание вашего общественного положения и материального благополучия, хотя прежде говорил, что во имя радости дать вам все хотел бы видеть вас всего лишенной. Увы! Я упустил тогда из виду вашу гордость — эту гранитную скалу, которой мне не сокрушить. Так вот, я заставлю вернуть вам то, что составляло прежде ваше существование, и тогда мы сравняемся, если только вы не поставите мне в вину, что я все-таки чересчур богат для вас, забыв о бесценном сокровище, которое вы принесете в приданое, — о своем совершенстве».
Я на ходу перечитывала это письмо, как вдруг увидела существо, давным-давно мною позабытое, а именно мисс Эйгер Бернс, рисующую в этот момент утес и небольшой водопад. Моя прежняя гувернантка ничуть не изменилась — то же яркое платье, шаль, накинутая изнанкой кверху, огромная желтая папка, полное неумение рисовать, рассеянный взгляд, унылая физиономия, неловкая поза. В первый момент мне захотелось уклониться от встречи с ней, но если я повзрослела и изменилась, Женни осталась прежней, и было ясно, что Эйгер сразу узнала нас. Возобновить знакомство надлежало мне, что я и сделала со всей приветливостью, на которую была способна. Она была чем-то смущена и, задавая обычные вопросы о том, как я живу, все время оглядывалась, точно боялась, что ее увидят. Я даже подумала, что она пришла сюда с возлюбленным, и мне страшно захотелось поглядеть на него — вот уж, должно быть, чудак! Но я преувеличила очарование сорока пяти весен бедной Эйгер, так как увидела только двух юных мисс, на удивление эфирных, которые не спеша приближались к своей наставнице, наблюдавшей за ними, кажется, не лучше, чем в свое время за мной: они были еще довольно далеко, но я могла бы поручиться, что в кармане у каждой спрятано по роману. — Это ваши воспитанницы? — спросила я у гувернантки. — Да, — ответила она, — это барышни из очень высокопоставленного семейства, и мне не хотелось бы… — Чтобы они увидели вас со мной? — Мне надо поговорить с вами, Люсьена, — еще более смутившись, сказала она. — Я не стала бы искать случая повидаться с вами, но раз уж он представился… Я решила, что ей надо попросить о какой-нибудь незначительной услуге, и пригласила зайти, когда у нее будет свободное время. — У меня не бывает свободного времени, — как-то очень поспешно заявила она, снова оглядываясь на своих воспитанниц; но на этот раз те удалялись, с радостью обнаружив, что мисс Эйгер с кем-то беседует и можно продолжить тайное чтение в кустах. — Что ж, говорите здесь, — предложила я. По ее испуганному жесту Женни поняла, что она лишняя, и тоже отошла. — Слушаю вас, мисс Бернс. — Так вот, бедная моя Люсьена, я должна дать вам совет… Может быть, еще не поздно… Мне так трудно поверить, что вы погубили себя! — Благодарю за доброе мнение обо мне, — насмешливо сказала я. — Не будьте так высокомерны, Люсьена, ваша репутация уже погублена. Если вы могли поселиться у господина Мак-Аллана, значит, у вас или плохие советчики, или дурные наклонности. — Я поселилась не у господина Мак-Аллана, этот дом принадлежит теперь другому лицу, которому я и плачу за наем квартиры. — Знаю, знаю, все было сделано так, чтобы обмануть вас или дать вам возможность объяснить это пристойным образом. Но если вы действительно не подозреваете правды, я обязана сказать ее, и тогда моя совесть будет чиста. Знайте же: ваша история наделала такого шума, что дошла и до меня. Леди Вудклиф и господин Мак-Аллан занимают видное положение в свете, поэтому в Англии разговоров было не меньше, чем здесь. Господин Мак-Аллан славится умом — когда-то я встречала его на приемах во многих гостиных, — но он ловелас, и порядочные женщины холодны с ним. Его связь с вашей мачехой известна всем и каждому и тянется так давно, что мне непонятно ваше ослепление. Люди говорят, будто вам просто захотелось отомстить жестокой мачехе. Сперва свет ополчился на нее за то, что она вас преследует, но когда разнеслась весть, что вы за огромные деньги (называют неслыханную сумму) продали свое имя, разумеется, спорное, но для вас бесценное, когда, кроме того, выяснилось, что соперник вашего отца с успехом волочится за вами, — общественное мнение возмутилось, и теперь двери приличных домов для вас навсегда закрыты. Так что, сердитесь не сердитесь, я не могу посетить вас, более того — не могу допустить, чтобы мои воспитанницы застали меня за разговором с вами. Если об этом узнают их родители, мне откажут от места. Прощайте, Люсьена. Извлеките урок из того, что я вам рассказала, или, если вы действительно порочны, посмейтесь над моим желанием помочь вам и презрительно отвергните мое сострадание. Говоря это, Эйгер застегивала папку и поправляла шаль. Обтянув ею плоские бедра, словно боясь, что ее одежда коснется моей, она быстро зашагала прочь, не дав мне времени ответить. Женни застала меня в страшном волнении. Я молчала о нанесенном мне оскорблении — оно было неразрывно связано с попыткой, на которую я обрекла себя ради нее, — но рассказала о намеках мисс Эйгер по поводу господина Мак-Аллана. — Должно быть, какая-то правда здесь есть, — повторяла я, — недаром мне говорят об этом уже второй раз. А ты что-нибудь знаешь? Джон ничего не выболтал? О какой женщине он рассказывал, будто она ревнует ко мне? — Он не назвал имен, — сказала Женни. — Но если Мак-Аллан принес бесчестье в дом вашего отца, а теперь задумал жениться на вас, он недостойный человек. Но ведь это не так — у него добрая слава, он занимается делом, которое требует порядочности… Нет, нет, все это ложь, Люсьена! Выдумки госпожи Капфорт. Вы же знаете, мисс Эйгер дружила с ней, а теперь, вероятно, переписывается. Эти слухи вам пересказала сперва дурочка, потом злобная тварь. Не обращайте на них внимания и сейчас, как не обратили прежде. Но Женни не удалось меня успокоить. Весь день я была словно безумная, ночью не сомкнула глаз. — Понимаешь ли ты, — сказала я ей наутро, — что если в этой истории есть хоть видимость правды, мое положение здесь немыслимо, постыдно? Пусть Мак-Аллан не верит, что я дочь господина де Валанжи, но доказать противное он тоже не может; значит, покрыв позором моего отца, он наносит оскорбление и мне. — Он скоро приедет, — уговаривала меня Женни. — Выскажите ему все, вам необходимо с ним объясниться. — А что, если я отчаянно влюблюсь в него, когда он приедет? В его последнем письме было столько страсти, что у меня голова закружилась. Надо бежать, Женни, я не хочу видеть Мак-Аллана, пока не уверюсь, что его оклеветали. — Подождите до завтра, — попросила Женни. — Завтра я узнаю правду. — А если он приедет сегодня вечером? — Хорошо, я все узнаю сегодня. Женни тут же ушла. Что она замыслила? Ради меня эта бесстрашная душа готова была на все. Она отправилась к Джону. В его маленькой гостиной — Джон жил как истый джентльмен — висело несколько женских портретов, купленных, по его словам, Мак-Алланом; то были, утверждал Джон, или создания фантазии неизвестного художника, или уменьшенные копии со старинных и безымянных оригиналов. Некоторые из них мне очень нравились, а Женни предполагала, что, возможно, это портреты прежних возлюбленных Мак-Аллана, сохраненные его лакеем. И вот она героически пошла на ложь, чтобы добиться правды. — А знаете, у нас требуют портрет леди Вудклиф, — сказала она Джону. Тот недоверчиво улыбнулся: вся наша почта проходила через его руки. — Вы мне не верите? — настаивала Женни. — Но ведь вы сами видели вчера даму, которая беседовала с мадемуазель: это ее бывшая гувернантка, она англичанка, хорошо знает леди Вудклиф, и ей поручено взять портрет. — У вас есть записка от леди Вудклиф? — Нет, поручение было устное. На каком из портретов изображена леди Вудклиф? — На этом. — Джон указал на портрет. — В свое время она славилась красотой. Сэр Томас Лоуренс[43] написал с нее портрет, потом его гравировали и сделали оттиски. Если эта дама требует свое изображение, скажите ей, что гравюра приобретена за деньги; она и сейчас есть в продаже. — Так, значит, правда, что господин Мак-Аллан был ее возлюбленным! И это знают все на свете! — Кроме меня, — бесстрастно возразил Джон. — Нет, вы тоже знаете! Я считала вас человеком достойным, но ошиблась: вы непорядочны, если согласились на такое грязное дело! — Мой хозяин не мог поручить мне грязное дело. — Докажите — вам это будет нетрудно. Ваш хозяин, несомненно, расскажет мадемуазель Люсьене все — она потребует у него слово чести, что он говорит правду. Дайте же и вы слово чести, что между господином Мак-Алланом и женой маркиза де Валанжи ничего не было. Поклянитесь, Джон, и, клянусь, я вам поверю. Джон побледнел, зябко повел плечами и не вымолвил ни слова. Он действительно был честный человек. Женни пожала ему руку, но когда он попытался что-то объяснить, прервала его: — Больше я ничего не желаю знать. И тут же побежала ко мне. — Едем! — воскликнула она. — Это вопрос чести и достоинства, а мужества у вас достанет. Через два часа наши вещи были уложены. — Зачем вы уезжаете? — повторял бедный, обескураженный Джон. — Хозяин все объяснил бы вам, он все объяснит. Не надейтесь спрятаться от него, все равно он вас отыщет. Говорю прямо: я поеду за вами и сообщу ему, где вы, это моя обязанность, и я ее исполню. Я все обдумала, пока укладывала чемоданы, слова Джона не были для меня неожиданностью. — Прятаться я не собираюсь, напротив, надеюсь, что вы будете сопровождать нас, — сказала я. — Наймите, пожалуйста, карету до Ниццы, оттуда, морем или сушей, мы немедленно уедем в Тулон. А предупреждать вашего хозяина бесполезно — я сама ему напишу. И действительно, я написала Мак-Аллану следующее:
«Вы дали мне время, чтобы я разобралась в своих чувствах. Благодарю вас за это. Теперь мне ясно, что происходит в моем сердце. Я люблю другого и не могу быть вашей.Эту записку я адресовала в Париж, а копию оставила в Соспелло, на случай, если Мак-Аллан уже в пути. Потом написала леди Вудклиф, маркизе де Валанжи, Париж, «Отель де Пренс»:Люсьена».
«Миледи, я порываю соглашение с вами: мне стало известно, что я не имею права на имя де Валанжи, равно как и на наследство, утрату которого вы предложили возместить мне пенсионом. В нынешних обстоятельствах я ничего не могу принять от вас и уполномочиваю обойтись с моим заявлением как сочтете нужным.Не посоветовавшись с Женни, не рассказав ей о содержании писем, я запечатала их и вручила почтальону, которого все время подстерегала, а потом не упускала из виду, пока он не скрылся, унося оба послания. Итак, я сожгла свои корабли. Теперь суд вынесет решение в пользу моей противницы без тяжбы, без иных доказательств, кроме моего собственного признания. Отныне Женни ничего не грозит, а я покончила с постыдным соглашением. Никакого судебного разбирательства не будет, и я вольна вернуться во Францию. С другой стороны, я дала понять Мак-Аллану, что люблю и всегда любила Фрюманса. Женни я заявила, что хочу несколько дней пожить в Помме, — пусть подозрения на мой счет превратятся в уверенность. Она не стала возражать, так же как Джон больше не пытался отсрочить отъезд: наша решимость покинуть Соспелло, пусть хоть пешком, была так тверда, что удержать нас он мог бы только силой. Джон написал своему хозяину, потом нанял экипаж. Я расплатилась с ним деньгами Женни — на этот раз без угрызений совести: честь была нашим общим и нераздельным достоянием. В тот же вечер мы выехали дилижансом в Тулон. Всю дорогу мы не видели Джона, он, наверно, скрывался где-то на империале, но в Тулоне снова возник и помог нам уехать в Помме. Когда наши вещи были водворены в домик священника, Джон молча простился с нами и исчез. Фрюманс не мог прийти в себя от удивления. Не догадываясь о роли, которую сыграл в моих отношениях с Мак-Алланом, он счел, что я приехала посоветоваться с ним. Он уступил нам свое жилье, а сам перебрался к Пашукенам.Люсьена».
LXXI
Мне казалось, что, вернувшись после первой разлуки в родные края, испытаю глубокое волнение, но ошиблась: я была слишком потрясена нанесенным мне ударом и нестерпимым разочарованием. Должна сказать, что Фрюманс сперва наотрез отказался верить в виновность Мак-Аллана, но нежелание Джона ответить на прямой вопрос Женни так поразило его, а молчание во время поездки и прощания было так многозначительно, что поколебался и Фрюманс. Тем не менее он хотел объясниться с Джоном или Мак-Алланом. Я резко запротестовала против этого, Женни тоже его не поддержала, так что он совсем растерялся. Ранним утром после тягостной ночи я в одиночестве отправилась бродить по горам и, не замечая дороги, добралась до Дарденны. Очнувшись от глубокой задумчивости на крутой тропинке, я взобралась по ней, радуясь угрюмой пустынности пейзажа, и остановилась на краю обрыва. Не лучше ли, не разумнее ли похоронить себя там, на дне? — спрашивала я себя. Будущее уже не сулило мне никакой отрады, к жизни привязывали только два преданных друга — Фрюманс и Женни, но и для них я была только источником мучений и обузой. Кто, как не я, препятствовал их браку? Теперь, когда я разорена и обманута, не вернется ли Женни к мысли влюбить в меня своего жениха? Конечно, вернется — можно ли было сомневаться в этом, зная ее слепую преданность мне! Недаром во время поездки она лишь о нем и говорила. Женни не желала понять, что я страстно влюбилась в Мак-Аллана в тот самый день, когда узнала, что мне надо ненавидеть его и презирать. Обманутая моим внешним стоическим спокойствием, она решила, что я не испытываю никакой боли и что мысли мои вновь обратятся к идеалу совершенной добродетели и незапятнанной чистоты, каким в ее глазах был Фрюманс. Таким образом, я опять становилась несчастьем для человека, который не принес бы счастья и мне. Быть может, в эту минуту Женни уже пытается растрогать его и толкнуть на шаг, о котором давно мечтает. Да, в эту самую минуту, когда ее мечта приводит меня в ужас, а безмятежное лицо Фрюманса в сравнении с живым и подвижным лицом Мак-Аллана внушает чуть ли не отвращение! И в моей судьбе, и в сердце все было разорено, исковеркано, спутано, непонятно. Появись передо мной Мак-Аллан, я скорее бы бросилась с обрыва, чем стала его слушать, но стоило зашелестеть листве — и я вздрагивала от жгучей радости, потому что за возможность хотя бы на час вновь поверить в него готова была отдать остаток жизни. За деревьями раздалось мерное постукивание, похожее на звук приближающихся шагов. Я вскочила, хотела убежать, но упала — у меня перехватило дыхание. Через секунду я поняла, что это куница грызет сухую ветку. Страх сменился горьким сожалением. Я хотела в один день испить всю чашу горечи и последний раз увидеть Бельомбр: что бы ни было, но я твердо решила уехать из этих мест. Я пошла вниз по течению Дарденны, пробираясь по белым, поросшим олеандрами уступам ее пересохшего русла. Хлеба были сжаты, оливки собраны, трава пожелтела: моя родина, дорогая моя родина показалась мне гнетуще унылой, бесцветной, убогой. Я подошла к моему запертому сиротливому дому и остановилась: у зеленой беседки Мишель подвязывал розы к железным прутьям и не заметил меня, а у меня не хватило духу его окликнуть. Минуту я посидела на краю пыльной дороги, в редкой тени питтосфора, росшего наверху, на террасе. Вдали трудились, как всегда, мельники — для них ведь ничто не изменилось. Меньше всего, разумеется, они думали обо мне. Стараясь не попасться им на глаза, я проскользнула в Зеленую залу. Тропинка, ведущая туда, заросла сорными травами, по ней уже никто не ходил. Я бессознательно нарвала цветов, потом опустила букет в мелкий ручеек, шелестевший по камням, и оставила его там: я была отверженная — зачем же мне эти ни в чем не повинные цветы? Вернулась я совершенно разбитая, не перемолвясь ни с кем ни единым словом: на мне была густая вуаль, и встречные крестьяне либо вообще не узнавали меня, либо, минуту поколебавшись, но не услышав обычного приветствия, принимали за приезжую. Женни так тревожилась, что послала Фрюманса разыскивать меня. Я рассердилась на их докучную заботу и недовольно сказала, что вечно причиняю одно беспокойство, даже не смею погоревать в одиночестве. У Женни на глаза навернулись слезы, и я сочла ее слабодушной за неумение их скрыть: ведь слезы душили и меня. Я попыталась поговорить с аббатом Костелем, но его вопросы и суждения о моем состоянии были так наивны, словно передо мной был малый ребенок. Поздравив меня с тем, что я так своевременно разгадала вероломный замысел, он предложил мне поселиться в Помме и продолжить занятия греческим — они исцелят меня от всех горестей. Потом я пошла на могилу бабушки, но мое сердце словно окаменело. Рядом был свежий холмик, на невысоком кресте из черного дерева белела надпись: я прочла имя старой Жасинты, она умерла неделю назад. Это было неожиданно, и вот тут я разрыдалась. «К чему придавать такое значение жизни? — думала я. — Она так быстро проходит и оставляет так мало следов! Мишель обожал свою мать, день и ночь ухаживал за ней, а сейчас подрезает ветки и подвязывает розы с таким старанием и любовью, точно и не хоронил ее неделю назад. Я разглядела его лицо, оно такое же добродушное и спокойное, как всегда. Быть может, вечный отдых, который вкушает сейчас эта бедная женщина, достаточная награда ее сыну за жизнь, полную труда и преданности? А разве я не умерла и не похоронена для всех, кто меня любил? Мое детство было, как лучами, всечасно озарено нежными улыбками и заботливыми взглядами. Я росла подобно благословенному растению, на мне были сосредоточены все надежды семьи. Впрочем, питтосфор и розы в нашем саду тоже были предметами любовного ухода, гордостью и украшением Бельомбра. Но если вихрь вырвет их с корнем, на этом месте посадят новые цветы и деревья. Появится в Бельомбре другой хозяин с другими детьми — и кто тогда вспомнит о Мариусе и обо мне?» Среди этих мирных могил меня охватила жажда смерти, сумрачная и жгучая. Холмик, под которым покоилась Жасинта, был усажен цветами, росшими только в нашем саду, — значит, их пересадил сюда Мишель. Выходит, он не забыл ее? Те же цветы были и на могиле бабушки — последняя дань, исполненное нежности воспоминание. Я завидовала участи людей, навеки исчезнувших, но по-прежнему почитаемых; они перешли в иной, неведомый нам мир, а на земле их продолжают окружать простодушным вниманием и необременительными заботами. — Счастливы умершие — они больше не мешают живым! — воскликнула я. Появился Фрюманс — полдня он разыскивал меня по всем окрестностям и под конец пришел на кладбище. Вместо благодарности я осыпала его упреками и не сумела скрыть горечи и безнадежности, переполнявших мою душу. Он попытался примирить меня с жизнью обычными своими рассуждениями о радостях исполненного долга. Его добродетель была мне несносна, и я сказала, что человеку с холодной кровью легко быть сильным и не жалеть о счастье — он ведь понятия не имеет, что это такое. Фрюманс вздохнул и украдкой взглянул на Женни, которая в эту минуту появилась на кладбище и позвала меня обедать. Я еще раз подумала, что стала жестока, несправедлива и надо скорей кончать с жизнью, иначе все меня возненавидят.LXXII
Несколько дней я не желала слушать утешения, отказывалась строить планы на будущее. Я упрямо искала одиночества, забиралась в непроходимые овраги, отыскивала укромные местечки на склонах бау — высокого округлого холма, заросшего густой травой и кое-где опасного из-за крутых, обрывистых откосов. Очертания его были прекрасны, на вершине, где солнце уже выжгло траву, царило полное безлюдье. Я залезала в глубокие известковые расщелины в уступах под самой вершиной и там, в тенисосен, укоренившихся в трещинах, скрывалась от розысков Женни и Фрюманса. Мне так хотелось убежать от моей взбаламученной жизни, которая прежде улыбалась мне, а теперь заслуживала одной ненависти, что мысли мои упорно обращались к смерти. Сейчас было самое время вернуться мечтами к Фрюмансу, но как раз Фрюманс, неколебимый под ударами судьбы, был мне особенно невыносим: его стойкость возмущала меня как нечто противоестественное. Когда Женни пыталась ставить его в пример, я приходила в неистовство. — Если он уже умер, почему не ложится в могилу? — кричала я. — Что это за жизнь без сердца и мозга? Фрюманс больше ничему не может научить меня и вообще никогда не был мне настоящей поддержкой. Уже в детстве я могла бы сказать ему: «Утес, что общего между тобой и мной?» Я была беспощадна и все-таки по-своему права. Фрюманс не мог ни помочь, ни утешить меня, потому что ровным счетом ничего не понимал в терзавшей меня боли. Ему ли, олицетворению рассудочности, было проникнуть в тайны этого чувствительного и прихотливого инструмента — сердца девушки? Считая, что сделал из меня мужчину, он и говорил со мной как с мужчиной. По его убеждению, страдать из-за недостойного человека способен только глупец, поэтому я старалась скрыть от него свое горе, а если он все-таки что-то замечал — Фрюманс был довольно наблюдателен, — резко говорила: — Ну хорошо, я глупа, дальше что? Оставьте меня в покое, если не можете помочь! Он был безмерно терпелив и кроток со мной, но меня переполняла горечь, и я твердила себе, что досаждаю Фрюмансу, отрывая от привычных занятий, и мои невзгоды не столько трогают его, сколько угнетают. Даже присутствию Женни он радовался меньше, чем следовало, — так по крайней мере считала я. Она была поглощена заботами обо мне, и мне казалось, что Фрюманс ревнует. Словом, я стала подозрительна и как будто навсегда утратила способность находить в людях хорошее. Видя мое отчаяние, пала духом и Женни. Однажды утром, взглянув на нее, я поразилась бледностью ее лица, обычно столь свежего, и вдруг заметила, что в черных бандо, обрамлявших лоб Женни, засеребрилась седина. Мне стало страшно: за одну неделю она постарела на десять лет. — Что с тобой? — воскликнула я. — Со мной ваше горе, — ответила она. И это было правдой. Она не думала о себе, мое несчастье было ее несчастьем, другого попросту не существовало. Удар, нанесенный мне, поразил ее в самое сердце. Меня охватило такое раскаяние, что я стала перед ней на колени. — Женни, это моя вина, это я тебя убиваю, — сказала я. — Поэтому со дня приезда я так мечтаю о смерти. — Знаю, вижу, что вы больше не хотите жить. Вы уходите гулять, а я всякий раз думаю — может, она уже не вернется. И идти за вами мне тоже нельзя — вы рассердитесь, и будет еще хуже. Каждую ночь я думаю — может, она уже не проснется. Вы тут знаете все травы, вдруг принесете с прогулки какую-нибудь ядовитую. Вот я и не сплю по ночам, а днем не нахожу себе места. Готовлю для вас, а сама думаю — будет ли кому есть это кушанье, чиню ваши разорванные юбки и говорю себе: «Сколько тут дыр, столько у нее было приступов ярости во время ее дикой беготни по горам». Вы хотите развязать Женни руки? Так ведь? Что ж, пусть будет по-вашему, Женни все равно недолго протянет после этого. Убивать себя грешно, Бог запретил это человеку, но когда тебе уже нечего делать на свете и некому служить, тогда, верно, это наш долг — освободить место другим… Молчите! — воскликнула она с силой. — Я знаю, о чем вы думаете! Вы хотите уйти, чтобы освободить место мне, чтобы я могла любить, выйти замуж, работать на себя. Глупая и жестокая девочка! Ладно, делайте что хотите! На том свете знают, что творится здесь, вы увидите, какую счастливую жизнь устроили Женни! Бедная моя госпожа! Она видит, как у нас все идет, и мучается в аду, потому что несчастье тех, кого мы любили, — вот он, единственный настоящий ад! А ведь она не заслужила мучений, она только для нас и жила. Женни разрыдалась. Впервые на моей памяти она не устояла под бременем жизни. Да, не устояла, и это было делом моих рук. Как я была отвратительна себе в эту минуту!LXXIII
— Клянусь, Женни, во имя тебя и во имя бабушки, я не расстанусь с жизнью, — вставая, сказала я с жаром. — Поверь, горе мое смягчается, я справлюсь с ним, уже справилась. Будем действовать, думать, решать, как нам жить, не откладывая в долгий ящик, не прося ни помощи, ни совета. А главное, уедем отсюда, уедем далеко-далеко. Станем жить вдвоем и все делить пополам — работу и хлеб, усталость и бремя забот. Мы исцелим друг друга, утешим и обе найдем в этом радость. Женни не знала, чем я для нее пожертвовала. Пришлось сказать ей, что у меня нет никаких средств к существованию, так как, с одной стороны, я не желала хоть единым грошом быть обязанной леди Вудклиф, а с другой — заранее отказалась защищать по суду свои права. Я дала понять, что поступила так под влиянием обиды на Мак-Аллана, умолчав о ее собственной роли в этой истории. Поэтому она сочла мое поведение неразумным, хотела что-то исправить, попросить совета у господина Бартеза, но тот уехал по важному делу в Марсель и должен был вернуться не раньше чем через две недели. Я не собиралась его ждать, да и мое отречение от прав было для меня так свято, что даже мысль о возможности пойти на попятный казалась кощунством. Только оно и утешало меня во всех унижениях, выпавших на мою долю, только им, этим сознательным отказом от материальных благ, выражала я протест против моих клеветников. Женни оставалось лишь склонить голову перед совершившимся. — Ну хорошо, давайте подсчитаем наши средства, — сказала она. — У нас всего восемь тысяч франков — шесть я заработала на службе у вашей бабушки, две отложила еще до того, как поступила к ней. На это, конечно, нам не прожить. Надо браться за работу, надо в пять-шесть лет сколотить еще двенадцать тысяч. Тогда у нас будет тысяча франков ренты, и мы поселимся в деревне, в каком-нибудь красивом месте, где вы пожелаете. Вы там сможете читать ваши книги, а я буду вести хозяйство. — Чудесно, Женни, будем работать. Чем мы займемся? — Единственным, чем я могу довольно быстро заработать эти деньги, — торговлей. Я понимаю в ней толк, мы откроем лавочку, и, надеюсь, я поставлю дело так, что потом мы ее выгодно перепродадим. Я буду торговать, а вы тем временем займетесь переводами, — не может быть, чтобы для такой образованной девушки не нашлось работы. Думается мне, господин Мак-Аллан даже не говорил ни с кем о вас. Значит, прежде всего надо ехать в Париж искать издателя, без этого не обойтись. Потом решим, где нам обосноваться, чтобы и для моей торговли было выгодно, и для ваших переводов удобно. И если пока мы никак не можем сказать, что все к лучшему, скажем по крайней мере, что все — в надежде на лучшее. Женни рассказала о своих планах Фрюмансу, и он мужественно одобрил ее, добавив, что, если когда-нибудь будет свободен и понадобится нам, ничто на свете не помешает ему быть с нами, посвятить себя нам. — Запомните это и вы, Женни, и вы, Люсьена, — говорил он. — Где захотите и как захотите, издали или вблизи я буду помогать вам в торговле или поступлю на службу. Все мое принадлежит вам и сегодня и впредь. Кроме аббата Костеля, никто и ничто не может встать преградой между нами. Через год, и через двадцать лет, и через тридцать я ваш, ваша собственность. И вы обе никогда не забывайте об этом. Почти все наши вещи так и лежали нераспакованные, поэтому мы могли бы уехать в тот же вечер, но Фрюманс должен был взять часть денег Женни у господина Бартеза, поместившего их в ценные бумаги. Ехать в Тулон не имело смысла, контора все равно была уже закрыта, и мы условились, что он поедет туда завтра утром, а вечером усадит нас с Женни в дилижанс. Решение было принято, я немного успокоилась и почувствовала себя как бы заранее вознагражденной за избранную мною трудовую жизнь. Женни была задумчива и сосредоточенна. Я повела ее на бау — мне хотелось в последний раз поглядеть вместе с ней на море и закат солнца в Провансе. Пошел с нами и Фрюманс. Мы начали было обсуждать планы на будущее, но нас обоих встревожило молчание Женни. — Тебе нездоровится? — спросила я ее. — Тропинка очень крутая, давай вернемся. — Нет, ходьба всегда идет на пользу, — возразила она. — Поднимемся еще немного. Когда мы взобрались до середины склона, я усадила Женни и украдкой стала наблюдать за ней, делая при этом вид, будто любуюсь Средиземным морем в огне заката, — она терпеть не могла привлекать к себе внимание. Глаза Фрюманса тоже были полны тревоги. Женни становилась все бледней и бледней. В алом блеске заката ее белое платье казалось совсем розовым, но лицо приобрело какой-то синеватый оттенок. Вдруг голова Женни откинулась назад, я едва успела поддержать ее. Она потеряла сознание, но через секунду пришла в себя. — Что-то мне нехорошо, дети мои, — сказала она. — Совсем нечем дышать. Я еще немножко отдохну здесь, и это пройдет — на свете все проходит. Обмороки следовали один за другим — дважды она мгновенно приходила в себя, в третий раз беспамятство длилось около минуты. Я была в ужасе, обвиняла себя в ее болезни. Фрюманс хотел отнести Женни домой на руках. — Нет, нет, — запротестовала она, — этим вы меня убьете. Не трогайте, дайте мне тихонько посидеть здесь, имейте терпение. До ближайшего жилья было не меньше четверти лье. Фрюманс спустился, вернее, спрыгнул, в соседний овраг за мятой — других средств облегчить удушье Женни у нас не было. Едва он исчез из виду, как она опять потеряла сознание, руки у нее одеревенели, пальцы свело судорогой. Мне казалось, что и я вот-вот умру, свет померк в глазах, все словно подернулось какой-то свинцовой пеленой. Я уже не видела Женни, только чувствовала губами ее лоб в ледяной испарине. Прибежал Фрюманс с охапкой мяты, и Женни стало немного лучше, но, разумеется, это лекарство не могло вернуть ей силы. — Дети мои, — снова сказала она, и на этот раз в ее голосе прозвучала безнадежность, — я, видно, умру здесь… Чувствую, что умираю… Фрюманс, не покидайте Люсьену… И не жалейте меня, я никому не причинила зла… Никому! Умираю на солнце, на вольном воздухе… Но мне его уже не вдохнуть… Прощайте, Фрюманс, вы не знаете, как я вас любила… Не будь ее, стала бы вашей женой… Любите ее как сестру… Да, я крепко любила вас обоих! Похороните меня рядом с моей дорогой госпожой… На этот раз обморок был так глубок, что мы уже не ощущали биения ее сердца. Фрюманс решился отнести Женни на руках. Когда мы уложили ее в постель, она была как мертвая, и нет слов, чтобы описать овладевшее нами отчаяние.LXXIV
Три недели Женни была между жизнью и смертью. Доктору Реппу я не доверяла и вызвала врача из Тулона. Напрасно он уверял меня, что, несомненно, это недуг хронический, что Женни слишком долго его скрывала и перемогалась, — я не слушала его и во всем обвиняла себя, причинившую ей столько горя своим малодушием и эгоизмом. Бывали ужасные дни, бывали часы жесточайших страданий, когда сама Женни в бреду обвиняла меня в том, что это я убила ее, неустанно терзая приступами мрачности и вечными капризами. Как только недуг давал ей передышку, она клялась в противном и, не помня того, что недавно наговорила, удивлялась моему бурному раскаянию. В эти минуты она повторяла, что выздоровеет ради меня, что устроит нам обеим счастливое существование, и сердилась на свою болезнь, из-за которой откладывалось исполнение наших планов. Но наступало ухудшение — и Женни снова звала смерть, снова твердила, что довольно настрадалась в жизни и пора ей отдохнуть. Я ни на секунду не отходила от нее, никому не доверяла даже самых ничтожных или тягостных мелочей, спала не больше двух часов в неделю, падала с ног от усталости и отчаяния, но тут врач вдохнул в меня бодрость, сказав, что Женни спасена. Впрочем, выздоровление принесло с собой еще больше нравственных мук, чем болезнь. И мое сердце и разум подверглись всем мыслимым на свете пыткам. Столь безукоризненная, когда была здорова, Женни впервые в жизни так ослабела, что ее тело уже не подчинялось воле. Меж тем бездеятельность глубоко претила ей, и когда от нее потребовалось одно лишь терпение, она вдруг потеряла мужество. Она героически боролась со смертельным недугом, искупая вырывавшиеся порой вопли отчаяния несравненным смирением и нежностью, а теперь, вновь обретя волю к действию, но еще не умея соразмерить способность хотеть с возможностью осуществить желаемое, стала по-детски слабодушна и нетерпелива, плакала, капризничала, сердилась. Женни была, что называется, трудной больной, и нередко казалось, что она совсем меня разлюбила. Я заслуживала этой кары — слишком охотно позволяла в прежние времена нежить себя и баловать. Поэтому, несмотря на обидные выходки, я продолжала боготворить Женни и, понимая и разделяя муки ее сердца, забывала о собственных муках. Не ропща и не противясь, я пила горькую чашу, упрекая себя, что сама же ее наполнила: в этом было мое искупление. С Фрюмансом Женни была мягче, покорнее, благодарнее. Она невольно выдавала таким образом любовь, так долго таимую, превозмогаемую, приносимую в жертву. Выдавала она и гнев, неприязнь, быть может, даже ревность, которые подавляла в себе, отказываясь ради меня от счастья. Дорогая моя Женни, каким восхищением я прониклась к ней, как наконец поняла и оценила, когда горячечный бред и вызванная им угнетенность духа приоткрыли мне ту внутреннюю борьбу, в которой победила любовь ко мне! Только теперь сквозь облик ангела проступили черты женщины, и ангел был так лучезарен именно потому, что женщина изведала глубокие страдания. В это тяжкое время единственным моим утешением были встречи с Фрюмансом — очень редкие, потому что Женни совсем потеряла сон, — и возможность рассказать, какое сокровище любви к нему я обнаружила в сердце этой святой, прежде наглухо закрытом. Я упрекнула его в том, что он тоже слишком подчинял свою жизнь моей, и заклинала встать на мою сторону и воспрепятствовать Женни вновь целиком посвятить себя мне, — а мы оба отлично знали, что, выздоровев, она попытается это сделать. Подумав с минуту, он сказал: — Да, Люсьена, так оно должно быть, значит, так оно и будет, клянусь вам в этом именем Бога. — Именем Бога? Вы ли это, Фрюманс? — воскликнула я. — Значит, и вы молились ему, когда наша дорогая больная была на краю смерти? — Нет, милая Люсьена, я не притязаю на то, чтобы ради меня совершались чудеса, к тому же убежден, что дар чудес заложен в самой природе и только в ней одной. Произнося слово «Бог», я разумею одну из прекраснейших гипотез, созданных человеческой мыслью, обозначаю то совершенное добро, к которому мы не можем не стремиться. Я признаю за вами право верить, но это не значит, что я сам верю. Научитесь, Люсьена, всей душой уважать людей, любящих истину, даже когда их представление о ней кажется вам ложным. — Будьте осторожны, мой друг, Женни верующая, не оскорбите ненароком ее чувств. — Если Женни пожелает, чтобы я ходил к мессе, что ж, буду ходить. Готов даже сам ее служить, а если она потребует, чтобы я никогда не заикался о своем безверии — никогда не заикнусь. Это ведь так нетрудно! Я поняла, что Фрюманс ни на йоту не изменил своих взглядов. Да и мог ли измениться образ его мыслей при той жизни, которую он вел в Помме! Он по-прежнему был лучшим, благороднейшим, честнейшим и вернейшим из людей, но в его мировоззрении не существовало понятия о высшем идеале, ему не нужно было иного бога, кроме собственной совести. Фрюмансу не хватало священного огня — даже того, который горит в людях, восстающих на общепринятые верования. Он не возмущался суждениями, которые казались ему ошибочными, и был образцом терпимости и здравомыслия. Но душа его не умела воспламеняться, и, не сдержавшись, я сказала, что он светит, но не греет. — Поэтому я и люблю женщину старше меня годами, — с улыбкой ответил он. — Я вижу совершенство там, где оно есть, и не требую, чтобы оно зажигало меня, довольно и того, что проникает в самое сердце.LXXV
Наконец Женни успокоилась, вместе с телесной слабостью прошло и нервическое раздражение. По-настоящему она выздоровела в тот день, когда смогла наконец исполнить давнее свое желание: поднялась на бау, где была сражена недугом и где, по ее словам, хотела вновь скрепить договор с жизнью, чтобы посвятить эту жизнь служению нам. Она стала искать травянистый склон, где потеряла сознание, но лето успело смениться осенью, сожженная зноем трава отросла и зазеленела. Впрочем, утраченные приметы заменила память Фрюманса: он живо отыскал обрыв, заросший мятой, и откос, где, казалось, Женни навеки простилась с нами. В этом страшном месте мы взялись за руки, и Женни сказала: — Дети мои, как я благодарна Господу! Умереть в тот день было бы легко и просто, я не страдала, мне уже виделся другой берег жизни, а беды этого существования мнились такой малостью по сравнению с благими небесами, где нам предстояло когда-нибудь снова встретиться! Я не тревожилась за мою Люсьену, не жалела вас, мой бедный Фрюманс, я уже была далеко. Видно, смерть делает людей черствыми — я могла думать только о Боге. Вы в него не верите, Фрюманс, — что ж, зато моя Люсьена меня понимает. Когда я очнулась в постели для всех мучений, как я сердилась на вас, что вы не позволили мне умереть здесь, в этом чудесном уголке, в этот чудесный вечер! Вы не захотели отпустить Женни и были по-своему правы, потому что она принадлежит вам двоим. Теперь я благодарю вас за это: пусть земная жизнь не стоит небесной, но и в ней есть хорошее, пока знаешь, что тебя кто-то любит. Вы ухаживали за мной как ангелы, вы и в самом деле ангелы, а я во время болезни, должно быть, часто докучала вам. Я плохо помню, что говорила даже в последнее время; кажется, когда у меня был жар, я не закрывала рта. Забудьте все, ведь это была не Женни. Больной человек не человек, вернее, он вроде пьяного. А теперь возвратите меня к настоящей жизни, поговорим о будущем. Знаете, Люсьена, Фрюманс кое-что сказал мне вчера вечером и повторил сегодня утром. Если он не заблуждается, изменятся все наши планы. Но вот не заблуждается ли он? Судить об этом можете только вы. Тут Фрюманс вернулся к своей навязчивой идее о невиновности Мак-Аллана. — Вот что, Люсьена, — сказал он, — предположим, у него была связь с леди Вудклиф до ее брака с маркизом де Валанжи, но потом их отношения навсегда прекратились. Осудите ли вы его за то, что, совершив этот проступок столько лет назад, он теперь осмелился просить вашей руки? — Разумеется, нет. Но после смерти отца эта связь возобновилась. Она существовала и в ту пору, когда Мак-Аллан согласился приехать сюда и по суду оспаривать мои права. — А если его отношения с вашей мачехой были тогда уже просто дружеские и даже скорее отчужденные с его стороны? — Вот уж неправдоподобно! Еще два месяца назад он без конца встречался с ней под предлогом, будто отстаивает мои интересы. — Может быть, это кажется неправдоподобным, но если он все же докажет, что так оно и было? — Если бы так оно и было, Джон тут же дал бы клятву. — Джон мог и не знать правды, значит, не мог ни за что ручаться. — Ну, это совсем невероятно! К тому же нечистые отношения Мак-Аллана с леди Вудклиф, — а его молчание после моего разрыва с ним красноречивее любых слов доказывает, что они существовали, — навсегда отвратили меня от него. Я дочь господина де Валанжи! Оскорбил Мак-Аллан моего отца до его брака или после смерти, это оскорбление ложится пятном и на меня. Смыть его Мак-Аллан не может. — Итак, — проговорил Фрюманс, пристально глядя на меня, — чтобы оправдать Мак-Аллана, сорокалетнего мужчину, в том, что задолго до знакомства с вами он любил леди Вудклиф, вы должны быть уверены, что маркиз де Валанжи — не ваш отец? — Да, Фрюманс, иного пути нет. — А вам хотелось бы увериться в этом? Я потупилась, чувствуя, что не в силах солгать, хотя обида все еще жгла мне сердце. Да, я продолжала бы любить Мак-Аллана, докажи он, что предположения Фрюманса правильны. — Меня мало тревожит, — сказала я наконец, — окажусь я или не окажусь дочерью человека мне неведомого и ко мне равнодушного, но очень тревожит возможность оказаться женой человека, лишенного тонкости чувств. Прошу вас, друзья мои, не говорите со мной больше о нем, разве что сможете полностью его обелить. Я сейчас стараюсь искупить прошлые свои заблуждения, прошлые притязания на какое-то идеальное счастье. Подлинное страдание вдохнуло в меня и подлинную силу. Два месяца я прожила, ни секунды не думая о себе. Знаю, Бог простил мне прежние мои грехи, потому что, увидев, как мучается Женни, узнав, что значит страх утраты дорогого человека, я прокляла свою гордыню и отказалась от тщеславных мечтаний. Теперь я убеждена — мы трое можем счастливо жить на то немногое, что еще осталось у Женни и что смогу заработать я. Пока жив аббат Костель, останемся здесь, а потом, если все наши средства иссякнут, уедем туда, где сможем найти работу. Бедность не обременительна для тех, кто сохранил чувство собственного достоинства, к тому же я не сомневаюсь — при бережливости и усердии нам не придется терпеть тяжкие лишения. Но я не буду роптать, даже если мне придется просить милостыню, — только бы Женни была здорова и стала вашей женой, Фрюманс. Люсьены де Валанжи больше нет, и незачем ее воскрешать — она была хуже той, что пришла ей на смену. Не мешайте же мне это доказать! Моя решимость не терзаться из-за собственной персоны была так тверда, что ни Фрюманс, ни Женни не стали со мной спорить. Недуг немного ослабил деятельную натуру Женни и ее способность сопротивляться, я этим воспользовалась и уговорила ее уже на следующей неделе объявить о своей помолвке с Фрюмансом. Так как теперь я ни за что не согласилась бы расстаться с ней, она поняла, что лишь ее брак с ним положит предел оскорбительным толкам обо мне. Через полтора месяца аббат Костель благословил моих друзей. Сразу после свадьбы Женни занялась поисками работы для нас обеих. Найти применение моим знаниям в округе было невозможно. Тулон — город, где литература не слишком в чести, в Париже я никого не знала, и писать издателям было бесцельно. Господин Бартез все же попытался, но ему никто не откликнулся, а так как от денежной помощи я наотрез отказалась, он предложил мне переписывать дела, назначенные к слушанию в суде. Он был одновременно и стряпчим и адвокатом — в те времена в провинции на такие вещи смотрели сквозь пальцы. Я с радостью ухватилась за эту работу и легко справлялась с ней. Кроме того, я помогала Женни, которая брала заказы на починку кружев, и вдвоем мы зарабатывали франков пятьдесят в месяц. В Помме этого вполне хватало на здоровую, опрятную и независимую жизнь. Приходский дом совсем обветшал, и в ожидании, пока появится возможность обставить мне комнату, я поселилась в пустующем доме, принадлежащем Пашукену, который и слышать не хотел о плате за наем. Он был состоятельный, а главное, глубоко порядочный человек, и я с легким сердцем приняла его гостеприимство. Он внезапно проникся такими высокими чувствами ко мне, что в один прекрасный день предложил руку, сердце и двадцать тысяч доходу. Спору нет, это была завидная партия для девушки без имени и приданого, и хотя имя «Пашукен» не отличалось благозвучием, зато оно было незапятнанно. Но почтенному крестьянину, давно уже вдовевшему, было за пятьдесят, и он читал по складам. Я помогала ему вести записи в мэрии и между делом уговорила жениться на бедной родственнице из Олиуля, о которой, по собственному признанию, он частенько подумывал. Вместе с женой Пашукена, которая оказалась очень славной женщиной, приехала и ее служанка, — таким образом, население деревушки возросло, а в ближайшем будущем должно было возрасти еще больше, потому что не прошло и трех месяцев, как полевой страж женился на упомянутой служанке. Присутствие четырех женщин, считая меня и Женни, немного оживило запущенный и мрачный облик Помме.LXXVI
Прошел год. Я ничего не знала о Мак-Аллане и по-прежнему запрещала Фрюмансу говорить о нем. Страсти, волновавшие меня, не то умиротворились, не то задремали, и теперь я понимаю, что, несмотря на все тяготы, то была самая спокойная полоса в моей жизни. Постепенно я стала думать, что прав Фрюманс с его холодным рассудком и что счастья мы достигаем только тогда, когда живем в мире с собою и судьбу свою устраиваем в согласии со склонностями. Если вы наделены пылкими страстями, идите навстречу приключениям, рискуйте и заранее будьте готовы ко всему хорошему и дурному, что вас ожидает. Но если натура у вас любящая и на свете существует кто-то, чьи беды лишают вас сна, чье горе отравляет все ваши удовольствия, — оставайтесь рядом с этим человеком и забудьте о себе, потому что, коль скоро он дороже вам собственной жизни, попытки освободиться еще крепче привяжут вас к нему или отравят самое свободу… Стоило мне почувствовать, что мое сердце готово разбушеваться, как я немедленно его обуздывала. «Ты хотела любить, потому что создана для любви, — говорила я себе. — Твое ученое воспитание, твои порывы, безрассудные мечты и безмерная жажда идеала — все это свелось к желанию любить. Твою душу не тревожило светское тщеславие, не влекло богатство, положение в обществе, шумный успех — ими ты пожертвовала без сожалений. Люби же, но только тех, кого должна любить. Беспредельная преданность Женни требует от тебя такой же преданности, и мечтать об иной любви значит замышлять кражу». Эти раздумья всегда были коротки, а выводы решительны. Я запрещала воображению подымать голос, не ведала больше бездеятельного и мучительного самосозерцания, считала, что имею право любить себя, только если чего-то стою, казнилась за то, что прежде любила, не задумываясь о своих недостатках. К тому же, по счастью, у меня почти не оставалось свободного времени — надо было зарабатывать на хлеб насущный. День проходил в труде, и когда наступал вечер, я бывала довольна собой. Я видела, что Женни спокойна, Фрюманс счастлив, аббат Костель весел, и знала, что это моя заслуга, так как одним-единственным словом могла бы все разрушить — и чуть было не разрушила. Край, который на какое-то время стал мне так ненавистен, что любой ценой я стремилась покинуть его, надеясь найти забвение в еще неведомых местах, исподволь вновь завладевал мной, и я этому не противилась. Мои знания могли бы умножиться, способности — развиться, веди я ту жизнь, для которой была воспитана, но в первый же день, когда отказалась от борьбы, меня поразила их бесполезность. Теперь эта бесполезность уже была доказана. Бедность, уединенное существование, заброшенность, лишенное надежд будущее бесшумно и медленно опускались на мои плечи, как опускается неумолимый камень на погребенного заживо. Ужасные обстоятельства, которые должны были бы сломить столь пылкую и вместе с тем рассудочную натуру, как моя, оказались благотворными и счастливыми, потому что неистребимое чувство долга и любовь к жизни толкнули меня не к вялой покорности, а к деятельному приятию совершившегося. Мой корабль потерпел крушение, но я не стала ждать, чтобы смерть поднялась ко мне, а решительно бросилась в море и не утонула — это чудо свершила моя жизненная энергия или несравненная доброта промысла. Захлестнутая волнами, я обнаружила на дне новый мир, сокровенный и таинственный, к которому так быстро привыкла, что у меня появился новый орган дыхания, и солнечные лучи стали казаться мне и нежнее, и прекраснее, чем, быть может, тому, кто живет на поверхности земли. Как мне нравилась эта метафора! «Начни ты бороться, — говорила я себе, — тебе пришлось бы мучительно, бесцельно, постыдно барахтаться между двух стихий — между простонародьем и аристократией, никому не внушая доверия или прочной дружбы, изредка ослепляя, куда чаще отталкивая. Но ты с головой погрузилась в бездну самоотречения, подобную морской пучине, куда не достигают бури, где разлито холодное и блистающее великолепие покоя». А дело было в том, что наперекор всему мои духовные устремления спасли меня от тоски и отвращения к жизни и что истинным ценностям всегда находится применение. Подобно Фрюмансу, я создала себе внутренний мир и населила его благородными примерами и благородными именами. Если от долгих часов, заполненных повседневными делами, удавалось урвать хотя бы час для чтения, он стоил дней, когда-то целиком посвященных занятиям и глубокомысленным спорам. Я уподобилась крестьянину, который уплетает сытную еду перед тем, как взяться за садовый нож или топор, и чувствует, что теперь у него достанет сил для шестичасового труда. Внимательно прочитав пять-шесть истинно прекрасных страниц, я потом жила ими весь день и с удовольствием чинила кружева или переписывала дела. По вечерам мы шли куда глаза глядят и часа два бродили, разговаривая обо всем на свете: ползущий муравей наводил нас на мысли о вселенной, пастушок, ведущий козу, — на мысли об истории человечества. По ночам, вместо изнурительных бессонниц или искушающих сновидений, беспробудный сон! Если порою налетевший вихрь гремел расшатанными черепицами на крыше приходского домишки, где Женни наконец все же решилась устроить мне жилье, уединенное и довольно удобное, я просыпалась и с удовольствием слушала, как постепенно стихали порывы ветра. Я сумела свести свою жизнь к самым простым вещам, и теперь грозы небесные так же мало страшили меня, как душевные грозы. Если ветер снесет часть крыши — что ж, починить ее и недолго и недорого. Куда хуже, когда рушится дворец! Если принесенные в жертву мечты порою томят сердце — что ж, стоит один день поработать и устать, и от них не остается следа. Куда хуже, когда рассыпаются воздушные замки! Я никогда не отличалась кротостью. Женни твердила, что я великодушна, но это ведь не одно и то же. Добром из меня можно было веревки вить — подумаешь, какая добродетель! Я соглашалась не быть плохой при условии, что другие будут совершенны. Новая жизнь научила меня не считать свои взгляды безошибочными, а желания — для всех обязательными. Я их подчинила разуму и твердому долгу и быстро привыкла менять или даже гнать прочь, как птиц с дерева: они найдут другое пристанище, в лесу сколько угодно ветвей. Я вовремя постигла эту науку, потому что Женни после замужества все же изменилась характером — властные повадки супруги передались и матери. Сердце ее не остыло ко мне, напротив, я думаю, она по-прежнему старалась сдержать свою любовь к Фрюмансу из боязни, что какая-то мысль или желание хотя бы частью будут посвящены не мне. Но недавний недуг немного расшатал ее нервы, она уже не была такой терпеливой и, случалось, сердито распекала меня, если я отказывалась взять к себе в комнату все, что получше, из нашей скромной обстановки или кусок повкусней за обедом. В былые времена я встала бы на дыбы или надулась, а теперь только радовалась, что воля Женни подавляет мою волю и ставит меня на место — меня, некогда так злоупотреблявшую ее кротостью. Иногда Фрюманс начинал тревожиться — а вдруг эти резкие вспышки обидят меня, но я всякий раз его разуверяла: — Очень хорошо, что она отчитывает меня, — я наконец чувствую, что Женни мне мать, а не няня. Этой воркотней она только доказывает, что я член семьи, своя в доме. С первых же дней совместной жизни этих существ, поистине созданных друг для друга, их взаимная привязанность стала проявляться в формах столь спокойных и сдержанных, точно они были женаты добрый десяток лет. Женни, за время болезни похудевшая лицом и фигурой и поэтому особенно моложавая и привлекательная, не позволяла себе ни малейшего проявления чувств, несовместных с достоинством ее возраста, а Фрюманс хотя и был, как я подозреваю, без меры влюблен, так тщательно скрывал свое счастье, что я никогда не чувствовала себя с ними лишней. Как я была признательна им за это благородное целомудрие, охранявшее мою душевную стыдливость! Их прекрасные глаза были всегда безмятежны, взоры, обращенные ко мне, неизменно ласковы, и я ни разу не приметила, что мое появление кого-то смутило или раздосадовало. Я поистине была любимой дочерью, и супруг Женни не только не стал между мной и ею, но, напротив, придал нашим отношениям законченность и незыблемость. Единственное, что постоянно терзало Женни, это желание побыстрее улучшить нашу общую участь, особенно мою, — она никак не могла свыкнуться с тем, что я занимаюсь физической работой. Послушать ее, так я должна была сидеть сложа руки, пока она гнет спину, и тратить ее сбережения на красивую мебель и изящные туалеты. Но тут я была неколебима, и постепенно Женни успокоилась, убедившись, что мне приятно жить точно так, как живет она, обслуживать себя и трудиться в поте лица. Должна сказать, что местные жители очень помогали нам и старались облегчить наше скудное существование. Соседи любили нас, госпожа Пашукен, милейшая женщина, непрерывно баловала вниманием и маленькими подарками, крестьяне со всей округи и тулонские рабочие, которых мы в свое время часто нанимали для всяких поделок в Бельомбре, своим добрым отношением выражали протест против наших недоброхотов. По воскресеньям эти славные люди приходили к нам в гости и, видя, что я весела, не грущу о былом достатке и с удовольствием тружусь, преисполнялись ко мне почтительными чувствами, граничившими с поклонением. Южане всегда склонны к крайностям. Их неодобрение частенько принимает оскорбительную форму, зато приязнь быстро переходит в восторженное обожание. Я по-прежнему была для них «барышней», поэтому в ответ на просьбу не раздражать аристократов и забыть, что когда-то я звалась де Валанжи, они упрямо стали величать меня «барышней де Бельомбр». Если бы леди Вудклиф и удалось добиться маркизата для своего сына, все равно она не смогла бы лишить меня этого титула, подаренного бесхитростными душами. Но еще важнее столь своеобразного восстановления в правах было то обстоятельство, что благоволение ко мне простонародья передалось и другим сословиям. Это обычная история, потому что не существует клеветы, которая устояла бы против слов «любим народом». Надменнейшие правители добиваются любви малых сих и, если не могут внушить ее личными качествами, стараются купить благотворительностью. Я была бедна, никого не задаривала, так что любовь ко мне была бескорыстна. Женни пользовалась единодушным уважением — все видели, как по воскресеньям она в одиночестве отправлялась в город отнести сделанную нами работу и взять новую, меж тем как я, отнюдь не стараясь вызвать интерес к себе необычностью своего положения, занималась в ее отсутствие хозяйством и разговаривала только с людьми, пришедшими навестить меня. Вскоре ко мне стали приходить и предлагать услуги зажиточные тулонцы, а потом выразили желание взять меня под свое покровительство и сливки общества с господином де Малавалем во главе. Они даже собирались вступить в переговоры с моими врагами, но я этого не захотела, и тогда возмущение преследованиями, жертвой которых я стала, сделалось особенно громогласным. Когда по заявлению леди Вудклиф тулонский суд лишил меня прежних гражданских прав, основываясь на моем отказе от тяжбы, поднялся всеобщий ропот против жестокости этого богатого семейства, все отнявшего у меня только затем, чтобы иметь право предложить как милостыню средства к существованию, которые я не хотела и не могла принять. Моей гордости было воздано по заслугам, и в народе даже поговаривали, что меня надо с триумфом пронести на руках по городу, а некую мельницу следует предать огню. Нам удалось утишить эту бурю, но теперь никакая клевета по моему адресу уже не имела надежды на успех, и госпожа Капфорт, принужденная замолчать, изгнанная из нескольких влиятельных домов, начала отрицать свою враждебность ко мне и лицемерно повторяла, что была введена в заблуждение. Она попыталась примириться со мной, делала мне авансы, но я молча их отвергла. Тогда она снарядила ко мне Галатею. Ее я приняла приветливо, но сдержанно, и дальше разговоров о погоде не пошла. Слуги из Бельомбра, возглавляемые Мишелем, тоже часто наведывались ко мне и, не воспротивься я, перетаскали бы оттуда в Помме все цветы и фрукты. С большим трудом я внушила им, что не имею теперь права ни на что, ни на единую розу из нашего сада. Сколько из-за этого было слез и сетований, признаюсь, слегка раздражавших меня! Я вовсе не считала себя такой уж несчастной — ведь мне удалось обрести драгоценный клад мудрости, а эти добрые люди не ставили его ни во что!LXXVII
А как тем временем вел себя Мариус? Он не осмелился навестить меня — правда, Галатея во время своего визита дала понять, что ему хочется прийти, дело за моим согласием. Я пропустила ее намеки мимо ушей, считая, что Мариус мог бы обойтись без посредников, особенно таких, как мадемуазель Капфорт. Через год и три месяца после моего водворения в Помме я получила следующее удивительное письмо:«Люсьена, я потерял место, и в этом есть доля твоей вины. Если бы ты рассеяла ошибочное мнение о себе, возникшее у меня, да и у других в ту пору, когда еще можно было загладить вину, которую ты мне приписывала, я сейчас не расплачивался бы за твои беды, не прослыл бы неблагодарным человеком из-за того, что не женился на тебе. Вспомни, ты сама отказалась от меня. Но сколько я ни твержу об этом, мне не верят и наносят такие оскорбления, что я уже несколько раз был принужден драться на дуэли. После этого меня стали считать забиякой и сумасбродом, я потерял доверие своих покровителей и вот остался без гроша в кармане, так как никаких сбережений мне сделать не удалось. Положение, созданное мне в свете, обязывало меня жить на широкую ногу, и я не имел возможности откладывать про черный день. Что же прикажешь мне делать в таких обстоятельствах? Никакого ремесла я не знаю, твоя бабушка виновата, что не позаботилась об этом, раз уж не собиралась оставить мне хоть какое-нибудь наследство. Как видишь, я не могу предложить тебе поддержки — я и себя-то не могу поддержать. Унизиться до гнусностей и позора нищеты я не в состоянии и вот, дойдя до крайности, увидел, что мне остается или утопиться, или дать согласие на брак с особой, которую я, разумеется, не люблю и при всем желании не могу принять всерьез. Ты догадываешься, о ком речь. Она пыталась поговорить с тобой обо мне, хотела все рассказать, но ты пренебрежительно отвела взгляд и поспешно прервала разговор. Ты презираешь меня, Люсьена, ненавидишь, быть может… Эта мысль невыносима. Напиши хоть слово, скажи, что простила меня или хотя бы забыла, иначе я способен взять назад обещание, вырванное доктором Реппом, и пойти служить в испанскую или австрийскую армию, скрыв имя, которое не имею права пятнать».«Дорогой Мариус, — ответила я, — стань вы французским солдатом, ваше имя, на мой взгляд, не было бы запятнано, но мы не сходимся во мнениях, и мне вас не переспорить. Раз вы не способны унизиться до гнусностей и позора праздной и слабодушной нищеты, женитесь на богатой, но попытайтесь относиться к вашей жене хотя бы с уважением и приязнью. Только от вас зависит сделать ее такой, чтобы вам можно было принимать ее всерьез. Пусть же это станет целью всех ваших стремлений. Обещаю по мере сил помогать в этом, всюду говоря о ней так, как того заслуживала и, надеюсь, всегда будет заслуживать кротость ее характера. И это обещание, и этот совет — достаточно убедительное свидетельство того, что никаких дурных чувств я не таю и по-прежнему желаю вам всяческого счастья».
Через несколько дней было объявлено о помолвке Мариуса с мадемуазель Капфорт. Галатея написала мне:
«Моя добрая Люсьена, я знаю, как ты великодушна и какие хорошие советы дала Мариусу. Поэтому спешу сообщить приятную тебе новость: твоей мачехе не удалось сделать из Бельомбра маркизат для сына, и, говорят, она вообще остыла к этому плану, потому что собирается в третий раз выйти замуж, и ее будущий муж, старый английский лорд, обещает передать пасынку свое пэрство. Ходят слухи, что Бельомбр пойдет с торгов, и, не скрою, мама и доктор мечтают купить его для нас с Мариусом. Надеюсь, это удастся, и тогда я предоставлю тебе помещение и стол. Ты, конечно, не захочешь огорчить меня отказом. Любящая тебя по гроб жизниИтак, всеми презираемая и осмеянная госпожа Капфорт все же добилась своего! Она оклеветала меня, лишила наследства и дома, осуществила свою заветную мечту — выдала дочь за дворянина, и этим дворянином был Мариус! Она отняла у меня имя, жениха, состояние, а теперь собирается завладеть моим родным гнездом и будет мирно стариться в кресле, где на моих глазах умерла бабушка! — Нет, — возразил Фрюманс, когда я поделилась с ним этими размышлениями, — кресло, во всяком случае, вне опасности: оно приведено в порядок и стоит в укромном уголке у Пашукена. Я собирался перенести его к вам в день ваших именин. — Как же вам это удалось, Фрюманс? Разве его уже назначили к продаже? — Нет, купить его я не мог, поэтому украл. — Украли? Вы? — Да, для вас, Люсьена. Я изучил этот почтенный предмет, обмерил со всех сторон, зарисовал и, с помощью Мишеля, — он неплохой обойщик, — соорудил точно такое же кресло, которым и подменил принадлежавшее вашей бабушке. Мы это проделали ночью, в полной тайне, как два грабителя, и оба были очень довольны собой. Я с радостью унес бы и питтосфор. Это невозможно, но есть такое местечко в горах, ничем не примечательное и мало кому ведомое, где отлично прижилась одна из его дочерей — как-нибудь утром мы пересадим ее к вам под окно. Еще я украл вашу детскую кроватку для Женни и даже собрал во дворе перед домом осколки «принцессы Пагоды» и склеил их. Теперь статуэтка сушится у меня в мастерской. — Чудесно, мой друг! Обнаружь ее в Бельомбре Мариус, он, несомненно, разбил бы бедняжку вторично. Итак, я стала укрывательницей краденого, но, как и вы, не испытываю угрызений совести. А теперь посмеемся над заманчивым предложением, только что сделанным мне: вы только представьте себе — я бесплатно живу и столуюсь у будущей госпожи Галатеи де Валанжи! Право, я должна быть признательна ей: если что-нибудь может заставить меня гордиться потерей имени, то лишь сознание, что подобрала его она. — Будьте доброй до конца, — сказал Фрюманс, — и поблагодарите ее без издевки и горечи, иначе мамаша сочтет, что в вас говорит уязвленное самолюбие. Я так и поступила — совет Фрюманса совпал с моим собственным намерением. Но Мариус в своей жалкой нерешительности все еще не оставлялменя в покое. Накануне свадьбы он снова написал мне: «Люсьена, это свершится завтра. Пожалей меня. Испытание так жестоко, что, кажется, оно свыше моих сил. Поклясться в вечной любви и верности этому ничтожному существу, смехотворному, слабоумному! Войти в это отвратительное семейство, молчать, когда мерзкая интриганка станет называть меня своим сыном! Я всякий раз буду вспоминать, как твоя бабушка, назвав меня этим же словом, соединила наши руки… В тот день мы любили друг друга, Люсьена! Ты питала ко мне только дружескую приязнь, но я, хотя и старался не подавать вида, чтобы не вспугнуть тебя, я был по-настоящему влюблен! Не смейся, нет человека, который хоть раз в жизни не заплатил бы этой дани. Заплатил и я и чувствую, что больше никого не смогу полюбить. Моя любовь оказалась ненадежной, не спорю, но надежнее ли была любовь других, покинувшего тебя Мак-Аллана, например? Послушай, Люсьена, у меня голова идет кругом. Слишком все это ужасно для меня. Ты согласилась присутствовать на брачной церемонии, не захотела прийти на бал, но обещала Галатее появиться в мэрии. Может быть, ты не собираешься сдержать обещание — так вот, спаси меня, приди! Увидев тебя, я найду в себе мужество все порвать, сказать «нет», крикнуть во всеуслышанье, что люблю только тебя, отомстить всем твоим врагам, жениться на тебе! После этого, никому не нужный, униженный нищетой, я пущу себе пулю в лоб, но оставлю тебе имя, которое никто не посмеет оспаривать, искуплю свою вину и умру довольный. Люсьена, приди! Надежда увидеть тебя даст мне силы дотащиться до мэрии». Разумеется, я никуда не пошла, хотя вначале и собиралась, желая показать, что все простила и забыла. Мариус не сбежал из-под венца, он благополучно пошел и в мэрию и в церковь. Назавтра он через посыльного попросил вернуть все его письма, что я и сделала. По уморительному совпадению, тот же посыльный вручил мне записку Галатеи, в которой она тоже просила возвратить ей адресованные в Соспелло «безрассудные признания в необдуманной склонности» к Фрюмансу. К счастью, Джон перед нашим отъездом передал мне эти письма, которые я так и не прочла, и теперь отправила их Галатее нераспечатанными, посоветовав подручному мельника, исполнителю сей деликатной миссии, не перепутать пакеты, когда он будет вручать их порознь мужу и жене.Галатея».
LXXVIII
Прошло еще несколько месяцев, ничего не изменивших ни в моих обстоятельствах, ни в расположении духа. Участь моя вовсе не была плачевна, мы жили достойно и просто, откладывая, можно сказать, по грошу на случай болезни, пожара, каких-нибудь нехваток. Женни по-прежнему мечтала выбраться из Помме и поселиться в таком месте, где я нашла бы подходящее для себя общество, а она — возможность больше зарабатывать, но аббат Костель был в полном здравии. Этот превосходный человек, добрый и нетребовательный, так радовался нашей совместной жизни, что и мы, в общем, от всей души желали ему долголетия. Переговоры доктора Реппа с господином Бартезом о продаже Бельомбра все еще ни к чему не привели. Господин Бартез твердил, что не может ничего решить, пока леди Вудклиф не выйдет замуж и не закрепит титул своего третьего супруга за старшим сыном. Таковы были указания Мак-Аллана от имени его клиентки. — Но если леди Вудклиф снова собирается замуж, значит, Мак-Аллан больше ее не любит и их прежняя связь порвана, — так в простоте душевной рассуждала Женни. — Другими словами, никакой серьезной связи и не было, раз они никогда не собирались вступить в брак, — отвечал ей Фрюманс. Я не вникала в эти разговоры и тем более не вмешивалась в них. Мое озлобление против возлюбленного леди Вудклиф прошло. Он принял мой приговор и не пытался меня обмануть. Этот ловелас, которого считали таким опасным, настойчивым, неотразимым, был побежден моей прямотой. Молчание было единственной достойной меня данью, единственным возможным знаком уважения ко мне, и то, что он это понял, уже говорило в его пользу. Словом, по моему мнению, Мак-Аллан был человек легкомысленный, но не низменный: он мог бы меня погубить, но не осмелился, мог бы очернить в общем мнении, но не захотел. Я утешалась тем, что до самого конца он хотя бы считал меня женщиной, заслуживающей более серьезного отношения, чем предметы его прежних увлечений. Все остальное я старалась забыть и прощала Мак-Аллана — при том непременном условии, чтобы он не воскресал из мертвых. Бывали минуты, когда я жалела о гибели былых иллюзий, бывали и такие, когда, ни о чем не вспоминая, я потихоньку горько плакала, — минуты, когда мое оледенелое сердце было словно тяжелый камень в груди. И все равно я жила, двигалась, всегда улыбалась и прилежно работала. Однажды вечером, вернувшись из города, Женни сказала мне: — Знаете, какие ходят слухи? Будто леди Вудклиф умерла, так и не успев выйти замуж. Значит, ее сын не будет ни герцогом, ни пэром, ни Вудклифом, ни лордом, ни маркизом. Он просто Эдуард де Валанжи, провансальский дворянин, хотя и несметно богатый. — Что ж, вот еще один замысел, разрушенный обстоятельствами, — такова судьба всех замыслов на этом свете. Люди тщетно тратят огромные усилия, чтобы причинить другим хоть немного зла. Эта достойная жалости женщина измучила себя честолюбием и ненавистью — и все же не смогла сделать меня несчастной. Пусть Всевышний дарует ей покой — она, должно быть, очень нуждается в нем. Через несколько дней меня навестил господин Бартез — он и его жена были безукоризненно внимательны ко мне — и подтвердил принесенную Женни весть: моя мачеха умерла, и ее сын, недавно достигший совершеннолетия, согласился на продажу Бельомбра. — Значит, поместье приобретет Мариус, так ведь, господин Бартез? — полюбопытствовала я. — Сомневаюсь, — ответил он. — У него есть опасный конкурент, и напрасно доктор Репп будет вытряхивать сундуки: он все же убил недостаточно больных, чтобы дать цену выше той, которую предлагает один из моих клиентов. — А кто он такой? — Некто, не питающий, видимо, симпатии к госпоже Капфорт. Испугавшись, что мой вопрос может показаться попыткой проникнуть в деловую тайну, я переменила тему разговора. Неделю спустя Женни с Фрюмансом уехали в Лавалет за какими-то хозяйственными покупками. Когда приблизился час их возвращения, я поспешно закончила работу и пошла им навстречу — они попросили меня об этом перед отъездом. Дорога моя шла через Бельомбр, но теперь меня это не смущало, я уже совершенно свыклась с мыслью, что он принадлежит не мне. Был чудесный зимний день. О заморозках и снеге в наших местах знают только понаслышке, в декабре еще совсем тепло, и вечера в эту пору иной раз мягче летних дней после грозы. В природе царят мир и безмолвие, она словно замыкается в себе перед тем, как отойти ко сну, светится смутной улыбкой, прежде чем погрузиться в зимнее оцепенение. Я шла быстрым шагом, засветло перешла Дарденну и ничуть не тревожилась приближением ночи — все крестьяне в округе были моими преданными друзьями. Тем не менее меня удивило и даже обеспокоило пристальное внимание незнакомого всадника, с которым я встретилась на горной тропе. Он был молод, одет как подобает в деревне, но элегантно, короче говоря, ничем не напоминал обычных наших прохожих — мельника, ведущего мула на водопой, или батрака, который несет на плече весь свой рабочий инструмент. Случайно или намеренно, но при моем приближении он спешился; теперь лошадь следовала за ним. Когда мы поравнялись, незнакомец, поклонившись, замедлил шаг, но не посторонился, словно собираясь заговорить со мной. Обойдя его и слегка кивнув в ответ, но глядя в сторону, я продолжала быстро идти. Шаги стихли — видимо, он остановился. Я пошла еще быстрее и уже поравнялась с конем, который отстал от хозяина, в отличие от Зани, всегда трусившего за мной, когда я бросала уздечку ему на шею. Он мирно щипал траву, как вдруг, к несказанному моему удивлению, поднял голову, посмотрел на меня выразительными глазами и, негромко и радостно заржав, направился ко мне. То был Зани, слишком отяжелевший для такого юного всадника, но ухоженный, гладкий, покрытый красивой сеткой от оводов — из-за этой сетки я не сразу узнала его. Невольно остановившись и погладив Зани, я оглянулась на его нового хозяина. Тот направился ко мне, поэтому я снова двинулась в путь, но у Зани были другие планы: он пошел за мной и, вздумай я побежать, несомненно, тоже пустился бы рысью, — ведь я сама и приучила его к этому. Мне вовсе не хотелось, чтобы юнец, который на вид был несколькими годами моложе меня, решил, будто я спасаюсь от него бегством, такая пугливость была бы просто смешна. Поэтому я опять остановилась, ожидая, что он заберет Зани, который с независимым видом скакал возле меня. Когда хозяин был уже почти рядом, конь взбрыкнул, с прежним изяществом и даже проворством стал на дыбы и в мгновение ока оказался на лугу, как бы освобождая меня от ответственности за него. Я думала, молодой человек бросится догонять коня, но вместо этого он решительно подошел ко мне. — Мадемуазель де Валанжи, — сказал он, — вы узнали Зани, но меня вы не знаете; тем не менее я имею куда больше прав на вашу нежность. Поэтому прошу вас, не откажите в моей просьбе и поцелуйте меня, ради этого я и выехал вам навстречу. От столь необычной речи я остолбенела, но так как счесть ее объяснением в любви было бы нелепо, скорее удивилась, чем испугалась. Почтительный и прямодушный вид мальчика до смешного не соответствовал дерзости его слов. Красивое лицо с ярким румянцем, белокурые волосы, английский акцент, стройная фигура, возраст, то обстоятельство, что он вместе с Зани оказался здесь, возле Бельомбра, его притязания на мою нежность, бесхитростная просьба подарить братский поцелуй… Я задрожала. — Вы Эдуард де Валанжи, старший сын леди Вудклиф! — воскликнула я по-английски. — Да, сын вашего отца, который хочет быть вам братом. Не говорите «нет», Люсьена, вы смертельно меня огорчите!LXXIX
Протянув ему руку, я сказала: — Вижу, голова у вас романтичная, а сердце благородное, но относиться к вам как к брату я не могу. Вы сами знаете, мне неизвестно мое происхождение. Я храню в душе образ старой женщины, которая меня воспитала, убедив себя, что я — ее плоть и кровь. Но мне внушили, что это недоказуемо, и я решила даже и не искать доказательств. Как видите, у меня нет прав на вашу дружбу; все же я тронута таким добрым порывом и признательна за него. Будьте здоровы, сударь. Хотите, я позову Зани и передам его вам из рук в руки? Когда-то он слушал только меня. — Пусть сам вернется в свою прежнюю конюшню, а мне еще надо поговорить с вами. Позвольте мне предложить вам руку. — Это бесполезно, все равно я не могу ничего принять от вас. — Можно ли быть такой жестокой? — с упреком и огорчением в голосе воскликнул молодой англичанин. — Вы ничего не прощаете! Но ведь моя мать умерла, надо ли напоминать мне сейчас о том зле, которое она вам причинила? Я заверила его, что все забыто и прощено, просто я хочу сохранить положение, которое сама себе создала. — Знаю, знаю, теперь я все о вас знаю, — сказал он. — Меня долго не посвящали в вашу историю, иначе вам давно уже было бы известно о моем отношении к ней. Я обязательно написал бы вам, но мне подробно рассказали о вас только после смерти матушки, и тогда я распорядился выкупить уже проданное мною поместье Валанжи. Для этого я и приехал сюда — вернуть вам наследство нашей бабушки, потому что оно ваше, есть тому законные доказательства или нет. Как старший в семье, я имею право признать вас своей сестрой, которая носит то же имя, что и я, мне не надо иных свидетельств вашего происхождения, кроме утверждения бабушки, воспитавшей вас, ее воли, выраженной в завещании, и любви к вам. Мою мать ввели в заблуждение. Позвольте мне не винить ее в этом. Она верила, что все должна принести в жертву честолюбивым мечтам о моем будущем. Но я не честолюбив, а денег у меня куда больше, чем нужно при моих потребностях и вкусах. Мне старались привить понятия, чуждые моей натуре. Я не гонюсь за чинами и титулами, я не лорд Вудклиф, хотя матушка и пыталась ввести меня в семью своего первого мужа, не маркиз де Валанжи, потому что у моего отца не было титула, не англичанин, потому что и он и его семья — французы. Я хочу жениться по велению сердца на молодой француженке, которую давно люблю… Не улыбайтесь, Люсьена, мне уже двадцать лет и чуть не с детства я люблю гувернантку моих сестер. Сейчас ей столько лет, сколько вам, и я никогда не полюблю другую. Видите, я открыл вам всю душу, отнеситесь же ко мне с доверием и не разбивайте прекрасной надежды, которая привела меня сюда. Могла ли я не растрогаться словами моего брата! Мое сердце по-матерински открылось ему, но ведь я столько раз твердила себе, что родилась, быть может, в семье цыгана! Вот я и противилась иллюзии, в которую Эдуард верил со всем романтическим пылом юности, зная обо мне не больше, чем я сама! Несмотря на его настояния, я уже собиралась проститься с ним, все же позволив навестить меня в Помме, но тут вверху на тропинке появились Женни и Фрюманс. — А вот и моя семья, — сказала я Эдуарду. — Другой у меня нет, и только от нее я могу принять кров и пищу. Знайте, мои права на ваше великодушие никогда не будут подтверждены, и поймите, взять от вас то, что вы предлагаете, значит отказаться от независимого и спокойного будущего. В обществе, да и среди ваших близких всегда найдется кто-нибудь, кто усомнится в моих правах и в зрелости вашего решения. В их глазах я снова стану авантюристкой — и это после стольких усилий завоевать достойное положение, ограждающее меня от упреков в корыстолюбии! Такое положение, дорогой мой мальчик, стоит любых дворянских привилегий, и я дорожу им больше, чем радостями благосостояния, без которых научилась отлично обходиться. Поэтому я предлагаю вам дружбу, доброжелательные советы, если они вам понадобятся, и признательность за благородные намерения, но взамен ничего не возьму. — Но вам не приходит в голову, Люсьена, — горячо возразил он, — что положение, в которое вас поставили, ложится позорным пятном на меня, и смыть его — вопрос чести! Тут заколебалась и я, а так как Женни с Фрюмансом были уже близко, сказала, что посоветуюсь с ними. — Ну, тогда победа будет за мной! — воскликнул Эдуард. — Я с ними долго беседовал, они теперь хорошо знают меня и верят! И действительно, Эдуард поздоровался с ними как с друзьями, с которыми расстался час назад. Оказалось, он остановил их на дороге, часть дня продержал в Бельомбре, где во все посвятил, и, узнав, что я собиралась выйти к ним навстречу, заранее выехал на тропу, намереваясь познакомиться со мной. — Еще успеете наговориться! — сказала Женни, подталкивая нас друг к другу, чтобы мы обнялись. — Мы вернемся в Бельомбр и там все обсудим. Вы, господин Эдуард, идите туда сейчас с моим мужем, а я немного отдохну здесь с Люсьеной, мне надо кое-что сказать ей. Когда мужчины ушли, Женни усадила меня рядом с собой на камень. — Послушайте, — сказала она, — я теперь многое знаю, не зря господин Мак-Аллан больше двух лет старался докопаться до истины. Наконец ему удалось все выяснить, и сегодня он написал мне о своем открытии. Вот почему я так серьезно слушала этого мальчика Эдуарда — он очень достойный мальчик, за это я ручаюсь, но знать ему ничего не нужно и нельзя. — Дай мне письмо Мак-Аллана, Женни, от твоих преамбул у меня голова идет кругом. — Все равно вы не сможете прочесть, уже совсем стемнело. Я расскажу, о чем он пишет, только сперва сделаю маленькое вступление, вы уж не сердитесь. Это такое серьезное дело, Люсьена, что я сегодня раз пятьдесят спрашивала себя, надо ли вам знать о нем. Фрюманс решил, что надо. Эта тайна умрет вместе с нами тремя и Мак-Алланом, а вы не должны портить себе жизнь неразумной щепетильностью. Грех есть грех, но дети не вправе судить виновных родителей, они, если хотите, должны искупать их проступки. Ну, а приемные родители обязаны смотреть, чтобы искупление не стало вечным: это было бы несправедливо, Бог такого и не требует… — Ничего не понимаю, Женни! — воскликнула я. — Мне страшно тебя слушать. О каком грехе ты говоришь, о каком искуплении? Ты хочешь сказать, что я должна стыдиться своих родителей? — Стыдиться надо, только если сам провинишься, — сказала она, беря меня за руки, — а мать всегда мать. — Понимаю. Моя мать… — Была кроткая женщина, правдивая, красивая и добрая. Ей случилось увлечься, забыться, попасть в беду. Она во всем призналась мужу и умерла с горя. Вы ведь прощаете ее, Люсьена? — Конечно, прощаю! Будь она жива, я все равно любила бы ее и постаралась бы утешить. Расскажи мне о ней. — Я уже все рассказала. — Но кто она? — Первая жена так называемого маркиза де Валанжи. — Значит, бабушка… — Не была вам бабушкой по крови, но перед законом вы все равно мадемуазель де Валанжи, и пусть Эдуард думает, что он ваш брат. Вы имеете право на это имя. — Ценою лжи! — Вы обязаны хранить тайну вашей матери. Господин де Валанжи обо всем молчал — речь шла о его чести. — Но кто же меня похитил? — Вы не догадываетесь? — Нет. Говори же! Это был?.. — Он, сам маркиз, оскорбленный, мстительный муж. Он знал, что девочка не его, и хотел, чтобы она навсегда исчезла. Не знаю, как он свел знакомство с Ансомом, но есть подозрения, что похитить вас помогла ваша кормилица и что отчасти из-за угрызений совести она и сошла с ума. Ансом получил деньги за похищение — Мак-Аллан нашел подтверждение этому в секретном семейном архиве. Там было письмо от моего несчастного мужа, он просил еще денег на переезд в Америку и сообщал, что ребенка воспитывает его жена, которая никогда ни о чем не узнает, и что он хорошо исполнил поручение маркиза. Вот какое это темное дело. Но мы не можем воспользоваться найденными бумагами, потому что маркиз вписал в них признание, вырванное у вашей матери. Теперь понятно, почему он не желал признать вас и не приезжал во Францию. Не опротестовывайте же решение суда, лишившего вас наследства, но согласитесь носить прежнее имя, раз, к своей чести, на этом настаивает Эдуард. — Ах, Женни, Женни, какая горестная история! И зачем ты рассказала мне ее! — Чтобы вы знали — если Мак-Аллан и был когда-то возлюбленным леди Вудклиф, вас это не касается. — При чем тут легкомысленный Мак-Аллан, когда меня терзают такие тяжкие и мрачные мысли! Моя бедная мать умерла, когда узнала, что меня похитили? — Да, и ваше похищение — лучшее доказательство того, что она раскаялась и призналась в своем грехе мужу задолго до смерти. Судя по тому, как он с вами обошелся, чистосердечие не принесло ей счастья, но все же она раскаялась, а скорбящая душа, искупив грехи, возвращается к Богу. Любите и уважайте свою мать, Люсьена, она, несмотря ни на что, теперь на небесах. Поразительная женщина! Ее простые слова проникали в глубину сердца и возвышали его. Я поцеловала ей руку. — А сейчас скажи правду до конца, я ко всему готова, — попросила я ее. — Кто мой отец? — Какой-то испанец, очень красивый, знатный, блестящий. Вот и все, что о нем известно. Мак-Аллан как будто догадывается, кто он, но не уверен, поэтому не называет его имени. Он, кажется, давно уже умер. Не думайте о нем больше. И нам пора в Бельомбр, там вы узнаете еще кое-что.LXXX
Я была так потрясена, что покорно шла за Женни, ничего не замечая вокруг, словно все это происходило во сне. У меня больше не было слов, и я молча слушала Женни, добавлявшую еще какие-то подробности к своему рассказу, но они, достигая слуха, не задевали сознания. Я понимала, что начинается новый этап в моей жизни, но какой — не знала, потому что над прошлым и над будущим витала скорбная тень. Она так завладела моим воображением, что у входа в Бельомбр я испуганно остановилась. — Женни, — воскликнула я, — там, кажется, стоит призрак моей бедной матушки и воспрещает мне входить в дом ее мужа! — Где вы ее видите? — спокойно спросила Женни. — Там, перед решеткой, — ответила я, дрожа от ужаса и точно в бреду. — Нет, вам это только чудится, — произнесла она и указала на небо. — Взгляните туда, на прекрасную светлую звезду, которая блестит над крышей: это улыбается вам ваша матушка, она видит, что вы счастливы, и, значит, ее грехи прощены. Поддавшись власти этих простодушных и поэтических слов, я вошла в калитку и сразу погрузилась в непроглядную тень огромных сосен, окружавших дом. Ночь была безлунная, а деревья так разрослись, что, не знай я дороги к террасе, не раз натыкалась бы на них. Вдруг в этой мгле мои руки оказались в чьих-то руках, маленьких и нежных, непохожих на руки Фрюманса, но все же и не женских. Быть может, в руках Эдуарда? Но почему они так дрожат, почему так тяжело дышит этот человек? Меня словно окутал какой-то жаркий туман, кровь выстукивала в ушах непонятные слова, голова кружилась, а тот, кто стоял рядом, продолжал молчать. Появился Эдуард, освещая дорогу фонарем. Мои руки сжимал он, Мак-Аллан. — Дорогая сестра, — сказал Эдуард, когда мы вошли в гостиную, — не отнимайте рук у этого человека, так преданного вам. Вы, конечно, знали, что я знаком с Мак-Алланом, но сейчас позвольте представить его вам как моего лучшего друга. Мы подружились три года назад, уже после смерти отца. Тогда он не говорил со мной о вас, я был еще мальчиком и все равно ничего не мог бы сделать. К тому же Мак-Аллан считал, что не должен восстанавливать меня против матушки. Но когда я стал хозяином своей судьбы, он первый сказал мне: «У вас есть сестра, достойная уважения и нежности. С ней обошлись несправедливо, оскорбили ее. Возможно, она не захочет ничего принять от вас. Но если вы через меня выкупите ее родное гнездо, — кто знает? — быть может, она примет его от нас с вами, потому что как другие не поняли ее, так она не поняла меня. Но я твердо верю, что смогу снова завоевать ее уважение и доверие». И вот мы вместе приехали сюда и просим вас поселиться в Бельомбре, и если вам нужно, чтобы мы на коленях вымаливали у вас прощение за обиды, против которых мы оба возвышаем голос, и я и Мак-Аллан станем сейчас на колени. Эдуард говорил с такой искренностью, с такой трогательной нежностью, что поблагодарить его я могла только слезами. Женни отвела его в сторону, и мгновение спустя я осталась наедине с Мак-Алланом: наши друзья хотели, чтобы мы поскорей объяснились друг с другом. Я была смущена — теперь мне казалось, что это я виновата перед ним, а он всегда и во всем был прав. Он заметил мое смятение и понял его. — Вы сейчас думаете, что неверно судили обо мне, — сказал он. — Я тяжко страдал из-за вас, Люсьена, но отчасти заслужил это, потому что если и не провинился перед вами, то был очень виноват перед собой и должен искупить прошлую, во многом легковесную жизнь. Вы часто упрекали меня за нее, не зная, что такое эта легковесность, не умея ее определить. Теперь я должен исповедаться перед вами, чтобы хоть немного оправдать себя. Меня воспитали самым плачевным образом. Единственный оставшийся в живых сын из нескольких горячо любимых детей, слабый здоровьем, я был так избалован родителями, что долгое время считал мир, вселенную, жизнь созданными только для меня, для моих удовольствий, удобств, прихотей и развлечений. Живой ум, спасительная приверженность к работе и некоторая гордость защитили меня от грубых пороков, но я всегда жаждал новых впечатлений и был подвержен приступам сплина — этого страшного недуга, терзающего англичан, — если разнообразные и бурные волнения не наполняли до краев мой день. Что говорить, я дурно жил, дурно понимал жизнь, дурно распоряжался временем, дурно тратил сердечный жар. Я постоянно обманывался в любви, но виню за это не любовь и не женщин, а собственную стремительность, слепоту, чрезмерную пылкость чувств, бравших верх над рассудком, и ту потребность в страстях и тревогах, с которой я не умел или, быть может, не мог совладать. Самое серьезное разочарование я испытал по милости леди Вудклиф. Молодая вдова, она была красива, блистательно остроумна, свободна… Когда она предложила мне руку, я возомнил, что завоевал ее сердце, но был отставлен ради маркиза де Валанжи. Этот пошлейший честолюбец, своего рода авантюрист, словом — полное ничтожество, неплохо отомстил за меня, женившись на моей бывшей нареченной. Как я обрадовался, Люсьена, когда уверился, что этот человек вам никто! Леди Вудклиф овдовела вторично, но никаких чувств у меня к ней не сохранилось, хотя она все еще была красива и обольстительна: я благоразумный и снисходительный светский человек, но не подлец и не распутник. Она пожелала снова увидеться со мной, и я появился в ее гостиной, но уже равнодушный к ее чарам. Эта неотразимая женщина была раздосадована, уязвлена моим спокойным прощением. Ей захотелось вновь завладеть мной, а так как я успел разбогатеть, приобрести положение в свете и на ее кокетство отвечал улыбкой, она решила, что на этот раз снизойдет и переменит свое имя на мое. Но я не предложил ей ни имени, ни сердца, ни страсти. Оскорбленная, отвергнутая, она излила гнев на вас; я встал на вашу защиту, вот она и попыталась вас уничтожить, но не столько из неприязни к вам, сколько от злой обиды на меня. Я тогда уже любил вас, Люсьена, и наша противница догадывалась об этом. Но моя любовь была и недостаточно сильна, и недостаточно благородна. Вы были правы, остерегаясь меня и считая, что я вас недостоин. О, я был вполне искренен, я еще раз поверил, что впервые по-настоящему полюбил! И я женился бы на вас — мое слово неизменно, к тому же этот добрый поступок рождал во мне какую-то романтическую радость. Но в мое чувство вплеталось и приятное предвкушение мести: унизить леди Вудклиф, преподать, не совершая вероломства, урок, подобный тому, который она вероломно преподала мне, — это тоже входило в мое желание жениться на вас. Видите, я признаюсь в несовершенстве тогдашней моей любви к вам. Но это еще не все. В ту пору я испытывал страшные приступы ревности к Мариусу, за которого вы вот-вот должны были выйти замуж, и к Фрюмансу, которого от души любил, несмотря на то, что понимал — он достойнее вас, чем я. Однажды я честно признался ему в своей ревности, был высмеян им, пристыжен, исцелен… но ненадолго. Как знать, если бы эти приступы продолжались, мой недуг мог бы стать пыткой для меня, оскорблением для вас. Все равно я не колебался. Мне казалось, я победил предубеждение леди Вудклиф, но вдруг узнал, что она обманывает меня и продолжает добиваться в тулонском суде приговора против вас. Это еще более укрепило во мне и без того твердое намерение жениться, если вы дадите согласие. Я уехал в Англию, хотел привести в порядок дела, чтобы потом всецело и навсегда посвятить вам жизнь. Вернувшись в Париж, уже готовый мчаться в Соспелло, я получил вашу записку: вы не любите меня, любите другого! Я поверил этому и вот тут-то по-настоящему полюбил вас за прямоту, за беспредельное бескорыстие, потому что богатому и известному Мак-Аллану вы предпочли никому не ведомого бедняка, нашего достойнейшего Фрюманса! Женни никогда его не любила, а он любил только вас. Да и могло ли быть иначе? Женни была только ширмой, чтобы отвести подозрения и скрыть от посторонних глаз эту безнадежную страсть. Но вот рухнули преграды между вами и избранником вашего сердца, и вы сразу принесли ему в жертву все надежды на благоустроенную жизнь, обрекли себя на нужду, оторванность от мира, существование в нищей деревушке, заброшенной среди самых унылых гор, какие только существуют на свете! Вы были великолепны, Люсьена! И ведь вы никогда не лгали мне, никогда не поощряли моей любви. Я не имел права жаловаться на вас, был бесконечно несчастен, и выхода моему горю не было даже в негодовании. Леди Вудклиф показала мне ваше письмо с отказом от имени и наследства, и я стал еще больше восхищаться вами, поклоняться вам и горевать, что вы не моя. Как я клял себя — ведь несчастье было делом моих собственных рук: я недостаточно ценил вас, не сумел победить, слишком верил в себя. Надо было еще сильней ревновать к Фрюмансу, бороться с ним, вытеснить из вашего сердца этого скромного и смиренного соперника, который сам готов был уступить мне дорогу и, ни на что не притязая, все же оттеснил меня! Мне следовало быть подозрительным, эгоистичным, страстным, во что бы то ни стало влюбить вас в себя, а я оказался банкротом! Я был слишком стар для вас, но эта старость сказалась не столько в отсутствии внешнего обаяния, сколько в недостатке пламенной настойчивости. Я был подавлен, строил самые безрассудные планы — поехать за вами, похитить вас, убить Фрюманса, — безумствовал, бессильно склонялся под тяжестью приговора: «Она его любит! Что я ни сделаю, ей все будет противно! Надо отказаться от встречи с ней и навсегда остаться ее другом». Когда явился Джон, я был болен, лежал в жару. Не желая вверять столь щекотливую материю письмам, он дилижансом приехал в Париж и рассказал мне о происшедшем. В моем несчастье он винил себя, но повторял, что, зная о моих былых отношениях с леди Вудклиф, не будучи уверен, действительно ли они порваны, не посмел клятвенно заверить Женни в моей нынешней безгрешности. Я простил его и тут же отправил в Тулон, а затем в Соспелло, дав наказ инкогнито часто наведываться в ваши края и подробно писать мне о вас. Я было обрел надежду, но снова утратил ее, услышав о недуге Женни и приписав его тайной любви к Фрюмансу, на борьбу с которой ушли все ее жизненные силы. Мне казалось, что и вы догадываетесь об этой любви и уже никогда не выйдете за Фрюманса, но именно поэтому навсегда сохраните ему верность. Потом я подумал, что если вы утратите Женни и не захотите принадлежать человеку, так сильно ею любимому, вас ожидают одиночество и отчаянье, и дал себе слово навсегда быть вашим другом и опорой, даже и питая к вам неразделенную страсть. Готовый ко всему, я тайно приехал в Бельомбр, дал знать о моем приезде Фрюмансу и встретился с ним ночью на полдороге к Помме. Тут я понял, что он любит Женни и только Женни, а если и любим вами, то как не догадывался об этом прежде, так не догадывается и теперь. О выздоровлении Женни, о ее браке с Фрюмансом я узнал в Соспелло и поймал себя на том, что опять полон надежд. Я поехал в Тулон, снова встретился с Фрюмансом, и он поведал мне, что вы любили меня, любите, быть может, до сих пор, но, считая себя дочерью господина де Валанжи, никогда не сможете преодолеть отвращения к бывшему любовнику его жены. Он множество раз спрашивал вас об этом, убедился, что вы непреклонны, и теперь потребовал, чтобы я либо оправдал себя в ваших глазах, либо больше не тревожил душевный покой, обретенный вами в самоотречении. Я не мог отрицать своей былой связи с леди Вудклиф. Ваша щепетильность казалась мне чрезмерной, но все же достойной уважения. К тому же я был любим! Любим несравненным существом, чья душа была так возвышенна, тверда, непобедима во всех житейских испытаниях! Неужели же мне отказаться от вас? Прекратить борьбу, искать забвения — жалкого лекарства, которое природа приберегает для людей слабосильных, или рассеяния — детской игрушки низменных сердец и охладелых умов? Нет, это не по мне! Вначале меня привязывали к вам долг, самоуважение, потребность в вашем уважении; теперь я чувствовал, что люблю вас настоящей любовью, страстно, без тени недоверия или ревности. Я не понял вас, оскорбил подозрениями и ревностью и вот всю жизнь должен искупать этот грех безграничной любовью и безмерной преданностью. Я дал себе клятву, что вы будете моей, — но как этого достичь? Только одним путем — разгадать тайну вашего рождения. Я ни минуты не верил, что вы дочь этого смехотворного лжемаркиза, и, помнится, уже говорил вам — между вами нет ни единой черты сходства. Внутреннее чувство редко обманывает меня. Я отправился в Бретань, поставив себе целью разыскать вашего похитителя. Мне удалось найти кое-какие подтверждения тому, что обнаружила Женни. Тогда я поехал в Америку и в квебекском архиве лист за листом прочитал все свидетельства о смерти. Ансом действительно сошел с ума и умер в этом городе, но никаких признаний он не сделал. Я вернулся в Англию с намерением вновь завоевать доверие леди Вудклиф и добиться доступа к бумагам, оставшимся, быть может, после смерти господина де Валанжи; я и раньше просил ее об этом, но она всегда мне отказывала. Перед самым моим приездом леди Вудклиф умерла, и ее сын передал мне семейные архивы. Вы знаете, что я там обнаружил, — Женни взяла на себя сообщить вам об этом. Эдуард ничего не знает и не должен знать, поэтому вам надо снова принять имя де Валанжи и не отказываться от законной части наследства. Будьте спокойны, она очень незначительна, а для детей маркиза вообще ничтожна, меж тем, подчинившись установленному обычаю, вы навеки похороните тайну вашей матери. Вот доказательства того, о чем я поведал Женни. Прочтите эти бумаги, и мы их сожжем. Я решил купить Бельомбр еще в ту пору, когда не знал, как отнесется к вам Эдуард, — мне была невыносима мысль, что на обломках вашего крушения воцарится Мариус. А теперь, Люсьена, когда я искупил вину перед вами тремя годами поисков в надежде заслужить вас, теперь, когда несчастье так возвысило вашу душу и так очистило мою, — разве теперь мы не стали достойны друг друга? Если правда, что вы все еще меня любите, не согласитесь ли вы сказать мне об этом?Заключение
«Вот что вы сказали мне, Мак-Аллан, но я не поддалась головокружительному искушению и отказалась вам ответить. Благословляю вашу дружбу, вашу неоценимую помощь и несказанную доброту, но если я любила вас прежде — к чему было бы это отрицать? — то имею ли право сказать, что люблю и сейчас? Нет, не могу и не должна, потому что не знаю, всегда ли моя душа была полна только этим чувством и заслуживаю ли я столь безграничного доверия к моему прошлому? Ваше было исполнено страстей, к которым я не смею ревновать, и все же, помимо своей воли, ревную. Открыв в себе эту потребность страдать, потребность владеть вашим сердцем так безраздельно, чтобы оно забыло все и хранило только мой образ, я с ужасом подумала — не начнете ли страдать и вы, когда я открою вам свое сердце? Любила ли я Фрюманса? Не знаю. Могу поручиться, что Мариуса не любила, но вот тут не поручусь… Теперь, конечно, не люблю, ни о чем не жалею, радуюсь, что он мой друг, что нашел свое счастье. Трудно вспомнить и еще труднее определить страсти, волновавшие меня тогда. Теперь они мне кажутся немыслимыми, необъяснимыми, безумными, нелепыми, владевшими кем-то, кого сейчас уже нет, кто никогда не был мною. Но я вас знала, Мак-Аллан, и уже любила, когда сравнивала с другим, когда брак Женни с ним был моим сознательным желанием и невольной мукой. Быть может, я ревновала не Фрюманса, а Женни? Что говорило во мне — волнение чувств, пробудившихся неведомо для меня самой, воображение, сердце? Словом, то ли я идеальное существо, чистота которого вас так пленяет? Я не смею сказать «да», а вместе с тем во мне столько доброй воли, щепетильности, жажды добра, боязливого целомудрия, настороженной совести, суровости к себе, внутренних борений и бдительной гордости, что произнести приговор: «нет, я недостойна его» — значило бы несправедливо принизить себя. Я попросила вас дать мне время на размышление, время на то, чтобы почти день за днем, шаг за шагом, час за часом восстановить свою жизнь. Я заглянула во все тайники сердца, все вытащила наружу, все подвергла анализу, все записала на бумагу — что ж, читайте! Если вы почувствуете, что моя исповедь будет всегда причинять вам боль — не слушайте голоса жалости. Сил у меня довольно — я это уже доказала. Я не чувствую и никогда не почувствую себя несчастной, потому что завоевала право уважать себя и верить в собственное мужество. Вы совершенно свободны, не бойтесь, что заставите меня страдать — сейчас, подписывая эту исповедь, я думаю о том, что у меня есть ваша дружба и что перед Богом и людьми я ее заслуживаю.Люсьена.Помме, 1 марта 1828».
Ответ
«Бельомбр, 2 марта 1828
Да, я очень страдал, читая, и, может быть, буду страдать всякий раз, когда вспомню о прочитанном. Что из того! Счастье — это беспредельный небосвод, то безоблачный, то покрытый грозовыми тучами, а ваша душа — солнце, и на ней есть пятна, но все-таки она солнце! Кто же такой я? Птица, одинокая птица, израненная бурями и оживленная вашими лучами. Люсьена, вы никого не любили, кроме меня, это так, и вы должны все время повторять мне это, и я поверю вам, потому что боготворю вас. Я приду к вам сегодня вечером, а потом поменяюсь с вами местами и, пока мы не обвенчаемся, буду жить в Помме. Фрюманс полностью вылечит мою душу — тот самый Фрюманс, который ничего не знает и никогда не узнает. Боль и восторг! Боже мой, Боже, как я счастлив! Мы будем путешествовать, правда, Люсьена? Вы всегда мечтали о путешествиях, я всегда их любил. Вы захотите увидеть Париж и Лондон, Шотландию, и Италию, и Грецию, и Швейцарию, и мы увидим их вместе! Фрюманс, Женни и добрый аббат поселятся в Бельомбре. Когда вы пожелаете, вернемся туда и мы… Но все-таки… позвольте мне несколько лет провести вдвоем с вами! Я ведь ревную и к Женни, особенно к Женни — у нее больше прав на вас, чем у меня. Дайте же и мне заслужить такую любовь, чтобы я уже никого не боялся. Да, настанет и такое время, клянусь вам! Я так вас люблю, а вы так справедливы… Не говорите мне, Люсьена, что я страдаю, и не бойтесь, если я и впрямь буду страдать. Эта заноза не позволит мне уснуть в сладостных объятиях моего счастья, она будет напоминать, что я должен неустанно стараться заслужить это счастье, что муж такой женщины, как вы, не смеет не быть во все часы и дни рыцарем без страха и упрека. Почему бы и нет? Мысль о выигрыше подобного сражения укрепляет волю и удесятеряет нравственные силы. Мой дух вступил сейчас в пору зрелости; под влиянием преждевременного опыта я слишком рано возмужал и, кажется, никогда не был юным. Пусть же возродится это беспокойное сердце, вечно алкавшее и всегда неутоленное, пусть расцветет моя жизнь, как дерево, чьи соки еще дремлют весной и пробуждаются, когда лето уже на исходе. Я не забыл, как вы однажды сказали, что осенние розы — самые прекрасные и благоуханные. Так вот, моя любовь уподобится этим розам и, как они, будет полна аромата. Мои былые труды, свершения, успехи, пустые терзания, пустая слава — все это ничто перед жизнью сердца, чей зов я сейчас слышу. Люсьена, отныне мое существование будет посвящено вам одной, и брак с вами видится мне не концом трудов, а началом настоящей жизни. Мечта юности — счастье… Нет, ты не только мечта! Если зрелый муж продолжает безгранично верить в тебя, значит, у него безграничные возможности завладеть тобой! Ну вот, ну вот, я снова спокоен. Спокоен? Нет, я опьянен, но опьянен верой, силой, светом! Безумец, тебе казалось, что ты ревнуешь к прошлому! Тебе снился сон, проснись же, отгони его, и пусть прошлое так же умрет для тебя, как оно умерло для нее. Это ведь битва с призраком! Так пусть скорее настанет безмятежный рассвет, пусть огненная заря рассеет все тени!Мак-Аллан».
Примечания «Исповедь молодой девушки»
Впервые роман «Исповедь молодой девушки» был опубликовал в журнале «Ревю де дё монд»; он печатался по частям, с августа по ноябрь 1864 года, а в 1865 году вышел отдельным изданием в двух томах. «Исповедь молодой девушки» — образец позднего творчества Жорж Санд, для которого характерно сочетание элементов приключенческого и психологического романа. В 50—70-е годы Жорж Санд создает серию романов, сюжет которых так или иначе варьирует тему таинственной истории рождения ребенка либо его похищения («Крестница», 1853; «Снеговик», 1858; «Госпожа де Фламаранд», 1874; «Два брата», 1874; «Башня Персемон», 1875). История похищения ребенка, положенная в основу сюжета «Исповеди молодой девушки», придает роману остроту, но далеко не исчерпывает его содержания. Тайна происхождения Люсьены раскрывается лишь на последних страницах, а все события, которые предшествуют этому, важны не только как этапы движения к развязке, а прежде всего как история интеллектуального и нравственного формирования личности. В романе поставлены важные для второй половины XIX века вопросы: о борьбе между позитивизмом и идеализмом, о религии, веротерпимости и свободе воли, о воспитании, о национальном характере, о счастье и долге, об аристократии, о справедливости и правосудии и другие. В центре романа — проблема психологическая. Героиня романа сама говорит о «странном смешении стоицизма и поэзии» в своем характере. Это объясняется ее воспитанием, а также атмосферой тайны, которой были окружены годы ее детства. Единственным серьезным наставником Люсьены был Фрюманс, доморощенный философ и чудак, чьи интересы сосредоточены в сфере духовной жизни. Благодаря уединенным размышлениям и чтению книг, среди которых он предпочитает античных стоиков, Фрюманс вырабатывает своеобразную философию, в которой нет места традиционной вере в Бога, но есть понятие непреложного нравственного закона, который он понимает как «стремление к добру». Он считает бессмысленным прилагать усилия ради материальных благ и недостойным извлекать выгоду из своих обширных и глубоких познаний, «продавать науку». Высшим долгом он считает преданность своим близким, и выполнение этого долга дает ему внутренний покой. Именно благодаря такому наставнику, как Фрюманс, в Люсьене пробудился интеллект и самостоятельность мысли, а это уберегло ее от опасности уподобиться остальным воспитанницам «образцовой» гувернантки мисс Эйгер Бернс, чья роль определяется традиционным взглядом на воспитание женщин: благородной девице не требуется серьезное образование, для нее важнее изящные манеры и умение оживить салонный разговор. Подобная точка зрения опровергается в романе Жорж Санд. Вначале Люсьена была только внимательной ученицей Фрюманса. Но скоро ее самостоятельная мысль устремляется по иному пути. Люсьена не перестает ценить в своем наставнике бескорыстие и преданность, доброту и терпимость к чужим убеждениям, познания и ум, но находит его философию «холодной». То, что она раньше принимала за широту взглядов, теперь представляется ей отсутствием настоящей убежденности. Действительно, Фрюманс скептически относится ко всему, что находится за пределами его внутреннего мира, замкнутого в кругу «вечных» идеалов, которые он нашел у античных мыслителей. Для него непостижима идея прогресса. История представляется ему движением по кругу, в событияхсовременной жизни он видит лишь повторение прошлого и потому не отвлекается ради них от своих размышлений о мудрости древних. Фрюманс живет в полном согласии с самим собой и чувствует себя свободным и счастливым. Он чужд неудовлетворенности и стремления к совершенствованию, и в этом Люсьена видит ограниченность его мировосприятия. В годы Империи и Реставрации, когда происходит действие романа, вопрос о прогрессе и традициях прошлого стоял очень остро во всех сферах мысли и искусства. Фрюманс с его холодным скептицизмом остается в стороне от передовых тенденций, которым всегда сочувствовала Жорж Санд. В эпоху Второй империи, когда она пишет свой роман, идеи совершенствования и стремления к идеалу стали особенно важны для нее, как возражение вульгарному «здравому смыслу» добропорядочных буржуа середины века. Один только стоицизм не может удовлетворить Жорж Санд. Она неустанно ищет средств оживить в своих современниках веру в возможность общественного и нравственного прогресса. Поэтому она ведет свою героиню по пути преодоления скептицизма. «Поэзия» и «мечтательность», дополняющие стоицизм в мировосприятии Люсьены, — это и есть вера в идеал, дающая ей нравственную силу и возвышающая ее над теми, чьи жизненные принципы не идут дальше материальной выгоды или эгоистического честолюбия. В убеждениях Люсьены обнаруживается ненавистный для буржуа второй половины XIX века «романтизм». Слово «романтизм» превратилось к этому времени в психологическую характеристику, в понятие, противоположное предпринимательской трезвости и бездуховному позитивизму. Вопреки господствующим настроениям, Жорж Санд в таком «романтизме» видит отражение реальных потребностей эпохи и начало социального совершенствования. Одна из важнейших проблем романа — проблема аристократии — решается в своеобразном поединке Люсьены и леди Вудклиф. Знатная английская дама, вдова маркиза де Валанжи, одержима желанием узаконить присвоенный ее мужем титул маркиза и ради этой цели не стесняется в средствах. Вопрос об аристократии, актуальный во Франции 50—60-х годов, стоял в центре романа Жорж Санд «Маркиз де Вильмер» (1860) и по-прежнему интересует ее. Дворянство утратило свою роль в обществе, но привлекает «новую аристократию», то есть разбогатевших буржуа, благородными именами и титулами. В погоню за титулами в романе «Исповедь молодой девушки» вовлечены и знатная английская дама леди Вудклиф, и провинциальная мещанка госпожа Капфорт. Мариус де Валанжи, который страдает от своей бедности и видит счастье в беззаботной жизни, соглашается на сделку, выгодную для обеих сторон: Галатея Капфорт, став его женой, получает дворянское имя, а он — свободу от необходимости трудиться и считать каждую копейку. Для Люсьены погоня за титулами представляется лишь пустым тщеславием, и даже перспектива потерять дворянское имя ее не страшит. Жорж Санд была воспитана в аристократической среде, но, помня, что ее мать по происхождению крестьянка, считала себя представительницей низших классов. Демократические убеждения Жорж Санд не ослабевают и в последний период ее жизни, в годы реакционного режима империи Наполеона III. Поэтому она приводит свою героиню к решению отказаться от дворянского титула и состояния и жить своим трудом. Новое существование, начавшееся для Люсьены с самопожертвования, заполнено повседневным трудом, но она вовсе не чувствует унижения, которого раньше так опасалась. Сознание полезности своего труда внушает ей гордость и уважение к себе. Смысл жизни Люсьена видит теперь в том, чтобы посвятить себя людям, чью любовь и преданность она раньше принимала лишь как должное. Люсьена лишается имени и средств к существованию, но одерживает моральную победу в поединке с богатством и знатностью. В судьбе Люсьены торжествуют демократическое начало и высокие нравственные принципы, и это возвышает ее над обществом провинциальных аристократов, для которых мотивы ее поступка остаются непостижимыми. Таким образом, приключенческий сюжет помогает Жорж Санд отчетливо выразить основные мысли романа и поставить важные общественные проблемы, преломив их через индивидуальное сознание героев. По существу, и в своем позднем творчестве Жорж Санд остается верна идее искусства, служащего целям социального совершенствования, хотя возможность общественного прогресса она связывает теперь в первую очередь с нравственным перевоспитанием людей, с перестройкой их психологии. Сюжет «Исповеди молодой девушки» Жорж Санд использовала и в драме «Другой», премьера которой состоялась в 1870 году в театре Одеон с Сарой Бернар в главной роли. В пьесе изменены почти все имена персонажей, а из содержания ее совсем исключена психологическая тема. Тем не менее пьеса «Другой» имела большой успех, Флобера она взволновала до слез, о чем он сообщает в одном из писем Жорж Санд в марте 1870 года. На русском языке «Исповедь молодой девушки» публиковалась трижды: первый русский перевод романа вышел в серии «Библиотека лучших иностранных романов», 1865, вып. 3–8, затем в 1898 году он вошел в 15-й том Собрания сочинений Жорж Санд (издание Г. Ф. Пантелеева), затем в Собрание сочинений в 1974 г.Т. Соколова
Жорж Санд Лелия
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Когда, поддавшись легковерной надежде, кто-то решается окинуть участливым взглядом сомнения истерзанной, опустошенной души, стремясь проникнуть вглубь, чтобы ее исцелить, он повисает над бездной, в глазах у него темнеет, голова кружится — это холод смерти.Неизданные мысли отшельника
1
«Кто ты? И почему любовь твоя приносит столько зла? В тебе, должно быть, скрыта некая тайна, неведомая людям и страшная. Можно с уверенностью сказать, что ты вылеплена не из той глины, что все мы, — в тебя вдохнули другую жизнь! Верно ты или ангел, или демон, но уж никак не человеческое существо. Почему ты скрываешь от всех нас свое происхождение, свою природу? Почему ты продолжаешь жить среди нас, если мы не можем тебя понять? Если ты послана богом, говори, и мы будем тебя чтить. Если же ты явилась из ада… Ты — из ада? Ты, такая прекрасная, такая чистая! Может ли быть у духа зла такой божественный взгляд, такой гармонический голос? Может ли злой гений изрекать слова, которые возвышают душу и возносят ее к престолу господню? А меж тем, Лелия, в тебе есть что-то от дьявола. Горькая улыбка омрачает твой обещающий счастье взгляд. Иные слова твои повергают в отчаяние, как все безбожное: временами ты как будто заставляешь усомниться — и в боге и в тебе самой. Почему, почему вы такая, Лелия? Где ваша душа, ваша вера, когда вы решаетесь отрицать любовь? О, небо! Вы в силах произносить кощунственные слова! Но кто же вы, если вы действительно думаете так, как порой говорите?»2
«Лелия, я боюсь вас. Чем больше я вижу вас, тем меньше я вас понимаю. Вы кидаете меня в море тревог и сомнений. Вы как будто забавляетесь моей мукой. То вы подымаете меня к небу, то втаптываете в землю. То увлекаете меня за собою к сияющим облакам, то низвергаете в темный хаос! Моему слабому разуму не выдержать таких испытаний. Лелия, пощадите меня! Вчера, когда мы блуждали по горам, вы были такой величественной, такой возвышенной, что мне хотелось стать перед вами на колени и целовать благоуханные следы ваших ног. Когда Христос преобразился в золотистое облако и, на глазах у своих учеников, воспарил среди пламени, они простерлись перед ним ниц и сказали: — Господи, воистину ты сын божий! И потом, когда облако растаяло и пророк спустился со своими учениками с горы, те в тревоге стали вопрошать друг друга: — Неужели этот человек, что идет вместе с нами, говорит на нашем языке и собирается разделить нашу трапезу, это тот самый, которого мы только что видели окутанного пламенем и осиянного духом господним? Так вот и вы, Лелия! Каждое мгновение вы преображаетесь на моих глазах, а потом сбрасываете свою божественность, чтобы сделаться равной мне, и тогда я в ужасе спрашиваю себя, не есть ли вы небесная сила, некий новый пророк, еще раз воплотившееся в образе человека слово, и не хотите ли вы поступками своими испытать нашу веру и распознать среди нас истинных христиан. Но Христос, эта великая мысль в образе человека, это высшее олицетворение бессмертной души, всегда раздвигал пределы, которые ему ставили его плоть и кровь. Напрасно он снова принимал человеческий образ, ему не удавалось затеряться среди людей — он неизменно становился среди них первым. Вот что меня больше всего пугает в вас, Лелия: когда вы спускаетесь со своих высот, вам не удается удержаться даже на том уровне, на котором находимся все мы, вы падаете еще ниже и развращенным сердцем своим как будто хотите владычествовать над нами. Иначе — что означает эта глубокая, жгучая, незатухающая ненависть к нам, людям? Можно ли любить бога так, как любите вы, и так жестоко ненавидеть его творения? Допустимо ли, чтобы высокая вера, уживалась с закоренелым безбожием, порывы, устремленные к небу, — с наущением дьявола? Еще раз, скажите, откуда вы, Лелия? В чем ваше назначение на земле — спасать или мстить? Вчера, когда солнце садилось за ледником, окутанное голубовато-розовой дымкой, когда нежный воздух чудесного зимнего вечера овевал ваши волосы и заунывные звуки колокола эхом отдавались в долине, знайте, Лелия, тогда вы были настоящей дочерью неба. Ласковые лучи заката отблеском своим озаряли ваше лицо, окружая вас каким-то волшебным ореолом. Глаза ваши, воздетые к лазурному своду, где еще только начинали загораться одинокие звезды, пламенели священным огнем. Поэт лесов и долин, я слушал таинственные шепоты вод, я глядел на едва заметное колыхание сосен и вдыхал нежный запах фиалок, которые в первый же теплый день, с первым же лучом согревшего их солнца раскрывают под высохшим мхом свои голубые цветы. Но вас это нисколько не занимало; ни цветы, ни лес, ни водный поток не привлекали к себе вашего взгляда. Ничто земное не пробуждало в вас никаких чувств, вы вся были на небесах. И когда я хотел обратить ваше внимание на изумительную картину, расстилавшуюся у ваших ног, вы сказали мне воздев руку к воздушному своду: «Взгляните ввысь!». О Лелия, вы воздыхали по вашей отчизне, не правда ли? Вы спрашивали бога, почему он так надолго оставил вас среди смертных; почему он не возвращает вам ваших белых крыльев, чтобы вы могли улететь к нему. Но когда в зарослях вереска поднялся холодный ветер и нам пришлось искать убежища в городе, когда, привлеченный звуками колокола, я просил вас войти со мной в церковь и прослушать вечернюю мессу, увы, Лелия, почему вы тогда не покинули меня? Почему вы, владеющая силой совершать и более трудные деяния, не приказали облаку сойти на землю и окутать ваше лицо? Увы! Зачем я увидел вас, когда вы стояли, нахмурив брови, надменная и жестокая? Зачем вы не опустились на каменные плиты, не столь холодные, как ваше сердце? Зачем вы не скрестили рук на своей груди, которую присутствие бога должно было бы наполнить умилением или ужасом? Откуда это гордое спокойствие и это открытое презрение к нашим обрядам? Неужели же вы не чтите истинного бога, Лелия? Или вы явились сюда из знойных краев, где поклоняются Браме, или с берегов больших безымянных рек, где люди молятся злому духу, отвергая доброго? Мы ведь не знаем ни вашей семьи, ни страны, где вы родились. Никто этого не знает, окружающая вас тайна помимо нашей воли заставляет пускаться в догадки, вселяя в нас суеверный страх. Вы бесчувственная! Вы нечестивая! Нет, не может быть! Но скажите мне, бога ради, что же творится в эти ужасные часы с душою, проникнутой поэзией, с великой душою, объятой восторгом и трепетом, исторгающей пламя, которое перекидывается и на нас, увлекая за собою в область неизведанных ощущений? О чем вы думали вчера, что сделали вы с собой, когда, немая и холодная, вы стояли в храме, как фарисей, взирая на бога без трепета, не внемля песнопениям, не чувствуя запахов ладана и облетающих цветов, не слыша звуков органа, не ощущая всей поэзии, заполнившей благословенные стены? А сколько красоты было в этой церкви, напоенной влажными ароматами, где все трепетало от торжественных песнопений. Как пламя серебряных светильников, бледное и тусклое, вливалось в опаловые клубы раскаленных смол, в то время как из золоченых кадильниц вились, поднимаясь к самому своду, кольца благоуханного дыма! Сколько изящества было в золоченых гранях дарохранительницы, как они сверкали, отражая сияние свеч! А когда священник, этот высокий, красивый ирландский священник, черноволосый, с величественной осанкой, суровым взглядом и звучной речью, медленно спустился со ступенек амвона, влача по ковру свою длинную бархатную мантию; когда он заговорил своим громким голосом, грустным и пронизывающим насквозь, как ветры его страны, когда, вынося блистающую дароносицу, он произнес это слово, с такой силой прозвучавшее в его устах: «Adoremus!» [44], тогда, Лелия, я почувствовал, что меня охватывает священный трепет, я упал на колени прямо на мраморные плиты, я ударил себя в грудь, я опустил глаза. Но ваши мысли так тесно связаны в моей душе со всеми великими мыслями, что я почти тотчас же повернулся к вам, чтобы разделить с вами это сладостное волнение или, может быть, да простит меня господь, чтобы обратить к вам половину моих смиренных молитв. Но вы, вы продолжали стоять! Вы не преклонили колен, не опустили глаз! Ваш гордый взгляд холодно и испытующе обвел священника, гостию, простертую толпу; вам ни до чего не было дела. Одна-единственная среди нас всех, вы не стали молиться богу. Неужели же вы — существо более могущественное, чем он? Так вот, Лелия (да простит меня еще раз господь!), на какую-то минуту я этому поверил и едва не отпрянул от бога, чтобы все молитвы свои вознести к вам. Я дал себя ослепить и поработить таившейся в вас силе. Увы! Надо признаться, никогда еще я не видел вас такою красивой. Вы были бледны, как одна из тех статуй белого мрамора, что стоят у надгробий, в вас не осталось уже ничего земного. Глаза ваши горели темным огнем, и ваш высокий лоб, с которого вы смахнули черные пряди волос, величественно и гордо высился над толпой, над священником, над самим господом богом. Глубина вашего нечестия вселяла страх, и при виде того, как вы окидываете взглядом пространство между нами и небом, все окружающие ощущали свое ничтожество. Не вас ли видел Милтон, изобразивший таким благородным и таким прекрасным чело своего падшего ангела? Говорить ли вам об ужасе, который меня тогда охватил? Мне казалось, что в ту минуту, когда священник, возносивший символ веры над нашими склоненными головами, увидел вас — а вы возвышались, как и он, над толпой, вы стояли так, будто вас было в мире только двое, — да, мне показалось, что тогда взгляд его, глубокий и строгий, встретив ваш бесстрастный взгляд, невольно потупился. Мне показалось, что священник побледнел, что чаша едва не выпала из его задрожавших рук и что голос замер в его могучей груди. Что это, бред моего расстроенного воображения или действительно, когда служитель всевышнего увидел, что вы противитесь изреченному им слову божию, негодование сдавило вдруг ему горло? Или в эту минуту у него, как и у меня была необыкновенная галлюцинация: ему почудилось в вас что-то сверхъестественное, сила, исторгнутая из бездны или откровение, ниспосланное небом».3
«Какое тебе до этого дело, юный поэт? Зачем тебе хочется знать, кто я и откуда явилась?.. Я родилась, как и ты, в долине слез, и все несчастные, что ползают по земле, — мои братья. А так ли уж велика эта земля — ее ведь можно обнять мыслью, а ласточка облетает ее вокруг за несколько дней? Что может быть необычайного и таинственного в человеческом существе? Можно ли приписывать столь большое влияние солнечному лучу, который всюду почти под прямым углом падает нам на головы? Полно! Мир этот очень далек от солнца; он очень бледен, очень тесен. Спроси лучше у ветра, сколько часов ему нужно, чтобы растрясти его весь от полюса и до полюса. Родись я на противоположном конце земли, мы и то очень мало бы рознились друг от друга. Мы оба осуждены страдать, оба слабы, несовершенны, надорваны всеми нашими радостями, вечно в смятении, жадные до неведомого счастья, вечно не в себе, — вот наша общая участь, вот что сближает нас как товарищей, как братьев на этой земле, где все изгнание и рабство. Вы спрашиваете, не есть ли я существо иной природы, чем вы? Неужели вы думаете, что я не страдаю? Я встречала людей более несчастных, чем я, по положению, но куда более счастливых по характеру. Не все люди способны в одинаковой степени страдать. В глазах великого мастера, ниспосылающего нам страдания, эти различия наших натур, разумеется, значат не так уж много. Что же касается нас, существ с ограниченным кругозором, то мы целых полжизни разглядываем друг друга и примечаем различие оттенков, которые принимает явившееся к нам в жизнь горе. Какое это имеет значение для бога? Не больше, чем для нас различие травинок где-нибудь на лугу. Вот почему я не молюсь богу. О чем мне просить его? Изменить мою участь? Он посмеялся бы надо мной. Дать мне силу справиться с посланным мне страданием? Но ведь он уже дал ее, и мне надо только воспользоваться ею. Вы спрашиваете, не поклоняюсь ли я злому духу. Злой дух и добрый дух едины, это и есть бог: это неведомая и таинственная воля, которая превыше воли каждого из нас. Добро и зло — понятия, созданные нами самими. Бог не знает их, как не знает он счастья и несчастья. Поэтому не спрашивайте тайны моего предназначения ни у неба, ни у ада. Это я могу упрекнуть вас в том, что вы заставляете меня беспрерывно то кидаться куда-то выше себя самой, то опускаться ниже. Поэт, не ищите во мне этих глубоких тайн: душа моя — родная сестра вашей, вы огорчаете, ее, и вы отпугиваете ее тем, что хотите измерить ее глубину. Берите ее такой, какая она есть, как душу, которая страдает и ждет. Если вы будете так жестоко все у нее выпытывать, она затворится в себе и больше не дерзнет вам открыться».4
«Я слишком откровенно высказал свое назойливое беспокойство о вас, Лелия; я оскорбил этим вашу целомудренную душу. Я ведь тоже несчастен, Лелия! Вы думаете, я разглядываю вас с любопытством, достойным философа. Вы ошибаетесь. Если бы я не чувствовал, что принадлежу вам, что с этой поры мое существование неразрывно слито с вашим, словом, если бы я страстно вас не любил, у меня не хватило бы смелости расспрашивать вас, будь вы даже объектом, на редкость интересным для физиолога. Все, кто видел вас, разделяют то недоумение, которое я осмелился высказать. Люди в удивлении спрашивают, кто вы — проклятое или избранное существо, любить вас или бояться, принять или оттолкнуть, грубая чернь оставляет присущую ей беспечность, чтобы устремить все свое внимание на вас Ни выражение ваших губ, ни звук вашего голоса ничего для нее не значат, и стоит только послушать нелепые их разговоры, как убеждаешься, что все эти люди в равной степени готовы и бросаться перед вами на колени и проклинать вас как наваждение. Люди более образованные внимательно наблюдают за вами, одни из любопытства, другие из симпатии; но ни для кого из них это не вопрос жизни и смерти, как для меня. У меня одного есть право быть смелым и спрашивать вас, кто вы, ибо (я это ощущаю всеми фибрами души и чувство это слито для меня со всею жизнью) отныне я сделался частью вашего существа, вы завладели мною, может быть сами того не замечая; но так или иначе, я уже порабощен, я больше себе не принадлежу, душа моя не может больше жить сама по себе Ей уже недостаточно бога и поэзии: бог и поэзия — для нее теперь вы, а без вас нет ни поэзии, ни бога, нет вообще ничего. Так скажи мне, Лелия, раз ты хочешь, чтобы я считал тебя женщиной и говорил с тобою как с равной, скажи, есть ли у тебя сила любить, из огня или изо льда твоя душа и, отдавшись тебе — а я ведь действительно тебе отдался, — обрекаю я себя на гибель или готовлю себе спасение. Я ведь ничего не знаю и в ужасе взираю на неведомый путь, которым мне предстоит идти за тобой. Грядущее затянуто тучами, порою розовыми и светящимися, вроде тех, что виднеются на горизонте, когда восходит солнце, порою же багровыми и темными, как те, что предвещают грозу и таят в себе молнии. Начал ли я вместе с тобою жизнь или, напротив, окончил, чтобы последовать за тобою в смерть? Во что обратишь ты все, чем я жил доселе, мои спокойные неискушенные годы? Увянут они от твоего дыхания или вновь расцветут? Изведал ли я уже счастье и теперь его потеряю или только еще вкушу его, сам, не зная, какое оно? Годы эти были так хороши; в них была и свежесть и сладость! Но вместе с тем они были спокойны, темны, бесплодны! Всю мою жизнь, с тех пор как я появился на свет, я только мечтал, ждал, надеялся… Создам ли я наконец что-нибудь свое? Сделаешь ты меня великим или достойным презрения? Преодолею ли я свое ничтожество, выйду ли из этого отупения, которое начинает меня тяготить? Сумею ли я подняться или опущусь еще ниже? Вот о чем я спрашиваю себя каждый день с тревогой. А ты ничего мне не отвечаешь, Лелия, ты будто и не подозреваешь, что речь идет о человеческой жизни, о чьей-то участи, слитой с твоей, за которую ты теперь должна отвечать перед богом! Рассеянная и беспечная, ты взяла в свои руки один конец моей цепи и каждую минуту забываешь о ней, роняя ее на землю! Теперь я страшусь своего одиночества, страшусь того, что ты можешь покинуть меня. И вот я призываю тебя и заставляю спускаться вниз из неведомых пределов, куда ты устремляешься без меня. Жестокая Лелия! Как вы счастливы тем, что душа ваша свободна и что вы можете мечтать одна, любить одна, жить одна. А я больше не могу, я люблю вас. Я люблю только вас. Все эти пленительные образы красоты, все эти переодетые женщинами ангелы, которые являлись в моих мечтах, одаривая меня поцелуями и цветами, все они ушли. Они больше не приходят ко мне ни во сне, ни наяву. Теперь я вижу вас, только вас, бледную, спокойную и молчаливую, то рядом со мной, то на небе. До чего же я жалок! Положение мое не из обычных; речь ведь идет не только о том, чтобы я решил, достоин ли я вашей любви, я ведь не знаю, способны ли вы вообще любить мужчину, и — мне стоит большого труда начертать это страшное слово — скорей всего нет! О Лелия! Ответите ли вы мне на этот раз? Сегодня я дрожу, оттого что задал вам этот вопрос. Завтра я, может быть, снова уже смогу жить сомнениями и иллюзиями. Завтра, может быть, мне будет нечего бояться и не на что надеяться».5
«Какое же вы дитя! Давно ли вы появились на свет и уже торопитесь жить. Ибо надо вам сказать: вы еще не жили, Стенио. Куда вы так спешите? Неужели вы боитесь, что не успеете добраться до этой проклятой скалы, у которой все мы терпим крушение? Вы разобьетесь, как и другие, Стенио. Так пользуйтесь временем, не торопитесь, резвитесь вволю, чтобы как можно позже переступить порог школы, в которой учатся жизни. Счастлив ребенок, спрашивающий, где счастье, какое оно, вкусил ли он его уже или только еще вкусит! О, глубокое и драгоценное неведение! Я не отвечу тебе, Стенио. Не бойся ничего, я не приведу тебя в уныние, открыв хоть что-нибудь из того, что ты тщишься узнать. Люблю ли я, могу ли вообще любить, одарю ли я тебя счастьем, буду ли добродетельной или развратной, будешь ли ты возвеличен моей любовью или уничтожен моим равнодушием: все это, видишь ли, не так просто узнать; господу не угодно открывать эту тайну такому неискушенному юноше, и он запрещает мне говорить с тобою об этом. Подожди! Благословляю тебя, юный поэт, спи спокойно. Завтрашний день настанет, как и другие дни твоей юности, украшенный самым великим благодеянием провидения, завесой, скрывающей от людей грядущее».6
«Вот как вы всегда отвечаете! Ну что же! Ваше молчание наводит меня на мысль о предстоящих мне муках, и я вынужден только благодарить вас за то, что вы мне ничего не сказали. Вместе с тем это состояние неведения, которое вы считаете столь сладостным, на самом деле ужасно, Лелия; вы говорите о нем с высокомерной легкостью потому лишь, что вы его не испытали. Ваше детство, может быть, и было похоже на мое, но, думается, вспыхнувшей в вас первой страсти не приходилось столько бороться с тоской и страхами, как моей. Разумеется, вас уже любили, прежде чем вы полюбили сами. Ваше сердце, это сокровище, о котором я бы все так же молил на коленях, будь я даже царем всей земли, ваше сердце должно было лишь ответить на пламенный призыв другого сердца; вы не знали томлений ревности и тревоги; любовь вас ждала, счастье ринулось вам навстречу, и вам достаточно было согласиться, быть счастливой, быть любимой. Нет, вы не знаете, как я страдаю; иначе бы вы пожалели меня, ибо в душе-то вы ведь добры и поступки ваши доказывают это наперекор всем вашим словам. Я видел, как вы смягчили чужие страдания, видел, как вы творили евангельское милосердие с вашей злобной усмешкою на губах, видел, как вы кормили и одевали голодных и голых, продолжая изрекать ужасающие своим скептицизмом суждения. Вы добры прирожденной, не зависящей от вас добротою, которую ваше холодное раздумье не в силах отнять. Если бы вы знали, каким вы меня делаете несчастным, вы бы пожалели меня; вы сказали бы, что мне делать: жить или умереть, ведь вы тотчас же даровали бы мне счастье, которое пьянит, или разум, который несет утешение».7
«Кто этот бледный мужчина, который появляется сейчас, будто сумрачное видение, всюду, где появляетесь вы? Чего он хочет от вас? Откуда он вас знает? Где он вас видел? Почему в первый же день он пробрался сквозь толпу, чтобы взглянуть на вас, и вы тут же обменялись с ним печальной улыбкой? Человек этот тревожит меня и пугает. Когда он приближается, я весь холодею; когда одежда его касается меня, по телу моему словно проходит ток. Вы говорите, что это великий поэт, который не показывается на людях. Его высокое чело обличает в нем гения, но я не нахожу в нем той небесной чистоты, той лучистой восторженности, которая присуща поэту. Человек этот мрачен и скорбен, как Гамлет, как Лара, как вы, Лелия, когда вы страдаете. Мне неприятно видеть, что он ни на шаг не отходит от вас, приковывает к себе ваше внимание, поглощает ваше расположение к людям и ваш интерес ко всему земному. Я знаю, что у меня нет права на ревность. Поэтому я и не буду говорить вам о том, как я иногда страдаю, но меня огорчает (огорчаться-то мне полезно), когда я вижу вас подпавшей под влияние этого зловещего человека. Ведь вы и без того такая грустная, такая разочарованная, вас надо бы поддерживать надеждой и нежностью. А вместо этого около вас находится существо отчаявшееся, опустошенное. Ибо человек этот иссушен дыханием страстей. В его окаменевших чертах нет и следа юношеской свежести, губы его разучились улыбаться, щеки не знают румянца, он ходит, говорит, совершает какие-то поступки, движимый привычкой, воспоминанием. Но искра жизни давно уже погасла в его груди. Я в этом убежден, я давно уже наблюдаю этого человека, я проник сквозь завесу окутывающей его тайны. Если он говорит вам, что любит вас, это ложь! Он уже не способен любить. Но, может быть, тот, кто ничего не чувствует сам, способен возбудить чувство в других? Вот страшный вопрос, разрешить который я стараюсь уже давно, с тех пор как живу, с тех пор как я вас люблю. Я никак не решаюсь поверить, что столько любви и поэзии может источаться из вас, а в душе не таится очага той и другой. От человека этого веет таким холодом. Все, к чему он прикасается, становится таким отвратительным, что пример его утешает меня и воодушевляет. Если бы сердце ваше так же омертвело, я бы не любил вас, я питал бы к вам такой же ужас, как и к нему. И вместе с тем в каком безысходном лабиринте сомнений терзается мой разум! Вы ведь не разделяете того ужаса, который человек этот мне внушает. Напротив, вас как будто притягивает к нему какая-то неодолимая сила. Бывают минуты, когда, видя вас вдвоем с ним на наших празднествах, обоих таких бледных, таких рассеянных среди кружащихся в танцах пар, среди смеющихся женщин и мелькающих в воздухе цветов, мне кажется, что из всех присутствующих только вы двое способны понять друг друга. Мне кажется, что в чувствах ваших и даже в чертах утверждается некое скорбное сходство. Что это, перенесенное горе роднит ваши чувства и даже черты? Или чужестранец этот, Лелия, в самом деле ваш брат? В жизни вашей все так таинственно, что готов пускаться на всякие домыслы. Да, бывают дни, когда я убеждаю себя, что вы его сестра. Так знайте же, ревность моя не опрометчива и не слепа — от предположения этого мне не становится легче. Мне все равно бывает больно видеть, как вы доверяете ему, как близки с ним, вы, такая холодная, такая недоверчивая, такая сдержанная, — с ним вы другая. Если он ваш брат, Лелия, то отчего же у него больше прав на вас, чем у меня? Неужели вы думаете, что я люблю вас не такой чистой любовью, как он? Неужели вы думаете, что если бы вы были моей сестрой, я любил бы вас нежнее, заботливее? Ах, если бы вы были моей сестрой. Я бы ничем не запятнал наших кровных уз. Вам не приходилось бы на каждом шагу сомневаться в чистоте глубокого чувства, которое вы возбуждаете во мне. Нельзя разве страстно любить сестру, если душа у вас страстная, а сестра такая, как вы, Лелия! Как бы много ни значили узы крови для натур заурядных, что значат они в сравнении с тем таинственным сродством душ, которым наделили нас небеса? Нет, если он даже ваш брат, он не может любить вас больше, чем я, и вы не должны быть с ним откровеннее, чем со мной. Как же он счастлив, проклятый, если вы поверяете ему все ваши страдания и если у него есть сила их облегчить! Горе мне, вы не оставляете за мной даже права их разделить! Значит, я совершеннейшее ничтожество! Значит, любовь моя совсем ничего не стоит! Значит, я дитя, слабый еще и ни на что не годный, если вы боитесь переложить на меня хотя бы частицу вашего тяжелого бремени! О я несчастлив, Лелия! Ибо несчастны вы, и вы не пролили ни одной слезы у меня на груди. Есть дни, когда вы стараетесь быть со мною веселой, будто боитесь стать мне в тягость, дав волю одолевающей вас печали. Ах, Лелия, эта учтивость ваша оскорбительна, я не раз от нее страдал! С ним вы никогда не бываете веселой. Подумайте сами, есть ли у меня основание быть ревнивым!»8
«Я показала ваше письмо человеку, которого здесь зовут Тренмор и настоящее имя которого знаю лишь я одна. Он отнесся с необычайным участием к вашему страданию, а сердце его (то самое сердце, которое, по-вашему, уже омертвело) преисполнено такого сочувствия, что он позволил мне поведать вам его тайну Вы убедитесь, что с вами обходятся не как с ребенком, — это великая тайна, из тех, которые один человек редко доверяет другому. Скажу вам прежде всего, почему я так интересуюсь Тренмором. Это несчастнейший из людей, каких только я встречала в жизни. Чашу страданий он испил до самой последней капли; у него есть над вами большое, неоспоримое преимущество — он изведал больше горя, чем вы. Знаете ли вы, юноша, что такое горе? Вы едва только вступили в жизнь, вы выносите ее первые волнения, страсть ваша вскипает, кровь начинает быстрее бежать по жилам, вы теряете сон; страсть эта порождает новые ощущения, приступы тревоги, тоски, и вы называете это словом «страдать»! Вы думаете, что испытали это великое, страшное, торжественное крещение — крещение горем. Вы действительно страдали, но какое это благородное и драгоценное страдание — любить! Сколько поэзии из него родилось! Как горячо, как плодотворно страдание, которое можно высказать вслух и встретить сочувствие. Но что сказать о том, которое приходится скрывать, как проклятие, прятать в глубинах души, как некое горькое сокровище; оно не жжет вас, а леденит; у него нет ни слез, ни молитв, ни мечтаний — холодное, окаменевшее, оно притаилось в глубинах сердца, чтобы денно и нощно напоминать о себе! Вот какое страдание испил Тренмор, вот чем он может гордиться в судный день перед богом, ибо от людей эту муку приходится прятать. Выслушайте историю Тренмора. Он появился на свет в недобрый час, и, однако, люди считали участь его достойной зависти. Родился он богатым, но это было богатство князя, фаворита, ростовщика. Родители его разбогатели нечестным путем: отец его был любовником легкомысленной королевы, мать — служанкой своей соперницы, и так как все эти бесстыдства прикрывались роскошными ливреями и громкими титулами, их отвратительная жизнь при дворе вызывала гораздо больше зависти чем презрения. Итак, Тренмор рано окунулся в светскую жизнь, и на пути его не было никаких препон. Но в том возрасте, когда наивные стыд и робость мешают людям переступить порог, его не знавшая настоящей юности душа приближалась к жизненному пиру без смущения и без любопытства; это была душа неразвитая, невежественная и уже ослепленная дерзкими парадоксами и цинизмом. Его не научили распознавать добро и зло; родители не утруждали себя его воспитанием, боясь, что он станет презирать их и от них отречется. Его научили только тратить золото на легковесные удовольствия, на бессмысленное бахвальство. В нем взрастили все ложные потребности, научили его всем ложным обязанностям, которые делают богачей несчастными. Но если его и можно было обмануть в отношении необходимых для человека добродетелей, природу его и инстинкты переделать было нельзя. Тут тлетворное начало вынуждено было остановиться, тут развращенность должна была уступить место божественному бессмертию разума. Гордость, которая есть не что иное, как ощущение собственной силы, возмутилась окружающей жизнью. Тренмор увидел картины рабства, но он не мог их вынести, ибо слабость человеческая приводила его в ужас. Вынужденный жить, не ведая, что такое добродетель, он нашел в себе силу оттолкнуть все, что носило печать страха и лжи. Воспитанный среди ложных благ, он научился только тщеславию и распутству, которые неизбежно должны были его всех этих благ лишить; он не постиг и не принял низость, которая помогает людям снова их обретать. У природы есть свои таинственные ресурсы, свои неиссякаемые сокровища. Из сочетания самых дурных элементов она нередко создает замечательные творения. Хотя семья его и погрязла в пороках, Тренмор родился великим, но он был суров, груб и страшен, словно сила, призванная бороться, словно одно из тех растущих в пустыне деревьев, которые защищены от вихрей и гроз своей твердой корой и глубокими корнями. Небо одарило его разумом; душа его знала божественное прозрение. Его близкие старались заглушить в нем это духовное начало и насмешливо разгоняли реявшие вкруг колыбели небесные видения, уча его искать радости жизни в материальных благах. В нем воспитали животное, дикое и необузданное, да иначе и быть не могло. Но сила его натуры облагораживала эти животные черты. Тренмор был так устроен, что после ночей разгула у него не было чувства подавленности, а чаще всего наступала какая-то экзальтация. От непробудного пьянства своего он жестоко страдал, оно возбуждало в нем неуемную жажду радостей души — радостей, которых он еще не изведал и даже не знал, как они называются! Вот почему все наслаждения мигом превращались у него в гнев, а гнев — в скорбь. Но что это была за скорбь? Тренмор напрасно искал причины этих слез, падавших на дно чаши на пиршестве, словно ливень с грозою среди знойного дня. Он спрашивал себя, почему ни смелость и энергия его богатой натуры, ни его несокрушимое здоровье, ни все жестокие прихоти и непреклонный деспотизм не могли утолить ни одно из его желаний, почему ни одна из его побед не заполняла зияющей пустоты? Он был так далек от понимания своих истинных потребностей и способностей, что в детстве еще им овладела странная мысль. Он сообразил, что над ним тяготеет злой рок, неведомый вершитель событий, возненавидевший его, когда он был еще во чреве матери, и что теперь он вынужден искупать грехи, которых не совершил. Он, краснея, вспоминал, что родители его придворные, и говорил иногда, что единственная его добродетель, гордость, на самом деле проклятие, ибо злой рок рано или поздно ее должен сломить. Таким образом, страх и кощунство — таковы были единственные отблески, оставшиеся у него в душе от небесного света; и весь ужас этот породила в нем жизнь. Это была болезнь мозга, исполненного самых благородных побуждений, но сжатого тяжелым и тесным обручем слабости. Простые люди, которые оказались свидетелями происшедшей с Тренмором катастрофы, были поражены слетевшим с его уст пророчеством и тем, что оно потом сбылось. Они никак не могли согласиться с тем, что это в порядке вещей, что это лишь простое предчувствие и неизбежный конец печальной истории, представлявшейся им лишь внешне в образе дворца и тюрьмы: шумного благоденствия и спрятавшейся от глаз тоски. Объезжать лошадей, возиться с псарями, окружать себя самыми разнородными произведениями искусства без всякого разбора и понимания, упиваться роскошью порочной и праздной, держать лакеев изнеженных и распущенных, при этом еще больше, чем о них, заботясь о своре свирепых псов, жить среди шума и насилия, под вой ищеек с окровавленной глоткой, под песни оргий и ужасающее веселье женщин, которых он поработил своим золотом, ставить на карту свое состояние и жизнь, чтобы заставить говорить о себе, — вот чем первое время развлекался этот незадачливый богач. На лице его едва успел пробиться пушок, как все эти развлечения ему опостылели. Шум уже больше не возбуждал его, вино больше не согревало, загнанный олень уже не тешил его жестокие инстинкты; инстинкты эти присущи всем людям, они развиваются и растут, удовлетворяя себя, и чем независимее человек, чем прочнее занимаемое им положение, тем меньше он их стыдится, тем меньше боится закона. Ему доставляло удовольствие бить собак; скоро он стал бить и своих наложниц. Их песни и смех уже не оживляли его; ругань и дикие крики еще чуть-чуть его будоражили. По мере того как в отяжелевшем мозгу пробуждался зверь, божественное гасло во всем его существе. Пребывая в безделье, он ощущал в себе силы, которые не на что было направить; сердце терзалось от безграничной скуки, от неописуемого страдания. Тренмор ни к чему не мог привязаться. Вокруг него все было низко, развращено; он не знал, где отыскать людей с благородным сердцем. Он в них не верил. Бедных он презирал, ему говорили, что бедность порождает зависть, и он презирал зависть, потому что не понимал, как это она может терпеть бедность и не возмутиться. Он презирал науку, потому что прошло уже то время, когда он мог бы понять ее благодеяния. Он видел только результаты ее в промышленности, он считал, что покупать их благороднее, чем продавать. Ученые внушали ему жалость, и ему хотелось, чтобы они стали богаче и могли пользоваться всеми благами жизни. Он презирал благоразумие, потому что у него были силы для распутства, а воздержание казалось ему бессилием. Но и в его преклонении перед богатством и любви к соблазнам таилась какая-то необъяснимая непоследовательность, — в самом разгаре празднеств он вдруг начинал испытывать отвращение ко всему на свете. Все элементы его существа были в разладе между собою. Он ненавидел людей и вещи, без которых не мог обойтись, и вместе с тем он отталкивал от себя все, что могло бы увести его с проклятых путей и успокоить его тайные страхи. Вскоре его охватила какая-то ярость; казалось, что его золотой храм и та атмосфера наслаждения, в которой он жил, сделались ему омерзительны. Во время своих оргий он принимался ломать мебель, разбивать зеркала и статуи, которые потом выбрасывал из окон в толпу народа. Он срывал со стен дорогую обивку, разбрасывал вокруг золото для того только, чтобы от него избавиться; пачкал всяческой мерзостью богато накрытые столы и выгонял на грязные улицы своих увенчанных цветами наложниц. Слезы их приносили ему минутную усладу; он мучил этих женщин, и ему казалось, что их корыстные вожделения и отвратительный страх — одно из проявлений любви. Скоро, однако, возвращаясь к страшной действительности, он убегал в ужасе, оттого что в окружающем его гомоне и шуме притаилось столько одиночества и тишины. Он уединялся в своих пустынных садах, и ему мучительно хотелось плакать. Но у него уже не было слез, ибо у него не было сердца; не было у него и любви, ибо он не знал бога. И эти ужасающие приступы тоски кончались неистовыми судорогами, а потом он засыпал сном, который был тяжелее смерти. На сегодня довольно. В вашем возрасте люди бывают нетерпимы, и я бы вас оглушила, если бы за один день рассказала вам до конца тайну Тренмора. Я хочу, чтобы покамест вы подумали о том, что я вам уже рассказала; завтра вы узнаете остальное».9
«Вы правы, что пощадили меня: то, что я узнаю, поражает меня, потрясает. Но вы переоцениваете мой интерес к тайне Тренмора, если думаете, что это именно она так меня тревожит. Больше всего меня волнует ваше собственное суждение обо всем этом. Вы, должно быть, сами много выше других людей, если позволяете себе так легко относиться к преступлениям, совершенным против них? Впрочем, может быть вопрос мой неправомерен; может быть, общество людей столь достойно презрения, что сам я значу больше, чем оно; но простите мое смущение — я ведь еще совсем юн и ничего не успел узнать о настоящей жизни. От всего, что вы говорите, у меня остается ощущение чересчур яркого солнца, которое слепит глаза, привыкшие к темноте. И вместе с тем я чувствую, что вы щадите их, укрываете их от света — из дружбы или из сострадания… О боже! Что же мне еще остается узнать? Каковы же те иллюзии, которые тешили меня в детстве? Вы говорите, что не следует презирать Тренмора? Или, если он и может вызвать презрение в высших существах, он не должен его вызывать во мне? Я не вправе судить его и говорить: «Я выше, чем этот человек, он только вредит себе и никому не приносит пользы»? Ну что же, пусть. Я молод, и я не знаю, что из меня выйдет, — я не прошел еще испытаний, которым подвергает нас жизнь. Но вы, Лелия, вы, которая душою своей и дарованиями выше всего, что существует на земле, вы можете осудить Тренмора и его ненавидеть; а вы не хотитеэтого делать! Ваше снисходительное сочувствие или ваше неблагоразумное восхищение (не знаю уж, как назвать его) следует за ним в его преступных победах, рукоплещет его успехам, поощряет его дурные стороны. Но если этот человек так велик, если в нем столько энергии, так почему же он не воспользуется ею, чтобы победить свои столь пагубные стремления? Почему он употребляет свою силу во зло? Пираты и бандиты, выходит, тоже великие люди? Значит, человек, прославившийся дерзкими преступлениями или из ряда вон выходящими пороками, заслуживает того, чтобы взволнованная толпа почтительно склонила перед ним головы? Значит, для того, чтобы понравиться вам, надо быть героем или чудовищем?.. Может быть. Когда я думаю о полной и бурной жизни, которую, должно быть, вы прожили, когда я вижу, сколько иллюзий для вас погибло, когда я в мыслях ваших нахожу изнеможение и усталость, я говорю себе, что безвестная и тусклая жизнь вроде моей окажется для вас лишь тягостным бременем, что только необычные и сильные впечатления могут пробудить сочувствие в вашей истерзанной душе. Так скажите же мне хоть слово, чтобы ободрить меня, Лелия! Скажите мне, кем вы хотите, чтобы я был, и я буду им. Вы считаете, что любовь женщины не может дать человеку столько сил, сколько любовь к золоту… Продолжайте, продолжайте его историю, она неимоверно меня волнует — ведь в конце концов это же история вашей души; этой глубокой, переменчивой, неуловимой души, которую я все время ищу и которую мне так никогда и не удается постичь».10
«Без сомнения, юноша, вы намного выше нас — да успокоится ваша гордость. Но через десять лет, даже через пять сравнитесь ли вы с Тренмором, с Лелией? Кто знает! Таким, какой вы теперь, я люблю вас, юный поэт! Пусть это слово не пугает и не пьянит вас. Я не берусь разрешить сейчас вопрос, который вас так волнует. Я люблю вас за вашу чистоту, за ваше неведение того, что знаю я, за ту большую духовную молодость, с которой вы так опрометчиво спешите расстаться! У меня к вам иное чувство, чем к Тренмору: несмотря на его буйные страсти, несмотря на его высокую натуру, общение с ним не столь соблазнительно для меня, как общение с вами, и я вам сейчас объясню, почему иногда я жертвую собой и покидаю вас ради него. Но прежде чем продолжить мой рассказ, я отвечу на один из ваших вопросов. «Почему, — спрашиваете вы, — этот человек, обладая такой сильной волей, не употребил ее на то, чтобы обуздать себя?» Почему?.. Счастливец Стенио! Но как вы представляете себе природу человека? На что, по-вашему, он способен? И чего вы ждете от себя самого? Стенио, ты очень неблагоразумен, если хочешь окунуться в нашу пучину! Вот что ты вынуждаешь меня сказать тебе! Видишь ли, люди, которые подавляют свои страсти ради других, до того редки, что я, например, не встречала еще ни одного такого. Я видела героев гордости, любви, эгоизма и больше всего — тщеславия! Но что касается человеколюбия?.. Многие хвалились им, но они бесстыдно лгали, лицемерили! Взгляд мой с грустью заглядывал в глубину их души и находил в ней только тщеславие. После любви тщеславие — это самая прекрасная из страстей человека, и знай, бедное дитя, оно пока еще встречается очень редко. Алчность, грубая гордость, порождаемая различием общественных положений, разврат, все дурные наклонности, даже лень, которая тоже не что иное, как страсть, хоть и бесплодная, но упорная, — вот побуждения, которые движут большинством людей. Тщеславие значительно хотя бы по своим результатам. Оно заставляет нас быть добрыми, ибо добрыми нам хочется выглядеть, оно толкает нас на героизм, до того радостно нам бывает видеть, как нас превозносят, столько неодолимого и вкрадчивого соблазна таит в себе популярность! Тщеславие — это нечто такое, в чем люди никогда не хотят признаться. Другие страсти не способны обманывать. Тщеславие может скрыться под чужим именем, и глупцы его не распознают. Человеколюбие! О боже! Какая наивная ложь! Где он, тот человек, который предпочитает счастье других людей собственной славе? А что лежит в основе христианства, создавшего все самое героическое на свете? Надежда получить награду, место на небесах. А те, которые создали этот великий кодекс, самый прекрасный, самый всеобъемлющий, самый поэтичный памятник человеческого духа, так хорошо знали сердце человека, и его тщеславные помыслы, и его мелочность, что в соответствии с этим учредили целую систему божественных обещаний. Прочтите творения апостолов, вы увидите, что на небе тоже не все равны; там существует иерархия блаженных, привилегированные места, хорошо организованное воинство, свои военачальники и степени. До чего же ловко истолкованы слова Христа: «Первые да будут последними, а последние первыми! Истинно говорю вам, тот, кто был меньше всех на земле станет самым великим в царствии небесном». Но для тех, кто углубляется в себя и со всей серьезностью ставит перед собою вопросы жизни, для тех, кто освобождается от золотых химер своей юности и вступает в полосу суровых разочарований зрелого возраста, для смиренных, для мрачных, для искушенных, слова Христа, должно быть, осуществляются в этой жизни. Поначалу возомнивший себя сильным, человек, упав с высоты, признается себе в своем ничтожестве. Он ищет прибежища в жизни мысли; только терпением и трудом добывает он то, что по неведению своему и тщеславию еще в юные годы считал своим достоянием. Если вы на рассвете выйдете в поле, вас прежде всего поразят цветы, раскрывающие чашечки свои первым лучам. Из самых красивых вы выбираете те, которые уцелели после грозы, которых не успел подточить червяк, и далеко отбрасываете от себя розу, которую накануне испортил паук, чтобы вобрать в себя запах другой, распустившейся на заре во всей своей первозданной благоухающей красоте. Но нельзя ведь жить одним только созерцанием, одними ароматами. Солнце всходит на небо. Наступает день, вы ушли далеко от города. Вас мучат голод и жажда. Тогда вы ищете самые сочные плоды и, забывая уже увядшие и ни на что вам теперь не нужные цветы на первой же лужайке, срываете с дерева подрумяненный солнцем персик, гранат с толстой, потрескавшейся от морозов коркой, винную ягоду с шелковистою кожурой, разодранной благодатным дождем. И нередко случается, что плод, изъязвленный червяком или поклеванный птицей, и есть самый сочный, самый вкусный. Не успевший затвердеть миндаль, горькая еще маслина, зеленая земляника не привлекут вас. На утре моей жизни я предпочла бы вас всему на свете. Тогда все было мечтою, символом, восторгом, поэтическим порывом. Годы солнца и лихорадки прошли над моей головой, и мне надобна здоровая пища; скорби моей, усталости, разочарованию нужны не красоты, а сила, которая могла бы меня поддержать, не грациозная прелесть, а благо, которым дарит мудрость. В прежние времена любовь могла заполнить всю мою душу. Теперь мне нужнее всего дружба, дружба целомудренная и священная, дружба твердая и непоколебимая. Первые да будут последними! В жизни Тренмора настал день, когда, низвергнутый с вершин светского благополучия в бездну страдания и позора, он только старался стать тем, кем уже считал себя и кем на самом деле никогда не был. В течение нескольких лет, начав катиться под откос, не будучи в состоянии привязаться ни к убеждениям, ни к стихам, он чувствовал, что светильник разума в нем угасает. Нашлась женщина, которая на миг влила в него смутное желание вырваться из разврата и поискать свое предназначение в другом. Но эта женщина, хоть она и угадывала, сколько ума и необузданной силы погрязло в трясине порока, с ужасом и отвращением от него отвернулась. Правда, у нее остались к нему жалость и участие, проявившиеся уже позднее и которых он оказался достоин. Имеет же ведь право на человеческое участие истерзанное существо, которое примирилось с богом. У Тренмора была любовница, красивая и бесстыдная, как менада. Ее звали Мантована. Он предпочитал ее остальным, и порою ему казалось, что он видит в ней искорку священного огня: не зная в точности, что это такое, он называл огонь этот искренностью и искал его повсюду с тоской и отчаянием неудачника. Однажды, во время ночной оргии, он ударил эту женщину, и она выхватила из-за корсажа кинжал, чтобы его убить. Эта вспыхнувшая вдруг ярость мщения понравилась Тренмору: в охватившем Мантовану порыве гнева он почувствовал и силу и страсть. На миг он ее полюбил. И тогда случилось нечто необычайное. В этот миг, сквозь весь его пьяный угар, в нем пробудились чувства, к которым стремится каждая возвышенная душа. Явившийся вновь мир промелькнул перед ним как видение во хмелю. Но одного непристойного слова вакханки было достаточно, чтобы весь этот сказочный замок рухнул и на дне бокала снова появился горький осадок. Тренмор сорвал с шеи своей любовницы жемчужное ожерелье и растоптал его. Она разрыдалась. Безумная горечь овладела тогда Тренмором: как, у нее только что хватило сил мстить ему за обиду, а тут вдруг она проливает слезы из-за какого-то ожерелья! Нервы его напряглись; он схватил тяжелый хрустальный графин с гранями острыми, как лезвие ножа, и ударил. Женщина вскрикнула и упала к ногам Тренмора. Он не обратил на это никакого внимания. Положив локти на стол, он уставился угрюмым взглядом на догорающие свечи и только с презрительною улыбкой покачал головой, оставшись совершенно глухим к крикам своих товарищей и к волнению перепуганных слуг. Через час он пришел в себя, огляделся вокруг и увидел, что он один; у ног его была лужа крови. Он поднялся и тут же упал в эту лужу. Мантовану уже унесли. Потерявшего сознание Тренмора из дворца препроводили прямо в тюрьму. Ему сообщили, какие ужасные последствия имел его гнев. Он как будто слушал, улыбался, но был глубоко ко всему безучастен. Это тупое равнодушие всех поразило. Его стали допрашивать. Он рассказал всю правду. — Вы хотели убить эту женщину? — спросил судья. — Да, хотел, — ответил он. — Где ваш защитник? — У меня его нет, и я не хочу никакого защитника. Ему зачитали приговор; он выслушал его с безразличным видом. Его заковали в железо позора — он почти не обратил на это внимания. Потом, когда, внезапно подняв голову и сделав несколько шагов, он увидел, что прикован к страшным людям, участь которых он теперь разделил, он окинул любопытным взглядом свидетелей своего унижения. Тут он увидел женщину, которая не отошла от него, когда он задел ее своим арестантским халатом. — Вы здесь, Лелия, — вскричал он, — а Мантованы больше нет! Сколько времени я кормил и ласкал эту мерзкую тварь, а она осудила меня на бесчестие за минутную вспышку гнева. А теперь, когда я прощаюсь навеки с человеческой жизнью, у нее не нашлось для меня даже взгляда, в котором было бы сочувствие или сострадание! Она, конечно, хочет скрыть угрызения совести… — Мантована умерла, — ответила я, — и это вы ее убили. Покайтесь и понесите наказание. — Ах, так это я поскользнулся в ее крови! — воскликнул он. И, растерянно поглядев на свои ноги и увидав, что на них железные кандалы, он улыбнулся. — Понимаю, — сказал он, — это тоже кровь Мантованы! Он упал, точно сраженный молнией. Его посадили в повозку, и я потеряла его из виду. Пять лет спустя у берега моря, на горной тропинке, я повстречала бледного мужчину; он шел медленно и словно задумавшись, подняв голову к небу. Я не узнала его, до того изменилось выражение его лица. Он подошел и заговорил со мной. Голос его тоже изменился. Он назвал себя, я протянула ему руку, и мы сели на одной из прибрежных скал. Он долго говорил со мной, и, когда мы расставались, я поклялась в вечном сострадании, как потом поклялась в вечном уважении к несчастному, которого теперь зовут Тренмор и который в течение пяти лет…»11
«Действительно, это страшная тайна, и я испытываю сердечную признательность к человеку, не побоявшемуся мне ее доверить. Значит, вы высокого мнения обо мне, Лелия, а он — о вас, если эта тайна могла так быстро дойти до меня! Что же! Теперь мы все трое связаны священными узами; я все же боюсь этих уз — этого я от вас не скрываю, — но порвать их я больше не вправе. Хоть вы и рассказали мне все с большими предосторожностями, Лелия, я все равно потрясен. Стоило мне вспомнить, что за час до того, как я прочел эти строки, я видел, как человек этот пожимал вашу руку, которой я ни разу не осмеливался коснуться и которую вы, насколько я знаю, ни разу не протягивали никому другому, я почувствовал, что сердце мое холодеет. Как, вы в союзе с этим истрепавшимся человеком! Мне на минуту представилось, что вы, ангельское создание, которому я поклонялся, становясь на колени, вы, сестра светлых звезд, сделались сестрою этого… Я не могу написать кого… А теперь, оказывается, вы не только сестра! Сестра, простив его, только исполнила бы свой долг. Вы сделались добровольно его подругой, его утешительницей, его ангелом-хранителем. Вы подошли к нему и сказали: «Приди ко мне ты, которого прокляли, я верну тебе потерянный рай! Приди ко мне, непорочной, и я прикрою грязь твою вот этой рукой!». Сколько в вас величия, Лелия! Еще больше, чем я мог думать! Не знаю почему, поступок ваш причиняет мне боль, но я восхищаюсь им, я преклоняюсь перед вами. Для меня непереносимо только, что этот человек, внушающий мне ненависть и вместе с тем жалость, осмелился коснуться руки, которую вы ему протянули, что он с гордостью принял вашу дружбу — вашу священную дружбу, которой смиренно стали бы добиваться величайшие люди земли, если бы только они знали, как она много значит. Тренмор получил ее, Тренмор владеет ею, и Тренмор не говорит с вами, опустив глаза. Тренмор стоит с вами рядом и вместе с вами проходит сквозь изумленную толпу, он, который пять лет влачил за собой привязанное к ноге ядро бок о бок с вором или отцеубийцей… О, я его ненавижу! Но презрения у меня к нему уже нет, не браните меня. А вас, Лелия, я жалею, жалею я и себя, ставшего вашим учеником и вашим рабом. Вы слишком хорошо знаете жизнь, чтобы быть счастливой; я все еще надеюсь, что это несчастье ожесточило вас, что вы преувеличиваете, я все еще отвергаю удручающий вывод, которым вы заканчиваете ваше письмо: «Лучшие из людей — в то же время и самые тщеславные, а героизм — химера!». Ты так думаешь, бедная Лелия! Бедная женщина! Ты несчастна, я люблю тебя!»12
«У Тренмора было только одно средство заслужить мою дружбу — это принять ее. Так он и сделал. Он не побоялся довериться моим обещаниям, он не думал, что на такое великодушие у меня не хватит сил. Вместо того чтобы быть со мною смиренным и робким, он спокоен, он полагается на мою деликатность, он отнюдь не настороже со мной, ему и в голову не приходит, что я могу унизить его и дать ему почувствовать, сколь тягостно мое покровительство. У этого человека действительно благородная и величественная душа, и дружба его мне льстит, как ничья другая. Вы уже не презираете его характер, вы презираете его положение, не так ли? Юный гордец! Как еще вас назвать! Неужели вы дерзнете ставить себя выше этого человека, сраженного молнией? Оттого, что он стал жертвой судьбы, оттого, что он родился под зловещей звездой, ему суждено было наткнуться на подводные камни, а вы корите его этим падением, отворачиваетесь, завидев, как, изможденный и окровавленный, он выходит из бездны. Ах да, вы ведь человек светский! Вы разделяете все жестокие предрассудки света, его мстительный эгоизм! Пока грешник еще стоит на ногах, вы способны терпеть его, но едва только он упал, как вы пинаете его ногами, поднимаете с дороги камни и комки грязи, чтобы поступить как толпа, чтобы, увидев, как вы жестоки, другие палачи поверили в вашу правоту. Вам страшно было бы выказать к нему малейшую жалость, ибо ее можно дурно истолковать и решить, что вы брат или друг жертвы. А если бы люди сочли, что вы сами способны на подобное же злодеяние, если бы можно было сказать о вас: «Взгляните на этого человека; он протягивает руку изгнаннику; верно он и сам так же низок, такой же преступник, как тот! Давайте лучше закидаем изгнанника камнями, будем пихать его ногами в лицо, добьем его! Будем заодно с поносящей его толпой». Когда в отвратительной повозке осужденного везут на эшафот, вокруг собирается толпа, она осыпает оскорблениями этот огарок, который вот-вот догорит. Поступите как эта толпа, Стенио! Что стали бы говорить о вас в этом городе, где вы чужеземец, как и мы, если бы вдруг увидели, что вы ему подали руку! Подумали бы, пожалуй, что вы были с ним вместе на каторге! Вот что, юноша, чем навлекать на себя подобные толки, лучше бегите прочь от того, над кем тяготеет проклятие! Дружба с ним опасна. Безграничную радость облегчить страдания несчастного приходится покупать дорогою ценою — яростной злобой толпы. Таковы ли ваши помыслы? Таковы ли ваши чувства, Стенио? Не вы это разве плакали каждый раз, когда читали в истории Англии про молодую девушку, которая, видя, как одного знаменитого человека ведут на эшафот, пробилась сквозь толпу равнодушных зевак и, в порыве детского простодушия, не зная, чем выразить свои чувства, протянула ему розу, чистую и нежную, как она сама, розу, которую ей, может быть, подарил ее возлюбленный, — единственное и последнее свидетельство сочувствия и жалости, выпавшие на долю монарха, которого вели на казнь. А разве вас не тронул в восхитительной истории прокаженного из Аосты простой и естественный поступок рассказчика, подавшего ему руку? Несчастный прокаженный! Сколько лет рука его не касалась руки себе подобного! Как трудно было отказаться от этого дружеского рукопожатия, и он все же заставил себя отказаться от него, боясь заразить своего нового друга!.. Зачем же было Тренмору отталкивать мою руку? Разве несчастье столь же заразительно, как проказа? Ну что ж! Пусть нас обоих хулит толпа, и пусть сам Тренмор за это меня не поблагодарит! На моей стороне будет бог и сердце мое, а разве это не больше, чем уважение толпы и признательность человека! О, дать жаждущему стакан воды, приобщиться к несущим крест, спрятать чье-то красное от стыда лицо, кинуть травинку несчастному муравью, которому не выбраться из потока, — все это совершенно ничтожные благодеяния! И, однако, общественное мнение запрещает нам совершать их или оспаривает их у нас! Горе нам! Нет ни одного доброго порыва, который не приходилось бы подавлять в себе или прятать. Детей человеческих учат быть тщеславными и безжалостными — и это еще называют честью! Проклятие нам всем! А что, если я вам скажу, что отнюдь не считаю поступок актом милосердия, что этот человек, пробывший пять лет на каторге, вызывает во мне чувство благоговейного уважения. А что, если я скажу вам, что такой, как сейчас, разбитый, опустошенный, погибший, он в моих глазах в духовном отношении выше любого из нас? Знаете вы, как он перенес свое горе? Вы бы, верно, покончили с собой; ну конечно же, с вашей гордостью вы не смогли бы выдержать такого позора. А он! Он покорился, он решил, что наказание справедливо, что он заслужил его не столько самим преступлением своим, сколько тем злом, которое он безнаказанно творил в течение нескольких лет. А коль скоро он считал, что кара эта заслуженна, он и хотел ее. И он ее перенес. Он прожил пять лет среди этих страшных людей, сильный и терпеливый. Он спал на камне бок о бок с убийцей, он сносил взгляды любопытных; пять лет прожил он в грязи, среди этого стада диких зверей: он сносил презрение последних негодяев и власть самых подлых шпионов. Он был каторжником, этот человек, некогда такой богатый, такой изнеженный, приверженный утонченным привычкам и деспотическим прихотям! Он, который любил кататься в своей быстрой гондоле, окруженный женщинами, овеянный ароматом духов, под звуки песен! Он, который на скачках доводил до изнеможения самых чистокровных арабских лошадей! Человек этот, вкушавший отдых под небом Греции, как Байрон, изведавший роскошь во всех ее самых разнообразных видах, стал другим, помолодел, преобразился на каторге, где до еще большей степени нравственного падения доходят и торговавший дочерью отец и изнасиловавший, а потом отравивший родную мать сын, откуда люди обычно возвращаются покалеченными и превратившимися в зверей. Тренмор вышел оттуда прямой, спокойный, как видите, бледный, но еще прекрасный, как творение господа, как отблеск, который божество бросает на чело человека просветленного».13
В этот вечер озеро было спокойно, как обычно в последние дни осени, когда зимний вечер не решается еще смущать его безмолвные воды и розовые заросли шпажника на берегу дремлют, убаюканные тихою зыбью. Светлая дымка незаметно заволакивала угловатые контуры горы и, спускаясь на воду, словно отделяла линию горизонта, которая в конце концов исчезла совсем. Тогда поверхность озера расширилась так, что оно стало походить на море. В долине уже нельзя было различить ничего примечательного, ничего, что могло бы порадовать глаз. Внешний мир никак не заявлял о своем присутствии, не старался ничем развлечь. Раздумье само стало торжественным, глубоким, смутным, как затянутое дымкой озеро, широким, как бескрайнее небо. Во всей природе остались только небесная твердь и человек, душа и сомнение. Тренмор плыл в лодке; он стоял у руля, и его закутанная в темный плащ фигура отчетливо выделялась на фоне ночной синевы. Он высоко поднял голову, мысли его устремились к небу, с которым он столько времени враждовал. — Стенио, — сказал он молодому поэту, — не мог бы ты грести помедленнее, чтобы дать нам полнее ощутить свежесть волн, их гармонический плеск? Греби ровно, поэт, греби ровно! Это так же важно, так же прекрасно, как ритм самых лучших стихов. Теперь хорошо! Слышите жалобные стоны волн, которые бьются о берег? Слышите, как нежно падают капли одна за другой, замирая позади нас, будто звуки песни, которые удаляются все дальше и дальше? Я подолгу сидел так, — прибавил Тренмор, — на тихом берегу Средиземного моря, под его синим небом. С наслаждением слушал я, как плескались под нами волны, как они бились о наши стены. По ночам, среди ужасающей тишины бессонниц, наступающих вслед за шумом работы и проклятием поистине адских страданий, слабые и таинственные звуки волн, бившихся у подножия моей тюрьмы, неизменно меня успокаивали. И впоследствии, когда я почувствовал, что силы мои сравнялись с судьбой, когда моя укрепившаяся душа могла уже обойтись без помощи извне, этот сладостный шум воды баюкал мои мечты и приводил меня в блаженный восторг. В эту минуту серая чайка пронеслась над озером; скрытая в дымке, она задела влажные волосы Тренмора. — Еще один друг, — сказал бывший каторжник, — еще одно сладостное воспоминание! Когда я отдыхал на песке, неподвижный, как каменные плиты порта, эти воздушные странницы, принимая меня за холодную статую, подлетали ко мне совсем близко и без страха на меня глядели. Это были единственные существа, у которых не было ко мне ни отвращения, ни презрения. Они не понимали моей тяжелой доли. Они не корили меня ею, и стоило мне пошевельнуться, как они улетали прочь. Они не видели, что ноги мои закованы в цепь, что следовать за ними я все равно не могу; они не знали, что я в неволе; они спешили улететь прочь от меня, как от любого другого человека. — Ответь мне, — попросил поэт, — откуда твоя закаленная душа набралась сил, как она смогла вынести первые дни этой жизни. — Этого я тебе не скажу, Стенио, теперь я и сам уж не знаю. Эти дни я вообще не ощущал себя, я не жил, я ничего не понимал. Но когда я наконец понял, как все ужасно, я почувствовал в себе силу все перенести. Если я чего-то смутно боялся, так это жизни ничем не занятой и однообразной. Когда я увидел, что мне предстоит работа, усталость, которая валит с ног, горячие дни и ледяные ночи, удары, оскорбления, стоны, беспредельное море перед глазами, под ногами — камни, неподвижные, как могильные плиты, ужасающие рассказы и ужасающие страдания, я понял, что могу жить, ибо могу страдать и бороться. — Потому что твоей великой душе, — сказала Лелия, — необходимы сильные потрясения и жгучие возбудители. Но скажи нам, Тренмор, как тебе удалось обрести покой, — ты ведь только что сказал, что покой пришел к тебе на самом дне пропасти; к тому же все ощущения притупляются, оттого что им приходится повторяться. — Покой! — сказал Тренмор, подняв к небу проникновенный взгляд. — Покой — это величайшее благодеяние создателя, это — будущее, к которому неустанно стремится бессмертная душа, это блаженство; покой — это сам господь бог. Так знай же, покой я нашел в аду. Не будь этого ада, я никогда бы не понял тайны человеческого предназначения, никогда бы не ощутил ее на себе — я ведь ни во что не верил, ни к чему не стремился: усталый от жизни, исход которой я тщетно пытался найти, мучимый свободой, которую мне некуда было девать — ведь у меня не было даже нескольких минут, чтобы помечтать о ней, — так я подгонял бег времени, стараясь сократить надоевшую мне жизнь! Мне необходимо было на какое-то время избавиться от моей собственной воли и подчиниться воле чужой, грубой и злобной: она-то и научила меня ценить свою. Эта неуемная энергия, которая цеплялась за опасности и трудности жизни в обществе, насытилась наконец, когда ей пришлось бороться с тяготами другой жизни — той, что должна была искупить вину. Могу сказать, что в этой борьбе она победила; но вслед за победой пришло удовлетворение, пришла спасительная усталость. Впервые я наслаждался сном. И наслаждение это там, на каторге, было еще благотворнее, еще слаще оттого, что, когда я жил среди роскоши, оно доставалось мне лишь изредка и обманывало меня. На каторге я понял, что такое уважение к себе, ибо, нимало не униженный присутствием всех этих отверженных людей и сравнивая их трусливую заносчивость и мрачную ярость с тем просветленным спокойствием, которое было во мне, я вырос в собственных глазах и стал даже верить, что между человеком храбрым и небом может существовать некая отдаленная слабая связь. В дни моей лихорадочной, дерзкой жизни мне никогда не удавалось прийти к этой надежде. Покой породил во мне эту живительную мысль, и понемногу она пустила во мне корни. В конце концов я достиг того, что направил душу мою к богу и мог довериться ему и его молить. О! Какие потоки радости заструились в этой несчастной, опустошенной душе! Каким смиренным, каким кротким и милосердным должен был стать господь, чтобы снизойти до меня в слабости моей, чтобы я мог узреть его. Только тогда я понял таинственный смысл слова божьего, воплощенного в человеке, дабы увещевать и утешать людей, понял смысл всех этих христианских легенд, таких поэтичных и таких нежных, эти связи между землею и небом, это животворное влияние духа, открывающего наконец человеку несчастному путь надежды и утешения! О Лелия! О Стенио! Вы ведь тоже верите в бога, не так ли? Оба молчали. Лелия, по-видимому, была настроена еще более скептически, чем обычно. Стенио не мог побороть отвращение, которое вызывал в нем Тренмор: душа его не решалась открыться душе каторжника. Однако он сделал над собой усилие — не для того, чтобы ответить, а чтобы еще о чем-то спросить. — Тренмор, — сказал он, — ты не говоришь о себе то, что мне так важно знать. В словах твоих, как мне кажется, больше поэзии, чем правды. Ведь прежде чем ты вкусил покой и пришел к вере, ты должен был великим раскаянием очистить разум свой и искупить душу? — Да, великим раскаянием! — ответил Тренмор. — Но раскаяние это было глубокое и искреннее, освобожденное от страха перед людьми. В этой бездне унижения я не поддался слабости считать, что унизили меня люди, и посланное мне наказание принял не от них, а от одного господа. В первые дни я обвинил во всем судьбу, единственное божество, в которое верил. Потом я стал находить удовольствие в борьбе с этой необузданной силой, которой я, однако, не мог отказать в высокой справедливости и в осуществлении замысла провидения, ибо за этим грубым символом я видел истинного бога, видел его, сам того не зная и как бы помимо воли, так, как видел всегда. Что меня больше всего поражало в истории, так это великие богатства Креза и Сарданапала и постигшие их великие удары судьбы. Мне нравилась угрюмая мудрость этих людей, которые стоически выдерживали все унижения, доставшиеся им от себе подобных, и в то же время бросали неблагодарным богам такие жестокие упреки. Но разве само их кощунство не таило в себе великой веры? Мало-помалу вера эта прояснилась моему взору; но, должен признаться, что, несмотря на мое презрение к роли человека в моей судьбе, я был вынужден начать снизу, чтобы возвыситься до идеи божественной справедливости. И вот, вникая в мои преступления и в то наказание, которому подвергли меня такие же люди, пораженный их варварством и их несправедливостью, я снискал себе приют на лоне божественного милосердия. — Неужели вы осмелитесь утверждать, — сказал Стенио, едва сдерживая охватившее его возмущение, — что вы не заслужили наказания? — Нет, конечно, я заслужил какое-то наказание, — невозмутимо ответил Тренмор, — мой жизненный опыт подтвердил, что мне нужен был страшный урок. Но какое это было унизительное и ужасное наказание! Неужели же общество ставит себе целью мстить? Мне кажется, что сущность наказания в том, чтобы искупить содеянное преступление и сделать преступника другим человеком? — Ну, разумеется, — в волнении воскликнул Стенио, — преступление ваше не заслуживало такой суровой кары. Вы ведь убили не преднамеренно, а вас смешали с ворами и убийцами. — Я действительно не заслужил столь сурового наказания, — сказал Тренмор, — но тем не менее наказать меня следовало, и наказать строго. Преступление мое отнюдь не в том, что я убил человека. Я совершил это убийство оттого, что был пьян. И дело не только в том, что я пьянствовал в эту роковую ночь — это была привычка к вину, к оргиям, вся моя невоздержанная, развратная жизнь. И наказать меня следовало не за распутство одного только дня, а за всю эту непотребную жизнь, которую надлежало пресечь. Вот что я понял, когда сравнивал свое положение с положением злодеев, к которым меня бросили, как в древности бросали гладиатора к диким зверям. Я спрашивал себя, для чего меня приобщили к страшному сонмищу нечестивцев: для того ли, чтобы я исправился, глядя на весь этот ужас, или для того, чтобы наказать меня за мои проступки смертельной заразой — невозвратимой потерей всякого проблеска божественного начала и всех человеческих чувств. Признайтесь, что это престранный способ наказания, до которого додумалось общество! Негодование мое было так велико, что некоторое время, подпав под власть самых страшных мыслей, я колебался, не принять ли мне ту судьбу, которую для меня уготовили, не сделать ли себя врагом рода человеческого, не дать ли клятву обратить всю ярость мою против него и объявить ему войну с того дня, как я выйду на свободу; освободись я в пору этого дикого отчаяния, не было бы разбойника страшнее меня, никакой убийца не купался бы в крови так исступленно, как я! Но как ни велика была моя ненависть, мне приходилось запастись терпением, и я долго вынашивал планы мести, которые религиозное чувство потом во мне погасило. Разве у меня не было причин ненавидеть это общество: оно ведь завладело мною с колыбели и с той поры так слепо расточало мне свои благодеяния, что даже в какой-то мере способствовало тому, что во мне вспыхнули неугасимые страсти и потребности? Ему потом нравилось удовлетворять их и беспрерывно возбуждать вновь. Зачем оно создает богатых и бедных? И если оно разрешает иным наследовать богатства, почему оно не указует им, как достойным образом его употребить? Где та сила, которая должна направить нас в молодые годы? Где те обязанности, которым нас должны учить, которые нам должны предписывать, когда мы мужаем? Где те грани, которые оно ставит нашей распущенности? Какую помощь оказывает оно мужчинам, которых мы развращаем своими подачками, и женщинам, которых мы губим своими пороками? Откуда в этом обществе такое множество лакеев и проституток? Почему оно терпит наши оргии и почему оно раскрывает нам само двери непотребства? И почему же мне пришлось испытать на себе суровый закон, который так редко применяется к богачам? Да потому, что мне не пришло в голову заранее купить себе отпущение всех грехов. Если бы я поместил свое золото, свою репутацию и свою жизнь под охрану какого-нибудь принца, такого же развратного, как я, если бы низкими политическими интригами сумел сделать себя полезным коварным замыслам какого-нибудь правительства, у меня были бы всемогущие друзья, чье бесстыдное покровительство спасло бы меня, как и стольких других, от огласки позорного приговора и от ужаса безжалостной кары Но хоть я и сумел найти множество способов разориться, мне было не по душе разоряться в обществе сильных мира сего. Я презирал их еще больше, чем себя я к ним не обратился в беде. Они мне отомстили, бросив меня на произвол судьбы. Это была первая воодушевившая меня мысль: она немного возвысила меня в собственных глазах. Затем, когда я окинул взором всех этих несчастных, меня охватил не только ужас, но прежде всего огромная жалость. Ибо хоть между их преступлениями и моим была целая пропасть, они, как и я, терпели наказание непомерное и несправедливое. Они тоже были обречены на еще большее моральное падение; им тоже предстояло потерять всякое желание и всякую надежду восстановить свое доброе имя. А ведь и у них было право на целительную кару, которая не только бы не сломила им душу, а напротив, укрепила бы ее разумными наставлениями, благородными примерами, обещала бы ей милосердие. Ибо отнюдь не насилие и не ярмо, еще более тяжкое, чем содеянные ими преступления, могли заставить их смиренно склониться и искупить свой грех. Чем ниже было их падение, тем решительнее надо было стараться поднять их. Чем более бесчувственными и дикими создала их природа, тем ответственнее был долг, возложенный на общество богом, воспитать их и наставить на путь истины. Да, им, так же как и мне, наказание было нужно. Оно должно было быть достаточно длительным, достаточно суровым, но таким, какое отец налагает на провинившегося ребенка, — в нем не должно было быть той жестокости, с какою палач впивается в свою жертву. О человечество! Разве Христос не говорил тебе о милосердии небес? Разве он не учил тебя призывать высшего судию, называя его отцом? Но ты ведь его не послушало, ты распяло праведника. Какого же милосердия может ждать от тебя преступник? Чем больше я наблюдал распущенность и нравственное уродство этих несчастных, тем больше я обвинял общество, которое наказывает безвестные преступления и покровительствует стольким другим, которые творятся у всех на виду. Оно умеет мстить только отдельным личностям. Оно не способно распространить свою месть на целые сословия и защититься от них. Богатые правят с помощью низости и обмана. Бедным приходится расплачиваться вдвойне — за свои собственные грехи и за чужие, за те, которые знать выставляет им напоказ, возлагая нечистые жертвы на роскошные алтари. Подумав об этих примерах, которые я привел сам (как-никак один из наименее преступных среди счастливцев нашего времени), я перестал гордиться собой и ставить себя выше моих товарищей по несчастью; смирившись перед господом, я принял из его рук то унижение, в котором был вынужден жить среди них. Эти глубоко прочувствованные мысли толкнули меня на путь стоицизма, и я без единой жалобы перенес мое горе. Но стоицизм этот не был холодной мудростью человека, умеющего обрести покой, день ото дня подавляя свои страдания. Душа моя была надорвана жалостью, сердце мое обливалось кровью при виде всех этих ран, всех язв, которые окружали меня, и если я и нашел успокоение, то только тогда, когда уверовал в высшую доброту и справедливость всепрощения. Всеми фибрами своего существа я чувствовал, что эти погибшие для общества люди не погибли для неба, ведь вера в вечные муки — это выдумка, достойная людей бессердечных и не знающих, что такое прощение. Могущество господа они измеряли по своей мерке. Они возомнили, что он употребит свою власть на то, чтобы держать в преисподней мириады погибших душ. Они забыли, что он властен дать этим душам новые жизни и очистить их множеством испытаний, которых люди не в силах предвидеть. — Все это хорошие слова, — сказал Стенио, обернувшись к Лелии, внимательно следившей за впечатлением, которое речи Тренмора произвели на молодого поэта. — Но только, — добавил он тихо, — можно ли одними хорошими мыслями и хорошими словами смыть кровь и позор? — Ну конечно, нет, — громко ответила Лелия. — Нужны еще хорошие поступки, а у него они были. Перенося мучения, он стал жить жизнью героической, самозабвенной и милосердной и будет жить так всегда. Он начал с того, что стал утешать и обращать на путь истинный наименее очерствевших из тех несчастных, которых суд людей сделал его братьями. И даже там, на каторге, он добился успеха. Он, во всяком случае, мог говорить себе в утешение, что вместе со слезами вливает каплю бальзама небесного в наполненные вечной горечью чаши их жизней. Он нашел слова сочувствия и облегчения для людей, которые всю жизнь были к ним глухи, которые их никогда не слыхали и никогда больше не услышат, но которых они никогда не забудут. После того как он уже десять лет на свободе, после того как и вид его и все привычки до такой степени переменились, что никто его не может узнать, после того как в силу странных и романтических обстоятельств он стал владеть состоянием большим, чем то, которое он потерял, жизнь его, суровая для него и щедрая для других, сделалась примером самого высокого самоотвержения. Одно слово раскроет тебе, что это за человек, которого ты по тщеславию своему все еще боишься; одно слово… — Подождите! — воскликнул Тренмор. — Если моя новая жизнь может иметь какое-то значение в его глазах, когда он ее узнает, не лишайте его высокого мужества поверить в меня без доказательств и без гарантий. Это не может совершиться за час. Я спокойно могу вынести его недоверие и презрение еще несколько дней! — Мое недоверие — может быть! — вскричал Стенио. — Признаюсь, что добродетель, полученная таким исключительным путем, как ваша, удивляет меня и пугает, ибо мне знакомы только обсаженные цветами дорожки, по которым люди бегут к надежде. Только знайте, несчастный человек, презрения моего вам бояться нечего… — Ваше презрение не может меня напугать, юноша! — оборвал его Тренмор, и в голосе его звучала торжественная гордость. — Я знаю, что презирать меня должен всякий, кто узнает, что я изгнан из общества. Знаю также, что любой человек, узнав мою тайну, вправе оскорбить меня и отказаться драться со мной на дуэли. Поэтому я должен был уважать и чтить себя вне зависимости от мнения людей. Это великое благо я заработал в поте лица — я смыл с себя грязь и кровь не кровью кого-нибудь другого, а своей самой чистой кровью. Поэтому ни один человек не властен меня унизить. Вы будете уважать меня, Стенио, когда сможете, но и тогда не заботьтесь о том, чтобы выказать мне это уважение. Оно не принесет мне добра, равно как и ваше презрение не может причинить мне зла. Давно уже в поступках своих я не руководствуюсь мнением людей. Тот, на кого они рассчитаны, — добавил Тренмор, поглядев на небо, — выше, чем все вы. В лице изгнанника, в его голосе, в манере себя держать сквозило столько благородства и столько энергии, что Стенио был потрясен. Он робко оглядел себя самого и мысленно попросил у господа прощения за то, что оскорбил человека, снискавшего покровительство небес. Тренмор погрузился в глубокую задумчивость; спутники его тоже замолчали. Красавица Лелия смотрела на борозду, которую лодка оставила на воде, — по ней золотыми ниточками извивались отблески трепещущих звезд. Стенио впился глазами в свою спутницу — во всей вселенной он видел только ее одну. Когда время от времени вздымались порывы ветра, и лица его касались черные волосы Лелии или хотя бы бахрома ее шарфа, он весь дрожал, как воды озера, как прибрежный тростник. Потом ветер замирал, словно последний вздох истерзанной страданием груди. Волосы Лелии и складки ее шарфа снова падали ей на грудь, и Стенио тщетно искал ответного взгляда в глазах ее, огонь которых так стремительно прорезал мрак, когда Лелия снисходила до того, чтобы стать женщиной. Но о чем же думала Лелия, глядя на борозду за кормой?.. Ветер развеял туман; Тренмор увидел вдруг впереди, в нескольких шагах от себя, прибрежные деревья, а на горизонте — красноватые огни города; он глубоко вздохнул. — Как, уже? — сказал он. — Вы слишком быстро гребете, Стенио, вы очень торопитесь вернуть нас к людям.14
Несколько часов спустя они были на балу в доме богатого музыканта Спуэлы. Тренмор и Стенио вошли под своды круглой залы, где каждый звук отдавался трепетным эхом; взглядам их открылась целая анфилада других зал, полных движения и гула. Танцующие пары скользили затейливыми кругами при бледном свете свечей, цветы увядали в тяжелом воздухе, звуки оркестра замирали под мраморным сводом, и в горячем тумане бала двигались взад и вперед фигуры людей в праздничных нарядах, бледные и молчаливые. Но над всем этим пышным празднеством, над этими яркими красками, смягченными реющей в глубине дымкой и сгустившейся атмосферой, над диковинными масками, над сверкающими бриллиантами, над легкой кадрилью и группами молодых и веселых женщин, над движением и шумом — над всем возвышалась одинокая фигура Лелии. Стоя на ступеньках амфитеатра, опершись на бронзовую полуколонну, она смотрела на бал. На ней тоже был маскарадный костюм, но костюм этот был благороден и мрачен как и она сама, строг и вместе с тем изыскан; лицо ее было бледно, серьезно, глубокие глаза напоминали юных поэтов былых времен, когда вся жизнь была пронизана поэзией и когда поэзия не спускалась в толпу. Откинутые назад черные волосы Лелии оставляли открытым ее лоб, на котором десница всевышнего, казалось, запечатлела ее таинственную, несчастную судьбу; взгляд юного Стенио беспрерывно устремлялся к ней, с тревожной настороженностью кормчего, который прислушивается к малейшему дуновению ветра и приглядывается к движению едва заметных облачков на совсем чистом небе. Большие глаза Лелии, смотревшие из-под то и дело хмурившихся бровей, казались еще чернее, еще бархатистее, чем надетая на ней мантилья. Матовая бледность ее лица и шеи сливалась с широким белым воротником,а холодное дыхание ее словно застывшей груди, казалось, даже не шевелило ни черной атласной курточки, ни золотой цепочки, трижды обвивавшей ей шею. — Взгляните на Лелию, — сказал Стенио восхищенно, — взгляните на этот высокий греческий стан, облаченный в одежды благочестивой и страстной Италии, на эту античную красоту, пропорции которой утратило нынешнее ваяние, на эту глубокую задумчивость, присущую философическим векам; на эти богатые формы и черты; на эту восхитительную стройность, воплощения которой, ныне утраченные, могли быть созданы только под гомеровским солнцем; взгляните, говорю вам, на эту физическую красоту: она одна могла бы быть всемогуща, а господу было угодно вдохнуть в нее весь великий разум нашей эпохи!.. Можно ли представить себе что-либо более совершенное, чем Лелия в этом одеянии, в этой позе, погруженная в такое глубокое раздумье? Это безупречная мраморная Галатея с небесным взглядом Тассо и с горькой улыбкою Алигьери. Это непринужденная и рыцарственная поза юных героев Шекспира: это поэтический любовник Ромео, это бледный аскет, это духовидец Гамлет; это Джульетта, полумертвая Джульетта, которая прячет на груди своей яд и воспоминание о разбитой любви. Можно начертать самые великие имена истории, театра, поэзии на этом лице, которое как бы подводит итог всему, ибо вмещает в себе все. Молодой Рафаэль, должно быть, пребывал в таком восторге, когда господь явил ему прелестные видения целомудренной красоты. Так сурово и сосредоточенно умирающая Коринна слушала свои последние стихи, которые молодая девушка читала у стен Капитолия. Молчаливый и таинственный паж Лары замыкался так в уединении, презирая толпу. Да, Лелия сочетала в себе все эти идеальные качества, ибо в ней слились воедино гении всех поэтов, величие всех героев. Вы можете наречь Лелию всеми этими именами; самым великим, самым гармоничным из всех перед богом будет все-таки имя Лелии! Лелии — чье светлое и ясное чело, чье большое и щедрое сердце вмещает в себе все великие мысли, все благородные чувства: религию, энтузиазм, стоицизм, жалость, упорство, страдание, милосердие, прощение, чистоту, смелость, презрение к жизни, ум, энергию, надежду, терпение, все, вплоть до невинных слабостей, до прелестного женского легкомыслия, до переменчивости и беззаботности, которые являются, может быть, ее самым приятным преимуществом и самой могучей притягательной силой. — Все, кроме любви, — мрачно добавил Стенио после минутного молчания. — Тренмор, вы, который знаете Лелию, скажите мне, знала ли она любовь? Что же, если нет, то Лелию нельзя назвать человеческим существом. Это только мечта, такая, какую может создать себе человек, красивая или возвышенная, но ей всегда не хватает чего-то, чему нет имени и что скрыто от нас облаком, что превыше небес, к чему мы неустанно стремимся и чего не можем ни достичь, ни когда-либо увидать, нечто истинное, совершенное и неизменное; может быть, это и есть бог, может быть, это зовется богом! Но человеческому уму все это недоступно! Взамен господь дал человеку любовь, слабое излучение небесного огня, душу вселенной, которую он способен ощутить, эту божественную искру, этот отблеск всевышнего, без которого самое прекрасное существо ничего не значит, без которого Христос только образ, лишенный жизни, — вот этой-то любви и нет в Лелии. Что же такое Лелия? Тень, мечта, самое большее — мысль. Там, где нет любви, нет и женщины. — И вы думаете так же, — сказал Тренмор, не отвечая на то, что для Стенио было вопросом, — что там, где нет любви, нет и мужчины? — Я верю в это всей душой! — воскликнул юноша. — В таком случае я тоже мертв, — сказал Тренмор, улыбаясь, — ибо у меня нет любви к Лелии, а уж если Лелия не пробудила ее во мне, никакая другая женщина не сможет этого сделать. Мне только кажется, Стенио, что вы ошибаетесь и что с любовью происходит то же, что и с другими эгоистическими страстями. Я думаю, что там, где они кончаются, только и начинается человек. В эту минуту Лелия спустилась со ступенек и подошла к ним. Величие, полное печали, окружавшее Лелию словно ореолом, почти всегда отчуждало ее от толпы. Женщина эта никогда не выказывала своих чувств на людях. Она замыкалась в себе, чтобы посмеяться над жизнью, но она шла по ней, исполненная ненависти и недоверия, и старалась казаться суровой, чтобы по возможности избавиться от всякого соприкосновения с обществом. Вместе с тем она любила празднества, шумные сборища. Для нее они были своего рода театром. Она приходила туда, чтобы предаваться раздумью, одинокая среди толпы. Толпа не сразу привыкла к тому, что она как бы парит над пей и все время старается почерпнуть новые впечатления, никогда не делясь своими. Между Лелией и толпой не было никакого общения. Если у Лелии и возникали некие тайные пристрастия, она не позволяла себе возбуждать их в других — ей это было не нужно. Толпа могла не понять этой странности, но она была зачарована и, стараясь, чтобы это неведомое ей существо, независимость которого ее оскорбляла, спускалось к ней, разверзлась перед этой удивительной женщиной с каким-то безотчетным почтением, к которому примешивался и страх. Бедный молодой поэт, который любил ее, несколько лучше понимал причины ее власти над людьми, хотя и не решался еще себе в этом признаться. Временами он был так близок к печальной истине, которую искал и в то же время отталкивал от себя, что испытывал к Лелии нечто вроде ужаса. Ему казалось тогда, что Лелия — его бич, его злой гений, самый опасный для него на свете враг. Видя, как она теперь приближается к нему, одинокая и задумчивая, он почувствовал какую-то ненависть к этому существу, которое ничто как будто не связывало с остальным миром. Этому безумцу не пришло даже в голову, что если бы он видел, что она улыбается и говорит, страдания его были бы куда больше. — Вы словно мертвец, приоткрывший свой гроб и явившийся сюда, чтобы разгуливать среди живых, — сказал он жестко и с горечью. — Смотрите, люди сторонятся вас, они боятся коснуться вашего савана, вам едва смеют взглянуть в лицо: зловещая тишина парит вокруг вас, как ночная птица. Рука ваша тоже холодна, как тот мрамор, которого вы только что касались. Лелия ответила ему странным взглядом и холодной улыбкой; некоторое время она молчала. — Мне только что приходили в голову другие мысли, — сказала она наконец. — Я принимала вас всех за мертвецов, а сама, живая, наблюдала за вами. Я говорила себе, что есть что-то необычайно мрачное во всех этих, маскарадах. В самом деле, разве не печально воскрешать так канувшие в вечность эпохи и заставлять их развлекать наши дни? Все эти костюмы былых времен, являющие нам давно ушедшие поколения, здесь, в разгаре празднеств, какой это страшный пример, напоминающий нам о быстротечности человеческой жизни? Где они, горячие головы, кипевшие под этими беретами и тюрбанами? Где молодые и пламенные сердца, которые бились под этими атласными куртками, под этими корсажами, вышитыми золотом и жемчугом? Где все гордые красавицы, которые кутались в эти тяжелые ткани, которые украшали свои пышные волосы этими старинными диадемами? Увы! Где все эти калифы на час, которые блистали так же, как ныне мы? Они прошли по жизни, не думая ни о поколениях, которые проходили перед ними, ни о тех, которые за ними последуют, не думая о своей собственной жизни, украшая себя золотом, обливаясь духами, живя среди роскоши и звуков музыки, в ожидании могильного холода и забвения. — Они отдыхают от жизни, — сказал Тренмор. — Счастливы те, которые покоятся в мире! — Должно быть, ум человека очень уж ограничен, — ответила Лелия, — и удовольствия его очень пусты; должно быть, простые и легкие наслаждения быстро теряют для него свою прелесть, если среди радости и торжества он неизменно испытывает вновь и вновь это ужасающее чувство тоски и страха. Видите, человек богатый и веселый, один из счастливцев этой земли, чтобы одурманить себя и забыть, что дни его сочтены, не может придумать ничего лучшего, чем выкапывать остатки прошлого, одевать своих гостей в личины смерти и устраивать у себя во дворце танцы для теней своих предков! — Душа твоя мрачна, Лелия, — сказал Тренмор, — можно подумать, что ты одна здесь боишься не умереть в свой черед.15
«Этот молодой человек заслуживает больше сочувствия, Лелия. Я думал, что у вас от женщины только прелесть и обаяние. Неужели же в вас гнездятся и присущие ей бесстыдное тщеславие и жестокая неблагодарность? Нет, я готов скорее усомниться в существовании бога, нежели в доброте вашего сердца. Лелия, скажите же мне, что вы хотите сделать с душой поэта, которая отдалась вам и которую вы приняли, поступив, может быть, неблагоразумно! Теперь вы уже не можете оттолкнуть ее — она разобьется, и берегитесь, Лелия, господь спросит у вас за нее отчета, ибо от него она к нам пришла к нему и должна вернуться. Нет сомнения в том, что юный Стенио — один из его избранников. Разве он не наделил его красотой своих ангелов? Есть ли на свете юноша чище и нежнее? Я никогда не видел более умиротворенного лица, никогда не видел неба, такого синего и прозрачного, как его глаза. Я никогда не слышал девического голоса более сладостного и гармоничного, чем его голос, произносимые им слова подобны слабым и чуть приглушенным звукам, которые издают струны арфы от дуновение ветерка. А его медленная походка, его движения, небрежные и грустные, его белые тонкие руки, его нежное и гибкое тело, его шелковистые белокурые волосы, цвет его лица, переменчивый как осеннее небо, этот яркий румянец, который заливает его щеки от одного вашего взгляда, эта голубоватая бледность, которую одно ваше слово разливает по его губам, — по всему видно, что это поэт, что это целомудренный юноша, душа, которую господь послал в этот мир на страдание, чтобы испытать ее и тогда лишь возвести ее в ангельский чин. А если вы оставите эту душу на ветру разъедающих страстей, если вы погасите ее подо льдами отчаяния, если покинете ее в глубине пропасти, как найдет она тогда путь к небесам? О женщина! Обдумайте ваши поступки! Не раздавите это нежное дитя тяжестью вашего страшного разума! Берегите его от ветра, и от солнца, и от света, и от холода, и от ударов молнии — от всего, что нас обессиливает, опрокидывает, сушит и убивает. Помогите ему ходить по земле, укройте его полою вашего плаща, проведите его меж рифов. Разве вы не можете быть ему подругой, сестрой или матерью? Я знаю все то, что вы мне уже успели сказать, я понимаю вас, я вас поздравляю, но раз вы счастливы (в той мере, в какой вам дано быть счастливой), я забочусь уже не о вас, а о нем, о том, кто страдает; я его жалею. Послушайте, женщина! Неужели у вас, которой известно столько всего, неведомого мужчине, — неужели у вас нет средства помочь его горю? Неужели вы не можете поделиться с другими частицей той мудрости, которую вам даровал господь? Неужели вы можете творить только зло и бессильны содеять добро? Ну что же, Лелия, если это действительно так, надо удалить от вас Стенио или вам самой бежать от него».16
«Удалить Стенио или бежать от него! О, пока еще нет. Вы так холодны, сердце ваше так старо, друг мой, что вы говорите о том, чтобы бежать от Стенио, будто речь идет о том, чтобы покинуть этот город ради другого, людей сегодняшнего дня ради людей завтрашнего, будто речь идет о том, чтобы вы, Тренмор, покинули меня, Лелию! Я знаю, вы достигли своей цели, вы спаслись от кораблекрушения, и вот вы в гавани. Никакое чувство не возвышается в вас до настоящей страсти, вам уже ничего не нужно, никто не может ни создать, ни разрушить ваше счастье, вы сами и творец его и его хранитель. Я тоже, Тренмор, поздравляю вас, но я не могу подражать вам. Я восхищаюсь вашей упорной и основательной работой, но все, созданное вашими усилиями, — это крепость, а я женщина, я художник, и мне нужен дворец: я не буду в нем счастлива, но, во всяком случае, не умру. А в ваших ледяных и каменных стенах я не проживу и дня. Нет, пока еще нет! Господь этого не хочет! А можно ли опережать его веление? Если мне дано достичь той ступени, на которой вы находитесь сейчас, я по крайней мере хочу быть достаточно зрелой, чтобы воспринять всю мудрость, и достаточно уверенной в себе, чтобы с грустью не оборачиваться назад. Мне уже слышатся ваши слова. «Слабая и жалкая женщина, — скажете вы, — ты боишься получить то, о чем часто просишь, я ведь видел, как ты добивалась победы, которую отталкиваешь теперь от себя!..» Ну что же! Я слаба, я труслива, но во мне нет ни неблагодарности, ни тщеславия, я лишена этих женских пороков. Нет, друг мой, я не хочу разбивать сердце человека, не хочу гасить душу поэта. Успокойся, я люблю Стенио».17
«Вы любите Стенио! Женщина, вы лжете. Подумайте о том, кто мы — вы, он и я. Вы любите Стенио! Этого нет и не может быть. Подумайте только о столетиях, которые вас разделяют! Вы увядший, измятый, сломанный ветром цветок; вас без конца качали волны всех морей сомнения и разбивали потом о берег отчаяния! А вы решаетесь пуститься еще в одно путешествие? Нет, не может этого быть, Лелия! Что надобно теперь таким, как мы с вами? Покой могилы. Вы прожили жизнь! Так дайте же жить и другим. Не кидайтесь, печальная и всегда ускользающая тень, на путь тех, которые не завершили своей задачи и не потеряли надежды. Лелия, Лелия! Могила зовет тебя. Разве ты недостаточно страдала, несчастная, от всей своей философии? Так закутайся в саван, спи наконец в тишине, усталая душа, которую господь больше не осуждает уже ни на труд, ни на страдание. Это верно, вы достигли меньшего, чем я. У вас остались еще какие-то воспоминания о прошлом. Вы еще боретесь иногда с врагом человека — с надеждой на земные блага. Но верьте мне, сестра моя, всего лишь несколько шагов отделяют вас от цели. Состариться легко, но никому еще никогда не случалось помолодеть. Повторяю, дайте ребенку спокойно расти и жить, не губите еще не распустившийся цветок. Не овевайте вашим ледяным дыханием чудесные, залитые солнцем дни его весны. Не надейтесь дать ему жизнь, Лелия, жизни в вас больше нет, вам остается лишь сожаление о ней; вскоре, как и у меня, у вас останется только воспоминание».18
«Ты мне это обещал, ты будешь нежно любить меня, и мы с тобой будем счастливы. Не пытайся опередить время, Стенио, не старайся во что бы то ни стало добраться до тайн жизни. Дай ей подхватить тебя и унести туда, куда все мы идем. Ты боишься меня? Самого себя тебе надо бояться, самого себя надо сдерживать, ибо в твои годы воображение портит самые сочные плоды, принижает все радости. В твои годы люди не умеют пользоваться ничем, они все хотят знать, всем владеть, все исчерпать, а потом удивляются, что блага человека так ограничены, в то время как удивляться следовало бы только сердцу человека и его потребностям. Послушай меня, иди тихонько, упивайся по очереди всеми этими невыразимыми радостями слова, взгляда, мысли, всеми этими столь много значащими мелочами рождающейся любви. Разве мы не были счастливы вчера под сенью этих деревьев, когда сидели рядом и одежды наши соприкасались, а взгляды находили друг друга во мраке? Было совсем темно, и все же я видела вас, Стенио; я видела вас таким, какой вы есть, — прекрасным, и мне казалось, что передо мною сильф этих лесов, душа этого ветра, ангел этого таинственного и нежного часа. Заметили ли вы, Стенио, что есть часы, когда мы вынуждены любить, часы, когда нас охватывает вдохновение, когда сердце бьется чаще, когда душа вырывается на свободу и разбивает все оковы воли, чтобы найти другую душу и слиться с нею? Сколько раз с наступлением ночи, когда всходит луна, или с первыми лучами дня, сколько раз в полуночной тишине и в тишине другой, полуденной, такой подавляющей, такой мучительной и тревожной, я чувствовала, как сердце мое устремляется куда-то к неведомой цели, к неясному, безымянному счастью, рассеянному повсюду в воздухе, в небе, будто незримый возлюбленный, будто сама любовь! И все-таки, Стенио, это не любовь. Вы слепо верите, вы ничего не знаете и на все надеетесь, а я знаю все, знаю, что по ту сторону любви есть желания, потребности, надежды, которые никогда не гаснут. Чем был бы без них человек? Для любви ему дано на земле так мало дней! Но в эти часы то, что мы чувствуем, настолько живо, настолько властно, что мы распространяем его на все, что нас окружает; в эти часы, когда господь владеет нами и нас наполняет собою, мы изливаем на все его творения сияние озарившего нас луча. Разве вы никогда не плакали от любви к этим светлым звездам, которыми усеян синий покров ночи? Разве вы никогда не становились перед ними на колени, не простирали к ним руки и не называли их вашими сестрами? А потом — человек ведь привык к тому, чтобы его привязанности сосредоточивались на чем-то одном, для больших чувств он слишком слаб, — разве вам не случалось воспламениться страстью к одной из них? Разве вы в любви своей не выбирали из всех то ту, что мерцает красным светом над полосою темных лесов у самого горизонта, то другую, бледную и кроткую, которая прячется, словно стыдливая дева, за влажными, густыми отблесками луны; то эти три сестры, одинаково белые, одинаково прекрасные, которые светятся таинственным треугольником; то эти две сияющие подруги, которые спят, прижавшись одна к другой, в чистом небе, среди мириад менее ярких звезд. А если эти каббалистические знаки, все эти неведомые письмена, все эти странные фигуры, огромные и исполненные величия, которые они чертят над нашими головами, — неужели у вас никогда не являлось желание объяснить их и прочесть в них великие тайны нашего предназначения, летоисчисления мира, имени всевышнего, будущее души. Да, вы вопрошали эти светила с горячим восторгом, и в дрожащем блеске их лучей вам чудились влюбленные взгляды; вам чудился голос, звучавший с высоты, чтобы приласкать вас, чтобы сказать вам: «Надейся, от нас ты ушел, к нам ты и вернешься! Я твоя отчизна, это я зову тебя, я иду за тобой, рано или поздно я буду тебе принадлежать!» Любовь, Стенио, это не то, что вы думаете, это отнюдь не тяготение всех наших сил к одному существу: это священное тяготение самых возвышенных сфер нашей души к неизведанному. Будучи существами ограниченными, мы беспрерывно хотим утолить терзающие нас ненасытные желания; мы ищем некую цель вокруг нас и, по несчастной нашей расточительности, наделяем наших недолговечных идолов всеми духовными красотами, виденными нами во сне. Одних чувств нам мало. В сокровищнице наивных радостей, которыми нас тешит природа, нет ничего достаточно изысканного, чтобы утолить снедающую нас жажду счастья. Нам нужно небо, а у нас его нет! Вот почему мы ищем неба в подобном себе создании и тратим на него всю ту высокую энергию, которая была нам дана для более благородного употребления. Мы отказываем господу богу в благоговении, чувстве, которое было вложено в нас, чтобы возвратиться вновь только к богу. Мы перенесли это чувство на несовершенное и слабое существо, которое для нас, идолопоклонников, становится богом. В дни молодости мира, когда человек не грешил перед своей природой и не изменял зову сердца, любовь одного пола к другому в нашем теперешнем понимании этого слова не существовала. Единственным связующим звеном было наслаждение; страсть духовная со всеми возникающими на ее пути препятствиями, страданиями, всей ее напряженностью — зло, которого прежние поколения не знали. Ибо в то время существовали божества, а теперь их нет. В наши дни души поэтические переносят свой благоговейный восторг даже на физическую любовь. Странная ошибка жадного и бессильного поколения! Вот почему, когда ниспадает божественный покров и когда из-за клубов ладана, в ореоле любви появляется на свет творение слабое и несовершенное, мы в испуге от нашего обмана, мы краснеем и опрокидываем идола и попираем его ногами. А вслед за тем мы ищем другой! Нам ведь надо любить, а мы еще часто ошибаемся, до того самого дня, когда, образумившиеся, очищенные, просветленные, мы наконец расстаемся с надеждой надолго привязаться к чему-то земному, и обращаем к богу восторженную и чистую хвалу, которую нам всегда следовало бы воссылать только ему одному».19
«Не пишите мне, Лелия; зачем вы мне пишете? Я был счастлив, и вот вы снова повергаете меня в тревогу, от которой я на мгновение избавился! Этот час, проведенный возле вас в молчании, открыл мне столько удивительного неизъяснимого наслаждения! Как, Лелия, вы уже жалеете о том, что дали мне его изведать? Но отчего же мое горячее нетерпение вас страшит? Вы нарочно не хотите меня понять. Вы знаете, что я удовлетворюсь самым малым и буду счастлив: ничто из того, что вы сделаете для меня, не покажется мне малым, ибо я воздам должное вашим самым незначительным милостям. Я не самонадеян; я знаю, насколько я ниже вас. Жестокая женщина! Зачем вы без конца призываете меня дрожать от моего ничтожества, от которого я и так столько всего выстрадал. Я понимаю, Лелия! Увы, я понимаю! Вы можете любить только бога! Душа ваша может найти себе успокоение и жить только на небесах! Когда вы в часы раздумья, охваченная порывом чувств, посмотрели на меня с любовью, вы ошиблись: вы думали о боге, вы приняли человека за ангела. Когда взошла луна, когда она осветила мои черты и рассеяла эту тьму, укрывающую ваши вымыслы, вы улыбнулись от жалости: вы узнали чело Стенио — чело Стенио, на котором вы, однако, запечатлели свой поцелуй! Все ясно, вы хотите, чтобы я об этом забыл! Вы боитесь, что я сберегу это пьянящее ощущение и буду жить им целый день! Успокойтесь, это счастье не ослепило меня; хоть оно и выпило мою кровь, хоть оно и разбило мне сердце, разум мой не помутился. Разум никогда не может помутиться возле вас, Лелия! Успокойтесь, говорю вам, я не из тех самоуверенных шалопаев, для которых поцелуй женщины — залог любви. Я не считаю себя способным оживлять мрамор и воскрешать мертвых. И вместе с тем дыхание ваше разгорячило мой мозг. Едва только губы ваши коснулись моих волос, мне показалось, что меня пронзает электрическая искра. Волнение было так сильно, из груди моей вырвался страдальческий крик. Нет, вы не женщина, Лелия, я это отлично вижу! Я мечтал, что один из ваших поцелуев станет для меня раем, а вы низвергли меня в ад. Вместе в тем ваша улыбка была так ласкова, в ваших нежных словах было столько нежности, что я потом отдался утешению, которое вы несли. Это страшное чувство немного улеглось, я научился касаться вашей руки и не дрожать. Вы явили мне небо, и я поднимался туда на ваших крыльях. Я был счастлив в эту ночь, вспоминая ваш последний взгляд, ваши последние слова: я не льстил себе, Лелия, клянусь вам. Я отлично знаю, что вы меня не любите, но я уснул в том оцепенении, в которое вы меня повергли. И вот вы уже будите меня, ваш зловещий голос кричит: «Помни, Стенио, любить тебя я не могу!» Ах, я это знаю, Лелия, я слишком хорошо это знаю!»20
«Прощайте, Лелия, я лишу себя жизни. Сегодня вы сделали меня счастливым, завтра вы мгновенно отнимете у меня счастье, которое по неосмотрительности или из прихоти вы мне подарили сегодня вечером. Мне не надо жить до завтра, мне надо уснуть в моей радости и больше уже не пробуждаться. Яд готов; теперь я могу говорить с вами свободно — больше вы меня не увидите, вы не сможете привести меня в отчаяние. Может быть, вы еще пожалеете жертву, которую вам дано было мучить, игрушку, которую интересно было трепать в угоду своему капризу. Вы говорили, что любите меня больше, чем Тренмора, но уважали вы меня меньше, чем его. Разумеется, вы не можете его мучить так, как захочется; когда дело доходит до этого, ваша сила изменяет вам, ваши когти не могут поцарапать это сердце, твердое как алмаз. Я же был мягким воском, на котором каждое прикосновение оставляло след; как художник, я понимаю, что со мною вам было легче. Вы всячески терзали меня и придавали мне все формы, какие только создавало ваше воображение. Когда вы бывали мрачной, вы приобщали ваше творение к чувству, которое вами владело. Когда вы бывали спокойнее, вы наделяли его ангельским спокойствием; когда вы бывали раздражены, вы заражали его страшной улыбкой, которую дьявол запечатлевал на ваших губах. Так скульптор из одного и того же кусочка глины может вылепить и божество и змею. Лелия, прости мне эту минуту ненависти, которую ты вселяешь в меня — я ведь люблю тебя страстно, исступленно, отчаянно. Я могу тебе это сказать, и в словах моих не будет ни ослушания, ни обиды — они будут последними, которые я обращаю к тебе: ты причинила мне много зла! А ведь как легко было сделать из меня счастливого человека, поэта с радужными мечтами, с живыми чувствами: стоило сказать мне одно только слово днем, стоило только раз улыбнуться вечером — и ты сделала бы меня великим, ты бы сохранила мне молодость! Вместо этого ты стараешься только опустошить меня, лишить меня мужества. Говоря, что ты хочешь сохранить во мне священный огонь, ты гасила его до последней искорки; ты со злобой его раздувала и выжидала пока разгорится пламя, чтобы совсем его погасить. Теперь я отказываюсь от любви, отказываюсь от жизни. Ты довольна! Прощай! Приближается полночь. Я ухожу… туда, куда ты не придешь, Лелия! Ибо не может быть, чтобы в будущем пути наши сошлись. Мы никогда не будем поклоняться одной и той же силе, мы никогда не будем жить на одном и том же небе…»21
Пробило двенадцать. Когда Тренмор пришел к Стенио, поэт сидел задумчиво у огня. Было холодно и темно; ветер с пронзительным свистом пробирался под деревянную обшивку дома. На столе перед Стенио стоял наполненный до краев бокал. Задев его плащом, Тренмор его опрокинул. — Вам надо пойти со мной к Лелии, — сказал он многозначительно, но спокойно. — Лелия хочет вас видеть. Мне кажется, что час ее пришел — она скоро умрет. Стенио стремительно вскочил, но тут же снова упал на стул: он весь побледнел, силы ему изменили; потом он снова поднялся, судорожно схватил руку Тренмора и побежал к Лелии. Она лежала на диване; лицо ее было мертвенно-бледно; глаза глубоко запали; глубокая складка залегла на лоб, всегда белый и гладкий. Но голос ее был звучен и уверен, и презрительная улыбка играла, как обычно, на ее беспокойных губах. Возле нее стоял миловидный доктор Крейснейфеттер, приятный человек, совсем еще молодой, светловолосый, румяный, с белыми руками, снисходительно улыбавшийся и говоривший успокоительным и покровительственным тоном. Доктор фамильярно держал руку Лелии и время от времени проверял пульс, а потом гладил ее прелестные шелковистые волосы, изящно подобранные на затылке. — Все это пустяки, — говорил он, любезно улыбаясь, — сущие пустяки. Это холера, азиатская холера, самая обыкновенная сейчас вещь на свете и лучше всего изученная болезнь. Успокойтесь, мой ангел! У вас холера, эта болезнь уносит за полчаса тех, кто по слабости своей ее пугается, но нисколько не опасна для таких стойких натур, как мы с вами. Главное, не пугайтесь, любезная иностранка! Нас здесь двое, кто не боится холеры, мы с вами не поддадимся ей! Отпугните же это мерзкое привидение, это отвратительное чудовище, от которого у людей волосы встают дыбом. Посмеемся над холерой — это единственный способ справиться с ней. — А что, если попробовать пунш доктора Мажанди? — предложил Тренмор. — Почему бы и не попробовать пунш доктора Мажанди, — отвечал миловидный доктор, — если у больной нет отвращения к пуншу? — Я слышала, — с язвительным хладнокровием заметила Лелия, — что он очень вреден. Попробуем лучше успокаивающие средства. — Попробуем успокаивающие средства, если вы в них верите, — сказал миловидный доктор Крейснейфеттер. — Но что бы вы нам посоветовали сами по совести? — спросил Стенио. При слове «совесть» доктор Крейснейфеттер посмотрел на молодого поэта: во взгляде этом были сочувствие и насмешка; потом он быстро совладал с собою и серьезным тоном сказал: — Моя совесть предписывает мне совсем ничего не предписывать и никак не вмешиваться в течение этой болезни. — Это очень хорошо, доктор, — сказала Лелия. — Но уже становится поздно, покойной ночи. Не лишайте себя дольше драгоценного сна. — О, не обращайте внимания, — ответил доктор, — мне здесь очень хорошо, и мне интересно следить за развитием болезни. Я изучаю, я страстно люблю свою профессию, и я охотно пожертвую ради нее развлечением и отдыхом, я готов даже пожертвовать жизнью, если бы это понадобилось для блага человечества. — А что же вы называете своей профессией, доктор Крейснейфеттер? — спросил Тренмор. — Я утешаю и ободряю людей, — ответил доктор, — в этом мое призвание. Наука раскрыла мне всю важность болезней, которые грозят человеку. Я устанавливаю их, наблюдаю, присутствую при развитии и извлекаю пользу из моих наблюдений. — Чтобы применить все ваши гигиенические познания к вашей дражайшей персоне, — заметила Лелия. — Я не очень верю во влияние какой-либо системы, — продолжал доктор. — В нас всех с самого рождения заложены зачатки грядущей смерти, и рано или поздно она все равно наступит; наши усилия отдалить ее часто только ускоряют ее наступление. Лучше всего не думать о ней и ждать ее, забыв, что она придет. — Вы великий философ, — сказала Лелия, беря табак из табакерки доктора. Тут у нее начались судороги, и она почти без чувств упала на руки Стенио. — Крепитесь, прелестное дитя! — воскликнул юный доктор. — Если вы хоть чуточку поддадитесь вашей болезни, все пропало. Но если вы сумеете сохранить присутствие духа, она для вас будет не страшнее, чем для меня. Лелия приподнялась на диване и, глядя на него потускневшим от страдания взглядом, все же нашла еще в себе силу иронически улыбнуться. — Бедный доктор, — сказала она, — хотела бы я тебя видеть на моем месте! «Благодарю покорно», — подумал доктор. — Так вы говорите, что не верите в действие лекарств; выходит, вы не верите в медицину, — сказала она. — Простите, я изучаю анатомию и науку о человеческом организме, его изменениях и его недугах. Это наука позитивная. — Да, — сказала Лелия, — наука, которую вы изучаете как приятное искусство. Друзья мои, — продолжала она, повернувшись спиною к доктору, — сходите-ка за священником: я вижу, что врач бросает меня на произвол судьбы. Тренмор побежал за священником. Стенио порывался сбросить врача с балкона. — Не трогай его, — сказала Лелия, — мне с ним забавно; дай ему какую-нибудь книгу, отведи ко мне в кабинет и посади там перед зеркалом, пусть он займется. Когда я почувствую, что присутствие духа меня покидает, я пошлю за ним, чтобы он поучил меня стоицизму и чтобы я, умирая, могла смеяться над этим человеком и над его наукой. Священник явился. Это был высокий и представительный ирландский священник из капеллы святой Лауры. Он приблизился к больной медленно и торжественно. Вид его внушал благоговейное уважение: одного его спокойного, глубокого взгляда, который, казалось, отражал небо, было бы достаточно, чтобы вселить в человека веру Исстрадавшаяся Лелия уткнула лицо в сведенную судорогой руку, на которую упали ее черные волосы. — Сестра моя! — воскликнул священник голосом звучным и проникновенным. Лелия опустила руку и медленно повернулась к святому отцу. — Опять эта женщина! — воскликнул он, в страхе от нее отступая. Лицо его перекосилось, его полные ужаса глаза впились в нее, он весь побелел, и Стенио вспомнил тот день, когда священник этот побледнел и задрожал, встретив скептический взгляд, которым Лелия окинула толпу молящихся в церкви. — Это ты, Магнус, — прошептала она, — ты узнаешь меня? — Как не узнать тебя, женщина! — вскричал растерянный священник. — Как не узнать! Ложь, отчаяние, погибель! В ответ Лелия только расхохоталась. — Подойди сюда, — сказала она, притягивая его к себе своей холодной, посиневшей рукой, — подойди сюда, священник, и поговори со мною о боге. Ты знаешь, зачем тебя позвали сюда? Тут есть душа, которая покидает землю, и надо отправить ее на небо. Можешь ты это сделать? Оцепеневший от ужаса священник молчал. — Послушай, Магнус, — сказала она с печальной иронией, поворачивая к нему свое бледное лицо, уже покрытое тенью смерти, — выполняй миссию, которую тебе доверила церковь, спасай меня, не трать времени зря — я скоро умру! — Лелия, — ответил священник, — я не могу спасти вас, вы это отлично знаете: вы сильнее, чем я. — Что это значит? — спросила Лелия, приподнимаясь со своего ложа. — Неужели я уже в стране грез? Неужели я больше не принадлежу к человеческому роду, который пресмыкается, просит и умирает? Неужели этот объятый ужасом дух не человек, не священник? Не помутился ли у вас разум, Магнус? Вы вот стоите передо мною живой, а я умираю. И вместе с тем мысли ваши путаются, а ваша душа слабеет, в то время как моя спокойно просит дать ей силу взлететь ввысь. О вы, маловерный, призовите бога к вашей умирающей сестре и оставьте детям этот суеверный ужас; он способен только внушить жалость. В самом деле, кто такие вы все? Вот изумленный Тренмор, вот Стенио, юный поэт; он смотрит на мои ноги, и ему кажется, что на них когти. А вот и священник, он отказывается дать мне отпущение грехов и напутствовать меня! Неужели я уже умерла? Неужели все это сон? — Нет, Лелия, — сказал наконец священник голосом печальным и торжественным. — Я не считаю вас злым духом. В злых духов я не верю, и вы это хорошо знаете. — Ах! Ах! — воскликнула она, поворачиваясь к Стенио. — Послушайте только этого священника. Нет ничего менее поэтичного, чем человеческое совершенство. Хорошо, отец мой, давайте отвергнем сатану, осудим его на небытие; я не дорожу союзом с ним, хотя все демоническое теперь в моде и это он внушил Стенио хорошие стихи в мою честь. Если дьявол не существует, я спокойна за свое будущее. Я могу хоть сейчас расстаться с жизнью, и в ад я не попаду Но куда мне тогда идти, скажите? Куда вам угодно меня направить, отец мой? Вы говорите, на небо? — На небо! — воскликнул Магнус. — Вас на небо? И ваши уста дерзнули произнести это слово? — А что, разве неба тоже не существует? — спросила Лелия. — Женщина, — ответил священник, — для тебя его не существует! — И это называется утешитель! — воскликнула она. — Но раз ты не можешь спасти мою душу, пусть приведут врача и пусть он за любые деньги спасет мне жизнь. — Мне тут нечего делать, — сказал доктор Крейснейфеттер, — болезнь развивается нормально, и все известно наперед. Вам хочется пить? Так пусть вам принесут воды, и успокойтесь. Будем ждать! Лекарства вас сейчас могут убить. Предоставим все природе. — Добрая природа! — сказала Лелия. — Мне бы хотелось признать тебя! Но где ты, где твое милосердие, где твоя любовь, где твоя жалость? Я хорошо знаю, что произошла от тебя и к тебе должна возвратиться, но во имя чего должна я молить тебя оставить меня здесь еще на один день? Мол-сет быть, есть где-нибудь клочок иссушенной земли, которому нужен прах мой, чтобы там могла вырасти трава. Если это так, то надо, чтобы я осуществила мое предназначение. Но вы, святой отец, призовите на меня взгляд того, кто выше природы и кто может повелевать ей. Он может приказать чистому ветерку влиться в мое дыхание, соку растений оживить меня, солнцу, которое взойдет в небе, разогреть мою кровь. Так научите же меня молиться богу! — Богу! — повторил священник, сокрушенно опустив голову. — Богу! Горячие слезы потекли по его бледным щекам. — О, господи! — сказал он. — О бежавшая от меня сладостная мечта! Где ты? Где мне найти тебя? Надежда, почему ты безвозвратно меня покидаешь? Дайте мне уйти отсюда, сударыня! Здесь сомнения снова застилают мне душу мраком; здесь перед лицом смерти рассеивается моя последняя надежда, моя последняя иллюзия! Вы хотите, чтобы я даровал вам небо, чтобы я помог вам найти господа. Так вы ведь узнаете тогда, существует он или нет; выходит, вы счастливее меня — я-то ведь этого не знаю! — Уйдите, — сказала Лелия, — гордые люди, уйдите от меня прочь! А вы, Тренмор, взгляните на все это, взгляните на этого врача, который не верит в науку, и на этого священника, который не верит в бога. А ведь врач этот — ученый, а священник — теолог. Говорят, что один облегчает страдания умирающих, а другой утешает живых; и обоим им не хватает веры у постели умирающей женщины! — Сударыня, — сказал Крейснейфеттер, — если бы я вел себя с вами как врач, вы бы высмеяли меня. Я знаю вас, вы не обыкновенная женщина, вы философ… — Сударыня, — сказал Магнус, — вы забыли нашу прогулку в лесу на Гримзеле? Ведь если бы я осмелился вести себя с вами как священник, вы заставили бы меня впасть в безверие. — Так вот, оказывается, в чем ваша сила! — с горечью сказала Лелия. — Вы черпаете ее в слабости другого. А как только вы встречаете сопротивление, вы отступаете и со смехом признаетесь, что занимались обманом людей. О шарлатаны и лицемеры! Горе нам, Тренмор, куда мы с вами попали! В какое время мы живем! Ученый все отрицает, священник во всем сомневается. Посмотрим, существуют ли еще поэты. Возьми свою арфу, Стенио, и спой мне стихи Фауста или загляни в свои книги и расскажи мне о страданиях Обермана, о восторгах Сен-Пре. Посмотрим, поэт, не разучился ли ты понимать страдание; посмотрим, юноша, веришь ли ты еще в любовь. — Увы, Лелия! — вскричал Стенио, заламывая свои белые руки, — вы женщина, и вы в это не верите! Что же такое творится с нами, со всем нашим веком?22
«Бог неба и земли, бог силы и любви, услышь чистый голос, который исторгнут из чистой души и из девственного лона! Услышь мольбу ребенка, верни нам Лелию! Почему, господи, ты хочешь так рано отнять у нас нашу любимую? Услышь громкий и могучий голос Тренмора, человека, который страдал, человека, который жил, услышь призыв другого, еще не изведавшего в жизни зла. Оба просят тебя оставить им Лелию, их богатство, их поэзию, их надежду! Если ты уже можешь подарить ей небесную славу и окружить ее вечным блаженством, возьми ее, господи, она принадлежит тебе; то, что ты предназначил ей, выше того, что ты у нее отнимаешь. Но, спасая Лелию, не терзай нас, не губи, господи! Позволь нам следовать за ней и встать на колени у ступенек трона, на котором она должна восседать…» — Все это очень хорошо, — сказала Лелия, прерывая его, — но это всего-навсего стихи. Оставьте в покое эту арфу или положите ее на окно: ветер сыграет на ней лучше, чем вы. Теперь подойдите ближе. А ты, Тренмор, оставь нас — спокойствие твое печалит меня и приводит в отчаяние. Подойди, Стенио, говори мне о себе, обо мне. Бог слишком далеко, боюсь, что он нас не услышит; но частица его вложена в тебя. Покажи мне бога, сокрытого в твоей душе. Мне кажется, что пылкое тяготение этой души к моей, горячая молитва, которую ты обратил бы ко мне, дали бы мне силу жить. Силу жить! Да! Надо только захотеть. Моя болезнь, Стенио, состоит в том, что я не могу найти в себе эту волю. Ты улыбаешься, Тренмор. Уходи. Увы! Стенио, верь мне, я пытаюсь противостоять смерти, но это лишь слабая попытка. Я не столько ее боюсь, сколько хочу, мне хотелось бы умереть просто из любопытства. Увы! Мне необходимо небо, но меня одолевает сомнение… И если над всеми этими звездами нет никакого неба вообще, я хотела бы насладиться его видом, покамест я еще на земле. Может быть, ожидать его надо только здесь, внизу? Может быть, оно в сердце человека?.. Ты молод и полон жизни, так скажи мне, может быть, любовь — это и есть небо? О, как путаются мысли, прости мне эти минуты бреда. Так хотелось бы во что-нибудь верить, пусть в тебя, пусть даже за час до того, как я навсегда расстанусь с людьми и с богом! — Сомневайся в боге, сомневайся в людях, сомневайся во мне, если хочешь, — сказал Стенио, становясь перед ней на колени, — только не сомневайся в любви: не сомневайся в сердце своем, Лелия! Если ты должна сейчас умереть, если мне суждено потерять тебя, мука моя, мое сокровище, моя надежда, дай мне по крайней мере поверить в тебя на час, на миг. Увы! Неужели ты умрешь так, что я даже не увижу тебя живой? Неужели я умру с тобой, и ты, та, которую я обнимал, останешься для меня только грезой? Господи! Неужели любовь существует только в сердце, которое стремится, в воображении, которое страдает, в снах, которые баюкают нас ночами, когда мы одни? Неужели это неуловимое дыхание ветра? Неужели это метеор, который сверкнет и исчезнет? Неужели это слово? Что это такое, господи? О небо! О женщина! Неужели вы так и не скажете мне, что же это такое! — Это дитя хочет выведать у смерти тайну жизни, — сказала Лелия, — он преклоняет колена над гробом, чтобы изведать любовь! Бедное дитя! Боже, пожалей его и верни мне жизнь, чтобы сохранить его жизнь! Если ты мне вернешь ее, я даю тебе обет жить ради него. Он говорит, что я богохульствовала, возводя хулу на любовь. Ну что же, я склоню мою гордую голову, я буду верить, буду любить!.. Сделай только так, чтобы я жила жизнью плоти, и я попытаюсь жить жизнью души. — Ты слышишь, господи, — воскликнул Стенио, — слышишь, что она говорит, что обещает? Спаси ее, спаси меня! Отдай мне Лелию, верни ей жизнь!.. Лелия вся похолодела и упала на пол. Это был последний, страшный приступ. Стенио прижал ее к груди; он был в отчаянии и плакал. Грудь его горела, горячие слезы падали на лицо Лелии. От его живительных поцелуев губы ее покраснели, молитва его, может быть, умилостивила небо: Лелия чуть приоткрыла глаза и сказала Тренмору, который помог ей приподняться: — Стенио возвысил мне душу, если вы хотите снова сломить ее вашим разумом, убейте меня сейчас же. — Зачем я буду отнимать у вас единственный остающийся вам день? — сказал Тренмор. — Последнее перо с его крыла еще не упало.ЧАСТЬ ВТОРАЯ
23. МАГНУС
Однажды утром Стенио спускался по лесистым склонам Монте-Розы. Пробираясь по тропинке, заросшей густой травою, он вышел на открытую площадку, образовавшуюся от обвала. Это были дикие и величественные места. Вокруг обломков скалы разрослась пышная зелень. Высокие ломоносы обвивали своими пахучими ветками разбросанные по оврагу запыленные камни. С обеих сторон огромными отвесными стенами высились склоны горы, окаймленные темными елями и увитые диким виноградом. На самом днежерловины по выстланному разноцветными камушками руслу катился прозрачный поток. Если вам никогда не приходилось видеть стремнины, бегущей по разрытому чреву горы с бесчисленным множеством водопадов, очищающих ее воды, вы не знаете, сколько красоты может быть в водной стихии и сколько чистой гармонии. Стенио любил проводить ночи, завернувшись в плащ, где-нибудь у края водопада, под благоговейной сенью высоких кипарисов, в немых, неподвижных ветвях которых замирали ветры. Их густые верхушки приглушают стоны бури, а таинственный и глубокий рокот воды, вырываясь откуда-то из недр земли, подобен церковному хору, доносящемуся из мрачных катакомб. Улегшись на свежей, искрящейся росинками траве у самого края потока, поэт любовался луной и, слушая журчание воды, забывал о часах, которые он мог бы провести с Лелией, ибо в этом возрасте все становится счастьем любви, даже разлука. Сердце того, кто любит, так богато поэзией, что ему бывает нужно уединиться и сосредоточиться, чтобы с упоением предаться мыслям о любимой, наделяя ее в своем представлении теми качествами, которые в действительности существуют лишь в нем самом. Много ночей Стенио провел в этом экстазе. Багряные заросли вереска укрывали его голову, полную пылких мечтаний. Утренняя заря усыпала его мягкие волосы своими благоухающими слезниками. Высокие сосны в лесу обдавали его ароматом, который они источают всегда на рассвете; зимородок, живущая у воды красивая одинокая птица, печально кричал среди черных камней и белой пены потока, который любил поэт. Это была чудесная жизнь любви и молодости, жизнь, которая впитала в себя счастье сотни жизней и которая вместе с тем пронеслась столь же стремительно, как эти кипучие воды и парившая над водопадами птица. В падающей, в бегущей речке слышатся тысячи голосов, разнообразных и мелодичных, переливаются тысячи красок, темных и светлых. То, незаметная и робкая, она набегает, вся дрожа, на полосы мрамора, которые оставляют на ней свой иссиня-черный отблеск; то, белая как молоко, она пенится и впрыгивает на скалы — голос ее тогда словно перехвачен гневом. То, зеленая, как трава, которой она едва касается проходя, или голубая, как тихое небо, которое она отражает, она свистит в тростнике, словно охваченная страстью змея; то спит на солнце и просыпается, чуть слышно вздыхая от малейшего дуновения ласкающего ее ветерка. Порой она ревет будто заблудившаяся в ущельях телка, и низвергается торжественно и мерно в пучину, которая захватывает ее, укрывает в своих глубинах и душит. Тогда она бросает солнечным лучам легкие капельки брызг, и те окрашиваются всеми оттенками радуги. Когда ее прихотливые переливы пляшут над зияющей пропастью, она кажется нам прозрачной сильфидой, и взгляды наши зачарованы всем этим волшебством, словно по мановению заклинателя змей. Воображение наше бессильно, ибо то, что создано мыслью, не может быть прекраснее дикой и грубой природы. Надо только глядеть на нее, надо все ощутить: самым великим поэтом становится тогда тот, кто меньше всего сочиняет. Но в глубине сердца Стенио таился источник всякой поэзии — любовь. И, упоенный этой любовью, он как бы венчал самые поразительные картины природы великою мыслью, великим образом — образом Лелии. До чего же хороша была Лелия, отраженная в горных потоках и душе поэта! Какой строгой и возвышенной она казалась ему в серебряном сиянии луны! Каким звучным, каким вдохновенным был ее голос в стенаниях ветра, в воздушных аккордах водопада, в магнетическом притяжении цветов и трав, которые ищут, призывают и целуют друг друга во мраке ночи, в час священных тайн и божественных откровений! Лелия была тогда всюду: в воздухе, в небе, в каждом ручейке, в цветах. В отблесках звезд Стенио видел ее переменчивый и проницательный взгляд; в дуновении ветерка он слышал ее едва различимые слова; шепот волны нес ему ее священные песни, ее глаза провидицы; ему чудилось, что в чистой небесной лазури парит ее мысль — то словно бледный, смутный и полный грусти крылатый призрак, то словно ангел, излучающий свет, то будто демон, презрительный и насмешливый. Раздумья Лелии всегда были отмечены чем-то ужасным, но ужас этот только разжигал страстные желания юноши. В безумии своем, бродя ночами по безмолвным пустынным долинам, он громко ее призывал; и когда голос его пробуждал уснувшее эхо, ему казалось, что далекий голос Лелии печально отвечает ему из недр облаков. Когда шум его шагов спугивал лань, которая паслась на траве, и он слышал, как, убегая, она шуршит разбросанными по тропинке листьями, ему чудилось, что это легкие шаги Лелии, что это шуршит ее платье, осыпающее с куста цветы. А если какая-нибудь из красивых птиц этих долин — горный тетерев с серебристой грудью, розовато-жемчужный поползень или куропатка с черными без отблесков перьями — садилась рядом и глядела на него спокойно и гордо, готовая взмахнуть крыльями и взлететь в небо, Стенио думал, что, может быть, это Лелия, принявшая ее образ и готовая улететь в вольные края. «Может быть, — думал он, снова спускаясь в долину, доверчивый и боязливый, как ребенок, — может быть, мне уже больше не отыскать Лелию среди людей». И он в ужасе упрекал себя за то, что мог покинуть ее так надолго, хоть в мыслях его она была с ним на всех его прогулках, хоть все горы и облака были полны ею, хоть образ ее чудился ему на самых недосягаемых вершинах, там, где меньше всего можно было надеяться ее встретить. В этот день он остановился у глубокой лесной прогалины и приготовился было уже возвращаться назад, ибо увидел перед собой человека, а самые красивые пейзажи теряют свою прелесть, когда одиночество того, кто приходит помечтать, бывает нарушено. Но незнакомец был красив и суров, как сами эти места. Взгляд его горел, как восходящее солнце, и первые вспышки зари, которыми был окрашен ледник, яркими отблесками своими озаряли величественное лицо священника. Это был Магнус. Казалось, он взволнован чем-то только что виденным. В глазах его можно было прочесть то радость, то скорбь. Волнение его молодило. Увидев Стенио, он поспешил к нему. — Ну вот, юноша, — торжествующе воскликнул он, — ты один, ты плачешь, ты ищешь бога! Женщины больше не существует! — Женщины! — повторил Стенио. — Для меня на свете существует только одна женщина. Но о какой женщине вы говорите? — Об единственной для вас и для меня женщине на свете, о Лелии! Скажите мне, юноша, верно ли, что она умерла? Отреклась ли она от бога, предав свою душу дьяволу? Видели ли вы, как черная фаланга духов тьмы толпится возле ее изголовья и терзает ее в минуты агонии? Видели ли вы, как покинула тело ее душа, проклятая, мертвенная и мрачная, с огненными крыльями и окровавленными когтями? Так вздохнем же теперь свободно! Господь очистил землю, он низверг сатану в его хаос. Теперь мы можем молиться, можем надеяться. Посмотрите, как радостно всходит солнце, как свежи и красны в долине розы! Посмотрите, как птицы взмахивают своими крыльями, как легко они взмывают к небу! Все возрождается, все надеется, все будет жить! Лелия умерла! — Несчастный! — вскричал Стенио, хватая священника за горло. — Что за дьявольские слова у вас на языке? Какое безумие, какая гибельная мысль вами овладела? Откуда вы? Где вы провели ночь? Откуда вы знаете то, что вы дерзнули сказать? Давно ли вы покинули Лелию? — Я покинул Лелию туманным, холодным утром. Начинало светать. Пронзительно кричал петух. Голос его врезался в тишину и отдавался под кровлей домов, как зловещее пророчество. Ветер завывал под пустынным порталом собора. Я прошел по наружной галерее, чтобы пойти к умирающей. Шпили зубчатых башенок скрывались в тумане, и большая статуя бледнолицего архангела на восточной стороне тонула в утренней мгле. Тут я отчетливо увидел, как архангел взмахнул своими большими каменными крыльями, словно готовый вспорхнуть орел, только ноги его остались прикованы к карнизу, и я услышал, как он произнес: «Лелия еще не умерла!». В эту минуту пролетела сова — она задела мой лоб своим влажным крылом и скорбным голосом повторила: «Лелия не умерла!». И белая мраморная дева, укрывшаяся в западной нише, испустила глубокий вздох и сказала: «Еще нет», голосом таким слабым, что мне показалось — все это я вижу во сне, и я останавливался несколько раз по дороге, чтобы удостовериться, что не сплю. — Святой отец, — сказал Стенио, — вы помутились умом. О каком утре вы говорите? Знаете вы, сколько времени прошло с тех пор, как все это совершилось? — С того дня, — ответил Магнус, — я видел, как несколько раз солнце всходило и, сияя, разливало на этот сверкающий лед свои ослепительные лучи Не могу вам сказать, сколько раз это повторялось. С тех пор, как Лелии нет на свете, я перестал считать дни, перестал считать ночи, жизнь моя течет чисто и беззаботно, как сбегает с холма ручеек. Душа моя спасена… — Слава богу, вы не своем уме! — сказал юноша. — Вы говорите о той страшной болезни, которая месяц назад едва не отняла у нас Лелию. В самом деле, по волосам вашим и бороде я вижу, что вы давно уже в горах. Пойдемте со мной, несчастный человек, я постараюсь выслушать историю ваших страданий и облегчить их. — Мои страдания окончились, — сказал священник с улыбкой, которую можно было принять за ниспосланную свыше — такой она была спокойной и кроткой. — Я живу; Лелия умерла. Выслушайте рассказ о моей радости. Когда я явился в жилище этой женщины, я почувствовал, что земля колеблется у меня под ногами, а когда я хотел взойти на лестницу, ступеньки три раза ускользали у меня из-под ног. Но когда двери отворили, я увидел множество людей и тут же вспомнил, как должен себя держать священник перед народом, чтобы заставить уважать и бога и себя. Я совсем позабыл о Лелии. Я прошел по комнатам без волнения и без страха. Когда я очутился в самой дальней комнате, я больше не помнил имени женщины, которую хотел видеть, ибо, повторяю, там было много народа и я чувствовал на себе чужие взгляды. Знаете ли вы, как тяжел человеческий взгляд? Случалось ли вам когда-нибудь прикидывать его на вес? О, он тяжелее, чем вот эта гора; но чтобы в точности знать, что это такое, надо быть священником, носить рясу, которую вы видите на мне, сын мой: помнится, это был кабинет, весь обтянутый белым и заполненный капканами и ловушками. Сначала у меня было такое чувство, что я иду по мягкой и тонкой шерсти ковра, — мне показалось, что в алебастровых вазах стоят белые розы, а из матовых стеклянных шаров льется белый ласковый свет. Мне показалось также, что на белой атласной постели я вижу женщину в белой одежде. Когда она повернула ко мне свое мертвенно-бледное лицо, когда я встретил ее холодный взгляд, владевшее мною очарование сразу исчезло. Я стал ясно все видеть вокруг и узнал место, куда меня привели. Розы превратились в змей, стебли их стали извиваться, страшные головы потянулись ко мне. Стены окрасились кровью, благоухающие вазы наполнились слезами, и я увидел, что ноги мои больше не касаются земли. Лампы извергали красное пламя, оно поднималось в воздух пылающими кольцами, которые душили меня, как угрызения совести. Я снова взглянул на диван: это была по-прежнему Лелия, но она лежала на раскаленных углях, она умирала в страшных мучениях. Хорошо помню, что она просила меня спасти ее; но тут я сразу же вспомнил о том, как когда-то обращался к ней с тщетными мольбами, вспомнил, сколько напрасных слез я пролил у ее ног, и меня охватило злобное чувство. Она погубила мою душу, она отняла у меня бога, я был рад, что получил возможность отомстить ей, погубить ее душу и, в свою очередь, отнять у нее бога; вот почему я проклял ее и спасся, и господь вознаградил мою храбрость, ибо тотчас же облако заволокло мой взгляд. Лелия исчезла, исчезли и змеи; языки пламени, и кровь, и слезы — все исчезло, и я очутился под сводами собора, и вокруг меня не было ни души. Светало, туман понемногу рассеивался; каменный архангел у входа поднес тогда к губам трубу, которую столько веков держал в неподвижной руке. Он громко затрубил, и в звуках фанфары я услышал спасительный крик: — Лелии больше нет! Тогда пресвятая дева из белого мрамора, та дева, на которую, проходя у ее ног, я не смел взглянуть, ибо она была похожа на Лелию, это дева, такая бледная и такая красивая, у которой семь мечей в груди и все страдания души на челе, упала на ступеньки церкви и разбилась вдребезги. Доживи я до ста лет, я никогда этого не забуду. Скажите мне, вы видели осколки? — Вчера вечером я проходил мимо, — ответил Стенио, — и могу вас уверить, что она все так же хороша собой и с ней ничего не случилось. — Не кощунствуйте, юноша, — сказал священник с ужасающей серьезностью. — Господь поразит вас своим проклятием, он отнимет у вас разум; я боюсь, что вы и теперь уже сошли с ума, ибо говорите вы как умалишенный. Знаете вы, что такое человек? Знаете вы землю? Знаете вы небо? — Пустите меня, святой отец, — сказал Стенио, которого сумасшедший тащил уже за собой в свою пещеру. — Я не могу без ужаса слушать ваши слова. Вы проклинаете Лелию, вы осуждаете ее на небытие — и вы еще смеете говорить о боге и смеете носить одежду его служителей! — Дитя, — отвечал священник, — именно потому, что я боюсь бога, потому, что я уважаю свое одеяние, я проклинаю Лелию! Лелию! Мою беду, мое искушение, мою гибель! Лелию, которой мне не позволено было владеть, не позволено даже возжелать ее! Лелию, эту мерзкую и подлую женщину, которая явилась ко мне в церковь, которая осквернила священный алтарь, чтобы опьянить меня своими дьявольскими ласками!.. — Вы лжете! — вскричал Стенио в гневе. — Лелия никогда вас не преследовала, никогда не любила!.. — Ах, я это знаю, — спокойно сказал священник. — Вы меня не понимаете: послушайте, сядьте вместе со мной на эту вот лиственницу, перекинутую над пропастью. Вот тут, поближе ко мне, дайте мне руку и ничего не бойтесь. Дерево гнется, поток ревет, внизу, в темной глубине, пенится пучина. Какая красота! Это прообраз жизни. С этими словами сумасшедший обхватил Стенио своими сведенными лихорадкой руками. Он был на голову выше юноши, и безумие придавало его мускулам неимоверную силу. Мрачный взгляд устремился в бездну и измерял ее глубину, в то время как его растопыренные руки, казалось, готовы были столкнуть туда юношу. Несмотря на грозившую ему опасность, Стенио не терпелось услышать, что ему скажет священник — тайна, связывавшая его с Лелией, столько времени мучила его ревнивую душу, что он остался спокойно сидеть на дрожавшем над пропастью стволе. Такое место зовется чертов мост. В каждом ущелье, у каждого водяного потока есть свои опасные переправы, названные тем же выразительным именем и доступные только сернам, храбрым охотникам и ловким горским девушкам. — Послушай, послушай, — вскричал священник, — было две Лелии: ты этого не знал, юноша, потому что ты не был священником, потому что у тебя не было ни откровений, ни видений, ни предчувствий. Ты жил самой обыкновенной жизнью, грубой и легкой. Я был священником, я знал и небесное и земное, и видел Лелию всю целиком, видел ее обе стороны, женщину и идею, надежду и действительность, тело и душу, дар и обещание; я видел Лелию такой, какой она вышла из лона господня: ее красоту — то есть соблазн; надежду — то есть испытание; благодеяние — то есть ложь; вы меня понимаете?.. О, это ведь совершенно ясно, и если бы все люди не были сумасшедшими, они слушали бы слова мудреца, они бы знали, где опасность, они бы остерегались врага. А это был мой враг. Он двоился: вечером он приходил и садился в церковной галерее; я отчетливо его видел, я отлично знал место, где он имел обыкновение появляться. Я и сейчас еще вижу это проклятое место! Это было на отделанной бледно-голубым бархатом галерее, наверху, под самым сводом, между двумя высокими колоннами, на их хрупких каменных гирляндах. Там были две статуи ангелов, белых как снег, прекрасных как надежда; они сплели свои белые руки и скрестили свои мраморные крылья над гербовым щитом балюстрады. Туда-то она пришла и села! Она склонилась в нечестивом спокойствии, нагло облокотилась на склоненные головы двух прекрасных ангелов; она играла серебряной бахромой драпировки; она трепала свои локоны, дерзко оглядывала храм, вместо того чтобы опустить голову и поклониться всевышнему. О нет! Женщина эта явилась туда не для того, чтобы молиться! Она пришла, чтобы поразвлечься, чтобы показать себя, как в театре, чтобы на час отдохнуть от празднеств и маскарадов, слушая звуки органа и песнопения. И вы все — молодые и старые, богатые и знатные, — вы собрались там, следя глазами за каждым движением, подмечая каждый ее мимолетный взгляд, стараясь уловить мысль в непроницаемой глубине ее глаз; вы бились, как грешники в могиле, когда наступает полночь, дабы привлечь к себе внимание этой женщины, которую все так добивались. А она! А Лелия! О, сколько в ней было власти над всеми, сколько величия! С каким презрением взирала она на мужчин! Как я любил ее тогда, как благословлял эту гордость! Какой она мне казалась красивой при матовом отблеске свечей, бледная и серьезная, надменная и кроткая! О, вы не знали ее! Вы не подозревали, что творится у нее в сердце, ее взгляд вам этого никогда не открыл, вы были столь же несчастны, сколь и я! Как мысль эта привязывала меня к ней! Скажите мне, скажите! Понимали вы когда-нибудь ее душу? Угадали ли вы, что рождалось под ее высоким челом? Проникли вы в ее мозг, рылись вы в сокровищах ее мысли? Нет, вам не довелось это сделать. Лелия не принадлежала вам. Вы не знаете, что такое Лелия. Вы не видели, как печально она улыбалась, как со скучающим видом мечтала; вы не видели, как вздымается ее грудь, как струятся слезы; вы не видели, как разливается ее гнев, ненависть или любовь! Скажите мне, юноша, вы ведь были не счастливее меня! Если только вы станете уверять меня, что это не так, бойтесь пропасти, что у вас под ногами! — А что такое другая Лелия? — спросил молодой человек, нисколько не испугавшись исступленных слов Магнуса. — Другая Лелия! — воскликнул Магнус, схватившись за голову, как будто она разрывалась от боли. — Другая! Это отвратительное чудовище, гарпия, дух; и, однако, то была все та же самая Лелия; то была только другая ее половина! — Но где вы ее встречали? — с беспокойством спросил Стенио. — О, повсюду, — ответил священник. — Вечером, как только кончалась служба, когда гасли свечи и толпы народа выходили из церкви, устремляясь вслед за мертвенно-бледной женщиной, которую звали Лелией; она медленно шла, закутанная в свою черную бархатную мантилью, увлекая за собой целый кортеж, который она не удостаивала даже взглядом… Я тоже устремлялся за нею вслед — глазами, душою, но я чувствовал, что я священник: я был прикован к подножию алтаря; я не мог позволить себе побежать под портал, смешаться с толпой, поднять ее перчатку, подобрать лепесток розы с ее букета. Я не мог предложить ей воды из кропильницы и дотронуться до ее длинных, тонких рук, таких мягких и таких красивых! — И таких холодных! — добавил Стенио, захваченный его рассказом. — Этот гранит, непрестанно омываемый струящимися из ледника потоками, не так холоден, как руки Лелии, когда бы вы их ни коснулись. — Так, значит, вы прикасались к ней? — воскликнул священник и яростно сжал его плечи. Стенио остановил его одним из тех магнетических взглядов, в которых воля человека достигает такой степени, что способна подчинить себе даже волю диких зверей. — Продолжайте! — сказал он. — Приказываю вам продолжать свой рассказ, или одним моим взглядом я сброшу вас в пропасть. Сумасшедший побледнел и продолжал свой рассказ, охваченный глупым ребяческим страхом. — Ну, так знайте, — сказал он дрожащим голосом, робко глядя на Стенио, — знайте, что произошло со мною тогда. Я отрицал бога, я проклинал мою участь, я разорвал ногтями кружево моего белоснежного стихаря. О, я губил свою душу — и все-таки я боролся… Тогда… О господи, каким испытаниям ты подверг меня!.. Тогда в глубине погруженной во мрак церкви я видел тень; казалось, она прошла сквозь плиты гробниц. И эта неуловимая и парившая в воздухе тень все росла и росла, и я в ужасе почувствовал, как она хватает меня своими мертвенными руками. Это было страшное видение; я отбивался от нее, я тщетно молил ее и падал перед ней на колени, как перед господом. «Лелия, Лелия! — говорил я. — Чего ты требуешь от меня? Чего ты хочешь? Разве я не воздвиг тебе нечестивый алтарь в сердце моем? Разве имя твое не смешалось в устах моих со священным именем девы Марии и ангелов? Разве не к тебе я возносил клубы ладана? Разве не поместил я тебя рядом с самим господом, о ненасытная? Чего только я не делал ради тебя! Каким только страшным и нечестивым мыслям я не открывал мое сердце! О, не мешай мне, не мешай мне молиться богу, чтобы он простил меня и чтобы сегодня я мог уснуть без этого нависшего надо мною проклятия». Но она не слушала, она обвила меня своими черными волосами, впилась в меня своими черными глазами, зачаровала своей странной улыбкой, и я отбивался от этой безжалостной тени до тех пор, пока, замученный и совсем обессилевший, не упал на ступеньки алтаря. И что же! Иногда, оттого что я смирялся перед господом, оттого что омывал мрамор слезами, мне случалось обрести ненадолго покой. Я выходил из церкви умиротворенный, я возвращался в мою тихую келью, измученный усталостью и одолеваемый сном. Но знаете, что делала тогда Лелия? Что придумала эта нечестивица для того, чтобы посмеяться надо мной, чтобы лишить меня мужества и погубить? Опередив меня, она забегала ко мне в келью; хитрость ее и злоба были таковы, что она забивалась в коврик моего аналоя, в песочные часы или в жасмины у меня под окном; и едва только я начинал мою последнюю молитву, как она вырастала вдруг передо мною и, кладя свою холодную руку мне на плечо, говорила: «Вот и я». И тогда мне снова приходилось приподнимать свои отяжелевшие веки, снова бороться с моим смущенным сердцем и повторять слова заклинаний до тех пор, пока призрак не исчезал. Иногда даже это страшное чудовище ложилось ко мне на кровать, на мою бедную, одинокую, холодную кровать, растягивалось на этом ложе, и, когда я раздвигал саржевые занавески алькова и находил ее там, она похотлива протягивала мне руки и смеялась над моим ужасом! О господи, сколько я всего выстрадал! О женщина, о мечта, о желание! Сколько зла ты мне причинила! Сколько разных форм ты принимала, чтобы пробраться ко мне! Сколько ты мне лгала! Сколько ловушек ты мне расставляла! — Магнус! — с горечью сказал Стенио. — От ваших слов кровь приливает мне к лицу. Надо быть священником, чтобы обладать таким бесстыдным воображением, так бесчестить Лелию. — Нет, — ответил священник, — я не осквернил ее даже во сне. Господь видит меня и слышит, пусть он низвергнет меня в бездну, если я лгу! Я храбро боролся, в этой борьбе я истрепал мою душу, истерзал мою жизнь и все-таки не уступил; и после этих страшных и жгучих ночей тень Лелии каждый раз уходила девственницей. Моя ли вина, что искушение было так ужасно? Почему призрак этой женщины шел за мной по пятам? Почему он преследовал меня всюду? Бывало, что, сидя в исповедальне, я сосредоточенно слушал мрачные признания отвратительной старухи в лохмотьях. И знаете, когда мне вдруг случалось, отвечая ей, на нее взглянуть, чье лицо возникало за решеткой вместо изъеденного морщинами лица старухи? Бледный лик, злобный и холодный взгляд Лелии. Тогда слова мои замирали на губах: холодный пот проступал на лбу, глаза застилал туман; мне казалось, что я умираю. Напрасно пытался я произнести слова заклинания. Я все забывал, забывал даже имя всевышнего; я был не в состоянии призвать небесные силы, и галлюцинация эта кончалась только тогда, когда раздавался хриплый и надтреснутый голос старухи, молившей меня об отпущении грехов. Мог ли я их отпустить, мог ли я освобождать чужие души, когда моя собственная душа была скована нечистой силой! Но, по счастью, Лелии больше нет. Она осуждена на вечные муки, а я живу и спасусь! Ибо, признаюсь, пока она жила, я был во власти ужаснейших искушений; мысли еще более разрушительные, чем все, что я только что вам поведал, роились в моем мозгу, и, побеждая все остальные, целыми днями его не покидали. Это были сомнения, это был атеизм, проникавший в меня, как яд. Были дни, когда я настолько уставал от борьбы, когда надежда на спасение мерцала где-то так далеко, что я старался с головой окунуться в окружавшую меня жизнь. Что же, говорил я себе, будем счастливы хотя бы один этот день, будем человеком, если не можем быть ангелом. Почему надо мною непременно должен тяготеть закон смерти? Почему я должен отказывать себе в человеческой жизни и жить химерами грядущего? Другие люди счастливы, они свободны! Они вольно дышат, они ходят, приказывают, они любят, а я, я — труп, простертый на могильной плите, жалкий прах человека, неотделимый от останков религии! Они возлагают надежды на эту жизнь, и надежды их могут осуществиться, ибо они способны действовать. К тому же то, что мы видим, и впрямь существует, женщина, которую можно заключить в объятия, это не тень. У меня же есть только надежда на другую жизнь, а кто мне поручится, что жизнь эта действительно будет? Господи, ты, должно быть, вовсе не существуешь, если ты оставляешь меня во власти этих страшных сомнений! Говорят, было время, когда ты творил чудеса, чтобы поддержать в людях их заколебавшуюся веру. Ты посылал ангела, чтобы коснуться раскаленным углем немых уст Исайи, являлся в неопалимой купине, в золотом облаке, в дуновении ночного ветра, а теперь ты глух, ты равнодушен к нашим заблуждениям, к нашим грехам. Ты покинул свой народ, ты более не протягиваешь руку помощи блуждающим во тьме, ты не обращаешься со словами, вливающими бодрость и силу, к тому, кто страдает и борется за тебя! О, ты всего только выдумка, ты пустое тщеславие человека, ты ничто! Тебя нет!.. Так я богохульствовал и давал себя увлечь порывам желаний. О, если бы я только дерзнул отдаться им безраздельно!.. Если бы я дерзнул взять мою долю жизни и овладеть Лелией хотя бы в душе!.. Но я не осмеливался и на это. В глубине души во мне таился где-то страх, мрачный и нелепый, и когда жар лихорадки становился всего сильнее, страх этот леденил мне кровь. Сатана не хотел ни овладеть мною, ни отпустить меня на свободу. Господь не удостоил ни позвать меня, ни оттолкнуть от себя. Но все мои страдания теперь окончились, ибо Лелия умерла, и я возвращаюсь к вере. Она ведь умерла, это так? Священник опустил голову и впал в глубокое раздумье. Стенио ушел, а он даже не заметил его ухода.24. ВАЛЬМАРИНА
Когда Стенио возвращался ночью в город, он, спускаясь с горы, встретил Эдмео; тот даже не заметил его и торопливо устремился в темное ущелье. — Куда ты бежишь так быстро и с таким таинственным видом? — крикнул Стенио вслед своему молодому другу. — Я всегда считал тебя философом; неужели ты отказался от высшей мудрости во имя человеческой страсти, во имя чего-то земного? Говори же: я много выстрадал с тех пор, как мы с тобою расстались, мне надо, чтобы кто-то воодушевил меня на жизнь или смерть. Душа моя охвачена страшной тоской. Тысячи надежд манят меня, тысячи страхов удерживают; что бы ты ни посоветовал мне в эту минуту, я сделаю все. Сама судьба послала мне эту встречу; в голосе твоем я слышу голос провидения. Скажи мне, куда ты идешь в жизни? Скажи мне, что ты ищешь и чего стараешься избежать, во что ты веришь и что отрицаешь? Скажи мне, совершил ли ты выбор между скромным счастьем и благородным страданием?.. Он забросал Эдмео вопросами, и тот уступил желаниям своего друга. Он сел рядом с ним на скалу, поросшую мхом, у подножия разбитого каменного креста и взял руку Стенио в свои руки. — Прежде чем отвечать тебе, — сказал он, — позволь мне самому тебя что-то спросить. Прежде чем согласиться на роль отца, которую ты на меня возлагаешь, надо, чтобы ты увидел во мне своего духовника. Расскажи мне, как ты жил этот год, раскрой мне до конца свою душу. Стенио рассказал о своей любви, о своих сомнениях, страданиях, желаниях и надежде. Он говорил с жаром, лоб, на который спадали влажные волосы, горел, и руки его дрожали в руках юноши. Когда он окончил, Эдмео в ответ только улыбнулся грустной улыбкой; на какое-то время он погрузился в раздумье и наконец ответил. — Ты говорил мне, — сказал он, — о мире, который мне доселе еще незнаком, но тайны которого я понимаю. Все, что ты мне рассказал, я предчувствовал, видел в моих мечтах. Сколько раз, когда ты рассказывал мне о своих восторгах, когда я размышлял о твоих надеждах, сердце мое билось, лицо горело. Но теперь вот эти радостные фантазии тают, как сумеречные тени. Взгляни на эту белую звезду, что поднимается там над снежной вершиной… — Это Сириус, — сказал Стенио. — И это единственное, чему ты поклоняешься? Неужели ты посвятил себя безраздельно науке? Эдмео покачал головой. — Хоть у меня и есть склонность серьезно заниматься наукой, — сказал он, — я бы ни минуты не колебался между жизнью разума и жизнью сердца, такою, какую ты только что мне описал. Я ведь старше тебя всего на какой-нибудь год, Стенио, и хоть я не владею поэтическим даром, хоть взор мой потуплен и с женщинами я сдержан, я всякий раз дрожал, касаясь одежды прекрасной Лелии… — Лелии! — воскликнул Стенио. — Я ведь не назвал вам этого имени! Так что же? Если бы я стал вопрошать эту скалу, то и она обрела бы голос и ответила бы мне: «Лелия»! А откуда вы знаете Лелию? Откуда вы узнали, что я ее люблю, Эдмео? — Я ушел от нее час тому назад, — ответил Эдмео, — у меня было к ней важное поручение, несколько мгновений я с ней говорил… Лицо, голос, манеры — все в ней показалось мне странным, и, покинув ее, я долго не мог прийти в себя. Когда я встретил вас, я вас не видел, потому что был занят своими мыслями. Образ этой высокой бледной женщины витал передо мной. Слова ее холодны, Стенио, взгляд ее мрачен, душа словно из бронзы; поступки ее высоки, и печаль ее полна глубины и величия. Когда ты описал мне предмет твоей страсти, мог ли я не узнать в нем женщину, которую только что видел и которая заполнила собой мою душу? — Так ты ее любишь, несчастный! — вскричал Стенио. — Ты тоже ее любишь? — Какое тебе до этого дело! — сказал Эдмео с горькой усмешкой. — Я уверен, что больше никогда ее не увижу. Успокойся, у меня нет времени на любовь. Жизнь моя поглощена другими заботами. — Но что тебе было нужно от Лелии? Какое у тебя к ней было поручение? — Это не секрет, и я могу тебе это сказать. Я ходил просить у нее помощи несчастным, и она дала мне огромную сумму денег так же просто, как другая кинула бы грош… — О, она чудная, она добрая, правда? — воскликнул Стенио. — Она богата и щедра, — ответил Эдмео. — Не знаю, добра ли она. Она равнодушно прочла письмо, которое я ей вручил. Она ничего не спросила меня о том, кто его писал. Она улыбнулась, когда я говорил ей о чаяниях религиозных и социальных. Потом она протянула мне свою холодную руку, сказав: «Не говорите со мной, если хотите сохранить веру…». — Она холодно приняла от вас письмо, — сказал Стенио с волнением. — Вот как! Не знаю почему, но я счастлив, что она была равнодушна. Не могли бы вы мне сказать, Эдмео, кто вас послал к ней? — Слыхали вы когда-нибудь о Вальмарине? — спросил путник. — Вы произнесли имя, которое проникло мне в самое сердце, — ответил поэт. — Все, что мне рассказывали о добродетели, о самоотвержении и о милосердии этого человека, казалось мне баснословным. Неужели действительно на свете существует человек с таким именем, неужели он совершает все то, что ему приписывают? — Человек этот достоин еще большего уважения, он совершает еще больше благодеяний, чем можно себе представить, — ответил Эдмео. — Если бы вы его знали, друг мой, вы бы поняли, что на свете существуют вещи более могучие и более драгоценные, чем красота, любовь, поэзия или слава… — Добродетель, — сказал Стенио, — да, говорят, что человек этот — воплощенная добродетель. Расскажите мне о нем, познакомьте меня с ним. О нем ходит так много разнообразных слухов, имя его окутано такой славой, что женщины готовы даже приписать ему дар творить чудеса. — Эта слава, которой он так хотел избежать, — для него настоящая мука, — ответил Эдмео. — Его скромность, его старания остаться незамеченным доходят до странности и, по не менее странной иронии судьбы, эта слава, которой столько людей напрасно добиваются и от которой он непрестанно бежит, непрестанно гонится за ним по пятам. — Верно ли, — сказал Стенио, — что ни один из тех, кому он покровительствовал, помогал, кого выручал из беды, никогда не видел его и что ему долго удавалось, оказывая благодеяния несчастным, скрывать их источник? — Пока его огромного состояния хватало на эту помощь, ему действительно удавалось оставаться безвестным. Но чтобы продолжать это великое дело, ему надо было установить связь с другими, такими же, как и он, и образовать сообщество… — Погодите! — оборвал его Стенио. — Вы тоже там состоите? — Я не состою ни в какой корпорации, — ответил Эдмео, — я просто сделался другом, учеником и посланцем Вальмарины. Я не знал, на что употребить мою молодость. Я ощущал в себе большой прилив сил, высокие потребности сердца. Любовь казалась мне эгоистической страстью, наука — иссушающим занятием, тщеславие — детской забавой; я встретил на пути своей добродетель, я дал ей себя увлечь. Я принес ей кое-какие жертвы. Может быть, мне придется принести еще большие. Я чувствую, что она может вознаградить меня за все и что я никогда о них не пожалею. — Твои простые слова, твои благочестивые убеждения меня трогают, — сказал Стенио. — Мне хочется отказаться от любви; мне хочется бросить все, чтобы следовать за тобою. Куда ты идешь сейчас? — Я возвращаюсь к тому, кто меня послал. — Отведи меня к нему. Я хочу, чтобы он исцелил меня от моей безумной страсти; я хочу, чтобы он избавил меня от страдания и дал мне чистое счастье, которым я буду наслаждаться без непрестанного страха за завтрашний день… Уйдем вместе! — Я не могу взять тебя с собой, — ответил Эдмео. — Надо ведь знать, какой таинственностью любит окружать себя Вальмарина. Он не позволяет никому из друзей без предупреждения приводить новых учеников. Я поговорю с ним о тебе, и если он найдет, что ты можешь следовать этим суровым путем… — А что же в нем особенно сурового? — в пылу увлечения воскликнул Стенио. — С тех пор как я существую, я мечтал о том, чтобы отказаться от ложных мирских благ во имя благ высоких, духовных. Когда, на мое несчастье, я встретил Лелию, в мыслях у меня был один Вальмарина. Я хотел присоединиться к нему. Эта роковая любовь совратила меня с пути; но теперь я понимаю, что провидение привело тебя ко мне, чтобы ты меня спас… — Да услышит тебя господь! Пусть даже то, что ты говоришь, Стенио, правда, позволь мне все же усомниться в твоем решении. Один только взгляд Лелии — и оно растает, как этот только что выпавший снег, который ветер метет сейчас вокруг нас… — Ты не хочешь взять меня с собой, — запальчиво воскликнул Стенио. — Понимаю! Ты гордишься своей легко доставшейся мудростью, исключающей всякую человеческую привязанность, и тебе доставляет удовольствие сомневаться во мне, чтобы этим меня унизить. Возьми меня с собой, пока я увлечен, иначе я стану думать, Эдмео, что добродетель — всего-навсего гордость. На это обвинение Эдмео не сказал ни слова. Он справился с искушением на него ответить; потом, поднявшись, он приготовился покинуть Стенио. Тот все не отпускал его. — Ну вот, — воскликнул юноша, — твое стоическое спокойствие мне все разъясняет, Эдмео, и теперь я уверен в том, что до сих пор только предчувствовал. Мне сказали — и напрасно ты хочешь теперь от меня это скрыть, — что Вальмарина — нечто большее, нежели обыкновенный благодетель и догадливый утешитель. Святое дело, которое вы совершаете, не ограничивается отдельными самоотверженными поступками. И сам ты, Эдмео, ты же не согласен играть роль раздатчика милостыни при богатом филантропе. Тебе поручено более серьезное дело. Богатства Лелии пойдут, может быть, на то, чтобы заплатить выкуп за пленников и помогать бедным, но это отнюдь не обыкновенные пленники и не заурядные бедняки. Вальмарина, может быть, не только отдает золото, но проливает свою кровь, а ты — ты хочешь чего-то большего, чем благословения нищего. Ты мечтаешь о мученическом венце. Вот единственная причина, почему ты куда-то торопишься сейчас один тихой и холодной ночью… Не отвечай мне, Эдмео, — добавил Стенио, видя, что его друг старается увильнуть от его вопросов. — Ты еще слишком молод, чтобы без волнения говорить об этих тайнах. Ты умеешь молчать, но притворяться не научился. Доставь моему сердцу радость тебя разгадать и позволь мне из деликатности ни о чем тебя не расспрашивать. Я знаю то, что хотел узнать. — А если бы твои предположения подтвердились, ты бы пошел со мною? — Теперь я знаю, что не могу этого сделать, — ответил Стенио, — я знаю, что не буду допущен до Вальмарины раньше, чем выдержу долгие и страшные испытания. Я знаю, что прежде всего мне предпишут навсегда отказаться от Лелии… О, я знаю, что какие бы нити ни связывали ее таинственную судьбу с вашими героическими жизнями, от меня потребуют доказательства моей добродетели, залога моей силы, больше мне будет нечего представить, и поэтому я ничего не представлю. — Я был в этом уверен, — сказал Эдмео, вздохнув. — Я видел Лелию. Так прощай же, друг! Если когда-нибудь, освободившись от этого обмана чувств или разочаровавшись в своих надеждах… — Да, конечно! — воскликнул Стенио, пожимая другу руку. Потом он отпустил ее и добавил: — Быть может!.. Но в ту же минуту надежда вдруг снова пробудилась в его сердце, и он прошептал: — Никогда! Спустя полчаса после того как они расстались, Эдмео, который шел на север, достиг вершины горы и, как обещал, запел прощальную песнь. Поэт все еще сидел на скале. Ночь была ясная и холодная, земля — сухая, воздух прозрачный. Мужественный голос Эдмео пропел гимн, и друг его ясно расслышал: — Сириус, царь долгих ночей, солнце темной зимы, ты, который опережаешь осенью зарю и погружаешься за горизонт вослед весеннему солнцу! Брат солнца, Сириус, повелитель небес, ты, который соперничаешь с белым светом луны, когда все другие светила бледнеют перед нею, и пронзаешь своим огненным взглядом густую завесу ночного тумана! Ты, извергающий пламя пес, который без устали лижет окровавленную ногу страшного Ориона, ты, который в сопровождении своей сверкающей свиты поднимаешься ввысь, в эмпирей, ты, у которого нет ни равных, ни соперников! О, самый красивый, самый великий, самый яркий из ночных светочей, озари своими белыми лучами мои влажные волосы, верни надежду моей трепещущей душе и силу моему окоченевшему телу! Сверкай над моей головой, озаряй мой путь, излей на меня потоки твоего яркого света. Царь ночи, проведи меня к другу моего сердца. Помоги мне в моем таинственном пути сквозь мрак; тот, к кому я иду, то же среди людей, что ты — среди несметной толпы малых звезд. Учитель мой велик, как ты; как ты, он блистателен и могуч; как ты, он проницает свет; как ты, он царит над холодной ночью; как ты, он возвещает о том, что ясным, солнечным дням настал конец! Сириус, ты не звезда любви, ты не светило надежды. Твоей мужественной красотою не вдохновляется соловей, и под твоим суровым сиянием не раскрываются чашечки цветов. Горный орел приветствует тебя утром голосом угрюмым и диким; под твоим бесстрастным взглядом нагромождаются снега, и ветер воспевает твою красоту, шелестя бронзовыми струнами твоей зловещей арфы. Так вот, душа, в которой ты царишь, о добродетель, не открывается больше ни надежде, ни нежности; она запаяна, как свинцовый гроб, она замкнута, как северная ночь границами горизонта, когда Сириус доходит до половины пути. Она мрачна, как зима, темна, как безлунное небо; ее пронизывает один только луч, холодный и пронзительный, как сталь. Она завернута в саван, у нее нет больше ни восторгов, ни песен, ни улыбок. Душа моя — это ночь, это холод, это тишина; но твой блеск, о добродетель, — это луч Сириуса, сверкающий и ни с чем не сравнимый. Голос растаял вдали. Несколько минут Стенио был еще поглощен своими мыслями. Потом он сошел в долину, устремив взор на восходившую на горизонте Венеру.25
Снова вернулась весна и вместе с нею — пение птиц и ароматы цветов. Вечерело, красные отблески заката уступали место фиолетовым теням. Сидя на террасе виллы Виолы, Лелия мечтала. Это был богатый дом, который один итальянец построил у подножия гор для своей любовницы. Она умерла там от тоски. И вот итальянец, не желая больше жить в местах, с которыми у него было связано столько тяжелых воспоминаний, сдал в аренду иностранцам сад, где была похоронена умершая, и виллу, носившую ее имя. Есть страдания, которые сами себя питают; есть другие, которые пугаются себя и бегут от себя, как от угрызений совести. Нежная и томная, как ветерок, как волна, как весь этот майский день, такой теплый и клонящий ко сну, Лелия, опершись о перила, смотрела на одну из самых живописных долин, куда ступала нога цивилизованного человека. Солнце зашло за горизонт, но озеро все еще было огненно-красным — как будто античный бог, который, по преданию, каждый вечер возвращается в море, и на самом деле погрузился в эту прозрачную гладь. Лелия мечтала. Она слушала смутные звуки долины: блеянье маленьких ягнят, теснившихся возле матерей, шум воды, поднявшийся, как только открыли шлюзы, голоса высоких загорелых пастухов с греческим профилем, одетых в живописные лохмотья. С карабинами на плече они спускались с гор и пели гортанными голосами. Слушала она и высокие звуки бубенцов, привешанных к шеям дородных пестрых коров, и задорный лай больших дворняжек, которому с горных склонов раскатисто отвечало эхо. Лелия была спокойна и лучезарна, как небо. Стенио принес арфу и стал петь гимны удивительной красоты. Спустилась тьма, медленная и торжественная, как аккорды арфы, как прелестный голос поэта, мужественный и нежный. Когда он окончил, небо уже сокрылось под этим первым серым покровом, в который облачается ночь, когда трепещущие звезды едва проглядывают на небе, далекие и бледные, как слабая надежда на лоне сомнений. Только вдоль горизонта сквозь туман едва заметно обозначилась белая линия: то был последний свет сумерек, последнее прости уходящего дня. Тогда поэт опустил руки, звуки арфы затихли; припав к ногам Лелии, Стенио попросил ее сказать емухотя бы слово любви или жалости, хоть чем-нибудь дать ему почувствовать, что она жива, что она может быть к нему нежной. Лелия взяла руку юноши и поднесла ее к глазам; она плакала. — О, — воскликнул он, вне себя от волнения, — ты плачешь! Значит, ты жива? Лелия провела рукою по душистым волосам Стенио и, прижав его голову к груди, покрыла ее поцелуями. Не часто ей случалось касаться губами этого прекрасного лба. Ласка Лелии — это был дар богов, столь же редкий, как не тронутый морозом цветок, который распускается на снегу! И этот неожиданный и жаркий порыв чувств едва не стоил юноше жизни — холодные губы Лелии в первый раз подарили ему поцелуй любви. Он побледнел, сердце его перестало биться; едва живой, он со всею силой оттолкнул Лелию, ибо никогда смерть не была ему так страшна, как в эту минуту, когда перед ним открывалась жизнь. Он чувствовал потребность говорить, чтобы уйти от избытка счастья, которое было мучительно, как лихорадка. — О, скажи мне, — вскрикивал он, вырываясь из ее объятий, — скажи мне наконец, что ты меня любишь! — Разве я уже не сказала тебе этого? — отвечала она и посмотрела на него таким взглядом, улыбнулась такой улыбкой, какие на картинах Мурильо бывают у пресвятой девы, уносимой ангелами на небо. — Нет, ты мне этого не говорила, — ответил он, — ты сказала мне в тот день, когда ты была при смерти, что ты хочешь любить. Это означало, что перед тем, как потерять жизнь, ты жалела о том, что не жила. — Вы так думаете, Стенио? — спросила она вдруг кокетливо и насмешливо. — Я ничего не думаю, но я стараюсь разгадать вас. О Лелия, вы обещали попытаться меня полюбить. Это все, что вы мне обещали. — Разумеется, — холодно ответила Лелия, — только обещать, что мне это удастся, я не могла. — Но ты надеешься когда-нибудь полюбить меня? — спросил он тихим и грустным голосом, который тронул Лелию до глубины души. Она обвила его руками и притянула к себе с нечеловеческой силой. Стенио, который думал было воспротивиться ей, почувствовал, что он во власти ее чар, и похолодел от ужаса. Кровь его кипела, как лава, и, как лава же, застывала. Его бросало то в жар, то в холод, ему было худо и вместе с тем хорошо. Была это радость или тоска? Он не знал. Это было и то, и другое, и еще большее. Это было небо и ад, любовь и стыд, желание и ужас, экстаз и агония. Наконец, к нему вернулось мужество. Он вспомнил, сколько безумных обетов он давал, чтобы только настал этот час смятения и восторгов; он презирал себя за малодушную робость, которая удерживала его, и, поддавшись порыву, в котором было отчаяние, он, в свою очередь, подчинил себе Лелию. Он заключил ее в свои объятия, припал губами к ее мягким и нежным губам, прикосновение к которым продолжало его изумлять… Но Лелия, внезапно оттолкнув его, сказала сухо и жестко: — Оставьте меня, я вас больше не люблю. Стенио упал на плиты террасы. Теперь-то он действительно почувствовал, что умирает: на место неистовой любви и лихорадки, вызванной ожиданием, явился леденящий сердце стыд. Лелия принялась смеяться. Гнев воодушевил поэта, ему вдруг захотелось убить ее. Но женщина эта была настолько равнодушна к жизни, что ни отомстить ей, ни испугать ее у него не было возможности. Стенио попытался сохранить хладнокровие и отнестись ко всему как философ; но стоило ему сказать несколько слов, как он залился слезами. Тогда Лелия снова обняла его, но как только он попытался было ответить на ее ласки, она оттолкнула его, сказав: — Берегись, не надо рисковать нашими сокровищами, не надо доверять их прихоти волн. — Проклятая! — вскричал он, пытаясь подняться, чтобы от нее убежать. Она удержала его. — Вернись, — сказала она. — Вернись к моему сердцу. Я только что так любила тебя, а ты, наивный и пугливый, почти помимо воли принимал мои поцелуи. Ведь когда ты спросил меня: «Но ты надеешься когда-нибудь полюбить меня?» — я почувствовала, что люблю тебя. Ты был тогда таким покорным! Оставайся таким, таким я тебя люблю. Когда я вижу, как ты дрожишь и убегаешь от любви, которая ищет тебя, мне кажется, что я моложе и доверчивее тебя. Это возбуждает во мне гордость и чарует меня, жизнь больше меня не пугает, мне думается, что я могу отдать ее тебе; но когда ты смелеешь, когда ты требуешь от меня большего, я теряю надежду, я боюсь любить, боюсь жить. Я страдаю и жалею, что обманулась еще раз. — Несчастная женщина! — сказал Стенио, побежденный жалостью. — О, если бы ты мог всегда оставаться таким робким, таким смятенным, когда я тебя ласкаю! — сказала она, снова притягивая его голову и кладя ее себе на колени. — Погоди, дай мне обнять твою белую шею, она блестит, как античный мрамор; дай мне погладить твои волосы, такие мягкие и шелковистые; они так скользят и так льнут к моим пальцам. Юноша, какая у тебя белая грудь! Как гулко, как порывисто бьется твое сердце! Это хорошо, дитя мое. Только есть ли в этом сердце уже зачатки настоящего мужества? Сумеет ли оно пройти по жизни, не надломившись, не иссушив себя? Погляди, над тобою всходит луна, луч ее отражается у тебя в глазах. Вдохни вместе с этим ветерком запахи трав и цветущего луга. Я узнаю запах каждого растения, я чувствую, как они льются один за другим в воздухе, который их уносит. Только что пахло диким тмином, а перед этим нарциссами с озера, а сейчас вот пахнуло геранью из сада. Как, должно быть, радостно воздушным сильфидам гоняться за этими тонкими запахами и в них окунаться. Ты улыбаешься, мой прелестный поэт, усни. — Уснуть! — повторил Стенио удивленно и с укором. — А почему бы и нет? Разве ты не спокоен теперь, разве не счастлив? — Счастлив — да, но могу ли я быть спокоен? — Ну, раз так, значит, ты меня не любишь! — воскликнула она, отталкивая его. — Лелия, вы делаете меня несчастным, пустите меня. — Трус! Как вы боитесь страдания! Идите! Ступайте прочь! — Нет, не могу, — ответил он, снова падая перед ней на колени. — Боже мой! — вскричала она, обнимая его. — Зачем же страдать? Вы не знаете, как я вас люблю: мне нравится ласкать вас, смотреть на вас, как будто вы мой ребенок. Я ведь никогда не была матерью, но мне кажется, что у меня к вам такое чувство, будто вы мой сын. Я любуюсь вашей красотой — и это целомудренная материнская нежность… Да и какие другие чувства могу я питать к вам? — Значит, у вас не может быть любви ко мне? — спросил он дрожащим голосом; сердце его разрывалось. Лелия ничего не ответила; она судорожно провела руками по его пышным волосам, локонами спадавшим на лоб, склонилась над ним и смотрела на него так, как будто хотела вложить в один взгляд силу нескольких душ, в один миг — упоение сотни жизней. Потом, обнаружив, что сердце ее менее пламенно, нежели ум, и надежда слабее, нежели мечта, она еще раз отчаялась в жизни. Рука ее бессильно повисла; она печально посмотрела на луну; потом поднесла руку к сердцу и глубоко вздохнула. — Увы! — сказала она раздраженно и с грустью на него посмотрела. — Счастливы те, которые могут любить.26. ВИОЛА
У подножия садовых террас маленькая речка струилась в густой тени тисов и кедров, исчезая под их низко нависшими ветвями; под одним из этих таинственных сводов виднелось мраморное надгробие, и его отражение; белизною своей оно резко выделялось среди темных отсветов окружавшей его листвы. Легкий ветерок едва колыхал чистые контуры отражавшегося в воде мрамора; разросшийся вьюн обвивал его с обеих сторон: гирлянды голубых колокольчиков свисали вокруг заброшенных скульптур, совсем уже потемневших от дождя. Груди и руки коленопреклоненных фигур поросли мхом; печальные кипарисы сонливо опускали свои ветви на эти неподвижные головы, укрывая от глаз обреченную на забвение могилу. — Вот, — сказала Лелия, раздвигая высокую траву, скрывавшую надпись, — вот могила женщины, умершей от любви и страдания!.. — В этом памятнике столько поэзии и благоговения, — сказал Стенио. — Посмотрите, как им гордится природа! Как ласково обвивают его гирлянды цветов, как обнимают его деревья, как нежно воды реки лобзают его подножие! Бедная женщина, умершая от любви! Бедный ангел, осужденный жить на земле и скитаться среди людей; наконец-то ты мирно спишь в своем гробу и больше не страдаешь, Виола! Ты спишь, как этот ручеек, ты простерла на своем мраморном ложе твои усталые руки, похожие на ветви склоненного над тобой кипариса. Лелия, возьми с могилы этот цветок, укрой его на груди, нюхай его почаще, только нюхай скорее, пока, оторванный от стебля, он не утратил свой чистый аромат, — может быть, это и есть душа Виолы, душа женщины, любившей до самой смерти. Виола! Если частица вас живет в этих цветах, если дыхание любви и жизни перешло в эту таинственную чашечку из вашей груди, неужели вы не можете проникнуть и в сердце Лелии? Неужели вы не можете согреть воздух, которым она дышит сейчас, и сделать, чтобы она перестала быть бледной, холодной и мертвой, как эти статуи, которые печально смотрят на свои отражения? — Дитя! — сказала Лелия, бросая цветок в лениво текущий ручей и следя за ним рассеянным взглядом. — Неужели ты думаешь, что и меня не точит страдание, столь же глубокое и немилосердное, как то, что убило эту женщину? О, что ты знаешь? Может быть, это была жизнь очень богатая, очень вольная, очень плодотворная. Жить в любви и от любви умереть! Какая прекрасная участь для женщины! Под каким огненным небом ты родилась, Виола? Откуда в сердце твоем нашлось столько силы, что оно разорвалось на части, вместо того чтобы сжиматься под тяжестью жизни? Какое божество вложило в тебя эту неодолимую мощь, лишить которой может только смерть? О высокое, высочайшее из созданий! Ты не склонила голову под ярмом, ты не захотела примириться с судьбой, и, однако, ты не спешила умереть, как те слабые существа, которые убивают себя, чтобы не дать себе исцелиться. Ты была так уверена, что не найдешь утешения, что погибала медленно, не делая ни шагу вперед, к могиле, и не отступая ни на шаг назад, к жизни; смерть пришла и захватила тебя, слабую, разбитую, уже мертвую, но все еще стойкую в своей любви, говорившую природе: «Прощай, я презираю тебя и не хочу исцеления. Храни благодеяния твои, твою исполненную обмана поэзию, твои успокоительные иллюзии и усыпляющее забвение и непоколебимый скептицизм; побереги это все для других, а я хочу любить или умереть!». Виола! Ты оттолкнула даже бога, ты открыто возненавидела эту несправедливую силу, которая сделала участью твоей одиночество и страдание. Ты не пришла на берега этих вод петь печальные гимны, как поет Стенио в те дни, когда я его огорчаю; ты не простиралась ниц в храмах, как Магнус, когда им овладевает бес отчаяния; ты не подавляла чувств своих размышлениями, как Тренмор; ты не убивала, как он, страстей своих хладнокровием, чтобы жить на их обломках гордой и одинокой. И ты, как Лелия, не… Она не договорила до конца; облокотившись на мрамор и пристально глядя на бегущие волны, она не слышала Стенио, молившего ее открыть ему душу. — Да, — сказала Лелия после продолжительного молчания, — она умерла! И если какая-нибудь человеческая душа заслужила, чтобы ее взяли на небеса, то это она. Она сделала больше, чем ей было определено. Она испила чашу горечи до дна, потом, отвергнув награду, которая ждала ее после этого испытания, отказавшись забыть и презреть свое горе, она разбила чашу и сохранила яд в сердце своем, как самое горькое сокровище. Она умерла! Умереть от горя! А мы все, мы живы! Даже вы, юноша, вы, который полон еще сил, чтобы вынести страдание, вы живете или начинаете говорить о самоубийстве, а ведь это было бы малодушием, большим, чем выносить эту поруганную жизнь, которую нам оставляет презревший нас господь! Видя, что она стала еще печальнее, Стенио начал петь, чтобы развлечь ее. В то время как он пел, слезы струились из его глаз; но он совладал со своим страданием и искал в своей надломленной душе вдохновения, чтобы утешить Лелию.27
— Ты часто говорила мне, Лелия, что я молод и чист, как ангел, иногда ты говоришь мне, что любишь меня. Сегодня утром еще ты улыбалась мне и сказала: «Счастье мое — это ты, ты один». Но к вечеру ты все позабыла и безжалостно опрокидываешь то, на чем зиждется мое счастье. Ну что же, сломай меня, как этот цветок, который ты только что нюхала и который ты теперь бросила на прибрежном песке: если тебе будет интересно посмотреть, как меня унесет прихоть волны и будет подкидывать и мять на пути, если ты испытаешь при этом удовлетворение, ироническое и жестокое, разорви меня, кинь под ноги; не забудь только, что в тот день и час, когда ты захочешь поднять меня и понюхать еще раз, ты увидишь меня расцветшим, готовым ожить от твоих ласк. Ну что же, моя бедная, ты будешь любить меня так, как сможешь. Я хорошо знал, что ты уже не можешь любить так, как люблю я; к тому же это ведь справедливо, что из нас двоих на твою долю выпадает повелевать. Я не заслужил той любви, какую заслужила ты, я не страдал, не боролся, как ты. Я ведь еще дитя, у меня нет ни славы, ни ран, жизнь моя только начинается, и мне еще предстоит бороться. Ты, разбитая громом, ты, сто раз поверженная и всякий раз подымавшаяся снова, ты, которая оскорбляешь его и любишь, ты, увядшая, как старик, и в то же время юная, как ребенок, Лелия, бедная душа моя, люби меня так, как сможешь; я всегда буду стоять перед тобой на коленях, чтобы благодарить тебя, и я отдам тебе все мое сердце, всю жизнь мою взамен того немногого, что ты еще можешь мне дать. Позволь мне только любить тебя; прими без презрения страдания, которые я, как очистительную жертву, несу к твоим ногам; позволь мне истратить мою жизнь и сжечь мое сердце на алтаре, который я тебе воздвиг. Не жалей меня, я еще счастливей, чем ты, ведь это за тебя я страдаю! О, если бы я только мог умереть от любви к тебе, так, как от любви умерла Виола! Сколько наслаждения в муках, которые ты вложила мне в грудь, сколько счастья в том, чтобы быть всего лишь твоей игрушкой и твоей жертвой, в том, чтобы искупить, будучи юным, чистым и смиренным, застарелую несправедливость, ропот, безверие, которые нависли над твоей головой! Ах, если бы можно было отмыть пятна чужой души большим страданием и кровью из своих жил, если бы можно было искупить ее грехи как новоявленный Христос, и отказаться от своей доли вечного блаженства, чтобы она не канула в небытие! Так вот, я вас люблю, Лелия. Вы этого не знаете, ибо не хотите знать. Я не прошу вас уважать меня и еще меньше — меня жалеть; только придите ко мне, когда вы будете страдать, и причините мне какую хотите боль, лишь бы рассеять ту, что вас гложет… — Пойми, сейчас я нестерпимо страдаю, — сказала Лелия, — в груди моей клокочет гнев. Может быть, ты будешь богохульствовать, за меня? Мне это, может быть, принесло бы облегчение. Может быть, ты закидаешь камнями небо, будешь поносить провидение, проклинать вечность, призывать силы мрака, поклоняться злу, ратовать за разрушение всего сотворенного богом, за презрение к его алтарям. Слушайте, может быть, вы способны убить Авеля, чтобы отомстить богу — моему тирану? Может быть, вы станете выть как испуганная собака, которая видит на стене причудливые блики луны? Может быть, вы станете кусать землю и есть песок, как Навуходоносор? Может быть, вы, как Иов, изольете мой гнев и ваш в яростных проклятиях? Может быть, вы, чистый и благочестивый юноша, погрузитесь по уши в скептицизм и скатитесь в пропасть, в которой я гибну? Я страдаю, и у меня нет больше сил кричать. Так богохульствуйте за меня! Как, вы плачете!.. Вы еще можете плакать? Счастливы те, кто плачет. Глаза мои суше, чем песок пустыни, на который никогда не упадет ни капли росы, а сердце мое еще того суше. Вы плачете? Ну что же, послушайте же, чтобы развлечься, песню одного иностранного поэта, которую я перевела.28. ГИМН БОГУ
«Что же я сотворила такое, чтобы меня поразило это проклятие? Почему ты оставил меня? Ты не отказываешь в солнце ленивым травам, ты не отказываешь в росе незаметным колосьям в поле; ты даришь тычинкам цветка могучую силу любви и чувство счастья — бесчувственному кораллу. А у меня, которую тоже сотворила твоя десница, у меня, которую ты как будто создал натурой высоко одаренной, у меня ты отнял все, ты поступил со мною хуже, чем со своими падшими ангелами; у них ведь есть еще сила ненавидеть и проклинать, а у меня нет и ее! Ты поступил со мною хуже, чем с илом на дне ручейка и песками дороги, ибо их топчут ногами, а они ничего не чувствуют. А я чувствую, что существую, и не могу укусить попирающую меня ногу и избавиться от проклятия, которое давит меня, как гора. Почему ты так обошлась со мной, неведомая сила, чья железная длань простерта теперь надо мной? Почему ты заставила меня родиться человеческим существом, если так скоро решила превратить меня в камень и, ни на что не нужную, вытолкнуть вон из жизни? Чего ты хочешь? Возвысить меня надо всеми или унизить меня, о бог мой! Если таков удел избранных, то сделай, чтобы он был мне легок и чтобы я перенесла его без страданий; если же эта стезя наказания, то почему ты повел меня по ней? О горе мне! Неужели я была виновна еще до рождения? Что такое душа, которою ты меня наделил? Это ли называют душой поэта? Всегда колеблющаяся, как свет, всегда блуждающая, как ветер, всегда жадная, всегда тревожная, всегда трепещущая, всегда ища устойчивости во внешнем мире, растрачивающая себя всю, едва успевая набраться сил. О жизнь! О мука моя! Всего домогаться и ничего не охватить, все понять и ничем не владеть! Дойти до скептицизма сердца так, как Фауст дошел до скептицизма ума! Участь еще более ужасная, чем участь Фауста; ибо он хранит в груди своей сокровища юных и пылких страстей, созревших в тишине под книжною пылью и дремавших в то время, когда бодрствовал ум; ведь когда Фауст, уставший искать совершенство и не находить его, останавливается, готовый проклясть создателя и от него отречься, бог, чтобы его наказать, посылает ему ангела мрачных и роковых страстей. Этот ангел от него не отходит, он согревает его, молодит, сжигает, сбивает с пути, пожирает, и старик Фауст вступает в жизнь юным и бодрым, проклятым, но всемогущим! Он уже больше не любит бога, но он полюбил Маргариту. Господи, прокляни меня так же, как ты проклял Фауста! Господи, ты ведь не можешь удовлетворить меня. Ты это хорошо знаешь. Ты не хочешь быть для меня всем! Ты не раскрываешься мне со всей полнотой, чтобы я могла овладеть тобою и привязаться к тебе безраздельно. Ты притягиваешь меня к себе, ты ласкаешь меня благоуханным дыханием твоих небесных ветров, ты улыбаешься мне, проглядывая между золотистыми облаками, ты являешься мне в моих снах, ты привязываешь меня, ты непрестанно побуждаешь меня взлететь к тебе, но ты позабыл дать мне крылья. Зачем же ты тогда дал мне душу, которая стремится к тебе? Ты все время от меня ускользаешь, ты окутываешь это прекрасное небо и всю прекрасную природу тяжелыми тучами. Ты направляешь на цветы знойное дыхание юга, которое их иссушает, а меня ты овеваешь холодным ветром, который леденит и пронизывает до мозга костей. Ты посылаешь нам пасмурные дни и беззвездные ночи, потрясаешь нашу жалкую вселенную бурями, которые раздражают нас, опьяняют, помимо воли делая нас дерзкими атеистами! И если в эти мрачные часы нас одолевает сомнение, ты будишь в нас угрызения совести, и во всех голосах земли и неба начинает звучать упрек! Зачем, зачем ты создал нас такими! Какая тебе польза от наших страданий? Какую славу наше уничижение и наша гибель может прибавить к твоей славе? Неужели муки эти нужны человеку, для того чтобы он устремился к небу? Неужели надежда — это хилый и бледный цветок, растущий только на скалах, где его овевают грозы? Драгоценный цветок, нежный аромат, приди же и поселись в этом высохшем и опустошенном сердце! Ах, ты давно уже напрасно стараешься омолодить его; корни твои больше не могут укрепиться на его непроницаемых стенах, его ледяная атмосфера иссушает тебя, его бури вырывают тебя и, сломанного, увядшего, бросают наземь!.. О надежда! Неужели ты больше не можешь расцвести для меня?..» — Эти песни печальны, эта поэзия жестока, — сказал Стенио, выхватывая у нее из рук арфу, — вам по душе это мрачное раздумье, и вы без жалости меня терзаете… Нет, это вовсе не перевод иностранного поэта; текст этой поэмы идет из глубины вашей души, Лелия, я это знаю! О жестокая и обреченная! Послушайте эту птицу, она поет лучше нас, она воспевает солнце, весну и любовь. Это маленькое существо устроено лучше, чем» вы. Вы ведь можете воспевать только страдание и сомнение.29. В ПУСТЫНЕ
— Я привел вас в эту пустынную долину, которую никогда не топтали стада, ни разу не осквернила нога охотника. Я провел вас туда, Лелия через пропасти. Вы без страха одолели все опасности этого пути; спокойным взглядом измеряли вы расселины, бороздящие глубокие ледники, вы переходили их по доске, которую перебрасывали наши проводники; доска эта качалась над бездонными пропастями. Вы перебирались через водопады легко и свободно; так белый аист шагает с камня на камень и засыпает, согнув шею, поддерживая тело в равновесии, стоя на тонкой ноге среди бурного потока, который извивается над пропастью, извергающей пену. Вы ни разу даже не вздрогнули, Лелия, а я, как я дрожал! Сколько раз кровь моя леденела, сколько раз замирало сердце, когда я видел, как вы проходили так над бездной, беспечная, рассеянная, глядя на небо и не удостаивая даже взглядом уступов, которых касалась ваша маленькая нога! Вы очень храбрая и очень сильная, Лелия! Когда вы говорите, что душа ваша измождена, — это ложь: нет человека более смелого и уверенного в себе, чем вы. — Что такое смелость? — ответила Лелия. — И у кого ее нет? Кто в наше время любит жизнь? Это беспечность зовется храбростью, когда она способна что-то создать, но когда риску подвергают ни на что не нужную жизнь, то не просто ли это леность? Леность, Стенио! Это недуг, одолевающий наши сердца, это великий бич современности. В наши дни существуют только отрицательные добродетели, мы храбры, потому что мы уже разучились испытывать страх. Увы, все исчерпало себя, даже слабости, даже человеческие пороки. У нас уже нет той силы, которая заставляет любить жизнь упорной и вместе с тем трусливой любовью. Когда на земле было еще много энергии, люди воевали хитро, благоразумно, расчетливо. Жизнь была непрестанным сражением, борьбой, в которой самые храбрые неизменно отступали перед опасностью, ибо самым храбрым оказывался тот, кто мог дальше всех жить среди опасностей и людской злобы. С тех пор как цивилизация сделала жизнь легкой и спокойной для всех, все стали находить ее однообразной и скучной; ее ставят на карту из-за одного слова, из-за одного взгляда — так мало она значит! Это безразличие к жизни и породило у нас дуэли. Вот зрелище, в котором нашла себе выражение вся апатия нашей эпохи: двое людей спокойно и вежливо бросают жребий, кому из них убивать другого — без ненависти, без гнева, без пользы. Увы, Стенио, мы больше ничего не стоим, мы ни добры, ни злы, мы даже не подлецы — мы просто инертны. — Вы правы, Лелия, когда я окидываю взглядом общество, я печалюсь так же, как и вы. Но я привел вас сюда, чтобы вы могли хотя бы на несколько дней это общество позабыть. Посмотрите, где мы с вами сейчас, разве это не изумительно? Можно ли тут думать о чем-нибудь другом, кроме бога? Сядьте на этот мох, по которому ни разу не ступал человек, и взгляните на бездонные глубины у вас под ногами. Случалось ли вам когда-нибудь видеть природу такую дикую и такую полную жизни? Взгляните, как упорны эти беспорядочно разбросанные кусты, как неуемны эти леса, «которые ветер гнет и колышет, эти грозные орлиные стаи, беспрерывно парящие над окутанными туманом вершинами, описывая в воздухе круги, словно огромные черные кольца на белой муаровой скатерти ледника? Слышите шум, который подымается отовсюду? Потоки, которые плачут и рыдают, как души грешников, олени, которые стонут жалобно и страстно, ветер, который поет и хохочет над вереском, грифы, которые кричат, как испуганные женщины; и эти вот другие шумы, странные, таинственные, неописуемые, которые глухо грохочут в горах, эти потрескивающие в недрах своих гигантские ледяные глыбы, эти снежные обвалы, уносящие за собою песок, эти могучие корни деревьев, которые без устали борются с недрами земли и усилиями своими вздымают камень и раскалывают шифер, эти неведомые голоса, эти неясные вздохи, которые почва в вечных родовых схватках исторгает из своих зияющих глубин. Разве во всем этом не больше великолепия, не больше гармонии, чем где-нибудь в церкви или в театре? — Все это действительно красиво, и именно сюда надо приходить, чтобы видеть, сколько у земли еще юности и силы. Бедная земля! Она тоже идет к своей гибели! — Что вы говорите, Лелия! Неужели вы думаете, что земля и небо виноваты в нашем духовном растлении? Дерзкая мечтательница, неужели вы обвиняете и их? — Да, я их обвиняю, — ответила она, — скорее, впрочем, я обвиняю великий закон времени, который всему на свете велит истощаться и гибнуть. Неужели вы не видите, что лавина веков уносит нас всех, людей и миры, чтобы вечность поглотила нас, как те сухие листья, которые мчатся к пропасти, увлекаемые потоком? Увы, после нас не останется даже этой жалкой трухи! Мы даже не всплывем на поверхность, как увядшие травы, те, что плывут там, печальные, и стелются по воде, словно волосы утопленницы. Трупы империй обратятся в тлен, человеческий прах смешается с морскими песчинками. Бог свернет всю вселенную в комок, как старое тряпье, которое надо выкинуть, как платье, которое сбрасывают с себя, потому что оно ни на что не нужно. Тогда бог останется один. Тогда, может быть, ничто не заслонит его могущества, его сияния. Но кто тогда их увидит? Родятся ли из нашего праха новые расы людей, чтобы увидеть или чтобы угадать того, кто творит и кто разрушает? — Мир погибнет, я это знаю, — сказал Стенио, — но для того, чтобы его разрушить, понадобится столько веков, что мозг человеческий даже не в силах все это исчислить. Нет, нет, это еще не агония мира. Мысль эта могла зародиться только в раздраженной душе какого-нибудь скептика вроде вас; но я чувствую, что мир еще молод: сердце мое и разум говорят мне, что он не достиг еще и середины жизни, не вступил в пору своего расцвета; мир еще развивается, ему предстоит еще столько всего узнать! — Без сомнения, — иронически ответила Лелия, — он еще не постиг тайны воскрешать мертвых и делать живых бессмертными; но он совершит и эти великие открытия, и тогда миру не будет конца, человек станет сильнее бога и сумеет выжить без помощи посторонней силы, опираясь только на свой собственный разум. — Вы все шутите, Лелия! Но послушайте: не думаете ли вы, что люди сегодня стали лучше, чем были вчера, и поэтому… — Я этого не думаю, но какое это имеет значение? Мы с вами разных мнений о возрасте мира, вот и все. — Если бы мы знали его в точности, — сказал Стенио, — мы нисколько бы не подвинулись вперед. Мы не знаем тайны его создания, мы не знаем, сколько времени мир, устроенный так, как наш, может и должен жить. Но сердцем я чувствую, что мы движемся к свету и к жизни; на нашем небе сияет надежда, взгляните только, как прекрасно солнце! Какое оно яркое, какое щедрое, как оно улыбается горам, которые покрываются багрянцем от его ласк и краснеют от любви, как робкая девушка! Существование бога доказуется отнюдь не логикой разума. Люди верят в бога, потому что неизъяснимое чувство подсказывает им, что он существует. То же самое относится и к вечности — ее нельзя измерить мерилом точных наук, но человек ощущает душою присутствие в духовном мире свежести, силы, так же как своим физическим существом он чувствует присутствие в воздухе живительных и укрепляющих начал. Неужели вы будете вдыхать этот ароматный, горный воздух и он не проникнет в вас? Неужели вы будете пить эту прозрачную ледяную воду, пахнущую мятой и диким тмином, и даже не ощутите ее дивной свежести? Неужели вы не почувствуете себя помолодевшей и возрожденной, овеянная этим легким и нежным ветерком, среди цветов, таких красивых, таких гордых, оттого что они ничем не обязаны человеку? Обернитесь и взгляните на эти густые кусты рододендрона; как свежи, как чисты эти пучки лиловых цветов! Как они поворачиваются к небу, чтобы увидеть его лазурь, чтобы собрать росу! Цветы эти красивы, как вы, Лелия, они от всего отчуждены и дики, как вы; неужели вам непонятно, как они могут возбудить к себе любовь? Лелия улыбнулась и, устремив свой взор на пустынную долину, погрузилась в раздумье. — Конечно, нам следовало бы жить здесь, — сказала она наконец, — чтобы сохранить то немногое, что еще осталось у нас в сердце, но достаточно нам было бы провести тут три дня, и растительность бы поблекла и воздух бы потерял свою свежесть. Человек не может жить, не истерзав чрева своей кормилицы, не истощив почвы, которая его взрастила. Он непременно хочет исправить и переделать творение божье. Повторяю: достаточно вам пробыть здесь три дня, к вам захочется перетащить камни с горы в глубину долины и пересадить кустарники, растущие во влажных расселинах, на бесплодную каменную вершину. У вас это называют «разбивать сад». Если бы вы явились сюда пятьдесят лет назад, вы бы непременно поставили здесь еще статую и беседку. — Вы все шутите, Лелия! Вы еще можете смеяться здесь, среди всего этого величия! Без вас я бы, может быть, лежал здесь, простертый перед творцом, который все это создал. Но вы мой злой дух, вы этого не захотели. И я должен слушать, как вы отрицаете все, даже красоту природы. — Я вовсе ее не отрицаю! — вскричала она. — Слышали вы разве, чтобы я что-нибудь отрицала? Разве я оставалась хоть на миг равнодушна к красоте и величию какой-нибудь веры? Но кто даст мне силы обманывать себя? Увы, почему богу было угодно создать такое несоответствие между иллюзиями человека и действительностью? Почему каждый раз приходится страдать оттого, что хочешь счастья, которое является нам каждый раз в ореоле красоты, парит в наших мечтах, и никогда не спускается на землю? Не только наша душа страдает от отсутствия бога, а и все каше существо — паши глаза, наше тело — страдает от равнодушия или суровости неба. Скажите мне, есть где-нибудь на земле такой климат, чтобы человеку не было ни слишком холодно, ни слишком жарко? Есть еще такая долина, где зимою бы не было сыро? Есть ли горы, где бы ветер не иссушал и не вырывал траву? На востоке изможденные зноем люди прозябают, томятся, они всегда лежат, всегда бездельничают. Женщины там блекнут под сенью гаремов, ибо солнце их просто бы спалило. А потом сухой, жгучий ветер поднимается с моря и, кружа головы этому склонному к лени народу, порождает преступления или героические деяния, неведомые нам, северянам. Тогда эти люди опьяняются деятельностью, изливают в диких криках, кровавых наслаждениях и ничем не сдерживаемых оргиях ту силу, которая до сих пор в них дремала, пока наконец, изведенные страданием и усталостью, отупевшие до предела, они снова бессильно не опускаются на свои диваны. И, однако, это еще самые закаленные, самые энергичные народы: самые счастливые в часы отдыха и самые неистовые в работе. Взгляните на народы жаркого пояса — солнце поистине к ним великодушно. Растения там необыкновенно велики, земля изобилует плодами, ароматами и красотою. Там царит какая-то особая, кичливая роскошь красок и форм. Птицы и насекомые там сверкают, как драгоценные камни, цветы источают пьянящие ароматы. Благовонны там и покрытые толстой корой деревья. Ночи там прозрачны, как наши осенние дни, звезды кажутся раза в четыре крупнее. Природа там щедра и прекрасна. Человек, еще грубый и простодушный, не ведает иных зол, какие изобрели мы. Как по-вашему, счастлив он? Нет. Ему приходится бороться со стадами отвратительных диких зверей. Возле его жилья рычит тигр. Змея, это холодное и скользкое чудовище, более страшное для человека, чем любой другой враг, подползает к колыбели его ребенка. Его настигает гроза, эти страшные корчи могучей стихии, которая взвивается на дыбы, как разъяренный бык, раздирает себя самое, как раненый лев. Человеку остается либо бежать, либо гибнуть: ветер, молния, вышедшие из берегов потоки опрокидывают и уносят его хижину, заливая его поле, увлекая за собою стада. Ложась спать, он не знает, увидит ли опять родные места, когда проснется; слишком уж много было в этих родных местах красоты: господь не пожелал их сохранить. Каждый год приходится искать себе новое пристанище. Богу неприятен вид счастливого человека. О господи! Ты, может быть, тоже страдаешь, тебе, может быть, тоже скучно среди всей твоей славы, коль скоро ты причиняешь нам столько зла! Так вот, эти дети солнца, которым мы, поэты, завидуем в наших мечтах, как земным избранникам, разумеется, спрашивают себя порою, не существует ли страны, облюбованной небом, которая не исполосована потоками раскаленной лавы, которую не опустошают разрушительные ветра, страны, которая пробуждается по утрам такая же ровная, спокойная и теплая, какой была накануне. Они спрашивают себя, неужели бог в гневе своем населил все земли жаждущими крови пантерами и отвратительными змеями; может быть, эти простодушные люди мечтают о земном рае под нашими умеренными широтами, может быть они видят во сне, как холодный туман опускается на их загорелые лица и смиряет окружающий их неуемный зной. Мы-то ведь в снах наших видим красное и горячее солнце, сверкающую равнину, раскаленное море, а под ногами — горячий песок. Мы призываем южное солнце отогреть наши закоченевшие спины, а южане готовы вымаливать капельки нашего дождя, чтобы увлажнить ими горящую грудь. Так повсюду человек страдает и ропщет: это нежное и нервное создание напрасно возомнило себя царем вселенной; он — ее самая несчастная жертва, он — единственная из всех живых тварей, чей интеллект находится в таком великом несоответствии с физической силой. Среди тех, кого он называет грубыми животными, властвует материальная сила, инстинкт у них не более чем средство сохранить жизнь. У человека развитый сверх меры инстинкт сжигает и мучит его хрупкий и слабый организм. Он бессилен, как моллюск, и при этом вожделеет, как тигр; ничтожество и нужда заточают его в черепашью скорлупу; честолюбие, беспокойство раскрывают в его мозгу орлиные крылья. Он хотел бы соединить в себе способности всех рас, но у него есть только одна способность — тщетно к чему-то стремиться. Он окружает себя останками прошлого; недра земли отдают ему золото и мрамор, он растирает цветы, добывая из них ароматные вещества, убивает птиц, чтобы украсить себя самыми красивыми перьями из их крыльев; нырки и гагары уступают ему свои пуховые шубки, чтобы разогреть его онемевшее, холодное тело; шерсть, меха, панцирь черепахи, шелк, внутренности одного зверя, зубы другого, шкура третьего, кровь и сама жизнь всех существ принадлежат человеку. Жизнь человека поддерживается лишь разрушением; и, однако, до чего же эта жизнь печальна и коротка! Самое страшное из всего, что создали художники и поэты, поддаваясь причудам своей необычайной фантазии, и самые частые картины, преследующие нас в кошмарах, — это шабаш оживших трупов, окровавленных скелетов животных, и разного рода чудовищные несообразности: птичьи головы на лошадиных туловищах, крокодильи морды на верблюжьих шеях; это нагромождение человеческих костей, это оргия ужаса, от которой пахнет кровью, это вопли страдания и зловещие крики изменившихся до неузнаваемости животных. Неужели вы считаете, что сны — это простая игра случая? Не кажется ли вам, что, помимо законов, связей и привычек, утвержденных правом и властью, у человека могут быть еще тайные угрызения совести, смутные, инстинктивные — и никакой ход его повседневных мыслей не может склонить его признаться в том, что его мучит, и поделиться с кем-нибудь своей тайной? Угрызения эти выявляются только в суеверном страхе и в сновидениях. Теперь, когда нравы, обычаи и верования разрушили некоторые стороны нашей духовной жизни, жизнь эта запечатлелась в каких-то уголках нашего мозга и может быть обнаружена, лишь когда наше сознание засыпает. Есть немало других сокровенных ощущений такого же рода. Есть воспоминания, словно оставшиеся в нас от прежней жизни; дети, появляясь на свет, несут с собою страдания, уже испытанные в могиле, ибо очень может быть, что человек покидает холодный гроб, чтобы улечься в мягкой и теплой колыбели. Кто знает! Не прошли ли мы все через смерть и хаос? Эти страшные картины преследуют нас во всех наших снах! Откуда у нас этот живой интерес к угасшим жизням, откуда эти сожаления и эта любовь к людям, от которых в истории человечества осталось всего-навсего одно имя? Не есть ли это бессознательное влечение памяти? Иногда мне кажется, что я знала Шекспира, что я плакала вместе с Торквато, что вместе с Данте проносилась по небу и аду. Одно имя былых времен возбуждает во мне чувства, похожие на воспоминания, так как некоторые запахи экзотических растений напоминают нам страны, откуда эти растения привезены. Тогда наше воображение ведет себя с ними так, как будто они ему давно привычны, как будто нога наша ступала уже по этой неведомой стране, в которой, однако, как мы думаем, мы никогда не жили и не умирали. Что мы, несчастные, обо всем этом знаем? — Мы знаем только то, что мы не можем этого знать, — сказал Стенио. — Вот это-то нас и мучит, Стенио! — воскликнула она. — Бессилие, которое целой вселенной, порабощенной и покалеченной, плохо удается скрыть под блеском своих иллюзорных трофеев. Искусство, промышленность, науки, нагромождения цивилизации — что это, как не постоянные попытки человеческой слабости утаить свои недуги и прикрыть свою нищету? Поглядите, может ли роскошь, сколько бы изобилия, сколько бы утех она ни несла, создать в нас новые чувства или усовершенствовать организм человека; поглядите, удалось ли непомерно развитому человеческому разуму применить теорию на практике; привели ли все усилия к тому, что наука продвинулась за пределы недосягаемого; чудовищно возбудив наши страсти, вкусили ли мы всю полноту наслаждения? Сомнительно, чтобы прогресс, достигнутый шестьюдесятью веками поисков, мог сделать существование человека терпимым и уничтожить для многих необходимость самоубийства. — Лелия, я даже не пытался доказать вам, что человечество достигло апогея своего величия. Напротив, я уже говорил вам, что, на мой взгляд, еще немало поколений сменят друг друга, прежде чем достичь этой высоты, а достигнув ее, оно, может быть, сумеет продержаться еще века, прежде чем дойдет до той степени падения, какую вы приписываете ему сейчас. — Как вы можете думать, юноша, что мы идем неуклонно вперед, если вы видите, что вокруг вас гибнет столько убеждений и на смену им не приходят новые, если вы видите, что все общество в разброде и не стремится жить в соответствии с законами природы, все способности истощаются от излишеств, все устои, вчера еще незыблемые, начинают обсуждаться и становятся игрушками для детей, и на смену им не приходят принципы новой веры. Не так ли обноски королевских и священнических одежд стали маскарадными костюмами для народа, у которого есть право быть самому королем и священником, хотя короли все еще царствуют, а народ им служит! — Да, я знаю, напрасные усилия во все времена томили человечество. Но лучше уже такое время, когда господствует тирания и рабы страдают, чем такое, когда тирания дремлет, оттого что рабы ей безропотно покорились. — В былые времена, после войн, которые человек вел с человеком, после этих потрясений всего общества мир, еще молодой и сильный, поднимался и восстанавливал свое здание для последующих веков. Этого больше не будет. Мы не только переживаем, как вы считаете, последствие одного из недавних кризисов, когда разум человеческий в утомлении засыпает на поле битвы, прежде чем успевает взять в руки оружие освобождения. Вынужденный падать и подниматься вновь, лежать простертым на боку в надежде увидеть, как его раны откроются и закроются снова, метаться в оковах и, обращая крики свои к небу, доходить до хрипоты, колосс стареет и слабеет: теперь он качается, как развалины, которые вот-вот рухнут, — еще несколько часов предсмертных судорог, и ветер вечности равнодушно пронесется над хаосом отпустивших поводья народов, все еще вынужденных оспаривать остатки поверженного мира, который уже не может удовлетворить их потребности. — Так вы верите в наступление Страшного суда? О моя бедная Лелия! Ваша сумрачная душа порождает эти неимоверные ужасы, ибо она слишком велика для мелких суеверий. Но во все времена ум человека занимали мысли о смерти. Аскетические души всегда находили усладу в мрачном раздумье и старались представить себе конец мира и гибель вселенной. Вы не первая пророчите его, Лелия. Иеремия явился раньше вас, и ваша гневная дантовская поэзия не создала ничего столь зловещего, как Апокалипсис, который блаженный безумец распевал в бреду по ночам на скалах Патмоса. — Я это знаю, но голос Иоанна Богослова, мечтателя и поэта, люди услыхали и восприняли. Он поверг в ужас мир и, хоть его невозможно было понять, он обратил в христианскую веру множество самых заурядных людей, которые были глухи к высоким евангельским истинам, внушив им страх. Иисус отверз небо спиритуалистам, Иоанн отверз ад и выпустил оттуда смерть на бледном коне, деспотизм с окровавленным мечом, войну и голод, скакавших на лошадином скелете, чтобы испугать чернь, которая спокойно переносила все бедствия рабства, но испугалась, увидав их в языческом обличье. А в наши дни пророки вещают в пустыне, и ни один голос не отвечает им, ибо мир ко всему равнодушен; он глух, он ложится и затыкает себе уши, чтобы умереть в покое. Напрасно иные разбросанные по земле кучки сектантов стараются разжечь в людях искорку добродетели. Последние обломки духовной мощи человека, они всего лишь на несколько мгновений вынырнут над бездной, чтобы потом, вместе с другими обломками, погрузиться на дно этого безбрежного моря, которое зальет весь мир. — О, зачем так отчаиваться, Лелия, в людях, которые стараются в наш железный век возродить добродетель! Если бы я, как вы, сомневался в том, что им это удастся, я не стал бы высказывать этого вслух. Я боялся бы совершить преступление. — Люди эти меня восхищают, — ответила Лелия, — и я хотела бы быть среди них, пусть даже последней Но что могут сделать эти пастыри со звездою на челе перед великим чудовищем Апокалипсиса, передэтой огромной, и страшной фигурой, неизменно главенствующей над всем, что в писаниях своих изображает пророк. Эта женщина, бледная и прекрасная, как преступление, эта великая блудница народов, украшенная драгоценностями Востока, верхом на гидре, изрыгающей потоки яда на всех человеческих путях, — это цивилизация, это человечество, совращенное роскошью и наукой, это ядовитая лавина; она поглотит всякое слово добродетели, всякую надежду на возрождение. — О Лелия, — воскликнул поэт, охваченный суеверным предчувствием. — Не вы ли этот несчастный и страшный призрак? Сколько раз великий ужас овладевал мною в снах! Сколько раз вы являлись мне как олицетворение невыразимых мук, в которые бросает человека его пытливый разум! Не олицетворяли ли вы с вашей красотою и вашей печалью, с вашей скукой и вашим скептицизмом избыток страдания, порожденный чрезмерностью мысли? Не вы ли высвободили, если так можно выразиться, растратили по мелочам, прельстившись новыми впечатлениями, впадая в новые заблуждения, духовную силу, которую столь развили занятия искусством, поэзией и наукой? Вместо того чтобы, вняв голосу благоразумия, по-настоящему привязаться к простодушной вере ваших отцов и к той прирожденной беззаботности, которую господь вложил в человека, для того чтобы он мог насладиться отдыхом и сохранить свои силы; вместо того чтобы жить благочестивой и скромной жизнью, вы предались соблазнам тщеславной философии. Вы окунулись в поток цивилизации, который поднимался, чтобы разрушать, и который слишком быстрым своим бегом смыл едва заложенные основания грядущего. И только потому, что вы на несколько дней отодвинули осуществление того, что творили века, вы считаете, что разбили песочные часы в руках у времени! В вашем страдании много гордости, Лелия! Но господь даст схлынуть этому потоку бурных веков — для него это не более, чем капля воды в море. Ненасытная гидра погибнет без пищи, и из ее трупа, который закроет собою весь мир, явится на свет новая порода людей, более сильных и выносливых, чем мы. — Вы заглядываете далеко вперед, Стенио! Вы олицетворяете для меня природу, а вы ведь ее невинное дитя. Вы еще не пробудили своих способностей, вы считаете себя бессмертным, оттого что чувствуете себя молодым, как эта дикая долина, красивая и гордая в своем цветении, не задумывающаяся над тем, что в один прекрасный день, когда лемех плуга и сторукое чудовище, имя которому промышленность, могут изрыть ее лоно и похитить ее сокровища; вы растете доверчивый и самонадеянный, не видя жизни, которая грядет и которая придавит вас тяжестью своих заблуждений, изуродует вам лицо румянами своих обещаний. Подождите, подождите несколько лет, и вы скажете, как мы: «Все проходит!». — Нет, не все проходит! — воскликнул Стенио. — Взгляните на это солнце, на эту землю, на это чудесное небо, и на эти зеленые холмы, и даже на этот лед, на эти возведенные морозом хрупкие своды, веками противоборствующие лучам летнего солнца. Так вот, слабый человек восторжествует! И значит ли что-нибудь гибель нескольких поколений? Возможно ли, что вы плачете из-за такого пустяка, Лелия. Неужели вы думаете, что хоть одна мысль может умереть во вселенной? Не останется ли это нетленное наследие неприкосновенным под пылью вымерших племен, так же как вдохновенные создания искусства и научных открытий, извлекаемые день ото дня из-под пепла Помпеи или из гробниц Мемфиса? О великое и потрясающее доказательство бессмертия разума! Глубокие тайны были погребены во мраке времен, мир позабыл, сколько ему лет, и, все еще считая себя молодым, испугался, почувствовав себя вдруг таким стариком. Он говорил как вы, Лелия: «Час мой скоро пробьет, ибо я слабею, а я еще так недавно родился на свет! Как же мало времени мне будет нужно, чтобы умереть, раз так мало его понадобилось, чтобы вызвать меня к жизни». Но вот настает день, и трупы людей извлекаются из гробниц Египта, Египта, который пережил эпоху цивилизации и который только что вышел из состояния варварства! Египта, в котором вновь вспыхнуло давно исчезнувшее пламя; отдохнув и набравшись сил, оно скоро, может быть, разгорится в нашем потухшем светильнике. Египет — живое воплощение мумий, проспавших в пыли веков и теперь пробудившихся с расцветом науки, чтобы поведать новому миру возраст старого! Скажите, Лелия, разве это не величественно и не ужасно? В высохших внутренностях трупа пытливый взгляд нашего века отыскивает папирус, таинственный и священный памятник вечного могущества человека, еще темное, но неоспоримое свидетельство очень долгого существования мира. Жадной рукой мы развертываем эти пропитанные благовониями повязки, ветхий и вечный саван, перед которым бессильно разрушение. Этот саван, в который обернуто тело, эти манускрипты, которые покоились под ребрами на том месте, где, может быть, когда-то находилась душа, — это человеческая мысль, выраженная непонятными знаками и переданная с помощью искусства, секрет которого для нас утрачен и вновь обретен в гробницах Востока, искусства спасать мертвые тела от укусов разрушения — самой страшной силы на свете. О Лелия, можно ли отрицать молодость мира, видя, как он наивно и простодушно взирает на уроки прошлого и начинает новую жизнь на позабытых развалинах неведомых ему времен! — Знать еще не значит мочь, — ответила Лелия, — переучиваться не значит идти вперед; видеть не значит жить. Кто вернет нам способность действовать, и прежде всего — искусство наслаждаться жизнью и ее сохранять? Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать назад. То, что было только отдыхом для цивилизаций, которых уже нет, будет смертью для нашей измученной цивилизации; помолодевшие народы Востока будут опьяняться адом, который мы разлили по нашей земле. Отчаянные кутилы, варвары продлят, может быть, на несколько часов роскошную оргию в ночи времен, но яд, который мы им завещаем, будет столь же смертоносен и для них, как для нас, и все канет во мрак!.. Ах, разве вы не видите, Стенио, что солнце уходит от нас? Разве усталая земля в беге своем не клонится заметно к мраку и хаосу? Разве кровь ваша так уж пьяна и молода, что она не ощущает прикосновений холода, который, подобно траурному одеянию, застилает эту планету, покинутую на волю рока, самого могучего из богов? О холод! Этот пронизывающий нас недуг, который острыми иглами вонзается во все поры! Это проклятое дыхание, иссушающее цветы и испепеляющее их, как пламя; этот недуг физический и в то же время духовный, который овладевает душою и телом, который проникает в самые глубины мысли и сковывает дух наш и кровь; холод, этот мрачный демон, опустошающий вселенную своим влажным крылом и несущий чуму оцепеневшим от ужаса народам! Холод, который губит все живое, который накладывает свой дымчато-серый покров на яркие краски неба, на отблески воды, на цветы, на лица девушек! Холод, который окутывает своим белым саваном луга, леса, озера, все — даже мех зверей и оперение птиц! Холод, который обесцвечивает все в мире материальном и в мире духовном: зайца и медведя — где-нибудь возле Архангельска, радости человека, и его характер, и нравы — во всех краях, где бывает зима! Вы отлично видите, что все цивилизуется; это значит, что все охладевает. Народы жаркого пояса начинают недоверчиво и боязливо протягивать руки к ловушкам нашей промышленности, тигры и львы становятся ручными и приходят из южных пустынь, чтобы развлекать северян; животные, которые никогда не могли акклиматизироваться у нас, покинули остывающее солнце своей страны и остались живы и, позабыв свою гордую тоску, снедавшую их в неволе, позволили человеку себя приручить. Повсюду кровь истощается и холодеет, по мере того как инстинкт развивается и растет. Душа становится выше и покидает землю, не могущую удовлетворить ее запросов, чтобы похитить с неба огонь Прометея; но, сбившись с пути во мраке, она останавливается в своем беге и падает — это бог, видя, как она осмелела, простирает длань и заслоняет ей солнце.30. ОДИНОЧЕСТВО
«Вот видите, Тренмор, дитя меня послушало: он оставил меня одну в пустынной долине. Мне здесь хорошо. Тепло. Я нашла приют в заброшенном швейцарском домике, и каждое утро пастухи из соседней долины приносят мне козьего молока и испеченные на костре лепешки. Постель из сухого вереска, плащ вместо одеяла и кое-какая одежда — этого хватит, чтобы прожить неделю или две без особых неудобств. Первые часы, которые я провела там, показались мне самыми прекрасными в жизни, вам ведь я могу все сказать, не правда ли, Тренмор? По мере того как Стенио удалялся, я чувствовала, что тяжесть жизни спадает с моих плеч. Сначала его печаль оттого что он расстается со мной, его противодействие тому, чтобы я осталась в этом уединении, его испуг, его покорность, его слезы без упреков и его ласки без горечи заставили меня раскаяться в моем решении. Когда он спустился вниз с первого уступа Монтевердора, мне хотелось его вернуть, его потерянный вид надрывал мне сердце. Ведь я же его люблю, вы знаете, люблю до глубины души; это чувство, святое, чистое, истинное, не умерло во мне, вы это хорошо знаете, Тренмор; ведь и вас я тоже люблю. Но вас я люблю иначе. У меня нет к вам этого робкого, нежного, почти детского влечения, какое я испытываю к нему, когда он страдает. Вы, вы никогда не страдаете, вы не нуждаетесь в том, чтобы вас так любили! Я сделала ему знак вернуться. Но он был уже слишком далеко. Он решил, что это мой прощальный привет. Он ответил на него и продолжал идти своей дорогой. Тогда я заплакала; я понимала, сколько зла я ему причинила, прогнав его, и я молила бога дабы смягчить это зло, ниспослать ему, как всегда, светлое вдохновение, при котором скорбь становится драгоценной, а слезы — благотворными. Потом я долго еще на него смотрела, когда он черной точкой мелькал в глубине долины, скрываясь то за холмами, то за кучкой деревьев, а потом снова появляясь над водопадом или на краю ложбины, и, видя как он удаляется медлительно и грустно, я переставала жалеть его; мне думалось: он уже восхищается пеной потока и зеленью гор, он уже призывает бога, он уже возносит меня в своих мечтах, уже настраивает лиру своего гения, уже облекает страдание свое в форму, которая расширяет его русло, вместе с тем смягчая его остроту. Почему вам хотелось, чтобы судьба Стенио меня испугала? Сделать меня ответственной за нее, предсказывать мне, что она будет ужасной, жестоко и несправедливо. Стенио гораздо менее несчастен, чем он говорит и чем думает. О, с какой охотой я бы сменила мою участь на его! Сколько у него богатств, которых у меня больше нет! Как он молод, как он велик, как он верит в жизнь! Когда он больше всего жалуется на меня, он всего счастливее, ибо считает меня неким чудовищным исключением. Чем больше он отталкивает мои чувства и борется с ними, тем больше он уповает на свои, тем больше привязывается к ним, тем тверже верит в себя. О, верить в себя! Восхитительное безрассудство самонадеянной молодости! Устраивать самому свою судьбу, с высокомерным презрением глядеть на ленивых путников, которые устало бредут по дороге, и думать, что ринешься к цели, сильный и стремительный, как мысль, что в пути у тебя ни разу не захватит дух, что ты нигде не споткнешься. По неопытности своей принимать желание за твердую волю! Какое счастье, какая неразумная дерзость! Какое бахвальство, какая наивность! Как только он скрылся вдали, я стала спрашивать себя, где же мое страдание, и больше не находила его: мне стало легче, словно я избавилась от угрызений совести; я легла на лужайку и уснула, как узник, с которого сняли кандалы и который пользуется своей свободой, чтобы прежде всего насладиться отдыхом. А потом я снова спустилась по Монтевердору с пустынной его стороны и так, что вершина горы оказалась между мною и Стенио, между одиночеством и человеком, между мечтою и страстью. Все, что вы мне говорили о восхитительном спокойствии, открывавшемся вам после жизненных бурь, все это я ощутила, когда наконец осталась одна, совсем одна между землею и небом. Ни одной души в этом необитаемом просторе, ни одного живого существа ни в горах, ни на небе. Казалось, что уединение это становится суровым и прекрасным, чтобы приобщить меня к себе. Ни малейшего ветерка, ни шороха птичьих крыльев. И тут я вдруг испугалась собственных шагов. Мне стало казаться, что каждая травинка, которую я топчу на ходу, от этого страдает и жалобно просит меня ее не трогать. Я нарушала покой, оскорбляла тишину. Скрестив руки на груди, я остановилась и затаила дыхание. О, если бы смерть была такою, Тренмор! Если бы она была только отдыхом, созерцанием, покоем и тишиною! Если бы все способности, которые даны нам, чтобы радоваться и страдать, вдруг отнялись, если бы у нас осталось только слабое сознание, неуловимое ощущение нашего ничтожества! Если бы можно было сесть так среди неподвижного воздуха, перед унылым и пустынным пейзажем, знать, что ты страдал и больше не будешь страдать, что господь поможет тебе обрести там отдохновение! Но какою будет другая жизнь? Я все никак не могу решить, в какие формы мне бы хотелось ее облечь. До сих пор, в каком бы облике эта жизнь ни являлась мне, она внушает мне только страх или жалость. Так почему же я не перестала ее желать? Что это за неведомое и жгучее желание, которое ни на что не направлено и вместе с тем снедает сердце как страсть? Сердце человека — это бездна страдания, глубину которого люди ни разу не измеряли и никогда не смогут измерить. Я оставалась там до тех пор, пока солнце не зашло, и все это время мне было хорошо. Но когда на небе остались лишь отблески его лучей, все растущее беспокойство охватило природу. Поднялся ветер; казалось, что звезды борются с взрыхленными тучами. Хищные птицы с громкими криками поднялись в воздух. Они искали пристанища для ночлега, их мучила потребность найти его, страх. Они выглядели рабами необходимости, слабости и привычки, как будто то были люди. Беспокойство это по мере приближения почти сказывалось в самых незаметных явлениях. Лазурные бабочки, спавшие на солнце в высокой траве, вихрями взвились в воздух, чтобы скрыться в таинственных убежищах, где их невозможно найти. Зеленые болотные лягушки и кузнечики, звеня своими металлическими крылышками, начали наполнять воздух грустными прерывистыми звуками, приводившими меня в раздражение; даже цветы — и те, казалось, дрожали от влажного дыхания вечера. Одни свертывали листья; они стягивали тычинки, прятали в чашечках лепестки. Другие, те, что влюбляются в часы, когда дует ветер, покровитель этих любовных посланий, открывались, кокетливые, трепещущие, горячие на ощупь, как грудь человека. Все готовились: кто — ко сну, кто — к любви. Я почувствовала, что снова одна. Когда все казалось недвижимым, я могла слиться воедино с этой пустыней и стать частью ее, словно какой-нибудь камень или кустик. Когда я увидела, что все возвращается к жизни, что все тревожится о завтрашнем дне и проявляет желание или заботу, я возмутилась тем, что у меня нет своей воли, своих потребностей, своего страха. Луна взошла. Она была прекрасна. Трава на холмах отливала отблесками, прозрачными как изумруды. Но что значила для меня луна и ее ночные чары? Мне было все равно, будет ли ее бег длиннее или короче, — я ничего не ждала. Никакое сожаление, никакая надежда не примешивалась к этим ночным часам, которые волновали так все земное. У меня не было ничего в пустыне, ничего среди людей, ничего в ночи, ничего в жизни. Я ушла в свою хижину и попыталась уснуть — скорее от тоски, нежели из потребности. Сон — это услада и прелесть для маленьких детей, которым снятся только феи или рай, для птичек, слабеньких и теплых, которые жмутся к мягкой материнской груди. Но для нас, развивших способности свои до крайних пределов, сон потерял свою целомудренную сладость и свою томную глубину. Жизнь теперь устроена так, что лишает нас самого драгоценного свойства ночи — забвения дня. Речь идет не о вас, Тренмор, вы ведь, говоря словами Писания, живете на свете так, как будто и не живете вовсе. Но я в течение всей моей беспорядочной и безудержной жизни поступала так, как другие. Гордому высокомерию души подчинила я все властные потребности тела. Я поступилась всеми дарами жизни, всеми благодеяниями природы. Я обманывала голод вкусной и возбуждающей пищей, я отгоняла сон беспричинным волнением или бесполезной работой. То, сидя при свете лампы, я искала в книгах разгадки великих тайн человеческой жизни. То, брошенная в водоворот нашего века, я с тяжелым сердцем проходила сквозь толпу и, оглядывая печальным взглядом окружающие меня омерзение и пресыщенность, стремилась уловить в напоенном ароматом воздухе ночных празднеств некий звук, некое дуновение, которые бы могли взволновать мою душу. Иногда, блуждая по тихим холодным полям, я вопрошала окутанные туманом звезды и в скорбном упоении своем словно старалась измерить безграничное пространство, отделяющее землю от неба. Сколько раз утро заставало меня во дворце, где гремела музыка, или на лугах, увлажненных росою, или в тишине суровой кельи, — я забывала об отдыхе, об исполнении закона природы, которое наступившая ночь предписывает всем живым существам и которое ничего не значит для тех, кого коснулась цивилизация! В каком нечеловеческом напряжении пребывал мой дух, погнавшийся за какою-нибудь химерой, в то время как мое измученное и ослабевшее тело требовало сна, а я даже не замечала его тревоги. Я вам уже сказала: спиритуализм, преподанный народам сначала как религиозная вера, потом как церковный закон, в конце концов внедрился в наши нравы, привычки и вкусы. Люди обуздали все свои физические потребности, им захотелось поэтизировать аппетиты так же, как чувства. Наслаждение покинуло зеленое ложе лужаек и беседки, увитые виноградной лозой, чтобы усесться на бархатные кресла у заставленных золотою посудой столов. Светская жизнь, изнуряющая тела и возбуждающая умы, умерила доступ солнцу в дома богачей; она зажгла светильники, чтобы было светло, когда они будут пробуждаться, и приучила их бодрствовать в часы, которые природа отводит для сна. Как воспротивиться этой лихорадочной и губительной игре? Как бежать с этой бешеной быстротой и не растратить все силы на половине пути? Я стара, как будто мне тысяча лет. Красота моя, которую все превозносят, всего лишь обманчивая маска, скрывающая измождение и агонию. В пору сильных страстей у нас уже нет никаких страстей, у нас даже нет желаний, разве только одно — покончить с усталостью и улечься простертым в гробу. А я совсем потеряла сон. Увы, это так. Я уже больше не знаю, что это такое. Не знаю, как назвать это мучительное и тяжелое оцепенение, которое охватывает мозг и в течение нескольких ночных часов наполняет его сновидениями и страданиями. Но мой детский сон, чудесный сладостный сон, такой чистый, такой свежий, такой благодатный, сон, который ангел-хранитель оберегает своим крылом, который мать навевает своею песнью ребенку, это целительное успокоение в двойной жизни человека, блаженное тепло, разливающееся по телу, тихое и мерное дыхание, золотая и лазурная пелена, застилающая взгляд, и токи воздуха, которые вместе с дыханием ночи пробегают по волосам ребенка и обвевают его шею, — я потеряла этот сон и никогда его больше не обрету. Горестный и тяжелый бред нависает над моей душой, не знающей, к чему стремиться. Моя горящая грудь вздымается с трудом, она не в силах вобрать в себя тонкие ароматы ночи. Ночь теперь для меня лишь нечто тягостное и душное. В снах моих больше нет того очаровательного, милого смятения, которое способно уложить все самое удивительное в жизни в несколько часов иллюзии. Сны мои до ужаса правдивы; призраки всех моих жизненных разочарований без конца возвращаются ко мне, все более жалкие, все более отвратительные ночь от ночи. Каждый призрак, каждое из этих чудовищ, вызванных кошмаром, — это поразительная по своей прозрачности аллегория, отвечающая какому-нибудь глубокому и тайному страданию моей души. Я вижу, как бегут тени друзей, которых я разлюбила, я слышу тревожные крики тех, кто умер и чья душа бродит в кромешном мраке другого мира. А потом я сама, бледная и измученная, спускаюсь в бездонную пропасть, которая зовется вечностью; бездна эта разъята у самой моей кровати, словно раскрывшаяся гробница. Мне чудится, что я постепенно спускаюсь вниз по ступенькам и жадно ищу глазами в этих безмерных глубинах слабый луч надежды, и единственным факелом, озаряющим мне дорогу, становится свет адского пламени, красный и зловещий, он жжет мне глаза, пробирается в мозг и все неодолимее сбивает меня с пути. Вот каковы мои сны. Это каждый раз борьба разума со страданием и бессилием. Такой сон сокращает жизнь, вместо того чтобы ее продлевать. На него тратится уйма энергии. Робкая мысль, всегда более беспорядочная, более причудливая, становится тоже ожесточеннее и тяжелее. Ощущения рождаются неожиданно, резкие, страшные и душераздирающие, будто вызванные реальной жизнью. Вы можете судить об этом, Тренмор, по тому впечатлению, которое у вас остается от драматического воплощения какой-нибудь страсти, искусно разыгранного на сцене. Во сне душа присутствует на самых ужасных зрелищах и не может отличить иллюзии от жизни. Тело корчится в судорогах, дрожит от ощущения безмерного ужаса и страдания, а разум не сознает своего заблуждения и не помогает, как в театре, набраться сил, чтобы все выдержать до конца. Просыпаешься весь в поту и в слезах, охваченный тупым оцепенением, и усталость от этих бессмысленных и бесполезных усилий длится потом целый день. Есть сны еще более тяжелые. Это когда кажется, что ты осуждена решать какую-то неразрешимую задачу, выполнить несуществующую работу, например, считать, сколько листьев в лесу, или бежать легко и стремительно как ветер; с быстротою мысли нестись по долинам, по морям и горам, чтобы нагнать какое-то смутное, неуловимое видение, которое всегда опережает нас и, меняя свое обличье, всегда увлекает нас за собою. Не снился ли вам такой сон, Тренмор, в ту пору, когда в жизни у вас бывали еще желания и когда вы верили в химеры? О, как часто возвращается ко мне это видение! Как оно зовет меня, как манит! Порой оно принимает облик нежной и бледной девушки, которая была подругой моей и сестрой на заре моей жизни и которая оказалась более счастливой и умерла в расцвете молодости, в расцвете иллюзий. Она зовет меня следовать за собой в страну отдыха и покоя. Я пытаюсь пойти за ней. Но это какое-то воздушное создание, ветер уносит его, и оно покидает меня, растаявши в облаках. А я все бегу и бегу: я увидела, как за туманными берегами воображаемого моря поднялся еще один призрак, я приняла его за первый и так же стремительно за ним гонюсь. Но когда он оборачивается, то оказывается, что это какое-то отвратительное существо, злой дух, который издевается надо мной, что это окровавленный труп, новый соблазн или новое угрызение совести. А я все бегу, ибо какая-то роковая сила влечет меня к этому Протею, — он никогда не останавливается, иногда он как будто сливается вдали с огненным потоком на горизонте и вдруг появляется из-под земли, чтобы заставить меня бежать за ним, но уже куда-то в другую сторону. Увы! Сколько вселенных обежала я в этих странствиях души! Я пробегала по убеленным снегом степям холодных стран, мимолетным взглядом озирала я душистые саванны, озаренные бледной, прекрасной луной. На крыльях сна я касалась огромных морей, таких необъятных, что становится страшно. Я опережала самые быстроходные корабли и самых стремительных ласточек. На протяжении часа видела я, как солнце всходило у берегов Греции и заходило за голубыми горами Нового Света. Под ногами у меня расстилались народы и империи. Я могла вблизи разглядеть огненные лики светил, блуждающих по воздушным пустыням в далеких небесных просторах. Я встречала испуганные тени, рассеянные порывами ночного ветра. Каких только сокровищ воображения, каких только поразительных богатств природы не изведала я в этих быстротечных сновидениях? И зачем мне было путешествовать наяву? Видела ли я хоть что-нибудь, что походило бы на мои фантазии? О, какой бледной казалась мне земля, каким тусклым небо, каким тесным море в сравнении с землями, небесами и морями, которые я узнала за время этих полетов духа. Остаются ли в реальной жизни хоть какие-нибудь красоты, чтобы чаровать нас, а в человеческой душе — способности радоваться и восхищаться, когда воображение, не щадившее нас, растратило все заранее? Сны эти были, однако, изображением жизни. Они являли ее мне затемненную чрезмерной яркостью неестественного света; так события грядущего и мировой истории выглядят темными и полными ужаса в священной поэзии пророков. Пролетая вслед за тенью подводные скалы, пустыни, проходя сквозь все очарования и все пропасти жизни, я все видела и не в силах была остановиться. Я восхищалась всем по пути, но насладиться ничем не могла. Я столкнулась со всеми опасностями, и ни одна из них не погубила меня: меня все время оберегала все та же роковая сила, которая уносит меня в своем вихре и отделяет глухой стеной от вселенной, которую она распластывает у моих ног. Вот тот сон, который мы создаем себе сами. Дни уходят на то, чтобы отдыхать от ночей. У меня нет больше сил. Часы, когда все живое деятельно, находят нас погруженными в апатию, полумертвыми, ожидающими вечера, чтобы пробудиться ото сна, и ночи, чтобы растратить в пустых сновидениях всю скудную силу, какую мы скопили в течение дня. Так годами протекает моя жизнь. Вся моя душевная энергия себя пожирает и гибнет оттого, что направлена она на самое себя; в результате она только изнуряет и губит тело. На этом ложе из вереска я спала отнюдь не спокойнее, чем на моей атласной постели. Только я не слыхала боя церковных часов и могла поэтому вообразить, что эта смешанная с обрывками сна бессонница отняла у меня один долгий час, а не целую ночь. В наших жилищах над нами, мне кажется, тяготеет несчастье. Это необходимость постоянно знать, в котором часу мы живем. Напрасно мы стали бы пытаться освободиться от этого чувства. Нам об этом напоминает весь распорядок дня окружающих нас людей. А ночью, в тишине, когда все спит и когда забвение словно парит над всеми живущими, печальный бой часов безжалостно отсчитывает шаги, сделанные вами в сторону вечности, и число мгновений, которые прошлое, отнимая у вас, поглощает невозвратимо. Как торжественны и спокойны эти голоса времени, которые нарастают, словно предсмертные крики, и бесстрастно отдаются в гулких стенах домов, где уснули живые, или на кладбище, над могилами, которым неведомо эхо! Как они волнуют вас и как заставляют дрожать от испуга и гнева в вашей жгучей постели! «Еще один! — говорила я себе часто. — Еще одна частица моей жизни отрывается от меня! Еще один луч надежды, который гаснет! Еще часы! Еще и еще потерянные часы, низвергнутые в бездну прошлого, а тот час, когда я могла бы почувствовать, что живу, так и не настает!» Вчера я весь день была в подавленном состоянии. Я ни о чем не думала. Должно быть, я весь день отдыхала; но я даже не заметила, что отдыхаю. А раз так, то нужен ли этот отдых? Вечером я решила не спать и употребить силу, которую душа находит в себе для того, чтобы выдержать натиск снов, — на то, чтобы, как в былые дни, устремиться к какой-то мысли. Давно уже я перестала бороться и со сном и с бессонницей. В эту ночь мне захотелось снова вступить в борьбу, и, коль скоро материя не может погасить во мне духа, сделать по крайней мере так, чтобы дух укротил материю. Ну так вот, мне это не удалось. Побежденная тем и другим, я провела ночь сидя на скале; у ног моих был ледник, при свете луны сверкавший как алмазный дворец из «Тысячи и одной ночи», над головой у меня — чистое и холодное небо, на котором блестели звезды, большие и белые, как серебряные блестки на саване. Пустыня эта действительно очень хороша, и поэт Стенио в эту ночь дрожал бы от поэтического экстаза! Но я, увы, чувствовала, что во мне поднимаются только негодование и ропот; эта мертвенная тишина ложилась мне на душу и казалась оскорбительной. Я спрашивала себя, к чему мне душа, любопытная, жадная, беспокойная, которая никак не хочет остаться здесь и все время стучится в это знойное небо, которое никогда не открывается взгляду, никогда не отвечает ни слова, чтобы поддержать в ней надежду! Да, я ненавидела эту сияющую великолепием природу, ибо она высилась там предо мной, как глупая красавица, которая в гордом молчании встречает взгляды мужчин, считая, что с нее ничего не требуют, что ее дело только красоваться. Потом мною овладела снова безотрадная мысль: «Когда я буду знать, я буду еще более жалкой, ибо я уже ничего не смогу». И вместо того чтобы предаться беспечности философа, я впала в тоску от сознания того ничтожества, к которому привела меня жизнь».31
«Итак, Тренмор, я покидаю пустыню. Я иду куда глаза глядят искать движения и шума среди людей. Я не знаю, куда я пойду. Стенио смирился с тем, чтобы прожить месяц в разлуке со мной; проведу я этот месяц здесь или где-нибудь в другом месте, ему все равно. Мне же хочется решить для себя один вопрос: узнать, так же ли плохо мне будет жить на земле с любовью, как я жила без любви Когда я полюбила Стенио, я думала, что чувство теперь перенесет меня через тот рубеж, у которого оно меня покинуло. Я была так горда верой в то, что во мне еще остались молодость и любовь!.. Но все это стало теперь для меня сомнительным и я уже сама больше не знаю ни что я чувствую, ни что я такое. Я стремилась к одиночеству, чтобы собраться с мыслями, чтобы спросить себя обо всем. Ибо пустить свою жизнь так, без руля и без ветрил, по ровному, унылому морю — это значит самым постыдным образом ее погубить. Лучше уж буря, лучше громы и молнии: ты по крайней мере видишь себя, чувствуешь, что погибаешь. Но для меня одиночество — всюду, и сущее безумие искать его в пустыне больше, чем в каком-либо другом месте. Только там оно более спокойное, более тихое. Это меня и убивает! Мне кажется, я открыла, что меня может еще поддержать в этой жизни, полной разочарований и горькой усталости. Это страдание. Страдание возбуждает, воодушевляет, оно раздражает нервы: оно отторгает от сердца кровь, оно сокращает нам агонию. Это жестокое, страшное потрясение, которое отрывает нас от земли и дает нам силу подняться к небу, проклинать и кричать. Умирать в летаргии — это не умирать и не жить, это значит потерять все, чего ты достигла, это значит не изведать всех наслаждений, которые предшествуют смерти. Здесь все способности засыпают. Для больного тела, в котором душа по-прежнему молода и сильна, живительный воздух, деревенская жизнь, отсутствие сильных ощущений, долгие часы, отведенные отдыху, скромная пища были бы сущим благодеянием. Но у меня именно душа делает тело слабым, и пока она будет страдать, тело будет гибнуть, сколь бы ни были спасительны влияние воздуха и растительной жизни. Да, в настоящее время уединение это меня тяготит. Странное дело! Я так его любила и больше не люблю! О, это ужасно, Тренмор! Когда вся земля обманывала мои ожидания, я удалялась к богу. Я призывала его в тишине полей. Мне было радостно оставаться там, чтобы дни и даже целые месяцы отдаваться мысли о лучшем будущем. Сейчас я настолько истерзана, что даже надежда не может меня поддержать. Я еще верю, потому что желаю, но это будущее так далеко, а этой жизни я не вижу конца. Как! Неужели невозможно привязаться к ней и находить в ней удовольствие! Неужели все безвозвратно потеряно? Есть дни, когда я верю, что это действительно так: дни эти отнюдь не самые страшные; в эти дни я чувствую себя уничтоженной. Отчаяние тогда не терзает меня, небытие не кажется страшным. Но в дни, когда с теплым дуновением ветерка вместе с чистыми утренними лучами во мне пробуждается стремление жить, нет существа несчастней, чем я. Ужас, тревога, сомнение гложут меня. Куда бежать? Где укрыться? Как освободиться от этого мрамора, который, по прекрасному выражению поэта, «доходит до колен» и держит меня скованной, как мертвеца в могиле. Что же? Будем страдать. Это лучше, чем спать. В этой спокойной и безмолвной пустыне страдание притупляется, сердце становится беднее. Бог, один только бог, — этого или слишком много, или слишком мало! Жизнь общества так полна волнений, что это недостаточная награда, не то утешение, которое нам нужно. Когда ты один, эта мысль непомерно растет. Она подавляет, приводит в ужас, порождает сомнение. Сомнение закрадывается в душу, предавшуюся раздумью; на душу, которая страдает, нисходит вера. К тому же я ведь привыкла к моему страданию. Оно было мне жизнью, подругой, сестрой, жестокое, неумолимое, безжалостное, но гордое, но упорное, но всегда сопровождаемое стоической решимостью и суровыми советами. Вернись же ко мне, мое страдание! Почему ты меня покинуло? Раз уж у меня не может быть другой подруги, чем ты, я по крайней мере не хочу потерять и тебя. Разве не ты мне досталось в наследство и не ты — мой жребий? Человек велик только тобой. Если бы он мог быть счастлив в современном мире, если бы он мог спокойным и ясным взглядом взирать на всю мерзость окружающих его людей, он был бы ничуть не выше этой тупой и подлой толпы, которая опьяняется преступлением и спит в грязи. Это ты, о великое страдание, напоминаешь нам о нашем достоинстве, заставляешь нас оплакивать заблуждения человека! Это ты отделяешь нас от других и вручаешь нас, как овец в пустыне, руководству небесного пастыря, который смотрит на нас, нас жалеет и, быть может, нам принесет утешение. О, человек, который не страдал, ничего не стоит! Это несовершенное существо, бесполезная сила, грубый и никуда не годный материал, который резец мастера может легко расколоть, пытаясь придать ему какую-то форму. Вот почему я уважаю Стенио меньше, чем тебя, Тренмор, хотя у Стенио нет никаких пороков, а у тебя они были все. Но тебя, твердая сталь, господь выплавил в огненной печи; сто раз размяв тебя, он сделал из тебя металл, прочный и драгоценный. А что же станется со мной? Если бы я могла подняться так же высоко, как ты, и стать сильнее, чем все земное зло и все блага земные!»32
Лелия спустилась с гор и с помощью нескольких золотых монет, которые она раздала по дороге, быстро добралась до ближайших долин. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она спала на вереске Монтевердора, и вот она уже с поистине королевской роскошью жила в одном из тех прекрасных городов нижнего плато, которые соперничают друг с другом своим богатством и все еще видят расцвет искусства на земле, его породившей. Лелия надеялась, что, подобно Тренмору, который на каторге помолодел и окреп, она сможет набраться мужества и вернуться к жизни, окруженная светским обществом, которое было ей ненавистно, и всеми развлечениями, приводившими ее в ужас. Она решила победить себя, укротить порывы своей дикой натуры, кинуться в поток жизни, на какое-то время принизить себя, заглушить свою боль, чтобы увидеть вблизи всю эту омерзительную клоаку и примириться с собой, сравнивая себя с другими. У Лелии не было никакого сочувствия к людям, хоть она сама и мучилась от тех же зол и как бы вобрала в себя все страдания, рассеянные на земле. Но человечество было слепо и глухо: хоть оно и чувствовало свои несчастья и унижения, оно отнюдь не хотело себе в них признаться. Одни, лицемерные и тщеславные, прикрывали язвы на своем теле и свою истощенность блеском бессодержательной поэзии. Они краснели, видя, что так стары и бедны рядом с поколением, старость и бедность которого они не замечали; и для того, чтобы выглядеть не старше тех, кого они считали молодыми, пускались на ложь, приукрашивали все свои мысли, отказывались от всяких чувств вообще: одряхлевшие с младенческого возраста, они еще смели хвастаться своей невинностью и простотой! Иные, менее бесстыдные, поддавались веянию времени: медлительные и слабые, они шли в ногу с обществом, не зная зачем, не спрашивая себя, где причина и где цель. По натуре своей они были слишком посредственны, чтобы особенно тревожиться по поводу своей скуки; мелкие и слабые, они покорно хирели. Они не спрашивали себя, смогут ли они найти помощь в добродетели или в пороке; они были ниже и того и другого. Без веры, без атеизма, просветившиеся ровно настолько, чтобы потерять всю благодетельную силу неведения, невежественные настолько, чтобы все подчинять строгим системам, они способны были установить, из каких фактов состоит материальная история мира, но им и в голову не приходило изучить мир духовный или прочесть историю в сердце человека; их удерживало предубеждение, непреодолимое и тупое; это были люди одного дня, рассуждавшие о прошедших и грядущих веках, не замечая, что все они сами скроены на один образец и что, собравшись вместе, они могли бы усесться на одну школьную скамью и учить один и тот же урок. Другие — их было не много, но они, однако, представляли собой немалую силу в обществе — прошли сквозь отравленную атмосферу веков, не потеряв при этом ни крупицы своей изначальной силы. Это были люди исключительные по сравнению с толпой. Но все они были похожи друг на друга. Тщеславие, единственная движущая сила эпохи безверия, уничтожало своеобычное мужество каждого из них, чтобы смешать их всех в одном типе грубой и заурядной красоты. Но это еще были железные люди средневековья: у них были крепкие мышцы, сильные руки, они жаждали славы и любили кровопролития, как будто имя им было арманьяки и бургиньоны. Однако этим могучим натурам, которые природа производит на свет еще и сейчас, недоставало пыла героики. Все, что рождавшего и питает, умерло: любовь, братство по оружию, ненависть, семейная гордость, фанатизм, все присущие человеку страсти, которые придают силу характерам, личный отпечаток поступкам. Этих суровых храбрецов к действию побуждали только иллюзии молодости, которые легко было разрушить за два дня, и мужское тщеславие, это назойливое, подлое и жалкое детище цивилизации. Лелия, омраченная, опечаленная своей умственной деградацией, единственная, может быть, из всех достаточно внимательная, чтобы ее заметить, достаточно искренняя, чтобы ее признать, Лелия, оплакивающая свои угасшие страсти и свои потерянные иллюзии, проходила меж людей, не ища в них жалости и не находя любви. Она хорошо знала, что эти люди, несмотря на всю их чрезмерную и жалкую суету, были не деятельнее, не живее, чем она. Но она знала также, что они либо нагло отрицали это, либо по глупости своей этого не знали. Она присутствовала при агонии человеческого рода, похожая на пророка, сидевшего на горе и оплакивавшего Иерусалим, богатый и распутный город, расстилавшийся у его ног.33. НА ВИЛЛЕ БАМБУЧЧИ
Самый богатый из мелких владетельных принцев давал бал. Лелия появилась на нем, вся сверкая драгоценностями, но печальная среди блеска своих бриллиантов и далеко не такая счастливая, как последняя из разбогатевших мещанок, которые разгуливают, гордясь своим мишурным нарядом. Для нее не существовало этих простодушных женских утех. Она проходила мимо, вся в бархате и затканном золотом атласе, увешенная драгоценными камнями, в шляпе с длинными и гибкими воздушными перьями, ни разу даже не взглянув на себя в зеркало с тем наивным тщеславием, в котором воплощаются все радости слабого пола, остающегося ребенком даже и увядая. Она не играла бриллиантовыми нитями, чтобы выставить напоказ свою тонкую белую руку. Она не ласкала свои нежные локоны. Вряд ли она даже помнила, какие цвета она носит и в какую материю одета. Безучастную ко всему, бледнолицую и холодную, роскошно одетую, ее легко можно было принять за одну из тех алебастровых мадонн, которых благочестивые итальянки наряжают в шелка и бархат. Лелия была равнодушна к своей красоте и к своему наряду, как мраморная божья матерь равнодушна к своему золотому венцу и своему газовому покрывалу. Она словно не замечала устремленных на нее взглядов. Она слишком презирала всех этих людей, чтобы гордиться их похвалами. Зачем же тогда она явилась на этот бал? Она пришла посмотреть на него как на зрелище. Эти огромные живые картины, с большим или меньшим уменьем и вкусом вставленные в рамки празднества, были для нее произведением искусства, которое она могла разглядывать, критиковать или хвалить по частям и в целом. Она не понимала, как в стране с противным холодным климатом, где люди скучены в тесных и некрасивых жилищах, как тюки с товарами на каком-нибудь складе, можно было хвастать изяществом и роскошью. Она думала, что эти народы вообще не знают, что такое искусство. Ей внушали жалость так называемые балы в этих мрачных тесных залах, где потолок давит на женские прически, где, для того чтобы уберечь от ночного холода голые плечи, вместо свежего воздуха в комнатах создается едкая лихорадочная атмосфера, в которой кружится голова и становится трудно дышать; где делают вид, что движутся и танцуют на узком пространстве, отгороженном двумя рядами сидящих зрителей, которым с трудом удается уберечь свои ноги от вальсирующих пар и платья свои от пламени свеч. Она была из тех капризных натур, которые любят роскошь только в больших масштабах и не приемлют никакой середины между скромным счастьем человека, живущего духовной жизнью, и расточительной помпезностью высших слоев. Кроме того, она считала, что понимать великолепие и пышность жизни — привилегия южных народов. Она утверждала, что у народов, занятых промышленностью и торговлей, нет ни вкуса, ни чувства прекрасного и что формы и краски надо искать именно у этих древних народов юга, ибо хоть в настоящее время им и недостает энергии, они зато хранят традиции прошлого, которые находят себе выражение в их мыслях и в жизни. В самом деле, ничто так не далеко от подлинной красоты, как плохо обставленное празднество. Тут необходимо соединить столько трудно совместимых вещей, что за целое столетие вряд ли выдадутся два таких празднества, которые могли бы удовлетворить художника. Для этого нужны соответственный климат, местность, обстановка, музыка, угощения и костюмы Нужна итальянская или испанская ночь, темная и безлунная, ибо сияющая на небе луна повергает людей в томительное и грустное настроение, которое отражается на всех их чувствах; нужна ночь свежая и прохладная, чтобы звезды только едва сверкали из-за облаков, не перебивая огней иллюминации. Нужны огромные сады, чтобы пьянящие ароматы цветов проникали в комнаты. Запахи апельсиновых деревьев и константинопольской розы особенно способствуютвозбуждению сердца и мозга. Нужны легкие блюда, тонкие вина, фрукты всех стран и цветы всех времен года. Нужны в изобилии всякого рода редкие, с трудом находимые вещи, ибо праздник должен стать осуществлением самых капризных желаний, квинтэссенцией самых необузданных фантазий. Прежде чем устраивать праздник, надо проникнуться одним — тем, что человек богатый и цивилизованный находит удовлетворение лишь в надежде на невозможное. А раз так, то надо приближаться к этому невозможному, насколько это в человеческих силах. Бамбуччи был человеком со вкусом — самое замечательное и необычайно редкое качество для человека богатого. Единственная добродетель, которая должна быть у этих людей — это умение достойно тратить деньги. Если они умеют это делать, с них больше уже ничего не требуют; но чаще всего они не бывают на высоте своего признания и живут буржуазной жизнью, не отказываясь от гордости, присущей их классу. Бамбуччи лучше всех на свете умел купить самую дорогую лошадь, женщину или картину, не торгуясь и не позволяя себя обмануть. Он знал цену всему с точностью до одного цехина. Глаз у него был наметан, как у судебного пристава или у торговца невольниками. Обоняние его было настолько развито, что, понюхав вино, он мог сказать не только на каких широтах и в какой именно местности рос виноград, но и под каким углом к солнцу расположен склон, на котором он вырос. Никакими ухищрениями, никаким чудом искусства, никаким кокетством нельзя было заставить его ошибиться, даже на полгода, определяя возраст актрисы: ему достаточно было посмотреть, как она идет по сцене, чтобы в точности определить год ее рождения. Стоило ему посмотреть, как лошадь пробегает расстояние в сто шагов, как он уже мог определить у нее на ноге опухоль, незаметную для пальцев ветеринара. Стоило ему пощупать шерсть охотничьей собаки, и он мог сказать, в каком поколении предки ее перестали быть чистокровными. Глядя на картину флорентийской или фламандской школы, он мог сказать, сколько мазков наложил маэстро. Словом, это был человек весьма примечательный и настолько уже всеми признанный, что у него самого на этот счет никаких сомнений не могло быть. Последний праздник, который он у себя устроил, немало способствовал поддержанию этой высокой репутации. Большие алебастровые вазы, расставленные в залах, на лестнице и в галереях его дворца, были наполнены экзотическими цветами, названия, формы и запахи которых были большинству гостей незнакомы. Он позаботился о том, чтобы на балу присутствовали десятка два людей сведущих, и поручил им быть своего рода чичероне для новичков и просто и ясно объяснять назначение и цену вещей, которые тех восхищали. Фасад и боковые крылья виллы сверкали огнями. Сад же был освещен лишь отблесками света из окон. Удаляясь от дома, можно было постепенно погрузиться в теплый таинственный мрак и отдохнуть от движения и шума среди густой листвы, куда долетали нежные и далекие звуки оркестра; и только по временам их заглушали напоенные ароматом порывы ветра. Зеленые бархатные ковры были раскинуты и словно позабыты на газонах, и можно было сидеть на них и не измять платья; а кое-где к веткам деревьев были подвешены колокольчики тонкого и чистого тембра и при малейшем дуновение ветерка наполняли окружавшую листву едва слышными звуками, которые можно было принять за голоса сильфов, разбуженных шорохами цветов, в которых они укрывались. Бамбуччи знал, как важно для того, чтобы возбудить сладострастие в истерзанных душах, избегать всего, что может сколько-нибудь утомить чувства. Вот почему свет в комнатах был не слишком ярок и щадил чувствительные глаза. Музыка была нежной, и в ней не звучала медь. Танцы были медлительны и чинны. Молодым людям не разрешалось составлять много кадрилей Ибо в убеждении, что человек не знает, ни чего он хочет, ни чего ему нужно, философ по натуре, Бамбуччи всюду разместил распорядителей торжества, которые следили за тем, как развлекался и отдыхал каждый гость. Эти люди, опытные наблюдатели и глубокие скептики, умели умерить пыл одних, чтобы он чересчур скоро не иссяк, и возбуждали ленивцев, чтобы те не слишком медленно приобщались к веселью. Они читали во взглядах близившееся пресыщение и находили возможность предупредить его, склоняя вас к перемене места или способа развлечения. Они угадывали также по вашей беспокойной походке, по вашим торопливым движениям, что в вас зародилась новая страсть или возросла старая; и когда они предвидели, что последствия ее могут быть неприятны, они умели вовремя ее пресечь, либо напоив вас допьяна, либо выдумав какую-нибудь правдоподобную историю, которая отвратила бы вас от ваших стремлений. Если же им случалось видеть актеров, искушенных в ведении интриги, они не жалели ничего, чтобы помочь завязать и поддержать отношения, которые помогли бы приятно провести время хорошо подобранной паре. К тому же сердечные дела, которые завязывались там, были исключительно благородны и прямодушны. Будучи человеком со вкусом, Бамбуччи обходился на своих балах без политики, карточной игры и дипломатии. Он считал, что обсуждать у себя во время бала государственные дела, замышлять заговоры, разоряться или заключать торгашеские сделки может только человек дурного тона. Эпикуреец Бамбуччи по-настоящему знал толк в жизни. Когда он развлекался, никакие крики толпы, никакие шепоты его подчиненных не могли долетать до его ушей. На празднествах его не было места ни одному назойливому советчику, ни одному заговорщику. Он хотел, чтобы в них принимали участие только люди любезные, люди искусства, как говорят теперь, модные дамы, учтивые кавалеры, много молодежи, несколько некрасивых женщин — только для того, чтобы красавицы выглядели при них еще красивее, — и ровно столько людей смешных, сколько требовалось, чтобы развлечь остальное общество. Итак, гости по большей части были того возраста, когда у людей еще сохраняются кое-какие иллюзии, и принадлежали к тем средним слоям общества, у представителей которых достаточно вкуса, чтобы рукоплескать, и недостаточно богатства, чтобы держаться высокомерно. Они исполняли как бы роль хора в опере, они были частью спектакля, частью, необходимой, как декорации или ужин. Простодушные горожане даже и не подозревали об этом, но в действительности они выполняли в салоне Бамбуччи роль статистов. В качестве участников спектакля они получали свою долю удовольствия от праздника, но никто не выказывал им никакого почтения. Почтение это доставалось только очень немногим избранным, нескольким эпикурейцам, которых князю приятно было ослеплять своим блеском и очаровывать. Те действительно были настоящими гостями, судьями, друзьями, которых старались занять; вся эта шумная и нарядная толпа, которая проходила у них перед глазами, напрягала все силы, будучи уверена, что приглашают ее ради нее самой, — вот как изумительно разграничивал людей князь Бамбуччи! Большая часть этих избранников могла соперничать в роскоши и в искусстве с самим амфитрионом. Бамбуччи отлично знал, что имеет дело не с детьми; поэтому он почитал за высокую честь побеждать их всевозможными изощренными выдумками. Если, например, у маркиза Панорио стояли вазы из позолоченного серебра, то Бамбуччи расставлял у себя на столах посуду из чистого золота. Если жена еврея Пандольфи появлялась в бриллиантовой диадеме, то Бамбуччи украшал бриллиантами даже туфли своей любовницы; если одежда пажей герцога Альмири была расшита золотом, то ливреи лакеев в доме Бамбуччи расшивались жемчугом. Достойное и трогательное соревнование между просвещенными властителями высокоразвитых наций! Не будем, однако, преувеличивать. Задача, предпринятая князем, была не из легких: это было делом серьезным. Он обдумывал его не одну ночь, прежде чем за него взяться. Главное, надо было превзойти всех этих достойных соперников богатством и умом. Наряду с этим надо было до такой степени их опьянить наслаждением, чтобы, позабыв о понесенных ими поражениях и о поверженной гордости, они бы откровенно в этом признались. Ну что же, трудность этого предприятия нисколько не смутила Бамбуччи, человека с неимоверно развитым воображением. Он очень рьяно взялся за дело, убежденный в том, что победа будет за ним, уверенный в своих средствах и в помощи небес, которых он еще за девять дней умолил с помощью своего капеллана не посылать в эту знаменательную ночь на землю дождя. Среди всех этих выдающихся личностей, развлекать которых должна была вся провинция, иностранка Лелия занимала первое место. Будучи очень богатой, она всюду, куда ни приезжала, неожиданно находила родственников и друзей, и все ей оказывали великое уважение. Славившаяся своей красотой, своим большим богатством и своевольным характером, она возбуждала большой интерес в князе и его приближенных. Сначала ее ввели в одну из сверкающих зал — здесь начинался тот блеск, который в последующих должен был стать ослепительным. Распорядителям бала было поручено незаметно задерживать здесь вновь прибывших и некоторое время занимать. Одновременно с Лелией прибыл молодой греческий принц Паоладжи, и распорядители решили, что лучше всего-будет оставить этих двух высокопоставленных лиц вместе среди толпы людей менее богатых и менее знатных, которые были приглашены сюда для того, чтобы заполнить промежутки между колоннами и свободное пространство мозаичного пола. У этого греческого принца был самый красивый профиль, какой когда-либо создавала античная скульптура. Он был темнокож, как Отелло, оттого что в роду его была мавританская кровь; черные глаза его блестели диким блеском. Он был строен, как восточная пальма. Казалось, что в нем есть что-то от кедра, от арабского коня, от бедуина и от газели. Женщины сходили по нем с ума. Он сразу же подошел к Лелии и галантно поцеловал ей руку, хоть и видел ее впервые. Это был большой оригинал; женщины прощали ему многие его чудачества, памятуя о том, что в жилах у него течет горячая азиатская кровь. Он был не слишком разговорчив, но его звучный голос, поэтичность его речи, проницательный взгляд и вдохновенное лицо производили такое впечатление, что Лелия смотрела на него минут пять как на некое чудо. Потом она стала думать о другом. Когда вошел граф Асканио, распорядители пошли предупредить Бамбуччи. Асканио был счастливейшим из людей: ничто его не могло смутить, все его любили, и он любил всех на свете. Лелия, знавшая тайну его человеколюбия, взирала на него всегда с ужасом. Как только она его увидела, лицо ее омрачилось такой темной тенью, что испуганные распорядители кинулись за самим хозяином дома. — Так вот отчего вы в затруднении! — тихо сказал им Бамбуччи, окинув Лелию своим орлиным взглядом. — Не понимаете вы разве, что любезнейший из мужчин невыносим для самой скучной из женщин? Что сталось бы с достоинством, с талантом, с величием Лелии, если бы Асканио удалось оказаться правым? Что ей было бы делать, если бы он доказал ей, что в мире все хорошо? Знайте же, несообразительные люди, какое это счастье для иных, что мир полон ненормальностей и пороков. И поторопитесь освободить Лелию от этого прелестного эпикурейца, ибо он не понимает, что легче убить Лелию, чем ее утешить. Распорядители стали деликатно просить Асканио отогнать грусть, которая тенью легла на красивое лицо Паоладжи. Асканио, убедившись, что он понадобился, начал торжествовать. Это был жестокий человек, живший только мучениями других; всю жизнь он любил доказывать людям, что они счастливы, чтобы только не уделять им внимания, а когда он лишал их сладостной уверенности в том, что они что-то значат, они ненавидели его больше, чем если бы он отрубал, им головы. Бамбуччи предложил Лелии руку и провел ее в египетскую залу. Гостья восхитилась ее убранством, вежливо сделала несколько критических замечаний по поводу стиля и, к несказанной радости умудренного опытом Бамбуччи, заявила, что такого она никогда в жизни не видела. В эту минуту Паоладжи, отделавшийся от счастливца Асканио, снова появился перед Лелией. Он переоделся в старинный костюм. Прислонившийся к яшмовому сфинксу, он был самой примечательной фигурой на картине, и, глядя на него, Лелия не могла не испытать того же чувства восхищения, какое в ней вызвала бы великолепная статуя или красивый пейзаж. Когда она без всякой задней мысли поделилась своими впечатлениями с Бамбуччи, тот возгордился, как отец, которому похвалили сына. И отнюдь не потому, что он питал какие-то чувства к греческому принцу: просто молодой принц был красив, роскошно одет, и фигура его очень подходила к убранству египетской залы; для Бамбуччи он был чем-то вроде драгоценной мебели, взятой напрокат на один вечер. И он принялся расхваливать своего греческого принца, но так как, несмотря на все превосходство перед. другими, человеку, внимание которого поглощено праздничной сутолокой, очень легко бывает что-то недосмотреть, он невольно взглянул на статую Озириса, и на минуту, на его несчастье, две аналогичные мысли скрестились в его мозгу, и он уже был не в силах в них разобраться. — Да, — сказал он, — это прекрасная статуя… я хочу сказать, что это очень благородный молодой человек. Он говорит по-китайски так же свободно, как по-французски, а по-французски так же свободно, как по-арабски. Сердолики, которые вы видите у него в ушах, большая драгоценность, так же как инкрустированные малахиты на его башмаках… К тому же это горячая голова, мозг, в котором солнце выжгло свою печать… Это голова, с которой ни у кого нет слепка, я заплатил за нее тысячу экю одному из английских воров, тех, что обкрадывают Египет… Читали вы его стихи к Делии, его сонеты к Саморе, написанные в манере Петрарки?.. Не берусь категорически утверждать, что туловище у него подлинное, но яшма так похожа на настоящую и пропорции так верно соблюдены, что… Обнаружив свою ошибку, Бамбуччи замолк. Но стоило ему повернуться к Лелии, как он сразу воспрянул духом: он увидел, что та совсем его не слушает.34. ПУЛЬХЕРИЯ
Все гости столпились в мавританской зале, и распорядители торжества не могли сдержать поднявшуюся суматоху. Один молодой человек был убежден, что узнал под небесно-голубым домино Цинцолину — знаменитую куртизанку, которая вот уже год как куда-то таинственно исчезла. Каждому хотелось проверить, правда ли это: те, кто не знал ее, почитали за честь увидать столь прославленную особу; те, кто ее уже видел раньше, хотели увидеть ее еще раз. Но голубое домино, словно легкий и неуловимый призрак, очень ловко скрывалось, чтобы снова появиться в какой-нибудь другой зале, где толпа тут же снова его окружала. Каждое голубое домино преследовали и расспрашивали, и когда решали, что нашли ту, которую ищут, весь дворец оглашался радостными криками. Но беглянка ускользала вновь, прежде чем можно было установить, действительно ли это Цинцолина скрывается под шелковым капюшоном и под бархатной маской. В конце концов таинственное домино выбежало в сад; тогда все толпой хлынули за ней; поднялась неимоверная сутолока; гости разбрелись по боскетам. Влюбленные пары воспользовались этим, чтобы ускользнуть от глаз ревнивцев Из пустых и гулких комнат по-прежнему доносились звуки оркестра. Некрасивые или обуреваемые ревностью женщины переоделись в голубые домино, чтобы найти новых любовников или испытать старых. Было много шума, много смеха и много волнения. — Не мешайте им, — говорил Бамбуччи своим запыхавшимся распорядителям. — Они развлекаются сами. Тем лучше для вас, отдохните. В эти минуты безумного любопытства на лицах появилось выражение суровости и упорства, не очень свойственное людям цивилизованным. Лелия, которой казалось, что она внимательно следит за малейшим проявлением жизни этого агонизирующего общества, которая все время прислушивалась к пульсу умирающего, то очень сильному и полному, то совсем слабому, заметила что-то странное в настроении людей в эту ночь. И, потерявшаяся в толпе и всеми забытая, она тоже стала обходить сады, чтобы внимательно присмотреться к физиологическим особенностям этого живого трупа, который уже хрипит, но все еще продолжает петь и, подобно престарелой кокетке, красится даже на смертном одре. После длительной ходьбы, миновав много беспорядочно толпившихся групп и окунувшись в царившую кругом атмосферу лихорадочного, но совсем не заразительного веселья, она, усталая, села отдохнуть под сенью китайских туй. Лелия почувствовала, что ей трудно дышать. Она взглянула на небо: над его головой блистали звезды, но ближе к горизонту они скрывались за густою завесою туч. Лелии стало плохо. Вдруг яркая вспышка озарила деревья — это была молния; Лелия поняла, почему ей вдруг стало худо: гроза всегда причиняла ей физическую боль, нервное беспокойство, делала ее раздражительной, словом, повергала ее в какое-то особое состояние, которое, вероятно, всем женщинам приходилось испытывать. Тогда ее охватило то внезапное отчаяние, какое иногда овладевает нами без всякой видимой причины; отчаяние это всегда оказывается следствием душевного недуга, который человек долгое время от всех скрывает. Скука, ужасающая скука комком подступила ей к горлу. Она почувствовала себя такой несчастной, такой неудачницей в жизни, что упала без сил на траву и расплакалась теми детскими слезами, которые свидетельствуют о том, что у человека не осталось уже ни сил, ни гордости. А ведь Лелия производила впечатление женщины, владеющей собой, как ни одна другая. Никогда, с тех пор как она была Лелией, никто не мог прочесть на ее бесстрастном лице, что делается у нее в сердце. Ни разу ни одна слеза страдания или умиления не проступила на ее бледных, не тронутых ни одной морщиной щеках. Она приходила в ужас, когда кто-нибудь начинал ее жалеть, в самые тяжелые минуты какой-то инстинкт самосохранения заставлял ее скрывать свои чувства. Так и теперь она уткнула голову в свою бархатную накидку, и, вдали от людей, вдали от света, спрятавшись среди высокой травы заброшенного уголка сада, она дала волю страданию и залилась слезами бессильными и малодушными. Было что-то страшное в скорби этой женщины, такой красивой и так нарядно одетой, когда она лежала так, когда она каталась по траве, сжималась в комок, изнемогая в своем страдании, точно раненая львица, которая видит струящуюся из раны кровь и зализывает ее, рыча от боли. Вдруг чья-то рука коснулась ее обнаженного плеча, рука теплая и влажная, как дыхание этой грозовой ночи. Лелия задрожала; пристыженная и раздраженная, что кто-то застал ее в эту минуту слабости, так, как никто еще никогда ее не видел, она вдруг мгновенно набралась мужества и, вскочив на ноги, выпрямилась во весь рост перед дерзкою незнакомкой. То было голубое домино, за которым все так гнались, то была куртизанка Цинцолина. Лелия громко вскрикнула; потом, стараясь придать своему голосу побольше суровости, она сказала: — Я узнала тебя, ты моя сестра… — А если я сейчас сниму маску, Лелия, — отвечала куртизанка, — разве и ты тоже не закричишь: «Позор и бесчестие!»? — Ах, я узнала даже твой голос, — отвечала Лелия. — Ты Пульхерия… — Я твоя сестра, — сказала куртизанка, снимая маску, — дочь твоего отца и твоей матери. Неужели у тебя для меня не найдется слова любви? — О, сестра моя, ты все такая же красавица! — воскликнула Лелия. — Спаси меня. Спаси меня от жизни, спаси от отчаяния; подари мне нежность, скажи, что ты меня любишь, что ты помнишь чудесные дни нашей жизни, что ты моя семья, моя кровь, единственное, что у меня осталось на свете! Они обнялись и заплакали. Радость Пульхерии была страстной, радость Лелии — печальной. Они глядели друг на друга влажными от слез глазами, и каждое прикосновение их обеих дивило. Они поражались тому, что обе еще красивы, что могут друг друга восхищать, друг друга любить и что при всей разнице их положения они друг друга, узнали. Лелия вдруг вспомнила, что сестра запятнала себя позором. Она легко простила бы его любому человеческому существу, но теперь краснела оттого, что этим существом оказалась ее собственная сестра. Помимо своей воли она поддалась неодолимому влиянию остатков тщеславия, которое в обществе зовется честью. Разжав объятия, она опустила руки и осталась неподвижной, уничтоженная каким-то новым порывом отчаяния, смертельно побледнев, согнувшись и уставившись глазами в темную зелень, в которой тонули отблески огней. Пульхерия испугалась этой мрачной неподвижности и горькой, словно застывшей улыбки, которая блуждала теперь на губах сестры. Позабыв о том, как низко она сама пала в глазах общества, куртизанка вдруг преисполнилась жалостью к Лелии — до такой степени страдание сравняло их доли. — Так вот ты какая! — сказала она ей с той мягкостью в голосе, с какой мать стала бы успокаивать огорченного ребенка. — Много лет провела я в разлуке с сестрой, и вот теперь я нашла ее, а она лежит на земле, как истрепанное, никому не нужное платье, старается приглушить свои крики прядями волос и в отчаянии царапает грудь ногтями. Такой я тебя нашла, Лелия; а сейчас ты еще того хуже; тогда ты плакала, а сейчас ты как мертвая. Ты жила своим страданием, а теперь тебе жить нечем. Вот до чего ты дошла, Лелия! О боже! На что же послужили тебе все эти блестящие дары, которыми ты так гордилась! Куда тебя привела дорога, по которой ты пошла так доверчиво и с такой надеждой? В какую бездну горя ты упала, ты, которая считала, что мы не стоим твоих подметок. Сион, Сион, говорил я тебе, что гордость тебя погубит! — Гордость! — воскликнула Лелия, почувствовав, что задели ее самое больное место. — И ты еще смеешь говорить об этом, погибшее создание! Кто из нас двоих безнадежнее заблудился в этой пустыне, ты или я? — Не знаю, Лелия, — печально сказала куртизанка. — Мне было хорошо в этой жизни, я еще молода, еще красива. Я много выстрадала, но я еще не сказала «О господи, довольно!». Тогда как ты, Лелия… — Ты права, — удрученно ответила Лелия, — я все исчерпала. — Все, кроме наслаждения! — воскликнула Пульхерия, расхохотавшись смехом вакханки, от которого она вся вдруг переменилась. Лелия задрожала и невольно отпрянула, потом она все же снова кинулась к сестре и взяла ее за руку. — А ты, сестра, — вскричала она, — ты-то вкусила наслаждение? Ты-то не исчерпала его? Значит, ты все еще женщина, все еще живая? Открой же мне свою тайну, дай мне твое счастье, раз оно у тебя есть! — Счастья у меня нет, — ответила Пульхерия. — Я не искала его. Я не жила иллюзиями, как ты. Я не просила у жизни больше, чем она могла мне дать. Я ограничила свои притязания умением радоваться тому, что есть. Я употребила мои добродетели на то, чтобы не презирать эту жизнь, мою мудрость — на то, чтобы не желать ничего большего. Литургию мою написал Анакреон. За образец я взяла античность, божествами моими стали обнаженные греческие богини. Я переношу все то зло, которое несет нам наша неумеренная цивилизация. Но для того, чтобы уберечь себя от отчаяния, у меня есть религия наслаждения. Лелия, как ты смотришь на меня, как жадно ты меня слушаешь! Значит, я уже не внушаю тебе больше ужаса! Я уже не та тупая и низкая тварь, от которой ты с таким омерзением отвернулась! — Я никогда не презирала тебя, сестра. Я тебя жалела. А сейчас вот я поражаюсь, — оказывается, тебя не приходится жалеть. Сказать ли тебе, что меня это радует? — Лицемерные спиритуалисты, — сказала Пульхерия, — вы всякий раз боитесь признать те радости, которых сами не разделяете! О, теперь ты плачешь? Ты опускаешь голову, моя бедная сестра! Теперь ты согнута и надломлена под тяжестью судьбы, которую себе избрала! Кто в этом виноват? Пусть хоть этот урок послужит тебе на пользу. Вспомни о наших ссорах, о наших распрях и о нашей разлуке; мы обе предсказали друг другу погибель. — Увы, я предсказывала тебе презрение мужчин, Пульхерия, предсказывала, что они бросят тебя, что тебя ждет ужасная старость… Предсказание это еще не исполнилось, благодарение богу, ты все еще красива и молода. Но разве ты еще не почувствовала, как стыд жжет тебя каленым железом? Разве ты не слышишь, как эта жадная и праздная толпа, которая ищет тебя сейчас, чтобы удовлетворить свое ненасытное любопытство, разве ты не слышишь, как она ревет словно отвратительное чудовище? Разве ты не чувствуешь ее горячего дыхания, которое преследует тебя своим мерзким запахом? Послушай, она зовет тебя, она требует тебя, как свою добычу, ты куртизанка, ты принадлежишь ей! О, если она ворвется сюда, не говори ей, что ты моя сестра! Что, если она решит, что мы с тобой одно? Что, если она схватит и меня своими грязными лапами? Бедная Пульхерия, вот твой господин, вот твой бог, вот твой возлюбленный! Эта толпа, да, вся эта толпа! Ты наслаждалась в их объятиях; ты видишь, бедная сестра моя, что ты еще грязнее, чем пыль у них под ногами! — Я это знаю, — сказала куртизанка, проводя рукою по своему непроницаемому лицу, словно для того, чтобы согнать с него налетевшую тень, — я призвана не считать это стыдом; в этом мое призвание, моя сила, так же, как твоя, — в том, чтобы его избежать. В этом моя мудрость, говорю тебе, и она ведет меня к моей цели, она преодолевает препятствия, она справляется со страхами, которые являются вновь и вновь, а в награду за эту борьбу мне дано наслаждение. Это мой луч солнца после грозы, это заколдованный остров, на который меня выбрасывает буря, и если я и бываю унижена, я, во всяком случае, не кажусь смешной. Быть бесполезной, Лелия, — это быть смешной. Это хуже, чем заниматься постыдным делом: быть ничем во вселенной позорнее, чем удовлетворять самые низменные потребности. — Может быть, — мрачно сказала Лелия. — К тому же, — продолжала куртизанка, — какое значение имеет стыд для действительно сильной души? Знаешь, Лелия, что власть людского мнения, перед которой раболепствует все так называемые честные люди, знаешь ты, что с ним считаются только слабые, что надо быть сильным, чтобы ему противопоставить себя? Можно ли назвать добродетелью эгоистический расчет, который так легко бывает осуществить и в котором все тебя воодушевляет и возбуждает? Можно ли сравнить труды, страдания и героизм матери семейства и проститутки? Неужели ты думаешь, что, когда обеим приходится бороться с жизнью, большей славы заслуживает та, на чью долю выпадает меньше тягот? Но что я вижу, Лелия! Ты больше не дрожишь от моих слов, как бывало когда-то? Ты ничего мне не отвечаешь? Молчание твое ужасно, Лелия: значит, ты превратилась в ничто! Ты исчезаешь, как набежавшая волна, как имя, начертанное на песке? Твоя благородная кровь больше не возмущается ересями разврата, непотребством материального мира? Пробудись, Лелия, защищай добродетель, если ты хочешь убедить меня, что нечто такое действительно существует! — Говори, говори, — отвечала Лелия мрачным голосом. — Я слушаю тебя. — В конце концов какой же удел назначил нам господь на земле? — продолжала Пульхерия. — Жить, не так ли? Чего требует от нас общество? Не воровать. Общество устроено так, что многие не имеют другого средства к существованию, как заниматься ремеслом, которое оно само узаконило и оно же заклеймило позорным словом — порок. Знаешь ты, из какой стали надо отлить несчастную женщину, чтобы у нее хватило сил жить этим ремеслом? Сколько оскорблений сыплется на ее голову в уплату за слабости, которые она подглядела, и за скотское вожделение, которое она насытила? Под какой горой несправедливостей и позора ей приходится спать, ходить, быть любовницей, куртизанкой и матерью — три женских участи, которых ни одной женщине не избежать, как бы она себя ни продавала, на рынке ли проституток или с помощью брачного контракта. О сестра моя! Насколько же существа, обесчещенные публично и несправедливо, вправе презирать толпу, которая сначала вымажет их грязью своей любви, а потом начинает их проклинать! Видишь ли, если существуют небо и ад, небо уготовано для тех, кто больше всего страдал и кто на ложе страдания нашел в себе силы раз-другой радостно улыбнуться и благословить бога; ад — для тех, кому досталась лучшая доля жизни и которые не умели ее оценить. Куртизанка Цинцолина среди всех ужасов своего падения в обществе, оставаясь верной наслаждению, признает бога; аскетка Лелия, ведущая суровую и всеми чтимую жизнь, закрывши глаза, готова отрицать все благодеяния жизни и отречься от бога. — Увы, ты обвиняешь меня, Пульхерия, но ты не знаешь, от меня ли зависит выбор жизненного пути. Знаешь ли ты, как сложилась моя судьба с тех пор, как мы с тобой расстались? — Я знаю, что говорят о тебе люди, — отвечала куртизанка, — я вижу только, что как женщина ты живешь загадочной жизнью. Я знаю, что ты ходила, окутанная тайной и какой-то поэтической аффектацией, и я улыбалась от жалости, думая об этой лицемерной добродетели, состоящей в том, чтобы кичиться своим бессилием или страхом. — Унижай меня, — ответила Лелия, — сейчас у меня так мало веры в себя, что мне нечем себя оправдать; но, может быть, тебе захочется выслушать рассказ об этой жизни, такой иссушенной и бледной и вместе с тем такой долгой и такой горькой? Ты мне скажешь потом, есть ли средство излечить такие застарелые страдания, такие глубокие разочарования. — Я слушаю, — ответила Пульхерия, опершись своей пухлой белой рукой о подножие мраморной нимфы, которая жеманно улыбалась им из-за темных ветвей. — Говори, сестра моя, расскажи мне все горести твоей жизни, но сначала позволь мне сказать, что я знаю их все заранее; когда, бледная и хрупкая, как сильфида, ты шла по нашим лесам, опираясь на мою руку, приглядываясь к полету птиц, к оттенкам цветов, к меняющимся очертаниям облаков, равнодушная к взглядам молодых охотников, которые проходили мимо и следили за нами из-за деревьев, я тогда уже хорошо знала, Лелия, что молодость твоя пройдет в погоне за иллюзиями и в пренебрежении к подлинным благам жизни. Помнишь бесконечные прогулки, которые мы совершали с тобою в родных полях, и долгие вечера, когда мы погружались в мечты, облокотившись на золоченую балюстраду террасы; ты смотрела тогда на светлые звезды над холмами, я — на запыленных всадников, спускавшихся по тропинке. — Помню все хорошо, — ответила Лелия. — Ты внимательно следила за всеми путниками, исчезавшими в дымке заката. Ты уже едва могла различить, как они выглядят и как одеты; но ты возгоралась к каждому из них презрением или симпатией, в зависимости от того, как он спускался по долине — осмотрительно или смело. Ты безжалостно смеялась над осторожным всадником, который спешивался, чтобы вести под уздцы ленивого или ненадежного коня. Ты издали махала рукой тому, кто твердым и уверенным шагом справлялся с опасностями крутого спуска. Помнится, как-то раз я строго тебя попеняла за то, что в порыве восторга ты стала махать платком, чтобы воодушевить молодого безумца, который помчался во весь опор и два или три раза, напрягши все силы, едва мог сдержать своего коня у самого края обрыва. — Однако он не мог ни видеть, ни слышать меня, — ответила Пульхерия. — Ты была дикаркой тебя возмущал тот интерес, который я проявляла к мужчине ты была чутка только к неуловимым красотам природы — к звуку, к цвету, и никогда не чувствовала формы, отчетливой и ощутимой. Ты проливала слезы слыша, как кто-то поет вдалеке. Но как только босоногий пастух появлялся на вершине холма, ты с отвращением отводила взгляд; с этой минуты ты уже не слушала его больше и все очарование песни для тебя пропадало. Словом, всякая реальность оскорбляла твою чересчур впечатлительную натуру и разрушала твой идеал, к которому ты была чересчур требовательна. Не правда ли, Лелия? — Это верно, сестра, мы были непохожи друг на друга. Ты была умнее и ласковее, чем я; ты жила только для того, чтобы наслаждаться жизнью. Я же, более честолюбивая и, должно быть, менее покорная богу, жила только ради своих желаний. Помнишь летний день, знойный и душный, когда мы решили с тобой отдохнуть в долине под кедрами, у берега ручейка, в этом таинственном и темном убежище, где журчанье воды, падавшей со скалы на скалу, смешивалось с грустным стрекотанием цикад? Мы улеглись на траву, и долго глядели сквозь ветви деревьев на раскаленное небо, а потом незаметно уснули крепким, беспробудным сном. Проснулись мы в объятиях друг друга и даже не почувствовали, что спали. — Спали? И верно ведь, — сказала Пульхерия, — мы мирно спали на мягкой и теплой траве. От кедров струился удивительный аромат, и южный ветер касался наших влажных лиц своим горячим крылом. До того дня я жила беззаботно и счастливо, каждый день моей жизни я встречала как новое благодеяние. Иногда кровь во мне вскипала от бурных и глубоких волнений. Какой-то незнакомый мне пыл овладевал вдруг моим воображением, все краски природы становились ярче, в груди я ощущала трепет молодости, еще более живой и веселой, а когда я глядела на себя в эти минуты в зеркало, мне казалось, что я становлюсь еще румяней, еще красивей. Мне хотелось тогда поцеловать свое изображение в зеркале, я любила его до безумия. Я начинала тогда смеяться и быстрее и легче бежала среди цветов по траве — я совсем не представляла себе в те времена, что такое страдание. Я не ломала себе голову, как ты, чтобы что-то разгадать, я находила, потому что я не искала. В тот день мне, до того счастливой и спокойной, приснился страшный, безумный, невероятный сон, раскрывший мне тайну, до тех пор для меня недосягаемую, перед которой я почтительно благоговела. О сестра моя, можно ли после этого отрицать влияние неба! Можно ли отрицать святость наслаждения! Если бы тебе был послан такой сон, такое вот экстатическое видение, ты бы сказала, что это ангел, посланный богом, явился приобщить тебя к священным тайнам человеческой жизни. Мне просто приснился черноволосый мужчина, склонившийся надо мной, чтобы коснуться моих губ своими горячими алыми губами; и я проснулась потрясенная, вся дрожа от счастья, такого, какого я раньше себе не могла и представить. Я смотрела вокруг себя: отблески солнца были рассыпаны по лесу; воздух был нежен и чист; великолепные кедры вздымали свои длинные, раскидистые ветви, похожие на поднятые к небу гигантские руки. Тогда я посмотрела на тебя. О сестра моя, как ты была хороша! До этого я никогда не видела тебя такой. Упоенная своим девическим тщеславием, я не могла налюбоваться собой. Мне казалось, что я красивее тебя, оттого что у меня румяные щеки, круглые плечи и золотистые волосы. Но в эту минуту другое существо стало для меня воплощением красоты, я уже любила не одну себя: у меня была потребность найти где-то вовне предмет восхищения и любви. Я тихо приподнялась и посмотрела на тебя с необычным любопытством и со странным удовольствием. Твои густые черные волосы прилипали ко лбу, и их смятые локоны вились, как будто чувство жизни скрутило их на твоей шее, казавшейся бархатной от заволакивавшей ее тени и мерцавших кое-где капелек пота. Я погладила ее: мне показалось, что твои волосы обвивают мои пальцы и притягивают к себе. Твоя тонкая белая сорочка, не застегнутая на груди, обнаружила загорелую кожу, еще более темную, чем обычно; твои длинные ресницы, отяжелевшие от сна, отчетливо выделялись на щеках, которые тогда были румянее, чем теперь. О, ты была красива, Лелия, но совсем иной красотой, чем я, и это странным образом меня волновало. Руки твои, более тонкие, чем у меня, были покрыты едва заметным черным пушком, который, заботясь о своей красоте, ты потом искусно удалила. Ноги свои, такие красивые, ты опустила в ручей, и на них были видны длинные голубые прожилки. Когда ты дышала, грудь твоя поднималась так мерно, что можно было ощутить в ней покой и силу. И во всех твоих чертах, в твоей позе, в формах твоего тела, более определенных, чем у меня, в более темной окраске кожи и особенно в гордом и холодном выражении твоего спящего лица было что-то такое мужественное и сильное, что я с трудом узнавала тебя. Мне казалось, что ты походила тогда на черноволосого красавца-юношу, о котором я только что мечтала, и я, все дрожа, поцеловала твою руку. В эту минуту ты открыла глаза, и когда ты взглянула на меня, я испытала какой-то неведомый мне дотоле стыд, я отвернулась, как будто я совершила что-то дурное. Вместе с тем, Лелия, никакая нечистая мысль не мелькнула у меня даже на миг. Как же это могло случиться? Я ничего не знала. Я получила от природы и от бога, нашего творца и учителя, мой первый урок любви, я впервые ощутила желание… Твой взгляд был насмешлив и строг. Он, впрочем, и всегда был таким. Но он никогда еще не смущал меня так, как в эту минуту… Неужели ты не помнишь, как я смутилась тогда, как покраснела? — Я помню даже слово, которое не могла тогда объяснить, — ответила Лелия. — Ты склонилась вместе со мной над водой и сказала: «Взгляни, сестра, правда ведь ты красивая?». Я ответила тебе, что не такая красивая, как ты. «О, гораздо красивее, — продолжала ты. — Ты похожа на мужчину». — И при этих словах ты презрительно пожала плечами, — сказала Пульхерия. — И я не догадалась, — отвечала Лелия, — что в эту минуту уже решилась твоя судьба, тогда как моей не суждено было никогда решиться. — Расскажи мне о себе, — попросила Пульхерия. — Шум праздника уже совсем далеко; я слышу, как оркестр снова играет прерванную мелодию; о тебе позабыли, меня перестали искать. Мы можем немного побыть на свободе. Говори.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
На что нам светлых призраков круженье Пред черною завесой нашей ночи, Коль сон всегда нам пробужденье прочит. А явь — одно желанье без свершенья Так раненый орел крыло волочит И к солнцу взор стремит в изнеможеньеАльфред де Мюссе
35
— Я не стану рассказывать тебе все обстоятельно и подробно, — сказала Лелия. — Чтобы поведать обо всех событиях, совершившихся в моей жизни, понадобилось бы столько же дней, сколько я прожила на свете. Но я расскажу тебе историю несчастного сердца, введенного в заблуждение иллюзорным богатством своих дарований; сердце это исчерпало себя, прежде чем начало жить, истерзало себя надеждой и обессилело, может быть, от избытка силы! — Именно от этого ты и становишься до обидного банальной, Лелия, — ответила куртизанка, безжалостная и грубоватая в своей подсказанной здравым смыслом прямоте. — Именно этим ты походишь на всех поэтов, которых мне довелось читать. А я ведь читаю поэтов; я читаю их, чтобы примириться с жизнью, которую они живописуют такими фальшивыми красками и которая напрасно к ним так добра. Я читаю их, чтобы узнать, каковы те претенциозные мысли и вопиющие заблуждения, от которых следует удерживать себя, чтобы оставаться в пределах благоразумия. Я читаю поэтов, чтобы взять у них все полезное и отбросить все дурное; словом, для того, чтобы научиться их пышному языку, который стал привычным для нашего века, и чтобы не позволять себе облекать в его форме те глупости, которые они превозносят. Тебе надо было бы поступать так же. Тебе, моя Лелия, следовало бы воспользоваться своими недюжинными способностями, чтобы, окружив вещи поэтическим ореолом, научиться больше ценить их. Тебе следовало бы употребить твою возвышенную натуру на то, чтобы наслаждаться благами мира, а не отрицать их; иначе, зачем вся твоя просвещенность? — И ты права, жестокая, — с горечью ответила Лелия. — Только разве я всего этого не знаю? Послушай, ты указываешь мне на мою ошибку, на мое горе, на мою злую судьбу, и сама еще насмехаешься надо мной, когда я тебе жалуюсь. Мне унизительно и горестно сознавать, что я стала такой тривиальной и заурядной носительницей страданий целого поколения, болезненного и слабого, а ты встречаешь меня презрением. Так-то ты утешаешь меня? — Прости меня, meschina [45], — улыбаясь, сказала легкомысленная Пульхерия, — и продолжай свой рассказ. — Сотворил ли меня господь в день гнева или апатии, в день безумия или ненависти к творениям рук своих, — сказала Лелия, — этого я не знаю. Есть минуты, когда я настолько ненавижу себя, что кажусь себе самым хитроумным и самым ужасным исчадием дьявола. Есть другие — когда я презираю себя до такой степени, что считаю себя каким-то инертным существом, слепым порождением случая и материи. Я не знаю, кого винить в моем несчастье, и, когда дух мой бывает охвачен порывами злобы и возмущения, я больше всего страдаю от страха, что бога нет и что мне некого поносить. Тогда я начинаю искать его на земле, и на небе, и в аду, то есть у себя в сердце. Я ищу его, потому что хотела бы упразднить его, проклясть и повергнуть во прах. Меня возмущает и злит в нем, что он дал мне столько мужества, чтобы с ним бороться, а сам ушел так далеко; что он вложил в меня великую силу, чтобы ринуться на него, а сам уж и не знаю где, то ли внизу, то ли наверху, восседает в своей славе, глухой ко всему. И сколько бы я ни напрягала мысль, мне его не достичь. Однако, судя по всем приметам, мне предстояла счастливая жизнь. Лоб мой был правильной формы, глаза мои обещали стать черными и непроницаемыми, какими и должны быть глаза всякой женщины, свободной и гордой; кровь моя была достаточно горяча, и ни одна болезнь не наложила на меня своего несправедливого и гибельного проклятия. Детство мое оставило мне множество на редкость поэтичных воспоминаний. У меня такое чувство, что укачивали меня руки ангелов и что таинственные видения заслонили от меня все реальное, прежде чем глаза мои стали видеть. А так как я становилась красивой, все мне улыбалось — и люди и вещи. Все вокруг меня превращалось в поэзию и в любовь, и в груди моей день ото дня пробуждалась способность любить и восхищаться. Это была такая великая, такая драгоценная, такая чудесная сила. Мне казалось, что она исходит от меня, как некий аромат, такой упоительный, такой пьянящий, что я любовно в себе ее растила. У меня и в мыслях не было не доверять ей и беречь ее соки, чтобы подольше наслаждаться ее плодами, — я возбуждала ее, развивала, питала, как только могла. Как я была тогда безрассудна и сколько горя себе уготовила! Я исторгала ее из себя всеми порами моего существа; я словно черпала ее из неиссякаемого источника жизни и разливала на все вокруг. Самый незначительный предмет, возбуждавший мое уважение, любой пустяк, способный на минуту увлечь, приводили меня в восторг, опьяняли меня. На поэта я смотрела как на божество, земля была мне матерью, а звезды — сестрами. Я на коленях благословляла небо, когда на окне у меня распускались цветы, когда,проснувшись, слышала, как поют птицы. Восторги мои превращались в экстаз, ощущение счастья доходило до самого настоящего безумия. Так день ото дня, растя в себе мою силу, возбуждая чувствительность и распространяя ее сверх всякой меры на небо и землю, я бросала всю мою мысль, всю мою энергию в зияющую пустоту этой неуловимой вселенной, которая возвращала мне все мои чувства покалеченными: зрение мое было ослеплено солнцем, желание утомлено видом моря и тумана над горизонтом, а вера поколеблена таинственной алгеброй звезд и немотою всего, о чем стосковалась в своих блужданиях моя душа. Поэтому с самых юных лет способности мои достигли такой полноты, что, для того чтобы развиваться дальше, им надо было разорвать смертную оболочку. Тогда в жизнь мою вошел один человек, и я его полюбила. Я полюбила его той самой любовью, какой любила бога, и небо, и солнце, и море. Только тогда я все это разлюбила и перенесла на него одного весь тот восторг, который испытала перед другими творениями божества. Ты права, говоря, что поэзия погубила человеческий ум. Она опустошила реальный мир, такой холодный, такой бедный, такой жалкий перед лицом рожденных ею сладостных снов. Опьяненная ее безумными обещаниями, убаюканная ее сладостными иллюзиями, я никогда потом не могла примириться с правдою жизни — Поэзия пробудила во мне другие способности, огромные, великолепные и такие, что ничему земному не дано было их насытить. Душа моя слишком тянулась к простору, чтобы действительность могла найти в ней себе место хотя бы на миг. Каждый день сталкивал меня с крушением моей судьбы перед лицом моей гордости, с крушением моей опустошенной гордости перед лицом ее же побед. Это была жестокая борьба и унизительная победа; ибо по мере того как я презирала все сущее, я стала испытывать презрение к себе самой, глупому и тщеславному созданию, которое не умело ничем насладиться из-за того, что хотело всем насладиться сполна. Да, это была большая и жестокая борьба, ибо опьяняя нас, поэзия не говорит нам, что это обман. Она прикидывается красивой, простой, строгой, как сама истина. Она переодевается в тысячу разных форм. Она принимает вид человека и ангела, облик бога. Люди привязываются к этой тени, преследуют ее, обнимают, простираются перед ней; они думают, что обрели в ней бога и завоевали обетованную землю. Но, увы, ее недолговечная пышность распадается под пристальным взглядом, и у нищеты человеческой нет даже рубища, чтобы прикрыть свою наготу. О, тогда человек начинает плакать и богохульствовать. Он проклинает небо, он требует ответа за свою обманутую надежду, он думает, что его обокрали, он ложится и хочет смерти. А в самом деле, почему же бог так жестоко его обманывает? Какую славу стяжает себе сильный тем, что обманывает слабого? Ведь вся поэзия нисходит с неба и есть не что иное, как инстинктивное ощущение присутствия в нашей жизни божества. Материализм убивает поэзию, он низводит все до существующих в реальном мире размеров. Он создает вселенную из одних только сочетаний; религиозная вера наполняет ее призраками. А разве за своими непроницаемыми покровителями божество само не смеется над нашим культом и над ангельскими созданиями, которыми окружает его наш болезненный разум? Увы, все это мрачно и неутешительно. — Это значит, что не следует ни мечтать, ни молиться, — сказала Пульхерия, — следует довольствоваться тем, что живешь на свете, простодушно верить в милосердного бога: человеку этого было бы достаточно, будь у него меньше тщеславия. Но человек хочет изучить этого бога и проверить его творения; он хочет его узнать, расспросить обо всем, сделать его полезным себе, ответственным за свои страдания. Он хочет говорить с ним, как равный с равным. Это твоя гордость придумала поэзию и поместила между землей и небом столько обманчивых грез. Господь не виноват в твоих несчастьях… — Гордость, вера в себя, — ответила Лелия, — это два разных слова, выражающих одну и ту же мысль. Это два разных способа рассматривать одно и то же чувство. Каким именем ни называть его, это как бы дополнение к нашей природе, краеугольный камень нашего разума. Господь увенчал свое творение этой мыслью, смутной и скорбной и вместе с тем бесконечно высокой, возвысив нас над другими живыми существами. Он обрек нас на тревогу и беспокойство. «Вы в силе превзойдете верблюда, в искусстве бобра, — сказал он нам, — но вы никогда не удовлетворитесь творениями рук ваших и среди вашего земного рая будете всегда гнаться за неверным обещанием лучшей доли. Вы поделите меж собою землю, но вам захочется неба; вы достигнете могущества, но вам придется страдать». — Ну что же, — сказала Пульхерия, — тогда страдай молча, молись на коленях, дожидайся блаженства на небе, но смирись перед злом на земле. Переносить страдания, посланные творцом — этим еще не исчерпывается предназначение человека: страдание это надо принять. Беспрерывно кричать и проклинать свое ярмо еще не значит нести его. Ты отлично знаешь, что недостаточно ощутить вкус горечи, надо выпить чашу до дна. У тебя только один путь к величию на земле, и ты его презираешь: надо подчиниться, а ты противница всякого подчинения. Не кажется ли тебе что если назойливо стучаться в обитель ангелов тебя могут туда не пустить. — Ты права, сестра. Ты рассуждаешь, как Тренмор Ты влюблена в жизнь, и ты так же смирилась, как этот человек, отторгнутый от жизни. Ты находишь спокойствие в распутстве, так же как он — в добродетели Но я, у которой нет ни добродетелей, ни пороков я не знаю, что мне сделать, чтобы вынести скуку жизни Увы, тебе легко предписывать терпение! Если бы ты как я, оказалась между теми, кто еще живет, и теми, кого уже нет на свете, ты бы, как и я, поддалась мрачному гневу и тебя бы тоже мучило ненасытное желание чем-то стать, начать жизнь или покончить с ней… — Но ты же ведь сказала мне, что любила? Любить — это жить вдвоем. — Не зная, на что потратить силу моего ума, я простерла ее у ног идола, созданного моим же поклонением. Это ведь был человек, такой же, как и все прочие, и когда я устала лежать простертой, я разбила пьедестал, и мой идол снова стал тем, чем он действительно был. Но в моем торжественном обожествлении я так высоко его вознесла, что он стал мне казаться великим, как сам господь бог. Это было самым горьким моим заблуждением, и видишь, какой несчастной оказалась моя судьба. Случилось так, что я стала жалеть о нем, после того как его потеряла. Потому что, увы, мне некого было поставить на его место. Все мне казалось слишком мелким рядом с этим воображаемым колоссом. Дружбу я находила холодной, религию — лживой, а поэзия умерла для меня вместе с любовью. Веря в эту химеру, я была так счастлива, как только могут быть счастливы люди моего душевного склада. Я радовалась мощному взлету моих сил. Опьяненная своим заблуждением, я переживала поистине божественные экстазы. Я погружалась в эту мучительную и страшную жизнь, которой суждено было сломать меня, а потом поглотить. Это было состояние невыразимой скорби и радости, отчаяния и прилива энергии. Моей буйной душе нравилось это грозное качание на волнах, которое бесплодно и безвозвратно ее истерзало. Покой отпугивал ее, отдых раздражал. Ей нужны были препятствия, утомление, нужно было испытывать мучительную ревность, прощать жестокие обиды, вершить большие дела, переносить большие несчастья. В этом было ее призвание, ее слава. Будь я мужчиной, я любила бы сражения, запах крови, минуты опасности; может быть, честолюбивая идея повелевать силой ума, подчинять себе других людей властным словом улыбнулась бы мне в дни моей молодости. Но я была женщиной, и знала только одно благородное назначение на земле — любить. Я любила мужественно; я вынесла все недуги страсти, немой и беззаветной, в борьбе с жизнью общества и эгоизмом, свойственным сердцу человека. В течение долгих лет я противилась тому, что должно было погасить ее или охладить. Теперь я без горечи переношу упреки мужчин и с улыбкой выслушиваю обвинения в бесчувственности, которые они возводят на мою голову. Я знаю, и господь это тоже знает, что я исполнила мою задачу, внесла свою долю тягот и мук в великую бездну гнева, в которую беспрерывно стекают слезы людей, но так и не могут наполнить ее до краев. Я знаю, что отдала всю мою силу делу самоотвержения, что отреклась от гордости, что сделалась тенью другой жизни. Да, господи, ты это знаешь! Ты раздавил меня скипетром своим, и теперь я валяюсь в пыли. Я сбросила с себя свое высокомерие, когда-то такое неприступное, а теперь такое горестное; я сбросила его давно перед существом, которое ты послал мне, чтобы я поклонялась ему себе; на горе. Я хорошо потрудилась, господи, я в молчании пережила мое горе. Когда же ты примешь меня в обитель отдохновения? — Ты хвастаешь, Лелия; ты трудилась попусту, и меня это не удивляет. Ты хотела сделать из любви нечто непохожее на то, чем господь позволил ей стать здесь, на земле. Если я правильно поняла твою беду, ты любила всей силой своего существа, а тебя недостаточно любили. Как же ты заблуждалась! Неужели ты не знала, что мужчины грубы, а женщины непостоянны! Эти два существа, такие сходные и вместе с тем такие различные, устроены так, что постоянно ненавидят друг друга, ненавидят даже в любви, которая их сближает. Первое чувство, которое овладевает ими после горячих объятий, — это отвращение или грусть: это высший закон, против которого ты напрасно будешь восставать. Союз мужчины и женщины по замыслу провидения должен был стать преходящим; все протестует против вечности их связи, сама природа их требует обновления. — Если это так, — вскричала Лелия, — то да будет проклята любовь! Или, вернее, да будет проклята воля божья и предназначение человека! Я ведь действительно думала, что любовь должна быть другой. У чувства любви, открывшегося мне в юные годы, было ангельское обличье, и казалось, что ему суждено было длиться. Оно исходило от самого бога, оно должно было нести в себе частицу его бессмертия. Перестать любить! Этого я не могла себе даже представить. Для меня это было все равно, что перестать жить! — И, однако, ты больше уже не любишь, — сказала Пульхерия. — Потому я и мертва! — ответила Лелия. — Но как ты могла допустить, чтобы священный огонь погас? — воскликнула, куртизанка. — Неужели ты не могла перенести его на другой алтарь? Переменить любовника не значит еще переменить любовь. — Что же, по-твоему, можно снова разжечь это пламя, когда тот, который его вдохновлял, дал ему погаснуть? — вскричала Лелия. — И оно будет таким же ярким и чистым? Что такое любовь? Разве это не культ? А раз это культ, то разве любимый человек не тот же бог? И если он сам, своей волей, разрушил веру, которую вдохнул в чью-то душу, то как может эта душа выбрать себе из других существ другого бога? Она создала себе идеал, и пока она была убеждена, что нашла воплощенное совершенство в одном из себе подобных, она повергалась перед ним наземь. Но теперь она знает, что ее идеал не в этом мире. Какое же поклонение, какую веру может она принести своему новому идолу? Она ведь должна будет принести ему неполную, ограниченную любовь, чувство конечное идущее от ума, поддающееся анализу и точному определению. Она поверила в добродетель без примесей, в ничем не запятнанное сияние. Теперь она знает, что всякая добродетель легко может пошатнуться, что все высокое имеет свои пределы: ведь то, что было для нее воплощением высокого и прекрасного, обмануло ее ожидания, предало ее лучшие мечты. Удастся ли ей простым усилием воли стереть страшное воспоминание, которое должно послужить ей вечным уроком? В чем найдет она это благодатное забвение? А если и найдет его, то не будет ли это с ее стороны слепой доверчивостью, в которой она потом очень скоро раскается? Надо ли, чтобы она переходила от разочарования к разочарованию до тех пор, пока не истощатся ее силы и иллюзия благородного идеала не растает в воздухе, столкнувшись с грубыми страстями действительной жизни. Разве для такого конца господь даровал нам пылкие стремления и дивные сны? — Но до чего же ты горда, Лелия! — воскликнула пораженная Пульхерия. — Неужели единственное совершенное создание на всей земле — это ты? Неужели сердце твое горит таким особенным божественным пламенем, что тебе уже никогда не встретить другого такого пыла, другой чистоты, столь же незапятнанной как твоя? Видно, ты нечестивица, если считаешь себя ангелом, посланным страдать среди людей! — Даже если меня охватит безумная гордость, этого еще будет недостаточно, чтобы я могла считать себя ангелом. Будь я ангелом, я бы так ясно представляла себе мою миссию на этом свете, что пожертвовала бы собой для того, чтобы искупить какой-нибудь оставшийся у меня в памяти грех или чтобы совершить на этой несчастной земле какое-нибудь доброе дело, поступившись ради этого моей гордостью и возвестив людям те вечные истины, в которых я была бы убеждена. Но я слабое, ограниченное существо, я страдаю Глубокое неведение относительно предыдущего существования тяготеет надо мной с тех пор, как я стала дышать на этом проклятом свете. Я не знаю, страдаю ли я для того, чтобы смыть печать первородного греха, запятнавшего одну из моих прошлых жизней, или для того, чтобы обрести новую жизнь, более чистую и спокойную. У меня есть ощущение совершенства и любовь к нему. Мне кажется, что, будь у меня достаточно веры, у меня была бы и сила, чтобы добиться этого совершенства. Но веры мне не хватает, мой опыт раскрывает мне глаза на мои заблуждения, прошедшее мне неведомо, настоящее меня оскорбляет, будущее — страшит. Мой идеал — это раздирающий душу кошмар, это желание, которое меня снедает. Что мне делать с чувством, которого никто не разделяет, не надеясь, что оно может восторжествовать над печальной действительностью? Я знаю одного добродетельного человека; мне страшно его расспрашивать: я боюсь, как бы он не разочаровал меня, признавшись, что для него добродетель — всего-навсего удовлетворение некой врожденной потребности, как бы он не поверг меня в отчаяние, потребовав, чтобы я отказалась от всего, даже от надежды. — Так, выходит, у тебя есть надежда? — сказала Пульхерия, улыбаясь. — Признайся, Лелия, ты не мертва. — Я пытаюсь полюбить одного поэта, — сказала Лелия. — Я вижу, что у него есть стремление к идеалу, подобно тому как было оно и у меня, когда я была так молода. Но я боюсь, что он слишком привержен к земле и к ее мелким заботам, а они ведь рано или поздно иссушают сердце человека и мешают ему стремиться к совершенству. — Я слышала, что ты знаешь Вальмарину, — сказала куртизанка. — Люди думают даже, что ты причастна к таинственным делам этого удивительного человека. Говорят, он еще не стар, красив и в высокой степени благороден. Почему ты не любишь его? Или он недостаточно умен? Или он презирает любовь? — Ни то, ни другое, — ответила Лелия, — но он слишком любит добродетель, чтобы любить женщину; его идеал — это долг. Ему страшно было бы отнять частицу своей души от человечества и отдать ее одному человеку. Я никогда и не мечтала его полюбить, потому что великое страдание навсегда убило в нем надежду на счастье здесь, на земле. Одно время мы, может быть, могли бы с ним соединиться, понять друг друга и помочь друг другу сохранить священный огонь. Но тогда он еще не был тем, чем стал сейчас. У меня была вера, а у него ее не было. С тех пор роли переменились. Теперь у него есть вера, а я потеряла свою. — Но если ты поклоняешься добродетели, то разве ты не можешь, по примеру того, о ком ты мне только что говорила, отдаться ей так, как удовлетворяют врожденную потребность? Откажись от любви, наберись мужества творить милосердие. — Я его творю и не нахожу в этом счастья. — Понятно, ты творишь добро из любопытства. Вот оно как! Тогда, выходит, я все же лучше тебя; самое большое удовольствие для меня — это отдавать полными пригоршнями беднякам то золото, которое мне расточают богачи. — Это значит, что ты в распутстве своем сохранила больше молодости и простодушия, чем я — в моем уединении. Мое сердце мертво, твое словно еще не жило. Твоя жизнь — это вечное детство. — И пусть! Я благодарю за это бога, — сказала Пульхерия. — Ты знала добродетель и любовь, но у тебя не осталось и следа того, что меня ни разу не покидало, — доброты! — Разумеется, я пала ниже, — заметила Лелия, — оттого что чересчур вознеслась в моей гордости. Но сейчас я хотела бы для себя такой добродетели, которую могла бы понять, а так как стремилась я к добродетели через любовь, я не могу представить себе, как одна может существовать без другой. Я не могу любить человечество, ибо оно развратно и подло. Надо бы верить в его прогресс, а я не могу. Я хотела бы, чтобы чистые сердца, пусть даже немногие, поддержали пламя небесной любви и чтобы, освободившийся от пут эгоизма и тщеславия, союз душ был бы прибежищем последних адептов поэтического идеала. Но это не так. Избранные души, рассеянные на поверхности земли, где все их задевает, отталкивает и вынуждает уходить в себя, напрасно стали бы искать и звать друг друга. Их союз не будет освящен человеческими законами, и сама жизнь их не встретит сочувствия в других человеческих жизнях. Столь печально окончились все попытки жить этой идеальной жизнью у людей, которые могли бы на глазах у бога слить свои души в лучшем мире. — Значит, виновато в этом общество, — сказала Пульхерия, которая теперь слушала Лелию внимательнее. — Виноват в этом бог, который позволяет человечеству так заблуждаться, — ответила Лелия. — Есть ли у нас хоть один недостаток, в котором повинны только мы? Если не верить, что мы посланы в этот мир, чтобы пройти через страдания, прежде чем вкусить великое блаженство, то как смириться с вмешательством провидения в наши судьбы? Ужели отеческий взгляд опекал человечество в тот день, когда оно вздумало расколоться надвое и один пол очутился под властью другого? Разве не дикое вожделение сделало женщину рабой и собственностью мужчины? Какие инстинкты чистой любви, какие представления о самозабвенной верности могли воспротивиться этому смертельному удару? Что же еще, кроме силы, может связывать теперь того, у кого есть право требовать, с тем, у кого нет права отказать? Какие работы и какие мысли могут у них быть общими или, во всяком случае, одинаково им приятными? Какой обмен чувств, какое понимание друг друга возможно между господином и рабой? Даже когда мужчина с величайшей деликатностью пользуется своими правами, он и тогда относится к своей подруге жизни, как учитель к девочке-ученице. Но по замыслу самой природы отношения взрослого и ребенка ограничены и лишь временны. Мужчина не может стать товарищем детских игр, а дитя не может приобщиться к труду взрослого. К тому же настает время, когда уроки учителя перестают удовлетворять ученицу, ибо для нее наступает возраст эмансипации и она, так же как взрослые, предъявляет на все свои права. В любви двух полов не может быть настоящего единства, ибо женщина играет в ней роль ребенка, и час эмансипации для нее так никогда и не настает. Какое же это преступление перед природой — обречь половину человечества на вечное детство! Бремя первого греха, по иудейской легенде, тяготеет над головою женщины, отсюда все ее рабство. Но не ей ли было обещано, что она раздавит голову змия. Когда же это обещание будет исполнено? — И все же мы лучше, чем они! — воскликнула Пульхерия. — Мы лучше их в одном смысле, — сказала Лелия. — Они обрекли на спячку наш разум, но они не заметили, что, пытаясь погасить в нас божественный светильник, они вместо этого сосредоточили в сердцах наших бессмертное пламя, тогда как в их собственных сердцах оно гасло. Они утвердились в обладании наименее благородной стороною нашей любви и не заметили, что уже потеряли власть над нами. Они сделали вид, что считают нас неспособными исполнять наши обещания, и единственное, что они могли, — это обеспечить себя законными наследниками. У них есть дети, но у них нет жен. — Вот почему их цепи всегда приводили меня в ужас, — вскричала Пульхерия, — вот почему я не хотела занимать никакого места в их обществе! Не могла я разве восседать среди их жен, уважать законы и обычаи, соблюдением которых они кичатся, притвориться, как они, стыдливой, верной, присвоить себе все их лицемерные добродетели? Не могла я разве удовлетворить все мои прихоти, все мои страсти, согласись я только носить маску и воспользоваться покровительством какого-нибудь дурака? — А разве ты стала счастливее оттого, что поступила смелее? — спросила Лелия. — Если да, то скажи мне это с откровенностью, которую я в тебе всегда так ценила. Охваченная волнением, Пульхерия не сразу решилась что-то ответить. — Нет, счастливой ты быть не можешь, — сказала Лелия. — Я это знаю лучше, чем ты сама. Ни безрассудства твои, ни твои победы, ни все твое мотовство не могут заставить тебя забыться. Напрасно в роскоши и сладострастии ты соперничаешь с Клеопатрой. У твоих ног нет Антония, и ты отдала бы все свои наслаждения и все богатства за сердце, глубоко тебя полюбившее. Ибо мне кажется, что даже такая, как ты сейчас, Пульхерия, ты и лучше и чище всех мужчин, которые владеют тобой и которые хвастают, подобно любовнику Лаисы, что ты ими не овладела. Мне кажется, что только потому, что ты женщина, ты иногда, может быть, еще и любишь и что, уж во всяком случае, попав в объятия человека, который кажется тебе более благородным, чем остальные, ты жалеешь о том, что не полюбила. Разве эта нескончаемая комедия любви не трогает тебя иногда, как тронула бы истинная любовь? Я видела, как великие актеры проливали на сцене настоящие слезы. Не приходится сомневаться, что воображаемое чувство, которое они воплощали, напоминает им о любовных страданиях, некогда испытанных ими самими! Мне кажется, что чем больше человек отдается безумию сладострастия, которым сердце совсем не затронуто, тем больше он этим возбуждает в себе жажду любить, которая никогда не может удовлетвориться и день ото дня становится все более жгучей. Пульхерия принялась хохотать, а потом вдруг закрыла лицо руками и зарыдала. — О, — сказала Лелия, — ты тоже носишь в сердце своем глубокую рану и вынуждена прятать ее под покровом безумного веселья, как я прячу свою под покровом высокомерного равнодушия. — И все-таки тебя никто никогда не презирал, — сказала куртизанка. — Это ты презирала любовь мужчин, считала ее недостойной тебя. — Что касается человека, которого я знала, то я не берусь утверждать, что он был недостоин моей любви; но он был так непохож на меня, что я никак не могла принять этих неравных отношений на всю жизнь. Человек этот был умен, справедлив, великодушен. Мужская красота сочеталась в нем с редкостной образованностью, с честностью, с тем спокойствием, которое порождается силой, с терпением и добротой. Не думаю, что мог бы найтись другой, более достойный моей любви. Такого, как он, мне теперь уже никогда не встретить. — Так чем же он был плох? — спросила Пульхерия. — Он не любил! — ответила Лелия. — Какое могли иметь для меня значение все его высокие достоинства? Все извлекали из них для себя выгоду, все, только не я, во всяком случае, я не больше, чем все остальные. И в то время как я безраздельно отдавала ему всю мою душу, на мою долю доставалась лишь частица его души. Он воспламенялся ко мне порывами жгучей страсти, которые вскоре угасали, сменяясь глубоким мраком. Восторги его были горячее моих, казалось, что в них за несколько мгновений сгорала вся сила любви, которую он накаливал за долгие дни. В повседневной жизни он был мне другом, нежным и справедливым. Но мысли его блуждали далеко от меня, и поступки его то и дело увлекали его туда, где меня не было. Не думай, что я настолько несправедлива к нему, что хотела приковать его к себе, или настолько нескромна, что следовала за ним по пятам. Я не знала ревности, ибо сама была неспособна к обману. Я понимала, что у него есть свои обязанности, и не хотела мешать ему их исполнять. Но я была до ужаса прозорлива и, сама того не желая, видела, как много ничтожества и тщеты в делах, которые мужчины считают важными. Мне казалось, что, будь я на его месте, я внесла бы в эти дела больше порядка, четкости и серьезности. И все же он был одним из первых среди мужчин. Но я отлично видела, что исполнение общественного долга для него скорее средство удовлетворить собственное самолюбие, что последнее значит для него больше и волнует его сильнее, чем светлые услады чистой любви. Не одно только служение человечеству поглощало его душу и заставляло биться его сердце, к этому примешивалась и жажда славы. Слава его была чистой и достойной уважения, он никогда не достигал ее ценою слабости; но он готов был пожертвовать ради нее моим счастьем и поражался, видя, что окружающее его сияние меня не пьянит. Что до меня, то я любила его великодушные поступки, наградою за которые и была эта слава; но награда эта казалась мне смешной, грубой, поклонение публики в моих глазах только проституировало чувство. Я не могла примириться с тем, что ласки толпы ему дороже моих и что он не умеет найти награды более высокой в своем собственном сердце, а тем более в сердце любимой. Я видела, как он разменивает свой высокий идеал на самую мелкую монету. Мне казалось, что он поступается вечной жизнью души и что, говоря проникновенными словами Христа, награду он начинает получать в этой жизни. Моя любовь была безмерна, а его — ограничена пределами, которых нельзя было перейти. Он отмерил мне мою долю любви и не понимал, что мог дать мне больше и что удовлетвориться тем, что получала, я не могла. Правда, как только он в чем-нибудь разочаровывался, он неизменно возвращался ко мне. Нередко случалось, что он находил мнение людей несправедливым и общество неблагодарным. Друзья, на которых он больше всего полагался, часто предавали его, привлеченные какою-нибудь ничтожной выгодой или поддавшись соблазну тщеславия. Тогда он приходил и плакал у меня на груди и в порыве волнения переносил на меня всю свою любовь безраздельно. Но это эфемерное счастье только усугубляло мои страдания. Очень скоро душа эта, такая ленивая или такая легкомысленная, когда надо было думать о вечной жизни, приходила в смятение из-за каких-нибудь земных дел. Порывы любви, в которых было больше слепой страсти, чем подлинной глубины чувств, влекли за собою усталость, потребность в деятельности, наступало пресыщение нежностью и экстазом. Воспоминания о политических словопрениях (в наше время самых пустых из всех — могу тебя в этом уверить) преследовали его даже в моих объятиях. Моя философическая отчужденность от всего этого пустозвонства раздражала его и оскорбляла. Он мстил мне, напоминая о том, что я женщина и что я не могу ни подняться до уровня всех его расчетов, ни понять важность того, что он делает. И отсюда — все растущая привычка к досаде и к глухому отвращению, перемежающаяся с раскаянием и новыми излияниями любви, но при малейшем раздоре готовая появиться снова. Когда он возвращался ко мне, я с горечью замечала, что и в радости его и в любви было что-то безумное, что, перед тем как погаснуть, душа его, устрашившаяся ничтожества земной жизни, хотела взметнуться последний раз к небу и вкусить неизведанное блаженство, дабы исчерпать его и тут же вернуться на землю холодной и успокоенной. Эти лихорадочные излияния страсти, потерявшие свою святость среди ссор и обид, раздирали мне душу, так же как и наши бесконечные расставания. И тогда он жаловался на мою печаль, которую он принимал за охлаждение. Он воображал, что мозг может еще предаваться радости, когда сердце разбито. Слезы мои оскорбляли его, и он осмеливался, да простит его бог, упрекать меня в том, что я его не люблю. О, ведь это он разорвал самую крепкую нить, которой могли связать себя две души! Не желая считаться с тем, что я стоически сдерживала себя, огромным усилием воли обуздывала свое страдание, он смотрел как на преступление на мою бледность, на деланную улыбку, на слезу, невольно скатившуюся с ресниц. Ему казалось преступлением, что я не такой же ребенок, как он сам, делавший вид, что обращается со мной как с ребенком. А потом настал день, когда он понял, что я выше его. Тогда, разъярившись, он обратил свой гнев против всех женщин вообще и стал проклинать весь наш пол, чтобы быть вправе проклинать и меня. Он упрекнул меня в недостатках, которые внедряет в нас наша рабская доля, в отсутствии просвещенности, в которой нам отказывают, и страстей, которые нам запрещают. Он умудрился даже упрекнуть меня в том, что я так безмерно его люблю, видя в этом бессмысленное честолюбие, расстройство ума, стремление к власти. И когда он окончил свои кощунственные речи, я почувствовала наконец, что больше его не люблю. — Как, — в волнении вскричала Пульхерия, — ты даже не сумела за себя отомстить! Какая же ты трусиха! Надо было тут же полюбить кого-то другого. Ты бы излечилась, ты бы забыла. — И снова начала бы такую же жалкую, мучительную жизнь с другим. Странный способ отмщения! — Но ведь, захваченная своей первой страстью, ты же знала часы опьянения и дни надежды, ты бы нашла их и потом, полюбив еще раз. А неблагодарный, который разбил тебе жизнь, смертельно бы страдал, увидев, как ты ожила. — А на что мне были бы его страдания? И неужели бы он мог так легко поверить в мое новое счастье? Ты думаешь, он не знал, что выпил до конца всю мою жизнь и что после этой страшной усталости душе моей остается только покой смерти? — Нет, твоя душа не знала этого покоя, Лелия! Ты ведь постоянно страдаешь и стремишься к счастью и вместе с тем не хочешь его искать; ты и сейчас хотела бы любить. Что я говорю? Ты все еще любишь, ибо сердце твое терзается. Только любовь твоя ни на кого не направлена. — Увы, это более чем справедливо, — удрученно сказала Лелия. — Вместе с тем я все сделала, чтобы погасить в себе самое любовь, я хотела охладить сердце одиночеством, суровостью, размышлениями. Но я только все больше и больше мучила себя, не будучи в силах вырвать из груди моей жизнь. Разум мой не стал богаче оттого, что я старалась что-то отнять у моих чувств, и я скатилась в бездну сомнений и противоречий. Выслушай же эту печальную историю. Я хотела отдаться целиком этому безнадежному изнеможению. Я ушла от людей. Большой заброшенный монастырь, наполовину разрушенный грозами революций, стал для меня верным и надежным убежищем. Монастырь этот был расположен в одном из моих поместий. Я выбрала себе келью в наименее разрушенной его части. Раньше в ней жил приор. На стене еще видны были следы гвоздей: верно там висело распятие, перед которым он обычно молился, — на полу остался след от его колен. В этой комнате я окружила себя суровыми символами католической веры: песочные часы, череп и изображения святых мучеников, воздевавших обагренные кровью руки к творцу. Спала я в гробу. К этим мрачным предметам, твердившим мне, что я теперь мертва для человеческих страстей, я присоединила и вещи более веселые, говорившие о любви к поэзии и к природе: книги, музыкальные инструменты и вазы с цветами. Местность была не очень живописна, но я полюбила ее прежде всего за однообразие, навевавшее грусть, за безмолвие широких равнин. Я надеялась, что совсем избавлюсь там от всех порывов чувств, от всех моих неумеренных восторгов. Я жаждала покоя, мне казалось, что я могу, нисколько не утомляясь, без всякой опасности для себя, окидывать взором весь этот ровный горизонт, весь этот океан вереска, где только изредка какой-нибудь высохший дуб, голубоватое болото или бледные песчаные осыпи вторгались в пустые пространства. Я надеялась также, что в этом полном уединении, в этом бедном и суровом образе жизни, который я себе создавала, в этом отдалении от всякого шума цивилизации найду забвение прошлого и перестану тревожиться за грядущее. У меня оставалось слишком мало сил, чтобы сожалеть, еще меньше, чтобы желать. Мне хотелось думать, что я умерла и похоронила себя среди этих развалин, для того чтобы окончательно оледенеть и потом вернуться в мир уже совершенно неуязвимой. Я решила начать со стоицизма телесного, чтобы потом более уверенно перейти к духовному. До этого я жила в роскоши, теперь я хотела приучить себя совершенно не замечать всех материальных лишений монашеской жизни. Я отослала всех слуг и решила пользоваться только услугами одной-единственной женщины, которая бесшумно скользила по пустынным галереям монастыря и передавала мне через выходившее туда окошечко пищу и предметы первой необходимости, после чего столь же бесшумно удалялась, так что я не могла ни видеть ее, ни общаться с ней. Я употребляла самую простую пищу и была вынуждена сама убирать свое жилище и сама о себе заботиться. Жизнь моя была очень строгой, но я хотела наложить на себя еще более суровое испытание. Живя в обществе, я привыкла к движению, к деятельности легкой и непрерывной, позволительной, когда человек богат. Я любила быструю верховую езду, путешествия, свежий воздух, веселую охоту. Теперь я решила умертвить свою плоть и остудить горячие мысли добровольным затворничеством. Воображение мое вновь воздвигало разрушенные стены монастыря. Я окружила открытый со всех сторон дворик невидимой и незыблемой оградой. Я позволила себе доходить лишь до определенного места и точно отмерила пространство, которым должна была себя ограничить на целый год. В дни, когда душевное смятение мое было так велико, что я не могла определить воображаемые границы, которыми я окружила мою тюрьму, я прибегала к опознавательным знакам. Я вытаскивала из полуразрушенных стен вросшие в них длинные стебли плюща и ломоноса и складывала их на землю в тех местах, за пределы которых запрещала себе ступать. Вслед за тем, окончательно удостоверившись, что теперь уже не нарушу своего обета, я чувствовала, что крепость моя столь же надежна, как и Бастилия. Некоторое время я так строго подчинялась этому распорядку, что мне действительно удалось отдохнуть от былых страданий. В сердце моем воцарилось великое спокойствие, дух мой умиротворился, безраздельно подчинившись принятому решению. Но случилось так, что способности мои, восстановленные отдыхом, понемногу пробудились и властно требовали себе применения. Я хотела совсем подавить дремавшую во мне силу, но вместо этого ее укрепила; засыпав золой догоравшую искру, я сохранила ей жизнь, сберегла огонь, достаточный, чтобы вспыхнул пожар, большой пожар Чувствуя, что оживаю, я испугалась, не сдержала себя воспоминанием о тех решениях, которые провозгласила на собственной могиле. Следовало направить эти жестокие усилия на то, чтобы принизить в моих глазах смысл всех вещей, сделать так, чтобы ни одно внешнее впечатление не могло на меня повлиять. Вместо этого одиночество и раздумье создали во мне новые чувства и способности, которых я раньше за собою не знала. Я не стремилась погасить их в самом начале, ибо думала, что они, может быть, заменят мне те, которые ввели меня в заблуждение. Я приняла их как благодеяние неба, вместо того чтобы оттолкнуть как новое наваждение дьявола. Поэзия снова посетила меня. Но эта обманщица, окрасилась теперь в другие цвета, приняла новые формы, постаралась придать красоту тем предметам, которые я до сих пор считала бледными и ничтожными. Мне не приходило в голову, что бездеятельность и безразличие к некоторым сторонам жизни должны были внушить мне живой интерес к вещам, которых я прежде не замечала. Но именно это со мной и случилось: строгость жизни, которой я облекла себя, как власяницей, сделалась мне приятной и сладостной, как мягкая постель. С гордой радостью взирала я на это пассивное повиновение одной части моего существа и на долгую власть другой, на это святое отречение материи и на великолепное царство воли, спокойной и упорной. Раньше я пренебрегала регулярностью в занятиях. Предписав ее себе в моем уединении, я напрасно обольщалась, думая, что мысли мои потеряют свою силу. Но они окрепли и стали только стройнее. Обособляясь одна от другой, они принимали более совершенные формы; проблуждав долгое время в мире смутных представлений, они развились и стали добираться всякий раз до истоков; привычка и потребность докапываться до истины преисполнили их удивительной силы. Это было моим самым большим несчастьем; через поэзию я пришла к скептицизму; через восторженное приятие жизни — к сомнению. Так систематическое изучение природы привело меня и к восхвалению бога и к хуле на него. Прежде творения его только восхищали меня; моя примиренная с жизнью поэзия отшатывалась от всего непомерного, казавшегося мне отвратительным, или пыталась представить его себе величественным, мрачным и диким. Чем внимательнее я изучала природу, чем больше присматривалась к разным ее сторонам, подвергая ее холодному и бесстрастному анализу, тем отчетливее видела, сколь изобретателен, мудр и всеобъемлющ гений, который сотворил мир. Я упала перед ним на колени, исполненная горячей веры, и, благословляя создателя этой новой для меня вселенной, молила его открыться мне еще полнее. Я продолжала изучать и анализировать, но наука — это пропасть, спускаться в которую надо с большой осторожностью. Когда после первоначального упоения великолепием красок и форм, из которых состоит вселенная, я поняла, сколько каждый вид живых существ таит в себе неполноты, беспомощности и ничтожества; когда я увидела, что у одних красота сочетается со слабостью, что у других глупость уничтожает преимущества, приносимые силой, что нет таких, кто мог бы жить спокойной жизнью и вкушать только радости, что все на своем земном пути должно пройти сквозь страдание и что роковая необходимость движет этим страшным стечением страданий, меня охватил ужас; я вдруг почувствовала, что должна отречься от бога, иначе мне придется его возненавидеть. Потом я снова привязалась к нему, присматриваясь к своей собственной силе; я усмотрела божественное начало в той огромной физической стойкости, которая помогает животным переносить все жестокости природы, в той огромной гордости, с которой человек оспаривает безжалостные решения божества, и в том великом смирении, с которым он их принимает. Колеблясь между верой и неверием, я потеряла покой. По нескольку раз в день я переходила от нежности к ненависти. Когда человек ступает по краю между отрицанием и утверждением, когда он думает, что достиг уже мудрости, он ближе всего к безумию. Вперед его может вести только дальнейшее совершенствование, но оно уже невозможно, или наитие, но оно не подчиняется мысли и превращается в бред. Словом, я испытала страшные муки, а так как всякое человеческое страдание склонно любоваться собою и жаловаться, пагубная поэзия снова стала между мной и объектом моего созерцания. Но поскольку одна из главных способностей поэтического чувства — преувеличение, горе вокруг меня выросло, а радости вызывали во мне такое волнение, что сами стали походить на страдание. Страдание же само начало казаться огромным и страшным, оно разъяло в душе моей бездны, и те поглотили мои напрасные мечты о мудрости, напрасные надежды на отдых. Иногда я шла взглянуть на закат солнца с полуразрушенной террасы, часть которой еще сохранилась; огромные изваяния, некогда воздвигавшиеся на католических храмах, окружали ее и словно поддерживали. Над головой моей эти странные аллегорические фигуры вытягивали свои почерневшие от времени морды и, казалось, как и я, склонялись над равниной, молча глядя на потоки воды, на века и на поколения. Все эти покрытые чешуею драконы, безобразные ящерицы, ужасающие химеры, все эти эмблемы греха, иллюзии и страдания жили вместе со мною какой-то зловещей, неподвижной и нерушимой жизнью. Когда красный луч заходящего солнца играл на их причудливых шершавых телах, мне казалось, что бока у них вздуваются, колючие плавники раздвигаются, страшные морды корчатся в новых муках. И глядя на то, как существа эти вросли в огромные каменные глыбы, которых ни рука человека, ни рука времени не в силах была сломить, я отождествляла себя с этими образами вечной борьбы страдания и неизбежности, ярости и бессилия. Далеко внизу, под серой угловатой громадой монастыря, расстилалась бескрайняя равнина, однообразная и унылая. Заходившее солнце озаряло ее отблеском пламени. Когда оно начинало медленно исчезать за неуловимыми границами горизонта, голубоватая дымка тумана, слегка окрашенная пурпуром, поднималась к небу, и черная равнина делалась похожей на огромный саван, разостланный у моих ног; ветер наклонял гибкие стебли вереска, колыхая их, как воды озера. Чаще всего во всей этой необычайной шири слышно было только журчание ручейка среди камней, карканье хищных птиц и жалобные завывания ветра под монастырскими сводами. Изредка появлялась какая-нибудь отбившаяся от стада корова; она тревожно мычала, ходила вокруг развалин и дикими глазами озиралась на пустынные, заброшенные земли, куда она неосмотрительно забрела. Однажды, привлеченный звоном колокольчика, прямо на монастырский двор забежал деревенский мальчишка — он искал отбившуюся от стада козу. Я спряталась, чтобы он меня не увидел. В сырых и гулких галереях монастыря делалось все темнее; пастушонок сначала остановился, должно быть испугавшись шума собственных шагов, которые эхо разносило под сводами; потом он пришел в себя и, распевая песенку, пошел туда, где его коза щипала росшие среди развалин солончаковые растения. Мне было неприятно, что, кроме меня, в этом святилище появилось еще какое-то живое существо: песок, скрипевший у него под ногами, эхо, отвечающее на его голос, — все это казалось мне оскорбительным в храме, которому я втайне от всех возвратила жизнь и где одна, припав к стопам господа, вновь устремила свои помыслы к небу. Весной, когда дикий дрок покрылся цветами, когда мальвы распространили свой нежный запах вкруг болот и когда ласточки наполнили движением и шумом воздух вокруг и самые недоступные высоты башен, природа выглядела величественно и была напоена ароматами, одуряющими, сладострастными. Далекое мычанье коров и лай собак всегда почти пробуждали среди развалин эхо, и жаворонок пел по утрам свои песни, пленительные и нежные как псалмы. Даже стены монастыря преобразились. Змеиная трава и камнеломка пробивались пышными зелеными пучками сквозь сырые трещины; желтые левкои наполняли благоуханием церковные нефы, и в заброшенном саду несколько столетних фруктовых деревьев, переживших это жестокое опустошение, украсили бело-розовыми почками свои угловатые, изъеденные мхом ветви. Подножия массивных каменных столбов — и те покрылись ярким и пестрымковром из порожденных сыростью микроскопических растений, какие обычно устилают руины и подземелья. Я изучала тайну жизни всех этих животных и растений и думала, что под влиянием мысли воображение мое оледенеет. Но природа вновь явилась мне помолодевшей и похорошевшей и еще раз дала почувствовать свое могущество. Она посмеялась над моей гордостью и подчинила себе те строптивые способности, которые хотели служить только науке. Это ошибка — думать, что наука мешает восхищаться природой и что взор поэта тускнеет, по мере того как взору натуралиста открываются все более широкие горизонты. Исследование, уничтожающее столько верований, просвещая, пробуждает также и новые. Изучение открыло мне сокровища и наряду с этим отняло у меня иллюзии. Сердце мое, нисколько не обедневшее, обновилось. Великолепие весны, ее ароматы, бодрящее влияние теплого солнца и чистого воздуха, необъяснимое чувство, которое охватывает человека в то время года, когда расцветшая земля всеми порами своими источает жизнь и любовь, — все это повергло меня в новые страдания. Меня снова стала терзать тревога, вернулись желания, смутные и бессильные. Мне показалось, что я возвращаюсь к жизни, что могу еще любить. Вторая молодость, более восторженная, чем первая, заставляла биться мое сердце так, как оно никогда дотоле не билось. Я испугалась и вместе с тем обрадовалась совершившейся во мне перемене и отдавалась этому упоительному волнению, не зная, какою я буду, когда проснусь. Вскоре вместе с раздумьем вернулся и страх. Я вспомнила печальные события моей жизни. Память о прежних несчастьях лишила меня веры в будущее. Все мне казалось страшным: люди, поступки, вещи и прежде всего я сама. Люди, думала я, не поймут меня, а их поступки будут без конца меня оскорблять, потому что я никогда не смогу подняться или опуститься до уровня других людей или их поступков. А потом меня охватила скука, она навалилась на меня всей своей тяжестью. Мое убежище, такое суровое, поэтичное и красивое, в иные дни казалось мне страшным. Обет не покидать его, которым я добровольно себя связала, стал мне казаться какой-то ужасной обузой. В этом монастыре без ограды и без дверей я испытывала те же муки, какие доставались на долю пленника-монаха, отделенного от мира решетками и рвами. На эти переходы от желания к страху, на эту отчаянную борьбу воли против самой себя уходили все мои силы. По мере того как они возвращались ко мне, я претерпевала все тяготы и разочарования, которые приносит опыт, не пытаясь, однако, ничего предпринять. Когда потребность действовать и жить становилась слишком сильной, я позволяла ей овладевать мною до тех пор, пока эта потребность не истощала себя сама. Ночи напролет проводила я в безропотной покорности. Лежа на надгробной плите, я отдавалась во власть беспричинных слез, которые ни к кому не относились, но проистекали из глубокой скуки опустошенного сердца. Часто гроза с дождем заставала меня у ограды разрушенной часовни. Я считала, что не должна уходить от нее, и надеялась, что гроза мне принесет облегчение. Иногда уже брезжил день, а я встречала его разбитая усталостью, вся в грязи, еще более бледная, чем свет зари, и у меня не было даже сил причесать растрепавшиеся волосы, по которым струилась вода. Часто я пыталась облегчить свои страдания, крича от боли и гнева. Ночные птицы в испуге улетали или отвечали мне такими же дикими криками. От звуков их, отдававшихся от свода к своду, развалины сотрясались, и скатывавшиеся сверху камушки, казалось, предупреждали меня, что все здание вот-вот обрушится мне на голову. О, как я хотела тогда, чтобы это случилось! Я начинала кричать еще отчаяннее: казалось, что стены эти, возвращавшие мне мой собственный голос, который становился еще более страшным, еще более душераздирающим, населены целыми легионами проклятых душ, которые торопятся мне ответить и рвутся богохульствовать вместе со мною. Следовавшие за этими страшными ночами дни были полны какого-то мрачного оцепенения. Мне удавалось наконец на несколько часов заснуть, но просыпалась я всегда совсем одеревенелой и потом целый день не могла ни на чем сосредоточиться — все становилось мне безразлично. В эти минуты жизнь моя походила на жизнь монахов, отупевших от привычки к повиновению. Сколько-то времени я медленно расхаживала взад и вперед. Я пела псалмы; их звуки немного успокаивали мои страдания, но я не могла уяснить себе смысл тех слов, которые были у меня на устах. Я старалась развлечь себя тем, что на подступах к этим суровым стенам разводила цветы. Земля была там смешана с мелкой известью и песком, и корням было где укрепиться. Я смотрела, как трудится ласточка, и защищала ее гнездо от вторжения воробьев и синиц. В эти минуты память моя переставала слышать отзвуки человеческих страстей. У меня вошло в привычку, ни о чем не думая, держаться в границах своего добровольного заточения, начертанных на песке, и я даже не помышляла их перейти, как будто за ними кончалась вселенная. Бывали у меня и дни покоя и разумного отношения к жизни. Христианская религия, для которой я избрала формы, соответствующие моему пониманию и моим потребностям, вливала мне в душу благодатную нежность и, подобно целительному бальзаму, врачевала раны моей души. По сути дела, я никогда особенно не старалась понять, действительно ли божественное начало, в разной степени присущее душе человека, давало людям право называться пророками, полубогами, спасителями. Вакх, Моисей, Конфуций, Магомет, Лютер осуществляли великие миссии на земле и до основания потрясли человеческий дух, определив его развитие на много столетий. Были ли похожи на нас эти люди, которые и сейчас помогают нам думать, помогают жить? Не были ли это колоссы, чья духовная мощь перестроила целые общества, существами более совершенными, чистыми и возвышенными, чем мы? Если мы не отрицаем существование бога и божественного начала в людях мыслящих, то вправе ли мы отрицать самые прекрасные его творения или пренебрегать ими? Неужели того, кто прожил жизнь без слабости и без греха, того, кто изрек людям евангельские истины и на долгие века переделал духовный мир человека, — неужели и в самом деле его нельзя признать сыном божьим? Господь попеременно посылает нам сильных людей, творящих зло, и других, таких же сильных, призвание которых творить добро. Высшая воля, управляющая вселенной, когда ей бывает угодно толкнуть человеческий дух вперед или назад на какой-то части земного шара, может, не дожидаясь размеренного шага веков и медленного действия природных причин, произвести эти внезапные перемены с помощью руки или слова человека, для этой цели сотворенного ею. Так Иисус босыми и пыльными ногами топчет золотую диадему фарисеев; так он разбивает скрижали старого закона и возвещает будущим векам великий закон спиритуализма, необходимый, чтобы возродить ослабевшие народы; так он поднимается, подобно гиганту, в истории человечества, и делит эту историю на два царства: царство чувства и царство мысли; так он уничтожает своей непреклонной десницей всю животную силу человека и открывает его духу новый путь, огромный, непостижимый, может быть вечный. Разве, если вы верите в бога, вы не станете на колени и не скажете: «Се есть слово, которое было с богом с начала веков. Оно явилось от бога, к богу оно и вернется; оно с ним навеки, оно воссядет одесную его, ибо оно искупило людей»? Господь, который с неба послал Иисуса; Иисус, который был богом на земле, и дух святой, который был в Иисусе и заполнил пространство между Иисусом и богом, не есть ли это троица, простая, неделимая, необходимая для существования Христа и его царства? Разве каждый человек, который верит и молится, каждый человек, которого вера воссоединяет с богом, не является бледным отражением этой таинственной троицы, которое становится тем отчетливее, чем лучше человек постигает дух святой? Душа, порыв души, направленный к неизвестной цели, и таинственная цель этого высшего порыва — разве это не бог, явившийся в трех разных своих ипостасях: в силе, борьбе и победе? Этот тройственный символ божества, наметившийся в человечестве, однажды нашел свое идеальное воплощение в Иисусе, боге отце и святом духе, которого католическая церковь изображает в виде голубя, чтобы подчеркнуть, что любовь — это душа вселенной. — Эти мистические аллегории мне смешны, — сказала Пульхерия. — Вот какие вы, избранные души, чистые существа! Вам надо увидеть и истолковать великую книгу откровения; вам надо подвергнуть священное слово толкованиям вашей гордой философии. А когда с помощью всяческих изощрений вы сумеете навязать угодный вам смысл божественным таинствам, тогда вы соглашаетесь преклониться перед новой верой, вы же ведь сами объяснили и переделали ее так, как вам заблагорассудилось. Выходит, вы преклоняетесь перед своим собственным созданием. Согласись, что это так, Лелия! — Я не стану этого отрицать, сестра моя. Но какое это имеет значение, если на этом зиждется наша вера и наша надежда? Счастливы те, кто может подчиниться букве без помощи разума! Счастливы чувствительные и безумные мечтатели, которые заставляют мятежный дух подчиниться букве! Что до меня, то в обрядах и эмблемах этого культа я видела высокую поэзию и источник умиления. Форма и пропорции католических храмов, несколько театральное убранство алтарей, великолепие священников, пение, ароматы, минуты сосредоточенного молчания, все эти древние красоты, отразившие языческие нравы, среди которых родилась церковь, повергали меня в благоговейный восторг всякий раз, когда я бывала настроена непредвзято. Монастырь, где я жила, был совершенно разрушен и опустошен. Но однажды, бродя среди развалин, я наткнулась на вход в подземелье; скрытый под обломками, он сохранился от ударов, которые время всеобщего безумия и разрухи нанесло этим стенам. Расчистив себе дорогу среди обломков и колючек, я смогла спуститься вниз по узенькой темной лестнице; вела она в подземную часовню, очень тонко отделанную и хорошо сохранившуюся. Свод часовни был так крепко сложен, что выдержал огромную тяжесть нагромоздившихся на него камней. Сырость пощадила фрески на стенах; на скамеечке резного дуба в полумраке можно было различить черную рясу, казалось, вчера только позабытую здесь священником. Я подошла ближе и наклонилась, чтобы взглянуть на нее: тут я увидела под складками бумажной и шерстяной ткани формы коленопреклоненного человека; голова, которую он опустил на сложенные руки, была скрыта черным капюшоном; казалось, он был погружен в очень глубокое, проникновенное раздумье. Пораженная суеверным страхом, я подалась назад и в нерешительности застыла на месте. Вырвавшийся из открытой двери воздух колыхнул запыленную рясу, и недвижимая фигура будто зашевелилась; у меня было такое чувство, что вот-вот она встанет. Возможно ли это, чтобы один человек мог пережить резню, жертвами которой пали все его братья, чтобы он мог просуществовать тридцать лет в этом строгом мученическом заточении, в этом глубоком подземелье, о котором я ничего не знала? На какое-то мгновение я этому поверила и, боясь прервать его сосредоточенное раздумье, стояла неподвижно, проникшись уважением, подбирая слова, с которыми должна буду к нему обратиться, и вместе с тем готовая уйти, так и не осмелившись их произнести. Но по мере того как глаза мои стали привыкать к темноте, я разглядела, что дряблые складки материи свисают с острых, угловатых боков. Я разгадала представшую моим глазам тайну и почтительно коснулась рукою этих мощей. Едва только я дотронулась до капюшона, как он свалился, подняв клубы пыли, и рука моя наткнулась на холодный высохший череп. Как величественно и страшно выглядела голова монаха, на которой ветер развевал еще пряди седых волос, и борода, которая сплелась с разъединенными фалангами пальцев скрещенных рук. Такого мне еще никогда не случалось видеть. Иные подземелья, где от сырости скопляется много селитры, обладают свойством высушивать тела и сохранять их нетленными в течение долгих веков. Было обнаружено немало трупов, в силу этих естественных причин уцелевших от разложения. Желтая и прозрачная, как пергамент, кожа плотно облегает сморщенные и затвердевшие мускулы. Туго натянутые губы не прикрывают крепких белых зубов; ресницы словно вдавились в глаза, лишенные блеска и цвета; на чертах лица — печать суровости и спокойствия, гладкий ровный лоб полон какого-то мрачного величия, а застывшие члены хранят то положение, в котором их настигла смерть. Этим печальным мощам присуща какая-то царственность, отрицать которую невозможно, и порою начинает казаться, что мертвец может еще пробудиться. В останках, которые я видела в эту минуту, было нечто еще более возвышенное, и причиной этого были сами обстоятельства, которые сопутствовали смерти Этот монах, умерший без агонии за спокойной молитвой, был окружен в моих глазах ореолом славы. Что же происходило вокруг, когда он умирал? Может быть, на него наложили суровую епитимью, за какой-нибудь благородный проступок и он почил in pace [46], открыв господу душу, в глубинах подземелья, в то время как его безжалостные братья пели гимн мертвым над его головой? Это предположение рассеялось, когда я убедилась, что подземелье ни с какой стороны не было замуровано и что эта обитель, посвященная служению богу, ничем не напоминала тюрьму. Должно быть, буря революции застала этого мученика в его убежище. Может быть, услыхав свирепые крики толпы, он спустился вниз, чтобы уйти от надругательств, или принял последний удар на ступеньках своего алтаря. Но никаких следов ран обнаружить было нельзя. В конце концов я пришла к мысли, что, когда под свирепым натиском победителей обрушилась главная часть здания, монах был лишен возможности выйти, и ему пришлось умереть смертью весталок. Умер он без мучений, может быть даже вкусив радость в один из этих ужасных дней, когда смерть была благодеянием даже для неверующих. Он отдал душу господу, простертый перед распятием и молясь за своих палачей. Эти мощи, это подземелье, это распятие — все сделалось для меня священным. Под этот темный, холодный свод я часто приходила, чтобы охладить обуревавшие меня мысли. Я прикрыла останки монаха новой одеждой. Каждый день я становилась перед ним на колени. Мучимая своим страданием, я часто начинала громко с ним говорить, как с товарищем по изгнанию или по несчастью. Я прониклась священной и безумной любовью к этому мертвецу. Перед ним я исповедовалась, ему я рассказывала все томления моей души; я просила его быть посредником между мной и небом, чтобы нас помирить. Он часто являлся мне в снах; я видела, как он проходил мимо моего ложа, словно некий дух из видений Иова, и слышала, как голосом слабым, будто дуновение ветерка, он шептал слова, вселявшие в меня страх и надежду. В этой подземной часовне мне полюбилось также большое распятие из белого мрамора; оно висело в нише и когда-то освещалось светом, проникавшим сквозь окошечко наверху. Теперь это маленькое окошечко было завалено обломками, но слабые лучи все же пробирались еще сквозь щели в камнях, беспорядочно нагроможденных снаружи. Этот слабый, косо падавший свет придавал какую-то особую печаль бледному лику Христа. Я подолгу смотрела на этот поэтический и скорбный символ. Есть ли на земле что-либо более трогательное, чем изображение физической муки, увенчанное просветленной радостью на лице! Что может быть выше этой мысли, что может быть глубже этой эмблемы; страдающий бог, истекающий кровью, обливающийся слезами и простирающий руки к небу? Образ муки, водруженной на крест и, как молитва, как дым кадильниц, окровавленная и обнаженная, возносящаяся к трону господню! Сияющая надежда, символический крест, на котором покоятся простертые руки и ноги, перебитые пыткой! Терновый венец, надетый на голову — святилище разума, — роковые иглы, обуздавшие могущество человека! Я часто призывала вас, часто падала ниц перед вами. Душа моя распинала себя на этом кресте, она истекала кровью под этими терниями; она часто боготворила под именем Христа человеческое страдание, возвышенное надеждой на иной мир; смирение, иными словами — приятие человеческой жизни; искупление, иначе говоря — мужество в агонии и просветленность в смерти. Вторая зима прошла менее спокойно, чем первая. То терпеливое смирение, которое сначала помогало мне в моих стараниях привыкнуть к этой уединенной жизни и всем ее лишениям, на следующий год меня покинуло. Праздность моя и все раздумья, в которые я погружалась в течение лета, изменили мое душевное состояние. Я почувствовала себя более сильной, но вместе с тем сделалась более раздражительной, более восприимчивой к страданию, переносила его не так спокойно и вместе с тем не стремилась его избежать. Все испытания, которым я с великой радостью подвергала себя раньше, становились для меня тягостными. Я больше не находила в них той сладости, которая когда-то тешила мою гордыню и придавала мне силы. Дни были такими короткими, что лишали меня возможности предаваться моим грустным раздумьям на террасе, и, просиживая долгие вечера у себя в келье, я слушала зловещие завывания ветра. Часто, устав от усилий, которые я делала, чтобы отдалиться от внешнего мира, не будучи в состоянии приковать свое внимание к какому-нибудь занятию или дать определенное направление мыслям, я всецело подпадала под влияние грустившей вокруг природы… Сидя в амбразуре окна, я смотрела, как луна, медленно поднимается над покрытыми снегом крышами и блестит на ледяных сосульках, свисающих с каменных орнаментов на монастырских стенах. В этих холодных, сверкающих ночах была какая-то неизъяснимая, безнадежная скорбь. Когда ветер стихал, над обителью воцарялась мертвая тишина. Старые тисы бесшумно стряхивали с себя снег и в тишине, он хлопьями осыпался на их нижние ветви. Можно было перетрясти все колючие кусты, заполонившие двор, не разбудив ни одного живого существа, не услышав ни шипенья змеи, ни шороха уползающего жука. В этом мрачном уединении характер мой изменился: смирение превратилось в апатию, раздумье — в смятение. Самые отрешенные, сами смутные, самые ужасные мысли, одна за другой, осаждали мой мозг. Напрасно пыталась я сосредоточиться и начать жить настоящим. Какой-то страшный призрак будущего являлся мне каждый раз во сне и терзал меня. Я говорила себе, что у моего будущего должна быть одна определенная форма, что я должна принять эту форму только после того, как создам ее сама, и что творить ее надлежит по образу и подобию той, какую я сотворила себе в настоящем. Но вскоре я обнаружила, что настоящего для меня не существует, что душа моя совершает напрасные усилия, чтобы заточить себя в этой тюрьме, что она все время блуждает за ее пределами, что ей нужна вселенная и что она исчерпает ее всю в первый же день. Я почувствовала наконец, что вся моя жизнь состоит в том, чтобы беспрерывно возвращаться к утраченным радостям или к тем, которые все еще возможны. Те же, которых я искала в моем одиночестве, неизменно от меня ускользали. На дне чаши, как, впрочем, и всюду, я нашла горький осадок. На исходе знойного лета срок моего обета истек. Приближалось что-то желанное и вместе с тем страшное, и это ожидание заметно повлияло на здоровье мое и на рассудок. Я испытывала невероятную потребность в движении. Я горячо призывала жизнь и не думала о том, что уже слишком много всего пережила и страдаю как раз от избытка жизни. — Но найду ли я хоть что-нибудь в жизни, — спрашивала я себя, — что не было бы так ничтожно, как все, что я уже испытывала? Есть ли в ней хоть какие-нибудь радости, которые не обернутся пустотою, хоть какие-нибудь верования, которые не разлетятся в прах, когда я в них как следует вдумаюсь? Неужели я буду просить людей помочь мне найти покой, которого я не обрела в одиночестве? Неужели они могут дать то, в чем мне отказал господь? Если я еще раз опустошу мое сердце напрасной мечтою, если я покину убежище, в котором заточила себя, и снова разочаруюсь во всем, то где я потом спасусь от отчаяния? Какая надежда, религиозная или философская, улыбнется мне или успокоит меня, когда я сниму все покровы с моих иллюзий, когда у меня в руках будет полное неопровержимое доказательство моего ничтожества? И вместе с тем, говорила я себе, к чему эта уединенная жизнь, к чему размышления? Разве среди этих разрушенных могил я меньше страдала, чем среди людской суеты? Что толку во всей стоической философии, если она способна лишь умножить страдания человека? Что толку в религии страдания и искупления, если цель ее — искать страдание вместо того, чтобы его избегать? Разве все это не верх гордости, не верх безумия? Разве, отказавшись от всех этих изощрений мысли, живя только радостями, которые приносят им чувства, люди не станут счастливее и выше? Что, если господь осуждает это мнимое возвеличение человеческого духа и в день Страшного суда, может быть, заклеймит его своим презрением? Раздираемая этими сомнениями, я искала в книгах поддержки моей ослабевающей воли. Наивная поэзия древности, сладострастные псалмы Соломона, похотливые пасторали Лонга, эротическая философия Анакреона казались мне именно благодаря своей прямоте и откровенности произведениями более религиозными, чем мистические вздохи и припадки истерического фанатизма святой Терезы. Но чаще всего я увлекалась книгами аскетического характера, они интересовали меня гораздо больше. Напрасно старалась я отрешиться от чисто духовных переживаний, связанных с христианством, — я возвращалась к ним снова и снова. У меня сохранялись только воспоминания мимолетной юности, — я дрожала, когда пели песнопения невесты, и улыбалась, когда Дафнис обнимал Хлою. Достаточно было нескольких мгновений, чтобы израсходовать этот притворный пыл, за которым не стояло подлинной простоты сердца и который не стал сильнее под лучами палящего солнца Востока. Я любила читать жития святых, эти чудесные поэмы, эти романы, опасные тем, что в них человечество выглядит таким великим и сильным, что после этого становится уже невозможно спускаться на землю и видеть людей такими, какие они есть. Я любила это глубокое уединение, эти благочестивые страдания, зарождавшиеся в недоступных взглядам кельях, это высокое самоотречение, эти страшные искупительные жертвы, эти безумные и вместе с тем великолепные поступки, которые утешают вас в повседневных бедах и льстят нашей благородной гордости. Я любила также читать о сладостных и нежных утешениях, которые посылались им свыше, о сокровенном общении праведника и духа святого в погруженных во мрак храмах, любила наивную переписку Франциска Сальского и Марии де Шанталь. Но больше всего мне нравились полные строгой любви и мечтательной метафизики проникновенные беседы между богом и человеком, между Иисусом в Евхаристии и неизвестным автором «Подражания Христу». Эти книги были полны размышлений, умиленной нежности и поэзии. Они скрашивали мое уединение. Они обещали величие в одиночестве, мир в труде, отдохновение духа, когда тело устало. Я находила в них отблески такого счастья, печать такой пленительной мудрости, что, когда я читала их, ко мне возвращалась надежда, что я достигну того же. Я говорила себе, что праведников этих, как и меня, испытывали сильными искушениями вернуться в мир, но что они перед ними мужественно устояли. Я говорила себе также, что отречься от моего дела после двух лет борьбы и победы значило потерять плоды столь больших усилий, оказаться не столько трусливой, сколько безумной, тогда как, стараясь выполнить однажды принятое решение, распространяя мой обет на более или менее длительное время, я, может быть, скоро увижу плоды моего упорства. Вернувшись в общество, я, может быть, безвозвратно погибну, в то время как, проведя несколько лишних дней в моем монастыре, я вне всякого сомнения приобщусь к блаженству праведников. После этой долгой борьбы, истощившей мой дух, я впадала в отчаяние и спрашивала себя, с презрением над собою смеясь, неужели моя жизнь настолько важна, чтобы так ее защищать и проносить то немногое, что от нее осталось, сквозь столько бурь. В этих колебаниях я и прожила до начала весны. К тому времени, когда срок моего обета истек, для того, чтобы положить конец моим мукам, я избрала нечто среднее: я нашла спасение в прострации, которая неизменно сопутствует сильным волнениям, я оттягивала решение, ожидая, что мои пробудившиеся способности либо толкнут меня в жизнь, либо прикуют навек к моей келье. В самом деле, новые уколы этой опасной тревоги, причинившей мне уже столько горя, не замедлили сказаться. Однажды я увидела, что свобода моя ко мне вернулась, что наконец клятва больше не привязывает меня к богу, что я принадлежу человечеству и что, может быть, пора уже вернуться к нему, если я не хочу, чтобы сердце мое и разум окончательно омертвели. Дни полного изнеможения, которых бывало так много у меня в жизни, вспоминались мне с ужасом, и мне приходилось бороться то с боязнью впасть в идиотизм, то со страхом сойти с ума. Однажды вечером я почувствовала, что вера моя глубоко поколеблена. От сомнения я перешла к атеизму. Несколько часов я наслаждалась своей неимоверной гордостью, а потом с этой высоты скатилась в бездну ужаса и отчаяния. Я почувствовала, что стоит мне только потерять надежду на небо, единственную, которая помогала мне до сих пор выносить людей, и я пойду по пути порока и преступления. Грянул гром: это была первая весенняя гроза, одна из тех ранних гроз, которые иногда неожиданно разражаются в холодные еще апрельские дни. Всякий раз, когда я слышу гром и вижу, как молния бороздит тучи, охватывающие душу изумление и восторг возвращают меня к вере. И тут я невольно вздрогнула и, объятая священным ужасом, по привычке вскричала: «Ты велик, господь, гром лежит у твоих ног, а чело твое извергает молнию!..». Гроза усиливалась. Я вошла к себе в келью, в единственное во всем монастыре защищенное место. Рано стемнело, дождь лил потоками, ветер, не умолкая, ревел в длинных коридорах, и бледные вспышки молнии гасли среди туч, разверзавшихся то тут, то там. И тогда, в уединении своем, в надежном убежище, в суровом, но подлинном покое, который окружал меня среди хаоса стихий, я ощутила какое-то неизъяснимое блаженство и стала страстно благодарить за него небо. Ураган вздымал с развалин облака пыли и мела и осыпал ими дикие кусты вокруг и груды обломков. Он сорвал обвивавшие стены плющ и хмель, разрушил хрупкое гнездышко, которое ласточка начала свивать себе под пыльными сводами. Не осталось ни одного цветка, ни одного молодого листика, который не был бы смят и унесен ураганом. По воздуху носился облетавший с репейников пух; птицы складывали свои влажные крылья и укрывались в зарослях; все выглядело печальным, усталым, разбитым. И только я одна спокойно сидела в тишине, окруженная своими книгами, и время от времени поглядывала, как тисы отчаянно борются с бурей и как град губит только что пробудившиеся почки дикой бузины. «Такова моя судьба, — воскликнула я, — тишина и покой в келье, гроза и разрушение вокруг! Господи, если я разлучусь с тобой, вихрь судьбы унесет меня, подобно этим листьям. Он сломает меня, как эти молодые деревья. Господи, прими меня, прими мою любовь, смирение мое, и мои клятвы! Не допусти, чтобы душа моя еще раз впала в заблуждение и колебалась так между надеждою и неверием! Направь мой ум на великие и укрепляющие душу мысли, помоги мне порвать навеки с миром суеты, сделай, чтобы ничто не нарушило моего уединения». Я стала на колени перед распятием и, воодушевленная надеждой, написала на белой стене слова обета, а потом громко прочла их в ночной тишине: «Здесь женщина, еще молодая и полная жизни, посвящает себя молитве и размышлению и дает себе в этом торжественную, страшную клятву. Она клянется небом, смертью и совестью никогда не покидать монастыря и провести в нем остающиеся годы, которые ей суждено прожить на земле». После этого жестокого и странного решения я почувствовала большое спокойствие и уснула, несмотря на грозу, которая час от часу свирепела. На рассвете я была разбужена страшным шумом; я вскочила с постели и кинулась к окну. Одна из верхних галерей, которая еще накануне была цела, не устояла перед силой урагана и обрушилась вместе с окружавшими дворик колоннами и замечательными скульптурами. Пронесшийся вихрь сокрушил и другие части здания; меньше чем за четверть часа они превратились в обломки. Казалось, что всем этим разрушением руководит некая сверхъестественная сила; теперь она приближалась ко мне: крыша, под которой я лежала, содрогалась, заросшие мхом черепицы срывались с места, а балки, на которых стояло здание, казалось, колебались и все больше раскачивали стены при каждом новом порыве бури. Конечно, мне стало страшно, это было какое-то примитивное суеверное чувство. Я подумала, что господь сокрушает мое жилище, чтобы изгнать меня оттуда, что он отвергает мой дерзкий обет и заставляет меня возвратиться к людям. И вот я кинулась к двери, не столько для того, чтобы избежать опасности, сколько для того, чтобы не ослушаться высшей воли. На пороге я остановилась — меня поразила мысль, куда более соответствующая моему болезненному возбуждению и романтической склонности. Мне представилось, что господь, для того чтобы сократить срок моего изгнания и вознаградить меня за мое смелое решение, посылает мне смерть, но смерть, достойную героев и праведников. Разве я не поклялась, что умру в этом монастыре? Разве я вправе убегать отсюда из-за того, что приближается смерть? И что может быть благороднее, чем похоронить себя вместе со всеми моими страданиями и надеждой под этими развалинами, которые должны спасти меня от самой себя и возвратить богу мою душу, очищенную покаянием и молитвой? «Приветствую тебя, посланница небес! — вскричала я. — Раз небо посылает тебя, будь желанной гостьей, я жду тебя в келье, которая должна в этой жизни стать мне могилой». Я упала ниц и, погружаясь в экстаз, стала дожидаться своей судьбы. Развалинам монастыря не суждено было выдержать эту бурю. Еще до рассвета ветер сорвал крышу. Одна из стен обрушилась. Я перестала понимать, где нахожусь. Какой-то священник, которого гроза загнала в эти пустынные места, проходил мимо разрушенных монастырских стен. Сначала он в испуге отпрянул от них, потом ему показалось, что сквозь завывания бури слышится человеческий голос. Он отважился пройти по только что обрушившимся стенам и увидел меня, лежавшую без чувств под обломками, которые должны были меня похоронить. Порыв сострадания, которое вера придает даже тем, в ком мало человеколюбия, пробудил в нем неслыханную силу, он решил во что бы то ни стало спасти мне жизнь. С его стороны это было жестоко. Он взвалил меня на лошадь и повез через поля и леса. Человека этого звали Магнус. Он вырвал меня у смерти и снова обрек на страдание. С тех пор как я вернулась в общество, жизнь моя стала еще более несчастной, чем была прежде. Я не хотела быть ничьей невольницей (любовницей, как говорят сейчас). Не чувствуя себя связанной ни с одним мужчиной ни корыстью, ни этим добровольным союзом, я позволила моему тревожному и жадному воображению хватать все, что встречалось на его пути. Найти счастье стало моей единственной мыслью и — если уж признаваться до конца, как низко я пала, — единственным правилом моего поведения, единственной целью, которую поставила себе моя воля. После того как я, сама того не замечая, допустила, что мои желания стали устремляться вслед за скользившими мимо тенями, я начала гоняться за этими тенями во сне, ловить их на лету, настойчиво добиваться от них если не счастья, то хотя бы нескольких дней душевного волнения. И видя, что никому не ведомая распущенность моей мысли никак не может поколебать моих строгих правил, я окунулась в нее, и у меня не было никаких угрызений совести. В воображении своем я изменяла не только человеку, которого любила; сверх того, я каждый день изменяла тому, кого мне случалось полюбить накануне. Очень скоро любить так одного человека мне стало мало, чтобы заполнить душу, всегда жаждавшую и никогда не насыщавшуюся до конца, и несколько таких призраков могли существовать для меня одновременно. Я могла полюбить в один и тот же день и в один и тот же час самозабвенного скрипача, смычком своим повергавшего в трепет все фибры моей души, и мечтательного философа, терпеливо приобщавшего меня к своим раздумьям. Я одновременно полюбила актера, который трогал меня до слез, и поэта, который продиктовал этому актеру запавшие мне в душу слова. Я полюбила даже художника и скульптора, увидав их произведения и не имея понятия о них самих. Я могла влюбиться в звучанье голоса, в цвет волос, в костюм; и даже всего-навсего в портрет человека, умершего много веков тому назад. Чем больше я поддавалась этим восторженным причудам, тем более они становились частыми, мимолетными и пустыми. Видит бог, я ни разу ничем не выдала этих чувств! Но к стыду моему, к ужасу, должна сознаться, что, так легкомысленно используя эти высокие способности, я истерзала себе душу. Помню, сколько я тратила тогда духовной энергии, а ведь сейчас память моя не сохранила даже имен тех, которые, сами того не зная, растаскивали по мелочам сокровища моих чувств. Потом от этого истощения сердце мое иссякло; я была способна только на восторг; и стоило мне приблизиться к предмету моей иллюзорной любви, как эта любовь тут же угасала и всякий раз, когда передо мной появлялся некий новый идол, я отдавала ему предпочтение перед старым. Так я и живу сейчас: я всегда во власти последней прихоти моего больного ума. Но эти прихоти, сначала такие частые и такие бурные, сделались редкими и вялыми, ибо восторги мои тоже охладели, и только после долгих дней отупения и отвращения ко всему мне удается обрести несколько коротких часов, когда я чувствую себя молодой и силы ко мне возвращаются. Скука разъедает мне жизнь, Пульхерия, скука меня убивает. Все изживает себя в моих глазах, все уходит. Я видела вблизи жизнь на всех ее этапах, общество во всех его видах, природу во всей ее красоте. Что я еще увижу? Когда мне удается чем-то заполнить пропасть одного дня, я с ужасом спрашиваю себя, чем я заполню день завтрашний. Господи, мне кажется, что есть еще существа, достойные уважения и всегда способные вызвать к себе интерес. Но, еще не начав разглядывать их, я уже отказываюсь от этой затеи — все кажется мне безнадежным, у меня ни на что не хватает сил. Я понимаю, что недостаточно чувствительна, чтобы оценить людей, недостаточно умна, чтобы понять все происходящее. Охваченная отчаянием, спокойным и мрачным, я замыкаюсь в себе и никто не знает, что я страдаю. Тупицы, из которых состоит общество, спрашивают себя, чего мне недостает; ведь моих богатств могло бы хватить на все радости жизни, ведь красота моя и та роскошь, в которой я живу, могли бы помочь мне осуществить мое самое честолюбивое желание. Среди всех этих людей нет ни одного, чей разум был бы достаточно всеобъемлющ, чтобы понять, какое это великое несчастье — не быть в состоянии ни к чему привязаться и больше ничего не хотеть на земле.36
Пульхерия просидела еще несколько мгновений неподвижно — рассказ Лелии поверг ее в глубокую задумчивость. Потом вдруг, откинув назад пышные волосы, спадавшие ей на лоб, как непокорная лошадь встряхивает гривой, прежде чем пуститься вскачь, она поднялась, охваченная порывом восторженного бесстыдства. — Ну что же, раз это так и именно потому, что это так, надо жить, — вскричала она. — Увенчаем же себя розами и наполним наши кубки радостью! Пусть любовь, добродетель и идеал сколько угодно вопят у дверей, подобно призракам Оссиана, в то время как неустрашимые гости пируют с кубками в руках, вспоминая их гибель! Притом я всегда была достаточно умна, чтобы заглушить в себе порывы безрассудной любви. И всякий раз, когда я чувствовала, что мне грозит опасность полюбить, я спешила большими глотками пить из чаши наслаждений, на дне которой светится чудесный талисман равнодушия — пресыщение! Неужели же нам всю жизнь оплакивать романтические ошибки молодости? Чахнуть и сходить живыми в могилу потому только, что мужчины нас ненавидят? О, будем уж лучше презирать их и отомстим им за их деспотизм не обманом, а равнодушием. Пусть они пышут гневом и ревностью! Я до самой смерти буду смеяться над ними. Что до тебя, Лелия, то, если ты не хочешь этого делать, единственный совет, который я могу тебе дать, — вернись к уединению, к богу. — Мне поздно уже, Пульхерия, следовать твоему совету. Вера моя колеблется, сердце опустошено. Для того чтобы гореть божественной любовью, надо быть и моложе и чище — это не то что гореть какой-либо другой страстью. У меня нет больше сил возвышать душу до вечного чувства обожания и благодарности. Чаще всего я думаю о боге только для того, чтобы обвинить его в своих страданиях и упрекнуть в черствости. Если подчас я и благословляю его, то бывает это тогда, когда я прохожу мимо кладбища и вспоминаю, что жизнь наша скоротечна. — Ты очень стремительно жила, — ответила Пульхерия. — Знай, Лелия, тебе надо найти другое употребление твоим способностям, вернуться к уединенной жизни или искать наслаждений. Выбирай. — Я спустилась с гор Монтевердора. Я пыталась еще раз пережить мои прежние экстазы и прелесть моих благочестивых раздумий. Но там, как и всюду, я нашла только скуку. — Надо, чтобы ты была прикована к какому-то обществу, которое уберегло бы тебя от тебя самой и спасло от собственных размышлений. Надо, чтобы ты подчинилась чужой воле и чтобы подневольная работа отвлекала тебя от деятельности воображения, которая тебя непрерывно гложет. Сделайся монахиней. — Для этого нужна целомудренная душа. Я чиста только своим образом жизни. Я была бы неверной невестой Христа. Притом ты забываешь, что я не святоша. Я не верю, как женщины этого края, в благотворное влияние четок и спасительную силу монашеского одеяния. Тех благочестие успокаивает, освежает и усыпляет. У меня же слишком высокое представление о боге и о том, как надлежит его чтить. Я не могу служить ему машинально, молиться заранее сочиненными и заученными словами. Моя слишком страстная религия была бы сочтена за ересь, а если бы у меня отняли эту экзальтацию, у меня бы ничего не осталось. — Ну что же, — сказала Пульхерия, — если ты не можешь стать монахиней, стань куртизанкой. — Как? — растерянно спросила Лелия. — У меня же нет никакого чувства. — Оно придет, — ответила Пульхерия, улыбаясь. — Тело — это сила не столь непокорная, как дух. Оно предназначено на то, чтобы пользоваться благами материального мира, и с помощью этих же благ человек может управлять им. Бедная моя мечтательница, примирись с этой скромной частью твоего существа. Не презирай больше своей красоты, которой поклоняются все мужчины и которая может еще расцвести, как в былые дни. Не красней, прося у материи радостей, в которых отказал тебе разум. Ты в этом призналась сама. Ты хорошо знаешь, в чем причина твоей беды: ты хотела разъединить две силы, которые господь неразрывно слил воедино… — Но, сестра моя, — ответила Лелия, — разве ты не сделала то же самое? — Ничуть. Я предпочла одну, но вовсе не исключала другую. Неужели ты думаешь, что воображение останется чуждым стремлениям чувств? Разве любовник, которого ты целуешь, это не брат, не дитя божье, разделяющее со своей сестрой его благодеяния? Удивляюсь, Лелия, как это ты, к услугам которой столько поэзии, как это ты не можешь отыскать множества средств возвысить материю и украсить впечатления реальной жизни. Я думаю, что тебя удерживает от этого только презрение и что, если бы ты отказалась от этого несправедливого и безумного чувства, ты жила бы такой же жизнью, как я. Кто знает? Может быть, если бы ты сама была сильнее, мужчины возгорелись бы к тебе более сильной страстью. Давай, побежим сейчас вместе в эти темные аллеи, где то и дело мерцает золото костюмов и порхают белые перья шляп. Сколько молодых и красивых мужчин, полных любви и силы, бродят под этими деревьями и ищут наслаждений! Послушай, Лелия, давай подразним их, и пусть они гонятся за нами. Давай быстро пройдем мимо них, коснемся их нашими платьями, а потом убежим, как эти вот мотыльки, которые гонятся друг за другом в лучах света, встречаются, разлучаются и соединяются снова, чтобы обезумевшими от любви упасть в пламя и найти смерть. Пойдем, говорю тебе, не бойся, я поведу тебя, я знаю всех этих мужчин. Я соберу вокруг тебя самых любезных и элегантных. Ты можешь быть с ними высокомерной и жестокой, сколько тебе угодно, Лелия. Но ты услышишь их обращенные к тебе слова, плечи твои ощутят их дыхание. Ты, может быть, вздрогнешь, когда с вечерним ветром до твоих раздутых ноздрей донесется аромат их волос, и, может быть, в этот вечер в тебе шевельнется любопытство — узнать их жизнь. — Увы, Пульхерия, неужели ты думаешь, что я не узнала ее до конца? Неужели ты не помнишь того, что я тебе рассказала? — Ты любила этого человека любовью души: ты не могла даже думать о том, чтоб вкусить с ним настоящее наслаждение. Все очень просто. Надо, чтобы какая-нибудь одна способность, достигшая самого большего развития, задушила и парализовала все остальные. Но здесь все будет иначе. Куртизанка увлекла за собою Лелию и, понизив голос, продолжала. — Но сначала, — сказала она, — тебе надо будет переодеться. Ты же не захочешь трепать в толпе знаменитое имя Лелии, хотя, по правде говоря, уединение, на которое ты себя обрекла, вызывает со стороны мужчин гораздо более серьезные нарекания, чем моя веселая жизнь. Но если прослыть заурядной вакханкой для тебя унизительно, подозрения в таинственных и ужасных страстях, может быть, и не заденут твоего чувства собственного достоинства. Так вот, надень домино, такое же как у меня, и воспользуйся тем, что мы похожи друг на друга, особенно наши голоса — ты сможешь без всякой опасности для себя отдохнуть от величественной и жалкой роли, которую ты избрала. Пойдем, Лелия. Толпа гостей, спешивших на галерею, чтобы полюбоваться вспышками молнии, разделила сестер в ту минуту, когда обе выходили из гардеробной, закутавшись в голубые атласные домино с капюшонами. Лелия была унесена потоком масок. Оказалось, что многие одеты в такой же костюм, как у нее, и она не стала даже пытаться узнать среди множества незнакомок свою сестру Пульхерию. Смущенная, испуганная, она почувствовала уже отвращение к роли, которую собиралась играть, и углубилась в сад, решив доверить судьбе все, что осталось от еебезотрадной жизни. На этот раз она неожиданно оказалась в той части боскетов, которую предусмотрительный принц Бамбуччи отвел исключительно для избранных гостей. Это был лабиринт из зелени, вход в который охранялся самыми опытными распорядителями торжества. Они были в курсе всех дворцовых интриг, и то и дело из дворца к ним являлись посланные, передававшие все новые указания о тех, кого следует допустить в это святилище. Назойливых ревнивцев и мрачных покровителей туда не пускали; только дамам было разрешено не снимать масок, все из приверженности к приличиям. Это был укромный уголок, убежище, устроенное для друзей, которым досадные обстоятельства мешали встречаться в другом месте. Там каждый мог чувствовать себя в безопасности, и все выглядело до крайности благопристойно. Гуляли там группами, чинно усаживались в круг. Залитые светом аллеи и зеленые залы были полны людей. Но посвященные отлично знали, по какой тропинке и через какие двери можно было проникнуть в павильон Афродиты, огромные террасы которого тянулись вдоль берега моря. Едва только Лелия сделала несколько шагов по этим опасным аллеям, как чей-то голос прошептал: — Вот Цинцолина, знаменитая Цинцолина. В ту же минуту несколько мужчин в шитых золотом костюмах и украшенных перьями шляпах кинулись вслед за ней. — Цинцолина, неужели ты не узнаешь нас? Ты что, позабыла старых друзей? Бери же меня под руку, прекрасная отшельница, и давай отпразднуем еще раз нашу любовь. — Нет, нет, — перебил другой, пытаясь овладеть рукою Лелии. — Не слушай этого незаконнорожденного пьемонтца. Подойди ко мне, чистокровному неаполитанцу, помнишь, я ведь один из первых приобщил тебя к тайнам любви. Неужели ты все позабыла, сладострастно воздыхающая горлица? Высокий испанец резким движением схватил Лелию под руку. — Наша милая Цинцолина всем предпочла меня, сказал он. — В ней, как и во мне, течет благородная андалузская кровь, и она ни за что на свете не решится огорчить своего соотечественника, да к тому же еще и идальго. — В Цинцолине течет кровь всех наций, — сказал один немец, — она сказала это мне в Вене, у себя в будуаре. — Tedesco! [47] — воскликнул сицилиец. — Если Цинцолина оскорбит нас и предпочтет тебя всем нам, то вот кинжал, который за нас отомстит. — Давайте бросим жребий, — вскричал молодой паж. — Цинцолина смешает в моей шляпе записки с нашими именами. — Мое имя выгравировано на лезвии моей шпаги, — ответил идальго. И он с угрожающим видом выхватил шпагу из ножен. Явились распорядители торжества, и Лелии удалось скрыться. Но долго быть одной ей не пришлось — некий русский князь остановил ее на аллее. — Цинцолина, что ты тут ищешь? И почему ты одна? Полюби меня на час, и ты получишь бриллиантовую цепь, царский подарок. Лелия презрительно пожала плечами. Сцену эту видел один французский вельможа. — Какие же эти иностранцы нахалы и грубияны! Можно ли так разговаривать с женщинами? За кого этот дикарь принимает вас, Цинцолина? Выслушайте меня. И он тут же предложил ей свой дворец, всех своих слуг, свои вина, своих лошадей. — Но вы, должно быть, не очень верите в наслаждение, которое предлагаете, — сказала Лелия, — раз вы обещаете вдобавок к нему столько соблазнов для людей жадных. И отвратительны же должно быть ваши объятия, если вы так дорого за них платите. Где же тут любовь? Где же хотя бы пыл чувства? У одного грубость, у другого — разврат. Вам нечем привлечь к себе, кроме как силой, лестью или деньгами. Неужели настоящее наслаждение умерло, неужели цивилизация совсем его задушила? Неужели античная любовь покинула землю и взлетела к другим небесам? Тут она откинула капюшон, и, увидав ее лицо, всегда такое высокомерное и серьезное, толпа расступилась и дерзкие поклонники Пульхерии почтительно склонились перед Лелией. — Ты уже отказываешься от того, что затеяла? — спросила Пульхерия, схватив ее за широкий рукав. — Нет, нет, еще рано, Лелия, это не безнадежно: твой час еще не настал. — Мой час не настанет, — сказала Лелия. — Все это мне не нравится и меня раздражает. У них холодное дыхание, жесткие волосы, их объятия мертвят, и сквозь амбру, пропитавшую их одежды, слышны какие-то грубые и острые запахи, которые мне противны. Когда я среди них, кровь моя успокаивается, мысли проясняются, воля становится тверже. Мне хочется только сесть и с презрением смотреть, как они проходят мимо. Что бы ты ни говорила, Пульхерия, женщины — это не какой-то грубый инструмент, на котором может играть любой: это нежная лира, которую сначала надо оживить божественным дыханием, а затем уже требовать от нее гимна любви. Нет нормального существа, которое было бы действительно неспособно испытывать наслаждение. Но мне думается, что есть немало существ ненормальных, которые, кроме этого, ничего не знают и от которых мы бы напрасно стали ждать среди любовных объятий какого-то слова, мысли или чувства сколько-нибудь похожего на то, о чем я мечтаю в любви. Этот высокий обмен самых благородных способностей не может, не должен быть сведен к животному чувству. — Ну, так иди же сюда, Лелия. Выслушай молодого человека, которого я только что встретила, в котором я никак не могу разжечь желания. Может быть, сострадание подействует на тебя сильнее, чем все остальное. Лелия последовала за сестрой в искусственный грот, слабо освещенный в глубине маленькой лампой. — Постой тут, — сказала Пульхерия, пряча ее в темном углу, — и посмотри на этого прекрасного темноволосого юношу. Ты его знаешь? — Да, знаю, — ответила Лелия, — это Стенио. Но что он там делает, в этих садах и в этом гроте, — ведь, если я не ошибаюсь, это один из подземных ходов в знаменитый павильон? Это он, поэт Стенио, таинственный Стенио, влюбленный Стенио? — Послушай, — сказала Пульхерия, — ты увидишь, что он обезумел от любви и что надо его пожалеть. Тут Пульхерия оставила Лелию в ее убежище и, встав на цыпочки и подкравшись к Стенио, попыталась его поцеловать. — Оставьте меня, сударыня, — гордо сказал молодой человек, — я не нуждаюсь в ваших ласках. Я вам сказал, что, когда, обманутый звуками вашего голоса, я последовал за вами сюда, в этот сад, я искал не вас. Но как только я сорвал с вас маску, я увидел, что вы всего-навсего куртизанка. Уйдите, сударыня, я не могу оставаться с вами. Я беден, да к тому же я не хочу наслаждений, за которые надо платить. Для меня на свете существует только одна женщина — это та, которую вы позвали. Она здесь! Вы ее знаете? — Я знаю Лелию, это моя сестра, — ответила Пульхерия. — Если вы хотите последовать за мною под эти темные своды, я проведу вас в такое место, где вы сможете ее увидать. — О, вы лжете, — сказал молодой человек. — Лелия вам не сестра, и вы не сможете мне ее показать. Я шел за вами доверчиво, как ребенок, все время надеясь, что вы мне ее покажете. Но вы обманули меня и теперь возвращаетесь одна. — Дитя! Стоит мне захотеть, и я отведу тебя к ней. Но только знай, Лелия тебя не любит. Лелия никогда не вознаградит тебя за твою любовь. Послушай моего совета, ищи где-нибудь в другом месте радостей, которых ты ждал от нее, и если ты не можешь отогнать от себя эту иллюзию, так по крайней мере напейся пьяным, когда будешь проходить мимо источников наслаждения. Завтра ты проснешься, чтобы снова гнаться за своим призраком. Но по крайней мере занятый этим безумным бегом ты не будешь страдать от напрасного ожидания и неосуществимой мечты. Ты насладишься сладостным покоем под сенью пальм, среди дев, и когда ты последуешь за демоном с огненными крыльями, зовущим тебя из-за туч, ты уже будешь освежен и утешен нашими возлияниями и нашими ласками. Приди и отдохни у меня на груди, молодой безумец, ты увидишь, что я не хочу тебя удерживать и усыплять. Я хочу только помочь тебе в твоем трудном пути, чтобы ты мог более храбро устремиться вперед — к поэзии и к Лелии. — Оставь меня, оставь меня, — решительно сказал Стенио, — я презираю и ненавижу тебя. Ты не Лелия, ты не ее сестра, ты даже не ее тень. Я не хочу ваших наслаждений, они мне не нужны. Только от одной Лелии хотел бы я вкусить счастье любви. Если она оттолкнет меня, я буду жить один и умру, так и не испытав его. Я не оскверню в объятиях куртизанки своего сердца — в нем горит чистая любовь. — Пойдем, Лелия, — сказала Пульхерия, толкая сестру к Стенио, — пойдем, вознагради верность, достойную рыцарских времен. Но в ту же минуту насмешница, воспользовавшись: темнотою, оставила Лелию позади и склонилась над Стенио. — О мой поэт, — сказала она, подражая медлительной речи и более целомудренным движениям Лелии, — верность твоя растрогала меня, и я пришла вознаградить тебя. Тут она взяла молодого поэта за руку и повела его под темные и холодные своды, которые кое-где освещались подвешенными под потолком лампами. Стенио дрожал, ему казалось, что все это он видит во сне. Он был слишком взволнован, чтобы спросить, куда его ведет Лелия. Он был уверен, что это ее рука, он боялся проснуться. Когда они дошли до конца подземной галереи, она дернула шелковую сонетку. Дверь открылась сама собой, словно повинуясь волшебной силе. Они поднялись по лестнице, которая вела в павильон Афродиты. Когда они проходили тихим коридором, где ковры приглушали шум шагов, Стенио показалось, что мимо него промелькнула какая-то женщина, одетая как Лелия или как Пульхерия. Он не обратил на это внимания — ведь Лелия продолжала держать его за руку — и вошел вместе со своей спутницей в восхитительный будуар. Там она тут же погасила все свечи, сняла с себя маску и бросила в соседнюю комнату. Потом она вернулась и села возле Стенио на затканный золотом, шелковый диван, и в ту же минуту дверь оказалась запертой на замок чьей-то коварной или заботливою рукой. — Стенио, — сказала она, — вы не послушали меня, ведь я запретила вам искать свидания со мной раньше чем через месяц, а вы уже снова меня преследуете. — Неужели же вы привели меня сюда для того, чтобы бранить? — сказал он. — Неужели после нашей разлуки, которая показалась мне такой долгой, мне суждено лишь видеть, что вы сердитесь на меня? Разве не год уже прошел с тех пор, как я вас покинул? Откуда мне знать счет дням, которые тянутся вдали от вас? — Значит, вы не можете жить без меня, Стенио? — Не могу, я просто сойду с ума. Взгляните, как впали мои щеки, как пламя лихорадки сожгло мне губы, как бессонница изъела мои глаза и веки. И вы все еще будете говорить, что это болезнь одного только воображения, вы и теперь еще не видите, что душа может убить тело? — Но я ведь вовсе не упрекаю вас, дитя мое. Ваша бледность трогательна, она вам к лицу. И я горжусь тем, что вы устояли перед соблазнами, которые расточала перед вами моя сестра. Я понимаю, сколько красоты в такой любви, и хочу попытаться, Стенио, найти счастье в вас. Да, я решилась, я больше ничего не стану искать. Если что-то и может еще смягчить жизнь, так это чувство, такое как ваше. Я не заслужила его, но принимаю его с благодарностью. Не говорите больше, что Лелия бесчувственна. Я люблю вас, Стенио, и вы это хорошо знаете. Только я боролась с этим чувством, я боялась, что слишком плохо его понимаю и не сумею его разделить. Но вы много раз говорили мне, что примете любовь, которую я вам могу предложить, даже если эта любовь будет ниже вашей. Итак, я не стану противиться, я полагаюсь на доброту господа и на ваше стойкое сердце. Теперь я почувствовала, что люблю вас. Вы довольны, вы счастливы, Стенио? — Да, да, счастлив! — воскликнул Стенио потрясенный, падая на колени и заливаясь слезами. — Неужели все это мне не приснилось? Неужели это говорит Лелия? Это такое счастье, что я все никак не верю. — Верьте, Стенио, и надейтесь. Может быть, господь сжалится над вами и надо мной. Может быть, он омолодит мое сердце и сделает его достойным вашего. Господь должен вознаградить вас — ведь вы так чисты, так благочестивы. Призовите на меня один луч его божественного огня! — О, не говори так, Лелия. Разве ты не во много раз выше меня перед ним? Разве ты не любила, не страдала дольше, чем я? Будь же счастлива и отдохни наконец от своей тяжелой доли в моих объятиях. Не изнуряй себя любовью ко мне, не терзай своего и без того уже замученного сердца опасениями, что ты слишком мало можешь для меня сделать. О, говорю тебе еще раз, люби меня так, как можешь. Лелия обняла Стенио: она запечатлела на его губах долгий поцелуй, такой пылкий и страстный, что Стенио вскрикнул от радости: — О Галатея! Из соседнего кабинета донесся легкий шум. Стенио вздрогнул. Лелия не отпускала его, все крепче сжимая в своих объятиях. Опьяненный любовью и радостью, он остался лежать у ее ног. Оба долго молчали. — Ну что же, Стенио, — сказала она, выходя из долгого сладостного забытья, — что ты мне скажешь? Ты уже не так счастлив? — Нет, что ты, мой ангел! — ответил Стенио. — Хочешь, мы покатаемся с тобою в гондоле по заливу? — сказала Лелия, вставая. — Как, уже расстаться? — печально ответил Стенио. — Нет, мы не расстанемся, — сказала она. — А разве вернуться в эту толпу не значит расстаться? Нам так было хорошо здесь! Жестокая! Тебе всегда хочется перемены впечатлений. Признайся, Лелия, тебе уже скучно со мной. — Неправда, любимый мой, — ответила Лелия, снова садясь на прежнее место. — Раз так, — сказал он, — то поцелуй меня еще раз. Лелия поцеловала его так же горячо, как и в первый раз. Стенио совсем обезумел от восторга. — О, не отрывай твоих губ! — вскричал он. — Они слаще меда. Это ведь в первый раз, снизойдя с высоты небес, ты одарила меня неведомым мне дотоле сладострастьем. Что же с тобою такое сегодня, моя любимая? Какое пламя исходит из тебя? Какая истома овладевает мною самим? Где я? Какое божество парит над нашими головами? Почему же ты говорила, что не можешь возбуждать подобных чувств? Значит, ты просто не хотела — ведь сейчас ты сжигаешь меня, и воздух вокруг тебя раскален! — Значит, ты любишь меня сегодня больше, чем любил до сих пор? — сказала она. — Я люблю тебя только сегодня, — воскликнул Стенио, — потому что сегодня моей любви не мешают ни сомненье, ни страх. Лелия снова встала с места. — Мне жаль тебя, — сказала она, и в голосе ее слышалось презрение, — тебе нужна не душа, а женщина. Не так ли? — О, — воскликнул Стенио, — ради всего святого! Не становись опять насмешливым и жестоким призраком, который только что уступил место самой красивой, самой святой, самой любимой из женщин. Верни мне твои ласки, верни мне мое безумие, верни мне любовницу, которая готова была мне отдаться. Такою ты действительно достойна моей любви, и я это чувствую. Так не бойся же пасть; ведь это я в первый раз тебя по-настоящему полюбил. До сих пор я увлекался тобою только в воображении. Сейчас сердце мое открывается для подлинной нежности, для благодарности, ибо сейчас ты даруешь мне счастье. — Выходит, любовь духовная для тебя ничего не значит! — мрачно сказала Лелия. — Скажи еще раз, Стенио, скажи еще раз, что в этом твоя любовь! Тебе больше ничего от меня не надо? Так вот к какой чудесной и божественной цели вела ваша страсть, такая поэтичная и такая великая? Стенио в отчаянии кинулся на диван и уткнулся лицом в подушки. — О, ты убьешь меня, — сказал он, рыдая, — ты убьешь меня своим презрением!.. Ему показалось, что Лелия уходит, и он в ужасе поднял голову. Он находился в полной темноте. Он встал и стал искать ее во мраке. Влажная рука коснулась его руки. — Ну полно, — сказал ему смягчившийся голос Лелии. — Мне жаль тебя, дитя мое: прижмись ко мне и забудь свое горе.37
Когда Стенио поднял свою отяжелевшую голову, далекое пение птиц в полях возвестило приближение дня. Небо на горизонте просветлело, и чистый утренний воздух ароматными потоками касался бледного и влажного лица юноши. Первым движением его было обнять и поцеловать Лелию; но она снова надела маску и спокойно отстранила его, сделав ему знак молчать. Стенио с трудом поднялся и, измученный усталостью, волнением и наслаждением, подошел к приоткрытому окну. Гроза совершенно рассеялась, тяжелые тучи, еще несколько часов тому назад заволакивавшие все небо, свились в длинные черные ленты и одна за другой, гонимые ветром, устремлялись к сероватому горизонту. Море едва слышно разбивало о прибрежный песок и о мраморные ступени виллы свои беспечные пенистые волны. Апельсиновые деревья и мирты, колеблемые дыханием утра, склонились над морем и купали свои цветущие ветви в соленой воде. Бесчисленные окна дворца Бамбуччи сверкали уже не так ярко, и только несколько масок расхаживали еще по украшенной статуями галерее. — О, какая восхитительная минута! — вскричал Стенио, полной грудью вдыхая животворный воздух. — О моя Лелия! Я спасен, ты омолодила меня. Я чувствую себя другим человеком. Жизнь моя стала сладостнее и полнее. Лелия, мне хочется стать на колени и благодарить тебя. Я ведь умирал, а ты захотела вылечить меня и приобщила к небесному блаженству. — Ангел мой! — прошептала Лелия, обнимая его. — Значит, ты теперь счастлив? — Я был самым счастливым из смертных, — ответил Стенио, — но я хочу им быть снова. Сними маску, Лелия. Зачем ты прячешь от меня лицо? Дай мне твои губы, которые опьяняли меня, поцелуй меня, как ты только что целовала. — Нет, нет! Послушай, — сказала Лелия, — послушай эту музыку. Кажется, что она идет откуда-то с моря и, качаясь на гребнях валов, приближается к берегу. В самом деле, звуки великолепного оркестра разносились над волнами, и вскоре гондолы, наполненные музыкантами и масками, выплыли, одна за другой, из маленькой бухточки, окруженной рощами катальп и апельсиновых деревьев. Мягко, как лебеди, скользили они по спокойным водам бухты, чтобы пройти мимо террас павильона. Оркестр умолк, и лодка восточного вида плавно обогнула маленькую флотилию и вышла вперед. На этой лодке, более легкой и изящной, чем остальные, ехали музыканты, игравшие на одних духовых инструментах. Прозвучала блистательная фанфара, и эти металлические голоса, такие звучные, такие проникновенные, из глубины волн перекинулись к стенам павильона. В ту же минуту все окна пооткрывались одно за другим, и все счастливые любовники, укрывавшиеся в будуарах павильона Афродиты, парами высыпали на террасу и на балконы. Но напрасно ревнивцы и сплетники, сидевшие в гондолах, старались различить их жадными взглядами. В павильоне они переоделись в другие костюмы и теперь, спрятав лица под масками, весело приветствовали прибывших. Лелия хотела увести Стенио в их толпу; но ей не удалось уговорить его выйти из той восхитительной истомы, в которую он был погружен. — Что значат для меня их радости и их песни? — воскликнул он. — Могу ли я чем-то еще восхищаться или наслаждаться, если я только что познал блаженство рая? Дайте мне по крайней мере упиться сполна этим воспоминанием… Но вдруг он вскочил и нахмурил брови. — Чей это голос поет там, на волнах? — спросил он, невольно вздрогнув. — Это голос женщины, — ответила Лелия. — Это действительно прекрасный и большой голос. Посмотри, как на гондолах и на берегу люди расталкивают друг друга, чтобы ее услышать. — Но ведь если бы, — сказал Стенио, чье лицо постепенно менялось, по мере того как низкие, сочные звуки этого голоса приближались к нему, — если бы вы не были здесь и я не держал вас сейчас за руку, я подумал бы, что это ваш голос, Лелия. — Есть голоса, очень похожие друг на друга. Разве сегодня ночью вам мало докучал голос моей сестры Пульхерии?.. Стенио слушал только голос, доносившийся с моря, охваченный каким-то суеверным страхом. — Лелия! — вскричал он. — Мне худо от звуков этого голоса, он пугает меня; еще немного, и я сойду с ума. Духовые инструменты заиграли песенную мелодию; голос умолк; потом он зазвучал снова, когда замолчала музыка. И на этот раз он был слышен так близко, так отчетливо, что Стенио, вне себя от волнения, кинулся к окну и распахнул настежь золоченую раму. — Нет никакого сомнения в том, что это сон, Лелия. Но эта женщина, которая поет там… Да, эта женщина, которая стоит одна на носу гондолы, это вы, Лелия, или ваш дух. — Вы с ума сошли! — сказала Лелия, пожимая плечами. — Как это может быть? — Да, я сошел с ума, но я вижу вас раздвоенной. Я вижу и слышу вас здесь, подле себя. И вместе с тем слышу и все еще вижу вас там. Да, это вы, это моя Лелия; это ее голос так силен и так прекрасен, это ее черные волосы развевает морской ветер. Вот она приближается на своей гондоле, качаясь по волнам. О Лелия! Неужели вы умерли? Неужели это реет ваш дух? Неужели вы фея, или демон, или сильфида? Магнус был прав, когда говорил мне, что вас две… Стенио высунулся из окна и, совсем позабыв о стоявшей возле него женщине в маске, смотрел только на другую, походившую на Лелию голосом, ростом, осанкой, платьем, на ту, которую несли к нему волны. Когда лодка, на которой она плыла, достигла ступенек павильона, стоял безоблачный, ясный день; лучи солнца сверкали в волнах. Лелия повернулась вдруг к Стенио и, открыв свое лицо, насмешливо ему кивнула. В этой улыбке было столько иронии и жестокой беспечности, что Стенио наконец догадался о том, что произошло в эту ночь. — Вот кто настоящая Лелия! — воскликнул он. — О да, та, что скользит мимо меня, как сон, и удаляется, бросив на меня взгляд, полный иронии и презрения! Но та, которая опьянила меня своими ласками, та, которую я сжимал в своих объятиях, называя душою и жизнью, кто же она? А теперь, сударыня, — сказал он, с грозным видом приближаясь к голубому домино, — не угодно ли вам назвать себя и показать мне ваше лицо? — С большим удовольствием, — отвечала куртизанка, снимая маску. — Я Цинцолина, куртизанка, Пульхерия, сестра Лелии; я сама Лелия, потому что я целый час владела сердцем и чувствами Стенио. Будет вам, неблагодарный, нечего глядеть на меня с таким расстроенным видом: поцелуйте меня в губы и вспомните то счастье, за которое вы благодарили меня на коленях. — Вон отсюда! — вскричал Стенио в ярости, выхватив стилет — Убирайтесь прочь сию же минуту иначе я за себя не ручаюсь. Цинцолина скрылась, но, пробегая по террасе под окнами павильона, она насмешливо крикнула: — Прощай, Стенио, поэт! Теперь мы с тобой помолвлены. Мы еще увидимся!38
«Лелия, вы жестоко меня обманули! Вы посмеялись надо мною с хладнокровием, которого я не могу понять. Вы зажгли в чувствах моих страшный огонь и не захотели его погасить. Вы сделали так, что все, что было у меня на душе, передалось губам, а душою пренебрегли. Я недостоин вас, я это хорошо знаю. Но разве вы не можете любить меня из чувства великодушия? Если бог сотворил вас по своему подобию, то разве не для того, чтобы вы следовали его примеру здесь, на земле? Если вы ангел, посланный к нам с неба, то разве не должны вы, вместо того, чтобы ждать, пока ваша нога коснется вершин, к которым вы идете, протянуть руку и показать нам путь, которого мы не знаем? Вы рассчитывали, что стыд меня вылечит; вы думали, что, когда я проснусь в объятиях куртизанки, я вдруг прозрею. В своей неумолимой мудрости вы рассчитывали, что глаза у меня наконец откроются и что у меня останется только презрение к радостям, которые обещали мне ваши объятия и которые вы заменили похотливыми ласками вашей сестры. Только знайте, Лелия! Надежды ваши не оправдались. Моя любовь вышла из этого испытания победительницей и сохранила свою чистоту. На лице моем не осталось следов от поцелуев Пульхерии, оно не зальется краской. Засыпая, я шептал ваше имя. Ваш образ реял во всех моих снах. Как вы ни противились этому, как ни презирали меня, вы были моею вся целиком, вы мне принадлежали, вас я осквернил!.. Любимая, прости мое страдание! Прости мой святотатственный гнев. Сколь бы неблагодарен я ни был, разве я вправе в чем-нибудь тебя упрекать? Раз поцелуи мои не согрели мрамор твоих губ, то это потому, что я не заслужил подобного чуда. Но скажи мне по крайней мере, заклинаю тебя на коленях, скажи мне, какой страх и какие подозрения отчуждают тебя от меня? Или ты боишься, что, уступив, ты окажешься у меня в повиновении? Или ты думаешь, что счастье сделает из меня деспота? Если ты сомневаешься, о, моя Лелия, если ты сомневаешься в моей вечной благодарности, тогда мне останется только плакать и просить бога, чтобы он умилостивил тебя; мой язык не в силах уже изрекать новых клятв. Ты мне часто это говорила, и мне не нужны были твои признания: я угадал это, мужчины подвергли жестокому испытанию твою преданность и твое доверие. Сердцу твоему были нанесены глубокие раны. Они долго истекали кровью, и нет ничего удивительного, что, когда раны эти зажили, остались неизгладимые рубцы. Но разве ты не знаешь, моя любовь, что я люблю тебя за страдания, перенесенные тобою в прошлом? Разве ты не знаешь, что я восхищаюсь твоей непоколебимой душой, которая выдержала все бури жизни и не согнулась? Не говори, что я злой. Если бы ты всегда жила среди покоя и радости, я чувствую, что любил бы тебя меньше. Если кто-нибудь и виноват в моей любви, то, разумеется, это бог: ведь это он внушил мне восхищение силой и преклонение перед ней, это он научил меня чтить храбрость. Это он приказывает мне склониться перед тобой. Воспоминания твои в достаточной степени объясняют твое недоверие. Любя меня, ты боишься утратить свою свободу, ты боишься потерять благо, которое стоило тебе стольких слез. Но скажи мне, Лелия, что ты делаешь с сокровищем, которым ты так гордишься? Стала ли ты счастлива с тех пор, как сосредоточила на себе самой все неуемную силу своих дарований? С тех пор как человечество в твоих глазах только пыль, которой господь позволяет какое-то время клубиться у тебя под ногами, стала ли для тебя природа богаче и великолепней? С тех пор как ты покинула город, нашла ли ты в траве на полях, в журчанье ручьев, в мерном течении реки более могучее и более верное очарование? Сделался ли слаще для твоего слуха таинственный голос лесов? С тех пор как ты позабыла волнующие нас страсти, постигла ли ты тайну звездных ночей? Общаешься ли ты с невидимыми посланцами, которые утешают тебя, рассказывая о том, как мы, люди, слабы и недостойны? Признайся, ты ведь не счастлива? Ты украшаешь себя своей свободой как некоей драгоценностью, но единственное развлечение для тебя — это удивление и зависть толпы, которая тебя не в силах понять. Живя меж нас, ты не избрала для себя никакой роли, и вместе с тем ты устала от праздности. Ты не можешь найти предназначения, которое было бы по плечу твоему дарованию, и ты исчерпала все радости одинокого раздумья. Ты не дрогнув прошла пустынные равнины, куда обыкновенные люди не могли пойти за тобой, ты достигла вершин тех гор, которые глаза наши едва дерзают измерить взглядом, и теперь у тебя кружится голова, жилы твои вздулись, и в них клокочет кровь. Ты чувствуешь, как в висках стучит, единственное прибежище твое — это бог, это на его трон ты пытаешься сесть: тебе остается либо стать нечестивицей, либо спуститься к нам. Бог наказывает тебя, Лелия, за то, что ты возжелала его могущества и его величия. Он обрекает тебя на одиночество, чтобы наказать тебя за твои гордые дерзания. День ото дня он ширит пустыню вокруг тебя, напоминая тебе о твоем происхождении и о назначении в мире. Бог послал тебя, чтобы благословлять и чтобы любить; он накинул на твои белые плечи благоуханные волосы, чтобы утереть ими наши слезы; он ревниво взирал на бархатную свежесть твоих губ, которые должны были улыбаться, на влажный блеск твоих глаз, которые должны были отразить небо и показать его нам. А сейчас бог требует от тебя отчета за все эти драгоценные дары, которые ты употребила не по назначению. Что ты сделала со своей красотой? Ты думаешь, что создатель избрал тебя среди всех женщин, чтобы воплотить в тебе насмешку и презрение, чтобы посмеяться над искреннею любовью, чтобы отрекаться от клятв, чтобы отказываться от обещаний, чтобы доводить до отчаяния легковерную и доверчивую молодость? Ты часто мне это говорила, и я тебе верил. В душе твоей есть тайна, которой я не могу разгадать, темные глубины, в которые я не в силах проникнуть. Но с того дня, как ты меня полюбишь, Лелия, я узнАю тебя всю, ибо ты и сама это понимаешь, и — как бы я ни был молод, я вправе это утверждать, — любовь, как и религия, открывает и озаряет много скрытых путей, которых не подозревает разум. Если бы наши души соединились в священном союзе, я бы с этого дня стал читать в тебе так же ясно, как ты во мне, я взял бы тебя за руку и мы спустились бы вместе в твое прошлое, я бы сосчитал шипы, которые тебя ранили, я разглядел бы под рубцами от твоих ран кровь, которая из них когда-то сочилась, я прижался бы к ним губами так, как если бы кровь эта все еще текла. Берегите свою дружбу для Тренмора; она может его удовлетворить, ибо это человек сильный, он искупил свой грех и очистился, он уверенно идет к цели своего странствия. А у меня нет ни воли, которой велики и сильны мужчины, ни неуязвимого эгоизма, подчиняющего своим намерениям страсти, которые ему мешают, интересы, которые его стесняют, ревнивых соперников, попадающихся на его пути. В сердце моем всегда созревали только возвышенные желания, но осуществить их я никогда не мог. Мне радостно было созерцать все высокое, и я хотел, чтобы близкое общение с ним всегда сопутствовало моим мечтам. Я восхищался натурами исключительными и чувствовал, как внутри меня назревает потребность подражать им и следовать за ними. Но оттого, что я все время переходил от желания к желанию, ни мои одинокие раздумья, ни горячие молитвы не помогли мне вымолить у сотворившего меня бога силу, для того чтобы осуществить то, чего я так страстно добивался в мечтах. Вот почему, Лелия, было бы нечестием сомневаться, было бы кощунством отрицать, что господь создал вас, дабы осветить мне мой путь, что он избрал вас среди своих самых высоких ангелов, дабы вести меня к пределу, заранее указанному в его высших предначертаниях. Я отдаю вам в руки не заботу о моем назначении — у вас есть свое, которое вы должны выполнить, и для ваших сил это и так уже довольно тяжелый груз; я прошу вас, Лелия, чтобы вы разрешили мне повиноваться вам, чтобы вы дали мне сделать мою жизнь похожей на вашу, чтобы вы позволили моим дням заполниться работою или отдыхом, движением или изучением в соответствии с вашими собственными желаниями, которые, я это знаю, никогда не будут легкомысленными капризами. На эти смиренные просьбы, которые вы сто раз могли прочесть в моих взглядах, вы ответили насмешками и обманом. На вас я возлагал последние мои надежды, на вас уповал. Если у меня не будет вас, о Лелия, что же станется со мною?»39
«Может быть, Стенио, я в чем-то и виновата перед вами; но только отнюдь не в том, в чем вы упрекаете, в чем вы обвиняете меня. Я не обманывала вас, я не хотела посмеяться над вами. Может быть, я несколько мгновений презирала вас, может быть несколько раз во мне вспыхивал гнев из-за вас и оттого, что вы были рядом. Но раздражали меня не вы, чистое дитя, а человеческая натура вообще. Вовсе не для того, чтобы унизить, а еще меньше для того, чтобы разочаровать в жизни, бросила я вас в объятия Пульхерии. Я даже не собиралась преподать вам урок. Могла ли я радоваться торжеству моего холодного разума над вашей наивной неискушенностью! Вы страдали, вы добивались того, чтобы предначертанная вам судьба во что бы то ни стало осуществилась, я хотела умиротворить вас, избавить вас от муки неопределенного ожидания и тревоги, в которую повергает всякая неизвестность. Моя ли вина, что в своем богатом воображении вы приписали этим вещам больше значения, чем они в действительности имеют? Моя ли вина в том, что ваша душа, как и моя, как и душа всякого человека, наделена огромными способностями желать, а возможности радоваться у нас ограничены? Разве это моя вина, что физическая любовь жалка и бессильна успокоить и угомонить жгучий пыл и все причуды ваших мечтаний? Я не могу ни ненавидеть, ни презирать вас за то, что вы воспылали таким безумным чувством ко мне. От вашей воли не зависело разорвать грубую оболочку, в которую господь ее заключил. Но вы были слишком молоды, слишком наивны, чтобы отличить истинные потребности этой поэтической и святой души от лживых домогательств материи. Вы приняли за потребность сердца то, что было только лихорадкой ума. Вы приняли наслаждение за счастье. Это со всеми нами случается, прежде чем мы узнаем жизнь, прежде чем поймем, что человеку не дано осуществлять одно через другое. Этот урок дала вам не я, а сама судьба. Что до меня, чье материнское сердце гордилось вашей любовью, то я должна была воздержаться от унизительного соблазна вам его дать, и, уж коль скоро вам было суждено испытать ваше первое разочарование в объятиях женщины, я была вправе препоручить вас той, которая сама вызвалась вас просветить. Но вообще-то говоря, чем же я вас оскорбила, когда кинула вас в объятия женщины молодой и красивой, которая вас приняла и отдалась вам без унижения, без торговли. Пульхерия — это отнюдь не обыкновенная куртизанка. Чувства ее непритворны, душа ее не запятнана грязью. Ее не очень-то беспокоят воображаемые обязанности любви, которая длится долго. Она поклоняется только одному богу и ему одному приносит жертвы. Бог этот — наслаждение. Но она сумела окружить его поэтическим ореолом, особого рода целомудрием, циничным и не знающим страха. Ваши чувства взывали к наслаждению, и она вам его дала. Так можно ли презирать Пульхерию за то, что она удовлетворила вашу страсть? По мере того как я живу, мне все яснее становится, что суждения, сложившиеся в молодые годы, об исключительности любви, о полном обладании, которого она добивается, об ее вечных правах — лживы или, во всяком случае, пагубны. Следовало бы принять все теории до одной, а утверждение супружеской верности я оставил бы для тех, кто является исключением из общего правила. У большинства людей другие потребности, другие возможности. У одних — это взаимная свобода, обоюдная терпимость, отказ от свойственного ревности эгоизма. У других — мистический пыл, горение, укрывшееся в тиши, воздержание длительное и сладостное. У третьих, наконец, — покой праведника, жизнь целомудренная, как у брата с сестрой, вечная девственность. Разве все души похожи одна на другую? Разве у людей не разные дарования, не разные склонности? Разве одни не рождены для религиозного аскетизма, другие — для неги сладострастия, третьи — для трудов и борьбы страстей, четвертые, наконец, — для смутных поэтических вдохновений? Нет понятия более произвольного, чем настоящая любовь. Всякая любовь — настоящая, будь она стремительна или тиха, чувственна или аскетична, длительна или мимолетна, ведет она человека к самоубийству или к наслаждению. Любовь головная может побуждать к столь же великим поступкам, как и любовь сердца. Она столь же сильна, столь же властна над человеком, она тоже длится иногда долгие годы. Любовь чувственная может быть облагорожена и освящена борьбою и жертвой. Сколько целомудренных девушек, сами того не зная, повиновались зову природы, припадая к стопам Христа, орошая горячими слезами мраморные длани небесного супруга! Поверьте, Стенио, обожествление эгоизма, жаждущего захватить добычу, а потом — ревниво ее стеречь, равно как и требование духовного союза в любви столь же безумны и бессильны сдержать человеческие желания и столь же нелепы в глазах бога, как в наше время — брак юридический в глазах людей. Итак, не пытайтесь меня переделать, это не в моих силах, да и ваших на это не хватит. Если правда, что я единственная женщина, которую вы можете любить, оставайтесь, будьте мне сыном, я согласна. Я никогда вас не покину, если вы только не заставите меня удалиться из страха причинить вам вред. Видите, Стенио, судьба ваша в ваших собственных руках. Удовольствуйтесь же моей возвышенной нежностью, моими платоническими объятиями. Я пыталась полюбить вас как любовница, как женщина… Но подумайте сами! Неужели роль женщины ограничивается лишь восторгами любви? Неужели права мужчины, обвиняющие ту, которая плохо отвечает на их страсть, в том, что она неполноценна как женщина? Не значит ли это, что они ни во что не ставят заботы сестер, великую преданность матерей? О, если бы у меня был младший брат и я бы руководила им в жизни, я постаралась бы избавить его от страданий, уберечь от опасностей. Если бы у меня были дети, я кормила бы их грудью; я бы носила их на руках, носила в душе; я терпела бы ради них все зло жизни: я знаю, я была бы храброй матерью, страстной, неутомимой. Будьте же мне братом, будьте мне сыном, и пусть мысль о какой бы то ни было брачной связи кажется вам кровосмесительной и нелепой. Прогоните же ее, как те чудовищные видения, которые не дают нам спать по ночам и которые, просыпаясь, мы без сожаления гоним от себя прочь. К тому же — и пора вам это сказать, Стенио, — любовь не может быть делом вашей жизни. Напрасно вы стали бы стараться уединиться и найти счастье в исключительном обладании избранной вами женщиной. Сердце человеческое не может находить пищу в себе самом, ему необходимо разнообразие. Увы, я говорю с вами на языке, которого сама никогда не хотела слышать, но и вам пришлось бы скоро прибегнуть к нему, если бы я захотела разделить с вами заблуждение моей молодости. До сих пор я все еще не решалась заговорить с вами о вашем долге. Сколько времени я убеждала себя, что любовь — самое святое из чувств!.. Но я знаю, что ошибалась, что есть еще и другие. Во всяком случае, когда этого идеала у мужчин нет, у них есть другой… Я едва решаюсь вам о нем говорить. Меж тем вы на этом настаиваете. Вы хотите, чтобы я вас просветила, чтобы я руководила вами, чтобы я сделала вас великим! Ну что же, у меня есть только одно средство ответить на ваши ожидания — это передать вас в руки человека поистине добродетельного, и в этом вы можете поверить мне, я ведь сама скептик. К тому же одно только имя этого человека вас убедит. Вы часто с восторгом говорили мне о Вальмарине, вы осаждали меня вопросами, отвечать на которые я не хотела. Когда у вас бывали дни, полные отчаяния и грусти, вам хотелось отправиться к нему и принять участие в его таинственной деятельности. Я всегда отклоняла ваши мольбы. Мне казалось, что время еще не пришло; но теперь я думаю, что у вас уже не будет ко мне той экзальтированной любви, которая могла бы помешать вам принять твердое решение. Идите же к этому апостолу возвышенной веры. Я в большей степени связана с его судьбой и посвящена в его тайны, чем я вам говорила. Одно мое слово освободит вас от всех испытаний, которые вам надлежало бы пройти, чтобы приобщиться к нему. Это слово уже сказано. Вальмарина вас ждет. Раз я уже больше не надеюсь сделать вас счастливым, как надеялись вы, раз, опьяняя себя наслаждением, вы не сумели позабыть свои страдания, киньтесь в объятия отца и друга. Он один может сделать вас сильным и научить добродетелям, которых вы жаждете. Моя нежность не покинет вас и будет расти по мере того, как сами вы будете становиться выше. Примите это условие. Верьте нам и дайте нам вашу руку. Спокойно обопритесь на наши плечи — они готовы вас поддержать. Только не поддавайтесь больше иллюзии: не надейтесь омолодить меня до такой степени, чтобы я потеряла рассудок и власть над собой. Не разрушайте связь, которая делает вас сильным, не отталкивайте поддержки, которой вы сами просите. Называйте, если хотите, любовью наше чувство друг к другу, но пусть это будет любовь, которую вкушают среди ангелов, там, где одни только души горят пламенем священных желаний».40
«Итак, будьте прокляты! Ибо проклят я сам, и это ваше холодное дыхание погубило мою молодость в пору ее расцвета. Вы правы, и я хорошо понимаю вас, сударыня: вы признаете, что нужны мне, но вместе с тем заявляете, что сам я вам не нужен. На что мне жаловаться? Разве я не знаю, что это неопровержимо? Вам приятнее оставаться в той тишине, которой, по вашим словам, вы верны, чем снизойти до того, чтобы разделить мои порывы, мои волнения, мои бури. Вы в самом деле очень мудры и логичны, и я далек от того, чтобы вступать с вами в спор: я умолкаю и восхищаюсь вами. Но я могу ненавидеть вас, Лелия, вы дали мне это право, и мне хочется воспользоваться им в полной мере. Вы причинили мне достаточно зла, чтобы душа моя воспылала к вам великой и глубокой враждой, ибо, хоть вы и не совершили в отношении меня никакого преступления, вы нашли способ омрачить мне жизнь и лишить меня права сетовать на свою судьбу Ваша холодность сделала вас неуязвимой для меня, тогда как моя молодость и восторженность были совершенно беззащитны и отдавали меня всего целиком в ваши руки. Вы не соизволили сжалиться надо мной, да оно и понятно. Могло ли быть иначе? Что могло привязать нас друг к другу? Какими трудами, какими великими деяниями, какими достоинствами я заслужил вас? Вы ничем не были мне обязаны и наградили меня тем легким сочувствием, с каким люди отворачиваются, проходя мимо раненого, истекающего кровью. Разве этого мало? Разве этого недостаточно, хотя бы для того, чтобы доказать, что вы чувствительны? О да, вы хорошая сестра, вы нежная мать, Лелия. Вы с поистине восхитительным безучастием бросаете меня в объятия куртизанки, вы разбиваете мои надежды, вы разрушаете мои иллюзии с какой-то величественною строгостью; вы говорите мне, что на земле нет чистого счастья, нет целомудренных наслаждений, и для того, чтобы это доказать, отталкиваете от своей груди, которая, казалось, уже принимала меня и обещала небесные радости, — и все для того, чтобы я уснул на груди другой женщины, еще не остывшей от поцелуев целого города. Господь поступил мудро, Лелия, не послав вам ребенка; но он был несправедлив ко мне, послав мне мать такую, как вы! Благодарю вас, Лелия. Но урок ваш запомнится. Мне не понадобится другого, для того чтобы поумнеть. Вы просветили меня, вы рассеяли все мои заблуждения. Я чувствую себя состарившимся и умудренным опытом. Все наши радости, вся наша любовь — на небе. Отлично. Но пока примем жизнь со всем, чего нельзя избежать, с ее тревожной, лихорадочной молодостью, со скоропреходящими желаниями, с грубыми потребностями, с бесстыдной, философски спокойной порочностью. Разделим себя на две половины: одну отдадим религии, дружбе поэзии, мудрости; другую — распутной и непотребной жизни. Давайте выйдем из храма, забудем бога на ложе Мессалины. Умастим благовониями наши лица ирастянемся в грязи. Будем одновременно стремиться к непорочности ангелов и примиряться со скотской грубостью. Но, сударыня, мне все это понятней, чем вам, я иду еще дальше: я принимаю все последствия, которые повлечет за собой ваш совет Не будучи в силах разделить мою жизнь между небом и адом, будучи человеком слишком заурядным, слишком несовершенным, чтобы переходить от молитвы к оргии, от света — к мраку, я отказываюсь от чистых радостей, от божественных экстазов и отдаюсь во власть моих своевольных чувств, страстей и кипучей крови. Да здравствует Цинцолина и все ей подобные! Да здравствуют легкие удовольствия, наслаждения, которые не приходится завоевывать ни длительными занятиями, ни размышлениями, ни молитвой! Право же, великой глупостью было бы презирать свойства материи! Разве я не вкусил в объятиях вашей сестры такое же подлинное счастье, как если бы то были ваши объятия? Разве я распознал мою ошибку? Разве я хоть на минуту в чем-нибудь усомнился? Клянусь всем, что есть святого, нет! Ничто не удержало меня на краю пропасти; никакое тайное предчувствие не предупредило меня о коварной подмене, которую вы совершили перед моим ослепленным взором. Грубые проявления безумной радости опьянили меня не меньше, чем нежные духи моей возлюбленной. В порыве грубой страсти я не мог отличить Пульхерии от Лелии! Я был сбит с толку, я был пьян, я думал, что прижимаю к груди ту, о которой мечтал жгучими от страсти ночами, и вместо того, чтобы оледенеть от прикосновения незнакомой мне женщины, я опьянялся любовью. Я благословил небо, и принял самую унизительную замену с восторгом, с рыданиями; душа моя обладала Лелией, а губы мои пили Пульхерию без всякого отвращения, без тени сомнения. Браво! Вы одержали победу, сударыня, вы меня убедили. Да, чувственное наслаждение может существовать совершенно отдельно от всех радостей сердца, от удовлетворенности разума. Ваша душа может обходиться без помощи чувств. Это потому, что вы эфирное и возвышенное создание. Но я, я самый обыкновенный смертный, я жалкая скотина. Стоит мне остаться подле любимой женщины, коснуться ее руки, ощутить ее дыхание, ее поцелуи, как грудь у меня начинает вздыматься, в глазах темнеет, мысли путаются, и я окончательно себя теряю. Выходит, я должен бежать от этой опасности, сторониться этих страданий. Выходит, я должен беречь себя от презрения той, которую люблю недостойной и возмутительной любовью. Прощайте, сударыня, я ухожу от вас навсегда. Вам не придется краснеть за ту страсть, которую вы пробудили во мне и которая повергла меня к вашим ногам. Но так как душа моя не развращена, так как я не могу нести в объятия падших женщин, которых вы мне даете в любовницы, сердце, полное священной любви, не могу слить воедино воспоминания о небесном сладострастии и о сладострастии земном, я хочу с этого дня погасить в себе воображение, отречься от души, преградить благородным желаниям доступ в сердце. Я хочу спуститься до того уровня жизни, который вы мне определили, и жить реальностью так, как я до сих пор жил воображением. Теперь я мужчина, не правда ли? Я изучил науку добра и зла. Я не пропаду один. Мне больше нечего изучать. Живите теперь в покое, я свой покой потерял. Увы, значит, это правда, значит, я был глупым мальчишкой, жалким безумцем, когда верил обещаниям неба, когда воображал, что человек так же совершенно устроен, как трава в поле, что жизнь его может удвоиться, дополниться, слиться с другой жизнью, может раствориться в объятиях священного восторга. Я верил в это! Я знал, что эти таинства совершаются под лучами солнца, под взором божьим, в чашечке цветка! И я говорил себе: любовь чистого мужчины к чистой женщине так же нежна, так же законна, так же горяча, как эта. Я забывал о законах, обычаях и нравах, которые калечат способности человека и разрушают порядок во вселенной. Равнодушный к честолюбивым притязаниям, которые мучат людей, я находил прибежище в любви, не подозревая, что общество и на нее наложило свою печать и что пылким душам остается только износиться и угаснуть в презрении к себе на лоне притворных радостей и бесплодных наслаждений. Но кто в этом виноват? Не бог ли главный виновник всего? Мне никогда не случалось обвинять бога, и это вы, Лелия, научили меня ужасаться его приговорам, упрекать его в суровости. Сейчас все это ослеплявшее меня простодушное доверие рассеивается. Золотое облако, укрывавшее от меня бога, тает. Заглянув в глубины своего «я», я понял, как я слаб, покраснел за свою глупость, плакал в отчаянии, видя могущество материи и бессилие души, которой я так гордился, в господстве которой я был так уверен. Теперь я знаю, каков я на самом деле, и спрашиваю у моего повелителя, зачем он меня сотворил таким, почему этот жадный ум, это гордое и утонченное воображение отданы на милость самых грубых желаний; почему чувства могут заставить мысли молчать, приглушить в человеке голос сердца и разума. Какой позор! Да, позор и мука! Я думал, что к поцелуям этой женщины я останусь холоден, как мрамор. Я думал, что сердце мое содрогнется от отвращения, когда я приближусь к ней, а ведь я был счастлив подле нее, и душа моя воспарила, овладев этим телом, лишенным души! Это меня надо презирать, и я ненавижу бога и вас тоже. Вы, мой маяк, моя путеводная звезда, вы показали мне весь ужас этой бездны — не для того, чтобы спасти меня, но чтобы низвергнуть меня туда; вы, Лелия! А ведь вы могли закрыть мне глаза, могли утаить от меня эти страшные истины, дать мне наслаждение, которое не заставило бы меня потом краснеть, счастье, которое я не стал бы проклинать и ненавидеть! Да, я ненавижу вас, Лелия, как врага, как бич, как орудие моей гибели! Вы могли по крайней мере продлить мое заблуждение, продержать меня хотя бы несколько дней у врат вечного страдания, и вы не захотели это сделать! Вы толкнули меня в порок, не снизойдя до того, чтобы предупредить меня, даже не написав у входа: «Оставьте надежду у врат этого ада, вы, которые хотите переступить его порог, испытать его ужасы!». Я все видел, всему бросил вызов. Я столь же искушен, столь же мудр, столь же несчастен, как и вы. Я больше не нуждаюсь в вожатом. Я знаю, какими благами я могу пользоваться, от каких притязаний мне надлежит отказаться; знаю, какими средствами можно отогнать снедающую нас скуку. Я воспользуюсь ими, раз это нужно. Прощай же! Ты многому меня научила, ты просветила меня. Тебе я обязан этой наукой. Будь же ты проклята, Лелия!»ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
41
— Случилось то, что я вам предсказывал: вы не можете любить, и вы не умеете обойтись без любви. Что же вам теперь делать? Вы заслужите все упреки, которыми в порыве горечи осыпает вас юный Стенио. Вы будете пить горючие слезы детей в ледяном бокале гордости, Лелия! Я не из тех, которые льстят; я, может быть, ваш единственный истинный друг. Так знайте; мое уважение к вам за последнее время поколебалось. Я вижу, что вы не можете найти выход из лабиринта, в который вас завлекло собственное величие. Но ведь именно это величие и не должно было позволить вам так долго в нем бродить. Я знаю, как вам трудно жить, знаю, какие испытания выпадают на долю людей исключительной силы, знаю, какую страшную борьбу приходится вести возвышенному уму с враждебными стихиями, которые он порождает из самого себя, знаю, наконец, что люди, которыми обуревают высокие желания, ни за что не хотят смириться. Но есть пределы борьбы, колебания тоже приходят к концу. Душа, подобная вашей, может долго ошибаться относительно себя самой и в избытке гордости принимать свои пороки за благородные побуждения. Но рано или поздно наступит день, когда и в нее прольется свет и проникнет в самые темные ее закоулки. Это редкие, но знаменательные дни; людям заурядным достаются только их бледные отблески, которые тут же исчезают; натурам же сильным удается увидеть сияние этих дней самое большее два-три раза в жизни, и через них они обновляются надолго. Вы хорошо знаете, Лелия, эти могучие порывы воли, эти почти чудотворные превращения человека: господь наделил вас силой, воспитание — гордостью Однажды вы захотели полюбить и, несмотря на то, что гордость ваша восстала, а сила исстрадалась, вы полюбили, вы сделались женщиной; счастья вы не нашли, вам и не суждено было быть счастливой. Но само несчастье ваше призвано было возвеличить вас в собственных глазах. Когда преданность ваша и страдание достигли своего апогея, вы поняли, что надо разбить эту любовь, чтобы вернуть силу воли, как вы поняли когда-то, что надо через эту любовь пройти, чтобы осуществить свое назначение в жизни. Второй день вашей силы просветил вас и научил выбраться из бездны, в которую первый помог спуститься. Тогда понадобилось избрать какое-то направление в жизни, навсегда избавиться от бездны, и это было делом третьего дня. Этот день для вас еще не засветился над горизонтом. Пусть же он наконец взойдет! Пусть окончится эта неопределенность, пусть обозначится ваша тропа, и, вместо того чтобы беспрерывно топтаться вокруг пропасти, которую вы тщетно старались исследовать, пусть шаги ваши направятся к высотам, для которых вы рождены. Не просите у меня больше пощады! Моя строгая дружба не станет вас миловать, и теперь я буду к вам беспощаден, ибо разум мой уже осудил вас. Испытание длилось достаточно долго, настало время выйти из него победительницей. Если вы падете, Лелия, я не смогу обойтись с вами так, как, говорят, обошлись с падшими ангелами. Я ведь не бог, и ничто не должно разрывать узы дружбы между двумя человеческими существами, которые поклялись всячески помогать друг другу. Истинное чувство должно принимать всевозможные формы; его голос прогремит то триумфальный гимн воскресения, то искупительную жалобу мертвых: выбирайте. Хотите, я окутаю вас траурным покровом и буду проливать горькие слезы о вашем падении, вместо того чтобы увенчать вас бессмертными звездами и преклонить колена перед вашею славой? Вы видели, как я восхищался вами; хотите, я вас пожалею? Нет, нет, порвите эти узы, привязывающие вас к свету Вы говорите, что вы теперь только призрак. Вы лжете: в сердце, закрытом для сильных страстей, существует еще наклонность к страстям мелким, и сдержать их может лишь смерть. Вы тщеславны, Лелия, не заблуждайтесь на этот счет; гордость ваша запрещает вам подчиниться любви, она должна бы запретить вам также и принимать любовь другого: с такого рода гордостью вас можно было бы только поздравить или, напротив, пожалеть, но осуждать вас отнюдь не следует Наслаждение, которое вы доставляете себе тем, что возбуждаете в мужчине любовь и следите за опустошением, которое эта любовь производит в его сердце, — это легкомысленное и преступное удовлетворение вашего самолюбия; заставьте это самолюбие замолчать, или вас за него накажут. Ведь коль скоро справедливость провидения таинственна на своих больших путях, то, значит, существует и небесное правосудие, связующее бога и человека и творимое тоже втайне, — оно неотвратимо, и последствия его человек напрасно пытается скрыть. Если вам очень приятны похвалы, если вы позволяете яду лести входить к вам в сердце через уши, вам скоро придется принести в жертву удовлетворению этой новой потребности больше сил, чем вы думаете. Общество посредственных людей станет для вас необходимостью. Вы захотите видеть у ваших ног тех, кто вам менее всего симпатичен, но на ком вам захочется испытать действие вашего могущества. Вы привыкнете к скуке, которую порождает господство глупости, и эта скука станет вашим единственным развлечением. Вы не будете больше ничьей подругой, только любовницей всего мира! Да, любовницей! Пусть это грубое слово всей своей тяжестью обрушится на вашу совесть! Есть некое духовное распутство, которое может удовлетворить женщину вульгарную, но которое натура серьезная, вроде вашей, должна глубоко презирать, ибо это проституирование ума. Если бы вас связывали с человечеством узы плоти и крови, если бы у вас был муж, любовник и — особенно — если бы вы были матерью, вы бы увидели, как вокруг вас вырастает множество чувств, потому что жизнь ваша тысячью нитей была бы связана с жизнью всех. Но в том уединении, которое вы себе сотворили и которое вам слишком поздно уже покидать, вы всегда будете для мужчин предметом любопытства, недоверия, тупой ненависти или бессмысленных вожделений. Этот напрасный шум, который подняли вокруг вас, верно, порядочно вас утомил! Если он станет нравиться вам, то это будет означать, что вы начинаете падать, что вы перестали быть собой, что господь, уже отметивший вас печатью избранных, увидев, что вы хотите покинуть каменистую стезю одиночества, на которой вас ждал его дух, уходит от вас и обрекает вас на пошлое светское времяпрепровождение. Вот то невидимое наказание, о котором я говорил вам, Лелия, вот проклятие; сначала оно незаметно, но понемногу заволакивает наши годы своим черным покровом. Это туча, которой Моисей окутал восставший против бога Египет. Вы все еще страдаете, Лелия. Вы и теперь ощущаете в себе божественное начало, зовущее вас ввысь. Вы когда-то сравнивали себя с человеком, обливающимся холодным потом, на большой картине Микеланджело: в отчаянии он тянется к ангелу, который должен вырвать его из рук дьявола. Вы целый час стояли в мрачном молчании перед этой страшной борьбой, которую вы уже сто раз видели, но которая сейчас получила для вас иной, более близкий вам смысл. Берегитесь, чтобы добрый ангел не выбился из сил, берегитесь, чтобы злой не ухватился за ваши ослабевшие ноги; это вы должны решить, которому из двух вы достанетесь.42. ЛЕЛИЯ НА СКАЛЕ
Так говорил Вальмарина, идя с Лелией по горной тропинке. В полночь они вышли из города и углубились в одно из пустынных ущелий, освещенных мягким и ровным светом луны. Им никуда не надо было спешить, но шли они быстро. Странник с трудом поспевал за этой высокой бледной женщиной, которая в ту ночь казалась еще бледнее и выше, чем обычно. Это была одна из тех тревожных прогулок, в которых главную роль играет воображение; они уносят только наш дух, а тело в них как бы не принимает участия, до такой степени неощутима физическая усталость; одна из тех ночей, когда глаза не поднимаются к небесному своду, чтобы следить за гармоничным шествием звезд, а душа спускается вниз и проникает в бездны воспоминаний; один из тех часов, которые длятся целую жизнь и когда ощущаешь только прошлое и будущее. Лелия все же подняла к небу взор, более дерзновенный, чем обычно; но неба она не видела. Ветер развевал ее волосы, и густые пряди то и дело закрывали ей лицо, но она этого не замечала. Если бы Стенио в эту ночь увидел ее впервые, он уловил бы, как грудь ее трепещет, как тревожно каждое ее движение. Холодный пот выступил на ее обнаженных плечах, брови сдвинулись и нахмурились, белое лицо заволокла какая-то тень. Время от времени Лелия останавливалась, складывала руки на горевшей груди и окидывала своего спутника мрачным взглядом: можно было подумать, что вот-вот в ней вспыхнет небесный гнев. Однако в ту минуту, когда Вальмарина умолкал, встревоженный впечатлением, которое произвели его упреки, и боясь, что зашел слишком далеко, она, словно по какому-то волшебству, вновь обретала все свое высокомерное спокойствие; видя, как друг ее смутился, она только улыбалась и делала ему знак идти дальше и договаривать до конца. Когда он кончил, она еще долго ждала, не добавит ли он к своим словам что-нибудь еще; потом, когда они дошли до вершины, она села на уступ скалы и, в порыве отчаяния заломив руки, воздела их к бесстрастным звездам. — Вы страдаете, — с грустью сказал ее друг, — я чем-нибудь вас задел? — Да, — ответила она, опустив на колени руки, белые как мрамор. — Вы задели мою гордость, и я хотела бы воскликнуть сейчас вместе с героями Кальдерона: «О честь моя, ты больна!». — А вы знаете, что болезни гордости лечат очень сильными средствами? — сказал Вальмарина. — Да, знаю! — отвечала она и подняла руку, приглашая его к молчанию. Потом она поднялась на гребень скалы и, стоя на этом огромном пьедестале, выпрямившись во весь свой высокий рост, освещенная отблесками луны, засмеялась таким ужасным смехом, что даже Вальмарине стало страшно. — Почему вы смеетесь? — спросил он строго. Неужели дух зла восторжествовал? Мне почудилось, что ваш добрый ангел только что улетел, заслышав этот горький, душераздирающий смех. — Здесь нет никакого злого духа, — сказала Лелия, — что же касается доброго, то я стану им сама Лелия сумеет спасти Лелию. Тот, кто улетает, напуганный этим смехом, где слышатся прощание и проклятие, — это дух-искуситель, это призрак, принявший обличье ангела; к нему-то и относится моя насмешка это Стенио, боговдохновенный поэт. Он ужинает сегодня с падшими женщинами. Опустив глаза на расстилавшиеся перед ним вдалеке пространства, Вальмарина увидел бледные огни города и ярко освещенный дворец куртизанки Пульхерии, в котором бушевала ночная оргия. Он снова посмотрел на Лелию, сидевшую рядом: она заливалась слезами. — Несчастная, — сказал он, — ревность закралась в твое сердце. — Скажите лучше, неразумный человек, что она только что его покинула, — ответила она. — Я оплакиваю иллюзию, а не человека. Стенио никогда не существовал! Это создание моего воображения. И как оно прекрасно! Мне надо было быть великим художником, искусным мастером, чтобы сотворить этот возвышенный образ! Рафаэль и Микеланджело, слитые воедино, никогда не смогли бы создать ничего столь прекрасного. И Лелия провела рукой по глубокой складке, пересекавшей ей лоб в минуты, когда ей бывало особенно тяжело. — Напрасно я стала бы искать его сейчас, — сказала она, — это всего лишь тень, которая становится все бледнее чтобы слиться с миром небытия Ветер смерти сломил эту райскую лилию Дыхание Пульхерии убило моего Стенио. Там, в таверне, воет в страхе какой-то призрак. Каким именем его теперь называть? О мой поэт! Я похоронила тебя в могиле, достойной тебя, в гробнице более холодной, чем мрамор, и более твердой, чем бронза, сокрытой под землею глубже, чем алмаз сокрыт в камне. Я схоронила тебя в своем сердце! А ты, призрак, подними твою непослушную руку. Поднеси к твоим оскверненным губам ониксовый кубок вакханки! Назло всему, пей за здоровье Лелии! Посмейся над безрассудной гордячкой, которая презирает прелестные губы и душистые волосы такого красавца, как ты. Пей же, Стенио! Это тело скоро станет бурдюком, в который можно будет налить все пятьдесят семь сортов вин Архипелага. Теперь это пустая амфора, хрупкий сосуд, где больше уже не течет кровь сердца, не пламенеет огонь души; теперь он разобьется вдребезги, и осколки его смешаются под столом у Пульхерии с разбитыми бокалами и потерявшими человеческий образ людьми. Спасибо тебе, мой Стенио! Ты меня спас. Ты помешал мне забрызгать грязью пошлости тот незапятнанный снег, тот сверкающий лед, под которым меня схоронил господь. Это благодаря тебе я не покинула мой хрустальный дворец. Как только я дерзнула ступить на порог, ты увидел меня и с улыбкой воспарил к небесам, о мой сладостный сон! И ты кинул развратнице только грязное платье, которое она покрывает теперь нечестивыми поцелуями в уверенности, что это Стенио! — Довольно бредить! — воскликнул Вальмарина, пытаясь стащить Лелию со скалы, на которой она стояла, словно пифия; он боялся, как бы она окончательно не сошла с ума. — Оставь меня, оставь, человек, у которого нет ни выдержки, ни решимости! — вскричала она, отталкивая его. — Для тебя, чтобы собраться с силами, нужна целая жизнь, не так ли? Знай же, что для Лелии это дело одной ночи. Уходи, не бойся моего бреда; как только я сойду с этой скалы, менада, которую ты видишь сейчас, станет самой целомудренной и самой спокойной весталкой. Дай же мне попрощаться с миром, который рушится, с солнцем, которое гаснет. Человеческая душа — это уменьшенное, но очень точное и полное отражение вечности. Когда один из очагов жизни тухнет, от него тут же загорается другой, еще более яркий, и это потому, что над жизненным началом властен один только бог. Оттого что некий человек проклял Лелию, ее не разразило громом. У меня осталось собственное сердце, и в сердце этом есть чувство божественного, интуиция и любовь к совершенству! С каких это пор мы стали терять из виду солнце из-за того лишь, что один из атомов, озаренных его лучами, погрузился в тень? Она села и снова стала немой и неподвижной, как статуя. Все, что творилось в ее душе, было не более заметно для глаз, чем движения часового механизма под металлической крышкой. Вальмарина долго смотрел на нее почтительно и восхищенно. В эту минуту в ней не было ничего человеческого, ничего, что могло бы пробудить к себе сочувствие. Она была прекрасна и холодна, как сама сила. Она походила на тех больших львов из белого пирейского мрамора, которые, оттого что они все время смотрят на волны моря, словно обретают силу их укрощать. — Вы говорите, что, войдя в будуар моей сестры и увидав там мой бюст, он выплеснул свой кубок на бедное мраморное лицо? Вы говорите, что он поджег пунш последним моим письмом? Лелия задала эти вопросы совершенно спокойно; она хотела знать подробно все эти вспышки гнева Стенио, свидетелем которых Вальмарина был несколько дней тому назад. — Я непременно хотел рассказать вам об этом, — отвечал он, — считая, что мой рассказ только разожжет в вас гнев и вернет вам ту твердость, которой вы лишились уже давно. Но слезы, которые вы только что проливали, заставляют меня опасаться, что я поранил вас глубже, чем сам того хотел. — Не бойтесь, — сказала она, — вот уже три дня, как я его не люблю. Плакала я о нем, а не о себе. Не думайте, что его напрасная досада и его нелепые оскорбления могут меня задеть. Не этим я оскорблена. Оскорбил он меня четыре дня тому назад в павильоне Афродиты, тогда, когда принял руку куртизанки за мою руку, ее губы за мои, ее грудь за мою, когда он вскричал: «Что с тобою, моя любимая? Я никогда тебя не видел такой. Ты опьяняешь меня счастьем, о котором я не имел понятия: твое дыхание сжигает меня. Оставайся такой! Только с этой минуты я тебя люблю, до сих пор я любил только тень!». — А вы что же, хотели, чтобы он обладал волшебным даром распознать тот жестокий обман, на который вы решились пойти? — Решилась пойти? Я? О нет! Господь свидетель, что, следуя за ним в глубину коридоров, куда его увлекала эта безумная женщина, я не догадывалась, что все будет так. Я видела, как он противился, я была уверена, что буду свидетельницей его победы. Неужели вы думаете, что я шла туда, чтобы присутствовать при их любовных объятиях? Господь мне свидетель и в этом! Увы, я любила его! Да, я его любила, любила это милое и нежное дитя! И я не раз принимала решение победить все свои страхи и попытаться сочетаться с ним браком, освященным старинным обычаем. Разве он мне не брат, — спрашивала я себя, — разве он не мечтатель, не идеалист, не богом вдохновенный поэт, который мог бы облагородить и обожествить мою жизнь? Притом я хотела еще испытать его постоянство и силу чувств, подвергнув его нескольким испытаниям — страхом меня потерять, разлукой; и я не была настолько жестока, чтобы заставить его страдать ради собственной славы. Я сама страдала больше, чем он, от его ожидания и от его испуга. Но я знала, как кончается для меня любовь! Я вспоминала день, когда отвращение и стыд смели у меня в памяти мою первую любовь, как ветер сметает пену волн. Я думала, я была уверена, что действительно нашла в Стенио настоящее чувство, что мое равнодушие может разбить ему жизнь, и я не хотела давать ему даже слабой надежды, не уверившись сначала сама, что завтра этой надежды его не лишу. До чего же пристально я его изучала! С какой любовью, с какой материнской заботой наблюдала я за инстинктами и способностями этого любимого ученика! В безумии своем я хотела научить его любви. Я хотела передать ему все, что знала сама, все очарование, всю изощренность мысли — в обмен на то, что я узнала бы от него: на жар его крови, на исступление молодости… О, как я была права, что не стала спешить, что так внимательно следила за этим драгоценным растением! Увы, сердцевину его точил червь, и демону непотребства достаточно было только дохнуть на него, чтобы он упал в грязь. Вот каковы эти хрупкие существа, эти свободные художники наслаждения, эти жрецы любви! Они обвиняют нас в том, что мы холодные статуи, а у самих у них есть только одно чувство, которое даже нельзя назвать! Они говорят, что у нас ледяные руки, а у них самих на руках такая толстая кожа, что они не могут отличить волосы своей возлюбленной от волос первой встречной женщины! Они всем существом своим готовы поддаться самому грубому обману. Тонкой вуали, легкого сумрака летней ночи достаточно, чтобы глаза их и ум самым постыдным образом ослепли; их слух легко попадает впросак; в звуках незнакомого голоса им слышится голос любимой… Стоит какой-нибудь женщине поцеловать их в губы, и глаза их уже затянуты пеленою, в ушах гудит, их охватывает божественная тревога, смятение души кидает их в бездну разврата! Ах, дайте мне вволю посмеяться над этими поэтами без музы и без бога, над этими жалкими хвастунами, которые сравнивают свои чувства с тончайшим благоуханием цветов, свои объятия с великолепными созвездиями! Лучше уж откровенные распутники, которые говорят все самое отвратительное нам в лицо! — Ах, Лелия, — ответил Вальмарина, — все это негодование идет от ревности, а ревность — это любовь. — Только не для меня, — возразила она, переходя от жгучего гнева к самому холодному презрению. — В гордой душе ревность сразу же убивает любовь. Я не вступаю в борьбу с недостойными соперницами. Я действительно страдала, я это признаю, я ужасно страдала в течение целого часа. Я была в этом кабинете, я была почти что меж ними. Мы говорили попеременно с сестрою, а он даже не замечал разницы наших голосов и наших слов. Иногда он брал меня за руку и тут же выпускал ее, чтобы инстинктивно, не думая, схватить замаранную грязью руку моей сестры, которая казалась ему моею. Ах, я все это видела; почему же все-таки он не видел меня? Я видела, как он прижимал Пульхерию к груди, и я едва успела убежать; его приглушенные вздохи, возгласы торжествующей любви преследовали меня даже в саду. Это была страшная мука, и когда я увидела проходившие мимо гондолы, я бросилась в первую попавшуюся, чтобы покинуть этот отравленный клочок земли, на котором только что умер Стенио. — Вы были очень бледны, Лелия, когда вскочили ко мне в лодку, и я боялся, что вы не переживете всех ваших мук. О, несчастная! Соразмерьте ваши силы, прежде чем поддаваться гневу. — Я в гневе только на вас, за то что вы так плохо меня понимаете. Верно, матери было бы не так страшно потерять ребенка, которого она выкормила своим молоком и целый год не отнимала от груди, как страшно было мне это внезапное отчуждение между мною и Стенио. Однако начало уже рассветать, когда я, умирающая, бросилась в гондолу, и там, едва только солнечный диск выглянул весь из-за горизонта, встала и звучным голосом запела эту бравурную арию, которой от меня хотели. Все находящиеся в гондоле любители пения объявили, что голос мой никогда так изумительно не звучал; а сила голоса, насколько я знаю, не только в легких: истоки ее, должно быть, немного повыше. — Ах, гордячка! Вы же разобьете голову о триумфальную арку, которую сами себе воздвигли. — Я сделаю эту арку такой стройной и такой просторной, что там хватит места и самому сатане, если только он захочет пройти под ней. Неужели, по-вашему, за все эти три дня я хоть раз высказала свою досаду Пульхерии или Стенио? Разве я не пыталась утешить поэта в его позоре и сделать куртизанку более благородной в его глазах? Разве я не предлагала этому ребенку мою вечную дружбу, мою заботу и мою материнскую опеку? — А почему же вы сейчас так волнуетесь? Не потому ли, что он настаивал на вашей любви и, раздраженный вашим отказом, сейчас вот, ночью, охваченный досадой и яростью среди всего отчаянного разгула, сделался по собственной воле любовником Пульхерии? — Нет, ошибается тот, кто будет думать, что он борется с Лелией. Нельзя бороться с морскими ветрами и волнами океана, а моя гордость более неуловима для человеческой воли, чем волны и буря. Оскорбительнее всего для меня то, что вы еще предлагаете мне принять решение, как будто я могла колебаться, как будто, увидав труп, я должна еще спрашивать себя, зарыть его в землю или положить с собою в постель. Похороним сначала всех мертвецов и потом уже будем жить. — А что же это будет за жизнь? — Сейчас это не очень важно. Дайте мне время вытереть слезы, укрыть покойника саваном, и если только я смогу забыть его через час, вам больше ни о чем не придется меня спрашивать. Взгляните, Вальмарина, на чудесные Плеяды, что легкой дугою касаются горизонта. Сколько всего изменится в этом измученном сердце, в этой дрогнувшей жизни, прежде чем последняя из них исчезнет! Вы тревожитесь, видя меня на дурном пути, вы думали, что я борюсь с дурными побуждениями. Вы ошиблись: я шла к цели. Разразилась гроза, она разрушила все — и дорогу и цель. Дайте мне время подобрать те немногие обломки, которые докатились до меня, и свернуть в сторону с этой проклятой дороги. — Это не единственная дорога, но цель у вас все та же, — сказал Вальмарина. — Вы думаете, что одиночество может привести вас к ней; только остерегайтесь брать себе в спутники гнев. Если когда-нибудь вас охватит сожаление, то ведь, как бы вы ни были внешне спокойны, как бы ни торжествовало ваше самолюбие, что станется с вашей гордостью, ставшей для вас святыней, с гордостью, ради которой вы готовы жертвовать всем на свете и которую я чту, ибо видел, что именно она побуждает вас на самые высокие поступки? Будет ли эта гордость удовлетворена? — Все это останется между богом и мной. Он один будет свидетелем моего страдания. Предел моей гордости — это он… — Бог! Да, разумеется, но вы верите в него, Лелия? — Верю ли я? А разве вы не видите, что на земле я ничего не могу полюбить? Вы, что же, объясняете это так, как, может быть, в эту минуту объясняет целомудренный Стенио, рассуждая с Цинцолиной о том, почему я холодна? Люди, не знающие иного божества, кроме собственного тела, единственной причиной воздержания считают физическое бессилие. Что значит требование изощренных способностей, что значит потребность в идеальной красоте, что значит жажда высокой любви в глазах черни? Даже если случайно восторги любви и озаряют ее мимолетным светом, то это всего лишь результат отчаянного напряжения нервов, чисто механического воздействия чувств на разум. Каждое существо, какой бы посредственностью оно ни было, может внушить или само почувствовать это мгновенное безумие и принять его за любовь. Умственное развитие и стремления большинства дальше этого не идут. Человек, который хочет вкушать только благородные радости и наслаждения чистые и святые, который стремится к неразрывному единству любви духовной и любви физической, — это честолюбец, удел которого великое счастье или великое страдание. Для тех, кто делает из любви божество, середины не существует. Для того чтобы разыграть их божественные мистерии, им нужно святилище другой любви, такой же безграничной, как их собственная; только пусть они не надеются когда-либо вкусить наслаждение в публичном доме. А ведь вся любовь мужчин, даже под кровлей супружества, сделалась самым настоящим публичным домом. Большинство мужчин для женщины чистой — это то же самое, что проститутка для целомудренного юноши. Только у юноши есть право презирать проститутку, вырваться из ее объятий сразу же после того, как она удовлетворит его потребность, при воспоминании о которой он краснеет. Почему же получается, что чистым женщинам отказано в способности испытывать отвращение и в праве высказывать его вслух нечистым мужчинам, которые их обманывают? Разве они не в сто раз подлее, чем куртизанки? Те обещают только одно наслаждение, а ведь погрязшие в разврате мужчины нам обещают любовь. Но для женщины гордой не может быть наслаждения без любви: вот почему в объятиях большинства мужчин она не найдет ни того, ни другого. Что же касается самих мужчин, то им не так легко ответить на наши высокие побуждения и удовлетворить наши благородные желания: им гораздо легче обвинить нас в том, что мы холодны. Эти аскетические души, говорят они, бывают всегда у женщин неполноценных. Последняя публичная девка для них соблазнительнее, чем самая чистая из девственниц. Публичная девка — вот настоящая жена, настоящая любовница мужчин нашего поколения; она им как раз под стать. Жрица материи, она погасила все, что было в женщине божественного, человеческого, чтобы развить звериные инстинкты. Она не горда, не навязчива: она требует только то, что подобные люди могут дать, — золото! О, благодарю тебя, боже! Тебе было угодно, чтобы последняя завеса спала с моих глаз, чтобы эти страшные истины, в которых я все еще сомневалась, сделались для меня ясными, как свет твоего солнца, усилиями самого Стенио, того, кого я называла уже моим любовником, кого считала чистейшим из сынов человеческих. Ты допустил, чтобы глубокое уныние погрузило мою душу на какое-то время во тьму и чтобы страдание помрачило мой разум до такой степени, что я усомнилась в великой истине. Безумие, ложь, мудрость, софизмы, божественная любовь, нечестивое отрицание, целомудрие, распутство — все эти элементы истины и заблуждений, низости и величия смешались в одно и метались, кружась в вихре воображения. В бездонных глубинах моей мысли разражались страшные грозы и неотвратимые катастрофы. Я все подвергла сомнению, все перепробовала и в этом бессилии воли, в этой отрешенности от разума нашла только страдание все более жестокое, одиночество все более явное. Тогда в тоске моей я простерла руки к тебе, и ты показал мне развращенность человеческой натуры, причины ее и последствия. Ты дал мне понять, что ни один мужчина (в том числе и Стенио) не заслуживает любви, очаг которой горит во мне. Ты преподал мне хороший урок, ты захотел, чтобы все страдания и унижения, которые заполняют жизнь женщины, открылись мне за один миг; чтобы грязные когти ревности слегка поранили мое сердце и выжали из него несколько капель моей крови, как некий стигмат искупления и наказания. На какое-то мгновение я пожалела, что я не куртизанка, и, в вечное назидание себе, увидела, как куртизанка затмила меня после первого же поцелуя. Благодарю тебя, господи, за то, что ты до такой степени меня унизил: ибо в ту минуту я поняла, что призвание мое не в этом! Нет, нет! Мое наслаждение и моя слава не здесь, и теперь я буду приходить к тебе не с жалобой, а с благословениями. Я была неблагодарной, о высшее совершенство! Образ твой был у меня в сердце, и я искала бесконечного во всем сущем. Я хотела перестать поклоняться тебе, чтобы обратить свое поклонение на идолов из плоти и крови. Я думала, что между тобой и мной должен быть посредник — священник — и что мужчина и будет этим священником. Я ошиблась: у меня может быть только один возлюбленный — это ты, и всякий, кто станет между нами, не только не приблизит меня к тебе, наполнив мою душу признательностью и счастьем, но, напротив, удалит меня от тебя, вселив в нее отвращение и разочарование. А вы еще спрашиваете меня, Вальмарина, верю ли я в бога. Я должна в него верить, ибо люблю его безумной любовью, ибо неугасимый огонь этой страсти разъедает мне грудь, ибо, если бы я на минуту усомнилась в его мудрости, кровь моя заледенела бы в жилах и жизнь моя зачахла, как опаленный морозом плод. Мне надо в него верить, ибо живу я только любовью, и вместе с тем я не люблю ни одно живое существо, созданное по моему подобию, ибо не могу признать над собой ничьей власти, кроме власти неба. А ты, Стенио, неужели ты мог быть настолько слеп, чтобы мечтать о любви ко мне? Как мог ты возомнить себя соперником бога, решить, что сможешь насытить жизнь, которая вся — неистовство, вся — исступление, экстаз, ссоры и примирения избранницы божьей, ревниво и безраздельно влюбленной? Это тебя следует назвать гордецом, ибо это ты захотел стать богом, ты надеялся, что я обращу к тебе тот же гнев, те же слезы, проклятия, желания и восторги! Бедное дитя! Ты плохо меня знал. Сколько бы ты ни писал стихов, ты был плохим поэтом. Ты плохо понял, что такое идеал, если думал, что дыхание смертного может стереть его образ в зеркале моей души! — Во всем, что вы говорите, я ощущаю трепет безудержной гордыни, моя дорогая Лелия, — сказал Вальмарина, ласково улыбаясь и протягивая ей руку, чтобы помочь сойти вниз, — но мне нравится слушать ваши речи, ибо я узнаю вас прежнюю, а в той, какой я вас знал, нет ничего, что могло бы меня ужаснуть. К тому же настоящая дружба — это когда один человек безраздельно принимает другого; вот почему я люблю ваши недостатки. И если я начинаю тревожиться и расспрашивать вас, то это бывает тогда, когда я вижу, что вы свернули с вашего пути и совершаете не свойственные вашей натуре поступки. Тогда я перестаю вас узнавать, и, видя, что вы становитесь робкой, неуверенной и мягкой, как женщины, которых любят и которыми повелевают, я начинаю думать, что вы погибли, что самого безумного и самого лучшего творения господа больше не существует. Лелия поправила одной рукой свои распустившиеся волосы и, держа руку друга и стоя на скале, выпрямилась в последний раз во весь свой высокий рост. — Гордыня! — вскричала она. — Чувство и сознание собственной силы! Священный и благородный рычаг вселенной! Да будешь ты вознесена на чистейшие алтари, да наполнят тобою избранные сосуды! Торжествуй же, ты, которая заставляешь страдать и царствовать! О кольчуга архангелов, как я люблю, когда ты власяницею вонзаешься мне в тело! Если ты заставляешь избранных испытывать неслыханные муки, если ты предписываешь им суровое самоотречение, ты вместе с тем приобщаешь их к великим радостям! Ты даруешь им неслыханные победы. Когда ты увлекаешь их за собой в пустыни, откуда нет исхода, ты приводишь к их ногам львов, их одинокие ночи ты населяешь духами, чтобы избранники твои с ними боролись, чтобы они могли испробовать и познать свою силу, и вознаграждаешь их за все поутру высокими словами: «Ты побежден, но повергнись к стопам моим без стыда, ибо я есмь господь!» Лелия закрутила волосы и спрыгнула со скалы. — Уйдем отсюда, — сказала она, — уже скрылась последняя из Плеяд, и мне здесь больше нечего делать. Борьба моя окончена. Святой дух возложил на меня свою десницу, как на Иакова, и Иаков простерся ниц. Ты можешь теперь поразить меня, о всевышний, ты увидишь, что я стою перед тобою на коленях! — А ты, гордая скала, — сказала она, оборачиваясь назад, — я какой-то миг была прикована к тебе, как Прометей, но я не ждала, чтобы коршун прилетел клевать мою печень, и я разбила твои железные цепи тою же рукой, которая их заклепала.43. КАМАЛЬДУЛЫ
Лелия и Вальмарина снова спустились с горы по склону, противоположному тому, который вел в город. Лелия шла первая, спокойно и не спеша. — Но это же не та дорога, — заметил ее спутник, видя, что она направляется на юг. — Это моя дорога, — отвечала она, — ибо это дорога, которая удаляет от Стенио. Возвращайтесь в город, если хотите Что до меня, то я никогда больше не переступлю его врат. Вальмарина любезно последовал за нею, но на губах его появилась улыбка сомнения. — Я не очень доверяю таким вот быстрым и бесповоротным решениям, — сказал он. — Я не верю крайним позициям — они только ускоряют противодействие. — Всякое решение, исполнение которого откладывается, не сулит удачи, — отвечала Лелия. — Там, где речь идет о желании, размышление необходимо. А когда приходится действовать, нужны смелость и быстрота. — Куда мы идем? — спросил Вальмарина. — Мы бежим от прошлого, — ответила Лелия с какой-то мрачной радостью. Светало; они вступили в долину, заросшую густым лесом. Прелестные ручейки сбегали вниз в тишине, под сенью миртов и фиговых деревьев. Большие лужайки, по которым проходили полудикие стада, вклинивались своей нежной зеленью в темную гущу лесов. Край этот был богат и пустынен. На пути не было никакого жилья, разве только разбросанные там и сям, глубоко спрятанные в листве мызы. Поэтому в этих местах можно было наслаждаться всеми прелестями, всеми благодеяниями природы, которой коснулась рука человека, и всем величием, всей поэзией природы дикой. Поднявшись до половины холма, Лелия остановилась, охваченная восторгом. — Как счастливы беззаботные пастухи, — воскликнула она, — они спокойно спят в тени этих тихих лесов, им не о чем тревожиться, кроме как о своих стадах, им нечего изучать, кроме восхода и захода звезд! А еще счастливее эти жеребята с растрепанными гривами — они скачут так легко в зарослях, и дикие козы — те без труда поднимаются на крутые скалы! Счастливы все созданья, умеющие радоваться жизни, не злоупотребляя ею и не доводя себя до изнеможения! За поворотом дороги Лелия увидела в предрассветной мгле белую полоску на склонах гор, величественно смыкавшихся вкруг необъятной долины. — Что это такое? — спросила она своего друга. — Что это, грандиозное сооружение рук человеческих или отвесная скала, которые бывают в этом краю? Огромный водопад, или каменный карьер, или дворец? — Женский монастырь, — ответил Вальмарина, — обитель камальдулов. — Я много слышала о его богатстве и красоте, — сказала Лелия. — Пойдемте туда. — Как вам будет угодно, — ответил Вальмарина. — Мужчин туда, правда, не пускают, но я готов подождать вас во дворе. Монастырь этот поразил Лелию и восхитил: сначала шла длинная галерея; белый мраморный свод поддерживали коринфские колонны розового мрамора с голубыми прожилками; между ними стояли малахитовые вазы, из которых торчали колючие листья алоэ; за нею — большие дворы, следовавшие один за другим, создавали впечатление какой-то фантастической глубины; всюду, подобно пестрым коврам, были разбросаны клумбы самых красивых цветов. Выступившая на них роса покрывала их серебристой газовой тканью. В центре симметрических орнаментов, образованных этими же клумбами, водометы, поднимающиеся из яшмовых бассейнов, рассыпали в голубом утреннем воздухе свои прозрачные брызги, а первый луч солнца, начинавший озарять верхушку здания, падая на тонкие, устремленные к небу струи, венчал каждую бриллиантовым убором Великолепные китайские фазаны едва только шевельнулись при появлении Лелии, пестрея средицветов своими филигранными хохолками и бархатным оперением. Павлин расстилал по газону свой сверкавший драгоценными камнями наряд, а мускусная утка с изумрудной грудью гонялась по бассейну за золотыми жучками, которые вычерчивали на поверхности воды неуловимые круги. К насмешливому или жалобному крику этих плененных птиц, к их грустным и горделивым движениям присоединялись тысячи веселых и громких щебетаний, тысячи взмахов крыльев птиц свободных. Доверчивый и резвый чижик садился на голову какой-нибудь статуи. Дерзкие и трусливые воробьи воровали у домашних птиц корм, но потом, напуганные кудахтаньем наседок, вдруг улетали. Щегленок обрывал лепестки цветов, которые у него старался отнять ветер. Пробуждались жуки и начинали жужжать под согретой первыми лучами солнца и еще влажной травой. Самые красивые бабочки долины летели целыми стаями, чтобы напиться сока этих диковинных экзотических растений, от которых они так пьянели, что их легко можно было взять рукой Все воздушные голоса, все ароматы утра поднимались к небу как чистый ладан, как простодушное песнопение, призванное возблагодарить господа за его благодеяния и за труд людей. Но в этом царстве животных и растений, среди чудес искусства и всей беспримерной роскоши и богатств не было только одного человека. Песок на всех аллеях совсем недавно был сравнен граблями, словно для того, чтобы сгладить шаги прошедших здесь людей. Ступив на эти аллеи, Лелия испытала какой-то суеверный страх. Ей показалось, что она нарушит гармонию этого волшебного мира, что стены заколдованного замка вот-вот рухнут. Захваченная вихрем поэзии, она не верила своим глазам. Видя вдалеке, за прозрачными колоннадами монастыря глубокие и пустынные долины, она легко могла вообразить, что уснула где-то среди леса под деревом, облюбованным какой-нибудь феей, и что, когда она проснулась, кокетливая владелица этих мест окружила ее разными призрачными чудесами, дабы удержать ее в своей власти. Поддаваясь очарованию этой фантазии, опьяненная ароматами жасмина и дурмана, радуясь тому, что осталась одна в этих чудесных местах, и вообразив себя чуть ли не царицей, она подошла к высокому окну. Сверкающие на солнце цветные стекла походили на пеструю шелковую занавесь гарема. Лелия села на край бассейна, где плавали рыбы, и стала глядеть в прозрачную воду, следя за движениями форели в серебряной броне, на которой сверкали рубины, и линя в его золотистой, отливающей зеленью одежде. Она восхищалась их изящной игрой, блеском их металлических глаз, той непостижимой быстротой, с какой они ускользали в страхе, когда на зыбкую поверхность воды ложилась ее беглая тень. Неожиданно послышалось пение, словно то пели святые у подножия трона Иеговы; звуки исходили из глубины таинственного здания и, смешиваясь со звуками органа, разносились повсюду. Казалось, все смолкло, и Лелия, пораженная восторгом, как в детстве, невольно опустилась на колени. Женские голоса, чистые и гармоничные, поднимались к богу, как пылкая, полная надежды молитва, а детские, серебристые и трогательные, отвечали им, как далекие обещания неба, словно то были ангелы. Монахини возглашали: — Ангел господень, простри над нами твои спасительные крылья. Защити нас твоей недремлющей добротой и твоей утешительной жалостью Господь сотворил тебя милосердным и нежным среди всех добродетелей, среди всех сил неба, ибо он предназначил тебя спасать, утешать людей, собирать в чистейший сосуд слезы, пролитые у ног Христа, и явить их как искупление перед твоей вечной справедливостью, о вседержитель! А маленькие девочки отвечали из придела: — Надейтесь в господе, о вы, которые трудитесь в слезах, ибо ангел-хранитель простер свои большие золотые крылья между слабостью человека и гнева всевышнего. Восславьте господа. Потом монахини начали снова: — О самый юный и самый чистый из ангелов, тебя господь сотворил последним, ибо сотворил тебя после человека, и поместил тебя в раю, чтобы ты был его товарищем и другом. Но явился змий-искуситель и обрел над духом человека больше власти, чем ты Ангел гнева сошел на них, чтобы их покарать; ты последовал за человеком в изгнание и стал заботиться о детях, рожденных Евой, о всеблагой! Дети снова ответили: — Возблагодарите же, вы все, любящие господа, возблагодарите на коленях ангела-хранителя, ибо на своих могучих крыльях он летает с земли на небо и с неба на землю, чтобы вознести ввысь молитвы, чтобы принести свыше благодеяния! Восславьте господа! Свежий и чистый голос молодой послушницы произнес: — Это ты своим свежим дыханием согреваешь поутру скованные холодом растения; это ты покрываешь девственною одеждой всходы, которым угрожает град; это ты своей спасительною рукою поддерживаешь хижину рыбака, которую раскачивают морские ветры; это ты будишь уснувших матерей и, призывая их нежным голосом ночью, когда им снятся сны, указуешь им кормить грудью новорожденных младенцев, это ты охраняешь стыд девственниц и кладешь к изголовью их апельсиновую ветвь — невидимый талисман, отгоняющий дурные мысли и нечистые сны, это ты садишься в знойный полдень возле борозды, где спит ребенок жнеца, и отгоняешь от него ужа и скорпиона, готовых кинуться на его колыбель; это ты открываешь листы требника, когда мы ищем в Священном писании исцеления наших недугов; это ты помогаешь нам находить тогда слова, приличествующие нашему горю, и подносишь к глазам нашим святые строки, отгоняющие от нас искушение. — Призывайте ангела-хранителя, — запели детские голоса, — ибо это самый могущественный из ангелов господних. Когда господь посылал его на землю, он пообещал, что каждый раз, когда тот будет возвращаться к нему, будет прощен один грешник. Восславьте господа. Очарованная этой нежной поэзией и этими мелодичными голосами, Лелия незаметно приблизилась к порогу боковой двери, оказавшейся приоткрытой Остановившись на площадке мозаичной лестницы, откуда виден был неф, она увидала внизу простертых на полу девственниц. Охваченная восторгом, она воздела руки к небу и возгласила: — Восславьте господа! — и так проникновенно, что все молившиеся тут же взглянули на нее в каком-то едином порыве. Ее высокий рост, белое платье, развевавшиеся волосы и низкий голос, который можно было принять за голос юноши, произвели такое впечатление на восторженных и робких монахинь, что им показалось, будто перед ними и в самом деле ангел-хранитель. Единый крик вырвался отовсюду, молодые девушки пали ниц, и Лелия медленно спустилась по лестнице, чтобы стать среди них на колени. В эту минуту тяжелая дверь, в которую она вошла, захлопнулась между нею и Вальмариной. Он терпеливо ждал ее несколько часов, и только когда стало очень уж жарко, удалился на галерею, в прохладное, хорошо проветриваемое помещение, где ему пришлось еще долго ждать. Когда эти знойные часы прошли и подул морской ветер, который поднимается и становится все сильнее на закате солнца, он решил позвонить у внутренней решетки монастыря и вызвать Лелию через послушницу. Через несколько минут ему передали от иностранки (так ее называли здесь) цветок, который на условном языке означал «прощай». Вальмарина, который сам обучил Лелию этой восточной символике, понял, что это последнее прости, и один пошел по дороге в город.44
«Вы знаете, какие таинственные узы влекут меня к жестокой борьбе и к смутным надеждам. Призываемый моими братьями по несчастью, я явлю собой нового противника или новую жертву палачей и убийц истины. Я уезжаю, может быть, для того, чтобы не вернуться, и раз вы на этом настаиваете, я больше вас не увижу Признаюсь, я несколько удивлен тем, что вы удалились в католический монастырь. Я знаю, какую власть имели над вами эти верования в прежние годы; но я никак не могу поверить, что они могут долго вами владеть. Очевидно, речь здесь шла о другом, а не о минутной потребности в отдыхе и в одиночестве, ибо ни отдых ваш, ни одиночество мое присутствие никогда не нарушало и не смущало. Вы приучили меня смотреть на себя как на ваше второе „я“, и к тому же братское прощание — пожатие через решетку руки — не могло бы отвлечь вас от ваших раздумий и внести в ваши мысли светскую суету. Вы, должно быть, обрекли себя на это заточение, дабы испытать свое благочестие, и это старание ваше привязать себя к идеям, которые стали для вас слишком тесными, огорчительно и грустно. Во всяком незрелом решении есть нечто болезненное, свидетельствующее о бессилии души. Чем больше поведением своим вы стараетесь доказать, что не любите Стенио, тем больше мне кажется, что эта несчастная любовь жестоко вас мучит. Подумайте об этом, сестра моя, ибо надо, чтобы эта любовь или выросла, или оборвалась. Половинчатые чувства — достояние натур слабых. Бесполезные попытки достойны сожаления, они только напрасно истощают наши силы. Неужели мне так и придется уехать под гнетом этой тревоги?»45
«Есть положения, по счастью, очень редкие, когда дружба ничем нам не может помочь. Тот, кто не может быть сам своим единственным врачом, не заслуживает того, чтобы господь дал ему силу исцелиться. Может быть, я страдаю больше, чем вы думаете; но не приходится сомневаться, что я могу справиться со своим страданием и что решение мое не вызвано недомыслием или излишней самонадеянностью. Я просто хочу остаться здесь, как больной в больнице, чтобы подчинить себя новому режиму. Для того чтобы вылечить тело, приходится затратить немало усилий и подвергнуть себя немалым лишениям; по-моему, то же самое можно сделать и для души, когда ей угрожает смертельная болезнь. Давно уже я блуждаю по лабиринту, полному смутных шумов и обманчивых теней. Я должна затвориться в келье, искать себя под таинственной сенью до тех пор, пока не найду; и вот, когда я почувствую себя здоровой и сильной, я решу все. Тогда-то я и выслушаю ваши советы с тем уважением, которое присуще дружбе; тогда вы будете в состоянии судить о моем положении и высказаться с достаточным основанием относительно моего будущего. Сейчас же ваши заботы способны только сбить меня с пути. Что вы можете знать обо мне, раз сама я о себе ничего не знаю, то лишь, что я хочу изучать себя и себя познать? Когда на ясном небе появляется черная туча, вы можете предвидеть, с какой стороны разразится гроза, но когда противоположные ветры бросают тучи со всех сторон навстречу друг другу, — для того, чтобы пуститься в путь, приходится выжидать, пока взойдет солнце. Мне тяжело думать, что я не могу пожать вашу руку в ту минуту, когда вы готовитесь встретиться с опасностями, которым я завидую, мне было бы еще ужаснее увидеть вас и не быть в состоянии поговорить с вами откровенно; я даже не знаю, вынесу ли я это, и я уверена, что буду совершенно разбитой после свидания, на котором благоразумие ваше, слишком, может быть, просвещенное, разрушит ту слабую надежду которая во мне зародилась. Вы человек действия, Вальмарина, в гораздо большей степени, чем человек мысли. Сильными ударами топора вы проложили себе широкую дорогу и вы не всегда понимаете препятствия, которые останавливают других на нерасчищенных тропинках. У вас есть цель в жизни; если бы я была мужчиной, у меня тоже была бы своя цель, и, как бы гибельна она ни была, я бы спокойно шла к ней. Но вы все время забываете, что я женщина и что мои возможности ограничены некими непреодолимыми пределами. Мне следовало бы удовлетвориться тем, что составляет гордость и радость других женщин; я бы это сделала, если бы, на мое несчастье, не смотрела на вещи серьезно и не тянулась к чувствам, которых не находила. Я слишком разумно судила о людях и о явлениях моего времени: я не могла ни к чему привязаться. Я испытывала потребность любить, потому что мое сердце развилось в том же направлении, что и мой ум; но разум мой и гордость запретили мне этой потребности уступать. Надо было встретить человека исключительного, который принял бы меня как равную и вместе с тем избрал себе спутницей жизни, кто бы сделал меня своей подругой и вместе с тем — своей любовницей. Мне не выпало на долю такого счастья и, если бы я стала домогаться его снова, мне пришлось бы снова его искать. Искать в любви — означает пробовать: вы знаете, что это немыслимо для женщины, если она не хочет подвергать себя риску унизиться; в жизни хватит и двух несчастных Любовей. Если вторая любовь не исправила ошибок первой, надо, чтобы женщина сумела отказаться от любви, надо, чтобы она сумела найти свою славу и свой покой в воздержании. А воздержание, если она не покинет света, будет для нее тяжко и мучительно. Общество не допускает ее к высоким умственным поприщам и не дает ей втянуться в борьбу политических страстей. Начальное воспитание, жертвой которого она становится, по большей части оставляет ее неподготовленной к занятию наукой, а предрассудки, сверх того, делают для нее всякую публичную деятельность немыслимой или нелепой. Ей позволено, правда, заниматься искусством, но переживания, которые это искусство вызывает, не лишены опасности; для натуры аскетической жить строгою жизнью, может быть, еще труднее, чем для любой другой. С этой точки зрения любовь всего-навсего соблазн, от которого человек наполовину освобождается, когда начинает его стыдиться; преодолеть этот соблазн можно и не испытывая нравственных страданий. Если любовь становится идеалом жизни, то людям, которые ее лишены, не дано знать покоя. Душа захвачена безраздельно; в ее святая святых вторгаются благородные влечения, удивительные желания. Удовлетворить их она может, только пойдя по ложному следу, приняв иллюзию за действительность и поверив лживым обещаниям; с каждым шагом под ногами у нее разверзается пропасть. С трудом выбравшись из первой, привязанная самой природой своей к пагубным иллюзиям, она упадет во вторую, в третью, пока наконец, надломленная своими падениями, измученная своей борьбой, она окончательно не ослабеет и не погибнет. Среди испорченных женщин я видела очень мало таких, которых совратила одна только чувственность (таким достаточно иметь молодого, пусть и глупого мужа); многие же, напротив, уступали зову сердца, которым не руководил ум и которого воля не могла победить. Если Пульхерия и стала куртизанкой, то это потому, что она была моей сестрой, что она, помимо воли, испытала влияние спиритуализма, что она искала среди мужчин одного-единственного любовника, прежде чем сделаться любовницей всех. Осудив женщин на рабство, чтобы они остались целомудренными и верными, мужчины жестоко ошиблись. Ни одна добродетель не требует стольких сил, сколько целомудрие, а рабство приводит в раздражение. Мужчины хорошо это знают, они не верят, что на свете есть сильные женщины. Как вы знаете, я не смогла жить среди них: меня подозревали, на меня клеветали больше, чем на какую-либо другую. Я не могла бы опереться на ваше покровительство, на вашу братскую дружбу без того, чтобы клевета не исказила сущности наших отношений. Я устала бороться на людях и переносить оскорбления с открытым лицом. Жалость была бы для меня еще оскорбительнее, чем отвращение; вот почему я никогда не буду искать известности и печальными ночами выпью мою чашу горечи втайне от всех. Пора уже мне отдохнуть и начать искать бога в его тайных святилищах, чтобы спросить его, не создал ли он для женщин чего-либо сверх того, что создали люди. Я пыталась приучить себя к одиночеству и была вынуждена от него отказаться. В развалинах монастыря *** я едва не сошла с ума; в пустынных горах я боялась ко всему очерстветь. Стоя перед угрозою помешательства или идиотизма, я вынуждена была искать шума и развлечений. Чаша горечи, которою я собиралась себя опьянить, разбилась от прикосновения к моим губам. Верно, настал уже час рассеять заблуждения и смириться. Всего несколько дней назад я была еще слишком молода, чтобы оставаться на Монтевердоре; сейчас я слишком стара, чтобы туда возвращаться. У меня было еще очень много надежд впереди, сейчас их уже совсем мало; мне надо найти одиночество такое, чтобы ничто внешнее не достигало моего сердца и чтобы вместе с тем звук человеческого голоса время от времени тревожил мой слух. Человек в состоянии освободиться от страстей, но он не может безнаказанно порвать свои привязанности к себе подобным. Физическая жизнь — это тот груз, который он должен поддерживать в равновесии, если только хочет сохранить в равновесии способности своего интеллекта. Полное одиночество быстро разрушает здоровье. Оно противоестественно, ибо первобытный человек — и тот стремится к общению, и высокоразвитые животные выживают только тогда, когда они объединяются, чтобы удовлетворять свои потребности и чтобы совместными усилиями облегчить себе существование. Таким образом, считая, что не гожусь для уединенной жизни, я была несправедлива к моему духу; я не понимала, что это только тело мое возмущается против преувеличенных лишений, против колебаний погоды, против изнуряющей диеты, против отсутствия внешней жизни с ее картинами. Движения одушевленных существ, обмен словами, сами звуки человеческой речи, регулярность и общность самых обыденных привычек, может быть, действительно необходимы, особенно в наше время, для сохранения животной жизни, вслед за привычкой к непомерному благоденствию и к такому же непомерному движению. Христианство, по-видимому, отлично поняло эти потребности, создав религиозные общины. Иисус, передав мистический экстаз людям пылкого воображения, жившим в странах с благодатным климатом, мог послать анахоретов в Ливан. Служители его, ессеи и терапевты, населили пустынные земли Монашество нашего времени, более слабое телом и духом, вынуждено было создать монастыри и заменить общество, которое оно покидало, обществом избранных душ. И вот роскошь со всеми ее усладами получает доступ даже в монастыри Об этом следовало бы, вероятно, еще много говорить, если бы мы обсуждали вопрос этот с точки зрения христианской морали. Что до меня, которая всего лишь отщепенка, только что покинувшая, обливаясь кровью, враждебный мир в поисках любого приюта, лишь бы приклонить в нем свою слабую голову, то я так исстрадалась, что могу только быть очарованной красотою этого убежища, куда меня закинула буря Великолепие этого убранства делает для меня менее ощутимым переход в монастырь из мирской суеты. Искусства, которыми здесь занимаются, мелодичное пение, звучащее в этих стенах, реющие в воздухе ароматы — все, вплоть до большого числа монахинь и до их богатых одежд, служит зрелищем для моих возбужденных чувств и развеивает зловещую скуку. В настоящем мне больше ничего и не нужно, что же касается будущего, то я пока еще слишком плохо его себе представляю. С каждой минутой, проводимой здесь, я все сильнее предчувствую новую жизнь. И вместе с тем, если бы любовник Пульхерии оправдал романтические надежды, которые мы с ним когда-то взлелеяли вдвоем, я, как обещала вам вернулась бы к нему, и моя любовь могла бы стереть с него весь позор его заблуждения. Но почему вы надеетесь, что при такой склонности к сладострастию он будет по-настоящему чуток к высокой поэзии, к которой вы хотите его приобщить? Не обольщайтесь поэтам профессиональным присуща одна особая привилегия — они хвалят все то, что красиво, тогда как их сердце остается равнодушным ко всей этой красоте и они даже не пошевельнут пальцем, чтобы защищать то дело, которое превозносят. Вы хорошо знаете что он отказался от мысли облагородить свою жизнь, посвятив ее делу которому служите вы. Он знает чем вы заняты как ни свято вы храните вашу тайну, сердца людей полны сейчас тревоги, сочувствия, стремления узнать правду и им нельзя помешать разгадать то что таится в вашей душе. Ну что же! Та симпатия, о которой Стенио столько раз говорил мне, была не более чем легковесным словом, всего-навсего аффектацией благородства. Еще недавно он говорил мне, что для того, чтобы увидеть вас хотя бы на миг, для того, чтобы пожать вашу руку, он пожертвовал бы своим лавровым венком поэта, а когда я решила толкнуть его в ваши объятия, он предпочел им объятия Пульхерии. Может быть, вы скажете, что страдание мгновенно закрывает доступ в душу благородным чувствам и высоким идеям? Как же так! Выходит, что душа поэта совсем ослабела а вместе с тем она сохраняет всю свою силу опьяняясь счастьем! Позор такому страданию! Но все равно сделайте для него то, что вам приказывает сердце. Только если вы привлечете его в свои ряды, помните о моей воле, Вальмарина: я не хочу быть приманкой, которая заставит его вырваться из затянувшей его трясины. Я не хочу, чтобы обещание моей любви послужило такой низкой цели: вытащить из порока человека, которого не могла спасти честь. И чего же стоила бы тогда вся его преданность вам, если она была бы порождена одною только надеждой — завладеть мною? К тому же, кто знает, не увидит ли уязвленное тщеславие Стенио в победе надо мной одно лишь презрение и не воспылает ли он ко мне жаждой мести? Для того чтобы он мог снова стать достойным меня, надо, чтобы он сделал больше, чем я требовала от него еще тогда, когда он не совершил свой проступок. Надо, чтобы в нем самом зародилось желание великих свершений. Тогда я признаю, что ошиблась и что судила его слишком строго, что он заслужил лучшего… И тогда он действительно будет заслуживать, чтобы я его вознаградила. Но верьте мне, увы, я многое умею угадывать. Я обладаю даром провИдения, который всю жизнь был для меня пыткой. Меня считают суровой, потому что я вижу будущее… Меня считают несправедливой, потому что самого незначительного обстоятельства достаточно, чтобы мне все прояснить. Стенио погиб, или, вернее, как я вам уже говорила, Стенио никогда не существовал. Это мы создали его таким в наших мечтах. Это молодой человек, умеющий хорошо говорить… Вот и все. Обещаю вам еще раз не принимать никакого окончательного решения, прежде чем не дам вам возможность по-настоящему узнать его. Я знаю, что вы будете неотступно оберегать его как провидение. Не забудьте, что, со своей стороны, вы обещали мне что он не будет знать, где я нахожусь, это будет тайной для всех. Я хочу, чтобы весь мир обо мне забыл, я не хочу, чтобы в один прекрасный день Стенио мог прийти сюда во хмелю и нарушил бы мой покой какой-нибудь безумной попыткой. Уезжайте! Пролейте еще несколько капель чистой крови на бесплодный лавр, растущий на могиле неведомых мучеников! Не бойтесь, что я буду вас жалеть! Вы будете действовать, а я последую примеру Альфьери, который заставлял привязывать себя к стулу чтобы противостоять искушению устремиться к предмету своей недостойной страсти. О жизнь души! О любовь! О величайшее благодеяние господне! Мне придется велеть пригвоздить себя к столбам монастыря, чтобы удержаться от тебя, как от яда! Горе, горе этой дикой половине человеческого рода, которая, для того чтобы овладеть другой, оставила ей только выбор между рабством и самоубийством!»ЧАСТЬ ПЯТАЯ
46
Человек, одетый в черное, прибыл утром в город и постучал в ворота дворца Цинцолины. Лакеи сказали ему, что синьора не может его принять; но он не уходил. Тогда они попытались прогнать его; он с невозмутимым видом поднял свой посох. Его бесстрастное лицо и удивительное упорство испугали суеверных слуг; решив, что это призрак, они расступились перед ним. Маленький паж, сам не свой от волнения, вошел в комнату, где Цинцолина принимала своих гостей. — Какой-то abbatone, какой-то abbataccio [48], — сказал он, — силой ворвался в дом, исколотил железной палкой слуг синьоры, разбил японский фарфор, алебастровые статуи, мозаичные полы, столько всего перепортил и всех проклял. Услыхав это, все гости повскакали с мест (за исключением одного, который спал) и побежали навстречу аббату, чтобы его выгнать. Но Цинцолина, вместо того чтобы, по их примеру, возмутиться наглостью пришельца, откинулась на спинку кресла, покатываясь со смеху. Потом она поднялась, но лишь для того, чтобы попросить гостей успокоиться и вернуться на свои места. — Примите, примите аббата! — вскричала она. — Люблю священников нетерпимых и гневных, они самые пакостные. Велите провести сюда его преподобие пошире распахнуть перед ним двери и принести кипрского вина. Паж пошел выполнять ее приказание, и когда двери отворили, все увидели, как в глубине коридора показалась величественная фигура Тренмора. Но единственный из гостей, который мог бы его узнать и представить другим, спал так крепко, что от всех этих взрывов удивления, гнева и веселья даже ни разу не вздрогнул. Приглядевшись к мнимому аббату поближе, веселые приятели Цинцолины обнаружили, что его странное одеяние отнюдь не священническая ряса, однако куртизанка, продолжая упорствовать в своем заблуждении, вышла ему навстречу и, стараясь казаться красивой и нежной, как мадонна, сказала: — Добро пожаловать, аббат, кардинал или сам папа, и поцелуйте меня. Тренмор поцеловал куртизанку, но с таким равнодушным видом и такими холодными губами, что она отпрянула на несколько шагов и воскликнула не то в гневе, не то в испуге: — Клянусь золотистыми волосами девы Марии, это поцелуй призрака! Но ее прежнее бесстыдство вскоре вернулось к ней, и, видя, что Тренмор окидывает гостей мрачным и беспокойным взглядом, она пригласила его занять место рядом с собою. — А ну-ка, аббатик, посиди со мной, — сказала она, протягивая ему свой серебряный бокал, чеканенный Бенвенуто и украшенный розами, как то было принято на сладострастных оргиях в Греции, — согрей-ка свои холодные губы этим лакрима-кристи. И она лицемерно перекрестилась, произнося имя Спасителя. — Скажи мне, что привело тебя к нам Или нет лучше не говори, дай мне догадаться самой Хочешь, тебя оденут в шелковые одежды и волосы твои умастят благовониями? Ты самый красивый аббат, какого я видела в жизни. Но почему же его преподобие на хмурило брови и упорно молчит? — Простите меня, сударыня, если я плохо отвечаю на ваше гостеприимство, — сказал Тренмор. — Хоть я и пришел сюда пешком, как слуга, вы принимаете меня как принца. Я отнюдь не считаю себя вправе пренебрегать вашей любезностью но у меня нет времени заниматься вами, Пульхерия, я пришел к вам по совершенно другому поводу. — Пульхерия! — вскричала Цинцолина, вся дрожа. — Кто вы такой, что знаете имя, которым нарекла меня мать? Из какой страны вы явились? — Из той, где сейчас находится Лелия, — ответил Тренмор, понижая голос. — Да будет благословенно имя моей сестры, — сказала куртизанка сосредоточенно и серьезно. Потом она развязно добавила: — Хоть она и завещала мне останки своего любовника. — Что вы говорите? — в испуге воскликнул Тренмор. — Неужели вы могли уже довести до истощения человека такого юного и крепкого? Неужели вы успели уже погубить это дитя, которое совсем еще не жило? — Если вы говорите о Стенио, — ответила куртизанка, — то он еще жив. — Да, месяц-другой еще протянет, — добавил один из гостей, бросая беглый и беззаботный взгляд на диван: там кто-то спал, уткнувшись лицом в подушки. Тренмор посмотрел в ту сторону. Он увидел человека такого же роста, как Стенио, однако тот был настолько худ, что, казалось, он не пьян, а изможден лихорадкой. Поредевшие тонкие волосы беспорядочными прядями спадали на гладкую белую шею, которая походила бы на женскую, если бы не угловатость линий, выдававших истощенного тяжелым недугом мужчину. — Так это Стенио? — спросил Тренмор, уводя Пульхерию в амбразуру окна и впиваясь в куртизанку взглядом, от которого она побледнела и задрожала. — Когда-нибудь наступит, может быть, день, Пульхерия, когда господь потребует с вас отчет за одно из самых чистых и прекрасных своих творений. Не страшно вам подумать об этом? — Разве это моя вина, что Стенио уже изможден, в то время как все мы, что собрались здесь, живя такою же жизнью, молоды и сильны? Неужели вы думаете, что у него нет других любовниц, кроме меня? Неужели, по-вашему, только за моим столом он напивается пьяным? А вы, монсиньор, ибо я узнаю вас по вашим речам и знаю теперь, кто вы такой, разве сами вы не испытали на себе всего безумия распутной жизни, и разве вы не вышли из объятий наслаждений полным сил и веры в грядущее? К тому же, если какая-нибудь женщина и виновата в его гибели, так это Лелия: это она не должна была отпускать его от себя Господь предначертал ему свято любить одну только женщину, слагать для нее сонеты; живя одинокой и тихой жизнью, мечтать о бурях и о жизни кипучей Живя творениями своей фантазии, он должен был только смотреть издалека на наши оргии, на наше пылкое сладострастие, на все наши шумные бдения, рассказывать о них стихами, но никак не принимать в них участия, не играть в них сам никакой роли. Разве, призывая его к наслаждению, я советовала ему бросить все остальное? Разве это я уговорила Лелию прогнать его и покинуть? Разве я не знала, что в жизни таких людей, как он, опьянение чувств должно стать только отдыхом, а никак не постоянным времяпрепровождением? Или вы явились сюда, чтобы найти его, увести его от наших празднеств и вернуть к жизни задумчивой и спокойной? Никто из нас не станет этому противиться. Я все еще люблю его, и я буду благодарна вам, если вы спасете его от самого себя, если вы возвратите его Лелии и богу. — Она права, — вскричал один из гостей Пульхерии, слышавший ее последние слова. — Уведите его от нас! Уведите! Он нагоняет на нас тоску. Он не такой, как все, он всегда нас чуждался; хоть он и разделял наши радости, в душе он, верно, их презирал. Проснись, Стенио, приведи себя в порядок и уходи отсюда. Но Стенио оставался глух ко всем этим призывам, он продолжал лежать неподвижно среди их оскорбительных криков и до того отупел от сна, что Тренмору стало за него стыдно Он подошел к нему чтобы его разбудить. — Смотрите будьте осторожны, — сказали ему пробуждение Стенио всегда бывает страшным никому нельзя касаться его, когда он спит Однажды он убил свою любимую собаку только за то, что, кинувшись ему на колени, несчастная прервала приятный сон, который он в эту минуту видел. Вчера, когда он уснул, положив локти на стол, и Эмеренсиана хотела поцеловать его, он разбил свой стакан об ее лицо. И рана была так глубока, что рубец, верно, никогда уже не изгладится. Когда слуги не будят его в назначенный час, он их выгоняет вон но когда они будят его он их бьет. В самом деле будьте с ним осторожны в руке у него столовый нож он способен вонзить его вам в грудь. «О боже, — подумал Тренмор, — как он переменился! Сон его был чист как у ребенка и, когда рука друга будила его, первый взгляд его светился улыбкой, первым его словом было благословение. Бедный Стенио! Какие страдания должны были потрясти твою душу чтобы она стала такою черствой, как должно было изнемочь твое тело чтобы ты стал таким как сейчас?» Стоя неподвижно за диваном погруженный в мрачное раздумье, Тренмор смотрел на Стенио. Прерывистое дыхание юноши и его тяжелый сон выдавали его внутреннее волнение Неожиданно он проснулся и, вскочив на ноги, закричал хриплым и диким голосом. Но увидев накрытый стол и гостей, смотревших на него удивленно и презрительно, он снова сел на диван и, скрестив руки, оглядел собравшихся осоловевшими от сна и винных паров глазами. — Ну как, Иаков, — насмешливо крикнул молодой Марино, — победил ты духа божия? — Я боролся с ним, — ответил Стенио, и на лице его появилось какое-то ехидное, злобное выражение, еще более непохожее на то, которое Тренмор привык на нем видеть, — но теперь у меня враг посильнее: я ведь состязаюсь в уме с Марино. — Лучше всех тот ум, который не позволяет человеку забывать о его положении. Мы собрались здесь, чтобы с бокалами в руках состязаться в присутствии духа в настоящем веселье, в уравновешенности Розы, украшающие бокал Цинцолины, обновлялись три раза, пока мы здесь, и лицо нашей прелестной хозяйки ни разу еще не омрачила складка неудовольствия или скуки, ибо хорошее настроение ее гостей ни на миг не поколебалось. Только один из нас мог смутить наш праздник, если бы мы заранее не условились, что какой бы он ни был, печальный или веселый, больной или здоровый, спящий или бодрствующий в кругу друзей наслаждения, — Стенио для нас уже ничего не значит, ибо звезда его закатилась, едва успев взойти. — Чем же виновато это дитя? — спросила Пульхерия. — Он болен и слаб, всю ночь он проспал в углу… — Всю ночь? — повторил Стенио зевая. — А разве сейчас еще только утро? Когда я увидел зажженные светильники, я решил, что с днем уже все покончено. Как! Не прошло и шести часов с тех пор как вы собрались, а вы удивляетесь, что еще не наскучили друг другу? В самом деле, это удивительно при той компании, которую ваши сиятельства подобрали. Что до меня, то я продержался бы целую неделю при условии, что мне позволят все время спать. — А почему бы вам не пойти спать куда-нибудь в другое место? — спросил Цамарелли. — Сиятельный принц Бамбуччи, который умер в прошлом году увенчанный старостью и славой, и который, разумеется, был первым кутилой своего времени, приговорил бы к вечному воздержанию от вина или по меньшей мере каторге того неблагодарного который бы осмелился уснуть у него за столом Он с полным основанием утверждал, что подлинный эпикуреец должен восстанавливать свои силы размеренной жизнью и что спать перед бутылками с вином столь же постыдно, как и пить одному в кровати. Как бы этот человек презирал тебя, Стенио, если бы он увидел, что ты ищешь наслаждения в усталости, делая все вопреки здравому смыслу, проводишь ночи за писанием стихов, вместо того чтобы спать, и в изнеможении валишься с ног, когда рядом бокалы, полные вина, и женщины с голыми ногами! То ли Стенио притворился, что не слышит Цамарелли, то ли он так изнемог, что действительно ничего не слышал, лишь при последних словах он едва поднял отяжелевшую голову и сказал: — А где же они? — Они пошли переодеться, чтобы казаться нам красивее и моложе — ответил Антонио. — Хочешь, я сейчас же уступлю тебе мое место подле Торкваты? Она явилась сюда по твоей просьбе, но так как, вместо того чтобы говорить с ней, ты проспал всю ночь… — Ну и правильно, мне-то что! — воскликнул Стенио, стараясь сделать вид, что все эти саркастические реплики ему безразличны. — К тому же меня теперь интересует только любовница Марино. Цинцолина, позовите ее сюда. — Если бы ты обратился ко мне с этой просьбой до полуночи, — сказал Марино, — я бы показал тебе твое место, но сейчас уже шесть часов утра, а моя любовница все это время пробыла здесь. Бери ее сейчас, если только она захочет. Цинцолина наклонилась к уху Стенио. — Принцесса Клавдия, которая без ума от тебя, Стенио, будет здесь через полчаса. Она потихоньку пройдет в садовый павильон. Я слышала, как ты вчера расхваливал ее целомудрие и красоту. Я знала ее тайну, я хотела, чтобы она была счастлива и чтобы Стенио сделался соперником королей. — Добрая Цинцолина! — воскликнул растроганный Стенио. Потом с прежней небрежностью в голосе он продолжал: — Я действительно находил ее красивой, но это было вчера… И потом, не надо обладать той, которую любишь, — ты замараешь ее грязью, и тогда больше нечего будет хотеть. — Вы можете любить Клавдию так, как захотите, — ответила Цинцолина, — становиться перед ней на колени, целовать ей руку, сравнивать ее с ангелами и уйти, наполнив душу идеальной любовью, той, что когда-то подходила к вашим раздумьям, исполненным грусти. — Нет, не говорите мне больше о ней, — раздраженно ответил Стенио, — велите сказать ей, что я умер. Сейчас я в таком состоянии, что она не понравится мне, и я просто скажу ей, что она совсем потеряла стыд, если могла так позабыть свое положение и честь, решив отдаться распутному шалопаю. Послушай, паж, вот мой кошелек и поди разыщи цыганку, что пела вчера утром у меня под окном. — Поет она очень хорошо, — с почтительным спокойствием ответил паж, — но ваша милость ее не видели… — А тебе какое дело! — гневно вскричал Стенио. — Ваша милость, она ведь ужасна, — сказал паж. — Тем лучше, — ответил Стенио. — Она черна как ночь, — сказал паж. — В таком случае я хочу ее сию же минуту; делай, что я тебе говорю, или я выброшу тебя в окно. Паж повиновался; но едва только он дошел до двери, как Стенио снова позвал его. — Нет, не хочу я никаких женщин, — сказал он, — хочу воздуха, хочу света. Почему это мы сидим, запершись в темноте, когда солнце всходит? Это похоже на какое-то проклятие. — Вы что, еще не проснулись, не видите, что везде горят свечи? — спросил Антонио. — Велите их унести и открыть ставни, — сказал Стенио бледнея. — Зачем лишать себя свежего воздуха, пения пробудившихся птиц, аромата распускающихся цветов? Какое преступление мы совершили, чтобы среди бела дня нас отлучили от солнца? — Вот перед нами снова поэт, — сказал Марине, пожав плечами. — Неужели вы не знаете, что при дневном свете пьют только немцы и педанты? Садиться за стол без свеч — это все равно, что танцевать на балу без женщин. К тому же гуляка, умеющий жить, не должен замечать бега часов и тревожиться о том, день или ночь на улице, ложатся ли спать мещане или просыпаются кардиналы. — Цинцолина, — сказал Стенио презрительным, вызывающим тоном, — мы дышим здесь затхлым воздухом. Это вино, все эти кушанья, все эти пламенеющие напитки — все это напоминает фламандскую таверну. Откройте окна! А не то я опрокину ваши светильники и разобью стекла. — Уходите отсюда и будете дышать свежим воздухом! — закричали возмущенные гости, поднимаясь с мест. — Что вы! Неужели вы не видите, что он не может идти! — воскликнула Цинцолина, подбегая к Стенио, который упал без чувств на диван. Тренмор кинулся, чтобы помочь привести его в сознание, остальные вернулись на свои места. «Какая жалость, — думалось им, — что Цинцолина, самая сумасбродная из девок, увлеклась этим чахоточным поэтом и принимает так близко к сердцу его причуды!» — Приди в себя, дитя мое, — говорила Пульхерия, — подыши вот этими эссенциями, обопрись о подоконник, неужели ты не чувствуешь, как свежий ветерок овевает тебе лицо и треплет твои волосы? — Я чувствую твои руки, они согревают меня и раздражают, — ответил Стенио, — отними их от моего лица. Уйди от меня, от тебя пахнет мускусом, от тебя слишком пахнет куртизанкой. Вели подать мне ром, я хочу напиться пьяным. — Стенио, вы безумны и жестоки, — с удивительной мягкостью сказала Цинцолина. — Вот один из ваших лучших друзей, он уже около часу подле вас; вы что, не узнаете его? — Мой замечательный друг, — сказал Стенио, — сделайте милость, наклонитесь, а то вы, верно, такой высокий, что мне придется встать, чтобы вас увидеть; а я не уверен, что ваша физиономия этого стоит. — Что же, вы не видите ее или не помните? — спросил Тренмор, продолжая стоять прямо. Узнав его голос, Стенио вздрогнул. — Так, значит, на этот раз все уже не сон? — воскликнул он, внезапно поворачиваясь к нему. — Как же мне отличить иллюзию от действительности, если моя жизнь проходит в бреду или во сне? Мне только что снилось, что вы здесь, что вы распеваете самые забавные, самые непристойные стихи… Меня это поразило; но в конце концов разве и я не поражал так же тех, кто меня когда-то знал? А потом мне казалось, что я пробуждался, что я ссорился, а вы все еще были тут. Во всяком случае, я думал, что это ваша тень колышется на стене, и я уже больше не знал, во сне это или наяву Теперь скажите мне, вы действительно Тренмор или вы, как и я, только никому не нужная тень, только призрак, только имя того, что некогда было человеком? — Что бы там ни было, я никак не тень друга, — ответил Тренмор, — и если я без колебаний узнаю вас, я заслужил, чтобы вы платили мне тем же. Стенио попробовал пожать ему руку и ответить ему грустной улыбкой; но черты его потеряли свое прежнее простодушие, и даже когда он хотел выразить благодарность, в них сквозили высокомерие и озабоченность. В его глазах без ресниц не было уже той поволоки, которая так идет людям молодым. Они смотрели вам прямо в лицо пристально, грубо и почти вызывающе. Потом молодой человек, боясь, как бы им не овладели воспоминания о былом, увел Тренмора к столу и там с каким-то тайным стыдом, к которому примешивалось дерзкое тщеславие, предложил ему выпить столько же, сколько он сам. — Как! — воскликнула Цинцолина, и в голосе ее слышался упрек. — Вы хотите ускорить свой конец? Вы только что совсем умирали, а теперь вот хотите уничтожить все, что осталось от вашей молодости и силы, этими горячительными напитками. О Стенио! Уходите отсюда, уходите вместе с Тренмором! Поберегите себя, иначе вам никогда не поправиться… — Уйти с Тренмором! — сказал Стенио, — а куда же я с ним уйду? Разве мы можем с ним жить в одних и тех же местах? Разве меня не изгнали с горы Хорив, куда нисходит бог? Разве я не должен провести сорок лет в пустыне, чтобы потомкам моим суждено было когда-нибудь увидать землю Ханаанскую? Стенио судорожно сжал бокал. Лицо его подернулось темной тенью. Затем оно вдруг оживилось — на нем выступили красные пятна; это были те лихорадочные пятна, которые видишь на лицах людей, предающихся распутству, и которые так непохожи на нежный и ровный румянец юности. — Нет, нет, — сказал он, — я не уеду раньше, чем Тренмор не скрепит нашу возобновившуюся дружбу Если простодушного, доверчивого юноши больше уже не существует, надо, чтобы он по крайней мере увидел отчаянного гуляку, сластолюбивого хлыща, который родился из праха Стенио. Цинцолина, велите наполнить все бокалы. Пью за упокой души Дон Жуана, моего патрона, пью за молодость Тренмора. Только нет, этого мало, пусть наполнят мой бокал жгучими пряностями, пусть положат туда перец, от которого хочется пить, имбирь, сжигающий все внутри, корицу, от которой быстрее бежит по жилам кровь. Пошевеливайся, бесстыдный паж, приготовь мне эту омерзительную смесь, чтобы, она жгла мне язык и возбуждала мозг. Я все равно ее выпью, пусть даже придется заставлять меня пить насильно: я ведь хочу сделаться сумасшедшим и почувствовать себя молодым, хотя бы на час, а потом умереть. Вы увидите, Тренмор, как я бываю красив, когда я пьян, как на меня нисходит божественная поэзия, как небесный огонь зажигает мою мысль, в то время как огонь лихорадки бежит по моим жилам. Скорее, дымящийся бокал на столе. Эй вы, немощные гуляки, бессильные распутники, вызываю вас всех! Вы посмеялись надо мной, так посмотрим, кто из вас теперь окажется крепче меня? — Кто же избавит нас от этого молокососа, от этого хвастуна? — сказал Антонио, обращаясь к Цамарелли. — Не довольно ли нам переносить его наглые выходки? — Оставьте его в покое, — ответил Цамарелли, — он сам старается поскорее избавить нас от своего присутствия. Стенио залпом выпил пряное вино, и через несколько мгновений у него начались страшные боли, вся его блеклая кожа покрылась красными пятнами. На лбу у него выступил пот, а в глазах появился какой-то жестокий блеск. — Ты страдаешь, Стенио! — вскричал Марино торжествующе. — Нет, — ответил Стенио. — В таком случае спой нам что-нибудь из твоих навеянных вином песен. — Стенио, вы не можете петь, — сказала Пульхерия, — лучше не пробуйте. — Я буду петь, — сказал Стенио, — неужели я потерял голос? Неужели я уже больше не тот, кому вы так восторженно аплодировали и чьи песни опьяняли вас сильней, чем вино? — Это верно, — вскричали все присутствующие, — пой, Стенио, пой! И они обступили стол, ибо ни один из них не мог отрицать, что у Стенио есть поэтический дар, и все покорялись ему безраздельно, когда в нем, совсем обессилевшем от разгула, вспыхивал вдруг огонь поэзии. Вот что он пел своим изменившимся, но все еще полным тонких модуляций голосом: Пусть кипрское вино мне обжигает жилы, Из сердца вытравить хочу я все, чем жил я, Воспоминаний рой, Что мучит вдруг тревогой безысходной И тучей, отраженной в глади водной, Смущает мой покой! Забудь, забудь иль вспоминай пореже О днях, что прожил с головою свежей, Сотри их след. Не все ль равно, был трезв иль пьян вчера ты И знал иль нет, что ждет тебя утрата Всех безмятежных лет. — Голос твой слабеет, Стенио! — крикнул Марино с конца стола. — Ты как будто пытаешься сочинить стихи, а они даются тебе с трудом. Помню, было время, когда ты импровизировал по двенадцати строф и не заставлял нас столько времени томиться. Но теперь ты себе изменил, Стенио. И любовница твоя и муза — обе устали от тебя. Стенио в ответ только презрительно на него посмотрел; потом он ударил по столу кулаком и продолжал более уверенным голосом: Вина, вина! Пускай взыграют трубы, Пусть пена через край, пусть погрузятся губы В светящийся поток, И пересохнут вновь, и жаждут без предела, Пусть жарче кровь, пусть исступленней тело, Ведь во хмелю я — бог. Хочу, чтоб все дневное умолкало, Чтоб меркло солнце, чтоб одни бокалы, Средь вечной тьмы, Сдвигались, чтоб — от встреч до расставанья Гремели так, как в бурю в океане Гремят валы. И если взгляд вопьется в вихри оргий И губы, задрожав, потянутся в восторге К другим, спьяна, Хочу отдаться ласке безотказной И дев нагих продажные соблазны Вкусить сполна. — Стенио, ты бледнеешь! — воскликнул Марино. — Перестань петь, а не то твоя последняя строфа кончится последним вздохом. — Не смей меня больше перебивать, — воскликнул Стенио в гневе, — не то я заткну тебе глотку стаканом! Потом он вытер катившийся со лба пот и голосом мужественным и сочным, который контрастировал с его изможденным видом и синеватой бледностью, распространявшейся по разгоряченному лицу, продолжал: А если бред на дни туманом ляжет И в смерти светлой мне господь откажет Оставив искус всех Безудержных желаний — плоти хилой, Чтоб скрежетал зубами я без силы, Былых лишась утех, Хочу, чтоб, вновь пролившися в избытке, Часов последних медленную пытку, Что хитрый судия Измыслил, ты, вино, мне сократило, Чтоб плоть в объятьях сомкнутых остыла И бога проклял я! Окончив эту фразу, Стенио совсем посинел, руки его задрожали, и он выронил бокал, который собирался поднести к губам. Он попытался окинуть торжествующим взглядом своих собутыльников, пораженных этой храбростью и восхищенных мужественными звуками, которые он еще сумел извлечь из своей надорванной груди. Но тело его больше не могло уже выдержать этого насильственного единоборства с волей. Оно ослабело, и Стенио, охваченный снова прострацией, упал на пол без чувств; падая, он ударился головой о кресло Пульхерии, и платье куртизанки обагрилось его кровью. На крики Цинцолины сбежались другие женщины. Видя, что они возвращаются, блистая драгоценностями и красотой, все позабыли о Стенио. Пульхерия с помощью своего пажа и Тренмора перенесла Стенио в сад и уложила в тени деревьев возле фонтана, воды которого лились в бассейн великолепного каррарского мрамора. — Оставьте меня одного с ним, — сказал Тренмор куртизанке, — теперь он принадлежит только мне. Цинцолина, по натуре существо доброе и беззаботное, запечатлев поцелуй на холодных губах Стенио, поручила его богу и Тренмору; уходя, она глубоко вздохнула, после чего вернулась на пиршество, где теперь стало еще веселее и шумнее. — В другой раз, — сказал Марино, протягивая Цинцолине бокал с вином, — ты уже, надеюсь, не станешь давать этому пропойце Стенио пить из твоего бокала. Это работа Челлини; хорошо еще, что его не повредили, когда уронили на пол.47. КЛАВДИЯ
Придя в себя, Стенио презрительно посмотрел на хлопотавшего возле него друга. — Почему мы здесь одни? — спросил он. — Почему нас выгнали из дома, как прокаженных? — Вам не следует больше возвращаться на эту оргию, — сказал Тренмор, — потому что сами собутыльники ваши презирают вас и гонят вон. Вы все потеряли, все погубили; вы забыли бога, вы надругались над всем человеческим. Вам остались только узы дружбы, она-то вас всегда приютит. — А чем мне поможет дружба? — с горечью сказал Стенио. — Разве не она первая устала от меня и объявила, что ничего не может для меня сделать? — Это вы сами ее оттолкнули; это вы презрели ее благодеяния и от них отказались. Несчастное дитя! Вернитесь к нам, вернитесь к себе самому. Лелия зовет вас; если вы признаете свои заблуждения, Лелия о них позабудет… — Оставьте меня! — гневно вскричал Стенио. — Никогда не произносите при мне имени этой женщины. Это ее проклятое влияние растлило мои молодые годы; это ее дьявольская ирония открыла мне глаза и показала жизнь во всей ее наготе, во всем уродстве. Не говорите мне больше о Лелии: я больше ее не знаю, я позабыл, как она выглядит. Я далее не знаю, любил ли я ее когда-нибудь. Сто лет прошло с тех пор, как я ее оставил. Если бы я теперь ее увидал, я бы расхохотался от жалости, стоило бы мне только вспомнить о том, что за это время я обладал сотнею женщин, более красивых, более юных, более чистых и более пылких, чем она, и что я досыта испил с ними наслаждения. Для чего же мне теперь гнуть колени перед этим мраморным идолом? Даже если бы у меня был пламенный взгляд Пигмалиона и добрая воля богов, чтобы оживить этот мрамор, на что он мне нужен? Что может она мне дать такого, чего нет у других? Было время, когда я верил в бесконечные радости, в неземные наслаждения. В ее объятиях мечтал я о высшем блаженстве, об экстазе ангелов у ног всевышнего. Но сегодня я больше не верю ни в небеса, ни в ангелов, ни в бога, ни в Лелию. Я познал человеческие радости; я уже больше не могу их переоценить. Это Лелия позаботилась о том, чтобы меня просветить. Теперь я достаточно всего знаю, знаю, может быть, больше, чем она сама! Пусть она лучше об этом не напоминает, не то я отомщу ей за все то зло, которое она мне причинила. — Горечь твоя успокаивает меня, гнев твой мне нравится, — сказал Тренмор. — Я боялся, что ты будешь бесчувствен к прошлому. Теперь я вижу, что оно глубоко тебя волнует и что сопротивление Лелии осталось у тебя в памяти, как незажившая рана. Да будет благословен господь! Стенио потерял только здоровье; душа его полна сил и надежд на будущее. — Блистательный философ, насмешливый стоик, — вскричал Стенио, приходя в ярость, — вы что, явились сюда, чтобы отравить своими оскорблениями мои последние часы, или по глупости своей вы находите удовольствие в том, чтобы бесстрастным взором смотреть на мои страдания? Вернитесь туда, откуда пришли, и дайте мне умереть среди суеты и разгула. Не презирайте последних усилий души, может быть и раздавленной своими заблуждениями, но зато не униженной ничьим сочувствием. Тренмор опустил голову и молчал. Он подыскивал слова, которые могли бы смягчить горечь этой неистовой гордыни, и сердце его наполнилось грустью. Его суровое лицо потеряло привычное спокойствие, и слезы выступили у него на глазах. Стенио заметил их и был растроган до глубины души. Их взгляды встретились; в глазах Тренмора было столько страдания, что Стенио, почувствовав себя побежденным, проникся жалостью к самому себе. Насмешка и равнодушие, которые окружали его уже давно, приучили его краснеть за свои страдания. Когда он почувствовал, что дружеское участие смягчает ему сердце, он в первую минуту не хотел этому верить, а потом, окончательно покорившись, порывисто кинулся в объятия Тренмора. Но тут же он устыдился своего порыва, а вскочив, увидел женщину, закутанную в венецианский плащ, — проскользнув мимо него, она укрылась в тени беседки. Это была принцесса Клавдия, в сопровождении одной из своих приближенных направлявшаяся в какой-то садовый павильон. — Ну конечно, — сказал Стенио, поправляя воротник батистовой рубашки и закалывая его бриллиантовым аграфом, — я не могу допустить, чтобы бедное дитя томилось по мне, и не пожалеть ее. Цинцолина, верно, забыла, что эта девочка должна прийти. Долг чести требует, чтобы я первым пришел на свидание. В ту же минуту Стенио повернул голову туда, куда шла Клавдия. Его измятое лицо сразу помолодело. Грудь его вздымалась от желаний. Он вырвал руку из руки Тренмора и быстро побежал к павильону, стараясь опередить Клавдию; но вскоре он замедлил шаг и со спокойной небрежностью побрел к своей цели. Он подошел к дверям павильона одновременно с ней и, задыхаясь от усталости, облокотился о перила крыльца. Юная принцесса, вся красная от смущения и дрожавшая от радости, решила, что поэт, предмет ее любви, охвачен волнением и смущен так же, как она. Но Стенио, немного оживившийся, завидев блеск ее черных глаз, предложил ей руку, чтобы войти вместе с нею, и в движениях его была уверенность герольда и церемонная вежливость камергера. Когда они остались одни и когда она села, лицо ее все еще пылало и она продолжала дрожать. Стенио какое-то время в молчании на нее смотрел. Принцесса Клавдия была еще очень юна; формы ее тела, правда, уже определились, но еще не окончательно развились; непомерно длинные ресницы, желтизна кожи, преждевременно ставшей гладкой и шелковистой, едва заметные синие круги вокруг темных глаз, болезненный и утомленный вид — все говорило о преждевременно наступившей зрелости, о необузданном воображении. Несмотря на все эти признаки, указывавшие на горячность ее натуры и предвещавшие ей будущее, полное гроз, Клавдия сохранила еще все стыдливое очарование юности. Волнение свое она не умела скрыть, но вместе с тем была не в силах еще до конца обнаружить. Ее дрожащие губы, казалось, звали к поцелую, но глаза были влажны от слез; ее не окончательно еще установившийся голос, казалось, просил пощады и покровительства; желание и испуг потрясали все это хрупкое существо, в котором стыдливое целомудрие смешивалось с огнем страсти. Охваченный восхищением, Стенио сначала подивился в душе, что ему досталось такое великое сокровище. В первый раз ему приходилось видеть принцессу так близко и уделять ей столько внимания. Она оказалась гораздо красивее и соблазнительнее, чем он ожидал. Но его угасшие и пресытившиеся чувства не могли уже больше обмануть его разум, скептический и холодный. В одно мгновение он рассмотрел Клавдию и взглядом своим овладел ею всей, начиная от пышных волос, собранных жемчужною сеткой, и кончая маленькими ножками в шелковых туфельках. Мысленно он представил себе всю ее будущую жизнь, начиная от этой первой причуды, бросившей ее в объятия бедного поэта, и кончая отвратительными ласками и развратом высокопоставленной старости. Огорченный, испуганный, а главное, охваченный беспредельным отвращением, Стенио смотрел на нее странным взглядом и не мог вымолвить ни слова. Когда он заметил, в какое глупое положение его ставит задумчивость, он попытался подойти к ней и что-то сказать. Но ему никогда еще не удавалось притвориться влюбленным, и он спросил с любопытством и вместе с тем строго, по-отечески беря ее за руку: — Сколько же вам лет? — Четырнадцать, — ответила юная принцесса, растерянная и совсем оторопевшая от удивления, огорчения, гнева и страха. — Ну так вот, дитя мое, — сказал Стенио, — попроси у своего духовника, чтобы он отпустил тебе твой грех, который заключается в том, что ты пришла сюда, и возблагодари господа за то, что на целый год, то есть на целое столетие, он опоздал связать твою судьбу с судьбой Стенио. Не успел он договорить эти слова, как дуэнья принцессы, остававшаяся в амбразуре окна, чтобы наблюдать за поведением обоих любовников, бросилась к ним, и, приняв в свои объятия плачущую Клавдию, стала осыпать Стенио упреками. — Наглец! — вскричала она. — Так-то вы принимаете милость, которую вам оказывает ее высочество, удостоившая оказать вам честь своим взглядом? На колени, подлый, на колени! Если ваша грубая душа не растрогана такой редкостной красотой, которой нет равной во всей вселенной, пусть хоть ваша наглость уступит место уважению, которое вам надлежит воздать дочери Бамбуччи. — Если дочь Бамбуччи соизволила опуститься до меня, — ответил Стенио, — она, должно быть, уже заранее смирилась с тем, чтобы я обошелся с нею как с равной. Если сейчас она в этом раскаивается, то тем лучше для нее. К тому же это единственное наказание, которое она понесет за свое неблагоразумие, но она может похвастаться тем, что пресвятая дева привела ее сюда наутро после оргии, а не накануне ее. Женщины, выслушайте меня, выслушайте обе слова человека, которого близость смерти делает мудрым. Выслушайте вы, дуэнья с грязной душонкой и подлыми замашками, и вы, юная девушка с преждевременно развившимися страстями, с роковой и опасной красотою, выслушайте меня! И прежде всего вы, титулованная куртизанка, маркиза, в чьем сердце прячется столько же пороков, сколько морщин на лице, вы должны быть благодарны беззаботности Стенио: не пройдет и часа, как она изгладит из его памяти все, что сейчас случилось; если бы не она, вы были бы разоблачены перед всем двором и изгнаны, как вы того заслужили, семьей, хрупкий отпрыск которой вы собрались погубить. Убирайтесь отсюда, распутство и корысть, угодничество и низкопоклонство, предательство, проказа всех наций, позор и мерзость человеческого рода! А ты, несчастное дитя, — добавил он, вырывая Клавдию из объятий дуэньи и вытаскивая ее к свету, побагровевшую от отчаяния и стыда, — слушай меня внимательно и если когда-нибудь, занесенная далеко судьбой и страстями, ты в ужасе оглянешься назад на лучшие годы жизни, которые ты погубила, на твое поруганное целомудрие, вспомни о Стенио и остановись на краю пропасти. Взгляни на меня, Клавдия, взгляни прямо, без страха и волнения, на этого человека — тебе кажется, что ты им увлеклась, но я уверен, что ты ни разу на него даже не взглянула. В твоем возрасте сердце бывает взволнованно и нетерпеливо. Оно призывает другое, находит в нем отклик, оно рискует, доверяется, отдается. Но горе тем, кто злоупотребит невинностью и чистотой! Вот ты, Клавдия, слышала стихи человека, которого считала молодым, красивым, страстным. Взгляни же на него, бедная Клавдия, вот тот призрак, который ты любила; вот его облысевшая голова, его костлявые руки, его потухшие глаза, его побелевшие губы. Приложи руку к этому истрепанному сердцу, сосчитай этот медленный, слабый пульс двадцатилетнего старика. Взгляни на эти седеющие волосы — они обрамляют лицо, на котором едва только пробился юношеский пушок; теперь скажи мне, это ли тот Стенио, о котором ты мечтала, это ли тот благоговейный поэт, это ли вдохновенный сильф, являвшийся тебе в твоих небесных видениях, когда ты на закате пела его гимны под звуки арфы? Если бы ты бросила тогда мимолетный взгляд на ступеньки твоего дворца, ты могла бы увидеть тот бледный призрак, который говорит с тобою теперь, — он сидел на одном из мраморных львов, охраняющих твои двери. Ты бы увидела его таким, как сейчас, увядшим, измученным, равнодушным к твоей ангельской красоте, к твоему мелодичному голосу, интересующимся только тем, чтобы узнать, как четырнадцатилетняя принцесса фразирует мелодии, вдохновленные хмелем, написанные в часы разгула. Но ты его не видела, Клавдия, к счастью для тебя, глаза твои искали его на небе, там, где его не было. Вера твоя наделяла его крыльями, в то время как он ползал у твоих ног вместе с разными лаццарони, спящими у порога твоей виллы. Знай, девочка, так будет со всеми твоими иллюзиями, со всеми твоими влюбленностями. Сохрани же воспоминание об этом обмане, если ты хочешь сохранить молодость, красоту и душевные силы; или, если ты еще можешь после этого надеяться и верить, не спеши давать выход своему нетерпению, храни и сдерживай в своей пылкой душе желание, продли, сколько можно, это ослепление надеждой, эту молодость сердца, которая пролетает за один день и никогда больше не возвращается. Разумно распоряжайся сокровищами твоих иллюзий, зорко их стереги и бережно трать; ибо в тот день, когда ты захочешь поддаться вихрю мыслей, мучительному томлению чувств, ты увидишь, что твой кумир из золота и бриллиантов превратился в глиняного божка; в объятиях своих ты будешь сжимать только призрак, в котором нет ни тепла, ни жизни. Напрасно ты будешь гнаться за мечтой своей юности; задыхаясь от безумного бега, ты всегда будешь догонять только тень и скоро упадешь измученная, одна, окруженная целым роем угрызений совести, изголодавшаяся на лоне пресыщения, одряхлевшая и мертвая, как Стенио, не проживши и одного дня. С этими словами он вышел из павильона и стал искать Тренмора. Но тот схватил его за руку, как только поэт спустился с крыльца. Через открытое окно он все видел и слышал. — Стенио, — сказал он, — слезы, которые я только что пролил, были оскорблением, скорбь моя была кощунством. Вы несчастны и опустошены, но вы, сын мой, вы еще молоды и чисты. — Тренмор, — воскликнул Стенио с глубоким презрением и горьким смехом, — не приходится сомневаться, что вы сошли с ума; неужели вы не видите, что вся эта мораль, которую я здесь выставил напоказ, всего-навсего жалкая комедия старого солдата, впавшего в детство: он сооружает крепости из песка и воображает, что защитил себя от мнимых врагов. Неужели вы не понимаете, что я люблю добродетель, наподобие того как старые распутники любят молоденьких девушек, и что я восхваляю прелести, наслаждаться которыми больше не в силах? Неужели вы думаете, наивный младенец, по-нелепому добродетельный мечтатель, что я бы в самом деле пощадил эту девицу, если бы излишества в наслаждениях не сделали меня бессильным? Договорив эти слова тоном, полным горечи и цинизма, Стенио впал в глубокую задумчивость; Тренмор увел его тогда далеко из города, а он шел, даже не замечая, куда его ведут.48. ВЕНТА
Хоть Тренмор и любил ходить пешком, ему пришлось на этот раз нанять карету, так как силы Стенио быстро иссякли. Ехали они не спеша и вволю любовались красотами природы. Стенио был спокоен и молчалив. Он ни разу даже не спросил, куда и зачем они едут. Он давал себя увезти с той апатией, какая бывает у военнопленных, и его безразличие к будущему, должно быть, позволяло ему сполна насладиться настоящим. Он то и дело с восхищением смотрел на чарующие пейзажи этой необыкновенной страны и не раз просил Тренмора останавливать лошадей, чтобы подняться на какую-нибудь гору или просто посидеть у берега реки, где он отдавался порывам восторга и поэтического вдохновения. В такие минуты он снова глубоко чувствовал природу и находил силы прославлять ее своими стихами. Но несмотря на эти светлые промежутки, приносившие Стенио пробуждение и обновление, Тренмор замечал в своем юном друге и неизгладимые следы разгула. В прежнее время его деятельная и всегда ясная мысль вбирала в себя все вокруг и наделяла цветом, формой и жизнью все предметы внешнего мира; теперь Стенио чаще всего пребывал в состоянии какого-то сладостного и вместе с тем мрачного отупения. Можно было подумать, что он считает ниже своего достоинства чем-то занимать свой ум, однако на самом деле он был уже не в состоянии с ним совладать. Нередко он пытался еще взывать к нему, но напрасно: мысли его больше уже не слушались. Тогда он делал вид, что презирает способности, которые утратил, однако в его напускном веселье сквозила горечь, и можно было угадать, что он раздражен и страдает. Он втайне старался обуздать свою непокорную память, как-нибудь подстегнуть разленившееся воображение, пришпорить свой бесчувственный и усталый талант — но все было напрасно: совершенно истерзанный, он снова предавался хаосу бессмысленных и бесцельных мечтаний. Мысли проносились в его мозгу, бессвязные, фантастические, неуловимые, как те воображаемые искорки, которые, как нам чудится, пляшут во мраке; они льются потоками и все множатся, чтобы потом исчезнуть навсегда в вечной ночи небытия. Однажды утром, проснувшись на ферме, где они ночевали, Стенио увидел, что остался один. Его спутник исчез. Он оставил вместо себя юного Эдмео, которого Стенио на этот раз принял совсем иначе, чем во время их последней встречи около Монте-Розы. В словах и мыслях поэта вместо прежней дружеской откровенности была теперь горькая насмешка. Впрочем, сердце Стенио не было развращено, и, видя, сколько горя он причиняет своему другу, он сделал над собой усилие, чтобы стать серьезнее; но тут он вдруг впал в мрачное раздумье и последовал за Эдмео, не расспрашивая его о том, куда они направляются. Целый день они шли по безлюдным густым лесам, а к вечеру остановились возле старинной, средневековой башенки, где давно, должно быть, жили только ужи да совы. Это было дикое и живописное место. Строгие архитектурные формы этого здания, теперь уже почти превратившегося в развалины, гармонировали с окружавшими его дикими отвесными скалами. На небе светила бледная луна, и облака, нанесенные осенним ветром на ее мертвенный лик, принимали причудливые очертания, как и тот мрачный пейзаж, на который они бросали свои длинные скользящие тени. Сухой и отрывистый звук потока, падавшего на камни, походил на дьявольский хохот. Стенио был взволнован и, выйдя вдруг из состояния апатии, внезапно остановил Эдмео в ту минуту, когда они переходили через подъемный мост. — Вид этих мест доставляет мне страдание, — сказал он, — мне кажется, что я вхожу в тюрьму. Где мы находимся? — У Вальмарины, — ответил Эдмео, увлекая его за собой. Стенио вздрогнул, услыхав это имя; он никогда не мог слышать его без волнения; но он тут же покраснел, устыдившись своего простодушия, от которого все еще не избавился. — Год тому назад я был бы очень рад побывать здесь, — сказал он своему другу, — но сейчас все это мне кажется довольно нелепым. — Может быть, ты сразу же изменишь свое мнение, — спокойно ответил Эдмео; и он провел его по большим дворам, темным и безмолвным, к длинной галерее, где было так же темно и тихо. Потом, побродив какое-то время по лабиринту больших холодных и заброшенных зал, едва освещенных косым лучом луны, они остановились перед дверью, украшенной старинными гербовыми щитами, которые едва заметно светились в темноте. Эдмео несколько раз громко постучал. Он осторожно шепнул в небольшое окошечко пароль, получил ответ, и внезапно обе створки торжественно распахнулись: Стенио и его друг вошли в огромную залу, отделанную в стиле рыцарских времен, с роскошью, которой время придало какую-то особую строгость и которая при свете множества свечей выглядела еще суровее. Там сидели люди, которых Стенио вначале принял за призраков, потому что ни один из них не пошевельнулся и не проронил ни слова, а потом — за сумасшедших, потому что они выполняли какой-то странный ритуал, исполняя его в соответствии с некими догматами, высокими и вместе с тем ужасными, которых Стенио был не в силах понять. Вслед за Эдмео он вошел в комнату посвящений. Он никогда никому не рассказывал, что ему там открылось. Все, что он увидел, поразило и его воображение, где еще теплилась поэзия, и сердце, в котором не успели заглохнуть высокие чувства — преданность, справедливость и прямодушие, — и в эту минуту он показал себя достойным необыкновенного доверия, оказанного ему там, и благородной готовностью, с какой он дал обет, и самой искренней радостью, которую при этом испытал. Однако когда встал вопрос о том, чтобы принять его в число избранных, несколько голосов высказалось против, и то были отнюдь не голоса молодых иностранцев, выделявшихся среди прочих таинственностью своих речей и своими крайними взглядами. То были голоса людей, которых Стенио склонен был считать более снисходительными к нему, ибо все это были громкие имена, люди богатые, щедрые и привыкшие жить на широкую ногу. То были князья, блестящие аристократы, весь цвет золотой молодежи этой страны. Но если они и вели, подобно Стенио, распутную жизнь и предавались опасным наслаждениям, если у многих из них под их священными доспехами и скрывались пятна страшной проказы, которая заражает счастливцев этого века, они по крайней мере часто смывали эту грязь великодушными жертвами, а Стенио, тот не мог привести никаких доказательств своего героизма. Все это были люди, которых он часто встречал на празднествах, в театре и, может быть, даже в будуаре Цинцолины, потому что иные из них были когда-то ее любовниками и подавали пример в страшном искусстве прожигать жизнь; именно поэтому, как ему казалось, они должны были стать его покровителями и ответчиками за него теперь, когда речь шла о его спасении. Их недоверие стало для него суровым наказанием, и гордость его была уязвлена ведь, подражая им в распутстве, он видел только дурную их сторону и даже не подозревал о существовании другой, поистине высокой. Они дали ему это почувствовать, и на мгновение лицо его зарделось краской спасительного стыда. Он даже едва не рассердился на них и не ушел, наговорив им колкостей, когда его спросили, кто его крестный отец, и он увидел, что остался среди них один. Эдмео был слишком молод, чтобы взять на себя эту высокую роль. Тогда появился человек, прятавший от всех свое лицо, и подошел к Стенио так, что тот один только мог узнать его: это был Тренмор; он пришел, чтобы поддержать его и чтобы за него поручиться — состоянием за состояние, жизнью за жизнь и честью за честь. В присутствии стольких знаменитостей, избранников различных наций, собравшихся во имя высокого братства, Стенио, движимый тайным и трусливым тщеславием, хотел было уже отказаться от покровительства Тренмора. Он чувствовал себя оскорбленным высказанными на его счет подозрениями каково же будет его смущение, если хотя бы один голос поднимется, чтобы разоблачить в его единственном покровителе бывшего каторжника? Он заколебался, побледнел, растерянно посмотрел вокруг; но тут он увидел, как все головы склонились и все руки протянулись вперед в знак согласия: Тренмор открыл лицо. Он просил, чтобы неофита избавили от всех установленных испытаний и чтобы, ввиду того что предприятие близится к концу, Стенио приняли, положившись на его, Тренмора, честное слово. В ту же минуту поэта допустили принести обет, и он был принят. Ради него отказались от всех общепризнанных правил, пренебрегли статутом; его, никому не известного и не имевшего никаких заслуг, приняли по поручительству человека, которому никто не мог ни возразить, ни отказать. — Отчего же этот человек получил такую власть над умами всех остальных? — спросил Стенио, обратившись после церемонии принесения клятвы к стоявшему возле него юноше. — Отчего это все собравшиеся так беспрекословно ему повинуются? Что у него за высокая должность? Молодой человек посмотрел на Стенио с величайшим удивлением и, обернувшись к своим товарищам, воскликнул: — Боже ты мой! Это же ни на что не похоже — крестник Вальмарины не знает Вальмарину! — Как, это Вальмарина, он, Тренмор? — вскричал Стенио. — О, Тренмор, Ансельм, Марио, зовите его как хотите, — ответили новые братья Стенио. — Вы же знаете, что, отправляясь в путешествие, он каждый раз меняет имя, ибо враги наши следят за ним. Но он умеет укрыться от них, он очень осторожен и ловок. Часто он, незамеченный, пробирается по самым опасным местам, и в ту минуту, когда его уже собираются схватить, оказывается где-нибудь совсем далеко и обнаруживает себя только тогда, когда нагнать его уже невозможно. Нигде не знают его настоящего имени, даже здесь. Среди нас он называет себя Вальмариной, но никто не знает, ни в какой семье он родился, ни где и как прошли его молодые годы. Мы знаем только то, чего он не в состоянии от нас скрыть: что он самый ревностный, самый благородный, самый преданный, самый храбрый и самый скромный из нас всех. — И самый одаренный! — закричало несколько голосов. — Провидение зорко его охраняет — оно спасает его от всех опасностей и делает его неуязвимым для всех потрясений духа и тела. Это он одним из первых сделался здесь апостолом и пропагандистом веры, которую вы только что приняли, и это он оказал важнейшие услуги нашему святому делу. Невозможно рассказать, сколько он нам принес пользы; нельзя даже рассказать и о половине его благородных поступков, — он прячет свои добрые дела столь же ревностно, сколь другой старался бы их расславить. Честь и хвала тебе, поэт Стенио, если Вальмарина, которого ты даже не знаешь, счел тебя достойным такого доверия и с таким уважением отнесся к тебе! Разговор прервали старейшины. Всем посвященным предложили подать свои голоса для выбора верховного председателя. Старинный бронзовый шлем, какие в былые времена носили рыцари, снятый с одного из трофеев, украшавших стену, служил урной, в которую складывали билеты; наконец, после всех испытаний, совершавшихся как священнодействие, было провозглашено имя Вальмарины, встреченное всеобщим восторгом собравшихся. Тогда Вальмарина поднялся и сказал: — Я очень благодарен вам за все эти изъявления доверия и любви; но я не имею права на такое уважение. Для того чтобы управлять вами, нужен человек, вся жизнь которого была бы безукоризненной, а моя молодость не была чиста. Уже в трех сообществах я отказался от той самой чести, которой вы меня удостоили. Я отказываюсь от нее и сейчас. Грехи мои не искуплены. Тогда самый почтенный и уважаемый из тех, кого на этом собрании именовали отцами и наставниками, поднялся и ответил: — Вальмарина, мои седые волосы и рубцы от ран у меня на лбу дают мне право не соглашаться с тобой. Твой упрямый отказ — грех более великий, чем те, в которых ты можешь себя обвинить. Пусть никто из нас не знает, откуда ты родом и какую веру ты исповедуешь, ты борешься заодно с нами против первосвященников и фарисеев, и мы видим, что ты живешь как истый христианин; упорство твое поражает, преисполняет уважения к тебе, и никто из нас никогда не позволил себе спрашивать тебя о принципах, лежащих в основе твоих поступков. Сейчас, однако, я считаю себя вправе утверждать, что твое смирение граничит с фанатизмом. Ты показал себя храбрым воином; не опускай же сейчас голову, как монах. Ты ведь уже пострадал за наше дело, ты томился в изгнании, ты выдержал пытку тюрем, ты поступился всем своим богатством, ты, без сомнения, умертвил в себе все земные чувства, ибо живешь один, суровою жизнью, какой жили святые былых времен. Поэтому не казни себя, как кающийся грешник. Если в молодые годы у тебя и были грехи, я уверен, что среди нас нет ни одного, кто бы не был готов простить их, ибо нет безгрешных среди нас, и ни один не может похвастать тем, что искупил свои грехи поступками столь великими, как те, которые совершил ты. От имени этого собрания и в силу власти, которую мне дают мой возраст и полномочия, присвоенные мне в этих стенах, я требую, чтобы ты принял это высокое звание. Раздались возгласы бурного одобрения. Вальмарина задумался; он был бледен и весь помрачнел. — Отец, ты напрасно терзаешь меня, — сказал он, когда волнение улеглось. — Я не могу подчиниться власти, которую уважаю в твоем лице. Я не могу уступить тому чувству симпатии, которым братья мои делают мне честь. Я готов скорее покинуть совсем это общество и идти сражаться за наше дело в одиночестве, чем принять здесь какую-то власть, звание, словом — быть чем-то отмеченным среди остальных. Я не католик, ибо я дал такой обет, от которого никто из последователей Христа меня не может избавить! — Ну, так мы разрубим его шпагой, и ты будешь свободен. Человеку не дано знать, какие у него обязанности перед грядущим. Сегодня тот или иной обет кажется ему священным и достойным, а завтра он может стать наивным или преступным. Нередко из милосердия и из здравого смысла надо бывает от чего-то отречься, и было бы безумием или даже трусостью упорствовать в каком-либо бессмысленном решении. Ты доказал, что нужен нам; теперь, если ты уйдешь от нас, нам может быть только хуже. Подумай об этом… Если бы мы не были уверены в твоей добродетели так же, как в сиянии солнца, если бы ты не был нам дорог, как собственное дитя, твое теперешнее поведение можно было бы рассматривать как отступничество от нашего дела или как неприязнь к нам. — Ну что же, думайте как хотите! — ответил Тренмор резко и даже не поднимаясь с места. Все в удивлении переглянулись между собой. Никогда еще его спокойное лицо не бывало омрачено такой тучей, никогда еще брови его так не хмурились в гневе, никогда холодный пот не выступал на его висках и никогда его губы не бледнели и не дрожали в такой мучительной тоске. Разгорелся жестокий спор: одни обвиняли принца *** в том, что он позволил себе высказать подозрение, оскорбительное для Тренмора; другие защищали точку зрения принца и настаивали на ней. Несколько человек считало, что доводы Вальмарины следует признать уважительными, большинство же было за то, чтобы уговорить его от них отказаться. Вальмарина положил конец этим пререканиям и, поднявшись, попросил слова. Тотчас же воцарилось молчание. — Вы меня принуждаете, — сказал он мрачно, — я повинуюсь неумолимой воле судьбы, которую я услышал из уст этого старика. Но, господь мне свидетель, тяжелым трудом и великим страданием я купил себе право молчать и избегнуть позора, в который вы меня повергаете. Но так уж заведено в этом безжалостном обществе: нет спасения от приговоров, однажды произнесенных людьми; нет сколько-нибудь действенного раскаяния; нет возможности все загладить. Вы мечтали о справедливости, и вы же придумали наказание: вы забыли о восстановлении прежнего, ибо вы не считали, что человек исправим, и вы вынесли ему такой приговор, какой даже господь в своем совершенстве и всемогуществе не чувствовал бы себя вправе вынести человеческой слабости!.. — Проклинай общество, которое покровительствует тиранам и порабощает людей свободных, — перебил его один из старейшин, — но не оскорбляй реформаторов, которых ты сам же созвал сюда, чтобы уничтожить зло и воцарить на земле добро. Очень может быть, что, рожденные в этом развратном обществе, мы сохранили помимо воли кое-какие из тех же самых предрассудков, которые собираемся искоренять. Но знай, у нас есть сила побороть их, когда речь идет о том, чтобы признать выдающиеся заслуги вроде твоих. Можешь хранить свою тайну, мы не хотим ее знать. Снова послышались крики одобрения. — И все же, — продолжал кающийся, — подозрительность закралась в ваши души, и если я буду по-прежнему хранить эту тайну, червь сомнения может сделать свое разрушительное дело. Увы! Это так: ни один человек не вправе иметь тайн, и настала пора, когда я должен доверить вам свою. Я думал, что горькая чаша минует меня; я ошибся. Дело, к которому причастны мы все, обязывает меня открыто доказать вам, что я недостоин этой чести; иначе те из вас, которые больше всего меня уважают, вообразят, что я считаю себя выше этого дела и что, обуреваемый фанатической гордостью, я презираю славу людскую. Нет, я не презираю ее, ибо не вправе ее презирать. Я смотрю на нее как на святой и желанный венец, венец героя и мученика. Только мои руки выпачканы в грязи и не могут держать пальмовую ветвь. Я не стану ждать, когда люди вынесут мне этот приговор. Я должен вынести себе его сам! Не потому, что я боюсь людей: приговор самых великих и самых чистых из вас меня не страшит, ибо в сердце своем я искренен, а преступление уже искуплено. Но я уважаю наше дело, и я боюсь, что, став во главе его, я могу принести ему вред. Мое назначение не в том, чтобы трудиться ради земной награды. Вы должны понять, что есть грехи, отпустить которые может только небо, несчастья, от которых избавляет одна только смерть… Впрочем, судите сами… Десять лет тому назад, зимним вечером, владелец этого замка приютил несчастного. — Несчастного, который один брел усталый по нашим лесам, — прервал его Эдмео, вскочив с места. Он говорил вдохновенно и заразил своим энтузиазмом собравшихся; все стали слушать не Вальмарину, а его. — Владелец этого замка был мой дядя, как вы все знаете — один из самых богатых людей этого края. Это был философ, человек большого сердца и больших дерзаний, друг юности Альфьери, ученик Руссо, поборник свободы, лелеявший одну только мысль, одну надежду — увидеть родину снова независимой и единой. Среди обывателей он слыл человеком экзальтированным, безумцем. Он пустил к себе изгнанника, постучавшего в ворота, усадил его с собой за стол и выслушал его, обогрев у домашнего очага, старинной домашней святыни, символа нерушимого гостеприимства. Он узнал все его тайны и схоронил их в своем сердце: он беседовал с ним о священных принципах морали и человеческой справедливости, договорившись до великих истоков всего, до сущности божественной справедливости и доброты. Зимнее солнце, бледное и позднее, застало их у очага — они продолжали свой разговор и не собирались еще расставаться. Изгнанник хотел, правда, уйти, но хозяин дома его удержал; так было и в последующие дни; несмотря на снедавшую его печаль и великую скромность, изгнанник не ушел. Дядя мой воспротивился этому и был неумолим. Три месяца спустя знатный вельможа умер и завещал свои замки, земли, все свое огромное состояние своему новому другу, лишив наследства племянника — легкомысленного юношу, который к тому же пользовался довольно большой свободой и не сумел бы найти достойное употребление для большого состояния, которое попадало теперь в более надежные руки. Иностранец принял все эти богатства и уберег их от хищений и интриг, которые всегда плетутся у постели умирающего. Но три месяца спустя он вернул обездоленному племяннику все права на поместья и ключи от дядюшкиных сокровищ. «Дитя мое, — сказал он, — я нарушаю последнюю волю покойного и, может быть, передаю в дурные руки богатства, на которые могла бы существовать сотня семей. Может быть, если бы я всегда руководствовался в жизни чувством долга, я считал бы себя вправе распорядиться иначе, и у меня хватило бы храбрости сделать из этих богатств то единственное благородное употребление, на которое они предназначены. Но, как и ты, я провел мои молодые годы в распутстве, и раз господь не дал мне погрязнуть в пороке, я могу думать, что его намерения в отношении тебя таковы же и что он наставит тебя на путь исполнения долга. Во всяком случае, я не могу взять на себя миссию провидения — я тебе не родственник и не друг, а всего только твой должник». Сказав это, иностранец исчез, не выслушав ни благодарностей моих, ни просьб. Увидел я его только через год. Он попросил меня помочь благородным людям, впавшим в нищету; сам же он, хоть и жил в большой нужде, никогда не соглашался ничего от меня принять для себя… — Коль скоро вы рассказали мою историю, дайте мне рассказать вашу, — перебил его Вальмарина. — Но кто здесь ее не знает? Ты, Стенио, наш новый посвященный, узнай источник богатств, которые я расточаю на глазах у всех, чтобы возделать священную ниву. Это не что иное, как добрые дела молодого человека, который всего только на несколько лет старше тебя и который до шестнадцати лет жил в неведении высшего назначения, уготованного для него небом, тая в глубинах сердца еще не пробудившиеся его порывы. Ты видел в нем самого обыкновенного мечтателя. Только здесь великие добродетели и высокие поступки, спрятанные от глаз не понимающего их мира, блистают без мишуры своим подлинным блеском — в семье избранных, чье одобрение утешает и не пьянит, как пошлые похвалы толпы. Это потому, что здесь ни один человек не завидует славе другого. Каждый сделал свое дело и выдержал свое испытание. — О тебе только мы ничего не знаем, дитя, — сказал старик, обращаясь к Стенио, — но от тебя, у которого такой замечательный крестный отец, нарекший тебя при крещении сыном, мы многого ждем, будь внимателен к тем последним откровениям, которые будут сделаны тебе и твоим юным братьям. На этом собрании будут решаться важные вопросы. Выслушав принесенные клятвы и записав их, собравшиеся расстались. Были распределены все обязанности, и каждому поручили дело в соответствии с его способностями и силами. Стенио попросил и получил разрешение объединиться с Эдмео под руководством Вальмарины. Тот взялся за опасное предприятие, но из числа менее важных; его отказ принять верховную власть был бесповоротен. Каждый из участников собрания самолично отправился в конюшни старинного поместья взнуздать своего коня, еще не успевшего остыть после быстрого бега. Ни один не взял с собой слуг, чтобы те вольно или невольно не выдали тайны. Представители низшего сословия горячо обнялись с теми, кто отбросил всякое воспоминание о своем мнимом превосходстве, чтобы скрепить новый союз. Молодые люди пошли пешком через лес; Стенио последовал за Эдмео и Тренмором. Луна клонилась уже к горизонту, но еще не начало светать. Каждый торопился покинуть эти места, пока не рассеялась тьма; все поехали разными дорогами. Стояла мертвая тишина. Только время от времени слышно было, как лошадиная подкова цокает о камень или стучит о переброшенный через поток деревянный мост. Теперь уже ни одного огонька не светилось в окнах старого замка; ни один уставший с дороги гость не отдыхал там. Совы, на время улетевшие прочь и умолкшие, вернулись в свои прежние владения, а портреты предков, ненадолго освещенные ярким светом, снова погрузились во мрак, немые свидетели странного договора, который потомки их скрепили с потомками их вассалов.50. ПРОКЛЯТИЕ
Однажды Стенио спустился один по крутым склонам Монтевердора. Он стал чувствовать себя лучше; ужасные волнения, великие горести, тяжелая рана — все это мешало ему вернуться туда, где он жил Но есть благородные муки, страдания, достойные славы, — они возвышают, вместо того чтобы принижать, и поэт успел почувствовать их суровое и материнское влияние. Но Стенио еще не окончательно выздоровел, в том безрассудном вызове, который он хотел бросить жизни, душа его изнемогла еще больше, чем тело Физическая молодость легко возрождается снова, но молодость духовная — нечто более тонкое и драгоценное — никогда окончательно не восстанавливает прелесть свою и аромат Добродетельная жизнь может, правда, вернуть духу известное целомудрие, но лишь постепенно, и надо много усилий, много искупительных жертв. Стенио был храбр, он это доказал, но как только волнение, вызванное грозящей опасностью, успокаивалось, его оживившимся на минуту сердцем снова овладевала смертельная усталость. Потребность в распутстве и в искусственном возбуждении сделалась настолько властной, что покой стал для него настоящей пыткой. Когда он быстрыми шагами проходил по этим местам, с которыми было связано столько поэтических воспоминаний о его любви, ему хотелось бежать от собственных мыслей; но перед глазами его вставали трагические картины, свидетелем которых он только что был, проплывали тяжелые Воспоминания о его поруганных восторгах, он не знал, куда ему деться, и жизнь, которую ему создала Пульхерия — без глубоких волнений и подлинных чувств, — была единственной, которая могла дать ему отдых. Отдых гибельный, подобный тому, который путешественник находит в лесах Америки под тенью опьяняющих деревьев, несущих смерть. Вдруг на одном из крутых поворотов дороги он столкнулся лицом к лицу с человеком, которого сначала принял за привидение. — Что я вижу! — вскричал он, отпрянув в удивлении и почти в ужасе. — Неужели это мертвецы выходят из своих могил? Неужели мученики покидают небо, чтобы блуждать по земле? — Я спасся от смерти, — ответил Вальмарина. — Я знаю, что ты, слава богу, спасся от изгнания; но за мою голову обещана награда, и мне нельзя задерживаться возле тебя ни минуты; ты должен сделать вид, что меня не знаешь, потому что, если меня схватят опасности, которые мне грозят, могут перекинуться и на тебя. Ступай своей дорогой, и да поможет тебе господь! — За вашу голову назначена награда! — воскликнул Стенио, не обращая внимания на последние слова Тренмора. — И вместо того, чтобы покинуть эти места, вы снова явились сюда, где за вами охотятся и вас знают? — До тех пор пока господь будет считать меня способным содеять на земле какое-то благо, он будет помогать мне, — ответил изгнанник. — Моя миссия не выполнена; мне надо еще кое-кого повидать здесь, прежде чем окончательно удалиться. Прощай, дитя мое, дай бог, чтобы семя жизни не оказалось бесплодным в твоей душе! Уходи отсюда: хоть по этой дороге как будто и мало ходят, за каждой скалой, за каждым кустиком может скрываться доносчик. И Тренмор, повернув прямо к горе, хотел сойти с тропинки, по которой должен был пройти Стенио. Но Стенио бросился за ним. — Нет, не могу я так вас покинуть, — сказал он, — вам нужна помощь, вы изнемогаете от усталости; раны ваши едва успели закрыться, щеки ввалились от страдания. К тому же у вас нет пристанища, а я могу вам его предложить. Пойдемте, пойдемте со мной. Если вы думаете, что в такую минуту для меня превыше всего осторожность и страх, вы меня оскорбляете. — Тут есть пристанище, совсем близко отсюда, — ответил Тренмор, — у меня хватит сил до него добраться; поэтому не беспокойся обо мне, друг мой, подумай о себе. Я никогда в тебе не сомневался. Я нашел тебя на ложе наслаждения, где ты уснул, и я не пощадил твоей благородной крови, когда ей надо было пролиться за святое дело. Но та, что осталась в тебе, для нас драгоценна, и не следует без надобности ее проливать. Друг, который скрывает меня сейчас, подвергает себя немалой опасности. Хватит с меня и одного преданного человека, который может за все поплатиться жизнью! Несмотря на то, что Вальмарина ни за что не соглашался, Стенио настоял на своем и проводил его до кельи отшельника. Эта келья, высеченная в гранитной скале, вдали от проторенных людьми тропинок, была скрыта густою тенью кедров и сплошною стеной индийских смоковниц, шероховатые ветви которых сплелись воедино. Келья была пуста. Расположенная на уступе скалы, она возвышалась над бездонною пропастью. Другим краем этой пропасти был обнаженный песчаный откос, на котором далеко внизу в каком-то мрачном покое дремало маленькое озеро. Но даже и с той стороны к нему нельзя было спуститься из-за того, что окружавшие его пески все время осыпались и не было места, где можно было устоять на ногах. Ни одна скала не могла удержаться на этой крутизне, ни одно дерево не могло укрепить свои корни в этой рыхлой почве. А пока вырывшие это озеро лавины не заполнили пропасти до краев, в недвижных водах его расцветала богатейшая растительность. Гигантские лотосы, пресноводные полипы, более двадцати локтей длиной, расстилали свои широкие листья и диковинные цветы на поверхности воды, в которую ни разу еще не погружалось весло рыбака. На их переплетенных стеблях, во множестве тенистых уголков, змеи с изумрудною кожей, саламандры с желтыми вкрадчивыми глазами спали, разлегшись на солнце, уверенные в том, что человек не потревожит их своими сетями и западнями. Поверхность озера была такой зеленой и пышной, что сверху ее можно было принять за лужайку. Густые заросли тростника отражали в воде свои стройные стебли и бархатистые плюмажи, которые ветер колыхал, как колосья в поле. Стенио, зачарованного дикой красотою этого склона, потянуло спуститься туда и ступить ногой на коварную зеленую сеть. — Будьте осторожны, сын мой, — сказал появившийся в эту минуту отшельник с надвинутым на лицо капюшоном, — это заросшее цветами озеро — образ земных наслаждений. Оно окружено соблазнами, но глубины его неизмеримы. — А откуда вы это знаете, отец мой? — спросил Стенио, улыбаясь. — Разве сами вы спускались в эту пропасть? Разве вы ступали по бурным волнам страстей? — Когда Петр попытался последовать за Иисусом по водам Генисаретского озера, он не успел сделать несколько шагов, как почувствовал, что ему не хватает веры и что он был слишком смел, дерзнув по примеру сына человеческого идти по воде. Он вскричал. «Господи, погибаем!». И господь притянул его к себе и спас. — Петр был плохим другом и трусливым учеником, — сказал Стенио, — разве он не отрекся от учителя, боясь разделить его участь? Те, что боятся опасности и отступают, похожи на Петра: они не мужчины и не христиане. Отшельник опустил голову и ничего не ответил. — Но скажите, отец мой, зачем вы стараетесь спрятать ваше лицо? Я узнаю вас по голосу, мы с вами виделись в лучшие времена. — В лучшие! — воскликнул Магнус, медленно откидывая свой капюшон и в печальном раздумье подпирая свою уже облысевшую голову высохшею рукой. — Да, в лучшие для вас и для меня, — ответил Стенио, — ибо в ту пору на лице моем играл юношеский румянец, а у вас, отец мой, хоть и выглядели вы растерянным и сердце ваше лихорадочно билось, когда мы виделись последний раз, у вас были густые волосы и черная борода. — Выходит, вы придаете большое значение этой бренной и роковой для нас молодости тела, этой всепожирающей силе крови, которая окрашивает нам щеки и горячит голову? — огорченно сказал монах. — Вы в обиде на молодость, отец мой, — сказал Стенио, — а ведь вы всего на несколько лет старше меня. Готов побиться об заклад, что в воображении вашем сейчас больше свежести, чем во всем моем существе. Священник побледнел, потом он положил свою желтую огрубевшую руку на бледную, с голубоватыми прожилками, руку Стенио. — Дитя мое, — сказал он, — значит, вы тоже хлебнули горя, это оно сделало вас таким жестоким? — Перенесенное страдание, — сказал Тренмор печально и строго, — должно было бы пробудить в человеке сочувствие и доброту. Несчастье способно развратить только слабые души; сильные, проходя через него, очищаются. — Неужели же я этого не знаю? — воскликнул Стенио, которого неожиданная встреча с Магнусом вернула к горьким воспоминаниям о своей отвергнутой любви. — Неужели я не знаю, что в душе моей нет ни величия, ни силы, что я ничтожное, жалкое существо? Неужели я мог бы так опуститься, будь я Тренмором или Магнусом? Но, увы, — добавил он, в порыве горького уныния усаживаясь на самом краю пропасти, — зачем все эти напрасные старания мне помочь? Зачем давать мне советы, которыми я не могу воспользоваться, и показывать примеры, следовать которым превыше моих сил? Неужели вы находите удовольствие в том, чтобы раскладывать передо мною ваши богатства и показывать мне, какой силой вы оба наделены и на какие деяния способны? Сильные, героические натуры! Избранные сосуды, каторжник и священник, превратившиеся в святых; вы, преступник, принявший на свою голову все наказания, которыми вас покарало общество; вы, монах, за несколько лет сумевший пережить все муки души; вы оба, выстрадавшие все, что только может выстрадать человек, один — от пресыщенности, другой — от лишений, один — надломленный ударами, другой — постом и вот вы стоите с поднятой к небу головой, в то время как я ползаю, подобно блудному сыну, среди омерзительнейших чудовищ, иными словами — среди грубых вожделений и низких пороков! Так оставьте же меня умирать в грязи и не усугубляйте моих предсмертных мук, заставляя меня созерцать ваше победоносное вознесение на небеса. Ведь именно так друзья Иова хвастали своим благополучием перед их простертой на гноище жертвой. Уходите от меня прочь! Уходите! Храните хорошенько ваши сокровища, бойтесь, чтобы гордость ваша их не растратила. Пусть же мудрость и смирение бодрствуют, охраняя ваши завоевания Не поддавайтесь ребяческому желанию показывать их тем, у кого ничего нет; ибо, в гневе своем, злобный и завистливый бедняк может плюнуть на ваши богатства и осквернить их. Тренмор, слава ваша может быть не так уж велика, не так поразительна, как вы думаете Мой горький разум сумел бы, может быть, найти довольно банальное объяснение победе воли над умерщвленными страстями, над желаниями пресыщенными или угасшими. Берегитесь, Магнус, вера ваша, может быть, не так уж тверда, чтобы я не мог поколебать ее насмешливым взглядом или дерзким сомнением. Победа, одержанная разумом над искушениями плоти, может быть не настолько бесспорна, и смотрите, как бы вам не пришлось еще покраснеть или побледнеть, когда я назову при вас имя женщины!.. Идите же, идите молиться; зажгите кадильницы перед алтарем девы Марии и опустите головы на плиты ваших церквей. Вы будете писать трактаты об умерщвлении плоти, ну а мне позвольте насладиться последними днями, которые мне остаются в жизни. Господь, который не сделал меня, подобно вам, высшей натурой, предоставил в мое распоряжение лишь самую заурядную действительность, лишь самые обыденные радости. Я хочу исчерпать их. А разве, с тех пор как мы расстались, я тоже не шагнул далеко по дороге разума? Разве, увидев, что я не могу достичь небес, я не пошел по земле без недовольства и без презрения? Разве я не принял жизнь такой, какой она мне была предназначена? И разве, когда я почувствовал внутри меня беспокойный и мятежный пыл, терзания честолюбия, смутного и прихотливого, желания, которое невозможно было осуществить, разве я не сделал всего от меня зависящего, чтобы их укротить? Я избрал другой путь, чем вы, вот и все. Я нашел успокоение в излишествах, тогда как вы исцелили себя воздержанием и власяницей. Душам возвышенным, вроде ваших, нужны были эти сильные средства, эти суровые искупления; повседневной действительности было бы недостаточно, чтобы сломить ваши железные характеры, истощить ваши нечеловеческие силы. Однако натуре Стенио все земное было под стать. Он отдался ему не краснея, благодарно насытился им и теперь, если его тело оказалось слишком слабым для его аппетитов, если это хилое дитя наслаждений и сделалось добычей чахотки, то все случилось потому, что господь не определил ему долгой жизни на земле — из него не мог выйти ни солдат, ни священник, ни игрок, ни ученый, ни поэт. Есть растения, которым предназначено умереть сразу после того, как они расцветут, есть люди, которых господь щадит и не приговаривает к слишком долгому изгнанию среди других людей. Подумайте только, отец мой, вы лысы, как я, руки ваши высохли, грудь ваша впала, ноги подкашиваются, вы задыхаетесь, борода ваша поседела, а ведь вам еще нет и тридцати лет Ваша агония продлится, может быть, несколько дольше, отец мой; может быть, вы переживете меня на какой-нибудь год. Ну что же! Разве обоим нам не удалось победить наши страсти, охладить наши чувства? Мы вышли из испытания очищенными и покорившимися, не так ли, отец мой? Я еще больше смирился, чем вы, — это оттого, что испытание было более сильным и более надежным, оттого, что я подхожу к концу, что я перестал терзать моего врага. Может быть, вы бы правильно поступили, если бы избрали те же средства, что и я; это были самые верные, но не все ли равно, они ведь, как и все прочие, ведут нас к страданию и к смерти. Дадим же друг другу руку, мы братья. Вы были великим человеком, я жалким; вы были сильной натурой, я хилой. Но в могилы, которые скоро отверзятся для нас обоих, и от того и от другого сойдет только горстка праха. Магнус, который за это время несколько раз хватался за голову и воздевал глаза к небу с выражением ужаса и отчаяния, сделался более спокойным и уверенным в себе. — Юноша, — сказал он, — не все еще кончается для нас с этой бренною оболочкой, и душа наша не достанется червям. Неужели вы думаете, что господь отнесется одинаково ко всем нам? Разве в судный день он не будет милосерднее к тем, кто умерщвлял свою плоть и молился в слезах, и строже к тем, кто преклонял колена перед идолами и пил из отравленных источников греха? — Что вы об этом знаете, отец мой! — сказал Стенио. — Все, что противно законам природы, может быть отвратительным и перед лицом господа. Иные дерзали говорить это в наш век, век философии, и я из их числа. Но не буду повторять вам все эти общие места. Ограничусь тем, что задам вам один вопрос; вот он: если, уснув сегодня в слезах и в молитвах, завтра на рассвете вы проснулись бы в объятиях женщины, которую положат вам в кровать духи тьмы, то, когда пройдут удивление, ужас, борьба, победа, заклинание, все, что вам придется тогда испытать и сделать (я в этом не сомневаюсь), скажите мне, начнете ли вы спустя несколько минут читать мессу и коснетесь ли без трепета тела Христова? — Если господь будет ко мне милостив, — ответил Магнус, — может быть, руки мои останутся достаточно чистыми, чтобы коснуться святой гостии. Но я все же не дерзнул бы касаться святыни, не очистив себя сначала покаянием. — Очень хорошо, отец мой; видите, вы менее чисты, чем я, ибо я мог бы сейчас вот провести ночь с красивейшею из женщин и не испытать к ней ничего, кроме брезгливого отвращения. В самом деле, вы только потеряли время в постах и молитвах; вы ничего не достигли, раз плоть ваша способна еще повергать в ужас дух, и прежний человек может тревожить совесть человека нового. Вам удалось изнурить ваш желудок, привести в возбуждение мозг, нарушить гармонию вашего организма, но вы не сумели, как я, привести ваше тело в состояние инертности, не сумели выдержать испытания, о котором я говорю, и причаститься без исповеди. Единственный результат, которого вы достигли, — это медленное физическое самоубийство, иными словами — то, что ваша религия осуждает, как страшное преступление, и вы все так же во власти греховных побуждений, как и в первые дни вашего покаяния. Господь не помог вам, отец мой! Отшельник поднялся и, выпрямившись во весь свой огромный рост, посмотрел еще раз на небо; потом, обхватив обеими руками голову, в страшной тревоге воскликнул. — Неужели это правда, господи? Неужели ты отказал мне в помощи и в прощении? Неужели ты оставил меня, отдав меня духу зла? Неужели ты удалился от меня, не вняв моим рыданиям, моим слезным мольбам? Неужели я понапрасну страдал и вся эта жизнь, полная испытаний, мучений и борьбы, была впустую? Нет! — вскричал он, все еще упоенный своею верой, высунув тонкие руки из рукавов рясы и поднимая их ввысь, — я этому не поверю; я не позволю лишать себя мужества какому-то сыну века. Я доведу все до конца. Я принесу мою жертву: если окажется, что церковь солгала, если пророки действовали по наущению духа тьмы, если божественное слово сбилось со своего истинного пути, если рвение мое превзошло твои требования, ты по крайней мере ответишь мне за то упрямое желание, за ту неистовую волю, которая отдалила меня от земли и заставила завоевывать небо; в глубине сердца моего ты прочтешь эту пылкую страсть, которая снедала меня, порываясь к тебе, о боже, а теперь возвысила голос в душе, снедаемой другими ужасными страстями. Ты простишь мне за то, что мне не хватило знания и мудрости, ты кинешь на весы только жертвы мои и намерения, и если я пронесу этот крест до самой смерти моей, ты даруешь мне вечный покой, приняв меня в обитель блаженных! — Разве во вселенной есть место покою? — сказал Стенио. — Неужели вы надеетесь стать настолько великим, чтобы господь стал создавать для вас одного новую вселенную? Неужели вы думаете, что на небесах есть праздные ангелы и ни на что не употребленные добродетели? Знаете ли вы, что все силы деятельны и что надо стать богом, для того чтобы достичь жизни вечной и неизменной! Да, господь благословит вас, Магнус, и святые воспоют вам хвалу на своих золотых арфах. Но когда вы принесете к ногам творца чистой и нетронутой ту избранную душу, которую он доверил вам здесь, на земле, когда вы скажете ему: «Господи, ты дал мне силу, я сохранил ее, вот она, возвращаю ее тебе — дай же мне в награду вечный покой», господь ответит этой простертой пред ним душе: «Хорошо, дочь моя, примкни к моей славе и займи свое место в моих блистающих фалангах. Отныне тебе будет вверен благородный труд, ты будешь везти колесницу луны в эфирных полях, ты будешь извергать из туч громы небесные, ты направишь реки в их русла, ты укротишь бурю, она вздыбится под тобой, как непокорная лошадь; ты будешь повелевать звездами; став божественной сущностью, ты приобщишься к стихиям, ты вступишь в общение с душами людей, ты будешь осуществлять высокую связь между мной и теми, кто был твоими братьями, ты заполнишь собою землю и небо, ты увидишь мой лик и вступишь со мной в беседу». Это прекрасно, Магнус, и поэзия причастна к этим возвышенным заблуждениям. Но если бы все было так, я бы не хотел это пережить. Я недостаточно велик, чтобы быть честолюбивым, но и недостаточно смел, чтобы играть какую-то роль то ли здесь, то ли на небесах. Это вашей безмерной гордости пристало вздыхать по радостям загробной жизни: что до меня, то я не хотел бы даже трона который бы возвысился над всеми земными народами. Если бы я мог поверить, что господь добр, и мог надеяться на какую-то иную участь, кроме небытия, для которого я предназначен, я попросил бы у бога сделать меня былинкой в поле, которую топчут ногой и которая ни на что не жалуется, мрамором, принимающим форму под резцом, не истекая при этом кровью, бесчувственным деревом, которое хлещет ветер. Я попросил бы у него самой безвестной, самой легкой жизни; я счел бы его чересчур требовательным, если бы он осудил меня прожить ее в обличье какого-нибудь студенистого моллюска. Вот почему я не стараюсь заслужить царствие небесное: я не хочу его, я боюсь его радостей, его песнопений, экстазов, триумфов. Я боюсь всего, что только могу себе представить; так чего же мне хотеть, как не покончить со всем? Так вот! Я более спокоен, чем вы, отец мой; без тревоги и без ужаса иду я к вечному мраку, тогда как вы растеряны, вы дрожите перед высшим судом, который до скончания века заставит вас терпеть все ваши тяготы и страдания. Я не завидую вам, я преклоняюсь пред вашей участью, но предпочитаю свою. В ужасе от всего, что услышал, и не чувствуя в себе силы ответить, Магнус склонился над Тренмором и, сжав обеими руками руку мудреца, исполненным тревоги взглядом, казалось, молил его о помощи. — Не тревожьтесь, брат мой, — ответил Тренмор, — страдания этой истерзанной души не должны поколебать вашу веру. Трудитесь неустанно, и пусть соблазн небытия исчезнет, как обманная ласка. Вам труднее будет стать неверующим, чем сохранить сокровище веры. Не слушайте его, ибо он лжет самому себе и боится всего того, что он утверждает, и сам не хочет, чтобы все это было так. А ты, Стенио, ты напрасно стараешься погасить в себе священный огонь разума. Его пламя разгорается еще живее, еще прекраснее при каждом твоем усилии его потушить. Помимо твоей воли ты стремишься к небу, и твоя душа поэта не в силах прогнать мучительное воспоминание о своей отчизне. Когда, призвав ее к себе из изгнания земного, господь очистит ее от грязи и исцелит от недугов, охваченная любовью к нему, она падет перед ним ниц и возблагодарит его за то, что он пролил на нее великий свет. Она оглянется назад и увидит, как тает, словно облако, ужасный и мрачный сон человеческой жизни, и будет удивляться, как это она прошла сквозь весь этот мрак, не подумав о боге, не возымев надежды на пробуждение. «Где же ты был, господи? — воскликнет она. — И что сталось со мною в этом стремительном водовороте, который на минуту меня закружил?» Но господь утешит ее и подвергнет, может быть, новым испытаниям, ибо она сама настойчиво будет их добиваться. Счастливая и гордая тем, что обрела волю, она захочет применить ее, почувствует, что деятельность — удел сильных, удивится тому, что отказалась от своей звездной короны; она попросит, чтобы ей указали, что она должна делать среди небесных владык, и выполнит свое назначение с блеском, ибо господь добр, и тяжелые, доводящие до отчаяния испытания он, должно быть, посылает только избранникам своим, чтобы потом достигнутое могущество стало для них еще более драгоценным. Нет, Стенио, самая божественная способность души, желание, только уснуло в тебе. Дай твоему телу немного окрепнуть, дай твоей крови несколько дней отдохнуть, и ты почувствуешь, как в тебе пробуждается этот священный жар сердца, эта безграничная устремленность ума, которые делают человека тем, что он есть, и достойным повелевать всеми земными и небесными силами. — Человек становится человеком, — сказал Стенио, — когда он умеет управлять своей лошадью и не поддаваться своей любовнице. Какое лучшее употребление своих сил могло бы дать небо таким хилым созданиям, как мы? Человек, способный проявить величие духа, ни во что не верит, ничего не боится. Тот, кто день ото дня преклоняет колена перед яростью мстительного бога, только жалкий раб, боящийся возмездия в загробной жизни. Тот, кто начинает поклоняться какой-то химере так, что перед этим идолом гаснут все желания, разбиваются в прах все прихоти, — всего-навсего трус: он боится, что его могут увлечь фантазии, что наслаждения принесут ему муки. Человек смелый не боится ни бога, ни людей, ни самого себя. Он принимает все последствия своих склонностей, хороших и дурных. Презрение толпы, недоверие глупцов, осуждение ригористов, усталость, нищета не более властны над его душой, чем лихорадка и долги. Вино возбуждает его, но не опьяняет, женщины его развлекают, но не могут им овладеть, слава щекочет иногда ему пятки, но он обращается с ней как со всеми проститутками: обнимает ее, овладевает ею, а потом выставляет за дверь, ибо он презирает то, что другие люди чтят и чего боятся; он может пройти сквозь пламя и не опалить себе крыльев, как слепой мотылек, и факел разума не обратит его в пепел. Такой же эфемерный и хрупкий, он позволяет унести себя любому ветру, летит на каждый цветок, радуется каждому лучу света. Но сама недоверчивость оберегает его, ветер непостоянства уносит его и спасает: сегодня — от метеоров, от лживых иллюзий ночи, завтра — от яркого солнца, угрюмого соглядатая всех человеческих уродств и всей нищеты. Человек сильный не старается обеспечить себе спокойное будущее и не бежит ни от каких опасностей настоящего. Он знает, что все его надежды заключены в книге, которую листает не он, а ветер, что все его мудрые намерения начертаны на песке и что на свете существует только одна добродетель, одна мудрость, одна сила — дожидаться потока и быть твердым, когда поток этот надвигается на вас, плыть, когда он увлекает вас за собою, сложить руки и бестрепетно умереть, когда он захлестнет с головой. Сильный человек, на мой взгляд, также и человек мудрый, ибо он упрощает систему своих радостей. Он уплотняет их; он очищает эти радости от облепляющих их ошибок, предрассудков, тщеславия. Наслаждение, которому он предался, вполне положительно, вполне реально и своеобычно. Это его божество, простодушное и прекрасное, циничное и целомудренное. Он обнажает его до предела и попирает ногами всю жалкую мишуру, которая его прикрывает; но более верный и более искренний, чем лицемерные служители его храма, он всю свою жизнь преклоняет пред ним колена, презирая все проклятия, которыми его осыпает глупый свет. Он мученик своей веры. Ради нее он живет, за нее страдает. И умирает он ради нее и из-за нее, либо отрицая того нелепого и злого бога, которого вы чтите, либо его презирая. Человек, обнажающий свою шпагу, чтобы бороться с бурей, безрассуден и нагл, но он более храбр и более велик, чем бог, повелевающий громом. Я бы дерзнул, но вы, Магнус, вы не способны дерзать. Тренмор, который нас слышит, который — не заблуждайтесь, отец мой, — больше философ, нежели христианин, больше стоик, нежели человек религиозный, и для которого сила дороже веры, настойчивость дороже раскаяния, — словом, Тренмор, который может и должен уважать себя больше, чем вы, отец мой, может быть судьей между нами и решить, кто из нас двоих лучше защитил и сберег самую высокую нашу способность — энергию. — Я не буду судьей между вами, — сказал Тренмор, — небо одарило вас разными способностями, но каждому из вас много дано. Магнус был наделен большей последовательностью в мыслях, и если вы хотите отвлечься от ваших, Стенио, чтобы налюбоваться всласть победоносной волей, вы будете просто поражены, увидев этого монаха, который был нечестив, влюблен и безумен и который стал теперь спокойным и благочестивым, подчинив себя монашеским правилам. Откуда у него взялась сила так долго выносить эту страшную борьбу, как ему удалось прийти в себя, после того как он был надломлен и проклят? Разве это тот человек, который при вас отрекался от бога у постели умирающей Лелии? Разве это он, охваченный безумием, бежал в горы? Это совсем другое существо, и вместе с тем это та же буйная, пылкая душа, те же неистовые, ужасные чувства, всегда новые и всегда девственно чистые; то же самое желание, всегда яростное и никогда не утоленное, невольно заблуждающееся, преследуя земные цели, и снова возвращающееся к богу, влекомое неимоверною силой и самой высокой надеждой. О отец мой! Даже если у нас с вами действительно разная вера и мы чтим господа, соблюдая разные обряды, вы тем не менее в моих глазах трижды святы и трижды велики! Ибо вы боролись, вы сумели подняться из-под ног врага и все еще боретесь, бодро, неутомимо, весь в ранах, обливаясь потом и кровью, но решив умереть с оружием в руках. Продолжайте же во имя Иисуса, во имя Сократа. Мученики всех религий, герои всех времен взирают на вас и с высоты небес рукоплещут вашим усилиям. Но ты, Стенио, дитя, родившееся со звездой на челе, ты, красотой своей похожий на ангелов, ты, чей голос был мелодичнее, чем голоса ночи, колеблющие эоловы арфы, ты, чей гений обещал миру вторую молодость, полную любви и поэзии, ибо певцы и поэты — это пророки, посланные к людям, чтобы подбодрить их упавший дух, чтобы освежить их горящие лица; ты, Стенио, в юности своей облачился в невинность и благодать, как в чистейшие одежды, и был окутан их светящимся ореолом, и участь твоя не внушает мне страха: в будущем твоем я уверен. Подобно Магнусу, ты выдержал великое испытание, страшную агонию, выпавшую на долю сильных. Но уже в этой жизни ты преодолеешь все, как он. Ты еще борешься, и, истекая в муках кровью, ты не ведаешь, чья рука вытирает эту кровь; но скоро мы увидим, как ты, потускневшая звезда, заблестишь еще светлее, еще прекраснее на небосводе. — А что надо для этого сделать, Тренмор? — спросил Стенио. — Надо только отдохнуть, — отвечал Тренмор, — ибо природа милостива к таким, как ты. Надо дать твоим нервам время успокоиться, предоставить мозгу свободу, чтобы он лучше мог воспринимать новые впечатления. Может быть, и хорошо гасить желания усталостью, но возбуждать угасшие желания, объезжать их, как разбитых лошадей, навязывать себе страдания, вместо того чтобы только принимать их, искать, не считаясь с возможностями своей природы, более сильных радостей, наслаждений более острых, чем те, что несет нам действительность, стараться вместить в один час ощущения целой жизни — вот верное средство потерять и прошлое и будущее: первое — от презрения к своим робким радостям, второе — от невозможности превзойти настоящее. Мудрость и убежденность Тренмора были бессильны залечить глубокую рану, кровоточившую в сердце юного поэта. Сам он тоже с молоком матери вобрал в себя скептицизм — отраву, которою упивается нынешнее поколение. Слепой и самонадеянный, он, расставаясь с юностью, считал, что небо наделило его великой силой, и, так как у него была врожденная способность облекать все свои впечатления в прелестные формы, он льстил себя надеждой прожить жизнь без борьбы и падений. Он не понял, он не мог понять Лелию, и в этом была причина всех постигших его превратностей судьбы. Небо, которое не готовило их друг для друга, сделало Лелию слишком гордой, для того чтобы она могла раскрыть свою душу, а Стенио — слишком самолюбивым, чтобы ее угадать. Он ведь не хотел понять, что расположение такой женщины завоевывается благородными поступками, благоговейными жертвами и прежде всего выдержкой — самым бесспорным свидетельством уважения, самым большим знаком внимания, на который имеет право гордая душа. Стенио не мог не признать превосходства Лелии над всеми женщинами, которых ему приходилось встречать; но он никогда не задумывался над равенством мужчины и женщины в предначертаниях господних. И так как он видел только настоящее положение дел, так как он не мог допустить, что женщина должна быть равной с мужчиной, он не допускал, что некоторые женщины, представляющие собою высокое и трагическое исключение, могут иметь в современном обществе некие исключительные права. Может быть, он бы и понял это, если бы Лелия могла ему все объяснить. Но Лелия не могла это сделать. Она еще сама не знала, каким словом назвать свое назначение. Как она ни была горда, в глубине души она была простодушна и скромна, и это мешало ей понять, почему ей нужно искать одиночества. Даже если бы она была достаточно уверена в себе, чтобы считать, что таково ее назначение — идти одной и никого не слушаться, крики негодования и ненависти, которые раздались бы вокруг нее в ответ на это дерзостное желание, вероятно охладили бы ее пыл. Так и случилось, когда Стенио, не желая понять, сколько благородного целомудрия заложено в этом чувстве независимости, одновременно героическом и робком, и принимая сдержанность Лелии за презрение, с проклятиями ее покинул. Тогда Лелия в душе похвалила себя за то, что не открыла ему истинной причины своей гордости и не дала на посмешище этому ребенку пророческое вдохновение, трепетавшее у нее в сердце. Она замкнулась в себе — стала искать в самой гордости своей законного, хоть и горького утешения. Глубоко уязвленная тем, что ее не разгадали, и заключив из последующего поведения Стенио, что в любви для него главное — легкая радость обладания, она, в свою очередь, прокляла безумную гордость мужчины и приняла решение умереть для общества, дав обет вечного безбрачия. Тренмор — и тот не мог до конца понять безысходное горе этой женщины, родившейся, может быть, лет на сто раньше времени. Личные дела, не менее важные, наполнили его жизнь. Как Лелию на провидение будущего женщины натолкнуло ее собственное горе, так Тренмора случившееся с ним несчастье натолкнуло на провидение будущего мужчины. Взгляд его был сосредоточен на какой-то части огромного горизонта, не будучи в состоянии охватить его весь. Он часто, и не без основания, говорил Лелии, что, прежде чем освобождать женщину, надо было бы подумать об освобождении мужчины, что рабы не могут освобождать и возвращать к жизни других рабов и что человек не в силах уважать другого, если он не научился уважать самого себя. Тренмор трудился, надеясь на успех; сознание своих прежних ошибок делало его смиренным, терпеливым и воодушевляло, как мученика за веру. У Лелии, которая, страдая, не знала за собой никакой вины, не могло быть подобного самоотречения. Чувствуя себя несчастной жертвой, она оплакивала, подобно дочери Иевфая, свою юность, красоту и любовь, варварски принесенные в жертву грубой силе. Как только стемнело, Тренмор провел Стенио по ложбинам и вывел на дорогу, ведущую в город. В пути он пытался снова заглянуть в его душевные раны и облегчить их целительным бальзамом надежды. За это время он уговорил Лелию внять голосу добродетели и дать ему то, чего она уже не могла ему дать, следуя влечению сердца: прощение за его раскаяние, награду за искупленную вину. И теперь он пытался убедить Стенио, что поэт мог еще заслужить расположение той, которую так любил, и вернуть ее. Но, к несчастью, для Стенио это было уже слишком поздно. Тренмор, связанный обязанностями, которые возложила на него суровая миссия, не в силах был раньше вырвать его из объятий грубых страстей. Но если бы даже он и успел это сделать вовремя, Стенио, может быть, все равно погрузился бы в эту бездну. Он был сыном своего века. Никакие твердые принципы, никакая глубокая вера не могли проникнуть в его душу. Подобно цветку, покорная капризу ветров, она поворачивалась то на восток, то на запад в поисках солнца и жизни и была не способна противиться холоду и бороться с грозой. Жадный до идеала, но не ведая пути к его достижению, Стенио стремился к поэзии и воображал, что обрел свою религию, нравственность, философию. Он не подумал о том, что поэзия — всего-навсего форма, выражение нашей внутренней жизни и там, где за ней не стоят ни обеты, ни убеждения, она всего только легковесное украшение, звучный музыкальный инструмент. Он долго преклонял колена перед алтарями Христа, потому что находил особое очарование в обрядах, установленных предками; но когда перед ним открылись двери будуаров, сладострастные запахи роскоши заставили его позабыть аромат ладана в церкви, и он решил, что предметом его поклонения и стихов может стать не только идеальная красота Марии, но и вульгарная красота Лаисы. Высокоодаренная Лелия сумела превратить восторги Стенио в настоящее чувство, и тогда, опьяненный своим тщеславием, он с подчеркнутым презрением стал относиться к несчастным, которые ищут забвения в пороке. Но как только он увидел, что в отношении к нему Лелии больше нежности, чем восторга, что она не склонна слепо ему подчиняться, чувство его превратилось в ненависть, и он кинулся в порок с еще большей легкостью, чем все те, кого он же сам осуждал. Когда Тренмор увидел, с какой горечью Стенио гонит от себя прочь всякие воспоминания о Лелии, ему стало страшно опустошение, которое неверие учинило в душе поэта, ибо любовь — это отблеск божественной жизни, который угасает в нас всегда последним. Сквозь всю жизнь Тренмора прошла мысль об искуплении и возрождении человеческого рода. Слишком сильный сам, чтобы поверить в искренность отчаяния или в реальность истощения, он с глубоким негодованием относился ко всякому проявлению того и другого. Он обвинял свой век в том, что он поощряет эту нечестивую моду, и считал, что преступление перед человечеством совершают те, кто проповедует малодушие и поддается неверию. — Стыд и позор! — вскричал он, охваченный благородным гневом. — И это говорит один из наших братьев, мученик за веру, служитель святого дела! Что же тогда скажут наши преследователи и палачи, если мы сами отрекаемся от всякой мысли о величии, от всякой надежды на спасение? О юность, ты, которую я с радостью называл священной, которую я считал дочерью провидения и матерью свободы! Неужели ты способна только проливать кровь на арене, подобно борцам олимпийских игр, для того лишь, чтобы получить никому не нужный венок и услышать жалкие рукоплескания? Неужели единственная добродетель твоя — это беззаботность, единственная храбрость — это дерзание, присущее силе? Неужели ты годишься только на то, чтобы поставлять неустрашимых солдат? Неужели ты не создашь людей упорных и поистине сильных? Неужели ты пронесешься сквозь мрак времен подобно стремительному метеору, и потомство напишет на твоей могиле: «Они сумели умереть, они не сумели бы жить». Неужели ты только слепое орудие судьбы и не понимаешь ни причин, ни целей твоего дела? Как же так! Стенио, ты ведь мог совершить великий поступок, а теперь уже неспособен на великую мысль или великое чувство! Ты ни во что не веришь, а ты мог что-то содеять! А все эти опасности, которым ты себя подвергал, страдания, через которые ты прошел, и пролившаяся кровь твоих братьев, твоя собственная — все это для тебя лишено всякого нравственного смысла, все это ничему не может тебя научить! О, раз так, то я понимаю: ты должен все отбросить, все отрицать, все презирать, все растоптать ногами. Наше дело — это только несостоявшаяся попытка, наши погибшие братья — всего-навсего жертвы слепого случая, кровь их пролилась на сухую землю, и нам остается только каждый день опьяняться, чтобы усыпить в себе мучительные воспоминания и отогнать ужасный кошмар… — Вальмарина, — мрачно сказал Стенио, — вы напрасно меня упрекаете. Вы доверили мне тайну — я ее сохранил; вы потребовали от меня клятвы — я поклялся. Вы поручили мне дело — я его совершил. Чего вы еще от меня добиваетесь? Согласитесь, что я верен своему слову, что я умею сражаться, что не отступлю перед тяготами и опасностями. Чего же вы еще от меня хотите? Вы знаете, что я дал вам право использовать меня для вашего дела, располагать мною, как вам понадобится, что, будь я хоть на краю света, я покорен вашей воле и готов явиться по первому вашему зову. Вы нашли во мне верного слугу; так пользуйтесь же им и в пылу вашего прозелитизма не ослепляйте себя, не пытайтесь сделать из меня вашего ученика. Кто дал вам право навязывать мне ваши верования и вашу надежду? Разве я искал ваших проповедников, разве я добивался милости быть принятым в число ваших рыцарей Круглого стола? Разве я явился к вам как герой, как освободитель или хотя бы как ваш адепт? Нет! Я сказал вам, что больше ни во что не верю, и вы мне ответили: «Это не имеет значения, следуй за мной и действуй». Вы воззвали к моей чести, к моей храбрости, и я не мог уже отступить. Я не хотел, чтобы меня сочли за труса… или за равнодушного, вы ведь не терпите равнодушия. Вы подвергаете его вашему ужасному суду и нарекаете подлостью. Я не настолько философ, чтобы согласиться с этим приговором. Я видел, как шла молодежь, все смелые люди моей страны; я поднялся, больной и разбитый; я потащился по окровавленной арене. И какое же зрелище вы для меня приготовили, великий боже! И все это, чтобы исцелить меня и утешить, чтобы я поверил вашим теориям? Лучших людей моего времени скосила жестокая месть сильного: тюрьмы разверзли свою отвратительную пасть, чтобы поглотить тех, кого не могли настичь пушечные ядра и лезвие меча; проскрипции осудили всех, кто сочувствовал нашему делу; словом, всякая преданность парализована, ум подавлен, храбрость сломлена, воля убита. И вы все еще называете это делом возрождения, спасительным уроком, семенем, брошенным в обетованную землю. А я видел шаги смерти, полное бессилие и последние драгоценные зерна, брошенные на ветер, рассыпанные по скалам, среди колючек! И вы считаете меня преступником, оттого что после этой катастрофы я пал духом и преисполнился ко всему отвращения. Вы нехотите, чтобы я оплакивал жертвы и чтобы, охваченный ужасом, сел на краю того рва, где хотел бы лечь и уснуть вечным сном рядом с бедным Эдмео… — Ты недостоин произносить это имя! — воскликнул Тренмор и залился слезами. — Жалкий фразер, ты произносишь его, а глаза твои сухи! Ты хочешь только оправдать свои нечестивые сомнения, и в этом мертвом теле, лежащем в гробу, видишь только нечто ужасное, что тебе не хочется вспоминать! Нет, ты не понял этой высокой души, раз хочешь лишить ее заслуженного бессмертия, не понял ты и ее священного назначения на земле, коль скоро сомневаешься в плодах, принесенных этим великим примером. Боже правый! Не слушай этих богохульных речей! О живущий на небе сын мой, Эдмео, ты счастлив тем, что не слышишь их!.. Вальмарина упал на землю и, потрясенный столь горьким напоминанием об Эдмео, с силой сдавил руками свою широкую грудь, чтобы только сдержать рыдания. Можно было подумать, что он хочет удержать в сердце своем веру, потрясенную хулою на бога. Он переживал страшную муку, как Христос перед горькой чашей. Стенио тоже плакал, он ведь по натуре был добр и чуток; только он придавал слишком много значения своим слезам. Это были слезы поэта, которые лились легко и с нежностью смывали следы его страдания. Он не мог понять, как этот сильный и великодушный человек плачет и слезы не приносят ему облегчения, а вместо этого огненным дождем низвергаются на его сердце. Он не знал, что страдания, которые подавляют силой, острее и мучительнее тех, которым дается воля. А Стенио привык отрицать то, что не знал. Он думал, что Тренмор устыдился своей мимолетной жалости и что в порыве дикого неистовства тот хочет уничтожить воспоминание об Эдмео в своем сердце, как уничтожил его самого в сражении. Он удалился опечаленный, недовольный и к тому же несчастный, ибо у него были благородные побуждения и душа его была создана для благородной веры… Около полуночи он пришел в салон Пульхерии. Куртизанка сидела одна за туалетом, погруженная в грустное раздумье. Когда она увидела, как Стенио, которого она считала мертвым, появился позади нее в зеркале, она решила, что это привидение, и, пронзительно вскрикнув, без чувств упала на пол. — Достойный прием! — воскликнул Стенио. И даже не подумав поднять ее, он повалился на диван и, измученный усталостью, тут же уснул, в то время как служанки Пульхерии суетились вокруг своей госпожи, приводя ее в чувство.51
— Милая, ты говоришь, что сестра твоя умерла. Разве у тебя была сестра? — Стенио, — воскликнула Пульхерия, — может ли быть, чтобы ты так равнодушно принял это известие! Я говорю тебе, что Лелии больше нет в живых, а ты делаешь вид, что не понимаешь меня! — Лелия не умерла, — сказал Стенио, покачав головой. — Могут ли мертвые умереть? — Замолчи, несчастный, не усугубляй мое горе твоими насмешками, — ответила Цинцолина. — Сестры моей больше нет на свете, и я в этом убеждена, все меня в этом убеждает. Хоть она и была высокомерной и холодной, каким часто бываешь и ты, Стенио, следуя ее примеру, это было большое сердце и щедрая душа. В былое время она, правда, не знала ко мне снисхождения, но когда мы с ней встретились в прошлом году на балу у Бамбуччи, она смотрела на жизнь более разумно, она тосковала от своего одиночества и уже больше не удивлялась, что я избрала путь, противоположный тому, которым она шла сама. — Поздравляю вас, и ту и другую, — с иронической насмешкой сказал Стенио. — Ваши сердца были созданы друг для друга, очень жаль, что такая трогательная гармония не смогла долго длиться. Итак, прекрасная Лелия умерла. Успокойся, милая, это еще ровно ничего не значит. Я встретил вчера человека, который знает о ней, и, по-видимому, она не только жива, но сейчас еще больше хочет жить, чем пристало хотеть этой исключительной натуре. — Что ты говоришь? — вскричала Пульхерия. — Ты получил какие-то вести о ней? Ты знаешь, где она и что с ней? — Да, и вести действительно интересные, — ответил Стенио с гордым небрежением. — Прежде всего я даже не знаю, где она находится, мне не сочли нужным об этом сообщить, может быть, правда, потому, что сам я ни о чем не спрашивал… Что же касается ее настроения, то, как мне кажется, играть свою величественную роль ей уже порядком надоело, и она не рассердилась бы, если бы я был настолько глуп, что стал о ней беспокоиться… — Замолчи, Стенио! — вскричала Пульхерия. — Ты хвастун… Никогда она тебя не любила… Впрочем, — продолжала она после нескольких минут молчания, — не поручусь, что за презрением ее не скрывалось особого рода любви. Я никак не могу позабыть, что моя победа над ней в том, что касалось тебя, глубоко ее оскорбила; иначе почему она скрылась так внезапно и даже со мной не простилась? Почему за целый год своего отсутствия она ни разу о себе не напомнила, хотя, казалось, и была очень рада, когда мы с ней встретились?.. Послушай, Стенио, теперь, когда ты меня успокоил и утешил, сообщив, что она жива, я могу сказать тебе, что я подумала, когда она так таинственно исчезла из города. — Таинственно? Почему таинственно? Не надо удивляться ничему, что делает Лелия. Поступки ее всегда отличаются от поступков других людей. Не так же ли и с ее душой? Лелия исчезает внезапно, ни с кем не простившись, не увидавшись с сестрой, не сказав приветливого слова тому, кого ласкала как сына. Что может быть проще? Ее щедрое сердце не болеет ни о ком; ее великая душа не признает ни дружбы, ни кровных уз, ни снисхождения, ни справедливости… — Ах, Стенио, как вы до сих пор еще любите эту женщину, о которой говорите столько всего плохого!.. Как вы горите желанием ее найти!.. Стенио пожал плечами и, не считая нужным отвергать подозрение Пульхерии, сказал: — Расскажите же, почтеннейшая, что вы думаете об этом; вам только что пришла в голову какая-то мысль… — Вот что, — сказала Пульхерия, — я думала, да и другие также, что в порыве отчаяния, которое ее внезапно охватило во время празднества на вилле Бамбуччи, она… — Бросилась в море, как новоявленная Сафо! — воскликнул с презрительным смехом Стенио. — Что же, я хотел бы, чтобы это было так; по крайней мере единственный раз в своей жизни она была бы женщиной. — Как вы хладнокровно об этом говорите! — сказала Пульхерия, пришедшая в ужас от его речей. — Уверены ли вы в том, что она действительно жива? Тот, кто вам это сообщил, уверен ли он был сам? Слушайте, вы же не знаете подробностей ее бегства? Долгое время вообще никто ничего не знал, потому что в доме Лелии все так же безмолвны, медлительны, недоверчивы, как и она. Но вот наконец, так и не дождавшись ее, испуганные слуги стали ее разыскивать, узнавать о ней, а потом делиться с другими своей тревогой и рассказывать о том, что случилось… Выслушай меня и суди сам! На третью ночь празднеств Бамбуччи ты ужинал у меня… помнишь? В эту ночь она появилась на балу, и, говорят, еще более прекрасная, спокойная и нарядная, чем всегда… Она, без сомнения, рассчитывала тебя встретить там, но ты не пришел. И вот в эту ночь Лелия вернулась домой, и с той поры никто ее больше не видел. — Как! Она ушла одна и в бальном платье? — воскликнул Стенио. — Дорогая моя, не могло этого быть. На балу всегда нашелся бы какой-нибудь галантный кавалер, который бы ее проводил. — Нет, Стенио, нет! Никто ее не провожал в эту ночь, и с тех пор о ней ни слуху ни духу. Слуги ее ждут. Двери во дворце открыты день и ночь, камеристка ее все время сидит у камина. Лошади в стойлах бьют копытами, и стук их — единственное, что нарушает могильную тишину этого оцепеневшего дома. Мажордом собирает причитающиеся ей доходы, складывает золото в ящики, ни от кого не получая приказаний, никому не отдавая отчета. Собаки воют, как перед покойником. И когда появляется какой-нибудь иностранец, желающий посетить это роскошное жилище, сторожа встречают его как вестника смерти. — Все это в высшей степени романтично, — сказал Стенио. — Вы хорошо владеете современным стилем, моя дорогая. Пульхерия, неужто ты и впрямь становишься синим чулком? В эту минуту Лелия, верно, производит фурор где-нибудь на концерте в Лондоне или небрежно играет веером на каком-нибудь празднике в Мадриде; но я уверен, что она не может так искусно, как ты, изобразить на своем лице вдохновенную гримасу и заговорить на байроновском жаргоне. — Знаешь, где нашли этот браслет? — сказала Пульхерия, показывая Стенио обруч чеканного золота, который он давно еще видел на руке Лелии. — Верно в желудке какой-нибудь рыбы! — сказал Стенио тем же насмешливым тоном. — На Пунта ди Оро; на другой день после исчезновения Лелии его принес какой-то охотник, а камеристка ее утверждает, что сама надела этот браслет на руку своей госпоже, когда та собиралась на последний бал на вилле Бамбуччи. Стенио взглянул на браслет; он был сломан во время ее горячего спора с Тренмором на одной из горных вершин. Увидав его, Стенио задумался. Во время ее безрассудных блужданий по диким местам Лелию могли убить. Может быть, какой-нибудь разбойник и выронил потом эту вещь. Мрачное предчувствие охватило Стенио, и, поддавшись неожиданному порыву, какие бывают у натур неуравновешенных, он машинально надел сломанный браслет себе на руку. Потом он вышел в сад, а через четверть часа вернулся обратно и прочел Пульхерии только что сочиненные им стихи: Сломанному браслету Будем вместе, не надо разлучаться, участь у нас с тобою одна: ты — золотой обруч, когда-то служивший эмблемою вечности; я — сердце поэта, когда-то бывшее отблеском бесконечного. Мы с тобой разделили одну судьбу — мы сломлены оба. Ты теперь стал эмблемою женской верности, я — воплощеньем мужского счастья. Оба мы были игрушками для той, которая надевала на руку золотое запястье и швыряла под ноги сердце поэта. Чистота твоя осквернена, молодость моя ушла далеко. Будем же вместе, мы оба с тобой — обломки: нас разбили в один и тот же день! Цинцолина принялась расхваливать стихи. Она знала, что это лучшее средство утешить Стенио, а эта легкомысленная особа, которая всегда первая мгновенно поддавалась грусти и которой первой надоедало видеть эту грусть вокруг, находила, что Стенио чересчур уж долго печалится. — Знаешь последнюю новость? — сказала она, когда они кончали ужинать. — Принцесса Клавдия удалилась в монастырь камальдулов. — Как? Маленькая Бамбуччи? Что же, она готовится к первому причастию? — О нет, — сказала Пульхерия, — маленькая Бамбуччи его уже получила. Ты это отлично знаешь, Стенио: не ты ли был в прошлом году ее духовником? — Я знаю, что она запачкала ножки, проходя по твоему саду и подымаясь по твоей лестнице в твое казино. Но ей достаточно сменить туфельки, ибо, клянусь памятью ее матери — я не хотел бы за этим столом поминать свою, в тот день никакая другая грязь ее не коснулась. Но так как я ни до этого, ни после ни разу ее не видел, то если у нее и был какой-то грех, искупить который она решила в обители камальдулов, мне об этом ничего не известно. Я не сорвал даже и листика с генеалогического древа Бамбуччи. — Не о грехе идет сейчас речь, — сказала Пульхерия, — речь идет о безнадежной любви или о чувстве, натолкнувшемся на непреодолимые препоны, — называй это как тебе угодно. Одни говорят, что ее внезапно охватил порыв религиозного рвения; другие — что она воспользовалась этим как предлогом избавиться от посягательств старого герцога, за которого ее хотели выдать замуж. Я одна только знаю, чьей любви домогалась молодая принцесса… И уж если говорить все до конца, то коль скоро она удалилась в эту обитель в день твоего отъезда, то есть в тот самый день, когда у нее было свидание с тобой, я боюсь, что проделка ее была обнаружена и что дед и бабка из соображений осторожности или строгости сами упрятали ее за решетку монастыря. — Если это действительно так, — вскричал Стенио, ударив рукой по столу, — я ее похищу! Или нет, не похищу, а соблазню! Да разразится это несчастье над ее родными! Я берег невинность маленькой Клавдии, но отнюдь не намерен беречь гордость ее семьи!.. Да я готов даже на ней жениться, чтобы они краснели потом, породнившись с поэтом… Только на что мы с ней будем жить? Нет, небо еще ниспошлет ей благородного супруга! Ей на роду написано стать принцессой в назидание двору и всему городу. Что же, раз ей уготована эта высокая участь, пусть она пользуется молодостью своей и всеми преимуществами своего положения! Неужели, укрытый монастырскою тенью, цветок этот будет хранить свою невинность, чтобы украсить собою ржавый герб какого-нибудь старого вельможи и увянуть под его отвратительными ласками? Не понадобится ли рано или поздно какой-нибудь скромный паж или ловкий духовник, чтобы… Да это, может быть, уже и случилось… О! отшельник Магнус недаром избрал себе пустынь близ обители камальдулов! Если бы я в это поверил, я бы сейчас же… Прости меня, Пульхерия, рои безумных мыслей проносятся у меня в мозгу. Быть может, я выпил сегодня слишком много мальвазии; но только ночью я непременно учиню какую-нибудь веселую проделку; во всяком случае, попытаюсь… Вот что! Ты переоденешь меня в женское платье, и мы вспомним блаженной памяти графа Ори. У нас же сейчас карнавал, не так ли? — И не думай о таком беспутстве, — сказала испуганная Цинцолина. — Малейшая неосторожность может навлечь на тебя подозрения, а Бамбуччи всесильны на этом маленьком кусочке земли, который они называют своим государством. Нынешний князь не таков, каким был его отец — галантный эпикуреец; этот — свирепый фанатик и поклоняется папе, вместо того чтобы поклоняться женщинам. Стоит ему только заметить, что ты возымел дерзость мечтать о его сестре, как он велит тебя арестовать. Ты здесь в опасности, Стенио: опасность грозит тебе всюду под нашим прекрасным небом. Я тебе уже сказала: уезжай на север, чтобы избежать подозрений, которые возбудило твое отсутствие. — Оставь меня в покое, Цинцолина, — сердито сказал Стенио, — и прибереги свои политические соображения до того дня, когда вино навеет на меня сон. Сейчас оно вдохновляет меня на великие дела, и я хоть один раз в жизни да буду героем романа, не хуже всех остальных. — Стенио, Стенио! — воскликнула Пульхерия, силясь его удержать. — Неужели ты думаешь, что для кого-нибудь тайна, почему ты так внезапно исчез три месяца тому назад? Ты видишь, что даже от меня ты не мог это скрыть. Разве я не знаю, что ты покидал нас, чтобы присоединиться к этим безумцам, которые хотели… — Довольно, сударыня, довольно! — резко вскричал Стенио. — Устал я от всех ваших расспросов. — Я ни о чем не спрашиваю тебя, Стенио; но ведь не зажила еще твоя рана на лбу и эта вот — на руке… Ах, бедное дитя, ты искал смерти. Только небесам не угодно было тебя призвать, подчинись же теперь их решению и не вздумай ни с того ни с сего… Стенио не слушал ее, он был уже в перистиле дворца, весь во власти смелого замысла, целиком завладевшего его воображением. — Прости меня, о нравственность! — вскричал он, углубляясь в темные улицы городских окраин. — О добродетель! О благочестие! О великие принципы, которые интриганы проповедуют дуракам! Простите меня за то, что мне нет дела до ваших проклятий. Вы сделали порок соблазнительным; суровым отношением своим вы разбудили в нас притупившиеся чувства, притягательной силою тайны и опасности вы разожгли в нас угасшие страсти. О предательство! О лицемерие! О продажность! Вы хотите торговать молодостью и красотой, и, так как вы царите во всей вселенной, вы думаете, что сумеете добиться своей цели! Вы объявляете нам войну и толкаете нас на преступление, нас, тех, кто имеет законное право на все сокровища, которые вы у нас похищаете! Пусть же с нравственностью будет так же, как со случайностью на войне! Не вам одним будет принадлежать право закидывать грязью невинность и лишать человека счастья. Мы бросаем нашу ставку на весы, а красавица должна сделать выбор между нами… Итак, раз красавица решает принять нас обоих, с нами вкусить наслаждение, а с вами — богатство… Горе тебе, общество! Да падет на твою голову это преступление, и только на твою, ибо ты одно вынуждаешь восставать против твоих законов или терпеть гнет твоих избранников и унижение твоих жертв. Обеспокоенная Пульхерия вышла на балкон. Она долго следила глазами за огоньком его сигары, который причудливыми зигзагами быстро уходил в темноту. Наконец красная искорка погасла в глубоком мраке, шум шагов постепенно затих и Пульхерия осталась одна, охваченная тяжелым предчувствием. Ей казалось, что она никогда больше не увидит Стенио. Она долго смотрела на оставленный им на столе кинжал, а потом вдруг поспешно его спрятала. Кинжал этот был покрыт какими-то таинственными эмблемами, знаками, по которым участники общего дела узнавали друг друга. Раздался звонок, и Пульхерия узнала по робости его и по шороху муаровой мантии, что это втайне от всех явился прелат.52. ПРИЗРАК
Достаточно было одной ночи, для того чтобы Стенио мог разведать окрестности монастыря и освоиться с ними; он прошел по крутому подъему, соединявшему террасу с вершиной горы опасной тропинкой, пройти по которой не дрожа может только пылкий любовник или холодный распутник, и по другой тропинке, не менее опасной, которая начиналась от кладбища и вела к зыбучим пескам ложбины. Стенио уже подкупил дежурную послушницу, и юная Клавдия знает, что завтра ночью Стенио будет ждать ее на кладбище под кипарисами. Маленькая принцесса никогда не понимала высокого нравственного смысла того благочестия, к которому она с неких пор была так привержена. Оскорбленная холодной рассудочностью Стенио, она ушла сама в монастырь и объявила о своем намерении принять постриг. Может быть, этой экзальтированной девушкой и руководило искреннее побуждение, но в глубине души сама она далеко не так храбра, как ей хочется быть. В таких вот нервных и слабых душах есть как бы два сознания: одно — призывающее к твердым решениям, и другое — которое отвергает их и которое, вначале с трепетом их приняв, надеется, что судьба все же воспрепятствует их исполнению. Крупицы тщеславия, удовлетворенного сожалениями и лицемерными мольбами родных, большая обида на Стенио и, после того как ей пришлось краснеть перед ним за свою слабость, желание во что бы то ни стало доказать ему, что она сильнее, — вот причины, склонившие ее к уходу в монастырь. Но в этой гордости своей она была не очень тверда, в религиозной экзальтации у нее, как и у Стенио, было больше от поэзии, нежели от чувства, и ее брат, получивший воспитание у иезуитов, отлично понимал, что лучшее средство положить конец этой прихоти — ей не перечить. Записку Стенио Клавдия получила в один из первых дней, когда она томилась от скуки. Решение дочери Бамбуччи посвятить себя богу уже произвело все то впечатление, которое должно было произвести, и перестало быть притчей во языцех. В городе о нем почти уже не говорили и поэтому перестали говорить и за монастырской решеткой. Монахини, по-видимому, были уверены, что замысел ее будет приведен в исполнение. Духовник, предупрежденный принцем, наставлял свою духовную дочь с таким рвением, которое начинало ее пугать. Поэтому дерзкое решение Стенио возбудило в девушке больше радости, нежели гнева, и она отказала ему в свидании, уверенная, что он тем не менее на это свидание придет. А когда настал условленный час, она решила все же пойти сама, чтобы встретить его презрением и унизить за его дерзость. Сердце ее билось, лицо горело, она шла неуверенно, но быстро. Ночь была темной. Кладбище камальдулов было очень красиво. Огромные кипарисы и тисы, рост которых никогда не пыталась умерить рука человека, роняли на могилы такую густую тень, что даже среди бела дня и то с трудом можно было различить мраморные фигуры надгробий и бледных девушек, склоненных возле могил. Жуткая тишина царила в этой обители мертвых. Ветер никогда не вторгался в таинственную листву деревьев; туда не проникал ни один луч луны; казалось, что свет и сама жизнь замерли у входа в это святилище, и если когда-нибудь и пытались пробраться сквозь него, то лишь для того, чтобы уйти в монастырь или остановиться у края ложбины, еще более пустынной и молчаливой. — Ну и отлично, — сказал Стенио, садясь на надгробную плиту и ставя на землю свой потайной фонарь, — на этом кладбище я чувствую себя лучше, чем в монастыре, где все в завитках, а воздух пропитан благовониями. Всему свое место: роскошь и нега — удел куртизанок, суровость и умерщвление плоти — удел монахинь. И он стал терпеливо дожидаться прихода Клавдии, уверенный, так же как и она, что они непременно встретятся. Задуманное Стенио предприятие было далеко не безопасно, он это хорошо понимал. Как он ни был хладнокровен и смел, он чувствовал, что, для того чтобы насладиться этим приключением сполна, надо быть к тому же и дерзким, и осушил за ужином несколько бокалов крепкого вина, которые подносили ему прелестные руки Пульхерии. Опьяненного, его еще больше возбуждал трудный путь по горам, где надо было преодолевать препятствия и проходить по краям пропастей. Опершись на мрамор могильной плиты, он чувствовал, что земля уходит у него из-под ног, а мысли кружатся вихрем, будто во сне. Вдруг какая-то белая фигура, которую он сначала принял было за статую и которая стояла коленопреклоненной по другую сторону гробницы, зашевелилась и медленно встала: и так как она, приподнимаясь, хотела, должно быть, опереться на мраморную плиту, рука ее, еще более холодная, чем этот мрамор, коснулась руки Стенио. Он невольно вскрикнул. Тогда призрак выпрямился перед ним во весь рост. — Клавдия! — неосторожно вскричал он. Но сейчас же, увидав, что женщина эта значительно выше Клавдии, он поспешно направил на нее свет своего фонаря; вместо той, кого ждал, он увидел бледную как смерть Лелию, окутанную белым покрывалом, будто саваном. Разум его помутился. — Это призрак! Призрак!.. — пробормотал он сдавленным голосом и, бросив фонарь, кинулся невесть куда в темноту. Когда начало светать, он немного пришел в себя и, охваченный страхом, смешанным со стыдом, огляделся вокруг. Он узнал маленькое озеро, на противоположном берегу в отвесной стене скалы зияла пещера отшельника Магнуса. Одежда Стенио промокла и была выпачкана в песке, руки окровавлены шипами агавы. Волосы были всклокочены, шпага сломана: он еще не пришел в себя от страшного потрясения. После этой неистовой лихорадки Стенио почувствовал себя совершенно обессилевшим. Смутное воспоминание о том, как, охваченный страхом, он бежал, как отчаянно боролся с какими-то неведомыми ему неуловимыми существами, проносилось в его голове то как сон, то как действительность, настолько еще недавняя, что томительный ужас ее не успел рассеяться. Первые лучи рассвета медленно взбирались по уступам гор: они словно играли с туманом, который поднимался с болот белыми прозрачными хлопьями. Казалось, что это стая гигантских лебедей, величественно взлетающих над водой. Это дивное зрелище произвело, однако, тягостное впечатление на взбудораженные нервы Стенио; в утреннем свете, рассеянном и неясном, окружающее казалось смутою и обманом. Ветер разгонял облака, и чудилось, что все неживое, недвижное шевелится и оживает. Стенио долго вглядывался в скалу, которую он всю ночь принимал за какое-то фантастическое чудовище, извергнутое волнами к его ногам. Он не решался оглянуться, боясь увидать над головою гигантский скелет, всю ночь тянувшийся к нему своими костлявыми руками, чтобы его схватить. Когда он наконец набрался храбрости, то увидал вырванную с корнем засохшую сосну — она простирала над озером свои мертвые ветви, колыхавшиеся от ветра. Когда совсем уже рассвело, Стенио, придя наконец в себя и устыдившись своего бреда, понял, что ему уже не по силам переносить возбуждение, вызванное вином, и дал себе обещание больше не пить, чтобы не сойти с ума. «Пока, — думал он, — человек в состоянии пустить себе пулю в лоб или проглотить смертельную дозу опиума, ему нечего бояться страданий; но в припадке безумия он может утратить инстинкт, влекущий его к самоубийству, и продолжать жить, вызывая в других людях ужас и жалость. Если бы я знал, что меня ожидает такая участь, то я, не медля ни минуты, вонзил бы обломок этой шпаги себе в грудь…» Он успокаивал себя мыслью, что нельзя второй раз пережить припадок, подобный тому, который он только что перенес. Подобного ужаса он еще никогда не испытывал. Ему приходилось видеть, как его друзья и товарищи умирали в кровавой схватке. Их еще трепетавшие тела падали на него, и кровь Эдмео его обагрила. Но во всей действительности не могло быть ничего ужаснее этого кошмара, во время которого он перестал ощущать в себе силу, лишился воли. Он подобрал обломки шпаги и бросил их в озеро; потом, приведя себя в порядок, направился к пещере отшельника. Она была пуста. Стенио кинулся на лежавшую на земле циновку и, одолеваемый усталостью, тут же уснул. Когда он проснулся, отшельник стоял рядом. Вид этого несчастного, любившего Лелию и отвергнутого ею и презренного, возбуждал в Стенио чувство какого-то недоброго и жестокого удовлетворения, и он не мог удержаться от колкостей. — Отец мой, — сказал он, — простите, что я нарушил ваше святое уединение; но когда я заснул на этом девственном ложе, мне приснилась женщина… И как раз та женщина, которая не была безразлична ни вам, ни мне. На лице Магнуса изобразилась мучительная тревога. — Сын мой, — очень кротко сказал он, — не будем будить воспоминания, которые смерть сделала еще более тягостными. — Смерть! Какая смерть? — вскричал Стенио, перед глазами которого встал вдруг призрак, виденный им накануне на кладбище монастыря камальдулов. — Лелия умерла, вы это хорошо знаете, — сказал отшельник с растерянным видом, опровергавшим его напускное спокойствие. — О да! Лелия умерла! — повторил Стенио, горя желанием узнать правду и вместе с тем продолжая донимать священника своим сарказмом. — Вы говорите, умерла! Окончательно умерла! Это старая песенка, хорошо нам обоим известная: если она так же мертва, как была в последний раз, нам обоим, отец мой, грозит опасность: вы прочтете по этому поводу еще не одну молитву, а я, быть может, сложу еще не один мадригал. — Лелия умерла, — сказал Тренмор твердым и решительным голосом. Стенио побледнел. Стоя у входа в пещеру, он слышал все язвительные шуточки Стенио. Он не мог их вынести и воспользовался первым же случаем положить им конец. — Она умерла, — продолжал он, — и, может быть, никто из здесь присутствующих не может считать себя неповинным в ее смерти перед богом, ибо ни один из нас не узнал и не понял Лелию… Он вкладывал в свои слова символический смысл, Стенио же все понял буквально. Он опустил голову, чтобы скрыть свое смущение, и, резко переменив разговор, поспешил распрощаться и уйти. Он торопился вернуться в город засветло, боясь наступления ночи и видя, что не в силах справиться со своими чувствами, которым был нанесен смертельный удар. Он велел зажечь сотню свечей и разослал приглашения всем своим собутыльникам, чтобы провести ночь в веселье и разгуле. Но это не помогло. В глубине сверкавших в зале зеркал ему все время являлся зловещий призрак. Он дрожал от звука голоса Пульхерии, и хоть он даже не прикоснулся к вину, друзья его думали, что он пьян: глаза его блуждали, и речи были несвязны. С этой минуты рассудок Стенио навсегда помутился, и вел он себя так странно и ни с чем не сообразно, что все от него отвернулись.53. SUPER FLUMINA BABYLONIS — НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ
«Возьми свой терновый венец, о мученица! И облачись в свои полотняные одежды, о монахиня! Ибо сейчас ты умрешь для света и сойдешь в гроб. Возьми свой звездный венец, о благословенная! Надень свое подвенечное платье, о невеста! Отныне ты будешь жить для небес и станешь невестой Христа». Этот гимн поет хор послушниц в монастыре, когда к общине присоединяется новая сестра, вступающая в мистический брак с сыном божьим. Церковь убрана как в дни самых больших праздников. Дворики усыпаны лепестками роз, блестят золотые подсвечники дарохранительниц, мирро и ладан вздымаются клубами дыма из-под белых рук юных диаконис. Мягкие восточные ковры, отделанные блестящею канителью с причудливыми разводами арабесок, разостланы на мраморе паперти. Колонны утопают в шелковых драпировках, которые слегка колышет жгучее дыхание южного ветра. И тогда между гирляндами цветов, серебряной бахромой и чеканными бронзовыми светильниками проглядывает крылатая фигура серафима мозаичной работы, которая резко выделяется на сверкающем фоне и как будто собирается взлететь под округлые своды нефа. Так всегда украшают и окуривают ароматами монастырскую церковь, когда новая послушница удостаивается принятия пострига и права надеть священное кольцо. Приближаясь к монастырю камальдулов, Тренмор увидел множество экипажей, лошадей и лакеев. Из баптистерия, высокой башни в центре здания, доносился звон больших колоколов, чье строгое звучание оглашало обитель только по особо торжественным дням. Ворота и церковные двери были открыты настежь, и народ толпился на паперти. Женщины богатые и аристократки, как всегда разряженные и говорливые, и молчаливые дочери Альбиона, всегда и везде падкие до зрелищ, занимали отведенные им привилегированные места. Тренмор подумал, что теперь не время просить свидания с Лелией. Все были слишком взволнованы происходящим, шумели, и добраться до нее было бы трудно. К тому же все двери внутренних помещений монастыря были заперты; цепочки звонков убраны; все окна закрыты глухими занавесями. Тишина и таинственность, царившие в этой части здания, контрастировали с шумом и движением в наружных помещениях, заполненных людьми. Изгнанник, принужденный прятаться от глаз толпы, воспользовался тем, что внимание публики было отвлечено, и проскользнул незамеченным в углубление между двумя колоннами. Он стоял теперь возле решетки, разделявшей неф на две половины и наглухо завешенной великолепным смирнским ковром. Вынужденный дожидаться конца службы, он не мог не слышать разговоров, которые велись вокруг. — Неужели же никто не знает ее имени? — спросил женский голос. — Нет, — ответила другая. — Имя оглашается только по окончании церемонии. Пока она не произнесет обета, никто его не узнает. Насколько монахини свободны после пострига, настолько суровы и страшны правила их послушнической жизни. Посторонняя публика, присутствующая при совершении обряда, не сможет разгадать тайну. Вы увидите, как послушница переменит в вашем присутствии одеяние, но лицо ее от вас будет скрыто. Вы услышите, как она произносит обеты, но не будете знать, кто их утверждает. Вы увидите, как она ставит свою подпись, но так и не будете знать, кто она… Вы будете присутствовать при обряде, который производится на глазах у всех, и вместе с тем ни один человек из этой толпы не сможет понять, что же все-таки происходит, и поднять свой голос в защиту жертвы, если он когда-либо понадобится ей как свидетель. Здесь, в этой жизни, с виду такой благородной и мерной, творятся ужасные и непоправимые дела. Инквизиция неотступно следит за этими великолепными обителями гордости и страдания. — Да, но как-никак, — вступилась другая, — люди обычно знают, кто из послушниц принимает постриг. А уж тот, кто интересуется, всегда все сможет узнать заранее. — Не думайте, что это так просто, — ответили ей. — Капитул пускает в ход всю церковную дипломатию, лишь бы обмануть всех лиц, заинтересованных в том, чтобы воспрепятствовать постригу. За этими непроницаемыми решетками легко бывает сохранить тайну Бывают любовники или братья, которые на коленях умоляют привратниц и целый год ходят по ночам вокруг монастырских стен, после того как послушницу уже постригут или втайне переправят в какой-нибудь другой монастырь. А на этот раз все, как видно, окружается особыми предосторожностями, чтобы присутствующие не могли узнать имени принимающей постриг. Одни говорят, что она уже целых пять лет в монастыре, а другие думают (именно по причине такого рода слухов), что она носит покрывало послушницы только несколько месяцев. Известно лишь, что духовные лица очень в ней заинтересованы, что капитул рассчитывает на богатые дары и что было много причин для недопущения ее к постригу, но все были очень искусно устранены. — Странные ходят об этом слухи, — сказала одна из собеседниц. — Кто говорит, что это принцесса королевской крови, кто — что это обращенная куртизанка. Некоторые думают, что это знаменитая Цинцолина, появление которой в прошлом году на балу у Бамбуччи наделало столько шума. Но вероятнее всего, что это не кто иная, как юная Бамбуччи. — Говорят, — понизив голос, добавила другая, — что она сделала это с отчаяния. Она была влюблена в греческого принца Паоладжи, который презрел ее любовь и вместе с богатой Лелией уехал в Мексику. — А я знаю из верных источников, — вмешалась третья, — что прекрасная Лелия находится сейчас в тюрьме инквизиции за свою связь с карбонариями. — Нет, что вы, — возразила еще одна, — ее же ведь убили в Пунта ди Оро… С первыми звуками органа разговор этот прервался. Под величественные аккорды introit широкая завеса медленно раздвинулась и открыла таинственные глубины алтаря. Из церкви вышла монастырская община в полном составе, и все расселись по обе стороны в два ряда. Монахини шли первыми. Их одеяние было скромно и вместе с тем великолепно: на их ослепительной белизны рясу ниспадал до самых ног пурпуровый скапулярий, эмблема крови Христовой; головы их были укрыты белым покрывалом, другое, прозрачное праздничное покрывало окутывало всю фигуру как мантия и ниспадало на пол величественными складками. Следом за ними шли послушницы, все стройные и белые, уже без пурпура и прозрачного покрывала. У этих одеяния были короче; их обутые в сандалии ноги были обнажены до щиколотки, и видно было, что девушки заботятся об их красоте: им больше нечем было блеснуть — даже лица их были закрыты непроницаемыми покрывалами. Когда все они преклонили колена, появилась аббатиса: по ее правую руку шла мать-казначейша, по левую — мать-деканша. Все присутствующие встали и низко ей поклонились, после чего она села в свое кресло, поставленное посередине. Годы согнули ее. На груди у нее сверкал золотой крест, в руке был легкий серебряный посох тонкой работы. Тогда раздался гимн «Veni Creator» и будущая монахиня вышла из внутренних дверей. Эти двери состояли из двух створок; та, через которую прошла вся община, закрылась; из той, которая открылась для принимающей постриг, видна была галерея, узкая, длинная и очень мрачная, освещенная рядом светильников. Послушница двигалась как тень в сопровождении двух молодых девушек, увенчанных белыми розами, со свечами в руках и двух прелестных девочек, выглядевших так, как в средние века изображали ангелов: золотые корсажи, белокурые вьющиеся волосы, острые крылья, серебряные туники. Эти дети несли корзины, полные розовых лепестков; а сама послушница держала в руке лилию из паутинной серебряной филиграни. Это была очень высокая женщина, и хотя она была вся окутана покрывалом, по походке ее можно было судить, что она молода и хороша собой. Она уверенно подошла и, став посреди хора, опустилась на колени на богато вышитую подушку. Все четверо сопровождающих ее тоже встали на колени с четырех сторон, и церемония началась. Тренмор слышал, как вокруг шептали, что это скорее всего Пульхерия, прозванная Цинцолиной. В другом приделе церкви началась вторая часть церемонии. Все духовенство собралось у главного алтаря. Прелаты уселись в роскошные бархатные кресла; несколько капуцинов смиренно преклонили колена; простые священники выстроились позади, а те, которым предстояло участвовать в богослужении, вышли последними, одетые в парадные ризы. Мессу служил кардинал, славившийся своим умом. Патриарх, слывший святым, прочитал отпущение. Тренмора поразили слова: «Бывают времена, когда церковь оскудевает и наступает век безверия, ибо политические события увлекают целое поколение на путь смуты и безумия. Но и в эти времена церковь одерживает блистательные победы. Поистине сильные души, поистине великие умы и поистине добрые сердца прибегают к ее лону, ища в нем любовь, покой и свободу, в которых им отказывает свет. Тогда кажется, что эра великой преданности и высоких подвигов, совершенных во имя веры, возрождается вновь. Церковь трепещет от радости; она вспоминает блаженного Августина, который один воплотил в себе целый век и был выразителем его дум. Она знает, что человеческий гений всегда смирится перед ней, ибо только она одна может напитать его и направить по истинному пути». При этих словах, вызвавших горячее одобрение всех присутствующих, Тренмор нахмурился. Он устремил свой взгляд на принимавшую постриг. Ему хотелось бы обладать магнетической силой, чтобы проникнуть сквозь это таинственное покрывало. Но никакого признака волнения он заметить не мог — ни одна складка ее тройного покрывала не шелохнулась. Можно было подумать, что это статуя Изиды из алебастра или слоновой кости. В торжественную минуту, когда, выйдя из капитула, она вошла в церковь, а народ толпился вокруг, со всех сторон началось шушуканье любопытных, и головы людей, над которыми возвышался Тренмор, колыхались, как волны. Стража, сопровождавшая прелата, который возглавлял церемонию, встала в два ряда, ограждая путь медленно продвигавшейся среди них послушнице. Она шла вперед, сопровождаемая пожилым священником, выполнявшим обязанности посаженого отца, и почтенной матроны из мирянок, выполнявшей роль посаженой матери, провожающей дочь к небесному жениху. Послушница величественно поднялась по ступеням алтаря. Патриарх в полном облачении ожидал ее, сидя в кресле, похожем на трон, у входа в главный алтарь. Сопровождающие ее остановились поодаль, и принимающая постриг, закутанная в белый покров, преклонила колена перед князем церкви. — О ты — ты, что явилась перед служителем всевышнего, как твое имя? — возгласил он звучным голосом, предлагая принимающей постриг так же ясно ответить ему и открыть свое имя перед взволнованной толпой. Послушница встала, и когда она сняла золотую застежку, придерживавшую покрывало на лбу, все покровы упали к ее ногам, и под сияющим свадебным одеянием земной принцессы, под потоками пышных черных волос, перевитых жемчугами и увенчанных бриллиантами, под бесчисленными складками серебристого газа, затканного белыми камелиями, присутствующие увидели светящееся лицо и стройную фигуру самой красивой и самой богатой женщины этого края. Стоявшие сзади женщины не сразу ее узнали и смотрели на нее с волнением и любопытством. Наступила такая тишина, что слышно было едва уловимое потрескивание горевших вокруг свечей. — Я Лелия д'Альмовар, — ответила принимающая постриг сильным и звучным голосом, который, казалось, хотел пробудить от вечного сна всех мертвецов, погребенных в церкви. — Кто ты, девушка, женщина или вдова? — спросил первосвященник. — По принятым человечеством законам я не девушка и не женщина, — ответила она еще более твердым голосом, — перед лицом господа я вдова. Услышав это откровенное и смелое признание, священники смутились, в глубине хоров можно было увидеть, как растерянные монахини поспешно закрывают лица покрывалами; иные начинали спрашивать друг друга, не ослышались ли они. На лице кардинала, более спокойного и осторожного, чем его робкое стадо, не дрогнул ни один мускул, словно он ожидал подобного ответа. Толпа безмолвствовала. И когда начался опрос, видно было только, как по губам людей пробежала ироническая улыбка — многие знали, что Лелия вообще никогда не была замужем и что Эрмолао прожил с нею три года. Но если ответ Лелии и оскорбил некоторых людей строгой нравственности, во всяком случае никто не решился над ней посмеяться. — Чего вы хотите, дочь моя, — спросил кардинал, — и зачем вы предстали перед служителем всевышнего? — Я невеста Иисуса Христа, — ответила она тихим и мягким голосом, — и я прошу, чтобы мой брак с владыкой моей души был сегодня признан и освящен. — Верите ли вы в единого господа, олицетворенного в трех лицах, в его сына Иисуса Христа, бога, воплотившегося в образе человека и распятого на кресте за… — Я клянусь, — перебила его Лелия, — следовать всем предписаниям христианской веры и римской католической церкви. Хоть ответ ее и не соответствовал ритуалу, это было замечено лишь немногими из присутствующих; на все же остальные вопросы принимающая постриг ответила формулами, заключавшими в себе некие таинственные оговорки; услышав их, иные из духовных лиц, присутствовавших при обряде, вздрогнули от удивления, страха и тревоги. Но кардинал пребывал в полном спокойствии, и его властный взгляд, казалось, повелевал подчиненным принимать все обеты Лелии, каковы бы они ни были. Окончив свои вопросы, кардинал обернулся лицом к алтарю и обратился к небесам с горячей молитвой за невесту Христову. Затем он взял сверкающую чашу со святым причастием и провел посвященную до самой решетки алтаря. Там был установлен изящный амвон, а на нем стояла кропильница. Лелия преклонила перед ним колена и в последний раз повернула свое открытое лицо к толпе, которая никак не могла на нее наглядеться. В эту минуту молодой человек, стоявший возле возвышения в углу, прислонившись к колонне, скрестив на груди руки и, казалось, совершенно чуждый всему происходившему, внезапно наклонился над балюстрадой: как будто только что очнувшись от тяжелого сна, он бессмысленно взирал на толпу. В первую минуту только Тренмор один заметил его и узнал, но вскоре взоры всех обратились на него, ибо, когда его взгляд встретился как бы случайно со взглядом посвященной, он пришел в сильное возбуждение и, казалось, делал над собой невероятные усилия, чтобы проснуться. — Взгляните же на поэта Стенио, — сказал какой-то ненавидевший его критик, — он пьян, вечно пьян! — Скажите лучше — он сумасшедший, — поправил его другой. — Он так несчастен, — прошептала какая-то женщина. — Разве вы не знаете, что он был влюблен в Лелию? На одно мгновение посвященная исчезла и явилась уже без всяких украшений, в белой полотняной тунике, препоясанная веревкой. Ее роскошные волосы черными волнами рассыпались по одеянию. Она стала на колени перед аббатисой, и в мгновение ока эти роскошныеволосы, которыми была бы горда любая из женщин, срезанные ножницами, застлали собою пол церкви. Посвященная оставалась невозмутимой; старые монахини удовлетворенно улыбались, как будто в этой потере даров красоты находили утешение и торжество. Повязка навсегда сокрыла от всех гордый лоб Лелии. — Прими это как бремя, — пропела аббатиса сухим и надтреснутым голосом, — а это — как саван, — добавила она, закутывая ее в покрывало. Тут посвященную накрыли погребальным покровом. Лежа на полу между двумя рядами свечей, она приняла окропление иссопом, и над ней пропели «De profundis». Тренмор взглянул на Стенио. Стенио взирал на этот черный покров, под которым лежало существо, полное жизненной силы, красоты и ума. Казалось, он не понимал того, что произошло, и теперь уже не выказывал никакого волнения. Но когда Лелия поднялась с одра смерти и с ясным взглядом и спокойной улыбкой приняла от аббатисы венок из белых роз, серебряное кольцо и поцелуй мира, в то время как хор запел гимн «Veni sposa Christi», охваченный ужасом Стенио сдавленным голосом закричал: — Призрак! Призрак! — и упал без сознания. В первый раз за все это время посвященная смутилась. Она узнала этот голос, он отдался в ее сердце как последний, прощальный звук жизни. Поэта, который бился словно в припадке падучей, унесли. Жадные до зрелищ зрители, увидав, что Лелия зашаталась, стали тесниться к решетке, ожидая, что разразится скандал. Испуганная аббатиса велела тут же задернуть завесу, однако новопосвященная повелительным тоном, повергшим в оцепенение и робость всех присутствующих, отменила это приказание и властно заставила продолжать церемонию. — Послушайте, — тихо сказала она аббатисе, когда та запротестовала, — я ведь не девочка и сумею сохранить свое достоинство. Вы решили устроить зрелище, так позвольте же мне довести до конца мою роль. Она стала посреди хора, где должна была пропеть положенную по ритуалу молитву. Четыре молодые девушки приготовились аккомпанировать ей на арфах. Но в ту минуту, когда она должна была начать этот гимн, не то память изменила ей, не то вдохновение возымело над ней власть: Лелия взяла одну из арф и, аккомпанируя себе сама, запела импровизированную песнь на слова гимна плененных. «На реках вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая о Сионе. И мы повесили арфы свои на ивах прибрежных. Когда взявшие нас в плен попросили нас произнести слова песнопения и развлечь их игрою на арфе, сказав нам: «Спойте нам что-нибудь из песнопений сионских», мы ответили им: Как можем мы петь песню господа нашего на чужой земле? Да забвенна будет десница моя, если я позабуду тебя, Иерусалим! Да присохнет язык мой к гортани, если я не буду вечно помнить тебя и если ты, Иерусалим, не станешь единственной моей радостью. …………………….. О предвечный! Дщери твои вспомянут алтари свои и сень зеленых дерев на высоких холмах! …………………….. Вавилон, ты будешь разрушен. Да не видать тебе всего того зла, которое ты нам причинил! …………………….. Слушайте, женщины, слушайте слова вседержителя и сохраните их в сердце своем. Научите дочерей ваших плакать, и пусть каждая из них научит подругу свою стенать от горя… Ибо смерть проникла к нам в окна, поселилась в домах наших… Пусть спешат они, пусть громко стенают над нами, и пусть глаза наши восплачут, и пусть из-под вежд наших потекут потоками слезы!» Это в последний раз люди слышали великолепный голос Лелии, которому ее талант придавал неизъяснимую власть над ними. Коленопреклоненная у своей арфы, с глазами, влажными от слез, с вдохновенным лицом прекрасная как никогда, в своем белом покрывале и свадебном венке, она производила глубокое впечатление на всех, кто ее тогда видел. Каждый невольно думал о святой Цецилии и Коринне. Но один только Тренмор сразу же понял весь глубокий и горестный смысл пропетых ею стихов песнопения, которое Лелия избрала и положила на музыку, чтобы проститься со светом и дать ему понять, что ее заставило с ним расстаться.ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
54. КАРДИНАЛ
— Итак, сударыня, желания ваши исполнятся раньше, чем мы думали. Тяжелый недуг скоро унесет вашу досточтимую аббатису и приведет к большим переменам. Произойдет настолько значительное перемещение в должностях, что вы, вне всякого сомнения, сумеете найти себе занятие, которое будет вам по душе и даст применение вашему блестящему уму. — Монсиньор, — ответила Лелия, — я ищу только возможностей приносить пользу. Но дело обстоит совсем не так просто, как мы думали. Каждое доброе намерение, разумеется, встречает здесь понимание и сочувствие, но оно подчас встречает также упорное недоверие и даже прямое противодействие. Та, которая не может стать первой, — ничто. И вот, монсиньор, прежде чем просить вас, я все серьезно обдумала: я хочу быть либо ничем, либо первой. — Вы говорите как истая королева, сестра моя, — сказал кардинал, улыбаясь. — Я хотел бы иметь власть дать вам трон, но при нашей выборной системе я могу только помочь вам как можно быстрее пройти различные ступени иерархии. — Я не это имела в виду, монсиньор. Я ни за что не соглашусь вступать в борьбу с мелкими интересами и мелкими страстями. Вы должны согласиться с тем, что я никак не подхожу для подобной роли. — Я это понимаю, сударыня. Я знаю это по себе; мне немало пришлось всего выстрадать на моем еще более долгом пути, и я убежден, что вы не захотите принимать участие во всех внутренних распрях. Но только действительно ли вы ступили на стезю долга, моя дорогая Аннунциата, если вы отказываетесь отдать свой ум на служение общине, частью которой вы являетесь. Я хорошо понимаю, что вы от этого не отказываетесь; но вы собираетесь действовать в интересах церкви только при условии, что церковь предоставит вам самое высокое место, какое может занимать женщина. Аббатиса камальдулов! Но какова бы ни была ваша гордость, каково бы ни было ваше положение в свете, подумайте, сударыня, вы ведь просите о многом. — Да, это много, если я способна на что-то хорошее; если нет — это ничто, монсиньор. Неужели пурпурная мантия возвышает вас над рядовыми священниками? Зачем мне золотой крест и серебряный посох, если игра в эти пустые игрушки ни в малейшей степени не помогает возвысить душу? Неужели у меня не было других, побогаче, и неужели, подобно большинству женщин, я не могла удовлетвориться этим тщеславием? — Это верно, сударыня; вот вы и станете аббатисой. — Скажите мне, что я уже стала ею, монсиньор. Иначе я отвечу вам, что никогда ею не буду… — Сестра Аннунциата, вы до странности властолюбивы! — Да, монсиньор, потому что я так же презираю всякую показную и мелочную сторону этих вещей, как и вы сами. Я не боюсь потребовать того, в чем мне могут отказать, ибо отказ этот отнюдь не разочарует меня и не вызовет во мне сожаления. Я пришла сюда совсем не для того, чтобы удовлетворять свое честолюбие. Я пришла сюда для того, чтобы, удалившись от света, жить в уединении. Я не подхожу ни для хозяйственной должности, ни для выполнения каких-либо мелких обязанностей. Я не хочу этим заниматься, ибо знаю, что хорошего из этого ничего не выйдет: либо я перенесу на этот труд мою любовь к порядку и не позволю никому мне перечить, либо я впаду в состояние небрежения, и оно усыпит меня, сузив круг моих мыслей и меня принизив. Вы ведь не хотели ни того, ни другого, не правда ли? — Ну конечно нет! — воскликнул прелат. — Ваш недюжинный ум и сильный характер для меня священны. Может быть, я один только способен их понять. Мне, во всяком случае, льстит сознание, что я первый их угадал, и я оберегаю эти дары небес ревностно, как отец или как брат. Это ведь сокровища, и господь назначил меня как бы хранителем их и в один прекрасный день спросит с меня отчет. Поэтому я буду следить за тем, чтобы тратились они на его прославление. О Лелия, вы можете много, я это знаю; поэтому я много сделаю для вас, можете в этом не сомневаться! — А что именно? — спросила Лелия. — Сегодня вы будете второй, а завтра — первой. — Не значит ли это, что я буду исполнительницей чужой воли до тех пор, пока смерть не положит этой воле предел? Нет, монсиньор. — Но ведь вы же будете распределять милостыню, вы будете опекать бедных, утешать скорбящих; вы сможете полными пригоршнями раздавать золото всем тем, кто будет возбуждать ваше сострадание!.. — А разве я не была свободна делать это и до того, как я принесла сюда мои богатства? Разве я не старалась всемерно помочь людям деньгами? Разве я уже не пресытилась этой радостью? К тому же, даже если бы такого рода благотворительность пришлась мне по душе, разве может распределение монастырских богатств зависеть от решения той, которая зовется матерью-казначейшей? — Сама аббатиса, и та не может ничем распорядиться без согласия высшего совета. — Так вот, не этого я хочу, монсиньор. И вы это хорошо знаете. Я хочу не только раздавать хлеб беднякам, я хочу наставлять богатых; я хочу, чтобы дети их получали хлеб насущный, то есть идеи и принципы, которым их никто никогда не учил. Вы открыли для их сыновей школы, вы поощряли развитие их способностей, горячо добиваясь для них высокого нравственного смысла всего, что они делают. Вы знаете, что я смогла и сумела бы сделать то же самое для их дочерей. Вы подали мне эту мысль; вы потребовали от меня обещания взяться за дело храбро, преданно и упорно. Но вам известны мои условия: никаких промежуточных должностей, никакой середины между безмятежным спокойствием самого низкого положения и почетными обязанностями самого высокого. — Ну хорошо, сударыня, вы будете аббатисой, но, помните, мы с вами играем в большую игру, мы втайне совершаем отступничество от церкви. Церковь — мы не можем закрывать на это глаза — не очень хорошо понимает свое назначение. Ключи святого Петра не всегда находятся в самых умелых руках. Я не знаю, открывают ли они врата рая, но я убежден, что они закрывают врата церкви и что они отталкивают от католицизма всех людей значительных, просвещенных, всех аристократов ума. Поглощенные пустой и опасной заботой сохранять в неприкосновенности букву последних соборов, служители церкви забыли о духе христианства, который заключается в том, чтобы возвысить людей до идеала и открыть настежь двери храма всем душам так, чтобы лучшие места достались избранным. Они поступили как раз наоборот: грубая чернь восседает у алтаря, а патриции ума вынуждены стоять у дверей и так близко к выходу, что, пользуясь этим, уходят и больше не возвращаются. Неужели вы думаете, сестра моя, что мы с вами, решив поставить каждого на свое место и подчинить неведение советам разума, суеверие — назиданиям истинного благочестия, — неужели вы думаете, что мы можем что-нибудь сделать против столь тесно сплотившейся злосчастной котерии, возомнившей себя церковью? — Я совсем этого не знаю, монсиньор; если я на минуту и поверила этому, то лишь потому, что вы постарались меня убедить. — Как! Вам больше нечем ободрить меня, сударыня? Меня это пугает. Иногда душа моя изнемогает под гнетом всех огорчений и страха. Быть может, после целой жизни, полной непрестанного труда и изнурительных тягот, меня прогонят, как ни на что не годного слугу, или будут держать в стороне, как опасного союзника! Неужели же в часы этого грустного предчувствия я в вашей душе, как и в моей, найду одни только сомнения и расслабленность? Неужели в дружбе высокой и святой мое опечаленное сердце не найдет утешения? Монахиня и прелат пристально посмотрели друг на друга, и с таким спокойствием, от которого обоим стало даже страшно. Потом, как два орла, которые, прежде чем кинуться друг на друга, ерошат перья и прикидывают силы противника, каждый приготовился к обороне. Лелия постаралась не дать князю церкви почувствовать, что между ними завязываются отношения более серьезные, чем он мог предполагать, и кардинал отлично понял, что ни ради честолюбивого желания управлять общиной, ни во имя восхищения, которого он по многим причинам был вправе от нее ожидать, монахиня не поступится своими суровыми идеями и непреклонными решениями. Поэтому он тут же отступил со всем благоразумием и достоинством искусного стратега, и, как подобает мудрому и учтивому победителю, Лелия сделала вид, что не поняла его атаки. Взглядов, которыми они обменялись, было достаточно, чтобы навсегда определить их отношение друг к другу. Это был первый взгляд, который после целого рода смятения и неуверенности в себе кардинал осмелился устремить в черные очи Лелии. До этой минуты он боялся, что потеряет ее доверие и она будет вынуждена оставить обитель. Теперь же, скованная и, может быть, одолеваемая честолюбием, она показалась ему не такой страшной. Но при первом же столкновении с ней он увидел, что, по примеру великих побежденных, гордость ее растет в цепях. Монсиньор Аннибал был человеком отнюдь не заурядным. Если его и одолевали сильные страсти, он был достаточно высок душою, чтоб все их вместить. Овладев предметом своих неуемных желаний, он мог начать презирать его, но тому, кто отвергал его притязания, не приходилось бояться трусливой мести, Это был человек своей эпохи, а никак не былого времени: человек, полный пороков и величия, слабостей и героизма. Приверженный в силу воспитания и привычки к благам и радостям земным, он, однако, оставался верен своему идеалу, постигая его каким-то чутьем. Он не шел к нему прямыми путями (это уж было не в его власти), но в самом разгаре сомнений и смятений ощущение будущего явилось ему неким провидческим откровением, овладело им и толкнуло на высокие дела. Дурные деяния все еще омрачали блеск его жизни, но они не сковывали ее. Тот, кто видел только одну его сторону, легко мог преисполниться к нему презрения; но Лелия с самого начала увидела обе: она остерегалась его, не испытывая, однако, страха, и уважала его, хоть и не одобряла его действий. — Монсиньор, — ответила она после продолжительного молчания, — я не вижу, чего нам бояться в деле, к которому мы относимся с таким бескорыстием. Я не знаю, может быть, я и обольщаюсь, но, повторяю, я не вижу во внешней стороне избранной нами роли никаких преимуществ, к которым бы мы особенно стремились и потерю которых стали бы оплакивать. Надо применить на деле веру, которая внутри нас. В течение долгих лет вы трудитесь без передышки и вас поддерживает надежда. А я еще ни в чем не пробовала своих сил и поэтому не изведала ни доверия, ни страха. Я готова следовать по пути, который вы мне открыли, и если я потерплю неудачу, то мне кажется, что страдать я буду отнюдь не оттого, что духовенство станет плохо ко мне относиться. Монсиньор, нам надо будет искать повыше истоки наших слез, если мы не найдем в обществе нужной поддержки, чтобы вознаградить себя за все анафемы, которым нас предает церковь. — Лелия, — сказал прелат, с благородной откровенностью протягивая ей руку, — вы правы, вы смелее, чем я, и всякий раз, после того как я вас вижу, я чувствую, что душа моя возвышается от соприкосновения с вашей. Может быть, в известном отношении я значу гораздо меньше, чем вы думаете. Боюсь, что я не настолько еще отрешился от людского тщеславия, и вы оказываете мне чрезмерную честь, считая меня выше, чем я есть на самом деле. Но я чувствую, что могу отрешиться от него еще больше, и я не покраснею, признав, что великим примером этой отрешенности для меня стала высокая мудрость женщины. Положитесь на меня: вы будете аббатисой. — Как вам будет угодно, монсиньор, сейчас меня это меньше всего волнует, и я не дерзнула бы просить вас об этом свидании, если бы не должна была молить ваше преосвященство о милости более высокой. «Ах, вот еще что!» — подумал кардинал, и в глазах его неожиданно для него самого блеснул огонек надежды. — Сестра моя, — сказал он, — я вижу, что вы относитесь ко мне с большим доверием, и я за это вам благодарен. — Да, я очень верю в вас, монсиньор, — многозначительно сказала Лелия, — от вас потребуются доблесть, великодушие, смелость — и вы их в себе найдете. — Так чего же вам от меня угодно? — спросил кардинал, и от мысли, что он сможет удовлетворить свое благородное тщеславие, глаза его заблестели еще ярче. — Надо спасти Вальмарину, — ответила Лелия. — Вы можете это сделать! Вы этого хотите! — Да, хочу, — решительно ответил Аннибал. — Знаете вы, сударыня, что на этот раз на карту поставлена моя жизнь? Если дело окончится неудачей, я не только попаду в опалу, но меня осудят как гражданина: короче говоря, — добавил он со смехом, — меня повесят. — Да, это так, монсиньор, я об этом уже думала. — Лелия, Лелия! — воскликнул кардинал, начав от волнения ходить взад и вперед. — Вы глубоко меня уважаете, и я должен этим гордиться!.. Последние слова он произнес с грустью, но это было выражение наивного и почтительного сожаления, за которым не скрывалось никакой задней мысли. — Где Вальмарина? — решительно спросил кардинал. — По ту сторону оврага, — сказала Лелия, показывая пальцем в направлении окна. — Они еще не напали на его след… И все-таки времени терять нельзя… Ему надо бежать за границу. — Лесом, монсиньор, там всего только четыре лье. — Да, но для этого нужен паспорт!.. — Если он поедет в вашей карете вместе с вами, монсиньор, ничего этого не понадобится. Кардинал в удивлении развел руками, потом улыбнулся. Он был смущен тем, что Лелия говорит с ним как равная с равным, лишая его всякой надежды. Но смелость эта ему нравилась: она открывала перед ним новый мир и возвышала его в собственных глазах. — А в котором часу я должен прийти на свидание? — спросил он, радостный и растроганный. — Есть одно лицо, которому ваше преосвященство может довериться, — ответила Лелия, — это женщина, и она сообщила мне сегодня утром, что изгнаннику уже небезопасно в его убежище и он придет к ней сегодня вечером… — А что это за женщина? — Вот ее записка. Кардинал взял бумажку. «Моя дорогая праведница, тот, кого ты называешь Тренмором, попросил у меня приюта на эту ночь. Ему опасно оставаться в его убежище, но и у меня он не будет в безопасности. Ты знаешь, что ко мне приходят разные люди — его могут встретить и узнать. Я больше всего боюсь…» Кардинал за один миг прочел и имя этого особенно опасного человека и подпись в конце записки. Он сделал над собой усилие, чтобы судорожным движением не смять ее в руках, и посмотрел на Лелию с негодованием и ужасом. — Вы что, играете со мною, сударыня? — спросил он дрожащим голосом. — Монсиньор, — ответила Лелия, — момент для этого не очень-то подходящий. Вальмарина в опасности, и я доверяю вам его жизнь. Эта женщина — моя сестра, моя родная сестра, и я также вручаю вам ее судьбу. — Она ваша сестра!.. Это невозможно! — При всей ее порочности это возвышенная душа; она настолько великодушна, что скрывает мое родство с ней. Ну, а мне всегда было совершенно безразлично мнение света, и я этого не скрываю. Говорить о ней для меня мучительно, я ведь любила ее; но и скорбя о ней, я все же за нее не краснею. — Ну, так вы и на этот раз победили, — сказал кардинал, возвращая Лелии записку, которую она тут же сожгла, — вы женщина храбрая, вы не отрекаетесь от правды. Вы холодная и острая, как меч правосудия, сестра Аннунциата; но кто же решился бы противиться вам? — Аннибал, — сказала Лелия, в свою очередь протягивая ему руку, — уважайте меня так, как я вас уважаю. — Да, сестра моя, — ответил он, с силой пожимая ей руку, — в полночь я буду у… у вашей сестры. Карета моя и слуги будут ждать у городских ворот. Завтра днем я приду рассказать вам о моей поездке… если останусь жив!.. — Господь не допустит, чтобы вы погибли, — сказала Лелия. — Только, — продолжал кардинал, вернувшись уже с порога, — вы должны мне сказать всю правду… Я такой человек, который может, который должен все знать, Лелия… Если вы будете щадить меня, вы меня этим убьете… Тогда я, должно быть, вас возненавижу… Признайтесь во всем добровольно, раз уже вы помимо моей воли исповедуете меня. Вальмарина явился сюда ради вас? — Да, монсиньор. — Он вас любит? — Как брат. — Значит, как я вас люблю? Подумав, Лелия ответила: — Как я вас, монсиньор. — Но вы его все-таки любили? — Я никогда не любила его иначе, чем люблю сейчас. Кардинал некоторое время молчал, а потом спросил: — По совести, сестра Аннунциата: что вы думаете о вопросах, которые я вам задаю? — Я думаю, что вы ищете нового случая быть великодушным и благородным. Вы тщеславны, монсиньор. — С вами — да, — сказал Аннибал. Кардинал молча на нее смотрел: лицо его выражало пламенную страсть, но без надежды и без мольбы. — Ах, — прибавил он по вполне понятной ассоциации мыслей, но тоном, который неминуемо должен был удовлетворить гордость Лелии, — я совсем забыл, что вы хотите стать аббатисой. Я сейчас же об этом похлопочу. И он быстро вышел.55
«Сестра моя, я не могу принести вам эту добрую весть сам, но радуйтесь: друг ваш спасен, и теперь ему легко будет давать знать о себе. Вы, со своей стороны, можете тоже передать мне письмо для него. Я думаю, что вам, в вашем уединении, приятно будет переписываться с этим достойным всяческого уважения человеком. Да, Лелия, этот страдалец, который все силы свои отдает добродетели и скрывается от славы так же старательно, как иные ее домогаются, поразил меня. Сердце мое преисполнилось грусти и уважения. Он решился открыть мне свою тайну, рассказать о своей молодости, о своем преступлении и о своем несчастье. Удивительная щепетильность сердца, которое не хочет принимать от другого знаков внимания и участия, не испытав его сначала суровым признанием. Необыкновенная и чудесная судьба кающегося, который исповедуется в том, что любой другой хотел бы скрыть, и который, в противовес всем тем, кого общество унижает, делает такие признания, что никто не считает возможным его предать! Да, этот человек с ужасающей настойчивостью ищет позора, страдания, искупления. Он никакой не христианин, и, однако, в нем есть весь пыл, все самоотречение, весь энтузиазм первых христиан. Это живое воплощение великого и неисчерпаемого источника божественности, бьющего из глубин человеческой души. Это энергический протест против слабости и глупости человеческих суждений. Он отказался от всякой личной жизни, чтобы жить единственно ради людей. Все его помыслы принадлежат огромной семье несчастных. Ей он посвящает свои труды, свои страдания, свои бессонные ночи, свои желания, каждое движение ума, каждое биение сердца. И самая обыкновенная награда пугает его. Самые законные знаки одобрения или уважения его смущают! На первый взгляд можно было бы подумать, что это ловкий способ восстановить свое доброе имя в глазах общества; когда же заглядываешь в глубь его мыслей, видишь, что избыток его смирения — это избыток гордости. Но какая это благородная и благочестивая гордость! Он знает людей; жестоко надломленный ими, он больше уже не может ни ценить их одобрение, ни домогаться их сочувствия. Он бы, верно, их презирал, если бы в нем не было глубокого чувства любви и жалости, которое заставляет его жалеть их. И вот он отдает им себя безраздельно: в том, как они поступают с ним, он видит только доказательство их заблуждения. И он хотел бы, чтобы то, что они сделают для него, они сделали друг для друга. «Что же, — говорил он мне, в то время как, под прикрытием темноты, мы стремительно проезжали лесом, — даже если весь труд моей жизни приведет к тому, что через несколько столетий какой-нибудь один преступник окончательно примирится с богом и всем человеческим родом, разве это не будет для меня достаточною наградой? Господь взвешивает на верных весах человеческие поступки; но так как в его законах идея справедливости включает в себя также идею великодушия и всепрощения, он создал для наших преступлений чашу несравненно более легкую, чем та, куда кладутся наши добрые деяния, которые должны искупать совершенные нами грехи. Одно чистое зернышко, брошенное на эту чашу, перевешивает целые годы несправедливости, нагроможденные на другой, и это благословенное зерно я посеял. Это, конечно, очень мало на земле, но много на небе, потому что там пребывает источник жизни, нужный для того, чтобы это зерно проросло, созрело и размножилось». О Лелия! Пример этого человека возымел на меня удивительное действие — он заставил меня оглянуться на себя и увидеть, что я, облеченный властью здесь, на земле, благословляющий людей, простертых на моем пути, возносящий гостию над склоненными головами королей, идущий по аллеям, усыпанным цветами, влача за собой золото и пурпур, как будто кровь у меня чище, чем у всех остальных, как будто я принадлежу к некоей высшей породе людей, — что сам я до крайности ничтожен, пуст, смешон рядом с этим изгнанником, который бродит ночью по дорогам, спасаясь от преследования, как загнанный зверь, — ему ведь каждую минуту грозит эшафот или кинжал первого наемного убийцы, который узнает его лицо. И этот человек носит в душе своей идеал, всем существом своим он глубоко человечен! А у меня в груди одна только гордость, муки самого заурядного честолюбия и грязь моих пороков. О Лелия! Вы меня исповедали. Вы хорошо сделали, за это я вам благодарен. Мне кажется, что я очистился бы от моих грехов, если бы мог до конца вам открыть свою душу. Подумайте только: мы становимся на колени перед рядовым священником и рассказываем ему наши грехи, но это еще не означает настоящую исповедь. Мы, власть имущие, не можем отрешиться от мысли, что если мы стоим на коленях перед человеком, который по своему положению ниже нас, то в душе этот человек сам падает ниц перед блеском наших титулов. Он выслушивает, дрожа, то, что мы с высокомерной снисходительностью ему поверяем. Он в страхе, когда слышит признания в наших грехах, ибо он боится, что по должности своей ему придется нас поучать; и выходит, что судия смущается, отшатывается в испуге, а кающийся, который только улыбается, видя это его смущение, и есть истинный судия, гордо презирающий всякую человеческую слабость. Или же, если нам приходится исповедоваться перед равными, мы больше всего беспокоимся о том, чтобы в признаниях наших не было каких бы то ни было обстоятельств, могущих дать пищу интриге или сделаться оружием в руках ревности. Может ли, однажды поддавшись этим мелочным соображениям, хоть одна душа стать столь благочестивой, хоть одно раскаяние — столь пламенным, чтобы устремиться к богу, отрешась от всякой земной заботы? Нет, Лелия, никогда еще мне не приходилось со всей откровенностью признаваться в моих грехах; и, однако, никто больше меня не проникнут возвышенностью и величием этого таинства, которое избавило бы Тренмора от всех ужасов каторги, если бы дух христианского покаяния и святости религиозного очищения мог хоть сколько-нибудь повлиять на законы общества. О да, я понял значение и благостное действие этого высокого обряда! Я хотел бы укрепить им ослабевшие силы и возродить душу в спасительных водах этого второго крещения! Но я не мог этого сделать, ибо не находил духовника, достойного моей исповеди. Я видел, что каждый раз в духовенстве ум соединяется с гордостью или хитросплетениями интриги, душевная чистота — с суеверием или неведением. Когда кающийся поднимается до высоты таинства, исповедник оказывается ниже, и напротив: когда исповедник готов освободить душу от нечистых оков, пленник не стоит того, чтобы его освобождали. Вот почему, для того чтобы могло свершиться высшее таинство отпущения грехов, нужно сочетание двух одинаково верующих душ, в равной степени преисполненных божественного чувства. Так вот, Лелия, мне кажется, что раз нет такого священника, нет такого праведника, я могу призвать сестру, даже, если хотите, мать; ибо хотя вы и на много лет моложе меня, вы самая сильная и самая мудрая из нас, и я, человек с уже редеющими волосами дрожу перед вами и покоряюсь вам, как ребенок. Исповедаете меня, коль скоро вы не испугались сказать мне в глаза, что я грешник, согласитесь спуститься в глубины моей совести и, если вы обнаружите там истинное страдание и раскаяние, отпустите мне мои грехи! Мне думается, что небо утвердит ваше решение и что впервые в жизни душа моя очистится. Скажите мне откровенно все, что вы думаете обо мне, и осудите меня со свойственной вам суровостью. Неужели оттого только, что я уступаю влечению сердца, — я ведь стыжусь этого как мужчина, а как священник вынужден это скрывать, — я становлюсь лицемером? Если бы я так думал, я содрогнулся бы от ужаса перед самим собой и, по правде говоря, мне не кажется, что мне можно приписать эту отвратительную роль. Неужели для нашего времени такого рода поведение, которое вообще-то говоря я далек от мысли оправдывать, это то же самое, что поведение Тартюфа в семнадцатом веке? Нет, ни за что не поверю! Этот святоша былых времен был в душе атеистом, а я нет. Он смеялся над богом и над людьми, а я, хоть я и не боюсь ни бога, ни людей, я, однако, продолжаю все так же чтить всевышнего и любить себе подобных. Только я постарался заглянуть в глубь, я исследовал самую сущность христианской религии, и, думается, я лучше понял ее, чем все те, которые называют себя ее апостолами. Я считаю, что она прогрессирует и может совершенствоваться, что на это есть соизволение ее творца, что это ни в чем не перечит его святой воле. И хоть я отлично знаю, что с точки зрения существующей церкви я еретик, в душе я убежден в том, что моя вера чиста, а принципы верны. Я отнюдь не атеист, когда я нарушаю предписанное церковью, ибо эти предписания представляются мне недостаточными для нашего времени, а у церкви есть право их переделать и они в силах это право осуществить. Ее задача — согласовать свои установления с изменяющимися правами и потребностями людей. Она поступала так из века в век со времени своего основания: так почему же теперь она остановилась на своем провиденциальном пути? Почему же она, которая была выражением последовательного совершенствования человеческого рода и, осененная великой славой, шла во главе цивилизации, вдруг задремала к концу пути, не думая о том, что есть еще завтрашний день? Неужели она считает, что исчерпала себя? Что же мешает ей идти вперед — головокружение от гордости или измождение и усталость? Ах, я вам часто говорил это, я мечтаю о ее пробуждении, я его предчувствую, я верю в него, для него я тружусь, я жду его с нетерпением и призываю его всем моим существом! Поэтому я и не хочу покидать ее лоно и быть исключенным из ее общины: я не думаю, чтобы вышедшая из нее схизма, подняв новое знамя, оказалась бы на истинном пути религиозного прогресса. Чтобы открыто отколоться, надо отделиться от тела церкви, порвать и с прошлым и с настоящим, потерять одну за другой все выгоды, все преимущества, все, чего достигло прошлое, богатое, могущественное и славное. Человечество, привыкшее идти широкой и прямой дорогой церкви, может отклоняться в сторону только отдельными группами, и то лишь по временам. Оно всегда будет чувствовать в своих религиозных учреждениях, как, впрочем, и в учреждениях светских, неодолимую потребность в единении. Обществу нужен культ, единый и неделимый. Католическая церковь — это единственный храм, достаточно обширный, достаточно древний, достаточно прочный, чтобы вместить в себя все человечество и его оградить. Для многочисленных наций, разбросанных по поверхности земли, у которых пока еще очень нетвердая вера и грубые обряды, католицизм — это единственная, ясно представленная и просто сформулированная высокая мораль, призванная смягчить дикие нравы и осветить темные закоулки сознания. Насколько я знаю, ни одна современная философия не дошла до такого совершенства, как церковь, и ни одна не способна осветить младенчество наций таким ясным светом. Итак, я верю в будущее и в вечную жизнь католической церкви и не хочу отделяться от постановлений соборов (хоть я и считаю сделанное ими недостаточным и незавершенным), ибо никакой новый авторитет никогда не сможет быть столь священным. Несмотря на все мое восхищение Лютером и сочувственное отношение к идеям Реформации, живи я в эпоху этого высокого потрясения основ, я никогда не встал бы под его знамя. Мне кажется, что я тогда еще понял бы, что порывая с великими силами, освященными столетиями, протестантизм в день своего рождения уже подписывает себе смертный приговор. Да, я считаю, что под остывшим пеплом этой одряхлевшей и, казалось бы, уже умирающей церкви скрыта искра вечной жизни, и я хочу, чтобы все труды и все усилия веры и разума оживляли бы эту искру и на алтаре снова зажглось бы пламя. Я за то, чтобы сохранить всемогущество папы и непогрешимость конклава, дабы собирались все новые конклавы, дабы они проверяли деятельность предыдущих и перешивали бы одеяния культа в соответствии с ростом людей, которые мужают и крепнут. В числе других реформ, обсуждение и проведение которых мне хотелось бы видеть, я назову одну — о ней я больше всего думал с тех пор, как сделался священником: это отмена безбрачия для духовенства. И не думайте, Лелия, что на меня оказывают влияние мои собственные чувства или ропот молодых священников. Мы считаем этот обет трудно выполнимым и жестоким и не настолько свято его соблюдаем, чтобы могла понадобиться публичная санкция нашей неверности. Я старался заглянуть выше, чтобы найти причину опасностей и гибельных неудобств, связанных с безбрачием священников, и нашел его в истории. Я увидел, сколько могущества, высокого ума и просвещенности было в жреческих кастах древних религий. И все это благодаря тому, что священнослужители были женаты и специальное воспитание давало возможность отцам подготовить достойных преемников в лице своих сыновей. Я видел, что в христианской церкви, пока ряды ее пополнялись изнутри, была та царственность ума, которой она превосходила царей земных; но едва только она потребовала обета безбрачия для своих служителей, она подвергла себя такой опасности, что удивительно, как она до сих пор еще окончательно не пала, что, вообще-то говоря, неминуемо произойдет, если она не постарается отменить этот гибельный закон. Я не сомневаюсь, что она это сделает; она поймет, что, набирая левитов из всех классов общества, она вводит в лоно свое самые различные, самые разнородные и несоединимые элементы; тут уж не останется ни цельности, ни единства, ни самой церкви. Церковь теперь уже отнюдь не место, где право наследования сковывает души и посвящает в священники. Это мастерская, где каждый работающий приходит получать свой законный заработок даже тогда, когда он втайне презирает свою работу. И отсюда — лицемерие, этот омерзительный порок, одна мысль о котором приводит в негодование каждого честного человека, но без которого духовенство не могло бы продержаться до этих пор, как ему это удалось — худо ли, хорошо ли — среди великого множества смут, низости и лжи, которые церковь вынуждена хранить втайне, вместо того чтобы выявлять и наказывать: великое свидетельство ее слабости и развращенности! Я должен был дать вам эти объяснения, чтобы в известном отношении оправдаться. Я не верю в абсолютную святость безбрачия. Христос, сын божий, проповедовал преимущества безбрачия, но никогда не вменял его в обязанность. И он проповедовал его людям, предававшимся грубым излишествам и потерявшим человеческий облик, людям, которых он пришел поучать и цивилизовать. Если он облек апостолов своих вечной властью, то он сделал это потому, что в безмерной мудрости своей предвидел грядущее; он знал, что настанет день, когда безбрачие сделается опасным для исполнения его божественных заветов и когда преемникам апостолов придется его уничтожить. Час настал, я в этом уверен, и церковь не замедлит объявить о его отмене. А пока это не случилось, мы нарушаем наши обеты. Заслуживаем ли мы прощения? Разумеется, нет, ибо наше святое учение проповедует предельное совершенство, к которому мы должны неустанно стремиться, чего бы нам это ни стоило. И в трудном положении, в котором мы находимся, добродетель и высшее совершенство для нас должны состоять в том, чтобы преодолевать наши страсти и жить непорочной жизнью в ожидании, что нашим естественным инстинктам будет дана воля. Я проклинаю эту презренную слабость, которая мешает мне так поступить, я себя за нее корю. Осудите же и вы меня, моя праведница! Только ради бога не смешивайте меня с наглыми пошляками, которые хвастают ею, или с теми трусливыми лжецами, которые от нее отпираются. На такой обман способны сейчас только последние из людей. Если мы в силах хоть что-нибудь чувствовать, мы не сомневаемся в том, что главное наше назначение на земле отнюдь не расхаживать по улицам с бледным лицом и опущенными глазами, вызывая в людях ужас и уважение, — подобно индийским йогам или средневековым монахам. Не очень-то много для нас значат эти суровые правила, а тем более то поклонение, которое некогда вызывали соблюдающие их люди. У нас есть другие работы, которые мы должны делать, другие истины, которые мы должны преподать людям, новые пути, которые мы должны проложить. Мы побуждаем к жизни — или, во всяком случае, призваны побуждать к ней, — а вовсе не сторожить могилу. И все-таки мы умалчиваем о наших слабостях, скажете вы! Нам не хватает смелости провозгласить это право, которое каждый из нас признает за собой, а меж тем, решительно проводя его в жизнь, мы этим стали бы громко призывать к новому статусу. Но этого мы не можем сделать, ибо не хотим отдаляться от церкви и потерять свои гражданские права — участвовать в собраниях священного города. Мы терпим неудобства и муки этого ложного положения, в которое нас ставит тупое упорство или нерадивость наших законодателей. И из-за этого нам не приходится прибегать к плутовству, ибо наше распутство встретило бы сегодня даже некоторое сочувствие, между тем как раньше пороки наши возбуждали только негодование и ненависть. Да, уверяю вас, я хорошо знаю свет и людей, которые налагают запреты и определяют общественное мнение, у нас больше любят легкие нравы, даже распутство, чем свирепую суровость, ибо наши заблуждения, видите ли, свидетельствуют об упоении прогрессом, тогда как добродетели их знаменуют собою только слепую косность. Только, ради всего святого, не обвиняйте меня в трусости, сестра моя, ибо в наши дни для того, чтобы молчать, нужно больше храбрости, чем для того, чтобы открыть душу. Обвиняйте меня в слабости другого рода, я соглашусь. О да, поругайте меня за то, что я не применил своих идеалов на деле и что жил в противоречии с самим собой. Мне кажется, что вы можете вернуть меня на стезю добродетели, ибо вы заставляете меня с каждым днем относиться к ней все нежнее, о благородная грешница, удалившаяся в пустыню, чтобы созерцать и пророчествовать! Увы! Говорите со мной, подбодрите меня и помолитесь, за меня, вы, которую полюбил господь! Прощайте! Я только что получил разрешение предложить вас на должность аббатисы вашей общины. Это предложение равносильно приказу. Итак, вы теперь княгиня церкви, сударыня. Теперь вам надо послужить церкви. Вы это можете, вы должны. Весь ваш пол глядит на вас!»56
«Господь вознаградит вас за то, что вы сделали. Он ниспошлет покой вашим ночам и силу вашим дням. Я не благодарю вас. Я далека от мысли приписывать дружескому участию поступки, которые были продиктованы вам благородными побуждениями, монсиньор. Вы завоевали себе доброе имя среди людей, но вы стяжали себе еще большую славу на небесах, и перед нею-то я и преклоняюсь. Вы хотите, чтобы я ответила на очень трудные вопросы и чтобы я высказала свои мысли о вещах, которые, может быть, превыше моего разумения. Я все же попытаюсь это сделать, не потому, что беру на себя почетную роль исповедника, которую вам угодно мне доверить, но потому, что я настолько восхищена вами, что испытываю потребность со всею искренностью открыть вам душу. Я не позволю себе осуждать вас за те стороны вашей жизни, в которых вы призываете меня быть судьей Но я огорчаюсь, видя, что вы вступаете в противоречие с самим собой. Вы, очевидно, хорошо это понимаете сами, если не стремитесь себя защитить и хотите лишь оправдаться. Да, конечно, вы заслужили прощение. Господь не позволяет нам пренебрегать священной свободой нашей совести и правом пересматривать религиозные установления, которые Иисус Христос завещал нам как нескончаемую задачу, для того чтобы мы умножали их и не давали им окостенеть; но у этой свободы совести, когда дело идет о применении ее отдельными людьми, есть определенные границы. И, может быть, если вы серьезно задумаетесь над тем, чтобы провести эти границы, противоречия, от которых вы страдаете, разрушатся сами собой, без всякого усилия с вашей стороны. Мне кажется, что, когда наши поступки не согласуются с нашими принципами, можно сделать вывод, что сами принципы еще не окончательно установились. Во всяком случае, для таких натур, как ваша, твердые идеи должны так подчинить себе инстинкты, чтобы, однажды решив, что есть долг, применять этот принцип на практике было бы до того естественным, больше того — необходимым, что не было бы возможности от этого уклоняться. Подумаем же вместе, монсиньор, не великое ли это зло — пользоваться свободой, которую церковь еще не санкционировала, и в то же время находиться в лоне церкви, и не будут ли люди, привыкшие судить о других по делам их, вправе упрекать вас в двоедушии — упрек, которого вы очень боитесь и которого вместе с тем вы ни с какой стороны не заслуживаете, что ясно всякому, кто сумеет заглянуть в вас поглубже. В одном отношении вы гораздо менее католик, чем я, монсиньор, в другом — гораздо более. Я привязалась к римско-католической вере из принципа и своего рода убеждения, которое никак нельзя назвать лицемерием, ибо я решила строго подчиниться всем принятым правилам. Эта сторона вас отталкивает, вы нарушаете предписание церкви, и вместе с тем вы сердцем своим привязаны к ней и сочетались с ней, если можно так выразиться, браком по любви, тогда как для меня это брак по расчету. Вы верите в ее будущее, и для вас прогресс человечества осуществляется в ней и благодаря ей. Она вас мучит, раздражает, сердит; вы видите ее недостатки, вы замечаете ее промахи и заблуждения. Но вы все так же привязаны к ней, вы предпочитаете жертвовать для нее спокойствием совести, даже ее достоинством, лишь бы не порвать с этой властной женой, которую вы так любите. У меня всепо-другому. Позвольте же мне продолжить эту параллель между вами и мною, монсиньор; она нужна мне, чтобы ясно высказать мои мысли. Без рвения и без радости вернулась я в недра этой церкви, которой я когда-то служила восторженно и влюбленно. Этого благоговения моих юных лет, этого слепого доверия, этой экзальтированной веры душе моей уже не обрести вновь; я о них больше не думаю, и я спокойна, потому что я, должно быть, нашла если не истинную мудрость, то, во всяком случае, прямой путь к моему личному совершенствованию, избрав, за отсутствием лучшего, эту особую разновидность всеобщей религии. Я искала наиболее четкого выражения этой религии идеального, которая была мне нужна. Здесь она, правда, еще не вполне совершенна, но выше всех остальных, и я укрылась в лоне ее, особенно не заботясь об ее будущем. Так или иначе, монсиньор, она просуществует дольше, чем мы, и провидение будет поддерживать в людях нравственную силу и оказывать помощь человечеству в формах, предвидеть которые не так легко, как вы думаете. Я не смею доверяться моим инстинктам; я слишком много выстрадала от сомнений, чтобы устремить сейчас в грядущее испытующий взор. Мне было бы страшно увидеть там еще больший ужас, и я смиренно преклоняю колена в настоящем, прося господа научить меня, как исполнить мои сегодняшние обязанности. Я сделаю все, что смогу; это будет не много, но, как говорит Тренмор, господь даст зерну принести плод, если найдет его достойным своего благословения. Я не могу не думать о том, что мы переживаем время смут между гаснущей и занимающейся зарею, пока еще неясной и такой бледной, что мы ступаем почти что в потемках. Во мне жила большая уверенность в себе, но усталость и страдание ее охладили. Я жду — молча и с разбитым сердцем, решив, что, во всяком случае, буду воздерживаться от зла, и отказавшись от надежды на всякую личную радость, ибо развращенность нашего времени и неопределенность господствующих доктрин сделали все наши права незаконными и все наши желания неосуществимыми. Несколько лет тому назад, когда у меня не было сложившегося мнения об обязанностях, гражданских и религиозных, когда я ясно видела недостатки обоих законодательств и, не зная, какими средствами их исправить, дерзнула искать света истины собственным жизненным опытом, я поддалась самому благородному побуждению моей души — любви. Это был горький опыт, я пожертвовала ради него моим покоем на этом свете, моей силой в обществе, незапятнанностью моего имени. Какое мне было дело до того, что думают обо мне люди? Я хотела идти к идеалу и думала, что уже на пути к нему, ибо чувствовала, как в сердце моем пробуждаются самые возвышенные способности: преданность, верность, стойкость, самоотречение. Последователей у меня не было. Да их и не могло быть. Люди моего времени думали, чувствовали и поступали в соответствии со своими прежними законами, а мой новый закон, целиком основанный на инстинкте и наитии, не мог быть понят и развит. Страдание довело меня до изнеможения, отчаяние сломило меня, я слишком долго бродила по лабиринту противоречивших друг другу обетов и надежд, до того дня, когда от неудачи нового опыта едва не упала духом, — и вдруг чужие слабость и ослепление вывели меня к силе и свету. Тогда меня осенила дерзкая мысль, что я опередила человечество и должна пострадать за мое нетерпение. Брачного союза, такого, каким он представлялся мне, каким я стала бы требовать его, на земле тогда не существовало. Мне пришлось удалиться в пустыню и ждать, чтобы предначертания господни созрели. Перед глазами у меня был печальный пример моей сестры, одаренной, как и я, сильным стремлением к независимости и огромной потребностью в любви и низвергнутой в бездны порока за то, что она осмелилась искать осуществления своей мечты. У меня не было выбора между ее путем и тем, которым я пошла. Я избрала для себя монастырь, и он удочерил меня; помните, монсиньор, именно монастырь, а не церковь. Отнюдь не слава одной касты может прельстить меня и стать целью, к которой я буду стремиться: спасение половины человечества — вот что заботит меня и мучит. Увы! Это спасение человечества в целом, ибо мужчины не меньше, чем женщины, страдают оттого, что живут без любви, и все, чем они пытаются заменить ее — честолюбие, разврат, владычество, — повергает их в муки и глубокую тоску, причины которой они тщатся узнать, но так и не знают. Они уверены, что чем крепче они будут стягивать наши узы, тем сильнее мы воспламенимся к ним любовью, они видят, что пламя это с каждым днем угасает, и даже не подозревают, что стоит только освободить нас от грубо навязанного нам бремени, и мы добровольно возложим на себя бремя священное. Коль скоро они не хотят решиться на это сами, мы должны их заставить. Но как? Бросаться каждый день в объятия идола, которого наутро мы разобьем? Нет! Ибо так мы скоро разобьем и себя. Затевать позорные распри под сенью домашнего очага? Нет, ибо законы отказывают нам в своей поддержке, и борьба эта нередко калечит наших детей. Может быть, наконец, предавшись разгулу, обманывая наших повелителей, беспрерывно изменяя предметам наших минутных желаний? Нет! Ибо мы этим совершенно загасим священное пламя, оно исчезнет с лица земли. Мы станем тогда атеистами в любви, такими же, как мужчины. И будем ли мы тогда вправе жаловаться на то, что нас подчиняют царству силы? Итак, у нас имеется одно-единственное средство бороться за наше освобождение — это замкнуться в справедливую гордость, это повесить, подобно девам Сиона, арфы на ивы вавилонские и отказаться услаждать любовью и песнопениями слух поработителей-чужеземцев. Мы, правда, будем в трауре и в слезах; мы себя похороним заживо, мы откажемся от священных радостей семейной жизни и от пьянящих наслаждений, но мы сохраним память об Иерусалиме, культ идеала. Это будет наш протест против грязи и грубости нашего времени, и мы заставим мужчин, которые скоро устанут от своих бесстыдных радостей, уготовить нам новое место подле них и приносить нам ко дню свадьбы такую же чистоту в прошлом, такую же верность в будущем, каких они требуют от нас. Вот мое мнение, монсиньор. С этой целью я и хотела первой повесить мою арфу, отныне умолкшую для сынов человеческих. Я убеждена, что другие благоразумные женщины последуют моему примеру и придут плакать вместе со мной на холмы. Я хотела пользоваться авторитетом среди этих женщин, дабы убедить их в важности и в величии их обета. В этом, монсиньор, я верна самому чистому христианству и хочу возвратить монастырской жизни дух его первых установлений. Помните вы эти смутные и несчастные времена, которые предшествовали и следовали за евангельским откровением, тогда еще не всюду распространенным и весьма несовершенно изложенным; помните об ессеях, которые, как пишет Плиний, собрались на берегах Каспийского моря: «Сильный народ, где никто не рождается на свет и где некому умирать, одинокое, дружащее с пальмами племя!». Подумайте об отцах пустынниках, о непорочных женах, об апостоле Иоанне, вдохновенном поэте, о блаженном Августине, пресытившемся радостями земными и возжаждавшем жизни небесной! Пресыщение, толкнувшее всех этих адептов идеала в глубину пустынь, душевная тревога, которая заставляла их блуждать в уединенных вертоградах, аскетизм, державший их в кельях, — разве все это не свидетельствовало о невозможности жить одною жизнью со страшными поколениями, среди которых они родились и выросли? Разве они хотели утвердить как некий принцип, абсолютный, всеобщий, вечный, преимущество целомудренной жизни, необходимость отрешения от всего мирского? Разумеется, нет: они прекрасно знали, что человечество не может кончить жизнь самоубийством и не должно этого хотеть; но они самоотверженно приносили создателю себя в жертву, дабы люди, становившиеся свидетелями их предсмертных мучений, углубились в себя и почувствовали необходимость себя переделать. Поэтому, монсиньор, обитель кажется мне сейчас, как и прежде, пещерой, где укрываются от бури, убежищем, где находят защиту от кровожадных волков. Монастырь, находящийся под покровительством католической церкви, должен признать ее авторитет и подчиниться ее правилам. Община может и должна пополняться не за счет девушек, обездоленных природой и судьбой, но за счет избранных из числа девственниц или вдов. У него есть еще одно назначение: это давать религиозное воспитание множеству других девушек, не удерживая их потом в своих стенах. Там, мне кажется, следовало бы закладывать такие прочные нравственные основы поведения, которые бы юные души эти потом никогда не забыли и могли черпать в них и духовную силу и достоинство, которые понадобятся им на протяжении всей их жизни. Может быть, в основу их обучения следует положить некие более основательные принципы, а не те, на которых оно строилось до сих пор и которые принесли так мало плодов и так быстро изгладились из их памяти. Я уверена, что, и не удаляясь от апостольской доктрины, можно достичь лучших результатов, таких, каких у нас не было уже давно. Монастырь, настоятельницей которого вы делаете меня сейчас, был основан святой, чья жизнь для меня — источник размышлений, полных очарования и весьма плодотворных. Дочь и сестра короля, она оставила свои шитые золотом сапожки у порога дворца. Босая, она прошла по скалам и питалась одними кореньями, пила только воду из родника. Направив в экстазе все помыслы свои к небесам, она презрела и роскошь богатства и блеск власти; она употребила свое приданое на то, чтобы собрать подле себя подруг, а дары своего ума — на то, чтобы научить их презирать людей подлых и воздержаться от наслаждений, не увенчанных идеалом. О, разумеется, чтобы все это понять, она должна была сама испытать любовь. Так вот, я хочу, следуя примеру этой поистине царственной принцессы, научить обманутых женщин утешиться и обрести новые силы, вверив себя создателю; девушек доверчивых и простодушных — сохранять чистоту и гордость свою в браке. Им чересчур много говорят о счастье, которое, возможно, и узаконено обществом: это ложь! Их заставляют верить, что, смирившись и отказавшись от собственной воли, они встретят в мужьях своих ту же любовь и верность: это обман! Говорить им надо не о счастье, а о добродетели; надо научить их в мягкости быть твердыми, в терпении непоколебимыми, в преданности мудрыми и благоразумными. Надо научить их любви к богу, такой ненасытной, чтобы они находили в ней утешение от всех жизненных зол и чтобы, увидав, что доверие их предано, а земная любовь растоптана, они не кидались в распутную жизнь, ища в ней того единственного счастья, которому их поучали, для которого их воспитали. Надо, наконец, чтобы они были готовы страдать и отказаться от всякой надежды: ибо всякая надежда эфемерна, всякое обещание обманчиво, кроме надежды и обещания господа. Я надеюсь, что это вполне в духе церкви. Почему же подобные наставления больше не приносят уже плодов? Вы видите, монсиньор, что, хоть я и не так предана, как вы, интересам церкви, самый ход моих рассуждений заставляет меня служить ей более преданно, чем вы. Отчего же у нас с вами все так по-разному? Боже сохрани, чтобы я поднялась выше вас! Вы обладаете способностями, равных которым у меня нет: твердым характером, сильной волей, светом науки, пылом прозелитизма, огромной силою убеждения; но вы хотите примирить два непримиримых начала — покровительство церкви и вашу независимость. Боюсь, что церковь не очень благосклонно встретит те порядки, которые вы хотите установить. Мне не дозволено судить о вашем протесте против безбрачия духовенства; я лично не очень-то его одобряю. И это потому, что я не очень-то убеждена, что будущее мира в руках церкви; я вижу только, что церковь служит этому будущему. В этом смысле мне кажется, что церковь может лишь ускорить свою гибель, отказавшись от всех суровых правил, единственной поддержки для душ, которых поток нашего века не влечет к краю бездны. Тренмор верит в приход новой религии, которая должна возникнуть из обломков прежней, сохранив все, что в ней было бессмертного, и обратив взор на новые горизонты. Он считает, что эта религия облечет всех своих адептов священническим авторитетом, то есть правом проповедовать и быть судьей поступков и мыслей. Каждый человек будет гражданином, то есть супругом и отцом, и, наряду с этим, — священником и богословом. Все это вполне возможно, но тогда, монсиньор, это уже больше не будет католицизмом, и церкви тоже не будет. Если церковь перестанет быть необходимой, она вскоре уже сделается опасной; и тогда кто будет о ней жалеть? Достойный прелат, вы слишком озабочены ее славой, потому что ваш высокий ум сам нуждается в славе и хочет, чтобы его осветили лучи славы церковной. Но попробуйте хотя бы на мгновение отделить вашу личную славу от славы всей церкви в целом, и вы увидите, что у вас нет другого пути, кроме как восстать против всех ее предписаний. В этом случае вы плохой прелат, но великий человек. Но ведь вы не хотите отделиться от церкви? Вместе с тем вы не можете подавить в себе страсти, и вы соглашаетесь играть лицемерную роль, вы готовы навлечь на себя упрек, который несет вам горечь и боль, лишь бы не покинуть ряды духовенства. В этом случае вы великий прелат, но вы самый заурядный человек. Поступитесь вашими страстями, монсиньор, и вы тут же станете вновь тем, чем вас создали небо и люди: великим человеком и великим прелатом».57. МЕРТВЫЕ
«Каждый день, поднимаясь еще задолго до рассвета, я потом гуляю по испещренным надписями длинным надгробным плитам, положенным здесь, чтобы стеречь чей-то непробудный и вечный сон. Я ловлю себя на том, что мысленно спускаюсь в эти склепы и спокойно ложусь там, чтобы отдохнуть от жизни. Время от времени я предаюсь мыслям о небытии, таким сладостным для разума, стремящегося от всего отрешиться, и для утомленного сердца; и видя в этих склепах, по которым я ступаю, только дорогие мне священные реликвии, я ищу среди них себе место, я вглядываюсь в мраморное надгробие, прикрывающее немое и безмятежное ложе, где я буду скоро покоиться, и дух мой счастлив расположиться в нем. В другие минуты я поддаюсь очарованию христианской поэзии. Мне кажется, что дух мой явится еще, чтобы тихо скользить под этими сводами, привыкшими повторять эхо моих шагов. Иногда мне кажется, что я только призрак, который с наступлением сумерек должен скрыться, уйти под этот мрамор, и я взираю тогда на прошлое, даже на настоящее, как на жизнь, от которой меня уже отделяет могильная плита. Под этими прекрасными византийскими аркадами монастыря есть одно место, которое я особенно люблю. Это у самого края монастырского дворика, где ряды надгробий утопают в пахучих травах, которыми поросли аллеи, где расцветающие в неволе бледные розы склоняются над человеческим черепом, изображение которого высечено в углу каждой плиты. Большой олеандр захватил легкий свод последней арки. Ветви его повторяют округлость купола галереи. Плиты усыпаны чудесными лепестками, которые при малейшем дуновении ветра отрываются от своих крохотных чашечек и усыпают ложе смерти Франциски. Франциска была аббатисой, предшественницей той, которую я сменила. Она прожила около ста лет, сохранив в полной силе добродетели свои и ясный ум. Говорят, что это была праведница и женщина очень умная. Она явилась Марии дель Фиоре через несколько дней после своей смерти, в ту минуту, когда робкая послушница молилась у нее на могиле. Девушка так испугалась, что неделю спустя умерла, то улыбаясь, то леденея от страха, говоря, что аббатиса ее призвала и приказала готовиться к смерти. Ее похоронили в ногах у Франциски, под олеандрами. Я хочу, чтобы там похоронили и меня. Там есть плита без надписи над пустой могилой, которую поднимут для меня, а потом за мной замуруют, — между женщиною большой силы духа и твердой веры, вынесшей бремя столетней жизни, и девушкой благочестивой и робкой, которая погибла при первом же дуновении ветра смерти, между этими двумя столь дорогими для меня образами — воплощением силы и воплощением нежности, между сестрою Тренмора и сестрою Стенио. Франциска увлекалась астрономией. Она глубоко ее изучила и немного подсмеивалась, над страстью Марии к цветам. Говорят, что когда вечером послушница звала ее посмотреть, как она убрала за день цветочные клумбы, старая аббатиса, показывая своей костлявой рукой на звезды, голосом все еще сильным и уверенным говорила: «Вот мой цветник». Мне интересно было расспросить монахинь об обеих усопших и собрать сведения об этих двух жизнях, которые скоро канут в забвение. Как грустно это наше полное отчуждение от мертвых. Вырождающееся христианство старалось внушить к ним ужас, смешанный с ненавистью. В основе этого чувства лежит, может быть, тот отвратительный способ, которым мы хороним своих покойников, и эта необходимость внезапно расставаться навсегда с останками любимых существ. У древних не было этого ребяческого страха. Мне приятно смотреть, как они несут в руках урну с прахом родственника или друга; и мне кажется, что я вижу, как часто они на нее смотрят, как призывают ее в самых важных случаях жизни, как посвящают ей свои самые высокие деяния. Она становится частью их наследства. Погребальные церемонии не поручаются наемной силе; сын не отворачивается с ужасом от трупа той, чье чрево выносило его. Он не дает касаться его посторонним рукам: он сам отдает ей последний долг и сам умащает благовониями, свидетельством любви, останки любимой матери. В религиозных общинах я отыскала частицу этого уважения и этой античной любви к мертвым. Руки сестер завертывают тело усопшей в саван, украшают цветами ее лицо, открытое целый день для прощания. Гроб ставится в доме, где жила покойная и где все для нее привычно. Ей надлежит спать вечным сном среди людей, которые и сами будут спать с нею рядом, и все, кто придет на ее могилу, здороваются с покойницей как с живой. Монастырский устав охраняет память об умершем как о живом и увековечивает почести, которые ему воздают. Правила — такая замечательная вещь, насущно необходимая человеку, подобие божества на земле: они оберегают людей от злоупотребления своими силами, помогают великодушно хранить добрые чувства и старые привязанности, они становятся другом для тех, у кого больше нет друзей. Они напоминают нам каждый день в молитвах о множестве умерших, от которых на земле не осталось ничего, кроме имени, написанного на могильной плите и произнесенного за вечерней мессой. Обычай этот пришелся мне так по душе, что я вписала немало стертых имен, вычеркнутых когда-то, чтобы сделать молитвы короче; я требую строго перечислять их все и слежу за тем, чтобы толпа молодых послушниц, возвращающихся с шумной прогулки, проходила по галереям монастыря сосредоточенно и тихо. Что же касается забвения обстоятельств жизни, то для умерших оно здесь наступает быстрее, чем где бы то ни было: причина этому — отсутствие потомства. Целое поколение монахинь уходит из жизни почти что одновременно, ибо отсутствие событий, одинаковые привычки почти в равной степени продлевают жизнь всем. Случаев долголетия здесь очень много, но жизнь кончается вся сполна. Особые интересы или фамильная гордость не оказывают предпочтения ни единому имени, и ввиду того, что никакого соперничества не существует, всех торжественно уравнивает могила. Это равенство очень скоро стирает черты биографий. Правила запрещают записывать их, если не произошло формальной канонизации, и в этом предписании много силы и мудрости. Оно обуздывает гордость, порок самый распространенный среди добродетельных душ; оно не дает живущим смиренной жизнью рассчитывать на удовлетворение тщеславия своего за гробом. Поэтому спустя пятьдесят лет очень редко бывает, чтобы предание сохранило какие-то подробности из жизни той или иной монахини, а в силу этого подробности эти тем более драгоценны. Так как запрещение писать не распространяется на меня, я хочу упомянуть об Агнессе Катанской, романтическая история которой передается здесь из уст в уста. Это была послушница, исполненная религиозного рвения, и накануне того дня, когда ей предстояло принять постриг, отец ее, человек непреклонной воли возвратил ее в мир. Ее выдали замуж за старого французского дворянина, и она очутилась при дворе Людовика XV. Но она и там хранила верность обету, оставшись девственницей и телом и духом, несмотря на то, что ее исключительная красота была предметом самого восторженного поклонения. Наконец, после десяти лет изгнания на земле Ханаанской, когда отец ее, а потом и муж умерли, она обрела свободу и снова посвятила себя Иисусу Христу. Когда она ехала сюда горной дорогой, она была богато одета, и ее сопровождала многочисленная свита. У входа собралась толпа любопытных, и каждому не терпелось на нее взглянуть. Монахини вышли из церкви, и с поднятыми хоругвями процессия их направилась к воротам монастыря; возглавляла шествие аббатиса. Они пели хором: «In exitu Israel de Egypto». Решетка отворилась, чтобы впустить приехавшую. Тогда прелестная Агнесса сняла со своего корсажа букет и, улыбнувшись, перебросила его через плечо, как первый и последний залог, который мир мог от нее получить; вслед за тем, быстро вырвав из рук маленького мавра шлейф своего плаща, она стремительно ступила за решетку, которая закрылась за ней навсегда. Тут аббатиса приняла ее в свои объятия, а монахини одна за другой запечатлели на ее лбу поцелуй, в знак того, что теперь они сестры по духу. На другой день она принесла покаяние за десять лет, проведенных в миру, и исповедник нашел жизнь ее на протяжении этих лет такой чистой и прекрасной, что позволил ей вернуться в ту степень послушничества, на которой он ее оставил, как будто это было не десять лет, а всего один день; и день, исполненный такой чистоты и такого рвения, что он не смутил совершенства ее души, когда накануне принятия пострига она была увезена к иным алтарям. Это была одна из самых непривередливых и смиренных монахинь, каких только когда-либо знал этот монастырь. Кроткая, набожная, терпимая и всегда приветливая, она сохранила вместе с тем то изящество, к которому с детства была приучена. Рассказывают, что ее монашеское одеяние всегда было очень изысканно, и когда на исповеди ее упрекнули в тщеславии, она простодушно ответила в духе своего времени, что ей непонятен этот упрек и что она, вовсе об этом не думая старается всегда приодеться, просто из привычки повиноваться родителям, усвоенной ею еще в мирской жизни; что в общем-то она нисколько не огорчена тем, что, по мнению всех, хорошо выглядит, ибо считает, что цветущая молодость и признанная всеми красота более достойный дар небесному жениху, чем увядшая красота и уже угасающая жизнь. История эта показалась мне прелестной. Знайте, Тренмор, как велико обаяние привычки, как радостно созерцание, которое ничто не смущает. У непоседливой женщины, которую вы знали раньше, не было родины, да она и не хотела ее иметь: она продавала и перепродавала замки свои и земли, не умея привязать себя к определенному месту; этой душе странницы, которая нигде не находила себе приюта, везде было тесно, и в поисках места для могилы она колебалась между вершинами Альп, кратером Везувия и глубинами океана. И вот наконец она так горячо полюбила несколько туазов земли и груду камней, что мысль быть похороненной где-то в другом месте ей была бы мучительна. Она прониклась такой нежной любовью к мертвым, что иногда она простирает к ним руки и среди ночи кричит: «О тени, подруги мои! Возлюбленные моей души! Девственницы, которые, как и я, ходили в тишине по могилам ваших сестер! Вы, дышавшие ароматами, которыми теперь дышу я, и улыбавшиеся этой луне, которая теперь отвечает и мне своей улыбкой! Вы, которые, может быть, тоже испытали грозы жизни и светскую суету! Вы, которые стремились к великому покою и которые предвкушали его здесь, под сенью этих священных сводов, укрытые от всего в этом добровольном узилище! И прежде всего вы, препоясавшие себя крестом веры и перешедшие из объятий незримого ангела в объятия небесного супруга, непорочные возлюбленные Надежды, сильные жены Воли! Благословляете ли вы меня, скажите, и молитесь ли вы непрестанно за ту, которая предпочитает быть с вами, а не с живыми? Ваши ли золотые кадильницы источают по ночам эти вот благовония? Ваши ль нежные голоса слышатся сейчас в воздухе? Вы ли это священным волшебством своим придаете столько красоты, обаяния и целительного покоя этому участку земли, этому уголку зелени, мрамору и цветам, где теперь отдыхаете и вы и я? Каким чудом удалось вам сделать его таким драгоценным и желанным, что я привязалась к нему всеми фибрами души, что он горячит мне кровь, что жизнь кажется мне теперь слишком короткой, чтобы насладиться ею сполна, и я хочу, чтобы мне отвели в нем уголок для моих костей, когда божественное дыхание их оставит?» Тогда, раздумывая над смутами прошлого и над умиротворенностью настоящего, я призываю их в свидетели моего смирения. О души усопших, — говорю я им, — о девственницы — сестры! О красавица Агнесса! О кроткая Мария дель Фиоре! О премудрая Франциска! Взгляните, как сердце мое отрешается от своей прежней неприязни и как покорно соглашается на жизнь в те времена и на том пространстве, которое ему отвел господь! Взгляните и скажите тому, на кого вы смотрите с открытым лицом: «Лелия больше не проклинает того дня, который ты повелел ей заполнить; она идет к ночи своей, ведомая духом разума, который тебе угоден. Она больше не воспламеняется страстью к мгновениям, которые проходят. Она не стремится удержать иные из них, не торопится сократить другие. И вот она идет мерно и непрестанно, подобно земле, которая совершает кругооборот свой без потрясений и которая, видя, как от вечера до утра меняются звезды на небе, не останавливается ни под одним знаком зодиака, не желая бросаться в объятия прекрасных Плеяд, не убегая от пылающего дротика Стрельца, не отступая перед растрепанными волосами похожей на привидение Вероники. Она покорилась, она живет! Она исполняет закон. Она не боится смерти, но и не хочет ее; она не противится порядку вселенной. Без сожаления смешает она прах свой с нашим; она уже касается наших ледяных рук, и в ней нет страха. Не дозволишь ли ты, милосердный господь, чтобы испытанию ее пришел конец и чтобы, как только солнце начнет всходить, она последовала за нами туда, куда идем мы?» И тогда в борющемся с зарею ветерке мне чудятся голоса слабые и смутные, таинственные они звучат то громче, то тише и пытаются призвать меня к себе из-под камня, но все еще никак не могут справиться с навалившейся на меня тяжестью. На какое-то мгновение я останавливаюсь и смотрю, не приподнимается ли моя каменная плита и не стоит ли со мною рядом столетняя старуха, не показывает ли она мне Марию дель Фиоре, тихо уснувшую на первой ступеньке нашего склепа. В это мгновение страшный шум слышится из подземелья, и под ногами у меня раздаются чьи-то вздохи. Но все глохнет, все умолкает, как только Полярная звезда исчезает с ночного неба. Тонкие тени кипарисов, которые свет луны чертит на стенах, а ветер каждым порывом своим колеблет, словно вдыхая жизнь в изображения святых на фресках, понемногу начинают бледнеть. Тогда фигуры на стенах снова застывают в своей неподвижности: шелест листвы умолкает, и раздаются голоса птиц. Жаворонок просыпается в клетке, и в воздух врывается его отчетливое, звучное пение, большие белые лилии на клумбах вырисовываются из полумрака и, омытые обильной росой, цепенеют от наслаждения. В ожидании солнца замирает тревожная рябь, все смутные отсветы сбрасывают свой волшебный покров. Вот тогда-то призраки действительно исчезают в прояснившемся воздухе и необъяснимые шумы уступают место чистым гармониям. Время от времени последнее дуновение ночи колышет олеандр, судорожно мнет его ветки, парит, кружась, над его цветущей верхушкой и замирает издавая совсем слабый вздох, как будто это Франциска взяла за руку Марию дель Фиоре и уводит ее от цветника, а той трудно оторваться от любимого деревца, и она уходит в объятия мертвых, исполненная какой-то досады и сожаления. Наконец все иллюзии исчезают; металлические купола сверкают золотом в первых лучах солнца. Звон колокола как бы проводит в воздухе глубокую борозду, в которой тонут все разрозненные, парящие тут и там шумы; павлины слетают с насестов и долго отряхают влажные перья на блестящий песок садовых дорожек; двери дортуаров со скрипом повертываются на своих петлях, и звуки «Ave Maria», которую поет хор послушниц, гулко разносятся под сводами огромных каменных лестниц. Нет ничего торжественнее, чем этот первый звук человеческого голоса, когда только еще занимается день. Здесь все исполнено величия, все запоминается, потому что даже в самом незначительном проявлении домашней жизни есть черты единства и цельности. После всех метаний, после всех восторженных прозрений в часы бессонницы, слыша эту утреннюю молитву, чувствую, как по жилам моим пробегает трепет наслаждения и страха. Монастырские правила, этот великий закон, которому все никак не нарадуется мой ум и суровость которого иногда чрезмерно поэтизирует мое воображение, тут же простирают надо мной свою власть, о которой я забываю в романтические ночные часы. Тогда я покидаю могилу Франциски, где простояла, неподвижная и сосредоточенная, пока свершалось это обновление света и пробуждение природы, и схожу с камня, как античная статуя, которая вдруг оживает и при первых лучах солнца обретает в груди свой голос. Как она, я начинаю петь гимн радости, и вот я уже иду навстречу моей пастве и пою громко и восторженно, в то время как девушки двумя стройными рядами спускаются по большой лестнице, ведущей в церковь. Я всегда замечала в них какой-то инстинктивный страх, когда они видели, как я выхожу из обители мертвых, чтобы стать во главе их, раскрыв свои объятия и воздев глаза к небу. В часы, когда мысли их еще отягчены сном и когда чувство долга борется в них со слабостью природы, они поражаются, видя, что я полна сил и жизни, и, несмотря на все мои усилия разубедить их, они продолжают упорно считать, что я по ночам общаюсь с мерными, покоящимися на монастырском кладбище под сенью олеандров. Я вижу, как они бледнеют, когда, скрестив свои белые руки на пурпурных скапуляриях, опускают головы, преклоняя передо мною колена, и как невольно вздрагивают, когда, заворачивая за угол, одна за другой касаются моего одеяния».58. СОЗЕРЦАНИЕ
«Одна из дверей помещения, где я живу, выходит на скалы. Изъеденные временем и поросшие мхом уступы окружают со всех сторон обрывистый утес, на котором стоит эта часть здания, и крутыми переходами соединяют монастырь с горою. Это единственный путь, каким можно подняться на нашу крепость; но идти им страшно, и после святой Франциски никто не решается туда взбираться. Идти по неровным ступенькам очень трудно, некуда поставить ногу, и кружится голова от соседствующих с ними крутых обрывов. Мне хотелось узнать, не потеряла ли я за время моей уединенной и бездеятельной жизни прежнюю храбрость и физическую силу. И вот однажды, среди ночи, когда ярко светила луна, я решила спуститься по этим ступенькам. Без труда добралась я до того места, где обвал, казалось, разрушил всю работу монахов. Повиснув на мгновение между небом и бездонной пропастью, я задрожала от мысли, что мне предстоит возвращаться той же дорогой. Я очутилась на выступе — таком узеньком, что ноги мои едва на нем помещались. Я долго простояла так, не шевелясь, чтобы дать глазам освоиться с этим положением, и раздумывая о том, какую власть над нашими чувствами имеют, с одной стороны, воля, с другой — воображение. Если бы я уступила силе воображения, я бы бросилась на дно пропасти, которая, казалось, каким-то магнитом притягивала меня к себе; но холодная воля обуздала все мои страхи и помогла мне держаться твердо на моем узеньком пьедестале. Нельзя ли предложить этот пример тем, кто говорит, что соблазны непреодолимы, что всякое принуждение, предписанное человеку, противно природе и преступно по отношению к богу? О Пульхерия! В эту минуту я подумала о тебе; я сравнивала всю тщету погубивших тебя наслаждений с этим обманом чувств, который я испытала, стоя на краю пропасти, — как он соблазнял меня сократить мой томительный путь, поддавшись охватившей меня слабости. Я сравнивала также добродетель, которая могла бы тебя уберечь, с инстинктом самосохранения, с силой мысли, помогающей человеку побеждать в себе всякую изнеженность и страх. О, вы наносите оскорбление милости господней, и вы глубоко презираете его дары, вы, принимающие за самую благородную и здоровую часть вашего существа слабость, которую он ниспослал вам лишь для того, чтобы уравновесить силу, которой бы вы без этого чересчур гордились. Внимательно осмотрев все вокруг, я заметила, что лестница идет дальше вниз по другой скале, как раз под площадкой, где я стояла. Без труда я перебралась на этот новый уступ. Стоило мне все спокойно обдумать, как казавшееся с первого взгляда невозможным сделалось вполне осуществимым. Вскоре я была вне опасности на естественных террасах горы. Глаза мои давно уже привыкли к виду этих неприступных мест. Пять лет в воображении я прогуливалась по ним, при этом даже не мечтая, что нога моя на них когда-нибудь ступит. Но я видела только снаружи эту величественную каменную громаду, зубцы которой врезаются в облака. Каково же было мое удивление, когда, подойдя к этим зубцам совсем близко, я обнаружила, что могу проникнуть в глубь скалы сквозь трещины, которые издали казались такими узкими, что по ним едва ли могла пролететь даже птица. Долго не раздумывая, я устремилась туда и, по обломкам камней, по грудам базальта, прорываясь сквозь густую сеть вьющихся растений, крадучись по трудным неведомым переходам, добралась до мест, куда никогда не проникал взгляд, по которым никогда не ступала нога человека с того времени, когда святая уединялась там, чтобы творить молитву вдали от всякого шума и суеты. Здесь существует поверье, что каждую ночь дух господень поднимал ее на эти неприступные вершины, что незримый ангел взносил ее на кручи, и с тех пор ни один житель этих мест не решался разгадать это чудо, совершавшееся с помощью веры — веры, которую люди недалекие называют слабостью, суеверием, глупостью! Веры, которая есть не что иное, как воля, соединенная с доверием, — великолепная способность, дарованная человеку, чтобы перейти границы животной жизни и беспредельно раздвинуть границы разума. Гора, вершина которой была срезана извержением вулкана, потухшего еще в первые тысячелетия нашей планеты, являла взгляду обширные нагромождения обломков, обрамленных неровными зубцами и зиявшими меж ними расщелинами. Черная зола, металлическая пыль, выброшенная извержением; кучи хрупкого шлака, которого состояние остекленения оберегает от действия стихий и который хрустит под ногами, словно мелкие кости; пропасть, заполненная наносной землей и поросшая мхом; естественные стены из красной лавы, которую можно принять за кирпич; гигантские кристаллы базальта, и всюду, на всех минералах, — застывшие капли расплавленного металла, когда-то выброшенного бурей из недр земли; большие, грубые лишаи, поблекшие, как сами камни, на которых они выросли; потоки, которых не видно и которые только бурлят где-то под скалами, — вот как выглядел этот дикий край, где нельзя было обнаружить ни единого следа живых существ. Я так давно не была в пустыне, что в первую минуту мной овладел ужас при виде этих руин вселенной, существовавших еще задолго до появления человека. Меня охватило какое-то странное и неприятное чувство, и я не могла заставить себя сесть и спокойно посидеть среди этого хаоса. Мне казалось, что это владения нечистой силы, призванной нарушать покой человека. И я все шла, поднимаясь выше и выше, до тех пор, пока не достигла самых высоких гребней, образующих вокруг этого огромного кратера великолепный венец странной и затейливой формы. Там я увидела необъятное небо, море, город, окружающие его плодородные долины, реку, леса, мысы, и чудесные острова, и вулкан. Это был единственный гигант, возвышавшийся надо мной, единственное жерло подземного канала, куда ринулись все потоки огня, бушевавшие в недрах этой земли. Возделанные поля, деревушки и виллы, покрывающие живописные склоны холмов, тонули вдалеке в прозрачной мгле. Но, по мере того как над морем занималась заря, все вокруг становилось отчетливее, и вскоре я могла убедиться, что почва еще плодородна, что человечество еще существует. Когда я сидела на этом воздушном троне, там, куда, может быть, никогда не поднималась и сама святая, мне показалось, что я овладела краями, неподвластными человеку. Отвратительный циклоп, нагромоздивший здесь эти каменные глыбы, чтобы сбросить их вниз, в долину, и извлекший из неведомых подземелий адский пламень, чтобы сжечь юные всходы земли, навлек на себя гнев мстительного бога. Мне казалось, что я пришла сюда заклеймить его последним клеймом раба, ступив ногою на его разбитую голову. Недостаточно было, чтобы вседержитель позволил цивилизованной расе заполонить своими победами и трудами всю эту землю, отвоеванную у стихий; надо было, чтобы женщина взошла на эту последнюю вершину, поднялась к пустынному и безмолвному алтарю поверженного титана. Надо было, чтобы человеческий разум, орел, способный охватить полетом своим бесконечные пространства и владеющий сокровищем всех миров, прилетел и опустился на этот алтарь и расправил крылья, чтобы склониться к земле и братски благословить ее, пробуждая в первый раз сочувствие человека к человеку среди бездны пространства. Повернувшись тогда к пустынным местам, по которым я только что шля, я попыталась уяснить себе ту перемену, которая произошла во вкусах моих и привычках. Почему это раньше мне все время казалось, что я недостаточно далеко ушла от человеческого жилья? Почему теперь мне так хочется быть к нему ближе? Я ведь не открыла в человеке никаких новых добродетелей, качеств, которых бы я до сих пор не знала. Общество не стало ведь лучше с того дня, когда я с ним рассталась. Издали, так же как и вблизи, я до сих пор нахожу в нем все те же пороки, все ту же косность, мешающую ему переделать себя в соответствии с благородными и истинными потребностями. Что же касается дикой красоты природы, то я отнюдь не потеряла способности восхищаться ею. Ничто не может погасить в поэтических душах чувства прекрасного, и то, что им сначала кажется гибельным, развивает в них неведомые способности, неистощимые силы Между тем прежде мне казалось, что где-то, должно быть, есть какая-то еще более недоступная пещера, еще более безлюдная пустошь, еще более дикий морской берег, что лишь он один удовлетворит одолевающий меня зуд ходьбы и ненасытную жажду ума. Альпы были для меня слишком низки, а море чересчур узко. Непреложные гармонические законы вселенной утомили мой взгляд, истощили мое терпение. Следя глазами за ползущей лавиной, я думала каждый раз, что она должна бы на пут своем взрыхлить больше снега, повалить больше сосен, сильнее оглушить своим грохотом испуганное эхо окрестных ледников. Мне казалось, что гроза всегда медлит и всегда звучит приглушенно. Мне хотелось запустить руку в темные тучи и с грохотом разодрать их на части. Мне хотелось присутствовать при каком-нибудь новом потопе, видеть, как падает звезда, как некая новая катаклизма потрясает вселенную. Я бы закричала от радости, если бы вдруг низверглась в бездну вместе с обломками мира, и тогда только я признала бы, что бог действительно такой сильный, каким я его себе представляла. И вот, оттого что я вспоминаю эти неистовые дни и безумные желания, я дрожу теперь при виде мест, сохранивших следы былых потрясений нашей планеты. Любовь к порядку, пробудившаяся во мне с тех пор, как я покинула свет, не дает мне испытать прежней радости, когда я слышу глухой рокот вулкана или вижу, как катится с гор лавина. Когда страдание делало меня слабой, мне нужен был бог и сильный и гневный. Сейчас, когда боль улеглась, я понимаю, что сила — в спокойствии и кротости. О несотворенная доброта! Как ты открылась мне вдруг! Как я благословляю тебя на самой узенькой зеленой бороздке, которую твой взор делает плодородной! Как сливаюсь воедино с этой щедрой землей, где прорастает твое зерно! Как я хорошо понимаю твою неистощимую мягкость! О земля, дочь неба! Какому великому милосердию научил тебя отец твой — ты, не сохнущая под ногой нечестивца, ты, позволяющая богатым владеть тобой, но с уверенностью ожидающая дня, который отдаст тебя всем твоим детям! Тогда ты, разумеется, предстанешь нам преображенной и похорошевшей: ты станешь веселее и плодороднее, ты, может быть, осуществишь те чудесные поэтические мечты, которые сейчас провозглашают новые секты и которые, подобно таинственным ароматам, возносятся над этим веком сомнений, странной смеси высокомерных отрицаний и сладостных надежд. Упоенная созерцанием этой дивной ночи, я отдалась течению времени. В полночь луна зашла. Вернуться уже не было возможности; теперь, когда она перестала светить, я все равно не могла бы найти дорогу в лабиринте этих нагроможденных обломков — хоть на небе и сверкали звезды, глубины кратера были погружены во мрак. Я подождала, пока первый луч солнца не забелеет на горизонте. Но едва только светлая полоска появилась на небе, земля так похорошела, что я не могла оторваться от картины, которая все время менялась и на глазах у меня становилась все красивее. Бледные звезды Скорпиона, справа от меня, по одной погружались в море. Прелестные нимфы, неразлучные сестры, они, казалось, сплетались в объятиях, увлекая друг друга на купанье, сулившее им великую и чистую радость. Бесчисленные светила, которыми было усеяно небо, сделались более редкими и сияли ярче; день еще не занялся, а меж тем небо уже посветлело, будто серебряная пелена украсила его лазурное лоно. В воздухе посвежело, и казалось, что звезды разгорались от этого свежего дуновения, как пламя, которое ветер раздувает, прежде чем погасить. Капелла взошла слева от меня, сверкая ярким красным светом, над огромными лесами, а Млечный Путь растаял над моей головой, как тает, поднимаясь к небу, туман. Тогда небо сделалось похожим на купол, который вдруг откинулся в сторону, и заря занялась, разгоняя на своем пути заленившиеся звезды. Ветер задувал их одну за другой взмахом своих крыльев, но те, что упорно не хотели уйти, сверкали теперь еще ярче, еще красивее. Геспер все светлел и надвигался так величественно, что казалось невозможным низвергнуть его с трона.Большая Медведица пригибала свою огромную спину, пробираясь на север. Земля представлялась сплошной черной массой, и только кое-где вершины гор перебивали ровную линию горизонта. Мало-помалу прояснялись озера и речки — маленькие пятнышки, извилистые ниточки бледного серебра на темном покрове. По мере того как рассвет сменялся сиянием дня, все эти воды расцвечивались переменчивыми отблесками перламутра. И долго еще лазурь, с целой гаммой бесчисленных оттенков, переливающихся от белого к черному, была единственной краской, разлитой по земле и небу. Восток заалел гораздо раньше, чем в окружающем пейзаже пробудились цвета и формы. И вот наконец первые контуры возникли из хаоса. Прежде всего определились очертания переднего плато, за ним последовали другие, вплоть до самых дальних; и когда весь рисунок стал отчетливо виден, вспыхнула зелень листвы, и растительность начала постепенно, оттенок за оттенком, менять окраску: из темно-синей она становилась ярко-зеленой. Самыми упоительными были минуты перед тем, как солнечный диск взошел на небо. Очертания предметов определились четко и стройно. Было какое-то неизъяснимое очарование в озарившем все вокруг рассеянном бледном свете. Лучи поднимались, как пламя, за огромной завесою тополей, которые все еще оставались неосвещенными и черными силуэтами вырисовывались на фоне раскаленного пекла. Однако на юго-востоке световые фантасмагории становились все ярче. Косые лучи проскальзывали всюду в промежутках между холмами, рощами и садами. Освещенные по краям леса высились, легкие и прозрачные, меж тем как глубь их оставалась непроницаемой. До чего же хороши были при этом свете деревья! Сколько изящества было в стройных тополях, сколько приятной округлости в рожковых деревьях, сколько мягкости в миртах и ракитнике! Зелень была вся одного тона, но прозрачность ее возмещала богатство оттенков; каждое мгновение становящиеся более яркими, лучи проникали во все извилины, во все глубины. За каждой стеной листвы как бы спадала какая-то пелена, и, словно по мановению волшебного жезла, возникали новые перспективы, исполненные все большей прелести и свежести. Прояснялись отдаленные уголки лугов, кустарника, рощ, опушек, поросших мохом и камышами. И вместе с тем в далеких глубинах, и там, где стволы сплетались в одно, укрывались еще какие-то сладостные тайны утра, не столь непроницаемые, как тайны ночи, но зато более чистые, чем то, что с собою приносил день. За белеющими стволами старых смоковниц уже не было спрятанных в лесной чаще пещер, где скрывались коварные фавны; там, в убежищах своих, притаились стыдливые и тихие гамадриады. Едва только пробудившиеся птицы пели еще мало, и в голосах их слышалась робость. Ветер умолк, даже на самой высокой из осин не шелохнулся ни один листик. Напоенные росою цветы еще не начали пахнуть. Всю жизнь я больше всего любила эти минуты: они возвращают нас к извечной юности человека. Сколько в них чистоты, умеренности и неги… О Стенио! Это минуты, когда твоя бледная красота и твои прозрачные глаза светят мне так же, как светили когда-то! Но внезапно листва вся затрепетала — пролетела огромная стая птиц. Все словно задрожало от радости; ветер дул с запада, с верхушки деревьев, казалось, склонились перед богом. Подобно тому как король, впереди которого едет блестящий кортеж, явившись сам, очень скоро затмевает весь блеск своей пышной свиты, так и солнце, поднявшись на горизонте, затмило рассыпанный на его дороге пурпур. Оно пустилось в путь с быстротой, которая не может не поражать, ибо это единственный миг, когда наш глаз ясно различает движение, и это движение увлекает нас и словно кидает под пылающие колеса небесной колесницы. Окунувшись на мгновение в огненные испарения атмосферы, все какое-то расползшееся, оно всплыло и вспрыгнуло неловким и не очень решительным прыжком, подобно причудливому огненному призраку, готовому растаять и кануть в ночь. Но сомнения его быстро рассеялись: оно округлилось и словно раскололось, бросая вдаль сиянье своих лучей. Так еще древним Гелиосом оно, выходя из моря, встряхивало свои горящие волосы на берегу и огненным дождем вливалось в реки; так, став высоким творением единого бога, оно несет жизнь простершимся перед ним мирам. Вместе с солнцем краски, до этого неясные и смутные, обрели вдруг полную силу. Серебряные края лесных массивов окрасились темною зеленью с одной стороны и изумрудной — с другой. Та часть пейзажа, в которую я больше всего вглядывалась, изменила вид, и каждый предмет предстал как бы в двух ликах: одном — темном, другом — сверкающем; каждый листик сделался каплей золотого дождя; потом отсветы пурпура обозначили переход света в зной. Белый песок на дорожках пожелтел, и на серых глыбах скал живописными сочетаниями заиграли коричневые, желтые, бурые и красные пятна. Луга впитали в себя росу, от которой они казались светлее и сделались такими свежими, такими зелеными, что вся другая зелень вдруг потускнела. На месте красок всюду появились оттенки; на всех зеленых покровах серебро превратилось в золото, изумруды — в рубины, жемчуга — в бриллианты. Лес понемногу потерял всю свою таинственность; бог-победитель проник в самые укромные убежища, в самые тенистые уголки. Я увидела, как цветы вокруг меня раскрываются, почувствовала, как они отдают ему весь свой аромат… Я ушла — все это не так подходило к моему настроению и к моей странной судьбе. Это было скорее воплощение пылкого периода юности, а никак не последовавших за ним умиротворяющих лет; это был бурный призыв к жизни, которой я не жила и не должна жить. Я приветствовала творение и отвратила от него взор без неблагодарности и без горечи. Я провела там несколько упоительных часов; разве не должна я была возблагодарить за них бога, сделавшего красоту земли бесконечной, дабы каждое живое существо могло черпать из нее потребное ему счастье. Иные создания живут всего несколько часов; другие пробуждаются, когда засыпает все остальное; третьи существуют только несколько месяцев в году. И что же! Неужели человеческое существо, обреченное на одиночество, не сумеет без гнева отказаться от нескольких минут всеобщего опьянения, если ему дано вкушать все радости, которые дарует покой! Нет, я ни на что не жаловалась, и я сошла с горы, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на знойное небо и удивиться, что прошло так мало времени с тех пор, как над всем царила томная бледность луны. Ни на одном человеческом языке нельзя рассказать о тех волшебных переменах, которые несет во вселенную бог времени. Человек не может ни определить, ни описать движение. Различные фазы этого движения, которое именуют временем, носят одинаковые названия на всех языках, а для каждой минуты следовало бы придумать особое, ибо ни одна из них не похожа на предыдущую. Каждое из этих мгновений, которое мы пытаемся выразить числами, преображает творение и производит в бесчисленных мирах столь же бесчисленные перевороты. Точно так же, как ни один день не похож на другой, ни одна ночь — на другую ночь, ни одно мгновение дня или ночи не похоже на то, которое ему предшествует, и на то, которое за ним следует. Элементам великого целого свойствен определенный порядок как неизменное условие существования, и вместе с тем неистощимое разнообразие, свидетельство безграничной силы и неутомимой энергии, управляет жизнью во всех ее проявлениях, начиная с облика созвездий и кончая чертами человеческого лица, начиная от морских волн и кончая былинками на лугу, начиная от всемирного пожара незапамятных времен, уничтожившего светила, и кончая неописуемыми изменениями атмосферы, окружающей миры, — нет вещи, у которой не было бы своего собственного существования и которая бы в каждый период своей жизни не претерпела бы более или менее заметных для человека изменений. Видел ли кто-нибудь два одинаковых восхода солнца? Разве человеку, который растрачивает силы на такое количество ничтожных дел и находит удовольствие в стольких зрелищах, его недостойных, не следовало бы искать подлинное наслаждение в созерцании великого и вечного? Среди нас нет никого, кто бы не сохранил в памяти подробности какого-нибудь самого простого происшествия, но ни один из нас, перебирая свои самые радостные воспоминания, не отыщет среди них минут, когда природа полюбилась ему ради нее самой, когда лучи солнца вывели его из замкнутого круга эгоизма и растворили в этом потоке любви и счастья, который опьяняет все наше существо, когда всходит солнце. Мы помимо воли вкушаем эти несказанные блага, которые нам расточает господь; мы видим, как они проходят мимо, и привыкли встречать их каждый раз самыми избитыми словами. Мы не вникаем в их характер; своей равнодушно-невнятной оценкой мы сводим к одному все многообразие наших сияющих дней. Мы не отмечаем как счастливое событие нашей жизни ночи, проведенной в созерцании звезд, великолепия утреннего неба без единого облачка. У каждого человека был в жизни день, когда солнце сияло прекраснее, чем в любой другой день его жизни. Он едва обратил на него внимание и больше не вспоминает о нем. О Движение! Старик Сатурн, отец всех сил! Это тебя должны были бы чтить люди в образе колеса; но они отдали твои атрибуты Фортуне, ибо она одна приводит в движение их минуты, она одна переворачивает песочные часы жизни. Вовсе не бег светил регулирует их потребности и мысли; вовсе не восхитительная гармония вселенной заставляет колена их склоняться, а сердца биться; детские игрушки наполняют твой рог изобилия. Ты высыпаешь его на дороге, и они нагибаются, чтобы искать их в грязи, а в это время неистощимый источник счастья и покоя, чистый и щедрый, просачивается всюду вокруг, сквозь все поры творения».59
«Лелия, я с жадностью прочел рассказ о благородных и трогательных чувствах, которые наполнили вашу душу за годы, прошедшие после нашего расставанья. Слава богу, вы спокойны! Я тоже спокоен, но печален, ибо давно уже ни на что не нужен. Я скрыл это от вас, чтобы не нарушать ваше просветленное спокойствие; но теперь я могу вам это сказать. Все это время я провел, закованный в кандалы; и притом на земле, чуждой политическим распрям, за которые меня изгнали из страны, где живете вы, на земле, призванной давать убежище изгнанникам и кичащейся своей свободой. Меня сочли подозрительным: достаточно было одного-единственного подозрения, чтобы гостеприимство превратилось для меня в тиранию. Но вот наконец я освободился из тюрьмы и возвращаюсь к своему делу Здесь, как, впрочем, и всюду, я встречу сочувствие, ибо здесь больше, может быть, чем где бы то ни было, великих страданий, великих потребностей и великих несправедливостей. Ваши рассказы и ваши описания монастырской жизни украсили мое безотрадное существование восхитительными часами и погружали меня в поэтические мечты. Лелия, я ведь тоже изведал в тюрьме счастливые дни, назло и судьбе и людям. Было время, когда я часто стремился к одиночеству. В часы тоски и бесплодных угрызений совести я пробовал бежать от людей; однако напрасно искочевал я полсвета: одиночество убегало от меня; сам человек, или влияние его, которого нельзя было избежать, или его деспотическая власть, простирающаяся на все живое, преследовали меня даже в самой глухой пустыне. В тюрьме я обрел это одиночество, такое спасительное, то, чего я всюду искал и не находил. В этой тишине мое сердце открылось и постигло всю красоту природы. Когда-то я был до того пресыщен, что меня не радовали самые красивые страны, где светит солнце, теперь какой-нибудь бледный луч, мелькнувший на затянутом небе, жалостное завывание ветра на морском берегу, шум волн, грустные крики чаек, далекая песня девушки, аромат цветка, пробившегося с великим трудом сквозь щель в стене, — для меня это все живые радости, сокровища, цену которым я знаю. Сколько раз я восхищенно взирал сквозь темную решетку тюремного окна на грандиозную картину морского прибоя, на эти судороги волн, на лохматые хлопья пены, которые с быстротою молнии проносятся от края до края! Сколько красоты было тогда в этом море, обрамленном железным прутом! С какой жадностью взор мой, прикованный к этой открытой щели, охватывал расстилающуюся передо мной безграничную ширь! Ах, разве оно не принадлежало мне тогда все целиком, это огромное море, которое я мог обнять взглядом, где моя свободная мысль могла блуждать без конца и была более быстрой, более гибкой, более прихотливой в своем полете по небу, чем ласточки с большими черными крыльями, которые взрывали пену и, задремав, качались потом на ветру. Что значили для меня тогда и тюрьма и цепи? Воображение мое неслось вместе с бурей, как тени, вызванные арфою Оссиана. Потом я на легком суденышке переплыл это море, где душа моя блуждала так много раз. И что же? Поверьте, оно показалось мне уже не таким прекрасным. Ветер был тяжелым и медленным, отсветы на воде сверкали не так ярко, волны колыхались не так плавно. Восходы солнца не были такими чистыми, закаты — такими роскошными. Море, которое меня уносило, уже не было прежним морем, тем, которое баюкало мои мечты, которое принадлежало мне одному и которым я наслаждался один среди закованных в цепи рабов. Теперь я живу все будто в полусне, не делая никаких усилий, как выздоравливающий после тяжелой болезни. Довелось ли вам испытать это сладостное оцепенение души и тела после дней горячки и кошмаров, дней одновременно тягучих и скоротечных, когда, истерзанный бредом, устав от видений неожиданных и бессвязных, не замечаешь движения времени и чередований дня и ночи? Послушайте, если вы пережили фантастические ужасы, в которые ввергает вас лихорадка, и возвращаясь к спокойному и ленивому течению жизни, к ее идиллиям, к ее тихим прогулкам под ласковым солнцем, среди растений, которые тогда были только еще посажены в землю, а теперь уже расцвели, если вы, совсем еще слабый, бродили вдоль ручейка, беззаботного и кроткого, как вы сами, если вы прислушивались к этим смутным шорохам природы, давно уже переставшим для вас существовать и почти забытым среди страданий; если вы, наконец, возвращаетесь к жизни постепенно, впитывая ее всеми порами своего существа, переходя от ощущения к ощущению, — тогда вы способны понять, что значит отдых после жизненных бурь. Но мы не вправе останавливаться по дороге больше чем на день. Небо побуждает нас к труду. Больше чем кому-либо другому, мне надлежит проделать тяжелый путь. Отдых таит в себе безграничные радости; но нам нельзя убаюкивать себя этими наслаждениями — они нас погубят. Они посланы нам мимоходом, как оазисы в пустыне, как предчувствие неба; но наша земная отчизна — это невозделанная земля, которую нам надлежит победить, цивилизовать и освободить от рабства. Я не забываю этого, Лелия, и вот я уже снова пускаюсь в путь, а вам желаю мира душевного!»60. ПЕСНЬ ПУЛЬХЕРИИ
«Когда я покидаю ложе наслаждений, чтобы взглянуть на звезды, светлеющие на небесной лазури, колени мои дрожат от холода этого зимнего утра. Страшные свинцовые тучи нависли над горизонтом, и заря напрасно старается вырваться из их мертвенного, бледного лона. Звезда Волопаса бросает последний красноватый луч к ногам Большой Медведицы, все семь светильников которой бледнеют и гаснут от сияния денницы. Луна продолжает свой путь и медленно спускается, холодная и зловещая, со своих высот, надвигаясь на зубцы мрачных зданий. Начинают проглядывать узенькие ложбины, проложенные дождем, отсвечивающие тусклым, оловянным блеском. Громко распевают петухи, и кажется, что звуки молитвы, встречающие эту ледяную зарю, возвещают пробуждение мертвецов в могилах, а не живых в их домах. Зачем тебе вылезать из своей постели, едва согревшейся от недолгого сна, о землепашец, ты, который бледнее, чем зимняя заря, печальнее, чем залитая водою земля, суше, чем дерево, у которого осыпались листья? В силу какой жалкой привычки осеняешь ты крестным знамением свой узкий лоб, раньше времени изборожденный морщинами, едва только зазвучит католический колокол? По какой нелепой слабости почитаешь ты единственною своей надеждой, единственным утешением обряды религии, которая освящает всю нищету и продлевает твое рабство до скончания века? Ты остаешься глух к голосу сердца, которое кричит тебе: «Храбрость и месть!», и ты склоняешь голову, как только воздух задрожит от унылого звука, возвещающего миру удел, на который ты осужден навеки: малодушие, унижение, страх! Тварь, не достойная жизни! Взгляни, с каким сожалением солнце изливает на тебя свет, как скупа и неблагодарна природа, как неохотно покидает ночь пределы твоего унылого края! Твой никогда не утолимый голод — единственная сила, еще имеющая над тобой власть. Это она побуждает тебя в бессилии и слепоте твоей искать жалкого пастбища на земле, истощенной трудом твоих неумелых и грубых рук, которые одна лишь нужда приводит в движение, подобно рычагам механизма. Ступай и дроби булыжники на дороге, они ведь не так тверды, как твой мозг, чтобы, когда мои чистокровные кони гордо по ним побегут, они не повредили себе копыт! Засей илистые берега, чтобы псы мои кормились отборным зерном и чтобы потом твои голодные дети жадно выпрашивали объедки! Ступай, захиревшее отродье, ублажай сосущую твою кровь нечисть! Прозябай, как зловонная трава на болотах! Ползи, как червяк по грязи! А ты, солнце, не показывай своего лика этим пресмыкающимся, недостойным тебя созерцать. Кровавые тучи, разверзающиеся при его приближении, закройте собою, как саваном, его сияющее лицо и заволоките всю египетскую землю, доколе этот жалкий народ не принесет покаяния и не смоет с себя клеймо постыдного рабства. Юный влюбленный мой, ты не отвечаешь мне, ты меня не слышишь? Голова твоя покоится на мягкой подушке. Неужели ты боишься, как бы я не увидела твоих чистых слез? Неужели ты оплакиваешь отвратительный день, который лишь занимается над этой презренной породой людей, пробуждающейся ото сна? Неужели ты мечтаешь о кровопролитии и о свободе? Неужели ты стонешь от страдания и от гнева? Ты спишь? Волосы твои покрылись испариной, плечи потеряли силу в любовных утехах. Тело твое и мысли тяжелеют от невыразимой истомы… Неужели и сил и жара сердца тебе хватает только на одни наслаждения? Как! Ты спишь? Значит, молодость твоя без остатка удовлетворяется сладострастием, и у тебя нет никакого другого влечения, кроме страсти к женщине? Странная молодость! Она даже не знает, ни в какой мир, ни в какой век забросила ее судьба! Все твое прошлое — в тщеславии, все настоящее — в наслаждении жизнью, все будущее — в безответственности. Ну что же, раз у тебя столько безразличия и презрения к несчастью другого, удели мне немного твоей холодной подлости. Пусть же вся сила наших душ, пусть весь пыл нашей крови сольются воедино, чтобы сообщить особую пряность нашим исступленным ласкам. Ну что ж! Раскроем объятия и закроем сердца! Опустим занавес, скрывающий от дневного света наши постыдные радости! Помечтаем, разогретые жаром похоти, о мягком климате Греции, об античных наслаждениях и о языческом разврате! И пусть слабый, бедный, угнетенный, простодушный трудятся в поте лица и страдают, оттого что им приходится есть черный хлеб, орошенный слезами; мы будем жить среди оргий, и наши шумные наслаждения заглушат их стоны! И пусть святые кричат в пустыне, пусть пророки вернутся и их еще раз побьют каменьями, пусть евреи еще раз распнут Христа! Будем жить! Или, хочешь, умрем? Задохнемся от любви! Покинем жизнь, сломленные усталостью, как иные влюбленные покидали ее, охваченные фанатизмом любви. Надо, чтобы наша душа погибла под тяжестью материи, или чтобы наше тело, поглощенное духом, избавилось от всего ужаса человеческой доли. Он все спит! А мне не найти ни минуты покоя, я сопоставляю нищету других с моим проклятым богатством, и в сердце мое вторгаются угрызения! О небо! До чего же груб этот юноша, который вчера еще казался мне таким красивым! Взгляните же на него, мерцающие звезды, устремленные в беспредельность, и скройтесь от него навсегда! Солнце, не заглядывай к нему в комнату, не озаряй его лица, истомленного развратом; на нем ни разу не было ни тени упрека, ни проклятия провидению, которое о нем позабыло! А ты, вассал, жертва, оборванец, посмотри на него… Ты раб, ты труженик, посмотри на меня, бледную, растрепанную, безутешную, у этого окна… Посмотри хорошенько на нас обоих. Юноша, богатый и красивый, который платит деньги за любовь женщины, и погибшая женщина, презирающая этого юношу и его деньги! Вот те, кому ты служишь, кого боишься, кого чтишь… Подыми же свою кирку и молот, орудия твоего проклятого навеки труда, и ударь! Разрази этих трутней, которые едят твой хлеб и крадут у тебя все, даже твое место под солнцем! Убей этого мужчину, который спит, убаюканный своим эгоизмом, и эту женщину, которая проливает слезы, бессильная порвать со своим пороком!»61
Однажды вечером отшельник увидел, как в келью к нему входит какой-то молодой человек, которого он с трудом мог узнать, ибо одежда его, манеры, походка, голос и даже черты лица — все изменилось, все, если можно так выразиться, потеряло свой национальный облик, на всем был след иноземной цивилизации. Когда Стенио разделил с Магнусом его скудный ужин, тот взял его за руку и спустился с ним к берегу озера. Он любил приходить в эти дикие места глядеть на склонившиеся над пропастью огромные кедры, на посеребренный луною песок и на эту неподвижную воду, в которой отражались звезды, такие спокойные, как будто они мерцали где-то в другом мире. Ему нравились и стрекотание цикад, и жужжанье жуков в прибрежных камышах, и тихий полет летучих мышей, описывавших над его головою таинственные круги. В келье отшельника, на краю обрыва, в глубине этого безбрежного озера душа его искала мысль, надежду, улыбку судьбы. Видя, что лицо его спокойно и он так долго молчит, Магнус решил, что господь сжалился над ним и открыл наконец этому страждущему сердцу сокровища божественной надежды. Но неожиданно Стенио, остановив его в светлом и чистом сиянии луны, сказал, пронизывая его своим циничным взглядом: — Расскажи мне, монах, про твою любовь к Лелии, о том, как она сделала из тебя безбожника и ренегата, а потом свела с ума. — Господи, — вскричал отшельник, растерянный и бледный, — да минует меня чаша сия! Стенио разразился горьким смехом, снял шляпу и с нарочитой торжественностью сказал: — Приветствую вас, любезный отшельник. Насколько я вижу, вожделение сопутствует вам всюду; вам нельзя задать даже самого пустячного вопроса: тысячи кинжалов вонзаются вам в сердце. Так не будем больше об этом говорить. А я-то думал, что достойная настоятельница монастыря камальдулов сделалась настолько важной персоной, что больше уже не тревожит ваше воображение. Скажите мне, Магнус, вы видели ее, с тех пор как она там? И он показал рукой на монастырь, купола которого, посеребренные луной, возвышались над кипарисами кладбища. Магнус покачал головой. — А что это вы делаете тут, так близко от вражеского лагеря? — спросил Стенио. — Почему это вы раскинули палатку под его батареями? — Я уже целый год был здесь, когда узнал, что она приняла постриг, — ответил Магнус. — И с тех пор вы боретесь с желанием перебраться через овраг и посмотреть сквозь какую-нибудь замочную скважину, хороша ли еще собой аббатиса? Я восхищаюсь вами и вас одобряю. Храните свою иллюзию и свою любовь, отец мой. Может быть, для того, чтобы выздороветь, вам достаточно взглянуть на ту, которую вы так любили. Но в чем бы тогда состояли ваши заслуги, если бы вы вдруг выздоровели? Ладно уж, попадайте на небо, оно ведь создано для дураков. Что до меня, — добавил он голосом, который сразу сделался мрачным и страшным, — то я знаю, что в снах людских нет и доли правды и что как только истина открылась, человеку остается либо терпеливо скучать, либо в отчаянии на что-то решиться. И когда я как-то говорил, что он может найти силу в себе самом, я лгал и другим и себе, ибо тот, кто достиг обладания бесполезною силой, кто упражняет свои способности, сами по себе ничего не стоящие и не ведущие ни к какой цели, — сумасшедший, которого надо остерегаться. В моих юношеских мечтах, в экстазах моей самой чистой поэзии, беспрестанно витал призрак любви и открывал мне небо. Лелия, моя мечта, моя поэзия, мой Элизиум, мой идеал, что стало с тобой? Куда скрылся твой легкий дух? В каком неуловимом эфире исчезла твоя нематериальная сущность? Дело в том, что глаза мои открылись, и когда я узнал, что ты для меня недостижима, жизнь предстала мне во всей своей наготе, во всем цинизме, иногда прекрасная, чаще отвратительная, но всегда похожая на самое себя в красоте своей и в ужасе: всегда ограниченная, всегда подчиненная незыблемым законам, которые человеческая фантазия бессильна преодолеть! И по мере того как фантазия истощалась и теряла свое обаяние (фантазия, умеющая представить себе неосуществимое и этим внести поэзию в жизнь человека и на несколько лет привязать его к легкомысленным наслаждениям), по мере того как душа моя уставала искать в объятиях распутных женщин тот экстатический поцелуй, подарить который могла только Лелия, в вине — поэзию и лесть, опьянение, для которого достаточно было одного слова любви, произнесенного Лелией, и только ею одной, я прозрел и узнал, что… Послушайте меня, Магнус, и пусть слова мои пойдут вам на пользу. Я просветился настолько, что узнал, что Лелия такая же женщина, как и всякая другая, что поцелуи ее губ нисколько не слаще поцелуев других губ, что в словах ее не больше веса, чем в словах, других женщин. Теперь я знаю Лелию всю до конца, как будто владел ею, знаю, отчего она была такой красивой, такой чистой, такой божественной; причиной этому был я сам, моя молодость. Но по мере того как увядала моя душа, увядала и Лелия. Теперь я вижу ее такой, какая она есть. Она бледна; губы ее поблекли; в волосах проглядывают те первые ниточки серебра, которые потом заполняют голову сплошь, как разросшаяся на могиле трава; лоб перерезан неизгладимой чертой, которую проводит старость, сначала легкой и снисходительной рукой, потом ногтем жестоким и резким. Бедная Лелия, до чего же вы изменились! Когда вы являетесь мне во сне в ваших прежних бриллиантах, в драгоценных уборах, которые вы когда-то носили, я не могу удержаться от горького смеха и от слов: «Ваше счастье, что вы аббатиса, Лелия, и что вы очень добродетельны; ибо, честное слово, вы уже потеряли свою красоту, и если бы вы меня пригласили сегодня на небесное празднество в честь вашей любви, я бы предпочел вам юную танцовщицу Торквату или куртизанку Эльвиру». Но в конце-то концов Торквата, Эльвира, Пульхерия, Лелия, кто вы все, чтобы опьянить меня, чтоб привязывать меня к железному ярму, от которого у меня на лбу кровь, чтобы вздевать на виселицу, переломав руки и ноги? Толпа женщин, белокурых, черноволосых, с ногами цвета слоновой кости, со смуглыми плечами, стыдливые скромницы, смешливые потаскухи, вздыхающие девственницы, меднолобые Мессалины, все вы, которые были моими и о которых я только мечтал, чего ради вам приходить сейчас в мою жизнь? Какую тайну можете вы открыть мне? Дадите вы мне крылья ночи, чтобы я мог облететь вселенную? Расскажете тайны вечности? Заставите все звезды сойти с неба, чтобы меня увенчать? Заставите распуститься для меня хотя бы один цветок нежнее и прекраснее тех, которыми усеяна земля, где живут люди? Бесстыдные обманщицы! Что же особенного в ваших ласках, чтобы ценить их так высоко? Тайны каких небесных радостей в ваших руках, чтобы желания наши так могли вас украсить? Иллюзия и мечта, так это вы истинные царицы мира! Когда светильник ваш гаснет, мир необитаем. Бедный Магнус! Перестань грызть себя, перестань бить себя в грудь, чтобы загнать внутрь нескромные порывы твоих желаний! Перестань заглушать твои вздохи и кусать одеяло, когда Лелия является в твоих снах! Полно, ведь это ты сам, бедняга, делаешь ее такой красивой и такой обольстительной; священное пламя озарило недостойный алтарь — женщина эта смеется в душе над твоими страданиями. Ибо она отлично знает, что ей нечем ответить на такую любовь. Она ловчее других, она окутывает себя туманом. Она не дается тебе в руки, хочет стать для тебя божеством. Но разве она стала бы кутаться так, если бы тело ее было красивее, чем тело продажных женщин? Неужели душа ее стала бы прятаться от излияний любви, если бы она была действительно более нежной и величественной, чем наша! О женщина! Ты только ложь! Мужчина, ты только тщеславие! Философия, ты не более чем софизм; благочестие, ты всего-навсего трусость!62. ДОН ЖУАН
В эти годы, развеявшие, подобно осенним листьям, людей, когда-то близких друг другу, Стенио покинул благодатные, солнечные берега — то ли потому, что ему просто наскучила его прежняя жизнь, то ли потому, что его подозревали в участии в заговоре и ему приходилось скрываться. Он отправился в наши холодные страны, чтобы познакомиться с чудесными открытиями, сделанными там, с изощренными наслаждениями и, может быть, также с гордыми софизмами наших философов. Стенио был богат. Роскошь, веселье, развлечения, игра, разврат — все средства прожигания жизни были ему доступны. Но больше всего его пленяло то, что он нашел уже сложившиеся устои жизни под стать своему эгоизму и людей, в силу самих привычек своих и вкусов ставших такими, каким его сделали слабость и отчаяние. Его восхитило возведение в принцип и систематическое разумное применение на практике того, что до сих пор ему приходилось делать с вызовом и ожесточением. Он услышал, как профессора с позиций своей философии оправдывают все капризы, все дурные желания, все злые причуды тем, что человек в поступках своих руководствуется одним только разумом, а разум есть не что иное, как инстинкт. Он узнал у нас все чудеса психологии, все тонкости эклектизма, всю науку и всю мораль века, узнал, что мы должны внимательно изучить самих себя, не заботясь друг о друге, и что каждый должен делать только то, что ему нравится, при условии, что будет это делать очень умно. Итак, Стенио уже оставил свои безрассудства: он сделался остроумным, элегантным и равнодушным. Он стал посещать салоны и таверны, неся в таверны изысканные манеры именитого дворянина, а в салоны — наглость распутника. Публичные девки находили его очень милым, светские дамы считали оригиналом. Стенио фанатически следовал моде: он испещрял стихами альбомы и каждый вечер вдохновенно пел перед тремястами зрителей, после чего вел споры о страсти и о гениальности, о науке, о религии, о политике, об искусстве, о магнетизме. А в полночь он шел ужинать с проститутками. Разорившись, он опять заболел: это был сплин; от его блестящего ума не осталось и следа, и он стал поговаривать, что надо пустить себе пулю в лоб. Один известный в стране государственный деятель вообразил, что разгадал причину его хандры, и предложил ему денег за стихи. Обида эта вернула Стенио присутствие духа. Он уехал, глубоко оскорбленный, и вернулся к себе на родину, снедаемый печалью и привезя с собой, в качестве итога своих путешествий, великую истину, что люди богатые презирают того, у кого нет денег, и что человек должен скрывать свою бедность как позор, если не хочет выходить из нее низкими путями. Он нашел, что в его провинции за это время произошли немалые перемены. Кардинал Аннибал и аббатиса камальдулов произвели целую революцию в нравах и привычках людей. Прелат привлекал своими проповедями толпу, но избранному обществу, состоявшему из представителей высших классов, больше всего нравилось слушать его в монастыре камальдулов. В этой привилегированной обители и среди избранной публики его красноречие, казалось, превзошло самое себя. То ли присутствие аббатисы за занавесью на хорах, то ли особое доверие, которое ему внушала аудитория, более привлекательная и менее многолюдная, чем в базиликах, но кардинал чувствовал, что на него снисходит настоящее вдохновение, и умел с большой изобретательностью облечь в мистические формы едкий и проникновенный смысл своего просвещенного либерализма. Со своей стороны, аббатиса завела в стенах обители теологические чтения, куда допускались родственницы и подруги юных воспитанниц монастыря. Эти чтения посещались очень охотно и имели не меньше влияния, чем проповеди кардинала. Лелия была первой женщиной, в ясных и изящных выражениях заговорившей о вещах отвлеченных, и перед ее слушательницами открылся совершенно новый для них мир. Лелия умела убедить их в своей правоте, не задевая их предрассудков и не зарождая сомнения в их благочестивых душах. Она знала, в каких положениях христианской морали искать опоры, чтобы проповедовать дорогие ее сердцу взгляды — чистоту мыслей, возвышенность чувств, презрение к тщеславию, такому гибельному для женщины, стремление к бесконечной любви, так мало им известной и такой для них непонятной. Незаметным образом она завладевала их душами, и католическая вера, которая до этого сводилась для них только к обрядам, начала пускать глубокие корни в их убеждениях. Надо признать также, что мода способствовала успеху этого предприятия; это было время заката католической веры. Великие умы, жаждавшие идеала, посвятили себя тому, чтобы ее возродить; на самом деле они только ускорили падение церкви, ибо церковь их предала, оттолкнула и осталась одна в своем ослеплении, окруженная равнодушием народов. Когда Стенио вошел в будуар Пульхерии, он увидел, что комната превращена в молельню. На том месте, где была статуя Леды, стояла теперь статуя кающейся Магдалины. Великолепное жемчужное ожерелье превратилось в четки, увенчанные бриллиантовым крестом. На месте дивана стояла скамеечка, а изящный кубок работы Бенвенуто Челлини, вделанный в раковину из ляпис-лазури, был превращен в кропильницу. Стенио не успел еще оглядеться, как Цинцолина вернулась с проповеди. Она вошла, одетая в черный бархат; голова ее была укутана покрывалом. В руках у нее была книга в шагреневом переплете, с серебряными застежками, на шее висел большой золотой крест. Стенио покатился со смеху. — Что это за маскарад? — вскричал он. — С каких это пор мы стали молиться богу? Говорят, что дьявол становится отшельником, когда… только да хранит меня господь от того, чтобы применить к вам эту обидную пословицу, о моя высокочтимая римская матрона! Вы еще красивы, хотя вы и раздобрели и в ваших золотистых волосах появились отсветы серебра… Было время, когда Пульхерия в расцвете молодости, уверенная в своих победах, только посмеялась бы, слушая саркастические речи Стенио; но, как Стенио верно заметил, красота ее близилась к закату, и горькие остроты молодого поэта ее только раздражали. Душа Пульхерии была еще более измята чем лицо; благочестивым порывам было бы трудно омолодить сердце, изнуренное множеством неисправимых пороков и эфемерных желаний. Она ходила в церковь для того, чтобы следовать моде, и для того, чтобы объяснить людям, почему она перестала пользоваться успехом, но так, чтобы ее тщеславие при этом не пострадало. Она пыталась доказать, что искренне набожна; но у нее это так плохо получалось и Стенио так жестоко ее высмеял, что после его слов она почувствовала себя побежденной и принялась плакать. Когда слезы ее перестали развлекать Стенио, то, для того чтобы не тратить сил на утешение, он стал ее поучать и в назидание повторил общеизвестные истины, успевшие в северных странах все уже надоесть, полагая, что на юге они могут быть восприняты как откровение. Он позволил ей исповедовать католицизм, не слишком деликатно, однако, дав понять, что религия создана для людей ограниченных, что народ нуждается в ней и что поэтому не худо ее поощрять. Потом он стал говорить, что Пульхерия подает хороший пример своей горничной и что к тому же люди всегда привыкли сообразоваться с веянием времени. Заканчивая свои разглагольствования, он сказал, что поведение ее, хоть вообще-то оно и выглядит вполне пристойным, в узком кругу будет сочтено проявлением самого дурного тона, и призвал ее молиться богу по утрам, а вечера свои посвящать галантным забавам. Выслушав его речь, Цинцолина захотела отплатить ему тем же и стала высмеивать его, особенно когда узнала, что он разорился. После этого она сделалась великодушной и предложила ему свой стол и карету, и, разумеется, от чистого сердца, ибо Цинцолина была щедра, как и все ей подобные; но тот покровительственный тон, каким она стала говорить со Стенио, окончательно сразил поэта. Влиятельное лицо хотело купить плоды его вдохновения; проститутка обещала ему дары своих любовников. Разъяренный, он вскочил и ушел от нее, чтобы больше не возвращаться. Когда он увидел, что религиозное рвение распространилось повсюду, и узнал, каким огромным влиянием стала пользоваться аббатиса камальдулов, ироническое настроение его достигло своего апогея. Чувство горькой обиды, с которым он всегда думал о Лелии, пробудилось с новой силой при мысли, что она счастлива и облечена властью. Ведь страдая от того, что он называл ее местью, он находил утешение в сознании, что ей это дорого обойдется, что скука отравит ей жизнь, что общество монахинь ей будет тягостно и что с ее непреклонным характером она неминуемо учинит какой-нибудь скандал и будет вынуждена покинуть обитель. Когда же он увидел, что обманулся в своих ожиданиях, ему стало казаться, что ее успех его унижает, и он впал в еще более глубокое уныние. Взгляд его на собственную жизнь до крайности сузился, и он готов был завидовать всем, кто не был, подобно ему, изможден и повержен во прах. Он завидовал даже высоким званиям и богатству других. Он начал испытывать какую-то безотчетную ненависть к кардиналу и самым оскорбительным образом ставил под вопрос чистоту отношений его с аббатисой. Он утратил ту деликатную терпимость скептика, которой его научила цивилизация, и, переняв от покинутой им партии именно то, что во взглядах ее было ошибочного и узкого, резко высказывался против благочестия и обвинял в иезуитизме не только людей, интриговавших против государства, но и всех тех, кто стремился достичь прогресса путем религии. Как поэт, он раньше вел себя достойно, отвергая низменные соблазны корысти; теперь он потерял это достоинство, заставляя себя слагать полные желчи сатиры и пышущие ненавистью памфлеты. Таким образом, вместо того чтобы протянуть руку людям искренним и благородным, мечтавшим о свободе и служившим ее делу как только могли, современная Стенио молодежь, считая, что спасает свободу, обвинила в коварстве и грубо оттолкнула тех, кто, безусловно, помог бы торжеству истины, если бы только просвещение и справедливость могли одержать верх над человеческими распрями. Однажды Стенио вздумалось переодеться в женское платье и пробраться в монастырь, чтобы присутствовать на одной из бесед аббатисы камальдулов. Он стоял слишком далеко от нее, чтобы видеть ее черты, но хорошо слышал ее речи. Вынужденная соблюдать обычаи католицизма, Лелия облекла это религиозное собеседование в наивную форму спора, где поборник дурного дела выставляет свои положения, которые защитник истины каждый раз блистательно разбивает. Первое время роль зачинщика спора исполняла молодая девушка, робко высказывавшая свои сомнения, или монахиня, делавшая вид, что сожалеет о мирских радостях. Но мало-помалу присутствовавшие на этих собеседованиях несколько женщин из числа более развитых стали просить аббатису разрешить им вступить с нею в открытый спор, дабы высказать ей свои сомнения или излить свои горести. И пусть уж она наставит их и утешит. Она согласилась исполнить это желание и, отвечая на их неожиданные вопросы, замысловатые и каверзные, все очень разумно им разъясняла и поучала так проникновенно, что сердца ее собеседниц наполнялись умилением и восторгом. Стенио, слышавший это плавное чередование благородных и благочестивых речей, восхищенный искусством, с каким Лелия вела спор, и вместе с тем несколько раздраженный тем, что она так легко одерживала победы над аргументами, казавшимися ему легковесными и слабыми, решил попросить, чтобы и ему дали слово. Он уже давно не показывался в этих краях; вида его никто здесь не помнил; к тому же переоделся он очень искусно, красота его сохранила в себе что-то женственное, а голос был нежен, как у ребенка. Никому не могло прийти в голову, что это переодетый мужчина, и в первую минуту Лелия сама поддалась обману. — О мать моя, — сказал он голосом сладостным и грустным, — вы все время советуете мне быть благоразумной! Вы велите мне в выборе супруга руководствоваться не блеском ума и не красотою тела, а добротою сердца и прямодушием. Я понимаю, что, соблюдая эти предосторожности, я смогу избежать обмана и уберечь себя от страданий; но разве истинная христианка непременно должна в этой жизни бежать от страданий и, эгоистически отчуждаясь от всех, думать только о том, чтобы сохранить собственное спокойствие? Я полагала, что, напротив, первая наша обязанность самоотвержение и что если небо наделило неотразимым могуществом молодость и красоту, то оно хотело открыть людям некий идеал и заставить его полюбить. Этими дарами, которые вы, сударыня, разумеется считаете пагубными — вы ведь ими владели и вы их похоронили под власяницей, — люди были наделены отнюдь не без пользы; всемогущий не вкладывал ничего бесполезного, а тем более вредного, в существо, которому дарована жизнь и которое не имеет права от нее отказаться. Я вот думаю, что поелику мы созданы, чтобы внушить кому-то любовь, мы должны повиноваться предначертаниям неба, открывая душу нашу любви, любви великодушной, верной и исполненной самоотречения. Милосердие — самый прекрасный из атрибутов божества. Отчего же вы закрываете сердца наши милосердию, предписывая нам любить только тех, кто не нуждается в нашей любви и никогда не даст нам повод проявить это чувство? Велика ли заслуга стать женою праведника? Праведник обеспечит мне спокойную жизнь в этом мире; но в каком отношении он сделает меня достойной лучшего мира? И когда, представ перед судом всевышнего, я не принесу ему сокровища моих слез, чтобы смыть ими мои грехи, не ответит ли он мне так, как Иисус ответил надменным фарисеям: «Разве вы уже не получили свою награду?». Послушайте, госпожа аббатиса: людям мудрым и сильным женская нежность ни на что не нужна. Господь предназначил ее, чтобы укреплять и облегчать ею сердца грешников, заблудших и слабых. Вы, значит, не хотите, чтобы эти несчастные, чьи грехи Христос искупил своей кровью, вновь обрелидобродетель и счастье? Разве не ради них он принес себя в жертву, и разве мы не должны почесть сострадание и милосердие Христовы примером, которому мы должны подражать, стараясь применить самые высокие наши способности? О мать моя, вместо того чтобы ненавидеть злых, надо было бы подумать о том, как их исправить. И так как сами они ничего не могут сделать друг для друга, ибо общение с падшими женщинами, во власть которых вы их отдаете, может только еще больше развратить их и погубить, господь, может быть, велит нам спуститься до них, чтобы тотчас же возвысить их до него. Разумеется, нам придется страдать от порывов их страстей, от их неверности, от всех недостатков и пороков, в которые их повергла дурная жизнь; но мы вытерпим все это зло во имя как их спасения, так и нашего собственного, ибо в Писании сказано, что один раскаявшийся грешник — большая радость для небес, нежели сто праведников. Позвольте мне, госпожа аббатиса, рассказать вам сейчас одну легенду, которую вы, конечно, знаете, ибо она создалась в вашей стране и поэты перевели ее на все языки. Жил некогда распутный человек, которого звали Дон Жуан… Пусть невинные не смущаются, услыхав это имя, в рассказе моем речь будет идти только о вещах возвышенных. Человек этот совершил немало преступлений, на его совести множество жертв. Он похитил невинную девушку, а потом убил оскорбленного отца несчастной; он бросал самых красивых и самых невинных женщин; говорят, он даже соблазнил и бросил монахиню… Господь осудил его и позволил духам тьмы завладеть им; но у Дон Жуана был на небе защитник — его ангел-хранитель. Этот прекрасный ангел пал ниц перед троном всевышнего и попросил его позволить переменить свою высшую божественную сущность на смиренную и страдальческую участь женщины. Господь разрешил ему эту перемену. И знаете, сестры мои, что сделал ангел, когда его превратили в женщину? Он полюбил Дон Жуана и заставил его полюбить себя, дабы очистить его и направить на путь истинный. Стенио умолк. Речь его повергла всех в большое смущение. Как мирские девушки, так и большая часть монахинь слышали эту легенду впервые. Многие с явным любопытством взирали на незнакомку. Голос ее взволновал их, а ее огненные глаза невольно притягивали к себе их взгляды. Иные в испуге обернулись к аббатисе и с нетерпением ждали ее ответа. Первые минуты Лелия растерялась от дерзкой выходки Стенио и уже думала, не изгнать ли его сразу из святой обители. Но потом она решила, что поднимется шум и это произведет на все еще худшее впечатление, чем только что произнесенная речь, и почла за благо ему ответить. — Сестры мои, — сказала она, — и вы, дети мои, вы не знаете конца этой легенды; сейчас я вам его расскажу. Дон Жуан полюбил ангела, но на путь истинный он не обратился. Он убил своего родного брата и снова принялся за прежние злодеяния. По натуре он был человеком коварным и трусливым, и стоило ему напиться пьяным, как он начинал трепетать перед адом. А наутро снова богохульствовал, осквернял алтарь всевышнего и попирал ногами прекраснейшие его творения. Превратившись в женщину, ангел потерял разум, позабыл о своей небесной отчизне, о своей божественной сущности, о надежде на бессмертие. Дон Жуан умер без покаяния, мучимый демонами — угрызениями совести, запоздалыми и бессильными. На небе стало одним ангелом меньше, а в аду — одним дьяволом больше. Знайте же, дети мои, что в те времена — времена необыкновенных приступов отчаяния и необъяснимые причуд — Дон Жуан сделался неким символом, героем, почти что божеством. Женщинам нравятся мужчины, похожие на Дон Жуана. Женщины воображают, что они ангелы и что небо возложило на них миссию — спасать всех этих Дон Жуанов и наделило их силою осуществить это свое назначение. Но, подобно ангелу легенды, они не обращают его на путь истинный, а сами погибают вместе с ними. Что же касается мужчин, то знайте, что нелепая мысль окружить ореолом величия и поэзии олицетворение порока — один из самых пагубных софизмов, когда-либо ими созданных. О Дон Жуан, отвратительный призрак, сколько душ ты погубил безвозвратно! Это их глупое восхищение тобою растлило столько юных жизней и низвергло стольких женщин в бездонную пропасть! Идя по твоим следам, они надеялись подняться над средним уровнем людей. Будь же проклят, Дон Жуан! Люди находили в тебе величие там, где на самом деле было только безумие. Прах от ног твоих все равно что пепел, развеянный ветром. Путь, которым ты шел, ведет только к отчаянию и к гибели. Наглый хвастун, кто дал тебе бессмысленные права, которыми ты пользуешься всю жизнь? Когда и где господь сказал тебе: «Вот земля, она твоя: ты будешь господином и царем над всеми семьями; стоит тебе выбрать любую женщину, и она разделит с тобою ложе. Любые глаза, которых ты удостоишь своей улыбкой, станут в слезах молить тебя о великой милости. Самые священные узы порвутся, как только ты скажешь: „Хочу“. Если отец откажется отдать тебе дочь, ты вонзишь свою шпагу в его удрученное сердце и осквернишь его седины кровью и грязью. Если разъяренный муж с оружием в руках будет отстаивать отбитую у него жену, ты только посмеешься над его гневом и не отступишься от своей цели. Ты будешь спокойно его ждать, не торопясь нанести удар, который должен его поразить. Ангел, которого я пошлю к тебе, затмит его взгляд и поведет его навстречу смертоубийственному железу». Выходит, что господь управлял миром ради твоих утех? Он повелевал солнцу встать, чтобы осветить деревни и таверны, монастыри и дворцы, где ты давал волю загоревшемуся в тебе желанию; а когда наступала ночь, когда твое неуемное тщеславие насыщалось вздохами и слезами, он зажигал на небе тихие звезды, чтобы помочь тебе скрыться и указывать, к каким новым похождениям тебе лучше всего направить твои стопы. Учиненная тобою подлость считалась честью, достойной зависти. Клеймо твоего позора сделалось печатью славы, великолепной, неизгладимой, и печать эта отмечала путь твой, как повергнутые молнией дубы отмечают путь огненных туч. Ты не признавал ни за кем права сказать: «Дон Жуан подлец, ибо он пользуется чужою слабостью; он обманывает беззащитных женщин». Нет, ты не отступал перед опасностью. Если кто-нибудь решал отомстить тебе за жертвы твоего распутства, ты готов был уложить его на месте и не боялся споткнуться, задев ногой окоченевшее тело. День без обещаний и без обмана, ночь без прелюбодеяния и без дуэли казалась тебе несмываемым позором. Ты шел с высоко поднятой головой, и глаза твои дерзко искали добычу, на которую надлежит кинуться. Начиная от робкой девушки, которая дрожала, заслышав твои шаги, и кончая бесстыдною куртизанкой, которая бросила тень на доблесть твою и честь, ты не хотел поступиться ни одним наслаждением души или чувств; ты мог уснуть и на мраморных плитах храма и на зловонной соломе конюшни. Чего же ты хотел, Дон Жуан? Чего ты добивался от этих несчастных женщин? Разве в их объятиях ты искал счастья? Разве, устав от всех своих бурных скитаний, ты действительно стремился к передышке? Ужели ты думал, что, для того чтобы обуздать твое непостоянство в любви, господь пошлет тебе наконец женщину, которая окажется выше всех тех, которых ты обманул? Но почему же ты их обманывал? Или, расставаясь с ними, ты ощущал раздражение и разочарование от потерянной иллюзии? Или их любовь была ниже твоих тщеславных мечтаний? Может быть, одержимый своей одинокой чудовищной гордостью, ты подумал: «Они должны мне дать безграничное счастье, какого я им дать не могу; их вздохи и стоны — пленительная музыка для моего слуха; их муки и страх перед моими первыми объятиями — услада для моих взоров; это покорные и преданные рабыни, и мне нравится смотреть, как они стараются напустить на себя притворную радость, чтобы не омрачить мое наслаждение. Я не позволяю им тешить себя даже самой далекой надеждой, я не позволю им рассчитывать, что за их самопожертвование заплатят верностью»? Не дрожал ли ты от гнева всякий раз, когда угадывал на дне их души непостоянство, которое делало их равными тебе и, может быть, даже тебя опережало? Чувствовал ли ты себя пристыженным и посрамленным, когда клятвы их угрожали тебе упорной и пылкой любовью, которая могла заковать в цепи себялюбие твое и твою славу? Читал ли ты где-нибудь в веленьях господних, что женщина создана для наслаждения мужчины и не способна противиться ему и ему изменить? Неужели ты думал, что эта высшая степень отречения существует и должна обеспечить тебе непрерывное обновление твоих радостей? Неужели ты думал, что может настать такой день, когда с губ твоей жертвы сорвется нечестивое обещание и она воскликнет: «Люблю тебя, потому что страдаю; люблю тебя, потому что ты вкушаешь неразделенное наслаждение; люблю тебя, потому что чувствую по твоей слабеющей страстности, по объятиям, которые постепенно отпускают меня, что скоро ты пресытишься мной и меня позабудешь. Я привязываюсь к тебе, оттого что ты отталкиваешь меня; я буду вспоминать о тебе, оттого что ты хочешь вычеркнуть меня из памяти. Я воздвигну тебе в сердце моем нерушимый алтарь, оттого что ты впишешь мое имя в архивы твоего презрения»? Если ты хотя бы один миг лелеял в себе эту нелепую надежду, ты был безумцем, о Дон Жуан! Если ты хотя бы один миг думал, что женщина может дать мужчине, которого любит, нечто иное, кроме своей красоты, любви и доверия, ты был просто глупцом; если ты полагал, что она не вознегодует, когда рука твоя швырнет ее прочь, как негодную одежду, ты был слеп. Да, ты был всего-навсего бессердечным распутником с душою бесстыжего светского льстеца в теле мужлана. О, как плохо тебя поняли те, кто считал твою судьбу воплощением славной и упорной борьбы с действительностью! Если бы они сами повторили на себе твой опыт, они бы не восхваляли тебя так: они бы во всеуслышание признались в ничтожестве твоих побуждений, в скудости твоих чаяний; если бы они, как ты, грудью сражались с нечестием и развратом, как бы хорошо они знали, чего недоставало тебе, который никогда не знал любви и который, вместо того чтобы взлететь со своим добрым ангелом на небеса, низверг его вслед за собою в ад! Вот почему, Дон Жуан, смерть твоя страшит их и приводит в оцепенение, и они преклоняют перед тобою колена. Взгляды их не проникают за пределы твоего горизонта; да, они счастливы, как и ты, но при этом они скрежещут зубами. Измождение и страдание, которыми отмечены твои последние дни, жестокий поединок твоего заблудившего разума с холодеющей кровью, корчи и хрипенье твоих бессонных ночей — все это наполняет их ужасом и кажется каким-то зловещим пророчеством. В ослеплении своем они не знают, что жалобы твои были богохульством и что смерть для тебя всего лишь справедливое наказание. Они не знают, что господь карает в тебе эгоизм и тщеславие, что он послал тебе отчаяние, чтобы отметить за жертвы, голоса которых взывали к нему, обвиняя тебя. Но ты не вправе жаловаться; поразившее тебя наказание всего лишь возмездие. Ты не был прозорлив, Дон Жуан, если ты не предвидел роковой развязки всех сыгранных тобою трагедий. Ты плохо изучал жизни людей, с которых брал пример и чей опыт хотел возродить. Ты, оказывается, не знал, что преступление, когда оно гонится за величием и за властью над миром, должно жить, постоянно памятуя о наказании, которое его ожидает, ибо каждым днем своим оно его заслужило? Тогда еще, пожалуй, оно сможет хвастать своею храбростью, ибо знает какой конец ему уготован. Но ты ведь думал, что избежишь небесного отмщения, Дон Жуан, значит ты был трусом? О сестры мои, о дети мои, вот что такое Дон Жуан. Любите его теперь, если можете. Пусть воображение ваше воодушевляется мыслью отдать сокровища вашей души отравленному дыханию нечестивца. Пусть романы, поэмы, драмы покажут вам торжествующее распутство презревшего вас грубияна. Опуститесь перед ним на колени, откажитесь ради него от всех даров неба, раскидайте их на дороге, которую от обагрит кровью и польет грязью! Да, склоните перед ним головы, покиньте лоно господне, юные ангелы, живущие в боге. Станьте жертвами, станьте рабынями, станьте женщинами! Или нет, лучше не давайте себя заманить в плохо скрытую западню, которую расставляет вам порок. Чтобы наилучшим способом расположить вас к себе он прикинется приятным, он изберет особую тактику: он захочет заинтересовать вас собою. Он скажет вам, что страдает, что вздыхает по небу, которое его отвергло, что он дожидается только вас, чтобы вернуться туда, но он уже расточал эту подлую ложь и эти коварные обещания женщинам столь же чистым, как вы, и когда он так же надругается над вами и так же разобьет вашу жизнь, он бросит и вас, как их, и спокойно занесет ваши имена в список своих развратных деяний. Правда, есть случаи, по счастью, весьма редкие, когда прощение и терпеливость женщины направляются на осуществление воли божьей и обращают таких людей на путь истинный. Когда в нашей жизни происходит нечто подобное, не зависящее от нашей воли и неожиданное, надо принять это испытание. Есть страдания, которые нам посылает господь; пусть же преданность, кротость и самоотречение станут средствами защиты для женщины, которую провидение заставляет страдать, послав ей такого мужа. Но у этой преданности должны быть свои пределы, ибо нет ничего хуже, чем забывать, что всякий порок ненавистен, и любить его. Если, как привыкли говорить мужчины, женщина — существо слабое, невежественное и легковерное, то кто им дал тогда право призывать нас, чтобы их обращать? Мы, разумеется, не можем этого сделать, а они, будучи выше нас, будучи нашими господами, могут, оказывается, развращать нас и губить наши души? Видите, сколько лицемерия и сколько нелепости в их рассуждениях. Если есть страдания, идущие от бога, поверьте мне, есть и гораздо больше других, которые проистекают от нас самих и на которые мы сами безрассудством своим себя обрекаем. Хотеть любви человека дурного, искать свой идеал в общении с пороком!.. Можно ли это допустить, можно ли этому поверить? Зло настолько заразительно, что ангелы, и те подпадают под его власть. Какой безрассудной и самоуверенной надо быть, чтобы избрать себе подобную участь! Ах, если кому-нибудь из вас выпадет в жизни подобное испытание, пусть она хорошо проверит себя, и она увидит, что за ее прозелитизмом скрывается тщеславие. Сколько красоты в том, чтобы обратить Дон Жуана! Сколько славы в том, чтобы восторжествовать там, где столько других потерпели неудачу! Ну что же, вы красивы, вы неотразимы, вы исключительное существо; может быть, вы оставите заметный след в жизни Дон Жуана. Он никогда не любил одну и ту же женщину больше одного дня; может быть, вам он будет верен два дня подряд. Это будет великой победой; люди станут о ней говорить. Но что будет с вами на третий день? Осмелитесь ли вы предстать перед господом и просить его вернуть вам покой, который у вас был и которым вы поступились ради чести стать избранницей Дон Жуана? Вы обещали богу возвратить ему эту заблудшую душу, а возвращаетесь одна, приниженная и оскверненная. Душа ваша потеряла свою чистоту, красота — силу, молодость — надежду. Дон Жуан обдал вас своим дыханием. Кайтесь; надо много молиться, много плакать, прежде чем вы смоете это пятно и рана ваша перестанет кровоточить. Но что это! Примирение с господом вас пугает. Вы боитесь угрызений совести, ужаса одиночества! Вы кидаетесь в суету! Вы надеетесь опьянить себя и забыть свое горе. Но свет смеется над вами и вас презирает. Свет жесток, безжалостен. Ваши слезы, которые умилостивили бы господа, для него были бы только поводом к смеху. Тогда вам приходится противиться наглости света и спасать ваше ущемленное тщеславие какими-то новыми победами. Вам нужна чья-то любовь, вам нельзя оставаться одинокой и покинутой. Вы не можете допустить, чтобы другие женщины вас жалели. Вы непременно должны добиться внимания Дон Жуана. Вернитесь к нему; ваше упорство преисполнит его гордостью, и еще один день вам будет казаться, что вы на вершине счастья и славы. Но с Дон Жуаном всегда наступает неумолимый завтрашний день. Он словно во власти какого-то колдовства: скука преследует его всюду и отовсюду гонит. Она вырвет его и из ваших объятий, как и из объятий всех других женщин. Следуйте за ним, если смеете! Или нет, дайте волю гневу, мести. Забудьте Дон Жуана, докажите ему, что вы такая же сильная, такая же легкомысленная, как он, ищите того, кто мог бы загладить вашу обиду, утешить вас в вашем горе. Явится другой Дон Жуан — в наше время их ведь немало. Он будет красивее, элегантнее, бесстыднее первого. Этот не стал бы вас даже искать, пока вы были чисты. Он любит только неприкрытый порок и когда узнает, что над вами надругались, увидит, что нашел как раз то, что искал. Он будет преследовать вас, он без труда убедит вас, ибо знает, что толкает вас к нему отнюдь не потребность в любви, а досада и раздражение. Он слишком опытен, чтобы поверить в любовь, которой у вас к нему нет и которой нет и у него к вам, он не боится обманывать вас самой вздорной ложью. С первым у вас было два или три дня ласки, со вторым не будет ни одного. Я кончаю: довольно рисовать вам омерзительную картину заблуждения и отчаяния. Отвратите от нее ваши взоры, о мои кроткие и целомудренные подруги! Возведите их к небу и посмотрите, не скучают ли там ангелы в обществе всевышнего! Посмотрите, верна ли легенда и действительно ли блаженные отказываются от несказанных радостей ради общества людей развращенных! Прелестная Клавдия плакала… Стенио не слышал окончания речи аббатисы. Как всегда, она склонила всех на свою сторону, и слава Дон Жуана померкла. Когда поэт заметил, что, несмотря на внимание, с каким все слушали аббатису, время от времени нерешительные и любопытные взгляды останавливаются на нем, он испугался, что его могут узнать, если он будет выходить вместе с толпой. И он скрылся незаметно и бесшумно и вернулся к себе, чтобы переодеться. В голове его роилось множество проектов мести, один сумасброднее другого.63
Перебирая в мыслях разные планы действий, Стенио вышел, так и не приняв никакого определенного решения. Он снова переоделся в мужское платье, и туалет его был очень изыскан. Он долго ходил, а потом снова задумался над тем, что же ему все-таки делать. Он оказался возле монастыря камальдулов. Инстинкт и судьба привели его туда незаметно для него самого. Когда-то Стенио удавалось уже пробраться в эту обитель. В течение двух ночей бродил он тогда по террасам, по крытым галереям, обходил вокруг келий. Он без труда отыскал келью Клавдии и, карабкаясь по веткам жасмина возле ее окна, уже подумывал о том, чтобы выдавить стекло и туда влезть. Стенио во что бы то ни стало хотелось оскорбить гордость Лелии. Не будучи в состоянии сломить ее, он хотел по крайней мере ее помучить и только спрашивал себя, с кого начать свою первую попытку? Может быть, с Клавдии, этой девочки, которая когда-то так внимательно его слушала? Она превратилась теперь в высокую и красивую девушку, полную достоинства, ума и самого искреннего благочестия. Наставляя ее, аббатиса превзошла самое себя, так как ни одна душа не была так близка к падению и ни одной не приходилось делать таких усилий, чтобы открыться для мудрости и прямоты. Клавдия понимала, сколько зла причинили ей неправильным воспитанием, и, борясь с дурными влияниями прошлого, она была в таком страхе перед будущим, что каприз ее превратился в непоколебимое решение. Она пошла в монастырь и стала послушницей. Сколько славы бы стяжал Стенио и как была бы унижена Лелия, если бы ему удалось вырвать у нее эту добычу — эту новообращенную! Как бы он мог хвастать своей победой над Клавдией, ведь он встретил ее презрением у куртизанки, куда она пришла за ним, а потом не явился на свидание, которое ей назначил; и вот теперь он заставит ее отказаться от принятых ею серьезных решений, доставшихся молодой девушке ценою долгих раздумий! Может быть, в эту минуту гордая аббатиса рассказывает старым монахиням, что узнала в явившейся на собеседование незнакомке светского хлыща, которого она ответом своим высмеяла и посрамила! Может быть, завтра же болтливые монахини разнесут по всему городу весть о том, какую блестящую победу Лелия красноречием своим одержала над Стенио. Нужно какое-то скандальное происшествие, чтобы смеяться стали не над ним, а над ней. Но кого же он будет соблазнять, Клавдию или самое Лелию? Повиснув на решетке, он различил при слабом свете лампады, зажженной перед статуей божьей матери, белую фигуру, небрежно раскинувшуюся на невысоком и узком ложе. Это была красавица Клавдия; она спала в своей кровати, имевшей форму гроба. Сон ее был не очень спокоен. Время от времени глубокий вздох, смутное воспоминание о горе, страхе и раскаянье, вырывался у нее из груди. Лента у нее на голове развязалась, и ее длинные черные волосы, которых ей, как и Лелии, скоро предстояло лишиться, упали на ее белую, как алебастр, руку, обнажившуюся из-под широкого рукава. С тех пор как Стенио ее видел, красота этой девушки так развилась, в очертаниях ее тела было столько изящества, весь облик ее был исполнен такого сладостного томления, хоть и слабо, но все же еще сопротивлявшегося торжествующему целомудрию, что смущенный Стенио забыл о своих хитрых намерениях и мечтал только овладеть ею ради нее самой. Но вздохи, которые время от времени вырывались из груди Клавдии, словно лившаяся в небо таинственная мелодия, вселяли в распутника инстинктивный страх. Ему приходили также на память проклятия, которые Лелия посылала Дон Жуану, — теперь они больше уже не казались ему личными выпадами против него самого. «В конце концов, — подумал он, взирая на девственный сон Клавдии, — эта проповедь не может относиться ко мне. Я не какой-нибудь развратник: я вольнодумец, но никак не обманщик и не подлец. Я живу с распутными женщинами и не очень высокого мнения о добродетели всех остальных; но я не стремлюсь в этом удостовериться, ибо в воспоминании о первом обмане, которому я поддался, есть нечто такое, что вселяет в меня недоверие к себе самому. Может быть, правда, у меня и манеры и развязность Ловласа, но у меня нет его высокомерной самоуверенности. Я не обманул и не соблазнил ни одной женщины, даже той, которая пришла за мною в притон; теперь она спит здесь, закутавшись в покрывало послушницы, и я не решусь потревожить ни одной его складки. Что у меня общего с Дон Жуаном? У меня, правда, возникало желание ему подражать, но я тут же почувствовал, что это не в моих силах. Не знаю, лучше я или хуже, чем он, но, во всяком случае, я на него непохож. Я не так здоров, не так жизнерадостен, как он, не так бесстыден, чтобы затрачивать столько сил, зная, что есть гораздо более легкие пути к наслаждениям. Если Лелия воображает, что задела меня за живое, изничтожая своим красноречием Дон Жуана, она жестоко ошибается, она понапрасну расточала свои слова». Он спрыгнул вниз и стал прогуливаться по саду, вспоминая проклятия Лелии и чувствуя, что в нем все сильнее становится не желание отомстить за себя, заслужив эти проклятия, а желание отвергнуть их, убедив ее, что он не заслуживает этой хулы. В глубине души Стенио был человеком порядочным и прямым. У него, правда, всегда была склонность выдавать себя за человека более порочного, чем он был на самом деле; но когда притворство его принимали за чистую монету, гордость его возмущалась, и негодование это доказывало, что у него все же были какие-то твердые принципы. В волнении расхаживал он под миртами монастырского двора, и все слова аббатисы необыкновенно отчетливо всплывали у него в памяти. Гнев его уступил место глубокому страданию. Он не мог отделаться от чувства восхищения перед речью Лелии; голос ее звучал гармоничнее, чем всегда, а тон его выдавал глубокую убежденность, великую искренность, которую она сохраняла и в скептицизме и в религии. Лица ее он не мог как следует разглядеть, но ему показалось, что она все так же хороша собою и фигура ее, в отличие от Пульхерии, не потеряла изящества и легкости. Неожиданно для себя Стенио был поражен тем умственным прогрессом, который преобразил эту измученную душу в том возрасте, когда женщины вместе с потерей красоты переживают обычно упадок духовных сил. Лелия решительным образом опровергла все привычные ожидания. Она восторжествовала над всем — над своим любовником, над светом и над самой собой. Сила ее пугала Стенио; он уже больше не знал, проклинать ее или перед ней преклоняться. Но он с особенной остротой ощутил боль, оттого что она не ставит его ни во что, оттого что она, вне всякого сомнения, презирает его, в то время как он, помимо своей воли, чтит ее и боится. Таково сердце человека; любовь — это борьба самых высоких способностей двух душ, которые, влекомые взаимной симпатией, стремятся слиться друг с другом. Когда им это не удается, появляется желание сравняться хотя бы в достоинствах, и желание это становится сущей мукой для их обоюдно уязвленного самолюбия. Каждая из сторон хочет, чтобы сожаления доставались на долю другой, и та, которая думает, что это удел ее одной, неимоверно страдает. Все больше волнуясь, Стенио вышел из сада и побрел наугад под стройными сводами узенькой галереи. В конце этой галереи оказалась лестница, вившаяся вокруг мраморного столба. Он поднялся по ней, думая, что так снова выйдет на террасы, по которым пришел. Перед ним была черная суконная портьера; Стенио решился осторожно ее приподнять. Днем стояла невыносимая жара, и поэтому дверь в покои аббатисы была открыта. Стенио прошел через молельню и очутился в комнате Лелии. Это была простая, но довольно изыскано убранная келья. Стены и потолок были покрыты белой, как алебастр, штукатуркой. Большое распятие из слоновой кости, прекрасной работы выделялось на лиловом бархате, окаймленном резным бронзовым багетом. Кресла черного дерева с квадратными спинками, массивные и вместе с тем сделанные с большим вкусом, казавшиеся выше от пунцовых бархатных подушек, аналой со скамеечкой и того же стиля стол, а на нем — череп, песочные часы, книги и фаянсовая ваза с чудесными цветами, составляли всю обстановку кельи. Стоявшая на аналое старинная бронзовая лампа скудно освещала эту довольно просторную комнату, в глубине которой Стенио не сразу заметил Лелию. Но когда он ее увидал, он остановился как вкопанный, потому что не знал, была ли это она, или только похожая на нее алебастровая статуя, или призрак, являвшийся ему в дни его безумного бреда, когда силы совсем его оставляли. Лелия сидела на своем ложе; это был стоявший прямо на полу гроб из черного дерева. Босые ноги ее касались каменного пола и сливались с белизной мрамора. Она была вся закутана в белые покрывала необычайной свежести. Прекрасная настоятельница монастыря камальдулов была всегда так одета, и в сиянии этих одежд без единого пятнышка и без единой складки было нечто фантастическое, наводившее на мысль о бесплотности, о предельной ясности духа. Монахини испытывали к этим чистейшим одеяниям какое-то почти суеверное почтение. Никто из них не осмеливался к ним прикоснуться, ибо аббатиса слыла святой и все, что ей принадлежало, считалось священным. Может быть, и у нее самой с этой белизной полотна, в которое она облачалась, связывалась какая-то романтическая идея. Так же, как и христианская поэзия, она видела в этой одежде невинности, столь драгоценной и прославленной, одну из самых трогательных эмблем душевной чистоты. Хотя Стенио стоял прямо перед ней, Лелия его не замечала, и Стенио не знал, спит она или молится, настолько она была неподвижна и поглощена своими мыслями. Ее большие черные глаза были открыты, но в спокойной их неподвижности было что-то жуткое, что-то от смерти. Казалось, она не дышит. Она сидела, сложив свои белоснежные руки, и нельзя было понять, страдает она, молится или чем-то удручена. Ее можно было принять за статую, олицетворяющую собою спокойствие. Стенио долго смотрел на нее. Такой красивой он никогда ее не видел; хоть она была уже не очень молода, но, глядя на нее, невозможно было представить себе, что ей больше двадцати пяти лет; и в то же время она была бледна, как белая лилия, и в лице ее не было той полноты, которая может скрыть разрушительное действие лет. Но Лелия была особым существом, отличным от всех других. Страсти ее кипели где-то на дне души, а людям она казалась бесстрастной. Отчаяние так глубоко внедрилось в нее, что превратилось в покой. Мысль о личном счастье была столь решительно отвергнута, что на лице ее не осталось ни малейшего следа сожаления или грусти. А меж тем Лелия знала такие страдания, подобных которым не испытывали другие; но она была как море, когда на него смотрят с вершины горы: оно кажется таким гладким, что невозможно представить себе, какие бури спрятаны в его глубинах. Когда Стенио, который был уверен, что найдет Лелию лишенной прежнего величия, увидал ее, он был смущен и, растроганный до глубины души, не мог сдержать своего восторга. Шесть лет раздражения, недоверия и иронии были забыты, едва только он увидел, как она хороша собою; шесть лет разгула, скептицизма и нечестивой жизни словно по мановению волшебного жезла исчезли при виде этого душевного величия. В прежнее время Стенио боготворил в Лелии именно эту гармонию красоты физической с красотою ума. Он возненавидел эту силу ума за то, что она не захотела ему покориться. Ему хотелось сохранить в памяти только образ красавицы, и, дабы самолюбие его не терзалось тем, что он становился на колени перед Лелией, ему доставляло удовольствие повторять себе, что он был ослеплен только ее физической красотой, и приписал ей качества, которых у нее вовсе не было. Когда Стенио увидел сидевшую в задумчивости Лелию, он не мог не почувствовать, что между этой женщиной, которую он мог завоевать, и всеми другими, которых он пытался сравнить с ней и ей уподобить, была бездонная пропасть. При виде сокровища, которым он пренебрег и которое от него ускользало, он, словно разорившийся мот, почувствовал, что у него кружится голова, и в отчаянии прислонился к двери, чтобы только не упасть на колени. Лелия не заметила этого волнения. Увлеченная своими мыслями в другой мир, она была глуха ко всему. Стенио простоял перед нею чуть ли не целый час, с жадностью разглядывая ее, выслеживая пробуждение чувства в этом экстазе мысли, спрашивая себя с тоской, думает ли она в эту минуту о нем, сочувствует ли ему, жалеет ли его или презирает. Наконец она слегка вздрогнула и, казалось, начала пробуждаться от сна, понемногу и не до конца еще отдавая себе отчет во всем происходящем. Потом она встала и тихо прошла в глубь комнаты. Ее едва заметная прозрачная тень скользнула по бледной стене. Можно было подумать, что это ее дух, неотступно следующий за нею. Наконец Лелия остановилась перед столом и, скрестив руки на груди и наклонив голову вперед, долго и на этот раз уже с грустью, разглядывала вазу с цветами. Стенио увидел, что она вытерла слезы, струившиеся из ее глаз медленно и спокойно, как вода из прозрачного и тихого источника. Он больше уже не мог сдержать своего волнения. — Лелия, — воскликнул он, направляясь к ней, — второй раз я вижу, как ты плачешь. В первый раз я был у твоих ног; сейчас я опять припаду к ним, если ты захочешь рассказать мне, о чем ты плачешь. Лелия даже не вздрогнула; она посмотрела на Стенио странным взглядом, в котором не было ни страха, ни гнева на то, что он проник к ней так, среди ночи. — Стенио, — сказала она, — я думала о тебе; мне казалось, что я вижу тебя и слышу; образ твой стоял передо мной. Зачем ты пришел сюда такой, как сейчас? — Вы в ужасе, оттого что я пришел, Лелия? — воскликнул Стенио, потрясенный этим холодным приемом. — Нет, — ответила Лелия. — Но, признайтесь, приход мой вас оскорбляет и возмущает? — Нисколько, — ответила Лелия. — В таком случае он вас, может быть, огорчает? — Не знаю уж, что может меня теперь огорчить, Стенио! В душе моей вечно присутствуют предметы ее раздумий и причины ее страданий. Как видишь, приход твой волнует меня не больше, чем воспоминание о тебе, и сам ты не больше, чем твой образ. — Вы плакали, Лелия, и вы говорите, что думали обо мне! — Взгляни на этот цветок, — сказала Лелия, показывая ему чудесно пахнущий белый нарцисс. — Он мне напомнил тебя таким, каким ты был в юности, когда я тебя любила, и я тут же увидела твое лицо, услышала звук твоего голоса, и сердце мое охватила пленительная нежность, как в те дни, когда я думала, что ты меня любишь. Неужели мне все это снится? — воскликнул Стенио вне себя от волнения. — Неужели это Лелия говорит мне такие слова? А если это действительно она, то, может быть, сестра Аннунциата просто скучает от одиночества, или же аббатиса камальдулов решила жестоко посмеяться над моей дерзостью? Лелия, казалось, не слыхала слов Стенио; она держала в руке нарцисс и ласково на него смотрела. — Это ты, мой поэт, — сказала она, — такой, как в те дни, когда я часто любовалась тобою так, что ты и не знал. Часто, во время наших задумчивых прогулок, я видела, как ты, который был слабее Тренмора и меня, поддавался усталости и засыпал у моих ног в лесу, среди цветов, овеваемый горячим южным ветром. Склонившись над тобой, я охраняла твой сон, отгоняла от себя надоедливых мух. Я укрывала тебя своей тенью, когда солнце прорывалось сквозь листву, чтобы запечатлеть жгучий поцелуй на твоем совсем еще свежем, как у девушки, лице. Я становилась между ним и тобой. Моя деспотичная и ревнивая душа окружала тебя своей любовью. Спокойные губы мои ловили порою горячий благоуханный воздух, трепетавший вокруг тебя. Я была тогда счастлива, и я любила тебя! Я любила тебя так, как только могла любить. Я вдыхала тебя, как лилию, и я улыбалась тебе, как ребенку, но как ребенку, в котором пробуждается гений. Я хотела бы быть твоей матерью и прижимать тебя к груди, не вызывая в тебе чувств мужчины. Иногда мне случайно открывались тайны твоих одиноких прогулок. Бывало, что, склонившись над прозрачным водоемом или припав к мшистым скалам, ты смотрел на небо в воде. Чаще всего глаза твои были полузакрыты, и ты переставал существовать для внешнего мира. Казалось, ты сосредоточенно разглядывал в себе самом бога и ангелов, отраженных в таинственном зеркале твоей души. И теперь ты такой же, как тогда, хрупкий юноша, без сил еще и без желаний, чуждый дурману и страданиям физической жизни. Ты был тогда помолвлен со златокрылою девой, ты еще не бросил своего кольца в бурные потоки наших страстей. Неужели пошло уже столько дней, столько страданий с того ясного утра, когда я встретила тебя, похожего на только что оперившегося птенца, открывающего первым порывам ветра свои дрожащие крылья? Неужели мы действительно жили и страдали после того дня, когда ты просил меня объяснить тебе, что такое любовь, счастье, слава и мудрость? Скажи мне, дитя, верившее во все это, искавшее во мне все эти воображаемые сокровища, неужели же столько слез, столько страхов, столько обмана отделяют нас от этой сладостной пасторали? Неужели твои ноги, касавшиеся только цветов, увязали потом в грязи и обивались о камень? Неужели голос, распевавший такие чудесные песни, охрип теперь от пьяного крика? Неужели грудь, расширившаяся и окрепшая от чистого горного воздуха, теперь высохла, сожжена огнем оргий? Неужели губы, которые, когда ты спал, целовали ангелы, осквернены прикосновением нечестивых губ? Неужели ты столько страдал, столько краснел и столько боролся, о Стенио, любимец небес? — Лелия, Лелия! Не говори так, — воскликнул Стенио, падая к ногам аббатисы. — Ты разбиваешь мне сердце твоей холодной насмешкой; ты меня не любишь, ты меня никогда не любила!.. Почувствовав, что рука Стенио ищет ее руку, аббатиса отпрянула, содрогнувшись, словно от боли. — О, — сказала она, — не говорите так. Я думала об этом цветке; в его лепестках я видела образ, он уже исчез. А теперь, Стенио, прощайте! Она уронила цветок к ногам, глубокий вздох вырвался у нее из груди, и, с какой-то невыразимой скорбью возведя глаза к небу, она провела рукою по лбу, словно для того, чтобы прогнать иллюзию и, сделав над собою усилие, вернуться к действительности. Стенио в тревоге ждал, что она заговорит о настоящем. Она посмотрела на него холодно и удивленно. — Вы хотели меня видеть, — сказала она, — я не спрашиваю вас зачем, потому что вы не знаете сами. Теперь, когда ваше желание удовлетворено, вы должны уйти. — Не раньше, чем вы скажете мне, что вы почувствовали, когда меня увидали, — ответил Стенио. — Я хочу знать, какое чувство вы испытали, вспоминая свою любовь, о которой вы не побоялись заговорить со мной. Никакого, — ответила Лелия, — у меня не было даже гнева. — Как! У вас нет ко мне ненависти? — Нет даже презрения, — ответила Лелия. — Вы для меня вовсе не существуете. Мне кажется, что я одна и что я смотрю на ваш портрет, который на вас не походит. — Как! Нет даже презрения? — раздраженно воскликнул Стенио. — Нет даже страха? — добавил он, вставая и следуя за Лелией, которая уже снова расхаживала взад и вперед по келье. — Страха как раз было меньше всего, — сказала Лелия, не удостаивая внимания охваченного яростью поэта. — Вы покамест еще не Дон Жуан, Стенио! Вы слабая, но не развращенная натура. Как вы не верите в бога, так не верите и в дьявола; вы не вступали ни в какой договор с духом зла, ибо, на ваш взгляд, на свете зла нет, как нет и добра. Ваши инстинкты не могут толкнуть вас на преступление; они отвергают подлость. Прежде вы воплощали собой тип человека чистого и расположенного к другим, сейчас вы уже перестали быть воплощением чего бы то ни было: вы скучаете! Скука не растлевает вас и не унижает, но она все стирает, все разрушает! — Вам это должно быть хорошо известно, госпожа аббатиса, — едко заметил Стенио, — я ведь увидел, как вы проводите ваши ночи, и знаю, что вы не читаете, не спите, не молитесь; я знаю, что и вас тоже снедает скука! — Не скука, а печаль! — ответила Лелия с откровенностью, которая сломила гордость Стенио. — Печаль? — переспросил он удивленно. — Так вы сами в этом признаетесь? О да! Когда я увидел вас такой спокойной, я должен был понять, что вы спокойно и терпеливо вынашиваете у себя в груди отчаяние, как это было когда-то. Бедная Лелия! — Да, бедная Лелия! — ответила аббатиса. — Я действительно бедная, и вместе с тем у меня есть великие богатства, великие надежды, великие утешения, сознание, что я поступала так, как должна была поступать, незыблемая вера в бога, защитника обездоленных, и понимание святых радостей, к каким может стремиться отрешившаяся от всего мирского душа. — Но вы страдаете, Лелия, — сказал Стенио, все больше удивляясь ее искренности. — Значит, вы еще не отрешились от мира. Вы не чувствуете тех радостей, которые понимаете умом? Значит, бог, защитник несчастных, не помогает вам? Значит, иметь спокойную совесть еще недостаточно для того, чтобы быть счастливой? — Я нисколько не удивляюсь, что вы меня спросили об этом, — ответила Лелия, — вы ведь ничего не знаете обо всех этих вещах, и вам, по всей вероятности, любопытно о них узнать; что же, я вам все расскажу. Она сделала ему знак отойти от нее, так как он все время ходил с нею рядом, и он не осмелился ослушаться этого жеста, от которого веяло какой-то сверхчеловеческой силой. Сама она тоже отодвинулась от него и, облокотившись на подоконник, начала говорить с ним стоя, пристально глядя ему в глаза. — Я не хочу вас обманывать, — сказала она. — Я чувствую, что в разговоре, который был между нами сейчас, содержится некий торжественный смысл, и я ничего не могу сделать, чтобы это не было так. Если господу было угодно, чтобы вы беспрепятственно проникли в мое святилище, если он доверил вашему недоброжелательному или нескромного любопытству мучительную тайну моих бессонных ночей, он, очевидно, хочет, чтобы вы узнали мои мысли; и вы их узнаете, чтобы потом употребить это знание так, как господь предопределил и повелел. Независимость, которую я проповедую и которая присуща мне самой, вызывает у вас, я знаю, отвращение и негодование. Вы жестоко боретесь с ней в ваших речах, в ваших писаниях, даже здесь, в моей скромной школе; но вы прибегаете к такому неубедительному доводу, Стенио. Вы говорите, что мой путь не ведет к счастью, что сама я первая жертва этой прославляемой мною необузданной гордости. Вы ошибаетесь, Стенио! Если я и жертва, то не гордости своей, а отсутствия привязанностей, которые и составляют жизнь души. Нет ничего выше жизни души в боге, но ее недостаточно, потому что она не может быть полной, непрерывной, вечной. Господь нас любит и постоянно носит в себе; мы тоже любим его и носим в себе. Но мы не чувствуем ежечасно, как он, биение всемирной жизни, которая в нем естественна и необходима, в нас — случайна, необычна, искрометна. Итак, бесконечная любовь есть жизнь бога. Жизнь человека состоит из бесконечной любви, которая направляется на вселенную и на бога, и любви конечной, или земной, направленной на другие души, которых к этому человеку привязывает чувство. Объединять людей могут любовь, брак, поколение, семья. Когда человек остается один и отказывается от этих необходимых для него элементов, он страдает, томится, он живет только наполовину. У него есть, правда, еще прибежище — беспредельность бога; но, будучи существом слабым и ограниченным, он теряется в этой беспредельности и чувствует себя растворившимся в ней, поглощенным, ничтожным, как атом среди небесных светил. Иногда это ощущение своей растворенности в мире способно опьянить, восхитить, возвысить; в молитве и в созерцании таятся неслыханные наслаждения, с которыми не может сравниться никакая земная радость. Но такие минуты редки, они быстро проходят и не возвращаются по первому зову нашего страдания; они редки, потому что, как бы велики ни были все наши усилия, душа наша, для того чтобы почувствовать этот восторг, должна достичь такого могущества, какое человеческая природа не в силах ни завоевать, ни поддержать в себе; они мимолетны, потому что господь не позволяет нам переходить в этой жизни из человеческого состояния в ангельское, — нам надлежит вынести все тяготы нашей судьбы и проделать наше паломничество в трудных условиях земной жизни. Будучи строг к нам, бог одновременно к нам добр и милостив. Он позволяет нам испытывать на этой земле привязанность — нежную, сильную, исключительную; но, разрешив нам ее, он требует от этого чувства величия, справедливости и возвышенности, всего того, что делает его похожим на божественную любовь, потому что из нее оно черпает свою силу, с нею сливается воедино, а без нее становится материальнее, ниже и окончательно угасает, ибо тогдабожественная любовь перестает вдохновлять его и руководить им. Таким образом, когда поколения развращаются или впадают в спячку, когда прогресс справедливости на земле бывает скован, когда законы больше уже не гармонируют с потребностями этого прогресса и когда сердца напрасно стараются жить в соответствии со свободой, благодаря которой чувства становятся искренними и верными, бог гасит тот луч, которым он освещал земную любовь. Благородные побуждения человека уступают место инстинктам зверя. Священные таинства брака совершаются в грязи или в слезах; страсти становятся жгучими, ревнивыми, кровавыми; желания — грубыми, бесстыдными, подлыми. Любовь становится оргией, брак — сделкой, семья — каторгой. Тогда порядок представляется мукой и агонией, а беспорядок — спасением, вернее — самоубийством. Вот в этом-то беспорядке мы и живем, Стенио; вы, потому что вы окунулись в разврат, и я, потому что я ушла в монастырь; вы, потому что вы злоупотребляете жизнью, я, потому что отказалась жить. Мы оба преступили божественные законы, оттого что нами управляли не те человеческие законы, которые позволяют нам понимать друг друга и друг друга любить. Предрассудки, привитые вам воспитанием, и привычки вашей натуры, пример других людей, существующие законы дали бы вам право распоряжаться мною и мною владеть. Утвердить эти права могла только моя воля, но она не захотела этого сделать, из страха, что столько преимуществ по сравнению со мной в ваших руках привели бы вас к неминуемым злоупотреблениям. Взять хотя бы одно из ваших исключительных прав: общество не давало мне никакой гарантии против вашей неверности, что же касается моей неверности, то все обстояло как раз наоборот: оно давало вам против меня гарантии, самые унизительные для моего достоинства. Не говорите мне, что мы могли бы стать выше этого общества и бросить вызов его законам, вступив в свободный от всех формальностей союз. Я проделала этот опыт и знала, что подобный союз невозможен; ибо при такой свободе женщине еще труднее, чем в браке, стать подругой мужчины и быть ему равной. Интересы противоположны: мужчина считает свои более драгоценными и более важными. Надо, чтобы женщина пожертвовала своими и вступила на путь самозабвенной преданности, не получая за это никакой награды от мужчины, ибо мужчина тяготеет к обществу; что бы он ни делал, он не может отрешиться от него, а общество осуждает незаконную связь. Поэтому надо, чтобы личная жизнь женщины совсем исчезла, чтобы жизнь мужчины ее поглотила, а я — я хотела жить. Я не пошла на это, я предпочла разделить мою жизнь и пожертвовать отведенной мне долею человеческой жизни во имя жизни божественной, дабы не потерять ту и другую в безнадежной и пагубной борьбе. Вы, Стенио, каким-то чутьем поняли мои притязания и мои права, вы ведь любили меня так, как никого не любили. Но не в вашей власти было мне уступить, ибо так же, как у мужчин существует две жизни, одна — общественная, другая — личная, у них две натуры, у них как бы две души: одна хочет присоединиться к обществу, другая — насладиться радостями любви. Когда эти два существа враждуют, сердце человека в разладе с самим собой. Он чувствует, что идеал его отнюдь не в обществе, несправедливом и развращенном, но чувствует также, что идеал этот не может отождествиться с любовью и заставить его пренебречь мнением общества. Порви он с любовью или с обществом, он и в том и другом случае потеряет полжизни. Господь наделил его инстинктом нежности и жаждой счастья, нужными для любви; но он также наделил его инстинктом верности и чувством долга, потребными для него как для гражданина. Законы примирили эти потребности и эти обязанности таким образом, что, отказавшись от роли гражданина, мужчина приносит себя в жертву женщине и что, отказываясь от любви, он жертвует собою во имя общества. Ни вы, ни я не могли выйти из этого лабиринта. Поэтому, Стенио, мы оба остановились на пороге; вы отказались от любви. Я бы рада была сказать: вы отказались от нее ради общества! Но это обществе которое распоряжалось вами, приводило вас в ужас Вы поняли, что невозможно подняться над всеми его злоупотреблениями, не сделавшись подлецом. На вашу долю выпала великая задача — с этими злоупотреблениями бороться. Эта роль реформатора очень уж скоро вас утомила, и вы бросились в пенистый поток, не захотев, однако, следовать по его руслу и не дав себе труда справиться с течением. Вы барахтались в нем, как муха, которая тонет в недопитом бокале и находит смерть в том самом вине, из которого человек черпает жизнь или хмельной дурман, созидающую силу или звериную ярость. Вот почему я говорю, что вы слабое существо и что вы не живете. Что до меня, то я страдаю; если вы именно это хотите знать и если вас это может утешить в вашей тоске, то знайте: жизнь моя — сплошное мучение, ибо если великие решения и сковывают наши инстинкты, то они их не разрушают. Я решила отказаться от жизни, я не поддаюсь желанию жить; но сердце мое продолжает жить, молодое, сильное, жаждущее любви и пылкое. Его огонь, не находя себе пищи, снедает меня, и чем выше душа моя устремляется к божественной жизни, тем больше она сожалеет о жизни человеческой и тем больше тянется к ней. Это сердце, такое высокомерное, такое, по-вашему, Стенио, бесчувственное, — это пожар, и он меня пожирает; а глаза, которые вы только раз видели плачущими, каждую ночь проливают перед этим распятием слезы, которых сами даже не чувствуют, до того источник их обилен, неиссякаем! — И эти слезы падают на бесчувственный мрамор! Ах, Лелия! Если бы только они падали мне на сердце!.. Охваченный вновь вернувшимся к нему неодолимым чувством, Стенио кинулся к ногам Лелии и покрыл их поцелуями. — Ты меня любишь, — вскричал он, — да, ты меня любишь! Теперь я все знаю, все понимаю! А я столько времени был несправедлив к тебе, столько времени на тебя клеветал!.. — Да, я люблю, — ответила Лелия, отталкивая его с твердостью, к которой примешивалась нежность, — но я не люблю никакого определенного человека, Стенио, ибо тот, кого я могла бы полюбить, еще не родился на свет и родится, может быть, только спустя несколько веков после моей смерти. — О боже, — воскликнул Стенио рыдая, — неужели же я не могу стать этим человеком? Ты, пророчица, вырвавшая у неба тайны грядущего, неужели ты не можешь сотворить чуда? Неужели ты не можешь сделать так, чтобы я определил течение времени и был тем единственным из смертных, достойным твоей любви? — Нет, Стенио, — ответила она, — я не могу тебя полюбить, ибо не могу заставить тебя полюбить меня!64
Несколько ночей подряд бродил Стенио вокруг монастыря, но проникнуть за ограду ему так и не удалось. Даже рискуя жизнью, нельзя было взобраться по крутому склону горы. Груда лавы, узенькой перемычкой соединявшая эту гору с террасами монастыря, была взорвана. Эта опасная тропинка, переброшенная, словно мостик, над пропастью, не пугала Стенио. Однако и ее уничтожили — Стенио увидел как-то раз в глубине рва обломки скал, накануне еще касавшихся своими вершинами облаков. С другой стороны горы, в стенах монастыря, не было ни одного углубления, куда можно было бы поставить ногу. Всех сторожей теперь заменили другими. Новые были неподкупны. Стенио искал и придумывал всевозможные средства, но ничего не мог добиться. Он истратил все оставшиеся у него деньги и вконец расшатал свое и без того подорванное здоровье, но заколдованные стены, скрывавшие предмет его мечтаний, оставались непроницаемы. Аббатиса, которой доложили о его попытках, несколько раз посылала своих верных людей передать ему, что усилия его бесполезны, что она не может согласиться на свидание с ним и примет все меры, чтобы не допустить этого. Стенио, однако, не оставлял своих попыток, и его слепое упорство граничило с безумием. В ту ночь, когда он покинул ее, потрясенный и убитый горем, он ей подчинился. Но едва только он остался один, начал упрекать себя, что был недостаточно горяч и настойчив и не сумел победить недоверие Лелии. Он краснел при мысли о минутной слабости, которая в ее присутствии наполнила сердце его страхом, робостью и страданием, и обещал себе в будущем не быть таким застенчивым и легковерным. Но будущее не оправдало его надежд. Под предлогом проводившегося в некоторых случаях ритуала, который требовал полного уединения, аббатиса распорядилась закрыть доступ в монастырь. Отменены были все собеседования и публичные проповеди. Лелию не смущало присутствие Стенио, любви к нему у нее уже не осталось, но она хотела, чтобы все ее обеты были соблюдены как внешне, так и на деле; как человек логического ума и большой прямоты, она была строга и к мыслям своим и к поступкам. К тому же она никоим образом не надеялась излечить Стенио. Отважившись на тот разговор, который у нее был с ним, она доказала, что стоит выше всех предрассудков и ребяческих страхов; она убедилась, что в ту ночь все уже было сказано, и возвращаться к этому, во всяком случае, бесполезно. Она всей душок молила за него бога и вернулась к привычной для нее грусти, постоянно вспоминая о своей любви к поэту, но лишь изредка задумываясь над тем, жив он сейчас или нет. Стенио впал в смертельную тоску. Он был совершенно подавлен откровенностью и разумными доводами Лелии. Его самолюбие больше не осмеливалось уже бороться с непререкаемой истиной, говорившей ее устами. Он уже больше не мечтал заставить ее сойти в ее собственных глазах или в глазах других с того пьедестала, на котором она восседала, исполненная страдания и величия; с каждым днем у него оставалось все меньше прежней легкомысленной самоуверенности. Неодолимое сопротивление Лелии доказывало ему, что о любви своей она жалеет лишь отвлеченно, и при этом не думает ни об одном живом человеке. В глубине души Стенио должен был признать, что она победила. Глухая и длительная борьба, которую они вели, упорно следуя каждый своим путем к противоположным целям, окончилась победой Лелии. Она была непоколебима в своем скорбном решении; она не знала жалости к Стенио, не знала снисхождения к себе самой. А Стенио становился перед ней на колени, он умолял ее, и больше всего его угнетало то, что он все еще любил ее, любил безмерно, любил так, как еще никогда не любил. Но было уже поздно: любовь эта не могла спасти ни ее, ни его. Она ни на что уже больше не надеялась и ничего не ждала от людей, а он тоже утратил способность чего-то ждать от себя. Он не мог расстаться со своей распутной жизнью. Его бесстыдная любовница настолько овладела всеми его помыслами, что преследовала его даже в его самых чистых мечтах, являясь ему среди самых чистых образов. Она была ему нужна, чтобы на несколько мгновений забыть о потерянном идеале. Поэтому-то идеал и не мог возродиться в его душе: душа изнемогала от этого дележа себя между возвышенным желанием и его низким осуществлением. Часто с наступлением ночи он отправлялся в горы и возвращался оттуда лишь поутру, бледный, измученный; глаза его блуждали, лицо было мрачно. Иногда он усаживался на скале Магнуса. Оттуда он видел купола монастыря, утопавшее в зелени кладбище и берега озера, где он подолгу бродил в раздумье и где мысль о самоубийстве заставляла его ночи напролет просиживать на краю обрыва. Однажды он получил письмо от Тренмора, который упрекал его в преступном равнодушии и звал к себе. Тренмор был поглощен новыми предприятиями, подобными тем, к которым он уже привлекал Стенио. Он по-прежнему верил в святость своей миссии, более того — он надеялся на успех своего дела в самое ближайшее время. Его последовательность, целеустремленность и увлечение, с которым он ратовал за свои идеи, раздражали Стенио. Недовольный бездеятельностью своей и бессилием, он пытался еще отрицать те добродетели, которых не было у него самого, а потом его неиспорченная совесть, врожденное и неколебимое благородство половины его существа со всею силой возмутились против этих кощунств. Стенио пережил новый припадок отчаяния, который на этот раз не пробудил в нем никаких стремлений ни к хорошему, ни к дурному. Он ушел на берег озера и назад не вернулся. Было уже около полуночи, когда он постучался к отшельнику. Магнус, привыкший к тому, что поэт может явиться в любое время дня и ночи и разбудить его или помешать его молитвам, начал тяготиться этим взбалмошным и опасным гостем. Он испугался его богохульных речей; особенно же оскорбляло его жестокое упорство, с которым тот растравлял его незажившие раны. Терзая священника, Стенио испытывал странное наслаждение. Можно было подумать, что он счастлив тем, что нашел в этом человеке, так легко поддающемся страху и страданию, пример бесплодности всех человеческих усилий, доказательство бессилия религии перед неистовой силой инстинкта и причудами воображения. Он вымещал на нем весь тот стыд, который испытывал сам перед победой духовной силы в Тренморе и Лелии, он издевался над слабостью своего противника, пытаясь поколебать его веру в бога, утвердить свою собственную веру — атеизм. Но он только напрасно мучил Магнуса, и господь наказал его за гордость: после того как он смутил эту колебавшуюся и истерзанную душу, неуверенность и ужас овладели им с еще большей силой. В эту ночь отшельник, притворившись, что крепко спит, не впустил Стенио. Но когда молодой человек удалился, Магнус стал корить себя за то, что был с ним недостаточно кроток и терпелив и не выдержал испытания, которое ему посылало небо. Ему показалось, что Стенио крикнул ему, уходя, какие-то странные слова и что у поэта было что-то недоброе на уме. Он встал, чтобы позвать его. Но Стенио был уже далеко. Он быстро шел по направлению к озеру, напевая изменившимся голосом какую-то легкомысленную песенку. Магнус поспешил вернуться к себе в келью и начал молиться. Но через час его вдруг стало мучить какое-то странное предчувствие, и он отправился на берег озера. Луна уже зашла; в глубине пропасти клубился туман, будто саваном одевавший кустарник. Повсюду царило глубокое безмолвие. Теплый, едва ощутимый ветерок доносил слабый запах ирисов. Воздух был такой мягкий, ночь такая синяя и тихая, что мрачные предчувствия отшельника рассеялись как-то сами собою. Запел соловей, и голос его был так нежен, что Магнус невольно остановился и стал его слушать. Мыслимо ли, чтобы ужасная трагедия могла разыграться на такой тихой сцене, в такую вот чудесную летнюю ночь? Медленно и в полной тишине возвращался Магнус в свою келью. Все было окутано мраком, но он хорошо знал привычную ему дорогу среди деревьев и скал. Несколько раз он все-таки споткнулся о камни, и каждый раз его окутывали и словно обнимали поникшие ветви старых тисов. Однако ничей жалобный голос не окликнул его, ничья теплая рука его не остановила. Он растянулся на своей циновке, и в тишине слышно было только как бьют часы. Но напрасно старался он уснуть. Едва только он закрывал глаза, как перед ним вставали какие-то смутные и зловещие видения. Вскоре ему явился образ более отчетливый, более страшный, и он проснулся: то был Стенио, произносивший богохульные речи; одолеваемый нечестивыми сомнениями, Стенио, которого он оставил одного в этой кромешной тьме. Ему чудилось, что поэт бродит вокруг его ложа и снова и снова задает свои оскорбительные и жестокие вопросы, чтобы терзать ими его несчастную душу. Магнус поднялся и сел на свою циновку; уткнув голову в дрожащие колени, он спрашивал себя, словно в первый раз, что же задумал Стенио. Почему поэт так торжественно с ним прощался? Может быть, он отправился к Тренмору? Но ведь еще накануне Стенио смеялся над надеждами и чаяниями своего друга. Или он преследовал Лелию? При этой мысли священник привскочил; была минута, когда он хотел смерти Стенио. Но вскоре это нечестивое желание уступило место мыслям тревожным и более благородным. Он боялся, как бы, устав бороться с неумолимым богом, Стенио не осуществил своего мрачного намерения. В страхе припоминал он слова молодого человека о небытии, которое служит оправданием самоубийству, о вечности, которая его не запрещает, о гневе божьем, который не в силах его предупредить, о милосердии, которое должно было бы его разрешать. Магнус не забыл, что сама жизнь была для Стенио наказанием куда более суровым, чем все грядущие кары, которыми ему грозила церковь. Ошеломленный священник быстро ходил взад и вперед по келье. Пока не рассветет, он все равно о нем ничего не сможет узнать. Он впал в горестное раздумье. Он припомнил дни своей молодости; он стал сравнивать свои страдания со страданиями Стенио; и мысль о том, как он высок в своем самоотречении, его успокоила. Он пробовал осудить в душе несчастного, которого оттолкнул от себя, и бормотал презрительные и высокомерные слова; измученный голодом и бессонницей, он дрожал; зубы стучали; он произносил какие-то невнятные слова, словно поздравляя себя с победой над страстями. Потом он наспех прошептал бессвязные стихи, которые успокоили его гордость, но не смягчили его затаенной горечи. Каждый раз, когда в отдалении били монастырские часы, Магнус вздрагивал; он отмечал бег времени; он смотрел на небо; он считал упрямые звезды; потом, когда все стихало, он снова оставался наедине с богом и со своими мыслями и снова принимался читать монотонную жалобную молитву. Наконец белая полоска обозначилась на горизонте, и Магнус вернулся на берег озера. Ветер не всколыхнул еще покровы тумана, и монах мог различать только предметы, находившиеся от него совсем близко. Он уселся на тот самый камень, на котором обычно сидел Стенио. Утро, по его мнению, наступало чересчур медленно; тревога его все возрастала. Когда немного рассвело, он увидел, что на песке у самых его ног были начертаны какие-то буквы. Он нагнулся и прочел: «Магнус, передай Лелии, что она может спать спокойно. Тот, кто не сумел жить, сумел умереть». Рядом с этими словами — отпечаток ноги, слегка осыпавшийся песок, и больше ничего; на крутой осыпи не осталось никакого следа. А впереди — только усыпанное кувшинками озеро и стая черных чирков, скрывшаяся за белой дымкой. В страхе Магнус пытался спуститься по склону Он сходил за лопатой и, осторожно выкапывая себе ступеньки и рискуя упасть, стал шаг за шагом спускаться вниз, к озеру. На ковре из нежно-зеленых и бархатистых лотосов спокойно спал бледный юноша с голубыми глазами. Взгляд его был обращен к небу, лазурь которого отражалась в его неподвижных зрачках, будто в водоеме, все еще прозрачном и полном, после того как питавший его источник высох. Ноги Стенио были засыпаны прибрежным песком; голова лежала на холодных чашечках цветов; едва заметные порывы ветерка клонили их вниз. Вокруг летало множество стрекоз; одни словно упивались еще не выдохшимся ароматом его мокрых волос, другие трепетали своими пестрыми крыльями у самого лица, словно с любопытством разглядывая его черты или овевая его прохладой. Существа эти, игривые и нежные, были так хороши, что Магнус, не веря своим глазам, пронзительным голосом стал звать Стенио и схватил его холодную руку, будто еще надеясь его разбудить. Но когда он убедился, что юноша уже не дышит, суеверный ужас охватил его робкую душу; он стал обвинять в этом самоубийстве себя. Он уже едва держался на ногах и выкрикивал какие-то глухие невнятные слова. Пастухи, проходившие по другому берегу озера, увидали, как он безуспешно пытается вытащить из воды труп. Они сошли вниз по более отлогому спуску и, перевязав веревками несколько веток, перетащили обоих, живого и мертвого, на другой берег. Пастухи не знали тайны смерти Стенио, они с благоговением несли на плечах и отшельника и поэта; дорогой они время от времени с тревогой поглядывали друг на друга и высказывали какое-нибудь робкое предположение. Но ни один из них даже не подозревал о том, что произошло в действительности. В этих простых, грубых людях обморок Магнуса возбудил больше жалости, чем участия. У них не укладывалось в голове, как это священник, которому долг предписывает утешать живущих и отпевать покойников, мог пасть духом, как женщина, вместо того чтобы молиться за новопреставленного. Они не могли понять, почему отшельник, который хоронил столько людей и принимал последние вздохи умирающих, проявил такой страх и малодушие перед покойником, ничем не отличавшимся от великого множества других, которых ему приходилось видеть. Вслед за пробуждением природы пробудилась и жизнь. Рассвело, и все прерванные работы возобновились. Как только жители долины заметили приближавшихся пастухов, они поспешили им навстречу; но при виде сплетенных из ветвей носилок, на которых лежали Стенио и Магнус, вопрос, который они собирались задать, застыл у них на губах; любопытство их сменилось глубокой, безмолвной грустью: ведь это только в людных и шумных городах смерть может пройти незамеченной. В тиши полей, там, где живут строгою деревенской жизнью, всегда чтят промысел божий. Только люди, привыкшие за повседневною суетой забывать о жизни, отворачиваются от смерти, как от чего-то низкого. Те же, кто днем и ночью преклоняет колена и молит небо и землю о жизни, не могут смотреть на усопшего с холодным равнодушием. Недалеко от берега озера, того самого, где пастухи нашли Стенио, они остановились и с благоговением опустили свою ношу на мокрую траву. Солнце взошло, и горизонт стал пурпуровым и оранжевым. Теплый, обильный пар реял над склонами холмов; сошедшая с неба животворная роса возвращалась снова ввысь, как благодарная душа, возгоревшись любовью к богу, возвращается в его лоно. Каждый нарцисс на горе сверкал, как алмаз. Золотые венцы горели на уходящих под облака вершинах. И вокруг этого импровизированного катафалка все было радостью, любовью и красотой. Несколько молодых девушек шли по долине; они гнали к озеру пестрых телок и распевали свои незатейливые баллады, хоть и очень простые, но не очень скромные, и припевы их, разносимые эхом, долетали порой до слуха погруженных в молитву монахинь. Эти загорелые дочери гор без страха остановились перед мрачным шествием. Но по воле простодушной природы в их широкой крепкой груди билось отзывчивое и чуткое женское сердце. Они не плакали, но были растроганы, увидев двух несчастных, и стали все объяснять пастухам. — Вот этот, — говорили они, указывая на монаха, — брат утопленника. Они в озере форелей ловить пошли. Тот-то был посмелей, ну больно далеко и заплыл, он, верно, звал на помощь, а другой струсил, да у него и сил не хватило. Трав бы насобирать, тогда, может, и отойдет. Положим-ка ему красного шалфея на язык, девятисила к вискам. А потом смолу зажжем да папоротником над ним помашем. В то время как девушки постарше принялись искать травы, которыми они собирались лечить Магнуса, почтенные женщины начали читать вполголоса молитвы об усопших, а маленькие девочки стали на колени вокруг Стенио; на их сосредоточенных лицах проглядывало порой любопытство Они трогали его одежду со страхом и каким-то восторгом. — Богатый был человек, — говорили старухи, — умирать-то ему, видно, не хотелось. Маленькая девочка запустила пальцы в мокрые волосы Стенио, а потом старательно вытерла их о фартук: к благоговейному почтению примешивалось самое серьезное удовольствие от того, что ей удалось поиграть с чем-то недозволенным. При звуках их голосов священник очнулся и блуждающим взором огляделся вокруг. Женщины приложились к его исхудавшей руке и смиренно попросили у него благословения. Почувствовав, что губы их касаются его пальцев, он вздрогнул. — Нет, нет, — сказал он, отталкивая их, — я великий грешник. Господь отступился от меня. Молитесь за меня, молитесь, чтобы я не погиб. Он поднялся и взглянул на труп. И, видя, что это не сои, задрожал глухой внутренней дрожью и опустился на землю, сраженный охватившим его ужасом. Пастухи, увидев, что он не собирается делать никаких распоряжений, предложили, что донесут покойника до церкви камальдулов. — Нет, не надо, — сказал он. — Пожалуйста, помогите мне только добраться до монастырских ворот. Магнус еще издали увидал, как к воротам монастыря подъехала карета кардинала. Он дождался ее и, когда кардинал вышел, бросился перед ним на колени. — Благословите меня, монсиньор, — сказал он, — я прихожу к вам, отягченный ужасным преступлением. Из-за меня погибла человеческая душа. Это Стенио, странник, друг мудрого Тренмора, юный Стенио, сын века, с которым вы разрешили мне частно вести беседы, чтобы направить его на истинный путь. Я плохо его наставлял, у меня не хватило силы и благодати божьей, чтобы его обратить; мои молитвы были недостаточно горячи, мое вмешательство в его жизнь было неугодно господу, я потерпел неудачу… О отец мой! Простите ли вы меня? Или я буду проклят за слабость мою и за бессилие. — Сын мой, — сказал кардинал, — пути господни неисповедимы, и милость его безгранична. Что вы знаете о будущем? Грешник может сделаться великим праведником. Стенио покинул нас, но господь его не покинет, господь его спасет. Милость божья может всюду настичь его и вытащить из самой глубокой бездны. — Господь не захотел этого, — сказал Магнус, растерянно опустив глаза, — господь допустил, чтобы он бросился в озеро. — Что вы говорите? — вскричал прелат, вставая. — Да вы с ума сошли! Как, он умер? — Умер, — ответил Магнус, — утонул, погиб, проклят!.. — Как же могло случиться это несчастье? — спросил кардинал. — Вы что, были свидетелем его гибели? Неужели вы не постарались его спасти? — Я должен был это предвидеть и помешать этому; у меня не хватило духу, я испугался. Почти каждый день приходил он ко мне в пещеру и целыми часами громко жаловался. Он винил и судьбу, и людей, и бога. Он взывал к другой справедливости, не к той, на которую полагаемся мы. Он попирал ногами все самое для нас святое. Он призывал небытие. Он высмеивал наши молитвы, наши жертвы и наши надежды. Слыша, как он богохульствует, я — о простите меня, монсиньор! — вместо того чтобы возгореться священным негодованием, я плакал. Стоя в нескольких шагах от него, я не мог до конца расслышать его страшные речи. Иногда ветер перехватывал их и нес к небу, которое только одно могло бы дать ему отпущение. Когда порывы ветра стихали, этот зловещий голос, эти ужасающие проклятия снова резали мой слух и леденили мне кровь. Я оказался трусом, я растерялся, я пытался воздвигнуть между нами стену, не дать его нечестивым речам проникнуть в мою душу, которая трепетала от страха. Все было напрасно. Уныние, отчаяние разъедали меня как яд. Я хотел заставить его замолчать, но его омерзительная усмешка сковала мне язык. Я хотел отчитать его, но от его наглого взгляда я цепенел. У меня была только одна мысль, одно желание, одно неодолимое искушение: бежать от него бежать от гибели, которую я не в силах был отвратить от него и которая теперь грозила и мне. Тогда он начинал просить оставить его одного, и я уходил от него, ни о чем не думая, радуясь, что могу избавиться от страдания и найти прибежище у ног Спасителя. Я бывал слишком занят собой, я слишком часто забывал об обязанностях пастыря, которые возложил на меня господь. Вместо того чтобы взвалить заблудшую овцу на плечи и нести, я испугался одиночества, тьмы, прожорливых волков. Я вернулся один в овчарню. Я оказался дурным пастырем, я покинул заблудшую душу; а когда я пришел снова, ее уже не было. Она попала в лапы дьявола. Злой дух утащил свою жертву в бездну вечной погибели. — Но что же случилось со Стенио? — воскликнул кардинал, видя, что Магнус говорит как в бреду. — Что вы знаете о его смерти? — Сегодня утром я нашел на берегу озера его бездыханное тело; я больше ничего не могу для него сделать, мне больше не на что надеяться. Наложите на меня самую тяжелую епитимью, монсиньор, я выполню ее и этим очищусь. — Говорите мне о Стенио! — строго вскричал кардинал. — Хоть ненадолго позабудьте себя. Неужели ваша душа столь драгоценна, чтобы ради нее мы могли пренебречь его душою? Помолимся сначала о грешнике, которого покарал господь, а потом уж подумаем о том, как вам искупить свою вину. Где сейчас покойник? Читали вы над ним псалмы? Окропили вы его святой водой? Распорядились вы, чтобы его отнесли в церковь? Известили вы всех священников, что им надо собраться? Солнце уже высоко. Что сделали вы с тех пор как оно взошло? — Ничего, — ответил охваченный ужасом монах. — Я упал без чувств; а когда я пришел в себя, я решил, что мне пришел конец. — А Стенио, Стенио? — нетерпеливо оборвал его Аннибал. — Стенио, — повторил монах, — да разве он уже не погиб невозвратимо? Разве у нас есть право за него молиться? Станет ли господь менять ради него свои непреложные правила? Разве он не умер смертью Иуды Искариота? — Какой смертью? — в испуге вскричал прелат. — Так это самоубийство? — Да, самоубийство, — глухим голосом ответил Магнус. Кардинал, охваченный ужасом, стиснул руки на груди. Потом, обернувшись к Магнусу, он возмущенно заговорил: — Такая страшная катастрофа разразилась почти что у вас на глазах. Такой позор для всех нас, а вы этому не смогли помешать. И вы предпочли молиться как Мария, когда надо было действовать как Марфа! Подобно фарисею, вы возгордились перед господом богом! Вы сказали: «Посмотри на меня, господи, и благослови меня, ибо я есть праведный священник, а нечестивец, что умирает там, может обойтись без тебя и без меня!». Вы спокойно улеглись спать, когда надо было бежать за этим несчастным, кинуться к его ногам, валяться в пыли, плакать, грозить, прибегнуть к молитвам и даже к силе, чтобы не дать ему осуществить это ужасное злодеяние! Разве вместо того чтобы покинуть грешника, боясь ужаса и позора, не надо было лобызать его ноги, называть его «сын мой» и «брат мой», чтобы смягчить его сердце и поддержать в нем дух, пусть всего только на день, — ведь, может быть, одного этого дня было бы достаточно, чтобы его спасти? Разве врач покинет когда-нибудь изголовье больного из страха перед заразой? Разве самаритянин отшатнулся брезгливо, увидев отвратительную язву еврея? Нет, он подошел к нему без боязни, он пролил на эту язву целительный бальзам, посадил больного к себе на лошадь и спас. А вы, чтобы сохранить свою душу, вы упустили случай вернуть блудного сына в объятия отца! Это вы, себялюбивая и жестокая душа, это вы будете дрожать от ужаса, когда придут бессонные ночи и глас божий спросит вас: «Каин, Каин, что сделал ты с братом своим?». — Довольно, довольно, монсиньор! — вскричал монах, падая ниц и волоча бороду по пыли. — Пощадите меня, череп мой вот-вот расколется, я схожу с ума… Пойдемте, — сказал он, хватая кардинала за мантию, — пойдемте помолимся над его телом, прочтите над ним слова, отпускающие грехи, окропите его иссопом, который все очищает и обеляет, произнесите заклинания, способные сломить сатанинскую гордость, пролейте на него священный елей, который смывает с жизни всю грязь… Тронутый его печалью, кардинал стоял в нерешительности. — Уверены ли вы, что он с собой покончил? — спросил он. — Может быть, это произошло случайно, или, скорее всего, это кара небес, которую мы не вправе обсуждать, и через нее душа его обретет прощение. Что мы знаем? Он мог оступиться… В темноте… Это мог быть несчастный случай. Говорите, сын мой, у вас есть доказательства, что это самоубийство? Магнус замялся; ему хотелось сказать: «нет», он надеялся обмануть провидение и, совершив над телом таинства церкви, спасти эту заблудшую душу, церковью осужденную; но он не посмел. Дрожа, он открыл всю правду, рассказав прелату о написанных на песке последних словах Стенио: «Магнус, скажи Лелии, что она может спать спокойно». — Так это правда, — сказал прелат, заливаясь слезами, — от этой страшной истины никуда не уйти. Бедное дитя! Господь, правосудие твое сурово, а гнев ужасен!.. Магнус, — сказал он, помолчав, — скажите, чтобы закрыли двери часовни, и попросите кого-нибудь из дровосеков или пастухов предать тело земле. Церковь запрещает нам открыть перед ним врата храма и хоронить его на святой земле… Решение кардинала напугало Магнуса больше, чем все остальное. Он с такой силой ударился головой о землю, что по его бледной щеке потекла кровь, а он этого даже не заметил. — Ступай, сын мой, — сказал, поднимая его, прелат, — мужайся! Будем послушны правилам церкви, но не будем терять надежды. Господь велик, господь милостив — милосердию его нет предела. Мы только слабые люди, и ум наш ограничен. Ни один человек, будь он даже князь церкви, не вправе осуждать другого бесповоротно. Агония грешника могла длиться долго. В то время как он боролся с приближением смерти, божественный свет мог озарить его душу. Он мог раскаяться, и молитва его могла быть так горяча, так чиста, что примирила бы его с господом. Вы знаете, что не через причастие человек получает отпущение грехов, а через искреннее раскаяние; и одна минута такого искреннего покаяния может искупить всю греховную жизнь. Помолимся и смиримся. Быть может, в юности Стенио обладал такими добродетелями, что они способны смыть все последующие его проступки, а у нас в прошлой жизни могли быть такие прегрешения, которых не смоет и полная покаяния жизнь в настоящем и будущем. Идите, сын мой. Церковные правила не разрешают мне вносить это тело в храм и провожать его на кладбище с соблюдением всех обрядов, но, во всяком случае, церковь разрешает вам находиться возле тела, проводить его к месту его последнего упокоения и сотворить над ним молитву, какую подскажет вам милосердие, но только не ту, с которой хоронят по христианскому обычаю. Ступайте, это ваша прямая обязанность и единственная возможность поправить, насколько это в ваших силах, то зло, помешать которому вы не сумели. Вы должны вымолить прощение и ему и себе. Я со своей стороны тоже буду молиться, мы будем молиться все, но не хором и не в алтаре, а каждый у себя в молельне и в глубине души. Несчастный монах вернулся к Стенио. Пастухи положили его в тень, у входа в пещеру, где женщины жгли кедровую смолу и ветки папоротника. Эти набожные горцы ожидали возвращения Магнуса, рассчитывая, что он принесет разрешение перенести тело в монастырь. Они положили его на другие носилки, которые сделали более искусно, чем первые, переплетя ветви кедра и ели, и теперь тело Стенио покоилось на постели из темной зелени. Дети осыпали его ароматными травами, а женщины надели на него венок из мелких белых цветов, что растут в низинах. Белые вьюнки и ломоносы, обвивающие края скал, свешивались над ним причудливыми гирляндами. Это смертное ложе, такое свежее и первозданно простое, осенялось балдахином из цветов и, напоенное самыми сладостными ароматами, было достойно принять последний сон юного и прекрасного поэта, почившего в мире. Видя, что священник преклонил колена, горцы последовали его примеру; женщины, которых теперь было уже гораздо больше, чем утром, начали перебирать четки; все приготовились проводить покойника и монаха до ворот монастыря. Они долго ждали, но когда они увидели, что солнце уже садится, а Магнус все еще не велит им уносить тело, пораженные, они решились его спросить. Магнус растерянно посмотрел на них, пытался ответить им, но вместо этого стал бормотать какие-то несвязные слова. Тогда, видя, что печаль так помрачила его рассудок, и боясь еще больше досадить ему расспросами, один из старых дровосеков решил дойти со своими сыновьями до монастыря и узнать, каковы распоряжения аббатисы. Через час дровосек вернулся, грустный, подавленный и молчаливый. Он не решался ничего сказать при Магнусе, и, когда все устремили на него вопрошающие взгляды, знаком отозвал своих товарищей в сторону. Все, кто толпился вокруг покойника из простого любопытства, потихоньку удалились и сошлись снова уже на некотором расстоянии. Там они узнали о самоубийстве Стенио и о том, что кардинал не разрешил хоронить его в освященной земле. Их это поразило и преисполнило страхом. Если твердость, благородство и милосердие не давали кардиналу отчаиваться, что душа Стенио будет спасена, то эти простые, ограниченные люди были потрясены известием о преступлении, столь строго осужденном католической церковью. Старухи первые начали его проклинать. — Он убил себя! Нечестивец! — вскричали они. — Какой же он великий грешник! Выходит, он недостоин наших молитв; церковь отказывает ему в погребении в освященной земле. Должно быть, он содеял нечто ужасное — ведь монсиньор так милостив, так праведен! Верно, какая-то постыдная язва разъедала сердце этого человека, раз он не надеялся на прощение и сам сотворил над собою суд. Не будем его жалеть. Да и церковь нам запрещает молиться за тех, кто проклят. Идемте отсюда; пусть отшельник делает свое дело; это он должен сторожить его ночью. Он умеет творить заклинания; если дьявол явится за своей добычей, он его прогонит. Пойдемте. Испуганные девушки не заставили себя просить и бросились вслед за своими матерями, и кое-кому из них, когда они шли по лесу, среди густых кустов мерещилась одетая в белое фигура и чудились чьи-то легкие шаги по влажной от росы траве и печальный голос, жалобно моливший: «Повернись, девушка, и взгляни на мое бледное лицо. Я грешная душа и иду на суд божий. Молитесь за меня». Они ускоряли шаги и, бледные и дрожащие, торопились поскорей добраться до дома; и ночью еще сквозь сон им все чудилось, что какой-то слабый и таинственный голос шепчет: «Молитесь за меня». Пастухи, привыкшие к лесному безмолвию и бессонным ночам, не были столь подвержены этому суеверному страху. Некоторые из них остались с Магнусом около покойника. Они воткнули у его изголовья четыре факела из смолистой сосны и расстелили на земле овечьи шкуры, чтобы укрыться от ночного холода. Но когда факелы разгорелись, на мертвое тело начали падать синеватые отблески. Колыхавший факелы ветер озарял каким-то зловещим светом обреченное на распад лицо, и колебания пламени передавались время от времени его чертам и всему телу мертвеца. Пастухам начало казаться, что он открывает глаза и поднимает руку, словно собираясь встать. Страх обуял их, и, не решаясь признаться другому в своем малодушии, каждый из них втайне решил уйти. Отшельник, чье присутствие ободряло их, теперь казался им страшнее покойника. Его неподвижность, безмолвие, бледность и печать какого-то раздумья на складках облысевшего, лоснящегося лба делали его похожим на духа тьмы. Они решили, что скорее всего это демон принял обличье человека, чтобы проклясть юношу и столкнуть его в озеро, и что теперь вот он сидит и сторожит свою добычу, дожидаясь полуночи, чтобы справить дьявольский шабаш. Один из них, похрабрее, предложил прийти утром, чтобы вырыть могилу и опустить в нее покойника. «Не понадобится», — ответил ему другой, оцепеневший от страха. И все поняли почему. Пастухи переглянулись и испугались самих себя, увидав, как бледны их лица. Они спустились в долину и разошлись там, едва держась на ногах, готовые принять друг друга за привидения.65
Оставшись наедине с покойником, Магнус даже не заметил, как ушли пастухи. Он стоял все время на коленях, но не молился и ни о чем не думал — он был сломлен. Он чувствовал, что еще жив, лишь благодаря острой боли в голове; он так сильно ударился, что едва не проломил череп. Это физическое ощущение боли, присоединившееся к тягостным душевным переживаниям, окончательно погрузило его в состояние отупения, близкое к идиотизму. Но, увидев перед собою бледное лицо Стенио, спавшего ангельским сном, он улыбнулся отвратительною улыбкой белому савану и венку из цветов и пробормотал: — О женщина! О красота!.. Потом он взял умершего за руку, и холод смерти смирил его жар и рассеял фантастические видения бреда. Он понял, что перед ним не спящая женщина, а мужчина в гробу и тот, в чьей гибели он считал себя виновным. Оглянувшись, он не увидел кругом ничего, кроме черных скалистых стен, на которых то тут, то там вспыхивали отблески факелов; он не услышал ничего, кроме завывания ветра в ущельях, и вдруг ощутил весь ужас одиночества; все ночные страхи огромной ледяною горой сдавили ему голову Он увидел, как возле него что-то шевелится, будто кто-то карабкался по скале. Он закрыл глаза, чтобы только не видеть; через некоторое время он снова открыл их и, пристально всматриваясь в темноту, увидал совсем близко какую-то страшную, черную фигуру Он смотрел на нее около часа, боясь пошевелиться, сдерживая дыхание, чтобы только ничем не привлечь внимание призрака, который, как ему казалось, вот-вот встанет и ринется на него. Пламя смоляного факела, начертавшее на скале профиль Магнуса, погасло, и призрак исчез: монах так и не догадался, что то была его собственная тень. В кустах послышались вдруг чьи-то легкие шаги: может быть, это была серна, привлеченная светом. Магнус перекрестился и, дрожа от страха, взглянул на тропинку, ведущую в долину: ему показалось, что перед ним женщина в белом одеянии, что она идет куда-то одна в ночи; сердце его забилось, он готов был броситься ей навстречу, но страх удержал его. Да, то был призрак, он явился за Стенио, то была тень, вышедшая из могилы, чтобы оглашать своими криками тьму. Магнус обхватил лицо руками, завернулся с головой в капюшон и забился в угол, решив ничего не видеть, не слышать. Но так как все было тихо, он все же немного приободрился и поднял голову: то была аббатиса монастыря камальдулов, стоявшая на коленях перед Стенио. Магнус хотел закричать, но язык его не слушался. Он хотел бежать, но ноги его были холодны и неподвижны, как гранитные скалы. Он смотрел на нее блуждающим взглядом, протянув руку, не поднимая надвинутого на лицо капюшона. Лелия наклонилась над смертным одром. Лицо ее было наполовину скрыто белым покрывалом; она сама казалась такой же оцепеневшей, как Стенио, достойной невестою мертвеца. Она слышала разговоры пастухов; ей захотелось взглянуть на останки Стенио. Увидав издали зловещий огонь, зажженный перед гротом, она пришла сюда одна, без страха, без угрызений совести, возможно даже и без страдания! Но при виде этого прекрасного чела, на которое легла тень смерти, она почувствовала, что сердце ее смягчилось; жалость невольно овладела этой душою, мрачной и спокойной в своем безнадежном горе. — Да, Стенио, — сказала она, как бы не замечая присутствия монаха. — Мне жаль тебя — ведь ты меня проклял. Мне жаль тебя — ты ведь не понял, что господу, сотворившему нас, не было угодно соединить наши судьбы. Ты же думал, что мне доставляло удовольствие умножать твои мучения. Ты думал, что я хотела отметить тебе за все муки и разочарования моей юности. Ты ошибался, Стенио, и я прощаю тебе проклятие, которое ты мнепослал. Тот, кто судит даже мысли наши раньше, чем мы сами о них догадываемся, тот, кто ежечасно перелистывает книгу наших жизней и кто безошибочно читает еще не вписанные туда предназначения наши, не принял твоих угроз и не осуществит их, Стенио. Он не станет тебя наказывать за них, ибо ты был слеп; он не покарает твоей слабости, ибо ты не захотел довериться мудрости, исходившей не от тебя. Ты дорого заплатил за свет, который озарил тебя в последние дни твоей жизни, и господь не станет упрекать тебя за то, что ты так долго блуждал в потемках. Но страшное и скорбное познание, которое ты уносишь с собою, не требует искупления, ибо губы твои высохли, отведав плода, который ты сорвал! Но господь, я в это твердо верю, господь соединит нас с тобою в вечной жизни. Склонясь у его ног, мы услышим его советы, и мы узнаем тогда, почему он разлучил нас в жизни земной. Когда ты прочтешь на его лучезарном челе тайну непостижимой для смертных воли, и гнев твой и изумление исчезнут бесследно. Тогда, Стенио, ты перестанешь меня ненавидеть, ты не будешь больше упрекать меня в несправедливости и жестокости. Когда господь воздаст каждому из нас по заслугам, определит каждому работу по его силам, ты поймешь, о несчастный, что мы не могли следовать с тобою по одному пути, к одной цели. Наши горести не одинаковы. Наш строгий господин, которому мы служили, объяснит нам тайну наших страданий. Открывая нам ослепительную стезю вечной искренности, он скажет нам, почему он подготовил союз наших душ путями такими тайными, что мы о них ничего не знаем. Он покажет тебе, Стенио, мое сердце, истекавшее кровью, сердце, которое ты обвинял в жестокости и презрении. Страх, с которым ты выслушивал мои речи, унижение, которое омрачало твой взгляд, когда я признавалась, что не могу полюбить тебя, смятение в мыслях твоих — все превратится в глубокое сострадание. Лелия, которую ты считал настолько выше себя, которая была для тебя чем-то недостижимым, унизится перед тобою; ты забудешь, как забыла она сама, то восхищение и почет, которыми ее окружали, ты узнаешь, почему она была всегда одинока и ни у кого не просила помощи. Слившись под взором всевышнего в небесном блаженстве, каждый из нас мужественно исполнит задачу, которая выпадет ему на долю. Взгляды наши встретятся и еще сильнее укрепят в нас веру и силы; воспоминания о перенесенных невзгодах исчезнут как сон, и мы будем спрашивать себя, действительно ли мы жили. Она наклонилась над Стенио, вытащила из венка увядший цветок, приколола его к груди и стала спускаться по тропинке, ведущей в долину, не обратив ни малейшего внимания на монаха, который стоял в тени, прислонившись к скале, и не спускал с нее глаз. Рассудок Магнуса совсем уж помутился: он ничего не мог понять из речей Лелии. Он видит только ее, видел, что она прекрасна; страсть пробудилась в нем с новой силой; он думал лишь о своих желаниях, которые так долго сдерживал и которые теперь снедали его. Когда он увидел, что она говорит со Стенио, его охватила страшная ревность, такая, какой он никогда не испытывал, ибо для этого не было повода. Он ударил бы Стенио, если бы смел. Но это мертвое тело внушало ему страх, и желание разгорелось в нем, становясь еще ожесточеннее, чем месть. Он бросился вслед за Лелией и на повороте тропинки схватил ее за руку. Лелия обернулась, не вскрикнув, даже не вздрогнув, и взглянула на это бледное лицо, на эти налитые кровью глаза, на дрожащие губы без страха и, пожалуй, даже без удивления. — Женщина, — сказал монах, — ты достаточно меня мучила, дай же мне утешение, полюби меня. Лелия не узнала в этом лысом и сгорбленном монахе священника, которого всего несколько лет назад видела молодым и гордым. В удивлении она остановилась. — Отец мой, — сказала она, — обратитесь к богу: только он один может вас утешить. — Неужели ты не помнишь, Лелия, — продолжал монах, не слушая ее, — ведь это же я спас тебе жизнь! Без меня ты погибла бы в развалинах монастыря, где прожила два года. Помнишь? Я бросился в эти развалины и едва не разбился насмерть, вытащил тебя из-под обломков, посадил к себе на лошадь и вез целый день, держа тебя в объятиях и даже не решаясь поцеловать твое одеяние. Но с этого дня в груди моей вспыхнул жестокий огонь. Напрасно я постился и творил молитву, — господу не угодно было меня исцелить. Надо, чтобы ты меня полюбила: когда я буду знать, что меня любят, я исцелюсь; я покаюсь и спасу свою душу. Иначе я снова сойду с ума и буду навеки проклят. — Я узнаю тебя, Магнус, — ответила она. — Увы! Вот до чего тебя довели покаяние и борьба! — Не смейся надо мной, женщина, — ответил он, мрачно на нее глядя, — ибо сейчас я могу ненавидеть так же сильно, как и любить. И если ты меня оттолкнешь… Не знаю уж, что мне тогда подскажет гнев… — Отпусти мою руку, Магнус, — спокойно и презрительно сказала Лелия. — Сядь на эту скалу, и я кое-что тебе скажу. Голос ее звучал так властно, что монах, привыкший к беспрекословному повиновению, машинально послушался и сел в двух шагах от нее. Сердце его билось так сильно, что он не мог выговорить ни слова. Он сжал руками свою разрывавшуюся от боли голову, которая была в крови, и напряг все свои силы и память, чтобы все выслушать и понять. — Магнус, — сказала Лелия, — если бы тогда, когда вы были еще молоды и занимали известное положение в обществе, вы спросили меня, какой род деятельности вам избрать, я никогда бы не посоветовала вам стать священником. Ваши страсти не могли подчиниться строгим правилам монашеского обета, и вы этим правилам следовали только внешне. Вы были плохим священником; но бог простит вас за ваши страдания. Вам уже поздно возвращаться теперь к мирской жизни, у вас не хватит сил быть добродетельным. Надо жить в воздержании. Вы должны жить отшельником, пока не окончатся ваши страдания, а вам не так уже долго ждать. Взгляните на ваши руки, на ваши седые волосы. Тем лучше для тебя, Магнус. Почему я не так близка к могиле? Несчастный, мы ничем не можем помочь друг другу. Ты ошибся, ты отрекся от жизни, и тебе захотелось жить; теперь ты боишься жить и все-таки думаешь, что еще можешь быть счастливым. Безумец! Уже больше некогда думать об этом. Еще несколько лет назад ты мог обрести счастье в своей свободе. Разум твой мог еще проясниться, душа — избавиться от напрасных угрызений совести. Но теперь страх, разочарование и отвращение будут тебя преследовать всюду. Ты не сможешь изведать любовь, ты будешь считать ее преступлением, и привычка клеймить, называя грехом, все законные радости жизни сделает тебя преступным и порочным перед лицом своей совести, даже когда ты будешь в объятиях самой чистой женщины. Уйми себя, бедный отшельник, смири свою гордость. Ты считал себя в силах выполнить страшный обет безбрачия. Говорю тебе, ты ошибся. Но не все ли равно? Ты уже достиг предела твоих мучений; подумай о том, чтобы они не оказались бесплодными. Ты не был достаточно высок, чтобы господь мог простить тебе твое отчаяние. Смирись перед его волей. Магнус слушал ее, но мозг его ничего не мог воспринять. Он страдал; ему казалось, что Лелия смеется над ним; спокойное лицо этой женщины, ее гордый вид глубоко его унижали. По временам он просто ненавидел ее, и ему хотелось бежать от нее и скрыться; но ему казалось, что она держит его дьявольской силой своих глаз. Лелия не обращала на него никакого внимания Она задумалась; казалось, она что-то решала. — Слушай, — сказала она ему после минуты молчания и раздумья. — Вместо того чтобы предаваться недостойным мыслям, помоги мне исполнить последний долг перед мертвым: он достаточно скитался, достаточно мучился в своей жизни; надо, чтобы останки его почили в мире и чтобы нога прохожего не тревожила его праха. Я знаю место, где он может лежать, никому не ведомый, лишенный церковного погребения, ибо такова воля монсиньора, но не лишенный уважения, которое должно воздавать мертвым, и общих молитв, которые читаются на кладбищах. Положи его на плечи и следуй за мной. Магнус заколебался. — Куда же я его понесу? — спросил он со страхом. — Монсиньор не разрешает хоронить его по христианскому обычаю, а вы говорите о том, чтобы нести его на кладбище? — Делай, что я тебе велю, — сказала Лелия. — Я лучше тебя знаю, что думает монсиньор. Вынужденный исполнять церковные правила и не желая при подобных обстоятельствах нарушать их, чтобы оказать снисхождение самоубийце, он должен был отдавать тебе распоряжения, которые мне он позволит нарушить. Слушайся меня, Магнус, я тебе приказываю. Лелия знала свое влияние на Магнуса. Он машинально повиновался ей, даже не сознавая, что делает. Он донес труп Стенио до кладбища монастыря камальдулов. В одном из темных углов этого сада только что вырвали с корнем сломанный грозою старый тис. Образовавшуюся при этом яму не успели зарыть. С помощью аббатисы Магнус положил туда тело и прикрыл его землею и дерном; потом, весь дрожа от волнения, он направился в свою пещеру, в то время как Лелия, склонившись над могилой поэта, молила бога быть к нему милосердным и в безмерной мудрости своей не обречь его душу на безысходное страдание, а возвратить в горнило вечности обломки металла, разбитого испытаниями этой жизни.66
За смертью Стенио последовали другие трагические события. Кардинал очень скоро умер от столь тяжкого и столь быстро развившего недуга, что распространился слух, что его отравили. Магнус покинул свою келью. Несколько дней он бродил в горах, одержимый исступленным бредом. Пораженные горцы слышали во мраке ночи его страшные, душераздирающие крики; его неровные торопливые шаги сотрясали тихие пороги их хижин, и, опасаясь встречи с ним, они не спали по целым ночам, дрожа от страха. Наконец он исчез их этих мест и нашел прибежище в картезианском монастыре. Но вскоре в обители этой начались странные разоблачения, опорочившие жизнь самых прославленных и достойных людей. Аннибал погиб, не успев перед смертью дать никаких объяснений. Многие епископы, разделявшие его благородные взгляды, множество священников, выделявшихся среди прочего духовенства своей просвещенностью и благородством своего поведения, очутилось в опале. Что же касается Лелии, то думали, что подобного наказания было бы недостаточно, чтобы искупить ее преступления, и что ее следовало бы подвергнуть унижению и позору. Инквизиция готовила суд над ней. Влиятельный прелат, который оказывал ей поддержку, был уничтожен. Новое направление, которое они сами и их последователи придали религиозным идеям, глубоко возмутило людей, и то, что было сначала только подспудным ропотом, вспыхнуло вдруг и решило мстить. Яд клеветы пролился на еще свежую могилу кардинала — нечистая жертва, принесенная дьявольским страстям. Начали перебирать неизвестные дотоле поступки кардинала и, вместо того чтобы осудить те, которые этого заслуживали, их обошли молчанием, чтобы сосредоточиться только на последних годах его жизни, на тех самых которые благодаря влиянию Лелии обрели чистоту, какой только могла хотеть сама Лелия, проникнутая глубокой симпатией к Аннибалу. Люди с особенным удовольствием обливали грязью клеветы эту священную дружбу, которая могла бы принести великую пользу церкви, если бы только церковь, как и всякая власть, конец которой близок, не старалась сама поскорее низвергнуться в пропасть, на дне которой она спит и ныне без всякой надежды на пробуждение. Итак, аббатису камальдулов обвинили в том, что она оказалась неверной невестой Христа и завлекла на путь погибели князя церкви, который, говорили они, до своей пагубной связи с ней был одним из столпов веры. Кроме того, ее обвинили в том, что она проповедовала какие-то новые и странные учения, пропитанные мирскими страстями и носящие на себе печать ереси; помимо этого, — в том, что она находилась в преступной связи с нечестивцем, который по ночам являлся к ней в келью; наконец, верхом ее отступничества и святотатства сочли то, что она похоронила тело этого нечестивца в земле, где покоились монахини монастыря камальдулов, что было нарушением законов церкви, запрещающих хоронить в освященной земле атеистов, самовольно лишающих себя жизни, нарушением монастырского устава, запрещающего хоронить мужчин на кладбище, отведенном для девственниц. По этому последнему пункту обвинения Лелия поняла, откуда ей нанесен удар. Сомнения ее окончательно рассеялись, когда, вызванная своими мрачными судьями для того, чтобы дать отчет в своем поведении, она увидела возле них Магнуса. Все эти наветы его были ей до того отвратительны, что она отказалась отвечать на вопросы и не пыталась ни в чем оправдаться. Магнус так дрожал перед ней, что, если бы только судьи были беспристрастны, волнения обвинителя и спокойствия обвиняемой было бы достаточно, чтобы решить, на чьей стороне истина. Но приговор был предрешен, и прения сторон носили чисто формальный характер. Лелия почувствовала, что слишком презирает Магнуса, для того чтобы, в свою очередь, его обвинять. Она ограничилась тем, что сказала ему, увидав, что он шатается и опирается о плечо одного из подручных инквизиции: — Успокойся, земля не разверзнется у тебя под ногами. Наказание ждет тебя в твоем же сердце. Не бойся, что я буду платить тебе раной за рану, оскорблением за оскорбление. Довольно, несчастный, мне жаль тебя, я знаю, какому подлому страху ты повинуешься, возводя на меня клевету. Сгинь, скройся от всех глаз — и не надейся неправедными путями войти в царство небесное. Да просветит тебя господь и да простит, как сама я тебя прощаю! В числе обвинителей Лелии были также две монахини, из тех, что всегда ненавидели ее за ее любовь к справедливости и надеялись занять ее место. Они обвиняли ее в том, что она поддерживала связь с карбонариями и что вместе с кардиналом способствовала бегству жестокого нечестивца Вальмарины. В довершение всего, они вменили ей в преступление то, что она безрассудно расточала монастырские богатства и во время голода распорядилась продать золотые чаши и другие драгоценные вещи, составлявшие сокровища церкви, чтобы оказать помощь бедствовавшим жителям страны. Когда ее спросили об этом, Лелия с улыбкой ответила, что признает себя виновной. Суд приговорил ее к лишению сана. Оглашать этот приговор должны были публично, в присутствии всей общины, и старались собрать как можно больше народа, но явились далеко не все приглашенные, а те, что, движимые любопытством, все же пришли, вернулись глубоко потрясенные спокойным достоинством, с которым подвергавшаяся унижениям аббатиса выслушивала все оскорбительные слова, заставляя бледнеть тех, кто наносил ей эти обиды. Вслед за тем ее сослали в полуразрушенный картезианский монастырь, составлявший собственность общины камальдулов, в северном горном краю; часть этого монастыря была превращена в нечто вроде тюрьмы для совершивших преступление монахинь. Это было холодное и сырое помещение, со всех сторон окруженное соснами, постоянно влажными от низко нависших и застилающих все вокруг облаков. Приехавший туда год спустя Тренмор нашел Лелию умирающей и употребил всю свою власть на то, чтобы склонить ее нарушить обет и бежать с ним куда-нибудь в другую страну. Но Лелия была непреклонна в своем решении. — Какая разница, — сказала она, — умру я здесь или где-нибудь в другом месте, проживу я несколькими неделями больше или меньше? Разве я недостаточно страдала? Разве небо не дало мне наконец права войти в обитель отдохновения? К тому же я должна оставаться здесь, чтобы смутить ненавидящих меня врагов и чтобы опровергнуть их предсказания. Они надеялись, что я постараюсь уклониться от мученичества. Ожидания их не оправдаются. Людям совсем не худо бы увидеть, какая разница между ними и мной. Идеи, которым я посвятила себя, требуют, чтобы поведение мое было примером, чтобы в нем не было места слабости и чтобы оно не давало повода для упрека. Поверьте, в моем теперешнем состоянии сила эта мне дается легко. Тренмор видел, как быстро она угасала, оставаясь все такой же красивой, такой же спокойной. Но уже перед самой смертью она пережила минуты смятения и отчаяния. Мысль, что прежний мир приходит к концу, а никакого нового нет, была ей горька и невыносима. — Как, — говорила она, — неужели же всему существующему, как и мне, надлежит умереть и погибнуть, не оставив после себя преемников, которые могли бы все унаследовать? В течение нескольких лет я думала, что, ценою полного отказа от всякого удовлетворения моих страстей, я смогу жить милосердием и радоваться будущему человечества. Но разве я в силах полюбить человечество, слепое, отупевшее и злобное? Чего мне ждать от поколения без совести, без веры, без разума и без сердца? Напрасно Тренмор пытался убедить ее, что она заблуждается, стараясь найти будущее в прошедшем. — Там может находиться, — говорил он, — только таинственный зародыш, которому пришлось бы развиваться долго, ибо, для того чтобы он мог начать жить, надо, чтобы старый ствол был срублен и высох. До тех пор, пока будут существовать католицизм и католическая церковь, — говорил он, — у людей не будет ни веры, ни религии, ни прогресса. Надо, чтобы эта развалина рухнула и чтобы вымели все обломки, — тогда на земле будут произрастать плоды там, где теперь одни только камни. Ваша возвышенная душа, душа Аннибала и многих других привязаны к последним лохмотьям веры, и вам всем даже в голову не приходит, что лучше было бы сорвать эти лохмотья, дабы обнажить скрытую за ними истину Новая философия, вера более чистая и более просвещенная, всходит на горизонте. Мы приветствуем пока только зарю ее, неясную и бледную; но просвещение и вдохновение, которые составляют жизнь человечества, будут так же присущи жизни будущих поколений, как солнце, которое каждое утро всходит над спящей и окутанной мраком землей. Пылкая душа Лелии не могла открыть себя этим далеким надеждам. Она никогда не умела жить одними надеждами на будущее, если только не чувствовала, что сила, которая должна создать это будущее, как-то воздействует на нее самое или же от нее исходит Сердце ее было раздираемо бесчисленными потребностями, и теперь оно должно было остановиться, так и не удовлетворив ни одной из них. Этому великому страданию нужно было столь же великое утешение, которое могло бы вселить в душу уверенность. Она простила бы небу, что оно лишило ее всякого счастья, если бы могла ясно прочесть в человеческих судьбах грядущего нечто лучшее по сравнению с тем, что выпало ей на долю. Однажды ночью Тренмор встретил ее на вершине горы. Стояла ужасная погода: дождь лил потоками, в лесу завывал ветер, и деревья вокруг трещали. Бледные вспышки молнии бороздили тучи. Накануне Тренмор оставил ее в келье совсем слабой и обессилевшей; он боялся, что она не протянет до утра. Видя, что она бродит по скользким скалам, вся забрызганная пеной потоков, которые множились вокруг нее и становились все полноводней, Тренмор решил, что видит ее призрак, и стал призывать ее, как призывают духов; но она взяла его за руку и притянула к себе. И вот что она сказала ему своим твердым голосом, устремив на него горевший темным пламенем взгляд.67. БРЕД
— По ночам у меня бывают часы непомерной муки. Сначала это только смутная грусть, какое-то необъяснимое недомогание. Весь мир наваливается на меня, и я едва волочу ноги, совсем разбитая, изнемогая под тяжестью жизни, словно карлик, которому приходится нести на плечах великана. В такие минуты мне надо вырваться вон, как-то облегчить мою ношу. Я хотела бы обнять вселенную как мать, как сестру, но у меня такое чувство, что вселенная меня вдруг отталкивает и надвигается на меня, чтобы меня раздавить, как будто я, ничтожный атом, оскорбляю ее тем, что призываю к себе. Тогда поэтический и нежный порыв моей души превращается в ужас, в упрек. Я начинаю ненавидеть вечную красоту светил и великолепие окружающего мира, которыми обычно любуюсь, и вижу во всей этой красоте только неумолимое равнодушие, которое сильный испытывает к слабому. Я вступаю в разлад со всем, и душа моя отчаянно стонет в этом мире, как струна, которая рвется посреди торжествующих мелодий священной музыки. Когда небо спокойно, мне чудится, что за ним скрывается жестокий бог, чуждый моим желаниям и нуждам. Когда буря потрясает стихии, я узнаю в них, как и в себе, бесполезное страдание — крики, которых никто не слышит! Да, да! Увы, это так! Отчаяние царит в мире, все поры творения источают жалобу и муку. Волна эта со стоном бьется о прибрежный песок, ветер жалобно воет в лесу Все эти деревья, которые гнутся и подымаются, чтобы снова пасть под ударами бури, претерпевают ужасную пытку. Есть некое несчастное, проклятое существо, огромное, страшное и такое, что наш мир не может его вместить. Это невидимое существо проникает всюду и оглашает пространство своими вечными стенаниями. Оно сделалось пленником вселенной, оно волнуется, мечется, бьется головой о пределы земли и неба. Оно не может раздвинуть их, все давит его, все теснит, все проклинает, все терзает, все ненавидит. Кто же оно и откуда явилось? Что это, мятежный ангел, которого изгнали из рая? И не есть ли весь наш мир ад, который стал для него тюрьмой? Или это ты, сила, которую мы чувствуем и видим? Или это вы, гнев и отчаяние, которые открываетесь нашим чувствам и передаетесь им? Или это ты, вечная ярость, гремящая над нашими головами и грохочущая на небе? Или это ты, дух неведомый и только ощутимый, который одновременно и господин и слуга, и раб и тиран, и тюремщик и узник? Сколько раз чувствовала я твой пламенный полет над моей головой! Сколько раз твой голос вызывал из глубины моего существа слезы сострадания, которые лились как горный поток или как дождь, хлынувший с неба! Когда ты во мне, я слышу твой голос, который кричит мне: «Ты страждешь, ты страждешь…». А мне хочется обнять тебя и плакать на твоей могучей груди; мне кажется, что страдание твое, как и мое, не знает предела и что муки мои нужны тебе, чтобы проникновенная жалоба звучала полнее. И я тоже кричу «Ты страждешь, ты страждешь…», но ты проходишь мимо, ты исчезаешь: ты умиротворяешься или засыпаешь. Луч луны разгоняет твои тучи, и кажется, что самая далекая звезда, которая блестит из-под твоего савана, смеется над твоим горем и повергает тебя в молчание. Порою мне чудится, что дух твой уносится шквалом, будто огромный орел, чьи крылья застилают собой все море и чей последний крик замирает среди волн. И я вижу, что ты побежден: побежден, как я; как я, слаб; как я, повержен. Небо озаряется и светится огнями радости, а мною овладевает какой-то бессмысленный ужас. Прометей, Прометей, ты ли это, ты, который хотел освободить человека от оков судьбы? Ты ли это, повергнутый ревнивым богом и пожираемый твоей неизбывною желчью, падаешь в изнеможении на свою скалу, не сумев освободить ни человека, ни себя самого, его единственного друга, его отца, может быть — его истинного бога? Люди дали тебе тысячи символических имен: смелость, отчаяние, бред, возмущение, проклятие. Одни назвали тебя дьяволом; другие — преступлением: я называю тебя желанием. Я сивилла, скорбная сивилла, я дух древних времен, которого заточили в мозг, не способный откликнуться на божественный зов, разбитая лира, умолкнувший инструмент, чьи мелодии были бы непонятны современным людям, но в глубине которого таятся едва слышные звуки вечной гармонии! Я жрица смерти, я чувствую, что уже была пифией, уже плакала, уже вещала, но, увы, не помню, не знаю слов, которые исцеляют; да, да, я вспоминаю о священных пещерах, таивших истину, и о провидческом исступлении, но я позабыла слово, открывающее тайны судьбы, потеряла талисман, несущий свободу. А меж тем я многое видела на свете, и когда страдание теснит меня, когда меня снедает негодование, когда я чувствую, как Прометей мечется у меня в груди и бьется своими огромными крыльями об камень, к которому он прикован, когда ад грохочет подо мной, как вулкан, готовый меня поглотить, когда духи моря приходят плакать у моих ног, а духи эфира трепещут над моим челом… О, тогда, одержимая бредом, которому нет имени, безграничным отчаянием, я ищу своего повелителя и неведомого друга, дабы он просветил мой ум и развязал мне язык… Но я тычусь в потемках, и мои усталые руки обнимают только обманчивые тени. О истина, истина! Чтобы отыскать тебя, я спускалась в пропасти, от одного вида которых у самых храбрых людей кружилась голова. Вместе с Данте и Вергилием я прошла сквозь все семь кругов волшебного сна. Вместе с Курцием я бросилась в бездну, которая тут же закрылась; я разделила с Регулом его страшную пытку; я всюду оставляла свою плоть и кровь; вместе с Магдалиной я припадала к подножию креста, и мой лоб омочен кровью Христовой и слезами Марии. Я всю жизнь искала, все выстрадала, во все верила, все приняла. Я становилась на колени перед всеми виселицами, меня сжигали на всех кострах, я падала ниц перед всеми алтарями. Я требовала от любви ее радостей, от веры — ее таинств, от страдания — его возвышающей силы. Я хотела служить богу всем, чем могла, я безжалостно измеряла глубины моего сердца, я вырвала его из груди, чтобы рассмотреть, я разодрала его на тысячу частей, я пронзила его тысячью кинжалов, чтобы лучше его познать. Я приносила в жертву эти разодранные куски всем богам небес и преисподней. Я вызывала всех духов, боролась со всеми демонами, молила всех святых и всех ангелов, я отдала себя всем страстям. Истина! Истина! Ты не открылась. Десять тысяч лет ищу я тебя и до сих пор не нашла! И десять тысяч лет, вместо ответа на мои крики, вместо облегчения моих предсмертных страданий, я слышу только, как разносится над этой проклятой землей отчаянный вопль бессильного желания! Десять тысяч лет я ощущала тебя в своем сердце и не могла понять тебя умом, не могла найти страшное заклинание, которое открыло бы тебя людям и позволило тебе царить на земле и на небе. Десять тысяч лет я кричала в пространство: «Истина! Истина!». Десять тысяч лет пространство отвечало мне: «Желание! Желание!». О скорбная сивилла, о безмолвная пифия, разбей себе голову о скалы твоего грота и смешай свою дымящуюся от ярости кровь с морскою пеной, ибо ты думала, что владеешь тайной всемогущего Слова, и десять тысяч лет ты его ищешь напрасно. …Лелия еще не кончила говорить, но Тренмор к ужасу своему почувствовал, как ее горячая рука, которую он держал в своей, холодеет. Потом она поднялась и как будто хотела броситься вниз. Тренмор пытался ее поддержать, но она совсем ослабела и упала на камень. Она была мертва. Всю жизнь Лелия провела под южным небом, она ненавидела страны, к которым солнце недостаточно щедро. Холод очень быстро ее убил, будто действуя заодно с ее врагами. Погубившая ее клика уже пала; на смену ей явилась другая, желавшая унизить свою соперницу, возвеличив память тех, кого та низвергла. Кардиналу были устроены великолепные похороны, а останки аббатисы были перенесены в монастырь камальдулов, где ее стали чтить как мученицу, как святую. Лелию похоронили на кладбище, и Тренмору было разрешено воздвигнуть памятник Стенио на противоположном берегу, неподалеку от заброшенной кельи отшельника; туда-то и перенесли останки поэта, которые было велено убрать из монастыря. Вечером, похоронив обоих своих друзей, Тренмор медленными шагами спустился к берегам озера. Взошла луна; она освещала своими косыми лучами две разделенных озером белых могилы. Как всегда, над затуманенною поверхностью воды появились блуждающие огни. Тренмор печально взирал на их белый свет и на грустный их танец. Он приметил две звездочки: явившись с противоположных берегов, они встретились, помчались друг за другом и так и оставались вместе всю ночь, то играя вдвоем в камышах, то скользя по спокойным водам, то едва мерцая в тумане, как две догорающие лампады. Тренмор был захвачен суеверной и соблазнительной мыслью. Целую ночь он следил за этими неразлучными огоньками, которые искали друг друга и друг за другом гнались, как две влюбленные души. Два или три раза они приближались к нему, и он называл их дорогими ему именами и плакал над ними, как ребенок. На рассвете все огоньки потухли. Две таинственные звездочки держались еще некоторое время на середине озера как будто им было тягостно расставаться. Потом они разошлись в разные стороны, будто каждая торопилась вернуться к родной могиле. Когда они совсем исчезли, Тренмор провел рукою по лбу, словно стремясь отогнать какой-то сон, оставшийся от ночи, страдальческой и томной. Он подошел к могиле Стенио и на мгновение остановился перед ней в нерешительности. — Как же я буду жить без вас? — воскликнул он. — Кому я теперь могу быть полезен? Чья участь будет мне дорога? На что нужны и мудрость моя и сила, если у меня больше нет друзей, которых я бы мог утешить и поддержать? Не лучше ли было бы и мне лежать здесь, в могиле, на берегу этого чудесного озера, близ этих двух безмолвных могил?.. Но нет, я еще не до конца искупил свой грех: Магнус, может быть, еще жив, может быть, я смогу его исцелить. К тому же всюду есть люди, которые борются и страдают, всюду есть долг, который надо выполнять, сила, которую надо применить к делу, предназначение, которое надо осуществить. Он издали поклонился мраморной плите, под которой покоилась Лелия. Он поцеловал ту, под которой опочил Стенио; потом посмотрел на солнце, на этот факел, призванный светить человеку в его труде, на этот вечно яркий маяк, указующий ему на землю, куда изгнан человек, где надо идти и действовать и где безмерность небес всегда раскрыта для сильного духом. Он взял свой посох и двинулся в путь.КОММЕНТАРИИ
Роман «Лелия» впервые был напечатан в 1833 году. У этой книги долгая и сложная история. «Лелия» имеет два совершенно различных варианта, 1833 и 1839 года. (Во всех собраниях сочинений обычно печатается окончательный вариант романа 1839 года.) Эта редакция романа печатается и в настоящем собрании сочинений. В основу «Лелии» легла повесть Жорж Санд «Тренмор», написанная в 1832 году и предназначенная для журнала «Ревю де де монд», где писательница начала сотрудничать с декабря того же года. Редактор журнала Бюлоз отклонил «Тренмора». Текст повести не сохранился, о нем можно судить лишь по письму Гюстава Планша, критика «Ревю де де монд», к Жорж Санд от 18 декабря 1832 года. В центре повести была история Тренмора, раскаявшегося игрока, попавшего на каторгу из-за шулерских проделок. Автора интересовала проблема нравственного перерождения под влиянием страдания. Лелия и Стенио играли в повести второстепенную роль, они только выслушивали исповедь Тренмора. По словам Планша, Лелия и Стенио «были освещены в повести скупым и неярким светом» Узнав, что Бюлоз отклонил повесть, Жорж Санд решает переработать ее в роман, значительно изменив сюжет и сконцентрировав все внимание на внутреннем мире Лелии. Утверждение писательницы, что она писала «Лелию» «как придется, не думая создавать цельное произведение, предназначенное для печати» («История моей жизни» т.IV), не совсем верно. Начиная с января 1833 года, более полугода, Жорж Санд усиленно работает над «Лелией», неоднократно изменяя первоначальный план, используя советы Г.Планша и Сент-Бева. Небольшая и несложная повесть вырастает в философский роман, в своеобразную авторскую исповедь. 15 мая в журнале «Ревю де де монд» были напечатаны 24-я — 28-я главы романа. В редакционном предисловии, принадлежащем, очевидно, перу Г.Планша, было написано «Жизнь внешнего мира в романе занимает мало места. Экспозиция, завязка, перипетии и развязка этой таинственной драмы развиваются и разрешаются в глубинах сознания». Полностью роман был закончен в июле 1833 года и в том же месяце вышел отдельным изданием с посвящением первому литературному учителю Жорж Санд — Латушу (впоследствии Жорж Санд сняла это посвящение). Тираж был всего 1600 экземпляров, и теперь это издание — одна из библиографических редкостей. Первый вариант «Лелии», 1833 года, впоследствии не переиздавался вплоть до 1960 года, когда издательством Гарнье он был напечатан вместе с текстом второго, окончательного варианта. Роман вызвал большой интерес, многочисленные критики изощрялись в отождествлении персонажей романа и отдельных ситуаций с биографией самой Жорж Санд и близких ей людей. В образе Тренмора находили сходство и с другом Жорж Санд Ф.Роллина (о чем, впрочем, она сама писала) и с Мериме. Утверждали, что Стенио — это Жюль Сандо, а куртизанка Пульхерия — портрет известной актрисы Мари Дорваль. В письме к Леруа де Шантепиль Жорж Санд признавалась, что в этот роман она «вложила самой себя больше, чем в какую-либо другую книгу». В психологии главной героини, в ее душевных метаниях и отчаянии получили выражение мысли, сомнения и душевное состояние Жорж Санд начала 1830-х годов. Эти сомнения и поиски были характерны для ее поколения. Роман «Лелия» это своего рода «исповедь дочери века», исповедь женщины, глубоко задумывающейся над проблемами жизни, с тревогой и болью вглядывающейся в окружающий мир и людей. 1832-1833 годы — время наибольшего пессимизма Жорж Санд, об этом она вспоминает в «Истории моей жизни»; ее письма этих лет полны отчаяния и тоски. Жорж Санд, как и многие французские романтики 1830-х годов, зачитывается Байроном. Горькое разочарование в жизни, свойственное байроническим героям, их дерзкий вызов обществу, их мизантропия питали настроение автора «Лелии» На страницах «Лелии» можно найти мысли, навеянные мрачной философией французского писателя Шарля Нодье. В эти годы Жорж Санд перечитывает роман Сенанкура «Оберман» и публикует о нем статью в журнале «Ревю де де монд» (июнь 1833 года). Она подчеркивает современность книги, написанной еще в 1804 году ибо, утверждает она, «наша эпоха отмечена великим множеством душевных страданий, прежде не наблюдавшихся, но ныне ставших заразительными и смертельными» Она замечает, что Оберман воплощает ту душевную опустошенность, тоску безверие, бессилие, которые свойственны ее поколению. «Есть страдание, которое переносится тяжелее, чем любое личное горе… Это страдание — общее несчастье, это страдание всего человечества», — писала она своему другу Ф.Роллина, делясь с ним замыслом «Лелии». «Лелия» — не книга, это крик скорби» — так определила писательница свой новый роман в письме к Мари Талон (10 ноября 1834 года). Лелия сродни великим скорбникам романтической литературы — Оберману, Рене, Манфреду. Источник скептицизма Жорж Санд — ложь цивилизации, построенной на социальной несправедливости, ее враждебность человеку. В 1833 году Жорж Санд крайне пессимистично оценивает прогресс, по сути дела отрицая возможность изменения общества. Первый вариант «Лелии» отличался смелыми, резкими выпадами против основ современного Жорж Санд мира. Лелия всему бросала вызов и, проклиная мир, замыкалась в гордом, одиноком отчаянии. В первой редакции романа Лелия погибала от руки полубезумного Магнуса, так и не примирившись с жизнью, не найдя исхода своему отчаянию. В 1835 году Жорж Санд решает внести ряд изменений в роман. В предисловии к изданию 1839 года она говорит, что изменила местами только стиль книги. В действительности же роман подвергся настолько значительным и серьезным переделкам, что второй вариант, по сути дела, — новая книга, имеющая иное общее звучание. Смысл переработки, затянувшейся на три с лишним года (окончательный вариант романа «Лелия» был опубликован в сентябре 1839 года издательством Ф.Боннэра) Жорж Санд раскрыла в письме к Ламенне от 3 мая 1836 года: «Я хочу закончить книгу, в которую я когда-то вложила всю горечь своих страданий, а теперь хочу осветить ее заблестевшим мне лучом надежды». Первый вариант «Лелии» с ее безысходным мрачным отчаянием не соответствовал взглядам Жорж Санд второй половины 30-х годов, пафосу ее новых произведений, содержание которых выходило теперь за пределы романтического бунта одиноких героинь. Знакомство с республиканцем Мишелем из Буржа, а главным образом с Пьером Леру оказало значительное влияние на мировоззрение писательницы. Не мрачное, одинокое отчаяние, а стремление к активной деятельности на благо человечества воодушевляет теперь Жорж Санд и ее героев. Книга отчаяния превращается в книгу надежды. Жорж Санд смягчает, а иногда вычеркивает особо пессимистические тирады героев, приводят Лелию к преодолению индивидуализма, к поискам деятельной жизни, к вере в будущее прогрессивное развитие человечества. «Эта книга ввергла меня в скептицизм, теперь она меня от него спасает… Броситься в объятия матери Природы… стоически и убежденно вычеркнуть из своей жизни всю… тщеславную суету… плакать о нищете бедных и видеть успокоение в падении богатых» — так определяет Жорж Санд новую идею романа в письме к госпоже Агу (10 июля 1836 года). Большое место отводится в романе учению Пьера Леру о всеобщей солидарности людей. Одновременно с «Лелией» Жорж Санд в 1838 году писала роман «Спиридион», являющийся непосредственным изложением взглядов Пьера Леру. Леру, по просьбе Жорж Санд, принимал участие в редактировании вновь написанных глав «Лелии». В феврале 1839 года в письме госпоже Марлиани писательница просила передать рукопись романа Леру, чтобы он исправил корректуру, «конечно с философской точки зрения». «Он согласится на этот труд, добавляла писательница, — из дружеских чувств ко мне, а также во имя тех идей, которые я излагаю в „Лелии“. В новой редакции большое внимание уделяется Тренмору который становится одним из руководителей тайной карбонарской организации. Появляется новый образ — кардинал Аннибал Кардинал в духе другого учителя Жорж Санд, аббата Ламенне, подвергает критике католическую церковь. В «Лелии» 1839 года усилены социальные мотивы. Героиня решительнее, чем в 1833 году, осуждает неравноправие женщин, возмущается характером буржуазного брака. Жорж Санд включает в роман страстную в своем социальном обличении «Песнь Пульхерии» Герои философского романа Жорж Санд не столько реальные люди, данные в их неповторимости и своеобразии, сколько выразители различных философских взглядов, символы того или иного миропонимания или мироощущения. В предисловии 1839 года Жорж Санд писала о своих героях: «Они не совсем реальны… но они и не полностью аллегоричны, каждый из них олицетворяет направление философской мысли XIX века: Пульхерия — эпикуреизм, унаследованный от софизмов предшествующего столетия, Стенио — восторженность и слабость поколения, у которого мысль то парит очень высоко, возбуждаемая воображением, то падает очень низко, раздавленная действительностью, лишенной величия и поэзии… Делия… воплощение спиритуализма нашего времени». Главное места в романе занимают философские дискуссии, единство и цельность произведения — в раскрытии сложного мира мыслей и чувств Лелии. Роман вызвал резкие нападки реакционной критики, которая обвиняла Жорж Санд в подрыве общественных устоев, в развращении мыслей и чувств читателей. Капо де Фейид в газете «Эрой литерер» (22 августа 1833 года) назвал «Лелию» непристойной и опасной книгой, вызывающей отвращение и ужас. Ему вторили Дезессар в газете «Франс литерер», Л.Гозлан — в «Фигаро», «Лелия» сделала Жорж Санд одиозной фигурой в глазах клерикалов. Крупнейшие писатели — современники Жорж Санд отнеслись к роману с большим интересом, видя в нем выражение трагической и беспокойной мысли своего времени. Шатобриан писал Жорж Санд: «Я не осмеливался докучать вам выражением своего восхищения, которое значительно усилилось после чтения „Лелии“. Вы будете жить, сударыня, и вы станете лордом Байроном Франции» (16 августа 1833 года) Наиболее обстоятельный и полный разбор романа был сделан Сент-Бевом. Указывая на стилистические недочеты книги, Сент-Бев в целом очень высоко оценивал произведение Он отмечал горечь авторской мысли, называл роман «книгой гнева» и решительно возражал против обвинения Жорж Санд в безнравственности (газета «Насьональ», 29 сентября 1833 года). В своей статье, напечатанной в журнале «Ревю де де монд» Г.Планш подробно анализировал философскую концепцию книги. «Это сама мысль века», — писал он. В России роман «Лелия» был известен менее других произведений Жорж Санд. Философская проблематика книги была далека от вопросов, волновавших русское общество конца 30-х годов. Распространение французского текста было запрещено цензурой в 1834 году. В решении цензурного комитета указывалось: «Содержание романа наполнено метафизическими отвлеченностями и софизмами, направленными против общественных понятий, нравственности и веры». Это решение цензуры задержало и публикацию русского перевода. Внимание русских читателей к роману привлек поэт и критик Аполлон Григорьев, написавший стихотворение «К Лелии» (1845), в котором он подчеркивал бунтарский характер героини Жорж Санд. Хотела б тщетно ты мольбою и слезами Душе смирение и веру возвратить. Аполлон Григорьев особенно высоко оценивал первый вариант романа (журнал «Русская беседа», 1856, N3), Перевод «Лелии» был напечатан в 1897 году в собрании сочинений Жорж Санд (изд. Пантелеева). С тех пор на русском языке роман не публиковался. В настоящем издании он печатается в новом переводе. …Милтон, изобразивший таким благородным и таким прекрасным чело своего падшего ангела? — Речь идет о поэме Джона Милтона (1608-1674) «Потерянный рай», где падший ангел Сатана воплощает богоборческое начало. Лара — герой одноименной поэмы (1814) Байрона. …истории прокаженного из Аосты. — Имеется в виду повесть французского писателя Ксавье де Местра (1763-1852) «Прокаженный из города Аосты». Тассо Торквато (1544-1595) — поэт итальянского Возрождения, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим». …умирающая Коринна слушала свои последние стихи… — Коринна — поэтесса, героиня одноименного романа французской писательницы Анны-Луизы-Жермены де Сталь (1766-1817), умирает в Италии, покинутая своим возлюбленным. Оберман — герой одноименного романа французского писателя Этьена Пивера де Сенанкура (1770-1846). Сен-Пре — герой романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Исайя — один из библейских пророков. Свое красноречие Исайя обрел будто бы от серафима, который коснулся его уст горящим углем. Неопалимая купина — горящий, но не сгорающий куст терновника, в образе которого, согласно библейской легенде, явился бог Моисею на горе Хорив. …античный бог, который, по преданию, каждый вечер возвращается в море… — Имеется в виду Феб. …вы станете кусать землю и есть песок, как Навуходоносор? — По библейской легенде царь ВавилонаНавуходоносор (VI в. до н.э.), разгромив Иерусалим, угнал евреев в рабство и всячески угнетал их, за что бог наслал на него безумие; Навуходоносор превратился в животное и семь лет питался травой. Иов — библейский патриарх, прославившийся тем, что сохранял непоколебимую веру в бога, несмотря на все испытания, которым тот подвергал его. И все же были минуты, когда Иов роптал и проклинал день, в который увидел свет. Иеремия — библейский пророк. …похожая на пророка, сидевшего на горе и оплакивавшего Иерусалим — то есть на Иеремию после разрушения Иерусалима вавилонянами. Амфитрион — герой древнегреческого мифа, пьесы Софокла и одноименной пьесы Мольера. Здесь — в значении «гостеприимный хозяин». На что нам светлых призраков круженье. — Строфа LVIII песни I из поэмы Альфреда де Мюссе «Намуна» (1832). Лаиса — греческая куртизанка, жившая в IV в. до н.э. в Коринфе. Лонг (III-II в. до н.э.) — древнегреческий писатель, автор пасторального романа «Дафнис и Хлоя». …припадки истерического фанатизма святой Терезы… — Святая Тереза (1515-1582) — испанская монахиня, канонизированная католической церковью, автор книг, в которых она описывала свои мистические видения, приводившие ее в состояние экстаза. …наивную переписку Франциска Сальского и Марии де Шанталь. — Франциск Сальский (1567-1622), епископ Женевский, автор многочисленных богословских книг, был исповедником Жанны (а не Марии) де Шанталь, известной в XVI веке своей мистической верой. Евхаристия — таинство причастия. Скука разъедает мне жизнь… скука меня убивает. — Лелия повторяет слова Обермана, героя одноименного романа Сенанкура. Оссиан — легендарный шотландский певец. Под этим именем Джеймс Макферсон издал в 1762 году сборник своих поэтических произведений, в которых большое место занимали описания дикой северной природы. Мессалина — жена римского императора Клавдия (I век н.э.), известная любовными похождениями. Оставьте надежду у врат этого ада… — Жорж Санд перефразирует стих из «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк, сюда входящий» («Ад», песнь III, ст. 9). Это туча, которой Моисей окутал восставший против бога Египет. — Имеется в виду библейский эпизод, бог наслал тьму на египтян, подвергавших евреев всяческим гонениям. «О честь моя, ты больна!» — строка из пьесы Педро Кальдерона де ла Барка (1600-1681) «Врач своей чести», д. II, яв. 6. Святой дух возложил на меня свою десницу, как на Иакова. — Иаков, библейский патриарх, согласно легенде одолел ангела в борьбе. Ангел возложил на него руки и предрек славу ему и его потомству. Обитель камальдулов. — Камальдулы — один из средневековых мужских монашеских орденов, по своему уставу близкий к бенедиктинцам. Жорж Санд превратила монастырь камальдулов в женский. Ессеи и терапевты — иудейские религиозные секты, предшественники христианства. Альфьери… к предмету своей недостойной страсти. Витторио Альфьери (1749-1803) — итальянский поэт, автор трагедий. Здесь речь идет о его увлечении некоей маркизой Туринетти. Бенвенуто — то есть Бенвенуто Челлини (1500-1571), итальянский скульптор и ювелир. Лакрима-кристи — название вина. В переводе на русский христовы слезы. Земля Ханаанская. — Ханаан — древнее название Палестины, куда евреи стремились вернуться из египетского плена Здесь употребляется в значении «желанная, обетованная земля» Рыцари Круглого стола — рыцари короля Артура, героя средневековых бретонских легенд. Их подвиги послужили сюжетом для многочисленных рыцарских романов. Сафо (ок.628-568 до н.э.) — древнегреческая поэтесса, воспевавшая любовь как сильную трагическую страсть. Согласно преданию, Сафо бросилась со скалы в море из-за несчастной любви. Ты переоденешь меня в женское платье, и мы вспомним… графа Ори. — Граф Ори, персонаж одноименной комической оперы (1828) Россини, проникал переодетым в женский монастырь. На реках Вавилонских… — начальные слова псалма 136 (Библия). Евреи, лишившиеся Иерусалима, взяты в плен вавилонянами, они скорбят по своей утерянной родине. Баптистерий — здание, предназначенное для совершения обряда крещения. В средние века и в эпоху Возрождения баптистерии строились обычно рядом с соборами (например, во Флоренции). Неужели же никто не знает ее имени? — Следующее затем у Жорж Санд описание пострижения не вполне точно соответствует религиозной церемонии. Блаженный Августин (354-430) — один из отцов католической церкви, автор многочисленных богословских сочинений. Коленопреклоненная у своей арфы… Каждый невольно думал о святой Цецилии. — Святая Цецилия считается у католиков покровительницей музыки, ее обычно изображают играющей на органе. Ключи Святого Петра — то есть ключи от рая, которые, согласно христианской легенде, Христос вручил апостолу Петру. …повесить, подобно девам Сиона, арфы на ивы вавилонские… — то есть отказаться от радости, от веселья. Плиний — Плиний Младший (62-120), римский писатель. Элизиум — в античной мифологии прекрасный луг, где пребывают души умерших героев и мудрецов; в переносном, поэтическом смысле — обитель блаженного успокоения. Ловлас — герой романа английского писателя Ричардсона (1689-1761) «Кларисса Гарлоу», развратный аристократ. …умер смертью Иуды Искариота — то есть покончил с собой. …вы предпочли молиться как Мария, когда надо было действовать как Марфа. — Имеется в виду эпизод из Евангелия: Христос вошел в дом к двум сестрам; одна из них, Марфа, стала хлопотать об угощении, другая, Мария, внимала поучениям Христа Имя Марфы стало символом практической деятельности, а Марии — молитвенного созерцания. Разве самаритянин отшатнулся брезгливо, увидев отвратительную язву еврея? — В одном из эпизодов Евангелия самаритянин, увидев незнакомого ему больного человека, перевязал его раны и язвы и позаботился о нем. Курций — юноша-патриот, который, согласно легенде, бросился в пропасть, разверзшуюся посреди римского Форума. Этой ценой был спасен Рим. Регул Марк Атилий (III в. до н.э.) — римский консул. Находился в плену в Карфагене и был отпущен в Рим, чтобы склонить римлян заключить мир с Карфагеном и обменять пленных. По условию, в случае неудачи он обязан был вернуться в Карфаген. В Риме он произнес речь, в которой уговаривал сограждан не заключать мира. Он вернулся в Карфаген и умер под пытками.Лукреция Флориани Жорж Санд
Предисловие

Любезный читатель (обращение это старинное, но самое лучшее), предлагаю на суд твой новое свое сочинение в жанре, который был известен уже древним грекам; боюсь, оно тебе не слишком понравится. Миновали времена, когда
…В введении своем молил писатель,
Чтоб снисхождение к нему явил читатель.
I
Юный князь Кароль фон Росвальд лишился матери незадолго до своего знакомства с Флориани. Он был еще погружен в глубокую печаль, и ничто его не радовало. Княгиня фон Росвальд была превосходная, нежная мать, она окружала своего хилого, болезненного сына неусыпными заботами и самоотверженным уходом. Никогда не разлучаясь с этой достойной и благородной женщиной, он за всю свою жизнь изведал лишь одно сильное чувство — сыновнюю любовь. Взаимная привязанность сына и матери превратила обоих в людей необыкновенных, но вместе с тем в их взглядах и чувствах было, пожалуй, что-то ограниченное. Правда, княгиня слыла женщиной весьма умной и широко образованной; ее речи и наставления были для юного Кароля важнее всего. Слабое здоровье закрыло мальчику путь к классическим занятиям, утомительным, сухим и упорным: сами по себе они не идут ни в какое сравнение с уроками просвещенной матери, но имеют то бесспорное преимущество, что приучают к труду, ибо служат неким ключом к познанию жизни. Отказавшись по совету врачей от педагогов и книг, княгиня фон Росвальд решила развивать ум и сердце сына, беседуя с ним, обо всем ему рассказывая, — словом, старалась вдохнутьв него свою душу, и он с восторгом впитывал ее нравственные правила. Вот как случилось, что он многое узнал, ничему не учившись. Однако ничто не заменит опыта, и пощечина, которой в дни моего детства еще награждали малышей для того, чтобы в их памяти навсегда сохранилось воспоминание о глубоком чувстве, историческом событии, нашумевшем злодеянии или каком-либо ином примере, коему надлежало подражать или коего, напротив, следовало остерегаться, — пощечина эта не была такой уж нелепостью, как нам представляется ныне. Мы теперь больше не награждаем ею своих детей, но они ее так или иначе получают, и тяжелая десница опыта оставляет след куда более болезненный, чем родительская рука. Итак, юный Кароль фон Росвальд узнал свет и жизнь рано, пожалуй, даже слишком рано, но узнал он их лишь умозрительно, а не на собственном опыте. Движимая похвальным стремлением возвысить душу сына, мать позволяла приближаться к нему только людям благородным, чьи наставления и пример могли стать для него благодетельными. Он хорошо понимал, что вне их кругавстречаются злодеи и глупцы, и научился избегать их, никогда не вступая с ними в общение. Кароля учили помогать обездоленным; ворота дворца, где прошло его детство, неизменно были открыты для нуждающихся; но, облегчая участь бедняков, он приучил себя не вникать в причину их невзгод и взирал на них, как на неисцелимую язву рода человеческого. Распутство, лень, невежество или недостаток здравого смысла — все эти роковые источники нравственного падения и нищеты не без основания представлялись ему неисправимыми пороками отдельных людей. Никто не объяснил ему, что простолюдины должны и могут постепенно от них освободиться и что, стараясь сделать человечество лучше, то споря с ним, то браня его, то лаская, как любимое детище, прощая ему новое грехопадение во имя его медленного продвижения вперед, человек приносит больше пользы обществу, чем тогда, когда он из сострадания оказывает ограниченную помощь немощным и пораженным неизлечимыми недугами членам общества. Нет, дело обстояло не так. Кароль усвоил, что милостыня — наш долг, который, конечно же, надо выполнять до тех пор, пока нынешнее социальное устройство делает ее необходимой. Но ведь это всего лишь одна из обязанностей, какие налагает на каждого любовь к необъятной человеческой семье. Существует еще множество иных обязанностей, и первая среди них — не жалеть, а любить ближнего своего. Юноша горячо поверил тому, что зло следует ненавидеть; но он усвоил это правило чересчур буквально и решил, что надлежит жалеть тех, кто творит зло; однако повторю вновь: жалетьмало. Чтобы стать справедливым и не отчаиваться в грядущем, надобно любить. Негоже чересчур уж щадить себя, негоже обольщаться тем, что совесть у тебя самого чиста, а потому, мол, ты можешь быть вполне доволен собою. Славный юноша был достаточно великодушен и потому, наслаждаясь окружавшей его роскошью, испытывал угрызения совести, памятуя, что люди и большинстве своем лишены даже самого необходимого; однако сострадание его не распространялось на их нравственное убожество. Образ мыслей Кароля был недостаточно возвышен, он никогда не говорил себе, что всеобщая испорченность набрасывает тень даже на тех, кто ею не заражен, а потому первый долг всякого, кто устоял перед царящим в мире злом, — вести с ним непримиримую борьбу. С одной стороны, он наблюдал аристократизм духа, утонченность ума, чистоту нравов, врожденное благородство чувств и говорил себе: «Будем с этими». С другой же стороны, видел отупение, низость, глупость, разврат, но не говорил себе: «Пойдем и попытаемся, если возможно, возвратить несчастных на путь истинный». Нет! Его приучили думать: «Они погибли! Дадим им хлеб и одежду, но не станем подвергать опасности свою душу, тесно соприкасаясь с их душами. Они погрязли во зле и в скверне, предоставим же их милосердию божьему». Привычка всего остерегаться мало-помалу переходит в своего рода эгоизм, и в глубине души княгиня была несколько суховата. Особенно когда дело касалось не ее самой, а сына. Она искусно отдаляла Кароля от его сверстников, едва лишь начинала подозревать, что те сумасбродны или просто ветрены. Она боялась, чтобы он общался с людьми, непохожими на него; а ведь именно такое общение и делает нас мужественными, придает нам силу и позволяет не только не поддаваться первому же соблазну, но, наоборот, противиться дурному примеру, сохранять свое влияние на других и способствовать торжеству добра. Не будучи ни ханжой, ни святошей, княгиня была женщина достаточно благочестивая. Истинная и правоверная католичка, она не закрывала глаза на грехи окружающих, но не ведала против них иного лекарства, кроме долготерпения ради вящей славы высоких догматов церкви. «Даже папа может ошибаться, — говаривала она, — он ведь тоже человек; но папство непогрешимо: оно — божественное установление». Вот почему идеи прогресса с трудом доходили до ее разума, и Кароль рано научился подвергать их сомнению и не уповал на то, что род людской может обрести спасение на земле. Он не так строго соблюдал религиозные обряды, как его мать (в наше время молодые люди, что там ни говори, быстро освобождаются от подобных пут), но верил в доктрину, утверждающую, что люди доброй воли спасутся, злая же воля прочих не может быть сломлена; доктрина эта довольствуется немногими избраннымии равнодушно взирает на то, как званые, которых гораздо больше, ввергают себя в геенну вечного зла: унылая и мрачная, она превосходно согласуется со взглядами знати и привилегиями богатых. На небесах, как и на земле, рай ожидает немногих, а всем остальным уготован ад. Слава, благополучие и награды — удел единиц; стыд, унижение и кара ожидают почти всех.Человек по природе своей добродетельный и возвышенный, впадая в подобное заблуждение, расплачивается за это неизбывной грустью. И только люди бесчувственные и глупые безропотно мирятся с таким положением. Княгиня фон Росвальд страдала от фатализма католической веры, суровые установления которой она не решалась подвергать сомнению. Дама эта была постоянно исполнена торжественной, можно даже сказать, назидательной важности и мало-помалу приобщила к ней сына, — если не внешне, то внутренне. Вот почему Кароль никогда не знал веселья, непосредственности, слепой и благотворной доверчивости, свойственной детству. По правде сказать, у него и вовсе не было детства: думы его были окрашены меланхолией, и даже когда для него наступила пора романических увлечений, воображение его волновали лишь романы мрачные и печальные. Несмотря на ложный путь, по которому следовал дух Кароля, в его натуре было много очарования. Добрый, мягкосердечный, всегда и во всем утонченный, он уже в пятнадцать лет соединял очарование отрока с серьезностью взрослого. Он был хрупок и физически и душевно. Но именно отсутствие развитой мускулатуры позволило ему сохранить неотразимо прелестный облик, как бы лишенный примет возраста и пола. Внешне он совсем не походил на мужественного и отважного отпрыска вельмож былых времен, которые умели лишь пить, охотиться да воевать; не походил он также на миловидного, но изнеженного розового херувима. Скорее он чем-то напоминал те совершенные творения, которыми живописцы средних веков украшали христианские храмы: дивноликий ангел, прекрасный, как высокая скорбная женщина, гибкий и стройный, как юный бог с Олимпа; и венчало этот неповторимый облик выражение его лица — одновременно нежное и суровое, непорочное и страстное. Это и составляло основу его натуры. Вряд ли существовали помыслы более чистые и вместе с тем более восторженные; вряд ли существовали более глубокие, бескорыстные и самоотверженные привязанности. Если бы можно было забыть о существовании рода людского и поверить, будто он сосредоточился и воплотился в одном-единственном человеке, то именно Каролю стали бы поклоняться на развалинах мира. Однако он был недостаточно связан с другими людьми. Он понимал лишь то, что было сродни ему самому: свою матушку, чьим безупречным и ярким отражением он был; Бога, о котором он составил себе весьма странное и подходившее к складу его ума представление; и, наконец, возвышенный идеал женщины, которую он сотворил по своему образу и подобию и заранее любил, еще не зная. Все остальное казалось ему только неким докучливым сновидением, от которого он стремился избавиться, живя среди людей в полном одиночестве. Всегда погруженный в мечты, Кароль был совершенно лишен чувства реальности. Ребенком он не мог прикоснуться к ножу, не поранившись при этом; став мужчиной, он с трудом выносил общество человека, непохожего на него самого: он испытывал болезненное чувство от столкновения с этим живым противоречием. От постоянного противоборства его спасало ставшее привычным стремление не замечать и не слышать того, что вообще было ему не по нраву, даже если это и не затрагивало его собственных пристрастий. Люди, мыслившие иначе, чем он, представлялись ему какими-то призраками, но вместе с тем Кароль отличался пленительной учтивостью, а потому можно было счесть вежливым доброжелательством то, что на самом деле было с его стороны лишь холодным презрением или даже неодолимым отвращением. Весьма странно, что при таком характере у юного князя были друзья. А между тем они у него были, и не только друзья его матери, которые чтили в нем достойного сына благородной женщины, но и его сверстники, которые горячо любили Кароля и верили, что он тоже их любит. Он и сам так думал, но любил-то он их скорее умом, а не сердцем. Он создал себе высокое представление о дружбе и в пору первых иллюзий искренне верил, что он и его друзья, воспитанные примерно в том же духе и в тех же правилах, никогда не изменят своих воззрений и не придут к разладу. И все же это произошло; Каролю было двадцать четыре года, когда скончалась его мать, и тут он обнаружил, что почти все друзья наскучили ему. Лишь с одним, самым верным, остался он близок. То был молодой итальянец, несколькими годами старше его, с благородным лицом и великодушным сердцем; человек пылкий и восторженный, он всем отличался от юного князя, но одно по крайней мере сближало их: как и Кароль, он пламенно любил прекрасное в искусстве и исповедовал идеалы рыцарской верности и прямодушия. Это именно он оторвал Кароля от гробницы матери, увез под животворное небо Италии и впервые ввел в дом Флориани.
II
Но кто ж такая эта Флориани, уже дважды упомянутая в предшествующей главе, хотя при этом мы ни на шаг не приблизились к ней? Терпение, друг читатель. В тот самый миг, когда я уже собрался постучать в двери дома моей героини, я вдруг заметил, что недостаточно познакомил вас со своим героем и мне придется просить вас благосклонно отнестись к еще кое-каким длиннотам. Нет на свете никого, кто был бы требовательнее и нетерпеливее читателя романов; но меня это нимало не заботит. Мне надо показать всего человека, иными словами — целый мир, беспредельный океан противоречий, разноречивых черт, слабостей и высоких порывов, здравых суждений и необдуманных поступков, а вы хотите, чтобы мне хватило для этого одной коротенькой главы! Ну нет, я не справлюсь с такой задачей без некоторых подробностей и торопиться не стану. Ежели вас это утомляет, пропустите несколько страниц, но коли позднее вы не поймете поведения героя, сами будете виноваты, а не я. Человек, которого я вам представляю, — именно он, а не кто другой. Я мало что объясню, сказав, что он молод, красив, хорошо сложен и обладает прекрасными манерами. Все герои романов таковы, а мой герой — существует ли он на самом деле или выдуман мною — человек, которого я вижу как живого и стремлюсь нарисовать его. Нрав у него весьма определенный, но к врожденным качествам человека невозможно, увы, применить сакраментальные слова, которыми пользуется естествоиспытатель, определяя аромат растения или минерала и говоря, что они издают запах sui generis. [49] Выражение «sui generis»ничего не объясняет, а я утверждаю, что у князя Кароля фон Росвальда был нрав sui generis, который объяснить можно. В силу хорошего воспитания и природной утонченности внешне он был так ласков и сердечен, что обладал даром нравиться даже тем, кто его почти не знал. Красивое лицо сразу же вызывало расположение к нему, хрупкое телосложение придавало ему особый интерес в глазах женщин; широкая образованность и живость ума, ненавязчивая и приятная, но при этом своеобразная манера вести беседу привлекали к князю внимание людей просвещенных. Что же до тех, кто был не столь утончен, то им нравилась его изысканная учтивость; она действовала на них неотразимо, ибо в простоте душевной они не подозревали, что держать себя так он почитает своим долгом, но не вкладывает в это ни крупицы подлинного чувства. Будь этим людям дано постичь Кароля, они бы сказали, что в нем больше любезности, чем любви, и, если судить по его отношению к ним, они были бы правы. Но как могли они разгадать его душу, когда редкие сердечные привязанности юного князя были такими пылкими, глубокими и прочными. Вот почему Кароля все же любили, если и не с уверенностью, то, во всяком случае, с надеждой на ответное чувство с его стороны. Юные друзья князя, замечая, как он слаб и неловок в физических упражнениях, и не думали презирать его за это, тем более что и сам он не обольщался на собственный счет. Когда в разгаре их буйных потех он осторожно опускался на траву и с грустной улыбкой говорил своим товарищам: «Развлекайтесь, милые друзья, я не в силах ни бороться, ни бегать наперегонки; а когда устанете, присядете отдохнуть рядом со мною», — то порою случалось, что даже самые неутомимые — ведь сила естественная покровительница слабости! — великодушно отказывались от своих излюбленных гимнастических упражнений и присаживались возле него. Среди тех, кто был очарован, даже заворожен поэтической натурой Кароля и изяществом его ума, следует прежде всего упомянуть Сальватора Альбани. Этот славный молодой человек был олицетворением прямоты; однако Кароль приобрел над ним такую власть, что тот никогда не отваживался открыто противоречить юному князю, хотя некоторые взгляды Кароля казались Сальватору несуразными, а привычки — причудливыми. Он опасался разгневать приятеля и вызвать охлаждение к себе, как это уже произошло со многими другими. Он заботился о Кароле, как о малом ребенке, когда тот — скорее нервный и впечатлительный, нежели и в самом деле больной, — уходил к себе в комнату, желая скрыть от матери свое недомогание, которое ее так тревожило. Мало-помалу Сальватор Альбани сделался просто необходим юному князю. Он понимал это и, когда пыл молодости побуждал его искать развлечений на стороне, либо жертвовал своими удовольствиями, либо из великодушия лицемерил и таил их, говоря себе, что если Кароль его разлюбит, то не захочет долее сносить дружеские заботы и добровольно обречет себя на гибельное одиночество. Таким образом, Сальватор любил Кароля потому, что тот нуждался в нем; он из какого-то необъяснимого чувства жалости весьма снисходительно относился к возвышенным взглядам князя, которых тот упрямо придерживался. В угоду Каролю он восторгался стоической философией, хотя сам в сущности был, как говорится, эпикурейцем. Утомленный безумствами, которым он предавался накануне, Альбани покорно читал у изголовья Кароля сочинение об аскетизме. Он простодушно восторгался картиной единственной, необычайной, неслабеющей и беспредельной любви, которой предстояло заполнить жизнь его юного друга. Он и вправду находил такую любовь великолепной, но сам не мог обходиться без легких интрижек и скрывал от князя свои многочисленные амурные похождения. Эта невинная ложь могла продолжаться лишь до поры до времени, и мало-помалу Кароль с горечью убедился, что его друг отнюдь не святой. Однако когда пробил час этого грозного испытания, Сальватор уже стал ему так необходим и Кароль к тому же был вынужден признать за ним столько превосходных качеств ума и сердца, что волей-неволей продолжал любить друга, правда, гораздо меньше, чем прежде, но все же настолько, что постоянно нуждался в его обществе. Тем не менее он так и не смог примириться с юношескими похождениями Сальватора, и эта привязанность, вместо того чтобы смягчать привычную печаль Кароля, терзала его, точно рана. Сальватор страшился суровости княгини фон Росвальд еще больше, нежели суровости Кароля, и старательно скрывал от нее то, что с таким ужасом обнаружил юный князь. Длительная и тяжкая болезнь, которая в конце концов свела ее в могилу, также способствовала тому, что она в последние годы жизни стала менее проницательна; когда же Кароль узрел тело матери на смертном одре, он впал в такое беспросветное отчаяние, что Сальватор вновь обрел над ним былое влияние: только он был способен удержать князя от решимости уморить себя. Уже во второй раз смерть поразила предмет глубокой душевной привязанности Кароля. Когда-то он любил юную девушку, которую прочили ему в жены. То был единственный роман в его жизни, и мы поговорим о нем в свое время и в надлежащем месте. Отныне ему некого было любить на земле, кроме Сальватора. И он любил его; но любил с надрывом, страдая и испытывая горечь оттого, что друг не способен чувствовать себя таким же несчастным, как он сам. Через полгода после постигшего Кароля удара, без сомнения, более страшного и чувствительного, чем смерть невесты, князь фон Росвальд мчался в почтовой карете, вихрем вздымавшей горячую пыль, — он путешествовал по Италии, куда его против воли увлек настойчивый друг. Сальватор стремился к удовольствиям и веселью, однако он всем пожертвовал ради того, кого называли «его балованным ребенком». Когда при нем так говорили, он отвечал: «Скажите лучше, что он — мой любимый ребенок; но хотя госпожа фон Росвальд и я сам нежно лелеяли Кароля, ни душа его, ни нрав от того не пострадали. Он не стал ни капризным, ни деспотическим, не сделался он ни неблагодарным, ни сумасбродным, он чувствителен к малейшим знакам внимания и признателен мне за преданность гораздо больше, нежели я того заслуживаю». Такое признание свидетельствовало о великодушии самого Сальватора, но говорил он сущую правду. У Кароля не было мелких недостатков. Был лишь один — огромный, не зависевший от его воли и гибельный: душевная нетерпимость. Князь не умел подчинять свои чувства и помыслы любви к ближнему и потому не мог усвоить более широкий взгляд на дела человеческие. Он принадлежал к тем, кто видит добродетель в воздержании от зла, но не понимает самой сути Евангелия, букве которого, впрочем, неукоснительно следует, — а именно той любви кающегося грешника, что вызывает большее ликование на небесах, нежели твердость и постоянство сотни праведников, той веры в возвращение заблудшей овцы, словом, самого духа Христа, который вытекает из всего его учения и присутствует во всех его речах, призывая понять, что тот, кто любит, даже если он и заблуждается, выше того, кто шествует прямой, но холодной и одинокой стезею. Общаться с Каролем в повседневной жизни было одно удовольствие. Его доброжелательность принимала самые различные формы, отмеченные необычайным очарованием, и он выражал свою признательность с таким глубоким чувством, что с лихвою отплачивал за дружеское к себе расположение. Даже в его печали, которая казалась неизбывной и которой, как он сам думал, не будет конца, таилась некая отрешенность, словно князь лишь уступал стремлению Сальватора сохранить его для жизни. На самом же деле слабое здоровье Кароля вовсе не было непоправимо расстроено и жизни его не угрожала серьезная опасность; однако привычка постоянно чувствовать себя больным и никогда не испытать свои силы внушила ему уверенность, что он не надолго переживет мать. Он незаметно убедил себя, что чахнет с каждым днем, и, обуреваемый подобными мыслями, принимал заботы Сальватора, тая от друга свою уверенность, что он, Кароль, уже недолго будет в них нуждаться. Внешне князь выказывал много мужества; если он и не принимал с неодолимой беспечностью молодости мысль о близкой кончине, то, во всяком случае, ожидал ее с каким-то горьким сладострастием. Исполнившись такой уверенностью, он с каждым днем все больше отдалялся от людей и уже не считал себя частицей человечества. Все земные горести становились ему чужды. Кароль думал, что Господь Бог конечно же избавил его от необходимости тревожиться о том, что вокруг столько зла, и бороться с этим злом, коль скоро отпустил ему такой малый срок для жизни на земле. И он смотрел на это как на милость, ниспосланную ему в награду за добродетели матери; видя, что страдание, точно кара, неотделимо от людских пороков, он благодарил небо за то, что ему даровано страдание без грехопадения, даровано как некий искус, дабы помочь ему очиститься от скверны первородного греха. И он мыслью устремлялся к иной жизни, погружаясь в тайные мечты. В сущности, то был итог его размышлений над католическими догматами, ну, а подробности дорисовывало поэтическое воображение. Ибо следует прямо сказать, что если внутренние побуждения и нравственные устои Кароля были ясны и отчетливы, то его религиозные представления были весьма расплывчаты; и причиной тому было его воспитание, построенное целиком на чувстве и на внушении; трезвая работа ума, доводы рассудка и путеводная нить здравого смысла не принимали тут никакого участия. Так как он не приобрел никаких систематических и глубоких познаний, то в его взглядах на мир были огромные пробелы, и мать заполняла их по своему разумению, ссылаясь на непостижимую мудрость господню и на несовершенство человеческого знания. Она и здесь опиралась на католическую религию. Кароль, человек несравненно более молодой и артистичный, нежели его мать, восполнял поэзией недостаток образования; он, можно сказать, населил эту пугающую пустоту романтическими представлениями: ангелы, звезды, величественный полет над безбрежными просторами, неведомая обитель, где его душа найдет успокоение рядом с душами матери и невесты, — вот каким он видел рай. Что же касается ада, то он был не в силах поверить в него, однако, не решаясь отрицать само существование ада, старался не думать о нем. Он чувствовал себя непорочным и был уверен в своем благом жребии. Если бы ему непременно надо было указать, где поместить грешные души, он определил бы прибежищем их мук бурные волны моря, свирепые ураганы горных высот, зловещий ропот осенних ночей, извечную тревогу. Туманная и пленительная поэзия Оссиана сказалась тут наряду с догматами римско-католической церкви. Твердая рука прямодушного Сальватора не отваживалась перебирать все струны столь тонкого и замысловатого инструмента. Вот почему он не отдавал себе ясного отчета во всем том, что было сильного и слабого, огромного и незавершенного, грозного и неповторимого, устойчивого и переменчивого в исключительной натуре друга. Если бы для того, чтобы любить Кароля, Сальватору пришлось проникнуть в его душевные глубины, он бы очень скоро отказался от такой попытки, ибо нужна целая жизнь, чтобы постичь подобных людей; да и тогда после терпеливого изучения удается лишь нащупать пружины их внутренней жизни. Причина же присущих им противоречий неизменно от нас ускользает.Однажды, на пути из Милана в Венецию, друзья оказались вблизи какого-то озера; оно сверкало в лучах заходящего солнца, точно алмаз среди зелени. — Пожалуй, нынче мы дальше не поедем, — сказал Сальватор, заметив на лице князя следы глубокой усталости. — Мы каждый день делаем слишком большие концы, а вчера и вовсе изнемогли, любуясь красотами озера Комо. — Вот уж о чем я не жалею! — отозвался Кароль. — В жизни не видел более великолепного зрелища. Но остановимся на ночлег где тебе будет угодно, мне все равно. — Это зависит от твоего состояния. Доедем до ближайшей подставы или сделаем небольшой крюк, чтобы попасть в Изео, селение на берегу вон того маленького озера? Как ты себя чувствуешь? — Право, не знаю! — Вечно ты говоришь: «Не знаю!» Просто в отчаяние можно прийти! Тебе нездоровится? — Я бы не сказал. — Но ты утомлен? — Пожалуй, однако не больше, чем всегда. — Тогда отправимся в Изео; там легче дышится, чем здесь, в горах. И они покатили к маленькой гавани Изео. В тот день был какой-то местный праздник. Повозки, запряженные поджарыми и низкорослыми, но сильными лошадьми, развозили по домам разодетых девиц, — красивые прически делали их похожими на античные статуи; собранные на затылке волосы были заколоты длинными серебряными шпильками и украшены живыми цветами. Мужчины ехали верхом на лошадях или ослах, некоторые шли пешком. Дорога была запружена веселою толпой; сияющие красотки и молодые люди, слегка возбужденные вином и любовью, громко смеялись и обменивались вольными шутками, несомненно, чересчур вольными для целомудренного слуха князя Кароля. В любой стране крестьянин, если он не насилует себя и не изменяет своей естественной манере выражаться, отличается острым умом и своеобразием. Сальватор, хорошо владевший местным диалектом, не пропускал ни одного меткого слова, ни одного каламбура и невольно улыбался грубоватым шуточкам, которые разносились над дорогой, в то время как почтовая карета медленно спускалась по крутому склону к озеру. Пригожие девицы в перевитых лентами двуколках, их черные глаза, трепещущие на ветру косынки, дурманящие запахи цветов, закатные лучи солнца, освещавшие эту картину, игривые фразы, свежие звучные голоса — все приводило его в отличное расположение духа, столь характерное для итальянцев. Будь Сальватор один, он, не мешкая, ухватил под уздцы какую-нибудь лошадь и проскользнул в повозку, где было особенно много красоток. Однако присутствие друга вынуждало его сохранять серьезность, и, чтобы отвлечься от соблазнов, он стал напевать сквозь зубы. Но уловка эта не удалась: граф тут же обнаружил, что незаметно для самого себя повторяет плясовую мелодию, которую перед тем схватил на лету, — мелодию эту напевали вполголоса юные поселянки, все еще вспоминавшие о празднике.
III
Сальватор сохранял спокойствие до тех пор, пока проехавшая верхом почти рядом с коляской высокая брюнетка не показала ему, пожалуй, слишком уж смело свое крепкое округлое колено, чуть повыше которого красовалась нарядная подвязка. Он не в силах был сдержать возглас восхищения и высунулся из экипажа, чтобы проводить взглядом эту сильную и точеную ногу. — Она упала? — спросил князь, заметив возбуждение друга. — Упала? — переспросил юный ветрогон. — Ты о подвязке? — Какая еще подвязка? Я говорю о женщине, проехавшей верхом. На что ты там смотришь? — Ни на что, ни на что, — отозвался Сальватор и, не удержавшись, слегка приподнял шляпу, как бы приветствуя прелестную ножку. — В этой стране нельзя не быть учтивым, а потому проще оставаться с непокрытой головою. — Затем, откинувшись в глубь кареты, он пробормотал: — До чего ж красиво: ярко-розовая подвязка с голубою каймой! Кароль не любил придираться к словам; он промолчал и устремил взор на озеро, — оно сверкало и переливалось красками, куда более великолепными, чем краски на подвязках поселянки. Сальватор по достоинству оценил молчание друга и, словно желая оправдаться в его глазах, спросил, не поражает ли его красота обитателей здешнего края. — Пожалуй, — отвечал Кароль, явно желая сделать приятное Сальватору. — Я заметил, что многие местные жители напоминают изваяния. Но ты ведь знаешь, я в том не слишком разбираюсь. — Ну, с этим я не согласен, ты превосходно чувствуешь красоту, я видел, в какой ты приходил восторг, любуясь античными статуями. — Погоди! Античность античности рознь. Мне нравится прекрасное, безупречное, изысканное, совершенное искусство Парфенона. Но я не люблю, вернее, меня оставляет равнодушным тяжеловесное римское искусство и слишком подчеркнутые формы времен упадка. Эта страна больше не стремится к идеалу, что и сказалось на ее людях. А все низменное меня мало занимает. — Как?! Скажи откровенно, неужто красивая женщина не чарует твой взор, хотя бы на мгновение… когдаона проходит мимо? — Тебе хорошо известно, что нет. Почему это тебя удивляет? Ведь я же смирился с тем, что ты сразу загораешься, стоит тебе столкнуться с мало-мальски пригожей женщиной. Ты готов влюбиться в каждую, а между тем та, кому предстоит завладеть твоим сердцем, еще не предстала перед твоими глазами. Без сомнения, та, которую Господь Бог создал для тебя, существует, она тебя ждет, а ты — ты ищешь ее. Вот как я объясняю и твою сумасбродную влюбчивость, и внезапное охлаждение, и все те душевные муки, которые ты именуешь радостями. Что же касается меня, то тебе хорошо известно: в свое время я уже встретил подругу жизни. Тебе хорошо известно, что я узнал ее душу, тебе хорошо известно, что я буду любить ее всегда, хотя она теперь в могиле, как я любил ее, когда она была жива. Она ни на кого не похожа, поэтому никто не может мне ее напомнить, оттого-то я ни на кого не смотрю, никого не ищу, мне незачем любоваться другими женщинами, ибо в моем воображении вечно живет ее образ, исполненный совершенства. Сальватор хотел было возразить другу; однако побоялся, что Кароль придет в волнение, если затронуть эту тему, и в пылу спора его охватит лихорадочное возбуждение, еще более опасное для него, чем крайняя слабость, вызванная утомлением. Вот почему он удовольствовался тем, что спросил князя, твердо ли тот уверен, что никогда больше не полюбит. — Даже сам Господь Бог не мог бы сотворить другое столь совершенное создание, как та, кого он по бесконечному милосердию своему предназначил мне, а потому он не позволит, чтобы я впал в заблуждение и поддался соблазну полюбить во второй раз. — Жизнь, однако, долга! — воскликнул Сальватор, и в тоне его невольно послышалось сомнение. — И в двадцать четыре года не стоит зарекаться. — Не всякий бывает молод в двадцать четыре года! — возразил Кароль. Затем он вздохнул, умолк и впал в задумчивость. Сальватор понял, что пробудил в князе мысль о преждевременной смерти, которая отравляла юношу, точно яд. Он сделал вид, будто ничего не заметил, и попытался отвлечь друга, обратив его внимание на очаровательную долину, в глубине которой раскинулось озеро. В маленьком озере Изео нет ничего величественного, тут все вокруг дышит покоем и свежестью, как в эклоге Вергилия. Между обступившими его со всех сторон горами и легкой рябью, которую ветерок поднимает у берега, лежит полоса чудесных лугов, буквально усеянных самыми прекрасными полевыми цветами, какие произрастают в Ломбардии. Ковры розового шафрана устилают берега, куда буря никогда не гонит шумную и гневную волну. Легкие незамысловатые суденышки скользят по тихим водам, куда осыпают свои лепестки персиковые и миндальные деревья. В тот самый миг, когда наши путешественники выходили из экипажа, несколько лодок снималось с якоря, и обитатели прибрежных селений, возвращавшиеся с праздника верхом и в повозках, устремлялись со смехом и песнями в эти ладьи, которым предстояло совершить круг по озеру и развезти людей по домам. Повозки, битком набитые детьми и шумными девицами, вкатывали прямо на большие барки; молодые поселяне по двое прыгали в ялики и хватались за весла, побуждая друг друга плыть наперегонки. Чтобы не простудить во время переправы дымящихся от пота лошадей, их по местному обычаю предварительно окунали в ледяную воду у берега, и смелые, сильные животные, казалось, получали огромное удовольствие от такого купания. Кароль опустился на пень возле самой воды, но любовался он не этой оживленной и живописною сценой, а смутно синевшими на горизонте цепями Альпийских гор. Сальватор пошел на постоялый двор заказывать комнаты. Однако он вскоре вернулся весьма раздосадованный: помещение оказалось премерзкое, грязное, душное, до отказа набитое хмельными крестьянами, которые ссорились между собой. Не было никакой возможности отдохнуть здесь после утомительного путешествия, длившегося целый день. Князь, хотя он особенно страдал после дурно проведенной ночи, обычно относился к такого рода неудобствам со стоической беззаботностью. Однако на сей раз он сказал другу с какой-то необъяснимой тревогой: — Я предчувствовал, что нам не следовало приезжать сюда на ночлег. — Предчувствие, связанное со скверным постоялым двором! — вырвалось у Сальватора, который из-за постигшей его неудачи злился на самого себя, а потому и на ближнего своего. — Право, когда речь идет о том, чтобы избежать насекомых в грязном заезжем доме и дурных запахов от скверной кухни, у меня, признаюсь, не возникают ни смутные предчувствия, ни таинственные предзнаменования. — Не насмехайся надо мною, Сальватор, — мягко попросил князь. — Речь идет не об этих пустяках, и ты прекрасно знаешь, что я мирюсь с такими неудобствами легче, чем ты. — Но, быть может, именно из-за тебя мне так трудно с ними мириться! — Я знаю это, милый Сальватор, не терзайся же и уедем отсюда! — То есть как уедем?! Мы голодны, а тут по крайней мере найдутся превосходные форели, они уже, верно, прыгают в кипящем масле. Я не так легко падаю духом, сначала поужинаем, попросим накрыть для нас стол на свежем воздухе под теми вон рожковыми деревьями. Затем я обойду селение и, конечно, разыщу какой-нибудь дом, где будет чище, чем на постоялом дворе, а на худой конец найду для тебя комнату у местного лекаря или стряпчего! Уж священник-то здесь имеется! — Друг мой, ты не желаешь меня понять и занимаешься пустяками… Ты-то ведь знаешь, что я не капризен, не правда ли? Так вот, один раз прости мне причуду… Я тут дурно себя чувствую; здешний воздух теснит мне грудь, а озеро слепит. Быть может, поблизости растет какая-нибудь пагубная для меня ядовитая трава… Давай заночуем где-нибудь в другом месте. У меня и в самом деле тягостное предчувствие, не следовало нам приезжать сюда! Когда лошади сворачивали с дороги, ведущей в Венецию, и взяли влево, мне почудилось, будто они заартачились: ты этого не заметил? Словом, не думай, что я помешался, не гляди на меня с таким испуганным видом; я покоен и, если ты желаешь, готов безропотно встретить новые беды, но для чего бросать вызов судьбе, когда еще не поздно их избежать? Сальватора Альбани не на шутку встревожил серьезный и проникновенный тон Кароля, когда тот произносил эти странные слова. Он считал своего друга более слабым, чем это было на самом деле, и вообразил, что князь серьезно заболевает и чувствует это по скрытому недомоганию. Однако он не думал, что место, где они находились, играет тут какую-либо роль, потому что окружающая природа, люди, небо, деревья и цветы были поистине чудесны. Тем не менее он не хотел противиться капризу друга, но спрашивал себя, стоит ли после целого дня пути, да еще на голодный желудок, добираться до следующей подставы, не ускорит ли это вспышку болезни у князя. Кароль заметил нерешительность Сальватора и вспомнил о том, о чем тот уже успел позабыть, — вспомнил, что граф буквально умирает с голоду. Тогда, отбросив прочь сомнения и заставив свою тревогу умолкнуть, он объявил, что сам тоже голоден и что, прежде чем покинуть Изео, им следует поужинать. Слова эти несколько успокоили Сальватора. «Раз уж Кароль думает о еде, — решил он, — стало быть, ему не угрожает близкая болезнь; возможно, что его печальные мысли, хотя сам он и не отдает себе в этом отчета, всего лишь результат сильного голода, проявление нравственной и физической усталости. Поедим, а там видно будет!» Ужин оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать, судя по внешнему виду постоялого двора; им накрыли стол в саду, в тенистой беседке, увитой виноградом, где не так слепил глаза блеск озера; Кароль и в самом деле почувствовал себя спокойнее. Благодаря свойственной ему быстрой смене настроений он поел с удовольствием и думать забыл о необъяснимом страхе, который владел им всего несколько минут назад. Когда хозяин постоялого двора принес кофе, Сальватор стал расспрашивать его о местных жителях и с огорчением обнаружил, что тот никого не знает и что, видимо, нет никакой возможности найти здесь пристанище в каком-либо доме, где было бы чище и спокойнее, чем на постоялом дворе. — Ах, была у меня в здешних местах добрая приятельница, — сказал он со вздохом, — и она столько рассказывала мне о своих родных краях, что это, быть может, невольно повлияло на меня, а потому мне и пришла в голову фантазия остановиться тут на ночлег. Но теперь я вижу, что милая моя Флориани сохранила о местах, где она выросла, поэтическое воспоминание, весьма далекое от действительности. Впрочем, так оно и бывает со всеми нашими воспоминаниями детства. — Ваше сиятельство, как видно, говорит о знаменитой Флориани, которая прежде была бедной крестьянкой, а потом разбогатела и прославилась на всю Италию, — вступил в разговор хозяин постоялого двора, услышавший слова графа Альбани. — Вот именно! — воскликнул Сальватор. — Быть может, вы прежде знавали ее, потому что, сколько мне известно, она не возвращалась в родные края с тех пор, как покинула их в ранней юности? — Виноват, ваша милость. Она вернулась сюда вот уже, почитай, год, да и сейчас здесь. Родные ей всё простили, и теперь они живут вместе, душа в душу… Видите вон там, на другом берегу озера, хижина, в ней-то она и выросла, а совсем рядом — красивая вилла, она ее не так давно приобрела. Теперь это одно общее владение, с парком и лугами. Да, славное получилось поместье, и она оплатила за него звонкой монетой старику Раньери, может, вы и его знаете?.. Этот скряга — отец ее первого возлюбленного, того самого, что увез синьору отсюда. — Вам известно, или вы полагаете, будто вам известно, гораздо больше, чем мне, о романтических похождениях юной синьоры Флориани, — сухо заметил Сальватор. — Я же знаю о ней только одно: она самая умная, самая лучшая и самая достойная из всех женщин, каких я когда-либо встречал. Стало быть, она здесь! Слава Богу! Вот чудесная новость! Мы спасены, Кароль, попросим у нее гостеприимства, и если ты хочешь сделать мне приятное, то не станешь чиниться и познакомишься с милой моей Флориани. Подумать только, а в Милане понятия не имеют, что она в этих краях! Мне говорили, что я найду ее в Венеции либо в окрестностях… — Она живет здесь как затворница, — вставил трактирщик, — такая ей в голову взбрела фантазия. Но ее все тут хорошо знают, потому как она делает много добра, она ведь такая добрая, наша синьора! — Скорей, скорей лодку! — воскликнул Сальватор, чуть не прыгая от радости. — Вот славный сюрприз! А у меня-то даже не было счастливого предчувствия, что я вновь встречу ее здесь! Эти слова заставили Кароля вздрогнуть. — Предчувствия действуют на нас без нашего ведома и ведут нас, куда им вздумается, — заметил он. Однако пылкий граф Альбани даже не слушал его. Он суетился, кричал, велел лодочнику пристать к берегу, бросил в его суденышко чемодан, наказал слуге позаботиться об экипаже и о клади, запретил ему отлучаться с постоялого двора в Изео и увлек юного князя на зыбкую скамью челнока. Сальватору так не терпелось прибыть на место, а природная живость характера в эти минуты до такой степени овладела им, что он отбросил привычную осторожность и боязнь потревожить погруженного в печальное раздумье друга: он схватил кормовое весло и принялся грести вместе с лодочником, напевая при этом как птица и рискуя в безудержном порыве шумной веселости перевернуть суденышко.IV
Лишь посреди озера Сальватор заметил, что лицо Кароля еще больше побледнело. Он бросил руль и, устроившись рядом с другом, сказал: — Любезный князь, боюсь, ты недоволен мною! Тебе не хотелось заводить это новое знакомство… Но что делать? В дороге приходится порою поступаться своими привычками. Я обещал не насиловать тебя в этом отношении… И все позабыл… я так обрадовался! — Я все прощаю тебе, все приемлю, — спокойно отвечал князь. — Дружба питается жертвами. Ты мне принес их столько, что и я обязан что-то для тебя сделать… И все-таки… Я надеялся, что ты никогда не введешь меня в дом женщины сомнительного поведения! — Замолчи, замолчи! — воскликнул Сальватор, с силой сжимая руку Кароля. — Не употребляй слов, которые ранят и уязвляют! Если бы не ты, а другой осмелился так о ней говорить… — Прости меня, — продолжал Кароль, — я и не подумал, что она была… что она, должно быть, была твоей возлюбленной! — Моей, моей возлюбленной! — с живостью подхватил Сальватор. — Ах, я бы очень этого хотел! Но в ту пору она любила другого, да и кто знает, приглянулся бы я ей или нет, будь она даже свободна? Нет, Кароль, я никогда не был ее возлюбленным, а так как я был другом человека, которого она любила, когда мы с ней познакомились (это был некий Фоскари, очень славный юноша!), и знал, какая она порядочная и преданная женщина, то я даже в мыслях не позволял себе мечтать о ней. О, если бы она сейчас жила одна, как мне об этом говорили в Милане… и если бы она захотела меня полюбить!.. Но нет! Погоди, не хмурься: не думаю, что ныне я воспылал бы к ней страстью. Уж очень давно я ее не видел. Может, она уже и не так хороша собой… К тому же мое сердце и чувства привыкли оставаться спокойными в ее присутствии. Пришлось бы сделать слишком большое усилие над собою, чтобы от привычного уважения и дружеской симпатии… Впрочем, я не лицемер и зарекаться не стану!.. Когда мужчина питает к женщине безграничную дружбу… Но, по всей вероятности, если она и живет одна, то, верно, любит кого-нибудь, кто сейчас в отсутствии. Быть не может, что такое возвышенное существо не испытывает любви, ну, а тогда я не допущу и тени дурной мысли по отношению к ней. Ни за что на свете не соглашусь я утратить ее дружбу!.. — После столь хитроумных рассуждений, — заметил князь с грустной улыбкой, — я вижу, что мне угрожает опасность потерять тебя и мое дурное предчувствие, возможно, не просто плод воображения. — Твое предчувствие! Опять ты об этом! А я и забыл. Так вот, если оно говорит тебе, что я останусь у некоей прелестницы и позволю тебе уехать одному, оно бессовестно лжет. Нет, нет, Кароль, твое здоровье, твои желания, наше совместное путешествие — прежде всего! Будь у твоего предчувствия физиономия, я бы влепил ему увесистую оплеуху! Друзья еще немного поговорили о Флориани. Князь впервые приехал в Италию, он никогда не видел этой женщины и был только наслышан о ее таланте и громких любовных похождениях. Сальватор говорил о ней с восторгом; однако никогда не следует полагаться на отзывы друзей, и потому мы сами сообщим читателю то, что ему пока надлежит знать о нашей героине. Лукреция Флориани была актриса, одаренная чистым, возвышенным и в меру трагическим талантом; играя хорошо написанные роли, она неизменно пробуждала глубокое волнение и сочувствие в зрителях; она была изысканной и непревзойденной в пантомиме, в искусных приемах, при помощи которых актер часто заставляет оценить по достоинству истинного поэта и вызывает снисхождение к поэту неглубокому. Она снискала себе немалую славу не только как актриса, но и как автор, ибо любовь к своему искусству была у нее так сильна, что она даже отваживалась сочинять пьесы для театра; сперва она писала их вместе с некоторыми из своих образованных друзей, а затем и одна, повинуясь собственному вдохновению. Пьесы эти шли с успехом не потому, что были так уж хороши, а потому, что были написаны просто, дышали искренним чувством, отличались живым диалогом, а главное — потому, что она играла в них сама. Имя сочинителя никогда не называли после представления, но тайна эта была весьма прозрачна, и зрители сами чествовали ее как автора, награждая венками и аплодисментами. В ту пору и в Италии газетная критика еще не получила большого развития. У Флориани было много друзей, и все относились к ней благожелательно. В различных городах страны публика, сидевшая в креслах, встречала ее дружелюбной и шумной овацией. Лукрецию любили; и если авторская слава доставалась ей, по всей вероятности, из доброго к ней отношения, то одно по крайней мере бесспорно: она заслужила эту привязанность и благосклонность своим характером. Трудно было сыскать другую более бескорыстную и щедрую, более искреннюю и более скромную актрису. Уж не помню, где именно, кажется, в Вероне или в Павии, Флориани взялась руководить театром и набрала собственную труппу. Она заслужила уважение всех тех, кто имел с нею дело; люди, нуждавшиеся в поддержке, боготворили ее, а публика вознаграждала по достоинству. Дела у нее шли весьма успешно, но как только Лукреция увидела, что состояние ее упрочено, она покинула сцену, хотя талант ее был в самом расцвете и она по-прежнему очаровывала зрителей. Несколько лет она прожила в Милане, в кругу артистов и литераторов. Дом Лукреции славился радушием, а ее поведение было исполнено достоинства и вызывало такое уважение (это отнюдь не значит, что она всегда вела себя благонравно), что светские женщины охотно посещали ее и испытывали к ней не только симпатию, но даже известное почтение. Однако она внезапно покинула круг друзей, Милан и поселилась на берегу озера Изео, где мы с нею вскоре встретимся. Скрытой пружиной тех побуждений, которые заставляли Флориани круто менять образ жизни — то отдавать все свои силы развитию таланта драматической актрисы и драматического писателя, то испытывать внезапное отвращение к свету и шумной молве, то принимать на себя руководство театром, то погружаться в безмятежную сельскую жизнь, — была, можете не сомневаться, непрерывная цепь любовных историй. Я не стану сейчас вам о них рассказывать — это было бы слишком долго и к тому же не имеет прямого отношения к действию. Не стану я также терять время, заставляя вас постигать все нюансы ее характера, столь же ясного и легкодоступного пониманию, сколь переменчивым и непостижимым был характер князя Кароля. Вы по собственному разумению оцените эту первозданную натуру, чьи достоинства и недостатки разгадать легко. Конечно, я не стану скрывать от вас ничего, что касается Флориани, из преувеличенной стыдливости или боязни вам не понравиться. О том, какой она была прежде и какой стала позднее, она сама рассказывала каждому, кто спрашивал ее об этом из дружеских побуждений. Если же кто-нибудь интересовался этим из чистого любопытства либо из стремления позлословить на ее счет, то, желая проучить человека за эту прикрытую доброжелательством дерзость, она не отказывала себе в удовольствии скандализировать нескромного своей вызывающей откровенностью. Мы не могли бы характеризовать ее лучше, чем она сама это сделала, отвечая однажды на расспросы некоего старика-маркиза: «Вы находитесь в известном затруднении, — говорила она ему на превосходном французском языке, — подыскивая принятое в вашем кругу определение, которое можно было бы применить к такой женщине, как я. Назовете ли вы меня куртизанкой? Не думаю, ибо я всегда одаривала своих возлюбленных и ничего не принимала даже от друзей. Своим благополучием я обязана исключительно собственному труду, и тщеславие никогда не ослепляло меня, а жадность не уводила с верного пути. Все мои возлюбленные были люди не только бедные, но и безвестные. Назовете ли вы меня женщиной любострастной? Но я никогда не предавалась страсти, если не испытывала сердечной склонности, и не понимаю наслаждения без сердечной привязанности. Наконец, можно ли считать меня женщиной легкого поведения, дурных нравов? Сначала надобно узнать, что вы под этим подразумеваете. Я никогда не стремилась к скандалу, хотя, быть может, и вызывала его, сама того не желая и не подозревая об этом. Я никогда не любила двух мужчин одновременно, всегда — и помыслами, и на деле — я принадлежала только одному человеку все то время, пока продолжалась моя страсть к нему. Переставая любить, я его не обманывала. Я сразу же порывала с ним. Правда, охваченная любовным восторгом, я клялась в вечной любви; но, давая такие обеты, я и сама в них искренне верила. Всякий раз, когда я любила, то любила всем сердцем и думала, что люблю так в первый и в последний раз. И все же вы не решитесь назвать меня порядочной женщиной. А сама я в этом уверена. Даже перед Богом я не побоюсь назвать себя женщиной добродетельной: однако я знаю, что для вас и для общества утверждение это прозвучит почти кощунственно. Но меня это нимало не заботит; я предоставляю свету по его разумению судить о моей жизни; при этом я не возмущаюсь им, я даже нахожу, что законы, которых он придерживается, вообще-то правильны, но не признаю, что они применимы ко мне. Разумеется, вы полагаете, что я весьма высокого мнения о себе и что во мне немало гордыни? Согласна. Я очень горжусь собою, но во мне нет и следа тщеславия; обо мне могут говорить самые дурные вещи, но меня это нисколько не оскорбляет, ничуть не задевает. Да, я не подавляла своих страстей. Хорошо ли я поступала или плохо, но я уже наказана либо вознаграждена самими страстями. Я непременно должна была утратить доброе имя, я была к этому готова и принесла свою репутацию в жертву любви, но это касается только меня одной. По какому праву люди, осуждающие своих ближних, утверждают, будто чужой пример опасен? Ведь с той минуты, когда виновный осужден, он уже подвергся каре. Стало быть, он больше не может вредить другим, ибо те, кто захотел бы ему подражать, предупреждены понесенным им наказанием». Кароль фон Росвальд и Сальватор Альбани вышли на берег у самого входа в парк, возле хижины, на которую им указал хозяин постоялого двора в Изео. Именно в этой хижине родилась Лукреция Флориани, и в ней до сих пор еще жил ее отец, старый седовласый рыбак. Никакими силами невозможно было убедить его покинуть это бедное жилище, в котором он провел всю свою жизнь и к которому привык; однако он согласился, чтобы хижину поправили, благоустроили, укрепили и оградили от волн простой, но красивой террасой, увитой цветами и кустарником. Старик сидел на пороге среди ирисов и гладиолусов, он спешил воспользоваться последними минутами угасавшего дня и чинил свои сети; ибо хотя отныне существование его было упрочено, а дочь заботливо следила за тем, чтобы не только все его потребности были обеспечены, но чтобы сразу же исполнялись его редкие прихоти, он сохранил скромные привычки и вкусы расчетливого крестьянина и не выбрасывал своих снастей до тех пор, пока они могли хоть как-то служить ему.V
Кароль бросил взгляд на красивое, чуть суровое лицо старика, поклонился и хотел пройти мимо, даже не подумав, что тот может оказаться отцом Лукреции Флориани. Однако Сальватор остановился, чтобы полюбоваться живописной хижиной и старым рыбаком с седою, слегка пожелтевшей на солнце бородой: уж очень он походил на покрытое тиной божество с берегов озера! В голове графа смутно пронеслись воспоминания, которым Лукреция не раз предавалась в его присутствии со слезами на глазах и красноречием, рожденным раскаянием; в строгих чертах старика он вдруг уловил некоторое сходство с чертами молодой и красивой женщины; Сальватор снова поклонился и пошел к расположенной шагах в десяти калитке парка, намереваясь открыть ее; на ходу он то и дело оборачивался и смотрел на рыбака, который с настороженным и недоверчивым видом провожал его глазами. Когда старик увидел, что молодые люди и в самом деле собрались проникнуть во владения Флориани, он поднялся с места и не слишком приветливо крикнул, что входить в парк нельзя, тут, мол, не публичное гуляние. — Мне это хорошо известно, милейший, — ответил Сальватор, — но я ведь близкий друг синьоры Флориани и приехал повидать ее. Старик подошел ближе, внимательно посмотрел на него и сказал: — Я вас не знаю. Вы, видать, не здешний? — Я из Милана и, как уже сказал, имею честь принадлежать к числу добрых знакомых синьоры. Покажите-ка, где тут можно войти? — Нет уж, так просто вы не войдете! Вас ждут? Вы уверены, что вас захотят принять? Как вас величают? — Я граф Альбани. А вы, милейший, не скажете ли мне свое имя? Вы, часом, не тот ли почтенный человек, которого зовут Ренцо… или Беппо… или Чекко Менапаче? — Да, я и есть Ренцо Менапаче, — отвечал старик, снимая шляпу, как всегда поступают простолюдины в Италии, которые преклоняются перед громкими титулами. — А откуда вы меня знаете, синьор? Ведь я-то вас никогда и в глаза не видал. — Я вас тоже. Но ваша дочь похожа на вас, к тому же мне известно ее настоящее имя. — Кстати, гораздо более красивое, чем то, какое они ей придумали! Но теперь это уже вошло в привычку, и нынче ее все так кличут! Стало быть, вы хотите видеть синьору? Вы для того и приехали? — Вот именно, с вашего позволения. Надеюсь, она нас хорошо отрекомендует и вам не придется жалеть, что вы отворили нам калитку. Полагаю, ключ у вас есть? — Ключ-то у меня найдется, и все же, ваша милость, открыть я вам не могу. Этот молодой господин тоже с вами?.. — Да, это князь фон Росвальд, — сказал Сальватор, который знал, как действуют на простых людей громкие титулы. Старик Менапаче отвесил еще более низкий поклон, однако лицо его при этом оставалось холодным и замкнутым. — Милостивые господа, — сказал он, — соблаговолите войти ко мне в дом и подождать там, а я пошлю слугу предупредить мою дочь; не могу я заранее вам пообещать, что она захочет принять вас. — Ничего не поделаешь, — заметил Сальватор, обращаясь к князю. — Нам придется покориться и обождать. Как видно, Флориани решила теперь избегать людей; правда, не сомневаюсь, что нам будет оказан радушный прием, а пока пойдем осмотрим хижину, где она родилась и провела детство. Должно быть, жилище это очень любопытно. — И впрямь весьма любопытно, что сама она живет в роскошном доме, а отца своего оставляет под соломенной кровлей, — едко заметил Кароль. — Виноват, ваша светлость, — вмешался старик и к величайшему удивлению молодых людей повернулся к ним с недовольным видом. Дело в том, что они привыкли говорить друг с другом по-немецки, и Кароль произнес свою фразу на этом языке. — Прошу меня извинить, — продолжал Менапаче, — только я услыхал ваши слова. У меня всегда был тонкий слух, именно потому я и прослыл лучшим рыбаком на этом озере; не говорю уж о глазах, они у меня всегда были зоркие, да и сейчас еще я на них не жалуюсь. — Стало быть, вы понимаете по-немецки? — осведомился князь. — Я долго служил в солдатах, несколько лет провел в вашей стране. Говорить на вашем языке я могу только очень плохо, хотя до сих пор еще немного его понимаю, так что ответить вам дозвольте на моем родном наречии. Я не живу в роскошном доме дочери потому, что люблю свою хижину, а она не живет со мной в этой хижине потому, что помещение тут тесное и мы стали бы только мешать друг другу. К тому же я привык быть один и с трудом терплю возле себя даже слугу, которого она вздумала для меня нанять; она, видите ли, говорит, что в мои лета человек, дескать, нуждается в посторонней помощи. Хорошо еще, он славный малый, я сам его выбрал и учу ремеслу рыбака. А ну-ка, Биффи, прерви ненадолго свой ужин, дружок, и сходи доложи синьоре, что два приезжих господина хотят ее видеть. Будьте добры, милостивые господа, назовите еще раз свои имена. — Моего имени будет достаточно, — ответил Альбани и вместе с Каролем пошел за стариком Менапаче к его жилищу. При этих словах он достал из бумажника визитную карточку и вручил ее молодому крестьянину, состоявшему в услужении у рыбака. Биффи пустился со всех ног, как только получил от хозяина ключ, всегда висевший у того на поясе. — Видите ли, милостивые господа, — обратился Менапаче к своим нежданным гостям, придвигая им грубые крестьянские стулья, которые он сам сколотил и оплел прибрежным камышом, — зря вы думаете, будто дочка мало обо мне заботится. Нет, что до помощи, любви и ухода, то я ею нахвалиться не могу. Да только, понимаете, в мои годы трудно менять свои привычки; вот почему все деньги, что она присылала, когда в театре служила, я употреблял с пользой, а не тратил на хорошее жилье, новую одежду и разные яства. Все это мне не по вкусу. Я прикупал землю, потому как это дело хорошее: земля останется и перейдет к ней, когда меня уже в живых не будет. Других детей у меня нет. Так что дочке не придется раскаиваться в том, что она делала для меня. Делиться со мной своим богатством — ее долг, и она свято его исполнила; а мой долг приумножать эти деньги, выгодно их помещать и оставить ей, умирая. Я всю жизнь был рабом долга. — Узкий и корыстолюбивый взгляд старика на взаимоотношения с собственной дочерью вызвал улыбку на лице Сальватора. — Готов биться об заклад, — сказал он, — что ваша дочь не ведет таких расчетов с вами и ничего не смыслит в вашем способе сберегать деньги. — Она, бедняжка, и вправду ничего в этом не смыслит, — со вздохом подхватил Менапаче. — И если б я ее слушался, то все бы проедал, жил бы как князь, как живет она сама, жил бы одной компанией с нею и со всеми, кому она пригоршнями швыряет деньги. Ничего не поделаешь, мы с ней в этих делах никак не столкуемся. Она у нас добрая, меня любит, по десять раз на дню приходит проведать и приносит все, что, по ее разумению, может доставить мне удовольствие. Если я раскашляюсь или там голова у меня заболит, она проводит возле моей постели ночи напролет. Но при всем при том у нее есть один очень большой недостаток — она вовсе не такая хорошая мать, как мне хотелось бы! — Как? Она недостаточно хорошая мать? — изумился Сальватор, который с трудом сохранял серьезность, слушая рассуждения скаредного крестьянина. — Я видал ее в кругу семьи и полагаю, что вы ошибаетесь, синьор Менапаче! — Ну, коли вы считаете, что хорошая мать семейства должна ласкать, холить, развлекать да портить своих детей, и ничего больше, тогда другое дело; да только велика ли радость, когда я вижу, что им ни в чем нет отказа, что девчонок наряжают, как принцесс, в шелковые платья, а мальчишке уже позволяют заводить собак, лошадей, покупают ему лодку и ружье, как большому! Они все хорошие ребята, спору нет, и собой пригожие, да только не резон давать им все, чего ни попросят, как будто это все даром достается! Уж я вижу, что в ее доме проживают никак не меньше тридцати тысяч лир в год, куча денег уходит на забавы да на учителей, а там еще, глядишь, книги, музыка, прогулки, подарки и всякие иные причуды. А еще сколько нищим раздают! Просто беда! Все убогие, все бродяги, какие только есть в округе, протоптали дорожку в дом, куда они при жизни старика Раньери, прежнего владельца имения, и носа не казали! Он-то хорошо понимал свой интерес, рачительный был хозяин, а вот моя дочь, если и дальше не станет меня слушать, вконец разорится! Скупость старика вызывала глубокое отвращение у князя, Сальватора же она скорее забавляла, нежели возмущала. Ему хорошо была знакома натура крестьян: жажда накопительства, суровость даже в отношении самих себя, стремление сколотить капиталец, ни на что не тратить доходы, страх перед будущим, который бедные и трудолюбивые старики испытывают до гроба. Однако и его слегка передернуло, когда он услышал, что Менапаче добром поминает старика Раньери, который сыграл такую дурную роль в жизни Флориани. — Если память мне не изменяет, — сказал граф, — этот Раньери, судя по рассказам Лукреции, был просто мерзкий скряга. Он проклял своего сына и угрожал лишить его наследства только за то, что тот хотел жениться на вашей дочери! — Он и вправду причинил нам немало горя, — невозмутимо подтвердил старик, — но чья в том вина? Во всем повинен его сын, сумасброд, надумавший жениться на бедной крестьянке. Ведь в ту пору у Лукреции не было ни гроша; крестная мать, госпожа Раньери, обучила ее разным бесполезным вещам — музыке, чужим языкам, чтению стишков… — Однако все это впоследствии принесло ей немало пользы! — перебил его Сальватор. — Это-то и погубило ее! — возразил упрямый старик. — Уж лучше бы мамаша Раньери, которая ничего не могла дать моей дочке на обзаведение, не привязывалась к ней так сильно, тогда бы Лукреция осталась крестьянкой, дочерью честного рыбака, какой она была в детстве, и женой рыбака, какою стала бы потом. Сидела бы себе дома да чинила сети. Потому как был у меня один человек на примете, имелся у него хороший дом, две большие лодки, сочный луг, коровы… Да, да! Пьетро Манджафоко был завидный жених, и он бы непременно ее за себя взял, послушайся она разумных советов. А вместо того крестная мать взяла Лукрецию к себе, выучила разным разностям, холила ее, вот тут-то на всех и посыпались беды. Меммо Раньери, хозяйский сынок, без памяти влюбился в Лукрецию, а так как жениться ему не позволили, он и выкрал ее. Вот почему дочка разлучилась со мною, и по этой причине я двенадцать лет кряду слышать о ней не хотел. — Это не мешало ему принимать деньги от дочери! — сказал Сальватору Кароль, совсем позабыв, что рыбак понимает по-немецки. Однако это замечание ничуть не задело старика. — А как же, конечно, принимал и помещал их с толком да с выгодой, — отозвался он. — Я-то знал, что она живет на широкую ногу и в один прекрасный день сама, верно, обрадуется, когда, промотав все свои денежки, узнает, что есть на что жить. Подумать только, сколько денег она загребала! Говорят, миллионы! А сколько раздала, сколько по ветру пустила? Эх, такой характер, как у нее, — сущее наказание! — Да, да, она — просто чудовище! — со смехом воскликнул Сальватор. — И все-таки, думается, старый Раньери плохо рассчитал, когда не захотел женить на ней своего сына. Этот скряга не стал бы противиться их браку, угадай он вовремя, что юная поселянка благодаря своему таланту станет зарабатывать миллионы! — Конечно, не стал бы, — с величайшим спокойствием подтвердил Менапаче, — да как ему было угадать? Противясь неравному браку, старик был в своем праве, у него на то были веские резоны, всякий бы так поступил, даже я сам, окажись я на его месте! — Потому-то вы, видно, не браните его и, должно быть, оставались с ним в самых добрых отношениях; а ведь его сын соблазнил вашу дочь, так как не мог вырвать согласие у старого скупердяя. — Да, старый скупердяй, avarono, [50]как его называли в наших краях, был крут, не спорю; но вообще-то он был человек справедливый, и плохим соседом его не назовешь. Я никогда не видал от него ни хорошего, ни дурного. Поняв, что я не простил дочь, он простил мне, что я довожусь ей отцом. А что до сына, то его старик простил, когда тот бросил Лукрецию и нашел себе подходящую жену. — А вы? Вы тоже простили этого сына, достойного отпрыска своего отца? — А что его-то прощать? Ведь и он, что ни говори, был в своем праве; он дочке письменного обязательства не давал. Вольно ей было верить его любви; и потом, когда он ее оставил, они были в долгу как в шелку: ведь поначалу, когда она взялась театром управлять, дела у нее шли из рук вон плохо… А ко всему, он ведь уже помер, и Бог ему судья! Простите меня, милостивые господа! Я оставил сети у самой воды, а коли ночью начнется гроза, их может унести. Надо бы оттащить их подальше от берега. Сети еще добрые, вполне годятся для ловли. Я доставляю рыбу к столу моей дочки, а она мне за нее платит. Задаром-то я ничего не даю! Я ей сказал: «Ешь на здоровье… и ребята пусть едят, для них же лучше — они потом найдут эту рыбу в моем кошельке!»VI
— Какая низменная натура! — воскликнул Кароль, когда Менапаче отошел. — Обычная человеческая натура в ее неприкрытой наготе, — ответил Сальватор. — Это правдивый образ человека, обреченного на упорный труд. Предусмотрительность без образования, честность без утонченности, здравый смысл, чуждый идеалу, порядочность и рядом — алчность, унылая и непривлекательная. — Ну, это далеко не все, — возразил князь. — На нем лежит печать отвратительной безнравственности, и я не постигаю, как синьора Флориани может жить, постоянно видя перед глазами такого отца. — Когда Лукреция приехала, чтобы вновь свидеться с отцом, она, думаю, не ожидала встретить в нем столько презренной прозы. Благородная женщина хранила в душе поэтическое воспоминание о старике-отце и о хижине, крытой камышом; она, должно быть, стремилась к мирной сельской жизни, мечтала о возврате к патриархальной невинности и о трогательном примирении со старцем, который некогда проклял ее, но чье имя она всегда упоминала со слезами на глазах. Однако, быть может, Лукреция выказала еще больше добродетели, оставшись тут, чем приехав сюда: она, без сомнения, все понимает, и тем не менее терпит и продолжает любить. — Понимать и терпеть несвойственно душам утонченным; будь я на ее месте, я бы осыпал старого скупца благодеяниями, но не мог бы жить рядом с ним, не испытывая невыносимых мук; одна только мысль о таком несчастье меня возмущает и удручает. — Но почему ты видишь в нем столько пороков? Ему чуждо стремление к роскоши, равно как и к щедрости, которая у людей добрых идет рука об руку с благосостоянием. Он слишком стар и не способен постичь, что иметь и раздавать — понятия нераздельные. Он копит деньги, которые получает от дочери, чтобы сохранить их для внуков. — Стало быть, у нее есть дети? — В свое время их было двое, а теперь, быть может, и больше. — А ее муж?.. — спросил Кароль, немного поколебавшись. — Где он? — Насколько мне известно, она никогда не была замужем, — спокойно ответил Сальватор. Князь умолк, и Альбани, угадавший, о чем он думает, не знал, как отвлечь друга от этой деликатной темы. Разумеется, нелегко было найти приличествующее оправдание столь прискорбному факту. — Когда человек плывет в жизни по течению, — снова заговорил Кароль после недолгого молчания, — это объясняется тем, что в ранней юности ему не привили должных понятий о нравственности. Да и какие понятия могла она почерпнуть у отца, который лишен даже чувства чести и, спокойно взирая на беспорядочную жизнь дочери, только прикидывал, сколько денег она зарабатывает и тратит? — Таковы люди, когда видишь их вблизи, такова жизнь без прикрас! — философски заметил Сальватор. — Когда милая Флориани рассказывала мне о своем первом заблуждении, она во всем винила лишь себя и даже не вспоминала о недостатках отца, хотя они, вероятно, были невыносимы и могли послужить ей оправданием. Говоря о нем, она сожалела, что старик так неумолим в своем гневе, и одновременно хвалила его за это. Она приписывала такую непреклонность его почти античным добродетелям и достойным уважения предрассудкам. Помнится, она говорила, что, освободившись наконец от пут суетной жизни и от цепей любви, она возвратится в родительский дом, бросится к ногам старика-отца и очистится, живя рядом с ним. Бедная грешница! Она нашла себе спасителя, вовсе недостойного столь возвышенного раскаяния, и разочарование, которое она испытала, должно быть, одно из самых горьких разочарований в ее жизни. Люди с благородным сердцем все приукрашивают. Их удел постоянно ошибаться. — Значит, люди с благородным сердцем могут успешно противиться низменным проявлениям жизни? — спросил Кароль. — И по тому, какой они при этом терпят урон, можно определить степень их величия. — Человек по природе своей слаб. Вот почему, думается, люди, по-настоящему приверженные высоким нравственным правилам, не должны подвергать себя опасности… Скажи, Сальватор, ты твердо решил пробыть здесь несколько дней? — Я этого не говорил; если хочешь, мы не останемся тут и часа. Охотно уступая Каролю, Сальватор всегда добивался от друга того, чего хотел, особенно в вопросах житейских, ибо князь был великодушен и приносил свои вкусы в жертву тому убеждению, что человек должен быть покладистым: он следовал этому правилу даже в отношениях с самыми близкими людьми. — Я ни в чем не хочу тебе перечить, — сказал Кароль, — не хочу ни в чем ограничивать тебя, одна мысль причинить тебе огорчение для меня невыносима. Но обещай по крайней мере, Сальватор, что ты сделаешь усилие над собой и постараешься не влюбиться в эту женщину. — Охотно обещаю, — со смехом отвечал Альбани. — Но мое обещание улетит, как пух по ветру, если мне назначено судьбою стать ее возлюбленным после того, как я столько времени был ей другом. — Ты ссылаешься на судьбу, — возразил Кароль, — а ведь все в твоих собственных руках! Только разум и воля могут тебя уберечь. — Ты рассуждаешь, точно слепец о красках, Кароль. Любовь сокрушает все преграды на своем пути, как море сокрушает дамбы. Я могу тебе поклясться, что не останусь здесь дольше, чем на одну ночь, но не могу поручиться, что не оставлю тут своего сердца и помыслов. — Так вот почему я чувствую себя таким слабым и разбитым нынче вечером! — воскликнул князь. — Да, друг, я все время возвращаюсь к тому суеверному страху, который овладел мною, как только я еще издали бросил взгляд на это озеро! Когда мы сели в лодку, доставившую нас сюда, мне показалось, что мы вот-вот пойдем ко дну, а ты между тем знаешь, что мне не свойственно страшиться действительных опасностей, что я не боюсь воды и не дальше, как вчера, весь день спокойно катался с тобою во время грозы по озеру Комо. А на гладкую поверхность здешнего озера я смотрел с робостью нервической женщины. Я редко бываю подвержен такого рода суеверным предчувствиям, я им никогда не поддаюсь, и вот лучшее доказательство тому, что я успешно им противлюсь: я тебе даже ничего не сказал; однако все та же смутная тревога, все то же ощущение неведомой опасности, неминуемой беды, грозящей тебе или мне, не оставляют меня и сейчас. Мне чудилось, будто в волнах озера мелькали хорошо знакомые призрачные образы, и они делали мне знак воротиться. Золотые блики заката, отражаясь в струе воды, бегущей за лодкой, принимали то образ моей матушки, то черты Люции. Эти призрачные видения потерянных мною близких людей упрямо вставали между нами и берегом. Я не чувствую себя больным, я не доверяю своему воображению… И все-таки я не спокоен; все это очень странно. Сальватор уже собрался было заверить друга, что его тревога — всего лишь плод нервного возбуждения, вызванного дорожной усталостью, но в эту минуту раздался чей-то громкий, взволнованный голос, и в хижину донеслись слова: «Где он, да где же он, Биффи?» Граф издал радостный возглас, бросился на террасу, и Кароль увидел, что он прижал к груди какую-то женщину, а та в свою очередь нежно и дружески обняла его. Они просто засыпали друг друга вопросами и ответами на ломбардском диалекте, который Кароль понимал не так хорошо, как правильный итальянский язык. После этого быстрого обмена короткими, сжатыми фразами Флориани повернулась к князю, протянула ему руку и, не замечая, что он не очень охотно протянул свою, сердечно пожала ее, сказав, что он здесь — желанный гость и она с великим удовольствием даст емуприют у себя. — Прости, пожалуйста, милый Сальватор, — воскликнула она со смехом, — что я заставила тебя ожидать в родовом замке моих предков! Но я тут страдаю от нескромного любопытства праздношатающихся, а так как в голове у меня постоянно грандиозные планы, то я и вынуждена запираться от всех, точно монахиня. — Утверждают, однако, что вы уже некоторое время назад, можно сказать, приняли постриг и дали обет, — пошутил Сальватор, несколько раз целуя руку Лукреции, которую она не отнимала. — Вот почему я лишь с трепетом душевным осмелился потревожить вас в этой обители. — Полно, полно, — продолжала она, — вижу, ты смеешься и надо мною, и над моими прекрасными планами. Я прячусь потому, что не желаю выслушивать дурные советы, по той же причине я избегаю всех своих друзей. Но сколь скоро судьба приводит тебя ко мне, у меня пока что недостанет добродетели выпроводить тебя. Идем же и пригласи своего друга. Я по крайней мере с удовольствием предложу вам приют более комфортабельный, нежели постоялый двор в Изео. Кстати, почему ты не обнимешь моего сына, неужели ты не узнал его? — О нет, я просто не решался его узнать, — отвечал Сальватор, поворачиваясь к красивому мальчугану лет двенадцати, который весело резвился неподалеку вместе с охотничьей собакой. — Как он вырос, как похорошел! — с этими словами граф прижал к груди мальчика, который скорее всего не помнил даже имени гостя. — А что твоя дочурка? — Вы ее сейчас увидите, увидите и ее сестренку, и моего младшенького. — Четверо детей! — вырвалось у Сальватора. — Да, четверо прелестных детей, и, что бы там ни говорили, все они со мною! Вы уже познакомились с моим отцом, пока слуга ходил за мной? Как видите, с этой стороны охраняет меня он. Никто не может сюда проникнуть без его разрешения. Еще раз добрый вечер, отец. Вы утром придете позавтракать с нами? — Не знаю, не знаю, — проворчал старик. — И без меня людей хватит. Флориани настаивала, но отец ничего ей не обещал, он отвел дочь в сторонку и спросил, нужна ли ей рыба. Лукреции было хорошо известно его маниакальное желание продавать ей свой улов, и даже продавать втридорога, она заказала отцу много рыбы, чем привела его в полный восторг. Сальватор исподтишка наблюдал за ними; он понял, что Флориани весьма философически относится к своей участи и даже весело принимает прозаические стороны своего существования. Уже стемнело, и не только Кароль, но даже его друг (которому черты Лукреции были хорошо знакомы) не могли разглядеть ее лицо. Осанка Флориани не показалась князю величественной, а манеры — элегантными, как можно было ожидать: ведь эта женщина так искусно представляла на театре знатных дам и королев. Она была скорее невысокого роста и, пожалуй, полновата. Голос у нее был звучный, но князь нашел его слишком резким. Заговори какая-нибудь женщина так громко в светской гостиной, на нее тотчас же обратились бы все взоры, и столь звучную речь сочли бы проявлением дурного тона. Хозяйка дома и ее гости прошли через парк, а затем и через сад в сопровождении Биффи, который нес чемодан, и вступили в залу строгого и благородного стиля: потолок в ней подпирали дорические колонны, а стены были отделаны под белый мрамор. Тут было много света, по углам стояли цветы, на них ниспадали сверкающие струи воды, которую без большого труда провели сюда из соседнего озера. — Возможно, вас удивляет обилие, казалось бы, ненужного света, — сказала Флориани, заметив приятное изумление, в которое повергла Сальватора гостиная, — но это единственная моя прихоть: яркий свет напоминает мне о театре. Живя в одиночестве, я все еще люблю просторные, залитые светом покои. Люблю также блеск звезд, а мрачное помещение наводит на меня тоску. Флориани, для которой этот дом таил немало воспоминаний, одновременно сладостных и жестоких, многое в нем переменила и многое украсила. Она оставила в неприкосновенности только комнату, где некогда обитала ее крестная мать, госпожа Раньери, да закрытый цветник, в котором эта чудесная женщина разводила цветы — она-то и научила Лукрецию любить их. Сама госпожа Раньери нежно любила свою маленькую воспитанницу; она сделала все от нее зависящее, чтобы вырвать у старого скряги-стряпчего, чьей женой и рабою она, к несчастью, была, согласие на брак их сына с образованной крестьянской девушкой. Но из этого так ничего и не вышло… Теперь из семьи Раньери никого уже не осталось в живых. Флориани бережно хранила память об одних, простила другим, и после долгих волнений она привыкла жить здесь, не слишком часто вспоминая о прошлом. Именно потому, что она сделала в этом, в общем-то скромном, жилище немало улучшений, вызванных необходимостью или продиктованных вкусом, старик Менапаче, который не понимал ее стремления к изяществу, гармонии и чистоте, обвинял дочь в том, что она разоряется. Вид гостиной понравился Каролю. Такой характер итальянской роскоши, когда помещение ласкает глаз, пленяет красотою линий и монументальным изяществом, а не поражает богатством, комфортом и обилием мебели, был близок его собственным вкусам и отвечал тому представлению о величественном и вместе простом существовании, которое он себе составил. Следуя своей привычке не слишком углубляться в душу других и рассматривать прежде всего раму, а не картину, он искал во внешних манерах и привычках Флориани то, что могло примирить его с некоторыми сторонами ее интимной жизни, которые казались ему скандальными и достойными осуждения. Но пока Кароль любовался сверкающими белоснежными стенами, прозрачными фонтанами и экзотическими цветами, Сальватор был занят другим. Он с тревогой и какой-то жадностью смотрел на Флориани. Он и огорчался, что она теперь уже не так хороша, как раньше, и невольно желал этого, памятуя, что поклялся на следующий же день покинуть ее дом. Когда же он наконец увидел Лукрецию при ярком свете, он и в самом деле заметил, что красота ее поблекла, что она утратила былую свежесть. Она слегка располнела; нежный колорит щек уступил место матовой бледности; глаза как будто утратили свой блеск, выражение лица изменилось; словом, то была уже не прежняя жизнерадостная и оживленная Лукреция, хотя она и казалась более деятельной и здоровой, чем прежде. Она стала совсем иной потому, что уже не любила, и должно было пройти какое-то время, чтобы он мог постичь эту новую для него женщину. Лукреции исполнилось тридцать лет. Сальватор не видел ее года четыре, а то и больше. Тогда она была вся во власти волнений, связанных с ее бурной деятельностью, страстями, жаждой славы. Сейчас это была мать семейства, сельская жительница, удалившаяся на покой талантливая актриса, померкшая звезда. Она вскоре заметила впечатление, которое эти перемены произвели на графа, ибо, взявшись за руки, они внимательно разглядывали друг друга: она — со спокойной и лучезарной улыбкой, он же — с улыбкой тревожной и меланхолической. — Ну что ж, мы оба переменились, не так ли? — сказала она искренним и решительным тоном, без всякой задней мысли. — И нам следует кое-что исправить в своих воспоминаниях. Совершившаяся перемена полностью в твою пользу, любезный граф. За это время ты многое приобрел. Тогда ты был приятный и интересный юноша, ты по-прежнему молод, но стал уже взрослым, совсем взрослым мужчиной; теперь у тебя красивая черная борода, пламенный взор, львиная грива, и весь твой вид дышит силой и победоносной уверенностью в себе. Ты сейчас в самом расцвете жизни и, видно, недурно этим пользуешься — об этом говорит твой взгляд, гораздо более твердый и блестящий, чем прежде. Тебя удивляет, что сегодня ты красивее, нежели я, ты еще помнишь ту пору, когда тебе казалось, что все обстоит наоборот. И тому есть две причины: ныне ты стал менее восторженным, а я уже не так молода. Ведь я уже спускаюсь по склону горы, гребня который ты еще не достиг. Раньше ты поднимал глаза, чтобы посмотреть на меня, а теперь наклоняешься и глядишь сверху вниз, ибо жизнь моя идет под уклон. И все-таки не жалей меня! Думаю, что хоть меня и окутывает туманная дымка, я все же счастливее тебя, хотя ты ярко освещен солнечными лучами.VII
В голосе Флориани таилось особое очарование. То был голос и вправду слишком сильный для светской женщины, но еще очень свежий, и по его тембру совсем не чувствовалось, что Лукреция часто и много обращалась к публике. Во всех ее интонациях прежде всего ощущалась необычайная открытость, они никогда не оставляли у слушателя даже тени сомнения в искренности тех чувств, какие выражали; голос этот звучал одинаково естественно и со сцены, и в домашнем кругу, в нем не было ничего от декламации и патетики, которые неотделимы от подмостков. И вместе с тем ее звучный голос был буквально пронизан жизненной силой. По верности интонаций Кароль сразу понял, что Флориани была, очевидно, превосходной актрисой с неотразимым обаянием. Этого он не мог не признать, тем более что заранее твердо решил: хозяйка дома может заинтересовать его лишь как артистка. Сальватору была хорошо известна природная искренность Лукреции, и он понимал, что она не стала бы выказывать притворную отрешенность от жизни. Он только подумал, что она заблуждается, и искал, что бы такое сказать, дабы смягчить первое и, надо признаться, не слишком благоприятное впечатление. Однако в подобных случаях нелегко найти достаточно деликатные слова, чтобы утешить увядающую женщину, и граф счел за благо попросту обнять приятельницу, присовокупив, что у нее и в сто лет будут возлюбленные, если только она сама того захочет. — Ну нет, не стану я уподобляться Нинон де Ланкло, — со смехом запротестовала Лукреция. — Чтобы не состариться, надо быть бездеятельной и холодной. Любовь и труд не позволяют женщине сохранить свежесть. Я надеюсь сохранить своих друзей, и только. Мне этого вполне достаточно. Внезапно в гостиную стремительно вбежали две прелестные девочки и закричали, что ужин подан. Наши путешественники уже подкрепились в Изео и потому настояли, чтобы Флориани поужинала с детьми. Сальватор подхватил на руки и ту малышку, которую знал, и ту, которую прежде в глаза не видел, и понес обеих в столовую. Кароль, боясь помешать, предпочел остаться в гостиной. Но обе комнаты сообщались между собою, дверь между ними была отворена, а стены, отделанные под мрамор, хорошо отражали звуки. И хотя князь предпочел бы погрузиться в свои привычные думы и не обращать внимания на то, что происходит вокруг в этом чужом доме, он все видел и слышал, он даже невольно прислушивался, хотя и досадовал за это на самого себя. — Разреши мне, пожалуйста, поухаживать за детьми и за тобой! — громко заговорил Сальватор, усаживаясь за стол рядом с малышами (Кароль отметил, что в его отсутствии граф без всякого стеснения говорит Флориани «ты»). — Ведь я обожаю твоих детей, как прежде, обожаю я и эту прелестную белокурую фею, которой в ту пору еще на свете не было. Одна только ты, Лукреция, умеешь делать все лучше других, даже детей! — Ты бы с полным правом мог сказать: особеннодетей! — отвечала она. — Господь Бог благословил меня чудесными малышами: они добры и милы, их легко воспитывать, они всегда жизнерадостны и здоровы. Постой-ка, вот и еще один явился пожелать нам доброй ночи. Тебя ждет новое знакомство, Сальватор! Кароль, который сперва пытался читать газету, а затем стал шагать взад и вперед по гостиной, невольно бросил взгляд в столовую и увидел красивую крестьянку со спящим младенцем на руках. — Какая великолепная кормилица! — простодушно воскликнул Сальватор. — Да ты на нее клевещешь, — перебила его Лукреция, — скажи лучше, что это мадонна Корреджо с il divino bambino [51]на руках. У моих детей не было другой кормилицы, кроме меня, и двух старших я часто кормила грудью за кулисами во время антракта. Помнится, однажды публика так настойчиво вызывала меня после первого действия, что мне пришлось выйти на сцену с ребенком, прикрытым шалью. Двое младших уже росли в более спокойных условиях. А этот малыш давно отнят от груди. Да и то сказать, ему скоро два года! — Право, тот, кого я вижу впервые, всегда кажется мне самым красивым, — сказал Сальватор, беря младенца из рук служанки. — Да это сущий ангелочек! С каким удовольствием я бы его расцеловал, только боюсь, проснется. — Не бойся, здоровые дети, которые целый день играют на свежем воздухе, спят крепко. И не стоит лишать их сердечной ласки. Если она и не приносит им удовольствия, то уж, верно, приносит счастье. — Ах да, это ведь у тебя старая примета! — воскликнул Сальватор. — Как же, помню! Мысль очень трогательная, и она мне нравится. Ты даже распространяешь ее на усопших, я до сих пор вспоминаю того беднягу, машиниста сцены, который на одном из твоих представлений упал с декораций и разбился насмерть. — Да, да, несчастный человек!.. Ты тогда тоже был там… Это случилось в ту пору, когда у меня был свой театр. — И ты, Лукреция, выказала редкое мужество, ты велела отнести умирающего в твою артистическую уборную, там он испустил последний вздох. Какая сцена! — Да, куда более трагическая, нежели та, которую я перед тем разыгрывала для публики. Мое платье было забрызгано кровью несчастного! — Какой ты жила жизнью! У тебя тогда даже не было времени переодеться, спектакль продолжался, и когда ты вновь появилась на сцене, зрители решили, что кровь на твоей одежде — всего лишь атрибут драмы. — Этот бедолага был отцом многочисленного семейства. Жена его случайно оказалась в театре, и со сцены я слышала, как она рыдает и стонет за кулисами. Да, надобно быть железной, чтобы сносить все трудности, связанные с жизнью актрисы. — С виду ты и впрямь железная, но я не знаю другой женщины с такой мягкой и отзывчивой натурой. Помню, после представления, когда труп уносили, ты подошла к нему и запечатлела поцелуй на лбу усопшего, прошептав, что это поможет его душе обрести вечный покой. Другие актрисы, увлеченные твоим примером, проделали то же самое, и даже я в угоду тебе нашел в себе мужество прикоснуться ко лбу мертвеца, хотя в подобных случаях у мужчин его бывает меньше, чем у женщин. Да, все это поначалу казалось странным и походило на всеобщее помешательство; но такая сцена не может никого оставить бесчувственным. Ты пообещала назначить пособие вдове погибшего, но ее гораздо больше тронул поцелуй, который ты, гордая королева, запечатлела на окровавленном лбу изуродованного работника (он и впрямь выглядел ужасно!), нежели все благодеяния; она обняла твои колени, у нее было такое чувство, что ты прославила ее покойного мужа и что с твоим поцелуем на челе он уж никак не попадет в ад. Во время этого рассказа глаза старшего сына Флориани сверкали, как угли. — Да, да! — воскликнул красивый мальчик, который унаследовал от матери одухотворенное лицо с тонкими чертами. — Я тоже был при этом, и все хорошо помню. Все происходило именно так, как ты рассказываешь, синьор, и я, я тоже поцеловал Джанантонио! — Очень хорошо, Челио, — сказала Флориани, обнимая сына. — Не следует слишком часто вспоминать об этом страшном случае, такие волнения очень вредны в твоем возрасте, но и забывать о нем не следует. Господь Бог запрещает нам отворачиваться от горя и страданий других; надо всегда быть готовым прийти на помощь и не убеждать себя, будто ничего сделать нельзя. Ты сам видишь, что можно хотя бы благословить умерших и немного утешить тех, кто их оплакивает! Ведь и ты так считаешь, не правда ли, Челио? — О да! — вскричал мальчик с искренностью и твердостью, которые он унаследовал от матери. И он обнял Лукрецию с таким чувством и так порывисто, что на ее круглой и сильной шее еще некоторое время оставался след его маленьких, но крепких рук. Флориани не удивилась этому пылкому объятию и не рассердилась на сына. Она продолжала с аппетитом ужинать; но, все время наблюдая за детьми и оживленно беседуя с Сальватором, она следила, чтобы он, подкладывая кушанья и подливая вино малышам, сообразовывался с возрастом и темпераментом каждого. У Лукреции был деятельный, хотя и спокойный нрав; она мало думала о себе, но неизменно проявляла внимание и предупредительность к другим; ее привязанности отличались пылкостью, но ей не была свойственна пустая, почти ребяческая тревога, она всегда учила своих детей думать об их поступках, не нарушая при этом их веселья и считаясь с возрастом и естественными склонностями каждого; она играла с ними и сама забавлялась, как ребенок; от природы и по привычке она всегда была весела, но вместе с тем поражала серьезностью суждений и твердостью взглядов, что не мешало ей быть по-матерински терпимой, и не только к членам своей семьи. Ум у нее был ясный, глубокий и вместе с тем очень живой. Забавные истории она рассказывала с невозмутимым видом и, смеша других, сама никогда не смеялась. Лукреция взяла себе за правило поддерживать в окружающих хорошее настроение и, сталкиваясь с неприятностями, умела видеть их забавную сторону; она стойко переносила страдания, понимая, что и несчастье по-своему благотворно. Ее манера держать себя, ее внутренняя жизнь, все ее существо непрестанно служили назидательным примером для детей, друзей, слуг и бедняков. Она жила, мыслила, дышала и уже одним этим поддерживала нравственное и физическое равновесие в окружающих; со стороны могло показаться, что это ей совсем не трудно и она даже не помнит о том, что и у нее самой бывали огорчения или несбывшиеся мечты. А между тем на ее долю выпало немало страданий, и Сальватор это хорошо знал… В конце ужина девочки захотели присоединиться к своему братишке, который уже сладко почивал в спальне Лукреции. Красавцу Челио, которому уже исполнилось двенадцать лет, разрешалось ложиться в десять вечера, и он побежал играть с собакой на террасу, откуда открывался чудесный вид на озеро. Какое возвышенное зрелище являла собою сцена прощания Лукреции с детьми в конце ужина: очаровательные малыши ласково обнимали мать и церемонно целовали друг друга — с нежностью и озорством. Глядя на античный профиль Флориани, на просто и без малейшего кокетства закрученные вокруг величественной головы волосы, на простое свободное платье, под которым едва угадывалось тело, напоминавшее своими формами статую римской императрицы, на ее матово-бледное лицо, слегка раскрасневшееся от бурных поцелуев малышей, на усталые, но ясные глаза, на красивые руки, на которых изящно обрисовывались сильные округлые мускулы, когда она разом обнимала весь свой выводок, Сальватор вдруг понял, что никогда еще не видел Лукрецию такой оживленной и прекрасной. Едва дети вышли из комнаты, он, забыв и думать о Кароле, чья тень металась по стене гостиной, дал выход чувствам, переполнявшим его сердце. — Лукреция! — воскликнул он, покрывая поцелуями ее руки, уставшие от пылких и нежных материнских объятий. — Не знаю, где были мой ум, сердце и глаза, когда я вообразил, будто ты постарела и подурнела! Никогда еще ты не была столь молода, столь свежа и пленительна, ты способна свести человека с ума. Если хочешь, чтобы я окончательно потерял голову, тебе достаточно сказать лишь одно слово, но, боюсь, тебе придется потратить очень много слов, чтобы помешать мне лишиться рассудка. Знаешь, я всегда испытывал к тебе нежные дружеские чувства, во мне всегда жили любовь к тебе, почтение и уважение, восторг, даже страсть… И вот теперь… — И вот теперь, друг мой, ты либо смеешься надо мною, либо несешь вздор, — прервала его Лукреция со спокойным достоинством, которое рождает привычка повелевать. — Прошу тебя, не стоит говорить так легкомысленно о серьезных вещах. — Но я говорю совершенно серьезно… Послушай, — продолжал граф, слегка понижая голос скорее безотчетно, чем из осмотрительности, ибо князь по-прежнему слышал все слово в слово, — скажи откровенно, ты сейчас свободна? — Отнюдь, и меньше, чем когда бы то ни было! Отныне я целиком принадлежу своей семье, детям. А эти узы — самые священные, их я никогда не разорву. — Прекрасно! Прекрасно! Никто и не требует, чтобы ты их рвала! Но я спрашиваю тебя о любви. Скажи, правда ли, что вот уже год, как ты от нее отказалась? — Сущая правда. — Как! У тебя нет возлюбленного? А отец Челио и Стеллы? — Он умер. Это был Меммо Раньери. — Ах да, верно. Ну, а от кого твоя младшая дочь?.. — Беатриче? Ее отец оставил меня прежде, чем она родилась. — Стало быть, самый младший не от него? — Сальватор? Нет. — Как, малыша зовут Сальватор? — Да. Я назвала его в твою честь и в знак признательности за то, что ты никогда за мной не волочился. — Божественная и злая женщина! Но кто же, в конце концов, отец моего тезки? — Я его оставила в прошлом году. — Оставила? Ты оставила первая? — Да, честное слово! Я устала от любви. Я нашла в ней одни только муки и несправедливость. Передо мною был выбор: либо умереть с горя, влача это ярмо, либо жить ради своих детей, принеся им в жертву человека, который не мог любить всех их одинаково. Я избрала второе решение. Я сильно страдала, но не раскаиваюсь. — Но мне говорили, будто у тебя была любовная связь с одним из моих друзей, французом, довольно талантливым художником… — С Сен-Жели? Мы любили друг друга всего неделю. — Ваш роман наделал много шума. — Возможно! Но он был дерзок со мною, и я попросила его забыть дорогу в мой дом. — Так это он отец Сальватора? — Нет, отец Сальватора — бедный артист Вандони, быть может, лучший, самый порядочный из всех моих друзей. Но его снедала жалкая, какая-то ребяческая ревность. Ревность к прошлому, понимаешь? Живя со мною рядом, он не мог ни в чем меня подозревать и укорял прошлым. Это нетрудно: моя прежняя жизнь не во всем была безупречна, и потому он вел себя не великодушно. Я не могла сносить бесконечные ссоры, попреки, вспышки гнева, которые все труднее было скрывать от детей. Я бежала от него, пряталась здесь некоторое время, а когда узнала, что он примирился со своей участью, то купила этот дом и прочно тут обосновалась. Все-таки я и до сих пор еще не совсем спокойна, потому что он меня очень любил, и если новая пассия не сумеет удержать его возле себя, он способен явиться сюда, а уж этого я никак не желаю. — Ну что ж, — со смехом сказал Сальватор, снова завладевая руками Лукреции, — оставь меня здесь на положении твоего рыцаря; пусть этот Вандони только покажется, я снесу ему голову с плеч. — Благодарю покорно, но я и без твоей помощи сумею себя защитить. — Стало быть, ты не хочешь, чтобы я остался? — проговорил Сальватор, слегка возбужденный несколькими рюмками кроатского мараскина и совершенно забывший о своем друге и о своих обещаниях. — Напротив, живи у меня, сколько тебе захочется! — ответила Флориани, дружески потрепав его по щеке. — Но только на прежних условиях. — Позволь по крайней мере, чтобы то были условия перемирия, ведь тогда я смогу их когда-нибудь нарушить. — Берегись, — сказала Лукреция, отнимая свои руки. — Если ты не в силах, как прежде, оставаться моим другом, я тебя выпровожу. Вернемся-ка лучше к твоему приятелю, должно быть, ему скучно одному в гостиной! Кароль стоял, прислонившись к колонне, и слышал весь этот разговор; теперь он точно пробудился от сна и поспешил отойти, чтобы его не застали врасплох и не подумали, что он подслушивает. Он провел рукою по лбу, словно хотел прогнать кошмарные видения. Невольное усилие, которое он совершил, чтобы осмыслить бурную и беспорядочную жизнь хозяйки дома — жизнь, где перемешались поступки возвышенные и поступки, достойные осуждения, казалось, вконец нарушило его душевный покой. Он не постигал, как может Сальватор, выслушивая эту женщину, которая с каким-то вызовом откровенно рассказывала о своих заблуждениях, все больше воспламеняться страстью к ней, не постигал, почему то, что отвращает его, Кароля, притягивает к себе его сумасбродного друга, как свет лампы притягивает мотылька. Князь почувствовал, что не в силах встретиться сейчас лицом к лицу с Сальватором и Лукрецией. Он опасался, что не сможет скрыть свое недовольство им и свою жалость к ней. Поэтому он стремительно вышел в противоположную дверь и, повстречав Челио, осведомился у мальчика, где расположена комната, которую любезно отвели гостям. Мальчуган проводил Кароля на верхний этаж и ввел в роскошный покой, где для приезжих уже были приготовлены две кровати с мягкой постелью и белоснежным бельем. Князь попросил Челио передать матери, что он очень устал и потому удалился к себе, но приносит ей свои извинения и заверяет в глубоком почтении. Оставшись один, он постарался взять себя в руки и успокоиться. Однако он никак не мог обрести привычную безмятежность мыслей. Казалось, чье-то грубое вторжение взбаламутило чистый родник его душевного мира. Вот почему Кароль решил лечь в постель и забыться сном; но все было тщетно: он только непрестанно вздыхал и ворочался с боку на бок. Сон не приходил, уже пробило полночь, а князь все еще не сомкнул глаз. Сальватор, между тем, не возвращался.VIII
А между тем Сальватор Альбани любил поспать. Как все крепкие, здоровые, деятельные и беззаботные люди, он ел за четверых, изрядно уставал за день и без лишних уговоров засыпал так же быстро, как Кароль, которому привычка к размеренному образу жизни и хрупкое здоровье не позволяли поздно ложиться. Если во время путешествия, которое они совершали вдвоем, Сальватору иногда все же случалось засидеться до ночи, то он непременно два, а то и три раза приходил удостовериться, что его мальчик (так он называл юного князя) спокойно спит. У графа было сильно развито отцовское чувство, и хотя он был всего четырьмя или пятью годами старше Кароля, он заботился о нем, как о сыне, — до такой степени он ощущал потребность опекать существа более слабые и покровительствовать им. В этом он походил на Флориани и потому мог оценить лучше всякого другого глубокую любовь, которую она питала к своим детям. И тем не менее на сей раз Сальватор забыл свои привычные заботы, а Флориани, не подозревавшая о том, к какому вниманию и нежной опеке граф приучил Кароля, не подумала, что ему следует зайти проведать своего спутника. — Твой друг нас уже покинул, — сказала она Сальватору, когда Челио выполнил поручение князя. — Он, видимо, нездоров. Как, ты сказал, его зовут? Вы давно вместе путешествуете? Судя по всему, он чем-то удручен?.. Когда граф ответил на все ее вопросы, она прибавила: — Бедный мальчик, он вызывает во мне сочувствие. Как это благородно — так сильно любить свою мать и так долго ее оплакивать! Его лицо и манеры мне понравились. Да, если бы мой милый Челио потерял меня, он тоже был бы достоин жалости! Кто станет любить его, как я? — Надо боготворить своих детей и жить для них, как это делаешь ты, — заметил Сальватор, — но не следует приучать их жить только для самих себя и для нежной матери, которая посвящает им свою жизнь. Если ум и дух ребенка не получает того развития, на какое он способен, это приводит к весьма серьезным последствиям и таит немалую опасность; лучший пример тому — мой друг. Он чудесный человек, но глубоко несчастен. — Как это? Почему? Объясни! Когда речь заходит о детях, их нраве, воспитании, я без конца готова слушать и размышлять над этим. — О, нрав у моего друга престранный, и я затруднился бы точно его определить; говоря кратко, он все принимает слишком близко к сердцу: любовь и разлуку, счастье и горе. — Ну что ж, в таком случае у него артистическая натура. — Ты верно подметила; но эти его качества не получили достаточного развития: он очень любит искусство, но любит его только вообще. У него утонченный вкус, однако нет ярко выраженного призвания, которое всецело бы его захватило и заставило отвлечься от действительности. — Ну что ж, в таком случае у него скорее женская натура. — Верно; но не такая, как у тебя, милая Лукреция. Хотя он и способен на столь же сильную страсть, преданность, чуткость, восторженность, на какую способна лишь самая нежная женщина… — Ну, тогда он и впрямь достоин жалости, ибо всю жизнь будет искать родственную душу, но так и не найдет ее. — Ах! Ты, Лукреция, видно, плохо искала; стоит тебе только захотеть — и ты найдешь такую душу здесь, рядом! — Поговорим лучше о твоем друге… — Нет, не о нем, а о себе я хочу говорить с тобою. — Я это понимаю и скоро тебе отвечу, но я не люблю перескакивать с одной темы на другую. Прежде всего объясни мне: раньше ты говорил, что твой друг во многом похож на меня, а теперь утверждаешь, будто у него совсем иная натура? — Дело в том, что в твоем характере есть множество различных красок, а в его характере — только одна. Труд, дети, дружба, сельская природа, музыка — словом, все, что отмечено добром и красотою, находит в тебе живой отклик, может всегда тебя развлечь и утешить. — Это правда. Ну, а он? — Он тоже любит все это, но глядит на мир только сквозь призму любимого существа. Если предмет его любви умрет или будет в отсутствии, весь мир перестанет для него существовать. Отчаяние и тоска гнетут Кароля, а в его душе недостаточно внутренней силы, чтобы начать жизнь сызнова, ради новой любви. — Как это прекрасно! — воскликнула Флориани, охваченная наивным восторгом. — Если бы в те дни, когда я впервые полюбила, мне встретился человек с такой душою, я бы в жизни не знала иной любви. — Ты меня пугаешь, Лукреция. Неужели ты готова полюбить моего милого князя? — Я вообще не люблю князей, — простодушно ответила она. — Я всегда любила людей бедных и незаметных. К тому же твой милый князь мне в сыновья годится! — Да ты с ума сошла! Ведь тебе тридцать, а ему двадцать четыре! — Господи, а я-то думала, что ему лет шестнадцать или восемнадцать, он так похож на подростка! А я, я чувствую себя такой старой и мудрой, что порою мне кажется, будто мне уже пятьдесят. — Нет, я все равно неспокоен, надо мне завтра же увезти отсюда князя Кароля. — Можешь быть совершенно спокоен, Сальватор, я больше никого не полюблю. Знай, — продолжала Лукреция, взяв графа за руку и приложив его ладонь к своему сердцу, — отныне здесь только камень. Впрочем, нет, — прибавила она, кладя ладонь Сальватора себе на лоб, — любовь к детям и к страждущим еще живет в моем сердце, но ведь прежде всего любовь зарождается здесь, в голове, а голова моя и впрямь окаменела. Я знаю, обычно любовь связывают с чувственностью, но если говорить о женщинах мыслящих, это неверно. У них она развивается постепенно и прежде всего овладевает разумом, стучится в двери воображения. Без этого золотого ключика ей не войти. Когда же она подчинит себе ум, то проникает и в самые недра существа, кладет печать на все наши чувства и способности, и тогда мы начинаем любить покорившего нас мужчину, как Бога, сына, брата, мужа, как любят все то, что способна любить женщина. Любовь возбуждает и подчиняет себе все фибры нашего существа, я согласна с тем, что и чувственность, в свою очередь, играет при этом немалую роль. Однако женщина, которая способна на наслаждение без любовного восторга, — просто самка, а я торжественно тебе заявляю, что во мне любовный восторг остыл навсегда. Я испытала слишком много разочарований, видела слишком много горя. И, помимо всего, слишком устала. Ты ведь знаешь, как мне внезапно наскучил театр, как он утомил меня душевно, хотя в ту пору я была еще в полном расцвете сил. Однако воображение мое было пресыщено, оно исчерпало себя. Во всем мировом репертуаре я уже не находила ни одной роли, которая представлялась бы мне правдивой, а когда я пыталась написать для себя роль по собственному вкусу, то, сыграв ее лишь один раз, обнаруживала, что мне не удалось вложить в нее обуревавшие меня чувства. Я не могла хорошо воплотить эту роль на сцене, потому что она не была хороша, и даже когда зрители старались меня обмануть, награждая рукоплесканиями, я-то сама никогда не обманывалась. Так вот, теперь я пришла к тому же и в любви: я слишком много и долго играла на струнах иллюзии. — Любовь — это призма, — продолжала Флориани. — Она точно некое солнце, которое мы, как факел, подносим к челу, освещая им наш внутренний мир. Если солнце это гаснет, все вновь погружается во тьму! Теперь я вижу людей и жизнь такими, какие они есть. Отныне я могу любить только из милосердия, так я и поступила с Вандони, моим последним возлюбленным. Во мне уже не было любовного восторга, я была признательна Вандони за его страстную привязанность, меня трогали его муки, и я решилась на самопожертвование: я не была счастлива, я даже не испытывала опьянения. То было постоянное жертвоприношение, безрассудное, противоестественное. И внезапно это ужаснуло меня, я почувствовала себя глубоко униженной. Я была не в силах сносить его упреки по поводу моих прошлых привязанностей, потому что ни одна из тех привязанностей, которым я в свое время простодушно и слепо отдавалась, ни одна из них не представлялась мне более предосудительной, чем та, которую я пыталась длить вопреки себе самой… О, я многое могла бы рассказать вам по этому поводу, друг мой, но вы еще слишком молоды и не поймете меня. — Говори! Говори! — вскричал Сальватор, впавший в задумчивость. Потом, сжав руку Лукреции в своей, он прибавил: — Позволь мне лучше узнать тебя, чтобы и дальше любить тебя как сестру или найти в себе мужество любить иначе. Видишь, я совершенно спокоен, потому что слушаю со вниманием. — Люби меня как сестру, а не иначе, — сказала она, — ибо я могу видеть в тебе только брата. Именно так я любила Вандони, любила много лет. Я познакомилась с ним в театре, где он не блистал талантом, но приносил пользу, так как был деятелен, предан общему делу и добр. Однажды вечером… в деревушке, неподалеку от Милана, таким же вот прекрасным летним вечером, как сегодня, он попросил меня подробно рассказать о моем разрыве с певцом Теальдо Соави, отцом моей милой крошки Беатриче. Его-то я как раз любила страстно, но то был человек с низкой и порочной душой. Он говорил, что собирается жениться на мне, а на самом деле уже был женат! Я вовсе не стремилась к браку, но, по правде говоря, пришла в ужас, узнав, что он так долго и так искусно лгал. Я обрушила на Соави град горьких, исполненных негодования упреков, и он оставил меня, когда я вот-вот должна была стать матерью. У меня не хватило бы мужества самой прогнать его, но достало воли не пытаться его вернуть. Беатриче еще не было года, когда бедный Вандони, который сделался моим верным кавалером, слугой, рабом и который любил меня уже давно, не решаясь в этом признаться, выслушав рассказ о моих горестях, бросился передо мной на колени: «Полюби меня, — умолял он, — и я тебя утешу. Исправлю, сотру из твоей памяти все то зло, какое тебе причинили. Я хорошо знаю, что ты не любишь меня, но уступи моей страсти, и, быть может, пожирающая меня любовь передастся и твоему сердцу. К тому же, располагая твоей дружбой и доверием, я уже и так буду самым счастливым, самым благодарным из смертных». Я долго противилась. Я и в самом деле питала к нему только дружеские чувства, и полюбить его для меня было невозможно. Я просила Вандони забыть меня, но он всерьез задумал наложить на себя руки. Я пыталась жить рядом с ним, храня целомудрие, он просто обезумел. И тогда я уступила; мне казалось, будто я допустила кровосмешение, ибо в его объятиях вместо опьяняющего блаженства я ощущала только стыд, боль и желание плакать. Все же его страстная любовь переполняла меня нежностью, и некоторое время мы жили спокойно. Однако Вандони надеялся, что его любовный восторг найдет в конце концов отклик в моем сердце. Когда же он увидел, что ошибся, что обрел во мне лишь кроткую и преданную подругу, он не нашел в себе мужества понять, что я слишком давно его знаю, а потому не могу испытывать любовный восторг, и что чем дольше я буду с ним рядом, тем менее вероятной станет такая возможность. Он был молод, хорош собой, великодушен, достаточно умен и образован и поэтому не мог примириться с тем, что его чары на меня не действуют… Пожалуй, то же происходит и с тобою, Сальватор? Я сейчас объясню тебе, почему так бывает. Силу любви, которую мы испытываем, не следует измерять достоинствами любимого существа. Любовь какое-то время питается собственным пламенем, больше того, она вспыхивает в нас, не спрашивая совета ни у нашего опыта, ни у нашего разума. То, что я тебе говорю, — вещь банальная, таких примеров множество, каждый день мы видим, как люди превосходные встречают в ответ на свою любовь лишь неблагодарность да измену, в то время как люди порочные или жалкие внушают к себе сильную и упорную страсть. Все это видят, все это сознают, но не перестают удивляться, потому что никак не могут доискаться причины такого явления, ибо любовь — чувство по природе своей таинственное, все ей покоряются, но не понимают ее. Тема эта столь глубока, что о ней и подумать страшно, однако разве нельзя серьезно исследовать то, что пока еще только смутно замечают? Разве нельзя как следует изучить, рассмотреть и в какой-то мере постичь это сладостное и грозное чувство, величайшее из тех, какие дано испытать роду людскому, чувство, от которого никто не может уберечься и которое вместе с тем принимает столько различных форм и обличий, сколько есть на земле индивидуумов? Разве нельзя хотя бы уразуметь его философскую сущность, открыть закон его идеала, а затем, вопрошая самого себя, узнать, какая же любовь живет в нас — возвышенная и разумная либо зловещая и безрассудная? — Однако, Лукреция, тебя занимают высокие материи! — воскликнул Сальватор. — И раз уж ты размышляешь о подобных предметах, я теперь вижу, что страсти и впрямь утратили над тобой власть. — Ну, это, положим, не довод, — возразила она. — Можно испытывать сильные чувства и отдавать себе в них отчет. Пожалуй, такая способность — несчастье для человека, но она мне свойственна, и так было всегда; еще в молодости, в пору самых бурных страстей, мой ум терзался, стремясь сохранить ясность суждения среди бушевавших вокруг стихий; и я даже не понимаю, как может ум охваченного страстью человека не быть в постоянном напряжении. Я хорошо знаю, что такая ясность недостижима, что чем больше ты стараешься разобраться в своих чувствах, тем больше запутываешься; но происходит это, как я уже тебе говорила, потому, что законы любви никому не ведомы и еще только предстоит составить краткое пособие для постижения наших душевных привязанностей. — Таким образом, ты долго искала ключ к загадке, но так и не нашла его! — воскликнул Сальватор. — Нет, не нашла, но чувствую, что ключ этот надо искать в Евангелии. — Любовь, о которой мы толкуем, не имеет отношения к Евангелию, мой бедный друг. Иисус Христос ее осудил, она была ему неведома. Любовь, которой он нас учит, распространяется на все человечество, а не направлена на одно существо. — Не знаю, не знаю, — возразила она, — но, мне кажется, все, о чем говорил и о чем думал Христос, недостаточно понято в Евангелии, и я готова поклясться, что он был не так уж несведущ в любви, как это принято утверждать. Христос был девственник, не спорю, но это не помешало ему глубоко проникнуть в философскую сущность любви. Он — Бог, и против этого я, разумеется, тоже спорить не стану; но в том, что он принял человеческий облик, я вижу некое слияние духа с материей, некий духовный союз с женщиной, и это не оставляет во мне сомнений в характере божественного промысла. Не смейся же надо мной, если я скажу тебе, что Христос лучше, чем кто бы то ни было, постиг сущность любви; обрати внимание, как он вел себя с женщиной, обвиненной в прелюбодеянии, с самаритянкой, с Марфой и Марией, наконец, с Марией Магдалиной. А как возвышенна и глубока его притча о работниках двенадцатого часа! Все, что он делает, все, что говорит, все, о чем думает, имеет одну цель: показать нам, что любовь черпает величие в самой себе, а не в том, на кого она обращена, что она пренебрегает несовершенством людей, что она становится все безграничнее и сильнее, по мере того как человечество становится все более грешным и слабым, все менее достойным столь возвышенной любви. — Все это верно, но ты рисуешь картину христианского милосердия. — Так вот, любовь, великая, настоящая любовь, разве не есть она христианское милосердие, которое направлено на одно-единственное существо и сосредоточено только на нем? — Какая утопия! Любовь — самое эгоистическое среди чувств, она меньше всего совместима с христианским милосердием. — Да, такая любовь, какой вы ее сделали, жалкие люди, и впрямь несовместима с ним! — с жаром воскликнула Лукреция. — Но любовь, которую даровал нам Господь, любовь, которая из его груди должна была перейти в нашу, сохранив при этом свой чистый пламень, любовь, которую я постигаю, о которой грезила, которую так долго искала, которую, как мне казалось, несколько раз в жизни обретала и которой наслаждалась (увы, ровно столько времени, сколько нужно человеку, чтобы забыться сном и внезапно проснуться), любовь, в которую я, несмотря ни на что, верю, как в свою религию, хотя, быть может, я ее единственный адепт и умру, прежде чем познаю ее… так вот, эта любовь — верный слепок той, которую Иисус Христос испытывал и проявлял к людям. Эта любовь — отблеск божественного милосердия, и она повинуется тем же законам: она безмятежна, кротка и праведна, как все чувства праведников. Любовь бывает тревожной, слишком пылкой и неистовой — словом, излишне страстной — только у грешников. Если ты увидишь двух супругов, предупредительно относящихся друг к другу, исполненных спокойной, нежной и преданной любви, говори смело: это дружба; но если ты, человек порядочный и благородный, ощутишь бурную страсть к презренной куртизанке, будь уверен: это любовь, и не красней! Ведь Иисус Христос любил даже тех, кто принес его в жертву! Именно так я и любила Теальдо Соави. Я хорошо понимала, что он человек эгоистичный, суетный, тщеславный, неблагодарный, но я была от него без ума! Когда я узнала, что он подлец, я прокляла его, но продолжала любить. Я так горько и так мучительно оплакивала свою любовь к нему, что с тех пор утратила способность полюбить другого человека. Внешне я утешилась довольно скоро, ну, а теперь я и в самом деле покойна; однако удар был столь силен, рана столь глубока, что я уже никогда никого не полюблю! Флориани вытерла слезу, которая медленно катилась по ее бледной щеке. Лицо ее не выражало ни малейшего гнева, но в этом спокойствии было что-то пугающее.IX
— Стало быть, из-за какого-то негодяя ты не смогла полюбить человека порядочного? — с волнением спросил Сальватор. — Все-таки ты странная женщина, Лукреция! — А разве этотчеловек нуждался в моей любви? — возразила она. — Разве он не был доволен собою, тем, что чувствовал себя во всем правым, разумным, мудрым, что пребывал в мире и согласии с собственной совестью и с окружающими? Он просил моей дружбы в награду за добродетельную жизнь и долгую преданность. Он получил ее, но не пожелал этим удовольствоваться. И стал требовать страсти: ему нужны были беспокойство, страдания. Я не сумела стать несчастной из-за него. А он не мог мне простить желание сделать его счастливым. — Господи, сколько парадоксов, друг мой, я просто напуган! Ты говоришь прекрасные вещи, но привести твои слова к одному знаменателю было бы весьма затруднительно. Любовь, говоришь ты, великодушна, возвышенна и чудесна. Сам Иисус Христос, уча нас христианскому милосердию, тем самым научил и такой любви. По-твоему, любовь — это участие, доведенное до самозабвения, преданность, дошедшая до предела. И потому чувство это доступно только высоким душам. А людей с такой душою ждет ад уже в здешнем мире, поскольку они пылают этой священной страстью только к злым и неблагодарным. — Но в том нет никакого сомнения! — воскликнула Флориани. — Загадка жизни сводится к следующему: жертва, муки, усталость. Так бывает и в молодости, и в зрелом возрасте, так бывает и в старости. — Стало быть, праведники никогда не познают счастья быть любимыми? — Да, не познают, пока не переменится мир, а вместе с ним и человеческое сердце. Если Христос, как он обещал, вновь сойдет на землю, когда исполнятся сроки, он, уповаю, дарует более мягкие законы новому роду людскому; но те люди будут гораздо лучше нас. — Итак, ни разделенной любви, ни высокого опьянения чувством для нашего поколения? — Нет, нет, и еще раз нет! — Ты меня пугаешь, отчаявшаяся душа! — Беда в том, что в любви ты ищешь счастья, но его в ней нет и быть не может. Счастье — это покой, дружба; любовь же — буря, борьба. — А вот я хочу описать тебе иную любовь: дружба и, значит, покой в соединении со сладострастием; иначе говоря — наслаждение, счастье. — Да, таков идеал брака. Мне он незнаком, хотя в свое время я о нем мечтала и стремилась к нему. — И, не зная, ты его отрицаешь? — Скажи, Сальватор, встречал ли ты когда-нибудь двух любовников или двух супругов, которые совершенно одинаково любили бы один другого? Любили бы с равной силой и равной мерой спокойствия? — Не знаю… Не думаю! — А вот я, я совершенно убеждена, что этого не бывает. Как только страсть всецело завладевает одним (а это неизбежно!), другой охладевает, приходит пора страданий, и счастье нарушено, если не утрачено вовсе. В молодости люди стремятся полюбить друг друга; в расцвете лет они друг друга любят, но при этом мучают; в зрелом возрасте думают, что любят, но ведь любовь-то уже прошла! — Ну что ж, в зрелом возрасте ты, я вижу, выйдешь замуж; это будет брак по рассудку, основанный на нежной симпатии, и ты станешь жить счастливо в дружном супружестве. Ведь такова твоя мечта, не правда ли? — Нет, Сальватор, зрелый возраст для меня уже наступил. Моему сердцу теперь пятьдесят лет, а уму — вдвое больше. И не думаю, что будущее вернет мне ощущение молодости. Вероятно, надо любить только одного человека, пройти рядом с ним через все трудности, страдать вместе с ним и ради него, до конца сохранить ему нежную преданность, как нас учит Христос. Только по-настоящему добродетельная женщина может рассчитывать на награду. Будь я такой, наступившая старость все исцелила бы и я бы спокойно уснула рядом со спутником жизни, сознавая, что до конца исполнила свой долг и что моя преданность принесла пользу. — Почему же ты так не поступила? Ты ведь столько простила своему первому возлюбленному! А когда я с тобой познакомился, ты, казалось, твердо решила вечно все прощать и твоему второму возлюбленному! — У меня не хватило терпения, вера меня покинула; я уступила слабости человеческой природы, малодушию, безрассудной надежде обрести счастье, даруя его другому. Я ошиблась. Люди не прощают нам, что мы прежде проявляли самоотверженность по отношению к другим; они ставят нам это в вину и попрекают, а не хвалят; и чем больше преданности мы выказывали до знакомства с ними, тем меньше они верят в то, что мы можем быть преданны и им. — Но разве это и в самом деле не так? — Да, пожалуй, что так, если ты уже была жертвой многих ошибок и увлечений. Душа изнемогает, воображение меркнет, мужество уходит, силы нас оставляют. К этому я и пришла! Скажи я сейчас какому-нибудь мужчине, что способна полюбить его, я бессовестно солгу. — Ах, ты никогда не была кокеткой, милая моя Флориани, а теперь я вижу, что тебе совсем чуждо любострастие! — И потому ты жалеешь меня? — Не тебя я жалею, а себя! Ибо, вопреки всему, что ты только что говорила, а быть может, именно поэтому, я чувствую, что без памяти в тебя влюблен. — В таком случае прощай, мой славный Сальватор, завтра же ты отсюда уедешь. — Ты этого желаешь? Ах, если б ты и вправду того желала! — Что ты хочешь сказать? — Что я остался бы против твоей воли и питал бы надежду. — Ты, кажется, вообразил, что я боюсь тебя? Прежде ты не был фатом, а теперь стал им. — Нет, я не стал фатом; но не понимаю, почему ты хочешь меня уверить, что сделалась неуязвимой? У тебя никогда не бывало мимолетных капризов? — Никогда! — Будто бы! — Слушай, иногда мною овладевали неожиданные порывы, слепые, достойные осуждения! Но то не были капризы. Капризом именуют легкую интрижку, которая длится неделю… Но ведь бывает и страсть, что длится неделю!.. — Бывает и такая страсть, что длится всего час! — не помня себя, вскричал Сальватор. — Да, бывает столь внезапное и сильное увлечение, которое, рассеиваясь, уступает место раскаянию и страху, — сказала Лукреция. — Что же до самой короткой страсти, то она порою бывает и самой неодолимой: ее оплакивают или стыдятся потом всю жизнь. — Зачем же ее стыдиться, если она была искренней? Можно по крайней мере не сомневаться, что такую страсть разделяли. — Нет, даже в этом случае не может быть большей уверенности, чем во всех других. — Все, что возникает внезапно и действует неодолимо, — законно и освящено божественным правом. — Право сильного не есть божественное право, — возразила Флориани, высвобождаясь из объятий Сальватора. — Друг мой, зачем ты оскорбляешь меня в моем собственном доме? Ведь ты не вызвал во мне любовного восторга. — Лукреция! Лукреция! Надеюсь, ты не заколешься поутру? — Лукреция напрасно закололась. Секст вовсе не обладал ею! Тот, кто захватил женщину врасплох, сыграл на ее чувственности, не может считаться ее возлюбленным. — Да, ты права, милая моя Флориани, — сказал Сальватор, опускаясь на колени. — Простишь ли ты меня? — Ну, конечно, — ответила она с улыбкой. — Мы вдвоем, а сейчас уже полночь. У меня нет возлюбленного, и я принимаю тебя в столь поздний час. В том, что происходит с тобою, больше виноват не ты, а я сама. Стало быть, мне придется еще лет десять не видеть своих друзей! Это печально. — О дорогая Флориани, вы плачете, я вас обидел! — Нет, не обидел. Жизнь моя отнюдь не была целомудренна, и потому у меня нет права обижаться на грубо выраженное мужское желание. — Не говори так, я почитаю, я боготворю тебя. — Этого быть не может. Ты мужчина, и ты молод, вот и все. — Топчи меня ногами, но только не говори, что я не испытываю к тебе подлинного чувства. Сердце мое во власти волнения, голова пылает, а твой отказ не только не рассердил меня, но еще больше увеличил мое уважение и любовь к тебе. Забудь о том, что я тебя огорчил. Господи, как ты бледна и печальна! Сумасброд несчастный! Я пробудил в тебе воспоминания о всех твоих бедах! Ты плачешь, горько плачешь! Я так себя презираю, что, кажется, готов покончить счеты с жизнью! — Прости самого себя, как я тебя прощаю, — кротко сказала Лукреция, вставая и протягивая ему руку. — Я неправа, что так расстроилась из-за происшествия, которое должна была предвидеть. В свое время я бы просто над ним посмеялась! Если же сегодня я плачу, то лишь потому, что уже было поверила, будто для меня началась спокойная, исполненная достоинства жизнь. Однако я ведь только недавно распрощалась со слабостями и безрассудством, стало быть, на меня еще не могут смотреть как на женщину благоразумную и стойкую. Такие ночные беседы о любви, о сердечных тайнах, откровенные признания, которые делают друг другу мужчина и женщина, весьма опасны, и если тобой овладели дурные мысли, то виновата в том я, вернее, моя неосторожность. Не станем, однако, принимать это слишком близко к сердцу, — прибавила Флориани, вытирая глаза и улыбаясь своему другу с очаровательной мягкостью. — Я должна безропотно сносить унижение, дабы искупить мои прошлые грехи, хотя грехов такого рода я никогда не совершала. Возможно, было бы лучше, будь я не страстной, а любострастной женщиной! Тогда бы я причиняла вред лишь самой себе, между тем как моя страсть разбивала не только мое собственное сердце, но и сердца других. Но что делать, Сальватор? Я никогда не отличалась философическим нравом, как некогда говорили… Да и ты тоже, мой друг, ты стоишь большего. Из уважения к самому себе никогда не добивайся от женщин наслаждения без любви! Иначе ты еще задолго до старости перестанешь быть молодым, а такое нравственное состояние — самое дурное из всех возможных. — Ты просто ангел, Лукреция, — промолвил Сальватор. — Я тебя оскорбил, а ты разговариваешь со мною, точно мать с сыном… Позволь мне облобызать твои стопы, ибо я недостоин запечатлеть поцелуй на твоем лбу. Думаю, я никогда больше на это не решусь! — Пойдем и запечатлеем поцелуй на лбах более невинных, — сказала она, взяв его под руку. — Пойдем ко мне в спальню. — К тебе в спальню? — спросил он с трепетом. — Ну да, ко мне в спальню, — подтвердила Лукреция с веселым смехом, в котором уже не осталось и следа горечи. Пройдя вместе с Сальватором через будуар, она увлекла его в обитую белым атласом комнату, где четыре розовые кроватки стояли вокруг стеганого гамака, висевшего на шелковых шнурах. Четверо детей Флориани сладко почивали в этом святилище, как бы ограждая ее висячее ложе. — В свое время я очень любила поспать, — сказала она, — и после утомительного дня, проведенного в театре или в гостях, с трудом просыпалась ночью, чтобы взглянуть, хорошо ли спят дети. С той поры, как я вкушаю счастье, живя вместе с ними и ради них, проводя с ними все время и днем, и ночью, я приобрела иные привычки; теперь я сплю вполглаза, как птица, примостившаяся на ветке возле гнезда, и стоит только кому-нибудь из малышей пошевелиться, как я уже все слышу и вижу. Теперь ты сам убедился: стоило мне на два часа их оставить, и я была наказана, испытала огорчение. Если б я, как обычно, улеглась в десять вечера вместе с детьми, не пришлось бы мне вспоминать прошлое… Ах, это прошлое, оно мой злейший враг! — Твое прошлое, настоящее и будущее достойны восхищения, Лукреция, и я бы, кажется, отдал жизнь, лишь бы побыть на твоем месте хоть один день. А потом бы гордился этим днем, он бы навсегда остался в моей памяти как источник гордости и счастья. Прощай! Мой друг и я уедем на заре. Позволь поцеловать твоих детей и благослови меня. Это благословение исцелит меня от скверны, и когда мы вновь свидимся, я буду достоин тебя. Когда Сальватор Альбани вошел в отведенную ему комнату, было уже около часа ночи. Он осторожно переступил порог и на цыпочках подошел к своей кровати, боясь разбудить друга: Кароль лежал тихо, неподвижно и, казалось, спал. Тем не менее, прежде чем задуть свечу, молодой граф, как обычно, тихонько подошел к ложу князя и слегка раздвинул полог, желая убедиться, что тот спокойно спит. К своему величайшему изумлению, он увидел, что Кароль пристально смотрит на него широко раскрытыми глазами и как будто следит за всеми его движениями. — Да ты не спишь, милый Кароль? Я тебя разбудил? — Я не спал, — ответил князь, и в тоне его сквозили грусть и упрек. — Я беспокоился о тебе. — Беспокоился?! — воскликнул Сальватор, делая вид, будто не понимает, в чем дело. — Разве мы в логове разбойников? Ты, видно, забыл, что мы остановились на чудесной вилле, у людей, дружески к нам расположенных. — Значит, мы тут остановились! — сказал Кароль с необъяснимым вздохом. — Этого-то я и боялся! — Ого-го! Стало быть, твое предчувствие все еще не рассеялось? Ну, так вот, скоро ты от него избавишься. Остановка не будет долгой. Я прилягу часика на два, вздремну, и еще до восхода солнца мы тронемся в путь. — Наконец-то свидеться и тут же разлучиться! — воскликнул князь, беспокойно ерзая на подушках. — Как странно… Я бы сказал, жестоко! — Что? Что? О чем ты толкуешь? Ты хотел бы, чтоб мы тут задержались? — Нет, разумеется, мне это ни к чему. Но как же ты? Меня просто пугает столь быстрое расставание после столь быстрого сближения. — Послушай, милый Кароль, ты, видно, бредишь! — воскликнул Сальватор с деланным смехом. — Мне понятны твои подозрения и упреки, хотя они несколько рискованны… несколько преувеличены… Ты, кажется, вообразил, что я вернулся после упоительного свидания и, насладившись приятной и легкой победой, собираюсь улизнуть, даже не попрощавшись с любезной хозяйкой, словом, уехать, не испытав ни сожаления, ни любви? Покорно благодарю! — Я ничего подобного не говорил, Сальватор. Ты, верно, ищешь ссоры и потому приписываешь мне такие речи. — Нет, нет, ссориться мы не станем, время для этого совсем не подходящее, спать пора. Спокойной ночи! И, подойдя к своей кровати, Сальватор бросился на нее в самом дурном расположении духа, пробормотав сквозь зубы: — Как ты скор, любезный! До чего ж эти добродетельные люди щедры на выдумку! Ха-ха! Все это весьма забавно! Но смеялся Сальватор совсем невесело. Он чувствовал за собой вину и знал, что, окажись Лукреция столь же сумасбродной, как он сам, упреки князя были бы вполне основательны.X
Каролю была присуща необыкновенная проницательность; натуры утонченные и погруженные в свой внутренний мир, обладают неким даром провидения, оно часто обманывает их, потому что усложняет истинное положение вещей, но никогда не упрощает его; зато если их догадки оправдываются, это кажется чудом. — Ты жесток, друг мой! — сказал князь, стараясь взять себя в руки, что было ему не легко, ибо он дрожал как в лихорадке. — Видит Бог, как я тревожился за тебя все эти три часа, ведь тревога тем сильнее, чем больше ты привязан к человеку. Мне невыносима даже мысль, что ты можешь совершить опрометчивый шаг. Мысль эта меня терзает, наполняет стыдом и сожалением еще сильнее, чем если бы я совершил его сам. — Ну, этому я не верю, — сухо возразил Сальватор. — Да ты пустишь себе пулю в лоб, если в голове у тебя только зародится игривая мысль. Вот почему ты так нетерпим к окружающим! — Стало быть, я не ошибся! — вырвалось у Кароля. — Ты склонил эту несчастную женщину к новому греху, и ты… — Я негодяй, бездельник, все что угодно! — воскликнул Сальватор, садясь в постели, раздвигая полог и глядя в упор на Кароля. — Но запомни, эта женщина — святая, и тем хуже, если у тебя недостает сердца и ума понять это. Впервые Сальватор говорил так сурово и резко со своим другом. Он был еще слишком взволнован всем тем, что произошло в тот вечер, и не мог спокойно снести незаслуженные упреки. Но, поддавшись досаде, граф тут же горько раскаялся, увидев, что Кароль побледнел и его выразительное лицо исказилось от душевной боли. — Друг мой, не сердись и не огорчайся! — начал Сальватор, сильно отталкиваясь ногой от стены, чтобы подкатить свою кровать к ложу князя. — Хватит уже того, что нынче вечером я причинил горе существу, которое люблю почти так же, как тебя… так же, как тебя, если только это возможно! Презирай меня, брани, я на все согласен, я того заслуживаю, но не обвиняй ни в чем эту чудесную, достойную женщину… Я все тебе сейчас расскажу. И Сальватор, подчиняясь молчаливому приказу друга, поведал ему с полной откровенностью и со всеми подробностями о том, что произошло вечером между хозяйкой дома и им самим. Кароль слушал его рассказ с огромным внутренним волнением, однако Сальватор, возбужденный собственной исповедью, не сразу это заметил. Описание возвышенных чувств и беспорядочной жизни Флориани поразило князя и потрясло его воображение. Мысленно он представлял ее в объятиях презренного Теальдо Соави, затем видел в роли подруги заурядного комедианта: доброта толкала ее на компромиссы, а величие души ставило в унизительное положение. Кароля оскорбляло, что Лукреция сделалась предметом грубого вожделения Сальватора, который, по его мнению, точно так же волочился бы за служанкой с постоялого двора в Изео, если бы ему пришлось провести ночь на том берегу озера. Затем князь мысленно перенесся в спальню Флориани и увидел ее в окружении спящих детей. И всякий раз он убеждался, что эта возвышенная по природе женщина вела образ жизни, недостойный ее. Его бросало то в жар, то в холод, он готов был кинуться к Лукреции, но боялся, что лишится чувств при виде нее. Когда Сальватор замолчал, лоб Кароля был покрыт холодным потом. Разве может это тебя удивить, проницательный читатель? Ведь ты давно уже догадался, что князь фон Росвальд с первого взгляда и на всю жизнь без памяти влюбился в Лукрецию Флориани. Я обещал, а вернее, пригрозил, что лишу себя удовольствия и не стану преподносить тебе никаких сюрпризов в ходе моего повествования. Было бы нетрудно утаить от тебя душевную тревогу моего героя и сразу описать вспыхнувшую в нем страсть, отчего она показалась бы еще более невероятной и неожиданной. Но ты вовсе не так прост, как думают, любезный мой читатель, ты знаешь человеческое сердце так же хорошо, как те, кто создает его историю, и тебе хорошо известно, быть может, даже по собственному опыту, что именно страсти, которые принято считать невозможными, как раз и овладевают человеком с особенной силой, и потому тебя бы не обманула эта наивная уловка романиста. Для чего же в таком случае испытывать твое терпение хитроумными маневрами и коварными приемами? Ты прочел столько романов, тебе так хорошо ведомы все трюки, что я, со своей стороны, решил не морочить тебе голову, хотя ты можешь из-за этого счесть меня глупцом и остаться мною недовольным. Почему именно эта женщина, уже не слишком молодая и не слишком красивая, чей характер был полной противоположностью характеру князя, а опрометчивые поступки, необузданные страсти, доброта души и дерзость ума казались олицетворением бурного протеста против правил света и официальной религии, словом, почему актриса Флориани, сама того не желая и даже не думая о том, произвела столь неотразимое впечатление на князя фон Росвальда? Каким образом этот человек, такой молодой и красивый, такой благочестивый и целомудренный, такой пылкий и романтический, чьи мысли, привязанности и манеры были столь изысканны, внезапно и почти без сопротивления подпал под власть женщины, так много любившей и во многом разочаровавшейся, скептически или даже враждебно относившейся к тому, что он уважал больше всего на свете, и фанатически верившей в то, что он постоянно отвергал и должен был отвергать всю жизнь? Надо ли мне говорить вам, что это труднее всего объяснить средствами логики; и вместе с тем именно это — самое правдивое в моем романе, ибо история всех разбитых сердец отводит каждому страницу, а то и целый том, повествующий о столь зловещем опыте. Не значит ли это, что Лукреция, беседуя о любви с Сальватором Альбани и высказывая парадоксальные суждения об этом предмете, приблизилась к истине, заметив: люди с возвышенной и нежной душою обречены любить только тех, кому они сострадают и кого страшатся? Давно уже замечено, что любовь бросает в объятия друг к другу людей самых противоположных, и когда Сальватор пересказывал юному князю несколько туманные и сумасбродные, но восторженные и, пожалуй, даже высокие представления Флориани о любви, Кароль, несомненно, почувствовал себя во власти этой устрашающей и роковой закономерности. Страх и трепет, которые он при этом ощутил, были неодолимы; вместе с тем он уже смутно предчувствовал очарование чего-то неизведанного, и все это вызвало в его бедной душе такую бурю, что он не в силах был ничего ответить другу и только сказал: — Стало быть, мы через час уедем, отдохни хоть немного, Сальватор, мне спать совсем не хочется, и я разбужу тебя, едва только забрезжит день. Сальватор, как всякий молодой и здоровый человек, мгновенно уснул, почувствовав облегчение после того, как открыл душу другу и поделился с ним своими чувствами. Он не был уязвлен тем, что, как выразился бы повеса, дал маху и ничего не добился от Лукреции. Граф искренне раскаивался в своем поведении; однако, зная, что она добра и прямодушна, он рассчитывал на ее прощение и не давал себе опрометчивых клятв никогда не повторять подобных попыток в отношении других женщин. Кароль так и не сомкнул глаз; у него был сильный жар, начиналась горячка; он уже понимал, что заболевает и пытался успокоить себя, видя в проявлениях нравственного недуга всего лишь симптомы недуга физического. «Все это — только галлюцинации, — думал он. — Последнее незнакомое лицо, встреченное во время путешествия, запечатлелось в моем мозгу и теперь неотступно меня преследует, как горячечный бред. Точно так же меня мог бы преследовать и другой человек, чей образ терзал бы мое воображение в часы бессонницы». Занимавшийся день осветил горизонт, и Кароль поднялся; он решил не спеша одеться и лишь потом разбудить своего спутника: он чувствовал такую слабость, что ему несколько раз приходилось останавливаться и присаживаться на кровать. Проснувшись, Сальватор заметил, что щеки у князя горят, а по телу пробегает судорожная дрожь, и спросил друга, не болен ли он, но Кароль ответил, что он здоров, ибо твердо решил во что бы то ни стало уехать. Когда они выходили из комнаты, снизу донесся шум. В доме уже встали. Молодым людям надо было пройти через нижний этаж, чтобы попасть в сад, а оттуда на берег озера, где они рассчитывали найти какую-нибудь рыбачью лодку. На пороге дома они столкнулись лицом к лицу с Лукрецией. — Куда это вы так спешите? — спросила она, протягивая руку своим гостям. — В мой экипаж уже закладывают лошадей, и Челио, который прекрасно правит, безумно счастлив, что вместо кучера сам повезет вас в Изео. Я не хочу, чтобы вы в столь ранний час переправлялись через озеро, утренний туман еще не рассеялся, он может сильно повредить, разумеется, не тебе, Сальватор, а твоему другу, который не совсем здоров. Нет! Вы и в самом деле нездоровы, господин фон Росвальд! — прибавила она, вновь беря руку Кароля и удерживая ее в своих руках, как нежная мать. — Меня только что поразило, какая у вас горячая рука, боюсь, у вас жар. Ночи и утра у нас тут холодные, вернитесь, вернитесь, я так хочу! Выпейте шоколаду, а тем временем экипаж будет готов, вы тепло укутаетесь и попадете в Изео с первыми лучами солнца, которые рассеют вредный туман над озером. — Стало быть, любезная сирена, ваше зеркало и впрямь дурно влияет на людей? — спросил Сальватор, охотно возвращаясь в дом. — Мой друг еще вчера утверждал это, а я ему не верил. — Если ты, любезный Улисс, именуешь моим зеркалом здешнее озеро, — смеясь, сказала Лукреция, — то я отвечу, что оно походит на все остальные озера: тот, кто не родился на его берегах, должен тут немного остерегаться. Однако не нравится мне, что эта рука так пылает, — прибавила она, нащупывая пульс Кароля. — До чего же она у вас маленькая, просто женская ручка… Che manina! [52]— прибавила она простодушно, поворачиваясь к Сальватору. — Твой друг нездоров, обрати на это внимание! Уж я-то в таких вещах разбираюсь, у моих детей никогда не было иного врача, кроме меня самой. Сальватор в свою очередь хотел было пощупать пульс у князя, но у того эта забота вызвала только раздражение, он резко выдернул из рук графа свою кисть, которую прежде с трепетом оставлял в ладонях Флориани. — Прошу тебя, мой славный Сальватор, — сказал он, — не старайся убедить меня в том, что я болен, и не напоминай слишком часто, что я никогда не бываю вполне здоров. Я дурно спал, слегка возбужден, вот и все. Как только мы тронемся в путь, я тут же приду в себя. Синьора слишком добра, — прибавил он сквозь зубы и так сухо, как будто хотел сказать: «Я буду вам премного обязан, если вы позволите мне уехать отсюда как можно скорее». Флориани была поражена его тоном: она с удивлением посмотрела на князя и решила, что его отрывистая речь — еще один признак лихорадки. Юношу и в самом деле сильно лихорадило, но добрая Лукреция не могла даже вообразить, что болезнь таится в его сердце и причина недуга — она сама. Подали легкий завтрак. Сальватор принялся за еду с обычным своим аппетитом, Кароль неохотно взял чашку кофе. Он никогда его не пил, а в ту минуту ему тем более не хотелось кофе. Однако он чувствовал, что силы быстро оставляют его, и решил искусственно взбодрить себя, чтобы скрыть недомогание и уехать. Ему и в самом деле показалось, что после этого возбуждающего напитка он почувствовал себя лучше, и, видя, как Сальватор, обо всем уже позабыв, слишком нежно и многословно прощается с Флориани, он ощутил нетерпение; Кароль едва не прервал излияния друга, он лишь с трудом подавил досаду и сдержался. Наконец экипаж покатил по песчаной дорожке мимо дома, и красавец Челио, чуть не прыгая от радости, взял в руки вожжи и стал править двумя красивыми корсиканскими лошадками, запряженными в легкую коляску. Преданный слуга сидел рядом с мальчиком на козлах и внимательно следил за ним. Расставаясь с Лукрецией, граф Альбани, по-настоящему любивший ее, почувствовал неподдельную грусть и всю силу своей привязанности, что, по своей привычке, он и не замедлил выразить самым пылким образом. Понизив голос, он бессчетно просил у нее прощения, а потом, преодолев волнение, которое невольно охватывало его при мысли о своей вине, он с нескрываемым удовольствием принялся целовать гладкие щеки, нежные руки и бархатистую шею своей очаровательной приятельницы. Она же без ложного стыда, но и без всякого кокетства сносила это нежное, почти сладострастное прощание и, по мнению Кароля, проявляла слишком много снисходительности либо недопустимой рассеянности, так что ему в эту минуту показалось, будто он готов ее возненавидеть. Чтобы не смотреть на то, как Сальватор на прощание почти с нескрываемой страстью обнимает Флориани, князь откинулся в глубь коляски и отвернул голову. Но когда экипаж тронулся, он увидел возле самой дверцы лицо Лукреции. Она дружески кивала ему и протягивала коробку с шоколадом, которую он машинально принял из ее рук с низким, но ледяным поклоном, а затем со злостью швырнул на переднее сиденье. Сальватор этого не видел. Высунувшись из коляски, он посылал воздушные поцелуи Лукреции и ее маленьким дочерям: полуодетые девочки выскочили из своих кроваток и грациозно махали ему вслед красивыми голыми ручонками. Когда перед графом Альбани замелькали одни только деревья, сквозь которые еще просвечивали стены виллы, он почувствовал, что его доброе, ветреное, но искреннее, как у всякого итальянца, сердце готово разорваться от горя. Он прикрыл лицо носовым платком и пролил несколько слезинок. Потом, устыдившись своей слабости и боясь показаться смешным, Сальватор вытер глаза, повернулся к князю и с легким смущением проговорил: — Не правда ли, теперь ты и сам видишь, что Флориани совсем не такая, как тебе казалось? Однако слова эти замерли у него на устах, когда он увидел искаженное и смертельно бледное лицо своего друга. Губы и щеки Кароля были белы как мел, зубы плотно сжаты, а потускневшие глаза неподвижно уставились в пространство. Сальватор тщетно звал его, тщетно тряс за плечи, юноша ничего не чувствовал и не слышал: он потерял сознание. Несколько мгновений граф растирал его руки, надеясь привести в чувство. Потом, видя, что князь холоден и неподвижен, как мертвец, ощутил панический страх. Он окликнул Челио, попросил остановить коляску и распахнул все дверцы, чтобы впустить побольше воздуха. Но все оказалось напрасным: Кароль почти не подавал признаков жизни, он только изредка глухо стонал и судорожно вздрагивал. Челио, унаследовавший от матери мужество и присутствие духа, взобрался на козлы, стегнул лошадей и снова привез князя Кароля в тот дом, где тому по воле рока предстояло изведать новую жизнь.XI
Конец предыдущей главы, без сомнения, позволил вам, любезные читатели, догадаться, что внезапная болезнь вынудит князя Росвальда остаться на вилле Флориани. Прием, разумеется, не новый, вот почему я и не обхожу его молчанием. Если бы я утаил от вас все подробности, разве показалось бы вам правдоподобным продолжение этой истории? Бесспорно, в сильных страстях есть нечто роковое, но возникают и проявляются эти роковые страсти в самых естественных обстоятельствах. Начавшаяся болезнь угнетающе подействовала на Кароля и ослабила его волю, помешала ему противиться зарождавшейся страсти; если бы не это, он, вероятно, устоял бы перед натиском столь необъяснимого и безрассудного чувства. Однако он не устоял, потому что и в самом деле был уже тяжко болен, и Флориани несколько недель почти не отходила от его изголовья. Эта чудесная женщина из дружбы к Сальватору Альбани, а также следуя законам гостеприимства, которые она свято чтила, сочла своим долгом ухаживать за больным князем так, как она ухаживала бы за лучшим другом или за собственным ребенком. Поистине само провидение послало Каролю в пору трудного испытания женщину, которая больше, чем кто-либо другой, была способна выходить и спасти его. У Лукреции Флориани был необыкновенный дар постигать состояние больных и безошибочно угадывать, как именно их лечить. Истоки этого дара были связаны с воспоминаниями детства. В том самом доме, хозяйкой которого она теперь сделалась, Лукреция десятилетней девочкой была служанкой, да, простой служанкой у своей крестной матери, госпожи Раньери, женщины слабой и нервической, за которой она ходила с любовью, преданностью и умением, удивительными для ее возраста. Это и послужило первопричиной привязанности, которую добрая дама испытывала к крестьянской девочке: она воспитала ее как барышню и впоследствии хотела выдать за собственного сына. Таким образом, Лукреция с ранних лет приучилась ухаживать за больными и в случае надобности заменять им врача. Впоследствии не раз болели ее друзья, дети и слуги, как это случается в жизни каждого, и она сама ходила за ними, что делает далеко не каждый. Упорно думая над тем, как лучше помочь больным, внимательно и настойчиво изучая предписания докторов, наблюдая, к каким результатам приводит та или иная метода лечения, она постепенно составила себе довольно верное представление о различных организмах и хранила в своей памяти множество симптомов всевозможных недугов. Лукреция помнила, какой вред нанесли здоровью милой ее сердцу госпожи Раньери невежественные итальянские лекари, и была даже убеждена, что они уморили бедную женщину, после того как сама она уехала из этих мест. Вот почему она решила не приглашать врачей к заболевшему князю, а самолично взялась его лечить. Сальватора очень пугала ответственность, которую Флориани брала на себя и которая тем самым ложилась и на него. Но смелая и решительная женщина настояла на своем. Она удалила из комнаты больного его заботливого друга, потому что этот славный малый утомлял ее своей постоянной тревогой и сомнениями. — Ступай к детям, — сказала она ему, — присматривай за ними, развлекай их, гуляй, позабудь о том, что твой друг болен; поверь, твое ребяческое беспокойство и излишняя заботливость ему не нужны. Я сама займусь больным и отвечаю за него. Я ни на минуту его не оставлю. Сальватор с большим трудом сохранял спокойствие. Крайняя слабость Кароля пугала его и, казалось, требовала неотложных и действенных мер. Но Флориани не раз приходилось наблюдать симптомы нервных недугов, ей достаточно было взглянуть на тонкие руки князя, на белую, почти прозрачную кожу, на мягкие шелковистые волосы, на всю его хрупкую фигуру, чтобы установить между его болезнью и болезнью госпожи Раньери сходство, которое не может ускользнуть от внимательных глаз женщины. Прежде всего она постаралась создать для больного спокойную обстановку, следя, чтобы он при этом не слабел; она была убеждена, что столь утонченные натуры поддаются гипнотическому влиянию высшего порядка, непонятному людям заурядным, и стала часто приводить к постели князя своих детей, убедившись прежде, что болезнь его не заразительна. Она считала, что присутствие этих юных, здоровых и крепких созданий окажет таинственное и благотворное воздействие на нравственное и физическое состояние больного, поддержит угасающее пламя жизни в его груди. Кто решится утверждать, что она заблуждалась на сей счет? Возможно, воображение играет немалую роль в ходе нервных болезней, но бесспорно одно: Каролю легче дышалось, когда дети были рядом и чистое дыхание малышей, соединяясь с дыханием их матери, как бы очищало и освежало воздух, который он жадно ловил, пылающей гортанью. Достаточно хорошо известно, как дурно себя чувствуют больные, когда к ним приближаются люди, которые вызывают в них отвращение или раздражают их; следует помнить также и о том, что удовольствие, которое больной испытывает, когда за ним ухаживают или когда его просто окружают милые ему люди с приятной внешностью, улучшает его самочувствие. Если бы в наш последний час вместо зловещих атрибутов смерти возле нашего изголовья витали небесные видения и нас баюкала бы божественная музыка, мы без всяких мук и тревоги сносили бы страшные часы агонии. Кароль, которого преследовали тягостные кошмары, порою пробуждался, охваченный ужасом и отчаянием. И тогда он безотчетно искал прибежища от терзавших его призраков. По-матерински нежные руки Флориани служили ему тогда надежным оплотом, и он спокойно склонял свою больную голову к ней на грудь. Потом, открыв глаза и обводя блуждающим взором комнату, он видел вокруг красивые, смышленые и любящие лица Челио и Стеллы, которые улыбались ему. Машинально и он улыбался им, повинуясь учтивости, воспоминание о кошмаре рассеивалось, и больной забывал свой страх. Совсем иные видения овладевали его ослабевшим от недуга воображением. Он смотрел на малютку Сальватора, чье розовое личико придвигали к его лицу, и ему казалось, будто за спиной у младенца вырастают крылья; Каролю чудилось, что это прелестный херувим парит над его головою, овевая ее свежестью. У Беатриче был необыкновенно нежный голосок, и когда она тихонько разговаривала со своими братьями, ему казалось, будто она поет. В чистом, красивом тембре ее голоса Кароль различал певучие интонации, доступные только его слуху; однажды, когда девочка тихонько препиралась из-за игрушки со своей сестрой, князь к величайшему удивлению Флориани заметил, что Беатриче поет Моцарта и при этом так верно, как никто другой. — У нее редкий дар, — прибавил он, с усилием подбирая слова, чтобы лучше выразить свою мысль. — Она, без сомнения, часто слушает музыку, но запоминает лишь Моцарта. И неизменно воспроизводит голосом ту или иную музыкальную фразу этого композитора, и только его. — А Стелла тоже поет? — спросила Лукреция, стараясь понять Кароля. — Она иногда напевает Бетховена, — отвечал он, — но далеко не всегда и не так верно, не так благозвучно. — Ну, а Челио, он поет когда-нибудь? — Челио я слышу только тогда, когда он ходит. В его позах, во всех его движениях столько изящества и гармонии, что пол как будто звенит под его ногами и вся комната наполняется долгими вибрирующими звуками. — Ну, а этот малыш? — спросила Лукреция, поднося к лицу больного малютку Сальватора. — Он ведь самый шумный и, случается, кричит. Не терзает ли он ваш слух? — Нет, он нисколько не терзает мой слух, я его просто не слышу. Должно быть, я стал глух к шуму и улавливаю теперь только мелодию и ритм. Когда этот херувим у меня перед глазами, — прибавил он, указывая на крошку, — мне чудится, будто у моей постели возникает пелена, сотканная из ярких и нежных красок. Этот ливень света никогда не облекается в определенную форму, но он прогоняет дурные видения. О, не уводите, пожалуйста, отсюда детей. Пока они тут, я не испытываю страданий! До сих пор Кароль жил с мыслью о близкой кончине. Он настолько свыкся с нею, что иногда, еще до болезни, ему начинало казаться, будто он уже принадлежит смерти и каждый день отсрочки — только счастливая случайность. Он даже охотно шутил по этому поводу; однако если мысль о конце посещает нас, пока мы здоровы, мы способны принимать ее с философическим спокойствием, но если она завладевает умом человека, ослабевшего от болезни, то лишь в редких случаях не страшит его. По мне, это самое печальное, что таит в себе смерть: ведь она настигает нас, когда мы так подавлены и так унизительно малодушны, что не решаемся взглянуть ей прямо в глаза, и потому она пугает даже людей стойких и мужественных от природы. С князем произошло то, что происходит с большинством больных, когда ему пришлось вплотную столкнуться с мыслью, что он умрет во цвете лет, сладостная меланхолия, которая прежде была его уделом, преобразилась в мрачную скорбь. Если бы в этих обстоятельствах за ним ухаживала его мать, она бы старалась поддерживать мужество Кароля прямо противоположными средствами, нежели те, к каким прибегала Флориани. Княгиня беседовала бы с ним о лучшей жизни, окружила бы умирающего суровыми атрибутами религии. Она призвала бы на помощь священника, и Кароль, подавленный всей этой торжественной обстановкой, принял бы неизбежность конца и покорился судьбе. Но Лукреция действовала совсем иначе. Она старалась отвлечь больного от мысли о смерти. А когда он не мог скрыть, что считает свою смерть скорой и неизбежной, она мягко вышучивала юношу и старалась убедить, что его здоровье не внушает ей никаких опасений, хотя на самом деле нередко тревожилась. Она вела себя так осмотрительно и была внешне так спокойна, что в конце концов завоевала полное доверие больного. Стремясь вселить бодрость в Кароля, она не призывала его презирать жизнь (призывать к этому больных уже слишком поздно, надеяться на такое присутствие духа с их стороны не следует, и подобные призывы часто лишь ускоряют конец), а поддерживала в нем волю к жизни, побуждая верить в выздоровление; вскоре она заметила, что князь не только привязан, но привязан страстно к земному существованию, которое он будто бы так презирал, пока ему ничто не угрожало. Сальватор, полагавший, что у его друга недостанет душевных сил противостоять опасному недугу, был во власти страха. — Каким образом ты надеешься его спасти? — спрашивал он у Флориани. — Ведь уже очень давно, с того самого дня, как умерла его мать, Кароль утратил вкус к жизни, он медленно хиреет и угасает. Мысль о близкой смерти даже приносила ему своего рода удовлетворение, и это заставляло меня считать, что силы его уже подорваны и когда он упадет, то больше не поднимется. — Ты заблуждался и все еще заблуждаешься, — отвечала Лукреция. — Никто не хочет умирать, если только он не маньяк, а твой друг в здравом уме. У него крепкая натура, а нервное потрясение, делавшее его таким мрачным, пройдет, когда минует кризис, жертвой которого он стал. Уверяю тебя, он хочет жить и будет жить. Кароль и в самом деле хотел жить, жить ради Флориани. Разумеется, он не отдавал себе в этом отчета, и за те две недели, что длилась опасная горячка, он совсем забыл о сильном волнении, вызвавшем ее. Но любовь к Лукреции, хотя он этого не сознавал, зрела и росла в его душе: так зреет и растет любовь покоящегося в колыбели младенца к своей кормилице. Безотчетная, нерасторжимая и властная привязанность завладела скорбной душою Кароля и вырвала его из холодных объятий смерти. Он подпал под власть этой женщины, которая видела в нем только больного юношу, нуждавшегося в уходе, и перенес на нее всю ту любовь, какую прежде испытывал к матери, и всю ту любовь, какую, как ему казалось, испытывал к своей невесте. В горячечном бреду им овладела навязчивая идея: ему чудилось, что материнская любовь совершила чудо и княгиня вышла из могилы, дабы помочь сыну в тягостные часы смерти, и он постоянно принимал Лукрецию за собственную мать. В силу этой иллюзии он покорно выполнял все ее предписания, внимательно прислушивался к каждому слову, совершенно забыв о том недоверии, какое она ему сперва внушала. Когда у него так теснило грудь, что он почти не мог дышать, он склонял голову на ее плечо и порою подолгу дремал в такой позе, даже не подозревая о своем заблуждении. Наконец наступил день, когда к Каролю вновь возвратился рассудок; накануне сон его был крепок и целебен, поутру он раскрыл глаза и с удивлением стал пристально вглядываться в лицо этой женщины, побледневшее от усталости и бессонных ночей, которые она проводила, выхаживая его. Казалось, князь пробудился от долгого сна, он спросил Лукрецию, неужели его недуг продолжается уже много дней и неужели это ее он все время видел у своего изголовья. — Господи Боже! — воскликнул Кароль, когда Флориани ответила на его вопросы. — До чего вы похожи на мою матушку! Сальватор, — прибавил он, узнавая своего друга, который приблизился к его ложу, — правда ведь, госпожа Флориани походит на мою мать? Меня это поразило, как только я ее увидел. Сальватор не счел возможным перечить больному, хотя не находил ни малейшего сходства между полной сил красавицей Лукрецией и высокой, худой, чопорной княгиней фон Росвальд. В другой раз Кароль, все еще опиравшийся на руку Флориани, попытался сделать несколько шагов самостоятельно. — Я уже чувствую себя гораздо лучше и крепче, — сказал он. — Я вас и так слишком утомил. Сам не понимаю, как мог я до такой степени злоупотреблять вашей добротою! — Нет, нет, обопрись крепче на мою руку, дитя мое, — приветливо сказала Флориани, которая легко привыкала говорить «ты» тем, кто вызывал в ней симпатию. Надо сказать, что она незаметно для самой себя начала относиться к Каролю почти как к сыну. — Может, вы и в самом деле моя матушка? Неужели это возможно? — спросил Кароль, у которого все еще мешались мысли в голове. — Да, да, считай, что я для тебя мать, — отвечала она, даже не подумав, что Каролю эти слова могут показаться кощунственными. — Не сомневайся, сейчас я готова полностьюзаменить тебе мать. Кароль хранил молчание. Потом глаза его наполнились слезами, и он заплакал как ребенок, прижимая к губам руки Лукреции. — Милый мой сын, — сказала она, несколько раз поцеловав его в лоб, — не нужно плакать, это может вас сильно утомить. Если вы думаете о своей матери, знайте, что с неба она видит вас и благодарит Бога за ваше скорое выздоровление. — Вы ошибаетесь, — возразил Кароль. — С высоты небес моя матушка уже давно призывает меня к себе, требует, чтобы я присоединился к ней. Я это слышу, но у меня, неблагодарного, недостает мужества расстаться с жизнью. — Как можете вы говорить такие ужасные вещи? Вы рассуждаете, точно малый ребенок, — сказала Флориани спокойно и ласково, как будто журила Челио. — Если Господь Бог хочет, чтобы мы жили на земле, наши родители не смеют призывать нас в мир иной. Они этого не должны, да и не хотят делать. Вам просто померещилось: когда человек болен, ему может всякое померещиться. Если бы ваша матушка могла сделать так, чтобы вы ее услыхали, она бы сказала, что вы еще слишком мало прожили и не вправе с ней соединиться. Кароль с трудом повернулся к Лукреции, его, должно быть, поразило, что она выговаривает ему. Некоторое время он смотрел на нее, а затем, словно не расслышав или не поняв, что она говорит, воскликнул: — Нет, я не в силах умереть! Ты, ты удерживаешь меня здесь! Я не могу тебя покинуть! Пусть матушка простит меня за то, что я хочу остаться с тобой! Совершенно обессилев от волнения, он упал на руки Флориани и опять забылся.XII
Однажды вечером, когда уже почти поправившийся князь, казалось, мирно дремал, Флориани, уложив детей спать, сидела вместе с Сальватором на террасе и наслаждалась прохладой. — Милая Лукреция, — начал граф, — пожалуй, нам пора уже обсудить кое-какие житейские дела; ведь скоро почти три недели мы живем в каком-то кошмаре; наконец-то он рассеивается, благодаря Богу — вернее, следовало бы сказать, благодаря тебе, ибо это ты спасла моего друга, и отныне, помимо привязанности, я буду испытывать к тебе вечную благодарность. А теперь скажи, что станем мы делать, когда наш дорогой Кароль будет в силах продолжать путешествие? — Ну, до этого еще далеко! — ответила Флориани. — Не думай, что он через две недели сможет пуститься в дорогу. Пока что он только с трудом прогуливается по саду, а тебе отлично известно, что силы возвращаются к нам гораздо медленнее, чем уходят. — Допустим, что до его полного выздоровления должен пройти еще месяц! Однако все имеет конец, не можем мы вечно обременять тебя своим присутствием, когда-нибудь надо будет и расстаться! — Разумеется. Но только я хочу, чтобы произошло это как можно позднее. И нисколько вы меня не обременяете. Удовольствие видеть твоего друга здоровым вполне вознаграждает меня за все заботы; к тому же он так пылко, так мило и деликатно выражает мне свою признательность, что я, кажется, начинаю любить его почти так же сильно, как ты. Вполне естественно, что человек ухаживает за теми и старается утешить тех, кого любит. Вот почему не стоит так уж меня благодарить. — Ты, видно, не хочешь меня понять, бесценный друг. Меня тревожит будущее! — Что именно? Здоровье князя? Но болезнь не принесла ему серьезного вреда. За это время я к нему присмотрелась: организм у него на редкость крепкий. Он, пожалуй, переживет нас с тобой! — Теперь и я готов в это поверить. На сей раз я убедился, какой запас сил таится в этих нервических натурах! Но подумала ли ты, Лукреция, о его душевном состоянии, о том, что его ждет? — Да при чем тут я?.. Почему ты меня об этом спрашиваешь? — Конечно, нет ничего удивительного, что такая прямодушная и благородная женщина, как ты, может быть наивна до слепоты. И все-таки очень странно, что ты меня не понимаешь. — Тем не менее я и в самом деле не понимаю. Послушай, говори яснее. — Говорить яснее о таком деликатном предмете, да еще с человеком, который ничем тебе не желает помочь! Куда как просто! И все же ничего не поделаешь, придется. Так вот: Кароль любит тебя! — А как же иначе? Я и сама его люблю. Но если ты пытаешься меня уверить, будто он влюблен, то я не могу серьезно отнестись к твоим опасениям. — Дорогая Лукреция, не стоит этим шутить! Когда имеешь дело с такой глубокой и цельной натурой, как у моего бедного друга, тогда все серьезно. Больше того, весьма и весьма серьезно! — Нет, нет, Сальватор, ты заблуждаешься. Если б ты сказал, что твой друг питает ко мне глубокую дружбу, сильную, если угодно, пылкую признательность, я бы ответила, что это вполне возможно, ибо он человек необыкновенно мягкий и благородный. Но если ты утверждаешь, что этот юноша влюбился в твою уже далеко не молодую приятельницу, я скажу тебе в ответ: это немыслимо. Ты обратил внимание на то, что каждое слово, которое он адресует мне, сопровождается крайним волнением: это — следствие его слабости и еще не изжитой до конца нервной экзальтации. Ты не раз слышал, в каких восторженных выражениях он благодарит меня за то немногое, что я для него делаю: это — следствие благородной привычки возвышенно мыслить и возвышенно изъясняться; красноречие вообще свойственно людям с прекрасной душою, а у Кароля эти природные качества получили еще большее развитие благодаря широкой образованности и хорошим манерам. Но думать, что он меня любит? Какое безумие! Ведь он меня даже не знает, а если бы знал, если бы ему была известна моя жизнь, он бы просто боялся меня, бедный мальчик! Огонь и вода, небо и земля не столь не схожи, как мы с ним. — Небо и земля, огонь и вода — стихии противоположные, но в природе они постоянно сливаются или готовы слиться. Облака и утесы, вулканы и моря, сталкиваясь, как бы сплетаются в тесном объятии; в вечных катаклизмах они одновременно разрушаются и гибнут. Так что твое сравнение только подтверждает мою мысль, и мои опасения должны стать для тебя понятными. — Все это очень поэтично, но не имеет никакой почвы! Говорю тебе, Кароль, вероятно, стал бы меня презирать и ненавидеть, если бы узнал, какая грешница ходила за ним, как сестра милосердия. Из твоих постоянных рассказов мне известны его нравственные правила и воззрения, потому что, должна признаться, сам он никогда со мной на такие темы не беседовал. Но тебе-то ведь хорошо известны его взгляды и его нрав. Как же ты можешь допустить, что между нами возможны близкие отношения? Полно, я прекрасно знаю, что станет он думать обо мне, когда его здоровье полностью восстановится и к нему возвратится ясность суждений. Я не строю на сей счет никаких иллюзий! Через полгода в Венеции, или в Неаполе, или же во Флоренции кто-нибудь начнет в его присутствии рассказывать о моих достойных сожаления романах и о тех уж вовсе неприглядных похождениях, какие мне приписывают, ибо чего только не придумывают о людях обеспеченных! И тогда… вспомни о том, что я тебе сейчас говорю! Ты увидишь, твой друг сделает слабую попытку вступиться за меня, потом примется горестно вздыхать, а под конец скажет: «Как жаль, что так чернят эту славную женщину, ведь я питаю к ней самые дружеские чувства и глубокую признательность!» Вот какое воспоминание оставит по себе в сердце Флориани этот гордый юноша. Воспоминание сладостное, но печальное; однако ни на что другое я не претендую. Как всегда, мне мила только правда. Ты прекрасно знаешь, Сальватор: у меня достанет сил, чтобы безропотно принимать последствия моего прошлого, они меня не смущают и не оскорбляют, ибо ни в какой мере не нарушают той душевной ясности, какая живет во мне. — Твои слова переполняют меня грустью, милая Лукреция, — сказал Сальватор, с нежностью пожимая ее руку, — но все это верно за одним лишь исключением! Да, мой друг покинет тебя, уедет отсюда, как только у него хватит на это сил, а произойдет это, едва он поймет все, что происходит в его душе. Да, он станет прислушиваться к словам глупцов, которые будут описывать твою жизнь, ничего о ней толком не зная, и к словам низких завистников, которые будут клеветать на тебя. Да, он станет страдать из-за этого и горестно вздыхать! Но я никак не могу согласиться с тем, что на том все кончится, что боль его исчезнет от нескольких слов и что, призвав на помощь разум и волю, он отбросит всякое воспоминание о тебе. Отныне Кароль еще более несчастлив, чем прежде, причем несчастлив навсегда, хотя сам он этого еще не замечает в опьянении первой любви! — Ловлю тебя на слове! — воскликнула Лукреция, внимательно слушавшая графа. — Ты упомянул о первой любви. Но от тебя же самого мне известно, что я не первая его любовь, а потому если даже предположить, как ты утверждаешь, что он меня любит, то это не так уж страшно. Разве ты не рассказывал мне, что Кароль был помолвлен с красивой девушкой его круга, что ее смерть оставила его безутешным и он, быть может, никогда в жизни не полюбит другую женщину?.. Именно об этом ты твердил мне в первые дни после вашего приезда; если это правда, то он не мог меня полюбить, если же он все-таки влюбился, то, вполне возможно, другая женщина изгладит мой образ из его памяти. — А если чувство к тебе будет жить в нем еще пять или шесть лет! Ведь когда умерла Люция, Каролю было восемнадцать, а до встречи с тобою он и смотреть не хотел ни на одну женщину. — Как ты можешь сравнивать то его чувство с предполагаемым чувством ко мне! Это совершенно разные вещи! Вполне понятно, что он целых шесть лет оплакивал утрату ангельского создания: ведь она была под стать ему, долг и сердечная склонность предписывали Каролю предпочитать эту девушку всем остальным! И совсем другое дело я, увядающая театральная дива… вдова, потерявшая нескольких… любовников (мне никогда не приходило в голову их считать!)… Полно, не пройдет и двух месяцев, как он обретет прежнее спокойствие, если даже допустить, что он его потерял. Послушай, Сальватор, довольно об этом! Твои предположения огорчают меня и даже причиняют некоторую боль. Почему так случается, что твоя злополучная приятельница, к которой ты все эти три недели неизменно проявлял драгоценное доверие и братскую привязанность, непременно оказывается предметом грубых вожделений мужчин, и даже самого целомудренного и болезненного из твоих друзей? Неужели после всех моих заблуждений, которые я искупила ценою тяжких мук и, уповаю, в какой-то мере исправила несколькими добрыми делами, я не вправе рассчитывать на то, чтобы благовоспитанные молодые люди относились ко мне как к старшему и нежному другу? Кем предначертано, что я должна играть для них роль змея-искусителя, когда во мне не больше лукавства, чем в Стелле или Беатриче? Разве я кокетка? Разве я все еще хороша собой? Corpo di Dio! [53]— как любит говорить мой старик отец. Я изо всех сил стараюсь не вызывать ни страха, ни зависти и мечтаю лишь о том, чтобы меня оставили в покое. Господи! Я прошу только одного: отдыха, забвения. Вот о чем я тайно вздыхаю, вот о чем громко молю, как мучимый жаждой олень, ищущий водопоя. Когда же, наконец, слово «любовь» перестанет звучать в моих ушах как фальшивая нота? — Мой бедный, мой милый друг, — сказал Сальватор, — напрасно ты восстаешь против неизбежности, тебе еще долго придется противиться если не собственным страстям, то домогательствам мужчин, которые будут встречаться на твоем пути. Чего только я не делаю, чтобы сохранять спокойствие рядом с тобою, но даже мне это не всегда удается, а ведь я… — Как, ты опять за старое! — воскликнула Флориани с простодушием, почти комическим отчаянием, — И ты, Брут? Лучше убей меня, и тотчас же. По крайней мере я буду избавлена от этих вечных и назойливых признаний! — Нет! Нет!.. Со мною кончено, — поспешил успокоить ее Сальватор, боясь, что мгновенная веселость Лукреции сменится печалью. — Я никогда больше ничего не скажу тебе о своих чувствах, никогда не заговорю о себе, даже если это будет угрожать мне гибелью. Обещаю тебе, клянусь! Но не надейся, что так станут вести себя другие мужчины: напрасно ты будешь утверждать, что постарела, они по-прежнему станут любоваться тобой, любоваться бьющей в тебе ключом жизнью. Даже если ты всегда будешь так небрежно причесываться, будешь постоянно ходить в этом домашнем платье, которое походит скорее на одеяние кающегося грешника, чем на женский наряд, ты вопреки всему будешь казаться красивее других женщин! Кто, кроме тебя, может позволить себе появляться при ярком свете дня небрежно одетой, подставлять руки и шею ярким лучам солнца, утомлять глаза и утрачивать свежесть кожи, проводя бессонные ночи у изголовья больного (а ведь ты ко всему еще воспитала чуть не полдюжины детей, работала, огорчалась, страдала… чего только ты не пережила!), и после всего этого воспламенять воображение мужчин — и таких целомудренных, как мой друг Кароль, и таких умудренных опытом, как твой друг Сальватор! — Вот что, если ты не оставишь этого тона, — вышла из себя Флориани, — если ты и дальше будешь утверждать, что меня еще ждет впереди страсть, я, кажется, способна нынче же вечером плеснуть себе в лицо кислотою или еще какой-нибудь отравой, чтобы встать поутру безобразной. — Неужели ты и вправду можешь столь жестоко поступить с собой? — растерянно спросил Сальватор. — Да нет, это я просто так сказала, — бесхитростно призналась Лукреция. — Я достаточно страдала, и новые страдания мне ни к чему. — Но предположим, что можно обезобразить себя, не рискуя ослепнуть и не испытывая боли… Ведь ты все-таки этого не сделаешь? — Не сделаю, потому что я по натуре жизнерадостна, к тому же я актриса и люблю красоту; а потом я не хочу, чтобы перед глазами у моих детей было что-либо уродливое. Мне бы самой стало страшно, если б я вызывала у других ужас и отвращение. И все же, уверяю тебя, если на одну чашу весов передо мной положат муки новой страсти, а на другую — печальную необходимость стать безобразной, я колебаться не стану. — Ты говоришь искренне, и меня это пугает. Такая женщина, как ты, на все способна! Гони от себя эти сумасбродные мысли, Лукреция! Не уподобляйся некоей прусской принцессе, сестре Фридриха Великого, которая, как гласит молва, обезобразила свое лицо, чтобы навсегда избежать замужества и сохранить верность возлюбленному. — Поступок, достойный восхищения, — заметила Флориани. — Ведь большей жертвы для женщины не существует. — Да, конечно, однако история еще гласит, что, уничтожив свою красоту, она одновременно подорвала здоровье и нрав у нее стал капризный и злой. А потому оставайся красивой, иначе ты рискуешь утратить и доброту, а она тоже немалое сокровище. — Друг мой, время все поставит на свои места, — сказала Лукреция. — Мало-помалу, даже не думая, даже, быть может, не заметив этого, я подурнею и тогда, надеюсь, наконец-то почувствую себя счастливой. Печальный опыт убедил меня в том, что страсти не приносят счастья, но я все еще лелею мечту о спокойном и чистом существовании, я уже сейчас предчувствую такую возможность, и она сулит мне тихую радость. А потому не говори мне, что твой друг нарушит эту радость своими муками. Я сделаю так, что он сам не захочет меня любить. — Но как ты этого добьешься? — Поведаю ему всю правду о себе. Помоги же мне в этом. Не скрывай от Кароля ничего… Да что это я говорю? Неужели я так безрассудна, что поверила тебе? Не может он меня любить! Разве не носит он у себя на груди портрет невесты? — Ты думаешь, он и вправду любил ее? — спросил Сальватор после короткого молчания. — Да ведь ты сам мне сказал, — ответила Лукреция. — Я прежде в это верил, потому что Кароль в это верил и весьма красноречиво о том говорил, — продолжал Сальватор. — Но, между нами говоря, ведь мужчина, не обладавший женщиной, способен любить ее только умозрительно. Настоящая любовь не может вечно питаться одними желаниями да сожалениями, не правда ли, друг мой? Когда я теперь вспоминаю об отношениях, существовавших между князем Каролем и княжной Люцией, я утверждаюсь в мысли, что любовь существовала только в их воображении. Они и виделись-то всего пять или шесть раз, да к тому же в присутствии родителей! — И это все? — Да, Кароль мне сам рассказывал. До помолвки они были едва знакомы, а вскоре она умерла, так что у них даже не было времени узнать друг друга. — Ну, а ты, ты видел эту княжну? — Однажды видел. Она была красивая девушка, хрупкая, бледная, чахоточная… Я сразу заметил, хотя об этом тогда еще никто не говорил. Она была очень изящна и элегантна; одевалась изысканно и держала себя весьма надменно, хотя, на мой взгляд, слишком уж манерно; у нее были голубые глаза, пушистые волосы, матовая кожа, ангельское выражение лица и любовь к картинным позам. Мне она не понравилась. Слишком уж она была романтична и высокомерна; она принадлежала к числу тех женщин, которым мне всегда хочется сказать: «Когда говоришь, раскрывай рот; когда ходишь, ступай по земле; когда ешь, хорошо прожевывай пищу; если уж плачешь, пусть из твоих глаз льются слезы; если играешь на фортепьяно, прикасайся к клавишам; смейся всей грудью, а не одними бровями; когда здороваешься, отвешивай людям поклон, а не кивай подбородком. Если ты мотылек или одуванчик, лети по ветру, а не щекочи нам глаз или ухо. И последнее: коли ты неземное создание, то так и скажи!» Словом, она раздражала меня, ибо только походила на женщину, на самом же деле была каким-то бесплотным существом. Она обожала украшать себя цветами и так безбожно душилась, что в тот день, когда я имел честь сидеть за обедом возле нее, у меня нестерпимо разболелась голова. Она благоухала, точно набальзамированный покойник, а по мне уж лучше саше в шкафу, нежели такая женщина рядом: ведь тогда ты по крайней мере не обязан все время вдыхать благовония. — Я не могу удержаться от смеха, представляя себе облик этой княжны, — сказала Флориани, — однако чувствую, что ты сильно преувеличиваешь и рисуешь ее такой под влиянием досады. Вижу, что ты не понравился княжне Люции. Должно быть, твои комплименты показались ей недостаточно изысканными. Но не будем тревожить покой усопших и отнесемся с должным уважением к тому образу, который живет в чистой душе князя Кароля. Больше того, я хочу, чтобы он подробно рассказал мне о ней: это оживит в нем воспоминание о былой любви, а сейчас оно для него окажется благотворным. Доброй ночи, друг мой! Будь покоен, Кароль способен полюбить только сильфиду!XIII
Лукреция чистосердечно уверяла себя, что Сальватор заблуждается. Она знала, что граф и сам питает к ней привязанность сильную, но, если можно так выразиться, спокойную, привязанность искреннюю, но не безрассудную, такую, что не налагает цепей и не мирится с ними, — словом, привязанность глубокую, но великодушную, которая допускает и шалости на стороне, и мимолетные измены, была бы только охота да случай представился. Флориани тоже избегала цепей и была уверена, что страсть ей больше не угрожает; однако она составила себе столь высокое представление о любви, всегда отдавалась чувству с таким самозабвением, наконец, была от природы такой прямодушной и страстной, что рассудочный подход к любви мог бы вызвать в ней только возмущение. Она всегда любила безоглядно, и если бы вдруг поняла, что, оказывается, чувственность все еще сохраняет над нею власть, то обуздала бы ее и заставила умолкнуть, но не согласилась бы на близость с человеком, не испытывая любовного восторга и вполне искреннего, хотя, возможно, и ошибочного убеждения, что никогда не расстанется со своим избранником и будет верна ему до гроба. Так было всегда; и если страсть Лукреции длилась не дольше недели или, как сказал Сальватор, не дольше часа, она и тогда верила, что эта страсть будет продолжаться всю жизнь. Необычайная склонность к иллюзиям, слепая доверчивость и доброжелательство, бесконечная нежность души и, как следствие этого, неосмотрительность, непростительные ошибки и слабость, беспредельная преданность людям, ее недостойным, щедрая трата душевных сил на цели, казавшиеся ей высокими, а на самом деле весьма жалкие, — все это сделало жизнь Лукреции Флориани возвышенной, но безрассудной и достойной сожаления. Шла ли речь об исполнении желаний или об отказе от них, она действовала быстро и решительно; уже почти год она считала, что навсегда освободилась от любви и никогда больше не подпадет под ее власть. Лукреция так скоро привыкала к принятому решению и его последствиям, что без труда убедила себя, будто одержала полную и окончательную победу над страстями, и уверенность эта была столь велика, что она порою готова была поклясться, будто уже лет двадцать никого не любит. А между тем ее последняя душевная рана еще только-только затянулась и, как бравый солдат, который пускается в поход, хотя лишь с трудом переступил порог лазарета и у него еще подкашиваются ноги, Флориани без страха ежедневно общалась с двумя мужчинами, а ведь каждый из них был на свой лад влюблен в нее. Она мысленно успокаивала себя тем, что одного никогда не любила, а другого никогда не полюбит, и считала: коль скоро по воле провидения она им сейчас необходима, то незачем терзаться из-за воображаемых опасностей, связанных с таким положением. Перед тем как войти к себе в спальню, Лукреция задержалась в будуаре: присев к туалетному столику, она с очаровательной непосредственностью распустила волосы и принялась расчесывать их на ночь. Потом, припомнив весь разговор с графом Альбани, подумала: «Возможно, это наивная хитрость со стороны Сальватора, он решил выведать, что я думаю о его друге, и понять, как ему самому лучше действовать — захватить меня врасплох или разжалобить? Он заговорил о мнимой любви Кароля, чтобы вновь пуститься в излияния, которые я не пожелала выслушивать!» Казалось бы, некоторые слова, вырывавшиеся у князя, красноречивые восклицания, выразительные взгляды должны были все объяснить Лукреции, тридцатилетней женщине с немалым жизненным опытом. Но она сохранила детское простодушие и чистоту, хотя всякая другая на ее месте давно бы их утратила: это и придавало ей особое очарование. Возможно, именно потому она и казалась столь юной, именно потому она сразу же пленяла людей. Расчесывая волосы перед зеркалом при свете одной-единственной свечи, она вдруг посмотрела на себя с таким вниманием, с каким не смотрела уже целый год; однако Лукреция до такой степени не привыкла жить для себя, что, бросив взгляд на свое лицо, она прежде всего вспомнила о мужчинах, которые когда-то ее любили. «Право же, если б они увидели меня сейчас, то вряд ли влюбились бы! — подумала она. — В самом деле, как могу я кому-нибудь понравиться, если те, кто в свое время любил меня не только потому, что я была молода и хороша, но и потому, что у них были на то гораздо более веские причины, ныне даже не вспоминают обо мне?»Флориани не была счастлива в любви, и все же она нередко возбуждала такую сильную страсть к себе, что ей конечно же не могло польстить минутное увлечение молодого человека: той, что так долго была кумиром, незачем становиться игрушкой! Задернув прозрачные занавески на зеркале, Лукреция ощутила какой-то прилив сил при мысли, что отныне ни у кого уже не будет прав на нее; однако, взяв со столика свечу, чтобы осветить себе путь в спальню, где мирно почивали ее дети, она невольно вздрогнула, ибо едва не столкнулась с призраком. — Как, это вы, любезный князь? — удивилась она, придя в себя после мгновенного испуга. — Мы-то думали, что вы крепко спите, а вы вовсе на ногах! Что случилось? Вы себя дурно чувствуете? Возле вас никого не было? Сальватор только что распрощался со мною, стало быть, он еще не успел дойти до вашей комнаты. Говорите же, я очень встревожена! Князь был так бледен и взволнован, так дрожал, что и в самом деле было из-за чего встревожиться. Он даже не мог сразу ответить. — Не бойтесь ни меня, ни за меня, — сказал он наконец, совладав с собою, — я здоров, вполне здоров… Но только мне не спалось, я подошел к окну. И услышал голоса… Мне очень хотелось сойти вниз и вмешаться в ваш разговор. Но я не решился… я долго колебался! Наконец, не слыша больше ничего и увидя, что Сальватор один бродит по саду, я принял важное решение… Я решил немедленно разыскать вас… Простите, я так взволнован, я не знаю, что делаю, где нахожусь, не знаю, как у меня достало дерзости войти в ваши комнаты… — Не тревожьтесь, — мягко сказала Лукреция, усаживая Кароля на диван, — я совсем не сержусь, вижу, вам нездоровится, вы едва держитесь на ногах. Должно быть, любезный князь, вам приснился дурной сон. Куда подевалась Антония? Почему эта взбалмошная девчонка оставила вас одного? — Я сам ее об этом попросил. Пойду к себе… Еще раз простите, боюсь, что сейчас я просто в бреду! — Нет, нет, останьтесь, успокойтесь, пожалуйста. Я разыщу Сальватора, мы вместе развлечем вас, и за беседой вы забудете о своем недомогании, а когда почувствуете себя лучше, граф проводит вас в вашу комнату. Зная, что он рядом, вы спокойно уснете. — Не зовите Сальватора, — возразил князь, пылко сжимая руки Флориани. — Он ничего не может сделать для меня, вы одна можете все. Выслушайте же, выслушайте меня, а потом я готов даже умереть, если силы, которых у меня еще так мало, иссякнут в отчаянном усилии, когда я попытаюсь высказать то, что мне необходимо вам сказать. Я слышал все, что говорил Сальватор нынче вечером, и все, что вы ему отвечали. Мое окно было раскрыто, а вы сидели под ним, — в торжественной ночной тиши голоса звучат ясно. Итак, я все знаю: вы меня не любите, вы даже не верите, что я вас люблю! «Ну вот, опять начинается!» — подумала Флориани, и при мысли о том, что ей вновь предстоит отстаивать свою свободу, стараясь при этом не ранить скорбную душу князя, она заранее ощутила горечь и усталость. — Дитя мое, — начала она, — выслушайте… — Нет! Нет! — воскликнул Кароль с энергией, на которую он, казалось, не был способен. — Я ничего не стану слушать. Я знаю все, что вы скажете, и мне незачем выслушивать это из ваших уст, я не уверен, что у меня достанет сил. Говорить должен я. Я у вас ничего не прошу. Разве я когда-либо хоть о чем-нибудь вас просил? Разве вы проникли бы в мою тайну, если бы Сальватор не угадал ее и не предал бы меня? Но одна мысль для меня нестерпима, она разрывает мне сердце, и происходит это потому, что высказывали ее вы. Ведь вы утверждаете, будто я не могу полюбить такую женщину, как вы. И дурно говорите о себе, стремясь доказать, будто я так думаю о вас. Наконец, вы полагаете, что я вас скоро забуду и что, когда в моем присутствии начнут дурно говорить о вас, я стану только трусливо вздыхать и сожалеть о том, что меня связывает с вами чувство благодарности… Эти предположения ужасны, они убивают меня! Прошу вас, сейчас же скажите, что вы от них отказываетесь, иначе я сам не знаю, на что решусь от отчаяния. — Не принимайте так близко к сердцу необдуманные слова, о которых я даже не помню, — сказала Лукреция, испуганная все возраставшим волнением князя. — Мне и в голову не приходило обвинять вас в высокомерии, я знаю, что вам чужда неблагодарность. Полно! Разве я не говорила, что признательность, которую вы ко мне испытываете, непомерно велика по сравнению с теми незначительными услугами, которые мне довелось вам оказать? Умоляю вас, забудьте слова, причинившие вам такую боль, я отказываюсь от них и готова просить у вас прощения. Успокойтесь же и докажите искренность вашей дружбы, перестав терзать себя понапрасну! — Да, да, вы очень добры, необыкновенно добры, — продолжал Кароль, судорожно приникая к Лукреции, ибо он чувствовал, что она спешит прервать эту беседу наедине, — но на этот раз, без сомнения, в первый и последний раз в моей жизни, я должен говорить… Знайте же, что если кто-нибудь… даже Сальватор или кто другой… если кто-нибудь скажет, что я не испытываю к вам глубочайшего уважения, не боготворю вас… не преклоняюсь перед вами… так, как преклоняюсь перед памятью своей матери… он солжет самым низким образом, станет мне врагом, и я убью его, если встречу!.. Вы знаете, я человек слабый, мягкий, сдержанный, но я сделаюсь злобным, неистовым, беспощадным; чтобы покарать его, я обрету в себе больше сил, чем самый крепкий и воинственный человек. Я знаю, что с виду похож на подростка и кажусь изнеженным, как женщина… но никто еще не знает, на что я способен. Да и как могут это знать, ведь я никогда не говорю о себе!.. Я не хочу привлекать внимание, не умею внушить к себе любовь. Да, меня никто не любит и никогда не полюбит. Я даже не требую, чтобы другие думали, будто я способен на сильное чувство… мне неважно, что думают обо мне! Но вы? Вы?..Ах, уж вы-то должны по крайней мере знать, что этот умирающий человек всецело принадлежит вам, как раб своему господину, что он послушен вам, как кровь — сердцу, как тело — душе. Я не могу примириться с тем, что вы все еще в этом сомневаетесь, что утверждаете, будто я не могу полюбить. Что ж, я не человек? Все люди поклоняются Богу, а я, я поклоняюсь вам, ибо вы для меня — воплощение идеала, совершенство; я трепещу перед вами, как трепещу перед Господом, я так боготворю вас, что скорее умру у ваших ног, но не осмелюсь высказать оскорбительное для вас желание. Однако это не значит, что я считаю вас бесплотным призраком, какой так долго царил в моей душе. Мне очень хорошо известно, что вы земная женщина, что вы не раз уже любили и можете еще полюбить… не меня, другого человека. Ну, что ж, пусть так! Я приемлю и это. Для того, чтобы вас обожать, мне незачем проникать в тайны вашего сердца и вашей жизни. Будьте такой, какой хотите, покиньте своих детей, отрекитесь от Бога, прогоните меня, полюбите того, кто покажется вам достойным любви… Если вам нравится Сальватор, если он может принести вам минуту счастья, прислушайтесь к его признаниям, осчастливьте его: не буду скрывать, я из-за этого, верно, умру, но во мне не родится ни одна оскорбительная для вас мысль, в моем сердце не зашевелится мстительное чувство. Я умру, благословляя вас и возглашая: вы вправе делать то, что не дозволено другим, и то, что в них достойно осуждения и упрека, в вас становится добродетельным и достойным хвалы. Послушайте, я так несчастлив в этом мире и любовь к вам так терзает мою душу, что сейчас мною владеет одно желание, одна неодолимая потребность — умереть. Но если вам угодно, чтобы я завтра же уехал отсюда и никогда больше вас не увидел, я буду жить и, влача жизнь, полную страданий, буду счастлив, ибо такова ваша воля. Вы полагаете, будто я любил кого-то сильнее, чем вас? Это не так! Я никогда никого не любил. Теперь я понимаю, что только грезил о любви; как вам справедливо сказал Сальватор, любовь таилась в моем мозгу, но она не терзала мое сердце. Моя невеста была чиста, и я так чту воспоминание о ней, что больше не хочу длить ложь и носить ее образ у себя на груди. Возьмите же этот портрет, спрячьте его, сохраните, он мне больше ничего не говорит, ибо теперь, глядя на него, я вижу ваши черты! Я вручаю вам портрет и прошу принять его, ибо хочу уберечь от кощунства: отныне достойным прибежищем для него могут служить лишь ваши руки или могила моей матери… Не думайте, что я в бреду. Будь я совсем спокоен, я бы не осмелился так говорить с вами; но, обретя такую смелость, я высказываю правду и произношу вслух то, о чем все время думаю с того самого часа, когда впервые увидел вас. И я готов это повторить перед лицом всего света, готов поклясться жизнью ваших детей… готов сказать это даже Сальватору: пусть он услышит меня, пусть все узнает и пусть ему больше никогда не приходит в голову безумная мысль это отрицать. Я люблю вас. Вас! Тебя! Ни на одном языке не найти достойного тебя имени!.. Я люблю тебя!.. В моей груди пылает огонь… я умираю! И, обессилев от этой страстной речи, Кароль рухнул к ногам Лукреции и стал кататься по полу, с такой силой ломая и раздирая ногтями руки, что из них брызнула кровь. — Люби его! Люби! Сжалься над ним! — воскликнул Сальватор, который тщетно искал князя сперва в их комнате, а затем по всему дому и, не найдя, в тревоге пошел к Флориани и здесь услышал последние слова Кароля. — Люби его, Лукреция, иначе я решу, что ты перестала быть сама собою, что отвратительный эгоизм иссушил твое великодушное сердце. Он умирает, спаси его! Ведь он еще никогда не любил, даруй ему жизнь, а не то я прокляну тебя! И этот необыкновенно благородный и пылкий человек, самоотверженный друг, ставивший Кароля превыше всего — превыше всех радостей жизни, которым был так привержен, превыше Флориани, превыше самого себя, — поднял князя с пола, где тот все еще извивался, точно в агонии, и, можно сказать, бросил в объятия Лукреции, а затем кинулся к дверям, словно не желая услышать ее ответ и стать свидетелем счастья, от которого сам он с трудом отказался. Ошеломленная Лукреция нежно обняла Кароля и прижала его к своему сердцу. Однако она была скорее напугана, чем покорена, и властным жестом приказала Сальватору остаться. — Я буду любить его, — сказала она, запечатлев долгий и нежный поцелуй на бледном лбу юного князя, — но так, как его любила мать! Клянусь, что буду любить его столь же горячо и преданно, как она! Вижу, что он нуждается в такой любви, и знаю, что он ее заслуживает. Я сразу же безотчетно прониклась к нему материнской нежностью; прежде я полагала, что она будет нужна ему, лишь пока он болен, но теперь сохраню ее навсегда, и ни один человек не заставит меня пренебречь ею. Ныне, сын мой, я вновь повторяю ради тебя обет целомудрия и преданности, который год тому назад дала ради Челио и других моих детей. Я почтительно и благоговейно буду хранить портрет твоей невесты, а когда тебе захочется взглянуть на него, мы вместе станем беседовать о ней. Мы вместе станем оплакивать твою бесценную мать, и ты никогда не забудешь ее, ибо обретешь ее сердце в моем. На таких условиях я принимаю твою любовь и поверю в нее, хотя я уже давно разочаровалась во всем. Вот величайшее доказательство моей привязанности, какое я могу тебе дать. Это обещание показалось Сальватору лекарством весьма ненадежным и скорее опасным, нежели полезным. Он уже хотел было потребовать от Лукреции большего, но тут князь, которому слова Флориани возвратили силу, воскликнул, обливаясь слезами: — Будь благословенна, моя любимая! Я никогда не потребую от тебя ничего большего, и счастье мое столь велико, что я не нахожу слов для благодарности. Он простерся перед Лукрецией и пылко поцеловал ее колени. Потом, высвободившись из объятий Флориани, ушел в сопровождении Сальватора к себе в комнату, где заснул так спокойно, как никогда еще не спал. — Странные и непостижимые страсти! — пробормотал Сальватор, тщетно пытаясь уснуть.
XIV
Надеюсь, читатель, ты уже заранее знаешь, что произойдет в этой главе, и ничто из описанного до сих пор в этой монотонной истории не вызвало у тебя ни малейшего удивления. Мне бы хотелось оказаться рядом с тобою, когда ты приближаешься к развязке какого-либо эпизода романа, тогда по верности твоих догадок я мог бы судить о том, развивается ли произведение по пути логики и истины; я очень опасаюсь развязок, которые остаются загадкой для всех, кроме автора, ибо персонажи с тем или иным характером должны вести себя так, а не иначе. Если же никто не может догадаться, как они себя поведут, — значит, персонажи эти нарисованы фальшиво, и таких людей, как они, в жизни не бывает. Ты мне скажешь, пожалуй, что вот-де князь Кароль всецело подчинился чувству и отдался страсти, а это ведь противоречит тем чертам его характера, о которых я тебе прежде поведал. Но нет, ты не сделаешь столь нелепого замечания, иначе я тут же отошлю тебя к твоему собственному опыту и спрошу: разве в делах любви именно то, что, казалось бы, больше всего противоречит нашим вкусам и нашей натуре, не влечет нас к себе с особою силой? И в таких случаях то, что представлялось невозможным, становится неизбежным. Поистине жизнь, которая проходит перед нашими глазами, достаточно нелепа и причудлива, человеческое сердце, каким его сотворил Бог, достаточно изменчиво и непостоянно, естественный ход вещей изобилует катастрофами, бурями, бедами, всякого рода неожиданностями и запутанными положениями, а потому незачем ломать себе голову, придумывая необычайные события и исключительные характеры. Надо просто рассказывать о них, и только. Да и что, собственно, такое исключительные характеры, которых постоянно ищут авторы романов, стремясь заинтересовать и поразить читающую публику? Разве любой из нас, в силу бесконечного многообразия различных наших черт и черточек, не представляет собою исключения из правила? Если некоторые общие законы приложимы ко всему человечеству, то, пристально рассматривая это великое целое, мы обнаруживаем столько различных и непохожих друг на друга людей, сколько на свете существует индивидуумов. В книге Бытия сказано, что Бог сотворил человека из праха и воды, и слова эти должны показать нам, что все мы сделаны из одного и того же теста. Однако частицы, составляющие человека, всякий раз сочетаются по-иному, они образуют вечное и бесконечное многообразие рода человеческого, и, подобно тому как невозможно встретить два совершенно одинаковых листка в царстве растений, так невозможно сыскать два совершенно одинаковых сердца во всем роде людском. Запомни же твердо следующее: каждый из нас — это неведомый мир для других, и он мог бы рассказать о себе историю, на первый взгляд сходную с историей всякого иного, но на самом деле не похожую ни на чью. Подлинная цель романа — верно пересказать одну из таких человеческих историй и сделать ее как можно более понятной; если автору угодно, он может прибавить к такой истории множество чисто внешних событий, может вывести в ней множество различных людей, но, по-моему, он этим только усложнит свою задачу без большой пользы для назидательного значения книги. А потом все эти подробности куда как утомительны для читателя, ибо он ленив! Возрадуйся же, ленивый читатель, ведь ныне ты встречаешься с автором, еще более ленивым, чем ты. Ты уже, разумеется, угадал, что Лукреция Флориани, ответив на чувство Кароля, совершила гораздо более серьезный шаг, чем думала, ибо платоническая и вместе с тем страстная любовь не может вечно длиться между двадцатичетырехлетним мужчиной и тридцатилетней женщиной, особенно когда оба они красивы, восторженны и жаждут пылкой любви. Эта нежная дружба продолжалась месяца полтора или два, в их душах царил безмятежный покой, и надо сказать, что то была лучшая пора их любви. Затем налетела гроза, и первые молнии засверкали в душе молодого человека; потом наступили часы опьяняющего блаженства, когда обоим казалось, что небо опустилось на землю. Однако когда человеческое счастье достигает своего апогея, оно уже близится к концу. Таков неумолимый закон, управляющий нашими судьбами, и немногого стоил бы тот мудрец, который стал бы призывать человека стремиться к достижению величайшего счастья, не предупредив его при этом, что оно промелькнет с быстротою молнии и всю остальную жизнь ему придется прозябать, находя утешение в воспоминаниях или надежде. Между жизнью и романом много сходного. Чтобы счастье ничем не омрачилось, человеку следовало бы умереть сразу же после того, как он его познал. Чтобы роман пленял воображение, его обычно заканчивают описанием свадьбы: иначе говоря, на протяжении многих умело написанных страниц читателя готовят к тому, что наконец-то сверкнет луч света, блеск и красоту которого не может передать никакое искусство, а потому автор благоразумно отказывается живописать его и желает читателям доброй ночи, предоставляя все остальное их фантазии. Так вот, мы попытаемся сойти с проторенной дороги и не оборвем книгу на роковой для всех романистов странице. Мы просто задержимся немного на вершине того склона, на который наконец-то взобрались, а затем, во второй части повествования, начнем постепенно спускаться вниз; если же читатель не любит печальных историй и горьких истин, он может отложить роман в сторону. Итак, ты предупрежден, любезный читатель, тебе известно все, что должно произойти дальше. Повторяю: остановись здесь, если тебе угодно. Ты знаешь, что два человека, которые стремились друг к другу, хотя и принадлежали к совершенно различным слоям общества, соединились. Подробности всего этого касаются прежде всего меня, и если даже они тебя не занимают, позволь мне описать их мирно и спокойно. Неужели ты полагаешь, что автор вечно обязан думать о тебе и не может позволить себе удовольствие забыть про читателя и писать ради собственной забавы? Ты, кажется, готов с этим охотно согласиться? Ну, коли так, мы квиты. Отрекаясь от любви, ища только покоя, Флориани упустила из виду, что она еще молода. Она, без сомнения, убедила себя, будто тихая старость, о которой она мечтала, уже чудесным образом и до срока даровала ей свои благодеяния. Пятнадцать лет жизни, наполненных муками страсти, которые выпали на долю Лукреции, казались ей безмерно тягостными и жестокими, и она тешила себя надеждой, что тот, кто с высоты небес посылает нам испытания, посчитает каждый год за два. Однако неумолимая судьба не была, как видно, удовлетворена. Бедная грешница слишком часто ошибалась в своем выборе, она дарила привязанность людям, которые ей нравились, но не были достойны, и не научилась любить тех, кто был того достоин, но не нравился ей, она слишком любила таких, чьи прегрешения хотел искупить Иисус Христос, и не старалась приобщиться к душевному покою, уверенности и мирному торжеству избранных, этих невыносимых праведников, которые, восседая на золотых стульях, равнодушно взирают на беды и страдания человечества, а потому ей предстояло еще искупить свои прошлые невзгоды новыми невзгодами. Если вы станете сестрой милосердия, будете подбирать раненых на поле сражения и отгонять жирных мух от брошенного на произвол судьбы умирающего воина, вас, чего доброго, сразит ядро или же грубый победитель презрительно назовет вас маркитанткой. Если же вы будете жить в кругу безупречных людей, станете любить только красивых, богатых, мудрых — словом, счастливых и благополучных, если ваша утонченная душа будет всегда вдыхать одни благовония, если вы уподобитесь лилии, распустившейся в саду, или княжне Люции, восседающей на облаке, вас, пожалуй, причислят к лику святых. Итак, Флориани была во власти иллюзий, когда воображала, что так легко освободится от страстей и сможет отныне посвятить свою жизнь детям, старику-отцу, сможет жить только для семьи и для себя. Сердце, испытавшее столько грозных потрясений, от которых оно еще полностью не оправилось, не могут исцелить несколько месяцев покоя и одиночества. К тому же само это одиночество и бездействие, быть может, вовсе для него не полезно. Переход от бурныхволнений к затворничеству был слишком резок, и, решив, что она окончательно исцелилась, славная наша Лукреция перестала остерегаться. Когда вместо привычной для нее требовательной и эгоистической любви, всю жизнь приносившей ей лишь страдания, благородный и романтический князь фон Росвальд окружил ее благоговейным обожанием, когда он стал на каждом шагу выказывать ей необычайную преданность и с восторгом согласился на целомудренную дружбу с нею, она решила, что спасена. Позволительно ли было женщине, отягощенной бесчисленными заблуждениями, до такой степени обольщаться и простодушно верить, что провидение вознаградит ее за прошлые ошибки, а не покарает за них? Нет, непозволительно, однако Лукреция с присущим ей простодушием в это поверила. Сначала она и в самом деле вкусила невыразимое счастье, незамутненные радости. Кароль был так мягок, так послушен, так склонен к самоотречению, так очарован ею, что одно слово Лукреции, ее взгляд, невинная ласка переполняли его несказанным блаженством. Все его поведение на первых порах дышало ангельской чистотою, и неистовая страсть, которая неведомо для всех медленно зрела в недрах его существа, пробудилась не сразу. Дотоле его еще не опалял любовный пламень, ему еще не приходилось прижимать к груди любимую женщину и слышать, как возле сердца бьется ее сердце, и потому первые волнения такого рода он ощущал живее и глубже, чем их ощущает юноша в пору первого пробуждения чувств. Впрочем, смутные желания уже давно зрели в его душе, но он не хотел себе в этом признаться. Он обманывал их с помощью поэзии и благоговейного чувства к невесте, чьей руки он едва касался. Вот почему юношеские грезы Кароля были так свежи, робки и трепетны. Он был еще боязлив, как ребенок, но в нем уже проявлялась энергия мужчины. Такое сочетание целомудрия и пылкости придавало юноше невыразимое очарование, Флориани столкнулась с подобным явлением впервые в жизни. И, сама того не сознавая, она с каждым днем проникалась к нему все большей симпатией, восхищением и каким-то восторженным чувством. Смелая и отважная от природы, Лукреция бездумно отдавалась любви, не испытывая никаких опасений, а потому не заметила приближения бури. Как могла она усомниться в словах Кароля, как могла она тревожиться из-за грядущего, если в грядущем ей рисовалась все та же неземная любовь, которой не будет конца? Обманывая свою возлюбленную, этот мягкий и вместе с тем грозный юноша обманывался и сам: страсть уже полностью овладела им и сжигала его, а он все еще этого не подозревал, все еще жил иллюзиями, верил в могущество слов, не понимая, что одни и те же слова порою выражают различные оттенки мыслей и фактов. Когда он называл Лукрецию матерью, когда прижимал к пылающим губам край ее одежды, когда, засыпая, беззвучно шептал: «Лучше умереть, чем оскорбить ее даже в мыслях», — он полагал, что сможет одолеть человеческую природу, и все еще не догадывался, что в груди его уже зреет буря. А Флориани, точно наивное дитя (ибо эта женщина, которую на общепринятом языке вполне можно было назвать погибшим созданием, была еще доверчивее и простодушнее, чем Кароль), верила, что безмятежные отношения, казавшиеся ей такими чудесными, такими новыми и благотворными, будут длиться вечно. Сама она к этому стремилась потому, что усталость и пресыщение охладили ее кровь и охраняли от внезапных увлечений. Между влюбленными царило такое искреннее и полное доверие, что им даже не мешало присутствие Сальватора, их поцелуи были так чисты, что они иногда обменивались ими даже при детях, и все-таки каждый день приближал их к бездне. Прошлое как бы перестало существовать для Кароля. Он забыл и думать о своем знатном происхождении, о своих верованиях, о матери, о невесте, о былых пристрастиях и вкусах, о прежних знакомых. Он легко дышал только рядом с Флориани, а в ее отсутствие как бы утрачивал связь с внешним миром, ничего не видел и не понимал, ни о чем не думал, почти не дышал. Опьянение было так полно, что Кароль не мог уже и шагу ступить без Лукреции. Будущее занимало его не больше, чем прошлое. Мысль о возможной разлуке с нею представлялась ему нелепой. Казалось, этот хрупкий, бесплотный юноша решил без остатка сжечь себя в горниле любви. Однако мало-помалу клубы благовоний, которыми было до времени окутано адское пламя, рассеялись. Небо прорезала молния, и голос страсти громко прозвучал, как крик отчаяния, как вопль человека, находящегося между жизнью и смертью. Постепенная утрата всякой осторожности и опасений незаметно привела к неминуемому краху пресловутого благоразумия, которым так гордилась Флориани. Неодолимая притягательность утонченных, жгучих и сладостных ласк, все сильнее овладевавшее Каролем, дотоле неведомое, а потому такое пьянящее и всеобъемлющее блаженство мало-помалу усыпили и развеяли тайные страхи юноши, и победа чувственности, которая, как он думал раньше, будет унизительной для влюбленных, на самом деле сделала его любовь еще более пылкой и восторженной. Князь всю жизнь прославлял борьбу духа с материей. Он считал, что только таинство брака и освященный церковью союз двух девственных существ могут в какой-то степени оправдать близость, которую, по его мнению, можно было считать божественным установлением лишь потому, что она неизбежна. Он долгое время думал, что связь с женщиной, искушенной в страсти, или даже с женщиной, уже познавшей любовный восторг, стала бы для него непростительным и непоправимым падением. К своему изумлению, когда это случилось, Кароль ощутил такую радость, что разум его безмолвствовал; когда же он стал мысленно вопрошать свой разум, то обнаружил, что причина этого безмолвия — блаженство. Потом разум наконец пояснил, что его мало заботит совершившееся грехопадение, ибо ничто не омрачает его безмятежности, и он не понимает, почему Кароль всегда старался помешать ему, разуму, действовать заодно с сердцем, что теперь он жаждет новых наслаждений, а рассуждать о морали и благоразумии будет только тогда, когда пресытится. Лукреция, которой всегда было чуждо схоластическое противопоставление сердца разуму и которая отреклась от любви лишь потому, что та приносила несчастье другим, сохраняла полную безмятежность, а когда возлюбленный убедил ее, что отныне он самый счастливый человек на свете, она ощутила гордость. Она даже не сожалела о том, что ее высокая мечта о душевном покое и мирной старости рассеялась как дым; она ни в чем себя не упрекала и не оплакивала своего грехопадения. Сохраняя обычное простодушие и доверчивость, она, выслушав опасения Сальватора, только спросила, раскаивается ли в чем-нибудь Кароль и считает ли он себя несчастным. А так как юный князь был все это время на седьмом небе от восторга, то Сальватор, который не мог прийти в себя от изумления, ревности и невольного восхищения, даже не нашел, что ответить. Надо сказать, что все случившееся заставило чувствительно страдать славного графа Альбани, который не был бы способен ощутить блаженство с такой силой, как его юный друг, но зато никого не заставил бы впоследствии расплачиваться за это блаженство столь дорогой ценою. Все случившееся до такой степени взволновало Сальватора, что он потерял сон и чуть было не лишился аппетита и обычной своей веселости. Однако душа его была так прекрасна, а дружба к Каролю так велика, что он одержал победу над собой. Он пылко благодарил Лукрецию за то, что она, хотя и не исцелила полностью разум и сердце Кароля (граф считал, что при сложившихся обстоятельствах это невозможно), но по крайней мере приобщила его к блаженству, а никакая другая женщина не могла бы ему этого даровать. Вскоре, сославшись на важные дела, будто бы призывавшие его в Венецию, Сальватор уехал, не пожелав обсуждать с влюбленными их планы на будущее. — Я вернусь через две недели, — сказал он на прощание, — и тогда вы сообщите мне о том, что решили. На самом же деле граф не мог больше выносить зрелище их счастья, которое он, однако же, от всей души ободрял и которому всячески содействовал. Он пустился в дорогу, не признавшись друзьям в том, что решил найти утешение в эпикурейских развлечениях в обществе некой танцовщицы, которая красноречиво взглянула на него за кулисами театра Ла Скала в Милане. «Никогда бы я не поверил, — думал Сальватор, удаляясь от виллы, — что мой юный пуританин с такой жадностью, и совсем забыв о прошлом, вопьется зубами в запретный плод. Как видно, эта Флориани способна обольщать еще искуснее, чем библейский змий, ибо Адам тут же оплакал свой грех, Кароль же, напротив, им гордится!.. Ну, ладно! Пусть небо сделает так, чтобы все это продлилось и чтобы по возвращении я не обнаружил, что он охвачен стыдом и отчаянием!» Ты скоро узнаешь, читатель, что произошло дальше, если ты этого уже не знаешь и не предпочтешь остаться между вратами рая и ада.XV
Несмотря на привязанность, которую князь испытывал к графу, несмотря на признательность, которую вызывали у Кароля преданность Сальватора, нежные заботы и та радость, с какой друг отнесся к его счастью, он — до чего же эгоистичны счастливые люди! — почти обрадовался отъезду приятеля. Присутствие друга всегда слегка стесняет человека, который так опьянен блаженством, что постоянно стремится к сердечным излияниям; и хотя князь с полной откровенностью говорил Сальватору о силе своей страсти, он, надо сказать, порою бывал недоволен, видя, что друг с некоторым сомнением относится к его твердой уверенности, что нынешнее счастье продлится вечно и ничем не будет омрачено. Человек не столь чистый и прямодушный, как Кароль, быть может, испытывал бы неловкость оттого, что теперь вел себя совсем иначе, чем прежде в присутствии друга, который мог, сравнив настоящее с прошлым, упрекнуть его в непоследовательности или хотя бы молча улыбнуться, наблюдая его внезапное увлечение, как в свое время улыбался, наблюдая его преувеличенную сдержанность. Но если натуре Кароля и были свойственны некоторые слабости, все же они никогда не были слабостями человека мелочного, скорее их следовало считать проявлением очаровательного ребячества. Ему тоже была присуща наивность, не такая непосредственная и естественная, как у Флориани, но, пожалуй, более утонченная и особенно поразительная потому, что она составляла контраст сущности его натуры. Вот почему он не стал бы отрицать, что в прошлом был ригористом, а теперь ослеплен своей любовью, однако самому признаться в этом было свыше его сил. Он не задумывался над своим преображением, почти не замечал его. Он, как и прежде, резко осуждал необузданные порывы людей беспорядочных и несдержанных, и если бы ему рассказали о какой-нибудь женщине, у которой было столько же любовных приключений, как у Лукреции Флориани, но которая не обладала бы ее неизъяснимым очарованием, властно подчинившим Кароля, он бы со страхом и омерзением отвернулся от этой особы сомнительного поведения. Словом, на его глазах была такая же повязка, какой античные поэты, великие мастера придумывать символы для выражения страстей, закрывали глаза Купидона. Ум Кароля ничуть не изменился, но сердце и воображение наделяли его божество всеми добродетелями, перед которым он преклонялся. Нетрудно догадаться, что Флориани быстро привыкла к такому поклонению, о котором прежде и не мечтала. Разумеется, в прошлом ее любили и она сама любила достаточно пылко. Однако столь изысканные натуры, как Кароль, встречаются очень редко, и до сих пор ей не приходилось с ними сталкиваться. Лукреция, как она уже говорила об этом Сальватору, всегда любила людей незаметных, другими словами, не обладавших ни громким именем, ни состоянием, ни славой. Смутные опасения и гордость всегда побуждали ее избегать знаков внимания со стороны тех, кто занимал высокое положение в обществе. Любые отношения с мужчинами, которые могли быть истолкованы как связь, основанная на денежном расчете, жажде успеха или тщеславии, неизменно вызывали в ней недоверие, и она с каким-то высокомерием отказывалась от них. На первый взгляд это стремление бежать внимания вельмож и знаменитых артистов, отталкивать их казалось странным, но на самом деле оно было непременным следствием независимого и мужественного нрава Лукреции, а также, быть может, того материнского чувства, которое она вкладывала во все. Мысль, что кто-то станет ей покровительствовать, была для нее нестерпима; она предпочитала страдать от неделикатности неотесанного любовника, чем сносить непомерную требовательность и наставления надушенного властелина. В сущности, Лукреция сама всегда покровительствовала людям, которых любила, восстанавливала их доброе имя, спасала или по крайней мере пыталась их спасти. Она мягко журила близких ей людей за пороки, самоотверженно исправляла допущенные ими ошибки и таким способом превращала простых смертных чуть ли не в богов. Однако она слишком многое приносила им в жертву и потому не достигала успеха. Такова участь всех чересчур самоотверженных людей, начиная с Иисуса Христа, который был распят за то, что слишком любил своих ближних, и вплоть до некоторых наших современников. Всякий, кто превращает самоотверженность в свою религию, неизбежно становится ее жертвой, но так как Лукреция Флориани была, что там ни говори, всего лишь женщина, она не доходила в своем долготерпении до гибели. К тому же в ее душе одновременно жила двоякая любовь: она старалась по-матерински относиться к своим возлюбленным, оставаясь при этом матерью своих детей. И две эти привязанности постоянно боролись в ее душе друг с другом; поединок неизменно заканчивался крахом менее сильной привязанности. Дети всегда брали верх, и, выражаясь метафорически, возлюбленные Лукреции, эти подкидыши цивилизации, рано или поздно возвращались к своему прежнему положению. По этой причине ее часто ненавидели и проклинали те самые люди, которые были ей всем обязаны: они никак не могли примириться с тем, что Лукреция, долгое время баловавшая их, вдруг ощущала свое бессилие, падала духом и отступалась. Они обвиняли ее в том, что она капризна, безжалостна, что она очертя голову кидается в омут страсти и столь же стремительно сбрасывает с себя ее путы; надо признаться, последний упрек имел некоторые основания. Вот почему, любезный читатель, Флориани вовсе не должна казаться тебе каким-то совершенством. Мне и в голову не приходило изображать ее неземным созданием, о котором грезил Кароль. Я на твоих глазах подробно разбираю обыкновенную человеческую натуру с ее высокими порывами и понятными слабостями, с грандиозными замыслами и ограниченными, а то и просто ошибочными средствами их осуществления. Многие весьма милые люди считали Лукрецию Флориани особой дерзкой, рассеянной, взбалмошной и лишенной здравого смысла, а все из-за того, что она равнодушно принимала их пошлые комплименты. Как могла она рассчитывать на уважение этих людей, если так дурно выбирала предмет своей привязанности и быстро порывала с очередным возлюбленным, чтобы выбрать другого, который был еще хуже? Таким образом, у нее имелись враги, но она не придавала этому особого значения, ибо друзей у нее было куда больше, все ее душевные силы были поглощены сердечными привязанностями и ее совсем не заботило, что о ней говорят. Она так и не перестала смотреть на вельмож и на людей высокопоставленных как на своих естественных противников. Даже сделавшись признанной царицей сцены, Лукреция осталась дочерью народа, осталась ею до мозга костей; все лучше узнавая свет, она по-прежнему слегка дичилась его и вместе с тем относилась к нему свысока. Она приобрела необычайное изящество манер, и когда играла в комедии или сочиняла пьесы для театра, то казалось, будто она родилась во дворце. Однако Лукреция терпеть не могла, когда кто-либо высказывал предположение, что она обязана своей благородной осанкой и изысканной речью тесному общению с титулованными особами. Сама она прекрасно знала, что черпает это благородство в собственном понимании высокого назначения искусства, в присущей ей элегантности и прирожденной гордости нрава. Лукреция громко хохотала, когда некий маркиз, низкорослый и неуклюжий, вошел к ней в артистическую уборную и объявил, что больше всего он восхищен ее редким умением вести себя в обществе. Однажды какая-то знатная дама (у которой, на беду, был хриплый голос, руки в лиловых пятнах и поросший волосами подбородок) поздравила Флориани с тем, что она держится как настоящая герцогиня. «Когда перед глазами такие образцы, как ваша светлость, — ответила Лукреция прочувствованным голосом, — совсем нетрудно исполнить на сцене роль благородной особы». Но едва герцогиня вышла, актриса и ее друзья весело рассмеялись. Злополучная аристократка вообразила, что ее похвалы польстили Лукреции и доставили ей удовольствие! Все эти отступления понадобились автору, ибо он хочет пояснить: должно было произойти истинное чудо, чтобы насмешливая и гордая плебейка прониклась нежным чувством к князю. Разумеется, читатель заметил, как чудо это постепенно подготавливалось и как внезапно оно совершилось. И тут Лукреция, которой уже не надо было обороняться, с восторгом обнаружила в своем возлюбленном очарование, какое прежде отказывалась признавать в людях его касты. Верная своим предубеждениям, она не могла согласиться с тем, что милая приветливость и утонченная учтивость Кароля привиты ему воспитанием и только постепенно стали его натурой. Если б ее убедили, что это так, она отнеслась бы к ним с настороженностью, но она считала, что все дело во врожденном благородстве характера, душевной мягкости и нежной страсти, которую он к ней питал, и потому буквально опьянялась его обаянием. Теперь былые увлечения казались Флориани оргиями по сравнению с нынешним пиршеством чувств: целомудренные губы, сладостные слова, неземные восторги юного любовника представлялись ей нектаром и амброзией. — Я не заслуживаю такого обожания, — говорила она Каролю, — но мне очень приятно, что ты способен на подобное чувство и умеешь его так выражать. Сама я себе не нравилась, да, раньше я никогда себе не нравилась, а вот сейчас мне кажется, что я начинаю любить себя, ибо я тебе так дорога, что обязана с уважением относиться к существу, которое ты до такой степени боготворишь. — Нет, нет! Я никогда не была любима, а ты — моя первая любовь! — восклицала она с присущей ей нежностью. — Я искала, я мучительно жаждала найти то, что ныне наконец обрела. Знаешь, ведь моя душа вовсе не окаменела, как мне думалось, она осталась столь же чистой, как твоя, теперь я в этом уверена и готова поклясться в том перед Богом. Любовь толкает человека на такие кощунственные высказывания, и при этом он сам в них глубоко верит. Страстным натурам последний любовник всегда кажется первым, и если сила привязанности измеряется любовным восторгом, то Флориани и в самом деле еще никогда не любила так сильно. Любовный восторг, который вызывали в ней другие мужчины, всегда длился недолго. Они не умели ни поддерживать его, ни вновь зажечь, когда он угасал. Однако первые разочарования не сразу убивали привязанность, жившую в сердце Лукреции; потом на смену страсти приходили великодушие, заботливость, сострадание, преданность — словом, что-то вроде материнского чувства, и надо признать просто чудом, что ее безрассудные увлечения тянулись так долго, хотя люди, судившие обо всем поверхностно, каждый раз удивлялись и негодовали, видя, как быстро и решительно она порывает со своими возлюбленными. В прошлом страсть ослепляла Лукрецию и давала ей ощущение счастья всего на какую-нибудь неделю, но, поняв, что чувство ее безрассудно и направлено не на того, на кого следует, она еще целый год или два оставалась верна ему; не требовала ли такая жертва еще большего героизма, чем длящаяся всю жизнь самоотверженная привязанность к человеку, который того достоин? Да, всем поступаться и всем жертвовать ради человека недостойного очень трудно и тем более похвально! Кориолан, все простивший неблагодарному отечеству, более велик, чем Регул, принявший муку ради признательного отечества. Вот почему на сей раз Флориани была на верху блаженства. И на сей раз она вновь начала с того, что преданно ухаживала за больным юношей, проводила возле него бессонные ночи и спасла его. Но ценой какого напряжения, каких волнений и тревог! Однако по сравнению с тем, что она выстрадала, спасая людей с порочными душами и помраченным разумом, все, что она сделала для Кароля, казалось ей сущим пустяком. Да, да, именно сущим пустяком! Разве мало она ходила за бедняками, разве не просиживала она ночи у постели людей почти незнакомых? «И за такую вот малость, — думала Лукреция, — Кароль платит мне глубокой любовью, как будто я открыла ему небеса! Ныне у меня нет оснований думать, будто меня любят за то, что я нужна, или потому, что мое имя окружено славой. Теперь меня любят ради меня, ради меня самой. Ведь он богат, знатен, добродетелен, у него нет долгов, он не может пожаловаться на недостаток ума, он не подвержен низменным страстям, он не распутник, не игрок, не мот, ему чужда суетность. Он жаждет только одного — быть любимым, он не ждет от меня ни услуг, ни поддержки, а ищет только счастья, которое может даровать любовь. Он не видел меня в дни успеха. Его привлекли не красота, которую придают женщине изысканные наряды, не мой талант, не мои триумфы на сцене, не обожание толпы, не громкие похвалы публики. Ведь он увидел меня в сельской глуши, когда я была лишена всего того, что придает женщине очарование. Да, он любит мою душу, любит меня, только меня!» Одно лишь упускала Лукреция из виду, ибо постичь и уяснить это себе было гораздо труднее: она не понимала, что Кароль, жаждавший необычайной привязанности и лишь недавно потерявший любящую мать, достиг той поры жизни, когда ему во что бы то ни стало нужно было полюбить, полюбить либо умереть; когда же случай или рок (как теперь принято говорить в романах) послал ему женщину, которая была еще хороша собой, очень мила, приятна и окружила его нежными заботами и лаской, его чувства, слишком долго подавлявшиеся, бурно вырвались на свободу; словом, она не понимала, что Кароль полюбил ее так страстно потому, что иначе любить не мог. Сальватор намеревался пробыть в отсутствии недели две, но не возвращался больше месяца. Кто так долго удерживал его вдали от друзей? Быть может, кто-нибудь, о ком даже не стоит упоминать; так я и поступлю. Сам Сальватор придерживался того же мнения, ибо никогда не говорил об этом ни с Каролем, ни с Лукрецией. Он возвратился к ним, когда окончательно понял, что ему лучше было вовсе от них не уезжать. Таким образом, влюбленные прожили с глазу на глаз целый месяц; и все это время рай, в котором они пребывали, оставался светлым, ясным, залитым солнцем и полным блаженства. Безраздельное и долгое обладание любимым существом было непременным условием, необходимым Каролю для жизни. Чем больше его любили, тем сильнее ему этого хотелось; чем сильнее им овладевало чувство счастья, тем сильнее он его жаждал. Однако он мог наслаждаться счастьем только при одном условии: ничто не должно было стоять между ним и предметом его страсти, и, как нарочно, такое чудо длилось больше месяца; произошло это благодаря необыкновенному стечению обстоятельств, что в жизни случается очень редко. Все дети Лукреции были совершенно здоровы, за пять недель ни один из них не испытал даже легкого недомогания. Если бы Челио перегрелся на солнце или у малютки Сальватора резались зубы, Флориани пришлось бы ухаживать за ними, это бы целиком заняло ее и отвлекло на несколько дней от дорогого ее сердцу князя; однако оба мальчика и обе девочки превосходно себя чувствовали, а потому не было ни вспышек гнева, ни слез, ни ссор между ними, во всяком случае если что и было, то Кароль этого не заметил, ибо он пока еще не обращал внимания на различные мелочи, изредка служившие помехой его счастью, а Лукреция уделяла очень мало времени своим материнским обязанностям. Со свойственной ей мягкостью она зорко и неотступно следила за детьми, когда надо останавливала их или журила, но они так мало обременяли ее и она так нежно обращалась с ними, что князь замечал лишь приятную сторону этих ее священных обязанностей. Старик Менапаче наловил много рыбы и выгодно продал ее — частью дочери, частью хозяину постоялого двора в Изео; это привело его в отличное расположение духа, и ему ни разу не пришло в голову надоедать Лукреции своими докучливыми наставлениями. Она, как обычно, навещала его по нескольку раз в день, но Кароль никогда не сопровождал ее, так что он мало-помалу забыл о неприязни и отвращении, какие внушал ему сперва старый скряга. Наконец, никто из посторонних не появлялся на вилле Флориани и ничто не нарушало сладостного уединения влюбленных.XVI
Надо сказать, что и князь, со своей стороны, немало помог судьбе, ибо все это время был в прекрасном настроении и, видимо, совсем не замечал странности своего положения. Обычно он был задумчив и молчалив, его терзали сумрачные видения, но теперь жизнерадостная, всегда приветливая и спокойная Флориани легко отгоняла печальные мысли и возвращала ему душевное равновесие. Они мало разговаривали: чудесное и единственное средство всегда и во всем сохранять согласие! Их любовь достигла зенита и проявлялась чаще всего в пламенных, но коротких признаниях, в страстных возгласах, пылких взглядах, нежных ласках; а бывало и так, что они молча смотрели друг на друга и сладко мечтали вдвоем. Однако если бы кто-нибудь сумел проникнуть в их души, погруженные в мечты об идеале, он обнаружил бы, что между ними нет единства, что они несхожи меж собой. Флориани, влюбленная в природу, приобщала к своему блаженству небо и землю, луну и озеро, цветы и ветерок, и прежде всего детей, а нередко и горестные воспоминания о былом; Кароль же не ощущал красоты окружающего мира и не задумывался над своей жизнью, утонченное и безудержное воображение нашептывало ему восторженный монолог, который он обращал к самому Господу Богу. Мысленно он уже не был на земле, а пребывал в эмпиреях, среди позлащенных облаков и клубов благовоний, он видел себя у престола предвечного, между любимой матерью и обожаемой возлюбленной. Когда луч солнца ярко озарял окрестности, когда воздух наполнялся ароматом цветов и Лукреция обращала на это внимание Кароля, он, не переставая грезить, старался дать место в своих мечтах этому великолепию и дивному благоуханию, но на самом деле ничего не видел и не ощущал. Иногда, когда Лукреция говорила ему: «Взгляни, как красива земля!», он отвечал: «Я не вижу землю, я вижу только небо!» И она восторгалась глубиной этого пылкого ответа, толком его не понимая. Любуясь на закате пурпурными облаками, она не подозревала, что взорам Кароля открывается поверх этих облаков какой-то фантастический рай, в котором он, как ему казалось, прогуливался вместе с нею, хотя на самом деле витал там один. Словом, можно сказать, что Флориани смотрела на окружающий мир с тем же поэтическим чувством, с каким взирал на него автор «Уэверли», а ее возлюбленный, идеализируя самое поэзию, населял бесконечность собственными созданиями, как это делал Манфред. Несмотря на все различия, души влюбленных вместе парили в небесах, и у них не оставалось времени для дел земных. Такое состояние очень мало подходило деятельной натуре Лукреции, всегда готовой за кого-нибудь вступиться, кому-то помочь; она чувствовала себя в этих неземных пределах так, как, должно быть, чувствовал бы себя слепой от рождения человек, которому вдруг возвратили зрение и который тщетно старался бы постичь новые и незнакомые ему предметы. Князь мог только туманно поведать ей о том, что сам видел. Он боялся оскорбить Лукрецию, допустив мысль, что она все видит хуже, чем он, и не в состоянии объяснить себе это чудо гораздо лучше, чем мог бы сделать он сам. Что же касается Лукреции, то она была подавлена безбрежностью вновь открывшегося ей мира и одновременно испытывала восторг от головокружительного полета в вышине, а потому ей и в голову не приходило расспрашивать Кароля о том, что он испытывает. Впервые в жизни она ощущала беспомощность человеческой речи, а ведь в свое время так долго ее изучала и так умело ею пользовалась! Однако, как всякий человек, который боготворит другого, она уничижала самое себя и думала, что все ее мысли и чувства — ничто в сравнении с мыслями и чувствами ее возлюбленного. Флориани еще не ощущала усталости, которую рождает в человеке столь непривычное состояние души, когда приезд Сальватора прервал уединение влюбленных; тем не менее она обрадовалась его возвращению и встретила графа с распростертыми объятиями. Последнюю неделю он не писал друзьям и свалился на них неожиданно; они уже немного тревожились, причем Лукреция больше, чем Кароль: хотя она не испытывала к Сальватору такой привязанности, которую, судя по всему, должен был испытывать князь, но зато ей было свойственно неизменное внимание к людям, а юному князю, предававшемуся неземному блаженству, было просто не до того. Казалось, Каролю следовало желать возвращения своего преданного друга, так оно, без сомнения, и было; однако когда он заслышал бубенцы почтовых лошадей, остановившихся у въезда в виллу, то вдруг почувствовал, как у него сжалось сердце. Неизвестно почему прежнее предчувствие, как будто уже совсем позабытое, вновь пробудилось в нем. — Боже мой! — воскликнул юноша, судорожно сжимая руку Лукреции. — Мы уже больше не одни, я погиб! Ах, лучше бы мне умереть! — Не тревожься! — успокоила его Флориани. — Если приехал кто-либо посторонний, я его просто не приму, но это, конечно, Сальватор, мне так подсказывает сердце. И теперь наше счастье станет еще полнее. Каролю его сердце ничего не подсказывало, но ему почему-то хотелось, чтобы это оказался посторонний, которого бы вежливо выпроводили. И все же он встретил друга с искренней нежностью, но безотчетная грусть уже овладела душою князя. Так или иначе, а этот приезд вносил перемену в уединенное существование, которым он так безмятежно наслаждался, любая же перемена могла только нарушить блаженство. Сальватор показался Каролю еще более шумным и жадным до жизни, в самом грубом значении этого слова. Граф не чувствовал себя счастливым в разлуке с друзьями, однако, несмотря на все досадные помехи и разочарования, без которых не обходится погоня за удовольствиями, он все же и развлекся, и позабавился. Он рассказал друзьям все, что только мог рассказать о своем пребывании в Венеции. Говорил о старинных дворцах, где давали балы, о прогулках по лагунам, о церковной музыке и песнопениях, о процессиях на площади Святого Марка; потом поведал о нечаянных, но приятных встречах: о каком-то своем друге-французе, об одной своей знакомой — красавице-англичанке, о знатных немцах и славянах — родичах Кароля; словом, он осветил мир лучезарной мечты, в котором укрылся князь, волшебным фонарем светской жизни. Во всем, что рассказывал Сальватор, не было ничего неприятного и ничего, что могло бы встревожить. И все же Кароль внезапно испытал такое тягостное чувство, какое мог бы испытать во время концерта классической музыки, если бы в дивные мелодии великих мастеров ворвался крикливый голос старухи или пронзительные звуки вульгарной песенки. О ком бы теперь ни заговаривали, никто не вызывал интереса у юного князя, о чем бы ни упоминали, все казалось ему недостойным внимания и нарушало возвышенный строй его души. Он старался не слушать, но против воли услышал, как Сальватор сказал Лукреции: — Ах да, сейчас я расскажу о вещах, которые будут и тебе интересны! Я повстречал много твоих друзей, следовало бы сказать, что все, кого я встречал, твои друзья, ибо все тебя по-прежнему обожают и никто из тех, кто хоть раз тебя видел в гостиной или в театре, не может забыть. Видел я Ламберти, который вместе с тобою управлял театром, он все еще оплакивает твой уход со сцены и утверждает, что драматическое искусство в Италии ныне пришло в упадок. Видел я и графа Монтанари из Бергамо. Он, должно быть, до последнего своего часа не перестанет вспоминать о том дне, который ты соблаговолила провести на его вилле; встретил я и милейшего Санторелли, он все еще влюблен в тебя!.. И графиню Корсини, помнишь, она познакомилась с тобой в Риме и в ее доме ты однажды вечером читала драму ее друга аббата Варини! Судя по всему, пьеса была очень плохая, но ты так божественно читала, что она всем показалась прекрасной и на глазах у слушателей выступили слезы. — Не напоминай мне о былых прегрешениях, — взмолилась Лукреция. — Должно быть, это очень тяжкий грех — читать с чувством и выражением бездарную пьесу. Ведь это значит обманывать и автора, и слушателей. Слава Богу, я уже больше не совершаю подобных ошибок! Скажи-ка лучше, кого ты еще встретил? Князь вздохнул. Он не мог постичь, как могут такого рода вещи занимать его возлюбленную. Сальватор назвал еще с полдюжины имен, и Флориани, которую, в сущности, все эти люди не слишком занимали, тем не менее слушала его со вниманием, с каким принято слушать друзей. Но одно имя все же пробудило в ней искренний интерес. Сальватор упомянул о некоем Боккаферри: в свое время Лукреция не раз спасала этого беднягу от нищеты, хотя никогда в жизни не испытывала к нему не только страсти, но даже мимолетного влечения. — Как? Он опять безнадежно запутался в долгах? — изумилась она, когда граф Альбани во всех подробностях рассказал ей о злополучном художнике. — Стало быть, этого несчастного невозможно уберечь от последствий его собственной беспечности и легкомыслия! — Боюсь, что так. — Все равно, надо еще раз попробовать. — Я предвосхитил твое желание и оказал ему небольшую помощь. — О, как ты хорошо поступил, я так тебе благодарна! Мы потом сочтемся, Сальватор. — Какая чепуха! Ведь ты не можешь запретить мне помогать обездоленным. — Конечно, но, боюсь, что в этом случае не будет проку. А потом, ты это сделал ради меня, ведь сам ты почти незнаком с Боккаферри, и я уверена, что, стремясь разжалобить тебя своими злоключениями, он упомянул обо мне. — Что из того! Он не мог бы найти себе более могущественную заступницу. К тому же я люблю этого шута, он меня забавляет, в нем столько остроумия! — И столько таланта! — прибавила Флориани. — Если б он только захотел и мог найти ему достойное применение! Бедный Боккаферри!.. Кароль больше не слушал; он немного отстал от своих друзей, которые беседовали, неспешно прогуливаясь по аллее парка. Потом князь остановился и стал ждать, не оглянется ли Лукреция на повороте аллеи, чтобы посмотреть на него. Однако Флориани не оглянулась: она была поглощена судьбою Боккаферри; вместе с Сальватором она обдумывала, каким образом найти применение способностям Боккаферри, искусного художника-декоратора, в каком-нибудь городе, где есть театр, но только не в Милане, не в Неаполе, не во Флоренции, не в Риме и не в Венеции, ибо из этих городов, как, впрочем, из многих других, ему пришлось уехать из-за беспутного поведения и несносного характера. — Так ты говоришь, что будь у Боккаферри лишних триста лир, он, быть может, решился бы поехать в Синигалью, где для него нашлось бы занятие, по крайней мере на время праздников? Ну что ж, я пошлю ему эти деньги, ведь я хорошо понимаю, как ему неприятно ехать туда без гроша и полностью зависеть от милости тех, кто его нанимает. Так оно в жизни и случается: одна беда рождает другую, и конца тому не видать! Эти слова Лукреции были вызваны состраданием и душевной мягкостью: движимая вполне понятным чувством такта, обычно свойственным тем, кто творит добрые дела, она слегка понизила голос и ускорила шаги, не желая, чтобы ее слышал Кароль; возможно, Флориани предполагала также, что предмет ее разговора с Сальватором покажется князю скучным и даже, чего доброго, вульгарным. К несчастью, Лукреция впервые ошиблась и не угадала душевного состояния Кароля. Его, пожалуй, даже чересчур интересовало то, о чем она говорила, он боялся пропустить хотя бы слово и вместе с тем считал для себя унизительным прислушиваться, коль скоро она того не желала. Вот почему князь остановился, с минуту помешкал, а когда Лукреция и Сальватор скрылись из виду, он вдруг почувствовал головокружение, ему показалось, будто между ним и его возлюбленной разверзлась пропасть. Но что же произошло? Что заставило его так страдать? Да ничего, сущий пустяк! Но разве недостаточно пустяка, чтобы низвергнуть с небес в адскую бездну того, кто тщится стать равным богам? Античные авторы, над которыми мы так неумно потешались, поведали нам, что одной мухи оказалось достаточно, чтобы низвергнуть на землю дерзкого юношу, захотевшего направить колесницу Феба по небесной дороге. Попробуйте-ка ныне придумать более верную и более искусную метафору, чтобы выразить, до чего мы ничтожны и какой ничтожный повод способен нарушить наши неземные восторги! Я за это не берусь и только скажу презренной прозой: князь Кароль вознесся слишком высоко в небеса и потому уже не мог плавно опуститься на грешную землю. С такой высоты неизменно падают только стремглав и без всякой видимой причины. Могучие кони, запряженные в колесницу бога солнца, были, без сомнения, очень сильны и стремительны, а слепень, заставивший их закусить удила, — всего лишь жалкое и ничтожное насекомое! Кароль почти бегом удалился из сада и заперся у себя в комнате; там он принялся шагать из угла в угол, точно его преследовали фурии. Душа юноши, которая еще так недавно была полна благородства и стойкости, вдруг сделалась покорною игрушкой самых низких подозрений. Кто этот Боккаферри, чья судьба столь волнует Лукрецию? Должно быть, ее прежний любовник! И Кароль вспоминал теперь о том, о чем он забыл и думать с первого дня их сближения: о том, что у Флориани в прошлом было немало любовников. — Как может она, — бормотал он сквозь зубы, — с таким интересом вспоминать о своем недостойном прошлом, в то время как я, бывший прежде женихом Люции, отдал ей в руки даже портрет своей целомудренной невесты, чтобы у меня перед глазами не стоял ничей образ, кроме образа самой Лукреции. Чем больше Кароль старался найти естественное объяснение в общем-то простому факту, тем более таинственным и безнадежно запутанным представлялся он ему. Флориани понизила голос и, что-то сказав Сальватору, ускорила шаги. Это уж несомненно. Дойдя до конца аллеи, она не обернулась, не посмотрела, следует ли за нею Кароль, а ведь целый месяц она без остатка отдавала ему все то время, какое только могла отдать, не пренебрегая своими материнскими обязанностями! Подумать только, она все еще прогуливается, опираясь на руку графа, без сомнения, пылко беседует с ним об ужасном призраке ее прошлого, об этом таинственном человеке, о котором никогда ни слова не говорила ему, Каролю? Князя удивляло это, хотя Лукреция никогда ничего не рассказывала ему о своей жизни, хотя сам он много раз заклинал ее ни в чем не упрекать себя, ни в чем не считать себя перед ним виноватой, больше того — полностью забыть все переживания прошлого и целиком отдаться блаженству настоящего. А Лукреция все не возвращалась, она, видно, даже не думала о том, где Кароль, почему он ушел из сада! Минуты казались ему часами, чуть ли не годами. Хорош и Сальватор, друг, лишенный чуткости! Тешит ее подобными рассказами и бросает отравленные слова в чашу, где заключено счастье влюбленных! За четверть часа Кароль столько выстрадал, что ему показалось, будто он постарел на целый век. Наконец он с трепетом услышал голоса Флориани и графа — они проходили мимо его окна. Она смеялась! Сальватор пересказывал ей остроты Боккаферри, вспоминал его забавные поступки. Они смешили Лукрецию, а он, ее возлюбленный, в это время терзался, о чем она, видите ли, даже не подозревала! Бедная Флориани и в самом деле ничего не подозревала. Ее не встревожило отсутствие Кароля, она просто решила, что предмет беседы его не занимает и он предпочел уйти, чтобы погрузиться в привычные размышления. Много раз, когда они с князем приближались к хижине старого Менапаче, Кароль говорил ей, что он, пожалуй, входить не станет, а лучше уж подождет ее под розовыми акациями на берегу озера и будет мысленно продолжать начатый с нею разговор! Все же сердце напомнило ей о возлюбленном скорее, чем того хотелось Сальватору. Граф охотно удержал бы Лукрецию в парке, с тем чтобы она рассказала ему о своей любви. Однако она уже довольно сильно углубилась в тот необычайный мир, который раскрыл перед нею Кароль, и потому против обыкновения не спешила бездумно предаться откровенным дружеским излияниям. На сей раз Лукреция боялась, что не сможет выразить безмерность своего счастья или что Сальватор не совсем верно ее поймет. Вот почему она отделалась лишь несколькими словами, а затем с несвойственной ей, но вполне простительной хитростью вновь перевела разговор на судьбу Боккаферри и повела своего гостя к дому, ибо обнаружила, что Кароля нет в саду: сколько она ни искала его глазами, все было напрасно. Едва переступив порог гостиной, Лукреция под каким-то предлогом вышла и направилась в покои князя. Кароль был в таком ужасном состоянии, что лицо его исказилось до неузнаваемости. К тому же в его груди кипела глухая ярость. Боясь, что у него не хватит сил притворяться, и не желая, чтобы его застали в таком виде, он, заслышав шаги в галерее, совсем потерял голову и выбежал на лестницу через другую дверь, предоставив своей возлюбленной безуспешно искать и звать его. Опомнился Кароль уже на берегу озера. Однако вскоре он заметил, что над купами росших поблизости деревьев поднимается облачко табачного дыма, который, как ореол, всегда окутывал голову Сальватора на прогулке; подумав, что приятель вот-вот обнаружит его, и страшась взгляда Сальватора еще больше, чем взгляда Лукреции, князь устремился к крытой камышом хижине старика Менапаче: он был уверен, что никому не придет в голову искать его там, ибо он никогда туда не заходил. Перед тем Кароль увидел, что рыбак вместе с Биффи отчалил в своей лодке от берега, и теперь он радовался возможности еще немного побыть в одиночестве, хотя бы до тех пор, пока соберется с силами и вернет себе наружное спокойствие.XVII
Он и в самом деле скоро успокоился и даже стал упрекать себя за то, что позволил чудовищной химере завладеть его воображением. Вид хижины, в которую он ни разу еще не заходил со дня своего приезда и которую тогда не рассмотрел в подробностях, теперь, когда он остался в ней один и был во власти страстного чувства, наполнил его необычайным волнением. Внутреннее убранство этогосельского жилища, которое Биффи содержал в безукоризненной чистоте, не претерпело никаких изменений со времени детства Флориани; если старый рыбак, скрепя сердце, согласился на некоторые переделки, вызванные необходимостью укрепить и благоустроить хижину, то он решительно воспротивился попытке обновить мебель и повесить новые занавеси вместо прежних из грубого холста. Единственным предметом, напоминавшим здесь о цивилизации, была большая гравюра в палисандровой раме, висевшая над кроватью старика. Кароль нагнулся, чтобы разглядеть ее; то был портрет Лукреции в расцвете ее славы и красоты: она была изображена в наряде Мельпомены со скипетром в руке. На голове ее красовалась античная диадема, одно плечо было обнажено. Величавую фигуру обрамляла затейливая виньетка, в ее завитушках были помещены различные атрибуты нескольких муз: маска Талии, легкий полусапожок и котурн, рожок, книги, жемчуг, мирты Каллиопы, Эрато и Полигимнии. Выдержанное в академическом стиле двустишие на итальянском языке утверждало, что Лукреция Флориани, трагическая и комическая актриса, автор героических и исторических пьес, и прочее, и прочее, соединяла в своем лице все таланты и все качества, которые составляют славу театра и изящной словесности. Гравюра эта была подарена Лукреции римскими любителями театра в знак уважения к ней; она не захотела держать ее у себя на вилле, и старый Менапаче, услыхав от какого-то слуги, что такая прекрасная вещь стоит никак не меньше двухсот лир, забрал гравюру к себе. Он повесил ее над небольшим рисунком, сделанным пастелью: то был портрет девочки лет десяти или двенадцати в крестьянском платье, с розой в волосах, заколотых большой серебряной шпилькой; на ней была тонкая белая блузка и кирпично-красный корсаж. Этот портрет, заинтересовавший Кароля гораздо больше, чем гравюра, не отличался мастерством исполнения, но зато излучал наивное очарование. Чувствовалось, что изображенная на нем девочка чиста и бесхитростна, умна, простодушна и естественна. В нижней части рисунка была надпись: «Антониетта Менапаче в возрасте десяти лет, написанная с натуры ее крестной матерью Лукрецией Раньери». Два этих портрета, висевшие в скромной хижине, где родилась Лукреция Флориани, составляли резкую противоположность один другому: на первом была изображена деревенская девочка еще никому не известная, но счастливая, хорошенькая, беззаботная, с невинной улыбкой на лице, с открытым и веселым взглядом, ее крепкую, еще плоскую грудь целомудренно прикрывала толстая и грубая сорочка; на втором портрете была запечатлена великая актриса, прославленная, но не нашедшая счастья женщина, красивая, гордая, с выразительным взглядом, величественной осанкой; у нее была грудь богини, едва прикрытая легкой тканью. Созерцая два этих образа, Кароль испытывал одновременно страх и боль; он не мог бы отрицать, что между обоими портретами есть несомненное сходство, что Лукреция сохранила или вновь обрела, опять вернувшись к безмятежной жизни, ту трогательную прелесть, какой дышал невинный облик Антониетты Менапаче. Но благородство, изысканность и неотразимое обаяние, которыми были отмечены черты актрисы Флориани, повергли его в трепет, ибо его глазам впервые предстал ее подлинный образ, пусть даже несколько приукрашенный, но зато глубоко раскрытыйвосхищенным художником. Окружавший ее ореол ослеплял Кароля, и ему захотелось снова перевести взгляд на полевую розу, украшавшую чело девочки. Ему казалось, что гордая муза благодаря своему прошлому ускользает из-под его власти, между тем как эту девочку, принадлежащую только Богу, у него никто не мог отнять. И все же у Кароля достало мужества долго и внимательно рассматривать лик музы, и каково же было его смятение, когда под виньеткой он разобрал сделанную крохотными буквами надпись, гласившую, что этот орнамент придумал и выполнил Якопо Боккаферри! Он уже было совсем позабыл, а теперь вдруг опять вспомнил это окаянное имя, которое, без сомнения, совершенно напрасно целый час терзало его воображение. Боккаферри не был создателем портрета, на нем стояла подпись другого, гораздо более известного художника, однако он тоже приложил руку к этому творению; возможно, он видел, как Флориани позирует живописцу, одетая в прозрачную тунику, — в ту пору она была в расцвете лет, полна сил и красива; теперь же, когда она встретилась с ним, Каролем, уже клонилась к закату… Словом, этот Боккаферри был с нею хорошо и весьма близко знаком, коль скоро он не краснея принимает от нее помощь! Как тесно должен быть связан с женщиной мужчина, если только он не последний негодяй, чтобы брать у нее деньги! А если Боккаферри и в самом деле всего лишь художник, которого беспутная жизнь и разгул превратили в презренного попрошайку, то как может Лукреция, эта святая женщина, которую он, Кароль, боготворит, знаться с подобными людьми? «Коли ты возлюбленная князя Кароля, то как можешь ты вспоминать о таких товарищах по ремеслу?!» — подумал он. Безумная гордыня, рожденная любовью и в свою очередь порождающая ревность, овладевая человеком, нередко внушает ему столь нелепые мысли. Но совершается это исподволь, как будто внутренний голос нашептывает ему подобные глупости на ухо, и его охватывает гнев, хотя он и сам не отдает себе отчета в том, что именно вызвало в нем такую ярость и боль. Кароль обхватил голову руками, и ему вдруг непреодолимо захотелось удариться ею об стену. Если бы любой акт насилия не противоречил его привычным представлениям и внушенным с детства правилам, он бы уничтожил роковой портрет. Но устремленный на него гордый и ясный взгляд актрисы помог ему постепенно успокоиться. Если портрет написан рукою мастера, во взгляде изображенного на нем человека всегда есть нечто пугающее: задумчивый и пристальный взгляд словно вопрошает, что вы думаете о его обладателе. И Кароль это ощутил. Актриса, казалось, говорила ему: «По какому праву ты меня расспрашиваешь? Разве я тебе принадлежу? Разве ты дал мне мой скипетр и корону? Опусти свои любопытные и дерзкие глаза, ибо я никогда не опускаю своих, и моя гордость победит твою». Уже ослабевший из-за неистовой борьбы с самим собою, Кароль внезапно стал жертвой галлюцинации. В каком-то ребяческом страхе он поспешно отвел глаза и начал смотреть на прелестную пастель. Он обнаружил в этом рисунке новое для себя очарование; мало-помалу чистый, нежный и глубокий взгляд милой Антониетты окончательно покорил его, и князь расплакался: ему почудилось, будто он прижимает к груди эту темную девичью головку. В эту минуту в хижину вошла Лукреция; она повсюду тщетно искала Кароля и незадолго до того спрашивала у отца и Биффи, не повстречался ли он им; испуганная слезами юноши, она кинулась к нему и с тревогой обняла, называя самыми нежными именами и задавая бесчисленные вопросы, в которых сквозила тревога. Он не мог, да и не хотел отвечать. Как было ему признаться и объяснить ей все, что происходило в его душе? При одной мысли об этом он краснел, и, к чести Кароля, следует сказать, что если он бывал порывист и несправедлив, точно избалованное дитя, то вслед за этим тотчас же раскаивался и выражал свою любовь и признательность, точно самый очаровательный ребенок, которого боготворят окружающие. Едва он почувствовал нежные объятия сильных рук, которые служили ему прибежищем от смертельного страха, едва его сердце, окаменевшее от страдания, забилось ровнее, ощутив рядом биение матерински любящего сердца, он разом забыл свои безумные подозрения и вновь почувствовал себя самым счастливым, самым покорным и самым доверчивым из смертных. В этот миг он предпочел бы скорее умереть, чем нанести оскорбление дорогой его сердцу женщине, признавшись ей в своих подозрениях. Кстати, у него был отличный предлог, весьма трогательный и простой, который мог объяснить его волнение и слезы: он молча указал на пастельный портрет, и Лукреция, которую глубоко растрогала его душевная чуткость, в восторге прижалась губами к красивым рукам и волнистым волосам своего юного любовника. Никогда еще она не чувствовала себя такой счастливой и такой гордой оттого, что внушила столь сильную любовь. Бедная женщина даже и представить себе не могла, что всего несколько минут назад она вызывала в Кароле чувство, близкое к омерзению. — Ангел мой, — сказала она, — до сих пор я еще ни разу не пыталась победить твое явное нежелание переступить порог этой хижины. Хотя ты никогда мне об этом не говорил, но я догадывалась, что странности, присущие моему старику-отцу, тебе не по душе; но коль скоро случай или уж не знаю какое душевное побуждение привели тебя сюда и мы здесь одни, позволь мне во всех подробностях показать тебе жилище, где я родилась и где провела детские годы. Пойдем же! Лукреция взяла князя за руку и повела его в глубь комнаты; комната эта вместе с соседней комнатой, куда они затем вошли, и небольшим чуланом, доверху набитым старой, поломанной и уже негодной мебелью, с которой Менапаче не хотел расставаться, составляла это сельское жилище. Комната, в которую Лукреция ввела князя, была той самой, где она провела детство. Свет в эту каморку проникал сквозь узкое оконце, снаружи оно было все оплетено диким виноградом и буйными зарослями ломоноса. Убогое ложе, на котором лежал тюфяк, сплетенный из тростника и покрытый стареньким ситцем, грубо раскрашенные гипсовые статуэтки святых, несколько прибитых к стене картинок, до такой степени почерневших от времени и сырости, что на них ничего нельзя было различить, шероховатый, неровный пол, одинокий стул, сундук и столик елового дерева — таково было неприхотливое убранство комнатушки, где дочь рыбака провела первые годы своей жизни: именно тут постепенно созревал ее могучий талант. — Да, здесь и прошло мое детство, — сказала она князю, — и отец то ли из привычки к заведенному порядку, то ли из привязанности ко мне, которая все-таки продолжала жить в его суровом сердце, несмотря на то, что он так сердился на меня, ничего тут не переменил, даже не сдвинул с места за все годы моих долгих и нелегких странствий по Италии. На этой вот кровати я спала еще маленькой девочкой; до сих пор помню, как у меня затекали ноги от того, что, подрастая, я вынуждена была поджимать их, так как ложе стало для меня коротко. А тут вот, возле изголовья, до сих пор еще сохранилась почти истлевшая веточка освященного букса, я прикрепила ее в вербное воскресенье, накануне своего отъезда… своего бегства с Меммо Раньери! А вот эта грубая гипсовая статуэтка изображает Иоахима Мюрата; я купила ее у бродячего торговца, который убедил меня, будто это мой покровитель святой Антоний, и долгое время я простодушно возносила ему свои мольбы. Смотри, а вот ткацкие челноки, мотовило, шпульки и нити, с их помощью я плела рыбацкие сети. Боже, сколько петель я пропускала или рвала, когда мысленно уносилась далеко-далеко от моего монотонного занятия — только этой работой да еще домашним хозяйством и разрешал мне заниматься отец! Трудно передать, как я страдала от холода и жары, от комаров и скорпионов, от одиночества и скуки в этой келье, которая все-таки была мне дорога! И с какой радостью, даже не уронив слезинки, я оставила ее в тот день, когда милая моя крестная мать сказала: «Ты захвораешь и станешь кривобокой, если и дальше будешь жить в этой конуре и спать на такой кровати. Перебирайся ко мне. Правда, у нас тебе не будет так хорошо, как мне бы хотелось и как могло бы быть, потому что мой муж, хоть он и богаче твоего отца, не менее скуп. Но я тайком от него буду делать для тебя все необходимое, я научу тебя всему, чему тебе захочется научиться, а ты станешь ходить за мною, когда я буду хворать и всегда будешь рядом. Будешь считаться моей служанкой, ибо господин Раньери не согласится, чтобы я взяла тебя в дом как воспитанницу, но мы обе станем помогать друг другу, точно добрые друзья». Чудесная, необыкновенная женщина, она угадала мои способности и открыла мне на них глаза! Увы! Она же и побудила меня отведать яблоко добра и зла с древа познания! Позднее, когда ее сын полюбил меня и старик Раньери выгнал меня из их дома, я вновь поселилась в моей жалкой каморке; в ту пору мне было пятнадцать лет. Отец хотел силой выдать меня замуж за одного из своих друзей: то был грубый и крутой человек, правда, работящий, но жадный до наживы; он был так необуздан и вспыльчив, что его даже прозвали Манджафоко — Огнеглот. Был он гораздо старше меня, и я его боялась. Чтобы не попасться ему на глаза, я пряталась в прибрежных кустах, а когда мой отец по ночам рыбачил при свете факелов на озере, я запиралась у себя в комнатке из страха перед Манджафоко, который бродил вокруг нашей хижины. Мой юный возлюбленный грозился убить его. И я жила в вечном страхе, потому что скорее сам Манджафоко убил бы его. Жизнь стала для меня невыносимой. Когда я молила отца защитить меня от этого разбойника, он отвечал: «Этот человек вовсе не желает тебе худого, он тебя без памяти любит. Выходи за него замуж, он богат и сделает тебя счастливой». Когда же я пыталась взбунтоваться, отец попрекал меня безрассудной любовью к хозяйскому сыну и грозил отдать в руки неистового Манджафоко, который, по его словам, уж сумеет со мной управиться. Я знала, что он никогда этого не сделает, ибо сама слышала, как он предупредил Манджафоко, что убьет его, если тот только попробует стращать меня. Однако хотя отец был способен жестоко отомстить за поруганную честь дочери, душевной чуткостью он не отличался и не желал считаться с моей сердечной склонностью. Кроме того, меня терзали тоска и скука. Живя в доме своей благодетельницы, я приобщилась там к занятиям, требующим работы ума, теперь же я весь день снова плела сети, и этот однообразный труд не давал никакой пищи моему воображению. Я грезила наяву, мечтала о совсем иной жизни, чем та, какую мне навязали. И тогда я приняла предложение юного Раньери, от которого прежде упорно отказывалась. До тех пор наша любовь была еще целомудренной, он клялся мне, что она всегда останется такой и что после бегства его отец даст согласие на наш брак. Словом, он меня похитил: глубокой ночью я вылезла через это вот оконце и по доске добралась до лодки, ибо озеро подступает тут к самой хижине. На сей раз я покидала родное жилище без всякой радости. Меня мучили страх и угрызения совести; кроме того, расставаясь с этими старыми вещами, мирными и немыми свидетелями моих детских игр и отроческих волнений, я испытывала невыразимую печаль, словно меня вдруг озарило предчувствие всех бед и горестей, что ждали меня впереди; но скорее печаль эта была вызвана той привязанностью, какую мы испытываем к тем местам, где нам пришлось особенно много страдать. Пожалуй, Флориани напрасно поведала князю Каролю об этой поре своей жизни. Ей было приятно открывать перед ним свою душу; он слушал ее с волнением, и она думала, что, выполняя таким образом свой долг перед ним, она встретит с его стороны признательность. Однако в те минуты у Кароля не было сил выслушивать подобные признания, и его передергивало всякий раз, когда Лукреция произносила имя своего первого возлюбленного. Он был настолько подавлен, что даже не пытался прервать ее каким-либо вопросом или замечанием, но на лбу у него выступил холодный пот, и образы людей, о которых она рассказывала, жестоко терзали его усталый мозг. Между тем рассказ Флориани служил самым убедительным оправданием ее первого заблуждения, которое роковым образом породило и все последующие. Кароль сознавал, что не имеет права уклониться, что обязан ее выслушать, он чувствовал, что в этот час скромная хижина чем-то напоминает исполненную торжественности исповедальню. — Мне незачем было все это выслушивать, — проговорил он наконец с усилием, — ибо я и без того знаю, что вы никогда не следовали дурным инстинктам. Ведь я уже однажды сказал вам: то, что было бы предосудительным в других, в вас вполне оправдано. Дочь, оставляющая старика-отца, заслуживает осуждения, но ты, Лукреция, ты, быть может, имела все основания так поступить, чтобы избавиться от его грубой и несправедливой власти! Господи Боже мой! Недаром я не могу смотреть на этого старика без острой неприязни! — Не спеши осуждать его, стараясь оправдать мои прёгрешения, — возразила Флориани, — ты его не знаешь и неверно судишь о нем. Теперь, после того как я очернила отца в твоих глазах, позволь мне показать тебе и хорошие стороны его натуры. Ведь я обязана это сделать, не правда ли? Кароль со вздохом кивнул в знак согласия, ибо нравственные правила предписывали ему уважать дочерние чувства Лукреции; но внутренне он не мог примириться со скаредностью, ограниченностью и самодурством ее отца. Однако в слепой ревности самого Кароля было, пожалуй, гораздо больше самодурства и скаредности, чем в деспотизме и алчности старика Менапаче.XVIII
— Люди никогда не бывают до конца последовательны в проявлении своих самых лучших и самых дурных качеств, — сказала Флориани, — и если вы не хотите, чтобы величайшее уважение к ним сменялось в вашей душе величайшим осуждением, если стремитесь сохранить привязанность и доверие к тем, кого долг предписывает нам любить, то вы должны составить себе верное представление о них, спокойно принимать их хорошие и скверные черты, а главное, не забывать, что пороки у большинства людей — это всего лишь доведенные до крайности добродетели. Порок моего отца — скаредность; я сразу же спешу сказать об этом, ибо тогда понятнее будут его добродетели — чувство справедливости и почти фанатическое уважение к установленному порядку. Как все крестьяне, он очень любит деньги, но отличается от других тем, что для него кража соломинки — уже преступление. Его мелочность и ограниченность проявляются в вечном страхе перед мотовством, которое, мол, ведет к нищете. А величие состоит в том, что собственную скупость он ставит на службу людям, которых любит, причем делает это в ущерб своим удобствам, здоровью, я бы сказала даже, в ущерб жизни. Вот почему отец жадно, как всякий скряга, копит деньги, и бьюсь об заклад, что он прячет свое жалкое сокровище в каком-нибудь тайнике, тут же в хижине. Время от времени он прикупает небольшие участки земли, полагая, что таким способом обеспечивает будущее своих внуков, оберегает их честь и достоинство. Напрасно было бы пытаться убедить его, что хорошее воспитание, возвышенный характер и талант — более надежные ценности в наше бремя. Крестьянин до мозга костей, он понимает только то, что видит собственными глазами. Он знает, как растет трава и как наливается зерно, не сомневается, что это — гораздо большее чудо, чем все людские деяния, и невозмутимо заявляет, что одна только земля — надежное дело. Заговорите с ним о вещах, которые можно даже показать и наглядно объяснить, например, о пароходе или железной дороге, он лишь улыбнется и промолчит. В существование того, чего он сам не видал, он не верит, а если ему предложат переправиться через озеро и убедиться во всем собственными глазами, откажется из боязни стать жертвой обмана. Моя жизнь ничему его не научила, не помогла понять законы общества, значение искусства, могущество ума и таланта, важность обмена мыслями. Все эти вопросы никогда его не занимали, и когда при нем рассуждают о предметах, для него совершенно чуждых, это только сердит отца. Он считает, что если я и добилась успеха на поприще искусства, то только благодаря случайному стечению обстоятельств, и если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, он бы не посоветовал мне опять идти по той же стезе. При этом он рассуждает, на его взгляд, весьма обоснованно, на самом же деле — весьма наивно: «Вы, артисты, загребаете много денег, но зато тратите еще больше. Вы этому друг от дружки учитесь, в вашей компании все так живут. И выходит, что работаете вы много, а толку чуть, все пускаете по ветру. А вот я ничего не трачу, забавы разные мне ни к чему, зарабатываю я, правда, меньше, но уж что получу, то и сохраню. Стало быть, мое ремесло лучше, доходнее вашего; вы бедны, а я богат, вы люди подневольные, а я сам себе господин». Вот почему мой успех не вызвал у отца ни уважения, ни восторга. Он ничуть не гордится мною, и если хотите знать, такое равнодушие к моим сценическим триумфам представляется мне одной из самых любопытных и достойных уважения черт его характера. Моя карьера настолько противоречит укоренившимся в нем предрассудкам, что он не мог сохранить ко мне особой нежности; впрочем, нежность как таковая никогда и не жила в его сердце. У моего отца все чувства преображаются в одно-единственное чувство непреклонной и непоколебимой справедливости. Когда, даровав мне жизнь, умерла моя мать, отец дал обет больше не жениться, если только я выживу: он был твердо убежден, что никакая мачеха не может любить детей от первого брака своего мужа. И он сдержал обет не из благоговения перед памятью жены, но из чувства долга по отношению к дочери. Воспитывая меня, он выказывал такую заботу и внимание, на какие мало кто из мужчин способен, и все же, помнится, ни разу в жизни меня не поцеловал. Ему это просто в голову не приходило. Он никогда не испытывал потребности прижать меня к груди и находит, что я порчу своих детей, потому что осыпаю их ласками. Он часто спрашивает, какую это им приносит пользу, какую они могут из этого извлечь выгоду. Когда после отсутствия, длившегося целых пятнадцать лет, я возвратилась и кинулась к его ногам, стремясь оправдаться и вымолить у него прощение, он только сказал: «Все это меня не касается, я не понимаю, что позволено, а что запрещено в том мире, о котором ты толкуешь. Ты отвергла мужа, которого я тебе предназначал, ты ослушалась меня: в этом я могу тебя упрекнуть. Ты полюбила хозяйского сына и побудила его также ослушаться отца — это плохо и могло нанести мне ущерб. Но теперь этих людей уже нет на свете, ты вернулась, все эти годы ты не скупилась на подарки для меня. Так что я знаю, как мне следует относиться к тебе. Не станем поминать старое, что прошло, то прошло, я тебя прощаю, но при одном условии: ты будешь так воспитывать детей, чтобы они всегда вели себя разумно и уважали заведенный порядок». Затем он пожал мне руку, и этим все было сказано. Так вот, друг мой, за те годы, что я была связана с театром, я нагляделась на то, как ведут себя родственники актеров, и расскажу вам сейчас, что происходит в девяти случаях из десяти. Артист, особенно драматический, как правило, выходец из самых бедных слоев общества, что называется, из низов. Независимо от того, предназначали ли его родители к роли будущего кормильца семьи или же случай либо постороннее вмешательство помогли ему раскрыть и применить свое дарование, но после первого же успеха, даже если начинающий артист еще совсем ребенок, он уже вынужден поддерживать, одевать, обувать, кормить своих родичей и даже заботиться об их досуге. Это он будет платить долги братьев, пристраивать сестер, он станет копить все, что заработал тяжелым трудом, чтобы обеспечить старость своих родителей в тот день, когда захочет наконец купить себе свободу. Особенно страдает от этих жестоких порядков женщина; было бы гораздо лучше и справедливее, если бы родные не растрачивали столь недостойным образом ее силы, здоровье, если бы они, что, увы, еще хуже, не ставили на карту даже ее честь, стремясь побыстрее сорвать куш. А что сказать о таких родичах, которые, боясь провала актрисы, прямо толкают ее на разврат! В этих случаях театр становится некоей витриной, и смазливая, но совершенно бездарная девица платит за то, чтобы пусть хоть на минуту появиться на подмостках в рискованном костюме — в надежде понравиться и найти себе покровителя. Если же вдруг случится, что такая девица, доверчивая жертва своих алчных родных, обладает характером и гордостью, если она, вопреки всему, сохранила чистоту или же вдруг справедливо почувствовала, что уступила низким советам, и потому решается пойти на разрыв с семьей, то перед нею в страхе начинают заискивать, лебезить, чуть ли не пресмыкаться. Я сама видела, как забывшие стыд отцы, отвратительные в своей угодливости матери за кулисами накидывают на плечи дочери кашемировую шаль и подают ей шубку, они готовы целовать ноги танцовщицы, которая получает тысячу лир за выход; дома они прислуживают дочерям как лакеи, выстилают пухом гнездышко для этих курочек, несущих золотые яйца, словом, не останавливаются перед самым позорным раболепством, перед самой унизительной лестью, идут на самые низкие сделки с совестью, лишь бы сохранить сомнительную честь и бесспорные выгоды близкого родства с опереточной дивой, примадонной или просто с прославленной куртизанкой. Будь у меня такая семья, я бы горько плакала от стыда, и потому, когда я думала о своем отце, старике-крестьянине, который не пожелал расстаться со своими рыбачьими сетями и разделить со мною достаток, который отказывался отвечать на мои письма и принимал от меня деньги только потому, что копил их на приданое моим же дочерям, который упрямо вставал на рассвете, жил под соломенной крышей и обходился несколькими пригоршнями риса в день, мне казалось, будто я знатного происхождения, и я гордилась плебейской кровью, которая течет в моих жилах. Правда, как это бывает во всех делах людских, в его поведении было немало мелких и смешных черточек. Правда, отец отказывался принимать от почтальона мои письма, если я ненароком забывала наклеить марку; правда, он еще и сейчас осуждает то, что именует моей расточительностью, а продав рыбу, с торжествующим видом показывает серебряную монету Челио и при этом говорит ему: «В твоем возрасте я уже зарабатывал деньги и ныне, достигнув преклонных лет, все еще продолжаю их зарабатывать. Я тебе дам деньжат, когда ты выучишься какому-нибудь ремеслу и захочешь сам зарабатывать на жизнь». Правда и то, что если отец увидит, как я даю сто лир какому-нибудь злополучному своему товарищу, актеру без средств к существованию, он станет меня жестоко бранить, чуть ли не проклинать. Я нередко страдаю от его недостатков, но неизменно испытываю уважение к его врожденной гордости и крестьянскому упорству. Если он суров к другим, то еще более суров к самому себе. Он трудится с усердием юноши, никогда не бывает нескромен или назойлив, ведет жизнь стоика и никогда не берется судить о том, чего не понимает. Окажись на его месте другой человек, он бы замучил меня мелкими придирками, напивался у меня за столом и заставлял бы меня краснеть из-за его грубости и неотесанности! Надо признать, что мой приезд поставил отца в довольно щекотливое положение; он ни о чем не рассуждал и ничего не прикидывал, но сумел сохранить достоинство, независимость и даже своеобразное благородство. Хотя он уже много лет принимает от меня деньги, он все же с полным правом может считать себя главою семьи, ее покровителем, потому что сам еще трудится и копит деньги для блага своих внуков. Меня смешат средства, к которым он прибегает, но я уважаю его побуждения. Теперь ты понимаешь, Кароль, почему я люблю и почитаю своего старика-отца? Ты, конечно, заметил, что я похожа на него лицом, не кажется ли тебе, что я унаследовала от него и некоторые черты характера? — Вы? — вскричал Кароль. — О небо! Конечно, нет! — Да, я. Я многим обязана гордости, которую унаследовала от него, — продолжала Лукреция. — Я не раз попадала в трудные положения; случалось, я внушала любовь богачам, и у меня были такие друзья, от которых я могла бы принять помощь, не поступаясь при этом своею честью. Однако мысль, что я перекладываю на чужие плечи часть своих забот и труда, в то время как я еще молода, сильна и могу работать, для меня нестерпима. Мне приписывали много грехов, непомерно раздували те, какие я в самом деле совершала, но ни разу даже у самых упорных моих недоброжелателей не возникало и тени сомнения в том, что я всегда была независима и честна. Мне пришлось некоторое время управлять театральной труппой и вершить дела, связанные с денежными интересами. Они нередко были весьма сложны, трудны и щекотливы. Сталкиваясь с различными притязаниями, требованиями и честолюбивыми устремлениями, я всегда полагала своим долгом лучше отдать вдвое больше, чем нужно, нежели вступать в спор в каком-нибудь сомнительном случае; я никогда не была бережлива, но любила порядок во всем и, делая людям немало добра, все же не разорилась и ни разу себя не скомпрометировала. Дело в том, что я никогда не совершала безрассудных поступков в угоду самой себе. Женщина, которая дает обездоленным деньги, ведет себя гораздо умнее и достойнее, чем та, что делает долги и покупает себе драгоценности и собственный выезд. Я никогда не тяготела к суетной роскоши. Мне приятнее обладать не имеющим ценности предметом, в котором сказываются талант и вкус ремесленника, чем убором из бриллиантов. Подлинная красота мне дороже показного блеска, вызывающего зависть. Разумеется, я живу не так скромно, как мой отец, но я всегда была умеренна в своих желаниях. Одно лишь я не умею обуздывать — свои привязанности, только этим отличаюсь я от отца; но если я никогда не была на содержании,если в шестнадцать лет, столкнувшись с житейскими трудностями, устояла перед соблазнами легкой жизни, если до сих пор внушаю уважение даже тем, кто порицает меня, то все это, можешь быть уверен, потому, что я — дочь старого Менапаче. Согласись же, что наружность обманчива и природа устанавливает прочные узы и глубокие отношения между людьми, которые на первый взгляд ни в чем не походят друг на друга. — Все, что вы говорите, прекрасно, — с глубокой грустью ответил князь, — и вы, должно быть, совершенно правы. Однако пойдемте к Сальватору, он, без сомнения, нас разыскивает. — Нет, нет! — воскликнула Флориани. — Он устал с дороги и задремал в саду под сенью миртов. Пойдем лучше к детям, я их уже целый час не видела. Лукреция впервые так долго беседовала с Каролем о жизни и была довольна тем, что, как ей казалось, она удачно воспользовалась подходящим случаем, чтобы оправдать в глазах князя своего отца, которого искренне любила. Однако некоторые доводы убеждают только ум, но не сердце. Кароль не мог не признать, что Флориани весьма искусно выступила в защиту терпимости, всячески пытаясь обелить в его глазах человеческую природу. Тем не менее его, как и прежде, отвращала житейская проза и, сталкиваясь с человеческими недостатками, он мог в лучшем случае хранить вежливое молчание — обманчивая покладистость, которая оставляет сердце холодным и не побеждает неприязни.Каролю хотелось бы, чтобы Флориани вышла из более достойной семьи, то есть из такой, какой и на свете нет, чтобы соседнее озеро было гораздо шире, но при этом столь же спокойно, чтобы жилище Лукреции было еще более живописным, но при этом столь же удобным, светлым и чистым, чтобы слава досталась ей ценою меньших усилий, но при этом была бы столь же блестящей, а главное, чтобы отец ее был человеком более изысканным и романтическим, но при этом оставался рыбаком и ловил форелей. Князю была чужда аристократическая спесь и ограниченность, ему даже нравилось, что Лукреция родилась в крестьянской семье, выросла в скромной хижине, что на прибрежных ивах до сих пор развешаны рыбачьи сети, но для того чтобы окончательно примириться со всем этим, ему нужно было, чтобы отец ее походил на поселянина из какой-нибудь буколической поэмы или романтической драмы либо на горца, какие встречаются у Шиллера и Байрона. Шекспира он принимал лишь с большими оговорками, находя, что тот выхватывает характеры прямо из жизни и что его герои говорят чересчур правдивым языком. Каролю больше нравились эпические и лирические образы, творцы коих оставляют в тени жалкие подробности человеческого бытия, поэтому он сам говорил мало и почти не слушал других: он высказывал собственные мысли и соглашался с чужими только тогда, когда они были достаточно возвышенны. Глубоко вскапывать землю, обнаруживать в ней и благотворные, и вредные соки, а потом со знанием дела сажать, сеять и собирать плоды — все это казалось ему занятием презренным и недостойным. А вот срывать прекрасные цветы, восхищаться их великолепием и ароматом, даже не вспоминая о труде и искусстве садовника, — это приятное занятие было ему по душе. Таким образом, Лукреция, полагавшая, что ей удалось переубедить Кароля, на самом деле уподобилась человеку, вопиющему в пустыне. Он сосредоточенно слушал ее, но занимало его не содержание слов, а форма, в которую она облекала свои мысли, он восхищался тем, как искусно она доказывает значение терпимости и как благородны ее побуждения. Однако он находил, что она неправа, когда мирится со злом из боязни проглядеть добро. Сам он совершенно иначе смотрел на отношения между людьми. Правда, он тоже высоко ставил сыновний долг, однако умел делать различие между долгом и чувством, между намерением и поступком, что было совершенно чуждо Флориани. Окажись он на ее месте, он бы не пытался оправдать скупость старика Менапаче, ибо для того чтобы как-то обелить порок, нужно прежде всего признать, что тот существует. Кароль же, напротив, всячески отрицал бы такой порок в своем отце или уж, во всяком случае, никогда бы о нем не упоминал, что, надо признаться, гораздо легче. Кроме того, Лукреция, говоря о самой себе, сильно огорчила князя. Она произнесла несколько слов, которые жгли его, как раскаленное железо. Она заявила, что никогда не была на содержании, с беспощадной правдивостью описывала нравы и обычаи актерской среды. Она поведала о своей первой любви и даже назвала по имени своего первого любовника. А Каролю хотелось бы, чтобы у нее не было такого прошлого, чтобы она даже не знала, что на земле существует порок, или чтобы она по крайней мере не упоминала, беседуя с ним, о подобных вещах. Словом, в довершение всех этих фантастических требований ему хотелось бы, чтобы его возлюбленная, оставаясь доброй, нежной, самоотверженной, сладострастной и по-матерински любящей Лукрецией, была бы одновременно бледной, невинной, строгой и девственно чистой Люцией. И только! Больше он ни о чем не мечтал, этот злосчастный юноша, чья душа алкала невозможного!
XIX
Сальватор, уснувший в тени густолиственного дерева, пробудился в бодром и веселом расположении духа. Когда мы здоровы и полны энергии, мы не так чутки, как обычно, и не сразу замечаем или угадываем горе окружающих. Вот почему бледность и подавленность Кароля ускользнули от взгляда его друга; Лукреция же совсем не встревожилась, ибо приписала их усталости после слез, — ведь она видела, как, преисполненный любви и умиления, князь плакал, глядя на ее портрет. Когда в детстве мы страдаем от тайной обиды, нам хочется, чтобы все наши попытки скрыть свое горе оказались тщетными перед тонкой и благотворной проницательностью любящих нас людей; при этом мы замыкаемся в гордом молчании и несправедливо обвиняем их в равнодушии, хотя на самом деле они просто боятся быть назойливыми. Многие, даже став взрослыми, походят в этом на детей, и Кароль принадлежал к их числу. Шумная и деятельная веселость Сальватора все больше повергала его в меланхолию, а безмятежная ясность Лукреции, которая до сих пор как бы гипнотически передавалась ему, в первый раз не оказала на него своего благотворного влияния. К тому же его впервые утомляли и дети, они, как нарочно, все время шумели и ни минуты не сидели спокойно. Обычно в присутствии матери они вели себя тихо; но в тот день за обедом дружеское подтрунивание и добродушные насмешки Сальватора привели их в такой восторг и возбуждение, что они подняли неописуемую возню, опрокидывали бокалы на скатерть, распевали во все горло одни и те же песни, точно зяблики, которых голландцы науськивают друг на друга и заключают при этом пари. Челио разбил тарелку, а его собака принялась лаять так громко, что за столом невозможно было разговаривать. Лукреция относилась к этому снисходительно; ее против воли смешили ребяческие выходки Сальватора и забавные ответы малышей: они буквально опьянели и не помнили себя от восторга, как это часто бывает с детьми, которые легко возбуждаются и теряют чувство меры. Вот уже целых два месяца Кароль каждый день восторгался грацией и прелестью этих чудесных малышей, он нежно любил в них ту, что даровала им жизнь. Князь даже не вспоминал о том, что у них были отцы, и кто знает какие! Он почти готов был допустить, что дети родились от святого духа, до такой степени они, как ему казалось, походили на свою божественную мать. Флориани была бесконечно благодарна Каролю за его нежность к детям: он горячо выражал ее, а она помогала ему делать весьма тонкие и поэтические наблюдения над ними, в каждом он находил особую привлекательность и особые дарования. Однако дети не любили Кароля. Они как будто боялись его, и трудно было объяснить, почему они так нерешительно и робко встречали его приветливые улыбки и ласковое внимание. Собака Челио и та прижимала уши и переставала вилять хвостом, когда князь смотрел на нее или окликал. Животное словно понимало, что Кароль говорит с ним вполне доброжелательно, но ни за что не прикоснется к нему, ибо тщательно скрываемая брезгливость не позволяла князю хотя бы притронуться к четвероногому. Ну, а уж если собаки инстинктивно остерегаются человека, который сам остерегается их, то надо ли удивляться тому, что и дети испытывают похожее чувство, когда к ним приближается тот, кто их не любит. Кароль же, вообще говоря, не любил детей, хотя он бы ни за что не признался в этом не только другому, но даже самому себе. Напротив, он думал, будто очень их любит, потому что созерцание красивого ребенка наполняло его умилением, достойным поэта, и восторгом, достойным художника. Однако безобразный ребенок отпугивал его. Жалость, которую он испытывал при виде маленького уродца, была столь мучительна, что он просто заболевал. Он не мог примириться с малейшим физическим недостатком ребенка, подобно тому как не мог примириться с нравственным уродством взрослого. Дети Флориани, все без исключения здоровые и красивые, ласкали его взор; однако если бы кто-нибудь из них сделался калекой, то, помимо горя, которое ощутил бы Кароль, он испытывал бы и невыразимую тягость. Он бы никогда не решился прикоснуться к бедняжке, взять его на руки, погладить по голове. Если бы князю суждено было постоянно видеть глупого или злого ребенка, он бы не вынес такого испытания и потерял бы вкус к жизни; но не только не попытался бы как-нибудь и чем-нибудь облегчить участь маленького страдальца, но заперся бы у себя в комнате, чтобы не видеть и не слышать его. Словом, он любил детей разумом, а не сердцем; и если Сальватор заявлял, что готов снести все тяготы брака ради счастья стать отцом, то Кароль с дрожью думал о возможных последствиях своей связи с Лукрецией. За десертом веселость Челио достигла апогея. Как вдруг, очищая грушу, он сильно порезался. При виде брызнувшей крови мальчик испугался и с трудом сдерживал слезы; однако мать сохранила присутствие духа и хладнокровие, она взяла сына за руку, обернула ему палец салфеткой и, улыбаясь, сказала: — Это пустяки. Ты не в первый и не в последний раз порезался, доскажи нам ту забавную историю, которую начал, а когда кончишь, я перевяжу тебе руку. Этот великолепный урок твердости не пропал даром для Челио: он тут же рассмеялся; но Кароль, который при виде крови едва не лишился чувств, не мог постичь, как способна мать проявить такую выдержку и ни капельки не встревожиться. Однако самое страшное началось, когда Лукреция, выйдя из-за стола, вымыла руку сына, сдвинула края раны и, не дрогнув, наложила тугую повязку. Князь не мог понять, как может женщина выступить в роли хирурга, если пациент — ее собственный ребенок, его почти пугала такая сила воли, которой сам он был совершенно лишен. В то время как Сальватор помогал Лукреции при этой маленькой операции, Кароль вышел из комнаты и остановился на крыльце: он не хотел смотреть, но против воли видел всю эту простую, обыденную сцену, которая в его глазах принимала очертания драмы. Дело в том, что как в больших делах, так и в малых, Кароль устранялся от борьбы, которую нам навязывает жизнь; в то время как смелая и решительная Флориани без страха и отвращения вступала в бой с чудовищным драконом, он не решался хотя бы прикоснуться к нему пальцем. Нечаянное кровопускание сразу же успокоило Челио, но этого нельзя было сказать о других детях. Девочки, особенно Беатриче, не знали удержу, а крошка Сальватор то смеялся, то сердился, то плакал, он вел себя так плохо и испускал такие отчаянные и требовательные вопли, что Лукреции пришлось вмешаться: она сперва пригрозила малышу, а потом взяла его на руки, чтобы насильно уложить спать. Впервые мальчик так истошно кричал при Кароле, а вернее сказать, Кароль в первый раз соблаговолил заметить, что у самого прелестного ребенка проявляются подчас деспотические наклонности и безрассудное упрямство, бывают самые нелепые капризы и выражается все это в пронзительных воплях, ибо они — его единственное оружие. Гневные и горестные крики маленького Сальватора, его рыдания, крупные слезы, точно струи грозового дождя сбегавшие по розовым щекам, красивые ручки, которыми он размахивал в воздухе, стараясь вцепиться в волосы матери, старания Лукреции унять малыша, ее сильный голос, строгие интонации, крепкие мускулистые руки, которыми она, как тисками, сжимала сына, соблюдая при этом ту осторожность, какую всегда соблюдает мать, оберегая хрупкое тельце ребенка, — все это было полно непередаваемого колорита для графа Альбани, и он любовался этим зрелищем с доброй улыбкой; Кароль же смотрел на эту сцену с таким же испугом и страданием, какие испытывал, когда перевязывали рану Челио. — Боже мой! — невольно вырвалось у князя. — Как несчастны маленькие дети, и как страшно, что приходится силой подавлять неразумные желания этих слабых существ! — Полно! — со смехом возразил Сальватор Альбани. — Через пять минут мой тезка уснет крепким сном, а мать, только что отшлепавшая его, будет покрывать поцелуями свое уснувшее дитя. — Ты думаешь, она его побьет? — с испугом спросил Кароль. — Не знаю, не знаю, я так сказал потому, что это — лучший способ его унять. — Я уверен, что моя матушка ни разу в жизни не дотронулась до меня пальцем и никогда ничем не угрожала. — Ты просто не помнишь, Кароль. Впрочем, если даже это так, то не резон считать, будто родителям не следует иногда прибегать к крайним мерам. У меня нет определенных взглядов на воспитание, а когда речь идет о детях, то ты сам убедился, что я скорее способен привести их в возбуждение, нежели успокоить. Уж не знаю, как Лукреции удается держать их в страхе, но, по-моему, лучшая метода та,которая приносит успех. Понятия не имею, нужно ли в самом деле изредка слегка поколачивать детей, я буду знать это точно, когда они у меня самого появятся. Но только я за такое дело не возьмусь, у меня слишком тяжелая рука, пусть уж их наказывает мать. — А я, если уж мне, к несчастью, суждено стать отцом, — объявил Кароль с горечью, но твердо, — я никогда не смогу выносить зрелище шумного детского бунта и родительских угроз, этой битвы с маленьким беззащитным существом, которое проливает горькие слезы, ибо не постигает причины запретов, не понимает, что есть на свете невозможное; для меня нестерпим показной гнев отца-воспитателя, внезапное, но ужасное нарушение внутреннего мира ребенка, все эти бури в стакане воды, которые, я и сам знаю, ничего не стоят, но смущают мою душу не меньше, чем серьезные события. — В таком случае, любезный друг, тебе не стоит и помышлять о продолжении вашего знатного рода, ибо такие бури неизбежны. Но неужели ты и в самом деле думаешь, что в детстве никогда не разражался яростными воплями, требуя луну с неба и не понимая, что мать не в силах выполнить твое желание? — Да, именно так я и думаю. Мне такое желание и в голову не приходило. — Я просто прибегнул к иносказанию. Однако я был бы крайне удивлен, если бы оказалось, что тебе и в голову никогда не приходило нечто подобное, ибо сдается, что ты и до сих пор сохранил тягу к недостижимому и порою все еще обращаешься к Богу с мольбою о том, чтобы он уронил звезду в твои ладони. Кароль ничего не ответил; Лукреция, которой удалось успокоить малыша, вернулась к гостям и предложила прокатиться в лодке по озеру. Крошке Сальватору на сей раз не пришлось испытать на себе строгость древнего закона и подвергнуться священной экзекуции. Мать хорошо знала, что свежий воздух спальни, темнота, мягкое ложе, отсутствие посторонних и ласковый звук ее голоса, напевающего колыбельную песню, быстро его успокоят; она догадывалась, что Каролю была неприятна разыгравшаяся за столом шумная сцена, хотя и не представляла себе, какое серьезное значение он придавал этому пустяковому происшествию. Поэтому, желая развеселить князя, она и увлекла его к озеру вместе с Сальватором Альбани, Челио, Стеллой и Беатриче. В нескольких шагах от берега им повстречался старик Менапаче, он тоже собрался на озеро, чтобы закинуть там сети. Детям захотелось влезть к нему в лодку, и мать, видя, что старому рыбаку не терпится ex professo [54]показать им свое ремесло, которое в его глазах было лучшим ремеслом на свете, согласилась на это. Кароль с испугом смотрел, как трое все еще лихорадочно возбужденных детей уселись в лодку со стариком, и думал, что этот равнодушный эгоист даже не заметит, если они свалятся в воду и, уж конечно, не сумеет вытащить их оттуда. Он сказал об этом Лукреции, но она не разделяла его страхов. — Дети, выросшие возле воды, хорошо знают о грозящей им опасности, — ответила она, — и если какой-нибудь ребенок тонет в нашем озере, то всегда оказывается, что это приезжий, катавшийся в лодке и не проявивший необходимой осторожности. Челио плавает как рыба, а Стелла, хотя она нынче вечером совсем шальная, будет не хуже меня следить за своей сестренкой. К тому же мы поплывем следом и не будем терять их из виду. Тем не менее Кароля эти доводы не успокоили. Он ничего не мог с собой поделать и тревожился, точно заботливый отец: с той минуты, как Челио порезался, князь все время ждал непредвиденной беды. Словом, в тот злосчастный день его душевный покой был непоправимо нарушен; всем казалось, что ничего особенного не произошло, а князь по своей привычке уже терзался. Прогулка, однако, протекала безмятежно. В лучах заката озеро было необычайно красиво; дети успокоились и с огромным любопытством глазели на то, как натягиваются сети, которые их дед забросил в зеленой и благоухающей ароматами бухточке. Сальватор больше не рассказывал о Венеции, и по счастливой случайности имя Боккаферри больше не слетало с его губ. Лукреция срывала водяные лилии, она перепрыгивала из лодки в лодку с такой ловкостью и изяществом, какие трудно было ожидать от женщины с виду несколько тяжеловесной, и это свидетельствовало, что она еще не утратила сноровки, присущей ей в молодости; она сплетала из кувшинок венки и украшала ими головы дочерей. Постепенно к Каролю возвращался душевный покой. Старик Менапаче с уверенностью, дающейся только долгим опытом, управлял лодкой, умело лавируя среди утесов и прибитых к берегу древесных стволов. Никто из детей не упал в воду, и князь, видя, как они перебегают с одного борта лодки на другой, хватаются за руль и нагибаются к самой воде, больше не вздрагивал от испуга при каждом их движении. Подул легкий и освежающий вечерний ветерок, он принес с собою запах цветущих виноградников и ванили. Но так уж, видно, было предначертано: в тот день пришел конец тихим восторгам Кароля, и для него началась полоса хотя как будто и пустяковых, но невыразимо мучительных страданий. Сальватор вдруг объявил, что красивые водяные лилии будут необыкновенно хороши в черных волосах Лукреции. Она сперва отказалась украсить ими голову, объяснив, что достаточно мучилась на сцене от тяжести пышных причесок и замысловатых уборов, а теперь просто счастлива, что может даже не закалывать волосы шпилькой. Однако Кароль поддержал просьбу друга, и Лукреция разрешила князю воткнуть в ее роскошные косы несколько кувшинок. Все шло хорошо, если не считать новой прически Флориани: Кароль справился со своей задачей весьма неумело и неловко, так как боялся повредить хотя бы волосок на голове своей возлюбленной. Сальватору пришла злополучная мысль вмешаться в это дело. Он разрушил все, что соорудил князь, и, взяв в обе руки густые волосы Флориани, закрутил их как попало и украсил по собственному вкусу стебельками тростника и лилиями. Ему удалось это как нельзя лучше, ибо он обладал, как говорится, ловкостью рук (выражение это, правда, несколько вульгарно, но его нелегко заменить другим). У графа, бесспорно, был тонкий вкус, ему мог бы позавидовать даже скульптор. Он придумал для Лукреции прическу, достойную античной наяды, и спросил: — Помнишь, в Милане, если я попадал к тебе в артистическую уборную, когда ты одевалась к выходу, я неизменно добавлял какой-нибудь штрих, завершавший твой туалет? — Верно, я и позабыла, — ответила она. — У тебя был необыкновенный дар придавать украшениям особый колорит, на редкость удачно сочетать цвета, и я часто советовалась с тобою, какой выбрать наряд. — Ты, кажется, не веришь, Кароль? — спросил Сальватор у своего друга, который при этих словах вздрогнул, точно человек, ощутивший внезапный укол. — Взгляни сам, как хороша сейчас Лукреция! Разве тебе удалось бы придумать прическу, которая так бы подчеркивала чистую линию ее лба, гордую посадку головы и сильную шею. Все это ты не сумел оттенить так, как я. Твоя прическа придавала Лукреции вид мадонны, но для ее типа красоты это совсем не характерно. А теперь она походит на богиню. Мы, слабые смертные, должны пасть ниц и воздать хвалу нимфе озера! С этими словами Сальватор прижался губами к коленям Флориани, а Кароль содрогнулся, словно его пронзили кинжалом.XX
Злополучный юноша совсем позабыл, что Сальватор был влюблен в Лукрецию, пожалуй, не меньше, чем он сам, но великодушно отказался от своих притязаний, правда, не без усилий воли и не без сожаления. Князь ничего не смыслил в мужской страсти и потому не понимал, как сильно страдает его друг, видя, что он, Кароль, стал счастливым обладателем того, к чему стремился сам Сальватор. Он решил про себя, что первая же красотка, которая встретится графу Альбани, поможет тому забыть о своем безрассудном увлечении. А скорее он и вовсе об этом не думал. У него не хватило бы духа до конца разобраться в деликатной стороне создавшегося положения. Он просто отстранил от себя воспоминания о первой ночи, которую оба они провели на вилле Флориани, об искушениях и покушениях Сальватора и даже о том, как нежно граф обнимал Лукрецию в то утро, когда думал, что разлучается с нею надолго. Приступ болезни и наступившее вслед за тем чудесное блаженство изгладили все это из памяти князя. В один день, в один миг он заставил себя ни над чем больше не задумываться и ничего не осуждать; а теперь, точно так же в один день, в один миг, снова начал надо всем задумываться и все осуждать, да к тому же строго, иначе говоря, ко всему относиться придирчиво и, стало быть, из-за всего страдать. Слов нет, Сальватор Альбани искренне решил смотреть отныне на Флориани только глазами брата. Однако в нем, как и в каждом молодом итальянце, таилась чувственность, которая мешала ему достичь монашеского целомудрия. Будь у него две сестры, красавица и дурнушка, он, без сомнения, даже не отдавая себе в том отчета, больше тянулся бы к красавице, даже если бы она была не так мила и добра, как другая. А будь его сестры одинаково хороши собою, он отдавал бы предпочтение не той, что сохранила добродетель, а той, что познала любовь, он бы стал большим ее другом, ибо она лучше бы понимала его собственные слабости и страсти. Любовь была его божеством, а всякая смазливая женщина с нежным сердцем — жрицей этого божества. Он, пожалуй, еще мог относиться к ней дружески, но смотреть на нее без волнения не мог. Вот почему, хотя Лукреция любила его приятеля, это отнюдь не мешало ему восторженно любоваться ею и упиваться ее дыханием. Сальватор с таким же удовольствием, как прежде, прикасался к ее руке, волосам, даже краю одежды, и легко понять, что все это вызывало у Кароля ревность не меньшую, чем если бы граф домогался сердца его возлюбленной. Разумеется, в это трудно поверить, но Флориани была чиста душою, как дитя. Что и говорить, это весьма странно, если вспомнить, что она много любила и благодаря страстной натуре всем своим существом отдавалась любви. От природы она обладала пылким темпераментом, хотя и казалась холодной тем мужчинам, которые ей не нравились. Дело в том, что, всецело поглощенная своей любовью, она больше ни о чем не думала, ничего не видела и ничего не чувствовала. В те недолгие промежутки, когда сердце ее безмолвствовало, ум тоже бездействовал; и если бы ее навсегда лишили общения с сильным полом, она стала бы примерной монахиней, спокойной и бесстрастной. Вот почему, пока Лукреция жила в одиночестве, мысли ее были совершенно чисты, а когда она кого-нибудь любила, то на земле для нее существовал только ее возлюбленный, все же остальные мужчины словно исчезали, уходили в небытие. Сальватор мог сколько угодно обнимать ее, твердить, что она необыкновенно хороша, с трепетом пожимать ей руки, она замечала все это не больше, чем в тот день, когда граф, еще не догадывавшийся о том, что Кароль уже полюбил Лукрецию, был вынужден говорить с нею не только прямо, но даже дерзко, для того чтобы открыть ей свои устремления. И все же ни от одной женщины не может укрыться красноречивый взгляд и взволнованный голос мужчины — косвенные признаки любви. Светские дамы обладают на этот счет такой невероятной проницательностью, что нередко даже попадают впросак; правда, их постоянная готовность к защите даже тогда, когда на них никто еще не нападает, — часто лишь едва прикрытый вызов с их стороны, который может только поощрить дерзкого. В отличие от них, порывистая и доброжелательная Лукреция всегда приписывала внимание мужчин интересу, который она вызывала как актриса, или дружеским чувствам, которые внушала как человек. С людьми, которым она не доверяла и которых сторонилась, она была резка и неприветлива, зато с теми, кого ценила, держалась открыто и радушно; ей казалось, что она оскорбит священное чувство дружбы, если будет постоянно настороже. Она хорошо понимала, что у любого из ее друзей может вдруг зародиться мимолетное желание, но взяла себе за правило не показывать вида, что она это замечает, и если друзья не вынуждали ее проявить строгость, всегда была с ними мягка и доверчива. Лукреция считала, что мужчины — большие дети, что, имея с ними дело, лучше всего постараться переменить разговор, чем-нибудь отвлечь их, нежели отвечать на настойчивые вопросы и обсуждать деликатные, а потому опасные темы. Казалось, Кароль должен был хорошо понимать, как надежна эта простая и бесхитростная женщина, однако на самом деле он ее совершенно не знал. В своем безрассудстве он впал в непростительное заблуждение и вообразил, будто Лукреция со всеми, кроме него, должна держать себя сурово и неприступно и быть холодна, как девственница. Он упорствовал в этом заблуждении, не желая понять истинную сущность ее натуры и полюбить такой, какой она была. Сначала в своих мечтах он вознес ее слишком высоко, а теперь готов был низвергнуть с пьедестала; он даже допускал, что между неодолимой чувственностью Сальватора и тайными побуждениями Лукреции могут существовать опасные точки соприкосновения и этого следует страшиться. Когда взошел Веспер, казавшийся огромным белым алмазом на фоне еще розового неба, лодки повернули к берегу. Они неслышно скользили по прозрачной поверхности озера, которое Флориани так любила, а Кароль вновь начинал ненавидеть. Он хранил молчание; Беатриче заснула на руках у матери; Челио сидел за рулем в лодке старика Менапаче, который, устроившись рядом с внуком, погрузился в глубокую задумчивость; тоненькая Стелла, одетая в воздушное белое платьице, мечтательно созерцала звезды, в честь которых ее нарекли, [55]а Сальватор Альбани громко пел, и его свежий звучный голос далеко разносился над водою. Ни у кого, кроме Кароля, самого чистого и безупречного из всех, не было и тени дурной мысли. Он повернулся спиной к остальным, ибо не хотел видеть того, чего вовсе и не было и о чем никто даже не помышлял; ему чудилось, что его окружают не ундины озера, а яростные эвмениды. Неужели его обманули? Неужели Сальватор грубо солгал, уверяя, что никогда в жизни не был возлюбленным Флориани? Князю много раз приходилось выслушивать витиеватые рассуждения своего приятеля касательно дружбы между мужчиной и женщиной, причем, по словам самого Сальватора, такая дружба непременно заключала в себе некую долю умело замаскированной и открыто не выражаемой любви; он считал, что граф Альбани, не желая огорчать его, был способен даже сказать неправду, а потому вполне мог, проведя блаженную ночь сразу же после их приезда, тут же, не моргнув глазом, отпереться от этого. В ту пору Лукреция не была обязана отчитываться перед Каролем, и он, упиваясь собственным великодушием, тогда же решил ни в коем случае не расспрашивать ее о событиях той ночи. Но если даже предположить, что в тот раз она устояла против соблазна, то можно ли допустить, что, ведя жизнь актрисы, жизнь полную волнений, нередко принимая Сальватора в своей артистической уборной, даже, быть может, одеваясь в его присутствии и уже во всяком случае разрешая ему украшать ее театральный костюм, Лукреция ни разу не позволила графу воспользоваться минутой слабости или нервного возбуждения? Можно ли допустить, что этого ни разу не случилось, хотя она, возвращаясь к себе после спектакля и изнемогая от усталости или опьяненная успехом у публики, конечно же не задумываясь, опускалась рядом с ним на софу и они какое-то время оставались наедине?.. Ведь Сальватор так пылок и так дерзко обращается с женщинами! Разве не навлек он на себя немилость княжны Люции, когда осмелился сказать, что у нее красивые руки? А уж если он не застыл в благоговейном молчании в присутствии Люции, то легко можно вообразить, что он позволял себе с Лукрецией! И тут ужасное сравнение, которое князь так долго отталкивал от себя, внезапно всплыло в его мозгу: с одной стороны княжна, девственница, ангел, с другой — комедиантка, женщина, лишенная нравственных устоев, мать, родившая четырех детей от трех разных отцов, из которых ни один не был ее мужем и которые Бог знает куда подевались! Ужасная действительность вставала перед испуганным взором Кароля, она, как Горгона, готова была его погубить. Конвульсивная дрожь пробегала по его телу, голова раскалывалась. Ему мерещилось, будто ядовитые змеи ползают по дну лодки, подбираются к его ногам, а покойная мать возносится к звездам и с ужасом отворачивается от него. Лукреция в это время предавалась грезам о вечном блаженстве; когда же она, стараясь не разбудить дочь, оперлась на руку князя, чтобы сойти на берег, то с удивлением заметила, что рука эта холодна, хотя вечер был очень теплый. Взглянув при свете на его лицо, она немного встревожилась; однако он сделал над собой огромное усилие, чтобы казаться веселым. Лукреция еще никогда не видала Кароля таким, она знала, что он обладает глубоким умом и поэтическим воображением, но не подозревала, что он может быть остроумен. Теперь же она заметила, что князь весьма остер на язык; правда, шутки его были хотя и тонкие, но язвительные и злые, однако, так как Лукреции нравилось в Кароле все, она пришла в восторг, обнаружив в нем еще одно достоинство. Сальватор отлично понимал, что нарочитая и желчная веселость его друга отнюдь не свидетельствует о хорошем расположении духа. Но в тот вечер он не знал, что и подумать. Он даже допускал, что любовь решительно переменила нрав князя, что тот, возможно, смотрит теперь на жизнь не столь сурово и мрачно, как прежде. Так или иначе, граф Альбани воспользовался случаем и подхватил шутливый тон Кароля, хотя время от времени ему казалось, что за меткими репликами юноши скрывается невысказанная горечь и досада. В ту ночь Кароль вовсе не спал, хотя и не был болен. Долгие и мучительные часы, которые он провел не сомкнув глаз, убедили его в том, что у него гораздо больше сил, чем он предполагал. На этот раз его лихорадочное состояние так и не уступило места оцепенению, которое прежде обычно притупляло муки и прогоняло тревожные мысли. Утром он встал во власти того же мучительного убеждения, какое овладело им вечером; он не испытывал ни малейшего недомогания, но терзался все той же неотвязной мыслью: Сальватор его предал, предает или намерен предать. — Надо, однако, принять какое-нибудь решение, — процедил он сквозь зубы. — Надо порвать все или выйти победителем, отступить или прогнать неприятеля. Достанет ли у меня сил для борьбы? Нет, нет, это ужасно! Лучше бежать. Он вышел из дому на рассвете и, повинуясь неодолимой потребности, быстро зашагал, сам не зная куда. Прямая и проторенная дорожка, по которой он безотчетно шел, вела из парка к хижине старого рыбака. Кароль уже собрался обогнуть хижину, как вдруг услышал свое имя. Он остановился; кто-то несколько раз повторил слово «князь». Юноша подошел ближе и оказался в тени старых плакучих ив; он невольно прислушался. — Князь! Какой там еще князь! — говорил старик Менапаче на своем обычном диалекте, который Кароль с некоторых пор уже хорошо понимал. — Да он и не похож вовсе! В молодости видал я принца Мюрата, он был толстый, крепкий, румяный, на нем была богатая одежда, изукрашенная золотым шитьем и перьями. Вот тот был настоящий князь! А уж этот ни капельки на князя не похож, да я бы ему даже вёсел не доверил. — Уверяю вас, папаша Менапаче, что он и вправду князь, — послышался голос Биффи. — Я сам слышал, как слуга называл его «ваша светлость», а ведь они были только вдвоем, меня-то слуга не видел. — Говорю тебе, он такой же князь, как моя дочь — принцесса. Они все на сцене вельможами себя величают. А другой, этот Альбани, представлял в комедии графьев, а на самом же деле он просто певец! — Что правда, то правда, — подхватил Биффи, — он весь день поет. Выходит, они просто старые приятели синьоры. И долго они еще тут погостят? — Вот и я себя о том же спрашиваю. Сдается мне, что князь, как они его величают, не прочь подольше пожить на дармовых харчах. А если другой тоже надумает пробыть здесь месяца два, ничего не делая, если и он будет только есть, спать да бродить по берегу озера, тогда не скажешь, что мы дешево отделались! — Подумаешь! Нам-то ведь это не мешает. Что нам до того? — Нет, мне это мешает! — возразил Менапаче, повышая голос. — Мне не нравится, когда лентяи и наглецы объедают моих внуков. Ты и сам видишь, эти бездельники — просто никчемные комедианты, решившие тут малость подправить свои дела. Дочка у меня добрая да жалостливая, но если она и впредь будет давать у себя приют всем своим бывшим друзьям, мы хлебнем горя! Эх, бедняга Челио! Бедные дети! Если б я о них не думал, они в один прекрасный день оказались бы в таком же положении, как эти мнимые вельможи! Ну ладно, Биффи, ты готов? Отвязывай лодку, и в путь! Если бы эту забавную беседу услыхал Сальватор, он бы целую неделю хохотал, он бы даже придумал какую-нибудь нелепую мистификацию, чтобы усилить смехотворные подозрения старого рыбака. Но Кароль огорчился не на шутку. Ему и в голову не могло прийти, что он окажется в столь ложном положении. Прослыть комедиантом, нищим, вызвать к себе презрение со стороны старого сквалыги! Он, кто всю жизнь витал в облаках и презирал грешную землю, неожиданно для самого себя увяз в грязи. Надо быть либо очень мужественным, либо очень беззаботным человеком, чтобы, став жертвою нелепых измышлений, не огорчиться и отнестись к этому с юмором. Впрочем, пожалуй, никто не в силах от души посмеяться над самим собою, и Кароль был настолько оскорблен, что вышел из парка, даже не подумав взять деньги на дорогу: он брел наугад, твердо решив — по крайней мере он так думал — никогда больше не возвращаться на виллу Флориани. Хотя после того, как он оправился от перенесенной болезни, здоровье его заметно укрепилось, он все же не был хорошим ходоком и, пройдя не больше мили, был вынужден замедлить шаг. Теперь тяжелые мысли будто пригнетали его к земле, и он с большим трудом тащился вперед без всякой цели. Если бы я сочинял роман, следуя новомодным правилам, я оборвал бы здесь главу и оставил тебя, любезный читатель, в неведении, предвкушая, что ты всю ночь не сомкнешь глаз и станешь вопрошать себя: «Уйдет князь Кароль с виллы Флориани или нет?» Однако высокое мнение, которое я составил о твоей проницательности, не позволяет мне прибегнуть к этой испытанной хитрости, и потому ты будешь избавлен от ненужных мучений. Ты ведь прекрасно понимаешь, что мое повествование зашло еще недостаточно далеко, а потому мой герой не может против авторской воли столь резко оборвать роман. К тому же его бегство показалось бы малоправдоподобным и ты бы ни за что не поверил, что можно так вот сразу разорвать цепи страстной любви. А потому будь спокоен, занимайся своими делами, и пусть бог сна осыплет тебя белыми и красными лепестками мака. До развязки нам еще далеко.XXI
Кароль хотел уже было задать себе тот же вопрос: «Уйду ли я? Смогу ли уйти? И не буду ли вынужден через четверть часа воротиться назад? Ну, а если так должно случиться, зачем без толку пускаться в дорогу?» — Нет, я уйду! — вскричал он, бросаясь на еще влажную от росы траву. Негодование вспыхнуло в нем сызнова, и к нему возвратились силы. Он снова пустился в путь, но вскоре усталость опять возродила в нем сомнения, и он ощутил упадок духа. Князя терзали горькие сожаления, глаза его наполнились слезами, их слепили яркие лучи восходящего солнца, которое словно шло ему навстречу и будто говорило: «Мы с тобой движемся в противоположном направлении; стало быть, ты бежишь от меня и хочешь погрузиться в вечный мрак?» Кароль вспоминал, как счастлив он был еще накануне, когда в такой же вот утренний час Флориани вошла к нему в комнату, распахнула окно, чтобы он услыхал пение птиц и вдохнул аромат жимолости, остановилась возле его кровати, улыбнулась и, перед тем как подарить ему первый поцелуй, окинула его дивным взглядом, полным любви и обожания, взглядом более красноречивым, чем любые слова, более пылким, чем любые ласки. О, как он еще был счастлив тогда! Солнце лишь один раз успело совершить привычный путь по небосводу, и вот уже все рухнуло! Стало быть, он никогда больше не увидит эту нежную женщину, она больше не будет опьянять его своим проникновенным взглядом, пробуждаясь поутру, он не увидит больше ее спокойный лучезарный образ, прогоняющий ночные видения! Ласковая рука, которая, едва касаясь его волос, словно придавала ему новые силы, сердце, чей пламень никогда не угасал, согревая его сердце, теплое дыхание, которое поддерживало в нем прежде незнакомую ему ясность духа, неизменное дружеское внимание, постоянные заботы, еще более предупредительные и трогательные, чем заботы, которыми его в детстве окружала мать, светлый, веселый дом, где вся атмосфера была, казалось, смягчена и согрета чьим-то гипнотическим влиянием, тихий парк, цветы, что росли в саду, дети, чьи мелодичные голоса сливались с пением птиц, даже собака Челио, которая с такой грацией резвилась в траве и гонялась за бабочками, чтобы не отстать от своего юного друга, — все это заполняло в последнее время его жизнь, хотя он только сейчас это понял, и все это ему предстояло утратить навсегда! И вот в ту самую минуту, когда Кароль вспомнил о собаке Челио, это красивое животное внезапно кинулось к нему и впервые стало ластиться. Удивившись неожиданному появлению собаки, князь сперва подумал, что и Челио где-то неподалеку. Однако мальчик не появлялся, и тогда Кароль вспомнил, что накануне вечером Лаэрт (так звали пса) носился по берегу, когда туда подплыли лодки; собаку тщетно подзывали, и Челио, вернувшись домой, забеспокоился, не найдя ее там. Снова принялись свистать и звать пса, предполагая, что он обогнул озеро и возвратился лугами, однако до ночи он так и не отыскался; Лукреция успокоила сына, сказав, что Лаэрт уже несколько раз не ночевал дома, что он достаточно умен и конечно же сам отыщет дорогу, когда ему этого захочется. Молодой, красивый пес, как видно, выследил и в пылу охоты на свой страх и риск до самого рассвета преследовал какого-нибудь зайчишку; потом он то ли потерял след, то ли догнал и съел свою добычу и только затем вновь вспомнил о Челио, который всегда резвился вместе с ним, о Лукреции, которая его собственноручно кормила, о маленьком Сальваторе, который таскал его за уши, о своей мягкой подстилке и вкусном завтраке. Собака, должно быть, понимала, что уже поздно и пора возвращаться, а не то ее накажут за столь долгое отсутствие. Впрочем, вполне возможно, шаловливый пес льстил себя надеждой, что никто вообще ничего не заметил. Увидев Кароля, собака, верно, вообразила, что тот оказался так далеко от дома потому, что разыскивал ее; сознавая свою вину и желая все как-нибудь загладить, она с приветливым и покорным видом двинулась навстречу князю, подметая землю длинным шелковистым хвостом и стараясь держаться как можно приветливее, чтобы получить прощение за свои проделки. Князь не мог устоять против заигрываний пса и решился даже погладить его по голове. «Вот и ты, ты тоже захотел порвать свою цепь и вкусить свободу! — подумал он. — А теперь стоишь на распутье, не зная, что хуже: вчерашняя зависимость либо сегодняшний страх перед неизвестностью!» Сам Кароль не мог без ужаса вспомнить о своем былом одиночестве. И он убеждал себя, что лучше терпеть муки любви, омраченной сомнениями и стыдом, чем прозябать, как прежде. Что ожидает его, если он вновь отдалится от людей? Образы матери и Люции будут отныне представать его мысленному взору лишь для того, чтобы осыпать горькими упреками. Он попытался воскресить их в памяти, но они не послушались его призыва. До сих пор он никогда не мог до конца поверить в то, что мать умерла, а сейчас впервые почувствовал это — могила больше не возвращала своей добычи. Черты Люции так бесповоротно изгладились у него из памяти, что он тщетно пытался припомнить их — они были словно подернуты густым туманом. Теперь, когда Кароль испил из чаши жизни, общество этих призраков пугало его, былое очарование исчезло навеки. «Жить! Стало быть, надо жить даже против собственной воли, стало быть, надо любить жизнь, даже презирая ее, надо погрузиться в нее, вопреки страху и отвращению, которые она внушает? — думал он, борясь с самим собою. — Но как понять, что это: воля Господня или искушение духа тьмы и бездны?» — Однако смогу ли я отныне жить рядом с Лукрецией? — вырвалось у него. — Не будет ли равносильна смерти эта привязанность, которая уже сейчас заставляет меня краснеть и которую будут отравлять постоянные сомнения? Ничего хорошего меня впереди не ждет! Так не лучше ли зачахнуть от тоски, сохранив чувство собственного достоинства, нежели влачить жалкое существование, сознавая собственную низость? Князь не в силах был разрешить свои сомнения. Он поднимался, делал шаг, удалявший его от виллы, и тут же оглядывался. Сердце его мучительно сжималось при мысли, что он больше не увидит своей возлюбленной; казалось, оно вот-вот остановится, как будто эта женщина, и только она, побуждала биться это бедное сердце. В душе Кароль уже покорился, но, как всякий слабый человек, ожидал какого-нибудь толчка извне, какого-нибудь события, которое можно было бы истолковать словно знак свыше, указующий на то, какую дорогу ему надлежит избрать. На помощь ему и пришел Лаэрт, который тем временем твердо решил вернуться. Как только Кароль поворачивался спиной к вилле, пес останавливался и с удивлением смотрел на него; когда же князь возвращался, Лаэрт начинал радостно прыгать, и его умные, выразительные глаза, казалось, говорили: «Вот это верный путь, а прежде вы заблуждались, следуйте же за мной!» И тут князь придумал оправдание, достойное малого ребенка. Он сказал себе, что Флориани сильно привязана к собаке, что Челио будет плакать целый день, если Лаэрт не отыщется, что пес еще очень молод и неразумен, он, чего доброго, опять пустится в погоню за какой-нибудь дичью и может совсем потеряться или его уведет какой-нибудь охотник а потому он, князь, обязан отвести собаку домой. Он кликнул Лаэрта и, не спуская с него глаз, направился вслед за псом на виллу. И, право же, можно сказать, что никогда еще ни один слепец не следовал так послушно за своим четвероногим поводырем. Увидев, что калитка в парк открыта, Лаэрт, обрадовавшись, что наконец-то он дома, бегом пустился к ней, намного опередил Кароля, стрелой влетел в комнату Челио и, свернувшись клубком, улегся под кроватью, ожидая, когда проснется его юный хозяин. Таким образом, Кароль утратил благовидный предлог для возвращения и ничто больше не заставляло его войти в парк; тем не менее он уже собрался туда войти, как вдруг его глаза остановились на надписи, которая была выведена кистью на каменной ограде. То были знаменитые стихи Данте:Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente…
…Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!.. [56]
Предостережение путникам! Челио Флориани.
Кароль вспомнил, что несколько дней тому назад Челио, который выучил наизусть этот классический отрывок из «Божественной комедии» и все повторял его вслух с той смесью восхищения и насмешки, какая свойственна детям, надумал, забавы ради, написать эти стихи на каменной ограде парка, возле калитки, и сопроводил их шутливым предостережением прохожим. Вилла была расположена вдали от проезжей дороги, и потому вполне можно было оставить надпись Челио до первого дождя; Флориани только посмеялась, прочтя ее, и даже Кароль не усмотрел тогда ничего особенного в этих мрачных стихах и нисколько не встревожился. Он несколько раз за последние дни проходил через калитку, не обращая никакого внимания на надпись, он бы и сейчас не придал ей значения, если бы не перемена, произошедшая в его душе. В первую минуту слова о «погибших поколениях» показались ему ужасным, но, быть может, оправданным намеком, а потому он решил тут же их стереть. Потом, невольно перечтя последнюю строку, он вдруг ощутил суеверный страх, подумав, что дети часто, сами того не ведая, пророчествуют и смеясь изрекают роковые истины. Сорвав пучок травы, Кароль стал тщательно стирать написанное; однако последний стих пришелся на более шероховатый камень, и в силу этого простого обстоятельства князю, несмотря на все старания, не удалось полностью стереть его: надпись потускнела, но ее все же можно было разобрать. — Ну что ж, стало быть, так начертано в книге моей судьбы! — воскликнул Кароль, стремительно входя в парк. — А потому эти роковые слова не должны ранить мой взгляд! О Лукреция, до сих пор ты дарила мне одно лишь блаженство, отныне мне предстоит страдать из-за тебя и ради тебя, и теперь я постиг, как сильно тебя люблю! Флориани между тем уже очень тревожилась; она обыскала весь парк, не понимая, почему Кароль изменил своим привычкам, поднялся раньше нее и один отправился на прогулку. Она была в хижине старого рыбака и увидела оттуда, как князь стер надпись у калитки и быстро вошел в парк, точно он, по примеру Лаэрта, боялся, что его станут бранить. Она бросилась к своему возлюбленному, заключила его в объятия и с волнением спросила: — Стало быть, вам это кажется кощунством? Кароль в ту минуту был вне себя; ему не пришло в голову, что Лукреция видела, как он стирал с камня стихи Данте, он уже и думать забыл об этих стихах, его мысли были опять заняты воображаемым предательством со стороны Сальватора. Он решил, что Лукреция отвечает на его тайные мысли, что она догадалась о его душевных муках, поняла, что он пытался бежать. Бог знает, о чем именно он думал, но только самые невероятные предположения теснились в его мозгу, и он с потерянным видом пробормотал: — Уж будьте лучше сами судьею, я не вправе решать за вас. Лукрецию слегка удивил его ответ, и она даже немного испугалась, таким странным он ей показался. Еще до того, как она отдала свое сердце князю, Сальватор несколько раз предупреждал ее, что Кароль — человек со странностями. Но она не могла в это поверить, потому что после своего выздоровления Кароль постоянно был на седьмом небе от счастья и не внушал ей даже мимолетного беспокойства. А теперь она спрашивала себя, вполне ли он поправился, не грозит ли ему новый приступ болезни и уж впрямь не терзают ли его ослабевший ум бредовые фантазии. Она засыпала его вопросами. Однако он не пожелал отвечать, а только несколько раз поцеловал ей руку и просил простить его. За что, собственно? Этого она так и не могла от него добиться, несмотря на самые нежные настояния. Манеры Кароля, выражение лица, даже речь — все вдруг резко переменилось. Решив вернуться к Лукреции, он дал себе зарок не задавать ей никаких вопросов и ни в чем ее не упрекать, ибо не хотел, чтобы упреки, которые могли вырваться у кого-либо из них, унизили его любовь; словом, он задумал окружить свою возлюбленную поистине рыцарским обожанием и, удвоив внимание к ней, как бы загладить этим оскорбление, которое он невольно нанес ей своим недоверием. Флориани всегда необычайно трогало то глубокое уважение, которое Кароль выказывал ей при детях и слугах. В его манерах ничто не напоминало обидную бесцеремонность и грубую развязность счастливых любовников. Но она не могла понять, почему теперь, даже наедине с нею, он избегает ее поцелуев, сам же только целует ей руки, точно аббат, почтительно прикасающийся губами к руке знатной вдовы. Она попыталась сломать лед, нежно его упрекала, дружески вышучивала — все было напрасно. Он спешил возвратиться в дом, ибо чувствовал, что еще не справился со своим душевным страданием и ему трудно казаться счастливым. Заметив, что его друг весь день молчалив и мрачен, Сальватор нимало не удивился: ведь он-то часто видел его таким! — Я очень встревожена, — тихо сказала графу Лукреция, — Кароль с самого утра бледен и печален. — Тебе пора бы уже привыкнуть, что он засыпает в одном расположении духа, а просыпается совсем в ином, — отозвался Альбани. — Ведь он непостоянен и изменчив, как облако. — Нет, Сальватор, это вовсе не так. Все эти два месяца Кароль походил скорее на ясное летнее небо без единого облачка, без самой легкой дымки. — Неужто? Какие чудеса ты рассказываешь! Даже поверить трудно. — Клянусь! Что с ним могло случиться? — Да ничего! Просто дурной сон привиделся. — Все это время ему снились только приятные сны! — Это просто загадка или редкое везение… Я, например, не могу припомнить ни одной недели… Да что я говорю?! Ни одного дня, когда бы он не впадал в черную меланхолию. — А по какой причине он так часто бывал мрачен? — Ты спрашиваешь меня о том, чего я и сам никогда не мог постичь. Разве Кароль — не ходячий иероглиф, не олицетворенный миф? — До сих пор он мне таким не казался. Уж сама не понимаю как, но до сих пор мне удавалось делать его счастливым и доверчивым, стало быть, вчера я перед ним провинилась, чем-то ему не угодила. — Может, вы этой ночью поссорились? — Поссорились? Что за слово! — Ого! Я вижу, ты стала такой же утонченной,как он, и следует изобрести особый лексикон, чтобы беседовать с вами. Так вот, скажи на милость, уж не коснулись ли вы, разговаривая минувшей ночью, какого-либо горестного происшествия, когда-нибудь случившегося с одним из вас? — Минувшей ночью я, как и во все прошлые ночи, не покидала своих детей. Мы расходимся по нашим комнатам, как только стемнеет, а поднимаюсь я со светом и, пока малыши еще спят или одеваются с помощью служанки, иду в комнату Кароля, осторожно бужу его и мы беседуем вдвоем; еще чаще мы просто глядим друг на друга с немым обожанием. Так мы проводим два неповторимых часа, и в эти счастливые часы нет места ни тягостным речам, ни житейским соображениям, ни воспоминаниям о докучных заботах и горестях повседневной жизни. Сегодня утром я, как обычно, вошла в комнату Кароля, чтобы распахнуть окна, — я так всегда делаю еще со времени его болезни. Он уже куда-то ушел, чего еще ни разу не случалось. И где-то пропадал два часа кряду. Когда он вернулся, вид у него был потерянный, он произносил какие-то непонятные мне слова, да и держался странно. Я даже немного испугалась, а сейчас он до того подавлен и так старательно нас избегает, что у меня просто сердце болит. Ты ведь его хорошо знаешь, постарайся же выведать, что с ним такое! — Я его и в самом деле хорошо знаю, но могу сказать тебе только одно: коли вчера он был весел, то это верный знак, что нынче утром он будет печален. Если Кароль хотя бы один час бывает общительным, то потом во искупление сего греха он на много часов замыкается в молчании. Тому, конечно, есть важные причины, но они столь неуловимы, столь непостижимы, что невооруженным глазом их не обнаружишь. Нужен микроскоп, чтобы разобраться в этой душе, куда почти не проникает свет, а ведь без света нет жизни. — Сальватор, как плохо ты знаешь своего друга! — возразила Лукреция. — У него совсем иная натура. Яркое, ослепительное солнце озаряет своими лучами его пылкую и благородную душу. — Ну, это уж как тебе угодно, — улыбнулся Сальватор. — В таком случае изучай тайники его души сама и не проси меня держать свечу. — Ты шутишь, друг мой, — с грустью сказала Флориани, — а ведь я страдаю! Тщетно я вопрошаю себя, но никак не могу понять, чем омрачила душу моего возлюбленного. Его холодный взгляд леденит меня до мозга костей, и когда я вижу его таким печальным, мне кажется, что я вот-вот умру.
XXII
Несколько откровенных слов избавили бы от мук Лукрецию и ее возлюбленного; но для этого нужно было, чтобы, доискиваясь истины, Кароль верил, что на его вопросы будет дан правдивый ответ; однако когда человек позволяет несправедливому подозрению всецело завладеть собою, он до такой степени утрачивает способность быть откровенным, что не может полагаться и на откровенность другого. К тому же несчастный юноша не мог теперь здраво рассуждать, и последние остатки здравого смысла подсказывали ему, что разумные доводы его ни в чем не убедят. По счастью, люди, которые легко приходят в волнение и испытывают безумную тревогу, быстро успокаиваются и обо всем забывают. Они сами сознают, что даже близкие не способны им помочь, и понимают, что могут избавиться от грызущего их беспокойства лишь собственными силами. Так произошло и с Каролем. Уже к вечеру того мрачного дня он устал страдать, ему наскучило одиночество; минувшей ночью он вовсе не спал, а потому чувствовал слабость, и это помогло ему быстро забыться. На следующее утро он вновь вкусил блаженство в объятиях Флориани; однако он так и не объяснил ей, почему накануне вел себя столь странно, и Лукреции пришлось удовольствоваться уклончивыми ответами. Все происшедшее оставило след в его душе: рана затянулась, но могла вновь открыться, ибо источник недуга не был устранен. В отличие от Кароля, Лукреция не так скоро забыла о случившемся. Хотя она и не угадала настоящей причины его страданий, она все же испытала сильное потрясение. То была не внезапная боль, острая, но преходящая. То была смутная, но упорная и длительная тревога. Вопреки мнению Сальватора, Флориани продолжала считать, что страдание не бывает беспричинным; однако, сколько она ни думала, она ничего не могла понять, и совесть ее оставалась чиста; в конце концов она решила, что в князе пробудились горестные воспоминания о матери либо сожаление, что он изменил памяти Люции.Таким образом, к Каролю снова вернулись ясность духа и доверчивость еще до того, как Лукреция утешилась и перестала думать о том, как он мучился в тот злополучный день; однако, когда она наконец успокоилась и стала забывать о своем испуге, вновь набежало облако, и неожиданное происшествие опять пробудило страдания князя. И какое происшествие! Мы с трудом решаемся рассказать о нем, до того все это выглядит нелепым и ребяческим. Играя с Лаэртом, Флориани была так восхищена грацией собаки и ее преданным взглядом, что поцеловала пса в голову. Кароль усмотрел в этом кощунство: он считал, что Лукреции не пристало прикасаться губами к собачьей морде. Он не сдержался и высказал все вслух с такой горячностью, которая свидетельствовала о его отвращении к животным. Лукрецию удивило, что он придает значение подобному пустяку, и она невольно рассмеялась, чем глубоко его обидела. — Полно, друг мой, — сказала она, — неужели вы предпочитаете, чтобы мы устроили настоящий диспут из-за того, что я поцеловала собаку? Я, со своей стороны, не хотела бы, чтобы между нами возникали какие бы то ни было разногласия, я не нахожу, что этот случай стоит серьезно обсуждать, а потому и позволила себе посмеяться над столь забавным происшествием. — Да, я смешон, знаю! — воскликнул Кароль. — И самое ужасное для меня, что вы начали это замечать.Неужели вы не нашли для меня иного ответа, кроме взрыва смеха? — Повторяю, я не искала никакого ответа, — возразила Лукреция, начиная терять терпение. — Выходит, когда вы делаете мне какое-либо замечание, я должна молча и покорно опускать голову, если даже вовсе не убеждена, что оно справедливо? — Стало быть, мы всегда будем по-разному относиться к тому, что нас окружает? — со вздохом произнес Кароль. — Оказывается, в житейских делах мы так мало понимаем друг друга, что, видно, мне уж лучше молчать, ибо, как только я открываю рот, это вызывает у вас смех! Он дулся часа два, а потом даже не вспоминал о досадном происшествии и снова стал таким же любезным, как обычно; Флориани же грустила целых четыре часа, хотя совсем не дулась и даже не выказывала своей грусти. На другой день снова что-то стряслось, уж не помню, что именно, но только совершенный пустяк; а еще через день грустили уже оба, причем безо всякой видимой причины. Сальватору не довелось быть свидетелем безоблачного счастья, которое влюбленные вкушали в его отсутствие. Напротив, сразу же после приезда он обнаружил, что Кароль обидчив и подозрителен, как всегда. Князь был то необычайно ласков с ним, то необъяснимо холоден. Графа Альбани это не удивляло, потому что Кароль и прежде был таким; однако он с горечью думал, что даже любовь не исцелила его приятеля, и укреплялся во мнении, что Лукреция и Кароль отнюдь не созданы друг для друга. Несколько дней Сальватор молча наблюдал и размышлял, а затем решил объясниться с Каролем и непременно вызвать его на откровенность. Он понимал, что это будет нелегко, но зато знал, как следует приняться за дело. — Друг мой, если возможно, я хотел бы, чтобы ты мне сказал, долго ли мы еще тут пробудем? — спросил граф приблизительно через неделю после своего возвращения на виллу Флориани. — Не знаю, не знаю, — сухо отвечал Кароль, как будто вопрос этот показался ему неуместным и неприятным. Но тут же глаза его наполнились слезами, и по тому, с каким выражением он посмотрел на Сальватора, было понятно, что разлука с Лукрецией представляется ему неизбежной. — Прошу тебя, Кароль, — продолжал граф Альбани, беря друга за руку, — хотя бы раз в жизни постарайся подумать о будущем, сделай это ради меня, ибо я не могу постоянно пребывать в неизвестности и в ожидании. Прежде, до того, как мы сюда приехали, ты всегда ссылался на свое слабое здоровье, утверждая, что оно, мол, мешает тебе заранее строить планы. «Решай все за меня и поступай как знаешь, — говаривал ты тогда. — У меня нет ни собственной воли, ни каких бы то ни было желаний». Ныне мы поменялись ролями, ты уже не можешь больше ссылаться на здоровье, ты набрался сил и превосходно себя чувствуешь… Не качай, пожалуйста, головой, не знаю, как насчет состояния души, но в физическом отношении ты меня просто радуешь. Ты стал совершенно неузнаваем, у тебя теперь совсем другой цвет лица, даже выражение лица другое, ты теперь ходишь, ешь и спишь, как все люди. Любовь и Лукреция совершили это чудо: ты перестал тосковать и, судя по всему, твердо знаешь, чего хочешь. И вот настал мой черед страдать от неуверенности, ибо я не знаю, что принесет мне завтрашний день. Скажи, пожалуйста, ты намерен и дальше тут оставаться, не так ли? — Не знаю, смогу ли я уехать, если даже захочу, — сказал Кароль, чувствуя себя глубоко несчастным оттого, что ему приходится давать прямой ответ, — боюсь, что у меня недостанет сил уехать, хотя, должно быть, придется. — Придется? А почему?.. — Не спрашивай. И сам можешь догадаться. — Оказывается, ты по-прежнему не хочешь утруждать себя, едва речь заходит о самом пустяковом житейском деле? — Да, не хочу, ибо с некоторых пор я еще больше, чем прежде, отошел от житейских дел. — Значит, ты бы хотел, чтобы я поступил, как обычно, чтобы думал за тебя, рассуждал сам с собою вслух, словно говорю с тобой, и доказал бы тебе разумными доводами, что тебе надлежит делать? — Да, пожалуйста, — ответил князь тоном избалованного ребенка. При сложившихся обстоятельствах он не нуждался в том, чтобы выслушать чужое мнение и таким путем убедиться в силе собственной любви, однако ему хотелось узнать, что думает о создавшемся положении Сальватор, и он надеялся, что это позволит ему разгадать тайные помыслы графа. — Ну что ж, попробую! — весело начал Альбани, который не опасался никакой ловушки, потому что завел этот разговор безо всякой задней мысли. — Впрочем, теперь это нелегко: ты сильно переменился, и речь идет уже не о том, чтобы понять, полезен ли для тебя воздух здешних мест, приятно ли тебе тут находиться, хорошо ли помещение, не прогонит ли нас отсюда жара или холод. Тебя согреет пылкая страсть, если даже июньское солнце не станет ласкать своими лучами твою голову. Этот загородный дом очень хорош, да и хозяйка достаточно мила… Постой-ка! Что ж ты даже не улыбаешься моим шуткам? — Не могу, друг, не могу. Говори серьезно. — Изволь. В таком случае я буду краток. Ты здесь счастлив, любовь опьяняет тебя. Ты не можешь предвидеть, сколько времени ничто не омрачит, не испортит твоего счастья. Ты хочешь наслаждаться им столько, сколько позволит Бог, а затем… Да, что затем? Отвечай. До сих пор я говорил только о том, что есть, а теперь хотел бы узнать, что будет дальше. — Затем? Затем, Сальватор? Когда гаснет свет, наступает тьма. — Прости! Прежде бывают сумерки. Ты скажешь, что это еще слабый свет и что ты будешь довольствоваться им до конца. Однако когда все же наступит ночь, придется искать иное светило? Возможно, это будет искусство, политика, путешествия или брак — там видно будет! Но скажи мне, когда придет эта пора, где мы свидимся? На каком островке, затерянном в океане жизни, должен я тебя ожидать? — Не говори мне о будущем, Сальватор! — испуганно вскричал князь, забывая о недостойных подозрениях, терзавших его. — Понимаешь, сейчас я меньше, чем когда бы то ни было, способен что-либо предвидеть. Ты предрекаешь конец моей любви или конец еелюбви, не так ли? Тогда уж лучше говори мне о смерти, потому что конец любви для меня равносилен концу жизни. — Да, да, понимаю. Ну что ж, в таком случае не будем об этом сейчас толковать, ибо ты еще весь охвачен страстью, а в таком состоянии человек не может думать ни о том, чтобы отказаться от своего счастья, ни о том, как его продлить. Признаться, весьма досадно, что в такую пору люди не способны проявить должное внимание и предусмотрительность, ибо самые идеальные чувства все же покоятся на земных основаниях, и если вовремя уладить некоторые житейские вопросы, то это будет способствовать прочности счастья или, во всяком случае, его продолжительности! — Ты прав, друг, помоги же мне! Что я должен делать? Да и можно ли что-нибудь сделать в том странном положении, в каком я оказался? Ведь я думал, что она будет любить меня вечно! — А теперь ты так не думаешь? — Я и сам не знаю, я больше уже ни в чем не уверен. — Стало быть, я должен во всем разобраться вместо тебя. Лукреция будет любить тебя вечно, если вам удастся поселиться на Юпитере или на Сатурне. — О небо! Ты еще насмехаешься! — Нет, говорю серьезно. Я не знаю сердца более пылкого, более верного и преданного, чем сердце Лукреции; но я не знаю случая, когда бы на нашей земле любовь по прошествии некоторого времени оставалась столь же сильной и восторженной, как вначале. — Оставь меня, оставь! — с горечью воскликнул Кароль. — Ты причиняешь мне боль. — Я вовсе не собираюсь рассуждать о любви вообще, — невозмутимо продолжал Сальватор. — Не намерен я также доказывать, что вас связывает заурядная любовь и что, подобно всякому другому чувству, она, подчиняясь собственным законам, когда-нибудь непременно угаснет. Тут тебе лучше судить, ибо ты знаешь Лукрецию такой, какой я ее никогда не знал, и об этой стороне ее натуры я могу только догадываться. Но одно, пожалуй, я понимаю лучше вас обоих, несмотря на весь опыт нашей очаровательной сумасбродки Лукреции: среда, которая окружает влюбленных, влияет, независимо от их воли и желания, на их чувство. Пусть в вашей душе сияет небесный свет, но если вам на голову упадет дерево, ручаюсь, что в эту минуту вы больше ни о чем думать не станете. Так вот, если внешние обстоятельства будут вам помогать и благоприятствовать, вы сможете любить долго, возможно, даже всегда! Во всяком случае, до тех пор, пока не придет старость и не объяснит вам, что, обещая любить друг друга всегда,вы забыли о ней. Если же, напротив, вы не станете ничего предвидеть, и ничего предусматривать, если вы позволите дурным влияниям извне посягать на вашу любовь, то вам придется испытать общий удел, иначе говоря, всякие невзгоды омрачат, а затем и погубят ее. — Я слушаю тебя, друг, — сказал Кароль, — продолжай. Чего я должен опасаться, что предвидеть? Что я могу предпринять? — Спору нет, Флориани свободна как ветер, она богата, не связана никакими прежними узами; можно подумать, что она предвидела вашу встречу и позаботилась о безмятежности вашего счастья, заблаговременно порвав со светом и укрывшись в здешней глуши. Таким образом, ныне обстоятельства как нельзя более вам благоприятствуют. Однако будет ли так всегда? — Ты полагаешь, что она испытывает потребность вернуться к старым друзьям? Боже мой! Неужели это может случиться… Как я несчастен! — Нет, нет, друг мой, — поспешно сказал Сальватор, пораженный отчаянием и испугом Кароля. — Я этого не сказал, я так не думаю. Но старые друзья сами могут разыскать ее тут, они могут явиться сюда без спроса. Если бы в Венеции я не был нем как могила, когда со мной заговаривали о Лукреции, если бы всем, кто хорошо знал, что она здесь, я бы не отвечал уклончиво, не говорил бы, что она, мол, собирается тут поселиться, но твердо еще ничего не решила, что, возможно, она прежде отправится путешествовать, поедет во Францию и все в таком же роде, словом, не повторял бы в ответ на нескромные вопросы то, о чем меня просила сама Лукреция, будь уверен, у вас уже было бы множество визитеров. Однако хотя этого пока не случилось, но может еще случиться. В один прекрасный день ваше одиночество окажется нарушенным. Как ты будешь тогда держаться со старыми друзьями своей возлюбленной? — О, как это ужасно! Как ужасно! — вскричал Кароль, ударяя себя в грудь. — Уж очень ты на все мрачно смотришь, любезный мой князь! Не следует из-за этого приходить в отчаяние, но этого надо ожидать и в случае необходимости надо вовремя свернуть шатры. Ведь всякой беде можно помочь. Если нужно будет, вы уедете и найдете себе на время другой укромный уголок. Есть верный способ отвадить непрошеных гостей: нужно, чтобы они никогда не были уверены в том, что застанут вас дома. Лукреция это отлично понимает. Она всегда поможет тебе выйти из затруднительного положения… Так что успокойся! — Ну, ладно, а есть еще какие-нибудь опасности? — спросил Кароль, который с привычной легкостью переходил от непомерного страха к непонятной беспечности. — Да, мой милый, есть и другие опасности, — отвечал Сальватор, — но боюсь, что ты слишком уж встревожишься и, пожалуй, пошлешь меня к черту. — И все-таки скажи. — Беда в том, что когда вы замкнетесь в полном одиночестве, вам будет угрожать опасность пресыщения. — И то правда, — пробормотал Кароль, подавленный этой мыслью, — быть может, ты с полным основанием предвидишь, что Лукреция скоро пресытится. О да, все эти дни я был угрюм и мрачен. Должно быть, она устала от этого, я ей наскучил. Она тебе что-нибудь говорила? — Нет, она мне ничего не говорила, ей это даже в голову не приходит, и не думаю, что она первая ощутит усталость. Тут я гораздо больше опасаюсь за тебя, чем за нее. — За меня? Ты сказал — за меня? — Да, я знаю, что ты существо исключительное, знаю, что ты несколько лет подряд любил женщину, о которой имел весьма смутное представление, — да будет мне позволено сказать это теперь. Я знаю и то, как самозабвенно и преданно ты любил свою мать. Но ведь то была совсем иная любовь. А страстная любовь постепенно слабеет, и такая опасность особенно угрожает именно тебе, ибо ты меньше всякого другого в силах противостоять вторжению житейской прозы. — Ошибаешься! — вскричал Кароль, и на губах его появилась улыбка, выражавшая надменность и вместе с тем наивную восторженность. — Мой милый, я восхищаюсь тобою, но в то же время и жалею тебя, — сказал Сальватор. — Сегодня твой горизонт безоблачен, но завтра он может омрачиться. — Сделай милость, избавь меня от общих мест! — Сделаю милость и все же изволь выслушать. Твой знатный род, твои прежние друзья, весь этот высший свет, чопорный, замкнутый и строгий, был до сих пор твоей привычной средою, его воздухом ты, если можно так выразиться, дышал. Какую же роль ты собираешься играть там впредь? — Я навеки от него отрекаюсь! Я уже думал о том, Сальватор, и весь этот мир оказался легче соломинки на весах моей любви. — Превосходно. Когда ты вернешься в дом своих предков, родные, разумеется, простят твои прегрешения, но они, тем не менее, скажут, что так долго и упорно состоять в любовниках комедиантки недостойно тебя. Эти добродетельные родичи охотнее простили бы тебе сотню любовных приключений, нежели одну подлинную страсть. — Не думаю. Но если допустить, что они станут вести себя так, это только укрепит мою решимость без всякого сожаления порвать и с семьей, и с прежними друзьями. — В добрый час! Ведь наши почтенные родственники — люди прекрасные, но ужасно скучные: я уже давно безропотно слушаю, как они меня бранят. Если и ты наконец решился выйти из повиновения, что, кстати, весьма неожиданно и забавно, то, как говорится, с Богом! Меня это только радует! Однако, любезный Кароль, есть еще одна семья, о которой ты забываешь: это семья Флориани. И она — свидетель вашей любви. — Ах, вот ты и коснулся самого больного места! — вскричал князь и вздрогнул как ужаленный. — Ты говоришь о ее отце, об этом жалком человеке, который считает, что мы нищие комедианты и только из милости живем здесь и кормимся! Это отвратительно, мне следовало немедленно уехать, когда я услышал, как он сказал это Биффи. — Папаша Менапаче оказывает нам такую честь? — спросил Сальватор, покатываясь со смеху. Однако, поняв, что Кароль весьма серьезно отнесся к этому нелепому происшествию, граф постарался успокоить друга и сразу же переменил тон. — Если бы ты рассказал Лукреции об этом забавном случае, — начал он, — она бы, конечно, поспешила тебя утешить; и вот что, наверное, сказала бы эта чудесная женщина: «Дитя мое, все мои возлюбленные были люди бедные, ибо я больше всего боялась прослыть содержанкой. У вас же — миллионное состояние, и могут подумать, будто вы тратите на меня большие деньги; но я вас очень люблю и даже не задумываюсь над тем, что станут говорить, мне это глубоко безразлично; забудьте же и вы о вздорных выдумках моего отца и Биффи, как я забываю ради вас обо всем на свете». Так что, сам видишь, Кароль, тебе следует поменьше обращать внимания на пустые толки. Поговорим-ка лучше о детях Лукреции. О них-то ты подумал, друг мой? — Разве я недостаточно их люблю?! — воскликнул князь. — Разве хоть когда-нибудь пытался отдалить их от матери? — Но ведь они вырастут! И все поймут. Мне хорошо известно, что все они внебрачные дети и не знают своих отцов, но пока они еще в том счастливом возрасте, когда ребенок не понимает, что у него непременно должен быть отец. Каким образом Лукреция выйдет в будущем из столь деликатного положения и какие возвышенные или, напротив, прискорбные сцены произойдут в лоне этой семьи, нас с тобой не касается. Я верю в прекрасную душу Флориани и думаю, что она с честью выйдет из положения. Однако не резон тебе еще больше осложнять дело своим постоянным присутствием. Ведь ты не можешь да и не захочешь лгать. Какой же ты видишь выход? Когда Кароль испытывал душевные муки, он не находил облегчения в словах, вот почему он закрыл лицо руками и ничего не ответил. Этот грозный вопрос уже давно терзал его: еще в тот день, когда дети Лукреции особенно утомили его громкими криками и смехом, перед его глазами смутно предстала картина будущего. Мысль о том, что когда-нибудь он может, сам того не желая, стать врагом и злым гением этих прелестных детей, естественно возникла у него в ту минуту, когда они впервые вызвали в нем скуку и раздражение. — Ты проникаешь скальпелем в самые недра истины и заставляешь меня созерцать ее окровавленное нутро, — с болью сказал он наконец своему другу. — Ты хочешь, чтобы я отказался от своей любви и умер из-за этого? Убей же меня сразу. Уедем!
XXIII
Сальватора поразила сила страсти, все еще владевшей Каролем. Ему было невдомек, что страсть эта под влиянием страдания будет не уменьшаться, а, напротив, возрастать: сам Альбани искал в любви счастья, и если не находил его, то любовь в нем постепенно угасала. В этом отношении он походил на всех нас. Но Кароль любил ради самой любви, и никакие муки не могли его устрашить. Ныне он вступал в новую пору мучительных переживаний, ибо время пьянящего блаженства уже миновало. Однако пора охлаждения для него никогда не должна была наступить. Она превратилась бы для князя в физическую агонию, ибо любовь стала его жизнью, и какой бы эта любовь ни была — сладостной или горькой, — он не в силах был забыть о ней хотя бы на мгновение. Сальватор, долго изучавший характер Кароля, но так и не понявший главного, полагал, что его пророчество непременно исполнится, все дело только во времени. — Друг мой, ты не понимаешь меня, а вернее, думаешь совсем не о том, о чем я толкую, — сказал граф. — Боже избави! Я вовсе не собираюсь нарушать блаженство, которым ты еще можешь долго наслаждаться! Напротив, я считаю, что ты должен бездумно отдаваться счастью и впервые в жизни целиком подчиниться нежной прихоти судьбы. А хочу я сказать тебе совсем другое: в будущем, когда счастье начнет меркнуть, ты не должен упорствовать и удерживать его силой. Рано или поздно наступит день, когда яркое светило, которое ныне озаряет тебя своими лучами, начнет угасать. И тогда тебе следует покинуть свою возлюбленную, не дожидаясь, пока наступит скука и пресыщение. Тебе надо будет немедленно бежать… с тем, чтобы — пойми меня правильно! — вновь вернуться, когда тебе снова захочется зажечь факел своей жизни от ее огня. Как видишь, я допускаю, что твое постоянство будет длиться вечно. В этом я вижу лишний довод в пользу того, что надо ослабить узы, соединяющие вас, ибо постоянное и полное уединение угнетает человека. Все, что тебя здесь теперь шокирует, издали покажется совсем иным, а когда ты опять возвратишься, то увидишь, что воображаемые горы — всего лишь песчинки. Ты уже и сам понял двусмысленность своего положения, так вот, все неприятное, что связано с этим, исчезнет, когда ты перестанешь быть единственным и непременным гостем в доме. Детям не придет в голову в чем-либо тебя упрекнуть, ибо если окружающие и будут догадываться о предпочтении, которое оказывает тебе Лукреция, то не смогут этого доказать. Ваши частые встречи, ваше постоянное общение уже не будут казаться вызовом свету, а станут свидетельством возвышенной и прочной дружбы. Если бы ты был даже давним и близким другом Флориани, как, скажем, я, то и тогда тебе не следовало бы постоянно находиться возле нее — это предосудительно и неосторожно. Но ведь ты — ее возлюбленный, а потому должен вести себя особенно осмотрительно; и ее, и твое достоинство требует, чтобы вы хоть немного скрывали свою страсть от посторонних глаз. Быть может, ты находишь, что меня слишком заботит репутация женщины, которая сама никогда не придавала ей серьезного значения. Но уж тебе-то не к лицу сомневаться в искренности ее решения восстановить свое доброе имя ради будущего дочерей: ведь именно для этого она заблаговременно оставила свет и порвала все прежние связи. Не захочешь же ты, чтобы из-за тебя оказались напрасными и принесенная ею жертва, и похвальные решения, которые так ее радовали; не станешь же ты ей мешать быть прежде всего добродетельной матерью семейства: вспомни, как трогательно она гордилась этой ролью в тот день, когда мы постучались в двери ее дома. И двери эти были заперты! Я никогда не прощу себе, что нарушил затворничество Лукреции и, можно сказать, буквально заставил эту доверчивую и великодушную женщину раскрыть тебе свои объятия, если она когда-нибудь проклянет тот роковой час, когда я отнял у нее покой и развеял в прах ее мечты о безмятежном и целомудренном существовании. — Ты совершенно прав! — вскричал князь, бросаясь в объятия друга. — Именно так ты и должен был говорить со мною с самого начала. Из всех приведенных тобою соображений мне понятно только одно: я обязан выказывать глубочайшее уважение моей возлюбленной, обязан всячески оберегать ее честь, покой, мир и согласие в ее доме. Если для того, чтобы доказать мое преклонение перед нею и мою глубочайшую преданность, я должен немедленно ее покинуть, — изволь, я готов. Ведь это она конечно же поручила тебе высказать те доводы, какие я только что услышал. Видя, что я ни о чем не думаю, что я как в блаженном сне, она решила, что пора уже меня разбудить. И правильно поступила. Попроси ее простить мне бездумное себялюбие! Пусть она сама определит, как долго я должен отсутствовать, назначит день моего отъезда… но пусть только не забудет назначить и день моего возвращения. — Друг мой, ты просто несправедлив к Флориани, полагая, что она более разумна и предусмотрительна, чем ты, — возразил с улыбкой Сальватор. — Рискуя разбить твое сердце, я завел этот разговор по собственному побуждению и без ведома Лукреции. Если бы я попросил у нее согласия, она бы мне отказала, ибо такой возлюбленной, как она, присущи все слабости нежной матери, и когда мы заговорим с нею о твоем отъезде, она не только не одобрит этого намерения, но станет ему упорно сопротивляться. Однако мы напомним ей о детях, и тогда она будет вынуждена уступить. Она поймет наконец, что возлюбленный не должен вести себя как муж, что ему не следует надолго располагаться в доме, как будто он стережет крепость! — Муж! — воскликнул Кароль, опускаясь на стул и пристально глядя на Сальватора. — Неужели она может выйти замуж?! — Ну, на сей счет можешь быть спокоен, нет никакой опасности, что она таким способом нарушит верность тебе, — ответил Сальватор, удивленный тем впечатлением, какое это случайно вырвавшееся у него слово произвело на князя. — Ты сказал «муж»! — продолжал Кароль, судорожно ухватившись за какую-то неожиданную мысль. — Да, муж может стать оправданием всей ее жизни. Если он будет богат и знатен, то вместо того чтобы оказаться врагом и злым гением ее детей, он станет им естественной опорой, лучшим другом, приемным отцом. Этим он выполнит высокий долг, и какая его ждет награда! Ведь он будет иметь право никогда не расставаться с обожаемой женщиной, он станет для нее надежным оплотом, защитит ее от пересудов и клеветы, никто не посмеет отнять его бесценное сокровище, его счастье ни на один день не будет нарушено жестокими и докучливыми светскими условностями. Быть ее мужем! Да, да, ты прав! Без тебя я бы до этого не додумался. Теперь ты и сам видишь, что я ничего, ровным счетом ничего не смыслю в делах житейских! Но постепенно я прозреваю: прежде я был просто несмышленым ребенком, а теперь благодаря любви и дружбе становлюсь мужчиной. Да, да, Сальватор! Быть ее мужем — вот выход из положения! Добившись этого священного права, я смогу никогда не расставаться с Лукрецией, я не только не буду вредить своей любимой, но посвящу себя служению ей. — Ничего не скажешь, удачная мысль! — вскричал Сальватор. — Ты меня просто сразил, я как будто упал с облаков на землю! Да думаешь ли ты, что говоришь, Кароль? Жениться на Флориани? Тебе?! — Твои сомнения оскорбительны, сделай милость, избавь меня от своего недоумения. Я твердо решился, пойдем к Лукреции, и помоги мне добиться ее согласия. — Ни за что! — отрезал Сальватор. — Разве только через десять лет, день в день, ты снова меня об этом попросишь. Эх, Кароль! Сколько времени я прожил рядом с тобой и, оказывается, совсем тебя не знаю! Прежде непомерная суровость, недоверчивость и гордость не давали тебе спокойно жить, и вот сейчас ты бросаешься в другую крайность, ты как одержимый вступаешь в рукопашный бой с жизнью! В свое время я выслушал от тебя столько упреков и нравоучений, а теперь уже мне приходится играть роль ментора, чтобы уберечь тебя от последствий твоей собственной неосмотрительности! И Сальватор стал приводить своему другу бесчисленные доводы, доказывавшие невозможность подобного брака. Он говорил пылко и искренне. Граф признал, что Флориани вполне достойна величайшей любви и преданности и что, если бы он сам был лет на десять старше и решился надеть на себя цепи супружества, то предпочел бы ее всем герцогиням на свете. Вместе с тем он убеждал юного князя, что залогом семейного счастья служит сходство во вкусах и взглядах, в характерах и устремлениях супругов, а такое сходство и согласие никогда не может возникнуть между знатным молодым человеком, занимающим высокое положение в обществе, и дочерью крестьянина, ставшей актрисой, женщиной, которая ко всему еще старше своего будущего мужа на шесть лет и у которой четверо детей; к тому же она и от природы, и в силу своей прежней жизни весьма вольнолюбива, не говоря уже обо всем прочем. Нет необходимости пересказывать читателю все, что говорил Сальватор. Однако если в начале разговора слова графа в чем-то убеждали его юного друга, то теперь они разбивались об упорство князя. Из своего небольшого жизненного опыта Кароль усвоил и мог усвоить только одно: человек должен быть способен на бескорыстную преданность. Стремление соблюдать свои интересы, заботиться о собственном благополучии было ему непонятно и чуждо. Прости же ему, читатель, ребяческие выходки, ревность, капризы. Ведь не это было в нем главное, и когда того требовали обстоятельства, он выказывал силу и величие духа, которые все искупали. Чем больше доказывал Сальватор непригодность плана Кароля, тем упорнее тот настаивал на своем. Если бы графу даже удалось убедить своего друга, что такой брак превратит его жизнь в цепь мучений, что ему придется сносить всевозможные страдания ради Лукреции и ее детей, Кароль бы только поблагодарил Сальватора за то, что тот нарисовал картину жизни, отвечающей его устремлениям и жажде самопожертвования. Он бы с восторгом пошел на подобную жертву. Князь мог негодовать, если Лукреция произносила при нем имя человека, о котором ему было неприятно слышать, если она разрешала Сальватору целовать ее колени, если она угрожала ребенку наказанием или слишком уж нежно ласкала собаку, но ему и в голову не пришло бы упрекнуть ее, если бы она согласилась на то, чтобы он всем ради нее поступился. К счастью… впрочем, вправе ли я это говорить?.. Но, так или иначе, Лукреция, выслушав столь неожиданное предложение, наотрез отказалась его принять, тем самым как бы подтвердив правоту графа Альбани. Ее до слез растрогала любовь князя, но она не удивилась, и Кароль был ей за это благодарен. Однако согласия на брак она не дала и прибавила, что никогда его не даст, даже если на карту будет поставлена жизнь ее детей. Так закончился поединок между деликатностью и великодушием, который продолжался на вилле Флориани целую неделю. Мысль об этом браке ранила врожденную гордость Лукреции; пожалуй, она была неправа, если иметь в виду интересы ее детей. Но, отвергая предложение Кароля, она руководилась чувством собственного достоинства, благодаря которому эта чудесная женщина достигла величия, но не обрела счастья. Только однажды в жизни, когда ей было пятнадцать лет, она приняла простодушное предложение юного Раньери стать его женою, хотя, на первый взгляд, речь шла о неравном браке. Однако сын стряпчего не был ни знатен, ни слишком богат, а дочь рыбака Менапаче приносила в приданое жениху свою невинность, свежесть и красоту. Но Раньери не мог сдержать слово, и Лукреция сама вскоре освободила его от данного им обещания; она уже тогда составила себе верное представление об обществе и понимала, как сильно будет страдать любимый ею человек, навлекая на себя проклятие отца и недоброжелательство родных. После этого Лукреция дала себе зарок, что если она когда-нибудь выйдет замуж, то лишь за человека своего круга, для которого такой союз будет честью, а не позором. Она приняла твердое решение, и ничто не могло его поколебать, вот почему настойчивость князя только огорчала ее. Любая женщина на месте Лукреции пришла бы в восторг от столь лестного предложения. Ей же оно казалось почти оскорбительным домогательством, и если бы она не знала, что Кароль чужд всяких расчетов и ничего не смыслит в житейских делах, ее бы рассердили настойчивые попытки князя склонить ее к браку. Став матерью четырех детей и убедившись, что малыши вызывают у ее возлюбленных приступы безрассудной ревности к прошлому, Лукреция решила вообще не выходить замуж. Правда, она не опасалась подобной ревности со стороны Кароля, она и мысли не допускала, что он способен испытывать такие же терзания, как другие мужчины; но она считала, что чьей бы женой она ни была, ей придется многим жертвовать ради своего супруга, а это нанесет ущерб ее близости с детьми; кроме того, кто бы ни стал их приемным отцом, он непременно будет краснеть, опекая чужих детей и показываясь с ними на людях; словом, если Кароль станет ее мужем, полагала она, он испытает на себе все последствия романтической преданности предмету своей любви и утратит в глазах жестокого и холодного света репутацию человека разумного и положительного. Вот почему Лукреции, чтобы остаться непоколебимой, даже не потребовалось искать поддержки у графа Альбани. Пока у Кароля оставалась надежда убедить ее, он проявлял неистощимое терпение. Но в один прекрасный день Лукреция поняла, что если она и дальше будет ссылаться на положение князя в обществе и на предрассудки его знатных родичей, то она, чего доброго, уподобится тем женщинам, которые лицемерно отказываются от лестного предложения, чтобы вернее завладеть своей добычей; тогда она решила разом покончить с настояниями Кароля и наотрез отказалась стать его женою. Надо заметить, что Лукреция очень боялась поддаться своим чувствам: если бы она слушалась только своего сердца, по-матерински привязанного к юноше, она бы уступила его слезным мольбам. Поэтому ей пришлось немного покривить душою и объявить, что она вообще ненавидит брак, хотя на самом деле она не усматривала в этом священном союзе ничего зазорного. Когда князь наконец убедился в бесполезности своих неотступных просьб, он впал в глубочайшее уныние. Сперва он плакал, и Флориани нежно утешала его, потом на смену слезам пришла потребность в уединении: ему хотелось мечтать, хотелось проникнуть в тайны той жизни, которой живут другие, жизни, к которой он хотел приобщиться и которую так плохо понимал; и тогда в его воображении вновь стали возникать призраки, в голове зарождались различные подозрения, ибо он не способен был верно оценить ни один жизненный факт, им овладела ревность — неизбежный и мучительный спутник тиранической любви, которая стремилась к безраздельному обладанию и обманулась в своих надеждах. Он вообразил, что Сальватор заранее обо всем условился с Лукрецией, хотя на самом деле граф говорил с ним по наитию и слова его были естественным и непроизвольным следствием долгих бесед между ними в ту пору, когда они были так откровенны друг с другом. Кароль решил, что Сальватор не отказался от мысли, в свою очередь, стать возлюбленным Флориани, что, относясь к нему как к избалованному ребенку, граф уступил ему дорогу, с тем чтобы, когда он, Кароль, пресытится, тайно заявить о своих правах. Вот почему, думал князь, Альбани так настойчиво убеждал его время от времени покидать Лукрецию: граф рассчитывал, что разлука немного охладит ее любовь и она охотно станет внимать его собственным признаниям. Каролю приходили на ум даже еще более необоснованные и безрассудные предположения! Он говорил себе, что Сальватор еще до него задумал жениться на Лукреции, с которой его связывала давняя дружба, что они обещали друг другу соединиться в один прекрасный день, после того как еще некоторое время будут с общего согласия наслаждаться свободой. Князь отлично понимал, что любовь, которую Лукреция испытывает к нему, — любовь бесхитростная и искренняя, но он боялся, что она может угаснуть столь же внезапно, как вспыхнула, и, подобно всем мужчинам, находящимся в таком положении, он теперь с тревогою думал о пылкости своей возлюбленной, той самой пылкости, которой прежде так восторгался и которую благословлял. Затем, когда чувство, владевшее душой этого злосчастного юноши, побеждало химеры, терзавшие его больной мозг, он оправдывал свою возлюбленную и говорил себе, что она впервые в жизни обрела в нем достойного ее спутника и что ее привязанность к нему будет длиться вечно, если чьи-либо происки и пагубные советы не отвратят ее от него. Тогда он тотчас же вспоминал о графе Альбани и мысленно обвинял его в том, что тот, повинуясь своим тайным желаниям, стремится обольстить Лукрецию, прибегая для этого к доводам эпикурейской философии и бесстыдно соблазняя ее. Он вменял им обоим в вину каждое слово, каждый взгляд. Сальватор якобы вел себя низко, а Лукреция была подвержена слабостям и увлечениям. Когда же его друзья, которые, оставаясь наедине, говорили только о нем, которые посвящали свою жизнь нежным заботам о нем, насильно отвлекали князя от одиноких раздумий, когда они осыпали его мягкими упреками и окружали ласковым вниманием, он давал волю слезам. Он плакал в объятиях Сальватора, плакал у ног Лукреции. Однако не признавался в своих безумных подозрениях, и они тут же с новой силой завладевали им.XXIV
— Она меня не любит и никогда не любила, — говорил князь Сальватору в минуты дружеской откровенности. — Эта холодная, неумолимая женщина, как видно, не понимает истинной любви, ибо, надеясь отвратить меня от брака с нею, твердит о каких-то моих интересах! Стало быть, она не знает, что такого рода доводы ничего не значат для человека, чье сердце полно любви, для человека, который все готов принести в жертву той, кого он боготворит! Зачем она толкует о своем желании сохранить мою свободу? Я отлично понимаю, что она боится потерять собственную. Да и что такое слово «свобода» применительно к любви? По-моему, оно может иметь только один смысл: возможность для влюбленных всецело принадлежать друг другу без каких бы то ни было помех. Если же, напротив, человек видит в свободе лазейку для возможного охлаждения или утех на стороне, то есть лазейку для измены, то в его сердце нет и никогда не было любви! Сальватор старался защитить Лукрецию от этих жестоких подозрений, но тщетно: Кароль слишком страдал и потому не мог быть справедливым. Он то искал у своего друга утешения, надеясь найти в нем опору, потому что сознавал свою слабость, то избегал его, видя в нем главного врага своего счастья. Положение с каждым днем становилось все более мрачным и невыносимым, граф Альбани старался поддержать добрыми советами и ласковыми словами влюбленных, однако он видел, что их душевная рана становится все болезненнее и прежнее блаженство обращается в муку. Он хотел бы разрубить этот узел, увезя Кароля, но это оказалось невозможным. Жить в столь напряженной обстановке было не слишком-то приятно, и Сальватор сам охотно бы уехал. Однако он не решался оставить друга в таком тяжелом состоянии. Лукреция надеялась, что Кароль постепенно успокоится и смирится с тем, что он может быть лишь ее возлюбленным. Когда же она увидела, что его муки не только не затихают, но даже усиливаются, то внезапно ощутила глубокую усталость. Когда любящая мать видит, как ее ребенок, которому врач предписал строгий режим питания, капризничает, плачет, с отчаянной настойчивостью требует накормить его досыта, она приходит в смятение, колеблется, спрашивает себя, следует ли и дальше строго соблюдать советы ученых мужей или лучше довериться голосу природы. Нечто подобное испытывала Лукреция при виде страданий своего возлюбленного. Она вопрошала себя, не лучше ли прибегнуть к опасному, но зато, быть может, радикальному средству, уступив его желаниям, нежели и дальше прислушиваться к доводам рассудка, обрекая Кароля на медленную агонию. Она позвала Сальватора, поведала ему о своих сомнениях и призналась, что совсем уже готова уступить. Она призналась также, что их брак представляется ей гибельным, но она больше не в силах видеть, как горюет Кароль, и не хочет отказать ему в этом свидетельстве своей любви и преданности. Сальватор и сам уже сильно колебался. Тем не менее он поборол жалость и продолжал борьбу, пытаясь удержать влюбленных от непоправимого шага. Кароль следил за каждым движением и словом своих друзей, хотя они этого и не подозревали, и, даже не слыша, угадывал все, что говорилось вокруг; он заметил нерешительность Флориани и упорство графа. Ему казалось, что Альбани играет самую отвратительную роль в том, что происходит. И минутами он жестоко ненавидел своего друга. Так обстояли дела, и князь одержал бы верх, если бы не одно происшествие, которое с новой силой пробудило все опасения Лукреции. Кароль часто, не выходя за ограду усадьбы, прогуливался по песчаному берегу озера в нижней части парка, которая была днем и ночью недоступна для любопытных. Однако вследствие засухи озеро обмелело и вдоль берега образовалась узкая песчаная коса, что позволяло всякому, кому заблагорассудится, проникнуть на виллу. Безотчетная ревность заставила князя обратить внимание на это обстоятельство, и он даже позволил себе несколько раз заметить вслух, что если вбить десяток кольев и переплести их ветками, то такой сделанный на скорую руку забор перегородит эту часть песчаного пляжа. Лукреция обещала позаботиться об ограде, но голова ее была занята более важными мыслями и она забыла отдать нужное распоряжение. В тот день она после обеда ушла вместе с Сальватором к себе в будуар и жаловалась ему, что мужество ее вот-вот иссякнет, что она больше не в силах видеть, как по ее вине все время страдает человек, ради которого она готова пожертвовать жизнью. Тем временем Кароль прогуливался вдоль озера; как обычно, он был во власти своих переживаний и не замечал ничего, кроме тех людей и предметов, которые бередили его рану и усиливали терзавшее его беспокойство. Всякий раз, когда он приближался к образовавшейся в изгороди бреши, он выходил из себя, видя этот ничем не защищенный проход. Больше он ничего не замечал, хотя все вокруг было полно очарования: лучи заходящего солнца обагряли небосклон, звонко заливались соловьи, а в нескольких шагах от князя, в привязанной к дереву лодке, сидела маленькая Стелла, держа на коленях крошку Сальватора, который забавлялся ракушками. То было и впрямь чудесное зрелище: в глазах малыша светилась напряженная мысль, и это придавало ему таинственный вид, какой всегда бывает у детей, поглощенных игрою; девочка, погрузившись в тайные мечты, раскачивала ногами легкую лодку и нежным голоском, напоминавшим лепет воды, что-то напевала медленно и монотонно. Сидя в лодке, привязанной к плакучей иве, Стелла воображала, что она совершает далекое путешествие по озеру. Перед ее мысленным взором вставали, сменяя друг друга, поэтические картины, населенные светлыми видениями. Сальватор раскладывал и снова смешивал в кучу ракушки и камешки, он рассматривал их с таким серьезным и задумчивым видом, что походил на ученого, который решает сложное уравнение. Антония, пригожая крестьянка, которой поручено было присматривать за детьми, сидела поблизости и ловкими движениями перебирала пряжу. Кароль ничего этого не замечал. Он даже не подозревал о присутствии детей. Он глядел только на Биффи, который заострял колья, и возмущался медлительностью слуги, потому что ночь уже приближалась, а мальчишка, как видно, даже не думал их забивать, и должно было, судя по всему, пройти не менее часа, прежде чем он к этому приступит. Внезапно Биффи собрал колья, взвалил их на плечо и уже было двинулся к хижине рыбака. До сих пор князь еще ни разу не позволил себе отдать хоть какое-нибудь приказание в доме Флориани, ибо в глазах людей его сословия малейшая нескромность, самое незначительное вмешательство в заведенный порядок равносильны преступлению. Но в эту минуту он был охвачен таким неодолимым нетерпением, что властно спросил у Биффи, почему тот бросил работу и уносит колья. Биффи, как и все его земляки, обладал от природы мягким, но насмешливым нравом. Сперва он притворился, будто не слышит, ибо, должно быть, предположил, что комедиант, разыгрывая из себя аристократа, решил прощупать его. Затем, с удивлением увидев, что Кароль не на шутку рассердился, он остановился и с достоинством ответил, что эти колья предназначаются для палисадника папаши Менапаче и он, Биффи, должен их там врыть в землю. — Разве синьора не приказала вам вбить их здесь, чтобы перегородить эту песчаную косу? — спросил князь, дрожа от необъяснимого гнева. — Она мне ничего не говорила, — ответил Биффи, — и я не вижу, для чего перегораживать косу, если после первого же дождя вода подступит к старой ограде. — Это вас не касается, — отрезал Кароль. — Мне кажется, что все приказания синьоры Флориани следует выполнять. — Оно конечно! — отозвался Биффи. — И я бы со всей душой, но только если папаша Менапаче увидит, на что я употребил колья, которыми он хочет подпереть свой виноградник, он рассердится. — Экая важность! — воскликнул Кароль, окончательно теряя терпение. — Вы обязаны подчиняться синьоре Флориани. — Не спорю, — пробормотал Биффи в нерешительности, снимая с плеча ношу, — деньги-то платит она, зато ругает меня ее папаша. Кароль продолжал настаивать; он видел, или это ему только показалось, что какой-то человек идет вдоль озера и время от времени останавливается, как будто разыскивает дорогу к вилле Флориани. Нарочитая медлительность Биффи приводила Кароля в ярость. Он нетерпеливо схватил слугу за плечо и бросил на него уничтожающий взгляд; это так не вязалось с обычной деликатностью князя, что Биффи струсил и поспешил подчиниться. — Ваша светлость, соблаговолите указать мне место и приказывайте, потому как вы знаете, что надобно делать, — сказал он с чуть насмешливой почтительностью, которую князь счел уж и вовсе оскорбительной. — А я, я ничего не знаю, клянусь вам, мне никто ничего неговорил! И тут Кароль совершил то, чего он никогда в жизни не делал и на что, как ему представлялось, не был способен. Он снизошел до житейской прозы и прочертил своей тростью линию на песке, вдоль которой Биффи надлежало соорудить ограду; он даже указал слуге те места, где следовало забить колья, и делал он все это с тем большим старанием и пылом, что на сей раз глаза его не обманывали: незнакомец, которого он заметил еще издали, теперь явно приближался, шагал по песчаной косе, и ничтоже сумняшеся, направлялся прямо к ним. — Поторапливайтесь, — сказал князь Биффи, — если вы и не успеете нынче вечером оплести ветвями изгородь, то по крайней мере вгоните в землю колья, и прохожим придется считаться даже с таким незаконченным забором. — Я сделаю все, что вашему сиятельству угодно, — ответил Биффи с притворным смирением. — Но только вы напрасно беспокоитесь, в нашей округе воров нет, и они еще никогда к нам на усадьбу не забредали. — Не теряйте времени, поворачивайтесь быстрее! — вскричал князь, которого съедала какая-то болезненная тревога. С этими словами он достал из кармана золотую монету и показал ее Биффи в знак того, что тот будет щедро вознагражден. — Ваше сиятельство, не оброните цехин, — сказал лукавый крестьянин, бросив жадный взгляд на тонкие дрожащие пальцы Кароля. — Почтеннейший Биффи, мне знаком здешний обычай, — ответил князь, — я нечаянно коснулся вашего плеча, и с меня причитается. Как только закончите работу, получите на выпивку. — Вы слишком добры, ваше сиятельство! — воскликнул Биффи, сразу же воодушевляясь. «Черт побери! Теперь-то я вижу, что он настоящий князь! Но папаше Менапаче я ничего не скажу, — решил Биффи, — а то он тут же отберет у меня этот цехин, да еще скажет, что это для моей же пользы: так, мол, целее будет». И Биффи, не жалея сил, ревностно принялся за работу, сказав себе, что если его за этим делом застанет старый рыбак, он, не моргнув глазом, объявит, что выполняет приказ самой синьоры Флориани. Все колья были уже вбиты, когда упрямый незнакомец, при виде которого на лбу у князя выступил холодный пот, подошел к роковому рубежу и остановился, скрестив руки на груди и устремив глаза вдаль; казалось, он не обращает никакого внимания ни на Кароля, ни на Биффи. Такое поведение незнакомца было по меньшей мере странным, ибо его отделяли от них лишь несколько деревянных столбиков. Он, видимо, пока не решался перейти сию нехитрую преграду. Это был молодой еще человек невысокого роста, он был хорошо одет, но костюм его не отличался изысканным вкусом; его красивое лицо несколько портил пристальный и вместе с тем рассеянный взгляд, говоривший о том, что человек этот либо безумец, либо маньяк или по крайней мере преднамеренно напускает на себя такой вид. Князь, которого сначала возмутила дерзость пришельца, постепенно начал склоняться к мысли, что тот просто не отдает себе отчета ни в том, где находится, ни в том, куда идет, но в это время незнакомец взглянул на Биффи и громко спросил: — Друг мой, если не ошибаюсь, это вилла Флориани? — Да, сударь, — ответил слуга, не отрываясь от работы. Князь бросил на незваного гостя яростный взгляд: так смотрит лев, защищающий свою добычу. Пришелец смерил Кароля любопытным, но почти безразличным взглядом и, не обращая никакого внимания на исказившееся лицо князя, принялся обозревать песчаный берег, к которому тот стоял спиной. Кароль стремительно повернулся, решив, что, быть может, на берегу появилась Лукреция и ее приближение так заворожило незнакомца; однако там никого не было, кроме детей и служанки. Как раз в эту минуту Стелла выходила из лодки; взяв своего братишку на руки, она говорила ему: — Ну же, ну же, Сальватор, разрешите вам помочь, сударь, не то вы, чего доброго, упадете в воду. При мысли о том, что малыш и впрямь может упасть в воду, прежде чем подоспеет служанка, Кароль, чей беспокойный ум постоянно ждал какого-нибудь несчастья, позабыл и думать о пришельце и кинулся к лодке, чтобы помочь Стелле; но дети уже были в полной безопасности, на берегу. И тут князь вдруг услышал шаги за своей спиной, он резко повернулся и увидел незнакомца. Тот бесцеремонно перешагнул роковой рубеж; даже не взглянув на Кароля, он прошел мимо него, быстро приблизился к детям и подхватил крошку Сальватора на руки, точно собирался его похитить. Не сговариваясь, князь и Антония бросились к пришельцу. Кароль, не помня себя от гнева, с несвойственной ему силой схватил наглеца за руку, а Биффи с садовым ножом в руках подошел ближе, чтобы в случае необходимости прийти на помощь своим. Неизвестный только презрительно усмехнулся; одна лишь Стелла не выказала никакого страха. — Да что это вы! — воскликнула она, рассмеявшись. — Я хорошо знаю этого господина, он не причинит никакого зла Сальватору, потому что очень его любит. Пойду скажу маме, что вы пришли, — прибавила девочка, обратившись к незнакомцу. — Нет, нет, дитя мое, — ответил тот, — это ни к чему. Сальватор меня не узнаёт, а всех остальных я пугаю. Как видно, они вообразили, что я собираюсь его похитить. Возьми у меня малыша, — прибавил он, передавая ребенка Стелле, — и не беспокойся. Я хочу только одного — поглядеть еще немного на вас, а потом уйду. — Мама не позволит вам так уйти, она захочет с вами поздороваться, — возразила Стелла. — Нет, нет, я не располагаю временем и не могу задержаться, — сказал пришелец, явно смутившись. — Передай маме, что я просил ей кланяться… Как она поживает, твоя мама? — Очень хорошо, она сейчас дома. Ведь правда, Сальватор очень вырос? — И похорошел! — охотно подхватил незнакомец. — Сущий ангелочек! Ах, если бы он согласился меня поцеловать!.. Но он меня боится, а я не хочу, чтобы он расплакался. — Сальватор, поцелуйте-ка этого господина, — сказала девочка. — Он ваш добрый друг, хотя вы его и позабыли! Ну же, обнимите его ручонками за шею. Вы получите конфету, и я скажу маме, что вы вели себя как нельзя лучше. Малыш послушался и поцеловал незнакомца, после чего тут же потребовал свои ракушки и камешки и принялся играть на песке. Пришелец стоял, опершись рукой на борт лодки, и смотрел на мальчика полными слез глазами. Князя, служанку и Биффи, которые внимательно за ним следили, он как будто не замечал. Однако немного спустя он наконец соизволил заметить их присутствие и усмехнулся, увидя, что на их лицах все еще написана тревога. Лицо Кароля, видимо, привлекло его внимание, потому что он сделал шаг в его сторону и сказал: — Сударь, если не ошибаюсь, я имею честь разговаривать с князем фон Росвальдом? Кароль утвердительно кивнул, и тогда незнакомец прибавил: — Вы тут, вижу, распоряжаетесь, а я никого не знаю в доме, кроме детей и их матери. Соблаговолите попросить этих верных слуг немного отойти, чтобы я имел возможность сказать вам несколько слов. — Я полагаю, сударь, что будет гораздо проще, если мы сами немного отойдем, — ответил князь, увлекая незнакомца в сторону, — ибо я, вопреки вашим предположениям, здесь вовсе не распоряжаюсь, а живу на правах друга. Однако этого достаточно для того, чтобы сделать вам замечание, я даже почитаю это своим долгом. Вы вошли сюда не так, как положено входить, и не можете тут дольше оставаться без разрешения хозяйки поместья. Правда, изгородь, на которую вы не пожелали обратить внимание, еще не закончена, но всякий благовоспитанный человек обязан был остановиться перед нею. А потому извольте вернуться туда, откуда вы пришли, и войдите в парк через ворота, доложив о своем имени. Если синьора Флориани сочтет для себя удобным принять вас, вам не будет угрожать опасность встретить людей, которые могут указать вам на дверь. — Напрасно вы берете на себя такую роль, сударь, — надменно отвечал незнакомец, — она просто смешна. — Заметив, как при этих словах сверкнули глаза князя, он прибавил с чуть насмешливой мягкостью: — Если бы вы знали, кто я, то поняли бы, что такая роль недостойна столь благородного человека, как вы; выслушайте же меня, и вы сами в этом убедитесь.XXV
— Меня зовут Онорио Вандони, — продолжал незнакомец, понижая голос, — я отец этого прелестного мальчика, стражем которого вы себя отныне почитаете. Но вы не имеете права помешать мне обнять сына и тщетно будете пытаться сделать это; если мои доводы вас не убедят, я не остановлюсь перед применением силы. Вы отлично понимаете, что когда синьора Флориани посчитала нужным разорвать соединявшие нас узы, я мог без труда потребовать себе ребенка или по крайней мере оспаривать ее права на него. Однако мне, ей-Богу, и в голову не приходило лишать младенца забот столь преданной и несравненной матери! Я молча подчинился решению, которое разлучало меня с сыном, и руководился при этом его интересами, его благополучием. Не подумайте только, что я согласился отступиться от него. Где бы я ни был, далеко или близко, я всегда следил и всегда буду следить за его судьбой. Знаю, что до тех пор, пока возле него мать, он будет счастлив, но если ему суждено потерять ее или какие-нибудь непредвиденные обстоятельства принудят синьору Флориани расстаться с ним, я немедленно и твердо предъявлю свои отцовские права. Пока еще до этого не дошло. Я знаю, что здесь происходит. По воле случая и благодаря известной ловкости с моей стороны я узнал, что вы счастливый возлюбленный Лукреции. Право, не знаю, завидую ли я вашему счастью или скорее жалею вас, сударь, ибо такую женщину, как она, нельзя любить вполовину, а, потеряв ее, невозможно утешиться!.. Впрочем, речь не о том. Речь идет о ребенке… я знаю, что у меня нет больше права говорить о его матери. Так вот, я убедился, что вы питаете к моему сыну самые лучшие чувства, что вы человек мягкий и весьма достойный. Я знаю также… вас это, должно быть, удивит, ибо вы полагаете, что ваши тайны не выходят за пределы сего убежища, которое вы так ревниво охраняете: ведь вы собственноручно воздвигали ограду, через которую я осмелился перешагнуть! Так узнайте же, что нет таких семейных секретов, которые ускользают от внимательного ока слуг… А посему мне известно, что вы хотите жениться на Лукреции Флориани, но что Лукреция Флориани пока еще не приняла предложения, свидетельствующего о вашей глубокой преданности. Мне известно и то, что вы охотно согласились бы заменить отца ее детям. Со своей стороны, я благодарю вас за это, но избавлю от забот о моем сыне, и если синьора Флориани склонится на ваши настойчивые просьбы, вам предстоит опекать не четверых детей, а только троих. Я говорю вам все это, сударь, вовсе не для того, чтобы вы передали мои слова Лукреции. Это походило бы на угрозу с моей стороны, на недостойную попытку помешать успеху ваших намерений. Но если я избегаю показываться ей на глаза, если не ищу горестного и опасного удовольствия ее видеть, то я все же не хочу, чтобы вы заблуждались насчет истинных мотивов моего поведения. Напротив, лучше, чтобы вы их знали. Вы сами только что убедились, что, несмотря на укрепления, которые вы возводите, мне было совсем нетрудно проникнуть сюда, увидеть сына и, если бы я этого хотел, даже похитить его. Будь у меня такие планы, я бы разумеется, действовал более решительно и вместе с тем осторожно. Я не рассчитывал, что буду иметь честь беседовать с вами, когда подходил к этому дому и с восторгом смотрел на своего сына… которого я узнал… находясь еще за целую милю отсюда, когда он казался лишь черной точкой на золотистом песке! Милый мальчик!.. Я не позволю себе сказать: «Бедный мальчик!» — ведь он счастлив, он любим… Вот почему я удаляюсь, говоря себе: «Бедный отец! Почему и ты не мог быть так же любим?» Прощайте, сударь! Я в восторге от того, что познакомился с вами, и предоставляю вам полную возможность либо рассказать о нашей странной встрече, либо даже умолчать о ней. Я не стремился к такой встрече, но и не жалею, что она состоялась. Я не питаю к вам никакой вражды. Хочу верить, что вы вполне заслуживаете своего счастья, хотя я вовсе не заслужил постигшей меня беды. Судьба походит на капризную женщину: ее иногда проклинают, но всегда с нетерпением ждут! — Вандони говорил еще некоторое время, речь его текла легко, но не отличалась последовательностью, в ней было много искренности, но мало чувства. Тем не менее, когда он на прощание молча поцеловал сына, на его лице отразилось глубокое волнение. Однако он тут же, как истинный комедиант, отвесил князю преувеличенно низкий поклон и, не оборачиваясь, направился к изгороди, над которой уже опять трудился Биффи. Там он остановился, довольно долго смотрел на маленького Сальватора, потом снова поклонился князю и зашагал прочь. Кароля неприятно поразила и сильно раздосадовала эта встреча; кроме того, лицо, голос, манеры и речь Вандони, хотя они и свидетельствовали о природной доброте и порядочности, вызвали в нем явную антипатию. Онорио Вандони был хорош собой, достаточно образован и по-своему благороден; но в его поведении было много театрального, и Флориани никогда этого не замечала только потому, что она постоянно сталкивалась с актерами, в чьих напыщенных манерах было еще больше аффектации; князя же с первой минуты покоробила эта наигранная и показная торжественность. В каждом движении, в каждом слове Вандони сквозил какой-то наивный пафос. В его натуре были заложены те качества, которыми он гордился; однако, как это всегда бывает со второстепенными актерами, лицедейство стало его второй натурой. Он и в самом деле был великодушен и деликатен, но ему уже было недостаточно лишь проявлять это на деле, ему необходимо было еще и говорить об этом, выражая свои чувства так, как будто он произносил монолог со сцены. По-настоящему талантливые артисты вкладывают собственную душу в исполняемую роль, посредственные же актеры и в жизни не расстаются с театральной маской; сами того не сознавая, они постоянно играют какую-нибудь роль. В силу этого порока Вандони казался хуже, чем был на самом деле, его слова во многом теряли свою значительность из-за того, что он слишком уж старательно их произносил. В то время как верные интонации и поразительная естественность речи, присущие Флориани, были свойственны только ей одной, у Вандони интонации были заученные, он перенял их от своих учителей. То же самое можно было сказать и о его походке, жестах, выражении лица. Чувствовалось, что все это он не раз репетировал перед зеркалом. Надо признать, что это принесло свои плоды, наука пошла ему впрок, и если поначалу красноречие давалось ему с трудом, то теперь он говорил легко и свободно. Однако манерность его слов и жестов сразу бросалась в глаза: хороший тон предписывает нам соблюдать сдержанность, повествуя о самых волнующих вещах, Вандони же полагал, что, разговаривая, следует все подчеркивать и ничего не оставлять в тени. Вот почему, говоря о своих отцовских чувствах, он проявлял слишком сильное умиление; отстаивая свои родительские права и выказывая великодушие к сопернику, он держал себя как герой мелодрамы; желая показать, что он спокойно отнесся к неверности своей возлюбленной, он слишком увлекся и изобразил себя этаким повесой, что было ему явно не к лицу. Прибавьте к этому тайное смущение, от которого посредственные актеры никогда не могут избавиться, хотя и стараются держать себя непринужденно, и вам станет понятна блуждавшая на губах Вандони неопределенная улыбка, которая Каролю показалась необыкновенно дерзкой, его остановившийся взгляд, который князь приписал отупляющему действию разврата, и плавные жесты, вызывавшие непреодолимое раздражение. Впрочем, впечатление, которое произвел актер Вандони на князя фон Росвальда, нельзя считать свободным от предвзятости. Они были настолько разные люди, что, когда сталкивались, недостатки каждого становились особенно наглядными, и вы готовы были осудить обоих, в то время как порознь оба производили хорошее впечатление. Князь грешил чрезмерной сдержанностью, ему была так ненавистна всякая неумеренность в выражении чувств, что порою он напускал на себя холодность, граничившую с нелюбезностью. Вандони, напротив, не упускал случая в беседе с любым человеком подчеркнуть собственные достоинства. В отличие от князя, которого любопытный взгляд собеседника оскорблял, Вандони сам искал такого взгляда, как бы стараясь прочесть в нем ответ на то, какое он производит впечатление. Если ему казалось, что должного эффекта он не произвел, он упорствовал, стремясь добиться успеха; однако он не отличался той живостью ума, какая свойственна великим артистам, выдающимся адвокатам и знаменитым ораторам и помогает им безошибочно определять, когда именно следует прибегнуть к броскому слову или жесту, а потому часто не достигал того эффекта, на который рассчитывал. На самом же деле он был совсем не таким, каким показался князю из-за своей манеры держаться. Он не был ни ограниченным человеком, ни болтуном, ни развратником, ни наглецом. Вандони скорее был человек доброжелательный, хотя и занятый прежде всего самим собою, искренний, хотя и несколько суетный, скромный и мягкий, хотя при случае он мог изобразить себя этаким злодеем. К несчастью, он постоянно жаждал большей известности, чем та, на какую был вправе рассчитывать. Ему страстно хотелось исполнять главные роли в пьесах, но он этого так и не добился. И тогда, желая придать большее значение тем второстепенным ролям, которые ему поручали, он принялся с излишним усердием играть роли благородного отца, друида, наперсника или начальника стражи. То была непростительная ошибка с его стороны, ибо не следует слишком привлекать внимание к тем местам драматического сочинения, которые сам автор посчитал второстепенными. Вандони безжалостно подчеркивал все, что было слабого и плоского в роли, и, к его удивлению, публика освистывала сочинителя пьесы, хотя он, Вандони, не жалея сил и средств, старался послужить его славе. Ко всему еще ему хотелось быть высоким, а он был совсем небольшого роста. Он обладал красивым баритоном, но тусклым, лишенным модуляций, — такие голоса всегда звучат монотонно. Он кичился тем, что тембр его голоса красивее, чем у многих известных артистов, но не понимал, что хриплый голос гения производит гораздо более приятное и сильное впечатление, чем звучный, как орган, голос заурядного актера. Бедняга Вандони! Он удалялся, полагая, что весьма тонко, не теряя чувства меры и собственного достоинства, поставил на место надменного и ревнивого князя фон Росвальда; а князь фон Росвальд между тем, смотря вслед уходящему Вандони, только пожимал плечами и горестно спрашивал себя, как могла Лукреция сносить хотя бы один день близость столь нелепого и бесцветного человека. Увы! Испытания Кароля на этом еще не кончились, ибо Вандони был не совсем доволен произведенным эффектом. Он жалел, что не встретил Лукрецию и не мог выказать стоическое безразличие или хотя бы гордое великодушие, то есть все то, что не в силах был изобразить в дни их разрыва. Он жалел, что не сумел убедить эту сильную женщину в том, будто и он не уступает ей в мужестве, и теперь хотел изгладить из ее памяти воспоминание о своем гневе и слезах, в которых было много наивного и трогательного, разыграв сцену, исполненную жалкого и мелкого тщеславия, которая ему самому представлялась весьма возвышенной. Вот почему, удаляясь, он все чаще замедлял шаг, понимая, что счастливый случай сам не приходит, что его надо ловко подготовить; и на редкость счастливый случай действительно представился ему, вознаградив его за искусную уловку. Вандони еще не исчез из виду, когда на берегу показалась Флориани. Зачем она пришла? Что ей было делать здесь, на этом берегу? Почему не осталась она у себя в будуаре беседовать с графом Альбани? Дело в том, что они кончили свой разговор, она победила сопротивление Сальватора и пришла сюда, чтобы сказать князю: «Вы одержали верх; я слишком люблю вас и не могу больше видеть, как вы страдаете из-за меня. Будьте моим мужем. Я подвергаю свою материнскую любовь тяжким испытаниям, бросаю вызов будущему, заглушаю голос совести, но ради вас я готова отдать даже жизнь, если потребуется!» Но, подобно человеку, который в волнении бежит к двери, не думая, отперта она или нет, и разбивает руки и голову о запертую дверь, Флориани, встретив холодный и горестный взгляд своего возлюбленного, отпрянула и застыла в растерянности. Кароль отвесил ей низкий поклон с ледяной учтивостью, вошедшей у него в привычку, но взор его, казалось, говорил: «Женщина, что общего между тобой и мною?» Никогда еще он не казался ей столь печальным; а так как у людей, не умеющих безропотно предаваться грусти, грусть эта облекается в форму презрения ко всему окружающему, то Лукрецию испугало выражение его лица. Она огляделась по сторонам, словно хотела понять, что именно могло вызвать в Кароле эту ужасную перемену. И заметила удалявшегося Вандони. Лукреция так мало думала о нем, что даже его не узнала, но тут к ней подбежала Стелла и затараторила: — Господин Вандони уходит, он не захотел, чтобы я тебя позвала, сказал, что у него нет времени и он не может задержаться. Он, конечно, вернется; он спрашивал, как ты себя чувствуешь, поцеловал Сальватора и плакал. Он, видно, чем-то опечален. А потом он долго разговаривал с князем, и князь тебе обо всем сам расскажет. Я больше ничего не знаю. И девочка снова принялась играть с братишкой. Лукреция смотрела то на Кароля, то на уходившего Вандони. Актер оглянулся, увидел ее, но притворился, будто весь погружен в созерцание сына. Князь отвернулся, его охватило отвращение при мысли, что Флориани окликнет своего бывшего любовника и еще, чего доброго, вздумает их знакомить. Теперь она поняла все, что тут произошло, и ее больше не удивляла тоска и тревога Кароля. Однако она знала, или по крайней мере ей казалось, что достаточно одного ее слова, и князь утешится, а Вандони между тем, без сомнения, уходит, чувствуя себя разбитым и униженным. Он уходил незаметно, даже не успев вдоволь насмотреться на сына и приласкать его. Лукреция воображала, что Вандони сильно страдает, а на самом деле он в эти минуты почти вовсе не страдал. Он, правда, не был лишен отцовских чувств и когда, оставаясь один, вспоминал о маленьком Сальваторе, то непритворно горевал и плакал. Но теперь, в присутствии соперника и неверной, он думал лишь о том, чтобы получше сыграть свою роль, и, как это всегда происходит с актерами на сцене, забывал о мире действительном, ибо его волновал только вымышленный мир. Флориани была слишком правдива, отзывчива и великодушна, а потому не могла догадаться об истинных чувствах Вандони. Она испытывала лишь безмерную жалость к нему и боялась, что человек, который так сильно ее любил и которого она тоже пыталась любить, уйдет из ее дома опечаленным и униженным. Она хорошо понимала, что, выполняя задуманное, вызовет сильное раздражение у Кароля, но решила, что по размышлении он не только простит ее душевный порыв, но даже одобрит его. Сердце долго не рассуждает, а когда оно еще прислушивается к внутреннему голосу, то это заставляет нас отбросить все сомнения и без колебаний принести в жертву собственные интересы. Лукреция подбежала к неоконченной изгороди, громко окликнула Вандони, а когда тот повернулся и направился к ней, сама сделала несколько шагов ему навстречу, протянула руку и ласково его обняла.Вандони, разумеется, был тронут ее смелым и великодушным порывом. Он надеялся немного позлорадствовать, так как был уверен, что Лукреция смутится, встретившись с ним в присутствии нового любовника. Он не ждал, что она его окликнет, и поэтому находил удовольствие в том, чтобы идти как можно медленнее и таким способом продлить ревнивые муки соперника. Но Лукреции были чужды такие мелкие соображения, она была выше их: трудно заставить покраснеть женщину, глубоко искреннюю и мужественную. Вандони позабыл свою роль, он покрыл поцелуями и оросил слезами руки той, кого только что мысленно называл неверной. Он больше не разыгрывал драму, он был побежден. — Я не разрешу тебе так вот уйти от нас, — сказала ему Лукреция со спокойной и дружеской решимостью. — Не знаю, откуда ты идешь, устал ты или нет, все равно ты здесь отдохнешь и побудешь со своим сыном, сколько тебе захочется. Мы с тобою поговорим о нем и расстанемся на сей раз более спокойно и дружески, чем раньше. Ты согласен, друг мой? Ведь мы с тобой были когда-то как брат и сестра. Самое время вернуться к таким отношениям. — Но как же князь фон Росвальд?.. — спросил Вандони, понизив голос. — Ты полагаешь, он станет ревновать? Не будь же фатом, Вандони! Ему это и в голову не придет. Кстати, ты убедишься, что он ничего дурного о тебе здесь не слышал, и ты имеешь полное право рассчитывать на его уважение. — Будь я на его месте, я бы не захотел, чтоб бывший любовник… — Очевидно, он благороднее тебя, мой друг! И относится ко мне с большим великодушием и доверием, чем в свое время относился ты. Пойдем, я тебя представлю. — Это ни к чему! — сказал Вандони, который чувствовал себя расслабленным и умиленным и не мог решиться предстать в таком виде перед соперником. — Я уже с ним познакомился. Он был весьма учтив. Так ты все еще настаиваешь, чтобы я был твоим гостем? Это безрассудно! Вместо ответа Лукреция молча указала ему на малютку Сальватора. И Вандони сдался: в нем заговорила не только нежность к сыну, но и тайная хитрость.
XXVI
Трудно встретить мужчину, который, столкнувшись с соперником, занявшим его место в сердце возлюбленной, не испытывает желания чем-нибудь досадить ему; трудно встретить и такую женщину, которая без душевного смятения решилась бы одновременно принимать у себя обоих этих мужчин. И все же Лукреция Флориани не испытывала той тайной неловкости, какая сопутствует подобным встречам. Да и отчего бы стала она испытывать неловкость, если всю жизнь вела открытую игру и никогда ничего не утаивала? Ей не нужно было проявлять ни особой ловкости, ни отваги, как это делает женщина, когда держит про запас двух соперников, обманывая обоих. Ведь в ее доме встретились двое мужчин, одного из которых она, не таясь, признавала своим нынешним возлюбленным, а второго — бывшим своим возлюбленным. Если бы ослепленный страстью человек был хоть немного философом, то всякий счастливый любовник относился бы с необыкновенной учтивостью и великодушием к любовнику брошенному; однако страсть мешает этому, и человеку хочется владеть всем: не только настоящим, но и будущим, и прошлым. Даже воспоминания возлюбленной его тревожат, и тут он глубоко неправ, ибо в любви люди меньше всего склонны возвращаться к прошлому, и для счастливого любовника совсем не опасен человек, которого возлюбленная бросила сама, потому что устала от него. К несчастью, князь Кароль совершенно не знал человеческого сердца. Его собственное сердце было единственным в своем роде, и каждый раз, когда он, основываясь на собственных мыслях, пытался проникнуть в мысли другого, он неизменно ошибался. Так случилось и на сей раз. Он попробовал представить себе то волнение, какое испытал бы, появись вдруг княжна Люция, и решил, что если бы она, подобно призраку Банко, возникла за столом Флориани, он бы лишился чувств не столько от страха, сколько от угрызений совести и горьких сожалений. Отсюда он сделал вывод, что и Лукреция, увидев Вандони, причем живого, должна была почувствовать острую жалость к этому человеку, чью жизнь она разбила, должна была ощутить угрызения совести оттого, что Вандони видит ее в обществе возлюбленного, которому она теперь принадлежит. Трудно было прийти к выводу более несправедливому и нелепому. Сейчас, когда Лукреция получила возможность взглянуть на Вандони трезвыми глазами, она особенно ясно видела все его мелкие недостатки и смешные черты. И сравнивала этого человека, которого никогда по-настоящему не любила, с тем, кто внушил ей безграничную любовь. Сравнение это было, надо сказать, настолько выгодно князю, что если бы он мог читать в душе своей возлюбленной, то сразу понял бы: присутствие Вандони только усиливает чувство Лукреции к нему, Каролю. Однако Кароль не сознавал своего триумфа. Ревнивая тревога сделала его крайне неуверенным в себе, а, с другой стороны, он так невысоко ставил Вандони, что гордость его страдала и он чувствовал себя униженным оттого, что до него Лукреция принадлежала столь ничтожному человеку. Князь не умел скрыть свою досаду, беспокойство и огорчение. Пока Вандони ужинал, сидя рядом с Флориани, Кароль не мог заставить себя усидеть на месте. Он вышел из-за стола, чтобы не видеть актера и не слышать его голоса. Но почти тотчас же вернулся, желая помешать этому развязному человеку оставаться наедине с Лукрецией. Весь вечер князь был во власти лихорадочной тревоги, он избегал нежного и успокаивающего взгляда Лукреции и с презрением выслушивал любезные слова Вандони, которому поведение Кароля помогало разыгрывать роль великодушного человека. Если источник нашей ревности — гордость, то следует признать, что гордость эта проявляется весьма неловко и необдуманно. Вандони с самого начала решил пробудить в своем сопернике тревогу и всячески старался показать, что между ним и Лукрецией сохранились близкие отношения, основанные на полном доверии. Однако из этой затеи у него ничего не вышло. Флориани держала себя так спокойно и открыто, с такою добротой и достоинством, что самые искусные уловки актера разбивались о ее безыскусственность. Зато князь вел себя столь безрассудно, как будто хотел помочь осуществлению дерзкого замысла Вандони, и тот почувствовал себя отомщенным, хотя сам ничего не сумел для этого сделать. Он с удовольствием наблюдал за смятением соперника, и когда тот в конце ужина чуть ли не в десятый раз вышел из-за стола, актер проводил его взглядом и сказал Лукреции: — Вы были слишком высокого мнения о своей проницательности, мой милый друг, а вернее, были слишком высокого мнения о вашем очаровательном князе, уверяя, что он благороднее меня, что он вовсе не ревнует к прошлому и не будет страдать из-за моего присутствия. Однако он, напротив, страдает, и страдает так сильно, что я не рискую здесь дольше оставаться. Прощайте же! Я удаляюсь, а на прощание вот вам печальная истина: на свете не существует возвышенных любовников. Покинув меня, вы надеялись избавиться от докучливой ревности, а между тем вас теперь терзает ею другой. Вы добились только одного — сейчас у вас перед глазами красивый брюнет вместо блондина, тоже не лишенного приятности. Женщины вечно жаждут перемен! Зато теперь вы должны признать, что, ревнуя вас, я отнюдь не был каким-то чудовищем, ибо и ваше божество, вашего нового кумира, вашего ангела, терзает тот же демон, который раздирал мне сердце. — Вандони, я не знаю, ревнует ли меня князь к тебе, — отвечала Лукреция. — Надеюсь, ты ошибаешься; но я не хочу, чтобы ты обвинял меня в притворстве, а потому допустим, что он и в самом деле ревнует. Что же из этого, по-твоему, следует? Что я была неправа, покинув тебя? А разве я пыталась доказать, что поступила правильно? Нет, я полагаю, что всегда виновен тот, кто хочет избавить себя от страданий. В том и заключается моя вина, но неужели ты меня до сих пор еще не простил? — Ах! Разве может кто-нибудь сердиться на тебя? — воскликнул Вандони, с искренним волнением целуя руку Лукреции. — Я по-прежнему люблю тебя, я всегда буду готов посвятить тебе свою жизнь, если ты только согласишься вернуться ко мне, даже не испытывая любви, как и прежде!.. Ведь у меня нет на сей счет никаких иллюзий: ты никогда не питала ко мне ничего, кроме дружбы. — Но я по крайней мере тебя не обманывала и всячески старалась платить благодарностью за твою любовь. Быть может, нас связывала слишком долгая дружба, быть может, мы чувствовали себя скорее братом и сестрою, чем любовниками! — Говори только о себе, жестокая! Я… — Ты, ты человек с благородным сердцем, и если тебе действительно кажется, что князь страдает, ты должен уйти. Но я ни за что не хочу отказываться от нашей дружбы; надеюсь, она возобновится позднее, когда пыл молодости пройдет и в душе князя на смену ему придет спокойная и безмятежная привязанность. Моя привязанность к тебе, Вандони, зиждется на уважении, ей не страшны ни время, ни разлука. Между нами существует нерасторжимая связь, и моя нежная любовь к твоему сыну — залог того, что мои чувства к тебе не изменятся. — Мой сын! Ах да, поговорим о сыне! — воскликнул Вандони, сразу же становясь серьезным. — Скажите, Лукреция, вы довольны мною? Дал ли я хоть раз почувствовать вашим детям, что малютка Сальватор — мой ребенок? О, на какую странную роль вы меня обрекли! Мне так и не довелось услышать слово «отец» из уст собственного сына! — Полно, Вандони! Ваш сын только еще учится говорить, он знает пока лишь мое имя да имена своих сестер и брата. Ведь я даже не была уверена, увидимся ли мы еще когда-нибудь… Но теперь, если вы успокоились и приняли какое-то важное решение, говорите! Какую фамилию он должен носить? Что должна я буду ему сказать об отце? — Ах, Лукреция! Вы знаете мою слабость к вам, мою слепую преданность, мою, я бы сказал, безропотную покорность! Если вы не намерены выходить замуж, тогда пусть исполнится ваша воля, пусть мой сын носит ваше имя, мне же только позвольте изредка видеть его и быть ему лучшим другом, разумеется, после вас. Однако если вы намерены стать княгиней фон Росвальд, я потребую, чтобы ребенка вернули мне. Предпочитаю, чтобы он, как и я, скитался по белу свету, подчиняясь капризам изменчивой судьбы, но не уступлю своих отцовских прав и обязанностей чужому. — Друг мой, такое решение подсказано вам скорее гордыней, нежели любовью, — возразила Лукреция, — и я приведу лишь один довод, чтобы разубедить вас. Допустим даже, что я завтра выйду замуж. Но ведь Сальватор по меньшей мере еще восемь или десять лет будет несмышленым ребенком, которому необходима женская забота. Какой женщине собираетесь вы его доверить? У вас есть мать? Или сестра? Нет! Вы можете поручить его только своей любовнице либо служанке! Неужели вы думаете, что за ним станут ходить и что его станут воспитывать лучше, чем здесь? Что он будет с ними счастливее, чем со мной? Сможете ли вы спать спокойно, зная, что, уходя каждое утро на репетицию, а каждый вечер — на представление, вы оставляете бедного ребенка на милость ненадежной служанки или недоброй мачехи? — Нет, конечно! Вы совершенно правы, — со вздохом ответил Вандони. — Вы богаты, знамениты, ни от кого не зависите, а потому на вашей стороне все права, все возможности, даже право прогнать отца и оставить ребенка у себя. — Ты меня огорчаешь, Вандони, не говори так, — ответила Лукреция. — Хочешь, я уже сейчас перепишу на имя нашего сына часть своего состояния и назначу тебя его опекуном с правом распоряжаться этими деньгами? Ты, если захочешь, будешь следить за его воспитанием, я стану советоваться с тобою во всем, ты сам определишь его будущую судьбу! Я соглашусь на это с радостью, лишь бы ты оставил ребенка у меня и поручил мне быть исполнительницей твоей воли. Уверена, что мы с тобой обо всем столкуемся, ибо речь идет об интересах существа, которое нам обоим дороже собственной жизни. — Нет! Нет! Никакой милостыни! — воскликнул Вандони. — Я никогда не был негодяем и лучше умру на больничной койке, но ни за что не приму от тебя денежной помощи ни в какой форме, ни под каким видом. Оставь у себя ребенка, оставь навсегда! Я хорошо понимаю, что он будет признавать и любить только одну тебя! Тщетно попытался бы я когда-нибудь прийти сюда и потребовать его себе, тщетно стал бы я внушать ему, что он мой сын и должен следовать за мною. Никогда он по доброй воле не расстанется с такой матерью, как ты! Ну, ладно! Жребий брошен, вижу, что ты скоро станешь княгиней… — Тут еще ничего не решено, мой друг, клянусь тебе. Больше того, если ты заявишь, что в случае моего замужества ты отнимешь у меня сына, то, клянусь тебе всем самым святым, клянусь твоей честью и жизнью нашего ребенка, я никогда не вступлю в брак! — Оказывается, ты все та же! О чудесная, непостижимая женщина! — восторженно воскликнул Вандони. — Как всегда, ты прежде всего мать! Как всегда, дети для тебя дороже славы, богатства, самой любви! — Разумеется, они для меня дороже богатства и славы, — отвечала она со спокойной улыбкой. — Что же касается любви, то сейчас я бы не решилась это утверждать; бесспорно лишь одно: я помню о своих обязанностях, и первейшая из них — все приносить в жертву, даже любовь, ради них, этих детей любви. Даже самый страстный, самый преданный любовник утешится, а дети никогда не найдут второй матери. — Ну что ж, я вижу, что могу уйти спокойно, — сказал Вандони, пожимая руку Лукреции. — Хочу только взять с тебя одно обещание. Дай мне слово, что ты не выйдешь замуж за своего очаровательного, но ревнивого князя раньше, чем через год! Мне трудно поверить в то, что он благороднее меня и всегда будет спокойно взирать на детей, которые станут напоминать ему о твоих былых привязанностях. Я знаю, ты необычайно прозорлива, тверда и готова на жертвы, когда речь идет о судьбе твоих детей. Я хорошо понимаю, почему ты не могла дольше сносить мое присутствие! Ведь я, несмотря на все усилия, не мог спокойно смотреть на маленькую Беатриче, ибо она напоминала мне этого негодяя Теальдо Соави! Так вот, не пройдет даже года, и князь фон Росвальд возненавидит крошку Сальватора, если этого еще не случилось: быть может, уже сегодня вид бедного ребенка для него невыносим! Дорогая моя Лукреция! Умоляю тебя, никаких опрометчивых увлечений, никаких необдуманных шагов, и тогда ты вечно будешь свободна! Теперь, когда я способен рассуждать здраво и беспристрастно, я хорошо понимаю: полная свобода — вот что тебе необходимо, ибо нежная мать четверых детей не должна ставить их в зависимость от отчима, каким бы добродетельным человеком он ни казался. — Полагаю, что ты прав, — сказала Лукреция, — и с удовольствием слышу разумную речь моего старинного друга. Будь спокоен, брат! Твоя испытанная подруга, твоя верная сестра никогда не поставит на карту будущее своих обожаемых детей, какую бы сильную страсть она ни испытывала. — А теперь прощай! — вскричал Вандони, с глубокой и целомудренной нежностью прижимая Лукрецию к своей груди. — Прощай, милая, и помни, что нет на земле человека, которого я любил бы сильнее, чем тебя! Должно быть, я не скоро увижусь с тобой. Я не стану искать этой встречи, не хочу быть помехой вашей любви, да и сам я, признаюсь, не так тверд, чтобы, видя вас вместе, не испытывать страданий. Когда ты вновь будешь свободна, когда будешь отдыхать от своих возвышенных и безрассудных страстей, призови меня хоть ненадолго к себе; я буду послушным и покорным, я буду счастлив увидеть тебя и обнять своего сына, я поживу в твоем доме, пока ты не скажешь мне, как сегодня: «Ступай, я снова люблю, но не тебя, а другого!» Если бы после этих великодушных слов Вандони, не мешкая, удалился, он бы выказал себя таким, каким был от природы, то есть человеком умным и добросердечным. Если бы он нашел в себе силы вырваться из мира вымышленных чувств, принадлежавших персонажам, которых он изображал, и хотя бы некоторое время оставаться пылким и правдивым, иначе говоря, самим собою, то после этого он вновь появился бы на подмостках преображенным и публика, по всей вероятности, в приятном изумлении встретила бы рукоплесканиями превосходного артиста; она, пожалуй, даже не признала бы в нем того посредственногокомедианта, чьим холодным, хотя и тщательно заученным тирадам прежде внимала со снисходительной улыбкой. Но никому не дано избежать своей судьбы; в комнату внезапно опять вошел князь Кароль, и Вандони внезапно вернулся к своему привычному тону. Он захотел произнести прощальную речь и, обращаясь к Каролю, попытался весьма тонко выразить владевшие им мысли и чувства. Увы, актер потерпел полный провал: он путался, нес околесицу, произносил банальные слова, терял нить, переходил от серьезных вещей к пустякам, от шутливых замечаний к суровым предупреждениям, словом, выказывал себя то человеком напыщенным, то заурядным, то педантом, то шутом. Надо сказать, что надменный вид и нескрываемое нетерпение князя, его холодные ответы и насмешливые поклоны могли привести в замешательство и более искусного артиста, чем Вандони. Бедняга вскоре и сам понял, что не произвел того впечатления, на какое надеялся; и тогда с наигранным апломбом освистанного комедианта он повернулся к Лукреции и сказал развязным тоном: — Я, кажется, совсем зарапортовался и уж лучше остановлюсь на этом, так как не хочу совсем увязнуть и заставить тебя краснеть за своего незадачливого собрата. Но неважно, после моего ухода ты договоришь за меня и скажешь, что твой старый друг — славный малый и никому не хочет причинять зла. Какой конфуз! Сальватор Альбани, который битых два часа старался развлечь Кароля, поспешил со своим обычным доброжелательством изгладить из памяти присутствующих воспоминание об этой неловкой сцене. Он учтиво и ласково взял Вандони под руку, сказал, что польщен знакомством с ним, что непременно хочет увидеть его на сцене и отправится в театр тотчас по приезде в тот город, где будет выступать Вандони; затем граф прибавил, что он готов составить гостю компанию и проводит его до Изео, где тот оставил нанятый им экипаж. — А как же малютка Сальватор? — спохватился Вандони, уже совсем собравшийся уходить. — Я его больше не увижу? — Он уснул, — ответила Лукреция. — Пойди простись с ним. — Нет, нет! — возразил актер, понижая голос, но так, чтобы князь и граф могли его слышать. — Это лишит меня последних остатков мужества! Интонация, с какой он произнес эти слова, удовлетворила его, и он стремительно вышел из комнаты. Вандони добился пусть небольшого, но явного эффекта, и никакие дети были не в силах заставить его задержаться и тем ослабить произведенное впечатление. «Если князь не последний осел, — подумал Вандони, — он должен будет признать, что мне присуще благородство, что таков от природы мой характер, а потому я заслуживаю гораздо большего, и только несправедливость публики и зависть актеров вынуждают меня играть второстепенные роли». У Вандони была тайная слабость: он полагал, что рожден для гораздо более высокого жребия и, знакомясь с каким-нибудь человеком, непременно рассказывал ему о закулисных интригах, жертвой которых себя почитал. Не пощадил он и графа Альбани, с которым они довольно долго шли пешком. Любезность Сальватора, который, подавляя скуку, терпеливо слушал Вандони, желая дать возможность Каролю и Лукреции без помех объясниться, подбадривала актера, и онне только самым подробным образом поведал графу обо всех подводных камнях театральной жизни, но даже не удержался и прямо на берегу начал громко декламировать отрывки из пьес Альфьери и Гольдони, чтобы показать своему спутнику, как он, Вандони, справился бы с исполнением главных ролей. Пока Сальватор самоотверженно сносил это испытание, Кароль, забившись в угол гостиной, упорно хранил молчание, а Лукреция старалась придумать, с чего бы начать разговор, который помог бы им откровенно объясниться. До сих пор ей не приходилось еще проникать в те тайники души Кароля, где гнездилась ревность, и, несмотря на предупреждение Вандони, она отказывалась верить, что ее возлюбленный способен на такое чувство. Не в ее натуре было говорить обиняками, а потому она встала с места, подошла к князю, взяла его за руку и прямо повела речь о том, что ее волновало. — Вы очень печальны нынче вечером, — сказала она, — и я хотела бы знать, по какой причине. Вы дрожите! Вы, должно быть, больны или страдаете от какого-то тайного горя. Кароль, ваше молчание причиняет мне боль, говорите же! Заклинаю вас именем нашей любви, умоляю вас, ответьте! Неужели вас так огорчает мой упорный отказ соединить наши судьбы? Неужели вы никогда с ним не примиритесь?.. Если это так, Кароль, я готова уступить, я только прошу вас еще подумать над своим предложением, повременить хотя бы год… — Ваш друг, господин Вандони, дал вам превосходный совет, — отвечал князь, — и я бесконечно благодарен ему за участие. Но уж позвольте мне не подчиниться тем условиям, которыми вы, по его наущению, сопровождаете свое согласие. Прошу у вас разрешения уйти. Меня несколько утомили пышные декламации, которые мне пришлось выслушивать целый вечер. Быть может, я к ним привыкну, если визиты ваших друзей будут часто повторяться. Но пока этого еще не произошло, и у меня просто голова разламывается. Что же до настойчивых просьб, которыми я вас преследовал и которые вас, видимо, так утомили, то умоляю вас забыть о них и верить, что отныне я всегда буду уважать ваш покой, а потому никогда больше их не возобновлю. Произнеся все это ледяным тоном, Кароль встал, отвесил Лукреции низкий поклон, вышел из гостиной и заперся у себя в комнате.XXVII
Нет ничего более ужасного и мучительного, ничего более мрачного и жестокого, чем ярость человека, который сохраняет при этом учтивую холодность. Коль скоро он до такой степени владеет собою, вы вправе, если угодно, утверждать, что в нем есть величие и сила, но не вздумайте говорить, будто он мягок и добр. Меня меньше возмущает грубость ревнивого крестьянина, который колотит свою жену, чем ледяное высокомерие князя, который не моргнув глазом раздирает сердце своей возлюбленной. Ребенка, который царапается и кусается, я предпочитаю тому, который молча дуется. Если мы сердимся, выходим из себя, говорим колкости, осыпаем друг друга бранью, бьем зеркала и стенные часы, — все это еще куда ни шло, это нелепо, но вовсе не означает, что сердца наши полны ненависти. Однако если мы, сохраняя учтивость, поворачиваемся друг к другу спиной, расстаемся, обменявшись горькими и презрительными замечаниями, тогда мы пропали и, как бы затем ни пытались поправить дело, мы будем испытывать все большее отчуждение. Вот о чем думала в полной растерянности Флориани, когда осталась одна. Хотя по натуре она была очень мягкой, но и ей случалось испытывать сильные приступы гнева. И тогда она, под влиянием нестерпимого горя, приходила в неистовство, била посуду, проклинала и, возможно, даже (я это вполне допускаю) бранилась; ведь она была дочерью рыбака и родилась в стране, где люди, богохульствуя, клянутся телом Вакха и мадонны, кровью Дианы и Христа, по всякому поводу призывая силы небесные — и христианские, и языческие — принять участие в их домашних распрях. Но одно можно сказать с уверенностью: ей никогда и в голову не приходило попытаться изгнать из своего сердца тех, кого она, даже гневаясь, продолжала любить, или безжалостно отвернуться от них. А потому ей была чужда и непонятна холодная и слепая ярость, которая сродни отвратительному бездушию, нечеловеческой выдержке, полному отказу от жалости. Вот почему неслыханные речи ее возлюбленного буквально ошеломили Лукрецию и она минут пятнадцать не в силах была сдвинуться с места. Наконец она встала и принялась шагать по гостиной, спрашивая себя, не привиделся ли ей страшный сон: неужели тот самый Кароль, который еще утром плакал от любви у ее ног и был, казалось, охвачен дивным восторгом, только что дал выход своей досаде и говорил с нею на языке, достойном напыщенного и недалекого комедианта, но, уж во всяком случае, недостойном человека, чье сердце полно искренней привязанности и глубокой любви? Лукреция не могла долго сносить тревогу такого рода, не понимая, что так разгневало князя, поэтому она направилась в его комнату, постучалась сначала осторожно, затем настойчиво; наконец, не услышав никакого ответа и убедившись, что дверь заперта, она резким движением (так поступает мать, спасая ребенка из пламени) сорвала задвижку и вошла. Кароль сидел на кровати спиной к двери, уткнувшись головою в изодранные подушки; его манжеты и носовой платок были разорваны в клочья, скрюченные, дрожащие пальцы напоминали когти тигра; он был смертельно бледен, глаза у него налились кровью. Красота его исчезла, словно под влиянием колдовских чар. Нестерпимое страдание принимало у Кароля форму ярости, которую ему тем труднее было сдержать, что прежде он не знал за собою столь прискорбного порока и, никогда не встречая противодействия, не научился подавлять порывы гнева. Флориани поставила подсвечник на столик возле кровати. Она отвела пылающие руки Кароля от его лица и растерянно смотрела на своего возлюбленного. Ее конечно же не мог удивить вид человека, которого ревность привела в бешенство. То было не новое для нее зрелище, и она хорошо знала, что от этого не умирают. Неожиданно и необъяснимо было другое — то, что ангельски добрый и мягкий юноша пришел в такое же неистовство, как Теальдо Соави и ему подобные, а потому Лукреция не могла поверить глазам своим. — Так вам еще мало? Вы еще сильнее хотите унизить и оскорбить меня! — вскричал Кароль, отталкивая ее. — Пришли полюбоваться, как низко я пал по вашей вине! Надеюсь, теперь вы довольны? С кем из своих любовников вы соблаговолите меня сравнить? — Какие горькие и обидные слова, — проговорила Флориани печально и мягко. — Но я не стану обижаться, ибо вы и в самом деле сейчас не в себе. Я ожидала, что вы встретите меня с тем же холодным презрением, какое только что выказали в гостиной, и хотела во имя нашей любви и правды потребовать, чтобы вы объяснили, чем это вызвано; я потрясена, видя вас в такой ярости, и, поверьте, мнимый триумф, о котором вы толкуете, отнюдь не льстит моей гордости. Каким тоном мы говорим друг с другом, Кароль! Господи, что произошло? Неужели вы можете сомневаться в том, что мне нестерпимо больно видеть, как вы страдаете? И если я — невольная причина ваших мук, то, без сомнения, должна найти в себе силы их прекратить. Скажите, что я должна сделать, и если нужна моя жизнь, мой разум, моя честь и достоинство, я все готова положить к вашим ногам, лишь бы помочь вам исцелиться и утешиться. Говорите же, объяснитесь, помогите мне вас понять — вот все, о чем я прошу. Я не в силах дольше пребывать в сомнении и не могу видеть ваши муки, не пытаясь облегчить их, на такое я никогда не соглашусь, этого от меня требовать нельзя. Откройте же мне свою больную, измученную душу, а если вам хочется осыпать меня упреками и оскорблениями, не сдерживайте себя: я предпочитаю такие попреки молчанию, я не сочту себя оскорбленной и, не насилуя себя, охотно оправдаю вас. Если будет нужно, я даже попрошу у вас прощения, хотя и не знаю за собой никакой вины. Но, как видно, я в чем-то сильно провинилась, раз уж вы так страдаете. Отвечайте же, умоляю вас! Только огромная любовь могла заставить Лукрецию проявить такое терпение и покорность; она и сама не думала, что способна на подобное чувство, после того как испытала в жизни столько бурных страстей, столько горьких разочарований и обид, которые переполнили ее ум и сердце усталостью и отвращением; тем не менее такая любовь пришла и полностью подчинила ее себе. Флориани никогда не лгала, она всегда была готова проявить преданность и самоотверженность, но никогда ни перед кем не унижалась, не заискивала, она была обидчива и горда; малейшее подозрение всегда смертельно оскорбляло ее, и оправдываться было свыше ее сил. И все же на сей раз с необычайной мягкостью долго упрашивала несчастного юношу объясниться с ней, однако он не хотел говорить, потому что не мог. В самом деле, что мог он сказать ей? Мысли его мешались, и душевное смятение было так велико, что он и сам жестоко страдал от этого. Если бы он послушался совета Лукреции, если бы он выбранил ее и осыпал горькими упреками, ему, без сомнения, стало бы легче; но, жестоко страдая, он не способен был на откровенные излияния, он не был настолько эгоистичен и не хотел, чтобы другие разделяли с ним муку. К тому же бранить свою возлюбленную! Да он скорее предпочел бы убить ее, а потом убил бы себя, унеся свою страсть в могилу. Но оскорбить ее словами!.. Ему казалось, что если он решится на это, то осудит ее перед лицом неба, а они будут обречены Богом на вечную разлуку. Чтобы дойти до такого кощунства, Кароль должен был прежде избавиться от любви к Лукреции, но чем больше он страдал из-за нее, тем больше становился рабом собственной страсти. Флориани только догадывалась о том, что происходило в душе князя, ибо она ничего не могла от него добиться, кроме уклончивых ответов, изредка нарушавших его скорбное молчание. Порою ей казалось, что он вот-вот склонится на ее мольбы, но в душе он был непоколебим, и с его губ так ни разу и не сорвалось имя Вандони. Когда Лукреция потеряла всякое терпение и исчерпала всю силу своей любви, тщетно пытаясь заставить Кароля что-нибудь прибавить к тем невразумительным восклицаниям и намекам, которые ее пугали, она заговорила сама. — Я вижу, мой ангел, что вы ревнуете, хотя и не хотите в том признаться, — начала она. — Вы ревнуете?! О, как горько мне в этом убедиться, ибо вы сами приучили меня парить на крыльях возвышенной любви, не снисходя до житейской прозы! Какую острую боль вы мне причинили, могла ли я когда-нибудь подумать, что вы унизитесь до ревности! Позвольте же мне быть откровенной и сурово упрекнуть вас за это. Меня упрекать вы не захотели, а ведь мне было бы куда легче, я бы сумела оправдаться, а теперь я даже не знаю, что вы мне ставите в вину. Но прежде чем воззвать к голосу вашего рассудка, а это, увы, необходимо, позвольте мне пожаловаться на судьбу, позвольте выплакать свое горе! Ведь сейчас последний возглас счастливой любви возносится к небесам, откуда она снизошла на нас и куда ныне улетает навеки! Позвольте мне сказать, что сегодня вы совершили огромное преступление передо мной, перед самим собою и перед Богом, который благословил царившее между нами полное доверие. Увы! Вы осквернили подозрением самую чистую, самую беззаветную и самую чудесную страсть в моей жизни. Ведь до вас я по-настоящему никого не любила, я никогда не была счастлива; зачем же вы так скоро лишили меня радости, неземных восторгов? Вы сами увлекли меня на небо, а теперь так безжалостно столкнули на землю! Видит Бог, я этого не заслужила, вместе с тобой, Кароль, я витала в эмпиреях! И верила, что это блаженство продлится вечно. Все дела земные казались мне пустыми и призрачными; для меня продолжали существовать одни только дети, я нежно прижимала их к груди и вместе с ними уносилась в горний мир, где жизнь текла без забот… И вот теперь мне надо сойти с этих высот, мне снова придется шагать по узким земным дорогам, обдирая руки о колючий терновник, ушибаясь о скалы… Ну что ж, вы этого хотели. Поговорим же о презренной прозе, о Вандони, о моем прошлом, о моих обязанностях, о тех докучных заботах, которые сулит мне будущее. Я надеялась справиться со всем этим одна, я хотела, чтобы невзгоды, не имеющие касательства к нашей любви, не нарушали вашего душевного мира и покоя. Я легко бы несла груз хлопот и обязанностей, если бы могла избавить вас от них. Если бы вы оставались самим собой, если бы сохраняли возвышенное доверие ко мне, которое придавало такую чистоту и силу нашей любви, вас бы даже не коснулась житейская суета!.. Но вы утратили это доверие, вы отняли у меня талисман, делавший меня неуязвимой для горя и тревог. И теперь я хочу сказать вам, какие у меня существуют обязанности, чьи интересы я должна блюсти, в чем именно я усматриваю долг перед собственной совестью. Однако, чтобы понять все это, вам придется о многом поразмыслить, вам надо будет узнать мое прошлое, составить о нем верное представление, раз и навсегда сделать для себя серьезные выводы!.. Вандони… — Прошу вас, не произносите этого имени! — воскликнул Кароль, дрожа как малое дитя. — Сделайте милость, избавьте меня от своих признаний. У меня еще недостает сил, да, верно, и никогда недостанет, чтобы выслушивать подобные признания. Я ненавижу Вандони, я ненавижу все, что было в вашей жизни недостойного вас. Пусть это вас не заботит! Вы вовсе не обязаны пытаться примирить меня со всем тем, от чего меня коробит и что возмущает в вашем прошлом. Я приучил себя видеть в вас двух разных женщин, не препятствуйте же мне в этом! Одну из них я никогда не знал и знать не желаю; другую я знаю превосходно, она безраздельно принадлежит мне, и я не хочу, чтобы она имела какое бы то ни было касательство к событиям и людям, которых я терпеть не могу. Да, да Лукреция, ты ведь сама сказала, что горько спускаться с небес и шагать по грязи земных дорог. Дай же прижать тебя к груди, забудем об ужасных страданиях этого дня и вернемся на небо. Пусть тебя не заботят мои переживания! Это касается только меня, у меня достанет сил все вынести, ибо я люблю тебя все так же, словно ничто не нарушило мир в моей душе! Нет, нет, никаких объяснений, никаких рассказов, никаких излияний, никаких доводов! Заключи меня в свои объятия и унеси далеко-далеко от этого окаянного мира, к которому я не умею приспособиться, где мне нечем дышать! Если я и дальше буду жить в нем, но не смогу найти опору в нашей любви, я паду еще ниже, чем другие. Флориани пришлось удовольствоваться этим полуизвинением, а вернее, она до такой степени устала, что сделала вид, будто удовольствовалась им; однако она совершила большую ошибку и обрекла себя в будущем на горькие муки. С этого дня Кароль уверовал, что ревность вовсе не оскорбительна, что любящая женщина может и должна неизменно прощать ее. Она еще сидела в гостиной, когда незадолго до полуночи туда вошел Сальватор, провожавший Вандони; у графа хватило деликатности не сказать Лукреции, каким смешным и скучным показался ему ее бывший возлюбленный. У нее же не хватило мужества признаться Сальватору, в какое бешенство пришел князь от встречи с Вандони; но про себя она отметила, насколько дружба более терпима, отзывчива и великодушна, чем любовь. Дело в том, что теперь она и сама ясно видела недостатки Вандони и оценила готовность Альбани сделать все, чтобы избавить ее от назойливого присутствия актера.Лукреция удалилась в спальню, твердо решив позабыть об огорчениях этого дня и уснуть, чтобы на рассвете пробудиться бодрой и деятельной, как того требовали ее материнские обязанности. Но хотя полная переживаний жизнь приучила ее забывать на время о неприятностях и. засыпать, как засыпает на бивуаке усталый солдат, несмотря на голод и ноющие раны, на сей раз она всю ночь даже глаз не сомкнула, и горестные воспоминания, уже давно теснившиеся в ее голове, вдруг стали оживать одно за другим; мало-помалу они сплелись в клубок и стали безжалостно терзать ее. Былые ошибки и разочарования принимали обличье насмешливых и грозных призраков, перед мысленным взором Лукреции проходили люди, заплатившие ей неблагодарностью за добро и злобой за ласку. Тщетно она пыталась отогнать мрачные видения прошлого, ища прибежища в настоящем. Отныне настоящее также не сулило ей надежной защиты, и былые горести ожили именно потому, что их будто пришпорило новое горе, самое сильное, ни с чем не сравнимое. Она поднялась с постели бледная и разбитая, и яркое утреннее солнце, еще влажные от росы благоухающие цветы, соловьи, опьяненные собственным пением, в тот день не принесли ей, как обычно, надежды и душевного покоя. Против обыкновения, поэзия природы не трогала ее. Ей казалось, что между свежей, сияющей природой и ее несчастным, разбитым сердцем притаился отныне тайный враг, гложущий червь, который мешает жизненным сокам проникать в него. Однако она все еще не понимала истинных размеров постигшей ее беды. В тот день Кароль не отходил от Лукреции. Он был почтителен и нежен, но не потому, что хотел заставить возлюбленную забыть о его вине, нет, он не чувствовал за собой никакой вины, он, как всегда, уже забыл о случившемся, но после нескольких дней, проведенных в слезах и гневе, он нуждался в ласке, сердечных излияниях, жаждал счастья. Никогда не бывал он столь обворожителен и неотразим, как в те часы, когда приступ отчаяния и тоски проходил и он переставал страдать. Лукреции снова пришлось выслушивать настойчивые просьбы князя стать его женою, но на сей раз она была тверда и неумолима. Накануне ей многое стало понятно, и она не желала снова услышать о том, что ее умоляютзабыть об этих просьбах. Предложение князя свидетельствовало о почтительной любви, которую она, впрочем, заслужила, но то, что в минуту ревнивых подозрений он с холодной учтивостью отказался от своего предложения, глубоко оскорбило ее, и гордая Флориани, в отличие от Кароля, не могла этого забыть. Разумеется, она не стала говорить князю, что его вчерашний поступок укрепил ее решимость отказаться от брака с ним, но теперь уже не оставила ему никакой надежды, и на этот раз он встретил ее приговор без прежней горечи, видимо, поняв, что заслужил кару и должен безропотно принять долгий искус.
Не прошло, однако, и двух дней, как разыгралась новая буря. Какой-то бродячий торговец умудрился проникнуть в дом и предложил купить у него охотничье оружие. Челио давно мечтал о новеньком ружье, но мать сперва отказала ему; потом, решив сделать сыну сюрприз, она вернула торговца, чтобы столковаться с ним о покупке этого вожделенного подарка. Предприимчивый торговец был молод, красив, он ни на минуту не закрывал рта и держал себя несколько развязно. Красота и известность покупательницы еще прибавили ему красноречия, однако головы он не потерял и продал свой товар с выгодой. Дело происходило накануне дня рождения Челио, и мать задумала положить красивое и изящное охотничье ружье под подушку сына: вечером, ложась спать, он должен был обнаружить его. Торговец, даже не спросив разрешения, понес ружье в спальню, чтобы самолично положить его в постель Челио и получить деньги. В эту минуту вошел Кароль, отдыхавший перед тем после обеда, и застал Лукрецию наедине с красивым малым, чье лицо обрамляли пышные черные бакенбарды; незнакомец о чем-то оживленно разговаривал с Флориани, смотрел на нее дерзкими глазами и поправлял покрывало на постели, а она добродушно смеялась, слушая его болтовню и думая о том, как обрадуется Челио приятному сюрпризу. Этого было более чем достаточно, чтобы придать мыслям князя зловещий оборот: необыкновенно впечатлительный, он всегда схватывал лишь внешнюю сторону событий, не стараясь вникнуть и разобраться в них, и сразу же давал волю оскорбительным подозрениям. Он остановился на пороге спальни, пробормотал что-то обидное и выбежал с видом человека, ставшего свидетелем своего бесчестья. Весь день он никак не мог успокоиться и трезво взглянуть на вещи. Флориани пришлось пойти на объяснение, унизительное для них обоих. На сей раз она обращалась с Каролем, как с больным, которого нужно разубедить и исцелить, не принимая всерьез его бредовые мысли. Но каким испытаниям подвергается восторженная привязанность, страстная любовь, если предмет этой любви ведет себя как маньяк?
Несколько дней спустя Лукреции сообщили, что Манджафоко, рыбак, в свое время добивавшийся ее руки и доставивший ей столько страшных и неприятных минут, при смерти и хочет с нею проститься. С той поры как она вернулась в родные края, человек этот ни разу не решился показаться ей на глаза, и Лукреция ужаснулась при мысли, что ей снова придется его увидеть. Однако милосердие предписывало исполнить последний долг, и она без колебаний отправилась на другой берег озера в сопровождении отца и Биффи. Умирающий горько раскаивался, что в прошлом он так часто пугал и огорчал ее, и просил помолиться за упокой его души. Лукреция мягко утешала несчастного, ее великодушное участие облегчило ужасную агонию этого человека — бывшего солдата, походившего на разбойника давних времен, злобного, грубого, алчного и вместе с тем наделенного природным умом и не лишенного патриотических чувств и романтических порывов. Флориани оставалась возле Манджафоко, пока он не испустил дух; возвратилась она к себе взволнованная. В присутствии Кароля она без прикрас рассказала Сальватору о том, как умирал старый рыбак, о его предсмертных словах, то лишенных смысла, то необычайно трогательных. Сальватор нашел, что и в этих обстоятельствах дорогая его сердцу Флориани вела себя, как всегда, безупречно; Кароль хранил молчание. Его немало встревожила неожиданная отлучка Лукреции и то, что она отсутствовала с заката и до полуночи. Он не мог постичь, как могла она проявить столько участия к негодяю, который того вовсе не заслуживал. И как этот человек посмел призвать к своему смертному одру женщину, которая должна была его ненавидеть? Стало быть, он верил в ее доброту и в способность забыть прошлые обиды!
Все эти соображения князь высказал каким-то странным тоном. Лукреция, которая еще не привыкла к тому, что его ревность может вспыхнуть по любому поводу, и которая не могла допустить, что ее добрый порыв может показаться Каролю предосудительным, с изумлением посмотрела на него и увидела, что он в ярости. Глаза у него были красные, и он машинально барабанил пальцами по столу; он с трудом подавлял нервную дрожь, которая, как поняла наконец Лукреция, свидетельствовала о крайнем раздражении. Она только пожала плечами. Кароль этого не заметил и продолжал: — А сколько лет было этому Манджафоко? — Не меньше шестидесяти, — ответила она холодно и сурово. — И конечно же у него было красивое лицо, косматая борода и живописное рубище? — осведомился Кароль, немного помолчав. — Он походил на разбойника, каких изображают на театре или описывают в романах, и на него нельзя было смотреть без дрожи? Женщинам нравятся люди со столь колоритной внешностью, ведь так лестно приручить этакого дикаря! Бьюсь об заклад, что, испуская дух, он походил на раненого тигра, который бросает на голубку последний взгляд, исполненный вожделения и досады! — Неужели смерть человека не вызывает у вас, Кароль, ничего, кроме неуместного красноречия? — со вздохом спросила Флориани. — Вам бы следовало теперь пойти и взглянуть на покойника, это бы мгновенно излечило вас от иронии и отбило охоту прибегать к поэтическим метафорам. Да только вы не пойдете: одно дело разглагольствовать, а совсем другое — проявить присутствие духа и войти в грязную хижину. «Как она чувствительна нынче вечером! — подумал Кароль. — Кто знает, что в свое время было между нею и этим проходимцем?»
XXVIII
В другой раз ревность Кароля вызвал священник, пришедший за подаянием для бедняков. В следующий раз повод для ревности дал нищий, которого князь принял за переодетого поклонника. А то вдруг он приревновал Лукрецию к лакею: избалованный, как и вся прислуга в доме, тот надерзил хозяйке, и Каролю такое поведение слуги показалось подозрительным. Затем причиной ревности стал разносчик, потом лекарь и, наконец, разбогатевший кузен Флориани, который жил то в городе, то в деревне, — он привез Флориани дичь, и она, естественно, приняла его по-родственному, а не отправила в людскую, как должна была сделать, по мнению князя. Словом, дело дошло до того, что Лукреция уже не смела обращать внимание ни на внешность прохожего, ни на ловкость браконьера, ни на стать лошади. Кароль ревновал ее даже к детям. Я сказал «даже»? Следовало бы сказать — «особенно»!И в самом деле, его единственными соперниками были дети, ибо о них Лукреция думала не меньше, чем о нем. Он не сразу разобрался в том чувстве, которое охватывало его, когда он видел, как дети обнимают мать и осыпают ее поцелуями. Самым извращенным воображением обладает ханжа, но ревнивец не многим уступает ему в этом, и потому князь уже вскоре начал испытывать к детям неприязнь, чтобы не сказать отвращение. В конце концов он обнаружил, что они избалованы, очень шумливы, эгоистичны, своенравны, при этом он упускал из виду, что таковы все дети. Его теперь раздражало, что они постоянно становятся между ним и Лукрецией. Он находил, что она слишком потакает детям, превращается в их рабыню. Однако бывали случаи, когда он, напротив, возмущался тем, что она их наказывает. Простая, подсказанная самой природой метода воспитания детей, которая предписывает прежде всего нежно любить их и постоянно ими заниматься, делать все, чтобы они были довольны и счастливы, вовремя их останавливать и журить, а если надо, даже как следует побранить, вознаграждать их нежною лаской, когда они того заслуживают, — такая метода противоречила представлениям Кароля. По его мнению, не следовало слишком нянчиться с детьми, тогда их легче будет держать в должном страхе. Не следовало говорить им «ты», нельзя было слишком часто их ласкать, надо было всегда соблюдать известную дистанцию между ними и взрослыми — и все это для того, чтобы как можно раньше превратить их в маленьких мужчин и женщин, весьма благоразумных и вежливых, спокойных и послушных. Следовало заблаговременно внушить детям множество понятий, несмотря на то, что понятия эти были недоступны их уму и сердцу, чтобы приучить их таким образом уважать установленные правила, обычаи, верования; при этом не надо стремиться к невозможному, то есть не надо даже пытаться убедить их в полезности и высоких достоинствах тех начал, кои лежат в основе всех обычаев и правил. Словом, следовало забыть о том, что они — дети, следовало отнять у них все очарование детства, этой счастливой и вольной поры, которая дарована им самим небом, надо было всячески развивать их память, но гасить воображение, приучать их к хорошим манерам, но не объяснять смысла жизни, короче говоря, делать прямо противоположное тому, что делала и хотела делать Флориани.
Надо сразу же оговориться, что маниакальное стремление князя всему противиться и все осуждать возникало в нем далеко не всегда и не отличалось последовательностью. Когда ревность его не мучила, иными словами — в минуты душевного просветления, он говорил и вел себя совсем по-другому. В такие часы он просто боготворил детей, восторгался ими, даже когда восторгаться было нечем. Он их баловал больше, чем Лукреция, он становился их рабом и при этом вовсе не замечал собственной непоследовательности. Дело в том, что в такие часы он бывал счастлив и выказывал самые лучшие, самые светлые стороны своей натуры. Когда мягкость, нежность и доброта Кароля достигали своего апогея, это было верным знаком того, что апогея достигало пьянящее блаженство, которым его переполняла любовь к Лукреции. Ах, если бы он всегда мог оставаться таким, как в эти минуты, его можно было бы назвать серафимом, кротким ангелом! А ведь выпадали не только минуты, но и часы, порою даже целые дни, когда Кароль был само доброжелательство, само милосердие, сама любовь и преданность. И таким он был не только с окружавшими его людьми, — он сходил с дорожки, чтобы не раздавить ползущего муравья, он готов был броситься в озеро, если бы понадобилось спасти тонущую собаку. Да что там! Он, кажется, и сам готов был превратиться в собаку, лишь бы услышать веселый смех крошки Сальватора, готов был превратиться в зайца или в куропатку, чтобы только доставить Челио удовольствие выстрелить из ружья! Его любовь и нежность доходили порой до крайности, до абсурда, и он напоминал тогда тех восторженных чудаков, которых надо либо запирать в дом для умалишенных, либо почитать, как святых.
Но зато какая ужасная, какая катастрофическая перемена происходила во всем существе Кароля, как низко он падал, когда владевшая им кроткая радость внезапно сменялась подозрительностью и отравлявшей его душу горькой досадой! Тогда все вокруг неузнаваемо искажалось, даже сама природа. Солнце в Изео испускало уже не лучи, а отравленные стрелы, над озером поднимались тлетворные пары, божественная Лукреция преображалась в Пасифаю, дети становились маленькими извергами, Челио предстояло кончить жизнь на эшафоте, Лаэрт непременно должен был взбеситься, Сальватор Альбани превращался в предателя Яго, а старик Менапаче — в ростовщика Шейлока. Черные тучи заволакивали небосклон, в них таились Вандони, Боккаферри, Манджафоко, бесчисленные обожатели Лукреции, принимавшие обличье нищих, бродячих торговцев, священников, слуг, разносчиков и монахов; тучи эти должны были вот-вот разверзнуться и обрушить на виллу целую армию бывших друзей, бывших любовников Флориани (для князя и те, и другие были хуже гадюк!), и Лукреция, запятнанная их отвратительными поцелуями и объятиями, с адским смехом призывала его принять участие в этой фантастической оргии! Не думайте, однако, что необузданное воображение Кароля, которое еще больше подстегивали привычка все видеть в черном свете и безрассудная страсть, ограничивалось только одной этой картиной. В его голове вихрем проносились бредовые видения, которые я не только не возьмусь вам описать, но даже представить себе не могу. Данте, и тот не мог вообразить такие муки, которым подвергал себя этот несчастный. Именно в силу своей нелепости преследовавшие его видения были столь ужасны: ведь даже самые причудливые призраки нагоняют страх на детей, больных и ревнивцев.
Однако князь был неизменно сдержан и учтив, а потому никто из окружающих и не подозревал о том, что творится в его душе. Чем сильнее был он раздражен, тем более невозмутимым казался, и о степени его бешенства можно было судить лишь по его ледяной учтивости. В такие минуты он делался поистине невыносимым, ибо повседневную жизнь, в которой ничего не смыслил, он хотел беспощадно судить по законам, которые и сам не мог ясно изложить. Тогда он обретал остроумие, остроумие разящее и язвительное, и мучил тех, кого любил. Он становился насмешливым, чопорным, манерным, все ему претило. Казалось, он кусается только в шутку, совсем не больно, а на самом деле он наносил глубокие раны. Если же Кароль почему-либо не отваживался перечить или насмехаться, то погружался в презрительное молчание, в мрачную меланхолию. Все становилось ему чуждо и безразлично. Он уходил от всего — от окружающей природы, от людей, становился глух к чужим словам и взглядам, замыкался в себе. Когда в ответ на ласковые попытки друзей отвлечь его от печальных мыслей Кароль заявлял, что он этого не понимает, становилось ясно: он глубоко презирает не только то, что ему говорят, но даже то, что могут сказать. Флориани боялась, что ее близкие, и в особенности граф Альбани, догадаются о ревности князя, которая наконец открылась ей и глубоко ее унижала. Вот почему она изо всех сил скрывала ничтожные поводы, вызывавшие у Кароля вспышки ревности, и старалась сгладить дурное впечатление, которое они производили на окружающих. Сперва она сильно тревожилась за здоровье своего возлюбленного и даже за саму его жизнь, но вскоре убедилась, что он чувствует себя лучше всего именно в те часы, когда им овладевают раздражение и гнев, хотя всякий другой на его месте этого бы не выдержал. На свете существуют люди, которые черпают силу в страдании: сжигая самих себя, они, подобно фениксу, как бы возрождаются к новой жизни. И Лукреция мало-помалу перестала тревожиться, но теперь она жестоко страдала от постоянного общения с князем, которое можно было уподобить разве только аду, созданному мрачным воображением поэтов. В руках своего безжалостного любовника она уподобилась камню, который Сизиф вечно вкатывает на вершину горы и который тут же низвергается в бездну: злополучный камень при этом никогда не разбивается!
Лукреция испробовала все: нежность, гнев, мольбы, упреки, молчание. Все оказалось тщетно. Она сохраняла наружное спокойствие и веселость, не желая, чтобы другие видели, как она несчастна; Кароль же, которому такая сила воли была недоступна и непонятна, выходил из себя, видя, что она, как всегда, ровна и великодушна. В такие минуты он ненавидел в Лукреции то, что мысленно называл плебейской бесчувственностью и беспечностью, которой она, по его мнению, набралась в среде актеров. Его не смущало, что он причиняет Лукреции боль, ибо он уверил себя, будто она ничего не чувствует: хотя в иные минуты она бывает добра и заботлива, но, вообще-то говоря, столь грубую и сильную натуру, как у нее, ничем не прошибешь, тем более что она быстро обо всем забывает и легко утешается. Порою могло показаться, будто Кароля выводит из себя даже то, что его возлюбленная, судя по всему, обладала завидным здоровьем и что Бог наградил ее таким ровным нравом. Если Флориани нюхала цветы, подбирала на берегу красивый камешек, ловила бабочек для коллекции Челио, читала вслух дочери басню, гладила собаку, срывала грушу для маленького Сальватора, он говорил себе: «Какая удивительная натура!.. Все-то ей нравится, все занимает, от всего она приходит в упоение. Любой пустяк приводит ее в восторг, всюду она что-то выискивает: красоту, аромат либо изящество; все-то ей доставляет радость, во всем она находит пользу. Да, она любит все подряд, без исключения! Стало быть, меня она не любит, ибо для меня всего этого не существует, я вижу только ее, восхищаюсь только ею и люблю лишь ее одну! Нас разделяет пропасть!» В сущности, так оно и было: душа, открытая всему миру, и душа, сосредоточенная, только на самой себе, не могут слиться. Одна непременно погубит другую, оставив после нее лишь пепел. Так и произошло. Если Лукреция, подавленная грузом забот и горя, не находила в себе сил скрыть страдания, Кароль внезапно снова обретал былую нежность к ней, забывал свое дурное расположение и начинал заметно тревожиться. Он чуть не на коленях прислуживал ей, он в такие минуты боготворил ее, как не боготворил даже в самую первую пору их любви. Отчего присутствие духа и мужество не оставили ее совсем? Отчего не умела она притворяться? Ведь если бы князь видел, что Лукреция постоянно угнетена и подавлена, если бы она была способна делать вид, что она мрачна и недовольна, это, пожалуй, помогло бы ему избавиться от всего болезненного, что было в его натуре. Ради нее он позабыл бы о самом себе, ибо этот жестокий себялюбец становился необыкновенно преданным и нежным, когда видел, что его друзья и близкие страдают. Однако в ту пору он сам глубоко и непритворно страдал, а потому великодушная Флориани стыдилась своей минутной слабости. Она спешила стряхнуть с себя уныние и вновь казалась твердой и спокойной. Ну, а уж притворяться она и вовсе не умела; она только изредка давала волю своему гневу, но зато, сердясь, не сдерживалась и резко выговаривала Каролю. Она никогда ничего не скрывала, ничего не приукрашивала. Чаще всего, становясь жертвой несправедливого к себе отношения, она испытывала не только горе, но и своеобразное сочувствие к обидчику, а потому чаще всего страдала, не приходя в негодование, а главное, не позволяла себе дуться. Лукреция с презрением относилась к обычным женским уловкам и хитростям; поступая так, она, разумеется, была неправа и вредила этим себе самой; ей скоро пришлось в том убедиться! Людям свойственно злоупотреблять добрым к себе отношением, они охотно оскорбляют своих близких, особенно когда уверены, что получат прощение и что им даже не придется об этом просить. Сальватору Альбани был хорошо известен неровный и причудливый характер князя, который бывал то чересчур требователен, то чересчур уж бескорыстен. Однако прежде Кароль гораздо чаще приходил в хорошее расположение духа и гораздо дольше сохранял его; теперь же, после того как Сальватор возвратился на виллу Флориани, он видел, что князь все реже и реже бывает спокоен, все чаще впадает в угрюмое и раздраженное настроение и что характер его с каждым днем заметно портится. Сначала Кароль бывал мрачен один час в неделю, затем — час в день. Но постепенно все изменилось, и он уже бывал весел всего лишь один час в день, а в последнее время — всего час в неделю. Граф был необыкновенно терпим и обладал легким нравом, по и он стал находить такое положение вещей невыносимым. Он сказал об этом своему другу, потом Лукреции, затем повторил это им обоим вместе и наконец почувствовал, что если он и дальше будет жить рядом с ними, то его собственный характер, чего доброго, испортится.
И он решил уехать. Лукреция пришла в ужас при мысли, что ей придется остаться вдвоем со своим возлюбленным, хотя еще два месяца назад она бы охотно уехала с ним на край света, согласилась бы жить с ним в пустыне. Мягкость и доброта Сальватора, его способность всегда сохранять жизнерадостность и философски смотреть на житейские неурядицы служили ей немалой поддержкой. Кроме того, присутствие графа вынуждало Кароля сдерживаться и следить за собой, хотя бы при детях. Что станется с нею, а главное, что станется с самим князем, когда их доброго друга уже не будет рядом с ними и некому будет улаживать все недоразумения? Лукреция настойчиво удерживала графа, она не могла утаить от него свой страх и горе, ее тайна обнаружилась, и бедняжка дала волю слезам. Потрясенный Альбани увидел, что она глубоко несчастна, и понял, что если ему не удастся хотя бы на время увезти Кароля, то и сам князь, и Флориани погибнут. На сей раз Сальватор не колебался. Он не проявил к другу ни мягкости, ни жалости. Он решил не считаться с его чувствительностью и обидчивостью. И не испугался ни его гнева, ни отчаяния. Он не стал скрывать от Кароля, что сделает все, чтобы разлучить его с Лукрецией, если Кароль сам не найдет в себе силы уехать. — Расстанетесь ли вы на полгода или навсегда, сейчас меня это не заботит, — сказал он князю, заканчивая свою резкую отповедь. — Я не берусь угадывать будущее. Не знаю, забудешь ли ты Лукрецию, что было бы счастьем для тебя, разлюбит ли она тебя, что было бы весьма разумно с ее стороны, но одно для меня ясно: она совсем разбита, больна, пришла в полное отчаяние и нуждается в отдыхе. Не забывай, что у нее четверо детей. Она обязана беречь себя ради них и потому должна избавиться от невыносимых страданий. Мы с тобой либо уедем вместе, либо будем драться на дуэли, ибо все, что я тебе говорю, ты пропускаешь мимо ушей, ты не только не прислушиваешься к моим доводам, но, напротив, все сильнее цепляешься за эту несчастную женщину. Однако знай, Кароль: добром ли, силой ли, но я тебя отсюда увезу! Я поклялся в этом счастьем Челио и остальных ее детей. Я тебя сюда привез, заставил тут остаться. Думая, что я тебя спасаю, я тебя погубил; однако не все еще потеряно, я многое теперь понял и спасу тебя даже против твоей воли. Мы уезжаем сегодня ночью, слышишь? Лошади у ворот.
Кароль был бледен как смерть. С огромным трудом он разжал стиснутые зубы. И наконец с мрачной решимостью проговорил: — Превосходно, вы отвезете меня в Венецию, оставите там, а сами вернетесь сюда, чтобы получить награду за свой подвиг. Вы с ней об этом заранее столковались, я уже давно жду такой развязки. — Кароль! — взревел Сальватор, впервые в жизни по-настоящему приходя в ярость. — Твое счастье, что ты слаб и хрупок, будь ты настоящим мужчиной, я бы размозжил тебе голову. Скажу только одно: лишь злобный человек может такое придумать, лишь трус и неблагодарный может такое высказать! Ты мне отвратителен, я отрекаюсь от дружбы, которую так долго к тебе испытывал. Прощай, я уезжаю, я не хочу тебя больше видеть, рядом с тобою сам рискуешь стать злобным и трусливым. — Хорошо, хорошо! — твердил князь, не помня себя от бешенства и принимая, как всегда в таких случаях, холодный и презрительный тон. — Продолжайте, оскорбляйте меня, ударьте, вызовите на дуэль, добивайтесь любыми средствами моей смерти или отъезда. Таков ваш план, я это знаю. Зато как сладостна будет ночь любви, которой вас вознаградят за сей рыцарский поступок! Сальватор чуть было не кинулся на Кароля. Не помня себя, он схватил обеими руками стул. Он чувствовал, что мысли его мешаются, он дрожал, как нервическая женщина, и вместе с тем ощущал в себе такую неистовую силу, что, казалось, мог в эту минуту обрушить на собственную голову весь дом. Несколько мгновений царило грозное молчание, а потом вечернюю тишину нарушил нежный голосок. — Послушай, мама, — донеслись слова, — я выучила свой урок и хочу перед сном прочесть тебе басню по-французски:
Дружили петухи, явилась кура вдруг,
И оба уж готовы к бою!
Любовь, ты погубила Трою!..
XXIX
На следующий день после отъезда Сальватора Флориани, не дожидаясь, пока князь выйдет из своей комнаты, ушла из дома. Она села в лодку, взялась за весла и стала грести с такой силой, словно к ней вернулась молодость; вскоре она оказалась на другом берегу озера. Тут, как раз против виллы, была оливковая роща, с которой у Лукреции было связано множество воспоминаний о юности и о первой любви. Здесь пятнадцать лет тому назад она часто встречалась со своим первым возлюбленным, Меммо Раньери. Здесь она впервые призналась, что любит его, здесь она, позднее, вместе с ним обсуждала планы бегства. Здесь, наконец, она много раз пряталась от бдительного ока своего отца и от преследований Манджафоко. После своего возвращения к родным пенатам Лукреция ни разу не приходила в эту рощицу, которую ее первый любовник, охваченный юношеским восторгом, назвал священной рощей. Она была видна из окон виллы. Вначале, после приезда, взоры Лукреции порою невзначай останавливались на этой роще, но она не желала будить в себе воспоминания о прошлом и, спохватываясь, тут же отводила глаза. С того времени, как она полюбила Кароля, она гораздо чаще поглядывала на рощу и восхищалась тем, как разрослись деревья, уже не вспоминая о Меммо и об упоении первой любви. Однако из чувства деликатности она никогда не ходила туда гулять со своим новым возлюбленным. Выйдя из дома через несколько часов после внезапного отъезда графа Альбани и спустившись к озеру, Лукреция вовсе не собиралась в священную рощу. Она страдала, ее лихорадило, и у нее была потребность подышать свежим утренним воздухом, подвигаться и тем самым преодолеть упадок душевных сил. И только позднее безотчетное, но властное чувство побудило ее направить лодку в небольшую затененную бухту. Она оставила свое суденышко в прибрежных зарослях, сошла на берег и углубилась в таинственную сень рощи. За пятнадцать лет оливковые деревья сильно разрослись, повсюду возвышался колючий кустарник, тропинки стали гораздо более узкими и тенистыми, чем прежде. А некоторые и вовсе исчезли, поросли кустами и травой. Девочкой Лукреция могла бы свободно бродить здесь с закрытыми глазами, а сейчас она с трудом находила дорогу. Она долго искала большое дерево, под которым ее обычно поджидал Меммо, — на его коре еще сохранились инициалы юноши, которые он тогда вырезал ножом. Буквы изрядно стерлись, и теперь их трудно было разобрать; Лукреция скорее угадывала их. Она опустилась на густую траву у подножия этого дерева и погрузилась в глубокое раздумье. Она во всех подробностях перебирала в памяти дни первой любви и сравнивала ее с последней своей любовью, но не потому, что хотела сопоставить обоих возлюбленных, о которых она не могла судить беспристрастно, а потому, что хотела понять собственное сердце, понять, долго ли оно еще может любить и страдать. И внезапно перед нею с неумолимой ясностью прошла вся история ее жизни, все ее самоотверженные порывы, грезы о счастье, горькие разочарования. Эта повесть собственной жизни испугала Лукрецию, и она с изумлением спрашивала себя, неужели она и вправду столько раз ошибалась, а поняв свои заблуждения, не сошла с ума от этого и не умерла. В жизни таких людей, как Флориани, редко выпадают минуты, когда человек может глубоко и ясно разобраться в самом себе, в своих мыслях и переживаниях. Люди, лишенные эгоизма и гордости, часто имеют о себе лишь весьма смутное представление. Хотя они способны на любые жертвы, но сами толком не знают, на какие именно. Они всегда переполнены любовью к ближнему, всегда озабочены тем, как помочь ему, а потому совершенно не думают о себе и плохо себя знают. Флориани, должно быть, за всю жизнь не более трех раз размышляла о собственной судьбе, старалась понять самое себя. И, уж во всяком случае, она никогда еще так глубоко не проникала в свою душу, так строго не вопрошала себя. Она совершала это в последний раз и всю остальную жизнь безропотно мирилась с последствиями решения, которое приняла в тот торжественный день. «Пора наконец понять, так ли сильна моя последняя любовь, как первая? — вопрошала она себя. — Да, я любила Кароля еще более пылко, но теперь это не так. Он почти так же быстро, как и Меммо, разбил все мои надежды на счастье.Но стала ли теперь моя любовь, лишенная иллюзий, менее глубокой и менее прочной? Даже сейчас я еще испытываю к Каролю такую материнскую нежность и преданность, что не могу помыслить о разрыве с ним, и этим моя любовь к нему отличается от моей первой любви. Ведь тогда я не раз говорила себе, что, если Меммо меня обманет, я перестану его любить, теперь же я на сей счет не обольщаюсь, но понимаю, что никогда не исцелюсь от своего чувства. Правда, я долго прощала Меммо, но всякий раз отдавала себе отчет в том, что моя привязанность к нему заметно слабеет, теперь же, несмотря на все страдания, моя страстная привязанность к Каролю не убывает. Чем это объяснить? Почему ныне я не могу оторвать от своего сердца Кароля, а прежде, когда была молода и сильна, я легче расставалась со своей любовью? Повинен ли в этом Меммо или я сама? Быть может, в том была частично его вина, но думаю, что в гораздо большей степени это была моя собственная вина. Однако, пожалуй, сильнее всего в том была повинна молодость. В ту пору любовь неразрывно связана в нашей душе с потребностью счастья. Мне и тогда казалось, что я способна на слепую преданность, я и в самом деле приносила множество жертв; однако если моя любовь не вынесла этих слишком частых и слишком тяжелых жертв, значит, я, сама того не подозревая, была достаточно эгоистична. Но разве себялюбие — не свойство молодости? И не ее право? Да, без сомнения, ибо молодость жаждет счастья, она чувствует в себе силы искать его и полагает, что у нее достает сил его удержать. Молодость не была бы порой тревожных исканий и великих усилий, если бы человек в юности не был охвачен стремлением к грандиозным победам и жаждой неземного счастья. Какой след оставили в моей душе несбывшиеся надежды? Горькую уверенность в том, что они не могли, да и не должны были исполниться. Эти печальные плоды опыта принято называть благоразумием! Нелегко прогнать благоразумие, когда оно уже поселилось в нас, нелегко обрести его, когда мы еще недостаточно сильны, чтобы смириться с ним, но и уж вовсе бессмысленно и бесполезно проклинать его трезвые благодеяния и суровые советы. Вот и для меня настал день, когда надлежит приветствовать тебя, безжалостное благоразумие, и безропотно принять твой приговор! Чего же ты от меня хочешь? Говори, выскажись яснее! Должна ли я отказаться от любви? Ты, верно, отошлешь меня к моему собственному сердцу, оно должно ответить, способна ли я еще любить. Да, способна больше, чем когда бы то ни было, ибо любовь составляет сущность моей жизни, и чем сильнее я стражду, тем острее чувствую жизнь: когда я перестану любить, то перестану и страдать. Я страдаю — значит, я люблю и существую. От чего же мне следует в таком случае отказаться? От надежды на счастье? Конечно, мне и сейчас кажется, что я не могу уже больше надеяться; и все-таки надежда — это устремление, а человек не может не стремиться к счастью, это противно его естеству и его священному праву. Рассудок не может нам предписывать ничего, что нарушает законы природы!» Тут Лукреция пришла в некоторое замешательство, в мыслях она унеслась далеко, она слегка запуталась в умозрительных рассуждениях и в воспоминаниях, которые как будто не имели ничего общего с предметом ее раздумий. Однако все служит путеводной нитью для людей правдивых и прямодушных. Она отыскала путь в этом извилистом лабиринте и вернулась к прерванным рассуждениям. Терпение, читатель: если ты еще молод, ее размышления, быть может, сослужат тебе добрую службу.
«Прежде всего надо определить, что же такое счастье, — решила она. — Счастье бывает разное, в каждом возрасте — свое. В детстве думаешь о себе; в юности думаешь о том, как приобщить близкое тебе существо к своим радостям; в зрелом возрасте надо уже думать о том, что твоя собственная жизнь — удалась она или нет — неумолимо идет к концу и тебе следует заботиться исключительно о счастье ближнего своего. Я уже до времени говорила себе об этом, я это заранее предчувствовала, но сегодня ощущаю это гораздо отчетливее и полнее, чем прежде. Отныне я уже не буду черпать счастье в удовольствиях, цель которых — ублаготворить мое собственное «я». Разве я люблю своих детей потому, что мне приятно их видеть и ласкать? Разве моя любовь к ним уменьшается, когда они заставляют страдать меня? Ведь когда я вижу, что они счастливы, я и сама чувствую себя счастливой. Нет, в определенном возрасте и вправду есть только одна форма счастья — сознание, что ты делаешь счастливым другого. Безрассудно искать иного счастья. Ведь это означало бы попытку преступить божественный закон, который больше не позволяет нам покорять красотою и очаровывать наивностью.
Итак, ныне, больше чем когда бы то ни было, я буду стараться дать счастье тем, кого люблю, не обращая внимания на то, что они заставляют меня страдать, даже не придавая этому никакого значения. Поступая так, я буду следовать потребности любить, которую я еще испытываю, и стремлению к счастью, которое еще доступно для меня. Я больше не стану искать идеал на земле, не стану требовать полного доверия и неземных восторгов от любви, справедливости и благоразумия — от человеческой природы. Я буду принимать заблуждения и ошибки, уже не надеясь исправить их и радоваться плодам своей победы, я буду стремиться смягчить и уменьшить своей нелепостью то зло, какое они причиняют тем, кто их совершает. Таков непреложный вывод из опыта всей моей жизни. Наконец-то мне открылось это решение, и отныне оно будет освещать мой путь, как солнце, вышедшее из-за туч». Прежде чем покинуть оливковую рощу, Лукреция еще немного помечтала, чтобы прийти в себя после тягостных раздумий. Она вновь вспомнила свои недавние мечты о счастье с Каролем, о том счастье, которое, как ей казалось, она могла ему дать. И сказала себе, что было непростительной ошибкой с ее стороны лелеять подобные мечты, после того как она столько раз жестоко заблуждалась и разочаровывалась; и тут же она стала вопрошать себя, должна ли она смиренно принять это ниспосланное ей Богом испытание или же вправе посетовать на столь тяжкий искус. Какой блестящей и сладостной была эта короткая пора ее последней любви! То была самая чистая и самая пылкая страсть в ее жизни, и она уже безвозвратно миновала! Лукреция хорошо понимала: бессмысленно надеяться, что подобная любовь может повториться с другим человеком, ибо на земле невозможно отыскать вторую натуру, столь же страстную и неповторимую, как у Кароля, вторую душу, которая способна так загораться, приходить в такой восторг и выказывать такое преклонение перед любимой. «Но разве Кароль уже не тот, что прежде? — думала она. — Разве, освобождаясь от власти демона, который его терзает, он не становится таким же, как раньше? Напротив, в такие минуты кажется, что он еще более пылок, еще сильнее опьянен любовью, чем в первые дни. И разве я не могу привыкнуть к необходимости страдать дни и недели, зная, что меня ждут часы небесных восторгов, когда можно обо всем позабыть?» Но тут мечты Лукреции, точно молния, безжалостно осветил зловещий луч истины. Внезапно она поняла, что ее ум, более трезвый и уравновешенный, чем у Кароля, не дает ей ни на минуту забыть о нравственных терзаниях. Даже в объятиях возлюбленного она обречена помнить о его оскорбительной ревности, ибо она лишена той ужасной и странной способности, которая позволяет иным людям презирать то, чему они поклоняются, и поклоняться тому, что они презирают. Она не могла больше верить в счастье, ибо больше не испытывала его. Она утратила всякую надежду на счастье. — Прости меня, Господи! — воскликнула она. — Прости за то, что я в последний раз позволила себе пожалеть о дивной радости, которую ты даровал мне так поздно и которую отнял у меня так скоро! Я не стану богохульствовать и роптать, не стану говорить, что ты играл моим сердцем. Ты пожелал ослепить мой разум, я этому не воспротивилась. Как всегда, я простодушно предалась любовным восторгам и даже теперь, в скорби и отчаянии, не забываю о том, что мое безумие было счастьем. Будь же благословен, о Господи. И да будет благословенна рука, что дарует радость и муку! Навсегда простившись с дорогими ее сердцу надеждами, Флориани почувствовала нестерпимую боль. Она залилась слезами и упала на землю. Теснившие ее грудь рыдания вырвались наружу. Она в последний раз дала волю слабости, горестным воплям и слезам. Когда, устав от рыданий, Лукреция наконец успокоилась, она простилась со старым оливковым деревом, свидетелем ее первых радостей и последних борений с собою. Она вышла из рощи и уже никогда больше туда не возвращалась; но с той поры она всегда выражала желание испустить свой последний вздох под ее хранительной сенью; и всякий раз, когда Лукреция чувствовала, что силы ее слабеют, она смотрела из окон виллы на священную рощуи думала о горькой чаше, которую она там испила до дна; мысль об этом последнем испытании помогала ей не поддаваться ни пустым надеждам, ни отчаянию.
XXX
Вот я и подошел, любезный читатель, к тому рубежу, который сам для себя наметил, и все дальнейшее будет с моей стороны просто уступкой тем, кто непременно жаждет хоть какой-нибудь развязки. Бьюсь об заклад: ты, здравомыслящий читатель, придерживаешься того же мнения, что я, и находишь развязки совершенно бесполезными. Если бы я мог следовать в этом вопросе своему убеждению и своей фантазии, ни одно мое произведение не имело бы конца и оттого еще больше походило бы на действительную жизнь. Много ли вам известно любовных историй, которые можно считать полностью исчерпанными после разрыва или после наступления поры безоблачного счастья, после измены или после совершения таинства брака? Много ли вам известно событий, которые могут служить залогом того, что жизнь нашего сердца пребудет неизменной? Я согласен, что не может быть ничего лучше принятой в старину развязки повествования: «Они прожили еще много лет и всегда были счастливы». Так писали авторы в древности, в мифические времена. Счастливая то была пора, когда люди верили в столь сладостную ложь! Ныне мы больше ни во что не верим, мы смеемся, когда нам попадается на глаза столь очаровательная присказка. Роман — это всего лишь один эпизод жизни. Я подробно рассказал вам то, что можно было рассказать о любви князя фон Росвальда и актрисы Лукреции Флориани, соблюдая единство места и единство времени. Вам угодно теперь узнать, что было с ними дальше? Но разве вы сами не могли бы мне об этом рассказать? Разве вы, как и я, не видите, куда ведут характеры моих персонажей? Разве вам непременно нужно знать факты? Если вы на этом настаиваете, я буду краток и не преподнесу вам никакого сюрприза, о чем предупреждал заранее. Они долго любили друг друга и были очень несчастливы. Их любовь была жестокою битвой, и каждый хотел всецело подчинить себе другого. Однако была между ними разница: Лукреция стремилась изменить нрав Кароля и умиротворить его душу, чтобы даровать ему то счастье, какое только возможно на земле, он же стремился совершенно переделать ту, кого боготворил, чтобы во всем уподобить ее себе и заставить вкушать вместе с ним счастье, которое на земле невозможно. Разумеется, если бы я захотел подробно рассмотреть и исследовать все, что происходило между ними, мне пришлось бы написать еще десять томов, ибо каждый год, который они прожили, прикованные к одному ядру, составил бы целый том. Все эти томы были бы, пожалуй, весьма назидательны, но могли бы стать еще более монотонными, чем все главы этого романа. А потому скажу только, что Флориани сносила все несправедливые придирки своего возлюбленного с необычайной твердостью, а Кароль с непостижимым упорством не замечал самоотверженной преданности своей возлюбленной. Ничто не могло излечить его от ревности, ибо владевшая им страсть была такова, что ослепляла и ожесточала его. Должно быть, ни один мужчина так пылко не любил женщину, клевеща на нее при этом и унижая в своем сердце. Лукреция всю жизнь молила Бога послать ей человека, который был бы способен на такую же самозабвенную любовь, на какую была способна она сама. Она получила все это с избытком: Кароль, можно сказать, извергал на нее потоки любви, но, увы, смешанной с желчью. Предсказания Сальватора между тем сбывались. Многим стало известно прибежище, где укрылась Флориани, и они захотели засвидетельствовать ей свое почтение. Явились старинные друзья, это были разные люди. Приехал в свой черед и Боккаферри; кстати, оказалось, что ему уже под семьдесят. Никто из посетителей не подал даже малейшего повода для ревности, но Кароль ко всем жестоко ревновал Лукрецию и всех ненавидел. Флориани мужественно защищала достоинство тех, кто заслуживал уважения. Некоторых она, смеясь, предала во власть Кароля. Но чаще всего она вела себя с величайшей осмотрительностью. Тем не менее она не желала проявлять малодушие и прогонять в угоду своему возлюбленному людей несчастных и вполне достойных участия и жалости. Он вменял ей это в вину, чуть ли не в преступление, и когда десять лет спустя кто-либо случайно упоминал в разговоре имя такого человека, князь восклицал с убежденностью, которая была бы смешна, не будь она так прискорбна: «Я никогда не смогу забыть того зла,какое причинил мне этот человек!» А все «зло» заключалось в том, что Лукреция не выставила беднягу за дверь без всяких на то причин.Она пыталась как-нибудь развлечь своего возлюбленного, уговаривала его путешествовать, сама на некоторое время уезжала. Он всюду влачил за собой груз ревности, он ненавидел кучеров почтовых дилижансов и содержателей постоялых дворов, во время путешествия не смыкал глаз, боясь, как бы не украли его сокровище. Он швырял деньги направо и налево, но никому не хотел уступить даже мимолетной улыбки своей возлюбленной. Когда он разлучался с Лукрецией на несколько недель, его снедала все та же тревога, он чувствовал себя больным, потому что никому не мог доверить своих ревнивых подозрений и не мог осыпать горькими упреками ту, которая, сама того не желая, была причиной его беспокойства. И ей приходилось вновь призывать Кароля к себе. Как только он опять обретал возможность мучить ее, к нему тотчас же возвращались здоровье и вкус к жизни. Он так сильно любил, был так ей верен, так предан, так поглощен ею, он говорил о ней с таким уважением, что женщина суетная была бы этим необыкновенно горда. Однако Лукреция даже врагу своему не пожелала бы такого счастья! В конце концов Кароль восторжествовал, как это всегда бывает, когда человек упрямо и настойчиво добивается какой-либо цели. Он снова увез Флориани на ее виллу, которая все же была наиболее укромным местом из всех, какие только можно было найти, и там принудил ее жить столь замкнуто и уединенно, что многие думали, будто она умерла еще задолго до того, как она умерла на самом деле. Лукреция угасала, как пламя, лишенное притока воздуха. Она была обречена на медленную, но непрестанную муку. Нужны годы, чтобы мелкими придирками довести до гибели сильного и душой, и телом человека. Она привыкла ко всему: никто не умел с такою легкостью отказываться от жизненных удовольствий. Могло показаться, что Лукреция противится Каролю, на самом же деле она всегда уступала ему: она воспротивилась бы только тем его капризам, которые могли нанести ущерб ее детям. Но хотя Кароль страдал оттого, что она делила свою любовь между ним и детьми, он никогда не пытался даже на минуту отдалить их от матери. Он употреблял всю свою волю и самообладание на то, чтобы они ненароком не обнаружили, что Лукреция — его жертва, а он — ее полновластный господин. Он так хорошо играл свою роль, а Лукреция казалась такой спокойной, так ровно держала себя, что никому и в голову не приходило, как она несчастна; мало-помалу дети привязались к князю, и только Челио никогда первый не заговаривал с Каролем, хотя всегда бывал с ним вежлив. Живя как затворница, Флориани не скучала без общества и друзей. В свое время она добровольно их покинула и теперь вновь поступила так же; правда, она делала это в угоду Каролю, но совсем не испытывала горечи. Она любила уединение, природу, домашнюю работу. Она целиком посвятила себя воспитанию детей и обучала Челио актерскому мастерству: он страстно любил театр. Между тем Кароль, у которого не осталось наконец поводов для ревности, нашел себе другое занятие: он ополчился против всего, что делала Лукреция, даже против ее мыслей и взглядов. Он на каждом шагу преследовал ее, сохраняя при этом изысканную учтивость. Их вкусы и мнения ни в чем не совпадали. Князя снедало безделье; всю свою волю и все свое время он посвятил одному — обладанию женщиной, он стал ее бдительным тюремщиком и жестоким деспотом. Несчастная Лукреция увидела, что ее последняя радость отравлена: владевший Каролем дух противоречия, упрямое желание по любому поводу затевать спор побуждали его с какой-то ребяческой назойливостью вмешиваться даже в то, что было для нее святыней, самым дорогим и чистым на свете. Она была неправа, соглашаясь на то, чтобы Челио стал актером: это низкое ремесло. Она была неправа, обучая Беатриче пению, а Стеллу — живописи: женщинам не пристало быть чересчур артистичными. Она была неправа, разрешая своему отцу копить деньги. Словом, она была неправа, потому что не боролась против влечений и желаний своих близких; кроме того, она была неправа, потому что любила животных, разводила астры, предпочитала синий цвет белому. Так или иначе, но она всегда и во всем была неправа!.. В один прекрасный день Флориани исполнилось сорок лет. Она уже не была хороша собой; бездействие, на которое ее против воли обрекли, претило ее деятельной натуре. Она похудела, лицо у нее пожелтело, и если бы она не сохранила присущее ей достоинство и спокойное изящество, открытую улыбку и проникновенный взгляд чудесных глаз, то трудно было бы смотреть на нее без боли. А ведь эта женщина была в свое время первой красавицей Италии! Правда, князь, по вине которого она все больше старела и дурнела, как и прежде находил ее обворожительной и полагал, что она может смутить покой любого из смертных. Он был влюблен в Лукрецию так же сильно, как в первые дни, он просто представить себе не мог, что найдется хотя бы один молодой человек, который не влюбится в нее без памяти, если, по несчастью, увидит ее. Сама же Лукреция вдруг ощутила страшную усталость от того, что для нее наступила преждевременная старость, которая принесла с собой недуги и страдания, но не дала желанных плодов: ведь она так и не сумела внушить доверие своему возлюбленному, не сумела завоевать его уважение, не сумела заставить относиться к ней не только как к любовнице, но и как к другу. Она горестно думала, что в молодости тщетно старалась внушить к себе любовь, а в зрелом возрасте — почтение. А между тем она ощущала, что и прежде, и теперь заслуживала того, к чему стремилась. Однажды вечером она обняла своих детей и сказала им: «Вы для меня — всё, и если мне хочется прожить еще несколько лет, то только ради вас». Она произнесла эти слова таким тоном, что дети, чью безмятежность никогда еще ничто не нарушало, невольно затрепетали. И в самом деле Флориани больше уже не любила Кароля. Он слишком долго злоупотреблял ее добротою, и чаша терпения переполнилась; когда же в полный до краев сосуд все еще нагнетают жидкость, он лопается. Лукреция по-прежнему хранила молчание, она ничего не говорила даже Сальватору, который приехал наконец повидаться с нею (граф, кстати сказать, так и не мог по-настоящему примириться с князем). Она чувствовала, что внутри у нее что-то сломалось, но она была мужественна и не хотела верить в близость смерти. Ей хотелось дождаться по крайней мере дебюта Челио, замужества Стеллы. За день до смерти она строила с ними самые радужные планы на будущее; но, увы, любовь была стержнем ее жизни: перестав любить, она должна была перестать и жить. На следующее утро Лукреция направилась в хижину своего отца; ее сопровождал Челио. Со стороны могло показаться, будто она чувствует себя лучше, потому что лицо у нее слегка отекло; она никогда не жаловалась на недомогание, чтобы не пугать детей. Она дружески подшучивала над Биффи, который вырядился ради воскресенья. Потом, услышав, что звонят к завтраку, Лукреция поднялась с места. Внезапно она громко вскрикнула, изо всех сил сжала шею сына и с улыбкою вновь опустилась на стул, на котором еще девочкой столько раз сидела за прялкой. Челио уже исполнилось двадцать два года, он был красив, высок и силен; решив, что мать в обмороке, он поднял ее на руки и понес к дому. У калитки в парк он столкнулся с Каролем и Сальватором Альбани, которые направлялись к хижине, чтобы позвать Лукрецию завтракать. Кароль ничего не понял и застыл на месте как изваяние. Сальватор же сразу обо всем догадался; не испытывая жалости к князю, которого он считал повинным в смерти Флориани, он слегка подтолкнул его и тихо сказал: — Бегите к детям, уведите их куда-нибудь, это зрелище их убьет. Она умерла! Эти слова как громом поразили Челио. Он взглянул на лицо матери и понял, что она и в самом деле мертва, хотя глаза у нее были еще открыты, а на губах застыла спокойная улыбка. Он лишился сознания и, не выпуская из рук бездыханное тело Лукреции, рухнул на землю. Кароль ничего не видел и не замечал. Прошел час, а он все стоял в одиночестве возле входа в парк, ошеломленный и остолбеневший. Прямо против него на каменной ограде еще можно было различить стихотворную строку, которую не стерли до конца ни время, ни дожди:
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate! [57]
Умер ли он? Сошел ли с ума? Было бы очень легко расправиться с ним таким способом, но я не скажу больше ни слова… Разве только у меня возникнет желание начать новый роман, где Челио, Стелла, оба Сальватора, Беатриче, Менапаче, Биффи, Теальдо Соави, Вандони и даже Боккаферри займут свое место вокруг князя Кароля. Довольно и того, что я убил главное действующее лицо повествования, я вовсе не обязан вознаграждать, наказывать или поочередно приносить в жертву остальных действующих лиц.
Жорж Санд Маркиз де Вильмер
I
Письмо госпоже Камилле Эдбер (в Д*** через Блуа)«Милая сестра, тебе нет причин тревожиться: я благополучно добралась до Парижа и даже не устала. Поспала несколько часов, выпила чашечку кофе, привела себя в порядок. Сейчас найму фиакр и отправлюсь к госпоже д'Арглад, а она уже представит меня госпоже де Вильмер. Нынче же вечером опишу тебе, как прошла знаменательная встреча, а пока посылаю эту записочку, чтобы ты не беспокоилась о моем здоровье и исходе поездки. Не падай духом, дорогая, все еще сложится к лучшему. Господь не оставляет тех, кто уповает на его милость и кто из последних сил старается исполнить волю всевышнего. Расстаться с вами было так трудно, меня удерживали дома ваши слезы. Стоит мне о них подумать, я сама чуть не плачу, но пойми, так было нужно! Не могла же я сидеть сложа руки, когда ты бьешься с четырьмя детьми. Я вполне здорова, сильна духом, и, кроме тебя и наших милых ангелочков, у меня нет никого на свете. Так кому же, как не мне, было отправиться на поиски хлеба насущного? Уверяю тебя, я добьюсь успеха! Только умоляю — не жалей меня и не сокрушайся, лучше поддерживай меня. На этом кончаю, дорогая сестра, крепко целую тебя и деток. Не доводи их до слез разговорами обо мне. Только бы они не забыли меня, не то я сильно опечалюсь.
3 января 1845 Каролина де Сен-Жене»
Письмо второе. Ей же
«Поздравь меня с большой победой, сестричка! Я только что вернулась от нашей именитой госпожи. Успех превзошел все ожидания. Сейчас расскажу; сегодня у меня, вероятно, последний свободный вечер, так что на досуге я опишу тебе подробно нашу встречу. Мне так и кажется, что я болтаю с тобой у камина, укачиваю Шарло и забавляю Лили. Милые детки, что они сейчас поделывают? Им и в голову не придет, что сижу я одна-одинешенька в унылой комнате, потому что, боясь стеснить госпожу д'Арглад, устроилась в небольшой гостинице. Зато у маркизы мне будет очень удобно, а этот вечер я проведу в уединении, соберусь с мыслями и подумаю о вас. Хорошо, что я не рассчитывала на пристанище, которое предложила госпожа д'Арглад; она оказалась в отлучке, и мне пришлось набраться храбрости и самой представиться маркизе де Вильмер. Ты просила описать ее, изволь: ей, вероятно, около шестидесяти, но она совсем беспомощна и редко встает из кресел; и лицо у нее такое измученное, что с виду ей дашь не меньше семидесяти пяти лет. Красавицей она, вероятно, никогда не была и хорошим сложением не отличалась, но во всей ее стати есть что-то выразительное и характерное. Волосы у нее очень темные, замечательные глаза, которые смотрят сурово и в то же время прямодушно. У ней длинный нос, чуть ли не до верхней губы. Рот, некрасивый и очень большой, обычно искривлен высокомерной гримасой. Но стоит маркизе улыбнуться, а улыбается она охотно, — и лицо ее становится одухотворенным. Мое первое впечатление подкрепила наша беседа. Женщина она, видимо, очень добрая, но не от природы, а по рассудку, натура скорее волевая, нежели жизнерадостная. Она наделена острым умом и хорошо образована. Словом, мало отличается от портрета, нарисованного нам госпожой д'Арглад. Когда меня привели в комнаты, маркиза сидела одна. С подчеркнутой любезностью она усадила меня рядом, и вот вкратце наша беседа: — Мне вас настоятельно рекомендовала госпожа д'Арглад, которую я глубоко уважаю. Я знаю, вы из хорошего дома, не без способностей, отличаетесь покладистым нравом и безупречной репутацией. Поэтому мне искренно хотелось бы с вами договориться и сойтись к нашему взаимному удовольствию. А для этого нужно, чтобы, во-первых, вам подошли мои предложения, и, во-вторых, чтобы не чересчур отличались наши взгляды на жизнь, иначе не миновать частых разногласий. Обсудим первое условие: я вам кладу тысячу двести франков в год. — Мне говорили об этом, сударыня, и я согласна. — Меня предупреждали, что, вероятно, вознаграждение покажется вам недостаточным. — Говоря по правде, положение мое таково, что эта сумма не покроет всех моих нужд, но госпожа маркиза не станет поступаться своими интересами, и коли я к вам пришла… — Вы считаете, что жалованье слишком мало? Не кривите душой. — Так определенно я не сказала бы, но, очевидно, оно больше, чем стоят мои услуги. — Я этого не говорила, а вы так утверждаете из скромности. Стало быть, вы опасаетесь, что назначенной суммы вам не хватит на содержание? Пусть это вас не заботит, я все улажу. У меня вы станете тратить только на наряды, а по мне, пусть они будут самые скромные. А вы любите наряжаться? — Да, сударыня, очень люблю, но если вы не требовательны по части платьев, я сумею обойтись самым необходимым. Я ответила так искренно, что маркиза даже удивилась. Вероятно, мне нужно было, победив привычку, отвечать не так поспешно. Маркиза немного помолчала, потом, улыбнувшись, сказала: — Вот как? А почему вы любите наряды? Вы молоды, хороши собой и бедны; полагаю, у вас нет ни надобности, ни права тратить на них деньги. — По правде говоря, так мало права, — ответила я, — что, как видите, я одета очень скромно. — Все это так, но вы страдаете, что ваше платье не по моде? — Нет, сударыня, ни капельки; я утешаюсь тем, что так нужно. Я, вероятно, необдуманно сказала вам, что люблю наряды, и вот теперь вы подозреваете меня в легкомыслии. Отнесите этот ответ за счет моего простодушия, сударыня. Вы спросили, какие у меня вкусы, и я ответила так, точно имела честь быть с вами давно знакомой. Очевидно, я допустила неловкость, простите меня. — Иначе говоря, — продолжала маркиза, — знай я вас издавна, мне было бы известно, как покорно и безропотно вы сносите тяготы вашего положения? — Вы совершенно правы, сударыня. — Хорошо. Такая неловкость мне по душе. Искренность я ценю превыше всего и даже почитаю ее больше рассудительности… Посему будьте со мной чистосердечны и скажите, отчего за ничтожное жалованье вы пошли компаньонкой к старой, больной женщине, которая вдобавок, вероятно, и очень скучна? — Во-первых, сударыня, мне сказали, что вы остроумны и добры, стало быть, скучать мне с вами не придется; но даже если меня не ждут развлечения, мой долг велит покорно сносить все и не сидеть сложа руки. Мой отец не оставил нам ничего, но сестра счастливо вышла замуж, и я жила с ней, не зная забот. Ее муж, своим достатком обязанный только службе, недавно умер, и его долгая и тяжкая болезнь поглотила все наши сбережения. Разумеется, теперь сестру с четырьмя детьми должна содержать я. — На тысячу двести франков? — изумилась маркиза. — Помилуйте, но это невозможно. Боже мой, госпожа д'Арглад даже не обмолвилась об этом. Она, конечно, опасалась, как бы ваше бедственное положение не внушило мне недоверия. Как она меня плохо знает! Ваша самоотверженность привлекает меня, и если к тому же мы друг с другом сговоримся, вы, несомненно, почувствуете мое к вам расположение. Доверьтесь мне, и я с радостью помогу вам. — Ах, сударыня, — отвечала я, — не знаю, посчастливится ли мне попасть в ваш дом, но позвольте поблагодарить вас за доброту и великодушие. — И с этими словами я проворно поцеловала руку маркизы, к явному ее удовольствию. — А вдруг окажется, — сказала маркиза, помолчав и словно усомнившись в правильности первого впечатления, — что вы легкомысленны и немного ветрены? — Этих недостатков за мной не водится. — Надеюсь, но вы очень привлекательны. Это от меня тоже скрыли, а теперь чем внимательнее на вас смотрю, тем больше убеждаюсь, что вы удивительно хороши собой. Говоря по правде, меня это несколько тревожит. — Отчего же, сударыня? — Отчего? Ваш вопрос вполне законен. Видите ли, дурнушки почитают себя красавицами и, стараясь понравиться, выглядят смешными. Пожалуй, то, что вы привлекательны, стоит счесть за благо… Лишь бы вы этим не злоупотребляли. Послушайте, если вы вправду такая хорошая девушка и вдобавок сильная натура, расскажите мне немного о вашем прошлом. Любили ли вы кого-нибудь? Любили, не так ли? Иначе и быть не может. Вам двадцать два или двадцать три года… — Мне, сударыня, двадцать четыре, но я могу рассказать вам только о единственном моем увлечении, да и то в двух словах. В семнадцать лет за меня сватался один господин. Он нравился мне, но, узнав, что мой отец завещал нам одни долги, сразу пошел на попятный. Я очень огорчилась, но забыла его и поклялась никогда не выходить замуж. — Вы забыли о нем только из досады! — Нет, сударыня, по здравому рассуждению. У меня нет приданого, но есть некоторые достоинства. Неразумный брак меня не привлекает, и я не только не досадовала, а даже простила того, кто оставил меня; простила ему все в тот день, когда увидела, что моей сестре и ее детям грозит нищета, и поняла, как страдает умирающий отец, которому нечего оставить своим сиротам. — А вы встречались потом с этим вероломцем? — Никогда. Он женился, и я его вычеркнула из памяти. — И с тех пор вы ни о ком не помышляли? — Ни о ком, сударыня. — Как вам это удалось? — Сама не знаю. Очевидно, было недосуг думать о себе. Когда люди очень бедны и борются с нищетой, у них всегда пропасть дел. — Но вы так красивы! Вероятно, многие добивались вашей благосклонности? — Нет, сударыня, такой человек не появился, да я и не верю, что кто-нибудь станет ухаживать за женщиной, если она его не поощряет. — Рада это слышать, тут мы с вами единомышленницы. Стало быть, в будущем вы за себя не боитесь? — Я ничего не боюсь, сударыня. — А вы не думаете, что это сердечное одиночество омрачит вам душу и озлобит вас? — Нет, не думаю. У меня по природе веселый прав. Даже в самые тяжелые годы я не теряла бодрости духа. О любви я не мечтаю — к фантазиям не склонна и вряд ли уже смогу перемениться. Вот, сударыня, и все, что могу о себе рассказать. Угодно вам принять меня в дом такой, какой я себя представила? Ведь иной представиться вам я не могла — иной я себя не знаю. — Да, я принимаю вас такой, какая вы есть: красивая, чистосердечная, сильная духом. Остается лишь выяснить, есть ли у вас те маленькие таланты, которые мне требуются. — Что мне нужно делать? — Во-первых, болтать со мной, но тут я совершенно удовлетворена. Потом читать мне вслух, немного играть на фортепьяно. — Испытайте меня сейчас же, и если вы останетесь довольны моими скромными дарованиями… — Да, да, — сказала маркиза, давая мне в руки книгу, — почитайте мне. Я хочу полностью плениться вами. Не успела я закончить страницу, как маркиза отняла у меня книгу, заметив, что читаю я превосходно. Теперь дело было за музыкой. В комнате стояло фортепьяно. Маркиза спросила, умею ли я играть с листа, и поскольку я в этом довольно сильна, мне не составило труда угодить ей и на этот раз. Под конец маркиза сказала, что знает мой почерк и слог по письмам, которые ей показывала госпожа д'Арглад, и надеется, что я прекрасно справлюсь с обязанностями секретаря. Потом она отпустила меня и, протянув руку, наговорила на прощание много любезностей. Я попросила освободить меня на завтрашний день, чтобы навестить кой-кого из знакомых, и маркиза разрешила перебраться к ней в субботу… Милая сестра, от этого письма меня оторвали. Какая приятная неожиданность! Госпожа де Вильмер прислала записку, всего несколько слов, которые я тут же переписываю для тебя. «Позвольте, прелестное дитя, в счет будущего жалованья послать небольшую сумму для детей вашей сестры и это платье для вас. Вы любите наряжаться, а можно ли не потакать слабостям тех, кого любишь? Итак, решено — ежемесячно вы будете получать сто пятьдесят франков, а вашим гардеробом я займусь сама». Как маркиза добра и по-матерински великодушна! Я знаю, что всем сердцем полюблю эту женщину, которую еще недостаточно оценила. Она намного добрее, чем я думала. Вкладываю в конверт ассигнацию в пятьсот франков. Скорей запасись дровами, купи шерстяные юбочки для Лили и время от времени лакомьтесь цыплятами. Себе купи вина, у тебя же больной желудок, но его не так трудно вылечить. Не забудь переложить в комнате камин — он страшно дымит, просто нестерпимо. Дым может повредить глазам детей, а у моей крестницы они такие красивые! Смотрю на подаренное платье и сгораю со стыда. Платье изумительное, серебристо-серое. И зачем только я сказала, что люблю наряды? Как это глупо. Я вполне удовлетворилась бы платьем за сорок франков, а что вышло! Сама буду носить платье за двести франков, а бедная сестра штопает старые лохмотья. Право, мне так совестно, но не думай, что этот подарок меня унижает. Уверена, что полностью отплачу маркизе за ее доброту ко мне. Видишь, Камилла, стоило мне взяться за дело, как сразу нам везет! Сразу я попала к прекрасной женщине, жалованье получила большее, чем рассчитывала, и вдобавок меня балуют и лелеют, как ребенка, которого собираются удочерить. А ты целых полгода отговаривала меня от поездки, во всем себе отказывала и из себя вон выходила при одном упоминании, что из-за тебя я хочу работать. Выходит, плохая ты мать, сестричка! Разве наши дорогие дети не важнее всего на свете, даже нашей взаимной привязанности? Честно говоря, я боялась, что затея провалится. Я истратила на дорогу последние деньги, а могла маркизе не понравиться и вернуться домой ни с чем. Но господь не оставил меня, сестра! Все утро я молилась ему и просила, чтобы он наделил меня красноречием, обходительностью и кротостью. Сейчасложусь спать — совсем падаю от усталости. Тебя, дорогая моя, люблю больше всего на свете и крепче самой себя. Ты только меня не жалей: сегодня я счастливейшая из смертных, хотя мы и в разлуке и мне нельзя взглянуть на спящих малышей. Теперь ты видишь сама, что эгоизм не приносит счастья. Я здесь одна, я покинула все, что так дорого сердцу, но перед сном я стану на колени и, плача от радости, возблагодарю господа за все. Каролина»
Пока мадемуазель де Сен-Жене писала письмо сестре, маркиза де Вильмер беседовала в будуаре с младшим сыном. Ее просторный дом в Сен-Жерменском предместье приносил хороший доход, но маркиза, некогда богатая, а нынче сильно стесненная в средствах (причину читатель узнает позже), занимала с недавнего времени третий этаж, сдавая второй внаем. — Скажите, матушка, — спросил маркиз, — вы довольны новой компаньонкой? Слуги сообщили мне о ее приезде. — Дорогой мальчик, — отвечала маркиза, — могу сказать вам, что она меня очаровала. — Правда? Чем же? — Право, не знаю, надо ли вам это говорить. Боюсь, как бы от одного рассказа вы не потеряли голову! — Напрасно боитесь, матушка, — невесело отозвался молодой человек, хотя маркиза явно старалась рассмешить его, — будь я непомерно влюбчив, я и тогда не забывал бы о долге беречь фамильную честь и заботиться о вашем спокойствии. — Да, друг мой, я знаю, что, имея дело с вами, можно не тревожиться: вы не уроните нашего доброго имени. Посему скажу вам так: эта душечка д'Арглад прислала мне жемчужину, алмаз, и из-за этого чуда природы я сразу наделала глупостей. Маркиза пересказала беседу с Каролиной и так описала сыну ее внешность: — Рост у нее, пожалуй, средний, сложена прекрасно, маленькие ступни, детские руки, густые пепельные волосы. Черты изящные, цвет лица — кровь с молоком, зубы жемчужные, небольшой правильный нос, прекрасные большие глаза, зеленые, как море, которые смотрят решительно и прямо, без лишней томности и притворной робости, искренно и доверчиво, а это всегда привлекает и располагает к себе. На провинциалку она не похожа, манеры такие хорошие, что даже их не замечаешь. В ее скромном платье много вкуса и утонченности. В ней есть все, чего я боялась, и нет ни капли того, что меня пугало. Иначе говоря, красота ее поначалу внушила мне недоверие, но безыскусность и непритязательность рассеяли всякие сомнения. А какой у нее голос и произношение! Чтение превращается в настоящую музыку. Потом она явно даровитая музыкантша: словом, все свидетельствует об ее уме, трезвости, кротости и доброте. Преданность ее сестре, которой она, конечно, приносит себя в жертву, настолько тронула и поразила меня, что я, забью о бережливости, назначила ей жалованье куда большее, чем собиралась. — Она торговалась с вами? — спросил маркиз. — Напротив, сразу приняла то, что я ей положила. — В таком случае, матушка, вы поступили похвально, и я счастлив, что наконец станете делить досуг с достойной собеседницей. Слишком долго вы терпели рядом эту старую деву, лакомку и соню, которая только докучала вам. Теперь же, когда ее сменило настоящее сокровище, было бы грешно не оценить его по достоинству. — То же самое сказал мне ваш брат, — ответила маркиза. — Вы оба, мои дорогие, не любите считать деньги, и боюсь, не слишком ли поспешила я завести себе такую дорогую забаву. — Но вы так в ней нуждались, — живо отозвался маркиз, — и вам не стоит упрекать себя за доброе дело. — Возможно, друг мой, но все же я поторопилась, — озабоченно сказала маркиза. — Человек не всегда вправе делать добро. — Ах, матушка! — воскликнул маркиз, и в голосе его прозвучали негодование и горечь. — Если вы решитесь отказаться даже от радости подавать милостыню, каким же преступником в ваших глазах должен выглядеть я? — Преступником? Вы? О чем вы? — возразила встревоженная мать. — Дорогой друг, вы никогда ничего дурного не совершали. — Простите, матушка, — взволнованно продолжал маркиз, — я совершил преступление в тот день, когда из уважения к вам обязался заплатить долги старшего брата. — Молчите! — бледнея, воскликнула маркиза. — Никогда не заводите этого разговора. Мы все равно не поймем друг друга. И желая смягчить невольную резкость своих слов, она протянула маркизу руки. Он поцеловал их и немного погодя удалился. На следующий день Каролина де Сен-Жене вышла из гостиницы, чтобы отправить письмо сестре и навестить кой-кого из знакомых, с которыми, живя в провинции, она поддерживала переписку. Это были старинные друзья ее семейства. Одних она не застала дома, другим оставила визитные карточки, не указав адреса, поскольку собственного пристанища у нее больше не было. Каролине взгрустнулось — она чувствовала себя такой потерянной и несвободной в этом чужом городе. Но она не стала долго размышлять о своей незавидной судьбе. Она раз и навсегда запретила себе расслабляющую меланхолию (боязливость была ей не свойственна), и самое тяжкое испытание не могло ожесточить ее и озлобить. Каролина отличалась поразительной жизненной силой, энергией тем более замечательной, что сочеталась она с трезвой рассудительностью и полным отсутствием эгоизма. В дальнейшем мы по мере сил постараемся раскрыть и объяснить этот редкий человеческий характер. Читателю же необходимо помнить одну тривиальную истину, а именно: невозможно объяснить и растолковать до конца характер другого человека. Ведь в душевных глубинах таятся некие силы или слабости, и зачастую человек не может их проявить только потому, что сам себя не понимает. Да не посетует читатель, если наше истолкование лишь приблизится к истине, ибо полностью охватить ее невозможно и никто до конца не прояснит и не разгадает вечную тайну человеческой души.
II
Итак, Каролина разъезжала в омнибусе и гуляла по парижским улицам, грустя и радуясь большому городу, где она выросла в полном достатке и откуда в лучшую пору своей жизни уехала, не имея ни гроша за душой и никаких надежд на будущее. Дабы впредь не возвращаться к прошлому Каролины, вкратце расскажем читателю о тех печальных, но обыденных житейских перипетиях, о которых она вскользь сообщила маркизе де Вильмер. Каролина была дочерью дворянина из Нижней Бретани, жившего в окрестностях Блуа, и девицы де Гражак, родом из Веле. Мать свою она помнила смутно. Госпожа де Сен-Жене умерла на третьем году замужества, произведя на свет Камиллу и заручившись обещанием Жюстины Ланьон, что в течение нескольких лет она станет растить ее детей. Жюстина Ланьон, по мужу Пейрак, была дородная и добрая крестьянка из Веле. По своей воле она прожила в доме господина де Сен-Жене восемь лет; сперва нянчила Каролину, потом уехала к своей семье, но вскоре вернулась и, вместо того чтобы вскармливать молоком своего второго ребенка, выкормила младшую дочь «дорогой своей барыни». Благодаря Жюстине Ланьон Каролина и Камилла узнали материнскую заботу и ласку. Однако их вторая мать не могла оставить собственного мужа с детьми на произвол судьбы. В конце концов ей пришлось уехать в деревню, а господин де Сен-Жене отвез дочерей в Париж, где они получили воспитание в одном модном монастыре. Но поскольку парижская жизнь была ему не по карману, он снял себе комнату и наведывался в столицу два раза в год, на пасху, и на каникулы, которые проводил как подобает состоятельному человеку. Целый год он копил деньги, чтобы в эти дни семейного веселья ни в чем не отказывать дочерям: то были прогулки, концерты, посещения музеев, паломничества в королевские замки, лукулловы пиры, словом — все утонченные прелести наивной, патриархальной и в то же время бесшабашной жизни. Дочерей своих отец боготворил. Они были прекрасны как ангелы, и доброта их не уступала красоте. Как он любил гулять с изящно одетыми дочерьми, лица которых были гораздо свежее платьев и лент, только накануне купленных в лавке! Он показывал своих прелестниц солнечному, яркому Парижу, где почти никого не знал, но где взгляд любого прохожего был ему дороже, чем самые горячие знаки внимания всей провинции. Превратить этих обворожительных барышень в парижанок — истинных парижанок — он мечтал всю жизнь. Ради этого он был готов растратить все свое состояние, в чем, впрочем, и преуспел. Эта приверженность к веселой парижской жизни совсем еще недавно была поистине роковой страстью, владевшей не только большинством зажиточных провинциалов, но целыми сословиями. Каждый знатный иностранец, мало-мальски просвещенный, бросался очертя голову в Париж, словно школьник на рождественских каникулах, с болью в сердце расставался с этим городом и остаток года только и делал, что хлопотал дома о получении заграничного паспорта, чтобы снова вернуться во Францию. Не будь у русских или поляков так строги законы, которые велят им жить у себя на родине, они, на зависть друг другу, растратили бы свои огромные состояния в вихре парижских наслаждений. Барышни де Сен-Жене по-разному пользовались плодами своего изысканного воспитания. Младшая, прехорошенькая Камилла, упивалась тем же, чем упивался ее отец, на которого она была похожа лицом и характером. Она безумно любила роскошь и даже не помышляла о том, что может оказаться в нищете. Кроткая, любящая, но недалекая Камилла усвоила изящные манеры, научилась со вкусом одеваться и кокетничать. Первые три месяца в монастыре она грустила и жалела о промчавшихся каникулах, три последующие месяца немного трудилась в угоду сестре, которая постоянно ее журила, остаток же времени мечтала о приезде отца и о новых увеселениях. Каролина пошла скорее в свою мать, женщину серьезную и энергическую. Правда, веселостью нрава она не уступала сестре и даже с большим увлечением, чем Камилла, предавалась забавам. Она с большей радостью наряжалась, гуляла, бывала в театре, хотя наслаждалась этими благами по-иному. Каролина была гораздо умнее Камиллы, и хотя творческой жилки у нее не было, она глубоко понимала истинное искусство. Каролина все делала виртуозно, иначе говоря — утонченно и блестяще выражала чужие мысли, декламировала стихи, играла с листа. Говорила она мало, но всегда к месту, удивительно ясно и толково. И даже если эти мысли были почерпнуты из романов, пьес и музыкальных произведений, в устах Каролины они приобретали свежесть и новизну. Она умела прибавить блеску чужому таланту и, сложись ее жизнь иначе, стала бы сама талантливой исполнительницей. Но этим ее дарованиям было суждено остаться втуне. В десять лет она начала учиться, в семнадцать все кончилось. А произошло вот что. Господин де Сен-Жене имел около двенадцати тысяч франков ренты и надеялся обеспечить дочерям будущее, достойное их красоты. Желая учетверить свой достаток, он с завидной неумелостью занялся денежными аферами, которые разорили его дотла. Смертельно бледный и словно пораженный громом, он однажды приехал в Париж и безо всяких объяснений, лишь сославшись на лихорадку, увез дочерей в свое небольшое поместье. В течение трех месяцев он таял на глазах и умер от горя, рассказав о своем банкротстве будущим зятьям, двум принятым в доме воздыхателям из числа тех, что вились вокруг барышень де Сен-Жене со дня их появления в Блуа. Жених Камиллы, чиновник и порядочный человек, искренне влюбленный в невесту, женился на ней. К Каролине же сватался помещик. Он повел себя сдержанно, сослался на родительский запрет и исчез. Каролина мужественно это перенесла. На ее месте слабая духом Камилла умерла бы от горя. Поэтому жених ее и не оставил. Слабость духа чаще внушает уважение, чем душевная стойкость. Ее ведь не увидишь глазами, она и гибнет молча. Убить душу можно совершенно незаметно. Поэтому на сильных людей валятся все несчастья, а слабые выходят сухими из воды. По счастью, Каролина не питала страсти к жениху. В любвеобильной душе ее лишь укоренились доверие и приязнь, а тайная печаль и крепнущий недуг отца так сильно занимали ее мысли, что ей было недосуг мечтать о собственном счастье. Любовь благородной барышни сродни цветку, что распускается под солнцем надежды. Однако все упования Каролины омрачало предчувствие, что кончина отца неотвратима. В женихе она видела только друга, который с охотой делил ее горе. За это она уважала его и была признательна. Скорбь отравила ей счастье и первую любовь, которая так и не успела расцвести. Отказ жениха оскорбил Каролину, но не сломил ее душу. Она так преданно любила отца и так жалела его, что крушение ее собственного будущего казалось ей не такой уж большой бедой. Она покорно ее снесла, но оскорбления не простила и, отомстив обидчику тем, что вычеркнула его из памяти, питала теперь к мужчинам смутную неприязнь, равно как и недоверие к их льстивым словам. Исцеленная и окрепшая духом Каролина, та, с которой познакомился читатель, простодушно полагала, что теперь никакие соблазны ей не страшны. Нет нужды рассказывать о том, как она прожила эти трудные годы. Всем известно, что утрата как большого, так и маленького состояния не проходит в два дня. Люди назначают кредиторам последний срок, надеясь спасти хотя бы остатки, переживают целую полосу сомнений, разочарований, нечаянных радостей, пока наконец, видя, что все усилия бесплодны, поневоле не примиряются со случившимся. Камилла была до крайности подавлена несчастьем и до последней минуты не хотела в него верить. Однако она благополучно вышла замуж и жила в достатке. Дальновидная Каролина меньше страдала от того бедственного положения, в котором оказалась по прихоти судьбы. Ее шурин, не желая слышать о разлуке с ней, великодушно предложил разделить с ними семейный достаток. Но Каролина, прекрасно понимая, что жизнь ее кончена, стала вдвойне самолюбивой. Камилла была нерасторопная, плохая хозяйка, а меж тем семейство все росло и дети требовали больше забот. И Каролина сделалась домоправительницей, нянькой, одним словом — верной служанкой в доме молодых супругов и исполняла трудные свои обязанности так самоотверженно, умно и споро, что под ее опекой все благоденствовали и сама она оказывала услуг гораздо больше, чем оказывали ей. Потом муж Камиллы заболел, скончался и открылись старые долги, о которых он умалчивал, в надежде исподволь погасить их из жалованья. Короче говоря, Камиллой овладели уныние, страх и смятение, а от призрака близкой нищеты молодая вдова совсем пала духом. Как мы уже говорили, Каролина не знала, что делать. Она хотела спасти сестру трудами собственных рук, и в то же время боялась оставить ее одну. Некий немолодой господин малопривлекательной наружности, но весьма зажиточный, предложил ей руку, рассчитывая заполучить примерную хозяйку. Каролина сперва смутно, а потом отчетливо поняла, что сестра ждет от нее жертвы. И Каролина принесла ее, но несколько иначе. Ради Камиллы она была готова поступиться свободой, независимостью, досугом, даже жизнью, но загубить душу, убить себя ради семейного благополучия не захотела. Она простила сестре материнский эгоизм и, как ни в чем не бывало, предприняла тот решительный шаг, о котором читателю уже известно. Она покинула Камиллу в деревенском домике, снятом неподалеку от Блуа, и уехала в Париж, где, как мы знаем, была милостиво принята госпожой де Вильмер, историю которой, в свой черед, мы тоже считаем своим долгом поведать читателю. У каждого семейства свои раны, и любой семейный достаток не без трещин. Рана истекает кровью сердца, через трещины утекает благополучие. У знатного семейства де Вильмер был свой червь-точитель, беспечный мот — старший сын маркизы де Вильмер. В первом браке она была замужем за герцогом д'Алериа, спесивым и своевольным испанцем, который сделал ее жизнь как нельзя более несчастной, но после пяти грозовых супружеских лет оставил ей довольно большое состояние и обожаемого сына, красивого и умного, которому суждено было стать неисправимым скептиком, неуемным расточителем и отчаянным повесой. Выйдя замуж второй раз, вторично став матерью и вторично овдовев, маркиза де Вильмер обрела в младшем сыне Урбене преданного и великодушного друга, нравственная чистота которого была так же очевидна, как распутство его брата. Отец оставил Урбену значительное состояние, посему он не сильно сокрушался из-за материнского разорения, хотя в пору нашего знакомства с маркизой ее кошелек был почти что пуст — такую беспутную жизнь вел молодой герцог. К тому времени ему уже исполнилось тридцать шесть лет, а маркизу шел тридцать третий год. Читатель, вероятно, заметил, что герцогиня д'Алериа несколько поспешила стать маркизой де Вильмер. Однако никто ее за это не осудил. Второго мужа она горячо любила. Поговаривали даже о том, как чисто и достойно она любила его задолго до первого вдовства. Такая уж любвеобильная и увлекающаяся душа была у маркизы! Поэтому два года без малого она, обезумев от горя, оплакивала безвременную кончину второго мужа. Видя ее отчаяние, родственники покойных мужей стали подумывать, не учредить ли над ней опеку и не заняться ли самим воспитанием сыновей. Узнав об этом, маркиза овладела собой. Природа переупрямила самое себя, душа умиротворилась, материнские чувства проснулись. В страстном порыве прижала она к груди своих сыновей, плача, покрыла их поцелуями, и этот душевный перелом вернул маркизе ясность мысли и самообладание. Конечно, она до времени состарилась, одряхлела, так и не оправилась от болезни, стала немного чудаковатой, но не утратила прежней предприимчивости, великодушия в привязанностях и благородства в отношениях со светом. С той поры стали расхваливать силу ее духа, которая долгое время как бы дремала в любви и горе, пока наконец, пробудившись, не обернулась жизнеспособностью. Наш рассказ довольно объясняет ее нынешнее положение. Теперь же позволим Каролине де Сен-Жене по-своему оценить маркизу и ее сыновей.Письмо госпоже Камилле Эдбер
«Париж, 15 марта 1845
Да, сестричка, устроилась я превосходно, о чем уже тебе не раз писала. Комната у меня уютная, камин, чудесный выезд, прислуга и весьма обильный стол. Если угодно, могу считать себя богатой маркизой, поскольку, неотлучно находясь при моей престарелой госпоже, невольно разделяю удобства ее жизни. Ты сетуешь на то, что пишу чересчур коротко. Но до сегодняшнего вечера я почти не располагала временем. Маркиза испытывала мою преданность, теперь же наконец, поняв, сколь она безгранична, позволяет мне в полночь уйти к себе. Я же могу немного поболтать с тобой, так как ложиться в четыре часа утра уже не надо (маркиза ведь принимает до двух, а потом целый час обсуждает со мной гостей). Я честно сказала маркизе и скажу тебе, что эти бдения начали меня сильно утомлять. Маркиза думала, что я, по ее примеру, встаю поздно, а когда узнала, что в шесть часов утра я уже просыпаюсь и не могу заснуть, великодушно простила мне «провинциальную слабость». Отныне, дорогая, я буду в твоем распоряжении утром или вечером. Да, эту старую женщину я люблю, люблю глубоко и искренне. Я в плену ее обаяния, прислушиваюсь ко всем советам, в которых сквозит ее ясный и прямой ум. Конечно, она не без предрассудков и порой высказывает мысли, с которыми я никогда не соглашусь. Но в них нет ни капли лицемерия, и даже ее неприязнь к некоторым людям мне нравится, потому что в ее пристрастиях есть честность и убежденность. Вот уже три недели я вращаюсь в большом свете, так как маркиза, не давая балов, принимает каждый вечер множество визитеров. Если бы ты знала, как все они ничтожны! В провинции я даже не подозревала об этом. Эти светские люди, невзирая на все их лицемерие и отличные манеры, просто пустышки, уверяю тебя. Обо всем судят с чужого голоса, на все вечно жалуются и ничего не умеют делать. Всех поносят и со всеми в лучших отношениях. Даже возмущаться им не дано, а только злословить. Без умолку твердят они, что не за горами страшные беды, а сами живут так, словно они в полной безопасности. Они пустопорожни и воплощают собой бессилие и непостоянство. И среди пошлых говорунов и бестолковых ломак живет старая, горячо мною любимая женщина, которая так откровенна в своих антипатиях и так возвышенно недоступна сделкам с совестью. Подчас кажется, что передо мной выходец из прошлого века, герцог де Сен-Симон в женском обличье. Подобно ему, маркиза благоговейно почитает свое сословие и столь искренно ие сознает власть денег, которой так слабо и притворно возмущается свет. Мне, как ты знаешь, по душе, когда люди презирают деньги, и даже наши беды не переменили меня, ибо мое святое достояние — жалованье, которое нынче зарабатываю с достоинством и даже не без гордости — деньгами я не называю. Это мой долг, основа моей чести. И роскошь, нажитая или сохраненная благочестивой жизнью, не внушает мне того философского пренебрежения, которое всегда таит в себе известную зависть. Нет, грязным словом «деньги» я называю благополучие, которое становится предметом вожделений, надежд, страсти и приобретается браками по расчету, предательством политических убеждений, семейными интригами вокруг наследства. И тут я полностью на стороне маркизы, которая не прощает неравные браки по расчету и прочие низости, общественные и частные. Поэтому мужественно и мудро взирает маркиза на то, как безжалостно расточается ее состояние. Я тебе уже писала о том, что старший сын маркизы, герцог д'Алериа, вконец разорил ее, а маркиз, младший сын от второго мужа, ревностно печется о ней, и только его стараниями маркиза теперь ни в чем не нуждается. Пора, пожалуй, тебе описать этих господ, о которых прежде я лишь вскользь упоминала. Маркиза я увидела в первый же день, как водворилась в доме. Каждое утро — с двенадцати до часу, а по вечерам — от одиннадцати до полуночи он бывает у своей матери. Вдобавок они часто вместе обедают. Словом, у меня было достаточно времени для наблюдений, и, по-моему, я хорошо изучила маркиза. У меня такое чувство, что этот молодой человек не знал юности. Он слабого здоровья, и его возвышенный и утонченный дух борется с тайным недугом или природной склонностью к меланхолии. Наружность у него удивительная. С первого взгляда он не кажется привлекательным, но чем больше видишь его, тем сильнее он располагает к себе. Роста он среднего, ни красив, ни безобразен. В платье нет ни небрежности, ни изысканности. Вероятно, он, сам того не сознавая, ненавидит все, что останавливает внимание. Незаурядность его понимаешь сразу. Немногословные суждения маркиза полны тонкого и глубокого смысла, а когда он чувствует себя непринужденно, глаза у него такие прекрасные, умные и добрые, что, право, ничего подобного я не видала. Но лучше всего рисует маркиза его отношение к матери, поистине достойное восхищения. Я знаю, что госпожа де Вильмер пожертвовала несколько миллионов — все свое состояние, оплачивая безрассудные забавы старшего сына, а маркиз ни разу не нахмурился, не сделал ни единого замечания, не выказал ни досады, ни сожаления. И чем больше маркиза потакает неблагодарному и противному герцогу, тем ласковее, почтительнее и заботливее обходится с ней младший сын. Сама видишь, не уважать этого человека нельзя, а я так просто благоговею перед ним. Кроме того, беседовать с ним необыкновенно приятно. В обществе он обычно молчит, но в тесном кругу, преодолев стеснение, поддерживает разговор с необычайным обаянием. Он человек не просто образованный, а настоящий кладезь премудрости. Читал он, думаю, пропасть, так как, о чем бы ни зашла речь, высказывает интересные суждения. Его беседы с матерью так нужны ей, что, когда дела прерывают их или укорачивают, она потом целый день в тревожном и каком-то растерянном расположении духа. Поначалу, как только он появлялся у маркизы с утренним визитом, я благоразумно удалялась, тем более что этот возвышенный и чрезвычайно скромный человек робел в моем присутствии, оказывая мне этим незаслуженную честь. Однако на третий или четвертый день он, собравшись с духом, кротко спросил меня, отчего при его появлении я сразу же исчезаю. Все равно я никогда не посмела бы мешать их разговорам, но маркиза сама упросила меня не уходить и со свойственной ей прямотой объяснила, зачем я нужна. Слова ее прозвучали немного странно: — Мой сын — ипохондрик, — сказала она, — и мало похож на меня. Сама я либо очень воодушевлена, либо глубоко подавлена. Грустить я не способна. Мечтательные натуры меня даже раздражают. Ипохондрия моего сына огорчает меня и тревожит, и никак я не могу взять ее в толк. Когда мы с ним вдвоем, я всегда стараюсь отвлечь его от печальных мыслей, вечером же, когда собираются человек пятнадцать — двадцать гостей, он замыкается в себе и дичится общества. Для того чтобы я могла по-настоящему насладиться его умом — а это величайшее мое счастье, и единственное утешение в жизни, — нам не хватает собеседницы, притом достойной и приятной. Тогда маркиз не поскупится на обаяние, уступив сначала вежливости, а после бессознательному кокетству. Такой уж он человек. Обязательно нужно рассеять его грустные размышления. Однако со мной он держится безукоризненно, так что у меня нет ни права, ни желания вступать с ним в открытую борьбу, а при собеседнице, даже если она будет молчать и только слушать его, он поневоле станет красноречив. Ведь многословия он не любит, так как боится прослыть педантом, но еще пуще боится углубляться в свои раздумья и показаться невежей. Посему, дорогая, вы окажете нам обоим огромную услугу, если не будете оставлять нас наедине. — А если, сударыня, — ответила я, — вам нужно поговорить с сыном о делах семейных, как быть тогда? И тут маркиза мне обещала, что в этом случае она предупредит меня, задав вопрос: «Не отстают ли часы?» »
III
Продолжение письма к госпоже Эдбер«Вчера вечером я уснула и не дописала письма. Сейчас девять часов утра, с маркизой я увижусь в полдень, так что у меня много времени и я могу кое о чем тебе рассказать, дабы ты полностью уяснила мое теперешнее положение. Маркиза, по-моему, я описала довольно живо, и ты можешь без труда представить его себе. Чтобы удовлетворить твое любопытство, я опишу, как протекают дни в этом доме. Первые две недели было немного трудно. Теперь, когда дела поубавилось, я это понимаю. Ты знаешь, что я не умею сидеть сложа руки, что за последние шесть лет привыкла к постоянным хлопотам. Здесь же, увы, не надо убирать комнат, сто раз на дню сновать взад-вперед по лестницам, гулять и играть с детьми. Нет даже собаки, с которой можно побегать и порезвиться самой. Животных маркиза терпеть не может. Раза два в неделю она выходит из дому, садится в карету и едет прогуляться по Елисейским полям. Маркиза называет это гимнастикой. Беспомощная и слабая, она подымается по лестнице только с помощью слуг, но им не доверяет, так как однажды они ее уронили. В гости она не выезжает, а принимает у себя. Душевные силы маркизы, вся ее энергия уходят на размышления и на беседы. Вести их она большая мастерица и знает про то сама. Разговоры она любит не ради детского тщеславия; меньше всего она заботится о том, чтобы привлечь внимание собеседника, и больше старается высказать те мысли и чувства, которые волнуют ее на самом деле. Как видишь, существо она беспокойное и нередко в запальчивости судит с горячностью даже о таких вещах, которые мне кажутся маловажными. Вероятно, она никогда не знала счастья, так как по натуре очень требовательна, поэтому совместное существование с маркизой утомительно, хотя я к ней и очень привязана. Руки ее давно отвыкли от дела, но зрение у нее превосходное, и пальцы еще легко движутся, так что она довольно сносно играет на фортепьяно. Но маркиза пренебрегает всем, что отвлекает ее от беседы, и еще ни разу не просила меня почитать или развлечь ее музыкой. Маркиза говорит, что бережет мои таланты для деревни, куда мы поедем через два месяца и где будем жить почти одни. Мне не терпится туда поехать, так как здесь я все больше сижу на месте. Потом, в комнатах у моей милой госпожи всегда очень жарко. К тому же маркиза беспрестанно душится, а будуар ее заставлен пахучими цветами. Смотреть на них приятно, но воздух такой тяжелый, что нечем дышать. Но самое главное — я тут тоже ничего не делаю. Я пыталась сначала вышивать, но скоро заметила, что маркизу это раздражает. Она спрашивала меня, уж не решила ли я брать поденную работу, срочный и выгодный ли у меня заказ и т.д., по десять раз отрывала от дела какими-нибудь поучениями — только бы я бросила ненавистное ей вышивание. В конце концов я сдалась, иначе с досады маркиза просто занемогла бы. Она была мне за это очень признательна и, чтобы помешать мне снова взяться за пяльцы, простодушно заявила, что женщины, которые берут в руки иголку и губят глаза шитьем, вкладывают в это занятие больше души, чем это кажется им самим. Таким образом, полагает маркиза, они себя отупляют и уже не чувствуют, до чего тоскливо их существование. Она считает, что шить должны лишь заточенные в тюрьму или очень несчастные девушки. Потом, желая позолотить пилюлю, она добавила, что за шитьем я похожа на горничную, а ей хочется, чтобы гости видели во мне ее друга и наперсницу. Она склоняет меня к непрерывным разговорам и донимает вопросами, чтобы дать мне блеснуть своей рассудительностью. Я же противлюсь изо всех сил, так как, когда меня разглядывают и слушают, ничего умного сказать не могу. Конечно, я делаю все, чтобы не сидеть сложа руки, и очень сожалею о том, что мой добрый друг (а маркиза действительно мой друг) не хочет принимать от меня никаких услуг. Стоит мне немного замешкаться, она уже звонит горничной, чтобы та подняла носовой платок, и еще сетует на мою преданность, не замечая, как мне досадно, что ничем не могу ее выразить. Ты спрашиваешь, зачем она взяла меня в компаньонки? Сейчас объясню: маркиза принимает гостей с четырех часов, а до этого, вернее после свидания с маркизом, читает газеты и отвечает на письма. Конечно, это я пишу и читаю за нее. Почему она сама этого не делает, не знаю, ей это вполне под силу. Думаю, одиночество сильно тяготит маркизу и внушает ей такой страх, что развеять его занятиями невозможно. Что и говорить, в глубине ее ума или сердца таится нечто мне непонятное. Может, ее испортил свет, в котором она слишком много вращалась? Заниматься делом ее уже не научишь, а наедине с собой она, очевидно, думать не умеет. Когда я появляюсь у нее в полдень, она мало похожа на ту женщину, с которой я накануне рассталась в ее будуаре. Она точно стареет за ночь на десять лет. Я знаю, что горничные подолгу трудятся над ее туалетом, и во время этой церемонии маркиза не произносит ни слова, так как не выносит неправильного, простонародного языка. Несчастные девушки так утомляют ее (вдобавок она, вероятно, сильно страдает от бессонницы), что утром, когда я прихожу к ней, она исення-бледная, еле живая. Но через десять минут все меняется: маркиза заметно веселеет, приободряется и встречает младшего сына, помолодев на десять лет. О ее письмах распространяться мне не пристало, хотя тайн в них нет: они не связаны ни с требованиями этикета, ни с делами. Маркиза пишет их, так как любит поболтать с друзьями, живущими в других городах. Она говорит, что это одна на возможностей побеседовать и обменяться мыслями с другими людьми, а в этих беседах — ее единственная отрада. Допустим, что это так, только у меня совсем другой вкус. Будь у меня досуг, я с охотой общалась бы только с теми, кого люблю, а ведь вряд ли маркиза любит всех своих корреспондентов — их десятков пять, — которым постоянно пишет, и всех гостей — их две-три сотни, — которых принимает каждую неделю. Но дело не в моем вкусе, да я и не намерена осуждать женщину, ради которой пожертвовала своей свободой. Это было бы дурно, потому что, не уважай и не почитай я свою госпожу, я без труда могла бы уйти и наняться к другой. Хотя мое благоговение перед маркизой и омрачено некоторыми ее причудами, но, думаю, мне везде пришлось бы столкнуться с такими же, если не худшими, поэтому я не вижу причин особенно возмущаться ими и предпочитаю смотреть на все легко и философски. Словом, сестричка, если я и стану бранить здешние порядки или насмехаться над ними, отнеси это к случайным оговоркам в нашей беседе. Мне просто хочется писать тебе откровенно. Уверяю тебя, что здесь ничего нет такого, что доставляло бы мне огорчение или неудовольствие. Для меня самое главное то, что маркиза — женщина сильная, искренняя и участливая. Этим-то и привязала меня к себе госпожа де Вильмер, и я с радостью делаю все, чтобы ее рассеять и развеселить. Что там она ни говори, я-то прекрасно знаю, что живу при ней на положении, которому не позавидует и горничная. Я ее раба, но раба по воле своей, и поэтому чувствую себя такой же свободной и незапятнанной, как моя совесть. Чья душа свободнее, чем душа пленника или изгнанника во имя убеждений? Когда мы расстались с тобой, сестричка, я об этом и не думала. Мне тогда казалось, что разлуку я не перенесу. И что же? Когда я нынче все взвесила, то получилось, что если я и страдала, так от одного неудобства: очень мало я тут двигаюсь. Но теперь и это уладилось, так что можешь обо мне не тревожиться. Из меня вытянули признание, и теперь я могу рано ложиться спать, а утром гулять в саду у дома. Сад небольшой, но я ухитряюсь делать там длинные прогулки, думаю о тебе и мысленно блуждаю по нашим полям и лугам с тобой и детьми. И от этих дум на душе становится так радостно! Да, но я ни слова еще не написала о герцоге д'Алериа. Наверстываю упущенное. Я встретилась с ним всего три дня назад. Увидеть его, признаюсь, мне вовсе не хотелось. Я не могу не испытывать ужаса перед человеком, который разорил свою мать и вдобавок слывет порочнейшим господином на свете. И что же? Каково же было мое удивление, когда наружность его не внушила мне отвращения, хотя и не рассеяла прежней неприязни. Со страху я воображала себе его этаким дьяволом с рогами и хвостом… И вот как я встретилась с этим исчадием ада, не зная, что это он и есть. Надобно тебе сказать, что с матерью он обходится донельзя странно. Иногда в течение нескольких недель и даже месяцев навещает ее ежедневно, а потом пропадает, и целыми месяцами о нем ни слуху ни духу; когда же он снова появляется, то маркиза и герцог делают вид, будто расстались накануне. Не знаю, как моя госпожа относится к его поведению. Иногда она вспоминает о своем старшем сыне так спокойно и уважительно, словно речь идет о маркизе, но, как ты можешь догадаться, сама я не смею затрагивать столь щекотливую тему. Правда, однажды маркиза совершенно хладнокровно заметила, что герцог капризен к навещает ее, когда ему заблагорассудится. Я не сомневалась, что в один прекрасный день он внезапно возникнет в нашем доме, но когда после обеда пошла, по обыкновению, в гостиную проверить, все ли там прибрано так, как велела маркиза, то и думать забыла о герцоге и даже не заметила незнакомца, сидящего в углу на козетке. Я всегда осматриваю лампы и жардиньерки в гостиной, пока маркиза, отобедав, сидит у себя в будуаре, а горничные четверть часа румянят ее и пудрят. Словом, я была поглощена важным делом и, пользуясь случаем, оживленно ходила по комнате, напевая под нос старую песенку, как вдруг, подняв голову, встретилась с большими синими, удивительно ясными глазами, взирающими на меня. Я поклонилась господину и попросила у него извинения. Он приподнялся и попросил извинения тоже, а я, занятая мыслями о гостях и не зная, что сказать этому пришельцу, который всем своим видом, казалось, спрашивал, откуда я взялась, сочла за благо промолчать. Он встал и, прислонившись к камину, снова уставился на меня скорее благожелательно, чем удивленно. Он был высокого роста, немного грузный, весьма представительный, и — самое удивительное — весьма приятен внешностью. Редко встречаешь такое открытое, располагающее к себе и, если угодно, простодушное лицо. Голос у него бархатный и теплый, произношение и манеры утончены и благородны. В малейших движениях этой гремучей змеи есть особое очарование, а в улыбке — что-то совсем детское. Можешь ты это понять? Я, во всяком случае, была так далека от истины, что, словно притянутая этим добрым взглядом, подошла к камину в полной готовности учтиво и благосклонно ответить незнакомцу, если он пожелает начать разговор. Он, казалось, только того и ждал и непринужденно спросил меня: — Разве мадемуазель Эстер нездорова? — Голос его звучал вкрадчиво и мягко. — Мадемуазель Эстер уже два месяца как здесь не живет. Я никогда ее не видела, потому что заменила ее. — Вот уж нет! — Я вас не понимаю. — Скажите лучше, что пришли ей на смену. Весна не может заменить зиму. Она ее стирает из памяти. — В зиме есть тоже своя прелесть. — О, вы не знали Эстер! Она была колюча, как декабрьский ветер, и стоило ей подойти к человеку, как у него начинало ломить в суставах. И тут он принялся расписывать бедняжку Эстер, да так беззлобно и смешно, что я, не удержавшись, расхохоталась. — Слава богу, вы умеете смеяться? — воскликнул он. — Смех в этом доме! И вы часто смеетесь? — Конечно, если мне смешно. — Эстер никогда не было смешно. Впрочем, на то были причины: если бы она рассмеялась, все увидали бы ее зубы. О, ради бога, не прячьте свои! Я уже обратил на них внимание, но словом о них не обмолвился. Ничего на свете нет глупее комплиментов. Смею ли узнать ваше имя? Нет, молчите. В свое время я догадался, как зовут Эстер, и сразу окрестил ее Ревеккой. Видите, какой я сердцевед! Теперь мне хочется отгадать ваше имя. — Попробуйте. — Так… Имя у вас чистокровной француженки. Луиза, Бланш, Шарлотта? — Угадали. Меня зовут Каролина. — Вот видите! И вы приехали из провинции? — Из деревни. — Вот как? Отчего же у вас такие белые руки?.. И вам нравится жизнь в Париже? — Нет, совсем напротив. — Бьюсь об заклад, что вас принудили родители… — Никто меня не принуждал. — Но вам же здесь скучно? Признавайтесь, правда ведь, скучаете? — Нет, я никогда не скучаю. — Вы лукавите! — Клянусь, что говорю чистую правду. — Значит, вы очень благоразумны. — Смею надеяться. — Может быть, расчетливы? — Нет. — Тогда восторженны? — Гоже нет. — Так в чем же дело? — Не знаю. — Как не знаете? — Я не знаю за собой ничего такого, что заслуживало бы малейшего внимания. Я умею читать, писать и считать. Немного играю на фортепьяно, отличаюсь покладистым нравом и добросовестно выполняю свои обязанности. Поэтому-то я и живу в этом доме. — О нет! Вы себя совершенно не знаете. Хотите, я вам скажу, какая вы? У вас живой ум и золотое сердце. — Вы так думаете? — Уверен. Глаз у меня наметанный, и людей я вижу насквозь. А вы умеете разгадывать людей с первого взгляда? — Пожалуй, немного умею. — А что, к примеру, вы думаете обо мне? — То же самое, что вы сказали относительно меня. — Это вы говорите из вежливости или из благодарности? — Нет, просто я так чувствую. — Прекрасно, благодарю вас. Право, ваши слова мне очень приятно слышать, и не потому, что вы нашли меня умным. Умны все подряд, ум — достояние благоприобретенное, а вот доброта… Стало быть, вы считаете меня хорошим человеком? Тогда… позвольте мне пожать вам руку. — Зачем же? — Сейчас я вам объясню. Неужели вы откажете в такой малости? Я прошу вас об этом из самых чистых побуждений. Он говорил так искренно и в его облике было что-то такое трогательное, что я, несмотря на необычность его просьбы, проявила необычную уступчивость и доверительно подала руку. Он слегка пожал ее и на мгновение задержал в своей. Глаза его увлажнились, и он произнес немного сдавленным голосом: — Спасибо вам, и хорошенько заботьтесь о моей матушке. Я же, поняв наконец, что передо мной герцог д'Алериа и что я дотронулась до руки бездушного распутника, неблагодарного сына, черствого брата, одним словом — необузданного и бессовестного человека, вдруг почувствовала, как ноги у меня подкашиваются, оперлась о стол и так сильно побледнела, что герцог, заметив это, бросился, чтобы поддержать меня, и воскликнул: — Что с вами? Вам дурно? Но тут же остановился, увидев, какой испуг и отвращение он мне внушает, а может быть, только потому, что в гостиную вошла маркиза. От нее не укрылось мое смятение, и она взглянула на герцога, как бы спрашивая, что тут произошло. В ответ он лишь почтительно и нежно поцеловал ей руку и справился о здоровье. Я тотчас же покинула их, чтобы прийти в себя и дать им побеседовать наедине. Когда я вернулась в гостиную, там уже собралось много гостей, и я принялась болтать с госпожой де Д***, которая очень расположена ко мне и вообще, по-моему, прекрасная женщина. Герцога она просто не выносит. От нее я и узнала, какой он дурной человек. Безотчетное желание совладать с той приязнью, которую он внушил мне при встрече, и побудило меня избрать госпожу де Д*** своей собеседницей. — Так, — сказала она, точно догадываясь, что со мной творится, и поглядывая на герцога, который разговаривал с гостями, стоя подле матери, — наконец-то вы встретились с нашим баловнем! Что же вы о нем скажете? — Он человек учтивый, хорош собой, и от этого я осуждаю его еще больше. — Вы правы! Он наверняка очень здоровая натура. Просто невероятно, как после стольких лет беспутной жизни он все еще красив и остроумен. Но не вздумайте ему довериться. Он самый большой развратник на свете, но может отлично прикинуться самой добродетелью, если задумает вас погубить. — Меня? О нет. Мое положение приживалки спасет меня от его благосклонности. — Вы ошибаетесь. Вот увидите! Я уже не говорю о том, что ваши достоинства ставят вас выше этого положения. Это каждому видно. Но ему довольно знать, что вы честная девушка, чтобы захотеть сбить вас с пути. — Не пытайтесь запугать меня. Если б я знала, что в этом доме меня могут оскорбить, я бы и часу не прожила тут, сударыня. — Нет, этого вам бояться не следует. С достойными людьми он обходится достойно и никогда не позволит себе с вами какой-нибудь неприличной выходки. Если же вы не остережетесь, он уверит вас в том, что он кающийся ангел или непризнанный святой, и тогда вы в ловушке. Госпожа де Д*** произнесла последние слова с явным сочувствием, что покоробило меня. Я хотела ответить ей, но вспомнила, что как-то слышала от другой престарелой дамы, будто дочь госпожи де Д*** была серьезно скомпрометирована герцогом. При виде его бедная женщина, должно быть, очень страдает, и я понимаю, почему эта добрая и снисходительная особа говорит о герцоге с такой горечью. Однако я не могу взять в толк, отчего она, которая дрожит от гнева при одном упоминании имени герцога, всякий раз заводит о нем речь, стоит нам остаться наедине. Она, верно, думает,что мне на роду написано угодить в сети этого Ловеласа, и мстит ему тем, что отвоевывает у него мою бедную душу. Подумав, я нашла ее опасения немного смешными и, не желая ни сердиться на нее, ни бередить былую боль, решила впредь избегать всяких разговоров о ее заклятом враге. Герцог, впрочем, за весь вечер не перемолвился со мной и словом и с тех пор больше не показывался в доме. И если я и подвергаюсь опасности, то все еще ее не замечаю. Но ты можешь не волноваться, как не волнуюсь я, ибо ни капельки не боюсь людей, которых не уважаю…» Далее Каролина писала о других встречах и обстоятельствах, которые поразили ее воображение. Поскольку эти частности не имеют прямого отношения к повествованию, мы на время умолчим о них, в ожидании, что они всплывут в рассказе своим чередом.
IV
Примерно в ту же пору Каролина получила письмо, глубоко растрогавшее ее. Мы его воспроизводим, исправив орфографические ошибки и знаки препинания, которые затруднили бы чтение.«Милая моя Каролина, дозвольте кормилице вашей звать вас по старинке этим именем. От вашей сестры, утешившей меня письмецом, я узнала, что вы уехали из дому и поступили компаньонкой в Париже. Не могу сказать вам, до чего горько думать, что такой барышне, как вы, на глазах моих родившейся в довольстве, пришлось пойти в люди, а как подумаю, что сделали вы это от доброго сердца да из-за того, чтобы Камилле с детками лучше жилось, так плачу, плачу, не переставая. Милая моя барышня, могу вам сказать одно, что благодаря вашим щедрым родителям жизнь моя не из самых худых. У мужа моего хорошее место, немножко он промышляет торговлей. На эти деньги мы обзавелись домом, прикупили земли. Сын у меня в солдатах, а ваша молочная сестра удачно вышла замуж. Поэтому, если когда-нибудь вам понадобятся несколько сот франков, будем рады дать их вам взаймы бессрочно и без процентов. Приняв деньги, вы окажете нам честь и обрадуете людей, которые вас всегда любили. Муж мой знает вас только по моим рассказам, но почитает вас и все говорит: „Приехала бы к нам Каролина, погостила бы, сколько душе угодно, а раз она любит ходить пешком и не устает, мы отправились бы с ней в горы. Захочет, так может остаться в деревне, в школе будет учительствовать; правда, кошелек у нее от этого не распухнет, зато тратиться особенно не на что, и, верно, вышло бы то же самое, что в Париже, где такая дороговизна“. Я вам написала слово в слово, как говорит Пейрак, и если сердце вам подскажет, так приготовим вам чистую комнатку и покажем наш дикий край. Вас ведь горами не испугаешь: маленькой вы любили везде лазать, а папенька ваш называл вас „моя козочка“. Помните, милая барышня, что если вам плохо живется в услужении, то в незнакомой вам деревне есть люди, которые считают вас лучше всех на свете и молятся о вас денно и нощно, прося господа, чтобы дорогая барышня приехала к ним. Жюстина Ланьон, по мужу Пейрак (в Лантриак через Пюи, Верхняя Луара)»
Каролина ответила без промедления.
«Добрая моя Жюстина, милый мой друг, как я плакала над твоим письмом, плакала от радости и благодарности. Я счастлива, что ты привязана ко мне по-прежнему, что четырнадцать лет, прошедшие со дня нашей разлуки, ничего не переменили. Этот день остался в памяти самым мрачным днем, какой мне случалось пережить. Ты была для меня второй матерью, и утратить тебя значило осиротеть во второй раз. Милая моя кормилица, ты так любила меня, что почти забыла своего славного мужа и деточек. Но они позвали тебя, и ты должна была жить с ними, и, судя по твоим письмам, в семье ты узнала счастье. Они отплатили тебе сторицей за меня, потому что ты отдала мне все безраздельно, и я часто думаю, что если во мне есть что-то доброе и толковое, то все потому, что ты была первой, кого научились узнавать мои глаза, кто любил меня, умно и заботливо пестовал. А теперь, добрая моя душа, ты хочешь отдать мне свои сбережения? Как ты по-матерински нежна ко мне, как прекрасен и великодушен муж твой, которого я не знаю. От всего сердца благодарю вас, славные мои друзья, только я ни в чем не нуждаюсь. Живу в полном достатке, хорошо и счастливо, насколько возможно в разлуке с милыми домочадцами. Тем не менее я не теряю надежды с вами повидаться. Ты пишешь о чистой комнатке и о красивом диком крае, и мне уже до смерти хочется побывать в твоей деревне и посмотреть на твое хозяйство. Правда, не знаю, найдутся ли у меня свободные две недели, но не сомневайся, что при малейшей возможности я проведу их у моей любимой кормилицы, которую обнимаю от всего сердца».
Пока Каролина предавалась этим сердечным излияниям, герцог Гаэтан д'Алериа, облачившись в чудесный турецкий халат, беседовал с братом, который посетил в этот ранний час его особняк на Рю де ла Пэ. Они говорили о делах, и между братьями возник довольно горячий спор. — Нет, друг мой, — запальчиво возражал герцог, — на сей раз я не сдамся, не позволю вам подписать бумаги и не дам заплатить мои долги. — Я заплачу их, — решительно отвечал маркиз. — Это необходимо, и это моя обязанность. Честно говоря, я поначалу колебался, так как не знал суммы, но моя нерешительность не должна покоробить ваших чувств. Я боялся, как бы взятые обязательства не превысили моих возможностей, но теперь уже знаю, что на оставшиеся деньги сумею обеспечить благополучие нашей матушки. Отныне ничто не помешает мне спасти семейную честь, и вы не имеете права этому противиться. — Нет, этого я не допущу. Вы не обязаны приносить мне такую жертву. Мы носим разные имена. — Но рождены одной матерью, и я не хочу, чтобы она, увидев вас несостоятельным должником, умерла от стыда и горя. — Подобный позор для меня еще страшнее, чем для нашей матушки. Я женюсь. — На деньгах? Вы прекрасно знаете, что для матушки, для меня и для вас тоже это будет горьким испытанием. — Тогда я подыщу себе должность. — Это еще хуже. — Но страшнее вашего разорения ничего и придумать нельзя. — Вы меня не разорите. — Могу я хотя бы знать сумму? — Совершенно ни к чему. Я вполне удовлетворен вашим словом, что у вас сейчас нет долгов, неизвестных нотариусу, который ведает делами. Я просил вас только проглядеть некоторые бумаги, чтобы удостовериться, не вкралась ли в них ненароком ошибка. Вы подтвердили их законность. Этого достаточно, остальное вас не касается. Герцог гневно скомкал бумаги и зашагал большими шагами по комнате, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние. Потом он закурил сигару, отложил ее в сторону и, сильно побледнев, бросился в кресло. Маркиз понимал, как была уязвлена его гордыня, а может быть, и совесть. — Успокойтесь, — сказал он. — Я сочувствую вашему горю, но полагаю, что оно послужит вам добрым уроком на будущее. Не думайте об услуге, которую я оказываю скорее матушке, чем вам, но помните, что отныне остаток состояния принадлежит ей. Думайте о том, что нам, может, посчастливится продлить ее жизнь на долгие годы и что нельзя ей причинять страдания. Прощайте. Встретимся через час, чтобы уладить все мелочи. — Да, да, оставьте меня сейчас одного, — сказал герцог. — Вы сами видите — я не в силах продолжать разговор. Едва маркиз удалился, как герцог вызвал лакея, велел никого не принимать и в глубоком волнении принялся шагать из угла в угол. В этот час он пережил неотвратимый и мучительный перелом. Он не раз попадал в беду, но никогда еще так остро не ощущал своей вины и так в ней не раскаивался. Прежде он действительно проматывал свое состояние жадно и беспечна, так как знал, что губит одного себя. Герцог, так сказать, злоупотреблял наследным правом. Потом, не вполне ведая, что творит, он принялся и за материнские деньги, прокутил их и уже даже не терзался унизительной мыслью о том, что обязанность поддерживать мать целиком возложена им на плечи маркиза. Заметим, что герцогские безумства были отчасти извинительны. Он был непростительно избалован. Мать всегда выказывала ему явное предпочтение, да и природа явно благоволила герцогу: он был выше ростом, намного красивее, сильнее, представительней и, вероятно, жизнеспособней брата; ласковый и общительный, он с детства казался всем гораздо одареннее и приятнее маркиза. Тот же, болезненный и замкнутый с колыбели, отличался только пристрастием к наукам, но то, что составило бы неоспоримое достоинство у простолюдина, выглядело у аристократа странной причудой. Любомудрие в нем подавляли, а не поощряли, и именно поэтому оно превратилось в подлинную страсть, страсть всепоглощающую и предосудительную в чужих глазах, которая породила в его молодой душе тонкую восприимчивость и жажду к учению тем более пылкую, что она таилась под спудом. Маркиз намного превосходил брата сердечной теплотой, но слыл человеком холодным, а герцога, который не любил никого, но всегда был учтив и общителен, почитали пламенной натурой. Этот бурный и обманчивый темперамент герцог унаследовал от отца, а его живость в юности тревожила маркизу. Читателю известно, что после смерти второго мужа она пребывала в полубезумном состоянии и боялась приближаться к своим детям. Но как только материнские чувства возобладали над душевным расстройством, маркиза сразу заключила в объятия сына возлюбленного супруга. Мальчик, удивленный и даже напуганный порывистыми ласками, от которых успел отвыкнуть, принялся плакать, сам не зная почему. Эти его слезы явились, вероятно, смутным и бессознательным укором ребенка, брошенного на произвол судьбы. Герцог, будучи старше брата на три года и по природе менее вдумчивый, ничего не заметил. Он охотно отвечал поцелуями на поцелуи матери, и бедная женщина решила, что это чадо и унаследовало ее сердце, тогда как маркиз пошел в деда с отцовской стороны, старого ученого маньяка. Словом, она втайне стала предпочитать герцога, но, обладая добрым запасом христианской справедливости, особенно его не баловала, зато чаще ласкала, думая, что только он может оценить эти знаки материнской любви. Урбен (маркиз) чувствовал это предпочтение и мучился, хотя никогда не жаловался. В душе он, возможно, уже осуждал поведение брата, но не желал оспаривать первенство по столь несерьезному поводу. Со временем маркиза поняла свою ошибку, поняла, что о чувствах судят не по словам, а по поступкам; однако привычка во всем потакать своему блудному чаду укоренилась, а к ней скоро прибавилась материнская жалость к беспечному повесе, который благодаря своим безумствам шел к неминуемой катастрофе. Но не развращенность души была причиной герцогских безумств. Поначалу тщеславие, потом опьянение молодостью, наконец торжество безволия и тирания порока — вот в нескольких словах история этого человека, любезного, но не утонченного, доброго, но не великодушного, скептика, но не безбожника. В описываемую нами пору вместо совести в его душе зияла пустота, однако совесть его не умерла — она просто отсутствовала. Он еще терзался раскаянием и угрызениями, боролся с собой, но они быстро исчезали и возвращались реже, чем в юности, зато острота их, пожалуй, все возрастала, и на сей раз внутренний разлад был так мучителен, что герцог не раз хватался за пистолет, словно его подталкивал призрак самоубийства. Но, вспомнив о матери, он отбросил оружие прочь, запер его и схватился за голову, охваченный страхом, что вот сейчас сойдет с ума. Деньги он презирал всегда, а материнская теория благородного бескорыстия лишь ускорила его скольжение по наклонной плоскости софизмов. Тем не менее он понимал, что, разорив мать, злоупотребил своими правами, но постарался забыть об этом, дав себе слово не запускать руку в наследство брата, и все-таки промотал его значительную часть. Правда, действовал он как-то бессознательно, а маркиз из деликатности не входил с ним в мелочные расчеты и никогда не заговорил бы с герцогом об этом, если бы не считал необходимым воззвать к его чести ради сохранения того, что еще не было растрачено. Герцог, не чувствуя себя виновным в предумышленном эгоизме, с полной искренностью осыпал Урбена градом упреков за то, что тот не предупредил его раньше. Он наконец увидел, какая пропасть разверзлась перед ним из-за его мотовства и беспечности. Герцог был смертельно унижен тем, что поставил под угрозу будущее Урбена и что теперь принужден исправлять свои ошибки, поступаясь строгими принципами, внушенными ему матерью и воспитанием. Однако этот его проступок был меньшим преступлением, нежели разорение маркизы. Герцог же смотрел на это иначе. Ему всегда казалось, что материнские деньги в равной мере принадлежат и ему, тогда как в расчетах с братом самолюбие подсказывало ему понятия «твое» и «мое». Да оно и понятно. Братья, столь различные меж собой, не питали друг к другу постыдной неприязни, но и не чувствовали особого доверия и расположения. Жизнь одного как бы постоянно перечеркивала жизнь другого, и Урбену стоило больших душевных усилий, чтобы голос крови заговорил в нем голосом дружбы. Гаэтан и не помышлял о подобной близости. Полностью полагаясь на свою пресловутую незлобивость, он позволял себе насмехаться над строгими нравами маркиза. Поэтому большую часть времени они обходились друг с другом так: один деликатно сдерживал свое осуждение, другой непринужденно отпускал шпильки. — Стало быть, дела улажены? — воскликнул герцог, завидя входящего маркиза. — По вашему лицу вижу, что бумаги подписаны. — Да, друг мой, — отвечал Урбен, — все улажено. Вам остается двенадцать тысяч ливров ренты, которые я не позволил включить в погашение. — Мне остается? — спросил Гаэтан, глядя маркизу прямо в глаза. — Не нужно меня обманывать. У меня нет ни греша, а вы, уплатив мои долги, назначили мне теперь пенсию. — Хорошо, допустим, — ответил маркиз. — Надо же вам когда-нибудь узнать, что вы не вольны распоряжаться капиталом. Герцог, не зная, что предпринять, так стиснул руки, что хрустнули пальцы, и погрузился в молчание. Маркиз, с трудом преодолевая привычную сдержанность, сел подле Гаэтана и, коснувшись его сжатых рук, как бы противившихся этому прикосновению, сказал: — Друг мой, вы чересчур высокомерны со мной. Неужели, оказавшись на моем месте, вы поступили бы иначе по отношению ко мне? Герцог почувствовал, что сердце его дрогнуло, и разразился слезами. — Нет, — воскликнул он, крепко сжимая руки маркиза, — я не сумел бы да и не посмел бы так поступить, потому что мой удел — причинять зло, а спасать чужие жизни — это счастье не для меня. — Но вы хотя бы понимаете, что это счастье, — продолжал Урбен. — Отныне считайте меня своим должником и верните мне дружбу, которая гибнет от вашей уязвленной гордости. — Урбен! — сказал герцог. — И ты еще говоришь о моей дружбе? Сейчас самое время мне рассыпаться перед тобой в благодарностях, но я этого не сделаю. Я никогда не надену лицемерной маски, никогда не паду так низко. Знаешь ли ты, брат, что я всегда тебя недолюбливал? — Да, знаю и объясняю это различием наших вкусов и душевного склада. Но разве не пробил час нам полюбить друг друга? — Но этот час ужасен! В этот час ты торжествуешь, а я унижен. Скажи мне, что, не будь матушки, ты бросил бы меня на произвол судьбы! Да, ты должен мне сказать честно, к тогда я прощу тебе твой поступок. — Разве я тебе об этом не говорил? — Скажи еще раз… Ты колеблешься? Стало быть, это вопрос чести. — Да, если угодно, вопрос чести. — И ты не требуешь теперь от меня большей любви, чем я питал к тебе прежде? — Я знаю, что такова моя участь, — грустно отозвался маркиз. — Я не рожден быть любимым. Эти слова окончательно покорили герцога, и он бросился в объятия маркиза. — О, прости меня! — воскликнул Гаэтан. — Ты лучше меня. Я уважаю тебя, восхищаюсь тобой, почти благоговею. Теперь я знаю, что ты мой лучший друг. Господи, что мне для тебя сделать? Может, ты любишь женщину и нужно убить ее мужа? Или хочешь, я поеду в Китай за редким манускриптом в какую-нибудь пагоду, рискуя попасть в колодки или подвергнуться другому, столь же приятному испытанию? — Ты, Гаэтан, только и думаешь, как со мной расквитаться. Люби меня чуть больше и считай, что заплатил за все сторицей. — Я люблю тебя от всего сердца, — отвечал герцог, обнимая брата. — Ты видишь, я плачу как ребенок, но и ты уважай меня хоть немного. Я стану лучше, ведь я еще молод, черт возьми. В тридцать шесть лет еще не все потеряно. Правда, я уже порастратил себя, но я остепенюсь… Тем более что ничего другого мне не остается. Все еще сложится прекрасно. Я поправлю здоровье, помолодею. Летом поеду с тобой и матушкой в деревню, буду рассказывать забавные истории, стану смешить вас… Ты только помоги мне в этих планах, поддержи, не оставь, утешь! Ведь я зашел в тупик, и мне сейчас очень плохо. Маркиз сразу же заметил исчезновение пистолета, который еще час назад лежал на столе, но не подал вида. По лицу брата он, впрочем, понял, какой мучительный душевный перелом в нем только что произошел. Он знал, что силе духа Гаэтана положены известные пределы. — Одевайся, — сказал ему маркиз, — поедем завтракать. Поболтаем, потешим себя химерами. Может быть, я и докажу тебе, что иногда человек богатеет в тот день, когда утрачивает все.
V
Маркиз повез брата в Булонский лес, который в ту пору еще не был великолепным английским садом, а всего лишь прелестной рощей, тенистой и укромной. Стояли первые апрельские дни. Погода была превосходная, на полянах синим ковром распускались фиалки, и стайки непоседливых синиц щебетали кружа у распустившихся почек, а бабочки-лимонницы, эти вестницы весенних погожих дней, робко порхали, словно трепетали на ветру едва появившиеся, еще желтоватые листочки. Обычно маркиз завтракал дома, но, говоря по правде, он не умел есть в гастрономическом смысле этого слова. Он заказывал нехитрое кушанье, которое поспешно проглатывал, не отрывая глаз от книги, лежащей возле тарелки. Привычная воздержанность маркиза полностью отвечала его строгой бережливости: ведь он не позволял себе никаких лакомств, дабы на материнском столе не переводились изысканные блюда. Желая скрыть это от брата и боясь огорчить его скромностью своего жилища, он пригласил герцога в ресторан и заказал прекрасный завтрак, утешая себя тем, что купит на несколько книг меньше, а при случае, подобно бедняку-ученому, прибегнет к услугам общественных библиотек. Эти мелкие жертвы не удручали и не пугали маркиза; он даже не думал о слабом своем здоровье, которое требовало житейского комфорта. Маркиз был счастлив тем, что между ним и братом лед уже сломан и что отныне можно рассчитывать на привязанность и доверие Гаэтана. Бледный, усталый и озабоченный герцог постепенно приходил в себя, наслаждаясь весенним воздухом, который свободно проникал в открытое окно. Завтрак поддержал его силы: герцог был натурой здоровой, неспособной к воздержанию, — недаром его мать, любившая при случае упомянуть о своем родстве с бывшим царствующим домом, не без гордости говорила, что герцог унаследовал прекрасный аппетит от Бурбонов. Через час герцог уже непринужденно болтал со своим братом и первый раз в жизни был с ним таким любезным и беспечным, каким его знали в свете. Вероятно, между братьями и раньше возникало робкое взаимопонимание, но они никогда не давали ему хода и, уж конечно, не разговаривали откровенно. Маркиз замыкался в себе из скромности, герцог — из равнодушия. Однако на сей раз герцогу и вправду захотелось узнать человека, который спас его честь и обеспечил будущее. Поэтому он расспрашивал брата с тем участием, которое раньше за ним не водилось. — Объясни, отчего ты счастлив, — спрашивал герцог. — А ведь ты действительно счастлив. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы ты жаловался. Ответ маркиза сильно удивил герцога. — Во мне есть душевные силы только потому, что я предан матушке и люблю науку, — сказал Урбен, — а счастья я никогда не знал и не узнаю. Наверное, мне следовало бы об этом умолчать, так как я хочу тебе привить вкус к тихой и уединенной жизни. Кривить душой в нашей беседе кажется мне преступным, да я и не стану изображать ходячую добродетель, хоть ты меня в этом и упрекал. — Да, правда. Я признаю, что ошибался. Но отчего ты несчастен, друг мой? Ты мне можешь это сказать? — Сказать не могу, но довериться хочу. Я любил одну женщину. — Ты? Любил? Когда же? — Давно, и любил ее долго. — Ты больше ее не любишь? — Ее нет в живых. — Она была замужем? — Да, супруг ее здравствует и по сей день. Позволь мне не называть ее имени. — Оно не суть важно, но… ведь твое горе со временем пройдет? — Не знаю. Покамест не проходит. — И давно она умерла? — Три года назад. — Она тебя очень любила? — Нет. — Как нет? — Она любила меня так, как любит женщина, которая не может и не хочет порывать со своим мужем. — Разве это причина? Такие преграды лишь разжигают страсть. — И убивают ее. Эта женщина устала лгать и огрызаться, но не порывала со мной, так как боялась огорчить меня. Я был постыдно малодушен, и она умерла от горя и… по моей вине. — Полно! Зачем ты мучаешь себя этими бреднями? — Это не бредни. Горе мое безысходно, а ошибка непростительна. Рассуди сам: в порыве страсти, когда вопреки богу и людям хочешь навеки слиться с любимым существом, я сделал ее матерью. Она подарила мне сына, которого я спас, укрыл, и он жив по сей день. А она, желая избегнуть подозрений, появилась в свете сразу же после родов. В тот вечер она была весела и прекрасна, вела беседы, оживленно сновала меж гостей, хотя ее сжигала горячка. А через сутки она умерла. Так никто ничего и не узнал. Она слыла женщиной самых строгих правил… — Я знаю, о ком ты говоришь. Это госпожа де Ж***. — Да, ты один знаешь эту тайну. — И я ее сохраню. А матушка не догадывается об этом? — Она ни о чем не подозревает. Герцог некоторое время молчал, потом со вздохом заметил: — Бедный мой друг! Твой мальчик жив, и ты его, верно, очень любишь… — Конечно! — А я разорил и его! — Пустяки! Лишь бы хватило средств его выучить, сделать человеком, а большего я и не смею желать. Я никогда не смогу признать его своим сыном и в течение нескольких лет не хочу приближать к себе. Он родился очень слабенький, и я его отдал в деревню на воспитание к крестьянам. Ему надо вырасти и обрести физическую силу, которой недостает мне. Вероятно, поэтому я всегда и ощущаю недостаток душевных сил. К тому же перед смертью госпожи де Ж*** врач ненароком обмолвился, и ее супруг заподозрил, в чем дело. Я еще долго не должен видеться с этим ребенком, ровесником того мрачного события. Теперь ты понимаешь, Гаэтан, могу ли я быть счастливым? — Эта страсть и помешала твоей женитьбе? — Я все равно не женился бы, я дал обет. — Хорошо, об этом мы еще поразмыслим. — И это ты станешь уговаривать меня жениться? — Да, я, почему бы и нет? Напрасно ты думаешь, что я презираю брак. В том возрасте, когда я еще мог выбирать, я пренебрегал женитьбой, так как было лень искать супругу. Когда же я разорился, все осложнилось. Моя мать никогда не позволила бы мне жениться на богатой, но не знатной особе, а я, будучи знатным и без гроша, принужден искать только богатую невесту. Ты знаешь, что при всей моей испорченности убеждения нашей матери для меня святыня. Словом, я видел, как быстро падают мои шансы, и сейчас, вздумай какая-нибудь девица или вдова, богатая или родовитая, выйти за меня замуж, я составлю о ней самое нелестное мнение. Я буду абсолютно убежден, что к браку с таким негодяем, как я, ее склоняют неблаговидные и темные причины. У тебя же, Урбен, положение совсем другое. По моей вине ты вынужден жить скромно, а может быть, даже бедно. Но твои личные достоинства от этого не страдают, отнюдь. Они вырастают в глазах каждого, кто знает причину твоей бедности. Поэтому вполне вероятно, что молодая, чистая девушка с хорошим приданым проникнется к тебе уважением и любовью. Тебе же стоит только захотеть и показать, каков ты есть на самом деле. — Нет, я умею показывать себя только с невыгодной стороны. Свет меня парализует, а слава ученого человека приносит больше вреда, чем пользы. Общество не понимает, как это человек, рожденный для светской жизни, упрямо пренебрегает ею. Словом, ты видишь, что искать любви мне просто невозможно. Слишком пусто и тяжело у меня на сердце. — Но зачем так долго оплакивать женщину, которая не сумела найти счастья в твоей любви? — Я любил ее, я! Может быть, в ней я любил свою любовь. Увы, я не из тех, кто с каждой новой весной возрождается для жизни. Все у меня в груди перегорело. — Ты слишком много читаешь и думаешь! — Вероятно. Поедем, брат, в деревню. Ты ободришь меня, поможешь успокоиться, хочешь? Ты же обещал. Мне действительно нужен друг, а его у меня нет. Эта тайная страсть поглотила меня целиком, и твоя дружба может вернуть мне молодость. Доверчивая и простодушная откровенность брата глубоко растрогала герцога. От маркиза он ждал нравоучений, советов, утешительных речей, которые дали бы ему почувствовать, как он слаб, а брат — тверд душой. Но, вопреки ожиданиям, не он, а Урбен просил об участии и поддержке. Действительно ли маркиз нуждался в его дружбе или заговорил о ней, движимый своей редкостней деликатностью, так или иначе герцог был слишком умен, чтобы его воображение не поразила перемена ролей. Он ответил брату искренней симпатией и нежной заботой, и, проведя в Булонском лесу весь день за беседой, братья, наняв фиакр, поехали обедать к матери. Маркиза уже несколько дней пребывала в сильном волнении. Она боялась, как бы Урбен, узнав о том, как велики герцогские долги, не отказался заплатить их. При всем своем глубочайшем уважении к Урбену, госпожа де Вильмер не представляла себе, на что способно его бескорыстие. Так как Урбен не нанес ей утром обычного визита, маркиза серьезно встревожилась. Но увидев на пороге своих сыновей, она сразу же заметила, каким спокойствием светятся их лица, и догадалась о том, что произошло; потом, не имел возможности расспросить братьев в присутствии засидевшегося гостя, с ужасом решила, что ошиблась и что ни герцог, ни маркиз попросту не знают истинного положения дел. За обедом, однако, она обратила внимание на то, что сыновья говорят друг другу «ты». Сомнения ее рассеялись, но так как при слугах и Каролине маркиза не желала выказывать своих чувств, то, дабы скрыть радость, она напустила на себя неумеренную веселость, меж тем как крупные слезы счастья текли по ее увядшим щекам. Каролина с маркизом заметили эти слезы. Каролина бросила на Урбена тревожный взгляд, точно спрашивая, что с маркизой — опечалена она или, напротив, чему-то очень рада. Маркиз взглядом унял ее беспокойство, а герцог, подглядев эту немую и мимолетную беседу, лукаво и добродушно улыбнулся. Каролина и маркиз не видели его улыбки: их взаимная симпатия была слишком прямодушна. Каролина по-прежнему презирала герцога и сердилась на него за то, что всем он кажется добрым и привлекательным. Правда, она подозревала, что госпожа де Д*** несколько преувеличила его пороки, но, одержимая невольной и смутной боязнью, старалась не смотреть на герцога, сидящего напротив нее, и силилась забыть его лицо. Когда слуги удалились, беседа за десертом сделалась более непринужденной, и Каролина робко осведомилась у маркизы, не отстают ли часы. — Нет, еще не время, деточка, — растроганно отозвалась госпожа де Вильмер. Каролина поняла, что нужно досидеть до конца обеда. — Итак, друзья мои, — обратилась маркиза к сыновьям, — хорошо ли вы завтракали вдвоем в Булонском лесу? — Да, как Пилад с Орестом, — ответил герцог. — Вы даже не представляете себе, дорогая матушка, как это было чудесно. К тому же я сделал удивительное открытие: у меня очаровательный брат. Конечно, это слово в применении к нему кажется вам, вероятно, легковесным, но я в него вкладываю самый серьезный смысл. Замечательный ум иногда оборачивается и замечательным сердцем, а мой брат обладает и тем и другим. Маркиза улыбнулась, потом задумалась, и облако сомнений окутало ее душу. «Жертва Урбена недостаточно тронула Гаэтана, — подумала она. — Слишком легко он свыкся со своим новым положением. Может быть, у него нет гордости? Боже мой, тогда он пропал!» Урбен заметил мрачную тень на лице матери и поспешил ее рассеять. — Я не стану утверждать, что мой брат гораздо очаровательнее меня, — с милой беспечностью сказал он маркизе. — Это слишком очевидно. Но я сообщу вам о другом моем открытии: у брата глубокий и проницательный ум, который уважает только то, что истинно. Да, — добавил он, невольно отвечая на изумленный взгляд Каролины, — в нем есть настоящая душевная чистота, скрытая для чужого глаза, которую до сих пор я не ценил по достоинству. — Дети мои, — сказала маркиза, — я с удовольствием слушаю ваши взаимные дифирамбы. Вы мягко касаетесь самых чувствительных струн материнской гордости, и я убеждена, что вы оба правы. — Обо мне вы так судите потому, — заметил герцог, — что вы лучшая из матерей. Но вы слепы. Я ничего не стою, и грустная улыбка мадемуазель де Сен-Жене ясно свидетельствует о том, что вы заблуждаетесь так же, как и мой брат. — Разве я улыбалась и вдобавок еще грустно? — изумленно спросила Каролина. — Честное слово, я все время смотрела на этот графин и раздумывала о качествах богемского стекла. — Не рассчитывайте нас убедить в том, — возразил Гаэтан, — что вы думаете только о хозяйственных делах. Убежден, что ваши мысли витают гораздо выше этого графина и вы свысока судите о людях и о жизни. — Я не смею никого осуждать, сударь. — Тем хуже для тех, кто не удостаивается вашего суждения. Как бы оно ни было сурово, люди только выиграли бы, узнав его. Я, к примеру, люблю, когда обо мне судят женщины, и предпочитаю выслушать из их уст чистосердечное неодобрение, чем терпеть молчаливое презрение и недоверие. Я считаю, что только женщины действительно могут оценить наши изъяны и наши достоинства. — Но, сударыня, — с притворным отчаянием обратилась Каролина к госпоже де Вильмер, — скажите вашему сыну, что я не имею чести близко знать его и живу в этом доме не для того, чтобы мысленно живописать портреты на манер Лабрюйера. — Милое дитя, — ответила маркиза, — вы здесь на правах моей приемной дочери, которой все дозволено, потому что всем известны ее редкая сдержанность и прелестная скромность. Поэтому отвечайте моему сыну не робея и не сердитесь, если он над вами дружески подшучивает. Он знает вам цену не хуже меня и всегда будет выказывать вам полное уважение, безусловно вами заслуженное. — На сей раз, матушка, я ваш комплимент принимаю, — с подкупающим чистосердечием отвечал герцог. — Я питаю глубочайшее уважение к любой чистой, великодушной и преданной особе, а стало быть, и к мадемуазель де Сен-Жене. Каролина не покраснела и не пробормотала слов благодарности, как чопорная компаньонка. Она посмотрела герцогу прямо в глаза и, поняв, что он над ней не насмехается, мягко сказала: — Отчего же его сиятельство, так высоко меня ставя, полагает, что я смею о нем дурне думать? — Ах, на то есть причины, — ответил герцог. — Я вам их открою, когда мы познакомимся поближе. — Вот как! А зачем откладывать? — заметила маркиза. — Сейчас самое время. — Будь по-вашему, — согласился герцог. — История эта забавная, и я вам ее расскажу. Третьего дня, дорогая матушка, я сидел в вашей гостиной и в одиночестве поджидал вас. Удобно устроившись на козетке, я дремал в уголке — утром я страшно устал, объезжая норовистую лошадь, — и размышлял о приятных свойствах этих стеганых кресел точно так же, как мадемуазель де Сен-Жене раздумывала о достоинствах богемского стекла. И вот что пришло мне в голову: как удивились бы эти диванчики и кресла, попади они на конюшню или в стойло. И как смутились бы наши гостьи, прелестные дамы в атласных платьях, найдя вместо этих мягких козеток соломенные подстилки! — Но в ваших фантазиях нет ни капли смысла! — смеясь заметила маркиза. — Совершенно верно, — подхватил герцог, — это были фантазии слегка пьяного человека. — Что вы такое говорите, сын мой! — Ничего худого, дорогая матушка. Я вернулся домой голодный, усталый, умирая от жажды и слегка опьянев от свежего воздуха. Но так как вы знаете, что от воды мне делается дурно, а жажда мучила нестерпимо, я утолил ее и снова опьянел. Вот и все. Вам известно, что в таком состоянии я нахожусь обычно не больше четверти часа и умею нужное время посидеть в укромном уголке. Поэтому, вместо того чтобы пройти в столовую и поцеловать вам за десертом руку, я проскользнул в гостиную. — Ну, ну, — сказала маркиза, — а теперь ускользните от ваших путаных мыслей и переходите к делу. — Я уже к нему перешел, как вы сейчас увидите, — ответил герцог. Поскольку, прежде чем приступить к рассказу, герцог проглотил слюну, Каролина поняла, что он находится в том состоянии, которое только что описывал, и что, быть может, теперешней своей говорливостью он до некоторой степени был обязан выдержанным винам маркизы. Но герцог быстро привел свои мысли в порядок и непринужденно заговорил: — Говоря по правде, я размечтался, но ясного ума не терял. Напротив, перед глазами прошла вереница чудесных видений. С соломенной подстилки, разостланной на паркете моим воображением, поднялись причудливые существа. Это были только женщины: одни словно нарядились на старинный придворный бал, другие — на фламандскую кермессу. Дамы цеплялись фижмами и кружевами за свежую солому, которая стесняла их движения и царапала прелестные ножки; гостьи же попроще, в коротких юбках и грубых сабо, резво ее топтали и, хохоча во все горло, потешались над светскими щеголихами. Здесь царил настоящий праздник плоти, совсем как на рубенсовских полотнах. Толстые руки, румяные щеки, могучие плечи, внушительные носы на лоснящихся лицах, живые глаза и пышные прелести, пухлые, как ваши кресла, матушка, которые и пережили волшебное преображение. Иначе непонятно, с чего эти женщины мне примерещились. Прекрасные толстухи безудержно веселились и скакали, да так грузно, что звенели хрустальные подвески на канделябрах. Толстухи падали на солому, а потом поднимались с трухой в огненно-рыжих волосах. Меж тем знатные кокетки выделывали фигуры чинного танца, но то и дело останавливались: соломинки набивались им в оборки, румяна от жары расплывались по лицу, пудра осыпалась с плеч, обнажая их худобу и угловатость. В выразительных женских глазах застыла смертельная тоска. Они, очевидно, боялись, как бы солнечный свет не подчеркнул заемность их прелестей, и гневались на то, что жизнь торжествует над ними. — Сын мой, — заметила маркиза, — к чему вы ведете и что все это значит? Зачем вы сочиняете панегирик простолюдинкам? — Я не сочиняю, а рассказываю сущую правду, — ответил герцог. — Эти видения всецело заняли меня, и, право, не знаю, что бы мне еще пришло на ум, если бы рядом со мной не зазвучал женский голос, напевавший… Гаэтан очень приятно пропел бесхитростные слова деревенской песенки, ни разу не сфальшивя, и Каролина рассмеялась, вспомнив, как она, не заметив герцога в гостиной, напевала этот знакомый с детства мотив. — Я тотчас же очнулся, — продолжал герцог, — а видения мои пропали. С паркета исчезла солома, толстые кресла на гнутых ножках больше не казались скотницами в сабо, а стройные канделябры на пузатых подставках — худосочными дамами в фижмах. Я сидел один в ярко освещенной гостиной и чувствовал себя превосходно. Однако сельская песенка явственно доносилась до меня. Ее пели совсем по-деревенски, просто, прелестно и так свежо, что я вряд ли сумел это воспроизвести. «Подумать только, — мысленно воскликнул я, — крестьянка! Крестьянка в гостиной моей матери!» Затаив дыхание, я замер в уголке, и эта поселянка предстала передо мной. Дважды она прошла мимо быстрым шагом, не заметив меня, хотя почти касалась моих колен серебристым шелковым платьем. — Вот оно что! — сказала маркиза. — Это была Каролина. — Это была незнакомка, — продолжал герцог, — и, согласитесь, крестьянка довольно странная, поскольку одета она была не хуже дамы из общества. Золотистые волосы пушистой короной венчали голову, плечи и руки были скрыты одеждой, но я приметил белоснежную шею, маленькие кисти и ножки, не обутые в сабо. Каролине было не очень приятно слушать, как завзятый ловелас описывает ее персону, и она посмотрела на маркиза, словно собиралась что-то ему сказать. Ее поразило, что лицо маркиза слегка омрачилось и что он, нахмурившись, отвел глаза в сторону. — Этот прелестный призрак, — продолжал герцог, перехвативший их взгляды, — пленил меня тем более, что сочетал в себе все достоинства моих исчезнувших чаровниц — и знатных дам и простолюдинок. Иначе говоря, в ней было все самое прекрасное: благородство линий и свежесть красок, изящество очертаний и несокрушимое здоровье. Она была королевой и пастушкой в одном лице. — Портрет ее вы не приукрасили, — заметила маркиза, — однако в нем недостает легкости кисти. Ах, сын мой, вы, вероятно, все еще слегка… возбуждены? — Вы велели мне рассказать эту историю, — ответил герцог, — но если я заболтался, велите мне замолчать. — Нет, — горячо возразила Каролина, которая обратила внимание на то, каким недоверчивым и холодным стало лицо маркиза, и потому не хотела утаивать подробности первой встречи с герцогом. — Я не узнаю оригинала и жду, когда герцог заставит его произнести несколько фраз. — Память у меня хорошая, и расскажу я чистую правду, — продолжал герцог. — Проникшись внезапно большой симпатией к этой поселяночке, я завел с ней разговор. Ее голос, взгляды, ясные, прямые ответы, приветливый вид, чистота и сердечность настолько покорили меня, что через пять минут я выразил ей свое глубочайшее уважение, точно знал ее всю жизнь, и пожелал заручиться ее уважением ко мне, точно она была мне родная сестра. На сей раз мадемуазель де Сен-Жене не заподозрит меня в лукавстве? — Ваши подлинные чувства мне неизвестны, сударь, — ответила Каролина, — но вы были со мной необычайно учтивы, и я даже не заподозрила, что эти любезности вы расточаете под влиянием вина. Я была вам от души благодарна за доброе расположение, но теперь вижу свою ошибку, так как в ваших словах было больше иронии, чем правды. — Из чего это следует, позвольте узнать? — Из ваших чрезмерных похвал, рассчитанных, очевидно, на мое тщеславие, но я не поддамся на них, сударь, а вы были бы воистину великодушны, если оставили бы в покое такое безобидное и ничтожное существо, как я. — Вот тебе раз! — воскликнул герцог, обращаясь к брату, который, казалось, размышлял о чем-то другом и все же невольно прислушивался к разговору. — Она в чем-то упорно подозревает меня и считает мое уважение оскорбительным. Маркиз, не наговорил ли ты ей гадостей про меня? — У меня нет такой привычки, — чистосердечно ответил маркиз. — Тогда я знаю, кто опорочил меня в глазах мадемуазель де Сен-Жене! — продолжал герцог. — Это старая дама с седыми буклями сиреневого оттенка и такими худыми руками, что по утрам ее кольца ищут в мусоре. Прошлым вечером она четверть часа разговаривала обо мне с мадемуазель де Сен-Жене, и после этого я тщетно пытался встретить ее добрый взгляд, от которого помолодело мое сердце; он уже был не тот, как впрочем, не тот он и сейчас. Да, маркиз, плохи мои дела. Но ты что-то отмалчиваешься? Сам только что расхваливал меня на все лады, а мадемуазель де Сен-Жене, кажется, тебе доверяет. Почему бы тебе не замолвить за меня словечко? — Дети мои, — вмешалась маркиза, — этот спор вы закончите в другой раз, а мне пора одеваться и поговорить с вами до прихода гостей. По-моему, часы немного отстают… — Мне кажется, они сильно отстают, — подымаясь, сказала Каролина и, пока герцог с маркизом провожали госпожу де Вильмер в ее спальню, торопливо прошла в гостиную. Она думала, что там уже сидят гости, поскольку обед изрядно затянулся, но в гостиной было пусто, и, вместо того чтобы весело обежать ее, Каролина, задумавшись, присела у камина.VI
Каролине начинало казаться унизительным ее положение в доме маркизы. Она старалась не думать о том, что выполняет обязанности служанки, но не могла выбросить эти мысли из головы. Каролину оскорбляли настойчивые и, может быть, притворные ухаживания герцога д'Алериа, и вместе с тем она была вынуждена скрывать свое негодование и презрение. «В скромном доме моей сестры, — размышляла она, — я не потерпела бы ухаживаний этого господина и разом пресекла бы их. Он счел бы меня жеманницей, но мне было бы все равно. Его выставили бы за дверь, и дело с концом, а здесь я должна быть веселой и любезной, точно светская дама, должна ко всему относиться бездумно и смотреть сквозь пальцы на ухаживания распутника. Очевидно, мне следует усвоить уловки женщин, привыкших лицемерить. Если же я стану ему дерзить, а это вполне в моем нраве, герцог, рассердившись, в отместку наклевещет на меня, и тогда мне дадут расчет. Дадут расчет! Да, здесь можно ожидать любых козней и оказаться в положении рассчитанной горничной. Вот какие опасности и какие унижения грозят мне на каждом шагу. И зачем только я пошла к маркизе! Госпожа д'Арглад даже не заикнулась о герцоге, и я сочла возможным невозможное». Каролина была решительного нрава. Стоило ей подумать об уходе от маркизы, как она принялась размышлять о способах заработать на жизнь Камилле и ее детям. Госпожа де Вильмер заплатила ей жалованье вперед, и теперь, если герцог своими ухаживаниями помешает ей скопить небольшую сумму, посланную сестре, придется где-то найти средства, чтобы погасить долг маркизе. И тут Каролина вспомнила о нескольких сотнях франков, предложенных ей кормилицей, письмо которой с раннего утра лежало в ее кармане. Она перечитала это простодушное и материнское послание и, подумав о том, как благодетельно и высоко нравственно подаяние бедняка, вконец растрогалась и заплакала. Маркиз, войдя в гостиную, застал ее в слезах. Каролина сложила письмо и спокойно спрятала его в карман, не стараясь притворной веселостью скрыть волнение. Она, однако, заметила, что обычно благожелательное лицо маркиза выражало некоторую насмешливость. Каролина подняла на него глаза, как бы спрашивая, кого он собирается высмеять, и маркиз, смешавшись, пробормотал что-то невнятное и кончил тем, что прямо спросил: — Вы плакали? — Да, — ответила она, — но не от горя. — Вы получили приятное известие? — Нет, доказательство дружбы. — Вы, вероятно, их часто получаете! — Не всегда онидействительно искренни. — Сегодня вы, кажется, все ставите под сомнение. Я вас такой не видел. — Да, не видели. От природы я человек доверчивый. А вы, сударь? Урбен робел, когда его спрашивали в упор. Ему и спрашивать было нелегко, а когда за его вопросом следовал встречный вопрос, маркиз совсем терялся. — Сам не знаю… — слегка помедлив, ответил он. — Не могу сказать вам, какой я… особенно сейчас. — Вы, кажется, заняты какими-то своими мыслями, — заметила Каролина. — Тогда не трудитесь отвечать мне, сударь. — Простите, я хочу… мне необходимо поговорить с вами, ко дело такое щекотливое, что не знаю, как и начать. — Ах, так? Вы меня немного пугаете… И тем не менее мне было бы интересно узнать, о чем вы в эту минуту думаете. — Хорошо, вы правы… Я не стану терять времени, сейчас наедут гости. Надеюсь, мне не придется говорить много, и вы поймете меня с полуслова. Я люблю своего брата, а сегодня люблю его особенно нежно. Я убежден, что человек он искренний, только с чересчур живым воображением. Да вы и сами недавно это заметили. Словом… если он слишком настойчиво пытался рассеять вашу неприязнь к нему, быть может, мнимую и не вполне им заслуженную, я советую вам поговорить об этом с матушкой, и только с ней одной. Не сочтите странным и нескромным то, что я осмеливаюсь давать вам советы, но мне просто необходимо видеть матушку счастливой, и я знаю, как много вы делаете для ее счастья. Делить досуг с такой умной и достойной особой, как вы, ей совершенно необходимо, и заменить вас, вероятно, уже невозможно. Если и вы будете здесь спокойны и счастливы, для меня это явится залогом того, что ваша привязанность к матушке с годами не ослабеет. Вот и все, что меня заботит. — Благодарю вас, сударь, за эти слова, — ответила Каролина. — Я, признаться, была уверена, что когда-нибудь вы и меня почтите своим благородным прямодушием. — Прямодушием? Я просто хотел сказать вам, что у моего брата веселый и любезный нрав и что если его веселость будет вам в тягость, то матушка, которая умеет сдерживать его и, не в пример мне, имеет над ним власть, сможет успокоить вас и обуздать излишнюю непринужденность его речей. — Да, мы с вами понимаем друг друга, — сказала Каролина, — и не сходимся только в том, как избавиться от… неумеренной любезности его сиятельства герцога. Bы полагаете, что ваша матушка сумеет оградить меня от нее, я же думаю, что никто не может и не должен омрачать жалобами отношения любимого сына и нежной матери. К тому же есть судьи, перед которыми всегда останешься в виноватых. Я только что размышляла о своем положении и решила, что, как ни грустно, все же может настать минута, когда я буду принуждена… — Нас оставить… оставить матушку? — воскликнул с неподдельным чувством маркиз, но тотчас совладал с собой. — Этого я как раз и боялся. Я очень огорчен тем, что вы подумали об отъезде, но надеюсь, что подумали о нем сгоряча. Остерегайтесь несправедливых поступков. Сегодня брат мой был сильно взволнован. Из-за особых обстоятельств и из-за семейных дел он утром очень растрогался, потерял равновесие, поэтому за обедом был так счастлив, доброжелателен и откровенен. Когда вы его узнаете получше… Но тут раздался звонок, и маркиз вздрогнул. Приехали завсегдатаи этого дома, и господин де Вильмер вынужден был прервать свои увещевания. — Но ради бога, ради моей матери, — поспешно заключил он, — не торопитесь с вашим решением, которое опечалит и омрачит ее душу. Если б я мог, если б имел на это право, я умолял бы вас ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной… — Уважение, которое я питаю к вам, сударь, дает вам право быть моим советчиком, и я, безусловно, обещаю прислушаться к вашим словам. В залу уже входили гости, и маркиз не поспел поблагодарить Каролину, ко взгляд его был необычайно красноречив, и она прочитала в нем те доверие и сердечность, которые в начале беседы, казалось, пропали. Глаза маркиза отличались той редкостной выразительностью, какая бывает только у душ возвышенных, пылких и чистых. В них отражалось то, что из-за робости он не смел выразить словами. Каролина поняла это и совершенно успокоилась: ей был внятен язык этих ясных глаз, и она часто вопрошала их, как судью своей совести и своих поступков. Она благоговела перед этим человеком, нрав которого ценили все, но далеко не все понимали, как глубок его ум и как утонченна душа. Тем не менее, несмотря на удовольствие, испытанное ею от беседы с маркизом, Каролина сразу же стала докапываться до ее скрытого смысла. Мысль ее работала быстро. Проходя по зале и встречая гостей со сдержанной любезностью и приличествующей скромностью, которую легко усвоила, Каролина недоумевала, отчего в разговоре маркиз был так непоследователен. Поначалу он словно хотел упрекнуть ее за то, что она поверила льстивым речам герцога, потом дружески намекнул на мимолетность его ухаживаний и, наконец, когда она сказала, что ей они крайне неприятны, сам же поспешил рассеять ее опасения. Она впервые видела маркиза растерянным: хотя он часто высказывался несмело, убеждения его всегда были тверды. «Очевидно, — размышляла Каролина, — он, с одной стороны, считает мое поведение неосторожным и знает, что герцог может им легко воспользоваться. С другой стороны, маркиза, видимо, больше нуждается во мне, чем я предполагала. Во всяком случае, тут что-то не вполне ясно, но со временем, вероятно, маркиз мне все объяснит. Как бы то ни было, я совершенно свободна, и эти пятьсот франков не удержат меня и часа в унизительном положении. А с письмом Жюстине я повременю». Как видит читатель, честная и прямодушная мадемуазель де Сен-Жене даже не предполагала, что в недомолвках маркиза могли скрываться сердечное чувство к ней или бессознательная ревность. Да и смог ли бы сам маркиз на поставленный вопрос ответить с такой же уверенностью: «Я просто глубоко уважаю вас и забочусь о матушке»? Пока Каролина раздумывала об этом, маркиз с тягостным нетерпением и неудовольствием выслушивал излияния герцога. Тот, едва появившись с матерью в гостиной, сразу уселся подле маркиза за фортепьяно и в этом укромном, облюбованном Урбеном уголке с большим жаром зашептал брату на ухо. — Ну, что? — спрашивал он. — Ты только что был с ней наедине. Что ты ей обо мне сказал? — Откуда в тебе это непонятное любопытство? — в свою очередь, спросил маркиз де Вильмер. — В нем нет ничего непонятного, — возразил герцог, точно уже обо всем рассказал брату. — Я сражен, потрясен, пленен, одним словом — влюбился. Влюбился, понимаешь, клянусь честью, я не шучу. Неужели ты станешь упрекать меня сейчас, когда впервые в жизни я доверяю тебе тайну? Разве утром мы не поклялись в вечной дружбе и доверии? Я тебя спросил, не испытываешь ли ты сам нежных чувств к мадемуазель де Сен-Жене, и ты проникновенно ответил мне «нет». Что ж тут странного, если я прошу тебя замолвить перед ней за меня словечко? — Друг мой, — сказал маркиз, — я сделал как раз противное тому, о чем ты просишь: я посоветовал ей не принимать твоих ухаживаний всерьез. — Каков вероломец! — весело воскликнул герцог, который своей откровенностью словно искупал былое предубежденное отношение к брату. — Так-то ты служишь друзьям! Изволь теперь полагаться на Пилада! Он сразу же подает в отставку, лишает вас надежды, развеивает ваши мечты. Что ж со мной будет без твоей поддержки? — Я решительно не гожусь для подобных услуг, как видишь. — Так! Нарушаешь обет при первой трудности? Хорошо. Но я от тебя не отстану. В моем сердце остался только ты, тебе и выслушивать рассказ о моей новой страсти. — Ты хотя бы поклянись в ее искренности! — Значит, ты боишься, что я скомпрометирую Каролину? — Меня это очень огорчило бы. — Это еще почему? — Потому что она девушка гордая и, вероятно, недоверчивая. Она сразу же уйдет от матушки, которая так ее любит! Неужели ты не понимаешь? — Понимаю, потому-то голова у меня и пошла кругом. Она, очевидно, и вправду очень умная и добрая девушка — у нашей матушки ведь поразительное чутье. Она была недовольна тем, что я, по ее мнению, поддразниваю Каролину, пожурила меня сегодня вечером и сказала: «Вы нехорошо ведете себя с ней. Выбросьте ее из головы!» Черт возьми, думать о ней никому не возбраняется, и худо от этого никому не станет. Нет, ты только посмотри, как она хороша! Единственная живая женщина среди этих напомаженных кокеток! Ты погляди на нее при дневном свете: кожа у нее свежая, без того матового оттенка, что скрадывает пушок на щеках и превращает женское лицо в гипсовую маску. Право, она слишком красива для компаньонки! Матушка не сумеет ее долго удержать. Она влюбит в себя кого угодно, а если будет умницей, на ней непременно женятся. — Поэтому и забудьте о ней думать, — сказал маркиз. — Вот тебе раз! — удивился герцог. — Разве сам я не бедняк без гроша в кармане или она не из хорошей семьи? Или, может быть, у нее дурная слава? Хотел бы я знать, какие могут быть возражения у матушки. Да она уже зовет ее дочерью и требует к ней уважения, точно она и впрямь наша сестра. — Ваша восторженность, вернее — ваши шутки переходят всякие границы, — сказал маркиз, пораженный словами брата. «Так! — подумал герцог. — Он уже говорит мне „вы“«. И с неподражаемой серьезностью он принялся рассуждать о том, что с радостью женится на мадемуазель де Сен-Жене, если нет другого способа овладеть ею. — Я бы с удовольствием ее похитил, — прибавил герцог. — Это мне весьма с руки. Но теперь это дело безнадежное — даже моя прачка, и та мне не доверится. Впрочем, самое время для меня покончить с прошлым. Я тебе обещал и сдержу слово. С сегодняшнего дня я полностью преображаюсь, и ты увидишь нового человека, которого я сам толком не знаю и который еще удивит меня самого. Да, я чувствую, что этот человек способен на все, решительно на все — даже кому-то поверить, кого-то полюбить, на ком-то жениться. На этом, брат, мы сегодня распростимся. Если ты не передашь этот разговор мадемуазель де Сен-Жене, значит, ты не хочешь мне помочь исправиться. Герцог удалился, оставив маркиза в полном недоумении. Он был сбит с толку и не знал — верить ли в искренность этого минутного увлечения или гневно отвергнуть бесчестную затею, в которую его старались втянуть. «Нет, — думал он, входя в свою комнату. — Все это у него от шалого нрава, чудачества, легкомыслия… или опять под влиянием винных паров. Однако сегодня утром в Булонском лесу он расспрашивал меня о Каролине с большой настойчивостью, хотя перед этим выслушал рассказ о моем прошлом с истинным участием, можно сказать — со слезами на глазах. Что за странный человек мой братец! Только вчера он хотел покончить с собой, ненавидел меня, презирал самого себя. Потом, казалось, я смягчил его сердце, и он плакал в моих объятиях. Целый день он был такой открытый, доверчивый, нежный, а вечером — не понимаю, что с ним сделалось. Может, беспорядочная жизнь, которую он вел до сих пор, наложила печать на его разум, или брат посмеялся надо мной, а я, глупец, ослепленный жаждой привязанности, поверил ему? Неужели я горько раскаюсь в своем порыве? Или, может быть, я взвалил себе на плечи заботы о душевнобольном?» Маркиз был в таком смятении и ужасе, что эта мысль не казалась ему столь уже страшной. Теперь его пугало другое: брат задел и разбередил в нем чувство, в котором он не сознавался самому себе и которому не хотел даже дать название. Маркиз принялся за работу, но она не ладилась; лег спать, но сон к нему не шел. А герцог между тем радостно потирал руки. — Победа! — ликовал он. — Я нашел, чем одолеть его хандру. Бедный брат мой, я вскружил ему голову, пробудил желания, разбередил ревность. Он, конечно, влюблен в Каролину. Теперь он оправится от недуга и воспрянет духом. Страсть врачуется только страстью. Матушка никогда не нашла бы этого спасительного средства, и даже если в ее доме произойдет скандал, она простит меня в тот день, когда узнает, что угрызения совести и душевное благородство чуть не свели в могилу моего брата. Герцог, пожалуй, играл наверняка, и его хитроумию мог позавидовать любой мудрец, который, конечно, постарался бы привязать маркиза к жизни любовью к наукам, сыновьими чувствами, доводами рассудка и нравственности, словом — всем самым прекрасным и возвышенным. Но больной и и сам давно и тщетно призывал их к себе на помощь. Герцог же, смотря на все со своей колокольни, воображал себя спасителем маркиза, даже не предполагая, что такому редкостному человеку, как его брат, лекарство могло навредить больше, чем любой недуг. Зная по себе, что такое человеческая слабость, герцог считал женщин созданиями слабыми и не допускал исключений. Он думал, что Каролина от маркиза без ума, быстро уступит ему, и был далек от мысли, что только брак был залогом победы над девушкой. «Каролина добрая, — размышлял он, — не тщеславная и бескорыстная. Я понял ее с первого взгляда, да и матушка уверяет, что я не ошибся. Она не станет сопротивляться, потому что в сердце ее живет потребность любить и потому что братом нельзя не увлечься — в нем столько обаяния для женщины истинно духовного склада. А если некоторое время она будет противиться, тем лучше: брат еще сильнее привяжется к ней. Матушка ничего не заметит, а если и заметит, так ей будет чем занять ум и воображение. Она проявит снисходительность, долго будет твердить о благе добродетели, а потом разжалобится. Эти мелкие домашние волнения спасут ее от скуки, которая для матушки страшнее чумы». Герцог со всем простодушием строил эти планы, в основе которых лежала глубокая безнравственность. Он был полон ребяческого умиления перед собственными замыслами — черта, нередко свойственная распутству и сердечной опустошенности, — и ликовал, рисуя себе, какая красивая жертва будет принесена в угоду его прихоти. Если бы в эту минуту его спросили, о чем он думает, герцог со смехом ответил бы, что в ознаменование целомудренной и благочестивой жизни, которую решил вести, он задумывает любовную историю во вкусе Флориана. Весь вечер он провел в гостиной и, улучив минуту, отвел Каролину в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз. — Матушка меня выбранила за то, что я держался с вами крайне глупо. Но у меня это получилось невольно — ведь моим единственным желанием было выказать вам свое уважение. Коротко говоря, матушка запретила мне ухаживать за вами, и я, не задумываясь, дал честное слово, что исполню ее волю. Теперь, полагаю, вы спокойны? — А я и не думала беспокоиться. — И слава богу! Поскольку матушка вынудила меня столь неучтиво сказать в лицо женщине то, о чем обычно молчат, хотя порою и думают, давайте будем друзьями, словно мы оба мужчины, и для начала не станем больше лукавить. Обещайте больше не говорить обо мне дурно моему брату. — А когда же я говорила о вас дурно? — Разве вы не жаловались на мою нескромность… сегодня вечером? — Я сказала, что боюсь ваших насмешек и что, если они повторятся, я уеду отсюда, вот и все. «Да они спелись! — подумал герцог. — Быстро!» — Если вы хотите покинуть матушку из-за моей персоны, что ж, значит, вы обрекаете меня на разлуку с ней. — Зачем такие крайности! Сын не уходит от матери из-за постороннего человека. — Но если я вам внушаю неприязнь и даже страх, я готов на это — только не уезжайте, и я исполню любое ваше желание. Может быть, я должен не замечать вас, не разговаривать с вами и даже не кланяться? — Я не хочу никаких крайностей. Вы достаточно умны и опытны, чтобы понять, как я безыскусна в беседе и бессильна отразить ваши словесные атаки. — Вы чересчур скромны. Однако ж, если вам не угодно, чтобы к моему уважению невольно примешивалось искреннее восхищение вами, а знаки внимания, которые нельзя вам не оказывать, беспокоят вас и тревожат, можете быть уверены, что я сдержу обещание и впредь вам не придется на меня жаловаться. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, — своей матерью! Исправив свою ошибку и успокоив Каролину, отъезд которой разрушил бы его план, герцог принялся с неподдельным восторгом говорить ей об Урбене. Слова его звучали так искренно, что мадемуазель де Сен-Жене отказалась от своих предубеждений, перестала тревожиться и поспешила написать Камилле, что дела идут хорошо, что герцог, оказавшийся гораздо лучше, чем о нем говорят, даже поклялся честью оставить ее в покое. В течение месяца, протекшего с этого дня, Каролина почти не встречалась с маркизом де Вильмером. Сначала ему пришлось заниматься денежными делами брата, а потом он уехал из Парижа, сказав матери, что едет в Нормандию, где собирается осмотреть старинный замок, план которого необходим для затеянного им исторического труда. Только герцог знал, что он отправился в противоположную сторону, дабы, сохраняя строжайшее инкогнито, проведать своего сына. Герцог с головой ушел в дела, связанные с его новым денежным положением. Он продал лошадей, обстановку, рассчитал слуг и из соображений экономии, а также по материнской просьбе поселился во втором этаже ее особняка, тоже предназначавшегося на продажу, но с условием, что в течение десяти лет Урбен будет тут хозяином и апартаменты маркизы останутся неприкосновенными. Урбен сразу перебрался в третий этаж и перетащил книги в свое скромное жилище, уверяя, что нигде ему лучше не жилось и что вид на Елисейские поля просто великолепен. Пока он отсутствовал, начались сборы в деревню, и мадемуазель де Сен-Жене написала своей сестре: «Считаю дни, которые остаются до переезда в этот райский уголок, где наконец я вдоволь нагуляюсь и надышусь свежим воздухом. Надоели цветы, которые вянут на наших каминах. Скорей бы увидеть те, что цветут в лугах».VII
Письмо маркиза де Вильмера герцогу д'Алериа«Полиньяк, 1 мая 1845, через Пюи (Верхняя Луара)
Сообщенный тебе адрес — это тайна, которую доверяю брату, и я счастлив, что могу тебе ее доверить. Если со мной случится нежданная беда и я умру вдали от тебя, ты будешь знать, что первым делом нужно приехать сюда и проследить за тем, чтобы моего мальчика не бросили люди, которым поручено его воспитание. Эти люди меня не знают; им неизвестны ни мое имя, ни родина, они даже не предполагают, что Дидье — мой сын. Я тебе уже говорил — такая предосторожность необходима. Господина де Ж*** и по сей день не оставляют подозрения, и он, чего доброго, может усомниться, что его дочь действительно рождена от него. Эти опасения так мучили несчастную мать, что я поклялся скрыть Дидье от всех до тех пор, пока не решится участь Лауры. Словом, я должен быть крайне осторожен, так как не раз замечал, что кто-то внимательно следит за каждым моим шагом. Поэтому я укрыл сына далеко от Парижа, где никто меня не знает и где я не рискую случайно столкнуться со знакомыми. Люди, приютившие Дидье, с виду вполне надежные, славные и скромные — во всяком случае, они не задают лишних вопросов и не приглядываются ко мне. Кормилица Дидье — племянница Жозефа, того старого и доброго лакея, который умер у нас в прошлом году. Он мне ее и рекомендовал, хотя ей тоже неизвестно, кто я такой. Она знает меня под именем Бернье. Это молодая, здоровая, добродушная женщина, простая крестьянка, но живущая в сравнительном достатке. Я не давал ей больших денег, опасаясь, что все равно не вытравлю из нее деревенской скаредности, которая тут, по-моему, укоренилась, как нигде; я же стремлюсь к тому, чтобы мой мальчик рос в условиях настоящей деревенской жизни, но не страдал от чрезмерных суровостей этих условий, ибо это может губительно сказаться на его здоровье. Пишу тебе из дома моих хозяев. Они фермеры и хранители мрачной средневековой крепости, которая стоит на вершине. Эта твердыня — колыбель того семейства, последние отпрыски которого сыграли столь плачевную роль в недавних злоключениях нашей монархии. В этой глуши их предки сыграли не менее важную и жалкую роль в те времена, когда феодалы мало чем отличались от мелких королей. Меня это занимает в связи с тем историческим сочинением, для которого я собираю здешние предания, изучаю крепость и местность. Словом, я не полностью обманул матушку, сказав ей, что отправляюсь в путешествие, чтобы образовать свой ум. В самом сердце этой прекрасной Франции есть и впрямь много интереснейших мест, куда ездить не модно, — потому-то неприступные уголки этого края до сих пор остаются кладезями неизведанного для ученых и источниками вдохновения для поэтов. Здесь нет дорог, проводников и никаких средств передвижения; здесь все открытия даются ценою риска и усталости. Местные жители знают свою страну не лучше приезжих. Жизнь, целиком посвященная сельским трудам, ограничивает кругозор крестьян пределами одной своей местности, и спрашивать дорогу у них бесполезно, особенно если не знаешь названий и хотя бы приблизительного расположения деревенек. За протекшие со дня рождения Дидье два года я приезжаю сюда в третий раз, но не будь у меня под рукой подробнейшей карты, к которой я обращаюсь поминутно, пришлось бы передвигаться только по прямой, что просто немыслимо, так как местность изрезана глубокими оврагами, перегорожена во всех направлениях высокими стенами застывшей лавы, изборождена многочисленными горными потоками. Но чтобы оценить удивительный, ни с чем не сравнимый ландшафт этого края, совсем не обязательно забираться вглубь. Ты, друг мой, даже не представляешь себе, как живописен и красив бассейн Пюи, а я не знаю другого места, чье своеобразие так трудно описать. Это не Швейцария, ибо все здесь не так сурово, и не Италия, ибо все здесь куда прекраснее. Это центральная Франция с ее угасшими Везувиями, одетыми пышной растительностью. И это не знакомые тебе Овернь или Лимузен. Здесь нет богатой Лимани, широко раскинувшейся спокойной равнины, покрытой пашнями и луговинами, замкнутыми на горизонте цепью горных отрогов; здесь нет тучных пастбищ в кольце буераков. Тут одни лишь горные вершины да овраги, и земля возделывается лишь на крутых склонах и в узких теснинах. Но все-таки обрабатывается повсеместно, покрываясь ковром свежей зелени, злаков, бобовых растений, которые жадно тянут соки из плодотворного вулканического пепла и произрастают даже в трещинах между потоками застывшей магмы. Эти потоки резко поворачивают то вправо, то влево, и за каждым поворотом — новые нагромождения, столь же непроходимые, как и те, что остались позади. Но с любой возвышенности эта изрезанная местность видна как на ладони, и глазу открываются ее неоглядные пространства и соразмерные очертания, так что картина эта так прекрасна, что воображению нечего к ней прибавить. А какой величественный горизонт! Это прежде всего Севенны. В туманной дымке очерчены длинные скаты и крутые обрывы Мезенка, за которым возвышается Жербье де Жон — вулканический конус, похожий на Соракту, но подошва у него гораздо шире и производит он большее впечатление. У других гор самые прихотливые формы: одни полуокруглыми очертаниями напоминают вершины Вогез, другие возвышаются отвесными, местами сильно выщербленными стенами, ограничивая небесный свод, огромный, как небо Римской Кампаньи, но нависающий более вместительной чашей, так что все эти вулканы, перепахавшие землю, как бы заключены в один общий кратер сказочной глубины. То, что расположено под этим куполом, порою вырисовывается с поразительной четкостью во всех своих замечательных подробностях. Сначала выступает вторая, третья, а местами и четвертая горная цепь, и все они разнообразны по формам, и все постепенно понижаются до уровня трех рек, изрезавших то, что можно назвать равниной, хотя по существу это никак не равнина. Вследствие геологических судорог земля тут вся вспучена, искорежена и взрыта. Из-за вулканических извержений недра ее исторгли гигантские образования ныне застывшей магмы; отшлифованные и оголенные водой, они сегодня представляют собой исполинские дайки, которые есть и в Оверни. Но здесь они неизмеримо массивнее и совсем иной формы. Эти красновато-бурые стены и по сей день кажутся раскаленными внутри, а на закате похожи на громадные тлеющие головни. На их плоских, широких, круто обтесанных вершинах, которые по бокам подчас вздуваются наподобие башен и бастионов, жители строили храмы, затем крепости и церкви и, наконец, города и веси. Город Пюи частично расположен на такой дайке — скале Корнель; это одно из самых цельных и гигантских геологических образований, существующих в природе; вершина ее, некогда посвященная галльским, а затем римским божествам, по сей день увенчана развалинами средневековой цитадели, возвышаясь над романскими куполами дивной базилики, выросшей из ее скалистого склона. Среди столь величественной природы сама базилика кажется сотворенной неким величественным извержением. Черная и мощная, она резко выделяется на туманном фоне неоглядной шири, ибо горизонт здесь очерчен лишь далекой цепью Севенн и в этом, по-моему, и заключается тайна волшебного очарования картины. Ее детали выделяются на переднем плане, подчеркивая пространственную глубину перспективы и приобретая особую значительность, каковой и обладают на самом деле, а соразмеряется она со значительностью дальних массивов на горизонте. Вот почему в Риме, высящемся на фоне бескрайнего неба, так трудно оценить вблизи подлинные размеры его строений. Здесь надо бы стоять Риму! Гигантское основание одной-единственной скалы было бы под стать гению Микеланджело чтобы прянул ввысь главный купол собора святого Петра. Теперь я даже не понимаю, отчего мы благоговеем перед Римом и его святым Петром: ведь этот уродливый город, скрывший в своих недрах царственные руины, мнит, что все превзошел и всего достиг, создав строение невиданных размеров, действительно совершенное с точки зрения архитектурной науки, ко далеко несовершенное по части вкуса и чувства меры. Я слыхал, будто достоинства этой храмины, ее высоту и громаду можно постичь только умом и сравнением, но для меня, признаться, это пустые слова. Мне всегда казалось, что искусство как раз и заключается в том, чтобы из немногого сделать многое. И что подлинное величие искусства не в использованном материале, а в том впечатлении, которое оно производит. Какое мне дело до того, что существо или предмет легко измерить, если глаза мои и не думают измерять его, а мысль невольно стремится его бесконечно возвеличить. Храмы, как, впрочем, и горы, впечатляют нас только своей соразмерностью, той гармонией, которая существует между их пропорциями и потребностями нашего воображения. И в творениях природы и в творениях человека редко попадаются образцы, отмеченные великим вдохновением; чаще мы видим лишь некие создания, говорящие о расточительности, усталости или прихоти мастера. Вот почему меня никогда не пленяли всеобщие идолы и кумиры, равно как и модные места. Ты знаешь, что даже море я люблю, когда смотрю на него из-за деревьев или когда там и сям из него поднимаются скалы. Обычно же море, заполняющее собой весь горизонт, кажется мне несоразмерно громадным, точно так же как несоразмерно громадно небо над широкой равниной. Может, и вправду во мне живет бунтарский дух, как говорит наша матушка. Этот упрямый, молчаливый дух сильнее меня и отталкивает от себя все, что хочет его укротить. Как я люблю грозный ландшафт! Ты упрекал меня за это, когда мы были в Пиренеях. Пропасти раздражали тебя, я же искал их повсюду, и ты сердился и тащил меня в Биарриц, где море умиротворяло твои глаза, пресытившиеся ущельями и водопадами. Если ты немного подумаешь, то поймешь, что в этом ты гораздо более поэт, нежели я. Ты наслаждаешься созерцанием того, что кажется тебе бесконечным. Я же, вероятно, только художник, и поэтому мне нужны вещи конечные. Я ценю в них величие, но для того, чтобы я его приметил, они должны быть величественны очертаниями, и мне дела нет до того, какое пространство они занимают. Очевидно, дерзновенность форм этих громад затрагивает в моей душе дерзновенную струну, а спокойные или буйные краски успокаивают или огнем обжигают чувства. Я не хочу придумывать себе природу и еще меньше хочу разбирать по косточкам или мысленно приукрашивать произведения искусства. Я всецело отдаюсь только тому, что мне по сердцу, и если оно остается холодным, значит, это не для меня. Вероятно, как всякий человек, я заблуждаюсь в своих оценках, может статься, заблуждаюсь больше остальных, так как живу в плену мучительных волнений, страшной усталости или детского умиления, и в одиночестве мне с ними не совладать. Безраздельно отдаваясь тому, что люблю, я не властен над самим собой. Поэтому я часто нахожу удовольствие в том, что само по себе незначительно, но что помогает мне существовать, когда жизненные силы переполняют или оставляют меня. Здесь я совсем успокоился, и голова стала вполне ясная. Одиночество мне явно на пользу: им я умиротворен и убаюкан. Оно напоминает о том, как пылко я его когда-то любил, как страсть к одиночеству тиранила меня в молодые годы и как я сознательно изменял ей, когда долг одерживал верх над тягой к уединению, — одиночество прощает эти мои измены, — впрочем, что я говорю? — вознаграждает за них, точно и впрямь понимает меня. Да и почему бы не понять? Разве одиночество не громадное многоликое существо, не голос, не лоно самой природы, которая беседует с нами и сжимает нас в объятиях, и разве природа не начало всего сущего, нескудеюший родник всякого блага и всякой красоты? Разве мы не мыслим ее в реальном обличье, когда просим у нее душевного успокоения и сил, которые наша искусственная жизнь в замкнутом общественном кругу стремится разрушить и поколебать? Да, бывают часы, когда, не будучи писателями, художниками, артистами или учеными, мы изучаем и вопрошаем природу нашим сердцем и умом, точно надеемся, что своей улыбкой или угрозой она умиротворит или пробудит наши думы. Поэтому нам доставляют удовольствие некие места, точно их косная природа приобщает нас к скрытой в ней вселенской душе, поэтому нам не в радость бывать в других краях, словно притаившийся в тамошней природе дух неумолимо не желает открывать нам тайну своих жизненных сил. Но несмотря на все эти фантазии, мне тут хорошо, и задумай я выбрать для жизни уединенный уголок, я поселился бы только здесь. Это суровый и в то же время улыбчивый край. Правда, нрав у него неприветливый, а улыбку приходится вымаливать. Климат резкий: очень морозно зимой, очень жарко летом. Виноград родится плохой и дает очень кислое вино, которое, как водится в странах с неважными винами, жители пьют сверх меры. Вершины Севенн часто окутаны ледяными парами, а стоит ветру разогнать их, льют дожди. Нынче погода постоянно капризничает: небо то внезапно затягивается причудливыми облаками, пряча солнце, то вдруг проясняется, и разливается холодное сияние, которое сразу наводит на мысль о первой заре мирозданья, когда был создан свет, иначе говоря, когда воздушные надземные толщи после мучительных родовых схваток пропустили солнечные лучи на молодую, сияющую планету. Существовал ли в ту пору человек? Всё гипотезы, гипотезы… Но он, безусловно, существовал в ту эпоху, когда грозная, ныне застывшая вокруг меня лава вырвалась из-под земли и искорежила почву. У подножия соседней горы, в узкой расселине, под базальтом и окалиной найдены окаменелые человеческие кости — останки старика и ребенка. Значит, человек был свидетелем величественных катаклизмов природы, но так прочно о них забыл, что только исследования современной науки сумели их восстановить и сделать достоянием истории земного шара. Но самое удивительное вот что: в том же почвенном пласту, где покоятся человеческие останки, находят остовы животных, что сегодня обитают в жарких широтах. Стало быть, слоны и тигры когда-то жили тут подле человека. Впрочем, здесь очень много пещер, весьма грубо вырытых человеком, — значит, дикие племена жили тут с изначальных времен. Если возвышенности, которых издавна щадили колебания моря, следует действительно считать колыбелью человеческого рода, тогда можно уверенно сказать, что перед нами одно из таких мест. Но это уже лежит вне моих исторических интересов. Для меня гораздо важнее найти в сегодняшних обитателях следы общественных перемен. У местных жителей весьма характерный облик, внешние черты которого удивительно соответствуют земле, где они живут: худые, сумрачные, суровые, угловатые и по внешнему виду и по строю души. Но особенно заметен в них отпечаток феодального режима: дух слепого повиновения постоянно борется в них с духом стихийного бунтарства, а суеверие, которое терпит всякий произвол, в раздоре с буйными страстями, распаленными тем же суеверием. Я не знаю земли, где духовенство пользуется большей властью, и не знаю края, где бунт против церкви был бы и, вероятно, еще будет в урочный час беспощадней и кровавей. Если при описании горного бассейна Пюи я мысленно сравнивал его со столь непохожей на него Римской Кампаньей, то сделал это, вероятно, потому, что меня поразило известное сходство, — нет, не внешнее сходство здешнего храма, смело и величественно парящего над местностью, с собором святого Петра, господствующим своей тяжкой громадой над простирающейся равниной, а глубинное подобие нравственного и умственного склада жителей. Не считая существенного различия, заключающегося в трудолюбии и алчности, присущих характеру горцев, местные обитатели во многом схожи с народом Римской империи. Страстное почитание кумиров, сохранившееся со времен языческого идолопоклонства, тупая вера в местные чудеса, монастырские пороки, ненависть и мстительность, подавляющие все остальные чувства, — вот тебе качества велезского крестьянина, правда, не нынешнего (за последние сорок лет он сильно пообтесался), а того, что запечатлен в каждой черточке местной истории и ее памятников. Горы, опоясывающие кольцом это место, поощряли самый дерзостный разбой феодалов и самое разнузданное владычество духовенства. Крестьянин страдал от них, но сносил любое бесчинство, и его набожность, как и его нравы, поныне хранит отпечаток яростных междоусобиц и варварских средневековых поверий. Здесь долгие века поклонялись древнему египетскому божеству, которое, как гласит предание, привез сюда из Палестины святой Людовик, — только революция сокрушила этот идол. Затем они стали поклоняться новоявленной «черной приснодеве», но вскоре выяснилось, что она подложная и чудотворством своим уступает прежнему кумиру. По счастью, в соборной сокровищнице сохранились свечи, которые якобы держали в руках ангелы, сошедшие с неба, дабы собственноручно водрузить изображение Изиды в алтаре. Свечи показывают ретивым богомольцам. Это что касается их религии; а в кабачках идет иная жизнь. Сюда приходят с ножом в ножнах, втыкают его с оборотной стороны столешницы у колен, а потом уже болтают, пьют, бранятся, дерутся и режут друг другу глотки. Это что касается их инстинктов. Слава богу, с каждым днем они смягчаются, но в нашем 1845 году от рождества Христова они еще достаточно необузданны, и даже в веселье этих людей есть что-то дикарское. Женщинам развлекаться возбраняют — священники запрещают им танцевать и даже прогуливаться с мужчинами. А мужчины поэтому разнузданы и не питают друг у другу уважения. Большинство не признает власти священника, считая, что подчиняться ей должны женщины. Зато войны во имя веры у них в большой чести. За стаканчиком они спорят о догматах веры и пускают в ход крик. Это что касается истории. Их привычки порождены буйной и тяжелой жизнью. Грубость представлений влечет за собой грубость нравов. Человек, плохо понимающий дух религии, плохо понимает жизнь, и нравственность его извращается. В этой стране, где большая часть земли ничего не родит, тем не менее есть огромные богатства, целые плодородные долины, превосходные пастбища, а у жителей — большая тяга к земледельческому труду. Однако крестьянин (я говорю о том, кто возделывает собственный участок, нищего бедняка в расчет не беру) живет безрадостно и даже вроде бы не имеет никаких желаний. Грязь в его жилище неслыханная. Потолок, грубо покрытый дранкой, служит своеобразной кладовой, где хранят вместе со съестными припасами старое тряпье. Когда входишь в дом, то просто задыхаешься от запаха прогорелого сала и тошнотворных ароматов, которые распространяет вся эта гадость, эдакими люстрами свешивающаяся с потолка: связки свечей вперемежку с колбасами, грязное белье, стоптанные башмаки — вместе с хлебом и мясом. Устройством большинство таких домов напоминает скорей крепость и одновременно походную палатку, нежели обыкновенное жилище. Дом стоит на высоком фундаменте, как бы съежившись под плоской крышей, куда залезают по приставной лестнице. В одном таком доме я случайно увидал образа, окруженные неприличными картинками. Правда, зашел я на постоялый двор, где порядочные женщины не появляются. Я прислушался к крестьянам, которые пили и разговаривали. Меня поразила их речь, которая, подобно странному соседству образов и картинок на стенах, была диковинной смесью священных клятв и самых грубых ругательств, что также указывало на сходство здешнего языка с просторечием римских окраин. Очевидно, жажда богохульства вызвана в них закоренелой привычкой в божбе. Покамест я тебе описывал горцев. Те крестьяне, что живут ближе к городам и к центру этого края, более отесаны. Впрочем, у тех и других, как у римлян, я вижу не только указанные мною пороки, но и замечательные достоинства. Они честны и горды, в их обхождении нет и намека на подобострастие, а в гостеприимстве — большая искренность. В душах их запечатлены суровость и красота их земли и неба. Те из них, что веруют искренно, без ханжества, — люди богобоязненные и воистину религиозные; другие же, которым случилось бывать в разных местах или получить некоторые практические знания, выражают свои мысли ясно, четко, с известной заносчивостью, что даже нравится тому, кто лишен этнических предрассудков. Местные женщины с виду приветливы и неробки. Сердце у них, по-моему, доброе, а нрав необузданный. Им не столько недостает красоты, сколько женственности. Когда они молоды, их лица в обрамлении черных фетровых шапочек, украшенных стеклярусом и перьями, весьма привлекательны, в старости же они полны сурового достоинства. Только чересчур эти женщины мужеподобны: широкие, квадратные плечи не соответствуют тщедушному телу, а одежда так неопрятна, что и смотреть не хочется. Выцветшие тряпки едва прикрывают длинные грязные голые ноги горянок, и при этом они носят золотые украшения, даже бриллианты в ушах и на шее — странное сочетание роскоши к бедности, напомнившее мне нищенок в Тиволи. Но трудолюбия у них хоть отбавляй. Искусство плести кружева переходит от матери к дочерям. Едва девочка начинает лепетать, как на колени ей кладут огромную подушку с роговыми булавками, а в руки дают набор коклюшек. Если в пятнадцать — шестнадцать лет девушка не становится замечательной мастерицей, ее считают дурочкой, которая зря ест свой хлеб. Но над этим прелестным и тонким искусством, которое так подобает терпеливым и ловким женским рукам, тяготеет уже тирания не священников, а торговцев, безжалостно обирающих велизианок. Поскольку все обитательницы Веле и большей части Оверни умеют плести кружева, все они в равной мере страдают от низких цен — мизерность вознаграждения за их труды просто потрясает. Здесь скупщик получает на работе ремесленника не те сто процентов барыша, которые с его точки зрения и законны и необходимы для дальнейшей торговли, — он зарабатывает впятеро больше. Правда, подчас жадность скупщиков карает их же самих, так как между ними возникает отчаянное соперничество, и они разоряют друг друга точно так же, как кружевницы обесценивают свое искусство, выполняя одну и ту же работу. Таков закон и проклятие торговли. Кажется, я сдержал обещание и довольно рассказал тебе об этой стране. Ты, дорогой брат, просил меня написать длинное письмо, зная заранее, что в часы одиночества и бессонницы я буду терзаться мыслями о себе, о своей печальной участи и скорбном прошлом, сидя здесь подле сына, который спит рядом, пока я пишу тебе. Конечно, присутствие Дидье бередит мои старые раны, и отвлечь меня от них, заставив заняться обобщением путевых впечатлений, значит оказать мне большую услугу. Тем не менее я бесконечно умиляюсь, глядя на него, и в этом умилении есть своя радость. Так как же можно запечатать письмо, не написав ни слова о Дидье?! Видишь, я колеблюсь, я боюсь твоей усмешки. Ты не раз говорил, что терпеть не можешь детей. А я, хоть и не чувствовал подобной неприязни, тоже избегал общаться с ними — ребяческая невинность страшила мой рассудок. Теперь я переменился, и хотя ты, должно быть, станешь издеваться надо мной, мне нужно излить тебе душу. Да, да, друг мой, нужно. Чтобы ты узнал меня до конца, я должен превозмочь этот ложный стыд. Понимаешь ли, брат, этого мальчика я обожаю; теперь уже ясно, что рано или поздно он станет единственной целью моей жизни. Я приехал к Дидье не из одного чувства долга — всем нутром я рвусь к сыну, стоит мне некоторое время прожить с ним в разлуке. Ему здесь хорошо, он ни в чем не нуждается, он крепнет, его любят. Приемные родители — прекрасные люди, которые заботятся о нем не только из корысти, а и потому, что, как вижу, привязаны к нему действительно. Живут они в уцелевшей и хорошо восстановленной части замка. Ребенок вырос среди развалин, на вершине большой скалы, под ясным небом, дышит чистым, бодрящим воздухом, окружен вниманием чистоплотных и заботливых людей. Сама хозяйка живала в Париже; она прекрасно знает, какой уход и сколько сил требуется для воспитания этого ребенка, сложенного не хуже ее собственных детей, но отличающегося от них более слабым здоровьем. Словом, я могу ни о чем не тревожиться и спокойно ждать, пока Дидье вступит в тот возраст, когда нужно будет пестовать и развивать не только его тело. И все-таки, когда Дидье нет рядом со мной, меня не оставляют тревоги. Его жизнь как бы держит в страхе и трепете мою собственную жизнь, но стоит мне увидеть Дидье, как все опасения исчезают, а горькие мысли улетучиваются. Да что тут говорить! Я его люблю, чувствую, что он принадлежит мне, а я безраздельно принадлежу ему. Я вижу, что он вылитый я, да, он похож на меня гораздо больше, чем на свою бедняжку мать, и чем определеннее проступают его черты и характер, тем труднее мне найти в нем то, что напоминает ее; видимо, материнским качествам так и не суждено проявиться. Вопреки установленному закону, согласно которому мальчики наследуют от матери гораздо больше, чем девочки, мой сын будет со временем вылитый отец, если станет развиваться в том же направлении, что сейчас.Уже сегодня я замечаю в нем отцовскую вялость и угловатую застенчивость — таким, по словам матушки, я был в детстве. У Дидье те же горячие порывы, которые понуждали матушку прощать меня и нежно любить, несмотря ни на что. В этом году Дидье впервые заметил, что я существую в его жизни. Поначалу он дичился меня, теперь же улыбается и даже немного болтает со мной. От его младенческих улыбок и лепета все внутри сжимается, а когда на прогулке он протягивает мне руку, сердце мое переполняется такой благодарностью к нему, что я с трудом прячу навернувшиеся слезы. Но полно, не хочу, чтоб ты и меня почел за ребенка. Я написал тебе об этом, дабы ты не удивлялся тому, что ни о каких планах на будущее я не желаю слушать. Да, да, друг мой, не надо со мной говорить ни о любви, ни о браке. В душе моей не так много счастья, чтобы поделиться им с женщиной, которая заново войдет в мою жизнь. Этой жизни и без того едва хватает для исполнения моего долга, для того, чтобы окружить заботой Дидье, матушку и тебя. А если прибавить ко всему жажду знания, которая порою буквально снедает мне душу, то где же взять время, чтобы разнообразить досуг молодой женщине, которая захочет счастья и веселья?! Нет, нет, об этом не стоит и думать, и если мысли об одиночестве, случается, страшат меня, ты помоги мне дожить до того часа, когда я полностью смирюсь с ними. Это может затянуться на несколько лет, и твоя дружба поможет их скоротать. Не отнимай ее у меня, будь снисходителен к моим недостаткам и великодушно принимай мои чистосердечные признания. Матушка с мадемуазель де Сен-Жене, наверное, уже уехали в Севаль, и ты их проводил. Если матушка станет обо мне тревожиться, скажи, что получил мое письмо и что я еще в Нормандии».
VIII
В тот же самый день, когда маркиз писал это послание герцогу, мадемуазель де Сен-Жене сочиняла письмо сестре, где по-своему тоже описывала край, в котором теперь жила.«Севаль, через Шамбон (Крез), 1 мая 1845
Вот мы и в деревне, сестрица! Это сущий рай. Замок старый, небольшой, но довольно живописный, и все в нем отлично устроено для отдыха. Просторный, немного запущенный парк, разбитый, слава богу, не на английский манер. В нем полно красивых старых деревьев в плюще и вольно растут дикие травы. Прелестное место! Даже при новом разграничении департаментов это Овернь, но совсем близко от бывших пределов Марша, в миле от городка Шамбон, через который пролегает дорога к замку. Городок этот очень удачно расположен. Въезжаешь в него по отлогой горе или, вернее, по склону довольно глубокого оврага, потому что гор здесь, строго говоря, нет. Оставляешь позади плоскогорье, где на тощей сырой земле растут низкорослые деревца и высокий кустарник, и спускаешься в длинное извилистое ущелье, которое местами так расползается в ширину, что кажется долиной. На дне этого ущелья, которое скоро разветвляется, текут настоящие хрустальные реки; они не судоходные и вообще, пожалуй, не реки, а горные потоки, которые быстро несут свои пенистые воды, при этом совершенно безопасные. Мне, привыкшей к нашим широким равнинам и большим рекам в плоских берегах, всюду мерещатся пропасти и горы; маркиза же, видавшая Альпы и Пиренеи, смеется надо мной и говорит, что все это миниатюрно, как ваза на столе. Поэтому, дабы не ввести тебя в заблуждение, я не стану продолжать свое восторженное описание, однако маркизе, довольно равнодушной к природе, не удастся умерить мое восхищение тем, на что я все время смотрю. Это край листвы и трав, вечнозеленая колыбель, колеблемая ветром. Река, бегущая по оврагу, зовется Вуэзой и, сливаясь в Шамбоне с речкой Тардой, принимает название Шар, которая в первой же долине переименовывается во всем известную Шер. Мне же больше нравится название Шар[58] — оно так удивительно подходит этой реке, которая, совсем как коляска на мягких рессорах, катит воды по отлогому склону, и ничто не в силах нарушить их безмятежного течения. Дорога тоже гладкая, песчаная, точно садовая аллея; она окаймлена величавыми буками, а меж их стволами сквозят настоящие луга, напоминающие в это время года пестрые ковры. Как это красиво, дорогая! Не то что наши искусственные газоны, где растет всегда одно и то же, а куртины тянутся правильными рядами. Здесь ноги топчут два, а то и три слоя мягкой земли, поросшей мхом, тростником, ирисами и самыми различными травами и цветами, одни красивее других: тут и водосборы и незабудки — чего только нет! Все, что душе угодно, и все растет безо всякого присмотра, появляясь аа свет каждый год. Землю тут не перепахивают каждые три-четыре года, не ворошат корни растений и не затевают чистку почвы, как того вечно требует наша ленивая земля. Больше того: ее часто вообще не возделывают или возделывают плохо; оттого, видно, на пустошах весело буйствует природа, цветя привольно и дико. То и дело цепляешься за разросшийся терновник и чертополох с такими широкими, жесткими и причудливо вырезанными листьями, что удивительной своей формой и рисунком они напоминают тропические растения. Проехав долину (я пишу о вчерашнем дне), мы стали подыматься в гору по обрывистей дороге. Было влажно, туманно и красиво. Я попросила позволения выйти иэ экипажа и с пятисот-шестисотфутовой высоты принялась разглядывать зеленый овраг. Внизу, в отдалении, по берегу реки жались друг к другу деревья, а деревенские мельницы и шлюзы наполняли воздух мерным, глухим шумом, и к их гудению примешивались звуки неизвестно откуда взявшейся волынки, которая без конца повторяла наивный мотив. Шедший передо мной крестьянин стал петь, верно вторя мотиву, словно решил помочь деревенскому волынщику довести песенку до конца. Ее слова, лишенные рифмы и смысла, так поразили меня, что я решила тебе их написать:
Скалы мои твердые! Нет, ни солнцу ясному, Даже белу месяцу Вас не растопить. А полюбит парень, Горю нет конца.
В этих крестьянских песнях есть неизъяснимое очарование, и музыка, безыскусная как стихи, столь же очаровательна, чаще всего грустная, навевающая грезы. Даже я, которой можно мечтать только урывками, ибо время мое мне не принадлежит, была так поражена этой песенкой, что стала раздумывать, отчего это «даже белу месяцу» не растопить эти скалы; все потому, что и ночью и днем печаль влюбленного парня тяжела, как его скалы. На самой вершине горы, ощеренной этими твердыми скалами (маркиза сказала, что они не больше песчинок, но я отродясь не видела такого прекрасного песка), мы выехали на тропу, которая была еще уже дороги, и, мигом вставив позади лесистые склоны, подъехали к замку. Отсюда он весь скрыт разросшимися деревьями и кажется не очень величественным, но зато как на ладони виден живописный овраг, который только что миновали. Снова обводишь глазами его крытые скалистые склоны, поросшие кустарником, речку с деревьями над водой, луга, мельницы, извилистую теснину, где она струится меж берегов, которые становятся все уже и обрывистее. В парке бьет источник, который потом, срываясь со скалы, разбивается на тысячу брызг. В саду полно цветов, на скотном дворе много животных, за которыми мне можно ухаживать. У меня чудесная комната, уединенная, с красивым видом. Самое просторное помещение в замке отведено под библиотеку. Гостиная маркизы своим расположением и обстановкой напоминает парижскую; она только, пожалуй, шире, в ней больше воздуха и легче дышать. Наконец-то мне стало хорошо и спокойно, наконец я ожила! Подымаюсь на рассвете; маркиза, слава богу, встает тут не раньше, чем в Париже, так что, пока она спит, досуг свой я буду проводить самым приятным образом. Собираюсь вволю гулять, писать тебе письма и думать о вас! Как жаль, что здесь нет наших малышей Лили или Шарло — вот бы погуляли вместе, а я заодно познакомила бы их с деревенской жизнью. Привязаться к крестьянским детишкам, которых часто встречаю, никак не удается. Стоит их сравнить с твоими, и я понимаю, что опасных соперников в моем сердце у них не будет. А покамест мне так весело бегать по полям, хоть и грустно думать, что теперь я от вас еще дальше, чем прежде. Когда же мы увидимся? Да, скалы мои тверды! Но, право, зачем бороться с теми, что встают преградой в жизни таких бедняков, как мы с тобой? Нужно исполнять свой долг и любить маркизу, а это не трудно. С каждым днем она все добрее ко мне, по-матерински балует меня, и я порой забываю о своем положении приживалки. Мы рассчитывали застать в Севале маркиза, который обещал матери приехать. Очевидно, он появится немного погодя. Герцог же, думаю, не преминет предстать перед нами на будущей неделе. Будем надеяться, что в деревне он станет так же обходителен со мной, как недавно был в Париже, и больше не захочет испытывать мое остроумие…
В другой раз Каролина писала сестре о том, как судит маркиза о сельской жизни. — Дорогое мое дитя, — говорила она мне. — Чтобы любить деревню, нужно бессмысленно любить землю или слепо — природу. Между тупостью и чудачеством середины нет. Вы знаете, что по-настоящему меня занимают только светские дела, а к природе, живущей по незыблемым и непреложным законам, я довольно равнодушна. Эти законы учреждены господом богом, стало быть, они прекрасны и справедливы. Человек может постигать их, восхвалять и даже восторженно описывать, но изменить их он не в силах; они останутся такими, какие есть. Когда вы расточаете восторги цветущей яблоне, я не могу вас за это упрекнуть. Напротив, я считаю, что ваши восторги справедливы, но, право, стоит ли славословить яблоню, которая вас не слышит, цветет не для вашего удовольствия и будет цвести, если вы ничего и не скажете. Не забивайте, когда вы восклицаете: «Как прекрасна весна!», что это все равно как если б вы сказали: «Весна есть весна». Да, да, летом жарко, потому что господь создал солнце, в реке прозрачная вода, потому что она проточная, а проточная она потому, что река бежит по холмистому склону. Это красиво, потому что во всем есть великая гармония, а не будь этой гармонии, ничего бы и не было. Как видишь, маркиза — натура прозаичная и всегда находит логические оправдания тому, что чего-то не чувствует и не понимает. Этим она похожа на остальных людей, и, верно, мы поступаем точно так же, когда природа нас в чем-то обделит. Пока маркиза рассуждала так, отдыхая на садовой скамье от утомительного моциона — а моцион-то весь сто шагов по песчаной дорожке — к калитке подошел крестьянин и предложил кухарке рыбу; та сразу же принялась торговаться. В нем я узнала того самого человека, который шел передо мной в день приезда и пел песенку про твердые скалы. — О чем вы задумались? — спросила маркиза, перехватив мой взгляд, обращенный на крестьянина. — Я думаю, — отвечала я, не спуская глаз с этого славного малого, — что хотя этот крестьянин не яблоня и не река, тем не менее в лице его есть что-то удивительное. — Что же, позвольте узнать? — Боже мой, если б я не боялась произнести модное словечко, которое вы так не любите, то сказала бы, что у этого человека явно есть характер. — С чего вы это взяли? Не оттого ли, что он так упорно не сбавляет цену? Ах, простите, поняла! Вы хотите сказать, что у него характерный облик. Видите, у меня даже вышел невольный каламбур. Совсем запамятовала, что это словечко из лексикона сочинителей и живописцев. Теперь и ткань, и скамейка, и котелок обладают особой характерностью, а это, в свой черед, означает, что у котелка форма котелка, скамейка похожа на скамейку, а ткань действительно во всем подобна ткани. Или это неверно, и у ткани характерные черты облака, у скамейки — характерные признаки стола, а у котелка — характерные особенности колодца? Нет, с этим словом я никогда не примирюсь! Потом маркиза заговорила о местных крестьянах. — Люди они неплохие, не столько плуты, сколько хитрецы. Жадны до денег, оттого что живут в нужде, но заработанные гроши на ветер не бросают. Всё копят на покупки и в один прекрасный день, опьянев от радости, набирают всякой всячины, залезают в долги и разоряются. Кто поумнее и расторопнее, тот дает деньги в рост, наживается на этой жажде приобретательства, будучи в полной уверенности, что земля к нему вернется по даровой цене, потому что рано или поздно клиент обанкротится. Оттого-то некоторые крестьяне выходят в богачи, а большая часть идет по миру. Да, такова печальная изнанка естественного отбора. Ведь эти люди живут инстинктами, роковыми инстинктами, почти теми же, что заставляют цвести эти яблони. Поэтому крестьяне и не интересуют меня. Я охотно помогаю калекам, вдовам, малым детям и юродивым, а здоровые люди пускай сами выпутываются. Их упрямству и ослы позавидуют. — А есть что-нибудь интересное в деревне, сударыня? — Ничего решительно. Люди ездят в деревню из-за хорошего воздуха, чтобы поправить здоровье и денежные дела. Так уж заведено, что все уезжают из Парижа в ту пору, когда он вполне сносен. Знаете, раз другие едут, значит, и тебе надо ехать. Я заметила, что эта беседа порядком наскучила маркизе, и, желая развеселить ее, спросила: — Неужели тут нет какого-нибудь смешного соседа, над которым и подшутить не грех? — Никого нет, дорогая, увы! Какие там шутки, когда здесь свили себе гнездо только распутство или несчастье! Все ваша милая цивилизация! Понастроили железных дорог, и от былой провинции скоро следа не останется. Скоро провинциалов днем с огнем не сыщешь. Уж не знаю, куда и ехать, чтобы хоть плохонького найти. Теперь деревенский буржуа ничем не уступит буржуа из Маре, а светский человек везде себе найдет салоны не глупее парижских. То, что я смолоду повидала в деревне, того нынче и в помине нет. — А кого вы там видели, расскажите! — Кого? Очень колоритные личности там жили, буржуа, которые по три года готовились к тому, чтобы раз в жизни провести месяц в Париже. А перед тем еще завещание составляли, дорогая моя! Я вовсе не шучу и готова насчитать двадцать человек, которые и по сей день еще живы. Кого я близко в то время знала, так это наших деревенских «бар» — так их в ту пору величали, не иначе! Славные, добрые дворянчики были! В годы революции учиться они не могли и, как средневековые сеньоры, похвалялись тем, что едва умеют расписаться. С виду они больше крестьян напоминали: носили грубое платье, даже сабо иногда, и пудрились, между прочим. Только не было в них этой крестьянской нерасторопности и притворного смирения, ходили эдакими спесивыми фанфаронами, всем были недовольны, честили правительство с утра до вечера. Мы с сестрой очень веселились, глядя на них, — были еще девчонками, о политике понятия не вмели. Помню, как мы прыскали со смеху, когда эти несчастные дворянчики грозились отомстить господину Буонапарту и клялись, что шпаги у них не заржавели. В ту пору соседи виделись реже, чем сейчас, зато гостили друг у друга подолгу. Приезжали на неделю с лишком, поневоле приходилось дружить со скучными людьми, которые при случае платили вам за это преданностью. Из-за бездорожья такой дворянин делал по восемь — десять миль верхом на лошадях, жена его восседала за ним на лошадином крупе, а впереди иной раз сидел и ребенок. Заглядывали и деревенские франты, одетые под стать «картавым щеголям» 1810 года, непременно верхом, в белых чулках и лакированных туфлях-лодочках, скрытых под толстыми суконными панталонами, которые застегивались сверху донизу; перед тем как войти в гостиную, их снимали на конюшне. Впрочем, оно гораздо приличнее, чем приходить с утренним визитом в ботфортах и лосинах, от которых разит лошадью. Однако нынешние дамы этого не замечают: от вонючих мужских сигар им, видно, носы заложило. У сегодняшнего сельского дворянчика вид, конечно, намного отесанней, чем у тех, о ком я говорю: он знает то, о чем нынче говорят в обществе: читает газеты, получил образование или несколько раз наведался в большие города, словом — пообтерся в светском потоке, который все булыжники обтачивает на один манер. От него не услышишь наивного вздора, который прежде забавлял всех: он не спросит вас, можно ли вечером появиться в Париже на улице, не опасаясь разбойников, и правда ли то, что по Елисейским полям гуляют голые женщины. Он уже не целует вашу перчатку, перед тем как передать ее вам, но он ее и не поднимает. Легкомысленных особ он больше не презирает, зато презирает всех женщин зараз, а воров просто не боится. Зачем их бояться, если в кармане у него ни гроша, да и приезжает он в Париж только затем, чтобы играть на бирже или взять деньги под залог у ростовщиков-евреев. Я умышленно воспроизвела кусочек нашего разговора, сестрица, чтобы ты поняла, в каком черном цвете видит маркиза нашу современность. Ты заодно и составишь представление о нашей жизни, «пустословия» которой, как ты пишешь, никогда не сможешь понять. О чем бы ни зашла речь, маркиза все подвергает критике, иногда веселой и добродушной, а подчас язвительной и злой. Она слишком много говорила в своей жизни, чтобы быть счастливой. Она всегда думала вслух совместно с двумя, тремя, а то и тридцатью собеседниками зараз, не имея ни минуты собраться с мыслями. Разве так можно растрачивать себя? Не успеваешь даже задаться вопросом, все только поддакиваешь — иначе спор прекратился бы, а беседа иссякла. Вынужденная вести эти словопрения, я не устояла бы перед сомнениями и отвращением к себе подобным, если бы у меня не было в распоряжении целого утра, чтобы прийти в себя и сосредоточиться. Хотя остроумие и доброта госпожи де Вильмер скрашивают наше бесплодное времяпрепровождение, я жду не дождусь приезда маркиза, который хоть изредка сможет присоединиться к нашему праздному велеречию».
Маркиз и вправду приехал через неделю, приехал озабоченный, отрешенный, и Каролина нашла, что с ней он обходится особенно холодно. Маркиз сразу же погрузился в свои любимые занятия и появлялся только перед обедом; его поведение огорчало Каролину, так как она видела, что маркиз еще тверже, чем прежде, отстаивает свои убеждения в споре с матерью, приводя этим в восторг госпожу де Вильмер, больше всего боявшуюся замкнутости и молчаливости Урбена. Заметив, что нет необходимости поддерживать эти беседы, и думая, что она скорее стесняет маркиза, нежели помогает ему, Каролина стала избегать его общества и позволяла себе уходить по вечерам раньше, чем обычно.
IX
Когда через две недели приехал в свой черед и герцог, домашняя обстановка его не на шутку озадачила. Растроганный письмом брата, которое тот отправил ему из Полиньяка, но догадываясь, что в Урбене больше душевного разлада, чем решимости, герцог оттягивал свой приезд в расчете на то, что сельское приволье и уединение подействуют на молодые сердца, растревоженные, как он думал, его вмешательством, и приведут их к полному согласию. Ему и в голову не приходило, что Каролина чужда кокетству или пустой мечтательности и что маркиз находится во власти глубоких сомнений, подлинного страха и внутренней раздвоенности. «Что же произошло? — недоумевал герцог, заметив, что между маркизом и Каролиной нет теперь даже былого дружеского расположения. — Неужели требования морали так скоро погасили любовное пламя? Или, быть может, брат объяснился с ней и получил отказ? Отчего он так помрачнел — с досады или от страха? А может, мадемуазель де Сен-Жене жеманница? Не похоже. Честолюбива? Вряд ли. Видимо, маркиз не нашел нужных слов, весь свой ум приберегает для своих занятий, вместо того чтобы послать его на помощь зарождающейся страсти». Герцог, однако, не спешил докопаться до истины. Он пребывал в большой нерешительности. Ему удалось разузнать, в каком состоянии находятся дела Урбена, который, как выяснилось, имел всего лишь тридцать тысяч ренты, из них двенадцать тысяч шли в виде пенсии герцогу. Остальные деньги почти целиком уходили на содержание матери, а сам маркиз жил в своем имении, тратя на себя не больше, чем если бы он был скромным гостем. Герцог был удручен таким положением: ведь оно было делом его рук, а брат, казалось, даже и не вспоминал об этом. Собственное разорение герцог пережил стоически. Он вел себя как истинный аристократ и хотя утратил многих своих приятелей по кутежам, зато обрел нескольких верных друзей. Он сильно вырос во мнении света: герцог так мужественно и достойно искупал грехи своей шалой и порочной молодости, что ему простили и прежние скандальные истории, и горе, причиненное нескольким семействам. Он умно играл свою нынешнюю роль, и лишь одно нарушало его равновесие: угрызения совести из-за брата, которые так истерзали его, что он утратил и решимость и проницательность. При всем своем безрассудстве, герцог по сути своей был добрый человек; поэтому он сейчас измышлял способы, как сделать брата счастливым. То он убеждал себя в том, что только любовь может скрасить уединенную и безрадостную жизнь маркиза, то собирался разжечь в нем честолюбие и, развеяв предубеждения Урбена, заговорить с ним о женитьбе не богатой особе. Об этом же мечтала и маркиза. Мечтала давно, а теперь вынашивала этот замысел еще упорнее. Она твердо верила, что обязательно найдется какая-нибудь прелестная наследница, которая разделит с ней восхищение великодушием маркиза. Она доверительно сообщила Гаэтану о переговорах со своей приятельницей герцогиней де Дюньер, которая прочила в жены Урбену некую барышню Ксентрай, очень богатую и, по рассказам, красивую сиротку, скучавшую в монастыре и тем не менее весьма требовательную по части душевных качеств и происхождения претендента на ее руку. Судя по всему, женитьба Урбена на ней была делом вполне возможным, лишь бы маркиз дал согласие, а он не соглашался, говоря, что женится только в исключительном случае и что совершенно не способен явиться с визитом к незнакомой девушке в надежде ей понравиться. — Постарайтесь, сын мой, победить его нелюдимость, — сказала госпожа де Вильмер герцогу на следующий день после его приезда. — Мое красноречие совершенно бессильно. Герцог незамедлительно исполнил материнское поручение, но маркиз с недоверием и безучастием выслушал брата, не сказал ему нет, однако отказался что-либо предпринять, повторяя, что надо ждать, когда случай познакомит его с этой особой и что, если она ему понравится, он со временем попробует разузнать, взаимно ли его чувство. Сейчас все равно действовать невозможно: живут они в деревне, и спешить некуда: он не более несчастен, чем всегда, и занятий у него по горло. Досадуя на проволочку, маркиза по-прежнему переписывалась с подругой и, не желая вмешивать в брачные переговоры Каролину, избрала герцога секретарем. Убедившись, что женитьба маркиза отодвигается по крайней мере на полгода, герцог снова вернулся к мысли временно развлечь брата деревенским романом. Героиня его была, можно сказать, под рукой, и она была очаровательна. Явное охлаждение маркиза, вероятно, немного задело ее, и герцогу не терпелось разгадать причину этой перемены. Он, однако, потерпел полное фиаско: маркиз был непроницаем. Вопросы брата, казалось, даже удивили его. Дело же заключалось в том, что Урбену и не приходило в голову поухаживать за мадемуазель де Сен-Жене. Ведь в этом случае ему пришлось бы самым серьезным образом поступиться совестью, а поступаться ею было не в его правилах. Земная прелесть Каролины невольно увлекала маркиза, и он отдался этому влечению безо всякой задней мысли. Потом благодаря стараниям герцога, попытавшегося пробудить в нем ревность, Урбен обнаружил, что бессознательное чувство к девушке пустило в его сердце глубокие корни. Несколько дней маркиз мучительно страдал. Он раздумывал, свободен ли он, и быстро пришел к выводу, что между ним и его свободой стоят госпожа де Вильмер, мечтающая о выгодном для него браке, и сын, которому он обязан отдать жалкие крохи своего состояния. К тому же маркиз предвидел, какое необоримое сопротивление он встретит со стороны недоверчивой и самолюбивой мадемуазель де Сен-Жене. Хорошо изучив ее нрав, он был уверен, что Каролина никогда не согласится встать между ним и его матерью. Посему маркиз почел за благо не делать опрометчивых шагов: не докучать напрасной назойливостью Каролине и не совершать низкого поступка, воспользовавшись доверием этой чистой души. В трудной борьбе с самим собой маркиз, казалось, одержал почти немыслимую победу. Свою роль он сыграл так искусно, что провел даже герцога. Подобные твердость духа и благородство, очевидно, превосходили понятия Гаэтана о чувстве долга в таких обстоятельствах. «Я ошибся, — думал он. — Мысли брата заняты одной исторической наукой. С ним следует говорить только о его книге». С тех пор герцог размышлял об одном: чем занять свое воображение, чтобы скоротать эти праздные полгода. Охота, чтение романов, беседы с матерью, сочинение романсов — всего этого было мало уму, столь безудержному в своих фантазиях, и, естественно, мысли герцога постепенно заняла Каролина, единственная, с его точки зрения, особа, которая могла расшевелить и увлечь поэтичностью натуры его коснеющий мозг. Герцог дал себе слово шесть месяцев в году проводить в Севале — решение весьма благородное для человека, который любил жить в деревне только на широкую ногу. Он рассчитывал, что эти месяцы скромной жизни у брата позволят ему ежегодно отказываться от половины своей пенсии, то есть от шести тысяч франков; если же маркиз отвергнет его жертву, с помощью этих денег он приведет в порядок и перестроит замок Урбена. Но чтобы вознаградить себя за такую добродетель, ему нужна была любовная интрижка — без этого добродетель милого герцога обойтись не могла. «Как же быть? — размышлял он. — Ведь я поклялся и брату и матушке оставить Каролину в покое. Есть только одно средство, вероятно более простое, чем все обычные способы. Нужно окружить Каролину вниманием, по виду совершенно бескорыстным, быть с ней почтительным без намека на волокитство и вести себя так дружественно и непринужденно, чтобы внушить ей полное доверие ко мне. Так как при этом не возбраняется проявлять остроумие, учтивость и преданность, которые я выказал бы, ухаживая за ней неприкрыто, то Каролину, вполне вероятно, тронет мое обхождение, и она сама постепенно освободит меня от данного обета. Женщина всегда удивляется, когда после двух-трех месяцев дружеской близости с ней не заводят речи о любви. Потом и она заскучает, видя, что брат продолжает смотреть на нее пустыми глазами… Словом, поглядим! Покорить сердце, за которым охотишься, не показывая вида, следить за тем, как добродетель уступает, и прикидываться, будто ты тут ни при чем — ощущения острые и новые. Я не раз наблюдал, как ведут себя при этом кокетки и жеманницы, — интересно поглядеть, как выйдет из такого положения мадемуазель де Сен-Жене». Поглощенный этой самолюбивой мальчишеской затеей, герцог не испытывал скуки. Впрочем, грубый разврат ему всегда претил, и волокитство его неизменно отмечала печать изысканности. Он так рьяно прожигал свою жизнь, что изрядно растратил собственные силы, и теперь ему ничего не стоило обуздать свои порывы. Герцог сам говорил, что был бы не прочь восстановить утраченное здоровье и свежесть, а временами даже мечтал вернуть молодость и сердцу, ту самую молодость, внешние признаки которой он сумел сохранить в своих речах и повадках. И так как теперь его мозг вынашивал бессовестную любовную интригу, герцог считал, что еще вполне подходит к роли романтического воздыхателя. Он так искусно плел сети, что мадемуазель де Сен-Жене в душевной своей скромности сразу попалась на крючок его мнимой добропорядочности. Видя, что герцог больше не ищет с ней встреч наедине, Каролина перестала его избегать. Герцог же, непрестанно наблюдая за ней исподтишка, как бы невзначай, сам того не желая, наталкивался на Каролину во время ее прогулок и, притворяясь, будто не хочет длить эти встречи, удалялся, подчеркнуто ненавязчивый и вместе с тем будто слегка опечаленный, так что его изысканная любезность граничила с вызывающим равнодушием. Герцог действовал так хитро, что Каролина ничего не заподозрила. Да и как могла она, при ее прямодушии, вообразить себе подобный план? Через неделю Каролине было с герцогом легко и спокойно, точно он никогда и не внушал ей недоверия, и она так писала госпоже Эдбер:«После некоего семейного события герцог переменился к лучшему. Он остепенился, или же госпожа де Д*** с самого начала взвела на него напраслину. Вероятно, так оно и есть: мне просто не верится, как такой благовоспитанный человек способен погубить женщину только ради того, чтобы похвастаться еще одной победой. Она (госпожа де Д***) уверяла, что распутный и тщеславный герцог поступал так со всеми своими жертвами. Право, не знаю, что такое распутство у высокородных господ. Я жила с людьми рассудительными и разгул видела только у бедняков-рабочих, которые напивались до потери сознания и в припадке неистовства избивали своих жен. Если порочность знатных господ заключается в том, что они компрометируют светских женщин, значит, многие светские женщины позволяют себя компрометировать — иначе откуда у герцога д'Алериа взялись бы его бесчисленные жертвы? По-моему, женщинами он интересуется весьма умеренно и при мне ни об одной плохо не говорил. Напротив, герцог превозносит добродетель и утверждает, что она для него превыше всего на свете. В вероломстве, по-моему, упрекать ему себя не приходится, так как он четко делит женщин на тех, кто уступает мужским уловкам, и на тех, кто проявляет твердость. Не знаю, быть может, герцог всех морочит, но мне он кажется человеком, который любил искренно и преданно. Таким его, по-моему, считают мать с братом, да и я склонна думать, что натура он искренняя, хотя и непостоянная, и что нужно было быть очень доверчивой или очень тщеславной, чтобы надеяться прочно привязать его к себе. Я не сомневаюсь, что он сорил деньгами, играл в карты, пренебрегал семейными обязанностями, опьянялся роскошью и прочим вздором, недостойным серьезного человека. Все это плоды его легкомыслия и тщеславия, а они, в свой черед, порождены неправильным воспитанием и слишком беззаботной юностью. Этим людям нужда не привила чувства долга, а учили их лишь тому, что несовместно с понятиями бережливости и предусмотрительности. Наш бедный отец тоже разорился, но кто посмеет поставить это ему в вину? Герцога, как ни силюсь, я даже не могу упрекнуть в щегольстве — оно ему совершенно чуждо. Одевается он здесь как любой местный дворянчик. Ходит в вязаной куртке за тридцать франков и всех располагает к себе добродушием и простотой. О прошлых победах даже словом не обмолвится, достоинствами своими не кичится, а их у него не отнять: он остроумен, все еще очень красив, прелестно поет и вдобавок сочиняет романсы, правда, пустяковые, но не лишенные известного изящества. В беседе он приятен, хоть глубиной мысли не блещет, так как читал одни легкомысленные книжки, в чем чистосердечно признается. Однако к серьезным материям герцог не безразличен, часто расспрашивает брата о всякой всячине и слушает его внимательно и с полным уважением. А маркиз? Он по-прежнему ничем не замутненное зеркало, образец всевозможных совершенств, доброты и редкой скромности. Он очень занят большим историческим сочинением, о котором герцог рассказывает чудеса, и я этому нисколько не удивляюсь. Природа поступила бы безрассудно, лиши она маркиза способности выражать глубокие мысли и возвышенные чувства, которыми так щедро наделила его душу. Он сейчас как-то благоговейно сосредоточен на своей работе, поэтому, вероятно, и стал сдержаннее со мной и откровеннее с матерью и братом, чем прежде. За них я радуюсь, за себя не обижаюсь: вполне естественно, что он не ждет от меня глубоких мыслей о столь серьезных предметах и предпочитает обсуждать их с людьми более зрелыми и сведущими в исторической науке. В Париже он весьма участливо относился ко мне, особенно в тот день, когда брат его осмелился дерзко поддразнивать меня. И хотя теперь он этого участия не проявляет, я не думаю, что интерес его ко мне полностью иссяк: возможно, при случае он проявится опять. Правда, новый случай вряд ли представится, потому что герцог образумился, тем не менее я очень благодарна маркизу за то, что тогда он оказал мне такую драгоценную поддержку».
Читатель видит, что если Каролина и была огорчена внезапным охлаждением маркиза де Вильмера, она сама не отдавала себе в этом отчета и подавляла смутное чувство обиды. Ее женское самолюбие не было задето, ибо Каролина знала, что у маркиза нет оснований относиться к ней с меньшим уважением, чем прежде, а так как ничего, креме уважения, она не хотела и не ждала, то сдержанность маркиза приписывала его погруженности в глубокомысленные занятия. Но как ни убеждала себя в этом Карелнна, тем не менее она тосковала. Писать об этом сестре она остерегалась, да Камилла и не сумела бы вселить в нее бодрость. Она писала Каролине нежные письма, полные сетований на ее самопожертвование и долгую разлуку. Каролина от всего оберегала мягкую и боязливую душу сестры, которую привыкла по-матерински любить и по мере сил поддерживать, неизменно выказывая твердость и спокойствие. Но и у Каролины бывали часы безмерной усталости, когда страх одиночества сжимал ей сердце. И хотя большую половину дня она была здесь более обременена обязанностями, чем дома, у нее оставались свободными утро и поздний вечер, когда можно было насладиться уединением и поразмыслить о собственной судьбе. Это была опасная свобода, которой она никогда не располагала в своей семье, где на руках у нее было четверо детей и где всегда царила нужда. В такие свободные часы Каролина предавалась поэтическим раздумьям и временами находила в них упоительную сладость, а временами они порождали беспричинную, смутную горечь, и тогда природа становилась ей враждебной, прогулки утомительными, а сок не приносил отдыха. Она мужественно боролась с хандрой, но приступы ее не ускользнули от зорких глаз герцога д'Алериа. Порой он замечал у Каролины синеву под глазами и слабую, вымученную улыбку. Герцог решил, что приспело время действовать, и еще старательнее начал расставлять силки. Он стал держаться с Каролиной еще внимательнее и предупредительней, а заметив, как она ему благодарна, не преминул деликатно намекнуть, что любовь тут ни при чем. Но как герцог ни ухищрялся, он напрасно терял время. Каролина была так прямодушна, что попросту не видела этих хитроумных уловок. Когда герцог расточал ей утонченные знаки внимания, она приписывала их дружескому расположению, когда же он пытался уязвить ее нарочитой холодностью, она радовалась новому доказательству того, что он питает к ней только дружбу. Самолюбие мешало герцогу распознать, что его отношения с Каролиной вступили в новую фазу. Ее доверие к нему действительно вернулось, но если бы глаза ее вдруг прозрели, она испытала бы не горе, а лишь глубокое удивление и презрительную жалость. Каждое утро герцог чаял увидеть на ее лице выражение досады или нетерпения, однако обнаруживал лишь легкую печаль и, в детском своем эгоизме считал себя тому причиной, втихомолку радовался. Но ему этого было недостаточно. «А я-то считал ее пылкой! — размышлял он. — Даже в грусти ее есть какое-то безразличие, и кротости в ней гораздо больше, чем огня». Но постепенно кротость эта начала пленять герцога. Ему чудились в ней неведомая доселе покорность судьбе, душевная скромность, неверие в свою привлекательность, мягкое смирение, и он был глубоко тронут. «Она прежде всего добра, — твердил он себе, — сущий ангел! Какое счастье разделить жизнь с такой женщиной, насладиться ее благодарностью и нетребовательностью. Право, она даже не понимает, что можно приносить мучения другим, только сама терзается — и как стойко!» Чем пристальнее герцог следил за своей жертвой, тем сильнее она его трогала и даже умиляла. Он поневоле признался себе, что робеет подле нее и тяготится своим жестоким замыслом. Через месяц он начал терять терпение и уверять себя, что нужно ускорить развязку, но вдруг понял, что это почти невозможно. Каролина все еще была воплощенной добродетелью, и он не мог нарушить свое обещание, ибо, проявив излишнюю поспешность, разом загубил бы все. Как-то раз, придя к матери, герцог сказал: — Я только что объезжал жеребенка с вашей фермы. Очень он забавный. Ни дать ни взять вепрь, и аллюр такой же. Горячий малыш, прекрасные ноги, и в то же время спокойный. Если мадемуазель де Сен-Жене любит верховую езду, она могла бы на нем кататься. — Очень люблю, — ответила Каролина. — Отец требовал, чтобы я ездила верхом, и я с радостью подчинялась ему. — Значит, вы хорошая наездница? — Нет, но я хорошо сижу в седле, и рука у меня легкая, как у всех женщин. — Как у всех женщин-наездниц, потому что обычно женщины — создания нервные и хотят обуздывать лошадей точно так же, как мужчин. Но это, по-моему, не в вашем характере. — Что касается людей, я боюсь вам что-либо сказать. Я никогда никого не обуздывала. — Но когда-нибудь вы все же попытаетесь, не правда ли? — Не думаю. — И я не думаю, — вмешалась маркиза. — Это невозможно. Каролина не хочет выходить замуж, и согласитесь, что в ее положении это более чем рассудительно. — О, конечно! — ответил герцог. — Когда нет состояния, семейная жизнь превращается в настоящий ад. Герцог взглянул на Каролину — не отразится ли на ее лице огорчение после таких слов, но оно было безучастно. Каролина искренно и бесповоротно отказалась от замужества. Герцог, желая выяснить, допускает ли она возможность непоправимой ошибки, но боясь попасть впросак, добавил: — Да, это настоящий ад, если, конечно, нет сильной страсти, которая помогает все вынести до конца. Каролина по-прежнему хранила спокойствие и, казалось, не слышала слов герцога д'Алериа. — Ах, сын мой! — воскликнула маркиза. — Какой вздор вы говорите! Право, подчас вы рассуждаете, как малый ребенок. — Вы прекрасно знаете, что я и есть малый ребенок, — ответил герцог, — и собираюсь остаться им до конца своих дней. — Нет, вы просто младенец, если полагаете, что можно жить в нищете и быть при этом хоть капельку счастливым, — заметила маркиза, любившая поспорить. — О каком счастье речь, если нищета убивает все, даже любовь. — Вы тоже такого мнения, мадемуазель де Сен-Жене? — спросил герцог. — На этот счет у меня нет никакого мнения, — сказала Каролина. — Я ничего не знаю о жизни дальше определенной черты, но, пожалуй, больше согласна с вашей матушкой, нежели с вами. Я знала нищету, но страдала главным образом оттого, что видела, какой тяжестью она ложится на дорогих мне людей. Поэтому не следует усложнять нашу жизнь и выходить за положенные нам пределы, она и без того трудна. В противном случае тебя ждет одно отчаяние. — Боже мой, все на свете относительно! — сказал герцог. — Что одни считают нищетой, то другим кажется роскошью. Имей вы двенадцать тысяч ренты, разве вы не чувствовали бы себя богатой? — Конечно, чувствовала бы, — ответила Каролина, забыв, или, вернее, даже не зная, что этой цифрой исчислялся нынешний доход герцога. — Хорошо, — продолжал герцог, желая одной фразой внушить надежду, а другой уничтожить ее, только бы смутить ясную или, может быть, робкую душу Каролины. — Представим себе, что некто предложил вам это небольшое состояние и в придачу к нему подлинную любовь? — Я не смогла бы их принять, — ответила Каролина. — У меня на руках четверо детей, которых нужно кормить и воспитывать. Какому мужу понравится такое прошлое? — Каролина прелестна! — умилилась маркиза. — Она говорит о своем прошлом, словно она вдова. — Ах, а я и не упомянула о моей овдовевшей сестре. Со мной и старой, преданной служанкой, которая разделит с нами последний кусок хлеба, нас семеро, ровным счетом семеро. Какой же молодой человек с двенадцатью тысячами дохода женится на мне? Он был бы просто безумцем! Каролина всегда говорила о своем положении легко, даже весело, выказывая прямодушие своего сердца. — Пожалуй, вы правы! — ответил герцог. — С вашей завидной решимостью и стойкостью вы одна одолеете любые невзгоды. Думаю даже, что мы с вами единственные настоящие философы на свете. Для меня бедность тоже пустяк, когда приходится отвечать только за себя одного, и должен сказать, что никогда я не был так счастлив, как теперь. — Вот и прекрасно, сын мой, — сказала маркиза с едва заметной тенью упрека, которую герцог тем не менее тотчас уловил и потому поспешно добавил: — Но счастье мое станет безграничным в тот день, когда брат мой вступит в задуманный нами брак, а ведь он в него вступит, матушка? Каролина повернула голову и взглянула на часы, но маркиза остановила ее: — Нет, нет, они идут исправно. Отныне, милочка, у меня от вас нет никаких секретов, а посему вам следует знать, что сегодня я получила добрые вести относительно того важного дела, которое я предприняла ради счастья моего сына. Я не прибегла к помощи вашей прелестной руки в этой переписке вовсе не потому, что вам не доверяю, — тут причины другие. Прочтите нам это письмо, о котором мой старший сын еще не знает. Каролине не хотелось слишком глубоко проникать в тайны этого дома, особенно же в тайны маркиза, и она слабо воспротивилась: — Здесь нет вашего младшего сына, сударыня, — сказала она, — и я, право, не знаю, одобрит ли он доверие, которым вы меня почтили… — Конечно, одобрит, — ответила маркиза. — Если бы я в этом сомневалась, я не попросила бы вас прочесть нам письмо. Читайте, милочка! Спорить с маркизой было невозможно, и Каролина прочла вслух следующее:
«Да, дорогая моя, нам нужно добиться успеха, и мы его добьемся. Состояние мадемуазель де К. и в самом деле превышает четыре миллиона, но она это знает и вовсе не кичится. Напротив, после очередных моих наводящих замечаний она сказала мне не далее как нынче утром: „Совершенно с вами согласна, дорогая крестная. Я и в праве и в состоянии обогатить достойного человека. Ваши рассказы о сыне вашей приятельницы выставляют его в самом выгодном свете. Пока я в трауре, мне хотелось бы жить в монастыре, но вот осенью я охотно встречусь у вас с этим господином“. Разумеется, в беседах с ней я не называла имен. Но история ваших сыновей, да и ваша собственная, так широко известны, что милая Диана догадалась, о ком шла речь. Я же почла своим долгом расхвалить на все лады достойное поведение маркиза. Впрочем, герцог, брат его, тоже везде и всюду говорил о маркизе с большим чувством, что делает ему честь. Только не засиживайтесь в вашем севальском захолустье. Я не хочу, чтобы до встречи с маркизом Диана слишком много бывала в свете. Даже у самых чистых душ он отнимает ту младенческую доверчивость и великодушие,которыми я восхищаюсь и которые по мере сил поддерживаю в моей благородной крестнице. А когда она станет вашей дочерью, вы, драгоценный друг мой, доведете до конца мое начинание. Больше всего на свете хочу я дожить до того часа, когда ваш милый сын займет в обществе подобающее ему место. С его стороны было похвально утратить это положение, не моргнув глазом, но еще похвальнее, если родовитая особа вернет маркиза свету. Долг дочерей легендарных предков подавать великие примеры душевной гордости нынешним буржуазным выскочкам, а поскольку я одна из этих дочерей, то постараюсь, чтобы дело увенчалось успехом. Я вкладываю в него всю свою душу, всю веру и свою преданность вам. Герцогиня де Дюньер, урожденная де Фонтарк»
Если бы герцог взглянул на Каролину, прочитавшую это письмо ровным, недрогнувшим голосом, он не заметил бы в ней ни малейшего напряжения или намека на чувство, которое шло бы вразрез с его собственной радостью. Но герцог даже не взглянул в ее сторону. При решения такого важного семейного дела бедняжка Каролина оказалась в его жизни чем-то второстепенным, и вспомни сейчас герцог о ее существовании, он был бы крайне недоволен собой, затем что видел в этих планах на будущее своего брата высший промысел, искореняющий то зло, которое он сам причинил. — Да, да, матушка! — воскликнул он, радостно целуя руки маркизе. — Вы снова станете счастливы, а я перестану краснеть от стыда. Брат мой сделается настоящим мужчиной, главой семьи. Свет признает его замечательные достоинства! Ведь большинство считает, что если нет денег, талант и добродетель мало чего стоят. Милый брат разом обретет все — славу, честь, влияние, власть, безо всяких уступок так называемым соображениям политики и назло шаркунам при дворе короля-мещанина. Матушка, вы показывали это письмо Урбену? — Конечно, сын мой. — Доволен ли он? Ведь делу дан такой удачный ход! Эта особа благоволит ему, заранее принимает и только желает с ним познакомиться. — Да, друг мой, он дал слово представиться ей. — Мы победили! — воскликнул герцог. — Давайте ж веселиться и делать глупости. Я готов подпрыгнуть до потолка, готов всех прижать к груди. Позвольте, матушка, мне пойти и обнять брата? — Ступайте, сын мой, но не очень-то усердствуйте. Знаете, как Урбен боится всего нового. — О, не волнуйтесь, матушка, уж я-то знаю! И герцог, все еще подвижный, несмотря на легкую полноту и ревматизм, вприпрыжку выскочил из комнаты, как озорной школьник.
X
Он застал маркиза погруженным в занятия. — Я тебе помешал? Не беда! — воскликнул герцог. — Мне не терпится прижать тебя к груди. Матушка только что прочла мне письмо герцогини де Дюньер. — Но, дорогой друг, этот брак еще не заключен, — отвечал маркиз, пока брат обнимал его. — Заключен, если ты того захочешь, а ты не можешь не захотеть. — Друг мой, я могу хотеть сколько угодно. Но ведь нужно быть действительно обворожительным, чтобы поддержать ту блестящую репутацию, которую слишком, по-моему, в ущерб тебе создала мне эта старая герцогиня. — Она поступила прекрасно, хотя следовало расхвалить тебя еще больше. Мне хочется самому нанести ей визит и все о тебе рассказать. Нет, он думает, что в нем недостаточно очарования! Ты положительно плохо себя знаешь. — Я себя знаю очень хорошо, — возразил господин де Вильмер, — и вовсе не обманываюсь. — Черт возьми, ты что ж, считаешь себя увальнем? Разве не ты покорил госпожу де Ж***, самую строгую женщину в свете? — Умоляю, не говори мне о ней. Я сразу вспоминаю о том, сколько выстрадал, прежде чем завоевал ее доверие, и сколько натерпелся потом из-за боязни утратить его… Ты этого не знаешь: женщины всегда влюблялись в тебя с первого взгляда, а любви на всю жизнь ты и не искал. Я же могу сказать женщине одно-единственное слово «люблю», и если она не поймет, что в нем заключена вся моя душа, я буду уже не в силах сказать ей ничего другого. — Хорошо! Ты полюбишь Диану де Ксентрай, и она поймет это твое слово. — А если я ее не полюблю? — Но, дорогой мой, она же прелестна. Я, правда, помню ее совсем ребенком, но это был сущий херувим. — Все твердят, что она очаровательна. Но вдруг она мне не понравится? Не убеждай меня в том, что боготворить жену вовсе не обязательно, что довольно к ней питать уважение и приязнь. Заводить спор я не желаю, он бесполезен. Обсудим только один вопрос: понравлюсь ли я ей. Если я не люблю женщину, то я не сумею ее завоевать, а стало быть, не женюсь на ней. — Можно подумать, что ты просто мечтаешь об этом! — сокрушенно заметил герцог. — Бедная матушка! Она прямо воскресла, когда появилась надежда на этот брак. Да и я думал, что сама судьба отпускает мне мои прегрешения. Что ж, Урбен, выходит, мы все трое прокляты? — Не надо отчаиваться, — промолвил растроганный маркиз. — Я и так изо всех сил стараюсь побороть свою нелюдимость. Честное слово, мне и самому хочется изменить это бесплодное и мучительное существование. Дай мне срок — за лето я попытаюсь справиться со всеми воспоминаниями, страхами, сомнениями, — право, я хочу сделать вас счастливыми, и, может быть, сам господь придет мне на помощь. — Спасибо, брат, ты лучший человек на свете, — сказал герцог и снова обнял маркиза. И так как тот был взволнован, герцог увел его гулять, чтобы отвлечь от занятий и укрепить его в добрых намерениях. Герцог прибегнул к уловке, которую некогда пустил в ход Урбен в тот день, когда, впервые откровенно беседуя с братом, старался ободрить его. На этот раз уже Гаэтан притворился слабым страдальцем, чтобы воскресить в брате душевную силу. Он красноречиво рассказал ему об угрызениях совести, о том, как велика в нем жажда моральной поддержки. — Двое несчастных ничем не могут помочь друг другу, — говорил герцог брату. — Твоя хандра роковым образом заражает меня. В тот день, когда я увижу тебя счастливым, радость жизни возвратится ко мне. Растроганный Урбен снова заверил брата, что не нарушит обещания, и так как сделал это скрепя сердце, то постарался отвлечься от мрачных мыслей и принялся весело болтать с Гаэтаном. Тот с радостью подхватил непринужденный тон и немедленно заговорил о том, что больше всего занимало его воображение. — Послушай! — сказал он, глядя на улыбающегося маркиза. — Я уверен, что ты принесешь мне счастье. Сейчас я вспоминаю, что уже несколько дней был не в ладу с собой, оттого и ходил такой насупленный и недовольный. — Опять какая-нибудь история с женщиной? — спросил маркиз, пересиливая смутную и внезапную тревогу. — А разве другие у меня бывают? Словом, брат, эта крошка де Сен-Жене занимает меня, вероятно, больше, чем следует. — Только не это!.. — горячо возразил маркиз. — Ты же дал слово матушке… Она мне все рассказала… Неужели ты обманешь мать? — Вовсе нет, но я хочу, чтобы обстоятельства принудили меня обмануть ее. — Какие обстоятельства? Что-то я не возьму в толк. — Господи, сейчас я тебе все объясню. И герцог поведал брату, как в похвальном намерении влюбить его в Каролину он сначала прикинулся, будто влюблен в нее сам, а потом, когда из этой затеи ничего не вышло, он всеми способами стал добиваться ее любви, хотя и не был ею увлечен, и как в конце концов на самом деле влюбился в девушку без всякой уверенности в том, что она платит ему взаимностью. Тем не менее, закончил герцог, он рассчитывает на победу, только бы достало сил скрыть от Каролины свое чувство. Эту историю герцог поведал маркизу в выражениях столь целомудренных, что лишил того малейшей возможности, не показавшись смешным, сделать брату выговор. Но когда глубоко потрясенный, немного справившийся с собой маркиз попытался напомнить брату о материнском спокойствии, о благопристойности их домашнего очага, не решаясь, однако, в своем смятении даже заикнуться об уважении к Каролине, герцог, внезапно испугавшись, как бы маркиз не почел своим долгом предупредить Каролину, поклялся брату, что не станет ее соблазнять, но вот если она сама храбро и бескорыстно бросится в его объятия, он готов на ней жениться. Так как герцог говорил вполне убежденно, маркиз не посмел возражать против этого безумного и столь неожиданно возродившегося замысла. Маркиз знал, что их мать рассчитывает на удачный брак лишь для того из своих сыновей, который выкажет известную твердость и волю, — герцог же вполне убедительно ему сейчас доказывал, что только тот хозяин своего будущего, кто отказался от честной игры. — Теперь ты понимаешь, как это серьезно, — закончил свой рассказ герцог. — Я запутался в собственных силках и страшно мучаюсь. Помощи у тебя я не прошу, но во имя нашей дружбы, заклинаю, брат, отстранись от этого дела, так как если ты напугаешь мадемуазель де Сен-Жене, я, может быть, совсем потеряю душевное равновесие и тогда уже ни за что не ручаюсь; а если ты уговоришь меня от нее отказаться, в отчаянии она способна совершить какое-нибудь безумство и тем уронить себя в глазах нашей матери. Раз уж все так запуталось, нам остается лишь уповать на случаи, который внезапно все уладит. Только ты не вмешивайся и твердо верь, что при всех обстоятельствах я поведу себя так, что не нарушу ни материнского покоя, ни требований оказанного тобой гостеприимства.XI
Пока герцог делал эти тягостные для маркиза признания, госпожа де Вильмер вела с Каролиной беседу, которая если не потрясла ее, то, во всяком случае, не обрадовала. Всецело поглощенная своим замыслом, маркиза выказала такое семейное тщеславие, о котором ее молодая наперсница даже не подозревала. Больше того — в маркизе Каролина ценила прежде всего бескорыстие и смирение перед утратой состояния, этим ударом, которым ее поразила судьба. Теперь Каролине пришлось горько разочароваться и признать, что вся благородная философия маркизы — лишь маскарадный костюм, красивый и ловко сидящий. Это, однако, не означало, что маркиза была лицемеркой. Будучи на редкость сообщительной, она не умела заранее обдумывать свой слова: уступая минутному расположению духа и не замечая своей нелогичности, маркиза утверждала, что предпочла бы умереть с голоду, чем видеть, как ее сыновья идут на всякие низости ради богатства, но тем не менее умирать с голоду очень тяжело, что ее теперешняя жизнь — сплошные лишения, а жизнь маркиза — настоящая пытка и что, наконец, не может человек чувствовать себя счастливым, когда доход его меньше двухсот тысяч ливров в год, пускай даже при этом он гордится чистой совестью и незапятнанной честью. Каролина сочла возможным вставить несколько общих возражений, но маркиза живо отмела их. — Разве не само собой разумеется, — говорила она, — что отпрыски знатных семейств должны первенствовать над всеми прочими общественными сословиями? Это должно быть для вас как догматы веры — ведь вы же дворянка. Вам-то следует понимать, что людям благородного звания не только нужно, но, вероятно, даже обязательно жить на широкую ногу и что чем выше их положение в обществе, тем необходимее им располагать состоянием, приличествующим родовитому дворянину. Когда я вижу, как маркиз сам рассчитывается со своими арендаторами, и даже вникает в подробности всяких кухонных дел, клянусь вам — сердце мое обливается кровью. Кто знает о нашем разорении, тот восхищается маркизом, который старается ни в чем мне не отказывать, но тот, кому беда наша неведома, наверняка считает нас скрягами, и мы в его глазах просто-напросто мещане. — Мне ваша жизнь всегда казалась достойной, даже великолепной, но если она вас так удручает, дай бог, чтобы этот брак удался. Ведь если возникнут затруднения, сколько вам опять понадобится душевных сил! Но если мне дозволено иметь собственное мнение… — Всегда нужно иметь собственное мнение. Говорите, дитя мое. — Так вот, я думаю, что благоразумнее и вернее всего считать ваше теперешнее положение вполне приемлемым, не отказываясь при этом от задуманного брака. — Все наши разочарования — пустяки, дорогая. А вы боитесь, что я разочаруюсь? Но от этого не умирают, зато надежда вселяет силы. Однако почему вы сомневаетесь в успехе этой затеи? — О, я ничуть не сомневаюсь, — ответила Каролина, — да и отчего мне сомневаться, если, судя по рассказам, мадемуазель де Ксентрай — само совершенство. — Она и в самом деле совершенство. Посудите сами: она не стремится увеличить свое состояние и превыше всего почитает добродетель. «По-моему, это не очень трудно», — подумала Каролина, но смолчала, и маркиза заговорила вновь: — Да и само имя Ксентрай! Знаете ли вы, душечка моя, как оно знатно, и понимаете ли, что если такая родовитая особа обладает высокими достоинствами, то никто с ней не может сравниться. Впрочем, как мне случалось замечать, вы не вполне убеждены в том, что происхождение ставит нас выше всех других. Вы, вероятно, много об этом думали и перемудрили. Остерегайтесь, дитя мое, новомодных предрассудков и тщеславных притязаний нынешних выскочек! Что они там ни делай и ни говори, а простолюдину недоступно истинное душевное благородство — врожденная расчетливость и скупость убивает его в зародыше. Человек низкого происхождения ни за что не пожертвует состоянием и жизнью во имя веры, идеи, короля, во имя семейной чести… Из честолюбия он способен на славные деяния, но им всегда движет своекорыстие. Не обольщайтесь на этот счет. Маркиза так запальчиво защищала права высокого происхождения, что это несколько покоробило Каролину. Она сумела переменить тему разговора, но за обедом только и думала о том, что ее добрая приятельница и престарелая приемная мать беззастенчиво причисляет ее к людям низшего разбора. И такое она заявила при ней — дочери дворянина, которая душой и телом чтит кодекс нравственных правил! Каролина, правда, твердила себе, что дворянский род ее действительно захудал: ее предки, старинные провинциальные эшевены, были возведены в дворянство при Людовике XIV; у отца Каролины был титул шевалье, чем он нисколько не гордился. Она прекрасно понимала, что презрение маркизы к людям более низкого происхождения совершенно очевидно и что бедная девушка, к тому же мелкая дворянка, была в ее глазах вдвойне ничтожной особой. Это открытие не пробудило в мадемуазель де Сен-Жене глупой обиды, но ее врожденное чувство самоуважения взбунтовалось против такой несправедливости, которую вдобавок ей торжественно навязывали, точно долг ее совести. «Неужели моя нищенская, самоотверженная, трудная и все-таки радостная жизнь, — раздумывала Каролина, — мой добровольный отказ от житейских удовольствий ничто по сравнению с подвигом какой-то Ксентрай, которая готова выйти замуж за достойнейшего человека, удовольствовавшись двумястами тысячами годового дохода? Она — мадемуазель де Ксентрай, поэтому ее выбор выше всех похвал; я всего-навсего Сен-Жене, поэтому моя жертва низменна и обязательна». Каролина старалась развеять эти мысли, вызванные оскорбленной гордостью, но они легкой тенью то и дело омрачали ее выразительное лицо. Юная и неподдельная красота бессильна что-либо утаить, и герцог сразу приметил озабоченность Каролины и решил, что он тому виной. Когда же он увидел, что, несмотря на все старания сохранить прежнюю веселость, Каролина все больше грустит, герцог еще тверже укрепился в своем заблуждении. Однако истинная причина этой грусти заключалась в следующем: как-то раз Каролина обратилась к маркизу с обычным вопросом по хозяйству, и он, изменив обычной учтивости, заставил ее дважды повторить вопрос. Каролина решила, что маркиз чем-то озабочен, но, встретив несколько раз его ледяной, высокомерный, почти презрительный взгляд, она, похолодев от удивления и ужаса, стала мрачнее тучи и была принуждена объяснить мигренью свое угнетенное состояние. Герцог смутно догадывался о том, что творится с маркизом, но его подозрения разом рассеялись, когда он увидел, что брат внезапно повеселел. Даже отдаленно не представляя себе, что делается в измученной душе маркиза и как уныние сменяется в ней душевным подъемом, герцог решил, что пришла пора безнаказанно заняться Каролиной. — Вы плохо себя чувствуете? — спросил он у нее. — Да, да, я вижу, что вам не по себе. Матушка, поглядите, как бледна мадемуазель де Сен-Жене последнее время. — Вы находите? — сказала маркиза, участливо взглянув на Каролину. — Вам нездоровится, дитя мое? Скажите мне правду. — Я совершенно здорова, — ответила Каролина. — Просто я слишком долго гуляла сегодня по солнцу, но это пустяки. — Нет, не пустяки, — возразила маркиза, внимательно глядя на нее. — Мой сын прав: вы очень переменились. Пойдите куда-нибудь в тень или отдохните у себя в комнате. Здесь нестерпимо жарко. Сегодня вечером приедет с визитом множество соседей, но я обойдусь без вас. Вы свободны. — Знаете, что вас разом излечит? — сказал герцог Каролине, раздосадованной тем, что она привлекла к себе всеобщее внимание. — Вам нужно покататься верхом. Я вам рассказывал о четвероногом деревенском малыше — у него спокойный нрав и замечательные ноги. Как вы на это смотрите? — Каролина? Одна? — вмешалась маркиза. — На необъезженной лошади? — Ручаюсь, что мадемуазель де Сен-Жене развлечется, — возразил герцог. — Я знаю, она смела и ничего не боится. К тому же я сам буду следить за ней и отвечаю за нее головой. Герцог так настаивал, что маркиза спросила Каролину, по нраву ли ей эта прогулка верхом. — Да, — ответила она, чувствуя, что ей необходимо стряхнуть с себя гнетущее уныние. — Я достаточно ребячлива, чтобы находить в таких вещах удовольствие. Но не лучше ли сделать это в другой раз? Мне не хотелось бы устраивать спектакль для ваших гостей, тем более, что мой дебют окажется, вероятно, неудачным. — Хорошо, тогда поезжайте в парк, — сказала маркиза. — Там тенисто, и никто не увидит вашей первой пробы. Только пусть вас сопровождает верховой — старый Андре хотя бы. Он наездник хороший, да и лошадь у него спокойная. Если ваша заупрямится, вы сможете пересесть на лошадь Андре. — Отлично! — воскликнул герцог. — Андре оседлает старую Белянку. Превосходно! А я прослежу за вашим отъездом, и все пойдет как по маслу. — А есть у нас дамское седло? — спросил, в свою очередь, маркиз, с виду равнодушный к этой затее. — Есть. Я его видел в седельном чулане, — живо отозвался герцог. — Побегу отдать распоряжения. — А есть ли амазонка? — спросила маркиза. — Ее вполне заменит любая длинная юбка, — ответила Каролина, которой вдруг захотелось возразить недоброжелательно настроенному маркизу и избавиться от его присутствия. Госпожа де Вильмер отправила Каролину готовиться к верховой прогулке и, опершись на руку младшего сына, поспешила навстречу съезжавшимся гостям. Когда мадемуазель де Сен-Жене спустилась по винтовой лестнице башенки, перед ее стрельчатой дверцей во дворе она увидела оседланную лошадь, которую герцог самолично держал под уздцы. Андре тоже был уже там, восседая на старой кляче, которая обычно возила капусту и отличалась как чудовищной худобой, так и нищенской упряжью: конюшня была совершенно запущена, на ней имелось только самое необходимое, но и эти вещи содержались в беспорядке. Маркиз, стесненный в средствах больше, чем в том хотел признаться, объяснял все своей бесхозяйственностью, а герцог, догадываясь об истинном положении дел, утверждал, что предпочитает ходить на охоту пешком, чтобы не располнеть еще сильнее. Снарядить Жаке (так звали жеребенка, возведенного двенадцать часов назад в сан верховой лошади) оказалось делом нелегким, и Андре, растерявшись от этой барской затеи, сперва долго не мог найти дамское седло, а потом не знал, как привести его в порядок. Герцог все сделал сам за четверть часа с завидной ловкостью и проворством. Он был весь в поту, и Каролина очень смущалась, когда герцог поддерживал ее ногу в стремени и, точно завзятый лакей, поправлял узду, подтягивал подпругу, смеясь над всеми этими пришедшими в негодность вещами и весело играя роль заботливого брата. Когда мадемуазель де Сен-Жене, от души поблагодарив герцога и попросив его больше о ней не беспокоиться, пустила лошадь рысью, герцог, отослав Андре, проворно вскочил на клячу и, пришпорив ее, решительно устремился за Каролиной в тенистый парк. — Как, это вы? — изумилась Каролина, остановившись после первого круга. — Зачем ваше сиятельство взяли на себя труд сесть в седло и сопровождать меня? Это совершенно невозможно, я этого не потерплю! Вернемся! — Ах, так! — протянул герцог. — Значит, вы боитесь сейчас остаться со мной наедине? Ведь мы встречались уже не раз в этом парке. Разве я докучал вам своим красноречием? — Конечно, нет, — с полной искренностью сказала Каролина. — Вы прекрасно знаете, что дело не во мне. Но эта лошадь… это просто мука для вас. — А вам удобно на Жаке? — Очень. — Тогда все в порядке. А мне очень нравится кататься на Белянке. Разве я держусь на ней хуже, чем на кровной лошади? Долой предрассудки, пустимся галопом! — А вдруг у Белянки подломятся ноги? — Пустяки. А если я сломаю себе шею, что ж, буду утешаться тем, что это случилось, когда я верно служил вам. Герцог так весело говорил эти льстивые слова, что Каролина ничуть не встревожилась. Они перешли в галоп и объехали храбро весь парк. Жаке вел себя отлично и не капризничал: впрочем, мадемуазель де Сен-Жене была прекрасной наездницей, и герцог сразу заметил, что ее грациозность не уступает легкости и хладнокровию. Каролина была в длинной юбке, которую смастерила сама, распустив подборы, плечи покрывал белый бумазейный казакин, а соломенная шляпка на белокурых волосах, растрепавшихся от скачки, необычайно красила ее. Раскрасневшаяся от удовольствия и быстрой езды, Каролина была чудо как хороша, так что герцог, не отрывая взгляда от ее изящного стана и пленительной улыбки целомудренных губ, чувствовал, что теряет голову. «Черт меня дернул дать это безрассудное обещание! — выговаривал он себе. — Кто бы мог подумать, что сдержать его будет так трудно?» Но он во что бы то ни стало хотел, чтобы Каролина открылась ему первая, поэтому предложил сделать не спеша еще один круг по парку, чтобы дать лошадям перевести дух. Однако все было напрасно: Каролина болтала с полной непринужденностью и таким дружелюбием, которое, уж конечно, было несовместно с мучениями такой страсти. «Ах, так! — злился герцог, снова пуская лошадь в галоп. — Ты думаешь, я стану увечиться на этой апокалипсической твари только для того, чтобы вести светские беседы под материнским надзором? Пускай этим занимаются другие. Я сейчас оставлю тебя одну и омрачу твое благодушное настроение, тогда ты хочешь не хочешь, а призадумаешься». — Дружочек, — сказал он Каролине (герцог нередко называл ее так с милой непосредственностью), — по-моему, вы уже вполне освоились с Жаке, не так ли? — Да, конечно. — Он ведь покладистый и послушный? — Да. — Тогда, с вашего позволения, я предоставлю вас самой себе и пришлю Андре на мое место. — Сделайте одолжение! — живо отозвалась Каролина. — И не присылайте даже Андре. Я сделаю еще один круг, а потом отведу лошадь на конюшню. Честное слово, мне будет приятно покататься без провожатого. К тому же я просто страдала, глядя, как немилосердно трясет вас эта лошадь. — Какие пустяки! — ответил герцог, решив перейти в наступление, — я еще не в том возрасте, когда боятся норовистых лошадей. Но дело в том, что сегодня вечером приезжает госпожа д'Арглад. — Нет, она приедет завтра. — По-моему, сегодня, — повторил герцог, внимательно глядя на Каролину. — В таком случае, вы осведомлены лучше меня. — Вероятно, дружочек… Госпожа д'Арглад… Впрочем, довольно… — Ах, так? — рассмеялась Каролина. — Я и не знала! В таком случае поезжайте скорее домой, а я исчезаю и приношу вам тысячу благодарностей за вашу любезность. Каролина уже собралась дать шпоры, но герцог удержал ее. — Очевидно, мой поступок кажется вам неучтивым? — спросил он. — Не только учтивым, но и очень милым. — Стало быть, вам наскучило мое общество? — Я не то хотела сказать. По-моему, эта ваша неучтивость говорит о полном доверии ко мне, поэтому я вам за нее признательна. — Как, по-вашему, госпожа д'Арглад красива? — Очень. — Сколько ей должно быть лет? — Мы почти ровесницы. Мы вместе воспитывались в монастыре. — Я знаю. Вы были большими друзьями? — Нет, не очень. Но когда на меня посыпались беды, она приняла во мне искреннее участие. — Да, она вас и порекомендовала матушке. Отчего же вы ненавидели друг друга в монастыре? — Никакой ненависти не было — просто мы не очень дружили, вот и все. — А теперь? — А теперь она ке мне добра и, стало быть, я ее люблю. — Значит, вы любите тех, кто к вам добр? — Что ж в этом удивительного? — Значит, вы и меня немного любите: по-моему, я никогда не делал вам ничего худого. — Конечно, вы всегда вели себя безупречно, и я вас очень люблю. — Нет, каким тоном она это говорит! Я очень люблю свою няню, но еще больше люблю ездить верхом на палочке. Скажите, пожалуйста, а вам не придет в голову ославить меня перед вашей милейшей госпожой д'Арглад? — Ославить? Таких слов даже нет в моем словаре, не в пример вашему. — Вы правы, простите. Но, видите ли, госпожа д'Арглад — особа подозрительная… чего доброго, она спросит вас обо мне. Надеюсь, вы не преминете сказать ей, что я никогда за вами не ухаживал? — О, можете рассчитывать, что я скажу ей чистую правду! — ответила Каролина, пришпоривая лошадь. И герцог услышал, как, взяв в галоп, она рассмеялась. «Ну вот! Я покривил душой и совершенно напрасно! — сердился на себя герцог. — Вообразил себе бог знает что… Она никого не любит… или где-нибудь держит про запас возлюбленного на тот день, когда раздобудет тысячу золотых на обзаведение хозяйством. Бедная девушка! Имей я эту тысячу, я отдал бы ей всё, не раздумывая… Впрочем, так или иначе, но я был смешон. Она, вероятно, это заметила и наверняка теперь посмеется надо мной вместе со своим сердечным другом, расписав меня тайком в одном из тех писем, которые то и дело строчит… Если это так… Но все равно, я дал честное слово!» И герцог хлестнул лошадь, пытаясь иронизировать над собой, однако был задет за живое и почти удручен. Выезжая из густых зарослей, он заметил, как туда опасливо юркнул какой-то незнакомец. Уже стемнело, и герцог не разглядел пришельца, а лишь услышал, как тот осторожно крадется в чаще деревьев. «Смотри-ка! — подумал он. — Наверняка злополучный любовник прибыл к ней на тайное свидание. Ну нет, я этого так не оставлю и выведаю всю подноготную». Герцог слез с лошади, вытянул хлыстом Белянку, которая сразу же побрела на конюшню, и, прячась за деревьями, двинулся в ту сторону, куда ускакала Каролина. Найти в зарослях незнакомца было невозможно, к тому же эти поиски могли его насторожить. Гораздо вернее было бесшумно пройти в темноте вдоль аллеи и поглядеть на то, как любовники встретятся и заговорят друг с другом. А Каролина уже не думала о герцоге. Отъехав на порядочное расстояние, чтобы избавить себя от нескромных излияний, мало подобающих такому благовоспитанному человеку, как герцог д'Алериа, Каролина пустила лошадь шагом, боясь впотьмах наткнуться на ветки и, кроме того, чувствуя потребность не столько в быстрой езде, сколько в раздумье. На душе у Каролины было сумрачно и беспокойно. Обхождение маркиза казалось ей непонятным, даже оскорбительным. Она искала объяснение ему в глубине своей совести и, ничего не найдя, упрекнула себя за то, что слишком много думает о маркизе. Вероятно, все люди, поглощенные серьезной работой, отличаются странностями, ну, а если маркиз и впрямь испытывает к ней неприязнь, то ведь он собирается жениться, и, значит, маркиза будет так счастлива, что бедная компаньонка сможет уйти от нее, не зная за собой греха неблагодарности. Размышляя о будущем и о том, что ей нужно посоветоваться с госпожой д'Арглад, которая, вероятно, сумеет приискать ей новое место, Каролина вдруг почувствовала, что лошадь ее внезапно остановилась, и увидела рядом какого-то человека; он сделал резкое движение, и ей стало не по себе. — Это вы, Андре? — спросила девушка, замечая, что лошадь как бы повинуется знакомой руке; неизвестный, чью одежду в темноте невозможно было разглядеть, молчал, и голос Каролины дрогнул: — Это вы, герцог? Зачем вы остановили меня? Ответа не последовало: человек отпустил лошадь и исчез. Каролину охватил страх, смутный, но непреодолимый; не смея обернуться назад, она дала шпоры Жаке и, так никого и не увидев, помчалась вперед. Герцог был в десяти шагах от того места, где произошла эта странная встреча. Он ничего не разглядел, но слышал, каким испуганным голосом говорила мадемуазель де Сен-Жене в ту минуту, когда внезапно остановилась ее лошадь. Герцог опрометью кинулся к незнакомцу и, очутившись с ним нос к носу, схватил его за ворот. — Кто вы такой? — крикнул он. Незнакомец упорно старался вырваться из рук и скрыться, но герцог, обладавший силой поистине геркулесовой, вывел своего противника из чащи на середину аллеи. Каково же было его удивление, когда он увидел перед собой брата! — Боже мой, Урбен! — воскликнул он. — Я тебя не ударил? Кажется, нет… Отчего ты молчал? — Не знаю, — отвечал очень взволнованный маркиз де Вильмер. — Я не узнал твоего голоса… Ты со мной разговаривал? За кого ты меня принял? — Клянусь честью, за обыкновенного вора! Это ты только что напугал мадемуазель де Сен-Жене? — Я, вероятно, невольно напугал ее лошадь. А где же сама мадемуазель? — Черт возьми, от страха помчалась прочь. Неужели ты не слышишь, как она скачет к дому? — Зачем же ей бояться меня? — спросил маркиз со странной горечью в голосе. — Я не хотел ее обидеть, — и, устав вести эту игру, маркиз добавил: — я хотел только с ней поговорить. — О ком? Обо мне? — Да, если хочешь, о тебе. Я хотел узнать, любит ли она тебя. — Отчего же ты не заговорил с ней? — Не знаю. Я не мог произнести ни слова. — Тебе нездоровится? — Да, я болен, очень болен сегодня. — Пойдем, брат, домой, — сказал герцог. — Ты, я вижу, весь горишь, а уже выпала роса. — Это не важно, — сказал маркиз, усаживаясь на пень у обочины аллеи. — Я хочу умереть. — Урбен! — воскликнул герцог, которого внезапно осенило. — Так ты любишь мадемуазель де Сен-Жене! — Я? Люблю? Разве она не твоя… разве ей не суждено стать твоей любовницей? — Разумеется, нет, если ты ее любишь. Для меня это прихоть, я волочился за ней от безделья и от тщеславия, но она совершенно равнодушна ко мне и даже не поняла меня любовных ухищрений. Клянусь, это правда, как правда то, что я сын своего отца. Она так же чиста, свободна и горда, как в тот день, когда переступила порог нашего дома. — Зачем же ты заманил ее в чащу и оставил одну? — Я тебе только что поклялся — я говорю правду, а ты мне не веришь! По-моему, от любви ты ума решился. — Ты дал слово вставить девушку в покое и изменил ему! Я знаю, ты нарушишь любую клятву, если дело касается любовной интриги. Иначе вы, счастливые волокиты, не смогли бы вскружить голову стольким женщинам! Для вас любые обязательства — пустой звук. Разве ты действовал честно, пуская в ход нелепые, а возможно, изощренные уловки — я ведь ничего в этом не понимаю, — играя на самолюбии, на легковерии, на всех слабых или дурных сторонах женской натуры, чтобы заманить мадемуазель де Сен-Жене в свои сети? Для тебя нет ничего святого. В твоих глазах добродетель — смешной недуг, от которого нужно излечить беспомощную и неопытную простушку. Разве пропасть, в которую ты пытался завлечь эту девушку без приданого и родовитых предков, не казалась тебе естественным для нее исходом, неважно, счастливым или роковым? Разве ты не издевался надо мной нынче утром, когда уверял, что женишься на ней? А теперь ты говоришь: «Так ты ее любишь? А для меня это прихоть, я волочился за ней от безделья и тщеславия». Вот оно каково, ваше чудовищное тщеславие распутников! Из-за него вы готовы вывалять в грязи все, что попадается вам под руку! Ваши взгляды — и те пятнают женщину. Ты мысленно унизил эту девушку, большего для меня не нужно. Я уже ее не люблю! Впервые в жизни так поговорив с братом, маркиз поднялся и быстро ушел, полный мрачной, неистребимой ненависти. Разгневанный герцог тоже вскочил на ноги, собираясь потребовать у брата сатисфакции. Он сделал несколько шагов, потом вдруг остановился и сел на тот самый пень, где только что сидел маркиз. Душой герцога овладела мучительная борьба; раздосадованный и взбешенный, он вместе с тем чувствовал, что брат для него неприкосновенен. Герцог не совсем понимал, в чем же его вина, тем не менее был сильно подавлен, невольно сознавая, что правда на стороне Урбена. Он ломал себе руки, и крупные слезы горя и ярости текли по его щекам. Явился Андре и сообщил, что его ищет маркиза. Гости уже разъехались, но прибыла госпожа д'Арглад. Все удивляются его исчезновению, и маркиза, зная, что герцог оседлал Белянку, опасается, как бы у несчастного животного не подломились ноги. Герцог машинально последовал за слугой и уже на пороге спросил: — А где мой брат? — Он недавно вернулся и заперся у себя, ваше сиятельство. — А мадемуазель де Сен-Жене? — Она тоже у себя. Но ваша матушка велела ей сообщить о приезде госпожи д'Арглад, и она, конечно, спустится в гостиную. — Хорошо. Скажите моему брату, что я хочу с ним поговорить и через десять минут буду у него.XII
Госпожа д'Арглад была женой важного провинциального чиновника. С маркизой де Вильмер она познакомилась на юге, когда маркиза проводила там лето в своем обширном поместье, позднее проданном в уплату долгов старшего сына. Госпожа д'Арглад отличалась тем особенным, ограниченным и упорным тщеславием, которое нередко свойственно женам чиновников, как крупных, так и мелких. Пробиться в высший свет, чтобы блистать, и блистать, чтобы пробиться в свет, — было единственной целью, единственной мечтой, единственным помыслом и надеждой этой маленькой женщины. Богатая и неродовитая, она отдала свое приданое разорившемуся дворянину; ему это обеспечило денежное место, а ей позволило поставить дом на широкую ногу, так как она прекрасно понимала, что лучший способ нажить большое состояние в нынешнем обществе — это иметь приличный достаток и по-барски его расточать. Пухленькая, энергичная, привлекательная, хладнокровная и ловкая, госпожа д'Арглад считала, что положение обязывает ее к некоторой доле кокетства, и в душе гордилась высоким искусством все обещать глазами и ничего губами или пером, разжечь безудержное желание, не вызвав глубокой привязанности, и, наконец, ненароком заполучить выгодное местечко, делая при этом равнодушный вид и никогда не унижаясь до хлопот. Чтобы при случае всегда иметь поддержку нужных друзей, она всюду искала их, принимала у себя без особенного разбора, изображая добрую или легкомысленную хозяйку и в конце концов ловко проникала в самые недоступные дома, без труда становясь там незаменимым человеком. Так госпожа д'Арглад втерлась в доверие к маркизе де Вильмер, хотя благородная дама и относилась с предубеждением к происхождению Леони, ее положению в обществе и должности ее супруга. Но Леони д'Арглад ловко подчеркивала полное свое равнодушие к политике и вечно просила у всех прощения за свою глупость в этих вопросах; это позволяло ей не только никого не отталкивать, но даже примирять людей с тем вынужденным усердием, которое проявлял ее муж на службе у нынешнего правительства. Веселая, ветреная, подчас неумная, Леони громко высмеивала самое себя, смеялась в душе над простоватостью других и слыла по-детски бескорыстной простушкой, хотя эта простушка рассчитывала каждый свой шаг и обдумывала каждую шалую проделку. Леони прекрасно понимала, что при всех своих внутренних распрях светское общество крепко спаяно родственными и прочими узами и что при надобности все приносится в жертву сословным привилегиям и семейным связям. Из этого она сделала вывод, что ей необходимы знакомства в Сен-Жерменском предместье, где ее мужа принимали крайне неохотно, и с помощью маркизы де Вильмер, чье расположение ловко приобрела своей болтовней и неутомимой услужливостью, проникла в некоторые салоны, снискала там благоволение и прослыла милой, хотя и пустенькой девочкой. Этой девочке было уже двадцать восемь лет, и она успела пресытиться балами, но ей с виду все еще давали не больше двадцати двух — от силы двадцати трех. Леони умудрилась сохранить такую живость и непосредственность, что никто даже не замечал, как она располнела. Она любила смеяться, не забывая при этом показать ослепительно белые зубки, по-детски шепелявила и, казалось, была без ума от нарядов и всевозможных развлечений. Все питали к ней полное доверие, да и ее не следовало бояться, так как больше всего на свете она хотела слыть доброй и безобидной; но остерегаться все же было необходимо, чтобы в один прекрасный день не оказаться в ее сетях. Вот так маркиза де Вильмер, продолжая клясться, что ноги ее не будет у министров короля-мещанина, незаметно для самой себя была вынуждена действовать без околичностей, дабы вызволить госпожу д'Арглад из провинции. Стараниями маркизы и герцога д'Алериа господин д'Арглад получил недавно назначение в Париж, и супруга его написала госпоже де Вильмер такое письмо: «Дорогая маркиза, вам я обязана жизнью, вы мой ангел-хранитель. Я покидаю юг, но в Париж загляну лишь на несколько дней, так как, прежде чем устроиться, порадоваться и повеселиться, словом, прежде всего, я мечтаю поблагодарить вас, целые сутки пролежать у ваших ног в Севале, неустанно повторяя, что люблю вас и благословляю. Я буду у вас десятого июня. Герцогу скажите, что приеду девятого или одиннадцатого и что заочно благодарю его за доброту к моему мужу, который напишет ему своим чередом». Намеренно не уточняя день своего приезда, госпожа д'Арглад кокетливо намекала на те шутки, которые герцог нередко отпускал по поводу того, что Леони не знает счета ни часам, ни дням: и хотя герцог был весьма искушен по части женщин, Леони и его обвела вокруг пальца. Он считал ее ветреницей и обычно разговаривал с ней так: «Значит, вы приедете к матушке сегодня, в понедельник, вторник или воскресенье, седьмого, шестого или пятого ноября, сентября, декабря, в вашем голубом, сером или розовом платье, и окажете нам честь, поужинав, пообедав или позавтракав с нами, с ними или еще с кем-нибудь». Влюблен в нее герцог не был. Она его забавляла, но, посмеиваясь над ней, лукаво ее поддразнивая и вышучивая, герцог нащупывал в Леони слабое звено, а она притворялась, будто ничего не замечает, но на деле отлично оберегала себя от герцогских козней. Здороваясь с госпожой д'Арглад, герцог все еще был озабочен, и перемена в его лице поразила маркизу. — Боже мой! — воскликнула она. — Должно быть, случилась какая-то беда. — Не тревожьтесь, дорогая матушка. Все обошлось благополучно, только я немного продрог — вот и все. Герцога действительно немного знобило, хотя от гнева у него на лбу еще блестели капельки пота. Он подошел к камину, который круглый год топили по вечерам в гостиной маркизы, но через несколько минут привычка сдерживать свои порывы — а ведь это целая наука! — взяла свое, и фейерверк шуток и смешков Леони развеял его горькие мысли. Пришла и мадемуазель де Сен-Жене обнять свою старую подругу по монастырю. — Господи, на вас тоже лица нет! — заметила маркиза Каролине. — Вы что-то от меня утаиваете. Я уверена, что из-за этих проклятых кляч произошел несчастный случай. — Ничего страшного не произошло, сударыня, — ответила Каролина. — Честное слово, ничего, и, чтобы вы не тревожились, я расскажу вам, как было дело. Я сильно испугалась. — Правда? Чего же? — полюбопытствовал герцог. — Надеюсь, не вашей лошади? — Нет, не лошади, а скорее всего вас, сударь! Скажите, не вы ли шутки ради остановили Жаке, когда я одна ехала шагом по зеленой аллее? — Ну конечно, я! — ответил герцог. — Мне захотелось проверить, вправду ли вы такая храбрая, какой кажетесь на первый взгляд. — Как видите, храбрости во мне ни на волос, и я, как курица, кинулась наутек. — Однако вы не закричали и не потеряли голову. Это что-нибудь да значит. Рассказали о верховой прогулке и госпоже д'Арглад. Леони, как всегда, выслушала эту историю с притворно рассеянным видом, а на самом деле ловила каждое слово, мысленно решая важный для себя вопрос: соблазнил ли герцог Каролину или только собирается, и как при случае можно будет этим воспользоваться. Герцог оставил женщин одних и поднялся к брату. Леони и Каролина не дружили в монастыре только потому, что не были сверстницами. В отрочестве четыре года — серьезная помеха для дружбы. Каролина утаила эту правду от герцога, боясь, как бы ее не заподозрили в желании состарить приятельницу: она хорошо знала, что ничто так не уязвляет обычно хорошеньких женщин, как напоминание об их точном возрасте. Более того — пока госпожа д'Арглад всем и каждому повторяла в Севале, что она младше Каролины, та добродушно потворствовала сей ошибке памяти и никак ее не опровергала. Итак, Каролина плохо знала свою покровительницу: они не встречались с той поры, когда Каролина училась еще в младшем классе, а мадемуазель Леони Леконт готовилась покинуть монастырь и, в опьянении от предстоящего брака с дворянином, ни о ком не сожалела, но, уже тогда ловкая и дальновидная, нежно прощалась со своими товарками. В то время Каролина и Камилла де Сен-Жене, девушки из хорошей семьи и с достатком, могли ей пригодиться. Поэтому, узнав о кончине их отца, Леони написала им теплое, участливое письмо. Отвечая ей, Каролина чистосердечно призналась, что осталась не только круглой сиротой, но и совершенно без средств. Бросить ее в беде госпожа д'Арглад сочла неразумным. Другие монастырские подруги, с которыми она встречалась довольно часто, не раз говорили ей, что барышни де Сен-Жене прелестны и что Каролина с ее красотой и талантами в конце концов удачно выйдет замуж. Болтовня юных и неопытных женщин! Леони не сомневалась, что они ошибаются, но можно было попробовать найти Каролине хорошую партию, а заодно втереться в доверие к различным семействам, став посредницей в их переговорах, не подлежащих разглашению. Тогда Леони только и думала о том, как ей пошире раскинуть свои сети и добиться доверия других, делая вид, что она поверяет им свои тайны. Она решилазавлечь Каролину к себе в провинцию, любезно и деликатно предложив ей кров и домашний уют. Каролина была тронута ее добротой, но ответила, что с сестрой расстаться не может, а замуж выходить не хочет, но что если окажется в крайней нужде, то непременно прибегнет к помощи великодушной Леони и попросит ей приискать небольшую должность. Тут Леони поняла, что Каролина лишена делового разума, и, по-прежнему расточая в письмах обещания и похвалы, совсем перестала интересоваться ее судьбой, пока в один прекрасный день все те же монастырские подруги, очевидно искренне жалевшие Каролину, не сообщили Леони, что мадемуазель де Сен-Жене готова пойти гувернанткой в какую-нибудь почтенную семью или лектрисой к старой и приятной даме. Леони любила опекать ближних: она вечно что-то для кого-то просила — это был для нее удобный случай показать себя в лучшем свете и понравиться. Очутившись в ту пору в Париже, Леони проявила необычайное рвение в поисках места для Каролины и вскоре напала на маркизу де Вильмер, которая как раз в это время распростилась со своей компаньонкой. Маркиза искала пожилую особу, так как герцог чересчур уж любил молоденьких. Леони красочно расписала недостатки зрелого возраста — из-за него, по ее словам, прежняя компаньонка, Эстер, была так сварлива — и намеренно умалила красоту и молодость Каролины. По ее рассказам, это была девушка лет тридцати, которая прежде была весьма недурна собой, но, хлебнув много горя, должно быть, уже увяла. Затем Леони отправила письмо Каролине, в котором обрисовала госпожу де Вильмер и посоветовала девушке поскорее представиться маркизе, а остановиться в Париже предложила в своем доме. Читатель уже знает, что госпожу д'Арглад Каролина не застала, что представилась маркизе сама, поразила ее своей красотой, пленила чистосердечием, словом, добилась прелестью и благородством большего, нежели рассчитывала Леони. Увидев располневшую, нарядную и развязную госпожу д'Арглад, которая все еще по-детски жеманилась и шепелявила пуще прежнего, Каролина очень удивилась и сперва даже заподозрила ее в лицемерии, но потом в простоте душевной забыла и думать об этом, сделав ту же ошибку, что и окружающие. С Каролиной Леони держалась чрезвычайно приветливо, так как уже успела расспросить маркизу и узнать, каким расположением пользуется Каролина у старой дамы. Госпожа де Вильмер заявила Леони, что Каролина — само совершенство, что она благоразумная, живая, кроткая, чистосердечная, на редкость образованная и удивительно благородной души. Она горячо поблагодарила госпожу д'Арглад за то, что та приискала для нее этот «перл Востока», а Леони подумала: «Что ж, тем лучше! Я вижу, Каролина может мне быть весьма полезной. Впрочем, она уже мне полезна, так что никем не следует пренебрегать и никого не нужно презирать». И Леони осыпала Каролину ласками и льстивыми похвалами, которые звучали в ее устах наивными излияниями пансионерки. Перед тем как подняться к брату, герцог минут пять разгуливал по двору. Решив помириться с маркизом, но еще не остыв от гнева, он боялся потерять самообладание, если маркиз начнет опять его отчитывать. Наконец он собрался с духом, поднялся по лестнице и миновал длинную переднюю: кровь у него в висках стучала так сильно, что герцог не слышал даже собственных шагов. Урбен был один в библиотеке, продолговатой сводчатой комнате, которую тускло освещала небольшая лампа. Маркиз не занимался, но, увидев вошедшего герцога, положил книгу перед собой. Герцог остановился, не смея заговорить с братом, и внимательно поглядел на него. Матовая бледность лица и полные горя глаза Урбена тронули сердце герцога. Он уже хотел протянуть маркизу руку, но тот поднялся и прочувствованно сказал ему: — Брат, я вас очень оскорбил час назад. Я поступил, вероятно, несправедливо. Во всяком случае, распекать вас у меня не было права: я за всю свою жизнь любил одну-единственную женщину, но и на нее навлек позор и стал виновником ее смерти. Признаю нелепость, жестокость и суетность своих обвинений и искренно прошу у вас прощения. — Ну и слава богу! Благодарю тебя от всего сердца, — ответил Гаэтан, сжимая руки маркиза. — Ты мне оказываешь великую услугу, так как я сам пришел просить у тебя прощения. Только бы еще знать, за что, черт побери! Но я понял, что наша стычка в парке привела тебя в крайнее раздражение. Я, может быть, даже сделал тебе больно, у меня тяжелая рука… Но отчего ты со мной сразу не заговорил? И потом… потом… по моей милости ты так мучился и, очевидно, уже давно. А я ничего не знал… Да и как тут было догадаться!.. И тем не менее я должен был понять, что с тобой происходит, и за свою недогадливость искренно прошу у тебя прощения, милый брат! Ах, отчего ты перестал мне верить — ведь мы же поклялись в вечной дружбе! — Отчего я перестал тебе верить? — воскликнул маркиз. — Неужели ты не видишь, что только о доверии я и мечтал, а рассердился на тебя от горя?.. Когда доверие к тебе исчезло, я оплакал его! Верни мне его, брат, — без него я не могу жить. — Но что я должен сделать? Говори… пытай меня огнем и железом. Я готов. Только, прошу, не пытай водой, если ее придется пить. — Вот видишь! Ты все смеешься! — Да, смеюсь… Уж такой я человек, смеюсь, когда мне весело… А раз ты меня снова любишь, все остальное вздор. Ты любишь эту прелестную девушку? На то твоя воля. Хочешь, чтобы я с ней больше не встречался, не разговаривал, не смотрел в ее сторону? Изволь — вот тебе честное слово. Если этого недостаточно, я завтра же уеду, а хочешь, сию же минуту уеду верхом на Белянке. Страшнее пытки для меня трудно измыслить! — Нет, не уезжай, не покидай меня! Неужели ты не видишь, как мне плохо! — Господи! Что ты такое говоришь? — закричал герцог, поднимая абажур лампы и вглядываясь в лицо брата. Потом Гаэтан торопливо взял брата за запястье и, не сразу обнаружив пульс, приложил руку к груди маркиза: сердце внезапно занемогшего Урбена билось беспорядочно и прерывисто. Когда маркиз был совсем молод, подобные припадки серьезно угрожали его жизни. Затем недуг прошел, но остались физическая хрупкость, нервные недомогания, неожиданно возникающая слабость, хотя вообще здоровье маркиза мало чем отличалось от здоровья сотен других людей, которые внешне выглядят более деятельными, а на самом деле гораздо менее закалены и стойки, ибо их не поддерживают могучая воля и сила духа, свойственные таким избранным натурам, как Урбен. Однако на сей раз старая болезнь вернулась, сказавшись притом с такой силой, что оправданы были и ужас Гаэтана и ощущение тоски и близости смертного часа, охватившего Урбена. — Ни слова матушке! — сказал маркиз, вставая и распахивая окно. — Не думаю, что смерть унесет меня завтра. У меня еще есть довольно сил, и я владею собой. Куда ты собрался? — Черт возьми, оседлаю лошадь и поеду за доктором… — Куда? За каким доктором? Он убьет меня, если возьмется лечить по своей системе. Даже если мне станет совсем плохо, пуще всего бойся довериться этим деревенским эскулапам: кровопускание унесет меня. Десять лет назад меня упорно лечили, и теперь я сам знаю, что мне нужно, сам могу себя вылечить. Сейчас ты в этом убедишься, — добавил маркиз, показывая герцогу порошки в одном из ящиков письменного стола. — Это успокоительные лекарства и возбуждающие снадобья, и теперь мне известно, когда и в каких дозах их надо применять. Я превосходно знаю свою болезнь и умею с ней справляться. Будь уверен, если у меня еще есть шанс выздороветь, я выздоровею в сделаю для этого все. Не тревожься! Я рассказал тебе о моем опасном недомогании, чтобы ты простил мне сегодняшнюю вспышку гнева. Сохрани эту тайну, прошу тебя. Не следует понапрасну волновать нашу бедную матушку. Когда пробьет час подготовить ее… я почувствую это и предупрежу тебя. А покамест, брат, прошу тебя, успокойся! — И это он говорит мне! — возразил герцог. — Спокойствие нужно прежде всего тебе, а ты сгораешь от страсти. Она разбередила тебе сердце. Теперь тебе нужны только любовь, счастье, опьянение жизнью, нежность. Ну ладно, еще не все потеряно… Скажи, ты хочешь, чтобы эта девушка любила тебя? Она тебя полюбит. Да что я говорю? Она любит и всегда любила тебя… с первой вашей встречи. Теперь я все припоминаю и ясно вижу. Это тебя… — Полно, полно! — сказал маркиз, снова опускаясь в кресло. — Мне тяжело тебя слушать. От твоих слов мне делается душно. Он с минуту молчал, и герцог в тревоге не спускал с него глаз. Потом Урбену полегчало, и он с улыбкой произнес: — Да, брат, ты сказал правду! Это, вероятно, любовь, и другим словом мое чувство не назовешь. Ты убаюкал меня своими фантазиями, и я, как ребенок, поверил им. Послушай теперь, как бьется мое сердце. Кажется, оно успокоилось. Мечты освежили его, как дуновение ветра. — Если тебе действительно легче, — сказал герцог, убедившись, что маркиз пришел в себя, — не теряй времени и постарайся заснуть. Ты совсем не спишь. Нередко по утрам, уезжая на охоту, я вижу, что в твоем окне все еще горит лампа. — Да, но сколько ночей я уже не работаю! — Хорошо! Если это бессонница, больше ты не будешь бодрствовать в одиночестве, обещаю тебе! Пойдем, я помогу тебе лечь. — Это невозможно. — Ах, да, в постели тебя душит. Тогда устройся поудобнее в кресле и закрой глаза, а я сяду рядом и буду рассказывать о Каролине, пока ты не заснешь. Герцог отвел брата в спальню, посадил в просторное кресло и принялся по-матерински ухаживать за ним. Тут-то и проявилось доброе сердце герцога, и Урбен в знак благодарности сказал ему: — Сегодня вечером я был отвратителен. Скажи, что ты простил меня. — Я скажу больше: я люблю тебя, — ответил Гаэтан, — и не только я. В этот час она тоже думает о тебе. — Боже мой, ты лжешь, убаюкивая мою душу этой ангельской песнью. Но ты лжешь… Она никого не любит и никогда не полюбит меня. — Хочешь, я сейчас же пойду к ней и скажу, что ты серьезно болен? Бьюсь об заклад, через пять минут она будет здесь. — Возможно, — кротко ответил маркиз. — В ней столько милосердия и преданности. Она придет из жалости, а видеть, что она только жалеет меня, еще тяжелее. — Ба, да ты, я вижу, ничего в этом не понимаешь. Жалость и есть начало любви. Если бы ты послушался меня, то через неделю… — Зачем ты надрываешь мне душу? Ведь если б добиться ее любви было так легко, я не мечтал бы о ней день и ночь. — Хорошо, ты по крайней мере простился бы с иллюзиями и успокоился. А это уже кое-что. — Это был бы мой конец, Гаэтан, — воодушевившись, возразил маркиз крепнущим голосом. — Как мне бесконечно жаль, что ты не можешь понять меня, точно между нами пролегла пропасть. Будь осторожен, мой бедный друг. Любая опрометчивость, легкомысленность, любая нечаянная ошибка с твоей стороны убьют меня скорее, чем пуля, пущенная тобой из револьвера. Герцог был в полном замешательстве. Он думал, что раз молодые люди испытывают друг к другу сердечное влечение, то достаточно отбросить в сторону маловажные, с его точки зрения, предубеждения, и все уладится само собой. Но маркиз, как казалось Гаэтану, из-за свойственной ему странной щепетильности только осложняет дело. Ведь, судя по его словам, если мадемуазель де Сен-Жене отдалась бы ему без любви, страсть маркиза пошла бы на убыль, а, выздоровев от чувства, истерзавшего его сердце, он еще сильнее мучился бы и страдал. Этот непонятный ему тупик тем более огорчал герцога, что ему приходилось принимать в расчет как волю, так и убеждения Урбена. Поговорив с ним еще и осторожно заглянув в тайники его сердца, герцог пришел к заключению, что осчастливить маркиза можно только одним способом: помочь ему удостовериться в ответном чувстве Каролины и внушить надежду на то, что, проявив терпение и деликатность, Урбен добьется успеха. Пока фантазия Гаэтана витала в саду романической любви, маркиз охотно предавался убаюкивающим душу радужным мыслям. Но едва только брат склонял его к тому, что пора, собравшись с духом, открыть Каролине сердце, маркизом овладевали мрачные предчувствия того, что случится неотвратимая беда, и, к несчастью своему, он не обманывался. Ведь Каролина должна была либо отказать маркизу и покинуть Севаль, либо принять его предложение (соблазнить девушку даже не приходило Урбену в голову) и повергнуть в страшное отчаяние престарелую госпожу де Вильмер, которая, вероятно, не переживет утраты своих иллюзий. Погруженный в эти размышления, герцог сидел у постели брата: тот уже дремал, предварительно вырвав у Гаэтана обещание уйти к себе и отдохнуть, как только сам он заснет. Не зная, как помочь маркизу, Гаэтан злился на самого себя. Самым надежным казалось ему рассказать обо всем Каролине, воззвать к ее милосердию, попросить ее вдохнуть силы в душу болящего, скрыть от него будущее и утешить смутными обещаниями и поэтическими речами. Это, однако, в свой черед, означало толкнуть бедную девушку на опасный путь; да и Каролина, уже достаточно взрослая, немедленно поймет, что на этом пути рискует и своей репутацией и, может быть, покоем собственной души. Судьба, которая весьма деятельно вмешивается в драмы такого рода, сделала то, что не решался сделать герцог д'Алериа.XIII
Хотя герцог пообещал брату никому не говорить о его недуге, он не посмел сдержать слово, побоявшись слишком тяжкой ответственности. Утверждая, что не верит в медицину, герцог верил в любого лекаря, поэтому решил отправиться в Шамбон и посоветоваться с тамошним молодым врачом, который со знанием дела и осмотрительностью лечил его в свое время от легкого недомогания. Врачу можно будет рассказать под секретом о здоровье маркиза, пригласить его на следующий день в замок под предлогом, будто он хочет продать клочок луговины, вклинившийся в земли севальского поместья, и устроить так, чтобы он увидел маркиза, внимательно присмотрелся к его лицу и поведению, ничего при этом не говоря больному. Его частное мнение герцог сумеет сообщить потом Урбену, и тот, возможно, перестанет упрямиться и прислушается к нему. Размышлять в безмолвии ночи было не в натуре герцога. Чтобы унять свое беспокойство, ему нужно было действовать. Он рассчитал, что через полчаса будет в Шамбоне и что ему хватит часа на то, чтобы разбудить врача, договориться с ним и вернуться в замок. Он мог приехать домой до того, как его брат, заснувший, как ему казалось, спокойно и крепко, пробудится от первого сна. Герцог бесшумно покинул спальню маркиза, вышел через сад, стараясь никого ненароком не разбудить, торопливо спустился к реке и через мостик возле мельницы выбрался на тропинку, ведущую в Шамбон. От лошади и обычной дороги герцог отказался только по одной причине: он не хотел подымать на ноги спящий дом. Маркиз спал чутко и слышал, как брат на цыпочках выбирался из комнаты, но, не подозревая о его плане и желая, чтобы он отдохнул, притворился, будто ничего не замечает. Было уже за полночь. Простившись с маркизой, госпожа д'Арглад последовала за Каролиной в ее каморку, чтобы еще немного поболтать. — Ну, душечка моя, — сказала она, — признавайтесь! Вам и вправду так нравится тут жить или вы только делаете вид? Может, что-нибудь вам не по нраву, говорите начистоту. Господи, в каждом доме есть свои изъяны… Пользуйтесь тем, что я здесь, и выкладывайте всё без околичностей. Маркиза прислушивается к моему мнению. У меня счастливое преимущество: самой ничего не надо, и я безо всякого стеснения могу помогать своим друзьям. — Вы очень добры, — ответила Каролина, — но здесь со мною все так милы, что если б мне что-то было неприятно, я сказала бы об этом без обиняков. — И слава богу, благодарю вас, — ответила Леони, отнеся последние слова Каролины на свой счет. — Ну, а герцог? Небось этот красавчик волочился за вами? — Право, самую малость, и к тому же теперь с этим покончено. — Ваша откровенность меня радует. После того как я посоветовала вам в письме пойти компаньонкой к маркизе, меня, знаете, просто загрызла совесть. Я ведь даже не обмолвилась об этом сердцееде. — Да, вы точно боялись со мной заговорить о нем. — Бояться не боялась, но забыла совершенно. Не голова у меня, а решето. Потом себе же выговаривала: «Господи, только бы мадемуазель де Сен-Жене не обидели его ухватки». Он ведь всех так поддразнивает! — Только, слава богу, не меня. — Вот и хорошо, — промолвила Леони, не поверив ни одному слову Каролины. Она заговорила о тряпках, потом вдруг сказала: — Господи, как я хочу спать! И не мудрено после такой дороги! До завтра, милочка. Вы рано подымаетесь? — Да, а вы? — Я, к сожалению, не очень, но как открою глаза… скажем, меж десятью и одиннадцатью, сразу прибегу к вам. С этими словами госпожа д'Арглад ушла, решив подняться чуть свет, повсюду побродить и как бы невзначай подглядеть все мелочи жизни этой семьи. Каролина проводила свою приятельницу, помогла ей устроиться, а затем вернулась в свою каморку, которая находилась довольно далеко от апартаментов маркиза, но окнами выходила на ту же лужайку, что и его спальня. Перед тем как лечь в постель, Каролина уложила стопкой несколько книжек: она старалась образовать свой ум и много читала. Пробил час ночи, и Каролина пошла закрыть ставни. В ту же минуту она услышала какой-то треск и, взглянув на освещенное окно напротив, увидела, что из него со звоном посыпались стекла. Удивленная этим происшествием и наступившей вслед тишиной, Каролина напрягла слух. Всё было тихо, и только немного погодя она различила смутные звуки: казалось, кто-то слабо стонал, потом сдавленно вскрикнул и захрипел. «Маркиза убивают!» — пронеслось в голове Каролины, так как зловещие шорохи явственно доносились из его спальни. Что делать? Звать на помощь, кинуться к герцогу, жившему от брата еще дальше, чем она?.. Это заняло бы слишком много времени. Она быстро прикинула на глаз расстояние: от маркиза ее отделяли от силы двадцать шагов. Злодеи могли проникнуть к маркизу только по лестнице в башне Грифа, которая возвышалась напротив башни Лиса. Обе башенки получили свои названия от эмблем, грубо высеченных на дверных тимпанах. Из комнаты Каролины был прямой выход на лестницу Лиса, так что никто не поспел бы к маркизу раньше, чем она, а её появление сразу вспугнет убийц. К тому же на башне Грифа есть веревка от пожарного колокола. Все это твердила себе Каролина, пробегая по траве к дверце в башню Грифа, которая оказалась распахнутой настежь. Открыл ее герцог, который, выйдя через эту дверь, хотел тем же путем вернуться на рассвете домой, — разбойников он не боялся, так как здесь о них даже слуху не было. Каролина же, еще сильнее укрепившись в своем заблуждении, мигом поднялась по витой каменной лестнице. В коридоре было тихо, и миновав его, Каролина в замешательстве остановилась у спальни маркиза. Собравшись с духом, она постучала, но ответа не последовало. Значит, злодеи ей просто примерещились, но кто же тогда кричал? Вероятно, произошел несчастный случай, притом серьезный и требующий немедленного вмешательства. Каролина толкнула дверь и увидела маркиза, распростертого на полу: почувствовав внезапное удушье, он пытался открыть окно, чтобы глотнуть свежего воздуха, и разбил стекло. Однако сознания маркиз не потерял. Страх смерти оставил его, жизнь и дыхание постепенно возвращались к нему. Лежа лицом к окну, он не видел вошедшей Каролины и, думая, что это герцог, сказал слабым голосом: — Не пугайся, скоро все пройдет. Помоги мне подняться, я совсем ослабел. Ощутив прилив сил, Каролина бросилась к маркизу и поставила его на ноги, а он узнал ее только в ту минуту, когда опустился в кресло. Вернее сказать — принял ее за призрак, ибо перед затуманенными глазами еще плыли синие круги, а тело было таким одеревеневшим, что он не почувствовал ни рук Каролины, ни прикосновения ее платья. — Боже мой, мне это, наверное, снится, — воскликнул маркиз, изумленно глядя на девушку. — Это вы? Вы? — Ну, конечно, я, — ответила она. — Я услышала, как вы стонали… Господи, что нужно сделать? Позвать брата? Но я боюсь оставить вас одного. Что с вами? — Ах, да, да, мой брат, — заговорил маркиз, окончательно приходя в себя. — Это он привел вас ко мне? Но где же он? — Его тут нет. Он ничего не знает. — Вы с ним виделись? — Нет. Хотите, я велю позвать его? — Нет. Не уходите от меня. — Хорошо, но вам нужно помочь. — Не нужно. Я знаю, что со мной. Все пустяки. Не пугайтесь, видите, я совершенно успокоился. А… вы здесь? И вы ничего не знали? — Абсолютно ничего. За последние дни вы странно переменились. Я думала, вы больны, но не смела спросить… — А сейчас… я, стало быть, позвал на помощь. Да?.. Что я говорил? — Ничего. Вы, очевидно, упали и разбили стекло. Вы не поранились? И Каролина, поднеся лампу, внимательно осмотрела руки маркиза. Правая была довольно сильно порезана; Каролина промыла рану, ловко вынула осколки стекла и принялась перевязывать руку. Урбен не противился, глядя на девушку благодарными и изумленными глазами. — И мой брат ничего не говорил вам, ничего? — то и дело спрашивал маркиз слабым голосом. Каролина никак не могла взять в толк этот вопрос, который, казалось, мучил сознание маркиза, и, чтобы успокоить его, рассказала, как ей померещилось, будто маркиз попал в лапы разбойников. — Конечно, это глупые бредни, — говорила она, стараясь развеселить Урбена, — но, понимаете, я ужасно испугалась и прибежала сюда как на пожар, даже никого не предупредив. — А если бы и вправду здесь были убийцы? Неужели вы пришли бы, пренебрегши опасностью? — В тот момент я меньше всего опасалась за себя — я думала только о вас и о вашей матери. Не знаю, чем, и не знаю, как, но защититься вам помогла бы, придумала бы что-нибудь, схитрила… Ну вот, рука и перевязана. Порез у вас пустячный. Но скажите, в чем главный недуг? Надо же известить ваших близких — они-то знают, как помочь. Может, ваш брат… — Да, да, герцог все знает. Это матушка ничего не знает. — Понимаю. Вы не хотите… Я ничего не скажу ей. Но если вы позволите, я сама буду ходить за вами, и вместе с герцогом мы сумеем найти средства против вашей болезни. Я докучать вам не стану — ухаживать за больными мне не привыкать. Все будет хорошо… Только не судите меня строго за мой необдуманный приход… Через некоторое время вы и сами поднялись бы, я уверена, но так тяжело страдать в одиночестве! Вот вы и улыбнулись. По-моему, сударь, вам немного лучше. Скорей бы вам полегчало! — Я просто в раю, — ответил маркиз, и, не отдавая себе отчета, который теперь час, добавил: — Посидите со мной, еще не очень поздно. Вечером моей сиделкой был брат, он скоро придет вам на смену. Каролина не стала перечить маркизу. Она даже не подумала о том, что вообразит герцог, застав ее в этой спальне. В минуты, когда друг был в опасности, Каролина просто забыла о возможности оскорбительных подозрений на свой счет. Она осталась. Маркиз пытался продолжить беседу, но силы изменили ему. — Молчите, — сказала Каролина, — и постарайтесь уснуть. Честное слово, я не уйду от вас. — Вы хотите, чтобы я заснул? Но я не могу… Стоит мне задремать, как я начинаю задыхаться. — Но вы же изнемогаете от усталости, и глаза у вас слипаются. Не надо бороться с природой. А если припадок повторится, я помогу вам справиться с ним. Я буду рядом. Доброта и доверчивость Каролины подействовали на больного как чудодейственное лекарство. Маркиз уснул и проспал до утра. Каролина просидела всю ночь, облокотившись на стол. Теперь она уже знала, что за болезнь подтачивала маркиза и как ее нужно лечить: на столе она нашла запись простых средств лечения, которое прописал Урбену один из лучших врачей Франции. Бумажку эту, на которой стояло авторитетное имя, маркиз показывал герцогу, дабы убедить его в том, что способ самостоятельного лечения ему известен; она так и осталась лежать на столе и невольно попалась на глаза Каролине. Девушка внимательно прочитала ее и поняла, что маркиз давно нарушал режим, предписанный врачом: он мало двигался, плохо ел, бодрствовал ночами. Каролина опасалась, как бы новый приступ недуга не оказался роковым для больного, но дала себе слово, ежели маркиз поправится, быть настороже и неустанно заботиться о нем, не обращая внимания на его мрачность и холодность, которую теперь она объяснила его постоянным недомоганием. Герцог вернулся на рассвете. Доктора он дома не застал, нужно было ехать за ним в Эво, но прежде Гаэтан хотел взглянуть на брата. Белой полоской на горизонте занималась заря, когда герцог тихо поднимался по лестнице к маркизу. На сей раз Урбен и вправду спал так крепко, что не слышал его шагов, и Каролина поспешно вышла к нему, дабы тот не вскрикнул от неожиданности, застав ее в спальне брата. Герцог и в самом деле крайне изумился, когда Каролина появилась перед ним. Что тут произошло, он решительно не понимал. Первой его мыслью было, что маркиз утаил от него правду и что Каролина, зная о его любви и страданиях, пришла утешить Урбена. — Дружочек мой! — сказал герцог, взяв Каролину за руки. — Не тревожьтесь! Он мне во всем признался. Вы пришли к нему, добрая душа, и вы спасете его. И герцог с нежностью прижал ее руки к губам. — Но если вы знали, как ему плохо, — спросила слегка озадаченная Каролина, — зачем же оставили его ночью одного? А если вы рассчитывали на меня, тогда отчего не предупредили? — Что тут стряслось? — воскликнул герцог, видя, что они не понимают друг друга. Каролина коротко рассказала ему о происшедшем, и пока герцог провожал девушку через двор до лестницы Лиса, уже проснувшаяся госпожа д'Арглад внимательно следила за ними из окна. Она видела, как они перешептывались с таинственным и доверительным видом, затем остановились у двери, но даже там не прервали беседы. Герцог рассказывал мадемуазель де Сен-Жене о том, как он пытался привести к маркизу врача, а Каролина отговаривала его от этого, уверяя, что предписанное маркизу лечение вполне надежно и что весьма опрометчиво прибегать к новым способам, если прежний уже не раз помогал больному. Герцог тут же пообещал последовать этому совету. Госпожа д'Арглад видела, как они обменялись рукопожатиями и как герцог, вернувшись назад, поднялся по лестнице Грифа. «Так! — подумала Леони. — С меня довольно. Теперь не надо мучить себя и бегать по росе; я могу спокойно выспаться. Ай да Каролина! — думала она засыпая. — Какая лгунья! Но я сразу раскусила ее. Так герцог и пощадит ее добродетель, дожидайся! Но теперь я все знаю, и если мне понадобятся услуги Каролины, она у меня в руках». А Каролина меж тем немедленно легла в постель с намерением сразу же уснуть и пораньше прийти к больному. В восемь часов утра она была уже на ногах и, поглядев на окно спальни Урбена, увидела герцога, который показывал знаками, что будет ждать ее внизу, в библиотеке. Каролина тотчас отправилась туда и узнала от Гаэтана, что маркиз чувствует себя превосходно. Он только что проснулся со словами: «Господи, какое чудо! После целой недели мук я впервые выспался. Все прошло, я дышу свободно и, по-моему, совершенно здоров. Этим я обязан ей одной». — И это правда, дружочек, — добавил герцог, — вы спасли его, вам его и беречь, если вы хоть капельку нас жалеете. Поклявшись маркизу молчать, герцог держал слово, но думая, что ничего не сказал лишнего, случайно проговорился Каролине. Его слова поразили девушку. — Что вы такое говорите, сударь? — изумилась она. — Кто я такая и какое место занимаю в этом доме, чтобы иметь на маркиза такое влияние? От испуганного взгляда Каролины герцог даже оробел. — Полноте, что с вами? — спросил он, снова притворившись спокойным и веселым. — Что я такого сказал? Я имел в виду только одно: брата я обожаю, безмерно боюсь его потерять, и так как вы его выходили этой ночью, я разговариваю с вами как с сестрой. Видите ли, Урбен убивает себя работой, к моим советам едва прислушивается и даже запрещает сообщить матушке, что его опять мучает старая болезнь. Конечно, сказать ей об этом — значит серьезно ее встревожить. Она очень слаба и тем не менее захочет, конечно, ухаживать за Урбеном и быть при нем сиделкой… Вы понимаете, что через две ночи она сама сляжет… Поэтому лишь нам двоим под силу спасти брата. Только никому ни слова — ни слугам, ни горничным. Я уже убедился в том, что вы особа добрая и рассудительная. Хотите ли вы, сможете ли, хватит ли у вас смелости помочь мне тайком от всех выходить маркиза, сидеть около него в очередь со мной вечерами, а при надобности и ночами, не оставлять одного ни на час, чтобы даже часа он не держал в руках своих проклятых книжек? Я совершенно уверен, что маркизу нужно только одно: полный умственный покой, крепкий сон, короткие прогулки и хорошая еда. А переупрямить брата может только человек деспотической воли, да, да, деспотической, человек, который не постесняется что-то запретить ему, если нужно, человек преданный… не обидчивый, не самолюбивый, который, если придется, станет терпеть его вспышки своенравия и выслушивать горячие изъявления благодарности. Короче говоря, брату нужен настоящий друг, у которого хватит деликатности, рассудительности и милосердия, чтобы заставить его принять и даже полюбить эту докучную опеку. Только вы, Каролина, сможете быть ему этим другом. Мой брат почитает вас, глубоко уважает и, думаю, питает к вам искреннюю дружбу. Попробуйте взять его под свое крылышко на неделю, на две или на месяц: ведь раз он сегодня утром встал на ноги, значит, вечером он уже засядет в библиотеке, займется своими книгами и выписками. Если нынешнюю ночь он крепко проспит, то решит, что полностью выздоровел и уже на следующую ни за что не станет ложиться. Видите, какую трудную задачу мы должны взять на себя! Я к ней готов и ни перед чем не остановлюсь, но один я ничего не смогу сделать. Мое постоянное присутствие наскучит ему; он начнет раздражаться, и мои добрые начинания пойдут прахом. А вы — женщина, вы его сиделка, великодушная, упорная и терпеливая, какой может быть только женщина, и я уверяю, что он станет безропотно слушаться вас, а потом, когда поправится, еще благословит вас за то, что вы его переупрямили. Эта речь герцога полностью рассеяла смутные подозрения Каролины. — Вы правы, — твердо ответила она. — Я стану его сиделкой, можете на меня рассчитывать. Я признательна вам за ваш выбор, нс не думайте, что вы передо мной в долгу. Сидеть у постели больного мне не привыкать. Я, как и вы, бесконечно уважаю маркиза, считаю его на голову выше всех, кого знаю, так что служить ему почту за великую честь. Теперь, сударь, давайте договоримся о том, как разделить нам обязанности, чтобы никто не заподозрил о болезни вашего брата. Прежде всего, на ночь вам следует устраиваться в его спальне. — Он этого не потерпит. — Хорошо. В библиотеке тоже слышен каждый его шаг. К нашим услугам широкий диван, где можно отлично выспаться, укрывшись плащом. Будем дежурить здесь по очереди, а там посмотрим. — Превосходно! — Вам нужно рано подымать его с постели, чтобы он привык спать по ночам, и приводить завтракать с нами. — Постарайтесь вырвать у него это обещание! — Попробую. Ему совершенно необходимо есть хотя бы два раза в день. Мы его будем выводить на прогулку, или пускай он сидит с нами до полудня в саду. В полдень вы с ним наносите визит маркизе, затем до пяти часов с ней буду я, потом я переодеваюсь… — У вас на это и часа не уйдет. Вы просто заглянете к Урбену в библиотеку, а я к тому времени уже буду там. — Хорошо! Мы вместе пообедаем, задержим его в гостиной до десяти часов вечера, а после вы проводите маркиза в спальню. — Чудесно! А когда матушка принимает гостей и мы совершенно свободны, вы сможете поболтать с нами часик-другой. — Болтать с вами я не стану, — ответила Каролина, — я лучше почитаю ему книгу. Вы понимаете, что маркиз не сможет все это время сидеть без дела, а я постараюсь читать так, что нагоню на него сон, и он задремлет. Решено! Только сегодня нам очень помешает госпожа д'Арглад. — Сегодня я сам все улажу, а госпожа д'Арглад завтра утром уезжает. Итак, мой брат спасен, а вы ангел!XIV
Маркиз, узнавший от брата о его союзе с Каролиной, с благодарностью подчинился их решению. Он был еще очень слаб и медленно приходил в себя от сердечного приступа, который не столько подорвал телесные его силы, сколько привел в такое подавленное состояние духа, точно болезнь длилась много времени. Он больше не мог бороться со своей любовью и, будучи столь слабым, что не помнил уже, с какими бурями и опасностями сопряжена истинная страсть, с радостью препоручил себя заботливым рукам Каролины. О будущем герцог запретил ему думать. — В таком состоянии ты ничего не можешь решить и не судья своим поступкам, — говорил ему герцог. — Когда человек болен, в голове у него туман. Позволь же нам тебя вылечить. Поверь, выздоровев, ты найдешь в себе силы, чтобы либо победить свое влечение, либо отказаться от ненужной щепетильности. Раз мадемуазель де Сен-Жене ничего не подозревает и по-сестрински ухаживает за тобой, твоя совесть перед ней чиста. Эта mezzotermine[59] рассеяла тревоги больного. Он даже встал с постели, чтобы навестить мать, и убедил маркизу в том, что черты его заострились от пустячного недомогания. Госпожа де Вильмер позволила ему остаток дня провести у себя, и маркиз мог целые сутки, то есть до отъезда госпожи д'Арглад, наслаждаться полным покоем. Целый день Каролина с герцогом вели себя как заговорщики, то и дело переглядываясь друг с другом; они-то думали при этом только об Урбене, но Леони окончательно утвердилась в своих подозрениях и уехала, не сказав маркизе ничего такого, что могло выдать ее осведомленность. Через неделю господин де Вильмер поправился. Все признаки аневризмы исчезли: выполняя врачебные предписания, маркиз постепенно обрел физическую крепость и душевное спокойствие, каких у него не было давным-давно. Вот уже десять лет никто не ухаживал за ним так преданно, так терпеливо, как мадемуазель де Сен-Жене. Говоря по правде, такой умной и сердечной заботы маркиз никогда не знал, поскольку мать его была недостаточно сильна телом и бодра духом и к тому же не умела сдержать порывов любви и тревоги, когда жизни Урбена угрожала опасность. Она и на сей раз смутно подозревала, что сын опять недомогает, так как он слишком много времени проводил у нее, а стало быть, с меньшим усердием занимался своей работой. Но эти подозрения возникли у нее в ту пору, когда самое страшное было позади: между герцогом и Каролиной царило полное взаимопонимание, занятые хозяйством слуги ничего не знали, а маркиз казался олицетворением безмятежности, — словом, все способствовало успокоению маркизы, а когда через две недели она заметила, что ее младший сын помолодел и даже повеселел, госпожа де Вильмер окончательно воспрянула духом. Госпожа д'Арглад так ничего и не узнала о болезни маркиза. Герцог не оставлял надежд женить брата на богатой наследнице и, считая Леони болтушкой, не хотел, чтобы свет пронюхал о столь хрупком здоровье Урбена. Об этом Гаэтан предупредил Каролину. Ради благополучия брата герцог вел с ней двойную игру: он хотел, насколько возможно, расположить ее к маркизу, постепенно завоевать безграничную преданность девушки, не забывая, однако, напоминать ей, что будущее их семейства целиком и полностью зависит от задуманного брака. Каролина ни на минуту не забывала об этом и, бескорыстно исполняя то, что почитала своим долгом, стремительно шла к пропасти, которая могла поглотить ее жизнь. Вот так и получилось, что герцог, добрый от природы и движимый лучшими намерениями по отношению к брату, хладнокровно подготавливал гибель бедной девушке, наделенной редкостными душевными качествами. Хотя совесть Урбена спала, но, к счастью для мадемуазель де Сен-Жене, сном достаточно чутким. Впрочем, к страсти его примешивались такое восхищение Каролиной и такая неподдельная привязанность к ней, что, казалось, она совсем исчезла или по крайней мере подчинилась его воле. Маркиз требовал, чтобы герцог не оставлял его наедине с Каролиной, и в своем прямодушии чуть не лишил себя ее опеки: сперва он твердил, что даст ей слово без ее позволения не браться за книгу, а потом действительно дал его, дабы избавить Каролину от обязанности постоянно дежурить в библиотеке, где часто заставал ее, своего неусыпного и доброго стража, караулящего книги и тетради маркиза, «опечатанные», как она в шутку говорила, до нового распоряжения. Впрочем, герцог шепнул Каролине, что доверяться слову Урбена не стоит: хотя он и дал его с полной искренностью, сдержать обещание не в его власти. — Вы даже не знаете, до какой степени он рассеян, — говорил герцог. — Если какая-нибудь мысль ему засядет в голову, он так увлекается, что забывает все свои клятвы. Стоит мне только отвернуться, как он сразу начинает рыться в книгах, и когда я кричу ему: «Ай-ай-ай, какой мошенник!», он смотрит на меня так изумленно, точно просыпается от глубокого сна. И такое с ним бывало уже раз двадцать! Словом, Каролина не сложила с себя обязанностей ревностного стража. Библиотека находилась рядом с кабинетом маркиза, располагаясь почти в середине замка, и слуги нимало не удивлялись тому, что «чтица» зачастила в комнату для занятий. Порой она сидела там одна, порою с герцогом или с маркизом, но чаще с тем и другим, хотя Гаэтан и находил тысячу предлогов, чтобы оставить Каролину и Урбена наедине. В такие часы Каролина сидела с книгой при настежь распахнутых дверях и читала, но ничто так не пресекало любое поползновение опорочить ее дружбу с маркизом, как естественность их отношений, которая была сильнее самых хитроумных наветов. Каролина была счастлива дружбой с Урбеном, а позднее вспоминала это время как самую безмятежную пору своей жизни. Если раньше холодность Урбена омрачала ей душу, то теперь маркиз был к ней добр и сердечен сверх всяких ожиданий. И как только Каролина перестала тревожиться за его здоровье, между ними установились отношения, казавшиеся ей безоблачными. Маркизу очень нравилось слушать ее чтение, а вскоре он даже позволил девушке помогать ему в работе. Она выписывала для Урбена всевозможные сведения, чутко угадывая, что именно ему нужно. Благодаря Каролине занятия превратились в сплошное удовольствие для маркиза: скучные выписки она приняла на себя, и теперь маркиз снова взялся за перо. Урбен нуждался в секретаре гораздо больше, чем его мать, однако до сих пор и помыслить не мог о посреднике между ним и его работой. Меж тем он скоро заметил, что Каролина не только не сбивала его изложением чужих мыслей, но освобождала от лишней работы. Каролина отличалась замечательной ясностью суждений, и эта ясность сочеталась в ней с умением упорядочить свои мысли — качеством, довольно редким у женщин. Она умела подолгу работать, не уставая и не отвлекаясь. Маркиз сделал открытие, которое произвело на него неизгладимое впечатление: он впервые встретил женщину, обладающую умом, неспособным к творчеству, но прекрасно усваивавшим чужие идеи, разбиравшимся в них и даже сообщавшим им стройность, короче говоря — умом, необходимым маркизу, чтобы придать известный порядок и его собственным мыслям. Пора наконец сообщить читателю, что маркиз де Вильмер был наделен огромными способностями, которые оставались втуне и лишь поджидали случая проявиться. Поэтому он был в таком разладе с самим собой, потому так медленно работал. Думал и писал он быстро, но никак не мог привести в согласие пыл ревностного историка с философскими и нравственными убеждениями. Подобно искренно верующим, но наделенным болезненным воображением, людям, которым постоянно кажется, что они не открыли всей правды своему исповеднику, маркиза измучили сомнения. Он жаждал поведать человечеству некую социальную истину, не отдавая себе отчета в том, что истина эта, не только абсолютная, но даже и относительная, меняется в зависимости от эпохи. Маркиз никак не мог додумать это до конца. Он старался добраться до сути событий, скрытых в тайниках прошлого, и, удивляясь тому, что найденные с огромным трудом факты часто противоречат друг другу, сомневался в собственном здравомыслии, не решался прийти к окончательным выводам и откладывал работу, по неделям, а то и месяцам терзаясь от неуверенности в себе и тягостных раздумий. Со свойственной ему болезненной застенчивостью маркиз никому не показывал своей книги, написанной лишь наполовину; тем не менее, Каролина догадалась о том, что его мучает: для этого ей было достаточно бесед с ним и тех замечаний, которые он отпускал во время ее чтений. Она тут же, по какому-то наитию, поделилась с маркизом своими мыслями, такими простыми и ясными, что оспорить их было невозможно. Ее нисколько не смущали проступок великого человека или неяркая вспышка разума в век, пораженный безумием. Она считала, что на прошлое надо смотреть издали, как на полотно художника, избрав точку зрения, удобную для глаза, чтобы схватить всю картину целиком, и что следует, по примеру старых мастеров живописи, жертвовать незначительными подробностями, хотя и существующими в природе, но тем не менее нарушающими гармонию и даже логику самой природы. Каролина утверждала, что реальный пейзаж на каждом шагу поражает нас неправдоподобной игрой света и тени и что только профаны задаются вопросом: «Сможет ли художник изобразить это на полотне?», на что живописец вправе ответить: «Смогу, если не стану это изображать». Она была согласна с Урбеном, что историк в гораздо большей степени, чем художник, скован точностью фактов, но оспаривала, что взгляд на мир у того и другого различен. По мнению Каролины, прошлое и даже настоящее человека или общества имеют смысл и определенное значение лишь в своей целокупности и в своих результатах. Случайности и даже отклонения в сторону входят в сферу необходимости, иначе говоря — законов конечного. А вот чтобы понять человеческую душу, народ или эпоху, их нужно рассматривать в свете некоего определенного события, как поля — в свете солнца. Эти мысли Каролина высказывала очень осторожно: она как бы задавала вопросы, сомневаясь в собственной правоте, и была готова пойти на попятный, если маркиз не одобрит ее. Но господин де Вильмер был ими поражен: чувствуя, что за словами Каролины стоит глубокая убежденность и что даже если бы она умолчала о своих взглядах, они тем не менее остались бы непоколебимыми, маркиз, однако, пытался спорить с нею, представляя на ее суд множество фактов, которые не поддавались объяснению и смущали его. Каролина растолковала их так непредвзято, умно и прямодушно, что маркиз, взглянув набрата, воскликнул: — Она так легко постигает истину, потому что истина в ней самой. А это первое условие ясного взгляда на мир. Человек с нечистой совестью и предубежденным умом не в силах понять историю. — Поэтому, вероятно, не стоит писать историю, доверяясь мемуаристам, — сказала Каролина. — Ведь почти все мемуары — плоды предубеждений или преходящих страстей. — Вы правы, — согласился маркиз. — Если историк, изменив своей вере и высоким идеалам, попадает в сети к обыденным мелочам и запутывается в них, истина утрачивает все, чем ее наделила действительность. Эти разговоры мы изложили читателю, дабы он понял, какие серьезные и безмятежные отношения сложились в замке Севаль между ученым эрудитом и скромной лектрисой, хотя герцог не жалел сил, стараясь заманить Каролину и брата в силки молодости и любви. Маркиз понимал, что душа его принадлежит Каролине не только потому, что он мечтает о ней, восхищается ею, склонен боготворить ее красоту и неподдельное изящество; нет, он понял, убедился и свято уверовал в то, что встретил свой идеал. Отныне Каролина была спасена: она внушила Урбену уважение к своим замечательным достоинствам, и он больше не боялся, что эгоистическая любовная горячка может одержать верх над рассудком. Герцог сначала изумлялся тому, какой неожиданный оборот приняли отношения его брата и Каролины. Маркиз выздоровел, был совершенно счастлив и, казалось, победил свою любовь силами той же самой любви. Но герцог был умен и быстро уразумел, что произошло с маркизом. Он сам проникся немалым уважением к Каролине, начал прислушиваться к тому, что она читала, и уже не клевал носом с первых же страниц; более того — он хотел читать с нею в очередь и потом делиться своими впечатлениями. Собственных мыслей у него никогда не было, но чужие захватывали его и будоражили в нем воображение художника. За свою жизнь он прочитал мало серьезных книг, но зато великолепно запоминал имена и даты. Его отличная память до некоторой степени походила на крупно сплетенную сеть, за ячейки которой цеплялись отдельные ниточки знаний маркиза. Иначе говоря, он схватывал все, но глубинную логику истории постичь не мог. Герцог был не чужд предрассудков, но чувство прекрасного преобладало над ними, и красноречивая страница, принадлежала ли она Боссюэ или Руссо, равно приводила его в восторг. Таким образом, герцог с удовольствием принимал участие в занятиях брата и проводил время в обществе мадемуазель де Сен-Жене. Но с того самого дня, когда он узнал о любви маркиза к Каролине, она перестала для него быть женщиной. В течение нескольких дней он загорался при виде ее, но потом стал гнать от себя дурные мысли и, тронутый тем, что после ужасной сцены ревности маркиз снова проникся к нему безграничным доверием, впервые в жизни познал, что такое чистое и возвышенное чувство дружбы к красивой женщине. В июле месяце Каролина писала своей сестре:«Не тревожься, дорогая. Я уже давно не ухаживаю за больным, ибо мой подопечный никогда так хорошо себя не чувствовал, как теперь. Погода превосходная, и я по-прежнему подымаюсь чуть свет и каждое утро по нескольку часов сижу за работой с маркизом, которую он позволяет разделить с ним. Он теперь хорошо высыпается, так как ложится спать в десять часов, и в то же время уходить к себе разрешено и мне. Днем тоже нередко удается выкроить драгоценные свободные минутки: неподалеку от замка расположено Эво, где находятся лечебные ванны и дорога в Виши, поэтому гости приезжают к нам в те часы, когда в Париже маркиза обычно отдыхала. Она так занята, что ей даже некогда писать письма, но с тех пор, как ведутся переговоры о женитьбе маркиза, переписка сократилась сама собой. Госпожа так поглощена этим важным делом, что сообщает о нем всем старым друзьям без разбору, потом сама же раскаивается, говоря, что такая болтливость до добра не доведет и что вряд ли все ее многочисленные знакомые умеют хранить тайну. Словом, продиктованные ею письма мы бросаем в огонь. Поэтому маркиза мне часто говорит: „Больше писать не станем. Уж лучше помолчать, чем не говорить о том, что меня занимает“. Когда приезжают гости, она дает мне знак, что можно удалиться в кабинет маркиза, так как знает, что я делаю для него выписки. Сын ее вполне здоров, и зачем мне скрывать от маркизы такую малость, как мою помощь ему? Госпожа признательна мне за то, что я избавила маркиза от докучных занятий, неизбежных в его работе. Она постоянно у меня выпытывает, что за таинственную книгу он пишет, но я, если б и хотела, не могла бы ничего сказать, так как не читала ни строчки. Знаю только, что сейчас мы занимаемся историей Франции, вернее — временем Ришелье, и, уж конечно, умалчиваю про то, как разительно отличаются взгляды маркиза на многие вопросы от суждений его матери. Не жалей меня, сестричка, хотя забот моих действительно прибавилось, и я стала, как ты выразилась, «служанкой двух господ». Занятия с маркизой — моя священная обязанность, которую я исполняю с большой любовью; занятия с ее сыном — обязанность весьма приятная, которая внушает мне подлинное благоговение. Так радостно думать, что я помогла выходить маркиза и постепенно убедила в том, что жить надо так, как живут другие, иначе погубишь свое здоровье. Я использовала в своих целях даже его страсть к истории, твердя, что недуг вредит таланту и что ясность мысли несовместима с болезнью. Знала бы ты, как он был добр ко мне, как покорно выслушивал выговоры и нагоняи от твоей сестры, как послушно исполнял все мои распоряжения. Даже за столом он глазами спрашивает меня, что ему можно есть, а в парке, совсем как ребенок, гуляет со мной и герцогом ровно столько, сколько мы ему позволяем. И этого человека я почитала за упрямца и капризника, меж тем как ему, бедняге, грозил сердечный приступ! На самом же деле нрав у маркиза кроткий и на редкость уравновешенный, а прелесть его обхождения можно лишь сравнить с красотой реки, которая спокойно и безбурно несет прозрачные, глубокие воды по здешней долине, не зная омутов и круговоротов. А если продолжить сравнение, то у его ума есть и свои цветущие берега, островки зелени, где можно отдохнуть и вволю помечтать, — ведь маркиз настоящий поэт, и я только диву даюсь, как его буйному воображению не тесно в русле исторической науки. Он, впрочем, уверяет, что это я открыла в нем поэтическую жилку и что теперь он сам начинает ее в себе замечать. На днях, спустившись в овраг, который пересекает долину реки Шар, мы любовались красивыми пастбищами, где щипали траву овцы и козы. В глубине этой обрывистой балки есть скалистый массив; в овраге он кажется горой, а его чудесные серовато-лиловые скалы так высоко вздымаются над плоскогорьем, что образуют внушительный кряж. Отсюда не видно и просторного нагорья, и порой кажется, будто ты в Швейцарии. Так по крайней мере говорит мне в утешение маркиз де Вильмер, поскольку знает, как высмеивает мои восторги его мать. — Не обижайтесь, — твердил он, — и не верьте, когда говорят, что оценить истинное величие может только тот, кто много видел величественных ландшафтов на своем веку. Человек, наделенный чувством величия, замечает его везде, и это не игра его воображения, а подлинная прозорливость. Только человеку с неразвитыми чувствами нужны необузданные проявления царственности и мощи. Поэтому многие, отправляясь в Шотландию, ищут там пейзажи, описанные Вальтером Скоттом, и, не найдя их, упрекают поэта за то, что он приукрасил свою родину. А между тем я ни секунды не сомневаюсь, что эти пейзажи не вымысел и, случись вам оказаться в этой стране, вы сразу отыскали бы их. Я призналась маркизу, что подлинно грандиозные пейзажи будоражат мою фантазию, что мне часто снятся неприступные горы и головокружительные пропасти, а перед гравюрами, изображающими бурные шведские водопады или плавучие ледяные глыбы северных морей, я всегда погружалась в мечты о вольной жизни, что все путешествия в дальние страны, о которых я читала в книжках, не только не отпугивали меня тяготами пути, а напротив, будили сожаление, что я их так и не изведала. — И тем не менее, когда вы только что глядели на этот прелестный ландшафт, — сказал маркиз, — вы показались мне такой счастливой и умиротворенной. Неужели волнения нужнее вашей душе, чем покой и умиленная безмятежность? Посмотрите, какая тишина царит вокруг! В этот час, когда солнечные блики словно тают в густеющих тенях, и туманные испарения ласково льнут к скалистым склонам, а листва беззвучно пьет золото последних лучей, просветленная торжественность природы, как в зеркале, отражает все прекрасное и доброе, что в ней сокрыта. Прежде я этого не видел и прозрел совсем недавно. Я жил среди пыльных книг, а грезились мне лишь исторические события да миражи прошлого. Порой на горизонте проплывали передо мной корабли Клеопатры, а в ночной тишине из Ронсевальского ущелья доносились воинственные призывы рога. Но то было царство грез, а действительность ничего мне не говорила. И вот я увидел, как вы молча следите за небосклоном, как умиротворенно ваше лицо, и тогда я невольно спросил себя, откуда снизошла на вас эта радость. А если говорить правду, ваш недужный себялюбец немного ревновал вас к тому, что пленило ваш взор. И тогда, полный тревоги, он тоже стал смотреть на мир и покорился своей участи, ибо понял, что любит то же самое, что любите вы. Ты, конечно, сестричка, понимаешь, что, говоря это, господин де Вильмер бесстыдно погрешил против истины: ведь он подлинный художник, равно благоговеющий перед природой и истинной красотой. Но из чувства благодарности он так по-детски добр ко мне, что простодушно кривит душой, воображая, будто я и впрямь чем-то обогатила его духовную жизнь».
XV
Однажды утром маркиз писал за большим столом в библиотеке, а Каролина, сидя напротив, рассматривала географический атлас. Внезапно Урбен отложил перо и взволнованно произнес: — Мадемуазель де Сен-Жене, вы, помнится, не раз говорили мне о своем благосклонном желании познакомиться с моим сочинением, а я думал, что никогда не решусь вам его показать. Но теперь я почту за счастье представить его на ваш суд. Эта книга в гораздо большей степени создание ваших рук, нежели моих, — ведь я в нее не верил и только благодаря вам перестал противиться страстному желанию написать ее до конца. Вы помогли мне, и за один месяц я написал столько, сколько не сделал за последние десять лет, и теперь наверняка закончу свой труд, с которым, не будь вас рядом, вероятно, провозился бы до своего последнего часа. Впрочем, он был не за горами, мой смертный час. Я чувствовал, что он пробьет не сегодня-завтра, и лихорадочно спешил, ибо в отчаянии видел, что все ближе конец моего существования, но не труда. Вы повелели мне жить, и вот я живу, приказали успокоиться, и я спокоен, захотели, чтобы я поверил в бога и самого себя, и я поверил. Отныне я знаю, что мои мысли несут в себе истину, и теперь вам следует убедить меня в том, что я действительно обладаю талантом, ибо хотя содержание для меня важнее формы, все же почитаю форму звеном весьма существенным — ведь она делает истину и весомой и притягательной. Вот вам моя рукопись, прочитайте ее, мой друг! — Прекрасно! — живо откликнулась Каролина. — Видите, я без колебаний и боязни берусь ее прочитать. Я настолько убеждена в вашем таланте, что, не страшась, даю слово чистосердечно высказать потом свое мнение, и настолько верю в наше единомыслие, что даже льщу себя надеждой понять те идеи, которые не уразумела бы при другом положении вещей. Но, взяв сочинение маркиза, Каролина вдруг оробела от такой его доверительности и робко спросила, не разделит ли с ней досточтимый герцог д'Алериа столь приятное и интересное занятие. — Нет, — ответил маркиз, — брат сегодня не придет — он на охоте, а я как раз хочу, чтобы вы прочитали книгу в его отсутствие. Брат ее не поймет, у него слишком много предрассудков. Правда, он думает, что мысли у него «передовые», как брат выражается; осведомлен он и в том, что я ушел еще дальше, чем он, но, конечно, и вообразить не может, что я отказался ото всех заповедей, внушенных мне воспитанием. Мой крамольный отказ от прошлого приведет его в ужас, и тогда, вероятно, я уже не смогу завершить свой труд. Впрочем, даже вас… может быть… покоробят некоторые мои мысли. — У меня нет никаких предубеждений, — ответила Каролина, — и, вполне вероятно, что, познакомившись с вашей книгой, я соглашусь со всеми выводами. А сейчас, сударь, я прочитаю вслух вашу книгу. Надо же вам послушать, как ваши мысли звучат в чужих устах. По-моему, это хороший способ перечитать самого себя. В то утро мадемуазель де Сен-Жене прочла половину тома. Она читала его после обеда и на следующий день. Так в три дня благодаря Каролине маркиз прослушал все свое сочинение, над которым трудился несколько лет. Неразборчивый почерк маркиза Каролина разбирала легко, читала внятно, толково, удивительно просто, оживляясь и даже волнуясь там, где повествование о грандиозных исторических катаклизмах достигало поистине лирической напряженности, поэтому автора словно озарили солнечные лучи уверенности, сотканные из тех разрозненных лучиков, которыми порой были пронизаны его рассуждения. Нарисованная им картина была оригинальна и преисполнена подлинного величия. В своей книге, названной «История сословных привилегий», маркиз смело рассматривал многие щекотливые вопросы для того лишь, чтобы доказать неотвратимость и справедливость тех идей, которые привели Францию к революционной ночи 4 августа 1789 года. Отпрыск знатного семейства, всосавший с молоком матери аристократическую гордыню и презрение к плебеям, маркиз де Вильмер вынес на суд своих современников исторические документы, изобличавшие патрициев в том, что они вершили неправый суд, чинили произвол, стяжательствовали и не гнушались должностными преступлениями; во имя справедливости, во имя человеческой совести и прежде всего во имя евангельской доктрины маркиз обличал аристократию в полном нравственном упадке. Он клеймил ханжество восемнадцати веков, на протяжении которых идею равенства, провозглашенную апостолами, старались примирить с идеей гражданских и теократических иерархий. Утверждая право на существование лишь политической и административной иерархии, иными словами — право, предоставляющее высшие должности людям согласно их личным достоинствам и общественной полезности, маркиз бичевал сословные привилегии, не щадя нынешних их носителей и защитников; он рисовал историю беззаконий и произвола, чинимого самовластием феодального дворянства со дня его рождения и по сию пору. Маркиз переписывал французскую историю под своеобразным углом зрения: руководимый высокой и непреложной идеей, он писал, исходя из религиозных соображений, которые дворянство никоим образом не могло опровергнуть, ибо оно ссылается на божественное право как на основу своих привилегий. Мы не станем больше говорить о сути этого сочинения. Но как ни относиться к убеждениям автора, трудно было не признать за ним поразительного таланта, сочетавшегося с огромными познаниями и подвижнической одержимостью могучего духа. Особенно хорош был стиль, выразительный и разработанный; просто не верилось, что все это написал маркиз, столь немногословный и сдержанный в обществе. Но даже и в книге маркиз избегал словопрений. Изложив коротко, со сдержанным пылом задачи и посылки своего сочинения, он сразу же переходил к фактам, оценивая их точно и образно. Его красочное повествование не уступало в занимательности драме или роману, даже когда, используя неведомые доселе семейные архивы, маркиз рисовал читателю все ужасы феодальных времен, всю глубину страданий и приниженности плебеев. Ревностный и беспристрастный историк, маркиз де Вильмер глубоко чувствовал каждое посягательство на справедливость, целомудрие, любовь, и на многих страницах душа его, взыскующая истины, правосудия и красоты, открывалась до дна в бурных потоках вдохновенного красноречия. Много раз во время чтения Каролину начинали душить слезы, и она откладывала книгу, чтобы прийти в себя. Мыслей автора она не оспаривала — так ее поразил талант маркиза и таким огромным уважением она прониклась к нему. Он так вознесся в ее глазах, стал настолько выше всех, кого она знала, что с той минуты Каролина решила безоговорочно посвятить ему всю свою жизнь. Хотя мы и сказали «безоговорочно», все же была одна оговорка, которую Каролина обязательно бы сделала, приди она ей на ум. Но она не пришла. Опасение, что такой человек, как маркиз де Вильмер, мог пожелать, чтобы она принесла ему в жертву свою честь, ни на секунду не омрачило незапятнанного восхищения им. Мы, однако, не посмеем утверждать, что это восхищение не прибавлялось к ее любви к Урбену — ведь таково свойство истинной любви, — но не она была причиной благоговения Каролины перед маркизом. До сих пор девушка не могла оценить все очарование его ума и натуры — он все время был скован, смятен и болен, и Каролина не сразу заметила перемены, которые незримо происходили в душе маркиза, пока наконец в один прекрасный день он не явился ей красноречивым, молодым, неотразимым; с каждым часом и днем Урбен становился все крепче физически, все увереннее в себе, в своих силах и обаянии, — так оно нередко бывает с благородными натурами, которых счастье излечивает от долгих и мрачных сомнений. Когда же Каролина обнаружила эти пленительные изменения, она, сама того не сознавая, покорилась чарам маркиза. Между тем наступила осень, и пора было возвращаться в Париж. Госпожа де Вильмер каждый день говорила своей молодой наперснице: — Через три недели… через две недели… через неделю состоится знаменательная встреча моего сына с мадемуазель де Ксентрай. В такие минуты Каролина чувствовала, как ее обуревают смятение и ужас — предвестие сердечного чувства к маркизу, в котором она не смела себе признаться. Девушка настолько свыклась со смутной мыслью о женитьбе маркиза в далеком будущем, что даже не спрашивала себя, станет ли она страдать. Для нее женитьба эта была так же неизбежна, как старость или смерть. Но и со старостью и смертью люди мирятся, лишь когда они приходят, а Каролине казалось, что она умирает при одной мысли о близкой разлуке с маркизом на всю жизнь. Но в конце концов она вместе с госпожой де Вильмер уверовала в то, что это неотвратимо. Маркизу она даже не заикнулась об этом — впрочем, герцог запретил ей расспрашивать Урбена во имя дружбы, которую она питала ко всей их семье. Герцог считал, что если не донимать брата уговорами, он потом согласится на брак, но вместе с тем отлично понимал, что прояви Каролина малейшее неудовольствие по этому поводу, и маркиз разом переменит решение. Прежде Гаэтан искренно восхищался чистотой отношений между Каролиной и маркизом, но теперь они стали его тревожить. «Их взаимная привязанность, — думал он, — становится такой сильной, что нельзя ручаться за ее последствия. Для брата было бы лучше утолить эту страсть — тогда она перестала бы препятствовать его будущему. А может статься, добродетель убила его любовь? Нет, нет, напротив, в подобных случаях добродетель лишь удваивает силу любви». Герцог не ошибался. Предстоящий брак ничуть не огорчал маркиза, ибо теперь он твердо решил не вступать в него. Урбена удручал только переезд в Париж, где сразу же переменятся его отношения с Каролиной: их братская непринужденность, совместные занятия, неповторимая свобода общения — все пойдет прахом. Маркиз говорил об этом девушке с большой грустью, да и она сожалела о том же, но приписывала свою тайную печаль расставанию с деревенской жизнью, такой тихой и благообразной. Однако в Париже ее поджидал сюрприз: Каролина там встретилась с сестрой и детьми. Камилла сообщила ей, что отныне они будут жить в Этампе, совсем рядом, в красивом, полудеревенском домике, окруженном довольно большим садом. До Парижа по железной дороге какой-нибудь час езды, Лили она поместила в пансион — ей удалось выхлопотать стипендию в одном из парижских монастырей. Каролина сможет навещать ее каждую неделю; обещали Камилле стипендию и для маленького Шарля, так что и он будет со временем определен в лицей. — Я просто не могу прийти в себя от счастья! — воскликнула Каролина. — Но кто же совершил эти чудеса? — Ты, как всегда, ты одна, — ответила Камилла. — Ничего подобного! Я надеялась получить эти стипендии, вернее, их обещала в ближайшее время раздобыть Леони — она ведь так услужлива. Но о таком скором успехе я и не смела помышлять! — Нет, — возразила госпожа Эдбер. — Леони тут ни при чем. Хлопоты вел кто-то из живущих в замке. — Невероятно. Я словом не обмолвилась маркизе. Зная, как она не любит нынешнее правительство, я не посмела бы… — Значит, кто-то другой посмел разговаривать с министрами, а этот неизвестный… Он хочет, правда, остаться инкогнито, потому что действовал тайком от тебя, но я все-таки его выдам. Этот таинственный благодетель — маркиз де Вильмер. — О!.. Значит, ты ему писала, просила… — Боже сохрани! Он сам написал мне, сам расспрашивал о моем положении с такой добротой, деликатностью и учтивостью… Ах, Каролина, я тебя понимаю — этого человека нельзя не уважать… Постой-ка, я привезла его письма, мне очень хочется, чтобы ты их прочла. Прочитав письма маркиза, Каролина поняла, что с того дня, как она стала ухаживать за ним, он занялся делами ее семьи и окружил Камиллу постоянной и нежной заботой. Он предупреждал тайные желания Каролины, беспокоился о воспитании детей, сам затеял переписку с важными особами и стал хлопотать, даже не упомянув об этом Камилле и ограничившись лишь тем, что расспросил ее подробно о должности ее покойного мужа. Потом он сообщил Камилле, что прошения его увенчались успехом, но и слушать не желал слов признательности, твердя, что долг благодарности по отношению к мадемуазель де Сен-Жене еще далеко не оплачен. Домик в Этампе тоже был делом рук маркиза. Он написал, что в Этампе у него есть крошечное именьице, не приносящее никакого дохода и доставшееся ему от престарелого родственника, и попросил госпожу Эдбер оказать ему честь и поселиться в этом доме. Камилла согласилась и написала, что перестройку его возьмет на себя, однако жилище оказалось в прекрасном состоянии, полностью обставлено и даже с годовым запасом дров, овощей и вина. Когда Камилла справилась у тамошнего управляющего о плате, он ответил, что господин де Вильмер не велел брать никаких денег, так как сумма пустяковая, да и сдавать внаем дом своего покойного кузена он не намерен. Как ни была Каролина тронута добротой своего друга, как ни радовалась удачному обороту дел Камиллы, все же сердце ее сжалось от боли. Ей вдруг показалось, что тот, с кем она должна была расстаться навеки, сделал ей прощальный подарок и как бы погасил долг благодарности. Но она гнала прочь тягостные мысли, каждое утро гуляла с сестрой и детьми, покупала приданое маленькой пансионерке, и наконец устраивала ее в монастыре. Маркиза пригласила к себе госпожу Эдбер вместе с прелестной Элизабет, которой предстояло распроститься в монастыре со своим детским именем Лили. Госпожа де Вильмер была обворожительно любезна с сестрой Каролины, а девочке сделала чудесный подарок. Она дала Каролине два дня отпуска, дабы та могла заняться семейными делами, попрощаться с близкими и проводить их на вокзал. Маркиза даже съездила в монастырь и представила там Элизабет Эдбер как свою подопечную. С маркизом и герцогом Камилла тоже познакомилась у их матери. Своему благодетелю она осмелилась представить только Лили, считая остальных детей еще недостаточно разумными. Но господин де Вильмер пожелал видеть их всех. Он нанес визит госпоже Эдбер в гостинице, где она остановилась, и встретился там с Каролиной, окруженной детьми, которые не чаяли в ней души. Каролина заметила, что маркиз не то чтобы рассеян, а словно погружен в созерцание того, как она ухаживает за ними и ласкает. Каждого ребенка он рассматривал нежно и внимательно, со всеми разговаривал так, как свойственно человеку, в ком уже развились отеческие чувства. Не зная о существовании Дидье, Каролина с горечью думала, что маркиз предвкушает семейные радости. Когда на следующий день сестра ее села в поезд и уехала в Этамп, Каролина ощутила вдруг свое безысходное одиночество и впервые поняла, что для нее женитьба маркиза — непоправимое несчастье. Не желая плакать на людях, она поспешно вышла из здания вокзала, но столкнулась с маркизом де Вильмером. — Ну вот, — сказал он, предлагая ей руку. — Я так и знал, что вы будете плакать, потому дожидался вас тут, где наша встреча не привлечет внимания. Мне хочется поддержать вас в трудную минуту и напомнить, что в Париже у вас остались преданные друзья. — Так вы пришли сюда из-за меня? — спросила Каролина, вытирая слезы. — Мне, право, стыдно, что я так раскисла. Вы осыпали милостями мою семью, поселили их недалеко от Парижа, — мне бы радоваться да благословлять вас, а я, неблагодарная, расстроилась из-за отъезда сестры, с которой мы к тому же скоро увидимся. Нет, нет, больше я не стану грустить — ведь вы же осчастливили меня. — Что же вы опять плачете? — спросил маркиз, провожая Каролину к фиакру, нанятому специально для нее. — Пойдемте на вокзал, сделаем вид, будто кого-то разыскиваем. Я не хочу оставлять вас в слезах. Первый раз в жизни вижу, как вы плачете, и меня это очень удручает. Постойте, мы же в двух шагах от Ботанического сада. В восемь часов утра там наверняка мы не встретим знакомых, а в этом плаще и под вуалью вас никто не узнает. Погода прекрасная, пойдемте в Швейцарский овраг, полюбуемся природой и будем думать, что мы снова в Севале. Уверяю вас, вы скоро успокоитесь. Я по крайней мере надеюсь. В голосе маркиза было столько дружеского участия, что Каролина не посмела отказаться от прогулки. «Может статься, — размышляла она, — перед вступлением в новую жизнь маркиз хочет по-братски проститься со мной. Ничего в этом дурного нет, нам даже необходимо потолковать. Он ведь еще не говорил со мной о женитьбе. С его стороны было бы странным умолчать о ней, а с моей — его не выслушать».XVI
Велев кучеру следовать за ними, маркиз отправился с Каролиной пешком, участливо расспрашивая ее о сестре и о детях. Но за все время этой короткой прогулки, и даже в Ботаническом саду, в тенистых аллеях Швейцарского оврага, маркиз не обмолвился о себе. И только на обратном пути, остановившись с Каролиной под раскидистыми ветвями кедра Жюссьё, маркиз улыбнулся и с полным равнодушием промолвил: — А вы знаете, что сегодня я должен официально представиться мадемуазель де Ксентрай? Ему показалось, что рука Каролины задрожала, однако девушка ответила ему искренно и твердо: — Нет, я не знала, что сегодня. — Я говорю с вами об этом, — сказал маркиз, — только потому, что, насколько мне известно, матушка с братом посвятили вас в их замечательный план. Сам я вам не говорил о нем — это не имело смысла. — Значит, вы думали, что ваше счастье для меня безразлично? — Счастье? Разве я могу найти его в браке с незнакомой особой? Вы, друг мой, хорошо знаете меня. Как же после этого вы такое говорите? — Тогда… вероятно, счастье вашей матери, ибо оно зависит от вашей женитьбы. — Это уже другое дело, — живо согласился маркиз де Вильмер. — Не угодно ли посидеть на этой скамейке? Мы здесь с вами одни, и я позволю себе рассказать вам коротко о своем положении. Вы не озябнете? — спросил маркиз, усаживаясь с Каролиной и бережно закутывая девушку в ее плащ. — Нет, а вы? — О, благодаря вам у меня теперь крепкое здоровье, потому мои близкие и задумали сделать из меня отца семейства. Однако это счастье мне не так необходимо, как некоторым кажется. В жизни есть дети, которых любишь… хотя бы так, как вы любите детей вашей сестры. Но не о том речь. Предположим, что я действительно мечтаю о многочисленном потомстве! Но вы-то знаете, как я отношусь к дворянству, стало быть даже продолжение нашего знатного рода меня нимало не занимает. К несчастью для близких, взгляды мои резко расходятся с общепринятым мнением. — Мне это известно, — ответила мадемуазель де Сен-Жене, — но у вас слишком возвышенная душа, чтобы не стремиться узнать самые святые и самые обыкновенные житейские привязанности. — Думайте, как вам угодно, — продолжал маркиз, — и можете даже считать, что выбор жены, достойной стать матерью моих будущих детей, — самое важное дело в моей жизни. Допустим! Но неужели вы полагаете, что этот священный и очень ответственный выбор я сделаю не сам, а доверю кому-то? Неужели вы думаете, что, проснувшись в одно прекрасное утро, моя матушка может сказать: «В свете есть весьма родовитая барышня с изрядным состоянием, и она будет женой моего сына, поскольку этот брак кажется мне и друзьям выгодным и достойным. Правда, мой сын незнаком с этой особой, но не велика беда. Может быть, она вообще ему не понравится, или, возможно, он ей не понравится, — зато будут рады мой старший сын, моя подруга герцогиня и все завсегдатаи моего салона. Если же сын мой, воспротивившись моей причуде, не простится со своей неприязнью к женитьбе, он будет просто чудовище! А если мадемуазель де Ксентрай посмеет не плениться совершенствами моего сына, тогда она недостойна носить свое славное имя!» Неужели вы не видите, друг мой, как это все глупо, и я удивляюсь, как вы могли поверить в подобную нелепость! Каролина изо всех сил старалась побороть в себе несказанную радость, которую пробудило в ней признание маркиза, и, вспомнив о герцогском наставлении и своем долге, совладала с волнением. — Ваши слова меня тоже удивляют, — промолвила она. — Если я не ошибаюсь, вы сами пообещали вашей матушке и брату представиться мадемуазель де Ксентрай в назначенный день? — Поэтому я и увижусь с ней сегодня вечером. Однако это не официальное знакомство, а обыкновенный визит, который меня ни к чему не обязывает. — Эта увертка с вашей стороны, а маркизу де Вильмеру, по-моему, не пристало вступать в сделки со своей совестью. Вы дали слово сделать все возможное для того, чтобы эта особа оценила вас по достоинству, а вы отдали должное ее очарованию. — Именно это я по мере сил и постараюсь сделать, — ответил маркиз, добродушно смеясь и так хорошея от этой улыбки, что Каролина просто теряла голову. — Выходит, вы посмеялись над матушкой? — продолжала Каролина, противясь чарам маркиза. — Как это на вас не похоже! — Конечно, не похоже! — ответил господин де Вильмер серьезным тоном. — Когда они у меня вырвали это обещание жениться, клянусь, мне было не до смеха. Я был тогда глубоко несчастен и жестоко болен: мне казалось, что близок мой смертный час, и даже мнилось, что душа моя уже мертва. Я уступил настояниям родственников только потому, что надеялся на скорую кончину. Но теперь я воскрес для жизни, друг мой. С ней заключен новый договор, и сегодня я полон молодых сил и упований на будущее. Любовь бродит во мне, как соки в этом огромном дереве. Да, да, любовь, то есть вера, силы, ощущение бессмертия моей души, и за нее мне держать отчет перед господом богом, а не пред людьми, ослепшими от предрассудков. Я хочу быть счастливым, понимаете? Хочу жить и хочу стать супругом только в том случае, если полюблю от всего сердца… — Только не напоминайте мне о том, — продолжал он, не давая Каролине вставить словечко, — что свои желания должно принести в жертву долгу. Я человек не слабый и не легкомысленный. Я не придаю значения пышным словам, освященным традицией, и не намерен быть рабом честолюбивых химер. Моя мать мечтает вернуть свое богатство — в этом-то и заключается ее ошибка. Ведь ее истинное счастье и подлинная добродетель состоят в том, что она отказалась от него и тем самым спасла своего старшего сына. С тех пор как я отдал ей почти все, что у меня было, матушка стала несравненно богаче, чем раньше, когда она с ужасом взирала на свое бедственное положение и считала, что оно должно стать еще хуже. Посудите сами, разве я не сделал для нее все, что мог? У меня есть святые убеждения, которые созрели во мне за жизнь и окрепли в годы учения. О них я никогда никому не говорил. Душевные терзания замучили меня, но, щадя матушку, я скрывал от нее свои горести. Я страдал по ее вине и не проронил ни одной жалобы. Разве я не видел с детства, что она явно предпочитает брата, разве не знаю, что по сей день она больше любит старшего сына, потому что у него более высокий титул? Я проглотил свои обиды, и в тот день, когда брат наконец приблизил меня к себе, полюбил его от всего сердца. Но прежде — сколько тайных оскорблений и язвительных насмешек я вынес от брата с матушкой, которые вместе ополчились на мою жизнь и мои взгляды! Но я на них не обижался. Я понимал, что они заблуждаются и живут в плену предрассудков. Среди этого моря сокрушений только одно могло прельстить такого отшельника, как я, — поприще литературы. Я чувствовал, что во мне есть какой-то талант и страстная тяга к красоте, и это, мнилось мне, могло расположить ко мне многих. Я понимал, что мои занятия литературой оскорбляют убеждения моей матушки, и решил сохранить строжайшее инкогнито, дабы никто не заподозрил, что я сочинил книгу. Вам единственной я доверил тайну, которую вы никогда не выдавайте. Я даже не хочу добавить «при жизни матушки», ибо питаю отвращение к подобным мысленным уловкам и нечестивым оговоркам, которые могут невзначай накликать смерть тем, кого следует любить больше самих себя. Поэтому я сказал «никогда», чтобы никогда у меня не возникала даже самая робкая надежда на то, что личное счастье облегчит скорбь по утрате моей матушки. — Хорошо, — сказала мадемуазель де Сен-Жене. — Я восхищена вашими словами и полностью с ними согласна. Но мне кажется, что эта ваша женитьба может и, вероятно, должна удовлетворить обе стороны — и вас самих и вашу семью. Если, по рассказам, мадемуазель де Ксентрай вполне достойна быть вашей женой, зачем же заранее утверждать, что этот брак невозможен? А вдруг и вправду вы увидите перед собой совершенство? Вот чего я не возьму в толк и не думаю, что вы сможете привести серьезные доказательства своей правоты. Каролина говорила так убежденно, что намерения маркиза разом переменились. Окрыленный слабой надеждой, он уже был готов храбро открыть ей сердце. Но Каролина обескуражила его, и маркиз опечалился и даже помрачнел. — Вот видите, — продолжала Каролина, — вам мне нечего сказать. — Вы правы, — сказал маркиз, — напрасно я убеждал вас в том, что мадемуазель де Ксентрай будет мне наверняка безразлична. Об этом знаю только я, а вы не можете судить о тех моих сокровенных мыслях, которые придают мне уверенность в том, что я говорю. Но не будем больше спорить об этой особе. Я лишь хотел доказать вам, что душа моя свободна, а совесть в этом деле чиста, и мне было бы крайне неприятно, если бы вы подумали обо мне так: маркиз де Вильмер должен жениться на деньгах, ибо ему нужно положение в свете и влиятельность. Друг мой, умоляю вас никогда не думать обо мне так низко! Ваше столь нелестное суждение равносильно наказанию, которого я ничем не заслужил, ибо не знаю за собой вины ни перед вами, ни перед близкими. Я также хочу, чтобы вы не осудили меня, если обстоятельства принудят меня открыто воспротивиться желаниям моей матери. Я не знаю, сможете ли вы оправдать меня заранее: ведь рано или поздно я скажу матушке и брату, что готов отдать им свою кровь, последние крохи состояния, даже свою честь, но не свою нравственную свободу, не свою веру. Этим я не поступлюсь никогда. Это мое единственное достояние, ибо даровано оно богом и люди на него не имеют прав. Говоря эти слова, маркиз порывисто прижал руку к сердцу. Его выразительное и прелестное лицо светилось неколебимой верой. Каролина в смятении боялась правильно понять маркиза и в то же время боялась ошибиться; впрочем, при чем тут было ее волнение, если прежде всего она должна была сделать вид, будто далека от мысли, что маркиз думает о ней. И огромная решимость и непобедимая гордость возобладали над Каролиной. Она ответила, что о будущем говорить не решается, но что сама она так любила своего отца, что умерла бы, не раздумывая, если бы эта жертва могла продлить его жизнь. — Остерегайтесь принять неправильное решение, — горячо прибавила она, — и всегда думайте о том, что, когда наших дорогих родителей нет уже в живых, точно грозное обвинение возникает перед нами все то, чего мы не сделали, дабы облегчить их жизнь. Тогда самые ничтожные ошибки кажутся нам роковыми, и нет счастья и покоя тому, кто живет в плену воспоминаний о тяжком горе, некогда причиненном матери, которой уже нет на свете. Маркиз, не проронив ни слова, судорожно стиснул руку Каролине. Его сердце сжалось от боли: Каролина нанесла ему верный удар. Она поднялась, и маркиз, предложив ей руку, молча проводил ее до фиакра. — Будьте спокойны, — сказал он на прощание, — я никогда не посмею ранить сердце моей матушки. Молитесь, чтобы в урочный час у меня достало сил склонить ее на свою сторону. Если же постигнет неудача… Впрочем, вам это безразлично. Тем хуже для меня. Маркиз сказал кучеру адрес и скрылся из виду.XVII
Теперь Каролина уже ни минуты не сомневалась в том, что маркиз страстно ее любит, и скрыть свое ответное чувство она могла только одним способом: никогда не показывать вида, что догадывается о любви маркиза, и никогда не давать ни малейшего повода для того, чтобы он еще раз заговорил о ней, пускай даже обиняками. Она поклялась держаться с маркизом неприступно, не позволяя ему даже заикнуться о своем чувстве, и никогда не оставаться с ним подолгу наедине. Решив впредь вести себя с маркизом только так, а не иначе, Каролина тешилась надеждой, что обрела покой, но природа одержала над ней верх, и Каролина почувствовала, что ее сердце разрывается от боли. Она безраздельно предалась своему горю, утешая себя тем, что раз так нужно, лучше уступить минутной слабости, чем долго бороться с собой. Она хорошо знала, что в такой открытой борьбе в человеке невольно просыпаются инстинкты, которые заставляют его искать выход и толкают на сделки с неукоснительностью долга или судьбы. Каролина запретила себе думать и мечтать о маркизе — лучше было заживо похоронить себя и плакать. Господина де Вильмера она увидела около полуночи, когда разъезжались гости. Маркиз появился вместе с братом — оба были во фраках, так как оба вернулись от герцогини де Дюньер. Каролина хотела тотчас же уйти, но маркиза удержала ее, говоря: — Останьтесь, дорогая, сегодня вы ляжете спать немного позже. Дело стоит того. Надо же узнать, как развернулись события. Рассказ последовал незамедлительно. У герцога был нерешительный и как бы удивленный вид, маркиз хранил ясное и открытое выражение лица. — Матушка, — сказал он, — я познакомился с мадемуазель де Ксентрай. Она прекрасна, учтива, очаровательна, и, право, не знаю, какие чувства должны обуревать человека, которому посчастливилось ей понравиться, но мне это счастье не улыбнулось. Она на меня едва взглянула. И так как опечаленная маркиза молчала, Урбен поцеловал ей руки и добавил: — Только не нужно огорчаться из-за этого. Напротив, я принес вам целый ворох надежд и планов на будущее. В воздухе носится — и я сразу это учуял — совсем другой брак, который доставит вам бесконечно большую радость. Каролине казалось, что она умирает и воскресает при каждом слове маркиза, но, чувствуя, что герцог внимательно следит за ней, и утешаясь тем, что и маркиз между фразами, вероятно, тоже украдкой поглядывает на нее, Каролина сохраняла самообладание. У нее были заплаканные глаза, но ведь она говорила, как ей тяжело было расставаться с сестрой, и к тому же сам маркиз видел, как она плакала на вокзале. — Сын мой, — сказала маркиза. — Не томите меня, к если вы говорите серьезно… — Нет, нет, — промолвил герцог с милым жеманством, — он шутит. — Ничего подобного! — воскликнул Урбен, который был настроен необыкновенно весело. — Мне кажется это дело совершенно возможным и совершенно восхитительным. — Все это довольно странно и… пикантно! — добавил герцог. — Полноте, прекратите ваши загадки! — взмолилась маркиза. — Ну, хорошо, рассказывай, — сказал герцог брату с улыбкой. — Да я только того и жду, — ответил маркиз. — Это целая новелла, и надо ее рассказать по порядку. Представьте себе, дорогая матушка, приходим мы к герцогине этакими красавчиками, какими вы нас видите, нет, еще красивее, потому что явились мы с видом победителей, что особенно идет моему брату, которому я тоже решил подражать впервые в жизни, но, как вы убедитесь в дальнейшем, мои старания не увенчались успехом. — Еще бы! — подхватил герцог. — У тебя был на редкость рассеянный вид, и не успел ты войти, как сразу уставился на портрет Анны Австрийской, а на мадемуазель де Ксентрай даже не взглянул. — Ах, — вздохнула маркиза, — очевидно, портрет был очень красив? — Необыкновенно, — ответил Урбен. — Вы скажете, что не время было его разглядывать, но потом, матушка, увидите, что сама удача подвела меня к нему. Мадемуазель де Ксентрай сидела в уголке у камина с мадемуазель де Дюньер, рядом с ними были две-три барышни из знатных семейств, — кажется, англичанки. Пока я рассеянно рассматривал кругленькое личико покойной королевы, Гаэтан, думая, что я следую за ним, повел себя, как подобает старшему брату: сначала поклонился герцогине, потом дочери и ее молодым подругам, тотчас разглядев своими орлиными глазами красавицу Диану, которую видел последний раз пятилетней девочкой. Обворожительно улыбнувшись девическому цветнику, он подходит ко мне, уже собравшемуся подступить к герцогине, и с досадой шепчет: «Иди же, что ты медлишь!». Я бросаюсь к хозяйке дома, тоже кланяюсь ей и ищу взглядом свою невесту, но в этот момент она поворачивается ко мне спиной. «Дурное предзнаменование», — думаю я и отступаю к камину, дабы показаться перед ней во всем своем блеске. Герцогиня что-то говорит мне, надеясь, что я на них обрушу целый каскад красноречия. Боже мой, я уже был готов витийствовать, только это не имело смысла. Мадемуазель де Ксентрай даже не смотрела в мою сторону и, уж конечно, не собиралась слушать меня, а шушукалась со своими подругами. Наконец она оборачивается ко мне и окидывает меня изумленным и ледяным взглядом. Меня представляют ее соседке, мадемуазель де Дюньер, молоденькой горбунье, очень умной с виду. Она довольно заметно толкает локтем Диану, но та не обращает внимания, и я поневоле снова возвращаюсь к своей трибуне,то есть к камину, не вызвав у Дианы ни малейшего интереса к своей особе. Я не теряю самообладания и, заговорив с герцогом, роняю несколько глубокомысленных замечаний о заседаниях палаты, и тут вдруг слышу, как из угла, где сидят барышни, доносится взрыв мелодичного смеха. Очевидно, меня сочли глупцом, но я не смущаясь продолжаю говорить и, выказав все свои ораторские таланты, принимаюсь расспрашивать о портрете Анны Австрийской к неописуемому удовольствию герцога де Дюньера, который только и ждал, чтобы с кем-нибудь потолковать о своей покупке. Пока он меня ведет к портрету, чтобы полюбоваться вблизи прекрасной работой живописца, брат занимает мое место, а я, обернувшись, вижу, как он уже сидит в кресле между герцогиней и ее дочерью, в двух шагах от мадемуазель де Ксентрай, и оживленно болтает с барышнями. — Это правда, сын мой? — спросила маркиза с тревогой в голосе. — Чистая правда, — прямодушно ответил герцог. — Я начал осаду и занял позиции, думая, что Урбен сманеврирует и придет мне на помощь. Ничуть не бывало. Этот предатель бросает меня одного под перекрестным огнем, и, честное слово, я выкручивался как мог. А что произошло тем временем, он вам сейчас расскажет. — Развязку, увы, я знаю, — печально промолвила маркиза. — Урбен думал о другом. — Простите, матушка, — ответил маркиз, — на то у меня не было ни желания, ни времени, так как герцогиня отвела меня в сторону и, едва сдерживая смех, сказала несколько фраз, которые я передаю вам слово в слово: «Дорогой маркиз, сегодня вечером тут происходит нечто напоминающее сцену из комедии. Вообразите себе: эта молодая особа — называть ее не имеет смысла — приняла вас за вашего брата и упрямо продолжает принимать вашего брата за вас. Она не хочет слушать никаких увещеваний и твердит, что мы ее обманываем и надо ли уверять вас…» «Конечно, нет, сударыня. Будучи близким другом моей матушки, вы не станете вводить меня в заблуждение…» «Именно. Мне было бы это крайне неприятно, и предупредить вас — мой долг. Диана просто без ума от герцога, а на вас…» «Смотрит как на пустое место? Так? Договаривайте, пожалуйста, до конца». «Она даже не смотрит на вас — вы для нее не существуете. Диана видит и слышит одного герцога, и не знай я, как вы нежно любите брата, я даже не заикнулась бы об этом». Я так горячо уверил герцогиню, что счастлив и рад успеху моего брата, что она сказала: «Боже мой, все перепуталось, как в романе! А вдруг, когда узнают, что Диана предпочла герцога и отвергла вас, все станут на дыбы?» «Кто же это все? Вы, герцогиня?» «Я? Вполне возможно, но Диана уж наверняка. Пойдемте посмотрим, что происходит. Дольше нельзя продолжать это qui pro quo». «Простите, сударыня, — ответил я герцогине, — извольте сначала выслушать меня. Мой долг защищать здесь интересы брата, а вы только что произнесли слова, которые очень встревожили и огорчили меня и которые я умоляю вас взять обратно. Если я правильно понял, вы не одобрите выбор вашей крестницы даже в том случае, если она простит герцогу, что он не я. Поскольку я совершенно уверен, что она, не колеблясь, простит брата, если уже не простила, я хотел бы узнать, отчего вы так предубеждены против него, и по мере сил разуверить вас. Мой брат предками с отцовской стороны несравненно более знатен, чем я; он обладает достоинствами чистокровного дворянина и к тому же необыкновенно хорош собой. Я же человек, чуждый света, и вдобавок, если говорить правду, грешен по части либеральных взглядов…» Герцогиня в ужасе отпрянула от меня, потом же рассмеялась, думая, что я шучу… — Видя, что вы шутите, сын мой! — с упреком промолвила маркиза. — Вероятно, я пошутил неудачно, — продолжал маркиз, — но меня не осудили, и герцогиня учтиво выслушала мой рассказ о достоинствах брата, и мы даже с ней сошлись на том, что дворянин, не уронивший своей чести, имеет право разориться, что в большом свете вовсе не возбраняется вести легкомысленную жизнь, если умеешь вовремя остановиться, благородно сносить безденежье и возвыситься над самим собой… Наконец, я заклял герцогиню дружбой к вам, матушка, и ее желанием породниться с вами, и мое красноречие, по счастью, было настолько убедительным, что герцогиня пообещала мне не мешать выбору мадемуазель де Ксентрай. — Ах, сын мой, что вы наделали! — задрожав, воскликнула маркиза. — Я узнаю ваше доброе сердце, но это же чистая фантазия. Девушка, воспитанная в монастыре, наверняка испугается такого сердцееда, как этот страшный повеса… Она никогда не посмеет довериться ему. — Погодите, матушка, — продолжил маркиз, — но я еще не довел рассказа до конца. Когда мы вернулись к барышням, Диана называла брата его сиятельством герцогом д'Алериа, смеялась и непринужденно болтала с ним, а я помогал брату показаться перед ней во всем своем блеске. Впрочем, он отлично это делал без меня. Она сама понуждала его гарцевать перед нею, и я видел, что она не прочь пококетничать с ним. — Весь ужас в том, — сказал герцог тоном повесы, уверенного в своей неотразимости, — что эта крошка Диана просто восхитительна. Я еще видел, как она играла в куклы, и, не желая скрывать от нее свой возраст, напомнил ей об этом. — А я, — продолжал маркиз, — сказал, что ты лжешь и что это я видел ее кукол, а ты в это время играл в серсо. Но мадемуазель де Ксентрай, желая дать мне понять, что знает, с кем говорит, сказала с улыбкой: «Нет, сударь, вашему брату тридцать шесть лет, и мне это хорошо известно!» Причем, она произнесла это таким тоном и с таким видом… — Что я чуть с ума не сошел, честное слово! — воскликнул герцог, вскакивая с места и подбрасывая к потолку материнские очки, которые тут же поймал на лету. — Но это чистое безумие! Диана — прелестная, наивная кокетка, настоящая пансионерка, которая настолько опьянена своим скорым появлением в свете, что готова кружить головы всем подряд, пока не закружится ее собственная… Но до этого еще далеко. Завтра утром она все обдумает… И потом, ей наверняка наговорят обо мне много гадостей! — Ты увидишь ее завтра вечером, — сказал маркиз, — и сумеешь рассеять эти дурные толки, но я не думаю, что в этом будет необходимость. Не старайся, сударь, казаться интереснее, чем ты есть! Впрочем, герцогиня уже явно к тебе благоволит. Помнишь, что она сказала тебе на прощание? — «До скорого свидания! Мы принимаем по вечерам, а выезжать начнем лишь после рождественского поста». На хорошем французском языке это означает: «Моя дочь и крестница появятся в свете только через месяц, и пока они еще не потеряли голову от балов и туалетов, вы сможете завоевать расположение Дианы. Юнцов мы не принимаем, так что вы будете у нас самый молодой, а стало быть, самый желанный и удачливый». — Боже мой, боже мой, — приговаривала маркиза, — все как во сне! Бедненький мой герцог, а я о тебе и не думала! Мне казалось, что ты обманывал стольких, что тебе уже не встретить простую, умную особу… Но ты исправился, и я готова биться об заклад, что теперь ты сделаешь счастливой герцогиню д'Алериа. — Да, матушка, ручаюсь вам головой! — воскликнул герцог. — Меня испортили мои сомнения, моя пресыщенность, записные кокетки и тщеславные женщины. Но если эта прелестная девушка, это шестнадцатилетнее дитя, доверится мне, разоренному… я сам готов помолодеть на двадцать лет! Ах, и вы, матушка, тоже были бы счастливы, правда? И ты, Урбен, ведь ты так боялся этой женитьбы! — Что ж он, обет безбрачия дал? — спросила маркиза. — Вовсе нет, — запальчиво ответил Урбен, — но если мой старший брат одерживает такие победы, значит, у меня все еще впереди. И когда вы дадите мне несколько месяцев на размышления… — Твоя правда, спешить некуда… — сказала маркиза. — И раз уж нам выпала такая удача, я уповаю на будущее и… на тебя, мой драгоценный друг! Маркиза обняла сыновей — она была так счастлива и окрылена надеждой, что даже заговорила с детьми на ты. Она обняла и Каролину, сказав ей: — И ты, моя белокурая крошка, радуйся вместе с нами! Каролина была готова радоваться гораздо сильнее, чем смела в том признаться. Устав от такого суматошного дня, она крепко уснула, успокоив себя тем, что женитьба теперь некоторое время не возникнет роковой и неодолимой преградой между ней и маркизом де Вильмером.XVIII
За ночь маркиза не сомкнула глаз: она не могла дождаться завтрашнего дня. Бессонница привела ее в угнетенное расположение духа — она все видела в черном цвете и готовилась к неудаче. Но когда утром Каролина принесла письма, среди них она сразу же заметила послание герцогини и приободрилась.«Дорогая, — писала госпожа де Дюньер, — декорации переменились, как в опере. Оказывается, нужно заняться вашим старшим сыном. Сегодня утром я разговаривала с Дианой. Герцога я не порочила, но, верная своим убеждениям, не могла утаить от крестницы правды. Она ответила, что слыхала об этом из моих рассказов о маркизе, что добавить мне нечего, так как она все взвесила, а по размышлении пленилась обоими братьями и особенно их дружбой; к тому же, обдумав положение герцога, она решила, что гораздо похвальнее нести бремя благодарности, нежели оказать услугу по велению долга. Поскольку я советовала Диане осчастливить лишь достойного человека, она почувствовала влечение к тому, кто наверняка заплатит ей большей признательностью. Вдобавок неотразимые чары вашего злодея окончательно покорили Диану. Кроме того, она считает, что титул герцогини больше подойдет ее королевской осанке. И еще одно: Диану влекут к себе светские развлечения, и так как ей стало известно, что маркиз их терпеть не может, она была встревожена, и я, видя ее грусть, не понимала, в чем дело. Она во всем мне призналась и добавила, что о таком брате, как маркиз, можно лишь мечтать, но супругом она избирает герцога, ибо жизнь с ним обещает много веселья. Коротко говоря, дорогая, Диана, по-видимому, твердо решила выйти замуж за вашего старшего сына, и я употреблю все свое влияние, дабы этот нечаянный оборот дела увенчался успехом. Завтра утром я появлюсь у вас с дочерью, и так как Диана будет с нами, вы познакомитесь с ней, не показывая вида, что все уже знаете. Я уверена, что вы ее плените».
Пока госпожа де Вильмер с герцогом вели долгие разговоры, Каролина, чувствуя себя немного одинокой и лишней, играла на фортепьяно или писала письма сестре в гостиной. Там она никому не мешала и могла прийти к маркизе по ее малейшему зову. Как-то раз Урбен вошел с книгой и, усевшись с решительным видом за стол, где писала Каролина, спросил, не позволит ли она поработать ему в этой комнате, в которой не так душно, как в его тесном кабинете. — Я останусь при условии, что вы не исчезните, — добавил маркиз, — поскольку последнее время вы стали избегать меня. Не отпирайтесь, — добавил он, видя, что Каролина хочет возразить. — Вероятно, у вас есть на то причины, которые я уважаю, но, право же, они неосновательны. В Ботаническом саду я откровенно рассказал вам о себе и случайно смутил вашу совесть. Вы решили, что я собрался доверить вам личный план, который мог потревожить спокойствие моих близких, и не захотели оказаться даже невольной сообщницей в моем дерзостном начинании. — Да, — ответила Каролина. — Вы совершенно правильно поняли меня. — Тогда я вам ничего и не говорил, — продолжал Урбен. — Прошу вас забыть о нашем разговоре, но пусть он вас не тревожит, вы не должны бояться, что я воспользуюсь вашей драгоценной дружбой, чтобы как-то опорочить вашу преданность матушке. Прямодушие маркиза покорило Каролину. Она не поняла ни того, что происходило в его душе, ни того, что скрывалось за его словами. Каролина решила, что ошиблась и что ее предосторожность по отношению к маркизу излишня, так как он сумел пересилить свое чувство. Обещание Урбена послужило ей надежным свидетельством его полного душевного равновесия, и с тех пор их дружба снова стала прелестной и безоблачной. Они виделись каждый день, иногда по нескольку часов сидели в гостиной, не смущаясь присутствием маркизы, которая радовалась тому, что Каролина по-прежнему помогает Урбену в работе. На самом же деле Каролина помогала только его памяти: все материалы для книги были собраны еще в деревне, и маркиз писал третий и последний том на диво легко и быстро. Каролина была для него источником вдохновения и творческой энергии. Рядом с ней он не знал ни усталости, ни сомнений; она стала ему необходима, и Урбен даже признался девушке, что в ее отсутствие в голову ему не идут никакие мысли. Он был счастлив, и когда Каролина разговаривала с ним во время занятий, ее милый голос не только не беспокоил его, но сообщал мыслям ясность, а стилю — возвышенность. Маркиз даже заставлял Каролину отвлекать его от работы, просил ее играть с листа на фортепьяно, не боясь причинить ему малейшего беспокойства. Напротив, когда он мог наслаждаться ее присутствием, сердце Урбена ликовало, ибо Каролина стала не просто помощницей, а как бы его собственной душой, живущей рядом. Уважение к книге маркиза, которой Каролина была восхищена, постепенно переродилось в уважение к самому Урбену, и отныне Каролина заботилась только о том, чтобы ничем не нарушить его душевное равновесие. Она почитала это своей священной обязанностью и даже не задавалась вопросом, достанет ли у нее сил в нужный момент отказаться от этой удивительной дружбы, которая заполнила все ее существование. Радостное событие — свадьба герцога д'Алериа и мадемуазель де Ксентрай — было уже не за горами. Красавица Диана влюбилась в герцога и не желала слушать о нем ничего дурного. Герцогиня де Дюньер, в свое время вышедшая замуж по сердечной склонности за бывшего кутилу, который с той поры исправился и сделал ее совершенно счастливой, всячески поддерживала свою крестницу и так отстаивала ее интересы, что дальним родственникам и опекунам пришлось покориться своевольной наследнице. Хотя жених и не заикался о своих долгах, Диана заявила ему, что хочет заплатить их маркизу, и Урбену пришлось уступить желанию Дианы. Он убедил ее только в том, что ему не следует возвращать его долю в материнском наследстве, ибо он отказался от нее в то время, когда госпожа де Вильмер была вынуждена в первый раз заплатить долги старшего сына. Урбен полагал, что при жизни маркиза могла располагать своим состоянием как ей угодно, и считал себя вполне удовлетворенным: ведь отныне матушка не потребует от него никаких затрат, поскольку поселится в родовом особняке своей невестки или в одном из ее многочисленных замков, которые располагались гораздо ближе и были несравненно роскошнее, чем бедное именьице в Севале. Устраивая эти семейные дела, все вели себя предельно великодушно. Каролина почла своим долгом сказать об этом маркизу, дабы он написал в своей книге несколько строк относительно семейных договоров, где дворянская честь была залогом подлинной добродетели. И действительно, все сложилось так, что каждый исполнил свой долг; мадемуазель де Ксентрай не хотела видеть такой брачный договор, который оберегал бы ее состояние от мотовства супруга и тем оскорблял бы его самолюбие, а герцог со своей стороны настаивал, чтобы оговорка о приданом невесты подрубила крылья его расточительности. И в бумагах было указано, что подобное условие внесено по настоятельной просьбе будущего супруга. После того как все было улажено, маркиза с детьми поставила свою жизнь на широкую ногу и хотя твердила, что вполне полагается на благопорядочность своих сыновей, тем не менее ей был определен значительный доход в том же брачном договоре, где все так чудесно было устроено невестой. Маркиз тоже получил крупный капитал, который позволял ему жить в полном довольстве. Незачем подчеркивать, что он принял это состояние так же невозмутимо, как в свое время отказался от него. Пока хлопотали с приданым невесты, герцог был серьезно занят свадебной корзинкой — маркиз насильно вручил ему необходимую для этого сумму, объяснив брату, что это его свадебный подарок. С какой радостью герцог принялся выбирать кружева, бриллианты и кашемиры! В этом деле он знал толк лучше любой модницы, посвященной в высокое искусство женского туалета. Он даже забывал о еде — все время уходило на разговоры с ювелирами и фабрикантами, на ухаживание за невестой и беседы с маркизой, которая, потеряв голову от всей этой суматохи, непрестанно обсуждала с ним удивительные неожиданности и даже нечаянные драмы, связанные с его чудесными покупками. И в эту свадебную кутерьму вмешалась госпожа д'Арглад. Важное событие перевернуло жизнь и планы Леони. В самом начале зимы ее супруг скончался от долгого и изнурительного недуга, оставив ей довольно запутанные дела, из которых госпожа д'Арглад вышла победительницей, ибо давно втайне от мужа играла на бирже и наконец вытащила счастливый билет в этой лотерее. Одним словом, Леони оказалась в положении молодой и еще привлекательной вдовушки, весьма преумножившей капиталец, что, впрочем, не помешало ей проливать горькие слезы на свою несчастную участь. В свете же с восхищением говорили о ней: «Бедняжка Леони, такая ветреница с виду, а какое у нее чувство долга! Ведь господин д'Арглад был вовсе не сахар, но она так убивается по нему и страдает!» И ее жалели, старались развлечь, а маркиза, разжалобившись, настоятельно просила Леони проводить с ней первую половину дня. Большего Леони и не желала: для нее это не означало бывать в свете, ибо маркиза принимала после четырех или пяти, и не значило даже выезжать, поскольку можно было, наняв фиакр, навещать маркизу в затрапезье и как бы инкогнито. Леони выслушивала ласковые слова и утешения, не без удовольствия следя за предсвадебной суетой, а герцогу порой даже удавалось рассмешить ее, что было весьма на руку Леони, так как она могла разыграть нервический припадок и, рыдая, прятать лицо в носовой платок, жалобно приговаривая: — Ах, как это жестоко смешить меня! От этого я страдаю вдвойне! Прикинувшись безутешной. Леони втерлась в самое глубокое доверие к госпоже де Вильмер и постепенно вытеснила Каролину, которая была далека от мысли о том, какой план был на уме у госпожи д'Арглад. А она задумала вот что. Округлив свое собственное состояние и видя, что ее ворчливый супруг долго не протянет, Леони принялась размышлять, кого же взять ему в преемники, и, ничего не зная о том, что брак Гаэтана и мадемуазель де Ксентрай уже предрешен, остановила свой выбор на герцоге д'Алериа. Она понимала, что жениться на молодой, знатной девушке с приданым ему совершенно невозможно, а потому умно рассудила, что богатая, бездетная вдова чистокровного дворянина будет блестящей партией для этого разорившегося кутилы, который от безденежья ходит пешком. Леони была уверена в успехе и, со знанием дела помещая капиталы, твердо говорила себе: «Денег у меня теперь много — с игрой и прочими аферами покончено. По этой части мое тщеславие удовлетворено, и следует ему облюбовать новую жертву. Нужно вывести буржуазную родинку, которая мешает моему продвижению в свете, а для этого необходим титул — титул герцогини. Право, об этом стоит подумать!» Леони об этом подумала вовремя, но господин д'Арглад протянул со своей кончиной. Едва миновали первые дни траура, как Леони сразу нанесла визит маркизе де Вильмер и поняла, что о герцоге ей нечего мечтать. Тогда она обратила свою артиллерию против маркиза де Вильмера. Задача была менее соблазнительная и более сложная, но на худой конец титул маркизы не так уж плох, а заполучить его она сумеет. Неприязнь Урбена к браку серьезно тревожила госпожу де Вильмер, и о своих опасениях маркиза откровенно рассказала госпоже д'Арглад. — Это его безразличие меня просто пугает. Боюсь, нет ли у него предубеждения против брака или, чего доброго, против женщин вообще. Он просто нелюдим, но каким чудесным супругом он будет, если удастся его приручить! Ему нужна женщина, которая полюбила бы его первая и своей решимостью добилась бы его любви. Эти излияния маркизы были на руку Леони. — Ах, боже мой, — беспечно отвечала она, — ему нужна особа более знатная, чем я, и, уж конечно, не вдова лучшего из смертных, но женщина моих лет, с моим характером и состоянием. — Для такого угрюмца у вас, милочка, чересчур веселый нрав. — Только женщина с моим нравом и могла бы его спасти. Знаете, по закону противоположностей… Ах, если бы я могла кого-нибудь полюбить, что теперь, увы, невозможно, я полюбила бы человека рассудительного, с холодным сердцем. Боже мой, да ведь таким был мой покойный муж! Его серьезность умеряла мою живость, а я своим весельем, точно солнечным лучом, разгоняла его грусть. Это его выражение, и он мне часто его повторял. До знакомства со мной он никого не любил и тоже дичился брака. Увидев меня в первый раз, он даже испугался моего легкомыслия, а потом точно пелена у него спала с глаз. Он понял, что я ему необходима, потому что мое легкомыслие — одна лишь видимость, а на самом деле, как вам известно, у меня доброе сердце, и веселость моя была для мужа как бальзам. Это тоже его слова. Бедный мой, бедный! Ах, не будем больше говорить о браке — я сразу начинаю думать, как я одинока, непоправимо одинока! Леони ухитрялась так часто заводить разговор на эту тему, каждый раз меняя тактику, намекая на возможность этого брака так услужливо, так кстати и в то же время сохраняя незаинтересованный и беспечный вид, что эта мысль стала невольно приходить на ум маркизе де Вильмер, а когда госпожа д'Арглад заметила, что маркиза почти готова претворить ее в действительность, она начала прямую атаку на господина де Вильмера, пустив при этом в ход все те же хитрости, невинные ужимки и недомолвки относительно вдовьей участи. Но болтовня госпожи д'Арглад всегда претила маркизу — прежде Леони не замечала этого только потому, что смотрела на Урбена как на пустое место. Маркиз не был нелюдимый простак, как думала его мать, и знал только в женской хитрости. Поэтому после первых же атак он понял намерения Леони, угадал ее тактику и так откровенно осадил, что госпожа д'Арглад была оскорблена до глубины души. Тогда Леони как бы прозрела и по тысяче неуловимых признаков догадалась, какую большую любовь питает маркиз к мадемуазель де Сен-Жене. Она этому очень обрадовалась, решила, что сможет отомстить, и теперь лишь выжидала подходящий момент. Свадьба герцога была назначена на первые числа января, но в некоторых чопорных гостиных Сен-Жерменского предместья поднялся такой возмущенный крик по поводу легкомыслия герцогини де Дюньер, принявшей предложение ужасного злодея, что она, желая отвести от себя упреки в поспешном решении, надумала отложить на три месяца счастье помолвленных. Эта проволочка не испугала герцога, но огорчила маркизу: ведь ей не терпелось открыть большой салон, где ее обворожительная невестка собрала бы вокруг себя молодое общество. Госпожа д'Арглад, сославшись на дела, стала бывать реже, и Каролина вернулась к своим обязанностям. В отличие от маркизы, она вовсе не жаждала перебраться в особняк мадемуазель де Ксентрай. Маркиз сам еще не знал, будет ли он жить у брата, и ничего определенного не говорил о своих планах. Эта неизвестность пугала Каролину, и вместе с тем в нежелании маркиза поселиться с ней под одной крышей она видела свидетельство его внутреннего спокойствия, которое и было ей нужно. Однако ее чувство к маркизу вступило в ту фазу, когда логика часто уступает велениям сердца. Каролина молча радовалась последним дням своей безмятежной жизни, а когда пришла весна, в первый раз пожалела, что зима кончилась. Мадемуазель де Ксентрай прониклась большим уважением к Каролине и, напротив, неприкрыто выражала свою неприязнь к госпоже д'Арглад, с которой иногда встречалась по утрам в будуаре у своей будущей свекрови. На официальных приемах у маркизы Диана не бывала, а навещала ее вместе с герцогиней де Дюньер и ее дочерью. Леони делала вид, что не замечает нерасположения красавицы Дианы, и думала о том, что скоро отомстит этой гордячке, а заодно и Каролине. На свадьбу Леони не пригласили: она еще носила траур и не могла появиться на празднике. Однако из уважения к маркизе Леони сухо выразила сожаление по поводу этой невозможности и тем и ограничилась. Каролину же, напротив, выбрали и подруги невесты, а будущая герцогиня д'Алериа осыпала ее подарками. Наконец наступил знаменательный день, когда после стольких лет горя и нищеты мадемуазель де Сен-Жене, одетая стараниями невесты с безупречным вкусом и даже богато, в первый раз появилась во всем блеске своей красоты и очарования. Она произвела сенсацию, и все то и дело спрашивали друг друга, откуда эта очаровательная незнакомка, на что Диана отвечала: — Это моя подруга и наперсница моей свекрови, особа действительно выдающаяся, и я очень счастлива, что теперь она будет жить вместе со мной. Маркиз танцевал с новобрачной и с мадемуазель де Дюньер, дабы иметь возможность танцевать с Каролиной. Мадемуазель де Сен-Жене была так смущена, что с улыбкой шепнула маркизу: — Как? Неужели мы, совместно учреждавшие аллодиальную собственность и освобождавшие от подати общины, будем теперь танцевать кадриль? — Да, — весело отвечал ей маркиз, — и это гораздо приятнее, так как я наконец крепко сожму вашу руку. В первый раз маркиз откровенно выказывал Каролине свое волнение, причиной которого было его сердечное чувство к ней. Каролина и в самом деле ощутила, как дрожит его рука и как глаза маркиза пожирают ее лицо. Каролина испугалась, но тут же сказала себе, что однажды уже почла маркиза влюбленным в нее и что он сумел развеять всяческие подозрения на этот счет. И нужно ли бояться потерять голову с человеком, который так высок в своих нравственных помыслах? И разве к ее желанию победить свое чувство не примешивалось смутное любовное опьянение?! Каролине трудно было не заметить, как она хороша: она читала это во всех глазах. Она затмила даже невесту, затмила ее семнадцать лет, бриллианты и торжествующую улыбку любимой! Старые дамы выговаривали госпоже де Дюньер: — Эта сиротка чересчур красива, опасно красива! Сыновья самой герцогини, высокомерные и многообещающие молодые люди, смотрели на Каролину так, что оправдывали тревоги искушенных матрон. Герцог, тронутый тем, что великодушная Диана не подумала его ревновать к мадемуазель де Сен-Жене, и признательный Каролине за учтивую сдержанность с ним, оказывал ей особое внимание. Маркиза обходилась с Каролиной как самая нежная мать. И, наконец, сама Каролина переживала те часы в своей жизни, когда вопреки капризной судьбе природное могущество ума и красота вступают в свои права и завоевывают себе место в обществе. Но если на лицах гостей Каролина читала свое торжество, то глаза маркиза де Вильмер были зеркалом ее победы. Только теперь она заметила, как изменился этот странный человек со дня их встречи: тогда он был робок, замкнут и нелюдим. Ныне же, элегантный под стать своему старшему брату, он держался с неподдельным изяществом и подлинным благородством. Ведь при всем необыкновенном умении вести себя в обществе герцог отличался известным позерством, немного театральным и слащавым, что, кстати говоря, вообще свойственно испанцам. Маркиз же принадлежал к тому типу французов, у которых естественная непринужденность сочетается с подкупающей учтивостью и тем обаянием, что, не выставляясь напоказ, покоряет своей скромностью. Он танцевал, вернее — выполнял фигуры кадрили, с необыкновенной простотой, а целомудренная жизнь придавала его движениям, выражению лица и всей его стати благоухание прекрасной молодости. В этот вечер он выглядел на десять лет моложе своего брата, и какое-то сияние надежды в его глазах словно твердило о новой жизни, которая была впереди.
XIX
В полночь молодые незаметно удалились в спальню, и маркиза жестом показала Урбену, что устала и тоже хочет отдохнуть. — Дай мне руку, мой мальчик, — сказала она подошедшему маркизу. — А Каролину не зови, пусть она еще потанцует, госпожа де Д*** присмотрит за ней. И так как Урбен бережно поддерживал маркизу в передней, которая вела в ее апартаменты, расположенные в нижнем этаже (зная страх маркизы перед лестницами, дети избавили ее от них), то она сказала: — Дорогой мой, тебе больше не придется носить на руках свою грузную матушку. Слишком часто ты это делал, когда мы жили вместе. С тобой я ничего не боялась, но страдала, что докучаю тебе. — А я еще не раз пожалею об этой докуке! — сказал Урбен. — Какой чудесный праздник! — воскликнула маркиза, входя в свой будуар. — А наша Каролина — царица бала. От красоты и грациозности этой крошки я до сих пор не могу прийти в себя. — Матушка, — сказал маркиз, — если вы не очень устали, уделите мне четверть часа. Я хочу с вами поговорить. — Поговорим, поговорим, сын мой! — ответила маркиза. — Я устала только оттого, что не могла даже словом перемолвиться с моими любимыми детьми. Потолкуем о нем, потолкуем о твоем брате и о тебе, друг мой. Господи, неужели ты не подаришь мне такой второй день? — Матушка, дорогая, — сказал маркиз, опустившись на колени перед госпожой де Вильмер и крепко сжав ее руки, — этот день и мое счастье всецело зависят от вас. — Что ты говоришь? Неужели? Рассказывай скорее! — Да, я вам скажу все. Слишком долго я ждал этой минуты, призывая вожделенный час, когда брат, вернувшийся к богу, истине и ставший сам собой, заключит в свои объятия избранницу, достойную стать вашей дочерью. И в эту минуту я хотел вам сказать следующее: матушка, я могу представить вам вторую вашу дочь, еще более прелестную и такую же целомудренную, как Диана. Я страстно люблю ее уже больше года. Может быть, она догадывается о моем чувстве, но точно о нем не знает. Я так почитаю ее, что без вашего благословения никогда не попросил бы ее руки. Впрочем, она сама дала мне сурово это понять в тот самый день, когда четыре месяца назад я невольно чуть было не открыл ей своей тайны. И я снова связал себя обетом молчания как с вами, так и с ней. Я не мог отяготить ваши плечи дополнительными заботами, которые теперь, слава богу, больше не существуют. Отныне ваша жизнь, жизнь моего брата и моя собственная полностью обеспечены. Теперь я достаточно богат и вправе не думать об увеличении состояния, а стало быть, могу жениться по сердечной склонности. Однако от вас, матушка, я жду жертвы, и вы из любви ко мне не откажете в ней, ибо от этой жертвы зависит счастье вашего сына. Моя избранница из хорошей семьи — это вам самой давно известно, поскольку вы приблизили к себе эту особу. Однако у нее нет тех славных предков, к которым вы питаете пристрастие. Я уже говорил, что жду от вас жертвы. Так ли горячо вы меня любите, чтобы решиться на этот шаг? Матушка, у вас доброе сердце, и я уверен — оно не останется безучастным к мольбам любящего сына и без сожалений уступит ему. — Боже мой, ты говоришь о Каролине! — ужаснулась маркиза, вся дрожа. — Погоди, мой мальчик, дай перевести дух — этот тяжкий удар застал меня врасплох. — Не говорите так! — горячо возразил маркиз. — Если это для вас тяжкий удар, забудьте о моих словах. Я поступлюсь всем и никогда не женюсь! Никогда… — Не женишься? Этим ты меня убьешь. Полно, полно! Я должна прийти в себя. Быть может, это не так страшно, как кажется на первый взгляд, но дело не в предках Каролины… Отец ее был шевалье — конечно, мелкая сошка, но если б только в этом была загвоздка! Она же оказалась в нищете… Ты скажешь, что без тебя я тоже была бы нищенкой, но я скорее умерла бы, чем влачить дни в бедности, а у нее хватило мужества работать, пойти в услужение… — Господи! — воскликнул маркиз. — Неужели вы вмените ей в вину то, что составляет добродетель всей ее жизни? — Я этого не сделаю, — возразила маркиза, — но свет, который так… — Несправедлив и слеп!.. — Твоя правда; пожалуй, не стоит тревожиться из-за него. Хорошо, раз уж у нас пошли браки по склонности, мне остается напомнить тебе только одно: Каролине двадцать пять лет. — А мне пошел тридцать пятый год. — Не в этом дело. Каролина, конечно, молода, если сердце ее так же чисто и прекрасно, как твое. Но она уже любила! — Нет, я знаю всю ее жизнь! Я разговаривал с ее сестрой. Каролина должна была выйти замуж, но никогда и никого не любила. — Но со времени ее неудавшегося замужества прошли годы. — Я справился и об этом. Вся ее жизнь передо мной как на ладони! И я говорю, что мадемуазель де Сен-Жене достойна быть моей женой и вашей дочерью, только потому, что знаю все, и не думайте, матушка, что от страсти я решился рассудка. Нет, я люблю Каролину серьезно, я все обдумал и полностью уверен в себе. Только поэтому я нашел силы молчать и ждать той минуты, когда сумею привести веские доказательства своей любви и смогу убедить вас. Урбен еще долго увещевал свою мать и одержал победу. Его красноречивые доводы были полны страсти и сыновней нежности, которую он уже много раз доказал. Сердце старой маркизы было тронуто, и она сдалась. — О, позвольте, матушка, позвать сюда Каролину от вашего имени! — попросил маркиз. — Скажите «да», и у ваших ног я впервые скажу Каролине, что люблю ее. Видите, я еще не смею признаться ей с глазу на глаз. Один ее холодный взгляд, одно недоверчивое слово разобьют мне сердце. Здесь же, при вас, матушка, я найду нужные слова, и она мне поверит. — Сын мой, — сказала маркиза. — Вот вам материнское благословение. Видишь, — добавила она, обнимая сына слабыми руками, — если я дала его не сразу и без особенной радости, то по крайней мере с безграничной любовью к тебе. Только прошу тебя и даже требую: ты должен все хорошенько обдумать. Даю тебе сутки на размышления — ты заручился моим согласием, на которое час назад не мог и рассчитывать, и теперь твое положение изменилось. Ведь раньше тебе казалось, что между тобой и Каролиной стоит непреодолимая стена, — поэтому, вероятно, твоя страсть крепла и давала тебе избыточные силы. Не качай головой! Разве ты можешь знать самого себя? Впрочем, я прошу сущую малость. Подожди до завтрашнего вечера и ничего не говори Каролине! Я и сама должна укрепиться в своем решении перед господом богом, дабы лицо мое, волнение и слезы не выдали Каролине, чего оно мне стоило… — Да, вы правы. Если она догадается об этом, она не захочет даже слушать меня… Итак, до завтра, дорогая матушка. Боже мой, целые сутки, это же долгие двадцать четыре часа… И потом, уже час ночи. Значит, следующую ночь вы опять будете бодрствовать? — Конечно, ведь завтра у нас концерт в покоях молодой герцогини, поэтому сегодня нам нужно как следует выспаться. Ты вернешься на бал? — Ах, не лишайте меня этого удовольствия. Каролина еще там… Боже, как она хороша в этом белом платье и жемчугах. Я боялся даже смотреть на нее и только сейчас могу ею вдосталь налюбоваться! — Нет! Придется и тебе принести жертву твоей матушке! Не встречайся с Каролиной и не разговаривай с ней до завтрашнего вечера. Поклянись, сын мой, что эту ночь, которую все равно проведешь без сна, ты будешь думать о нас троих. Хорошенько все взвесь, а утром со свежей головой еще раз обо всем поразмысли. Я буду ждать тебя к обеду. Так нужно. Поклянись мне! Урбен дал клятву матери и сдержал ее. Но уединение, ночь и томительная невозможность встретиться с Каролиной еще сильнее разожгли его страсть и подстегнули нетерпение. Словом, как ни были разумны меры предосторожности, принятые маркизой, они были совершенно бессмысленны по отношению к человеку, который давно обдумал свое решение и хотел претворить его в действительность. Каролина удивилась, что маркиз больше не появился на балу, и покинула праздник одна из первых; теперь она еще сильнее укрепилась в правоте своего предположения, что маркиз сумел быстро пересилить свое сердечное чувство к ней. У госпожи д'Арглад на этом балу были свои шпионы; один из них — секретарь посольства, надеявшийся жениться на ней, на следующее утро сообщил Леони, что «компаньонка» добилась огромного успеха. Этот проницательный начинающий дипломат, заметив, какими горящими глазами маркиз смотрит на Каролину, сразу почуял, что госпожа де Вильмер со своим младшим сыном удалились с бала для серьезного разговора. Леони с притворным равнодушием выслушала донесение и сказала себе, что пора действовать. Ровно в полдень она уже входила в покои маркизы и столкнулась с Каролиной, которая уже была там. — Подарите мне минутку, дорогая, и позвольте зайти к маркизе раньше вас, — сказала Леони. — У меня безотлагательное дело: нужно спешно помочь бедным людям, которые не желают открывать свое имя. Оставшись с маркизой наедине, Леони извинилась, что омрачает своими хлопотами о бедных эти дни радости и веселья. — Напротив, сегодня я особенно рада помочь несчастным, — сказала великодушная дама. — Говорите. Леони действовала по продуманному плану. Рассказав о своей просьбе, она вывела имя маркизы на подписном листе и притворилась, будто хочет поскорее уйти. Бесполезно описывать те искусные ухищрения, к которым прибегла ловкая и злая госпожа д'Арглад, чтобы маркиза заговорила о нужном ей деле. Эти низости, к несчастью, слишком известны и памятны тем, кто жестоко пострадал от них: ведь на свете мало сыщется людей, кого клевета, по забывчивости, обошла. Беседа, естественно, зашла о счастье Гаэтана и о добродетелях юной герцогини. — Больше всего меня восхищает в ней то, — сказала Леони, — что она ни к кому не ревнует герцога, даже… Ах, простите, чуть было не проговорилась. Трижды Леони заводила об этом речь, всякий раз отказываясь назвать имя, которое начало тревожить маркизу. Наконец Леони произнесла его — то было имя Каролины. Госпожа д'Арглад стала торопливо отнекиваться, уверяя, что обмолвилась, но за десять минут трудно было нанести более меткий удар, и маркиза заставила Леони поклясться, что она видела собственными глазами, как в Севале герцог провожал Каролину на рассвете, как сжимал ей руки и как добрые три минуты что-то страстно шептал у башни Лиса. Зная, что маркиза умеет молчать, Леони тут же принудила ее дать слово, что она никому не выдаст ее и что она вообще в полном отчаянии от того, с какой настойчивостью маркиза вырвала у нее это признание, и лучше бы ей поступить против ее воли, ибо она все же любит Каролину, но, с другой стороны, сама порекомендовала девушку в их дом, и, вероятно, ее долг — чистосердечно сказать маркизе, что она в Каролине ошиблась. — Ну и ну! — промолвила госпожа де Вильмер, не выказывая своего смятения. — Однако все это пустяки. Видимо, при всей своей рассудительности Каролина не сумела отразить домогательства этого соблазнителя. Он повеса ловкий… Не тревожьтесь, я ничего не знаю… и, если нужно, приму должные меры так, что никто не поймет, в чем дело. Каролина вошла в будуар, когда Леони уже прощалась с маркизой. Леони добродушно протянула руку девушке и сказала, что слухи о ее вчерашнем успехе дошли до нее и что она рада ее поздравить. Каролина сразу заметила, что маркиза очень бледна, и, участливо справившись о ее здоровье, получила холодный ответ. — За эти дни я очень устала. Пустяки. Будьте любезны, прочтите мне письма. Каролина стала читать, но госпожа де Вильмер ее не слушала. Она с трудом сдерживала негодование на молодую девушку и жалела маркиза, которому была вынуждена теперь причинить нечаянное горе. Однако к ее материнским страданиям невольно примешивалось удовлетворение знатной аристократки: ведь теперь она была свободна от обещания, о котором вот уже двенадцать часов не могла думать без содрогания. Наконец маркиза собралась с духом и ледяным голосом резко прервала чтение своей лектрисы: — Довольно, мадемуазель де Сен-Жене. Я должна с вами серьезно поговорить. Один из моих сыновей — вы отлично знаете кто — проникся к вам сердечными чувствами, которых вы, конечно, не поощряли. Каролина сделалась бледнее маркизы, но твердо ответила: — Мне неизвестно, о чем вы говорите, сударыня. Ни герцог, ни маркиз не выражали мне чувств, которые могли бы меня встревожить. В словах девушки маркиза увидела бесстыдную ложь. Она бросила на Каролину презрительный взгляд и, немного помолчав, добавила: — Я говорю не о герцоге. Тут вам оправдываться бесполезно. — Я не в обиде ни на герцога, ни на его брата, — ответила Каролина. — Еще бы! — промолвила маркиза с язвительной улыбкой. — Обижаться пришлось бы мне, вздумай вы претендовать… Каролина, больше не владея собой, гневно осадила маркизу. — Я ни на что не претендовала, — воскликнула она, — и никто не смеет разговаривать со мной так, точно я провинилась или допустила какую-то бестактность!.. О, простите, сударыня, — добавила она, видя, что маркиза опешила от ее запальчивости. — Я перебила вас и ответила в неподобающем тоне… Простите! Я люблю вас, предана вам, готова отдать за вас свою жизнь. Поэтому ваши подозрения причинили мне такую боль, что я потеряла голову… Но я должна была спокойно выслушать вас, и я вас выслушаю. Между нами, видно, вышло какое-то недоразумение. Будьте добры объяснить мне, в чем дело, или расспросите меня; я отвечу вам с полным спокойствием и сдержанностью. — Дорогая Каролина, — смягчившись, сказала маркиза, — я вас не допрашиваю, а предупреждаю. Я вовсе не хочу что-то вменять вам в вину или огорчать бесполезными вопросами. Вы были хозяйкой своего сердца… — Нет, сударыня, я ею не была. — Тогда, вероятно, оно вас не послушалось! — промолвила маркиза с презрительной иронией. — Нет, тысячу раз нет, — горячо возразила Каролина, — я не то хотела сказать. Зная, что из-за более серьезных обязанностей я не вправе располагать своей свободой, сердца я не отдала никому. Маркиза с удивлением посмотрела на Каролину. «Какая искусная лгунья!» — подумала она, а потом решила, что бедняжка вовсе не обязана признаваться в своей связи с герцогом, что на это увлечение она смотрит так, точно его и не было, поскольку не заявила о своих правах, которые могли помешать его женитьбе. Эта мысль раньше не приходила в голову госпоже де Вильмер; теперь маркиза быстро изменила свои намерения и, видя, что ее молчание огорчает Каролину, у которой в глазах стояли слезы, снова почувствовала к ней симпатию и даже уважение. — Милая детка, — сказала она, — протягивая руки Каролине, — простите меня. Я так плохо все объяснила, что расстроила вас. Я допускаю, что была к вам несправедлива, но на самом деле знаю вас лучше, чем вы думаете. Вы девушка бескорыстная, великодушная, осторожная и умная. Если вы и… поддались ухаживаниям одного человека несколько больше, чем следовало бы для вашегосчастья, тем не менее вы всегда были готовы при надобности принести себя в жертву и до сих пор не изменили своему решению. Не так ли? Каролина не понимала, да и не могла понять, что маркиза намекает на женитьбу Гаэтана. Она подумала, что речь идет о его брате, и поскольку никогда не теряла присутствия духа, то решила, что маркиза не имеет права рыться в печальных тайниках ее души. — Никакой жертвы от меня никогда не требовали, — гордо сказала Каролина. — Если вы хотите мне что-то приказать — извольте, сударыня, и в моем послушании не будет никакой заслуги. — Вы хотите сказать, дорогая моя, что никогда не разделяли сердечного чувства маркиза к вам? — Я о нем никогда не знала. — И даже не догадывались? — Нет, сударыня. Да и кто мог убедить вас в обратном? Не маркиз же! — Простите, дорогая, но именно он. Видите, как я вам доверяю… Да, это чистая правда. Мой сын любит вас и надеется, что его чувство взаимно. — Господин де Вильмер странным образом заблуждается, — ответила Каролина, обиженная подобным признанием, которое в устах маркизы звучало почти как оскорбление. — Ах, я вижу, что вы говорите правду! — воскликнула маркиза, обманутая гордостью Каролины, и, желая поощрить ее самолюбие, поцеловала дезушку в лоб. — Спасибо, дитя мое, — добавила она, — вы мне возвращаете жизнь. Вы слишком благородны и чистосердечны, чтобы карать меня за эти подозрения и смущать мой покой. Ну, хорошо! Теперь позвольте мне сказать Урбену, что он себе все придумал и что брак этот невозможен, так как его не хотите вы, а не я. Это опрометчивое признание маркизы открыло глаза Каролине. Она все поняла, оценив редкостную деликатность маркиза, который посоветовался с матерью прежде, чем объясниться в любви предмету своей страсти. Каролина, однако, не воспользовалась своей догадкой, так как видела, что маркиза всей душой противится ее браку с Урбеном. Неумолимость своей госпожи она приписала ее тщеславию, которое давно замечала в ней, но ей и в голову не пришло, что маркиза, дав обещание Урбену, нарушила его только потому, что поверила в ее недозволенную связь с герцогом. — Сударыня, — сурово сказала Каролина, — я понимаю, что вам не нужно терзаться сознанием вины перед сыном; что же касается меня, то, отказавшись от чести, которую маркиз хотел мне оказать, я не должна бояться упреков; впрочем, вы можете сказать ему все, что сочтете необходимым. Опровергать ваши слова будет некому, так как меня здесь уже не будет. — Как? Вы хотите меня покинуть? — испугалась госпожа де Вильмер, поскольку не ожидала, что девушка скажет ей об этом сейчас, хотя втайне надеялась. — Нет, нет, это невозможно. Тогда все пропало… Мой сын так горячо любит вас… Правда, если вы поможете мне охладить его пыл, я спокойна за его будущее. Но на первых порах он может натворить бог знает что. Постойте… Он же бросится за вами следом… Он красноречив, вы уступите его доводам, и он вернет вас, а я буду вынуждена сказать ему то… о чем не хочу никогда заводить разговора. — Вы не хотите сказать ему «нет»? — спросила Каролина, совершенно сбитая с толку, и даже не предполагая о своей мнимой вине, нависшей над ее головой, — стало быть, я сама должна ему сказать. Хорошо, я напишу письмо, а вы его передадите маркизу. — Но он расстроится, даже разгневается… Об этом вы подумали? — Сударыня, позвольте мне уехать! — резко сказала Каролина, у которой защемило сердце при одной мысли, как будет мучиться маркиз. — Я поступила к вам не для того, чтобы надрывать страданиями душу. Меня рекомендовали в ваш дом, не предупредив, что у вас есть сыновья. Я никого в этом не упрекаю, только позвольте мне уехать. Я никогда не увижусь с маркизом де Вильмером — вот вам мое последнее слово. Если же он станет меня искать… — Так оно и будет!.. Господи, да говорите вы тише — еще услышит кто-нибудь… Если он станет искать вас, что вы сделаете? — Я устрою так, что маркиз никогда не найдет меня. Положитесь на мою осмотрительность, и я вас не подведу. Через час я приду проститься с вами, сударыня.XX
Каролина так решительно вышла из будуара, что госпожа де Вильмер не посмела ее удерживать. Она понимала, что мадемуазель де Сен-Жене раздосадована и оскорблена до глубины души. Маркиза упрекнула себя за то, что так откровенно дала понять Каролине, что знает о ней все, а между тем ничего не знала, ибо не догадывалась о любви Каролины к маркизу. Не подозревая об этом, она даже пыталась укрепиться в мысли, что Каролина по-прежнему любит герцога, что ради его счастья принесла себя в жертву и что она, будучи особой практической, вероятно смирилась с его женитьбой, надеясь, что после медового месяца герцог не оставит ее своими милостями. «Если догадка моя правильна, — думала маркиза, — держать Каролину в доме просто опасно. Со дня на день у молодых может произойти непоправимая размолвка; но отпускать ее тоже слишком рано: маркиз, чего доброго, ума решится! Пусть Каролина успокоится, обдумает свой план, а когда расскажет мне о нем, я постараюсь сделать то, что мне на руку». Целый час маркиза размышляла, как выйти из создавшегося положения. Вечером в условленный час она должна встретиться с маркизом. Она скажет ему, что разузнала о чувствах Каролины и поняла, что девушка совершенно равнодушна к нему. С решительным объяснением можно будет протянуть несколько дней, выиграть время, а потом по ее наущению Каролина сама мягко и осторожно скажет маркизу, чтобы он о ней забыл. Одним словом, маркиза пришла к заключению, что таким образом она прекрасно устроит жизнь всех троих. Однако прошел час, а Каролина не возвращалась. Маркиза послала за ней. Госпоже де Вильмер сообщили, что Каролина, наняв фиакр, уехала с маленьким узелком в руках, но оставила ей письмо:«Милостивая государыня! Я получила грустное известие о том, что серьезно заболел ребенок моей сестры. Простите, что я поспешила к ней без вашего позволения, но у вас были гости. Впрочем, зная вашу доброту ко мне, я уверена, что вы дадите мне отпуск на сутки. Я вернусь завтра вечером. Примите, сударыня, мое самое глубокое и искреннее уважение. Каролина»
— Что ж, прекрасно! — воскликнула маркиза. — Значит, она догадалась о моих планах. Итак, первый вечер мною выигран. Раз она обещала вернуться завтра, значит, сын мой в Этамп наверняка не поедет, а завтра у нее определенно сыщется новый предлог, чтобы не возвращаться… Но я предпочитаю не знать, что она собирается делать. Тогда я не буду бояться что Урбен заставит меня развязать язык. Вечер, как показалось маркизе, наступил слишком скоро, и чем ближе приближался час обеда, тем сильнее ее одолевал страх. Если Каролина в действительности уехала дальше Этампа, нужно было выиграть время. И маркиза решила лгать. Пока не сели за стол, она не разговаривала с Урбеном и ни на час не отходила от своих гостей, которые были приглашены на торжественный обед. Но маркиз бросал на нее такие взгляды, что она не выдержала и, садясь за стол, громко сказала молодой герцогине, чтобы слышал маркиз: — Мадемуазель де Сен-Жене не придет обедать. У ней в монастыре заболела племянница, и она попросила позволения навестить ее. Сразу же после обеда измучившийся маркиз попытался заговорить с матерью. Она же опять уклонилась от разговора, но, видя, что маркиз направляется к выходу, знаком велела приблизиться и шепнула на ухо: — Она не в монастырь поехала, а в Этамп. — Господи, зачем же вы только что сказали иначе? — Я ошиблась, так как плохо прочла записку, которую мне передали сегодня вечером. Заболела не девочка, а другой ребенок. Но она вернется завтра утром. Полно, возьмите себя в руки, сын мой, вы привлекаете внимание. Везде есть злые языки — еще скажут, что вы завидуете счастью брата. Все же знают, что поначалу речь шла о вас… — Ах, матушка, мне, право, не до этого! Вы от меня что-то скрываете. А я уверен, что Каролина заболела и находится здесь, в доме. Позвольте мне справиться от вашего имени… — Вы хотите скомпрометировать ее? Это не лучший способ расположить ее к себе. — Значит, она ко мне не расположена? Матушка, вы с ней говорили! — Нет, я ее не видела. Она уехала нынче утром. — Вы же сказали, что получили записку сегодня вечером. — Я получила ее… только что, ах, право, не знаю, когда. Что за расспросы, сын мой! И, ради бога, успокойтесь, на нас смотрят! Бедная госпожа де Вильмер не умела лгать. Страх и страдания маркиза передались ей, и она целый час боролась со своим сыном. Стоило ему подойти к двери, как она устремляла на него тревожный взгляд, боясь, что он уйдет. Глаза их встречались, и маркиз, тронутый ее умоляющим взором, уступал матери. Но такого напряжения маркиза вынести не смогла. Усталость, треволнения последних суток, шумная свадьба, длившаяся несколько дней, в течение которых маркиза острила и веселилась в угоду гостям, и, главное, маска спокойствия, которую с таким трудом она сохраняла за обедом, — все вместе подорвало ее силы. Опираясь на Урбена, госпожа де Вильмер проследовала в свои покои и там упала без чувств на руки маркиза. Урбен расточал ей самые нежные заботы, проклиная себя за то, что так встревожил ее, клялся, что совершенно спокоен и не станет ее больше расспрашивать ни о чем, пока маркиза не поправится. У материнского изголовья он провел всю ночь, а наутро, видя, что матери полегчало, робко задал ей несколько вопросов. Маркиза показала ему записку Каролины, и Урбен покорно стал ждать вечера. Вечером принесли новую записку, помеченную Этампом. Ребенку Камиллы стало лучше, но он еще не поправился, и госпожа Эдбер попросила Каролину задержаться еще на сутки. Маркиз пообещал матери не предпринимать никаких шагов, но на следующий день обманул госпожу де Вильмер и, сказав, что едет с братом и невесткой в Булонский лес, сам отправился в Этамп. Там он узнал, что Каролина действительно приезжала, только что уехала обратно в Париж и, должно быть, они разминулись. Однако маркизу показалось, что его тут поджидали и, намеренно спрятав одного ребенка, остальным велели молчать. Он справился о здоровье больного малыша и пожелал его видеть. Камилла ответила, что он спит и что она боится его побеспокоить. Господин де Вильмер не посмел настаивать и воротился в Париж, усомнившись в искренности госпожи Эдбер, смущенной его визитом. Урбен бросился к матери — Каролина еще не появлялась; она, вероятно, задержалась в монастыре. Он кинулся туда и, прождав Каролину около часа у монастырской ограды, решил справиться о ней от имени госпожи де Вильмер. Ему ответили, что мадемуазель де Сен-Жене не появлялась тут уже пять дней. Урбен вернулся в особняк Ксентрай и стал дожидаться вечера. Маркизе все еще нездоровилось, и Урбен сдерживал свое нетерпение. Наутро, доведенный до отчаяния, он пришел к матери и, зарыдав у ее ног, стал молить вернуть Каролину, которая, как он думал, по ее приказанию скрывалась в монастыре. Госпожа де Вильмер сама ничего не понимала, а смятение Урбена передалось и ей. Ведь Каролина ушла из дому, завязав платья в маленький узелок, денег у нее было очень мало, так как все посылалось Камилле, драгоценности и книги она оставила, так что уехать далеко явно не могла. И вот тем временем, пока Урбен опять ходил в монастырь, на сей раз уже с письмом маркизы, которая, не в силах больше видеть страдания Урбена, сама принялась разыскивать Каролину, мадемуазель де Сен-Жене в плаще с широким капюшоном, скрывавшим до подбородка ее лицо, с узелком в руках, вышла из дилижанса и направилась по бульвару городка Пюи, центра провинции Веле, к путевому агентству, откуда через некоторое время небольшой экипаж отъезжал в Иссенжо. Никто не видел ее лица, да никто ею и не интересовался. Каролина же никому не задавала вопросов, точно не раз бывала в этих краях и знала прекрасно местные порядки. А между тем она здесь оказалась впервые. Но будучи девушкой догадливой и расторопной, она еще в Париже купила путеводитель с планом городка Пюи и его окрестностей и основательно изучила его в дороге. Словом, она села в сельский дилижанс, едущий в Иссенжо, сказав вознице, чтобы тот остановился в Бриве, иначе говоря — в одной миле от Пюи. Там Каролина вышла на мосту, переброшенном через Луару, и устремилась вперед. Она знала, что должна идти по течению Луары до того места, где та сливается с речкой Гань, потом свернуть к Рош-Ружу и, следуя за горным потоком, бегущим у подножия горы, идти до первого селения. Сбиться с дороги она не могла. Правда, Каролине предстояло пройти пешком около трех миль по безлюдной местности, а было уже за полночь. Но дорога была ровная, красивая луна на ущербе ярко светила среди лохматых белых облаков, согнанных в кучу на небосклоне майским ветерком. Куда же шла мадемуазель де Сен-Жене поздней ночью по этой горной и пустынной стране? Читатель, верно, помнит, что в деревне Лантриак Каролину дожидались преданные друзья и надежное убежище. Ее кормилица, в девичестве Жюстина Ланьон, ныне жена Пейрака, полтора месяца назад написала Каролине второе письмо, и она, помня, что никому об этом не обмолвилась, твердо решила провести там месяц-другой, полагая, что время заметет ее следы. Поэтому в пути она держалась так осторожно, поэтому никого ни о чем не расспрашивала, чтобы не открыть своего лица. Каролина съездила в Этамп и простилась с сестрой, доверительно рассказав ей обо всем, кроме своего тайного чувства к маркизу, — таким образом, она сожгла корабли, оставив Камилле письмо, которое через неделю следовало отправить госпоже де Вильмер. В нем Каролина сообщала о своем отъезде за границу, где нашла хорошую должность, и нижайше просила о ней не беспокоиться. От узелка у Каролины уже ныли руки, и она готова была оставить его в первом попавшемся доме, как вдруг увидела сзади быков, которые тащили бревна. Каролина остановилась. Молодые и старые погонщики с женщиной, которая держала ребенка, спящего под ее накидкой, везли огромные тесаные бревна: к каждому стволу спереди и сзади было привязано веревками по небольшому, но крепкому колесу. Всего таких бревен было шесть, и на каждое приходилась пара быков и в придачу идущий рядом погонщик, так что поезд занял всю дорогу. «Провидение не оставляет тех, кто уповает на него, — подумала Каролина. — Не успела устать с дороги, как уже поданы кареты — одна лучше другой». Каролина заговорила с первым погонщиком. Тот покачал головой, показывая, что понимает лишь местное наречие. Второй остановился, переспросил ее, пожал плечами и прошел мимо: он понимал столько же. Третий показал жестом обратиться к женщине, которая сидела на бревне, упершись ногами в веревочные стремена. Каролина спросила ее, не эта ли дорога ведет в Лоссонну. Она не хотела произносить слово Лантриак — название селения, расположенного рядом и по той же дороге. Женщина ответила по-французски с очень грубым акцентом, что они едут как раз в Лоссонну и что до нее еще довольно далеко. — Позвольте мне привязать мой узелок к одному из этих бревен? Женщина непонимающе покачала головой. — Вы не хотите? — переспросила Каролина. — Но я вам заплачу. — Тот же ответ: из слов Каролины горянка поняла лишь название Лоссонны. Каролина не знала севенского наречия. Оно не вошло в те начатки воспитания, которые преподала ей кормилица. Однако музыка ее произношения осталась в памяти Каролины, и она вовремя догадалась воспроизвести ее, сделав это с таким успехом, что уши крестьянки тотчас открылись ее речам. При таком произношении женщина понимала французский язык и даже говорила на нем довольно хорошо. — Садитесь на другое бревно, доченька, — сказала она, — узелок отдайте моему мужу. А платить ничего не надо. Каролина поблагодарила и устроилась. Крестьянин сделал ей веревочные стремена наподобие тех, что поддерживали ноги его жены, и деревенский поезд, нимало не смущенный этой задержкой, снова двинулся в путь. Муж крестьянки, шедший рядом с Каролиной, молчал. Севенцы — народ суровый, и если даже любопытствуют, то ни за что не покажут вида. Севенцу достаточно прислушаться к пересудам женщин, которые любят расспрашивать друг друга. Но бревна были длинные, а Каролина сидела от горянки очень далеко, так что была избавлена от разговоров. Так они проехали мимо Рош-Руж, который поначалу Каролина приняла за развалины гигантской башни, а потом, вспомнив рассказ Жюстины о местной достопримечательности, узнала в этих руинах удивительную дайку, нетленный вулканический памятник, отбрасывавший в лунном свете гигантскую бледную тень, которую пересек сельский караван. Петляющая дорога все больше забирала в гору и, высоко поднявшись над бурным потоком, до того сузилась, что Каролина испугалась, увидев, как ноги ее болтаются над пропастью. Колеса увязали в размытой дождями земле у самой кромки этой бездны, но бычки уверенно шли вперед, погонщик пел, отходя в сторону, если идти рядом с бревном было невозможно, а женщина с ребенком дремала. — Господи, — сказала Каролина севенцу, — неужели вы не боитесь за жену и ребенка? Слов он не понял, зато понял жесты и, крикнув жене, чтобы та не уронила малыша, снова запел свою печальную песенку, чем-то напоминавшую церковные псалмы. Каролина быстро свыклась с головокружением, и хотя крестьянин жестами велел ей повернуться к пропасти спиной, она не пожелала его слушать. Местность была прекрасна, а в лунном свете казалась такой грозной, что Каролина не могла отвести глаз от невиданного зрелища. На каждом крутом повороте, когда быки заводили вперед передние колеса, так что задние под тяжестью бревна откатывались назад, рискуя свалиться в пропасть, Каролина в ужасе сжималась, упираясь ногами в веревочные стремена. Тогда погонщик что-то тихо говорил бычкам, и этот голос, верно направляющий их каждый шаг по извилистой тропинке, успокаивал Каролину, точно глас таинственного духа, располагавшего ее судьбой. «Да и чего мне бояться? — спрашивала себя Каролина. — Зачем я цепляюсь за свою жизнь, которая отныне будет ужасна, а будущее мое в сто раз страшнее смерти. Упав в эту пропасть, я сразу же разобьюсь, и если даже придется часа два помучиться перед кончиной, это сущая малость по сравнению с теми годами скорби, одиночества и, вероятно, отчаяния, которые меня ждут впереди». Читатель видит, что Каролина наконец призналась самой себе в любви к маркизу и в своем безысходном горе. Она еще не понимала всю силу своего чувства и, подумав о том, как она, будучи не робкого десятка, только что дрожала от страха за жизнь, увидела в своей боязни добрый знак, суливший близкое исцеление от любовного недуга. «Кто знает, может я забуду его скорее, чем кажется. Но какое я имею право желать смерти? А сестра, а дети ее — они же без меня погибнут или будут жить подачками тех, от кого мне пришлось бежать. Нужно снова взяться за работу, а для этого нужно забыть обо всем остальном». Но потом собственное мужество начало беспокоить Каролину. «А что, если это уловка надежды?» — думала она. На память вдруг пришли какие-то фразы господина де Вильмера, отрывки из его книги — в них сквозили его необыкновенная воля, острота ума и упорство. Неужели такой человек откажется от принятого решения, поддастся хитрым проискам, не проявит проницательности, свойственной любви, достигшей необыкновенной силы. «Если он захочет, то найдет меня. Напрасно я забралась в такую глушь, за полтораста миль от Парижа, и напрасно думаю, что ему и в голову не придет нагрянуть сюда. Если он меня действительно любит от всего сердца, оно ему подскажет, где я. И потом, какое ребячество бегать от него и прятаться, точно я перед ним бессильна. Нет, нужно вооружить против него мое сердце, нужно каждую минуту быть готовой к встрече с маркизом, чтобы сказать: „Страдайте, даже умрите, но я вас не люблю!“« От этих мыслей Каролине вдруг захотелось сбросить веревочные стремена и кинуться в пропасть, но усталость возобладала над ее волнением. Дорога уже не так круто, но неуклонно подымалась в гору, все дальше уходя от края бездны, так что опасность была позади. Неспешно тянулся поезд, мерно покачивалось бревно, монотонно поскрипывала упряжь, — звуки нагоняли на девушку сон. Перед глазами ее проплывали скалы, посеребренные лунным сиянием, и верхушки деревьев, молодая листва которых напоминала легкие, прозрачные облачка. И чем выше деревенский караван поднимался над низиной, тем острее пронизывал тело горный воздух, тем усыпительней действовала его свежесть. Бурная речка в овраге совсем пропала из глаз, но ее властный водяной голос все еще наполнял ночь своим дикарским пением. Каролина чувствовала, как тяжелеют веки, к поскольку в Лоссонне ей делать было нечего, а Лантриак уже был близок, она спрыгнула на землю и, чтобы стряхнуть сон, пошла пешком. Она знала, что Лантриак расположен на склоне в горном ущелье и что, как только скроется из вида бурные воды Гани, она доберется до селения. В самом деле, через полчаса она увидела, как над скалами возникли силуэты домов. Каролина взяла свой узелок, насильно сунула в руку крестьянина несколько монет и, не ответив на вопросы его жены, отстала от своих спутников, выжидая, пока поезд проедет по деревне, утихнет лай собак, заснут разбуженные жители, — она хотела проскользнуть в Лантриак незамеченной. Но жители велейского селения крепко спали, и мирно дремали собаки. Обоз проехал — погонщики пропели свою песенку, и отгремели колеса, подскакивая на глыбах вулканического туфа, которым мостили улицы в этих неприветливых селениях. Как только затих скрип колес и воцарилась тишина, Каролина решительно свернула в переулочек, который, по ее мнению, должен был привести к дому Жюстины. Но дальше Каролина уже шла вслепую, ибо кормилица ее даже не обмолвилась о расположении своего жилища. Желая добраться до него незаметно и предупредить семейство Жюстины о своем инкогнито, Каролина решила не стучать в чужие дома и никого не будить, а дождаться рассвета, который уже был недалек. Она села на деревянную лавку под навесом первого попавшегося дома и положила рядом узелок. Невиданная картина открылась перед ней: в белесых облаках на небе грубо и неровно вырисовывались кровли домов, а в узком проеме между их навесами плавала луна. Ее сияние отражалось в водоеме небольшого источника, и в узкой ленте горного ключа плавал сверкающий лунный серп. Тишина и робкий, монотонный шелест посеребренной воды сразу же нагнали сон на обессиленную спутницу. «Сколько перемен за три дня, — говорила себе Каролина, устраиваясь на лавке и кладя свою усталую голову на узелок. — Еще в прошлый четверг мадемуазель де Сен-Жене, в тюлевом платье, с камелиями в волосах и жемчугами на руках и шее, танцевала при свете тысячи огней с маркизом де Вильмером в одной из богатейших зал Парижа. Что бы сказал теперь господин де Вильмер при виде царицы бала, которая, закутавшись в грубый плащ, лежит возле хлева, коченея от холода, а у ее ног бежит ручей. К счастью, уже пробило два часа, а луна так красиво светит. Господи, как хочется спать! Поспим, пожалуй, часок, а там видно будет!»
XXI
На рассвете мадемуазель де Сен-Жене разбудили куры, которые кудахтали и рылись в земле. Каролина встала и пошла наугад по деревне, глядя, как одна за другой распахиваются двери домов, и утешаясь тем, что в таком маленьком селении долго блуждать не придется и она скоро найдет того, кто ей нужен. Но тут-то Каролина и встревожилась. Узнает ли она свою кормилицу, с которой рассталась пятнадцать лет назад? Она хорошо помнила ее голос и ее особенное произношение, но лицо Жюстины стерлось из памяти. Каролина дошла до последнего домика на склоне скалы и здесь увидела надпись на двери — «Пейрак Ланьон». Подкова, прибитая над дощечкой, указывала на то, что хозяин занимался кузнечным делом. Жюстина, как всегда, была уже на ногах, а господин Пейрак досыпал последний сон, лежа на кровати под ситцевым пологом. Нижняя комната свидетельствовала о благополучии и даже зажиточности ее обитателей: под потолком, грубо покрытым дранкой, хранились огромные запасы овощей и прочей деревенской снеди, однако строгая чистота в комнате, довольно редкая в здешних местах, радовала глаз, и дурных запахов не было в помине. Жюстина возилась у очага, собираясь варить суп, чтобы накормить горячим проснувшегося Пейрака, как вдруг увидела, что в комнату вошла незнакомка в плаще с поднятым капюшоном и узелком в руке. Бросив на мадемуазель де Сен-Жене рассеянный взгляд, Жюстина спросила ее: — Чем вы торгуете? Каролина, заслышав храп Пейрака из-за ситцевой занавески, приложила палец к губам и сбросила капюшон на плечи. Жюстина на мгновение застыла на месте, а потом, сдерживая радостный крик, порывисто заключила Каролину в свои объятия. Она узнала свою барышню. — Идемте скорей, — заговорила она, ведя Каролину к маленькой шаткой лестнице, стоявшей в глубине комнаты. — Ваша комнатка давно готова. Уж год как вас дожидается. — И тут она крикнула мужу: — Вставай, Пейрак, да живее заложи дверь. У нас добрые новости. Верхняя комнатка, выбеленная известью и по-деревенски обставленная, была, подобно нижней, на редкость чистая. Великолепный вид открывался из окна, в которое заглядывали цветущие фруктовые деревья. — Да это рай! — сказала Каролина своей кормилице. — Недостает лишь огня в очаге, но ты мне его сейчас разведешь. Я замерзла, проголодалась и счастлива, что наконец добралась до твоего дома. Прежде всего мне нужно с тобой поговорить. Я не хочу, чтобы здешние жители разведали, кто я такая, — у меня на то есть серьезные причины, которые ты со временем узнаешь. Давай подумаем, как все устроить. Ты жила в Бриуде? — До замужества я там была в служанках. — Бриуд находится отсюда довольно далеко. Скажи, а в Лантриаке есть кто-нибудь из тех краев? — Никого. Чужие сюда носа не кажут — дороги у нас плохие, только на быках можно проехать. — Мне это известно. Вот ты и выдашь меня за свою знакомую из Бриуда. — Хорошо, за дочку моей прежней хозяйки. — Нет, барышней я быть не должна. — Она была не барышней, а торговкой. — Хорошо, а что я продаю? — То же, что она: нитки, пуговицы, иголки. — Значит, мне придется торговать? — Нет, не нужно. Я скажу, что вы распродали весь товар, а ко мне приехали погостить и проживете… — Не меньше месяца. — Вам бы лучше остаться у нас навсегда, а занятие мы вам приищем. Да! А как же мне звать-то вас? — Шарлеттой. Помнишь, ты меня так в детстве называла? Ты не собьешься. Всем скажи, что я вдова, и говори мне «ты». — Совсем как раньше. Но в чем ты ходить-то будешь, деточка? — В чем приехала. Разве у меня богатое платье? — Нет, оно у тебя невидное, никто и не заметит. Но на твои белокурые волосы, еще такие красивые, каждый глазеть станет. И еще шляпка как у городских, каждому в диковинку. — Я все предусмотрела и купила в Бриуде местную шапочку. Она у меня в дорожном мешке, и я ее, пожалуй, на всякий случай сейчас же надену. — А я тем временем тебе приготовлю завтрак. Будешь есть вместе с Пейраком? — И с тобой, надеюсь. А завтра займемся хозяйством — я буду помогать тебе на кухне. — Нет, ты только будешь делать вид. Зачем портить ручки, о которых я так заботилась. Постой, погляжу, встал ли Пейрак. Надо ему сказать, что мы с тобой надумали, а ты потом нам расскажешь, что у тебя за тайны. Жюстина меж тем растопила печь, в которой были уже положены дрова, наполнила кувшины прозрачной холодной водой, которая, сочась из скалы, проникала через глиняное горлышко в умывальник верхней комнатки, а затем в кухонную раковину. Пейрак сделал это собственными руками и очень гордился своим замечательным изобретением. А через полчаса Каролина уже была одета так, что ничем не напоминала горожанку: пушистые волосы она совсем как велезианка убрала под бриудскую шапочку из черного фетра с бархатной каймой. Но и в этой шапочке Каролина была прелестна, хотя от усталости слегка туманились ее большие глаза, «зеленые как море», которые некогда расхваливала маркиза. Рисовый суп с картофелем был быстро подан в каморку, где Пейрак на досуге занимался столярным делом. Решив, что комната недостаточно чиста для приема желанной гостьи, Пейрак собрался ее подмести. — Ты ничего не понимаешь! — воскликнула Жюстина, разбрасывая по полу деревянные стружки и опилки. — Надо побольше набросать их, и она скажет, что это чудесный ковер. Ох, ты не знаешь мою девочку! Это же святая, настоящая святая! Знакомясь с Пейраком, Каролина обняла его. Это был мужчина лет шестидесяти, еще крепкий и жилистый, среднего роста и некрасивый, как большинство горцев этого края. Но его грубоватые черты выражали прямодушие, которое сразу бросалось в глаза. Улыбался он редко, удивительно доброй улыбкой — в ней чувствовались душевная мягкость и искренность. Лицо Жюстины тоже было сурово, а речь порывиста. Нрав этой женщины отличался мужским складом и великодушием. Пламенная католичка, она почитала убеждения своего мужа, который был протестант от рождения, обращенный католик с виду и свободомыслящий человек по своей сути. Зная это, Каролина была тронута той деликатностью и почтением, которые эта неистовая женщина сочетала с любовью к своему мужу. Читателю не грех напомнить, что мадемуазель де Сен-Жене, дочь слабовольного отца и сестра неприспособленной к жизни женщины, своим мужеством была обязана своей матери, родом из Севенн, и тем первым жизненным урокам, что преподала ей Жюстина. Она это особенно ясно ощутила, когда вместе со старыми супругами села за стол: суровость их взглядов и резкость выражений не пугали и не удивляли ее; ей даже казалось, что молоко этой доброй горянки вошло в ее плоть и кровь, поэтому здесь она чувствовала себя так, словно очутилась среди братьев по духу. — Друзья мои, — сказала Каролина, когда Жюстина принесла ей на десерт сливки, а Пейрак запивал суп кружкой теплого вина, за которой последовала кружка черного кофе, — я обещала вам рассказать свою историю. Извольте, вот она в двух словах: один из сыновей моей госпожи задумал жениться на мне. — Еще бы! — сказала Жюстина. — Так оно и должно быть. — Ты права, потому что я и этот молодой господин очень похожи друг на друга как нравом, так и убеждениями. Все должны были предвидеть этот оборот, и я первая. — И мать тоже, — вставил Пейрак. — А между тем, никто об этом не подумал, и сын очень удивил и даже прогневил мать, когда сказал, что любит меня. — А вы что же? — спросила Жюстина. — Я? Мне он даже не обмолвился об этом, а я, зная, что недостаточно богата и знатна для него, никогда не позволила бы ему и помыслить о нашем браке. — Вот и хорошо! — заметил Пейрак. — И правильно! — добавила Жюстина. — Словом, я поняла, что дольше оставаться в их доме нельзя, и сразу же после размолвки с маркизой уехала, даже не попрощавшись с ее сыном. Если бы я поселилась у сестры, он наверняка нашел бы меня. Маркиза, правда, хотела, чтобы я еще ненадолго осталась и, объяснившись с ее сыном, прямо сказала бы, что не люблю его. — Так, вероятно, и надо было сделать! — сказал Пейрак. Суровая логика этого крестьянина поразила Каролину. «Да, он прав, — подумала девушка. — Надо было в своей решимости идти до конца». И, поскольку Каролина молчала, ее кормилица, почуяв сердцем, в чем дело, резко осадила Пейрака: — Погоди ты. Ишь как сразу все рассудил! Почем ты знаешь, что она не любит его, бедная наша доченька! — А, тогда другое дело, — протянул Пейрак, и его умные, добрые глаза смотрели теперь участливо и печально. Каролину до глубины души растрогала прямодушная и нежная дружба этих людей, которые невольно разбередили ее старую рану. И то, что она не сумела доверить сестре, Каролина не смогла утаить от этих мудрых стариков, которые читали ее сердце, как книгу. — Хорошо, друзья мои, вы правы, — согласилась она, взяв их за руки. — Я, вероятно, не смогу солгать вам, так как против своей воли… люблю его! Едва Каролина произнесла эти слова, как ее охватил ужас, и она огляделась вокруг, точно Урбен был в этой комнате и слышал ее, а потом разразилась слезами. — Будьте твердой, дочь моя, а бог вам поможет! — сказал Пейрак, подымаясь с места. — И мы тебе тоже поможем, — сказала Жюстина, обнимая ее. — Мы тебя спрячем, будем любить и молиться за тебя. Она проводила Каролину в ее комнатку, раздела и уложила в постель, по-матерински позаботившись о том, чтобы ей было тепло и чтобы солнце не мешало спать. Потом она спустилась вниз и сообщила соседкам, что к ней приехала в гости ее знакомая, Шарлетта из Бриуда. Жюстина ответила на все расспросы и даже сказала о том, какая у нее красивая и белокожая знакомая, чтобы те при виде ее не очень удивлялись. Жюстина не преминула сообщить им, что наречие бриудцев вовсе не похоже на местный говор и что Шарлетта даже не сможет с ними на досуге потолковать. — Вот бедненькая! — сочувственно говорили кумушки, — небось соскучится у нас! Неделю спустя, известив сестру о своем благополучном прибытии в Лантриак, Каролина расписала ей в подробностях свою жизнь на новом месте. Читатель не должен забывать, что, скрывая от Камиллы свое подлинное горе, Каролина старалась успокоить сестру, а заодно убедить самое себя, что обрела спокойствие, которое на самом деле давно утратила. «…Ты не можешь себе представить, как эти Пейраки возятся со мной. Жюстина все такая же хозяйка, которую ты хорошо знала прежде, — недаром отец наш ни за что не хотел расставаться с ней. Поэтому достаточно будет сказать, что муж Жюстины достоин своей супруги: он, пожалуй, умнее ее, хотя схватывает все гораздо медленнее, но то, что им понятно, как бы запечатлено на прекрасной, чистой глыбе мрамора. Я даже не скучаю с ними, честное слово. Большую часть времени я могла бы проводить в одиночестве, так как каморка моя на отшибе, и в ней можно помечтать на досуге, и никто тебе не помешает. Но уединяться у меня нет никакой потребности: мне хорошо с этими почтенными людьми, которые меня горячо любят. У них весьма живой ум, как впрочем, у большинства здешних жителей. Они интересуются общественными делами, и порой я даже удивляюсь, что в этих горах живут крестьяне, у которых столько познаний, совершенно бесполезных в их занятиях и чуждых образу жизни. Но те местные обитатели, что живут в маленьких хижинах среди скал — крестьяне, пастухи, землепашцы, — напротив, ведут тупую, безрадостную жизнь, какую трудно себе представить. На днях я спросила у одной женщины, как называется река, которая в ста шагах от ее дома срывается со скалы, образуя величественный водопад. — Это вода, — ответила женщина. — Но у этой воды есть название? — Пойду спрошу у мужа. Сама-то я не знаю — мы, женщины, всегда зовем эти реки водою. Ее муж сумел мне сказать название горного потока и водопада, ко когда я спросила, как называются горы на горизонте, он ответил, что понятия не имеет, так как никогда там не был. — Но вы, должно быть, слышали, что это Севенны. — Может, и слышал. Есть там Мезенк и Жербье де Жон — только распознать их не умею. Я показала ему эти горы. Ведь узнать их очень легко: Мезенк — самая высокая вершина, а Жербье де Жон — красивый конус. Говорят, в кратере его растут в изобилии осока и камыш[60]. Чудак даже не взглянул в их сторону. Ему было совершенно безразлично. Он сводил меня к пещерам «первобытных дикарей»: они напоминают галльские или кельтские гроты, выдолбленные в скале так умело, как роют животные пустынь свои логова, — если не знать тропинки, которая ведет б эти пещеры, по этой скале можно ходить целый день, смотреть во все глаза и ничего не увидеть. Ах, дорогая моя, я теперь тоже вроде «первобытного дикаря», который, боясь нападения неприятеля, прятался в каменном вертепе. Что там не говори, а жители Ла Роша, по-моему, прямые потомки тех бедных кельтов, что хоронились в этих скалах и как бы заживо замуровывали себя в них. Эти пещеры нам показывала местная женщина, и когда я увидела ее голые ноги и тупой, ничего не выражающий взгляд, то невольно задалась вопросом: неужели действительно прошло три-четыре тысячи лет с тех пор, как ее давние предки селились на этих камнях. Как видишь, я много гуляю, и ты напрасно боялась, что из осторожности я буду постоянно сидеть взаперти. Наоборот, читать здесь мне нечего, потому трачу все время на прогулки, и жители Лантриака скорее удивились бы моему таинственному затворничеству, нежели моей непоседливости. Да и встречи с местными обитателями меня не пугают — ты видела, в каком платье я уехала, и оно вряд ли привлечет чужое внимание. Кроме того, я хожу в черной фетровой шапочке с большими полями, которая закрывает мне лицо. При надобности могу надеть широкий темный капюшон: он у меня с собой, а когда погода капризничает, я закрываю им голову на прогулке. На велезианку я не похожа, но где бы я ни появилась, никто не смотрит в мою сторону. Впрочем, для этих прогулок есть хороший предлог. Жюстина занимается мелочной торговлей и дает мне коробку с нитками и иголками, которые я распродаю, а Пейрак — он же ветеринар — лечит заболевших животных. Поэтому я вправе войти в любой дом и наблюдать здешние нравы и обычаи. У меня почти ничего не покупают: местные крестьянки целыми днями плетут кружева — им даже некогда чинить белье своим мужьям и детям, как, впрочем, и свое собственное. Здесь ходят в лохмотьях и, кажется, гордятся этим. Жители так неистово набожны, что питают отвращение ко всякому благополучию, в том числе и к чистоте, считая ее греховным излишеством. Они прижимисты и в то же время не лишены кокетства, и если бы Жюстина давала мне продавать украшения, от покупательниц не было бы отбою — ведь их гораздо больше привлекают безделушки, нежели башмаки и белье. Все они плетут чудесные черные и белые кружева, точно такие, как, помнишь, плела у нас дома Жюстина. Приезжие дивятся изумительным работам, которые созданы руками бедных кружевниц, и возмущаются мизерным вознаграждением, которое те получают. Если б этим кружевницам разрешили продавать свои изделия каждому встречному, они с радостью отдали бы за двадцать су то, что в Париже стоит двадцать франков. Но это им строго запрещено. Скупщик сам назначает цену и забирает у них все кружева оптом, ибо снабжает их шелком, нитками и образцами. И сколько ни предлагай бедной труженице хорошую плату и материал, она лишь вздыхает, смотрит на деньги и, качая головой, твердит, что если иметь дело с частными лицами, которые заказывают довольно редко, она рискует потерять постоянную работу у своего хозяина. Местные женщины очень набожны, а возможно, делают вид. Одни искренно клянутся приснодевой и святыми угодниками ничего не продавать в частные руки, и покупатели принуждены считаться с их обещанием. Другие, притворяющиеся ревностными богомолками, живут под неусыпным надзором духовенства — его тут великое множество в самых безлюдных местах. Здешние монастыри многих занимают работой, причем на условиях, гораздо более выгодных для кружевниц, чем предлагают скупщики кружев. Поэтому на папертях иной раз сидят кружком целые крестьянские общины, и кружевницы, ловко перебирая своими коклюшками, бормочут молитвы или тянут латинские псалмы, что, однако, не мешает им с любопытством глазеть на прохожих, пересыпая пересуды словами ora pro nobis[61], с которыми обращаются к монашенкам различных орденов, следящим за их работой. Как правило, местные женщины добры и гостеприимны. Особенно мне нравятся их дети, и когда они болеют, я с радостью помогаю их лечить. Здесь царит либо полное равнодушие к медицине, либо страшное невежество по этой части. Крестьянки любят своих детей страстно, но без особой нежности. То и дело ловишь себя на мысли, что дети рождаются на свет для страданий. На ремесло Пейрака тут большой спрос — благодаря ему я оказываюсь в самых неприступных горных уголках и вижу красивейшие в мире пейзажи, а порою и сама страна кажется мне сном… Впрочем, и жизнь моя тоже странный сон, не правда ли, сестричка? Передвигаемся мы самым первобытным способом. У Пейрака есть маленькая повозка, которую он величает коляской: у нее полотняный верх, укрывающий нас от дождя. В этот рыдван Пейрак запрягает бесстрашного ослика или спокойную, выносливую лошадку. Одним словом, пока старший сын Жюстины, вернувшийся с военной службы из полка, где он подковывал артиллерийских лошадей, работает за отца в кузне, мы с Пейраком в любую погоду кочуем по горам и долам. Жюстина твердит, что эти разъезды мне весьма полезны и что я должна остаться тут навсегда. Она уверяет, что подыщет для меня занятие, которое даст мне хлеб насущный, и больше я не стану жить в услужении у знатных дам. Увы, пока я чувствовала, что меня любят, и любила сама, мое положение не казалось мне унизительным. Ты думаешь, я не огорчаюсь от того, что моя бедная старая госпожа больше не благословляет меня по утрам, думаешь, не тревожусь, не опасаюсь за нее? Ведь сердце подсказывает мне, что маркиза не может без меня жить. Дай бог, чтобы она поскорее забыла свою компаньонку да нашла на ее место новую особу, которая не станет смущать ее покой! Только сумеет ли она заботиться о ее душе так, как заботилась я? Сможет ли потакать причудам маркизы, веселить ее в часы досуга, разговаривать с ней о сыновьях, о которых она так любит потолковать? Приехав к Жюстине, я полной грудью вдыхала свежий воздух, любовалась этой суровой природой, о которой давно мечтала, и говорила себе: вот ты и свободна! Иди куда хочешь, молчи, если угодно, больше не надо по десять раз на дню писать одно и то же письмо десяти разным корреспондентам, не надо жить в теплице, дыша едким запахом цветов и растений, которые взращены на удобрениях или наполовину сгнили под парниковыми рамами. Пей этот воздух, напоенный ароматом цветущего боярышника и тимьяна… Да, я твердила себе эти слова, но не испытывала радости. Перед глазами стояла бедная одинокая госпожа — она была грустна и плакала, вероятно, оттого, что по ее вине я пролила столько слез. Но она так хотела, видимо, так и должно было быть! Я не вправе осуждать ее за этот порыв несправедливости и досады. Ведь мать заботилась о своем сыне, а такой сын достоин любой материнской жертвы. Вероятно, она считает меня жестокой и неблагодарной за то, что я пренебрегла ее планом, и я часто спрашиваю себя: может быть, стоило исполнить ее волю, но тотчас утешаюсь тем, что цели бы я не достигла. Маркиз де В*** не из тех, от кого можно отделаться презрительным словцом или равнодушной фразой. Впрочем, разве я посмела бы так разговаривать с человеком, который,не открывая своих чувств, окружил меня таким уважением и такой деликатной привязанностью. Сейчас даже я не могу найти тех нежных слов, чтобы выразить ему, сколь священны для меня его счастье и покой госпожи. Нет, мой язык слишком безыскусен. А может быть, маркиз не понял бы моих чувств и, обманувшись той подлинной дружбой, которую я к нему питаю, вообразил, что я жертвую собой из чувства долга, а возможно, моя твердость обидела бы его, ибо он принял бы ее за показную добродетель, к помощи которой он никогда не вынуждал меня прибегнуть!.. Нет, нет! Этого не могло и не должно было быть! Если я правильно поняла, маркиза хотела, чтобы я сказала ему, будто связана с другим человеком и люблю его. Господи, пусть она теперь выдумывает все, что ей угодно. Пускай бесславит мою жизнь и честь, если ей нужно! Я расчистила ей поле для действий. Камилла, ты обязательно встретишься с маркизом, наверняка уже видела его после того первого визита, когда тебе было так трудно играть навязанную роль. Ты пишешь, он был как потерянный, и ты очень жалела его… Теперь, думаю, он уже успокоился — у него столько душевных сил! Должен же он понять, что я не могу его видеть! Однако будь с ним осторожна — он человек проницательный. Скажи, что у меня холодное сердце… Нет, не надо, он не поверит. Лучше скажи, что гордость моя непреклонна. Да, я горда и хорошо это знаю! А будь я иною, разве была бы достойна его привязанности! А может быть, его близкие хотели, чтобы я повела себя так, что потеряла бы уважение маркиза? Нет, госпожа этого не хотела: она слишком честна и целомудренна. Но герцог! Теперь я вижу в новом свете многое, чего раньше не понимала. Герцог — замечательный человек. Брата он обожает, и думаю, что жена его, этот сущий ангел, очистит от скверны его жизнь и помыслы. Но в Севале, когда он молил меня спасти брата любой ценой… Теперь, когда я об этом вспоминаю, от стыда у меня горит лицо! Ах, только бы дали мне исчезнуть из их жизни и все забыть! Целый год я чувствовала себя счастливой, благопорядочной и спокойной! Но один день, один час испортили все! Одно слово госпожи де Вильмер отравило мои воспоминания. Я хотела их сохранить чистыми, а теперь боюсь бередить свою память. Как ты была права, сестричка, когда говорила, что моя целомудренная душа никому не нужна и что я Дон Кихот в юбке. Эти события послужат мне добрым уроком, и отныне я буду остерегаться не только любви, но и дружбы. Иногда приходит на ум такая мысль: не порвать ли всякую связь с этим миром, полным опасностей и разочарований, и не терпеть ли свою нищету с еще большим смирением, чем делала досель? Я вполне могла бы устроить свою жизнь в этом диком крае. Жюстина думала, что я буду учительствовать в местной школе, но ее надежды напрасны: здесь над всеми тиранствует духовенство, и монашенки не позволят мне учить детей даже в Лантриаке; но я без особого труда нашла бы в городке частные уроки или считала бы на счетах в торговом доме. Но прежде всего я должна твердо знать, что меня забыли, и когда мое имя истлеет в памяти семейства де Вильмер, нужно будет позаботиться о наших детях, которые не выходят у меня из головы. Ты только не тревожься, дорогая! Я найду способ одолеть все невзгоды — ведь тебе хорошо известно, что я не падаю духом и сохраняю мужество. Два месяца ты проживешь вполне безбедно, а мне здесь ничего не потребуется. Не огорчайся, дорогая. Будем вместе уповать на господа бога, а ты уповай на свою сестру, которая так тебя любит».XXII
Каролина недаром боялась, что господин де Вильмер примется расспрашивать ее сестру. Он уже дважды наведывался в Этамп, но ограничился лишь наблюдением за поведением Камиллы и разгадкой ее недомолвок. Теперь он знал наверняка, что госпоже Эдбер известно, где скрывается ее сестра, и что исчезновение беглянки ее ни капли не тревожит. Камилла же держала про запас и не показывала маркизу письмо, в котором Каролина сообщала о том, что нашла себе место за пределами Франции. В изменившихся чертах маркиза госпожа Эдбер увидела столько страдания и скорби, что у нее не поднималась рука нанести последний удар своему покровителю и опекуну ее детей. Кроме того, Камилла не сочувствовала сестринской щепетильности и не понимала всей гордости Каролины. Она не смела осуждать ее, но не видела большого преступления, если Каролина пренебрегла бы недовольством госпожи де Вильмер и против ее воли сделалась бы супругой маркиза. Камилла рассуждала так: «Поскольку маркиз серьезно решил жениться, а мать так его любит, что не смеет открыто воспротивиться ему, поскольку маркиз — взрослый человек и хозяин своего состояния, я не понимаю, почему Каролине было не воспользоваться своим влиянием на старую госпожу и, пустив в ход ум, красноречие и неоспоримые личные достоинства, исподволь не убедить маркизу смириться с этим браком… Увы, бедняжка Каролина при всем ее мужестве и преданности чересчур щепетильна, она погубит себя, чтобы помочь нам жить, а между тем, при известной ловкости и терпении, она могла бы найти собственное счастье, а заодно осчастливить всех нас». Как видит читатель, то была другая, вполне здравая теория, которую он может сравнить со взглядами Пейрака и Жюстины. Читатель волен выбирать ту теорию, которая ему покажется совершенной, но рассказчик признается, что позиция Каролины ему больше по душе. Робкие намеки на это положение, которые делала госпожа Эдбер, дошли до сознания маркиза, и он понял, что Камилла полностью в курсе дела. Маркиз стал разговаривать с ней откровеннее, и Камилла, приободрившись, довольно неискусно спросила маркиза, готов ли он просить руки Каролины, если воля госпожи де Вильмер останется непреклонной. И если бы маркиз дал ей слово, Камилла, наверняка, выдала бы тайну своей сестры. — Если бы я был уверен, — твердо ответил господин де Вильмер, — что мадемуазель де Сен-Жене любит меня и что ее счастье зависит от одной моей решимости, я сумел бы сломить упорство моей матушки. Но вы лишаете меня всякой надежды! Дайте мне ее и тогда увидите… — Я? — воскликнула удивленная Камилла. Госпожа Эдбер была уверена, что разгадала секрет Каролины, но сестра так самолюбиво хранила его, не допуская никаких расспросов, что Камилла не смела оскорбить достоинство Каролины. — Я знаю обо всем не больше, чем вы, — продолжала она. — У Каролины такая сильная душа, что в нее не всегда можно проникнуть. — У нее и вправду такая сильная душа, что она никогда не согласилась бы носить мое имя без горячего благословения моей матушки, — сказал маркиз. — Это я знаю. Больше ничего не говорите — я буду действовать один. У меня к вам одна-единственная просьба: позвольте мне заботиться о благополучии вас и ваших детей, пока дела окончательно не прояснятся. И еще… простите мою навязчивость, но я очень боюсь, как бы мадемуазель де Сен-Жене не осталась без средств и не попала в такую нужду, при одной мысли о которой я холодею. Облегчите мне это горе… Позвольте оставить вам небольшую сумму, которую вы мне вернете, если она не понадобится, а в случае необходимости пошлете деньги Каролине как бы от себя. — Но это совершенно невозможно, — ответила Камилла. — Она обо всем догадается и никогда мне этого не простит. — Я вижу, вы очень боитесь ее. — Боюсь, потому что бесконечно уважаю. — Значит, совсем как я! — воскликнул маркиз, прощаясь с госпожой Эдбер. — Я боюсь Каролину так, что даже не смею ее разыскивать, а между тем, я должен найти ее или умереть! А немного погодя между маркизом и госпожой де Вильмер состоялось довольно бурное объяснение. Хотя Урбен видел, как грустна его матушка и как она страдает, сожалея о Каролине во сто раз больше, чем смела в том признаться, хотя Урбен выжидал удобный момент для разговора, объяснение произошло по вине неизбежных обстоятельств против его воли и вопреки желанию маркизы. Положение создалось такое напряженное, что этот разговор был неминуем. Госпожа де Вильмер призналась Урбену, что у нее внезапно возникло предубеждение против нрава мадемуазель де Сен-Жене и что когда пришло время сдержать слово, данное сыну, она дала почувствовать Каролине, что сама горько страдает от этого. Расспросы маркиза становились все горячее, диалог все накалялся, и доведенная до отчаяния госпожа де Вильмер невольно выразила свое осуждение Каролине. Несчастная допустила ошибку, которую могла простить ей маркиза, ее друг и покровительница, но из-за этой оплошности нельзя было даже думать о браке Каролины с маркизом. Услышав такую клевету, маркиз преисполнился решимости. — Это бесчестная ложь! — воскликнул он, весь дрожа от гнева. — И вы могли ей поверить? Значит, клеветник действовал искусно и дерзко! Матушка, вы должны сказать мне все, так как я не намерен поддаваться этому обману. — Нет, сын мой, больше я не скажу вам ничего, — твердо ответила госпожа де Вильмер, — и каждое слово, которое вы произнесете, я сочту за отсутствие сыновней привязанности и уважения ко мне. Маркиза была непроницаема. Она поклялась Леони не выдавать ее и вдобавок больше всего на свете боялась посеять раздор между сыновьями. Герцог так часто говорил ей при Урбене, что никогда не добивался и не получил ни одного нежного взгляда Каролины! Маркиза была уверена, что эту ложь Урбен никогда не простит брату. Ей было известно, что маркиз избрал герцога своим конфидентом и что тот, тронутый его горем, заставлял свою жену разыскивать Каролину по всем парижским монастырям. «Герцог упорно молчит, — думала маркиза, — и даже не отговаривает жену с братом от этих нелепых поисков, а между тем он должен был бы во всем признаться маркизу и вылечить его от любви. Теперь все зашло слишком далеко, подобные признания рискованны, и, если я открою правду, я могу поссорить братьев, которые так любят друг друга». А Каролина меж тем писала своей сестре:«Ты в ужасе оттого, что я живу в стране, где меня всюду подстерегает опасность, и спрашиваешь: неужели этот край так прекрасен, что стоит постоянно рисковать жизнью. Во-первых, когда со мной Пейрак, мне ничего не угрожает. Конечно, дороги здесь ужасны, но достаточно широки для местных повозок. Пейрак, впрочем, очень осторожен. Когда он чувствует, что не может измерить глазом нужное расстояние, для пущей безопасности он прибегает к такому способу: он вручает мне вожжи, слезает на землю, берет свой бич, на ручке которого есть зарубка, обозначающая точную ширину нашей повозки, и, пройдя немного вперед, измеряет ручкой расстояние между скалой и пропастью, а иногда расстояние между двумя пропастями, лежащими по обеим сторонам. Если дорога шире на один сантиметр, чем нам необходимо, он, сияя от радости, возвращается назад, и мы едем во весь опор. Когда же дорога на один сантиметр уже, Пейрак велит мне спешиться и проводит повозку, держа лошадь под уздцы. Уверяю тебя, что ко всему этому легко привыкаешь и даже не беспокоишься. Здешние лошади смелы и послушны. Они не хуже людей чуют грозящую опасность, и несчастные случаи тут такая же редкость, как на равнине. В прежних своих письмах я немного преувеличила рискованность таких поездок, но сделала это из небольшого страха, от которого вполне избавилась, и теперь даже нахожу его беспричинным. Что касается красоты Веле, я никогда не сумею тебе ее описать. Я даже не предполагала, что в самом сердце Франции есть такие удивительные места. Веле гораздо красивее Оверни, которую я видела по дороге, а у городка Пюи, вероятно, единственное в своем роде расположение: он построен на застывшей магме, которая, словно вырвавшись из его центра, образовала некоторые городские строения. Это поистине чертоги великанов, а те здания, что воздвигнуты людьми на вулканических склонах, или даже на вершинах пирамид из окаменевшей лавы, как бы вдохновлены величием и своеобразием местности. Собор выстроен в чудесном романском стиле; он того же цвета, что скала, и лишь белая и синяя мозаика весело разнообразят его фронтон. Собор расположен так, что издали кажется исполинским сооружением, поскольку добраться до него можно лишь по ступенькам, вырубленным в скале на головокружительной высоте. Внутренность храмины потрясает своей торжественной полутьмой и изысканной мощью. Оказавшись под этими грозными, зловещими куполами, рядом с черными голыми колоннами, я впервые поняла и ощутила весь ужас средневековья. Когда я вошла в храм, бушевала страшная буря. Молнии адским огнем вспыхивали на дивных витражах, так что по полу и по стенам бежали разноцветные блики, сверкающие как драгоценные каменья. Раскаты грома, казалось, исходили прямо из алтаря, словно неистовый гнев обуял самого Иегову… Но меня это не пугало. Ведь истинный бог, которого мы любим, полон милосердия к своей слабой пастве. Я молилась господу, уповая на его милостыню, и после молитвы почувствовала, как силы прибавились во мне. Что же до этих прекрасных храмов, вполне понятно, что сегодня они выражают слово «таинство», и с него возбраняется снимать покровы… Если бы здесь был господин де Вильмер, он сказал бы мне… Но теперь уже не до лекций по истории и философии религии. Мысли господина де Вильмера больше мне не служат книгой, которая помогала постигать прошлое и учила предугадывать будущее. Как видишь, благодаря любезности милого Пейрака, который мне показывает красоты Веле, а также благодаря широкому капюшону, закрывающему лицо, я могу смело гулять в городке и в его предместьях. Городок очень живописен: это настоящий средневековый город, в котором полно церквей и монастырей. Собор окружен множеством древних строений, где под таинственными аркадами и в уступах скалы, которая их поддерживает, видны монашеские кельи, сады, лестницы, и тихо снуют безгласные тени, закутанные в покрывала или сутану. Там царит странная тишина, там разлито смутное дыхание прошлого, бросающее в дрожь и холод. Это не дыханье бога, источника душевной свободы и милосердия, — здесь веет тем, что во имя господа бога сурово разрывает узы братства и человечности. Насколько мне помнится, наша благочестивая жизнь в монастыре была радостной и улыбчивой; здесь же она мрачна и внушает трепет. Из этого собора целый час спускаешься вниз, пока доберешься до предместья Эгиль, где возвышается другой памятник, творение природы и истории одновременно. Это самый странный памятник в мире: вулканическая «сахарная голова» вышиной в триста футов. Подыматься туда надо по витой лестнице до крошечной, но прелестной византийской часовенки. Говорят, она выстроена из развалин бывшего храма Дианы и стоит на его месте. Об этой часовенке ходит замечательная легенда. Некая молодая девушка, христианка, спасаясь от преследований басурмана, бросилась с вершины вниз, но не разбилась, а тотчас поднялась на ноги. Это чудо наделало много шуму, и девушку признали святой. Сердце ее преисполнилось гордыней, и она дала обет снова кинуться в бездну, дабы все воочию убедились, что ей покровительствуют ангелы. Но на сей раз небо презрело ее, и она разбилась, как ничтожный идол… Гордыня! Да, гордых людей господь предоставляет самим себе… А без божьей поддержки что они могут?! Только не говори, что мною движет гордыня… Это неправда. Я никому ничего не хочу доказать и только прошу, чтобы меня забыли и не страдали из-за меня. Неподалеку от Пюи есть деревенька, без которой окрестный пейзаж во многом проиграл бы. Над ней высится одна из тех одиноких и прекрасных скал, которые тут встречаются повсеместно. Эта скала зовется Эспали; на ней тоже сохранились развалины феодального замка и кельтских гротов. В одном из них живут бедные старые супруги. Живут в ужасающей нищете — прямо в скале, и отверстие в ней заменяет им печную трубу и окно. Зимними ночами они затыкают дверь соломой, а летом — юбкой старой женщины. Жалкое ложе без простынь и матрацев, две скамеечки, маленькая железная лампа, прялка, два-три глиняных горшка — вот и вся их утварь. В двух шагах от этой скалы находится просторный дом отцов-иезуитов, который называется «Рай». У подошвы скалы бежит ручей, который вместе с песком несет драгоценные камешки. Старушка продала мне за двадцать су пригоршню гранатов, сапфиров и гиацинтов, которые я берегу для Лили. Камешки очень маленькие и не имеют большой цены, но в скалах этих, должно быть, скрыты драгоценные залежи. Может, отцы-иезуиты и найдут их, — я же не рассчитываю сделать это открытие и поэтому должна приискать себе работу. Вот уже несколько дней Пейрак только и говорит об одном плане, который возник у него как раз у подножия Эспали. А произошло вот что: как-то раз, гуляя там, я увидела маленького мальчика, игравшего на коленях красивой, здоровой и веселой крестьянки, и сразу полюбила его. Этот ребенок так сильно влечет меня к себе, что я готова сравнить его с Шарло, хотя они и не похожи. Но он, как и Шарло, отличается той застенчивой мягкостью и кошачьей грацией, которые пленили мое сердце. Когда я показала мальчика Пейраку, заметив, что его содержат в большой чистоте и что его мать не плетет кружев, а всецело отдает себя ребенку, точно понимает, какое это сокровище, Пейрак ответил: — Вы угадали. Этот мальчуган я вправду для Рокбертихи сокровище. Спросите у нее, чей он, и Рокбертиха скажет, что это сын ее сестры, живущей в Клермоне. Только это враки. Малыша ей отдал на воспитание один господин, которого никто не знает, но он хорошо платит ей, чтобы мальчика кормили и растили как маленького принца. Поэтому, как видите, Рокбертиха хорошо одета и не работает. Правда, она и раньше не знала нужды: муж ее служит сторожем в замке Полиньяк — видите его большую башню и развалины вон на той скале, которая еще шире и выше, чем Эспали. Там Рокбертиха и живет, а встретили вы ее тут потому, что у нее теперь много свободного времени и она гуляет где хочет. Родная мать этого мальчугана, видно, померла, так как никто о ней не слышал ни слова, но отец навещает ребенка, дает деньги и просит Рокбертиху ни в чем не отказывать его сыну. Как видишь, дорогая, тут целый роман. Это, вероятно, и привязало меня к малышу — ведь я же, как ты говоришь, особа весьма романтическая. Но в этом малыше и вправду есть что-то замечательное. Он не отличается крепким сложением — говорят, когда его привезли сюда, в нем чуть душа теплилась. Теперь он посвежел, а горы так полезны его здоровью, что отец его, приезжавший в прошлом году, раздумал увозить мальчика отсюда и решил подождать еще год, чтобы он окреп окончательно. У малыша лицо задумчивого ангела, выражение глаз не по возрасту серьезно, а в движениях неизъяснимая грация. Пейрак, видя, что я пленилась мальчиком, почесал затылок и сказал: — Если вам так по сердцу ребятишки, бросили бы вы читать вслух старым дамам, от которых одна морока, да подыскали бы себе мальчугана вроде этого! Воспитывать его можно вместе с детками Камиллы, жили бы вы со своей семьей, ни под кого не подлаживаясь. — Ты забываешь, дорогой Пейрак, что мне, вероятно, еще долго нельзя показываться у сестры! — Хорошо, тогда Камилла могла бы сюда приехать, пожила бы с нами, или вы годок-другой погостили бы у нас. Жюстина помогла бы обихаживать мальчика, а вам только пришлось бы воспитывать его да учить уму-разуму… Постойте, раз этот мальчонка вам нравится и вы прямо голову потеряли, мне пришло на ум вот что: отец приедет за ним на днях, я могу с ним о вас поговорить. — Ты с ним знаком? — Как-то раз я возил его в горы. Он показался мне человеком славным, только больно уж он молод, чтоб самому растить трехлетнего ребенка. Ему все равно придется отдать его в женские руки, но у Рокбертихи он тоже дольше не может держать малыша, так как они не сумеют научить его тому, что должен знать этот маленький господин. Вам такое дело вполне с руки, и отцу его никогда не найти лучшей матери для своего ребенка. Стоит понадеяться (что на языке Пейрака означает: «стоит подождать»). Я буду следить за замком Полиньяк, и как только отец малыша объявится, я сумею поговорить с ним как надо. Пускай добрые Пейрак с Жюстиной тешатся этой надеждой, я же не питаю никаких иллюзий. Ведь этот таинственный господин наверняка стал бы расспрашивать обо мне, я же, не будучи уверена, что он хотя бы отдаленно не знает тех людей, от которых я скрываюсь, не хочу давать ему в руки никаких сведений о себе. Только как мне разведать, что он никого не знает? Тем не менее замысел Пейрака сам по себе очень недурен. Воспитывать несколько лет ребенка вместе с твоими детьми мне гораздо больше по душе, нежели снова пойти в услужение к чужим людям. Госпожа д'Арглад, знающая все светские тайны, без труда нашла бы мне такого пансионера, но мне не хочется обращаться к ней с этой просьбой. Она невольно может мне опять принести несчастье».
XXIII
Через несколько дней Каролина снова писала сестре:«Полиньяк, 15 мая.
Вот уже пять дней я живу среди величественнейших развалин средневековой крепости, на вершине громадной скалы из черной лавы, о которой я упоминала, когда описывала тебе Пюи и Эспали. Ты еще, пожалуй, решишь, что положение мое переменилось, а мечта исполнилась. Ничего подобного. Я действительно живу подле маленького Дидье, но ухаживать за ним я вызвалась сама, и все мои заботы о нем совершенно бескорыстны, так как отец его или покровитель до сих пор не приехал. А произошло вот что. Мне снова захотелось посмотреть на малыша, а заодно и немного познакомиться с тем, как он живет; к тому же у меня было давнее желание увидеть вблизи замок Полиньяков, который издали кажется городом великанов, построенным на зловещей скале. Здесь это самая мощная средневековая цитадель, гнездовье того племени стервятников, чьи разбойные налеты приводили в ужас Веле, Форес и Овернь. По всей провинции древние хозяева Полиньяка оставили о себе мрачные воспоминания и предания, достойные сказок о людоедах и Синей Бороде. Эти феодальные тираны обирали прохожих, грабили церкви, убивали монахов, похищали женщин, жгли деревни, и так из поколения в поколение на протяжении нескольких веков. Об этом маркиз де Вильмер написал одну из самых замечательных глав в своей книге и сделал вывод, что потомки Полиньяков, неповинные, конечно, в злодеяниях предков, как бы искупили своей плачевной участью их варварские победы. Цитадель Полиньяков неприступна. Скала круто обрывается со всех сторон. Деревня лепится у подошвы того холма, на котором расположена эта глыба застывшей магмы. От Лантриака это довольно далеко, а из-за непроходимых оврагов расстояние значительно увеличивается. Тем не менее, пустившись в дорогу на рассвете, мы к полудню добрались до места, и наша лошадка подвезла нас к потайной дверце подземного входа. Пейрак оставил меня, а сам пошел осматривать животных: ведь он слывет за опытного ветеринара, и где бы он ни появился, всюду нужна его помощь. Десятилетняя девочка открыла мне дверь, но когда я спросила, можно ли видеть жену Рокберта, крошка, заливаясь слезами, ответила, что ее мать умирает. Я побежала в перестроенную часть замка, где живет семья Рокберта, и увидела, что женщина лежит в горячке и бредит. Малыш Дидье играл в комнате с другим ребенком бедной Рокбертихи; тот очень веселился, не понимая, что делается с его матерью, хотя и был старше Дидье, а этот мальчик, то смеясь, то плача, смотрел на кровать больной с таким удивлением и тревогой, на какую только способен трехлетний мальчуган. Увидев меня, он подошел, но вместо того чтобы, немного поломавшись, поцеловать меня, как то было в первый раз, уцепился за мое платье и потянул за подол своими ручонками, крича «мама» таким жалобным голоском, что все в моей груди оборвалось. Он наверняка предупреждал меня о состоянии приемной матери. Я подошла к кровати. Рокбертиха никого не узнавала и не могла говорить. Через несколько минут вернулся ее муж и страшно перепугался, так как за последние часы жене стало хуже. Я велела ему послать за доктором и сиделкой; он тотчас все сделал, а я, боясь, не заболела ли Рокбертиха тифом, увела детей из комнаты. Доктор, приехав через два часа, похвалил меня, сказав, что болезнь Рокбертихи покамест определить затруднительно и что детей следует перевести в другой дом. Мы с Пейраком занялись этим сами, так как бедный Рокберт совсем потерял голову и только и делал, что теплил свечи в деревенской церквушке да бормотал по-латыни молитвы, которые казались ему целительнее любых лечебных предписаний. Когда Рокберт немного успокоился, было уже четыре часа дня, и нам с Пейраком нужно было уезжать. Ночи теперь безлунные, и к тому же надвигалась гроза. Тогда бедняга Рокберт принялся сетовать, говоря, что он пропал, если кто-нибудь не позаботится о детях, а главное, о дитятке (так он называл Дидье), об этой курице, которая несла золотые яички в его хозяйстве. Ведь за ним нужен особенный уход; он не такой крепыш, как местные дети, к тому же непоседа, всюду лазает, а эти развалины замка — настоящий лабиринт пропастей, где ни на минуту нельзя терять из виду маленького путешественника. А его даже некому поручить: из-за денег, которые малыш приносит в дом, развелось полно завистников и врагов, просто беда. Словом, тогда Пейрак и шепни мне: «Послушайте, кажется, ваше доброе сердце и мой замысел в полном согласии друг с другом. Оставайтесь-ка здесь, разместиться тут есть где, а завтра я приеду и погляжу, что да как, и коли вы тут будете не нужны, я увезу вас». Признаться, я только и ждала от Пейрака этих слов, точно долг и внутренняя потребность повелевали мне остаться при этом мальчике. Пейрак приехал на следующий день, но так как я видела, что жена Рокберта еще не скоро встанет с постели, то решила повременить с отъездом, наказав Пейраку приехать за мной в конце недели. В просторной зале, прежде, по-моему, служившей помещением для стражи, а ныне, для большего удобства, разделенной фермерами на множество комнат, я жила припеваючи. Деревенские постели очень чистые, а хозяйство я веду сама. Целый день у меня на руках трое детей. Девочка под моим присмотром стряпает, я слежу, чтобы за ее матерью был хороший уход, сама мою и одеваю Дидье. Как и остальные дети, он ходит в голубой кофточке, но одет с большей тщательностью с тех пор, как этим занялась я; душа моя так сильно привязывается к этому ребенку, и мне даже страшно подумать, что настанет час нашей разлуки! Ты знаешь, как я люблю детей, к Дидье же я чувствую особенную нежность. Шарло безумно ревновал бы меня к нему. Видишь ли, этот мальчик наверняка сын достойных родителей. Он знатного и благородного происхождения — лицо его отличается слегка матовой белизной, чуть тронутой румянцем, как это бывает у белых садовых роз, глаза карие, пленяющие разрезом и выражением, и целая копна черных вьющихся волос, тонких как шелк. Ручонки его точно изваяны скульптором, и Дидье их никогда не пачкает. Он не возится в земле, ни до чего не дотрагивается, и вся жизнь его проходит в созерцании мира. Я уверена, что размышляет он не по возрасту здраво, только не может свои мысли выразить, хотя для своих лет очень бегло говорит по-французски и на здешнем наречии. Он усвоил местное произношение, но в его устах оно звучит мягко, с легкой картавостью. Он горазд на трогательные выдумки, только бы делать то, что хочет, а хочет он быть на воле, лазать по этим развалинам или бегать по холмистым склонам: там он усаживается, разглядывает цветочки и особливо — разных букашек, но не притрагивается к ним, а следит за каждым их движением с таким видом, точно интересуется всеми чудесными проявлениями жизни; его же сверстники только и думают, как бы раздавить и уничтожить все, что попадает под руку. Я попыталась преподать ему начатки чтения, так как уверена (возможно, отец Дидье думает иначе), что чем раньше начинают ребенка учить грамоте, тем легче развивается его внимание, которое так трудно воспитать, когда он окрепнет телесно и духовно. Я уже убедилась в уме и любознательности Дидье, они просто удивительны, а с нашей методой, которая так чудесно помогала растить нам твоих детей, я уверена, что выучила бы Дидье читать за один месяц. И потом, этот ребенок — весь душа. Наша взаимная симпатия растет действительно не по дням, а по часам, и я не знаю, что с нами будет, когда придет пора расстаться. Хотя я скучаю по Жюстине и Пейраку, мне здесь очень нравится. Воздух такой чистый, что белые камни, мешаясь с обломками вулканического песчаника, так и сверкают, словно только что появились из каменоломни. И потом, внутри этого гигантского замка полно самых разных диковин. Надобно тебе сказать, что Полиньяки хвастливо утверждают, будто род их идет от самого Аполлона или от его жрецов по прямой линии и что, согласно преданию, здесь был храм этого бога, развалины которого существуют по сей день. Думаю, что стоит на них взглянуть, как сразу этому веришь. Весь вопрос в том, привезены ли обетные таблички и изваяния для украшения замка, как это делалось в эпоху Возрождения, или замок воздвигнут на останках храмины. Рокберт говорил мне, что здешние ученые спорят об этом уже пятьдесят лет, — я же склоняюсь на сторону тех, кто думает, что верхняя закраина колодца как бы служила устами бога, изрекавшего свои оракулы. Отверстие этого гигантского колодца, с которым неизвестно каким образом сообщается маленький колодец, было завалено исполинской головой классического стиля, и, по рассказам, из ее щербатого рта некогда звучал голос подземных пифий. Вероятно, так оно и было. Другие, правда, полагают, что эта голова просто украшала фонтан, но они тоже не уверены в этом. Ради развлечения я срисовала это каменное лицо и вкладываю рисунок в письмо, а заодно набросала и портрет маленького Дидье во весь рост, заснувшего, раскинув руки, на лбу у бога. Дидье тут мало похож на себя, но по этому наброску ты сможешь судить о той странной и прелестной картине, от которой уже четверть часа я не отвожу глаз. Здесь я совсем не читаю — под рукой нет восьми — десяти разрозненных томов, которые есть у Пейрака, нет даже его толстой, старой протестантской Библии. Я штопаю одежду моему мальчику, с которым мы неразлучны, мечтаю, грущу, не сетуя и не удивляясь своему новому положению, — мне тут хорошо, и это главное. Приехал милый Пейрак и привез твое письмо. Ах, сестрица, мужайся, не то я совсем паду духом. Ты пишешь, что маркиз был бледен, плохо себя чувствует, что тебе жаль его и ты чуть не проговорилась. Камилла, если тебе не под силу видеть страдания такого сильного духом человека, как маркиз, если ты не понимаешь, что только своим мужеством я могу ему помочь, я уеду, уеду на край света, и ты никогда не узнаешь, где я… Помни, что в ту минуту, когда на песке моего островка появится след чужеземца, я навсегда скроюсь, и тогда…»
Каролина не успела дописать фразу: Пейрак, только что вручивший ей письмо от госпожи Эдбер, воротился со словами: — Вот и господин приехал. — Что, что? — воскликнула Каролина, в странном волнении подымаясь с места. — Какой господин? — Отец этого таинственного мальчугана, господин Бернье. — Значит, тебе известно его имя? Здесь никто не знал его или нарочно утаивал. — Нет, я сам-то не выспрашивал, но этот господин бросил свой чемодан на лавку у дверей Рокбертихи, и я невольно прочитал его имя. — Бернье? Я его впервые слышу. Как ты думаешь, могу я взглянуть на этого господина? — Вам надо повидаться с ним. Нужно потолковать о мальчонке… Самое время. Пришел Рокберт и в один миг разрушил план Пейрака: господин Бернье велел привести сына, но, по своему обыкновению, удалился в отведенную ему комнату и не желает видеть посторонних людей. — Все равно я скажу ему, как вы ухаживали за моей женой и малышом, — прибавил Рокберт. — Наверняка он даст мне для вас хорошие денежки. Впрочем, я и сам вас не обижу, будьте спокойны! Он взял Дидье на руки и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. — Ну что ж, едем, — сказала Каролина, чуть не плача при мысли, что ей, вероятно, больше никогда не увидеть Дидье. — Погодите, — возразил Пейрак. — Давайте немного задержимся и посмотрим, как поступит этот господин, когда узнает, что вы целых пять дней нянчили его сына. — Неужели ты не понимаешь, друг мой, что Рокберт не посмеет сказать ему об этом? Разве он может признаться господину Бернье, что во время болезни жены доверил ребенка посторонней особе? К тому же он с радостью продержал бы мальчика еще год. Так как же он даст нам сказать отцу, что его ребенок получит у нас не только лучший уход, но и воспитание, которое подобает его возрасту? Конечно, нет. И сама Рокбертиха, несмотря на мои заботы о ней, скажет, что никто меня не знает и что вообще я, может быть, авантюристка. Одним словом, рассчитывая на благодарность и доверие, мы, чего доброго, еще окажемся интриганами, которые домогаются нескольких су. — Но когда мы от них откажемся, господин Бернье поймет, кто мы такие! Меня тут каждая собака знает, и каждому известно, что Самюэль Пейрак никогда не тянул руку за подачкой. — Этот господин ничего об этом не знает. Поедем скорей домой, дорогой друг! Мне неприятно тут дольше оставаться. — Как вам угодно, — сказал Пейрак, — лошадь я не распрягал, а отдохнет она в Пюи. Ну, все равно! Эх, послушались бы вы меня, барышня, посидели бы мы тут часика два, а там, глядишь, мальчонка стал бы искать вас да требовать — он ведь в вас души не чает, — мы бы к встретились во дворе. А там господин Бернье, глядишь, и заметит вас и, ручаюсь головой, сразу скажет: «Эта барышня не похожа на других. Надо с ней поговорить». А когда он заговорит… Пейрак по пятам ходил за Каролиной, которая, твердо решив уехать, уже собрала вещи и направилась к парадной двери замка. Но, проходя мимо скамьи, где еще лежали чемодан и дорожный плащ незнакомца, она прочитала имя, уже известное ей от Пейрака, изумленно всплеснула руками и в странном волнении бросилась прочь. — Что с вами? — спросил ее простодушный Пейрак, берясь за вожжи. — Так, глупости, — ответила Каролина, когда они уже выехали за ограду. — Мне вдруг показалось, что я знаю почерк того человека, который написал имя Бернье на чемодане. — Ба, да написано-то печатными буквами! — Ты прав, а я, верно, сошла с ума! Все равно — едем, едем, мой дорогой Пейрак! Всю дорогу Каролину не оставляли тягостные раздумья. Странное волнение, которое охватило ее при виде этого нарочно измененного почерка, она приписала беспокойству, внушенному ей письмом Камиллы. Но теперь ее мучило другое. Господин де Вильмер никогда не говорил ей о том, что видел собственными глазами замок Полиньяков, однако в своей книге описал его превосходно и точно. На его примере маркиз показывал, как были могучи в средние века эти феодальные логова, и Каролина знала, что маркиз часто путешествует по провинции, дабы проникнуться духом разных исторических мест. Она тщательно перетряхивала свою память, стараясь вспомнить, не говорил ли ей маркиз о посещении замка Полиньяков. «Нет, — убеждала она самое себя. — Если б он мне об этом рассказывал, я наверняка обратила бы внимание на название Лантриак и Пюи, о которых мне писала Жюстина». Тогда Каролина принялась вспоминать, не говорила ли она в связи с замком о Лантриаке и Жюстине, но такого разговора не было наверняка, и Каролина успокоилась. Но теперь уже другие мысли стали донимать ее. Откуда взялась эта любовь к чужому мальчику? Отчего в его глазах, повадках, улыбке она нашла что-то особенное? И разве мальчик не был похож на маркиза? И разве внезапная мысль заняться воспитанием этого ребенка, такая властная и неотвязная, не была подсказана ей инстинктивным желанием, которое было гораздо сильнее увещеваний Пейрака и случайного стечения обстоятельств? Но к этим тягостным раздумьям Каролины еще невольно примешивались тайные муки проснувшейся ревности. «Значит, у маркиза есть сын, дитя запретной любви, — думала она. — Значит, до нашего знакомства он страстно любил женщину. Значит, в его жизни есть великая тайна! Может, мать Дидье еще жива? Отчего тогда ее считают умершей?» Лихорадочно углубляясь все дальше в свои предположения, Каролина вспомнила слова маркиза, оброненные им под кедром в Ботаническом саду, вспомнила, как он намекал на свою борьбу между сыновним долгом и другим чувством долга, другой любовью, которую он испытывал, вероятно, не к ней! Невольно поддаваясь смятению все сильнее, Каролина тщетно старалась смириться со своей судьбой. Она любила, и больше всего ее терзала не надежда на счастье, а боязнь быть нелюбимой. — Да что это с вами? — спросил Пейрак, научившийся угадывать все тревоги Каролины по ее лицу. В ответ она забросала Пейрака разными вопросами об этом господине Бернье, которого тот видел всего один раз. Пейрак отличался наблюдательностью и хорошей памятью, но он обыкновенно обращал внимание только на тех людей, которые его интересовали. Поэтому он нарисовал портрет этого господина так неопределенно, что Каролина дальше своих догадок не пошла. Ночью она спала плохо, но к утру успокоилась и, пробудившись, убедила себя, что все ее вчерашние тревоги сущий вздор. У Пейрака было много дел, и он не стал дожидаться, пока она встанет. Домой он вернулся уже затемно. Лицо его сияло. — Наша затея продвигается, — сказал он. — Завтра господин Бернье будет здесь, но вы можете не волноваться: он английский моряк. Вы такого не знаете? — Даже не слыхала, — ответила Каролина. — Значит, ты его видел? — Нет, он ушел перед моим приездом. Но я видел Рокбертиху, которая поправляется и уже в полной памяти. Она мне и рассказала, что вчера вечером мальчонка сильно плакал и, даже засыпая, все спрашивал, где его Шарлетта. Отец заинтересовался, кто такая, Рокберту вроде бы не очень хотелось говорить о вас, но жена его — добрая христианка эта Рокбертиха! — с дочкой, которая вас очень любит, сказали, что вы настоящий ангел, а господин Бернье ответил, что хочет поблагодарить вас и вознаградить. Он спросил, где вы живете: у нас он никогда не бывал, но узнал меня и пообещал приехать к нам очень скоро. А чтобы малыш уснул, посулил привезти ему Шарлетту. — Из твоих слов я поняла только то, что этот иностранец приедет и предложит мне деньги. — И пускай предложит, тем лучше; тут-то вы ему и покажете, что вы не то, что он думает. Встретитесь, поговорите… Он уже многое о вас знает, а вы еще скажите ему, что вы барышня образованная, я же расскажу вашу историю, потому что она вас лишь украсит. — Ни в коем случае, — горячо возразила Каролина. — Я все время только и делала, что скрывала свое имя. Как же я теперь доверю свою тайну первому встречному? — Но ты же его не знаешь! — вмешалась Жюстина. — Коли вы договоритесь насчет этого мальчика, вы можете спокойно довериться этому господину. Зная его тайну, можно открыть ему и нашу. Какая ему корысть выдавать ее… — Жюстина! — закричала мадемуазель де Сен-Жене, стоявшая у окошка. — Постой, господи, молчи… Вот он, господин Бернье, он идет к нам… О, друзья мои, спрячьте меня, скажите, что я уехала, что никогда не вернусь! Ведь если он увидит меня и заговорит… Неужели вы не понимаете, что я погибла?
XXIV
Жюстина последовала за девушкой, которая побежала в свою комнатку, и жестами показала Пейраку, чтобы тот принял маркиза и не терял присутствия духа. Пейраку его занимать не приходилось. Он встретил господина де Вильмера спокойно, как полагается достойному человеку, имеющему суровое понятие о долге. О знакомстве маркиза с мнимой Шарлеттой не могло быть и речи: нужно было поскорее выпроводить маркиза, да так, чтобы он ничего не заподозрил, а если подозрения у него и были, их следовало рассеять. С первых же слов маркиза Пейрак понял, что тот ни о чем не догадывается. В ближайшие дни он собирался уехать со своим сыном, которого решил приблизить к себе, а покамест, воспользовавшись погожим утром, пешком прогулялся до Пейраков, чтобы погасить долг благодарности великодушной незнакомке. Он не предполагал, что дорога такая длинная, пришел немного позже, чем думал, и жаловался на легкую усталость: его лицо и в самом деле выглядело утомленным и болезненным. Пейрак, почитавший гостеприимство превыше всего, сразу предложил ему выпить и поесть. Он кликнул Жюстину, успевшую уже прийти в себя, и маркиза усадили за стол, а он, воспользовавшись случаем щедро вознаградить хозяев, с радостью принял их хлебосольство. Он выразил сожаление, узнав, что Шарлетта уехала, но расспрашивать о ней у него не было особенных причин. Маркиз решил оставить для нее деньги, и Жюстина шепнула Пейраку, что надо принять их, дабы не вызвать у гостя удивление. Каролина всегда сумеет отправить их обратно. Пейраку, напротив, это казалось излишним — его гордость была оскорблена при одной мысли, что маркиз еще решит, будто эти деньги он берет за свои услуги. Каролина слышала этот деликатный спор из своей комнатки. Голос маркиза бросал ее в дрожь, она даже не смела пошевелиться. Ей казалось, что господин де Вильмер узнает ее шаги. Маркиз едва притронулся к еде и, притворившись, что уже насытился, спросил, нельзя ли ему нанять лошадь, чтобы вернуться назад. На дворе уже совсем стемнело, и опять накрапывал дождь. Пейрак вызвался проводить маркиза и вышел запрягать лошадей, но сначала тайком поднялся к Каролине. — Очень мне жалко этого господина, — прошептал он. — Бедняга совсем расхворался, честное слово. Лоб весь в испарине, а он все норовит подсесть ближе к огню. Наверняка его бьет озноб. Дышит так, будто сердце у него от этого разрывается: все держится за грудь, через силу улыбаясь, а потом подносит руку ко лбу — совсем замучился. — Господи! — воскликнула испуганная Каролина. — Если он заболел, это очень опасно… Его нельзя отпускать на ночь глядя. В повозке твоей трясет, дороги тяжелые. Потом холод, дождь, а у него горячка! Нет, нет, эту ночь ему нужно провести здесь… Только где? Он скорее ляжет спать на улице, чем будет ночевать в грязной гостинице. Остается только одно: задержать его и никуда не отпускать из дома. Отдай ему мою комнату, а я мигом соберу вещи и уеду к твоей невестке! — У невестки или тут ночевать — все одно. Ночью он еще пуще расхворается, и вы, забыв про все на свете, прибежите к нему. — Да, верно. Что же делать? — Хотите, я скажу вам? Вы барышня здоровая и крепкая. Я отвезу вас к свояченице в Лоссонну. Там вы и переночуете, а завтра, когда он уедет, я вас оттуда заберу. — Да, ты прав! — сказала Каролина, поспешно завязывая вещи в узелок. — Уговори его остаться и шепни своему сыну, чтобы тот запрягал Миньону. — Миньону нельзя — она целый день на ногах. Возьмем мула. Отдав все распоряжения, Пейрак вернулся к маркизу со словами, что дождь зарядил на всю ночь, и, перемигнувшись с Жюстиной, так участливо принялся уговаривать маркиза остаться,что тот согласился. — Вы правы, друзья мои, — сказал он с горькой усмешкой. — Мне слегка нездоровится, а умирать я просто не имею права. — У кого же есть такое право? — ответил Пейрак. — Но вы у нас не расхвораетесь и, уж конечно, не умрете, можете поверить мне на слово! Моя жена выходит вас. Комнатка наверху очень чистая и очень теплая, а если вам станет плохо, стукните в пол, — сразу услышим. Жюстина поднялась наверх, чтобы приготовить комнату для маркиза и обнять бедняжку Каролину, которая от страха совсем потеряла голову. — Нет! — зашептала она. — Если он болен, как же я могу его бросить? Нет, это чистое безумие — я остаюсь. — Ах, но этого Пейрак никогда не допустит, — ответила Жюстина. — Он человек твердый. Но сама подумай: может, Пейрак прав. Если вы разжалобитесь, вам с этим господином никогда не развязаться. И тогда… Я знаю, что вы, конечно, не сделаете ничего дурного, но его мать… И потом пересуды начнутся! Каролина ее не слушала: Пейрак, войдя в комнатку, властно взял ее за руку и повел вниз по лестнице. Препоручив свою душу севенскому протестанту, Каролина была уже не в силах распоряжаться ею. Пейрак подвел Каролину к повозке и бросил туда ее узелок. В эту минуту Каролина вырвалась из его рук, кинулась в дом через заднюю дверь и увидела господина де Вильмера, сидевшего к ней спиной. Тут она остановилась — самообладание вернулось к ней. Да и поза Урбена немного успокоила Каролину. Маркиз сидел у огня и читал Библию Пейрака. Маленькая железная лампа, висящая над каминным колпаком, освещала его черные волосы, такие же вьющиеся, как у маленького Дидье, и кусочек лба, неизменно чистого и волевого. Болезнь немилосердно мучила маркиза, но он хотел жить, так как надежда не оставляла его. — Вот и я! — сказала Каролина, вернувшись к повозке. — Он меня не заметил, но зато я видела его. Теперь мне стало легче. Едем! Но сначала поклянись мне честью, — добавила она у подножки, — что если этой ночью с ним случится припадок удушья, ты немедленно приедешь за мной, даже если для этого тебе придется загнать лошадь. Так нужно, понимаешь? Только я умею ухаживать за этим больным… Иначе он умрет у вас на руках и его смерть будет на вашей совести. Пейрак дал ей слово, и они тронулись в путь. Погода стояла ужасная, и дорога совсем раскисла. Но Пейрак знал наизусть все ее ухабы и колдобины. Впрочем, ехать было недалеко. Пейрак устроил Каролину у родственницы и к одиннадцати часам вернулся домой. Маркизу заметно полегчало: перед сном он побеседовал с Жюстиной так дружески и учтиво, что она была в полном от него восхищении. — Знаешь, Пейрак, — сказала она, — сердце этого человека совсем как у… И я теперь понимаю… — Молчи! — сказал Пейрак, знавший, как тонки половицы в верхней комнате. — Он спит, пора и нам ложиться. В ночном Лантриаке царило безмолвие. Маркиз отдохнул превосходно и проснулся в два часа ночи, полностью избавившись от горячки. Он чувствовал себя совершенно успокоившимся, чего с ним давно уже не было: ему словно снился приятный, но уже отлетевший сон, под обаянием которого он все еще находился. Не желая будить хозяев, маркиз лежал неподвижно, разглядывая при тусклом свете лампы стены этой комнаты. Со времени исчезновения Каролины он никогда не представлял себе так ясно собственное положение, как теперь. В голове его теснилась тысяча решений, но, поразмыслив, он остановился на том, что должен жить для сына, и его детский облик вернул ему силы бороться с физическим недугом. За сутки в голове его созрел окончательный план. Он решил отвезти Дидье к госпоже Эдбер, оставить ей письмо для Каролины и уехать на некоторое время из Франции, чтобы мадемуазель де Сен-Жене могла безбоязненно вернуться к своей сестре в Этамп. В течение нескольких спокойных недель маркиза, вероятно, поймет свое заблуждение или, быть может, откроет тайну Гаэтану, который поклялся при случае выведать ее у матери. Но даже если герцогу это не удастся, Урбен все равно не откажется от своего плана. Он тайком вернется в замок Моврош, где его матушка должна проводить лето у своей невестки, и сообщит о своем возвращении Каролине в тот самый день, когда оправдает ее в глазах маркизы и устранит все препятствия для брака. Теперь прежде всего нужно было добиться, чтобы мадемуазель де Сен-Жене поскорее вышла из своего таинственного убежища. Маркиза не покидала мысль, что она скрывается в одном из парижских монастырей. Он считал своим долгом задержаться на несколько дней в Полиньяке, чтобы сначала удостовериться в полном выздоровлении жены Рокберта, а потом забрать своего сына. Эта проволочка больше всего тревожила Урбена. Сгорая от нетерпения, он решил, что написать госпоже Эдбер, а главное, Каролине, нужно не откладывая, дабы они были готовы съехаться сразу после его отъезда за границу. На этом он выиграет несколько дней, а письмо нетрудно отправить днем из Пюи по дороге в Полиньяк. Эта мысль возникла у маркиза сразу, как только он заметил маленький письменный стол, где были перья, чернила в чашечке и несколько разрозненных листков бумаги, оставленных Каролиной. Он тихо поднялся, поставил лампу на стол и написал Каролине следующее:«Друг мой, сестра моя, вы не оставите несчастного, для которого, вот уже целый год, вы надежда всей его жизни. Каролина, поймите правильно мои намерения. У меня к вам только одна просьба, и вы не сможете мне отказать в ней. Я уезжаю. У меня есть сын, мать которого умерла. Я страстно люблю этого мальчика и препоручаю его вам. Вернитесь!.. Я уезжаю в Англию. Если вы не доверяете мне, вы никогда меня не увидите… Но это невозможно! Неужели я недостоин вашего уважения? Каролина…»
Маркиз вдруг остановился. Незначительный предмет на столе внезапно привлек к себе его внимание. Писчая бумага и железные перья не заключали в себе ничего особенного, но между рукой маркиза и чернильницей оказалась черная бусинка, и эта безделица пробудила в маркизе целый мир воспоминаний. Это был крошечный гагатовый шарик, совершенно по-особому выточенный и просверленный; он был частью недорогого браслета, который Каролина носила в Севале. Маркиз хорошо его знал: когда Каролина писала, она обычно снимала браслет, и маркиз, беседуя с девушкой, имел обыкновение играть им. Он забавлялся браслетом сотни раз, а однажды Каролина сказала: «Не порвите его. Это все, что осталось от драгоценностей моей матери». И тогда маркиз с благоговением посмотрел на него и любовно задержал в пальцах. Спасаясь бегством, Каролина впопыхах порвала у браслета нитку, поспешно собрала все бусинки, но одна осталась лежать на столе. Эта гагатовая бусинка разом опрокинула все планы маркиза. Но, может быть, то была игра его воображения? Может быть, подобные гагаты делаются в этой стране? Маркиз сидел неподвижно, пытаясь разобраться в нахлынувших мыслях. Он вдохнул смутное благоухание комнаты, потом обвел ее глазами. На столе, на стенах, на камине ничего не было. Наконец он заметил в очаге обрывки полусгоревшей бумаги. Тщательно разворошив ее, маркиз нашел клочок бумаги с остатками адреса. Там сохранились всего два слога: один, написанный от руки, был последним слогом слова Лантриак; другой слог «ам» был частью почтового штемпеля. Марка была явно из Этампа, а почерк принадлежал госпоже Эдбер. Все сомнения маркиза рассеялись: Шарлетта была не кто иная, как Каролина, которая, вероятно, еще не уехала и, возможно, даже находится в этом доме. С этой минуты в маркизе проснулись хитрость, спокойствие и чутье дикаря. Он пригляделся к крану небольшого домашнего водопровода, который сообщался с умывальником в нижней комнате. Кран был закрыт, но штукатурка вокруг него потрескалась и облупилась. Припав ухом к трещинкам, маркиз услышал ровное дыхание спящего Пейрака. Отныне каждое слово, сказанное внизу, явственно доносилось до его слуха, и очень скоро маркиз услышал, как поднялась Жюстина и отчетливо произнесла: — Пора вставать, Пейрак. Бедняжке Каролине вряд ли хорошо спалось эту ночь. — Ночь как ночь, — буркнул Пейрак. — Но я поеду за ней, как только спроважу этого господина. Жюстина прислушалась и добавила: — Он еще спит, но сказал, что подымется с рассветом. Скоро день. Он говорил, что уедет без завтрака. — Все равно, — сказал Пейрак подымаясь: теперь его голос звучал громче, хотя он и говорил шепотом. — Я не могу отпустить его пешком. Больно длинная дорога. Пускай сынишка оседлает ему мою лошадь, и как только он отправится, я поеду в Лоссонну. Теперь господин де Вильмер знал, что делать. Он начал шуметь, давая хозяевам понять, что проснулся, и, положив в ящик стола кошелек, спустился вниз по лестнице. Он сделал вид, что очень торопится в Полиньяк, и, уверив Пейрака, что чувствует себя превосходно, наотрез отказался от лошади — она только помешала бы ему вести наблюдение за Пейраком и Каролиной. Маркиз горячо пожал хозяевам руки и откланялся, но, выйдя из деревни, тут же пошел в другом направлении и, справившись у прохожего о дороге в Лоссонну, двинулся по тропинке, ведущей в селение. Маркиз хотел прийти в Лоссонну раньше Пейрака, тайком дождаться его и собственными глазами увидеть, как Каролина сядет в повозку и поедет в Лантриак. Как только будет точно известно, что девушка возвратилась в дом Жюстины, он обдумает дальнейшие действия. Теперь, когда Каролина упорно избегала его, он не хотел показываться ей на глаза, боясь снова потерять ее. Пейрак был очень проворен: хотя дорога в Лоссонну делалась все труднее, Миньона бежала быстро. Тропинка, по которой шел маркиз, оказалась не намного короче, и деревенская коляска Пейрака обогнала его. Маркиз видел, как она проехала мимо, и узнал Пейрака, который, несмотря на утренний туман, разглядел, как какой-то человек, одетый не по-здешнему, поспешно скрылся за голой каменной грядой. Пейрак насторожился. «Может, он обвел нас вокруг пальца или о чем-нибудь догадался, — подумал севенец. — Хорошо же. Если это и вправду он, если он не так болен, как прикидывался, я отважу его за нами бегать». Он поторопил Миньону и с первыми лучами солнца въехал в деревушку. Навстречу ему вышла измученная бессонницей и смертельно встревоженная Каролина. — Все обошлось, — сказал Пейрак. — Вчера я ошибся: он вовсе не был болен — ночью спал хорошо и даже отправился в замок пешком. — Значит, он ушел? — спросила Каролина. — Значит, он ничего не заподозрил, и я его больше не увижу? Что ж, так оно лучше. — И Каролина заплакала навзрыд. Пейрак понял, что сердце ее разрывается от боли. — Ну вот, теперь и вы у нас захвораете, — сказал он девушке строгим отеческим тоном. — Полноте, будьте благоразумны, не то Пейрак больше не станет слушать ваши уверения, что вы настоящая христианка. — Господи, только бы он не увидел моих слез!.. Неужели ты не можешь простить мне эту минутную слабость? Но что ты делаешь? Зачем мы повернули назад? Пейраку почудилось, что на дороге опять мелькнул маркиз. — Вы уж простите меня великодушно, — сказал он, — но у меня в Лоссонне есть одно дельце. Мы обернемся мигом. Пейрак ехал по деревне, будучи совершенно уверенным, что отныне маркиз наблюдает за ними издали. В конце проселка он перекинулся словами с одним из местных крестьян. Потом, вернувшись к Каролине, сказал: — Послушайте, дочь моя, вы что-то совсем пригорюнились. Хотите, я вас немного развею? Вы всегда веселеете от прогулок; давайте я устрою вам такую прогулку, и преотличную. — Если у тебя есть где-то дела, я не смею мешать и поеду с тобой, куда скажешь. — Мне надо бы наведаться в деревню Эстабль. Это неподалеку от Мезенка. Места там красивые, да и вам давно хотелось поглядеть на самую большую гору в Севеннах. — Ты же уверял, что туда можно поехать лишь в конце будущего месяца. — Оно конечно, погода малость хмурится, и дороги, верно, пораскисли. Я не был там с прошлого года, но, говорят, там уже работали люди, и потом, знаете, со мной никакие опасности не страшны. — Когда так тяжело на сердце, об опасностях не думают. Едем! Пейрак погнал лошадь, которая, проехав Лоссонну, проворно поднялась на следующий холм. Когда они взобрались на вершину, Пейрак обернулся: на тропинке никого не было, а перед ним лежала лишь дорога, размытая дождем. — А когда выедем на плоскогорье, вы у меня не расстроитесь вконец? — спросил Пейрак. — Нет, — ответила Каролина. — Что еще может расстроить отчаявшегося человека? Пейрак двинулся в путь, то и дело говоря девушке, что солнце, видно, так и не появится из-за туч, что ехать до места еще четыре мили и что Мезенк, вероятно, окажется в тумане. Каролина безучастно слушала его, не замечая в словах своего старого друга ни сомнений, ни угрызений совести. Они въехали на гору, густо поросшую соснами, среди которых пролегала большая просека: она была прорублена очень давно наподобие громадной аллеи, поэтому издали казалась такой широкой, что по ней могла бы пройти в ряд добрая сотня экипажей. Но едва повозка углубилась в лес, как дорога превратилась в настоящую пытку: земля была размыта дождем, на каждом шагу подстерегали глубокие рытвины, и чем дальше, тем дорога становилась хуже. Торфяная почва была усеяна глыбами застывшей лавы, а между ними зияли ямы. Когда же колеса чудом попадали в проложенную колею, на пути возникали нагромождения чудовищных камней, не дававшие проехать; тогда приходилось опять отыскивать старую проезжую дорогу среди сотен ухабов и канав. Лошадь показывала чудеса храбрости, Пейрак — чудеса ловкости и сообразительности. За два часа они проехали только две мили и очутились на пустынном бесконечном плоскогорье, простертом на высоте полутора тысяч метров. Вокруг, кроме бездорожья, ничего не было. Солнце не показывалось, туман, точно саваном, окутал окрестность, и трудно себе представить то чувство безысходного отчаяния, которое охватило душу Каролины. Даже Пейрак — и тот приуныл и молчал. Старая, заваленная глыбами дорога осталась позади, и вот уже четверть часа повозка еле ползла, увязая в топкой кочковатой трясине, изрытой копытами пасшихся коров. Нигде не было видно даже смутного намека на дорогу. Обливавшаяся потом Миньона остановилась: она как бы предупреждала, что местность ей незнакома. Пейрак спешился, погрузившись по колено в торфяную топь и стараясь понять, куда они забрели. Это было совершенно невозможно. Горы и овраги скрылись под пологом белого тумана. — Мы сбились с дороги? — равнодушно спросила Каролина. В эту минуту налетевший ветер вырвал клок из туманной завесы, и вдали обозначился величественный горизонт. Но пелена тумана сомкнулась так быстро, что по обрывку дальних гор Пейрак не понял, где они. Внезапно послышался собачий лай, потом голоса, и наконец в двух шагах от себя они увидели собак. В тумане они незаметно для себя обогнали обоз — люди на мулах везли овощи и бурдюки. То были горцы, ездившие в долину менять свои сыры и масло на фрукты и овощи. Они остановились и заговорили с Пейраком. Ему было сказано, что ехать по такой дороге в Этабль — чистое безумие и лучше всего повернуть обратно. Самолюбивый Пейрак не мог этого допустить и спросил, далеко ли до деревни. Горцы показали ему дорогу, прибавив, что пути часа на полтора, и, даже не предложив помочь, отправились восвояси, подшучивая над незадачливым возницей. Каролина только видела, как они, точно тени, растаяли в тумане. Новый подъем на гору поглотил у Миньоны остаток сил, и теперь ей обязательно нужно было перевести дух. — Хорошо, хоть вы ни на что не жалуетесь, — растроганно промолвил Пейрак. — Однако холод все злее, и сырой ветер пробирает до костей. В ответ Каролина вся задрожала. Но тут на обочине дороги мелькнула новая тень: то был маркиз де Вильмер. Казалось, он не замечал повозки, хотя на самом деле отлично ее видел, однако он боялся дать понять Каролине и Пейраку, что узнал их. Напустив на себя равнодушный вид, он необычайно энергично приближался к ним. — Это он, я его узнала! — крикнула Каролина Пейраку. — Он следит за нами. — И пускай себе следит — мы его пропустим, а сами вернемся назад. — Нет, я больше не могу, не хочу… Он не выдержит дороги, он умрет, ему не добраться до Этабля. Едем за ним! На сей раз голос объятой ужасом Каролины звучал так властно, что Пейрак не посмел перечить. Они догнали маркиза де Вильмера; тот посторонился, но, не подняв головы, снова зашагал вперед. Он не желал докучать Каролине своей любовью и не желал идти наперекор ее воле, но он хотел знать все и ради этого готов был следовать за ней до самой смерти. К несчастью, силы его были уже на исходе. Ужасная дорога от самого Лантриака все время шла в гору, последние две мили петляя среди лабиринта камней и теряясь в трясине, — маркиз обливался потом, который леденил его тело, смерзаясь на пронизывающем до костей ветру. Маркиз задыхался и был принужден остановиться. Каролина повернула голову и хотела было окликнуть его… Но Пейрак крепко сжал ее руку. — Мужайтесь, дочь моя! — сказал он проникновенным тоном проповедника. — На то воля божья. — И Каролина почувствовала, что она бессильна перед суровой верой севенского крестьянина. — Да и что с ним случится? — продолжал Пейрак. — Сумел в такую глушь забраться, хватит сил дойти и до деревни. От длинной прогулки еще никто не умирал. А в Этабле он отдохнет. Если же захворает… я его не оставлю. — Ведь он же идет за мной! Неужели ты не понимаешь, что заговорить с ним здесь или в другом месте мне все равно придется. — С чего вы взяли, что он идет за вами? Ему и невдомек, что вы тут. Мало ли кто ездит смотреть на Мезенк. — В такую погоду? — Солнце поднялось яркое, вот мы и поехали любоваться Мезенком. Маркиз видел, как Каролина спорила с Пейраком и как потом уступила ему. Это был для него последний, страшный удар. В тот момент, когда повозка обогнала его, он понял, что дальше идти не в силах. Внезапно поднялся ветер, яростным порывом разогнал туман, сразу же повалили легкие снежные хлопья вперемешку с ледяной крупой, и маркиз опустился на большой валун, все еще не отрывая взгляда от черной точки, постепенно тающей вдали. «Значит, она даже не хочет поговорить со мной! — думал маркиз, чувствуя, что силы оставляют его. — Она бежит от своей надежды, она потеряла веру. Значит, она никогда не любила меня!» И маркиз лег на снег, чтобы умереть.
XXV
— Скорей бы поспеть на место! — приговаривал Пейрак, видя, что снег валит все гуще и гуще. — Этот снегопад похуже тумана будет. Как начнет сыпать, так сугробы вмиг подымутся выше головы. Услыхав эти неосторожно брошенные слова, Каролина взбунтовалась: она хотела выскочить из повозки, хотела бежать назад и искать господина де Вильмера, покуда не найдет. Пейрак удержал девушку, однако, скрепя сердце, покорился ей и повернул назад, хотя с тех пор как они, потеряв из виду маркиза, преодолели эти мучительные полмили, дорога стала еще труднее, продвижение медленнее, и опасность караулила на каждом шагу. Тщетно искали они глазами маркиза. За час земля и валуны скрылись под густым снежным покровом. Теперь уже нельзя было понять, где последний раз они видели маркиза и где его разыскивать, Каролина стонала, не слыша самое себя, и то и дело приговаривала: «Господи, господи!» Пейрак даже не пытался ее утешить и только просил как можно зорче глядеть вперед. Внезапно лошадь остановилась. — Видно, мы набрели на дорогу, — сказал Пейрак. — Миньона узнала здешние места. — Значит, мы слишком далеко отъехали назад! — ужаснулась Каролина. — Но мы же никого не встретили! Наверняка этот господин, завидя начавшуюся метель, вернулся в Лоссонну, а мы, в двух шагах от деревни, можем тут застрять навечно, если снегопад не прекратится. Так и знайте! — Ты поезжай, Пейрак, поезжай! — крикнула Каролина и прыгнула в сугроб. — Я отсюда никуда не уйду, пока не разыщу его. Пейрак не ответил. Он тоже вылез из повозки и принялся искать маркиза, ни капли не веря в успех: снега навалило по колено, и найти труп в высоких сугробах было невозможно. Каролина брела наудачу: казалось, душа ее вырвалась из телесной оболочки — в таком смятении она была. Уйдя довольно далеко от повозки, она вдруг услышала, что Миньона сильно храпит и трясет головой. Решив, что лошадь издыхает, Каролина пожалела бедное животное, но тут же приметила, что Миньона как-то странно принюхивается к снегу. Это был верный знак: Каролина кинулась к сугробу и увидела, что из него торчит помертвелая рука, затянутая в перчатку: от дыхания Миньоны снег в этом месте растаял и обнаружил лежащего маркиза. Его простертое тело мешало лошади пройти, и она не решалась на него наступить. На крик Каролины прибежал Пейрак: он отрыл из-под снега господина де Вильмера, перенес его в повозку, а мадемуазель де Сен-Жене, прижав к себе маркиза, принялась отогревать его в своих объятиях. Пейрак взялся за вожжи и снова двинулся по направлению к Мезенку. Он понимал, что нельзя терять ни минуты, но шел вслепую и скоро провалился в глубокую яму, которую, естественно, не заметил. Миньона остановилась сама. Пейрак вылез из снега, попытался отвести Миньону назад, но колеса уперлись в невидимую преграду. Впрочем, и Миньона выбилась из сил. Тщетно Пейрак понукал ее, даже ударил впервые в жизни, тащил за удила, раскровянив ей рот. Бедное животное смотрело на хозяина почти человеческими глазами, как бы говоря ему: «Я сделала больше, чем могла, и теперь спасти вас уже не в моей власти». — Неужели нам суждено здесь погибнуть? — воскликнул совсем приунывший Пейрак, видя, как неумолимо валят с неба снежные хлопья. Плоскогорье уже превратилось в настоящую сибирскую степь, и только в завьюженной дали вырисовывалась белесо-серая голова Мезенка. Укрыться было негде — вокруг не было ни дерева, ни навеса, ни скалы. Пейрак понимал, что перед бураном они бессильны. — Будем надеяться! — сказал Пейрак, что на его южном наречии, как известно, означает: будем ждать! Тем не менее Пейрак решил отвоевать у пурги хотя бы четверть часа, даже если они последние в его жизни. Он оторвал доску от повозки и принялся разгребать снежные наметы, которые росли на глазах. В течение десяти минут Пейрак трудился, как атлет, без устали разгребая сугробы и утешаясь тем, что хотя, может быть, его усилия и напрасны, но он будет биться за собственную жизнь и за жизнь Каролины до последнего дыхания. А через десять минут он возблагодарил бога: снегопад поубавился, ветер утих, над землей снова закурился туман, который был уже не так опасен, как вьюга. Пейрак стал спокойнее разгребать наметы. Наконец на горизонте проглянула белая полоска — вестница хорошей погоды. До сего момента Пейрак ни слова не сказал Каролине, не проронил ни одного проклятия, и если Каролине было на роду написано здесь замерзнуть, она узнала бы об этом в последнюю минуту. И все же Пейрак заглянул внутрь повозки и, увидев, что иссиня-бледная Каролина смотрит на него безумными глазами, страшно испугался. — Полноте! Полноте! — сказал он. — Ну что с вами? Все уже позади. — Да, позади! — ответила она с горькой усмешкой, показывая на Урбена, распростертого на лавке: лицо маркиза от холода посинело, а большие, широко раскрытые глаза казались остекленевшими глазами трупа. Пейрак еще раз огляделся окрест: помощи со стороны нечего было и ждать. Он прыгнул в повозку и, крепко прижав к себе маркиза, принялся с силой растирать и разминать его тело своими железными руками, стараясь согреть. Но все было тщетно. За окоченением последовал тот нервный припадок, которыми страдал маркиз. — Но он еще жив! — ободрял ее Пейрак. — Жив, я чувствую. Эх, если б нам развести огонь! Но камни не горят. — А если нам сжечь повозку? — в отчаянии спросила Каролина. — Прекрасная мысль… Но что мы будем делать потом? — Потом, потом… Господь нас не оставит без помощи. Неужели ты не понимаешь, что мы должны выжить во что бы то ни стало! Пейрак снова посмотрел на иссиня-бледное лицо Каролины, на лиловые круги под ее глазами и решил, что она тоже умирает. Больше он ни минуты не колебался и был готов на любой риск. Он распряг Миньону, и та повалилась в снег. Сняв верх с повозки и положив его на землю, Пейрак снес туда все еще неподвижного маркиза де Вильмера; затем, вытащив из ящика несколько охапок сена, старую бумагу и обрывки рогожи, засунул их под повозку и зажег эту кучу с помощью огнива. Разломав кузнечными тисками доски своего убогого экипажа, он без труда запалил костер, который сразу заполыхал, а затем, разбивая и кромсая повозку, стал подбрасывать щепки в огонь. Снегопад прекратился, и маркиз де Вильмер стал постепенно приходить в себя, оцепенело глядя на странную сцену, которая ему казалась сном. — Он спасен, спасен, слышишь, Пейрак! — кричала Каролина, заметив, что маркиз пытается приподняться. — Да благословит тебя господь! Ты спас его! Голос Каролины явственно доносился до слуха маркиза, но он, думая, что грезит, даже не искал ее глазами, и лишь ощутив на своих руках губы обезумевшей Каролины, понял, что происходящее не сон, а явь. Но так как девушка даже не собиралась бежать от него, он решил, что умирает, и, пытаясь улыбнуться, едва слышно прошептал слова прощания. — Нет, нет, не прощайтесь! — отвечала она, покрывая его лоб поцелуями. — Вам нужно жить, я этого хочу, я люблю вас! Слабый румянец окрасил бледно-серые щеки маркиза, но выразить словами свою радость он еще не мог. Маркиз боялся, что это предсмертное видение, но по всему было ясно, что он оживал. Под верхом повозки, служившей маркизу кровом, накопилось тепло, и Урбен, удобно устроенный на плащах Каролины и Пейрака, почувствовал себя лучше. «Надо, однако, уходить отсюда», — думал Пейрак, с тревогой следя за посветлевшей полосой на горизонте. Все еще подмораживало, щепки кончились, костер догорал, а больной наверняка пешком не доберется до Этабля. Да и Каролина вряд ли одолеет дорогу. Оставалось только одно: посадить обоих на лошадь, но измученной Миньоне не справиться с такой ношей. И тем не менее нужно было попытаться, но сначала дать Миньоне овса. Пейрак стал искать мешочек, и не нашел: пламя уничтожило его. Радостный возглас Каролины вернул Пейраку надежду: девушка указывала на легкий дымок над холмом, за которым они укрылись. Пейрак взобрался на вершину и увидел в низине медленно приближающихся быков, тянущих воз, и погонщика, который курил трубку. — Видишь! — воскликнула Каролина, когда воз поравнялся с ними. — Господь не оставил нас без защиты. Маркиз де Вильмер был еще так слаб, что его пришлось поднять на воз, по счастью, доверху набитый соломой. Пейрак зарыл в нее маркиза, а Каролина устроилась рядом. Взглянув еще раз на жалкие останки своей повозки, Пейрак вскочил на Миньону, и через час они уже были в деревне. Пейрак с презрением проехал мимо постоялого двора. Он знал, что в этом заведении за маркизом никто не станет ухаживать, и поместил его у знакомого крестьянина. Все сразу засуетились вокруг больного, забрасывая его вопросами и советами, но он их не слышал. Пейрак выпроводил посторонних, отдал необходимые распоряжения и сам занялся маркизом. Через несколько минут в очаге уже трещал огонь, и в котелке пенилось вино. Господин де Вильмер, лежа на толстой подстилке из сена и соломы, не сводил глаз с Каролины, которая, стоя на коленях, оберегала его платье от огня и с материнской любовью предупреждала его малейшее желание. Больше всего тревожило девушку питье, которое Пейрак готовил из различных пряностей. Однако маркиз полностью доверял опытному горцу. Он дал знак, что готов выпить снадобье, и Каролина поднесла кружку к его губам. Маркиз и вправду скоро обрел речь, поблагодарил своих новых хозяев и, пожав руку Пейраку, сказал, что хочет остаться с ним и Каролиной наедине. Не легко было выпроводить из дому крестьянина с его семейством хотя бы на несколько часов. Под этим суровым небом жилища строились редко, а многочисленные животные — единственное достояние севенца — размещались в доме, так что обитателям его почти не оставалось места. К тому же севенцы слывут людьми негостеприимными и жестокими, и эта дурная слава ходит за ними со времен убийства землемера, которого Кассини послал измерить высоту Мезенка, а местные жители приняли за колдуна. С той поры севенцы очень переменились и нынче кажутся более обходительными, но их привычки закоснели от вековой беспросветной нужды. Правда, они ловко торгуют, выращивают замечательный скот и к тому же обладают запасами продуктов для обмена. Однако суровость климата и отторгнутость их дикого края наложили свой отпечаток на душу севенца и вошли, так сказать, в его плоть и кровь. Комната, составлявшая вместе с хлевом внутренность дома и в конце концов предоставленная в распоряжение Пейрака, была крошечная. Дым частью выходил через очаг, частью — через отверстие, зияющее прямо в стене. Две кровати наподобие ящиков давали отдых ночью всему семейству, и можно было только диву даваться, как это на них спали шесть человек. Полом служила грубая скала: тут же, рядом с людьми, толклись коровы, козы, овцы и куры. Пейрак постелил всюду чистую солому, раздобыл дров, нашел в шкафчике хлеб и заставил Каролину поесть и отдохнуть. Маркиз молил ее взглядом подумать о себе, но она не отходила от него ни на шаг, крепко сжимая его руки в своих. Он уже мог говорить и хотел ей сказать многое, но боялся проронить словечко. Маркиз опасался, что Каролина покинет его, как только поймет, что он знает о ее любви. И к тому же маркиза смущало присутствие Пейрака: ведь, оберегая Каролину, он поначалу выказал такое упрямство и жестокость по отношению к нему, а теперь ухаживал за ним с преданностью и безграничной заботой. Наконец Пейрак оставил их одних. Он не мог бросить на произвол судьбы верного друга — свою старую лошадь — и казнился за то, что так грубо обошелся с ней, а приехав, против воли доверил ее чужим людям. — Каролина, — сказал маркиз, усаживаясь на скамеечку, — мне многое нужно было сказать вам, но я потерял голову… да, да, потерял голову и боюсь, что говорю как в бреду. Простите меня, я счастлив видеть вас, счастлив, что снова вырвался из холодных объятий смерти. Но больше я не доставлю вам беспокойств! Господи, каким бременем я был в вашей жизни. Но все уже позади. То, что произошло, было случайностью… безумием, неосторожностью с моей стороны. Но разве мог я примириться с тем, что теряю вас еще раз? Нет, вы не знаете, вы не поняли, чем были в моей жизни, а может быть, никогда не захотите понять. Может, завтра вы опять убежите от меня. Зачем, господи, зачем?.. Вот, читайте, — добавил он, передавая ей скомканное письмо, начатое тем же утром в Лантриаке. — Вероятно, его уже нельзя прочесть, снег и дождь… — Нет, я разбираю, — сказала Каролина, склоняя голову поближе к огню, — все вполне разборчиво… и я понимаю!.. Я знала, догадывалась и… я согласна… Я этого жаждала всем сердцем, это было мечтой моей жизни. А разве мои жизнь и сердце не принадлежат вам? — Узы, пока нет. Но если вы захотите поверить в меня… — Не надо убеждать меня — вам вредно много разговаривать, — твердо сказала Каролина. — Я верю в вас, но не верю в собственную участь. Что ж! Я принимаю ее такой, какой вы мне ее устроите. Дурная или хорошая, она будет мне дорога, так как я не могу избрать иную. Слушайте меня, слушайте — быть может, у нас осталась одна минута для разговора. Я не знаю, какие испытания уготованы моей и вашей совести, но мне известно, как неумолима ваша матушка, обдавшая меня ледяным презрением, и если мы разобьем ей сердце, господь нас за это не вознаградит. Значит, нужно покориться судьбе раз и навсегда. Вы же сами говорили: строить свое счастье на смерти матери — значит сделать мечту о счастье самой преступной мыслью, и счастье это будет трижды проклято. Мы сами проклянем его! — Зачем вы мне напоминаете об этом? — сокрушенно спросил маркиз. — Я и сам все знаю. Но неужели вы думаете, что матушку нельзя переубедить? Если так, значит, вы хотите отнять у меня малейшую возможность бороться за нас, и только жалость… — Вы слепец, — воскликнула Каролина, прижимая пальцы к его губам, — слепец, если не видите, что я люблю вас! — О господи, — сказал маркиз, склоняясь к ее ногам. — Повторите еще раз! Я боюсь, что это сон. Эти слова вы мне сказали впервые. Я догадывался, но боялся поверить… Скажите, скажите еще раз, и я готов умереть! — Да, я люблю вас больше жизни, — отвечала Каролина, прижимая к сердцу голову маркиза. — Я люблю вас больше своей гордости и чести. Долгое время я не признавалась в этом самой себе, не признавалась господу богу в своих молитвах. Наконец я все поняла и убежала от вас из малодушия. Мне казалось, что жизнь кончена, и она действительно кончена без вас. «Ну, что за беда? — думала я. — Ведь это касается только меня одной». И пока во мне жила надежда, что вы забудете меня, я боролась, но теперь я вижу: вы меня очень любите, и если я вас оставлю, вы умрете. Несколько часов назад я считала, что вас уже нет в живых, и тогда мне стали ясны наши отношения: я убивала вас! Я могла воскресить вас к жизни, вас, самого благородного и замечательного человека на свете, но я принесла вас в жертву пустому самолюбию. Но разве я могла стать причиной вашей смерти, если в мире нет для меня ничего дороже вашего уважения? Нет, я была непомерно горделива и непомерно жестока, и вы столько выстрадали по моей вине! Я люблю вас, слышите? Я не хочу быть вашей женой: это принесло бы вам тяжкие угрызения совести и непоправимое горе. Но я стану вашей подругой, вашей служанкой, матерью вашего ребенка, вашей верной и тайной спутницей. Пускай меня считают вашей любовницей, пускай даже думают, что Дидье — мой сын. Я готова на все и согласна принять презрение, которого так боялась! — О благородное сердце! — воскликнул маркиз. — Я тоже принимаю твою высокую жертву. Не презирай меня за это — я достоин ее и скоро обращу эту жертву во благо нам обоям! Да, да, я сделаю чудеса! Матушка уступит мне и не раскается. Я чувствую, сколько пламенной веры в моей груди и какие золотые слитки красноречия! Но даже если меня постигнет неудача, даже если свет встанет на дыбы и проклянет тебя, ты, сестра, моя обожаемая подруга, от этого только вырастешь в моих глазах, и я еще больше возгоржусь, что избрал тебя, а не иную! Да и что значат свет и его мнение для человека, который постиг тайны людского эгоизма и ничтожество людских предрассудков? Этот человек знает, что во все времена чудом выживала одна сирая истина, а тысячи ее сестер были закланы и запятнаны клеймом бесчестия. Он хорошо знает, что самым лучшим и великодушным людям было суждено идти стезей Христа, дорогой терний, где градом сыплются удары и оскорбления. Ну что ж, если нужно, мы пойдем этой стезей, а любовь надежно оборонит нас от низких нападок! О, за это я тебе ручаюсь и готов поклясться, что так оно и будет вопреки всем угрозам, которые нам уготовят люди: ты будешь любима, а значит, будешь счастлива! Ты хорошо знала, что вся моя жизнь, вся моя душа воплотилась в любви к тебе. Ты также хорошо знала, что если порой я лихорадочно искал истину, то делал это из любви к ней, а не от суетного желания славы. Я не ученый и не писатель. Я безвестный странник, который добровольно проходит мимо шума и суеты, борется за свое счастье в тени и уединении не потому, что ему недостает мужества, но из боязни оскорбить в этой борьбе чувства своей матери и своего брата. Я согласился играть эту неприметную роль, не испытывая и малейших страданий уязвленного самолюбия. Я понимал, что сердце мое жаждет не фимиама, но любви. Честолюбивые помыслы людей, их тщеславие, их жажда власти, стремление к роскоши, постоянное желание лицедействовать — что мне было до них? Я не мог забавляться подобными бирюльками. Я был незадачливый, обыкновенный человек, влюбленный в свои идеал, наивный ребенок, если угодно, который искал любви, зная, что она жила в нем самом задолго до того, как он встретил ту, которой было суждено окрылить его и сделать сильным. Я молчал, зная, что буду осмеян, — мне это было безразлично, и если я страдал бы, так от того, что оскорбили мои святые убеждения!.. Однажды, лишь однажды в своей жизни — я хочу вам рассказать и это, Каролина, я любил… — Молчите! — приказала она. — Я ничего не желаю знать. — Нет, вы должны знать все. Она была добра и нежна, и я глубоко чту и благословляю ее, хотя она давно в могиле. Но любить меня она не могла. То была ее роковая ошибка. Я нисколько ее за это не упрекаю и за все виню одного себя. Я сгорал от ненависти к самому себе и казнился от сознания того, что уступил, по существу, неразделенной страсти, и примирился с жизнью только тогда, когда увидел в вас ее цветущее и самое чистое воплощение. Тогда я понял, почему я родился несчастным, почему обречен любви, почему мне суждено было так рано полюбить, полюбить дурно и греховно, лелея в душе мечту и идеал своей жизни. Теперь же я чувствую, что навсегда воскрес и спасся. Доверьтесь мне — ведь вы посланы самим небом! Вы прекрасно знаете, что оно создало нас друг для друга. Вы сами тысячу раз невольно замечали, что у нас с вами — одна душа, одни мысли, что мы любим одни и те же идеи, искусства, одних и тех же людей и одни и те же вещи и что наше общение лишь укрепляет или развивает то, что дремало в нас втуне. Ах, вспомните, Каролина, вспомните Севаль, и наши полные солнца часы в долине, и наши полные утренней свежести часы под сводами той библиотеки, где вы приветствовали букетами прекрасных цветов таинственный и неразрывный союз наших душ! Разве наши руки, сплетенные в пожатии, не освящали каждое утро наш духовный брак? И разве наши первые взгляды не отдавали каждодневно нас самих друг другу навсегда?.. Неужели все это прошло бесследно, растаяло как дым? И как вы могли хотя бы секунду подумать, что эта жизнь могла кончиться, что этот человек может существовать без вас и безропотно уйдет в небытие? Нет, вы никогда этому не верили! Этот человек устремился бы за вами на край света, пошел бы по льдинам, по воде, сквозь огонь, только бы соединиться с вами!.. А когда сегодня вы оставили меня умирать в снегу, разве вы не чувствовали, что душа покинула мое бренное тело и, словно неприкаянный призрак, следовала за вами по пятам сквозь горную метель? — Слушай, слушай его! — сказала Каролина вошедшему Пейраку, который изумленно уставился на маркиза. — Слушай, что он говорит мне, и не удивляйся, что я люблю его больше самой себя. Не огорчайся, не жалей нас и не уходи! Побудь с нами и посмотри, как мы счастливы! Присутствие такого святого старика, как ты, не стесняет нас. Вероятно, ты не поймешь нас, потому что для тебя ничего нет выше, чем чувство долга. Но тем не менее ты благословишь меня и будешь любить, ибо оценишь по достоинству право и власть этого человека, самого замечательного на земле, — ему господь вложил в уста слова истины. Да, я люблю его… Я люблю тебя, которого чуть было сегодня не потеряла, и никогда больше тебя не оставлю: я пойду за тобой повсюду, твой ребенок будет моим, точно так же как твоя родина — это моя родина, а твоя вера — моя вера. И нет в мире большей чести, нет большей добродетели перед господом богом, чем любить тебя, утешать тебя и служить тебе. Господин де Вильмер поднялся: его лицо сияло радостью, которая, ослепляя взор Каролины, не пугала ее. В этот час высокого ликования чувственность молчала — здесь ей не было места. Маркиз прижимал Каролину к сердцу с той отеческой нежностью, которая всегда жила в нем, а теперь ее усиливали инстинкт могущественного покровительства, право великого ума над великим сердцем и праве избранной души над другой душой, облагороженной любовью. К чести маркиза и Каролины надо добавить, что их переполняли бесконечно нежные дружеские чувства, несколько восторженные, но прямодушные и глубокие, непричастные чувственному опьянению. В эту минуту будущее сводилось для них к нескольким словам: вечно быть вместе.XXVI
Когда прояснившаяся к четырем часам дня погода позволила Пейраку заняться приготовлениями к отъезду, в Лимузене, в замке Моврош, юная и прекрасная герцогиня д'Алериа в муаровом платье, с камеями, унизавшими ее пальцы, входила в покои своей свекрови, оставив в гостиной мужа и госпожу д'Арглад, которые были заняты самой, казалось бы, дружеской беседой. У Дианы был такой радостный и торжествующий вид, что маркиза очень удивилась. — Ну что, красавица моя, — воскликнула она, — что случилось? Может быть, вернулся мой младший сын? — Он скоро вернется, — отвечала герцогиня, — вам же дали слово, и вы прекрасно знаете, что мы на этот счет совершенно спокойны. Герцог знает, где находится маркиз, и ручается, что в конце недели он будет с нами. Поэтому вы видите меня не в меру веселой. Эта госпожа д'Арглад просто прелесть. — она, дорогая матушка, и осчастливила меня сегодня. — О, вы смеетесь, плутовка! Вы ее терпеть не можете! Но зачем было привозить ее сюда? Я вас об этом не просила. Никто, кроме вас, не может меня развлечь. — Сегодня я буду развлекать вас, как никогда, — сказала Диана с обворожительной улыбкой, — а милейшая госпожа д'Арглад дала мне в руки то оружие, которым я развею ваше противное горе. Послушайте, матушка, мы разгадали наконец эту ужасную тайну! Это было нелегко. Целых три дня мы с герцогом осаждали госпожу д'Арглад, улещивали и осыпали самыми нежными знаками внимания. Наконец эта душечка, которую мы никак не могли провести, не выдержала наших насмешек и сказала мне, что свой страшный проступок Каролина совершила в сообщничестве… О, вы знаете с кем — она же вам об этом и сказала. Я сделала вид, будто не расслышала, но сердце у меня легонько екнуло… А если говорить начистоту, то прямо защемило. Но я кинулась к моему дорогому герцогу и бросила ему прямо в лицо: «Это правда, ужасный человек, что вы были любовником мадемуазель де Сен-Жене?» Герцог так и подпрыгнул на месте, как кошка… нет, как леопард, которому наступили на лапу. «Я так и знал, — зарычал он, — это выдумала сплетница Леони!» И так как он тут же поклялся ее убить, мне пришлось успокоить его и сказать, что я не поверила ни одному ее слову. Тут я покривила душой — я этому немного верила. И ваш сын — он ведь большая умница! — сразу это заметил и, пав передо мной на колени, поклялся, но чем!.. Всем, что я почитаю и люблю: сначала господом богом, потом вами, — поклялся, что это бесчестная клевета, и теперь я убеждена в этом так же твердо, как в том, что появилась на свет, чтобы любить герцога д'Алериа. Маркиза не успела еще удивиться словам Дианы, как в ее будуар вошел герцог, такой же сияющий, как его супруга. — Уф, слава богу! — воскликнул он. — Вы больше никогда не увидите этугадюку. Она велела заложить свою карету и уезжает взбешенная, но — клянусь честью! — раздавленная и с вырванным жалом. Моя бедная матушка, как вас подло обманули. Я только теперь понимаю, что вам пришлось вытерпеть. И вы ничего не сказали мне, который бы разом… Я наконец все вытянул из этой мерзкой особы, которая чуть не поселила отчаяние в нашей семье, но Диана оказалась ангелом, над которым не способны восторжествовать даже силы ада. Послушайте, матушка! Как известно, госпожа д'Арглад видела собственными глазами, что мадемуазель де Сен-Жене, опершись на мою руку, проходила на рассвете по двору в Севале. И она видела, что я нежно разговаривал с мадемуазель де Сен-Жене и пожимал ей руки. Все это так, только она плохо смотрела, ибо я еще и целовал ей руки, а то, чего она не слышала, я сейчас вам расскажу, так как помню наш разговор слово в слово. Я говорил Каролине: «Мой брат чуть не умер нынешней ночью, и вы спасли его. Пожалейте его, заботьтесь о нем, помогите мне скрыть его недуг от матушки — ведь только с вашей помощью брат останется в живых». Вот что я ей сказал, клянусь богом, и вот что произошло… И герцог рассказал все, даже то, что было раньше; он не утаил от маркизы свои дурные планы, свое тщетное ухаживание за Каролиной, которого та даже не заметила. Он сообщил маркизе о ревности Урбена, об их ссоре и нежном примирении, об исповеди одного и клятвах другого; он рассказал и о том, как неожиданно обнаружил, в каком опасном состоянии оказалось здоровье брата, как неосторожно оставил его одного, решив, что маркиз успокоился и уснул, как тот потом разбил окно, а Каролина, услышав крик, прибежала на помощь, как она выходила больного, оставшись у него в спальне, и с той минуты постоянно ухаживала за ним, как она развлекала его и помогала ему в работе. — И все это она делала преданно, скромно и совершенно бескорыстно, — добавил он. — Знайте, матушка, что Каролина — особа редких достоинств, и лучшей избранницы, которая подходила бы брату по возрасту, характеру, вкусам и скромности, конечно, не найти. Вы знаете, как я мечтал, чтобы он заключил более блестящий брак. Но теперь, когда стоящий перед вами ангел вернул нам всем свободу и достоинство, а брат больше не стеснен в средствах, когда с такой силой и постоянством брат любит особу, которая стала вдобавок его настоящим другом, когда, наконец, Диана, понимающая подобные дела, как никто, убедила меня в том, что лучшие браки — это браки по любви, мне остается сказать вам, дорогая матушка, только одно: нужно найти Каролину и с радостью благословить ее, потому что она была вашим лучшим другом до моей жены, а теперь станет второй вашей дочерью, о какой можно лишь мечтать. — Ах, дети мои, — воскликнула маркиза, — вы мне возвращаете счастье! С той поры, как оклеветали Каролину, я просто не жила. Горе Урбена, разлука с этой милой девочкой… боязнь поссорить примерных братьев, признавшись им в том, что я почитала за правду и что с радостью отметаю как вымысел… Ах, надо скорей разыскать маркиза и Каролину… Но где они, господи!.. Вам известно, где ваш брат, но знает ли он, где Каролина? — Нет, он уехал, не зная этого, — ответила герцогиня. — Но это известно госпоже Эдбер. — Напишите ей, дорогая матушка, скажите всю правду, и она вам ответит тем же. — Да, да, я напишу, — сказала маркиза. — Но как сообщить об этом моему бедному Урбену? — Это я беру на себя, — сказал герцог. — Если герцогиня согласится сопровождать меня, я поеду за ним сам, в противном случае оставлять молодую жену на три дня… право, это несколько рановато. — Что?! — воскликнула герцогиня. — Вы надеетесь, что, как только кончится медовый месяц, будете всюду бегать без меня как заяц? О, вы жестоко заблуждаетесь, мой милый герцог, и я сумею положить конец вашему непостоянству. — Интересно, что вы станете делать? — спросил герцог, с восхищением глядя на жену. — Обожать вас все больше и больше! И тогда посмотрим, наскучит ли вам моя любовь! Пока герцог целовал золотистые волосы своей супруги, маркиза с жаром пансионерки писала письмо Камилле. — Послушайте, дети мои, хорошо ли я сочинила? — сказала она, и герцогиня прочла следующее: «Дорогая госпожа Эдбер, привезите нам Каролину, и я прижму вас обеих к груди. Бедняжку Каролину оклеветали, и теперь я знаю правду. Я обливаюсь слезами при мысли, что поверила, будто она и вправду падший ангел. Пусть она простит меня и вернется! Пусть станет навсегда моей дочерью и не расстается со мной! Мы оба, я и мой сын, не можем без нее жить!» — Письмо восхитительное и умное, как вы сами! — сказала герцогиня, запечатывая его. Когда письмо было отправлено, маркиза сказала: — А почему бы вам, дети мои, вместе не отправиться за маркизом? Это очень далеко? — Двенадцать часов езды на почтовых, — ответил герцог. — А вы не можете сказать мне, где он? — Я не должен вам этого говорить, но теперь, я уверен, у брата не будет от вас никаких секретов. — Сын мой, вы меня очень пугаете, — продолжала маркиза. — Вероятно, ваш брат болен, и вы его прячете в замке, как прятали в Севале. Он, должно быть, не в силах подняться, а меня уверяют, что он уехал. — Нет, матушка, — смеясь, сказала Диана, — Урбена действительно нет в замке, и он здоров. Он в отъезде, он путешествует и, может быть, немного грустит. Но он будет счастлив, — ведь, уезжая, он так надеялся уговорить вас сменить гнев на милость. Герцог клятвенно подтвердил слова жены. — Хорошо, дети мои, — сказала маркиза в тревоге. — Мне бы хотелось, чтобы вы были подле него. Знаете, когда он болен, я смутно догадываюсь об этом по особенному волнению, которое на меня находит. Я испытала его в Севале как раз в ту пору, когда болезнь маркиза от меня скрывали. Теперь я вижу, что недуг, о котором вы мне рассказали, мучил его как раз в ту ночь, которую я ужасно провела. Но сегодня утром я была одна и, проснувшись, грезила наяву. Я мысленно видела маркиза — он был бледный, закутанный во что-то белое, напоминающее саван… — Боже мой, какие ужасы мучают вас! — сказал герцог. — Я мучаюсь невольно и стараюсь успокоиться, полагаясь на свое внутреннее чутье, поэтому я хочу вам сказать все. Вот уже час, как я знаю, что мой сын здоров, но сегодня он был в страшной опасности, он страдал… с ним что-то случилось… Запомните этот день и час! — Раз так, поезжайте, — сказала герцогиня своему мужу. — Я не верю в эти предчувствия, но нужно успокоить матушку. — Вы поедете с герцогом, — сказала маркиза. — Я не хочу, чтобы из-за моих черных мыслей, которые, быть может, просто игра больного воображения, ваша семейная жизнь омрачилась. — Но как можно вас оставить одну с такими мыслями… — Я от них сразу же освобожусь, как только вы отправитесь за маркизом. Госпожа де Вильмер настояла на своем. Герцогиня велела уложить небольшой чемодан, и через два часа она уже ехала с супругом на почтовых по дороге в Пюи через Тюль и Орийак. Герцогиня знала тайну своего деверя: ей было известно о существовании ребенка, и только имя матери скрыли от нее. Маркиз позволил брату не иметь секретов от жены. В шесть часов утра они приехали в Полиньяк. Первым, кого увидела Диана, был Дидье. Как и Каролина, она прониклась внезапной нежностью к этому очаровательному мальчику, всех пленявшему. Пока она целовала малыша, герцог расспрашивал о мнимом господине Бернье. — Дорогая, — сказал герцог Диане. — Моя мать была права: с братом действительно что-то случилось. Вчера утром он отправился на несколько часов в горы и до сих пор не вернулся. Здешние хозяева беспокоятся о нем. — А они знают, где он? — Он ушел в сторону Лантриака. Почтовые лошади нас мигом свезут туда, но там я вас оставлю и возьму лошадь с проводником, так как в карете нам не проехать. — Мы наймем двух лошадей, — возразила герцогиня. — Я вовсе не устала. Едем! Через час бесстрашная Диана неслась в бешеном галопе по берегу Гани, посмеиваясь над беспокойством мужа. В девять часов утра они быстро промчались по Лантриаку к великому удивлению его жителей и остановились у дома Пейрака. Семья сидела за столом в мастерской. Накануне Пейрак с Каролиной и маркизом вернулись немного поздно, доехав, впрочем, безо всяких приключений. Урбен, усталый, но совсем выздоровевший, воспользовался любезным гостеприимством сына Пейрака, который жил в соседнем доме. Каролина сладко выспалась в своей каморке, а теперь помогала Жюстине ухаживать за мужчинами, то есть за маркизом и обоими Пейраками. Похорошевшая от счастья Каролина сновала по комнате, то хлопоча по хозяйству, то усаживаясь напротив маркиза, который принимал ее заботы и с обожанием смотрел на девушку, как бы говоря ей: «Я рад вашему вниманию и заплачу за него сторицей». Радость и ликование наполнили дом Пейраков, когда нагрянули нежданные гости! Братья долго не выпускали друг друга из объятий. Диана целовала Каролину и называла сестрой. Целый час, перебивая друг друга, как безумные, они рассказывали о случившемся. Герцог умирал от голода и с аппетитом уписывал кушанья Жюстины, которая с помощью плакавшей и смеявшейся Каролины снова приготовила обильный завтрак. Диана была в восторге от их шальной затеи и к великому ужасу супруга вызвалась делать приправу к блюдам. Наконец все снова, не торопясь, принялись рассказывать все сначала. Маркиз первым делом послал нарочного в Пюи с письмом к матери, так как ему сразу же сообщили о ее тревогах и поразительном ясновидении. При расставании с Пейраками никто не плакал; с них взяли обещание, что они приедут на свадьбу. На следующий день все вернулись в Моврош вместе с маленьким Дидье, которого маркиз посадил на колени своей матери. Госпожа де Вильмер уже знала о его существовании из письма Урбена. Она осыпала мальчика поцелуями и, передав на руки Каролине, сказала: — Дочь моя, вы согласны сделать нас всех счастливыми? Будьте же тысячу раз благословенны и, если хотите продлить мои дни, не покидайте меня больше никогда. Я причинила вам много зла, мой добрый ангел, но господь не допустил, чтобы наша разлука затянулась, так как я умерла бы без вас. Маркиз со своей женой провели остаток прекрасного лета в Мовроше, а начало осени — в Севале. Это место было дорого их памяти, и хотя сердцем они влеклись в Париж к своему семейству, расставание с этим поместьем, освященным добрыми воспоминаниями, оказалось мучительным. Женитьба маркиза никого не удивила; одни одобрили ее, другие с презрением пророчили, что он еще раскается в своей безумной причуде, что благоразумные люди отвернутся от него и что карьера его загублена. Маркиза чуть было не занемогла от этих толков. Госпожа д'Арглад преследовала своей ненавистью Диану, Каролину и их мужей, но все оборвалось с февральской революцией, и все стали думать совсем о других вещах! Маркиза была очень напугана событиями и сочла за благо укрыться в Севале, где тем не менее обрела полное счастье. У маркиза должна была анонимно выйти в свет его книга, но он отложил ее публикацию до более спокойных времен. Он не хотел добивать побежденных. Счастливый любовью Каролины и домочадцев, маркиз не спешил навстречу своей славе. Сегодня старой маркизы уже нет в живых. Слишком деятельная духом, она была немощна телом, и дни ее были сочтены. Она угасала в окружении детей и внуков, всех их благословляя, чувствуя, что слабеет, и не веря, что покидает их навсегда, но, будучи в здравом уме и твердой памяти до последнего часа, она, подобно большинству умирающих, строила планы «на будущий год». Герцог от беспечной жизни очень располнел, но по-прежнему обходителен, красив и все такой же непоседа. Он живет в большой роскоши, но деньгами не сорит, находясь под башмаком у жены, которая держит его в узде с редким умом и восхитительным тактом, потакая ему и поддерживая его негаснущую страсть. Не станем уверять читателя, что милый герцог не подумывал ее обмануть, но Диана сумела развеять его фантазии так, что он даже не заметил, и ее торжество, продолжающееся до сих пор, лишний раз доказывает, что нередко и шестнадцатилетняя девочка с добрым запасом хитроумия и силы воли может великолепно управлять зрелым мужем, умудренным по части волокитства и расточительства. Теперь добродушный и мягкотелый герцог даже находит немалое удовольствие в том, что больше не строит коварных козней против прекрасного пола и, не ведая новых угрызений совести, мирно засыпает на пуховиках своего благополучия. Маркиз де Вильмер и молодая маркиза восемь месяцев в году живут в Севале, постоянно занятые не столько сами собой, — ведь они слились в одно существо, вместе думают и даже угадывают мысли друг друга, — сколько воспитанием своих детей, которые все на редкость умны и прелестны. Господин де Ж*** умер, госпожа де Ж*** забыта. Маркиз признал Дидье сыном, Каролина даже не вспоминает, что она не его мать. Госпожа Эдбер тоже перебралась в Севаль. Все ее дети воспитаны заботами маркиза и Каролины. Сыновья герцога более избалованы, менее развиты и не так здоровы, но они милы и не по возрасту изящны. Герцог — превосходный отец и часто удивляется, что у него такие большие дети. Пейраки были щедро вознаграждены. В прошлом году маркиз с Каролиной гостили у них. На сей раз при чудесном восходе солнца они добрались до серебристой вершины Мезенка. Не забыли посетить и бедную хижину севенца, где, несмотря на щедроты маркиза, мало что изменилось; но хозяин дома купил клочок земли, и теперь его считают богачом. Каролина благоговейно присела у нищенского очага, где впервые увидела у своих ног человека, с которым была готова поселиться в утлой севенской лачуге и забыть весь мир.Жорж Санд Маркиза
I
Маркиза де Р. не была очень умна, хотя в литературе принято считать, что все старые женщины должны блистать умом. Она отличалась полнейшим невежеством во всем, чему не научил ее свет, в котором она вращалась. Не хватало ей также умения утонченно выражаться и проявлять чрезвычайную проницательность и тот удивительный такт, которые, как говорят, свойственны женщинам, долго прожившим на белом свете. Она, напротив, была взбалмошной, резкой, прямой, иногда даже циничной. Она совершенно разрушила мои представления о маркизе старого доброго времени. И, однако, она все же была маркизой и видела двор Людовика XV, но так как в то время характер ее представлял явление исключительное, то прошу вас не искать в ее истории обстоятельного изображения нравов той эпохи. Знать хорошо общество любого времени и хорошо его обрисовать мне кажется таким трудным делом, что я не хочу за это браться. Я ограничусь тем, что расскажу вам кое — какие частные случаи, которые создают неотразимую симпатию между людьми всех обществ и всех веков. Я никогда не находил большого очарования в обществе этой маркизы. Меня поражала в ней только необычайная память, какую она сохранила о своей молодости, и та изумительная ясность, с какой она умела передавать свои воспоминания. Впрочем, как и все старики, она забывала, что делалось вчера, и не интересовалась событиями, не имевшими прямого влияния на ее жизнь. Она не принадлежала к числу тех пикантных красавиц, которые, не обладая блистательной внешностью и правильными чертами лица, восполняют все это блеском остроумия. Такая женщина, не желая уступать в красоте тем, кто прекраснее ее, Должна развивать свой ум. Маркиза, напротив, была, на свое несчастье, неоспоримой красавицей. Я видел только ее портрет который она, как все старые женщины, из кокетства выставила в своей комнате всем напоказ.Она была изображена нимфой — охотницей, в атласном корсаже, разрисованном под тигровую шкуру, с кружевными рукавами, с луком из сандалового дерева и с жемчужным полумесяцем, сверкавшим над ее взбитыми кудрями. Как‑никак, это была чудесная картина, а еще чудеснее — изображенная на ней женщина: высокая, стройная брюнетка, черные глаза, строгие, благородные черты лица, алые уста, которые никогда не улыбались, и руки, приводившие, как говорят, в отчаяние принцессу де Ламбаль. Без кружев, атласа и пудры это поистине была бы одна из тех гордых и легких нимф, которые являлись смертным в глубина лесов или на склоне гор, чтобы свести их с ума от любви и тоски. Однако у маркизы было мало любовных приключений. Oна сама признавалась, что ее считали неумной женщиной, а пресыщенные мужчины того времени любили не столько красоту, сколько возбуждающее кокетство. Женщины, далеко не вызывавшие такого восторга, как она, отбили у нее всех обожателей. Но странно: по — видимому, это ее мало трогало. То, что она мне рассказывала урывками о своей жизни, привело меня к мысли, что ее сердце не знало молодости и что холодный эгоизм преобладал в нем над всеми другими чувствами. Правда, я видел, что, несмотря на ее старость, окружающие проявляют к ней горячую симпатию: внуки нежно любили ее, и она делала добро, не кичась этим. Но так как она не претендовала на строгость нравов и признавалась, что никогда не любила своего любовника, виконта де Ларрье, я не мог найти другого объяснения для ее характера. Ка к‑то вечером я застал ее в более словоохотливом настроении, чем обычно. Но чувствовалось, что ею завладели невеселые мысли. — Милое дитя мое, — сказала она, — виконт де Ларрье только что скончался от своей подагры; это большое горе для меня — его подруги в течение шестидесяти лет. И потом, ужасно видеть, как люди умирают! Впрочем, нет ничего удивительного: он был так стар. — А сколько ему было? — спросил я. — Восемьдесят четыре года, мне — восемьдесят, но я не такой инвалид, как он, и могу надеяться, что проживу дольше. Все равно! Уже несколько моих друзей покинули мир в этом году, и, как ни уговаривай себя, что ты моложе и сильнее, невольно пугаешься, когда видишь, как исчезают твои современники. — И вот, — ответил я ей, — все сожаления, какими вы его удостоили, этого бедного Ларрье, который обожал вас в течение шестидесяти лет, постоянно жаловался на вашу суровости и не переставал бороться с ней. Это был примерный любовник! Подобных мужчин уже нет» — Полноте, — сказала маркиза с холодной улыбкой. — У этого человека была мания жаловаться и считать себя несчастным; он совсем не был несчастным, каждый знает это. Видя, что моя маркиза разговорилась, я засыпал ее вопросами о виконте Ларрье и о ней самой, и вот странный ответ, который я получил: — Мое дорогое дитя, я прекрасно вижу, что кажусь вам особой хмурой и резкой. Возможно, так оно и есть. Судите сами: я расскажу вам историю всей моей жизни и признаюсь вам в недостатках, которые я никому не поверяла. Вы человек эпохи без предрассудков; возможно, вы найдете, что моя вина меньше, чем мне это кажется самой. Но какого бы мнения вы ни были обо мне, я, по крайней мере, не умру, не исповедавшись кому‑нибудь. Возможно, что я вызову в вас сострадание, которое смягчит грусть моих воспоминаний. Я воспитывалась в Сен — Сире[62]. Блестящее образование, которое мы там получали, на самом деле давало очень мало. Я покинула институт шестнадцати лет, чтобы выйти замуж за маркиза де Р., которому стукнуло пятьдесят, и не смела жаловаться, так как все меня поздравляли с блестящей партией и все бесприданницы завидовали моей судьбе. Я никогда не отличалась умом, а в то время была просто дурочкой. Монастырское воспитание окончательно затормозило мои и без того небольшие способности. Из монастыря я вышлэ с той простодушной наивностью, которую совершенно напрасно ставят нам в заслугу и которая часто делает нас несчастными на всю жизнь. Действительно, опыт, приобретенный мною за шесть месяцев замужества, столкнулся с такой узостью мысли, что ничему меня не научил. Я приобрела не знание жизни, а неуверенность в себе. Я вступила в свет с ложными представлениями и предубеждениями, от влияния которых не могла избавиться в течение всей своей жизни. Шестнадцати с половиной лет я овдовела. Свекровь, которая, за мою ничтожность, была ко мне расположена, убеждала меня опять выйти замуж. Правда, я была беременна, и то небольшое имущество, которое мне выделили, вернулось бы в семейство мужа, если б у его наследника появился отчим. Как только мой траур кончился, меня стали вывозить в свет и окружили там поклонниками. Я была тогда в полном расцвете красоты, и, по мнению всех женщин, никто не мог сравниться со мною лицом и фигурой. Но мой муж, этот старый, пресыщенный развратник, никогда не питавший ко мне другого чувства, кроме эротического презрения, и женившийся на мне только для того, чтобы получить место, предназначенное моему будущему мужу в качестве Моего приданого, оставил во мне такое отвращение к браку, что я не хотела связывать себя новыми узами. Не зная жизни, я представляла себе, что все мужчины одинаковы, что все они бессердечны, что у всех у них безжалостная ирония и эти холодные, оскорбительные ласки, которые меня так унижали. Несмотря на всю свою ограниченность, я все же хорошо поняла, что редкие у моего мужа порывы восторга относились только к прекрасной женщине и что в них не было ничего духовного. Затем я опять становилась для него дурочкой, за которую он краснел в обществе и от которой охотно бы отрекся. Это злосчастное вступление в жизнь разочаровало меня навсегда. Сердце мое, которому, быть может, вовсе не предопределено было оледенеть, стало замкнутым, недоверчивым. Я почувствовала к мужчинам отвращение и омерзение. Их поклонение оскорбляло меня. Я видела в них только обманщиков, которые притворялись рабами, чтобы стать тиранами. Я поклялась питать к ним вечную ненависть. Когда не нуждаешься в добродетели, то и не имеешь ее, вот почему, при всей строгости моих нравов, я вовсе не была добродетельна. О! Как я жалела, что не нуждалась в ней, как я завидовала этой моральной и религиозной силе, которая подавляет страсти и украшает жизнь! Моя жизнь была такая холодная, такая ничтожная! Чего бы я только не дала, чтобы испытать страсти, которые надо подавлять, борьбу, которую надо вести, чтобы я могла броситься на колени и молиться, как те молодые женщины, которые, по выходе из монастыря, благодаря своему ревностному благочестию умели сопротивляться соблазнам и в течение нескольких лет, как я видела, вели себя в обществе добродетельно. А мне, несчастной, что мне оставалось делать в этом мире? Только наряжаться, выезжать в сзет, скучать. У меня не было ни сердца, ни угрызений совести, ни страха, мой ангел — хранитель дремал, вместо того чтоб бодрствовать. В пресвятой деве и ее святой непорочности не было для меня ни утешения, ни поэзии. Я не нуждалась в небесном покровительстве, опасностей для меня не существовало, и я презирала себя за то, чем должна была бы гордиться. Ибо вам следует знать, что я и себя обвиняла, как и других, когда обнаружила в себе это нежелание любить, превратившееся затем в неспособность. Я часто поверяла женщинам, торопив-: шим меня выбрать себе мужа или любовника, то отвращение, которое вызывали у меня неблагодарность, грубость и эгоизм мужчин. Они смеялись мне в лицо, когда я им это говорила, и уверяли, что не все мужчины похожи на моего старого мужа и что они обладают секретами, заставляющими забывать их недостатки и пороки. Подобные рассуждения возмущали меня, и когда они выражали такие грубые чувства и смеялись, как безумные, в то время как я краснела от негодования, мне было стыдно, что я тоже женщина. Был момент, когда я воображала, что стою больше их всех вместе взятых. И затем я с болью начинала размышлять о себе. Меня сне-! дала скука, жизнь других была заполнена, моя — пуста и праздна. Тогда я обвиняла себя в безумии и чрезмерном честолюбии и начинала верить всему тому, чему поучали меня эти женщины, насмешливые и рассудительные, понимавшие свое время, каким оно было. Я говорила себе, что меня погубило мое невежество, что я лелеяла несбыточные надежды, что я мечтала о мужчинах прямодушных, совершенных, не существующих в этом мире. Словом, я обвиняла себя в том, в чем окружающие были виновны передо мной. Пока женщины надеялись обратить меня в свою веру и приобщить, как они выражались, к своей мудрости, они терпели меня. Среди них было немало даже и таких, которые во мне рассчитывали обрести для себя оправдание, которые от преувеличенно — показной неприступной добродетели перешли к легкомысленному образу жизни и теперь льстили себя надеждой, что я покажу свету пример такой распущенности, которая извинит их собственную. Но когда они увидели, что их старания безуспешны, что мне уже двадцать лет, а я все еще непоколебима, они возненавидели меня; они считали, что я являюсь для них олицетворенным, жи-: вым упреком. Они со своими любовниками подняли меня на смех и принялись строить самые оскорбительные планы и изобретать самые безнравственные способы, чтобы ввести меня в грех. Женщины высшего света безо всякого стеснения, смеясь, устраивали против меня гнусные заговоры. В непринужденной сельской обстановке меня всячески осаждало вожделение столь ожесточенное, что оно походило на ненависть. Находились мужчины, которые обещали своим любовницам справиться со мною, находились женщины, разрешавшие своим любовникам попытать счастье. Находились хозяйки дома, предлагавшие затмить мой разум вином у них за ужином. Кое‑кто из подруг и родственниц, чтобы соблазнить меня, устраивал мне знакомства с мужчинами, которые могли бы быть хорошими кучерами для моей кареты. Так как я по наивности открыла им всю свою душу, они прекрасно знали, что от соблазна меня предохраняли не набожность, не целомудрие, не старая любовь, а только недоверчивость и чувство непроизвольного отвращения. Они не преминули разгласить все, что им стало обо мне известно, и, не считаясь с моими сомнениями и душевной тоской, беззастенчиво распустили слух, что я презираю всех мужчин. Ничто так- не оскорбляет мужское самолюбие, как это чувство; мужчины скорее прощают распущенность и высокомерие; и вот они стали питать ко мне такую же ненависть, как и женщины. Они домогались меня только для того, чтобы удовлетворить свою месть и затем поиздеваться надо мной. Я читала на всех лицах насмешку и лицемерие, и моя мизантропия усиливалась с каждым днем. Умная женщина извлекла бы из всего этого пользу дли себя, она бы упорствовала в своем сопротивлении, хотя бы для того, чтобы усилить ярость своих соперниц, она бы открыто предалась благочестию, чтобы сблизиться с небольшим кружком добродетельных женщин, которые даже в то время служили примером для честных людей. Но у меня не хватало силы воли, чтобы отразить все усиливающуюся против меня бурю. Я почувствовала себя покинутой, непризнанной, презираемой. Моя репутация стала уже жертвой самой странной, самой отвратительной клеветы. Некоторые женщины, предававшиеся разнузданнейшему разврату, притворялись, что считают знакомство со мной опасным для себя.II
В это время из провинции приехал мужчина, не блиставший ни талантом, ни умом, без каких‑либо выдающихся или соблазнительных достоинств, но одаренный большой искренностью и чистосердечием — явление весьма редкое в том обществе, в котором я вращалась. Я подумала, что пора наконец сделать «выбор», как говорили мои приятельницы. Выйти замуж я нэ могла: будучи матерью и не веря в мужскую доброту вообще, я не считала себя вправе сделать это. Итак, чтобы быть на уровне того общества, в котором я оказалась, я должна была завести любовника. Я решила в пользу этого провинциала, имя которого и положение в свете обеспечивали мне прекрасное покровительство. Это был виконт де Ларрье. Он любил меня со всей искренностью своей души! Но имел ли он ее, эту душу? Это был один из тех холодных, положительных мужчин, которые даже не умеют проявлять в пороке изящество, а во лжи — остроумие. Он любил меня на свой лад, как и муж любил меня иногда. Его возбуждала только моя красота, а сердца моего он и не пытался узнать. Но у него это происходило не от презрения, а от вялости. Если б он встретил во мне пылкую любовь, он не знал бы, как на нее ответить. Кажется, не существовало мужчины более земного, чем бедняга Ларрье. Он ел с наслаждением, засыпал на всех креслах, а остальное время нюхал табак. Таким образом, он всегда был занят только тем, что удовлетворял свои физические потребности; я не думаю, чтобы за целый день ему приходила в голову хоть одна мысль. До нашей связи я питала к нему дружеские чувства, так как, не находя в нем ничего возвышенного, по крайней мере, я не видела также и ничего плохого; и в этом состояло единствекног его превосходство над всем моим окружением. Слушая его любезности, я льстила себя надеждой, что он примирит меня с чг- ловеческой натурой, и вверилась его прямодушию. Но едза я дала ему над собою те права, которых слабые женщины никогда уже не отнимают, как он стал преследовать меня невыносимой назойливостью и свел всю свою привязанность ко мне к единственному проявлению чувств, которое мог оценить. Вы видите, мой друг, что я от Харибды попала к Сцилле. Этот человек, которого из‑за его склонности хорошо поесть и поспать я считала таким холодным, не был способен даже на ту крепкую дружбу, которую я надеялась в нем обрести. Он, смеясь, говорил, что не может питать дружеские чувства к прекрасной женщине. А если б вы знали, что он называл любовью… Я не претендую на то, что сделана из другого теста, чем все остальные люди. Теперь, когда я уже не принадлежу ни к какому полу, думаю, что я была тогда такой же женщиной, как Всякая другая, но развитию моих способностей помешало то, что я не встретила на своем пу*ги мужчины, любовь к которому могла бы хоть немного опоэтизировать животную сторону жизни. Но этого не случилось, и даже вам, мужчине, то есть существу менее чуткому к такому пониманию чувства, даже вам должно быть понятно то отвращение, какое овладевает сердцем, когда покоряешься требованиям любви, не чувствуя в этом потребности… Уже через три дня виконт де Ларрье стал для меня невыносим. И что же, друг мой, у меня никогда не хватало энергии отделаться от него. В течение шестидесяти лет он был для меня мукой и пресыщением. Из снисхождения ли, по слабости ли воли или от скуки я все же терпела его. Всегда недовольный моей брезгливостью и все же всегда влекомый ко мне препятствиями, которые я ставила его страсти, он питал ко мне любовь самую терпеливую, самую твердую, самую стойкую и самую скучную, какую когда‑либо мужчина питал к женщине. Правда, с тех пор как я завела себе покровителя, мое положение в свете стало куда менее неприятным. Мужчины не решались больше домогаться меня, так как виконт был свирепо ревнив и страшный забияка. Женщины, предсказывавшие, что я не способна удержать мужчину, с досадой видели виконта, прикованного к моей колеснице, и, может быть, я терпела его отчасти из того тщеславия, которое не позволяет женщине казаться оставленной. Впрочем, этот бедный Ларрье не обладал такими данными, какими можно было бы очень гордиться. Он был мужчина красивый, сердечный, умел вовремя помолчать, вел широкий образ жизни и не был лишен того скромного фатовства, которое лишь подчеркивает достоинства любимой им женщины. Наконец, помимо того, что женщины не пренебрегали этой пошлой красотой, которая мне казалась главным недостатком виконта, они были изумлены его неизменной преданностью Мне и ставили его в пример своим возлюбленным. Итак, я заняла положение, которому завидовали; но, уверяю вас, это очень мало вознаграждало меня за неприятные ощущения близости. Однако я безропотно переносила ее и хранила нерушимую верность Ларрье. Вот видите, милый мой мальчик, так ли я была виновата перед ним, как вы думали. — Я вас прекрасно понял, — ответил я, — следовательно, жалею вас и уважаю. Вы принесли нравам вашего времени истинную жертву, и вас преследовали за то, что вы были выше этих нравов. Если б у вас было немного больше духовной силы, вы бы нашли в добродетели то счастье, какого не дала вам любовная связь. Но, с вашего разрешения, меня поражает одно: как это вы за всю свою жизнь не встретили мужчины, способного понять вас и достойного вызвать у вас истинное чувство любви. Следует ли из этого заключить, что мужчины нашего поколения лучше мужчин прошлого? — Это было бы с вашей стороны уж очень самоуверенно, — ответила она смеясь. — У меня слишком мало данных, чтобы хвалиться мужчинами моего времени, и, однако же, сомневаюсь, чтобы ваше поколение достигло много большего. Но не будем читать мораль. Пусть мужчины будут тем, что они есть. В своем несчастье я виновата сама. Я не была достаточно умна, чтобы разобраться в этом. При моей дикой гордости надо было быть исключительной женщиной, чтоб одним орлиным взглядом выбрать среди этих пошлых, лживых и пустых мужчин существо благородное и правдивое^~кбторое является редкостью и исключением во всё времена. Для этого я была слишком невежествен^" ной, слишком ограниченной. Наученная жизнью, я стала лучше разбираться и увидела, что некоторые из тех, к кому я питала ненависть, были достойны других чувств; к тому времени я уже состарилась, и было слишком поздно думать об этом. — А пока вы еще были молоды, — возразил я, — вы ни разу не испытывали искушения сделать новый выбор? Неужели это упорное отвращение ни разу не было поколеблено? Как странно!III
Маркиза с минуту молчала, но вдруг резко положила на стол свою золотую табакерку, которую долго вертела в руках, и сказала: — Ну что же, раз я начала исповедоваться, то уж при-: знаюсь во всем. Слушайте внимательней! Только один — единственный раз в своей жизни я была влюблена, но влюблена так, как никто, любовью страстной, неукротимой, пожирающей — и, однако же, идеальной и платонической в полном смысле этого слова. О! Вас очень удивляет, что маркиза восемнадцатого века только один раз за всю свою жизнь была влюблена, и притом любовью платонической. Видите ли, дитя мое, это потому, что вы, молодые люди, думая, будто хорошо знаете женщин, ничего в них не понимаете. Если б побольше восьмидесятилетних старушек стали откровенно рассказывать вам свою жизнь, может быть вы открыли бы тогда в душе женщины источники таких пороков и такой добродетели, о каких и понятия не имеете. Теперь отгадайте, к какому классу принадлежал человек, из‑за которого я, самая гордая и высокомерная из всех маркиз, совершенно потеряла голову. — Французский король или дофин[63] Людовик Шестнадцатый? — О! Если вы так начинаете, то вам потребуется три часа, чтобы добраться до моего возлюбленного. Уж лучше я сама вам скажу: это был комедиант. — Это все же был король, я полагаю. — Самый благородный, самый элегантный из всех, кто когда‑либо выходил на подмостки. Вы не удивлены? — Не слишком. Мне приходилось слышать, что эти неравные связи не были редкостью даже в те времена, когда предрассудки были очень сильны во Франции. Какая это из подруг госпожи д'Эпине сошлась с Желиотом? — Как хорошо вы знаете наше время! Даже жалость берет. Именно потому, что об этих связях упоминают в мемуарах, и упоминают с изумлением, вы должны бы понять, как они были редки и как противоречили нравам эпохи. Вы можете не сомневаться, что в то время это было большим скандалом, и когда вы слышите о самом ужасном разврате, о герцоге де Гиш и господине де Маникан, о госпоже де Лион и ее дочери, то можете быть уверены, что этими вещами в то время, когда они происходили, так же возмущались, как и теперь, когда вы о них читаете. Неужели вы думаете, что только те, чье возмущенное перо поведало вам об этом, были единственными порядочными людьми во Франции? Я не посмел противоречить маркизе. Я не знаю, кто из нас двух был более компетентным судьей в этом вопросе. Я напомнил ей о ее рассказе, и она возобновила его так: — Чтобы доказать, насколько это было недопустимо, скажу вам: когда я в первый раз увидела его и высказала свое восхищение графине Феррьер, которая была около меня, она ответила: — Красавица моя, будет лучше, если вы не станете высказывать так пылко ваше мнение перед кем‑нибудь другим; вас жестоко высмеют, если заподозрят, что вы забыли, что для женщины благородного происхождения комедиант не мужчина. Эти слова госпожи де Феррьер почему‑то остались в моей памяти. В том состоянии, в каком я была, этот презрительный тон показался мне нелепым, а опасение, как бы я своим восхищением не скомпрометировала себя, я восприняла, как злое лицемерие. Его звали Лелио. Родом он был итальянец, но прекрасно говорил по — французски. Ему могло быть лет тридцать, тридцать пять, хотя на сцене он часто казался моложе двадцатилетнего. Корнеля он играл лучше, чем Расина. Но и в том и в другом был неподражаем. — Меня удивляет, — сказал я, прерывая маркизу, — что его имя не сохранилось в списках талантливых актеров того времени. — Он никогда не пользовался известностью. Ни Париж, ни двор не понимали его. Я слышала, что при первых выступлениях он был позорно освистан. Впоследствии оценили страстность его души и его старания усовершенствоваться, его терпели, иногда ему аплодировали, но в общем его всегда считали комедиантом дурного тона. Этот человек в области искусства не соответствовал своему веку так же, как я не соответствовала в области нравов. Может быть, это и было тем бесплотным, но могущественным стимулом, в силу которого наши души стремились друг к другу с двух противоположных концов социальной лестницы. Публика так же не поняла Лелио, как светское общество — меня. — Этот человек слишком преувеличивает, — говорили о нем, — он насилует себя, но ничего не чувствует. А в другом обществе говорили обо мне: — Эта женщина надменна и холодна, она бездушна. Как знать? Может, мы оба были одарены более глубокими чувствами, чем кто‑либо в ту эпоху. В то время трагедию играли «благопристойно»: даже давая пощечину, надо было соблюдать хороший тон, умирать надо было прилично, а падать — грациозно. Драматическое искусство было приспособлено к этикету высшего общества. Дикция и жесты актеров должны были соответствовать пудре и фижмам, в которые еще наряжали Федру и Клитемнестру. Я не чувствовала недостатков этой школы и не разбиралась в них. Правда, я не слишком углублялась в размышления по этому поводу. Трагедия нагоняла на меня только смертельную скуку, но так как признаться в этом было дурным тоном, то я самоотверженно два раза в неделю ходила скучать в театр, но холодный, принужденный вид, с каким я слушала высокопарные тирады, давал повод говорить, что я не чувствую очарования прекрасных стихов. После того как я довольно надолго уезжала из Парижа, я однажды вечером пошла в «Комеди франсез» посмотреть «Сида»[64]. За время моего пребывания в деревне Лелио был принят в этот театр, и я его видела в первый раз. Он играл Родриго. При первом же звуке его голоса меня охватило волнение. Это был голос более проникновенный, чем звучный, голос нервный и выразительный, который публике не нравился и служил одним из поводов для критики. От Сида требовали баса, как от античных героев, силы и высокого роста. Король, который не был пяти футов и шести дюймов росту, не мог надеть на себя корону, это противоречило хорошему вкусу. Лелио был маленького роста и худощавый; красота его заключалась не в правильности черт, но у него был благородный и высокий лоб, неотразимая грация жестов, естественная походка, гордое, меланхолическое выражение лица. Ни в одной статуе, ни в одном портрете, ни в одном человеке не видела я более мощной, идеальной, пленительной красоты. Ради него стоило создать слово «очарование»: оно сквозило в каждом его движении, слове, взгляде. Что вам еще сказать? Я поистине была словно зачарована. Человек этот, который ходил, говорил, действовал естественно, непринужденно, чьи рыдайия выливались иа глубины сердца, который, забывая самого себя, становился воплощением страсти и, казалось, изнемогал и разрушался под бременем душевных переживаний, человек этот, чей один только взгляд заключал в себе всю ту любовь, какой я так тщетно искала в высшем обществе, действовал на меня с силой электрического тока. Человек этот, родившийся не в тот век, который принес бы ему славу- и поклонение, и не имевший никого, кроме меня одной, кто бы его понимал и сочувствовал ему, являлся в течение пяти лет моим властелином, моим богом, моей жизнью, моей любовью. Я больше не могла жить, не видя его. Он направлял все мои душевные побуждения, он властвовал надо мною. Да, для меня он не был мужчиной, но я это понимала иначе, чем госпожа де Феррьер, он значил гораздо больше; он был нравственной силой, духовным руководителем, чья душа делала с моей все, что хотела. Вскоре я уже не могла совладать с собою и скрывать впечатление, какое он производил на меня. Чтобы не выдать себя, я перестала ходить в свою ложу в «Комеди франсез» и притворилась, будто стала набожной и хожу по вечерам в церковь молиться. Вместо этого я переодевалась гризеткой и смешивалась с толпой, чтобы слушать его и восхищаться им бгз стеснения. Наконец я подкупила одного театрального служителя и получила в уголке зала узенькое укромное местечко, куда ни один взор не мог проникнуть и куда я проходила потайным ходом. Для большей безопасности я одевалась школяром. Все эти безумства, совершавшиеся ради мужчины, с которым я не обменялась ни единым взглядом, ни единым словом, очаровывали меня своей таинственностью и иллюзией счастья. Когда огромные часы в моей гостиной били урочный час, меня охватывало сильнейшее волнение. Пока запрягали карету, я пыталась собраться с духом. Я возбужденно ходила по комнате и, если Ларрье был у меня, была с ним груба, чтоб отделаться от него. С большим искусством удаляла я и других назойливых поклонников. Эта страсть к театру выработала во мне просто невероятную изощренность. Каким притворством, каким лукавством нужно было обладать, чтобы в течение пяти лет скрывать ее от Ларрье, самого ревнивого из мужчин, и от всех окружавших меня злых сплетников. Должна вам сказать, что, вместо того чтоб побороть эту страсть, я предалась ей с жадностью, с наслаждением. Она была такой невинной! Почему бы мне за нее краснеть? Она создала мне новую жизнь: она посвятила меня, наконец, во все то, что я хотела узнать и почувствовать; до известной степени она сделала меня женщиной. Я была счастлива, я была горда, когда чувствовала, как я трепещу, задыхаюсь, изнемогаю. Когда впервые сильный трепет пробудил мое холодное сердце, я гордилась этим так же, как гордится мать первым движением ребенка. Я стала капризной, веселой, непостоянной, лукавой. Добряк Ларрье заметил, что моя набожность вызывает во мне странныепричуды. В обществе находили, что я с каждым днем все хорошею, что мои черные глаза стали бархатными, улыбка осмысленной, что в моих суждениях оказывалось больше меткости и глубины, чем того можно было ожидать от меня. Честь всего этого приписывали Ларрье, который, однако, был тут ни при чем. Мои воспоминания бессвязны, потому что, когда я переношусь к этой эпохе моей жизни, они просто заливают меня потоком. Когда я вам их передаю, мне кажется, что я молодею и что сердце мое еще бьется при имени Лелио. Я вам только что говорила, что, слушая бой часов, я трепетала1 от радости и нетерпения. Еще и сейчас мне кажется, что я ощущаю то сладостное замирание, которое овладевало мною при бое часов. С тех пор превратности судьбы привели меня к тому, что я чувствую себя вполне счастливой в маленькой квартире Маре. И что же, мне не жаль ни своего роскошного особняка, ни своего аристократического района, ни своего прошлого величия, мне жаль только тех предметов, которые напоминали бы мне время любви и мечтаний. Я спасла от разорения кое‑что из обстановки того времени и теперь смотрю на эти вещи с таким же волнением, словно сейчас пробьют часы и я услышу топот копыт о мостовую. О! Дитя мое, никогда так не любите, ибо это — буря, которая утихает только со смертью. Итак, я уезжала оживленная, легкая, молодая, счастливая. Я стала ценить все, что составляло мою жизнь, — роскошь, молодость, красоту. Я вдыхала в себя блаженство всеми чувствами, всеми порами. Слегка склонившись в глубине кареты, закутав ноги в меха, я видела себя блестящей, нарядной в висевшем против меня зеркале в золоченой раме. Женский костюм, который впоследствии так высмеивали, отличался в то время изумительной роскошью и пышностью. Если его умели носить со вкусом, ничего не преувеличивая, он придавал женской красоте такое благородство и такую грацию, о которых живопись не может дать нам понятия. При всем этом нагромождении перьев, материи и цветов, женщина была вынуждена замедлять все свои движения. Я видела довольно пожилых дам, которых, когда они, напудренные и одетые в белое, волочили свои длинные муаровые шлейфы, ритмично покачивали перья на своем челе, можно было без преувеличений сравнить с лебедями. Огромные атласные складки, изобилие кисеи и фижм, уку^ тывающих наше миниатюрное, хрупкое тело, подобно пуху, покрывающему горлицу, длинные кружевные крылья, ниспадаю^ щие с плеч, яркие краски, которыми пестрели наши юбки, ленты и драгоценные камни, — все это, что бы там ни говорил Руссо, действительно делало нас похожими скорее на птиц, чем на ос. А когда мы, своими маленькими ножками в чудесных туфельках на каблучках, старались сохранить равновесие, то казалось, что мы действительно боимся касаться земли и выступаем с брезгливой осторожностью трясогузки, прохаживающейся по берегу ручья. В то время, о котором я вам рассказываю, начали употреблять светлую пудру, которая придавала волосам мягкий, пепельный оттенок. Этот способ смягчать резкость тона волос придавал лицу большую нежность, а глазам изумительный блеск. Совершенно открытый лоб, сливаясь с припудренными бледно — золотистыми волосами, казался от этого выше и чище и придавал всем женщинам благородный вид. Высокие взбитые прически, которым, на мой вкус, никогда не хватало изящества, уступили место низким, с длинными локонами, закинутыми назад, ниспадающими на шею и плечи. Эта прическа мне очень шла, и я славилась роскошью и изобретательностью своих уборов. Я выезжала то в алом бархатном платье, отделанном гагачьим пухом, то в белой атласной тунике, обшитой тигровым мехом, иногда в костюме из лилового шелка, затканного серебром, и с белыми перьями в жемчужной оправе. Так разъезжала я по визитам, поджидая начала второй пьесы, так как Лелио никогда не выступал в первой. Мое появление в гостиных производило сенсацию, и, когда я снова садилась в свою карету, я любовалась женщиной, которая любила Лелио и имела все данные заставить его полюбить себя. До сих пор красота моя доставляла мне удовольствие только тем, что она вызывала зависть. Усердие, с каким я украшала себя, было слишком благодушным мщением женщинам за те мерзкие козни, которые они плели против меня. Но с того момента, когда я ощутила в себе чувство любви, красота моя стала доставлять мне величайшее наслаждение. Только одну ее могла я предложить Лелио в награду за его не признанный Парижем талант, и я забавлялась, представляя себе, как будет горд и счастлив этот бедный комедиант, осмеянный, непризнанный, отвергнутый, в тот день, когда он узнает, что мар-: киза де Р. поклоняется ему. Впрочем, это были только приятные мимолетные мечты; это все, что при моем общественном положении я могла позволить себе. Как только мои мысли принимали конкретные формы и я замечала, что какой‑нибудь из моих любовных проектов приобретает реальность, я его мужественно подавляла, и вся моя сословная гордость восстанавливала свои права над моим сердцем. Вы смотрите на меня с удивлением? Я вам сейчас все объясню. Позвольте мне только пробежать зачарованный мир моих воспоминаний. Около восьми часов я сходила у маленькой церкви Кармелиток, близ Люксембурга, отпускала свою карету, и все полагали, что я присутствую на духовных беседах, которые там происходили в эти часы; я же проходила через церковь и сад на другую улицу и направлялась в мансарду к молодой работнице Флоранс, которая была мне всецело предана. Я запиралась в ее комнате, с радостью сбрасывала на ее кровать все свои наряды и надевала строгий черный костюм, шпагу в шагреневых ножнах и симметрично завитый парик молодого директора коллежа, мечтающего о священническом сане. Высокая брюнетка с невинным выражением глаз, я действительно имела вид неуклюжего и лицемерного святоши, который прячется на спектакле. Флоранс, заподозревшую любовную интригу, мое превращение так же забавляло, как и меня, и признаюсь, что оно доставляло мне такую же радость, как если б я на самом деле отправлялась упиваться наслаждениями и любовью, подобно молодым ветреницам, которые торопятся в дома свиданий на тайные ужины. Я брала фиакр и ехала прятаться в своей узенькой театральной ложе. И вот трепет, страх, радость, нетерпение — все прекращалось. Моя душа замирала в глубокой сосредоточенности, и я не выходила из этого состояния до поднятия занавеса, в ожидании великого таинства. Подобно тому как коршун в своем магнетическом полете завладевает куропаткой, подобно тому, как он держит ее, неподвижную и трепещущую, в волшебном круге, который чертит над нею, душа Лелио, его великая душа трагика и поэта, всецело овладевала мною и погружала в состояние глубокого восхищения. Я слушала, сжимая на коленях руки, положив подбородок на утрехтский бархат ложи, лоб мой был покрыт потом. Я сдерживала дыхание, и проклинала тягостный блеск свечей, который утомлял мои сухие, пылающие глаза, прикованные к каждому его шагу, каждому движению. Мне хотелось уловить малейший его вздох, малейшую морщину на его челе. Его притворные волнения, его сценические горести волновали меня, как подлинные переживания. Вскоре я уже не могла отличить реальность от фикции. Лелио для меня больше не существовал: это был Родриго[65], это был Баязет[66], это был Ипполит[67]. Я ненавидела его врагов, я трепетала, когда ему угрожала опасность; его страдания заставляли меня проливать вместе с ним потоки слез; его смерть исторгала у меня такие крики, что я принуждена была заглушать их, кусая свой платок, В антрактах я, в полном изнеможении, скрывалась в глубине своей ложи и сидела там неподвижная, словно мертвая, до тех пор, пока резкий ритурнель не извещал меня о поднятии занавеса. И я сразу воскресала, снова безумствовала, пламенела, снова восхищалась, переживала, плакала. Сколько свежести, сколько поэзии, сколько юности было в таланте этого человека! Наше поколение действительно обладало каменным сердцем, раз оно не падало к его ногам. И все же, хотя он и нарушал все понятия того времени, хотя он и не применялся ко вкусам этой глупой публики, хотя сн вызывал негодование женщин небрежностью своего туалета, хотя он оскорблял мужчин, презирая их дурацкие требования, у него бывали минуты такой поразительной силы и такого неотразимого обаяния, когда он одним словом, одним взглядом буквально захватывал всю эту упрямую, неблагодарную толпу и заставлял ее содрогаться и рукоплескать. Это бывало редко, потому что дух века так, сразу не меняется, но когда это случалось, аплодисменты были неистовые, казалось, что парижане, покоренные наконец его гением, хотели искупить всю свою несправедливость. А я полагала даже, что человек этот временами владел какой‑то сверхъестественной силой и что самые ярые хулители его вовлечены в его триумф помимо своей воли. Действительно, в такие минуты зал «Комеди франсез» казался наполненным одержимыми, и, уходя из театра, люди с удивлением переглядывались: неужели это они аплодировали Лелио? Что касается меня, я всецело отдавалась своему чувству: я кричала, я плакала, я со страстью выкрикивала его имя, с бешенством его вызывала; к счастью, мой слабый голос терялся в бушевавшей вокруг буре. Иногда его освистывали в местах, где он казался мне прекрасным, и я в бешенстве покидала спектакль. Эти дни были для меня самыми опасными. Меня сильно влекло пойти к нему, разделить с ним его горе, проклясть эпоху и утешить его, предложив ему мое поклонение и мою любовь. Однажды вечером, когда я выходила предоставленным мне потайным ходом, передо мной быстро прошел маленький, худенький мужчина, направлявшийся к выходу. Один из работников сцены, сняв перед ним шляпу, сказал: — Добрый вечер, мосье Лелио. Страстно желая увидеть этого изумительного человека вблизи, я сразу же бросаюсь вслед за ним и, не подумав об опасности, которой себя подвергаю, вхожу с ним в кафе. К счастью, это было захудалое кафе, в котором вряд ли я могла встретить кого‑нибудь из своего круга. Когда, при свете скверной, закоптелой люстры, я бросила взгляд на Лелио, я подумала, что ошиблась и следовала совсем за другим человеком. Ему было по меньшей мере лет тридцать пять, лицо его было желтое, увядшее, истасканное; одет он был плохо, вид у него был заурядный, говорил он голосом хриплым, глухим, всякому сброду подавал руку, глотал водку и жутко ругался. Мне нужно было несколько раз услышать его имя, чтобы убедиться в том, что это был действительно он — божество театра, истолкователь великого Корнеля. Я больше не находила в нем ничего от тех чар, которые меня обольщали, даже его взгляда, такого благородного, пламенного, грустного. Взор его был сумрачный, потухший, почти бессмысленный, его четкое сценическое произношение становилось пошлым, когда он обращался к лакею кафе, когда говорил о картах, о кабаре, о девках. Походка у него была вялая, вид неряшливый, на лице оставались еще следы грима. Это больше не был Ипполит, это был Лелио. Храм обеднел и стал пуст, оракул замолк, бог стал человеком — даже не человеком, а комедиантом. Он ушел, а я еще долго, пораженная, оставалась на своем месте, забыв проглотить горячее вино с пряностями, которое я заказала, чтобы придать себе мужественный вид. Когда я сообразила наконец, где я нахожусь, и увидела обращенные на меня взгляды, страх овладел мною. В первый раз в моей жизни я оказалась в таком двусмысленном положении и в такой непосредственной близости к людям низшего класса. Впоследствии эмиграция приучила меня к подобного рода неудобствам. Я поднялась и хотела убежать, но я забыла расплатиться. Лакей бросился за мной. Мне было страшно стыдно; пришлось вернуться, объясняться у прилавка, выдержать обращенные на меня подозрительные, насмешливые взгляды. Когда я вышла, мне показалось, что кто‑то идет за мною следом. Тщетно искала я фиакр, чтобы скрыться в нем, у театра не осталось уже ни одного. Тяжелые шаги продолжали раздаваться за мною. Я с трепетом обернулась и увидела огромного верзилу, которого заметила еще в кафе, за одним из столиков. У него был вид шпика, а может быть, кого‑нибудь похуже. Он заговорил со мной; я не знаю, что он мне сказал, страх лишил меня соображения; однако ж я сохранила достаточно присутствия духа, чтобы избавиться от него. Под влиянием мужества, которое придает страх, я мгновенно обратилась в героиню, быстро ударила его по лицу тростью, отбросила ее, чтобы легче было бежать, и, пока он еще не пришел в себя от моей дерзости, помчалась ' стрелой и остановилась только у Флоранс. Когда я в полдень проснулась в своей кровати с пологом на теплой подкладке, украшенным розовыми перьями, мне казалось, что все это было во сне. Мое вечернее приключение и разочарование глубоко уязвили меня, мне казалось, что я совершенно излечи-? лась от своей любви, и пыталась радоваться этому. Но напрас-: но. Я почувствовала мучительное сожаление. В моей жизни снова воцарилась скука, очарование исчезло, Когда пришел Ларрье, я его прогнала. Наступил вечер, но не принес с собой приятных волнении прошлых вечеров. Свет показался мне пошлым. Я пошла в церковь, послушала проповедь, решив стать набожной; там я простудилась и заболела. Я много дней не вставала с постели. Графиня де Феррьер приехала навестить меня. Она убеждала меня, что у меня нет жара, что в постели я только слабею, что мне необходимо развлекаться, выезжать, пойти в «Комеди франсез». Мне кажется, что она имела виды на Ларрье и хотела моей смерти. Но получилось иначе; она принудила меня пойти с ней в театр посмотреть «Цинну»[68]. — Вы не посещаете больше спектакли, — говорила она мне, — благочестие и скука только изнуряют вас. Вы уже давно не видели Лелио; он сделал большие успехи; теперь ему иногда аплодируют, я считаю, что со временем он станет приличным актером. Не знаю, как я позволила уговорить себя. Впрочем, по-; скольку я была разочарована в Лелио, я уже ничем не рисковала, подвергаясь его чарам на виду у публики. Я роскошно оделась и пошла в большую ложу авансцены навстречу опасности, в которую уже не верила. Но тут‑то меня и подстерегала величайшая опасность. Лелио был божествен, и я почувствовала, что влюблена в него, как никогда. Ночное приключение казалось мне только сном. Лелио не мог быть иным, чем он казался мне со сцены. Помимо моей воли, мною опять овладело то неизъяснимое волнение, которое он так умел вызывать во мне. Мне пришлось прикрыть платком заплаканное лицо, в своем смятении я стирала румяна, я сдирала мушки, и графиня до Феррьер принудила меня удалиться в глубину ложи: мое волнение обратило на себя всеобщее внимание. К счастью, я смогла убедить всех, что мое состояние ЯЬтвано было игрой мадемуазель Ипполиты Клерон[69]. По — моему, это была очень холодная, очень сдержанная трагическая актриса, стоящая, быть может, по своему характеру и воспитанию гораздо выше театральной профессии, как ее тогда понимали, но манера, с какой она говорила «довольно» в «Цин^ не», составила ей репутацию большой актрисы. Справедливость, однако ж, требует отметить, что, играя с Лелио, она превосходила самое себя. Хотя она тоже подчеркивала бонтонное презрение к его манере играть, все же, незаметно для себя, подчинялась влиянию его гения и вдохновлялась им, когда страсть сталкивала их на сцене. В этот вечер я обратила на себя внимание Лелио, то ли своим туалетом, то ли своим взволнованным видом. Я видела, как он в свободный момент наклонился к одному из зрителей, сидевших в креслах на сцене, как это было принято в то время, и спросил мое имя; я поняла это по их взглядам, обращенным на меня. Мое сердце так сильно забилось, что я боялась задох-: нуться; я заметила, что, пока шел спектакль, взоры Лелио несколько раз обращались в мою сторону. Дорого бы я дала, чтоб узнать, что ему сказал обо мне шевалье де Бретийяк, тот, ко о он спрашивал и который, глядя на меня, несколько раз заговаривал с ним! По лицу Лелио, вынужденного оставаться суровым, чтобы не изменить величию своей роли, я не могла угадать, какие сведения ему дали обо мне. К тому же, я очень мало знала этого Бретийяка; я не представляла себе, что он мог сказать обо мне — хорошее или дурное. Только с этого вечера я поняла, какого рода любовь приковала меня к Лелио: это была страсть чисто духовная, чисто романтическая. Я любила не его, а героев прежних времен, которых он умел воплощать. Эти чистосердечные, честные, нежные, навсегда исчезнувшие люди оживали в нем, и я вместе с ним и благодаря ему переносилась в эпоху ныне позабытых доблестей. Я с гордостью думала, что в те времена я не была бы непризнанной и оклеветанной, что я могла бы отдать свое сердце и не была бы вынуждена полюбить театральный призрак. Лелио был для меня лишь тенью Сида, лишь артистом, представляющим на сцене старинную рыцарскую любовь, которую сейчас во Франции высмеивают. Его — мужчину, скомороха — я совершенно не боялась, я уже его видела, любить его я могла только в театре, среди публики. Мой Лелио был бесплотным существом, которое исчезало для меня, как только гасли люстры в театре. Чтобы быть тем, кого я любила, ему нужны были сценические иллюзии, огни рампы, грим и театральные костюмы. Сбросив все это, он для меня обращался в ничто, при дневном свете он угасал, подобно звезде. У меня не было никакого желания видеть его вне сцены, и встреча с ним привела бы меня даже в отчаяние. Это было бы для меня все равно, что созерцать великого человека, превратившегося в горсть праха в глиняном сосуде. Мое частое отсутствие в часы, когда я обычно принимала у себя Ларрье, и особенно решительный отказ быть с ним впредь в других отношениях, кроме чисто дружеских, вызвали в нем приступ ревности, который, должна сознаться, имел больше оснований, чем какой‑либо из прежних. Однажды вечером, когда я направлялась в церковь Кармелиток, с намерением проскользнуть через другой выход, я заметила, что он следит за мной, и поняла, что отныне будет почти невозможно скрыть от него мои ночные похождения. Тогда я решила ходить в театр открыто. Мало — помалу я выработала в себе способность лицемерно скрывать свои впечатления и, к тому же, стала громко выражать свое восхищение Ипполитой Клерон, что могло обмануть окружающих насчет моих истинных чувств. Впредь мне приходилось действовать осторожней. Я была вынуждена теперь следить за каждым своим движением, от этого мое удовольствие теряло свою непосредственность и глубину, но эта ситуация создала новую, которая быстро вознаградила меня: Лелио видел меня, он наблюдал за мной; моя красота поразила его, моя чувствительность льстила ему. Он с трудом отрывал от меня свой взор. Иногда он бывал так рассеян, что вызывал неудовольствие публики. Вскоре у меня уже не оставалось сомнения: он любит меня до безумия. Так как моя ложа, казалось, вызывала зависть у княгини Водемон, я ей уступила ее, а себе взяла меньшую, более глубокую и лучше расположенную. Я находилась над самой рампой, я не теряла ни одного взгляда Лелио, и его взоры могли устремляться ко мне, не компрометируя меня. К тому же, я больше не нуждалась в этом способе, чтобы переживать вместе с ним все его ч'увства: по звуку его голоса, по его глубоким вздохам, по ударению, которое он делал на некоторых стихах, некоторых словах, я понимала, что он обращается ко мне. Я чувствовала себя самой гордой, самой счастливой из женщин, ибо в эти часы я была любима не комедиантом, а героем. И вот, после двухлетней любви, которую я одиноко и тайно питала в глубине души, Протекло еще три зимы, но уже взаимной любви. Но ни один мой взгляд не давал права Лелио надеяться на что‑либо другое, кроме этих отношений, полных таинственной близости. Впоследствии я узнала, что Лелио часто следовал за мной во время моих прогулок, но я не соизволила заметить и отличить его в толпе, так мало у меня было желания видеть его вне сцены. Из моих восьмидесяти лет эти пять были единственными, которые я прожила по — настоящему. И вот однажды я прочла в «Меркюр де ©ране» имя нового актера, приглашенного «Комеди франсез» вместо Лелио, который уезжал за границу. Новость эта была для меня смертельным ударом: я не представляла себе, как отныне смогу я жить без этого возбуждения, без этой бурной страсти. Моя любовь внезапно усилилась и едва не погубила меня. С этого момента я уже больше не заставляла себя сразу же подавлять всякую мысль, оскорбляющую достоинство моего звания. Меня уже больше не радовало, что в действительности Представляет собой Лелио. Я страдала, я тайно роптала: почему он не был таким, каким казался со сцены? Я дошла до того, что желала, чтобы он стал таким же молодым и прекрасным, каким его делает каждый вечер искусство, чтобы принести ему в жертву всю гордость своих предрассудков и всю брезгливость своей натуры. Теперь, когда я должна была потерять все эти переживания, давно уже наполнявшие все мое существо, у меня появилось желание осуществить все свои мечты и испытать реальную жизнь, если б даже затем я возненавидела и жизнь, и Лелио, и самое себя. Я была в полной нерешительности, как вдруг получила письмо, написанное незнакомым почерком. Тысячи любовных записок получала я от Ларрье и тысячи признаний от доброй сотни других поклонников, но сохранила одно это письмо: ведь это было единственное подлинное любовное письмо из всех мною полученных. Маркиза прервала свою речь, поднялась, подошла к шкатулке маркетри, твердой рукой открыла ее и вынула оттуда помятое, потертое письмо, которое я с трудом прочитал: «Сударыня! Я глубоко убежден, что это письмо вызовет у вас только презрение; вы не сочтете его даже достойным вашего гнева. Но что значит для человека, бросающегося в бездну, будет ли на дне ее одним камнем больше или меньше? Вы сочтете меня сумасшедшим, и вы не ошибетесь. И все же втайне вы, быть может, пожалеете меня, ибо вы не можете усомниться в моей искренности. Несмотря на свое благочестивое смирение, вы все же поймете, быть может, мое глубокое отчаяние; вы должны уже знать, сударыня, сколько зла или добра могут причинить ваши глаза. Итак, если я вызову у вас хоть намек на сострадание, если сегодня вечером, в час, которого я с таким нетерпением всегда жду и только тогда начинаю ощущать жизнь, я замечу на вашем лице хоть каплю сострадания, я уеду менее несчастным; я увезу из Франции воспоминание, которое придаст мне, быть может, силу жить в другом месте и продолжать свое неблаго* дарное и тяжелое дело. Но вы должны уже знать это, сударыня: невозможно, чтобы мое смятение, мои страстные порывы, мои крики гнева и отчаяния на сцене не выдали меня уже двадцать раз. Вы не могли бы разжечь это пламя, не сознавая, хотя бы смутно, то, что вы делаете. Но, может быть, вы играли со мной, как тигр со своей добычей? Может быть, мои мучения, мое безумие были для вас забавой? О нет! Это невозможно! Нет, сударыня, этому я не верю; об этом вы никогда не помышляли, вас трогают стихи великого Корнеля, вы проникаетесь благородными страстями трагедии, вот и все. А я, безумный, имел дерзость воображать, что лишь один мой голос вызывает у вас иногда сочувствие, что мое сердце нашло отклик в вашем и что между мною и вами было нечт<^ большее, чем между мною и публикой. О! Это было явное, но сладостное безумие. Оставьте мне его, сударыня, не все ли вам равно? Не опасаетесь же вы, что я стану этим хвастать. Какое имел бы я на то право, и что я собой представляю, чтобы мне поверили на слово? Я только отдал бы себя на посмешище здравомыслящих людей. Оставьте мне, умоляю вас, сударыня, это убеждение, — оно одно давало мне больше радости, чем суровость всей публики причиняла мне горя, Разрешите мне на коленях благословлять и благодарить вас за ту чуткость, кото-: рую я открыл в вашей душе и которой никто другой, кроме вас, не удостоил меня; за те слезы, которые, как я видел, вы проливали над моими сценическими несчастьями и которые часто вдохновляли меня до безумия; за те застенчивые взгляды, которые, как мне, по крайней мере, казалось, пытались утешить меня, искупая холодность всей прочей публики. О! Почему вы родились в блеске и роскоши, почему я только бедный артист, без имени и славы? Почему я не пользуюсь успехом у публики и не обладаю богатством финансистов, чтобы променять их на звание и титул, которые раньше я презирал, — это дало бы мне, может быть, право надеяться! Прежде я всему предпочитал талант; я считал, что все маркизы или шевалье — только тупицы, хлыщи и наглецы; я ненавидел спесь вельмож и считал себя вполне отомщенным за их презрение, если мой гений возносил меня над ними. Пустые мечты и разочарования! Силы изменили моему безрассудному честолюбию. Я остался безвестным, хуже того — я ужё касался славы, и она ускользнула от меня. Я считал себя — великим, а меня повергли в прах; я воображал, что достиг совершенства, а меня выставили на посмешище. И меня, с моими чрезмерными мечтами, с дерзкой душой, судьба сломила, как тростинку. Я очень несчастный человек. Но величайшим моим безумством было то, что я устремлял мои взоры поверх рампы, которая проводит непреодолимую черту между мною и остальным обществом. Для меня это за-: колдованный круг. Я хотел перешагнуть через него! Я, комедиант, дерзнул иметь глаза и остановить свой взор на прелестной женщине! На женщине такой молодой, благородной, любящей и стоящей так высоко, — ибо вы действительно отличаетесь этим, сударыня. Я знаю, свет обвиняет вас в холодности и преувеличенной набожности. Я единственный знаю вас и понимаю. Одной вашей улыбки, одной вашей слезы было достаточно, чтобы разоблачить нелепые басни, которые некий шевалье де Бретийяк мне плел про вас. Но какая же у вас судьба? Какое необыкновенное предопределение тяготеет над вами, так же как и надо мной, если среди такого блестящего, такого просвещенного, каким оно себя считает, общества вы не нашли ни одного сердца, которое бы вас оценило, кроме сердца бедного комедианта. Но никто не отнимет у меня печальной и утешительной мысли, что, принадлежи мы к одной и той же общественной среде, вы не смогли бы ускользнуть от меня, как бы ни был я ничтожен, кто бы ни были мои соперники. Вам пришлось бы покориться истине: во мне есть нечто большее, чем их титулы и богатство, — это могущество моей любви к вам. Лелио», — Это письмо, — продолжала маркиза, — странное для того времени, когда оно писалось, несмотря на некоторые отзвуки расиновской декламации в первых строках, показалось мне таким сильным, таким правдивым, я в нем нашла столь новое, столь смелое чувство страсти, что я была совершенно потрясена. Остаток еще боровшейся во мне гордости окончательно исчез. Я готова была отдать всю свою жизнь за один час такой любви. Я не стану рассказывать вам о своих душевных переживаниях, о своих мечтах, своих опасениях, я сама не найду в них связи. Насколько мне помнится, я написала в ответ следующее: «Не вас, Лелио, виню я, я обвиняю судьбу; не вас одного я жалею, я жалею и себя. Ни гордость, ни благоразумие, ни стыдливость не заставят меня отнять у вас утешительную мысль, что я обратила на вас внимание; сохраните ее, ибо это все, что я могу вам предложить. Я никогда не соглашусь на свидание с вами». На следующий день я получила записку, поспешно прочла ее и еле успела бросить в огонь, чтоб скрыть ее от Ларрье, который застиг меня во время чтения. Ее содержание приблизительно следующее: «Сударыня! Я должен поговорить с вами, или я умру. Один раз, единственный раз, только один час, если вам угодно. Почему вам бояться встречи со мной, раз вы вверяетесь моей чести и моей скромности? Сударыня, я знаю, кто вы; я знаю строгость ваших правил; я знаю ваше благочестие; знаю даже ваши чувства к виконту Ларрье. Я не настолько глуп, чтоб надеяться на что‑либо, кроме слова сострадания; но оно должно исходить непосредственно из ваших уст; мое сердце должно подхватить его и увезти с собой, или оно разобьется. Лелио». Скажу в похвалу себе, ибо всякая благородная и смелая доверчивость в минуту опасности достойна похвалы, что я ни минуты не опасалась быть осмеянной наглым распутником. Я свято верила в смиренную искренность Лелио. К тому же, у меня были все основания верить в свои силы. Я решила увидеться с ним. Я совершенно забыла его увядшее лицо, его грубые манеры, его пошлый вид; я помнила только обаяние его гения, тон его письма, его любовь. Я ему ответила: «Я повидаюсь с вами; найдите надежное место; но не надейтесь ни на что другое, кроме того, что вы просили. Я верю в вас, как в бога. Если вы попытаетесь злоупотребить моим до* верием, вы будете негодяем, и я не побоюсь вас». Ответ: «Ваша доверчивость спасла бы вас от самого низкого мерзавца. Вы увидите, сударыня, что Лелио достоин этого доверия. Герцог де *** часто предлагал мне свой особняк на улице Валуа, но к чему он был мне нужен? Вот уже три года, как для меня в этом мире существует только одна женщина. Соблаговолите прийти на свидание по окончании спектакля». Я получила записку в четыре часа. Переговоры длились сутки. Весь этот день я металась по комнатам, как одержимая; меня лихорадило. Эта быстрота событий и решений так противоречила моим намерениям за последние пять лет, что я действовала, как во сне, и когда я приняла окончательное решение, когда увидела, что связала себя обязательством, что отступать уже поздно, я, измученная, почти бездыханная, упала на свою оттоманку, и комната закружилась вокруг меня. Я серьезно занемогла; пришлось- послать за хирургом, он пустил мне кровь. Я запретила прислуге говорить кому‑либо о моем недомогании; я опасалась назойливости советчиков и не хотела, чтоб мне помешали уйти вечером. В ожидании назначенного часа я бросилась на кровать и запретила впускать ко мне даже Ларрье. Кровопускание облегчило мое физическое состояние, обессилив меня. Я впала в глубокое уныние; все мои иллюзии унеслись вместе с лихорадцчным возбуждением. Рассудок и память вернулись ко мне; я вспомнила разочарование, постигшее меня в кафе, отвратительные манеры Лелио, я уж готова была краснеть за свое безумие, готова была пасть с вершины своих призрачных мечтаний в гнусную действительность. Мне было непонятно, как решилась я променять эту героическую и романтическую любовь на ожидавшие меня отвращение и позор, которые отравят все мои воспоминания, и я глубоко сожалела о своем поступке; я оплакивала_свои грезы, свою жизнь, заполненную любовью, и будущее, полное непорочных душевных утех, ибо собиралась все это разрушить. Особенно оплакивала я Лелио: я увижу его, но потеряю навсегда; любовь к нему в течение пяти лет доставляла мне столько блаженства, а через несколько часов я уже не смогу любить его! В своем отчаянии я так ломала руки, что рана моя открылась, кровь хлынула потоком, я еле успела позвонить своей горничной; она застала меня в кровати без сознания. Глубокий, тяжелый сон, с которым я тщетно боролась, овладел мною. Я не видела снов, я не чувствовала боли, в течение нескольких часов я лежала как мертвая. Когда я раскрыла глаза, в комнате было темно, в особняке царила тишина; горничная спала на стуле у моей кровати. Некоторое время я находилась в состоянии такой слабости, такого оцепенения, что у меня не было ни одной мысли, ни одного воспоминания. Вдруг память возвращается ко мне. Я спрашиваю себя, не прошел ли день и час назначенного свидания, спала ли я один час или целую вечность, день ли сейчас или ночь, не убила ли я Лелио, изменив своему слову, не опоздала ли… Я пытаюсь подняться, силы мне изменяют; я борюсь, как в кошмаре. Наконец я собираю всю свою силу воли, призываю ее на помощь обессилевшим членам. Соскакиваю на паркет, приоткрываю занавески; вижу сияние луны на деревьях моего сада; подбегаю к часам, они показы-, вают десять. Бросаюсь к горничной, трясу ее, она в испуге просыпается. — Кинетта, какой сегодня день? Она с криком вскакивает со стула и хочет бежать, думая, что я в бреду; я ее удерживаю, успокаиваю, узнаю, что проспала только три часа. Я благодарю бога; заказываю фиакр. Кинетта смотрит на меня с изумлением. Наконец она убеждается, что я в полном уме, передает мое приказание и готовится одевать меня. Я велела подать мне самое простое, самое скромное платье; волосы оставила без украшений, отказалась от румян. Я хотела внушить Лелио главным образом почтение и уважение к себе, они были для меня ценнее, чем его любовь. Однако же мне доставило удовольствие, когда Кинетта, удивленная всеми моими причудами, сказала мне, осмотрев с головы до ног: — Право же, сударыня, я не знаю, как вы это делаете: на вас надето только простое белое платье, без шлейфа, без фижм; вы больны и бледны как смерть; вы не пожелали даже наклеить ни одной мушки, и что же? Умереть мне на этом месте, если я видела вас когда‑нибудь такой прекрасной, как сейчас. Просто жалко мужчин, которые будут смотреть на вас. — Значит, ты считаешь меня очень добродетельной, бедная Кинетта? — Увы! Госпожа маркиза, я каждый день молю небо, чтоб стать такой, как вы, но до сих пор… — Полно, глупенькая! Подай мне мантилью и муфту. В полночь я была в доме на улице Валуа. Я была тщательно закутана вуалью. Человек, похожий на лакея, встретил меня. Он был единственным живым существом, которое я увидела в этом таинственном жилище. По изгибам темного сада он провел меня к погруженному в мрак и тишину павильону. Тут, поставив в вестибюле свой зеленый шелковый фонарик, он открыл дверь в мрачные, низкие покои, с бесстрастным видом и почтительным жестом указал на луч света, исходивший из глубины анфилады комнат, и сказал мне таким голосом, словно боялся пробудить уснувшее эхо: — Сударыня, вы здесь одни, еще никто не пришел. В летней гостиной имеется колокольчик, вы, сударыня, извольте только позвонить, если что‑нибудь понадобится. И он скрылся, как по мановению волшебства, закрыв за мной дверь. Безумный страх охватил меня; я испугалась, не попала ли в западню; я окликнула его, он тотчас же явился; его торжественно глупый вид успокоил меня. Я спросила его, который час; я это и так прекрасно знала, ибо в экипаже раз десять нажимала пружинку своих часов, чтобы они звонили. — Полночь, — ответил он, не поднимая на меня глаз. Я увидела, что этот человек прекрасно знает свои обязанности. Я решилась войти в летнюю гостиную и убедилась в несправедливости своих опасений, увидев, что все двери, ведущие в сад, были только завешены шелковыми портьерами, разрисованными по — восточному. Ничто не могло быть прелестней этого будуара, который, в сущности, был просто — напросто небольшим концертным залом. Стены из белоснежного искусственного мрамора, рамы зеркал из матового серебра; музыкальные инструменты исключительной ценности, разбросанные на обитой белым бархатом мебели с жемчужными кистями. Весь свет падал сверху, но был скрыт листьями из алебастра, которые образовали как бы потолок купола. Этот мягкий матовый свет можно было принять за лунное сияние. С большим интересом и любопытством рассматривала я уединенное убежище, подобного которому никогда прежде не видела. Это был первый и единственный раз в моей жизни, что я вошла в дом свиданий. Потому ли, что эта комната отнюдь не была предназначена для того, чтобы служить храмом любовных таинств, которые там справлялись, потому ли, что Лелио велел убрать все предметы, которые могли оскорбить мой взгляд и заставить меня страдать от положения, в какое я попала, но она не оправдала того отвращения, какое я чувствовала, входя в нее. Одна только статуя из белого мрамора украшала середину комнаты. Это была античная фигура, изображавшая Изиду под покрывалом и с пальцем на губах; зеркала, отражавшие нас, меня и ее, бледных, одетых в белое, обеих целомудренно закутанных, настолько вводили меня в заблуждение, что мне нужно было шевельнуться, чтобы отличить от ее фигуры свою. Вдруг эта мрачная, жуткая и вместе с тем восхитительная тишина была нарушена; в глубине открылась и закрылась дверь, под чьими‑то легкими шагами слегка скрипел паркет. Я упала в кресло ни жива ни мертва; я увижу Лелио вблизи, вне театра. Я закрыла глаза и, прежде чем открыть их снова, про себя сказала ему прости. Но каково было мое изумление! Лелио был прекрасен, как ангел; он не успел еще сбросить с себя свой театральный костюм, самый элегантный из всех, какие я на нем видела. Его тонкий, гибкий стан был облачен в испанский камзол из белого атласа с бантами вишневого цвета на плечах, на нем были подвязки и короткий плащ, огромные брыжи из английских кружев; волосы стриженые, ненапудренные; на голове — ток с покачивающимися надо лбом белыми перьями и круглой бриллиантовой пряжкой. В этом костюме он играл сегодня дон Жуана в «Каменном госте»[70]. Я еще никогда не видела его столь прекрасным, столь юным, столь поэтичным, как в этот момент. Веласкес пал бы ниц перед такой моделью. Он опустился передо мной на колени. Я не могла не протянуть ему руку. У него был такой робкий, такой покорный вид. Мужчина, влюбленный в женщину до того, что начал робеть, — какое редкое явление для того времени, к тому же мужчина тридцати пяти лет и комедиант! Но все равно, мне казалось, и сейчас еще кажется, что он был в полном расцвете ранней юности. А в этом белом костюме он напоминал молодого пажа, его лицо выражало всю чистоту, а его взволнованное сердце — весь пыл первой любви. Он взял мои руки, покрыл их страстными поцелуями. Я обезумела; я привлекла к себе его голову, я ласкала его пламенный лоб, его жесткие черные волосы, его темную шею, утопавшую в нежной белизне воротника. Но Лелио не становился смелее… Весь его страстный пыл сосредоточился в глубине сердца. Он зарыдал, как женщина, заливая слезами мои колени. О! Сознаюсь вам, что и мои слезы сладостно смешивались с ними. Я заставила его поднять голову и посмотреть на меня. Боже! Как он был прекрасен! Глаза светились нежностью. Черты лица не были правильны, прожитые годы и бессонные ночи наложили на них свой отпечаток, но какое очарование придавала им его правдивая, благородная душа! О! Могущество души! Кто не постиг чудес его, тот никогда не любил. Преждевременные морщины на его прекрасном лбу, томная улыбка, бледность губ растрогали меня. Мне хотелось плакать над его горестями, разочарованиями и трудом, которыми полна была его жизнь. Я переживала все его печали, даже долгую, безнадежную любовь ко мне. У меня было только одно желание: искупить причиненные ему страдания. — Мой дорогой Лелио, мой великий Родриго, мой прекрасный дон Жуан, — повторяла я в своем безумии. Его взоры опаляли меня. Он заговорил. Он рассказал мне, как росла его любовь ко мне; он рассказал мне, как в нем — распутном скоморохе — я зажгла пламень подлинной жизни, как он благодаря мне возвысился в собственных глазах, как я вернула ему иллюзии юности; он оказал мне о своем почтении, благоговении ко мне, о своем презрении к глупой любовной напыщенности, которая тогда была в моде; он сказал мне, что отдал бы весь остаток своих дней за один только час, проведенный в моих объятиях, но что он пожертвовал бы этим часом и всей своей жизнью из боязни оскорбить меня. Никогда еще сердце женщины не было увлечено таким проникновенным красноречием; никогда даже у нежного Расина любовь не говорила так убежденно, так поэтично, так сильно, Его слова, голос, глаза, его ласки, его покорность заставили меня почувствовать всю нежность и строгость, всю сладость и весь пыл, какие может внушить страсть. Увы, не обманывался ли он сам? Не разыгрывал ли он роль? — Разумеется, нет! — воскликнул я, посмотрев на маркизу. Рассказывая, она словно помолодела, словно сбросила с себя, подобно фее Юржель, сто лет. Не помню, кто сказал, что сердце женщины не имеет морщин. — Выслушайте до конца, — сказала она. — Обезумев, потеряз голову ото всего, что он мне поведал, я обняла его, я трепетала, прикасаясь к атласу его костюма, вдыхая аромат его волос. Ум мой помрачился. Все до сих пор неведомое мне, все чувства, на которые я считала себя неспособной, пробудились во мне, новее это произошло слишком бурно… Я потеряла сознание… Он быстро оказал мне помощь, и я пришла в себя. Он был у ног моих, более взволнованный, более робкий, чем когда‑либо. — Сжальтесь надо мной, — сказал он, — убейте меня, прогоните меня. Он был бледнее и слабее меня. Но от всех нервных потрясений в течение столь бурного дня я быстро переходила из одного состояния в другое. Мгновенная вспышка новых ощущений погасла; кровь моя остыла; благородство истинной любви быстро одержало верх. — Послушайте, Лелио, — сказала я ему, — не презрение отвращает меня от вашей страсти. Возможно, что я одержима предрассудками, которые нам прививают с детства и которые становятся как бы нашей второй натурой; но не здесь придут они мне на память, ибо все мое существо преобразилось теперь и приняло облик совершенно мне незнакомый^ Если вы любите меня, помогите мне сопротивляться вам. Позвольте мне унести отсюда чудесное сознание, что я любила вас только сердцем. Если б я никому ые принадлежала, может быть я с радостью отдалась бы вам, но знайте, что Ларрье осквернил меня, знайте, что, вынужденная ужасной необходимостью поступать, подобно всем, я принимала ласки мужчины, которого никогда не любила; знайте, что отвращение, которое я ощущала при этом, убило мое воображение настолько, что если б я только что otj далась вам, то сейчас, быть может, уже ненавидела бы вас. U. Не будем делать этого страшного опыта, останьтесь чистым в моем сердце, в моей памяти! Расстанемся навсегда и унесем в будущее радостные мысли и восхитительные воспоминания. Я клянусь, Лелио, что буду любить вас до самои смерти. Я чувствую, что даже холод старости не потушит этого пылкого пламени. Я клянусь также никогда не принадлежать другому мужчине, после того как я устояла перед вами. Это усилие для меня не будет трудным, и вы можете мне поверить. Лелио пал предо мною ниц, он не умолял меня, не упрекал, он говорил, что не надеялся на все то блаженство, какое я ему дала, и что он не имеет права требовать большего. Однако же, когда мы прощались, его подавленный вид и дрожащий голос меня испугали. Я спросила, доставят ли ему радость воспоминания обо мне, осенят ли восторги этой ночи своим очарованием всю его жизнь, облегчат ли они все его настоящие и будущие страдания. Он оживился, он клялся и обещал все, что я хотела. Он вновь упал к моим ногам и страстно целовал мое платье. Я почувствовала, что начинаю колебаться, и сделала ему знак рукой — он отошел. Экипаж, который я заказала, прибыл. Человек — автомат, незримо стерегший нас во время этого тайного свидания, известил меня тремя ударами в дверь. Лелио в отчаянии бросился к двери, чтобы загородить ее, он был бледен, как призрак. Я осторожно отстранила его, и он покорился. Яперешагнула через порог; он хотел следовать за мной — я указала ему на стул посреди комнаты, под статуей Изиды. Он сел. Страстная улыбка блуждала на его устах, в глазах блеснул последний луч признательности и любви. Он еще был прекрасен, молод, он еще был испанский гранд. Сделав несколько шагов, в момент, когда я теряла его навсегда, я обернулась и бросила на него последний взгляд; отчаяние сокрушило его. Он стал старым, безобразным, ужасным. Тело его казалось парализованным, перекошенные губы пытались судорожно улыбнуться, взгляд был неподвижным и тусклым: это был повседневный Лелио, тень любовника и принца. Маркиза умолкла. Затем с мрачной улыбкой, тоже изменяясь на глазах, как окончательно оседающая развалина, она продолжала: — С тех пор я ничего о нем не слыхала. Маркиза сделала новую паузу, более длительную, но под влиянием той огромной душевной силы, которую придают прожитые годы, упорная привязанность к жизни или предчувствие близкой смерти, она опять повеселела и сказала мне, улыбаясь: — Ну что, теперь вы Поверите в добродетель восемнадцатого века? — Сударыня, — ответил я, — у меня нет никакого желания сомневаться в ней, но, не будь я так растроган, я бы сказал вам, быть может, что вы проявили большую предусмотрительность, пустив себе в этот день кровь. — Презренные мужчины! — сказала маркиза, — Ничего‑то не понимаете в сердечных делах!Жорж Санд Мастера мозаики

I

— Да, мессер[71] Якопо, мне не повезло с сыновьями. Они меня опозорили, и я никогда не утешусь. Мы живем в век упадка, говорю я вам, люди вырождаются, семейные устои рушатся. В мое время каждый старался пойти по стопам отца… даже превзойти его. А ныне у нас не брезгуют никакими средствами, не боятся унизить свое звание, лишь бы разбогатеть. Дворянин превращается в торгаша, живописец — в подмастерье, зодчий — в каменщика, каменщик — в подручного. До чего же все они дойдут, пресвятая богородица! Так говорил мессер Себастьяно Дзуккато, художник, забытый в наши дни, но в свое время пользовавшийся немалым уважением как глава школы живописи, — говорил, обращаясь к знаменитому маэстро Якопо Робусти, который нам более известен под именем Тинторетто. — Ха-ха! — рассмеялся маэстро Робусти; он всегда был так поглощен своими замыслами, что порой отвечал не подумав, с удивительной непосредственностью. — Лучше быть хорошим подмастерьем, чем мастером средней руки; умелым ремесленником, чем заурядным художником, и… — Эге, любезный маэстро, — воскликнул старик, слегка обидевшись, — уж не называете ли вы заурядным художником представителя корпорации живописцев, учителя стольких мастеров, прославивших Венецию? Они — ее блистательнейшее созвездие. Вы сияете в нем как самая большая звезда, но мой ученик Тициан Вечеллио блистает не менее ярко. — О, маэстро Себастьяно, — невозмутимым тоном ответил Тинторетто, — если такие светила и созвездия отбрасывают сияние на республику, если из вашей мастерской вышли такие непревзойденные мастера, начиная с великого Тициана, перед которым я склоняю голову без зависти и неприязни, значит, мы не живем в век упадка, как вы изволили сейчас заметить. — Что верно, то верно, — с раздражением подхватил уязвленный художник, — для искусства это великий век, прекрасный век. Но вот что меня огорчает: немало я приложил стараний, дабы он стал великим, а радости он мне не принес. Я взрастил Тициана, но мне-то какой прок, раз никто обо мне не помнит, не думает! А кто будет знать об этом лет через сто? Да и ныне-то знают лишь оттого, что великий живописец выказывает мне признательность, воздает мне хвалу и называет своим дорогим «кумом». Но толку от этого мало! Ах, почему небо не повелело, чтобы я был его отцом! Вот если б он звался Дзуккато или я — Вечеллио! Имя мое, по крайней мере, жило бы в веках. И через тысячу лет люди говорили бы; «Отец художника был отменным учителем живописи». А мои сынки бесчестят меня — они изменили благородным музам, а ведь у юнцов блестящие способности! Они прославили бы меня и, быть может, затмили бы и Джорджоне, и Скьявоне, и всех Беллини, и Веронезе, и Тициана, и даже самого Тинторетто… Да, я осмеливаюсь так говорить, потому что с их природными талантами да при тех советах, которые, несмотря на свой возраст, я еще в силах им давать, они бы стерли с себя пятно бесчестия, спустились с лесов ремесленника и возвысились до помоста живописца… Так вот, любезный маэстро, снова докажите, что вы мне друг — вы ведь меня удостоили дружбой, — и вместе с мессером Тицианом сделайте последнюю попытку, постарайтесь образумить моих сыновей, отбившихся от рук. Если вам удастся вернуть на путь истинный Франческо, он поведет за собой и брата, ибо Валерио безмозглый вертопрах, и я бы сказал, что у него почти нет никаких способностей, если б он не приходился мне сыном да иной раз не проявлял кое-какой сообразительности, набрасывая фрески[72] на стенах своей мастерской. Мой Чеко[73] — другое дело: он владеет кистью, как маэстро, и одаряет своими высокими замыслами художников, даже вас, как вы сами говорили, мессер Якопо. При этом у него натура утонченная, деятельная, упорная, ищущая… Он обладает всеми качествами великого художника. Увы! Не могу примириться с мыслью, что он пошел по такому дурному пути. — Извольте, сделаю все, что вам угодно, — ответил Тинторетто, — только прежде откровенно выскажу все то, что я думаю о вашем пренебрежительном отношении к искусству, которому посвятили себя ваши сыновья. Мозаика отнюдь не презренное ремесло, как вы считаете. Это истинное искусство, вынесенное из Греции превосходными мастерами. Нам должно говорить о нем с глубочайшим уважением, ибо лишь оно сохранило — еще более, чем живопись на металле, — утраченные приемы рисунка Византийской империи. Пусть искусство мозаики и передало нам эти приемы в измененном, искаженном виде, но, не будь его, мы уж наверняка потеряли бы их совсем. Холст не выдерживает губительного действия времени. До нас дошли только имена Апеллеса и Зевксиса[74]. Какую благодарность питали бы мы теперь к великим живописцам, если бы они увековечили свои произведения при помощи хрусталя или мрамора! А вот мозаика сохранила нетронутыми краски древних мастеров, и, хотя ей далеко до живописи, у нее есть то преимущество, что ее нельзя уничтожить. Она сопротивляется и действию беспощадного времени, и разрушительному влиянию воздуха… — А почему же, если она так хороша и всему этому сопротивляется, — сердито возразил старик Дзуккато, — Сеньория[75] повелела восстановить своды святого Марка — ведь они голы ныне, как мой череп? — А потому, что в эпоху, когда их украшали мозаикой, греческие художники в Венеции были редкостью. Они приходили издалека, оставались у нас недолго, наспех пекли учеников, — те работали по их указке, хотя и не знали толка в ремесле и не умели придавать нужную прочность мозаике. С той поры как это искусство стало у нас развиваться и улучшаться век от века, мы сделались такими превосходными мастерами, что и древним грекам до нас далеко. Работы вашего сына Франческо перейдут к потомству. Его будут превозносить за немеркнущие фрески на стенах нашей базилики[76]. Полотна Тициана и Веронезе превратятся в прах, и настанет день, когда этих великих мастеров будут знать лишь по мозаичным работам Дзуккато. — Превосходно! — заметил упрямый старик. — Таким образом, Скарпоне, мой сапожник, в величии своем превосходит господа бога, ибо моя нога — она божье творение — превратится в прах, а обувь сохранит форму и отпечаток моей ноги навеки! — А краски! Мессер Себастьяно, а краски! Ваше сравнение неудачно. Какое вещество, сделанное человеческой рукой, сохранит подлинный цвет вашего тела на вечные времена? А вот камень и металл — созданные природой и неизменяющиеся вещества — сохранят, пока не превратятся в мельчайшие крупицы пыли, венецианскую краску, прекраснейшую краску в мире, перед которой пришлось отступить Буонарроти[77] и всей его флорентийской школе. Нет, нет, вы ошибаетесь, маэстро Себастьяно! Вы несправедливы, раз не говорите: хвала чеканщику — создателю и блюстителю чистой линии! Хвала мастеру мозаики — стражу и хранителю цвета. — Слуга покорный! — отвечал старец. — Благодарю за добрый совет, мессер! Прошу лишь об одном: проследите, пусть не забудут выгравировать мое имя на моей могиле, да укажите, что я был живописцем, пусть грядущие поколения знают, что жил-: был в Венеции Себастьяно Дзуккато и владел он кистью, а не лопаткой каменщика. — Скажите-ка, мессер Себастьяно, — спросил добряк маэстро, удерживая старика, — разве вы не видели последних работ ваших сыновей там, в базилике? — Избави меня боже увидеть, как Франческо и Валерио Дзуккато поднимаются по веревке подобно кровельщикам, режут смальту[78] и набирают мозаику! — А знаете ли вы, любезный Себастьяно, что эти работы заслужили наилестнейшие похвалы сената и получили наивысшие награды республики? — Я знаю, мессер, — высокомерно ответил Дзуккато, — что на лесах базилики святого Марка висит молодой человек, старший мой сын: ради ста дукатов в год он покинул благородное искусство своих отцов, несмотря на упреки совести и муки попранной гордости. Мне известно, что по площадям Венеции слоняется молодой человек — младший мой сын: чтобы платить за пустые развлечения, чтобы сорить деньгами, он пожертвовал своим достоинством и служит у своего брата. Он сменил пышное платье вертопраха-модника на невзрачную одежду чернорабочего. По вечерам, катаясь в гондоле, он прикидывается патрицием, зато весь день потом играет роль каменщика: надо же уплатить за вчерашние ужин и серенаду. Вот что мне известно, мессер, и все тут. — Говорю вам, маэстро Себастьяно, — возразил Тинторетто, — у вас хорошие, благородные сыновья. Они великолепные художники: один трудолюбив, терпелив, искусен, исполнителен, настоящий мастер своего дела; другой — любезен, смел, жизнерадостен, остроумен и пылок — не так усидчив, зато у него больше таланта. Может статься, по широте мыслей и вдохновенных замыслов… — Да, да, — прервал его старец, — тороват на выдумки, еще больше — на слова! Уж мне ли не знать эдаких умников, по их словам глубоко «чувствующих искусство»! Они его объясняют, определяют, прославляют, но отнюдь ему не служат: они — язва мастерских. Они шумят, а остальные работают. Они так возвышенны — куда уж им работать! — столько замыслов осуществить невозможно! Вдохновение убивает этих умников. И, чтобы не слишком вдохновляться, они болтают или с утра до вечера шатаются по улицам. Очевидно, боятся, как бы вдохновение и труд не отразились на их здоровье. Вот мессер Валерио, мой сын, не очень-то утруждает себя работой и весь свой умишко выпускает через рот — все болтает. Юнец напоминает мне полотно, на котором каждодневно набрасывают первые штрихи эскиза, не давая себе труда стирать прежние: немного времени спустя полотно начинает являть собою странную картину — множество сумбурных линий, в каждой как будто есть и свой смысл и своя цель, но в общем художник словно тонет в хаосе, и ему никогда в нем не разобраться. — Согласен, Валерио немного рассеян и с ленцой, — произнес маэстро. — И все же я попробую еще раз взяться за него на правах родственника; ведь он на это сам согласился, охотно обручившись с моей дочуркой Марией. — И вы сносите эти шутки! — воскликнул старый художник (ему не удалось скрыть тайного удовольствия, когда он услышал из уст самого синьора Робусти об этом событии). — Вы позволяете ремесленнику, даже не ремесленнику, а подмастерью, пусть даже в шутку, домогаться руки вашей дочери? Мессер Якопо, заверяю вас: если б я имел дочь и если б Валерио Дзуккато не был мне сыном, я бы изгнал его из числа ее женихов. — О, да это дело не мое, а моей жены, — отвечал Робусти. — И дело нашей дочери, когда она станет девушкой-невестой. У Марии созреет талант, большой талант, — надеюсь, что скоро она начнет создавать портреты, которые я не постыжусь подписывать, и потомки не колеблясь признают их моими. Надеюсь, у нее будет славное имя. Мои труды обеспечат ей независимость, я оставлю ей богатое наследство. Пусть же она выходит замуж за Валерио, за подмастерье, или даже за Бартоломео Боцца, подмастерье из подмастерьев, если ей вздумается; она навсегда останется Марией Робусти, дочерью, ученицей и преемницей Тинторетто[79]. Есть на свете девушки, которым дана возможность выходить замуж ради своего счастья, а не ради выгоды. Сердца юных патрицианок более склонны к пажам, чем к вельможам-женихам. Мария тоже патрицианка в своем роде. Пусть же она поступает по-патрициански. Валерио ей по душе. Старик Дзуккато молча покачал головой: он сдерживал себя, не желая выказывать, как благодарен и обрадован. Однако маэстро Робусти заметил, что старик порядком смягчился. Они довольно долго беседовали. Себастьяно стоял на своем, но говорил уже не с такой язвительностью, как прежде, и в конце концов согласился пойти вместе с маэстро Робусти в собор святого Марка, где в те дни братья Дзуккато заканчивали работу над огромными мозаичными картинами, сделанными по эскизам Тициана и Тинторетто и украшавшими потолок над притвором.
II
Когда старик Дзуккато вошел под восточный купол, где с золотого блестящего фона устремлялись вниз, как страшные видения, исполинские фигуры пророков, словно пробужденные ото сна, он помимо воли был охвачен суеверным страхом, и чутье художника на миг уступило место религиозному чувству. Он перекрестился, склонился ниц перед алтарем, поблескивавшим золотом в глубине храма, и, положив берет на пол, шепотом прочел коротенькую молитву. Затем он тяжело поднялся, с трудом выпрямил колени, утратившие с возрастом гибкость, и только тут отважился бросить взгляд на фигуры, которые были всего ближе к нему. Но видел он плохо и получил лишь общее представление. Обернувшись к Тинторетто, он заметил: — Нельзя отрицать, эти огромные фигуры производят впечатление. А впрочем, все это чистое шарлатанство!.. Эге, а вот и вы, синьор! Последние слова были обращены к высокому бледному юноше — он стремглав спустился с помоста, торопясь встретить отца, как только услышал раскатистое эхо, повторявшее в сводах купола его резкий, надтреснутый голос. Франческо Дзуккато с мягкостью, но упорством противился отцовской воле и в конце концов последовал по пути своего призвания. Он стал редко навещать старика, чтобы избежать раздоров, но относился к отцу со смиренной почтительностью. Спеша оказать ему должный прием, Франческо обтер второпях руки и лицо, сбросил передник, надел шелковый камзол с серебряной оторочкой — подарок одного из молодых учеников. В этом одеянии он был красив и изящен, словно щеголь-патриций. Но на его задумчивом челе, на губах, тронутых невеселой улыбкой, лежал отпечаток вдохновенного труда и священной гордости художника. Старик Дзуккато смерил его взглядом с ног до головы и, стараясь подавить волнение, насмешливо сказал: — Послушайте, сударь, как же быть, с какого места любоваться вашими дивными творениями? Не будь они прикреплены к стенам corpore et animo[80], мы бы попросили вас снять кое-что; но вам лучше знать, что выгоднее для вашей славы, и вы разместили все свои произведения так высоко, что ничей взор до них не доберется. — Отец, — скромно ответил молодой человек, — самым прекрасным днем в моей жизни будет тот, когда эти слабые произведения заслужат вашу снисходительную оценку, но ваша суровость — препятствие более серьезное, чем расстояние, отделяющее нас от сводов купола. Если бы мне удалось победить ваше отвращение, я бы с помощью брата непременно поднялся с вами на этот высокий дощатый помост, и вы единым взглядом окинули бы всю вереницу фигур, сейчас скрытых от вас. — Кстати… где же ваш брат? — спросил старый ворчун. — Может быть, он соблаговолит спуститься со своих застекленных высот, чтобы тоже приветствовать меня? — Брат вышел, — отвечал Франческо, — иначе он, как и яг поторопился бы надеть камзол и пришел бы поцеловать вашу руку. Я жду его с минуты на минуту. Как он обрадуется, застав вас здесь! — Тем более он явится, как всегда, с песнями, навеселе, шатаясь, не правда ли? Берет набекрень, мутный взгляд… Что верно, то верно: мастер, улизнувший от работы, пропадающий в кабачке, — надежный спутник. Уж он-то поможет мне взобраться на ваши помосты! — Отец, Валерио не в кабачке. Он отправился в мастерскую: я послал его за образцами смальты — их сплавили нарочно для меня, ибо точные оттенки цвета подобрать очень трудно. — В таком случае, пожелайте ему от меня доброго дня, ибо отсюда до Мурано[81] целых два лье и его застанет отлив. Ему, конечно, придется выпить немало вина в компании с перевозчиками, и весло им нынче не так пригодится, как лопатка для жареной рыбы. — Отец, у вас сложилось превратное мнение о Валерио, — волнуясь, возразил молодой человек. — Согласен, он любит развлечения и кипрское вино, но он трудолюбив. Он превосходный работник и все мои поручения выполняет с точностью и пониманием; лучшего и желать нечего. — А вот и синьор Валерио! — крикнул с высоты подмастерье Бартоломео — он увидел через просвет в куполе, что к ступеням Пьяцетты[82] подплыла гондола. Немного погодя в собор вошел и сам Валерио в сопровождении своих помощников. Он легко нес большую корзину с образчиками смальты и звучным, свежим голосом напевал любовную Песенку, без всякого почтения к священному месту. Но вот он заметил отца, тотчас умолк и обнажил голову; затем с решительным видом подошел к нему и поцеловал — спокойно и чистосердечно, как человек с незапятнанной совестью. Дзуккато поразили и его манера держаться, и веселое, открытое выражение лица. Валерио был одним из самых красивых юношей Венеции. Ростом он был ниже брата, зато стройнее и сильнее. На первый взгляд казалось, что в прекрасных чертах юноши отражаются лишь его веселый нрав, отвага, искренность. И надо было внимательно приглядеться, чтобы заметить в его больших синих глазах вдохновенный огонь, который часто прятался под простодушной беспечностью, но не угасал от легкой усталости, а только чуть затуманивался. И этот мягкий блеск придавал еще больше прелести его красивому лицу и какую-то кротость его смелому, ясному взгляду. Он одевался с большим изяществом и задавал тон самым блестящим синьорам республики. Знакомства с ним всегда искали и синьоры и дамы — он искусно делал наброски всяких украшений, и мастера выполняли под его руководством рисунки для вышивок золотом и серебром по роскошнейшим тканям. Бархатный берет, отороченный греческим орнаментом в стиле Валерио Дзуккато, бахрома, сделанная по его модели, кайма на суконном плаще, вышитом шелками всяких оттенков, цветы и листья во вкусе его византийских мозаик — все это было в глазах дамы из высшего общества или знатного щеголя предметом первой необходимости. Таким образом, Валерио получал много денег за эти безделки, которые с удовольствием мастерил, отдыхая от трудов и забав. Занимался он этим в своей маленькой мастерской в предместье Сан-Филиппо, под покровом некоторой тайны, в которую были посвящены не все. Его привлекательная внешность, хорошие манеры, дружба с богатыми патрициями, вечно толпившимися в его мастерской, и с веселыми подмастерьями, — словом, все неизбежно толкало его к рассеянному образу жизни; но деятельная натура и неизменное стремление всегда вовремя выполнить любую порученную работу не позволяли ему вести разгульную жизнь, которая загубила бы его талант. Нежная и нерушимая дружба связывала братьев. И сейчас им удалось общими усилиями сломить притворное недовольство отца. Они приказали поставить две лестницы по обе стороны той, по которой старик решился вскарабкаться, и стали подниматься, заботливо поддерживая отца. Так они довели его чуть ли не до последнего настила лесов. Тинторетто же, старый, но еще крепкий, привык превращать в мастерскую обширные своды собора, и он легко поднялся вслед за ними. Ему хотелось увидеть своими глазами, как удивится Себастьяно. Чувство религиозного ужаса, вначале охватившее старика, сменилось невольным восхищением, когда, добравшись до уровня высоких фигур, видневшихся на переднем плане, он вдруг заметил завершенные куски обширной чудесной мозаичной композиции. Тут — успенье святой девы, сделанное по картине Сальвьяти; а вот и святой Марк Тициана. Он огромен, он восседает на лунном серпе, как в ладье, и словно возносится в светозарные небеса — так и кажется, будто видишь этот взлет. Гирлянда цветов украшает центральную часть свода, ее поддерживают прелестные крылатые дети, а над всеми этими мастерскими творениями — видение святого Иоанна: осужденные грешники низвергаются в ад, а праведники в белых одеждах, на белых скакунах теряются в нежных лучах света и сияющей мгле купола, будто стаи лебедей в розовой утренней дымке. Дзуккато все еще пытался побороть в себе восхищенное чувство, приписывая волнующее впечатление волшебной игре света и тени, преображающей предметы, удачному расположению и внушительному размеру фигур. Но, когда Тинторетто подвел его поближе к гирлянде и старик рассмотрел ее до мельчайших подробностей, ему пришлось втайне признаться, что он никогда и не думал о том, какого совершенства может достичь искусство мозаики, и что изображение ангелов, парящих среди гирлянд, может поспорить и по цвету и по форме с полотнами величайших мастеров живописи. Но старик, скупой на похвалы, не желавший выказывать, какое удовлетворение испытывает он в глубине души, твердил, что все это плоды точного копирования и прилежного труда. — Вся честь, — говорил он, — принадлежит мастеру живописи, создавшему наброски-модели для всех этих групп и нарисовавшему детали орнаментов. — Отец, — возразил с гордым смирением Франческо, — сделайте милость, дозвольте показать вам эскизы мастеров, — быть может, вы поставите нам в заслугу если не создание, то хотя бы понимание наших моделей и довольно искусное их воплощение. — Мне бы хотелось, — заметил Тинторетто, — чтобы мои наброски к Апокалипсису[83] доказали, что Франческо и Валерио Дзуккато талантливые живописцы, в отличие от их собратьев. Старику тут же принесли на суд множество образцов, и он убедился в том, с каким искусством работали его сыновья, воплощая в мозаике великие произведения живописи, как изящны и чисты линии их собственных рисунков и что сами они создают чудесные краски лишь по беглому указанию художника. Брат уговорил Валерио признаться, что он сам — творец немалого числа фигур, и Валерио в свою очередь раскрыл тайну Франческо, указав отцу на двух прекрасных архангелов, летящих навстречу друг другу. Один из них, окутанный зеленым покрывалом, был его собственным созданием; другой, в бирюзовом одеянии, — созданием Франческо; задумана и выполнена мозаика была без помощи живописца. Дзуккато не противился, и его подвели к этим фигурам. В самом деле они были прекраснее всех тех изображений, что делались с модели. Франческо придал юному архангелу сходство со своим братом Валерио; архангел Валерио был двойником Франческо. Братья набрали тончайший мозаичный узор, выполняя работу, милую их душе, но не выставили ее напоказ, а украсили ею какой-то темный угол, где она скромно пряталась от взоров толпы. Долго стоял неподвижно старик Дзуккато, храня молчание, перед изображением крылатых юношей. Он пришел в замешательство, увидев, как блистательно его сыновья опровергли то заблуждение, которым он так гордился всю свою жизнь. И вдруг он впал в ярость. Он спустился с лестницы, сердито выхватил свой плащ из рук Валерио и, не удостоив ни его, ни Франческо ни словом одобрения и едва поклонившись Тинторетто, твердой поступью, удивительной для его возраста, дошел до порога базилики и перешагнул через него. Но, не успев сделать и шагу вниз по ступеням, он поддался властной потребности своей души, вернулся и раскрыл объятия сыновьям, которые тотчас же устремились к нему. Долго старик прижимал их к своей груди, орошая слезами прекрасные кудрявые головы.III
— Да здравствует веселье! Клянусь дьяволом! Работа спорится! А ну, сюда мастику! Грязная мартышка! Мазо! Да вы что, оглохли?.. Винченцо, черт тебя побери, брат, — ты завладел всеми учениками. А ну, пусть ко мне спустится кто-нибудь из твоих чумазых серафимов, иначе я опоздаю. Клянусь кровью Бахуса! А вот я сейчас запущу молотком в башку неряхи Мазо, — пожалуй, республике долго не придется увидеть еще такого урода. Так сверху, с лесов, кричал рыжебородый великан, руководящий мозаичными работами в часовне святого Исидора. Эта часть базилики святого Марка была поручена соперникам и противникам братьев Дзуккато в искусстве мозаики — Доминику Бьянкини, по прозвищу Рыжий, и его двум братьям. — Да замолчи ты, пустая голова, потерпи, рыжая дылда! — со своего места закричал сварливый Винченцо Бьянкини, старший из трех братьев. — Куда запропастились твои ученики? Пусть пошевеливаются, а мои пусть делают свое дело. Куда провалился Джованни Византини, белобрысый красавец с Альп? Куда ты послал Ризо — ну и мычит же этот сиплый бык в воскресном хоре!.. Бьюсь об заклад: сейчас твои юнцы рыскают по кабачкам, стараются раздобыть бутылку вина в долг от твоего имени. Если так, они не скоро вернутся. — Винченцо, — отвечал Доминик, — счастье твое, что ты мой брат и помощник, иначе я бы пинком ноги свалил твой помост, и ваша милость вместе со своими учениками изучала бы мозаику на полу. — Что еще выдумал! — пронзительным голосом завопил Джованни-Антонио Бьянкини, самый младший из троих братьев, тряся основание лестницы, на которой работал Доминик. — Я тебе покажу, что дылда не всегда означает — силач. Беспокоюсь я за шкуру Винченцо не больше, чем за твою, но, знаешь ли, не терплю бахвальства. А по-моему, с некоторых пор ты то с ним, то со мной говоришь непозволительным тоном. Свирепый Доминик бросил на юного Антонио мрачный взгляд и несколько секунд молча раскачивался вместе с лестницей. Но, как только Антонио снова принялся растирать под портиком мастику, он спустился, сбросил фартук и берет, засучил рукава и приготовился к жестокой расправе. Священник Альберто Дзио, тоже известный мастер мозаики, стоя в это время на лестнице, исправлял один из тимпанов[84] наружной двери, — он тотчас же поспешно сошел вниз, собираясь разнять драчунов, а Винченцо Бьянкини, с молотком в руках, сломя голову выбежал из часовни, готовясь вступить в бой, — из злобы к Доминику, а не из сочувствия к Антонио. Альберто Дзио тщетно пытался призвать их к христианским чувствам и наконец прибег к доводу, который почти всегда оказывал на них воздействие. — Услышат братья Дзуккато вашу перебранку и обрадуются, — сказал он: — вообразят, что благодаря своей кротости и доброму согласию работают лучше вас. — Верно, — заметил Доминик Рыжий, снова надевая фартук. — Ссору закончим вечером, в кабачке. А сейчас нельзя давать оружие в руки врагам. Двое других Бьянкини согласились с ним, и, пока они зачерпывали скребками свежую мастику, Альберто завязал с ними беседу, говоря: — Вы неправы, дети мои, считая, что Дзуккато ваши враги. Они ваши соперники, вот и все. Работают они иными способами, но ничуть не принижают достоинства вашей работы. Я даже частенько слышал, как их старший подмастерье Бартоломео Боцца говорил, что ваша «связка» лучше и что братья Дзуккато от души это признают. — О Бартоломео Боцца говорить нечего, — заметил Винченцо Бьянкини, — он хороший работник и надежный подмастерье; я готов предложить ему выгодную сделку и переманить его к себе. Но я и слышать не хочу о Дзуккато. Свет не видывал подобных пройдох! Если б их талант был равен их честолюбию, они бы устранили всех своих соперников. К счастью, их обуревает лень: старший тратит время на выдумывание невыполнимых сюжетов, а младший промышляет запрещенными товарами в Сан-Филиппо и выручку тратит на пирушки с людьми более высокого звания. — Легко бы закатилась звезда Дзуккато, несмотря на покровительство художников, — вставил завистливый Доминик, — если бы немного постараться. — Как же так? — воскликнули его братья. — Если ты знаешь, каким образом их унизить, скажи, и мы простим тебе все твои проступки. — Мне нет дела ни до вас, ни до них, — возразил Доминик, — я только говорю: можно доказать, что они обманом получают жалованье, ибо их работа никуда не годится, а следовательно, они крадут деньги у республики. — Злой вы человек, мессер Доминик! — сурово молвил Альберто. — Не смейте так говорить о людях, пользующихся всеобщим уважением. Можно подумать, что вы завидуете их превосходству. — Что ж, и завидую! — крикнул Доминик, топнув ногой. — Да и как не завидовать? Разве справедливо, что прокураторы[85] выдают им сто золотых дукатов в год, а нам всего тридцать, хотя мы работаем вот уж скоро десять лет над генеалогическим древом[86] святой девы? Говорю прямо, что братья Дзуккато и половины такой огромной работы не сделали бы за всю свою жизнь. Сколько месяцев им надо, чтобы выполнить полу одежды или детскую руку? Пусть за ними немного последят, тогда и увидят, во что обходится республике их дивный талант. — Они работают медленнее вашего, правда, — отвечал священник, — но какое у них совершенство рисунка, какое богатство красок! — Если бы вы не были священником, — возразил Винченцо, пожимая плечами, — вас бы научили разговаривать. Отправляйтесь-ка лучше в исповедальню, к своему кадилу, да не судите о вещах, в которых ничего не смыслите. — Мессер! Как вы смеете так говорить? — воскликнул Альберто, задетый за живое. — Вы забываете, что я уже был знатоком своего дела, когда вы только к нему приступили, и что я лучший ученик нашего всеобщего учителя — гениального Риццо, достойного последователя античных мастеров мозаики! — Гениального, чего захотели! Клянусь богом, не нужно быть гениальным, чтобы набирать мозаику, а надо иметь то, чего недостает всем вам, священникам да лентяям Дзуккато, — неутомимые руки, железные ноги, глазомер, подвижность. Ступайте-ка мессу служить, отец Альберто, и оставьте нас в покое. — Тише, — сказал Антонио, — вон идет старый притворщик Себастьяно Дзуккато. А как сыночки провожают его — и беретами помахивают, и руки ему лобызают! Ну прямо дож[87] в сопровождении сенаторов! Корчат из себя знаменитостей, а держать скребок не умеют. — Молчать! — крикнул Винченцо. — Вот и мессер Робусти пришел посмотреть на нашу работу. И все трое обнажили головы, скорее из раболепного страха перед знаменитым мастером, чем из уважения к его гению, который они не способны были оценить. Альберто пошел ему навстречу и провел его в часовню. Тинторетто взглянул на инкрустированные панно, похвалил работы по восстановлению древнегреческих мозаик, порученные Альберто, и удалился, отвесив глубокий поклон братьям Бьянкини, но так и не обмолвившись с ними ни словом, ибо он не уважал ни их работу, ни их самих.IV
Закончив трудовой день, братья Дзуккато поужинали вместе со своими старшими подмастерьями Боцца, Марини и Чеккато (все трое впоследствии стали превосходными художниками) в маленькой таверне в подвале Прокурации[88], где они обычно собирались. Валерио уже хотел было уйти — его ждали то ли дела, то ли развлечения, — но Франческо удержал его, говоря: — Милый брат, сегодня ты должен уделить мне часть своего вечернего досуга. Ты знаешь, я возвращаюсь домой рано, и у тебя останется время после нашей беседы. — Согласен, — ответил Валерио, — но ставлю условие: возьмем лодку и немного покатаемся. Право, я совсем разбит после дневных трудов, а усталость я прогоняю усталостью — иначе отдыхать не умею. — Не могу помочь тебе грести, — возразил Франческо, — нет у меня такого могучего здоровья, как у тебя, дорогой Валерио. Не хочется пропускать завтра работу, поэтому мне нельзя уставать нынче вечером; но, если я откажу тебе в развлечении, ты мне не посвятишь два-три часа, вот я и приглашу Боцца. Он достойный юноша и не помешает нашей беседе. Бартоломео Боцца тотчас же принял приглашение, велел подвести к берегу самую нарядную лодку и схватил весло, а Валерио взял другое. Стоя на корме, они с силой оттолкнулись от берега, и лодка понеслась, подпрыгивая на вспененных волнах. Как всегда, в этот час на Большом канале собралась вся знать, наслаждаясь вечерней прохладой. Узкий челнок стремительно, словно украдкой, скользил между гондолами — так, спасаясь от охотника, летит, прижимаясь к берегу, морская птица. Молча и проворно гребли юноши. К ним были прикованы все взгляды. Дамы свешивались с подушек, чтобы подольше видеть красавца Валерио; его изящество и сила вызывали зависть и у патрициев и у гондольеров, а во взгляде удивительным образом сочетались отвага и простодушие. Боцца был тоже силен, хорошо сложен, хотя худощав и бледен. Мрачным огнем блестели его черные глаза, густой бородой заросли щеки; его черты не отличались правильностью, но печальное и презрительное выражение лица привлекало к себе внимание. Франческо Дзуккато, тоже худощавый и бледный, но полный достоинства, а не высокомерия, задумчивый, а не угрюмый, лежал на черном бархатном ковре, небрежно подперев руками голову, и витал в мечтах, уносивших его от людской суеты. Он тоже, как и Валерио, привлекал внимание дам, но не замечал этого. Лодка поднялась вверх по каналу и не спеша поплыла по лагунам, вдали от многолюдных мест. Затем гребцы пустили ее по течению, а сами прилегли на дно лодки под прекрасным небом, усеянным бесчисленными звездами, и стали без стеснения разговаривать. — Милый Валерио, — начал старший Дзуккато, — тебе надоели мои назидания, но ты должен обещать, что будешь вести более благоразумный образ жизни. — Ты никогда не надоешь мне, любимый братец, — ответил Валерио, — я всегда буду благодарен тебе за заботы. Но не могу обещать тебе, что изменюсь. Мне так нравится жизнь, которую я веду! Я счастлив, как вообще может быть счастлив человек. Зачем же ты хочешь, чтобы я отказался от счастья, ведь ты так любишь меня! — Подобный образ жизни приведет тебя к гибели! — воскликнул Франческо. — Нельзя совмещать удовольствия и усталость, мотовство и труд. — Напротив, подобный образ жизни меня воодушевляет и поддерживает, — возразил Валерио. — Что такое жизнь? Вечная смена наслаждений и лишений, усталости и деятельности. Дай мне свободу действия, Франческо, и не суди о моих силах по своим. Конечно, природа была несправедлива, лишив лучшего, достойнейшего из нас крепкого здоровья и веселого нрава. Но не завидуй, милый Франческо, — ведь тебе на долю выпало столько других даров. — Да я и не завидую, — проговорил Франческо, — хотя здоровье и веселье ценнее всего, благодаря им одним мы можем постигнуть, что такое счастье. Отрадно думать, что брат, которого я люблю больше жизни, не испытает ни телесных, ни душевных недугов, ни тревог, которые терзают меня. Но дело не только в этом, Валерио: ты, конечно, считаешься со своим званием, с дружескими чувствами знаменитых мастеров, с поддержкой сената, с милостями прокураторов… — Братец, — отвечал беспечный юноша, — да кроме дружбы с нашим дорогим Тицианом и благоволения Рсбусти (двух людей, которых я боготворю), кроме любви отца и брата, все остальное пустяки: бутылки две скиросского живо утешили бы меня, если бы я потерял место и впал в немилость сената. — Но считаешься же ты хотя бы с честью, — серьезным тоном ответил Франческо, — с честным именем отца, со своим честным именем, за которое я поручился, — я отвечаю за него своей репутацией! — Ну разумеется! — произнес Валерио, с живостью приподнявшись на локтях. — Но куда ты клонишь? — Вот куда: знай — Бьянкини строят против нас козни. Из-за них мы можем потерять не только выгодное место и великолепное жалованье, которое ты преспокойно готов променять на скиросское вино и всякие развлечения, но и доверие сената, а следовательно — уважение наших сограждан. — Эвоэ! — воскликнул Валерио. — Это мы еще посмотрим! Если все это так, сейчас же отправимся к Бьянкини, вызовем их на поединок. Их трое, нас тоже — вместе с нашим другом Боцца. Справедливость на нашей стороне, так дадим же обет божьей матери и избавимся от предателей. — Какой вздор! Божественные силы не благоволят к зачинщикам ссор, а мы будем зачинщиками, если бросим вызов, еще не имея явных улик. Да и Бьянкини в ответ на вызов скрестить мечи поступят по своему обыкновению: как-нибудь ночью пустят в ход стилеты. Это неуловимые враги. Они не оскорбят нас открыто, пока мы под защитой власть имущих. А о том, как Бьянкини нас ненавидят, мы узнаем, когда уже будет поздно. Вот чего я опасаюсь. Винченцо, обычно такой учтивый со мной, перестал мне кланяться, когда я прохожу мимо места, где он работает. А нынче утром, когда я провожал отца и мы все спускались по лестнице базилики, мне показалось, что трое братьев, стоя под портиком, злорадно поглядывают на нас и над нами издеваются. Ненависть давно зреет в их душах и нет-нет, да сверкнет в их глазах. Боцца может рассказать тебе к тому же, что не раз после дневных трудов или поутру, приходя первым на работу, он на наших лесах заставал врасплох то Винченцо, то Доминика Бьянкини — они с величайшим вниманием рассматривали мельчайшие детали наших мозаик. — Ну так что же? Это ровно ничего не доказывает! Не кланяются они нам потому, что просто грубы. Утром на нас косо посмотрели — значит, завидуют, что у нас, у счастливцев, такой хороший отец; проверяют нашу работу потому, что хотят допытаться, в чем причина нашего превосходства. Да стоит ли из-за всего этого тревожиться? — Почему же они не говорят с Боцца, когда он их встречает на нашем помосте, а стремглав сбегают вниз по лестнице с противоположной стороны, как будто только что совершили дурное дело? — Только бы встретить их! — вскричал Валерио, сжимая кулаки. — Уж я заставлю их объясниться или, клянусь Бахусом, спущу с лестницы побыстрей, чем они поднялись! — И подольешь масла в огонь. Чтобы отомстить за того, кого ты оскорбил, двое других объединятся и будут мстить нам до самой смерти. Поверь мне, быть порядочным — значит быть благоразумным. Будем же сдержанны и сохраним благородное спокойствие, как подобает людям мужественным. Быть может, наше великодушие их усмирит. По крайней мере, они поймут, что напрасно питают к нам вражду. Ну, а если они и будут нас преследовать, мы обратимся за помощью к правосудию. — Послушай, брат, за что же они станут нас преследовать? Да и не в их власти нам повредить. Не станут же они доказывать, что мы работаем хуже их. — Они станут твердить, что мы работаем не так быстро, а доказать это будет легко. — А мы докажем, что легко работать быстро, когда работаешь плохо, и что совершенство не терпит поспешности. — Не так-то просто это доказать. Между нами говоря, прокуратор-казначей, которому поручено проверять работу, в искусстве ничего не смыслит. Мозаика для него — лишь кладка разноцветными, более или менее блестящими кусочками. Верность тонов, прелесть рисунка, мастерство композиции для него не имеют никакого значения. Ему понятно лишь то, что поражает невежественную толпу, все, что блестит поярче да выполнено побыстрей. Однажды я попытался втолковать ему, что куски старинного позолоченного хрусталя, употреблявшиеся нашими предками и чуть потускневшие от времени, больше подходят для нашей мозаики, чем золотая смальта, которой сейчас нас снабжает мастерская. «Ошибаетесь, мессер Франческо, — возразил он, — я засыпал Бьянкини всем «золотом», изготовленным сейчас. Совет решил, что старинное золото можно пускать вперемешку с новым. Не понимаю, почему, вы так держитесь за старье? Или воображаете, что смесь старого и нового золота произведет плохое впечатление? В таком случае, вы, очевидно, лучший судья, чем прокураторы, члены совета!» — Я чуть не расхохотался, когда ты ответил ему с самым серьезным видом: «Монсеньор, нет у меня столь дерзких притязаний», — прервал Валерио. — Да, я тщетно пытался доказать ему, — продолжал Франческо, — что это блестящее золото портит фигуры и уничтожает создаваемое красками. Ткани, изображенные на моих мозаиках, могут выделяться только на фоне чуть красноватого золота, и если бы я согласился сделать сверкающий фон, то мне пришлось бы пожертвовать оттенками, сделать тела фиолетовыми, без контуров, а ткани без складок и без отблеска. — И он привел неопровержимый довод и довольно сухим тоном, — смеясь, подхватил Валерио. — «Бьянкини не стесняясь делают это, — сказал он, — и их мозаика гораздо больше всем нравится, чем ваша». Да что тебе тревожиться, раз решение принято? Убери нюансы, выкрои полотнище ткани из большой полосы смальты и подгони к животу святого Никея; святой Цецилии приделай пышные волосы из слабо обожженной черепицы, святому Иоанну Крестителю — хорошенького барашка из пригоршни негашеной извести, и совет удвоит тебе плату, а толпа будет рукоплескать. Черт возьми! Ведь ты мечтаешь о славе, брат, — не понимаю, зачем же ты упорствуешь, преклоняясь перед искусством. — О славе я мечтаю, это верно, — ответил Франческо, — но о славе длительной, а не о пустой известности на день. Хотелось бы, чтобы после меня жило мое, пусть не знаменитое, но уважаемое имя, чтобы те, кто будут разглядывать своды собора святого Марка через пятьсот лет, сказали: «Труд этот принадлежит добросовестному художнику». — А кто вам сказал, что через пятьсот лет зрители будут просвещеннее? — глухим голосом произнес Боцца, в первый раз нарушив молчание. — Всегда найдутся знатоки, презирающие суд толпы, вот я и лелею честолюбивую мечту — понравиться знатокам всех времен. Разве такое честолюбие достойно осуждения, Валерио? — Это благородное честолюбие, но все же — честолюбие, а всякое честолюбие — болезнь души, — ответил младший Дуккато. — Болезнь, без которой, однако, не былобы и мысли, — ведь мысль зачахла бы в тени и не светила бы миру. Честолюбие — это вихрь, что уносит искру, вихрь, что раздувает пламя, развевает его на далеких просторах. Без такого небесного вихря нет ни тепла, ни света, ни жизни. — Смею утверждать — я не мертвец, — воскликнул Валерио, — но на меня еще никогда не налетал такой ураган. Искрометное пламя жизни, не угасая, пылает у меня в груди и мозгу. Божественное пламя воодушевляет меня, я живу, и, право, мне нет дела, идет ли свет от меня или от чего-нибудь иного. Ведь все это отсветы божественного очага, а сияние человеческой славы — пустое. Слава нетленной красоте! Сияние славы не исходит от человека, как не исходит свет солнца от вод, отражающих его лучи. — Пожалуй, — заметил Франческо, поднимая к небу большие темные глаза, увлажненные слезами, — пожалуй, только человек, объятый безумием либо тщеславием, думает, будто он что-то собою представляет, ибо, приближаясь в воображении к идеалу, он постигает немного лучше, чем все другие, что такое красота. Впрочем, как же еще человеку прославиться? — Зачем человеку непременно надо прославиться? Он радуется жизни — разве не в этом уже само счастье? — Слава — да это самая волнующая, самая острая, самая жгучая радость в мире! — резко произнес Боцца, не отрывая глаз от Венеции. То был час, когда царица Адриатики, будто красавица в бальном наряде, осыпанном брильянтами, вся засверкала, час, когда гирлянды огней отражались в тихих, безмолвных водах, словно в зеркале, привыкшем ею любоваться. — Ты заблуждаешься, дружище Бартоломео! — воскликнул юный Валерио, с силой рассекая веслами фосфоресцирующую воду; тусклые искры мерцали вокруг темных бортов лодки. — Самая жгучая радость — это любовь; самая волнующая — дружба; самая острая — это действительно слава. Но слово «острый» означает и «разящий», и «мучительный», и «опасный». — Но разве нельзя сказать также, что эта острая радость в то нее время и самая возвышенная радость? — мягко возразил Франческо. — Не думаю, — отвечал Валерио. — Всего отраднее, всего благороднее и всего благодатнее на свете — это любить, чувствовать и понимать прекрасное. Вот почему надо любить все, что к нему приближается, непрестанно мечтать о нем, повсюду его искать и принимать его таким, каким его находишь. — Это значит, — заметил Франческо, — гоняться за пустыми фантазиями, цепляться за бледные отражения, удерживать неясную тень, поклоняться призракам, порожденным собственным воображением. Да разве в этом — радость жизни? — Братец, ты не совсем здоров, — воскликнул Валерио, — иначе так не рассуждал бы! Человек, желающий в этой жизни лучшего, чем сама жизнь, — гордец, который произносит кощунственные речи, или неблагодарный, попавший в беду. Сколько радостей у того, кто умеет любить! Была бы на земле только дружба, и человек не имел бы права сетовать. Был бы лишь ты у меня на свете, и я бы благословлял небо. Нельзя и вообразить ничего лучшего, чем дружба, и, если бы господь бог позволил мне создать себе брата, я бы не мог создать ничего совершеннее Франческо. Право, только один бог — великий художник. — Ах, милый Валерио, — вскричал Франческо, обнимая брата, — ты прав; я гордец, я неблагодарный. Ты лучше всех нас, и сам ты — живое доказательство всех твоих слов. Да, верно, душа моя больна! Исцели же меня своей нежностью — ведь ты так здоров и силен духом. Пресвятая дева, помолись за меня, ибо я согрешил — у меня такой добрый брат, а я впал в уныние! — Впрочем, — улыбаясь, подхватил Валерио, — пословица гласит: «Великому художнику дано множество печалей». — И немного ненависти, — угрюмо добавил Боцца. — Э, да пословицы всегда наполовину врут, — ответил Валерио. — Ведь в противовес каждой пословице найдется еще одна пословица, — значит, пословицы и лгут и говорят правду одновременно. Франческо — великий художник, клянусь телом и душой, он никогда не знал ненависти. — Никогда — по отношению к другим. Зато по отношению к себе довольно часто, и в этом грех моей гордыни. Мне всегда хотелось быть лучше и искуснее, чем я есть на самом деле. Хотелось бы, чтобы меня любили за мои достоинства, а не за страдания. — Тебя любят и за то и за другое! — воскликнул Валерио. — Но, вероятно, людям не присуще довольствоваться чувством братской привязанности. Быть может, не испытывай мы потребности в том, чтобы нами восхищались, не было бы ни великих художников, ни мастерски исполненных вещей. Восхищение людей, безразличных тебе, — это выражение дружеских чувств, которые тебе не нужны. И все же люди считают, что такое восхищение — необходимость. Потребность в нем нелепа, однако, надо полагать, это предначертание господа бога. — И служит для того, чтобы терзать нас: господь бог в высшей степени несправедлив, — заметил Бартоломео Боцца с каким-то отчаянием и снова растянулся на дне лодки. — Не говори так! — воскликнул Валерио. — Взгляни, бедный друг мой, как прекрасно море там, у горизонта! Послушай, как нежно звучат аккорды гитары, как она жалобно стонет. Разве у тебя нет подруги, Бартоломео? Разве мы не друзья тебе? — Вы художники, — ответил Боцца, — а я всего лишь подмастерье. — Да разве это мешает нам любить тебя? — Вам-то не мешает любить меня, а вот мне мешает любить вас, как любил бы, будь я вам ровней. — Черт возьми! Если так считать, то я не могу любить высший свет, — произнес Валерио, — ибо я художник только по призванию, а правду говоря, я ремесленник. Все, кого я люблю, стоят выше меня, начиная с брата, моего учителя. Отец был хорошим живописцем, Вечеллио и Робусти — исполины, по сравнению с ними я ничтожество. Однако я люблю их и никогда не мучаюсь оттого, что я ниже их. Художники, художники! Все вы дети одной матери, а имя ей «зависть». Все вы — кто больше, кто меньше — пошли в нее. И это меня утешает при мысли, что я по природе всего лишь ветрогон. — Не говори так, Валерио, — с живостью возразил старший брат. — Если бы ты приложил хоть немного усилий, то стал бы самым выдающимся мастером по мозаике нынешних времен: имя твое затмило бы имя Риццо, а мое называли бы лишь вслед за твоим. — К моему великому огорчению! Мне хочется, чтобы ты всегда был первым, клянусь святым Феодосием! Святая праздность, убереги меня от такой докучной чести! — Не святотатствуй, Валерио! Искусство выше всех привязанностей! — Кто любит искусство, тот любит славу, — раздался, как всегда заунывный, мрачный голос Боцца, словно в веселое и нежное пение ворвался низкий трубный звук. — Кто любит славу, тот готов ей всем пожертвовать. — Благодарю покорно! — воскликнул Валерио. — Я-то ей никогда ничем не пожертвую. Однако я люблю искусство. Все вы это знаете, хотя и обвиняете меня в том, будто я люблю только вино и женское общество. И, значит, я очень люблю искусство, раз посвящаю ему полжизни, хотя, право, я готов посвятить всю жизнь одним удовольствиям. Никогда не бываю я так счастлив, как за работой. А когда она спорится, я готов забросить свой берет за колокольню святого Марка. Если работа не ладится, я не впадаю в уныние, а досада на себя тоже доставляет мне удовольствие: так бывает, когда скачешь на норовистой лошади, плывешь по бурному морю, пьешь хмельное вино. Но, право, одобрение окружающих ничуть не воодушевляет меня — как поклон братьев Бьянкини. Вот когда Франческо — мое второе «я» — скажет: «Дело идет», я испытываю удовлетворение; когда сегодня утром отец, рассматривая моего архангела, невольно улыбался, хоть и хмурил брови, я был счастлив. Ну, а теперь пускай прокуратор-казначей говорит, что Доминик Рыжий работает лучше меня, — тем хуже для прокуратора-казначея. Плакать из жалости к нему я не стану. Пускай добрый венецианский народ сетует, что тела на моих мозаиках не кирпичного цвета, а ткани — не охрового. Не был бы ты так глуп, прокуратор, я бы так не смеялся, и, право, было б жаль — ведь смеюсь я от души. — Счастливая, трижды счастливая беспечность! — воскликнул Франческо. Так, дружески беседуя, они приближались к городу. Подплыв к берегу, Валерио промолвил: — Пока мы не расстались, надо со всем этим покончить. Чем ты недоволен? Чего от меня требуешь? Чтобы я перестал развлекаться? Попробуй-ка помешать воде течь! Возможно ли это? — Веди себя поскромнее, — ответил Франческо, — откажись хоть на время от мастерской в Сан-Филиппо. Все это могут плохо истолковать. Уже кое-кто спрашивает, когда ты успеваешь рисовать столько узоров, делать столько ювелирных украшений и работать в базилике. Если бы я не знал, как ты деятелен и неутомим, я бы и сам ничего не понял. Не видел бы я собственными глазами, как у тебя спорится работа, я бы не поверил, что два-три часа сна после ночной шумной пирушки достаточно для труженика, весь день усердно занятого изнурительной работой. Воздержись от многочисленных знакомств и в особенности от болтливых молодых патрициев, которые то и дело навещают тебя в базилике. Честь, оказанная тебе, уязвляет самолюбие Бьянкини: по их словам, из-за этих щеголей ты теряешь время, они отвлекают тебя от работы, вы занимаетесь пустяками… Кстати, к чему вам это «Веселое братство», по милости которого сбились с ног все поставщики города?.. — Ого! — воскликнул Валерио. — Вот именно из-за него-то я и убегаю сейчас: меня ждут, я должен придумать костюмы. Отступать поздно. И тебя, Франческо, приглашают принять участие в веселом празднестве. — Приму приглашение с условием, что празднество начнется только после дня святого Марка — надеюсь, что тогда закончу мозаику на куполе. — Я уже сказал им об этом и от твоего и от своего имени, но, сам понимаешь, двести или триста молодых людей, жаждущих удовольствий, вряд ли вникнут в доводы одного человека, жаждущего работать. Они клянутся, что, если мы откажемся к ним присоединиться теперь же, празднество не состоится, а без меня и совсем ничего нельзя будет сделать. Кроме того, они меня упрекают в том, будто я их на все это подбил и что много сделано затрат, а если мы затянем, то верх одержат другие братства, — одним словом, они все так подстроили, что я дал согласие за нас обоих, и мы назначили день основания «Братства ящерицы» через две недели. Начнем с состязаний в игре в кольца и великолепного ужина, на который каждый член братства должен пригласить молодую и прекрасную даму. — Ты не думаешь, что эта глупая затея задержит твою работу? — Да здравствует глупость! Но она не будет мне помехой, как только пробьет час работы. Всему свое время, брат. Итак, я могу рассчитывать на тебя? — Что ж, запиши меня и внеси за меня пай. Но я не приду на праздник: не хочу, чтобы говорили, будто оба брата Дзуккато развлекаются. Пусть все знают, что, если один развлекается, другой работает за двоих. — Милый брат! — воскликнул Валерио, обнимая его. — Я буду работать за четверых накануне, и ты придешь на праздник. Увидишь, какой будет чудесный праздник, настоящий народный праздник, — пусть никто не говорит, что только патриции имеют право забавляться, а подмастерья состоят лишь в богомольных братствах. Нет, нет! Ремесленнику не предназначено вечно терпеть лишения! Богачи воображают, будто мы существуем лишь для того, чтобы искупать их грехи. И ты, Бартоломео, будешь там — я запишу тебя. Тебе придется поиздержаться. Нет у тебя денег, зато есть у меня, и я за тебя расплачусь. До свидания, дорогие друзья, до завтра. Любимый братец, ты ведь уже не скажешь, что я не внимаю твоим советам с тем почтением, какое должно питать к старшему брату? Ну-ка, признайся, ведь ты доволен мной? С этими словами Валерио легко выпрыгнул на набережную у Дворца дожей[89] и скрылся за колоннадой, убегающей вдаль.V
В тот же вечер, около полуночи, угрюмый и как никогда озабоченный Боцца, которому прискучила любовь, прискучила работа, прискучила жизнь, шел большими шагами по пустынному берегу. Надвигалась гроза, поднялся ветер, волна била о мраморную набережную, и, казалось, таинственные голоса нашептывали слова ненависти и проклятья под мрачными сводами старого дворца. И вдруг он столкнулся с человеком, тяжелые шаги которого далеко были слышны вокруг, но не могли вывести Боцца из задумчивости. При свете фонаря, привязанного к якорному причалу, Боцца и ночной прохожий узнали друг друга и, став лицом к лицу, смерили друг друга взглядом. Бартоломео, подумав, что встречный задумал дурное, схватился за стилет; но, против ожидания, Винченцо Бьянкини (ибо это был он), учтиво приложил руку к берету и подошел ближе. Винченцо, под стать своему брату Доминику, был силен и злобен. Но внешность у него была не такая грубая, и он умел выказать довольно хорошие манеры, хотя был дурно воспитан. Был он невероятно хитер, привык ко лжи, ибо ему приходилось отбиваться от позорящих его обвинений перед Советом Десяти[90], и, несомненно, из всех трех Бьянкини Винченцо был всех опаснее. — Мессер Бартоломео, — сказал он, — я возвращаюсь оттуда, где думал вас встретить, и очень рад, что вы не любопытны и не проскользнули туда украдкой, как я. — Не понимаю, что вы хотите этим сказать, мессер Винченцо, — ответил Боцца с поклоном и попытался пройти. Винченцо пошел рядом, в ногу с Боцца, будто не замечая, что юноша хочет от него отделаться. — Вы, конечно, знаете, — продолжал Бьянкини, — что основатели нового сообщества только что собрались обсудить его устав и правила приема. — Возможно, — ответил Бартоломео. — Меня это мало касается, мессер Бьянкини: я не принадлежу к золотой молодежи. — Но вы человек порядочный, поэтому я и рад, что вас не было в числе участников этого великолепного сборища. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Боцца останавливаясь. — Хочу сказать, любезный Бартоломео, — ответил Винченцо, — что, были бы вы там, все приняло бы иной оборот и, вероятно, было б больше шума. Впрочем, хорошо, что все обошлось, ибо не стоит ввязываться в такое опасное дело… — Ну расскажите, пожалуйста, обо всем, мессер, — проговорил нетерпеливо Боцца. — Произошло что-нибудь затрагивающее мою честь? — Э, да не то чтобы лично вас, но вы, пожалуй, получили оскорбление за всех. Вот что произошло. Вам известно, что создается новое «Веселое братство» по образцу всех других таких же сообществ: его члены выбираются из различных корпораций, состязающихся в богатстве и талантах. В это сообщество решено принимать всех членов корпораций мастеров стеклянных изделий, тех, кто пожелает, — конечно, тех, кто побогаче и так падок до удовольствия, что захотят, чтобы их приняли. Зодчие и стекольщики, литейщики и мастера мозаики, словом все цехи, участвующие в реставрации базилики, должны выставить своих соискателей на участие в «Веселом братстве». Дело было решено, оставалось только записать имена соискателей. И основатели сообщества во главе с мессером Валерио Дзуккато, вашим мастером, для этого вскоре и собрались. Но представьте себе, этот художник, пользующийся всеобщей любовью благодаря своему приятному нраву и общительности, выказал полнейшее презрение к большинству тех, кого предполагали принять! Право же, он стал корчить из себя вельможу, сенатора. Он объявил, что тот, кто не получил звания мастера в каком-либо ремесле, веселиться вместе с ним не достоин. Его осыпали упреками, многие даже отважились сказать, что у иных подмастерьев больше и сбережений и таланта и, следовательно, больше денег и заслуг, чем у мастеров. Он и слушать не захотел и выразил свое мнение в недостойных и грубых словах, нанося всем оскорбления. В эту минуту я был вблизи от него — он-то меня не видел. Слышу, кто-то ему говорит: «Если вы своего добьетесь, неужели вы не пожалеете о Боцца, о добром вашем товарище, — он так хорошо работает, так хорошо себя ведет и так предан и вам и вашему брату?» — «Если мой подмастерье будет принят в «Веселое братство», — ответил мессер Валерио, — я не вступлю в него». И все же мнение большинства одержало верх, и подмастерья будут приняты, если, конечно, «Веселое братство» сочтет, что они достойны стать мастерами — каждый в своем ремесле. Боцца промолчал, но Винченцо Бьянкини, пристально наблюдавший за ним, понял по тому, как он быстро зашагал по мостовой, как судорожно сжал руку под плащом, что он очень раздосадован. Однако Бартоломео сдержался, ибо не совсем поверил словам Бьянкини. Но Бьянкини решил разбередить его раны и добавил развязным тоном: — Да и жаль, что такой благовоспитанный и славный юноша заважничал. Сбился, бедняга, с пути из-за знакомства с патрициями. Для художника пагубно водиться с людьми более высокого звания. — Нет звания выше звания художника! — с раздражением ответил юный подмастерье. — Если Валерио почитает что-нибудь больше, чем свое ремесло, он не достоин называться мастером. — Глупое тщеславие, — бесстрастно продолжал Бьянкини, — болезнь всей семьи. Себастьяно Дзуккато презирает своих детей, потому что он живописец, а они — мастера мозаики. Старший сын, Франческо, первейший мастер своего дела, презирает своего брата потому, что тот мастер второстепенный, а тот, в свою очередь, презирает своего подмастерья… — Не говорите, что он меня презирает, мессер, — произнес Боцца глухим голосом. — Не смеет он меня презирать! Не говорите, что меня презирают, ибо, клянусь кровью Христовой, я вам докажу обратное. — Если вас презирает глупец, — отвечал Бьянкини со спокойствием лицемера, — презрение это послужит к вашей славе. Есть люди, чье уважение оскорбительно. — Валерио совсем не так ко мне относится, — возразил Боцца, стараясь бороться с наветами, терзавшими его сердце. — Надеюсь, — сказал Винченцо. — Однако я не знаю, что он сболтнул о вас человеку, который произнес ваше имя, ибо он говорил ему что-то на ухо. Но я-то понял, о ком шел разговор: Валерио надвинул берет на глаза и поднял ворот плаща до ушей — передразнивал, поднимал вас на смех. При этом он хмурил брови и подражал вашему излюбленному жесту, а тот, кому он нашептывал свои остроты, хохотал до упаду. — А кто же позволил себе смеяться? — воскликнул Боцца и, невольно надвинув на глаза берет, сжал кулак и приложил его к груди — этот жест, по словам Бьянкини, Валерио и сделал предметом насмешек. — Честное слово, не могу сказать, — ответил Винченцо, — мне не было видно его лицо — как всегда, вокруг Валерио собралось множество слушателей, падких до его шуток. Когда мне удалось пробраться сквозь толпу, Валерио уже говорил о чем-то ином с другим своим знакомцем, но все вокруг него еще хохотали. — Что ж, хорошо, мессер Винченцо, — произнес молодой человек, оскорбленный до глубины души, — благодарю вас за то, что вы мне обо всем рассказали. При случае я не останусь в долгу. С этими словами Боцца ускорил шаг, и Бьянкини некоторое время провожал взглядом черное перо, бившееся под порывами буйного ветра. Затем он потерял перо из виду и, поздравляя себя с тем, что сразу попал в уязвимое место, еще долго стоял неподвижно на берегу у пенистых волн, поглощенный своими злобными думами и преступными замыслами.VI
Солнце едва начинало золотить верхушки серебристых куполов собора святого Марка и гондольеры Большого канала еще спали, расположившись на берегу вокруг колонны Льва[91] когда базилика уже наполнилась рабочими. Ученики пришли первыми; они расставляли лестницы, разбирали куски смальты, растирали мастику, — при этом пели, свистели, громко переговаривались, не обращая внимания на доброго отца Альберто, который осыпал сорванцов гневными упреками и тщетно старался напомнить им о святости места и присутствии господа бога. Увещания священника, мастера мозаики, не производили большого действия под главным куполом, где работали ученики братьев Дзуккато, но он мог, по крайней мере, хоть вволю изливать свое негодование и тешить свою совесть длинными и суровыми наставлениями. Никто его не прерывал грубыми окриками и оскорбительным смехом, ибо веселые, живые, неугомонные подмастерья, под стать своему учителю Валерио, отличались, как и он, мягкостью характера, добротой и почитали старость и добродетели. Но совсем иначе обстояло в часовне святого Исидора, где братья Бьянкини, окруженные своими наглыми и беспутными учениками, поддерживали порядок лишь с помощью яростного рычания и страшных угроз. Когда до ушей Альберто донеслась непристойная песня, он перекрестился и выразил свою скорбь в негромких восклицаниях и глубоких вздохах. Когда же, заглушая грубые окрики и брань, которыми Бьянкини осыпали своих подмастерьев, под гулкими сводами базилики прогремел грозный голос Доминика Рыжего, бедняга Альберто одной рукой заткнул уши, а другой, чтобы не упасть, ухватился за перекладину лестницы. В этот день мастера мозаики пришли спозаранок и принялись за работу почти одновременно с подмастерьями. Праздник святого Марка приближался, и уже было назначено торжественное открытие базилики, совсем восстановленной и украшенной новыми картинами величайших живописцев эпохи. Наконец-то, после десяти — двадцати лет, их усердная работа получит всенародную оценку; причем, как говорили, тут уже не будут принимать во внимание ни слова покровителей, ни коварные наветы соперников. Знаменательный день приближался для всех, кто тут работал, начиная от первейшего из всех прославленных художников и кончая последним маляром; от зодчего с его вдохновенными замыслами до послушного подручного, который дробит камень и замешивает известковый раствор. Итак, соперничество, зависть, радостное ожидание или же мрачные опасения, жажда славы и корыстолюбие, благородные и дурные страсти, живущие на всех ступенях искусства и ремесла, — все это волновало людей, работавших под куполами, гудевшими от слитного шума. Тут раздавалась брань, там — веселая песенка, а подальше — острое словцо; наверху постукивает молоток, внизу лопатки каменщиков подчищают грунт для мозаики и слышится глухой, протяжный шум. Из корзин на каменный пол потоками рубинов и изумрудов высыпаются смальтовые кусочки, и слышится какой-то хрустально чистый, певучий звон, и тут же — невыносимый скрип скребка по карнизу и, наконец, пронзительный, нестерпимый визг пилы, распиливающей мрамор, не говоря уж о гнусавых голосах, читающих молитвы на малых мессах, что, несмотря на оглушительный шум, служатся в часовнях, о невозмутимом перезвоне часов, о гуле качающихся колоколов и крике домашних животных — ему с редкостным умением подражают мальчишки-подмастерья, лишь ради того, чтобы отец Альберто, вечно попадающийся на удочку, вдруг повернул голову и отвлекся от работы, к которой он ни за что вновь не приступит, пока не осенит себя крестом. Ученики братьев Дзуккато придумывали не такие грубые забавы, как ученики братьев Бьянкини, но были не менее шумливы. Франческо редко призывал сорванцов к тишине. Трудолюбивый и мечтательный, художник был так поглощен своей работой, что и не слышал, как шумят его неугомонные питомцы; если же работа спорилась, он и вовсе не мешал веселью, которое так нравилось и одушевляло Валерио. А Валерио действительно был кумиром своих подмастерьев. Хотя он без устали их подстегивал и часто, вспылив, бранил и высмеивал, в глубине души он любил их, как своих братьев, и его неизменно веселое расположение духа придавало бодрость уставшим. Он рассказывал им забавные истории, и каждый день всё новые; каждый день он пел им песенку еще смешнее, чем накануне. Если он замечал, что какой-нибудь ветрогон допускал ошибку и не сознавался в ней из самолюбия или настаивал на ней по незнанию, Валерио, на потеху всей мастерской, поднимал его на смех и кистью размалевывал ему лицо. Но, если хороший ученик искренне огорчался или втайне стыдился своей невольной оплошности, учитель подходил к нему, брал инструмент и вмиг исправлял ошибку, подбадривая ученика ласковыми словами, или не говорил ни слова, чтобы не привлечь внимания остальных к товарищу, и без того униженному. Все любили и уважали Франческо Дзуккато, Валерио же вся школа боготворила, и ученики в угоду ему готовы были броситься с купола собора святого Марка на мостовую. Один только Бартоломео Боцца, всегда замкнутый и молчаливый, не разделял ни общего веселья, ни восторженного отношения к Валерио. Франческо очень ценил его тщательную, основательную работу и строгую нравственность. Его грустная мечтательность нравилась Франческо, и ему отрадно было думать, что угрюмому, скрытному юноше предстоит большое будущее. Валерио Дзуккато не нравился нрав Бартоломео, но по природе своей он был так благожелателен, что приписывал ученику все душевные качества, которыми был наделен сам. В тот день Боцца, обыкновенно являвшийся на работу раньше всех подмастерьев, пришел спустя час после восхода солнца. Был он бледен и как-то особенно небрежно одет. Таким молчаливым его еще не видели. Он так и не сомкнул глаз. Всю ночь напролет он блуждал как неприкаянный по кривым и глухим улицам. Прямые пряди волос разметались по его ввалившимся щекам, борода спуталась и торчала, как щетина. Черное перо сломалось во время грозы. Он молча надел передник и, взяв инструменты, стал рядом с Валерио, набиравшим гирлянду из цветов на своде. Франческо отлично видел, что Боцца пришел с опозданием, но ученик был всегда так аккуратен, что учитель не стал делать ему замечание за проступок, первый за три года учения. Валерио же со свойственной ему откровенностью, полный теплого участия, с удивлением осмотрел его с головы до ног и не задумываясь спросил:; — Что случилось с тобой, приятель? У тебя такой вид, будто тебя вчера похоронили. Дай-ка я потрогаю тебя за руку, удостоверюсь, не призрак ли ты! Боцца притворился, что не слышит его слов и не замечает протянутой к нему дружеской руки. — Не проигрался ли ты, Бартоломео? Или потерял деньги прошлой ночью? И проигрыш тебя печалит? Полно! Не принимай этого так близко к сердцу! О деньгах нечего думать — ведь ты знаешь, мой кошелек в твоем распоряжении. Боцца не отвечал. — Э, да, может быть, не в этом дело? Тебя обманула милая? Или ты ее разлюбил — а это еще хуже! Не беда! Нарисуй красавицу, похожую на нее, и ее нежный взор вечно будет прикован к тебе! А нет ли, случайно, у тебя врагов? Хочешь, я буду твоим секундантом на поединке? Пойдем немедля! — Ну и вопросы, мессер Валерио! — отвечал Боцца тихо, но резко. — Или вы дошли до того, что из-за часа опоздания подвергаете допросу своих подмастерьев и требуете отчета в их поведении? — Эге! — воскликнул удивленный Валерио. — Да ты не в духе, дружище! Надеюсь, скоро твоя вспышка пройдет и ты лучше разберешься в моих намерениях. И он, насвистывая, тотчас же снова принялся за работу, а Боцца начал свою — медленно, с нарочитой небрежностью и неловкостью; но Валерио сделал вид, что ничего не замечает. Прошло часа два, и Боцца, убедившись, что вывести из терпения Валерио не удалось, стал вдруг работать с поспешностью, — он набирал мозаику, смешивая цвета самым несуразным и странным образом. Валерио, искоса посматривая на него, несколько мгновений следил за ним. Его удивляло упрямство Боцца. Но ничего подобного еще не случалось, и он сдержался — решил, что переделает работу подмастерья, подумав: «В конце концов, это всего лишь один потерянный день и для него и для меня». Но хотя добрый юноша и принял такое великодушное решение, хотя и делал над собой усилия, чтобы не смотреть на безобразную мозаику, которую наспех набирал Боцца, однако в резком, прерывистом скрежете лопатки подмастерья было что-то до того лихорадочное и раздражающее, что молодой художник решил пойти прогуляться. Он боялся, что Боцца в конце концов добьется своего и вспыхнет ссора. Совесть Валерио была спокойна; ему казалось, что Боцца занемог, и он скорее сочувствовал ему, а не сердился. Смелый как лев, но терпеливый и великодушный, он сошел с помоста, надел свой черный шелковый камзол и вышел ненадолго на воздух во двор базилики, прилегающей ко Дворцу дожей, одному из самых дивных творений зодчества в мире. Несколько раз обойдя галереи дворца, он успокоился и решил возвратиться к работе, но, спускаясь по лестнице Гигантов[92], внезапно столкнулся лицом к лицу с Боцца. Дело в том, что чувство раздражения, которое испытывал Валерио, стараясь подавить гнев, терзало и Боцца, который тщетно пытался разжечь злобу своего соперника. Когда Валерио удалился, желая прекратить обоюдную мучительную пытку, Боцца пришел в ярость и потерял самообладание. Ему казалось, что ждет он Валерио не минуты, а целые века. И вдруг под влиянием непреодолимой ненависти он бросился вслед за Валерио и настиг его на том месте, где под ударом топора покатилась голова Марино Фальеро[93] двести лет назад. Увидев Боцца, Валерио вскипел, и оба молодых художника несколько секунд простояли в нерешительности со сверкающими взорами, нетерпеливо ожидая вызова противника, — так два разъяренных дога глухо рычат, стоя с налитыми кровью глазами и взъерошенными хребтами, прежде чем броситься друг на друга.VII
Хоть и грубы были уловки Винченцо Бьянкини, но прирожденная наблюдательность и превосходное знание людских слабостей и пороков служили ему лучше, чем другим благородные душевные качества. Он питал глубокое и неискоренимое презрение ко всему роду человеческому. Отрицая совесть, он ненавидел всех себе подобных; он не отступал ни перед чем, лишь бы повредить людям, и никогда не принимал в расчет, что возможны и добрые побуждения. Его черные замыслы почти всегда осуществлялись; но, надо правду сказать, — как ветер во время грозы ломает лишь те деревья, в которых начинают иссякать соки, а ствол — терять силу и гибкость, — так злобные козни Бьянкини одолевали лишь сердца, скупо наделенные чувством любви, этой жизненной силы, порывы которой заглушались неистовыми вспышками дурных страстей. Винченцо был трусом и не нападал на людей, сильных духом и полных благородства. Итак, он знал только дурные стороны жизни и благодаря этому прискорбному опыту дерзко вел двойную игру. Он посмел сочинить такую грубую ложь для Боцца, полагая, что юноша, по натуре недоверчивый и скрытный, никогда не станет и пытаться что-нибудь выяснить. Боцца не любил лицемерить, но терпеть не мог откровенничать. Его больным местом было непомерное самолюбие, всегда уязвленное, всегда растравленное. Бьянкини хорошо знал также, что все усилия воли Боцца направлены на то, чтобы скрыть эту глубокую рану, и из страха выдать себя он неразговорчив, не способен на душевные порывы, противится всяким объяснениям, которые, быть может, заставили бы его раскрыть свою душу. Иногда Бартоломео кое-что поверял Франческо лишь оттого, что, видя печальную задумчивость учителя, воображал, будто тот терзается тем же душевным недугом, и опасался его меньше других. Но Боцца ошибался: недуг Франческо при тех же внешних проявлениях был совсем иным. Не понимая Валерио, Боцца относился к нему недоверчиво. Он был убежден, что наивная беспечность молодого художника — просто-напросто вечное притворство, необходимое, чтобы приобрести друзей и сообщников и пробить себе путь благодаря покровительству людей высокопоставленных. Этим заблуждением Боцца и воспользовался Бьянкини. Очутившись рядом с Валерио, Боцца, хотя он и не был трусом, растерялся. Желание упрекнуть Валерио за вчерашнюю выходку, о которой рассказал Бьянкини, вдруг исчезло; теперь он боялся, что покажет, как мальчишеский поступок Валерио уязвил его гордость. Он вдруг понял, что из истинного чувства собственного достоинства должен был пренебречь таким оскорблением или, по крайней мере, притвориться, что пренебрегает. Он внезапно подавил гнев и, затаив его в глубине души, снова принял холодный и презрительный вид. Валерио, удивленный переменой выражения его лица, первый нарушил молчание, спросив, что он хочет ему сказать. — Хочу сказать, мессер, — ответил Боцца, — чтобы вы искали себе другого подмастерье. Я ухожу из вашей мастерской. — Почему? — воскликнул Валерио с искренним недоумением. — Да потому, что мне так хочется, — произнес Боцца, — и больше не спрашивайте. — Значит, сообщив мне об этом так внезапно, вы намерены оскорбить меня? — Нисколько, мессер, — ответил Боцца ледяным тоном. — В таком случае, — сказал Валерио, с огромным усилием сдерживая гнев, — вы должны во имя дружбы, которую я всегда вам выказывал, поведать мне, что заставляет вас уйти. — О дружбе не может быть и речи, мессер, — заметил Боцца с язвительной усмешкой. — Таким словом бросаться не следует, да и такому чувству нет места между нами. — Вероятно, вы ни к кому и не питали этого чувства, — возразил Валерио, задетый за живое, — зато я питал к вам искреннюю дружбу и так часто ее доказывал, что отрицать это вы не можете. — Да, конечно, — с издевкой произнес Боцца, — такие доказательства забыть нелегко. Удивленный Валерио пристально посмотрел на него: он не мог поверить, что на свете бывает столько злобы; не хотел понимать язык ненависти. — Бартоломео, — промолвил он, беря его за руку и уводя в галерею, — что у тебя на душе? Может быть, я невольно обидел тебя? Если так, клянусь честью, обидел нечаянно. И я докажу тебе это, только скажи, в чем же дело. Столько правдивости было в тоне молодого художника, что его ученик разгадал хитрость Бьянкини, сыгравшего на его легковерии; но в то же время ему больше чем когда-либо захотелось скрыть свою чрезмерную обидчивость, а при мысли о собственном малодушии ему показалась особенно оскорбительной благородная искренность Валерио. Сердце Бартоломео, замкнувшееся для любви, не испытывало потребности отвечать на такие порывы. «Если Бьянкини солгал, — подумал он, — если Валерио и не выказал ко мне презрения в тот раз, все равно он всегда презирал меня и даже сейчас презирает, милостиво предлагая дружбу и прощая мой проступок. Но раз я уже начал, надо стоять на своем». Товарищеские отношения с братьями Дзуккато уже давно тяготили Боцца, уже давно он стремился их порвать. — Вы никогда не оскорбляли меня, мессер, — ответил он холодно. — Если бы вы оскорбили меня, я бы не только вас покинул, а потребовал удовлетворения. — Так я готов, черт возьми, дать тебе его, если ты настаиваешь, — воскликнул Валерио, отлично понимая, что подмастерье что-то утаивает. — Не об этом идет речь, мессер. И, желая доказать вам, что я не ищу ссоры и, во всяком случае, не из трусости ее избегаю, я вам открою одну из причин, побудившую меня оставить вас, — она вам не очень-то понравится. — Непременно скажи, — проговорил Валерио, — всегда нужно говорить правду. — Скажу, маэстро, — продолжал Боцца, стараясь говорить самым высокомерным, самым оскорбительным тоном, на какой только он был способен. — Все дело тут в искусстве, и ничего более. Вас это, вероятно, рассмешит — ведь вы презираете искусство, — но я не признаю ничего иного на свете и должен признаться, что готов пожертвовать самыми приятными знакомствами, чтобы добиться успеха и получить звание мастера. — За это и порицать нельзя, — сказал Валерио, — но разве я препятствую твоему успеху? Разве я пренебрегал занятиями с тобой, заставлял тебя выполнять черную работу в школе, как обычно делают мастера, или не признавал тебя как художника? Разве я не предоставлял тебе все возможности совершенствоваться, не доверял тебе увлекательные сложные работы и не показывал лучший способ набора мозаики с таким рвением, будто ты мне родной брат? — Не отрицаю, вы обязательны, — отвечал Боцца. — Но, пускай я покажусь вам несколько тщеславным, я вынужден вам признаться, маэстро, что ваш способ работы — по вашему мнению самый лучший — меня нисколько не удовлетворяет. Я не только стремлюсь стать первым в искусстве мозаики, но хочу развить это искусство, в наших руках такое несовершенное, и знаю, это будет подлинное откровение. Так вот, позвольте же мне избавиться от вашей методы и следовать своей. Так мне приказывает внутренний голос, — очевидно, мне предназначена лучшая доля, не буду я следовать по стопам других. Если я потерплю неудачу, не жалейте меня, если добьюсь успеха, знайте — я, в свою очередь, не откажу вам ни в помощи, ни в советах. Валерио, не догадываясь — настолько сам он был лишен тщеславия, — что эта речь заранее придумана с единственным намерением посильнее уязвить его, с трудом удержался от смеха. Он часто замечал, как непомерно самолюбив Боцца, и на этот раз решил, что на его ученика нашел приступ какого-то безумия. Так он объяснил себе то смятение, в котором тот находился все утро, и, раздумывая о том, как гибельно тщеславие, какими бедами оно чревато, пожалел его и решил, что не стоит поднимать его на смех слишком уж явно. — Раз так, любезный Бартоломео, — с улыбкой обратился он к подмастерью, — то, оставаясь среди нас, тебе было бы легче давать нам советы, а нам — их получать. Никто никогда не препятствовал твоей работе — совершенствуй же искусство мозаики, вводи свои новшества сколько тебе угодно. Если же благодаря тебе наше искусство пойдет вперед, заранее обещаю, что не буду тебе помехой, а с удовольствием воспользуюсь всеми твоими нововведениями. Боцца понял, что Валерио подшучивает над ним, хотя и говорит учтиво. Ученик был раздосадован — хотел уязвить, а сам попал в смешное положение, — и вне себя он наговорил столько грубостей, что Валерио в конце концов потерял терпение и сказал: — Если откровение твоего гения, любезный, — та нелепая и бездарная мозаика, над которой ты трудился, когда я ушел из базилики, то предпочитаю, чтобы искусство было отсталым в моих руках, чем так вот развивалось в твоих. — Вижу, вижу, мессер, — возразил Боцца, раздраженный тем, что все его козни обернулись против него же. — Я одурачил вас — решил нынче утром под этим предлогом с вами расстаться. Хотелось так досадить вам, чтобы вы меня прогнали, — я пощадил вас, чтобы не обидеть самочинным уходом. Жаль, что вы не поняли благородства этого поступка. Так вот: я не желаю и часа оставаться в вашей мастерской. — Значит, причина твоего ухода так и останется неизвестной? — спросил Валерио. — Спрашивать о ней никто не имеет права! — отрезал Боцца. — Я мог бы заставить вас сохранить верность своему обязательству, — заметил Валерио, — ведь вы дали подписку, что будете работать под моим руководством вплоть до праздника святого Марка. Но принуждать я не умею. Считайте себя свободным. — Я готов, мессер, — ответил Боцца, — по вашему требованию возместить вам все убытки. Быть вам чем-нибудь обязанным — самое для меня страшное. — Однако придется этому покориться, — сказал Валерио, отвешивая поклон, — ибо я решил ничего от вас не принимать. Вот так и расстались учитель с учеником. Валерио посмотрел ему вслед и в волнении прошелся под аркадами. Его сердце вдруг сжалось при мысли о такой черной неблагодарности, о такой душевной черствости, и он поспешил вернуться и принялся за работу, чувствуя, что лицо его мокро от слез. Боцца же, напротив, испытывал облегчение, почти радость. Будто с души у него упала огромная тяжесть — этой тяжестью было чувство признательности, непереносимое для гордецов. Он вообразил, что вышел победителем из былых невзгод и теперь на всех парусах несется в будущее, где ждут его независимость и слава.VIII
Боцца был художником, не лишенным дарования. Он был талантливее Бьянкини, которые отличались лишь прилежанием и старательностью, и научился от братьев Дзуккато высокому мастерству рисунка и живописи. Линии его рисунка были изящны и точны, оттенки цвета естественны, а в умении подбирать яркие и богатые тона для изображения тканей он, пожалуй, даже превосходил самого Валерио. Учился он с упорством и с успехом овладел мастерством мозаики, однако не получил в дар от неба того священного огня, который может вдохнуть жизнь в произведения искусства, а ведь именно в этом превосходство гения над талантом. Боцца был так умен, с таким беспокойством стремился постичь, вглядываясь в произведения других художников, в чем же тайна их превосходства, что понял наконец, чего ему недостает, и стал со страстным нетерпением добиваться совершенства. Но тщетно пытался он придать своим образам пленительную грацию или ту возвышенную одухотворенность, которая светилась в образах, созданных братьями Дзуккато. Ему удавалось изобразить лишь внешние проявления чувства. В сцене из Апокалипсиса его демоны и грешники, обреченные на муки, были отлично отработаны; но, хотя эта сцена и была лучшей его мозаикой, его настоящим торжеством, ему не удалось сообщить этим символам ненависти и горя той красноречивости, выразительности, которая должна быть присуща подобным произведениям. Грешники, казалось, мучаются только от опаляющего их огня; черты, искаженные ужасом, не выражали ни стыда, ни отчаяния. Восставшие ангелы утратили все небесное. Не скорбь о прежнем величии духа, а какую-то бесчеловечную насмешку выражали их лица, их жестокие улыбки; и, глядя на картины пыток, скорее напоминавшие инквизицию, а не суд божий, зритель испытывал не волнение, а скорее недоумение, не ужас, а отвращение. Несмотря на все эти недостатки, понятные лишь тонким знатокам, в работах Боцца было нечто выдающееся, и Дзуккато узнавали в произведениях своего ученика плоды своих стараний. Но, когда он захотел испытать свои силы на более возвышенных сюжетах, он потерпел полнейшую неудачу. Движения у него получались не величественными, а угловатыми, лица не вдохновенными, а безжизненными, ангелы тщетно взмахивали сильными и блестящими крыльями — ноги их, казалось, были навсегда прикованы к грунту, их взгляды блестели лишь смальтой и мрамором. Художники выказывали недовольство тем, что их замыслы не нашли своего подлинного воплощения, хотя рисунки были выполнены с точностью, и братьям Дзуккато пришлось много потрудиться и кое-где переправить мозаичные фигуры, чтобы придать им жизнь и одухотворенность. Как только сцены из Апокалипсиса были закончены, Боцца поручили работу над гирляндой, украшающей свод; он же считал рабское копирование узоров занятием недостойным для себя и внутренне страдал в своей униженной гордости. Однако братья Дзуккато с удивительной мягкостью и чуткостью дали ему понять, что необходимо передать работу над священными сюжетами в более умелые руки, а ему придется кончать детали свода, пока их мастерской не поручат работу, более подходящую для его таланта. Боцца находил, что с ним мало занимаются рисованием и живописью — братья Дзуккато давали ему уроки вчасы досуга. Он находил, что самое главное — это забота о будущей его славе, и втайне упрекал Валерио за любовь к развлечениям, которые мешали ему посвящать Боцца все свободное время; а Франческо он упрекал за то, что, работая над собственными сложными этюдами, тот иной раз раньше времени кончал урок или откладывал на следующий день. Он внушал себе, что учителя боятся, как бы он их не опередил, и мешают ему быстро овладеть приемами искусства мозаики, чтобы подольше пользоваться его трудом для своей выгоды. Его душу втайне терзали недоверие и ненависть. Иной раз (а такие минуты бывали еще мучительнее) ему открывалась истина, и он понимал, что, несмотря на превосходные уроки и бескорыстные советы учителей, он не делает должных успехов. Он с горечью замечал недостатки своей работы и с ужасом вопрошал себя: а что, если, несмотря на некоторый талант, он так никогда ничего и не создаст? Он понимал, чего ему недоставало, и не мог ничего поделать; рука его, казалось, переводила на грубый язык все его поэтические замыслы, и он даже был готов поверить в завистливую волю нечистой силы, влиявшей на его судьбу. Валерио часто говорил ему: «Бартоломео, больше всего мешает развиваться твоим способностям тревога, снедающая тебя. Прекрасное и великое не могут расцвести без плодотворного вдохновения пылкого сердца и свободного ума. Чтобы создать произведение, исполненное жизни, надо быть здоровым и телом и духом, а вымыслы больного воображения жить не будут. Если бы ты ночи напролет не грезил о почете и славе, а радостно засыпал бы после свидания с возлюбленной; если бы в тоске не лил иссушающие сердце слезы, а плакал бы от умиления и нежности, припав к груди друга; наконец, если бы в часы усталости, когда уже ты не в силах держать в руке инструмент и распознавать оттенки цветов, ты не утомлял зрение, не перенапрягал волю, а искал в развлечениях, свойственных твоему возрасту, в невинных удовольствиях молодости средство для восстановления сил, необходимых художнику, давая душе на время иную пищу, ты, право, поразился бы, когда, вернувшись к работе, почувствовал, как сильно бьется твое сердце и все существо твое переполнено какой-то неведомой радостью и всепобеждающей надеждой. А ты, словно нарочно, все делаешь по-иному, вечно грезишь и с каждым часом угасаешь под бременем бытия; как же ты хочешь придать своему творению жизнь, если ее нет в тебе самом! Если будешь так продолжать, то подорвешь силу своего таланта раньше, чем заставишь его служить искусству. Постоянно размышляя о цели и преувеличивая ценность победы, ты так и не познаешь волнения и чистых радостей творчества. Искусство отомстит за то, что ты его не любишь ради него самого, и предстанет лишь издалека твоим обманутым и ослепленным глазам; и, если тебе удастся окольными путями добиться пустых рукоплесканий толпы, ты не ощутишь того благородного самоудовлетворения, которое испытывает истинный художник, с улыбкой наблюдая невежество грубых судей, находя утешение в своей скорби, если ему удастся скрыться от всех в какой-нибудь каморке или темнице вместе со своей музой и обрести радость, не известную человеку заурядному». Несчастный художник прекрасно понимал, как справедливы эти замечания, но он не верил, что Валерио обращается к нему с чистой душой и с добрыми намерениями, желая направить своего ученика на верный путь, и приписывал ему низкие побуждения — скрытое злорадство и жестокое презрение к его страданиям. Обескураженный, отчаявшийся, он восклицал; «О, как это верно, Валерио! Я погиб. Я погасну, как факел под порывами ветра, не успев разгореться и осветить все вокруг. Вы это хорошо знаете и растравляете мою рану. Вы хорошо знаете, в чем секрет вашей силы и моей слабости. Что ж, торжествуйте, унижайте меня, презирайте мои мечты, мешайте осуществлению моих замыслов и насмехайтесь над моими надеждами. Вы умело пользуетесь своими силами — вы управляли скакуном, вы его укротили; я же без конца подхлестываю его, и он несет меня, и я вижу, что разобьюсь при первом же препятствии». Тщетно оба Дзуккато старались успокоить его, вселить в него надежду; он отвергал все их заботы, уязвленный их сочувствием, и прятал свои горести от чужих взглядов, избегая утешений. Его молодые учителя заметили, что их сердечность, их советы только раздражают и терзают его Израненную душу, и мало-помалу перестали говорить с ним о нем же. Боцца решил, что они его разлюбили и не дают ему советов, боясь его успеха. Досадная необходимость бросить благородную и увлекательную работу, чтобы к сроку закончить мозаику скучных орнаментов, озлобила его вконец. И вот он решил покинуть своих учителей, как только истечет срок его обязательства, ибо не верил, что они подготовят его к испытаниям на звание мастера. По договору с прокураторами они имели право представить к званию мастера одного ученика в год, но ему казалось, что братья гораздо лучше относятся к двум другим молодым подмастерьям — Чеккато и Марини. Он задумал отправиться в Феррару или же Болонью, получить там звание мастера и открыть свою школу; пусть он и был одним из последних в Венеции, зато он мог рассчитывать, что станет одним из первых в городе менее богатом и прославленном. Ссора с Валерио, казалось ему, представляла двойную выгоду: она вернет ему свободу и послужит предлогом для мести. Работы еще не были закончены, день святого Марка приближался, минуты были считанные. В обеих мастерских работали с удвоенным рвением, чтобы не нарушать договора. Отсутствие или уход одного из учеников грозил сейчас настоящим провалом и помешал бы успеху после всех неслыханных усилий, которые были сделаны до нынешнего дня, во имя того, чтобы не обогнала мастерская-соперница.IX
Бьянкини очень скоро приметили, что Боцца так и не вернулся, а Валерио приуныл. Винченцо со злорадной усмешкой рассказывал братьям о своей вчерашней хитрости, и все трое пришли в восторг от первой удачи и решили приложить все усилия, только бы сорвать работы под главным куполом и погубить братьев Дзуккато. Собравшись в питейном заведении, они обо всем сговорились, а затем Винченцо отправился на розыски Боцца и отыскал его под вечер в предместье Санта-Киара, где по берегам лагуны тянутся обширные фруктовые сады. Боцца медленно прохаживался вдоль сплошной зеленой стены — лишь кое-где дивные плодовые деревья ласково склонялись к мирным водам. Глубокая тишина царила в предместье, утонувшем в садах. Гасли последние лучи заходящего солнца, отражаясь вдали на сельской колокольне острова Чергоза. Пейзаж Венеции здесь дышит наивностью и сельской простотой, — во всех же иных местах он изыскан, горделив или же грозен. Здесь только видишь, как причаливают лодки, полные водорослей или фруктов, здесь только слышишь, как шуршат грабли, расчищая дорожки в садах, да жужжат прялки в руках женщин, сидящих в кругу детей на пороге теплиц. Монастырские часы отбивают время — льются чистые, похожие на женский голос звуки, и ничто не заглушает протяжного и печального звона. Сюда в иные, более поздние времена часто приходил певец «Чайльд-Гарольда»[94], стараясь постичь некоторые тайны природы. И, когда он размышлял здесь над скрытым смыслом слов «милосердие», «кротость», «умиротворение», «покой», природа, то ли не в силах на него воздействовать, то ли неумолимо жестокая, вместо них подсказывала ему слова печали, тоски, скуки, безнадежного уныния. Боцца, равнодушный к умиротворяющему действию чудесного вечера, позабыв все на свете, следил за стремительным полетом и неистовой битвой больших морских птиц; в вечерний час одни дрались из-за последней добычи, другие спешили в свои никому не ведомые убежища. Только такие картины — борьбы и смятения — доставляли удовольствие Боцца. И всякий раз ему казалось, что побежденный олицетворяет его соперников. И, когда в воздухе раздавался яростный и торжествующий крик победителя, Боцца чудилось, будто он сам взмывает на широких крыльях и несется к цели по зову своего ненасытного честолюбия. Бьянкини с наигранным чистосердечием и, сказав, будто уже давно замечает, что братья Дзуккато строят ему, Боцца, козни, попросил поведать по секрету, уж не решил ли он покинуть их школу. — Скрывать это нет надобности, — отвечал Бартоломео, — ибо дело уже сделано. Бьянкини сдержанно выказал радость и стал уверять Боцца, что и десять лет службы у Дзуккато ни на шаг не продвинули бы его к званию мастера; вот, например, Марини, одаренный художник, работает у братьев уже шесть лет, а какое у него вознаграждение? Только скромное жалованье да звание подмастерья. — Марини хвалился, — добавил Бьянкини, — что будет представлен к званию мастера в день святого Марка, — так ему обещал Франческо Дзуккато. Но… — Он ему обещал? Это верно? — спросил Боцца, и глаза его блеснули. — Я сам слышал, — ответил Винченцо. — Уж не обещал ли он и вам? О, братьям Дзуккато обещать ничего не стоит: с учениками они обходятся, как с прокураторами. Больше болтают, чем делают. Они весьма красноречиво втолковывают ученикам-простофилям, что искусство, видите ли, требует длительного срока ученичества; будто художника погубишь в расцвете сил, если слишком рано позволишь ему творить по воле его причудливого воображения; что и большие таланты терпели неудачу, поспешив отказаться от рабского копирования моделей, и так далее. Да чего только они не наговорят! Назубок выучили в школе своего папаши (когда их папаша держал школу живописи) пять-шесть наставлений, которые там твердили Тициану да Джорджоне, и теперь воображают, будто стали великими мастерами, и вещают, как непогрешимые судьи. Потеха, право! Не понимаю, как ваш дьявол — кстати, он блистательно выполнен и получился презабавным; удачны рога и веселое выражение, я на него не могу смотреть без смеха, — так вот, я не понимаю, как он до сих пор не сорвался со стены и своим львиным хвостом не хлестнул их по ушам, когда они несут чепуху, столь неуместную в их устах. Хотя Боцца и был задет этими грубыми похвалами, расточаемыми самой главной части его работы — фигуре, которой он намеревался придать страшный, а отнюдь не смешной облик, — он втайне обрадовался, услышав, как высмеивают и унижают Дзуккато. А Бьянкини решил, что он завоевал доверие Боцца, излив целебный бальзам на его рану, и пригласил его к себе в школу и даже пообещал жалованья побольше, чем тот получал у Дзуккато. Он был поражен, когда Боцца, не выразив и признака радости, отказался. Бьянкини подумал, что молодой подмастерье хочет поднять себе цену и добиться наивысшей денежной мзды. Братья Бьянкини не видели в жизни художника иной цели, иной надежды, иной славы, кроме обогащения. Он попытался соблазнить Боцца еще более блестящими предложениями, но все было тщетно — пришлось отказаться от мысли переманить его к себе, и Бьянкини, словно это его ничуть не трогало, продолжал спокойно беседовать с ним и расхваливать его, стараясь выведать причины его отказа и тайные тщеславные помыслы. Оказалось, что сделать это было нетрудно. Боцца, такой недоверчивый, такой замкнутый, что даже самая искренняя дружба не могла заставить его признаться в своих слабостях, поддался, как ребенок, на обольщения грубой лести: похвала была нужна ему, как воздух, без нее он страдал и чах. Боцца владела лишь одна мысль — стать мастером. Подстрекаемый мелким самолюбием, он хотел добиться славы, положения, независимости, звания, — и ради этого он готов был поступиться денежной выгодой и терпеть нужду. Заметив все это, Бьянкини проникся презрением к такому бескорыстному честолюбию, чуждому ему самому, и он без стеснения высмеял бы Боцца, если б не понимал, что может воспользоваться его услугами во вред братьям Дзуккато. — Ах, мой молодой друг, вам хочется приказывать, а не прислуживать! Да этого не трудно добиться такому талантливому художнику. Что ж: viva![95] Нужно сделаться мастером, но не в жалком провинциальном городишке, где вам придется в поте лица трудиться день и ночь, лет двадцать оставаясь в безвестности. Нет, нужно сделаться мастером в самой Венеции, в соборе святого Марка, вытеснить и заменить Дзуккато. — Ну, это только на словах легко, — возразил Боцца, — Дзуккато всемогущи. — Может статься, не так уж всемогущи, как вы думаете, — произнес Бьянкини, — дайте слово, что вы доверитесь мне и будете помогать во всех моих намерениях. Клянусь, не пройдет и полугода, как Дзуккато будут изгнаны из Венеции, а мы с вами вдвоем станем полновластными хозяевами в базилике. Винченцо говорил с уверенностью, а было известно, что он настойчив, ловок, удачлив во всех своих начинаниях, избежал множество опасностей, всегда выпутывался из беды, гибельной для всякого другого. И Боцца затрепетал от радости. Си вспыхнул, испарина покрыла его лицо, как будто солнце вновь взошло из-за моря и коснулось его своими теплыми, живительными лучами. Бьянкини, почуяв, что одержал победу, взял его за руку и повлек за собой. — Идемте, — сказал он, — сейчас вы кое-что увидите собственными глазами — верный путь к гибели наших врагов. Но прежде дайте клятву, что не поддадитесь глупой чувствительности и не разрушите моих замыслов. Вы мне необходимы как свидетель. Уверены ли вы, что не отступите, как бы тяжки ни была последствия для ваших бывших учителей? — Но что же им грозит? — спросил, оторопев, Боцца. — Только не смерть. Им грозит изгнание, бесчестье, нищета, — ответил Бьянкини. — Для этого я не гожусь, — сухо сказал Боцца, отшатнувшись от своего искусителя. — Оба Дзуккато, вопреки всему, порядочные люди. Я ими недоволен, но не могу их возненавидеть. Оставьте меня, мессер Бьянкини, вы злой человек. — Да вам это только кажется, — ответил Винченцо (его ничуть не оскорбили слова Боцца, он уже давно разучился краснеть). — Вы испугались, потому что верите в порядочность братьев Дзуккато. С вашей стороны это очень мило и очень наивно. Но, если вам докажут (говорю вам, вы увидите все собственными глазами), что они недобросовестны, обманывают республику, присваивают ее деньги, получают даром жалованье, занимаясь подделками, — словом, что вы скажете, если я вам это покажу? А когда вы это сами увидите, и я, когда придет время, в надлежащем месте потребую, чтобы вы засвидетельствовали истину, как вы поступите? — Если увижу собственными глазами, то скажу, что более страшных лицемеров и чудовищных лжецов я никогда не встречал. И, если меня вынудят дать свидетельство, я это сделаю, потому что они низко обманывали меня, а я ненавижу людей, которые считают себя вправе сметать с дороги других, и еще больше ненавижу тех, кто ложью присваивает себе это право… Неужели они воры и бесчестные люди? Не верю! Но как бы мне хотелось, чтобы это было так! Как хорошо было бы бросить им в лицо: «Нет, вы не имели права презирать меня!» — Ступайте за мной, — сказал Бьянкини, злобно усмехаясь. — Ночь темна — впрочем, нам-то можно в любой час проникнуть в базилику, не возбудив ничьих подозрений. Идемте, и, если вы не отступите, то через каких-нибудь полгода вы сделаете на плафоне[96], на самом верху базилики огромного желтого черта. Он будет хохотать громче всех остальных и отвалит вам сто дукатов золотом. Говоря это, он неслышно шагал между благоухающими деревьями, а Боцца, неуверенно ступая и топча грядки с тмином и укропом, шел за ним следом и дрожал так, будто ему предстояло совершить преступление.X
На следующий день Боцца с жаром работал в мастерской Бьянкини над рисунками для часовни святого Исидора. Франческо, которому брат накануне подробно рассказал о поступке Боцца, был глубоко оскорблен. Он просил Валерио не предпринимать никаких попыток, чтобы разузнать о причинах странного поведения подмастерья. Он был очень взволнован, но молчал, гораздо острее чувствуя оскорбление, нанесенное его любимому брату, чем оскорбление, которое получил бы сам, и не мог постичь, как можно было не поверить искренности и доброте, с какой старался все разъяснить Валерио. Франческо притворялся, что не замечает Боцца, и с того дня проходил мимо, будто и не видя его. Валерио превосходно понимал, как важно было для брата вовремя закончить работу над украшением купола и как его обеспокоил уход Боцца, поэтому он решил не жалеть сил и превозмочь все трудности. У Франческо было слабое здоровье, но он был горд и чувствителен, не мог допустить и мысли, что можно нарушить обязательства. Дело было не в славе — он и так упрекал себя в том, что слишком много думает о ней и задерживает заказанную ему работу, — дело шло о чести художника. Он знал о кознях, которые уже начали строить братья Бьянкини, чтобы запятнать его доброе имя. Когда он согласился на эту огромную работу, старик Дзуккато считал, что сын не справится с ней за три года, как было договорено, и пытался отговорить его. Тициан также думал, что при рассеянном образе жизни Валерио и недугах старшего брата задачу выполнить невозможно, и не раз советовал им помириться с братьями Бьянкини и упросить прокураторов заключить новый договор. Но братья Бьянкини, сами вышедшие из школы Франческо, не обладая большими талантами, были невыносимо заносчивы. Франческо ни за что на свете не доверил бы им труд, который начал с таким старанием, такой любовью. Чтобы вы поняли, отчего Франческо не мог опоздать ни на день, расскажем о событиях, совершившихся раньше. Дело в том, что в базилике святого Марка много лет подряд работали неумелые и нерадивые мастера. На содержание бесчестных тунеядцев тратились огромные средства, причем много денег уходило на переделку их работ. Альберто и Риццо, превосходные мастера мозаики, много раз говорили прокураторам о том, что необходимо навести порядок и в расходах и в самих работах. Не раз мастеров меняли, наконец во главе мозаичной мастерской поставили Франческо Дзуккато. Работы Винченцо Бьянкини и его братьев отличались изрядной прочностью, и у Винченцо, хотя он и провел четырнадцать лет на каторге по обвинению в изготовлении фальшивых монет и убийстве нескольких человек, в том числе цирюльника, нашелся заступник, сам прокуратор-казначей, который назначил его помощником братьев Дзуккато. Однако между обеими семьями царила вражда, и Франческо попросил, чтобы ему самому позволили сыскать себе помощников. Это ему удалось. Совет художников, стремясь положить конец распрям и не перечить прокуратору — покровителю братьев Бьянкини, решил поверить им на слово и позволил, работать самостоятельно, на свой страх и риск. Поручили им работу попроще, отвели другую часть собора и дали более долгий срок, чем братьям Дзуккато. Бьянкини сами выговорили себе все эти условия и получили возможность показать, на что они способны. С того дня они, не переставая, всюду расхваливали себя, пытаясь склонить на свою сторону совет художников, который, впрочем, не разбирался в мастерстве мозаики, и унизить школу Франческо, а тот был так скромен и мягок, что не мог с ними бороться; члены же совета главным образом пеклись о том, чтобы было поменьше расходов, и надеялись, что после открытия реставрированного храма сенат осыплет их похвалами и денежными премиями. Франческо с тревогой видел, что близится роковой день, а он тщетно тратит все свои силы в работе; надежда его покидала. Видел он также, что Валерио ничуть не тревожится и настаивает лишь на том, чтобы в тот же торжественный день было основано «Веселое братство». Франческо совсем приуныл, когда Боцца покинул его в такую трудную минуту. «Даже если Валерио, — раздумывал он, — с душой возьмется за дело, все равно толку будет мало. Пусть же себе веселится, раз, на свое счастье, он так беспечен и мысль о нашем поражении не вызывает у него никакого стыда». Однако Валерио смотрел на все это совсем иначе. Он слишком хорошо знал благородную совестливость брата и понимал, что Франческо никогда не утешится после провала. И вот однажды Валерио собрал своих любимых учеников — Марини, Чеккато и еще двух юношей, — поведал им о состоянии духа Франческо, об унынии, воцарившемся во всей школе, и о том, чего ждет от них общественное мнение. Он стал заклинать их, чтобы они взяли с него пример, не теряли надежду и, не отказываясь ни от работы, ни от удовольствий, стойко держались до конца, даже если на следующий день после праздника святого Марка нм суждено будет погибнуть от изнеможения. Юноши с горячностью дали клятву без устали помогать ему и действительно слово сдержали. Франческо всегда огорчался, что Валерио не бережет свое здоровье, поэтому, чтобы не тревожить его, друзья прикрыли досками ту часть купола, которую он решил оставить под конец, и трудились там по ночам. Притащили на леса легонькую подстилку, и тот, кто изнемогал от усталости, ложился и засыпал глубоким сном; немного погодя спящего будило веселое пение художников и скрип досок. Работали весело и уверяли, что нет сна крепче, чем когда тебя убаюкивает на лесах шум молотков. Неиссякаемое веселье Валерио, его забавные рассказы, песенки и добрая чарка кипрского вина, которую распивали вкруговую, поддерживали чудесное вдохновение. И вдохновение увенчалось успехом. Под вечер, накануне праздника святого Марка, когда Франческо, стараясь сдержать немой упрек, делал вид, будто примирился со своей участью, что было далеко от истины, Валерио сделал знак своим друзьям. В мгновение ока они разобрали доски, и их учитель увидел гирлянду, которую поддерживали прекрасные ангелы, — ему это показалось просто чудом. — О, милый мой Валерио! — воскликнул Франческо вне себя от радости и благодарности. — Недаром же я нарисовал крылья на твоем портрете — ведь ты мой ангел-хранитель, мой спаситель! — Ты знаешь, я очень старался доказать тебе, — отвечал Валерио, обнимая брата, — что можно сочетать дело с развлечениями. Ну, раз ты мною доволен, все мои труды вознаграждены. Обними же наших верных товарищей — ведь они не покладая рук помогали мне, и все они достойны звания мастера. Выбирай же помощника. — Милые, дорогие мои ученики, — сказал Франческо и сердечно обнял каждого, — вам всем пришлось пожертвовать очень многим из-за молодого человека, наделенного болезненным честолюбием. Вы решили доказать ему, что он возвел на вас напраслину, считая вас врагами и соперниками. Я рад, что вы усвоили мои уроки и не пошли по его следам в погоне за славой, к которой он так жадно стремился, и с готовностью показали ему пример добродетели и бескорыстия, добровольно уступая ему место мастера, чего он сам не ожидал. Неблагодарный не дождался этого счастливого дня — ведь он принужден был бы поблагодарить вас, он невольно должен был бы восхищаться вами. Он бежал как трус от учителей, которых не понял, от друзей, которых не оценил. Забудьте же о нем. Он уже достаточно наказан: ему не найти более искренних друзей, более бескорыстных учителей. Ныне место моего помощника свободно, выбирайте же сами того, кто может его занять: моя воля — ваша воля. Упаси меня бог сделать выбор между моими учениками, ибо я всех уважаю одинаково и всех нежно люблю. Выбирайте же сами. Тому из вас, кто получит больше голосов, я отдам свой голос. — Долго выбирать не придется, — сказал Марини. — Мы так и знали, дорогой учитель, что в этом году, как и прежде, ты предложишь нам этот выбор, и мы уже предвосхитили твою мысль. Я получил больше всех голосов в нашей школе. Чеккато отдал мне свой голос. И я уже избран. Но право же, это или несправедливо, или неверно. Чеккато работает лучше меня; у Чеккато жена и двое маленьких детей. Он больше нуждается в звании мастера, и у него больше прав на это. Мне торопиться некуда, я еще холост. Я счастлив, что я твой ученик, и мне еще многому надо научиться. Я передаю Чеккато все голоса, я отдаю ему и свой голос и прошу тебя, учитель, присоедини к нему и свой. — Обними меня, брат мой! — воскликнул Франческо, сжимая Марини в объятиях. — Твой прекрасный поступок исцеляет душевную рану, которую нанес мне неблагодарный Бартоломео. Да, есть еще среди художников люди великой души, способные на благородное самоотречение. Чеккато, принимай эту благородную жертву без смущения: все мы знаем, что на месте Марини ты поступил бы так же. Можешь гордиться собой сегодня. Тот, кто внушает такую дружбу, достоин своего друга. Чеккато со слезами на глазах бросился в объятия Марини, а Франческо тотчас же отправился к прокураторам, чтобы получить грамоту мастера, которую ежегодно выдавали одному из его учеников. — Мы тебя будем ждать за столом! — крикнул ему Валерио. — Ведь после таких трудов надо подкрепить силы. Поскорее возвращайся, братец, ведь мне полночи придется провести в Сан-Филиппо, чтобы подготовиться к завтрашнему празднику, а мне хочется с тобой еще чокнуться.XI
Поднимаясь по широкой лестнице здания Прокурации, Франческо встретился с Боцца, который спускался вниз. Он был бледен и погружен в свои думы. Очутившись лицом к лицу со своим бывшим учителем, Бартоломео вздрогнул и явно смутился. Франческо посмотрел на него строго — иначе и не могло быть, — и лицо Боцца вдруг передернулось, а мертвенно-бледные губы зашевелились, будто он тщетно пытался что-то выговорить. Он шагнул навстречу своему учителю и словно собирался отвесить ему поклон. Угрызения совести его замучили, и он отдал бы в этот миг жизнь, лишь бы броситься к ногам Франческо и признаться ему во всем; но ледяное выражение лица мастера и уничтожающий взгляд, которым он окинул Боцца, и то, как он отвернулся, заметив, что тот поднес руку к берету, — все это лишило Боцца мужества. Он остановился в нерешительности, словно все еще ожидая, что Франческо обернется, приободрит его, взглянет на него со снисхождением, но, когда он понял, что учитель осудил его навеки и отступился от него, он с яростью сказал про себя, сжимая кулаки: «Что ж, проваливай!» Он пошел большими шагами и скрылся в доме своей возлюбленной, и она за весь вечер не могла добиться от него ни единого слова, ни единого взгляда. Франческо отправился к прокуратору-казначею, главе совета художников, и очень удивился, встретив там Винченцо Бьянкини, который сидел в непринужденной позе и громко разглагольствовал. Он сразу умолк, увидев Франческо, и перешел в соседнюю комнату, составлявшую часть внутренних покоев Прокурации. Прокуратор-казначей Мелькиоре сидел, нахмурив брови и напустив на себя суровую важность; это придавало его приплюснутой круглой физиономии, всей его фигуре с выпяченным брюшком и гнусавому голосу что-то смешное, а отнюдь не внушительное. Однако Франческо был не из тех, кого может запугать чванливый глупец. Он поклонился и сказал, что счастлив возвестить о полном окончании мозаичных работ на своде купола, вследствие чего… Но прокуратор-казначей прервал его. — Так, так! Вы явились! — сказал он, глядя на него в упор и, видимо, желая привести в замешательство. — Что ж, великолепно, мессер Дзуккато, превосходно… Будьте добры, объясните мне, каким же образом вы так быстро все закончили? — Так быстро, монсеньер? На мой взгляд, работали мы долго, ибо сегодня уже канун назначенного вами дня, и утром я еще боялся, что не закончу вовремя. — И у вас были основания бояться, ибо вчера вам еще оставалось сделать четверть гирлянды — это требовало по крайней мере месяца работы. — Это верно, — отвечал Франческо. — Я вижу, ваша милость знает все до мельчайших подробностей… — Такой человек, как я, мессер, — проговорил прокуратор выспренним тоном, — знает свои обязанности и ни за что не позволит обманывать себя такому человеку, как вы. — Такому человеку, как я! — воскликнул Франческо, удивленный этим выпадом. — Ваша милость, вы должны знать, что такой человек, как я, не способен обманывать. — Потише, сударь, потише! — крикнул прокуратор. — Или, клянусь колпаком дожа, я заставлю вас надолго замолчать! Прокуратор Мелькиоре кичился тем, что встарь среди его родственников был один венецианский дож, поэтому он привык и себя отчасти считать дожем и клялся головным убором, имевшим вид фригийского колпака или рога изобилия, — величавым атрибутом дожеского достоинства. — Вижу, что вашей милости не угодно меня выслушать, — ответил Франческо с несколько презрительной сдержанностью. — Удаляюсь из боязни еще больше прогневить вас и подожду более благоприятной минуты, чтобы… — …чтобы попросить жалованья за свою лень и недобросовестность? — вскричал прокуратор. — Жалованье людей, расхищающих казну республики, находится под «Свинцовыми кровлями»[97], мессер! Берегитесь, как бы вас не вознаградили по заслугам! — Не понимаю причины такой угрозы, — произнес Франческо. — Думаю, ваша милость обладает достаточной мудростью и опытом и не станет злоупотреблять тем, что я не могу смыть с себя оскорбление, нанесенное вами. — Клянусь колпаком! Здесь не место для пререканий, мессер! Подумайте, как оправдаться самому, прежде чем обвинять других. — Я оправдаюсь перед вашей милостью, когда вы соблаговолите сказать мне, в чем меня обвиняют. — Обвиняют вас в том, что вы самым недостойным образом обманули прокураторов, выдавая себя за мастера мозаики! А вы маляр и ничего более! Изображали из себя величайшего художника! Клянусь колпаком моего дяди, вам это так не сойдет! Платили вам не за фрески, — кстати, еще посмотрим, чего они стоят! — Клянусь честью, я не постигаю смысла речей вашей милости. — Черт возьми! Вас заставят его постичь, а пока на деньги не рассчитывайте. Да кто вам дал право, мессер художник, говорить: «Монсеньер Мелькиоре ничего не смыслит в нашей работе. Этому простаку лучше попивать пиво, а не распоряжаться делами искусства республики»? Так, так, мессер; нам известны шутки, которые вы с братом отпускаете на наш счет и на счет уважаемой коллегии магистров. Но смеется тот, кто смеется последним! Посмотрим, как у вас вытянется лицо, когда мы лично проверим вашу работу и вы увидите, что мы достаточно сведущи и отличаем смальту от масла и картон от камня. Франческо не мог сдержать презрительную усмешку. — Если я правильно понимаю обвинение, возведенное на меня, — проговорил он, — то я виноват лишь в том, что часть мозаики заменил разрисованным картоном. Да, правда, я сделал это для латинской надписи, которую ваша милость повелела мне поместить над наружной дверью. Я решил, что ваша милость, не давая себе труда составлять самолично эту надпись, столь лестную для нас, поручила ее человеку, который выполнил ее наспех. Я позволил себе исправить слово saxibus[98]. Но с послушанием, которое я обязан выказывать уважаемым прокураторам, я набрал из кусочков камней это слово так, как оно было мне дано, написанное вашей рукой, и разрешил моему брату исправить ошибку только на куске картона, приклеенном к камню. Если ваша милость считает, что я совершил ошибку, то нужно только снять картон, и надпись, точно выполненная, обнаружится, а это пустое дело, в чем вы можете убедиться собственными глазами. — Что ж, отлично, мессер! — воскликнул прокуратор, дрожа от ярости. — Вы сами себя разоблачаете, и вот вам новое доказательство, — я его запомню. Эй, писарь, запишите-ка это признание! Клянусь колпаком дожа, мессер, мы собьем с вас спесь! Ах, так вы осмеливаетесь поправлять прокураторов! Они-то знают латынь получше вашего! Посмотрите на этого ученого мужа! Кто может сомневаться в таком разнообразии талантов? Я вам предоставлю кафедру латинского языка в Падуанском университете, ибо, наверное, вы чересчур гениальны для работы по мозаике. — Если ваша милость настаивает на этом варваризме, — возразил Франческо с раздражением, — я пойду и сниму картон. Пусть вся республика узнает завтра, что прокураторы не притязают на знание классической латыни; ну, а мне до этого дела нет! С этими словами он направился к выходу, а прокуратор вне себя кричал властным голосом ему вдогонку слова, которые нельзя повторить, ибо он уже не владел собою. Как только Франческо вышел, в комнату прокуратора вбежал Винченцо, который все слышал из соседнего покоя. — Что вы делаете, монсеньер? — воскликнул он. — Вы сказали, что его мошеннические проделки раскрыты и позволили ему уйти! — Чего еще вы хотите? — ответил прокуратор. — Я ему отказал в жалованье и оскорбил его. Сегодня он достаточно наказан. А послезавтра известят о судебном процессе. — А за эти две ночи, — поспешно возразил Бьянкини, — он успеет заменить в базилике все части своей картонной мозаики кусками смальты. Таким образом я попаду в положение лжесвидетеля и моя преданность республике обернется во вред мне. — Как же помешать его злодеянию? — растерянно спросил прокуратор. — Я прикажу запереть собор! — Сделать этого нельзя: в праздничные дни в соборе будет полно народу, да и можно другими способами проникнуть в здание, даже крепко-накрепко запертое! И потом, он увидит своих подмастерьев, сговорится с ними, придумает оправдание., Все пропало, и я погиб, если вы его сейчас же сурово не накажете. — Ты прав, Бьянкини, необходимо сейчас же это сделать. Но как? — Скажите одно лишь слово, пошлите двух стражников вслед за ним, он еще не спустился с лестницы. Велите упрятать его в тюрьму. — Клянусь колпаком дожа, эта мысль мне не пришла в голову… Однако, Винченцо, не слишком ли строги меры, не превышение ли это власти?.. — А если вы его упустите, монсеньер, он будет смеяться над вами всю жизнь, а его брат, острослов, любимец молодых патрициев, завидующих вашей власти и вашей мудрости, не пощадит вас, изведет вас насмешками. — Ты прав, любезный Винченцо! — воскликнул прокуратор и, схватив со стола колокольчик, с силой взмахнул им. — Заставим его уважать сан дожа… ибо я тоже из рода дожей, тебе-то это известно. — И в один прекрасный день, я надеюсь, сами станете дожем, — подхватил Бьянкини. — Вся Венеция будет вас чествовать, когда вы наденете дожеский колпак. Стражники тотчас же выполнили приказ. И пять минут спустя удрученного Франческо, который не мог понять, по чьему приказу и в наказание за какой проступок он задержан, повели с завязанными глазами по лабиринту галереи, через двор и по лестницам к тюрьме. Он чуть приостановился и по журчанию воды, струившейся где-то под ним, понял, что совершает таинственный переход через «Мост вздохов»[99]. Сердце его сжалось, и он прошептал имя Валерио, словно прощаясь с ним навеки.XII
Валерио поджидал брата в таверне, пока за ним не пришли молодые приятели и не стали его торопить. Он ушел, отказавшись от надежды, что вечером встретится с Франческо и новым мастером — Чеккато. На Валерио навалились бесчисленные заботы, его осаждали множеством просьб — и все по поводу завтрашнего праздника. Полночи он провел, бегая из своей мастерской в Сан-Филиппо до площади святого Марка, где шли приготовления к игре в кольца, а оттуда — по мастерским различных ремесленников и поставщикам: всех он поднял на ноги. И повсюду за ним следом спешили и его неугомонные подмастерья, и юные представители разных цехов, тоже его преданные друзья. Он отдавал им распоряжения, посылая с поручениями то туда, то сюда. Вся эта резвая стайка отправлялась в путь с пением и смехом — молодые люди радостно предвкушали развлечения завтрашнего дня. Валерио вернулся домой только около трех часов утра. Он удивился, не застав брата дома, однако не очень встревожился. У Франческо была дама сердца, которой он уделял не очень много внимания, — страстью его было одно лишь искусство, и ни на что другое у него не оставалось времени, — но он изредка навещал ее, когда выпадал досуг. К тому же Валерио по самой природе своей никогда не ждал неприятностей, а ведь одно лишь опасение, что вдруг стрясется беда, отнимает мужество у большинства людей. Он заснул, решив, что увидится с братом завтра в мастерской, в Сан-Филиппо или на месте встречи веселых участников «Братства Ящерицы». Всем известно, что в лучшие дни расцвета Венецианской республики, помимо многочисленных, учрежденных республикой цехов, которые поддерживали ее законы, существовали несметные частные корпорации, одобренные сенатом, религиозные общества, благословляемые духовенством, и «Веселые братства», — их допускало и даже втайне им потворствовало правительство, которое всячески поощряло любовь к роскоши, считая, что она развивает деятельность ремесленников. «Благочестивые братства» часто состояли из одной корпорации, в том случае, если она была так обеспечена, что могла выдерживать все расходы, — например, корпорация купцов, портных, бомбардиров и т. п. Иные же состояли из различных ремесленников или торговцев одного прихода, причем эти братства именовались по названию приходской церкви, например: «Братство святого Иоанна, лепту дающего», «Мадонны на садах», «Святого Георгия на водорослях», «Святого Франциска на винограднике». Каждое братство имело отдельное здание, которое называлось «скуола» и украшалось на общие средства творениями величайших мастеров живописи, ваяния и зодчества. Обычно скуолы состояли из невысокой комнаты, называемой «приютом», где все собирались, богато убранной лестницы, которая была своего рода музеем, и просторного зала, где служили мессы и читали проповеди. Еще доныне встречаются в Венеции эти скуолы — одни по распоряжению правительства сохранились как памятники искусства, другие издавна стали частной собственностью. Так, «скуола святого Марка» превратилась в наши дни в городской музей живописи, в «скуоле святого Рокка» хранится собрание шедевров Тинторетто и других прославленных живописцев. Полы в ней мозаичные, потолки украшены позолотой и фресками работы Веронезе или Порденона, стены отделаны деревянной резьбой или бронзовыми узорами. Очаровательные барельефы выполнены из белого мрамора с совершенством и непостижимым искусством детали, — вот остатки того могущества и роскоши, которых достигает республика с аристократическим правлением, но которые ее неминуемо и губят. Все корпорации или братства участвовали в храмовом празднике и показывались во всем своем блеске, кроме того, все они имели право появляться на празднествах и торжествах республики со знаками отличия своей общины. В праздничной процессии святого Марка они выстраивались по приходам, и каждая шла вслед за духовенством своей церкви, неся раки, кресты и хоругви, и во время службы располагались в особых часовнях. «Веселые братства» таких привилегий не имели, но им разрешалось располагаться на всей огромной площади святого Марка, воздвигать там навесы, устраивать конные бои на копьях и пиршества. Каждое такое братство давало себе наименование и придумывало эмблему, какую ему вздумается, и принимало к себе кого заблагорассудится. Некоторые состояли из одних только патрициев, другие же без различия пополнялись и патрициями и плебеями, — отсюда то кажущееся слияние сословий, которое еще и поныне наблюдаешь в Венеции. Старинные картины сохранили для нас изящные и причудливые костюмы «Веселого братства чулка»: один чулок красный, другой — белый, одежда разноцветная, яркая. На груди членов «Братства святого Марка» красовался золотой лев, на рукаве членов «Братства Феодосия» — серебряный крокодил, и т. д. и т. п. Валерио Дзуккато, известный своим изысканным вкусом и умением придумывать и выполнять такого рода вещи, распоряжался всем, что касалось украшений; и надо сказать, что в этом отношении «Братство Ящерицы» затмило все остальные. Он принял за эмблему быструю ящерицу потому, что все цехи художников и ремесленников, избранные представители которых вошли в братство, — зодчие, ваятели, мастера стеклянных изделий, мозаики и стенной живописи, — по самому роду своей работы привыкли взбираться наверх и даже в какой-то степени жить в висячем положении — на перегородках стен и на сводах. В день святого Марка 1570 года по Стрингу, а по другим авторам — 1574 года, огромная процессия прошла по площади святого Марка под навесами, выстроенными для этого случая в в виде аркад перед зданием Прокурации, такими низкими, что трудно было под ними пронести громадные золотые кресты, исполинские подсвечники, раки из ляпис-лазури, украшенные лилиями чеканного серебра, ковчеги с мощами, увенчанные пирамидами из драгоценных каменьев, — словом, всю эту пышную, разорительную утварь, до которой так алчны священнослужители и которой кичатся богачи горожане, члены корпораций. Как только процессию с религиозными песнопениями поглотили раскрытые двери базилики, а дети и бедняки бросились подбирать бесчисленные капли душистого воска, оброненные на мостовую тысячами свечей, и жадно искали, не попадется ли где-нибудь драгоценный камень, крупная жемчужина, выпавшая из церковных сокровищ, вдруг, словно по волшебству, посреди площади вырос обширный цирк. Он был окружен деревянным помостом, изящно украшенным пестрыми гирляндами и шелковыми тканями, — тут, под навесом из шелка, должны были сидеть дамы и, скрываясь от солнца, лицезреть состязания. На столбах, поддерживавших помост, развевались флажки, а на них виднелись надписи — любовные изречения на наивном и остроумном венецианском диалекте. Посредине возвышался высоченный столб в виде пальмового дерева, по стволу которого взбирались ящерицы — золотистые, серебристые, зеленые, голубые, полосатые, разнообразные до бесконечности, — целая туча ящериц; с вершины дерева к этой пестрой стае склонялся прекрасный белокрылый дух, простирая к ней руки и держа две короны. У подножия ствола, на помосте, затянутом темно-красным бархатом, под парчовым балдахином, расписанным замысловатыми арабесками, восседала царица праздника — ей предстояло раздавать призы, — маленькая Мария Робусти, дочь Тинторетто, прелестная девочка лет десяти — двенадцати, которую Валерио в шутку называл владычицей своих дум, — он нежно о ней заботился, обращаясь с ней с самой изысканной учтивостью. Она появилась, когда все места уже были заняты, и одета была наподобие ангелов Джанбеллино[100] на белую тунику была наброшена воздушная небесно-голубая ткань, виноградная веточка изящной гирляндой обвивала ее дивные белокурые волосы, уложенные толстым золотым жгутом, спускавшимся на ее белоснежную шею. Вел ее под руку мессер Оразио Вечеллио, сын Тициана; он был одет в восточном вкусе, ибо приехал с отцом из Византии. Он сел рядом с ней, и тут же расположилась целая свита молодых людей, выдающихся благодаря своим талантам или же знатному происхождению. Им отвели почетные места на ступенях помоста, на котором сидела Мария. Трибуны были заполнены самыми блестящими красавицами исопровождавшими их изящными кавалерами. На особой широкой площадке, обнесенной оградой, не погнушались занять места и знатные вельможи. Им подал пример дож: он явился вместе с герцогом Анжуйским, будущим королем Франции Генрихом III, в ту пору проездом бывшим в Венеции. Луиджи Мочениго (дож) счел своим долгом, так сказать, угостить его всеми красотами города и выставить напоказ перед французом, привыкшим к грубому веселью и диким празднествам сарматов[101], ослепительную роскошь и пленительную жизнерадостность прекрасной Венеции. Когда все уселись, взвился пурпурный занавес, и из шатра, до сих пор закрытого, вышли нарядные юноши из «Братства Ящерицы», построившись в каре во главе с музыкантами, одетыми в причудливые костюмы античных времен. В центре шел их предводитель — Валерио. Они приблизились в четком строю к дожу и сенаторам. Ряды расступились, и Валерио, взяв у знаменосца стяг из красного атласа, на котором поблескивала серебряная ящерица, вышел вперед и опустился на одно колено, приветствуя главу Венецианской республики. Когда появился молодой красавец, необычный и великолепный наряд которого подчеркивал изящество и стройность его стана, по площади пронесся шепот восхищения. Словно влитый сидел на нем зеленый бархатный камзол, широкие рукава были с разрезами, а стан его обхватил пояс из смирнской ткани золотистого цвета и усеянный шелковыми цветами восхитительных оттенков; на левом бедре красовался герб общества — ящерица, вышитая мелким жемчугом по темно-красному фону; перевязь, вся в фантастических узорах, была неподражаемым произведением искусства, а меч, усыпанный каменьями — подарок мессера Тициана, — был вывезен с Востока; чудесное белое перо, прикрепленное алмазным аграфом к берету, ниспадало сзади до пояса и плавно колыхалось при каждом движении юноши — так при каждом шаге то стелется, то взвивается царственный султан китайского фазана. На мгновение удовольствие от такого успеха и простодушная гордость молодости отразились на оживленном лице художника. Горящими глазами он оглядывал трибуны, подмечая прикованные к нему взгляды зрителей. Но вскоре эта мимолетная радость сменилась тревожным унынием; он с тоской кого-то искал глазами в толпе и не находил. Валерио подавил вздох, снова занял место в своем отряде и застыл, озабоченный, безучастный к общему веселью, глухой к праздничному шуму, с челом, омраченным темной тучей: Франческо обещал, что он сам преподнесет знамя дожу, но так и не явился.XIII
Блистательная вереница членов «Братства Ящерицы» три раза обошла вокруг цирка под оглушительные рукоплескания публики, восхищенной прекрасной осанкой и веселыми лицами молодых участников состязания. По уставу в общество принимались люди не ниже определенного роста, без всяких внешних изъянов, не старше сорока лет, из порядочных семейств и, конечно, без всех этих наследственных признаков вырождения, которые увековечивают, переходя из поколения в поколение, клеймо прирожденного порока под видом физического уродства. Каждый человек, вступавший в общество, должен был доказать, что он здоров, правдив, верен товарищам, и в день испытания его заставляли изрядно выпить. Валерио считал, что вино хорошему ремесленнику не пойдет во вред и что порядочному человеку нечего бояться ни за свое честное имя, ни за честное имя своих близких, если во хмелю он и пустится в откровенность. Любопытно привести кое-что из устава этого вакхического братства: «Не будет допущен тот, кто, выпив шесть мер кипрского вина, впадет в слабоумие». «Не будет допущен тот, кто, выпив седьмую меру, будет болтать во вред другу или собрату». «Не будет допущен тот, кто, выпив восьмую меру, предаст тайны своих любовных похождений». «Не будет допущен тот, кто, выпив девятую меру, выдаст тайну, которую доверил ему друг». «Не будет допущен тот, кто, выпив десятую меру, не сможет остановиться и отказаться от вина». В наше время трудно определить, какова была эта «мера» кипрского вина, но если судить по весу боевых доспехов, какие тогда носили в сражениях и поразительные образцы которых хранятся в музеях, то, надо полагать, эта мера отпугнула бы сейчас и самых заядлых пьяниц. Члены «Братства Ящерицы» были одеты под стать предводителю — в зеленые камзолы, белые облегающие рейтузы; однако их рубахи были из желтого шелка, перья — алые, гербовые щиты — черные с серебром. Когда они прошли по площади и все вдоволь налюбовались их костюмами и знаменами, они вернулись в шатер, и на арене появилось двадцать пар лошадей. Выводить на праздник этих благородных животных — роскошь, которую очень любили в Венеции. Лошадей превращали с помощью причудливых уборов в какие-то фантастические существа, словно воображение народа, не привыкшего их видеть, не могло удовлетвориться действительностью. Разрисовывались их попоны, приделывали им лисьи хвосты, хвосты быка или льва; на головы им нацепляли птичьи султаны, или золоченые рога, или маски каких-нибудь сказочных зверей. Лошади, которых вывело на арену «Братство Ящерицы», были прекрасны и не так нелепо выряжены, вопреки обычаю эпохи. Но все же некоторые из них были замаскированы под единорогов; длинный серебряный рог был прилажен ко лбу, у других на голове красовались блестящие драконы или чучела птиц; все были выкрашены в розовый, темно-синий, желто-зеленый или ярко-красный цвета; одни были в полосах, как зебры, или в пятнах, как пантеры, а иные сверкали золотой чешуей, словно большие морские рыбы. Каждая пара лошадей в одинаковой сбруе вступала на ристалище в сопровождении «арапчонка» — чернокожего мальчугана-раба, вычурно одетого, выступавшего между двумя прекрасными конями, которые грациозно делали полуоборот под звук фанфар и восторженные возгласы зрителей. И только Валерио, подчиняясь более строгому вкусу, появился на турецком коне, белом как снег и необыкновенной красоты. На нем был простой чепрак из тигровой шкуры и широкие серебряные ленты вместо поводьев; длинная шелковистая грива, перевитая серебряными нитями, была заплетена в косы, и с каждой косы свисал цветок граната из филигранного серебра восхитительной работы; копыта были высеребрены, а великолепный пышный хвост легонько обмахивал могучие бока. Как и его хозяин, конь был украшен гербом братства: на его левой ляжке с великой тщательностью была нарисована серебряная ящерица на темно-красном фоне; но так как этому коню выпала честь нести на себе вожака, он только и был украшен эмблемой. Валерио велел развести лошадей и остановился у подножия помоста, где сидела маленькая Мария Робусти. Он подбадривал десятерых своих веселых собратьев, готовых принять вызов: они вскочили на лошадей и выстроились по сторонам — пятеро справа, пятеро слева. Арапчата все еще прогуливали остальных десять лошадей вокруг арены, ожидая, что десять смельчаков, затерявшихся среди толпы, примут участие в конных состязаниях. Долго ждать не пришлось, и игры начались. Стремясь на скаку подхватить копьем кольцо, юноши то выигрывали, то теряли призы. С трибун выходили другие молодые люди, заменяя потерпевших поражение, а члены «Братства Ящерицы» тоже сменяли своих побежденных собратьев. Так некоторое время продолжались игры. Предводитель, сидя верхом на коне, руководил играми, появлялся то тут, то там и порой разговаривал с дорогой его сердцу маленькой Марией, которая тщетно умоляла его принять участие в состязании — ведь ей так хотелось, чтобы ему была присуждена высшая награда. Валерио всех превосходил в ловкости и умении, но не хотел выставлять себя напоказ; ему больше нравилось поощрять и подбадривать своих собратьев. К тому же он был опечален и рассеян — да неужели после того, как он доказал свою преданность брату, закончив его работу, тот оказался так непреклонен, что не пожелал присутствовать здесь даже как зритель? Но Валерио вышел из задумчивости, когда трое братьев Бьянкини спустились на арену и предложили помериться силами с самыми ловкими всадниками «Веселого братства». Доминик Бьянкини, по прозвищу Рыжий, был превосходным наездником. Он долго жил за пределами Венеции, в которой редко кто владеет искусством верховой езды; не все участники «Братства Ящерицы» были способны держаться в седле; только те, кто вырос в деревне или не был уроженцем города, умели держать в руках поводок и уверенно сидеть на коне, что куда менее спокойно, чем плыть в венецианской гондоле. Три самых опытных наездника вызвались дать отпор Бьянкини и были побеждены в первом же туре; трех других юношей постигла та же участь. Честь братства была в опасности. Валерио начал беспокоиться: ведь до сих пор его всадники брали верх над всеми молодыми горожанами и даже знатными синьорами, которые не гнушались соревноваться с ними. Однако на сердце у него было так тяжело, что он и не подумал принять вызов и сбить спесь с Бьянкини. Винченцо, приметив безучастность Валерио решил, что тот боится поражения, и крикнул ему зычным голосом: — Эй, монсеньер властитель ящериц, уж не превратились ли вы в черепаху? Или ни одному молодцу из вашей братии нас не одолеть? Валерио сделал знак: выехали Чеккато и Марини. — А вы, синьор Валерио, ваше ящеричное величество, — вмешался Доминик Рыжий, — не соблаговолите ли вы сами ответить и принять вызов такого неискусного противника, как я?! — Что ж, готов хоть сейчас, — ответил Валерио. — Только пусть ваши братья сначала попробуют помериться в ловкости с моими сотоварищами, и, если вы будете побеждены, я дам вам возможность отыграться. Два брата Бьянкини снова вышли победителями, и Валерио, решив не оставлять их в выгодном положении, пришпорил наконец своего скакуна и пустил его галопом. Фанфары разразились победными и радостными звуками, когда он с быстротой молнии сделал три круга по арене, не глядя на мишень, не поднимая руки. Но вдруг, хотя и казалось, что он думает о чем-то другом, он схватил пять колец с небрежным, презрительным видом. Бьянкини взяли пока всего четыре; к тому же они устали, да и поражение не могло их опозорить, так как до сих пор они были в выигрыше. Но Рыжий, воспользовавшийся недолгой передышкой и не принимавший участия в этом последнем испытании, сгорал желанием унизить Валерио. Он особенно стал ненавидеть Валерио с той поры, как тот воспротивился его приему в «Братство Ящерицы», ссылаясь на его отталкивающую, уродливую наружность. Винченцо, его старшего брата, также отвергли, потому что он некогда совершил преступление против чести и понес постыдное наказание. Только Джованни-Антонио допустили к испытаниям; но стоило ему выпить три меры вина, как он тут же, потеряв голову, стал осыпать оскорблениями многих уважаемых горожан. Итак, всех трех не приняли в «Веселое братство», что было весьма унизительно. Горя желанием отомстить, братья уверили Боцца, будто заранее было решено не принимать и его, так как он — человек безродный. И вот Доминик ринулся навстречу Валерио, который собирался вернуться на свое место, чтобы уступить место другому. — Вы обещали дать мне отыграться, мессер Ящерица, — крикнул Доминик, — или вы хотите выйти сухим из воды? Валерио обернулся, взглянув с презрительной усмешкой на Доминика, и вместо ответа выехал вместе с ним на арену. — Начинайте, раз вы в выигрыше, — проговорил Доминик язвительным тоном, — честь и место синьору. Валерио бросился вперед и взял четыре кольца, но с пятым случилось то, чего не бывало с юношей и на сотом: он уронил кольцо на землю. Произошло же это оттого, что он был взволнован — увидел отца, который внезапно появился на одной из соседних трибун. Старик Дзуккато, казалось, был озабочен. Он искал глазами Франческо, и суровый взгляд, брошенный на Валерио, словно вопрошал его, как некогда таинственный голос, вопрошавший Каина: «Что сделал ты со своим братом?» Бьянкини радостно закричали. Они уже вообразили, что брат отомстил за них; но самоуверенный Доминик поспешил, и это его подвело. Он не взял четвертого кольца. Победителем оказался Валерио. При других обстоятельствах такая победа не удовлетворила бы его самолюбия, но ему так хотелось поскорее закончить игры и отправиться на поиски брата, что, получив право на приз, он с облегчением вздохнул. Уже маленькие ручки Марии протягивали ему вышитый шарф, а он собирался под гром рукоплесканий соскочить с лошади, когда внезапно, словно из-под земли, на арене появился Бартоломео Боцца, одетый в черное, с орлиным пером на берете. Он вызвался поддержать партию Бьянкини. — С меня довольно, игра окончена, — сказал Валерио. — А с каких это пор, — крикнул Боцца резким и вызывающим тоном, — глава конных состязаний напоследок отступает, боясь потерять малозаслуженный приз? Согласно правилам честной игры, вы должны дать отыграться мессеру Доминику, ведь всем ясно, что он был рассеян в последнем туре, да и устал до крайности, не то что вы. Что ж, если вы не так пугливы и не так увертливы, как ящерица — ваша эмблема, — вы вступите в поединок со мной. — Я вступлю с вами в поединок, — гневно ответил Валерио, — но нынче вечером или завтра вам придется вступить со мной уже в нешуточный поединок, раз вы посмели таким тоном со мной разговаривать! Начинайте же. Уступаю вам очередь и даю три кольца вперед. — Ни в одном не нуждаюсь! — крикнул Боцца. — Лошадь мне, да побыстрей… Как, эту жалкую клячу! — заметил он, обращаясь к арапчонку, который подвел к нему взмыленного коня. — Неужели нет другой? Нет не такой усталой? С этими словами он вскочил на скакуна с удивительной легкостью, даже не коснувшись ногой стремени, поднял на дыбы и стал гарцевать. Смелость всадника склонила всех в его пользу. Затем, бросившись с быстротой молнии на ристалище, он надменно крикнул: — Я никогда не играю меньше чем на десять колец. — Пусть будет десять колец! — отвечал Валерио, и его встревоженный вид поколебал уверенность его сторонников. Боцца взял десять колец в один заезд; затем остановился, сильным и смелым приемом арабских наездников соскочил на землю с коня, вставшего на дыбы, и, швырнув кинжал на самую к середину арены, с небрежным видом подошел к Марии Робусти и простерся у ее ног, холодно и насмешливо глядя на соперника. Валерио, задетый за живое, почувствовал прилив мужества. Ему надо было взять одиннадцать колец, чтобы выиграть. Конечно, сделать это он мог, но играть таким образом не привык: больше пяти колец ставили редко, и, видно, Боцца долго упражнялся, если сразу добился такого успеха. Но презрение и гнев придали силы молодому художнику. Он помчался вперед и ловко снял девять колец. Вот он нацелился на десятое, но вдруг рука его дрогнула, он дал шпоры коню и заставил его ринуться в сторону: под этим предлогом можно было начать снова. — Что же ты? — раздался чей-то голос с соседней трибуны. То был голос старика Дзуккато; казалось, он говорил: «Ты теряешь время, Валерио, а твой брат в опасности». По крайней мере, слова эти послышались Валерио, ибо он был в каком-то умопомрачении. Он помчался вперед и взял десятое кольцо. Боцца побледнел. Еще одно кольцо — и он будет побежден. Наступило решительное мгновение. Валерио был явно взволнован, но гордость превозмогла тайный страх, и он бы непременно выиграл, если б Винченцо Бьянкини, который стоял поблизости, увидев, что победит Валерио, не крикнул: — Что ж, играй, выигрывай, радуйся, пресмыкающееся, скоро и ты вползешь под «Свинцовые кровли», к своему братцу! Валерио подхватил кольцо в тот миг, когда прозвучало последнее слово, но, смертельно побледнев, он его уронил. Со всех сторон раздалось гиканье: приятели и сторонники Бьянкини шумно выражали свою злобную и дикую радость. — Мой брат! Мой брат под «Свинцовыми кровлями»! — воскликнул Валерио. — Куда скрылся подлец, сказавший это? Кто видел моего брата? Кто скажет мне, где он? Но его возгласы потонули в шуме, порядок был нарушен. Боцца, получившего приз, с торжеством несли подмастерья братьев Бьянкини, к ним присоединилось целое шествие: недовольные, которых не приняли в «Веселое братство Ящерицы». Грубые насмешки, язвительные шутки неслись из этой шумной орды. Испуганные дамы жались к стенам подмостков, давая дорогу беспорядочной веренице людей. Члены «Веселого братства Ящерицы» обнажили шпаги, порываясь броситься на противника; их с трудом сдерживала вооруженная стража. Толпа расходилась, жалея красавца Валерио — почти все, и уж разумеется все женщины, ему живо сочувствовали. Маленькая Мария расплакалась и с досадой швырнула корону под ноги лошадям. А Валерио, забыв о своем поражении, вне себя от тревоги за брата, бежал наугад среди шума и суеты и взволнованно расспрашивал о Франческо всех, кто ему попадался навстречу.XIV
— О чем ты задумался, учитель? — говорил Чеккато, догоняя Валерио в толпе и хватая его за руку. — Неужели тебя так взволновали оскорбительные речи? Разве ты не видишь, что Бьянкини придумал эту злую шутку, чтобы ты не взял кольцо! Надо его за это наказать. И, если ты бросишь товарищей, если омрачишь праздник, покинув его, Бьянкини будут торжествовать. Ведь ясно, они всё это подстроили, желая отомстить за то, что их не приняли в братство. Да ну же, учитель, догоним нашу маленькую повелительницу и пройдемся с музыкой по набережной. Веселая наша братия не может гулять без своего вожака. В час вечерни мы поищем мессера Франческо. — Но где же он может быть? — спросил Валерио, сжимая руки. — Кто знает, по чьему наговору его бросили в тюрьму? — В тюрьму? Да это невозможно, учитель! По какому праву и под каким предлогом? Разве бросают людей в тюрьму по наговору первого встречного? — Однако брата здесь нет. Задержать его могла лишь очень важная причина. Он знает, что без него мне не до веселья, хоть он и не любит праздников, он должен был выказать внимание ко мне в награду за мою работу. А вдруг наши враги заманили его в ловушку и погубили! Винченцо Бьянкини на все способен. — Учитель, твой рассудок помрачился. Ради бога, вернись к нам! Видишь, наш отряд пришел в уныние, все расходятся! И, если мы нынче вечером во время регаты[102] не отыграемся, Бьянкини раструбят это на весь город, и во всей Венеции только и будет разговоров, что «Братство Ящерицы» потерпело провал. Валерио немного успокоился: может быть, Франческо пошел повидаться с отцом, а тот его задержал. Чудачества и строгость Себастьяно Дзуккато давали некоторое право так думать, а вспомнив недовольный взгляд отца, юноша готов был поверить, что старик нарочно пришел сюда, намереваясь побранить его, Валерио. Он попытался пробраться к отцу сквозь толпу, наперед зная, что придется снести язвительные насмешки, на которые старик был так щедр, несмотря на всю свою нежную любовь к сыновьям. Но разыскать отца не удалось. Кроме того, Валерио окружили раздосадованные товарищи и ему пришлось повести их на набережную канала святого Георгия, теперь называемую набережной Невольников, иначе все разбежались бы и праздник был бы совсем испорчен. Веселая музыка, шаловливый смех маленькой Марии, гордой тем, что четверо юношей несут ее в изящном паланкине, убранном цветами, флажками и по замыслу Валерио расписанном арабесками, восхищенные возгласы жителей лачуг и матросов в порту, толпившихся на берегу и на борту кораблей, стоявших на якоре, шум и смена впечатлений придали Валерио немного бодрости. В нем снова проснулась надежда, что во время мессы он отыщет Франческо. Уже раздались первые удары колокола, призывавшие к вечерней молитве, и празднество на время должно было приостановиться, как вдруг к ногам Валерио с крыши Дворца дожей упали ножны от кинжала. Похолодев от ужасного предчувствия, он схватил ножны и вытащил записку, нацарапанную кусочком угля, который, по счастью, нашелся в кармане Франческо. «Друзья, весело шагающие под звуки фанфар, передайте Валерио Дзуккато, что брат его под «Свинцовыми кровлями», он ждет…» На этих словах записка обрывалась. До Франческо, которому из темницы ничего не было видно, все отчетливее доносилась музыка, и он узнал в звуках гобоев любимый марш Валерио, — боясь опоздать, он не закончил свою мысль и бросил записку через щель, оставленную в стене над замурованными окнами, щель, образно называемую на языке каменщиков «отдушиной страдальцев». Громкий вопль вырвался из груди Валерио, и Франческо, несмотря на шумную музыку и топот толпы, услыхал душераздирающий крик: — Мой брат под «Свинцовыми кровлями»! Горе! Горе тем, кто его туда заточил! Валерио остановился, и такая вдруг в нем появилась сила, что сдвинуть его с места не удалось бы и целой армии. Внезапно остановилось и все «Веселое братство»: роковая весть пронеслась над рядами, и все вмиг разлетелись — одни бросились вслед за Валерио, который опрометью побежал под аркады дворца, другие поспешили на розыски Бьянкини, решив силой вырвать у злодеев признание во всех их кознях. Валерио бежал, не помня себя от гнева и тревоги, даже хорошенько не зная куда. Но вот, послушный какому-то безотчетному чувству, он бросился во двор дожеского дворца. Как раз в эту минуту дож в сопровождении герцога Анжуйского, прокураторов и членов совета поднимался по лестнице Гигантов. Валерио смело кинулся в самую середину блистательной толпы вельмож и, с силой пробив себе путь к дожу, упал к его ногам и даже уцепился за полу горностаевой мантии. — Что с тобой, дитя мое? — обернувшись, спросил дож благожелательным тоном. — Отчего на твоем прекрасном лице запечатлелось отчаяние?. Или кто-нибудь учинил несправедливость? В силах ли я поправить беду? — Светлейший, — воскликнул Валерио, поднося к губам полу дожеской мантии, — да, учинили невероятную несправедливость, и душа моя разрывается от горя. Старший мой брат, Франческо Дзуккато, лучший во всей Италии художник по мозаике, самый храбрый наездник и самый честный гражданин республики, отправлен под «Свинцовые кровли» без твоего повеления, без твоего согласия, и я взываю к справедливости. — Под «Свинцовые кровли»? Франческо Дзуккато! — воскликнул дож. — Да кто же мог так строго наказать столь доблестного молодого человека, столь славного художника? А если даже он и совершил проступок, заслуживающий наказания, почему не уведомили меня? Чье это повеление? Кто из вас, господа, даст мне в этом отчет? Никто не ответил. Снова заговорил Валерио: — Прокураторы, которым поручено следить за работой в базилике, должно быть, знают, об этом. Монсеньер Мелькиоре, казначей, уж наверняка знает. — Узнаю и я, Валерио, — ответил дож. — Поверь, справедливость восторжествует. Пропусти же нас. — Светлейший, ударь меня своей шпагой, если моя дерзость оскорбит тебя, — проговорил Валерио, не выпуская из рук мантию дожа, — но только выслушай жалобу вернейшего из твоих граждан. Франческо Дзуккато не мог совершить преступления. У него даже и в мыслях не бывает ничего дурного. Заключить его в тюрьму — значит нанести ему удар, от которого ему никогда не оправиться. Да и весть об этом за какой-нибудь час облетит весь город, — если ты не повелишь вернуть ему свободу и не позволишь показаться со своими товарищами перед народом — ведь все так удивлены, не видя его во главе шествия ремесленников. И вот что еще, светлейший, выслушай меня: Франческо хрупок, как тростинка. Если он проведёт больше суток под «Свинцовыми кровлями», ему уже никогда не выйти оттуда; ты потеряешь лучшего художника и лучшего гражданина республики, и знай, произойдет много бед, ибо я… — Замолчи, юнец! — строго прервал его дож. — Не угрожай, это безрассудно. Я не могу освободить узника без согласия сената, а сенат не даст согласия, не проверив, за какой проступок он понес наказание, ибо подозрение в тяжкой вине должно тяготеть над человеком, раз его заключили под «Свинцовые кровли». Обещаю тебе правый суд. Не сомневайся в отце республики, ко будь достоин его защиты, заслужи ее и веди себя благоразумно и осмотрительно. Только одно могу сделать, чтобы облегчить твою тревогу и тоску твоего брата: разрешаю тебе навещать его, а если он нездоров, ухаживать за ним. — Благодарю, светлейший, за соизволение, да славится твое имя! — проговорил Валерио, склонив голову и выпустив из рук полу мантии дожа, который продолжал свой путь. Перед Валерио остановился герцог Анжуйский и произнес с ласковой улыбкой: — Мужайся, молодой человек! Я напомню дожу, что он обещал произвести скорый и справедливый суд. И, если твой брат похож на тебя, не сомневаюсь, что он доблестный наездник и добрый гражданин. Знай, несмотря на твое поражение, я считаю тебя героем состязания. Мне по душе и твое красивое лицо и твои незаурядные таланты — я хочу привлечь тебя ко двору Франции, если благородная республика Венеция не будет нуждаться в твоих услугах. С этими словами он снял с себя драгоценную золотую цепь и надел ее на шею Валерио, попросив сохранить ее на память.XV
Валерио провели в темницу к брату два стражника, вооруженные алебардами. — И тебя тоже, — воскликнул Франческо, — злодеи схватили и тебя, бедный мой братец! К чему послужило тебе и отсутствие честолюбия и гордости? Святая простота! Они и тебя не пощадили. — Да я не задержан по воле злых людей, — ответил Валерио, сжимая брата в объятиях, — я здесь по собственной воле. Я тебя не оставлю, я разделю с тобой соломенную подстилку и черный хлеб. Но скажи, кто тебя бросил сюда и за что? — Не знаю, — отвечал Франческо. — Впрочем, меня это не удивляет, — разве мы не в Венеции? Валерио старался утешить брата, убедить его, что он заключен в тюрьму по недоразумению, что скоро его освободят. Но Франческо ответил с глубоким унынием: — Уже слишком поздно. Большего зла они мне не могли причинить. Они опозорили меня навеки. Не все ли для меня равно отныне, проведу ли я в этой ужасной темнице год или день? Ты думаешь, что нынешним бесконечным днем меня терзали зной или телесные страдания? Нет, я страдал от страшной душевной муки. Это я-то среди воров и обманщиков! Меня после стольких бессонных ночей, такого усердия и преданности, после такой добросовестной работы во славу моей родины должны были сегодня венчать хвалой, мои ученики должны были нести меня на руках под рукоплескания благодарного народа, а я заключен в тюрьму, как Винченцо Бьянкини, убийца и фальшивомонетчик! Вот плоды моих трудов, вот награда за мое мужество! Художник, будь добросовестен, проводи остаток тяжелой, полной опасностей жизни в заботах, удручающих душу и в изнурительном труде; откажись от соблазнов любви, от упоительных радостей, от сладостного отдыха весенними ночами — в тот день, когда ты рассчитываешь получить заслуженный венец, тебя заковывают в цепи, ты покрыт позором! А слепая, легковерная толпа, с таким трудом признающая правду, всегда открывает объятия клевете. Будь уверен, Валерио, сейчас люди, которые знают меня со дня моего рождения, знают, как я люблю свою работу, как ненавижу несправедливость и уважаю законы, эти люди, судящие о человеческой добропорядочности только по неудачам или по успехам, да, поверь мне, — они осудят меня, как только узнают, что я находился в тюрьме пусть даже десять минут. Достаточно людям знать, что я несчастен, и они будут считать меня виновным. Уже не будут отличать моего имени от имени Винченцо Бьянкини; оба мы были обвинены, и оба униженно склонили голову под «Свинцовыми кровлями». Быть может, я получу свободу, ибо я невиновен, но разве он, виновный, не получил свободу? Кто знает, не буду ли и я, как он, изгнан? Разве Венеция не изгоняет тех, на кого падает подозрение? А разве не падает подозрение на всех тех, кто ее изобличает? Валерио понимал, что у брата слишком много причин для печали и что, убеждая его примириться со своим положением, он только заставит его еще острее почувствовать, как сурова его участь, какими она чревата опасностями. Под вечер Валерио решил выйти за съестными припасами и плащом, но, когда он через дверное оконце позвал тюремщика, тот сказал, что приказано не выпускать его, и даже предъявил бумагу с печатью государственной инквизиции — приказ об аресте обоих братьев Дзуккато, хотя и без указания, за какую вину. Горестный крик вырвался из груди Франческо, когда он услышал об этом. — Это убьет меня! — воскликнул он. — Палачи! Неужели же они не могли расправиться со мной, не терзая моего брата? — Не жалей меня, — ответил Валерио, — в их воле было не позволить мне проводить дни и ночи подле тебя. Теперь я благодарен им — ведь я не покину тебя больше. Много дней, много ночей протекло с той поры, а братья Дзуккато все еще ничего не знали о своей судьбе; ничто не приносило облегчения их горю, их тревоге. Стояла невыносимая жара. В Венеции разразилась чума, воздух тюрем был заражен. Франческо лежал на пыльной соломе и, казалось, не испытывал страданий. Время от времени он протягивал руку, подносил к губам оловянную кружку и глотал солоноватую воду. Он был изнурен, пот струился по его щекам; он вытирал пылающее лицо рваной полотняной тряпицей, которую Валерио берег с величайшей заботой и ежедневно стирал, тратя половину своей ничтожной порции воды. Пожалуй, только эту услугу он и мог оказать своему несчастному брату. У Валерио ничего не осталось. Он отдал свой роскошный костюм за подушку, набитую соломой, и полог для брата. Он оставил себе несколько лоскутов, на которых еще блестело золото и вышивка, — они заменили ему одежду. Напрасно пытался Валерио отдать жемчуга, меч и золотую цепь тюремщикам и хоть немного смягчить тяжкий для Франческо режим — стража инквизиции была неподкупна. Валерио ничем не мог поддержать брата, зато он все время сидел, склонившись над ним. Он был выносливее, весь был поглощен страданиями Франческо и не чувствовал свои собственные муки; то и дело он переворачивал брата, лежавшего на жалкой подстилке, и обмахивал его большим пером, снятым с берета, щупал пульс на его пылающей руке и следил за его угасающим взором. Франческо больше не жаловался. Он потерял надежду. Иногда он на миг выходил из своего угнетенного состояния и пытался улыбнуться брату, сказать что-нибудь ласковое, но сейчас же снова впадал в какое-то страшное оцепенение. Однажды вечером Валерио, как всегда, сидел на полу, раскаленном от зноя. Отяжелевшая голова Франческо покоилась на его коленях. Безжалостное солнце садилось в море огня и отбрасывало зловещие отблески на багряные стены темницы — казалось, они беспрерывно поглощали и сохраняли навеки пламя пожара. Чума производила все больше и больше опустошений. Оживление и веселый шум блестящей Венеции уступили место молчанию смерти, — его прерывали лишь похоронный колокольный звон да отдаленное пение псалмов: какие-то благочестивые монахи выходили на канал проводить на кладбище лодку, полную трупов. Вдруг на графитный склон скалы, которая почти не пропускала воздуха в раскаленную камеру братьев Дзуккато, опустилась морская касатка. Черная ласточка с кроваво-алой грудкой резко и пронзительно кричала, в ней было что-то дикое и горделивое. Ласточка для Валерио была дурным предзнаменованием: казалось, она была чем-то встревожена. Несколько раз она призывно крикнула, созывая своих запоздалых спутниц, и взвилась в воздух с посвистом, хорошо знакомым венецианцам, — они всегда со страхом внимали крику ласточек. На этот зов птицы-кочевники слетались в ту пору, когда собирались умчаться в другое полушарие. Они улетали все вместе, и небо темнело от многочисленных стай, — в один день они все до единой исчезали. Отлет ласточек был сигналом истинного бедствия. Неуловимые насекомые — москиты, беспрерывное тонкое гудение которых раздражает, доводит людей до лихорадочного состояния, а укусы непереносимы, наполняют воздух. Теперь ласточки уже не будут преследовать их высоко в небе, и насекомые станут слетаться в дома, заражать воздух, отнимать сон у бедняков венецианцев — ведь у бедняков нет средств для спасения. Под «Свинцовыми кровлями», там, где тлетворный, отравленный чумой воздух словно впивался ядовитыми жалами, появление москитов (они появлялись сразу после скорпионов) казалось предвестником смерти Франческо. Его и так уже истомила горячка, но он все же отдыхал за короткие ночные часы, когда долетало до него дуновение свежего воздуха. Теперь он будет лишен и этого: ночною порой москиты проникают в жилища и в особенности туда, куда их привлекает теплое дыхание человека. Валерио с тоской прислушался. Донеслись пронзительные крики, тревожные пересвисты — ласточки торопливо призывали друг друга; — крики то удалялись, то приближались, то звучали слитно, — птицы словно совещались на крыше перед отлетом и посылали последнее душераздирающее «прости», будто последнее проклятие скорбному городу. Валерио припал к слуховому оконцу: ему было видно только небо. На неизмеримой высоте виднелись черные точки, но птицы уже не описывали больших правильных кругов, как во время охоты, а вытянулись по прямой линии — они все вместе улетали на восток. Ласточки покидали Венецию. Франческо услышал их прощальный крик и прочел на лице Валерио ужас. Когда страдание подавляет человека, он не представляет себе, что муки его могут усилиться, что неминуемы, неизбежны новые страдания, нет у него сил присоединять мысленно будущие беды к настоящим. И, когда беда приходит, он словно уничтожен непредвиденным. Сама смерть, эта неотвратимая развязка, этот закон жизни, почти всеми людьми воспринимается как несправедливость неба, как прихоть судьбы. — С завтрашнего дня, — проговорил Франческо слабым голосом, обращаясь к брату, — я уже не усну. Он вынес себе смертный приговор. Валерио все понял и припал головой к груди брата. Горькие слезы, которые он до сих пор мужественно сдерживал, жгучими потоками полились по его бледным, впалым щекам.XVI
Инквизиция обладала такой таинственной, такой неограниченной властью, было так опасно пытаться проникнуть в ее тайны, да и сделать это было так трудно, что спустя три дня после праздника святого Марка уже никто больше не говорил о Дзуккато. Слух об аресте Франческо быстро распространился, но растаял, как волна на пустынном и безмолвном песчаном берегу. И невысокий утес отбросил бы ее и вспенил, но песчаный берег, издавна сглаженный и опустошенный бурями, спокойно принимает волну, и силы оставляют ее, ибо нет там для нее пищи: такова была и Венеция. Тревожное возбуждение и естественное любопытство жителей стихали, как бессильная пенистая волна, разбившаяся о ступени Дворца дожей, где мрачные воды, омывавшие стены подземелья, ежечасно уносили кровь неизвестных мучеников, заточенных в глубоких недрах застенков. Кроме того, чума внесла во все души смятение и уныние. Работы приостановились, мастерские закрылись. Марини заболел чумой одним из первых и медленно выздоравливал. Чеккато потерял ребенка и ухаживал за умирающей женой. Ярость Бьянкини потускнела перед ужасом смерти. Боцца исчез. Старик Себастьяно Дзуккато удалился в деревню в день праздника святого Марка, сразу после окончания игрищ, в самом дурном расположении духа из-за того, что он называл сумасбродством и лжеславой своих сыновей. Он ничего не знал о беде и негодовал, не видя их, — ведь они обыкновенно смягчали его гнев своей почтительной предупредительностью. Чума немного поутихла, и тут старый Дзуккато вдруг испугался за жизнь сыновей. Приехав в Венецию, старик по-прежнему намеревался строго отчитать их, хотя был глубоко встревожен. Он понял, что не любить сыновей не может, и эта мысль его особенно раздражала. Однако не следует думать, что после сцены в соборе Себастьяно примирился с искусством мозаики. Он по-прежнему не терпел это «ремесло» и всех его приверженцев. Хоть он невольно и был захвачен той силой очарования, которая исходит от великих творений, покоряя артистические души, хоть он и прижимал сыновей к груди и проливал слезы умиления, он вовсе не отрешился от своего предубеждения — о превосходстве некоторых отраслей искусства. Если бы он даже захотел, он был бы не в силах на пороге смерти отказаться от понятий, которые упрямо пронес через всю жизнь. Его утешала лишь надежда, что, настанет время, Франческо откажется от низкого ремесла и вернется к мольберту. И вот, решив обратить его на путь истинный, старик пришел в базилику: он думал, что сын приступил к мозаике другого купола. Но базилика была обтянута черной тканью, похоронное пение гулко раздавалось под темными сводами; пламя свечей боролось с последними лучами заходящего солнца и бросало какой-то бледный, красноватый отблеск; и он был страшнее мрака. Воздавали последние почести двум сенаторам, умершим от чумы. Помост с гробами стоял под портиком, священники с явным ужасом торопливо совершали церковный обряд. Старик Дзуккато вздрогнул, увидев два гроба. Но вот он узнал имена умерших и успокоился. Он тотчас же вышел из церкви и опрометью бросился в мастерскую Валерио в Сан-Филиппо. Но там ему сказали, что ни Франческо, ни Валерио не появлялись со дня праздника святого Марка, и старик стал тщетно искать их повсюду, где они обыкновенно бывали. Наконец, измученный тревогой, он разыскал Чеккато. Выслушав мрачные предположения художника, убитого горем, старик подумал, что его сыновья умерли под «Свинцовыми кровлями» от тоски и болезни. Несколько минут он простоял неподвижно, поглощенный своими мыслями, смертельно побледнев. Наконец он на что-то решился и, не сказав ни слова Чеккато и его безутешной семье, отправился к прокуратору-казначею. Он и не собирался обвинять вельможу в беззаконном аресте его сыновей. Старик был покладист по натуре и считал, что подозревать в ошибке или предубеждении должностное лицо — значит не уважать закона. Он был недоволен сыновьями, готов был обвинить их и в лени и в том, что они заносчиво отвечали прокуратору, но хотел любой ценой узнать, что с ними стало. Итак, он смиренно подошел к толстяку прокуратору-казначею, который только и думал, как уберечься от чумы, и сейчас особенно был занят собственной особой. Его окружали пузырьки и всяческие благовония, очищающие воздух, которым он дышал. Старик поклонился ему с такой учтивостью, что Мелькиоре принял его, против обыкновения, довольно снисходительно. — Довольно, довольно, — сказал он, прикрывая нос большим платком, пропитанным соком можжевельника, и знаком приказывая Дзуккато держаться поодаль. — Ни шагу дальше, милейший! Не подходите так близко и задерживайте дыхание! Клянусь колпаком дожа, проклятые времена — не знаешь, с кем разговариваешь. А не больны ли вы? Ну-ну, что там у вас? — Ваша высокочтимая милость, — отвечал старик, втайне несколько уязвленный таким бесцеремонным приемом, — вы видите перед собой старосту цеха художников, мастера Себастьяно Дзуккато, своего смиренного раба, отца… — A-а, узнаю, — подхватил Мелькиоре, не двигаясь и делая только вид, будто хочет поднести дряблую руку к черной шелковой скуфейке, надвинутой на его приплюснутый, оплывший жиром затылок. — Утешительного мало, мессер Дзуккато. Вы человек честный, а вот сыновья у вас неслыханные мошенники. — Ваша милость! Это чересчур, хотя я не отрицаю, что сыновья мои порядочные сорванцы, очень легкомысленны, очень упрямы и заняты пустым, никчемным делом. Я знаю, они навлекли на себя немилость господ магистров и вашу в особенности. Я уверен, что они совершили какую-то серьезную ошибку, ибо ваше доброе отношение к ним сменилось строгостью. И я пришел не оправдывать их, но постараться смягчить вашу суровость и просить о милосердии. Прошу вас принять во внимание, что воздух заражен, стоит непогода, у моего старшего слабое здоровье — пребывание в тюрьме так пагубно отразится на нем, что сын мой навсегда запомнит наказание и исправится. — Ваш сын действительно болен, как мне говорили, — возразил прокуратор. — Но кто же не подвержен заразе! Я сам чувствую себя прескверно, и, если б не заботы моего лекаря, я бы погиб. Но необходимо беречься, очень беречься! Клянусь колпаком дожа! Я советую вам, господин Себастьяно, тоже беречься. — Ваша милость изволили сказать, что сын мой Франческо болен? — перебил его испуганный Себастьяно. — О, пусть это вас не тревожит: в тюрьме больных не больше, чем повсюду. Нам известно по точным подсчетам, что под «Свинцовыми кровлями» узников умирает не больше, чем в других тюрьмах республики. — Под «Свинцовыми кровлями», ваша милость? — воскликнул старик. — Ваша светлость сказали — под «Свинцовыми кровлями»? Неужели мои сыновья там? — Клянусь колпаком, да, там, и они не заслуживают меньшего за воровство и все свои жульнические проделки. — Бог ты мой! Монсеньер, вы просто решили меня припугнуть! — произнес старик Дзуккато твердым голосом, отступая на шаг. — Быть не может, что мои сыновья — узники «Свинцовых кровель». — Они именно там, повторяю, — отвечал прокуратор, — и я не выпущу их оттуда, пока не закончится расследование и не произойдет суд. Ими займутся, как только моровая язва утихнет. Но, клянусь колпаком дожа, боюсь, что им грозит участь похуже, ибо они преступники: расхищение общественной казны карается пожизненной ссылкой. — Что за дьявольщина! — крикнул старик, приблизившись к прокуратору. — Знайте же, мессер, те, кто это говорит, лгут, а те, кто упрятал моих сыновей под «Свинцовые кровли», поплатятся! Я этого не оставлю, пока есть во мне хоть капля сил! — Не приближайтесь! — завопил Мелькиоре, суетливо поднимаясь и отодвигая кресло. — Не дышите мне в лицо. Если вы заражены чумой, держите ее при себе и убирайтесь ко всем чертям со своими плутами сыновьями. Знайте — их повесят, если вы вмешаетесь, подняв вокруг их дела шум. Честное слово, все эти Дзуккато — неслыханные злодеи! Вы заражаете воздух, сударь! Вон отсюда! Говоря это, Мелькиоре пятился назад, а старик Дзуккато, неподвижно стоя на месте, смотрел на него таким взглядом, что тот леденел от ужаса. — Была бы у меня чума, — ответил старик с угрожающим видом, — я бы сжал в объятиях всех, кто говорит, что мои сыновья — воры. Надеюсь, эта мысль никогда никому не приходила в голову и что должностное лицо, с которым я имею честь разговаривать, сам болен и вне себя от нынешнего бедствия. Да, да, монсеньер, чума заставляет вас говорить, что Дзуккато расхищают общественную казну. Знайте же: Дзуккато — благородного рода, в их жилах течет кровь чище, чем та, что течет в жилах родственников дожа. Знайте, Франческо и Валерио можно погубить пытками, но обесчестить их нельзя. Ваша светлость хорошо сделает, если вызовет своего врача, ибо тлетворный яд распространился по его венам. С этими словами Себастьяно стремительно вышел из здания Прокурации и побежал во Дворец дожей. Мелькиоре в тревоге стал звонить в колокольчик, позвал лекаря, и всю ночь ему делали кровопускания, растирали его, пичкали всякими снадобьями, ибо он вообразил, что старик Дзуккато с помощью колдовства напустил на него чуму. Несколько раз он падал в обморок и чуть не умер от страха.XVII
Себастьяно Дзуккато бросился в ноги дожу, взывая к справедливости со всем красноречием отцовской любви и оскорбленной чести. Мочениго милостиво выслушал его и выказал ему знаки самого высокого уважения. Он посетовал, узнав о том, как долго подвергают мукам сыновей старика, и повелел перевести их в другую, не такую страшную тюрьму. Он даже разрешил старику Себастьяно видеться с ними ежедневно и окружить их отечески нежными заботами. Но дож не скрыл от него, что над братьями нависли самые тяжелые обвинения, а судебное разбирательство будет длительным и серьезным. Однако благодаря неусыпным хлопотам старика Дзуккато, влиянию Тициана, Тинторетто и других великих художников, стараниям всех друзей братьев Дзуккато, а также благосклонности дожа Совет Десяти, из-за чумы вот уже несколько месяцев прекративший свою деятельность, наконец собрался, и первым делом, назначенным на рассмотрение этого беспощадного судилища, был процесс братьев Дзуккато, обвиняемых: 1. В том, что они даром получали свое жалованье, выполняя работу наспех и небрежно; так, например, они работали в неположенное время года, то есть во время заморозков, когда мастика не держится, чтобы наверстать время, потраченное летом на прогулки, всякого рода развлечения и кутежи. 2. В том, что фигуры ими дурно вырисованы и диковинно раскрашены, потому что работали они главным образом по ночам, дабы наверстать время, упущенное из лени. 3. В том, что их работа никуда не годна, потому что они совершенно несведущи в ремесле, причем Валерио Дзуккато способен делать лишь одни побрякушки — украшения для дам и молодых людей, и таковые ребяческие безделки занимали его беспрерывно и даже стали для него выгодным промыслом в мастерской Сан-Филиппо, в то время как республика дорого платила ему за работу, которую он не выполнял и не мог выполнить. 4. В том, что, прибегнув к гнусному жульничеству, они во многих местах заменили смальту и камни деревом и картоном, разрисованными кистью, дабы показать, как тонка их работа, для которой непригоден материал, идущий на мозаику, и тем самым желая прослыть при жизни великими художниками, хотя работы их недолговечны. Материалы этого нелепого судебного процесса и поныне хранятся в архиве Дворца дожей, и синьор Кадри сделал из них точнейшие выписки, которые можно прочитать в статье «О мозаике» — он поместил ее в конце своего превосходного труда о венецианской живописи. Обвинителями были: прокуратор-казначей Мелькиоре, Бартоломео Боцца, трое Бьянкини, Джованни Византини и другие ученики школы Бьянкини и, наконец, Клод де Корреджио, органист собора святого Марка, который терпеть не мог шумливых подмастерьев и готов был равно показать и в пользу Дзуккато и против Бьянкини, лишь бы правительство, наскучив всеми этими дрязгами и хищениями казны, отказалось от разорительных работ по восстановлению мозаики; причем самым большим злом органист считал неумолчный шум, мешавший его ученикам заниматься церковным пением под звуки органа. Свидетелями в пользу Дзуккато были Тициан и его сын Оразио, Тинторетто, Паоло Веронезе, Марини, Чеккато и добродушный Альберто Дзио. Все они предстали перед Советом Десяти и восхваляли выдающийся талант, прекрасную мозаику, превосходное поведение, трудолюбие и безукоризненную честность братьев Дзуккато и их учеников. На суд были приведены и братья Дзуккато. Валерио обеими руками поддерживал своего дорогого брата, едва оправившегося после долгой и тяжелой болезни, слабого, удрученного, безразличного к тому, чем кончится испытание, которое он уже не в силах был выдержать. Валерио за это время побледнел и исхудал. Его снабдили одеждой, но длинная борода, спутанные волосы, неуверенная походка, судорожная дрожь, пробегавшая по его телу, — все это говорило о том, сколько довелось ему перенести страданий и невзгод. Он равнодушно принимал все беды, обрушившиеся на него самого, но негодовал на несправедливость, учиненную по отношению к брату, и наконец-то стал серьезно смотреть на жизнь. Гневом и ненавистью сверкал его взор. Мрачным огнем горели глаза, глубоко запавшие от голода, усталости и тревоги. Направляясь к скамье подсудимых и проходя мимо Бартоломео Боцца, он приподнял руки, закованные в кандалы, словно грозя его уничтожить. Лицо Валерио вспыхнуло от негодования, и было видно, что он готов стереть Боцца с лица земли. Стражники оттащили его, и он сел, не выпуская руку Франческо из своей холодной и дрожащей руки. — Франческо Дзуккато, — произнес судья, — вы обвиняетесь в том, что обворовывали и обманывали республику; что вы на это ответите? — Я отвечу, — сказал Франческо, — что с таким же успехом могу быть обвинен в убийстве и в отцеубийстве, если так будет угодно моим преследователям. — А я, — вскипев, крикнул Валерио и вскочил с места, — я отвечу, что над нами тяготеет ложное обвинение и что нас мучают целых три месяца под «Свинцовыми кровлями», где мой брат чуть не умер, а вся причина в том, что Бьянкини нас ненавидят, а Бонна, наш ученик, — негодяй; но главным образом в том, что прокуратор-казначей Мелькиоре допустил ошибку в латыни, а мы позволили себе ее исправить. Впервые так случилось, что два гражданина брошены под «Свинцовые кровли» за то, что не пожелали примириться с безграмотностью. Запальчивость молодого Дзуккато не понравилась судьям. Старый Дзуккато, видя, какое неблагоприятное впечатление произвели несдержанные слова Валерио, поднялся и сказал: — Замолчи, сын мой! Твои слова безумны и дерзки. Не так добропорядочный гражданин должен защищать себя перед отцами отечества. Монсеньеры, извините его заблуждение. Рассудок несчастных юношей помрачен горячкой. Вникните с присущей вам справедливой беспристрастностью в их дело и, если они виновны, покарайте их без снисхождения: их отец первый воздаст вам хвалу за справедливый приговор и благословит строгие законы, пресекающие обман. Да, да, если бы мне самому пришлось пролить их кровь, я бы это сделал, отцы мои, только бы не была поколеблена священная власть республики. Но если они невиновны, в чем я уверен, в чем я убежден, то, свершив скорый и правый суд, великодушно помилуйте их, ибо мой старший сын дышит на ладан, а младший, видите сами, — в бреду. Сказав это твердым голосом, старец упал на колени, и слезы в два ручья полились по его длинной седой бороде. — Себастьяно Дзуккато! — произнес судья. — Республика знает твою честность и преданность; ты говорил как добрый отец и добрый гражданин, но, если тебе больше нечего сказать в защиту своих сыновей, удались. По знаку судейского чиновника родственник, сопровождавший Себастьяно, помог ему выйти. Уходя, старик с отчаянием посмотрел на сыновей. Затем, обернувшись в последний раз к судьям, умоляюще сложил руки и возвел глаза к небу с таким горестным выражением, что, казалось, оно должно было растрогать и мраморные столбы огромного зала, но Совет Десяти был еще холоднее и еще непреклоннее. Когда трое Бьянкини клятвенно подтвердили свое обвинение, потребовали показаний и от Бартоломео Боцца. Положив руку на распятие, он произнес: — Клянусь именем Христа, что я провел под «Свинцовыми кровлями» три месяца за то, что не пожелал дать ложное свидетельство. Все собравшиеся вздрогнули от неожиданности. Мелькиоре нахмурил брови, Бьянкини Рыжий заскрежетал зубами, а юный Валерио порывисто вскочил и крикнул: — Да неужели это правда! Так, значит, ты достоин жалости и уважения! Ах, эта мысль облегчает все мои муки! — Замолчи, Валерио Дзуккато, — проговорил судья, — и не мешай говорить свидетелю. Бартоломео был так же удручен и так же болен, как и братья Дзуккато. Его тоже подвергли долгой пытке — неволе. Он сказал, что за несколько дней до праздника святого Марка Винченцо Бьянкини повел его на леса, где работали Дзуккато, заставил его рассмотреть вблизи их мозаику и ощупать ее в нескольких местах — там, где разрисованный картон явно заменял камни, а потом повел его к прокуратору-казначею, дабы Бартоломео засвидетельствовал это, что он и сделал в порыве гнева и искреннего негодования. С этого дня, убежденный в недобросовестности Дзуккато, он не пожелал быть соучастником дела, заслуживающего кары, и перешел в школу Бьянкини. Но вот накануне дня святого Марка Винченцо повел его еще раз к прокуратор и стал уговаривать дать показания, будто бы он — очевидец преступных деяний, в которых обвиняли братьев; но Боцца отказался, ибо, он не присутствовал при этом. — Если бы это было так, — продолжал он, — я не ждал бы предупреждений Бьянкини, а сам ушел бы из школы Дзуккато. Но я никогда ничего подобного не замечал. Ничто в поведении моих учителей не давало мне основания поверить в правдоподобие того, что я увидел. И я не мог поклясться именем Христа, будто видел, что они пускают в ход картон и кисть. Когда Винченцо Бьянкини убедился, что я не содействую его намерениям, он вознегодовал на меня и обвинил в сообщничестве с Дзуккато. Монсеньер Мелькиоре осыпал меня угрозами, и я в раздражении посоветовал ему не доверять Бьянкини. В тот же вечер меня задержали и препроводили под «Свинцовые кровли». С того дня я понял, что мои бывшие учителя ни в чем не повинны и что человек, способный вымогать ложную клятву, так же способен ночью, без ведома Дзуккато и всех остальных, разрушить часть их мозаики и заменить камни деревом и картоном, чтобы их погубить. Должен, однако, сказать, что эта подделка выполнена до того искусно, что, если ее не поскребешь, ничего и не приметишь. Так говорил Боцца, твердым голосом, со своим обычным болонским произношением, очень медленно и очень внятно. Когда от него потребовали, чтобы он рассказал о рассеянном образе жизни Валерио, он признал, что старший брат часто журил младшего за леность и мотовство, но Валерио тотчас же все наверстывал, работая ночи напролет, что ему и поставлено было в упрек обвинением, в котором утверждалось, будто его мозаика непрочна. Он заявил также, что Валерио не так сведущ в ремесле, как его брат, и занимался выделкой предметов роскоши, но в часы досуга. Словом, из свидетельских показаний Боцца было видно, что он не склонен добиваться расположения Дзуккато и не побоялся бы повредить им, говоря правду, но его ужасает клевета, к которой его хотели принудить Бьянкини, и он никогда не простит им того, что они бросили его в тюрьму. Совет закончил в этот вечер судебное заседание, назначив комиссию художников, которая должна была на глазах у прокураторов проверить работу двух соперничающих школ. Комиссия, состоявшая из Тициана, Тинторетто, Паоло Веронезе, Якопо Пистойя и Андреа Чьявоне, с той поры получила наименование «Medola»[103] благодаря той тщательности, с какой она «до мозга костей» изучала мозаику.XVIII
На другой день все эти знаменитые художники в сопровождении своих помощников, прокураторов и служителей святейшей инквизиции явились в собор святого Марка и приступили к изучению работ мастеров мозаики. Начали с изображения генеалогического древа богородицы — огромной работы, выполненной за очень короткий срок: о ней-то в первую очередь и говорилось в доносе Бьянкини. Ко всем порокам Винченцо присоединялось еще невыносимое честолюбие. Он жаждал похвал и неотступно следовал за Тицианом. Рядом с ним шел Доминик Рыжий. Однако Тициан от оценок уклонился. Он, как всегда, был остроумен и учтив, вникал во все внимательно, с интересом, но в вопросах, которые он задавал Бьянкини, нельзя было уловить его мнение — мнение знатока. Его любезность, милая улыбка являлись как бы разительным контрастом мрачному выражению лица Тинторетто и его суровому молчанию. Робусти не был так тесно связан с семейством Дзуккато, как Тициан, но негодовал он гораздо больше на злобные происки их соперников. Тициан сам всегда глубоко ненавидел, терпеть не мог своих противников, и поведение Бьянкини казалось ему если не простительным, то, во всяком случае, заслуживающим снисхождения — он принимал во внимание дух соперничества и честолюбия, царящий среди художников. Быть может, Тинторетто, размышляя о том, что ему самому приходилось сносить от Тициана, хотел косвенно упрекнуть его и выразить презрение к подобным поступкам. Он вышел из часовни святого Исидора, так и не промолвив ни слова и ни разу не взглянув на своих спутников. Но вот он вошел под главный купол и, увидев работу братьев Дзуккато, тотчас же рассыпался в похвалах. Его прекрасное строгое лицо оживилось, и он с благородным пылом стал говорить о совершенствах этого творения. Тициан, близкий друг старика Себастьяно, преподавший юным Дзуккато много превосходных уроков, присоединил свой голос к похвале, но отнюдь не в ущерб Бьянкини, с которыми по-прежнему держался весьма осторожно. Однако прокуратор-казначей, недовольный успехом братьев Дзуккато, прервал великих мастеров: — Должен предуведомить вас, что мы явились сюда не ради того, чтобы оценить работы живописцев, а саму мозаику. Государству мало дела до того, лучше или хуже выполнена рука богоматери, соблюдены ли все правила вашего искусства, а еще меньше дела ему до того, чуть ли пониже, чуть ли повыше икра на ноге святого Исидора. Все это годится для ваших споров… — Клянусь господом нашим богом, — воскликнул Тициан (слова этого неуча заставили его на мгновение забыть осмотрительность и учтивость), — государству, значит, нет дела до того, что мастера мозаики постигли рисунок, нет дела до того, что мозаика с полнейшей точностью передает прелесть творения, живописи! Ничего подобного я в жизни не слышал и, при всем своем уважении к суждению вашему, не могу с ним согласиться. Ничто так не раздражало прокуратора-казначея, как противоречие. — Ну, а я, мессер Тициан, — запальчиво воскликнул он, — я повторяю, что все это чепуха и ребячество. В мелкие ссоры между школами и в споры, ведущиеся в мастерских, высокий суд вмешиваться не собирается. Республика поручила прокураторам соблюдать ее интересы, следить за бережливостью, тщательно проверять все расходы, и они не потерпят, чтобы ради прихоти любителей живописи мастера, работающие в соборе святого Марка, пренебрегали своим долгом. — Вот уж не думал, — возразил Франческо Дзуккато слабым голосом, печально глядя на свои работы, — право, не думал, что я не выполняю своего долга, когда тщательно, насколько возможно тщательно выполнял рисунок моих фигур и по всей совести подчинялся законам моего искусства! — Я знаю не хуже вас, мессер, законы вашего искусства, — крикнул прокуратор, побагровев от злости. — Нечего уверять, что мастер мозаики — то же, что и живописец! Республика вам платит за то, что вы неукоснительно точно копируете картины художников, и если вы накладываете свои камешки на стену так, чтобы они прочно держались, если вы умеете выбирать хороший материал так, чтобы он подходил к вашей работе, то нечего вам соваться не в свое дело — законы живописи и рисунка вас не касаются. Клянусь колпаком дожа, если б вы были такими выдающимися живописцами, республика могла бы на вас кое-что сберечь. Не пришлось бы платить мессеру Вечеллио и мессеру Робусти за рисунки для ваших мозаик. Вам бы позволили самим придумывать композиции и сюжеты для ваших мозаичных работ. К сожалению, мы далеко не уверены в вашем мастерстве как живописцев и не можем положиться на вас. — Однако, монсеньер, — заметил Тициан, к которому вернулось спокойствие — он даже согнал презрительную усмешку с губ и любезно улыбнулся, — осмелюсь сказать, что тому, кто пожелает точно скопировать хороший рисунок, должно и самому быть хорошим рисовальщиком, а то можно было бы, пожалуй, поручить картоны Рафаэля первому попавшемуся школяру, достаточно было бы иметь перед глазами прекрасные модели для копирования, чтобы прослыть великим художником. Если ваша милость позволит мне высказать свое мнение со всем полнейшим моим уважением к вашим замечаниям, дело обстоит иначе. Правда, руководить людьми с мудрым величием или развлекать их своими пустяковыми творениями — не одно и то же. Ведь мы, жалкие ремесленники, попали бы в весьма затруднительное положение, если бы нам пришлось, как приходится вам, ваша милость, держать в твердой и благородной руке своей бразды правления государства, однако должен сказать… — Ты хочешь сказать, льстец, — сказал, смягчившись, прокуратор, — что в живописи и мозаике ты разбираешься лучше нас. Однако ты не станешь отрицать, что прочность — одно из непременных условий мозаичных работ, и если ты, скажем, вместо камня, мрамора и смальты пустишь в дело картон, дерево и масляную краску, то будешь принужден признаться, что деньги из казны республики не пошли по их истинному назначению. Тут Тициан несколько смешался: ведь он не знал, на чем основывали свое обвинение Бьянкини, и боялся повредить братьям Дзуккато необдуманным ответом. — Во всяком случае, я отрицаю, — ответил он после недолгого колебания, — что некоторая замена материалов является плодом махинаций, если доказано, как я полагаю, что в нескольких местах мозаики кисть сделала то, что можно сделать смальтой. — Вот это мы сейчас и увидим, мессер Вечеллио, — возразил прокуратор, — ибо мы не желаем подозревать вас в соучастии в этом деле. А ну-ка, принесите сюда песок и губки; клянусь колпаком дожа, а ну-ка, протрите покрепче все эти стены. Угасшие глаза Франческо вспыхнули, и он с ненавистью и презрением посмотрел на слово «saxis», заменившее варварское «saxibus». Казалось даже, если его осудят, обвинив в замене одной буквы другой, он утешится в надежде, что невежда прокуратор будет опозорен в глазах общественного мнения. Мелькиоре понял его, уловив его взгляд, и поспешил перевести внимание присутствующих на другие части свода. Мозаику братьев Дзуккато тщательно терли и мыли, но она выдержала испытание. Ни один кусочек не отвалился, все держалось прочно. Прокуратор-казначей начал было побаиваться, что слепая ненависть братьев Бьянкини и его, Мелькиоре, козни послужат, пожалуй, к его посрамлению, но в этот миг Винченцо Бьянкини подошел к двум архангелам — один из них был портретом Валерио, а другой — Франческо, и уверенно сказал: — Разумеется, дерево и раскрашенный картон могут устоять перед песком и мокрой губкой, но вряд ли они выдержат действие времени, и вот вам доказательство. С этими словами он вынул стилет и вонзил его в обнаженную грудь архангела, изображавшего Франческо Дзукката, в то место, где находилось сердце. От стены отвалился кусочек телесного цвета. Винченцо Бьянкини легко разрезал его надвое лезвием стилета и протянул прокураторам. Кусочек переходил из рук в руки, и сам Тициан вынужден был признать, что это дерево.XIX
Стражники снова отвели в тюрьму Франческо и Валерио, а спустя неделю они вновь предстали перед Советом Десяти. Им прочли вслух решение комиссии художников. Комиссия не стала указывать на вопиющие недостатки работы Бьянкини. Художники понимали, что оценивать эту работу с точки зрения подлинного искусства — значило привести в раздражение прокуратора-казначея, а так как дело братьев Дзуккато принимало Дурной оборот, то приходилось — этого требовала осторожность — не возбуждать ярости их преследователей; тем не менее художники расхвалили творение братьев Дзуккато и подтвердили, что мозаика, выполненная на куполе, отличается прочностью, за исключением двух не столь важных фигур, в которых братья заменили камень деревом. Тициан даже уверял, будто мозаика из крашеного дерева может противостоять действию времени лет пятьсот, а то и больше; и предсказания его сбылись, ибо эти изображения, возбудившие судебное дело против их творцов, живут и поныне — они так же прекрасны и так же прочны, как и все остальные части мозаики, покрывающей своды купола. Что касается младшего брата Дзуккато, которого обвинители ославили как человека бездарного и невежественного, то он вышел победителем, и художники объявили, что он не менее искусный мастер, чем его брат. После такого решения остался только один пункт обвинения: для изображения архангелов братья применили не тот материал, который обычно идет на мозаику. Франческо спросили, что он может сказать в свою защиту, и он ответил, что уже давным-давно убедился в преимуществе такой замены при выполнении некоторых деталей и хотел испытать прочность крашеного дерева на фигурах второстепенной важности, но обещает возместить все издержки, если прочность их не оправдает его ожиданий или если республика осудит его новшество. Однако совет, по-видимому, не желал принять это объяснение. Валерио, на которого посыпался град обвинений и угроз, не мог сдержать свое негодование. — Ну что же! — воскликнул он. — Узнайте же, если вам так угодно, тайну, которую хотел сохранить мой брат. Открывая ее вам, я отлично знаю, что навлеку ненависть и зависть не только наших нынешних, но и всех наших будущих соперников. Я знаю, что бездарные поденщики, корыстолюбивые ремесленники не желают признавать нас настоящими художниками. Я знаю, они стремятся свести искусство мозаики к простой работе каменщика и преследуют всякого, кто считает мозаику истинным искусством, обвиняя его в том, что он плохой товарищ и честолюбец, преследуют, повторяю, всякого, кто работает с вдохновением и ищет новых путей. Так вот, я восстаю против этой хулы; я утверждаю, что настоящий мастер мозаики должен быть и живописцем, и заявляю, что брат мой Франческо, ученик нашего отца и мессера Тициана, — великий художник, я докажу это — ведь обе фигуры архангелов, снискавшие похвалы комиссии знаменитых живописцев, назначенной Советом Десяти, были созданы моим братом: композиция, рисунок и краски — все принадлежит ему. Я же был его подручным и тщательно копировал его картоны. Пожалуй, мы совершили великое преступление, посвятив республике свое лучшее произведение, принеся ей этот тайный и безвозмездный дар со скромностью, приличествующей молодым художникам, с благоразумием, свойственным людям, поклоняющимся иному божеству, чем божество злата и почестей; но раз нас обвиняют в мошенничестве, мы вынуждены отказаться и от скромности и от благоразумия. Итак, мы спрашиваем вас, кто может доказать, что мы попытались ввести это новшество во все наши мозаики? А эта работа не была нам заказана и мы готовы снять ее со стен базилики, если власти сочтут, что ей не место рядом с работами братьев Бьянкини. Тогда проверили все заказы на различные композиции, созданные живописцами и предназначенные для мозаичных работ, но заказа на изображение двух архангелов так и не нашли. Прокуратор Мелькиоре заставил каждого из живописцев, членов комиссии, высказать свое мнение о художественных достоинствах этих фигур, придирчиво выпытывая, не принимал ли кто-нибудь из них участия в их создании. Все эти художники были наделены правами и властью, доверенными им государством, поэтому достаточно было найти простой набросок, сделанный ими, чтобы братья Дзуккато были обвинены в том, что они неточно выполнили замысел художника, что они ослушники и мошенники, что они самовольно использовали в своих работах материалы, не одобренные комиссией прокураторов. Художники клятвенно заверили, что никто из них и не помышлял об этих изображениях, и, к чести своей, подтвердили, что никогда не создавали ничего более изящного и более благородного. Тициана допрашивали дважды. Его дружба с семейством Дзуккато была известна; известна была и его хитрость и умение ловко уклоняться от вопросов, на которые он не желал отвечать. Его заставили сказать, не он ли создатель этих фигур, и он ответил с учтивостью: — Право, я бы хотел им быть, но по совести скажу, я и в глаза не видел рисунка и понятия о нем не имел, пока не разглядел его по обязанности члена комиссии. Братья Бьянкини показали, что братья Дзуккато не способны самостоятельно создать творение, удостоенное таких похвал. Несмотря на заверения всех художников, началось дознание; допросили Боцца, как бывшего ученика братьев Дзуккато, и он показал, что видел какого-то художника, который будто бы приложил руку к изображениям архангелов. Он заявил, что однажды видел, как мессер Оразио Вечеллио, сын Тициана, пришел ночью в мастерскую братьев Дзуккато, в ту пору, когда они там еще работали. Призвали к ответу Оразио, и он показал под присягой, что и в глаза не видел рисунков, а ночью пришел в мастерскую в предместье Сан-Филиппо просто для того, чтобы заказать Валерио браслет с мозаикой, который хотел преподнести одной красавице. Итак, все обвинения против братьев Дзуккато отпали. Их оправдали, но при одном условии: они должны были заменить за свой счет кусками из камня или смальты куски крашеного дерева кое-где на изображениях архангелов. Условие это было записано для одной видимости, чтобы не давать никакого повода для введения других новшеств. Никто даже не потребовал от братьев Дзуккато, чтобы они это выполнили, ибо фрагменты из крашеного дерева существуют и ныне. Только варварская латынь прокуратора-казначея была восстановлена в том первозданном виде, в каком была создана этим ученым мужем, а под изображением двух архангелов зритель читает другую, трогательную надпись, в которой сквозит намек на все те преследования, которым подверглись братья Дзуккато: «Ubi diligenter inspexeris artemque ac laborem Francisci et Valerii Zucati Venetorum fratrum agnoveris turn tandem judicato».[104]XX
Несмотря на счастливый исход судебного разбирательства, надо было приложить много усилий, чтобы счастье снова вернулось к братьям Дзуккато. Медленно восстанавливалось здоровье Франческо. Никаких новых работ мастерам мозаики республика не заказывала. Поговаривали о том, что сохранят всю старинную византийскую мозаику; нравы становились все строже, но, хотя мудрые законы против роскоши лишали радостных красок плащи щеголей и гондольеров, люди не столь серьезные из духа подражания по-прежнему одевались в длинные римские тоги и носили металлические и серебряные украшения. Все уста твердили лишь одно слово: «бережливость». Чума нанесла страшный урон торговле; а так как человеку свойственно быстро переходить из одной крайности в другую, то после разорительной роскоши и безрассудных трат впали в гнусную скаредность и занялись ребяческими преобразованиями. И на художниках отразились печальные следствия финансовой паники. Глупец прокуратор-казначей не являл собою исключения, а был представителем целого множества людей ограниченного ума. Франческо пребывал в глубоком унынии. Влюбленный в свое дело художник жаждал славы, мечтал о ней. Он служил своему искусству со всем пылом посвященного, всем ему жертвовал. И вместо награды его заточили в страшную тюрьму, ему угрожали неминуемой смертью, его подвергли постыдному судебному преследованию. В довершение всего достоинство его лучших работ оспаривалось. Люди посредственные по-своему расценивают невзгоды, посыпавшиеся на голову избранника: они всеми способами пытаются доказать их справедливость. Достаточно было найти маленький кусочек дерева на фигурах архангелов, созданных братьями Дзуккато, и молва решила, будто вся мозаика выполнена ими из дерева. Больше того: иные ханжи уже толковали о том, будто она сделана из бумаги, и, поверив, что мозаика непрочна, сочли бы себя плохими патриотами, если бы подняли взор и стали любоваться красотою творений братьев Дзуккато. Итак, молодой художник был ранен в самое сердце и мучился еще сильнее оттого, что старательно скрывал свою душевную рану; он слишком глубоко презирал невежественную толпу и не желал показать ей, что он побежден. Он забился в свою маленькую каморку в предместье Сан-Филиппо и погрузился в печальное раздумье. И лишь одно отвлекало его от унылых мыслей — длинные ветки плюща, обвивавшие стены домика и качавшиеся по воле легкого ветерка. Мирная картина особенно пленяла его после дней, проведенных под «Свинцовыми кровлями», где нечем было дышать и где он постепенно терял последние силы. В пору своей счастливой юности Валерио наделал много долгов, и теперь кредиторы не давали ему покоя. Франческо открыл этот секрет и потратил все свои сбережения на уплату долгов брата. Валерио узнал об этом лишь долгое время спустя. На душе у него и так было тяжело, а тут его еще начала мучить совесть; к тому же он все больше и больше тревожился о здоровье своего любимого брага. При одной мысли, что он может его потерять, Валерио оставляли душевные силы, он знал — такова была его натура, — что он с легкостью перенесет все тяготы жизни, но, потеряв брата, никогда не утешится. Он был не способен к грусти, был слишком силен, чтобы смириться с судьбой или же впасть в отчаяние; вспышки ярости сменялись у него радужными надеждами, и он тешил Франческо мечтами о славе и счастье, хотя для счастья Валерио меньше всего была нужна слава. Старик Себастьяно умолял сыновей взяться снова за кисть, отказаться от низкого ремесла мозаики, но Франческо после тяжкой неудачи не в силах был предаваться новым надеждам. Да и возможно ли было в тридцать лет переходить на новое поприще, — слишком уязвлена была его душа, слишком тяжелый недуг подтачивал его здоровье. Ко всем бедам присоединилась новая — тревога за друзей; он впал в немилость, и у Чеккато отняли звание мастера; и Чеккато и Марини влачили нищенское существование; а Франческо все продолжал свои тщетные хлопоты о том, чтобы ему заплатили за год работы. В финансовых делах, как и во всех делах Венецианской республики, в ту пору царил полнейший беспорядок. Все старания Франческо были бесполезны: ему обещали заплатить, но откладывали со дня на день. Здесь, очевидно, сыграла свою роль тайная ненависть прокуратора-казначея. Так он мстил за насмешки братьев Дзуккато, считая, что их слишком мало наказал Совет Десяти. Братья Дзуккато решили делиться последним куском хлеба со своими верными подмастерьями. Они кормили Марини, Чеккато, его молодую выздоравливающую жену и второго, оставшегося в живых ребенка. Валерио еще зарабатывал немного денег, продавая безделушки грекам, поселившимся в Венеции, но и этого источника дохода уже недоставало для такой многочисленной семьи, когда иссякли сбережения Франческо. Валерио горько упрекал себя за то, что сам не сделал никаких сбережений; слишком поздно он понял, что расточительность — это порок. «Да, да, — твердил он вздыхая, — человек, растрачивающий деньги, заработанные собственным трудом, на пустые удовольствия и глупую роскошь, не достоин иметь друзей, ибо он не сможет помочь им в тот день, когда с ними случится беда». И вот надо было видеть, с каким неутомимым рвением, как самоотверженно он заглаживал свои былые ошибки. Он разделил свой маленький дом на три части: мастерскую, столовую и комнату Франческо. Ночью он спал прямо на полу где-нибудь в уголке на циновке, чаще всего на балконе. Днем он усердно работал и учил мозаичным работам своих подмастерьев, ибо не терял надежды, что придет время, когда произведения искусства не будут считаться дорогими безделками. Он сам занимался хозяйством; иногда готовила обед жена Чеккато, но Валерио не позволял ей ходить за припасами и утомляться. Он сам отправлялся на овощной и на фруктовый рынки; обливаясь потом, быстро шагал по извилистым улочкам, прикрывая полою плаща корзину. Стоило ему встретиться с кем-нибудь из молодых патрициев, с которыми он прежде пировал и веселился, он тотчас же сворачивал в сторону, — он упорно скрывал от них свою нужду. Он боялся, как бы они не предложили ему денег, ибо от одной мысли об этом он чувствовал унижение. Он притворялся таким же веселым, как и прежде, но принужденный смех, побледневшее лицо, лихорадочный взгляд могли обмануть только черствые души или же людей, всецело поглощенных своими мыслями. Однажды Валерио шел по глухому, мрачному закоулку, что в Венеции служат для пешеходов и где не могут разойтись четверо, встретившись среди белого дня, и заметил у сырой стены нищего; ему, очевидно, было дурно, — казалось, он вот-вот упадет, хотя и пытается найти опору. Валерио подошел к нему и поддержал… Как же он был поражен, когда узнал в этом изголодавшемся нищем, одетом в лохмотья, своего бывшего ученика Бартоломео Боцца. — Так, значит, в Венеции есть художники еще более несчастные, чем я! — воскликнул он. Он влил в горло Боцца несколько капель вина, которое купил на рынке и нес с собой в корзине, потом дал ему винных ягод, и несчастный набросился на них с такой жадностью, что глотал вместе с кожицей. Но вот он немного насытился и только тут узнал человека, который ему помог. Слезы потоком полились из его глаз, но Валерио так никогда и не узнал, отчего он плакал — от стыда, угрызений совести или признательности, ибо Боцца не произнес ни слова и хотел было убежать, но добрый юноша удержал его. — Куда ты, несчастный! — сказал он. — Да разве ты не видишь, что сил в тебе совсем нет, пройдя несколько шагов, ты упадешь. Я тоже бедняк и не могу предложить тебе денег; пойдем со мной, старые друзья примут тебя с распростертыми объятиями, и, пока в домике предместья Сан-Филиппо будет мерка риса, ты с ними ее разделишь. Он повел его домой, и Боцца позволил увести себя, не выказывая ни радости, ни удивления.XXI
Франческо не мог сдержать невольное отвращение, когда перед ним появился Боцца: он знал, что хотя этот молодой человек и честен и не способен на низкий поступок, но не хранит в сердце добрых, благородных чувств. Невероятная гордость и неистребимое честолюбие заглушали в нем и нежность и дружеские чувства. Однако, узнав, в каком состоянии был Боцца, когда его нашел Валерио, Франческо поспешил принести ему башмаки и лучшее свое платье, меж тем как Валерио приготовлял ему сытный завтрак. С этой минуты он стал членом бедной семьи, которая еле сводила концы с концами и благодаря бережливости, аккуратности и трудолюбию пользовалась доброй славой в предместье Сан-Филиппо. Валерио не тяготили невзгоды, и, когда по вечерам он видел всех своих прежних учеников, собравшихся за скромным ужином, он, как и раньше, радовался всей душой и чувствовал себя счастливым. Тогда тревожный взор Франческо встречался с глазами Боцца, как всегда полными безразличия и презрения. Боцца не понимал героической самоотверженности Дзуккато. Ему не понять было всего их душевного величия, все их поступки он объяснял своекорыстием, желанием основать новую школу, извлечь выгоду из трудов подмастерьев, а для этого закабалить их, оказывая им услуги, чтобы они не могли перейти в другую школу. То, в чем его товарищи видели бескорыстное, доброе дело, он видел лишь хитрость. А между тем нужда становилась все безысходней. Дзуккато твердо решили терпеть самые тяжкие лишения, но не прибегать к помощи знаменитых мастеров, с которыми они были связаны дружбой. Состояние их отца было более чем скромно: из гордости он никогда не пользовался поддержкой своих сыновей, по его мнению попавших в унизительное положение. В дни благоденствия они отдавали старику часть своего жалованья. Тициану пришлось уговорить старика принимать помощь ст его, Тициана, имени, ибо он не соглашался получать деньги от сыновей. Теперь, когда братья Дзуккато не могли помогать отцу, Тициан продолжал — уже из своих денег — поддерживать старика, и благодарные сыновья скрывали от великого мастера свою нужду из боязни злоупотребить его великодушием. По счастью, о них заботился Тинторетто, хотя сам он в ту пору был весьма стеснен. Искусство, казалось, впало в немилость; сборы «братств» уменьшились, поговаривали о продаже всех картин, в скуолах хотели разделить вырученные деньги между бедными подмастерьями — членами корпораций. Патриции тайком приобретали предметы роскоши, пряча их в своих дворцах, стараясь уклониться от налогов в пользу неимущих сословий. И все же Тинторетто умудрялся помогать своим друзьям, попавшим в беду. Не говоря о том, что он без их ведома так устроил, что у них купили много украшений, он не переставая хлопотал, чтобы сенат дал им работу. В конце концов ему удалось доказать, что необходимы новые работы по восстановлению мозаики в базилике; часть внутренних стен, украшенных византийской мозаикой (и в наши дни видишь их в соборе святого Марка), можно было сохранить, но для этого мозаику нужно было целиком снять и снова набрать, на новом грунте. Другие же части мозаики восстановить было невозможно, и следовало их заменить новыми композициями, пока все не рассыпалось в прах. Но расходов потребовалось больше, чем предполагали раньше. Сенат повелел произвести эти работы и выдал определенную сумму денег, но решил сократить число мастеров мозаики и, чтобы прекратить всякое соперничество, назначить одного руководителя и одну школу. Руководителем должен был стать тот, кто выйдет победителем на конкурсе, в котором примут участие все мастера, работавшие перед этим в базилике, — тот, кого комиссия художников сочтет самым искусным. В школу должны быть набраны ученики не по выбору мастера, не по его склонностям и родственным связям, а по таланту, признанному комиссией. Для победителей будут установлены большой приз, второй приз и четыре похвальные грамоты. Количество мастеров будет ограничено шестью человеками. Комиссия была составлена из художников, проверявших работы Дзуккато и Бьянкини. Конкурс был открыт: предлагался сюжет мозаичной картины, изображающей святого Иеронима. Тинторетто пришел к Дзуккато и сообщил новость, вручив им сотню дукатов — долгожданное жалованье за год работы. Эта нежданная победа над злой и страшной судьбой вновь зажгла угасшую было энергию Франческо и Боцца, но различным образом: молодой мастер сжимал в объятиях брата и любезных его сердцу учеников, а Бартоломео с каким-то хищным, ликующим возгласом, напоминающим клекот морского орла, выбежал из мастерской и больше не появлялся. Он побежал к Бьянкини и рассказал обо всем. Боцца ненавидел и презирал Бьянкини, но работать с ними было ему выгодно. Ему было ясно, что то ли по пристрастию, то ли по справедливости, но работы Франческо и его учеников пройдут первыми по конкурсу. Бьянкини же были только подручными и, конечно, в предстоящих работах, предпринятых республикой, будут на вторых ролях. С другой стороны, Боцца знал, что слабое здоровье и недуг не позволят Франческо работать. Он предполагал, что Валерио сам возьмется за оба эскиза, которые будут даны Дзуккато, что приложат к ним руки и ученики. Срок был назначен короткий, и комиссия будет судить не только об искусстве участников конкурса, но и об умении быстро работать. В глубине души Боцца льстил себя надеждой, что может вступить в соперничество с Дзуккато. За последнее время, живя в Сан-Филиппо, он хорошо изучил рисунок и старался овладеть всеми тайнами красок и линий — Валерио, по своей простоте, многому его великодушно научил. Боцца надеялся превзойти Дзуккато, но понимал, что вряд ли вытеснит Франческо, чье имя уже было известно, меж тем как его, Боцца, имя еще никто не знал. Отстранить Франческо удастся, если прокураторы припугнут членов комиссии кознями и угрозами Мелькиоре. Прокураторы относились благосклонно к Бьянкини, которые низкопоклонничали перед ними, уверяя, что те понимают много больше в живописи и мозаике, чем Тициан и Тинторетто. Решив бороться против талантливых художников Дзуккато, Боцца не нашел ничего лучшего, как перейти на сторону Бьянкини. Он так и сделал. Он уверил Бьянкини, что они не обойдутся без него, поскольку совершенно не знают законов рисунка, и что их работы несомненно провалятся на конкурсе, если они не доверятся ему, Боцца. Его наглое самомнение ничуть не возмутило Бьянкини. Деньгами они дорожили больше, чем похвалой, а великие живописцы выказали им такое пренебрежение при последней проверке их работ, что они стали опасаться за свое будущее. Итак, они приняли предложение Боцца и даже согласились выдать ему вперед десять дукатов. Он тотчас же потратил половину денег на чудесную золотую цепь, которую и послал Дзуккато. Франческо надел ее брату на шею, так и не узнав, кто ее прислал. Все с жаром принялись за работу. Но Франческо, на миг загоревшись надеждой, не рассчитал сил и спустя несколько дней слег в лихорадке. Ему пришлось прервать работу и только следить, лежа в постели, за трудами своих учеников.XXII
Болезнь брата так встревожила Валерио, что он отказался от участия в конкурсе. Недуг у Франческо был тяжелый, и он с болью в душе смотрел на свою незавершенную работу, и от этого ему становилось хуже. Он огорчился еще больше, когда Нина, жена Чеккато, не подумав, сказала, что, проходя мимо мастерской Бьянкини, увидела Боцца. Услышав о черной неблагодарности Боцца, Франческо заплакал, вне себя от негодования, и это вызвало новый приступ лихорадки. Валерио, видя волнение брата, стал уверять, что Нина ошиблась. Он решил сам убедиться, что человек, с которым, несмотря на все раздоры, он делился последними крохами, оказался таким черствым себялюбцем. И вот Валерио отправился в Сан-Фантино, где находилась мастерская Бьянкини, и через полуоткрытую дверь заметил Боцца: он исправлял работу Антонио. Валерио позвал его и, отведя в сторону, стал горячо укорять за недостойное поведение. — В тот день, когда ты так внезапно убежал от нас, — говорил он, — я понял, что у тебя появился луч надежды на успех, старые друзья стали для тебя чужими. Я понял, что это эгоизм художника. Брат старался извинить тебя, говоря, что жажда славы — такая могучая страсть, перед которой все умолкает; но между эгоизмом и злой волей, между неблагодарностью и вероломством есть еще расстояние, и мне не верилось, что ты преодолел его так быстро. Благодарю вас! Вы мне преподали суровый урок и заставили усомниться в священной силе благодеяния. — Не говорите о благодеянии, мессер, — сухо ответил Боцца. — Я не принимал от вас благодеяний. Вы мне помогали в надежде, что я вам буду полезен. Но я не пожелал быть вам полезным и за ваши услуги уплатил: ценность моего подарка намного превосходит все ваши расходы. С этими словами Боцца указал глазами и пальцем на цепь, украшавшую грудь Валерио. Как только Валерио понял, о чем идет речь, он с такой силой рванул цепь, что она рассыпалась на множество колечек. — Да как вы могли, — крикнул Валерио,глотая слезы стыда и гнева, — да как посмели прислать мне подарок? — Так делается ежедневно, — ответил Боцца, — не отрицаю, вы были весьма любезны, подобрав меня на улице, и я даже признателен вам за то, что вы меня так цените, — ведь вы не по-: скупились и вместо задатка меня кормили. — Вот оно что! — промолвил Валерио, зажав разорванную цепь в дрожащей руке и устремив на Боцца глаза, сверкающие гневом. — Значит, вы принимали мою мастерскую за какую-то лавочку и воображали, что я кормлю подмастерьев, преследуя низкие цели? Так-то вы оценили мои жертвы, мою преданность несчастным собратьям по ремеслу! Значит, вы считали меня своим поваром, когда я готовил для вас завтрак, а вы работали? — Нет, не считал, — холодно отвечал Боцца, — я просто решил, что вы хотите удержать художника, чей талант признаете. Не желая зависеть от вас, я рассчитался с вами и сделал этот подарок. Разве так не водится? При этих словах взбешенный Валерио с силой швырнул цепь в лицо Боцца. Она чуть не поранила ему глаз — кровь так и хлынула ручьем. — За это оскорбление вы мне заплатите, — проговорил Боцца спокойно. — Я сейчас сдержался, но достаточно одного моего слова, и десяток кинжалов тотчас вонзится вам в грудь. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. — Не сомневаюсь, — ответил Валерио. И они расстались. Возвращаясь домой, Валерио повстречал Тинторетто и рас-! сказал ему обо всем, что произошло. Он сообщил и о болезни Франческо. Великий художник искренне огорчился; но, видя, что душу Валерио охватило уныние, он воздержался от тех обычных утешений, которые только растравляют горе людей с пылкой душой. Напротив, он сказал, что разделяет его тревогу за будущее, и добавил, что Бойца способен опередить его на конкурсе и так хорошо поставить дело в школе Бьянкини, что она, пожалуй, превзойдет школу Дзуккато. — Очень все это печально, — добавил он. — И вот люди, ничего не понимающие в искусстве, могут победить благодаря молодому человеку, который понимает не больше их. Слишком мало времени осталось: упорство и дерзость — а они часто заменяют гениальность — могут затмить самые выдающиеся таланты, невежество или плохой вкус могут увенчаться лаврами. Прощай искусство! Мы дожили до времен его упадка! — А может быть, зло не так неминуемо, дорогой учитель! — воскликнул Валерио, подзадоренный напускным унынием Тинторетто. — Хвала богу, конкурс еще не открыт и Боцца еще не создал своего великого творения. — Не скрою от тебя, — возразил Тинторетто, — начал он весьма удачно. Вчера, проходя мимо Сан-Фантино, я застал его за работой и, право, был удивлен, ибо не думал, что Боцца может сделать такой рисунок. У его молодого ученика Антонио есть способности, к тому же Бартоломео подправляет его этюд с такой тщательностью, что он будет безукоризнен. Боцца руководит также и двумя другими братьями, а Бьянкини такие точные копиисты, что при хорошем учителе они в состоянии создать хороший рисунок из инстинкта подражания, не зная законов рисунка. — Но ведь вы, учитель, — спросил Валерио, — не станете присуждать награду шарлатанам в ущерб истинным служителям искусства? И ведь мессер Тициан также не захочет этого? — Сын мой милый, в этой борьбе мы призваны судить не людей, а их произведения. Для полной беспристрастности, вероятно, имена не будут упоминаться. Ведь ты знаешь, что есть обычай оценивать работу, не видя подписи художника. Перед тем как представить работу, художник прикрывает свою подпись листом бумаги. Обычай этот — символ беспристрастия, которое подсказывает нам решение. Если Боцца превзойдет тебя, сердце мое обольется кровью, но уста произнесут правду. Если Бьянкини восторжествуют, — значит, клевета восторжествует над справедливостью, порок — над добродетелью. Но я не инквизитор, я всего лишь судья, оценивающий, лучше или хуже набраны кусочки смальты в мозаике. — Не знаю, право, учитель, — заметил слегка задетый Валерио, — почему вы решили, что вам не придется признать пальму первенства за школой Дзуккато. А ведь она в этом уверена. Никто не просит от вас преступной снисходительности! Мы этого не добиваемся, полагаем, что заслужим… — Ты приуныл, мой бедный Валерио, а меж тем тебе предстоит огромная работа, если твой брат не скоро поправится. По правде сказать, я за тебя тревожусь. Да и существует ли еще ваша школа, раз Франческо болен? Ты искусный мастер; ты одарен выдающимися способностями, и тебя посещает вдохновение, но ведь ты отворачиваешься от славы! Ведь ты равнодушен к рукоплесканиям толпы! Ты предпочитаешь развлечения или dolce far niente[105] титулам, богатству, похвалам! Ты необыкновенно одарен, молодой человек, твой талант мог бы восторжествовать над всеми, но не надо скрывать — ты не художник: ты презираешь борьбу, ты слишком бескорыстен, чтобы выйти на арену. Боцца — а у него сотая часть твоего гения — добьется всего благодаря своему тщеславию, настойчивости и душевной черствости. — Учитель, вы, вероятно, правы, — проговорил Валерио, выслушав эти слова с задумчивым видом. — Благодарю вас за то, что вы поведали мне о своих опасениях — их подсказала вам нежная заботливость, — и для них есть все основания, но мы еще посмотрим, учитель! Прощайте! С этими словами Валерио, по обычаю того времени и тон страны, поцеловал руку у художника и быстро пошел в Риальто.[106].XXIII
Валерио вихрем ворвался в мастерскую. В каком-то неистовстве бегал он по комнате, то громко говорил, то с глубокомысленным видом мурлыкал песенку, то нежным голосом произносил грубые слова, ломал инструменты, подтрунивал над учениками и вдруг, подойдя к постели брата, с горячностью поцеловал его и сказал не то полушутливо, не то восторженно: — Ну, будь спокоен, Чеко, ты поправишься, получишь первую премию, мы представим на конкурс совершеннейшее произведение искусства! Ну, ну, ничего не потеряно, муза пока еще не отлетела на небо. Франческо удивленно посмотрел на него. — Да что с тобой? — спросил он. — Ты говоришь какой-то вздор. Что произошло? Ты с кем-нибудь поссорился? Или повстречался с Бьянкини? — Объясни нам все, учитель, расскажи, что произошло? — добивался Марини. — Может быть, это касается того разговора, который я нечаянно услышал сегодня утром? Говорят, эскиз Боцца подвинулся и будет великолепен. Из-за этого ты и огорчен, учитель? Успокойся, мы постараемся… — Я огорчен? — воскликнул Валерио. — А с какой это поры я огорчаюсь, когда мои ученики отличаются? Да видели ли вы, чтобы я когда-нибудь огорчался или тревожился, если торжествовал другой художник? Правду говоря, разве я завистлив? — Откуда у тебя эта обидчивость, дорогой учитель? — спросил Чеккато. — Да разве у кого-либо из нас возникала когда-нибудь такая мысль? Но скажи нам, умоляем, правда ли, что Боцца сделал набросок замечательной композиции? — Без сомнения! — отвечал Валерио с улыбкой, сразу обретая свое обычное ровное и веселое настроение. — Он на это способен: ведь я научил его множеству отличных приемов. Но что с вами, почему вы приуныли? Вы все — словно плакучие ивы над иссякшим водоемом. Да что же случилось? Не забыла ли Нина об обеде? Или прокуратор-казначей заказал еще один варваризм?.. А ну-ка, дети мои, за работу! Нельзя терять ни дня, ни часа! Ну-ка, беритесь за инструменты! Где смальта? Где ящики? Превзойдите самих себя, ибо из рук Боцца выходит прекрасное творение, а нам надо сделать еще прекраснее! С этого мгновения в маленькой мастерской на Сан-Филиппо снова водворилась радость, снова закипела работа. Франческо, казалось, вернулся к жизни, видя в дружеских взорах проблеск надежды, свет вдохновенной радости, все то, что когда-то помогло создать дивные творения на сводах купола собора святого Марка. Если на миг сомнение омрачало молодые лица, словно свинцовый свод, нависший над улыбающимися кариатидами[107], Валерио шуткой прогонял их. Невероятное напряжение воли проявлялось лишь в его веселости, — казалось, он становился все веселее. Но в душе Валерио совершился целый переворот, он стал совсем иным. Он не заразился тщеславием, не стал завистлив до чужой славы, а с каким-то священным трепетом отдался своему искусству, и характер его стал серьезен, несмотря на кажущуюся веселость. Горе, которое внезапно обрушилось на самых дорогих его сердцу людей, закалило его, а суровые уроки жизни доказали ему, к чему приводит бесшабашность. Он также понял, отчего Франческо сразу впал в нужду после судебного процесса, несмотря на свою бережливость и строгий образ жизни. Обнаружив в сундуке брата расписки, полученные его заимодавцами, Валерио разрыдался, как блудный сын. И великие души совершают ошибки, но умеют их заглаживать, и этим отличаются их ошибки от ошибок обыкновенных людей. И с того дня Валерио даже в пору своего благоденствия никогда не преступал тех правил воздержанности и простоты, которые поклялся всегда соблюдать. Он так никому и не сказал ни слова об этом своем решении, но был самоотверженно предан брату, всю свою жизнь выказывал твердость духа и высокую нравственность при всех испытаниях. Безмятежная радость, веселое трудолюбие, песни и смех пробуждали дремлющее эхо в тесном помещении мастерской. Зима стояла суровая, но дров было достаточно — у каждого отныне было теплое платье из сукна, подбитого собольим мехом, и теплая бархатная шапочка. Здоровье Франческо восстанавливалось как по волшебству. Нина снова посвежела и похорошела. Она вынашивала под сердцем другого ребенка, и мысль о нем утешала ее в утрате первенца. Малыш, перенесший чуму, рос на глазах. Маленькая Мария Робусти, его крестная мать, часто приходила поиграть с ним в мастерскую Дзуккато. Прелестная девушка живо интересовалась работами своих молодых друзей и уже могла оценивать их по достоинству. Наконец знаменательный день наступил, и все мозаичные картины были отнесены в ризницу собора святого Марка, где собралась комиссия. Кроме уже названных мастеров живописи, в комиссию вошел и Сансовино. Валерио работал самозабвенно; его душу окрыляла живая надежда. На конкурс он пришел с той священной верой в себя, которая не исключает скромности. Он любил искусство ради него самого, был счастлив, что воплотил в нем свой замысел, и людская несправедливость не могла омрачить эту чистую радость. Его брат был сильно взволнован, но не испытывал ни ложного стыда, ни ненависти, ни зависти. Его прекрасное бледное лицо, его изящно очерченные дрожащие губы, застенчивый и вместе с тем гордый взгляд поразили художников — членов комиссии. Они хотели бы иметь возможность присудить ему премию; но их внимание тотчас же отвлек другой художник — он был так мертвенно-бледен, так дрожал, так судорожно изгибался, отвешивая боязливые и вместе с тем дерзкие поклоны, что они даже растерялись, ибо приняли его за сумасшедшего. Однако Боцца тут же опомнился и стал держаться со свойственным ему хладнокровием, хотя чувствовал, что может потерять сознание. Мастера мозаики ждали решения в соседней комнате, а мастера живописи приступили к осмотру их картин. Через час, — Боцца казалось, что он длился целый век, — их позвали. И Тинторетто, идя им навстречу, попросил всех присесть и хранить молчание. На его суровом лице ничего нельзя было прочесть. Соблюдать молчание было нетрудно: дыхание у всех было стеснено, горло сдавлено, сердце усиленно билось. Когда они расселись на скамьях, где им было указано, Тициан, как старейший, став близ картин, выставленных вдоль стены, громким и твердым голосом произнес следующее: — Мы — Вечеллио, по прозванию Тициан, Якопо Робусти, по прозванию Тинторетто, Якопо Сансовино, Якопо Пистойя, Андреа Скьявоне, Паоло Кальяри, по прозванию Веронезе, — все мы, мастера-живописцы, признанные сенатом и почтенной братской корпорацией живописцев, облеченные доверием славной республики Венеции и назначенные уважаемым Советом Десяти для исполнения обязанностей судей над работами, представленными на сей конкурс, с помощью бога, светоча разума и честности сердца, внимательно, добросовестно и беспристрастно рассмотрели вышеназванные работы и единогласно объявляем, что одна из них достойна быть признана первой по мастерству, ибо она превосходит все остальные вышеупомянутые творения. Мы установили номер «один» с печатью комитета на сей картине, творца коей мы пока не знаем, и честно выполнили свои обязанности под присягой, данной нами, — не читать подписи, пока не будет дана оценка всем произведениям. Сейчас она предстанет перед вашими и нашими взорами. А в это время Тинторетто сдернул с картины покрывало и снял бумагу, скрывавшую подпись. Радостный крик вырвался из груди Франческо. Картина, удостоенная первой премии, принадлежала его брату Валерио, который, даже веря в свой успех, рассчитывал получить лишь вторую премию. Валерио оцепенел и не смел радоваться, пока не убедился, что брат его счастлив. Картина, получившая вторую премию, принадлежала Франческо, третью — Боцца. Но, когда Тинторетто, приметив его волнение и пожалев его, обратился к нему, желая его обрадовать, ему пришлось трижды окликнуть его: Боцца не встал и не обнажил головы, как все остальные. Он не трогался с места. Скрестив руки на груди и прислонившись к стене, он опустил голову и спрятал лицо. Третья премия была ниже его достоинства. Зубы его были стиснуты, колени свела судорога, и после окончания конкурса его пришлось вынести на руках. Последние премии выпали на долю Чеккато, Антонио Бьянкини и Марини, Два других брата Бьянкини потерпели неудачу. Но республика позже дала им работу, когда стало известно, что мастеров мозаики слишком мало. Однако им было предложено работать в местах, где они не могли ни соприкасаться, ни соперничать с братьями Дзуккато, и их ненависть стала навсегда бессильной.XXIV
Прежде чем закрыть заседание, Тициан стал увещевать молодых лауреатов и просил их не считать, что они уже достигли совершенства, а призывал их дальше работать над моделями мастеров и над эскизами живописцев. — Пусть, — говорил он, — при виде блестящих камешков, четко пригнанных друг к другу, изображающих в грубых чертах сходство со священными образами, люди непонимающие будут склоняться; пусть люди предубежденные отрицают, что мозаика может достигнуть красоты фрески; пусть же те из вас, кто понимает, благодаря каким приемам они заслужили наше одобрение и превзошли своих соперников, по-прежнему стремятся к правде, к изучению природы; и пусть же те, кто впал в ошибки, работая не по правилам и без убеждения, воспользуются своим поражением и продолжают учиться. Никогда не поздно отказаться от неправильных приемов и наверстать потерянное время. И он подробно разобрал выставленные работы, указав на все их достоинства и недостатки. Особенно подробно он остановился на ошибках Боцца, воздав в то же время должное удачным деталям его произведения. Тициан критиковал черты лица святого Иеронима, которым Боцца придал неприятный характер, их жестокое выражение, приличествующее скорее лику языческого воина, чем лику святого, лишенный жизни, условный колорит, холодный, почти презрительный взгляд. — Лицо прекрасное, но это не лицо святого Иеронима. Тициан говорил также и о братьях Бьянкини и, стараясь смягчить горечь их неудачи, хвалил их работу с определенной точки зрения. Так как ему свойственно было лить больше меду, чем дегтя, то, одобрив материал, из которого была сделана их мозаика, он попытался похвалить и рисунок; но посреди не совсем убедительной фразы его речь прервал Тинторетто. Он произнес следующие слова, занесенные в протокол: «Io non ho fatto giudizio delie figare, ne della sua bonta, perche non mi e sta domanda»[108] В этот достопамятный день Тициан дал роскошный обед всем художникам — членам комиссии и всем мастерам мозаики, получившим премии. Мария Робусти явилась на пир в одеянии сивиллы[109] и Тициан сделал с нее в тот вечер набросок для прекрасной картины — голову девочки мадонны. Картина ныне находится в музее Венеции. Боцца так и не появлялся. Угощение было великолепное. Поднимались веселые тосты за здоровье лауреатов. Тициан с удивлением приглядывался к выражению лица и манерам Франческо. Он не понимал, как этот художник может не испытывать никакой зависти, а одну лишь нежность и преданную братскую любовь. Однако он знал, что Франческо не лишен честолюбия, но сердце Франческо было еще более возвышенно, чем его талант. Валерио был счастлив радостью брата. Он был так растроган, что порой ему становилось грустно. За десертом Мария Робусти провозгласила тост за здоровье Тициана, и Франческо тотчас же встал, подняв кубок с сияющим видом: — Я пью за своего учителя Валерио Дзуккато. Братья бросились друг другу в объятия, и слезы их смешались. Добряк Альберто, говорят, развеселился, выпив всего несколько глотков греческого вина, — остальные гости пили вино полными чашами. Он был так кроток, так ласков, что, опьянев, говорил только о том, как любит своих друзей, как ими восхищается. Старый Дзуккато пришел к концу обеда. Он был не в духе. — Тысяча благодарностей, маэстро, — ответил он Тициану, поднесшему ему кубок вина. — Неужели вы хотите, чтобы я пил в такой день? — А ведь это самый прекрасный день вашей жизни, дорогой кум! — заметил Тициан. — И разве по такому поводу не следует осушить кубок самосского вина со своими друзьями? — Нет, маэстро, — возразил старец, — плохой это день для меня. Ведь он навсегда свяжет моих сыновей с неблагородным ремеслом: отныне двум талантливейшим молодым художникам суждено выполнять работы, их недостойные. Покорно благодарю! Нет у меня оснований пить за это!.. Однако он смягчился, когда сыновья провозгласили тост за его здоровье. Тут к нему подошла Мария Робусти и, ласково погладив его седую бороду, вьющуюся кольцами, попросила великодушно простить ее жениха. — Как, прекрасное мое дитя, — воскликнул старик, — да разве шутка еще не забыта? — Это уже не шутка: на днях я устраиваю пир в честь обрученных, — ответил, улыбаясь, Тинторетто.
Послесловие
В декабре 1833 года знаменитая французская писательница Жорж Санд впервые приехала в Италию. Об этой поездке она уже давно мечтала и с юных лет начала изучать язык, литературу и искусство итальянского народа. Больше полугода Жорж Санд прожила в Венеции. Ее сразу очаровала своеобразная красота этого удивительного города, расположенного на сотне островов в обширной лагуне Адриатического моря, города, словно чудом поднявшегося из воды. «Венеция предстает взору путешественника, как волшебное видение», — писала Жорж Санд. Ее восхищало все — и величавая старина, и простота жизни среди тихих каналов и узеньких переулочков. Она осматривала картинные галереи, мраморные дворцы, храмы; каталась на легких лодках-гондолах; проводила долгие часы на шумной площади святого Марка, где всегда толпился народ. Жорж Санд полюбила Венецию, сроднилась с ее населением. «А какой здесь народ! — писала она. — Веселый, беспечный, остроумный, всегда с песней и шуткой на устах…» В те годы Венеция, как и многие другие города Италии, находилась под властью Австрии. Чужеземное владычество не могло подавить стремления к свободе в итальянском народе: мечта сбросить ненавистное иго жила в душах всех патриотов Венеции. Жорж Санд горячо им сочувствовала и глубоко скорбела об утраченной независимости прекрасного города. Она прониклась интересом к прошлому Венецианской республики, некогда богатой и сильной, и серьезно изучила ее полную бурных событий историю. Впечатления от недолгого пребывания в Италии были так ярки, что, вернувшись на родину, Жорж Санд за несколько лет написала целую серию так называемых «венецианских повестей» («Маттеа», 1835; «Альдини», 1837; «Орко», 1838; «Ускок», 1838, и др.) О них с большой похвалой отзывался великий русский критик В. Г. Белинский. Он писал, что «мастерские картины Италии», нарисованные Жорж Санд, дышат «глубокой мыслью и могучей жизнью»[110]. Одной из лучших «венецианских повестей» была повесть «Мастера мозаики», появившаяся в 1837 году. Но, прежде чем говорить об этой повести, познакомимся с самой писательницей. Ее настоящее имя Аврора Дюпен. Она родилась 5 июля 1804 года в Париже, в семье, не совсем обыкновенной по тем временам. Отец, блестящий офицер французской армии, происходил из старинного знатного рода, мать же была простой, малограмотной женщиной. Маленькая Аврора четырех лет уже сочиняла длинные сказки, немного позже — стихи и пьесы. Когда умер ее отец, бабушка-аристократка взяла девочку к себе. Детство и раннюю юность она провела в Ноане, имении бабушки, в живописном уголке Берри на севере Франции. На всю жизнь сохранила она память об этих годах. Она играла с деревенскими ребятишками, помогала пастухам пасти стада, слушала по вечерам деревенские были и небылицы. О старинных крестьянских обычаях и обрядах, о сказках, поверьях и легендах родной беррийской деревни Аврора Дюпен впоследствии с любовью рассказала в своих знаменитых «Сельских повестях». Когда ей исполнилось четырнадцать лет, бабушка отдала ее в закрытую школу при монастыре — так было принято в семьях французских дворян. Три года жизни в унылых монастырских стенах не погасили в Авроре ни живости характера, ни страсти к сочинительству, ни пытливости ума. В богатой библиотеке бабушки, куда она получила доступ по окончании школы, она смогла утолить пробудившуюся в ней жажду знаний. Множество книг прочитала она, но больше всего увлекали ее произведения французского вольнодумного писателя XVIII века Жан-Жака Руссо. Руссо научил ее любить и уважать человека, верить в его доброту, благородство, в его безграничные возможности творить прекрасную жизнь на земле; Руссо научил ее ненавидеть произвол и насилие — все, что мешает свободе и счастью людей. Авроре было всего восемнадцать лет, когда она вышла замуж за соседнего помещика — барона Дюдевана. Она, в сущности, мало знала его, и это замужество оказалось несчастливым. Недалекий, грубый, проникнутый дворянской спесью, лишенный умственных интересов, Дюдеван был чужим человеком Авроре. Прошло несколько лет, и в 1831 году она решила отказаться от богатства, от спокойной, обеспеченной жизни и уехала с крошечной дочкой Соланж в Париж, чтобы там жить собственным трудом. Она стойко и неутомимо боролась с нуждой — шила, разрисовывала табакерки, веера, занималась переводами, выполняла мелкие поручения для газет. Наконец она попытала свои силы в литературе. В 1832 году появился ее первый роман. Она подписала его вымышленным мужским именем — Жорж Санд — и под этим именем стала известна всему миру. С тех пор она всецело посвятила себя литературному творчеству. Каждый ее новый роман встречался с огромным интересом, ими зачитывались, они волновали, вызывали споры. Отзывчивая и чуткая, Жорж Санд откликалась на все происходившее в жизни. Она объявила войну устарелым сословным предрассудкам, семейному деспотизму, заступалась за угнетенных, обездоленных тружеников, обреченных на нищету и бесправие в буржуазно-дворянском обществе. В глазах передовых читателей Жорж Санд была защитницей прав человека. Любимыми героями Жорж Санд были люди из народной среды: в них она находила честность, благородство, талант. Жорж Санд много размышляла о задачах искусства, о долге и призвании художника (артиста, поэта, музыканта, живописца). Она мечтала об искусстве, связанном с жизнью народа. Художник, по мысли Жорж Санд, должен беззаветно служить искусству, не соблазняясь ни славой, ни богатством: он должен быть «голосом народа. Свои мысли об искусстве Жорж Санд полнее всего воплотила в одном из лучших своих романов — «Консуэло» (1842–1843). Большое сердце Жорж Санд, ее светлый ум, любовь к народу и возвышенный взгляд на искусство привлекли к ней симпатии великих ее русских современников — Белинского, Герцена, Тургенева, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и многих других писателей. Герцен постоянно вспоминал о Жорж Санд в своих произведениях, дневниках, письмах. Особенно он любил ее роман «Орас» (1842). Образы «лишних людей», созданные русскими писателями, в том числе и Герценом, во многом были похожи на героя «Ораса» — человека, у которого слово всегда расходилось с делом. Чернышевский часто перечитывал романы Жорж Санд, не расставался с ними и в Петропавловской крепости, куда его бросило царское правительство, хотел взять их с собой в ссылку в Сибирь, но ему не разрешили. С глубоким уважением относился к Жорж Санд Тургенев. «На мою долю выпало счастье личного знакомства с Жорж Санд, — писал он по поводу ее смерти в 1876 году. — Пожалуйста, не примите это уверение за общую фразу: кто мог видеть вблизи это редкое существо, тот действительно должен почесть себя счастливым». Последние годы жизни Жорж Санд провела все в том же поместье Ноан, в семье своего сына Мориса, воспитывая маленьких внучек, которых она страстно любила. Для них-то она и сочинила чудесные «Бабушкины сказки» (1872), в которых богатство фантазии писательницы сливалось с народной фантазией беррийских крестьян, чье устное творчество она внимательно изучала. В сказках Жорж Санд, занимательных и поэтичных, нет скучных наставлений, нет навязчивой морали, но они учат верить в победу доброго человеческого сердца над злом. Это свойство Жорж Санд как писательницы для детей очень ценил Герцен. По его настоянию впервые была переведена на русский язык ее сказка «Похождения Грибуля». Маленький мальчик, презираемый своими родителями и братьями, которые считали его чудаком, оттого что он был простодушен и кроток, сгорел на костре ради счастья людей. «Грибуль сгорел, — писал Герцен в предисловии к русскому переводу сказки, — от него осталась груда пепла, на верхушке которой вырос и распустился голубой цветочек. Награда за подвиги была не ему. Здоровее нравственности нельзя проповедовать детям». А в письме к своему двенадцатилетнему сыну Саше Герцен писал: «Вспомни маленького Грибуля: и он пострадал за правду и за желание, чтобы всем было хорошо. Те, которые гонят, осуждают за это, те хотят, чтобы только им было хорошо… Но быть Грибулем — не только выше, но и веселее. Помнишь, как он в тюрьме приручил мышей, лягушек и пел песни? На совести у него ничего не было, он сделал свое дело, а какой-нибудь Бурдон (то есть Шмель, злой персонаж сказки. М. Ч.), отравивший жизнь другим, мучится, завидует, боится, стыдится». Повесть «Мастера мозаики» Жорж Санд тоже предназначала для детей: она сочинила ее для своего сына Мориса, когда ему было тринадцать лет. Но эта повесть очень сильно отличалась от всего, что Жорж Санд писала для детей. В «Мастерах мозаики» ничего не выдумано — ни основные события, ни герои. Все они принадлежат истории. «Я хотела не только позабавить его (Мориса. — М. Ч.), но и сообщить ему некоторые знания, — писала Жорж Санд в предисловии ко второму изданию книги, в 1852 году, — и обратилась к реальному факту, известному в истории искусства. События из жизни мастеров мозаики собора святого Марка почти во всем достоверны. Я только кое-что приукрасила и развила характеры в направлении, подсказанном самой действительностью». Впервые о братьях Дзуккато Жорж Санд узнала из книги итальянского художника и архитектора XVI века Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Вазари очень кратко писал о судьбе венецианцев Франческо и Валерио Дзуккато, которые достигли высокого мастерства в искусстве мозаики и жестоко за это поплатились. Их обвинили в мошенничестве. Враги утверждали, что братья Дзуккато, стремясь подняться в своих работах до полотен прославленных венецианских живописцев, втайне пользовались красками и палитрой. Несчастных мастеров мозаики отдали под суд, их подвергли пыткам. Заинтересовавшись рассказом Вазари, Жорж Санд ознакомилась с материалами судебного процесса братьев Дзуккато, состоявшегося в 1563 году. Судебное расследование послужило к славе Франческо и Валерио Дзуккато. Влиятельная комиссия, составленная из величайших венецианских мастеров живописи — Тициана, Тинторетто, Веронезе, Пистойя и Скьявоне, — признала обвинение ложным, а противникам Дзуккато — мозаичистам братьям Бьянкини и Бартоломео Боцца — пришлось выслушать немало нелестного о своей работе. Вот те скупые сведения, которыми располагала Жорж Санд, создавая образы своих главных героев. Но, для того чтобы нарисовать картину жизни Венеции XVI века — эпоху, в которую действовали герои ее повести, — Жорж Санд понадобилось прочитать еще очень много книг, перелистать груды архивных документов. Много столетий гордая «царица Адриатики», как называли когда-то Венецианскую республику, была владычицей торговли между Востоком и странами Запада. Смелые венецианские купцы-мореплаватели проникали во все порты мира, непобедимый венецианский флот наводил страх на соседей, Венеция владела колониями на островах и побережье Средиземного моря, а с XV века подчинила себе многие города Северной Италии. Открытие Америки (1492) и морского пути в Индию (1498), переместившие торговые пути из Средиземного моря в Атлантический и Индийский океаны, неудачи в войнах с турками поколебали могущество Венецианской республики. Жорж Санд отмечает первые признаки экономического и политического упадка Венеции XVI века. «В финансовых делах, как и во всех делах Венецианской республики, в ту пору царил полнейший беспорядок», — пишет она в главе XX. Мрачной тенью легла на страну тайная деятельность вездесущей инквизиции. Но в руках венецианских патрициев и купечества сохранялись огромные, накопленные прежде богатства; ремесленное производство процветало. Иностранцев поражали великолепие быта венецианской знати, ослепительная роскошь костюмов, пышность государственных праздников, красота построек. Вся Италия в XVI веке переживала небывалый, могучий подъем искусства. То была эпоха Возрождения: искусство освобождалось от средневековой власти религиозных догматов. Художники по-прежнему обращались к евангельским и библейским сюжетам, но вносили в них земное, светское содержание. На первый план в искусстве выступал человек, его внутренний мир, его связь с природой. Венецианская школа живописи, сложившаяся еще в конце XV века, занимала центральное место в искусстве итальянского Возрождения. Тинторетто, Тициан, Веронезе и другие светила «великолепного созвездия» венецианских живописцев, изображая святых, писали их с простых людей, со своих живых современников, и создавали прекрасные человеческие образы. Жорж Санд с глубоким уважением и восторгом пишет об этих знаменитых художниках. Но все же не они — главные герои ее повести, не они занимают ее воображение. Точно так же и не парадная сторона жизни сказочно богатой Венецианской республики привлекает ее внимание. Красочный праздник в честь святого Марка, который она описала с таким превосходным знанием мельчайших деталей национального быта, — это праздник народный, праздник ремесленных цехов и религиозных братств, объединявших трудовой народ Венеции. Жорж Санд обратилась к жизни тогдашних ремесленных цехов, чтобы прославить искусство, создаваемое простым человеком, искусство, которое тогда еще не отделилось от ремесла. «История культуры рассказывает нам, что в средние века ремесленные коллективы каменщиков, плотников, резчиков по дереву, гончаров умели строить здания и делать вещи изумительной красоты, еще не превзойденной художниками-одиночками… «Маленькие» люди были великими мастерами — вот что говорят нам остатки старины в музеях и величественные храмы в старинных городах Европы», — писал Горький[111]. Вот искусство таких безыменных мастеров, безвестных тружеников, которым Венеция была обязана славой одного из самых красивых в мире городов, больше всего интересовало Жорж Санд. Не случайно она сделала героями своей повести мастеров мозаики. Мозаика — старинное декоративное искусство, известное еще грекам, римлянам и народам древнего Востока, — достигла высокого совершенства в Венеции XVI века. Искусство мозаики близко к живописи. Но если живописец пишет кистью, то мастер мозаики «набирает» изображение. Он складывает, тесно подгоняет друг к другу и скрепляет цементом или мастикой тысячи маленьких разноцветных кусочков камня, мрамора, стеклянных цветных сплавов (смальты) и делает это с такой точностью, что перед зрителем возникает картина, блещущая яркими, сочными красками. Большей частью мастера работали по картонам живо-! писца, точно повторяя его рисунок и краски. Мозаикой обычно украшали церкви и другие монументальные здания. В роскошный наряд многоцветной мозаики на золотом фоне был убран собор святого Марка: стены, своды, колонны — все было покрыто мозаикой. Мозаика необыкновенно прочна и способна сохранять краски на тысячелетия; издавна ее называли «вечной живописью». Жорж Санд вкладывает в уста Тинторетто, беседующего со стариком Дзуккато, похвальное слово мозаике. «Хвала мастеру мозаики — стражу и хранителю цвета!» — восклицает он. Однако Себастьяно Дзуккато презирает работу своих сыновей. Он видит в их деятельности нечто менее достойное, чем живопись. Действительно, в мозаике, требующей терпения, тщательности, точности и физических усилий, труд художника, создающего прекрасные изображения, еще был тесно слит с ручным трудом рабочего, ремесленника. Такая работа к тому же особенно нуждалась в коллективности, в дружеском согласии художника и его помощников, и это больше всего увлекало Жорж Санд. Мастерскую Франческо Дзуккато, где над мозаичными композициями вместе работали мастера, подмастерья и ученики, она нарисовала как прекрасный, идеальный коллектив, в котором царит товарищество, не знают соперничества, признают таланты и радуются успехам Друг друга. Валерио и Франческо Дзуккато изображены писательницей как настоящие люди своего времени — художники эпохи Возрождения. Они разрабатывают мрачные религиозные сюжеты, но стремятся внести в них дух радости и человечности. Фигуры на мозаике, созданной ими, легки и воздушны, лица исполнены душевной красоты. Особенной одухотворенностью наделили художники лики двух архангелов, которые так напоминали их собственные лица. В образы братьев Дзуккато Жорж Санд вложила свое представление о том, каким должен быть истинный художник. Валерио и Франческо очень разные люди по характеру, но они одинаково преданы искусству. Оба они прекрасны, великодушны, поэтичны, низкие помыслы чужды им. Жизнь их заполнена тяжелым трудом, непрерывными поисками новой композиции, новой, более совершенной техники. Им чинят препятствия, строят козни, на них клевещут, но они до конца сохраняют свою стойкость, свою чистоту. Они не приспособляются ни к чьим вкусам, они героически защищают свое искусство от нападок невежественных сановников, в чьих руках находится их судьба. Против человечных, талантливых братьев Дзуккато ополчаются подлые, грубые Бьянкини, которые сами не верят в художественные достоинства мозаики. Они вовлекают в свои бесчестные интриги Бартоломео Боцца, ученика Франческо Дзуккато. Боцца одарен, трудолюбив, по-своему даже честен. Но душа его омрачена завистью, злобой, и он не может подняться до совершенства в искусстве — его работы мертвы и холодны. Только художник с чистой душой способен творить вдохновенно — вот заветная мысль Жорж Санд. В повести много тонких, метких характеристик. С насмешкой и презрением рисует писательница образ невежественного прокуратора-казначея, облеченного высокой властью управлять искусством республики и ничего в этом искусстве не понимающего. Запомнит читатель и жестокого, трусливого Винченцо Бьянкини… Немногими штрихами Жорж Санд набрасывает живой портрет Тициана — умного, дипломатичного, осторожного. В противоположность ему Тинторетто угрюм и замкнут, но как он правдив и искренен! Много мыслей будит маленькая книжка Жорж Санд, рассказывающая о талантливых художниках, пролагавших новые пути в искусстве, — она зажигает стремлением к творчеству, верой в силу человеческой воли. М. ЧерневичЖорж Санд Мельник из Анжибо
Соланж ***[112] Дитя мое, поищем вместе.
День первый
I. Введение
На башне церкви святого Фомы Аквинского пробило час ночи, когда маленькая черная фигурка быстро проскользнула вдоль высокой стены, осененной деревьями пышного сада — одного из тех садов, что сохранились еще на левом берегу Сены и стоят ныне немалых денег ввиду своего расположения в центре столицы. Ночь была теплой и ясной. От цветущих дурманов исходил пряный аромат, и под блестящим глазом полной луны они казались большими белыми призраками. Широкое крыльцо особняка де Бланшемон отличалось старинным великолепием, а обширный, хорошо ухоженный сад придавал еще более богатый вид этому погруженному в безмолвие дому, ни одно из окон которого не было сейчас освещено. Яркое сияние луны несколько тревожило молодую женщину в трауре, которая пробиралась но самой темной из аллей к невысокой двери в конце стены. Но тем не менее она уверенно продолжала свой путь, ибо не в первый раз уже подобным образом рисковала своей репутацией ради чистой, безгрешной любви, на которую отныне приобрела неоспоримое право: месяц тому назад она овдовела. Воспользовавшись прикрытием, которое создавал густой ряд акаций, она бесшумно добралась до двери в стене, выходившей на узкую, безлюдную улочку. Почти тотчас дверь отворилась, и неслышными шагами в сад вступил тот, кому было назначено здесь свидание; затем он молча проследовал за своей возлюбленной к маленькой оранжерее, где они оба и укрылись, запершись изнутри. Но баронесса де Бланшемон, движимая безотчетной стыдливостью, извлекла из кармана изящную коробочку, обтянутую кожей русской выделки, выбила искру и зажгла стоявшую в углу свечу, по-видимому, нарочно припасенную заранее, а исполненный робости и почтения молодой человек простодушно помог ей осветить помещение. Для него было таким счастьем видеть ее! Окна теплицы были закрыты глухими деревянными ставнями. Принесенная из сада скамейка, несколько пустых ящиков да садовые орудия составляли всю меблировку, а свечка, воткнутая вместо канделябра в полуразбитый цветочный горшок, была единственным источником света в этом ныне заброшенном, а в былые времена уютном уголке, некогда служившем тайным убежищем для любовных утех какой-нибудь маркизы. Наследница этих маркиз, белокурая Марсель, была одета строго и просто, как и подобает добродетельной вдове. Украшали ее лишь прекрасные волосы, ниспадавшие золотистой волной на черную креповую косынку. Только маленькие алебастровой белизны ручки да ножки в атласных башмачках выдавали принадлежность их обладательницы к аристократическому сословию; по всем же остальным чертам ее облика ее можно было бы принять за ровню молодому человеку, стоявшему перед нею на коленях, — за парижскую гризетку, ибо есть гризетки, несущие на челе печать королевского достоинства и поистине святого простосердечия. У Анри Лемора было приятное лицо, скорее умное и одухотворенное, нежели красивое. Смуглое от природы, а сейчас к тому же очень бледное, оно казалось несколько угрюмым, и впечатление это еще усиливалось благодаря обрамляющим его густым темным волосам. Сразу можно было сказать, что этот молодой человек — истинный сын Парижа, не отличающийся крепкой конституцией, но сильный духом. Его платье, скромное и опрятное, свидетельствовало о незаметном общественном положении; довольно плохо повязанный галстук говорил либо о полном отсутствии франтовства, либо о постоянной озабоченности чем-то иным, более насущным; а уже одни коричневые перчатки позволяли с несомненностью заключить, что человек этот, как сказали бы лакеи из особняка де Бланшемон, не годится ни в мужья, ни в любовники для «госпожи». Молодые люди, но возрасту почти одногодки, знавали и раньше счастливые минуты встреч в этом павильоне в таинственные ночные часы; но на этот раз они не видались уже целый месяц: тяжкие переживания омрачили их любовь. Анри Лемор весь дрожал и словно утратил дар речи; Марсель де Бланшемон, казалось, совсем оцепенела от страха. Анри опустился перед Марсель на колени, но-видимому, желая поблагодарить ее за предоставленное ему последнее свидание, но, не произнеся ни слова, быстро поднялся; в его поведении ощущалась какая-то скованность, едва ли не холодность. — Наконец-то! — с усилием вымолвила она, протягивая ему руку, которую он тут же каким-то судорожным движением поднес к губам; черты его при этом, однако, и на мгновение не озарились радостью. «Он меня не любит больше», — подумала она, закрывая лицо обеими руками, и, охваченная безумным страхом, продолжала стоять в безмолвном оцепенении. — Наконец? — отозвался Лемор. — Вы, наверно, хотели сказать уже? Я должен был заставить себя ждать еще дольше, но не смог… Простите меня! — Я не понимаю вас! — воскликнула молодая вдова, бессильно роняя руки. Лемор увидел, что в глазах у нее блеснули слезы, и, ложно истолковав причину ее волнения, продолжал: — О да, я виноват перед вами! Видя, как вы страдаете, я понимаю, какие угрызения совести испытываете вы из-за меня. Прошедшие четыре недели показались мне столь долгими, что у меня не хватило мужества сказать себе: погоди, еще слишком рано! И потому сегодня утром, едва лишь написав вам письмо с просьбой разрешить мне увидеть вас, я сразу же раскаялся в этом поступке. Я устыдился собственного малодушия и принялся корить себя за то, что понуждаю вас заглушать в своей душе голос долга; когда же я получил ваш ответ, такой достойный и добросердечный, мне стало ясно, что лишь из жалости вы приглашаете меня к себе. — О Анри, как больно мне слышать от вас такие слова! Что это — игра или предлог, чтобы уйти? Зачем было просить меня о свидании, если вам оно не приносит счастья и если в вас так мало доверия ко мне? Молодого человека вновь пронизала дрожь, и, упав на колени, он воскликнул: — Лучше бы мне встретить высокомерие и упреки; ваша доброта убивает меня! — Анри, Анри, — вскричала Марсель, — значит, вы в чем-то виноваты передо мной! О, у вас вид преступника! Вы меня забыли или отреклись от меня — не иначе! — Ни то, ни другое невозможно, — возразил молодойчеловек, — на мое несчастье мне суждено до гроба почитать вас, поклоняться вам, верить в вас, как в бога, и не любить на всей земле никого, кроме вас одной! — Что ж! — откликнулась Марсель, охватив обеими руками темноволосую голову бедного Анри. — Не такая уж беда, что вы любите меня так сильно, — ведь и я люблю вас не меньше. Послушайте, Анри, теперь я свободна, и мне не в чем себя упрекнуть. Я отнюдь не желала смерти своему мужу, я была настолько далека от таких мыслей, что никогда не позволила себе задуматься над тем, как распорядилась бы я своей свободой, если бы она вдруг была мне возвращена. Вы же знаете, хотя мы никогда об этом не говорили, — вы не могли не знать, что я горячо люблю вас, однако сейчас впервые я так смело высказываю вам это! Ах, но как же вы бледны, мой друг! Руки совсем ледяные, и такой страдальческий вид! Вы пугаете меня! — Нет, нет, говорите, говорите еще, — молвил Лемор, подавленный нахлынувшими на него чувствами — сладостными и мучительными одновременно. — Так вот, — продолжала госпожа де Бланшемон, — моя совесть не может испытывать те сомнения и тревоги, от которых вы хотели бы уберечь меня. Когда мне принесли окровавленное тело моего мужа, убитого на дуэли из-за другой женщины, я, признаться, испытала потрясение и испуг. Сообщая вам об этом ужасном событии и прося вас некоторое время не появляться, я полагала, что исполняю этим свой долг. О, если преступлением было считать, что время это тянется бесконечно долго, то я за него достаточно наказана вашим беспрекословным послушанием! Но за минувший месяц, который я прожила уединенно, посвятив себя исключительно воспитанию сына и утешению родителей господина де Бланшемона, я хорошо разобралась в своем сердце и более не считаю себя столь уж виновной. Я не могла любить этого человека, никогда не любившего меня, и все, что я могла делать, — это оберегать его честь. Ныне, Анри, у меня нет перед его памятью иного долга, кроме обязанности выказывать внешние знаки уважения, дабы соблюдены были приличия. Я буду с вами видеться втайне и редко — ничего не поделаешь! — до окончания моего траура; а через год или, если не выйдет иначе, то через два… — Что, что будет через два года, Марсель? — Вы спрашиваете, кем будем мы друг для друга, Анри? Я же говорю, вы меня не любите больше! На этот упрек Анри даже не обратил внимания. Он так мало заслужил его! С жадностью внимая словам своей возлюбленной, он взмолился к ней, прося ее вести дальше свою речь. — Да, так вот, — снова заговорила она, покраснев, как целомудренная девушка, — разве вы не хотите жениться на мне, Анри? Анри упал головой на колени Марсель и несколько минут оставался недвижим, словно подломившись под бременем нахлынувших на него чувств радости и признательности; но затем он резко поднялся, и в чертах его отразилось безысходное отчаяние. — Разве печальный опыт вашего брака не был для вас достаточным уроком? — сказал он почти жестко. — Вы хотите снова подпасть под это иго? — Мне становится страшно от ваших слов, — испуганно помолчав, вымолвила госпожа де Бланшемон. — Вы ощущаете в себе задатки деспота или сами опасаетесь ига вечной верности? — Нет, нет, дело совсем не в том, — сокрушенно отвечал Лемор, — вам известно, чего я опасаюсь, чему я никак не могу подвергнуть вас и подвергнуться сам; но вы не хотите, не можете понять меня. Мы ведь уже столько говорили об этом, когда нам и в голову не приходило, что подобные споры в некий день приобретут для нас уже не общее, а совершенно личное значение и то, что мы обсуждаем, станет для меня вопросом жизни и смерти. — Неужели, Анри, вы до такой степени привержены к вашим утопическим фантазиям? Как? Даже любовь не в силах взять над ними верх? Ах, как плохо умеете вы любить, вы, мужчины! — добавила она с глубоким вздохом. — Не норок, так добродетель иссушает вам душу, и, как ни кинь, оказывается, что под влиянием низменных ли, возвышенных ли побуждений вы любите только самих себя. — Послушайте, Марсель, если бы месяц тому назад я потребовал, чтобы вы пренебрегли своими правилами, если бы моя любовь стала умолять вас о том, что в вашем представлении несовместимо с религией и нравственностью и что вы поэтому почли бы проступком чудовищным, непоправимым… — Вы от меня не требовали этого, — произнесла Марсель, покраснев. — Я так безмерно любил вас, что не мог потребовать, чтобы вы страдали и лили слезы из-за меня. Но если бы я поступил именно так, что тогда? Отвечайте, Марсель! — Вопрос ваш нескромен и неуместен, — избегая прямого ответа, сказала она с милой игривостью, давшейся ей сейчас не без труда. Ее грация и красота заставили Лемора затрепетать, и он страстно прижал Марсель к своему сердцу. Но, стряхнув с себя мгновенное опьянение, он отступил назад и, возбужденно шагая позади скамейки, на которой она сидела, заговорил снова изменившимся вдруг голосом: — А если бы сейчас я потребовал от вас этой жертвы, которая, ввиду смерти вашего мужа, была бы, конечно, уж не такой страшной… не такой ужасной… Госпожа де Бланшемон опять побледнела, лицо ее стало серьезным. — Анри, — ответила она, — я бы почувствовала большую обиду, была бы оскорблена до глубины души, приди вам в голову такая мысль сейчас, когда я предложила вам свою руку, которую вы, кажется, отказываетесь принять. — Я глубоко несчастен оттого, что не могу изъясниться так, чтобы вы меня верно поняли, и выгляжу каким-то ничтожеством, когда сам ощущаю в себе способность пожертвовать всем ради любви, — с горечью сказал он. — Эти слова, наверно, кажутся вам чересчур громкими и вот-вот вызовут у вас жалостливую улыбку. Но в них чистая правда; одному господу ведомы мои страдания… Они ужасны, я не знаю, хватит ли у меня сил терпеть их и дальше… И он разрыдался. Горе молодого человека было таким глубоким и искренним, что госпожа де Бланшемон испугалась не на шутку. Безудержные слезы Анри красноречивей всяких слов выражали решительный отказ от счастья, прощание навсегда с иллюзиями молодости и любви. — Мой дорогой Анри! — вскричала Марсель. — Почему вы хотите доставить горе и себе и мне? Почему вы в таком отчаянии, когда вам принадлежит право распоряжаться моей жизнью, когда ничто не мешает нам больше принадлежать друг другу перед богом и людьми? Не сын ли мой стоит между нами? Ужели вы сами не уверены в своем душевном благородстве и сомневаетесь, что сможете распространить на него чувство, которое питаете ко мне? Вы боитесь когда-нибудь упрекнуть себя в том, что из-за вас рожденное мною на свет дитя оказалось несчастным и заброшенным? — Ваш сын, ваш сын! — заговорил Анри сквозь рыдания. — Не того боюсь я, что он был бы мне немил. Куда страшнее то, что он был бы мне слишком дорог, и я не смог бы безучастно смотреть, как в суете мирской он вступает на стезю, противоположную моей. Почтенный обычай и общественное мнение потребовали бы, чтобы я отдал его свету, а я хотел бы вырвать его из этой среды даже ценой того, чтобы он стал несчастным, обездоленным бедняком, как я сам. Нет, я не мог бы быть по отношению к нему настолько равнодушным и черствым, чтобы согласиться сделать из него человека, во всем подобного людям его класса… Нет, нет!.. И это, и еще другое, и вообще все, при том различии, что существует между вашим и моим положением в обществе, является препятствием неодолимым. С какой стороны ни рассматриваю я такое будущее, я вижу в нем только бесконечную борьбу, несчастье для вас, проклятие себе!.. Это невозможно, Марсель, никогда не будет возможным! Я слишком сильно люблю вас, чтобы принять от вас жертву, которую вы хотите принести, не оценивая ее величины и не предвидя ее последствий. Нет, вы плохо знаете меня, Марсель. Я кажусь вам витающим в облаках, слабохарактерным мечтателем. Да, я мечтатель, но я упрям, и меня не свернуть с моего пути. Вы, возможно, не раз мысленно обвиняли меня в нарочитости моего поведения; вы полагали, что стоит вам сказать слово, и я сразу же обращусь на путь, который вы считаете истинным и разумным. О, я несчастнее, чем вы думаете, и люблю вас больше, чем вы можете сейчас себе представить. Потом… когда-нибудь потом вы будете в глубине души признательны мне За то, что я сумел быть несчастным один, без вас. — Потом? Но почему же? Когда? Что вы имеете в виду? — Потом, говорю я вам, потом, когда вы стряхнете с себя то наваждение, которому поддались мы оба, когда вы вернетесь в свет и вновь полной грудью вдохнете его легкий, сладостный дурман, когда, наконец, вы перестанете быть ангелом и спуститесь на землю. — Да, да, когда меня иссушит себялюбие и вконец испортит лесть! Вот что вы имеете в виду, вот какое вы мне предвещаете будущее! В своей безумной гордыне вы считаете меня неспособной подняться до ваших идей и понять вашу душу. Скажем прямо: я, по вашему мнению, недостойна вас, Анри! — Это ужасно — то, что вы говорите, Марсель, такая борьба между нами долее нестерпима. Позвольте мне удалиться прочь от ваших глаз, ибо сейчас мы не можем понять друг друга. — Итак, вы покидаете меня, Анри? — Нет, я не покидаю вас, я ухожу, для того чтобы вдали от вас созерцать ваш образ, который я уношу в своем сердце, и втайне поклоняться вам. Я буду страдать вечно, но буду питать надежду, что вы меня забудете, и, горько сожалея о том, что жаждал и добивался вашей любви, буду черпать утешение по крайней мере в том, что не совершил низости — не воспользовался вашим чувством ко мне вам во зло. Желая удержать Анри, госпожа де Бланшемон поднялась было с места, по силы оставили ее, и она снова рухнула на скамью. — Зачем же вы хотели встретиться со мной? — спросила она холодным и оскорбленным тоном, видя, что он совсем уже готов удалиться. — Да, да, вы вправе упрекать меня, — отвечал он. — Напоследок я снова смалодушничал; я чувствовал, что поступаю дурно, но не мог противиться желанию увидеть ту, кого люблю, еще один раз… Я надеялся, что за это время чувства переменились в вас; молчание ваше дало мне повод поверить, что так оно и произошло; горе растравляло мне душу, и я подумал, что, быть может, ваша холодность исцелит меня. Зачем я пришел? Зачем вы любите меня? Разве я не самый грубый, не самый неблагодарный, не самый неотесанный, не самый отвратительный из людей? Но пусть лучше именно таким я выгляжу в ваших глазах; по крайней мере вы будете знать, утратив меня, что вам не о чем сожалеть… Так будет лучше, не правда ли, и я хорошо сделал, что пришел? Анри говорил, словно в беспамятстве; его строгие, приятные черты исказились, голос, обычно глубокий и мягкий, стал хрипловатым и жестким, режущим слух. Марсель видела, что Анри страдает, но и сама страдала так тяжко, что не в силах была ни сделать, ни сказать что-либо, от чего обоим стало бы хоть немного легче. Бледная, сомкнув губы и сцепив пальцы рук, она застыла в одной позе, словно статуя. Дойдя до двери, Анри обернулся и, пораженный видом госпожи де Бланшемон, бросился к ее ногам, обливаясь слезами. — Прощай, — воскликнул он, — прекраснейшая и чистейшая из женщин, преданнейшая подруга, несравненная моя возлюбленная! Пусть встретится тебе в этом мире сердце, достойное твоего, человек, который будет тебя любить, как я, и не принесет тебе вместо свадебных даров отчаяние и ужас перед жизнью. Будь счастлива и твори добро, не зная борьбы с тяготами, которыми полна жизнь людей, подобных мне. Наконец, если в среде, что окружает тебя, не совсем еще умерли порядочность и человечность, то да будет тебе дано оживить их своим божественным дыханием и снискать спасение для того сословия, того общества, к которому ты принадлежишь и за которое одна лишь ты можешь предстательствовать перед господом. Произнеся эти слова, Анри Лемор ринулся прочь, уже не помня, что оставляет Марсель в отчаянии. Казалось, Эриннии преследуют его. Госпожа де Бланшемон некоторое время оставалась неподвижной: она словно окаменела. Когда же она вернулась в дом, то принялась медленно ходить взад и вперед по комнате и, пока не забрезжил рассвет, все шагала, не проронив за долгие часы ни слезинки и ни единым тяжким вздохом не потревожив безмолвие ночи. Было бы слишком смелым утверждать, что эта двадцатидвухлетняя вдова, красивая, богатая и заметная в свете благодаря своему обаянию, дарованиям и уму, не была уязвлена и даже до известной степени возмущена унизительным для себя отказом незнатного, небогатого и незаметного в обществе человека принять ее руку. По-видимому, на первых норах она черпала стойкость в своей оскорбленной гордости. Но вскоре присущее ей истинное благородство души навело ее на более серьезные размышления, и она впервые постаралась глубоко вглядеться в собственную жизнь и в жизнь окружающих ее людей. Она припомнила все, что Анри говорил ей прежде, в то время, когда они еще не могли и помышлять о счастливой любви. Ее удивило то, что она не принимала достаточно всерьез идей этого поистине ригористического молодого человека, считая их прекраснодушными фантазиями — не более. Теперь она судила о нем с тем спокойствием, к которому среди сердечных треволнений способны принудить себя люди возвышенного и сильного духа. По мере того как утекал один ночной час за другим, о чем среди тишины огромного спящего города возвещали серебристо-звонким мелодичным боем часы на далеких башнях, чуть запаздывая друг против друга и словно перекликаясь, на Марсель нисходило просветление, которое обычно наступает после долгого ночного бдения, заполненного раздумьями, и приносит облегчение страданий. Ей, воспитанной в правилах совсем иных, нежели те, коих придерживался Лемор, было, однако, как бы на роду написано ответить взаимностью на любовь этого плебея и найти в ней для себя убежище от бессодержательной жизни аристократического круга. Она была одной из тех нежных и одновременно героических душ, которые испытывают постоянную потребность преданно служить кому-нибудь и счастливы лишь тем счастьем, коим оделяют других. Не зная радости в семейной жизни, томясь в светском обществе, она с безоглядностью юной мечтательницы дала себя увлечь этому чувству, вскоре поглотившему ее целиком. В ранней юности она отличалась пылкой набожностью, а теперь отдала всю душу возлюбленному, который чтил ее строгую добродетель и преклонялся пред ее чистотой. Само благочестие Марсели окрасило восторженностью ее чувство к Анри, и из благочестия же она, став свободной, сразу пожелала освятить их любовь нерасторжимыми узами брака. Она была готова с радостью пожертвовать материальным благополучием, которое так высоко ценит свет, и пренебречь сословными предрассудками, которые, впрочем, никогда не накладывали печати на ее суждения о людях. Она полагала, бедняжка, что поступить так — значило сделать очень много, и в самом деле это было много, ибо свет осудил бы или осмеял ее. Ей и в голову не могло прийти, что все это будет значить еще очень мало и что гордый плебей отвергнет приносимую ему жертву, сочтя ее едва ли не оскорблением себе. Испуг, отчаяние, упорство Лемора заставили Марсель увидеть вещи в их истинном свете, и теперь, смятенная, она перебирала в памяти признаки общественного неблагополучия, которые ей доводилось замечать ранее. Для женщины нашего времени нет ничего недоступного в самых высоких сферах мысли. Каждая может ныне, в меру своего ума, не тщеславясь и не выглядя смешной, повседневно изучать во всех формах — будь то газета или роман, философия, политика или поэзия, официальная речь или частная беседа — великую книгу современной жизни, книгу печальную, запутанную, противоречивую и при всем том глубокую и многозначительную. Поэтому Марсель, как и все мы, знала, что отягощенное пережитками и страдающее многими болезнями настоящее с трудом высвобождается из цепких объятий прошлого и неохотно откликается на зов будущего. Она видела, что небо уже прорезают грозные молнии, и предчувствовала, что, раньше или позже, неизбежно грянет великая битва. Натура не из трусливых, она не зажмуривала глаз и смотрела вперед без боязни. Сожаления, жалобы, страхи и обиды старших успели надоесть ей ещё в раннем возрасте и навсегда отвратили ее от всякого страха! Тем, кто молод, не свойственно проклинать пору своего цветения, им дороги эти исполненные прелести годы, какими бы бурями они ни были чреваты. Нежная и храбрая Марсель говорила себе, что с милым не страшны ни гром, ни град: можно укрыться под первым попавшимся деревом и радоваться жизни. «Разорение, ссылка, тюрьма — да какое все это имеет значение? — Так говорила себе Марсель, в то время как все вокруг нее, люди, которых общество привыкло считать баловнями судьбы, пребывали в постоянном страхе. — Любовь сослать нельзя, а я к тому же люблю человека безродного и безвестного, которому ничто не угрожает». Одно лишь до тех пор не приходило ей в голову: что эта глухая, подспудная борьба, неутихающая, несмотря на репрессии властей[113] и видимые разочарования, вторгнется в область ее отношений с тем, кто был ею любим. Эта борьба несходных во всем воззрений и идей зашла ныне уже очень далеко, и Марсель тоже оказалась втянутой в нее; в одно мгновение ей пришлось расстаться с иллюзиями, словно ее внезапно пробудили от глубокого сна. Различные классы, которым присущи прямо противоположные верования и страсти, объявили друг другу войну в сфере интеллекта и нравственности, и Марсель встретила непримиримого врага в лице своего обожателя. Испугавшись вначале сделанного ею открытия, она постепенно свыклась с этой мыслью и, исходя из нее, стала придумывать новые планы, еще более благородные и утопические, нежели те, что она лелеяла весь предыдущий месяц. После долгого хождения по безлюдным, погруженным в безмолвие апартаментам она обрела спокойствие, приходящее обычно вслед за принятием решения, которое, впрочем, в данном случае было таким, что у всякого, кроме самой Марсели, вызвало бы улыбку, выражающую восхищение или жалость. Все это происходило совсем недавно, возможно, в прошлом году.II. Путешествие
Выйдя замуж за своего двоюродного брата, Марсель по-сила в браке ту же фамилию, что и в девичестве — де Бланшемон. Земли и замок рода де Бланшемон составляли часть ее наследственного имущества. Земельные угодья были значительными, но в замке, сто лет назад брошенном его хозяевами и переданном арендаторам, теперь не жил никто, ибо он мог в любую минуту обвалиться, а восстановление его требовало больших расходов. Мадемуазель де Бланшемон рано осиротела, воспитание получила в одном из монастырей Парижа и в очень юном возрасте была выдана замуж; супруг не посвящал ее в вопросы управления имуществом; в результате ей ни разу не довелось побывать в своем родовом поместье. Вознамерясь покинуть Париж и отправиться в сельскую местность, чтобы там приноровиться к какому-то другому образу жизни, согласующемуся с теми планами, которые она замыслила, Марсель решила для начала посетить поместье Бланшемон, где предполагала впоследствии поселиться, если это место будет отвечать ее новым требованиям. Она не была в неведении относительно того, что замок обветшал и пришел в запустение, но именно поэтому он представлялся ей особенно подходящим для нее в будущем. Затруднения в ее имущественных делах, оставленные мужем, а также беспорядок, в котором, по-видимому, находилась его собственная часть состояния, послужили ей предлогом для того, чтобы предпринять путешествие, якобы рассчитанное на несколько недель, не более, но на самом деле, как знала только она сама, не имеющее определенной цели и не ограниченное никаким сроком, ибо подлинной ее целью было покинуть Париж, где она вынуждена была вести опостылевший ей образ жизни. Намерениям Марсели благоприятствовало то, что в ее семье не было никого, кто мог бы навязаться ей в провожатые. Так как она была единственной дочерью у своих родителей, ей не приходилось обороняться от попечительства сестры или старшего брата. Родители мужа, оба уже в преклонном возрасте, были несколько обескуражены долгами покойного, разделаться с которыми можно было, только выказав мудрую распорядительность, поэтому они удивились, но и обрадовались решению своей двадцатидвухлетней невестки взять на себя управление своими делами (к чему она прежде не проявляла ни способностей, ни вкуса) и самой поехать на место, чтобы лично обревизовать свои владения. Все же были выдвинуты некоторые возражения против того, чтобы она пустилась в путь одна с ребенком, и высказано пожелание дать ей в спутники ее поверенного в делах. На это Марсель возразила старикам Бланшемонам, своим свекру и свекрови, что общество старого законника едва ли облегчит ей тяготы предстоящего долгого пути, что провинциальные нотариусы и адвокаты снабдят ее более точными сведениями и подадут ей советы, более приспособленные к местным условиям, и что, наконец, не так уж трудно будет свести счеты с арендаторами и возобновить контракты. А если говорить о ребенке, то от парижского воздуха он чахнет прямо на глазах. Деревенская природа, движение, солнце — все это будет ему только на пользу. Затем Марсель, с невесть откуда взявшейся ловкостью преодолевая препятствия, впрочем, предвиденные и обдуманные ею во время бессонной ночи, которую мы описали в предыдущей главе, особо подчеркнула обязательства, лежащие на ней, как на опекунше своего сына. Ей еще не совсем ясно, в каком состоянии находится наследство господина де Бланшемона: много ли было уже раньше забрано вперед в счет арендной платы; не слишком ли велики ссуды, полученные под залог земель, и т. п. Ее долг — поехать и разобраться во всем этом самой, не полагаясь ни на кого, чтобы знать, какие расходы она сможет позволить себе в дальнейшем, не ставя под угрозу будущее сына. Она так рассудительно толковала об этих материальных интересах, по существу весьма мало занимавших ее, что вечером того же дня одержала полную победу: семейство одобрило и похвалило ее решение. Любовь к Анри оставалась глубоко скрытой в сердце Марсели, и даже тень подозрения не мелькнула у вполне доверявших ей стариков. Возбужденная непривычной для нее напряженно:: деятельностью и разгоравшейся ярким пламенем надеждой, Марсель спала в эту ночь ненамного лучше, чем в предыдущую, когда состоялось ее свидание с Лемором. Ей снились странные сны, то радостные, то мучительные. На рассвете она окончательно пробудилась и, окинув рассеянным взором обстановку своей спальни, вдруг была поражена тем, сколько вокруг нагромождено непомерной роскоши: атласные шпалеры, на редкость мягкие и удобные кресла и диваны, множество изысканных, но разорительных мелочей, множество сверкающих безделушек, в общем — все то убранство из фарфора, резьбы по дереву, позолоты и других прихотливых украшений всякого рода, что заполняют ныне комнаты каждой дамы, принадлежащей к высшему обществу. «Хотела бы я знать, — подумала Марсель, — почему мы так презираем содержанок. Они вымогают для себя лишь то же самое, что мы приобретаем за свои деньги. Они жертвуют своей добродетелью, чтобы обладать всеми этими вещами, которые не должны, казалось бы, иметь никакой цены в глазах серьезных и благоразумных женщин, и, однако, нами тоже признаются за необходимые. Их вкусы ничем не отличаются от наших, и они идут на унижения только ради того, чтобы казаться такими же богатыми и счастливыми, как мы. Нам следовало бы показать им пример жизни простой и скромной, прежде чем осуждать их! И если сравнить наши нерасторжимые браки с их недолговечными связями, то намного ли больше бескорыстия обнаружится у барышень из нашего сословия? Разве в нашем кругу не столь же часто, как среди продажных женщин, можно увидеть совсем юное создание, соединенное со старцем, красоту, оскверненную уродством порока, ум в подчинении у глупости, — и все это ради брильянтового убора, кареты и ложи в Итальянской опере? Бедняжки! Говорят, что они, со своей стороны, тоже презирают нас; они совершенно правы!» Тем временем голубоватый свет занимавшегося утра, проникая сквозь занавеси, придавал какой-то волшебный вид этому святилищу, убранство которого в прежние времена было любовно и с отменным вкусом подобрано самой госпожою де Бланшемон. Она почти всегда жила раздельно с мужем, и эта прелестная, вся дышавшая целомудрием и свежестью комната, куда даже Анри Лемору никогда не было доступа, наводила Марсель лишь на грустные и сладостные воспоминания. Именно здесь она, скрывшись от шумного света, читала и предавалась мечтам, упиваясь ароматом цветов дивной красоты, какие встречаются только в Париже и составляют неотъемлемую принадлежность жизни богатых светских дам. Она сделала этот уголок насколько могла более поэтичным, обставила и украсила его так, как ей было по сердцу, и привязалась к нему: он был ее тайным убежищем, где в раздумье и молитве она всегда могла обрести успокоение от жизненных невзгод и душевных бурь. Обведя его долгим любовным взглядом, она мысленно обратилась с торжественными словами прощания ко всем Этим немым свидетелям ее потаенной жизни… жизни, сокрытой от чужих глаз, как жизнь цветка, что не имеет ни малейшего изъяна, заставляющего его скрываться от солнечного света, но тем не менее прячет головку под листьями, ища тени и прохлады. «Мой славный уголок, мои милые безделушки, я любила вас, — подумала она. — Но я не могу больше вас любить, ибо вы воплощаете в себе богатство и потакаете праздности. Вы представляете отныне в моих глазах все, что отделяет меня от Анри. Я не могла бы больше смотреть на вас без отвращения и горечи. Расстанемся же, пока вы не стали ненавистны мне, а я вам. Строгая матерь божья, ты отказалась бы впредь покровительствовать мне; чистые, глубокие зеркала, вы внушили бы мне неприязнь к моему собственному образу; прекрасные вазы с цветами, вы утратили бы для меня свою прелесть и перестали бы источать благоухание». Потом, прежде чем в соответствии с принятым ею решением написать Анри, она на цыпочках прошла к своему ребенку, желая поглядеть на него и благословить его сон. Вид бледненького малыша, чье раннее умственное развитие неблагоприятно сказывалось на его физическом здоровье, вызвал в ней прилив горячей материнской нежности. Мысленно она обратилась к нему, словно спящий мальчик мог услышать и понять ее беззвучную, но страстную речь. «Будь спокоен, — говорила она сыну, — я люблю его по больше, чем тебя. Не ревнуй меня к нему. Если бы он не был самым лучшим, самым достойным из людей, я не дала бы его тебе в отцы. Право, мой ангел, тебя любят горячо и преданно. Ты можешь спать сладко и безмятежно — мы не оставим тебя никогда!» Со слезами умиления на глазах Марсель вернулась в свою комнату и написала Анри несколько строк, в которых говорилось: «Вы правы, и я вас понимаю. Я недостойна вас, но буду достойна, ибо хочу этого. Сейчас я отправляюсь в длительное путешествие. Не тревожьтесь обо мне и не переставайте любить меня. Ровно через год вы получите от меня письмо. Распорядитесь своей жизнью так, чтобы вы имели возможность прибыть ко мне в любое место, куда я вас позову. Если вы не сочтете меня достаточно изменившейся, то еще через год… Один год, два года, прожитые с надеждой, — ведь это почти счастье для двух существ, которые так давно любят друг друга, ни на что не надеясь». Было еще раннее утро, когда она велела доставить записку по адресу. Но посыльный не застал господина Лемора дома. Молодой человек накануне вечером отбыл неизвестно куда и на какой срок, отказавшись от скромного помещения, в котором квартировал. Посыльного уверили, однако, что письмо будет доставлено в руки господину Лемору, так как он поручил одному из друзей ежедневно заходить за его почтой и переправлять ему все, что поступит сюда на его имя. Два дня спустя госпожа де Бланшемон с сыном, в сопровождении своей камеристки и лакея, ехала в коляске, быстро пересекая безлюдные просторы Солони. Отъехав на двадцать пять миль от Парижа, путешественница была уже почти в центре Франции и остановилась по пути на ночлег в городке неподалеку от Бланшемона. До поместья отсюда оставалось не более пяти-шести миль, по в центре Франции, несмотря на новые дороги, вот уже несколько лет как открытые для передвижения, отдельные селения так мало сообщаются друг с другом, что у их обитателей трудно узнать что-нибудь достоверное даже о близлежащих местностях. Все хорошо знают дорогу в город или в село, где устраивается ярмарка. Здесь время от времени каждому приходится бывать по делам. Но спросите в какой-нибудь деревушке дорогу на ферму, до которой рукой подать — миля от силы, — и то навряд ли вам скажут. Дорог-то ведь сколько… Где ж тут отличить одну от другой! Люди госпожи де Бланшемон поднялись ни свет ни заря, чтобы подготовить все к отъезду, но никак не могли получить указаний, как добраться до поместья Бланшемон, — ни у хозяина гостиницы, ни у его работников, ни у заспанных постояльцев — крестьян из соседних деревень. Никто не знал в точности, где оно расположено. Один был из Монлюсона, другой слыхал о Шато-Мейяне, всем приходилось по многу раз проездом бывать в Арданте и Лашатре, но о Бланшемоне, кроме того, что такой существует, никому ничего не было известно. — Это доходное поместье, — сказал один. — Я знаю тамошнего арендатора, но сам в тех краях не бывал. Далековато от нас: добрых четыре мили будет. — Черт побери! — воскликнул другой. — Я ведь, года не прошло, своими глазами видел бланшемонских быков на ярмарке в Бертену — стоял и болтал с господином Бриколеном, арендатором, — вот как сейчас с вами говорю. Как же, как же, Бланшемон — знаю! Только вот в какой он стороне — ума не приложу. Служанка, подобно всем гостиничным служанкам, не знала ровно ничего об окрестных местах, ибо — опять же подобно всем гостиничным служанкам — перебралась сюда на жительство совсем недавно. Камеристка и лакей, привыкшие посещать вместе со своей госпожой богатейшие усадьбы, известные вокруг за двадцать с лишком миль и расположенные в цивилизованных местностях, стали чувствовать себя так, словно находятся в самом сердце Сахары. Лица у них вытянулись, их самолюбие было жестоко уязвлено: ведь это ни на что не похоже — толкаться к тому и к другому, выведывать дорогу к замку, который они собираются почтить своим присутствием, и не получать ответа! — Так это что — сарай или хижина какая? — с презрительным видом спрашивала Сюзетта Лапьера. — Это дворец Корибантов, — отвечал Лапьер. В молодости на него произвела большое впечатление популярная мелодрама «Замок Коризанды»[114], и он стал называть этим именем, коверкая его, всякие руины, попадавшиеся ему на глаза. Наконец конюха осенило: — У меня там наверху, на сеновале, — заявил он, — спит один человек; вот он точно вам скажет, что да где, потому как ремесло у него такое — только и делает, что по всей округе мотается. Это Большой Луи, а еще иначе его зовут Долговязый Мукомол. — Тащи-ка сюда этого Долговязого, — с величественным видом согласился Лапьер. — Он вроде тут спит — в каморке, над приставной лестницей? Долговязый Мукомол спустился с чердака и потягивался после сна, хрустя суставами своих длинных рук и ног. При взгляде на его могучее телосложение и энергичную физиономию Лапьер оставил снисходительно-шутливый тон и весьма учтиво попросил сообщить ему нужные сведения. Мукомол в самом деле был осведомлен лучше других, но, послушав его разъяснения, Сюзетта рассудила, что не худо представить его самой госпоже де Бланшемон. Та в это время с сыном сидела за утренним шоколадом в общей зале гостиницы и отнюдь не пришла в уныние, подобно своим слугам, а, напротив, развеселилась, когда ей доложили, что Бланшемон затерян где-то в глуши и разыскать его невозможно. Представитель здешних аборигенов, приведенный пред очи госпожи де Бланшемон, имел росту пять футов восемь дюймов, что достаточно примечательно в этом краю, где мужчины обычно низкорослы. Он был широкоплеч, хотя и не слишком хорошо сложен, ловок в движениях и обладал весьма выразительной физиономией. У девиц его села он прозывался Красавцем Мукомолом — и прозвище это было им столь же заслужено, как и первое. Когда он обшлагом рукава отирал щеки от всегда покрывавшей их муки, наружу выступала смуглая, очень приятного золотистого оттенка кожа. У него были правильные черты лица, несколько крупные, как весь он, серые глаза красивого разреза, ослепительно белые зубы; длинные волосы, завивающиеся кудрями, как обычно бывает у физически очень крепких мужчин, обрамляли большой выпуклый лоб, говоривший скорее о сметливости и здравом смысле, нежели о поэтической возвышенности натуры. Одет он был в темно-синюю блузу и серые холщовые панталоны; ноги обуты поверх коротких домотканых чулок в грубые башмаки; в руке он держал рябиновую палку, на верхнем конце которой был здоровенный узловатый сук, отчего она смахивала скорее на дубину. Он вошел с непринужденностью, которую легко было бы принять за дерзость, если бы его дружелюбный, ясный взгляд и широкая улыбка не свидетельствовали о том, что человек он, в сущности, прямодушный, добрый и жизнерадостный. — Мое почтение, сударыня, — произнес он, слегка приподняв серую войлочную шляпу с широкими полями, но отнюдь не сдернув ее с головы, ибо так ныне заведено: если старик крестьянин, как и прежде, готов с подобострастной учтивостью приветствовать всякого, кто одет лучше, чем он, то крестьянин, родившийся после революции[115], как правило, не расстается со своей шляпой, словно она приросла у него к голове. — Говорят, вы хотите, чтобы я объяснил вам, как проехать в Бланшемон? Марсель не видела, как Мукомол вошел в залу, и неожиданно раздавшийся громкий, звучный голос заставил ее вздрогнуть. Она живо обернулась, в первый момент несколько удивленная самоуверенным топом говорящего. Но тут вступили в действие особые права красоты: рассмотрев друг друга, мельник и дама, оба в расцвете молодости, сразу же отрешились от того взаимного недоверия, которое поначалу всегда питают люди различного общественного положения. Марсель сочла нужным только, видя, что мельник склонен держать себя несколько фамильярно, подчеркнутой учтивостью своей речи напомнить ему о должной почтительности по отношению к женщине. — Очень признательна вам за готовность оказать мне услугу, сударь, — ответила она, приветствуя его поклоном. — Соблаговолите же сказать, существует ли пригодная для экипажей дорога отсюда до фермы Бланшемон? Мукомол тем временем успел сесть, не дожидаясь приглашения. Но, услышав, что его величают сударем, он благодаря свойственной ему от природы незаурядной проницательности тотчас сообразил, что имеет дело с особой, благожелательной к людям и достойной всяческого уважения по своим личным качествам. Он не смутился, но, как бы между прочим, снял все же шляпу и, опершись обеими руками на спинку стула, словно для того, чтобы придать себе уверенности, сказал: — Есть проселочная дорога, не очень-то гладкая, по ежели ехать осторожно, пронесет; важно только ненароком не сбиться с пути, а так до конца и держаться одной дороги. Я все подробно растолкую вашему кучеру. Но лучше бы вам нанять здесь какую ни на есть колымагу, потому как в последний раз проливные дожди здорово поковеркали дороги по всей Черной Долине, и трудно поручиться, что слабые колесики вашего экипажа не застрянут в рытвинах. Может, и проедете, но ручаться не могу. — Видно, рытвины у вас нешуточные, и осторожнее будет последовать вашему совету. Но вы уверены, что такая колымага не опрокинется? — Нет, уж этого, сударыня, не бойтесь. — Я не за себя боюсь, а за ребенка, потому и высказываю опасения. — В самом деле, жаль было бы, ежели бы вдруг придавило малыша, — сказал, подходя к Эдуарду, Долговязый Мукомол; лицо его при этом выражало самое искреннее расположение. — Экой славненький, хорошенький мальчонка! — Только немного бледненький, не правда ли? — улыбаясь, спросила Марсель. — Да ну, чего там! Даром что не крепыш, зато красив на загляденье. Что, молодой человек, приехали жить в наши края? — Послушай, дяденька! — закричал Эдуард, цепляясь за шею наклонившегося над ним Мукомола. — Ты такой большой! Подними меня до потолка! Мельник взял ребенка на руки и, подняв его над головой, пронес вдоль закопченных карнизов залы. — Осторожнее! — воскликнула госпожа де Бланшемон, несколько испуганная легкостью, с которой этот деревенский геркулес подхватил и нес на поднятых руках ее ребенка. — Будьте покойны, — отозвался Большой Луи, — я скорей допущу, чтобы сломались все как есть лопастушечки моей мельницы, чем повредился хоть один пальчик этого молодого человека. Словцо «лопастушечки» очень развеселило мальчика, и он принялся со смехом повторять его, не понимая его смысла. — Вы не знаете, что это такое? — спросил мельник. — Это маленькие лопасти, такие деревянные дощечки, что на мельничном колесе сидят; вода их толкает, и колесо вертится. Я их вам покажу, коли вы когда-нибудь заглянете к нам. — Да, да, хочу посмотреть лопастушечки! — громко смеясь и закидывая голову, кричал ребенок, сидя на руках у мельника. — Да он еще и насмешник, этот маленький плутишка! — промолвил Большой Луи, сажая мальчика на стул. — Ну, мне пора, сударыня, пойду по своим делам. Больше никаких услуг от меня не требуется? — Нет, друг мой, — ответила Марсель; благожелательность успела взять в ней верх над первоначальной сдержанностью. — Рад быть вашим другом, ни о чем лучшем и мечтать нельзя! — весело отозвался мельник, и во взгляде его можно было ясно прочесть, что это фамильярное обращение не пришлось бы ему уж так по вкусу, исходи оно от какой-нибудь особы не столь молодого возраста и не столь красивой внешности. — Вот и прекрасно, — резюмировала Марсель, улыбаясь и краснея. — Буду иметь это в виду. Затем она добавила: — До свидания, сударь, и, надо полагать, до скорого свидания; вы ведь постоянно живете в Бланшемоне? — Поблизости оттуда. Я мельник из Анжибо, что в одной миле от вашего замка; ведь вы-то, мне сдается, как раз и есть хозяйка Бланшемона. Марсель запретила своим людям раскрывать ее инкогнито. Она хотела проехать незамеченной, но теперь по мельниковой повадке увидала, что, вопреки своим опасениям, она в качестве владелицы поместья ошеломляющего впечатления не производит. Землевладелец, не живущий в своем имении, — отрезанный ломоть, и о нем начисто забывают. Другое дело — представляющий его арендатор, с которым приходится постоянно сноситься по разным поводам: он — лицо значительное. Марсель намеревалась отправиться в дорогу ранним утром, чтобы прибыть в Бланшемон еще до полуденной жары, но большую часть дня ей пришлось провести в гостинице. Все колымаги, какие были в городе, покинули его, так как в одном из окрестных селений открылась ярмарка, и надо было ждать, покуда какая-нибудь из них не возвратится. Только около трех часов пополудни Сюзетта жалобным тоном доложила госпоже, что в их распоряжении пока что имеется лишь повозка, похожая скорее на корзину из ивовых прутьев, чем на карету. К большому удивлению прелестной субретки, госпожа де Бланшемон без колебаний согласилась воспользоваться Этим средством передвижения. Она взяла с собой несколько тючков с вещами первой необходимости, отдала ключи от коляски и от сундуков на сохранение хозяину гостиницы и пустилась в путь в классической дедовской колымаге, которая являла собою вящее свидетельство свойственной нашим предкам простоты нравов, встречающееся, однако, все реже и реже повсюду, и даже на дорогах Черной Долины. Та повозка, что на беду попалась Марсели, была типичным изделием местных мастеров, и любой ценитель древностей отнесся бы к ней с уважением. Она была длинная и низкая, как гроб; никакое подобие рессор не умаляло ее подвижности; колеса ее, такой же высоты, что и кузов, могли преодолевать наполненные водой и грязью канавы, которым нет числа на наших проселочных дорогах и которые мельник, очевидно из местного патриотизма, деликатно наименовал рытвинами; наконец, самый кузов представлял собой не что иное, как клетку из ивовых прутьев, проконопаченную и густо обмазанную изнутри известкой, от которой при каждом сравнительно сильном толчке отваливались куски, падавшие прямо на головы пассажиров. Малорослый жеребчик, поджарый и резвый, довольно легко тащил этот сельский экипаж, а колымажник, то есть возница, который сидел боком на оглобле, болтая ногами в воздухе (поскольку наши деды не признавали подножек и, чтобы влезть в повозку, подставляли стул), испытывал меньше неудобств и дышал вольготнее, чем остальные путешественники. В наших краях, возможно, сохранились еще две-три колымаги такого рода у старых богатых крестьян, не пожелавших отказаться от своих привычек и уверенных в том, что от езды в карете на рессорах в икрах появляются мурашки, иначе говоря — затекают ноги. Все же путевые невзгоды еще можно было кое-как терпеть, покуда ехали по большой дороге. Колымажник, пятнадцатилетний парень, рыжий, курносый и нахальный, ни в чем не ведающий сомнений, подгонял жеребчика при помощи всего своего обширного лексикона ругательств, который он пускал в ход, ничуть не стесняясь присутствием женщин; ему явно нравилось выжимать из своей выносливой лошаденки всю резвость, на которую та была способна, но лошаденка не утрачивала доброго расположения духа, пока вокруг расстилалась сочная луговая трава: большего ей и не надо было, так как за всю жизнь ей не довелось узнать вкус овса. Когда же они выехали на бесплодную пустошь, жеребчик опустил голову с видом скорее недовольным, чем обескураженным, и принялся с каким-то ожесточением тянуть повозку, не обращая внимания на неровности дороги, отчего к движению экипажа вперед добавилась самая немилосердная качка.III. Нищий
Дела пошли еще хуже, когда путешественники выбрались из песков и начали спускаться в Черную Долину, где земля жирна и плодородна. У конца пустынного плато госпожа де Бланшемон долго любовалась восхитительным и грандиозным зрелищем раскинувшегося перед нею ландшафта, который на горизонте, где он смыкался с небом, был окаймлен бордюром лиловеющих лесов, прерываемым то тут, то там оранжево-золотистыми полосами заката. Трудно найти во Франции более красивые места! В сущности, растительность здесь не так уж богата. Ни одна крупная река не пересекает земли Черной Долины, и на них не увидишь поблескивающих на солнце шиферных крыш. Никаких живописных гор, вообще ничего поразительного, ничегонеобыкновенного нет в мирной природе этого края; но Зато — величественная панорама возделанных земель; мозаика полей, лугов, рощ, проселочных дорог, являющая глазу бесконечное многообразие форм и оттенков общего темно-зеленого колорита, постепенно переходящего в голубоватый; раскиданные вперемежку там и сям пышные сады и огороды, домишки под сенью плодовых деревьев, тесные ряды тополей, уходящие вдаль тучные пастбища — и все Это густое, глубоких тонов, резко контрастирующее с чахлыми полями и бледными живыми изгородями на плато; словом — замечательный гармонический ансамбль площадью в пятьдесят квадратных миль, охватываемый единым взглядом с возвышенности, на которой лепятся хижины селений Лабрей и Корле. Но наша путешественница вскоре потеряла из виду это великолепное зрелище. Как только вы начинаете спускаться по склону, ведущему в Черную Долину, картина сразу меняется. Двигаясь по дорогам, то поднимающимся, то вновь устремляющимся вниз, между двумя рядами высоких кустарников, вы не находитесь над краем обрыва, за которым — пропасть, но сами эти дороги можно назвать пропастями. Садящееся за деревьями солнце придает им своеобразное обличье какой-то странной красоты и дикости. То убегает такая дорога в густые заросли, загадочно петляя и прячась в них, то тянется изумрудной лентой, заводя в тупик или в болото, то вдруг поворачивает на спуске так круто, что, скатившись с него, экипаж уже никак не может подняться обратно, — словом, непрерывно очаровывает воображение, грозя притом вполне реальными опасностями всякому, кто решится при помощи какого-либо иного средства передвижения, кроме собственных ног или в крайнем случае верховой лошади, пуститься по ее завлекательным, прихотливым и коварным извивам. Пока солнце не скрылось за горизонтом, рыжеволосый автомедон[116] недурно справлялся со своей задачей. Он держался самой изъезженной, а следовательно — и самой разбитой, но зато и наиболее падежной дороги. Ему удалось благополучно преодолеть два или три ручья, следуя по колеям, оставленным на берегу проезжавшими здесь телегами. Когда же солнце зашло, все дороги в ложбине быстро окутала мгла. На пути попался крестьянин, к нему обратились, и он с беззаботным видом ответил: — Езжайте, езжайте дальше! Вам осталось не больше мили пути, и дорога сплошь хорошая. Увы, за последние два часа это уже был шестой крестьянин, сообщавший, что остается проехать самую малость — «Этак с милю, не больше, и что дорога сплошь хорошая. На самом деле дорога была такая, что лошадь выбилась из сил, а путешественникам стало совсем невмоготу дольше терпеть эту муку. Сама Марсель начала опасаться, что они опрокинутся, ибо если при дневном свете возница и его резвая лошаденка ухитрялись нащупывать правильный путь, то в темноте было совершенно невозможно избежать ответвлений дороги, которые вследствие неровного рельефа местности столь же опасны, сколь и живописны, и то и дело резко обрываются, ставя путешественника перед необходимостью прыгать вниз с высоты в десять-двенадцать футов. Мальчишка-возница никогда еще не забирался так далеко в Черную Долину; он злился, клял все и вся на чем свет стоит — каждый раз, когда приходилось возвращаться назад, к месту, где они сбились с пути; жаловался на голод, на жажду, сокрушался о будто бы вконец загнанной лошади, не переставая при этом хлестать ее кнутом, и, разыгрывая из себя горожанина, посылал ко всем чертям эту дикую страну и ее тупоумных обитателей. Не раз, видя, что дорога идет круто вниз, но на ней сухо, Марсель и ее люди вылезали из колымаги и шли пешком; но не проходило и пяти минут, как они оказывались у места, где дорога сужается и посреди нее из земли бьет ключ, водам которого некуда стекать, в результате чего образуется лужа, непреодолимая для женщины тонкого воспитания. Сюзетта, прирожденная парижанка, предпочитала, по ее словам, опрокинуться вместе с колымагой, чем испортить свои башмачки, шлепая по болоту, а Лапьер, который всю жизнь скользил в легких туфлях по лощеному паркету, был так неловок и настолько пал духом, что госпожа де Бланшемон не рисковала больше давать ему на руки ребенка. Когда крестьянина спрашивают, какой дороги держаться, чтобы попасть в то или иное место, он обычно отвечает: «Езжайте, езжайте вперед и все время держитесь прямо!» Это такая шутка, что-то вроде каламбура, ибо «держаться прямо» — попросту значит идти на своих двоих, и попадет впросак тот, кому послышится «держите прямо»: ведь в Черной Долине нет ни одной прямой дороги. Многочисленные овраги, по дну которых протекают маленькие речушки — такие, как Эндра, Вовра, Куарда, Тарда[117] и добрая дюжина других, вдоль течения несколько раз меняющих свое название и никогда не подпадавших под унизительное иго мостов или шоссе, заставляют вас тысячекратно отклоняться от вашего пути в поисках брода, причем нередко вам приходится повернуться спиной к тому месту, куда вы направлялись. Подъехав к перекрестку, где был водружен крест в устрашение злым духам, колдунам и диковинным зверям, облюбовавшим, по крестьянскому поверью, это будто бы зловещее место, наши растерянные путешественники заговорили с нищим, который сидел на «камне мертвецов»[118]и, увидев колымагу, возопил: «Сжальтесь, люди добрые, над несчастным бедняком!» Рослая фигура этого старца, ссутулившегося от годов, но еще крепкого и к тому же вооруженного огромной палицей, не предвещала ничего хорошего на тот случай, если бы пришлось схватиться с ним один на один. Черты его лица не были отчетливо видны, но хриплый голос звучал скорее требовательно, чем жалобно. Его понурому виду и грязным лохмотьям странно противоречила очевидная наклонность к шутовству: о ней говорили и увядший букетик и выцветшая лента на шляпе. — Друг мой, — обратилась к нищему Марсель, подавая ему монету, — не знаете ли вы, где тут дорога на Бланшемон? Вместо ответа нищий продолжал громко читать «Аве Мария», почему-то именно в этот момент решив помолиться. — Отвечайте же, — сказал ему Лапьер, — потом будете бормотать свои молитвы. Нищий обернулся к лакею, смерил его презрительным взглядом и продолжал возносить хвалу богоматери. — Бросьте вы говорить с ним, — сказал возница. — Этот старый оборванец слоняется по всей округе и никогда сам не знает, куда идет; он не в своем уме. — Дорога на Бланшемон? — сказал наконец нищий, завершив молитву. — Не здесь, дети мои. Вам надо возвратиться назад до первой развилки и свернуть на ту дорогу, что идет вправо. — Вы уверены в этом? — спросила Марсель. — Я ходил по ней сотни раз. Если вы мне не верите, поступайте по-своему — мне-то что! — Он как будто знает, что говорит, — сказала Марсель своему проводнику. — Послушаемся его. Какой ему толк обманывать нас? — Да просто ради удовольствия навредить людям, — с недовольным видом ответил возница. — Не доверяю я этому человеку. Марсель все же настояла на том, чтобы последовать совету нищего, и вскоре колымага въехала на узкую, извилистую и чрезвычайно крутую тропу. — Говорил я вам, — сказал, снова пачав браниться, колымажник, — что этот зловредный старикашка нарочно запутывает нас. — Поезжайте, — сказала Марсель, — все равно ведь назад уже пути нет. Чем дальше, тем менее доступной для проезда становилась дорога; но она была слишком узка, чтобы можно было повернуть повозку, и к тому же зажата между двумя рядами пышно разросшихся кустарников. Наконец, выказав чудеса выносливости и преданности, лошаденка свезла колымагу вниз под сень старых дубов, стоявших здесь тесной купой; по-видимому, это была опушка леса. Дорога внезапно расширилась, и путешественники увидели перед собой большой разлив стоячей воды, совсем непохожий на речной брод. Возница все же рискнул въехать в эту лужу, по на середине оказалось уже так глубоко, что он решил взять вбок, — и это был последний подвиг его тощего Буцефала[119]. Колымага накренилась, уйдя в воду по ступицу, и лошадь упала, обрывая постромки. Пришлось ее выпрягать. Лапьер вылез из колымаги и, стоя по колено в воде, стал помогать вознице, испуская при этом такие стенания, словно он отдавал богу душу. С первой задачей они наконец справились и принялись вытаскивать колымагу, но тут все их усилия не привели ни к чему (оба были отнюдь не силачи). Тогда колымажник, отчаянно чертыхаясь и кляня нищего колдуна, легко вскочил на лошадь и припустился во всю прыть, буркнув, что едет за подмогой; по тону его, однако, нетрудно было предсказать, что его навряд ли будет грызть совесть, даже если путешественникам придется просидеть в болоте всю ночь. Колымага, к счастью, не завалилась совсем набок. Она лишь несколько накренилась, по была все же вполне пригодна для ночлега. Марсель примостилась на задней скамейке, уложив рядом с собой малыша, которого надо было устроить поудобнее, чтобы он спокойно спал: он давно уже хныкал, что хочет кушать и баиньки, и после того, как полакомился разными вкусными вещами, припасенными для него Сюзеттой, тотчас смежил веки и уснул. Рассудив, что их ненадежный проводник не станет спешить с возвращением, буде найдет приют для себя самого, госпожа де Бланшемон отрядила Лапьера на поиски в окрестностях какого-нибудь жилья, что было нелегкой задачей, поскольку хижины местных жителей скрыты за густой листвою, после захода солнца крепко запираются изнутри, и из них не доносится ни единого звука; увидеть их можно не раньше, чем подойдешь к ним вплотную, и, чтобы вас в неположенное время пустили на ночлег, приходится чуть ли не брать их приступом. Лапьер, человек уже в преклонных летах, был озабочен только одним: где бы найти огня, чтобы просушить ноги и уберечься от ревматизма. Он обрадовался возможности выбраться из болота, что и сделал безотлагательно, перед тем, впрочем, удостоверясь, что колымага уперлась в опрокинутый ствол старой ивы и ей не грозит опасность погрузиться еще глубже. Больше всех унывала Сюзетта, боявшаяся разбойников, волков и змей — трех напастей, которые неизвестны в Черной Долине, но обычно мерещатся в путешествии ее товаркам по профессии. Однако бодрость духа и выдержка ее госпожи помешали ей изливать вслух свои страхи, и, с удобством расположившись на передней скамейке, она сочла за лучшее поплакать втихомолку. — Ну-ну-ну, что это с вами, Сюзетта? — обратилась к камеристке Марсель, заметив, что та ударилась в слезы, — Ах, барыня, — отвечала Сюзетта сквозь рыдания, — разве вы не слышите, как квакают лягушки? Вот-вот они наползут сюда и заполнят всю повозку… — И пожрут нас, конечно, без остатка, — подхватила госпожа де Бланшемон, рассмеявшись от души. В самом деле, зеленые обитательницы болота, потревоженные было падением лошади и криками возницы, возобновили свой монотонный концерт. Слышались также лай и завывание собак, но так издалека, что едва ли можно было рассчитывать на быструю помощь. Луна еще не подымалась, но звезды уже сверкали в неподвижной воде болота, поверхность которой снова стала гладкой. Прохладный ветерок играл в густых и высоких камышовых зарослях на берегу. — Полно, Сюзетта, — сказала Марсель, уже предавшаяся своим лирическим мечтаниям, — здесь не так уж худо, принимая во внимание, что мы сидим в самом настоящем болоте, и если вы возьмете себя в руки, то будете спать не хуже, чем в собственной постели. «Да что она, спятила, что ли? — подумала Сюзетта. — Дела — просто из рук вон, а послушать ее, так все обстоит как нельзя лучше». С минуту длилось молчание, и вдруг Сюзетта вскричала: — О боже! Сударыня! Мне кажется, я слышу волчий вой! Ну да, ведь мы же в глухом лесу, в самой чаще! — Этот ваш глухой лес, по-видимому, просто несколько ив, стоящих рядком. А что касается волчьего воя, так это не волк воет, а человек поет. Если он направляется в нашу сторону, то, уж наверное, поможет нам выбраться на сушу. — А если это разбойник? — В таком случае это добрый разбойник: иначе он не стал бы предупреждать нас пением, чтобы мы заблаговременно остереглись. Послушайте, Сюзетта, шутки шутками, а ведь он и в самом деле на пути к нам — голос все ближе. Марсель не ошиблась: над безмолвными полями плыл голос, звучный, густой и мелодичный, хотя несколько грубоватый и совсем не поставленный; аккомпанементом ему служил нечастый, размеренный стук лошадиных копыт, как будто специально отбивавших такт; но голос был еще далеко, и нельзя было ручаться, что певец действительно направляется к болоту, которое вполне могло быть тупиком. Когда голос допел песню до конца, не стало слышно больше ничего: то ли лошадь пошла по мягкой траве, то ли поселянин свернул куда-то. Вдруг панический страх вновь обуял Сюзетту: она увидала тень, беззвучно скользившую вдоль болота и казавшуюся непомерно большой благодаря своему отражению в воде. Сюзетта испустила вопль, а тень сошла в самое болото и направилась прямо к колымаге, но не спеша и с известной осторожностью. — Не бойтесь, Сюзетта, — сказала госпожа де Бланшемон, в этот момент сама не слишком спокойная. — Это наш недавний знакомец — старик нищий; он, возможно, знает здесь поблизости какой-нибудь дом, откуда смогут прийти нам на помощь. Друг мой, — выказывая большое присутствие духа, обратилась она к старику, — мой слуга, который тут рядом, сейчас подойдет к вам: укажите ему, пожалуйста, дорогу к какому-нибудь жилью. — Твои слуга, детка? — фамильярно отозвался нищий. — Его тут нет, он уже далеко отсюда. К тому же он так стар, глуп и слабосилен, что ничем бы тебе не помог. Теперь уже и Марсель охватил страх.IV. Болото
Ответ нищего прозвучал злорадной похвальбой человека, пришедшего с недобрыми намерениями. Марсель схватила Эдуарда и прижала его к груди, исполненная решимости Защитить ребенка даже ценою собственной жизни; она хотела уже спрыгнуть в воду и кинуться прочь от нищего куда глаза глядят, как вдруг снова послышался уже знакомый голос — он пел второй куплет той же народной песни, по теперь на очень близком расстоянии. Нищий остановился. — Мы погибли, — прошептала Сюзетта, — подходит вся остальная шайка. — Напротив, мы спасены, — отозвалась Марсель, — это голос честного поселянина. Действительно, в этом голосе была какая-то спокойная уверенность, а широко разливавшийся бесхитростный напев свидетельствовал о душевном мире и чистой совести. Стук копыт тоже приближался. Поселянин, несомненно, ехал по дороге к болоту. Нищий отступил к берегу и застыл в неподвижности: казалось, он скорее насторожен, чем испуган. Марсель высунулась из повозки, крикнула, подзывая проезжавшего всадника; но тот пел так громко, что не услышал ее и миновал бы это место, ничего не заметив, если б не его лошадь: ее испугала возникшая рядом черная масса повозки, и она, храпя, резко остановилась. — Что там за чертовщина? — прокричал наконец, без всякой тревоги, звучный голос, который госпожа де Бланшемон тотчас признала за голос Долговязого Мукомола. — Эге! Да Это свои! Эй, друзья, вы вроде не на ходу! Да что вы там, перемерли все, что ли, почему молчите? Сюзетта, узнав мельника, чей представительный вид, несмотря на простоту его костюма, произвел на нее утром приятное впечатление, вновь обрела свою грациозность. Она объяснила, как они с хозяйкой оказались в таком бедственном положении, и Большой Луи, от души посмеявшись над их злоключениями, заверил ее, что нет ничего легче, как освободить их из этого плена. Для начала он должен был снять со спины лошади большой мешок с зерном, который вез перед собой, и, увидев нищего, как будто и не помышлявшего о том, чтобы скрыться, приветливо воскликнул: — Это вы тут, папаша Кадош? Посторонитесь, мне нужно сбросить мешок. — Я хотел было помочь этим бедным женщинам, — отозвался нищий, — да воды-то уж больно много, не добраться мне до них. — Оставайтесь на месте, дядюшка, нечего вам лезть в воду. В вашем возрасте это опасно. Я сам вызволю женщин, без вас. И он отправился верхом, как и был, спасать госпожу де Бланшемон, причем вскоре погрузился в болото настолько, что вода была лошади по грудь. — Ну, давайте, сударыня, — весело сказал он. — Вы съедете немного вниз по оглобле и сядете позади меня — Это проще простого. Разве только чуть замочите башмачки: ведь ноги у вас не такие длинные, как у вашего покорного слуги. Да уж, попался вам колымажничек, нечего сказать! Надо же быть таким дурнем — эк куда вогнал вас! Что бы ему взять шага на два левее: там жижи не больше как на шесть дюймов. — Я очень огорчена, что вам приходится из-за меня принимать такую неприятную ножную ванну, — сказала Марсель, — но мой ребенок… — Ах да, наш маленький сударик! Верно! Он — в первую очередь. Передайте-ка его мне… Вот так… Ну вот он и уселся впереди меня. Не беспокойтесь, он не набьет себе синяков об седло: ни моя лошадь, ни я сам к седлу не привычные. А теперь садитесь позади меня, сударыня, и ничего не бойтесь: у моей Софи дюжий хребет и ноги не хлипкие. Мельник доставил мать и сына на берег и осторожно опустил их на траву. — А я? — завопила Сюзетта. — Меня вы хотите оставить тут, в болоте? — Боже упаси, душенька, — заверил ее мельник, ужо возвращавшийся за нею. — Так, давайте сюда ваша пожитки, все вывезем, будьте покойны. По завершении спасательной операции Большой Луи Заявил: — Теперь пускай этот горе-возница приходит за своим имуществом, когда ему вздумается. У меня нет ни постромок, ни веревок, чтобы впрячь Софи, но я отвезу вас, сударыни, куда вы пожелаете. — Далеко ли мы от Бланшемона? — спросила Марсель. — Да уж не ближний свет! Ничего себе дорожку выбрал ваш колымажник! Отсюда добрых две мили до места, а когда мы туда приедем, все будут уже спать мертвым сном и нам нелегко будет до кого-нибудь достучаться. Но если хотите, поедем в Анжибо, на мою мельницу, — до нее и мили не будет; у меня там небогато, но чисто, а моя мать — женщина добрая, она не станет ворчать, коли ей придется встать среди ночи, постелить гостям свежие простыни да зажарить парочку цыплят. Ну как, решено? Поехали, поехали! Без церемоний! На войне как на войне, сударыни: и мельница на худой конец сгодится. Завтра утречком выволочим и отскребем от грязи вашу колымагу — она ведь не схватит насморка, проведя ночь на холодке, — а затем отвезем вас в Бланшемон, в тот час, когда вам будет угодно. Неожиданное приглашение прозвучало в устах мельника очень сердечно и притом деликатно. Тронутая его добротой и теплыми словами, сказанными им о матери, Марсель с признательностью приняла предложенный ей кров. — Вот и хорошо, мне от этого одна приятность, — сказал мукомол, — я вас не знаю, вы, возможно, владелица Бланшемона, но мне это все равно; будь вы даже сам черт (а говорят, что черт умеет прикинуться красивым и симпатичным, когда хочет), я был бы рад, что не дал вам провести худую ночь. Ах, да! Я не могу бросить здесь мешок с зерном; взвалю-ка я его на спину Софи, и малый сядет сверху, а мамаша позади; вам он не помешает, наоборот, будет на что опереться. Барышня пойдет со мной пешком и сможет развлечься беседой с папашей Кадошем: он не слишком казисто одет, да зато очень смышлен. Но куда он девался, старый уж? — произнес мельник, высматривая исчезнувшего нищего. — Эге-гей! Папаша Кадош! Хотите переночевать под крышей или нет? Не отвечает… Ну, тронемся; видать, сегодня он не расположен… В путь, сударыни, в путь! — Этот человек нас очень испугал, — сказала Марсель. — Вы его, оказывается, знаете? — С тех пор как живу на свете. Он не вредный человек, и напрасно вы его боитесь. — Однако он словно бы угрожал нам, а его манера обращаться к людям на ты показалась мне не слишком любезной. — Он называл вас на ты? Ах, старый шутник! И не постыдится же! Но он со всеми таков, не надо на это обращать внимание. На самом-то деле человек он беззлобный, хоть и великий чудак! Зовут его папаша Кадош, а еще иначе — «вседядюшка», потому как он обещает отказать наследство всякому встречному-поперечному, хотя сам гол как сокол. Марсели было очень удобно ехать на выносливой и смирной Софи. Маленькому Эдуарду, которого мать крепко держала, чтобы он не упал, «весьма был по душе сей род передвиженья», как говорит старый, добрый Лафонтен[120]. Мальчик колотил ножками по загривку лошади, но она этого не чувствовала и не ускоряла ход. Она шла себе и шла, как истинная лошадь мельника, не нуждаясь в поводке, зная дорогу наизусть, пробираясь в темноте среди луж и камней и ни разу не оступившись и не сбившись с пути. По просьбе Марсели, опасавшейся, как бы ее старому слуге не пришлось провести ночь под открытым небом, мельник несколько раз позвал его своим зычным голосом, и Лапьер, который заблудился в соседней роще и уже полчаса как кружил на одном и том же месте, вскоре присоединился к маленькому каравану. Через час пути послышался шум падающей воды, и взору путешественников открылись в бледном свете только что взошедшей луны увитая виноградными лозами крыша мельницы и серебристые берега речки, поросшие мятой и мыльнянкой. Марсель легко соскочила на этот душистый ковер, передав прежде мельнику ребенка, а тот, полный радости и гордости оттого, что совершил путешествие верхом, обхватил ручонками шею Большого Луи и сказал: — Здравствуй, Лопастушечка! Как и предсказывал мельник, его старая матушка поднялась, не выразив и тени неудовольствия, и вскоре с помощью служанки, девочки лет четырнадцати-пятнадцати, были приготовлены постели. Госпожа де Бланшемон более нуждалась в отдыхе, чем в пище: она не позволила старухе мельничихе готовить какую-нибудь еду, удовлетворясь чашкой молока, и, заботливо уложив ребенка, улеглась сама рядом с ним и тотчас уснула, укрытая непомерно высокой, мягчайшей пуховой периной, называемой здесь гнездышком. Такого рода превосходная, разве только чересчур теплая и мягкая перина да упругий матрац считаются необходимыми принадлежностями для устройства ложа равно в богатых и в бедных домах этого края, где гусей хоть отбавляй, а зимы очень холодные. Прекрасная парижанка была сильно утомлена дальней поездкой за восемьдесят миль, совершенной с большой скоростью и увенчанной, если можно так выразиться, тряской в колымаге; поэтому она охотно поспала бы подольше; но уже на заре пение петухов, стук мельничных колес, громкий голос мельника и различные другие звуки, обычные для трудового утра в деревне, заставили ее отказаться от более длительного отдыха. К тому же Эдуард, ничуть не уставший накануне и возбужденный новой для него деревенской обстановкой, принялся скакать по постели. Сюзетта, ночевавшая в той же комнате, спала так сладко, несмотря на шум, доносившийся снаружи, что Марсель посовестилась будить ее. Начиная вести тот новый образ жизни, к которому она хотела приобщиться, Марсель встала и оделась без помощи камеристки, сама, испытывая от этого большое удовольствие, умыла, одела и причесала ребенка и вышла поздороваться с хозяевами. По нашла она только работника да девочку-служанку, которые сказали ей, что хозяин вместе со старой хозяйкой отправились в дальний конец луга запасти еды на завтрак. Любопытствуя, в чем состоит здесь Это занятие, Марсель перешла через перекидной мостик, служивший также, по надобности, сходнями для подъема на верхний этаж мельницы мешков с зерном, и, оставив справа от себя красивую купу молодых тополей, пересекла луговину вдоль по течению речки, или, вернее, ручья, полноводного, текущего вровень с берегами и подмывающего прибрежную рослую траву, хотя он не достигал в этом месте и десятифутовой ширины. Этот небольшой водный поток обладал тем не менее изрядной силой и образовывал неподалеку от мельницы довольно обширный водоем, неподвижный, глубокий и, как зеркало, гладкий, в котором отражались старые ивы и поросшие мхом кровли хижин. Марсель внимательно оглядывала исполненный спокойствия, чарующий ландшафт, который — она сама не знала почему — как-то брал ее за душу. Ей доводилось видеть и более красивые ландшафты; по есть такие места, которые располагают к некоему безотчетному умилению; начинает казаться, что сама судьба привела нас в это место и нам предстоит здесь познать немало радостей, печалей и тревог.V. Мельница
Когда Марсель углубилась во встретившуюся ей на пути большую рощу, надеясь найти там своих гостеприимных хозяев, ей представилось, что она находится в девственном лесу. Поверхность земли, покрытая обильной растительностью, была повсюду изрыта и покорежена водными потоками. Видно было, что в пору дождей речка производит Здесь чрезвычайно разрушительную работу. Пышнолиственные ольхи, буки и осины, наполовину вывороченные из земли, падая, цеплялись друг за друга; их обнаженные корни сплетались клубами на сыром песке, словно змеи или гидры, и все это вместе являло картину великолепного беспорядка. Речка, разветвляясь на многочисленные узенькие рукава, прихотливо разрезала искрящиеся росой зеленые поляны, тут и там поросшие густыми зарослями ежевики и мощным, высоким, как кустарник, бурьяном. Никакой английский парк не мог бы воспроизвести такие роскошества природы: живописные сочетания разного рода растений, множество водоемов, вырытых рекою в песке и среди зелени, естественные беседки из ветвей, соединившихся над протоками, причудливое разнообразие рельефа, сломанные Запруды, замшелые колья, как бы нарочно разбросанные повсюду, дабы придать дополнительный штрих красоте ландшафта… Марсель была словно зачарована, и если бы не маленький Эдуард, который вырывался вперед и бежал, подобно взыгравшему олененку, спеша первым оставить на сыром прибрежном песке отпечатки своих крохотных ножек, она долго не очнулась бы от забытья. Но опасение, что мальчик может упасть в воду, пробудило в ней материнскую озабоченность: нагнав Эдуарда, она продолжала бежать следом за пим, все больше углубляясь в таинственную лесную глушь, и при этом ей все время казалось, что она спит и видит чудесный сон… Бывают такие сны, в которых нам является природа столь совершенной красоты, что порою можно сказать — то было истинное видение земного рая. Наконец на другом берегу показались мельник и его мать; оба были заняты делом: он мережей ловил форель, она доила корову. — А, это вы, сударыня — уже на ногах! — воскликнул мельник. — Видите, это мы для вас стараемся. Матушка все печалится, что у нее нет ничего такого хорошего, чем бы попотчевать вас, а я говорю, что вы не побрезгуете нашим угощением, потому как оно от чистого сердца. Мы не повара и не трактирщики, но когда гость не прочь закусить, а у хозяина есть желание угодить гостю… — Да вы уже сделали для меня, мои милые, во сто раз больше, чем требовалось, — произнесла Марсель, подхватывая на руки Эдуарда и отважно вступая на перекинутую в этом месте через речушку доску, чтобы поближе подойти к хозяевам. — Никогда еще мне не спалось так хорошо и никогда не доводилось видеть такое дивное утро. Какая чудесная у вас форель, господин мельник! А какое замечательное молоко у вас в ведре, матушка, — белое, жирное! Вы меня просто балуете, не знаю, как и благодарить вас! — Коли вы будете довольны, то лучшей благодарности нам от вас и не надо, — с улыбкой сказала старуха. — Нам здесь не приходится встречать особ из высшего общества, таких, как вот вы, и мы не очень-то сильны по части всякого рода учтивостей; но вы, видать, женщина честная и не заносчивая. Пойдемте-ка к дому, оладьи поспеют быстро, а малышу, поди, должна приглянуться земляника. У нас в саду под ней целый участок, и ему, наверно, забавно будет самому посрывать ягоды. — Вы так добры, а край ваш так красив, что я хотела бы на всю жизнь остаться здесь, — в искреннем порыве чувств произнесла Марсель. — В самом деле? — добродушно засмеялся мельник. — Что ж! Коли сердце вам подсказывает… Вот видите, матушка, наш край не так уж безобразен, как вы думаете. Говорил я вам, что и богатому может здесь житься не худо. — Да, пожалуй, — отозвалась мельничиха, — ежели выстроить тут господский дом; да само место от этого все равно лучше не станет. — Неужели вам не мил ваш край? — удивилась Марсель. — Мне-то он мил, — отвечала старуха. — Я здесь жизнь прожила и, даст бог, здесь же и умру. Успела я, знаете, попривыкнуть к этому месту за те семьдесят пять годков, что я тут хозяйничаю; а к тому же хочешь не хочешь, а надо довольствоваться тем, что у тебя есть. Но вы, сударыня, приведись вам провести у нас зиму, не сказали бы, что это такая уж распрекрасная местность. Когда паводком заливает все наши луга и со двора носа не высунуть, — нет, нет, тут хорошего мало! — Полно, полно! — воскликнул Большой Луи. — Женщинам всюду мерещатся страхи. Вы же отлично знаете, что паводком дом не снесет и что мельница стоит прочно. А когда наступает худая пора, что ж, — надо ее перетерпеть. Вы, матушка, всю зиму ждете лета, а приходит лето — изводитесь мыслями о будущей зиме. А я говорю, что у нас можно жить счастливо и беззаботно. — Отчего ж у тебя дело со словом не сходится? — возразила мельникова мать. — Это ты-то живешь беззаботно? Ты счастлив оттого, что ты мельник и что дом твой часто заливает водой? Ах, коли бы я повторила, что ты мне говоришь порой, — какое-де несчастье жить в этаком неладном месте, где и мало мальского достатка не сколотишь… — Совсем нет надобности повторять ту чепуху, что я говорю порой, матушка, не стоит и трудиться. Произнося эти слова тоном упрека, мельник смотрел на мать кротким, любовным и почти умоляющим взором. Разговор матери с сыном не показался Марсели таким заурядным, каким он мог показаться нашему читателю. В связи со своими намерениями она была весьма заинтересована в том, чтобы узнать, как воспринимается и оценивается сельская жизнь теми, кому не дано жить по-иному, беря во внимание, что бедные люди, видимо, меньше, чем богатые, должны страдать от ее суровых условий. Собираясь поближе с нею познакомиться и испытать ее сама, Марсель не питала в отношении нее чрезмерных иллюзий. Анри, сомневаясь в ее способности приобщиться к этой жизни, картинно обрисовал ей, какие лишения и тяготы ждут ее в деревне. Но она полагала, что у нее хватит мужества сносить любые тяготы, а мнения хозяев мельницы интересовали ее потому, что ей важно было уяснить себе, какой мерой философского спокойствия и нечувствительности к трудностям жизни наделила их природа, и прикинуть, помогут ли ей поэтическое чувство и чувство еще более возвышенное и сильное — любовь — развить в себе эти качества в такой же степени. Поэтому, когда Большой Луи ушел с форелью, которую, как он выразился, надо было препроводить на сковородку, Марсель рискнула выказать некоторое любопытство. — Так вы не считаете себя счастливой, — сказала она, — и сын ваш тоже, несмотря на свой веселый вид, порою не в ладу с самим собой? — Ах, сударыня, — отвечала добрая старушка, — мне-то за глаза хватало бы того, что у нас есть, и всем бы я была довольна, коли бы сын был счастлив. Мой покойный муженек, царство ему небесное, был человек состоятельный, дела у него шли хорошо, но он не успел детей вырастить — скончался, и пришлось мне одной всех их поднимать да обеспечивать. Теперь доля каждого невелика; мельница осталась за моим Луи, которого прозывают Большим Луи, как родителя его звали Большим Жаном, а меня зовут Большой Мари, потому что всю нашу семью господь не обидел ростом, и дети мои, как на подбор, все вышли рослые. Но это единственное, в чем у нас нет недостатка; всего прочего — в обрез, так что шить себе большой карман не приходится. — Но почему же все-таки вам хотелось бы быть побогаче? Разве вы страдаете от бедности? Мне кажется, что жилище у вас неплохое, вы сыты и пользуетесь завидным здоровьем. — Да, да, у нас, слава богу, есть все необходимое, а многие люди, быть может, стоящие больше, чем мы, и Этого лишены; но видите ли, сударыня, быть счастливым или несчастным — это зависит от того, как смотреть на жизнь… — Вы совершенно правы, но тут-то и возникает вопрос, — сказала Марсель, которая, наблюдая за лицом мельничихи и слушая ее речи, отметила про себя ее природную сметливость и здравомыслие. — Если вы так хорошо умеете судить обо всем, то почему же вы жалуетесь? — Это не я жалуюсь, а Большой Луи, или, вернее сказать, я жалуюсь, потому что вижу, что он недоволен и не жалуется — сдерживает себя и меня огорчать не хочет. Но когда ему становится невмоготу, у него, бедняги, это вырывается-таки наружу! Только одно словечко, бывает, и скажет, но у меня от него сердце разрывается. Он говорит: «Никогда, никогда, матушка!» — и значит это, что он уже всякую надежду потерял. Но потом — нрав-то у него от природы веселый (точь-в-точь как у его покойного родителя) — он словно бы опоминается и давай мне разные сказки сказывать; не знаю уж, меня ли тем утешить хочет, сам ли верит, что все-таки сбудется в конце концов то, что он себе в голову забрал. — А что же он забрал себе в голову? Он сильно увлечен чем-то? — Да еще как сильно-то, чуть что не до безумия! Только не любовь к деньгам его свербит, на деньги он не жаден, такого за ним никогда не водилось. Когда отцово наследство делили, он уступил братьям и сестрам все, что они хотели взять себе, и всякий раз, как немного разживется, готов бывает отдать заработанное первому, кто попросит у него помощи. Это никак не тщеславие пустое: он ведь всегда в крестьянской одежде ходит, хоть и образование получил и мог бы наряжаться не хуже иного горожанина. До распутства он тоже не охотник, и вкуса к мотовству у него нет: довольствуется малым и шататься без дела не имеет привычки. — Так что же это в таком случае? — снова спросила Марсель, успевшая своей миловидностью и сердечностью завоевать доверие старухи. — Что же другое это может быть, по-вашему, как не любовь? — загадочно усмехнувшись, ответила мельничиха, и в ее ответе чем-то неуловимым обнаружили себя чуткость и тонкая проницательность, проявляемые обычно женщинами в отношении сердечных дел и сближающие их между собой независимо от общественного положения и возраста. — Вы правы, — сказала Марсель, подходя поближе к Большой Мари. — В молодости любовь — главная помеха душевному покою. А эта женщина, которую любит ваш сын, она, значит, богаче, чем он? — О, зачем вы так говорите — женщина? Мой бедный Луи — парень честный и не станет бегать за замужней. Это девушка, молодая девушка, да такая, что всем вышла: и сердце у нее доброе, и собой она хороша на диво. Марсель поразило сходство между любовной историей мельника и ее собственной; ее разбирало любопытство, подстегиваемое душевным волнением. — Если эта красивая и славная девушка любит вашего сына, она в конце концов пойдет за него. — Я и сама говорю себе порой, что пойдет, потому как она любит его, — это уж я точно знаю, сударыня, хотя сам Луи совсем в том не уверен. Девушка она благонравная, не из таких, что могли бы объявить мужчине: хочу, мол, за тебя, а что родители против, мне это все равно. Кроме того, она немного насмешница и любит покрасоваться; это неудивительно в ее возрасте — ведь ей всего восемнадцать годочков от роду! Ее лукавая мордашка моего бедного парня просто с ума сводит. Потому-то, когда я вижу, что ему кусок в горло нейдет, или слышу, что он ни с того ни с сего начинает орать на Софи (это нашу кобылу мы так уважительно прозвали), мне охота бывает его утешить, и тогда я не могу удержаться от того, чтобы не сказать ему, что я обо всем этом думаю. И он мне, по правде говоря, верит, потому как соображает, что я разбираюсь в женском сердце получше, чем он. А я же вижу, что красотка, встречая его, покрывается румянцем, а когда прогуливается в здешних местах, то ищет его глазами. Но напрасно я говорю это парню: только поддерживаю его безумие; лучше было бы говорить ему, что он должен выбросить ее из головы. — Но почему же? — сказала Марсель. — Любовь делает невозможное возможным. Уверяю вас, милая, что любящая женщина способна преодолеть все препятствия. — И я так думала, когда молода была. Я говорила себе, что любовь женщины как поток, что все сметает на своем пути; и дамбы и земляные валы ему нипочем. Я была богаче, чем мой Большой Жан, а все же вышла за него. Но разница была не такая, как сейчас между нами и этой барышней. Тут маленький Эдуард вдруг прервал речь мельничиху громко крикнув матери: — Мама! Погляди-ка! Анри тоже здесь!VI. Имя на дереве
Задрожав всем телом и едва не вскрикнув, Марсель стала искать глазами, что могло вызвать восклицание ребенка. Эдуард же устремил взгляд в определенном направлении и показывал пальцем на что-то; посмотрев туда же, Марсель заметила на коре одного из деревьев вырезанное ножом имя. Мальчик уже умел немного читать и легко прочитывал некоторые знакомые ему слова и кое-какие имена, которые с ним раньше, возможно, охотнее всего разбирали по буквам. Он без труда распознал имя «Анри», выведенное на гладком стволе серебристого тополя, и вообразил, будто его друг прибыл сюда следом за ним. Захваченная воображением своего сына, Марсель на мгновение поверила, что Анри Лемор сейчас предстанет перед ней, выйдя из ольховой рощи. Однако стоило ей чуть-чуть подумать, и она грустно улыбнулась, устыдясь того, что так легко поддается иллюзиям. Но мы всегда неохотно отказываемся от самой безумной надежды, и Марсель не удержалась от искушения спросить мельничиху, кто из ее семьи или среди соседей носит это имя. — Да никто, насколько мне известно, — ответила старуха, — я с таким именем никого не знаю. Правда, в Ноане — городишко тут такой есть — живет семья по фамилии Анри, но это люди вроде меня самой, писать не умеют — ни на бумаге, ни на деревьях… Только вот разве сын их… Он недавно с военной службы вернулся… Да нет! Он уж года два с лишком не показывался здесь… — Так вы не знаете, кто мог вырезать это имя? — Я не знала даже, что тут нацарапано что-то. Никогда внимания не обращала. Да коли бы и заметила, не смогла бы прочесть. А ведь средств хватало, чтобы сделать меня образованной, но в мое время такого в заводе не было. На бумагах заместо подписи ставили крест, и все было честь честью, по закону. В это время вернулся Большой Луи и сообщил, что завтрак готов. Видя, что внимание Марсели приковано к изображенному на дереве имени, мельник, отлично умевший читать и писать, но до сих пор не замечавший надписи, попытался найти объяснение этому факту. — Если я на кого и могу подумать, — сказал он, — так только на одного человека, что бродил тут недавно в наших местах. Никто другой не мог забавляться подобным образом, потому как городские у нас почти не бывают. — А что за человек побывал тут недавно? — спросила Марсель, стараясь сохранить безразличный вид. — Какой-то незнакомец, а как его имя-звание, он не сказывал, — отвечала старуха. — Мы люди не шибко ученые, но что лезть человеку в душу непорядочно — это мы Знаем. Луи по этой части на меня похож, и оба мы, не в пример нашим землякам, не любим учинять допрос посторонним людям, выведывая у них всю подноготную, и никогда не стараемся узнать ничего сверх того, что нам сами хотят рассказать. По виду этого незнакомца ясно было, что у него нет охоты ни называть свое имя, ни делиться своими намерениями. — А сам-то он так и сыпал вопросами, — заметил Большой Луи, — и мы были бы вправе сделать то же самое. Не знаю уж, почему я не решился. Однако, судя по его лицу, это не был дурной человек, и мне не стыдно за то, что я поступил по своему обыкновению; но выглядел он странновато, и мне было жаль его от души. — Как же он выглядел? — спросила Марсель, чье любопытство и нетерпение возрастали с каждым словом мельника. — Да не знаю, как и сказать, — отвечал Большой Луи, — не очень-то я его разглядывал, пока он был здесь, а как он покинул наши места, тут и стал о нем раздумывать. Помните, матушка? — Да, ты говорил мне: «Знаете, матушка, этот человек вроде меня — чего-то ему недостает в жизни, в руки не дается». — Ну, ну, не говорил я этого, — возразил Большой Луи, опасаясь, как бы мать не выдала ненароком его тайны, и не подозревая, что эта тайна уже раскрыта. Я просто говорил: «Вот чудак, он словно и не рад, что на свет родился». — А что, он был грустен? — продолжала спрашивать взволнованная Марсель. — Уж чересчур задумчивый вид был у него. Просидел он около трех часов в одиночестве прямо на земле — как раз там, где вы стоите сейчас, — уставившись на речку, будто хотел точно сосчитать, сколько воды утечет. Я подумал было, что он больной, и два раза позвал его зайти в дом и подкрепиться. Но когда я подходил к нему, он вздрагивал, словно его вдруг пробудили от сна, и глядел хмуро. А затем сразу же лицо его прояснялось, добрело, и он благодарил меня. В конце концов он согласился принять кусок хлеба и кружку воды, но ничего больше так и не взял. — Это Анри! — вскричал Эдуард, который стоял рядом, уцепившись за платье матери, и внимательно слушал разговор взрослых. — Ты ведь знаешь, мама, что Анри никогда не пьет вина! Госпожа де Бланшемон покраснела, побледнела, снова покраснела и, стараясь придать своему голосу твердость, спросила, за каким делом незнакомец явился в эту местность. — Ничего про то не знаю, — ответил мукомол. И, посмотрев пристальным и проницательным взглядом на красивое взволнованное лицо молодой женщины, подумал про себя: «Вот и у нее тоже, как и у меня, засело что-то в голове». И, желая как можно полнее удовлетворить любопытство Марсели относительно незнакомца, а заодно и свое собственное относительно чувств своей гостьи, он словоохотливо стал выкладывать подробности, каждую из которых она ловила с жадностью. Незнакомец пришел сюда пешком приблизительно две недели тому назад. Он проблуждал два дня по Черной Долине, а потом его больше не видели. Никто не знал, где он провел ночь. Мельник предполагал, что под открытым небом. По всей видимости, денег у него было не густо, однако он хотел заплатить за скромное угощение на мельнице; но, когда мельник отказался взять деньги, поблагодарил его с непосредственностью человека, который не стыдится воспользоваться гостеприимством того, кто ему ровня. Одет он был как опрятный мастеровой или небогатый горожанин-провинциал — носил блузу и соломенную шляпу, за спиной у него был небольшой ранец, и время от времени он клал его себе на колени, вынимал лист бумаги и принимался писать, словно делая для себя заметки. Побывал он, по его словам, и вБланшемоне, но там его никто не видел. Однако о ферме и о старом замке он говорил так, как если бы и впрямь видел все своими глазами. В то время как он подкреплялся хлебом и водой, он задал мельнику множество вопросов: о размерах земель, составляющих это поместье, о приносимых ими доходах, о величине ипотечного долга[121], о репутации и характере арендатора, о расходах покойного господина де Бланшемона, о соседних поместьях и так далее; в конце концов жители мельницы сочли, что он поверенный какого-то покупщика, посланный для того, чтобы собрать сведения о поместье и определить его действительную стоимость. — Дело в том, что вот-вот будет объявлено о продаже имения Бланшемон, если оно уже не продано, — добавил мельник, которого тоже, как и его земляков, порой разбирал зуд любопытства, хотя его мать и утверждала обратное. Марсель, озабоченная сейчас совсем другим, пропустила мимо ушей последнее замечание мельника. — А сколько лет могло быть этому человеку? — задала она новый вопрос. — Коли его лицо не обманывает, — сказала мельничиха, — он должен быть сверстником Луи, то бишь ему годков двадцать четыре — двадцать пять. — А… каков он на вид? Он темноволос, среднего роста? — Да, он не рослый и не со светлыми волосами, — молвил мельник, — с лица недурен, но бледен и не кажется человеком крепкого здоровья. «Это вполне мог быть Анри», — подумала Марсель, хотя портрет, нарисованный несколько грубыми чертами, не совсем соответствовал тому идеальному образу, который был запечатлен в ее сердце. — Этот человек в делах, пожалуй, не даст себя обвести вокруг пальца, — продолжал Большой Луи. — Я, желая услужить господину Бриколену, арендатору Бланшемона, который хочет приобрести его себе в собственность, и для того, чтобы отбить у этого молодчика охоту покупать поместье, нарочно преуменьшил его цену, но парень не попался на удочку. «Земля эта стоит столько-то, не больше и не меньше», — говорил он и с легкостью высчитывал в уме прибыль, налоги, издержки, так что видно было: в этом деле он смыслит, и ему не нужно долгих разговоров за бутылкой вина, по обычаю нашего края, чтобы разобраться, стоит овчинка выделки или не стоит. «Да ну, я совсем с ума сошла! — подумала госпожа де Бланшемон. — Это какой-то чужой человек, что-то вроде посредника, которому поручено поместить капитал в земли, а его печальный вид, одинокие размышления на берегу реки, — все это просто было вызвано жарой и утомлением. И то, что он носил имя Анри, — чистая случайность, если еще именно он это имя написал. Анри никогда не занимался делами, никогда не знал стоимости какого-либо имущества, не знал, откуда берутся и как оцениваются те или иные богатства… Нет, нет, это не он! Кроме того, разве две недели тому назад он не находился в Париже? Прошло всего три дня, как я его видела, и он мне не говорил о том, что недавно отлучался из столицы. Да и что ему было делать в Черной Долине? Знал ли он хотя бы, что поместье Бланшемон, о котором я как будто ему никогда даже слова не сказала, расположено именно в этой провинции?» Не без усилия оторвав взгляд от таинственной надписи, вызвавшей у нее столь напряженную работу мысли, Марсель направилась вместе с хозяевами в дом, где уже был приготовлен превосходный завтрак. На массивном столе, накрытом белоснежной скатертью, появились пшеничная каша с молоком (излюбленное блюдо в этой местности), грушевая запеканка со сметаной, форель, только что выловленная Большим Луи в Вовре, совсем молодые, нежные цыплята, препровожденные прямо с птичьего двора на решетку очага, салат, политый кипящим ореховым маслом, козий сыр, оладьи и не совсем еще спелые фрукты; от всего Этого у маленького Эдуарда разбежались глаза. Приборы для обоих слуг и для хозяев мельницы были расставлены на том же столе, за который усадили госпожу де Бланшемон, и мельничиха немало удивилась, когда Лапьер и Сюзетта отказались сесть рядом со своей хозяйкой. Но Марсель потребовала от слуг, чтобы они подчинились сельскому обычаю, и с удовольствием впервые приобщилась к жизни на началах равенства, которая так манила ее. Мельник держался просто, несколько угловато, хотя и отнюдь не бесцеремонно. Его мать была много обходительнее и, несмотря на то, что Большой Луи, предпочитавший здравый смысл всяким условностям, сдерживал ее пыл, слишком усердно потчевала гостей, не принимая во внимание ограниченных возможностей человеческого аппетита; но хлебосольство Большой Мари было таким искренним, что Марсели и в голову не пришло увидеть в нем какую-то навязчивость. Старуха была мужественна и умна, и сын по всем статьям пошел в мать. Но, в отличие от нее, он окончил начальную школу, откуда вынес запас наиболее необходимых в жизни знаний. Он был грамотен и понимал намного больше, чем стремился выказать перед людьми. Беседуя с ним, Марсель обнаружила у него больше глубоких мыслей, здравых понятий и природного вкуса, чем могла ожидать от Долговязого Мукомола, встреченного ею накануне в гостинице. Все это было тем ценнее, что Большой Луи вовсе не норовил произвести впечатление, не рисовался, а, напротив, нарочно держался грубоватой крестьянской манеры, хотя невежей не был и умел вести себя вполне учтиво. Казалось, он пуще всего боится прослыть деревенским умником и должен глубоко презирать тех, кто отрекается от своего доброго корня, от честного крестьянского сословия и корчит из себя невесть что, всем на посмешище. Говорил он большей частью правильно, не пренебрегая, впрочем, немудреными, но красочными местными речениями. Забываясь, он начинал говорить совершенно чистым языком, и тогда трудно было поверить, что он простой мельник. Но вскоре он спохватывался, словно застеснявшись того, что отошел от своей среды, и возвращался к своим беззлобным шуточкам и дружелюбно-фамильярному тону. Однако Марсель оказалась в несколько неловком положении: около семи часов утра явился колымажник, готовый к дальнейшим услугам, и она, прощаясь с хозяевами, захотела расплатиться с ними, но они наотрез отказались от денег. — Нет, милая сударыня, нет, — спокойно, но твердо заявил мельник. — Мы не трактирщики. Мы могли бы ими быть и тем не уронили бы себя. Но раз унт мы не трактирщики, то и не возьмем ничего. — Как же так! — воскликнула Марсель. — Я вам причинила неудобство, ввела вас в расход, а вы не позволяете мне отблагодарить вас? Ведь ваша матушка отдала мне свою комнату, я заняла вашу кровать, а вы сами провели ночь на сеновале. Сегодня поутру вы оставили все свои дела и отправились удить рыбу. Матушка ваша разводила очаг, хлопотала все утро, и, наконец, мы потребили у вас некое количество снеди. — О, матери отлично спалось нынче ночью, а мне еще лучше, — ответил Большой Луи. — Форель не стоит мне ни гроша; сегодня воскресенье, а по воскресеньям я обычно провожу утро за рыбной ловлей. Из-за того, что вам на завтрак пошло немного молока, хлеба, муки да курятины, мы, право, не разоримся. Так что услуга невелика, и вы можете принять ее со спокойной душой. Мы вас за это не упрекнем, тем более что, может, никогда с вами и не увидимся. — Надеюсь, что еще увидимся, — ответила Марсель, — я рассчитываю пробыть в Бланшемоне по крайней мере несколько дней и собираюсь нагрянуть к вам снова — поблагодарить вашу матушку и вас за гостеприимство, которым мне все же совестно воспользоваться просто так. — А чего там совеститься принять небольшую услугу от порядочных людей? Коли вам от их радушия была приятность, то вы уже сквитались с ними. Я знаю, что в больших городах платят за все, даже за стакан воды. Это худой обычай, в деревне принято по-иному: у нас люди чувствовали бы себя несчастными, когда бы не могли оказывать друг другу содействие то в одном, то в другом. Ну, полно, хватит толковать об этом. — Значит, вы не хотите, чтобы я снова пришла позавтракать у вас? Вы заставляете меня отказаться от этого удовольствия или повести себя нескромно? — Нет, это дело другое. Мы только исполнили свой долг, оказав вам, как вы говорите, гостеприимство; потому что мы сызмала привыкли считать это своим долгом; и хотя Этот хороший обычай понемногу сходит на нет, хотя бедняки, не спрашивая платы за небольшие услуги, тем не менее принимают почти все, чем их награждают при прощании, мы, моя мать и я, держимся того мнения, что старые правила незачем менять, коли они хороши. Будь здесь в окрестностях сносный постоялый двор, я бы препроводил вас туда вчера вечером, думая, что там вы расположитесь удобнее, чем у нас, а что вам хватит денег заплатить за предоставленный кров — в этом я не сомневался. Но постоялого двора тут нет, ни хорошего, ни плохого, и надо было быть бессердечным человеком, чтобы оставить вас на ночь под открытым небом. Что ж, по вашему мнению, я мог бы пригласить вас к себе с намерением содрать с вас деньги? Нет, не мог бы, потому что, как я уже вам доложил, я не трактирщик. Вы же видите: у нас над воротами нет ни дрока, ни терновника[122]. — Я должна была заметить это, входя в дом, и вести себя поскромнее, — сказала Марсель. — Но вы мне не ответили на мой вопрос. Вы не хотите, чтобы я снова навестила вас? — Это совсем другое дело! Я приглашаю вас к нам в любое время, когда вы пожелаете. Вам приглянулся наш уголок, а мальчику пришлись по вкусу наши оладьи. Поэтому я осмеливаюсь сказать, что когда бы вы ни надумали посетить нас, вы сделаете нам этим только приятное. — И вы заставите меня, как сегодня, безвозмездно воспользоваться вашим гостеприимством? — Да ведь я же приглашаю вас в гости! Или я не сумел ясно выразить свои мысли? — И вы не считаете, что с моей стороны это значило бы злоупотребить вашим радушием? — Нет, не считаю. Когда человека приглашают куда-нибудь, он вправе принять приглашение. — Вот, значит, как! — произнесла госпожа де Бланшемон. — Что ж, я вижу, вы знаете, что такое истинная учтивость, не в пример нашему светскому обществу. Вы открыли мне, что крайняя щепетильность, которой так похваляются в нашей среде и которая, к несчастью, действительно необходима в ней, уместна лишь там, где с некоторых пор подлинная благожелательность сменилась пустыми любезностями, а внешняя обходительность перестала выражать искреннее стремление услужить ближнему. — Хорошо сказано! — произнес мельник, и в его взгляде сверкнул живой ум. — Я как раз от души рад, что мне представился случай оказать вам услугу, даю вам слово! — В таком случае вы не откажетесь быть моим гостем, когда вам доведется попадать в Бланшемон? — Ах, вот это уж извините! В гости к вам я не пойду. Зайду, как обычно, к вашим арендаторам, принесу им муку; а вам от души пожелаю доброго здоровья — но и все тут. — Ай-ай-ай, господин Луи, значит позавтракать у меня вы не хотите? — Да не то чтобы не хочу… Я часто закусываю у ваших арендаторов, но, коли вы будете там, все уже будет по-другому. Вы особа знатная, и тем все сказано. — Объяснитесь, я не понимаю вас. — Ну, рассудите, разве вы не сохранили обычаи прежних сеньоров? Вы ведь, наверно, отправили бы мельника Завтракать на кухню, в общество ваших слуг, а сами бы там и не появились! Меня бы это ничуть не унизило, — ведь сегодня у себя дома я сидел за одним столом с вашими слугами, — но мне показалось бы странным, что в своем доме я могу посадить вас рядом с собой, а в вашем доме не могу позволить себе сесть в уголке у очага, да чтобы ваш стул стоял рядом с моим. Я, видите ли, человек не без своей гордости. Вас я осуждать не стал бы — у всякого свои воззрения и обычаи; но мне-то не к чему подчиняться чужим порядкам, коли меня к этому никто не принуждает. Рассудительность и смелая откровенность мельника произвели на Марсель глубокое впечатление. Она поняла, что он дал ей превосходный урок, и порадовалась тому, что ее планы в отношении устройства своей жизни в будущем позволяют ей выслушать этот урок не краснея. — Господин Луи, — сказала она, — вы ошибаетесь на мой счет. Не моя вина, что я принадлежу к аристократии; но, по счастью или в силу стечения обстоятельств, я не желаю больше следовать ее обычаям. Если вы придете ко мне, я не забуду, что вы принимали меня как равную и просто, по-дружески позаботились обо мне; я докажу вам, что умею быть благодарной, и охотно сама поставлю приборы для вас и вашей матушки на своем столе, так же как вы это сделали сегодня для меня. — Правда? Именно так вы и поступили бы? — спросил мельник, смотря на Марсель взглядом, в котором можно было одновременно прочесть удивление, легкое недоверие и дружескую симпатию. — В таком случае я приду… Да нет, не приду все-таки… Потому как вижу, что вы уж очень добропорядочны по своей натуре. — Опять не понимаю, что вы имеете в виду. — Ах, черт возьми! Коли вы не понимаете… Мне будет трудновато растолковать вам яснее. — Да что ты, Луи, спятил, что ли? — сказала старуха, которая все это время с серьезным видом вязала, прислушиваясь к разговору. — Где только ты набрался всех этих мыслей, что ты сейчас вываливаешь перед нашей милой госпожой? Вы уж извините, сударыня, моего сынка: он парень шалый, всем без разбору говорит прямо в лицо, что ему в голову придет. Но не надо на него сердиться за это. Душа-то у него добрая, и вот я сейчас по нему вижу, что он готов за вас в огонь пойти. — В огонь, может, и нет, а в воду — пожалуйста, это моя стихия! — со смехом отозвался мельник. — Вы же видите, матушка: наша гостья — женщина с головой, ей можно сказать все, что думаешь. Я и господину Бриколену, ее арендатору, выкладываю все, что у меня на уме, а ведь его следует здесь бояться куда больше, чем ее. — Скажите же, мэтр Луи, что вы имели в виду: я горю желанием просветиться. Почему то, что я по своей натуре добропорядочна, мешает вам прийти ко мне? — Потому, что нашему брату не пристало быть с вами на короткой ноге, а вам не пристало обращаться с нами как с равными. Это навлекло бы на вас неприятности. Люди вашего круга осудили бы вас, сказали бы, что вы забываете свое положение в обществе, а я знаю, что в их глазах это считается очень дурным делом. И затем, если вы будете добры к нам, вам придется быть доброй и со всеми прочими, иначе появятся завистники и мы наживем себе врагов. У каждого в жизни должна быть своя дорога. Говорят, мир сильно изменился за последние пятьдесят лет; а я так скажу, что ничего не изменилось, кроме наших мнений. Мы не хотим больше подчиняться никому, и вот вам к примеру: я на многое смотрю по-иному, чем моя матушка, женщина честная, которую я — заметьте — притом очень люблю. Но мнения богатых и знатных такие же, какими были всегда. Ежели вы отречетесь от этих мнений, ежели в вас совсем не будет презрения к беднякам и вы станете выказывать им такое же внимание, как людям вашего круга, — тем хуже будет для вас. Мне часто доводилось видеть господина де Бланшемона, вашего покойного мужа, — некоторые еще называли его сеньором бланшемонским. Он приезжал сюда каждый год дня на два — на три. К нам он обращался только на ты — и добро бы по дружбе, так ведь нет же, из чистого презрения; с ним надо было разговаривать стоя и непременно сняв шляпу. Мне это было не слишком по вкусу. Однажды он меня встретил на дороге и велел придержать под уздцы его коня. Я сделал вид, что не слышу. Он обозвал меня болваном, но я только искоса взглянул на него. Не будь он таким хилым да тщедушным, я бы с ним поговорил как следует. Но это было бы низко с моей стороны, и я пошел дальше своей дорогой, распевая песню. Был бы этот человек жив сейчас да услыхал бы он, как вы со мной говорите, вряд ли бы это ему понравилось. Да что там! Не далее как сегодня по физиономиям наших слуг было ясно видно, что, на их взгляд, вы обращаетесь с нами и даже с ними самими слишком запанибрата. Так вот, сударыня, уж лучше вы как-нибудь прогуляйтесь к нам на мельницу, а для нас, хоть мы вас и полюбили, не дело рассиживаться за столами у вас в замке. — За одно это слово «полюбили» я вам прощаю все остальное, но непременно постараюсь вас переубедить, — сказала Марсель, протягивая руку мельнику; выражение благородной чистоты на ее лице невольно вызывало уважение, а вся ее повадка внушала к ней самое теплое чувство. Мельник покраснел, забрав в свою огромную ручищу ее нежную ручку, и в первый раз оробел перед Марселью, как дерзкий, но добрый ребенок, чья заносчивость вдруг сникла под наплывом искреннего волнения. — Я поеду верхом на Софи и провожу вас до Бланшемона, — сказал он после нескольких секунд неловкого молчания, — а то ваш горе-возница может снова завезти вас куда-нибудь не туда, хотя отсюда до места уже недалеко. — Согласна, — сказала Марсель. — Вы все еще будете считать, что я гордячка? — Я считаю… я считаю… — воскликнул Большой Луи, поспешно устремляясь к дверям, — что если бы все богатые женщины были такими, как вы… На этом фраза была оборвана, но мельникова мать взялась докончить ее: — Он думает, — сказала она, — что будь его любимая такой же негордой, как вы, — не знать бы ему столько горя. — А не могу ли я быть ему полезной? — спросила Марсель, не без удовольствия подумав о том, что она богата и бескорыстно щедра. — Разве что ежели замолвите за него словечко перед барышней — вы ведь с ней скоро познакомитесь. Да нет, ничего не выйдет, больно уж она богата. — Мы еще поговорим об этом, — сказала Марсель, увидев своих слуг, пришедших за ее вещами, — я нарочно приеду снова, скоро приеду, — может быть, даже завтра. Рыжий грубиян колымажник провел ночь под деревом, так как в темноте не смог обнаружить во всей Черной Долине ни одного дома. Когда рассвело, он увидел мельницу, нашел себе в ней приют, подкрепился сам и накормил лошадь. Находясь в дурном расположении духа, он готов был дерзко ответить на упреки, которых не без основания ожидал. Но Марсель не стала упрекать парня, а мукомол вместо упреков осыпал его такими насмешками, что последнее слово осталось не за ним и он с виноватым видом взгромоздился на свою оглоблю. Эдуард упросил мать позволить ему ехать верхом вместе с мельником, и тот ласково взял его на руки, тихонько сказав мельничихе: — Вот если бы у нас был такой пострел, то-то весело было бы в доме, правда, матушка? Но только никогда тому не бывать! И старуха поняла, что он никогда не согласится жениться ни на одной девушке, кроме той, на чью руку он, судя по всему, рассчитывать не мог.VII. Бланшемон
Расцеловав старуху и тайком щедро наградив работника и девочку-служанку, Марсель весело забралась снова в ужасную колымагу. Первый опыт равенства вдохновил ее, и будущее ее любви представлялось ей в самом розовом свете — именно таким, каким она его замыслила. Но только она увидела Бланшемон, дух ее сильно омрачился, а когда она переступила границу своего имения, у нее больно сжалось сердце. Следуя вверх по течению Вовры, вы поднимаетесь по довольно крутому склону и в конце концов оказываетесь на Бланшемонском холме. Здесь расположена красивая лужайка, обсаженная несколькими старыми деревьями; она господствует над окружающей местностью, и хотя открывающийся с нее вид не самый просторный в Черной Долине, но ландшафт очарователен: он густо-зелен, пустынен и кажется первозданным ввиду малочисленности жилищ, соломенные или черепичные кровли которых с трудом можно различить между деревьями. Домишки поселка раскиданы по холму, склон которого спускается к реке, образующей в этом месте красивые извивы; здесь же притулилась бедная церквушка. Отсюда широкая ухабистая дорога ведет к замку, стоящему несколько поодаль от холма, среди пшеничных полей. Вы возвращаетесь на равнину и теряете из виду прекрасные, синеющие вдали просторы Берри и Марша. Нужно подняться на верхний этаж замка, чтобы вновь увидеть их. Замок никогда не мог служить надежной защитой его обитателям: стены имеют внизу толщину не более пяти-шести футов, возвышающиеся над ними башни — всего лишь висячие эркеры. Сооружение это возникло уже в конце феодальных войн. Однако небольшие размеры дверных проемов, малое число окоп, множество обломков, оставшихся от стен и башенок, которые составляли наружный крепостной вал, — все это говорит о временах, когда люди не доверяли друг другу и прятались за укрытия от внезапных нападений. Замок представлял собой довольно изящное прямоугольное здание, на каждом этаже которого, начиная со второго, размещалось по одной большой зале и по четыре меньших комнаты — внутри угловых башен; к задней стене примыкала еще одна башня, заключавшая в себе единственную замковую лестницу. Часовня стояла отдельно, так как помещения для челяди, некогда соединявшие ее с замком, разрушились; рвы были наполовину заполнены землей и щебнем, башенки крепостного вала обезглавлены, а пруд, подступавший к самому зданию с северной стороны, превратился в красивую продолговатую луговину с небольшим источником посредине. Но вид старого замка, все еще живописный, поначалу лишь ненадолго привлек к себе внимание его наследной владелицы. Мельник помог ей выбраться из повозки и повел ее в направлении к новому замку (так он выразился) и обширным угодьям фермы, расположенным около руин какой-то древней крепости. Строения фермы обрамляли огромный двор, отгороженный с одной стороны зубчатой стеной, а с другой живой изгородью и рвом, наполненным стоячей водой. Нельзя было вообразить себе ничего более унылого и уродливого, чем это обиталище богатого арендатора. Новый замок был просто большим крестьянским домом, построенным лет пятьдесят тому назад из обломков крепости. Однако прочные свежевыбеленные стены и новая кровля из ярко-красной черепицы свидетельствовали о том, что дом недавно подновили и привели в порядок. С омоложенным снаружи новым замком резко контрастировали дряхлые с виду служебные постройки и невероятно грязный двор. Строения имели мрачный облик и явно простояли уже многие и многие годы, но были еще прочны и поддерживались в приличном состоянии. То были многочисленные амбары и хлевы, составлявшие гордость хозяина и предмет восхищения всех земледельцев края. Они стояли вплотную друг к другу, образуя сплошную стену вокруг двора. Но будучи весьма полезны для сельскохозяйственных нужд и вполне соответствуя своему назначению — хранить зерно и укрывать скотину, они суживали кругозор и подавляли воображение человека, замыкая его ограниченным участком пространства, отвратительно грязным и крайне прозаичным. Огромные навозные кучи, не помещавшиеся в специально вырытых и обложенных камнем четырехугольных ямах, поднимались над ними еще на десять — двенадцать футов и испускали зловонные струи, которые свободно стекали вниз по уклону и обогревали огородную рассаду. Эти запасы удобрений представляют собой достояние, которое земледелец ценит превыше всего; они ласкают его взор, и сердце его наполняется радостью и ликованием, когда зашедший в гости сосед глядит на них с восторгом и завистью. В маленьких крестьянских хозяйствах они не оскорбляют глаз и душу художника, ибо разбросаны понемногу там и сям, и наваленные вокруг орудия сельского труда, а также все обрамляющая зелень скрывают их или делают не столь отталкивающими. Но ничего нет омерзительнее, чем горы нечистот, громоздящихся в крупных хозяйствах на весьма обширной площади. Тучи индюков, гусей и уток заботятся о том, чтобы и на те места, которые пощажены навозными истечениями, нельзя было спокойно поставить ногу. Через весь участок, неровный и голый, проходит обычно мощеная дорожка; в описываемом нами случае она была не более удобной для передвижения, чем остальная территория. Земля была буквально усеяна обломками прежней кровли нового замка, и приходилось ступать прямо по битой черепице. Между тем прошло уже с полгода, как кровля была переложена; но восстановительные работы входили в обязанности владельца поместья, а уборка мусора и очистка двора были делом арендатора. Последний намеревался выполнить, что требовалось, когда минует летняя страда и у его работников дойдут руки до Этого дела. Тут действовали, с одной стороны, расчет, что таким образом можно будет сэкономить на нескольких днях поденной оплаты специально нанятым рабочим, с другой — глубокое равнодушие истинного беррийца, который всегда оставляет что-нибудь неоконченным, словно в нем после некоторого усилия деятельное начало иссякает и ему настоятельно требуется отдохнуть, испытать блаженное чувство освобождения от дела, хотя бы и не доведенного до конца. Марсель мысленно сравнила это грубое и низменное «добро» с поэтичным, хотя и достаточно благоустроенным, домашним обиходом мельника. Она уже собиралась было высказать ему свои соображения на этот счет, но, оглушенная пронзительными криками перепуганных и застывших от страха на месте индюков, шипением гусынь и заливистым лаем нескольких рыжих и тощих собак, не смогла произнести ни слова. Так как был воскресный день, быки находились в хлеву, а батраки в праздничной одежде, то есть с головы до пят облаченные в голубое прусское сукно, толпились у ворот. Они с изумлением выпялились на колымагу, но ни один не пошевелился, чтобы принять гостей и оповестить арендатора об их прибытии. Большому Луи пришлось самому представлять хозяевам госпожу де Бланшемон; он не стал церемониться и, войдя без стука, произнес: — Выходите-ка, госпожа Бриколен! Приехала госпожа де Бланшемон и желает вас видеть. Неожиданное известие как громом поразило трех принадлежавших к семейству Бриколенов особ женского пола, которые только что вернулись от заутрени и теперь, стоя, легко закусывали; они окаменели и только поводили глазами из стороны в сторону, как бы спрашивая друг друга, что следует говорить и делать в подобных обстоятельствах. Женщины еще не успели сдвинуться с места, как вошла Марсель. Группа, которую она узрела, состояла из представительниц трех поколений; то были: матушка Бриколен, которая не умела ни читать, ни писать и была одета по-крестьянски; госпожа Бриколен, супруга арендатора, одетая несколько лучше, чем ее свекровь, и державшаяся на манер домоправительницы священника (она умела разборчиво подписывать свое имя и находить в Льежском альманахе[123] часы восхода солнца и фазы луны); наконец, мадемуазель Роза Бриколен, хорошенькая и свеженькая, как настоящая майская роза (она читала романы, вела книгу домашних расходов и умела танцевать кадриль); ее волосы не были ничем прикрыты; красивое платье из розового муслина великолепно обрисовывало ее стройную фигуру, хотя покрой его был, пожалуй, слишком облегающим и корсаж и рукава, в соответствии с последней модой, были чересчур узки. Глянув на прелестное личико Розы, одновременно лукавое и наивное, Марсель была полностью вознаграждена за неприятное впечатление, произведенное на нее недоброй и кислой физиономией мамаши. Загорелое и морщинистое лицо бабушки — лицо настоящей крестьянки — несло на себе печать прямодушия и достоинства. Все три женщины были в замешательстве: матушка Бриколен размышляла, не эта ли самая красивая дама наведывалась порою сюда, в Бланшемон, тридцать лет тому назад; иначе говоря, ей казалось, что она видит перед собой мать Марсели, хотя ей было хорошо известно, что та давно уже умерла; госпожа Бриколен досадовала на то, что, вернувшись из церкви, слишком быстро надела кухонный передник поверх своего коричневого платья из мериносовой шерсти, а в головке мадемуазель Бриколен пробежала приятная мысль о том, что на ней платье с иголочки и превосходная обувь и что благодаря воскресному дню изысканная парижанка но застигла ее за какой-либо домашней черной работой и ей не приходится краснеть. В гладах семейства Бриколенов госпожа де Бланшемон всегда была загадочным существом, которое никто не видал от века и, без сомнения, никогда не увидит, хотя, возможно, оно где-то и обитает в подлунном мире. Супруга ее знали; его не любили за высокомерие, не уважали за мотовство и почти не боялись, так как он всегда нуждался в деньгах и всеми правдами и неправдами вымогал вперед часть арендной платы. После его смерти Бриколены полагали, что им придется иметь дело только со стряпчими, поскольку покойный господин де Бланшемон не раз говорил, показывая подпись своей жены, которую та давала ему безотказно: «Госпожа де Бланшемон — дитя; никогда она не станет заниматься сама этим; ей и в голову не приходит думать, откуда у нее деньги, — только бы я ей доставлял их». Само собой разумеется, муж относил на счет разорительных вкусов жены свои бешеные затраты на любовниц. В бланшемонском поместье даже отдаленно не догадывались, каков истинный характер молодой вдовы, и госпоже Бриколен показалось, что ей снится сон, когда она увидела на своей ферме самой госпожу де Бланшемон во плоти. Следовало радоваться или огорчаться по этому поводу? Хорошим или дурным предзнаменованием для благополучия Бриколенов надо считать этот непонятный визит? И чего сейчас ожидать — требований или просьб? Покуда арендаторша, размышляя над этими, внезапно возникшими перед нею трудными вопросами, разглядывала Марсель, подобно насторожившейся козе, которая при появлении собаки из чужого стада становится в оборонительную позицию, Роза Бриколен, сразу проникшаяся симпатией к приветливой и непритязательно одетой гостье, осмелилась сделать два шага ей навстречу. Бабушка была смущена менее всех. Придя в себя от охватившего ее в первый момент изумления и поняв наконец, с кем она имеет дело (для чего ее ослабевшему уму понадобилось сделать некоторое усилие), она с внезапной непосредственностью подошла к Марсели и приветствовала ее примерно в тех же выражениях, что и мельничиха из Анжибо, хотя и не выказала при этом столь же изысканной учтивости. Двух других женщин несколько успокоили написанные на лице Марсели беззлобность и благожелательность, и когда она деликатно попросила оказать ей гостеприимство на два-три дня ввиду необходимости обсудить с господином Бриколеном свои дела, они стали наперебой предлагать ей позавтракать с ними. Марсель отказалась, сославшись на то, что час назад ее потчевали отличным завтраком на мельнице в Анжибо, и тогда, впервые за все время, взгляды трех женщин обратились к Большому Луи, который, стоя у дверей, беседовал со служанкой о муке, видимо нарочно, ради того, чтобы иметь предлог побыть здесь еще немного. Все три смотрели на него по-разному: бабушка — дружелюбно, ее невестка — с нескрываемым презрением, а Роза — как-то неопределенно: в ее взгляде как бы отражалось сразу и бабушкино и маменькино отношение к мельнику, но какое чувство преобладало — разобрать было нельзя. Когда Марсель вкратце поведала о своих злоключениях Этой ночью, госпожа Бриколен воскликнула одновременно скорбным и насмешливым тоном: — Как! Вам пришлось заночевать на мельнице! А мы-то ничего об этом не знали! Почему же этот дурень мельник не доставил вас прямо к нам? Ах, боже мой! Как худо, должно быть, спали вы этой ночью, ваша милость! — Напротив, превосходно спала. Меня устроили по-королевски, и я бесконечно признательна господину Луи и его матушке. — Ничего удивительного, — вставила свое слово матушка Бриколен. — Большая Мари — славная, работящая женщина и дом свой в большой чистоте содержит! Мы с ней в молодые годы подругами были, вместе — прошу прощения у вашей милости — овец пасли, обе мы были в те времена, по словам людей, недурны собой, хотя теперь об этом и не догадаешься, не правда ли, ваша милость? Знаний да умений было у нас — что у одной, что у другой — не больно как много: обе умели прясть, вязать да сыр варить — вот и все. А замуж мы вышли совсем по-разному: ее суженый был бедней, чем она, а мой — богаче, чем я. Но каждая, заметьте, вышла по любви! Такое редко бывает в нынешнее время; теперь женятся да замуж выходят не иначе, как ради денежной выгоды, и в счет идут экю, а не чувства. Да разве это лучше, как вы полагаете, ваша милость? — Я совершенно согласна с вашим мнением, — отвечала Марсель. — Ах, боже мой, матушка, что вы тут турусы на колесах разводите перед госпожой! — резко вмешалась госпожа Бриколен. — Думаете, ей интересно слушать ваши россказни о том, что было когда-то? Слушай, мельник! — обратилась она повелительным тоном к Большому Луи. — Сходи за господином Бриколеном; он, верно, в заказнике[124] или на овсяном поле за домом. Скажешь ему, чтобы шел сюда приветствовать госпожу. — Господина Бриколена нет сейчас ни в заказнике, ни на овсяном поле, — живо отвечал Большой Луи, явно желая поддразнить арендаторшу, но притом глядя на нее ясными глазами. — По дороге сюда я видел его в доме священника: они там вдвоем прикладывались к бутылке. — Верно, верно, — подтвердила матушка Бриколен, — там он и должен быть сейчас. Господин кюре у нас охоч выпить и закусить после воскресной заутрени и не любит делать это в одиночку. Луи, сынок, ты ведь парень услужливый, сходишь за ним, а? — Иду, — ответил мельник, до сих пор, несмотря на распоряжение арендаторши, не трогавшийся с места, и поспешным шагом вышел из комнаты. — Не много же вам надо, — проворчала госпожа Бриколен, хмуро посмотрев на свекровь, — коли такого, как вот Этот, считаете услужливым человеком. — Ах, мама, не говорите так, — зазвучал нежный голосок красавицы Розы. — У Большого Луи по-настоящему доброе сердце. — А какой тебе прок в его добром сердце? — парировала Бриколенша со все возрастающим раздражением. — И что он вам обеим дался в последнее время? — Нет, мама, это тебе он стал почему-то неугоден в последнее время, — возразила Роза, которая, по-видимому, не очень боялась матери, зная, что всегда может рассчитывать на поддержку бабушки. — Ты с ним всегда обходишься неласково, а ведь тебе известно, что папа его уважает, и даже очень. — Вместо того чтобы рассуждать, — сказала арендаторша, — ты бы лучше пошла да прибрала в своей комнате: она больше других подходит для госпожи, а ей, может быть, хочется отдохнуть до обеда. Ее милость извинит нас, коли у нас ей будет житься не так удобно, как она привыкла. Только в прошлом году покойный господин де Бланшемон согласился немного подправить новый замок, обветшавший уже не меньше старого, и только тогда мы смогли начать обставляться более или менее так, как следовало после возобновления контракта. Но ничто не доведено еще до конца: комнаты не оклеены обоями, и мы ждем комодов и кроватей, которые нам должны доставить из Буржа, но пока не доставили. Кое-какие вещи пришли, но мы их не успели еще распаковать. Рабочие перевернули тут все вверх дном, и с тех пор нам никак не выбраться из беспорядка. Неполадки в домашнем быту Бриколенов, о которых без большой охоты рассказала арендаторша, имели вполне определенные причины, как и те неисправности, что Марсель заметила во внешнем облике усадьбы. Из-за своей скаредности и бездеятельности эти люди растягивали все затраты на долгие сроки и сами отдаляли на неопределенное время момент, когда они смогут наконец насладиться роскошью, к которой стремились и которую могли, но все еще не решались себе позволить. Унылая закопченная комната, где их Застигла владелица поместья, была самым уродливым и самым неопрятным помещением в новом замке. Она служила одновременно кухней, столовой и гостиной. Входная дверь в первом этаже была постоянно открыта, и куры имели свободный доступ в комнату; изгнание их было одним из постоянных занятий арендаторши, приносившим ей известное удовлетворение, поскольку борьба с непрерывными вторжениями домашней птицы поддерживала в ней гневливость и непреклонность, необходимые для осуществления ее постоянной потребности распоряжаться и наказывать. В этом помещении принимали крестьян, с которыми приходилось часто общаться по разным делам; а так как их грязная обувь при неумении себя вести неизбежно портила бы паркет и мебель, здесь не держали ничего, кроме грубых плетеных стульев и деревянных скамеек, расставленных на голом каменном полу, который напрасно подметался по десять раз на дню. Мухи, которые словно облюбовали это место для каких-то своих парадных сборищ, и огонь, горевший во всякий час и во всякое время года в большом камине, украшенном всех размеров крючками для посуды, делали пребывание в этой комнате в летнее время крайне неприятным; и, однако, семейство находилось постоянно именно здесь, и когда Марсель провели в соседнюю комнату, она сразу увидела, что помещением этим, обставленным как некое подобие гостиной, еще не пользовались, хотя меблировали его уже не менее, как год назад. Здесь царила грубая роскошь трактирных номеров. Паркет, совершенно новый, не был еще ни натерт, ни даже покрыт мастикой. Занавеси из пестрого ситца были подвешены к карнизам литыми медными украшениями отвратительного вкуса. Убранство камина было под стать показному богатству и безобразию этих украшений — подделок под стиль эпохи Возрождения. В комнате стоял круглый столик дорогой выделки; за ним предполагалось когда-нибудь пить кофе; но покамест все его накладки из позолоченной бронзы были обернуты бумагой и обвязаны веревочками; столик был накрыт чехлом в красных и белых квадратах, под которым шелковому узорчатому штофу предстояло ветшать, не видя света; и так как на фермах еще не умеют отличать гостиной от спальни, вдоль комнаты, справа и слева от входа, стояли две кровати красного дерева, еще без пологов, изголовьями против окна. В семействе говорилось на ушко, что это будет комната Розы, когда она выйдет замуж. Марсели в этом доме показалось так неприютно, что она не захотела там оставаться. Она заявила, что не желает и в малой мере обеспокоить хозяев и поищет в поселке какой-нибудь крестьянский дом, где можно будет поселиться, если только в старом замке не окажется комнаты, пригодной для жилья. Это намерение вызвало явную озабоченность у госпожи Бриколен, и она приложила все старания, чтобы отговорить от него гостью. — Правда, — сказала она, — в старом замке есть комната, которую называют хозяйской; когда господин барон, ваш супруг, оказывал нам честь, приезжая сюда, то всегда писал нам заранее, предупреждая о своем прибытии, и мы приводили все в порядок, чтобы он не чувствовал себя там совсем уж худо. Но этот несчастливый замок такой убогий, такой запущенный; крысы и ночные птицы учиняют там ужасный шум, кровля вся прохудилась, стены расшатаны, так что там, пожалуй, и не уснешь. Никак не возьму в толк, что за пристрастие было у господина барона к этой комнате. Наших приглашений он не принимал и, видать было, считал бы для себя унижением провести хоть одну ночь здесь, не под крышей своего старого замка. — Я погляжу, что это за комната, — сказала Марсель, — и если в ней есть потолок и стены, то больше мне ничего не нужно. А покамест убедительно прошу вас ничего не менять в вашем доме ради меня. Я никоим образом не желаю быть для вас обузой. Роза высказалась в том смысле, что ей, напротив, было бы очень приятно уступить свою комнату госпоже де Бланшемон, и слова, которые она нашла для этого, были так любезны, а личико ее так приветливо, что благодарная Марсель дружески пожала ей руку, не изменив, однако, своего решения. Отталкивающее впечатление от нового замка и безотчетная неприязнь к госпоже Бриколен заставили ее упорно отклонять гостеприимство в этом доме, тогда как на мельнице она охотно согласилась воспользоваться им. Она все еще сопротивлялась преувеличенно любезным уговорам арендаторши, когда появился господин Бриколен.VIII. Разбогатевший крестьянин
Господин Бриколен был пятидесятилетний мужчина крепкого телосложения, с правильными чертами лица. Но он уже располнел, и его коренастая фигура раздалась, как это случается со всеми состоятельными крестьянами, которые, проводя целые дни на воздухе, разъезжая большей частью верхом и ведя жизнь деятельную, но не требующую чрезмерного напряжения, устают ровно настолько, чтобы сохранять завидное здоровье и превосходный аппетит. Благодаря свежему воздуху и постоянному движению эти люди могут известное время безнаказанно предаваться чревоугодию, и хотя их будничная одежда мало отличается от крестьянской, с первого же взгляда видно, что они не простые селяне. Тогда как крестьянин обычно худ и статен, а лицо его покрыто загаром, что по-своему красиво, сельский буржуа к сорока годам приобретает солидное брюшко, грузную походку и багровый цвет лица. И в результате его внешность, будь он прежде хоть каким раскрасавцем, огрубляется и обезображивается. Среди этих бывших крестьян, которые в молодые годы вынужденно вели скромную жизнь, а потом сколотили себе состояние, едва ли найдется хоть один, кто впоследствии не раздобрел и чей цвет лица не претерпел указанного выше изменения. Ведь решительно всем известно, что когда крестьянин начинает вволю есть мясо и пить вино, он вскоре так обленивается, что возвращение к прежнему образу жизни неминуемо повлекло бы за собой его скорую смерть. Деньги как бы вливаются ему в кровь, они завладевают всем его существом, вследствие чего, утратив свое богатство, он неизбежно лишится жизни или ума. После того как приобретенное благосостояние производит такое преображение его физического и нравственного облика, в уме его, как правило, не остается места для каких-либо мыслей о служении человечеству, равно как и для религиозных представлений. Совершенно бесполезно негодовать по адресу подобных людей: иными они быть не могут. Они всё жиреют и жиреют, пока не доходят до апоплексии или не впадают в идиотизм. Их умение наживать и беречь деньгу, поначалу весьма развитое, к середине их жизненного пути угасает, и, сколотив с замечательной быстротой и ловкостью изрядное богатство, они в еще не старом возрасте утрачивают напористость, собранность и деловитость. Никакая общественная идея, никакое стремление содействовать прогрессу не воодушевляют их. Переваривание пищи становится для них главным делом жизни; их достояние, на приобретение которого было затрачено столько энергии, опутывается множеством долговых обязательств и подтачивается множеством промахов в управлении им, не говоря уже о том, что тщеславие вовлекает их в спекуляции, превышающие их возможности; в итоге все эти богачи оказываются почти что разоренными как раз в то время, когда им больше всего завидуют. Господин Бриколен не дошел еще до этой точки. Он был в том возрасте, когда дееспособность и воля еще в полной силе и могут противоборствовать самодовольству и распущенности, которые, соединяясь вместе, заволакивают мозг человека густым туманом. Но достаточно было увидеть морщинки у его глаз, его большой живот, атакже нервное дрожание рук, приобретенное благодаря ежедневной «утренней порции» (то есть двум бутылкам белого вина, выпиваемым натощак вместо кофе), — и легко можно было предсказать, что этот поворотливый человек, отнюдь не лежебока, осмотрительный и прижимистый в делах, очень скоро утратит здоровье, память, рассудительность и даже необходимую ему для его дел душевную черствость, превратившись в опустошенного пьяницу, нуднейшего болтуна и такого хозяина, которого просто грех не обмануть. Лицо его было по-своему красиво, хотя и начисто лишено одухотворенности. Широкоскулое, с резко обозначенными чертами, оно отличалось необычайно энергичным и жестким выражением. У этого человека были черные глаза, чувственный рот, низкий выпуклый лоб, курчавые волосы; взгляд был быстрый и колючий, речь — рубленая, но не косноязычная. Во взгляде его не было фальши, в повадке — лицемерия. Он не плутовал с людьми: глубокое уважение к понятиям «мое» и «твое», столь существенное в современном обществе, делало его не способным на мошенничество. Впрочем, этому препятствовал также и цинизм стяжателя, не считающего нужным прикрашивать свои намерения; сказав кому-либо из себе подобных: «Мой интерес противоположен твоему», господин Бриколен считал, что оправдал в его глазах свои действия самым священным законом и совершил акт высокой честности, не скрыв того, что у него на уме. Полубуржуа-полумужлан, он по воскресеньям носил одежду, представлявшую собой смесь крестьянского и господского платья. Тулья его шляпы была ниже, чем у господ, а поля ее; уже, чем у поселян. На нем была серая блуза с поясом и складками вокруг всей его расплывшейся талии; она придавала ему сходство со стянутой обручем бочкой. Его гетры насквозь пропитались запахами хлева, а галстук был засален до лоска. На Марсель этот низкорослый, напористый субъект произвел самое неприятное впечатление, а его речи, вращавшиеся исключительно вокруг денег, понравились ей еще меньше, чем назойливая предупредительность его половины. Вот примерное содержание двухчасовых разглагольствований, которые исходили от господина Бриколена и обрушивались на Марсель. Бланшемонское поместье было обременено ипотечным долгом, составлявшим более чем треть его стоимости. Покойный барон, кроме того, взял в счет арендной платы немалые суммы вперед, и притом под огромные проценты, которые господин Бриколен не мог не спрашивать с него ввиду трудности добывания денег и принятой в этой местности нормы ростовщического барыша. Госпожа де Бланшемон будет вынуждена согласиться с еще более тяжелыми условиями, если желает и впредь держаться системы, которую установил в свое время барон по ее уполномочию; или же, прежде чем получить какой-либо доход, ей придется ликвидировать всю задолженность по ссудам и процентам на них, а также по процентам на проценты, что в целом составит сумму свыше ста тысяч франков. Что касается других заимодавцев, то они хотят либо полностью вернуть себе одолженные деньги, либо считать их превращенными в земельную собственность. Таким образом, нет иного выхода, как продать землю или же быстро найти капиталы; словом, земля стоит восемьсот тысяч франков, долги составляют четыреста тысяч, еще за вычетом долга самому господину Бриколену. Остается триста тысяч франков, и ими отныне исчерпывается состояние госпожи де Бланшемон, помимо тех средств, которые ее супруг, может быть, оставил, а может быть, и не оставил своему сыну и действительные размеры которых еще неизвестны. Марсель отнюдь не ожидала подобной катастрофы, не предвидела даже вдвое меньшего ущерба. Кредиторы еще не заявляли своих претензий; будучи держателями падежных бумаг, все они, начиная с господина Бриколена, выжидали, пока вдова не узнает, как обстоят ее дела, чтобы потребовать либо немедленного и полного погашения долга, либо продолжения выплаты процентов согласно условиям займа. Когда она спросила Бриколена, почему за полтора месяца ее вдовства он не счел нужным ознакомить ее с положением дел, арендатор с беззастенчивой откровенностью разъяснил, что ему не было ни малейшего смысла торопиться, что юридическая сила имеющихся у него заемных писем бесспорна и что каждый день, просроченный помещиком, является прибыльным для арендатора, поскольку проценты продолжают нарастать, а риска нет никакого. Это наглое рассуждение сразу открыло Марсель глаза на нравственный облик господина Бриколена. — Вы правы, — сказала она с иронической улыбкой, которую арендатор не захотел понять, — я вижу, что вина на мне, если каждый пропущенный день поглощает средства, превышающие доход, на который я могла, казалось мне, рассчитывать. Но ради сына я должна положить предел этому — скажем прямо — разгрому, и надеюсь, что вы, господин Бриколен, подадите мне добрый совет, как сейчас поступать. Господин Бриколен, немало удивленный спокойствием, с каким владелица Бланшемона встретила известие о том, что она почти разорена, и еще более ее доверчивым обращением к нему за советом, пристально посмотрел ей в лицо и прочел на нем нечто вроде лукавого вызова, который беспримесное чистосердечие бросало его стяжательству. — Я прекрасно вижу, — сказал он, — что вы испытываете меня, но я не хочу, чтобы ваша семья имела повод для упреков по моему адресу. Нехорошо, если человека можно обвинить в том, что он корысти ради поощряет займы под ростовщический процент. Нам с вами, сударыня, нужно серьезно поговорить, но здесь слишком тонкие стены, а то, что я вам скажу, не должно быть разглашено. Если вы согласны пойти со мной в старый замок, как бы для его осмотра, я вам доложу, во-первых, что я бы вам посоветовал делать, будь я вашим родственником, а во-вторых, чего я хочу от вас в качестве вашего арендатора; вы увидите, возможен ли какой-нибудь третий подход к делу. Думаю, что невозможен. Если бы старый замок не был окружен зарослями крапивы, стоячими лужами, от которых несло гнилью, и кучами беспорядочно нагроможденных обломков, являвшими в совокупности лишь вид бессмысленного хаоса, он мог бы выглядеть довольно живописной руиной. Здесь сохранялись еще остатки старинного рва, заросшие высокими камышами, передняя стена здания была увита великолепным плющом, на осыпи давнего земляного укрепления пышной купой разрослись дикие вишни, и это место было даже не лишено известной поэтичности. Господин Бриколен показал Марсели комнату, где обычно жил ее муж во время своих наездов в Бланшемон. В ней содержалась лишь кое-какая рухлядь — остатки мебели эпохи Людовика Шестнадцатого с выцветшей и грязной обивкой. Тем не менее комната была пригодна для жилья, и Марсель решила переночевать Здесь. — Это будет немного обидно для моей жены: она бы почла за честь принять вас у себя и предоставить вам помещение с лучшей меблировкой, чем эта. Но, как говорится, о вкусах не спорят, и коли старый замок вас устраивает, я переправлю сюда ваши вещи. Для служаночки поставят складную кровать в соседнем чуланчике. А покамест я хочу с вами серьезно поговорить о ваших делах — это самое спешное. Придвинув кресло, господин Бриколен уселся и начал так: — Прежде всего позвольте вас спросить, составляет ли поместье Бланшемон все ваше богатство, или у вас есть еще что-нибудь солидное? Если мои сведения верны, то не должно быть ничего. — У меня нет никаких других средств, — спокойно подтвердила Марсель. — А как вы думаете, ваш сын получает в наследство от отца крупное состояние? — Это мне неизвестно. Если недвижимость господина де Бланшемона так же обременена долгами, как моя… — Ах, это вам неизвестно? Значит, вы не занимаетесь своими делами! Забавно! Да ведь все благородные таковы! Но я-то хочу не хочу, а обязан знать, каково ваше положение. Этого требует мое занятие и мой интерес. Так вот, видя, что его милость, покойный господин барон, живет на широкую ногу, и не имея в мыслях, что он умрет в таком молодом возрасте, я должен был обезопасить себя от разорительных изъянов в его состоянии и принять меры к тому, чтобы в один прекрасный день размеры займов не превысили стоимости бланшемонских земель и я не остался бы без гарантии возмещения долга. Поэтому я нанял людей — мастаков по этой части, чтобы они побывали в разных местах и разведали все, что нужно; и мне примерно известно, что остается на сегодня вашему малышу. — Соблаговолите же поставить в известность и меня, господин Бриколен. — Дело нетрудное, а все, что я скажу, вы потом сможете проверить. Ошибка не может быть больше, чем на десять тысяч франков. Ваш муж имел около миллиона, и налицо весь миллиончик, если не считать подлежащих оплате долгов на сумму девятьсот восемьдесят или девятьсот девяносто тысяч франков. — Значит, у моего сына нет ничего? — промолвила Марсель, взволнованная этим новым открытием. — Вот именно. От вас он все же когда-нибудь получит триста тысяч франков. Это еще не так плохо, но для этого надо все собрать и ликвидировать вчистую. Земли же будут давать шесть-семь тысяч ливров ренты. Ежели вы собираетесь на них жить, то опять же выходит не так плохо, даже еще лучше. — Я не «намерена губить будущее сына. Мой материнский долг — по возможности наилучшим образом выйти из затруднений, в которые я попала. — Раз так, то слушайте. Ваши земли и деньги вашего сына приносят два процента годовых. Вы платите по займам от пятнадцати до двадцати процентов, а так как проценты сложные, то общая сумма долга вскоре возрастет непомерно. Как же вы думаете выпутаться из этого? — Надо продать земли, не так ли? — Это как вам будет угодно. Но я полагаю, что продажа в ваших интересах, если, впрочем, вы, имея возможность еще долго распоряжаться имуществом сына, не предпочтете воспользоваться беспорядком и извлечь из него выгоду лично для себя. — Нет, господин Бриколен, таких намерений у меня нет. — Но вы могли бы еще извлекать доходец из вашего состояния, а у мальчонки ведь есть дед и бабка, они же оставят ему наследство; так что, когда он достигнет совершеннолетия, он не будет совсем уж банкротом. — Вы отлично рассудили, — холодно отвечала Марсель, — но я поступлю иначе. Я все продам, чтобы долги не превысили капитала, а что касается моей недвижимости, то я хочу ее ликвидировать, чтобы иметь возможность надлежащим образом воспитать моего сына. — Итак, вы хотите продать Бланшемон? — Да, господин Бриколен, и безотлагательно. — Безотлагательно? Да уж, конечно: когда окажешься в вашем положении, то, чтобы выйти из него с честью, надо действовать, не теряя ни дня, потому как с каждым днем прореха в вашей мошне становится все шире. Но вы думаете, что это легко — продать такое большое поместье, все равно — целиком или по частям? Сделать это не проще, чем за сутки выстроить замок наподобие этого, да такой, чтобы простоял целехонький лет пятьсот — шестьсот. Да знаете ли вы, что на сегодня капиталы вкладывают только в промышленность, в железные дороги и прочие крупные предприятия, в которых либо все потеряешь, либо наживешь сто на сто. Что же до земельной собственности, то ее чертовски трудно сбыть с рук. В нашем краю охотников продавать хоть отбавляй, а покупать никто не желает: людям надоело Зарывать в землю большие капиталы ради ничтожного дохода. Земля хороша для того, кто на ней живет, кормится с нее и довольствуется малым. Так живут деревенские вроде меня. Но для вас, горожан, подобный доход — просто мелочь. Поэтому имение стоимостью в пятьдесят, самое большее — в сто тысяч франков тотчас найдет себе покупателя среди подобных мне, а такое, которое стоит восемьсот тысяч, почти что никому из нас недоступно, и вам придется наводить справки в конторе вашего нотариуса в Париже, нет ли где капиталиста, не знающего, куда девать свои деньги. А вы думаете, много таких на сегодня, когда можно играть на бирже, в рулетку, на акциях угольных копей и железных дорог и еще по-всякому, потому как нынче много возможностей вести крупную игру? Нужно, чтобы вам повезло и вы встретили какого-нибудь боязливого старичка из благородных, который опасается революции и предпочтет вложить свои деньги в дело, приносящее два процента годовых, нежели пуститься в рискованные спекуляции, что на сегодня всем кружат голову. Да еще надо, чтобы в поместье был приличный жилой дом, где старичок рантье мог бы спокойно доживать свой век. Но вы видите, что представляет собой ваш замок? Мне бы он не сгодился даже как строительный материал. Коли пустить его на слом, то полученные с него гнилые балки да ломаные кирпичи не окупят затраченный на это труд. Может статься, конечно, что вы объявите о продаже поместья, и не пройдет нескольких дней, как вы сбудете его с рук целиком; но может случиться, что вы прождете десять лет: ведь хотя ваш нотариус будет, как это делается обычно, всем говорить и печатать в объявлениях, что поместье приносит три и даже три с половиной процента годовых, люди посмотрят в мой контракт и увидят, что за вычетом налогов оно приносит не больше двух процентов. — Но, может быть, новый контракт с вами был заключен именно потому, что господин де Бланшемон взял у вас значительные суммы вперед? — спросила Марсель улыбаясь. — Совершенно справедливо, — с апломбом ответил Бриколен, — и заключен он сроком на двадцать лет; один год истек, осталось девятнадцать. Да вы сами это знаете, ведь вы же сами его и подписали. Но теперь я допускаю, что вы, может быть, и не читали его… Это уж ваш промах, черт побери! — Но я никого и не обвиняю. Итак, целиком продать поместье нельзя; ну, а по частям? — По частям вы продадите, и за хорошую цену, но денег не получите. — Почему же? — Потому как вам придется продавать земли такому люду, что по большей части неплатежеспособен, — крестьянам, из которых даже самые зажиточные будут выплачивать долг по мелочам, а самые бедные не заплатят вам ничего, — потому как все они на сегодня поддаются искушению владеть клочком земли, а чем будут платить, не думают; так что через десять лет вам придется в погашение долга забрать у них все имущество. Но едва ли вам будет приятно причинять людям горе. — И я никогда не решусь на это. Но как же быть, господин Бриколен? Послушать вас, так я не могу ни продать поместье, ни сохранить его? — Коли вы будете рассудительны, не станете дорожиться и захотите получить деньги чистоганом, вы сможете продать его одному хорошо мне известному человеку. — Кому же? — Мне. — Вам, господин Бриколен? — Да, мне, Никола-Этьену Бриколену. — В самом деле, — произнесла Марсель, припомнив кое-какие слова, вскользь брошенные мельником, — я слыхала о такой возможности. Так каковы же будут ваши предложения? — Я улаживаю дела с вашими кредиторами, расчленяю поместье, одним продаю, у других покупаю, оставляю себе то, что мне подходит, и выплачиваю вам остаток. — А кредиторам вы тоже заплатите наличными деньгами? Да вы неслыханно богаты, господин Бриколен. — Нет, они у меня подождут, но тем или другим способом я вас от них избавлю. — Я полагала, что они требуют немедленного погашения долга, вы же сами мне так сказали. — Вам они бы не дали отсрочки, а мне окажут кредит. — Да, наверно. Меня здесь, очевидно, считают несостоятельной должницей? — Очень может быть! На сегодня народ стал очень недоверчивый. Ну так вот, госпожа де Бланшемон! Вы мне должны сто тысяч франков. Я даю вам двести пятьдесят тысяч, и мы в расчете. — То есть вы хотите заплатить мне двести пятьдесят тысяч вместо полагающихся трехсот? — Это будет просто ваша небольшая уступка мне за то, что я плачу наличными. Вы скажете, что я выигрываю на этом проценты, которые мне придется выплатить по вашим долгам. Но и вы выигрываете, без промедления обращая свое состояние в чистоган, так как иначе от него скоро не останется и медного гроша. — Другими словами, вы хотите воспользоваться моим трудным положением и уменьшить еще на одну шестую часть то немногое, что мне остается? — Это мое право, и любой другой на моем месте запросил бы больше. Уверяю вас, я считаюсь с вашими интересами, насколько возможно. Итак, я все сказал, и мое первое слово будет моим последним словом. Вы поразмыслите над всем этим. — Да, господин Бриколен, надо хорошо подумать. — А как же без этого, черт возьми! Вам нужно прежде всего убедиться, что я вас не обманываю и сам не обманываюсь относительно вашего положения и стоимости принадлежащего вам имущества. Вы сейчас здесь, на месте, — Это весьма удачно; вы наведете справки, посмотрите на все своими глазами, сможете даже съездить в округ Леблан — посетить земли вашего мужа, и когда полностью войдете в курс дела, то есть примерно через месяц, дадите мне ответ. Только имейте при этом в виду мои соображения; тогда, рассчитывая, как вам лучше поступить, вы будете исходить из надежных предпосылок, проверки которых я не боюсь. Вы можете выбрать одно из двух: либо продать то, что у вас остается за вычетом долгов, по цене вдвое большей, чем предлагаемая мной; но вы не получите и половины или же прождете десять лет, а за это время должны будете столько выплатить по процентам, что у вас не останется ровно ничего; либо заключите сделку со мной и получите на протяжении трех месяцев двести пятьдесят тысяч франков чистым золотом, или чистым серебром, или новенькими банковыми билетами — как вам будет угодно. Ну вот и все, что я хотел сказать; теперь отдохните, а через часок возвращайтесь к нам — будете у нас обедать. Нашему брату негоже ударять перед вами в грязь лицом: все должно быть честь по чести, не хуже, чем у вас, — понимаете, госпожа баронесса? Мы с вами ведем дела, и этакая «надбавка» — сущая безделица, лишь бы вы у меня другой не потребовали. Положение, в котором Марсель отныне оказывалась по отношению к Бриколенам, освобождало ее от всякой щепетильности и вместе с тем вынуждало принять приглашение. Она ответила, что не преминет явиться, но выразила желание время до обеда провести в замке, чтобы успеть написать письмо. После этого господин Бриколен удалился, пообещав отправить слуг госпожи Бланшемон и препроводить туда ее вещи.IX. Неожиданный друг
В течение того короткого промежутка времени, что Марсель оставалась одна, она успела многое передумать и вскоре почувствовала, что любовь вливает в нее энергию, которой иначе, без этой могучей вдохновительницы, было бы неоткуда взяться. Ее поначалу испугал жалкий вид замка, отныне единственного принадлежащего лично ей жилища. Но, узнав, что и эти руины вскоре перестанут быть ее собственностью, она стала смотреть вокруг себя с улыбкой и совершенно равнодушным любопытством. Взгляд ее остановился на карнизе обширного камина, где красовался еще не поврежденный феодальный герб ее рода. «Итак, — сказала она себе, — все связи между мною и прошлым рушатся. Вместе с богатством утрачивается и сопричастность к «благородным», так обстоит дело «на сегодня», говоря словами господина Бриколена. О всевышний! Сколь мудро ты поступил, сделав любовь вечной и бессмертной, как ты сам!» Вошла Сюзетта с дорожным несессером, который ее хозяйка попросила принести в первую очередь, так как в нем были письменные принадлежности. Но, открывая несессер, Марсель случайно глянула на свою служанку, созерцавшую в это время голые стены старого замка, и увидела на ее лице такое странное выражение, что не могла удержаться от смеха. Еще более помрачнев, Сюзетта заговорила с явным недовольством в голосе: — Значит, вы, ваша милость, решились ночевать здесь? — Как видите, — ответила Марсель, — а для вас тут есть отдельная комнатка с большим окном, из которого открывается прекрасный вид на местность. — Весьма признательна вашей милости, но ваша милость может быть уверена, что я в этом самом «замке» на ночь не останусь. Мне здесь страшно и днем; что же будет ночью? Говорят, здесь нечисто, и я охотно этому верю. — Да вы с ума сошли, Сюзетта. Я защищу вас от привидений. — Ваша милость соблаговолит поселить вместе с собой какую-нибудь служанку с фермы, а я как вот сейчас стою, так сразу и уйду пешком из этого злосчастного края… — Вы все воспринимаете чересчур трагически, Сюзетта. Я никак не хочу принуждать вас, ночуйте где хотите; но я должна заметить вам, что если вы возьмете себе привычку отказывать мне в своих услугах, то вынудите меня расстаться с вами. — Если ваша милость собирается долго оставаться в этом месте и жить в этой развалине… — Мне необходимо пробыть здесь целый месяц, если не больше; какой же вы сделаете для себя вывод? — Я попрошу вашу милость отослать меня в Париж или в какое-нибудь другое поместье вашей милости, потому что я могу поклясться, что умру здесь через три дня. — Милая Сюзетта, — очень мягко отвечала ей Марсель, — у меня нет другого поместья, и я, наверно, никогда не возвращусь в Париж. У меня, дружок, нет больше никакого состояния, и, по-видимому, я не смогу долго держать вас у себя на службе. Раз пребывание здесь для вас нестерпимо, не стоит навязывать вам его даже на несколько дней. Я уплачу вам ваше жалованье и дам денег на дорожные расходы. Колымага, в которой мы приехали, еще не отправилась обратно. Вы получите от меня хорошую рекомендацию, а родители моего мужа помогут вам устроиться. — Что же, ваша милость хочет, чтобы я вот так, одна-одинешенька, выбиралась отсюда? Стоило, в самом деле, ради этого увозить меня так далеко, в жуткую глушь! — Мне было неизвестно, что я разорена, я узнала это только что, — спокойно отвечала Марсель, — не упрекайте меня, я невольно вовлекла вас в неприятности. Наконец, вы поедете не одна: Лапьер вернется в Париж вместе с вами. — Ваша милость увольняет и Лапьера тоже? — спросила ошеломленная Сюзетта. — Я не увольняю Лапьера, а возвращаю его моей свекрови, которая передала его мне и с охотой возьмет обратно этого старого, добросовестного слугу. Идите обедать, Сюзетта, и готовьтесь к отъезду. Смущенная выдержкой и кротким спокойствием своей госпожи, Сюзетта расплакалась и в наплыве чувств стала умолять Марсель простить ее и оставить у себя на службе. — Нет, милая девушка, — отвечала Марсель, — ваше жалованье мне теперь не по средствам. Я буду жалеть о вас, несмотря на вашу строптивость, и вы, может быть, тоже пожалеете обо мне, несмотря на мои недостатки. Но эта жертва неизбежна, и момент не таков, чтобы можно было проявить слабость. — Что же будет с вашей милостью? Без состояния, без слуг, с маленьким ребенком на руках, в такой глуши! Бедняжечка Эдуард! — Не огорчайтесь, Сюзетта: вы, конечно, найдете себе место у кого-нибудь из моих знакомых. Мы еще увидимся с вами, и Эдуарда вы увидите. Не плачьте при нем, умоляю вас! Сюзетта покинула комнату, но Марсель не успела еще обмакнуть перо в чернила, как перед ней вырос Долговязый Мукомол, который нес на одной руке Эдуарда, а на другой — огромный тюфяк. — Ах! — воскликнула Марсель, обнимая ребенка, которого мельник посадил ей на колени. — Вы все продолжаете оказывать мне услуги, господин Луи? Я очень рада, что вы еще не уехали. Ведь я вас почти не поблагодарила, и мне было бы жаль, если бы мы с вами расстались не попрощавшись. — Нет, я еще не уехал, — сказал мельник, — и, по правде сказать, не очень-то тороплюсь уезжать. Но вот что, ваша милость, если вам все равно, не называйте меня больше господином. Я не господин, и мне не по душе Этакое церемонное обращение, особливо в ваших устах. Называйте меня просто Луи или Большим Луи, как и все. — Но не находите ли вы, что это как раз и поставит нас на неравную ногу? Ведь те мысли, которыми вы делились со мною утром… — Утром я нес всякую околесицу, так что самому стыдно. Возомнил что-то о себе… Может быть, из-за дворянской спеси вашего мужа… не знаю… Словом, если бы вы называли меня просто Луи, пожалуй, и я называл бы вас… Как вас зовут по имени? — Марсель. — Славное у вас имя, госпожа Марсель! Ну вот, так я вас и буду называть. Это поможет мне не вспоминать больше никогда о господине бароне. — Ну, а если я вас не буду называть больше господином Луи, а просто Луи, то вы будете называть меня просто Марсель? — смеясь, спросила госпожа де Бланшемон. — Нет, нет, вы женщина… и такая женщина, каких мало, разрази меня гром!.. Знаете что, скажу вам откровенно: вы пришлись мне крепко по сердцу, и особенно сейчас. — Почему же именно сейчас? — спросила Марсель, которая уже начала писать и стала рассеянно слушать мельника. — Да вот, несколько минут тому назад, когда вы разговаривали со служанкой, я поднимался по лестнице с вашим постреленком, а он шалил и мешал мне идти, и я, сам того не желая, услышал все, что вы говорили; уж вы меня не обессудьте. — В этом нет ничего дурного, — сказала Марсель, — раз я известила Сюзетту о своем положении, значит я не делаю из него тайны; а кроме того, я уверена, что могла бы вам без опаски доверить любую тайну. — Любая ваша тайна была бы схоронена в моем сердце, — молвил мельник, глубоко тронутый словами Марсели. — Но вот что главное: вы, значит, до приезда сюда не знали, что вы разорены? — Да, не знала. Мне сообщил об этом господин Бриколен. Я полагала, что ущерб значителен, но поправим, а оказалось, что нет, вот и все. — И это вас даже не расстроило? Марсель одновременно с разговором писала письмо и не сразу ответила Большому Луи, но затем подняла на него глаза и увидела, что он стоит перед ней скрестив руки и глядит на нее с изумлением и каким-то простодушным восторгом. — Вам кажется удивительным, — сказала она, — как это человек может потерять состояние и не утратить присутствия духа. И к тому же разве у меня не осталось средств на прожитье? — Что у вас осталось, я примерно знаю. Ваши дела мне известны, быть может, лучше, чем вам самой; потому как у папаши Бриколена, стоит ему пропустить рюмочку-другую, развязывается язык, и он мне немало наболтал обо всем этом… Хотя тогда меня это и не интересовало вовсе. Но все равно, знаете ли: чтобы у человека в одночасье вылетели — фюить! — два недурных состояньица — одно в миллиончик, другое в полмиллиончика величиной, а он при этом и глазом бы не моргнул… Нет, такого я никогда не видел и все еще не возьму в толк, как это возможно. — Вам будет еще труднее взять в толк, если я вам скажу, что мне самой все происшедшее доставляет только истинную радость. — Но разве вы не огорчены из-за сына? — возразил мельник, понизив голос, чтобы его слова не услыхал Эдуард, игравший в соседней комнате. — Вначале я была немного испугана, но вскоре успокоилась, — отвечала Марсель. — Давно уже я говорила себе, что Это несчастье для человека — родиться богатым, быть обреченным на праздность, на ненависть со стороны бедняков, на себялюбие и безнаказанность, гарантируемую богатством. Я часто сожалела, что сама не родилась в семье мастерового и что сын мой также не будет мастеровым. Отныне, Луи, я становлюсь простолюдинкой, и такие люди, как вы, не будут питать недоверия ко мне. — Простолюдинкой вы не станете, — возразил мельник, — у вас еще остаются средства, которые любой человек из народа счел бы огромными, хотя по вашим запросам они, конечно, представляют собой не бог весть что. К тому же дед и бабка вашего сыночка не допустят, чтобы он воспитывался как дети бедных людей. Это все ваши фантазии, госпожа Марсель. Но где только вы, черт возьми, набрались таких идей? Вы, верно, святая, разрази меня гром! Я просто диву даюсь, слушая ваши речи: ведь все богатые люди только и думают о том, как бы им стать еще богаче. Таких, как вы, я в жизни не видывал. Неужто в Париже есть еще и другие богачи и аристократы, у которых мозги повернуты так же, как у вас? — Пожалуй, что нет, не могу не признаться. Но не ставьте мне это в заслугу, Большой Луи. Когда-нибудь я, возможно, объясню вам, почему я такова. — Прошу меня извинить, но я и сам догадываюсь. — Не может быть. — Нет, правда, и доказательство этому — то обстоятельство, что я не могу вам ничего по сему поводу сказать. Тут дело тонкое, и вы могли бы рассердиться, коли бы я стал выспрашивать вас о том, что меня не касается. Но если бы вы только знали, какой я сам незадачливый по этой части и как хорошо могу понять тех, у кого тоже подобные горести! Эх, была не была: расскажу я вам про свою беду! Ей-богу, расскажу, разрази меня гром! Вы будете первая, кроме моей матери, кто о ней узнает. Надеюсь, вы скажете мне несколько добрых слов, что помогут мне обратно в ум войти. — А если я, в свою очередь, скажу вам, что кое о чем догадываюсь? — Вы и должны догадываться: ведь во всех делах подобного рода одно и то же: где любовь, там и вопрос о деньгах. — Я охотно выслушаю ваши признания, Большой Луи, по слышите — скрипят ступени лестницы: сюда идет старый Лапьер. Мы скоро увидимся, не правда ли? — Нам надо увидеться, — сказал, понижая голос, мельник. — Я должен получить от вас ответы на многие вопросы касательно ваших дел с Бриколеном. Боюсь, как бы Этот пройдоха не обвел вас вокруг пальца, и — кто знает? — хоть я и простой крестьянин, а все-таки, может быть, окажусь вам полезным. Видите ли вы во мне своего друга? — Конечно. — И вы ничего не сделаете, не предупредив меня? — Обещаю это, мой добрый друг. А вот и Лапьер. — Мне уйти? — Отойдите в сторонку, займитесь Эдуардом. Возможно, мне надо будет посоветоваться с вами, если вы можете задержаться еще на несколько минут. — Сегодня день воскресный… Да какой бы ни был день…X. Письма
Лапьер вошел в комнату. Он был бледен и весь дрожал: Сюзетта успела уже рассказать ему обо всем. Состарившийся и неспособный к работе, требующей напряжения сил, он был взят госпожою де Бланшемон в путешествие более для представительства, чем для чего иного. Но он был искренне привязан к Марсели, хотя никогда не выражал этого открыто, и, несмотря на отвращение, которое ему, как и Сюзетте, внушали Черная Долина и старый замок, отказался покинуть свою хозяйку, заявив, что будет служить ей за такое вознаграждение, какое она сочтет уместным ему положить, будь оно сколь угодно малым. Тронутая бескорыстной преданностью старого слуги, Марсель с чувством пожала ему обе руки и все-таки настояла на своем, убедительно доказав Лапьеру, что в Париже он принесет больше пользы, нежели в Бланшемоне. Она сказала, что хочет разделаться со своей богатой обстановкой, а Лапьер способен наилучшим образом провести распродажу, получить полностью деньги и покрыть ими мелкие долги, оставшиеся за нею после ее отъезда из Парижа. Ланьер, человек безукоризненно честный и сообразительный, был польщен тем, что ему поручается роль если не официального поверенного в делах, то, во всяком случае, доверенного лица, и предоставляется возможность оказать услугу своей госпоже, с которой ему так не хотелось расставаться. Таким образом все было улажено, и слуги могли спокойно отбыть. Тут Марсель, сохранявшая удивительное хладнокровие, которое позволяло ей не упускать из виду никаких, даже и менее значительных обстоятельств, возникавших в связи с ее новым положением, подозвала Большого Луи и спросила, можно ли будет, по его мнению, продать в этих местах коляску, оставленную ею в ***. — Так вы сжигаете за собой корабли? — заметил мельник. — Тем лучше для нас! Вы, может быть, останетесь здесь насовсем. Я по крайней мере очень хочу, чтобы вы остались. Я часто езжу в ***: у меня там бывают дела, а Заодно я навещаю одну из моих сестер, которая там поселилась. Мне известно, в общем, все, что происходит в Этих местах, да я и сам вижу, что все наши буржуа вот уже несколько лет как совершенно помешались на богатых выездах и других предметах роскоши. Знаю я тут одного, — он хочет выписать себе карету из Парижа, а ваша вроде как уже доставлена и обойдется ему дешевле: деньги-то за перевозку он сбережет; а ведь в нашем краю хоть люди и сумасбродствуют, но экономить любят. Она мне показалась красивой и прочной, эта ваша коляска. А сколько стоит такая штуковина? — Две тысячи франков. — Хотите, я поеду с господином Лапьером в ***? Я его сведу с покупателями, и он получит полную цену наличными, потому как у нас платят чистоганом только приезжим. — Если бы это не значило отнять у вас слишком много времени и злоупотребить вашей любезностью, я попросила бы вас самого выполнить это дельце. — Да я охотно поеду; но только об этом молчок. Главное, не говорите ни слова господину Бриколену, а то он, чего доброго, сам пожелает купить вашу коляску. — Ну и что яг, почему бы ему и не купить ее? — Ну вот еще! Только этого и не хватало, чтобы совсем вскружить голову… некоторым членам его семейства! А кроме того, Бриколен нашел бы способ выторговать ее у вас за полцены. Одним словом, я беру это дело на себя. — В таком случае вы привезете деньги сюда, если это будет возможно, потому что мне они, пожалуй, нужнее Здесь; я должна буду их пустить на расходы. — Значит, мы отправимся сегодня ввечеру; день воскресный, так что других дел у меня нет; и коли я не вернусь Завтра вечером или послезавтра утром с двумя тысячами франков, считайте меня хвастуном. — Какой вы добрый, Большой Луи! — воскликнула Марсель, вспомнив грабительскую повадку богача-аренда-тора. — Наверно, нужно доставить вам также и ваши сундуки, которые остались там, в гостинице? — спросил Большой Луи. — Я буду очень признательна, если вы наймете телегу и отправите их мне. — Ну уж нет! Чего это ради нанимать человека с лошадью? Я запрягу Софи в таратайку, и бьюсь об заклад, что мадемуазель Сюзетте придется больше по вкусу езда в тележке без верха, на соломенной подстилке, с таким хорошим кучером, как я, чем с этим шалым колымажником в его корзине из-под салата. Ах, да, чуть не забыл! Вам же нужна какая-нибудь служанка, а женщины, которые в услужении у господина Бриколена, слишком заняты, чтобы возиться с вашим постреленком с утра до вечера. Ах, будь у меня времечко, мы бы с ним чудесно проводили его вдвоем. Ведь я страсть как люблю ребятишек, а ваш мальчуган посмышленей меня самого будет! Я уступлю вам Фаншетту, которая помогает по хозяйству моей матушке. Мы без нее некоторое время обойдемся. Она еще совсем девочка, но будет беречь малыша как зеницу ока и делать все, что вы скажете. У нее только один недостаток: о чем бы вы с ней ни заговорили, она непременно трижды переспросит: «Простите, чем могу служить?» Но что поделаешь, ей кажется, что это очень вежливо и что ее разбранят, если она не будет вести себя таким манером, прикидываясь глухой. — Вы мой ангел-хранитель! — воскликнула Марсель. — И я просто не знаю, как благодарить провидение за то, что, оказавшись в таком положении, которое грозило мне множеством неприятностей, я встретила на своем пути столь добросердечного человека, во всем оказывающего мне помощь. — Полно, полно, это все мелкие дружеские услуги. Вы еще отквитаетесь за них как-нибудь по-другому. Уже и так, с тех пор как вы здесь, вы, сами о том не подозревая, успели сослужить мне большую службу… — Как, каким образом? — А, ладно, бог с ним, поговорим об этом позже, — ответил мельник, загадочно улыбаясь, и в этой улыбке одновременно сказались, странным образом противореча друг другу, глубокая серьезность его чувства и природная веселость. С общего согласия было решено, что мельник и слуги отправятся в путь сегодня же, когда свечереет и «потянет холодком» — по выражению Большого Луи. Скоро Марсели нужно было собираться на обед к Бриколенам, и для того, чтобы написать письма, оставалось мало времени. Она успела набросать два следующих письмеца.Первое письмо Марсель, баронесса де Бланшемон, своей свекрови, графине де Бланшемон. «Дорогая матушка! Я обращаюсь к вам как к самой мужественной из женщин и самому рассудительному члену нашей семьи, чтобы сообщить вам и просить вас сообщить досточтимому графу, а также другим нашим уважаемым родственникам, новость, которую вы, я уверена, примете ближе к сердцу, нежели я сама. Вы часто делились со мной своими опасениями, и мы с вами немало говорили о деле, которое меня сейчас занимает, так что вы, конечно, поймете меня с полуслова. От состояния Эдуарда не осталось ничего, совсем ничего. От моего осталось двести или триста тысяч франков. Пока еще сведения о моем имущественном положении сообщены мне только одним человеком, который был бы заинтересован в том, чтобы преувеличить размеры катастрофы, если бы это было возможно; но у него достаточно здравого смысла, чтобы не пытаться меня обмануть, поскольку завтра или послезавтра я могу сама навести необходимые справки. Я отсылаю вам нашего верного Лапьера и полагаю, что вы без особой моей о том просьбы, несомненно, возьмете его обратно к себе. Вы передали мне его, для того чтобы он навел порядок в моих домашних расходах и несколько сократил их. Он сделал все, что было в его силах; но какое значение имеет экономия в домашнем хозяйстве, когда за пределами дома средства расточаются безудержно и бесконтрольно? Некоторые соображения, о которых он сам вам доложит, заставляют меня ускорить его отъезд; вот почему я вам пишу наспех, не вдаваясь в подробности, многие из которых, впрочем, неизвестны еще мне самой и выяснятся лишь позднее. Я строго наказала Лапьеру повидать вас наедине и передать вам это письмо в собственные руки, дабы вы могли располагать временем, которое вы сочтете необходимым — будь то несколько часов или несколько дней, — чтобы подготовить графа к этому печальному известию. Постарайтесь успокоить его: говорите ему снова и снова о моем характере, который вам хорошо известен, изъясните, насколько я равнодушна к богатству и насколько неспособна питать злобу к тем, кого уже нет, и хранить недобрую память о прошлом. Как не простить тому, кто по воле жестокой судьбы не прожил достаточно долго, чтобы иметь возможность все исправить! Дорогая матушка! Пусть в вашем и в моем сердце память о нем не будет ничем омрачена, и да получит он у нас полное и искреннее прощение! Теперь два слова об Эдуарде и обо мне самой, ибо судьба нас обоих равно подвергла этому испытанию. У меня хватит, надеюсь, средств, чтобы обеспечить его всем необходимым и дать ему образование. Он еще не в таком возрасте, когда его могли бы огорчить имущественные утраты; он о них ничего не знает, и лучше бы ему оставаться в неведении как можно дольше — до тех пор, пока он не сможет как следует все понять. Разве не благо то, что изменение в его положении произошло прежде, чем для него могло стать потребностью жить в полном достатке? Если это несчастье — быть вынужденным довольствоваться только сугубо насущным (лично я не вижу в том никакого несчастья), то он его не ощутит и, привыкнув уже с этих пор к жизни скромной, будет считать себя достаточно обеспеченным. Раз уж ему было суждено попасть в разряд людей недостаточных, то надо благодарить провидение за то, что оно низвело его на этот уровень в том возрасте, когда преподанный нам суровый урок не вызовет у него горечи, но принесет одну лишь пользу. Вы мне скажете, что в свое время он получит другое наследство. Но я не имею никакого касательства к этому состоянию, ожидающему его в будущем, и не хочу ни под каким видом воспользоваться им заранее. Я отказалась бы от всяких жертв, которые семья захотела бы принести ради того, чтобы мне можно было сохранить образ жизни, который принято называть достойным. Всякое предложение в этом роде я сочла бы для себя едва ли не оскорбительным. Так как я уже и раньше опасалась того, что теперь подтвердилось, я имела наготове план, как повести себя в таких обстоятельствах. Теперь я окончательно утвердилась в своих намерениях, и ничто на свете не заставит меня от них отступить. Я решила поселиться в провинции, в какой-нибудь глуши, где я смогу приучить моего сына с малых лет к простой, трудовой жизни и где он не будет видеть рядом с собой богатства других, соприкосновение с которым могло бы погубить то доброе, что будет в нем заложено примером и уроками матери. Льщу себя надеждой, что время от времени смогу привозить его к вам и что вы будете испытывать истинное удовольствие при виде крепкого и веселого ребенка, в какого превратится наше хрупкое, слишком уж одухотворенное дитя, за чью жизнь мы беспрестанно дрожали. Я знаю, что у вас есть на него определенные права и что я должна считаться с вашей волей и вашими советами; но я надеюсь, что вы не осудите моего плана и вполне доверите мне воспитание ребенка, для которого неотступная материнская забота и благотворное влияние сельской жизни будут полезнее, нежели поверхностные уроки щедро вознаграждаемого учителя, упражнения в верховой езде и прогулки в карете в Булонском лесу. Обо мне самой не тревожьтесь ни в малой степени: мне ничуть не жаль расстаться с моей прошлой беспечной жизнью и с моим праздным окружением. Мне чрезвычайно по душе сельское уединение, и время, которое раньше поглощала у меня пустая светская жизнь, я употреблю с пользой: буду учиться сама, чтобы учить сына. Вы и раньше питали доверие ко мне, но теперь настала пора, когда оно должно быть полным и неограниченным. Смею на это рассчитывать, зная что вам, обладательнице живого и ясного ума, достаточно будет войти в существо дела и прислушаться к своему материнскому сердцу, сердцу поистине золотому, чтобы понять и оправдать мои намерения и решения. Все это, наверное, встретит некоторое противодействие со стороны членов нашей семьи, мыслящих иначе, нежели я; но когда они услышат от вас, что я права, то согласятся с вашим мнением. Итак, отныне наше настоящее и будущее в ваших руках, а я остаюсь навсегда вашей преданной, любящей и уважающей вас Марсель».
За сим следовал постскриптум, относившийся в основном к Сюзетте и содержавший просьбу послать семейного поверенного в делах в Блан, на тот предмет, чтобы он подтвердил крах состояния, овеществленного в земельной собственности, и спешно занялся ликвидацией последней. Что касается ее собственных дел, то Марсель сообщала, что хочет и может уладить их сама с помощью сведущих людей, проживающих в этой местности.
Второе письмо было Анри Лемору:
«Анри! Какое счастье, какая радость: я разорена. Вам не придется больше упрекать меня за то, что я богата, и ненавидеть мои «золотые цепи». Теперь вы можете любить меня, не ставя себе этого в укор, и я не должна больше приносить вам жертвы. Сыну моему не предстоит получить богатое наследство, по крайней мере в ближайшем будущем. Теперь я вправе воспитывать его согласно вашим жизненным правилам, сделать из него мужчину, сделать Вас его наставником, полностью доверить вам его душу.Не хочу вас обманывать — нам, вероятно, придется выдержать некоторую борьбу с семьей его отца: побуждаемая слепой любовью и аристократической гордыней, она, возможно, захочет вернуть его свету и наделить богатством вопреки моей воле. Но мы одержим победу, проявив терпеливость, отчасти хитрость и непреклонную стойкость. Я буду держаться от них подальше, дабы не допустить их влияния, и мы окружим до известной степени тайной развитие этой юной души. Детство Эдуарда будет подобно детству Юпитера, проведенному в священных гротах[125]. И когда он выйдет из этого божественного уединения, чтобы впервые испытать свою силу, когда он подвергнется искушениям богатства, его душа, закаленная нами, будет способна сопротивляться соблазнам света и растлевающему действию золота. Анри, я лелею сладкие надежды; не разрушайте же их своим беспощадным сомнением и чрезмерной щепетильностью, которую я в этом случае назвала бы малодушием. Вы должны быть моей опорой и защитой — ныне, когда я расстаюсь с заботливой и доброй семьей, оставляя ее и будучи готова вступить с нею в борьбу ввиду того лишь, что она не разделяет ваших воззрений. Итак, то, что я вам написала два дня тому назад, перед отъездом из Парижа, я полностью и с легкой душой подтверждаю этим письмом. Я не призываю вас к себе сейчас, я не должна этого делать, и, помимо прочего, благоразумие требует, чтобы я еще долго не видела вас, ибо в противном случае мое добровольное изгнание могут приписать тем чувствам, что я питаю к вам. Я не называю вам места, где я собираюсь приютиться, ибо еще не знаю сама, где окажусь. Но через год, Анри, после 15 августа, вы приедете ко мне, туда, где я буду находиться в это время и куда призову вас. До того, если вы не захотите поддержать мою веру в себя, лучше не пишите мне совсем… Но хватит ли у меня сил прожить целый год, ничего не зная о вас? Нет, да и вам тоже этого не выдержать! Напишите же всего два слова: «Я жив, и я люблю!» Переправьте ваше письмо в особняк Бланшемон, моему старому, верному Лапьеру, для передачи мне. Прощайте, Анри. О, если б вы могли читать в моем сердце, вы увидели бы, что я стою больше, чем вы думаете! Эдуард здоров, вас не забывает. Отныне только он один будет говорить мне о вас. М. Б.»
Запечатав оба письма, Марсель, которой больше нечем было тщеславиться, кроме ангельской красоты своего сына, переодела его во все свежее, вышла из замка и прошла через двор фермы в дом Бриколенов. Ее уже ожидали с обедом и, оказывая ей честь, накрыли стол в гостиной, поскольку столовой в доме не было и семейство имело обыкновение есть на кухне, где можно было не бояться замарать мебель и где блюда, которые готовила госпожа Бриколен с помощью своей свекрови и служанки, были у нее под рукой. Марсель вскоре заметила это отступление от заведенного в доме порядка. Госпожа Бриколен сама сделала все возможное, чтобы Марсель не осталась о том в неведении, ибо предупредительность по отношению к гостье сочеталась у нее с плохо скрываемым и обличавшим ее крайнюю невоспитанность раздражением, вследствие которого она то и дело просила у Марсель прощения за скверное обслуживание и без устали гоняла туда-сюда вконец одуревших служанок. Марсель предъявила хозяевам настоятельное требование завтра же вернуться к привычному для них укладу и с улыбкой пригрозила, что будет обедать на мельнице в Анжибо, если за ней не перестанут ухаживать с такими церемониями. Госпожа Бриколен ответила Марсели несколькими неуклюжими фразами с претензией на учтивость, а затем сказала: — Кстати, коли разговор зашел о мельнице: надо будет мне крепко выбранить господина Бриколена… А, вот и он сам! Скажи-ка, господин Бриколен, ты случаем не спятил? Как это тебя угораздило пригласить на обед мельника в тот самый день, когда мы имеем честь принимать у себя ее милость госпожу баронессу? — Ах, дьявольщина, мне и в голову не пришло, — простодушно отвечал арендатор, — или, вернее, я, когда приглашал Большого Луи, не думал, что ее милость окажет паи такую честь. Господин барон всегда отказывался — ты же Знаешь… Ему подавали в его комнате, что, между прочим сказать, было не очень-то удобно… В конце концов, Тибода, коли ее милости не угодно есть за одним столом с этим парнем, то пойди и прямо скажи ему — мол, так и так; ты ведь за словом в карман не полезешь. Но меня от этого уволь: пусть я сделал глупость, но исправлять ее мне уж больно неохота. — И лучше, как всегда, перевалить дело на меня, — язвительно оторвалась госпожа Бриколен, урожденная Тибо, которую по старинному местному обычаю, как старшую дочь в семье, назвали ее девичьей фамилией с прибавлением женского окончания. — Ладно, — согласилась она, — пойду дам от ворот поворот твоему разлюбезному Луи. — Мне это было бы чрезвычайно неприятно и ничего не оставалось бы, как уйти самой, — твердо и даже несколько суховато сказала госпожа де Бланшемон, так что арендаторша сразу присмирела. — Я утром завтракала вместе с этим молодым человеком в его доме и нашла его столь обязательным, учтивым и любезным, что обедать сегодня без него для меня было бы крайне огорчительно. — В самом деле? — высказалась вдруг красавица Роза; она с большим вниманием слушала Марсель, причем ее живой взор, выражавший удивление, говорил также о том, что слова гостьи доставляют ей несомненное удовольствие; но, встретив испытующий и грозный взгляд матери, она опустила глаза и покраснела до корней волос. — Будет так, как пожелает ваша милость, — заявила госпожа Бриколен и, обращаясь к служанке, имевшей привилегию выслушивать доверительные замечания своей хозяйки, когда та была не в духе, тихонько добавила: — Вот что значит быть красивым мужчиной! Шунетта (уменьшительное от Фаншоны) злорадно усмехнулась, отчего она, и так-то некрасивая, стала еще безобразнее. Она находила, что мельник действительно очень хорош собой, и злилась на него, потому что он ни разу на нее не взглянул. — Вот и хорошо! — воскликнул господин Бриколен. — Так тому и быть: мельник отобедает вместе с нами. Ее милость правильно поступает, что не чванится. Так всегда расположишь к себе людей. Пойди же, Роза, позови Большого Луи — он там, во дворе. Скажи ему, что суп уже на столе. Да, очень уж не хотелось мне обижать парня. Знаете ли, ваша милость, у меня есть причины держаться за этого мельника. Он единственный из их братии, кто не отхватывает себе двойную меру и не подменяет зерна. Да, единственный во всей нашей округе, провалиться мне на этом месте! Все они тут вор на воре. У нас и поговорка про это сложена: «Всякий мельник — вор, бездельник». Я каждого из них испробовал, и пока еще мне не попался ни один, окромя него, который бы не плутовал со счетами и не подмешивал в доброе зерно всякой дряни. А уж как он старается ради нас! Никогда не станет молоть мою пшеницу тем жерновом, которым только что размалывал ячмень или роясь. Он знает, что это портит муку и лишает ее белизны. Он просто из кожи вон лезет, чтобы мне потрафить, потому как знает, что хлеб у меня на столе должен быть самый отменный. Это, знаете ли, моя небольшая слабость: я чувствую себя вроде как униженным, ежели кто-нибудь из заходящих в дом не скажет: «Вот это хлеб! Только вы один, папаша Бриколен, умеете выращивать такую пшеницу! Да, ничего не скажешь, пшеница что твоя кукуруза…» А мне это маслом по сердцу. — Это правда, хлеб у вас чудесный, — подтвердила Марсель, желая своей похвалой еще выше поднять мельника во мнении хозяев и одновременно польстить тщеславию господина Бриколена. — Ах, боже мой! Сколько возни с этим хлебом, словно не все равно, будет он чуть больше или чуть меньше ноздреват и уйдет одним буасо[126] зерна больше или меньше за неделю, — пожаловалась госпожа Бриколен. — Когда тут, поблизости, есть несколько мельников, а одна мельница просто рядом, на краю поместья, иметь дело с человеком, живущим в миле отсюда! — А тебе-то что до того, коли он привозит мешки сам и никогда не возьмет ни зернышка сверх полагающейся доли?[127] — возразил господин Бриколен. — Кроме того, мельница у него хорошая, ладная, два новых больших колеса, превосходный водоем, и воды хоть отбавляй. И ждать никогда не приходится — вот что приятно. — Добавим к сему, что вы каждый раз, потому как он приезжает издалека, считаете себя обязанным пригласить его пообедать или закусить. Это называется экономия! — отрезала госпожа Бриколен. Появление мельника положило конец семейному спору. Вообще господин Бриколен, когда жена принималась его бранить, лишь пожимал плечами да начинал говорить быстрее обычного. Он прощал своей хозяйке сварливый нрав за ее распорядительность и прижимистость, которые были ему весьма полезны. — Ну что же ты, Роза, — вскричала госпожа Бриколен, увидев дочь, возвратившуюся с мельником, — мы ведь ждем тебя, чтобы сесть за стол! Ты прекрасно могла послать за ним Шунетту, а не бегать сама! — Мне папаша велели, — отвечала Роза. — А не вели он вам, вы бы, уж конечно, не пошли, — тихонько сказал мельник девушке. — Это ваше спасибо мне за то, что меня распекают по вашей милости? — ответила Роза в том же тоне. Марсель не слышала, что они сказали друг другу, но их короткий разговор вполголоса, румянец, заливший лицо Розы, и взволнованный вид Большого Луи укрепили ее в подозрениях, которые уже раньше зашевелились в ней ввиду явной неприязни арендаторши к бедняге мукомолу: именно она, прекрасная Роза, и была предметом мечтаний мельника из Анжибо.
XI. Обед на ферме
Желая помочь своему новому другу в его сердечных делах и не видя в том худого для Роды (поскольку ее отец и бабушка как будто благоволили к Большому Луи), госпожа де Бланшемон нарочно во время обеда то и дело обращалась к нему, наводя разговор на предметы, которые давали возможность обнаружить превосходство его образованности и ума над всем семейством Бриколенов, возможно — даже над самой прелестной Розой. По части сельского хозяйства, рассматриваемого как одна из естественных наук, а не как коммерческая деятельность, по части политики, понимаемой как изыскание наилучших путей к достижению счастья и человеческой справедливости, по части религии и нравственности Большой Луи имел понятия простые, но справедливые, возвышенные и отмеченные здравым смыслом, проницательностью и душевным благородством — качествами, которые до того не имели случая проявиться на ферме. У Бриколенов разговор всегда шел о грубых и низменных вещах, и усилия ума затрачивались главным образом на то, чтобы поносить ближних. Большой Луи, не любя пошлостей и сплетен, мало участвовал в подобных разговорах и никогда не выказывал своих способностей. Бриколен раз навсегда решил, что он очень глуп, как все красивые мужчины, а Роза, всегда находившая его чрезмерно боязливым или унылым поклонником, потому что он то поддразнивал ее, то, напротив, робел, считала, что ему можно извинить недостаток ума за доброе сердце. Поэтому всех поначалу удивило, что госпожа де Бланшемон оказывает мельнику явное предпочтение в беседе перед остальными, а когда благодаря непринужденности Марсели Большому Луи удалось наконец преодолеть смущение, вызванное присутствием Розы и недружелюбием ее матери, Бриколенов еще больше удивило, как умно и хорошо он говорит. Пять или шесть раз господин Бриколен, ничуть не подозревавший о любви мельника к его дочери и доброжелательно слушавший его, был настолько поражен его высказываниями, что восклицал, хлопая ладонью по столу: — Ишь ты, и это он знает! Где только, черт побери, ты наскреб этих знаний? — По сусекам, известно где! — весело отвечал Луи. Тем временем госпожа Бриколен, видя успех своего противника, впала в мрачное молчание: в ней зрело решение сегодня же вечером известить мужа о сделанном ею, или якобы сделанном, открытии относительно чувств этого мужлана к их «барышне». Что касается старой матушки Бриколен, то она не понимала в застольном разговоре ровно ничего, но находила, что мельник говорит как по-писаному, потому что он ловко низал фразы одну за другой, не запинаясь и не топчась на одном месте. Роза, судя по ее виду, словно бы и не слушала, что говорилось, но на самом деле не упускала ни словечка, и взор ее то и дело невольно задерживался на Большом Луи. Да столом сидел еще пятый член семейства, который не привлек поначалу внимания Марсели. То был старый папаша Бриколен; одетый по-крестьянски, как и его половина, он ел молча и, по всей видимости, был полностью сосредоточен на поглощении пищи. Полуглухой, полуслепой, он, казалось, совершенно выжил из ума. Старуха привела его и усадила за стол, как малого ребенка. Она заботливо ухаживала за ним, сама наполняла его тарелку и стакан, выламывала из кусков хлеба мякиш, потому что он своими беззубыми деснами, загрубевшими и утратившими чувствительность, мог жевать только твердые корки, и при этом не говорила ему ни слова, будто знала, что это будет напрасный труд. Правда, когда он садился за стол, она постаралась втолковать ему, что нужно снять шляпу в знак уважения к гостье, госпоже де Бланшемон. Он повиновался, но, по-видимому, не понял, зачем Это надо, и тотчас напялил шляпу снова себе на голову; господин Бриколен, его сын, так же позволил себе эту вольность, освященную местным обычаем. Мельник, который утром у себя дома не расставался со шляпой, сейчас, однако, незаметно засунул ее в карман, колеблясь между новым для него чувством почтения к женскому полу, внушенным ему госпожой де Бланшемон, и боязнью показаться первый раз в жизни дамским угодником. Однако, восхищаясь тем, как здорово подвешен язык у Долговязого Мукомола, господин Бриколен, как выяснилось тут же, придерживался по всем вопросам прямо противоположных мнений. По части сельского хозяйства он утверждал, что ничего нового тут не придумаешь; что ученые никогда ничего не открыли; что всякий, кто гонится за новшествами, в конце концов идет по миру; что с тех пор, как свет стоит, люди всегда делали одно и то же и ничего лучшего делать никогда не научатся. — Хорошо! — сказал мельник. — А те первые, которые делали то, что мы делаем сегодня, те, кто придумал запрягать быков, чтобы вспахивать землю для посева, они-то делали что-то новое, а ведь их тоже можно было удерживать от этого, говоря, что земля, которую раньше никогда не возделывали, никогда ничего не родит. Это как в политике; скажите-ка, господин Бриколен, если бы вам сто лег тому назад сказали, что вы не будете платить ни десятины, ни податей, что монастыри будут разрушены… — Ладно, ладно! Может быть, я бы и не поверил, вполне возможно, но это произошло, потому что не могло не произойти. На сегодня все идет к лучшему: всякий может наживаться, и ничего лучшего никогда не изобретут. — А как же бедняки, нерадивые, слабосильные, глупые, что с ними делать, как по-вашему? — По-моему, так ничего не делать. Раз они ни к чему не пригодны — тем хуже для них! — А если б вы, упаси господь, были одним из них, господин Бриколен (хотя вам это, слава богу, не грозит) — вы бы тоже сказали: «Тем хуже для меня!»? Нет, нет, вы сказали то, чего не думаете на самом деле, ответив мне, что тем хуже для них! Вы для этого слишком добры и богобоязненны. — Это я-то богобоязненный? Плевать мне на все это божеское! Да и тебе тоже. Я вижу, что эта нелепица снова вылезает на свет, но я и в ус не дую. Наш кюре сам не дурак пожить в свое удовольствие, потому-то я и не становлюсь ему поперек. Будь он ханжой, я бы ему показал, где раки зимуют. Кто же на сегодня верит в эти глупости? — А ваша супруга, ваша матушка, ваша дочь, они тоже считают, что это глупости? — Что ж, им это нравится, забавляет их, — пускай! Женщинам, видать, без этого не обойтись. — А нам, крестьянам, как и женщинам, тоже не обойтись без религии. — Ну что ж, она у вас под рукой: ходите к обедне, я вам мешать не стану: лишь бы вы меня за собой не тащили. — Однако может случиться, что вас и потащат, если наша религия вновь станет фанатической и нетерпимой, какой она бывала нередко. — Так она ничего не стоит, отбросьте ее тогда. Я-то без нее отлично обхожусь. — Но какая-нибудь религия нам непременно нужна. Может быть, какая-нибудь другая? — Другая! Еще и другая! Эк куда метнул, черт возьми! Ну и сочиняй себе другую, на здоровье! — Мне по душе была бы такая религия, которая мешала бы людям ненавидеть и бояться друг друга и друг другу вредить. — Вот это было бы в самом деле ново. А вот мне по душе была бы такая, которая мешала бы моим испольщикам воровать у меня зерно по ночам, а моим батракам — просиживать по три часа за своей похлебкой. — Так и было бы, исповедуй вы сами религию, которая предписывала бы вам делать их такими же счастливыми, как и вы сами. — Большой Луи, у вас в сердце самая истинная религия, — молвила Марсель. — Правда, правда! — с жаром воскликнула Роза. Господин Бриколен не осмелился ничего ответить. Ему очень важно было завоевать доверие госпожи де Бланшемон и не предстать перед нею в невыгодном свете. Большой Луи, заметив порыв Розы, посмотрел на Марсель взглядом, в котором пылал огонь и выражалась живейшая благодарность. Солнце клонилось к закату, и обед, более чем обильный, подходил к концу. Господин Бриколен, отяжелевший от большого количества пищи и непомерных возлияний, хотел было предаться своему излюбленному удовольствию — посидеть два-три часа вечерком за кофе, приправленным водкой и уснащенным разными ликерами. Но Большой Луи, на которого он рассчитывал как на партнера в этом занятии, чтобы дать ему бой по всем статьям, откланялся и пошел готовиться к отъезду. Госпожа де Бланшемон пошла рассчитаться со своими слугами и распроститься с ними. Она вручила им письмо для свекрови и, отведя мельника в сторону, передала ему другое письмо — то, что было адресовано Анри, попросив его это письмо отдать собственноручно на почту. — Будьте покойны, — заверил ее мельник, сообразив, что тут дело деликатное, — я его не выпущу из рук, пока не суну в почтовый ящик, и никто его в глаза не увидит, даже ваши слуги. — Спасибо, мой славный Луи. — Это вы еще мне говорите спасибо, когда я должен был бы повторять вам это, стоючи на коленях! Вам даже и невдомек, как я вам обязан! Вот только вернусь домой, и через два часа маленькая Фаншона будет у вас. Она поопрятнее да посговорчивее, чем толстуха Шунетта. Когда Луи с Лапьером уехали и Марсель осталась одна в окружении семейства Бриколен, она несколько упала духом. У нее вдруг стало очень грустно на душе; взяв за руку Эдуарда, она отправилась побродить и добралась до небольшой рощицы, видневшейся за обширным лугом. Было еще светло, но заходящее солнце уже скрылось за старым замком, и от его высоких башен на землю ложились гигантские тени. Еще на полупути ее нагнала Роза, которая почувствовала, что Марсель питает к ней большую симпатию; и в самом деле, только ее милое личико и могло в этот момент порадовать взгляд Марсели. — Я хотела бы показать вам наш заказник, — сказала молодая девушка, — это мое любимое местечко, и вам оно, наверное, понравится. — В вашем обществе мне везде будет приятно, — ответила Марсель, по-дружески взяв Розу под руку. Бывший парк поместья Бланшемон, вырубленный во время революции, теперь был окружен глубоким рвом, где бежал ручей, и высокой живой изгородью, на которой Роза оставила лоскуток оторочки своего муслинового платья, пробираясь сквозь нее так стремительно и беспечно, как могла себе позволить только девица с очень богатым гардеробом. Замшелые пни древних дубов были скрыты молодыми побегами, и весь заказник ныне представлял собою густую молодую рощу, над которой возвышались отдельные старые вязы, уцелевшие от разгрома и подобные почтенным предкам, простирающим свои узловатые могучие руки над многочисленным незрелым потомством. Прелестные тропинки то взбегали вверх, то спускались по уступам скал и вились под пышными, хотя и не высокими кронами деревьев. Некая таинственность была разлита по лесу. Как хорошо в нем было бы бродить, опершись на руку возлюбленного! От этой мысли у Марсели сильнее забилось сердце, но она быстро отогнала ее и стала мечтательно прислушиваться к пению соловьев, коноплянок и дроздов, населявших эту безлюдную дикую рощу. С другой стороны леска проходила единственная не захваченная молодой древесной порослью аллея, которая служила дорогой для дровосеков. Марсель и Роза приближались к ней, мальчик бежал по тропинке впереди. Вдруг он остановился и пошел обратно. Он был бледен и выглядел растерянным и помрачневшим. — Что там такое? — воскликнула Марсель. Угадывавшая малейшие колебания в настроении сына, она поняла, что в нем борются страх и любопытство. — Там какая-то нехорошая тетя! — отвечал Эдуард. — Что значит нехорошая? Некрасивая? Так ведь можно быть некрасивым и добрым, — сказала Марсель. — Лапьер очень добрый, а ведь уж какой некрасивый. — Нет, мама, Лапьер красивый, — протянул Эдуард, как и все дети, он наделял красотой тех, кого любил. — Дай мне ручку и пойдем-ка посмотрим на эту нехорошую тетю, — сказала Марсель. — Нет, не ходите туда, не стоит, — промолвила Роза с печальным и смущенным видом, не выказывая, однако, никакой боязни. — Я не думала, что она сейчас здесь. — Я хочу научить Эдуарда преодолевать страх, — вполголоса сказала ей Марсель. Роза не решилась ее удерживать, и Марсель ускорила шаг, но, выйдя на аллею, остановилась как вкопанная: навстречу ей медленно двигалось какое-то странное создание, от вида которого ее охватил ужас.XII. Воздушные замки
Над аллеей простирался величественный шатер, образованный ветвями росших вдоль нее могучих дубов; лучи Заходящего солнца, проникая сквозь листву, создавали прихотливую игру густых теней и ярких бликов. В этом неровном освещении размеренным шагом шла женщина, или, вернее, некое непонятное существо, погруженное, казалось, в мрачные размышления. Это было одно из тех странных, потерявших себя вследствие умственного недуга и утративших человеческий облик существ, у которых нет ни возраста, ни пола. Однако правильные черты лица этой несчастной хранили еще некоторый отпечаток внутреннего благородства, не до конца стершийся, несмотря на ужасные разрушения, произведенные горем и болезнью, а длинные черные волосы, в беспорядке свисавшие из-под белого чепца, поверх которого была надета мужская соломенная шляпа, помятая и рваная, придавали зловещий вид затененной ими худой смуглой физиономии. На иссушенном лихорадкой шафранно-желтом лице резко выделялись большие черные, пугающе неподвижные глаза, чей угрюмо-сосредоточенный взгляд нелегко было поймать, нос, хотя и крупноватый, но очень прямой и, можно даже сказать, красивой формы, и полуоткрытый рот с бескровными губами. Одежда ее была такой, какую носят женщины из буржуазной среды, но находилась в ужасно неопрятном состоянии; уродливое желтое платье прикрывало некрасивую, сутулую фигуру с высоко поднятыми плечами, чересчур широкими для этого изможденного тела; платье сидело мешковато, и подол его одним боком волочился по земле; на тощих побуревших ногах не было чулок, а грязные стоптанные башмаки худо защищали ступни от камней и колючек, к которым, впрочем, она, по-видимому, была нечувствительна. Она медленно брела по аллее, опустив голову, вперив взор в землю, теребя и сминая в руках окровавленный носовой платок. Она шла прямо на госпожу де Бланшемон, а та, скрывая свой испуг, дабы он не передался Эдуарду, напряженно ждала, свернет ли она в сторону, когда поравняется с ней. Но призрак (слово здесь вполне уместное, ибо это создание впрямь походило на некое зловещее привидение) продолжал идти вперед, не замечая никого, и его черты, выражавшие не идиотизм, но мрачное отчаяние, уже перешедшее в бесчувственное оцепенение, не отзывались никаким движением на впечатления внешнего мира, которые, казалось, вовсе не доходили до него. Однако, подступив к тени, которую отбрасывала фигура Марсели, женщина остановилась, словно встретив непреодолимое препятствие, круто повернулась и пошла в обратную сторону все тем же медленным, размеренным шагом. — Это бедняжка Бриколина, моя старшая сестра, — сказала Роза, не понижая голоса, хотя несчастная могла ее слышать. — Она у нас тронутая (Роза употребила слово, которым в этих местах называют сумасшедших), и, как видите, выглядит старухой, а ей всего тридцать лет от роду; вот уже двенадцать лет, как она не сказала никому из нас ни словечка и вроде бы не слышит, что мы ей говорим. Может, она даже глухая, — мы так и не знаем, но только не немая, потому что, когда она считает, что вокруг нее никого нет, то, бывает, говорит сама с собой, хотя в словах ее нет никакого смысла. Она всегда норовит уединиться и, если ей не перечить, никому не сделает зла. Не бойтесь ее: если вы не будете смотреть на нее в упор, она на вас и не взглянет. Только когда мы порой хотим ее привести в божеский вид, она разъяряется, вырывается из рук и кричит так, словно ее режут. — Мама, — подал голос Эдуард, пытавшийся скрыть свой испуг, — пойдем домой, я есть хочу! — Хочешь есть? Да ведь мы только что встали из-за стола, — отозвалась Марсель, которой не меньше, чем сыну, хотелось поскорей уйти прочь от тягостного зрелища. — Что-то ты не то говоришь; пойдем-ка в другую аллею, здесь солнце еще сильно припекает, и ты капризничаешь от жары. — Да, да, уйдем отсюда, — сказала Роза, — зрелище не из веселых. Она за нами не пойдет, это уж наверняка, и вообще, когда она забредет в какую-нибудь аллею, то скоро из нее не выйдет; видите, здесь, посредине, трава совсем вытоптана; можете себе представить, сколько времени она тут ходит из конца в конец! Бедная моя сестричка, до чего ее жалко! А ведь какая она была красивая и добрая! Я хорошо помню: она носила меня на руках и возилась со мной не меньше, чем вы возитесь с вашим маленьким красавчиком, но с тех пор как с ней стряслось несчастье, она меня не узнает и не помнит даже о моем существовании. — Ах, дорогая Роза! В самом деле, ужасное несчастье! А отчего это случилось? От какого-нибудь потрясения или от болезни? Известна ли вам причина? — Увы, да, очень хорошо известна. Но о ней не говорят. — Простите, если я задала нескромный вопрос. Но это потому, что мне не безразлично все, что вас касается. — О, сударыня, вы — совсем другое дело! Мне кажется, вы такая добрая, что с вами никогда не почувствуешь себя униженным, так что я вам скажу по секрету, что моя бедная сестра помешалась из-за несчастной любви. Она любила очень достойного и очень порядочного молодого человека, но у него не было ни гроша, и родители наши не согласились на их брак. Молодой человек завербовался в солдаты, и отправился искать смерти в Алжир[128]; там он и был убит. Бедняжка Бриколина после его отъезда была грустна и молчалива. В семье думали, что это так, временно на нее нашло от горя и понемногу пройдет, не оставив следа. Но ей очень уж жестоко сообщили о смерти ее милого. Мать полагала, что когда у нее не останется никакой надежды, она сразу настроится по-иному, и огорошила ее Этой новостью, не слишком-то выбирая слова и не подумав, что при таком состоянии, какое было у сестры, подобное потрясение могло бы оказаться смертельным. Сестра, казалось, и не услышала того, что сказала мать, ничего не произнесла в ответ. Было это во время ужина, — помню как сейчас, хотя я тогда еще была очень мала, — вилка выпала у нее из рук, она уставилась на мать и с четверть часа не сводила с нее глаз, по-прежнему не говоря ни слова, и вид у нее был такой страшный, что мать испугалась и закричала: «Да что это, она меня съесть хочет, что ли?» — «Скорее вы ее съедите», — сказала бабушка. Она у нас очень хорошая и хотела бы соединить Бриколину с ее милым. «Вы, — сказала она, — такой камень навалили на ее душу, что она, того гляди, рехнется!» Бабушка как в воду глядела: сестра в самом деле рехнулась и с того дня не стала есть с нами за столом. Что бы ей ни предложили, она ни к чему не прикоснется и живет сама по себе, нас избегает, а питается остатками еды, которые достает сама из ларя, когда на кухне никого нет. Иногда она вдруг как бросится на живую курицу, тут же ее убьет, разорвет руками и съест прямо с кровью. Этим она только что и занималась. Уж я знаю, не зря у нее платок и руки в крови. А то еще, бывает, выкапывает овощи из земли и ест их сырыми. Словом, она стала настоящей дикаркой, и все-то ее боятся. Вот что значит запрещенная любовь! Вот какое страшное наказание послано моим родителям за то, что они не сумели понять сердце дочери. Но они никогда не говорят о том, как повели бы себя с нею, если бы можно было повернуть все назад. Марсель подумала, что Роза намекает на себя самое, и, желая узнать, отвечает ли в какой-нибудь мере молодая девушка на любовь Большого Луи, она несколькими ласковыми словами подтолкнула ее на дальнейшие признания. Они вышли на опушку заказника со стороны, противоположной той, на которой прогуливалась безумная. Марсель почувствовала облегчение, а маленький Эдуард уже раньше успел оправиться от испуга. Он снова, весело подпрыгивая, помчался вперед, не убегая, впрочем, далеко от матери. — Ваша матушка в самом деле кажется мне немного слишком суровой, — сказала госпожа де Бланшемон своей спутнице, — но отец, по-видимому, к вам более снисходителен. Роза покачала головой. — Папенька меньше шумит, чем маменька. Он веселее, ласковее, чаще делает подарки, чаще придумывает что-нибудь приятное, в общем — любит он своих детей, и отец он хороший. Но что касается богатства и того, что он называет приличиями, то тут он как кремень, даже маменьке даст сто очков вперед. Я тысячу раз слышала от него, что лучше помереть, чем быть нищим, и что скорее он меня убьет, чем согласится… — Чтобы вы вышли замуж по своему выбору? — подхватила Марсель, заметив, что Роза затрудняется в выражении мысли. — О, он не говорит именно так, — сказала Роза, несколько смутившись. — Я еще и не думала о замужестве и пока не знаю, разойдется ли мой выбор с его выбором. Но что правда, то правда: для меня он не помирится на малом, и уже сейчас его терзает страх — а вдруг ему не удастся найти зятя себе под стать. Поэтому я в скором времени замуж не выйду, и это очень хорошо: мне совсем не хочется расставаться с родительским домом, хотя от маменьки и приходится терпеть разные мелкие неприятности. Марсели показалось, что Роза немного притворяется, но она не захотела выпытывать у девушки ее секреты и ограничилась замечанием, что Роза и сама-то едва ли будет согласна помириться на малом. — О, вовсе нет! — с простодушной непосредственностью ответила Роза. — На мой взгляд, я богаче, чем надо, и мне Это совсем ни к чему. Отец все твердит, что нас у него пятеро (у меня ведь еще есть две замужние сестры и женатый брат) и доля каждого будет не очень велика, но мне это вот уж как безразлично. Я не охотница до роскошеств, а кроме того, я вижу по нашему домашнему укладу, что чем люди богаче, тем они бедней. — Это как же? — Да, так оно и есть, по крайней мере у нас, земледельцев. Вы, господа, любите выставлять напоказ свое богатство. Наши, деревенские, обвиняют вас даже в расточительности, и вот, видя, сколько знатных семей разоряется, люди дают себе зарок быть благоразумнее и изо всех сил стараются, можно сказать, из кожи вон лезут, чтобы обеспечить своим детям выгодные партии. Каждый хотел бы удвоить или даже утроить свое состояние: по крайней мере мне, сколько я себя помню, и мать, и отец, и сестры, и их мужья, и тетки, и кузины только об этом и твердят. И чтобы богатство все росло и росло, люди подвергают себя всяким лишениям. Порою, чтобы пустить другим пыль в глаза, раскошеливаются, а затем в домашнем хозяйстве, которое не на виду, как говорится, трясутся над каждым грошом: ужас как боятся повредить мебель, посадить пятнышко на платье, позволить себе что-нибудь лишнее. По крайней мере такой порядок заведен матушкой у нас в доме, а надо сказать, это совсем не весело — всю жизнь скаредничать и отказывать себе во всем, когда есть возможность жить в свое удовольствие. А когда видишь, как наживаются за счет благополучия других людей, экономят на жалованье и еде тех, кто работает на нас, и как бездушно обходятся с ними, — становится совсем грустно. Что до меня, то будь я сама себе хозяйка, я ни в чем бы не стала отказывать ни себе, ни другим, я бы тратила весь доход, и, может быть, капиталу от этого было бы не хуже, хотя бы потому, что меня любили бы и работали бы на меня усердно и преданно. Не это ли говорил за обедом Большой Луи? Он был прав. — Милая Роза, он был прав в теории. — В теории? — То есть его благородные идеи верны применительно к обществу, которое еще не существует, хотя когда-нибудь, несомненно, будет существовать. Но, говоря о современной практической жизни, то есть о том, что может быть осуществлено сегодня, вы заблуждаетесь, если полагаете, что в наш век, когда злых людей куда больше, чем добрых, достаточно кому-то стать добрым, чтобы его поняли, полюбили и вознаградили здесь, на земле. — Меня удивляет то, что вы говорите. Я полагала, что вы думаете так же, как и я. Значит по вашему мнению, правильно угнетать тех, кто на нас работает? — Да, я думаю не так, как вы, Роза, но я далека от мыслей, которых, по-вашему, я в таком случае должна придерживаться. Я хотела бы, чтобы никто не заставлял других работать на себя, но чтобы каждый, работая на всех, трудился во славу божью и тем самым для себя. — А как сделать, чтобы так было? — Это было бы долго объяснять вам, дитя мое, и я боюсь, что у меня это плохо получится. А пока то будущее, которое я предвижу, не наступило, по-моему, быть богатым — большое несчастье, и я лично чувствую огромное облегчение от того, что перестала быть богатой. — Вот это странно! — сказала Роза. — Ведь богатые люди могут делать добро бедным, и какое же это счастье! — Один человек, пусть и с самыми добрыми намерениями, может сделать очень немного добра, даже если отдаст все, что имеет, а уж после этого он становится и вовсе бессилен. — Но если бы каждый так поступал? — Да, если бы каждый… Хорошо было бы, будь оно так; но в настоящее время невозможно внушить всем богачам необходимость такой жертвы. Вы сами, Роза, не были бы готовы отдать все без остатка. Вы охотно отдавали бы свой доход на облегчение страданий как можно большего числа несчастливых, то есть спасали бы несколько семейств от нищеты, но делали бы это только при условии сохранения своего капитала. Да вот и я сама, читающая вам сейчас проповедь, держусь за последние остатки своего состояния, дабы спасти счесть» (так у нас это называется) моего сына, то есть сохранить для него то, что позволит ему и после уплаты отцовских долгов не впасть в полную нищету. Ведь останься он безо всего, он не мог бы получить образование, должен был бы надрываться, чтобы заработать себе на хлеб, и, возможно, умер бы преждевременно, ибо такую жизнь трудно выдержать существу хрупкому, потомку многих поколений людей, которые проводили жизнь в праздности, унаследовавшему от них изнеженность натуры, несравнимой по выносливости с натурой крестьянина. Как видите, при всех наших добрых намерениях, мы не знаем, как общество могло бы разрешить эти противоречия, и единственное, что нам остается, — это предпочесть скромный достаток богатству и труд — праздности. Мы сделаем, таким образом, первый шаг к добродетели; но сколь невелика будет наша заслуга и как мало сможем мы помочь людям в их бесчисленных несчастьях, которые мы с болью душевной видим повсюду вокруг нас! — Но как же исправить это положение? — растерянно произнесла Роза. — Неужели нет никакого средства? Надо было бы, чтобы какой-нибудь король додумался до правильного решения своей головой, — ведь короли все могут. — Короли не могут ничего или почти ничего, — ответила Марсель, улыбнувшись наивности Розы, — надо было бы, чтобы народ дошел до правильного решения сердцем. — Все это мне кажется мечтой, — сказала добросердечная Роза, — в первый раз в жизни я слышу о таких вещах. Сама-то я иногда задумываюсь, но у нас никто не говорит, что свет худо устроен. Люди говорят, что прежде всего надо Заботиться о себе: ведь ежели не подумаешь о себе сам, то никто другой для тебя пальцем о палец не ударит; и еще говорят, что все люди между собою враги; от этого становится страшно, не правда ли? — Здесь есть странное противоречие. Свет худо устроен именно потому, что все люди ненавидят и боятся друг друга! — Но какой, по-вашему, может быть выход из всего Этого? Ведь когда мы замечаем что-нибудь плохое, мы всегда имеем представление о чем-то лучшем. — Такое представление может стать достаточно отчетливым только тогда, когда оно возникнет у всех и все будут способствовать его прояснению. Но когда горстка людей противостоит всем, когда вас осмеивают за то, что вы мечтаете о лучшем, и вменяют вам в преступление даже разговор об этом, будущее представляется вам смутно и неопределенно. Таков удел — не скажу самых сильных умов нашего времени, об этом я ничего не знаю, ведь я только невежественная женщина, — но, во всяком случае, сердец, исполненных благороднейших порывов. Вот как ныне обстоят дела. — Да, «на сегодня», как говорит мой папенька, — подхватила Роза, улыбаясь, и затем, погрустнев, добавила: — Что же мне делать? Как быть доброй, оставаясь богатой? — Несите в своем сердце, моя милая Роза, как драгоценные сокровища, сочувствие к страждущим, любовь к ближнему, которой учит нас Евангелие, и страстное желание пожертвовать собой ради блага других в тот день, когда ваша личная жертва сможет принести пользу всем. — И такой день придет? — Несомненно. — Вы в этом уверены? — Так же, как в том, что бог добр и справедлив. — Правда, бог не может допустить, чтобы зло существовало вечно. Как бы то ни было, госпожа баронесса, я совсем ослеплена тем, что вы мне рассказали, и у меня голова идет кругом; но все-таки я, кажется, теперь понимаю, почему вы так спокойно переносите утрату своего состояния, и мне уже самой начинает представляться, что я с радостью удовлетворилась бы скромным достатком. — А если бы вам пришлось стать совсем бедной, страдать, трудиться? — Черт возьми, если бы это ничему не послужило, то Это было бы ужасно. — А если все-таки считать, что это чему-то служит? Если для спасения человечества нужно пройти сквозь пучину горя, принять на себя некое мученичество? — Ну что ж, — сказала Роза, с удивлением глядя на Марсель, — тогда надо было бы терпеливо перенести эти испытания. — Нет, надо было бы восторженно броситься им навстречу! — вскричала Марсель, и от ее голоса и взгляда Роза вся вздрогнула, словно ее ударило электричеством; она невольно ощутила подъем духа, сама того не ожидая. Эдуард притомился и перестал резвиться. На горизонте уже показывалась луна. Марсель решила, что пора вести ребенка спать, и ускорила шаг, а Роза молча поспевала за ней; она все еще не могла прийти в себя после их беседы, но когда они приблизились к ферме и еще издалека послышался громовой голос госпожи Бриколен, Роза вернулась к действительности и, глядя на молодую даму, шедшую впереди нее, сказала про себя: «Да уж не тронутая ли она тоже?»XIII. Роза
Несмотря на эту тревожную мысль, Розу неудержимо влекло к Марсели. Она помогла ей уложить в постель ребенка, с милой предупредительностью позаботилась о тысяче разных мелочей и, прощаясь, хотела поцеловать ей руку. Но Марсель, которая уже успела полюбить Розу, как любят удачных детей, отняла руку и расцеловала девушку в обе щеки. Роза, восхищенная и почувствовавшая себя еще легче и свободней с Марселью, медлила уходить. — Я хотела бы задать вам один вопрос, — сказала она наконец. — Неужели у Большого Луи в самом деле достаточно ума, чтобы понимать вас? — Конечно, Роза! — ответила Марсель. — Но что вам-то до этого? — добавила она не без некоторого лукавства. — Видите ли, мне показалось сегодня очень удивительным, что среди нас всех у нашего мельника было больше всего разных интересных мыслей. А ведь он не получил очень хорошего образования, бедный Луи. — Но в нем столько сердечности и ума! — сказала Марсель. — О да, сердечности в нем хоть отбавляй. Я его хорошо знаю. Мы в раннем детстве росли вместе. Его старшая сестра была моей кормилицей, и первые годы моей жизни я провела на мельнице в Анжибо. Луи не говорил вам про это? — Он со мной вообще не говорил о вас, но я заметила, что он очень вам предан. — Большой Луи всегда был очень добр ко мне, — сказала Роза, покраснев. — Он всегда любил детей, а это лучшее доказательство, что он очень добрый человек. Ему было семь или восемь лет, когда меня отдали кормилице — его сестре, и бабушка говорит, что он обо мне заботился и возился со мной, как взрослый, — ну прямо как старший брат. И я будто так привязалась к нему, что не хотела с ним расставаться; а когда меня отняли от груди, маменька взяла его к нам в дом, чтобы не разлучать нас (в ту пору она еще не питала к нему такой неприязни, как теперь). Он прожил у нас около трех лет вместо предполагавшихся поначалу двух-трех месяцев и был таким расторопным да услужливым, что им просто нахвалиться не могли. Его матери тогда жилось трудновато, и бабушка — а они ведь подруги — считала, что надо облегчить ей жизнь, освободив ее от заботы хотя бы об одном ребенке. Я хорошо помню время, когда Луи, моя бедная сестра и я бегали взапуски, играли вместе на лугу, в заказнике и на чердаке замка. Но когда он подрос и мог уже помогать матери в мукомольном деле, она забрала его обратно на мельницу. Нам ужасно жалко было расставаться, и я так скучала по нем, а его мать и сестра (моя кормилица) были так ко мне привязаны, что дома порешили отвозить меня в Анжибо каждую субботу вечером и привозить домой в понедельник утром. Так продолжалось до тех пор, пока меня не отдали в пансион в городе, а когда я вышла из него, уже и речи не могло быть о дружбе между простым мельником и девушкой, которую теперь все признавали за барышню. Тем не менее мы видимся довольно часто, а особенно с того времени, как отец, несмотря на изрядное расстояние от нас до Анжибо, сделал Большого Луи своим постоянным мельником и тот стал появляться у нас по три-четыре раза в неделю. И я, со своей стороны, всегда с большим удовольствием посещала Анжибо и видалась с мельничихой — она ведь такая добрая, и я так ее люблю! Так вот, сударыня, вообразите, с некоторых пор маменьке стало казаться, что это дурно,и она запрещает мне бывать в Анжибо. Она просто возненавидела беднягу Большого Луи и всячески старается его уязвить. Например, запретила мне танцевать с ним на вечеринках, потому что он, дескать, намного ниже меня по положению, а ведь мы, деревенские барышни, как нас называют, всегда танцевали и танцуем с крестьянскими парнями, когда они приглашают нас. Да к тому же никак не скажешь, что мельник из Анжибо — крестьянин: у него есть состояние тысяч на двадцать франков; и он получил лучшее воспитание, чем многие другие. По правде вам сказать, мой кузен Оноре Бриколен пишет куда хуже, чем он, хотя на его образование истрачено больше денег, и я не возьму в толк, почему это я должна так гордиться своим семейством. — И мне это совершенно непонятно, — молвила Марсель, ясно увидевшая теперь, что с мадемуазель Розой надо разговаривать не без некоторой хитрости, ибо от нее нельзя было ожидать, что она с такой же живой непосредственностью, как Большой Луи, откроет ей душу. — Не замечали ли вы чего-нибудь такого в поведении нашего мельника, что могло вызвать недовольство вашей матушки? — Нет, решительно ничего. Он во сто раз порядочнее и вежливее, чем все наши деревенские буржуа: почти все они пьянчуги и порой бывают на редкость грубы. В жизни он не станет нашептывать на ухо словечки, от которых не Знаешь, куда глаза девать. — А не взбрело ли вашей матушке в голову, что он влюблен в вас? Роза смешалась и не сразу нашлась, что ответить. Но затем признала, что ее мать, возможно, и убедила себя в этом. — Ну, а если догадка вашей матушки верна, то, может быть, она и права, стараясь вас восстановить против него? — Ну, это как сказать… Если б так оно было на самом деле и если бы он мне про то говорил… Но он никогда не сказал мне ни слова, которое выражало бы что-нибудь большее, чем чистую дружбу. — А может быть, он влюблен в вас по уши, но не смеет вам в том признаться? — Коли так, что за беда? — не без кокетства заметила Роза. — С вашей стороны было бы очень дурно поощрять его чувства к вам, не отвечая ему столь же серьезным чувством, — строгим тоном ответила Марсель. — Это значило бы сделать себе забаву из страданий друга, а в вашей семье, Роза, менее всего можно позволить себе легкое отношение к несчастной любви. — О, мужчины от таких вещей не сходят с ума, — воскликнула Роза с задорно-своенравным видом. — Однако, — простодушно добавила она, опустив голову, — надо признаться, что порой он бывает очень грустен, бедняжка Луи, и говорит, как человек, который в полном отчаянии… а мне и невдомек, почему. Меня очень это огорчает. — Не настолько все же, чтобы вы соблаговолили его понять? — Но даже если он меня любит, как могла бы я его утешить? — Тут надо выбирать: или тоже любить, или совсем не видеться с ним. — А я не могу сделать ни того, ни другого. Любить его — для меня почти невозможно, а совсем не видеться — так я слишком по-дружески к нему отношусь, чтобы доставить ему такое горе. Если бы вы только знали, какими глазами он смотрит на меня, когда я делаю вид, что не обращаю на него внимания. Он ужасно бледнеет, и мне от Этого делается больно. — Но почему же вы говорите, что для вас невозможно его полюбить? — Черт возьми! Да можно ли любить человека, за которого нельзя выйти замуж? — Но почему же? Да человека, которого любишь, всегда можно выйти замуж! — О, отнюдь не всегда! Поглядите на мою бедную сестру! Ее судьба настолько страшна, что я не хочу рисковать тем же, следуя ее примеру. — Вы ничем не рискуете, моя милая Роза, — с некоторой горечью сказала Марсель. — Тот, кто может с такой легкостью управлять своими чувствами и своей волей, не любит и не подвергается никакой опасности. — Не говорите так, — живо отозвалась Роза. — Я не меньше других способна любить и поставить под угрозу свое благополучие. Но ужели вы посоветуете мне пойти на такие испытания? — Боже избави! Я хотела бы только помочь вам разобраться в своих чувствах, чтобы вы своей беспечностью не сделали несчастным Луи. — Ах, бедненький Большой Луи!.. Но правда, сударыня, что же я могу сделать? Допустим, что отец, побушевав и попытавшись застращать меня всякими угрозами, в конце концов согласится отдать меня за него; что мать, напуганная судьбой Бриколины, предпочтет подавить в себе отвращение к этому браку, нежели довести меня тоже до душевной болезни… Допустим, хотя все это маловероятно… Но если даже можно было бы добиться этого, то подумайте, сколько ссор пришлось бы пережить, сколько вынести сцен, сколько трудностей преодолеть!.. — Вы боитесь — значит, вы не любите, говорю я вам; может быть, вы и правы, но тогда вы должны отстранить от себя Большого Луи. Этот совет, к которому Марсель то и дело возвращалась, по-видимому, был Розе отнюдь не по вкусу. Любовь мельника чрезвычайно льстила ее самолюбию, особенно теперь, когда госпожа де Бланшемон так высоко подняла его в ее глазах, а возможно также и по причине незаурядности самого этого факта. Крестьяне мало способны на любовные чувства, а в окружавшей Розу буржуазной среде, где господствовала забота о материальной выгоде, такие чувства становились все более диковинной редкостью. Роза прочла за свою жизнь несколько романов и гордилась тем, что внушает к себе такую необычайную, почти неправдоподобную любовь, о которой раньше или позже, наверно, с удивлением заговорит вся округа; наконец, на Большого Луи заглядывались все деревенские девушки, а между крестьянским сословием и новоиспеченной буржуазией, к которой принадлежали Бриколены, расстояние было еще не настолько велико, чтобы Роза не испытывала приятного головокружения от того, что одержала победу над признанными местными красавицами. — Не думайте, что я трусиха, — чуть поразмыслив, ответила Роза, — я не молчу, когда маменька несправедливо нападает на Большого Луи, и если бы вдруг я что забрала себе в голову, то с вашей помощью — потому что, во-первых, вы очень умная, а во-вторых, отцу очень хочется сейчас выглядеть получше в ваших глазах, — я могла бы, пожалуй, преодолеть все препятствия. Прежде всего я должна вас заверить, что не решусь ума, как моя бедная сестра! Я упряма, и меня всегда очень баловали, так что сами теперь меня немного боятся, но сейчас я вам скажу, что оказалось бы для меня самым тяжелым. — Так, так, Роза, я вас слушаю. — Что подумали бы обо мне в округе, если бы я учинила этакий скандал в семье? Все мои подружки, возможно, завидующие мне из-за того, что я являюсь предметом такой любви, какой им не знавать в браках по расчету, бросят в меня камень. Все мои кузены и претенденты на мою руку, обозленные предпочтением, оказанным мною простому крестьянину перед ними, придающими себе весьма высокую цену, все матери семейств, испуганные примером, который я подала бы их дочерям, сами крестьяне, которые всегда завидуют тому из них, кто женится, как они говорят, «на больших деньгах», стали бы преследовать меня хулой и насмешками. «Вот сумасшедшая! — скажет один. — Это У них в крови; скоро она станет пожирать сырое мясо, как ее сестра». «Вот дура! — скажет другой. — Берет в мужья крестьянского парня, когда прекрасно могла бы выйти за ровню!» «Вот какая плохая дочь! — скажут все в один голос. — Доставила такое горе своим родителям, а ведь они ей никогда ни в чем не отказывали. Дерзкая бесстыдница, вот она кто! Пошла на такой скандал ради какого-то мужлана только потому, что в нем пять футов восемь дюймов росту! Почему уж было не выйти за его батрака? Или за дядюшку Кадоша, который побирается, ходя от дома к дому?» И так было бы без конца. А мне думается, не очень-то пристало молодой девушке подвергать себя всему Этому ради любви к мужчине. — Моя милая Роза, — отвечала Марсель, — эти ваши возражения кажутся мне менее серьезными, чем предыдущие. Но я вижу, что бросить вызов общественному мнению для вас страшнее, чем пойти наперекор воле родителей. Нам надо хорошенько вместе взвесить все за и против, и поскольку вы рассказали мне свою историю, должна и я рассказать вам свою. Я готова вам ее поведать, хотя это и тайна — великая тайна моей жизни. Но в ней нет решительно ничего такого, что не могло бы быть предназначено для ушей молодой девушки. Через некоторое время эта тайна будет открыта всем и каждому, а покамест я поделюсь ею только с вами, ибо я уверена, что вы ее свято сохраните. — О сударыня! — вскричала Роза, бросаясь на шею Марсели. — Как вы добры! Мне никогда еще не доверяли тайн, а я всегда очень хотела узнать какую-нибудь тайну, чтобы хорошо ее сохранять. И уж ваша ли тайна не будет для меня священной! Через нее я узнаю много такого, о чем и понятия не имею; мне кажется, любовь, как и все, что происходит с человеком в жизни, многому учит. Мне ведь никто никогда не хотел об этом говорить, потому что будто бы никакой любви на свете нет и быть не должно. Однако мне кажется… Но рассказывайте, рассказывайте, дорогая госпожа Марсель! Я хочу надеяться, что раз сейчас вы оказываете мне доверие, то скоро подарите меня и своей дружбой. — Ну почему бы и нет? Но могу ли я рассчитывать, что и мне заплатят тою же монетой? — молвила Марсель, в свою очередь обнимая и целуя Розу. — О боже! — воскликнула Роза, и глаза ее наполнились слезами. — Разве вы не видите, как я вас люблю! Едва вы появились у нас, я сердцем потянулась к вам, и сейчас мое сердце принадлежит вам целиком, хотя не прошло и дня, как мы с вами познакомились. Как это произошло? Я сама не понимаю… Но я никогда не встречала никого, кто бы так понравился мне. Я только читала о таких, как вы, в книгах, и мне представляется, что вы одна соединяете в себе всех прекрасных героинь тех романов, которые мне довелось прочесть. — А кроме того, дитя мое, ваше благородное сердечко испытывает потребность любить. Я постараюсь оказаться достойной этой столь благоприятной для меня предрасположенности вашего сердца. Маленькая Фаншона уже водворилась в соседней каморке и теперь заливисто храпела, заглушая уханье сов и крики козодоев, которые оживились к ночи и стали подавать голоса с верхушек старых башен. Марсель уселась у открытого окна, из которого видны были звезды, ярко сверкавшие на чистом безоблачном небе, и, взяв обеими руками руку Роды, рассказала ей следующее.XIV. Марсель
Моя история, дорогая Роза, в самом деле похожа на роман, но роман такой простой и неоригинальный, что он, можно сказать, походит на все романы на свете. Я постараюсь рассказать его вам как можно короче. Когда моему сыну было два года, здоровье его настолько пошатнулось, что я почти не надеялась спасти его. Мои тревоги, моя печаль, непрерывные заботы о ребенке, которые я не хотела доверить никому, предоставили мне естественный повод удалиться от света, где я начала показываться лишь незадолго до того времени, не испытывая от этого никакого удовольствия. Врачи посоветовали мне отправиться с ребенком в деревню. У моего мужа было, как вам известно, хорошее имение в двадцати милях от Бланшемона; но беспорядочная и разгульная жизнь, которую он вел там со своими друзьями, лошадьми, собаками и любовницами, заставляла меня воздерживаться от поездок туда даже в те промежутки времени, когда он сам жил в Париже. Отчаянный ералаш в доме, наглость лакеев, на чьи воровские повадки приходилось смотреть сквозь пальцы, поскольку им не платили регулярно их жалованья, весьма сомнительное окружение в лице ближайших соседей, людей с дурной репутацией, — все это было мне красочно описано моим старым, добрым Лапьером, проведшим там некоторое время, и я отказалась от мысли поселиться в имении мужа. Господин де Бланшемон отнюдь не горел желанием, чтобы я обосновалась здесь, где я также могла бы узнать о его беспутной жизни, и он внушил мне, что это ужасное место, что старый замок непригоден для жилья, и, надо сказать, в этом последнем пункте он не допустил большого преувеличения, как вы можете судить сами. Он поговаривал о том, чтобы купить для меня загородный дом в окрестностях Парижа; но откуда бы он взял денег для такого приобретения, если, как мне стало известно только теперь, он был уже почти разорен? Видя, что все его обещания лишь пустые слова, а сын мой тем временем угасает, я поспешила взять внаем в Монморанси (это деревня поблизости от Парижа, расположенная в восхитительной лесистой и холмистой местности, весьма благоприятной для здоровья) половину первого попавшегося мне дома с незанятыми помещениями, который, кстати, был и единственным в этот момент, не полностью заселенным постояльцами. Такие домики пользуются большим успехом у парижан, даже у людей богатых, поселяющихся в них на некоторое время в теплые месяцы года, хотя жить там приходится в более чем скромных условиях. Мои родственники и друзья сначала посещали меня довольно часто, потом все реже и реже, как это обычно бывает, когда гостям становится ясно, что тот или та, к кому они приезжают, ценит свое уединение и когда их визиты не поощряют ни роскошью приемов, ни кокетством. К концу первого проведенного мною там сезона уже бывало, что по две недели ко мне из Парижа никто не приезжал. Я не свела знакомств ни с кем из числа местной знати. Эдуард начал поправляться, я поуспокоилась и была удовлетворена своей жизнью: гуляла по лесу с книгой в руках вместе с сыном и крестьянкой, которая вела его ослика, в сопровождении нашего ревностного стража, большого пса. Такой образ жизни был мне чрезвычайно но душе. Господин де Бланшемон был в восторге от того, что может совершенно мною не заниматься. Он нас не навещал никогда. Время от времени он присылал слугу осведомиться о здоровье сына и о моих денежных нуждах, которые, к счастью для меня, были очень скромны, иначе он не мог бы их удовлетворить. — Вот как! — вскричала Роза. — А нам он здесь толковал, что вся рента с его земель и с ваших уходит как в прорву из-за вас, что будто вы требуете себе лошадей, карет и тому подобное, а вы-то в это время, может быть, ходили по лесу пешком, чтобы сэкономить на плате за наем осла! — Вы угадали, милая Роза. Когда я обращалась к мужу за небольшой суммой денег, он разводил длинные и малоправдоподобные истории о бедственном положении его арендаторов, о зимних морозах, о летних градобитиях, якобы разоривших их, и я, не желая вдаваться во все эти подробности, а также, как правило, искренне веря в его мнимое сочувствие вашим бедам, одобряла его и не требовала полагающейся мне ренты. Старый дом, в котором я жила, был в приличном состоянии, но довольно убог, и я не привлекала ничьего внимания. Дом был двухэтажный. Я занимала второй этаж. На первом жили два молодых человека, один из них был болен. При доме был маленький тенистый садик, окруженный невысокой стеной. В нем обычно играл Эдуард под наблюдением няни, а я посматривала на них, сидя у окна. Садиком сообща пользовались оба нанимателя, господин Анри Лемор и я. Анри было двадцать два года. Его брату всего пятнадцать. Несчастный мальчик страдал чахоткой, и Анри ухаживал за ним с трогательной заботливостью. Они были сиротами. Анри полностью заменил мать бедному умирающему. Он не оставлял его одного ни на час, читал ему вслух, прогуливался с ним, поддерживая его обеими руками, укладывал в постель, переодевал, словно малого ребенка, и так как бедняжка Эрнест почти не мог спать, Анри, бледный, измученный, исхудавший от бессонных ночей, казался почти таким же больным, как и его брат. Хозяйка нашего дома, очень добросердечная старушка, жила тут же, занимая часть первого этажа, и была очень внимательна и заботлива по отношению к несчастным молодым людям; но ее не могло хватить на все, и мне пришлось довольно много помогать ей. Я делала это очень охотно и не щадя себя; вы на моем месте, Роза, поступили бы так же; в последние дни жизни Эрнеста я просто не отходила от его постели. Он платил мне трогательной любовью и признательностью. Не сознавая и даже не чувствуя уже, насколько серьезна его болезнь, он скончался без мучений, внезапно, посреди разговора со мной. Только он успел мне сказать, что я его исцелила, как дыхание его остановилось и рука, которую я держала в своей, похолодела. Велико было горе Анри, и он слег, тяжко заболев. Теперь надо было ухаживать за ним и сидеть у его изголовья день и ночь. Старушка хозяйка, госпожа Жоли, совсем выбилась из сил. Эдуард, к счастью, поздоровел, и я могла делить свои заботы между ним и Анри. Обязанность оказывать этому бедному молодому человеку помощь и утешать его пала на меня одну, и к концу осени я с радостью увидела, что вернула Анри к жизни. Вам понятно, Роза, что среди всех этих скорбей и опасностей нас не могла не связать самая тесная и прочная дружба. К тому времени, когда из-за наступления зимы и настояний моей родни я вынуждена была возвратиться в Париж, у нас уже успела образоваться столь сладостная привычка подолгу беседовать друг с другом, вместе читать и прогуливаться в саду, что при расставании у обоих буквально разрывалось сердце. Однако мы не осмелились еще пообещать друг другу встретиться в Монморанси на следующий год. Мы еще робели оба и страшились назвать нашу взаимную привязанность любовью. Анри и не думал осведомляться о моем общественном и имущественном положении, я тоже не интересовалась, каковы его средства и к какому сословию он принадлежит. Перед моим отъездом он попросил разрешения навещать меня в Париже; но когда я дала ему свой адрес, сообщив, что живу в принадлежащем моей свекрови особняке де Бланшемон, он был удивлен и как будто даже испуган. Когда же я покидала Монморанси в карете с фамильным гербом, присланной за мною моим семейством, он окончательно растерялся и, узнав, что я богата (а я считалась богатой, да и сама так думала), решил, что разлучен со мною навеки. За всю зиму я не видела его ни разу, не знала даже, где он и что с ним. Однако на самом деле Лемор был в это время богаче меня. Его отец, умерший за год перед тем, был простолюдином, мастеровым, которому удалось сколотить себе недурное состояние благодаря заведенному им небольшому предприятию (торговому делу) и своей незаурядной оборотистости. Детям своим этот человек дал хорошее образование, а ежегодный доход Анри после смерти Эрнеста составлял восемь или десять тысяч франков. Но стяжательские идеи, душевная грубость, крайняя черствость и безграничное себялюбие отца-коммерсанта с самых ранних пор возмущали благородную и восторженную душу Анри. В ту зиму, что последовала за смертью Эрнеста, он поспешил уступить почти за бесценок унаследованное им дело человеку, которого Лемор-отец разорил, поведя с ним беспощадную конкурентную борьбу и используя в ней самые жестокие и бесчестные приемы. Анри роздал работникам отца, которых тот годами эксплуатировал, вырученные от продажи дела деньги и, не желая, из какого-то чувства брезгливости, принимать выражения благодарности с их стороны (поскольку сами эти несчастные люди, как он часто мне говорил, развратились и научились подличать, беря пример с хозяина), он сменил место жительства и поступил в учение, дабы самому стать мастеровым. Уже в предыдущем году, до того как ему пришлось из-за болезни брата поселиться в деревне, он начал изучать механику. Я получила все эти сведения от старушки хозяйки дома в Монморанси, которую навестила раза два в конце зимы из симпатии к этой достойной женщине, но также, признаюсь, из желания узнать что-нибудь об Анри. Старушка питала к Лемору большое уважение. За бедняжкой Эрнестом она ухаживала как за родным сыном; а об Анри говорила не иначе, как молитвенно сложив ладони и со слезами на глазах. На мой вопрос, почему он не навещает меня, она ответила, что мое богатство и положение в свете препятствуют непринужденным отношениям между мною и человеком, добровольно избравшим своим уделом бедность. Тут она мне и рассказала то, что ей было известно о нем и что я сейчас поведала вам. Вы должны понять, дорогая Роза, как поразили меня эти поступки молодого человека, который всегда держал себя так просто, так скромно и даже не подозревал о своем нравственном величии. С этих пор я не могла думать ни о чем другом: в шумном свете и в тишине своей комнаты, в театре и в церкви воспоминания о нем и его образ были неизменно со мной — в моем сердце и в моих мыслях. Я сравнивала его со всеми знакомыми мне мужчинами, и как он выигрывал при этом сравнении, насколько он всех их превосходил! Уже в конце марта я вернулась в Монморанси без надежды встретить там снова моего интересного соседа. Я почувствовала даже настоящую горечь, когда, оставив карету и войдя в знакомый садик вместе с родственницей, взявшейся меня сопровождать помимо моей воли, чтобы помочь мне наново здесь устроиться, я узнала, что первый Этаж сдан одной пожилой даме. Но когда моя спутница отошла от меня на несколько шагов, добрейшая госпожа Жоли шепнула мне на ухо, что она нарочно сказала неправду, так как моя родственница показалась ей чересчур любопытной и болтливой, и что на самом деле Лемор здесь, но не хочет показываться, пока я не останусь одна. Я едва не лишилась чувств от радости, но стойко вытерпела сверхлюбезные заботы моей милейшей родственницы, что стоило мне нечеловеческих усилий. Наконец она отбыла, и мы вновь увиделись с Лемором. С этого времени, то есть с конца зимы и до самой поздней осени, мы виделись ежедневно, почти не расставаясь с утра до вечера. Гости, приезжавшие редко и, как правило, ненадолго, мои выезды по делам в Париж отняли в общей сложности не более двух недель из того восхитительного времени, что нам дано было провести вдвоем. Можете себе представить, как мы были счастливы в эту пору и в какую пылкую любовь превратилась наша дружба. Но перед богом и перед невинным дитятей, моим сыном, совесть наша была чиста: новое чувство, охватившее нас, было столь же целомудренным, как и дружба, что возникла между нами у смертного ложа несчастного Эрнеста. Возможно, что среди жителей Монморанси пошел кое-какой слушок, но безупречная репутация нашей хозяйки, ее деликатность в отношении наших чувств, о которых она, конечно, догадывалась, и готовность в любую минуту защитить нас от каких-либо подозрений, уединенная жизнь, которую мы вели, тщательно соблюдавшееся нами правило никогда не показываться вместе за пределами дома, словом — полное отсутствие поводов для обвинения в недостойном поведении — все это воспрепятствовало недоброжелателям вмешаться в наши дела: до ушей моего мужа и моих родственников не дошли никакие пересуды. Никогда еще любовь не была столь возвышенной, столь благотворной для исполненных ею душ. Идеи Анри, весьма странные с точки зрения большинства людей, но единственно истинные, единственно христианские в моих глазах, вознесли мой дух в новую сферу. Одновременно с восторгом любви я познала энтузиазм веры и добродетели. Эти чувства слились в моем сердце и стали неотделимы одно от другого. Анри обожал моего сына, чужого ему ребенка, которого родной отец забыл, забросил и почти не знал! Естественно, что и Эдуард питал к Лемору нежную привязанность, доверие и уважение — чувства, которые ему должен был бы внушить к себе отец. Зима снова вырвала нас из нашего земного рая, но на Этот раз она не повлекла за собой нашу разлуку. Лемор время от времени тайно посещал меня, а писали мы друг другу почти ежедневно. У него был ключ, позволявший ему проникать в сад нашего особняка, а когда мы не могли встретиться там ночью, трещина в пьедестале старой статуи служила потайным местом для наших писем. Совсем недавно, как вы знаете, господин де Бланшемон трагическим и неожиданным образом лишился жизни в смертельном поединке с одним из своих друзей из-за легкомысленной любовницы, которая ему изменила. Месяц спустя я увиделась с Анри, и с этого времени начинаются мои горести. Я считала столь естественным навсегда соединиться с ним! В этот раз я хотела повидать его, чтобы вместе с ним определить время, когда я, соблюдя долг, предписываемый мне моим вдовством, смогу отдать свою руку и себя самое ему, уже владеющему моим сердцем и душой. Но поверите ли, Роза, его первым и мгновенным ответом был отказ, полный страха и отчаяния. Боязнь стать богатым, да, да, ужас перед богатством взяли в нем верх над любовью, и он в испуге бежал от меня! Я была оскорблена, изумлена, я не сумела его убедить и не захотела удерживать. Но затем, поразмыслив, я нашла, что он прав, что он последователен в своем поведении, верен своим правилам. Мои уважение и любовь к нему возросли еще больше, и я решила устроить свою жизнь так, чтобы он не страдал, решила порвать со светским обществом и укрыться вдали от Парижа в какой-нибудь глуши, дабы прекратить всякие отношения с богатыми и с сильными мира сего, которых Лемор считает врагами человечества — либо злобными и свирепыми, либо невольными и слепыми. Но мой замысел не исчерпывался этой стороной дела, и она была в нем не самой главной. Я имела в виду и нечто другое — то, что должно было уничтожить самый корень зла и полностью снять тяжесть с души моего возлюбленного, моего будущего супруга. Я хотела последовать его примеру и раздать все мое личное состояние, употребить его на то, что мы в монастыре называли добрыми делами и что Лемор называет актом возмещения присвоенного, справедливым по отношению к людям и угодным богу во всех религиях и во все времена. Я могла принести эту жертву, не поставив под угрозу благополучие моего сына к будущем, говоря языком богачей, ибо я считала, что ему предстоит получить значительное наследство, и, кроме того, представляла себе дело так, что, воздерживаясь от использования его ежегодных доходов на протяжении долгих лет до его совершеннолетия, накапливая и разумно помещая поступающую от его земель ренту, я буду тем самым работать на его благополучие. Иными словами, воспитывая его в духе воздержанности и неприхотливости и показывая этим пример ревностного милосердия, я сделаю его способным когда-нибудь пожертвовать на те же добрые дела внушительное состояние, возросшее благодаря моей бережливости и данному мною себе зароку ни под каким видом на прикасаться к этим средствам для удовлетворения собственных потребностей, несмотря на права, предоставляемые мне законом. Мне казалось, что наивную и нежную душу моего ребенка захватит мой энтузиазм и что я буду накапливать земные богатства ради его будущего спасения. Посмейтесь, если хотите, дорогая Роза, но я все-таки питаю надежду, что и в более стесненных обстоятельствах мне удастся внушить Эдуарду именно такой взгляд на вещи. Он не получает от отца никакого наследства, и то, что у меня остается, будет сохранено для него во имя той же цели. Я не считаю себя вправе совсем лишиться тех скромных средств, которые остались нам обоим. В моем представлении мне лично больше ничего не принадлежит, ибо моему сыну неоткуда больше ждать чего-либо определенного, кроме как от меня. Я могла бы дать обет бедности за себя самое, но господь, как мне кажется, не позволяет подвергнуть этому новому крещению ребенка, пока он не вошел в возраст, когда сможет по доброй воле принять его или отвергнуть. Смеем ли мы, родившись среди людей, одержимых мирскими страстями, и произведя на свет новые существа, которым предопределено их рождением жить в довольстве и пользоваться властью в обществе, насильственно, по своему собственному усмотрению, лишать наше потомство того, что общество почитает за особые преимущества и священные права? Если бы я умерла и оставила бы моего сына в нищете, еще не успев внушить ему любовь к труду, то какие страшные пороки, какие чудовищные извращения могли бы укорениться в лишенной моего попечительства юной душе, заглушив в ней еще не успевшие окрепнуть добрые задатки, — ибо мы живем в мире, в котором развращающее влияние денег сделало общим для всех людей девиз: «Спасайся, кто может!» Говорят о религии братства и единения людей, в лоне которой все обретут счастье, возлюбив друг друга, и станут богатыми, отдавая все, принадлежащее каждому в отдельности. Говорят, что величайшие христианские святые, как и величайшие мудрецы древности, были близки к решению этого вопроса. Говорят также, что религия эта вот-вот снизойдет в человеческие сердца, хотя в действительности все как будто сговорилось против нее; ибо из колоссальной, ужасающей сшибки эгоистических интересов должны возникнуть ощущение необходимости все изменить, усталость от зла, потребность в истине и любовь к добру. Я твердо верю во все это, Роза! Но, как бы говорили только что, мне неведомо время, которое господь назначил для исполнения своих предначертаний. Я ничего не понимаю в политике, но я не вижу, чтобы в ней брезжил сколько-нибудь явственно свет моего идеала; и, укрывшись в ковчеге, как птица во время потопа, я жду и молюсь, стражду и надеюсь, не обращая внимания на насмешки, которыми богатые и знатные осыпают всякого, кто не хочет мириться с их несправедливостями и извлекать для себя выгоду из несчастий своих ближних. Да, мы не ведаем, что будет завтра, и вокруг нас в человеческом обществе бушует дикая буря противоборствующих страстей. Поэтому я должна крепче сжать в объятиях моего сына и не дать ему захлебнуться в волнах, которые, быть может, вынесут нас к берегам лучше устроенного мира. Увы, дорогая Роза! В наше время, когда деньги господствуют в мире, все продается и все покупается. Искусство, наука, решительно все и всякие знания, а следовательно, все доброе и благородное, даже сама религия, недоступны тому, кто не может заплатить звонкой монетой за право пить из этих божественных источников. Так же как приходится платить за церковные таинства, только за деньги приобретается право быть человеком, право овладеть грамотой, право научиться мыслить и отличать добро от зла. Бедняк, если только он не наделен исключительным гением, обречен коснеть во тьме невежества, и жизнь его превращается в жалкое прозябание. А несчастный нищий ребенок, который вместо любого ремесла обучается лишь искусству протягивать руку и жалобным голосом просить подаяния, какими ложными представлениями, какими заблуждениями опутан его неокрепший, слабосильный умишко! Просто страшно становится, когда подумаешь, что суеверие — единственный доступный крестьянину вид религии, что богопочитание сводится у него к обрядам, смысла и происхождения которых он не понимает и не узнает до самой своей смерти, что бог для него — это идол, покровительствующий посевам и стадам того, кто поставит ему свечу или закажет его изображение. Сегодня утром, по дороге сюда, мне встретилась процессия, остановившаяся у источника, для того чтобы заклясть засуху. Я спросила, почему люди избрали для молебствия именно это место. Одна женщина, показав мне на небольшую гипсовую статую, установленную в нише и, наподобие языческих богов, украшенную цветочными гирляндами[129] ответила мне: «А видите ли, эта добрая госпожа по части дождя самая лучшая». Выходит, что если сын мой будет обездолен, то ему не избежать идолопоклонства, в противоположность первым христианам, которые в своей святой бедности приобщились к истинной вере! Я понимаю, что бедняк вправе спросить меня: «Почему твой сын должен познать истинного бога, тогда как моему это недоступно?» Увы, мне нечего будет ему ответить, разве только — что я могу спасти его сына, лишь пожертвовав своим. Но сколь бесчеловечным будет такой ответ! О, ужасные времена, времена, когда все трещит и рушится! Каждый гонится за тем, к чему вожделеет, оставляя ближних своих на произвол судьбы. Но я снова спрашиваю вас, Роза, что можем сделать мы, слабые женщины, способные только проливать над всем этим слезы? Наш семейный долг оказывается в противоречии с нашим человеческим долгом, и если мы можем еще сделать нечто для своей семьи, то для человечества мы все, за исключением обладателей огромного богатства, не в состоянии еще сделать ничего. Ведь в наше время, когда крупные капиталы с необычайной быстротой поглощают малые, люди скромного достатка крайне ограничены в своих возможностях и фактически бессильны. — Вот почему, — продолжала Марсель, смахнув набежавшую слезу, — я не смогу полностью воплотить в действительность те прекрасные мечты, которым я предавалась еще два дня тому назад, покидая Париж. Но тем не менее, Роза, я постараюсь ни в коем случае не позволять себе даже малых излишеств, дабы не отнимать ничего у других. Я хочу ограничиться самым необходимым, купить себе крестьянский домик и жить, отказывая себе во всем, кроме того, что нужно для поддержания своего здоровья (ибо я обязана сохранять себя ради Эдуарда), навести порядок в нашем небольшом состоянии, для того чтобы в будущем передать его сыну, научив его прежде такому употреблению земных богатств, которое господь открыл нам как единственно полезное и благочестивое в переживаемые нами времени; а до этой поры я намерена тратить лишь малую часть моего дохода на удовлетворение своих нужд и на достойное воспитание сына, чтобы всегда иметь возможность помочь беднякам, которые постучатся в мою дверь. Это, полагаю я, все, что я могу сделать, если только вскоре не образуется истинно святая ассоциация, новая церковь, боговдохновенные приверженцы которой призовут людей-братьев объединиться и жить дружным сообществом но законам религии и нравственности, отвечающим благородным потребностям души и законам подлинного равенства. Не спрашивайте меня, каковы будут эти законы. На меня не возложена миссия формулировать их, ибо господь не наделил меня гениальностью, необходимой для того, чтобы их открыть. Моего ума хватит только на то, чтобы понять их, когда они будут обнаружены, и хорошо еще, что некий спасительный внутренний голос заставляет меня отвергать системы, носящие различные имена, но все одинаково выступающие с непомерными претензиями. Ни в одной из них я не вижу достаточного уважения к нравственной свободе, и в каждой где-нибудь да проступают атеизм и честолюбивое стремление господствовать. Вы, наверно, слышали о сенсимонистах и фурьеристах[130]. Все это еще системы без религии и без любви, несостоятельные, кое-как сколоченные философские построения, в которых из-за человеколюбивого обличья проглядывает что-то недоброе. Я не берусь произносить над ними окончательный суд, но они меня отталкивают: какое-то чувство говорит мне, что они представляют собой новую ловушку, подстерегающую легковерное человечество. Но, моя милая Роза, уже поздно, и хотя ваши прекрасные глазки еще горят, видно, что вы утомились, слушая меня. Мне нечего сказать вам в заключение, разве только одно: обеих нас любят неимущие молодые люди, но тогда как одна из нас стремится порвать все связи с миром богатых, другая колеблется и боится их осуждения. — Ах, сударыня! — вскричала Роза, которая благоговейно внимала речам Марсели. — Какая добрая и благородная у вас душа! Как вы умеете любить! Мне стало ясно теперь, почему я вас так полюбила! Мне кажется, что, узнав вашу историю и побуждения, заставляющие вас поступать так, а не иначе, я поумнела вдвое. Какую унылую и ничтожную жизнь мы ведем, жизнь, совсем не похожую на ту, о которой вы мечтаете! Боже мой, боже мои! Я, наверно, умру в тот самый день, когда вы уедете отсюда. — Если бы не вы, дорогая Роза, я бы действительно, признаюсь вам, поспешила найти себе убежище но соседству с самым бедным людом; но благодаря вам я, пожалуй, полюблю вашу ферму и даже этот старый замок… Однако я слышу голос вашей матери: она зовет вас. Поцелуйте меня еще рад и простите мне те суровые слова, которые я сказала вам. Мне жаль, что они вырвались у меня, ибо вы очень чувствительны и обладаете чересчур чуткой душой. Роза пылко расцеловала Марсель и рассталась с ней. Верная своей повадке строптивого ребенка, Роза не без удовольствия предоставила матери звать ее до хрипоты, нарочито медленно двигаясь по направлению к дому. Потом ей стало неловко, и она припустилась бегом, но что-то не позволило ей откликнуться на зов, пока она не вошла в дом: визгливый голос матери после нежной, мелодичной речи Марсели резал ей слух. Еще утомленная путешествием, госпожа де Бланшемон тихонько улеглась на кровать рядом с Эдуардом, стараясь не разбудить ребенка; она задернула оранжевый полотняный полог в больших разводах и начала дремать, не подумав, что в старом дамке непременно должны водиться привидения, но вдруг непонятный шум заставил ее насторожиться и с некоторой тревогой приподняться на своем ложе.День второй
XV. Встреча
В шуме, спугнувшем сон нашей героини, можно было различить какие-то странные шорохи и постукивания: казалось, что кто-то или что-то живое бессмысленно тычется в дверь. Толчки были отрывистые и беспорядочные, и трудно было предположить, что это водится человек, нащупывай в темноте дамок, но и на то, как скребется крыса, звуки да дверью тоже не были похожи. Марсель подумала, что кто-то ид обитателей фермы ночует в старом дамке; может, какой-нибудь работник, который сейчас пьян, отыскивая на ощупь свое жилье, ошибся этажом. Вспомнив, что она не вынула ключ из замка, Марсель встала, чтобы исправить эту оплошность, как только тот, кто находился за дверью, удалится. Но шум продолжался, и Марсель не осмеливалась приоткрыть дверь и выполнить свое намерение, опасаясь оказаться лицом к лицу с каким-нибудь пьяным в стельку грубияном, который может ее оскорбить. То, что это досадное нарушение спокойствия длится так долго, начинало уже становиться изрядно неприятным, но вдруг рука, до сих пор нелепо блуждавшая по двери, принялась неистово скрести ее в одном месте, как скребется старающаяся открыть дверь когтями кошка, и Марсель, уверившись, что так оно и есть, устыдилась своих страхов и решилась отворить сама, чтобы впустить или прогнать нежеланного пришельца. Но едва она, не без некоторой все же осторожности, оттянула к себе подвижную створку двери, как та распахнулась настежь и на пороге появилась безумная. Визит этот был самым нежелательным из всех, какие Марсель могла вообразить, и в первое мгновение ей захотелось попросту вытолкать вон беспокойную посетительницу, хотя Роза и говорила ей, что сестра ее страдает в основном тихим помешательством и возбуждается лишь изредка. Но отвращение, которое внушали Марсели растерзанный вид и грязные лохмотья несчастной умалишенной, а еще более чувство сострадания погасили в ней этот порыв. Безумная, казалось, не замечала, что в комнате кто-то есть, и можно было предположить, что она, всегда избегавшая людей, тотчас уйдет прочь, как только Марсель обнаружит свое присутствие. Поэтому Марсель решила подождать и посмотреть, что дальше вздумается предпринять непрошеной гостье: отступив назад, она присела на край кровати и задернула полог, чтобы Эдуард, если он проснется, не увидел «нехорошей тетеньки», которой он испугался в заказнике. Бриколина (мы уже говорили, что у нас все старшие дочери в семьях крестьян и сельских буржуа носят в качестве личного имени свою родовую фамилию, переделанную на женский лад) довольно быстро пересекла комнату и, подойдя к окну, открыла его, что ей удалось не сразу, так как в ее исхудалых руках было совсем мало сил и ей мешали неимоверной длины ногти, которые она никогда не давала остричь. Высунувшись в открытое окно, она нарочито приглушенным голосом позвала: «Поль! Поль!» Легко можно было догадаться, что это имя ее возлюбленного, ибо она ждала его постоянно и не желала верить в его гибель. Никакого отклика не раздалось в ответ на этот жалобный призыв, прозвучавший в ночном безмолвии, и безумная, усевшись на каменную приступку у окна, расположенного, как во всех старинных сооружениях такого рода, в глубокой нише, замолкла. Около десяти минут она сидела неподвижно, перебирая в руках окровавленный платок, и, казалось, смирилась с необходимостью терпеливо ждать. Затем она встала и повторила свой призыв по-прежнему приглушенным голосом, словно полагала, что ее возлюбленный прячется среди кустов во рву, и боялась привлечь внимание людей на ферме. Примерно с час бедняжка время от времени звала Поля и каждый раз потом ждала его с удивительным терпением и покорностью. Луна ярко озаряла ее исхудалое лицо и нескладную фигуру. Возможно, безумная находила в этой напрасной надежде некоторое подобие счастья. Возможно, ее больная фантазия разыгралась настолько, что ей мерещилось, будто он здесь и она говорит с ним. Когда же стоявший перед ней образ ее погибшего возлюбленного расплывался и исчезал, она вновь вызывала его, повторяя дорогое ей имя. С болью, разрывавшей ей сердце, Марсель глядела на несчастную женщину; она хотела докопаться до самых корней этого безумия, в падение найти какое-нибудь средство облегчить страдания больной; но сумасшедшие в таком состоянии, в каком обычно находилась Бриколина, ничего не объясняют, и невозможно угадать, поглощены ли они постоянно одной мыслью, которая их точит, не давая передышки, или же временами в них вообще приостанавливается мыслительная деятельность. Наконец умалишенная отошла от окна и принялась шагать по комнате так же медленно и степенно, как днем в аллее заказника, чем тогда поразила Марсель. Казалось, она не думает больше о своем возлюбленном, и ее хмурое лицо с насупленными бровями походило на физиономию старого алхимика, погруженного в поиски абсолюта[131]. Это размеренное хождение взад и вперед продолжалось довольно долго, так что госпожа де Бланшемон, не решавшаяся ни лечь в постель, ни отойти от ребенка, чтобы разбудить Фаншону, утомилась до чрезвычайности. Но наконец безумная все же перестала шагать по комнате и, поднявшись на этаж выше, начала звать Поля из другого окна, также перемежая свои призывы расхаживанием и бесплодным ожиданием. Марсель подумала, что нужно бы пойти разбудить Бриколенов. Конечно же, они не подозревают, что их дочь ушла потихоньку из дома и, того и гляди, может покончить с собой или выпасть из окна. Фаншона, которую Марсель не без труда подняла с ее ложа, дабы Эдуард не оставался без присмотра, пока сама она сходит в новый замок, отговорила ее от этого намерения. — Ни к чему это, сударыня, — сказала она. — Бриколены и с места не двинутся. Они привыкли к тому, что эта бедняжка, которая не в себе, бродит, где хочет, и днем и ночью. Ничего дурного она не делает и, видать, давно забыла, что можно самой покончить счеты с жизнью. Люди толкуют, что она никогда не спит, и, понятное дело, при луне ей совсем нет сна. Запирайте хорошенько дверь на ночь, чтобы она тут вам не докучала. Хорошо вы сделали, что ничего ей не сказали. Это бы, пожалуй, ошарашило ее, и она могла бы озлиться. Она будет там наверху торчать всю ночь до утра и ухать, ровно пугач, но раз уж теперь вызнаете, что тут да отчего, спите себе спокойно. Фаншоне хорошо было говорить: в свои пятнадцать лет, да еще обладая от природы флегматичным темпераментом, она могла бы спать под грохот пушек, лишь бы ей было известно, «что тут да отчего». Марсели было не так легко последовать ее примеру, но в конце концов, сломленная усталостью, она уснула под доносившийся сверху размеренный и монотонный звук шагов безумной, от которых вздрагивали расшатанные балки старого замка. Наутро Роза с огорчением, ко без всякого удивления восприняла известие о ночном происшествии. — Ах, боже мой, — сказала она, — мы ведь ее хорошо заперли, зная, что у нее есть привычка блуждать где попало в полнолуние и что в это время она чаще всего забирается в старый замок. Именно потому маменьке так не хотелось, чтобы вы устроились здесь, у нас, но, видать, сестрица снова сумела открыть окошко и отправиться в замок. Руки у нее и не сильные и не ловкие, но терпения хоть отбавляй. У нее в голове засела одна мысль, и ей нет от нее покоя. Господин барон, который был совсем не такой добросердечный, как вы, и смеялся над вещами совсем не смешными, говаривал, что она ищет… постойте, постойте, как это? Ищет квадратуру… квадратуру… ах да, квадратуру круга[132]; и когда, бывало, увидит сестру, спрашивает: «Ну что, ваша философка еще не разрешила своей задачи?» — Я не расположена шутить над вещами, которые ранят душу, — отвечала Марсель, — и этой ночью мне снились дурные сны. Послушайте, Роза, мы с вами теперь добрые друзья, и, надеюсь, наша дружба будет становиться все более тесной; поэтому я принимаю ваше предложение поселиться в вашей комнате, с условием, что вы сами из нее не уйдете, а останетесь жить в ней вместе со мной. Кушеточка для Эдуарда складная кровать для меня — и больше ничего не нужно. — О, как я рада, вы себе и представить не можете! — вскричала Роза, бросаясь на шею Марсели. — Вы меня ничуть не стесните. У нас в каждой комнате стоит по две кровати — это уж такой деревенский обычай, — так что для подруги или родственницы всегда есть свободное место… Я просто в восторге, что смогу каждый вечер разговаривать с вами! Дружба между обеими молодыми особами в самом деле чрезвычайно развилась за один минувший день. Марсель тем охотнее отдавалась этой дружбе, что только в ней она могла почерпать для себя приятность среди семейства Бриколенов. Арендатор поводил Марсель по ее владениям, разговаривая все время только о деньгах и о сделках. Он пытался скрыть свое желание скупить все, но это ему плохо удавалось, и хотя Марсель, стремясь быстрее покончить с этими противными ее натуре занятиями, была готова пойти на уступки Бриколену — как только убедится в правильности его расчетов, — она тем не менее вела себя несколько уклончиво, дабы держать его в неуверенности. Она понимала, что при сложившихся обстоятельствах может оказать большое влияние на судьбу Розы (о чем та намекнула ей), а кроме того, Большой Луи взял с нее обещание ничего не предпринимать, пока она не посоветуется с ним. Полностью доверяя своему новому другу, Марсель решила подождать его возвращения, а затем уже, на основе его компетентного совета, сделать выбор. Большой Луи знал всех в округе и был слишком рассудителен, чтобы свести ее с дурным человеком. Мы оставили нашего честного мельника в тот момент, когда он вместе с Лапьером, Сюзеттой и колымажником отправлялся в город ***. Они прибыли туда в десять часов вечера, и ранним утром, посадив слуг госпожи де Бланшемон в парижски» дилижанс, Большой Луи пошел к тому буржуа, которому намеревался продать коляску. Но, проходя мимо ящика для писем, выставленного у почтовой конторы, он решил зайти в самую контору, чтобы передать прямо в руки почтовому чиновнику письмо Марсели. Войдя туда, он прежде всего увидел того молодого незнакомца, который двумя неделями ранее блуждал но Черной Долине, побывал в Бланшемоне и случайно забрел на мельницу в Анжибо. Молодой человек не обратил на мельника никакого внимания: стоя у входа в контору, он с взволнованным видом жадно поглощал строки только что полученного письма. Большой Луи, держа в руках письмо госпожи де Бланшемон и вспомнив, что молодую даму очень заинтересовало имя Анри, вырезанное на дереве близ берега Вовры, украдкой взглянул на адрес, значившийся на письме, которое читал молодой человек. Прочесть адрес Большому Луи было легко, поскольку незнакомец держал листок перед собой таким образом, что текст письма был скрыт от постороннего взора, но зато оборотная сторона листка как бы выставлялась всем напоказ. Обостренное любопытство, вызванное, впрочем, лучшими чувствами, позволило мельнику в мгновение ока прочитать слова «Господину Анри Лемору», написанные тем же почерком, что и адрес на письме, привезенном им самим из Бланшемона; вне всякого сомнения, Марсель была отправителем обоих писем, а незнакомец был — мельник не долго думая сделал это заключение — возлюбленным молодой вдовушки. Большой Луи не ошибался: первое письмо Марсели Лемору, написанное ею в Париже и пересланное другом молодого человека, уполномоченным ведать его корреспонденцией, на почту города ***, до востребования, только что попало в руки к адресату. Он был бесконечно далек от мысли, что судьба тут же подарит ему второе письмо, когда Большой Луи, позволив себе пошутить, пронес это сокровище перед его носом, заслонив им послание, которое молодой человек перечитывал уже в третий раз. Анри вздрогнул и судорожным движением вцепился в письмо, но мельник отвел его руку со словами: — Ну, ну, зачем так торопиться, мой мальчик! Почтарь, может быть, поглядывает на нас краешком глаза, и я вовсе не намерен платить штраф — это ведь денежки немалые. Отойдем-ка подальше и потолкуем, потому как, сдается мне, вам невтерпеж будет дожидаться, пока это письмецо поедет в Париж к обратно: а его непременно отошлют по адресу туда, как бы вы тут ни домогались его и ни размахивали своим дорожным листом[133], — оно ведь не адресовано вам сюда, до востребования. Идите за мной до конца улицы. Лемор пошел за мельником, но у того по пути возникло повое сомнение. — Подождите, — сказал он, когда они добрались до более или менее уединенного места, — вы точно то самое лицо, чье имя значится на этом письме? — Но вы сами в этом не сомневаетесь и, очевидно, знаете, кто я, раз обратились именно ко мне. — Это не имеет значения. У вас, конечно, есть дорожный лист? — Разумеется, есть; ведь чтобы получить корреспонденцию на почте, я должен был предъявить его. — И это не имеет значения. Считайте меня хоть переодетым жандармом, но выкладывайте мне ваш дорожный лист, — сказал мельник, протягивая ему письмо. — Вы мне — я вам. — Очень уж вы недоверчивы, — сказал Лемор, поспешно предъявляя мельнику свое удостоверение. — Еще минуточку, — промолвил осмотрительный мельник, — я хочу иметь возможность присягнуть, что письмо было не запечатано, — на тот случай, если люди на почте видели, что я вам передаю его. И он очень ловко сломал облатку, но не позволил себе вскрыть письмо, а передал его Анри, одновременно взяв из рук молодого человека его дорожный лист. Пока тот с жадностью читал второе послание Марсели, мельник, довольный тем, что может наконец узнать, кто таков и что представляет собой этот молодой человек, изучал записанные в дорожном листе сведения о его личности и занятиях. Там значилось: «Анри Лемор, двадцати четырех лет от роду, уроженец Парижа, по профессии — рабочий-механик, путешествующий с намерением посетить города Тулузу, Монпелье, Ним, Авиньон, а возможно, также Тулон и Алжир, в целях отыскания места для работы соответственно своему ремеслу». «Черт возьми! — мысленно воскликнул мельник. — Рабочий-механик! А его любит баронесса! Ищет работу, а того и гляди, может жениться на женщине с состоянием в триста тысяч франков! Выходит, это только у нас деньги ставят выше любви и только у нас женщины такие гордячки! Расстояние между внучкой папаши Бриколена, простого пахаря, и внуком моего деда, мельника, не так велико, как между баронессой и этим парнем, у которого, видать, нет ни кола ни двора! Ах, мадемуазель Роза! Хотел бы я, чтобы госпожа Марсель научила вас умению любить!» Затем, уже без помощи дорожного листа, а глядя на погруженного в чтение Анри, Большой Луи стал сам отмечать в уме приметы внешности молодого человека, сопровождая свои наблюдения комментариями: «Рост средний, лицо бледное… Можно даже сказать, красивое, хотя черная борода его здорово портит. У всех этих парижских рабочих такой вид, словно в бороде — вся их сила». И мельник, не без некоторого самодовольства сравнив свое атлетическое телосложение с далеко не столь могучей конституцией Анри, сказал про себя: «Ежели не требуется быть более представительным мужчиной, чем этот парень, чтобы вскружить голову умной женщине, да еще знатной и красивой, то, пожалуй, мадемуазель Роза могла бы заметить, что ее верный Большой Луи не хуже других с виду. Но, конечно, с этими парижанами нам трудно тягаться: у них тебе и изящные манеры, и этакая особая повадка, и черные глаза, и еще всякое разное, так что мы рядом с ними выглядим попросту увальнями. К тому же этот хоть и не крепко сшит, да зато, видать, ума палата. Эх, кабы мог он подбросить мне толику своего ума, да научил, в свою очередь, меня, как человеку сделать так, чтобы его полюбили!»XVI. Дипломатия
Размышляя таким образом, мэтр Луи вдруг заметил, что молодой человек, совершенно поглощенный какими-то своими заботами, пошел прочь, начисто забыв о собеседнике. — Эй, приятель! — крикнул, нагоняя его, Большой Луи. — Вы, что же, хотите оставить мне ваш дорожный лист? — Ах, дорогой друг! На меня нашло затмение, извините, ради бога! — ответил Лемор. — Вы мне оказали большую услугу, передав это письмо. Я вам бесконечно благодарен… Теперь я вас узнал. Я уже видел вас раньше, и не так давно. Вы как-то оказали мне гостеприимство на своей мельнице… Чудесное место… И матушка у вас такая добрая! Вы поистине счастливый человек, потому что вы, видать, человек душевный и всегда готовый услужить людям. — Ну уж и гостеприимство! — возразил мельник. — Есть тут о чем говорить! Но, правду сказать, не наша вина, что вы не пожелали взять у нас ничего, кроме хлеба и воды… Это ваше поведение, да еще борода ваша, ровно у капуцина, не очень-то красили вас в моих глазах. Но на иезуита вы, как-никак, похожи не более, чем я сам, и ежели вас устраивает моя физиономия, то ваша — меня тоже… А касательно того, что я, по-вашему, счастливый человек, то не советую вам завидовать другим людям, а особенно мне. Это выглядит вроде как насмешкой. — Не знаю, что вы имеете в виду. Вам довелось пережить какое-то несчастье за то время, что прошло с нашего первого знакомства? — Э-э, несчастье давно привязалось ко мне и бог знает, когда отвяжется. Но неохота мне об этом толковать, как и вам, верно, неохота меня слушать, потому как, я вижу, у вас от своих дел голова пухнет. Да, между прочим! Не хотите ли черкнуть словечко в ответ той особе, что послала вам это письмо? Ну, хотя бы для того, чтобы засвидетельствовать, что я хорошо выполнил ее поручение? — Значит, вы знакомы с этой особой? — весь трепеща, спросил Лемор. — Вот так так! Только теперь вам пришло в голову меня об этом спросить? Экой вы тугодум! Беззлобно-насмешливая повадка Большого Луи начинала тревожить Лемора: он боялся компрометировать Марсель. И, хотя физиономия беседующего с ним крестьянина не внушала недоверия, Анри почел уместным изобразить равнодушие. — Я сам не очень хорошо знаком с дамой, соблаговолившей написать мне, — сказал он. — Поскольку случай недавно привел меня в места, где расположены ее владения, она решила, что я смогу сообщить ей некоторые сведения… — Рассказывайте эти сказки другим, — перебил его мельник. — Она и понятия не имеет, что вы сюда приезжали, и уж тем более — зачем вы это делали. И как раз Это-то я и прошу вас мне объяснить. А не то, пожалуй, я могу и сам догадаться. — На этот вопрос я отвечу вам как-нибудь в другой раз, — довольно нетерпеливо произнес Лемор ироническим тоном, несколько осаживая собеседника. — Вы слишком любопытны, приятель, и я не возьму в толк, почему вам мое поведение кажется таким таинственным. — Таково оно и есть, приятель. А как его назовешь иначе, коли вы ей не дали знать, что ездили в Черную Долину? Мельник своей настойчивостью все более и более припирал Анри к стенке, и тот, боясь попасть в ловушку или сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, решил положить предел этому странному допросу. — Не знаю, о ком или о чем должен я вам рассказывать, — ответил он мельнику, пожав плечами. — Я еще раз благодарю вас и желаю вам всего хорошего. Если письмо, переданное мне вами, требует ответа или подтверждения в получении, я прибегну к помощи почты. Через час я уезжаю в Тулузу, и мне недосуг беседовать с вами дальше. — Ах, вы уезжаете в Тулузу! — отозвался мельник, ускоряя шаг, чтобы не позволить Анри уйти от него. — А я-то думал, что вы поедете со мной в Бланшемон. — Почему же в Бланшемон? — Ну, коли, по вашим словам, вы должны дать владелице Бланшемона советы относительно ее дел, то с вашей стороны было бы куда любезнее поговорить с нею лично, чем отвечать письменно, наспех, в двух-трех словах. Ради того, чтоб оказать услугу этой особе, стоит дать крюк в несколько миль. А я, например, хоть и простой мельник, готов для нее отправиться на край света. Извещенный таким образом, чуть ли не вопреки своей воле, о том, где в настоящее время решила уединиться Марсель, Лемор уже не мог тотчас, как он было намеревался, разойтись с человеком, знающим ее и явно расположенным говорить о ней. Предложение мельника поехать в Бланшемон, носившее к тому же характер настоятельного совета, воспламенило душу молодого человека, который изо всех сил старался, но не мог сопротивляться владевшей им могучей страсти. Раздираемый противоположными желаниями и попеременно принимая взаимоисключающие решения, Анри находился в состоянии глубокого замешательства, которое отразилось на его физиономии, хотя ему казалось, что оно скрыто в его душе, и проницательный мельник не преминул это заметить. — Если бы я был уверен, — наконец вымолвил Лемор, — что личное объяснение необходимо… Но, право же, я не думаю… Эта дама не указывает в своем письме на желательность такой встречи. — Да, — отвечал мельник насмешливым тоном, — эта дама полагала, что вы сейчас в Париже, а ради нескольких слов обычно не вызывают человека так издалека. Но, может быть, знай она, что вы находитесь поблизости, мне было бы велено привезти вас с собой в Бланшемон. — Нет, уважаемый, вы ошибаетесь, — отвечал Анри, испуганный проницательностью Большого Луи. — Вопросы, которые содержатся в письме моей почтенной корреспондентки, не столь важны, чтобы мне нужно было поехать с вами. Одним словом, я отвечу письменно. Приняв это решение, Анри словно сам вонзил себе нож в сердце, ибо, несмотря на его покорность приказам Марсели, от мысли, что он мог бы увидеть ее еще раз перед разлукой на целый год, в жилах пылкого молодого человека вскипала вся его юная кровь. Но этот проклятый умствующий мельник мог со злым умыслом или по легкомыслию представить его поездку в таком освещении, что Это повредило бы репутации молодой вдовы, и Лемору ничего не оставалось, как отклонить соблазнительное предложение. — Можете поступать, как вам угодно, — заявил Большой Луи, несколько задетый чрезмерной осторожностью Лемора, — но она непременно повыспросит меня о вас, и мне придется сказать ей, что вы весьма кисло отнеслись к мысли съездить повидать ее. — И она, конечно, ужасно огорчится? — с принужденным смехом отозвался Анри. — Да, именно! — подтвердил мельник. — И как бы вы ни хитрили со мной, приятель, — добавил он, — а смех у вас ненатуральный! — Слушайте, почтеннейший, — ответил Лемор, уже теряя терпение, — ваши намеки, насколько я понимаю, начинают переходить границы допустимого. Не знаю, действительно ли вы так преданы, как утверждаете, особе, о которой идет речь, но, кажется мне, вы говорите о ней не столь уважительно, как я, едва с нею знакомый. — Вы серчаете? Вот и хорошо! Тут вы по крайней мере искренни, и меня это злит меньше, чем ваши ухмылочки. Теперь я буду знать, что о вас думать. — Это уж слишком, — с раздражением произнес Лемор, — и походит на личное оскорбление. Я знать не знаю, что за сумасбродные мысли вы хотите мне приписать, но заявляю вам, что эта игра мне надоела и я больше не потерплю ваших дерзостей. — Э, да вы и впрямь серчаете? — спокойным тоном заметил Большой Луи. — Но ведь я могу и сдачи дать. Я против вас куда сильнее; но вы, конечно, состоите в каком-нибудь союзе ваших товарищей по ремеслу и научились фехтовать на палках. Да и вообще-то о вас, парижанах, говорят, что вы умеете орудовать палкой, ровно ученые профессора. Мы всяким премудростям по этой части не обучены, а что умеем, то умеем. Вы, наверно, половчее меня будете, да зато я могу стукнуть покрепче, так что одно на одно и выйдет. Если хотите, пойдем за старый городской вал, а не то в кофейню папаши Робишона — у него за домом есть дворик, где можно объясниться без свидетелей, не боясь, что хозяин позовет городскую стражу: он хорошо смекает, как жить среди людей. «Ну, что ж, — сказал про себя Лемор, — я сам захотел стать рабочим, а законы чести столь же обязательны для тех, кто дерется на палках, как и для тех, кто сражается шпагами. Мне неизвестно жестокое искусство убивать себе подобных каким бы то ни было оружием, но если этому галльскому геркулесу хочется забавы ради меня укокошить, я не стану его урезонивать и уклоняться от схватки. К тому же это единственный способ избавиться от его вопросов, и я не вижу причин, почему бы мне быть терпеливее, чем дворяне». Добродушный и миролюбивый мельник вовсе не искал ссоры с Анри, как тот предположил, не поняв, что он действительно заботится о госпоже де Бланшемон, а следовательно, и о нем самом; но все же к добрым чувствам мельника примешивалось недоверие, которое он хотел рассеять прямым объяснением с Анри. Не преуспев в этом, он тоже счел себя оскорбленным, и по дороге к кофейне папаши Робишона каждый из противников убеждал себя, что его вынуждает к самозащите задиристость другого. Часы на соседней церкви пробили шесть, когда Лемор и Большой Луи дошли до кофейни папаши Робишона. Это был малюсенький домик, но ему было присвоено то громкое название, которое ныне красуется на вывесках непритязательнейших кабачков в самой что ни на есть провинциальной глуши: «Кофейня Возрождения». Ко входу вела узенькая аллея, обсаженная молодыми акациями и пышными георгинами. Дворик «для объяснений» примыкал к стене церкви готического стиля; стена была покрыта плющом и вьющимися розами; густые, сплетающиеся в шатры, заросли жимолости и ломоноса загораживали дворик от соседских взглядов и наполняли благоуханием утренний воздух. Цветы вокруг, аккуратно посыпанная песком земля делали этот уголок, где, ввиду раннего часа, еще не было людей, чрезвычайно уютным; он скорее подходил для любовных свидании, нежели для кровопролитных схваток. Приведя сюда Лемора, Большой Луи закрыл за собой дверь, уселся за выкрашенный в зеленый цвет деревянный столик и сказал: — Ну так как же? Для чего мы пришли сюда: дубасить друг друга или попить вместе кофейку? — Как вам будет угодно, — отвечал Лемор. — Если хотите, будем биться, а кофе пить я не расположен. — Понятное дело: это ниже вашего достоинства, — сказал, пожимая плечами, Большой Луи. — Когда получаешь письма от баронессы… — Вы опять за свое? Одно из двух: или вы даете мне уйти, или пошли сейчас же биться. — Я не могу биться с вами, — возразил мельник. — Вам достаточно, я полагаю, взглянуть на меня, чтобы убедиться, что я не трус. И все же я отказываюсь от поединка, на который вы меня вызываете. Госпожа де Бланшемон никогда не простила бы мне этого, и все мои дела пошли бы прахом. — О, это не препятствие! Если вы боитесь, что госпожа де Бланшемон осудит вас, как скандалиста и драчуна, то ведь вы можете скрыть от нее, кто из нас двоих затеял ссору. — Так, значит, вовсе я затеял ссору? А кто первый заговорил о драке? — По-моему, только вы один о ней и говорили, но это не имеет значения: я принимаю вызов. — Но что так оскорбило вашу милость? Я не сказал вам ничего дурного, а вы стали обвинять меня в дерзостях. — Вы принялись толковать мои мысли и поступки вкривь и вкось самым неподобающим образом, а я настоятельно попросил оставить меня в покое — вот и все. — Да, да, вы приказали мне замолчать! А ежели я не хочу молчать, тогда что? — Тогда я поверну к вам спину, а ежели вам это не понравится, будем драться. — Ну и парень! Упрям, как тысяча чертей! — вскричал Большой Луи и так хватил своим кулачищем по столу, что тот раскололся посередке. — Послушайте-ка, парижский господинчик! Вы видите, что рука у меня тяжелая. А вы такой заносчивый, что меня просто подмывает испытать, будет ли ваша голова тверже этой дубовой доски; потому как на свете нет худшего оскорбления, как сказать человеку: «Я не хочу вас слушать». И все-таки я не должен и не могу допустить, чтобы хоть один волос упал с вашей непутевой головы. Слушайте, пора с этим кончать. Я ведь вам хочу добра, а еще больше хочу добра известной нам обоим особе; за нее я готов пойти на край света, а она, как я уверен, питает к вам — с чего бы, не знаю — некоторый интерес. Между нами должно быть все ясно: я вам больше задавать вопросов не стану, потому как это напрасный труд, но я вам выложу, что думаю о вас хорошего и плохого; вы послушаете меня до конца, и коли вам придется не по вкусу, что я скажу, тогда будем драться, а коли то, в чем я вас подозреваю, правда, я без сожаления сверну вам челюсть на сторону. Надо постараться понять друг друга, прежде чем мериться силами: на худой конец мы будем знать, из-за чего деремся. Давайте-ка попьем кофейку, потому как со вчерашнего дня у меня во рту еще маковой росинки не было и уже здорово сосет под ложечкой. Ежели вы такой большой барин, что не можете позволить мне заплатить за угощение, то давайте договоримся так: тот из нас, кто будет менее изувечен после нашей разминки, возьмет на себя оплату по счету. — Согласен, — ответил Анри, который, считая себя находящимся в состоянии вражды с мельником, не опасался того, что чересчур расположится к нему и размякнет. Кофе принес сам папаша Робишон, бурно приветствовавший Большого Луи. — Это твой дружок? — спросил он, глядя на Лемора с любопытством, которое склонны проявлять по всякому поводу не слишком обремененные делами владельцы различных заведений в захолустных городках. — Я его не знаю, но это все равно: раз ты его привел ко мне, значит, надо думать, парень он стоящий. Видите ли, молодой человек, — добавил он, обращаясь к Лемору, — вам на редкость повезло, что, приехав в наши края, вы свели такое хорошее знакомство. Большого Луи уважают решительно все, а что до меня, то я люблю его как родного сына. О-ох, знали бы вы, какой он разумник, какой он честный и какой безобидный… Безобиднее ягненка, хотя другого такого силача во всей округе не сыщешь; он — я в том присягнуть могу — никогда, отродясь, не затеял ни с кем ссоры, он не даст шлепка ребенку, и я никогда не слышал, чтобы он в моем заведении поднял голос. Правда, что греха таить, бывает, приходят сюда забияки, но он умеет всех утихомирить. Этот панегирик, произнесенный не слишком кстати как раз в то время, когда Большой Луи привел в кофейню папаши Робишона приезжего человека именно для того, чтобы свести с ним счеты, очень насмешил обоих молодых людей.XVII. Брод на Вовре
Тем не менее похвальная речь хозяина кофейни прозвучала так искренно, что Лемор, которому после всего предыдущего уже не много надо было, чтобы проникнуться прямой симпатией к мельнику, поразмыслил над его, казалось бы, странным поведением в имевших место обстоятельствах и начал склоняться к мысли, что у этого человека, должно быть, есть серьезные основания для расспросов. Они вместе выпили по чашке кофе, выказывая отменную взаимную учтивость, и, когда папаша Робишон освободил их от своего присутствия, мельник начал следующим образом: — Сударь (мне приходится называть вас так, потому что я не знаю, друзья мы или враги), прежде всего я, с вашего позволения, должен вам поведать, что я люблю девушку, которая богаче, чем я, а она любит меня ровно настолько, чтобы терпеть мое присутствие. Поэтому я могу говорить о ней, ничуть не вредя ее репутации, а кроме того, вы ее вовсе и не знаете. Однако я не охотник толковать о своих чувствах; людям скучно слушать про это, особливо таким, которых укусила та же муха: ведь почти что всякий, кого скрутит это недуг, становится чертовски себялюбив и думает только о своих делах, а на других плюет. Но, известное дело, в одиночку гору не своротишь, а вот ежели по-дружески подсоблять друг другу, так, пожалуй, кой-чего и добьешься. Вот почему я хотел, чтобы вы были со мной откровенны, как та дама, которую вы отлично знаете, и поэтому же я сам с вами откровенен, хотя мне неизвестно, нужно вам это или нет. Итак, я люблю девушку, которая получит в приданое на триста тысяч франков больше, чем все мое состояние, а это в настоящее время значит то же, как если бы я вдруг захотел жениться на китайской императрице. Мне — тьфу! — Эти триста тысяч франков! Да, я бы их послал ко всем чертям, потому как именно они нас и разделяют. Но никогда еще не было так, чтобы всякими помехами можно было урезонить любовь. И пусть я нищий, но я люблю — и все тут; Это колом засело у меня в голове, и если известная вам особа не поможет мне — а она подала мне на то надежду, — тогда я человек пропащий… тогда… бог весть что я тогда могу вытворить! При этих словах выражение его лица, до тех пор, как обычно, веселое, так резко изменилось, что Лемор был поражен внезапно открывшейся силой и искренностью его страсти. — Ну что ж, — с сердечным участием сказал он мельнику, — раз вас опекает столь умная и просвещенная дама… Так, по крайней мере, о ней говорят. — Я не знаю, что говорят о ней, — ответил Большой Луи, раздраженный тем, что молодой человек упорно продолжает осторожничать, — я знаю, что я сам думаю о ней, и я вам говорю, что эта женщина — ангел небесный. Если вам Это неведомо, то тем хуже для вас. — В таком случае, — произнес Лемор, чувствуя себя внутренне побежденным этим, столь искренним, восхвалением Марсели, — я хочу знать, к чему вы гнете, милейший. — А вот к чему. Когда я увидел, какая она добрая, достойная женщина, какая у нее прекрасная душа, увидел, что она расположена мне помочь и поддерживает во мне надежду, хотя я уже считал было, что все погибло, я сразу привязался к ней — и навсегда. Преданность ей родилась во мне, как — в романах пишут — рождается любовь, вдруг, в одно мгновение; и теперь я хотел бы заранее отплатить этой женщине добром за то доброе дело, что она намерена для меня сделать. Я хочу, чтоб она была счастлива, как она того заслуживает, счастлива в своей любви, потому как она только и уважает на свете, что искренние чувства, и презирает богатство; хочу, чтобы ей выпало счастье быть любимой человеком, который ценил бы ее самое, а не занимался бы подсчетами, сколько у нее осталось от состояния, с таким легким сердцем ею сейчас утраченного, и который не подумал бы наводить справки, чем она владеет и чем не владеет… чтобы решить, стоит ли соединяться с ней или лучше вовремя улепетнуть… позабыть ее… и попытаться при помощи своей смазливой физиономии одержать другую победу, сулящую больший барыш… потому как, в конце концов… Лемор не дал мельнику договорить. — Какие у вас основания, — сказал он бледнея, — опасаться, что эта уважаемая особа может сделать предметом своей любви столь недостойного человека? Кто тот низкий субъект, который, но вашему предположению, таит в душе столь постыдные расчеты? — Мне об этом ничего не известно, — отвечал мельник, внимательно наблюдая за взволнованным Анри и не зная еще, чему приписать его беспокойство: негодованию человека с чистой совестью или стыду разоблаченного дельца. — Все, что мне известно, — это что около двух недель тому назад на мою мельницу заявился один молодой человек, судя по лицу и по поведению — вполне порядочный, но чем-то сильно озабоченный, и что потом он вдруг стал говорить о деньгах, задавать всякие вопросы, делать записи и наконец подсчитал на листе бумаги с точностью до сантима, что у владелицы Бланшемона от ее состояния остается еще изрядный кусок. — Вы в самом деле думаете, что этот молодой человек Заявил бы о своей любви к ней только в том случае, если бы женитьба показалась ему выгодной? Тогда это был негодяй; но чтобы так хорошо его разгадать, надо самому быть… — Договаривайте, парижанин, не стесняйтесь! — бросил мельник, и в его взоре сверкнула молния. — Мы ведь здесь как раз для того, чтобы объясниться начистоту! — Я говорю, — продолжил Лемор, ощетиниваясь не меньше, чем его собеседник, — что истолковывать таким образом поведение незнакомого тебе человека, о котором ровно ничего не знаешь, можно только, если сам влюблен без памяти в приданое своей любезной. Взор мельника потух, и лицо его омрачилось. — О, я знаю, — печально произнес он, — люди могут сказать обо мне такое, и даже не сомневаюсь, что большинство именно и сказало бы, коли бы мне удалось добиться, чтобы меня полюбили. Но полюби она меня, так отец наверняка лишил бы ее наследства. Вот тогда люди увидели бы, стал бы я подсчитывать на пальцах или нет, сколько она потеряла. — Послушайте, мельник! — с горячностью воскликнул Лемор. — Я вас ни в чем не обвиняю и не хочу подозревать в низости. Но как же вы, честный по натуре человек, не сделали самого правдоподобного и более достойного вас предположения? — Настоящие чувства этого молодого человека могли проясниться только из его последующего поведения. Одно дело, ежели бы он опрометью ринулся к своей милой, тогда… я ничего не говорю, но коли он пустился наутек, то тут дело совсем другое! — Следовало предположить, — возразил Лемор, — что он считает свою любовь безумием и не хочет получить отказ. — Вот я вас и поймал! — вскричал мельник. — Опять вы начинаете лгать! Мне доподлинно известно, что эта дама в восторге от потери своего состояния, что она мужественно приняла даже известие о полном разорении сына, — и все это только потому, что она любит некоего человека, брак с которым сочли бы, наверно, преступлением с ее стороны, не стрясись эти бедствия. — Ее сын разорен? — переспросил Анри, весь дрожа. — Полностью разорен? Неужели это так? У вас точные сведения? — Совершенно точные, мой милый! — ответил мельник насмешливым тоном. — У опекунши мальчика, которая могла бы в течение долгого времени до его совершеннолетия делить с любовником или с мужем проценты с крупного капитала, теперь нет ничего, кроме подлежащих оплате долгов, и потому она имеет намерение, как она мне вчера сказала, обучить сына какому-нибудь ремеслу, чтобы он мог впоследствии прокормиться. Встав со скамьи, Анри возбужденно шагал по дворику взад и вперед. На лице его было какое-то неопределенное выражение, и Большой Луи, внимательно следя за ним, не мог понять, какое чувство владеет сейчас молодым человеком: высшего счастья или крайней досады. «Посмотрим, — сказал он про себя, — таков ли этот человек, как она и как я сам, ненавидит ли он деньги, препятствующие любви, или же он — просто-напросто делец, привороживший ее к себе невесть каким колдовством, честолюбец, мстящий выше того небольшого дохода, что ей остается». Дав самому себе слово, что он либо доставит Марсели большую радость, либо раз и навсегда освободит ее от вероломного негодяя, разоблачив его, Большой Луи после некоторого размышления придумал хитроумный ход. — Бы раздосадованы, как я погляжу, — сказал он нарочито мягким тоном. — Что ж, понятное дело. Не каждому охота витать в облаках, и ежели вы надеялись заполучить в руки нечто весомое, то, значит, вы сделаны из того же теста, что и все люди нашего времени, только и всего. Как видите, я оказал вам недурную услугу ссорой с вами: вы узнали благодаря мне, что от вдовьего наследства остались рожки да ножки. Бы, конечно, рассчитывали на доход с опекаемого состояния юного наследника; ведь вы прекрасно знаете, что те самые последние триста тысяч франков, якобы остающиеся все же вдове, — тоже не более как обманное видение. — Как вы сказали? — вскричал Лемор, прервав свое возбужденное хождение по дворику. — Она лишилась последних средств к существованию? — Да, лишилась начисто; и не притворяйтесь, будто вам это неизвестно: вы слишком хорошо все разведали и не можете не знать, что ее долг арендатору Бриколену вчетверо больше, чем предполагалось, и что владелица Бланшемона должна будет пойти служить в табачной лавке или на почте, коли захочет обучать сына в школе. — Неужели это действительно так? — в изумлении повторял Лемор, которого сообщение мельника ударило как обухом по голове. — Какой внезапный поворот в ее судьбе! Словно бы гром небесный грянул! — Да, гром среди ясного неба, — с горькой усмешкой подтвердил мельник. — И что же, скажите мне, она этим ничуть не расстроена? — О, ничуть. Скорее наоборот: она воображает, что вы теперь еще больше ее полюбите. А вы как расположены? Нет, конечно, не на дурака напали, а? — Ах, что вы мне сообщили, мой дорогой друг! — отвечал Лемор, не услышав последней реплики Большого Луи. — А я-то хотел драться с вами! Вы оказали мне огромную услугу! Я ведь уже было совсем собрался… Вы посланы мне самим богом… Приписав порыв Лемора чувству удовлетворения, которое тот, должно быть, испытывал сейчас, будучи вовремя предупрежден о крушении его стяжательских надежд, Большой Луи с негодованием отвернулся от него и в течение нескольких минут оставался погруженным в глубокую печаль. «Сил нет, — говорил он себе, — смотреть, как такую доверчивую и бескорыстную женщину обводит вокруг пальца подобный хлыщ. Видать, она настолько же безрассудна, насколько он бессердечен. Мне следовало раньше сообразить, что она крайне неосмотрительна: об этом можно было догадаться хотя бы по тому, что она в первый же день знакомства со мной открыла мне все свои тайны. Она, по присущей ей доброте, способна отдать душу первому встречному. Ох, надо мне ее побранить, насторожить и предостеречь против нее самой в делах такого рода! А прежде всего нужно освободить ее от этого проходимца. Руки так и чешутся дать ему крепко по уху да поставить здоровенный фонарь под глазом, чтобы он долго не мог казать красоткам свою смазливую рожу…» — Ну, господин парижанин, — произнес он, не оборачиваясь и стараясь придать своему голосу твердость и спокойствие, — вы послушали меня, и теперь вам известно, что я о вас думаю. Я узнал то, что хотел узнать: вы подлец. Таково мое мнение, и я тотчас же, если позволите, засвидетельствую его делом. Но время этой речи мельник без какой-либо поспешности засучивал рукава, намереваясь обойтись одними кулаками; затем он встал и обернулся, удивленный тем, что его противник медлит с ответом. Но он удивился еще больше, увидев, что он во дворе один. Он пробежал по аллее, обсаженной георгинами, обследовал все закутки кофейни Робишона, обошел все близлежащие улицы, но Лемор как сквозь землю провалился. Никто не видел, когда он ушел. Возмущенный и чуть ли не разъяренный мельник напрасно обегал в поисках его весь город. Проведя час в бесплодной погоне за Лемором, Большой Луи притомился и стал терять надежду на успех. «Все равно, — сказал он себе, присев на тумбу, — ни один дилижанс, ни одна колымага не выйдут сегодня из города без того, чтобы я не пересчитал всех пассажиров и не заглянул каждому из них в лицо! Этот господинчик так просто не улизнет от меня… Но что это я! Как я мог забыть, что он вообще-то путешествует пешком, а уж человек, который не желает платить долг чести, заведомо постарается убраться прочь на цыпочках, без труб и барабанов. Да к тому же, — добавил он, понемногу успокаиваясь, — милейшая госпожа Марсель не поблагодарит меня, конечно, коли я отдубашу ее любезного. От такой сильной привязанности не отделываются в одну минуту, и бедная женщина может не поверить мне, когда я скажу, что ее парижанин вполне под стать жителям Марша[134]. Как же мне взяться за дело, чтобы она в нем разочаровалась? Это мой долг, и, однако, когда я думаю, какое горе я ей доставлю… Ах, бедняжка! Ну, можно ли обмануться до такой степени? Рассуждая так с самим собой, мельник вдруг вспомнил, что ему надо еще продать коляску, и отправился к одному бывшему арендатору, который разбогател и переселился в город. Тот внимательно обследовал экипаж, долго торговался и наконец решился купить его, из страха, что этим предметом роскоши, предлагаемым по столь дешевой цене, завладеет господин Бриколен. — Покупайте, господин Равалар! — говорил ему мельник с тем удивительным терпением, которое проявляют беррийцы, когда они, отлично понимая, что покупатель уже решил непременно приобрести их товар, из вежливости притворяются, будто всерьез верят, что еще неизвестно, состоится сделка или нет. — Я вам уже сто раз сказал и готов без конца повторять то же самое: вещь эта хорошая и красивая, тонкой работы и прочная. Такие вещички выпускаются только первейшими парижскими фабрикантами. Вам она достается просто задаром. Вы меня слишком хорошо знаете и не можете сомневаться, что я не связался бы с делом, где скрыта какая-нибудь ловушка. К тому же я не спрашиваю с вас ничего за посредничество, тогда как всякому другому вам пришлось бы приплатить. Видите, вам выгода со всех сторон! Покупатель жался и мялся до самого вечера. У него сердце разрывалось от мысли, что ему придется выложить из своей мошны некоторое количество экю. Увидев, что солнце опускается, Большой Луи заявил: — Ну, хватит, я не хочу ночевать здесь и отправляюсь восвояси. Вы, видать, не хотите заполучить этот славный экипажик, блестящий, словно зеркало, и такой дешевый. Я сейчас запрягу в него Софи и поеду обратно в Бланшемон, гордый, что твой Артабан[135]. Первый раз в жизни я покачу в коляске: это будет забавно, а еще забавнее будет видеть, как папаша и мамаша Бриколены погрузятся в нее в воскресенье и подадутся в Лашатр! Но на мой взгляд, вы с вашей хозяйкой выглядели бы в ней попредставительнее. Наконец, уже к ночи, господин Равалар отсчитал деньги и велел слугам переправить чудо-коляску в свой сарай. Большой Луи погрузил багаж госпожи де Бланшемон на свою таратайку, запрятал в кожаный пояс вырученные две тысячи франков и, пустив Софи рысью, поехал, сидя на одном из сундучков и распевая во все горло, несмотря на ухабы и на громкий стук колес, катившихся по булыжной мостовой. Он ехал быстро, в отличие от колымажника зная дорогу как свои пять пальцев, и луна еще не успела взойти, как он уже миновал лежащее на пути селеньице под названием Мер. Белый пар, клубящийся даже в теплые летние ночи над многочисленными ручьями Черной Долины, застилал широкими покрывалами, похожими на озера, далеко простиравшуюся темную равнину. Стихли крики занятых жатвой крестьян и песни пастушек. Вскоре единственными живыми существами, которые могли встретиться мельнику на пути, были светляки, рассеянные там и сям среди окаймлявших дорогу кустов. Однако, пересекая одну из заболоченных пустошей, образуемых в этой местности (в целом весьма плодородной и тщательно возделанной) излучинами рек, он смутно увидал впереди себя, среди тростников, фигуру человека, который сначала бежал, а затем остановился у брода через Вовру, словно ожидая его. Большой Луи был не робкого десятка, но в этот вечер на его попечении были немалые деньги, каковые он почитал необходимым оберегать бдительнее, чем если бы они были его собственностью, и потому он поспешно вернулся к таратайке, впереди которой до сих пор шел пешком, ради того, чтобы немного поразмяться и на некоторое время облегчить груз для Софи. Стеснявший его кожаный пояс был положен им на мешок с зерном. Взобравшись снова на свою колесницу, называемую им на местный манер «рессорным экипажем из тележной кожи» (что означало просто-напросто деревянную телегу), Большой Луи укрепился в ней на ногах, вооружился бичом, тяжелая ручка которого могла служить заодно и орудием самообороны, и, став прямо, как солдат на посту, поехал вперед, весело распевая куплеты из старинной комической оперы[136], не раз слышанные им в детские годы от Розы:Сквозь лес наш мельник вез домой
Из города деньжата,
Как вдруг услышал шум глухой
Среди листвы богатой.
Наш мельник был смельчак и хват,
Но тут струхнул он, говорят…
Друзья, страшитесь этих мест
И выбирайте длинный,
Далекий путь, — но путь в объезд
Черной Долины.
Друзья, страшитесь этих мест,
Людской страшитесь злобы
И выбирайте путь в объезд
Лесной чащобы;
XVIII. Анри
Путник в самом деле подошел вплотную к голове лошади, и Большой Луи, успевший под аккомпанемент своей песни прикрепить к концу бича свинцовую пулю с дыркой, проделанной нарочно для этой цели, уже занес руку с намерением заставить злоумышленника, если тот схватит лошадь под уздцы, разжать пальцы, как вдруг знакомый голосдружелюбно произнес: — Мэтр Луи, позвольте мне переправиться на тот берег в вашей таратайке! — Милости просим, дорогой парижанин! — воскликнул мельник. — Наконец-то мы снова встретились! Я ведь проискал вас все утро. Влезайте, влезайте, мне как раз надо сказать вам пару слов. — А мне надо задать вам больше, чем пару вопросов, — отозвался Анри Лемор, без всякой опаски вскакивая в тележку и усаживаясь на сундучок рядом с Большим Луи, как человек, не ожидающий для себя ничего плохого. «Вот наглый парень», — подумал мельник, почувствовав новый прилив злости и с трудом сдерживая себя, несмотря на то, что они находились сейчас посредине речки. — Знаете, приятель, — сказал он, кладя Анри на плечо свою тяжелую руку, — мне чего-то больно охота свернуть в сторону и пустить вас сделать нырок с запруды. — Забавная мысль, — спокойно ответил Лемор, — и, возможно даже, осуществимая. Только я бы, дружище, стал бешено защищаться, потому что в настоящий момент, впервые за долгое время, жизнь мне весьма дорога. — Одну минутку! — произнес мельник, останавливая лошадь на прибрежном песке после переезда через речушку. — Здесь будет удобнее поговорить. Прежде всего, милейший, соблаговолите сказать мне, куда вы направляетесь. — Я и сам не очень-то знаю, — ответил Лемор смеясь. — Просто иду куда глаза глядят. Разве сейчас погода не подходящая для прогулки? — Не такая подходящая, как вам кажется, и вы могли бы вернуться, вымокнув до нитки, коли бы я того захотел. Вы попросились на мою таратайку: это моя передвижная крепость, и с нее спуститься не всегда так же легко, как на нее взойти. — Довольно зубоскалить, Большой Луи, — сказал Лемор, — и подстегните свою лошадь. Мне не до смеха, я слишком взволнован… — Вы просто трусите, сознайтесь. — Да, да, я «струхнул», как мельник в вашей песне, и вы поймете, когда я вам расскажу… если смогу рассказать… Я сейчас сам не свой… — А все-таки, куда вы направляетесь? — переспросил мельник; он начал уже опасаться, что неверно думал о Леморе, и, вновь обретя способность ясно рассуждать, несколько поколебленную гневом, задавал самому себе вопрос, предался ли бы таким образом ему в руки человек, действительно повинный в низости. — А сами вы куда, направляетесь? — в свою очередь, спросил Лемор. — В Анжибо? Оттуда же рукой подать до Бланшемона! Я как раз иду в ту сторону, хоть и не уверен, что осмелюсь дойти до места… Но… вы ведь слыхали, что магнит притягивает железо? — Не знаю, из железа вы или нет, — ответил мельник, — знаю только, что и меня тянет в ту сторону крепкий магнитик. Итак, молодой человек, вы хотели бы… — Ничего я не хочу, не смею ничего хотеть! Но она разорена, совсем разорена! Зачем же мне убегать? — А зачем вы хотели пуститься в дальние края, в Африку или еще куда-то, к черту на кулички? — Я думал, что она все-таки еще богата: триста тысяч франков, я вам уже говорил, сравнительно с моим положением — это богатство. — Но она же любила вас, несмотря на это? — Так что же, вы считаете — я должен был принять и деньги вместе с любовью? Ну вот, видите, мой друг, я больше не притворяюсь перед вами. Вам, как можно судить, поведали о вещах, в которых я ни за что бы не признался, хотя бы мне пришлось пойти на драку с вами. Но я поразмыслил… после того как покинул вас… несколько внезапно, сам толком не зная, что я делаю, потому что сердце мое было переполнено радостью и я не смог бы дальше молчать… Да, я поразмыслил над всем услышанным мною от вас и понял, что вам известно все и что глупо опасаться нескромности со стороны человека, столь преданного госпоже… — Марсели! — закончил за него мельник, испытывая явное удовольствие оттого, что может запросто называть ту, о ком они говорили, ее крестильным именем, как он мысленно его определял, противопоставляя его родовой дворянской фамилии владелицы Бланшемона. Лемор вздрогнул, услыхав это имя. Впервые оно зазвучало в его ушах. Так как он не имел никаких отношений с окружением госпожи де Бланшемон и никому не поверял тайну своей любви, то и не слышал никогда из чьих-либо уст звучания этого дорогого для него имени, которое он лишь читал с благоговением под строками приходивших к нему записок и осмеливался произносить только наедине с самим собой в минуты отчаяния или восторга. Он схватил мельника за локоть, колеблясь между желанием попросить своего нового друга вновь произнести это имя и боязнью профанировать его, позволив эху повторить его многократно в ночной тиши. — Ну так! — произнес Большой Луи, тронутый чувством Лемора. — Вы поняли наконец, что не должны были, не имели причин питать недоверие ко мне? Но что до меня, то, сказать по правде, я все еще питаю некоторое недоверие к вам. Это происходит помимо моей воли, но я не могу с этим ничего поделать. Ну вот, скажите-ка, где вы провели весь сегодняшний день? Я думал, что вы прячетесь в каком-нибудь погребе. — Наверное, я бы и забрался в погреб, окажись он где-нибудь поблизости, — с улыбкой ответил Лемор. — Мне было крайне необходимо скрыть от всех свое волнение и свою безумную радость. Знаете, друг мой, я ведь намерен был уехать в Африку и никогда больше не видеть ту, чье имя вы только что произнесли… Да, несмотря на письмо, врученное мне вами, в котором мне предлагалось вернуться через год, я чувствовал, что совесть требует от меня ужасной жертвы. И еще сегодня я был полон страха и неуверенности! Ибо если теперь мне не нужно в жестокой борьбе с самим собой преодолевать чувство стыда от того, что я, пролетарий, женюсь на богатой женщине, то еще остается сословная вражда, борьба плебея с патрициями, которые будут преследовать эту благородную женщину за выбор, почитающийся недостойным. Но, быть может, низостью было бы уклониться от этого испытания. Не ее вина, если в ней течет кровь угнетателей, и, кроме того, дворяне утратили свое былое могущество, его обрели люди иного свойства. Дворянские воззрения лишились авторитета, и возможно, что та… которая удостоила меня своим вниманием… не будет порицаема всеми. И тем не менее это ужасно — не правда ли? — заставить любимую женщину вступить в конфликт с родными, навлечь на нее осуждение со стороны тех, среди кого она прожила всю жизнь! Какими другими душевными связями заменю я ей эти связи, правда, второстепенные, но многочисленные, радующие любвеобильное сердце, которое не может без сожаления разорвать их? Ведь я одинок на всей земле; неимущий всегда одинок, а простой народ не понимает еще, как он должен был бы встречать тех, кто приходит к нему из такой дали, преодолев невероятные препятствия. Увы! Я провел часть дня где-то в зарослях, сам не знаю где, в каком-то месте, куда случайно забрел, и лишь после долгих часов напряженного и тревожного раздумья решил найти вас и попросить устроить мне свидание с нею на час… Я безуспешно искал вас, в то время как вы, возможно, тоже искали меня, ибо именно вами была подсказана воспламенившая меня мысль отправиться в Бланшемон. Но я полагаю, что с вашей стороны это было неблагоразумно, а с моей — и вовсе безумно, потому что она запретила мне даже разузнавать, куда она удалилась из Парижа, и назначила ради соблюдения приличий во время траура нашу встречу через год. — Только и всего? — спросил Большой Луи, несколько испуганный тем, как оборачивалась его идея, утром казавшаяся весьма остроумной, — подбить возлюбленного Марсели на поездку к ней. — Ужели вы придаете столь серьезное значение этим самым «приличиям», о которых вы толкуете, и обязательно ли должен протечь со смерти дурного супруга целый год, чтобы порядочная женщина могла увидеть лицо порядочного мужчины, имеющего намерение жениться на ней? Это что же, такого обычая придерживаются у вас в Париже? — В Париже не больше, чем в других местах. Благоговейное чувство, которое люди испытывают перед тайной смерти, конечно, повсюду определяет в душе человека срок, отводимый для воспоминаний о похоронах. — Я знаю, что обычай блюсти траур в одежде, в речах, во всем поведении порожден добрыми чувствами, но нет ли здесь того недостатка, что он превращается в лицемерие, когда о покойнике не приходится особенно сожалеть и когда любовь недвусмысленно обращена на другого человека? Разве оттого, что вдова должна жить в строгости, человек, который хочет на ней жениться, обязан покинуть родину и не вправе даже пройти перед дверью своей любимой и бросить на нее украдкой взгляд, когда она не смотрит в его сторону? — Вы не знаете, добрая душа, как злы те, кто величает себя «людьми большого света» — странное наименование, не правда ли, но справедливое с их точки зрения, ибо они считают одних себя людьми, а народ в счет не идет; ведь они претендуют на то, что на всем свете лишь они имеют право властвовать; так было всегда я еще будет некоторое время! — Охотно верю, — живо подхватил мельник, — что они злее, чем мы! Но все же, — добавил он сокрушенно, — и мы не так добры, как следовало бы. Мы тоже бываем не прочь поперемывать косточки нашим ближним, понасмехаться над ними и обычно склонны осудить слабого. Да, вы правы, мы должны быть осторожны, чтобы никто не посмел дурно говорить об этой даме, глубоко чтимой нами обоими; достаточно одного дня, и, глядишь, уже ее обвинят в легкомысленном поведении. Поэтому я считаю, что вам не следует показываться в Бланшемоне. — Вы хороший советчик, Большой Луи, и я был уверен, что вы не дадите мне совершить опрометчивый поступок. Я выкажу мужество и последую совету вашего рассудительного ума, во искупление той вздорности, что я выказал утром, распалившись при первом проявлении вашего благожелательного отношения ко мне. Я еще поболтаю с вами, пока мы не доедем до вашей мельницы, а затем вернусь в *** и завтра оттуда отправлюсь в дальнейший путь. — Полно, полно! Вы бросаетесь из одной крайности в другую, — урезонил его мельник, который, беседуя с Лемором, придерживал Софи, не давая ей переходить с шага на рысь. — Анжибо в одной миле от Бланшемона, и вы можете переночевать у нас, не ставя под угрозу ничью репутацию. Под моей крышей сейчас нет ни одной женщины, за исключением моей старой матушки, а она-то уж не станет болтать лишнее. Вы сделали недурную прогулочку от *** до этого места, и я был бы бездушным, бессердечным человеком, коли бы не заставил вас поужинать на скорую руку да прилечь вздремнуть, как говорит наш кюре, который сам-то не любит неосновательности в этих делах. Да и кроме того, разве вам не нужно написать письмо? У нас вы найдете все, что для этого требуется. Вот разве что красивой почтовой бумаги нету. Я числюсь помощником мэра в нашей коммуне[137], и я пишу официальные акты не на веленевой бумаге; но даже если вам придется положить вашу любовную прозу на бумагу с гербовой маркой мэрии, письмо все равно прочтут, и скорее всего не один раз! Так едемте же ко мне, вот я уже вижу — дымок поднимается из-за деревьев: это готовится ужин для меня. Сейчас подгоним маленько Софи, потому как матушка, верно, проголодалась, а без меня она за стол не сядет. Я обещал ей сегодня вернуться пораньше. Анри до смерти хотелось принять приглашение доброго мельника, по он еще поупирался для виду: влюбленные такие же притворщики, как дети. Хотя он и отказался от безумной идеи отправиться в Бланшемон, но словно какая-то чудесная сила толкала его в этом направлении, и каждый следующий шаг Софи, приближавший его к «центру притяжения», усиливал волнение в его сердце, сломленном недавней борьбой, в которой он изнемог. Поэтому он очень скоро сдался на уговоры, в глубине души благословляя настойчивость гостеприимного мельника. — Матушка! — воскликнул, соскакивая с таратайки, Большой Луи. — Ну что, не сдержал я слова? Если часы господа бога не испортились, то сейчас звезды Креста показывают на Дороге святого Якова десять часов[138]. — Сейчас, может быть, только чуточку больше, — ответила Большая Мари. — Ты приехал всего на час позже обещанного. Бранить мне тебя не за что, тем более что ты, как я вижу, занимался делами нашей милой гостьи. Ты собираешься отвезти все это в Бланшемон еще сегодня? — Нет, что вы, матушка! Уже чересчур поздно. Госпожа Марсель сказала мне, что лишний день для нее не имеет значения. Да и кроме того, разве можно войти в новый Замок после десяти часов вечера? Ведь они же недавно только починили зубчатую стену, что окружает двор, и забрали ворота железной решеткой. Они способны установить подъемный мост над своим рвом без воды. Черт меня побери! Господин Бриколен считает себя уже бланшемонским сеньором. Он вскоре прилепит на камин свой герб и прикажет величать его де Бриколеном… Но поглядите, матушка, я привез к нам гостя. Узнаете вы этого молодого человека? — Э, да это тот самый господин, что был здесь с месяц тому назад! — сказала Большая Мари. — Мы еще приняли его тогда за поверенного в делах владелицы Бланшемона. Но она вроде бы и незнакома с ним? — Нет, нет, совсем незнакома, — подтвердил Большой Луи, — и он не поверенный в делах, а чиновник по составлению поземельного кадастра[139] для нового обложения налогом. Ну-с, землемер, садитесь за стол да поешьте горяченького. — Скажите-ка, сударь, — обратилась к гостю мельничиха, когда на стол подали первое блюдо — суп из репы. — Это вы оставили свое имя у нас на одном из деревьев возле реки? — Да, я, — ответил Анри. — Прошу извинить меня за глупое мальчишество. Может быть, даже я погубил эту молодую вербу? — То бишь серебристый тополь, не в обиду вам будь сказано, — вмешался мельник. — Вы настоящий парижанин и, конечно, не умеете отличить коноплю от картошки. Но Это не суть важно. А деревьям нашим ваш ножик нипочем, и матушка спрашивает вас просто так, для разговору. — Право, я не поставила бы вам в укор какое-то одно деревце. У нас их тут еще останется, — сказала мельничиха. — Но дело в том, что недавно посетившая нас молодая госпожа прямо извелась, пытаясь узнать, кто же написал Это имя. А ее сыночек сам прочитал его, только подумайте, сударь, четырехлетний малыш, а видит в буквочках то, чего я за всю мою жизнь не научилась видеть! — Так она была здесь? — растерянно спросил Лемор, который в этот момент несколько утратил ясность рассудка. — А вам-то что до этого? Ведь вы с ней незнакомы, — сказал в ответ Большой Луи, энергично подталкивая Лемора коленом, чтобы тот не забывал притворяться — перед присутствовавшим тут же подручным с мельницы в особенности. Лемор поблагодарил Большого Луи взглядом, хотя мельник остерег его далеко не деликатным образом, и, боясь уже сказать что-нибудь лишнее, не разжимал больше рта иначе, как для поглощения пищи. Когда все разошлись «прикорнуть», как выразилась мельничиха, Лемор, которому отвели место в маленькой комнате на первом этаже, где ночевал сам мельник, как раз напротив ворот, попросил Большого Луи не запирать еще дверь и позволить ему четверть часа побродить по берегу Вовры. — А я тоже пойду с вами, — заявил Большой Луи, весьма заинтересованный любовной историей своего нового друга, очень похожей на его собственную. — Я знаю, куда вы отправитесь помечтать, а мне не так спешно отправляться на боковую, и я вполне могу прогуляться с вами при луне: вон она уже встает, собирается полюбоваться своим отражением в воде. Пойдемте, дражайший мой парижанин, посмотрим, какой белянкой-гордячкой выглядит она в водах Вовры, и вы скажете мне, есть ли в Париже такая красивая луна и такая красивая речка! Стойте! — воскликнул он, когда они оба подошли к дереву, на котором была вырезана надпись. — Вот тут она стояла, опершись на загородку, и читала ваше имя, и глаза у нее при этом раскрылись так широко, как мне — хоть умри — и нарочно не сделать. Да, кстати, выходит — вы знали, что она приедет сюда, раз вы оставили для нее свою подпись? — Удивительнее всего, что я этого не знал и лишь по чистой случайности, из какого-то ребячества, решил оставить таким образом память о своем пребывании в этих прекрасных местах, не предполагая, что мне когда-нибудь доведется в них вернуться. В Париже я слышал, что она разорена. Как я хотел, чтобы это была правда! Я приехал сюда, чтобы определить, какой линии мне держаться, и когда узнал, что она все еще слишком богата для меня, твердо решил распрощаться с ней навсегда. — Вот видите! Не иначе как сам господь бог заботится о влюбленных: коли бы не он, вы бы точно никогда сюда не воротились. Именно так! Ведь я по одному лишь виду госпожи Марсели, когда она меня расспрашивала о молодом человеке, написавшем это имя, сразу догадался, что она любит кого-то и что ее любимого звать Анри. Тут меня как молнией озарило, и я догадался обо всем остальном, потому как мне ничего ведь не говорили — я сам обо всем догадался; мой грех, винюсь, но и не похвалиться не могу. — Как? Вам ничего не открывали, а я признался во всем! Да свершится воля божья! Я распознаю за всем этим руку всевышнего и более не боюсь отдаться чувству безусловного доверия, которое вы внушаете мне. — Я хотел бы ответить вам тем же, — отозвался, беря Анри за руку, Большой Луи, — потому как нравитесь вы мне, парень, дьявол меня заешь, коли это не так! А все-таки что-то меня еще царапает и царапает. — Да как можете вы все еще подозревать меня в дурном, раз я вернулся с вами в Черную Долину только для того, чтобы подышать воздухом, которым дышала она, теперь, когда мне известно, что она обеднела?. — А не могло быть так, что утром, пока я разыскивал вас по всему городу, вы бегали по адвокатам и нотариусам? И что, если вы узнали, что она еще достаточно богата? — Что вы говорите, неужели это правда? — горестно вскричал Лемор. — Не играйте так со мной, дружище! Вы возводите на меня такие смешные обвинения, что я и не подумаю оправдываться. Но по поводу одного из них я хочу сказать вам несколько слов. Если госпожа де Бланшемон еще богата, то захоти она даже ответить на любовь пролетария, каким являюсь я, я должен буду расстаться с нею навсегда! О, если это действительно так, если мне суждено узнать… ведь я, бога ради, еще не узнал? Дайте мне помечтать о счастье до завтра, а утром я покину этот край… на год… или навсегда… — Ну, вы, видать, маленько тронутый, приятель! — воскликнул мельник. — И более того: вы кажетесь мне сейчас настолько неестественным, что я подумываю, не напускаете ли вы на себя все это нарочно, чтобы меня провести. — Значит, вы непохожи на меня, мельник? Вы не питаете ненависти к богатству? — Нет, клянусь богом! Ни ненависти, ни любви к богатству самому по себе я не питаю, а смотрю, зло оно мне приносит или добро. Например, экю папаши Бриколена я ненавижу, потому как они мне мешают жениться на его дочери… Ах, черт! Я проговорился, называю имена, которых лучше бы вам не знать… Но, в конце концов, раз мне известны ваши дела, то и вам могут быть известны мои… Так вот, я говорю, что эти экю я ненавижу; но упади с неба мне в руки тридцать-сорок тысяч франков, которые позволили бы мне посвататься к Розе, они пришлись бы мне здорово по вкусу. — Я не разделяю вашего мнения. Будь у меня даже миллион, я не стал бы за него держаться. — Вы предпочли бы бросить его в речку, вместо того чтобы купить себе титул, который сделал бы вас ей ровней? Ну и чудак же вы! — Вероятно, я роздал бы его беднякам, подобно ранним христианам-коммунистам, чтобы от него избавиться, хотя я хорошо знаю, что не совершил бы этим истинно доброго дела. Ведь, отказываясь от имущества, эти первые поборники равенства закладывали основы определенного общественного уклада, давали обездоленным опору в жизни, устанавливая законы, которые одновременно были и религией. Раздаваемые деньги были насущным хлебом для души — не только для тела. Раздел имущества был доктриной, которая завоевывала приверженцев. Ныне ничего подобного нет. Есть идея священного, угодного богу сообщества, но еще никто не знает его законов. Нельзя просто возродить мирок ранних христиан, чувствуется, что необходима доктрина; ее нет, а кроме того, люди не готовы воспринять ее. Деньги, розданные горсточке несчастных, породят в них только себялюбие и лень, если не постараться растолковать им, что ассоциация — это их человеческий долг. Таким образом, с одной стороны, повторяю вам, посвящение в этот новый орден не сопровождается достаточно ясным изложением его целей, а с другой стороны, посвящаемые не выказывают достаточно доверия, сочувствия и преданности идее. Вот почему, когда Марсель… (я тоже осмеливаюсь назвать ее, раз вы называли имя Розы) предложила по примеру апостолов раздать беднякам свое богатство, внушавшее мне ужас, я испугался такой жертвы, чувствуя, что не обладаю ни научным знанием, ни гениальной интуицией для того, чтобы подсказать ей способ, каким можно было бы обратить эти деньги на благо человеческого прогресса. Как, владея богатством, сделать его полезным для людей? Для Этого мало быть добросердечным человеком; надо быть человеком гениальным. Я не таков, и, думая о глубоких пороках, о чудовищном себялюбии богачей, испытываю непреодолимый страх. Я благодарю бога за то, что он сделал меня бедняком, хотя я мог быть богатым наследником, и я клянусь, что никогда не буду иметь ничего сверх своего недельного заработка. — Так, значит, вы благодарите бога за то, что он, по доброте своей, хотел умудрить вас, и, выходит, что не поступаете дурно лишь потому, что вас уберег от этого счастливый случай? Этакая добродетель дается очень легко, и она меня не так изумляет, как вы, наверно, полагаете. Я понимаю теперь, отчего госпожа Марсель так радовалась вчера тому, что разорилась: вы заморочили ей голову своими прекраснодушными бреднями! Слова красивые, но на значат ровным счетом ничего. Ну что это, в самом деле, за рассуждение: «Если бы я был богатым, я был бы злым, а потому пляшу от радости, что не богат»? Это похоже на мою бабушку, которая говаривала: «Угря я не люблю, и премного сим довольна, потому как ежели бы я его любила, то стала бы его есть». А почему бы вам не быть одновременно богатым и щедрым? Если бы даже принесенное вами добро состояло лишь в том, что вы накормили бы окружающих вас голодных людей, уже одно это было бы немало, и лучше бы богатство было в ваших руках, чем в руках скупердяев… О, я вижу, что вы за птица! Мне все теперь ясно; я не так глуп, как вы думаете: я почитываю газеты да книжонки и знаю, что происходит в городах, а не только в нашей деревенской глуши, в которой, верней всего будет сказать, ничего нового не происходит. Вы, как я понимаю, один из тех, кто изобретает новые системы, экономист, ученый! — Нет. В том-то, может быть, моя беда, что я слаб в счетной науке и ничего не смыслю в нынешней политической экономии. Это порочный круг, и вращаться в нем — удовольствие не по мне. — Вы не дали себе труда изучить ту самую науку, без которой, по вашим словам, нельзя предпринять ничего нового? В таком случае вы ленивец. — Нет, я мечтатель. — Понимаю. Вы то, что называется — поэт. — Я в жизни не писал стихов, а теперь я рабочий. Не принимайте меня слишком всерьез. Я ребенок, влюбленный ребенок. Вся моя заслуга в том, что я сумел выучиться ремеслу и собираюсь заняться им. — Отлично! Зарабатывайте себе на жизнь трудом, как это делаю я сам, и я не буду приставать к вам с вопросами, как устроен да куда идет мир, потому как вы все равно ничего сделать не можете. — Что за логика, дружище! Если бы, к примеру, тут, посредине реки, на ваших глазах опрокинулась лодка, в которой плыла бы семья с детьми, а вы, допустим, были бы привязаны к этому дереву и не могли оказать им помощь, то что же — вы бы смотрели равнодушно, как они погибают? — Нет, сударь, я бы переломил дерево, будь оно даже в десять раз толще. Мое желание помочь им было бы таким сильным, что бог совершил бы для меня это небольшое чудо. — Однако семья человеческая гибнет, — горестно вскричал Лемор, — а бог не совершает больше чудес! — Понятное дело: ведь никто больше не верит в него по-настоящему! А я верю, и вот что скажу, поскольку теперь уже мы можем ничего не скрывать друг от друга: в глубине души я никогда не терял надежды жениться на Розе Бриколен. Правда, добиться того, чтобы папаша Бриколен взял в зятья человека неимущего, это будет впрямь чудо из чудес: легче голыми руками, без топора, переломить воя Это толстенное дерево. Так вот же: чудо это свершится, не Знаю как, но пятьдесят тысяч франков у меня будут. То ли я найду их в земле, сажая капусту, то ли выловлю из речки неводом, а может быть, мне придет в голову какая-нибудь идея… та или иная — все равно. Что-нибудь я придумаю, потому как достаточно, говорят, идеи, чтобы перевернуть мир. — Вы придумаете способ ввести равенство в обществе, которое существует только благодаря неравенству? — с грустной улыбкой спросил Лемор. — А почему бы и нет, сударь? — с веселым задором отозвался мельник. — Когда я сколочу себе состояние, то, поскольку я не хочу быть скупым и злым и уверен, что никогда таким не буду, равно как моя бабка до самой смерти не полюбила угря, которого терпеть не могла, придется мне сразу стать более серьезным ученым, чем вы, и дойти своим умом до того, чего вы не нашли в ваших книгах, то есть открыть способ, как использовать свое могущество, чтобы устанавливать справедливость, и как с помощью своего богатства делать людей счастливыми. Вас это удивляет? А ведь я, мой дорогой парижанин, было бы вам известно, смыслю в политической экономии куда меньше, чем вы, проще говоря — не смыслю ни аза! Но какое это имеет значение, если у меня есть воля и вера? Почитайте-ка Евангелие, сударь. Мне сдается, что вы, мастер красно говорить, Запамятовали, кто такие были первые апостолы; а были они люди простые, ничего не знали, как я. Господь бог вдохновил их, и они стали знать больше, чем все школьные учителя и все кюре их времени. — О народ! Ты обладаешь провидческим даром! В самом деле, для тебя господь совершит чудеса, и на тебя снизойдет дух святой! Тебе неведомо уныние, ты не подвержен никаким сомнениям! Ты знаешь, что сердце могущественнее науки, ты чувствуешь свою силу, силу своей любви и полагаешься на вдохновение! Вот почему я сжег свои книги, вот почему я захотел вернуться в народ, от которого меня оторвали мои родители. Вот почему меня влекут к себе бедняки и чистые сердцем простолюдины: у них я хочу почерпнуть веру и истовость в следовании божеским заветам, утраченные мною в то время, когда я рос среди богачей. — Понимаю! — сказал мельник. — Вы больной, жаждущий исцеления. — Ах, я бы исцелился, если бы жил подле вас. — Я бы охотно способствовал вашему исцелению, если бы вы обещали мне не заражать меня своей болезнью. Для начала скажите одну разумную вещь — обещайте, что женитесь на госпоже Марсели, каково бы ни было ее материальное положение, если она согласится выйти за вас. — Вы снова пробуждаете во мне тревогу. Раньше вы сказали, что у нее нет больше ничего; потом заговорили как-то по-другому и вроде бы дали мне понять, что она еще богата. — Ну что ж, пора вам узнать правду: это было испытание для вас. Триста тысяч франков еще существуют, и папаша Бриколен напрасно старается: я подам ей такой совет, что она их сохранит. С тремястами тысячами франков вы, приятель, вполне можете творить добро, раз я с пятьюдесятью тысячами, которых у меня еще нет, собираюсь спасти мир. — Я восхищаюсь вашим веселым нравом и завидую вам, — сказал Лемор с подавленным видом. — Но вы снова убили меня. Я обожаю эту женщину, этого ангела, но я не могу стать супругом женщины богатой. В обществе существуют предрассудки относительно чести; помимо своей воли я завишу от них и не могу их отвергнуть. Я не мог бы считать своим это состояние, которое она должна и хочет, конечно, сохранить для сына. Я не мог бы и помыслить о том, чтобы употребить свое богатство на пользу людям, ибо уже одним этим нарушил бы нравственный закон. Кроме того, меня не оставляла бы в покое совесть, что я обрек на бедность бесконечно дорогую мне женщину и ребенка, чьей независимостью в будущем я не вправе пренебречь. Я страдал бы оттого, что подвергаю их лишениям, и беспрестанно дрожал бы за них, опасаясь, что они не выдержат тягот такой жизни и сломятся под их бременем. Увы! И это дитя и эта женщина — не нашей с вами породы, Большой Луи! Разжалованные из господ, они все же потребовали бы от своих бывших рабов такого же ухода и таких же удобств, к каким привыкли прежде. Они тосковали бы и чахли под нашими соломенными кровлями. Любой труд оказался бы непосильным для их слишком неясных рук, и всей нашей любви, возможно, Ее хватило бы, чтобы поддержать их до конца той борьбы, которая становится уже непосильной для нас самих… — У вас снова начинается приступ вашей болезни, снова вас покидает вера! — прервал Лемора Большой Луи. — Вы не верите даже в любовь, не видите, что эта женщина все снесла бы ради вас и чувствовала бы себя при этом счастливой? Вы недостойны такой большой любви, право, недостойны! — Ах, друг мой, пусть только она обеднеет, совсем обеднеет, но чтобы мне не пришлось упрекать себя в том, что я способствовал такому повороту, и вы увидите, смогу ли я быть ей надежной опорой. — Ну хорошо! Вы трудитесь, чтобы заработать немного денег, так же как и все мы. Почему же вы так презираете принадлежащие ей деньги, которые тоже заработаны? — Они не были заработаны трудом бедняка; это украденные деньги. — Как так? — Это наследство, доставшееся ей от предков, а они приобрели свое богатство феодальными грабежами. Это пот и кровь народа, которыми как бы цементировались камни их замков и удобрялись их земли. — Ваша правда! Но на деньгах не держится такого рода ржавчина. У денег есть свойство грязниться и очищаться — в зависимости от того, что за рука к ним прикасается. — Нет! — с горячностью вскричал Лемор. — Существуют грязные деньги, которые марают принимающую их руку. — Это одно краснобайство! — спокойно возразил мельник. — Все равно деньги эти — деньги бедняка, поскольку они были выжаты из него путем грабежа, насилия, произвола. Ужели бедняк не должен принять их обратно только потому, что они долгое время находились в руках разбойников? Пойдем-ка спать, дружище, вы совсем свихнулись. В Бланшемон вы не поедете: я тверже чем когда-либо уверен, что делать этого не следует, потому как вам нечего сказать, кроме глупостей, нашей милой госпоже Марсели. Но, тысяча чертей, вы не уедете от меня, прежде чем не откажетесь от ваших… погодите, сейчас найду слово… от ваших утопий! В точку я попал? — Возможно, — задумчиво произнес Лемор, которого любовь толкала на то, чтобы подчиниться авторитету своего нового друга.День третий
XIX. Портрет
Мы не знаем, согласуется ли с правилами искусства подробное описание внешнего облика и одежды персонажей, которых автор выводит в романе[140]. Возможно, рассказчики нашего времени (и мы — в первую очередь) несколько злоупотребили в своих повествованиях модой на портреты. Тем не менее это старый обычай, и хотя мы верим, что будущие мастера изящной словесности, осудив наш мелочный педантизм, будут рисовать действующих лиц своих произведений более крупными и резкими мазками, сами мы не ощущали достаточной твердости в своей руке, чтобы отклониться от проторенного пути, и собираемся сейчас исправить оплошность, состоящую в том, что до сих пор мы не дали портрета нашей героини. В самом деле, не терпит ли в чем-то существенном ущерба этот интерес, что вызывает у нас романтическая история, хотя бы и весьма жизненная, когда мы не знаем, насколько примечательна была внешность главной героини? Недостаточно даже, чтобы нам сказали: «Она была хороша собой»; если нас берут за живое превратности ее судьбы и необычность обстоятельств, в которых она оказалась, то мы хотим Знать, блондинка она или брюнетка, высока или мала ростом, порывиста или мечтательна, предпочитает щегольские или скромные наряды; если нам говорят, что она идет по улице, мы бросаемся к окну поглядеть на нее и, в зависимости от впечатления, производимого ее обликом, либо начинаем симпатизировать ей, либо — так и быть — прощаем ей то, что она понапрасну привлекла к себе внимание публики. Так рассуждала, конечно, и Роза Бриколен, ибо наутро после первой ночи, проведенной ею в своей комнате с госпожой де Бланшемон, еще нежась в постели, в то время как более деятельная и не склонная к позднему вставанию молодая вдова уже заканчивала свой туалет, Роза внимательно разглядывала ее, прикидывая, затмит ли красота Этой парижанки ее собственную красоту на деревенском празднестве, которое должно было состояться на следующий день. Марсель де Бланшемон была столь изящно и пропорционально сложена, каждое ее движение дышало таким достоинством и грацией, что она казалась выше ростом, чем была на самом деле. У нее были белокурые волосы, очень светлые, но отнюдь не тусклые и даже не пепельного цвета, который почему-то ценится очень высоко, — хотя почти всегда затмевает краски лица, — ибо является часто признаком хрупкой конституции. Ярко-золотистые, теплого тока, они составляли одно из лучших украшений облика Марсели. Ребенком Марсель была необыкновенно прелестна, в монастыре ее называли херувимом; в восемнадцать лет она представляла собою всего лишь молодую особу весьма приятной наружности, но к двадцати двум годам снова так расцвела, что, сама того не замечая, покоряла мужские сердца одно за другим. Однако черты ее не отличались идеальным совершенством, и на юном, свежем личике уже видны были признаки утомления, вызванного постоянно возбужденным, даже несколько лихорадочным состоянием духа. Вокруг ее глаз, редкостной синевы, лежали глубокие тени, говорившие о сильных переживаниях пылкой души. Непроницательному наблюдателю они могли бы показаться выражением беспокойства чувственной натуры, но человек с чистыми помыслами не мог бы не понять, что эта женщина руководима более сердцем, нежели умом, по более умом, нежели чувственными порывами. Живая игра красок на ее лице, прямой и открытый взгляд, легкий золотистый пушок на углах верхней губки косвенным образом свидетельствовали о таких свойствах характера, как сильная воля, верность, бескорыстие, мужество. При первом взгляде на нее она нравилась, еще не поражая, но затем поражала все больше и больше, не переставая просто нравиться. И всякий, кому она в первый момент даже не казалась особенно красивой, вскоре уже не мог ни оторвать от нее глаз, ни перестать думать о ней. Причиной происшедшего с ней второго преображения была любовь. Трудолюбивая и веселая в монастыре, она никогда не была мечтательной и меланхоличной — вплоть до встречи с Лемором; и даже после того, как полюбила, осталась деятельной и решительной во всех делах, от больших до малых. По глубокое чувство, заставлявшее Марсель собирать всю свою волю и направлять ее на достижение одной цели, сделало ее черты более определенными и придало всей ее повадке какое-то особенное и таинственное очарование. Никто не знал, что она любит; но все чувствовали, что она способна любить страстно, и не было в ее окружении мужчины, который не желал бы внушить ей любовь к себе или хотя бы дружеское расположение. Из-за ее неотразимой привлекательности в течение некоторого времени светские дамы, завидуя ей, но не находя никаких изъянов в ее нравственности, обвиняли ее в кокетстве. Никогда еще упрек не был кем-либо менее заслужен. Марсели некогда было терять время на ребяческую и неприличную забаву — вызывать в мужчинах желания. Она не думала даже, что способна вызывать их, и, внезапно удалившись от света, не могла упрекнуть себя в сознательном стремлении сделать заметным свое пребывание в нем. Роза Бриколен, бесспорно более красивая, чем Марсель, по но чувствам еще ребенок и потому намного менее загадочная, легче постигаемая натура, слыхала раньше о баронессе де Бланшемон как об одной из первых красавиц, блиставших в парижских гостиных, и она не могла взять в толк, благодаря чему эта блондинка с утомленным лицом, так просто одетая и так естественно державшаяся, приобрела подобную репутацию. Она не знала, что в высоко-цивилизованном и, следовательно, сверхутонченном обществе внутренняя одухотворенность налагает свой благородный отпечаток на внешний облик женщины, неизменно стирая классическую величавость холодной красоты. Тем не менее Роза чувствовала, что сама уже безумно любит Марсель; она еще не вполне отдавала себе отчет в том, что привлекательность этой женщины создают и живой взгляд, выразительный голос, мягкая и благожелательная улыбка, мужественность и широта ее натуры. «Однако она не так красива, как я полагала! — думала Роза. — Почему же мне хочется быть на нее похожей?» В самом деле, Роза поймала себя на том, что укладывает волосы как Марсель, подражает ее походке, ее манере быстро и грациозно поворачивать голову и даже интонациям ее голоса. За несколько дней она настолько в этом преуспела, что утратила следы деревенской неловкости, в которой, однако, была своя прелесть. Но справедливо будет сказать, что эта приобретенная ею непринужденность поведения была в большей степени вызвана душевным подъемом, чем заимствована, и что она вскоре стала для Розы вполне естественной, отчего качества, которыми ее наделила природа, много выиграли. Характеру Розы тоже были свойственны мужество и прямодушие; Марсель была призвана скорее развить ее природные задатки, приглушенные внешними обстоятельствами, нежели толкнуть ее на подделку своих собственных качеств путем чистого подражания.XX. Любовь и деньги
Шагая взад и вперед по комнате, Марсель услыхала за стеной странный голос, густой, как у быка, и хриплый, как у старухи. Этот голос, который, казалось, с трудом вырывался из чахоточной груди и не мог ни пробиться наружу, ни замолкнуть, повторил несколько раз: — Да они же у меня все забрали! Все забрали, даже одежду! Другой, более спокойный голос, по которому Марсель опознала мать господина Бриколена, отвечал: — Да замолчите вы, хозяин[141], не о том речь. Видя удивление Марсели, Роза поспешила объяснить ей этот диалог. — В нашем доме, — сказала она, — всегда были беды, и даже до того, как я и моя бедняжка сестра появились на свет, судьба преследовала нашу семью. Вы видели моего дедушку, такого старенького-старенького с виду? Вот его-то вы сейчас и слышали. От него редко услышишь слово, но если он заговорит, то из-за глухоты кричит так, что весь дом трясется. Почти всегда он повторяет примерно одно и то же: «Они у меня все отняли, все украли, ограбили меня дочиста!» На этом он все время топчется, и если бы бабушка, которая имеет над ним большую власть, вчера не заставила его молчать, он вам сказал бы эти же слова вместо «здравствуйте». — А что все это значит? — спросила Марсель. — Разве вам не доводилось слышать об этой истории? — отозвалась Роза. — Она довольно-таки нашумела; но ведь вы никогда не приезжали в наши края, и вас не занимало, что здесь происходит. Вы, наверное, не знаете и того, что Бриколены уже больше пятидесяти лег арендуют земли Бланшемона. — Я знала про это, и мне известно даже, что ваш дедушка, прежде нем поселиться здесь, арендовал обширные земли, принадлежавшие моему деду в Блине. — В таком случае вы слышали об истории с «поджаривателями»?[142] — Да, но она была не на моей памяти; когда я была ребенком, она уже считалась давней. — Произошло это сорок с лишком лет тому назад, насколько я могу знать сама, потому что у нас в доме неохотно говорят про тот случай. Слишком больно и слишком страшно… Ваш почтенный дедушка, в ту пору, когда ходили ассигнации, доверил моему дедушке сумму в пятьдесят тысяч франков золотом, попросив его спрятать их в какой-нибудь стене старого замка, пока сам он будет скрываться в Париже, где ему удалось избегнуть ареста по доносу. Вы знаете это лучше, чем я. Так вот, мой дедушка спрятал это золото и свое собственное в старом замке поместья Бофор, где он держал аренду, в двадцати милях отсюда. Я там никогда не бывала. Ваш дедушка не торопился востребовать свои деньги, но когда захотел послать моему деду составленное по форме письмо на сей счет, то имел несчастье выбрать себе в поверенные негодяя. На следующую же ночь к моему дедушке явились «поджариватели» и пытали его до тех пор, пока он не признался, где спрятаны деньги. Они унесли все, дедушкино и ваше, вплоть до белья и свадебных драгоценностей моей бабушки. Моего отца, который был тогда ребенком, связали и бросили на кровать; он все видел и чуть не умер от страха. Бабушку заперли в погребе. Батраков избили и тоже связали. Их держали под дулом пистолета, чтобы они не кричали. Наконец, захватив все, что можно было унести, разбойники удалились без особых предосторожностей и так и остались безнаказанными — почему, никто никогда не узнал. После этого дедушка, в ту пору человек еще молодой, сразу постарел. Больше он уже никогда не приходил в себя; ум ослабел; он утратил память, забыл почти обо всем, кроме этого ужасного происшествия, и обычно не может раскрыть рта без того, чтобы не упомянуть о нем. Вы видали, как он все время дрожит: это у него с той ночи; а ноги его, высушенные огнем, остались такими худенькими и слабыми, что он уже никогда не мог работать. Ваш дедушка, который, как говорят, был достойный господин, не стал требовать у моего своих денег и даже простил бабушке, которая благодаря своей сметливости и мужеству сумела сразу же стать главою семьи, все платежи за аренду, накопившиеся за пять лет и до тех пор им не востребованные. Это поправило наши дела, и отец, войдя в возраст, когда он мог взять бланшемонскую ферму в свои руки, пользовался уже известным кредитом. Вот наша история. Прибавьте к ней историю моей бедной сестры, и вы увидите, что она не очень веселая. Рассказ Розы произвел большое впечатление на Марсель, и скрытая сторона жизни Бриколенов показалась ей еще более зловещей, чем накануне. Над этими людьми, несмотря на их процветание, словно тяготело нечто мрачное и трагическое. Оказавшись рядом с помешанной и слабоумным, госпожа де Бланшемон почувствовала безотчетный ужас и глубокую печаль. Она удивилась, что беззаботно цветущая красота Розы могла так развиться среди катастроф и жестоких схваток, в которых деньги играли роковую роль. В комнате старухи Бриколен, примыкавшей к спальне Розы и заставленной старинной деревенской мебелью, которая ныне изгонялась из нового замка, кукушка на часах, бережно хранимых бабушкой, прокуковала семь раз, когда вошламаленькая Фаншона и радостно объявила, что прибыл «ее хозяин». — Она имеет в виду Большого Луи, — сказала Роза, — но чего ради она возвещает нам о его приезде как о большом событии? — И, несмотря на свой слегка пренебрежительный тон, девушка заалелась, как раскрывшийся бутон цветка, чье гордое имя она носила. — Да это я потому, что у него куча дел и ему надо с вами поговорить, — ответила несколько обескураженная Фаншона. — Со мной? — спросила Роза, пожав плечами, но краснея при этом все больше и больше. — Нет, с госпожой Марселью, — ответила девочка. Марсель направилась к двери, которую Фаншона оставила открытой настежь, но ей пришлось попятиться, чтобы пропустить батрака, несущего сундук, а затем и самого Большого Луи, нагруженного еще более тяжелым сундуком, каковой он, однако, очень ловко поставил на пол. — Все ваши поручения выполнены! — сказал он, кладя на комод мешочек с золотыми монетами. Затем, не дожидаясь выражений благодарности от Марсели, он обратил взгляд на кровать, с которой она только что поднялась и где спал Эдуард, красивый как ангелочек. Увлекаемый своей любовью к детям и особенно к этому неотразимо прелестному ребенку, Большой Луи подошел к кровати, желая поглядеть поближе на Эдуарда, и мальчик, открыв глаза, протянул к нему ручонки и произнес: «А, Лопастушечка!», назвав его тем именем, которое он ему самовольно присвоил. — Посмотрите, как он стал славно выглядеть с тех пор, как попал в наши края! — сказал мельник, осторожно беря ручку мальчика и целуя ее. Но вдруг за его спиной послышалось шуршание занавесей, и, обернувшись, Большой Луи увидел красивую руку Розы, которая, застыдившись и сердись на мельника за вторжение в ее комнату, с шумом задернула вышитые полотнища полога. Большой Луи, который не знал, что Роза осталась в своей комнате вместе с Марселью, и не ожидал ее здесь встретить, застыл на месте, смущенный и пристыженный, по все же не мог отвести глаз от белой ручки, довольно неловко придерживавшей бахромчатый край занавеси. Тут Марсель спохватилась, что допустила неподобающую вещь, и поставила себе в укор аристократические привычки, которыми она бессознательно руководилась сейчас. Приученная сызмала не считать какого-то там носильщика за мужчину, она и не подумала о том, чтобы оградить комнату Розы от вторжения работника с фермы и мельника, притащивших ее пожитки. Смущенная и устыженная в свою очередь, она собиралась приказать Большому Луи, который словно окаменел, немедленно удалиться, как вдруг на пороге появилась, вся взъерошенная, госпожа Бриколен и просто задохнулась, увидев мельника, своего смертельного врага, стоящего в замешательстве между двумя одинаковыми ложами молодых особ. Не произнеся ни слова, она быстро вышла, как некто, Заставший в своем доме вора и бегущий за стражей. Она и в самом деле побежала за господином Бриколеном, который сидел в кухне и в третий раз принимал «утреннюю порцию», то есть поглощал третий кувшин белого вина. — Господин Бриколен! — сдавленным голосом позвала она мужа. — Иди сюда скорее! Слышишь? — Что случилось? — спросил арендатор, не любивший, чтобы его беспокоили в то время, как он — пользуясь его выражением — «подкрепляется». — В доме пожар, что ли? — Иди сюда, говорю тебе, иди и посмотри, что творится у тебя под носом! — ответила арендаторша, от гнева едва способная говорить. — Ах, право, коли нужно кого-нибудь за что-нибудь распечь, ты отлично справишься с этим без меня! — ответил арендатор, привыкший к бушеванию своей половины. — На этот счет я спокоен. Видя, что он не двигается с места, госпожа Бриколен подошла к нему, с усилием проглотила слюну, потому что у нее от ярости стоял ком в горле, и наконец заговорила. — Да пошевелишься ли ты? — набросилась она на супруга, не забыв, однако, понизить голос, чтобы ее не услышали сновавшие взад и вперед батраки. — Рассиживаешься тут, а пока что твой мужлан-мельник — где бы ты думал? В комнате Розы, когда она еще в постели! — Ну, это неприлично, очень неприлично, — отозвался Бриколен, вставая с места. — Я пойду скажу ему пару слов… Но только не надо поднимать шума, жена, слышишь? Здесь ведь девчонка… — Иди же скорей и сам не шуми! Надеюсь, теперь-то ты мне поверишь и будешь с ним обходиться так, как заслуживает этот невежа и бесстыдник. Бриколен пошел к выходу, но в дверях натолкнулся на Большого Луи. — Право слово, господин Бриколен, — сказал мельник с подкупающей искренностью, — я и сам не понимаю, как я мог сделать такую глупость. И он простодушно рассказал все по порядку. — Ну вот видишь, он же не нарочно! — сказал Бриколен, обернувшись к жене. — И ты готов проглотить эту выдумку! — вскричала арендаторша, давая волю своей ярости. Затем она побежала и захлопнула обе двери, вернулась обратно, села между мельником и Бриколеном, который уже предлагал виновнику происшествия «подкрепиться» вместе с ним, и снова принялась кричать: — Нет, господин Бриколен, это уж такая дурость, что хоть руками разведи! Ты что же, не видишь, что этот прощелыга ведет себя с нашей дочкой таким манером, как принято среди людей того же разбора, что он сам, и что мы ничего подобного больше терпеть не можем? Приходится мне самой все ему выложить и потребовать наконец от него… — Оставь пока свои требования, госпожа Бриколен, — сказал арендатор, в свою очередь повышая голос, — и не мешай мне выполнять обязанности главы семьи. Тебя послушать, так я только то и разумею, что штаны держатся на крючках, а юбка — на лямках. Ни свет ни заря морочишь мне голову. Я сам знаю, что мне надо сказать парню, и нечего делать это вместо меня. Значит так, женушка: вели Шунетте налить нам в кувшинчик свежего вина, а сама отправляйся приглядеть за курами. Госпожа Бриколен стала было возражать, но ее супруг взял в руки толстую терновую трость, которую он обычно прислонял к своему стулу, когда усаживался пить, и принялся изо всех сил барабанить ею по столу. Этот грохот совершенно заглушил голос госпожи Бриколен, и она с досадой вышла, громко хлопнув дверью. — Что вам угодно, хозяин? — спросила Шунетта, прибежав на шум. Бриколен величественно взял со стола и протянул ей пустой кувшин, страшно вращая глазами. Толстая Шунетта с легкостью ласточки полетела выполнять распоряжение бланшемонского повелителя. — Бедный мой Большой Луи, — сказал пузан, когда они остались с глазу на глаз при кувшине с вином, — надо тебе Знать, что жена моя здорово ярится на тебя; она тебя просто не выносит и, кабы не я, выставила бы тебя за дверь. Но мы с тобой старые друзья, мы нужны друг другу и не станем ссориться из-за пустяков. Ты только скажи мне правду, я-то уверен, что жена ошибается. Все женщины глупы как пробки или помешанные, — что поделаешь? Так вот, можешь ты мне сказать всю правду, как на духу? — Говорите, говорите, — ответил Большой Луи тоном, обещавшим полную откровенность; при этом ему пришлось сделать усилие, чтобы придать своему лицу спокойное и беззаботное выражение, хотя его душевное состояние было в этот момент далеко от спокойствия и беззаботности. — Ну, так вот, я не люблю ходить вокруг да около, а иду напрямик, — сказал арендатор. — Ты влюблен в мою дочь или нет? — Смешной вопрос! — с напускной бойкостью ответил мельник. — Что хотели бы вы от меня услыхать в ответ? Сказать «да» — это вроде как надерзить вам, а сказать «нет» — вроде как оскорбить мадемуазель Розу: она ведь заслуживает любви, как вы заслуживаете уважения. — Тебе охота шутить? Ну что ж, это добрый знак: я вижу, что ты в Розу не влюблен. — Постойте, постойте! — возразил Большой Луи. — Я вам этого не говорил. Напротив, я сказал, что в нее должен быть влюблен всякий, потому что она хороша, как ясный день, потому что она похожа на вас как две капли воды, наконец, потому, что кто бы на нее ни глянул — юноша или старик, богач или бедняк, — непременно испытает что-то, сам толком не зная, что это за чувство: то ли радость любви к ней, то ли огорчение от невозможности себе эту любовь позволить. — Умен, как тысяча чертей! — воскликнул арендатор, откинувшись на стуле и так хохоча, что на его необъятном брюхе затряслась жилетка. — Разрази меня гром, коли бы я не хотел, чтоб у тебя было триста тысяч экю! Я бы выдал дочку за тебя охотней, чем за кого другого! — Могу поверить. Но так как у меня их нет, то вы и не отдадите ее за меня, а? — Конечно, нет, чтоб мне провалиться! Но я по крайней мере жалею, что тому не бывать: это тебе порука моей дружбы. — Большое спасибо! Вы слишком добры! — Дело-то вот в чем: моя женушка-ведьма вбила себе в голову, что ты с Розой шуры-муры заводишь. — Это я-то? — воскликнул мельник, на этот раз совершенно натуральным тоном. — Да я ей никогда словечка не сказал, которое было бы не для ваших ушей. — Верю. Ты слишком умен, чтобы не понимать, что тебе нечего и думать о моей дочери и что я не могу выдать ее за такого, как ты. Это вовсе не значит, будто я тебя презираю, совсем нет! Я не гордец и знаю, что все люди равны перед законом. Не забыл я и о том, из каких вышел сам: я же родился в крестьянской семье, и батюшка мой, когда начал сколачивать себе состояние, которое, как тебе известно, он так несчастливо потерял, был не большим барином, чем ты; он ведь был мельник! Но на сегодня, старина, как говорят люди, вся сила в деньгах, и раз у меня они есть, а у тебя нет, нам с тобой не по пути. — Это убедительно и неопровержимо, — нарочито весело, но со скрытой горечью заключил мельник, — справедливо, разумно, истинно, здравомысленно и спасительно, как учит в своих проповедях наш кюре. — Черт побери! Послушай, Большой Луи, ведь все поступают так. Ты же, как ты есть против простого крестьянина человек состоятельный, не женился бы на маленькой Фаншоне, служанке, ежели бы она возымела к тебе любовь? — Нет, но ежели бы я возымел любовь к ней, тогда дело другое. — Ты хочешь этим сказать, шутник, что моя дочь могла бы позариться на тебя? — Да разве я что-нибудь подобное сказал? Когда же? — Я не обвиняю тебя в том, что ты это сказал, хотя жена моя твердит, что ты больно языкаст и распустишься еще больше, ежели тебя слишком приближать к дому. — Послушайте, господин Бриколен, — заявил Большой Луи, который начал уже терять терпение и решил достаточно резко, но без оскорблений оборвать разговор. — Вы что же, смеху или забавы ради, как говорится в народе, вот уже пять минут толкуете мне обо всех этих вещах? Или вы говорите о них всерьез? Я не просил у вас руки вашей дочери и не понимаю, зачем вы берете на себя труд отказывать мне. Я не такой человек, чтобы позволить себе хоть единое неуважительное слово о мадемуазель Розе; не понимаю поэтому также, зачем вы передаете мне ту напраслину, что госпожа Бриколен возводит на меня. Если ваша цель — отказать мне от дома, то извольте, я готов уйти. Если вам желательно перестать вести со мною дела, я возражать не стану: у меня есть другие заказчики. Скажите только прямо — и мы расстанемся как порядочные люди, потому что, признаюсь, мне сдается, будто со мной нарочно затевают свару и пытаются еще свалить с больной головы на здоровую. Говоря это, Большой Луи поднялся с места и явно собрался уходить. Но Бриколену не хотелось, да и невыгодно было ссориться с ним. — Что ты такое несешь, дурень ты этакий? — возразил он дружелюбным тоном, снова усаживая Большого Луи. — Ты в своем уме? Какая муха тебя укусила? Да разве я по-серьезному с тобой говорил? Разве я обращаю внимание на глупости моей жены? Известное дело — женщина что оса: одна жужжит над ухом, другая пристает то с тем, то с этим и всегда говорит наперекор, обе не дают покоя. Давай-ка прикончим наш кувшинчик и разойдемся друзьями. Слушай меня, Большой Луи. Я для тебя стоящий заказчик, и сам я очень доволен своим выбором. Мы можем оказывать друг другу небольшие услуги, и было бы просто из рук вон, коли бы мы с тобой разругались попусту. Я знаю, что ты парень умный и здравомыслящий и не станешь заводить шуры-муры с моей дочкой. Впрочем, я о ней хорошего мнения и уверен, что она дала бы тебе крепкий отпор, коли бы ты повел себя недостаточно почтительно. — Так, так! — процедил сквозь зубы Большой Луи, постукивая рюмкой о стол, что обнаруживало его гнев. — Все эти доводы бесполезны и начали мне докучать, господин Бриколен! К чертям ваши заказы, ваши небольшие услуги, да и мою собственную выгоду, ежели я должен взамен выслушивать хотя бы только предположения, будто я способен выказать неуважение к вашей дочери и будто придется ей рано или поздно поставить меня на место. Я всего лишь крестьянин, но гордости во мне не меньше, чем в вас, господин Бриколен, уж не обессудьте; и коли вам не найти слов поучтивее в беседе со мной, то позвольте мне откланяться и пойти по своим делам. Бриколену пришлось потратить немало усилий, чтобы успокоить Большого Луи: мельник очень сердился, но суть была не в подозрениях арендаторши, в известном смысле небезосновательных, как сознавал он сам, и не в грубиянстве Бриколена, к которому он давно привык, а в той жестокости, с какой этот человек, сам того не зная, растравил кровоточащую рану в его сердце… Наконец гнев его улегся, но не раньше, чем арендатор извинился перед ним, а у того были свои причины выказывать миролюбие и не принимать в расчет опасений своей жены — по крайней мере временно. — Да, кстати, — сказал он мельнику, приглашая его отведать сыру, а затем почать новый кувшин своего розового вина, — ты, оказывается, в большой дружбе с нашей молодой госпожой? — В большой дружбе! — ворчливо повторил еще не вполне остывший мельник, отодвигая от себя кувшин, несмотря на настояния хозяина. — Это слово здесь так же уместно, как и то, другое — любовь, которое вы мне запрещаете говорить вашей дочери! — Ну, может быть, это слово неподходящее, но не я его выдумал: она сама нам несколько раз повторила вчера (и это ужас, как бесило Тибоду!), что она очень дружески расположена к тебе. Черт побери, Большой Луи, ты видный собою парень — так все считают, — а есть слух, что знатные дамы… Э, ты что, снова сердишься? — Мне сдается, что вы хватили лишнего спозаранку, господин Бриколен, — сказал мельник, побледнев от негодования. Никогда еще цинизм Бриколена, с которым он до сих пор как-то мирился, не внушал ему такого отвращения. — А ты, наверно, — возразил арендатор, — спозаранку на своей мельнице наглотался муки с целую лопату, потому как ты такой кислый да сварливый, словно хмельного в рот не берешь. С тобой, значит, теперь и посмеяться нельзя? Вот еще новость! Ладно, потолкуем серьезно, коли тебе так хочется. Не приходится сомневаться, что тем ли, другим ли путем ты завоевал уважение и доверие молодой госпожи и она тебе дает поручения потихоньку от всех. — Не знаю, что вы имеете в виду. — Ну, как же! Ты ради нее едешь в ***, доставляешь ей ее пожитки и деньги! Шунетта своими глазами видела, как ты передавал ей мешочек с экю. Словом, ты занимаешься ее делами. — Считайте, как вам будет угодно, а я знаю, что знаю: делаю я свои дела, а попутно доставил госпоже де Бланшемон ее деньги и сундуки из гостиницы, где она оставила их на сохранение; если это значит заниматься ее делами — пусть будет так, не имею ничего против. — А что в мешочке-то — золото или серебро? — Вот уж чего не знаю! Я в него не заглядывал. — Тебе бы это ничего не стоило, а ей бы не повредило. — Надо было мне сказать, что вас это интересует. Сам я не догадался. — Послушай, Большой Луи, мой мальчик! Эта особа говорила с тобой о своих делах? — Откуда вы это взяли? — Отсюда! — ответил арендатор, ткнув указательным пальцем в свой низкий смуглый лоб. — Я нюхом за милю чую, когда начинают перешептываться да секретничать. Похоже, что дамочка не доверяет мне и советуется с тобой. — Ох, если бы так было! — ответил Большой Луи, пристально и с некоторым вызовом глядя на Бриколена. — Если это на самом деле так, Большой Луи, то, я думаю, ты не захочешь стать мне поперек дороги. — Как вас понимать? — Ты прекрасно все сам понимаешь. Я всегда тебе доверял и думаю, что ты не злоупотребишь моим доверием. Тебе известно, что мне охота приобрести землю и неохота платить слишком много. — Мне известно, что вам неохота заплатить полную цену. — Полную цену, полную цену! Это зависит от положения, в котором находятся люди. То, что для другого значило бы продешевить, для нее значит выгодно продать, потому как ей во что бы то ни стало надо выбраться из трясины, в которой ее оставил муженек! — Это-то я знаю, господин Бриколен, и ваши мысли на сей предмет и ваши честолюбивые расчеты — все я знаю как свои пять пальцев. Вы хотите нагреть на пятьдесят тысяч франков лицо, вступающее с вами в сделку, как говорят законники. — Да нет, совсем я не хочу ее нагреть! Я играл с ней открытыми картами; назвал ей, сколько стоит ее имение. Только я сказал, что не заплачу полную его стоимость, и пусть меня живьем съедят черти, если я прибавлю хоть один лиар[143]. Не хочу и не могу! — А вы мне говорили по-другому, и не так давно! Вы сказали, что можете заплатить полную цену, если уж без этого не обойтись… — Ты бредишь. Никогда я этого не говорил! — А, нет, извините! Вспомните-ка, это было на ярмарке в Клюй, и еще господин Груар, мэр, был при разговоре. — Он не сможет выступить как свидетель. Он помер! — Но я-то, я мог бы дать показания под присягой! — Ты этого не сделаешь! — Это будет зависеть от … — От чего? — От вас. — То есть как? — Мое поведение будет зависеть от того, как поведут себя со мной в вашем доме, господин Бриколен. Я по горло сыт бессовестными наветами вашей половины и ее оскорбительными для меня выходками; я знаю, что ко мне тут относятся хуже, чем к любому другому, что вашей дочери запрещается разговаривать и танцевать со мной, приезжать на мельницу к ее кормилице, словом — учиняют мне всяческие притеснения. Я бы на них не жаловался, коли бы они были заслуженны. Но так как я их не заслуживаю, то нахожу их оскорбительными. — Как, и это все, Большой Луи? А хорошенький подарочек, например банковый билет в пятьсот франков, не доставил бы тебе больше удовольствия? — Нет, сударь, — сухо ответил мельник. — Простак ты, мой мальчик. Пятьсот франков в кармане у порядочного человека стоят больше, чем удовольствие потоптаться в пыли. А тебе так уж важно плясать бурре с моей дочерью? — Мне это важно, потому что тут дело идет о моей чести, господин Бриколен. Я всегда танцевал с ней перед всем честным народом. Никто в том не находит ничего дурного, и если бы сейчас меня хлестнули по физиономии отказом, люди легко поверили бы в то, о чем трубит повсюду ваша жена, то есть что я человек бесчестный и грубиян. Я не желаю, чтобы со мной обходились подобным образом. Так что вам решать, хотите вы меня и дальше сердить или нет. — Да пляши ты с Розой, мой мальчик, пляши на здоровье! — вскричал арендатор с радостью, за которой таился хитрый расчет. — Пляши сколько тебе угодно! Если только этого тебе недостает, чтобы быть довольным… «Ладно, посмотрим!» — подумал мельник, удовлетворенный своей местью. — А вот идет сюда хозяйка Бланшемона! — сказал он вслух. Ваша жена, подняв скандал, помешала мне отчитаться перед этой дамой в выполнении ее поручений. Если она будет говорить со мной о своих делах, я сообщу вам ее намерения. — Оставляю тебя с ней, — сказал Бриколен, вставая, — не забудь, что ты можешь оказать влияние на ее намерения. Ей скучно заниматься делами; она торопится с ними покончить. Внуши ей крепко, что с моей позиции меня не стронуть. А я пойду найду Тибоду и дам ей хороший урок насчет тебя. «Ах, мошенник! Вдвойне мошенник! — сказал себе Большой Луи, глядя вслед арендатору, который, грузно переваливаясь, спешил удалиться. — Ты рассчитываешь, что я буду твоим сообщником. Как бы не так! Только за то, что ты считаешь меня способным на такое дело, я хочу заставить тебя раскошелиться на эти пятьдесят тысяч франков, да еще на двадцать тысяч впридачу».XXI. Подручный мельника
— Милая моя сударыня, — поспешно обратился мельник к Марсели, заслышав шаги идущей за ней Розы, — мне надо сказать вам тысячу вещей, но я не могу выложить их все за десять минут. К тому же здесь (я не говорю о мадемуазель Розе) стены имеют уши, а если мы с вами выйдем прогуляться вдвоем, это вызовет подозрения по части неких дел… Но я непременно должен потолковать с вами; как Это сделать? — Есть простой способ, — ответила госпожа де Бланшемон. — Сегодня я пойду гулять и, наверно, без труда найду дорогу в Анжибо. — А если б еще мадемуазель Роза согласилась вам ее показать… — продолжил Большой Луи, уже в присутствии Розы, которая вошла в комнату, как раз когда Марсель произносила последнюю фразу. — Конечно, — добавил он, — ежели она не слишком гневается на меня.. — Ах, сумасброд! Из-за вас мне от маменьки еще достанется как следует! — отозвалась Роза. — Пока она ничего не сказала, но будьте уверены — за ней не пропадет. — Не бойтесь, мадемуазель Роза. Ваша маменька, слава богу, на этот раз не скажет ни слова. Я оправдался, папенька ваш меня простил и взялся успокоить госпожу Бриколен, так что, если вы не держите зла на меня за мою глупость… — Не будем говорить об этом, — перебила его Роза краснея. — Я не сержусь на вас, Большой Луи. Только надо было вам, уходя, оправдываться не так громко, а то вы разбудили и испугали меня. — Так вы спали? А мне думалось — вы не спите. — Полно, вы вовсе не спали, хитрая лисичка, — вмешалась Марсель. — Ведь вы в сердцах задернули занавеси. — Я одним глазом спала, — ответила Роза, стараясь скрыть смущение напускной досадой. — Во всем этом ясно одно, — сказал с нескрываемым огорчением мельник, — она сердится на меня. — Да нет, Луи, я тебя прощаю: ты же не знал, что я была в комнате, — молвила Роза; она слишком долго называла Большого Луи, своего друга детства, на ты и теперь иногда, то ли по рассеянности, то ли намеренно, возвращалась к этому местоимению. Она хорошо знала, что одного-единственного словечка из ее уст в сопровождении этого сладостного «ты» было достаточно, чтобы все огорчения Большого Луи сменились бурной радостью. — Однако же, — сказал мельник, вскинув на Розу засветившийся от удовольствия взор, — вы не хотите сегодня прогуляться на мельницу вместе с госпожой Марселью? — Но как же я могу, Большой Луи? Ведь маменька запретила мне — уж не знаю почему. — Вам папенька позволит. Я пожаловался ему на утеснения со стороны госпожи Бриколен; он их не одобряет и обещался внушить вашей матушке, что она ко мне несправедлива, — как оно и есть, хотя я тоже не знаю почему. — Ну и прекрасно, если так! — с подкупающей непосредственностью воскликнула Роза. — Мы поедем верхом, хорошо, госпожа Марсель? Вы — на моей кобылке, а я — на папенькином жеребчике; он очень покладистый и резвый тоже. — И я хочу ехать верхом, — заявил Эдуард. — Это будет потруднее устроить, — ответила Марсель. — Я боюсь посадить тебя сзади, дружок. — Я тоже, — подхватила Роза, — наши лошади довольно горячи. — А я хочу в Анжибо! — упрямился мальчик. — Пойдем, мама, на мельницу! — Туда далеко, у вас ножки устанут, — сказал ему мельник, — но я берусь отвезти вас, если ваша мама разрешит. Мы поедем вперед на таратайке, посмотрим, как доят коров, чтобы к приезду вашей мамы и этой тетеньки были свежие сливки. — Можете ему доверить Эдуарда, — обратилась Роза к Марсели, — он очень любит детей! Уж мне-то об этом кое-что известно! — О, вы были премилой девчуркой, — с умилением произнес Большой Луи. — Ах, всегда бы вам такой оставаться! — Спасибо за комплимент, Большой Луи! — Я не хотел сказать, что вы теперь не так милы: я имел в виду, что хорошо было бы, коли бы вы все еще были маленькой девочкой. Вы так меня любили в те времена, не расставались со мной, висли у меня на шее! — Было бы забавно, — заметила Роза, пытаясь скрыть смущение насмешливым тоном, — если бы я до сих пор сохранила эту привычку. — Ну так как? — снова обратился Большой Луи к Марсели. — Я беру малыша, идет? — Поручаю вам его; не сомневаюсь, что он попадает в надежные руки, — ответила де Бланшемон, передавая мальчика Большому Луи. — Ой, как хорошо! — радостно закричал ребенок. — Лопастушечка, ты будешь снова, как в тот раз, поднимать меня на руках, чтобы я мог по дороге срывать сливы с деревьев? — Буду, ваше высочество, — смеясь, отвечал мельник, — но при условии, что вы не будете сбрасывать их мне на нос. Труся в таратайке и играя с мальчиком, — отчего у него сладко щемило сердце, так как Эдуард своей детской прелестью, ласковостью и шаловливостью живо напоминал Розу той поры, когда она была ребенком, — Большой Луи уже подъезжал к мельнице, как вдруг заметил на равнине Лемора: тот шел ему навстречу, но, узнав сидевшего рядом с ним Эдуарда, сразу повернулся и поспешил обратно к дому, чтобы где-нибудь спрятаться. — Отведи Софи на луг, — сказал Большой Луи работнику, остановив лошадь неподалеку от ворот. — А вы, матушка, позабавляйте ребеночка да не спускайте с него глаз; я быстренько сбегаю на мельницу — и назад. Он кинулся искать Лемора; тот заперся в своей комнате и, с осторожностью отворив дверь, сказал: — Ребенок знает меня; я не должен попадаться ему на глаза. — А кто, черт возьми, мог предположить, что вы все еще здесь? — воскликнул мельник, с трудом приходя в себя от удивления. — Утром мы с вами распрощались, и я думал, что сейчас вы уже на пути в Африку! Кто же вы такой — странствующий рыцарь или просто неприкаянная душа? — Я в самом деле неприкаянная душа, дружище. Посочувствуйте мне. Я прошел с милю и присел на камень у источника; помечтал, поплакал и вернулся… Я не могу уйти! — Вот теперь вы мне нравитесь! — вскричал мельник, крепко пожимая руку Лемору. — Со мной такое бывало десятки раз! Да, десятки раз я уходил из Бланшемона и клялся себе, что больше не ступлю туда ногой, и всегда у обочины оказывался какой-нибудь источник, я усаживался поплакать, и не знаю уж, что за сила в этих источниках, но только я от них всегда возвращался туда, откуда ушел. Однако послушайте, мой любезный: вам надо остеречься; по мне, так пожалуйста — оставайтесь у нас, пока не сможете решиться уйти. Это дело надолго, как я предвижу. Тем лучше. Вы мне нравитесь. Я еще утром старался удержать вас; вы вернулись — благодарю вас за это. Но на несколько часов вы должны удалиться. Сейчас они приедут сюда. — Они обе? — воскликнул Лемор, понимая Большого Луи с полуслова. — Да, обе! У меня не было случая даже словечко сказать о вас госпоже де Бланшемон. Она едет сюда для того, чтобы поговорить со мной о своих денежных делах, не Зная, что мне нужно с нею поговорить и об ее сердечных делах. Я не хочу, чтобы она узнала о вашем присутствии здесь, пока не уверюсь, что она не станет меня корить за то, что я вас сюда привез… Кроме того, я не хочу, чтобы она так неожиданно встретилась с вами, особенно в присутствии Розы, которая, конечно, ничего не знает обо всем этом. Поэтому спрячьтесь. Когда я уезжал из Бланшемона, они велели подавать им лошадей. Потом они, наверно, еще позавтракали, но как обычно завтракают прекрасные дамы? Поклюют чего-то, как птички, да и все; лошади у них не какие-нибудь клячи; словом, с минуты на минуту они будут здесь. — Я ухожу… убегаю! — сказал Лемор, побледнев и весь дрожа. — Ах, мой друг! Она едет сюда! — Понимаю: у вас сердце обливается кровью оттого, что вы ее не увидите; это тяжко, не спорю… Ежели б можно было положиться на вас… Ежели бы вы могли поклясться, что не покажетесь ей на глаза и не пошевелитесь все то время, что они будут здесь, я бы сунул вас в такое место, откуда вы видели бы ее, а сами оставались бы незамеченным. — О дорогой мой Большой Луи, истинный друг мой, я обещаю вам, клянусь! Спрячьте меня — хотя бы под жерновом вашей мельницы. — Да нет, черт побери, это не самое удачное место: у «Большой Луизы» кости потверже ваших. Я прижму вас полегче: вы подыметесь на чердак, где свалено сено, и через слуховое окошко сможете видеть наших дам, когда они будут проходить мимо. Я не против того, чтобы вы увидели и Розу Бриколен: потом вы мне скажете, многих ли вы знавали в Париже герцогинь красивее, чем она. Но погодите, я пойду посмотрю, что происходит. И Большой Луи поднялся немного по склону холма Конде, откуда были видны башни замка Бланшемон и почти вся ведущая к замку дорога. Убедившись в том, что обе амазонки еще не появились, он вернулся к своему пленнику. — Вот вам, приятель, — сказал он ему, — зеркальце за два су и добрая бритва, острая, как подобает бритве мельника; сейчас вы соскребете свою козлиную бородку. На мельнице она помеха, только и годна, что муку копить. И затем, ежели так случится, что кое-кому ваша физиономия попадется на глаза, без бороды вас труднее будет узнать. — Вы правы, — согласился Лемор, — повинуюсь вам беспрекословно. — Знаете ли, — продолжал мельник, — я ведь не без умысла требую от вас, чтобы вы убрали прочь эту черную шерсть. — А какой у вас умысел? — Я подумал, подумал и принял вот какое решение: вы останетесь у меня до тех пор, пока не поймете, что не должны доставлять горя нашей милой госпоже Марсели, и не откажетесь от своих безумных идей насчет богатства. Даже если вы пробудете здесь всего несколько дней, не нужно, чтобы знали, кто вы такой. А борода придает вам городской вид и привлекает внимание. Вчера вечером я мимоходом сказал моей доброй матушке, что вы землемер, — первое, что мне пришло в голову; выдумка довольно нелепая, лучше было сразу назвать вашу профессию. Впрочем, моя матушка ничему не удивляется и не усмотрит ничего особенного в том, что вы от обмера земель перекинулись на механику. Итак, любезный, вы будете мельником, это вам больше подходит. Вы будете работать — или сделаете вид, что работаете, — на мельнице; у вас, конечно, есть знания но этой части, и будет считаться, что вы даете мне советы касательно установки нового жернова. Я вас случайно встретил в городе, и оказалось, что вы можете быть мне полезны. Так ваше присутствие в моем доме никого не будет удивлять; я помощник мэра, я за вас отвечаю, и никто не вздумает спрашивать у вас дорожный лист. Наш сельский стражник немного любопытен и болтлив, но если ублажить его одной-двумя пинтами вина, он будет держать язык за зубами. Таков мой план. Придется вам с ним согласиться, или я от вас отступаюсь. — Я покоряюсь: буду вашим подручным на мельнице, спрячусь — все, что угодно, только бы не уехать, не поглядев на нее хотя бы с чердака одним глазком. — Тише! Я слышу цокот копыт. Тук-тук! — это черная кобылка мадемуазель Розы. Цок-цок! — это серый жеребчик господина Бриколена. Ну вот, вы побриты, умыты, и поверьте, что так вам идет в сто раз больше. Бегите теперь на чердак и закройте ставню слухового окошка; смотреть будете в щелку; если туда поднимется мой работник — притворитесь спящим. Дневной сон на сене — удовольствие, которое наши жители не прочь себе доставлять, и занятие это кажется им более христианским, нежели размышлять в одиночестве, скрестив на груди руки и устремив взор вдаль… Ну, ступайте. Бог и мадемуазель Роза. Ишь ты! Едет впереди! Поглядите только, как уверенно она держится в седле и какой у нее решительный вид! — Прекрасна, как ангел! — воскликнул Лемор, который смотрел только на Марсель.XXII. На берегу реки
Выказывая чуткость и предупредительность, которые развиваются в душе под влиянием истинной любви, Большой Луи мимоходом распорядился, чтобы легкий завтрак, состоящий из молока и фруктов, был подан под устроенным с наружной стороны ворот навесом из вьющихся растений, прямо напротив мельницы, откуда до этого места было настолько близко, что спрятанный на чердаке Лемор мог видеть и даже слышать Марсель. Этот завтрак на сельский манер прошел очень оживленно благодаря неистощимым забавам закадычных друзей — Эдуарда и Большого Луи — и очаровательному кокетничанию Розы со своим воздыхателем. — Осторожнее, Роза, — сказала молодой девушке на ухо госпожа де Бланшемон. — Вы слишком восхитительны сегодня и совсем вскружили ему голову. Мне кажется, что вы либо не хотите обращать никакого внимания на мои наставления, либо заходите чересчур далеко. Роза смутилась, ненадолго погрузилась в раздумье, но вскоре снова стала поддразнивать мельника, словно и в самом деле решилась ответить на чувство, которое сама подогревала. В глубине души она всегда питала искреннюю дружбу к Большому Луи, поэтому едва ли было возможно, чтобы она стала вышучивать его просто игры ради, не допуская возможности, что ее сестринская привязанность к нему перерастет в нечто большее. Мельник, вовсе не склонный обольщаться, испытывал тем не менее безотчетное доверие к Розе, и его честная, свободная от подозрений душа подсказывала ему, что такое доброе и чистое создание, как Роза, не может холодно мучить его. Он был счастлив, что она весела и воодушевлена в его обществе, и ему очень не хотелось оставить ее за столом с матерью, а самому уйти. Но Марсель уже поднялась и, отойдя немного, подала ему украдкой знак следовать за ней на другой берег реки. — Ну что же, Большой Луи, — сказала госпожа де Бланшемон, — вы как будто не так грустны, как третьего дня. Я, кажется, догадываюсь, по какой причине. — Ах, госпожа Марсель, вы все знаете, я это ясно вижу, и мне нечего вам рассказать. Напротив, вы могли бы рассказать мне многое, чего я не знаю, потому как мне сдается, к вам кое-кто должен питать и действительно питает большое доверие. — Я не собираюсь выбалтывать секреты Розы, — сказала Марсель улыбаясь, — женщины не должны предавать друг друга. Тем не менее, я думаю — мы с вами можем надеяться, что она все-таки полюбит вас. — Ах, если б она меня полюбила! Это единственное, что мне нужно на свете, и я, наверно, не стал бы требовать ничего больше, потому что в тот день, когда она сказала бы мне это, я скорей всего умер бы от радости.. — Друг мой, ваша любовь — это любовь искреннего и благородного сердца, и именно поэтому вам не следует так жаждать ответного чувства, пока вы не обдумали хорошенько, каким образом можно преодолеть сопротивление ее семьи. Полагаю, что как раз об этом, а не о чем ином, вы хотели переговорить со мной, для чего я и отправилась сюда тотчас же, как только вы позвали меня. Так вот, время дорого — сейчас к нам подойдут, и мы не сможем продолжать разговор… В чем могло бы состоять мое влияние на господина Бриколена, которое, как намекнула мне Роза, я способна оказать на него? — Роза намекнула вам на это? — восторженно вскричал мельник. — Значит она думает обо мне? Значит, любит меня? Ах, госпожа Марсель! Как же вы мне сразу не сказали? Если она меня любит и хочет стать моей женой, все остальное уже неважно! — Спокойнее, спокойнее, друг мой! Роза пока ничего не решила для себя. Она питает к вам сестринское чувство и хотела бы отмены запрета разговаривать с вами, приезжать к вам на мельницу, поддерживать с вами дружбу, как Это было до сих пор. Поэтому она попросила меня выступить в вашу защиту перед ее родителями, постоять за вас и выказать определенную твердость в моих деловых отношениях с ними. И вот что еще я поняла, Большой Луи: Бриколен хочет приобрести мои земли по дешевке, и, возможно, если бы Роза любила вас, я могла бы устроить ее и ваше счастье, поставив условием моего согласия ваш брак. Если только вы считаете это осуществимым, то не сомневайтесь нимало: я с величайшей радостью принесу эту небольшую жертву. — Небольшую жертву! Да вы не думаете, что говорите, госпожа Марсель! Вы все еще считаете себя богатой — пятьдесят тысяч франков вам нипочем. Вы забываете, что сейчас они составляют изрядную долю ваших средств. И вы полагаете, что я принял бы такую жертву? О! Да я бы скорее раз и навсегда отказался от мысли о Розе! — Это значит, что вы не понимаете истинной цены денег, друг мой. Деньги — лишь средство для достижения счастья, а счастье, которое приносишь другим, — это самое надежное, самое чистое счастье, какое только можно обрести самому. — Вы добры, как сам господь бог, бедненькая вы моя! Но вы можете обрести еще более надежное и чистое счастье, и оно будет состоять в том, что вы обеспечите благополучие вашего сына, как велит вам материнский долг. А что скажете вы в тот день, когда из-за нехватки пятидесяти тысяч франков, которые вы пожертвовали друзьям, ваш сын должен будет отказаться от любимой женщины и вы не сможете ничем ему помочь? — Меня глубоко трогают ваши слова и ваши заботы обо мне и сыне, но, право же, нельзя точно рассчитать, как все сложится в будущем. Кроме того, я оказываюсь не в таком уж безусловном проигрыше, как вам представляется: воздерживаясь от продажи имения по предложенной цене, я потеряю время, а ведь, как вам известно, каждый день, проведенный в бездействии, приближает мое полное разорение. Покончив быстро с этим делом, я освобождаюсь от точащих меня долгов, и в будущем, наверное, подтвердится, что я сделала единственный разумный выбор, приняв поставленные мне условия без сожалений и утомительных препирательств. Теперь вам должно быть ясно, что я не так уж бескорыстно щедра и что, заботясь о ваших интересах, не упускаю из виду своих. — Как же мало вы понимаете в делах! — с грустной и нежной улыбкой промолвил мельник. — Вы говорите истинно как святая, дорогая моя госпожа Марсель, но только, позвольте вам сказать, в словах ваших нет смысла. Не позже как через две недели вы найдете покупщиков, которые будут довольны уже тем, что могут приобрести ваши земли но их настоящей цене, без накидки. — Но они не будут платежеспособны, как Бриколен! — Да, да, этим он и кичится: он, видите ли, платежеспособен! Великое слово — «платежеспособность». Он думает, что один он на свете может сказать о себе: «Я платежеспособен!» То есть он, конечно, знает, что есть и другие, кто может это сказать, но хочет таким способом пустить вам пыль в глаза. Не слушайте его. Он продувная бестия. Сделайте только вид, что заключаете сделку с другим покупщиком, пусть для этого даже потребуется предпринять некоторые показные действия и объявить о будто бы подписанных купчих. Я бы на вашем месте не стал стесняться. На войне все средства хороши, и с мошенником нечего церемониться! Разрешите мне действовать за вас, и через две недели — даю голову на отрез — Бриколен выложит все триста тысяч франков чистоганом, да еще прибавит к ним кругленькую сумму, чтобы склонить вас на свою сторону. — Никогда у меня не хватит ловкости сделать все, как вы советуете, и, на мой взгляд, куда проще сделать каждого из нас счастливым по-своему: вас, Розу, меня, Бриколена и моего сына, который когда-нибудь мне скажет, что я правильно поступила. — Все это красивые фантазии, — сказал мельник. — Вы не знаете, что будет через пятнадцать лет думать ваш сын о деньгах и о любви. Не затевайте такого безрассудства; я на него не пойду, госпожа Марсель… Нет, нет, и не надейтесь, гордости во мне не меньше, чем в ком другом, и я упрям, как баран… как беррийский баран, а уж упрямее его нет на свете! И кроме того, это был бы напрасный труд. Бриколен пообещал бы все и не выполнил бы ничего. Положение ваших дел требует, чтобы купчая была подписана до конца месяца, а я, конечно, никак не могу рассчитывать жениться на Розе уже через месяц: для этого нужно было бы, чтобы она была без ума от меня. Пришлось бы пойти на то, чтобы она стала предметом пересудов, жертвой злословия… Я на такое никогда не решусь. В какую ярость пришла бы ее мамаша, как были бы изумлены и как стали бы ее хулить соседи и знакомые! И чего только не наговорили бы! Кто понял бы, что вы потребовали этого от Бриколена из чистого благородства и бескорыстной дружбы? Вы не знаете, как злоязычны мужчины, а уж каковы по Этой части женщины — вы и представить себе не можете! Ваша доброта ко мне… Нет, вам не догадаться, а у меня язык не повернется сказать, как мог бы ее истолковать тот же Бриколен. А то бы еще сказали, что Роза, которая есть сама непорочность, оступилась, поделилась с вами по секрету своей бедой и что вы, спасая ее честь, пожертвовали из своих денег солидный куш виновнику… Словом, это невозможно, и, я надеюсь, приведенных мною доводов больше чем достаточно, чтобы вас убедить. О, не таким путем я хочу заполучить Розу! Это должно произойти естественно — так, чтобы никто не посмел слова сказать против нее. Я знаю, что только чудом могу разбогатеть и что она может обеднеть, только если приключится какой-нибудь несчастный случай. Господь мне поможет, коли она полюбит меня… А ведь может статься, что так оно и будет, не правда ли? — Но, мой друг, я не могу разжигать в ее сердце любовь к вам, если вы лишаете меня возможности воспользоваться жадностью ее отца. Я ничего не стала бы предпринимать, если бы не придумала этого пути; ибо преступлением с моей стороны было бы возбуждать в этом юном и прелестном создании страсть, которая принесла бы только несчастье. — Вы верно говорите! — отозвался Большой Луи, сразу помрачнев. — И я вижу, что я безумец… Поэтому, прося вас приехать на мельницу, я вовсе не хотел говорить с вами ни о себе, ни о Розе, госпожа Марсель; в вашей безграничной доброте вы ошиблись на этот счет. Я хотел говорить с вами только о вас самой. Но вы меня опередили, заговорив обо мне. А я, как недоросль, развесил уши. Потом мне пришлось отвечать вам. Но теперь я уже не отклонюсь от своей цели, а цель моя — заставить вас по-серьезному задуматься о ваших делах. Дела господина Бриколена мне известны; известны его намерения и то, что он сгорает от желания купить ваши земли; он от них теперь ни в какую не отступится, но, чтобы получить от него триста тысяч франков, нужно запросить триста пятьдесят. Вы их получите, если будете твердо стоять на своем. Но, уж во всяком случае, нельзя допустить, чтобы он уплатил за имение меньше его настоящей цены. Не бойтесь ничего. Ему слишком охота обтяпать это дельце. — Повторяю вам, друг мой, что не смогу выдержать эту борьбу; она длится всего два дня, а силы мои уже иссякли. — Да вам и не нужно ее самой вести. Вы поручите свои дела честному и опытному нотариусу. У меня есть один на примете; сегодня вечером я пойду потолкую с ним, а завтра вы его увидите, и вам для этого не придется никак побеспокоиться. Завтра в Бланшемоне престольный праздник. Перед церковью соберется много народу. Нотариус придет сюда прогуляться и, по обычаю, побеседовать со своимиклиентами среди крестьян. Вы, словно невзначай, войдете в некий домишко, где он будет вас ожидать. Вы подпишете доверенность, скажете ему в двух словах, что к чему, я объясню кое-какие подробности, и вам останется только отослать господина Бриколена к нему, пусть с ним воюет. Если Бриколен не захочет с ним иметь дело, нотариус вскорости найдет вам другого покупщика; нужно только, чтобы Бриколен не пронюхал, что это я порекомендовал вам другого поверенного, вместо того, который ему свой человек. Он, уж наверно, вам его предлагал, и вы, может быть, даже были настолько безрассудны, что согласились взять его? — Нет! Я ведь обещала вам ничего не предпринимать без вашего совета. — Вот и хорошо! Значит, завтра, когда пробьет два часа пополудни, пойдите прогуляться по берегу Вовры как бы для того, чтобы оттуда обозреть всю картину праздника. Я буду ждать вас и провожу в дом к надежному и не болтливому человеку. — Но, друг мой, если господин Бриколен обнаружит вашу руку в этом деле, направленном против его интересов, он вас выгонит из дома, и Розы вам больше не видать. — Надо быть уж очень проницательным, чтобы дознаться до этого! Но коли, на беду, так случится… Я сказал вам, госпожа Марсель, бог совершит чудо ради меня, и тем охотнее, что ему будет известно: Большой Луи выполнил свой долг. — Мой верный, мой самоотверженный друг, я не могу пойти на то, чтобы вы так рисковали из-за меня! — Да как же я-то могу не сделать этого для вас, когда вы согласны были разориться, чтобы только мне помочь! Ну полно, оставим ребячество, дорогая госпожа Марсель; право, мы с вами квиты. — Глядите, Роза идет сюда. Выразить, как я вам благодарна, — и то уже нет времени. — Нет, мадемуазель Роза сворачивает на большую дорогу; они вдвоем с матушкой, а ей я шепнул, чтобы она немного задержала барышню, потому как разговор у меня с вами большой, госпожа Марсель! Мне нужно сказать вам еще одну важную вещь! Но вы, поди, утомились от ходьбы, мы уже долго бродим. Так как двор сейчас пуст, а на мельнице тихо, пойдемте присядем на скамью у ворот. Роза думает, что мы на том берегу, и еще погуляет по лугу, прежде чем вернется. То, о чем я собираюсь вам рассказать, для вас будет поинтереснее, чем денежные дела, и требует еще большей секретности. Марсель, удивленная этим предисловием, последовала за мельником и уселась вместе с ним на скамью, как раз против слухового окошка сеновала, откуда Лемор мог видеть и слышать ее. — Скажите-ка, госпожа Марсель, — несколько неуверенно протянул мельник, не зная, как приступить к теме. — Вы помните, что поручили мне отправить письмо? — Ну как же! — откликнулась госпожа де Бланшемон, и ее спокойное, бледноватое лицо вдруг покрылось густым румянцем. — Но неужели я ошибаюсь и вы не сказали мне сегодня утром, что мое поручение выполнено? — Минуточку, простите… Дело в том, что я не передал его на почту. — Вы о нем забыли? — Ну что вы! — Потеряли? — Это совсем невозможное предположение. Я не опустил его в ящик для писем, но сделал лучше этого — отдал письмо в руки адресату. — Что вы хотите сказать? Письмо было адресовано в Париж. — Да, но я случайно встретил человека, для которого оно предназначалось, и решил, что проще отдать пакет ему в собственные руки. — Боже мой! Ваши слова пугают меня, Луи! — воскликнула Марсель, снова побледнев. — Вы наверное, ошиблись! — Не так-то я глуп! Я ведь, может быть, и знаком с господином Анри Лемором… — Вы с ним знакомы! И он здесь, в этих краях? — продолжала удивляться Марсель, не скрывая волнения. В нескольких словах Большой Луи объяснил, как он узнал во встреченном им в *** молодом человеке того путешественника, который побывал раньше у него на мельнице, и адресата порученного ему письма — господина Лемора. — Куда же он направлялся? И что делал он в ***? — спросила ошеломленная Марсель. — Он направлялся в Африку, а в *** находился проездом, — ответил мельник, не спеша открыть карты. — Ближайшим образом дорога ему лежала на Тулузу. Он воспользовался утренней остановкой дилижанса, чтобы, пока другие пассажиры завтракают, сходить на почту. — А где он теперь? — Точно не скажу, где он может быть, но он уже не в ***. — Вы говорите, он направлялся в Африку? В такую даль! Зачем? — Именно затем, чтобы убраться как можно дальше. Так он ответил и на мой вопрос. — Ответ этот яснее, чем вы думаете! — бросила Марсель, чье беспокойство все нарастало и невольно прорывалось наружу. — Друг мой, вы не так несчастны, как вам кажется! Есть судьбы более горькие, чем ваша. — Ваша, например, сердечная вы моя? — Да, мой друг, моя судьба много горше. — Но не сами ли вы в том отчасти виноваты? Зачем вы наказали бедняге молодому человеку прожить целый год, мирясь с тем, что о вас не будет ни слуху, ни духу? — Как! Значит он дал вам прочитать мое письмо? — Вовсе нет! Он достаточно осторожен и скрытен, будьте спокойны! Но я так настойчиво выспрашивал его, так приставал к нему и столько угадал сам, что волей-неволей пришлось ему передо мной раскрыться. Ах, черт возьми! Я, видите ли, госпожа Марсель, больно охоч совать нос в секреты тех, кто мне по сердцу, потому как нельзя помочь людям, не зная, что у них на уме. Разве не так? — Нет, мой друг, я очень довольна, что вы владеете моими секретами, как я владею вашими. Но, увы, при всей вашей доброй воле и сердечности вы ничего не можете сделать для меня. Однако скажите мне вот о чем: этот молодой человек не передал с вами для меня никакого ответа, ни в письменном виде, ни на словах? — Он написал вам сегодня утром уйму глупостей, которые я отказался передать. — Вы оказали мне дурную услугу! Выходит, что я не могу узнать его намерения? — Он не придумал сказать мне ничего, кроме как: «Я ее люблю, но у меня хватит мужества…» — Он сказал «но»? — Возможно, он сказал «и»!.. — Это существенная разница! Вспомните, пожалуйста, Большой Луи! — Он говорил то одно, то другое, он много раз повторял это. — Вы сказали «сегодня утром» — так вы только сегодня выехали из города? — Я хотел сказать — «вчера вечером». Было уже поздно, а у нас тут утро считается с полуночи. — Боже мой! Что все это значит? Почему нет письма? Вы сами видели, как он мне писал? — Еще как писал: изорвал четыре письма! — Но что было в этих письмах? Он, значит, был в нерешительности? — Он то уверял, что никогда больше не увидит вас, то строчил известие о том, что едет к вам сейчас же. — Но он устоял перед этим искушением? У него, в самом деле, мужества хоть отбавляй! — Ах, послушайте! Он был искушаем больше, чем святой Антоний, но, во-первых, я отговаривал его, а во-вторых, он боялся ослушаться вас. — А что вы скажете о влюбленном, который неспособен ослушаться? — Я скажу, что он любит слишком сильно и что ему за это отнюдь не будут благодарны. — Я несправедлива, не правда ли, Большой Луи? Ах, дорогой друг, я слишком взволнована и сама не знаю, что говорю. Но почему вы убеждали его не ехать с вами? Он же хотел! — Ну, разумеется, хотел! Он даже проехал часть дороги со мной на таратайке. Но уж не обессудьте: я очень боялся не потрафить вам. — Вы сами любите и все же считаете, что любящие могут быть столь суровыми? — Ох ты, господи! Ну, а что бы вы сказали, коли бы я привез его в Черную Долину? Например, вот ежели бы я сейчас объявил вам, что прячу его на мельнице? Уж наверное, вы не дали бы мне спуску, взгрели бы меня как следует. — Луи, он здесь! Вы признались! — восторженно и убежденно произнесла Марсель, вставая. — Нет, нет, сударыня! Это вы говорите за меня. — Друг мой, — продолжала она, с жаром схватив его за руку, — скажите мне, где он, я на вас не буду сердиться. — Ну, допустим, я скажу, — отвечал мельник, несколько испуганный порывистостью Марсели, но в то же время восхищенный ее искренностью. — А вы не побоитесь, что насчет вас пойдут всякие слухи? — Когда он по своей воле оставил меня, когда дух мой был угнетен, я еще была в состоянии думать о светском обществе, предвидеть опасности, требовать от себя неукоснительного следования суровому долгу, возможно, преувеличенному мной; но теперь, когда он возвращается ко мне, находится где-то рядом, — о чем, по-вашему, должна я думать, чего бояться? — Одного бояться все-таки нужно: того, чтобы какая-нибудь неосторожность не затруднила выполнения ваших планов, — проговорил Большой Луи и показал на окошко чердака. Марсель посмотрела наверх, и глаза ее встретились с глазами Лемора, который, весь трепеща и устремись вперед, готов был спрыгнуть с крыши, чтобы мигом преодолеть расстояние, отделявшее его от любимой. Но мельник кашлянул что было силы и, знаком обратив внимание влюбленных на Розу, подходившую в сопровождении мельничихи и Эдуарда, громко произнес: — Да, сударыня, мельница, такая, как она есть, не приносит хорошего дохода; но ежели бы мне удалось хотя бы поставить большой жернов, что я давно задумал, она стала бы намного доходнее, приносила бы добрых восемьсот франков в год!XXIII. Кадош
Влюбленные обменялись быстрым и пламенным взглядом. Оба они испытали сильное потрясение, но сразу после него пришло самое совершенное спокойствие. Они любили друг друга, они были уверены друг в друге; все было сказано, объяснено, подтверждено в этом молниеносном скрещении взглядов. Лемор отпрянул в глубь чердака, а Марсель, прекрасно владея собою именно потому, что была счастлива, без смущения и досады встретила подошедшую Розу. Она согласилась на предложение Розы пойти погулять в прелестную рощицу неподалеку, а час спустя обе они сели на своих лошадей и отправились обратно в Бланшемон. Уезжая, Марсель шепнула мельнику: — Прячьте его от всех! Я приеду сама. — Нет, нет, не торопитесь! — отвечал Большой Луи. — Я устрою вам свидание в безопасном месте. Но раньше дайте мне все подготовить. Сыночка я вам привезу вечером, и тогда мы еще поговорим. После отбытия Марсели Лемор вышел из своего убежища, где от радости, волнения и одуряющего запаха сена у него начала кружиться голова. — Послушайте, дружище, — сказал он весело мельнику, — я ваш подручный и не собираюсь сидеть у вас на хлебах и бездельничать. Задайте мне работу, и я вам покажу, что у меня руки не деревянные, хоть я и щуплый парижанин с виду.: — Да, — отозвался Большой Луи, — когда на сердце легко, и работа в руках спорится. У вас дела идут лучше, чем у меня, старина; вот мы вечерком сядем покалякать, и тогда будет ваша очередь утешать меня. А сейчас, как вы правильно сказали, надо заняться делом. Я не могу целый день растабарывать про любовь, а вы, ежели будете сидеть сложа руки да размышлять о своем счастье, совсем ошалеете! Труд благотворен для человека и в радости и в горе — он бодрит и успокаивает; а значит, он предписан господом богом всем и каждому. Ну, пошли! Поорудуем вдвоем лопатами да заставим поплясать «Большую Луизу». Ее песенка приводит меня в себя, когда я собьюсь с панталыку. — О боже мой! Ребенок сейчас узнает меня! — воскликнул Лемор, увидев Эдуарда, который ускользнул от Большой Мари и в этот момент взбирался на четвереньках по крутой лестнице мельницы. — Он уже видел вас, — ответил мельник, — не прячьтесь и ничего не разыгрывайте. В этой одежке он вас и узнает и не узнает. В самом деле Эдуард остановился, сомневаясь и недоумевая. В течение месяца, протекшего с тех пор, как Марсель внезапно покинула Монморанси, спеша к умирающему мужу, мальчик ни разу не видел Лемора, а месяц для памяти ребенка — это целый век. Правда, Эдуард был наделен исключительными способностями и развит не по летам, но Лемор без бороды, с обсыпанным мукой лицом, в крестьянской блузе был почти неузнаваем. На минуту мальчик застыл перед Лемором, но, встретив суровый и безразличный взгляд своего друга, обычно бежавшего ему навстречу с распростертыми объятиями, он опустил глаза, испытывая что-то вроде смущения и даже страха, у детей всегда сопряженного с удивлением. Затем, подойдя к мельнику с видом серьезным и задумчивым, какой бывал ему нередко присущ, он спросил: — Кто этот дяденька? — Это мой работник, его зовут Антуан. — Так у тебя их два? — Два? Десятки их у меня — работников. Вот тебе и еще одна Лопастушечка… — А Жанни — третья? — Так точно, ваше превосходительство! — Он злой, твой Антуан? — Нет, он не злой! Но он глуповат, глуховат и не умеет играть с малышами. — Ну, тогда я пойду поиграю с Жанни, — заключил Эдуард и беспечно удалился. Человек четырех лет от роду не подозревает, что его могут обмануть, и слова тех, кого он любит, для него убедительнее, нежели то, что он видит и слышит сам. Принесли зерно, которое надо было до вечера смолоть. Оно принадлежало господину Бриколену и содержалось в двух мешках, помеченных огромными инициалами владельца. — Поглядите, — сказал Большой Луи со смехом, но на этот раз не без горечи: — «Б. Б.» — пока читай: «Бриколен из Бланшемона», то есть «Бриколен, проживающий в Бланшемоне». Но когда он купит поместье, то уж наверное подставит еще одно маленькое «б» между двумя большими, и это будет значить: «Бриколен, барон де Бланшемон». — Как! — воскликнул Лемор, которого занимала другая мысль. — Это зерно — из Бланшемона? — Оттуда, — подтвердил мельник, научившийся отгадывать, что у Лемора на уме, прежде чем он откроет рот. — Из этого зерна мы сделаем муку… А из нее сделают хлеб, который будут есть госпожа Марсель и мадемуазель Роза. Говорят, что Роза слишком богата, чтобы взять в мужья такого человека, как я: а не кто иной, как я, доставляю хлеб, который она ест. — Так, значит, мы будем работать для них! — Именно так, молодой человек. Точно выполняйте, что я скажу! Тут нельзя работать спустя рукава. Черт побери! Доведись мне молоть зерно для самого короля, и то бы я не вложил в это дело столько души. Заурядная мукомольная операция приобрела в воображении молодого парижанина высокий смысл и едва ли не поэтическую окраску, и он так старательно и увлеченно стал помогать мельнику, что через два часа вник во все тайны его ремесла. Ему было нетрудно научиться управлять нехитрым прадедовским механизмом заведения. Он понимал, какие усовершенствования можно было бы сделать в этой самодельной деревенской машине за небольшие, но наличные деньги, которые для крестьянина представляют собой, так сказать, запретный плод. Вскоре он уже знал на местном наречии наименования всех частей машины и выполняемых ими действий. Жанни, видя, как он трудолюбив и как хорошо относится к нему хозяин, несколько встревожился и почувствовал что-то вроде ревности, но когда Большой Луи объяснил ему, что парижанин пробудет у них недолго и что для него нет угрозы быть вытесненным с занимаемого им места, он успокоился и, как истый берриец, был даже рад передать услужливому сотоварищу на несколько дней свою работу. Оказавшись без Дела, он вызвался свезти в Бланшемон Эдуарда, который стал скучать и капризничать без матери. Мельничихе не удавалось развлечь ребенка, и, когда за ним приехала маленькая Фаншона, Жанни не без удовольствия взялся сопровождать свою юную приятельницу до замка. Работа была закончена. Струйки пота текли по лбу Лемора, лицо его горело. Он ощущал такую гибкость во всем теле и такой прилив душевных сил, каких не чувствовал уже давно. Постоянная меланхолия, снедавшая молодого человека, уступила место чувству физического и нравственного удовлетворения, которое по воле всевышнего неизменно приносит человеку выполненная работа, когда цель ее для него не безразлична и сама она ему по силам. — Дружище! — вскричал он. — Труд — дело прекрасное и святое само по себе. Вы сказали это, когда мы начинали работать, и были правы! Господь предписывает и благословляет труд. Мне было так радостно трудиться, чтобы накормить свою любимую! Насколько ж еще радостнее будет трудиться для того, чтобы поддерживать жизнь многих равных тебе человеческих существ, твоих братьев! Когда каждый будет работать для всех и все для каждого, как легка будет усталость, как прекрасна будет жизнь! — Да, мое ремесло оказалось бы в таком случае одним из самых приятных! — произнес мельник с улыбкой, обличавшей живой ум. — Пшеница — самое благородное растение, а хлеб — самая добрая пища. Мое дело считалось бы достойным некоторого уважения, и, может быть, по праздникам стали бы украшать венком из колосьев и васильков бедную «Большую Луизу», на которую сейчас никто и внимания не обращает. Но что поделаешь! «На сегодня», как говорит господин Бриколен, я всего только его поденщик, и он думает обо мне примерно так: «Подобного разбора человек смеет помышлять о моей дочери? Жалкий бедняк, который мелет чужое зерно, тогда как я сею свой хлеб и на своей земле!» Понимаете, какая, выходит, между нами разница? А на самом деле вся-то разница в том, что у меня руки чистые, а у него по локоть в навозе. Ну вот, голубчик, мы все сделали, теперь живо ужинать! Я уверен, что суп вам покажется вкуснее, чем утром, даже если он будет солонее в десять раз. А потом я, пожалуй, отправлюсь в Бланшемон, отвезу эти два мешка. — А меня не возьмете? — Еще чего! Конечно, нет! Вам что, хочется, чтобы вас увидели на ферме? — Меня там никто не знает. — Это правда. Но что станете вы там делать? — Да ничего. Помогу вам сгружать мешки. — Ну и что это вам даст? — Быть может, кто-нибудь пройдет по двору… — А если этот кто-нибудь не пройдет по двору? — Я посмотрю на дом, в котором она живет. Может быть, услышу, как назовут ее имя… — Мне сдается, что мы доставляем друг другу это удовольствие, и не отправляясь так далеко. — Да туда же рукой подать! — На все у вас готов ответ. Вы не сделаете ничего опрометчивого? — Значит, по-вашему, я ее не люблю? Вы сделали бы что-нибудь такое на моем месте? — Может, и сделал бы! Если б меня любили… Ну, во-первых, вы не станете на нее смотреть таким же взглядом, как смотрели из слухового окна? Знаете, я было испугался, что вы мне сено подожжете, так горели у вас глаза. — Я совсем на нее не буду смотреть. — И не скажете ей ни словечка? — Да какой же у меня будет повод заговорить с ней? — А искать ее вы не будете? — Я даже не войду во двор, если вы не разрешите, буду издали смотреть на стены. — Так-то будет поумнее. Я позволяю вам постоять у ворот замка да подышать воздухом, которым она дышит, но и только. На склоне дня оба друга пустились в путь; Софи, нагруженная двумя мешками муки, чинно шагала впереди. У Большого Луи было тяжело на сердце; он говорил мало, отводил душу, нахлестывая резкими ударами бича росшие по обеим сторонам дороги кусты ежевики и дикой белой жимолости, куда более пахучей, нежели садовая. Они миновали хутор под названием Кортиу, как вдруг Лемор, шедший у обочины дороги, увидел растянувшегося во весь рост под кустами человека, который спал, положив под голову туго набитую суму. — Ой-ой-ой! — воскликнул мельник, ничуть, впрочем, не удивившись. — Вы чуть не наступили на моего дядюшку! От звучного голоса Большого Луи спящий встрепенулся. Он живо принял сидячее положение, схватил обеими руками большую палицу, лежавшую у него под боком, и крепко выбранился. — Не серчайте, дядюшка! — сказал ему мельник смеясь. — Тут перед вами добрые люди, идущие, с вашего позволения, в Бланшемон; ведь хотя вы и говорите, что все дороги принадлежат вам, вы же никому не запрещаете ходить по ним, не так ли? — Так! — ответил человек, вставая на ноги; при этом обнаружились его огромный рост и отталкивающая внешность. — Я самый покладистый из землевладельцев, правда, малыш? Но наступать мне на голову — значит несколько злоупотреблять моей добротой. Кто этот нехристь, который идет и не видит порядочного человека, покоящегося в своей постели? Я его не знаю, а ведь я знаю всех — и здесь и окрест! Произнося эти слова, нищий мерил презрительным взглядом Лемора, который, со своей стороны, глядел на него с нескрываемым отвращением. Перед ним стоял костлявый старик в грязных лохмотьях, с жесткой, словно колючки ежа, черной, с сильной проседью бородой. На голове у старика был рваный цилиндр, украшенный белой лентой с бантом и букетиком отчаянно вылинявших искусственных цветов; эта претензия на щегольство производила шутовское впечатление. — Успокойтесь, дядюшка, — сказал мельник, — этот парень — добрый христианин. — А откуда это видно? — живо спросил дядюшка Кадош, снимая с головы цилиндр и протягивая его Анри. — Ну, ну, не понимаете вы, что ли, — сказал мельник Лемору, — дядюшка просит у вас монетку. Лемор бросил подаяние в шляпу дядюшки; тот сразу же схватил монету и с наслаждением стал ощупывать ее своими длинными пальцами. — Это, поди, монетка в два су! — воскликнул он с противной улыбочкой. — А может быть, и целый франк времен революции! Да нет, боже милосердный, никак луидор! Да, луидор времен Людовика Пятнадцатого! Это мой король! Я ведь еще застал его царствование! Твой золотой принесет мне счастье, и тебе тоже, племянничек! — добавил он, кладя свою большую, узловатую лапу на плечо Лемора. — Теперь и ты можешь считать себя моим родичем. И с этой поры, будь уверен, я тебя узнаю везде, хоть как ты ни вырядись! — Ну, нам пора! Прощайте, дядюшка! — сказал Большой Луи, в свою очередь подав старику милостыню. — Так мы друзья? — До гроба! — очень серьезно ответил нищий. — Ты всегда был хорошим родственником, лучшим во всей моей семье. Потому-то тебе, Большой Луи, я и оставлю все свое имущество. Я уже давно тебе сказал, что так будет, и ты увидишь, я сдержу слово. — То-то будет удача! Я, черт возьми, очень на это надеюсь! — весело отозвался мельник. — А букетик тоже отойдет мне? — Шляпу получишь, а букет и ленту я оставлю моей последней любовнице. — Вот жалость-то! А мне так хотелось получить букетик! — Ясное дело! — подхватил нищий, зашагав вслед за молодыми людьми, причем достаточно быстро для своего преклонного возраста. — Букет — самое ценное из того, что я оставлю после себя. Он, видишь ли, освященный. Я его получил в часовне святой Соланж. — Как же такой набожный человек, каким вы себя выставляете, может говорить о любовницах? — спросил Анри, которому это ходячее чучело внушало только омерзение. — Помолчи, племянничек, — ответил дядюшка Кадош, искоса поглядев на него, — глупости ты говоришь. — Извините его, он еще ребенок, — сказал мельник, как всегда подшучивая над общим «дядюшкой», — у него еще и бороды нет, а туда же — рассуждает! Но куда вы направляетесь так поздно, дядюшка? Вы надеетесь еще сегодня добраться к себе и ночевать дома? Ведь жилье ваше далековато отсюда! — Нет, не надеюсь. Я иду себе потихоньку в Бланшемон, хочу попасть на завтрашний праздник. — Да, правда, это должен быть для вас подходящий день! Соберете, поди, не меньше четырех франков. — Навряд ли. Но все-таки будет на что заказать обедню в честь святого угодника — покровителя здешнего прихода. — А вы по-прежнему большой любитель обеден? — Обедня да водочка, племянник, да щепоть табаку в придачу — вот благодать и для тела и для души. — Не спорю, да только водочка не настолько согревает, чтобы в ваши годы этаким манером в канаве разлеживаться. — А я сплю где придется, племянничек. Как устану, остановлюсь, лягу головой на камешек или на суму, когда она не совсем плоская, да и сосну. — Сегодня, как я погляжу, сума у вас изрядно округлилась. — Верно. Позволь-ка мне, племянничек, положить ее на спину лошади. Мне тяжеловато ее тащить на себе. — Нет, хватит Софи груза, что на нее навьючен. Но давайте мне вашу суму, я ее донесу вам до Бланшемона. — Это ты правильно сделаешь. Ты парень молодой и должен заботиться о своем дядюшке. На, возьми. Блуза-то у тебя того, не только что из стирки, — добавил он с брезгливой гримасой. — Так это же мука, — ответил мельник, принимая из рук нищего суму, — мука с хлебом не подерутся. — Ну, гром и молния! Насовали же вы туда сухих корок! — Корок? Я их не беру. Попробовал бы кто-нибудь предложить мне корку, я бы ему швырнул ее обратно в рожу. Однажды я уже задал эдак Бриколенше. — Значит, поэтому она вас так боится? — Именно. С тех пор она твердит, что я, того и жди, подожгу ее закрома, — сказал со зловещим видом старик. Затем он добавил тоном ярмарочного паяца: — Ах, бедненькая святая женщина! Она думает, что я злой человек! А кому я сделал что дурное? — Да никому, насколько мне известно, — откликнулся мельник. — Если б за вами водились худые дела, то были бы вы не здесь, а в другом месте. — Отродясь не принес я никому вреда! — продолжал дядюшка Кадош, воздев правую руку к небесам. — И власти никогда не предъявляли мне никаких обвинений. Сидел ли я в тюрьме хоть один день за всю свою жизнь? Я всегда следовал божеским заветам, и бог покровительствует мне вот уже сорок лет, все то время, что я снискиваю себе пропитание, прося у людей милостыню. — Сколько же лет вам по-настоящему, дядюшка? — Не знаю, мой мальчик; запись о крещении давно потерялась, как и многое другое. Но, пожалуй, мне уже за восемьдесят. Я лет на десять старше папаши Бриколена, хотя он выглядит куда более дряхлым, чем я. — Правда, вы недурно сохранились, а он… Но ведь с ним произошло такое, что не с каждым случается. — Да, — произнес нищий, сокрушенно вздохнув, — на него свалилось большое несчастье. — Это ведь было еще на вашей памяти? Вы сами родом из наших краев? — Да, я родился в Рюффеке, неподалеку от Бофора, где и приключился этот ужасный случай. — И вы были в ту пору там? — А как же, там и был, помилуй меня, пресвятая матерь божья! И вспомнить не могу обо всем этом без дрожи. Ну и страшные же были времена! — Разве вам когда-нибудь бывает страшно? Вы же привыкли в любое время бродить один по дорогам. — О, ныне, сынок, чего бояться такому бедняку, как я, у которого ничего нет, кроме лохмотьев, чтобы прикрыть наготу. Но в те времена у меня было кое-что, а из-за разбойников я все потерял. — Как, «поджариватели» побывали и у вас? — Нет, обошлось. У меня не было ничего особенно соблазнительного для них. Был только домик, который я сдавал внаем окрестным батракам, а когда разбойники навели страх на всю округу, не стало желающих селиться у меня; не смог я и продать домишко, и не на что было подправить его. А он разваливался прямо на глазах. Пришлось залезть в долги, а выплатить их я не смог. И тогда мой клочок земли, мой дом и славный конопляник — все пошло с молотка. Ничего не оставалось, как пойти по миру; и покинул родные места и с той поры брожу по дорогам, как сиротинушка. — Но вы обычно не покидаете наш департамент? — Конечно, нет. Здесь меня знают, здесь моя клиентура и вся моя семья. — Я думал, у вас нет родни. — А все мои племянники? Они что, не родня? — Да, да, я забыл: я сам, например, вот этот мой приятель и все те, кто охотно подает вам грош на табачок. Но скажите-ка, дядюшка, что за люди были эти самые «поджариватели», о которых мы говорили? — Спроси меня что-нибудь полегче, сыночек. Одному богу это известно. — Говорят, что среди них были люди богатые и будто бы даже знатные. — Говорят, что некоторые из них еще живы, живут себе да поживают, как сыр в масле катаются; у них хорошие земли, хорошие дома, они важные лица в округе, а бедняку не подадут и полгрошика. Ах, будь они такими людьми, как я, давно бы их всех перевешали! — Верно, верно, папаша Кадош! — Мне еще повезло, что меня не обвинили; ведь в то время всех подозревали, а судейские преследовали только бедняков. За решетку сажали людей, у которых совесть была как белый снег чиста, а когда настигали истинных преступников, то от властей предержащих поступали распоряжения выпустить их на волю. — Но почему же? — Да потому, что они были богаты, вот и весь сказ! Видел ли ты когда-нибудь, племянничек, чтобы богатому худое дело не сошло с рук? — И это правда, дядюшка. Ну, вот мы и подошли к Бланшемону. Куда вам отнести ваш мешок с хлебом? — Отдай его мне, племянничек. Я пойду заночую в хлеву у кюре: он святой человек, никогда не прогонит меня прочь. Он как ты, Большой Луи; ты ведь тоже никогда не воротишь от меня носа. За это ты будешь вознагражден: будешь моим наследником; я тебе не раз обещал, что будешь. Кроме букета, который я оставлю Одноглазенькой, ты получишь все — мой дом, мою одежду, суму и свинью. — Ну и отлично! — ответил мельник. — Я вижу, дело идет к тому, что я стану сказочно богат и все девушки округи захотят выйти за меня. — Меня восхищает ваша сердечность, Большой Луи, — сказал Лемор, когда нищий исчез за живыми изгородями крестьянских участков, сквозь которые он шел напрямик, не обходя оград и не ища тропинок. — Вы разговариваете с этим нищим так, словно он вам в самом деле родной дядя. — А почему бы мне и не разговаривать с ним так, раз ему нравится изображать из себя общего дядю и обещать наследство всем и каждому? Ну и наследство, нечего сказать! Землянка, в которой он спит вместе со своей свиньей, точь-в-точь как святой Антоний, да отрепья, на которые смотреть тошно. Ежели мне хватит этого, чтобы Бриколен взял меня в зятья, мое дело в шляпе! — Все обличье этого человека внушает отвращение, и, тем не менее, вы взвалили себе на плечи его суму, чтобы освободить его от тяжести. Луи, у вас истинно христианская душа! — Нашли чему удивляться! Да неужели же я откажу в такой ничтожной услуге бедняге, которому приходится в восемьдесят лет выклянчивать кусок хлеба! В конце концов он ведь честный человек. Все участливы к нему именно потому, что знают его за человека порядочного, хотя он немного ханжа и немного греховодник. — Вот и мне он показался и тем и другим. — Эва! Да каких добродетелей вы ожидаете от людей такого рода? Хорошо еще, если они только страдают пороками, а не совершают преступлений. А разве при всем при том в его рассуждениях нет здравого смысла? — Под конец я был даже удивлен. Но почему он воображает себя всеобщим дядюшкой? Это что у него, причуда такая? — Да нет, просто он себе такую роль придумал. Многие из тех, кто занимается его ремеслом, изображают какое-нибудь чудачество, чтобы привлекать к себе внимание, тешить и забавлять людей, которые иначе не подадут милостыни ни из милосердия, ни хотя бы приличия ради. К несчастью, такой уж у нас обычай, что бедняки выполняют роль шутов у дверей богатых… Ну вот мы и у фермы Бланшемон, приятель. Стойте, не входите. Поверьте мне, не надо этого делать. Вы сумеете владеть собой, в вас я уверен, но она, коли будет застигнута так врасплох, может вскрикнуть, сказать что-нибудь лишнее… Дайте мне по крайней мере предупредить ее. — Но в селении еще все бодрствуют, не будет ли замечено появление незнакомого человека, если я останусь здесь ожидать вас? — Вполне возможно. И поэтому соблаговолите отправиться в заказник; в такой час там никого не встретишь. Посидите там где-нибудь тихонько на пенечке. На обратном пути я свистну так, словно зову собаку — не в обиду вам будь сказано, — и вы выйдете ко мне. Лемор покорился, надеясь, что изобретательный мельник найдет способ привести туда Марсель. Он медленно пошел по тропинке под сенью деревьев заказника, то и дело останавливаясь, задерживая дыхание, прислушиваясь и возвращаясь назад, чтобы сделать более вероятной счастливую встречу. Прошло немного времени, как издали послышался шелест травы, словно кто-то шел сюда неслышными шагами, а шуршание листвы окончательно убедило Лемора в том, что он не ошибся. Желая, однако, удостовериться воочию в правильности своего предположения, он углубился побольше в чащу и увидел смутные очертания человеческой фигуры — очевидно, женщины небольшого роста. Мы легко принимаем желаемое за действительное, и Лемор, в полной уверенности, что это пришла Марсель, направленная сюда мельником, перестал прятаться за деревья и пошел навстречу фантому. Но, сделав несколько шагов, он остановился, так как услышал незнакомый голос, приглушенно взывавший: «Поль! Поль! Ты здесь, Поль?» Видя, что он обознался, и полагая, что случайно подменил собою кого-то другого, кому в этом месте назначено было свидание, Анри хотел тихонько удалиться. Но под его ногами хрустнула сухая ветка, и безумная заметила его. Подвластная своей любовной мечте, она устремилась за ним со скоростью пущенной из лука стрелы, крича жалобным голосом: «Поль! Поль! Я здесь! Поль! Это я! Не уходи! Поль! Поль! Всегда-то ты уходишь…»XXIV. Безумная
Сначала неожиданное приключение не слишком взволновало Лемора. Он думал, что в темноте ему будет легко ускользнуть от этой женщины, в которой он не заподозрил умалишенную, плохо ее разглядев. Он был уверен, что в беге она с ним состязаться не сможет. Но вскоре он увидел, что ошибается: лишь ценою напряжения всех сил ему удавалось чуть-чуть опережать ее. Лемору пришлось пробежать через весь заказник, и вскоре он оказался в той отдаленной аллее, по которой Бриколина имела обыкновение ходить взад и вперед долгие часы, отчего трава была здесь местами совершенно вытоптана. Наш беглец, которого до сих пор несколько задерживали кочки и выступающие из земли корни деревьев, припустился по аллее что было мочи, дабы поскорее выбраться на открытое место. Но безумная, когда ее воспламеняла какая-то мысль, становилась легка, словно сухой лист, несомый бурей. Она так быстро настигала Лемора, что он, будучи ошеломлен и изумлен, но помня о том, что его не должны видеть вблизи, так как впоследствии он может быть узнан, свернул с аллеи снова в чащу, надеясь затеряться в темноте. Но безумная знала наперечет все деревья, все кусты и едва ли не все ветки в заказнике. В течение двенадцати лет она жила здесь, и не было такого уголка, куда не привыкло бы самопроизвольно проникать ее тело, хотя помраченный ум делал ее неспособной ни на какое осмысленное наблюдение. Кроме того, находясь в возбужденно-бредовом состоянии, она была нечувствительна к физической боли. Если бы лесные колючки выдрали у нее кусок мяса, ей и то было бы нипочем; и это, так сказать, каталептическое состояние давало ей неоспоримое преимущество над тем, кого она преследовала. Вдобавок она была так тщедушна, ее исхудалое тельце занимало так мало места, что она, словно ящерица, проскальзывала среди густых зарослей, сквозь которые Лемор пробирался с трудом, часто, однако, отступая в бессилии и подаваясь вбок. Видя, что так он оказывается в еще худшем положении, чем раньше, он вернулся в аллею, по-прежнему преследуемый по пятам, и решил с разбегу перепрыгнуть через ров, не оценив, однако, его ширины из-за буйно разросшихся здесь кустов. Он оттолкнулся от земли, но рва не перескочил, а упал на колени среди колючек. Едва успел он подняться, как загадочное существо, преодолевшее это препятствие без прыжка и не обращая внимания ни на камни, ни на крапиву, оказалось рядом с ним и вцепилось в его одежду. Схваченный этим поистине устрашающим созданием, Лемор, чье живое воображение было под стать любому художнику или порту, подумал, что находится во власти дурного сна. Отбиваясь изо всех сил, словно человек, пытающийся стряхнуть с себя кошмарное видение, он наконец вырвался из рук безумной, которая испускала нечленораздельные вопли, и снова пустился бежать — теперь уже через поле. Но безумная опять бросилась за ним, летя по жесткому, обдиравшему ноги жнивью с такою же быстротой, с какою передвигалась в лесной чаще. Добежав до конца поля, Лемор вновь увидел перед собой ров, перескочил через него и очутился на круто спускавшейся вниз дороге, осененной ветвями раскидистых деревьев. Он не сделал, однако, и десяти шагов, как услышал позади себя все тот же приглушенный голос, с отчаянием повторявший те же слова: «Поль! Поль! Почему, почему ты уходишь?» В этом беге было что-то фантастическое, и воображение Лемора разыгрывалось все больше. Ночь была ясная и звездная, и он, в тот момент, когда ему удалось освободиться от цепкой хватки преследовательницы, смог наконец разглядеть внешний вид этого странного призрака — мертвенно-бледное лицо, тощие руки в царапинах и ранах, длинные черные волосы, свисающие космами на окровавленные лохмотья. Лемору не пришло в голову, что эта несчастная женщина — умалишенная. Он считал, что за ним гонится какая-то ревнивица, которая сейчас действие тельно безумствует, упорно принимая его за кого-то другого. Он даже подумал было, не остановиться ли и не заговорить ли с нею, дабы вывести ее из заблуждения, но как тогда объяснить, что привело его в заказник? Не покажется ли обитателям фермы более чем странным, что он, человек здесь посторонний, хоронился во тьме, как вор, и не станет ли он в глазах местных жителей с самого начала подозрительной личностью? Не должен ли он во что бы то ни стало избежать того, чтобы его появление в этих краях было отмечено скандальным или смешным приключением? Он решил бежать дальше, и дикая гонка продолжалась еще с полчаса без передышки. Мозг Лемора все более распалялся, и молодому человеку, потрясенному непостижимым упорством и сверхъестественной быстротой гнавшегося за ним фантома, в иные мгновения казалось, что он сам сходит с ума. Происходившее напоминало сказки о вурдалаках и злых феях, блуждающих в ночи. Наконец, сбежав единым духом вниз по склону ложбины, Лемор вышел на берег Вовры; он весь обливался потом, но готов был уже пуститься через реку вплавь, надеясь таким образом уйти от погони, как вдруг услышал позади себя ужасный, душераздирающий крик, от которого у него кровь заледенела в жилах. Он обернулся, но никого не увидел. Безумная исчезла. Первым побуждением Анри было воспользоваться передышкой, которая могла оказаться очень краткой, и удалиться прочь от этого места, постаравшись сделать так, чтобы следы его окончательно затерялись. Но услышанный им чудовищный крик произвел на него крайне тяжелое впечатление. Исходил ли он от той самой странной женщины? Почти нечеловеческим был этот вопль, и, однако, какое непереносимое страдание, какое отчаяние выразились в нем! «Может быть, она споткнулась и сильно расшиблась при падении! — подумал Лемор. — Или же, потеряв меня из виду, когда я скрылся за ивами, решила, что я утопился? Чем вызван был ее крик: предсмертным ужасом или страхом за другого? А может быть, яростью, оттого что она не смогла преследовать меня в воде, куда я, как можно было предположить, бросился с ходу? Ну, а если она сама упала в какой-нибудь ров или глубокую яму, которую я не заметил на бегу? Если из-за роковой случайности эта неизвестная мне несчастная женщина сейчас умирает? Нет, будь что будет, — я не могу оставить ее погибать без помощи!» Лемор вернулся назад и посмотрел по сторонам, ища незнакомку, но не обнаружил ее. Крутая дорога, по которой он бежал, тянулась прямо от опушки заказника; там росли высокие кусты, но не было никакого рва; не было также ни лужи, ни сточной ямы, в которой она могла бы утонуть. На песчаной поверхности дороги, насколько Лемор мог разглядеть, не было заметно никаких следов падения человеческого тела. Теряясь в догадках, он продолжал свои поиски, как вдруг услышал повторившийся несколько раз свист, словно издалека подзывали собаку. Сначала Лемор даже не обратил внимания на эти звуки — настолько был он взволнован и озадачен приключившимся. Но затем он все же вспомнил, что это — условный сигнал, который должен был подать ему мельник, и, отчаявшись найти свою преследовательницу, ответил также свистом на призыв Большого Луи. — Кой черт унес вас в такую даль? — вполголоса сказал ему мельник, когда они встретились наконец в заказнике. — Ведь я же просил вас не трогаться с места! Вот уже четверть часа я разыскиваю вас по всему лесу, не рискуя окликать вас слишком громко, и у меня уже почти лопнуло терпение… Но что у вас за вид? Чего это вы так тяжело дышите и весь какой-то растерзанный? Черт меня побери, моей блузе не поздоровилось на ваших плечах, как я погляжу! Ну говорите же, вы похожи на кролика, на которого кидался ястреб, или скорей на человека, за которым гнался леший. — Вы попали в точку, дружище. Либо россказни Жанни о ночных духах имеют под собой действительное, хотя и непостижимое уму, основание, либо у меня была галлюцинация, но час тому назад (а может быть, столетие тому назад — у я; и не знаю теперь) мне пришлось отбиваться от сатаны. — Ежели бы вы не употребляли за едой одну только чистую воду, — молвил мельник, — я подумал бы, что вы допились до той черты, когда начинаешь встречать Большого Зверя, белую борзую, либо Георгия — волчьего пастыря[144]. Но вы человек слишком ученый и рассудительный, чтобы верить в эти басни. Значит с вами на самом деле что-то стряслось? Не повстречались ли вы часом с бешеной собакой? — Хуже, — отвечал Лемор, постепенно приходя в себя. — Я повстречался с бешеной бабой, дружище, с какой-то колдуньей, что ли, которая бежала быстрее меня и исчезла в тот момент, когда я собирался кинуться в воду, чтобы избавиться от нее. — Женщина? Вот как! А что ей было нужно? — Она приняла меня за какого-то Поля, который, видно, засел у нее занозой в сердце. — Так я и думал! Это сумасшедшая из нового замка. А я-то хорош: забыл предупредить вас, что вы можете натолкнуться на нее! Совсем из головы выскочило! Мы, здешние, давно уже привыкли к тому, что она рыщет вечерами, словно дикая кошка, так что и внимания не обращаем. Но как вспомнишь, что за несчастье с ней стряслось, просто сердце разрывается! Но как вышло, черт возьми, что она увязалась за вами? Обычно она убегает, когда кто-нибудь приближается к ней. Надо полагать, ее недуг усилился в последнее время, хоть и так-то хватало на десятерых. Вот уж бедняга так бедняга! — А кто она, эта несчастная? — Все вам расскажу, но не сейчас. Пока же давайте ускорим шаг; вы, видать, здорово притомились; плететесь еле-еле. — Я, кажется, сильно ушиб колени, когда упал на бегу. — Однако там, в конце тропинки, кто-то ждет вас с нетерпением, — сказал мельник, еще больше понижая голос. — О! — воскликнул Лемор. — Я чувствую себя таким легким, словно у меня выросли крылья! И он припустился бегом. — Потише! — воззвал мельник, удерживая его. — Бегите только по траве. Не производите шума. Она ждет вас вон под тем большим деревом. Никуда не уходите оттуда. Я буду караулить и в случае чего приму меры. — Значит, для нее небезопасно прийти сюда? — встревоженно спросил Лемор. — Коли бы ятак думал, я не пустил бы ее на свидание с вами! В новом замке все заняты приготовлениями к завтрашнему празднику. Но может статься, например, что сумасшедшей взбредет в голову пожаловать снова и опять начать мордовать вас. Тут-то я и понадоблюсь, чтобы удалить ее. Анри, упоенный своим счастьем, забыл обо всем остальном и поспешил упасть к ногам Марсели, которая ожидала его среди купы дубов, расположенной в наименее посещаемой части леса. Чувства, нахлынувшие на обоих влюбленных в момент встречи, сделали поначалу невозможным какое-либо объяснение между ними. Как всегда целомудренные и сдержанные, оба они испытывали такое опьянение, какого не выразить словами человеческой речи. Они словно были изумлены тем, что им довелось свидеться так скоро, когда уже почти была утрачена надежда на встречу даже в отдаленном будущем, и все же они не торопились рассказать друг другу, что происходило за это время в их душах и что заставило их через столь краткий срок отказаться от своих планов, возникших из намерения мужественно пожертвовать собой ради другого. Они угадали, каждый, какое непереносимое страдание и какое могучее взаимное влечение толкали их друг к другу в то самое время, когда оба они клялись себе бежать от предмета своей любви. — Безумец! Вы хотели покинуть меня навсегда! — сказала Марсель, позволяя Лемору завладеть ее рукой. — Жестокая! Вы хотели запретить мне видеть вас целый год! — ответил Анри, покрывая пламенными поцелуями руку Марсели. И Марсель поняла, что ее решение расстаться с Анри на год было более серьезным, нежели его замысел обречь себя на вечное изгнание. Поэтому, когда они, наглядевшись друг на друга в молчаливом восторге, наконец снова обрели дар речи, Марсель, заговорившая первой, вернулась к своему намерению, подсказанному ей благими побуждениями. — Лемор, — сказала она, — нам блеснул луч солнца среди туч — но и только. Надо покориться суровому долгу. Даже если бы мы не встретили здесь никаких препятствий для наших отношений, было бы нечто кощунственное в том, чтобы соединиться друг с другом так поспешно, и это наше свидание должно быть последним до тех пор, пока не кончится срок моего траура. Скажите мне, что любите меня и что я буду вашей женой, и тогда у меня достанет сил спокойно ожидать вас. — Не говорите мне сейчас о разлуке! — пылко вскричал Лемор. — О, дайте мне насладиться этим мгновением, самым прекрасным в моей жизни! Позвольте мне забыть, что было вчера, что будет завтра… Поглядите, как чудесна эта ночь, как прекрасно небо! Какая тишь, какое благоухание! И здесь вы, Марсель, вы сами, а не ваша тень! Мы вместе! Мы нашли друг друга случайно, помимо нашей воли! То была воля неба, и мы, на наше счастье, не стали противиться ей, мы оба, — вы, Марсель, так же, как и я! Неужели это правда? Нет, это не сон, вы ведь здесь, подле меня! Со мной! Мы одни! Мы счастливы! Наша любовь так сильна! Мы не смогли, не можем и никогда не сможем покинуть друг друга! — И, однако, дорогой друг… — Я знаю, знаю, что вы хотите сказать. Завтра или на днях вы напишете мне, изъявите свою волю. Я покорюсь, вы это знаете заранее! Но зачем о том, что мне предстоит, говорить сегодня, сейчас? Зачем омрачать это мгновение, равного которому не было во всей моей жизни? Дайте мне верить, что оно не кончится никогда. Марсель, я вижу вас! О, как хорошо я вас вижу, несмотря на темноту. Как вы похорошели еще за прошедшие три дня… А ведь в ту незабываемую ночь вы были уже так невозможно прекрасны! О, скажите мне, что никогда не отнимете у меня вашу руку! Мне так сладостно держать ее в своей руке! — Ах, вы правы, Анри! Будем счастливы тем, что вновь обрели друг друга, и не будем думать сейчас, что все же придется расстаться… завтра… или немного позже… — Да, да, только не завтра! Позже, позже! — вскричал Лемор. — Сделайте милость, не говорите так громко, — послышался вблизи голос мельника. — Я и не хочу, да слышу каждое ваше слово, господин Анри! Марсель и Лемор, упоенные возносившей их на седьмое небо любовью, пробыли вместе еще около часа, предаваясь радужным мечтам о будущем и говоря о своем счастье, словно оно должно было не прерваться, а начаться с завтрашнего дня. Легкий ветерок навевал на них ароматы ночи, а над их головами проходили заведенной чередой яркие звезды, но ни он, ни она не замечали неумолимого движения времени, ибо оно останавливается в сердцах счастливых влюбленных. Мельник, ходивший окрест, уже несколько раз подавал издали знаки, что нора расходиться; когда же склонение Полярной звезды показало на небесном циферблате десять часов, он подошел и прервал беседу забывшихся молодых людей. — Друзья мои, — сказал он, — я не могу ни оставить вас здесь одних, ни ждать хотя бы еще минуту. Со двора фермы уже не слышно скотников, и почти все окна нового Замка погасли. Светится еще только окно мадемуазель Розы; она ожидает госпожу Марсель и не ложится спать. Господин Бриколен, как всегда накануне праздника, будет сейчас делать обход с собаками. Уйдем отсюда скорее. Лемор запротестовал: он-де только что пришел, а уже уходить! — Может быть, и так, — согласился мельник, — но мне непременно нужно еще до ночи поспеть в Лашатр. — Как! По моим делам? — удивилась Марсель. — Вы угадали, сударыня. Я хочу повидать вашего нотариуса, пока он не залег на боковую. Не завтра же днем мне ехать к нему: это значило бы вроде нарочно постараться уведомить Бриколена, что я замышляю против него. — Но я не хочу, чтобы вы рисковали из-за меня, Большой Луи! — сказала Марсель. — Хватит разговаривать об этом, — отвечал мельник. — Я буду поступать так, как мне нравится, — мне, а не кому другому… Тихо! Я слышу собачий лай. Выходите на луг, госпожа Марсель, а вас, любезный парижанин, прошу следовать за мной: мы пойдем верхней дорогой. Ну, тронулись! Влюбленные расстались без слов: оба боялись вспоминать о том, что им следовало считать это свидание последним перед долгой разлукой. Марсель не находила в себе сил назначить день отъезда Анри, а тот, опасаясь, как бы она его не назначила, молча удалился, осыпав ее руку поцелуями. — Итак, что же вы решили? — спросил мельник Лемора, когда они добрались до опушки парка. — Да как вам сказать, дружище? Мы всё говорили о своем счастье… — В будущем. А что же в настоящем? — Есть только настоящее, будущего нет. И то и другое — одно, когда любишь. — Экий вздор вы несете! Все же я надеюсь, что вы будете вести себя смирно и не станете бродить ночами но лесам, терзаясь смертной мукой. Ну вот, юноша, ваша дорога. Сумеете самостоятельно добраться до Анжибо? — Без всякого сомнения. Но не хотите ли вы, чтобы я вместе с вами поехал в тот город, который вы назвали? — Нет, это слишком далеко. Один из нас должен был бы идти пешком и задерживал бы другого, если только, по местному обычаю, обоим нам не взгромоздиться на спину Софи. Но бедная лошадушка уже порядком состарилась, да еще и не ужинала сегодня. Я сейчас пойду отвяжу ее от дерева, к которому привязал ее, для виду проехав немного по дороге на Анжибо. Мне, знаете, было здорово не по себе, что я оставил мою Софи на попечение господа бога. Я ее хорошенько укрыл среди ветвей, а все-таки какой-нибудь бродяга — их тут на завтрашнем гульбище будет пруд пруди — мог подглядеть за мной и увести ее. — Пойдем за ней вместе! — Нет, нет, не ходите за мной! Вы норовите снова повернуть в сторону замка — я вас насквозь вижу! Отправляйтесь-ка в Анжибо и скажите моей матушке, чтобы не ждала меня и ложилась спать: я, может статься, запозднюсь. Господин Тайян, нотариус, наверно, захочет, чтобы я у него поужинал. Он весельчак, любитель пожить в свое удовольствие и радушный хозяин. Поэтому я смогу без спеху обсудить с ним бланшемонские дела, а Софи получит свою торбу овса, и не спрашивая юридического совета. Лемор не настаивал на своем предложении. Хотя он питал к мельнику искреннюю симпатию и признательность, но ему втайне хотелось побыть одному после всех треволнений этого вечера. Он испытывал потребность подумать о Марсели без помех и вновь пережить в воспоминании то блаженство, что он вкушал у ее ног. Он машинально побрел в Анжибо, подобно лунатику, возвращающемуся к своей постели. Нам неизвестно, шел ли он прямо по дороге, пересек ли речку по мосту, не дал ли изрядный крюк и не засиживался ли подолгу у источников. Ночь была полна сладостной истомы, и Лемору казалось, что и петухи, перекликающиеся от хижины к хижине своими победно звучащими, словно боевые фанфары, голосами, и кузнечики, таинственно стрекочущие в траве, — все, все вокруг повторяет, громко славя или только произнося благоговейным шепотом, волшебное имя — Марсель. Но придя наконец на мельницу, он почувствовал себя совершенно обессиленным и, сообщив доброй мельничихе, что ей не надо дожидаться сына, свалился замертво на складную кроватку, которую Луи поставил для него в своей комнате. Большая Мари тоже отправилась на отдых, перед тем посоветовав Жанни спать покамест одним глазом, дабы его можно было добудиться, когда вернется хозяин и нужно будет препроводить Софи в стойло. Но любящие матери не спят, а только чуть дремлют, и когда ночью разразилась гроза и над долиной прокатился гром, старуха мгновенно очнулась от сна: ей показалось, что это сын стучится в каморку Жанни на мельнице. На рассвете она тихонько поднялась и прежде всего пошла сказать работнику, чтобы он не шумел и дал выспаться Большому Луи, который, должно быть, приехал очень поздно и потому встанет также позже обычного. Но Жанни ответил ей, что хозяин еще не возвращался. Старуху это удивило и даже испугало. — Быть не может! — воскликнула она. — Когда он не ездит дальше Бланшемона, он всегда ночует дома! — Очень просто, хозяюшка: это же канун праздника, в такую ночь никто не спит. Кабачки не закрываются, приходят волынщики и играют развеселую музыку. Душа радуется… И все ждут не дождутся, когда начнется самый праздник; никому и в голову не приходит завалиться на боковую, потому как людям боязно заспаться и упустить какое-нибудь развлечение. Хозяин, верно, гулял там всю ночь напролет, не до сна ему было. Мельничиха меж тем открыла дверь конюшни, чтобы проверить, не стоит ли Софи у своей кормушки. — У твоего хозяина нет привычки проводить ночи в непотребных местах, — ответила она Жанни, покачав головой. — Я подумала было, — добавила она, — что он вернулся и не стал тебя будить, — он ведь жалеет людей; скорее сам сделает все, что нужно, чем нарушит покой такого младенчика, как ты, который спит так, что хоть из пушек пали. Но сам-то он провел ночь не спавши! Он уже два дня тому назад здорово утомился — ездил далече; позавчера лег изрядно за полночь, а в эту ночь и совсем не ложился. Мельничиха глубоко вздохнула и пошла доставать из шкафа свое воскресное платье. «Вот присуха-то! — думала она. — От этой любви ему одно мучение, нет покоя ни днем ни ночью. И чем это кончится — одному богу ведомо!»День четвертый
XXV. Софи
Мельничиха была погружена в невеселые размышления и по привычке, свойственной многим старым людям, говорила сама с собой в то время, как переходила от шкафа к гладильной доске и обратно, приводя в порядок свой старинный корсаж с длинной баской и ситцевый передник в клетку, который она заботливо берегла с молодых лет, весьма его ценя, потому что он стоил в ту пору вчетверо дороже, чем намного лучшая ткань стоит в наши дни. — Не огорчайтесь, матушка! — сказал Большой Луи, который, стоя у порога, слушал ее, поначалу ею не замеченный. — Что уж тут! Чему быть, того не миновать! Но сын ваш, будьте уверены, все сделает, чтобы вам счастливо жилось! — Ах, сынок, я и не видела, как ты вошел! — воскликнула мельничиха, смутясь от того, что сын застал ее, женщину пожилую, с неприбранными, спустившимися на плечи волосами, ибо крестьянки Черной Долины во времена ее молодости почитали весьма неприличным показываться на люди простоволосыми. Но это непроизвольное чувство неловкости, пережиток старинных преувеличенных представлений о благопристойности, тотчас оставило Большую Мари, когда она рассмотрела, как выглядит ее сын, — а он был бледен и одежда его была в беспорядке. — Силы небесные! — воскликнула она, всплеснув руками. — Что у тебя за вид, сынок? Ты словно всю ночь мокнул под дождем! Так и есть, ты все еще не просох! Быстро пойди переоденься! Что же это, не нашлось дома, где спрятаться от дождя? А как ты осунулся, как побледнел! Ах, сынок, ты как будто нарочно заморить себя хочешь! — Полно, матушка, не растравляйте себе душу зазря! — отвечал мельник, пытаясь принять свой обычный веселый вид. — Я провел ночь под гостеприимным кровом, у людей, к которым поехал по делу. Они меня накормили хорошим ужином. Дождиком меня помочило только недавно, когда я домой возвращался, потому как я шел пешком. — Пешком? А куда ты девал Софи? — Я ее одолжил одному человеку… Там… — Какому человеку? Где это — там? — Ну, словом, одолжил… Потом вам все расскажу. Ежели вам охота поехать на празднество, я возьму вороную кобылку, и вы сядете позади. — Напрасно ты отдал Софи, сынок! Другой такой лошади нету! Ее бы надо поберечь! Лучше уж было бы отдать обеих других лошадей — я так считаю. — Я тоже. Но что поделаешь? Так уж вышло. Ну, я пойду переоденусь, матушка, а когда вы соберетесь ехать — кликните меня. — Нет, так не пойдет, сыпок. Я вижу, что ты глаз не сомкнул этой ночью, и хочу, чтобы ты прежде соснул. У нас еще достаточно времени до заутрени. Ах, Большой Луи, у тебя совсем усталый вид! Душу из себя выгоняешь, а что толку? — Не тревожьтесь, матушка, я чувствую себя здоровым, а такое скоро не повторится. Надо же иногда покуролесить! И мельник, еще больше приунывший оттого, что он огорчил мать, чье беспокойство и недовольство никогда не выражалось иначе, как в крайне сдержанной и деликатной форме, пошел к себе и в досаде бросился на кровать так резко, что разбудил Лемора. — Вы уже встаете? — спросил Лемор, протирая глаза. — Нет, я, с вашего разрешения, ложусь! — ответил мельник, подтыкая тюфяк яростными ударами кулака. — Вы чем-то очень расстроены, дружище? — спросил Лемор, которого окончательно разбудили эти явные признаки того, что в Большом Луи клокочет гнев. — Расстроен? Да, сударь, признаюсь, расстроен, — и, может быть, больше, чем стоило бы. Но хоть я и понимаю это, мне все равно не легче! Ничего не могу с собой поделать! И из покрасневших от усталости глаз мельника покатились крупные слезы. — Друг мой! — вскричал Лемор, соскочив с постели и быстро одеваясь. — Я вижу, с вами ночью стряслась какая-то беда! О господи! А я-то спокойно спал! Что могу я сделать для вас? Куда надо бежать? — Ах, не бегите никуда! Бесполезно! — ответил Большой Луи, пожав плечами, словно устыдился собственной слабости. — Я бегал всю ночь как шальной, и все попусту! Прямо дух из меня вон. И добро бы еще было из-за чего! А то ведь ерунда какая! Но смейтесь не смейтесь, а к животным привязываешься, все равно как к людям, и о старой лошади горюешь, как о давнишнем друге. Вам, горожанам, этого не понять, но мы, деревенские, живем бок о бок с нашей скотинкой и сами мало чем отличаемся от нее… — Словом, я понимаю: вы потеряли Софи. — Да, потерял… То есть ее украли. — Не вчера ли в заказнике? — Именно. Вы помните, у меня было дурное предчувствие! Когда мы с вами расстались, я вернулся на то место, где спрятал ее. Она сама, бедняжка, оттуда, конечно, никогда бы не ушла; ведь она терпелива, как овечка, и за всю свою жизнь ни разу не порвала ни уздечки, ни недоуздка. Так вот, сударь, и лошади и уздечки как не бывало! Я искал, искал, с ног сбился. Тю-тю, поминай как рвали! Да притом еще не очень-то я мог расспрашивать, особенно на ферме. Люди бы стали подозревать неладное. Меня бы самого спросили, как это так вышло, что я уехал верхом и но дороге потерял лошадь? Решили бы, что я был пьян, и госпожа Бриколен не упустила бы случая доложить мадемуазель Розе, что я влип в какую-то дрянную историю. А это, разумеется, не к лицу мужчине, для которого только свету, что в окошке, то есть в ней, в Розе. Сперва я подумал, что кто-то захотел надо мной подшутить: обошел все дома в селе — почти нигде еще не спали; забрел к одному, к другому, к третьему, вроде бы невзначай, сунул нос во все конюшни, умудрился даже незаметно заглянуть в конюшню нового замка… Софи нет как нет! В это время в Бланшемоне бывает полно всякого сброду, и, понятное дело, среди пришлого люда мог найтись какой-нибудь ловкий пройдоха, который пришел пешим ходом, а уехал верхом — весьма довольный: праздник начался для него раньше, чем для других, а дальше ему уже было неинтересно. Ну ладно, нечего больше ломать себе голову! Хорошо еще, что во всей этой заварухе я не вовсе одурел: успел-таки на своих двоих слетать в Лашатр и повидать нотариуса. Правда, было уже поздновато, господин Тайян недавно отужинал и несколько осовел после плотной еды. Но он пообещал мне пораньше приехать на праздник. Уйдя от него, я еще поискал свою пропажу, шарил по кустам, словно ночной охотник, шатался в грозу, под ливнем до самого рассвета, все надеялся, что обнаружу, где прячется мой ворюга… Ничегошеньки! Я не хочу трезвонить об этом происшествии, а то выйдет шум, и, коли начнется дознание, хороши мы с вами будем с такой историей: спрятали лошадь в заказнике, оставили ее одну на целый час, а почему да зачем — объяснить никак невозможно. Я поставил ее подальше от места вашего свидания, для того чтобы она, коли бы вдруг задвигалась или заржала, не привлекла внимания к вам. Бедная Софи! Надо было мне положиться на ее понятливость. Она бы и не пошевелилась. — Так, значит, эта неприятность приключилась из-за меня! Я еще более расстроен, чем вы, Большой Луи, и, надеюсь, вы позволите мне хоть отчасти, в меру моих возможностей, возместить нанесенный вам ущерб. — Уши вянут вас слушать, сударь! Будто бы тут дело в грошах, которые можно выручить за старую лошадь на ярмарке! Тьфу на них! Ужели вы думаете, что я стал бы так убиваться из-за какой-то сотни франков! Да ни в жисть! Я говорю о ней самой, а не о деньгах, что она стоит по рыночной цене, потому как в моих глазах ей цены нет. Она была такая выносливая лошадка, такая умница, так хорошо знала меня! Вот право же, она сейчас думает обо мне и даже смотреть не хочет на того, под чью опеку попала! Хоть бы только он на самом деле пекся о ней! Будь я в том уверен, я б уж как-нибудь утешился. Но он же будет лупить ее кнутовищем и кормить шелухой от каштанов! Ведь это, наверное, какой-то проходимец из Марша — чего от такого ждать? Уведет он мою Софи в ихние горы, и пусть себе бедная лошадушка пасется на выгоне, утыканном камнями, — ему и горя мало! Эх, не видать ей больше того славного лужка у реки, где ей так хорошо жилось и где она еще вовсю резвилась вместе с молодыми кобылками: трава-то сочная, зеленая — как не взыграть?.. Да, вот так-то… А уж как матушка будет оплакивать ее! И притом я никогда не смогу объяснить ей, отчего произошло это несчастье. У меня еще не хватило смелости сказать ей, что Софи украли. Не говорите и вы, пока я не сочиню какую-нибудь такую историю, чтобы известие было для нее менее горьким. В простодушных сетованиях мельника было одновременно что-то смешное и трогательное. Лемор, глубоко опечаленный тем, что явился причиной его горя, впал в величайшее уныние, и теперь уже добряк Луи принялся утешать своего сотоварища. — Ну, полно, полно! — сказал он. — Можно ли так раскисать из-за четвероногой твари? Я не считаю вас ни в чем виноватым, у меня и в мыслях не было укорять вас. Пусть эта история не портит нам воспоминания о вашем счастье, дружище. Цена не так уж велика за этот прекрасный час, который вам выпал в этот вечер. Довелись мне когда-нибудь иметь такое свидание с Розой, я бы согласился всю жизнь ездить верхом на помеле. Не рассказывайте только ничего госпоже Марсели; с нее станется купить мне лошадь за тысячу франков, а это меня, поверьте, только огорчило бы. Я не хочу больше привязываться к животным! Достаточно в жизни хлопот с людьми. Одним словом, думайте о своей любви да пойдите приоденьтесь, — но на деревенский лад! — и отправляйтесь на праздник, потому как нужно, чтобы наш народ попривык к вашей физиономии. Этак будет лучше, чем прятаться, а то как раз поползут слухи. Вы увидите госпожу Марсель; не вздумайте завести с ней разговор! Да, впрочем, у вас и случая не будет. На танцы она не пойдет, она ведь в трауре. Но Роза-то не в трауре, черт возьми! И я рассчитываю плясать с ней до упаду, до самой ночи, поскольку теперь ее папашенька дал на то свое согласие. Посему я смекаю, что мне надо поспать часок-другой, чтобы вид у меня был не как у покойника. Не печальтесь больше. Через пять минут услышите мой заливистый храп. Мельник сдержал слово, и когда около десяти часов утра Жанни подвел ему вороную кобылу, значительно более красивую, хотя и куда менее дорогую его сердцу, чем Софи, когда он в своей воскресной куртке тонкого сукна, чисто выбритый, посвежевший и снова весело глядящий вокруг, уверенно сжал своими длинными ногами бока коренастой и сильной лошади, мельничиха, усаживаясь позади него с помощью стула и при поддержке Лемора, ощутила гордость оттого, что ее сын-мукомол такой писаный красавец. На ферме спали в эту ночь не больше, чем на мельнице, и мы вынуждены вернуться немного назад, дабы осведомить читателя о событиях, происходивших там за эти сутки. Тогда, в заказнике, Лемор, охваченный тягостным и тревожным чувством, которое оставило в нем странное столкновение с безумной, и одновременно опьяненный радостью от встречи с Марселью, не заметил, что мельник тоже был взволнован, почти как и он сам. У мельника было для того достаточно оснований. Когда по приезде в Бланшемон он отправил Лемора в заказник и пошел на ферму, то, войдя во двор, увидел, что там царит чрезвычайное оживление. Вдоль ряда хлевов и навозных куч стояли две грузные колымаги и три на совесть сработанных кабриолета, уперев в землю выпростанные оглобли. Все бедные соседки, неизменно готовые услужить за небольшую толику денег, были рекрутированы, дабы споспешествовать обитателям фермы в приготовлении ужина для гостей, которые оказались более многочисленны и более голодны, нежели рассчитывали хозяева нового замка. Господина Бриколена сильнее подмывало тщеславное желание выставить напоказ свое богатство, чем тревожили связанные с этим расходы, и он был в наилучшем расположении духа. Его дочери, сыновья, двоюродные братья и сестры, племянники и зятья подходили к нему один за другим и спрашивали по секрету, когда же наконец он будет справлять новоселье в старом замке, восстановленном и заново окрашенном, с его вензелем на воротах вместо герба. «Ведь ты же станешь хозяином и повелителем Бланшемона, — повторялся один и тот же припев, — и будешь распоряжаться доставшимся тебе наследством всех этих графов и баронов получше, чем они сами, к вящей славе новой аристократии — дворянства кошелька». Бриколен так и сиял от самодовольства, и, отвечая с хитрой улыбкой своим дорогим родственникам: «Еще не сейчас, еще не сейчас! А может быть, и никогда!», он упивался возможностью разыгрывать из себя важного барина. Он уже не думал о расходах, отдавал распоряжения слугам, матери, дочери и жене громовым голосом и раздувался от спеси так, что его брюхо чуть не касалось подбородка. В доме стоял дым коромыслом; матушка Бриколен ощипывала свежезарезанных цыплят, громоздившихся дюжинами, а госпожа Бриколен командовала в этой кухонной суматохе, причем вначале рвала и метала, но затем, увидев, что наготовлены горы снеди, что комнаты чисто прибраны и что гости млеют от восхищения, тоже повеселела, — на свой лад, конечно. Толчея и беспорядок на ферме позволили Большому Луи без помех поговорить с Марселью, а сама она, сославшись на головную боль, смогла уклониться от присутствия на пиру и отправиться в заказник на свидание с Лемором. И Роза, пока накрывали на стол, тоже без труда нашла несколько вполне естественных поводов, чтобы пройтись по двору и, как было издавна заведено, бросить на ходу Большому Луи дружеское словечко. Но мамаша Розы, ко терявшая все же дочь из виду, со своей стороны нашла способ без проволочки удалить мельника с фермы. Вынужденная подчиниться мужу, который строго-настрого запретил ей смотреть волком на Большого Лун, она надумала утолить свою злобу и притом устыдить Розу за ее дружбу с мельником, выставив его на посмешище перед другими своими дочерьми и прочими родственницами, которые, все как на подбор, и молодые и старые, были на редкость неприятными, нагло-заносчивыми особами. Она поспешила каждой в отдельности доверительно поведать, что этот деревенский ферт вообразил, будто нравится Розе; что Роза не виновата в том ни сном, ни духом и не обращает на него ни малейшего внимания; что господин Бриколен, не желая верить худому о мельнике, обращается с ним чересчур ласково, но что у нее есть любопытные сведения из надежного источника, не больно-то красящие этого молодца, к которому так и льнут все девицы дурного поведения в окрестных деревнях: оказывается, он — каков гусь! — не раз похвалялся, будто может понравиться любой богачке, за которой вздумает приударить, — ни одна не устоит! К этому сообщению госпожа Бриколен присовокупила имена присутствующих особ и, давясь ехидным, злорадным смехом, прикрывала рот передником и хлопала себя кулаком по ляжке. От женской части семейства доверительное сообщение, переходя из уст в уста и нашептываемое на ухо, быстро дошло до всех бриколеновских родственников мужского пола, так что вскоре на Большого Луи, которому не терпелось выбраться отсюда и пойти за Лемором, посыпались язвительные замечания, настолько нелепые, что он не мог их взять в толк. Уходя, он слышал за своей спиной плохо приглушенные смешки и бесстыдное перешептывание. Не понимая, чем он вызвал такую веселость, Большой Луи покинул ферму раздраженный, встревоженный и полный презрения к грубому зубоскальству всех этих деревенских буржуа, которых вдруг столько навалило в Бланшемон. По совету госпожи Бриколен, гости постарались скрыть Заговор от ее супруга и условились возобновить травлю Большого Луи завтра в присутствии Розы. «Необходимо, — утверждала ее мать, — унизить перед нею этого мужлана, чтобы она не поддавалась на удочку его хваленой «душевности» и вообще научилась держаться подальше от простонародья». После ужина пригласили бродячих музыкантов и, предвосхищая завтрашнее празднество, уже сегодня затеяли пляс во дворе фермы. Плясали долго, затем наступила передышка, и как раз в это время Большой Луи, беспокоясь и торопясь в Лашатр, решил, что вечеринка в новом замке пришла к концу, и заставил влюбленных расстаться — намного раньше, чем им хотелось бы. Когда Марсель вернулась на ферму, веселье уже снова было в полном разгаре, и, ощущая ту же потребность в одиночестве и сосредоточении на своих мыслях, которая увлекла Лемора в блуждания по тропам Черной Долины, она пошла обратно в заказник и бродила там до полуночи. Звуки волынки и рылейки, соединенные вместе, на близком расстоянии несколько режут слух; но, слышимые издали, голоса этих сельских инструментов, наигрывающих порой прелестные напевы, наивная простота которых особенно очевидна в силу крайне неразвитой гармонии, обладают своеобразным очарованием. Они покоряют бесхитростные души и заставляют сильнее биться сердца тех, кто в счастливые дни детства засыпал под их убаюкивающее звучание. Громкое, прерывистое гудение волынки с хрипотцой и гнусавостью, скрежет рылейки с ее нервным staccato [145] как бы созданы друг для друга и оказывают взаимное облагораживающее воздействие. Марсель долго и с удовольствием слушала эту музыку; открыв, что по мере удаления простые мелодии звучат все более чарующе, она в конце концов оказалась на другом краю заказника, погруженная в мечтания о пастушеской жизни, которую мы склонны представлять себе как заполненную одной лишь любовью и свободную от всех тягот. Но вдруг она остановилась, едва не споткнувшись о распростертую на земле безумную, лежавшую недвижимо, словно мертвое тело. После нескольких попыток растормошить ее Марсель, преодолев отвращение, которое внушала ей крайняя неопрятность этого убогого существа, обхватила Бриколину руками, подтащила ее к дереву и прислонила к стволу. Не чувствуя себя в силах волочить ее далее, она уже вознамерилась бежать на ферму За помощью, как вдруг Бриколина зашевелилась и бессильным движением изможденных рук попыталась поднять свисавшие ей на лицо длинные космы, в которых застряли травяные стебли и гравий. Марсель помогла ей убрать с лица эту тяжелую завесу, стеснявшую ее дыхание, и, впервые рискнув к ней обратиться, спросила, не больно ли ей. — Конечно, больно! — ответила безумная таким пугающе безразличным тоном, каким могла бы сказать: «Я еще жива»; затем добавила отрывисто и резко: — Ты его видела? Он вернулся. Он не хочет говорить со мной. Сказал он тебе почему? — Он сказал мне, что снова придет, — ответила Марсель, желая ее хоть немного успокоить. — Нет, он не придет! — вскричала безумная, вскакивая в неистовом порыве. — Он не придет! Он боится меня! Все меня боятся: ведь я очень, очень богата, так богата, что мне нельзя жить. Но я не хочу быть богатой; завтра я обеднею. Пора покончить с этим. Завтра все обеднеют. Ты тоже обеднеешь, Роза, и тебя перестанут бояться. Я накажу злодеев, которые хотят убить меня, посадить под замок, отравить… — Но есть люди, питающие к вам жалость и желающие вам добра, — сказала Марсель. — Нет, таких людей нет на свете! — в страшном возбуждении вскричала безумная. — Все люди мне враги! Они меня мучили, они надели мне раскаленный обруч на голову. Они прибивали меня гвоздями к деревьям, тысячи раз сбрасывали меня с верхушки башни на каменные плиты. Они протыкали мне сердце большими стальными булавками, обдирали с меня кожу, для того чтобы я, одеваясь, испытывала отчаянные боли. Они хотели бы выдрать у меня все волосы, потому что знают, что только волосы и защищают меня немного от их ударов… Но я отомщу! Я составила жалобу! Пятьдесят четыре года писала я ее на всех языках, чтобы она дошла до всех государей мира. Я хочу, чтобы мне вернули Поля; они прячут его в погребе и мучают, как меня. Каждую ночь, когда они принимаются пытать его, до меня доносятся крики, и я узнаю его голос… Тише, тише, слышите? Он опять кричит, — добавила она жалобным тоном, прислушиваясь к веселым звукам волынки. — Его терзают, как только могут! Они хотят уничтожить его, но они будут наказаны, наказаны жестоко! Завтра я заставлю их помучиться! И они будут мучиться до тех пор, пока я сама не сжалюсь над ними… Все это несчастная произнесла единым духом, захлебываясь, как говорят в бреду, а затем ринулась сквозь кусты по направлению к ферме. Она так неслась и совершала такие немыслимые прыжки, что Марсель была не в состоянии угнаться за ней.XXVI. Беспокойная ночь
Никогда еще на ферме не плясали так упорно и неутомимо. Слуги тоже приняли участие в общем развлечении, и ноги их вздымали густые клубы пыли, что, впрочем, беррийскому крестьянину никогда не мешает самозабвенно плясать, — равно как и камни, палящее солнце, дождь или усталость после жатвы или косьбы. Ни один народ на свете не пляшет так истово и страстно. Если бегло взглянуть на танец, называемый бурре, в котором группы по четыре пары размеренно и едва ли не лениво движутся взад-вперед, словно часовой маятник, то не поймешь, что за удовольствие находят люди в этом однообразном упражнении, и совсем уж не заподозришь, насколько трудно войти в ритм танца, казалось бы, несложный, и соблюдать полное соответствие ему в каждом на и в каждом повороте тела, притом еще мастерски скрывая напряжение плавностью и видимой непринужденностью движений. Но, понаблюдав некоторое время за танцующими, начинаешь удивляться их необычайной выносливости, оцениваешь мягкую грациозность и простоту танца, которая позволяет им работать ногами без устали. Когда своими глазами увидишь, как люди отплясывают десять — двенадцать часов подряд и не сваливаются при этом замертво, то либо решишь, что они укушены тарантулом[146], либо придешь к заключению, что они одержимы фанатической любовью к танцам. У молодежи внутреннее возбуждение время от времени прерывается громким возгласом, но лица при этом остаются невозмутимо серьезными. Иногда какой-нибудь парень с силой топнет ногой о землю или подпрыгнет, как молодой бычок, но уже в следующее мгновение, ловко и без всякой натуги приобретя прежнее положение, снова приноравливается к общему маятникообразному флегматичному движению. В этом танце выражается весь характер беррийского крестьянина. Что касается женщин, то они должны все время едва скользить но земле, прикасаясь к ней лишь пальцами ног; это требует невообразимой легкости движений; их грациозность в танце сочетается со строгой целомудренностью. Роза танцевала бурре не хуже любой крестьянской девушки, — а этим уже сказано немало, — и отец с гордостью смотрел на нее. Веселье заразило всех; музыканты, которым то и дело щедро подносили горячительного, не жалели своих рук и легких. В полумгле ясной ночи танцующие женщины и девушки казались еще более невесомыми, а Роза — особенно: эта очаровательная девушка была похожа на белую чайку, парящую над тихими водами; она словно отдалась на волю несущего ее вечернего ветерка; томность, разлитая в ее движениях, придавала ей необыкновенную прелесть. Вместе с тем Роза, которая в глубине души была настоящей крестьянкой Черной Долины и отличалась природной непосредственностью, перебирала ногами не без удовольствия, хотя пошла плясать лишь с целью поупражняться перед завтрашним днем, дабы оказаться в танцах под стать Большому Луи, ибо ясно было, что он пригласит ее не раз и не два. Но внезапно волынщик покачнулся на бочке, служившей ему подмостками, и в мелодию, которую он исполнял на своем инструменте, ворвалась странная, жалобная нота, отчего все танцоры в изумлении остановились и повернули головы к музыканту. В тот же миг к ногам Розы покатилась рылейка, выбитая из рук второго музыканта, и безумная, прыжком дикой кошки перенесясь от сельского оркестра в гущу танцующих, возопила: «Горе, горе убийцам, горе палачам!» Госпожа Бриколен подбежала к дочери, чтобы сдержать ее, но та бросилась на мать и, вцепившись ей в шею когтями, неминуемо задушила бы ее, если бы матушка Бриколен не повисла на своей несчастной внучке и не оттащила ее прочь. Бабушка была единственным человеком, которому безумная никогда не сопротивлялась: либо она, не узнавая ее, сохранила к ней безотчетную привязанность, либо узнавала ее одну среди всех и не утратила какого-то воспоминания о том, что старушка пыталась заступиться за ее любовь. Она покорно позволила бабке увести себя в дом, испуская, однако, душераздирающие вопли, которые повергли всех присутствующих в оцепенение и ужас. Когда Марсель, старавшаяся поспеть за Бриколиной, вбежала во двор, она увидела, что празднество расстроено, все стоят перепуганные, а Роза почти без чувств. Госпожа Бриколен, конечно, страдала в глубине души, хотя бы оттого, что ее незаживающая рана вдруг обнажилась перед всеми. Но ее настойчивое стремление подавить буйство сумасшедшей и заставить ее замолчать больше походило на жестокость и непреклонность жандарма, заключающего в тюрьму бунтовщика, нежели на заботу матери, которой придает силы отчаяние. Матушка Бриколен занималась укрощением безумной с таким же рвением, но выказывала при этом больше сострадания. Больно было смотреть, как бедная старуха, наделенная от природы грубым голосом и мужскими ухватками, обнимала безумную, гладила ее и говорила ей ласковые слова, успокаивая ее, как ребенка, которого утешают попеременно сладостями и лестью. — Ну полно тебе, деточка, — приговаривала она. — Ты же у нас такая разумница, ты же не захочешь огорчать свою бабушку! Ложись спокойненько в постельку, а не то я рассержусь и не буду тебя любить. Безумная ничего не понимала и даже не слышала того, что ей говорилось. Судорожно ухватившись за ножку кровати, она испускала чудовищные вопли; больному воображению Бриколины, по-видимому, мерещилось, будто ее подвергают тем самым карам и пыткам, фантастическую картину которых она нарисовала Марсели. Сама же Марсель в это время, убедившись, что Эдуард спокойно спит под присмотром Фаншоны, должна была заняться Розой, которая совершенно потерялась от страха и горя. Из сломленной души Бриколины сегодня впервые излилась наружу накопившаяся в ней за двенадцать лет ненависть. Прежде один раз в неделю — не чаще — она плакала и кричала, когда бабушка заставляла ее переменить одежду. Но то были крики ребенка, а сейчас — вопли фурии. Прежде она ни к кому не обращалась ни с единым словом, а сейчас, впервые за двенадцать лет, стала сыпать угрозами. Прежде она ни на кого не поднимала руку, а сейчас чуть не лишила жизни родную мать. Наконец, в течение двенадцати лет эта бессловесная жертва родительского стяжательства сторонилась людей, неся в себе свое невыразимое страдание, и почти все уже привыкли с черствым безразличием смотреть на плачевное зрелище, которое она собой являла. Ее больше не боялись, устали жалеть, присутствие ее терпели как неизбежное зло, и если испытывали порой угрызения совести, то не признавались в них самим себе. Но терзавший ее ужасный недуг, по-видимому, временами обострялся, и сейчас наступил момент, когда страдалица стала опасной для окружающих. Пора было заняться ею всерьез. Господин Бриколен, сидя на лавочке перед домом, выслушивал с отупелым видом неуклюжие соболезнования родичей. — Это большая-пребольшая беда, — говорили ему, — и вы слишком долго сносите то, что она у вас все время перед глазами. Этакое терпение просто выше сил человеческих. Надо наконец решиться поместить вашу несчастную дочь в сумасшедший дом. — Да ее не вылечат там! — отвечал Бриколен, мотая головой. — Я уж все испробовал. Никакой нет возможности: слишком тяжелая ее болезнь. Помрет она, поди. — Это было бы счастьем для нее. Вы же видите, что она самое разнесчастное существо на всем белом свете. Но даже если ее не вылечат, вы хоть освободитесь от забот о ней и не будете видеть ее постоянно перед собой. Она не сможет вредить вам. Если и дальше смотреть сквозь пальцы, кончится тем, что она убьет кого-нибудь и сама наложит на себя руки у вас на глазах. Представляете, какой это будет ужас! — Но что я могу поделать? Я сто раз говорил об этом жене, но жена не хочет с нею расставаться. Коли заглянуть поглубже, она, поверьте, все еще любит ее, и удивляться тут не приходится: так уж, видать, устроено, что матери всегда питают какие-то чувства к своим чадам. — Но ей там будет лучше, чем здесь, можете быть совершенно уверены. Существуют превосходные заведения, где у больных нет недостатка ни в чем. Их содержат в чистоте, занимают работой, не предоставляют самим себе, даже, говорят, развлекают; их водят в церковь и дают слушать музыку. — В таком случае они живут счастливее, чем у себя дома, — заключил господин Бриколен. Подумав немного, он добавил: — Но все это, должно быть, стоит больших денег… Роза была потрясена до глубины души. Кроме бабушки, она одна не осталась бесчувственной к горю бедняжки Бриколины. Она избегала говорить о ней, но лишь потому, что, заговорив, не могла бы не обвинить родителей в духовном убийстве родной дочери; по двадцать раз на дню она ловила себя на том, что дрожит от негодования, слыша сентенции матери во славу себялюбия и скупости, которым была принесена в жертву ее сестра. Как только она вышла из полуобморочного состояния, она захотела присоединиться к бабушке и вместе с ней постараться успокоить безумную, но ее мать, боясь, как бы ужасное состояние Бриколины не произвело на Розу слишком тяжелого впечатления, и скорее почувствовав, чем рассудив, что такое чрезмерное горе может оказаться заразительным и подействовать на здоровье младшей дочери также, отослала Розу прочь с обычной своей суровостью, хотя на этот раз ею руководила вполне оправданная тревога. Оскорбленная Этим запрещением, Роза возвратилась к себе и в сильном возбуждении почти всю ночь проходила взад и вперед по комнате, не вступая, однако, в разговор с Марселью из опасения слишком резко высказаться по адресу родителей. Таким образом, радость, испытанная Марселью поздним вечером, была омрачена для нее последующими крайне тягостными часами. Крики безумной временами прекращались, а затем возобновлялись, становясь еще страшнее, еще ужаснее. Они не затихали постепенно, а обрывались внезапно, на самой пронзительной ноге, словно их останавливала насильственно причиненная смерть. — О боже! Ее словно убивают! — воскликнула Роза; у нее не было ни кровинки в лице, ее шатало, но усилием воли она удерживалась на ногах. — Это похоже на казнь, — добавила она. Марсель не стала говорить ей о том, каким жестоким пыткам подвергается безумная в своем воображении постоянно и, конечно, сейчас тоже. Она скрыла от Розы разговор между нею и безумной в парке. Время от времени она заглядывала к больной и всякий раз находила ее в одном и том же положении: Бриколина лежала на полу, крепко обхватив руками ножку кровати, и, казалось, едва дышала, изнемогая от крика, по глаза у нее были открыты и смотрели пристально куда-то вдаль, а мозг, как можно было судить, лихорадочно работал. Бабушка, стоя перед ней на коленях, безуспешно пыталась подложить ей под голову подушку или просунуть в ее стиснутый рот ложку с успокоительным питьем. Госпожа Бриколен сидела в кресле напротив, бледная и неподвижная; на ее резких, Энергичных чертах лежала печать глубокого страдания, но видно было, что эта женщина перед самим богом не признается в своем преступлении. Толстая Шунетта забилась в угол и рыдала, не помня себя; она не предлагала своих услуг, и никому в голову не приходило их от нее требовать. На лицах всех трех женщин была написана горькая безнадежность. Только безумная, казалось, в те минуты, когда она переставала вопить, предавалась мрачным, мстительным мыслям. Из соседней комнаты доносился храп: господин Бриколен спал тяжелым, беспокойным сном; порой, видимо, его мучили кошмары, и тогда он просыпался, но затем засыпал опять. Из-за противоположной стены слышались кашель и кряхтенье папаши Бриколена; он был равнодушен к чужим страданиям — у него едва хватало сил переносить свои собственные. Наконецоколо трех часов утра безумная совсем изнемогла от владевшего ею дикого возбуждения, и ее напряженное, как струна, тело расслабло. Удалось уложить ее в постель, причем она этого даже не заметила. Очевидно, уже много ночей она ни на мгновение не сомкнула глаз, потому что сейчас сразу погрузилась в глубокий сон. Все, включая и Розу, которой госпожа де Бланшемон поспешила сообщить утешительную новость, тоже смогли отправиться на покой. Если бы Марсель не сочла, что в таких обстоятельствах она должна посвятить себя заботе о бедняжке Розе, она прокляла бы свое недальновидное решение поселиться в этом доме, обиталище скупости и горя, и поспешила бы найти себе другое жилье, не столь чуждое всему духовно возвышенному, не столь отталкивающее в благополучии и мрачное в несчастье. Но она отвергла мысль уйти отсюда, какие бы новые неприятности ни ждали ее здесь, пока она сможет быть полезной своей юной приятельнице. К счастью, утро было спокойным. Все проснулись очень поздно, и Роза еще спала, когда госпожа де Бланшемон, сама только успевшая открыть глаза, получила из Парижа нижеследующий ответ на письмо, написанное ею свекрови всего три дня тому назад, — такова быстрота современных средств сообщения.Письмо графини де Бланшемон ее невестке Марсели, баронессе де Бланшемон «Дочь моя! Да укрепит вас господь в том мужестве, которое он вам даровал! Оно не удивляет меня, сколь оно ни велико. Не хвалите за мужество меня. В моем возрасте остается уже недолго страдать! В вашем же… к счастью, еще неясно представляют себе, как долго длится жизнь и как она трудна! Дочь моя, ваши проекты достойны всяческой похвалы, они превосходны и тем более разумны, что властно подсказываются обстоятельствами; более властно, нежели вы предполагаете. Мы тоже разорены, моя дорогая Марсель, и, вероятно, не сможем ничего оставить в наследство нашему любимому внуку! Долги моего несчастного сына оказались намного больше, чем вам было известно и чем можно было предвидеть. Мы получим отсрочку у кредиторов, но принимаем на себя ответственность за покрытие долгов, а это значит, что Эдуард лишается того приличного состояния, на которое он мог рассчитывать после нашей кончины. Воспитайте же его в простоте. Научите его создавать для себя источники средств существования собственными дарованиями. Привейте ему чувство собственного достоинства, дабы он мог стойко перенести несчастье и сохранять впредь независимость. Когда он станет взрослым мужчиной, нас уже не будет на свете. Пусть он почитает память своих деда и бабки, которые сделали выбор в пользу дворянской чести внука, а не его беззаботной жизни в будущем и оставили ему в наследство лишь доброе, незапятнанное имя. Сын банкрота заполнил бы свою жизнь предосудительными наслаждениями; сын виновного отца будет по крайней мере иметь некоторые обязательства перед памятью тех, кто оберег его от людского порицания. Завтра я напишу вам подробно. Сегодня я слишком потрясена открывшейся перед нами новой бездной и ограничиваюсь кратким сообщением о случившемся. Я знаю, что вы способны все понять и все перенести. Да благословит вас бог, дочь моя! Я восхищаюсь вами и люблю вас». — Эдуард! — воскликнула Марсель, покрывая поцелуями личико спящего сына. — В книге судеб было записано, что тебе выпадет прекрасный и, быть может, счастливый жребий не унаследовать богатства и высокого положения твоих предков! Так в один день гибнут состояния, накопленные за века! И так вот бывшие владыки мира, увлекаемые скорее неизбежностью, нежели собственными побуждениями, берут на себя выполнение предначертаний мудрости господней, которая помимо нас старается об уравнении возможностей всех людей. Да будет тебе дано понять впоследствии, дитя мое, что этот высший закон спасителен для тебя, ибо он определяет тебе место среди овен, коих Христос держит от себя одесную, и отделяет от козлищ, кои находятся ошую от него. Господи, ниспошли мне силы и мудрость, необходимые, чтобы сделать из этого ребенка человека! Сделать из него патриция я могла бы, не прилагая никаких усилий, все совершило бы за меня богатство. Ныне же я нуждаюсь в озарении и вдохновении! Боже, боже! Ты возложил на меня эту высокую обязанность, и ты не оставишь меня! «Анри! — писала она несколько минут спустя. — Мой сын разорен, его дед и бабка разорены. Отныне мой сын неимущ! Он мог бы быть недостойным и презренным богачом. Теперь надо сделать из него мужественного и благородного бедняка. Эту миссию провидение возложило на вас. Станете ли вы еще говорить о том, что вам надлежит покинуть меня! Не полагаете ли вы, что ребенок, прежде стоявший препятствием между нами, теперь еще сильнее скрепит наш союз и, дорогой нам обоим, освятит его? Если только вы не разлюбите меня за год, Анри, кто сможет теперь воспрепятствовать нашему счастью? Будьте мужественны, друг мой, уезжайте. Через год вы найдете меня в какой-нибудь хижине здесь, в Черной Долине, неподалеку от Анжибо». Марсель написала эти несколько строчек в восторженном состоянии. Лишь когда ее перо начертало: «Если только не разлюбите меня за год…», чуть заметная улыбка придала ее чертам какое-то особенное, не поддающееся описанию выражение. Она присоединила к своей записке письмо свекрови, для того чтобы Лемору были ясны все обстоятельства, и, запечатав вместе оба послания, положила пакет в карман своего платья, уверенная в том, что скоро увидит мельника, а может быть, и самого Лемора, одетого в крестьянский костюм, который, кстати сказать, очень ему шел. Безумная спала весь день. Она была в жару, но так как в течение двенадцати лет лихорадка не оставляла ее ни на один день, окружающие сочли этот беспробудный сон, прежде никогда за нею не наблюдавшийся, признаком благоприятного перелома. Лекарь, вызванный из города, видел ее не в первый раз и сейчас не нашел ухудшения сравнительно с ее обычным состоянием. Роза, поуспокоившись, снова поддалась невинным искушениям молодости и принялась неторопливо и очень старательно наряжаться. Она хотела быть одетой просто, чтобы не перепугать Большого Луи, выставив напоказ свое богатство; вместе с тем она хотела быть изящной, чтобы нравиться ему. Поэтому она проявила чрезвычайную изобретательность в подборе различных частей своего наряда, и ей удалось одновременно иметь непритязательный вид скромной дочери полей и сиять красотою небесного ангела. Избегая отдавать себе в том отчет, она, среди всех треволнений, испытывала некоторый трепет при мысли, что такой веселый день может быть для нее потерян. В восемнадцать лет не откажешься без сожалений от возможности целый день кружить голову влюбленному в тебя мужчине, и бессознательный страх, что все сегодня расстроится, примешался к искреннему и глубокому огорчению Розы из-за сестры. Когда Роза появилась на праздничной обедне, Луи давно уже ждал ее прихода. Он выбрал себе такое место, чтобы ни на мгновение не терять ее из виду. Роза как бы случайно оказалась возле Большой Мари, и он умилился, увидев, что она подложила мельничихе на скамью свою красивую шаль, несмотря на возражения доброй старушки. После службы Роза ловко подхватила под руку бабушку, которая обычно не отходила от мельничихи, своей давнишней приятельницы, когда ей выпадало удовольствие повидаться с нею. Удовольствие это повторялось год от года все реже, так как с возрастом расстояние между Бланшемоном и Анжибо становилось для обеих почтенных особ все труднее преодолимым. Матушка Бриколен была большая любительница покалякать о том о сем. Невестка же, по ее выражению, постоянно «затыкала ей рот», и потому теперь она говорила без умолку, изливая целый поток слов на мельничиху, а та, более спокойная нравом, но искренне привязанная к своей подруге юности, терпеливо слушала ее, отвечая, когда в том была нужда. Роза надеялась таким образом ускользнуть на весь день из-под надзора матери и уклониться от общения с прочими родственниками, поскольку бабушке было гораздо больше по душе беседовать с простыми крестьянами, которым она считала себя ровней, нежели с выскочками, составлявшими ее семейство. На небольшой площади перед церковью, откуда открывался вид на прелестный ландшафт, под старыми деревьями, вокруг бродячих музыкантов, помещавшихся попарно на подмостках, поставленных почти что рядом, собралась стайка молоденьких девушек. Музыканты изо всех сил заработали руками и легкими; предавшись самому рьяному соперничеству, они играли, каждый на свой лад и соответственно заплаченной цене, нимало не смущаясь какофонией, которую производил ансамбль из громкоголосых инструментов, старавшихся заглушить мелодии и ритмы друг друга. Среди этого музыкального хаоса каждая четверка танцующих пар твердо держалась своего места, не путая музыку, за которую она заплатила, с той, что гремела рядом, и не сбиваясь с такта — искусство, требующее обостренного слуха и основательного навыка. И другие, не менее разнородные звуки заполняли площадь; кто-то пел, кто-то с горячностью говорил о своих делах; одни чокались и выпивали за дружбу, другие грозились швырнуть в собутыльника кружкой; а за всем происходящим надзирали два местных жандарма, которые с благодушным видом прогуливались среди шумной толпы, и одного их присутствия было достаточно, чтобы удержать от какого-либо нарушения порядка миролюбивых жителей края, редко переходящих от перебранки к рукоприкладству. К тесному кружку зрителей, обступивших со всех сторон тех, кто первым пошел плясать бурре, прибавилось еще народу, когда в танец вступила прелестная Роза вместе с Долговязым Мукомолом. Они были самой красивой парой на празднестве, и их уверенный и легкий шаг как бы Электризовал все остальные пары. Мельничиха не могла удержаться от того, чтобы не обратить на это внимание матушки Бриколен, и даже добавила, что это сущее несчастье, когда двое молодых люден, таких славных, таких красивых, не предназначены друг для друга. — Коли взять к примеру меня (то есть что касается меня), — решительно ответила старая арендаторша, — то будь моя воля, я бы не стала думать да гадать, потому как имею убеждение, что с твоим парнем моя внучка была бы много счастливее, чем с кем другим. Я знаю, что Большой Луи любит ее; да это просто видно, хотя у него хватает ума ничего про свою любовь не говорить. Но что тут поделаешь, милая моя! У нас дома только и думают, что о деньгах. Я в свое время сделала глупость — передала все, что у меня было, сыну, и с той поры мне говорить с ними — ровно слова на ветер бросать. Не оплошай я так, сегодня была бы я вправе выдать Розу замуж по своему выбору и дать за ней приданое. Но у меня остались в запасе только любовь да жалость, а это У нас товар но ходкий. Несмотря на ловкость Розы, которая ухитрялась, переходя от группы к группе, избегать встречи с матерью и оказываться то рядом со своим другом, то напротив него, госпоже Бриколен с ее компанией удалось все же перехватить девушку и замкнуть ее в свой круг. Кузены Розы вынудили ее плясать с ними без передышки, а Большой Лун предусмотрительно удалился, чувствуя, что при малейшем столкновении кровь ударит ему в голову и он может выйти из себя. Его очень старались поддеть обидными шуточками, но ясный и смелый взгляд его больших серых глаз, его презрительное спокойствие и могучее телосложение заставили осечься чересчур задиристых Бриколенов, Однако когда мельник отошел от них, они отвели-таки душу, и Роза с большим удивлением услышала суждения своих сестер, невесток и многочисленных кузин о Большом Луи. Они в один голос заявляли, что у этого долговязого парня глупый вид, что танцует он неуклюже, что он очень много мнит о себе и что ни одна из них не стала бы танцевать с ним, хоть золотом ее осыпь. Роза обладала изрядным самолюбием. Слишком упорно старались развить в ней это дурное свойство характера, чтобы она не становилась порой его жертвой. Ведь все было сделано для того, чтобы внушить ей низменные чувства и испортить ее добрую и искреннюю натуру. И если в этом мало преуспели, то лишь потому, что не все души поддаются порче и не над всеми зло способно приобрести власть. Тем не менее Розе было больно слышать, как настойчиво и беспощадно поносят человека, который ее любит. Она надулась, не решалась больше и думать о том, чтобы потанцевать с ним еще, и, объявив, что у нее болит голова, отправилась домой, на ферму, перед тем еще напрасно поискав Марсель, чье влияние, как она чувствовала, вернуло бы ей уверенность и спокойствие.
XXVII. Хижина
Марсель ждала мельника в нижнем конце церковной площади, точно в указанном им месте. Он появился ровно в два часа и вошел в калитку расположенного рядом тенистого садика, сделав ей знак следовать за собой. Это был заурядный деревенский садик, не ухоженный и потому особенно прелестный, густо заросший зеленью. Марсель пересекла его и, пройдя сквозь живую изгородь, вступила во двор при хижине — одной из самых бедных хижин в Черной Долине. Двор замыкался с одной стороны домишком, с противоположной — садиком, а с двух других сторон — покрытыми соломой хворостяными навесами для кур, двух овец и козы, составлявших все богатство хозяина, настоящего сельского пролетария, зарабатывавшего своим трудом лишь хлеб насущный и не владевшего ничем — даже жалкой лачугой, в которой жил, и садом, который выращивал. Внутри хижина имела такой же убогий вид, как и снаружи, но Марсель отметила про себя чрезвычайную опрятность помещения и восхитилась мужеством хозяйки, явно стремившейся хоть таким способом бороться с ужасом нищеты. На неровном, в кочках, земляном полу не было ни соринки; скудная обстановка до того сверкала чистотой, что, казалось, она покрыта лаком. Вымытая глиняная утварь была аккуратно развешана по стене и расставлена по полкам. У большинства крестьян Черной Долины самая крайняя, самая беспросветная нищета не кричит о себе и имеет благообразный вид благодаря этой постоянной, настойчивой заботе о чистоте и порядке. Деревенская голь трогательна в своей сердечности. С бедняками можно жить душа в душу. Они не только не внушают отвращения, но вызывают сочувствие и известное уважение. Как мало нужно было бы им уделять от излишков, которые есть у богачей, чтобы устранить из их жизни горечь, скрываемую за видимым благородным спокойствием! Эта последняя мысль возникла у Марсели и отозвалась болью в ее сердце, когда она увидела шедшую ей навстречу хозяйку дома, которая держала на руках ребенка и была окружена еще тремя детьми, цеплявшимися за ее передник. Пьолетта — так звали хозяйку (иначе — Полина) — была еще молода и красива, хотя уже несколько поблекла, истощенная тяготами материнства и вынужденным отказом от самых необходимых для жизни продуктов. Каково жить трудящейся женщине, кормящей матери, если ей никогда не достается ни мяса, ни вина, ни даже овощей! Дети, однако, отличались превосходным здоровьем, и лицо матери, хотя и бледное, с бескровными губами, озарялось мягкой, приветливой улыбкой. — Добро пожаловать, сударыня, прошу садиться, — сказала Пьолетта, пододвигая к Марсели плетеный соломенный стул, покрытый чисто выстиранной холщовой салфеткой. — Господин, которого вы ожидаете, уже был тут до вас и решил покамест походить посмотреть на гулянье, но он скоро вернется. Вот беда: хотелось бы вас угостить как полагается, да нечем… Полакомитесь, прошу, хотя бы этими сливами — они прямо с дерева, и орешками, может, не побрезгаете. А ты, Большой Луи, не отведаешь слив из моего сада? Рода бы винцом тебя попотчевать, да ведь ты Знаешь — лозы у нас нет, и кабы не ты, не было бы порой и хлеба. — Вам очень трудно живется? — спросила Марсель, незаметно опуская золотую монету в карман девочки, которая с удивлением дотронулась до ее черного шелкового платья. — И Большой Луи помогает вам? Он ведь сам не богат… — Он-то? — промолвила Пьолетта. — Да он самый добрый человек на свете! Кабы не он, мы бы померли от голода и холода за последние три зимы; но он дает нам муку, дрова, одалживает лошадей, когда, бывает, кто-нибудь у нас занедужит и надо съездить на поклон к святому угоднику, он… — Полно тебе, Пьолетта, представлять меня этаким ангелом-хранителем, — сказал мельник, перебивая ее. — Вот уж, в самом деле, заслуга, что я не оставляю в беде такого дельного работника, как твой хозяин. — Дельного работника! — воскликнула Пьолетта, качая головой. — Бедный мой муженек! Господин Бриколен на всех углах твердит, что он человек никудышный, потому как слабосильный он… — Но он делает все, что может! А мне по душе люди старательные — потому я всегда их и нанимаю. — Зато господин Бриколен и говорит, что тебе вовек не разбогатеть да что у тебя, верно, ум за разум зашел, коли ты нанимаешь таких хилых себе в работники. — Что ж, выходит, никто их не должен нанимать? Пускай с голоду подыхают? Ничего себе рассужденьице! — Но вы же знаете, — сокрушенно сказала Марсель, — какую мораль проповедует господин Бриколен: «Тем хуже для них!» — Барышня Роза — очень добрая, — снова вступила в разговор Пьолетта. — Коли бы ей можно было, она помогала бы такой голытьбе, как мы; но она, бедная девушка, ничего не может: разве что принести потихоньку от домашних белого хлебца на тюрю моему меньшенькому. Да я бы и этого не хотела! Потому как, ежели бы ее маменька увидела, что было бы! Ох, и крутая же она женщина! Но так уж свет устроен: кто злой, а кто добрый. А вот и господин Тайян идет. Вам не пришлось долго ждать. — Ты помнишь, Пьолетта, о чем я тебя предупреждал? — спросил мельник, прикладывая палец к губам. — Ах, Большой Луи! — отозвалась крестьянка. — Да я скорее язык проглочу, чем пророню хоть словечко! — Тут, видишь ли, дело такое, что… — А мне и не надо растолковывать, что да зачем, Большой Луи; раз ты велишь помалкивать, значит так надо, и все тут. Пойдемте, дети, — сказала она троим малышам, игравшим у порога, — поглядим чуток на гулянье. — Госпожа сунула девчонке в карман луидор, — тихонько сказал ей Большой Луи. — Это не плата тебе за молчание; она понимает, что ты его не продашь за деньги. Просто она видит, что ты в нужде. Припрячь монету, а то девчонка ее, чего доброго, посеет, и не благодари; госпожа не любит, чтобы перед ней рассыпались; затем-то она и постаралась сделать это незаметно. Господин Тайян был человек порядочный и для беррийца даже очень деятельный, довольно способный по части ведения дел, но только чересчур большой любитель всласть пожить. Он был привержен к мягким креслам, тонким закускам, обильным обедам, горячему кофейку и гладким дорогам — чтобы не тряско было катить в двуколочке. Ничего подобного не принесло ему посещение бланшемонского празднества. Тем не менее, хоть и чертыхаясь по поводу сельских развлечений, он по доброй воле оставался здесь целый день, одним оказывая услуги, с другими делая свои собственные дела. В пятнадцатиминутном разговоре он легко доказал Марсели возможность и даже большую вероятность продажи ее земли за хорошую цену. Но что касается скорой продажи и выплаты всей стоимости наличными, тут он разошелся во мнениях с Большим Луи. — В нашем краю ничто скоро не делается, — сказал он. — Но все же было бы глупо не попытаться отвоевать пятьдесят тысяч франков сверх суммы, предложенной Бриколеном. Я сделаю все, что в моих силах. Если за месяц у меня ничего не выйдет, тогда я, быть может, принимая во внимание ваше затруднительное положение, посоветую вам уступить. Думаю, можно поставить сто против одного за то, что Бриколен, который горит желанием стать владельцем бланшемонского поместья, в течение этого срока поладит с вами, если только вы сумеете разыграть крайнюю несговорчивость, — качество неприятное, и вам, сударыня, мало присущее, но, увы, необходимое. Теперь подпишите доверенность — вот она, и я исчезаю: не хочу, чтобы люди заподозрили, будто я пускаюсь в интриги и конкурирую с моим коллегой, господином Вареном, которого ваш арендатор хотел бы навязать вам в поверенные. Большой Луи проводил нотариуса до калитки, и они разошлись в разные стороны. Уходя из хижины, мельник условился с Марселью, что она выйдет последней, некоторое время спустя, а покамест будет держать дверь закрытой; может случиться, что кому-нибудь не в меру любопытному придет охота понаблюдать за ними, так пускай думает, что в доме никого нет. Входная дверь хижины состояла из одной створки, разделенной поперек на две части; верхняя откидывалась, чтобы давать доступ воздуху и свету, выполняя, таким образом, роль окна. У нас в старинных крестьянских домах окон в подлинном смысле слова, с вставленными в них стеклами, не было. Дом, в котором жила Пьолетта, был построен пятьдесят лет тому назад для людей зажиточных, а ныне даже в самых скромных, населенных голью, но недавно построенных домишках имеются окна с шпингалетами и двери с замками. У Пьолетты дверь (она же окно) запиралась снаружи и изнутри задвижкой — деревянной дощечкой, которая вставляется, или «закладывается», в дыру, проделанную в стене; отсюда и выражение: «заложить дверь» вместо «запереть дверь». Когда Марсель заперлась при помощи этого приспособления, она оказалась в полной темноте и тут спросила себя, какой может быть умственная жизнь людей, настолько бедных, что им не на что купить свечу, и вынужденных зимой с наступлением вечера сразу ложиться спать или днем сидеть во мраке, чтобы спастись от холода. «Я говорила себе, я полагала, что я разорена, — думала она, — потому что мне пришлось покинуть мой роскошный будуар, обтянутый стеганым шелком; но на сколько ступеней общественной лестницы надо еще спуститься, чтобы дойти до такого существования, до жизни этих бедняков, мало чем отличающейся от жизни животных! Либо терпи холод и ненастье, либо погружайся в тупое оцепенение барана, стоящего в загоне, — третьего не дано! Чем занимается эта несчастная семья в долгие зимние вечера? Разговаривают ли они друг с другом? А о чем им разговаривать? Опять-таки о своих бедах? Ах, Лемор прав, я еще слишком богата и покуда не смею сказать перед богом, что мне не в чем себя упрекнуть». Тем временем глаза Марсели попривыкли к темноте. Дверь плохо примыкала к раме, и сквозь щель проникал кое-какой свет; поэтому мрак не был полным, и с каждой минутой Марсель все яснее различала окружающие предметы. Внезапно она вздрогнула, заметив, что она в хижине не одна, а затем ее снова пронизала дрожь, но уже не от страха: рядом с ней стоял Лемор. Пробравшись сюда потихоньку от всех, он прятался за кроватью, высокой, как похоронные дроги, и прикрытой саржевым пологом. Он до того осмелел, что решил добиться свидания с Марселью наедине, уговаривая себя, что оно будет последним, а затем он уедет. — Раз уж вы здесь, — произнесла Марсель, скрывая милым кокетством свою радость и волнение, вызванные этой приятной неожиданностью, — я хочу высказать вам то, о чем сейчас думала. Если бы нам пришлось жить в этой хижине, любовь ваша устояла бы перед дневными тяготами и вечерним бездействием? Могли бы вы жить без книг или не имея возможности их читать из-за отсутствия в лампе даже капли масла, и ничего не делать в промежутках между часами, когда ваши руки заняты работой? Через сколько лет скуки и всякого рода лишений вы перестанете находить, что это жилище живописно в своей ветхости и убожестве, а жизнь бедняка поэтична в своей простоте? — У меня появились как раз те же мысли, Марсель, и я собирался задать вам тот же самый вопрос. Продолжали бы вы меня любить, если бы я вовлек вас своими утопиями в подобную нищету? — Думаю, что да, Анри. — Почему же вы сомневаетесь во мне? Ах, вы неискренно говорите мне это «да». — Я говорю неискренно?! — воскликнула Марсель, отдавая обе руки Лемору. — Друг мой, я хочу быть достойной вас и потому остерегаюсь чрезмерной восторженности, свойственной героиням романов; ей может поддаться даже светская женщина; она все подтвердит, все пообещает, но не выполнит ничего и скажет себе назавтра: «Я сочинила недурной роман». Что же касается меня, то не проходит и суток, чтобы я не учиняла своей совести самый суровый допрос, и я, мыслится мне, вполне искренна, когда говорю вам, что не могу вообразить себе таких тяжких обстоятельств, — пусть это даже будут ужасы застенка, — в которых страдания заставили бы меня разлюбить вас! — О Марсель! Дорогая, несравненная моя Марсель! Но почему же вы сомневаетесь во мне? — Потому что интеллект мужчины отличен от нашего. Любовь и уединение — недостаточная пища для него. Ему нужны деятельность, труд, надежда быть полезным не только своей семье, но всему человечеству. — Так именно поэтому разве не долг наш — добровольно обречь себя на бессилие нищеты? — Значит мы живем в такое время, когда один долг человека противостоит другому его долгу? Ведь интеллект обретает силу, лишь озаренный светом знания; знание же достигается лишь благодаря той силе, которой обладают деньги; а между тем все, чем пользуешься, что приобретаешь, чем владеешь в этом мире, идет в ущерб другим, кто не может приобрести ничего, кто не владеет ничем из благ духовных и материальных. — Вы обращаете против меня мои собственные утопии, Марсель! Увы! Что я могу вам ответить? Разве только — что мы в самом деле живем во времена вопиющих, неразрешимых противоречий, когда благородные сердца, жаждущие добра, вынуждены мириться со злом. Нет недостатка в доводах, которыми баловни судьбы могут убеждать себя в том, что они должны заботиться о своем собственном существовании, возвышать, поэтизировать его, дабы сделать себя деятельным, мощным орудием служения себе подобным; что жертвовать собой, себя принижать, отрекаться от себя самих подобно пустынникам ранней поры христианства — это значит подавлять в себе благотворную силу, гасить светоч, ниспосланный богом людям, чтобы наставить на путь истинный и спасти их. Но сколько гордыни в таком рассуждении, как бы убедительно ни звучало оно в устах иных просвещенных и искренних людей! Это рассуждение аристократов. «Сохраним наши богатства, чтобы оказывать помощь беднякам», — говорят также и все ханжи вашей касты. «Именно мы, — говорят князья церкви, — призваны богом просвещать людей». «Мы, только мы, — говорят демократы буржуазного толка, — должны открыть народу пути к свободе!» Посмотрите, однако, что за помощь оказали несчастным сильные мира сего, что за образование, что за свободу дали они им! Нет! Частная благотворительность не может ничего изменить, церковь не хочет, а современный либерализм не умеет. Я падаю духом, и мужество покидает меня, когда я думаю; где же выход из лабиринта, в котором мы блуждаем, мы, кто ищет истины и кому общество отвечает лживыми посулами и угрозами. Марсель, Марсель, будем любить друг друга, и пусть дух божий не оставит нас! — О, будем любить друг друга! — вскричала Марсель, бросаясь в объятия своего возлюбленного. — И не покидай меня, не оставляй меня одну в моем неведении, Анри, ибо ты вывел меня за узкие пределы католической религии, в лоне которой я спокойно спасалась, довольствуясь тем, что мой исповедник отпускает мне грехи, и не думая о том, дастся ли мне отпущение самим Христом. Да, я мирилась с мыслью, что не могу быть последовательной христианкой, с тех пор как один священнослужитель сказал мне: «С небом можно поладить», но ты, ты открыл мне новые горизонты, и отныне я не буду знать ни минуты покоя, если ты оставишь меня без водительства в этот сумеречный час, когда мрак только начал рассеиваться от забрезжившей вдали истины. — Но ведь я сам ничего не знаю, — с горечью ответил Лемор. — Я сын своего века. Мне неведомо будущее, я не могу ни понять, ни истолковать прошлое. Яркие вспышки света озарили меня, и, как все молодое и честное сегодня, я ринулся навстречу этим мощным молниям, которые освобождают нас от заблуждений, но не открывают нам истины. Я ненавижу зло, но не знаю, что здесь добро. Я стражду, о, как я стражду, Марсель… И лишь в тебе нахожу я воплощение того идеала, который, по моему убеждению, должен был бы господствовать во всем мире. О Марсель, моя любовь к тебе вобрала в себя всю ту любовь, что люди изгоняют из своей среды; всю ту преданность ближним, которую общество парализует и ни во что не ценит; всю ту душевную мягкость, которую я хотел бы, но не могу передать людям; все вложенное в меня богом милосердие к тебе и к ним, которое способна понять и ощутить лишь ты одна, тогда как все прочие высокомерны и бесчувственны. Будем же любить друг друга и сохранять душевную чистоту, не смешиваясь с теми, кто ныне торжествует, но и не опускаясь до состояния тех, кто безмолвно покорствует. Будем верны друг другу, как два мореплавателя, пускающиеся за океан на поиски новых земель, но не уверенные, что они когда-либо достигнут их. Будем любить друг друга не для того, чтобы черпать счастье в «эгоизме вдвоем», как обычно называют любовь, но чтобы вместе страдать, вместе молиться, вместе искать, как нам, бедным птицам, потерявшимся в бурю, заклясть стихию, которая разметала всю нашу стаю, и чтобы собрать под своими крылами таких же, как мы сами, скитальцев, сломленных ужасом и отчаянием! Лемор плакал, как дитя, прижимая Марсель к своему сердцу. Воодушевленная его пламенной речью, Марсель в порыве восторженного преклонения перед ним рухнула на колени, словно дочь перед отцом, и взмолилась: — Спаси меня, не дай мне погибнуть! Ты был здесь и слышал, как я советовалась с посредником о своих денежных делах. Я позволила убедить себя в том, что должна бороться за остаток своего состояния, дабы сын мой не вырос невеждой и не коснел всю жизнь в духовном убожестве. Если ты меня осудишь за это, если ты докажешь мне, что, живя в бедности, он будет более достойным, более возвышенным душою человеком, я, быть может, решусь на отчаянный шаг и обреку его на физические страдания, дабы укрепить его дух. — О Марсель! — воскликнул Лемор, усадив ее снова и, в свою очередь, став на колени перед ней. — В тебе есть сила и решимость святых великомучениц былых времен. Но где та купель, в которой мы окрестим заново твое дитя? Церковь бедняков еще не воздвигнута, они живут разобщенные, без всякого наставления: одни смиряются по привычке, другие поклоняются золотому тельцу по глупости, третьи свирепствуют из мстительности, а иные насквозь изъедены пороками, развратились и утратили человеческий облик. Мы не можем просить первого встречного нищего возложить руки на твоего сына и благословить его. Он, возможно, слишком многое перенес, чтобы в нем не угасла способность любить, он может оказаться разбойником! Оградим же твоего сына от зла, насколько это будет в наших силах, привьем ему любовь к добру и стремление к истине. Его поколение, быть может, откроет ее. И можно допустить даже, что когда-нибудь оно наставит нас самих. Сохрани свое богатство; как могу я тебя укорить за это, когда я вижу, что сердце твое отнюдь не привернуло к нему, что ты смотришь на него, как на временно порученное тебе достояние, за которое бог спросит с тебя отчет. Сохрани ту небольшую толику денег, что еще осталась у тебя. Наш славный мельник говорил на днях: «В одних руках все очищается, в других все грязнится и портится». Так будем же любить друг друга и уповать, что настанет день, когда господь просветит нас. А теперь, Марсель, я ухожу; я вижу, что должен сделать над собой усилие, — ты хочешь этого, и я сделаю его. Завтра я покину прекрасный, мирный край, где я прожил два дня и был, несмотря ни на что, так счастлив. Через год я вернусь, и, будешь ли ты тогда во дворце или в хижине, для меня — я постиг это теперь — не может быть иного выбора, как простереться у твоего порога и повесить на дверь свой страннический посох, чтобы никогда больше не брать его в руки. Лемор удалился, и несколько минут спустя Марсель тоже покинула хижину. Но хотя она постаралась уйти как можно незаметнее, при выходе из сада она столкнулась лицом к лицу с каким-то юнцом, чья физиономия ей решительно не понравилась; он стоял за кустом, словно поджидая, когда она пройдет мимо. Паренек вперился в нее наглым взглядом, затем, словно обрадованный, что застиг ее здесь и опознал, побежал через дорогу к мельнице, стоявшей на самом берегу Вовры. Противная физиономия соглядатая показалась Марсели знакомой. Не без некоторого усилия она сообразила, что перед ней сейчас промелькнул не кто иной, как тот самый колымажник, который несколькими днями раньше завез ее в Черной Долине невесть куда и бросил в болоте. Эта рыжая голова, эти колючие зеленые глаза вызвали у нее смутное беспокойство, хотя она не могла взять в толк, зачем колымажнику понадобилось выслеживать ее.XXVIII. Празднество
Мельник возвратился на танцы, надеясь снова встретиться с Розой, уже свободной от «родственничков», как он их мысленно презрительно называл. По Роза дулась на родню, на танцы и немного на себя самое. Ей было стыдно, что она не нашла в себе смелости резко оборвать зубоскальство своей семейки. Утром этого дня отец отвел ее в сторону и сказал: — Роза, мать запретила тебе танцевать с Большим Луи из Анжибо, а я тебе запрещаю наносить ему такую обиду. Он человек порядочный и никогда не допустит ничего такого, что наложило бы тень на твою девичью честь; да и кроме того, кому придет в голову, что ты могла бы сблизиться с таким, как он? Это было бы уж чересчур непристойно: на сегодня и предположить невозможно, чтобы какой-то крестьянин посмел заводить шуры-муры с девицей твоего состояния. Так, значит, ты потанцуй с ним: не след унижать людей, выше которых мы стоим; рано или поздно они могут понадобиться, а потому надо их подмасливать, особливо когда это ничего не стоит. — А коли маменька меня заругает? — отозвалась Роза, очень довольная разрешением танцевать с мельником, но одновременно задетая мотивом, которым оно диктовалось. — Мать тебе ничего не скажет. Я ее отчитал как следует, — заверил дочку господин Бриколен. И в самом деле, госпожа Бриколен не сказала ничего. Она не осмелилась ослушаться своего господина и повелителя, который позволял ей грубо обходиться со всеми, лишь бы она не перечила ему. Но так как он не счел нужным объяснять ей свои виды и она не знала, что для него очень важно иметь Большого Луи своим союзником в дело приобретения бланшемонского поместья, она постаралась обойти его приказ и донять мельника презрительными насмешками, что уязвляло последнего больше, чем открытая война. Раздосадованный тем, что он не видит Розу, и надеясь на покровительство ее отца, который незадолго перед тем ушел с празднества домой, Большой Луи отправился на ферму, обдумывая по дороге, какой предлог будет самым подходящим, чтобы поговорить с арендатором и хоть мельком бросить взгляд на предмет своих воздыханий. Но, к своему удивлению, войдя во двор, он увидел господина Бриколена в обществе бланшемонского мельника, того самого, чья мельница была расположена в нижнем конце церковной площади, как раз напротив дома Пьолетты; между ними шел какой-то серьезный разговор. За несколько дней до того господин Бриколен разругался в дым с этим мельником, который некоторое время выполнял его заказы и, по мнению арендатора, бессовестно обворовывал его. Был ли означенный мельник невинен или виновен — в том мы разбираться не станем, но бесспорно то, что он, очень сожалея о потере заказов с фермы, смертельно возненавидел Большого Луи и поклялся мстить. Он только искал удобного случая, чтобы навредить ему, и вот такой случай представился. Владельцем его мельницы был тот самый господин Равалар, которому мельник из Анжибо продал коляску Марсели. Счастливый и гордый приобретенным экипажем, господин Равалар захотел испытать его и выставить напоказ перед своими вассалами, а заодно уж и поглядеть хозяйским оком на недвижимое имущество, принадлежавшее ему в Бланшемоне. Но у него не было слуги, умеющего править упряжкой из двух лошадей, и ему пришлось обратиться к искусству рыжего колымажника, который занимался ремеслом наемного возницы и похвалялся тем, что отлично знает все дороги в Черной Долине. Господин Равалар добрался до Бланшемона не без труда, но по крайней мере без приключений, утром праздничного дня. Лошадей он отправил в стойло на мельнице, но свою «карету» велел оставить снаружи, чтобы все, кто был на церковной площади, могли созерцать ее и узнали, кому она принадлежит. Уже один вид этой великолепной коляски привел в весьма дурное расположение духа господина Бриколена, ненавидевшего господина Равалара, его соперника по земельным владениям в округе. Он нарочно спускался на дорогу, тянувшуюся вдоль Вовры, чтобы внимательно осмотреть коляску и навести на нее критику. Мельник Грошон, соперник Большого Луи, пришел к господину Бриколену потолковать с таким видом, словно между ними никогда не было вражды, и ловко сумел раздразнить арендатора, намекнув, что господин Равалар, его хозяин, может скорее, чем любой другой, позволить себе разъезжать в собственном экипаже. В ответ Бриколен пошел на все корки разносить коляску, заявил, что это старый, переделанный экипаж префекта, кое-как сколоченная телега, которой не выехать из Черной Долины такой же нарядненькой, какой она сюда въехала. Грошон принялся защищать выбор своего хозяина и качество купленной им вещи; затем он сообщил, что коляска перешла к господину Равалару от госпожи Бланшемон и что Большой Луи был посредником при этой сделке. Бриколен, удивленный и обиженный, расспросил Грошона обо всех подробностях и выяснил, что мельник из Анжибо окончательно убедил господина Равалара приобрести данный предмет роскоши, сказав ему, что это приведет в ярость господина Бриколена. К сожалению, то была чистая правда. Господин Равалар всю дорогу разговаривал с колымажником. Тот, хорошо зная способы выколачивания чаевых и видя, что толстосум в восторге от своего нового экипажа, только о нем и говорил. Уж и красивее его нет, и легче на ходу, и послушнее в целом свете. Наверное, он стоил не меньше четырех тысяч франков, а в этом краю цена ему вдвое больше. Господин Равалар, польщенный простодушным восхищением своего возницы, поведал ему обо всех подробностях дела, а тот, закусывая утром на мельнице в Бланшемоне, все разболтал Грошону. Заметив, что Грошон ненавидит Большого Луи и завидует ему, он стал подливать масла в огонь как из удовольствия почесать язык и вызвать интерес слушателя, так и из мстительности, ибо с недавних пор сам затаил зло на Большого Луи, который жестоко высмеял его в связи с происшествием на болоте. Через несколько минут после того, как Бриколен, чье лицо приобрело хмурое и презрительное выражение, расстался с Грошовом, последний увидел Большого Луи и Марсель, как раз когда они входили к Пьолетте. Это свидание попахивало тайной и возбудило у Грошона сильное любопытство; он стал ломать себе голову над тем, как бы найти тут новый повод навредить своему врагу. Поставив колымажника в засаду, он час спустя узнал, что Большой Луи, еще какой-то незнакомец, по-видимому, его новый работник, молодая хозяйка бланшемонского поместья и нотариус господин Тайян сидели взаперти у Пьолетты и имели, судя по всему, какое-то важное собеседование; что все они выходили поодиночке, с предосторожностями, стараясь остаться незамеченными, но это им не удалось; наконец, что там плели какой-то заговор — дело явно денежное, так как в нем принимает участие нотариус. Грошон был в курсе того, что этот почтенный нотариус ненавистен Бриколену и внушает ему страх. Наполовину догадываясь, где зарыта собака, Грошон поспешил отправиться к Бриколену и любезно поставил его в известность об этих событиях, поздравив арендатора с тем, как его любимчик, мельник из Анжибо, оберегает его интересы. Он как раз делал этот донос, когда Большой Луи вошел во двор фермы. В любых других обстоятельствах наш мельник подошел бы прямо к своему обвинителю и заставил бы его объясниться в своем присутствии. Но, видя, что Бриколен вдруг повернул к нему спину, а Грошон смотрит на него недобрым и насмешливым взглядом, словно бы свысока, он забеспокоился и стал раздумывать, какой-такой важный вопрос могут столь оживленно обсуждать между собой эти двое, которые вчера еще «не приподняли бы друг перед другом шляпы за церковью», то есть не поздоровались бы, встретившись нос к носу на самой узкой улочке селения. Большой Луи не знал, о чем шла между ними речь, не был вполне уверен даже в том, что именно он был предметом их возбужденного разговора a parte;[147] но он чувствовал некий укор совести. Ведь он хотел перехитрить Бриколена и, вместо того чтобы дать арендатору хорошую отповедь, когда тот предложил ему денег за содействие своим интересам в ущерб Марсели, он притворился, будто готов пойти ему навстречу ради одного-двух бурре с Розой; он оставил ему надежду и, чтобы отомстить за оскорбительное предложение, обманул его. «Поделом мне, — думал он, — пронюхали о моем замысле — так мне и надо. Вот что значит хитрить! Матушка всегда мне говорила, что в нашем краю все хитрят, но это приносит только несчастье, а я так и не сумел удержаться от того же. Выкажи я себя перед этим проклятущим арендатором человеком порядочным, каков я и есть на самом деле, он бы ненавидел меня, но уважал и, быть может, боялся больше, чем будет бояться сейчас, коли обнаружит, что я врал ему как сивый мерин. Большой Луи, дружище, ты сделал глупость. Все дурные поступки глупы; эх, что бы тебе вовремя пораскинуть мозгами!» Взволнованный, испуганный и недовольный собой, он пошел обратно на площадь, чтобы найти там мать и предложить ей отвезти ее домой, в Анжибо. Но вечерню уже отслужили, и мельничиха уехала с несколькими соседями, наказав Жанни передать сыну, чтобы тот еще повеселился, но возвращался домой не слишком поздно. Большой Луи не смог воспользоваться этим разрешением. Охваченный тревогой, теряясь в догадках, он слонялся по площади до захода солнца, потеряв всякий интерес к окружающему и только ожидая, когда яте наконец появится Роза или хотя бы придет ее отец и сообщит, намерена ли она еще вернуться на танцы. Вечером праздничного дня жители села входят в самый вкус веселья. В это время жандармы, уставшие от ничегонеделания, седлают лошадей и отбывают, горожане и другие приезжие из окрестных мест рассаживаются по разного рода повозкам и укатывают прочь, желая избежать езды по скверным дорогам в темноте. Мелкие торговцы складывают свой товар, и кюре отправляется домой, чтобы весело поужинать с каким-нибудь своим коллегой, приехавшим посмотреть на танцы, возможно, вздыхая, что сам не может принять участие в сем греховном развлечении. Местные жители остаются одни владеть территорией, отведенной для празднества, вкупе с тем из музыкантов,который выручил мало денег за прошедший день и решил продолжить его, чтобы добрать недобранное. Здесь все знают друг друга и, воодушевись, как могут вознаграждают себя за то, что их оттесняли, пялились на них и, по-видимому, высмеивали «чужаки» (к последним же в Черной Долине относят всякого, кто живет больше чем за одну милю от данного места). Все «свои» пускаются в пляс — даже старухи, которым в другое время не позволили бы так срамиться средь бела дня, даже толстуха-служанка из кабачка, — она целый день с утра носилась, обслуживая посетителей, а теперь задирает свой замызганный передник и трясется в танце со старомодными ужимками; даже горбун-портняжка, который вогнал бы в краску всякую молодую девушку, если бы вздумал обнять ее за талию в дневной час, а теперь говорит, растягивая в ухмылке рот до ушей, что «ночью все кошки серы». Розе надоело дуться, и ее разобрало желание пойти еще поразвлечься, пока родня не вернулась. Но прежде чем снова отправиться на площадь, она решила заглянуть к сестре, спавшей весь день под присмотром толстой Шунетты. Тихонько войдя в комнату, она увидела, что безумная проснулась и сидит на кровати с задумчивым видом, почти совсем спокойная. В первый раз за долгое время Роза рискнула коснуться ее руки и спросить, как она себя чувствует, и безумная, тоже впервые за все двенадцать лет, не отдернула руку и не отвернулась сердито в сторону алькова, как можно было ожидать. — Дорогая моя сестричка, милая Бриколина, — повторяла, осмелев, обрадованная Роза. — Тебе лучше сегодня? — Мне совсем хорошо, — резко ответила безумная. — Проснувшись, я нашла то, что искала целых пятьдесят четыре года. — А что ты искала, голубушка? — Я искала любовь! — отвечала Бриколина странным тоном, таинственно прикладывая палец к губам. — Я искала ее повсюду: в старом замке, в саду, у источника, на дороге в ложбине и особенно в заказнике. Но любви нигде нет, Роза, и ты тоже напрасно ее ищешь. Они спрятали ее в большом подземелье, что скрыто под этим домом, и только если дом рухнет, ее можно будет найти под развалинами. Это мне открылось во сне, потому что и во сне я думаю и ищу. Будь спокойна, Роза, и оставь меня одну! Сегодня ночью, никак не позже, я найду любовь и поделюсь ею с тобой. Вот когда мы станем богаты! «На сегодня», как говорит жандарм, которого поставили нас стеречь, мы так бедны, что никто не хочет взять нас замуж. Но завтра, Роза, не позже чем завтра, мы обе обвенчаемся: я с Полем — он теперь алжирский король; а ты с тем парнем, что носит мешки с зерном и все на тебя засматривается. Я его сделаю моим первым министром и повелю ему поджаривать на медленном огне злого жандарма, что без конца твердит одно и то же и давно уже мучает нас с тобой. Но смотри — никому ни слова! Это великая тайна, от нее зависит исход войны в Африке. Причудливая речь безумной испугала Розу, и она не посмела продолжать разговор, опасаясь, как бы сестра не возбудилась еще больше. Но она не захотела уйти до прихода лекаря, который как раз в это время должен был проведать больную, и, склонив голову, скрестив руки на коленях, сидела в задумчивости у постели сестры; в сердце у нее была глубокая печаль. Сестры являли собой разительный контраст: одна — чудовищно изможденная страданием, внушающая брезгливость своей запущенной внешностью; другая — нарядная, сияющая юной прелестью и красотой; и тем не менее в их чертах было некоторое сходство; обе к тому же питали в сердце своем, хотя и в различной степени, «недозволенную любовь», как говорят в этом краю, и у обеих был сумрачный и печальный вид. Менее подавленной из двух выглядела безумная: в ее расстроенном мозгу роились надежды и фантастические замыслы. Лекарь прибыл точно в назначенный час. Он осмотрел безумную с полным равнодушием: видно было, что он ни на что уже не надеется, не может ничего предпринять, поскольку болезнь давно уже стала неизлечимой. — Пульс такой же, как и был, — заявил он, — изменений я не нахожу. — Простите, доктор, — сказала Роза, отведя его в сторонку. — Изменения все же есть, со вчерашнего вечера она не такая, как раньше. Она кричит, спит и разговаривает совсем по-другому, чем обычно. Уверяю вас, в ней произошел какой-то перелом. Только что она пыталась собрать свои мысли и выразить их, хотя они все, увы, бредовые. Хуже это или лучше, чем ее постоянная подавленность? Что вы думаете об этом, доктор? — Ничего не думаю, — отвечал врач. — При такого рода болезнях можно ожидать всего и ничего нельзя предвидеть. Ваши родители поступили опрометчиво, отказавшись пойти на некоторые затраты и поместить ее в одно из особых заведений, где ученые люди специально занимаются исключительными случаями. Что до меня, то я никогда не брал на себя смелости говорить, что вылечу ее, и, думаю, даже более искусные врачи, чем я, не могли бы сегодня поручиться, что сделают это. Слишком поздно. Все, чего я желаю, — это чтобы ее маниакальная замкнутость и нелюдимость не перешли в буйство. Старайтесь ей не противоречить и не вызывайте ее на разговоры, чтобы мысли ее не сосредоточивались на одном предмете. — Увы! — отозвалась Роза. — Я не смею с вами спорить, и все же подумайте — как непереносимо всегда жить одной, испытывать ужас перед всеми людьми! И вот когда наконец она стала искать какого-то сочувствия, сострадания, можно ли на эту жажду душевного тепла отвечать ледяным молчанием? Знаете, что она говорила мне сейчас? Она говорила, что с тех пор, как «это произошло», то есть — как она рехнулась (она утверждает, что тому уже пятьдесят четыре года), она непрерывно занималась поисками любви. Да только не больно много ее она нашла, бедняжка, уж я-то знаю! — И речь ее была достаточно осмысленной? — К несчастью, нет! Она высказывала различные жуткие идеи и пересыпала все чудовищными угрозами. — Ну вот, вы сами видите, что такие бредовые словоизлияния не только не целительны, но, напротив, опасны. Поверьте мне, лучше оставьте ее одну, и если она захочет, как ей привычно, уйти из дома, не давайте никому ее удерживать. Только таким образом можно избежать повторения вчерашнего приступа. Роза послушалась лекаря, но с тяжелым сердцем; в это время, однако, Марсель, которая шла к себе с намерением сесть писать письмо, увидела свою юную приятельницу грустной и озадаченной и убедила ее пойти развлечься, обещав, что при первом же крике, при первом же признаке нового возбуждения сестры сообщит ей о происходящем через Фаншону. Кроме того, госпожа Бриколен вернулась уже домой — у нее было много дел по хозяйству, а бабушка — та тоже уговаривала Розу еще разок до конца гулянья станцевать бурре. — Подумай, — сказала она Розе, — ведь у меня теперь каждый праздник на счету; что ни год, я говорю себе; «Поди, до следующего не доживу». Мне, право, надобно еще поглядеть сегодня, как ты танцуешь и веселишься, а не то у меня будет горько на душе и мне все будет казаться, что теперь меня настигнет несчастье. Не успела Роза сделать и нескольких шагов по площади, как рядом с ней появился Большой Луи. — Мадемуазель Роза, — произнес он, — ваш папенька не говорил вам ничего худого про меня? — Нет, не говорил. Напротив того, он утром почти что прямо приказал мне танцевать с тобой. — А потом ничего не было? — Да я его только мельком видела, он и не разговаривал со мной. Похоже, он очень занят какими-то делами. — Что же ты, Луи, — обратилась к нему бабушка Розы, — почему не приглашаешь танцевать мою внучку? Не видишь разве, что ей охота поплясать? — Правда, мадемуазель Роза? — спросил мельник, беря молодую девушку за руку. — Вы все-таки решили еще потанцевать со мной сегодня? — Отчего же не потанцевать! — отвечала Роза с задорной небрежностью. — Если вам желательно танцевать с кем-нибудь другим, а не со мной, — промолвил Большой Луи, прижимая руку Розы к своему сердцу, которое сейчас билось в его груди с особенной силой, — только скажите, я сам его к вам приведу. — А не значит ли это, что вы хотели бы подменить себя кем-нибудь другим? — отозвалась лукавая девица, останавливаясь. — Вы так думаете? — вскричал мельник, млея от восхищения. — Ну что ж, постараюсь вам доказать, что ноги у меня еще не отнялись! И он стремительно увлек ее в самую гущу танцующих; мгновение спустя, забыв о своих тревогах и огорчениях, они уже легко порхали по траве, держась за руки несколько крепче, быть может, чем того требует бурре. Но этот упоительный танец еще не успел закончиться, как в круг танцующих ворвался Бриколен, ожидавший удобного момента, чтобы нанести мельнику оскорбление на глазах у всех жителей села и тем сильнее унизить его. Повелительным жестом остановив волынщика, чтобы не пришлось его перекрикивать, и схватив за руку Розу, он возопил: — Дочь моя! Вы порядочная и достойная девушка, не танцуйте никогда больше с людьми, которых не знаете! — Мадемуазель Роза танцует со мной, господин Бриколен, — сказал Большой Луи в сильном волнении. — Вот это-то я ей и запрещаю, а вам, сударь, решительно запрещаю приглашать ее на танцы, заговаривать с ней, а также переступать порог моего дома, и еще запрещаю… Громовый голос Бриколена вдруг осекся; арендатор захлебнулся в потоке собственного красноречия и стал уже заикаться от ярости. Тут Большой Луи прервал его. — Господин Бриколен, — сказал он, — вы, как отец, вправе распоряжаться своей дочерью, вы вправе также отказать мне от дома, но вы не вправе публично оскорблять меня, не объяснившись прежде со мною без посторонних. — Я вправе делать, что хочу, — ответил рассвирепевший арендатор, — и тем более — сказать негодяю, что я о нем думаю. — Кому вы это говорите, господин Бриколен? — спросил Большой Луи, и в глазах его засверкали молнии; с самого начала этой сцены он говорил себе: «Ну вот, допрыгался! Получаю в конце концов по заслугам», но спокойно сносить оскорбления он не мог. — Кому надо, тому и говорю! — ответил господин Бриколен с величественным видом, но в глубине души вдруг оробев. — Если вы обращаетесь вон к тому дереву — меня это не касается! — отпарировал Луи, стараясь сдержать себя. — Поглядите-ка, какой бешеный! — воскликнул Бриколен, отступив на шаг и сомкнувшись с кучкой зевак, которые столпились за его спиной. — Грубит мне! А за что? За то, что я ему запрещаю разговаривать с моей дочерью. Разве я не имею на это права? — Да, да, вы имеете на это полное право, — подтвердил мельник, стремясь поскорее уйти, — но вы все-таки должны будете изъяснить мне свои резоны, и я приду и попрошу вас сделать это, когда вы поостынете, да и я тоже. — Ты что, угрожаешь мне, голодранец? — вскричал перепуганный Бриколен и, обращаясь ко всем собравшимся как к свидетелям, повторил с пафосом: — Он мне угрожает! — Он прокричал эти слова так, словно призывал своих издольщиков и батраков защитить его от опасного человека. — Да что вы, господин Бриколен, кто вам угрожает? — произнес Большой Луи, пожимая плечами. — Вы меня и не слушаете вовсе. — И не хочу тебя слушать, нечего мне слушать неблагодарного, подлого притворщика, который только прикидывался другом. Да, — добавил он, видя, что этот упрек скорее огорчает мельника, нежели вызывает у него гнев, — ты притворщик, а не друг, настоящий Иуда! — Иуда? Но ведь я же не иудей, господин Бриколен! — Ничего про то не знаю! — отрезал арендатор, снова наглея: ему показалось, что противник слабеет. — Полегче на поворотах, сударь, — произнес Большой Луи таким тоном, что Бриколен сразу прикусил язык. — Воздержитесь от бранных слов. Я уважаю ваши лета, уважаю вашу матушку и вашу дочь также, — может быть, больше, чем вы сами; но я не отвечаю за себя, коли вы слишком дадите волю языку. Я мог бы доказать как дважды два, что ежели я в чем и виноват, то вы виноваты гораздо больше. Давайте лучше не будем продолжать, господин Бриколен, а то мы можем зайти дальше, чем хотели бы сами. Я приду к вам поговорить, и вы меня выслушаете. — И не вздумай приходить! Коли придешь, я велю тебя выгнать с позором! — вскричал Бриколен, когда убедился, что мельник, удалявшийся широким шагом, уже не может слышать его. — Ты прощелыга, обманщик, интриган! Роза, бледнея, оледенев от страха, до сих пор стояла неподвижно возле отца, держа его под руку, по вдруг выказала такую решимость, на какую за минуту до того сама не считала бы себя способной. — Папенька, — сказала она, с силой утягивая его из толпы, — вы гневаетесь и не думаете, что говорите. Объясняться надо дома, а не на людях. Ваше поведение сейчас очень обидно для меня, и вы совсем не заботитесь о том, чтобы меня уважали. — Тебя? А ты-то тут при чем? — удивленно воскликнул Бриколен, сразу осев от смелого поступка дочери. — Во всей этой истории ты не виновата ни сном, ни духом, и никто не посмеет сказать о тебе дурное слово. Я сам позволил тебе танцевать с этим голодранцем, не видя в том ничего худого или несообразного, как не должен видеть и никто другой, Я же не знал, что он мерзавец, предатель, что он… — Все, что вам угодно, папаша, но только теперь хватит, — прервала отца Роза, настойчиво тряся его за руку, как взбунтовавшийся ребенок. И ей удалось-таки увести его на ферму.XXIX. Сестры
Госпожа Бриколен не ожидала, что ее семейство вернется с гулянья так рано. Супруг велел ей отправляться домой, не сказав, что собирается учинить скандал: он не хотел, чтобы она своими криками испортила ему величественную роль, в которой он задумал выступить перед публикой. Поэтому, когда она увидела сразу и его самого, и повисшую на его руке дочь, и плетущуюся за ними свекровь, всех — с каким-то всполошенным видом, она в смятении попятилась назад. В самом деле — Бриколен был весь багровый от гнева, он задыхался и бубнил себе под нос что-то бранное; Роза тоже была очень возбуждена и расстроена, в глазах у нее стояли слезы — она не могла их сдержать, а бабушка, совершенно растерянная, в отчаянии сжимала руки. — Что с вами со всеми? — вскричала госпожа Бриколен, поднимая свечу, чтобы яснее разглядеть их лица. — Что такое стряслось? — Да вот сынок мой наломал дров, говорит — сам не Знает что, — ответила старуха, бессильно опускаясь на стул. — Ну, это у нее всегда такая погудка, — отозвался арендатор; узрев свою половину, он испытал новый прилив гнева, хотя и послабее, чем раньше. — Хватит болтать! Ужин готов? Пойдем, Роза, ты, наверно, голодна? — Нет, отец, — сухо ответила Роза. — Это из-за меня у тебя аппетит пропал? — Да, отец, вы угадали. — Ах, вот как! Знаешь что, Роза, — продолжал Бриколен, обычно весьма снисходительный к дочери, но сейчас озадаченный неким подобием мятежа с ее стороны, — не нравится мне, как ты разговариваешь. Сердитая ты больно, и я, глядишь, могу бог весть что подумать, а ты, надеюсь, Этого не хотела бы? — Говорите, говорите, отец. Выскажите вслух, что вы думаете; а вдруг вы ошибаетесь — должна же я тогда оправдаться перед вами. — Так вот что я тебе скажу, дочь моя: не подобает тебе быть заодно с этим мужланом мельником: он негодяй, и я уж обломаю палку об его спину, коли он будет околачиваться тут, возле моего дома! — Отец, — с жаром ответила Роза, — осмелюсь сказать вам, хотя бы вы решили и об мою спину обломать палку, что все это жестоко и несправедливо; я унижена тем, что послужила орудием вашей мести перед всем народом, словно я в ответе за нанесенные вам или будто бы нанесенные обиды; короче говоря, от всего этого мне тяжко и больно, а бабушка — вы же видите — просто убита. — Да, да, это меня огорчает и сердит, — откровенно и резко заявила матушка Бриколен, верная своей обычной манере высказываться, за которой скрывались, однако, большая сердечность и доброта (в чем на нее походила Роза, девушка с острым язычком и нежной душой). — У меня сердце кровью обливается, — продолжала старуха, — когда я слышу, как поносят на чем свет стоит порядочного парня, что для меня все равно как сын родной — ведь уже шестьдесят лет с лишком я в дружбе с его матерью и со всей их семьей… В этой семье все на редкость честные люди, и Большой Луи не из таких, чтобы принести кому-нибудь бесчестье! — Ах, значит, этот красавчик причиной тому, что матушка ваша ворчит, а ваша дочь плачет! — сказала госпожа Бриколен мужу. — Поглядите-ка, вся в слезах! Ну и ну! В хорошенькое дело вы нас втравили, господин Бриколен, своей дружбой с этим обалдуем! Вот вам и отплатили! Да это же стыд и срам — видеть, как ваша мать и ваша дочь берут его сторону против вас и льют о нем слезы, словно… словно… боже правый, лучше я больше ничего не скажу, потому как сама краснею! — Говорите все, маменька, говорите! — вскричала Роза, совершенно выведенная из себя. — Раз уж вы оба взялись сегодня унижать меня, то не стесняйтесь! Я готова отвечать, если меня спросят по-серьезному и без задней мысли о моих чувствах к Большому Луи. — Так каковы же ваши чувства к нему, барышня? — снова загромыхал арендатор в крайнем гневе. — Скажите побыстрей, сделайте милость, вам ведь и самой невтерпеж. — Это сестринские и дружеские чувства, — ответила Роза, — и никто не заставит меня отречься от них. — Сестринские! Поздравляю: сестричка мельника! — произнес Бриколен издевательским тоном, передразнивая Розу. — И еще дружеские! Подружка крестьянина! Нечего сказать, красивые речи, весьма подобающие такой девице, как вы! Разрази меня гром, если на сегодня, не все молодые девицы посходили с ума! Роза, вы говорите, как обитатели заведения для умалишенных. В этот момент из комнаты, где находилась безумная, донеслись пронзительные крики. Госпожа Бриколен задрожала, а Роза побледнела как полотно. — Слушайте, слушайте, отец! — воскликнула она, с силой хватая Бриколена за руку. — Слушайте хорошенько! И если потом у вас хватит духу смеяться над безумием молодых девушек — смейтесь! Потешайтесь над сердечными влечениями сумасшедших, если вы прочно забыли, что девушка «нашего состояния» может полюбить неимущего человека, да так сильно, что способна впасть в расстройство, при котором жизнь хуже смерти! — Вы слышите, она признается, она прямо заявляет, что любит этого мужлана! — вскричала в отчаянии и ярости госпожа Бриколен. — И она еще грозит нам, что свихнется, как ее сестра! — Роза, Роза, умолкни! — воскликнул испуганный Бриколен. — А ты, Тибода, — добавил он повелительно, — оставь нас и иди проведать Бриколину. Госпожа Бриколен ушла. Роза стояла как вкопанная, ее лицо выражало смятение; она была сама потрясена тем, что сказала отцу. — Ты нездорова, дочка, — молвил Бриколен, он был заметно взволнован. — Тебе надо прийти в себя. — Вы правы, отец, я нездорова, — отозвалась Роза, разражаясь слезами и падая родителю на грудь. Господин Бриколен изрядно струхнул, однако его натура не позволяла ему смягчиться. Он поцеловал Розу, но не так, как отец может поцеловать горячо любимую дочь, а как ласкают малого ребенка, когда хотят его успокоить. Он гордился красотой и умом дочери, ко еще больше его тешила мысль, что достоинства ее будут в замужестве увенчаны богатством. Он предпочел бы, чтобы она была уродливой и глупой, по внушала всем зависть своими деньгами, нежели чтобы, совершенная во всех отношениях, она была бедной и внушала к себе жалость. — Детка, — сказал он ей, — сегодня ты не можешь толково рассуждать. Иди-ка бай-бай и выкинь из головы этого мельника да всякие глупости насчет твоей дружбы с ним. Его сестра вскармливала тебя — это правда; по ей, черт возьми, хорошо платили. Он был тебе приятелем в твои детские годы — и это правда; но как он был наш слуга, то, забавляя тебя, лишь выполнял свою обязанность. На сегодня мне оказалось желательно прогнать его, потому как он сыграл со мной дурную шутку, и твоя обязанность — считать, что я прав. — О папенька, — взмолилась Роза, все еще не отрываясь от груди отца, — вы отмените свой приказ. Вы позволите ему оправдаться, ибо он не виноват — это невозможно, и вы не будете настаивать на том, чтобы я унизила моего друга детства, сына доброй мельничихи, которая так меня любит! — Все это начинает мне уже изрядно докучать, Роза, — ответил Бриколен, отстраняясь от прильнувшей к нему дочери. — Слишком глупо затевать семейную свару из-за того, что я прогнал какого-то голодранца. Хватит, дай ты мне, ради бога, покой. Послушай, как вопит твоя сестра, и не морочь себе голову из-за постороннего человека, когда у нас в доме несчастье. — О, если вы полагаете, что я не слышу голоса сестры, — произнесла Роза с особой, пугающей значительностью, — и что крики ее ничего не говорят моей душе, то вы глубоко заблуждаетесь, отец! Я хорошо их слышу и достаточно много думаю о них. Роза вышла, шатаясь, и направилась в комнату сестры, по, проходя по коридору, вдруг рухнула на пол. На шум прибежали госпожа Бриколен и ее свекровь, обе крайне перепуганные. Роза была без чувств и казалась мертвой. Девушку поспешно перенесли в комнату, где в ожидании Розы Марсель писала, не подозревая о событиях, взбудораживших ее бедную подружку. Она окружила Розу самыми нежными заботами и одна из всех выказала достаточное присутствие духа, чтобы послать человека в село поискать лекаря и, если паче чаяния тот еще не уехал, немедленно привести его на ферму. Врач пришел и установил, что девушка поражена сильнейшей нервной судорогой: все тело было страшно напряжено, руки и ноги одеревенели, зубы были сжаты, на губах выступила синева. Сознание вернулось к ней, когда применили некоторые средства, предписанные врачом, но пульс то едва прощупывался, отчего окружающие пугались, то начинал биться толчками невероятной силы. Большие черные глаза Розы лихорадочно блестели, и она возбужденно говорила — сама не зная толком, к кому обращается. С удивлением заметив, что Роза то и дело повторяет имя Большого Луи, Марсель приняла меры к тому, чтобы удалить из комнаты всполошенных родственников и остаться с нею наедине; лекарь же ушел навестить Бриколину, которая снова, как накануне, начала проявлять признаки буйства. — Моя дорогая Роза, — обнимая подругу, сказала Марсель, — у вас горе, оттого вы и захворали. Успокойтесь; завтра вы мне расскажете, что произошло, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Кто знает, может быть, я найду какое-нибудь средство. — Ах, вы ангел! — воскликнула Роза, бросаясь Марсели на шею. — Но вы ничего не сможете сделать для меня. Все погибло, все разбито, Луи отказали от дома, прогнали; отец утром его защищал, а вечером стал говорить о нем с ненавистью и проклинать его. Право, я очень, очень несчастна! — Значит, вы его все-таки любите? — с живым интересом спросила Марсель. — Люблю ли я его?! — вскричала Роза. — Как же я могу его не любить! Вы разве когда-нибудь в том сомневались? — Еще вчера, Роза, вы не признавали этого. — Возможно, я бы никогда и не признала, если бы его не стали преследовать и не довели меня до крайности, как сегодня. Вообразите, — быстро, как бы спеша выговориться, стала рассказывать она, прижимая ладони к горящему лбу, — они пытались унизить его передо мной, очернить в моих глазах, потому что он беден и осмелился полюбить меня! Сегодня утром, когда его осыпали насмешками, я вела себя недостойно: во мне кипело негодование, но я не осмелилась дать ему выход. Я позволила измываться над ним и не попыталась его защитить, мне чуть ли не было стыдно за него. А затем я вернулась домой, вдруг почувствовав сильную головную боль, и спросила себя, хватит ли у меня когда-нибудь силы перешагнуть ради него через все эти оскорбления. Я уже вообразила, что не хочу больше его любить, и тут мне показалось, что я умираю, что этот дом, который для меня всегда был светлым и красивым, потому что я выросла в нем и была здесь счастлива, вдруг преобразился, стал мрачным, грязным, унылым, уродливым, то есть таким, каким видите его, конечно, вы. Мне показалось, что я в тюрьме, и сегодня вечером, когда моя несчастная безумная сестра сказала мне, что отец наш жандарм и что он стережет нас затем, чтобы доставлять нам страдания, на мгновение я словно тоже обезумела, и мне представилось, будто я вижу своими глазами то же, что видит сестра. Ох, как мне было тогда худо, и когда я пришла в себя, то ясно почувствовала, что если бы не мой славный Луи, то не было бы мне радости в жизни и она стала бы для меня непереносимой. Только потому, что я люблю его, мне удавалось до сегодняшнего дня быть веселой и мириться со всеми тяготами: с ужасным характером матери, с бесчувственностью отца, с гнетущим бременем нашего богатства, которое плодит вокруг нас только несчастных и завистников, с мучительным зрелищем ужасных недугов, которыми издавна страдают мои сестра и дед. Но все это показалось мне чудовищным, когда я мысленно увидела себя одинокой, не смеющей больше любить, вынужденной терпеть такую жизнь без утешения, приносимого близостью преданного друга, прекрасного, благородного, замечательного человека, чье чувство ко мне вознаграждало меня за все. О нет, так быть не может! Я люблю его, я не желаю больше делать попыток исцелиться от любви к нему! Но я умру, госпожа Марсель… Понимаете — ведь они прогнали его прочь и, сколько бы я ни страдала, будут безжалостны. Мне нельзя будет видеться с ним; если я когда-нибудь поговорю с ним без их разрешения, они изругают меня, будут издеваться надо мной, так что в конце концов я потеряю голову… О моя бедная голова! Я-то думала, что она у меня здоровая, крепкая, а сейчас она болит так, словно разламывается на куски… Нет, я не превращусь в то же, чем стала моя сестра, не бойтесь за меня, дорогая госпожа Марсель. Я предпочту лишить себя жизни, если замечу, что заразилась ее болезнью. Но ведь эта болезнь не заразная, не правда ли?.. Однако когда я слышу ее крики, у меня сердце разрывается и меня бросает то в жар, то в холод. Ведь она моя родная сестра, бедняжечка! В наших жилах течет одна и та же кровь, и на ее недуг отзывается не только моя душа, но все мое существо. О боже! Госпожа Марсель, вы слышите? Боже мой, что за ужас! Они закрыли все двери, но я все равно слышу, что там делается! О, как она страдает, любит, зовет! Сестра, сестра, милая моя, дорогая сестричка! Я помню тебя такой красивой, умной, доброй, веселой, а теперь ты завываешь, как волчица!.. Роза зарыдала, слезы, долго сдерживаемые невероятным усилием воли, полились потоком из ее глаз, но вскоре этот надрывный плач сменился нечленораздельными выкриками, сразу же перешедшими в пронзительные вопли. Черты ее исказились, блуждающие глаза как бы ушли вглубь и погасли, она так судорожно вцепилась в руку Марсели, что той стало больно, и наконец, упав на подушку, зарылась в нее лицом, но продолжала неистово кричать, побуждаемая неким властным, непреодолимым инстинктом подражать крикам своей несчастной сестры. Пораженное этим зловещим эхом, семейство оставило старшую сестру и бросилось к младшей. Прибежал и лекарь; зная, что было раньше, он не оказался настолько наивен, чтобы приписать такой сильный нервный припадок одному лишь впечатлению, произведенному на Розу безумствами ее несчастной сестры. Ему удалось успокоить ее; когда же он вышел вместе с четой Бриколенов, то поговорил с ними достаточно сурово. — Вы долгое время поступали неблагоразумно, — сказал он им, — растя младшую дочь в непосредственном соприкосновении с ее больной сестрой, глядеть на которую горько и печально. Было бы весьма полезно ее от этого избавить. Старшую вы должны определить в заведение для умалишенных, а младшую выдать замуж, дабы рассеять меланхолию, которая иначе может развиться и полностью завладеть ею. — Как же, как же, господин Лавернь! И мы так думаем! — воскликнула госпожа Бриколен. — Мы только того и хотим, чтобы она вышла замуж. Уже раз десять ей представлялся случай, да и сейчас у нас есть на примете жених для Розы — ее кузен Оноре; это превосходная партия: когда-нибудь он будет иметь сто тысяч экю. Ежели б она согласилась выйти за него, и он и мы были бы счастливы, но она не хочет и слышать о нем, да и вообще отвергает всех, кого бы мы ей ни предлагали. — Может быть, она поступает так потому, что вы ни разу не предложили ей в мужья человека, который был бы ей по сердцу, — ответил врач. — Мне про то ничего не известно, и я не вмешиваюсь в ваши семейные дела; но вы знаете причину болезни вашей старшей дочери, и я настоятельно советую вам вести себя с младшей по-другому. — Ох да, младшенькая наша, она… — забормотал Бриколен. — Вот была бы беда! Такая красивая девушка — не правда ли, доктор? — Та тоже была красивая: вы уже и не помните об этом. — Но в конце концов, господин лекарь, — сказала госпожа Бриколен, более раздраженная, нежели обеспокоенная словами врача, — не считаете же вы, что Роза тоже не в здравом уме? Моя старшая заболела из-за несчастного случая, от горя, причиненного ей смертью молодого человека, которого она любила… — И за которого вы не позволили ей выйти замуж! — Вы ничего об этом не знаете, господин лекарь; мы, может быть, и позволили бы, когда бы знали, что дело так худо обернется. Но Роза, господин лекарь, девушка выдержанная, разумная, а недуг этот, слава богу, не наследственный у нас в роду. Насколько мне известно, ни в семье Бриколенов, ни в семье Тибо никогда не было сумасшедших! У меня самой голова холодная и устойчивая супротив всего; остальные мои дочери похожи на меня, и я не пойму, с чего бы это Роза была слабее головой, чем другие. — Думайте, что хотите, — возразил лекарь, — но я вас предупреждаю, что вы ведете опасную игру, если противостоите склонностям вашей младшей дочери. Ее нервная конституция почти такая же уязвимая, как у ее сестры, хотя пока еще в хорошем состоянии. Кроме того, безумие, если даже оно не в роду, может быть заразительным… — Мы точно отправим старшую в больницу; мы решимся на такой шаг, сколько бы нам это ни стоило, — заверила лекаря госпожа Бриколен. — И не надо идти поперек желаниям Розы, слышишь, жена? — сказал арендатор, наполняя, уже в который раз, до краев свой бокал, чтобы утопить горести в вине. — В Лашатре представляют на сцене актеры, надо ее свозить туда посмотреть комедию. Купим ей новое платье, два, коли потребуется. У нас, черт побери, хватит средств, чтобы не отказывать ей ни в чем!.. Господина Бриколена прервала госпожа де Бланшемон, попросившая его переговорить с нею наедине.XXX. Соглашение
— Господин Бриколен, — начала Марсель, проследовав за арендатором в его «кабинет» — темную, неприбранную комнату, где были навалены различные бумаги вперемешку с сельскохозяйственными орудиями и образцами семян, — вы расположены спокойно и терпеливо выслушать меня? Арендатор изрядно хлебнул еще тогда, когда собирался идти на церковную площадь оскорблять Большого Луи, — чтобы придать себе самоуверенности. По возвращении он еще подбавил, чтобы успокоиться и восстановить силы. Наконец, в третий раз он пропустил несколько стаканчиков, дабы развеять обступившую его со всех сторон печаль и прогнать назойливые черные мысли. Фаянсовый с голубыми цветочками кувшинчик, неизменно стоявший на кухонном столе, обычно служил ему средством для возвращения себе достойной осанки или взбодрения своей персоны, когда он начинал соловеть от опьянения. Оставшись с глазу на глаз с госпожой де Бланшемон и не имея под рукой своего любимого белого вина, он почувствовал себя неуютно, машинальным движением потянулся за бокалом, но не нашел его на письменном столе, засуетился, подставляя госпоже де Бланшемон стул, и опрокинул при этом два других. Тут Марсель Заметила, что он хватил лишку. В самом деле, ноги плохо слушались его, физиономия раскраснелась, язык ворочался туго, мысли вязались с трудом. Несмотря на отвращение, которое вызвали у Марсели эти новые черты господина Бриколена, отнюдь не украшавшие его облик, и так-то мало привлекательный, она решила немедленно объясниться с ним начистоту, вспомнив поговорку «In vino veritas»[148]. Убедившись, что он едва ли даже слышал ее слова, она перешла в наступление. — Господин Бриколен, — сказала она, — я позволю себе повторить то, с чем я только что обращалась к вам: расположены ли вы выслушать благожелательно и спокойно имеющийся у меня к вам вопрос довольно щекотливого свойства. — О чем это вы, сударыня? — спросил арендатор не весьма любезным тоном, хотя и как-то вяло. Он очень сердился на Марсель, но слишком отяжелел, чтобы высказаться достаточно энергично. — О том, господин Бриколен, — откликнулась госпожа де Бланшемон, — что вы прогнали от себя прочь мельника из Анжибо, а я хотела бы знать причину вашего недовольства им. Бриколена ошеломило то, что Марсель поставила вопрос так резко. Весь ее внешний облик говорил об отважной прямоте духа, которая стесняла Бриколена с самого начала знакомства, а особенно теперь, когда он не мог вполне управлять собой. Как бы покоренный волей, превосходящей его собственную, он сделал противоположное тому, что сделал бы в трезвом виде: сказал правду. — Вы ее знаете, причину моего недовольства, — ответил он, — мне нет надобности называть вам ее. — Значит причина — я? — Вы? Отнюдь. Вас я не обвиняю ни в чем. Вы заботитесь о своих интересах, как я забочусь о моих… Но я нахожу, что это подлость — притворяться моим другом и в то же время давать вам советы в ущерб мне. Прислушивайтесь к ним, пользуйтесь ими, платите за них — вы не сделаете ошибки. Но я — другое дело, и моего врага, который стакнулся с вами, чтобы вредить мне, я выставляю за дверь. Вот так-то! И ежели кто находит, что я поступаю дурно, — меня это не трогает. Я в своем доме хозяин, потому как, видите ли, сударыня, говорю вам — каждый стоит за себя! Ваши интересы — это ваши интересы, а мои — мои… А подлец — он подлец и есть. На сегодня каждый думает о себе. Я у себя хозяин и в своей семье распоряжаюсь я; у вас свои интересы, а у меня — свои; что касается советов супротив меня, то вы, говорю вам, ошибки не сделаете… И господин Бриколен еще минут десять талдычил одно и то же, не замечая, что повторяет по сто раз буквально те же слова. Марсель, которой редко доводилось видеть пьяных вблизи и никогда не случалось с ними говорить, с удивлением слушала Бриколена, спрашивая себя, не поглупел ли он вдруг, и со страхом думала о том, что судьба Розы и ее возлюбленного зависит от этого человека, черствого и упрямого в трезвом состоянии, становящегося глухим и глупым, когда вино несколько смягчает его грубость. Она дала ему некоторое время пережевывать его пошлости, но затем, видя, что это может продолжаться до тех пор, пока его не сморит сон, попыталась привести пьяницу в чувство, внезапно затронув самую чувствительную струну его души. — Послушайте, господин Бриколен, — сказала она, прерывая его, — вы решительно хотите приобрести Бланшемон? А если я соглашусь на предложенную вами цену, вы будете еще негодовать? Бриколен с усилием поднял отяжелевшие веки и уставил пристальный взгляд на госпожу де Бланшемон, а та, в свою очередь, прямо и спокойно смотрела на него. Постепенно взор арендатора прояснился, осоловелое, раздутое лицо как бы подобралось и приобрело замкнутое выражение. Он встал и несколько раз обошел комнату — казалось, он хочет испытать свои ноги и собраться с мыслями. Он был в неуверенности, наяву ли он слышал слона Марсели. Когда он снова уселся напротив нее, то уже вполне владел собою и был почти бледен. — Простите, госпожа баронесса, — промолвил он, — что вы изволили сказать? — Я сказала, — повела речь Марсель, — что могу уступить вам свою землю за двести пятьдесят тысяч франков, если… — Если что? — вырвалось у Бриколена, смотревшего на нее взглядом рыси. — Если вы обещаете мне не делать несчастной вашу дочь. — Мою дочь? А какое касательство имеет ко всему этому моя дочь? — Ваша дочь любит мельника из Анжибо; она серьезно больна, она может потерять рассудок, как ее сестра. Вы слышите, вы понимаете, господни Бриколен? — Я все слышу, но не очень-то понимаю. Я и сам вижу, что моя дочь вроде бы разомлела от этого парня. Но этакое как нашло, так и пройдет не сегодня-завтра. Но почему вы-то заинтересованы в делах моей дочери? — А что вам до того? Если вам непонятно, что можно питать дружеское расположение и сочувствие к прелестной девушке, которая страдает, то вам по крайней мере понятна выгода быть владельцем Бланшемона? — Это какая-то игра, госпожа баронесса. Вы смеетесь надо мной. Сегодня вы вели разговор с самым большим моим врагом, нотариусом Тайяном, и он, конечно, посоветовал вам запросить с меня как можно больше. — Он не выказывал никакой враждебности к вам, а просто дал мне необходимые разъяснения относительно моих возможностей. Так вот, теперь я знаю, что могла бы в скором времени найти покупателя и потому, как вы выражаетесь, «запросить с вас» гораздо больше, чем вам хотелось бы уплатить. — И это мельник из Анжибо доставил вам такого хорошего советчика тайком от меня? — Что вам о том известно? Вы ведь можете и ошибаться. Кроме того, всякие толки на этот счет излишни: раз я соглашаюсь на ваше предложение, какое значение имеет для вас все прочее? — Все прочее… А прочее — это то, что я долями отдать свою дочь за мельника! — Ваш отец тоже был мельником, до того как стал арендовать землю у моих родителей. — Но он скопил денежки, и на сегодня я имею возможность обзавестись зятем, который поможет мне купить вашу землю. — Купить ее за триста тысяч франков, а может быть, и дороже? — Так это катерогическое условие? Вы хотите чтобы мельник женился на моей дочери? Какой вам в том интерес? — Я уже сказала вам: дружеское расположение, удовлетворение от того, что можешь сделать людей счастливыми, — всякие такие соображения, которые вам кажутся чудными; но у каждого свой нрав. — Я хорошо знаю, что покойный господин барон, ваш супруг, мог выбросить десять тысяч франков на дрянную лошадь, сорок тысяч на дрянную девчонку, когда ему, бывало, придет такая прихоть. Это все причуды аристократов; но в конце концов такие поступки можно понять, господин барон делал их ради себя, доставлял себе разные удовольствия. Совсем иное — идти на жертвы единственно ради того, чтобы доставлять удовольствие другим людям, да еще совсем чужим, с которыми ты едва знаком… — Так вы советуете мне не делать этого? — Я советую, — живо ответил Бриколен, испугавшись своей неловкости, — делать то, что вам по душе! О вкусах и об убеждениях не спорят; но все же… — Но все же вы не доверяете мне, это ясно. Вы не верите, что я без задней мысли делаю вам свои предложения? — Да какая у меня гарантия, сударыня, черт возьми! Может, это у вас всего лишь королевская прихоть, и не успеешь глазом моргнуть, ее уже как ветром сдуло. — Потому-то вам и следует торопиться поймать меня на слове. — Ну хорошо, госпожа баронесса, какую нее гарантию вы мне дадите? — Я дам письменное обязательство. — За вашей подписью? — Конечно. — А я должен буду обещать вам, что выдам дочь за Этого мельника, которому вы покровительствуете? — Сначала вы должны будете поручиться мне в том своим честным словом. — Честным словом? А потом? — А потом вы немедленно отправитесь к Розе и в присутствии вашей матушки, вашей жены и моем ей тоже дадите честное слово, что поступите именно так, а не иначе. — Дать честное слово? Значит, она здорово втюрилась? — Так как же, вы согласны? — Если этого достаточно, чтобы она была довольна, моя дочурка… — Нет, нужно еще кое-что… — Что нее? — Нужно сдержать свое слово. Арендатор изменился в лице. — Сдержать слово… сдержать слово… — дважды повторил он, — значит, у вас есть недоверие к моему слову? — Не большее, чем у вас к моему; но так как вы требуете от меня бумагу, я тоже потребую бумагу от вас. — А что будет значиться в той бумаге? — Что вы обещаете не препятствовать браку Розы с мельником. Я сама составлю ее, под ней подпишется Роза и вы также. — А если Роза после потребует у меня приданое? — Она откажется от него в письменной форме. «Получается недурная экономия, — подумал арендатор. — Из-за этого чертова приданого — а его пришлось бы выделить ей в скором времени — мне, может быть, не удалось бы приобрести Бланшемон. Сберечь приданое да получить Бланшемон за двести пятьдесят тысяч — это получается сто тысяч франков чистой выгоды. Словом, торговаться не приходится. К тому же, коли Роза на этом деле спятит, какого уж тут найдешь для нее жениха! Да и еще надо будет ежегодно выкладывать лекарю кругленькую сумму… И вообще это было бы очень жалко, мне было бы весьма неприятно видеть, как она на глазах дурнеет и опускается вслед за своей сестрой. Да и стыдно было бы перед людьми, что у нас две дочери помешанные. Конечно, такое замужество тоже курам на смех, но бланшемонского поместья, пожалуй, хватит, чтобы прикрыть наши изъяны. И пускай нас осуждают с одного боку, зато с другого будут завидовать. Ну ладно, буду добрым отцом. Дело-то недурное…» — Госпожа баронесса, — сказал он, — давайте-ка прикинем, как должна быть написана эта бумага. Сделка у нас все нее странная, и мне никогда не доводилось видеть образца. — Мне тоже, — ответила госпожа де Бланшемон, — и я даже не знаю, предусмотрен ли такой образец нынешними законодательными установлениями. Но какая разница? При наличии здравого смысла и доброй воли, уверяю вас, можно составить документ более основательный, чем те, что составляются стряпчими. — Такое бывает на каждом шагу. Возьмите, например, завещание. Порой даже и гербовая бумага не дает ему силы. Но мое завещание вот здесь, оно всегда при мне. Его надо всегда иметь под рукой. — Данте мне листок чистой бумаги, господин Бриколен, я набросаю черновик. Вы сделайте то же самое, потом мы сравним написанное вами и мной, обсудим, если будет нужда, и перепишем на гербовую бумагу. — Пишите, пишите все сами, сударыня, — ответил Бриколен, едва знавший грамоте. — Вы будете поумнее меня — вам и книги в руки. Сочиняйте, а потом мы посмотрим. Пока Марсель писала, господин Бриколен поискал задвинутый куда-то кувшин с водой, потихоньку поставил его на шкафчик в углу, наклонился и отхлебнул изрядный глоток. «Сейчас надо иметь ясную голову, — подумал он, — кажется, из меня хмель уже вышел. От холодной воды становишься хладнокровнее, а это в делах очень полезно: иначе не будешь достаточно осторожным и осмотрительным». Марсель, руководимая сердцем и к тому же наделенная способностью умно и трезво осуществлять своиблагородные начинания, составила бумагу, которую любой законник мог бы счесть образцовой, хотя она была написана обычным языком, без единого слова из специального жаргона «для посвященных» и без всякого крючкотворства. Когда Марсель прочла документ вслух Бриколену, тот был поражен его точностью: сам бы он не мог сочинить ничего подобного, но хорошо понимал значение документа и вытекающие из него последствия. «Ох, уж мне эти бабы, черт бы их побрал! — подумал он. — Правду говорят, что уж если какая из них смыслит в делах, то она хитреца из хитрецов вокруг пальца обведет. В самом деле, когда я, например, советуюсь со своей половиной, она всегда найдет, за что можно уцепиться мне для моей выгоды, либо тому, с кем я веду дело, мне в убыток. Эх, была бы она здесь сейчас! Но, пожалуй, она стала бы возражать против того-сего, и получилась бы затяжка. Ладно, посмотрим еще раз, перед тем как подписывать. Но кто бы поверил, однако, что эта начитавшаяся романов дамочка, республиканка, сумасбродка, способна делать безумные вещи с такой рассудительностью? Я не могу в себя прийти от изумления. Вылакаем еще стакан воды. Фу, пакость какая! Сколько доброго вина надо будет выдуть после завершения сделки, чтобы навести порядок в желудке!»XXXI. Скрытый умысел
— Мне кажется, тут все изложено как надо, — сказал господин Бриколен, прослушав второй, а затем и третий раз в чтении Марсели содержание документа, за текстом которого, поскольку Марсель держала бумагу между ним и собой, он следил также глазами, причем они у него раскрывались все шире и светлели с каждой строчкой. — Вот только, по-моему, в одном месте требуется внести изменение: там, где называется цена. Право же, она превышена на двадцать тысяч, госпожа Марсель. Я не подумал сначала, какой убыток принесет мне брак моей дочери с мельником. Люди станут говорить, что я разорился, иначе уж наверное бы пристроил ее получше. Мой кредит будет подорван. И затем, этому парню, разумеется, не на что купить свадебные подарки: вот и еще расход тысяч на восемь — десять, всё на мои плечи… Роза не может обойтись без красивых платьев и прочего добра… Я уверен, что для нее это важно. — А я уверена, что для нее это неважно, — возразила Марсель. — Прислушайтесь, господин Бриколен, она плачет! Вы слышите? — Нет, не слышу, сударыня; полагаю, что вы ошибаетесь. — Нет, я не ошибаюсь! — ответила Марсель, открывая дверь. — Она мучится там, рыдает, а сестра ее кричит! Как, вы еще колеблетесь, сударь? Вам представляется возможность обогатиться и одновременно возвратить дочери здоровье, разум, может быть — спасти ей жизнь, а вы в такой момент думаете о том, как бы еще выгадать на сделке! Поистине, — добавила она с негодованием, — вы не человек, у вас нет сердца! Смотрите, как бы я не передумала и не оставила вас без моей помощи среди бедствий, которые постигли вашу семью как возмездие за вашу скаредность! Во всей этой бурной тираде арендатор уловил только угрозу того, что сделка может не состояться. — Ладно, сударыня, уступите мне десять тысяч франков, — сказал он — и по рукам! — Довольно! — бросила Марсель. — Я иду к Розе. Поразмыслите еще. Мое последнее слово сказано, и я в моих условиях не изменю ничего. У меня есть сын, и я не забываю, что, думая о других, я не вправе слишком жертвовать его интересами. — Погодите, присядьте, госпожа Марсель, — пусть бедняжка Роза поспит, она ведь очень нездорова! — Пойдите тогда сами к ней, — с жаром произнесла Марсель, — и вы убедитесь, что она не спит. Может быть, увидев, как она страдает, вы вспомните, что вы отец! — А я и так помню, — ответил Бриколен, испугавшись, что Марсель может переменить свои намерения, если дать ей время на размышление, — давайте покончим скорей с этим документом, чтобы мы могли сообщить добрую весть Розе и исцелить ее. — Я надеюсь, сударь, что вы ей попросту дадите свое родительское согласие, и она никогда не узнает, что я купила его у вас. — Вы не хотите, чтобы она знала, что у нас такой уговор? Это меня устраивает. Тогда и бумагу ей не нужно подписывать. — Нет уж, как хотите, а она ее подпишет, — пусть даже и не вполне понимая ее смысл. Это будет что-то вроде приданого, которое я преподнесу ее жениху. — Разницы тут нет. Но мне-то все равно. Роза достаточно рассудительна и поймет, что не мог я ее так глупо выдать замуж, не позаботившись, чтобы она извлекла из этого какую-то выгоду в будущем. Но что касается оплаты, госпожа Марсель, вы требуете, чтобы она была произведена наличными? — Вы говорили мне, что это вас не затруднит. — Ничуть не затруднит! Я недавно продал большую мызу, за которой не мог сам иметь наблюдение — она слишком далеко отсюда, — и неделю тому назад мне выплатили полную сумму. В наших краях это большая редкость, но мой покупатель — весьма знатная персона, а у таких людей полные сундуки денег. Господин этот — пэр Франции, герцог де ***; он хочет разбить парк на моей земле, а также округлить свои владения. Моя мыза была для него лакомым куском, и я продал ее задорого, как и следовало. — Короче говоря, вы при деньгах? — Так точно: вся вырученная сумма у меня вот здесь в бумажнике — новенькими кредитными билетами. Сейчас я вам их покажу, чтобы вы не сомневались. И, заперев дверь на ключ, он извлек из своего пояса огромный кожаный бумажник, засаленный до лоска. Бумажник был набит кредитными билетами Французского банка. Удивленный тем, что Марсель считает их с равнодушным видом, он сказал: — Вы знаете, просто страх берет, когда держишь при себе сразу так много денег! Слава богу, теперь нет поджаривателей, и можно рискнуть подержать их у себя денек-другой, не обратив в какое-нибудь приобретение. Я их целый день ношу с собой, а ночью кладу под подушку и сплю на них. Мне прямо невтерпеж от них избавиться! Коли бы мы не сладились с вами сейчас, я бы купил несгораемый ящик и держал бы их там, пока не вложил бы во что-нибудь стоящее. А доверять денежки нотариусам или банкирам — дураков нет! Поэтому я и хотел бы ударить с вами по рукам сегодня же, чтобы не оставлять у себя такое богатство. — Я надеюсь, что мы сейчас же и закончим, — ответила Марсель. — Как, ни с кем не посоветовавшись? А моя жена? А мой нотариус? — Ваша жена здесь; что касается вашего нотариуса, то если вы его призовете, я должна буду призвать своего. — Эти чертовы нотариусы все испортят, поверьте мне, сударыня. Я в таких делах кумекаю не хуже их, да и вы тоже. И документ мы составили отлично. А ежели его заносить в реестр, то нам придется здорово раскошелиться. — Хорошо, обойдемся без этой формальности. Я вам передаю переходящую к вам недвижимость, как говорится, из рук в руки. — Однако ведь такая серьезная сделка! Прямо в дрожь бросает! Но в конце концов с моей стороны тут только обещание, так что, пожалуй, подпишем. — Это обещание равносильно официальному обязательству. Я готова подписать. Пойдите за вашей женой. «Да, надо ее привести! — сказал себе Бриколен, — только бы это не заняло слишком много времени, а то Тибода может затеять со мной спор на целый час, а за это время ветер переменится». — Вы идете к Розе, госпожа Марсель? Не говорите ей пока ничего. — На этот счет можете быть спокойны. Но вы позволите мне подать ей некоторую надежду на ваше согласие? — Ну, сейчас-то уже можно, — ответил Бриколен, не без проницательности рассчитывая на то, что, увидев снова плачущую Розу, Марсель, несомненно, укрепится в своих благородных намерениях. Оказалось, что госпожа Бриколен настроена совершенно иначе, чем предполагал ее муж. Характер у нее был черствый и сварливый, в мелочах она была скупее своего мужа, но в сути была, пожалуй, менее жадна; злая на язык и по своей обычной повадке казавшаяся совершенно бесчувственной, она способна была порой, скорее чем ее супруг, поддаться какому-то доброму движению души. Кроме того, она была женщина, и хотя материнское чувство скрывалось у нее за внешней жестокостью, оно все же жило в ее груди. Когда супруг ее вошел в кухню, тускло освещенную тоненькой свечкой, она поднялась навстречу ему, заперла дверь на задвижку и заговорила. — Господин Бриколен, — сказала она, — я в большом горе. Роза больна тяжелее, чем ты думаешь. Она без конца кричит и плачет, как потерянная. Она любит своего мельника. Это нам наказание божье за грехи наши. Но тут уж ничего не поделаешь: она к нему прикипела сердцем. И сейчас она точь-в-точь как ее сестра, когда у той начало в голове мутиться. А с другой стороны, болезнь старшей все ухудшается и вот-вот станет уже совсем непереносимой. Лекарь увидел по ней, что она может выломать дверь, и потребовал, чтобы ее пустили, как обычно, блуждать по заказнику и в старом замке. Он говорит, что она привыкла быть одна и беспрерывно ходить, так что ежели ее держать взаперти да сидеть около нее и сторожить, она станет буйной. Я этого до смерти боюсь; а вдруг она наложит на себя руки? Сегодня вечером она такая сердитая! Всегда-то она молчит, а тут наговорила нам бог знает какие страсти — у меня даже в груди защемило. Это же ужас — жить так, как она живет! И подумать только, что всему причиной запрещенная любовь! А ведь мы одинаково воспитывали всех наших дочерей! Другие-то вышли замуж по нашей воле, и мы можем ими гордиться! Они богаты и достаточны умны, чтобы считать себя счастливыми, хотя их мужья не ах какие добренькие. Но старшая и младшая дьявольски упрямы, и ежели мы, на беду, один раз не поняли, что такое дело может погубить пашу дочь, то второй раз должны остеречься и не идти наперекор желаниям другой дочери. По мне, лучше бы ей на свет не родиться, чем выходить за этого мельника! Но она уперлась, и придется нам пойти ей навстречу, потому как она тоже может рехнуться, а я бы лучше предпочла видеть ее мертвой, чем помешанной. Посему, господин Бриколен, я даю свое согласие, и ты должен его дать. Я сейчас сказала Розе, что ежели она хочет только за него и ни за кого другого, я препятствовать не стану. Тут она вроде бы поуспокоилась, хотя бог ее знает, дошло ли до нее, что я сказала, и ежели дошло, то поверила ли она моим словам. Надо, чтобы и ты сходил к ней и повторил то же самое. — Все складывается как нельзя лучше! — в восторге вскричал Бриколен. — Вот прочти-ка эту бумагу, жена, и сказки мне, не упущено ли в ней чего-нибудь. — Да это подарок с неба! — вымолвила арендаторша, ознакомившись с документом. Еще ряд восклицаний последовал с ее стороны, но затем она, собрав всю свою волю, вернула себе ледяное спокойствие и со вниманием стряпчего перечитала бумагу заново. — Условия целиком в твою пользу, — сказала она. — Надо сейчас же соглашаться, и к нотариусу обращаться незачем. Подписывай — и дело с концом. Для нас тут сплошной выигрыш, счастье наше тут! И нам это на руку, и Розу вполне устраивает. Я уже было решила отдать ее мельнику просто так, ан глядишь, нам еще привалило! Подписывай, подписывай, старик, и сразу выкладывай денежки! Тогда выйдет, что купчая получила силу, и нельзя уже будет пойти на попятный! — Так сразу и заплатить! Что-то уж больно скоро! На основании клочка бумаги, даже не заверенного нотариально? — Плати, говорю тебе, а завтра утром огласишь помолвку. — А если все-таки попробовать уговорить Розу? Может быть, завтра она почувствует себя лучше и согласится выйти за другого, ежели ее поубеждать хорошенько и ежели ты сумеешь найти к ней подход. Тогда можно будет сказать, что пойти на такую сделку было безумием с моей стороны, глупостью, которая не может обязать мою дочь… — Эва! Да тогда и продажа имения будет недействительна. — Это как сказать! Во всяком случае, можно будет затевать тяжбу. — Ты ее проиграешь! — Тоже как сказать! Как бы то ни было, мы ничего не теряем. Продажа Бланшемона будет запрещена на время судебного процесса. А процесс может затянуться надолго. Ты же знаешь, что госпожа де Бланшемон не может ждать. Она будет вынуждена пойти на мировую. — Лучше не впутываться в такие дела, коли не хочешь заслужить дурную славу, господин Бриколен. Потеряешь, чего доброго, и честь свою и кредит. Всегда выгоднее поступать по-честному. — Ладно, посмотрим, Тибода! Пока что иди к своей дочери и скажи ей, что все решено. Может, когда она увидит, что мы не идем ей наперекор, она не станет так держаться за своего Большого Луи; потому как мне сдается, что она просто в пику мне артачится: нашла коса на камень, вот и заколодило на этом месте. Но скажи-ка на милость, до чего ловко этот мельник обстряпал свое дельце! Сумел втереться в доверие к нашей барыньке и добиться ее покровительства бог знает каким путем… Парень, видать, не дурак! — Я его давно ненавижу и теперь буду ненавидеть всю жизнь! — отозвалась арендаторша. — Но это неважно. Лишь бы Роза не свихнулась, как ее сестра, а я только не стану нежностей разводить с ее муженьком, но буду молчать, как рыба. — Муженьком, муженьком! Пока-то он ей не муж! — Теперь уже все, Бриколен, дело сделано. Иди подписывать. — А ты? Ты, наверно, тоже должна подписать? — Я готова. Госпожа Бриколен с уверенным видом вошла в комнату дочери, где находилась, ожидая ее появления, Марсель, и вслед за мужем на краешке комода подписала бумагу. Когда церемония закончилась, Бриколен, глядя со свирепым торжеством, тихонько сказал своей жене: — Тибода, продажа имения действительна, а условие продажи не имеет никакой силы. Ты считаешь, что знаешь все на свете, а этого ты не знала. Розу по-прежнему лихорадило, и у нее отчаянно болела голова; но с тех пор как безумную отпустили на волю и не стало слышно ее криков, нервы младшей сестры несколько поуспокоились. Когда Марсель подписала документ и передала перо своей юной приятельнице, та не сразу даже поняла, о чем идет речь но, поняв, разразилась слезами и с жаром поочередно обняла мать, отца и Марсель, которой сказала на ухо: — Вы ангел! Я принимаю от вас эту жертву лишь на время; когда-нибудь я буду достаточно состоятельна, чтобы возместить ущерб, который наношу сегодня вашему сыну. Бабушка Розы, единственная из всей семьи, поняла благородство поведения Марсели. Она бросилась к ее ногам и, не произнеся ни слова, приложилась губами к ее коленям. — Час еще не поздний, — тихонько сказала Марсель старухе, — только десять часов! Вполне возможно, что Большой Луи еще на площади, да и до Анжибо отсюда рукой подать. Что, если послать кого-нибудь за ним? Я не решаюсь открыто это предложить, но можно было бы представить дело так, будто он появился здесь случайно, а когда он придет, то надо будет сообщить ему о его счастье. — Ну, за это-то я берусь! — вскричала старуха. — Пусть бы мне даже пришлось дойти пешком до самой мельницы! Для такого дела припущусь со всех ног, словно мне снова пятнадцать лет. Она и в самом деле сама пошла в село, но мельника не нашла. Тогда она захотела послать к нему кого-нибудь из работников с фермы, но все они были пьяны и храпели в своих постелях или в кабачке, так что их нельзя было растолкать. Маленькая Фаншона была отчаянная трусиха и не отважилась бы идти по дорогам ночью, к тому же было бы просто бесчеловечно в праздничный вечер подвергать девочку опасности встречи с дурными людьми. Матушка Бриколен искала на почти обезлюдевшей церковной площади какого-нибудь человека, достаточно зрелого и благоразумного, чтобы ему можно было дать такое поручение, как вдруг из-под портика церкви вышел отчитавший последнюю молитву дядюшка Кадош.XXXII. Колымажник
— Поздненько вы прогуливаетесь, госпожа Бриколен, — обратился нищий к старой арендаторше. — Вы вроде бы ищете кого-то? Внучка ваша уже давно ушла. Ее папаша Задал ей сегодня жару. — Ладно, ладно, Кадош, — отмахнулась старуха. — Ах, жаль, нет у меня при себе денег. Но, надо думать, тебя у нас дома не обделили сегодня? — Я ничего у вас не прошу: мой рабочий день кончен, и я уже пропустил три стаканчика, но от этого только крепче на ногах держусь. Вот как, матушка Бриколен! Ни ваш муженек, ни сыночек ваш толстобрюхий не смогли бы потягаться со мной по части выпивки, хоть мне и сто лет в обед. А сейчас я отправляюсь ночевать в Анжибо. Желаю вам доброго здоровья. — В Анжибо? Кадош, старина, ты в самом деле отправляешься в Анжибо? — А что вас удивляет? Мой дом отсюда в двух милях с гаком, близ Же-ле-Буа. Зачем мне утомляться? Лучше я проведу ночь у моего племянника-мельника: меня там всегда хорошо принимают, не кладут спать на солому, как в других домах — в вашем, например, а ведь вы люди богатые, несмотря на поджаривателей. У моего племянничка на мельнице всегда готова постель для меня, и там не боятся, что я учиню поджог… как боятся ваши домашние: ног им нынче не подогревают, так они подогревают себя сами. От этого намека на ужасную беду, постигшую некогда старика Бриколена, дрожь прошла по телу старухи, но она сделала над собой усилие, чтобы отогнать мрачные воспоминания и думать только о внучке. — Так ты отправляешься к Большому Луи? — переспросила она нищего. — К кому ж еще! Он лучший из моих племянников, племянник что надо, будущий мой наследничек! — Вот что, Кадош: ты можешь оказать знатную услугу Большому Луи, раз ты ему такой большой приятель и к тому же, несмотря на три стаканчика, не пьян. Есть неотложное дело, и он должен тотчас явиться сюда и поговорить со мной. Передай ему это от меня. Я буду ждать его у наших главных ворот. Пусть садится на свою кобылу и едет как можно скорее. — На свою кобылу? Нет у него больше этой кобылы. Ее украли. — Да все равно, на чем он поедет, лишь бы скорее был здесь. Дело уж очень для него важное. — А что за дело-то? — Ну вот, так прямо все тебе и скажи! Хватит с тебя, что ты получишь за это новенькую монету в двадцать су. Приходи за ней завтра утром. — А в котором часу лучше? — Когда захочешь, тогда и придешь. — Приду в семь часов. Будьте дома, потому как я ждать не люблю. — Ну иди же! — Иду. За три четверти часа — самое большее — буду там. Ноги-то у меня покрепче, чем у вашего муженька, матушка Бриколен, хоть я и старше его на десять годков. И нищий пошел действительно твердым шагом. Он уже был неподалеку от Анжибо, когда его на узкой дороге нагнала коляска господина Равалара. Сидевший на облучке рыжий негодяй колымажник гнал лошадей во весь опор и, не дав себе труда крикнуть старику: «Берегись!», ехал прямо на него. Беррийский крестьянин почитает для себя унизительным уступать дорогу коляскам и каретам, сколько бы ему ни кричали и как бы ни было трудно его объехать. А дядюшка Кадош был заносчивее, чем любой другой из местных жителей. Привыкший с потешной серьезностью изображать, будто он с высоты своего величия снисходит к тем, у кого принимает милостыню, он нарочно замедлил шаг и продолжал идти посередине дороги, хотя уже слышал за спиной горячее дыхание лошадей. — Да посторонись же ты, черт проклятый! — крикнул наконец колымажник и огрел нищего кнутом. Нищий обернулся и, схватив лошадей под уздцы, заставил их так сильно податься назад, что коляска едва не опрокинулась в придорожную канаву. Тут между стариком и разъяренным колымажником завязалась отчаянная борьба: колымажник, сыпля проклятиями, хлестал напропалую бичом, а Кадош, уклоняясь от ударов, прятал голову под шеями лошадей и, с силой дергая узду, то заставлял упряжку отступать, то сам отступал перед нею. Господин Равалар сначала напустил на себя вид важного барина, как подобает человеку, который впервые в жизни катит в собственной коляске. Он тоже крепко обругал наглеца, смеющего задерживать его, но все же доброе сердце беррийца взяло в нем верх над спесью выскочки, и, увидев, что старик сумасбродно подвергает себя нешуточной опасности, он высунулся из коляски и крикнул колымажнику: — Осторожнее, парень, осторожнее! Не покалечь этого беднягу! Но было уже поздно: лошади, ошалевшие оттого, что сзади их нахлестывали бичом, а спереди заставляли пятиться, неистово рванулись вперед и опрокинули Кадоша. Руководимые своим удивительным инстинктом, благородные животные перескочили через старика, не коснувшись его копытами, но два колеса проехались по его груди. Дорога была безлюдна и тонула во мраке. Ночная тьма настолько сгустилась, что господин Равалар не мог разглядеть человека в бурых, как земля, лохмотьях, распростертого позади его коляски, которая удалялась с невероятной быстротой, ибо теперь уже колымажнику было не сдержать лошадей. Сперва наш почтенный буржуа себя не помнил от страха, что коляска опрокинется; когда же лошади поуспокоились, нищий остался далеко позади. — Надеюсь, ты на него не наехал? — спросил господин Равалар возницу, еще дрожавшего от испуга и злости. — Не-е, не наехал… — промямлил колымажник, не слишком-то уверенный в своих словах. — Он упал на обочину… Сам и виноват, старый хрыч! Но лошади его не тронули, и вообще никак его не зашибло — ведь он и не крикнул. Отделается испугом, а вперед будет ему наука. — А не вернуться ли нам поглядеть, что с ним? — предложил Равалар. — Да что вы, сударь, разве можно? Эти людишки таковы, что из-за пустяковой царапины вас в суд потянут! Он хоть и будет целехонек, а прикинется, будто ему голову проломили, чтобы выжать из вас побольше денежек. Я один раз вот этакого задел, так у него хватило терпения пролежать сорок дней в постели, чтобы потребовать от господина, которого я вез, возмещения за сорок потерянных рабочих дней. А болен он был не больше, чем я. — Хитры, ничего не скажешь! — заметил Равалар. — Однако лучше бы мне никогда не иметь коляски, чем раздавить человека, кто бы он ни был. Другой раз, паренек, с ходу останавливай лошадей, а не ввязывайся в такую катавасию. Опасное дело! Колымажник, не желавший думать о том, чем закончилось происшествие на дороге, снова стал подстегивать лошадей, чтобы поскорее убраться из этих мест. У него все же скребло на душе, и он бранился сквозь зубы до конца пути. Мельник, Лемор, Большая Мари и нотариус Тайян как раз в это время выходили с мельницы. Лемор решил утром пуститься в дорогу и проводил здесь последний вечер. Он не очень внимательно слушал, что говорилось вокруг него, и, охваченный тихой грустью, созерцал отражение в реке прекрасного ночного неба с мерцающими на нем звездами. Мельник, грустный и сумрачный, старался быть любезным с нотариусом, который приехал к жившему по соседству испольщику составить ему завещание и на обратном пути, проезжая мимо мельницы, сделал остановку, чтобы выкурить сигару и зажечь фонари на своей двуколке. Большая Мари толковала нотариусу про то, что ему лучше было бы ехать другой дорогой, так как эта на большом расстоянии сильно каменистая, а мельник уверял, что надо только часть пути проехать шагом или пройти пешком, держа лошадь под уздцы, а дальше дорога становится гораздо лучше. Нотариус, когда дело касалось его удобств, был, как говорится, весьма переборчив, то есть тратил уйму времени на сущие пустяки, заботясь о том, чтобы решительно от всего, вплоть до мелочей, ему была одна приятность. Сейчас он потерял не меньше четверти часа — время, которое мог использовать для отдыха, — на выслушивание объяснений, каким образом он может избежать той же четверти часа несколько утомительной, тряской езды. Он находил, что идти пешком, ведя лошадь за собой, еще утомительнее, нежели ехать в двуколке по ухабам, но что и лучший из этих двух способов плох, ибо вреден для пищеварения. — Знаете что! — сказал ему мельник, который был сосредоточен на своих грустных мыслях, но не настолько, чтобы в нужный момент не дали себя знать его природная доброта и всегдашняя готовность услужить человеку, — идите пешочком, не спеша; я сяду в ваш экипаж и поведу его вверх по откосу, а когда мы минуем виноградники, дорога пойдет сплошь песчаная. Добродушно выполняя взятые на себя обязанности кучера, Большой Луи вскоре должен был резко повернуть двуколку чуть не в придорожную канаву, чтобы пропустить, мчавшуюся во весь опор коляску господина Равалара. Мысли этого господина были еще заняты встречей с нищим, и он не ответил на дружелюбное приветствие мельника. — Теперь он владелец экипажа — потому и узнавать меня перестал, — сказал Большой Луи Лемору, который шеи рядом. — Эх, деньги, деньги! Вы ворочаете миром, как вода вертит мельничное колесо. Этот проклятый колымажник разнесет коляску в пух и прах, коли будет так скакать по камням; он, конечно, подогрет винцом и деньжатами; не знаю уж, от чего люди больше пьянеют: от вина или от денег. Ах, Роза, Роза! Они и тебя отравят ядом тщеславия, и скоро, может быть, ты тоже меня забудешь. Однако сегодня вечером мне показалось, что она любит меня: глаза ее были полны слез, когда ее разлучили со мной. Больше мне с пен разговаривать не придется… и, может быть, она еще пожалеет обо мне. Ах, как бы я мог быть счастлив, кабы не был так несчастлив! Размышления Луи на этом прервались, так как лошадь вдруг дико шарахнулась в сторону. Мельник вытянул шею и увидел посреди дороги что-то темное. Лошадь упиралась и не шла, а дорога в этом месте была скрыта под листвой деревьев и погружена в такой мрак, что Большому Луи пришлось сойти с двуколки, чтобы посмотреть, куча ли камней или какой-то пьяница преграждает ему путь. — Ах, черт! Дядюшка?! — воскликнул он, узнав нищего по его большому росту и лежавшей подле него суме. — Вчера вечером вы растянулись вдоль обочины — это еще куда ни шло, а сегодня уж решили залечь поперек дороги! Видать, вам по вкусу пришлось это местечко; но не больно-то удобное ложе вы себе нашли. Проснитесь, дядюшка, и отправляйтесь спать на мельницу: там вам будет получше, чем здесь, где лошади ходят. — Да он мертв! — воскликнул Анри, обхватив нищего и приподняв его. — Не пугайтесь, не пугайтесь, приятель! Он уже не раз так умирал — дело известное. Обычно выпивка ему нипочем, но в праздник, бывает, человек хлебнет больше, чем может выдюжить. Не случайно как раз по поводу вина говорится, что и самый верный друг может предать. Ладно, перенесем его вон к тому дереву, а на обратном пути подхватим и препроводим на мельницу. Лемор взял нищего за запястье. — Пульс, слава богу, есть, хоть и очень слабый, а не то я готов был бы поклясться, что старик мертв. Подумать только! Этому несчастному мало того, что он стар, нищ и одинок; он еще предается постыдной страсти, которая валит его на землю, под ноги людям. А ведь он тоже человек! — Ну, ну, ну! Очень уж вы суровы, прямо как записной трезвенник! Кто это сказал, что бедняк ищет в вине забвения от своих горестей? Я где-то слышал такое изречение; оно правильное. Лемор и мельник собирались уже временно оставить Кадоша лежать под деревом, как вдруг тот застонал. — Что, дядюшка? — спросил мельник с улыбкой. — Вам не полегчало? — Помираю я, — слабым голосом ответил нищий. — Сжальтесь, прикончите меня… Болит… Сил нет терпеть… — Пройдет, пройдет, дядюшка! Обольетесь холодной водицей, а затем — на боковую, и как рукой снимет… — Меня раздавили, переехали… — прохрипел Кадош. — А что, может быть, так и есть! — воскликнул Лемор. — Всегда говорится что-нибудь в этом роде, — отозвался мельник, достаточно часто слыхавший тяжелый пьяный бред, чтобы чересчур обеспокоиться. — Слушайте, папаша Кадош, с вами в самом деле приключилось несчастье? — Да, да… коляска, коляска… грудь, живот, руки… — Отцепите от двуколки фонарь и принесите мне, — сказал мельник Лемору. — Эти фонари освещают дорогу лишь на несколько шагов, а вокруг кажется еще темнее. Вот поднесем ему фонарь к носу и тогда точно увидим, пьян он или зашиблен. — Не пьян я, не пьян, — снова выдавил из себя нищий, — меня убили, раздавили, как шелудивого пса. Конец мой пришел. Да будут господь бог, пресвятая богородица и все добрые христиане милосердны к рабу божьему Кадошу и да отомстят они за мою смерть! Лемор приблизил к нищему фонарь. Лицо нищего было мертвенно-бледным, одежда его представляла собой такие отрепья, что нельзя было сказать, появились ли на ней новые дыры и пятна, которые в другом случае могли бы свидетельствовать о злополучном происшествии, но обнажив исхудалую, с выступающими ребрами, грудь старика, Лемор и мельник обнаружили на ней багровые полосы: то были следы железных ободьев колес, проехавшихся по телу несчастного. Однако крови не было заметно, ребра, по-видимому, сломаны не были. Дыхание было еще относительно свободным. Старик даже смог рассказать, что с ним случилось, и ему достало сил, чтобы осыпать проклятиями разъезжающего в коляске богача вкупе с его мерзким слугой, превзошедшим хозяина в наглости и жестокости, и призвать на их головы самые ужасные кары, какие только может пожелать своим недругам человек, охваченный яростью и отчаянием. — Слава богу, — сказал мельник, — вы живы, дядюшка Кадош. И, надо надеяться, не помрете сейчас. Это вот оно что: правое колесо проехалось по канаве, вон — след от него. Это вас и спасло; карета накренилась, и на вас пришлась самая малая часть ее веса. Просто чудо, что она не завалилась на бок. — Я-то сделал все, что мог, чтобы свалить ее, — произнес нищий. — Вот, значит, ваша сметка вам и помогла: вас не раздавили насмерть. Но мы еще заставив поплясать виновных. Ну, в первую очередь, отвечать, конечно, должен не Равалар — он, бедняга, поди, больше потрясен, чем вы сами, — а этот зловредный парень, будь он неладен. — А кто возместит мне мои рабочие дни, — я же их сколько потеряю! — плаксиво протянул нищий. — Да вы, черт возьми, заработали больше прогуливаясь, чем мы работая. Но вам окажут помощь, папаша Кадош. Мы устроим сбор в вашу пользу. А сам я отсыплю вам столько муки, сколько весите вы сами. Не расстраивайтесь; когда у человека хворь, нельзя поддаваться страху, а то вконец себя изведешь. Говоря так, добряк мельник с помощью Лемора перенес нищего в двуколку, и они повезли его шагом, тщательно избегая разбросанных на дороге булыжников. Господин Тайян, который поднимался по склону тихонечко, чтобы не Задохнуться, весьма удивился, увидев их едущими обратно, но когда узнал, в чем дело, вполне одобрил то, что его коляской воспользовались для перевозки больного, хотя и подосадовал про себя, что из-за этого должен будет задержаться, да еще второй раз преодолевать крутой подъем, когда он уже почти совсем добрался до верха. Покряхтев, он все же снова спустился вниз — посмотреть, не может ли он чем-либо быть полезен своим друзьям — хозяевам мельницы, и помочь бедняге Кадошу. Старика заботливо уложили на кровать самого мельника, но тут он вдруг потерял сознание. Его привели в чувство, дав понюхать уксуса. — Лучше бы мне водочки нюхнуть, — произнес он, приходя в себя, — здоровее она для человека. Ему принесли водочки. — Лучше мне хлебнуть ее, чем нюхать, — разохотился нищий, — это больше подкрепляет. Лемор воспротивился: после такого несчастного случая горячительное могло вызвать отчаянный приступ лихорадки. Кадош, однако, продолжал просить. Мельник попытался отговорить его, но тут вмешался господин Тайян. Нотариус годами так тщательно следил за собственным здоровьем, что в конце концов подпал под влияние некоторых медицинских предрассудков. Он заявил, что в подобных обстоятельствах вода может оказаться смертельной для человека, который, возможно, целых пятьдесят лет не брал ни капли ее в рот; что спиртное, как привычное ему питье, произведет на него лишь благотворное действие; что серьезных повреждений у него нет, а он только очень испуган, и небольшое возбуждение от «рюмашечки» восстановит его силы. Мельничиха и Жанни, верившие, как все крестьяне, в безусловную целительность вина и водки при любых болезнях, поддержали нотариуса, также высказавшись за удовлетворение просьбы пострадавшего. Мнение большинства возобладало, но пока ходили за стаканом, Кадош, в самом деле испытывавший жажду, всегда томящую тяжелобольных, поспешно приложился к бутылке и одним духом выдул больше половины ее содержимого. — Хватит, хватит! — крикнул мельник, останавливая его. — Как, племянничек! — возразил нищий с достоинством отца семейства, требующего, чтобы ему не мешали осуществлять его законные права. — Ты отмеряешь мне мою долю в своем доме? Жмешься, когда надо оказать помощь больному дядюшке? Несправедливый упрек Кадоша сломил благоразумное сопротивление Большого Луи. Он оставил бутылку подле старика, сказав ему: — Придержите ее впрок, а покамест — будет. — Ты хороший родственник, стоящий племянник! — молвил Кадош, который, глотнув водки, словно воскрес из мертвых. — Ежели мне крышка, то лучше мне помереть в твоем доме, потому как ты похоронишь меня чин по чину! Красивые похороны всегда мне были по душе. Слушайте меня, племянник, работники, нотариус! Беру вас всех в свидетели: я приказываю моему племяннику и наследнику, Большому Луи из Анжибо, предать мое тело погребению с не меньшим почетом, чем будут хоронить — вскорости, конечно, — старика Бриколена… поелику он ненадолго меня переживет: он моложе, чем я, но… когда-то он дал себе здорово подпалить ноги… Ах, ах! Скажите на милость, вы все, не глупо ли дать себе поджаривать пятки из-за чужих денег? Правда, у него и свои были в том чугунке! — Что такое он мелет? — вымолвил нотариус, который сидел тут же за столом и не без удовольствия следил за движениями мельничихи, приготовлявшей чай для больного, нацеливаясь тоже проглотить чашечку горячего напитка, чтобы обезопасить себя от вечерних паров над рекой. — Что это за чепуха про поджаривание пяток да про какой-то чугунок? — Он заговаривается, должно быть, — ответил мельник. — Да и помимо того, что сейчас он пьян и болен, у него обычная старческая болтливость, и события тех времен, когда он был молод, занимают его больше, чем происходящее ныне. Это всегда так у стариков. Как чувствуете себя, дядюшка? — Теперь получше: глоточек помог, хотя водка у тебя, племянник, слабая, ни к черту не годится! Или, может, меня надули — разбавили ее водой экономии ради? Послушай, ты не должен ничего жалеть для меня, пока я болен, а то, смотри, лишу наследства! — Ага, вот еще об этом важном деле разговору не было сегодня, так теперь о нем потолкуем, — сказал, пожав плечами, мельник. — Попробовать бы вам уснуть, папаша Кадош! — Мне сейчас уснуть? Нет, я не желаю спать, — ответил нищий, приподымаясь с подушки и обводя всех горящими глазами. — Я чувствую, что моя песенка спета, но не хочу помереть на боку, как вол. Ох, что-то давит на грудь, на сердце, словно камень на меня навалили… Душит, мешает… Мельничиха, сделай мне компресс. Никто обо мне тут не заботится, словно я не богатый дядюшка, от которого можно ждать наследства. — Не сломаны ли у него ребра? — предположил Лемор. — Может быть, поэтому ему так давит на сердце? — Я в этом не смыслю ни аза, да и никто из нас не смыслит, — отвечал мельник. — Но можно, конечно, послать за лекарем: он наверняка еще в Бланшемоне. — А кто ему заплатит? — спросил нищий, который, хоть и похвалялся перед всеми своим воображаемым богатством, был скуп и дрожал над каждым грошом. — Я заплачу, дядюшка, — успокоил его Большой Луи, — ежели только он не захочет просто по человечеству сделать, что будет нужно. Про меня никто не скажет, что я позволю бедняку околеть в моем доме без помощи, которую оказали бы богатому. Жанни, садись на Софи и быстро поезжай за господином Левернем! — На Софи? — с усмешкой повторил Кадош. — Ты говоришь это по привычке, племянник! Ты забыл, что Софи украли. — Софи украли? — спросила мельничиха, которая выходила и теперь снова вошла в комнату. — Он бредит, матушка, — ответил мельник. — Не обращайте внимания на его слова. Скажите-ка, папаша Кадош, — понизив голос, обратился он к нищему, — вы, значит, про это знаете? Не можете ли вы к тому же сообщить мне какие-нибудь сведения о похитителе? — Кому это ведомо? — сокрушенно отозвался Кадош. — Кто умеет находить воров? Во всяком случае, не жандармы, они слишком глупы для этого! Кто когда-нибудь мог сказать, что за люди жгли ноги папаше Бриколену и похитили у него чугунок? — Ах, вы опять про то же! — воскликнул мельник. — Послушайте, дядюшка, вы все время твердите о поджаривании ног. С некоторых пор всякий раз, как я вас встречаю, вы заговариваете об этом, а сегодня в вашей истории появился еще чугунок какой-то. Его вы раньше при мне не поминали! — Не заставляй его разговаривать! — сказала сыну мельничиха. — Из-за тебя у него усилится лихорадка. Нищего и в самом деле лихорадило. Как только он замечал, что присутствующие не смотрят на него, он украдкой делал глоток из бутылки и затем ловко прятал ее под подушку у стены. С каждой минутой он явно приободрялся, и нельзя было без удивления смотреть на то, как хорошо переносит этот глубокий старик повреждения, которых не выдержал бы никто другой. — Чугунок! — повторил он, пристально глядя на Большого Луи; выражение глаз у него было странное и вызывало безотчетную тревогу. — Чугунок! Он всего важнее в этой истории, и я сейчас вам ее расскажу. — Расскажите, расскажите, папаша Кадош, мне будет интересно послушать, — заметил нотариус, внимательно следивший за нищим.XXXIII. Завещание
— Был один чугунок, — продолжал Кадош, — старый, неказистый чугунок, ничем не примечательный… Но никогда нельзя судить но внешности: чугунок этот с наглухо запаянной крышкой, тяжелый… ох, до чего же он был тяжелый!.. содержал пятьдесят тысяч франков старого господина де Бланшемона, чья внучка сейчас на ферме у Бриколенов. Кроме того, старый папаша Бриколен, который тогда был молодым человеком, — тому уж сорок лет, ровно сорок — заложил в чугунок свои собственные пятьдесят тысяч, заработанные на одном выгодном дельце с шерстью. Эх то-то было времечко! Одни только поставки для армии чего стоили! И деньги, отданные на хранение арендатору господином де Бланшемоном, и деньги самого арендатора — все это были славненькие луидоры двадцатичетырехфранкового достоинства, с изображением его величества короля Людовика Шестнадцатого, — монеты из тех, что мы называем «жабий глаз», потому как у них на оборотной стороне вычеканен круглый гербовый щит. Всегда-то я любил эти монеты! Говорят, что при размене их кое-что теряешь, а я скажу, что выигрываешь: двадцать три франка одиннадцать су — это всегда будет ценнее, чем дрянной наполеондор достоинством в двадцать франков. Монеты помещика и арендатора были перемешаны. Только арендатор, который любил свои луидоры ради них самих (так-то и надо любить денежки, дети мои!), переметил их крестом, чтобы отличить от хозяйских, когда придет время их возвращать. Он сделал это по примеру самого хозяина: тот переметил свои золотые одной чертой — как тогда болтали, забавы ради и еще для того, чтоб их ему не подменили. Так что, бишь, я говорю? Да! На них была метка… и сейчас еще есть… потому как ни один из этих кругляшей не пропал; даже наоборот, к ним еще и другие прибавились! — Что за сказки он плетет? — сказал мельник, посмотрев на нотариуса. — Тихо! — остановил его нотариус. — Пусть говорит! Мне кажется, я начинаю кое-что понимать. Ну и что же было дальше? — спросил он нищего. — А дальше было то, что арендатор запрятал чугунок в дыру, выдолбленную в стене (дело было в замке Бофор), и велел заложить дыру кирпичом. Когда к нему явились поджариватели… Не надо думать, что все они были из простонародья! В их числе было немало бедняков, но были и богачи! Я их хорошо знаю, черт бы их побрал! Некоторые до сих пор живы, и им низко кланяются при встрече. Были среди нас… — Среди вас? — вскричал мельник. — Молчите! — снова одернул его нотариус, сильно сжав ему руку у локтя. — Я хочу сказать, что среди них были стряпчий, мэр, кюре, мельник… может быть, и нотариус… Это я не про вас, господин Тайян: вы тогда, верно, только на свет родились; и не про тебя, племянничек: ты был бы слишком прост для такого дела. — Итак, поджариватели забрали деньги? — подсказал нищему нотариус. — Не забрали они их, вот что самое забавное! Они подпекали ножки несчастному простофиле Бриколену… Это было ужасно… Чудовищное было зрелище… — Так это происходило у вас на глазах? — спросил мельник, не в силах сдержаться. — Нет, нет, я этого не видел, — открестился нищий, — но один мой дружок, который был там, рассказал мне обо всем. — Ну, слава богу, — вымолвил мельник, у него отлегло от души. — Пейте свой чай, папаша Кадош, — сказала мельничиха, — и не болтайте столько, а то вам хуже станет. — Иди ты, мельничиха, ко всем чертям со своим кипятком, — ответил нищий, отталкивая чашку, — терпеть не могу это пойло. Дайте мне дорассказать мою историю; долго она лежала камнем у меня на душе, и сейчас я хочу, пока не помер, выложить ее всю до конца, а меня то и дело перебивают! — Это правда, — сказал нотариус, — сегодня утром вы пытались рассказать ее людям на церковной площади, но все поворачивали к вам спину, говоря: «Ну вот, папаша Кадош снова завел свою историю про поджаривателей, пошли отсюда!» Но меня-то она заинтриговала, и я охотно дослушаю. Продолжайте же. — Так вот, значит, этот человек, про которого я говорил, попал туда не совсем по своей воле: был он бедный крестьянин, и его заставили — тогда только он и пошел. А потом его разобрал страх, и он хотел было улизнуть, но ему пригрозили, что застрелят его тут же на месте, ежели он не сядет на лошадь, которую подвели к нему; она, как и другие их лошади, была подкована наоборот, чтобы сбить с толку возможных преследователей, когда шайка будет возвращаться после дела… И когда этот человек оказался там, то с волками жить — по-волчьи выть: пришлось ему делать то же, что и другие делали. Он принялся всюду шнырять да рыскать, ища деньги. Ему это было менее противно, чем помогать поджаривать беднягу Бриколена: он был не такой уж плохой человек — приятель, про которого я вам рассказываю. Да, не нравилась ему эта затея, жутко было видеть… и отвратительно… Несчастный вопит, орет, как зарезанный… женщины в обмороке, а проклятые ноги болтаются в огне, подскакивают… так и вижу их сейчас перед глазами. Ночи не было с тех пор, чтобы они мне не снились! Бриколен в то время был сильным мужчиной: он так отбивался, что погнул ногами железный брус, который подогревался огнем… Но я, я не принимал в этом участия, клянусь богом, не принимал! Когда меня заставили прижимать ему салфетку ко рту, меня прошиб холодный пот… — Вас? — переспросил потрясенный мельник. — Человека, который мне про это рассказывал… И человек тот наконец улучил момент, убрался оттудаи пошел искать, перерывать весь дом снизу доверху, выстукал все стены киркой — нет ли где полости, крушил направо и налево что ни попадалось под руку, — словом, вел себя, как и другие. И случилось так, что он попал, извините за выражение, в свинарник, и попал туда один. С этих пор я и полюбил свиней и каждый год выращиваю по хрюшке… Выстукивает он стенки, прислушивается… Слышит — вроде бы пустота. Осматривается кругом… Гляжу — я совсем один! Тут он начинает бить стену, залезает в дыру руками и находит — угадываете, что? — Чугунок он находит. Мы хорошо знали, что это копилка папаши Бриколена. Слесарь, запаявший ее наглухо, в свое время проболтался, и я тотчас узнал, что это и есть тот самый горшок с медом. Ну и тяжелый же он был! Но у приятеля моего вдруг обнаружилась бычья силища! Он тут же дал деру и был таков — с чугунком вместе! А йотом сразу же — шмыг из этих мест, ни с кем не попрощавшись, — только его и видели! Ведь он в крупную игру ввязался: шутка ли — сто тысяч! Поджариватели как пить дать укокошили бы его, коли бы настигли.: Он шел день и ночь без остановки, не пил, не ел, пока не оказался в большом лесу. Там он зарыл чугунок и проспал уж не знаю сколько часов подряд. Ох и устал же я тогда от этого груза. Когда я почувствовал голод, то не знал, что делать. У меня в кармане не было ни су, и я знал, что на все мои сто тысяч франков нет ни одной немеченной монеты! Я их все пересмотрел, перед тем как зарыть, — не мог удержаться, — и увидел, что по этим проклятым меткам полиция, которой, уж конечно, сообщили о происшедшем, тотчас их опознает. Попытаться выскрести метки было бы еще хуже. И затем, коли бы такой голодранец, как тот, о ком я вам рассказываю, вздумал разменять луидор, чтобы купить кусок хлеба у булочника, это сразу показалось бы подозрительным. Ему оставалось только одно — начать попрошайничать. И он стал нищим. Полиция в то время орудовала не так проворно, как нынче: тому доказательством, что ни один из поджаривателей не покинул округи и не был наказан. Ремесло нищего недурное, когда умеешь взяться за дело… Мне на нем удалось кое-что скопить, притом, что я ни в чем себе не отказывал. Мой приятель не сделал такой глупости, чтобы позвать слесаря сызнова запаять чугунок. Чугунок и лежит, зарытый прямо посередине той жалкой, крытой соломой хибарки, что служит этому человеку жильем; он ее сам построил в лесной чаще. Сорок лет никто его не трогал, потому как никто не завидует его судьбе, и он находил удовлетворение в том, что был богаче и независимее тех, кто его презирал. — А что ему был за прок от его золота? — спросил Анри. — Он любуется им каждый раз, когда возвращается в свою хибарку, и складывает туда денежки, собранные за неделю. Оставляет он себе лишь то, что ему потребно на табак и водку. Время от времени он заказывает обедню, чтобы отблагодарить бога за услугу, которую тот ему оказал. И так вот сорок лет благодаря своей осмотрительности и расчетливости прячет он концы в воду. Он не настолько безумен, чтобы вынуть хоть одну монету из своего хранилища, хотя сейчас это уж не вызвало бы подозрений. История та забыта, и дело похерено. Но люди могли бы подумать, что он богат, и не стали бы подавать ему милостыню. Такова, дети мои, история чугунка. Как вы ее находите? — Великолепно! — воскликнул нотариус. — И весьма поучительно! Наступило глубокое молчание. Присутствующие смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Они испытывали смешанное чувство удивления, испуга и презрения, но притом их почему-то разбирал смех. Кадош, утомленный своим словоизлиянием, в изнеможении откинулся на подушку; его обескровленное лицо приобрело зеленоватый оттенок; длинная, жесткая, еще достаточно черная борода усугубляла мрачное впечатление от его землисто-серой физиономии и делала облик его совсем уже устрашающим. Глубоко сидящие глаза, которые пламенно сверкали, пока язык его был развязан пьяным возбуждением и лихорадкой, казалось, еще глубже ушли в глазницы и остекленели, как у мертвеца. Лицо, заостренное худобой, резко выступающий, тонкий с горбинкой нос, узкие губы, все его черты, в молодости, возможно, даже приятные, не свидетельствовали о природной жестокости; в них выражалась странная смесь скупости, хитрости, недоверчивости, чувственности и, казалось бы, несовместимого с этими качествами добродушия. — Ну и ну! — нарушил наконец молчание мельник. — Что это мы слышали сейчас: пересказ сна, который ему привиделся, или подлинную исповедь? Кого надо звать: лекаря или кюре? — Господь сжалился над ним! — произнес Лемор, внимательнее других наблюдавший за тем, как изменялось лицо нищего, и заметивший, что дыхание его стало более стесненным. — Или я сильно ошибаюсь, или же ему осталось жить несколько минут. — Мне осталось жить несколько минут? — повторил его слова нищий, приподнимаясь с подушки. — Кто это сказал? Лекарь? Я не верю лекарям. К черту их всех! Он отвернулся к стене, опустошил до дна бутылку, затем принял прежнее положение, но вдруг, почувствовав нестерпимую боль, громко застонал. — Мне придавили сердце, — через силу произнес он. — Может статься, я и не выкарабкаюсь из беды. Что же будет, ежели мне больше не вернуться домой? Кто позаботится о моей бедной хрюшке? Она привыкла сжирать хлеб, что мне подают, — я ей приношу хлебца каждую неделю. Правда, у меня там есть молоденькая соседка — она выводит мою хрюшку пастись. Плутовка этакая! Она делает мне глазки: надеется получить от меня наследство! Дудки! Вот мой наследник! И он торжественным жестом указал на Большого Луи. — Он всегда был ко мне добрее других. Он один обходился со мной, как я заслуживаю: укладывал меня на свою постель, давал мне табачок, водочку, мясцо — это не то что их хлебные корки, к которым я никогда не прикасался. Я всегда держался одного хорошего правила: не забывать добра! И я всегда любил Большого Луи и господа бога, затем что они делали мне добро. Так вот, я желаю составить завещание в его пользу, как я ему не раз обещал. Как ты думаешь, мельничиха, не настолько я болен, что не успею сделать это? — Да нет, нет, божий человек! — воскликнула мельничиха; ангельски чистая душа, она приняла рассказ нищего за некую фантазию. — Не составляйте завещания: говорят, это приносит несчастье и приближает смерть. — Напротив, — возразил господин Тайян, — от этого только лучше становится: наступает облегчение. Человек чуть ли не с того света возвращается. — В таком случае, нотариус, — сказал нищий, — я хочу испробовать это средство. Я ценю то, что у меня есть, и хочу, чтобы имущество мое перешло в хорошие руки, а не в руки молоденьких вертихвосток, что увиваются вокруг меня, да без толку, потому как не получат ничего, кроме букетика и ленты с моей шляпы, чтобы им украшаться по воскресеньям. Нотариус, берите перо, слушайте и пишите, как положено по форме, и ничего не пропуская: «Я отказываю и завещаю моему другу, Большому Луи из Анжибо, все, чем я владею: мой дом, расположенный в Же-ле-Буа, мой картофельный огородик, мою свинью и мою лошадь!..» — У вас есть лошадь? — спросил мельник. — С каких же пор? — Со вчерашнего вечера. Нашел я ее; шел, шел и нашел. — А не моя ли это лошадь часом? — Твоя и есть, твоя старая Софи, что не стоит и подков, которыми она подкована. — Извините, дядюшка! — воскликнул мельник, обрадованный и обиженный одновременно. — Я дорожу моей Софи, она стоит больше, чем иные люди! Черт возьми, вы не постеснялись украсть у меня Софи! А я-то вам так доверял, что мог бы отдать вам ключ от мельницы! Ах вы старый лицемер! — Молчи, племянник, ты глупо рассуждаешь, — с важностью произнес Кадош, — красиво ли это, чтобы дядя не имел права воспользоваться лошадью своего племянника? Все твое — мое, поскольку, согласно моей воле и моему завещанию, все мое будет твоим. — Ладно, пусть будет по-вашему! — отозвался мельник. — Завещайте мне Софи, завещайте, завещайте, дядюшка, я не против. Слава богу еще, что вы не успели ее продать!.. Вот старый проходимец! — пробормотал он сквозь зубы. — Что ты сказал? — спросил нищий. — Ничего, дядюшка, — ответил мельник, заметив, что у старика в груди начался прерывистый хрип, — я говорю, что вы правильно сделали, раз уж вам взбрело в голову просить милостыню верхом! — Вы кончили, нотариус? — произнес Кадош слабеющим голосом. — Больно медленно вы пишете! Я уж засыпать начал. Быстрей шевелитесь, законник, не тяните! — Готово! — сказал нотариус. — Сумеете подписаться? — Получше, чем вы! — ответил Кадош. — Но я плохо вижу. Дайте мне мои очки и понюшку табаку. — Вот, возьмите! — сказала мельничиха. — Эх, хорошо! — крякнул нищий, в полную меру насладившись понюшкой. — Вроде я и пободрей стал. Еще, видать, жив курилка… хотя все у меня болит, болит чертовски! — Он бросил взгляд на завещание и забеспокоился: — А вы не забыли чугунок и его содержимое? — Конечно, нет! — ответил господин Тайян. — И правильно сделали! — сказал Кадош подчеркнуто ироническим тоном. — Хотя все, что я вам тут наговорил, — басня. Я ее сочинил, чтобы посмеяться над вами. — Я не сомневался в этом! — радостно воскликнул мельник. — Будь у вас эти деньги, вы бы вернули их по принадлежности. Вы же всегда были порядочным человеком, дядюшка!.. Правда, вы украли мою кобылу, но это одна из ваших шуточек; вы бы привели ее обратно! Бросьте, не подписывайте эту чепуху! Мне ваш скарб без надобности, а какому-нибудь бедняку он может пригодиться. Да, впрочем, у вас, может быть, есть какой-нибудь родственник; я не хочу, чтобы он лишился хоть одного су из той малости, что вы скопили. — Нет у меня родственников! Я их всех похоронил, слава богу! А что до бедняков, то я их презираю! Дай мне перо, или я тебя прокляну! — Ладно, ладно, позабавьтесь, дядюшка! — сказал мельник, передавая ему перо. Нищий поставил свою подпись; потом, с ужасом оттолкнув от себя бумагу, закричал: — Заберите, заберите от меня это! Она на меня накличет смерть! — Порвать ее? — спросил Большой Луи, готовый привести свои слова в исполнение. — Нет, нет, не рви! — запротестовал нищий, в последний раз собрав свою волю. — Положи ее себе в карман, мой мальчик, и, может быть, ты на этом не потеряешь. Да, а лекарь-то где же? Он мне нужен, чтобы прикончил меня поскорее, ежели мне суждено еще долго так мучиться! — Придет, придет! — успокоила его мельничиха. — И кюре придет с ним. Я позвала обоих. — Кюре? — переспросил Кадош. — А его-то зачем? — Чтобы сказать вам слово утешения, папаша Кадош. Вы ведь всегда помнили о боге, и душа ваша заслуживает заботы о себе, как и всякая другая. Я уверена, что господин кюре не откажется приехать к нам, чтобы дать вам причаститься святых даров. — Значит, пропащее мое дело? — произнес умирающий с глубоким вздохом. — Коли так — довольно глупостей! Пусть этот кюре идет ко всем чертям, хотя он по сути добрый малый и не дурак выпить. Но попам я не верю. Я почитаю господа бога, а священников не уважаю. Господь дал мне деньги, а священник заставил бы меня их вернуть. Дайте мне умереть спокойно! Племянник, ты обещаешь мне раскроить дубиной башку проклятущему колымажнику? — Ну, не то чтобы раскроить башку, но отдубасить как следует обещаю. — Хватит болтать! — резко сказал нищий, подняв бескровную руку. — Я бы хотел умереть за разговором, да сил нет. А все же не так уж я болен, как вы думаете. Сейчас я посплю, и, может быть, ты еще не скоро получишь от меня наследство, племянничек! Нищий снова упал навзничь, и вскоре дыхание в его груди стало клокочущим и свистящим. Он сильно покраснел, затем кровь опять отлила от его лица. Несколько минут он постонал, испуганно открыл глаза, словно смерть предстала перед ним в зримом обличье, и вдруг, слегка улыбнувшись, как если бы к нему вернулась надежда на жизнь, испустил дух. Смерть человека, даже очень плохого, ощущается благочестивыми душами как таинственное и многозначительное событие, внушает им богобоязненный трепет и потребность в сосредоточенном молчании. Все, кто был на мельнице, словно застыли, погруженные в печаль, когда нищий старик Кадош скончался. Несмотря на его пороки и шутовство, несмотря далее на его странную исповедь, в правдивость которой действительно поверил один нотариус, мельничиха и ее сын питали дружеское расположение к старику просто потому, что привыкли делать ему добро; ибо если верно суждение, что нас ненавидят за нам же причиненное зло, то следует признать справедливым и обратное заключение. Мельничиха опустилась на колени у кровати и стала произносить слова молитвы. Лемор и мельник в мыслях также вознесли моление тому, в чьей руце высшая справедливость, чтобы он в неизреченном милосердии своем не покинул бессмертную душу, некогда ниспосланную им с небес и прошедшую свой путь земной в неприглядном обличье этого несчастного, жалкого человека. Только нотариус спокойно отвернулся и проглотил чашку чаю, равнодушно произнеся: «Ite, missa est, Dominus vobiscum!»[149] — Слушай, Большой Луи, — сказал он затем, вызвав мельника из комнаты, — надо сейчас же отправляться в Же-ле-Буа, до того, как туда дойдет известие о его кончине. А то какой-нибудь бродяга вроде него самого перевернет всю хижину вверх дном и вытащит из гнезда яичко. — Какое еще яичко? — удивился мельник. — Что там есть? Свинья да какие-нибудь лохмотья? — Нет, чугунок! — Сказки это, господин Тайян! — И все-таки надо посмотреть. А кроме того, там твоя лошадь. — Ах, да, моя старая, верная Софи! Вы правы, я и забыл совсем! Она такая добрая, и дружим мы с ней так давно, что грех не съездить за пей хоть в какую даль! Мы же с ней почти однолетки, она да я. Еду! Ну, а что, если он и про нее наврал, посмеялся надо мной? Старикан был большой шутник… — Поезжай, поезжай, говорю тебе, не ленись! Я верю в этот — как его там? — чугунок, или железный горшок, и вера моя «тверда, как железо», говоря по-нашему, по-местному. — Но скажите на милость, господин Тайян, неужто этот клочок бумаги, который вы измарали себе на забаву, в самом деле имеет какую-то ценность? — Завещание написано по всей форме — за годность его я ручаюсь. Оно может тебя сделать обладателем ста тысяч франков. — Меня? Но вы забываете, что если рассказанное им правда, то половина денег принадлежит госпоже де Бланшемон, а другая — Бриколенам? — Это еще один довод за то, что надо спешить. Ты согласился принять дар Кадоша именно с тем, чтобы вернуть его законным владельцам. Отправляйся же за ним. Когда ты окажешь столь большую услугу Бриколену, он будет последним негодяем, если не отдаст за тебя дочку! — Отдаст за меня дочку? Да разве я помышляю о его дочке? Разве его дочка может думать обо мне? — воскликнул мельник, заливаясь краской. — Ладно, ладно, скромность — всегда добродетель, но я видел, как вы танцевали вместе, и смекнул, почему папаша вас так грубо оторвал друг от друга. — Выбросьте это из головы, господин Тайян, зряшный разговор… Я отправляюсь. Но если в самом деле там зарыт клад, что мне с ним делать? Не надо ли доложить судебным властям? — Чего ради? Судебные формальности изобретены для тех, кто неправосуден в сердце своем. Надо ли бесчестить память этого старого шута, который умудрился, прокоптив небо восемьдесят лет, всю жизнь слыть человеком порядочным. Тебе нет также нужды доказывать людям, что ты не вор: это и так никому не придет в голову. Ты просто вернешь деньги владельцам — и дело с концом. — Но если у старика есть родственники? — Их у него нет; а если бы и были, — ты, что же, хочешь, чтобы они унаследовали то, что им не принадлежит? — Это верно; я совсем одурел от происшедшего… Я верхом поеду. — Не больно удобно тебе будет ехать на лошади с этим самым чугунком, который «так тяжел, так тяжел!» Дороги-то там достаточно проезжие? — Вполне. Отсюда надо ехать на Трансо, потом — на Лис-Сен-Жорж, а оттуда — на Же-ле-Буа. Это все одна проселочная дорога, недавно починенная. — Тогда бери мою двуколку, Большой Луи, и не мешкай. — А как же вы? — А я покамест сосну здесь, у вас. — Вы славный человек, дьявол меня заешь! А что, как постель будет для вас жестковата — вы же маленько привередливы по этой части? — Пустяки! Одна ночь не имеет значения. Да и, кроме того, не может же твоя матушка оставаться наедине с покойником: это уж больно невесело. Ведь ты должен взять с собой работника. Когда имеешь при себе большие деньги, второй человек не лишний. В сумках двуколки ты найдешь Заряженные пистолеты. Я без них не езжу, потому что мне нередко доводится перевозить ценности. Ну, с богом! Скажи матушке — пусть приготовит мне еще чаю. Мы с ней посидим, побеседуем подольше, а то мне из-за покойника в доме как-то не по себе. Пять минут спустя Лемор и мельник ехали, окутанные ночным мраком, по дороге в Же-ле-Буа. Дадим им время, чтобы добраться туда, и вернемся на ферму посмотреть, что происходит там, пока они в пути.XXXIV. Бедствие
Матушка Бриколен была очень обеспокоена тем, что мельник все не приезжает в Бланшемон. Ей и в голову не приходило, что ее посланец не сможет уже никогда явиться За обещанной ему мздой, а читатель легко поймет, что в свой смертный час нищий забыл о взятом им на себя поручении. В конце концов, утомленная ожиданием и расстроенная, матушка Бриколен пошла к своему супругу, удостоверившись перед тем, что безумная еще блуждает по заказнику, как всегда, погруженная в свои мечтания, и не тревожит больше тишину долины наводящими ужас воплями. Время приближалось к полуночи. Еще звучали нестройные голоса расходившихся по домам запоздалых посетителей кабачка, но собаки на ферме не снисходили до лая, видимо, признав по этим голосам «своих». Господин Бриколен по настоянию своей жены, требовавшей, чтобы неофициальное соглашение с Марселью сейчас же вступило в силу, передал, не без душевных терзаний и не без страха, «другой стороне в сделке» бумажник с двумястами пятьюдесятью тысячами франков. Марсель без особого волнения приняла этот почтенный бумажник из рук арендатора. Он был такой засаленный, что она взяла его кончиками пальцев. Наскучив заниматься делом, внушавшим ей отвращение из-за жадности ее контрагента, она небрежно сунула бумажник в один из ящиков секретера Розы. Она приняла плату так быстро из тех же соображений, по которым приобретатель поторопился ее вручить: ей тоже нужно было связать своего партнера, чтобы обеспечить будущее девушки и отрезать чете Бриколенов путь к отступлению. Она наказала Фаншоне, когда бы ни явился Большой Луи, проводить его в кухню и позвать ее. Затем она бросилась одетая на кровать, чтобы хоть отдохнуть, если не подремать, потому что Роза, по-прежнему возбужденная, не уставала восторженно благодарить ее и говорить о своем счастье. Однако, так как мельник не приезжал, а треволнения этого дня изнурили всех, к двум часам ночи обитатели фермы спали глубоким сном. Правда, из этого числа надо исключить одного члена семьи Бриколенов, а именно — безумную, чей мозг, продолжавший распаляться, находился сейчас в крайне беспокойном, поистине горячечном состоянии. Супруги Бриколен, до того как улечься спать, долго беседовали на кухне. Арендатору больше нечего было бояться, и он, за предшествующий час застудив свои внутренности холодной водой, теперь снова прилепился к кувшинчику в голубой цветочек, то и дело наливая в него доверху из стоявшего рядом огромного жбана, который он наклонял нетвердой рукой, пенящееся лиловатое вино. Это был его первачок, самое хмельное из вин нового урожая, напиток, неприятный на вкус, но любезный Бриколену больше, чем все вина на свете. Арендаторша, видя, что ни радость от приобретения Бланшемона, ни вдохновляющая перспектива дальнейшего обогащения не в состоянии больше оживить потухший взор и вернуть на место отвалившуюся челюсть ее муженька, многократно предлагала ему отправиться на боковую, но он всякий раз отвечал: «Сейчас, сейчас иду» и продолжал сидеть за столом. Наконец, убедившись, что и Роза и Марсель спят, госпожа Бриколен, не в силах более бороться со сном, тоже пошла лечь и заснула, напрасно зовя мужа, который не мог пошевельнуться и даже не слышал ее. Упившийся до положения риз и начисто утративший способность соображать, как это бывает с иными людьми, которые, сделав усилие, чтобы протрезветь, затем вознаграждают себя с лихвой, арендатор сидел, клюя носом, но держась за ручку кувшина, и заливистыми всхрапами баюкал свою жену, спавшую тяжелым сном в соседней комнате с открытой в кухню дверью. Не прошло и часа, как Бриколен почувствовал удушье и непреодолимую слабость в членах. У него едва достало сил подняться. Ему казалось, что легким его не хватает воздуха; в глазах у него щипало, он не мог ничего разглядеть, и в голове его промелькнула мысль, что его поразил апоплексический удар. Страх смерти придал ему сил, и он ощупью добрался до двери, выходившей во двор; свеча в жестяной плошке уже успела догореть и погаснуть. Ему удалось открыть дверь и спуститься по ступенькам грубого крыльца, игравшего роль портика в новом замке; остановившись, он обвел двор бессмысленным взглядом, не понимая, что он видит перед собой. Двор был залит странным сиянием, и арендатор машинально прикрыл рукой глаза, так как резкий переход от полной темноты к ослепительному свету снова вызвал у него головокружение. Наконец воздух несколько рассеял винные пары в его голове, удушье прошло, но зато его стал колотить озноб; сначала на него просто подействовала утренняя прохлада, но затем он задрожал уже от страха. Два огромных языка огня, пробивавшиеся сквозь густой дым, полыхали над крышей амбара. Бриколену показалось, что он видит дурной сон; он протер глаза, встряхнулся всем телом, но пламя по-прежнему поднималось к небу, разрастаясь с чудовищной быстротой. Он хотел крикнуть: «Пожар!», но у него перехватило горло, и он не мог произнести ни звука, Попытавшись вернуться к дому, от которого он отошел на несколько шагов, сам не зная, куда идет, он увидел справа от себя пламя, вырывающееся из хлевов, слева — огненные венцы над башнями старого замка, а прямо перед собой… свой собственный дом, озаренный фантастическим светом, и черные клубы дыма, валящие, словно из горна плавильной печи, из той двери, через которую он только что вышел. Все строения, примыкавшие к Бланшемонскому замку и самый замок были охвачены огромным, превосходно рассчитанным пожаром. Поджог был учинен более чем в дюжине мест, и — что было самым зловещим в первом действии этой странной драмы — вокруг царила мертвая тишина. Бриколен, лишенный сил, утративший способность действовать, стоял и смотрел в полном одиночестве на катастрофу, о которой еще никто не подозревал. Все обитатели нового замка и прочие люди на ферме крепко спали под влиянием усталости или алкоголя и угорели во сне. Горящие строения начинали трещать, и черепица с дробным стуком стала падать на мощеный двор. Ни крика, ни стона не раздалось в ответ на эти грозные предвещания. Казалось, огонь пожирает обезлюдевшие строения, в которых нет никого живого, а есть только трупы. Бриколен ломал руки, но оставался безмолвным и недвижимым, словно его душил кошмар и он лишь силился проснуться. Наконец тишину прорезал пронзительный женский крик, один-единственный крик, и Бриколен, как бы освободившись от околдовавших его чар, ответил на этот призыв человеческого голоса диким воплем. Марсель первая в доме заметила опасность и, схватив на руки ребенка, бросилась наружу. Не обратив внимания на Бриколена и на бушующий вокруг пожар, она положила мальчика на кучу сена посреди двора и, твердым голосом сказав ему! «Оставайся здесь! Не бойся!», ринулась обратно в дом, несмотря на то, что он был весь заполнен удушливым дымом. Подбежав к кровати Розы, она окликнула ее, но та не двигалась, словно у нее отнялись ноги и руки, и была не способна подняться с места. Тогда, выказав силу, неожиданную в такой изящной и хрупкой женщине, Марсель в порыве внезапной отваги обхватила руками свою юную приятельницу, которая была больше ростом и тяжелее ее самой, героически вытащила ее из горящего дома и положила рядом с Эдуардом. Увидев дочь, Бриколен, сначала не думавший ни о чем, кроме как о своих закромах и о скоте, и метавшийся около амбаров, вдруг вспомнил, что у него есть семья; вторично отрезвев, на этот раз окончательно, он побежал на помощь матери и жене. К счастью, огонь шел больше поверху, а первый этаж, в котором жили Бриколены, еще не загорелся, за исключением флигелька, где находилась комната Розы; он был низкий, одноэтажный, и возле него были навалены кучи хвороста, поэтому огонь быстро охватил его. Госпожа Бриколен, внезапно разбуженная, тотчас выказала свою обычную дееспособность и присутствие духа. С помощью мужа и Марсели она вынесла наружу старика Бриколена, который, считая, что снова попал в руки поджаривателей, вопил, что было мочи: «У меня больше ничего нет! Не убивайте меня! Не жгите! Я вам все отдам!» Маленькая Фаншона умело, как взрослая, помогла матушке Бриколен, которая вскоре пришла в себя и сама принялась помогать другим. Удалось разбудить испольщиков и их батраков, так что спаслись от гибели все… Но пока длилась суматоха, ушло много времени, и, когда пришла помощь из села, когда сумели наладить цепь передающих воду, было уже поздно. Вода как будто лишь усиливала пожар, так как под ее действием от строений отламывались большие куски дерева и горящие головешки разлетались во все стороны. Запасы пшеницы и ячменя, от которых ломились хранилища, сгорали буквально на глазах. Столетним балкам обветшалых строений достаточно было искры, чтобы воспламениться. Коровы и быки упирались, их нельзя было вывести из хлевов, и почти все они задохлись или сгорели. Сохранилась только основная часть нового замка; черепичная крыша провалилась, обнажив недавно поставленные балки, которые обуглились, но не рухнули; их голый остов уродливо чернел над оштукатуренными стенами здания, не успевшими покрыться копотью. Доставили пожарные насосы, в деревне всегда опаздывающие и вообще бесполезные; эти орудия помощи при пожаре чаще всего бывают неисправны и плохо работают: трубы их, подолгу бездействующие и пребывающие в небрежении без всякого ухода, лопаются при первой же попытке употребить их по назначению. Тем не менее пожарникам и жителям села удалось ограничить распространение пожара определенным участком и спасти жилище Бриколенов со всей их обстановкой. Но участок, отданный огню, был огромен и выгорел дотла. Огнем были уничтожены флигель, где жили Роза и Марсель, все служебные строения, весь скот, весь сельскохозяйственный инвентарь. Старый замок не обороняли от огня, крыша его сгорела, но стены были крепки и пожар не повредил их. Только одна башня от жара треснула сверху донизу. Густой плющ, обвивавший другие башни, уберег их от окончательного разрушения. Уже начинало светать, когда мельник и Лемор вышли из жалкой хибары нищего. Лемор нес в руках чугунок, а Большой Луи вел за узду свою милую Софи, которая приветствовала появление хозяина радостным ржанием. — Я читал «Дон Кихота», — сказал Большой Луи, — и чувствую себя сейчас точь-в-точь, как Санчо, когда он нашел своего осла. Меня так и тянет по его примеру расцеловать мою старушку Софи и обратиться к ней с трогательной речью. — Чем поддаваться такой слабости, — сказал Лемор, — лучше-ка вы, Большой Луи, полюбопытствуйте, что содержится в чугунке — золото или камни. — Я уже приподымал крышку, — ответил мельник. — Там что-то блестит, но мне надо смотать удочки до утра, пока жители этого пустынного места, коли они вообще существуют, не обнаружат, что я здесь шебаршил, и не примут меня за вора. Я очень взволнован и рад, что мне удается сделать доброе дело для людей. Но я проявляю особую осторожность именно потому, что наследство принадлежит не мне. Ну, поехали, поехали, сударь. Вы положили мою кирку в коляску? Погодите, я напоследок еще загляну в хижину. Дыра хорошо заделана; ее теперь совсем не видно. Ну, в путь! Отдохнем где-нибудь в рощице, если лошади совсем устанут. Лошадь нотариуса, одолев рысью и галопом три мили изнурительного пути по крутым и отнюдь не гладким дорогам Черной Долины, в самом деле утомилась настолько, что, едучи обратно, наши путешественники должны были где-то неподалеку от Лис-Сен-Жорж остановиться и дать ей передохнуть. Для Софи, которую привязали к двуколке, такой бешеный аллюр был непривычен, и она была вся в мыле. Сердце мельника не выдержало. Он сказал Лемору: — Нельзя так жестоко обращаться с животными, и потом я не хочу, чтобы наш славный нотариус в награду за свою честность и проницательность в этом Деле остался без лошади. Что касается Софи, то как ни важен наш чугунный горшок, ей не должна достаться участь глиняного горшка из басни[150]. Вон хорошая лужайка, она скрыта среди деревьев, и на ней не видать ни людей, ни животных. Пойдем-ка туда. На двуколке, в ящике для клади наверняка должен быть мешок с овсом, потому как господин Тайян — человек предусмотрительный и не поедет в дорогу, снаряженный на фу-фу. Передохнем здесь четверть часика, маленько наберемся сил и снова поскачем. Жаль, что когда я выпустил на все четыре стороны дядюшкину свинью (пусть ее унаследует кто хочет!), я забыл утащить с собой ее хлебные корки: у меня сейчас так живот подводит, что я не прочь был бы пожевать овса вместе с Софи, кабы не боялся ее обидеть. Кажется, я не очень хорошо начинаю свою роль наследника богатого дяди. У меня в руках целое сокровище, а я помираю с голоду. Так по своей привычке балагуря, Большой Луи разнуздал лошадей и подал обеим их обед — лошади нотариуса в том же мешке, который был вынут из ящика для клади, а Софи — в своем мельничьем колпаке, который он ей потешным образом прицепил на морду. — Просто удивительно, как у меня сейчас легко на сердце, — сказал он, забравшись в кусты и открывая чугунок. — Знаете ли, господин Лемор — ведь тут мое счастье, — ежели золотые не только на поверхности и горшок не наполнен одной лишь медью. Мне прямо страшно: горшок такой тяжеленный, что в нем вроде бы и вправду сплошь золото. Ух ты!!! Помогите-ка мне сосчитать, сколько их тут есть, луидоров! Счет был произведен быстро. Золотые монеты старой чеканки лежали в чугунке сложенные в столбики по тысяче франков каждый и завернутые в грязные обрывки бумаги. Развернув их, Лемор и мельник увидели на монетах метки, о которых говорил нищий. На каждом луидоре папаши Бриколена был нацарапан крест, на монетах господина де Бланшемона — черта. На дне горшка было приблизительно на три тысячи франков серебра монетами различного достоинства и даже горсть меди — последний вклад нищего в кубышку. — Этот остаток, — сказал мельник, бросая серебро и медь на дно чугунка, — к есть состояние моего «дядюшки», наследство, достающееся вашему покорному слуге. Это те грошики, которые старый греховодник без зазрения совести выклянчивал у вдов, и они вернутся к вдовам и сиротам, можете мне поверить. И кто знает, не краденые ли они еще? Принимая в расчет, что мой «дядюшка» — упокой, господи, его душу — стибрил мою Софи, у меня нет большого доверия к тому, что эти деньги все чистые. А что, я с душой окажу помощь беднякам! Ведь мне не часто удается доставить себе такое удовольствие. То-то я себя потешу — истинно на королевский манер. Знаете ли вы, что в нашем краю трех тысяч франков достаточно, чтобы спасти от нищеты и прилично обеспечить три семьи? — Но вы имеете в виду только эти деньги, Большой Луи, а подумайте, сколько еще людей может благодаря вам осчастливить госпожа де Бланшемон; ведь ей самой такая огромная сумма, конечно, тоже не нужна. — О, я знаю, что она, как и я, способна живо с ними расправиться подобным образом. Но, кроме того, в этом деле есть нечто весьма лестное для моего самолюбия, а именно то, что Бриколен из моих рук получит подарочек, который заставит его плясать от радости. Из этих денег он не сделает христианского употребления, но подарочек сильно поправит мои дела, которые вчера вечером изрядно подпортились. — То есть, дорогой Луи, теперь вы сможете просить руки Розы? — Ох, не воображайте слишком многого! Коли бы эти пятьдесят тысяч были мои, можно было бы с грехом пополам сладить дело. Но Бриколен знает счет деньгам лучше вашего! Он скажет: «Вот мне прибавилось пять тысяч пистолей; Большой Луи, принеся их мне, только выполнил свой долг. Что мое, то не его. Следовательно, у меня в кармане теперь больше на пятьдесят тысяч франков, а он как был, так и останется на бобах со своей мельницей». — И он не будет ни поражен, ни тронут такой честностью, на какую сам, конечно, не способен? — Поражен — пожалуй; но тронут — ничуть! Но он скажет себе: «Этот парень может быть мне полезен». Порядочные люди необходимы для тех, кто сам порядочностью не отличается. И он простит мне мои грехи, возобновит у меня свои заказы, за которые я очень держусь, потому как благодаря им я могу видеть Розу и разговаривать с ней каждый день. Вы видите, что, хотя я себя и не тешу надеждами, у меня есть причины быть довольным. Вчера вечером, когда я танцевал с Розой, по тому, как она себя вела, можно было поверить, что она любит меня, и я был так горд, так счастлив! Ну что ж, я по крайней мере обрету мое вчерашнее счастье, а о будущем задумываться не стану. И это уже много! Милейший дядюшка Кадош, ты и не подозревал, как твой чугунок утешит меня в моих скорбях! Ты думал, что обогатишь меня, а ты меня осчастливил! — Но, дорогой Луи, поскольку вы вручите Марсели сумму, равную той, которой она хотела пожертвовать ради вас, вы можете теперь согласиться с ее предложением сделать уступку Бриколену? — Чтобы я согласился на такое дело? Никогда! Не будем даже говорить об этом предложении. Оно для меня обидно. С меня снимут запрет показываться на ферме — больше ничего мне не нужно. Поглядите, как красиво выглядит это богатство, как оно сияет. Сколько в нем скрыто возможностей облегчить страдания, унять душевные муки. А все-таки недурная вещь деньги, господин Лемор, согласитесь! Вот здесь, у меня на ладони, жизнь пяти-шести бедных ребятишек!.. — Дружище, я вижу в них только то, что в них есть на самом деле — слезы, стенания, мучения старика Бриколена, скряжничество нищего, всю его постыдную, бессмысленную жизнь, целиком потраченную на трусливое, с постоянной оглядкой, любование краденым. — Гм! Вы правы! — отозвался мельник, с внезапно возникшим чувством отвращения кинув золото, которое он держал в горсти, обратно в чугунок. — Сколько здесь собралось преступлений, низостей, тревог, лжи, страхов и несчастий! Вы правы, деньги — это мерзость. Вот уже и мы сами разглядываем и считаем, хоронясь от людей, золотые монеты, мы сами уже стали похожи на разбойников: вооружены пистолетами, боимся, что на нас нападут другие бандиты или схватят за шиворот жандармы. Прочь, скройся с глаз, проклятое! — вскричал он, закрывая чугунок крышкой. — И поехали, дружище! Какая радость, что оно не наше!День пятый
XXXV. Разрыв
На подъезде к берегу Вовры наши путешественники заметили поднимавшуюся над Бланшемоном густую тучу дыма, которая начинала светлеть в лучах восходящего солнца. — Поглядите-ка, — сказал мельник, — какой туман сегодня утром над Воврой, особенно в той стороне, куда мы с вами оба любим смотреть. Он мне мешает, я не вижу башенок моего милого старого замка, а они постоянно, где бы я ни находился, разъезжая по округе, служат мне вроде как маяками, и туда всегда направлены мои мысли. Десять минут спустя дым, оседавший под давлением влажных утренних паров, пополз по земле, и Большой Луи, резко остановив лошадь нотариуса, сказал своему товарищу: — Удивительное дело, господин Лемор: может, на меня сегодня с утра куриная слепота напала, но хоть я и смотрю во все глаза, я не вижу красной крыши нового замка под башнями старого! Однако я уверен, что отсюда ее видно. Я сто раз стоял на этом месте и различаю даже деревья, растущие вокруг. Эге, да что это? Поглядите! Старый замок совсем изменился с виду. Башенки вроде стали ниже. А куда, к черту, подевалась крыша? Разрази меня гром! Я вижу только коньки! Постойте, постойте, что там краснеет со стороны фермы? Это огонь! Ей-богу, огонь! А что там такое черное? Господин Лемор, я ведь вам говорил, когда мы приехали в Же-ле-Буа, что небо очень красное и что, наверно, где-то пожар. Вы еще утверждали, что это вереск горит. Но я-то знал, что лесных пожаров в этой стороне нет. Поглядите, поглядите, мне не померещилось: замок, ферма — все сгорело!.. Но что с Розой? Боже мой! Неужели и она… А госпожа Марсель, маленький Эдуард, бабушка!.. Боже мой! Боже мой! И мельник, изо всех сил нахлестывая лошадь, пустился галопом в направлении Бланшемона, на этот раз не заботясь о том, сможет ли поспевать за двуколкой старая Софи. По мере приближения к Бланшемону признаки бедствия становились все более несомненными. Вскоре мельник и Лемор узнали о происшедшем из уст прохожих, и хотя их уверяли, что никто не погиб, они, бледные и подавленные, продолжали подгонять лошадь, которая, казалось им, бежала еще слишком медленно. Когда они добрались до нижнего конца церковной площади, бедная лошадь была совершенно загнана; она тяжело дышала, на губах у нее была пена, и она едва могла взбираться в горку шагом. Они остановили ее перед домом Пьолетты и выскочили из двуколки, намереваясь пуститься бегом — так было скорее. В этот момент перед ними появилась вышедшая из хижины Марсель. Она была бледна, но спокойна, одежда ее нимало не обгорела. Занятая всю ночь уходом за людьми, она не тратила бесполезно сил на борьбу с огнем. Увидев ее, Лемор от радости чуть не лишился чувств; он только взял ее за руку — слова не шли у него с языка. — Мой сын здесь, а Роза — в доме кюре, — сказала Марсель. — С ней ничего худого не приключилось, и она сейчас в приличном состоянии; она счастлива, хотя родители ее в отчаянии. Но в конце концов все сводится к денежному ущербу. А это мало значит по сравнению со счастьем, которое ее ожидает… — Что такое? — воскликнул мельник. — Я не возьму в толк… — Идите к ней, друг мой, препятствий вам не встретится, и узнайте от нее самой об одном важном обстоятельстве, про которое я не хочу рассказывать вам первая. Большой Луи, крайне озадаченный, бросился со всех ног к дому кюре. Лемор же вошел вместе с Марселью в хижину, хозяева которой тем временем занимались лошадьми, и устремился к лежавшему на кровати Эдуарду. Последний из рода Бланшемонов мирно покоился на жалкой подстилке беднейшего из его крестьян. У него не было теперь даже крова над головой, и он мог рассчитывать только на сердобольность неимущих. — Так ему не грозила опасность? — взволнованно спросил Лемор, покрывая поцелуями горячие и чуть влажные ручки ребенка. — Эдуард показал себя молодцом, — не без гордости ответила мать. — Ему ничего не сделалось; он проснулся среди ночи от удушливого дыма и не испугался. Остаток ночи он провел вместе со мной, помогая приводить в сознание и успокаивать людей; несмотря на то, что он еще очень мал и не может оценить размеров несчастья, он был заботлив, ласков, находил трогательные слова для меня и всех тех, кто вокруг нас впал в малодушие, дрожал и кричал от страха. А я-то боялась, что от испуга и волнения он захворает! В этом маленьком, хрупком тельце скрывается героическая душа. Анри! Эдуард — ребенок, отмеченный при рождении благодатью божьей: господь назначил ему быть благородным бедняком! От поцелуев Лемора мальчик проснулся и, на этот раз узнав своего друга скорее по выражениям его любви к нему, нежели по внешним его чертам, произнес: — Здравствуй, Анри! А почему ты не хотел говорить со мной, когда ты был Антуаном? Марсель, проявляя истинно стоическую выдержку, начала объяснять своему возлюбленному, какой повой катастрофой обернулся пожар для остатка ее состояния, но тут в хижину вошел Бриколен; лицо его выражало смятение, одежда была порвана во многих местах, руки обожжены. Когда прошел приступ страха, который охватил арендатора при виде пожара, он с отчаянной энергией и смелостью пытался спасти скотину и зерно. Много раз он сам чуть не пал жертвой своей бешеной деятельности; только когда вокруг него все превратилось в золу, он отказался от напрасных надежд. Тогда его слабый ум не выдержал: им овладели растерянность, отчаяние и бессильная ярость. Ополоумев, он побежал к Марсели; вид у него был ошалелый, мысли в голове путались, язык не слушался. — Вот, наконец я вас нашел, сударыня, — выпалил он задыхаясь, — я вас ищу по всему селу, а вы бог знает куда забрались! Послушайте, госпожа Марсель! Я вам должен сказать очень важную вещь. Можете сколько угодно притворяться спокойной, а все это несчастье падает на вашу голову. И весь нанесенный ущерб пойдет за ваш счет. — Мне это известно, господин Бриколен, — сдержанно ответила Марсель. Видеть этого жадного человека в такой момент ей было крайне неприятно. — Вам это известно? — повторил Бриколен. Голос его наливался гневом. — Мне тоже известно! Вам придется заново отстроить усадьбу и восстановить арендуемое мною поголовье скота. — А на какие средства, позвольте узнать, господин Бриколен? — На ваши деньги! Разве у вас нет денег? Разве я мало вам дал? — У меня их больше нет, господин Бриколен. Бумажник сгорел. — Вы дали сгореть моему бумажнику?! Бумажнику, который я вам вручил? — завопил Бриколен, совершенно обеспамятев и колотя себя кулаками по лбу. — Как могли вы оказаться такой безумной, такой глупой, что не позаботились спасти бумажник? Ведь у вас же хватило времени спасти своего сына! — Я спасла также и Розу, господин Бриколен. Я ее вытащила на руках из дома. А тем временем бумажник сгорел; я не жалею о нем. — Это неправда! Он у вас! — Клянусь богом, что он сгорел. Секретер, в котором он находился, и вся прочая обстановка в комнате сгорели, пока спасали людей. Вы это знаете, я вам уже говорила раньше, потому что вы меня спрашивали об этом. Но вы либо не слышали моего ответа, либо забыли. — Нет, я помню, — ответил пораженный арендатор, — но я думал, что вы меня обманываете. — А зачем бы я стала вас обманывать? Разве эти деньги были не мои? — Это были ваши деньги? Значит, вы не отрицаете, что я вчера вечером купил у вас поместье, что я заплатил за него и что оно теперь принадлежит мне? — Как могла вам прийти в голову мысль, что я способна Это отрицать? — Ах, простите, простите, сударыня! У меня голова кругом идет, — ответиларендатор, успокоившись и осев. — Оно и видно, — бросила Марсель презрительным тоном, на который Бриколен не обратил внимания. — Все равно! Вы должны на свой счет восстановить все строения и поголовье скота, — немного помолчав, снова заявил он; мысли в его голове опять начали путаться. — Одно из двух, господин Бриколен, — сказала Марсель, пожимая плечами, — либо вы не купили поместье, и тогда я обязана возместить убытки, либо я вам его продала, и тогда мне до всего остального нет дела. Выбирайте. — Это верно, — подтвердил Бриколен, снова впадая в отупелое состояние. Но он быстро оправился и продолжал: — Ну как же! Я у вас купил поместье по всем правилам, заплатил за него, вы не можете этого отрицать. У меня сохранились подписанная вами купчая и ваша расписка в получении денег. Я не дал им сгореть! Они у жены в кармане. — В таком случае вы можете быть спокойны, и я также, потому что у меня в кармане дубликат купчей. — Но вы должны отвечать за ущерб! — вскричал Бриколен с тупой злобой. — Я у вас не покупал одну только землю без строений и без скота! Здесь убытку самое меньшее на пятьдесят тысяч франков! — Не знаю. Но бедствие приключилось после продажи. — Это вы устроили пожар! — Весьма правдоподобно! — с холодным презрением ответила Марсель. — И вдобавок бросила в огонь забавы ради всю сумму, полученную мной за поместье. — Простите, простите, я не совсем здоров, — пробормотал арендатор. — Потерять столько денег в одну ночь! Но все равно, госпожа Марсель, вы должны дать мне возмещение за мое несчастье. У меня вечно несчастья из-за вашей семьи. Моего отца из-за денег, доверенных ему вашим дедом, пытали «поджариватели», и он на этом потерял еще своих собственных пятьдесят тысяч франков. — Последствия этого несчастья непоправимы, потому что отец ваш потерял физическое и душевное здоровье. Но моя семья неповинна в преступлении, совершенном разбойниками. А что касается потерянных тогда ваших денег, то они были в большой степени возвращены моим дедом. — Это правда, он был достойный господин! Вот и вы должны поступить, как он, — возместить мне убытки! — Вы придаете деньгам столь большое значение, а я столь малое, господин Бриколен, что я удовлетворила бы вашу претензию, если бы могла. Но вы забываете, что я потеряла все, вплоть до скромной суммы в две тысячи франков, которую я получила от продажи коляски, вплоть до моих платьев и белья. Мой сын не может даже сказать, что все, чем он обладает сейчас, — это прикрывающая его одежда, потому что я вынесла его из вашего дома почти голым; если бы эта женщина, которую вы видите перед собой, не выказала истинного великодушия, не взяла его к себе и не уделила ему необходимого из одежонки своих детишек, я была бы вынуждена обратиться к вам с просьбой пожертвовать для него блузу и пару деревянных башмаков. Оставьте меня в покое, прошу вас. У меня хватает сил перенести мое несчастье, но ваша алчность возмущает меня и докучает мне. — Довольно, сударь! — сказал Лемор, не в силах более сдерживаться. — Уходите! Оставьте госпожу де Бланшемон в покое. Бриколен не расслышал этих слов. Он плюхнулся на стул, сокрушенный полным обнищанием Марсели, потому что оно лишало его всякой надежды еще что-нибудь из нее выжать. — Вот как оно выходит! — закричал он в отчаянии, ударяя кулаками по столу. — Я думал вчера вечером, что заключаю выгодную сделку, я купил Бланшемон за двести пятьдесят тысяч франков, а сегодня к утру я в убытке на пятьдесят тысяч — ведь сгоревшие строения и скот стоят никак не меньше! Получается, — прорыдал он, — что поместье все равно обошлось мне в триста тысяч франков, как вы и хотели! — Полагаю, что моей вины тут нет и, во всяком случае, нет никакой пользы для меня, — холодно ответила Марсель. Ее негодование спало, когда она увидела, в каком гневе Лемор. Она пыталась сдержать молодого человека, заставить его умерить свой пыл. — Выходит, все ваше несчастье лишь в этом одном, господин Бриколен? — простодушно сказала Пьолетта, изумленная тем, что ей довелось услышать. — Право, на вашем месте я бы так уж не горевала. Госпожа потеряла все, а вы как были богатым вчера, таким и остались сегодня, и вы же требуете с нее еще что-то. Смешно, да и только. Коли Бланшемон достался вам, считая и ваш убыток, за триста тысяч, вы еще не прогадали. Я знаю людей, которые дали бы больше. — Что ты там мелешь? — огрызнулся Бриколен. — Закрой рот, ты, дура и сплетница! — Спасибо на добром слове, сударь, — отозвалась Пьолетта и, гордо отвернувшись от Бриколена, обратилась к Марсели: — Ничего, сударыня, раз вы все потеряли, можете оставаться у нас сколько захотите и делить с нами черный хлеб, что мы едим. Я попрекать вас не стану и никогда не скажу вам: «Довольно, уходите»). — Вы слышите, сударь? Стыдитесь! — воскликнул Лемор. — А вы кто такой, молодчик? — в ярости напустился на него Бриколен. — Я не имею чести быть знакомым с вами. Вас здесь никто не знает, а на мельника вы так же похожи, как я на епископа. Но вас выведут на чистую воду, милейший! Я покажу на вас жандармам, и вы должны будете предъявить свои бумаги, а ежели их у вас не окажется, тогда посмотрим! Пожар у меня учинили умышленно, это ясно как божий день, все подтвердят, что так оно и было; королевский прокурор уже прибыл и начал следствие. Вы явно в стачке с тем человеком, который имеет на меня зуб, — этого достаточно! — Ну это уже слишком! — произнес возмущенный до глубины души Лемор. — Вы последний негодяй, и если вы не уберетесь прочь сейчас же, я вышвырну вас отсюда. — Остановитесь! — повелительно сказала Марсель, схватив Лемора за руку. — Пожалейте его, он не в своем уме! Снизойдите к его несчастью, несмотря на то, что он ведет себя гадко. Берите пример с меня, Анри: я не хочу уронить свое достоинство, утратив терпение с этим человеком. Бриколен не слушал. Он сжимал голову руками и стенал, как мать, потерявшая ребенка. — А я-то сам хорош! — причитал он. — Не хотел никогда страховаться, потому как это было слишком дорого! Ох, быки мои, бедные мои быки, такие красивые, откормленные! А овцы, овцы, где они? Отара тянула на все две тысячи франков, и я хотел продать ее на ярмарке в Сен-Кристофе… Марсель не могла удержаться от улыбки, и ее рассудительное отношение к происходящему несколько усмирило негодование Лемора. — Все равно! — выкликнул арендатор, вдруг вскочив с места. — Ваш мельник не получит моей дочери! — В таком случае вы не получите моей земли: купчая на этот счет не оставляет сомнений, условие там выражено ясно и недвусмысленно. — Я в суд подам. — Подавайте. — Но вы-то судиться не сможете! Для этого нужны деньги, а у вас их нет. И затем вы должны будете вернуть мне сумму, уплаченную за поместье, а как вы это сделаете? Кроме того, поставленное вами условие не имеет законной силы; а что касается мельника, так для начала я позабочусь, чтобы его арестовали и упрятали в кутузку — ведь ясно, что не кто другой, как он, учинил поджог из мести за то, что я вчера его прогнал. Все жители нашего села как один засвидетельствуют, что он угрожал мне… а вот этот молодчик… Ну, погодите, вы все! Жандармы, жандармы, сюда, ко мне! И в состоянии совсем уже горячечного бреда он бросился вон из хижины.XXXVI. Часовня
Беспокоясь о мельнике и Леморе, которые из-за слепой мстительности Бриколена могли оказаться вовлеченными в историю, во всяком случае, неприятную, если и не грозящую серьезными последствиями, Марсель порекомендовала своему возлюбленному спрятаться, а Пьолетта выходила уже из дома — предупредить Большого Луи, чтобы он сделал то же самое. В этот момент, однако, все трое увидели, что люди, стоявшие разрозненными кучками на церковной площади и занятые обсуждением случившегося ночью бедствия, вдруг все вместе побежали к ферме. — Они уже, верно, успели сделать свое, — вскричала Пьолетта и заплакала, — схватили, поди, беднягу Большого Луи! Лемор, повинуясь долгу дружбы, забыл о всякой осторожности и, выскочив из хижины, устремился на церковную площадь. Испуганная Марсель бросилась за ним, оставив Эдуарда на попечение старшей дочери Пьолетты. Войдя во двор фермы, Марсель и Лемор были потрясены открывшимся им зрелищем: повсюду валялись обугленные черные обломки сгоревших строений; земля была залита водой, и огромная лужа казалась чернильным озером; тут и там сновали работники, изнуренные, обожженные, вымокшие, но еще не закончившие своих трудов. Огонь вспыхнул снова в маленькой, отдельно стоящей часовне, которая была расположена между фермой и старым замком. Новое происшествие казалось совершенно непонятным, потому что это строение до сих пор не было затронуто пламенем, и если бы на него попал во время пожара раскаленный уголек, огонь не мог бы тлеть так долго в сухом горохе, который туда был засыпан. И, однако, изнутри часовенки вырывалось пламя, словно чья-то неумолимая рука осмелела до того, что дерзко, на глазах у всех, средь бела дня подожгла последнее уцелевшее строение, чтобы уничтожить все до конца. — Оставьте, пусть горит! — кричал Бриколен с пеной у рта. — Ловкий поджигатель! Он где-то здесь, он не мог далеко уйти! Ищите в заказнике! Оцепите заказник[151]! Господин Бриколен не знал, что, пока он науськивал таким образом людей на мельника, Большой Луи, забыв обо всем на свете и не имея понятия о том, что делается вокруг, находился в доме священника и стоял на коленях перед креслом, в которое усадили Розу, выслушивая из ее уст признание в любви и рассказ об обязательствах, взятых на себя ее отцом. А когда снова началась общая суматоха, кюре и даже его служанка выбежали из дома и присоединились к работникам, силившимся погасить новый пожар; возле Розы оставалась только ее бабушка, и молодые люди, упоенные своим счастьем, отрешились от всего и не замечали бурных событий, происходящих неподалеку. Вокруг часовни тесным кругом собрались люди и к ней уже были придвинуты пожарные насосы, как вдруг Бриколен, подбежавший к сводчатой двери, в ужасе попятился и упал прямо на руки работника с фермы, который едва удержал его. Часовня, когда-то примыкавшая к старому замку, еще сохраняла довольно красивые фрагменты готической скульптуры, представляющие ценность в глазах знатоков старинного искусства. Но ветхое строение не могло долго противостоять силе огня; пламя вырывалось из окон, и розетки тонкой работы начали с треском отваливаться. Вдруг полуоткрытая дверь распахнулась настежь и на пороге появилась безумная. В одной руке у нее был фонарь, в другой — зажженный соломенный факел. Она неспешно уходила, доведя до конца задуманное ею разрушительное деяние. Безумная ступала с серьезным видом, глядя в землю, не замечая никого вокруг себя. Она наслаждалась своей тщательно обдуманной и хладнокровно осуществленной местью. Один чересчур рьяный жандарм шагнул к ней и остановил ее, схватив за руку. Тут безумная заметила, что ее окружает толпа; она рывком поднесла горящий факел к лицу жандарма, и тот, ошеломленный этим неожиданным сопротивлением, отшатнулся и выпустил ее. Тогда Бриколина, вновь обретя свою стремительную подвижность, с выражением ненависти и ярости на лице бросилась обратно в часовню, словно хотела спрятаться в ней; с уст ее срывалось злобное бормотание. Несколько человек рванулись вслед за ней, но проникнуть внутрь часовни не решился никто. Она проскользнула сквозь пламя с быстротой саламандры и по винтовой лестнице взбежала на самый верх. Затем она показалась в слуховом окошке, и внизу увидели, как она тычет в разные места факелом, чтобы сильнее разжечь огонь, на ее взгляд, наверно, еще слишком слабый. Вскоре пламя окружило ее со всех сторон. Пустили в ход насосы, и вода полилась на крышу, но толку от этого не было, так как старую кровлю не так давно сменили на цинковую; вода стекала с нее, почти не попадая внутрь. Пламя в часовне разрасталось все больше, и несчастная Бриколина, сгорая заживо, должна была испытывать чудовищные муки. Но она, казалось, не ощущала их. Она запела песенку, на мотив танца, который она любила в юности и часто танцевала со своим возлюбленным; мотив этот всплыл в ее памяти перед смертью. Она не издала ни одного стона; глухая к воплям и мольбам матери, которая ломала руки и вырывалась от людей, удерживавших ее силой, чтобы ринуться вслед за дочерью, Бриколина долго пела, затем последний раз появилась в окне и, узнав отца, крикнула: «Ну что, господин Бриколен, недурной денек выпал вам «на сегодня»! Это были ее последние слова. Когда с пожаром наконец справились, на полу часовни нашли только ее обгорелый скелет. В результате ужасной гибели старшей дочери ум Бриколена совсем помрачился, а мужество его жены было сломлено. Они больше не помышляли о том, чтобы кого-нибудь арестовать, и за весь день не вспомнили о Розе и стариках. Они заперлись в одной из комнат дома кюре, не хотели никого видеть и вышли только тогда, когда несколько притупилась острота их переживаний.XXXVII. Заключение
У Марсели хватило присутствия духа подумать о том, чтобы Розу, которая была еще не совсем здорова и измучена волнениями, осторожно подготовили к известию о трагической гибели сестры. По ее совету мельник без проволочек усадил Розу в двуколку нотариуса вместе с бабушкой и дедом (добрая старушка не захотела оставить своего больного мужа одного) и повез их всех на мельницу. Марсель, опираясь на руку Лемора, который нес Эдуарда, пошла за двуколкой пешком. Несколько суток у Розы ежевечерне возобновлялась лихорадка. Друзья находились при ней неотлучно. От ее глаз удалось скрыть похороны папаши Кадоша, который был предан земле с совершением всех обрядов, каких он требовал, и ее не оповещали о смерти сестры до тех пор, пока она не оправилась настолько, что могла выдержать горестное известие. Но и тогда ей не сообщили об ужасных обстоятельствах, при которых безумная погибла; о них Роза еще долго оставалась в неведении. Марсель спросила господина Гайяна, в какой мере действительно соглашение, подписанное ею и Бриколеном. Мнение нотариуса не было благоприятным. Поскольку брак относится к компетенции гражданского уложения, он не может быть выставлен в качестве условия коммерческой сделки. В случае внесения в купчую незаконных условий сама сделка считается состоявшейся, а означенные условия во внимание не принимаются. Так гласит закон. Бриколену эти законоположения были известны, когда он подписывал купчую. По прошествии трех дней на мельницу прибыл сам арендатор, бледный, подавленный, похудевший на половину своего прежнего веса, утративший даже охоту к выпивке, которой раньше всегда себя подбадривал. Казалось, он более не способен яриться; однако неясно было, с какими намерениями он заявился в Анжибо, и Марсель, видя, что Роза еще слаба, испугалась, не собирается ли он снова повести себя грубо и в оскорбительной форме востребовать дочь. Забеспокоились все и, выйдя из дома, стали перед Бриколеном стеной, чтобы не дать ему войти, если он не проявит миролюбивых намерений. Бриколен начал с того, что холодно предложил своей матери привезти Розу к нему как можно скорее. Он собирается вскоре начать восстановительные работы, а пока что снял в их селении дом. — Но хотя у нас сейчас неважное жилье, это не причина, чтобы я был разлучен с дочерью и чтобы мать оставалась без ее помощи. Коли бы она отказалась, она была бы дурной дочерью. Говоря это, Бриколен бросал на мельника свирепые взгляды. Видно было, что он хочет увезти дочь с мельницы без скандала, но впоследствии посчитаться с Большим Луи и, может быть, даже обвинить его в похищении девушки. — Верно, верно, — сказала матушка Бриколен, взяв на себя труд отвечать своему сыночку. — Роза давно уже просит, чтобы ее отправили к родителям, но она еще нездорова, и мы не пускаем ее. Я думаю, сегодня она уже сможет поехать с тобой, и я тоже готова вернуться вместе со стариком, если тебе есть куда нас поместить. Дай только госпоже Марсели подготовить нашу девочку к твоему появлению. Ведь и сама радость увидеть тебя будет для нее сильной встряской. А я покамест хочу потолковать с тобой наедине, сын, пойдем ко мне в комнату. Старуха провела Бриколена в комнату, которую занимала вместе с мельничихой. Марсели и Розе была отведена комната мельника, а сам Большой Луи и Лемор с удовольствием спали на сене. — Слушай, — сказала матушка Бриколен сыну. — На постройку новых служб тебе придется извести немало денег. Где ты их возьмешь? — А вам-то что до того, мамаша? Вы же мне их дать не можете, — резко ответил Бриколен. — Сейчас я в самом деле не при деньгах, но я займу. Не в том, так в другом месте мне дадут нужную сумму взаймы, это для меня не вопрос. — Дадут, но под большие проценты — дело обычное. А затем всегда, как подходит срок возвращать денежки, глядишь, уже влез в новые расходы — от них некуда деваться. Долг тебя жмет, давит, и ума не приложишь, как выбраться из петли. — Ну так что же, по-вашему, я должен делать? Зерно нового урожая не засыплешь в башмак, а скотину под голиком не укроешь. — Сколько ж тебе это будет стоить на круг? — Бог его знает. — А примерно? — Сорок пять — пятьдесят тысяч франков самое малое: пятнадцать — восемнадцать тысяч — службы, столько же — скот, и еще около того я потерял на погибшем урожае и на убыли моего годового дохода. — Так, так, это и будет на круг тысяч пятьдесят. По моему счету столько же выходит. Ну, а скажи-ка, сын, ежели я дам тебе эти деньги, что сделаешь ты для меня? — Вы дадите? — воскликнул Бриколен, и в глазах его снова зажегся недобрый огонек. — Значит, у вас есть сбережения, которые вы скрывали от меня, или это пустая болтовня? — Это не пустая болтовня. У меня есть пятьдесят тысяч франков золотом, и я тебе их дам, коли ты позволишь мне выдать Розу замуж по моему вкусу. — Ах, вот оно что! Опять все тот же мельник! На этом медведе все женщины помешались, далее восьмидесятилетние старухи! — Ладно, ладно, потешайся сколько хочешь, но давай сговариваться. — А где они, деньги-то эти? — Я дала их на сохранение Большому Луи, — ответила старуха, зная, что сын ее, увидев деньги, будет в таком упоении, что способен вырвать их у нее из рук. — А почему Большому Луи, а не мне или моей жене? Вы что же, хотите подарить их ему, ежели я не выполню вашу волю? — Чужие деньги в его руках всегда будут в сохранности, — отвечала старуха, — потому как мои были у него, когда я о том ничего не знала, и он вернул мне их полностью, хоть я уверена была, что они утрачены навсегда. Разумеется, деньги эти, в сущности, принадлежат твоему отцу, но так как он, по вашему требованию, признан неправоспособным, а мы с ним, согласно старому закону, закрепили каждый свое достояние за тем из нас, кто переживет другого, то этими деньгами распоряжаюсь я! — Да неужто вам возвращено похищенное когда-то? Быть не может! Вы смеетесь надо мной, а я слушаю вас развесив уши. — Послушай еще, — сказала матушка Бриколен, — услышишь довольно странную историю, но она тебе все объяснит. И она рассказала сыну историю Кадоша и его наследства. — Так что же, значит, мельник вернул тебе деньги, хотя мог о них и словом не обмолвиться? — в изумлении вскричал арендатор. — До чего ж это честно и красиво с его стороны! Надо будет вознаградить его! — Вознаградить его можно только одним способом: отдать ему руку Розы, потому как сама она уже отдала ему свое сердце. — Но никакого приданого он не получит! — Само собой разумеется, о приданом нет и речи. — Покажите же мне эти деньги! Матушка Бриколен повела сына к мельнику, и тот показал ему чугунок и его содержимое. — Таким образом, — заметил Бриколен, ослепленный и словно возрожденный к жизни видом уймы золотых монет, — госпожа де Бланшемон не оказывается в полной нищете? — Это надо благодарить бога. — И тебя, Большой Луи! — И покойного папашу Кадоша, которому пришла в голову такая причуда. — А сам-то ты что наследуешь от него? — Три тысячи франков. Из них треть пойдет Пьолетте, а остальное на поддержку еще двух семей, с которыми я дружен. Мы будем работать сообща и соединим наши доходы. — Но это же глупо! — Да нет, полезно и справедливо. — Но почему бы тебе не приберечь эту тысячу экю на свадебные подарки твоей… будущей жене? — Это попахивало бы присвоением чужих денег. Хотя они и не ворованные, а собраны из подаяний, неужто вы, при вашей гордости, желали бы, чтобы Роза носила платья, приобретенные за крестьянские медяки, пожертвованные из милосердия нищему? — Не было бы никакой нужды говорить, откуда у тебя взялись деньги на подарки… Ну, да ладно… А когда же свадьба, Большой Луи? — Хоть завтра, если не возражаете. — Завтра же объявим о помолвке, а деньги ты мне передай сегодня: мне они нужны. — Нет, нет! — вскричала матушка Бриколен. — Ты получишь их в день свадьбы. Ты — мне, я — тебе; так-то, сынок. Вид золота воодушевил арендатора. Он сел за стол, выпил по маленькой с будущим зятем, взгромоздился на свою коренастую лошадку, осушил на прощание еще рюмочку и поехал задавать работу каменщикам. «Все-таки по-моему вышло, — говорил он себе улыбаясь. — Бланшемон достался мне за те же двести пятьдесят тысяч и далее за двести тысяч, потому как я не даю приданого за последней дочерью!» — И мы, Анри, тоже будем строиться, — сказала Марсель своему возлюбленному, когда Бриколен уехал. — Мы богаты; нам есть на что соорудить славный сельский домик и хорошо воспитать в нем нашего ребенка. Ведь ты будешь его наставником, а мельник научит его своему ремеслу. Разве нельзя быть одновременно трудолюбивым работником и образованным человеком? — И я собираюсь начать с обучения себя самого, — ответил Лемор. — Покамест я полный невежда, но я буду учиться ночами. Я подручный мельника; это ремесло мне по душе, и днем я буду заниматься им. Какую пользу здоровью нашего Эдуарда принесет та жизнь, которую мы будем вести! — Ну, госпожа Марсель, — сказал Большой Луи, беря за руку Лемора, — помните, вы мне говорили в первый день, когда прибыли сюда (тому сегодня как раз неделя!)… что были бы счастливы иметь маленький опрятный домик с соломенной кровлей, увитый виноградными лозами, вроде моего; жить простой, достаточно независимой жизнью, какой живу я; вырастить сына таким, чтобы он был, как я, человеком работящим и не слишком глупым… И все это будет у вас здесь, на берегу нашей Вовры, которая имела честь вам понравиться, рядом с нами… А мы, не сомневайтесь, будем вам добрыми соседями! — И все у нас будет общее, — отозвалась Марсель. — Иначе я себе и не мыслю! — Ну нет, это невозможно. Ваша доля сейчас была бы куда больше моей. — Вы плохо считаете, мельник, — вмешался Лемор. — «Твое» и «мое» между друзьями такая же нелепость, как дважды два — пять. — Вот я и богат, вот я и ума палата! — весело вскричал мельник. — Ведь я владею теперь сердцем Розы и каждый день буду беседовать с вами! Помните, господин Лемор, я вам говорил, что для меня совершится чудо и все устроится! А ведь я тогда никак не рассчитывал на дядюшку Кадоша! — С чего это ты надумал плясать со мной, Лопастушечка? — спросил Эдуард. — А с того, дитя мое, — ответил мельник, поднимая ребенка на руки, — что я, забросив свои сети, выловил в прозрачной воде ангелочка, который принес мне счастье, а в мутной воде — старого черта «дядюшку», которого, быть может, мне еще удастся вызволить из чистилища.«Мельник из Анжибо»
Роман «Мельник из Анжибо» был написан Жорж Санд в 1844 году. Некоторые исследователи утверждают, что первоначальное название романа было «Пролетарий». В. Каренин в известной работе о Жорж Санд считает, что она хотела назвать роман «На сегодня» (или «По теперешним временам»; французское просторечие «Au jour d’aujourd’hui» не имеет точного эквивалента в русском языке), воспроизведя любимое выражение одного из героев романа, деревенского богача Бриколена. Согласно договору от 30 апреля 1844 года, роман должен был появиться в газете «Конститюсьонель», как и предыдущее произведение Жорж Санд «Жанна». Но издатель газеты Луи Верон, испуганный слишком смелыми социальными тенденциями романа, отказался его печатать. Тогда писательница предлагает свое произведение редактору газеты «Реформ» Луи Блану, социалисту и республиканцу, взгляды которого были во многом близки Жорж Санд. «Я знаю только одного буржуа, который действительно предан народу всем сердцем, — пишет она в одном из писем. — Это Луи Блан, молодой человек, обладающий прекрасным талантом и очень одаренный». В этой газете «Мельник из Анжибо» и печатается отдельными фельетонами с 21 января по 19 марта. Белинский называл Жорж Санд одним из создателей социального романа во Франции. «Мельник из Анжибо» — произведение, где судьбы героев, разработка характеров, движение сюжета, — все подчинено раскрытию четко обозначенной общественной проблемы. Недаром первоначальное название романа подчеркивало его злободневность. В это время Жорж Санд увлекается философией П. Леру и сотрудничает в его «Ревю эндепендант», активно участвует в создании газеты «Эклерер де л’Эндр», призванной сыграть оппозиционную роль по отношению к правительственному печатному органу в Берри, где, как известно, находилось имение Жорж Санд — Ноан. Она пишет целый ряд статей, посвященных политическим и социальным вопросам: положению народа, соотношению действия и теории в перестройке общественной жизни, организации общества на принципах справедливости, равенства и добра. По существу те же идеи нашли отражение в романе «Мельник из Анжибо». Молодая аристократка Марсель де Бланшемон хочет отказаться от состояния, унаследованного ею и ее сыном; известие о том, что она разорена, даже радует ее; деньги, которые после многих испытаний все же ей достаются, она делит со своими друзьями-крестьянами, чтобы организовать что-то вроде общины, каждый член которой будет трудиться на благо всех остальных и где все будут счастливы. И хотя для Жорж Санд это был только один, и даже не самый важный, способ борьбы за прекрасное будущее, она была убеждена, что честный человек должен воплощать в жизнь все, что может способствовать прогрессу. Поступок Марсели — это протест против эгоистических устремлений общества, управляемого «новой аристократией — дворянством кошелька». «Не будем завидовать тем, кому удается быть счастливым среди несчастий!.. Чем радоваться с ними, я предпочла бы страдать еще больше, чем страдала», — восклицает Жорж Санд в одном из писем. Разногласия между различными социальными доктринами казались Жорж Санд борьбой сект, которые тратят время на споры, но не в состоянии сделать что-либо в реальной действительности. Истина должна быть открыта не сухим рассуждением, по сердцем, если оно не развращено обществом, основанным на угнетении. Таков путь Марсели, и в этом она противопоставлена своему возлюбленному Лемору. Лемор ищет теорию, которая сразу открыла бы истину. Пока же эта теория не найдена, его ум, запутавшийся в противоречиях, заставляет его отказываться от жизни и любви и парализует всякую деятельность. Жорж Санд не могла полностью принять ни одно из существовавших тогда учений утопического социализма, хотя выдвинутая Шарлем Фурье идея создания фаланг в какой-то мере отразилась в «Мельнике из Анжибо». Но она была убеждена, что настоящее счастье заключается в том, чтобы трудиться на пользу другим. Особое значение получают вопросы воспитания. Ребенок не должен быть развращен богатством и праздностью. Лемор говорит Марсели: «Оградим же твоего сына от зла, насколько это будет в наших силах, привьем ему любовь к добру и стремление к истине! Его поколение, быть может, откроет ее». Надежда Жорж Санд на будущее опиралась на ее глубокую веру в народ, в его силу, разум и органически присущее ему чувство справедливости. Он сам поднимется, когда придет время, сломает все старое и отжившее и найдет истину. Даже самый сильный и благородный ум может увидеть ее только смутно, потому что он одинок. Истина станет очевидной лишь тогда, когда к ней будут стремиться все. «Сейчас не то время, когда великие люди облагораживают умы своих современников. Теперь массы просвещают великие умы», — утверждает Жорж Санд. Развивая идеи, высказанные многими историками еще в эпоху Реставрации, Жорж Санд полагает, что только парод способен ощутить «потребности эпохи», и поэтому никому, кроме него самого, не дано знать, пришло ли время великой революции. Он ее «желает, торопит, возвещает и совершит», но не потому, что понимает законы общественного развития, а благодаря чувству, инстинкту. Политическая ситуация в стране только укрепляла это убеждение. Либеральная партия, оппозиционная по отношению к режиму Июльской монархии, не хотела, да и не могла бы предпринять решительные меры для переустройства общества. Жорж Санд хорошо это понимала. Воплощением истинного народного духа в романе выступает мельник Большой Луи. Он наделен душевным благородством, ясным умом, здравым смыслом, верностью в любви и дружбе. Его достоинства — не только его личные качества. Они присущи ему как представителю лучшей части французского народа. Таковы же его мать-мельничиха и бедная крестьянка Пьолетта. Противопоставление Большого Луи и Лемора еще более очевидно, чем Лемора и Марсели. Именно под влиянием Луи Лемор возвращается к Марсели и проникается идеями тем более справедливыми, что они «естественны». Жорж Санд признавала, что образ Большого Луи несколько идеализирован. Обращаясь к рабочему поэту Шарлю Понси, она пишет: «Изображайте всегда парод, его душу и его ум, не таким, каким он, по большей части, является сейчас, а таким, каким он должен быть, каким он будет, благодаря… тем, кто раздувает священный огонь, который дремлет в нем вот уже шесть тысяч лет». В изображении мельника Луи Жорж Санд использовала свой Эстетический принцип «воплощать идеальный мир в мире реальном». Для Жорж Санд идеал — понятие, не оторванное от реальности, не выдуманное, но порожденное самой жизнью. Когда художник рисует свой идеал, современникам кажется, что это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Но когда идеал осуществляется, оказывается, что жизнь далеко превзошла догадки художника. Поэтому художник не может слепо копировать действительность, она должна быть озарена «светом истины». Этот свет и позволил Жорж Санд увидеть в простых людях черты и качества человека будущего и нарисовать мельника Луи, «представителя живых сил и благородных инстинктов простого народа во Франции»[152]. Этим же эстетическим принципом руководствовалась Жорж Санд и в изображении Марсели де Бланшемон и Анри Лемора. Белинский упрекал автора в том, что эти герои не соответствуют требованиям художественного романа, потому что они — «мечтатели, переслащенные до приторности». Жорж Санд хотела показать, как могут поступить те представители господствующего класса, которые осознали несправедливость всего общественного строя. Действительно, немногие из среды, к которой принадлежала Жорж Санд, с такой решительностью следовали своим убеждениям. И все-таки эти идеализированные герои, по словам Чернышевского, производили «сильное и благородное впечатление, противодействуя господствующей мелочности, холодности и пошлому бездушию»[153]. Самый жизненный персонаж «Мельника из Анжибо» — богатый арендатор Бриколен с его страстью к наживе, человек, нашедший себя в атмосфере Июльской монархии. Он утверждает: «На сегодня все идет к лучшему: всякий может наживаться, и ничего лучшего никогда не изобретут». Бриколен совершенно реален и вместе с тем типичен для той эпохи. В письме к издателю Жорж Санд писала: «Взгляните, не покажется ли он вам слишком тривиальным. Мне-то представляется, что он неплох: он оригинален именно потому, что зауряден». Белинский отмечал реальность этого образа, а Герцен приводил его имя как нарицательное для того, чтобы обозначить алчность, скупость, страсть к обогащению. «Мельник из Анжибо» — произведение, в котором автор скорее обрисовал насущные проблемы современности, чем решил их. Но, по глубокому убеждению Жорж Санд, писатель не может оставаться в стороне от того, что волнует общество. Именно поэтому роман вызвал одобрение русских революционных демократов. В 1845 году «Мельник из Анжибо» выходит сразу в двух русских издательствах, а в 1846 году появляется рецензия Белинского («Отечественные записки», 1846, т. 44, № 1–2). В наше время роман вошел во второй том Избранных сочинений Жорж Санд (1950) и в 1958 году был издан отдельной книгой. В настоящем издании роман дается в новом переводе.Жорж Санд Мон-Ревеш

Предисловие
Вот еще один роман, о котором, вероятно, скажут, как обо всех романах, мною написанных, да и как обо всех романах вообще: что он доказывает? Есть категория читателей, которые возмущаются автором, если он в своем произведении не сделал выводов. Но есть и другая категория читателей, которые в каждой подробности видят защитительную речь, а в каждой развязке — доказательство, и в итоге сердятся на выводы, которые сами же приписывают автору. Обе эти категории читателей живут весьма распространенным в истории искусств предрассудкам: по их мнению, автор должен непременно делать выводы из выраженных в романе мыслей и непременно что-то доказывать. Мне никогда не приходило в голову требовать чего-либо подобного от произведений искусства; вот почему я никогда не считала нужным и навязывать что-либо в этом роде себе самой. Но, полагаю, мне будет дозволено ответить сегодня на этот несправедливый упрек. Может быть, он и не относится именно ко мне, так как вполне вероятно, что я, не сделав никаких выводов, только обнаружила свою беспомощность, но важнее то, что этот упрек несправедлив по отношению к роману вообще. Обычно читатели любят, чтобы порок был наказан, а добродетель торжествовала повсюду, начиная от волшебных сказок и кончая мелодрамами. Признаюсь, мне тоже это нравится: но, к несчастью, это ничего не доказывает ни в сказке, ни в мелодраме. Когда в книге или на театре порок остается ненаказанным, это еще вовсе не является доказательством того, что порок не внушает отвращения и не заслуживает кары. Когда же добродетель не торжествует в литературном вымысле, — а в действительности это происходит часто, — то из этого следует лишь то, что автор, если бы он и захотел доказать такую чудовищную мысль, как мысль о бессилии добродетели в нашем мире, доказал бы тем самым лишь одно: что он несправедлив и не очень умен. Что такое фабула романа, трагедии — любого повествования? Это достоверная или вымышленная история некоего события, это рассказ о нем. Вот что в романе я назвала бы романом в собственном смысле. Все украшении, придающие ему живописность, или рассуждения, побуждающие читателя мыслить, — лишь аксессуары. Иногда эти аксессуары достаточно разнообразны и кажутся настолько приятными, что заставляют не замечать и прощать автору плохо построенное действие; а иной раз интересно задуманное и ловко построенное действие вызывает у читателя снисходительное отношение к неуклюжему стилю и неправдоподобию деталей. Но я спрашиваю: что доказало любое событие само по себе? — и готова спорить, что разумного отпета не будет. А если ни одно событие ничего не доказывает в действительной жизни, то как же может что-нибудь доказать рассказ о вымышленном событии? Можно ли ссылаться на него как на подтверждение теорий, мимоходом изложенных рассказчиком или обсуждаемых его персонажами? По правде говоря, восторжествует ли в конце добро над злом, одолеет ли негодяй порядочного человека, утешится ли вдова или умрет от чахотки, будет ли добродетельный человек вознагражден признанием общества или просто удовлетворится тем, что у него чиста совесть, — мне это безразлично, лишь бы судьбы персонажей были связаны между собой и приведены к развязке так, чтобы они до самого конца вызывали у меня интерес. Я сочла бы себя наивной, если бы стала выжидать, чью сторону примет по своей прихоти автор, чтобы решить, что истинно и что ложно в человеческой природе, что справедливо или несправедливо в обществе. Если бы корабль, на котором возвращалась Виргиния, не потерпел крушения, входя в порт, разве это доказало бы, что целомудренная любовь всегда венчается счастьем? И доказывает ли тот факт, что этот злополучный корабль погружается в пучину вместе с интересной героиней, идею, что настоящие влюбленные никогда не бывают счастливы? Что доказывает сюжет «Поля и Виргинии»?[154] Лишь то, что молодость, дружба, любовь и тропическая природа великолепны, когда о них повествует и их описывает такой писатель, как Бернарден де Сен-Пьер. Если бы дьявол не увлек и не победил Фауста, разве это доказало бы, что мудрость сильнее страстей? И если дьявол оказывается сильнее философа, разве это доказывает, что философия никогда не сможет победить страсти? И что вообще доказывает «Фауст»?[155] То, что наука, поэзия, человеческие чувства, фантастические образы и глубокие мысли, равно сладостные или мрачные, очень хороши, когда именно Гете создает из всего этого волнующую и возвышенную картину. Если бы Юлия не утонула в Женевском озере, если бы Танкред не убил Клоринду, если бы Пирр женился на Андромахе, если бы Дафнис не женился на Хлое, если бы Ламмермурская невеста не сошла с ума, если бы Гяур не стал монахом,[156] мы утратили бы самые прекрасные страницы многих шедевров, но у нас не стало бы ни одним доказательством больше или меньше, не был бы упущен или найден ни один вывод из подобных обстоятельств. Поэтому я нахожу критику праздной, когда она спорит о правах фантазии, и вредной для искусства, когда она хочет принудить фантазию служить решающим свидетельством. Я хочу, чтобы нам позволили показывать по нашему усмотрению все, что нам заблагорассудится, и чтобы те, кто оспаривает наши чувства, как и те, кто разделяет их, не требовали от нас отчета в выборе того или другого события. Я не желаю, чтобы одни кричали: «Автор уклонился от выводов!», а другие: «Выводы автора порочны!» Я написала роман под названием «Леоне Леони», в котором обольститель не был наказан. Люди говорили: «Ах, какая безнравственность! Автор хотел доказать, что негодяи всегда любимы и торжествуют». Я написала роман под названием «Жак», в котором обманутый супруг умирает от горя. Люди говорили: «Ах, какая наглость! Автор утверждает, что обманутые мужья должны умирать от горя!» Я сочинила под влиянием минуты и как бог на душу положил не менее двух десятков ни в чем не схожих развязок, и на взгляд тех, кто хотел усмотреть в них насмешку над читателем, эти развязки доказывали возможность по меньшей мере двух десятков исключающих друг друга решений. По словам одних, все они утверждали слишком многое; по словам других, не утверждали того, что следовало. Признаюсь, это лишь снова убедило меня в том, что сюжет, суть и задача романа — рассказать историю, из коей каждый может сделать свой вывод, соответствующий или противоречащий чувствам, выраженным автором. Автор никогда ничего не докажет реальным примером — ни опасности, ни, напротив, явных преимуществ зла и добра. Произведение искусства — это творение, продиктованное чувством. Чувство испытывается, а не обосновывается. Писателя вдохновляет нечто общее. Общее не доказывается посредством частного; описанный факт, событие не подкрепляет и не разрушает теорию, реальное не толкает ни к каким выводам в пользу или в опровержение идеального. Итак, поскольку роман вынужден описывать реальные события и факты, не надо требовать от него того, что не входит в его задачу; это убивает искусство и уничтожает интерес к роману.I
— Милый друг, разум, конечно, на твоей стороне, но разум глуп: он лечит только здоровых, а я болен, тяжко болен, разве ты не видишь? — говорил Флавьен. — У меня нервная лихорадка; из-за нее я стал невыносим для окружающих, да и для самого себя. — Это твоя лихорадка глупа! — отвечал Тьерре. — Она убивает лишь простаков, слабых морально и физически. Ты же один из самых гармоничных людей, каких я знаю; стало быть, нервный припадок, вызванный самой заурядной из горестей, не такая болезнь, которую ты не смог бы победить за два часа, если бы захотел. — Да, да! За два часа я могу сговориться с более красивой и, возможно, не менее приятной женщиной, чем Леониса. Но мне нужно по крайней мере, два месяца, чтобы время, которое я стану проводить с ней, показалось хотя бы сносным после сладостных часов, проведенных с Леонисой в последние дни. — Знаешь, что мне пришло в голову? Ты рожден для брака. — Что же навело тебя на столь блестящую мысль? — Твоя манера любить. Мне кажется, она основана на привычке, на потребности в постоянной близости, которая свойственна буржуазной семейной жизни. — Ошибаешься. У меня потребности патрициев и привычка к господству — это совсем другое дело. Вот почему мне до сих пор нравились только те женщины, которых можно купить. — Я всегда замечал, дорогой мой, что даже самые сильные люди совершенно искренне приписывают себе именно те достоинства или недостатки, которые меньше всего им свойственны, и вводят в заблуждение как самих себя, так и других! — воскликнул Тьерре. — Не обманывайся на мой счет. Мое стремление к господству, доходящее, как мне кажется, до тирании, не вызывает во мне ни гордости, ни сознания вины. А ты как его назовешь? Достоинством или недостатком? Ну, дорогой мой литератор, наблюдатель, любитель исследований, высказывайся, я тебя слушаю. Я знаю, тебе нравится мысленно исследовать каждого человека, и ни один из твоих друзей не избежал такого анализа; ты это делаешь просто так, от скуки, но — такова уж твоя профессия. — Хорошо, подумаю, — несколько высокомерно ответил Тьерре. — Видишь ли, я не из тех литераторов, которые корпят над листом бумаги круглые сутки. У меня, как и у всякого другого, бывают часы праздности и отдыха. Когда я катаюсь верхом по Булонскому лесу, мне приятно чувствовать себя таким же глупым, как моя лошадь. — Глупым, как все эти молодые люди, прогуливающиеся верхом, — ты ведь так хотел сказать, —последовал несколько раздраженный ответ. Флавьен де Сож был знатен и богат. У Жюля Тьерре не было ни предков, ни состояния. Оба были умны; первый не получил серьезного образования, второй обладал немалыми знаниями и талантом. Они воспитывались вместе, при каких обстоятельствах — мы расскажем позднее; расскажем мы и о том, как, никогда не теряя друг друга из виду, они были связаны неким сложным чувством у Тьерре это чувство нельзя было назвать ни любовью, ни антипатией, и все же оно имело в себе нечто и от того, и от другого. Флавьен не был обделен ни остроумием, ни врожденной проницательностью, но он редко утруждал себя размышлениями, хотя часто рассуждал с серьезным видом; Тьерре же предавался раздумьям, хотя любил делать вид, что говорит серьезно лишь смеха ради. В этот вечер, однако, он намеревался побеседовать с Флавьеном действительно серьезно, потому что тот в самом деле был задет за живое. Тьерре испытывал к другу детства симпатию и сочувствие, но в то же время его привлекала возможность найти какую-нибудь слабость у постоянного соперника. Оба они немного завидовали друг другу, не отдавая себе в этом отчета; они как бы естественно соревновались между собой, ибо каждый из них имел все то, чего другой был лишен. Проведя четверть часа во взаимных излияниях, они дошли до невольного взрыва досады, которая могла бы, как это часто случается, привести к охлаждению между ними, если бы не присущие Тьерре гибкость ума и твердость характера. Флавьен де Сож в пылу спора пустил своего коня галопом, показывая, что может, если тому угодно, оставить собеседника наедине с самим собой. Тьерре на мгновение задумался, закусил губу, но потом пожал плечами, улыбнулся, пустился, в свою очередь, бесшумным галопом по усыпанной песком аллее и догнал де Сожа у ворот Майо. — Милый друг, галоп полезен мне, как человеку с очень холодной кровью, — сказал он, — но это плохое средство от лихорадки… Лучше бы ты ехал шагом, если только я не нарушу ход твоих мыслей и если… — Нет, Жюль, напротив, я чувствую потребность поговорить с тобой — ты единственный человек, который умеет или хотя бы хочет меня понять, — порывисто воскликнул Флавьен; он не был злопамятен, и стоило кому-нибудь сделать первый шаг, как он сразу же охотно шел ему навстречу. — Давай поговорим, если моя дурацкая хандра не слишком раздражает тебя. И они продолжали разговор: сначала речь шла о Леонисе, особе кокетливой, смелой и остроумной; Флавьен поставил себе целью завладеть ею, причем не жалел времени на ее, как он выразился, укрощение, но она ускользнула от него в тот самый момент, когда он возомнил себя хозяином положения, и он внезапно утратил все, чего достиг. Он честно признался Тьерре, что, возможно, сам бросил бы ее через неделю, но его опередили, и это страшно возмутило его; в общем — вопрос самолюбия, и ничего больше. Он, впрочем, допускал, что это весьма ребяческий вид самолюбия, которое надо бы подавлять в себе или хотя бы скрывать от ближайших друзей. Тьерре, любивший как бы вскользь давать Флавьену советы, заставил его отказаться от мысли о мести, убедив в том, что скандалы по такому поводу просто смешны. Потом они заговорили о любви вообще, и так как родов любви существует множество, Флавьену пришлось признаться, что привязанность его к Леонисе была довольно грубой, что он испытывал к ней страсть без нежности и ревность без уважения. Тьерре, заставив, таким образом, Флавьена противоречить самому себе, в глубине души остался очень доволен. «Да, бесспорно, профиль у тебя изящнее, борода гуще и плечи шире, чем у твоего скромного товарища по учению, — думал Тьерре, — ты с большим блеском ездишь верхом; у тебя есть имя, тебя ценят женщины определенного круга! У тебя больше благородства или, скорее, непринужденности в манерах; ты умеешь командовать слугами, а подобное умение дается очень трудно, оно заложено в человеке от рождения. Ты богат и мог бы обойтись без умения себя держать и остроумия, тем не менее у тебя есть и го, и другое; тебя уважают, потому что ты храбр, и даже любят, потому что ты не зол. Твоя жизнь сложилась бы ослепительно, если б у тебя была еще способность здраво судить обо всем, но ты лишен ее, это мне хорошо известно. Поэтому, хоть судьба и отказала мне во многих преимуществах, я, наверно, вполне могу потягаться с тобой». Молча подведя итог своим мыслям, Тьерре через несколько минут возобновил беседу. Было решено не говорить больше о Леонисе, и гнев молодого графа уже улегся; ему надо было только отвлечься и перестать думать о ней, чтобы окончательно ее забыть. Тьерре предложил ему отправиться в манеж на Елисейских полях, где они, несомненно, встретят кого-нибудь из друзей. — Пожалуй! — сказал Флавьен. Подъехав к манежу, они бросили поводья сопровождавшим их лакеям, которые увели лошадей. Едва они явились в манеж, как к Тьерре подошел человек благородной наружности, не привлекший, однако, внимания Флавьена. Они побеседовали несколько минут, после чего Тьерре, немного взволнованный, возвратился к своему спутнику. — Дорогой мой, я должен с тобой проститься. Мне необходимо вернуться домой, чтобы привести в порядок — не дела, нет, это значило бы, что у меня есть какие-то крупные денежные интересы, — а просто бумаги, мою пачкотню. Завтра я уезжаю в провинцию. — Значит, тебя похищает этот господин? — спросил Флавьен, отходя от компании, к которой он было присоединился, и пытаясь разглядеть человека, подходившего к Тьерре, а теперь удалявшегося. — Какой-нибудь родственник? — Нет, это муж. — A-а! Вот оно что. Все понятно. Но заинтересоваться провинциалкой? Фи! Не узнаю человека со вкусом, который так хорошо описывает светских дам, словно он принят у десятка герцогинь! — Эта женщина — не провинциалка и не светская дама, — ответил Тьерре, скрывая досаду, так как в этом комплименте ему почудилась насмешка, — это женщина умная и с душой! — С душой? Забавное определение! Подобная разновидность мне незнакома. Вероятно, это очень скучно. — Флавьен, не паясничай! Ты лучше, чем хочешь казаться. — О нет! Впрочем, я сам виноват. Я жил так лениво… Романов я не пишу, типы мне изучать не надо… Но ты говоришь, что эта женщина с душой тебе нравится? — Больше того, я влюблен в нее, но я влюблен безнадежно, как говорят эти болваны романисты. — Понимаю, Тьерре, понимаю; я же говорил: ты изучаешь! — Ах, боже мой, нет — я смотрю, я восторгаюсь, я наслаждаюсь созерцанием! — Оставь! Чтобы ты влюбился в добродетельную женщину, ты — сам рассудок, сама логика! И часа не прошло, как ты сказал мне то, что я повторял себе сотни раз… я вовсе не лишен нравственности: но это ясно само собой: «Зачем желать добродетельную женщину, если в тот день, когда она вам уступит, она перестанет быть добродетельной?» — И это ты, великолепный укротитель, задаешь мне подобный вопрос? А борьба? А торжество победы? — Ба! Это слишком просто. Восторжествовать над волей, над эгоизмом, корыстолюбием, капризами — дело стоящее! Но торжествовать над добродетелью? Я даже пробовать не хочу, честное слово, настолько это мне кажется банальным. — Флавьен, ты уже развращен, а я нет, хоть я и старше тебя! Можешь думать, что хочешь, но добродетель — это нравственное могущество, духовная сила; я люблю эту женщину за нее самое… — И чтобы это доказать, хочешь развратить ее! О логически мыслящий человек, ты говоришь вздор или смеешься надо мной! До свидания и счастливого пути! — Я не хочу оставлять тебя в таком заблуждении. Если тебе не обязательно видеть, как мадемуазель Каролина берет барьер, проводи меня до моей поэтической конуры; может быть, я попрошу тебя об одной услуге. — Ага! Отправиться с тобой и занимать доверчивого мужа, в то время как ты будешь блистать красноречием перед его добродетельной половиной! — Возможно! — Ну, на это у меня не хватит мужества. Никогда не проси у меня ничего подобного. Я эгоист. — Ты прав, — ответил Тьерре, — я сам эгоист, и поэтому я покидаю тебя. Прощай! И он удалился. Через час, когда Тьерре готовился дома к отъезду, к нему вошел де Сож, очень возбужденный. Светские привычки не научили его сохранять спокойствие независимо от душевного состояния. Он всегда следовал первому порыву. — Флавьен, ты совершил какой-то безумный поступок! — воскликнул Тьерре и мысленно добавил: «Или глупость!» — Нет, но мне очень хотелось и все еще хочется совершить его! — откровенно ответил Флавьен, раскуривая сигару. — Вот почему я прибежал к своему мудрому ментору — пусть он охранит меня от самого себя! — Ментор! Когда это слово произносит человек, который хвалится тем, что заставляет всех повиноваться и никогда никому не уступает, оно означает: «Тот, кто читает нравоучения»! — Боже мой, Жюль, до чего же ты обидчив! Так встретить меня, когда я пришел искать у тебя успокоения! Оно мне просто необходимо. — А ты уверен, что я сам спокоен? Я же сказал тебе, что я влюблен! — Влюблен хладнокровно, как всегда, и влюблен в самое добродетель, иными словами — отнюдь не ревнив, поскольку к ревности нет повода! — Кто же из нас ревнив? Не ты ли? Ревнуешь мадемуазель Леонису! — Как только ты сближаешь эти два определения — имя этой девки и прилагательное «ревнивый», я прихожу в себя, и мне хочется смеяться. Но когда я встречаю ее под руку с Марсанжем, у меня возникает непреодолимое желание прикончить их обоих. — Ты встретил их? — Только что, в манеже. — И что ты сделал? — Ничего. Поклонился им с самым серьезным видом. — Ну что ж, для человека, в котором все кипит, — превосходно! — Да, но Марсанж был вне себя от моего равнодушия, а Леониса — от моего презрения. Меня ничуть не удивит, если он в ближайшие же дни начнет искать со мной ссоры, а я не желаю впутываться в историю из-за девки, да еще в подобных обстоятельствах. Это выставит меня в смешном свете, а в тот день, когда я окажусь смешон, я, наверно, пущу себе пулю в лоб! — В таком случае надо месяца на два уехать из Парижа. — Вот именно. Завтра я уезжаю в Ниверне[157]. — В самом деле? А что ты будешь делать в Ниверне? — То, что я откладываю со дня на день в течение полугола: там у меня имение, и я намерен продать его одному соседу по фамилии Дютертр. — Что? — с живостью воскликнул Тьерре. — Ты знаешь господина Дютертра? — Откуда я могу его знать, не имея понятия ни о Ниверне, ни о своем имении? Полгода назад я получил наследство от двоюродной бабушки: дом, луг, поля, лесок — словом, нечто, оцененное моим нотариусом в сто тысяч франков. Мне нужны эти сто тысяч, чтобы заново обставить мой замок в Турени. В Ниверне же есть некий господин Дютертр, который, по слухам, богат, кажется, депутат… Да, кажется, где-то я его видел. Он хочет округлить свои владения и заплатит наличными. Я продам ему всю эту недвижимость, а потом уеду в Турень. Хочешь, поедем вместе? Я забираю тебя с собой. — Значит, в Ниверне? — Да, да, мой милый, это будет больше содействовать тебе в накоплении нужного опыта и доставит больше удовольствия, чем все труды по совращению твоей провинциалки… как ты говорил? Женщины умной и с душой? Ну и стиль! А ведь ты так хорошо пишешь! Решено, в семь часов мы уезжаем поездом на Орлеан и остановимся лишь под старыми дубами Морвана. Когда я говорю «дуб», это значит дерево вообще, ибо я не знаю, что растет в тех краях. Но мне сказали, что там много лесов и полно дичи. Мы будем охотиться, читать, философствовать. До завтра, не так ли? Ты принесешь мне в жертву твою провинциалку? — До завтра. Подожди только несколько минут, ты захватишь письмецо, которое я напишу, и опустишь его в первый попавшийся почтовый ящик. И Тьерре принялся писать, произнося вслух:«Сударь! Я вынужден с глубоким сожалением отказаться от чести сопровождать вас завтра и от удовольствия совершить путешествие вместе с вами. Один мой друг увозит меня к себе, но мы будем у цели раньше вас. Этот друг — ваш сосед, граф Флавьен де Сож, который собирается встретиться с вами по поводу дела, представляющего интерес для вас обоих. Примите и проч.— Кому ты меня так представляешь? — небрежно спросил Флавьен. Тьерре надписал адрес и отдал ему письмо. — Господину Дютертру, члену палаты депутатов, — смеясь, прочел Флавьен. — Ее мужу! Моему покупателю! Значит, это тот самый господин? — Именно. И еще говорят, что случай слеп. В книге судеб было дважды начертано, что я уеду завтра в Ниверне и что я отправлюсь вздыхать по госпоже Дютертр. Однако я лучше поеду с тобой, чем с мужем: ничто так не стесняет меня, как доверчивый муж. Он уезжает в семь часов вечера, мы — в семь утра. Он сочтет, что у нас какие-то причины не ждать еще двенадцать часов, что, конечно, было бы более вежливо, но куда менее приятно. — И он очень мешал бы нам говорить по дороге о его жене, — спокойно заметил Флавьен, — а я предвижу, что ты будешь говорить о ней. — Да, уклониться тебе не удастся, и потому прошу тебя хорошенько выспаться сегодня. На следующее утро они уже катили по дороге в Невер. — Это женщина лет двадцати — двадцати пяти, — говорил Тьерре своему спутнику, — женщина редкой, пронзительной, своеобразной красоты — словом, из таких, какие мне нравятся. Густые, блестящие черные волосы, вьющиеся от природы, кожа белая, гладкая, такая матовая, что даже немного страшно. Манера вести себя, одеваться, говорить, несмотря на желание быть такой, как все, ни на кого не похожа. Рост средний, гибкая, прелестная фигура; ножки, ручки, зубки, ушки… все безупречно; и сверх этого, ее как бы окружает какая-то тайна, заставляя надолго задумываться над каждым словом, которое она произносит или даже не произносит. Ты понимаешь меня? — Ничего не понимаю. Боже, бедный мой Жюль, как тебя испортила литература! Ты столько сочиняешь, что уже разучился описывать. Сквозь твою фантазию невозможно разглядеть что-нибудь реально существующее. Я, например, отношусь с недоверием к твоей провинциалке. Я вижу ее дурно одетой, не слишком чистоплотной, напыщенной и до ужаса глупой под личиной глубокомыслия. Ты меня прости, по ты сам в этом виноват — уж такое впечатление складывается у меня от твоего портрета. — Госпожа Дютертр не провинциалка, а иностранка, которая родилась и воспитывалась в Риме; она дочь выдающегося музыканта и женщина вполне светская по манерам. — По правде говоря, я ее никогда не видел или не помню. Как ее звали, прежде чем она стала носить звучную фамилию Дютертр? — Олимпия Марсиньяни. — Итальянка? — Чистокровная, и говорит без акцента. — Имя ее отца мне знакомо, он художник? — Нет, композитор, maestro. — Он, кажется, умер? — Давно. — А эта дама тоже из мира искусства? Дютертр полагал, что она выходит замуж по любви? — Откуда мне знать, чего хотел Дютертр, брака по любви или по расчету? Я, например, уверен в том, что она никогда не любила своего мужа. — С тех пор, как полюбила тебя? — Меня? Если б она любила меня, неужели я ехал бы к ней? — Ты бы тогда ее не покинул! — Или уже покинул бы. Проблема была бы решена… — A-а! Так-то ты любишь добродетель за нее самое! Прекрасно, прекрасно, ты снова стал самим собой! Любовь чисто умственная, влечение из любопытства, глубокое отвращение к действительности: видишь, как я тебя знаю! Тьерре улыбнулся. Флавьен ошибался в нем — Жюль был немного пресыщен, но не развращен, и нередко прикидывался скептиком опасаясь, что, признавшись в своей наивности, покажется некоторым людям смешным. — Поговорим о Дютертре, — продолжал Флавьен. — Он будет моим покупателем, нашим общим должником: ты претендуешь на его жену, я — на его деньги. Что это за человек? Глубокоуважаемый депутат? Все они глубокоуважаемые… Богатый землевладелец, миллионер… бывший промышленник, пристрастившийся теперь к сельскому хозяйству; член совета своего департамента, мэр своей коммуны, член церковноприходского совета, прекрасный муж, прекрасный отец… И при всем этом он порядочный человек? — Очень порядочный и даже умный. — И с душой, как жена? — И с душой. За это я ручаюсь, хоть и знаю его не так давно. — А с каких пор ты знаешь его жену? — Его жену? — весело ответил Тьерре, считая по пальцам. — В общем, я ее видел три раза; что же касается мужа, мы встретились с ним у нашего общего друга, я ему понравился; он мне тоже нравился, пока я не увидел его жену. Он представил меня ей, и с тех пор я терпел предупредительность мужа, не имея, однако, права насмехаться над ним, потому что — говорю тебе совершенно серьезно — у него манеры и репутация порядочнейшего человека. Какого черта он оказался мужем Олимпии? Я же не виноват, что она поразила мое воображение с первого взгляда. Представь себе женщину бледную, но не бесцветную, строгую и полную неги, равнодушную и ледяную; ее улыбка полна очарования и пренебрежения, все в ней привлекает и отталкивает, возбуждает и пугает, эта женщина поощряет и обескураживает одновременно — словом, живая загадка. Разве это вульгарно и часто встречается? Вот уже десять лет, как я ищу подобный тип женщины и нашел его наконец. Я не могу упустить ее, я берусь ее завоевать, я ставлю себе задачу разгадать сфинкса; я поддерживаю дружбу с мужем, располагаю его к себе, обещаю ему поехать с ним в Ниверне поохотиться во время парламентских каникул. Его жена, которая приехала в Париж всего на две недели и уверяла, что спешит вернуться к детям, уезжает, бросив на меня странный взгляд, и говорит, что рассчитывает на меня в сентябре. Она исчезает, я пылаю, я мечтаю, я волнуюсь, я успокаиваюсь, я рассеиваюсь, я забываю. Наступают каникулы, и вот вчера вечером ее муж вполне реально является мне при свете огней манежа; бледный призрак Олимпии идет рядом с ним, видимый мне одному. В это дело вмешался рок, потому что, даже если бы Дютертр не привез меня к ней, ты увлекаешь меня за собой. И вот я еду туда. Понял ты наконец? — Конечно, женщина бледная и яркая, дразнящая и неприступная, полная неги и скромная, — отлично, друг мой, теперь мне все совершенно ясно, я понял до конца. Милый мой, ты часто говоришь как безумец, но действуешь весьма разумно. Ты воспламеняешься как артист, но говоришь о своих причудах как положительный человек. Ты все предпринимаешь с жаром, но выбираешь средства вполне хладнокровно. Вот что заставляет тебя действовать так противоречиво и говорить так парадоксально. Видишь, я тоже наблюдаю за тобой и если не всегда понимаю, то все же достаточно хорошо знаю тебя. — Ну, ну! Неплохо для человека, который не зарабатывает этим на жизнь, — смеясь, ответил Тьерре. — Но я устал от этих усилий; мне легче гоняться за дичью с раннего утра до поздней ночи по лесной чаще, чем сделать несколько шагов по извилистому лабиринту в мозгу поэта. Спокойной ночи, я надеюсь проспать до самого Невера. Тьерре написал несколько стихов, мысленно сочинил сцену из комедии и кончил тем, что уснул как простой смертный.Ж. Тьерре».
II
Скромное жилище, оставленное канониссой[158] де Сож ее внучатому племяннику Флавьену, было одновременно живописным и удобным, и хотя новый хозяин никого не извещал о своем приезде, двое слуг, пожилые мужчина и женщина, соединенные брачными узами, поддерживали там такой порядок и чистоту, что не прошло и часу, как Флавьен уже устроился в доме и ему была подана еда. После этого он быстро обошел свои владения; правда, их нельзя было назвать обширными, но зато там были прекрасные деревья, густые травы и хорошо откормленный скот. Старый слуга, он же и управляющий, вменил себе в обязанность сопровождать Флавьена и расхваливать ему великолепие его угодий. Тьерре шагал следом по лесным тропинкам; за ним увязалась старуха Манетта, еще весьма проворная и на ногу, и на язык. Видя, что она так расположена к болтовне, Тьерре не преминул расспросить ее о соседях, особенно о Дютертрах. — О, это очень богатые буржуа! — сказала старуха. — Говорят, они не знают счета экю[159]. Для людей такого невысокого происхождения они довольно хорошо воспитаны и слывут весьма порядочными. Сама госпожа канонисса не считала для себя неподобающим встречаться с ними. Они много помогают бедным, а у хозяйки дома настолько благородные манеры, что ее никогда не примешь за то, что она есть на самом деле. Говорят, что ее отец был всего лишь музыкантом. — Однако, милейшая, разве вы тоже канонисса, что так презрительно отзываетесь о музыкантах? — Я, сударь? — не смущаясь, ответила старуха. — Я-то сама, как видите, женщина простая, но я всегда прислуживала благородным господам и провела в замке двадцать лет, ни больше, ни меньше. — В каком замке? — обернулся Флавьен. — В вашем, господин граф, — ответил Жерве, муж старухи. — В вашем замке Мон-Ревеш. — Ах да! Мон-Ревеш! Прошу прощенья! Я забыл, как называется мое новое поместье. И по пути никак не мог вспомнить. Название мне не очень-то нравится[160]. Совсем как ваши дороги. Так, значит, это называется замком? — добавил Флавьен, указывая на строение, которое он уже мысленно прозвал своей голубятней. — Это уж как вам будет угодно, господин граф, — с обидой ответила старуха, — но здешние жители привыкли называть его так, и вовсе не в насмешку. Хоть он и маленький, но у него есть и башня, и ров, и мост, да и вид у него не менее величественный, чем у этой махины, Пюи-Вердона. — А что такое Пюи-Вердон? — спросил Флавьен. — Замок в одном лье от нас, который купили Дютертры. Он богатый, просторный, но госпоже канониссе было ни к чему жилище таких размеров. «Когда нет детей, места всегда хватает», — говаривала она. — Расскажите нам о детях этого Дютертра, — сказал Флавьен, глядя на Тьерре. — Их, стало быть, несколько? — Достаточно, чтобы выводить родителей из себя, и притом одни девочки! Если б у меня были дети, я бы хотела иметь только мальчиков! — Женщина, у которой уже было много детей… — Флавьен подошел поближе к Тьерре. — Поэтичного тут мало, и я не представляю себе твою фантастическую и таинственную красавицу посреди оравы ребят. Сколько же, вы говорите, детей у Дютертров? — обратился он к старым слугам. — Господи, да не так уж много! — ответил Жерве. — Моя жена всегда преувеличивает. Всего трое; да они и не маленькие вовсе. Три барышни, старшей уже лет двадцать, а младшей по меньшей мере шестнадцать. Тьерре побледнел и не мог вымолвить ни слова. Флавьен, напротив, побагровел, пытаясь удержаться от смеха. Но, видя изумление и смятение своего друга, он великодушно повернул обратно к дому, который его слугам так нравилось называть замком, и переменил тему разговора. Как только они с Тьерре остались одни, Флавьен спросил: — К чему такое уныние, такое безнадежное отчаяние? Неужели ты действительно обманут тридцатью восемью или сорока годами госпожи Дютертр и теперь словно с луны свалился? Признайся, Жюль: отправляясь сюда, ты просто посмеялся надо мной, а сам намерен сочинять любовные стансы одной из барышень Дютертр, принимая во внимание, что она унаследует от папаши не меньше миллиона франков? — Нет, друг мой, это невозможно! — вскричал Тьерре. — Олимпия Дютертр может убавить себе пять-шесть лет, как делают все женщины. Ей может быть тридцать… ну — от силы тридцать два! Старшей дочери может быть четырнадцать… Но двадцать! Чтобы я ошибся, дав женщине на пятнадцать или двадцать лет меньше? Невозможно; твоя служанка стара и не соображает, что говорит, она все преувеличивает. — Это не она сказала, а Жерве. — Он впал в детство. — Скажи мне, Тьерре, — серьезно произнес Флавьен, — ты видел свою Олимпию днем или при свечах? — Только вечером, при свечах, — хмуро признался Тьерре; потом он расхохотался и дал наконец возможность расхохотаться и Флавьену; но он смеялся долго и слишком громко, что звучало довольно принужденно. Первым перестал смеяться Флавьен; он сделал весьма разумное замечание, в котором Тьерре усмотрел неуклюжую попытку утешить его. — Ну и что ж, даже если ей сорок! Женщине столько лет, сколько ей можно дать. Тебе тридцать два или тридцать три. Почему ты не можешь влюбиться в женщину, родившуюся на семь-восемь лет раньше тебя? Разве красавицы, которые прославлены в свете или в искусстве, не одерживают побед, будучи уже не столь молодыми? Знаешь, мой милый, это пренебрежение зрелыми красавицами объясняется ложным стыдом. На твоем месте я бы не краснел — когда этих женщин можно любить, их любят страстно. Они полны обаяния, как королевы, как великие актрисы. — Да, как живописные развалины и старинные картины, — язвительно продолжал Тьерре. — Благодарю покорно! Я уже не ребенок, чтобы привязываться по детской привычке к первой попавшейся женщине, напомнившей мне мать умением заботиться и баловать; я не выскочка, которого ослепляет роскошь; бархат и кружева не заменяют мне объекта вполне естественных желаний. К черту вставные зубы и крашеные волосы! Моя Олимпия — бабушка, вот и все; и я утверждаю, что люблю ее как бабушку — ведь она же не виновата, что я немного близорук. — И потом у тебя есть утешение: если ты и не нашел свой тип, воплощающий таинственные противоположности, зато встретил в ней проблему, которую философский анализ разрешит лучше, чем любовь. Это красивая женщина, хорошо сохранившаяся, и она защищается, как может, от разрушений, вызываемых временем. Следовательно, она женщина умная. Остается узнать, для чего служит ее наука. Добродетель ли это, стремящаяся понравиться мужу? Или ловушка, заманивающая поклонников? Можешь рассуждать на эту тему сколько твоей душе угодно. — Меня не интересуют старые проблемы, — отвечал Тьерре, — и чтобы наказать ее за то, что она меня одурачила, я хочу влюбиться в самую красивую или наименее безобразную из ее дочерей — и под самым ее носом! Пойдем, нанесем им первый визит. Я обязан сделать это ради нашего славного Дютертра. Хороший муж! Дорогой муж! Он не обманывал меня, когда говорил: «Я хочу представить вас моей жене!» — Приведем себя немножко в порядок и поедем. Судя по нимфам и лесным богам, которые тут бродят, мне, откровенно говоря, кажется, что эти леса населены юными чудовищами обоего пола; пожалуй, я постараюсь побыстрее заключить свою сделку и уехать в Турень, посмотреть, по-прежнему ли скачут на кровных лошадях молодые англичанки, «отдавая во власть ветру свои лазоревые вуали и белокурые локоны», как сказал бы ты. Но достать какое-нибудь средство передвижения, чтобы добраться до Пюи-Вердона, оказалось довольно трудно. Жерве, который сообщил им о существовании экипажа канониссы, был оскорблен в своих лучших чувствах, когда оба молодых человека встретили насмешливыми возгласами появление захудалой колымаги и дряхлой лошади, услужливо предложенных им славным стариком. Тем не менее, они были вынуждены с этим примириться, потому что шел дождь, и если бы они пошли пешком, то явились бы к дамам Пюи-Вердона промокшими и запачканными грязью. Они решили, что Жерве будет править, а они укроются под крышей экипажа и остановятся за лесочком на небольшом расстоянии от резиденции Дютертров; дальше они пройдут через сад, не выставляя на посмешище молодым обитательницам замка нелепую берлину[161] канониссы. Но по дороге они передумали. — Мы дураки, — признался Тьерре. — Ведь в замке знают эту ужасную колымагу. Все там давно привыкли к ней, и вряд ли кто предположит, что мы прибыли из Парижа в тильбюри[162] или верхом. Будет куда хуже, если они догадаются, что мы стесняемся этого экипажа; лучше уж не отказываться от него. Въедем торжественно, рысцой, в парадный двор замка. Эта почтенная белая лошадь — домашняя реликвия твоей бабушки — послужит намеком на устаревшие прелести госпожи Дютертр. — Согласен; тем более что дождь льет как из ведра. Но им не пришлось проявлять свое философское мужество — в полулье от замка их настигла почтовая коляска; обогнав их, кучер окликнул Жерве и остановился. Господин Дютертр, высунувшись из коляски, крикнул: — Идите сюда, господа, идите сюда. Я узнал Жерве и понял, что вы сдержали свое слово, опередив меня. Я тороплюсь обнять мое дорогое семейство, но не хочу расставаться с вами. Почтовые лошадки бегут побыстрее, чем ваш славный Сезар, хоть он еще довольно бодр для своих двадцати трех лет. Видите, он мне знаком, по моей дороге инкогнито не проедешь. Скорей пересаживайтесь ко мне: Жерве поедет следом, а я получу двойное удовольствие — поеду с вами вместе и быстро доберусь до дома. — Это же дурной тон — приехать и оказаться непрошеным свидетелем семейных объятий, — шепнул Флавьен Тьерре. — Напротив, я считаю его откровенность очень хорошим тоном. Поспешим, скоро начнет смеркаться; а я хочу увидеть мою Олимпию, пока не зажгли свечи. Господин Дютертр продолжал настаивать на своем, молодые люди быстро перешли из одного экипажа в другой, возница щелкнул кнутом, и через несколько минут они подкатили к Пюи-Вердону, не успев привлечь внимания обитательниц замка — господин Дютертр не сообщил никому о дне своего приезда, а дождь, по-видимому, вынудил дам сидеть взаперти в гостиной, окно которой выходило в сад с другой стороны дома. Короткого переезда в коляске было достаточно, чтобы все трое почувствовали себя совершенно свободно — хотя двое из них впервые встретились друг с другом, — и дело о продаже Мон-Ревеша было быстро завершено. Дютертр даже не дал Флавьену объяснить цель своей поездки. — Я знаю, что вы приехали сюда, намереваясь продать, а у меня есть желание купить, — сказал он. — Вы сами назовете мне сумму, в которую оцениваете ваше поместье. Я заранее согласен, если только вы по неопытности не преуменьшите его стоимости. Меня считают честным человеком, и надеюсь, что это соответствует истине. — Мне очень нравится, как вы ведете дела, сударь. Раз уж вы так любезны, я пришлю вам завтра свою доверенность с неограниченными полномочиями в оформлении продажи имения на имя господина Дютертра, а цену вы впишите сами. Они, смеясь, пожали друг другу руки и с этого момента стали друзьями. Прямота характера господина Дютертра сочеталась с такой непринужденной изысканностью манер, гона, всей внешности, что становилась неотразимой. Даже человек, опасающийся, как бы кто-нибудь не затмил его собственных достоинств, не смог бы найти у господина Дютертра ни одной черты, которая вызывала бы соперничество, недоверие или недовольство. Сам Тьерре, объявив Дютертра человеком почтенным и в то же время, хоть и без злого умысла, легкомысленно отзываясь о его жене, невольно снова начал уважать его, особенно памятуя о том, что красавице Олимпии уже сорок лет. В ту минуту, когда трое путешественников выходили из коляски, трое всадников въехали во двор на прекрасных лошадях, вымокших от дождя и взмыленных от скачки, и легко соскочили на землю. Впереди всех ехала высокая белокурая девушка; ее оживленное и несколько припухшее от свежего воздуха и быстрой езды лицо уже утратило первую прелесть отрочества. Она походила на Дютертра, иными словами — была безупречно хороша собой; фигура у нее была очень изящная, тонкая, как бы воздушная. Однако ее лицо, выражавшее непреклонность, а также ее уверенные и гибкие движения говорили о большой физической энергии или большой решительности характера. За девушкой ехал бледный черноволосый молодой человек. У него были кроткие, меланхолические и умные глаза. Казалось просто невозможным вообразить себе более очаровательное лицо, большую простоту и вместе с тем грацию, более привлекательную улыбку, несмотря на выражение печали, если можно так сказать, хронической, а может быть, и благодаря ему. Третьим ехал грум, коренастый и приземистый здоровяк, который увел тяжело дышащих лошадей в конюшню. — А-а! — воскликнул господин Дютертр, сбегая обратно по двум ступенькам крыльца и спеша навстречу прекрасной амазонке, бросившейся к нему. — Вот моя Эвелина! Моя средняя дочь, — сказал он, глядя на гостей с невольной гордостью, и нежно обнял ее. — Ты же вся мокрая! — с кротким упреком добавил он. — Верхом, в такую погоду! Балованное дитя! — Скажите лучше — неустрашимое, отец, не то Амедей возьмет на себя роль проповедника. — Ну, здравствуй, мой милый, — сказал господин Дютертр, раскрывая объятия молодому человеку, который тотчас же пылко обнял его. — Это ваш сын? — спросил Тьерре с выражением крайней иронии, которую понял только Флавьен. — Нет, но все равно что сын! Мой племянник, А медей Дютертр. Позвольте представить вас друг другу. Молодые люди раскланялись. Господин Дютертр остановил Эвелину, которая быстро поднималась по ступенькам, ловко подобрав подол длинной юбки, испачканный мокрым песком. — Не говори никому, что я приехал, ты же знаешь, что я люблю заставать мое общество врасплох. — Видишь, его жена — почтенная матрона, — тихо сказал Тьерре Флавьену, — иначе такой умница, как он, не говорил бы подобных вещей или не делал бы их. — Да, сомневаться не приходится! — ответил Флавьен со вздохом, полным комического смирения, и поднялся с Тьерре на крыльцо, указывая на Эвелину, которая шла впереди с отцом. — Эта решительная амазонка уже утратила свои молочные зубы, между тем как она второе его чадо. — Если все девицы равны этой, можно будет забыть о моем злоключении, — таким же тоном отвечал Тьерре, — но боюсь, что старшая уже теряет зубы мудрости. В это время у входа в прекрасную галерею, как во многих зданиях эпохи Возрождения, служившую прихожей, показалась старшая дочь. Ей вполне можно было дать двадцать лет, но не более. Стройная брюнетка с еще более нежной кожей, она тоже была хороша собой — даже лучше сестры, но сдержанное и даже несколько чопорное выражение лица делало ее уже на первый взгляд менее привлекательной. Завидя отца, она не выказала ни малейшего удивления, не издала никакого восклицания; обняла его более почтительно, чем пылко, и сказала, окончательно уничтожив Тьерре, — хотя до него не дошло, с каким неестественным выражением были произнесены эти слова: «Маменька будет очень довольна!» «Мать, у которой дочь, возможно, уже совершеннолетняя! — подумал он. — О, я сам буду так издеваться над собой, что у Флавьена не хватит духу еще больше раздуть заблуждение, в которое я впал». — Я услыхала почтовый колокольчик, — спокойно заметила Натали, старшая из барышень Дютертр, проходя с отцом и его гостями по обширным и пышным покоям первого этажа, — и угадала, что вы устроили нам сюрприз. — А я увидела коляску с вершины холма, — сказала Эвелина, — и спустилась вниз галопом, чтобы приехать одновременно с отцом. — Чтобы поскорее обнять меня или чтобы побиться об заклад с Амедеем, рискуя сломать себе шею? — спросил отец; в его словах звучали одновременно насмешка, нежность и недовольство. — Ну вот! Начинаются обычные нападки! — смеясь, воскликнула молодая девушка. — Как вы можете задавать мне такой вопрос? — Оставьте, Эвелина, — сказал кузен, — тут налицо обе причины, хоть я и отказался биться об заклад: это было бы слишком опасно для вас. — Ш-ш! Мы входим в святилище, — странным тоном объявила Натали. — Здесь обитает совершенство, которое мой отец ни в чем не сможет упрекнуть. И с этими словами она отдернула портьеру; взволнованному взору отца семейства и быстрым оценивающим взглядам сопровождавших его гостей открылась маленькая гостиная, где обычно находилась госпожа Дютертр, когда бывала одна. Но Тьерре постигло разочарование. Близился вечер и, гостиная, сама по себе темная из-за золотистых кожаных обоев и обитой лиловым бархатом мебели, была освещена лишь неясным сумеречным светом и огненными отблесками камина, где догорала охапка дров. Две женщины, которые задушевно беседовали, сидя рядом у камина, вскочили и побежали навстречу Дютертру. В их восклицаниях сквозило больше чувства, чем в тех, что встретили отца семейства ранее. Это была Олимпия, жена Дютертра, и его младшая дочь Каролина. Внимание Тьерре восполнило слабость его зрения, и от него не ускользнула ни одна подробность этой сцены. Госпожа Дютертр, собравшаяся было поцеловать идущего к ней навстречу мужа, сделала шаг назад и подтолкнула к нему Каролину, как бы решив уступить ей преимущество первой ласки. «Ого! — подумал Тьерре. — «Грешная жена», совершенно ясно». Мать и дочь обняли Дютертра без лишней суеты, но с большой нежностью; затем Каролина горячо поцеловала руку отца и, как истинно наивное прелестное дитя, подойдя к огню, передала его руку Олимпии, которая незаметно прикоснулась к ней губами. Дютертр вздрогнул, хотел еще раз поцеловать жену, но та опять немного отступила и подтолкнула к нему Каролину. «Да, она очень виновата перед ним! — снова подумал Тьерре, стоя позади них и не упуская ни одного движения Олимпии. — Как много измен в прошлом, если мать семейства так смиренно отступает перед человеком, простившим ее в силу забвенья или привычки!» — Я точно убедился, — сказал он, подходя к Флавьену, вслед за тем, как были представлены оба гостя и завязалась оживленная беседа. — Убедился в возрасте? — О, возраст здесь ни при чем; но это большая грешница. — Ну да, уже? — воскликнул Флавьен, думая о том, как мало времени понадобилось Тьерре, чтобы установить подозрительное единомыслие с хозяйкой замка. — Ты хочешь сказать — все еще? — ответил Тьерре, думая о возрасте дамы и не поняв восклицания друга. Обрадованные свиданием и старавшиеся как можно приветливее принять обоих посторонних людей, хозяева забыли позвонить, чтобы принесли свет. Но мало-помалу все успокоились; промокшая амазонка по настоянию родителей ушла переодеваться. Натали, с виду очень молчаливая и равнодушная ко всему, не привлекала ничьего внимания. Каролина, не отходившая от отца и державшая его за руку, словно боясь, как бы его не отняли у нее, восхищенно внимала каждому его слову. Госпожа Дютертр говорила мало, но умно, ее ответы и вопросы были всегда уместны, и вела она себя спокойно и уверенно, как женщины из высшего общества; звуки ее голоса, чистого и мелодичного, как у молодой девушки, радовали музыкальный слух Тьерре. Господин Дютертр приятно и степенно беседовал с тремя мужчинами, не забывая время от времени оборачиваться к жене, словно советуясь с ней или призывая ее в свидетели; его внимание и предупредительность скорее были результатом привязанности, чем просто благовоспитанности. «Какой сильный человек, — думал, наблюдая за ним, Тьерре. — Трудно поверить в виновность такой безупречной супруги, если б я не видел, что она поцеловала его руку!» Дютертр стал предметом его восхищения, и Тьерре решил изучить его как тип. А в тусклом свете, который огонь бросал на бледное лицо Олимпии, был виден лишь чистый овал и, по-видимому, очень черные волосы. Тьерре, разглядывая ее и вновь восхищаясь прелестным обликом, который раньше так пленил его, спрашивал себя, не привиделось ли это ему во сне или, быть может, продолжает сниться до сих пор. В этот момент господин Дютертр позвонил, чтобы принесли свет, и Флавьен, воспользовавшись беспорядком, поспешил откланяться. Тьерре последовал за ним; в передней они встретили слуг, несших зажженные канделябры. — Давно пора! — сказал Тьерре, смеясь.III
— Ну, признайся, — говорил он Флавьену, который начал хохотать пуще его самого, как только они уселись в семейную колымагу, — признайся, что можно ошибиться, если у тебя очень хорошее зрение, и что эта женщина очень молодо выглядит… Флавьен продолжал хохотать. Тьерре был уязвлен и, чтобы сдержать данное самому себе слово, принялся так высмеивать свою близорукость, что веселость его друга сделалась просто конвульсивной. Но вдруг Флавьен перестал смеяться. — Могу поспорить: ты не знаешь, над чем я смеюсь. Это внезапное восклицание ошеломило Тьерре. — Я смеюсь над впечатлительностью поэтов. Они на все смотрят, ничего не видя, а когда уже могли бы и увидеть, то перестают смотреть. Ты исследовал, анализировал внешность этой женщины, высчитывал ее возраст, но не увидел ее такой, какая она есть, потому что основывался на случайно брошенных утром словах Жерве, и тебе показалось, что ей чуть ли не пятьдесят. Твои воспоминания, именовавшиеся страстью, не вселили в тебя никакой уверенности, и ты не смог преодолеть простой ошибки. Сейчас ты снова увидел эту женщину и мог так же отлично все понять, как и я. Ведь ты подошел к ней до смешного близко, а света было достаточно. Но, будучи убежден, что она стара, ты и не соизволил заметить, что она молода, и теперь принимаешь ее за почтенную матрону, а я — не влюбленный и не поэт — наконец разгадал тайну: вот увидишь, ошибся я или нет. — Жерве, — возвысив голос, обратился Флавьен к старому слуге, который все еще твердой рукой направлял Сезара по песчаной колее, — господин Дютертр уже был один раз женат? — Конечно, господин граф, — не колеблясь, ответил Жерве, — то была мать его детей. — А сколько лет его второй жене? — Могу вам сказать — ведь я был в церкви, когда оглашали их брак. Госпоже Олимпии должно быть сейчас… погодите… около двадцати четырех, господин граф. Ей было двадцать, когда господин Дютертр женился на ней в Италии. — Двадцать четыре! — воскликнул Тьерре. — Госпоже Дютертр двадцать четыре года! А этот старый идиот и не подумал нам это сказать! — Знаете, сударь, — ответил Жерве, услыхав слишком громкое восклицание Тьерре, — если бы вы подумали спросить меня, я бы подумал вам ответить. — Вот ты и наказан! — сказал своему другу Флавьен. — Наказан за то, что не дал себе груда проверить, за то, что твои любовные воспоминания не устояли перед пустой, водевильной ошибкой. Позволь тебе объяснить, дорогой мой, что ты видишь женщин глазами семинариста, то есть сквозь пелену болезненных галлюцинаций. Знаешь, ты куда моложе, чем выглядишь, и куда менее развращен, чем стараешься казаться. — Флавьен! Если ты сейчас же не перестанешь говорить со мной об Олимпии, я заведу речь о Леонисе. — Как хочешь! Это меня больше не трогает, потому что мне хочется влюбиться в Олимпию, раз ты в нее не влюблен. — Почем ты знаешь? — Да ты никогда и не был влюблен в нее! — Возможно; но тебя я прошу не влюбляться. Она мне позирует, не мешай моей натурщице. — Что ж! Если ты поведешь разговор в таком направлении, то я тебя пойму. Ты играешь с женщинами в игру, в которой другой обжегся бы изрядно, но ты будешь жечь лишьблаговония поэзии в курильнице из веленовой бумаги с золотым обрезом. — Неважно. Вот мы и приехали. Я хочу спать и проведу ночь лучше, чем ожидал. Я боялся, что увижу во сне a Lady in the sacque[163], вроде той, что была в комнате с гобеленами у Вальтера Скотта[164], но если образ дамы из Пюи-Вердона теперь будет витать над моим изголовьем, я жаловаться не стану. — Иначе говоря, с твоих мужественных плеч и с твоей поэтической души гора свалилась. Теперь, мой друг, после такого тяжелого дня и таких ужасных волнений ты можешь спать спокойно. — И Флавьен покинул приятеля. А теперь предоставим двоих друзей, которых мы никак не могли покинуть ранее, спокойному сну и взглянем, что происходит в это время в замке Пюи-Вердон. Господин Дютертр, наскоро пообедавший в дороге, проголодался; шестнадцатилетняя Каролина, которую сестры прозвали «папина Малютка», сбегала на кухню и, как истая буржуазка в лучшем смысле этого слова, собственноручно приготовила и сама подала ужин дорогому папочке. Девочка с пылким сердцем и спокойным воображением, она покамест знала только одно чувство — дочернюю любовь. Она была и по внешности, и по уму наименее яркой из трех молодых девиц на выданье, расцветших в Пюи-Вердоне, но зато была и самой счастливой из них, ибо не старалась быть ни самой умной, ни самой красивой. Лишь бы папа и мама были ею довольны, и она будет считать себя самой счастливой девушкой на свете, — говорила она, и говорила вполне искренне. Среди естественной для очень богатого дома роскоши простые вкусы и хозяйственные наклонности Малютки составляли забавный контраст с аристократическими вкусами и заносчивым видом той из ее сестер, которую прозвали львицей. Эта самая львица и отважная наездница, Эвелина, только что спустилась в гостиную, сменив суконную амазонку на прелестное платье. Тщательно причесанная, надушенная, в щегольских туфельках, она казалась совсем другой девушкой. Эвелина знала это и любила показываться людям то в виде бойкого мальчишки, равнодушного к иссушающему кожу ветру и усталости после охоты, то в виде беспечной и утонченной светской дамы, полной обольстительного кокетства, пока еще невинного, но грозящего стать опасным в будущем. Она надеялась застать больше людей, которые оценили бы это волшебное мгновенное превращение. Натали, всегда одетая строго, не потому, что так ей больше нравилось, а скорее для того, чтобы поражать этой богатой строгостью рядом с изысканными нарядами и затейливыми прическами Эвелины, сразу же громко сказала: «Они ушли», явно желая доставить ей неприятность, как это свойственно девицам высокомерным и завистливым. При этом она бросила насмешливо-восторженный взгляд на белокурые косы, в которые Эвелина вплела живые цветы, и на платье из белого муслина, струящееся и воздушное, как облако. — Кто ушел? — спросила Эвелина с неловким притворством. Но тут же, взяв себя в руки, добавила если не вполне чистосердечно, то по крайней мере очень любезно: — Разве папенька не здесь? Может быть, я зря наряжалась для него? Каролина увела отца к столу. — Папа проголодался. Сейчас он посмотрит, какая ты красивая. Но тебе тоже надо поесть, сестричка. Ты носилась верхом после обеда, и если не перекусишь сейчас, то опять разбудишь нас среди ночи, крича, что умираешь с голоду. Садитесь, я сейчас подам еду вам обоим. Можно, мама? — спросила она, поцеловав руку Олимпии, лежащую у нее на плече. — Это дело нешуточное, — ответила госпожа Дютертр, нежно улыбаясь любимой падчерице. — Может быть, придется попросить еще разрешения у отца, а потом у твоей старшей сестры, а потом у второй… — Я сегодня всем и все разрешаю, — весело сказал Дютертр, — только любите меня! За полгода разлуки я изголодался больше всего по вашей любви. — Вас любят все, отец, — сказала Эвелина, — и я охотно разрешаю Малютке разыгрывать перед вами хозяйку дома. Она прекрасно с этим справляется, а я, когда перестаю бегать или скакать верхом, уже ни на что больше не гожусь. Мне легче заколоть кабана, чем разрезать жареную куропатку. — Что касается меня, — сказала Натали, — то я совсем не разбираюсь во всех этих тонкостях домашнего хозяйства, которые носят возвышенное название «кулинария». Довольная Каролина отослала слуг, уселась подле отца и с восторгом принялась за ним ухаживать, поминутно вскакивая с места. — Послушайте, отец, — продолжала Натали, — расскажите нам что-нибудь об этом мыслителе, которого вы нам сегодня представили. — Почему ты называешь его мыслителем? Он просто литератор; ведь ты, вероятно, говоришь о господине Тьерре? — Да, о человеке, именуемом Тьерре, — с величественным презрением ответила Натали. — Нам так мало о нем говорили, — продолжала она, глядя на Олимпию, — мы и не предполагали, что он настолько важная особа. Наверно, это правда, потому что он говорит, садится, смотрит и ходит как великий человек. Он мыслитель по профессии, это видно даже по его одежде, вплоть до пуговиц на гамашах. — А ты, как всегда, злая, Натали? — спросил Дютертр тоном, в котором было больше снисходительности, чем строгости. — Натали любит подтрунивать над людьми, — еще мягче промолвила госпожа Дютертр, — но я готова спорить, что она даже не взглянула на человека, о котором так остроумно отзывается. — А вы, видимо, достаточно долго смотрели на него, что беретесь его защищать, — возразила Натали; ее тон как бы приглушался мягким тоном родителей и позволял ей говорить язвительные вещи с веселым видом. Господин Дютертр удивился; он обернулся и посмотрел на Натали; встретив ее спокойный и чуть вызывающий взгляд, он ответил ей пристальным отеческим взглядом. — Я посмотрел, к кому ты обращаешься, дочь моя; я думал, что ты, как всегда, поддразниваешь своих сестер. — Поддразнивание Натали! — небрежно заметила Эвелина. — Слишком мягкое выражение! Натали, которая очень хорошо поняла отцовский урок, не удостоила вниманием слова Эвелины и отвечала, обернувшись к господину Дютертру: — Нет, отец, я обращаюсь именно к нашей милой Олимпии. — К Олимпии! — сокрушенно сказал Дютертр и посмотрел на жену. — Скажите, дорогая, ваши дочери теперь называют вас по имени? Госпожа Дютертр хотела что-то ответить, чтобы отвлечь его внимание от этой темы, но Натали опередила ее: — Нет, отец, Малютка, — она показала кивком на Каролину, — все еще называет ее мамой, Эвелина с детской непосредственностью, которая ей очень к лицу, по-прежнему говорит «мамочка», но я, как совершеннолетняя… — Ну, положим, еще нет! — возразил Дютертр. — Простите, вы меня освободили от опеки, и в мои двадцать лет я уже могу смотреть на себя как на старую деву. Олимпия молода и выглядит даже моложе меня благодаря своей грации и красоте. Я уважаю ее, как вашу жену, но уважение, оставаясь искренним, вовсе не должно принимать смехотворную форму. — Я что, сплю? Ничего не понимаю! Что за новая тема? Что здесь произошло в мое отсутствие? — Ничего, — ответила Эвелина, — просто Натали стала еще более несносной и еще более дерзкой, чем раньше. — Я могу развить эту тему, если отец захочет, — снова начала Натали, пренебрегая замечанием сестры. — Послушаем! — сказал Дютертр, все еще пристально глядя на старшую дочь, в то время как Малютка, недовольная, что отца отвлекают, тормошила его, чтобы он продолжал есть. — Так вот что я думаю — и пусть отец судит и разбранит меня, если я неправа: моя мачеха… Но ее прервала госпожа Дютертр, которая оперлась о спинку ее стула и наклонилась к ней, целуя ее в лоб: — Дорогая Натали, уж лучше называйте меня Олимпией, если хотите отнять у меня сладостное имя матери, только не обращайтесь ко мне так торжественно и так холодно… — И все же, сударыня… Олимпия, болезненно уязвленная этим новым проявлением антипатии, невольно прижала руку к сердцу. Господин Дютертр нервно вздрогнул и слегка нахмурил лоб, чистый и гладкий, как обитель спокойствия. — В чем дело, дорогой папенька? — воскликнула Малютка, хватаясь за его руку. — Вы порезались? — И она забрала яблоко, которое он держал в руках, собираясь сама разрезать его. — Нет, моя маленькая, ничего, — отвечал отец семейства и, решившись как можно скорее разобраться самому в создавшемся положении, снова обратился к Натали: — Продолжай, дочь моя! Ты говорила… — Я говорила, — по-прежнему спокойно отвечала Натали, — что называть мамой такую молодую мать совершенно неуместно в моем возрасте. Вы непременно хотите, чтобы я была смешна? Я больше всего на свете ненавижу корчить из себя пятнадцатилетнюю простушку, когда мне на самом деле двадцать, а по характеру — сорок. Кроме того, я думаю, что буду казаться всем ревнивицей, которая хочет состарить Олимпию. — И все эти серьезные доводы ты вынашивала в мое отсутствие? — спросил Дютертр, умевший хладнокровно бороться с Натали, когда это бывало необходимо. — Пока что, — спокойно и вместе с тем с угрозой сказала Натали, — других доводов у меня нет. Но и эти достаточно основательны. Не захотите же вы навязать мне манеры и язык, которые мне не подходят и сделают меня невыносимой для самой себя. Вы самый лучший и самый мудрый отец на свете; вы никогда не требовали от нас подчинения и ничем нас не оскорбляли. Вам, занимающемуся серьезными общественными проблемами, должно быть безразлично, что в доме, где вы не живете постоянно, придают какое-то значение мелочам домашнего этикета, если они ничем не нарушают мира в семье. — Мир в семье — это, разумеется, кое-что, но это еще не все. Есть нечто более сладостное — единение; нечто большее, более прекрасное — любовь. Любите друг друга — вот высший закон, без которого погибают и семьи, и общество. — О папочка, ты прав! — воскликнула Каролина. — Но не беспокойся. Здесь мы все любим друг друга! Я, например, люблю всех, и в первую очередь тебя, потом мамочку — она такая же добрая, как и ты, — и потом моих сестер, которые очень милы, хотя и немножко ветрены… Да и тебя тоже, хоть ты и первейший насмешник! Последние слова относились к Амедею Дютертру, на которого устремились большие черные глаза Малютки; она обвела взглядом всю комнату, прежде чем остановиться на бледном, мечтательном и молчаливом молодом человеке, стоявшем сбоку, облокотившись о печь. Амедей оторвался от своих мечтаний и машинально улыбнулся, услыхав голос молодой девушки. Но то ли потому, что он не расслышал ее слов, то ли потому, что не мог изобразить веселье, он ничего не ответил. — Следовательно, я выиграла процесс, и заседание окончено, — сказала Натали, в то время как ее отец отодвинул стул и отошел в сторону, как бы желая в последний раз обозреть свое стадо, прежде чем удалиться. — Ваша речь построена на ребячестве, на пустяках, дитя мое. Но все же не надо, даже из ребячества, пренебрегать правилами, предписанными привязанностью. Вы уверены, что моя жена, а ваша мачеха и ваш лучший друг, совсем не страдает, когда вы… — Нет, друг мой, я нисколько не страдаю, — поспешно прервала его госпожа Дютертр, — раз Натали не видит в этом проявления холодности; я даже предположить не хочу, что она желала как-то задеть меня. Тем не менее, если она позволит мне возразить, я бы сказала, что, без всяких оснований боясь показаться смешной, она делает смешной меня. Обращаясь ко мне как к молодой особе, она ставит меня в такое положение, словно я претендую на равенство с ней в возрасте, чего на самом деле нет. — Отца бы это не оскорбило, — сказала скорее не подумав, чем враждебно, Эвелина. — Тут должен высказаться сам отец, — возразила Натали. — Если он хочет, чтобы Олимпия имела вид нашей матери, пусть он заставит ее носить темные шерстяные платья и чепчик с рюшами, вместо того чтобы посылать ей из Парижа платья из розовой тафты… — Которые она не носит! — И Дютертр бросил взгляд на черное бархатное платье жены. — Но которые она будет носить, раз ты здесь! — воскликнула Каролина. — Не правда ли, мамочка, ты принарядишься для папы? Когда ты хорошо одета, когда ты такая красивая, я по его глазам вижу, что он доволен! Я тоже надену завтра розовое платье и доставлю тебе удовольствие, папа. — Ах! Ты-то по крайней мере… — произнес Дютертр, прижимая Малютку к груди и прервав свою фразу поцелуем. Мысленно он ее закончил: «Ты по крайней мере, мое любимое дитя, разделяешь со мной мое счастье, вместо того чтобы меня попрекать». К полуночи все разошлись по своим комнатам; но, за исключением слуг, в замке Пюи-Вердон никто не спал. Покои господина и госпожи Дютертр находились на стороне замка, противоположной той, где обитали барышни Дютертр и их главная служанка, добрая женщина, вскормившая Эвелину и воспитавшая всех троих; они ее прозвали Ворчуньей. Амедей Дютертр жил в красивой квадратной башне, у которой было два выхода: один во двор, а другой в сад. Из всех этих трех частей дома, выходивших окнами на южную лужайку, усеянную цветами и поросшую пышными деревьями, можно было в случае надобности оповестить друг друга и собраться всем вместе, что весьма удобно, когда люди живут совершенно обособленно. Проникнем в покои барышень; большой нескромности в этом не будет, так как, за исключением Малютки, которую мы не станем беспокоить и которая молится одна в своей комнатке, никто еще и не думал ложиться спать. Три красивые комнаты, составлявшие эти покои, были соединены небольшой галереей: ее замкнули с обоих концов, чтобы сделать там общую гостиную, нечто вроде мастерской, где барышни, которые баловались живописью, писали этюды, а также занимались музыкой и рукоделием. Рояль, книги, мольберты, корзинки — все это приводилось в порядок по меньшей мере три раза в день неутомимой Ворчуньей, с помощью терпеливой Малютки. Но к тому моменту, когда мы туда проникли, Ворчунья уже удалилась в свою комнату, расположенную напротив галереи, и в элегантной гостиной, которую порывистая львица и задумчивая резонерша сделали в этот вечер своим штабом, снова воцарился беспорядок. Когда мы называем Эвелину порывистой, это отнюдь не значит, что она позволяла себе развязность в поведении или небрежность в костюме. Как только она снимала сафьяновые сапожки и фетровую шляпу, она становилась, как мы уже говорили, принцессой; и сколько же требовалось батиста, духов, кружев, атласа, чтобы ее тело, с виду такое хрупкое, наслаждалось отдыхом после усилий, на которые толкала ее прихотливая фантазия. Но так как Эвелина была по своему складу «разбросахой», как прозвала ее Ворчунья, то, в зависимости от того, нападала на нее лень или жажда бурной деятельности, хотелось ли ей поскорее уйти откуда-нибудь или прилечь, нужно было, чтобы все вещи, попадавшиеся по дороге, немедленно уступали ей место. Поэтому, как ни было изнежено и выхолено ее дарственное тело, все, чем она пользовалась, приобретало неряшливый вид и быстро ветшало. Роскошный муар кресел, на которые укладывались после охоты ноги прямо в сапогах, бархатные диваны, на которые сажали любимых собак, занавеси из индийского муслина, которые дергали нетерпеливой рукой, турецкие ковры, вечно облитые чернилами, все эти беспрестанно обновляемые предметы роскоши, в которых Эвелина так нуждалась и с которыми обращалась так безжалостно, были запачканы, потрепаны, обесцвечены; за несколько дней они утрачивали не только великолепие, но и опрятность, и, если можно так выразиться, приличный вид. Весь этот беспорядок представлял собой полную противоположность целомудренному святилищу, где Каролина, в то время как ее сестры часто проводили ночи в болтовне, запиралась, чтобы читать свои наивные молитвы, составлять список мелких личных расходов, которые почти все состояли из подаяний, чинить тайком какие-нибудь поношенные вещи (ибо ей доставляло удовольствие не позволять себе лени, оправданной богатством), наконец, повторять уроки и добросовестно усваивать те основы образования, которыми ее сестры слишком быстро пренебрегли, чтобы познавать вещи, с ее точки зрения, весьма легкомысленные. Мы называем легкомысленными занятия, к которым только чуть прикасаются, не углубляясь в них. По нашему мнению, так называемое искусство, или умение быть приятным в обществе находится в обеспеченных буржуазных семьях в варварском состоянии. Куда уместнее было бы назвать то, чему учат молодых девиц, искусством доставлять неприятности окружающим, которые оказываются вынужденными терпеть все это — рассматривать созданные ими семейные портреты, слушать в их исполнении романсы, или фортепьянные пьесы, или даже их собственные стихи. Эвелина и Натали не находились на этом печальном уровне. Они обе обладали некоторыми дарованиями, одна — музыкальным, другая — поэтическим. У Эвелины были ловкие пальцы и бурная фантазия, и она, хоть и нерегулярно, но яростно терзала свой рояль, почти всегда расстроенный либо от длительного небрежения, либо от безжалостного пользования. Натали писала и в самом деле недурные стихи, иногда отличные по форме, но откуда ей было взять глубокое содержание? Сердце ее было холодно и замкнуто; ее воображение, еще ни разу не взволнованное чувством, оставалось лишь стальным зеркалом, четко отражавшим внешние предметы. Она была наблюдательна и нередко находила верные, а порой даже меткие выражения Она любила это занятие и с удовольствием преодолевала трудности рифмовки и размера, как опытный и усердный чеканщик работает с неподатливым материалом, У Натали был хороший вкус, и она невысоко ценила моду, но, любя идти против течения, она охотно воспроизводила все современные жанры, преувеличивая и выпячивая недостатки романтической школы. Считая это трудной победой, она тешила таким образом свое тщеславие. Незаметно для себя она усваивала характерные черты романтической поэзии, но они не были ей органически свойственны и, будучи пропущены через равнодушный ум и холодное сердце, теряли всякую оригинальность. Ее по-своему яркая личность проявлялась лишь в высмеивании и в отрицании. Атеистка по природе, она если и не отрицала начисто существование божества, то обвиняла его и судила его законы с необычайной смелостью. Если ее раздражали какие-нибудь люди или вещи, она втайне успокаивалась от своих обид и огорчений, изливая их в бурных декламациях, удивительно искусно построенных. В этом находил выражение весь ее талант, весьма незаурядный для женщины, но недостаточно пылкий, чтобы быть мужественным, и недостаточно нежный, чтобы быть женственным. Эвелина и Натали были слишком хорошо воспитаны, слишком мало провинциальны и имели дело со слишком разумными родителями, чтобы стремиться пускать пыль в глаза невеждам. Они наверняка получили бы удовольствие, приобщая родных к своих маленьким победам, если бы сами не разрушали, словно назло, радость семейной жизни: одна — странными выходками и капризами, которые позволяла себе как избалованный и властный ребенок, другая — гордой язвительностью. Обе боялись пристрастия в суждениях своих родных, и, вдобавок, обе были заранее уверены, что друг у друга встретят уже готовую недоброжелательную или презрительную оценку. Несмотря на инстинктивную взаимную антипатию обеих сестер, они с трудом обходились одна без другой, когда выступали против третьей силы в доме. Разговор, который мы сейчас приведем, объяснит необходимость этого их союза для совместного наступления, при отсутствии, однако, единства в обороне.IV
— Неужели еще только полночь? — спросила Эвелина, которая перелистывала, не читая, роман Вальтера Скотта; она растянулась на мягком диване, и то перебирала выбившиеся пряди своих чудесных волос, то теребила уши огромного, великолепного ньюфаундленда. — Мне тоже сегодняшний день кажется очень долгим, — ответила Натали, уверенно переписывая каллиграфическим почерком на толстую и ломкую веленовую бумагу длинный пассаж собственного сочинения. — Впрочем, объяснить это нетрудно — ведь мы уже добрый час сидим вдвоем. — Эвелина, у тебя входит в привычку говорить со мной язвительным тоном; это истощило бы чье угодно терпение, но я решила просто не замечать твоих колкостей. И ты, дорогая моя, даже не подозреваешь, почему я молчу. — Ну что ты! Спокойствие, вызванное презрением, терпение, основывающееся на силе. Ты можешь повергнуть меня в прах одним словом! — Все возможно. — Но я слаба, и тебе жаль меня. — И это возможно. — Напрасно ты разыгрываешь великодушие, Натали, и ведь, напротив, скупа; ты копишь сокровища своей мести и одним вовремя сказанным словом уничтожаешь арсенал моих насмешек. Но я добрее тебя и признаюсь, что неправа. Не лучше ли нам не ссориться, а поддерживать друг друга, особенно теперь, когда мы обречены проводить долгие часы вдвоем? — Я на это не жалуюсь и предпочитаю, при всех свойственных тебе чудачествах, твое общество и твою бессвязную болтовню притворной ласковости Олимпии, мелкому предательству этой дурочки Малютки, педагогическим нравоучениям господина Амедея и особенно возмущению нашего бедного отца, которое он теперь так плохо сдерживает. — Иными словами, ты ненавидишь все и вся, ты тешишь себя своим презрением, внушенным тебе озлобленностью? Сделала бы исключение хотя бы для отца… — Ага! Сегодня ты решила изображать нежную и послушную дочь! Да, да, так оно и было, я видела! Эвелина, ты малодушна! — Сердцем — может быть! Зато у меня есть физическая храбрость, я ею довольствуюсь и не краснею оттого, что уступаю прихотям такого снисходительного ко мне и вообще такого безупречного отца! — Ну да, и ты готова проявлять к нему полнейшее почтение, при условии, разумеется, что он разрешит тебе делать все, что вздумается, даже самые нелепые вещи, бегать с кем угодно, в любое время, по всем дорогам, подвергать опасности свою репутацию… — Стоп, стоп, моя красавица! Вы охотнее, чем кто-либо другой, предполагаете самое дурное. Но вы живете своими книгами и во всем, что вас окружает, предполагаете, а следовательно, и видите, только зло. Моя репутация ничего не потеряет от дневного света и свежего воздуха. Чем больше будет свидетелей моих поступков, тем меньше опасность кривотолков, а добродетель, окруженная лошадьми, берейторами и собаками, вообще никакой опасности не подвергается. К тому же всем известно, что рука, которая может сдержать необъезженную лошадь, сумеет и наказать дерзость и что я действую хлыстом так же ловко, как мужчина шпагой. — Прекрасно! Все эти доводы кажутся мне проявлением весьма дурного вкуса. В руках женщины не должно быть никакого оружия, ее строгая внешность и серьезные привычки обязаны охранять ее даже от мысли об оскорблении. Но оставим это! Я считаю, что скорее твой верный спутник Амедей должен сдерживать смельчаков, чем ты сама обороняться от них. — Амедей глуп; если он увидит, что меня оскорбляют, он, несомненно, отомстит за меня, но постарается при этом доказать мне, что я неправа, что я сама виновата, и станет кричать при этом, как школьный учитель в басне: «Что я вам говорил!»[165] — В самом деле, возмутительно: бедный мальчик из-за твоих глупостей дает перерезать себе горло, но посмеивается при этом и легонько укоряет свою обожаемую повелительницу! — Обожаемую! Новое словечко! Значит, ты, злючка, собираешься теперь выставлять меня на посмешище за то, что в меня якобы влюблен мой двоюродный братец, мальчик, у которого на наших глазах стала пробиваться бородка? — У этого мальчика теперь очень красивая борода, и ему двадцать четыре года, ровно столько же, сколько госпоже Олимпии. — Ну и что ты хочешь этим доказать? Женщина в двадцать четыре года вдвое старше молодого человека того же возраста. На губах у Натали мелькнула зловещая усмешка: — Стало быть, ты не думаешь, что он может быть влюблен… — В кого? — удивленно спросила Эвелина. — В тебя, — небрежно уронила Натали. — Надеюсь, что ему и в голову не приходит ничего подобного! Милый ребенок! Меня это огорчило бы, потому что я его очень люблю. Он славный мальчик, несмотря на свои причуды, он вырос вместе с нами, и я отношусь к нему как к брату. Может быть, ты относишься к нему иначе? Может быть, ты ревнуешь? Ты ведь и думаешь, и все делаешь не так, как другие! Натали ответила лишь улыбкой и движением плеч, более выразительным, чем все слова, которыми можно передать презрение к личности мужского пола. Потом она зевнула, подперла высокий лоб длинной белой рукой, заменила полустишие, казавшееся ей бесцветным, и стала писать дальше. Часы пробили четверть первого. — Эта ночь тянется целый век, — сказала Эвелина, роняя книгу, которую Тизифона, ее любимая охотничья собака, принялась с увлечением трепать. — Это животное ест твою книгу, — не двигаясь с места, заметила Натали. — Пусть ест. Книга мне наскучила. Ненавижу Вальтера Скотта. — И тем не менее то и дело корчишь из себя Диану Вернон[166]. — А ты — королеву Елизавету[167], а Каролина — Золушку, Все кому-нибудь подражают, преднамеренно, или невольно. Нет такого человека, который не нашел бы похожего на себя персонажа в романе, басне или в истории. Правда, сходство часто бывает смешным из-за разницы в положении. Например, Малютка: живя в таком замке, как наш, окруженная прислугой, пользуясь предпочтением снисходительного отца, она кажется просто нелепой, когда сама бросается приготовлять ему чашку шоколада с такой поспешностью, с таким старанием, словно ее ждут за это ругань и шлепки! Я, наверно, смешна, когда делаю вид, что разыскиваю среди лесов и холмов изгнанного и преследуемого отца, в то время как он преспокойно заседает в палате[168] и пользуется всеобщей любовью и уважением… А тебе, бедняжка Натали, вместо самого блестящего в Европе двора приходится тиранить всего лишь докучливую и спокойную семью… — Докучливую — верно, — прервала ее Натали, — но спокойную?.. Это тебе нравится так ее называть. Знаешь, Эвелина, отчего нам сейчас не хочется ни бодрствовать, ни спать? Оттого что нам скучно, но мы отнюдь не спокойны. — Почему? Может быть, у нас характеры такие? — У тебя характер ребенка, который всем забавляется, у меня — женщины, которая многое презирает. Разумеется, мы можем развлекать себя сами, ты — занимаясь легкомысленными вещами, я — серьезными. Но причина тревоги, которая уже коснулась нас и рано или поздно приведет к катастрофе, кроется вовсе не в нас самих. Это роковая, нелепая и, увы, непреодолимая в нашей судьбе вещь — любовь нашего отца к женщине, которая не наша мать. — Ах, Натали, умоляю тебя, не выставляй нашу бедную мать как повод для нескончаемого процесса, который ты ведешь против отца. Тебе было всего четыре года, когда она умерла, мне — два, Малютка только что родилась; ни одна из нас не знала ее настолько, чтобы вспоминать о ней сегодня. Наша дочерняя любовь всегда лишь очень неопределенное чувство. Мы не можем упрекнуть отца в том, что он уделил слишком мало времени горю. Он надумал жениться во второй раз лишь через двенадцать лет; такую скорбь может превзойти только скорбь малабарской вдовы[169]. — Как ты легко судишь обо всем, особенно о серьезных вещах! Я не утверждаю, что отец женился во второй раз слишком рано; напротив, я считаю, что он женился слишком поздно для нас! — Но и нам поздно упрекать его, особенно тебе. Тебе было уже шестнадцать лет, когда он сообщил о своем намерении. Ведь он был так счастлив, хотя, как превосходный отец, отказался бы от этого счастья, если бы увидел, что мы полны страха и отчаяния. — Подумаешь, какая веская причина для отказа от подобного безумства — несогласие трех маленьких девочек, скучавших в монастыре и спешивших выйти оттуда! Я, например, была в восторге, когда отец, который сам отдался, как ребенок, своей страсти, расписывал нам, детям, все прелести свободы и жизни среди роскоши в деревне. В шестнадцать лет это должно было казаться чудесным. — И в восемнадцать тоже; я до сих пор очень довольна. — Неправда, ты начинаешь скучать здесь, а я скучаю уже давно. Мы рождены для светской жизни, для нее были воспитаны; мы жаждем своей стихии, а живем здесь, как рыбы, выброшенные на траву и раскрывающие на солнце рты, прислушиваясь к отдаленному плеску реки. — Знаешь, Натали, ты несправедлива: разве мы здесь никого не видим? Разве для богатых людей нет повсюду светского общества? Через три дня приезд отца станет событием в наших краях, и у нас начнут глаза разбегаться: у тебя будет целый двор, состоящий из глубокомысленных молодых людей, у меня — свита из вертопрахов… — Да, да, волшебный фонарь, который просуществует два месяца, а когда отец вернется к своей парламентской деятельности — снова одиночество, молчание, зима! Потом весна без любви и надежд, потом — унылое, гнетущее лето со жнецами для услаждения глаз и мухами в качестве общества. — Конечно, год в глуши, длящийся десять месяцев, несколько долог, но можно ведь как-то убивать время; а что касается любви, сладости которой ты так спешишь изведать, так я, например, о ней еще и не думаю. — Неправда, повторяю тебе! Ты думаешь о ней реже и не так серьезно, как я, — это возможно, но и ты уже начинаешь уверять себя, что здесь любви нет и сюда она к нам не придет. — Почему? До сих пор нам хватало поклонников… — Случайных поклонников, из которых ни один нам не подходил! — Мы их всех очень мало поощряли. Мы с тобой слишком разборчивы, признайся. — Ничего удивительного! Нас не только трудно удовлетворить, нас трудно выдать замуж. — Напротив, мы богаты и имеем возможность выйти за людей без состояния, если, разумеется, они будут порядочными, хорошо воспитанными, трудолюбивыми… Чего же еще желать? У отца на этот счет есть прекрасные теории, довольно романтичные… — И, следовательно, неосуществимые! Бедные молодые люди, которые домогаются богатых наследниц, не очень-то порядочны — ведь они обманывают девушек, делая вид, будто любят в них не их приданое, а нечто другое. Ну, а богатые молодые люди дерзки, невежественны, легкомысленны, глупы… — Какой пессимизм! Ты, наверно, видишь мир в таком свете просто из-за своей желчности. Но если это так, тогда не нас трудно выдать замуж, а трудно найти людей, за которых можно выйти. — В том, что ты говоришь, есть, конечно, доля истины. Но трудно — не значит невозможно. Надо только оказаться в условиях, в которых ум, проницательность, рассудительность могут как-то пригодиться. Поэтому, если бы мы бывали в свете, жили в Париже, путешествовали по Англии, Германии, Италии, вообще вели жизнь, сообразную нашему положению в обществе, то в волнах этого моря мы бы сумели различить и выловить из сонма простых раковин нужную нам жемчужину. — Неудачная метафора, дорогая: жемчужина всегда спрятана в раковине. — Дурочка! Вечно ты придираешься к словам, ни о чем не думаешь всерьез. Мы богаты, мы красивы, мы выше многих из светских женщин, и тем не менее нам, быть может, предстоит дожидаться здесь улитки, которою цапле из басни пришлось довольствоваться в вечерний час[170]. Если так будет продолжаться, нам останется только разорвать нашего двоюродного братца на части. — Вот именно: или всем, или никому… — Да, иными словами — ждать у моря погоды… — Как меня раздражают твои глупые шутки! Посмотрим, будешь ли ты так смеяться в тот день, когда отец придет и скажет нам: «Вас трое; вот мой племянник Амедей Дютертр, которого я выпестовал для вас, решайте!» — Неужели ты думаешь, что отец предназначает его кому-нибудь из нас? — Надеюсь, что он приберегает его для Малютки. Эти прелестные дети созданы друг для друга; не думаю, что меня могут оскорбить, предложив его мне! — Потому что ты мечтаешь о любви, об идеале, не знаю уж о чем! Малютка же пока думает, а может быть, и всегда будет думать только об одном: как разводить канареек. Но, признаюсь, если б я была вынуждена, за неимением выбора, сохранить в неприкосновенности фамилию Дютертр, я бы предпочла кузена Амедея многим другим. Он мне совсем не нравится, уверяю тебя, он даже немного неприятен и скучен! Но в общем-то он самый красивый, самый благопристойный, самый образованный, самый подходящий из всех, кем мы располагаем для того, чтобы приобрести мужа в деревне. «Наконец-то! Сейчас мы к этому придем, — подумала Натали, — но не сразу… Сначала посмотрим!» — Эвелина, — сказала она вслух, словно не слышала ее замечания по поводу Амедея, — что ты скажешь об этих двух новых лицах, появившихся у нас сегодня? Их не захотели продемонстрировать нам при свете… — Я видела их мельком во дворе. Один из них показался мне безупречным, настоящий лев! — Господин де Сож? — Да, наш новый сосед. — Он тебе понравился? — Очень — прелестный, очаровательный человек! Но после первого взгляда — уступки любопытству — я больше не обращала на него внимания. — Почему? — Не люблю зверей своей собственной породы. Я их слишком хорошо знаю. Львица, приходящая в восторг от льва! Куда это годится? — Но этот лев хотя бы умен? — А разве я не умна, хоть и львица? Нет, дорогая, нет, подобные избегают друг друга, а противоположности сходятся — вот как я мыслю о любви и замужестве. — Значит, писатель тебе понравился больше? — Да; у него не совсем обычное лицо: желтое, желчное, не слишком молодое; но глаза необычайно выразительные, зубы такие белые, волосы такие черные… и лукавая улыбка… Физиономия, в которой внутреннее достоинство освещает черты, может быть неправильные, да и довольно заурядные… Ты смеешься? Возможно, глупцам он покажется некрасивым. Но в нем есть что-то мечтательное, страдальческое, меланхоличное и насмешливое, а это, по-моему, необходимо даже красоте, чтобы она не была скучной. У него что, большое имя в литературе, у этого Жюля Тьерре? — Понятия не имею, — процедила сквозь зубы Натали. — Есть по крайней мере две-три тысячи знаменитых писателей, о которых никто не слышал, кроме членов каких-то кружков, где они числятся. — Это не значит, что у него нет большого таланта. — Бог мой! Он, как и всякий другой, может стать первоклассным писателем! Надо только, чтобы тебя восхвалял определенный круг людей, и надо найти, чем можно угодить читателю в данный момент! Но какое значение имеет его место в иерархии великих умов, если он тебе нравится сам по себе? Ведь он тебе немножко нравится? — Сегодня — даже очень. Но кто знает, будет ли он нравиться мне завтра? — Постарайся, чтобы он тебе больше не нравился. — Почему? — Потому что ты ему не нравишься. — С чего ты взяла? — Я это заметила в тот самый момент, когда увидела кое-что еще. — Что же именно? — Что он влюблен в другую. — В тебя? — Нет; в Олимпию Дютертр. — Ну да? — удивленно воскликнула Эвелина и добавила равнодушно: — А какое мне, собственно, до этого дело? Натали пожала плечами: — А мне тем более. — Ты уверена в этом? — задумчиво спросила Эвелина. — Я была в этом уверена еще до того, как он приехал сюда. Когда она в последний раз ездила в Париж без нас, он написал ей в альбом стихи — кстати, довольно плоские. — Она тебе их показывала? — Я и не спрашивала у нее позволения прочитать. Разве в альбом пишут секреты? — Значит, эти стихи ничего не доказывают. — Дорогая моя, в высшем обществе стихи — это способ объяснения в любви женщине под носом у ее мужа и перед всеми. — Но ты же говоришь, что они плоские? — Хочешь прочесть? Они у меня. — Ах, ты списала их? — Нет, просто запомнила… И она передала Эвелине листок бумаги. — А мне они кажутся восхитительными! — прочитав их, воскликнула Эвелина. — Они мне нравятся куда больше, чем все твои! — Потому что ты в этом не разбираешься. У них есть только одно достоинство — в них довольно ловко выражена пылкая страсть. — Посмотрим! — Эвелина перечла их, потом задумалась, храня молчание. — Я вижу в них больше лести, чем любви, — добавила она. — А разве лесть не язык любви? — Эта лесть чрезмерна. — Олимпия очень хороша, тут спорить не станешь. — Слишком бледна! — Нынче в моде бледность, она имеет наибольший успех у артистических натур. Твой румянец, порой слишком яркий, в гостиных не понравился бы. — Ну, у них просто извращенные вкусы! Но какое мне до этого дело, повторяю? Если мой цвет лица кажется рифмоплету слишком свежим, то дворянин будет ко мне более справедлив: он увидит, кто из нас, я или Олимпия, умеет перейти с шага на галоп и обратно при опасном повороте; стихов он мне писать не станет, но с этим придется примириться. — Ты забываешь, что подобные избегают друг друга, а противоположности сходятся! Ты пришлась льву так же мало по вкусу, как он тебе. — Ты и это разглядела сегодня в гостиной, где ничего не было видно? — Я слышала. — Как? И этот тоже ухаживает за Олимпией? — Он будет ухаживать за ней; она очаровала его несколькими словами — она умеет беседовать и весьма обворожительна. Он спросил у нее, ездит ли она верхом. «Очень мало, — ответила она, — у меня нет времени». Тут он воскликнул, что она совершенно права, незачем тратить время на подобные развлечения, он сам пресытился этим. Он, мол, перестал понимать, как можно находить удовольствие в тем, чтобы ехать верхом рядом с женщиной — ведь это самый неудобный способ вести беседу, а когда имеешь счастье слышать такой голос, как ее, приходится только сожалеть о том, сколько он теряет от движения и шума, неизбежных при верховой езде. — Да, это было не очень лестно для меня… в глазах моего отца — он и сам не раз упрекал меня, что я провожу свою жизнь верхом. — Отец ничего не слыхал. И разве ты не заметила, что с молодыми женщинами всегда говорят тихо, а с мужьями и девицами — громко? — Какая ты злая, Натали! Тебе хочется, чтобы я стала ревновать к мачехе. Ничего не выйдет, предупреждаю тебя, я не стану ревновать из соперничества и кокетства. Я буду ревновать лишь тогда, когда она отнимет у нас сердце нашего отца. — А по-твоему, этого еще не произошло? — Нет, нет, тысячу раз нет! Замолчи! — Ты находишь, что отец проявил к нам нежность, покинув нас и отослав нас спать до одиннадцати часов в день своего приезда? — Он устал с дороги и хотел спать. — А ведь он и не думал ложиться. Посмотри — их окна пылают в ночи, как пламя любви в ослепленной душе бедного молодого человека, который зовется нашим папочкой! И Натали рассмеялась нервным, полным ненависти, смехом — слушать его было страшно. То не была несправедливая, но понятная ревность дочери, оспаривающей любовь отца. То была глубокая злость бессердечной женщины, которая ненавидит и клянет чужое счастье. Эвелина пришла в ужас. Она залилась жгучей краской. — Значит, они очень любят друг друга, — сказала она, глубоко вдохнув свежий ночной воздух. И, сделав над собой последнее усилие, чтобы избежать зловредного влияния старшей сестры, она переменила тему разговора: — Сегодня, кажется, никто не спит: окна Амедея тоже освещены. Добряк он, наш Амедей! Он работает, выводит цифры, подсчитывает наши богатства и умножает их своей экономией и порядком в делах. Потом, следуя вполне естественному ходу мыслей, Эвелина добавила: — У него нет ни гроша за душой, а он и не думает об этом — он управляет делами нашей семьи. Для себя ему ничего не надо — он счастлив тем, что может быть полезен отцу и нам! Что ж, будет только справедливо, если одна из нас когда-нибудь вознаградит его за все старания и бескорыстие! Право, Натали, если Олимпия отнимает у нас случайных поклонников, она поступает правильно и даже оказывает нам услугу: ведь счастье, быть может, находится там, в этой башне, где Амедей ночами не спит ради нас. Мне кажется, что та, которая найдет к нему дорогу, будет самой разумной из троих. — Стало быть, ты, за неимением лучшего, хочешь остановить свой выбор на нашем кузене? — торжествующе сказала Натали, после многих уловок приведя наконец Эвелину к намеченной цели. — Увы, дорогая крошка, тебе придется отказаться и от этого последнего утешения. Тут мешают прелести более могущественные, чем твои; не о тебе, которую он презирает за ветреность, не обо мне, которую он ненавидит за проницательность, и не о Малютке, которая для него нуль, думает сейчас романтичный и меланхолический Амедей. Эвелина отошла от окна. — Ты ужасный человек, Натали, неужели ты думаешь, что наша мачеха… — Молчи и смотри, — ответила Натали, выталкивая сестру на балкон.V
— На что я должна смотреть? — спросила Эвелина, уступая непреодолимому любопытству. — Ни на что; на эту бледную луну, которая как безумная мчится в облаках. — Потом, опустив тяжелую штору, чтобы снаружи не был виден свет в их окне, Натали добавила, понизив голос: — Говори шепотом и смотри на окно Амедея. — Оно закрыто, и, кроме того, там муслиновая занавеска. Но можно различить светящийся шар его лампы. По-твоему, он дома? Работает и думает лишь о том, сколько голов скота мы продали за год и сколько зерна ссыпали в амбары во время последней жатвы? — Ну и что? — Амедея нет в его комнате, нет в башне; он просто не гасит свою лампу, чтобы мы думали, будто он занят цифрами. Если бы сосны не скрывали от нас его дверь, ты увидела бы, что она открыта. — Так где же он? — Посмотри теперь на то крыло. Оно было ярко освещено, а сейчас там темно. Отец у себя в комнате, Олимпия у себя; один спит, другая считается спящей. — Что ты хочешь этим сказать, в конце концов? — Посмотри на кусты ломоноса под окном Олимпии — они скрывают от нас дверь из ее будуара, которая выходит на крыльцо башенки; разве ты ничего не видишь? — Ничего. — Всмотрись хорошенько; когда эта тучка уйдет, откроется луна; теперь ты видишь — рядом с кустами, там, где чистый белый песок? — Вижу как бы черную черточку. Это тень от чего-то. — Или от кого-то. — Она неподвижна… Это тень от какого-то предмета, который мы не можем различить. — А сейчас она тоже неподвижна? — Нет, тень растет, уменьшается… Она ходит. О, как ее хорошо видно! Там какой-то человек, теперь я в этом не сомневаюсь. Человек, который думает, что его скрывают Деревья, но луна освещает его сбоку. Он и не предполагает, что мы видим его силуэт. Это Амедей? Скажи, Натали, это он? — Он или она. А может быть, оба. — Там только одна тень, клянусь богом. — Значит, это он. Сколько раз в еще более светлые ночи я видела, как с этой стороны раскачиваются ветки; сколькораз, когда наступает тишина, я слышала, как легонько поскрипывает дверь Амедея, открываясь или закрываясь. А потом за его окном проходит тень, и свет исчезает. Это он возвращается домой и гасит лампу, якобы освещавшую его трудовые бессонные ночи. Сколько я еще разного видела! Я многое знаю! Сколько подавленных вздохов, сколько взглядов, брошенных украдкой, сколько подобранных с земли забытых цветов, сколько внезапных переходов от жаркого румянца к смертельной бледности… Бедный молодой человек сходит с ума. — Амедей, такой холодный, такой неуязвимый, Амедей, который ничего не видит, ни о чем не догадывается, которому надо чуть ли не открыто делать авансы, дабы он понял, что может понравиться кому-то! — Ага, Эвелина, так ты делала ему авансы? Ты сама себя выдала! — Не больше, чем кому-либо другому. Я всем понемножку делаю авансы ради удовольствия доводить до отчаяния тех, кто окажется у моих ног. Что тут плохого? — Ну, это мелко и дешево — Олимпия умеет властвовать куда лучше, чем ты! Она-то ничего не говорит! Она обвораживает; она не призывает — она ждет; она никогда не вступает в борьбу и всегда побеждает. — Стало быть, по-твоему, она первостатейная кокетка? — До чего же ты наивна! Задать подобный вопрос!.. — Ну, значит, мне надо понаблюдать за ней, поучиться и, если ее способ лучше моего, воспользоваться им. Тут Эвелина, обеспокоенная и озадаченная, несмотря на свое легкомыслие и беззлобность, вдруг ушла с балкона. Облака закрывали луну, и наблюдать было больше невозможно. А главное, она не хотела слушать Натали, чувствуя, что слова сестры напитаны ядом. Как девушка добрая и мужественная, она сопротивлялась изо всех сил, но удар был нанесен. Терзавшее Эвелину непреодолимое желание нравиться и властвовать встретило препятствие, которым она до сих пор пренебрегала и которое теперь начало мешать ей и даже пугать ее. В эту ночь она спала очень плохо, ей снились Тьерре, Флавьен и Амедей, причем она не знала, кто из них больше завладел ее мыслями. Что же касается Натали, то она давно уже не спала так спокойно. Она достигла своей цели и добилась первой победы. Каролина, которая легла на два часа раньше сестер, проснулась на рассвете, угнетенная страшным кошмаром. Ей снилось, что сова рвет когтями ее самую красивую малиновку. Девочка кинулась к окну, открыла его, и прирученная, но свободная малиновка, спавшая на соседнем дереве, тотчас же влетела в комнату и запорхала над ее головой. Малютка утерла слезы, поймала птичку и отпустила ее, а сама вернулась в постель. Амедей уже встал; отправляясь присмотреть за полевыми работами, он, проходя через лужайку, увидел Малютку у окна, но та смотрела только на свою птичку. Когда взошло солнце, Флавьен, отлично выспавшийся у себя в «замке», вошел уже одетый в комнату Тьерре. — Вставай, лентяй! — воскликнул он. — Утро чудесное. Ты прозеваешь самое яркое солнце, которое когда-либо золотило верхушки наших лесов, — добавил он с пафосом. — Куда мы едем? — спросил Тьерре еще сонным голосом. — Мы едем в ближайший морванский городок искать какого-нибудь нотариуса; мне надо, чтобы он заверил мою подпись под самой торжественной доверенностью из всех, какие ему, наверно, довелось составлять в жизни. Я хочу сыграть шутку — не бойся, вполне добродушную — с нашим соседом Дютертром. Он мне нравится, и я это докажу — сегодня же утром вручу ему документ; пусть потом хранит его в своем архиве. Эта бумага даст господину Дютертру полное право продать самому себе на любых удобных ему условиях некую недвижимость, которую он желает приобрести. Тьерре протер глаза. — Весьма галантно, — сказал он. — Манеры истого дворянина. Ты даже не знаешь, какие счастливцы вы, знатные дворяне: вы можете — конечно, если вы достаточно богаты — позволить себе столь безумный риск, зная, что вас никто за это не осудит. Если бы такой поступок совершил бедный поэт, про него сказали бы: «Вот сумасшедший, разыгрывает из себя знатного сеньора и жертвует из пустого тщеславия единственным куском хлеба, заработанным ценой бессонных ночей!» Если бы на такую операцию решился мелкий буржуа, сказали бы: «Вот пройдоха! Знает, верно, с кем имеет дело, понимает, что, выказывая такое доверие, извлечет из этого двойную выгоду!» А вот для графа Флавьена де Сож это не более чем любезность человека, умеющего вести себя в обществе. Да и что значит для тебя безделица в сто тысяч франков! Видишь, я с тобой откровенен, как ни с одной женщиной! — Господин граф приказал подать лошадей; они ждут, — доложил, войдя в спальню, Жерве. — Лошадей! — воскликнул, смеясь, Флавьен. — Наш славный старикан всерьез играет тут роль Калеба из Равенсвуда[171]. Я просил подать колымагу и Сезара, милый Жерве. Мы с тобой посмотрим в Шато Шинон, нельзя ли купить или нанять на то время, что мы будем здесь, коляску полегче и лошадку порезвее. — Господин граф думает, что я шучу. Но во дворе стоят две отличные лошадки, уже оседланные, и грум на третьей лошади; а в сарае находится прелесть какая охотничья коляска. Если вам угодно взглянуть… Жерве открыл окно; Флавьен и Тьерре подбежали и увидели воочию чудеса, о которых тот говорил. Они сразу же спустились во двор, чтобы рассмотреть их поближе. — Что за фея приготовила нам такой сюрприз? — спросил Флавьен. — Может быть, среди наших соседей есть какой-то разорившийся потомок знатной семьи и он посылает нам на пробу все, что будет продавать с торгов? — Что вы, сударь, дело обстоит куда проще. Господин граф сказал при мне вчера, что надо посмотреть в окрестностях, какие там есть лошади и коляски. Я рассказал об этом слугам в Пюи-Вердоне, они все передали своим хозяевам, и только что их грум приехал с лошадьми, другим слугой и коляской. Слуга уехал, сказав, что все это к услугам господина графа на любое время, какое ему понадобится: грум, экипаж и лошади. — Вот тебя и обошли, вернее — обскакали! — сказал Тьерре Флавьену. — Дютертр, по-видимому, встает раньше тебя, и его учтивость опередила твою! — Я в долгу не останусь. — Каким же образом? — А вот это ты мне подскажешь, ведь идея — это по твоей части. — Пожалуйста, одна уже пришла мне в голову: отправь к нему Сезара и Жерве в огромном сосуде с винным спиртом, быть может, у него есть музей древностей. Жерве скорчил гримасу, которая должна была изобразить улыбку; но в ней было больше презрения, чем восхищения остроумием Тьерре. — Нет, это испугает дам, — ответил Флавьен. — А если я пошлю к ним тебя? — В спирту? Груму, который придерживал лошадей и, казалось, ничего не слышал, их разговор понравился, и он засмеялся, расплывшись до ушей. — Это грум мадемуазель Эвелины, — сказал Тьерре Флавьену. — Без юной львицы и тут не обошлось — ведь это она уступает тебе часть своего зверинца. — Как тебя зовут? — спросил грума Флавьен. — Креж, господин граф, — уверенно ответил тот. — Это местное имя? — Нет, сударь, это прозвище, которое мне дала госпожа. — Прозвище? Креж! Не понимаю, — сказал Тьерре. — Когда госпожа Эвелина повысила мне жалованье, я сказал ей: «Спасибо, сударыня, теперь я богат, как Креж», С того дня госпожа только так меня и называет, и все к этому привыкли. — Отлично, — молвил Флавьен, — вы мне кажетесь весьма остроумным, господин Крез. Так вот: я дам вам пять луидоров, если вы припомните, нет ли чего-нибудь такого, что нравится дамам Пюи-Вердона в моем доме или моем поместье, кроме самого поместья? Грум, морванский крестьянин, упрямый и решительный, вовсе, видимо, не был ошарашен и не растерялся. Он помолчал, а потом заявил: — В прошлом месяце наши дамы приходили сюда погулять. Они побыли в саду, затем отдыхали в доме. Послушайте, папаша Жерве, ручаюсь, вы небось не заметили, на что они обратили внимание, хоть и были при этом! — Ни на что они не обратили внимания! — живо воскликнула Манетта — она прибежала и вмешалась в разговор, боясь, как бы порыв галантности хозяина не лишил ев Мон-Ревеш какого-либо предмета старомодной роскоши. — Чего, по-вашему, могли бы тут пожелать эти дамы, такие богатые, у которых столько прекрасных вещей? А у нас тут одно старье, все давно вышло из моды. — Именно поэтому, — сказал Тьерре. — Ну, Крез, у вас, я вижу, острый взгляд, и вы наверняка что-то знаете. Говорите! — Господи, это так просто! В гостиной Мон-Ревеша что-то есть, сам-то я не видал, потому как держал лошадей, пока дамы были в доме; не знаю, как эта вещь зовется, но когда мы возвращались, они про нее говорили, про эту вещь, только я не припомню что, и теперь мне все хочется увидеть ее. Вот так, сударь. — И все? — спросил Флавьен. — Твоя идея гроша ломаного не стоит, а ты преподносишь ее так, будто ей цена не меньше ста франков. В моей гостиной, вероятно, есть множество всяких вещей. Мы заходили туда, Тьерре? — По-моему, нет, но пора раскрыть эту тайну. Пойдем, Крез… — Креж, сударь. — Это одно и то же. Пойдемте. Жерве, придержите-ка лошадей. Ваша идея, Крез, поднялась в цене. Теперь она стоит двадцать франков. — Туда вы так просто не войдете, — буркнула Манетта. — Ключи у меня. — Давайте их сюда, — приказал Флавьен. Манетта выказала явное недовольство, но все же, выбрав в своей связке большой ключ, прошла вперед и открыла находившуюся в углу, со стороны двора, изъеденную жучком дверь, к которой вели две ступеньки. — А ты знаешь, твой замок Мон-Ревеш в солнечную погоду выглядит совершенно прелестно, — сказал Тьерре Флавьену, останавливая его на ступеньках, пока Манетта открывала в гостиной ставни. — Да, это строеньице времен Людовика XIII[172] довольно миленькое и сохранилось лучше, чем я предполагал. Вчера, когда шел дождь, все было мрачным и сырым; тут пахло насморком, все выглядело ветхим и сулило кучу мелких неудобств, которых я боюсь больше, чем паралича. Но сегодня утром я примирился с этим произведением архитектуры. Оно довольно своеобразно. Я бы с удовольствием перевез его в Турень: оно производило бы приятное впечатление где-нибудь в уголке моего парка. — Ах ты, Креж! — воскликнул Тьерре. — С каким пренебрежением ты можешь позволить себе говорить об этой драгоценности, ты, у которого есть замки эпохи Возрождения[173] в Турени, а может быть, еще и по готическому замку в каждом уголке страны! Ты находишь только «миленьким» этот дворик, тесно окруженный несимметричными, но изящными и оригинальными фасадами? Посмотри — гладкие высокие стены, увенчанные орнаментом более строгим, чем в эпоху Возрождения, но не таким холодным, как в век короля Солнце; окна не квадратные, как в шестнадцатом веке, но и не слишком удлиненные, как в конце семнадцатою! Да знаешь ли ты, что замок эпохи Людовика XIII в чистом виде — самая большая редкость во Франции со времен всеобщего уничтожения замков в юные годы Людовика XIV?[174] Посмотри на Мон-Ревеш: ведь он славный старый фрондер, который еще принимает втихомолку, несмотря на свои небольшие пропорции, вполне феодальный вид: он не укреплен, но расположен так, что удобен если не для вооруженной обороны, то для заговорщиков; все внутри: двери, окна, лестницы, кухни, конюшни, часовня, гостиная — сходится в общем крытом дворе и недоступно посторонним взглядам. Снаружи одни лишь непроницаемые стены, окруженные рвом и имеющие только такие отверстия, в которые можно смотреть, оставаясь невидимым снаружи. Я считаю его жемчужиной, если хочешь — черной жемчужиной: они самые красивые! Патина, которой твоя бабушка, слава богу, позволила покрывать все вокруг; буйная растительность, уже образовавшаяся за полгода, с тех пор как сюда вступила смерть, древняя бузина, прорастающая из трещин, в каминах ржавые решетки; флюгера, которые уже не вертятся; плиты двора, ровно окаймленные яркой травой и напоминающие сероватый ковер с тонкими зелеными полосками; высокая башенка с резными перекладинами и маленькой дозорной вышкой; желтофиоли на карнизах; штокрозы, поднимающиеся к закрытым окнам, как бы тщетно моля обратить внимание на их красоту, — все эго, повторяю, не просто нравится мне, а приводит меня в восторг! Если бы у меня было сто тысяч франков, я не позволил бы тебе продать это Дютертру, у которого земель и замков больше, чем ему нужно. Ах, жизнь артиста! Как она печальна и недоступна для всех наслаждений, которые он один мог бы оценить. Имея этот замок, опоясывающую его полосу лесов и лугов, я был бы самым богатым из людей, к снова стал бы мирным, счастливым, наивным и добрым! У меня не было бы больше мнимых потребностей, надуманных удовольствий… Вот рай в моем вкусе — и он принадлежит человеку, желающему от него избавиться и передать его другому, который покупает его, хоть он ему вовсе не нужен! — Дорогой мой Тьерре, — с живостью сказал Флавьен, чье великодушное сердце встрепенулось при мысли, что он может осчастливить кого-то из себе подобных, — я хочу… По тому, как Флавьен сжал ему локоть, Тьерре понял, что происходит в его душе и что он собирается сказать. — Остановись, друг мой! Благодарю тебя за то, что ты подумал об этом, но, пожалуйста, не произноси ничего вслух! Вспомни, кто я такой. Флавьен умолк. Он знал, как болезненно горд Тьерре. — Ты неправ, — ответил он, войдя в гостиную, куда Манетта открыла доступ лучам утреннего солнца. Там уже расхаживал Крез, засунув руки за тугой пояс из буйволовой кожи, посвистывая и разглядывая все вокруг полным любопытства взглядом. Гостиная покойной канониссы, в сущности, не была предназначена для той роли, какую она играла при жизни хозяйки. То была невзрачная комната в самом защищенном от северного ветра тесном уголке двора и поэтому наиболее освещенная теми косыми лучами, которые солнце бросало между двумя частями строения, находящимися напротив окон. Это был единственный уголок, где с девяти часов утра до полудня можно было насладиться некоторым количеством света и тепла — преимущество, которого были лишены все другие фасады здания, ибо их совокупность сочетала в себе внутреннее расположение голубятни и глубину колодца. Вследствие этих преимуществ названная комната и была избрана для того, чтобы согревать хрупкое тело владелицы замка. Гостиная была обставлена мебелью в тот год, когда канонисса, горбатая и болезненная, но еще молодая женщина, умная и с приятным лицом, приехала сюда, в глубокую провинцию, чтобы в печальном и гордом одиночестве кончить здесь свои дни. Это было в 1793 году, когда она вышла из тюрьмы, ибо канонисса, как многие принадлежавшие к ее сословию, отдала дань эпохе террора[175]; полагая, как и другие ее современники, что революция через некоторое время начнется снова, она прибыла сюда искать забвения в одиночестве. Когда она уехала из Парижа, за нею следовал фургон, в котором было все ее движимое имущество, от кровати с балдахином до рабочей шкатулки фиалкового дерева. Бережливая и опрятная, как большинство старых дев, обреченная болезнями на сидячий образ жизни, окруженная слугами старого закала, из тех, что благоговейно почитают даже собачек своей госпожи, канонисса с годами становилась все суше и меньше и наконец незаметно угасла, достигнув весьма преклонного возраста; тем не менее на пожелтевшем от времени персидском шелке, которым была обтянута гостиная, не образовалось ни единого пятнышка, из инкрустации на этажерках не выпало ни кусочка перламутра. Канонисса дряхлела, не давая обветшать ни одному из окружающих ее предметов. Гостиная была почти такой же, как в тот день, когда канонисса прочла «Котидьен»[176] впервые, и как в тот день, когда она пыталась прочесть эту газету в последний раз Ее мягкое кресло резного дерева, окрашенное в темный цвет, все еще стояло у камина; подушка, вышитая ее слабыми руками, казалось, ждала прикосновения ее исхудавших ног; решетки для углей, увенчанные позолоченными медными колпачками, все еще ярко блестели в пустом и темном очаге; потускневшие, попорченные сыростью зеркала почти перестали давать отражение, в них виделись лишь смутные, как призраки, фигуры. Единственным живым существом в этом святилище был старый попугай, поседевший до белизны; он спал на жердочке и, разбуженный солнечным светом, хрипло закричал, как бы жалуясь Манетте на то, что его потревожили раньше времени.VI
— Не понравился ли случайно дамам из Пюи-Вердона этот ужасный попугай? — спросил Флавьен. — Попугай! — воскликнула испуганная Манетта. — Попугай нашей госпожи! Старый друг, при котором она родилась, который видел, как она умерла, и, может быть, увидит, как умрут присутствующие здесь молодые люди! Эта птица, господин граф, принадлежала вашей прабабушке; судя по сохранившимся в семье бумагам, ей уже более ста лет! — О-о, — сказал Тьерре, снимая шляпу, — это становится интересным; господин долгожитель (тут он низко поклонился попугаю), позвольте засвидетельствовать вам мое почтение. Вы, наверно, многое знаете; готов побиться об заклад, что вы могли бы спеть нам балладу на смерть маршала Морица Саксонского[177] — ведь вас, несомненно, научили и петь в дни вашей молодости. — Увы, сударь, он знал столько, что не помнит больше ничего. Он уже давно не говорил, когда… — Что — когда? — пораженный волнением Манетты, спросил Флавьен. — Тише, тише, господин граф, он встряхнулся, он почистил перья, он напыжился… Сейчас он скажет их, эти единственные слова, которые затвердил и которые помнит по сей день. Ну, Жако, раз уж тебе надо сказать… «Друзья мои…» — Друзья мои, — хриплым и жалобным голосом сказал попугай, — друзья мои, я умираю! — Как печально, — сказал Флавьен, — и кто же научил его этим словам? — Увы, сударь., — Глаза Манетты наполнились слезами. — Послушай, Крез, — сказал Тьерре, не слишком интересовавшийся переживаниями Манетты, — стало быть, дамам понравился попугай? Это в самом деле интересно: столетняя птица — настоящий памятник. — Дамы говорили о птицах, о множестве птиц, — ответил Крез. Манетта рассердилась: — Других птиц здесь нет, и господин граф его не отдаст! Послушайте, послушайте, что он говорит, бедняжка! — Я умираю! Я умираю! — повторил попугай с каким-то ужасающим хрипом. — Объясните же мне, наконец, этот зловещий возглас! — настаивал Флавьен. — Вы не догадались, господин граф?.. Так вот, в последние три дня своей жизни ваша двоюродная бабушка, парализованная, в агонии, больше ничего произнести не могла. Она уже не вставала с кресла. Ее нельзя было ни поднять, ни уложить — боялись, что, дотронувшись до нее, могут ее убить, настолько она была слаба. Жако привык, что она его ласкала; удивившись, что она перестала подходить к его жердочке, он попытался говорить, хотел обратить ни себя внимание и не мог, он не помнил уже ни одного слова. А так как он все время слышал, как его госпожа жалобно повторяет: «Друзья мои, я умираю!» — он решил, что она учит его этим словам, и, добиваясь ласки и угощенья, к которым привык, он стал твердить их, словно эхо. Госпожа испугалась. Его отнесли в другую комнату, но он не забыл этих слов: вот уже полгода он их говорит, как только увидит людей. Неужели вы находите, господин граф, что молодые дамы из Пюи-Вердона найдут это забавным и не велят свернуть шею бедной птице, как только она заговорит перед ними. Флавьена опечалил этот рассказ, хотя он видел свою двоюродную бабушку всего лишь один раз в жизни, когда она на несколько дней приезжала в Париж по поводу одного своего судебного процесса. — Вы правы, Манетта, он принадлежит к семейным реликвиям, и я дарю вам попугая. Позаботьтесь о нем за мой счет. — Не надо, сударь, госпожа канонисса все предусмотрела в своем завещании: там есть рента для меня и для него. — Верно, я совсем забыл; да, да, моя славная Манетта, ваша с Жерве старость обеспечена; Жако тоже убережен от ударов судьбы… Тьерре, приветствуй еще раз долгожителя: он рантье, ему причитается пенсия в двадцать пять франков. — Он богаче меня, — сказал Тьерре, — Ты уверен, что это тот же самый попугай? — тихо добавил он. — Поскольку он славится долголетием, то, ручаюсь, его заставят жить в семействе Жерве еще два или три века, заменяя такими же особями в двух или трех поколениях, и все для того, чтобы сохранить ренту. — Неважно. Я вижу, Манетта, вы любите этот дом. Я поставлю такое условие в своем контракте о продаже: вместе с Жерве и Жако вы проведете здесь остаток своих дней. — Да благословит вас бог, господин граф! — воскликнула Манетта, кланяясь Флавьену и целуя Жако. Когда две старые головы, женская и птичья, оказались рядом, они удивили Тьерре своим сходством; зрелище было комичное и в то же время грустное, — это вызвало у него улыбку и вместе с тем слегка его растрогало. Впрочем, он быстро пришел в себя и напомнил Флавьену, зачем они пришли в гостиную. — Обстановка здесь так полна и так хорошо сохранилась, что представляет собой редкий образец одностильности. Тут все относится к эпохе Людовика XVI[178] — как главные предметы, так и более мелкие, начиная с обоев, деревянной резьбы и ковров и кончая рабочей корзинкой, украшенной продернутой лентой и миниатюрой, изображающей супругу дофина, на крышке из розового дерева. Право, эта гостиная в своем роде так же ценна и ее так же интересно осмотреть, как и весь замок. Я вижу здесь массу чудесных мелочей, которые могли соблазнить молодых модниц. Но надо поторопиться, если ты не хочешь, чтобы твой утренний букет прибыл в полдень — совершенно неподобающее время по правилам ухаживания! — Поди-ка сюда, Крез, — прикоснувшись ручкой своего хлыста к уху грума, сказал Флавьен. — Ты говорил о птицах? Они есть на этой ширме. Речь шла о ней? — Нет, господин граф, дамы говорили так: «Птички, хорошенькие птички, которые на доске!» Тьерре обвел взглядом комнату: — Здесь нет ни клетки, ни птичек! — И никогда не было, — добавила Манетта. — Госпожа любила и терпела только попугая. — Птицы были живые или нарисованные? — спросил у Креза Тьерре. — Вот уж не знаю, — ответил тот, почесав за ухом. — Пожалуй, живые, потому — говорили как будто о звуке, который слышен. — A-а, дело проясняется, ваши акции поднимаются, господин Крез; вы очень сообразительны и прислушиваетесь ко всему, что может дойти до ваших длинных ушей. Знаешь что, — обратился Тьерре к Флавьену, — он, наверно, имеет в виду эти часы с репетицией — тут есть птицы, заштрихованные зеленым золотом, на фоне желтого золотого корпуса — прелестная работа! Крез задумался, потом ответил довольно толково: — Нет, сударь, все ж таки не то. Мадемуазель Эвелина сказала: «Я бы поставила это в гостиную, потому что у меня не хватит места», а мне кажется, сударь, комната барышни достаточно большая… — Чтобы в ней поместились часы величиной с луковицу? Вы очень логично рассуждаете, господин Крез, и каждое ваше слово проливает свет на наши предположения. Вы сообщили нам, что искомый предмет производит звуки; это ни карманные часы, ни стенные; но это могут быть часы с кукушкой или вертел со звонком… — Или музыкальный инструмент! — сказал Флавьен. — Горячо, господин граф, — заметила наконец Манетта, отлично знавшая, о чем идет речь, но надеявшаяся, что никто не догадается, потому что поиски показались ей сначала святотатством. Однако надежда на то, что она сможет остаться в замке, смягчила ее, и теперь она желала услужить молодому хозяину. — Ну еще бы, — воскликнул Крез, — если вы были при том, как смотрели на эту вещь, угадать проще простого, матушка Манетта. Но все же вы крадете у меня сотню франков, без меня вы бы ничего не сказали. — Он прав, — добавил Флавьен. — Помолчите, Манетта. Идет, Крез, ищи: идея принадлежит тебе. Крез начал шарить повсюду; в нем заговорили любопытство слуги и осторожность недоверчивого крестьянина. Наконец он обнаружил в самом темном углу гостиной загороженный креслами большой продолговатый предмет, покрытый зеленым холстом. Он легонько приподнял холст, под которым оказалось шерстяное покрывало. — Это кровать! И он опустил покрывало. Но, подумав, снова приподнял его, и взорам всех открылась гладкая поверхность, с виду черного дерева, окаймленная широкой золотой полосой. Затем он нащупал рукой ключ. — Это сундук. Можно открыть? Флавьен кивнул. Крез откинул покрывало, повернул ключ и попытался поднять крышку. Она не поддавалась. Тогда, как кот, который вертится вокруг сыра, пытаясь догадаться, с какой стороны его легче надкусить, Крез стал наклоняться то вправо, то влево; потом, обнаружив зарубку, вытащил планку из паза; крышка поднялась, и перед ним оказалась клавиатура, окруженная стенками цвета прекрасной киновари, каким бывает самый лучший китайский лак; их оттеняла позолота на дереве. — Вот оно! Это звонарня, вроде тех, что есть в замке Пюи-Вердон: только большие трещотки, которые там белые, тут черные, а маленькие, вместо того чтобы быть черными, здесь белые… Да и вообще тут две звонарни, — добавил Крез, указывая на двойную клавиатуру, — и играет! — продолжал он, кладя толстые пальцы с плоскими ногтями на клавиши черного дерева. — О, да это клавесин, клавесин в хорошем состоянии — вещь по нынешним временам редкая, — сказал Тьерре, пробуя клавиатуру. — Предмет занятный и ценный, в самом деле восхитительный подарок для людей со вкусом… Но разве это то, что мы ищем? Еще ничего не доказано. Молчите, Манетта… Господин Крез говорил о доске, о птицах, и надо, чтобы он их нашел, если хочет получить сказочную сумму в пять луидоров. — Да уж как-нибудь найдем, — сказал Крез, на чьем круглом лице монголоидного типа появилось хитрое выражение, как только речь зашла о золоте. Он так вертелся, так искал, что сумел поднять прямоугольную крышку клавесина и установить ее на красной палке, полюбовался низом крышки, выкрашенным киноварью, лакированным и позолоченным, как и весь корпус клавиатуры, и наконец открыл очарованному взгляду Тьерре внутренность одного из самых кокетливых и роскошных инструментов восемнадцатого века: струны из желтой меди, тонкие, как волоски, резонирующие на перистых кончиках, наивный механизм столетнего инструмента, чей голос был в чем-то схож с голосом попугая, и, наконец, деку, прекрасный образец работы мастеров дореволюционного времени — сосновую планку, тонкую, как лист бумаги, гладкую, как атлас, и густо покрытую росписью ослепительных пурпурных и лазоревых оттенков. Причудливые арабески обрамляли круглое отверстие, через которое звук отражался и уходил в нижний ящик; зеленая листва грациозно обвивалась вокруг венка из золотых звезд на кобальтовом фоне; и, чтобы завершить торжество Креза, под позолоченными нитями металлических струн носились и порхали дивные фантастические птицы ярких окрасок с серебряными лапками и клювом; они клевали великолепные цветы и как бы добавляли свое щебетанье к гармониям, звучащим на клавиатуре. — Слушай, это просто ювелирное изделие, редкость, не имеющая цены, — сказал Тьерре Флавьену. — В наш утилитарный, реалистический век улучшили звучность, достигли прочности; но в те счастливые времена, к которым восходит этот инструмент, наслаждения слуха дополнялись воображением, и очарованным глазам представали концерты небесных птиц, певших скорее в душе, нежели в барабанной перепонке. Боже мой, но разве человеческий голос был менее прекрасен и нуждался в сопровождении этих слишком тонких звуков, а музыкальная мысль великих композиторов была менее мощной и менее возвышенной, не имея в своем распоряжении нынешней техники и материалов? Флавьен, не без интереса слушавший рассуждения Тьерре, вручил в это время награду Крезу и отдал распоряжения Манетте. Через два часа он уже был в городе, где привел в смятение трезвый ум нотариуса, требуя от него своеобразной редакции документа, который он хотел поскорее отправить Дютертру в виде учтивой шутки; а Тьерре на одной из прекраснейших лошадей, какие были в конюшне Пюи-Вердона, шагом сопровождал тележку — на ней двигался к Пюи-Вердону влекомый бесстрастным Сезаром и заботливо укутанный перинами клавесин. Тьерре прибыл к месту назначения в десять часов утра, мечтая не встретить никого из семейства Дютертр до того, как он сможет установить клавесин в гостиной. Еще накануне он был приглашен Дютертром к завтраку, и, таким образом, все приличия были соблюдены. Дютертр пошел с женой прогуляться, Эвелина и Натали, возмещая ущерб, который долгое ночное бдение нанесло их отдыху, еще спали. Давно вставшая Малютка занималась своими птицами. Тьерре оказался во дворе наедине с серьезным и слегка удивленным Амедеем. Выслушав объяснения Тьерре, Амедей, гибкий и сильный, несмотря на кажущуюся хрупкость, сбросил сюртук, надел блузу, вскочил на тележку, убрал перины и, не полагаясь на грубые руки слуг, вместе с Тьерре перенес в гостиную объемистый, но легкий клавесин, даже не поцарапав его чудесно сохранившейся лакированной поверхности, которую Тьерре тщательно обернул старыми номерами «Котидьен» — единственной газеты, которую выписывала канонисса. Занимаясь вместе с Амедеем этой нетрудной работой, помогая ему смахнуть пылинки и нитки, чтобы клавесин при первом же взгляде явился в полном блеске, и, наконец, последовав за Амедеем в его комнату, чтобы почиститься и вымыть руки, Тьерре, как всегда придирчивый и подозрительный, не преминул поставить перед собой задачу: «Вот весьма красивый малый. Глаза у него — нежное пламя, зубы — жемчуг, мускулы — сталь, он изящно сложен, его манеры и внешний вид свидетельствуют о безупречном воспитании. Он немногословен, но его физиономия и произношение говорят о том, что он человек думающий и утонченный. Жерве рассказывает, что его воспитали здесь как члена семьи, что господин Дютертр любит его как сына и полностью ему доверяет и что он посвятил себя изучению сельского хозяйства и управляет всем обширным хозяйством дядюшки; следовательно, это приятный молодой человек, которого можно отнести — редкий случай! — к разряду полезных людей. Любят ли женщины полезных людей? Нет, но они любят приятных людей! Таким образом, Амедей должен быть любим здесь одной или несколькими женщинами, и любим соразмерно той степени приятности, которая преобладает в нем над полезностью. Какова же степень, если она существует.» Беседуя с Амедеем на общие темы, внимательно и проницательно наблюдая его движения и смену выражений на его лице, он нашел его таким спокойным, таким простым, таким уравновешенным, что не смог сделать никаких выводов. «Если б он был страстным, а на это указывает его меланхоличность, равновесие было бы нарушено; человек, которого должны любить, взял бы в нем верх над человеком, которого надо ценить. Но его меланхоличность может объясняться всего лишь его темпераментом». Тьерре огляделся — четырехугольная башня, где обитал Амедей, была, как и соответствовало столь богатому дому, обставлена и украшена настолько пышно, насколько это было возможно для скромного и трудолюбивого молодого человека. И во всем угадывалось какое-то усилие над собой, желание отказаться от наслаждения роскошью, ему не принадлежащей. У Амедея не было ничего. Его отцу не повезло в делах. Он умер, оставив одни долги. Дютертр все оплатил; он вырастил сироту заботливо, нежно, но приучая его к серьезной цели — к труду. Таким образом, Амедей вносил в бюджет семьи только свой труд, умный, ревностный, преданный, но который он сам считал лишь погашением священного долга, взамен чего принимал только необходимое. Это необходимое, обусловленное привычкой к роскоши, на уровне которой надо было держаться, для Тьерре было бы излишеством; очень стесненный в средствах, но желавший вести светский образ жизни, он еще не мог черпать в своем таланте нужных для этого ресурсов. Сперва он хотел поздравить Амедея с видимым благополучием, но тут же понял, что эти поздравления были бы тому неприятны. По какому же признаку он догадался обо всем? По куску грубого пемзового мыла, которое молодой человек предложил ему, чтобы вымыть руки. Мыло рабочего на белой мраморной доске умывальника, уставленной принадлежностями из саксонского фарфора! Для внимательного наблюдателя мелочи открывают многое. Этот незначительный признак объяснял все. Мыло входило в ежедневные личные расходы Амедея. Пемзовое мыло для таких красивых рук! В этом, по мнению Тьерре, сказывалась бережливость, отдававшая героической самоотверженностью. Ведь за руками надо ухаживать, когда они красивы, когда вам двадцать пять лет и когда вы живете в доме, где есть четыре пары прекрасных глаз, которые могут их оценить. «Как все это сложно, — думал Тьерре. — Добродетельный человек торжествует здесь над человеком приятным и полезным. А женщины любят добродетельных людей? Да, если страсть берет верх над этими тремя свойствами. Страстный человек — естественный венец творенья». — Вы собираете чешуекрылых? — смеясь, спросил он, бросив взгляд на аккуратную стопку коробок, на которых виднелись надписи: argynnis[179], polyommatus[180] и т. д. — Я люблю бабочек, — смущенно улыбаясь, ответил Амедей, как уличенный в провинности ребенок. — Вы совершенно правы! Я бы тоже непременно увлекся ими, если бы жил в деревне! И потом, это один из способов ухаживать за женщинами. — Вы находите? — с холодной улыбкой спросил Амедей. — Да, в деревне женщины — которые всегда артистичны по натуре — обожают разнообразие, красоты и восхитительные причуды природы. Готов побиться об заклад, что тут все дамы любят бабочек и просят их у вас. — Нет, не все, — небрежно ответил Амедей. «Мы замыкаемся в непроницаемость, — подумал Тьерре, — у нас есть сердечная тайна. Через час я буду знать, какая из дам в семействе Дютертр любит бабочек». — Амедей! Амедей! Сачок! Скорее! — послышался с лужайки женский голос, по-мальчишески громкий. — Чудесный махаон, вон там, на жасмине у твоего окна! Тьерре подбежал к окну и увидел на лужайке Малютку. Завидев его, она улыбнулась, ничуть не смутившись, и сказала открыто и без всякой робости, как истый ребенок: — A-а! Здравствуйте, сударь, как поживаете? Тьерре поздоровался с ней почти отечески. — Скажите Амедею, — продолжала девушка, — что бабочки скоро будут садиться ему на нос, если он будет охотиться за ними с такой медлительностью. Амедей по-прежнему оставался спокойным. «Ага! Бабочек любят две женщины!» — заключил про себя Тьерре.VII
Колокол возвестил завтрак. — Это первый удар, — сказал Амедей. — У нас есть еще полчаса до второго. Хотите пройтись по саду? — С удовольствием. «Если между первым и вторым ударом колокола я не угадаю твоего секрета, — подумал Тьерре, — моей способности судить о людях грош цена!» — Тем более, — добавил он, обращаясь к Амедею, — что мне хотелось бы обзавестись одной вещью, необходимой для успешного выполнения моей миссии. — Что же вам нужно? — Букет, хотя бы из полевых цветов; я поставлю его на клавесин, который мне поручено преподнести. Любезность довольно банальная, не так ли? Но здесь это даже не любезность. Это простая надпись, ее надо прикрепить к подарку, как бы передавая от имени моего друга, господина де Сож: «Я продал вам свое именье, но оставил себе эту безделицу, чтобы иметь возможность преподнести ее вам». — Отлично. Пойдемте к главному садовнику, пусть он сделает нам букет. — Как? Букеты делает вам садовник, когда у вас есть счастливая возможность делать их лично? — Но букет, равнозначный надписи, уже не букет. — Почем знать! — сказал Тьерре, наблюдая за молодым человеком. Может быть, у меня есть тайное предписание? Под этой надписью, доступной для всех, друг, послом которого я являюсь, возможно, хочет скрыть выражение своего почтительного восхищения. Уверяю вас, нет ничего интереснее и забавнее, чем составить букет для женщины, даже если действуешь по доверенности! — Для женщины? — переспросил Амедей, по-прежнему спокойный или прекрасно владеющий собой. — Вы мне сказали, что подарок предназначен дамам Пюи-Вердона, и я понял, что это подношение, как и букет, относится ко всем. У нас они все играют на рояле. — Но кто играет лучше всех? — Несомненно, Эвелина. — Флавьен, по-видимому, ничего об этом не знает, — продолжал Тьерре, наблюдая за Амедеем, — и должен признаться, что мне неизвестно, какую именно из дам он имел в виду. Амедей отвечал довольно сухо: — Полагаю, что он думал не об одной, а обо всех. — Вы правы, и вы преподали мне урок приличия. Разумеется, Флавьен не может себе позволить преподнести подарок какой-то одной из барышень. «Я сказал глупость, — подумал Тьерре, — но сделал это умышленно. Я вызвал ревность. Остается узнать, ревнует ли он всех или только одну из них». — Но, — продолжал он вслух, — это выражение почтительности может быть без всякого неудобства адресовано исключительно госпоже Дютертр. — Да, — все так же спокойно, но с оттенком пренебрежения произнес Амедей, — это магарыч, предложенный господином графом де Сож супруге его покупателя. — О, как вы прозаичны! Назвать такое изящное проявление внимания грубым и неблагозвучным словом «магарыч»! Все равно, что видеть, как госпожа Дютертр подносит к своим губам скверное красное вино в фаянсовой кружке с отбитой ручкой. Тьерре заметил, что лицо Амедея не дрогнуло. Но ему показалось, что при мысли о губах Олимпии губы Амедея стали одного цвета с его обычно бледным лицом. Однако голос его оставался ровным. — Если мы будем продолжать беседу, мы не сделаем букета. Вот вам мои садовые ножницы, начинайте. — Если б я был уверен, — безжалостно продолжал Тьерре, — что букет и клавесин предназначаются именно госпоже Дютертр, я бы спросил вас, какие цветы она предпочитает. — А я бы ответил вам, что ничего об этом не знаю. Мне кажется, тетушка любит все цветы. Это слово «тетушка» было произнесено так по-домашнему, так целомудренно и почтительно, что Тьерре отбросил свое подозрение. «Тетушек не любят, — подумал он, — даже если они всего лишь жены наших дядюшек. Это нечто вроде кровосмесительства. Но можно любить кузин, дочерей наших дядюшек… и можно жениться на одной или другой, с благословения папы римского или без оного. Да, но мы еще не назвали третьей кузины». — Клянусь вам честью, — продолжал Тьерре вслух, — если у моего друга есть какие-то особые намерения, меня он в них не посвящал. Я болтаю просто так, чтобы болтать, как птицы поют, чтобы петь о чистом небе и зеленых деревьях. Следовательно, мне надо положиться на ваше мнение, как более разумное. Букет должен быть общим, и мы обязаны доказать это, взяв все цветы, которые нравятся всем прекрасным хозяйкам Пюи-Вердона. «Какой болтливый господин», — подумал Амедей. — Поэтому возьмем гвоздики для госпожи Дютертр, она должна любить гвоздики. — Почему? — Так уж мне кажется! Махровые розочки для мадемуазель Каролины; всего понемножку для мадемуазель Эвелины; а что нам оставить для мадемуазель Натали? Кончик палочки, которую небрежно держал Амедей, коснулся то ли преднамеренно, то ли случайно крапивы, пробивавшейся в траве у его ног. «Ого! — подумал Тьерре. — Эту он ненавидит!» Раздался второй удар колокола. Амедей, который скорее терпел, чем слушал Тьерре, вздрогнул; казалось, ему хотелось поскорее вернуться в дом. Это могло быть естественной реакцией чувствительных нервов, а могло быть и так, что он просто проголодался, но Тьерре решил приписать себе победу, поскольку ему удалось хоть что-то разузнать. «В этом доме есть звуки, от которых он вздрагивает, и кто-то, неудержимо влекущий его к себе. Значит, он более страстен, чем полезен и добродетелен. Он любит Малютку как сестру, почитает Олимпию, не терпит Натали… Стало быть, он любит Эвелину. Эвелина должна любить бабочек». Это обстоятельство, вернее, это предположение, обоснованное или необоснованное, определило чувства и мысли Тьерре на весь остаток дня. В Париже он был в течение нескольких дней влюблен в госпожу Дютертр, влюблен без ясно выраженного желания, без сердечного смятения. Удар, нанесенный ему вчера, когда он вообразил ее бабушкой, шутки Флавьена, его собственные шутки лишили ее блистательный образ поэтического ореола; кроме того, Дютертр в семейном кругу показался ему прекрасным и достойным уважения. Его радушие было таким сердечным! Он внушал такое почтение, такую благодарность местным жителям, они так тепло говорили о нем! Тьерре только притворялся развращенным, из бравады, из аффектации. Сердце его было молодо, полно прямоты, инстинктивного чувства общественного долга. Поэтому он не стал обращать внимания на жертву, которую в шутку наметил себе, когда покидал Париж, и, возбужденный случайно возникшей у него мыслью о борьбе, он решил влюбиться в Эвелину не позднее захода солнца, хотя бы ради того, чтобы разозлить Амедея. Человек гораздо менее щепетилен в отношении дочери друга, чем в отношении его жены, потому что на ней можно жениться, если удастся соблазнить или как-то взволновать ее; а когда она столь же богата, сколь красива, в этой перспективе нет ничего устрашающего. Однако если б Тьерре хорошенько поразмыслил в то утро, он воздержался бы и от этого решения, ибо мысль о том, чтобы разбогатеть через женитьбу, оскорбляла его понятия о достоинстве и свободе. Но Жюль Тьерре уже был не тем человеком, который покинул Париж три дня назад. Сельская природа, свежий воздух, сентябрьское солнце, старые замки, прогулки по густым лесам, прекрасные сады, свежие цветы и, главное, ощущаемое в самом воздухе присутствие молодых, красивых, очаровательных и богатых женщин, которые в деревне куда более милы, чем в Париже — то ли из гостеприимства, то ли от безделья, — все это не могло не опьянить его и не вырвать его мысли из жесткого круга, в который их замкнули мода на скептицизм и неодолимое стремление к самостоятельности суждений. Успеху Эвелины у Тьерре роковым образом благоприятствовало поведение, которое, без всякой задней мысли, усвоила себе госпожа Дютертр. Обычно она, как только появлялся новый человек, особенно молодой, нарочно уходила в тень, чтобы дать возможность блеснуть дочерям мужа. В Париже, в свете, где она была как бы наедине со страстно влюбленным в нее мужем, она становилась самой собой, и было видно, насколько она умна. Но долг был для нее превыше всего, и она почти никогда не покидала деревни и своей семьи. Потому в обычные дни онане блистала. Тьерре видел ее лишь в один из тех редких промежутков, когда она не боялась возбудить ревность и соперничество. Встретив теперь с ее стороны такую сдержанность, необщительность, скованность в словах и жестах, он нашел ее напыщенной, хоть и признал, что она красивее своих приемных дочерей. «Я не ошибся в отношении ее молодости и красоты, — подумал он, — но мое воображение прибавило ей ума и грации. Она — равнодушная и тщеславная женщина, которая любуется собой и не считает нужным проявлять внимание к другим». Никто и не собирался заходить в гостиную перед тем, как сесть за стол, — завтрак был подан, Дютертр проголодался. Тьерре удалось незаметно пройти туда и поставить букет на клавесин. Олимпия и Малютка обе были в розовом. Мачехе пришлось уступить ребенку, хотевшему отпраздновать таким образом приезд любимого отца; к тому же страстью Малютки было подражать нарядам Олимпии так же тщательно, как ее сестры старались отойти от этого. Вот и теперь Натали явилась предпоследней в небесно-голубом наряде; она была необычайно хороша собой и столь же меланхолична. Последней пришла Эвелина, в платье из фуляра, затканном цветами и украшенном переливающимися лентами. У нее изобилие и фантазия не исключали вкуса; она была ослепительно нарядна, и в то же время казалось, что она нисколько об этом не заботилась. Ее туалет поразил Тьерре. «Всегда ли она такова, или я играю здесь какую-то роль?» — подумал он. Получилось так, что она заняла оставшееся рядом с ним пустое место; через каких-нибудь пять минут он нашел способ показать ей своими замечаниями, как он ценит ее умение одеваться и какое удовольствие получает от ее утонченности. За столом было много и других гостей, явившихся засвидетельствовать свое почтение Дютертру по случаю его приезда. Было довольно шумно; взад и вперед сновали слуги, а просторная зала, обшитая деревянными панелями, давала сильный резонанс; хозяин заражал всех своим весельем, а Малютке вообще не сиделось на месте. Благодаря всему этому Тьерре вскоре удалось завязать со своей соседкой весьма оживленный разговор. Сначала она с насмешкой приняла комплименты своему наряду: — Как, сударь, вы обращаете внимание на наши тряпки? А мне говорили, что вы человек серьезный. — Кто меня так оклеветал? — Но вы согласны, что как только начинаешь заниматься нарядами, теряешь всякое право на серьезность! — Ничуть! Серьезность серьезности рознь, и о нарядах можно сказать то же самое. Видеть в предмете туалета лишь его стоимость и великолепие — мелко; но уметь выбрать ткань, сочетание цветов, гармонию — искусство, и я объявляю вам, что вы настоящая художница. — Ваше одобрение должно мне льстить; романисты обязаны разбираться в этом, чтобы создавать типы. Ну, а какому характеру среди ваших персонажей вы приписали бы мой наряд? Какую душу разоблачили бы мои тряпки: причудливую или глубокую, мужественную или робкую? — Пожалуй, в ней будет всего понемногу, пикантные контрасты и роковые загадки, за разгадку которых можно было бы отдать жизнь. — Молчи! — шепнула Эвелина обратившейся к ней Натали. — Я слушаю признание в любви. Объяснитесь получше, — повернулась она к Тьерре, — и не заводите со мной слишком литературного разговора, я девушка деревенская. Скажите просто, что я такое, о чем я думаю. — До этого дня вы ничего не любили. — Неправда, я любила свою лошадь. — Ага, вы согласны — только свою лошадь? — О, моих родителей, мою семью — это естественно… — А больше всего вы любите самое себя? — Но вы, кажется, оскорбляете меня, а я предпочитаю комплименты, предупреждаю вас. — Я вам их делать не буду. У вас может быть ужасная душа, отвратительный характер! — Ты называешь это признанием в любви? — спросила Эвелину внимательно слушавшая их разговор Натали. Эвелина расхохоталась и посмотрела Тьерре прямо в глаза. — А я вас нахожу очаровательным; пожалуйста, продолжайте. — Это вас забавляет? Так и должно быть. Вы знаете, что можете заставить людей страдать, и настрадаются они из-за вас немало. — Кто же именно? Люди, достаточно безумные, чтобы полюбить меня? — Или сказать вам об этом, — многозначительно улыбнувшись, ответил Тьерре. — Признайся, улыбка у него хороша, — шепнула Эвелина Натали, в то время как Тьерре отвечал своему соседу слева. — Ну вот ты и влюбилась! В глупца или в безнравственного человека! — пожала плечами Натали. — Безнравственного? Если он влюбился в меня с первого взгляда, он относится к первой категории; если он влюбился в мою мачеху и пользуется мной как ширмой, он относится ко второй категории. Что ж, увидим! К концу завтрака приехал Флавьен и, узнав, что все еще сидят за столом, прошел в гостиную через сад, полюбовался тем, как удачно Тьерре сумел поместить его подношение, и тихонько велел Крезу отнести подписанную им доверенность в рабочий кабинет Дютертра. Потом он пошел осматривать сады, не желая присутствовать, словно провинциал, при своем торжестве. Торжество было полным. С одной стороны, очаровательный клавесин, на который так зарилась Эвелина, но оцененный по достоинству и Олимпией, с другой — сердечная и лестная для хозяина дома шутка с подписанной и скрепленной печатью доверенностью, которую секретарь Дютертра принес ему в гостиную. Молодому дворянину удалось показать себя в самом выгодном свете; впечатление еще усилилось, когда Крез, призванный по настоянию Тьерре, рассказал по-своему, как господин де Сож взялся угадать, что могло понравиться дамам из Пюи-Вердона.VIII
Крез был сильно избалован, как все грумы, имеющие дело с добрыми людьми. Может быть, Эвелина чересчур принизила его, низведя до роли шута. Но он гордился этой ролью и со страшной дерзостью считал остроумным весь вздор, который он нес и который она заставляла его повторять. Поэтому он стал охотно распространяться о должности отгадчика, занятой им в Мон-Ревеше, не забыв упомянуть о полученном вознаграждении. — О, ведь он человек из самого высшего общества, — иронически проронила о Флавьене Натали. Олимпия попыталась затушевать дерзость, сказанную при Тьерре: — Он — очень любезный человек. В любом обществе желание сделать людям приятное является добрым качеством. — Это хороший сосед, вот такими я их люблю! — воскликнул Дютертр. — Доверие, иными словами — честь и прямодушие. — Это очень милый господин, — сказала Малютка, — он понимает папу. — Вот каковы мощь и обаяние богатства! — шепнул Тьерре Эвелине. — Если они в не вводят в соблазн, то по крайней мере очаровывают! — Вы богаты, сударь? — спросила Эвелина с такой непринужденностью, что совсем смутила Тьерре. — У меня ничего нет и, вероятно, никогда не будет, мадемуазель, — ответил он поспешно и высокомерно. — Ну что ж, тем лучше! — необдуманно воскликнула Эвелина. — Не будете ли вы так любезны объяснить мне, что значат ваши слова? — Ах, вы же знаете, что я живая загадка, вы сами это сказали! — Должен ли я попытаться разгадать сфинкса? — Напрасно вы воображаете, что это вам быстро удастся! Подали кофе и сигары. Госпожа Дютертр зажгла пахитоску и сделала вид, что курит, подавая пример гостям. Все мужчины воспользовались разрешением, и в то время как Олимпия украдкой покашливала, выпуская три колечка дыма, как этого требовали правила гостеприимства, Эвелина взяла толстую сигару и стала курить, как мальчишка, выпуская дым прямо в лицо Тьерре и почти не скрывая, что она пробует на нем воздействие своей эксцентричности. Он был неприятно удивлен и не постеснялся сказать ей, что находит это ужасным. Она тут же бросила сигару, позабавилась наивным смущением, охватившим его при этой неожиданной уступке, и пошла за другой сигарой, говоря: — Вы правы, эта сигара была ужасной. Разве вы не курите? — Конечно, курю, — сказал он и прикурил от той сигары, которую закурила Эвелина и фамильярно протянула ему. — Я только и делаю, что курю. — Ну и напрасно! — Почему? — Ах, если я буду разъяснять вам все свои слова, когда же вы начнете угадывать мои мысли? В это время господин Дютертр, проходя мимо Эвелины, улыбаясь взял у нее сигару, выбросил ее прочь, несмотря на протесты дочери, и оставил Эвелину продолжать беседу с Тьерре. В то время как она невинно кокетничала с Тьерре, хотя это кокетство было для него довольно опасным, Натали, обидевшись, что никто не уделял ей особого внимания, сошла с крыльца, где все курили и болтали под защитой широкого навеса, сплетенного из пальмовых листьев, и углубилась в зеленую чащу деревьев. Погруженная в грустные размышления, она незаметно для себя вошла в английский сад и вдруг очутилась лицом к лицу с Флавьеном. Но это столкновение не смутило ни того, ни другую. Шедшая медленным и размеренным шагом Натали не разбудила Флавьена, который, усевшись на скамейку из дерна и прислонившись головой к стволу платана, заснул сном праведника. Де Сожу случалось не раз испытывать внезапную потребность в полном отдыхе, как многим деятельным и здоровым людям; они удовлетворяют ее там, где находятся в данную минуту, если только не бывают вынуждены побороть ее усилием воли. Флавьен встал очень рано, проехал шесть или семь лье рысью на резвой лошади, позавтракал наспех, проезжая через Мон-Ревеш, и поехал дальше, забыв об отдыхе; теперь он устал и, попав в свежий и уединенный уголок, уснул совершенно непреднамеренно, как король или как крестьянин. Натали была шокирована такой грубостью натуры и, легенько повернувшись на каблучках, с презрением удалилась, ступая по смягчавшему звуки мху; но через несколько шагов ее остановила следующая мысль: «Я обманула вчера вечером Эвелину, заставив ее поверить, будто этот юноша уже влюблен в Олимпию. Он ее не знает, его мало интересуют и она, и мы. Что касается нас — его сердце свободно, оно — tabula rasa[181]. Он пришел к нам с целью продать свое поместье; это доказывает, что у него нет никакого желания сохранить временное пристанище рядом с нами, никакого намерения жениться на одной из нас. Следовательно., я должна обращаться с ним, как с человеком, не имеющим значения, потому что он не завербовался в полк претендентов на мое приданое. Он богат и, таким образом, имеет право на мое уважение. Я презираю бедняков, превозносящих смешные стороны и странности богатой женщины. Он не стал жертвой победоносных чар Олимпии и спит, вместо того чтобы устремиться навстречу ожидающим его благодарностям. Его любезность с клавесином — это любезность человека, приносящего кулечек с конфетами маленьким девочкам. Его доверие к моему отцу — величественное пренебрежение патриция, не желающего оставаться в долгу перед разночинцем. Нет, право, у господина де Сож есть хорошие стороны, и именно по той причине, что я ему не нравлюсь, я бы, пожалуй, хотела ему понравиться». Она подошла поближе и, встав позади скамейки, так, чтобы видеть спящего в профиль и иметь возможность исчезнуть в кустах, как только он пошевелится, стала внимательно разглядывать его лицо. Флавьен был красив той надменной и мужественной красотой, которая льстит самолюбию повелительниц: высокий, с широкими плечами и узкими бедрами, с тонкими чертами лица, со светлыми и густыми волосами; руки у него были большие, но белые и прекрасной формы, словом, в нем воплотились сила и гордость древних рыцарей. «Он слишком хорош собой и поэтому должен быть глуповат. Но у подобных созданий незначительность скрыта под блестящим лаком хороших манер, и женщинам не приходится из-за них краснеть. Людей любят не такими, какие они есть в действительности, а такими, какими они нам кажутся. Королева Елизавета возвела бы этого знатного дворянина в ранг своих приближенных, а что бы ни говорила Эвелина, я королева, я Елизавета, я англичанка по натуре больше, чем они думают. Как мне понравиться этому рыцарю? Как удержать его здесь, хотя бы на время каникул, хотя бы для того, чтобы не остаться со всякими мелкими претендентами, в то время как Эвелина уже остановила свой выбор на единственном умном человеке? По-своему я так же хороша, как господин Флавьен, и еще более аристократична, несмотря на мое буржуазное происхождение. Там где он сумеет только приказывать, я сумею царить. У меня есть талант, это безошибочно действует на тех, у кого его нет. Да, но я не умею кокетничать, а в наше время молодая девушка должна делать первые шаги, дабы ее заметил мужчина, не претендующий на приданое. Но уверена ли я, что умею кокетничать? Я хочу, чтобы мной восхищались, а кокетство — это ум, поставленный на службу желанию нравиться. Ум! У Эвелины есть ум, но я ведь не просто умна, а гениальна; неужели я не сумею заставить свой гений послужить моему самолюбию?» Она еще долго раздумывала. Мне кажется, что во время ее гордых и серьезных размышлений Флавьен — да простит ему бог! — немного всхрапнул. Натали это не смутило; ей даже невольно пришло в голову, что, имея мужа, который храпит, можно легко получить возможность проводить ночи у себя, занимаясь литературой. «Но почему он не ищет руки ни одной из нас? Мы богаче его. У него, вероятно, нет долгов или честолюбия, или, может быть, он уже помолвлен… или влюблен в замужнюю жен шину! Каким же я была ребенком! Это надо узнать прежде всего». Она сорвала ветку азалии, подошла на цыпочках к скамейке, бросила эту ветку в шляпу Флавьена, лежавшую около него, и потом, скользнув в кусты, как ящерица, спокойно приблизилась к группе людей, показавшейся на лужайке. Флавьен проснулся. Собираясь надеть шляпу, он уронил ветку азалии; затем стал ее рассматривать как охотничьи собака, вынюхивающая дичь. — Это объяснение в любви… — сказал он. — Ох, уж эти мне провинциалки, как они скучны! Ну, что ж, посмотрим! Он оторвал один цветок и вставил его в петлицу, а ветку скомкал и сунул в карман. Затем встал и направился к зам ку, решив, поскольку его сердце ничем не занято, посмотрен, какое его ждет приключение. Не сделав и трех шагов, он встретил Каролину. «Только маленькие девочки, — подумал он, — позволяют себе такие выходки, когда играют. Они называю; это проказами». Но Каролина, искавшая Натали, заговорила с ним в своей обычной манере: — Здравствуйте, сударь, как поживаете? Достаточно было взглянуть в ее прекрасные огромные глаза, живые и смелые, но спокойные, чтобы ни на минуту не усомниться в ее равнодушии и чистоте. И Флавьен предложил ей руку, которую она приняла без всякого замешательства, чтобы вернуться вместе с гостем к матери — немножко гордясь тем, что с ней обращаются как со взрослой дамой и очень стараясь идти ровным шагом — ведь до сих пор она только бегала, а не ходила.IX
В это время Тьерре, отошедший было от Эвелины, чтобы не казаться слишком навязчивым, вернулся, будто бы невзначай, и возобновил свое состязание с нею. — Вы любите бабочек, мадемуазель? — Терпеть не могу. Они — эмблемы моего собственного легкомыслия, а я только и хочу, что отвлечься от самой себя. — Ваш кузен Амедей, мадемуазель, очень любит бабочек. — А-а! — как всегда, не подумав, сказала Эвелина. — Это потому, что их любит его тетушка. Столь неосторожные слова едва не лишили Эвелину внимания, которым она рассчитывала завладеть. До этой минуты Тьерре видел в своих отношениях с дамами Пюи-Вердона лишь удовольствие походя помучить, испугать, вытеснить соперника, который попадется ему под руку. Теперь его взгляд быстро перенесся на Олимпию и Амедея; они стояли в уголке и тихо беседовали. Казалось вполне естественным, что они советовались по поводу каких-то домашних дел с той, как бы узаконенной, таинственностью, с которой хозяева стараются не помешать досугу или развлечениям гостей. Однако Тьерре, полагая, что находится на пути к важному открытию, едва не забыл об Эвелине, в которой уже не было для него ничего загадочного, погнавшись за тенью новой тайны. Он вздрогнул от смутного любопытства, принятого Эвелиной за ревность. «Натали угадала, — подумала она, — господин Тьерре влюблен в мою мачеху. Что ж, если надо дать бой, я его дам. Я не допущу, чтобы эта женщина, которой мы позволили завладеть сердцем нашего отца, не оставила нам ни одного жалкого обожателя». Она действовала столь успешно, что Тьерре стал неотступно следовать за ней; он был немного озабочен, несколько резок, внутренне протестовал, но тем не менее его уже не отпускали если не оковы из цветов, то по крайней мере моток шелка, в котором он и запутался. Явился Флавьен; принимая похвалы и благодарность всего семейства, он думал лишь о том, чтобы среди всех находившихся там женщин (к Дютертрам прибыло несколько соседок) найти по глазам ту безрассудную особу или ту насмешницу, которая бросила ему в голову, то бишь в шляпу, ветку азалии. Прежде чем он успел встретиться глазами с Натали, она увидела цветок у него в петлице и сказала себе: «Или он никого не любит, или его легко отвлечь. Когда человек серьезно влюблен, он не отдается первой встречной, а этот цветок выглядит на нем, как объявление на доме, который продается или сдается внаем». Натали взяла газету и притворилась, будто просматривает ее; когда Флавьен, сделав ловкий маневр, нашел способ подойти к ней, чтобы поздороваться, она была уже хорошо подготовлена и оказала ему ледяной прием. Очень любезно поздоровавшись с ней, он удалился, думая: «Это уж наверняка не та красавица, чьи цветы я ношу в петлице». Эвелина, даже не заметив его, так оживленно разговаривала и была настолько поглощена Тьерре, что Флавьен улыбнулся, сказав себе. «И это не она». Какая-нибудь из дам, живущих по соседству? Среди них не было ни одной хорошенькой, а разве можно предположить, что за подобной тайной кроется смешная или неприятная особа? Оставалась госпожа Дютертр. Она встретила и поблагодарила Флавьена с любезной и спокойной сердечностью; казалось, она не заметила цветка у него в петлице. Да и почему она должна была его заметить, если была тут совсем ни при чем? Но вдруг Флавьен, в свою очередь, заметил кое-что. У Олимпии, в ее кружевном жабо, был цветок азалии, совершенно схожий с его цветком и только что срезанный — ведь, как известно, азалия, отделенная от стебля, живет лишь несколько минут. «Вот оно что!» — подумал Флавьен. — Дорогой мой сосед, — сказал он Дютертру, — дело сделано, вы теперь хозяин маленького поместья Мон-Ревеш. Я им больше не занимаюсь. Но, — продолжал он, глядя на госпожу Дютертр, — как вы, так и ваша супруга, несомненно, поймете, что есть вещи, которые не продают и не дарят, семейные реликвии, о которыми не расстаются. Так я никогда и не собирался отдавать из рук кровать, комнату, маленький замок, на котором еще лежит, так сказать, отпечаток облика моей двоюродной бабки. Однако я был счастлив сегодня, отделив частицу от старой обстановки и принеся ее к вашим ногам, сударыня. Ничего более ценного, что я мог бы вам преподнести, чем эта священная для меня реликвия, я не нашел. Но так как я не могу принести башню Мон-Ревеша и поставить ее к вам на камин, позвольте мне сохранить ее для себя. Никто из членов вашей семьи не захочет жить в этой бедной башенке, такой печальной, такой уединенной. Но мне там хорошо, я уже полюбил ее, и мне было бы тяжело видеть, что в ней живет фермер. Я вам передаю, дорогой Дютертр, служебные постройки под пригорком, но прошу вас оставить мне мой холм, покрытый вереском, мой ров, заросший кустарником, и мое временное пристанище Мон-Ревеш рядом с вами. Вычтите, прошу вас, стоимость всего этого из общей стоимости поместья. — Это ничего не стоит, дорогой сосед, — ответил Дютертр. — Такого рода здания, имеющие художественную или историческую ценность, не играют никакой роли в делах нашей провинции и не входят в контракты покупки и продажи, если только они не являются помещением сельскохозяйственного назначения. Здесь об этом не может быть и речи; ферма Мон-Ревеша вполне достаточна как строение, и ваш маленький замок, в котором никакой фермер добровольно не поселится, поскольку говорят, что там водятся привидения, рискует погибнуть от воздействия времени. Следовательно, мы ничего не будем вычитать из общей стоимости поместья и вы сохраните все права на холм Мон-Ревеша и все, что к нему относится. А теперь позвольте сказать вам, что в нашей сделке обогащает меня более всего: ваше намерение сохранить какое-то пристанище рядом с нами; мы сможем надеяться на пребывание или возвращение превосходнейшего соседа. Госпожа Дютертр одобрила мужа взглядом, в котором Флавьену почудилось волнение, и сердечной улыбкой; однако по ее лицу разлилась краска, когда Флавьен, горячо пожав руку Дютертру, поцеловал руку хозяйке дома. Натали ничего не упустила из этого разговора, хотя делала вид, что не слушает его. «Игра выиграна, — подумала она, — он останется. Замок за цветок — поступок, скажем прямо, рыцарский!» И она прикрепила к корсажу цветок азалии, оставленный ею про запас, на случай, если того потребует ее замысел. Флавьен не обратил на это никакого внимания. Эвелина тоже навострила уши, и так как она не следовала примеру Натали, которая держала глаза опущенными к газете, она заметила радостное и оживленное смятение Флавьена и удовлетворение, вдруг сменившееся замешательством, у Олимпии. Слишком смелый взгляд Флавьена заставил Олимпию оробеть при всем ее чистосердечии, а Эвелина, эта восемнадцатилетняя девушка, как ни странно, не знала, что такое робость. Она подумала, что Натали угадала правильно и что какая-то любовная интрижка или кокетливая игра началась между «превосходнейшим соседом» и ее мачехой. Эвелина подошла к Флавьену, пытаясь выстрелить наугад: — Я вижу, господин де Сож ни романтичен, ни любопытен. Ему говорят о привидениях, сообщают, что в его замке они водятся, а он не обращает на это ни малейшего внимания. — Разве не во всех замках водятся привидения? Везде, где я жил, было свое привидение. А у вас его нет? — О, привидения встречаются лишь в покинутых замках или в тех, где еще живут аристократы, — сказал Дютертр. — Реалистическая буржуазия выставила призраков за дверь, и это очень жаль, признайтесь, барышни! — Но вы не говорите, какого рода привидения есть а Мон-Ревеше! — воскликнул Тьерре. — Меня они очень интересуют! Господин де Сож, наверно, пресыщен легендами, поскольку их у него столько же, сколько замков; но у меня ведь нет даже и самой захудалой бойницы, и я очень хотел бы знать, какие приключения ожидают нас в осенние морванские ночи. — А, вот видите, — живо сказала Эвелина, — вы хотите продлить ваше пребывание здесь до туманных ночей октября или ноября! Я же вам говорила! — И она поглядела на Флавьена, смотревшего на Олимпию. Дютертр подхватил: — Надеюсь! Разве мы не собирались охотиться весь сезон, мой дорогой Тьерре? Можете рассчитывать на меня — правда, раз в неделю, потому что я охочусь только на крупную дичь. Но я полагаю, что мы будем видеться чаще: каждый день, если вы захотите! Так я понимаю жизнь в деревне. Никаких приглашений, никаких визитов! Пусть все приходят и уходят, когда хотят, пусть бывают друг у друга, как в одной семье, и, главное, пусть ничто не напоминает церемонного этикета и вынужденной сдержанности парижской жизни. Через неделю после этого, неделю, полную солнца, после великолепной охоты, после целых дней, посвященных прогулкам в экипаже, рыбной ловле или верховой езде совместно с семейством Дютертр, Флавьен и Тьерре возвращались домой в Мон-Ревеш между одиннадцатью часами вечера и полуночью; тусклое солнце село за облака; ветерок был еще довольно теплым, но пошел мелкий дождь. Возвращаясь верхом из Пюи-Вердона в Мон-Ревеш, друзья беседовали, перескакивая с одной темы на другую, как беседуют при езде английской рысью, замедляя шаг лишь для того, чтобы взять крутой подъем или спуститься в темноте по опасному крутому склону. — Крез, — сказал Флавьен груму в один из спокойных Промежутков, — не уезжайте завтра, не повидав меня. — Значит, я должен покинуть вас завтра, сударь? — К моему величайшему сожалению, да, господин Крез! Я нашел наконец в вашем диком краю лошадей, слугу и экипаж; пришла пора вернуть вас к вашим обязанностям при мадемуазель Эвелине, которая согласилась расстаться с вами на неделю. — О господи, да она вполне может обойтись без меня до конца своей жизни, — философически заметил Крез. — У нее, кроме меня, есть к услугам и другие лакеи; ведь я более нуждаюсь в ней, чем она во мне. — Не показывайте нам сокровища вашего ума, господин Крез, не то наше расставание будет слишком душераздирающим! — воскликнул Тьерре. — И поскольку вам нечего больше сказать, я прошу вас отъехать от нас назад, на расстояние в двадцать лошадиных голов: постарайтесь сосчитать хорошенько, чтобы не было ни на одну меньше. «До чего ж они глупы! — подумал Крез. — Но неважно, ведь платят они хорошо». И, проделав соответствующий маневр, он оказался в арьергарде. — Сегодня уже почти холодный вечер, — заметил Тьерре. — Нет, просто деревня становится грустной. Флавьен снова поехал рысью. Тьерре присоединился к нему. Когда они через десять минут опять перешли на шаг, пересекая топь, Тьерре сказал: — Знаешь, я все-таки не родился кавалеристом, рысь меня утомляет. Я люблю только шаг и галоп. — Но мы можем ехать так, как ты захочешь, друг мой. Выбери аллюр, и я последую за тобой. Неужели ты меня стесняешься? — Нет; но на людях я следую за тобой из самолюбия, а когда мы одни — по привычке. — При чем тут самолюбие? Ты отлично ездишь верхом. — Вопрос о самолюбии встает только тогда, когда что-нибудь не ладится, это верно, поэтому я и имею глупость вкладывать самолюбие в верховую езду. Я обучался ей с яростью и с удивительной быстротой достиг того, что мои мускулы стали гибкими, а рука твердой. Со всей серьезностью я изучал лошадь, приспособленную к человеку, и человека, приспособленного к лошади. Я потратил на эту прекрасную науку больше физических сил и воли, чем когда учился мыслить и писать, и все из самолюбия. Тем не менее Эвелина открыла мне одну истину: «Вы пускаете нам пыль глаза; вы изящны в седле, вы гордитесь своей посадкой, но на самом деле вы неустойчивы и в один прекрасный день сломаете себе шею». — Это метафора? — Может быть. Но здесь есть доля правды, как и во всем остальном. Для того чтобы по-настоящему ездить верхом, надо приучаться к манежу с детства. Надо, что называется, родиться на лошади — как дети из хороших семей и грумы, молодые дворяне и крестьянские дети. Мы же, происходя от людей, посвятивших себя коммерции, крючкотворству, искусству или ремеслам, вкладываем всю нашу силу, всю гибкость, все наши способности в мозг или в руки. Мы рождаемся я расцветаем в пыли канцелярий, контор или мастерских. Там ниши мускулы хиреют, кровь разжижается, мы живем только нервами. Позднее, если нами овладевают соблазны праздного досуга, мы бываем достаточно ловкими и у нас хватает выдержки, чтобы подражать праздным людям во вкусах, манерах, привычках; но опытному глазу видно, что мы всегда лишь подделываемся под сословие патрициев; женщины в этом никогда не ошибаются, да и мы сами тоже, когда исследуем себя беспристрастно. — Возможно. И, желая преобразиться подобным образом, вы даже теряете то, что ставит вас во многом выше нас. — В чем же, по-твоему, друг мой, выражается это превосходство? — Ты сам на него указал. У вас есть нервы, благодаря чему вы куда более приспособлены к цивилизованной жизни, в то время как наша мускульная сила отбрасывает нас к временам рыцарства. Вы живете мозгом, гибкостью мысли, способностью к труду, который требует выдержки, ловкостью рук — всем тем, что, может быть, животное делает менее прекрасным, но человека, несомненно, более сильным. Поэтому не жалуйтесь вы, люди третьего сословия[182]: вы не родились верхом на лошади, но вы родились верхом на целом мире. Как мы видим, эта беседа была далека от той, что велась во время кавалькады в Булонском лесу восемь или десять дней назад. Молодые люди заметно изменились. Каждый о готовностью уступал преимущества другому. Ревность сменилась излияниями чувств, соперничество — похвалами. Оба были влюблены, а любовь, будь она страстью или слабостью, порой делает открытыми и искренними даже сердца, наименее расположенные признавать себя побежденными. Однако приятели отнюдь не обменивались откровенными признаниями. Флавьен тщательно старался не произносить при Тьерре имя, которое его занимало, а Тьерре, без конца упоминая об Эвелине, еще ни разу не говорил о ней серьезно. Была уже ночь, и стояла полная тишина, когда они поднялись на холм Мон-Ревеша. Только иногда раздавалось уханье поселившейся в башне совы. Бледная луна просвечивала сквозь мелкий дождь, похожая на лампу в матовом стеклянном шаре. — Какой меланхоличный пейзаж! — произнес Тьерре. — Ночь как в Шотландии, ночь призраков. — Кстати, ты выяснил, как выглядят привидения нашей башни? Я забыл спросить об этом. — Эвелина мне рассказывала; но она такая насмешница, что я ничему не верю. A-а, надо спросить Креза. Приблизьтесь, о богатый Крез, и скажите нам, что является людям в замке Мон-Ревеш. — Да ерунда, сударь; глупости все это, — скептическим тоном ответил грум-морвандиец. — Может быть, вы и вольнодумец, — продолжал Тьерре, — но извольте ответить на мой вопрос, и без рассуждений. — Господи! У нас говорят, что там является какая-то дама. — Молодая или старая? — поинтересовался Флавьен. — Вот уж неизвестно: ее называют Дама с волком, потому что она является с большим белым волком, который следует за ней по пятам, как собака. — Вы ошибаетесь, господин Крез, — заявил Тьерре, — волк должен быть черный. — Нет, сударь, это у нее на лице черная полумаска[183]. — Вот мы и добрались до сути, — сказал Тьерре Флавьену. — Никакое четвероногое за ней не ходит, на лице у нее черная бархатная полумаска. И какое лицо у нее под маской? — Как когда, сударь. Если она в хорошем настроении, она, говорят, совсем молоденькая и довольно миленькая. Если она обозлена, она стара и уродлива как черт. Но когда она хочет умертвить кого-нибудь и снимает эту штуку, тогда виден высохший череп — и человеку приходится через недельку прощаться с жизнью. Вот что говорят, но все это дурацкая болтовня. Тьерре соскочил с лошади, потому что они уже въехали во двор замка, и сказал: — Однако это совпадает с версией Эвелины. Ну что ж, предание хоть куда. — Как, Жерве, вы еще не легли? — спросил Флавьен старого слугу, шедшего ему навстречу. — Я же вам запретил дожидаться меня, эти услуги вам уже не по возрасту. — О, пусть господин граф не обращает внимания; просто я хочу обязательно сам запереть за вами дверь. — Вы что же, считаете нас недостаточно взрослыми, чтобы самим запереть дверь? Ложитесь спать, ложитесь спать, мой славный Жерве. — Сейчас, сударь, — ответил Жерве, потрогав запертую дверь со странной настойчивостью. — Просто мы не сможем запереть ее так, как он, — вполголоса сказал Крез Тьерре. — Разве вы не видите, что он начертил на ней пальцами крест. Вот вам и Дама с волком! Он-то верит всей этой чепухе. — Правда? Послушайте, папаша Жерве, вы ее видели сами? Старик разволновался: — Кого, сударь? — Даму под маской? — Да, сударь, — ответил старик с большой уверенностью и перекрестился. — Раз вам угодно говорить о ней и называть ее, я не ребенок, чтобы ее бояться. Слава богу, я добрый христианин и знаю молитвы, которые не пустят ее сюда. Можете называть меня сумасшедшим и дураком, если хотите, но я видел ее, как сейчас вижу вас, и именно на том месте, где вы стоите. Старик был слишком убежден, чтобы с ним можно было спорить. Поэтому ни Флавьен, ни Тьерре не стали его осуждать, а загорелись любопытством, засыпали его вопросами. — Я вам все расскажу, сударь, ведь это не сказка, а историческая правда… Госпожа Элиетта де Мон-Ревеш умерла здесь в тысяча шестьсот шестьдесят пятом году; если вы захотите, можете посмотреть — на чердаке есть ее портрет. Она является в том же наряде, в каком изображена на нем; а полумаску, которая у нее на лице, она не снимает, когда прогуливается по лесу. Но если ей взбредет в голову войти в замок, маски на ней уже не бывает, — тогда-то она и возвещает гибель. — Она снимала ее перед вами? — спросил Тьерре. — Нет, сударь, она не успела: я изгнал ее заклинанием, и она растворилась в тумане. — Значит, вы не видели ее лица? — Слава богу, нет. — Но вы не рассказали нам ее историю. Жерве вздрогнул, но тут же овладел собой. — Я старый солдат и не струсил перед хорватами, которые исполосовали мне голову саблями при переходе через Минчо[184]. Так что неприкаянной души мне бояться нечего. Послушайте ее историю; она короткая, но зато подлинная…X
— Госпожа Элиетта де Мон-Ревеш была влюблена в одного ничтожного человечишку, по слухам — мелкого конторщика из Кламси. Желая избавиться от мужа, узнавшего о ее любовных шашнях, она предалась дьявольской науке, начала заниматься ядами там, на верхушке башни, где вы увидите ее печи. Она составила зелье и стала поить им своего мужа, Траншелиона де Мон-Ревеш; в скором времени он умер. Ей удалось сделать это, не вызвав никаких подозрений у представителей правосудия. Она собиралась выйти замуж за своего любовника, но узнала, что этот малый был уже женат в Руэрге, и решила умертвить его тем же способом. И вот в одну прекрасную ночь она влила в котел уж не знаю какую жидкость, которая вспыхнула и опалила ей лицо, оставив ужасный шрам. Эта история наделала много шуму. Ее любовника кто-то предупредил, и он сбежал. Госпожа Элиетта осталась одна и умерла в старости; с того самого времени она носила на лице полумаску и приказала похоронить себя в ней, чтобы даже в могиле скрыть клеймо своего преступления. Невежественные крестьяне все переиначивают по-своему: они говорят, что она приручила большого злого волка и заставляла его пожирать всех, кто не платил податей, что он был похоронен у нее в ногах и является вместе с ней; но это неверно. Я вам рассказал все точно так, как рассказывали госпоже канониссе; она отлично знала эту историю со слов самого старого из окрестных кюре. Окончив свой рассказ, Жерве еще раз с серьезным видом осенил себя крестом, поклонился своему хозяину и собрался было идти, но Флавьен остановил его: — Погодите, Жерве; нет ли каких-либо следов этой истории в документации поместья? — Нет, сударь. Вы действительно найдете там имена, грамоты, контракты и акты о продаже, которые доказывают существование госпожи Элиетты в господина Траншелиона; но что касается этой истории, которая дошла до нас только как предание, ваша бабушка, сколько ни искала, так и не смогла обнаружить никаких ее следов. — Не считая портрета и печей? — спросил Тьерре. — Ей богу, пока я их не увижу, я не лягу спать! — И я тоже, — добавил Флавьен. — Дайте-ка нам ваш фонарь, Жерве; в башне, наверно, льет с потолка. — Нет, господин граф, кровля у башни надежная. Но я сам посвечу вам. И с решительностью, противоречившей всем его суевериям, старик пошел вперед, пересек двор, поднялся на лестницу башни и остановился лишь на чердаке, где среди старой мебели он нашел и показал им остаток перегонного куба и части печи для химических опытов, почерневшие от огня. Затем он перебрал свернутые в трубку полотна — то были старинные портреты, вынутые из рам, обветшалые холсты, на которых уже почти не осталось следов живописи, — и выбрал из них одно, которое как будто сохранилось немного лучше других. — Это она, — сказал Жерве, не разворачивая холста. — Заберем ее, — решил Тьерре, — мы лучше рассмотрим портрет в гостиной; если эта особа неприятна добрейшему Жерве, незачем расстраивать его и задерживать в такой поздний час. Старик молча поклонился, проводил хозяев в гостиную, зажег свечи, напомнил молодым людям, что в камине горит огонь, на столе приготовлены кипятильник, чай, ром, лимоны, пирожные, сигары, и спокойно удалился, в то время как Крез, успев отвести в конюшню и почистить лошадей, тоже вернулся к себе в комнату, беззаботно посвистывая. Тьерре развернул холст: — Посмотрим на госпожу Элиетту! Краски на портрете немного облупились, холст по углам слегка погрызли крысы, однако госпожу Элиетту вполне можно было разглядеть, и живопись оказалась не так уж плоха. На Элиетте была амазонка времен мадемуазель де Монпансье[185] и шляпа из мягкого фетра с зеленым пером; замшевый камзол был стянут шарфом. Ее белокурые волосы, по-видимому, естественно вились, шея, подбородок и руки казались молодыми, рот был прелестный, алый, губы сложены бантиком. Остальное скрывала черная полумаска. Сбоку, на фоне, были написаны имя и дата, в точности указанные Жерве. — Я увезу эту картину и отдам ее реставрировать, — сказал Флавьен. — Боже тебя сохрани, она потеряет ценность, всю характерность; прикрепим ее к обоям булавками и найдем для нее раму, гармонирующую с ее ветхим видом. Они нашли булавки, которыми канонисса пользовалась Для своего туалета, и госпожа Элиетта была выставлена на стене. В это время хриплый и жалобный голос четко произнес в углу комнаты: — Друзья мои, я умираю! То был старый попугай; обманутый ярким светом, он, как обычно, медленно пробуждался, выгибая спинку и повторяя единственные запомнившиеся ему слова. — Как! Эта ужасная птица еще здесь? — воскликнул Флавьен. — Право, в этом унылом Морване и в этом мрачном Мон-Ревеше все такое зловещее! Тьерре подошел к столетнему Жако и снисходительно почесал его. — Если на то пошло, так это у тебя сегодня разыгрались нервы, милый друг! На что ты жалуешься? Ты находишься в Старом замке, маленьком, но унылом донельзя; вокруг тебя твои земли; тебе не надо, скучая и досадуя, делать их более плодородными, поскольку они проданы, а из всех способов эксплуатации земельной собственности во Франции это единственный, который мне понятен и которым я воспользовался бы, если бы бог обременил меня родовым поместьем. С вершины твоего владения открывается великолепный вид, если только ты захочешь подняться на сто семнадцать ступенек твоей дозорной башни. Твои леса не доставляют тебе неприятностей, с тех пор как ты гуляешь в них только для удовольствия, но в них водится дичь, которую тебя умоляют убить, чтобы спасти в округе гречиху и картофель. Наконец, в твоем замке есть привидение, страшное предание, таинственный портрет, печь алхимика и голос сивиллы[186], заучивший слова о смерти исключительно для того, чтобы услаждать твой романтический слух в осенние вечера. Какого дьявола тебе еще нужно? Если б у меня было все это, хотя бы на год, мое сердце и воображение обновились бы навсегда. — А что тебе мешает остаться здесь? Остаться на год, на десять лет, навсегда, если ты этого захочешь. Послушай, может быть, ты примешь теперь от меня в дар Мон-Ревеш, раз уж выяснилось, что у него нет никакой коммерческой ценности и его можно включать или не включать в контракт, ничего не меняя в условиях продажи? — Ты забываешь об одном, дорогой Флавьен: чтобы жить в таком домишке, не рискуя, что крыша упадет тебе на голову, надо ежегодно тратить не меньше тысячи франков на ремонт, а своим пером, при условии, что буду трудиться непрерывно, я зарабатываю самое большее тысяч шесть. Ты думаешь, стихи приносят доход? Я не могу удержаться и пишу много стихов, а моя проза не возмещает мне время, затраченное на них. — Ну что ж! Пусть этот замок остается нам обоим. Я берусь содержать его в порядке, укреплять стены… — А двери и окна? На тех, что со стороны деревни, можно сэкономить, но те, которые выходят во двор… Это же кружево! — И это мое дело, раз я вменил себе в обязанность остаться владельцем бабушкиного дома. Давай заключим сделку: ты будешь, пока жив, пользоваться этим домом, не беря на себя ни расходов по его содержанию, ни налогов, а я буду время от времени наведываться сюда, чтобы пофилософствовать с тобой или покурить… Ты умеешь варить пунш? Здесь есть все, что нужно. — Да, умею. Но материалистическая идея, которая пришла тебе в голову, вернула меня к действительности, — добавил Тьерре, наливая воду в чайник. — На какие средства я буду здесь жить? Ты ведь не должен кормить меня. Мы продали наши земли (видишь, я уже говорю так, будто владею Мон-Ревешем), и я не хочу проедать камни моей башни… A-а, постой! Мне пришла в голову одна мысль! Я ведь уже хорошо знаю все закоулки моего жилища! Он открыл один из ящиков бюро розового дерева и вынул оттуда маленькую книжечку, не очень-то красивую, — простую книжку для записи кухонных расходов, но чистую и даже надушенную амброй, как все, что хранилось в ящиках канониссы. — Год тысяча восемьсот сорок шестой, — сказал он. — Прошлый год. Записи за неделю… Памятка Манетты; расходы на стол: двенадцать ливров, шесть су… Не может быть! За неделю? Посмотрим! От такого обеда может бросить в дрожь! Меню на десятое сентября! Смотри, это сегодняшний день: курица, форель, взбитый омлет… Меню на одиннадцатое сентября: карп, куропатка, рисовые крокеты… А завтраки, о них вообще ничего не говорится! А нет, вот они! Завтраки делаются из остатков обеда, молока, яиц… Смотри: пряности, мыло, свечи… Манетта — воплощенная честность! Моя привратница считает мне свечи вдвое дороже… Питание, топливо и так далее и прочее — сто четыре, сто два, сто пять франков в месяц… В год немногим более тысячи двухсот ливров… — Земли Мон-Ревеша приносили две тысячи, и бабушка экономила. — Слава богу! Я тоже не буду тут жить, как Санчо на своем острове[187]! Ну конечно! Флавьен, я проведу зиму здесь: истрачу двадцать пять луидоров и вернусь в Париж растолстевший, да еще с тремя томами, не проеденными вперед; я разбогатею… И если ты готов мне верить, оставайся тоже со мной: ты отдохнешь от высшего общества, омолодишь себе кровь и душу и женишься на одной из барышень Дютертр, чтобы получился счастливый конец. — Которую из них ты мне уступаешь? — смеясь, спросил Флавьен. — Ох, до чего же невкусный у тебя пунш! Ты мне оставляешь Натали или Малютку? — Говорят, Натали пишет превосходные стихи? — Фу! — Вспомни, пожалуйста, что я тоже пишу стихи и постарайся хотя бы скрыть свое презрение. — Дорогой мой, я скорчил гримасу от твоего пунша. Я люблю стихи и знаю, что Натали пишет совсем неплохо. — И она хороша собой! Каккоролева десятого века! — Косы вокруг головы! Я это ненавижу. Но все равно, стихи ее прекрасны. И Флавьен зевнул. — Значит, ты их знаешь? — Понаслышке. — Мне кажется, ты предпочитаешь Малютку! — Бедная девочка! Она очаровательна. Я помещу ее в пансион до совершеннолетия. — Так это Эвелина? Эвелина, амазонка, властительница моих дум? — Я не хочу, чтобы она стала тебе противна, но моя жена никогда не будет ездить верхом: она слишком напоминала бы мне моих любовниц. — Тогда… это госпожа Дютертр, прекрасная Олимпия? — Дорогой мой, ты ведь говоришь о женитьбе! Не могу же я жениться на госпоже Дютертр! — Но ты можешь любить ее. — Я? Любить женщину, которая не будет мне принадлежать? А мое стремление к господству, что ты полагаешь делать с этим? — Мне кажется, ты только притязаешь на него; а на самом деле у тебя, по-моему, самый ровный и самый счастливый характер. — Возможно. Но я хочу владеть тем, что мне нравится; а то, чем я владею, не хочу делить. Поговорим о тебе: ты должен остаться здесь. — Почему? — Потому что тебе следует жениться на Эвелине. — Опять-таки почему? — Ты влюблен в нее. — Ты серьезно меня об этом спрашиваешь? — Я не спрашиваю, я это утверждаю. — Флавьен! — Тьерре! — Неужели ты думаешь, будто я могу быть влюблен после всего того, что ты сказал? — Да. — Значит, до сих пор я ошибался в себе? — Нет, ты себя обманывал. — Ну, знаешь ли!.. — Да, мой дорогой, у меня есть все основания разоблачить твои увертки и плутовские шуточки. — Вот оно что! И каковы же эти основания? — Достаточно назвать одно, самое серьезное: я тебя уважаю и люблю. — Ты сказал мне эти добрые слова впервые, а мы знаем друг друга тридцать лет! — Да, но уже тридцать лет, как это тебе известно, и просто не к чему повторять это сегодня. — Прости меня, Флавьен, — пылко протягивая ему руки, сказал Тьерре, — но я никогда в это не верил. — В самом деле? — удивился Флавьен. — Очень нехорошо! — И он заколебался, прежде чем взять руки Тьерре, но, поразмыслив, горячо пожал их. — Да, ты недоверчив, то есть несчастен, я должен простить тебя. — Что ты хочешь? Я сын вашего поверенного, а ведь это так мало значило в глазах твоей семьи — сын провинциального адвоката! Мы вместе начали учиться, но между нами была и разница в возрасте. Я старше тебя на четыре года; меня унижало то, что я начал так поздно и в школе сидел на одной скамье с ребенком, которому богатство заменяло раннее развитие. — Значит, больше страдать должен был я, начавший с той же отправной точки и так сильно отставший. — У меня был разум, соответствующий моему возрасту, и воля, свойственная моему роду, вот и все. Когда я окончил коллеж, ты был уже мужчиной, а я всего лишь школьником, плохо одетым, неловким и застенчивым. — Да, меня забрали из коллежа, где я ничего не делал в то время, как ты отличался в науках, и заставили жить в замке; там я обучился фехтованию, верховой езде и искусству завязывать галстук. Ты, наверно, очень восхищался мной? — Признаюсь, да; я себя стыдился. — Потому что — хотя ты был гораздо больше мужчиной, чем я, — во многих отношениях ты оставался еще ребенком. А я был совершенным мальчишкой и презирал твою латынь и греческий, которым сегодня завидую. — Ты не очень-то высоко ценил меня, я это чувствовал. Я тебя почти ненавидел и тем не менее завидовал тебе. — А я — вот в чем разница, и я это прекрасно помню, — я любил тебя. — За что же? — Не знаю. Мои родители считали тебя самонадеянным и глупым. Это меня огорчало, я знал, что ты умен. — Значит, твои манеры доброго малого по отношению ко мне были не только вежливостью, не только обходительностью? — Нет, это была потребность в справедливости. В каком-то смысле мне хотелось бы, чтобы ты был менее учен, менее самодоволен; но когда люди не желали воздавать должное твоему уму, твоей гордости, твоей прямоте, меня возмущала их несправедливость. — Но потом, Флавьен, когда мы снова встретились, уже молодыми людьми, а затем взрослыми мужчинами, не было ли у тебя больше желания покровительствовать, чем симпатии ко мне? — И то, и другое, милый друг. — Но ты должен был достаточно знать меня и понимать, что мысль о покровительстве человека… — Менее знающего и менее умного была бы оскорбительной для тебя. Так ведь, не правда ли? — Ну что ж, будем откровенны — да. Разве у тебя нет других неоспоримых преимуществ? Ты красив, как античный охотник, а я худ и черен, как писец. Ты знатный граф, а я ничтожество, вроде любовника госпожи Элиетты. У тебя есть грация и непринужденность; благодаря им ты часто ведешь беседу лучше, чем я, и не утруждаешь себя при этом, а я лезу из кожи, хоть и не показываю виду, чтобы обуздать одушевление, которое могут принять за напыщенность, сдержать иронию, которую могут счесть дерзостью. Ты всегда знаешь меру словам, а я — только меру мыслям. Условности тебя не стесняют, а я от них задыхаюсь; наконец, ты мог бы быть глупцом, и никто бы этого не заподозрил, а меня могли бы счесть безумцем, хоть я весьма разумен. Поэтому прости, что я бывал иногда тщеславен, думая, что владею сутью, а ты — формой. Сегодня все повергнуто в прах твоей откровенностью; я так мелок по сравнению с тобой! — Почему же, друг мой? — Потому что ты сказал мне великие слова: «Я всегда любил тебя». А я, который всегда в этом сомневался, понял, что сердце имеет большую цену, чем ум. Когда Тьерре говорил, у него в глазах стояли слезы. Он действительно был не так добр, как Флавьен, но он чувствовал сильнее; жизнь, полную недоверия и ревности, он возместил одним часом пылких сердечных излияний, настолько глубоких, что Флавьену не дано было ответить тем же. Однако Флавьен увидел волненье своего собеседника и был ему за это благодарен. — Довольно, дорогой мой, — сказал он, еще раз взяв руку Тьерре. — Простим друг другу наше прошлое и скажем, что мы всегда испытывали взаимное уважение и желание покровительствовать. Когда собирались молодые люди того же сорта, что и я, и я вовлекал тебя в их общество, я часто спасал тебя, без твоего ведома, от многих неприятных историй. Когда собирались литераторы и артисты и я приходил к ним, следуя за тобой, ты наверняка не раз спасал меня, не давая мне казаться смешным. Не будем же больше никогда чувствовать себя униженными от взаимной помощи и сожжем в огне дружбы все наши мелочные обиды. А теперь позволь мне поговорить о твоем будущем. Оно может быть прекрасным. Ты не рожден для тягостной погони за богатством. Надо, чтобы оно само пришло к тебе; твои вкусы — вкусы человека изящного, независимого, склонного к созерцанию. Твоему таланту не нужен стимул нищеты. Напротив, нищета его заморозила бы: ведь если ты умеешь терпеть, то отказываться ты не умеешь. Будь же богатым, теперь ты легко можешь достичь этого — женись на мадемуазель Эвелине Дютертр. — Жениться на богатой девушке, добиться роскоши, свободы, удовлетворения всех своих аппетитов таким пошлым способом? Никогда! — С каких это пор жениться на женщине, которую любишь, считается пошлостью? — Да, я люблю ее — признаюсь, раз ты уже все равно угадал, — но не так, как ты думаешь. Я влюблен в нее, я страстно желаю ее, но… — Но что? — Но она кокетка, и я ее боюсь. — Это кокетство невинное. — Которое может стать ужасным, а следовательно, отвратительным в моих глазах, после того как показалось мне чарующим. — Но ведь в глубине души она добра. — Это правда! Я вижу, что ты наблюдал за ней внимательнее, чем я думал. Но я боюсь ее. Как бы тебе сказать? Она белокурая… белокурая, как госпожа Элиетта! И Тьерре, обернувшись к портрету, невольно вздрогнул. Флавьен засмеялся: — Вот поэт! Вот мечтатель! Не собираешься ли ты под этой полумаской вообразить сходство? — Кокетка — извечный персонаж маскарада. Друг мой, не стоит так меня расспрашивать, я еще сам не знаю, как обстоят дела. Она может опротиветь мне черев неделю, я чувствую это и слежу за ней непрерывно, но потом она снова завладеет мною. Давать и забирать обратно — вот девиз, вот наука этой законченной амазонки; но я конь довольно норовистый и могу, чего доброго, закусить удила. Поэтому не будем строить планов. Дай мне немного забыться в той тонкой, волнующей и напряженной игре, которую прелестная молодая девушка ведет с моим воображением. Не напоминай мне, что она богата и что все может кончиться нотариусом и помощником мэра. От такой картины мое пламя тускнеет, и я начинаю вспоминать о господине Траншелионе, которого, возможно, никто и не думал отравлять, но которого ненавидела, презирала и обманывала эта блондинка в полумаске. — Я скажу тебе только несколько слов. Дютертр богат, но он и на самом деле человек широких взглядов. Он хочет, чтобы его дочери вышли замуж по собственному выбору… У него бывают дворяне, фабриканты, чиновники, артисты, богачи, бедняки — словом, всевозможные женихи. Значит, барышни имеют возможность выбирать, но, имея в виду брак, понимаешь? Им дана большая свобода, у них молодая мачеха, которая не хочет и не может управлять ими. Дютертр уверен, что они сами могут управлять собой… Но если ты заметил нечто противоположное… А вдруг снисходительность и прямодушие родителей доведут их капризы… до несчастья в семье… ты понимаешь, друг мой! Дютертр — самый чистый, самый великодушный, самый лучший из людей… Ответить на его доверие предательством — да тут будешь упрекать себя всю жизнь! Ну, спокойной ночи, уже поздно. Жерве начертал на нашей двери крест, так что госпожа Элиетта не потревожит нас этой ночью, и мы отлично выспимся. Друзья расстались. Тьерре ненадолго задумался над последними словами Флавьена. Они не обеспокоили его совесть. «Я не ребенок, — сказал он себе, — чтобы нечаянно, помимо своей воли обольщать и совращать молодую девушку, Я видел немало опасностей. Я человек уже не первой молодости; мои страсти утихают, и управиться с ними не велика заслуга». С этой мыслью он и уснул.XI
В ту же ночь и в тот же час, когда обитатели Мон-Ревеша занимались рассуждениями, Дютертр беседовал с Амедеем в Пюи-Вердоне. После того как уехали Флавьен и Тьерре, все удалились к себе, за исключением главы семьи, который последовал за Амедеем в квадратную башню под тем предлогом, чтобы заняться делами. Когда они остались одни, Дютертр, закрыв реестры, раскрытые перед ним племянником, сказал Амедею: — Ты что-то грустен, мой мальчик, я хотел бы знать причину этого. Амедей болезненно вздрогнул, не пытаясь возражать, но ничего не ответил. — Послушай, — сказал Дютертр, взяв его за руки — разве ты мне не сын? Разве твое сердце не должно быть открыто мне и разве не от меня зависит твое счастье? — Дядюшка! Отец мой! — воскликнул молодой человек, сжимая руки господина Дютертра. — Я счастлив уже тем, что вы довольны мною, и хочу только одного — служить вам всю жизнь, вблизи, вдали, как вы захотите. — Я хочу, чтобы это было вблизи, Амедей; я хочу, чтобы ты не расставался с моей семьей, если только она тебе не надоела. Он ждал излияний, признаний. Амедей растрогался, у него выступили слезы умиления на глазах, но он ничего не сказал. — Ну что же ты молчишь? Больше доверия, дитя мое! Ты сомневаешься в себе самом или во мне? — Ни в себе, ни в вас, мой лучший друг. Но я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. — О твоей печали. Ведь ты изменился, Амедей. — Я чувствую себя хорошо, клянусь вам; а если я печален… Да, я признаюсь, что мной овладела печаль… И не могу открыть вам причину. — Не можешь? — воскликнул Дютертр, удивленный твердостью ответа. — Между нами встало нечто непреодолимое. Значит, я в чем-то виноват перед тобой, Амедей? Значит, я недаром утратил твою привязанность? — Ах, я ждал этого испытания, но оно ужасно! — с глубоким волнением произнес молодой человек. — Избавьте меня от него, дядюшка! Я люблю вас больше жизни. Я был бы последним эгоистом и неблагодарным человеком, если бы предпочел вам что бы то ни было или кого бы то ни было в этом мире. Вы для меня — первая любовь, лучший человек на свете, служить вам — мой первый долг, единственная цель и смысл моего существования. Боль, которую я испытываю, исходит не от вас. А если бы она исходила от вас, я бы ее чувствовал или благословлял бы ее! — Так в чем же дело? Мне надо догадываться? Эвелина — кокетка, и в настоящий момент ты ревнуешь ее к господину Тьерре. — К господину Тьерре? Я и не думал об этом, дядюшка. Я не знаю, кокетка она или нет. По-моему, она имеет право быть кем ей угодно. Я не влюблен в Эвелину. Господин Дютертр улыбнулся: — Посмотри-ка мне в лицо и повтори это еще раз. Ты не влюблен в Эвелину и никогда не был влюблен? — Не более, чем если б она была мне сестрой. Посмотрите на меня как следует, дядюшка, и вы увидите, что я вас не обманываю. — Как? Неужели деликатность, добродетель имеют над тобой такую власть, что могут задушить любовь в зародыше? Скажи, Амедей, предполагал ли ты когда-нибудь, что возможность стать моим зятем требует богатства? — Никогда! Я вас слишком хорошо знаю. И знаю, что если бы мы с Эвелиной любили друг друга… Но мы не любим, дядюшка, вернее, мы просто друзья. — Как! А эти совместные прогулки, а власть над тобой, которую она себе приписывает, а постоянная снисходительность с твоей стороны и ревностная опека над ней… — Я исполняю свой братский долг. — Скрепя сердце? Это невозможно. — Да, дядюшка, невозможно, чтобы я был оруженосцем, стражем, слугой и покровителем вашей дочери скрепя сердце — ведь это мой долг, а долг, который я выполняю по отношению к вам, никогда не будет мне тягостен или неприятен. — Ты даешь мне честное слово, что ухаживания Тьерре не огорчают тебя? — Даю вам честное слово. — Значит, мы с Олимпией ошибались… — Олимпия! Тетушка думает, что… — смутившийся было Амедей тут же взял себя в руки. — Да, тетушка ошиблась. — Так это Натали, моя серьезная муза, завладела твоим воображением? — Нет, дядюшка, я никогда не думал ни о Натали, ни об Эвелине. — Следовательно, Малютка? Этого я не ждал; мне казалось, она еще не в том возрасте, когда можно внушать чувство. — Конечно, дядюшка, Каролина еще не в том возрасте… — Значит, никто из наших? Вот это меня удивляет и даже, признаюсь, немного огорчает! Как! Я вырастил прекрасного человека с тайным честолюбивым намерением сделать из него полностью своего сына; я все проверил, я всюду искал и решил: вот самое приятное, самое лучшее и самое надежное, что я могу предложить своим дочерям, — и ни одна из них не нравится ему настолько, чтобы он захотел утруждать себя желанием, в свою очередь, понравиться ей? Значит, мы должны выпустить из рук это сокровище и оно составит радость и гордость чужой семьи? Как видишь, мое отцовское самолюбие задето, и я огорчен; однако от этого я не меньше люблю тебя, потому что любви по заказу не существует, и я вижу — твое сердце не спросило у тебя разрешения ускользнуть из этого дома. — Нет, дядюшка, мое сердце не ускользнуло отсюда и никогда не ускользнет. Я не предаюсь чувству любви, я защищаю свою молодость от этого соблазна, который вы один можете когда-нибудь запретить мне или разрешить. Я еще не думал о браке. Если вы хотите, чтобы я позднее подумал об этом, — я подумаю; если вы считаете, что ваше счастье в какой-то мере зависит от привязанности ко мне одной из ваших дочерей, я попытаюсь внушить ее Малютке, когда она сможет отвечать на более сильное чувство, чем братская дружба. Из трех моих кузин она единственная, чьи вкусы и характер больше всего совпадают с моими. Но ей только шестнадцать лет, и она все еще проявляет милые свойства ребенка и судит обо всем по-детски. Пусть она подрастет, а через три-четыре года я надеюсь быть достойным ее и способным сделать ее счастливой. Ответ Амедея дышал искренностью и твердостью. Дютертр ласково улыбнулся: — В добрый час! Твой план — ведь это пока всего лишь план — мне нравится, хотя и не очень успокаивает. Ну, неважно, ты оставляешь мне надежду, и на том спасибо. Моя Малютка… Да, она… она очень славная, не правда ли? Она любит меня так же, как и ты… И она обожает свою молодую матушку так же, как все мы. Дютертр, поглощенный множеством печальных и сладостных мыслей, ненадолго задумался, лелея одни и отбрасывая другие. Он не заметил тягостного замешательства Амедея и собрался было пожелать ему доброй ночи, когда вспомнил нечто, впрочем не очень его беспокоившее: — Кстати, объясни мне эти недавние штуки Натали; в них приняла какое-то участие и Эвелина. Ты прогуливаешься по ночам на лужайке и среди деревьев? Ты мечтаешь при луне, как влюбленный герой романа? Ты, разумеется, можешь заниматься этим сколько хочешь, но почему у наших барышень был обиженный, почти гневный вид, когда они расспрашивали тебя о твоей так называемой работе по ночам и о твоей лампе, которая, по их словам, часто горит впустую? — Не спрашивайте меня, дядюшка, об этом, — отвечал Амедей, более опечаленный, чем смущенный. — Я не могу вам ответить. — Что ж, понимаю! В самом деле, это меня не касается, и я неправ, желая проникнуть в секреты поведения молодого человека. Но все же, друг мой, я должен сказать тебе, что в таком доме, как наш, где взгляды, полные невинного, но сильного детского любопытства, замечают все, хотя и не понимают ничего, надо хранить свои маленькие слабости в полной тайне. — Как, дядюшка, — воскликнул удивленный и даже немного оскорбленный Амедей, — вы считаете меня способным завести легкомысленную интрижку в вашем доме? Вы думаете, что если демон юности смущает мои ночи, то я не почитаю святилище вашей семьи и удовлетворяю свои страсти под крышей, оберегающей вашу жену и дочерей, что я выставляю эти страсти напоказ, хотя бы переглядываясь с какой-то женщиной, состоящей у них в услужении? Нет, нет! Этот дом для меня священен! Я не допустил бы даже мысли, могущей осквернить чистоту воздуха, которым здесь дышат! Дютертр обнял его: — Ты благородный человек! Да, я еще мало ценю тебя! Прости меня, мой мальчик! Но если… ты прогуливаешься один по ночам… это значит, что ты поэт? Или ты грустишь? — Может быть, и то, и другое, но бессознательно, клянусь вам! — отвечал Амедей с печальной и чистосердечной улыбкой. В этот момент пронзительный, душераздирающий крик раздался в гулкой тьме. Дютертр вздрогнул, и его испуганный взгляд встретился со взглядом Амедея. — Что это? — спросил Дютертр. — Этот крик прозвучал на моей половине, это голос моей жены! И он бросился к двери. Амедей удержал его. — Нет, дядюшка, не ходите туда. — То есть как не ходите? — Это не… Нет, это не то, что вы думаете… Тут вас ничто не должно пугать… Амедей говорил в каком-то смятении. Дютертр был слишком испуган, чтобы обратить на это внимание. Он вырвался и побежал к той части замка, куда можно было войти через крыльцо башенки, со стороны лужайки. Дютертр пересек будуар, занимавший первый этаж, поднялся по винтовой лестнице и вошел в свои комнаты. Все было тихо и спокойно. Олимпия, видимо, проснулась только тогда, когда он появился у ее изголовья. — Вы спали, Олимпия? Вам, наверно, что-то приснилось? Это вы кричали, не так ли? Я не принял чей-то другой голос за ваш? — Я кричала? — переспросила Олимпия, делая над собой большое усилие, чтобы проснуться или вспомнить. — Право, не знаю, друг мой. Вероятно, бессознательно. Да и не все ли равно. — Моя дорогая жена, не больны ли вы? Она нежно поднесла к губам руку Дютертра, державшего ее руки в своих, и, как бы не в силах противиться сну, здоровому или вызванному усталостью, уронила голову на подушку; глаза ее закрылись. Дютертр пощупал ее пульс — он был медленный и слабый, притронулся губами ко лбу — лоб был свеж и прохладен. На лице ее реяла ангельская улыбка, оно светилось прозрачной бледностью и совершенной красотой. Дютертр испытывал к Олимпии пылкую страсть, но эта страсть не была единственной основой его безграничной привязанности к жене. Он ощущал к ней огромную нежность, безграничное уважение. Он любил ее, как любят жену и, может быть, даже больше, чем любят любовницу. То была привязанность такая же полная, такая же беспредельная, такая же возвышенная, как душа, служившая ей святилищем. Погруженный в благоговейный восторг, он смотрел, как Олимпия снова засыпает; в его страсти бывали минуты обожания, когда он был счастлив тем, что может незаметно созерцать ее. Но вдруг смутная боль пронзила его счастливые грезы: «А что, если она больна! Что, если я потеряю ее?» И холодный пот выступил у него на лбу. «С чего это я вздумал? Что это, предчувствие? Инстинкт, свойственный человеческой натуре, который вызывает в нас воспоминание о смерти среди жизненных услад?» Он бесшумно удалился, спохватившись, что оставил дверь из будуара открытой и что Амедей мог последовать за ним сюда. Когда он спустился по лестнице, у него вдруг возникло другое воспоминание, становившееся все более четким по мере того, как рассеивалось его беспокойство: Амедея ничуть не удивил крик, который они услышали. Он старался удержать дядю, вместо того чтобы поспешить с ним на помощь Олимпии. Это было необъяснимо. — Друг мой, — сказал Дютертр, задержав племянника в будуаре; он говорил шепотом, хотя их никто не мог слышать, — то, что произошло во сне с твоей тетушкой, вещь необычная. Так кричат, только когда что-то привидится, но кошмары не забываются при пробуждении. У тебя был сейчас такой вид, словно ты знал, что это означает. Тебе не пришла в голову мысль, что в комнату моей жены забрался вор или что у нее загорелись занавески, тогда как мне она пришла сразу. Ты был опечален, но ничуть не удивлен. Тут кроется что-то непонятное. Объясни мне. — Да, я чувствую, что должен вам объяснить, — с усилием ответил Амедей. — Но если я вам все скажу, вы будете очень страдать, а тетушка осыпет меня упреками, которые разорвут мне сердце, может быть, даже совесть! — Амедей, — живо произнес Дютертр, — говори, так надо. Или ты поклялся держать все в тайне от меня? Я освобождаю тебя от этой клятвы. Я здесь все — отец, друг, хозяин; я отвечаю за сердце и за совесть каждого из вас, потому что я преданный служитель, прежде всего жаждущий счастья для вас всех. Говори сейчас же, я требую. Дютертр в самом деле имел на часть своей семьи безграничное влияние. Этот человек — воплощенная мягкость, нежность, кротость — был рожден, чтобы властвовать над любящими душами одной лишь силой любви. Его умение внушить любовь объяснялось тем, что он сам любил, и, когда дело касалось сердца, у него находились по отношению к людям столь же пылким, как он сам, решимость, воля, магнетизм, если можно так выразиться, которые придавали ему силы; с холодными же людьми его воля слабела и он даже нередко обманывался в них. В жилах Амедея текла та же кровь, он был наделен теми же инстинктами, он был блестящим и чистым отражением этой избранной души; поэтому он даже не пытался устоять перед Дютертром. Он начал говорить, вначале стараясь соблюсти осторожность: — Боюсь, что тетушка больна. Разве вы сами не опасались этого? Разве ее бледность естественна? — Да, да, я опасаюсь… Но ее бледность… Ведь Олимпия всегда была бледна. — Ваши глаза привыкли к этой бледности. Кажется, что ото соответствует ее натуре; говорят, в этом кроется одна из главных прелестей ее; но эта бледность — признак охлаждения крови, необычного для ее возраста, которое рано или поздно должно стать симптомом нарушения физиологического равновесия. Я уже год как занимаюсь изучением медицины, дядюшка. Я еще многого не знаю, но уже понимаю кое-что и думаю, что состояние здоровья тетушки известно мне лучше, чем здешним врачам. — Говори же, ты убиваешь меня. Что с ней? С каких пор она больна? Почему от меня это скрывают? Почему она делает из этого тайну? Значит, это серьезно? — И да, и нет. Тщательно исследовав ее, лучшие врачи Парижа (ведь она без вашего ведома советовалась в Париже с врачами, когда ездила туда в последний раз, три месяца назад) засвидетельствовали это в документе, который хранится у меня… — Покажи! — Покажу, но будьте уверены, я вас не обманываю. — Что же сказали врачи? — У тетушки нет никаких органических поражений; о виду кажется, что у нее самая совершенная, самая здоровая конституция; но у нее есть непонятная нервная возбудимость, с которой надо усиленно и постоянно бороться при помощи успокоительных средств, самых сильных наркотиков. — Каковы же эти нервные симптомы? Крики? — Иногда резкий, пронзительный крик, вырывающийся у нее в начале сна. Этот крик, в котором она не отдает себе отчета или не хочет признаться, часто заставляет меня вздрагивать в тот самый час, когда мы слышали его сегодня. Тогда я начинаю беспокоиться и выхожу из своей комнаты —«то, пожалуй, единственное место, где крик явственно слышен, — и подхожу к башенке. Если какой-нибудь новый симптом ее болезни заставит опасаться чего-нибудь серьезного, я всегда готов позвать на помощь; порой я всю ночь напролет наблюдаю за течением ее болезни, признание в которой я единственный сумел у нее вырвать. Как видите, дядюшка, я не сочиняю стихов при лунном свете, но я тяжко страдаю и могу признаться в этом только вам. — Но почему все это должно храниться в тайне? — Этого я вам не скажу, дядюшка, — отвечал Амедей со своей обычной твердостью. — Мне важно сообщить вам о болезни, а не искать ее причины. Я могу ошибаться! — Но что же это за болезнь? — спросил охваченный тревогой Дютертр. — В некоторых случаях она бывает очень серьезной. Вырывающиеся во время сна крики лишь следствие ужасного принуждения, которое больная испытывает в течение дня, пытаясь удержать и скрыть неизъяснимую тревогу, внезапную дрожь, острую потребность заплакать, зарыдать. Но у тетушки такая воля… — Да, я знаю. Она страдает, никогда не жалуясь. Значит, ей хочется кричать, плакать, да? Она сдерживается? — Да, но это ее обессиливает, я видел приступы, которые обессиливали меня самого. Она внезапно задыхается, ужасно задыхается, губы становятся синими, глаза пустыми, руки леденеют, цепенеют, как у мертвой. Сколько раз я думал, что она умрет на глазах. — А лекарство? Чем ей помочь? Что ее может спасти? — спросил Дютертр, сохраняя внешне спокойную внимательность, которая, однако, была выше его сил; он даже не замечал, что у него по щекам льются слезы. — Лекарство верное, но страшное. Это противоспазматические средства, о которых я вам говорил, опиум в разных видах. Они прекращают приступы и даже задерживают их повторение. Но они не уничтожают причину и даже способствуют развитию болезни, все более ослабляя больную. Вы должны были заметить у нее томность, рассеянность; вы, наверно, принимали их за сладкие грезы или мимолетную озабоченность: а это подавленность, так сказать, пробелы в физическом и духовном существовании. Тетушка жалуется на эти зловещие средства, она боится их. Она, насколько это возможно, воздерживается от их употребления, надеясь скрыть болезнь, с которой они борются; но с тех пор как вы вернулись, она, несмотря на мои мольбы, принимает опиум каждый день, так как боится напугать вас подобным непредвиденным приступом. И я вижу, как одно из моих предчувствий сбывается. Она кричала сегодня ночью. Опиум начинает терять свою силу. Вы знаете, что самые сильные средства нейтрализуются, когда организм привыкает к ним. Если будет так продолжаться, ей придется увеличивать дозы; тем самым она будет медленно вливать в свои вены смертельный яд. Вы сами должны это знать. — Значит, она погибла, боже мой! — Дютертр встал и, словно сраженный молнией, упал обратно в кресло. — Нет, дорогой дядюшка. Она молода и сильна; у нее есть воля к жизни, потому что она любит вас, как самого господа бога. Она не умрет, всевышний этого не допустит! И Амедей, силы которого иссякли, тоже дал волю слезам.XII
Тьерре видел во сне Эвелину, госпожу Элиетту и мельком госпожу Дютертр, но совсем не видел ни Натали, ни Каролины; он проснулся довольно поздно. Жерве вошел, разжег огонь, хоть и не нужный, но зато такой приятный в дождливую погоду, и молча подал Тьерре письмо. Оно было от Флавьена де Сож, и в нем стояло следующее:«Прощай, дорогой Тьерре; прости, что я так внезапно тебя покидаю. Я, может быть, вернусь через несколько дней, а может быть, и совсем не вернусь. Располагай замком Мон-Ревеш, где тебе, слава богу, нравится, а для меня невозможно провести даже еще одну ночь. Предполагай все, что захочешь — что я безумец, что я дурак, что я боюсь привидений, что я видел госпожу Элиетту. Когда я буду в Париже и проведу дня три в реальном мире, химеры, осаждающие меня, рассеются — я в этом не сомневаюсь, — и я напишу тебе без ложного стыда о причинах этого бегства. Я написал в Пюи-Вердон, чтобы объяснить свой поспешный отъезд, и сослался на деловое письмо, которое якобы получил вчера, возвратясь домой. Скажи вы то же самое, этого достаточно. Передай от меня мои сожаления, извинения, дружеские приветы, мое совершенное почтение и не забудь то, что я говорил тебе напоследок: женись на Эвелине.Тьерре дважды перечел письмо, встал, расспросил Жерве. Флавьен уехал на рассвете в сопровождении нового слуги, который был нанят им накануне и явился в Мон-Ревеш чуть свет с прекрасной лошадью и тильбюри, купленными вчера. Слуга вернулся с экипажем в тот момент, когда Жерве давал объяснения Тьерре, и вручил последнему вторую записку от Флавьена:Твой друг Флавьен».
«Я сажусь в дилижанс. Отсылаю в Мон-Ревеш слугу, лошадь и коляску, которые вчера приобрел. Я очень доволен всеми тремя приобретениями; прошу тебя приютить их у нас на время моего отсутствия и пользоваться ими насколько возможно чаще, чтобы все это не заржавело к тому времени, как я вернусь к тебе. Все обговорено, платить тебе ничего не надо, ибо все это, с твоего разрешения, принадлежит мне. Ты увидишь, эта лошадь хороша и для верховой езды.«Вот приличный способ снабдить меня экипажем, который ничего мне не будет стоить, — подумал Тьерре, — ведь Флавьен не вернется! Без серьезной причины так не уезжают… Если бы сейчас не был полдень — час, когда я не верю в привидения, я убедил бы себя, что госпожа Элиетта действительно показала ему свое ужасное лицо. Я буду думать об этом сегодня ночью, и, может быть, мне тоже удастся ее увидеть. Флавьен, наверно, объяснился с суровой Натали и был дурно принят, или же его мысли все еще заняты Леонисой больше, чем ему хотелось в этом признаться; а может быть, он неспособен выдержать жизнь отшельника дольше, чем неделю? Да, я буду скучать здесь! — продолжал размышлять Тьерре, с беспокойством оглядывая свою резиденцию. — Я начал уже любить Флавьена… Да, я в самом деле полюбил его со вчерашнего вечера. Прекрасное сердце, благородная натура! Я поговорил бы с ним о своей новой страсти… Но достаточно ли сильна эта страсть, чтобы я был поглощен ею, когда останусь один по вечерам, возвратившись в «мой» замок? Посмотрим!» Торопливо позавтракав, Тьерре оседлал резвую и смирную лошадь, оставленную ему Флавьеном, и поехал по дороге в Пюи-Вердон, где сегодня ожидался некий сюрприз, обещанный накануне Дютертром. На одном из холмов, защищавших с севера и востока парк и великолепные сады Пюи-Вердона, бурлил многоводный ручей, который брал свое начало на противоположном откосе и через полтора лье вливался в маленькую речку, не выходя из владений Дютертра. Со стороны сада склон был довольно крутой; у его основания сгрудились живописные скалы, образующие в этом месте природную ограду. С той же стороны, где начинался ручей, склон уводил воды в другом направлении, где они спадали каскадами. Олимпия не раз выражала сожаление, что прекрасные водопады, встречавшиеся в окрестных лесах, не услаждали взгляд и слух поближе к ее дому; она говорила об этом, не подумав, что такое пожелание рано или поздно станет программой действий для ее мужа. И Дютертр решил устроить водопад прямо перед глазами обожаемой жены; он посвятил в этот проект Амедея, который взялся не жалея сил осуществить его в отсутствие дядюшки. С этой целью для ручья было прорыто новое русло на склоне, противоположном тому, который он сам себе выбрал; дамы Пюи-Вердона видели подготовительные работы, не подозревая об их назначении; им говорили о дороге в ложбине, потом о спуске воды для орошения пересыхающих лугов с другой стороны; через некоторое время внизу, у скал, был устроен бассейн с выходными отверстиями, якобы в качестве цистерны для полива. Наконец в последнюю неделю, когда все были заняты дальними прогулками или охотой, Амедей смог устранить последние препятствия и дать водам ручья собраться в запасном резервуаре, незаметно для тетушки и кузин. Оцепенение, в которое часто погружалась госпожа Дютертр, равно как и развлечения, которые Тьерре и Флавьен устраивали для Натали и Эвелины, благоприятствовали незаметному для дам проведению заключительных работ; к тому же деревья на холме скрывали их от глаз. Одна лишь Малютка, внимательно и проницательно следившая за событиями, все заметила и все поняла; но она не хотела лишить свою «мамочку» сюрприза, а отца — удовольствия доставить радость жене. Она была нема как могила, ей даже в голову не пришло похвастаться этим впоследствии — так тверд и надежен при внешней бездумной веселости был характер этого ребенка. Тьерре явился, когда все уже направлялись к тому месту, которое Дютертр счел удобным, чтобы произвести наибольшее впечатление. Оттуда была видна вся лужайка, и Дютертр с лукавством доброго отца усадил свою семью и гостей спиной к холму; он указывал им на горизонт и подготовлял к тому, что необычайное явление произойдет именно здесь. Если бы этот сюрприз осуществился на сутки раньше, славный Дютертр, чей характер, одновременно серьезный и живой, имел много общего с характером его Малютки, получил бы тройное удовольствие от этого маленького праздника: как ребенок, как любовник и как отец. Но сердце его было разбито, и он делал над собой отчаянные усилия, чтобы скрыть от жены и дочерей грызущую его тревогу. Он обещал племяннику притвориться, будто не замечает состояния жены, — иначе он мог лишь ухудшить его, поскольку Олимпия утешалась только тем, что муж не знает о ее болезни. Дютертр решил заботиться о ней без ее ведома, делать вид, что ее заболевание открывается ему лишь постепенно, и никогда не показывать ей, насколько он им напуган. Но он был бледен, и его голос, всегда такой звучный и свежий, сильно изменился. Тьерре это заметил. Дютертр в ответ пробормотал что-то о насморке и мигрени. Он изо всех сил изображал бурное веселье; но взгляд его не мог оторваться от Олимпии, и при каждом ее движении он невольно вздрагивал, словно ждал, что она вот-вот умрет на глазах у всех в расцвете красоты и молодости. Небо прояснилось, и наконец показалось солнце, как бы вознаграждая Дютертра за его старания. Правда, было слышно, как на холме стучат кирки и лопаты, но к этому стуку уже все привыкли и не обращали на него внимания. Вдруг Амедей, который незадолго до этого исчез и находился среди рабочих, подал условленный сигнал свистком. Дютертр ответил таким же сигналом, означавшим, что все находятся на своих местах; он скомандовал всей группе обернуться, однако при этом взял руку жены и прижал ее к груди, готовый успокоить Олимпию, если неожиданное впечатление сильно взволнует ее. Тут все услышали глухой рев, словно поднялся сильный ветер, потом прозвучало что-то вроде отдаленного грома, и наконец, после того как поспешно убрали последние запруды в резервуаре, вода ринулась вниз, между деревьями, образовав первый каскад, шумный, мутный и немного страшный; вода хлынула в естественную трещину скалы, куда и было направлено ее течение. В первую минуту падение воды было стремительным и увлекло за собой несколько больших камней и молодых деревьев, росших близко от внезапно раздвинувшихся берегов; к грохоту воды прибавилось еще торжествующее и радостное «ура», вырвавшееся у нескольких десятков рабочих. Но вскоре вода стала не такой мутной и растеклась по новому руслу, падая серебряной скатертью на омытые склоны и далее, струясь веселым и быстрым ручейком между деревьями парка; ручеек вливался затем в прежнее русло. Все окрестные жители сбежались к входу в парк посмотреть на чудесное зрелище, все пастухи, находившиеся в округе, собрались на ближних холмах; живописное представление получило и зрителей, и аплодисменты. Дютертр внимательно следил за женой; он держал ее за руку, незаметно щупая пульс. «Если неожиданность, страх или удовольствие причиняют ей боль, значит, это чисто физическое заболевание», — думал он. Это меньше пугало его, чем мысль о том, что ее болезнь имеет психологические причины. Олимпия не вздрогнула, не затрепетала, ей несвойственны были ни трусость, ни жеманство. Напротив, шум, неожиданность и бурный поток воды понравились ей. Ее щеки слегка разрумянились, глаза заблестели; она даже оказалась настолько бодрой, что подбежала поближе к каскаду, как только это стало возможным без риска, что ее заденет падающий камень или дерево. — Какая прелесть! Какая удачная мысль! — говорила она мужу, все время державшемуся вблизи нее. — Это твоя мысль. Разве ты не говорила в прошлом году, что здесь не хватало только водопада? — Как! Только потому, что я это говорила? Ради меня? — А ради кого же, скажи не милость? — Тс-с, замолчи, друг мой, или говори об этом потише! — живо произнесла Олимпия. Дютертр ощутил ее волнение, увидел, как резко она обернулась, проверяя, не услышал ли его слова еще кто-нибудь, как она задохнулась, маскируя удушье притворным кашлем, и ему наконец открылась часть правды. Сотни раз жена говорила ему с улыбкой: «Будь осторожен, не выражай слишком явно свою любовь на глазах у дочерей; здесь все тебя обожают, а привязанность ревнива. Не нужно, чтобы наши дорогие девочки думали, будто ты предпочитаешь одну из нас всем остальным». Дютертр привык к мысли об этой невинной а нежной ревности; он даже привык уважать ее, считаться с ней и полагал, что Достиг нужного равновесия. Он думал, что обожает жену втайне от всех, и этот целомудренный секрет до сих пор придавал дополнительную прелесть его любви. Доверчивый, неспособный предполагать в людях дурное, инстинктивный оптимист, ибо он искренне желал счастья близким, он до сих пор не опасался всерьез, что его второй брак может иметь дурные последствия для всей семьи. Он долго верил в доброту своих дочерей. Но понемногу он стал замечать, каким высокомерным и жестким становится характер старшей, как неистово проявляет свою независимость средняя; он понял, что его личное счастье может вызвать у них горечь или послужить предлогом к возмущению. В последнее время ему все больше казалось, будто он видит, даже прикасается к этим скрытым ранам, глубину которых он, однако, еще не оценил. Но Олимпия всегда успокаивала его, с удивительной настойчивостью и деликатностью отрицая причиняемые ей страдания, унижения, неприятности, сглаживая неправоту других, исправляя или скрывая зло; она добилась того, что ее муж был усыплен видимостью душевного покоя, в котором он так нуждался. Она надеялась, что всегда сумеет скрыть от него глухие тревоги этой неспокойной семейной жизни. С тех пор как два года тому назад он дал согласие стать депутатом, ему приходилось подолгу отсутствовать, и это способствовало тому, что усилия Олимпии увенчались успехом. Хотя Олимпия не любила светскую жизнь, она охотно принимала многочисленных гостей, которые мешали ее мужу, когда он возвращался домой, увидеть пропасть, разверзающуюся под самыми камнями его домашнего очага. Но на этот раз он был исполнен предчувствий, и, обернувшись тем же инстинктивным движением, что и его жена, он увидел глубокие черные глаза Натали; она устремила на Олимпию взгляд, полный странной иронии и презрения. Натали теперь ненавидела Олимпию со всей силой уязвленной гордости. Она, как умела, попыталась понравиться Флавьену. Флавьен этого не заметил; он видел только Олимпию, и Натали дала себе клятву отомстить ей, даже если пришлось бы пронзить сердце отца, чтобы добраться до сердца соперницы. Через несколько секунд семья Дютертра смешалась с толпой рабочих, увитые лентами мотыга и лопата, которые рабочие преподнесли хозяйкам замка, были осыпаны деньгами и облиты вином; Дютертр взял под руку Амедея и отвел его в сторону, как бы для того, чтобы поглядеть на новое русло ручья. — Причина! В чем причина? — восклицал этот благородный и пылкий человек. Он уже не мог справиться со своим горем. — Ты от меня это скрываешь! Скажи, тебе ведь все известно! И я тоже знаю — мне кажется, что знаю, — но если я ошибусь, это будет так ужасно, будет страшно… Говори, мой мальчик, говори, ведь твои уста не знают лжи. Тут, несомненно, действуют причины нравственные. Только горе может вызвать такую странную болезнь, такую борьбу тела с душой, жизни со смертью. Моя жена несчастна, мою жену гложет ужасное горе! Ее душа, прямая и пылкая, как моя, как наша, Амедей, не может выдержать непрестанной борьбы против язвительности и не». справедливости. Моя жена нуждается в любви и в том, чтобы ее любили. Мою жену не признают, ее ненавидят… Однако Амедей, несмотря на свое смущение, на потребность самому отвести душу, на влияние, которое имел на него дядя, отказался отвечать и, чувствуя, что неспособен солгать, замкнулся в непроницаемом молчании. Дютертру ничего не оставалось, как восхититься этой сдержанностью и отнестись к ней с уважением. — Да, ты прав, я не мужчина, я не отец семейства; я просто несчастный человек, у которого нет мужества, нет терпения. Я искушаю твою добродетель, пытаюсь заставить тебя уклониться от твоего долга. Да, молчи! Я сам все увижу, я буду исследовать рану и вылечу ее… или переломаю нечестивые руки, которые ее нанесли! Амедея испугала ярость Дютертра. — Дядюшка! Дядюшка! Если вы подозреваете своих дочерей… Вспомните, что перед ними вы в большем долгу, чем перед самим собой! — Чем перед самим собой — да, но не перед этим ангелом доброты и кротости! — Простите меня, дядюшка, — убежденно продолжал Амедей, — но перед ними вы в большом долгу. В этой жизни нам надо больше заботиться о спасении души, чем тела. Олимпия в мире с богом. Совесть не позволит ей уклониться от своего долга. Если она умрет, жалеть надо будет нас, а не ее божественный дух, который вернется на небеса; но у нас останется наш долг, имы обязаны будем выполнить его здесь, на земле. Если вы лишите дочерей своей любви, то они будут потеряны как для этого, так и для иного мира. Дютертр судорожно сжал руку племянника: — Ты прав, я слабый человек, и ты, еще ребенок, дал мне серьезный и страшный урок. Что ж! Я принимаю его. Господь владеет чистой душою детей и говорит их устами. Да, я принесу себя в жертву, мой долг преодолеть страсти, пусть даже самую чистую и святую страсть на земле. Если предмет моего поклонения убьют в моих объятиях, я похороню его в своем сердце, под обломками собственной жизни, но скрою преступление и не накажу его. Охваченный волнением Дютертр отошел в сторону, немного побродил один в глубине парка и вернулся спокойный, полностью овладев собой. А Тьерре лихорадочно продолжал свои опыты с Эвелиной. Как известно, в тот день ему необходимо было понять, достаточно ли она его очаровала, чтобы он смог коротать одинокие вечера в Мон-Ревеше с мыслью о ней. Он все еще, как и раньше, жил воображением. Конечно, он не мог отражать равнодушно направленный на него уже целую неделю огонь кокетства прелестной, переменчивой, смелой, остроумной и целомудренной девушки. Тьерре, правда, несколько шокировали ее замашки. Но он стремился полюбить, а сумасбродная Эвелина, еще не ощущая в этом нужды, пыталась лишь ослепить его. Он, несомненно, был ей благодарен за усилия, которые она на это затрачивала; человек достаточно опытный, но не обижался и не расстраивался из-за подчеркнутых дерзостей и резких переходов, то разжигавших, то охлаждавших его надежды. Бедняжка была очень наивной кокеткой по сравнению с теми, кого Тьерре встречал в столичном обществе, но именно беспомощность, с которой она старалась походить на развращенную женщину, и составляла, неведомо для нее самой, главную и самую естественную ее привлекательность в глазах того, кого она считала своей жертвой. Все это было очень мило часок-другой, но для человека тонкого, пресыщенного и жаждущего лишь настоящей, надежной любви, становилось утомительным. Вероятно, он уже встречал истинную любовь, и не раз; однако ему не удавалось оценить ее по достоинству, или, вернее, серьезное и спокойное счастье в то время мало его интересовало. Воображение, честолюбие, беспокойство и любопытство юности воздавали иные потребности, может быть и ложные, но которые требовали удовлетворения; теперь же его прежнему трудному и замкнутому существованию приходил конец. Сердце Тьерре нетерпеливо протестовало против слишком длительного пренебрежения, которое проявлял его ум. Ум — это величина постоянная, он всегда один и тот же. Сердце же одновременно обещало и требовало чего-то нового и утешительного. В результате всего этого Эвелина вдруг ему наскучила, и, желая избавиться от ее беспрестанных поддразниваний, он несколько раз отвечал ей довольно язвительно и едва ли не грубо. Дютертр услыхал это, хотя обычно, то ли слишком поглощенный собственной любовью, то ли слишком снисходительный к своим дочерям, он не имел обыкновения строго следить за их поведением. Но в тот день он был расположен все замечать, все взвешивать, обо всем судить уже не глядя сквозь розовые очки сладостных родительских иллюзий, а ясно и отчетливо понимая свой не слишком радостный отцовский долг. Он слушал, хотя казалось, что он не слушает, он смотрел, хотя казалось, что он не смотрит. Он услыхал, как Эвелина принялась с удвоенной дерзостью за свою безрассудную атаку, увидел, как она следит за Тьерре, и подстерегает его, словно добычу, сопротивляющуюся изо всех сил. Он был удручен и унижен этим, и когда Эвелина собралась идти к себе, чтобы, по своему обыкновению, надеть новый ослепительный туалет к обеду, взял ее под руку и пошел вместе с ней, впервые решившись объясниться серьезно.Сердечно твой».
XIII
Бывают такие роковые положения, когда человек, долго простоявший, ничего не подозревая, на краю пропасти, ставит ногу на мелкий песок, который словно бы только и ждал этого момента, чтобы осыпаться и увлечь его за собой; бывают такие несчастные дни, когда, надеясь все поправить, все укрепить вокруг себя, человек обрушивает все себе на голову. На долю Дютертра выпал именно такой злосчастный день, он оказался именно на краю такой пропасти; при первой же попытке все спасти он увидел, что все вокруг него обрушилось. Эвелина, удивленная торжественным видом отца и озабоченная холодными дерзостями Тьерре (последнее слово, как говорится, осталось не за ней), почувствовала недоверие и раздражение, как только Дютертр начал говорить. — Что мне сказал господин Тьерре? О чем была речь? Да я уж и не помню, дорогой отец, и не понимаю, почему это вас так интересует. — Извини, девочка, но ведь естественно, что я забочусь о твоем достоинстве, а мне показалось, что господин Тьерре недостаточно с ним считается! — Возможно, что этот остряк слишком злоупотребляет своим остроумием. Но меня это не беспокоит, я умею ставить его на место. — Эвелина, дитя мое, мне не очень приятно слушать такие речи. — Да ну! — довольно дерзко воскликнула Эвелина, начиная распускать перед зеркалом великолепные белокурые волосы; несмотря на досаду, она не забыла, что остался всего лишь час на то, чтобы одеться с ее обычной изысканностью. — Да, дочь моя, извольте выслушать меня, заколите волосы и сядьте рядом со мной, — строго сказал Дютертр. — С вами говорит ваш старший друг, ваш отец. Эвелина была явно недовольна: — О боже, так это нотация? Дорогой папочка будет распекать меня, как маленькую девочку! Что я сделала такого, чтобы настолько изменился его прелестный характер, и что происходит сегодня между нами? И, перейдя со своей обычной подвижностью и гибкостью от нетерпения к ласке, она бросилась обнимать и целовать отца, желая не только обезоружить его, но и избежать неприятного объяснения. Дютертр, как всегда добродушно, но без оживления принял эти кошачьи ласки: — Милая Эвелина, поверь, делать замечания доставляет мне не больше удовольствия, чем тебе их выслушивать. До сих пор я ведь не очень тебе докучал такими разговорами. Эвелина вообразила, что одержала верх над отцом: — Вот я и не понимаю, чем они вызваны. Может быть, я слишком избалована, ведь меня никогда не бранили и совсем не следили за мной; вот я и решила, что я безупречна, а теперь вы разбиваете эти иллюзии. Право, папа, это жестоко. Я привыкла к вашим колкостям, потому что вы тоже насмешник, да, да! Но к ним я отношусь добродушно, а вот к вашим выговорам… Право, не знаю, за что вы меня осуждаете, и боюсь, что не пойму этого. — Вот видишь, сколько слов сказано впустую, вместо того чтобы выслушать меня, А слушать — это единственный способ понять, я ведь говорю не о таких уж непостижимых вещах. Ты чересчур непосредственна, дитя мое, и часто говоришь не подумав; я не раз указывал тебе на это смеясь, а теперь утверждаю с грустью. — Как, отец, вас печалит, что я весела? Уж не снится ли мне это? Какое же несчастье, по-вашему, должно меня постигнуть? Какая угроза нависла надо мной? Я думала, вы радуетесь моему счастью, я привыкла, что все мои прихоти вам нравятся, все мои ребяческие выходки доставляют вам удовольствие, а теперь вы хмуритесь и смотрите на меня почти сурово! Разве моя вина, что господин Тьерре фатоват, и могу ли я помешать ему говорить мне дерзости даже дурного гона? — Дорогая моя, если бы Тьерре был дерзким и фатом дурного тона, я был бы виноват, введя его в свою семью, и я бы себе этого не простил, поверьте; но поскольку я знаю его как умного и интересного собеседника, воспитанного и приятного в обращении, я вынужден предполагать, что это вы заставляете его изменять свойственным ему характеру и привычкам своей вызывающей манерой, разумеется, вполне невинной в сути, но порой переходящей всякие границы. Только что я слышал, того не желая и не задумываясь об этом ранее, обрывки вашего разговора, которые вогнали меня в краску, — не потому, что они были недостаточно пристойны по мыслям или выражениям, а потому, что они выдавали ваше сумасбродное желание завладеть сердцем этого молодого человека. С его же стороны видно было желание показать, что он сумеет устоять перед вами. Такое положение вещей унизительно для женщины; я считал вас более гордой. — Значит, у меня не хватает гордости! — побагровев от стыда и злости, воскликнула Эвелина. — Я унижаюсь до ухаживания за человеком, которому я не нужна! Я пресмыкаюсь перед ним, я молю его, я веду себя с ним вызывающе. Вот что я делаю, или по крайней мере вот что думает мой отец о моем поведении! Гордая и вспыльчивая девушка расплакалась, резко вырвала свою руку из рук отца и стала взволнованно расхаживать по комнате. — Очень неприятно, что вы скорее рассержены, чем благодарны мне. Право же, мне самому больно обижать вас подобным образом, и мое видимое спокойствие куда мучительнее, чем ваше волнение! — Отец! — воскликнула Эвелина, бросаясь к нему и целуя его. — Не надо так обращаться со мной! Если вы станете бранить меня, я сойду с ума, если вы начнете меня ненавидеть, я умру! Повторяю, я не привыкла к вашему гневу, к вашей холодности. Я избалованный ребенок, не умеющий страдать, не убивайте меня! И странная девушка, по-настоящему огорченная, но не испытывающая никакого раскаяния, начала бурно рыдать, вообразив себя жертвой. Дютертр, тронутый ее чувствительностью, но изумленный и испуганный тем, что нашел так мало совестливости в ее еще не сформировавшемся характере, попытался подойти к ней с наиболее простыми и, как говорят, бытовыми рассуждениями. — Послушай, безрассудное дитя, я не хочу ни бранить, ни унижать тебя, напротив, я хочу объяснить все и предостеречь тебя от унижения, мысль о котором так тягостна нам обоим. Скажи откровенно: ты любишь этого молодого человека? — Я? Слава богу, ничуть! — воскликнула Эвелина, разозленная на Тьерре, виновника этой сцены. — Ну, что ж, тем хуже, ибо у него есть достоинства, есть имя в литературе, тонкость чувств и подлинная возвышенность мыслей и характера. — Вы так думаете? — проронила Эвелина, которой вовсе не были неприятны эти похвалы отца. — Не знаю, я не настолько его изучила. — Но я-то должен был его изучить, и я это сделал. Мне нужно было получить о нем точные и беспристрастные сведения; наконец, я обязан был, прежде чем ввести его в свой дом, убедиться, что он порядочный человек и что ни у кого не может быть оснований вогнать его в краску. Это первое и самое главное условие света. А подробности… я отнюдь не считаю себя непогрешимым в наблюдениях и не думаю, что у Тьерре совсем нет недостатков; но я никогда не предполагал, что на земле существует хотя бы один человек, свободный от противоречий и несовершенства, и решил: если вид нашей счастливой семьи заставит его помыслить о женитьбе и если одна из моих дочерей сумеет оценить его достоинства, то Тьерре может оказаться человеком, с которым можно рассчитывать на спокойное будущее для двоих. — Стало быть, отец, вы привезли к нам претендента? — Нет, дитя мое, скорее это ты сделала из него претендента, уделив ему столько внимания; я ничего об этом не знаю. Я не выбираю за вас, моих дочерей, и никогда не строил и не буду строить планов, которые могли бы противоречить вашим склонностям и лишить вас права решать свою судьбу. В нашем обществе, где очень трудно ужиться, так как оно одновременно очень требовательно и очень развращено, я попытался найти для вас самый легкий и самый надежный путь, предоставив всем троим большую свободу выбора в таком важном деле, как брак. Но, уважая ваши права в этом деликатном вопросе, доверяя вашим суждениям, я не должен был оставаться ни слепым, ни слишком смелым. Я не должен был необдуманно отпустить вас в мир, полный случайностей и опасностей, ибо в нем живут замаскированные пороки и обманчивые впечатления. Я должен был исполнить то, что задумал: держать вас в приятном уединении и допускать сюда только надежных людей, не способных ни обмануть вас, ни домогаться вас из-за богатства, и дать вам возможность свободно выбирать не в толпе искателей, а среди небольшого числа избранных, мною людей. Этим ограничивалась моя роль; учитывая мое отношение к вам, я просто не знаю, что еще я мог бы сделать, сочетая нежность с благоразумием, стремление видеть нас счастливыми — с отцовским долгом заставить людей уважать вас. — Я все это понимаю, отец, — сказала Эвелина, которая слушала довольно внимательно, — и мне очень досадно, что вы только сейчас сочли меня достаточно разумной для этого разговора. Должна вам сознаться, что нам с Натали иногда бывало неприятно, что мы вынуждены сидеть в деревне и лишь изредка и недолго бывать в Париже, точно маленькие девочки из провинции, которые приезжают чтобы обнять папочку, купить новые платья и пойти в зоологический сад посмотреть на жирафа. Но мы были неправы, я это признаю, поскольку мы были не забытыми вдалеке от вас жертвами ваших деловых и политических занятий, а привилегированными жертвами вашей отеческой заботливости и предусмотрительности. — И все же ты чувствуешь себя жертвой девочка, раз ты повторяешь это слово. — Ну, хорошо, папа. Но ведь год долог, бывают дождливые дни, когда в деревне скучно, несмотря ни на что, и потому мирские опасности, которых не знаешь, не кажутся такими уж страшными, и трудно, сидя дома, в глуши, примириться с мыслью, что здесь безопаснее. Но вернемся к вашему господину Тьерре. Вы считаете, что я вправе уделять ему столько внимания, сколько вздумается. Но тогда я все меньше понимаю суровый урок, который вы мне преподали. Если мне дозволено любить его, мне должно быть дозволено хотеть, чтобы он меня полюбил, а каким образом я за это возьмусь — плохо ли, хорошо ли, смело или робко, умело или неловко, — касается только меня. — И ты сочтешь меня твоего отца, нескромным и будешь считать неуместным, если я скажу тебе, что ты выбрала дурной путь и рискуешь своим будущим счастьем из-за неправильно выбранной и неприятной манеры себя вести? Эвелина снова приняла насмешливый тон и заговорила шутливо: — Позвольте, папа вы имеете всевозможные права, как прекрасный отец, и, более того, вы компетентны, как человек, имеющий успех в обществе, но… — Что ты такое говоришь, Эвелина? — удивленно и недовольно спросил Дютертр. — Что означают подобные выражения, когда они обращены к твоему отцу? Что ты знаешь с моей жизни в обществе, и кто тебе говорил о смехотворном животном, которое ты называешь человеком, имеющим успех или «преуспевающим в жизни». — Боже мой, папа, если вы так сердитесь из-за какого-то одного слова, то мне лучше совсем не отвечать вам. Неужели это дерзость, что я представляю себе своего отца таким, каков он есть, го есть мужчиной сорока двух лет, у которого нет ни одного седого волоса, ни одной морщины на лбу, у которого целы все зубы, здоровым и сильным, как юноша, идеально красивым, с восторженной душой, с изящными манерами, — одним словом, человеком настолько безупречным, настолько привлекательным, что он затмевает всех поклонников своих дочерей? — Мне кажется, да простит мне бог, что ты кокетничаешь даже со своим отцом; ты мне грубо льстишь и насмехаешься надо мной, — грустно улыбаясь, промолвил Дютертр. — Право, папа, ну не надо так относиться к этому. Когда моя добрая Ворчунья говорит о вас, она уверяет, будто еще во время вашего первого брака вы были самым любезным, самым очаровательным человеком из всех, кого она когда-либо встречала, и что теперь вы все еще самый красивый и самый приятный из всех, кого она знает. Ворчунья права: возьмите нашу молодую мать, может быть, красивейшую и самую очаровательную женщину во Франции, — она может удостоверить перед всеми, что вы более способны внушить любовь, чем все те хлыщи, которых вы нам разрешаете забрать себе. Вот почему я продолжаю утверждать: вы человек, преуспевающий в жизни. — Ты опять за свое! — сказал Дютертр, пожимая плечами. Он чувствовал себя почти оскорбленным этой лицемерной лестью, из-за которой проглядывал какой-то критический, бунтарский дух. — Да, — по-прежнему дерзко ответила Эвелина, — вам еще ведома любовь, вы испытываете это чувство и вызываете его, ибо вы молоды и хороши собой, вы производите впечатление человека, достаточно просвещенного в этой области, и можете преподать нам теорию искусства заставить любить себя. Но как бы вы ни были искушены в этом, позвольте сказать вам, что нет такого метода, который можно было бы приложить одинаково ко всем, и что каждый должен находить свой метод. Дайте мне возможность поискать мой собственный или испробовать его на Тьерре, in anima vili[188], но не все ли вам равно? — In anima vili? Это Натали обучила тебя такой латыни? Как же ты, однако, презираешь беднягу Тьерре! А ведь он не заслужил, чтобы ты обращалась с ним как с рабом, на котором можно испытать действие того или иного яда! Если это так, дитя мое, то имей в виду: поскольку я не обязывался поставлять вам объекты для опытов, а Тьерре не очень-то привык выполнять подобную роль и может, забыв свою житейскую мудрость, невольно дать тебе такой жестокий урок, на который я не смогу смотреть безучастно, мне придется под каким-нибудь предлогом тихонько выпроводить его или, еще лучше, отправить тебя в небольшое путешествие для улучшения здоровья к одной из тетушек, пока твоя жертва не удалится по собственному желанию. И Дютертр встал, боясь проявить слабость и желая оставить Эвелину слегка обеспокоенной. Но Эвелина удержала его, снова начала плакать и жаловаться без всякой логики и без всяких оснований на то, что ее унижают, обращаются с ней как с ребенком, угрожают наказанием и обездоливают, лишая снисходительности, а следовательно, и нежности отца. Прошел час. Эвелина не успела одеться, ее прекрасные волосы падали в беспорядке на плечи, веки распухли от слез, щеки пылали; она ждала звонка к обеду, и чувство унижения, вызванное тем, что она покажется Тьерре обессиленной и как бы побежденной, боязнь, что он догадается в происшедшем, довели ее до полного отчаяния и чуть не вызвали истерический припадок. Услыхав ее рыдания, Натали, которая с самого начала внимательно слушала весь разговор из соседней комнаты, вошла с удивленным и испуганным видом и стала преувеличенно нежно ухаживать за сестрой, что было не столь уж необходимо и при других обстоятельствах наверняка не приняло бы столь бурной формы. Вдвойне унижавшее ее присутствие Натали вернуло Эвелине показную гордость. Добрая, но вспыльчивая, любящая, но безрассудная, Эвелина стала искать поддержки у неизбежного свидетеля ее детского стыда. — Да, — отвечала она на лицемерные вопросы пюи-вердонской музы, — отец бранит меня, издевается надо мной, ранит мое самолюбие своим хладнокровием, смертельным равнодушием. Ты была права, Натали, наш отец больше не понимает и не любит нас! — Замолчи, несчастное дитя! — При виде бездонной пропасти, открывшейся ему в горькой улыбке Натали, у Дютертра закружилась голова — Да простит вам господь такое богохульство, если только вы не сошли с ума! Натали, желая подлить еще яда, приняла безропотный и всепрощающий вид. — О нет, отец, мы обвиняем не вас! Эвелина покорно выслушала бы все от вас одного! Но если нас плохо воспитывали, совсем не воспитывали, она в этом не виновата. Бедняжка так чувствительна… Поймите, она очень страдает, думая, что вы ничего не хотите предпринять, чтобы успокоить и утешить ее; но ведь она ошибается, не так ли? Вы по-прежнему любите нас, и никто не отнимет у нас вашей любви и вашего покровительства? Дютертр побледнел, у него сжалось сердце. — Я тебя не понимаю, Натали. — Простите, отец, вы прекрасно понимаете. Здесь нас любят далеко не все. Это вполне естественно, жаловаться мы не можем. Но подумайте, разве мы виноваты в том, что у нас есть недостатки, свойственные нашему возрасту и нашему уединенному образу жизни? Нам не хватает обычной узды, которая хоть и необходима молодости, но должна быть естественной, а мачеха для нас человек чужой, и подчиняться ей вынужденно мы не захотели. Нам далеко не часто выпадало счастье жить вместе с вами, у вас на глазах, и как бы госпожа Олимпия ни была благовоспитанна, как бы пристойно она ни относилась к нам, она не может быть для нас авторитетом в силу своего возраста. Поэтому простите нам наши недостатки, будьте с нами терпеливее, раз уж мы так редко наслаждаемся вашим присутствием; ведь и нам нужно немалое мужество, чтобы смириться с нашим положением. — На что вы жалуетесь, девочки? — горько воскликнул Дютертр. — В чем ваши несчастья, в чем ваши беды? Моя жена угнетает вас, преследует? Скажите же мне, наконец! Если вам есть на что жаловаться, я выслушаю вас здесь, сию же минуту; я проверю, имеют ли ваши жалобы под собой основание, и буду судить по справедливости внутрисемейным судом. Но я не желаю больше никаких намеков, никаких недоговоренностей — они убивают меня! Говорите, но говорите без обиняков, скорее и с мужеством, подобающим искренним людям. Натали не ожидала, что отец займет такую ясную позицию. Не понимая величия и чистоты его любви к Олимпии, она, видя, как деликатно он отстранял до сих пор все поводы к домашнему соперничеству, вообразила, что он стыдится своей любви как слабости и что ей будет легко поставить его ниже себя. Однако, встретив его твердую решимость, она тут же отступила и сказала, что звонят к обеду, что сейчас не время объясняться, да и к тому же она всегда готова уступить, так как боится оскорбить и опечалить отца. — Вы можете огорчать меня, раз в вашем сердце нет чувства справедливости, можете даже оскорблять меня, я этого не боюсь! Не понимаю, при чем здесь самолюбие. Вы объясните мне все, обе, сегодня вечером, как только мы будем одни. Я не хочу ждать до утра, если уж между нами возникло какое-то недоразумение. Быстрее причешись, Эвелина, и спускайся вниз. А ты, Натали, ступай за мной. Натали, не желая ни повиноваться, ни оказывать сопротивление, твердой поступью пошла вперед, спустилась по лестнице и с холодной миной уселась за стол. Эвелина запротестовала — нельзя же ей показываться на людях в таком виде и в таком состоянии! — Ну что ж, останьтесь у себя, я скажу, что у вас немножко болит голова. Но вы должны успокоиться и прийти в столовую через час. Я этого требую. И он, в свою очередь, пошел вниз, но ему пришлось собрать всю свою волю и выдержку, чтобы скрыть страдание. Однако Олимпию трудно было обмануть. Она с беспокойством поглядела на Амедея, как бы вопрошая его. Когда она увидела, что племянник избегает ее взгляда, а муж улыбается с усилием, ею овладело зловещее предчувствие. Она еще больше испугалась, узнав о нездоровье Эвелины; но, привыкнув таить в себе мысли и чувства, она сделала вид, что не подозревает о наступлении страшной минуты и о том, что лед хотя еще и не подломился, но уже трещит под ее ногами. Оставшись одна, Эвелина, вконец рассерженная, уже совсем собралась для облегчения разорвать какое-нибудь платье или разбить какую-нибудь фарфоровую вещицу, когда вошла Каролина. — Что с тобой, сестричка? — спросила девочка, у которой был высоко развит инстинкт кроткого и терпеливого материнства. — Мы плакали? Мы дуемся, потому что испортили свои голубые глазки? Давай промоем их холодной водой, и все пройдет. — Оставь меня, Малютка, — оттолкнула ее сестра, — мне не до шуток. — Ничего, ничего, — не смущаясь, ответила девочка, — мне это знакомо; ты разозлилась из-за того, что шиньон не держится, или на то, что как раз та единственная косынка, которую ты хочешь надеть, еще не готова? Ну скажи, какая из твоих тряпочек тебе нужна? Я пойду отглажу ее. У меня в комнате всегда наготове утюг, и все будет сделано, прежде чем Ворчунья что-нибудь заметит. — Дурочка! Разве в тряпках дело? Папа устроил мне сцену. Малютка засмеялась; — Охотно верю! Он такой злой, наш папа! Ужасный человек! Он побил тебя, ручаюсь! Бедная сестричка! Что мне теперь делать, плакать вместе с тобой или побить гадкого отца, который довел до слез своего мохнатого львенка? — Не выводи меня из терпения! Ты мне надоела! Уходи, дуреха! Что тебе здесь нужно? Там уже начали обедать, и тебя наверняка ищут повсюду. — Ничего подобного! Я еще успею пообедать. Я попросила у мамы разрешения пойти помочь тебе одеться. Вот я и пришла. — У мамы! — желчно проговорила Эвелина. Каролина, которая, быть может, понимала куда больше, чем казалось, но которую ее здравый смысл научил избегать всяких опасных или тягостных объяснений, притворилась, что не слышала этого восклицания, и, не говоря ни слова, стала своими легкими, ловкими руками укладывать густые волосы Эвелины, предварительно отослав и любопытную горничную, явившуюся для исполнения этой обязанности, и Ворчунью, обеспокоенную мигренью своего «бесенка», — так фамильярно называла Эвелину старая, вынянчившая ее крестьянка. Эвелина, думая о своем, позволила сестре причесывать и одевать себя; Каролина болтала всякие пустяки, отвечая сама себе, когда Эвелина не находила нужным ей ответить, и щебетала, как птичка; наконец ей удалось преодолеть недовольство сестры и опять заставить ее любоваться собой. — А теперь, — сказала Малютка, подведя Эвелину к зеркалу, перед которым та машинально внесла последние исправления в свой туалет, приколов брошь и поправив бант, — мы понюхаем соли, а потом улыбнемся, обнимем дурочку Малютку и спустимся вниз, теперь уже к десерту. Очень удачный момент для появления! Все веселы, папа занят беседой, мама улыбается. Входит Эвелина, все спрашивают, как она себя чувствует. Она звонко целует маму, потом папу; говорит, что ей лучше, грациознейшим образом усаживается за стол, немножко ест, немножко смеется, имеет большой успех, и все довольны! — Какое терпение надо иметь с тобой, Малютка! Послушай, ты всегда будешь так глупа? Ты хоть когда-нибудь думаешь о том, что тебе уже шестнадцать лет и что вскоре, может быть, пойдет речь о твоем замужестве? — О, замужество меня не прельщает! Это хорошо для вас, блистательных принцесс! А я не хочу покидать маму — никогда, слышишь ты? — Значит, ты так ее любишь? Вот, даже Золушка любит ее больше нас! — Такая умная особа, а говорите глупости! — возразила девочка, став перед Эвелиной на колени и зашнуровывая ей черные атласные ботинки. — Вы изо всех сил стараетесь, чтобы вас возненавидели, и ужасно недовольны, когда не можете помешать людям обожать вас несмотря ни на что. Эвелина привлекла к себе головку Малютки и стала ласкать ее темные распущенные волосы, вьющиеся от природы, как у отца. — Бедная Золушка! Ты-то будешь счастлива, потому что ты глупа, как гусыня, и добра, как ангел! — Ну, может быть, я вовсе не так глупа, как ты думаешь! — ответила Каролина и вспорхнула, как птица. Она быстро навела порядок в комнате, желая избавить от хлопот Ворчунью, потом взяла сестру под руку и заставила ее быстро спуститься вприпрыжку по длинным отлогим спиралям замковых лестниц. Кошка, которую они толкнули на бегу, сделала, удирая, фантастический прыжок; это вызвало у Малютки бурный взрыв хохота, и ее печальная сестра, заразившись свежим, звонким смехом, который у Каролины был как бы гармоничной мелодией ее девственной души, явилась перед родителями и Тьерре уже оживленной и неподдельно веселой. Лицо Дютертра просветлело. Олимпия вздохнула свободнее. Амедей поблагодарил Эвелину дружеским взглядом. Тьерре вопрошал себя, что — какой дождь или роса — могло так смягчить эти прелестные черты и расширить эти блестящие глаза, и нашел ее еще более очаровательной, чем когда-либо. Натали же отнеслась к непостоянству сестры с глубоким презрением. — Видишь, мама, — прошептала Золушка на ухо Олимпии, — я ведь говорила тебе, что приведу ее и нарядной, и веселой!XIV
За десертом Тьерре положительно влюбился в Эвелину. На ее лице было выражение, которого он еще не видел, какое-то подавленное страдание затуманивало ее обычно столь дерзкий взгляд. Эвелина, со своей стороны, думала о похвалах по адресу Тьерре, высказанных ее отцом, и, несмотря на то, что, из духа противоречия, ей все больше хотелось хулить его вслух, в глубине души ей нравилось видеть у своих ног столь достойного человека. Это льстило ее самолюбию. Она хорошо знала, как справедлив и проницателен ее отец, она знала также, что, при всей своей благожелательности и великодушии, он не был слеп и не дарил своим уважением и доверием кого попало. И она окончательно решила увлечь Тьерре. Но как это сделать? Более чувствительная к критике, чем к упрекам, она ни за что на свете не хотела бы услышать еще раз те неприятные замечания, которые, по ее мнению, позволил себе отец. Следовательно, надо было занимать и мучить Тьерре неприметно для других. «Ага! — подумала она. — Я еще не пыталась заставить его ревновать, а ведь это так просто. Разве мой двоюродный братец не годится хотя бы для этой цели?» Опять пошел дождь, да и стемнело, так как дни стали короче. Все перешли в гостиную. Эвелина, ласковая с отцом, чуть не приторно-сладкая с Олимпией, веселая с Малюткой, стала нежна к Амедею. Изображая или на самом деле испытывая усилившуюся головную боль, она томно раскинулась в кресле, попросила его дать ей под ноги подушку, сходить за нюхательными солями, отодвинуть подальше корзинку с цветами, капнуть ей на лоб эфира и, завладев им таким образом, заставляя его оказывать ей все эти маленькие знаки внимания, громко обращаясь к нему на ты, по-братски называя его милым Амедеем, своим самым внимательным, самым верным другом, она удерживала его около себя более часа; она говорила шепотом, словно они были наедине, всякую ерунду, которую вполне могла бы сказать громко, — словом, прикидывалась больной девочкой, особенно со своим другом детства, подлинным сердечным другом, рядом с которым случайным друзьям и поклонникам вроде Тьерре нечего и надеяться привлечь ее внимание, если только они не приложат к этому много больше усилий, чем до сих пор. Тьерре увидел ее новый маневр и разгадал его лишь наполовину. Разыгрывая перед Флавьеном донжуана, он почти всегда шутил и иногда приукрашивал свои поступки. На самом же деле он обладал изрядной долей скромности и неверия в себя, которые есть у всякого умного человека. «Вполне возможно, что она хочет растревожить или испытать меня, — думал он. — Но, пожалуй, и я за эти дни помог ей растревожить или испытать господина Амедея. Он очень мил; быть может, он предназначен ей в мужья, без сомнения, он весьма влюблен в нее. Что ж, вероятно, я послужил средством к их сближению, и теперь они мирятся у меня на глазах. Займемся Натали; надо доказать Эвелине, что мы умеем жить и, если нужно, обращать все в шутку». Он подошел к Олимпии и Дютертру, которые сидели рядом, и, обращаясь к ним обоим, сказал: — Мне хотелось бы, совершенно секретно, чтобы об этом ничего не было известно, попросить кое о чем мадемуазель Натали. Я знаю, что она пишет прекрасные стихи, и сгораю от желания послушать их. Если б она захотела прочесть мне хотя бы четыре строчки, я написал бы ей четыреста, которые ей не обязательно ни слушать, ни читать, и мы были бы квиты. Он говорил достаточно внятно, чтобы все это услыхала сидевшая поблизости Натали; однако она не пошевелилась и сделала вид, что не слышит. — Натали действительно пишет прекрасные стихи, — сказала госпожа Дютертр, — но она держит их в тайне; вы совершите чудо, если вырвете у нее эти четыре строчки. Я, например, хотела бы, чтобы вам это удалось, тогда и я воспользуюсь случаем и тоже услышу их. Однако если она захочет прочесть их только вам, мы не будем назойливыми и не станем мешать. Натали встала и подошла к столику, у которого работала госпожа Дютертр. — Я вижу, что господин Тьерре умирает от желания прочесть вам поэму в четыреста строк, а вы умираете от желания ее послушать. Если с моей стороны нужно только четыре строчки, чтобы удовлетворить вас обоих, я согласна их написать. Но задайте мне какие-нибудь рифмы, так как я сейчас абсолютно ничего не помню. Это был наиболее естественный и приличный выход из положения. Господин Дютертр, всегда готовый приветствовать столь редкие у Натали минуты хорошего расположения духа, сам предложил четыре рифмы, добавив, что еще четыре даст Олимпия, а Тьерре завершит дюжину. — Это еще не все, — заявила Натали, — мне надо подсказать сюжет, а я сама решу, трактовать его серьезно или шутя. Эвелина прислушалась; она решила, что Тьерре предложит какой-нибудь сюжет, относящийся к ней. Но нет: так же мало желавший льстить Эвелине, как и принимать всерьез таланты Натали, он предложил параллель между Крезом античным и современным — грумом Пюи-Вердона. Натали мгновенно сочинила остроумные стихи, более насмешливые, чем веселые, но очень ловко подобранные к заданным рифмам. Тьерре поздравил ее с удачей и на те же рифмы и тот же сюжет написал стихотворение в двенадцать строк, не уступавшее в искусстве версификации произведению Натали. Госпожа Дютертр предложила более возвышенный сюжет, чтобы Натали могла блеснуть серьезной гранью своего таланта, и с мягкой настойчивостью поборола мнимую лень падчерицы, которая отлично вышла из положения и, более чувствительная к своему небольшому успеху, чем хотела бы сознаться, в конце концов дала себя уговорить и прочла несколько своих лучших вещей. Тьерре счел их тем, чем они и были в действительности, — плодом холодного ума; но он мог, не солгав, похвалить их форму, которая была и законченной, и искусной. Дютертр, видя или полагая, что его дочь сегодня более расположена к его жене, вернулся к отправной точке, надеясь всех развлечь. Соревнуясь в импровизации с Натали, Тьерре играючи написал прелестные безделки, она, в свою очередь, не отставала от него и так оживилась, что даже стала довольно непринужденно смеяться. Веселость у людей, которые постоянно серьезны, иногда бывает очень привлекательна, и Натали, будь она более общительной, могла бы производить весьма приятное впечатление. В десять часов Тьерре распрощался, сославшись на множество писем, которые ему надо было написать; но он держался весь вечер очень естественно, и Эвелина, решив, что не достигла своей цели, даже немножко рассердилась на Натали. После ухода Тьерре Олимпия, чувствуя вокруг себя какое-то напряжение и не желая становиться между Дютертром и его дочерьми, рано ушла к себе, сопровождаемая Малюткой. Амедей прочел в глазах Дютертра приказ уйти и ждать его в башне. Дютертр остался с двумя старшими дочерьми. Настроение у них поднялось, и он надеялся, что объяснение, от которого он не хотел и не мог отказываться, даст хорошие результаты. Выбор дня и часа не очень-то пришелся по вкусу Натали. Ее несколько обезоружили кротость и великодушная предупредительность мачехи по отношению к Тьерре. Обиженная на сестру Эвелина, видимо, не собиралась оказывать ей поддержку. Дютертр был спокоен и полон достоинства, а это мешало ей более всего и даже вселяло в ее ревнивую и гордую душу некоторый страх, если не раскаяние. — Что ж, — сказал Дютертр, расхаживая по гостиной, — Натали, Эвелина, нам надо поговорить. Вы недовольны мною, недовольны той, которую я дал вам в матери и подруги. Вы считаете себя порабощенными, оскорбленными, уязвленными. Говорите, дети, я вас слушаю. Эвелина не была злопамятна и отвечала совершенно искренне: — Нет, папа, ко мне это не относится. Если бы я была достаточна рассудительна, чтобы понять, сколь неразумно мое поведение, я могла бы пожаловаться только на одно. — На что же именно? — На то, что меня мало наказывали; что у меня был отец, слишком веривший в мои добрые побуждения, мачеха, которая была чересчур кротка со мной, потакала всем моим капризам и, чрезмерно боясь моих приступов гнева, если и возражала мне, то слишком сдержанно или слишком деликатно. Она очень молода, и она мне не мать — вот в чем все ее преступление; а так как ни она, ни я ничего не можем с этим поделать, было бы нелепо создавать неприятности вследствие такого положения вещей, принимать его близко к сердцу и, главное, упрекать в этих неприятностях друг друга. У меня масса недостатков, исправить которые могла бы, возможно, строгая мать или — монастырь. Вы взяли меня из монастыря, который был мне ненавистен, и дали мне мать слишком слабую, может быть, следовало бы сказать — слишком добрую. Да, Олимпия добра, безупречна, мягка до крайности, — добавила Эвелина, решительно глядя на Натали, — и я оказала бы себе дурную услугу, выставляя себя правой по отношению к ней, когда я неправа. Как она могла сдерживать и направлять меня? Тут требовалась железная воля, которая, по всей вероятности, сломилась бы, встретившись с моей, потому что я склонна была не признавать ничьего авторитета. Кто знает, признала ли бы я авторитет даже собственной матери? Не далее как сегодня я оказала сопротивление воле лучшего из отцов, впервые заставившего меня признать ее. Значит, я совершенная дурочка и, наверно, кое в чем виновата. Простите меня, отец, забудьте все глупости, которые я говорила, сохраните это в тайне от мамочки; надеюсь, она ни о чем не подозревает. Избавьте меня от необходимости склониться перед ней, показывая свое раскаяние; я не смогу этого сделать; но верьте, что в глубине души я люблю ее и не сержусь на нее за то, что она прелестна, нравится вам и делает вас счастливым. Вот и все. И Эвелина, с ласковой грацией встав перед отцом на колени, обезоружила его, целуя ему руки. Он поднял ее и прижал к сердцу. Взволнованный больше, чем хотел выказать, он попытался предостеречь ее, чтобы в будущем она не повторяла своих несправедливых обвинений. Она обещала, стремясь покончить с этим поскорее, так как не была особенно уверена в своем решении, а к самым лучшим движениям ее души всегда примешивался какой-то каприз. Но, решившись хотя бы лечь спать в мире с отцом и собственной совестью, она поклялась ему, что постарается исправиться, при условии, что ей предоставят возможность самой исследовать свои поступки и обвинять себя. Затем, сославшись на головную боль и не желая иметь дело с сегодняшней Натали, она попросила разрешения пойти спать, оставив отца с сестрой наедине. Дютертр сразу же опять принял спокойный, нежный, но твердый вид. — Теперь твой черед, дочь моя. Я жду твоих жалоб или твоих требований. — Я никогда не жалуюсь, — ответила Натали; хотя она и приготовила свою обвинительную речь, но ей не хватало подлинного мужества. — А когда требования тщетны, я умею молчать. — Дочь моя, заклинаю вас именем вашей матери, которую я любил, сделал счастливой и оплакивал двенадцать лет, говорите со мной доверительно и откровенно, — продолжал несчастный Дютертр, сдерживая боль и негодование. — Не жалуйтесь, если вы считаете, что это унижение — открыться отцу, который так горячо вас любит; но предъявите ему свои права, если он нечаянно затронул их. Говорите. — Вы ни в чем не погрешили против меня, отец — ответила Натали, разыгрывая скорее роль судьи, чем жалобщика, — и до сих пор вы признавали все мои права. Я страдаю, потому что страдаю, и не в вашей воле сделать меня счастливой. — Тогда откройтесь мне, возьмите меня в поверенные, и я попытаюсь справиться с вашими горестями. — Вы не сможете, отец, вы связаны на всю жизнь с особой, которая мне несимпатична; жизнь рядом с ней для меня горька и тягостна. Я смертельно скучаю; я обречена жить здесь вдали от вас, в семье, не разделяющей мои вкусы, и в прямой зависимости от женщины, к которой я испытываю только отчужденность — не спрашивайте, что она мне сделала плохого. Умышленно — ничего, но меня тяготит уже одно то, что ее общество для меня неизбежно, что она играет невыносимую для меня роль — женской главы семьи, занимая место, предназначенное мне. Если бы у вас не было жены, вы поняли бы, что возраст и характер разрешают мне повсюду следовать за вами, надзирая при этом за своими сестрами и отвечая за их благопристойное поведение в обществе. Если бы я была спутницей вашей жизни, представительницей вашей власти, Эвелина не была бы сумасбродкой, а Каролина — дурочкой; мы не были бы неуклюжими провинциалками и не дожидались бы мужей, которых вы нам заранее выбираете, причем они могут нам совсем не подойти, как бы мы ни хотели угодить вам, И, наконец, если бы вами не владела мысль о том, что рядом с этой прекрасной Олимпией все должны быть счастливы, вы сами обратили бы внимание, без моих горестных указаний, на хандру, которая давно грызет меня и уже начинает овладевать Эвелиной — недаром она помешалась на охоте и верховой езде. Вы сами видите, отец, что жаловаться бесполезно, я должна терпеливо переносить свою участь, не надеясь, что удастся изменить ее каким-либо другим путем, кроме замужества от отчаяния, а это весьма печальный способ спастись. Дютертр оледенел от холодности своей дочери. — Я не стану спрашивать вас, почему мачеха вызывает у вас антипатию — это создало бы почву для споров, которые мне нежелательны, — поскольку вы сами заявляете, что она ни в чем перед вами не виновата. Вы, видимо, решили отравить нашу семейную жизнь недовольством и горечью, а я-то полагал ее тихой и радостной. Соблаговолите резюмировать ваши пожелания, дочь моя, и сказать мне, в чем вы нуждаетесь, чтобы чувствовать себя свободной и счастливой сообразно вашим вкусам! — Я хотела бы повелевать там, где я уступаю или сдерживаюсь и отмалчиваюсь, чтобы избежать отвратительной необходимости подчиняться. — Вы никому не подчиняетесь и ни в чем не уступаете; насколько мне известно, вам не приходится и особенно сдерживаться. Если я ошибаюсь, докажите мне, что вы находитесь в рабском положении здесь, где я делаю все, чтобы вы были свободны. — Я свободна при условии, что я буду подчиняться домашнему укладу, который был установлен не мной. Есть люди, чувствующие себя рабами, когда они не повелевают. — Вы выказываете непомерное честолюбие и гордость, Натали, так стремясь повелевать. Разве моя естественная и священная власть не ограничила бы подобные деспотические устремления, если бы я жил вместе с вами, даже не будучи женатым? Или мне тоже пришлось бы повиноваться вам, чтобы не видеть вас несчастной, подобно королеве, лишенной трона? — Вы насмехаетесь, отец, а не рассуждаете. В душе я подчинялась бы вам, но могла бы влиять на вас силой убеждения. Может же влиять на вас жена, ведь вы советуетесь с ней по малейшему поводу, и без ее согласия мы не можем ни уйти, ни прийти, ни есть, ни спать, когда хотим. Разве я менее способна, чем она, управлять домом и выбирать себе общество? Вы же видите, что я здесь ничто, а ведь я приближаюсь к совершеннолетию, у меня уже нет ребяческих недостатков, я взрослая ичувствую, что создана унаследовать власть той, которая родила меня. — А согласиться разделить эту власть вы не можете? Разве вам это не предлагали тысячу раз и, несмотря на ваши отказы, не настаивали на том, чтобы советоваться с вами по всем домашним делам, которые вы так подчеркнуто презираете? — Я требую не руководства кастрюлями. Меня оно не интересует. Но я хочу сама выбирать своих гостей, свое окружение. — Стало быть, мои гости не всегда вас устраивают? — Да, не всегда. — И вы закрыли бы перед ними дверь, чтобы впустить других? — Возможно. — И так как ваша мачеха вам антипатична, вы в первую очередь попросили бы уйти ее? А я буду ждать, что вы сделаете мне такое же предложение, поскольку мое общество тоже может стать для вас докучливым?.. Так вот, моя дорогая Натали, ты сошла с ума, ты в тысячу раз безумнее своей безрассудной сестры Эвелины. Я хочу верить, что твоя блистательная логика находится в полном несогласии с гобой самой, иначе мне пришлось бы с ужасом убедиться, что ты никого не любишь и хотела бы заменить равных тебе от природы членов твоей семьи посторонними, но — рабами. Прости, но я не желаю больше тебя слушать. Я намерен сохранить по отношению к тебе положение отца, остаться главой семьи и слушаться только кротости и благоразумия. — Да! — Олимпии! — едко пробормотала Натали. — Довольно, дочь моя, довольно! — сказал Дютертр; в его взволнованном голосе непроизвольно зазвучала раздирающая душу мягкость. — Ты раздражена и несправедлива, но ты умна и горда. Ты придешь в себя и будешь этой ночью осуждать свое поведение, как это сделала сегодня вечером Эвелина; если только ты не предпочтешь искренне раскаяться тут же, сейчас, чтобы я поскорее обрадовался, простил тебя и раскрыл объятия. Натали заколебалась. — Дорогой отец, вы очень добры, очень великодушны, в высшей степени достойны повелевать нами. Пока вы будете подле нас, все, по-моему, пойдет к лучшему. Не спрашивайте меня больше ни о чем, умоляю вас, до того дня, когда вы соберетесь нас покинуть. Тогда вы позволите мне вернуться к этому разговору и прийти к заключению, которое — я настаиваю — необходимо и для вас, и для меня. — Постарайтесь, чтобы оно было более приемлемым, чем сегодняшнее, — сказал Дютертр, целуя ее, — а до тех пор обещайте мне не раздражаться по мелким поводам молча, не сказав мне откровенно, в чем дело. Обещаешь, дочурка? Натали взяла свечу, собираясь удалиться. — Будьте спокойны, отец, что бы ни случилось, я не стану вести борьбу с вашей женой, ибо я знаю, что все равно буду побеждена, и она может спать на подушке моей матери, не опасаясь, что я воткну туда булавку. — Да, ты жестока и беспощадна! — воскликнул Дютертр, когда Натали ушла. — О боже! А ведь ее мать была так добра, и мы никогда не наносили обид друг другу! Как же это так получается, что существа, зачатые и рожденные в любви, являются на свет уже исполненными яда и ненависти? И Дютертр, сам удивленный грустной стойкостью, с которой он вынес эту пытку, решил пойти приободрить и утешить Амедея, великодушного мальчика, который самоотверженно делил с ним все его невзгоды.XV
— Ну вот, я знаю и ты можешь говорить свободно, — сказал он, входя в башню. — Зло велико, но не настолько, как я думал. Из двух моих старших дочерей каждая неразумна по-своему, но только одна действительно враждебно относится к моему счастью Эвелина добра, и ее сердце, вкупе с врожденным чувством справедливости, всегда сможет вернуть ее на правильный путь. Но Натали — железный характер и, стремясь осуждать и ненавидеть, опирается на такую странную теорию власти, что я уж и не знаю, чем тут помочь. Какое-то средство ведь должно существовать, давай поищем его вместе. — Натали — своеобразная натура, ей трудно быть счастливой. Может быть, и в дальнейшем она будет находить во всем лишь неполное удовлетворение. Но, дорогой дядюшка, не пора ли вам примириться с некоторыми разочарованиями? Сила и энергия вашей души и вашего характера заставили вас поверить, что с помощью труда преданности, забот и благодеяний вы сможете составить счастье всех окружающих вас людей… — Я понимаю, то была несбыточная мечта; впрочем, я всегда был не настолько одурачен ею, как хотел казаться себе самому, чтобы сохранить в душе мужество и веру в людей; но я знал и знаю теперь более чем когда-либо, что, с одной стороны, внешний мир далеко не всегда поддерживает нас, а, наоборот, срывает наши замыслы; с другой же стороны, инстинкты тех, ради кого мы трудимся, противятся нам и борются с добром, которое мы хотим творить. Господь, в своей таинственной суровости, выше всех наших усилий Он дает нам детей, братьев, друзей, как бы доверяя нам их счастье и добродетель; он посылает нам и других людей, слов но созданных для противодействия нам и уничтожения наших стараний. Да будет воля его! Надо принимать ее такой, какая она есть, верить в то, что он не создает ничего бесполезной для совокупности вещей, составляющих всеобщую гармонию и что даже сами недостатки тех, кого мы любим, имеют свои основания, которые мы признаем позднее. Поищем же новую линию поведения по отношению к моей семье, и пусть эта ночь не будет подобна вчерашней, не принесшей никакого, даже временного решения. И прежде всего скажи мне — усиливается царящее здесь взаимное непонимание или уменьшается в мое отсутствие? — С виду усиливается, в действительности же остается без изменений; ваше присутствие сдерживает пыл Эвелины и умеряет ее прихоти; оно заставляет смолкнуть язвительный голос Натали, которая каждый день подливает каплю желчи в чашу вашей жены. Но вы видите лишь внешнюю сторону вещей: стоит вам отвернуться, и они с лихвой вознаграждают себя за воздержание; это колкая критика всего, притянутые за волосы намеки, упрямые споры по поводу каждого пустяка, резкий тон, вынуждающий к молчанию, или презрение в ответ на любое возражение. Порой кажется даже, что, когда вы здесь, над головой бедной тетушки нависает угроза. Ее, которая — сама чистота, прямота, искренность, обвиняют в кокетстве, тайных умыслах и еще бог знает в чем! Иногда упреки просто непонятны ни ей, ни мне. Сначала это волновало тетушку, затем она смирилась, проявив беспримерную самоотверженность, и с ужасающей силой замкнулась в своем мученичестве, которое снедает и сокрушает ее. — Да, я понимаю, — сказал Дютертр, проводя руками по пылающему лбу. — Олимпия имеет право быть самым гордым, самым свободным из божьих созданий и из любви ко мне принуждает себя быть самым смиренным, самым приниженным существом. Бедняжка! Моя любовь оказалась для нее роковой. — Если бы вы слышали, как она говорит об этой любви, вы поняли бы, что она предпочитает ее, со всеми ее горестями, безмятежному счастью, которое имело бы другой источник. Надо быть мужественным, как она, дядюшка! — Это нетрудно, когда смелая душа живет в здоровом теле. Но у Олимпии оболочка тонка, ее тело изнемогает. Она умирает, друг мой, умирает, разве ты не видишь? — Она может выздороветь. Надо только найти для нее возможность отдохнуть, дать ей хотя бы на время забыться. Ведь пока ваши дочери (особенно Натали) не выйдут замуж, облегчение будет только временным, вы сами это сказали. — Но ведь они, наверное, скоро выйдут замуж, как ты думаешь? — Может быть, не так скоро, как вы полагаете. Эвелина нерешительна и капризна. Что до Натали — а ее гордость еще труднее удовлетворить, — она не думает об одном препятствии: ведь она вызывает чувство отчуждения даже у тех немногих людей, к которым сама его не испытывает. — Да, — подавленно произнес Дютертр, — она не умеет любить и потому не внушает любви; это ясно! О, я несчастный! Я вынужден желать, чтобы меня избавили от моих детей! — Нет, нет, вы этого не желаете, — с великодушной горячностью возразил Амедей. — Вы сами спасете их. Но каковы же ваши планы? — Отказаться от политической карьеры, которую мне навязали против моей воли избиратели нашего округа; вернуться к семейной жизни, следить за тем, что происходит у меня дома, ни на минуту не покидать жену, обуздать это безудержное стремление к власти или независимости — слишком уж оно возросло у моих дочерей, пока меня здесь не было. — Битва будет жестокой, может быть даже гибельной. И потом, правильно ли вы разрешаете серьезный вопрос общественного долга? Можем ли мы принести его в жертву семейным обязанностям? Разве чувство всеобщего блага не должно взять верх над личным счастьем? — Дело не в моем счастье. Речь идет о жизни моей жены и нравственном состоянии моих дочерей, сбившихся с пути из-за отсутствия руководства и узды. К тому же в наше время добиваться блага на политическом поприще — быть может, только мечта, и смертельное отвращение, которое я испытываю к этой карьере, только доказывает, что мое призвание совсем не в ней. Я человек деревенский, простой производитель работ, я сам труженик, я инженер, проходчик, я расчищаю пустоши, я друг и сын земли, товарищ и брат рабочих, я даю им работу и тем самым улучшаю их нравы. Кому нужны говоруны, рассуждающие о таком важном вопросе, как сельское хозяйство, не зная ни человека, ни его потребностей, ни почвы, ни ее ресурсов! Для чего проводить время, слушая их парадоксы и безуспешно сражаясь против них? Это хорошо для тех, кто любит пышные фразы и мечтает влиять на политику. А я ненавижу пустые слова, и мне незачем быть депутатом, чтобы творить добро. Я подаю в отставку и остаюсь среди вас. Я найду мужей своим дочерям, поскольку сами они этого сделать не сумеют, и спасу свою жену. Это вопрос решенный. — Мы с Каролиной будем только счастливы, если вы останетесь с нами, но что бы вы ни делали, таким путем вы не построите ни тетушкиного, ни вашего счастья. Эвелина и Натали скоро научатся вам противодействовать. Вспомните: два года тому назад, когда вы проводили здесь большую часть времени, а их характеры еще не сформировались так, как теперь, сколько уже тогда было сопротивления с их стороны — сопротивления ребяческого, но неистового, с которым вы не могли совладать, не страдая сами. — Что ж, буду страдать! — А страдания тетушки еще усугубятся. Не забудьте, что единственная нить, на которой держится ее существование, это то, что она пока еще верит в ваше счастье. — Ты прав! Но что же делать? Увезти отсюда жену? Можно подумать, что я больше не люблю ее, что я ее не уважаю! Удалить дочерей? Они будут утверждать, что Олимпия их ненавидит и выгнала их! А ведь их надо разлучить любой ценой, хотя бы на несколько месяцев, и дать моей больной бедняжке выздороветь! Боже мой! Боже ты мой! Значит, я совершил преступление, женившись в полном расцвете сил, с абсолютной искренностью в душе! Свидетель бог, я не думал переступать ни божеские, ни человеческие законы, нарушать священную гармонию природы и высочайшие семейные узы, подарив своему сердцу несравненную подругу и безупречную мать своим детям. Да, я любил ее страстно, но почему я должен из-за этого краснеть? Нет ничего более высокого, более святого, чем любовь, освященная клятвой в вечной верности. Но, клянусь честью моей первой жены, если бы я не считал, что даю достойную замену для своих дочерей, сделав Олимпию их второй матерью, я подавил бы, растоптал свою страсть. Почему же какое-то проклятье сопутствует самому законному счастью и самому честному поступку в моей жизни? Амедей сидел в глубоком кресле, уставясь в землю: он слушал Дютертра с благоговейной печалью; Дютертр же, стоя у приоткрытого окна, возводил к звездам свой благородный взор, затуманенный слезами. Наконец, после минутного молчания, Амедей сказал: — Послушайте, дядюшка, решение вопроса, которое вы ищете, по-моему нашла Натали. Она хочет ехать за вами в Париж. Стоит ей увидеть свет и начать командовать не домом — она на это неспособна, а салоном, — и ее тщеславие будет удовлетворено, а высокомерная скука рассеется. Если она не выйдет замуж в течение этого года, она вернется сюда на каникулы вместе с вами, и независимо от того, будет ли она с тетушкой в хороших отношениях или в плохих, Олимпия успеет выздороветь. — Блестящая мысль, — подхватил Дютертр, — и если она этого хочет, как жаль, что она об этом не сказала сегодня, когда я вызывал ее на откровенность; это был бы выход для всех нас… Завтра же я все устрою; надеюсь, она будет удовлетворена, и это заставит ее пощадить мою жену и мой покой до нашего отъезда. — Но вам все же придется встретиться с некоторыми трудностями, не забывайте об этом. Эвелина будет завидовать старшей сестре и захочет поехать вместе с ней; ведь она тоже начинает мечтать о Париже. — Я не могу взять с собой Эвелину, она слишком сумасбродна. Я не смогу сопровождать ее в Булонский лес, где она захочет блеснуть своим уменьем укрощать лошадей; она поедет туда с лакеем в то время, как я буду занят делами или задержусь в палате и меньше всего буду думать о ее возможных выходках. Она не пожелает остерегаться и погубит свою репутацию, или ее сочтут легкомысленной и эксцентричной. Все это хорошо здесь, где всем знаком ее невинный образ жизни и приязнь, которую питают ко мне, окружают ее благосклонностью. Но в другом месте… это невозможно! Придется как-нибудь обойти препятствие: Натали поедет сначала на месяц — скажем, для того, чтобы привести в порядок некоторые дела по материнскому наследству, связанные с ее предстоящим совершеннолетием. Она останется в Париже под различными предлогами; в крайнем случае мы охладим нетерпение Эвелины обещаниями. К тому же Эвелина — девочка добрая, и когда на нее не будет влиять Натали, она снова станет очень милой. — В добрый час! — воскликнул Амедей. — Но что вы там будете делать с Натали? Девушка в двадцать лет, которая очень хороша собой и тщеславна, хотя и не кокетлива, разве она может и должна жить одна? Ведь ей поневоле придется быть одной целый день из-за вашей занятости. — Я вызову из Пуату свою старшую сестру; она охотно повидает Париж и будет жить вместе с нами. Она станет присматривать за Натали; это тихая, добрая и неглупая женщина. — Мадемуазель Элиза Дютертр — прекрасная женщина, однако Натали ее ненавидит. — Как? Ее тоже? Бедную старую деву, без претензий, не имевшую успеха даже в прошлом? — Когда ваша сестра приезжает сюда, она позволяет себе считать ваших дочерей несколько избалованными, и это возмущает Натали. — Стало быть, она будет ненавидеть и мучить мою бедную сестру так же, как мою жену? Ну, ничего. Элиза — женщина спокойная, твердая и сумеет дать ей отпор. Можешь быть уверен, пребывание в Париже не поможет осуществиться мечтам Натали о блеске и славе. Это не входит в мои намерения. У нее не будет салона, она станет жить в уединении, хочет она этого или нет. Я сам не люблю света и никогда не понимал, как можно посвящать жизнь пустой болтовне. Вдобавок тебе надо узнать одну вещь: мое состояние, великолепное на вид, так как в нем, наряду со щедростью, царствует порядок, обеспечено ничуть не больше, чем любое другое. Много лет назад я поручился за очень близкого друга, который потерял свое состояние и восстановил его благодаря мне. Но он умер в Америке, не возвратив мне своего долга и не вернув мне моего поручительства. Это достойнейший Мэрри, мой свойственник, посылавший тебе когда-то из Мексики и Бразилии таких красивых бабочек. Если его компаньоны, являющиеся его наследниками, окажутся глупыми или недобросовестными, эта ужасная подпись, которую я тщетно требую обратно, может вынудить меня продать часть моего недвижимого имущества или отдать значительные суммы, которых у меня нет. Таким образом, несмотря на наше с тобой благоразумие, я могу со дня на день оказаться в затруднительном положении, как это может случиться с кем угодно, и тогда буду хоть и не разорен, но весьма стеснен в средствах. Учитывая это положение, я счел нужным если не уменьшить расходы, то по крайней мере не увеличивать их. Я уже совсем было собрался купить чудесный особняк на Елисейских полях, чтобы моя семья могла чаще и дольше бывать в Париже в эти годы моих длительных изгнаний, но побоялся поступить неосторожно и удовольствовался небольшой наемной квартирой, где я принимаю только мужчин, серьезных людей. Поэтому моя дочь, живя со мной, не сможет быть хозяйкой салона и не получит свиты остроумцев. Как бы она ни презирала мои буржуазные взгляды на этот счет, ей придется смириться с буржуазным существованием — маленькое наказание, которое она заслужила и на которое сама напросилась. Только бы оно оказалось для нее целебным и научило ценить домашний очаг, откуда она сама себя изгоняет, — и тогда ее возвращение впоследствии будут приветствовать, как возвращение блудного сына. Решив, что это будет наилучшим исходом, дядюшка и племянник расстались. На следующий день Дютертр объявил старшей дочери о принятом им решении, не сообщив ей, однако, о своем проекте вызвать в Париж старую мадемуазель Дютертр и о намеченном им плане вести жизнь уединенную и экономную, ибо он опасался бури, которая болезненно отзовется на Олимпии. Вынужденный хитрить с Натали, он, подготовив ей неприятный сюрприз, решил, когда наступит минута ее гнева и разочарования, страдать от этого один. Натали, полная блистательных надежд и не желая приобщать такую соперницу, как Эвелина, к своим будущим триумфам, искренне обещала отцу выполнить его план и спокойно расстаться с сестрой в конце парламентских каникул. Отягощенное неприятными заботами чело музы немного прояснилось, и так как она приписала снисходительность отца желанию Олимпии избавиться от нее, она прекратила преследовать и мучить мачеху, хотя не перестала втайне осуждать ее. Таким образом, Олимпии была дана передышка, и она, не зная о том, что готовится и сколько выстрадал ее муж, вообразила, будто ему удалось примирить ее с падчерицей… «Это благородное сердце умеет творить чудеса, — говорила она Амедею, думая, что он один посвящен в тайну ее страданий. — Оно согревает всех, как солнце, и растапливает лед на вершинах гор». И Олимпия стала выздоравливать, как согнутое бурей растение распрямляется после грозы. Что же делал Тьерре в Мон-Ревеше в то время, как в Пюи-Вердоне происходили эти семейные события? С того вечера, как Эвелина пыталась вызвать у него ревность к Амедею, то есть примерно в течение недели, Тьерре там не появлялся. Он написал, что, спрыгнув с лошади, глупейшим образом вывихнул ногу, но что надеется вскоре поправиться и в ожидании того счастливого дня, когда он сможет снова ревностно служить дамам Пюи-Вердона, попытается заглушить свои страдания и преодолеть скуку, написав четыреста стихов, от которых мадемуазель Натали не пожелала его освободить. «Я обещал написать их, — добавил он, заканчивая письмо, — но не обещал прочесть их вслух или дать прочесть другим. Поэтому пусть мадемуазель Натали успокоится — таким образом моя верность слову, которое я ей дал, не будет иметь гибельных последствий». Дютертр навестил Тьерре и едва не застал его в ту минуту, когда тот взбирался на лесенку, чтобы иначе расставить вещи, так как он намеревался украсить по своему вкусу свой новый замок. Тьерре успел быстро всунуть ногу в домашнюю туфлю, броситься в кресло и принять томно-болезненный вид. Амедей тоже приезжал справиться о здоровье, но к этому Тьерре уже был готов. На нем была непременная домашняя туфля, он даже довольно сильно прихрамывал и все еще не мог обуться и выйти из дому. Эвелина узнала, таким образом, все подробности, которые ее интересовали куда больше, чем она в этом признавалась, — и успокоилась. Почему Тьерре, нога которого была в полном порядке, прибегнул к этому средству, чтобы не возвращаться в Пюи-Вердон? Это мы узнаем в следующей главе; но раньше закончим эту главу вопросом, который поставил себе Тьерре, а, возможно, в эту минуту и наши читатели: что же такое, в сущности, представляет собой эта замкнутая натура, почти немой персонаж — Олимпия Марсиньяни, жена Дютертра? Читатель немного больше осведомлен об этом, нежели Тьерре, и тем не менее он не смог бы разрешить все сомнения, обуревавшие нашего наблюдателя, который был проницателен от природы и озабочен в силу обстоятельств. Для того чтобы узнать, каким образом эта загадка стала преследовать Тьерре, надо не прерывать ход событий, а следовать за течением его мыслей в уединении Мон-Ревеша.XVI
«Что и говорить, — писал Тьерре Флавьену через несколько дней после его отъезда, — изобретение это, разумеется, не из новейших, но к нему прибегали и будут прибегать всегда и везде. Мигрень была создана для женщин, не желающих появляться перед гостями; вывих придуман для мужчин, не желающих ездить к ним в гости. И то, и другое — это случайности, которым не нужна видимая причина; никто не может утверждать, что их нет, ибо никто не может доказать, что они есть, не говоря уже о том, что они не оскорбляют наше воображение: вывих не калечит мужчину, а мигрень не уродует женщину. Однако вывих имеет перед мигренью то преимущество, что он может тянуться сколько угодно, но может пройти и за одни сутки. Вывих, конечно же, изобретен ради мужчин, потому что требует проявления большей духовной силы. Одним словом, у меня этот вывих появился в замке Пюи-Вердон на следующий вечер после твоего отъезда, когда Эвелина строила глазки, складывала губки бантиком и всячески изображала котеночка перед своим двоюродным братцем — то ли чтобы подогреть его чувства, то ли чтобы распалить мои. Что касается первого, то я расценил ее ухищрения как вещь весьма заурядную и классическую до скуки. По поводу же второго я пришел к заключению, что слишком давно служу средством для подогревания страстей двоюродного братца и теперь, сыграв свою роль и сослужив свою службу, имею право на некоторый отдых. «Если сомневаешься — лучше воздержись!» — гласит народная мудрость. Вот я и воздержался и не поехал в Пюи-Вердон; но уж коли принадлежишь к высшему обществу, так нельзя не сослаться на вывих в качестве извинения. И если к тому времени, когда нога моя излечится, не излечится мое сердце, я съезжу проверить свои шансы. Напрасно, дорогой Флавьен, ты трижды сказал мне: женись на Эвелине. Эти слова меня всполошили, как пророчество макбетовских ведьм: «Ты будешь королем»[189]. На женщинах, которые нравятся, женятся редко, потому что с самого начала от них требуют полного совершенства. В конце концов их отвергают, так как слишком большая требовательность не прощает ни одного недостатка. Для тех удовольствий, которых я ждал от ее общества — удовольствий чисто интеллектуальных, чисто поэтических и совершенно невинных, — я находил Эвелину восхитительной. Но отсюда до намерения сделать ее своей единственной подругой и спутницей жизни еще слишком далеко. Моего доверия к ней, будь она не девушка, а молодая вдова, хватило бы самое большее на желание стать ее любовником. Не то чтобы она была особенно хитра: нет, она обыкновенная деревенская кокетка. Разумеется, я бы не боялся, что она будет меня обманывать: для такой игры она недостаточно сильна; но зато у нее какая-то мания играть человеком, как веером, — без конца теребить его, трясти и дергать. Если же тебя без конца теребят, ты быстро изнашиваешься и в один прекрасный день ломаешься, — а к чему же позволять избалованному ребенку, который даже не знает, ценная ты вещь или грошовая безделушка, ломать тебя на мелкие куски? И наконец, дорогой друг, поскольку я должен извиниться за то, что, несмотря на твое искреннее участие, не последовал твоим добрым советам, сделаю тебе признание: я уже не настолько молод, чтобы женская болтовня поглощала меня целиком. Мне скорее нужна добрая женщина, которая сколько-нибудь занималась бы мною, чем прелестница, которая постоянно желала бы занимать меня собой. За неимением этого идеала я возжаждал работы и одиночества, чтобы по крайней мере понять, смогу ли я в полном одиночестве удовлетворить свою потребность в работе. Первый вечер был премерзкий. Дул ветер — такой сильный, что он даже привел в движение флюгера твоего замка; но как же неохотно они вертелись! С каким хрипом, с какими жалобными стонами! Из-за этого я стал нервничать, как собака на птичьем дворе, и мне ужасно захотелось всю эту ночь провыть на луну. Я подумал о госпоже Элиетте, и когда сказал себе, что, может быть, ты ее увидел и из-за нее так внезапно покинул меня, то стал опасаться, что сам я — не более чем трусливый писака, недостойный даже галлюцинации, годный лишь на го, чтобы описывать чужие приключения, и неспособный иметь своя собственные. Короче говоря, я ничего не увидел, стал зевать и заснул, а наутро проснулся более чем когда бы то ни было «автором» — то есть существом столь же холодным, глупым, старательным и терпеливым, как паук, ткущий свою паутину в углу, куда не залетают мухи. Сейчас я опять ожил и пишу с удовольствием и жаром. Дело в том, что мы, романисты, постоянно имеющие дело с выдумкой, должны хорошенько разжечь свое воображение для того, чтобы вспыхнуло сердце. Пустившись в мир мечты, мы готовы принять и реальность. Мы становимся хозяевами этой реальности, потому что от нас зависит приукрасить ее и приспособить к себе. Если бы в эту минуту моя белокурая Эвелина нанесла мне визит, я встретил бы ее наилучшим образом и наговорил бы ей множество нежностей — только бы она позволила мне остаться в шлепанцах и не вставать с моего кресла. Очень может быть, что, пока я предаюсь мечтаниям, Эвелина уже дала распоряжение огласить свою помолвку с Амедеем Дютертром. Но что мне до этого? Здесь, в моем мире эгоистического созерцания, она принадлежит мне гораздо больше, чем ему. Я усаживаю ее как хочу, одеваю по своему вкусу, заставляю говорить о том, что мне интересно. Право же, она гораздо больше нравится мне теперь, когда я ее не вижу; я даже не желаю ее видеть, чтобы сохранить свежее и забавное воспоминание об этой недельной страсти, не имеющей никакого будущего. Ну, а ты, дорогой Флавьен, расскажешь ли ты мне наконец о причине своего отъезда? Вспомни, что я полюбил тебя потому, что ты этого захотел. Ты ведь назвал меня искренним и даже преданным другом — это было в наш последний вечер в гостиной канониссы; в этой самой гостиной я сейчас сижу и пишу тебе, весьма довольный жизнью: ноги в тепле, голова полна, сердце пусто. Хорошо, если бы и не мог сказать о себе то же самое!Несколько дней спустя Тьерре получил на свое письмо следующий ответ:Жюль Т.»
«Дорогой друг, вывих — это не только одно из прекраснейших открытий нашего времени, это еще и прекраснейшее преимущество нашего пола. Я всегда успешно им пользовался. Конечно, это только полумера, но и слава богу, что ты не нуждаешься в сильных средствах, которые пресекают болезнь в самом корне. Я же находился именно в таком положении, и мне нужна была не хромота, при которой я еще мог бы пойти на попятный, а, напротив, вся моя прыть, чтобы побыстрее унести ноги. Я хорошо знаю твою скромность, поэтому расскажу тебе все без пышных фраз, без острот, даже без попыток развеселиться, потому что сколько ни смейся над собой при некоторых обстоятельствах, страдать от них приходится ничуть не меньше. Вот уже тридцать лет мы смеемся вместе; о некоторых предметах, о мужчинах и женщинах вообще мы иногда разговариваем серьезно, но всегда изо всех сил стараемся не показываться друг перед другом такими, какие мы есть. Откуда происходит эта скрытность или притворство? Не знаю. Думаю, что тут была твоя вина; но не будем к этому возвращаться, и раз уж ты так поздно понял мои настоящие чувства к тебе, постараемся наверстать упущенное время. Так узнай же меня таким, каков я на самом деле. Я никогда тебе не лгал, однако и не говорил тебе всего. В своих страстях я горяч, упорен, порывист — это все ты знаешь; но ты не знаешь, что я впечатлителен и пылок, как пансионерка. Тут я в последний раз разрешаю тебе рассмеяться, потому что сравнение в самом деле забавно; мои претензии на чувствительность нервов и на тонкость чувств несовместимы с моей галльской мускулатурой и безмятежным, как гипсовая маска, лицом. Я пользуюсь теми выражениями, в которых ты нередко описывал мой тяжеловесный внешний облик. Но посмеялись — и довольно. Перехожу теперь к своему рассказу. На следующий день после нашего первого приезда в Пюи-Вердон (в тот день, когда играли на клавесине) я задремал в парке на скамейке и, проснувшись, обнаружил в своей шляпе цветущую ветку; цветок с этой ветки я воткнул себе в петлицу, и первой женщиной, на которой я увидел та же цветы, была Олимпия Дютертр. Глаза мои отметили это, ее глаза тоже. Однако она казалась совершенно спокойной, а я… Поверишь ли ты, что я имел глупость покраснеть? Говорил же я тебе, что кое в чем похож на барышню! Я почувствовал, что краснею как рак, что было, вероятно, очень некрасиво и еще более смешно; в общем, лицо у меня горело и кровь так сильно бросилась в голову, что на минуту у меня потемнело в глазах. Когда же мрак рассеялся, я увидел, что эта холодная и бледная женщина, чей взор я пытался разгадать, несмотря на чуть не поразивший меня удар, покраснела так же, как и я, и, встретившись со мной глазами, отвернулась то ли в испуге, то ли в смущении. Все это произошло в одно мгновение и было замечено, может быть, только молодым Дютертром, у которого есть невинная (или опасная) привычка все время смотреть на свою молодую тетку, в которую он, если я не ошибаюсь, отчаянно влюблен. Будь я романистом, как ты, я сказал бы, что наше обоюдное смятение и взгляд, которым мы обменялись с госпожой Дютертр, решили мою судьбу. Но мне известно, что ты, хоть и вставляешь подобные вещи в свои книжки, сам не веришь в них ни на грош, поэтому я обойдусь без них и скажу лишь, что они предопределили для меня весь конец недели. Как только я смог подойти к госпоже Дютертр, не опасаясь, что за мной наблюдают, я спросил ее, почему она предпочитает азалию другим цветам, и между нами завязался по этому поводу разговор, который она весьма ловко прерывала, а я весьма неловко, но упорно начинал сызнова. В конце концов ей пришлось меня понять; она как-то странно вздрогнула, отвернулась и замолчала. Я взял ее за руку, она повернулась ко мне с удивленным видом; я был еще более удивлен, чем она, увидев, что ее лицо залито слезами. Тьерре, я не люблю слез, я видел их немало. Но эти слезы, уверяю тебя, были непритворные, прекрасные слезы — те, которых не сдерживают, потому что не чувствуют, как они льются, те, которые мужчине, их виновнику, хотелось бы осушить губами. Я понял, что совершил промах. Я задавал свои вопросы слишком прямо, даже, может быть, запальчиво. С жаром я поцеловал ее руку. Она не слишком быстро отняла ее и сказала: «Вы находите, наверно, что я очень слаба и нервна, если на меня действуют такие пустяки. Но мне вдруг почудилось, что вам с целью подсунули те цветы, которые я ношу сегодня, чтобы сыграть со мной оскорбительную шутку. Однако теперь я вижу, что в этой шутке нет ничего оскорбительного, скорее всего это простая случайность». «Значит, вы думаете, — сказал я, — что цветущая ветка, только что срезанная ножницами, может случайно упасть в шляпу спящего человека? Я не вижу здесь, да и во всем мире не знаю мужчины, который осмелился бы посмеяться надо мной ради того, чтобы вызвать на дерзкий поступок. О нет, сударыня, это женские проказы, и я был бы счастлив, если бы оказалось что ветку бросили вы». «По-вашему, это проказы?» «Но ведь вы сами только что назвали это шуткой?» «Ну, конечно! — сказала она. — Как же еще следует называть такие вещи?» Тут она меня покинула и появилась снова только через полчаса. Теперь на ее косынке уже не было цветов, но сама она казалась совершенно разбитой. Тьерре, ты знаешь, я не фат. Я уже не мальчик. Заявляю тебе: я вовсе не уверен, будто именно госпожа Дютертр бросила цветок азалии в мою шляпу. Это не соответствует ни ее внешней сдержанности, ни скромным и достойным ее манерам, ничуть не похожим на взбалмошность провинциалки. Не хочу ломать себе голову над тем, кто именно это мог быть; готов согласиться, что такую злую шутку могла сыграть со мной одна из трех дочек. И тем не менее какая-то тайна, касающаяся госпожи Дютертр, была связана с этой пустячной историей, и я больше не могу оставаться равнодушным. На следующий день, если помнишь, мы с семейством Дютертр ездили на охоту. Ты, не видевший ничего, кроме быстрого коня, уносившего в лес Эвелину, разумеется, не заметил, как я, когда все разъехались, влез в коляску, которая увозила Олимпию в назначенное для общей встречи место. Я объявил, что дорога дальше испорчена, но кучер этого не заметит, потому что там все залито водой, и под этим предлогом захватил поводья, а собственную лошадь, естественно, передал кучеру, потому что рядом больше никого не было. Таким-то образом, подстегнув лошадей, впряженных в коляску, я ухватил, чуть ли не за волосы, случай побыть наедине с госпожой Дютертр. И тут ловко или неловко я опять заговорил о цветах азалии. «Сударь, — тотчас же возразила Олимпия, — не надо вникать в эту нелепую историю. Этим вы очень огорчите меня, да и последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем дело стоит. Думайте обо мне что хотите, но не обвиняйте никого в том, что со мною или с вами сыграли злую шутку». «Простейшее объяснение, естественное и откровенное, заставило бы меня замолчать навсегда, — ответил я. — Если же вы боитесь дать его мне, значит, вы считаете меня человеком, не умеющим себя вести или не знающим, что такое честь». «Ни то, ни другое, — сказала она, протягивая мне руку с очаровательной кроткостью. — Просто бывают минуты, когда от излишней мнительности можно преувеличить значение или умысел обыкновенной шутки. Так было со мной вчера. Сегодня я уже о ней не думаю. Будьте же нашим другом и постарайтесь тоже забыть всю эту историю». В том, как она произнесла слова: «Будьте нашим другом», было что-то умоляющее, что сразу тронуло мое сердце. Я люблю слабых женщин, которые просят о покровительстве. И я сразу же почувствовал себя ее другом. «Вашим другом? — сказал я. — Да я и сейчас ваш друг. Только мне хотелось бы быть им настолько, чтобы внушить вам некоторое доверие. Не можете ли вы объяснить мне по крайней мере, почему именно меня, чужого человека, нового знакомого, выбрали, чтобы устроить всю эту ядовитую шутку с цветами, которая так меня опьянила, что я осмелился заговорить о ней с вами?» «Я раздумываю об этом так же, как и вы, — сказала она, — и, клянусь вам, ничего не понимаю. Умоляю вас, давайте не будем искать этому объяснение». «Но разве мне нельзя искать его самому? Кому-то здесь пришло в голову пококетничать или подшутить надо мной — так могу ли я не желать выяснить, кто это был? Ведь все женщины, которых я здесь вижу, не говоря уже о вас, сударыня, или прекрасны, или очень красивы!» «Ах, сударь, не думайте, пожалуйста, что какая-нибудь из моих дочерей могла быть настолько легкомысленна и настолько лишена гордости, чтобы оказывать подобные знаки внимания мужчине, даже самому благородному и надежному». «Значит, по вашему мнению, это очень компрометирующий поступок? Берегитесь же, как бы мне не открыли настоящую виновницу». «Тогда… — возразила она с беспокойством, — тогда лучше уж будем считать, что это сделала я». «Вы? К сожалению, нет. По тому, как вы порицаете этот поступок, я вижу, что это не вы». «Почему же? Приступ дурачества! Вы ведь меня не знаете!» Говоря это с видом вымученной веселости, она так печально улыбнулась, что я опять был растроган до глубины души. Не знаю, так ли сильно я люблю женщин, как ты, к чести моей, предполагаешь; но я страстно люблю детей — кротких, миловидных и хрупких. Так вот, в Олимпии есть нечто от такого ребенка, в ней есть какая-то пугливость, которая меня просто пьянит; это не робость и не неловкость; напротив, она очень привыкла к обществу, и у нее прекрасные манеры. Но душа ее вечно трепещет в испуге; взгляд ее — это взгляд голубки, которая боится ястреба. И этот невинный взгляд невольно ласкает вас: кажется, что это скромное и, быть может, холодное созданье вот-вот превратится в ребенка и кинется вам в объятия — ища скорее всего не любви, а защиты и покровительства. Меня очень взволновала эта разновидность невольного кокетства — признаться, для меня совершенно новая. Женщина, говорившая: «Будьте осторожны со мной, может статься, что я смела и опасна», с таким видом, будто молила: «Не убивайте меня, я робка и безобидна», завладела моей душой — или моими чувствами (я никогда не умел отличить одно от другого) — совершенно неизъяснимо. Кровь снова бросилась мне в голову, еще сильнее, чем накануне, кажется, я чуть ли не сжал ее в объятиях и вообще вел себя совершенно нелепо; она же окаменела от изумления, сочла меня сумасшедшим и уже не слушала больше, а только озиралась по сторонам в надежде, что появление кучера заставит меня держаться на почтительном расстоянии. И кучер действительно появился. Я выскочил из коляски, сел на коня и уехал, весьма недовольный своей глупостью, сам не понимая, как это я оказался таким невоспитанным грубияном, что напугал порядочную женщину, которая чистосердечно и великодушно пыталась защитить репутацию своих глупых падчериц. Что сказать тебе? Стыд и раскаяние сменились порывом воображения, с которым я долго не мог совладать. Я уехал в лес и появился в замке только вечером; вы с Дютертром стали беспокоиться по поводу моего исчезновения. Я старался быть с госпожой Дютертр таким почтительным, что она должна была простить меня. Но после этого дня, милый мой Тьерре, я и глаз не сомкнул до тех пор, пока наконец не уехал из Морвана. В течение всей этой проклятой недели я ежедневно принимал решение не покидать замка Мон-Ревеш, и ежедневно какой-то черт, вселившийся в меня, уносил меня в Пюи-Вердон; я просил прощения у госпожи Дютертр, на все лады выражая почтение и раскаяние. Но каждый день, прося прощения, я делал новую глупость — говорил или давал понять, что безумно влюблен. Это было настолько непроизвольно, что она не могла на меня сердиться. Она только удивлялась, робела, глядела на меня огромными умоляющими глазами перепуганной газели и извинялась за то, что совершенно не может меня понять. И, право же, иной раз можно было поручиться, что она меня не слышит или не может разгадать. Наконец, однажды вечером, когда она опиралась на мою руку во время прогулки, а я испытывал бессознательное, но яростное желание не только поддерживать ее, но и разбить физиономию всякому, кто пожелал бы ее у меня отнять (причем, повторяю, все это были совершенно непроизвольные чувства), она стала говорить мне о муже с таким восхищением и даже восторгом, что я замкнулся в себе. Что я мог ей ответить? Она тысячу раз права, что почитает мужа, уважает семью и исполняет свой долг с любовью. Поскольку я никогда не собирался соблазнять ее, просто был ошеломлен слепым и невольным желанием ошеломить и ее тоже, я ничего не мог ей возразить, а себе просто не находил извинения. Тем более что ее муж заслуживает всего того хорошего, что она о нем думает и говорит. Это один из самых симпатичных людей, которых я когда-либо встречал, и я люблю его, как если бы мы были знакомы двадцать лет. Таким образом, я сыграл тут отвратительно глупую роль, и мне оставалось только отвечать: да, сударыня, ваш муж прекрасный человек и отличный друг. Грубая скотина, которая захотела бы отнять у него жену, сто раз заслуживает пощечины, и эта гнусная скотина — я сам, назло чести, дружбе, благоразумию и деликатности. Разумеется, свои доводы я оставил при себе, а вслух только и пел с ней в унисон хвалы Дютертру; в Мон-Ревеш я вернулся дождливым вечером, чувствуя себя большим дураком, но полагая, что исцелился. Мы с тобой протолковали часть этой ночи; если помнишь, мы говорили о тебе, обо мне, об Эвелине и о госпоже Элиетте. Потом я пошел к себе в комнату, чтобы лечь спать. Так вот! Дьявол не отстает от меня, друг мой. Первое, что я обнаружил на своем столе, была ваза с цветами белой азалии — с теми самыми проклятыми цветами, которые наделали столько бед. Цветы были из Пюи-Вердона, они завяли. Их поставили в воду, и они уже начали оживать, но ясно было, что они проделали целое лье, добираясь до моей комнаты. Опять бессонная ночь! На рассвете я встаю, осматриваю сад, ферму, всю растительность, какая есть в окружности. Ни стебелька азалии, которая с помощью, ну, скажем, Манетты могла бы проникнуть под мою крышу. Возвращаюсь домой, вижу Манетту, которая открывает жалюзи в гостиной, чтобы явить зрелище утренней зари своему допотопному попугаю. Я ее расспрашиваю — она понятия не имеет, о чем я говорю. И тогда меня начинает разбирать гнев. Что же это такое? Одно из двух: или госпожа Дютертр со всем своим простодушным чистосердечием — жестокая кокетка, или же кто-то другой, жестокий и беспощадный, намерен ее скомпрометировать и погубить. В том и в другом случае я больше не в силах сопротивляться своим чувствам. Кровь моя уже закипела, первобытный инстинкт овладел мною, и как бы я ни смеялся над собой, как бы себя ни презирал, я понял, что не устою и окажусь либо очень виноватым, либо очень смешным — но в обоих случаях очень недовольным собой. И тут я увидел, что во двор вводят — в самое время! — новую лошадь, за которой я прошу тебя оставить данное мною имя, — Загадка. Она оказалась достаточно рысистой. И я обратился в бегство — и остановился только в Париже. У меня началась ужасная мигрень, которая продолжалась три дня. Врач хотел пустить кровь; однако что бы там ни говорили, я не верю, будто у человека может быть излишек сил; по моему мнению, самое злоупотребление своей силой показывает, что ее у человека недостаточно. Все это время я много занимался физическими упражнениями и теперь чувствую себя лучше. Правда, остались еще следы той нервной лихорадки, которая, как ты знаешь, иногда у меня бывает, и порой мне хочется поколотить какого-нибудь прохожего; но я никого не бью, надеюсь, что не прибью даже собственную собаку. Напиши мне; расскажи про Пюи-Вердон. Быть может, через некоторое время твоя оценка событий заставит меня от души посмеяться. В секретере у меня в комнате ты найдешь сотню тысячефранковых билетов, которые я там забыл. Это плата за мое морванское имение, которую нотариус Дютертра принес мне на следующий день после того, как я вручил Дютертру доверенность. Мне они сейчас не нужны. Сохрани их для меня, а пока можешь брать сколько тебе понадобится. Если меня разыгрывала Эвелина, я прощаю ей ради тебя; но если это Натали, то пусть постарается не встречаться со мной в обществе! Не знаю почему, но я подозреваю именно ее. Когдаумная женщина не смешна, она непременна очень зла. Прощай, друг мой, я писал тебе целую ночь и целую ночь волновался, излагая все это. Может быть, я напрасно не остался около тебя, ты бы излечил меня своими рассуждениями… Порой мне страшно хочется вернуться в Мон-Ревеш… Но, право же, это слишком близко от Пюи-Вердона».
XVII
Приведенное выше письмо Флавьена вызвало у Тьерре большое напряжение ума, разрешившееся следующими размышлениями: «Счастливый юноша! Какая богатая натура! Решительно, он стоит выше меня в иерархии живых существ, как и на лестнице сословных предрассудков. Как он вспыхивает, чувствует, борется, падает снова и наконец выходит победителем! За неделю он забыл гетеру, воспылал страстью к чистой женщине, сказал ей об этом и в эту минуту — кто знает? — мог бы ее победить. Но он кусает платок, теряет сон, чувствует, что она слаба, — и уезжает! Забвенье грубых удовольствий, жажда иных радостей, победа чести, совести и доброты… ведь эти качества тоже ему присущи… и все это он пережил за одну неделю! А что я? Я за это время забыл, что влюблен в Олимпию, но так и не решился влюбиться в Эвелину. Ну, конечно же, Флавьен превосходит меня: он человек действия, а я только мечтатель. Но кто же все-таки прислал эти цветы, из-за которых он так быстро уехал?» Думая об этом, Тьерре вошел в комнату, где жил Флавьен, спрашивая себя, оставил он или увез этот последний дар любви или коварства. Там оказалась Манетта — она проветривала помещение. — Вам что-нибудь угодно, сударь? — спросила она. — Вот именно, сударыня! Что сталось с цветами, которые были здесь в день отъезда господина де Сож? — Ах ты господи, опять эти цветы! Это какая-нибудь штучка госпожи Элиетты. Она выкидывает всякие штучки. — Объяснитесь, сударыня. — А что я могу объяснить? Я сама ничего не понимаю. В день своего отъезда господин граф меня спрашивает — даже сердито спрашивает, где я взяла цветы, что стоят у него на камине. А я туда никаких цветов не ставила, я их и не видела, когда вечером заходила в комнату, чтобы растопить камин. Я ему клянусь, что это так, а он говорит, что цветы там стоят. Рассердился, отвернулся и уехал совсем! Так вот, сударь, клянусь вам, что эти цветы ему приснились или померещились: ведь после его отъезда я здесь все убирала и вот эта ваза была пуста. «Он увез их с собой, — сказал себе Тьерре. — Так-то! Значит, он все еще хочет верить, что любим, и верит в это, несмотря ни на что, как бы там ни было!» Тьерре подошел к камину, где стояла небольшая ваза из старинного фарфора, на которую указывала Манетта, взял ее в руки и стал рассматривать. — Не беспокойтесь из-за этих цветов, Манетта; их сюда поставила не дама в маске, а я. Они были прекрасны… Какая хорошенькая вазочка! Тьерре перевернул вазу, и оттуда выпал клочок пергаментной бумаги, привязанной ниткой к сломанному и высохшему стеблю цветка. Когда Флавьен брал букет и выливал воду, он не заметил пергамента, на котором было что-то написано. «Нет сомнения, — подумал Тьерре, овладевший этой уликой, не привлекая к ней внимания Манетты, — что стебли цветов надломила грубая и неловкая рука. И только тупица мог сунуть в воду вместе с цветами эту бумажку, на которой теперь ничего нельзя разобрать. Похоже на то, что тут действовали рука и голова господина Креза. Он сопровождал нас в тот вечер. И он мог войти сюда, когда мы поднялись в башню за портретом госпожи Элиетты. Я все это выясню!» Тьерре рассмотрел таинственный клочок со всех сторон, но это было бесполезно. Раньше на нем было что-то написано, и еще можно было различить верхушку прописной буквы, но она так же точно могла быть частью буквы «О», как и любой другой. Удостовериться в чем-либо было невозможно. Тогда Тьерре снова уселся за свой рабочий стол в гостиной канониссы. Он полюбил эту комнату, даже вместе с унылым попугаем, вечно составлявшим ему компанию, ибо, по словам Манетты, попугай не мог усидеть спокойно нигде, «кроме как тут, где он так уж привык». Но напрасно Тьерре пытался вернуться к своему сочинению. Он был слишком озабочен похождениями Флавьена и всем тем, что в этих похождениях напоминало о Пюи-Вердоне. И он стал думать о загадке, которой ни он, ни Флавьен, ни многие другие не смогли бы разрешить: что же такое Олимпия Дютертр? Фея, кокетка, сумасшедшая, ангел или дура? «Флавьен не ломает голову над этими вопросами, — думал он. — Единственная загадка, которую он пытался разрешить, подгоняя свою лошадь, получившую от него это прекрасное имя, заключалось в том, чтобы выяснить, любим он или нет. Опять-таки, какая богатая и счастливая натура! Он видит в женщине лишь то, что ему инстинктивно нравится: кротость и грацию, и хочет только, чтобы она принадлежала к тому типу, который он любит. Он не выискивает, как я, достоинства и недостатки, чтобы их потом анализировать. Ах, до чего же я завидую его восторгам и его страданиям!» Размышляя таким образом, Тьерре чувствовал, что Эвелина, сложный тип, алогичная, недостаточно цельная натура, изучение которой только развивало его бесплодную, назойливую и утомительную страсть к мелочному анализу, все больше отталкивает его. Ему уже не хотелось о ней думать. Мыслями его завладела госпожа Дютертр. Портрет ее, начертанный Флавьеном, грубый, неумелый набросок, эскиз, лишенный тонкости, но пламенный в своем простодушии, все время вставал в его памяти, как скрытая покрывалом Изида[190], которую он забыл, не захотел или не счел нужным подвергнуть наблюдению. И, отрываясь от Эвелины, как от трудной головоломки, он ставил перед собой другую головоломку, труднейшую, стараясь разгадать судьбу гораздо более загадочную и сердце куда более непроницаемое. «И, однако, этот тайный свет блеснул мне однажды, — думал он. — Когда я увидел эту женщину в Париже, я думал о ней целую неделю, пожалуй, даже две. Она поразила, удивила меня смесью сдержанности и непринужденности. Я смеялся, подшучивал, описывая ее Флавьену как сотканную из противоречий, но ведь в каждой шутке по собственному адресу есть доля правды. Я был если и не влюблен, то на пути к этому, и сюда я приехал не только с целью поохотиться и подышать воздухом; в глубине этих лесов в самом деле таится аромат приключения, который меня притягивал. Если б я последовал своему первому побуждению, быть может, я был бы сегодня влюблен, как Флавьен. Быть несчастливым, как он, то есть уверенным в собственной склонности побеждать в себе совершенно определенное, пылкое желание, — да это было бы счастье, которое давали мне другие страсти и которого я еще жду от любви. Я не убежал бы, как он: я мучился бы, я бы жил… а вместо этого я скучаю! Флавьен отказывается от нее, и он прав. У него с Дютертром были денежные отношения, в которых тот показал себя таким хорошим соседом, или, скорее, другом, что было бы просто непорядочно ухаживать за его женой у него на глазах. К тому же Флавьен принадлежит к людям, которые не умеют ждать и бросаются сразу в гущу опасности, хоть они и раскаиваются в этом на следующий же день. Но я ведь ничем не обязан Дютертру, и, кроме того, мне не нужна драма, я предпочел бы поэму. Только фаты и дураки сразу решаются погубить женщину и довести до отчаяния мужа. Умный человек просто шагает вперед как придется, срывая на своем пути цветы или плоды, не думая о том, чтобы кого-нибудь погубить или ограбить, пользуясь жизнью, но ничем не злоупотребляя. И так как настоящими преступлениями являются лишь те, что обдуманы заранее, умный человек может и должен быть счастлив, не опасаясь причинить несчастье своим ближним». Нагромоздив таким образом кучу софизмов в свою пользу и заставив замолчать все сомнения, этот ум, более гибкий, нежели непреклонный, предался новой фантазии. — Сегодня вечером мой вывих будет исцелен! — сказал он, толкая ногой подушку, которую доверчивая Манетта каждое утро клала под его письменный стол. Большими шагами он прошелся по гостиной и вдруг увидел в окне простоватую и вместе с тем хитрую физиономию господина Креза, который с восхищением наблюдал из сада за тем, как свободно Тьерре расхаживает по комнате. Уже не впервые паж Эвелины под различными предлогами с видом угодливого соболезнования наблюдал за походкой Тьерре. Захваченный на месте преступления, этот последний не счел нужным скрываться. — Добрый день, господин Крез, — сказал Тьерре, подходя прямо к окну. — Вы толстеете, о богатый Крез, у вас цветущий вид. Нечего и спрашивать, как вы себя чувствуете. Что касается меня, то если в Пюи-Вердоне вас случайно спросят, как я поживаю, можете сказать, что хорошо. С сегодняшнего утра я прыгаю, как козленок. — Вижу, вижу, сударь, — отвечал Крез со своей тяжеловесной хитрецой. — Это очень хорошо, сударь, а то уж больно у вас в тот день был несчастный вид. Бьюсь об заклад, что вам здорово надоело хромать столько времени. Если бы Крез находился в гостиной или Тьерре — во дворе, возможно, писатель и не смог бы подавить в себе желания дать ему пинка и доказать этим, что его нога уже совсем исцелилась. Но, к счастью для Креза, в окне была видна только его голова. — Господин Крез, — ответил Тьерре, пыхнув сигарой ему в лицо, так что тот подался назад, — я всегда замечал, что от природы вы рассудительны. Иной раз вы, однако, делаете глупости. — Что ж, может статься, сударь. — Умеете ли вы читать, юный Крез? — Ей-богу, нет, сударь. — Как! Невежда, вы даже азбуки не знаете? — Ей-богу, нет, сударь! — повторил Крез, сконфуженный и пристыженный. — В таком случае меня больше не удивляет пренебрежение, с которым вы относитесь к этикеткам доверенных вам растений. Вы суете их в воду вместе с букетом и еще думаете, что человек может прочесть название цветка, когда вы целые сутки вымачивали бумажку в этой вазе. Тьерре указал на фарфоровую вазу и на вытащенный им лоскуток пергамента. — Ах, надо же, сударь! — сказал Крез, захваченный врасплох. — Я и не заметил этой бумажки. Значит, тут было название цветка? — А что еще могло бы тут быть, я вас спрашиваю? Ну-ка, можете ли вы сказать мне это название? — Ей-богу, сударь, господа это зовут азалия. — Вот видите! А без вас я бы этого не знал. И когда особа, поручившая вам цветы, узнает, что вы так неосторожно везли их, что они стали просто неузнаваемы… — Но, сударь, я ведь спрятал букет в шляпу! «Бедный Флавьен! Он-то наверное носит его на груди!» — подумал Тьерре. — Госпожа Дютертр будет ругать вас, — продолжал он, — за то, что вы так небрежно обращаетесь с редкими цветами, которые она посылает ценителям. — Ей-богу, сударь, у нас они не в диковинку. У нас этих цветов полон сад, могу вам навезти сколько хотите. И потом, мне ведь дала их не госпожа Дютертр. — Значит, мадемуазель Дютертр; какая разница! — Слушайте, господин Тьерре, не надо ей про это рассказывать: она будет меня ругать. — Неблагодарный! Мадемуазель Каролина никогда никого не ругает. — Так это ж не мамзель Каролина! — Да нет же, я оговорился: я хотел сказать — мадемуазель Натали. — И не она вовсе! — Значит, мадемуазель Эвелина? — воскликнул Тьерре, пораженный и уязвленный сильнейшим образом. — Право же, сударь, похоже, вы хотите из меня что-то выудить! — нахально заявил Крез. — Да мне все равно. Если вы скажете мамзель Эвелине, что я выдал ее секрет, я выдам и ваш. Я скажу, что вы просто на нее дулись и что у вас был такой же вывих, как у нее или у меня. Тьерре очень захотелось удлинить по крайней мере на метр красные уши дерзкого пюи-вердонского пажа; но он совладал с собой, решив обратить все это в шутку. — Хорошо сказано, — заметил он. — Вот тебе за труды трубка, оправленная в серебро, которая принесет тебе почет в обществе. Тьерре ясно прочел в глазах грума, каков был предмет его вожделений. Крез получил трубку, повертел ее в руках, сунул в рот, рассмеялся и подмигнул с наивной радостью дикаря. — Свет не видел такой красоты! — сказал он. — Я буду брать по три су с каждого, кто захочет из нее покурить! — Таким образом вы себе обеспечите недурной доход. Но я еще щедрее, чем вы думаете, Крез; я не расскажу мадемуазель Эвелине ваш секрет и разрешаю вам рассказать ей мой. Признайтесь от моего имени, что я не хромаю и нынче вечером приеду в Пюи-Вердон. — О сударь, это ее порадует, право же, она очень скучает. А уж когда мамзель Эвелине некого позлить… — Да, да, она не может обойтись без меня, я понимаю. Но ведь у нее остались вы, Крез. — Ну, я — это не то: мне сроду не придумать таких глупостей, какие вы рассказываете, чтобы ее насмешить. Есть, конечно, господин Амедей, который тоже немало болтает, да он ей и вполовину не так забавен. К тому же он как раз уехал. — Уехал? Амедей уехал? — О, ненадолго. Всего на три-четыре дня. Он сопровождает хозяйку и мамзель Каролину, которые поехали в Невер к одной даме. Все они вернутся в понедельник. — Значит, госпожи Дютертр нет в Пюи-Вердоне? — Нет, сударь; с самого утра в доме нет никого, кроме хозяина и двух других барышень. — Крез, вы любите трубки, но что бы вы сказали про этот сафьяновый кисет, вышитый золотом? Крез выпучил глаза, покраснел, протянул руку, бормоча что-то, и сконфузился, когда Тьерре отнял у него вещицу, которую он уже считал своей. — Это надо заработать, — сказал Тьерре. — Скажите всем в Пюи-Вердоне, что моя нога очень разболелась, что я ужасно страдаю и что все протянется еще не меньше трех дней. — Что ж, сударь, можно и сказать. — Но раз уж я так расщедрился, то не хочу заставлять вас лгать вашей молодой хозяйке. Так вот, мадемуазель Эвелине — но ей одной, понятно вам? — вы скажите, что у меня не было никакого вывиха: больше, чем у нее или у вас. — Ого! Ого! Но это совсем ее взбесит! — сказал Крез, приятно улыбаясь. — А что? Ей-богу, это хорошо, раз она так хитрит с вами. Но, черт побери, она неправа: вы были бы для нее славным муженьком, ничуть не хуже кого иного, будь вы хоть немного побогаче. — Не каждый может быть Крезом, — смеясь, ответил Тьерре. — Ну, хорошо, беги выполнять поручение — и если ты справишься с ним, то в понедельник я тебя осыплю благодеяниями. В путь! Крез кинулся бежать, но Тьерре остановил его. — Под каким предлогом ты явился сегодня утром? — спросил он. — Под каким — что? — переспросил Крез, которого слово «предлог», по-видимому, заинтересовало. Тьерре объяснил свою мысль, и грум ответил: — Да я прикинулся, сударь, будто забыл тут в прошлый раз недоуздок моей лошади. — А в прошлый раз ты прикинулся, что что-то забыл здесь днем? Ну, ладно, пошел к черту, разрешаю тебе шпионить за мной. Но смотри у меня! Когда мне это надоест — гляди хорошенько! — я сделаю вот так. И Тьерре скорчил ужасающую гримасу. — То есть вы тогда… — сказал грум. И начал тузить воображаемого противника. — Вот именно, о юноша, подающий надежды! А поколотить я могу как следует, имейте эго в виду. — Да уж не забудем, — ответил Крез, исчезая. Тьерре снова уселся за письменный стол и написал записку.«Да здравствуют женщины, друг мой! По сравнению с ними ни один из нас не лучше, чем «Креж». Тот букет азалий, который ты, вероятно, держишь под стеклом, есть знак внимания к тебе Эвелины Дютертр. Давай меняться! Обрати свои домогательства к ней, а мне позволь обратить мои к Олимпии, которая в настоящее время носится по большим дорогам со своим племянником, чтобы вознаградить себя за твое отсутствие».Тьерре, исполненный глубокого презрения к пюи-вердонским дамам и ко всем женщинам на свете, почувствовал, что готов сесть за стихи, обещанные им Натали. С неслыханной быстротой на десяти листках веленевой бумаги он настрочил свободным размером послание, содержавшее не менее четырехсот рифмованных строк. Это была легкая, насмешливая, но не обидная критика женского лукавства во всех его формах. Тьерре был не злой человек — досада никогда не ожесточала его. Он был недоверчив, обидчив, легко мог увлечься игрой, но природное великодушие и уверенность в собственных силах не позволяли ему стать мстительным. Поэтому в его сатире не было никаких намеков ни на Эвелину, ни на госпожу Дютертр. Первую половину ее он писал от полудня до шести часов, вторую — с восьми до полуночи. Почти засыпая от усталости, он запечатал свое послание, надписал адрес и положил его на буфет в передней, откуда Жерве ежедневно брал письма для передачи почтальону в часы его утреннего обхода. Затем Тьерре, собираясь привести в порядок свои бумаги, опять сел за письменный стол, но тут почувствовал такое изнеможение, что оперся о стол локтями, склонил голову на руки и, прислушиваясь к пению сверчка за печкой, незаметно впал в то состояние духа и тела, которое не является ни бодрствованием, ни сном.
XVIII
Во время этого полусна, не лишенного некоторой прелести, ему несколько раз чудилось, что в доме раздаются какие-то необычные звуки. Сначала они его не беспокоили. В Мон-Ревеше не было сторожевой собаки; дом был построен так, что имел выход только во внутренний двор; забор, ограждавший все три фасада, был так прочен, так высок и запирался такой массивной калиткой, что войти в дом украдкой или силой было почти невозможно. Жерве и Манетта, слуги и сторожа замка, ни разу за тридцать лет не легли спать, не заперев внутренний замок на ключ, и не заложив дверь на железный засов, и не осенив себя крестным знамением, которое должно было предохранить их как от госпожи Элиетты, так и от грабителей. Слуга, которого Флавьен поручил, или, вернее, передал, Тьерре и от которого он решил избавиться как от ненужной роскоши, если выяснится, что Флавьен не вернется, спал в комнате нижнего этажа, примыкавшей к конюшне. Звали его Форже; это был надежный, спокойный человек, который не верил в духов. Сам Тьерре не верил ми в духов, ни в грабителей. Он считал, что у него слишком мало воображения, чтобы вызвать одних, и слишком мало денег, чтобы привлечь других. Тем не менее какой-то шорох, уже второй раз почудившийся ему в коридоре, и звук открываемой двери, который, правда, мог оказаться и стуком ставни, колеблемой ветром, окончательно пробудил Тьерре; при этом он вспомнил, что в ящике его письменного стола лежит сотня тысячефранковых банковых билетов и что первый раз в жизни ему не удалось бы посмеяться над разочарованными грабителями. Он поднял голову, протер глаза и увидел, что находится почти в полной темноте. Пока он дремал, масляная лампа потухла, пламя в камине стало гаснуть, и догорающие дрова отбрасывали только слабые красноватые отблески на стены очага. Тьерре поднялся, пошарил по столу, ища спички, и не нашел, нащупал свечу и, подойдя к камину, стал разжигать ее, чтобы, вооружившись этим светильником, обойти дом. Но едва он нагнулся над очагом, как услышал три отчетливых удара в дверь гостиной, — казалось, стучали металлической рукоятью хлыста или легкой трости. «Флавьен приехал», — подумал Тьерре. Продолжая разжигать свечу, отсыревший фитиль которой никак не разгорался, Тьерре, не задумываясь, крикнул: «Войдите!» Дверь отворилась. Кто-то тихо, словно бы с опаской, вошел в комнату. Тьерре, которому наконец удалось справиться со свечой, поднялся и спросил: — Кто там? Ответа не было. Тьерре, стоявший со свечой в руке, мог бы обернуться, но из гордости не желал проявить поспешности, потому что, к своему неудовольствию, почувствовал если не страх, то некое неприятное удивление. Инстинктивно взглянув в каминное зеркало, он увидел позади себя, посередине комнаты, странную, неясную фигуру, которая в тусклом и плохо освещенном стекле казалась сошедшим со стены портретом госпожи Элиетты. «Ого! — подумал Тьерре, почти обрадовавшись тому ощущению тревоги, которое его охватило. — Да ведь это галлюцинация! Наконец-то я узнаю, что это такое»! Он поставил свечу на камин и снова взглянул в зеркало. Теперь контуры загадочной фигуры показались ему более отчетливыми. Убежденный, что все это не более чем игра воображения или простой обман зрения, Тьерре сумел проявить хладнокровие: он зажег еще одну свечу, поставил ее на другую сторону камина и медленно обернулся, сохраняя спокойный вид. Перед ним, не более чем в шести шагах, неподвижно стояла госпожа Элиетта. — Да, это она! — громко сказал Тьерре, тоже стоявший неподвижно; ноги его приросли к земле, но он все еще прекрасно владел собой, хотя и не знал, что говорит вслух. — Амазонка, шляпа, перо, маска, хлыст — все на месте… Волосы белокурые, как у Эвелины, юный подбородок, изящная шея. Прекрасно! Я вижу вас… и сейчас еще вижу!.. Не исчезайте! В эту минуту Тьерре заметил, что произносит все это вслух, и звук собственного голоса его испугал. «Нет, эта болезнь серьезнее, чем обычно думают! — сказал он себе, делая усилие, чтобы не говорить вслух. — Вероятно, это может кончиться сумасшествием. Ну нет, с меня довольно»! Он закрыл глаза, рассчитывая, что, когда он их откроет снова, привидение исчезнет. Но теперь, когда он не был занят созерцанием призрака, он стал думать о том, что сделает, если призрак не рассеется, и опять воспрянул духом. «Нет, я не сумасшедший, — подумал он, — я отдаю себе полный отчет в том, что наблюдаю феномен, о котором много слышал и который сам всегда желал увидеть, хоть и не считал себя способным на это; и теперь, когда со мной это происходит, жаль было бы не испытать все до конца». Преодолев таким образом собственную слабость, он опять открыл глаза. Дама в маске не исчезла, она только немного отступила в глубину комнаты и уже не была так освещена. «Она хочет исчезнуть, — решил Тьерре. — Так пойдем же ей навстречу». Он попытался сдвинуться с места, но ноги отказались ему служить. Насколько силен и свободен был его ум, настолько сковано было его окоченевшее тело. «Мне не хотелось бы потерять сознание, ведь тогда я уже не смогу ни в чем разобраться. Но если я еще владею словом, то по крайней мере надо, чтобы создание моего воображения исполняло мою волю». — Подойдите ко мне! — крикнул он призраку. — Я вам приказываю! И снимите маску, я хочу вас увидеть! Призрак отрицательно покачал головой. Потому ли, что усилие воли прибавило ему отваги, или потому, что жест призрака оказался до изумления реальным, но Тьерре почувствовал, что может наконец оторвать ноги от пола перед камином, и пошел напрямик к центру гостиной, говоря почти веселым голосом: — Хорошо, тогда я сам сорву с вас маску! Призрак отступил и легкими шагами побежал вокруг гостиной, преследуемый Тьерре, который хотя еще и не вполне владел ногами, но ощутил прилив сил, заметив, что видение хочет от него ускользнуть. Эта суета разбудила попугая, и он прокричал еще отчетливее и мрачнее, чем обычно: «Друзья мои, я умираю!» Крик ужаса вырвался из груди госпожи Элиетты, и она упала в кресло, словно вдруг лишилась чувств. Тогда Тьерре, убедившись, что его мистифицирует вполне реальная особа, бросился к ней и схватил ее за руку. Он уже не думал, что имеет дело с призраком, порожденным его собственным мозгом; и все-таки напряжение внутренней борьбы в нем было таково, что, случись ему вместо осязаемого существа схватить пустоту, он упал бы навзничь, может быть, бездыханным. Раздался взрыв смеха, маска упала: то была Эвелина, одетая в точно такой же костюм, как и покойная госпожа Элиетта, точно так же причесанная и восхитительно прекрасная в своем маскарадном одеянии, которое, казалось, было создано для нее. — Я довольна вами, храбрый рыцарь! — сказала она, протягивая ему руку с самоуверенностью, плохо скрывавшей внутренний трепет. — Вы умеете справляться со сверхъестественными явлениями. Теперь я знаю: пусть приходит настоящая Дама в маске, вы и перед ней не дрогнете! На вашем месте я бы не сумела так владеть собой; как видите, даже вашего отвратительного попугая, хоть я и должна была знать его привычки, оказалось довольно, чтобы напугать меня и заставить забыть свою роль. — Прежде чем отвечать на ваши милые шутки, — сказал Тьерре, расположенный более к гневу, чем к радости, ибо виски его все еще были покрыты холодным потом, — не позволите ли мне спросить вас, мадемуазель, каким образом вы оказались здесь? — Не все ли вам равно? — ответила Эвелина, задетая его ледяным тоном. — Я здесь, и это касается только меня. — Простите! Это касается и меня тоже. Я не желаю нести ответственность перед вашими родителями и общественным мнением за последствия вашего странного поступка. — Успокойтесь, сударь, — сказала Эвелина, очень обиженная, — ваша репутация не будет скомпрометирована моим посещением. Никто ничего не узнает. — Кроме верного Креза, который проводил вас сюда, и здешних слуг, которые открыли вам двери? — Форже, который сейчас служит у вас, раньше служил у меня. Он знает, что я не задумала ничего дурного, он предан мне, и он неподкупен. Что до Креза, то он — мальчишка, который не более, чем я, способен заподозрить подвох в обыкновенной шутке, и я достаточно богата, чтобы купить его молчание. Вы успокоились? — Нисколько. Через неделю вся округа будет знать, что, желая доставить себе странную забаву напугать господина Тьерре, мадемуазель Эвелина Дютертр под видом Дамы в маске пришла к нему среди ночи одна. — Вы бредите, никто этого не узнает. Крез болтлив, если ничем не рискует; но если это может принести выгоду, морванский крестьянин промолчит под пыткой. К тому же я буду все отрицать, как, надеюсь, и вы; мои родители не поверят, и Крез останется в дураках. А теперь не будете ли вы любезны разжечь огонь? Я совершенно оледенела от холода и страха. Тьерре не мог отказать своей прекрасной посетительнице в заботах, которых требовали законы гостеприимства. Он разжег огонь, придвинул к камину кресло, в которое Эвелина тут же села, сам стал на колени и, помешивая в камине и невольно поглядывая на хорошенькую ножку, которую Эвелина поставила на решетку для углей, продолжал свою нотацию и свои расспросы: — И вы еще говорите о страхе! Ведь вы в своей отчаян» ной смелости доходите до сумасбродства! — Я не боюсь ни ночного леса, ни одиночества: ведь быть вдвоем с Крезом — это то же, что быть одной. Меня не пугает даже то, что моя проделка — безумие. Но в коридорах вашего фантастического замка мне сразу стало страшно, едва только я осталась одна в темноте и стала ощупью пробираться вдоль стены, отыскивая двери. Конечно, я знала, что вы всегда до двух-трех часов ночи сидите в этой гостиной. Я в этом еще раз убедилась, послав Форже взглянуть в щелку ставен. Но пока я пробиралась по коридору, мне пришло в голову, что тут может повториться история Кровавой монахини[191]: откуда ни возьмись, появится госпожа Элиетта и покажет мне свое обожженное лицо, чтобы наказать за то, что я осмелилась выдавать себя за нее. И тут Эвелина принялась смеяться так беспечно, словно находилась в гостиной Пюи-Вердона, под присмотром своих родителей. Тьерре был ошеломлен этой дерзкой беззаботностью. «Что это, — думал он, — предел наивности и полное неведение или привычное бесстыдство?» Чтобы выяснить этот вопрос, Тьерре, заранее решив, что ни при каких обстоятельствах не воспользуется преимуществом своего положения, спросил, пристально глядя на Эвелину, где сейчас Крез. — В ближнем лесу, с лошадьми, спрятался в самой чаще. — А Форже? — В своей комнате; я приказала ему ложиться спать, а когда я уйду, вы тихонько закроете за мной двери. — Но как вы выехали из Пюи-Вердона? — О, нет ничего легче. В таком большом доме, где мне никто и ни в чем не может помешать, достаточно предупредить Креза, чтобы лошади были готовы и выведены в определенный час, а потом, имея нужные ключи, дождаться, чтобы все заснули. Я вышла в час ночи… смотрите, сейчас нет еще двух, мы приехали быстро, хотя на дворе совсем темно. — А как вы вернетесь? — В десять часов, как всегда. Я часто выезжаю на рассвете и не всегда удручаю себя обществом Амедея. Обычно по утрам меня сопровождает Крез или кто-нибудь другой из лакеев; кто из конюхов встанет первым, решит, что я выехала немного раньше обычного. У меня всегда столько причуд, что никто уже ничему не удивляется. Дровосеки, которые на рассвете обнаружат меня в лесу, подумают, что я только что встала; они уже не в первый раз видят меня в лесу, когда сами только-только туда приходят. Они поймут, что я еду домой, а откуда им знать, два часа я катаюсь или все двенадцать. Правда, мой отец, который в последнее время стал слишком уж строг, может быть, скажет, что я чересчур переутомляюсь и что мне больше не следует ездить без него или его племянника, который ведет себя как настоящая нянька. Ну и пусть, что мне до этого? Зато сегодня я сделала то, что хотела! Завтра мне в голову придет другая выдумка, которой он не сможет предвидеть. — Значит, мадемуазель, — сказал Тьерре, по-прежнему холодно и настороженно, — только потому, что вам пришла в голову выдумка напугать меня, явившись в образе призрака, вы будете разъезжать по лесу в холодную ночь с двух часов до восхода солнца? Мало того: после бессонной ночи под открытым небом вы еще потом будете кататься до десяти часов утра, чтобы не возбудить подозрений? Не дорогая ли получится плата за такое короткое и малоинтересное развлечение? — Может быть, для вас это было не слишком большое удовольствие, но для меня оно было полным. Во-первых, я немножко испугалась, а на такое чувство я не рассчитывала, потому что я такой же скептик, каким хотите казаться вы. Однако я думаю, что мы с вами не настоящие скептики: вы хоть и не испугались, все-таки признаетесь, что подумали, будто видите привидение. Тем большую смелость вы проявили. Не отпирайтесь, потому что это очень поднимает вас в моем мнении. — Я очень польщен, мадемуазель, но, быть может, я не заслуживаю вашего восхищения. А что, если я узнал вас сразу? А что, если, поговорив утром с пронырливым Крезом, я уже предугадал ваши замыслы и ожидал вашего посещения? Эвелина на минуту смутилась, обеспокоенная больше всего нескромностью своего пажа; но, как всегда, кокетство и насмешливость пришли ей на помощь. — Я этому не верю, — отвечала она. — Если б вы меня ждали, то, надеюсь, двери не были бы заперты и вы бы не заставили Форже бодрствовать, чтобы открыть их мне. — Нет, мадемуазель, — возразил Тьерре, становясь все суше по мере того, как убеждался, что она его поддразнивает, — я просто надеялся, что вы не решитесь довести до конца ваше нелепое предприятие. — Я же надеялась, сударь, — с легким презрением сказала Эвелина, поднимаясь с места, — что все приключение повернется иначе, что вы не проявите такой храбрости, что я пройдусь по гостиной, не вырвав у вас ни слова, что я выйду неузнанной, в маске, как вошла, и что в один из ближайших дней вы приедете рассказать нам о своем приключении, несколько приукрасив его, как всегда делают поэты. Вместо всего этого вы оказались храбрецом, а я дурочкой. Из-за попугая я вскрикнула, вы узнали мой голос; вы угрожали снять с меня маску: я не люблю, когда до меня дотрагиваются, и мне пришлось остановить вас, показав мое лицо. Теперь, когда все сказано, покойной ночи. Откройте мне двери. — Вы думаете, я позволю вам провести ночь на улице, под звездами? — Какие звезды! Это чистая метафора! — смеясь, сказала она. — Дождь льет как из ведра! И в самом деле, слышно было, как вода из желобов потоками низвергается на каменные плиты двора. — Тем более. Вы сами видите, — сказал Тьерре, — что вам придется здесь дождаться рассвета, когда вы сможете уехать. Предупреждаю вас, это продлится не меньше трех часов. Придется вам испить до дна чашу опасной неосторожности, которую вы сами наполнили. Заявляю вам, что тут нет моей вины. Если об этом узнают, я буду драться за вас на дуэли, но поклянусь своей честью вашему отцу, что понятия не имею, почему вы поставили меня в это приятное положение. С этими словами Тьерре пошел запереть двери гостиной. — Что вы делаете? — спросила оторопевшая Эвелина. — Я не хочу, чтобы те слуги, которые не посвящены в ваши секреты, застали вас здесь. Если же ваши родители хватятся вас и явятся сюда, я хочу иметь возможность объясниться с ними, прежде чем подвергнуть вас их справедливому гневу. Эвелина побледнела — она серьезно испугалась. — Нет, нет! — воскликнула она. — Вы должны меня спрятать. — Ни в коем случае. Я выйду им навстречу, и вы покажетесь им на глаза только под моим покровительством, в качестве моей невесты. — В самом деле? Неужели последствия моей проделки будут так серьезны? — сказала Эвелина, краснея наполовину от удовольствия, наполовину от смущения. — Теперь я понимаю, почему вы так испугались! И она бросила на Тьерре робкий и пламенный взгляд чуть не отнявший у него все хладнокровие, которым он вооружился. — Боюсь, что так, — сказал он, избегая этого опасного взгляда. — Конечно, заботясь о своем добром имени, я не колеблясь поступлю именно так, чтобы не прослыть соблазнителем молодой девушки, отказавшимся восстановить ее репутацию. Но, давши вам свое имя, я возненавижу ваше богатство, а может быть, и вас, за то, что вы заставили меня принять его вопреки моей воле, не оставив мне выбора между моей склонностью к свободе и постыдной ролью всеобще го посмешища или соблазнителя. Эта речь поразила Эвелину и сломила ее непокорный дух. Она опять упала в кресло и залилась слезами, восклицая: — Ах, вы никогда меня не любили, а теперь я внушаю вам только ненависть! Тьерре был побежден. Любовь вернулась в его сердце. Человек недостаточно силен, чтобы перенести такое испытание.XIX
— Ну хорошо! — сказал Тьерре, приближаясь к Эвелине, но не касаясь даже ее одежды. — Скажите откровенно: почему вы явились сюда? Неужели вы все еще такое дитя, следовало бы сказать — все еще так безрассудны, что готовы рисковать репутацией, стыдливостью, может быть — даже честью, только ради того, чтобы разыграть эту сцену с привидением? В старых замках молодые девушки иногда позволяют себе разыгрывать подобные шутки, но только с ближайшими друзьями своей семьи, и при этом они находятся у себя дома. — Почему вы говорите, что я рискую честью? — гордо спросила Эвелина, почувствовав, что, несмотря на суровость слов, взволнованный голос Тьерре заметно смягчился. — У вас есть привычка отвечать на вопрос вопросом, я это знаю. Но позвольте мне ответить на ваш вопрос после того, как вы ответите на мой. — Ах, господи! — сказала Эвелина. — Я совершила безрассудство, потому что безрассудна, вот и весь секрет! Но мое безрассудство не было заранее обдумано, как вы предполагаете. Все произошло случайно и без всяких предварительных размышлений. Этот костюм я сшила не для вас. Он у меня уже три месяца, я ношу его в манеже и в пюи-вердонском парке; эта фантазия пришла мне в голову, когда я приехала сюда после смерти канониссы, тогда еще и речи не было ни о вас, ни о господине де Сож. Мой отец, который хотел купить морванское имение, пожелал осмотреть все, в том числе и замок, куда мы изредка приезжали навестить старую даму. Мы поднялись в башню; Манетта подробно рассказала нам легенду; нам захотелось увидеть портрет, костюм мне понравился, я его зарисовала и немедленно заказала портному. А потом вы несколько раз заговаривали с нами об этой легенде; вы говорили даже, что господин де Сож увидел привидение и потому умчался отсюда как безумный. Я часто спрашивала вас, что бы вы сделали, если бы Дама в маске явилась вам среди ночи: вы уверяли, что смертельно хотите ее увидеть, хотя и признались, что испугаетесь. И вот мне пришла в голову мысль испытать вашу храбрость; мне даже захотелось поделиться этой мыслью с сестрами или с Амедеем. Но я опасалась их холодной рассудительности. Кроме того, нам сказали, что вы больны, а я меньше всего хотела вас убить! Но сегодня Крез сообщил мне, что у вас не было никакого вывиха (я-то об этом, конечно, догадывалась!), что вы совсем было собрались приехать завтра, но внезапно передумали. Увидев, что вы решили взбесить меня, я задумала отплатить вам тем же. Вчера вечером мне было скучно. Мачехи не было, Каролины и Амедея тоже. Отец погрузился в свою работу; Натали определенно скрывает какую-то тайну: она запирается в комнате, укладывает свои вещи, приводит в порядок бумаги — словом, ведет себя так, будто собирается потихоньку от меня выйти замуж. Меня охватило непреодолимое желание развлечься какой-нибудь беспримерной шалостью. За десять минут я устроила свой выезд с Крезом, и в полночь, когда все храпело под унылым кровом Пюи-Вердона… Но остальное вы знаете. Всего этого более чем достаточно, чтобы объяснить ребячество, из которого вы непременно хотите раздуть драматическое происшествие. А теперь, когда я вам ответила, отвечайте вы! Откуда вы взяли, что я рискую честью, явившись к вам? Разве у вас у самого нет чести? Разве вы не умный человек, не художник, который смеется над обычаями и предрассудками, уважает их только для вида и воспринимает мнимые странности такой натуры, как моя, целомудренно и поэтично? Разве своим приходом я не дала вам, в сущности, великого доказательства уважения, доверия и даже дружбы? Но если я ошиблась, осмелившись явиться сюда, чтобы посмеяться с вами, как с братом (как иногда я хохочу во все горло в павильоне у Амедея), неужели это дает вам право оскорблять меня, говоря, что я дешево ценю свою честь? Тогда вы педант, у вас холодное воображение, вы скучны, вы стары! И сейчас вы мне скажете, что я слишком мало вас знаю, чтобы держаться с вами так доверчиво и просто. Что ж! Тем хуже для вас, если вы не можете стать молодым, чистосердечным и веселым, как брат, на те два или три часа, которые мы могли бы провести наедине, в необычных условиях, не рискуя подвергнуться осуждению злых людей и дураков, потому что они ничего не узнают. Эвелина выложила Тьерре все это без запинки, очень кокетливо, очень наивно и с той смесью гордости, искренности и нежности, которая не преминула оказать на Тьерре обычное действие. Молодой человек с живым умом и незанятым сердцем не может равнодушно принять доказательство любви, так наивно выдаваемое за шутку. Воистину, надо быть холодным педантом, чтобы требовать более серьезного признания и тем оскорбить стыдливость и унизить гордость Эвелины. Бранить ее и дальше Тьерре побоялся, чтобы не показаться смешным. Отвергая последствия опасности, которой Эвелина подвергала себя ради него, Тьерре чувствовал, что он жесток к себе не менее, чем к ней. И внезапно он понял, что готов быть весьма снисходительным к ее поступку, плоды которого теперь пожинал. Но вместе с любовью вернулась ревность, и Тьерре мрачно и едко потребовал объяснения по поводу цветов, брошенных в шляпу Флавьена. Эвелина решила, что он сошел с ума, и, в свою очередь, с несомненной искренностью попросила Тьерре объяснить, что означает его вопрос. Тьерре, не желая компрометировать других пюи-вердонских дам, увильнул от ответа; он-де просто оговорился, назвав Флавьена вместо Креза. — Ведь тот букет азалий, который принес сюда ваш паж, вы посылали Флавьену, не так ли? — допытывался он. — Вы не будете это отрицать? Тем более что на пергаменте была, вероятно, ваша подпись? — А, теперь я понимаю! — простодушно воскликнула Эвелина, которой из всех проделок Натали была известна только эта. — Хотите знать, что там написано? Но, право же, — прибавила она со смехом, — не может быть, чтобы господин де Сож из-за этого уехал! Так вот, на этом кусочке пергамента было написано готическими буквами «Элиетта». — А что означает эта шутка? — Да это не я пошутила, это моя сестра Натали, которая, мне кажется, любит вашего друга настолько, насколько ей позволяет ее серьезность. Но раз уж вы ревнуете и заставляете меня раскрывать чужие секреты, то храните их как честный человек. Натали хотела бы, чтобы ее разгадывали, но она умрет от оскорбленной гордости, если ее попросту поймут. Она хотела заинтриговать господина Флавьена, для того, я думаю, чтобы узнать, свободно ли его сердце; вот и все. А ее идея спрятаться под псевдонимом госпожи Элиетты до некоторой степени внушила мне мысль спрятаться под маской этой же дамы. Вот видите, мне приходится сознаться, что у меня мало воображения: я способна только на плагиат. — Должен ли я понять все это так, — сказал Тьерре, становясь все снисходительнее, — что вы питаете ко мне те же чувства, что ваша сестра — к моему другу? — Тьерре! — сказала Эвелина с чарующей прямотой и доверчивостью. — Вы достаточно деликатны, достаточно тонки, чтобы не требовать от меня ответа на этот вопрос в том положении, в которое я сама себя поставила по отношению к вам. Если бы я ответила вам сейчас, я вполне заслужила бы все ваши выговоры, а так как они меня очень огорчают, то уж позвольте мне не подвергать им себя еще больше. — Ах, вы, сирена! Вы приходите ко мне среди ночи и хотите, чтобы я находил это только очень смешным и не испытывал никакого головокружения? Об опасности для себя вы даже не думаете! По-вашему, и я должен поступать так же? Тут ведь впору потерять голову! — Но почему же? — сказала Эвелина, улыбаясь. — Вся опасность для чистой девушки и честного человека — это полюбить друг друга, не так ли? Ну что ж! Мы молоды, мы равны друг другу, мы свободны. Между нами нет никаких препятствий, и я могу вам сказать, что отец, в последний раз когда вы у нас были, сделал мне выговор за то, что я была слишком жестока с вами и говорила ему о вас недостаточно серьезно… — Неужели? — смутившись, сказал Тьерре. — Разве вы этого не знали? — Нет, клянусь вам! Она засмеялась: — Ну что ж! Узнайте теперь! И считайте экзамен, который я хотела устроить сегодня вашей храбрости, одним из тех испытаний, которым я имею право вас подвергнуть. А поскольку вы, так же как и я, еще не решились исполнить желание моего отца, можете сколько угодно анализировать мой характер. Я вам это разрешаю, как видите; я приношу на ваш суд все свое безрассудство, сумасбродство и простодушие. Если вы это называете кокетством, то уж не знаю, как вы назовете нечто прямо противоположное. Скажите, что молодая девушка, способная на такие выходки, вам не подходит, и это я пойму; но зато у меня будет право ответить, что поэт, способный рассердиться на такое проявление доверия… — Всего-навсего педант! Хорошо, я согласен. Забудьте мою жестокость. Дай бог, чтобы все это осталось тайной между нами и не вынудило нас полюбить друг друга раньше, чем мы друг друга узнаем. — Что за парадокс, господин писатель! Только полюбив, можно узнать друг друга! Если бы у нас все уже обстояло так, то нам было бысовершенно все равно, что нас могут застать наедине. — Это вы можете так думать, — возразил Тьерре, — вы, странный ребенок, который может дарить уважение и доверие, не отдавая своего сердца и слова. Но я-то боюсь полюбить вас раньше, чем смогу вам довериться, вот почему я так угрюм! — Значит, для того чтобы оценить меня, вы хотели бы, чтобы я сказала тут же, что я вас люблю! Разумеется, я этого не сделаю, а если даже уверюсь в этом, то скажу вам все в Пюи-Вердоне, в присутствии моих близких. Но между тем знаете ли вы, что я умираю от голода в вашем замке Мон-Ревеш? — О господи! — воскликнул Тьерре. — Еще одно затруднение! Таковы все дети! В самых критических обстоятельствах голод напоминает им о себе, словно ничего особенного не происходит! Где в моей убогой келье я найду яства, которые удовлетворят изысканный вкус дамы из Пюи-Вердона? — Я вам скажу, — отвечала Эвелина. — Когда я ощупью пробиралась через столовую, которая тут рядом, я попала рукой во что-то маслянистое, что-то вроде торта с вареньем. Я уже была голодна, и мне очень захотелось попробовать кусочек; но я побоялась, что если вы застанете меня за таким земным занятием, то мне будет нелегко сойти за призрак. Столовая была отделена от гостиной небольшим коридором. Тьерре пошел туда, наказав Эвелине стать на страже в дверях гостиной и запереться, если Жерве или Манетта проснутся и захотят обойти комнаты. Он принес торт с вареньем, фрукты, творог и сливки. Он не нашел в буфетах вина, но Эвелина никогда его не пила и пришла в восторг при виде чашки холодного кофе, которую Тьерре захватил на всякий случай. Они накрыли маленький столик и подкатили его к камину. Всеми этими приготовлениями они занимались вдвоем, весело смеясь и притворно пугаясь, когда кто-нибудь из них по неловкости производил шум, будивший слишком сильные отзвуки в заснувшем замке. Затем Эвелина принялась за еду с аппетитом, который был бы вполне уместен на каком-нибудь семейном пикнике. Все казалось ей очень вкусным, она не забывала потчевать и хозяина замка, радовалась всему с детским простодушием и под конец стала заразительно весела. Нарушать нравоучениями ее счастливое расположение духа или смущать его нескромными порывами для человека такого высокого ума, как Тьерре, было бы вульгарно, глупо и некрасиво. Он предпочел веселиться на краю пропасти, как это делала Эвелина. Невинность ее сумасбродства в конце концов скорее трогала сердце, чем возбуждала чувства. Она была тем прелестным созданием, без пороков и без добродетелей, которое из порядочности не вздумаешь сделать любовницей, а из осторожности побоишься сделать женой. Как бы там ни было, этим обстоятельствам приходилось подчиняться, и лучшее, что можно было сделать, — это наслаждаться ими без всякой задней мысли. Тьерре так и поступил, причем без особых усилий. Да в конце-то концов, почему ему надлежало опасаться последствий больше, чем ей? Жениться на молодой, богатой, красивой и умной девушке, пусть даже очень избалованной и очень сумасбродной, — это тот род самоубийства, на который можно пойти, особенно если чувствуешь, что она тебя любит, и надеешься, благодаря этому, взять над ней верх. Тьерре позволил себе только те упреки, на которые ему давала право его любовь. Он не скрыл, что испытывал ревность к Амедею. Эвелина призналась, что сыграла злую шутку. Она то грозила снова начать ту же игру, то пугалась своей затеи, понимая, что Тьерре еще недостаточно увлечен и может порвать с ней при первой же новой обиде. В общем, продолжительное уединение хорошо подействовало на обоих. Эвелина почувствовала силу характера, который еще недавно надеялась легко победить. Тьерре понял, что при склонности молодой девушки к кокетству с ней надо держаться твердо, и решил хорошенько укрепить свой авторитет до свадьбы, если, разумеется, Эвелина даст ему время для столь трудной и тонкой доработки ее ума и сердца и не выкинет что-нибудь из ряда вон выходящее. В разгаре этой борьбы, прерывающейся взрывами веселья, выяснилось, что дождь перестал, и крик петуха возвестил о приближении рассвета. Эвелина собралась уезжать. Она намеревалась одна спуститься по тропинке с холма в лес, утверждая, что если кто и увидит ее в костюме госпожи Элиетты, то немедленно убежит в испуге. Это было справедливо в отношении Жерве и Манетты, но крестьяне, как известно, не верят в привидения, и к тому же кто-нибудь из них мог видеть в Пюн-Вердоне Эвелину, одетую в тот самый костюм. Поэтому Тьерре тихонько пробрался в комнату, примыкавшую к той, где спала Манетта, взял там ее длинную накидку с капюшоном и потребовал, чтобы Эвелина надела ее на себя, а свою шляпу с пером спрятала под мышку. Преобразившись таким образом в обыкновенную морванскую крестьянку, Эвелина вышла из замка, никем не замеченная. Через несколько минут вышел Тьерре, с ружьем за плечами, как если бы он отправился на охоту, и последовал за ней на почтительном расстоянии, сохраняя независимый вид, но готовый прийти на помощь в случае необходимости. Таким образом Эвелина без помех добралась до лесного перекрестка, где ее ждал Крез. Бедный паж совершенно продрог, несмотря на то, что ему удалось вместе с лошадьми укрыться от дождя под непроницаемой сенью огромных дубов. Он было возроптал, но один вид Эвелины заставил его замолчать — так велика была власть, которую она, благодаря своей решительности и щедрости, имела над подчиненными. Эвелина прислушалась: вокруг не было никого, кроме Тьерре, который с деланной беззаботностью насвистывал где-то в ближайших зарослях. Тогда она сбросила к подножию самого большого дуба накидку Манетты — Тьерре потом должен был ее подобрать, — натянула черный сюртук амазонки, вытащенный Крезом из баула, сняла со своей шляпы перо и галуны, заменила маску Элиетты вуалью, которая была у нее в кармане, и, приобретя снова обычный вид Эвелины Дютертр на прогулке, пустила свою лошадь в галоп под густыми мокрыми деревьями. Тьерре пошел за накидкой; когда он складывал ее, чтобы вложить в охотничью сумку, из нее выпал платок с завязанным уголком. То был платок Эвелины с вышитыми инициалами; в завязанном уголке находилось гладкое золотое кольцо, настоящее обручальное. Тьерре торопливо разделил его половинки и при свете занимающегося дня разобрал слова, выгравированные на внутренней стороне; на одной половинке стояло слово «непосредственность», на другой — «рассудительность». Это была эпиграмма, но и обещание. Непосредственность посмеивалась над рассудительностью, но и вверялась ей. Тьерре невольно поцеловал кольцо, надел его на палец и поднялся на холм. С его вершины он увидел молодую всадницу, которая стрелой неслась через дальнюю лужайку. Когда Тьерре вернулся, все еще спали. Ему удалось положить на место накидку Манетты, привести в порядок гостиную, убрать следы ужина и уйти в свою комнату, куда сон за ним, однако, не последовал. Перебирая в памяти события этой ночи и предыдущего дня, он вспомнил и свое письмо Флавьену. Мысль о том, что тот целые сутки будет пребывать в заблуждении, в которое он сам его вверг по поводу Эвелины и букета азалий, стала ему нестерпима. Тьерре уже целый час лежал в постели, пытаясь заснуть, но тут он встал и пошел за письмами: письмо со стихами к Натали он тоже решил не отправлять, чтобы больше не занимать ее своими притворными любезностями. Но на буфете, где он каждый вечер оставлял свои письма, уже ничего не было, и Жерве обтирал его тряпкой. Почтальон успел побывать здесь раньше и теперь был далеко вместе с письмами Тьерре. Тьерре решил снова лечь, утешая себя мыслью, что Эвелина прочтет дату на его стихах к Натали; он сегодня же ее увидит и оправдается и сегодня же напишет Флавьену, чтобы разубедить его. Несмотря ни на что, при мысли о Флавьене он ощутил стыд и ревность. «На этот раз, — подумал он, — моя непосредственность не посоветовалась с рассудительностью. По моей вине другой человек целые сутки будет думать с осуждением или вожделением о моей милой невесте, залог союза с которой я ношу на пальце, и меня это злит. Тем лучше: все эти признаки — свидетельство того, что я в самом деле люблю ее. Только бы пылкий Флавьен не вбил себе в голову мысль оставить на мою долю госпожу Дютертр и самому начать ухаживать за Эвелиной, как я ему вчера посоветовал. Почему этот проклятый сельский почтальон так рано встает? А не попытаться ли догнать его верхом? Но он не вернет мне письма! Ничего! Поеду в Шато-Шинон и брошу там второе письмо, которое уйдет вместе с первым. Да, так будет лучше всего!» Тьерре поспешно встал, крикнул из окна Форже, чтобы он запряг Загадку в тильбюри, написал Флавьену новую записку: «Нет! То была не Эвелина, но и не Олимпия!» — и отправился с Форже в ближайшее почтовое отделение. Он сам бросил письмо в ящик. И так как в его стихах к Натали не было ничего, что могло бы обидеть или серьезно обеспокоить Эвелину, — он это хорошо помнил, — то он больше не стал тревожиться и отправился в Пюи-Вердон, справедливо полагая, что ему следует приехать туда раньше Эвелины, дабы защитить ее, если возникнут слухи о ее ночной поездке.XX
В Пюи-Вердоне все занимались обычными делами. Слуги, вышедшие навстречу Тьерре, сказали, что он никого не застанет дома: хозяйка уехала, мадемуазель Каролина и господин Амедей тоже; господин Дютертр отправился присмотреть за полевыми работами; мадемуазель Натали никогда не встает раньше десяти, а мадемуазель Эвелина уехала кататься «засветло, с раннего утра, а может быть, еще и до света». Последние сведения слуги сообщили с таким простодушием, что Тьерре успокоился. Никто ничего не подозревал. Он отвел в сторону Форже, якобы для того, чтобы отдать ему какие-то приказания. — Друг мой, — сказал он, — не можете ли вы объяснить, кто та женщина или переодетый юноша, которого вы сегодня ночью впустили в Мон-Ревеш? — Разве вы, сударь, этого не знаете? — вскричал Форже, удивленный и даже испуганный. — По правде сказать, нет. Откуда мне знать? Эта особа была в маске и хотела доставить себе удовольствие, напугав меня. Я погнался за ней, но она спряталась, убежала, и я не смог ее настичь. — Откуда же вы знаете, сударь, что это я ее впустил? — недоверчиво спросил Форже. — Потому что никто не мог этого сделать, кроме вас! Уж конечно, не Жерве и не Манетта, при их суеверии, позволили бы привидению войти в дом. — Это правда, сударь. Я не должен был так поступать. Но меня обманули, я думал, что вы сами договорились с этим привидением и не сказали мне об этом только потому, что не вполне доверяете мне, ибо плохо меня знаете. Но я честный человек, сударь, и не выдаю чужих секретов. — Я знаю, Форже. Значит, эта особа была… — Раз уж вы не знаете, сударь, то я вам и не скажу, пока мне не прикажут. Прошу простить меня, если я сделал глупость. Я не думал, что вас хотят напугать. Мне говорили о даме, на которой вы, сударь, должны жениться, и что между вами ссора, которая закончится примирением, если я открою двери незаметно для Жерве и Манетты. Я думал, что поступаю хорошо. Денег за это я не взял и ни за что бы не принял. Я люблю семью, которой это касается, и вас также, сударь, хоть я для вас и новый человек; теперь-то я вижу, что меня провели и что это просто детская шалость. Только это опасная шалость, и если о ней узнают, разговоров будет много. К счастью, я не хочу никому причинять зло и никогда умышленно зла не делал, и больше никогда не открою дверей, если вы, сударь, сами мне не прикажете, потому как первый долг слуги — подчиняться своему господину. — Но я ведь еще не ваш господин, мой дорогой Форже. — Простите, сударь, господин граф сказал мне: я оставляю вас за собой, но временно вы будете служить господину Тьерре. Вот и все, что я знаю. — Ну, что ж, Форже, — сказал Тьерре, тут же почувствовавший, как важно привязать к себе такого честного человека, — с этой минуты вы можете перейти ко мне на постоянную службу, если желаете. — Я бы охотно согласился, сударь, но господин граф сказал, что оставляет меня за собой, и я дал ему слово по крайней мере на шесть месяцев. — Господин де Сож возвращает вам слово; отныне вы находитесь на службе у меня, но будете служить господину де Сож, если он возвратится. Вы согласны, на тех же условиях? — Да, сударь, я с большим удовольствием буду служить у вас. — А вы скажете мне, как зовут сегодняшнее привидение, если я вам прикажу? — Нет, сударь; простите меня, я могу только наперед обещать вам, что не буду иметь от вас секретов, не стану ничего слушать и не открою дверей без вашего приказания. Но предать ту особу из-за пустяковой глупости, которую она собиралась сделать… Нет, я не могу вам повиноваться. — Однако вы признаетесь, что то была женщина? — спросил Тьерре, желая испытать Форже до конца. — Я могу подозревать это, так же как и вы, сударь! — отвечал Форже, которому деликатность заменяла тонкость ума. — Привидение со мной не разговаривало; на нем была маска. О женщинах я знаю только то, что мне говорят. Очень может быть, что надо мной посмеялись. Итак, сударь, ни вы, ни я ничего не знаем, и это к лучшему. Тьерре не родился аристократом, и никакие детские привычки не мешали ему последовать естественному движению души. Он протянул руку своему слуге: тот, не приученный к такой свободе обращения, заколебался, и, пожав одной рукой руку хозяина, протянутую в знак уважения, другой рукой снял шляпу. Тьерре молча удалился. Форже призадумался, следует ли ему принимать всерьез службу у нового господина; но, благодаря природной прямоте, бывшей в нем сильнее предрассудков воспитания, он заключил, что, по совести, все-таки может уважать его, и отправился чистить лошадь Тьерре, размышляя о неудовольствии, которое испытывал бы, если бы его дочь была так же взбалмошна, как Эвелина, его бывшая госпожа. По не лишенным справедливости понятиям Форже, скомпрометировать себя во имя страсти не было преступлением, но рисковать собой из шалости было очень плохо. Надо признаться, что не было на свете более доброго сердца и менее веселого нрава, чем сердце и нрав Форже. Тьерре поднялся на холм в парке, откуда были видны все дорожки и тропинки, ведущие в замок; на одной из них должна была появиться Эвелина. Было уже девять часов, когда он ее увидел; задумчивая всадница шагом спускалась по крутому склону. Итак, беглая птичка возвратилась в родительское гнездо. Тьерре как бы случайно вернулся к ограде и подал руку Эвелине, помогая ей сойти с лошади. Ей было очень приятно увидеть, что он, хоть и не спал ночь, уже на ногах и ожидает ее возвращения к родному очагу. — Никто ничего не знает, — сказал он, как только Крез отошел от них, уводя лошадей. — Форже — надежнейший человек. Но, поверьте мне, надо всучить Крезу некоторую сумму, и пусть он отправляется искать себе место куда-нибудь подальше отсюда. — Ах, боже мой! — с огорчением сказала Эвелина. — Вы только об этом и думаете! А я сейчас не хочу об этом беспокоиться. У меня совсем другое на уме. — Что же, милая Эвелина? — Снимите перчатку, прошу вас! — Вот оно! — сказал Тьерре, показывая ей кольцо на своем пальце. — А. так вы нашли его? — улыбнулась она. — Вот и хорошо, отдайте его мне! — Возьмите платок, на нем ваш вензель! Но на кольце его нет, и вы не проявите никакой неосторожности, если оставите кольцо у меня. — Никакой неосторожности! Вы видите опасность только во внешних событиях! Подумайте о том, какое обязательство вы на себя берете, оставляя у себя это кольцо! Ведь оно компрометирует меня перед вами, а разве вы не понимаете, что только ваше мнение меня и заботит? — В таком случае будьте спокойны, прекрасная Эвелина! Я знаю, что беру на себя обязательство заслужить любовь; я знаю, что это задача трудная… — Трудная? — возразила Эвелина, устремив на него взгляд. — Помните ли вы маленькое четверостишие, которое всегда казалось мне выше всех александрийских стихов на свете?[192]— Как сделать, чтоб нас
Без всяких прикрас
Любили красотки и ждали?
— Любите! — красотки сказали.
XXI
Натали готова была признать себя побежденной и все-таки, частью от ужаса, что ее оружие оборачивалось против нее самой, частью от угрызений совести по поводу того горя, которое она готовилась причинить отцу, продолжала сопротивляться. Быть может, существуют до конца испорченные души, которые давно живут в зле; но нет душ окончательно развращенных в самом начале жизни, и Натали в эту минуту переживала великую борьбу своей совести с демоном зависти и ненависти. — Отец, не говорите так, не соблазняйте меня, не играйте моей оскорбленной гордостью. Я не должна отдавать вам это письмо. Правда, правда! Помните, что я говорю вам — я не должна этого делать. Это не то, что вы думаете. Оно не касается ни Тьерре, ни Эвелины. Тут тайна, которую вы уже не имеете права разоблачить. Вы поклялись! Вы не сможете драться за свою честь без риска скомпрометировать себя как отец или как… Она остановилась, испуганная словом, которое собиралась произнести. Дютертр закончил: — Или как супруг? И смертельная бледность разлилась по его лицу. Рана, которую он считал исцеленной, открылась снова. — Довольно! — сказал он с силой, протягивая руку за письмом. — Отдайте его мне. Я не хочу оставлять огня под пеплом, не хочу грезить под обманчивым покровом видимого благополучия. Если злые помыслы живут в моем доме, мой долг погасить их. Отдайте это письмо! — Значит, вы отнимите его силой, если я вам откажу, — сказала Натали, втайне желая, чтобы ее насильно заставили заглушить угрызения совести. — Нет! Боже сохрани меня от того, чтобы поднять неправедную руку на предмет моей привязанности! Я взываю к вашему священному долгу, который состоит в том, чтобы не иметь тайн от своего отца. — Я не могу вам противиться, но призываю вас в свидетели страха и горести, с которыми я вам повинуюсь. Трепеща, она вложила и его руку письмо и уже хотела уйти, когда Дютертр, еще владевший собой, остановил ее. — Останьтесь! Быть может, это отравленная парфянская стрела; я побеседую с вами об этом письме, каково бы оно ни было, когда просмотрю его; садитесь. Натали села на некотором расстоянии, повернув голову так, чтобы казалось, будто она не наблюдает за отцом, однако внимательно следя за его отражением в зеркале. Дютертр, увидев, что письмо очень длинное, положил его на стол, придвинул кресло и прочел… не письмо Тьерре к Натали, как он ожидал, но письмо, которое Тьерре накануне получил от Флавьена. В том состоянии озабоченности и переутомления, в котором прошлой ночью в Мон-Ревеше его застала Эвелина, Тьерре, за полчаса до ее появления, положил в конверт и запечатал, вместо собственных стихов, десять листков, составлявших письмо его друга. По воле случая обе пачки лежала на столе рядом, обе были одинаковой толщины, одинакового вида даже голубоватая бумага их была одинаковая, потому что Тьерре воспользовался остатками бумаги, которую Флавьен привез с собой в Мон-Ревеш. Тьерре заботливо спрятал свои стихи в ящик письменного стола, надписав адрес Натали на весьма конфиденциальном и довольно компрометирующем письме, в котором его друг открывал ему свою любовь к госпоже Дютертр. Если вспомнить выражения этого письма, то для Дютертра смысл его сводился к следующему. Цветок, отданный заснувшему Флавьену тайком и, быть может, с любовью, разжег в нем пламенное любопытство, чувственную и дерзкую страсть. Случайно или намеренно Олимпия приколола такие же цветы к своему корсажу. Ее странное, плохо скрытое волнение позволило предприимчивому молодому человеку в течение целой недели говорить о желаниях, одна мысль о которых заставляла трепетать от бешенства деликатного мужа и страстного любовника. В минуту, когда Флавьен уже был готов отступиться перед сопротивлением напускной или истинной добродетели, новое таинственное появление тех же самых цветов воспламенило его до такой степени, что он спасся бегством, чтобы не пасть перед искушением. «Ну да, великодушный Флавьен удостоил оставить мне жену еще незапятнанной! — думал Дютертр. — Не будь он столь великодушен, еще день — и слабая, неосторожная женщина упала бы в его объятия завороженная и досталась бы ему, как воробышек ястребу». Таково было первое впечатление Дютертра. Человек слаб, когда любовь в нем берет верх над способностью рассуждать. Портрет его жены, изображение ее привлекательности, слабости и соблазнительной кротости, которое Тьерре нашел великолепным в его несколько первобытной наивности; рассказ о трепещущей и потрясенной Олимпии в объятиях Флавьена — все это заставляло кровь Дютертра кипеть и бурлить в его жилах. «Я никогда бы не поверил, что она так робка перед наглостью, — говорил он себе, — никогда бы не подумал, что ей угрожают те опасности, которых женщина, по-настоящему целомудренная, даже и знать не может». Эти картины волновали и мучили Дютертра так сильно, что не давали ему задуматься над таинственной историей с цветами. Читая первые строки послания, он улыбнулся самодовольству Флавьена, настолько невероятной, невозможной казалась ему мысль, что его жена способна на такое заигрывание. Но когда его воображение мучительно приковали к себе сцены, которые рассказчик написал с несомненной искренностью, простодушием и даже скромностью, он допустил, что Олимпия, во всяком случае, могла прислать цветы в Мон-Ревеш. Олимпия не старалась вызвать страсть, но, быть может, поддалась ее магнетизму и, быть может, сама в конце концов на нее ответила; может быть, и впрямь Флавьен проявил великодушие, пытаясь еще сомневаться а ее взаимности и обратившись в бегство. Так говорил себе Дютертр. Натали наблюдала в зеркале удивление, сомнение, муки своего отца. Она испытывала одновременно радость и угрызения совести, восторг и ужас. Дютертр дочитал письмо и вернулся к его началу, взвешивая каждое слово, и тут увидел в нем то, чего не заметил раньше. Новая мысль всколыхнула его, и, не владея собой, он грозно встал перед Натали. — Дочь моя, — сказал он, испепеляя ее взглядом, — это гнусная интрига. Это вы в один прекрасный день заметили, что моя супруга приколола цветок к корсажу. Это вы решили позабавиться жестокой игрой, подсунув такие же цветы заснувшему молодому человеку. Это вы послали ему цветы в Мон-Ревеш, внушая ему, что моя жена, моя бедная жена в него влюбилась. Вы хотели скомпрометировать, погубить ее; он сам это почувствовал, и скоро вы будете разоблачены и наказаны отвращением, которое люди станут испытывать к вам. — Этого я и ждала! — дерзко ответила Натали. — Не постаралась ли госпожа Олимпия дать это почувствовать господину Флавьену? Не думает ли она в своем милосердии, что дело обстояло именно так? И, конечно, ее «прекрасные слезы», как он говорит, и ее достаточно ясные намеки — страшное обвинение, поддерживающее торжество ее ненависти, когда, написанное пером господина Флавьена, оно попадается на глаза моему отцу. Неужели я уступила бы вашему приказанию показать письмо, если бы не предвидела, что в один прекрасный день госпоже Олимпии удастся уверить вас в том, во что уже верит ее обожатель? Разве не следовало мне обезопасить себя от подобного коварства? Ведь оно сделало бы меня беззащитной перед ее ненавистью ко мне и вашим гневом? Посмотрите, какая между нами разница: я ни в чем ее не обвиняю! Я не говорю, я не думаю, что она передавала или посылала цветы; но я вижу, что он их получил, что он приписал это проявление кокетства ей и что завистливая и жестокая женщина, плача от злости перед господином Флавьеном, сразу же обвинила во всем меня. Натали остановилась, впервые увидев лицо отца, залитое слезами. Гнев его длился недолго, уступив место глубокому страданию. Натали испугалась и на мгновение почувствовала искреннее раскаяние. — Отец, — воскликнула она, — я прощаю ей! Простите и вы мне, что я заставила вас страдать, но только не надо меня ненавидеть! Клянусь вашей добротой, вашей честью, вашими добродетелями, что у меня не было мысли скомпрометировать вашу жену. Я страдаю от ее подозрений, эго вызывает у меня горькую обиду на нее; но заявляю вам и клянусь перед богом, что этих подозрений я не заслуживаю. Натали говорила правду. В ошибке, или, вернее, в сомнениях Флавьена был виновен только случай. Натали не заметила на груди у мачехи цветок азалии, полускрытый кружевами, потому что приколола такой же сама. Правда, она через несколько минут его выбросила, оскорбленная невниманием Флавьена к ее особе. Но в тот день, когда Флавьен в последний раз посетил Пюи-Вердон, ей померещилось, что он поглядывает на нее с некоторым интересом. Старые девы постоянно тешат себя такими иллюзиями, а Натали, всем назло именовавшая себя старой левой, уже и в самом деле начинала ею становиться. И тогда она послала в Мон-Ревеш букет с подписью «Элиетта», сумев вовлечь в эту проделку и свою сестру. На минуту ей захотелось сознаться во всем, чтобы полностью успокоить отца. Это было бы проще всего; но ведь вначале она все отрицала! Она уже слишком запуталась в своих интригах. Ложный стыд удержал ее; кроме того, несмотря на то, что ее испугала собственная месть, она не могла начисто от нее отказаться. С той минуты как она увидела письмо Флавьена, в ней вспыхнуло новое чувство. Юношеский пламень впервые обжег ее ледяное чело. Смутные желания родили в ней потребность искать в другом существе, молодом, решительном и кипучем, того жара, которого не хватало в ее собственной одинокой и холодной жизни. Благодаря Флавьену, не подозревавшему об этом, ей открылась любовь, хотя и не слишком бесплотная для молодой особы со столь возвышенными устремлениями. Любовь открылась ей, в сущности, в том единственном виде, который может взволновать женщину, лишенную нежности и самоотверженности: в виде смятения чувств. И поэтому она страдала, ревновала и доходила до бешенства, видя, что другая женщина — женщина, которую она ненавидела, — стала по ее собственной вине предметом желаний, которые она хотела бы внушать сама, хотя от волнения и полного непонимания себя она не отдавала себе отчета в своих чувствах. Дютертр увидел, что в главном она была искренна, и не решился настаивать, чтобы узнать остальное. Ему казалось даже, что вся проделка с цветами больше похожа на дело рук сумасбродной Эвелины, которая в своей наивности пыталась таким образом возбудить ревность Тьерре. Но эго еще более уязвляло его любовь. Если Эвелина была в известной мере, хотя и без дурного умысла, виновата перед мачехой, а Натали невинна, то Олимпия по справедливости заслуживала осуждения за то, что обвиняла старшую дочь в беспричинном коварстве. Бедная женщина столько страдала, что могла поддаться неправедному порыву. Она это почувствовала, она сама сказала об этом Флавьену; конечно, потом она всеми силами старалась изгнать внушенную ею мысль, готовая даже обвинить себя, только бы снять вину с падчериц; но ей не удалось сделать это, не взволновав более, чем она могла предвидеть, пылкое воображение молодого человека, и все ее испуганные отрицания и робкие возражения так запутали и завлекли Флавьена, что он поступил, как было ему свойственно, то есть, не поняв ровно ничего, просто обжегся, как стремительный и захмелевший мотылек-бражник о дрожащее пламя, колеблемое ветром. Дютертр утешил и успокоил дочь, которая плакала то ли от злости, то ли от горя. Он взял письмо и бросил его в огонь. — Да сгинут всякая злоба и беспокойство, — сказал он, — как это неосторожное и легкомысленное письмо. Знайте, дочь моя, что Олимпия больна. Она нервна, слаба, и, может быть, кое-кто из нашей семьи обижал ее прежде, что, не оправдывая ее подозрительности, может послужить ей извинением. Забудьте об этом. Господин де Сож не возвратится, а если когда-нибудь моя жена, на что, я знаю, она неспособна, и выскажет мне свои сомнения, по поводу этой глупой истории с цветами, поверьте, что я, со всей отцовской любовью, которую всегда вам выражаю, сумею оправдать вас в ее глазах. — И конечно, отец мой, вы сделаете это с той же суровостью, которую иногда проявляете по отношению ко мне? — сказала Натали, почувствовав, что к ней вернулась вся ее ненависть. — Меня глубоко оскорбили: ваша жена возвела на меня напраслину перед совершенно посторонним человеком. — Натали, вы только что сказали: я прощаю ей, таково, значит, ваше прощение? — Ну что ж! Я буду великодушна по отношению к ней, — презрительно отвечала Натали. — Я не последую примеру, который она мне подает. Я не возьму никого в наперсники, чтобы рассказать об оскорблении, которое она мне нанесла; в особенности же я не стану искать наперсников среди тех, кто приехал впервые вчера, и уже назавтра открывать им свое сердце. Я бы опасалась, что это может дать им право схватить меня в объятия во время случайной встречи на охоте. И Натали, взбешенная снисходительным отношением своего отца к подозрениям Олимпии, прочтя в его разгневанном взоре, что тайная ревность может выразиться в резком возмущении против руки, повернувшей нож в ране, удалилась, или, точнее, убежала, в свою комнату. Впервые в жизни Дютертру предстояло уснуть под своим кровом, не прижав к сердцу всех трех дочерей, и впервые он не вернул непокорную, чтобы успокоить ее и призвать к сознанию дочернего долга. В торжественный полуночный час, заканчивающий один день нашей краткой жизни и открывающий другой, о котором никто из нас не знает, увидит ли его конец, мы ощущаем нечто пугающее и страшное в том, чтобы расставаться с членами своей семьи, не простив и не благословив их. Но у Дютертра уже не было сил. Он бродил по своим комнатам, охваченный безмолвным и глубоким отчаянием. Прежде всего, как глава семьи, он горевал о соперничестве дочерей с матерью, которое подтачивало все его надежды на счастье. Он был испуган силами ненависти, которые таились в Натали. Он плакал о ее смятенной душе, которая никогда не узнает настоящего счастья. Он горевал о том, что ее упрямой недоброжелательности удалось смутить сердце его жены, заставив Олимпию на минуту забыть о своем великодушии и врожденной справедливости. Но этого страдания было мало. Другое, более сильное и менее подвластное смирению, пришло ему на смену. Дютертру никогда и в голову не приходило ревновать жену. Все четыре года она была для него зеркалом чистоты, ни разу не потускневшим хотя бы от случайно брошенного на кого-нибудь кокетливого взгляда; он жил в своей любви, как в раю. Безграничное доверие и неизменное уважение к жене давали ему силу и утешение в житейской внутрисемейной борьбе. Он считал невозможным не только чтобы она полюбила другого, но и чтобы другой ее полюбил, настолько защищенной своим ореолом врожденного целомудрия и исключительной верности она казалась ему. В этом последнем Дютертр ошибался; его оптимизм, великодушие и необычайная искренность заставляли его судить о других по себе. Он, конечно, знал, что есть люди развращенные. Забота, с которой он отдалил их от своего святилища, окружив себя только людьми с изящным умом и благородным характером, лишила его представления о слабостях, искони свойственных человеческой природе. Будучи скромным, он считал всех людей, достойных его уважения, такими же строгими, каким был сам. Женившись в двадцать лет на шестнадцатилетней, он так и не узнал заблуждений сердца и поведения в возрасте, когда страсти мужчины бушуют из-за невозможности удовлетворить их законным путем; поэтому его юность была так же чиста, как идетство. Потеряв свою первую жену, он не мог потерять воспоминания о четырех годах полного и безмятежного счастья, которым наслаждался в браке. Он и не представлял себе иного счастья, долгая скорбь предохранила его от мимолетных страстей. Он испробовал их, однако, в тридцать лет, не решаясь доверить своих детей, которые были еще очень малы, второй жене. Но даже в своих заблуждениях, как он сам их называл про тебя, он сохранил нравственность, которая вызвала бы улыбку у большинства мужчин того мира, где он жил, если бы его инстинктивное целомудрие позволило ему открыться перед ними. Попытка соблазнить девушку или замужнюю женщину казалась ему таким преступлением, что он не верил, будто можно быть порядочным человеком, похищая честь семейства. Отсюда и проистекало его чрезмерное доверие к тем, кто его окружал, если они сохраняли перед ним видимость житейской нравственности. По правде сказать, манеры этого редкого человека, его отвращение к цинизму, дух, с которым он его отвергал, наконец, какая-то тихая серьезность, которую он сохранял и в самой добродушной веселости, не позволяли распутникам и даже просто легкомысленным людям пускаться с ним в откровенные разговоры. Его почитали безотчетно для себя и незаметно для него. Таким образом, у него не было возможности узнать истинные нравы, инстинкты, теории или увлечения тех, кто его окружал. Самое это окружение было подобрано со всевозможной тщательностью. О нем можно было бы судить по Флавьену, который, конечно же, не был беспринципным и бесчестным развратником, по Тьерре, не столь простодушному, но неспособному на проявление жестокого или бесцеремонного эгоизма; по Амедею, который умел любить так же благоговейно, как и сам Дютертр; тем не менее все трое любили госпожу Дютертр или были влюблены в нее раньше. Вот что Дютертр начинал прозревать, если еще не понимал, и что вызывало смятение в его мыслях. Он старался забыть роковое письмо Флавьена, но жалел о том, что сжег его. Он говорил себе, что плохо его понял; что если бы он перечитал его сейчас, то нашел бы в нем только поводы для успокоения. И тогда те места письма, которые больше всего его взволновали, вставали в его памяти с удручающей четкостью. Сцена, которую жестокая Натали не преминула ему напомнить, и замечание Флавьена о ревнивом наблюдении, которому Амедей подвергал свою молодую тетку, жгли его мозг, как если бы были написаны огнем. При мысли об Амедее Дютертр, в ужасе от самого себя, задавался вопросом, сошел ли он с ума, или вот уже четыре года является жертвой самого гнусного предательства — предательства под домашним кровом. Голова его раскалывалась, а сердце, исполненное невыразимой нежности к приемному сыну, которому он доверял настолько, что следовал его советам и прибегал к его влиянию в своих семейных огорчениях, разрывалось от страданий, хотя иссушенные бессонницей глаза не могли пролить ни слезинки. Он бросился на диван в будуаре жены и, побежденный усталостью, измученный, забылся наконец, бормоча: «О Натали, Натали! Сегодня вечером ты убила своего отца!»XXII
Сон не принес Дютертру облегчения. Его душили кошмары. Он то и дело просыпался, ему было неудобно, как бывает всегда, когда ляжешь спать одетым. Он обливался потом, хотя ночь была холодная. Несколько раз, очнувшись, он не мог понять, где находится. Диван, где Олимпия иногда отдыхала, стоял в некоем подобии алькова, задернутом портьерой. Свечи догорели. Дютертр, который к тому же машинально задернул за собой тяжелый занавес, находился в полной темноте. Минутами ему казалось, что он заживо сошел в могилу; но у него не хватало воли на то, чтобы постараться избавиться от этого тяжкого ощущения. Он засыпал снова, и сны его оказывались еще мрачнее. Он окончательно проснулся, когда услышал рядом с собой разговор. Открыв глаза, он увидел, что первые лучи дня проникли к нему через щель в портьерах, и узнал голоса Олимпии и Амедея. Дютертр ждал свою жену только на следующий день к вечеру. Ей нужно было встретить подругу детства, которая серьезно заболела и теперь отправлялась в Ниццу; не имея возможности заехать в Пюи-Вердон, та упросила Олимпию прибыть на часок в Невер и сообщила день, когда она остановится в этом городе. Олимпия рассчитывала, что, исполнив свой дружеский долг, вернется самое большее через сутки. Нежно заботясь о жене, но не желая оставлять старших дочерей одних, Дютертр попросил Олимпию взять для ухода за собой Малютку и в сопровождающие им обеим дал Амедея. Кроме того, он очень просил жену потратить на свою поездку, не один, а три дня, чтобы не переутомляться. Дютертр опасался, как бы при виде больной, может быть, умирающей подруги не заболела сама Олимпия, и не хотел, чтобы нервный припадок застиг ее в дороге. Олимпия нашла свою подругу в значительно лучшем состоянии, чем предполагала; да и сама она уже несколько дней чувствовала себя много бодрее. Ей очень захотелось домой, и потому она сразу же вернулась. Еще вчера ее возвращение было бы для» Дютертра восхитительным сюрпризом. Сегодня он спросил себя, уж не вернулся ли Флавьен в Мон-Ревеш. Кроме того, она была наедине с Амедеем. Она не знала, что муж находится так близко. Ужасное, мучительное любопытство вынудило Дютертра сохранять молчание и неподвижность. — Как! Он ушел, и никто ничего не знает? — говорила Олимпия. — Он даже не ложился спать, постель в его комнате не смята. Меня это беспокоит. — Скорее всего он поехал вчера вечером на ферму Риве, — отвечал Амедей. — Он говорил мне, что собирается во время нашего отсутствия провести там целый день, чтобы все увидеть. Он любит прогулки, вот, наверно, и пошел пешком, ничего никому не говоря, чтобы там заночевать и быть на месте с самого утра. Таким образом он сможет обойти все службы и вернуться до наступления ночи. Но если хотите, тетушка, я могу взять тильбюри и привезти его к вам через два часа. — Нет, дитя мое, спасибо! — сказала Олимпия. — Такие обходы ему полезны. Они необходимы его деятельному характеру; кроме того, надо ведь и наблюдать за работами. Ему это все так интересно, и у него на это так мало времени! Да и сам ты должен отдохнуть после ночи в коляске, ведь ты провел ее без сна — обязанности надзирателя не давали тебе заснуть. — А вы сами, тетушка, разве спали? — спросил Амедей с нежной заботливостью, которую, как показалось Дютертру, он впервые имел возможность заметить. — Я? Очень хорошо, уверяю тебя! — отвечала Олимпия, и то, что она называла Амедея на ты, тоже показалось новостью несчастному супругу, хотя он сам этого потребовал, когда двадцатилетний Амедей окончательно переселился в Пюи-Вердон. — Да, — сказал Амедей, — вы, конечно, крепко спали, если можно крепко спать, держа на плече голову вот этой малышки. Он обращался к Каролине, которая в эту минуту вошла в комнату. — Папы нет, — сказала она, — я обошла весь сад. А все остальные еще спят, и не у кого было спросить, где он. — Кажется, он на ферме Риве, — отвечала Олимпия. — Мы, вероятно, увидим его только за обедом. Ну, что ж! Терпение, моя дорогая. Тебе надо прилечь. — О матушка, мне так не хочется, так хорошо смотреть на восход солнца! — Прошу тебя, доченька, пойди поспи немного. Что скажет папа, если окажется, что я привезла его любимую дочку с мигренью или с лихорадкой? — Ты так хочешь, милая матушка? Я пойду. А ты сама? Ты тоже ляжешь? — Конечно! — отвечала Олимпия. — Матушка! — сказала девочка. — Вот твои цветы, я их отдам вот этому взрослому молодому человеку, пусть поставит их в воду, чтобы они ожили! — И она передала кузену пучок асфоделей. Молодая женщина поцеловала свою любимицу. Дютертр услышал, как они обмениваются звонкими поцелуями. «Ах, — подумал он, — все-таки в этих поцелуях слышится невинность и добродетель». Тем не менее он продолжал лежать неподвижно. Каролина ушла. Олимпия и Амедей опять остались вдвоем. Но Олимпия, по-прежнему стоявшая около открытых в сад дверей, сказала племяннику: — И ты тоже, Амедей, пойди отдохни. — Да тетушка, — ответил он, и Дютертру показалось, что голос его дрожит. — Не хотите ли, чтобы я позвал вашу горничную? — Нет, не надо, пусть бедняжка поспит, она не знает, что я вернулась. Мне никого не нужно. — В самом деле? Вы хорошо себя чувствуете? — Вполне. — Вы не примете опиума? — Я давно уже его не принимаю, — весело сказала Олимпия. — Да разве я его принимала когда-нибудь? «Она выздоровела, это правда, — подумал Дютертр. — Чья же любовь, Флавьена или моя, совершила это чудесное исцеление?» — И вы не беспокоитесь о дядюшке? — спросил Амедей, который, по-видимому, отыскивал предлоги для того, чтобы не уходить. — Если вы беспокоитесь, то я могу сбегать… — Нет! Но не говори со мной так, а то я начну волноваться. Да не волнуешься ли ты сам? Поклянись, я тебе поверю и успокоюсь, потому что уж ты-то не лгун. — Клянусь, что дядюшка должен находиться там, где я сказал. — В добрый час! И все-таки неудачи меня преследуют, Амедей. Я так торопилась вернуться. Я так радовалась, что устрою ему сюрприз и прибавлю еще один день к моей жизни! Потому что моя жизнь очень коротка, знаешь ли ты об этом? — Боже мой! Что вы говорите? Разве?.. Да, вы больны и это скрываете! «Он тревожится больше, чем я!» — сказал себе Дютертр. — Ты меня не понимаешь, — сказала Олимпия. — Я говорю, что жизнь моя коротка, потому что она длится только два-три месяца в году. Разве я существую, когда его нет? Ну вот! Почему у тебя такой грустный вид? Неужели это тебя удивляет? Ведь и ты тоже, вроде меня, когда его нет, бродишь как неприкаянный. — Нет, это меня не удивляет! — с большим чувством сказал Амедей. — Я такой же, как и вы. Его отсутствие нам всем очень тяжело, но вас оно убивает, вот почему я печален. Если вас не станет, тетушка, что будет с нами? Дядюшка вас не переживет! — Но я вовсе не хочу умирать! — воскликнула Олимпия проникновенным нежным голосом. — О, ты, ты ведь немного мой врач, ты не дашь мне умереть! Но, видишь ли, первый врач моей души — это он. Только бы мне видеть его — и я спасена. Ах, милое дитя мое, люби его, любовь к нему не может быть чрезмерной! Ну, а теперь доброй ночи или доброго утра! Я иду наверх. Закрой сам эту дверь, потому что я никак не могу справиться с ее замком; кстати, не забудь о цветах нашей Малютки. — Это не ее цветы, это ваши, тетушка, мы нарвали их для вас. Вы нашли, что они красивы на закате солнца. — Да, они, по-моему, красивы, хотя несколько бледны и печальны. — Они девственно чисты, но лишены аромата. — Лишены аромата? — переспросила Олимпия, наклоняясь к букету. — Ну, так клевещут на многие цветы, потому что у них тонкий и скромный запах. По-моему, они пахнут лесом, чем-то таким, что не имеет точного названия, чем-то, что очаровывает, не опьяняя. Позаботься о них. Прощай, но скорого свиданья. И Олимпия вышла. Наступила полная тишина, удивившая Дютертра. Амедея совершенно не было слышно. Дютертр тихонько отодвинул портьеру и глазами нашел племянника. Комната была слабо освещена, но она была очень мала, и Амедей находился так близко от своего дяди, что тот не упустил ни одного его движения. Молодой человек, вместо того чтобы выйти в сад, стоял, устремив глаза на дверь, через которую ушла Олимпия. Он по-прежнему держал в руках букет цветов, которые она понюхала. И вдруг судорожным движением он окунул в цветы свое лицо, словно желая задушить поцелуи, которыми он их покрывал, и упал в кресло так близко от Дютертра, что увидел бы устремленные на него горящие глаза, если бы мог что-нибудь видеть в эту минуту. Дютертр не сдержался; непреодолимое волнение терзало его; не в силах переносить бездействие, он откинул портьеру, протянул руку к цветам и с каким-то бешенством вырвал их из рук Амедея. Амедей вздрогнул, побледнел как смерть и застыл под взглядом своего дяди, глядя ему прямо в глаза с глубоким отчаянием, но без всякого стыда или страха. Дютертр был обезоружен выражением искренности на лице племянника. — Ах, несчастный! — воскликнул он, — Ты тоже любишь ее! Но ведь это духовное кровосмешение! — Нет, тут нет кровосмешения! — отвечал Амедей с решимостью сильного человека, который, будучи вынужден во всем сознаться, не отступает ни перед чем. — Его нет в моей душе, потому что его нет в моих помыслах. — Но аромат, которого ты здесь ищешь, — вскричал Дютертр, скомкав асфодели, — он для меня, для меня одного, а ты крадешь его и делаешь из этого тайну своей души. — А почему вы крадете у меня тайну моей души? — отвечал Амедей, чуть ли не рассердившись. — Вы этим причиняете большое зло и себе, и мне! — Несчастный, он меня же и обвиняет! — воскликнул Дютертр с тоской. — Да, да, я во всем виноват, потому что люди думают, что я любим! — Вы любимы, отец, не будьте неблагодарны перед богом, вы любимы так, как еще никто и никогда не был любим! — Что ты знаешь об этом, безумец! Значит, ты очень об этом беспокоишься? А что тебе за дело? Разве я поручал тебе стеречь мое сокровище? — Я стерег ее здоровье, ее жизнь. Какое еще доказательство любви и преданности мог бы я дать вам большее, чем то, что я остаюсь рядом с ней? — И при этом страдаешь, не правда ли? — Кто вам сказал, что я страдаю? Разве я когда-нибудь жаловался? Разве она об этом подозревает? Разве кто-нибудь мог прочесть это в моих глазах? — Кое-кто это уже заметил и разгадал; кое-кто не только сказал это вслух, но даже написал. — Если это не женщина, назовите его, и тогда один из нас… — Вы никогда этого не узнаете. Я не даю вам права драться за мою жену. — За нее! Нет, конечно, никто не имеет этого права, даже вы, дядюшка! Можно драться за себя, когда вас обвиняют в том, что вы оскорбили женщину, пусть даже в мыслях. Нельзя драться, чтобы доказать, что она этого не заслуживает. Допустить возможность такого подозрения значило бы оскорбить ее. — Да ты просто поклоняешься ей, несчастный! — Ну да, но что вам до этого? Разве я не имею права поклоняться в глубине своей души тому же божеству, что и вы? Вы священнослужитель, и я вас почитаю, тем более что только вы и достойны им быть. Но я, простой верующий, позволивший себе приложиться к святыням у входа в храм и никогда даже в мыслях не перешагнувший за его порог, в чем я мог совершить святотатство перед ней или перед вами? — Амедей, — отвечал Дютертр, — я знаю твою нравственную силу, твою религиозность, твою чистоту; но ты, того не зная, богохульствуешь, уподобляя культ одного создания культу создателя. К этому исступлению души всегда in вмешивается какое-то исступление чувств, мысль о котором меня сердит и вид которого на минуту лишил меня рассудка. Ты говоришь правду, я не должен был нарушать святыню твоей совести, подсматривать и похищать тайны твоих грез. Но зло сделано, я совершил его невольно, как, вероятно, и ты невольно целовал эти цветы, вдыхая их аромат. — Это цветы, которых она даже не касалась! — возразил Амедей. — Какое еще доказательство моего уважения вам нужно? Смотрите, вот ее накидка; я видел ее и не поддался соблазну к ней прикоснуться. — Амедей, Амедей, в самом чистом пламени, в самой скрытой и сдержанной страсти есть нечто земное, отнимающее рассудок у людей, наделенных величайшей силой воли. До чего же опасным было мученичество, к которому я тебя приговорил! — Опасным! Для кого? — вскричал Амедей, падая на колени перед Дютертром. — Вы не осмелитесь сказать, отец, что оно было опасным для вас или для нее! О, не говорите так, не лишайте меня самой основы моих сил — моего уважения к себе и к вам. — Опасным для тебя, да, только для тебя, я в этом убежден, — сказал Дютертр, беря его за руки, — для тебя, дитя мое, и ты можешь лишиться рассудка или жизни от тайных мучений любви, с которой ты так борешься. — Вы так не думаете, — отвечал Амедей, вспыхнув от благородной гордости, — вы не можете думать, будто я слаб настолько, чтобы бороться и не победить, имея дело только с самим собой. — Ты выздоровеешь, без сомнения; но ты переживаешь приступ горячки, и не следует всякий час встречаться с ее причиной. — Напротив, — решительно сказал Амедей, — это нужно! Это абсолютно необходимо, если вы боитесь только за меня! Ведь вы боитесь только за меня, скажите, дядюшка, только за меня? Если бы у вас была иная мысль, я бы не ждал приказа удалиться, я бы сам покинул ваш дом в эту самую минуту и навсегда! — Рассердившись на меня, конечно? — спросил Дютертр, удивленный огнем в его глазах. — В этом случае, — отвечал молодой человек, экзальтированный, как средневековые святые, — я ушел бы, смертельно раненный вами, оскорбившим и обесчестившим меня в сердце своем. — Вы — восторженный ребенок, — сказал Дютертр, — я не хочу, я не могу сомневаться в вас… и в ней! — добавил он с некоторым усилием. — Еще менее в ней, чем во мне, надеюсь! — вскричал Амедей, уже готовый упрекнуть Дютертра в том, что он недостаточно почитает жену. — Я знаю, что она любит вас только как сына, так же, как и я! — отвечал Дютертр. — Если бы я когда-нибудь и сомневался, я бы уверился в этом сегодня, ибо слышал, как она говорила вам о своей привязанности ко мне такими словами, которые делают мне честь. Но повторяю вам, дитя, что ваша несчастная страсть создает для вас невыносимое положение; оно выше человеческих сил! — Вы не знаете меры моих сил, дорогой друг мой! — с воодушевлением сказал Амедей. — Есть страдания, которые человек даже любит за то, что чувствует себя в силах их победить. Если вы отошлете меня от нее и лишите возможности страдать ради вас, я погибну. Я испробовал это несколько раз; я уже знаю, разлука меня убивает, и тогда страсть может меня раздавить. Ее присутствие оживляет меня и возвращает мне самообладание. Поверите ли вы мне, мне, которого вы называете «беспорочные уста», если я скажу, что когда она здесь, рядом, я не страдаю. Я ничего не желаю, я даже не понимаю, чего еще можно желать; поверите ли, что я чувствую себя спокойным и вполне счастливым как ребенок подле матери; что мне никогда не хотелось поцеловать ее руку, когда я смотрю на нее; что сердце мое не колотится, когда она опирается на меня; что моя кровь, словно освеженная, спокойно бежит по жилам, когда она с обожанием говорит мне о вас; что сердце мое наполняется радостью, когда я это слушаю и отвечаю ей; наконец, что там, где присутствует божество, для меня нет женщины?.. Скажите неужели вы думаете, будто я лгу, говоря вам это? — Нет! — отвечал Дютертр, потрясенный услышанным. — . Нет! Именно так я любил ее четыре года, прежде чем осмелиться открыть ей свою любовь. — Я это знаю, — продолжал Амедей, — когда вы колебались перед таким серьезным шагом, как вторая женитьба, вам нередко казалось, что вы любите безнадежно, и даже в те минуты вы бывали счастливы. Но вы были менее счастливы, чем я, ибо в эти часы отречения от счастья вы приносили себя в жертву долгу, который в вашем сознании еще не был вполне определен. У вас было только смутное опасение испортить будущее ваших детей. Я же знаю, что если бы стал добиваться ее любви, то этим убил бы своего отца, — и вы думаете, что я мог бы желать счастья, добытого ценой такого преступления? Нет, нет, мое счастье выше, чем удовлетворение моей собственной любви. Оно — в жертве этой любовью, и если вы отнимите у меня это блаженство, то оставите мне только горе, отняв высшее, высочайшее утешение. Вы уступили своей страсти, вы отец, потому что имели на это право; вы могли узаконить ее, вы, не могли предвидеть, что она принесет семье горе, которому, в конце концов, все-таки можно помочь. Я же не мог бы питать надежду, не краснея, и потому не могу быть побежден, не могу быть слаб. И потом, благодарение богу, я не любим! — Благодарение богу, говоришь ты? — спросил удивленный Дютертр. — Да, благодарение богу, потому что любимы вы! — отвечал Амедей, в порыве преданности. — И потому, что вас я по справедливости предпочитаю себе! Дютертр, глубоко растроганный, закрыл лицо руками; потом, после минутного молчания, положил руку на голову молодого человека со словами: — Сын мой, я уважаю вас, я вас люблю и благословляю, но вы больше не можете оставаться здесь.XXIII
Потрясенный Амедей опустил голову, словно благословение дано было ему священником у подножия эшафота. — Вы убиваете меня, — сказал он, — но да будет воля ваша! — Нет, я спасаю тебя, — сказал Дютертр, поднимаясь с места. — В том бремени, которое ты хочешь на себя возложить, могут таиться страдания, которых ни ты, ни я не предвидим. Я один должен нести это бремя, но ты не задавай мне вопросов. Я ничего не могу сказать, кроме того, что верю тебе как самому себе и удаляю тебя не из эгоистического чувства и низкой подозрительности. Я говорю тебе, что так нужно — не для чести моей, но для моего достоинства; не для душевного покоя, но для чистоты моей совести. — Ваше решение непостижимо для меня, но я должен покориться, не пытаясь его разгадать, — сказал Амедей. — Только поручите мне сделать для вас какое нибудь большое дело, поручите мне что-нибудь очень трудное; пусть мне будет нелегко — я стану сильнее, зная, что мои силы нужны вам. — Да, они нужны мне и будут всегда нужны. Но больше всего ты нужен мне здесь, в семье, потому что в твоей привязанности я нуждаюсь еще больше, чем в твоем уме и труде. Послушай! Эта прекрасная и крепкая семья, которой я так гордился и так надеялся навсегда собрать под своим крылом, скоро рассеется. Иначе нельзя. Эвелина, кажется, выйдет замуж за Тьерре: она сама его выбрала, и я его уважаю. Натали поедет со мной в Париж; поезжай и ты туда и жди меня; мы будем жить там втроем с моей сестрой. В течение предстоящего года я буду приезжать сюда лишь ненадолго, так мне приходится делать с тех пор, как я на свою беду принял пост депутата. Жена моя успокоится; она привыкнет к мысли о том, что мое отсутствие продлится около года; без Натали, которая ее убивает, она начнет поправляться, имея рядом любящую Каролину, и постепенно вылечится совсем. Через год Натали будет замужем, я подам в отставку, и тогда, если ты поклянешься мне честью, что ты излечился, мы вернемся сюда, и я снова буду лелеять надежду, которую ты мне подал когда-то, что ты привяжешься к младшей… к лучшей из моих дочерей. Если же нет, то ты уедешь в Америку, где, может быть, тебе придется спасать мое состояние от нависшей над ним угрозы. — Вы слишком мало думаете об этой угрозе, дядюшка, позвольте мне поехать туда сейчас же. — Нет, — сказал Дютертр, ибо он опасался последствий его отчаяния и не решался предоставить юношу самому себе, настолько прочно в его сердце великодушное и нежное отцовское чувство уживалось с супружеским, — нет, время заниматься материальными делами еще не пришло. Мы все страдаем здесь от нравственных мук, в особенности я, ибо мне придется снова покинуть собственный дом и терпеть еще большую муку, соединив свою жизнь с черствой душой, с дочерью, которая порой бывает просто бесчеловечна. Мне придется много страдать, друг мой; мне понадобятся силы и терпенье. Со мной не будет Малютки, чтобы осушать мои слезы. Это сокровище я оставляю Олимпии. Замени мне любимую дочь, оставаясь в то же время добрым и мудрым советчиком, — ведь ты всегда помогал мне в минуты душевного смятения. Ты говоришь, что любишь меня больше, чем себя самого; я верю тебе и на тебя полагаюсь. Говоря так, Дютертр внимательно следил за выражением лица Амедея. Он подвергал испытанию его юную отвагу, он старался спасти Амедея от него самого с помощью той страстной преданности, которая и была его истинной добродетелью, истинной силой. Если бы Дютертр заметил хоть малейшее сомнение в его взоре, хоть малейшее колебание его духа, он отказался бы от этого средства спасения и стал бы искать другого. Но взор Амедея блистал по-прежнему, лицо его прояснилось, улыбка надежды и признательности появилась на задрожавших губах. — Да, вы правы! — вскричал он. — Именно этого я желаю, именно в этом мое назначение и моя радость! Быть для вас опорой в той борьбе, которую ведут здесь против вашей справедливости и доброты, утешением в горестях, которые вам причиняют!.. Благодарю, благодарю, отец мой! Мне не хватает достоинств, мне не хватает величия души, чтобы быть вашим советчиком, как вы говорите; но где не хватает величия души, там его заменяет нежность. Я буду любить вас, страдать вместе с вами, и одна мысль, что я вам нужен, даст мне силы жить и благословлять судьбу; будьте покойны; я уезжаю сейчас же… так нужно. Да, я понимаю или догадываюсь — чей-то ядовитый язык… Нет, нет, не будем говорить об этом, не будем об этом думать. Простим все. Будем трудиться на благо тех, кто нас убивает. Мы обратим их на путь истинный терпением и преданностью; увидите, дядюшка, вы еще будете счастливы! Вы исцелите всех ваших больных! О, да благословит вас бог за ваше решение оставить меня при себе, когда вы будете один и далеко отсюда! Амедей кинулся на шею своему приемному отцу, обливаясь слезами. Сердце его разрывалось; но он проявил такую искренность, такую верность своему судье и сопернику, с таким жаром поцеловал руку отца, приносившего его в жертву, что Дютертр совершенно забыл о недавней вспышке ярости и сжал юношу в своих объятиях, видя в нем только лучшего из сыновей и чистейшего из людей. Он последовал за Амедеем в квадратную башню, заботливо и деликатно снабдил его всем необходимым: деньгами, письмами, предметами дорожного обихода — и вместе с ним сочинил версию о делах, потребовавших немедленного отъезда Амедея, чтобы этот отъезд не привлек особого внимания окружающих. Тем временем уже готовили коляску, которая должна была увезти молодого человека. Дютертр, провожая его, взял его под руку. Проходя мимо дверей башенки, где Амедей столько раз издали втайне следил за лихорадочным сном Олимпии, Дютертр почувствовал, что рука, опирающаяся на его руку, стала тяжелее, словно смерть внезапно оледенила члены бедного юноши. Но жестокое волнение было быстро побеждено. Амедей тихонько улыбнулся своему страданию; вновь обретя присутствие духа и чувствуя какую-то высокую радость, он ускорил шаг и попросил дядю позаботиться о своих любимых цветах и животных. Коляска тронулась; Амедей в последний раз улыбнулся своему отцу; но когда коляска исчезла за стенами замка, он весь поник, как мертвый, и несколько часов действительно находился между жизнью и смертью, ни о чем не думая, ничего не понимая, не вспоминая ни о ком и полагая, что ему так а не придется достигнуть цели своего путешествия. Оставшись один, Дютертр почувствовал что-то вроде минутного облегчения, как бывает, когда исполнишь тяжелый долг; но когда он возвратился в дом и подумал, что больше не увидит там прекрасного юношу, дом показался ему опустевшим. То существо, которое наполняло для него мир несказанными радостями, отныне было отделено от него, словно пропастью. Он не думал, что Олимпия разлюбила его, и знал, что она не совершила чувственной измены, но не был уверен, что она не изменила ему в своем воображении. Даже если это длилось одно мгновение, без участия ее воли и сознания, этого было достаточно для того, чтобы лучезарное счастье супруга Олимпии потускнело и показалось ему почти отравленным. Он не стал будить жену. Он не хотел или не решался думать, что беспокойство о нем мешает ей заснуть. Он не пошел, как обычно, взглянуть на ее целомудренный, как у девственницы, сон. Он боялся поймать себя на том, что не столько восхищается ею, сколько подстерегает, не откроется ли ему какая-нибудь тайная душевная измена. Да сих пор он всегда относился к своему положению супруга с благоговейной серьезностью; теперь же впервые ему показалось, что он играет отвратительную или смешную роль ревнивца или обманутого мужа. Он отправился побродить по лесу и, сам того не заметив, пошел по направлению к замку Мон-Ревеш, куда его толкало инстинктивное подозрение, в котором он сам не отдавал себе отчета. Навстречу ему попался Тьерре, который ехал в Пюи-Вердон завтракать. Дютертру и в голову не пришло приветствовать в его лице своего будущего зятя и оказать ему сердечный, отеческий прием, как в прежние дни. Он и думать забыл, что это будущий супруг Эвелины. В эту минуту он видел в нем только наперсника Флавьена, человека, который читал проклятое письмо и может думать, что его, Дютертра, честь находится под угрозой. Не будь письма, без сомнения, Дютертр в этот день великодушно помог бы Тьерре сделать признание, особенно трудное для человека без состояния, который просит руки богатой наследницы. Тьерре более чем кто-либо другой нуждался в том, чтобы Дютертр сделал первый шаг, ибо гордость его крайне страдала от положения, в котором он очутился. Он чувствовал, что его ухаживание за Эвелиной не может продолжаться дальше без официального согласия отца семейства. Он как раз решился попросить этого согласия сегодня, и, когда увидел Дютертра, идущего без спутников ему навстречу, он спешился и пошел с ним рядом, надеясь, даже рассчитывая, что Дютертр первый сломит лед. Но прием, который оказал ему побледневший, осунувшийся, угнетенный Дютертр, просто ошеломил его, настолько он был непохож на ту приветливость, с которой его встречали прежде. Нахмуренный лоб, испытующий взгляд и натянутый тон отца Эвелины внушили Тьерре мысль, что выходка дочери стала ему известна и что он, справедливо разгневанный, теперь со строгим видом ожидает официального предложения руки и сердца. Тьерре нисколько не был подготовлен к тому, чтобы очертя голову броситься в пропасть, женившись на безрассудной девушке. Он рассчитывал поговорить о своих надеждах, но так, чтобы потом, если легкомыслие Эвелины его к тому вынудит, отступить, не навлекая на нее какого бы то ни было порицания. Когда же он подумал, что попался в ловушку, которую, быть может, она сама ему ловко подстроила, хотя и казалась неспособной на эго, он едва не почувствовал к ней отвращения. В конце концов ему пришлось начать первому, потому что Дютертр с озабоченностью, в которой Тьерре услышал иронию или угрозу, говорил только о погоде. — Сударь, — сказал Тьерре, — вы, надеюсь, делаете мне честь не считать меня негодяем, и я хочу поскорее доказать вам, что достоин уважения, в котором вы мне до сегодняшнего дня не отказывали; но прежде всего мне нужно спросить вас, считаете ли вы, что я мог намеренно способствовать тому, что, к сожалению, произошло вчера? — Довольно! Довольно, господин Тьерре! — с силой возразил Дютертр. — Я прекрасно знаю, что вы ни в чем не виноваты; нет никакой необходимости сообщать это мне, и я очень удивлен, что вы сочли своим долгом об этом заговорить. Затем он добавил уже более спокойным тоном. — Вы порядочный человек; поэтому я вверяюсь вашей скромности, хотя и знаю: во всем происшедшем нет ничего серьезного, ничего задевающего мою честь, ничего такого, в чем я мог бы вас обвинить. Говоря таким образом, Дютертр полагал, что Тьерре заметил путаницу, которую натворил с письмами, и выражает ему по этому поводу свое сожаление, что Дютертр справедливо счел неумным и даже неуместным. Он догадывался о поездке своей дочери в Мон-Ревеш не более, чем Тьерре о том, что стихотворное послание в четыреста строк спокойно лежит в ящике его письменного стола вместо исповеди Флавьена. Философское отношение ко всему происшедшему так поразило его, он усмотрел в нем такую суровую нелицеприятность, что чуть ли не испугался. «Бедная Эвелина! — подумал он. — Ее считают до того сумасбродной, что даже не думают обвинять меня и готовы предоставить ей самой нести последствия ее ошибки, не вменяя мне в обязанность поправить дело. Ну что ж! Будем вести себя так же героически, как этот честный человек! Я женюсь, пусть даже мне потом придется кусать себе локти!» — Сударь! — сказал он. — Меня восхищают ваше благоразумие, ваша гордость, но я чувствую, что по чести обязан дать вам удовлетворение… — Ах, черт возьми, какое удовлетворение можете дать мне вы? — с горькой иронией перебил его Дютертр. — Вы можете только молчать, и я на это весьма рассчитываю. Говорю вам, не будем больше этого касаться. И, протягивая ему руку, скорее важно, чем ласково, он прибавил: — Прошу вас, Тьерре, не будем никогда об этом говорить! Тьерре почувствовал себя глубоко задетым; этот ответ можно было истолковать как формальный отказ в руке Эвелины. «Вот и хорошо! — сказал он себе. — Буржуа остается буржуа: богачи всегда будут брать себе в зятья богачей; художники и писатели для богатых семейств всегда останутся людьми, не стоящими внимания, а если их дочери иногда страстно в них влюбляются, из этого вовсе не следует, что они должны выходить за них замуж, ибо, по общему мнению, такой брак никоим образом не возместит замаранную честь Только бы я молчал — от меня больше ничего не требуется; это все, на что я годен. Тайный и молчаливый любовник — это возможно; официальный супруг — никогда!» Он ответил Дютертру только презрительной усмешкой, которой тот и не заметил. Настаивать Тьерре считал для себя недостойным; это выглядело бы так, что он хочет воспользоваться сумасбродством ребенка, чтобы заполучить миллионное приданое. Но его изумление и испуг дошли до предела, когда Дютертр, не желая думать ни о чем, кроме счастья своей дочери, решил преодолеть неловкость, которую он ощущал к присутствии будущего зятя, и очень естественно сказал: — А теперь, Тьерре, поскольку вы ехали в Пюи-Вердон, продолжайте свой путь. Мне надо поглядеть, как подвигается рубка леса, это недалеко отсюда; жена моя возвратилась, и я увижу вас за завтраком. С этими словами он удалился, не считая нужным дождаться ответа Тьерре. — Это уж слишком! — воскликнул разъяренный молодой человек, вскакивая на лошадь. — Он знает, что я любим; дочь его скомпрометирована, он формально запрещает мне думать о браке и разрешает посещать его дом! Пожалуй, он все-таки хватил через край, третируя меня как человека второго сорта… А может быть, у этой девицы было уже не одно подобное приключение? Ему известно, что честь ее все равно погибла, что на ней нельзя жениться, и потому ей разрешается иметь любовников под видом женихов, чтобы избежать скандала. Не в этом ли причина той осторожности, с которой она не дает никаких обещаний на будущее? Уж не из тех ли она «свободных» женщин, которые ненавидят брак и желают жить свободно на глазах у всего света? Она достаточно бесшабашна, чтобы заставить семью терпеть все последствия своей «эмансипации». Право же, я буду дураком, если этим не воспользуюсь. Это гораздо приятнее, чем обязательство, которое я хотел на себя возложить. И Тьерре пришпорил лошадь с гневом в сердце, намереваясь как следует посмеяться над Эвелиной. Но, приближаясь к белым и стройным башням Пюи-Вердона, он стал свидетелем забавной сценки, которая заставила его призадуматься. Хотя Тьерре и не брал его с собой, Форже находился здесь. Он пришел, чтобы свести счеты с господином Крезом, которого ему не удалось увидеть накануне, ибо юный паж проспал весь день в сарае для сена, дабы вознаградить себя за дурно проведенную по милости Эвелины ночь. Форже подстерегал Креза в окрестностях замка, и в ту самую минуту, когда приблизился Тьерре, строгий мон-ревешский слуга застиг пюи-вердонского пажа под молодым деревцом, ветки которого он, собираясь заняться ловлей птиц, намазал клеем, предварительно оборвав с них всю листву. Теперь он отдыхал здесь от своих трудов. Услышав, что голос Форже звучит необычно, а Крез, по обычаю всех озорников, то просит пощады, то выкрикивает дерзости, Тьерре сдержал лошадь и прислушался. — Ах ты скверный шалопай! — говорил Форже. — Я давно подозревал, что это ты воровал у меня табак и щетки. И не ради прибыли ты это делал, а просто чтобы мне насолить! Сколько раз ты подстраивал мне пакости, а я все не хотел на тебя жаловаться. Да ведь из-за тебя я и с моими добрыми хозяевами расстался, потому что никаких сил не стало тебя терпеть. А все-таки я тебя еще жалел! Все думал: попрошу я, чтоб его прогнали, да как попадет он к плохим хозяевам, каких нынче немало, — ну и пропал мальчишка, пойдет по дурной дорожке, как многие другие. Вот я и ушел от Дютертров. — Как бы не так! — отвечал Крез. — Будто вы не знали, что госпожа Эвелина за меня заступится и не так-го просто вам будет устроить, чтобы меня прогнали! Да вы просто старый скряга, вот и злитесь на кого попало… — А кто же тебя простил, когда ты пришел просить прощенья, когда плакал, что родители тебя не примут, если тебя прогонят из Пюи-Вердона? Да, старик уступил место молодому — а почему? Да потому, что старик знал: он-то где угодно сумеет честно заработать себе на жизнь, а молодой как раз станет бродягой и кончит жизнь на каторге. — Ладно! А теперь-то за что вы меня попрекаете? Что я вам сделал худого с тех пор? — А то, что вчера я сделал из-за тебя такую глупость, что всю жизнь себя попрекать буду! Ты мне тут наврал с три короба по поводу… словом, хватит! — Да я просто сказал вам, что мамзель Эве… — Молчи! Молчи, дерзкий мальчишка! Попробуй только произнести еще раз ее имя! Я так надеру тебе уши, что… — Ну, ну, папаша Форже, не серчайте! Ей-богу, сперва она сама мне все сказала, а потом уж я вам. Я-то знал, что все это так только, для отвода глаз, а едет она в Мон-Ревеш, чтобы подурачить вашего господина, но, ей-богу, я передал вам все в точности, как она приказывала. Я, что ли, в этом виноват? — Ладно! — сказал Форже. — Хватит с тебя на сегодня Но запомни: если ты когда словечком обмолвишься об этом деле — хоть кому, хоть самому господину Тьерре, который знать не знает, кто это ночью бегал у него по коридорам… Так вот, видишь это дерево, на которое ты птиц приманиваешь? Ну, так знай: я выломаю палку потолще этого дерева и так тебя отвожу, что ты уже ни плохого, ни хорошего слова не скажешь, потому как будешь мертвый. — Убийца! Разбойник! — заголосил Крез, которого Форже в это время тряс за шиворот. — Да неужто я еще буду об этом болтать, чтобы меня выставили прочь? Да отпустите же меня! Говорят вам, что никто ничего не узнает, если вы сами не расскажете! — То-то же! — сказал старик, отпуская его. И, ускоряя его бегство основательным пинком под зад, заключил: — Вот теперь ты у меня парень что надо! Крез умчался, бормоча ругательства; Форже, вновь обретший свою философскую невозмутимость, пошел прочь, и Тьерре пришпорил лошадь, чтобы догнать его. — Форже, — сказал он, — я видел и слышал все, что произошло. Теперь я знаю или догадываюсь, о ком шла речь. Знает ли об этом кто-нибудь в замке? — Слуги, во всяком случае, не знают, сударь. Этого шалопая я, как видите, приструнил. — А он болтал? — Нет, сударь; однако хоть деньгами и можно откупиться, но и застращать тоже не вредно. Барышня, конечно, платит, ну, а я делаю что могу, я в него это вколачиваю. — А что могу сделать я? — Ничего, сударь, делать вид, что вы ничего не знаете. — Вы правы, Форже, так я и решил. — Да, сударь, это будет правильно. Вы не можете жениться, уж слишком они богаты. А я-то, простофиля, думал, что у вас обо всем договорено! Но уж эта барышня! До чего же мила, до чего благородна! Шляпа набекрень, посмотришь — ну, ветреница, да и только! А ведь все потому, что ровно ничего о жизни не знает. Избалована — ничего не скажешь, но добра, точь-в-точь как отец. И кому придет в голову погубить такого ребенка? Эго уж надо быть совсем бессердечным! — Устами малых сих говорит истина! — сказал Тьерре. — Спасибо, Форже. Он повернул лошадь и галопом поскакал обратно в Мон-Ревеш, решив непременно сегодня же уехать оттуда.XXIV
День в Пюи-Вердоне прошел печально. Эвелина, которой отец сообщил, что Тьерре будет к завтраку (удивляясь, почему тот его не опередил), напрасно ждала его час за часом, переходя от беспокойства к досаде, от досады к испугу и огорчению. Олимпия, которая с восторгом встретила мужа, появившегося раньше, чем она ожидала, тут же почувствовала, что ей нанесен удар в самое сердце, так как прочла на его лице необъяснимое уныние и увидела в его манерах какую-то принужденность, которой не знала раньше. Поведение Натали просто устрашало своей холодностью и язвительностью. «Она его убивает, — думала Олимпия. — Увы! Неужели она не может удовольствоваться единственной жертвой?» Бедная женщина ясно видела, кто нанес удар Дютертру, но, далекая от мысли, что это ей нужно защищаться или оправдываться перед ним, не расспрашивала его ни о чем, когда-то установив для себя твердое правило не только никогда ему не жаловаться на Натали, но и не поощрять его собственных жалоб. В их прекрасном и достойном союзе, который скрепила сама любовь, нечто было роковым образом принесено в жертву: ни один из супругов не мог быть полностью откровенен с другим. Оба страдали от общего горя, которое не могли облегчить, излив друг другу душу; один из живейших источников человеческого блаженства — возможность разделить свои горести с любимым существом — был закрыт перед ними именно их заботливой и нежной взаимной любовью. Отъезд Амедея никого особенно не удивил. Жизнь Дютертра была заполнена разнообразной деятельностью; было вполне естественно, что он, получив какие-то неожиданные известия, послал на несколько дней по своим делам сообразительного и расторопного племянника. Сам Дютертр, как бы не придавая особого значения этому отъезду, просто сказал, что дела могут задержать Амедея недели на две. Натали громко заметила, что, по ее мнению, отсутствие Амедея продлится дольше: она одна поняла причину этого отъезда. Дютертр в ответ сухо сказал, что она ничего не может знать о его делах, и она с каким-то злорадством стерпела его резкость. Зато удивлена и обеспокоена была Олимпия, которая в каждом из таинственных слов падчерицы прозревала неведомые несчастья. Каролина стала укорять отца — зачем он не послал вместо Амедея своего секретаря или кого-нибудь другого из служащих. — Что мы будем делать без нашей «няни»? — сказала она, повторяя с нежностью прозвище, которое Эвелина дала Амедею в насмешку. — Кто будет ловить мне бабочек? И английский язык — я уже начинала говорить, а теперь я все забуду! А кто будет читать нам вслух, когда мы с мамой работаем? — И в самом деле, — сказала Эвелина, — нам будет недоставать нашего бедного Амедея. Мне, видно, придется теперь кататься в парке одной, поскольку отец находит, что я уже взрослая и мне не пристало ездить по лесу в сопровождении слуги. Дютертр сам чувствовал, какую унылую пустоту создало в семье отсутствие одного из самых преданных и добрых ее членов. Поминутно он ловил себя на том, что хочет обратиться к Амедею, а когда кнему пришли с докладом о полевых работах, он, не помнивший множества мелочей, заботу о которых препоручил племяннику, сказал: «Мы спросим у господина Амедея». И тут сердце у него сжалось — он подумал, что Амедей, быть может, никогда не вернется в Пюи-Вердон. Дня через два-три Дютертр, удивленный тем, что Тьерре не появляется, и заметив, что у бедной Эвелины глаза красны от слез, заключил, что тот болен, и отправился его навестить. Тьерре еще жил в замке Мон-Ревеш, но как раз в этот день он предпринял долгую прогулку верхом. Дютертр оставил ему свою карточку; прошло еще несколько дней, а о Тьерре по-прежнему не было ни слуху ни духу. Тьерре дал себе слово возвратиться в Париж. Но положение казалось ему таким странным, что он счел своим долгом задержаться по меньшей мере еще на неделю в ожидании дальнейших событий. «Если Дютертр считает, что я скомпрометировал его дочь, — размышлял он, — он явится потребовать от меня удовлетворения; если же он полагает, что она сама скомпрометировала себя ради меня, то, быть может, сочтет своим долгом принять то удовлетворение, которое предложил я. Мой же долг, таким образом, ждать и находиться поблизости от этого то ли рассерженного, то ли чудаковатого отца». И он продолжал писать свой роман для читающей публики, отметив про себя, что в реальной жизни его собственный роман близится к довольно жалкой развязке. Несмотря на свое смирение, Тьерре был глубоко опечален. «Говорят, — писал он Флавьену, — что свидетельство чистой совести может все заменить. Уверяю тебя, что моя совесть не запятнана никаким преступлением, никаким проступком, и тем не менее твой замок стал для меня тюрьмой, твое привидение — кошмаром, а твой попугай — образом могильщика. А ведь было время, когда целые сутки я мечтал здесь о жизни, которая мне, поэту, казалась пределом великолепия; получи я Эвелину с ее миллионом приданого, мое честолюбие ограничилось бы шестью тысячами ливров дохода, я бы арендовал у тебя Мон-Ревеш навечно и спокойно трудился здесь подле Эвелины, исправившейся и преобразившейся под моим влиянием… И кто знает? Малыш или даже двое играли бы у наших ног на ковре, вышитом еще руками канониссы. Да! я так мечтал о любви, что уже мысленно ласкал маленьких Тьерре, смуглых и проказливых, и даже видел, как они копошатся вокруг меня. А теперь я один, и, вероятно, навсегда, потому что все происшедшее внушило мне необычайное отвращение к Гименею, и если сама госпожа Элиетта не придет меня утешать, я, думается мне, умру мудрецом, навеки защищенным от всякого коварства, но унылым и глупым, как старый холостяк». Тьерре во всех подробностях рассказал Флавьену свою маленькую любовную драму с Эвелиной. Единственное, что не пришло ему в голову, — это перечитать первое письмо своего друга, которое, неведомо для него, явилось причиной всех зол. Тут-то он и нашел бы реальное доказательство своей рассеянности, и оно объяснило бы ему странное обращение с ним Дютертра. Эвелина, оскорбленная, доведенная почти до отчаяния, написала Тьерре две записки, которые она для большей безопасности поручила Крезу, запечатав их в конверт с надписью: «Для Форже». В первый раз Форже начисто отказался что бы то ни было принимать, а во второй раз, когда грум, которого он не мог бранить за то, что тот исполняет приказы своей госпожи, стал настаивать, просто сжег у него на глазах обе записки, взяв его в свидетели своего добродетельного отвращения к посредничеству, даже такому невинному. Эвелина не знала уже, каким святым молиться. Кое в чем она была чрезмерно горда, кое в чем лишена всякой гордости. У нее было искреннее сердце и фальшивый ум. Она не потерпела бы ни малейшей фамильярности со стороны светского человека, но подвергала себя выговорам со стороны слуги, нисколько этого не стыдясь. Для нее, считавшей себя если не королевой, как Натали, то по крайней мере героиней и принцессой, смелость человека, принадлежавшего к этому классу, была забавна, но не оскорбительна. Она вела себя, как принц Конде[193] или Тюренн[194], которые могли ответить улыбкой на фамильярность солдата, могли сказать: «Этот плут прав!» — но не стали бы ради этого менять что-нибудь в своих государственных соображениях или в военной тактике. И rot однажды вечером, когда Дютертр уехал (на этот раз и в самом деле вынужденный провести сутки на ферме Риве для какой-то важной экспертизы), Эвелине пришло на ум предпринять вторую атаку на Мон-Ревеш. Успех первой воодушевлял ее. В безнаказанности дурных поступков или глупостей всегда есть роковая притягательность, побуждающая человека совершать их снова. «Тьерре тоже взбалмошен, — говорила она себе. — Он подозрителен, обидчив немного деспотичен. В последний раз, когда мы виделись он ушел печальный. Одно из двух: или он в самом деле слишком горд, чтобы, не задумываясь, принять мое богатство, или же я, желая приучить его терпеливо сносить мои недостатки, чем-то его по-настоящему испугала. Он отбивается от меня, но не притворяется; он не болен, на этот раз он не ищет никаких предлогов, но и не уезжает; он ждет, он дает мне почувствовать, что я должна уступить и покориться ею требованиям. Но этого не будет. Я хочу, чтобы он любил меня такой, какая я есть, чтобы даже глупости, которые я совершаю на радость его самолюбию, вскружили ему голову и сделали его беззащитным передо мной. Он плохо примет меня, он опять будет говорить мне оскорбительные вещи — тем лучше! Тем слабее он станет и тем больше будет раскаиваться, когда увидит мои слезы. Да, да, я знаю, мне это будет очень больно, и я буду плакать по-настоящему, но он станет просить у меня прошения на коленях и, когда наступит день скажет, как Ромео: «Нет, то не жаворонка песня»[195]. Но теперь Эвелине надо было осуществить свой дерзкий замысел, а это было трудно, ибо Форже оказывал сильнейшее сопротивление, а Крез, который стал бояться последствий, связанных с его ролью пажа, заметно колебался. «Обойдусь без них, поеду одна, — сказала себе Эвелина. — Теперь я не стану одеваться в костюм госпожи Элиетты. Найду что-нибудь получше. Пойду пешком пробуду там не так долго, вернусь до наступления утра, и, главное, обойдусь без наперсников, которые так пугают этого щепетильного и малодушного Тьерре». Но как пробраться в неприступный замок Мон-Ревеш? О том, чтобы проникнуть туда через дверь, нечего было и думать. «Ну, что ж! — бодро сказала себе Эвелина. — Если нельзя через дверь, придется войти в окно». Для того чтобы быть такой безрассудно-отважной, как эта молодая девушка, только экстравагантности и своеволия было недостаточно; нужна была еще и полнейшая невинность, даже не подозревающая об опасностях, которые могут угрожать женщине. Эвелина смутно знала, что можно потерять свою честь, если слишком доверяешь людям. Дабы не казаться глупой девчонкой, она иногда даже делала вид, что понимает, как это происходит, хотя на самом деле ровнехонько ничего не знала. И уж совершенно она не подозревала того, что ей мог быть опасен даже очень порядочный человек. Не изведав никогда чувственного влечения, она не знала, как сильно оно может быть у других. Она не думала, что от поцелуя у нее может закружиться голова; к тому же во всех своих немыслимо дерзких поступках она была защищена первозданным инстинктом целомудрия и даже не допускала возможности забыться настолько, чтобы позволить поцеловать себя человеку, которому собиралась предложить руку и сердце. «Итак, — думала она, — все дело лишь в том, чтобы войти в окно». В день, предшествовавший ночи, на которую была намечена новая экспедиция, она воспользовалась отсутствием Дютертра и собралась ехать кататься с Крезом. Олимпия увидела эти сборы и стала увещевать Эвелину, говоря, что она огорчит отца, который после ее недавней поездки с грумом ласково, но серьезно запретил ей с ним кататься. Олимпия говорила со всевозможной кротостью, с искренней нежностью. Эвелина в тот день не была расположена уступать, дело шло о ее тайном предприятии. Она воспротивилась. — Отец ничего не узнает! — отвечала она, вскакивая на прекрасную английскую лошадь, которая уже ржала от нетерпения, торопясь умчать в поля грациозную всадницу. — Простите, дитя мое, он непременно узнает! — сказала Олимпия. — Конечно! — сказала Натали, которая из своего окна, выходящего во двор, как бы случайно наблюдала эту сцену, — Это будет первое, что доложит ему госпожа Олимпия. Разговор происходил в присутствии Креза и другого слуги, ибо у семейных распрей всегда имеются немые свидетели, преувеличивающие серьезность этих распрей или недооценивающие их. Олимпия уже хотела запретить им ехать с Эвелиной, честь которой была ей доверена; забота о репутации девушки позволяла Олимпии, по ее убеждению, пренебречь тем, что сумасбродное дитя может рассердиться; но ледяные слова Натали камнем упали на ее сердце и лишили ее сил. Она побледнела и, протягивая руку Эвелине, сказала; — Поезжайте, дитя мое, если вы согласны с оскорблением, которое мне нанесли! Увидев слезы на глазах Олимпии, Эвелина почувствовала укор совести; она легко соскочила с лошади, подошла к мачехе и поцеловала ее. — Нет, дорогая матушка, — сказала она, — я знаю, что уж вы-то ничего ему не скажете. — И, подняв голову к окну, в котором Натали устроила себе наблюдательный пункт, она добавила: — Если кто-нибудь и доложит ему, то это будет Натали. Ну, милая матушка, идите к себе и не думайте больше об этом, я никуда не поеду! Олимпия ушла к себе, скрывая слезы. — Скорее, Крез, в путь! — сказала Эвелина, снова садясь в седло. — А вы — ни слова! — крикнула она другому слуге и полетела стрелой. В тот миг Эвелина перескочила бы пропасть, разверзнись она у нее под ногами. Наметив себе цель, она проскакала две версты галопом и вернулась по другой дороге, которую хорошо знала; эта дорога шла под мон-ревешским холмом, в стороне, противоположной воротам замка и ферме, расположенной внизу. Оказавшись там, она сказала, обернувшись к Крезу: — А, да я поехала по самой длинной дороге, вот и Мон-Ревеш! Что же ты не сказал мне, что я ошиблась! — Я не думал, что вы ошиблись! — отвечал Крез, который ни на минуту ей не поверил. Эвелина пустила лошадь шагом, как бы для того, чтобы дать ей отдохнуть, стала болтать о пустяках со своим пажом и, улучив минуту, окинула стены маленького замка взором опытного генерала, определяющего слабые места обороны Она заметила осыпь, по которой, как ей показалось издали, легко было взобраться наверх и которая, по ее предположению, выходила к маленькой часовне, где Тьерре недавно начал восстановительные работы. Она различила садовую лестницу, которая показалась ей короткой, потому что она не смогла сосчитать ее перекладины. «Уж не сам ли Тьерре столь галантно позаботился о том, чтобы облегчить мне способ проникнуть в центр крепости? — подумала она, обрадованная, что предприятие оказывалось нетрудным. И покончив с расчетами, не обращая внимания больше ни на что, она поскакала галопом и исчезла из виду. В это время Тьерре находился в часовне; он увидел проезжавшую Эвелину и узнал, несмотря на дальность расстояния, ее костюм и изящную посадку. У него хватило мужества не выглянуть из окна, и он решил, что опасность миновала, когда она исчезла в ближнем лесочке. Но к тому времени план действий уже родился в ее мозгу. В полночь Эвелина, раздобывшая крестьянскую одежду под тем предлогом, что собирается подарить новый гардероб племяннику Ворчуньи (то был пятнадцатилетний паренек, почти одного роста с нею), надела темную холщовую блузу, обула длинные шерстяные гетры и грубые башмаки, накинула на плечи теплую овчину, как то делают местные пастухи, спрятала свои прекрасные волосы под широкополой шляпой, героически вооружилась маленькими пистолетами, сунув их под блузу, взяла в свою нежную руку, скрытую толстой зеленой вязаной перчаткой, палку из остролиста и Стала карабкаться по скалам водопада с такой ловкостью и беззаботностью, как будто весь свой век только и делала, что пасла коз. Со стороны водопада парк ограждался только простым забором, через который нетрудно было перелезть. Эвелина, тонкая и гибкая, как змея, протиснулась между жердями и оказалась одна среди поля, в совершенной темноте. Местность была ей хорошо знакома, она знала тут каждую кочку, каждую выбоину. Ей незачем было выходить на дорогу, она двинулась в Мон-Ревеш кратчайшим путем, прямиком через заросли, луга и овраги. К тому же на этом пути почти не было риска кого-нибудь встретить — она шла через безлюдную пустыню. Правда, она чуть не вдвое удлиняла себе путь, обходя маленькие горные потоки и слишком крутые подъемы, но и без того ей пришлось преодолеть немало препятствий; однако ничто не могло заставить ее вернуться. Возбужденная собственной смелостью, проворная и крепкая, в своей легкой крестьянской одежде и грубых башмаках, она шла завоевывать жениха с героизмом, достойным амазонки Ариосто[196]. Готовая сразиться с волками, если они посмеют на нее напасть, Эвелина спрашивала себя, неужели она, решившаяся один раз выйти ночью, чтобы осуществить романтическую мечту, менее смела и удачлива, чем деревенские женщины и дети, которые еженощно отправляются воровать у соседей вязанку дров или охапку сена. Улыбающаяся, оживленная, ловкая, пылкая, она показалась бы Тьерре прекрасной, несмотря ни на что, если бы он увидел, как она, словно козочка или заяц, пробиралась сквозь дрок и колючие ветви лесных прогалин.XXV
В это время Тьерре говорил Флавьену, который в десять часов вечера неожиданно нагрянул в Мон-Ревеш: — Право же, друг мой, я не знаю, как благодарить тебя за твою заботливость. Подумать только! Бросить все удовольствия, проделать снова весь длинный путь, вернуться в эту медвежью дыру, чтобы вытащить меня из моих затруднений и помочь жениться! Я так этим сконфужен, что тебе следовало бы, чтобы успокоить меня, дать понять… — Что я еще не излечился от страсти к госпоже Олимпии? Думай так, если хочешь, ты не нанесешь ущерба этой прекрасной женщине. Со своей стороны я теперь имею все основания не сомневаться, что был дураком и что она так ничего и не поняла в моей великой страсти. Однако не напоминай мне обо всех глупостях, которые я тебе написал, я их стыжусь и прошу тебя бросить их в огонь. — Когда тебе будет угодно, — сказал Тьерре, кладя руку на ящик своего письменного стола. — Хорошо, хорошо, ты сожжешь их потом! — сказал Флавьен, и слова его помешали Тьерре открыть ящик, придав его мыслям другое направление. — Я говорю серьезно: нельзя вести себя так глупо и расстраивать такую женитьбу! — Нет, Флавьен, от этой женитьбы необходимо отказаться, — возразил Тьерре, — потому что я предвижу заботы и опасности, которых никогда не возместят мне все тщеславные удовольствия богатства. — Ну, что ж! Откажись, но не так же глупо! — В добрый час, я тебя слушаю! — Ты не можешь дальше оставаться в фальшивом положении перед Дютертром. Дютертр, душевнейший и честнейший человек на свете, не должен ждать, чтобы ты попросил у него руки его дочери, независимо от того, знает ли он о том взбалмошном поступке, который она совершила ради тебя, или просто догадывается о вашей взаимной склонности. Как бы то ни было, ты обязан сделать формальное предложение, иначе ты рискуешь, что тебя будут презирать за то, что ты его не сделал. Формальный отказ родителей тебя, во всяком случае, оправдает. Если же твое предложение будет принято, то, право же, на худой конец не так уж плохо жениться на миллионе приданого и на девушке, которая ради тебя совершает безумства; не так уж часто это случается в холодном и унылом свете, в котором мы живем, и, признаться, мне очень жаль, что я не испытываю влечения к этой прелестной особе, ибо я был бы очень польщен, если бы меня так сильно любили. — Именно потому, что я очень польщен, я и остерегаюсь любви, имеющей своим источником удовлетворенное тщеславие. Я страшно боюсь богатства и суетности; с ним человек проводит жизнь в сердечной нищете и умирает, обнищав рассудком. Друзья продолжали беседовать на эту тему, и каждый упорно защищал свою точку зрения. Флавьен не придавал никакого значения самим деньгам, потому что их у него было сколько угодно; но он не понимал, как можно без них обойтись такому человеку, как Тьерре, который любит свет, и считал, что оказывает ему дружескую услугу, устраняя препятствия на его пути к богатству. Флавьен вполне серьезно предлагал взять на себя переговоры с Дютертром, поскольку ему и в голову не приходило, что Дютертр, которого он особенно любил за то, что ради него пожертвовал своей любовью к Олимпии, внезапно от него отдалился. Он не мог поверить в разговор, о котором ему рассказал Тьерре. — Нет, нет, — говорил он, — вы плохо объяснились и плохо друг друга поняли. Ты неправильно взялся за это дело. Может быть, ты обидел его своим обычным для художника презрением к его богатству? Ему показалось, что ты приносишь себя в жертву, и его гордость возмутилась. — В таком случае он должен был бы предложить мне дуэль. Я знаю, что он храбр; к тому же, хоть он и отец семейства, он почти так же молод, как я. Между тем я все еще его жду; право же, по-моему, он немножко сумасшедший. Бедной Эвелине было от кого это унаследовать. — Нет, Дютертр не сумасшедший; я знаю, что он неспособен оттолкнуть такого человека, как ты, за то, что у него нет состояния. Я хочу опять взяться за это дело и возьмусь, что бы ты ни говорил. Если оно должно закончиться дуэлью, то деритесь, черт возьми, но не поглядывайте друг на друга как часовые с высоты своих башен. Кажется, я хорошо сделал, что приехал, хотя бы для того, чтобы быть твоим секундантом. — Мой дорогой де Сож, ты лучший из всех друзей, какие у меня были, и я не могу простить себе, что недостаточно ценил тебя раньше. Поверь, я тебе глубоко благодарен, но знай — я боюсь твоего рвения и не хотел бы… Пронзительный крик, раздавшийся где-то за стенами замка, перебил Тьерре; собеседники посмотрели друг на друга, прислушиваясь и спрашивая себя, не почудилось ли им это. — Э, да уж не штучки ли это все той же дамы в маске? — сказал Флавьен, вставая с места и беря светильник. — Кто-то звал на помощь, это вне всякого сомнения. — Нет, — сказал Тьерре, — это крик боли, что-то случилось, и, может быть, ближе от нас, чем кажется. Они вышли из гостиной и направились к необитаемым комнатам, выходившим на фасадную сторону замка, потому что им казалось, что крик донесся оттуда. Тьерре, быть может, ведомый смутным инстинктом, хоть он и был за сто верст от того, чтобы предчувствовать истину, вошел в часовню и увидел на полу неподвижно распростертое тело. — Так! Вор сломал себе шею, свалившись с высоты! — сказал он, измеряя взглядом расстояние от окна до пола, составлявшее девять футов. — Мертв? — спросил Флавьен с той спокойной небрежностью, с какой относился ко всем событиям действительной жизни. — Это ребенок, — сказал Тьерре, подходя к маленькому крестьянину, лица которого не было видно, ибо оно было повернуто к стене; но, подняв широкополую шляпу, скрывавшую это лицо, он, в свою очередь, пронзительно вскрикнул, увидев белокурые волосы и бледное лицо потерявшей сознание Эвелины. Они перенесли ее в гостиную, где она пришла в себя, с удивленным видом посмотрела вокруг, узнала Тьерре и улыбнулась. — Вот видите, чему вы меня подвергаете! — сказала она. — Я расшиблась. И все ваша жестокая обидчивость! Еще одна размолвка — и я убьюсь насмерть. Сказав это, она увидела Флавьена, которого сначала не заметила. Бледность ее сменилась краской смущения, и она закрыла лицо руками с целомудренным испугом, растрогавшим Флавьена, ибо он опять увидел робкую женщину в предприимчивой героине. — Не сомневайтесь в моей порядочности, скромности, участии к вам, — сказал он. — Успокойтесь, мадемуазель, но, ради бога, скажите нам, вы ничего себе не повредили? Тьерре не мог говорить; задыхаясь от испуга, благодарности и гнева, которые боролись в его душе, он не знал, следует ли ему ее проклинать или благодарить на коленях; но больше всего он, разумеется, боялся, не окажется ли ее падение опасным для жизни. — Да, да, — сказал он наконец, трогая ее руки и плечи с тревогой, которая отводила всякую мысль о какой бы то ни было непочтительности, — вам, наверно, очень больно; ну, скажите, скажите скорее! Что с вами случилось? — Право же, ничего, — сказала Эвелина, — просто у меня онемела нога; я ведь не упала, я просто спрыгнула, но там оказалось выше, чем я думала, и я испугалась. — Но как вы сюда вошли? Что это за новое безумие? — сказал Тьерре, ободренный, но еще не успокоившийся. — И вы еще меня спрашиваете! — сказала Эвелина с горьким упреком. Флавьен увидел, что им необходимо объясниться, и из скромности потихоньку отошел в сторону, но Эвелина окликнула его. — Господин де Сож, раз уж по воле провидения я вас тут встретила, окажите мне большую услугу: останьтесь с нами. Какими бы скучными ни были ссоры жениха и невесты, когда они оба одинаково безрассудны, примите на себя это бремя. Вы его друг; будьте и моим тоже. Будьте моим свидетелем, судьей, советчиком и, в случае надобности, адвокатом, прошу вас. Флавьен, вернувшийся обратно при этих ласковых словах, почувствовал прилив дружеского расположения к Эвелине. — С большой охотой! — сказал он. — Я ведь и вернулся сюда для того, чтобы вразумить этого скептика и помочь вашему соединению. Но прежде всего, милая барышня, выпейте что-нибудь, настойки флердоранжа, или эфира, или чего-нибудь в этом роде. Что принимают от падения, Тьерре? Она ведь бледна как смерть, бедная девочка. Нет ли здесь какого-нибудь лекарства на этот случай? Поищи, пожалуйста! Тьерре открыл шкатулку с лекарствами, принадлежавшую канониссе, и достал оттуда нюхательные соли, которые в самом деле помогли Эвелине. Девушка рассказала, что с ней случилось. Все то, что она наблюдала издали, вблизи выглядело куда менее надежно. Осыпь была недостаточно высока; напротив, лестница оказалась гораздо длиннее, чем думала Эвелина. Но даже опасность расшибиться насмерть не заставила ее отступить, и, если не считать того, что кораблекрушение настигло ее в самом порту, она благополучно добралась до окна часовни. Но тут, когда лестницы уже не было у нее под ногами, она почувствовала головокружение; собрав последние силы, она протиснулась через амбразуру окна и соскочила вниз, не разобрав, какая тут высота. Ей удалось ловко спрыгнуть на ноги, и свой обморок она приписывала испугу и неожиданности — окно оказалось гораздо дальше от земли, чем она ожидала. — Я даже не знала, что вскрикнула, — сказала она, — по-моему, я потеряла сознание до того, как упала. — Но как же в таком случае вы знаете, что спрыгнули на ноги? — спросил Тьерре. — Мне кажется, я почувствовала страшную боль в ногах и тогда упала, больше ничего не ощущая и не помня, где нахожусь. — Однако вам следовало бы проверить, — сказал Флавьен, — не поранены ли у вас ноги. — Нет, нет, просто я окоченела и устала; позвольте мне минутку не шевелиться, и я отправлюсь в путь, потому что сейчас уже поздно, а я должна вернуться до света. — Вернуться? — сказал Тьерре. — Ах, Эвелина, когда вас увлекает фантазия, вы прекрасно знаете, куда идете, но весьма мало заботитесь о возвращении. Вы, значит, пришли пешком, судя по тому, что эти уродливые башмаки промокли! — Да, пешком и одна, — сказала Эвелина, вытаскивая пистолеты и кладя их на столик рядом с собой. — Теперь вы не скажете, что мои наперсники меня предадут. — Одна, ночью! — вскричал Тьерре. — О сумасбродка! Трижды сумасбродка! — Видите, как он признателен мне за то, чего ради него не сделала бы ни одна женщина! — сказала Эвелина Флавьену, ощущая его безмолвную поддержку. И, со скромностью истинного мужества, она рассказала, как добиралась сюда. — Нет, что ни говори, это действительно великолепно! — сказал восхищенный Флавьен. — Вы — Жанна Ашетт, героиня давно минувших дней[197]. Знаете, будь в Вандее десять таких женщин, как вы, монархия была бы спасена[198]. Десять отважных, охваченных порывом женщин стоят тысячи мужчин, потому что при них мужчины никогда не падают духом и только и мечтают стать героями у них на глазах. Ну право же, Тьерре, хоть это и безрассудно, а все-таки великолепно! Немедленно встань на колени перед своей невестой! Завтра мы скажем ее родным все необходимые слова, и этим займусь я. Но сначала, дети мои, дайте мне слово вы оба, и я стану посланцем обеих сторон. Знаете, я по-отечески отношусь к вам, и, право, мне не терпится дать вам свое благословение. Никогда бы не подумал, что я способен на такие чувства! Это мужественное и веселое отношение к жизни было очень симпатично Эвелине, но Тьерре с каждой минутой все больше страшился своей судьбы. Он целовал руку своей невесты так почтительно и холодно, что никакое внутреннее волнение не заставляло Эвелину отнять ее у него. В глубине этой любви, которую общество, судя по ее наружным проявлениям, сочло бы какой-то исступленной, все еще таился некий сердечный холод. — Ну, хорошо, — сказала Эвелина, взглянув на циферблат, стрелки которого показывали три часа, — времени осталось мало. Скажите мне несколько добрых слов, господин Тьерре, потому что вы не говорите ничего, а между тем этот мой побег должен быть последним. — Все, что он мог бы вам сказать, не стоит того, что он думает, — сказал Флавьен, обманутый волнением друга, — и если бы вы были так взволнованы, как он сейчас, вы тоже не могли бы говорить. Достаточно того, что он тут же, при вас даст мне слово. — Да, дорогой Флавьен, я даю тебе это слово! — отвечал Тьерре, устыдившись собственной холодности. — Но помните, милая Эвелина, что я делаю для вас больше, чем вы когда-либо сможете сделать для меня. Чтобы оправдать ваше расположение, я почти наверняка иду на риск получить презрительный отказ от вашей семьи, а это самое чувствительное для меня оскорбление, и я тысячу раз клялся себе не искать руки богатой наследницы, чтобы не подвергаться ему. — Вы сошли с ума, Тьерре, вы бредите! — сказала Эвелина. — Мой отец горячо желает нашего союза, он тревожится и огорчается оттого, что вы перестали к нам ездить, он даже сам поехал к вам, да не застал. — Но он не написал мне и ничего не поручил мне передать. — Неужели нужно, чтобы он сам предложил вам мою руку? Разве не вы должны просить ее? Тьерре дословно повторил разговор, который произошел у него в лесу с Дютертром. Эвелина сказала, что готова поклясться: у Тьерре была галлюцинация слуха, и Дютертр понятия не имеет о ее первой поездке в Мон-Ревеш. — По-моему, он на днях поссорился с Натали или получил дурные известия о своих делах. Вы увидели, что он печален, и устроили какую-то невообразимую путаницу, заговорив о моем приключении, о котором он и не подозревает. Но вы все еще сомневаетесь? Уверяю вас, вы совершенно неправы, и если вы завтра не придете разъяснить все это дело, я буду думать, что сегодня ночью шла сюда, рискуя стать добычей волков, и чуть не сломала себе шею, прыгая с высоты, ради человека, который знать меня не хочет. — Я приеду! Приеду, не сомневайтесь! — вскричал Тьерре, воодушевленный надеждой, что если этот брак и будет для него несчастьем, то по крайней мере не станет оскорблением. Он поцеловал обе ее руки с несколько большим жаром. Эвелина, успокоенная, взяла пистолеты, надвинула на лоб свою деревенскую шляпу и объявила, что пора уходить. Тьерре и Флавьен решили проводить ее до пюи-вердонского парка. Ночь была темная, и из дверей можно было выйти, не разбудив слуг. Эвелина встала, побледнела как смерть, но все-таки сделала несколько шагов. Однако, несмотря на героическое мужество, которое она вложила в это простое действие, она не удержалась на ногах и упала бы, если бы Тьерре ее не подхватил. — Ах, это невозможно, я погибла! — простонала Эвелина. У нее была вывихнута нога. Уже целый час она терпела жестокую боль, но продолжала разговаривать и улыбаться, не обращая внимания на свои мучения. Однако когда она сделала сверхчеловеческое усилие и ступила на вывихнутую ногу, боль стала так нестерпима, что Эвелина снова потеряла сознание. Судите сами, какое смущение, какой испуг овладели обоими молодыми людьми! Они не смели прикоснуться к Молодой девушке. Они не знали, чему приписать ее состояние. Прежде всего следовало привести ее в чувство. Это им удалось; тогда она сказала, что у нее, кажется, подвернута нога, но она лучше умрет, чем позволит им себя лечить. Флавьен решил позвать Манетту, Тьерре ему этого не позволил: Манетта не была ни любопытна, ни слишком наблюдательна, но зато была болтлива; как бы она ни старалась, но из-за своего возраста и привычки все рассказывать она никак не смогла бы сохранить все в тайне в течение целых суток. Жерве очень мало общался с посторонними, но так как он ничего не скрывал от жены, то результат был бы тот же. — Сыщите мне Форже, — сказала Эвелина, для которой слуга не был мужчиной. Несмотря на солидный возраст и серьезность Форже, мысль о том, чтобы позвать его к Эвелине и подвергнуться его суждению, была для Тьерре невыносима. — Эвелина, — сказал он властно, — нет ничего неприличного в том, чтобы показать ногу мужчине, если нога сломана, а мужчина — врач. Я, правда, не врач, но я для вас нечто большее — я ваш будущий муж, и я сам сделаю вам перевязку. Он вспомнил, что Манетта лечила всех окрестных больных неким целебным средством, рецепт которого ей завещала канонисса, и что в битком набитых буфетах, принадлежавших покойнице, имеется большой запас этого снадобья. Серьезно, как врач, и целомудренно, как отец, Тьерре смочил лекарством бинты и перевязал опухшую и посиневшую ногу Эвелины, чтобы еще до вмешательства хирурга остановить воспаление. Потом молодую девушку, которой было так худо, что она не могла ступить без посторонней помощи, уложили на диван в гостиной, а хозяева в тревоге стали думать, что им делать. Отправить Эвелину домой в единственном имевшемся в Мон-Ревеше тильбюри (Флавьен тотчас же отправил обратно наемную коляску, в которой приехал из Невера) было теперь невозможно. Своей попыткой встать на ноги Эвелина перетрудила больные связки и уже не могла сделать ни одного движения не вскрикнув. Как она перенесет поездку рысью в экипаже, в котором нельзя даже вытянуться? Притом тильбюри — открытый экипаж, а рассвет уже недалек. Крестьянский костюм позволит Эвелине остаться неузнанной в пути, но когда они приедут в Пюи-Вердон, солнце уже взойдет — как же им удастся вынести ее из тильбюри и препроводить к родителям, не посвящая в это событие весь дом? — Первое, что надо сделать, — сказал Флавьен, стараясь казаться веселым, чтобы Эвелина не падала духом, — это найти хирурга. Назовите мне лучшего здешнего хирурга, Эвелина; Форже за ним поедет. Он увидит не вас, а только вашу ногу, а мы пригрозим, что пристрелим его, если он начнет рассказывать о случившемся. — Да, да! — сказала Эвелина упавшим голосом. — Как в испанских романах. Но это невозможно; в окрестностях есть только знахари да наш домашний хирург, довольно опытный, но он узнает меня по голосу, если я хоть разок охну во время операции. Все это невозможно; надо мне найти способ вернуться в Пюи-Вердон, а там наш хирург будет меня лечить, не зная, где именно со мной произошел несчастный случай. Несколько часов ничего не значат. Я видела, как крестьяне ждут операции по целым дням, и никто из них от этого не умер. Ну, а я предпочитаю умереть, чем показываться здесь незнакомцам или встретить кого-нибудь на пути своего постыдного отступления. Безумства простительны, когда они удаются; те, что терпят неудачу, смешны и единодушно осуждаются всеми. Тьерре, если на следующий день после нашей свадьбы люди узнают, какие дьявольские штуки я проделывала ради вас, меня это нисколько не обеспокоит. Они будут удивляться, ужасаться; смеяться не будет никто. Но быть застигнутой здесь, на месте, — это ужасно. Говорю вам, я предпочитаю умереть: над мертвыми не смеются… Да, да, вы меня спрячете, вы похороните меня в каком-нибудь уголке… Друзья мои, как говорит ваш попугай, оставьте меня, я умираю! И бедная Эвелина, нервы которой были напряжены до предела, залилась смехом, перешедшим в рыдания. — Остается только одно, — тихо сказал другу Флавьен, единственный, кто еще не потерял голову, — идти прямо к Дютертру и рассказать ему все. Какой отец откажет дочери в нежности и снисходительности, если она в таком состоянии, как эта бедная девочка? Только Дютертр может немедленно принять решение — оставаться ли его дочери здесь, на его и нашем попечении, или же следует найти способ ее отсюда увезти. Его присутствие все поставит на место: он тверд, осторожен и великодушен. Твое предложение и его согласие прозвучат одновременно. Я еду! Позаботься, чтобы пребывание Эвелины здесь оставалось в тайне до тех пор, пока отец не решит, как быть. Рыдающая Эвелина не услышала этого решения, которому она бы воспротивилась, хоть оно и было единственным и лучшим из возможных. Флавьен сам оседлал и взнуздал Загадку и ускакал галопом, в то время как расстроенный Тьерре заперся в гостиной с молодой девушкой.XXVI
Вскоре Тьерре пришлось отбиваться от услужливой заботливости Манетты, удивленная, что хозяин встретил ее в дверях гостиной, она непременно хотела принести ему шоколад, открыть ставни и убедить его не писать больше, твердя, что он убьет себя, если будет вот так не спать всю ночь напролет. Ему удалось провести весь неизбежный при таких обстоятельствах диалог через чуть приоткрытую дверь, и, чтобы покончить с ним поскорее, он приказал Манетте больше его не беспокоить, заявив, что ему не нужен ни воздух, ни свет, ни отдых, так как он все равно не выйдет из гостиной и не потерпит там никого другого, пока не закончит свою работу. Манетта, привыкшая к его уважительному обращению, была удивлена и обижена, встретив нелюбезный прием. — Если вы, сударь, не позволяете мне прибрать сейчас, — сказала она, — то мне придется пропустить обедню, а сегодня воскресенье. — Ах, сегодня воскресенье? — сказал Тьерре. — Ну, тогда тем более! Идите, идите поскорее к обедне, сударыня, и оставайтесь в церкви до самой вечерни, если хотите. Я не буду ни завтракать, ни обедать дома. Мне нужен только Форже. Пусть он меня не беспокоит, но и не уходит из дому. — В таком случае, — спросила старуха, — Жерве тоже может уйти? — Хоть на весь день, если вам угодно, и он даже доставит мне удовольствие, воспользовавшись праздником. — Ну и праздник! — сказала Эвелина, когда Манетта удалилась, очень обрадованная отпуском, который могла брать хоть каждый день, но о котором считала своим долгом просить, так как очень ревниво относилась к своим обязанностям. — Только сейчас, господин Тьерре, — продолжала Эвелина, — я понимаю, какое огромное безрассудство я совершила. Увы! Нет человеческой воли, которая заставила бы судьбу исполнять свои капризы, ибо у судьбы тоже есть капризы, куда более слепые и жестокие, чем наши. — Не разговаривайте, милая Эвелина, — сказал Тьерре, напуганный ее возбуждением, — у вас лихорадка. Эвелина заснула, но ее тяжелый сон го и дело прерывался криками и стонами. Ей снова и снова снилось, что она падает, и Тьерре, опасаясь бреда, положил ей на голову мокрый компресс, пропитанный эфиром. Пока Тьерре мучился тягостным ожиданием, терзаясь безмерной тревогой и досадуя на создавшееся положение значительно больше, чем он хотел показать бедной Эвелине, Флавьен быстро доскакал до деревушки Пюи-Вердон, расположенной при въезде в долину, увенчанную замком. Первое, что он увидел у дверей самого бедного домишки, была коляска Дютертра; Крез придерживал лошадей. Флавьен спросил грума, где сейчас его хозяин. — О, хозяин далеко, сударь, — сказал Крез. — Он на большой ферме, в трех лье отсюда, и вернется только к ночи. Тут Флавьен вспомнил, что Эвелина уже говорила ему об этом. В своем волнении он все позабыл, уезжая. — А кто же сейчас здесь? — спросил он Креза, указывая на домишко, перед которым стоял экипаж. — Только хозяйка, одна; она привезла больному лекарство. «Мать? Это еще лучше!» — сказал себе Флавьен. Но, уже собираясь соскочить на землю, чтобы войти в дом, он заколебался. «Да, если бы это была мать! — подумал он. — Но мачеха! Существо, которое, справедливо или нет, считается естественным врагом! Что делать? Быть может, Эвелина мне этого не простит! И все-таки рано или поздно придется госпоже Дютертр узнать о случившемся! Да и не может быть, чтобы она ничего не узнала до вечера… Минуты дороги, положение Эвелины может оказаться серьезным. Ее жизнь для нас важнее, чем ее тайна… Ну, что ж!» Он соскочил с лошади, и в ту же минуту из лачуги вышла госпожа Дютертр с дорожной аптечкой в сопровождении молодой девушки, благодарившей за заботу о ее родителях. Флавьен, считавший себя излечившимся от своей страсти, увидев ее, почувствовал, что все-таки взволнован больше, чем ожидал. Олимпия принадлежала к тем женщинам, на которых нельзя смотреть безнаказанно, созерцаешь ли их обыкновенными глазами или внутренним взором. Она обладала той совершенной красотой, которая есть результат полнейшей моральной и физической гармонии всего существа. Все в ней было прекрасно — черты лица, его выражение, фигура, волосы, руки и ноги, голос, взгляд, улыбка и даже слезы, как Флавьен очень точно заметил ранее. Она казалась совершенством своему отцу, который был известным композитором, и другим известным артистам, видевшим, как расцветала ее юность; ее ясный, восприимчивый и богатый ум полностью соответствовал ее красоте В кружке избранных талантов, среди которых она воспитывалась в Италии, кричали, что если такая девушка не посвятит себя искусству, жрицей которого она родилась, это будет святотатством перед богом и людьми. У нее был великолепный голос, обещавший Европе одну из величайших певиц. В этой атмосфере нежной симпатии и отеческого восхищения она достигла шестнадцати лет; великое будущее, открывшееся перед ней, не пьянило, но и не пугало ее. Она шла к своей блистательной судьбе со спокойствием тех привилегированных существ, которые получили священный огонь по наследству и нисколько не гордятся этим, хорошо зная, что должны трудиться сами, хотя их и поддерживают любовь и восхищение окружающих. Но в шестнадцать лет Олимпия Марсиньяни увидела Арсена Дютертра, и судьба ее переменилась. Дютертру было тогда тридцать четыре года. Он был старше Олимпии больше чем вдвое. Но он тоже был совершенство в своем роде — можно даже сказать, в том же роде, что и Олимпия, ибо в их вкусах, представлениях, характерах, темпераментах было соответствие столь могущественное, что оно неотразимо притягивало их друг к другу, с каждым днем открываясь им все больше. Оба они были спокойны внешне, обладая пламенной душой; оба были нежны и страстны в одно и то же время — редкое сочетание, встречающееся только у исключительных натур; оба были деятельны и добры, мечтательны и терпимы, обладали серьезным умом и веселым характером. Дютертр, человек от природы богато одаренный и заботливо воспитанный состоятельными родителями, крупными промышленниками, глубоко чувствовал и понимал искусство. Случай привел его в дом Марсиньяни, где его сразу же полюбили и оценили. Он не был ни музыкантом, ни живописцем, ни писателем, — и тем не менее он был художником и поэтом. Его любовь к сельскому хозяйству имела своим источником великое восхищение перед господним творением и душевную чистоту, влекшую его к первобытным человеческим трудам. Впоследствии Олимпия и Амедей часто сравнивали его с любимым героем Купера, тип которого тот описал в нескольких романах под столь известными читающей публике именами Следопыта, Соколиного Глаза, Траппера и т. д.[199] Этот, ставший таким популярным, тип является, несмотря на наивность некоторых куперовских сюжетов, одним из самых прекрасных и пленительных созданий человеческого воображения. Он чист и огромен, как девственный лес, добродетель христианина в нем сочетается со свободой дикаря; это первобытный человек во всей его физической мощи, приобщенный к нравственному прогрессу человечества, ибо ему неоспоримо присущи самые высокие человеческие качества: милосердие, умение прощать, прямодушие и справедливость. Таким был бы Дютертр, живи он в одиночестве девственного леса, и сравнение его жены было справедливо, применительно к его врожденным качествам. Общество обогатило его знаниями, необходимыми для времени и среды, в которых он жил, но — странное дело! — оно ничего не стерло и ничего не испортило в этой великолепной натуре. Он получил от общества представление о пользе, неведомое одинокому герою лесов; но, научившись извлекать выгоду из природных ресурсов, он не злоупотребил этим ради себя, а напротив, стал широко и мудро пользоваться своим умением ради других. Он принес неисчислимые блага людям, и богатство в его руках стало рычагом, с помощью которого он день за днем увеличивал количество этих благ. Олимпия, тогда еще ребенок, не могла сразу понять этого человека. Она полюбила его инстинктивно, не так, как Эвелина любила Тьерре — с желанием покорить его, но так, как святые души любят себе подобных — с потребностью сделать его счастливым. Дютертр полюбил Олимпию-девочку с тем же внезапным восторгом и еще большей непреложностью. У него у самого были дети, дочери, он видел, как в них начинают проявляться достоинства и недостатки, и поэтому он с самого начала разглядел несравненное превосходство этого юного существа. Он не только почувствовал, но и понял, что эта девушка создана для него и что, не встреться они здесь, они могли бы напрасно искать друг друга повсюду до конца своих дней. Нет нужды рассказывать, как он в течение четырех лет колебался между решимостью и опасениями, надеждами и тревогой, раздумывая, с одной стороны, о судьбе своих дочерей, а с другой — о судьбе самой Олимпии. Конечно, такой человек не стал бы жертвовать своими близкими ради слепой страсти, в чем его за глаза упрекала завистливая Натали. Ему страшно было лишить Олимпию предназначавшегося ей будущего, сулившего славу, которую, быть может, ей не сумеет заменить все его богатство. Он несколько раз возвращался во Францию и беседовал с дочерьми, стараясь проникнуть в их душу и помыслы. Они мечтали возвратиться под отчий кров, но так как это счастье было для нихневозможно, пока он не дал им второй матери, они умоляли его снова вступить в брак; Натали упрашивала его еще горячее, чем сестры, потому что она была старше их и сильнее ощущала монастырскую скуку. Приехав в Италию в третий раз, Дютертр узнал, что Олимпия лишилась отца и удалилась в монастырь, приняв решение выйти оттуда только для замужества, но никак не для артистической карьеры. Она отрекалась от свободной жизни артистов с упорством, причины которого не понимали ни родные, ни друзья, так терпеливо и скромно она хранила тайну своей любви к Дютертру. Дютертр, как и остальные, приписал внезапное решение Олимпии первому порыву дочернего горя. Олимпия обожала отца, а он хотел, чтобы она стала певицей; она работала, чтобы стать ею и этим выполнить отцовскую волю. Теперь же, когда его не стало, Олимпия, по ее словам, отказалась от прежних планов, которые строила не она и в которых она никому не должна была отдавать отчета. Дютертру самому пришлось угадывать истину. Гордая и робкая Олимпия никогда бы не открылась ему в своей страсти. Она поняла его щепетильность, она не хотела, чтобы в будущем он упрекал себя за то, что ради него она отказалась от своего призвания. Она поняла также, что отец семейства не может жениться на певице. И она принесла в жертву свое дарование, даже не помышляя о том, что это жертва. Когда она вышла замуж за Дютертра, ей было двадцать лет. Она думала, что между нею и его дочерьми всегда будет существовать та относительная возрастная разница, которая отделяла ее юношеское знание света от их полного неведения. Она считала их детьми и льстила себя наивной надеждой стать для них матерью. Она полюбила их, как она умела любить, бедняжка, всей душой, слепо, до того рокового часа, когда, встретив непобедимое сопротивление Эвелины и глубокую ненависть Натали, она молча прижала к сердцу Малютку — единственное свое прибежище в отсутствие мужа. Амедей в ее глазах был настоящим братом. Они были ровесники, и этот серьезный и грустный молодой человек, пораженный недугом, подтачивающим его неведомо для него самого, хотя иногда и называл ее матерью, в действительности находился в том возрасте, когда мог поддержать ее и утешить. И он действительно самоотверженно заботился о ней, а Олимпия, не понимая его страданий — настолько сильно она мучилась от собственных, — привыкла открывать ему свое сердце, как лучшему другу после мужа. Последние несколько дней Олимпия была так грустна и перепугана, как не была никогда в жизни. Она видела, что муж встревожен и озабочен, что он переходит от порывов обожания к внезапной холодности, которую она все еще приписывала причинам, не имеющим ничего общего с их любовью. Ей не хватало Амедея. Ей казалось, что этот деликатный и проницательный друг сумел бы вырвать у Дютертра объяснение его тревоги или по крайней мере подсказал бы ей средство, как ее прекратить. Флавьен, увидев ее на пороге лачуги, был поражен тем, как изменились ее черты. Олимпия, обладая той лимфатической и желчной физической организацией, которая порождает самые сильные и проницательные умы, всегда была бледна, но впервые у нее совершенно побледнели губы. Лицо ее сохранило округлость, которая в прекрасном итальянском типе соединена с твердостью линий, но слегка запавшие ноздри, делая профиль ее более тонким, свидетельствовали о вторжении какой-то хронической болезни. Наконец, ее глаза, обведенные синеватыми кругами, стали больше, что делало ее еще красивее, но внушило бы тревогу опытному диагносту. Флавьен подумал, что за время его отсутствия Олимпия перенесла какое-то большое горе. Обстоятельство, которое мы в нашем рассказе опустили, ибо вернемся к нему позже, предохранило его от тщеславной мысли, что причиной этого горя может быть он. И все-таки он был растроган, потому что происшедшая перемена делала ее в его глазах еще прекраснее: она казалась ему более страдающей, более слабой, более женственной. Олимпия была одета очень просто: на ней было темное суконное платье и такая же накидка, а на голове черная кружевная вуаль, завязанная под подбородком, которую она обычно надевала по утрам, отправляясь в деревню; у итальянок это такая же непременная часть туалета, как у испанок мантилья. В этой черной рамке она казалась еще бледнее. И поэтому крестьяне, справедливо полагающие, что здоровье неотъемлемо связано с ярким цветом лица, считали ее очень больной, хотя вокруг нее, в семье, после отъезда Амедея никто, кроме Дютертра, не обращал на это серьезного внимания. Она немного удивилась, увидев Флавьена, но не выказала никакого волнения и встретила его вежливо-холодно, что он отлично понял, особенно когда она сказала: — Я не думала, сударь, что вы должны были вернуться. Он сказал, что хочет сообщить ей нечто очень важное, и она отошла немного в сторону, чтобы Крез и крестьяне не могли ничего услышать, без всякого жеманства, но с нескрываемым неудовольствием и с таким неприступным видом, который не оставил бы никакой надежды самому дерзкому повесе. — Успокойтесь, сударыня, я не буду докучать вам своей особой, — сказал Флавьен, когда получил возможность говорить, не будучи услышанным. — Как это ни печально, мне придется вас огорчить и встревожить. Я должен… я вынужден сообщить вам печальное известие. — Господи! — вскричала Олимпия. — Вы видели моего мужа? Что с ним случилось? Говорите скорее, сударь, ради бога! — Нет, сударыня, — сказал Флавьен, понижая голос, так как издали увидел, что Крез навострил уши, — нет, речь не о Дютертре… Речь идет о другой особе, которую вы любите меньше, но все-таки очень любите… — Ах, боже мой! Амедей! — сказала Олимпия. — Наш бедный Амедей! Ну да… Вы ведь приехали из Парижа… Несчастье?.. — Я не знал, что он в Париже, — сказал Флавьен в страхе перед ударом, который он должен был ей нанести, когда она так взволнована. — Но кто же, боже мой! Дочери мои все в Пюи-Вердоне, они спят… О, да вы меня обманываете, сударь, или, может быть, вы хотите подшутить надо мной? — Нет, сударыня, это была бы слишком жестокая шутка; к несчастью, не все ваши дочери находятся в Пюи-Вердоне в эту минуту. — Ах! Говорите! — Эвелина… — Она выехала из дому? Одна? Упала с лошади? О господи, это должно было случиться! Где она? — Говорите тише, сударыня, это не только несчастный случай; она немножко ушибла ногу, но тут есть некоторые обстоятельства… — Вы убиваете меня! Объяснитесь же поскорее, — вся дрожа, сказала Олимпия. И, схватив его под руку, забыв обо всех его прежних провинностях, она отвела его еще дальше в сторону. Флавьен вкратце рассказал ей все, что произошло. Олимпия слушала, широко раскрыв испуганные глаза, не в силах понять, думая, что она грезит; порой она прижимала руку ко лбу, как бы для того, чтобы помочь смыслу его слов проникнуть в ее сознание. — Я ехал за господином Дютертром, — сказал Флавьен, закончив свой рассказ, — но мне сказали, что он далеко, а состояние Эвелины внушает беспокойство. — Да, да, ее отец далеко, — сказала Олимпия, устремив глаза в землю, с выражением мучительного раздумья. — И потом, его надо подготовить к такому внезапному известию. Я и только я должна к ней поехать. Погодите… Я найду способ всему помочь, я что-нибудь придумаю… По дороге мне что-нибудь придет в голову; сейчас я как безумная! Она опять взяла под руку Флавьена и, возвратившись с ним вместе к коляске, сказала груму с решимостью, которой трудно было от нее ожидать в минуту такой сильной тревоги: — Крез, садитесь на лошадь господина де Сож; воз вращайтесь в замок и скажите, чтобы меня не ждали, если я не вернусь к завтраку. Я еду навестить других больных. Ну, господин граф, — обратилась она к Флавьену так, чтобы все слышали, — раз уж вы хотите быть моим кучером, везите меня к этим бедным людям. Она легко вскочила в коляску, окна которой закрывались стеклами и шторами — обстоятельство, не оставшееся для Флавьена незамеченным, ибо оно позволяло уберечь Эвелину от нескромных взглядов, по крайней мере, во время переезда. Но сможет ли Эвелина перенести такую поездку. Вот в чем был вопрос. Флавьен не стал над этим задумываться, он стегнул лошадей, направляя их к лесу, ведущему в Мон-Ревеш, а остолбеневший Крез так и остался на месте, провожая неожиданно уединившихся господ хитрым и насмешливым взглядом.XXVII
В этом уединении, как легко можно понять, не было ничего упоительного; Олимпия, закрывшись в коляске, предавалась грустным размышлениям по поводу происшедшего; Флавьен на козлах во всю прыть гнал горячих лошадей по трудным и опасным дорогам, всецело поглощенный высокой задачей поскорее примчаться на помощь одной героине, не погубив жизнь другой. Как все мужчины, увлекающиеся физическими упражнениями, Флавьен был немного ребенок и очень гордился своим талантом Автомедонта[200]. Иногда он поворачивался к Олимпии, чтобы спросить, не боязно ли ей но между ними было стекло, препятствующее всякому разговору, он с огорчением видел, что она ушла в свои печальные думы и не замечает неровностей дороги, а следовательно, и заслуг возницы. На спуске с мон-ревешского холма пришлось пустить лошадей шагом, дорога была слишком крутая. Только тогда Олимпия опустила стекло, отделявшее кузов коляски от места кучера, на котором сидел Флавьен. — Сударь, — сказала она, — как вы думаете, удастся ли мне войти незаметно для ваших слуг? — Не сомневаюсь, сударыня! Тьерре, разумеется, их всех отослал. Но люди с фермы, вероятно, уже узнали вашу коляску. — Это не имеет значения. Дютертр уже как-то раз предоставлял вам свою коляску и лошадей; кому придет в голову, что в коляске нахожусь я? Я все время старалась, чтобы меня не было видно. — Мне въехать во двор, сударыня? — Да, но не открывайте дверцы, пока не убедитесь, что вокруг нет нескромных свидетелей. Ворота Мон-Ревеша были заперты на замок и засов. Флавьен позвонил условным образом, о чем они раньше договорились с Тьерре. Тьерре сам открыл им и снова запер ворота, когда коляска въехала во двор. На всякий случай он оставил дома Форже, но отправил его в одну из фасадных комнат, взяв с него слово, что он оттуда не выйдет. Тьерре был убежден, что Форже не станет разгадывать тайны этого утра и будет даже доволен, что в них не посвящен. — Ну как, сударыня, — сказал Флавьен, открывая перед Олимпией дверцу коляски, — нашли вы способ всему помочь? — Да, если состояние бедняжки нам это позволит. — Слава богу, — сказал Тьерре, предлагая Олимпии руку, — ей гораздо лучше. Она спала и последние полчаса уже не страдает от боли. Думаю, что вы сможете ее увезти. Ах, сударыня, — добавил он, вводя Олимпию в дом, — поверьте; во всем, что случилось мне не в чем совершенно не в чем себя упрекнуть. — Я знаю это, — сказала Олимпия, которая хотя и приняла руку Тьерре, но еще не сказала ему ни слова, — мне известны также ваши добрые намерения на будущее, поэтому не будем говорить о том, что уже стало прошлым. Увидев в дверях Олимпию, Эвелина вскрикнула и спрятала лицо в подушках дивана. — Ах, господа, — сказала она, — вы нанесли мне последний удар! Бедная Олимпия не испугалась этих жестоких слов. Она подбежала к Эвелине, покрыла поцелуями ее руки, которыми та закрывала свое горящее от стыда лицо, и прижала к груди ее белокурую голову, обливая ее слезами. — О сударыня, вы жалеете меня! — сказала Эвелина. — Вы правы — я погибла! — Нет, дитя мое, вы спасены, потому что около вас я и никто, кроме меня, ничего не знает. Наберитесь мужества, бедная Эвелина; если вы сможете вытерпеть поездку в коляске, никто никогда не узнает о происшедшем и даже ваш отец услышит обо всем только из ваших уст, когда вы сами сочтете нужным ему рассказать. — Ах, Олимпия, — воскликнула Эвелина, побежденная ее кротостью и преданностью, — вы по-настоящему добры, в тысячу раз добрее, чем я заслуживаю. Ах, до чего же к вам несправедливы! Да, увезите меня отсюда, спрячьте меня, спасите, и пусть отец об этом никогда не узнает. Я ничего в мире не боюсь, кроме его осуждения или насмешки. Вот, я уже не чувствую никакой боли, я могу встать. — Ради бога, не вставайте! — вскричали одновременно Олимпия и Тьерре. — Иначе все пропало! Олимпия осмотрела больную ногу и переменила повязку. Снадобье сотворило чудо, воспаление исчезло, можно было надеяться, что все кончится благополучно Флавьен и Тьерре на руках вынесли Эвелину, и Олимпия помогла им уложить ее в коляску. — А теперь отправляйтесь в Пюи-Вердон к завтраку, — сказала Олимпия, обращаясь к Тьерре. — Вы будете там раньше нас, потому что мы поедем потихоньку. Скажите, что вы встретили меня с господином де Сож, что, по вашему мнению, я отправилась навестить больных довольно далеко отсюда и скоро приеду. Мне часто приходится предпринимать далекие поездки с такой целью, это никого не удивит, Будут думать, что господин де Сож сообщил мне про какой-то случай, не терпящий отлагательства. И больше ничего не объясняйте, вы с нами почти не разговаривали, вы ничего толком не знаете. Пройдет несколько дней, пока это проверят, если вообще это будут проверять. Отправляйтесь, господин Тьерре, скачите напрямик, а вы, господин де Сож, везите нас шагом. Когда будет нужно, я скажу вам, что делать. И она опустила в коляске шторы. Тьерре выпроводил Форже, навел порядок в гостиной и в свою очередь уехал тоже. В полулье от Пюи-Вердона Олимпия обратилась к Флавьену, попросив его свернуть с дороги и сделать объезд, благодаря чему они въехали в парк через наименее посещаемый вход, находившийся довольно далеко от замка. По случаю воскресенья и обедни им навстречу попадалось немало народу. Но многим уже приходилось видеть, как Флавьен доставляет обратно хозяйскую коляску, и это не вызвало особых кривотолков. Закрытая коляска казалась пустой. Люди ограничились замечанием: «Уж эти господа! Любят они поработать у себя кучерами!» Один вольнодумец отважился на такое рассуждение: «Лошадей-то они перекармливают, а вот слуг недокармливают». Наконец наши путешественники оказались в парке. Олимпия окинула взглядом извилистые аллеи, по которым они ехали, и попросила Флавьена подъехать к скалам, образовавшим естественный грот, скрытый тенью густых деревьев. Там, убедившись еще раз, что за ними не могут наблюдать, она с помощью того же Флавьена положила Эвелину на траву. — Останемся здесь, милое дитя, — сказала она, — господин де Сож с коляской отправится в замок; он не станет поднимать тревогу, а просто скажет с обеспокоенным видом, что, возвращаясь с прогулки, мы с ним нашли вас здесь; вы разбились и звали на помощь. Он велит принести носилки, пошлет за врачом и за хирургом; я скажу, что нашла вас здесь и что вы упали со скалы, на которую хотели взобраться; я скажу еще, что это я подала вам вчера мысль одеться морванским крестьянином, чтобы Каролина, у которой как раз сегодня день рождения, не могла вас узнать, когда вы придете утром ее поздравить. Вы прибавите, что надели этот костюм и вышли из дому на рассвете, стараясь, чтобы никто вас не увидел; что вы хотели нарвать в парке цветов для праздничного букета и полезли на скалу… да хоть за эти мл горечавками, которые там растут. Скажите, пожалуйста, господин де Сож, который час? — Девять часов. — Итак, два часа вы пролежали тут без сознания, — сказала Олимпия, — а потом еще целый час не могли пошевелиться. Никто сюда не заходил, вы никого не видели. — А перевязка на ноге? — спросила Эвелина. — Нужно поскорее снять ее. — Нет, — возразила Олимпия, — перевязку вам только что сделала я. Господин де Сож, достаньте из коляски аптечку, поставьте ее на землю около меня и поезжайте поскорее в замок. Флавьен исполнил приказание и поехал, в восхищении от женской находчивости. «Когда нужно применить хитрость, — рассуждал он, — то самая суровая и строгая из женщин сумеет ее придумать не хуже всякой другой; если ей не нужно хитрить ради себя, то все-таки у нее в запасе целый арсенал хитростей на потребу другим. Эго какой-то кастовый дух! А кто виноват? Мы, светские люди, хотим, чтобы женщины больше заботились о своей репутации, нежели о добродетели. Будучи их любовниками, мы хотим, чтобы они были чисты в глазах посторонних; будучи мужьями, мы охотнее прощаем им настоящую неверность, чем скандал, возникший из-за пустого недоразумения. Женскую репутацию так трудно уберечь, что самая добродетельная из женщин будет без зазрения совести лгать на каждом шагу и разыгрывать любую комедию, лишь бы спасти репутацию своей подруги». Хирург прооперировал ногу Эвелины, и через час молодая девушка была в своей постели, окруженная нежными заботами Олимпии, Каролины и Ворчуньи. Операция прошла успешно. Хорошенькая ножка была спасена, но приговорена к нескольким неделям полного покоя, что уже заранее, несмотря на неутихшую боль, сердило нетерпеливую страстотерпицу. «Каламбур» принадлежал хирургу, который на все лады расхваливал Эвелину за проявленное ею мужество, всячески старался вызвать у нее улыбку. Никто в доме ничего не заподозрил, кроме Креза, почуявшего что-то неладное, но не осмелившегося ни с кем поделиться своими догадками, и Натали, которую утренняя прогулка Олимпии с Флавьеном поразила значительно больше, чем несчастный случай с сестрой. Флавьен и Тьерре хотели сразу после операции поехать на ферму Риве, чтобы сообщить Дютертру о несчастном случае с дочерью и одновременно принести ему добрые вести о ее самочувствии. Но Эвелина, которой Олимпия сказала об этом решении, энергично воспротивилась. — Что им там делать вдвоем! — вскричала она. — Это значит нарочно навести отца на след, чтобы он обо всем догадался. Кроме того, я знаю Тьерре; чуть только отец начнет его расспрашивать, он скажет все. А господин де Сож в смысле откровенности еще хуже. Они оба считают, что самое лучшее — это признаться во всем. Так вот, скажите им, Олимпия, что они не имеют права делать признания за меня и что я им решительно это запрещаю. Если отец узнает правду, придется поторопиться с нашей свадьбой. Если же отец никогда ничего не узнает, как вы мне обещали, то господин Тьерре женится на мне по своей доброй воле и будет меня любить. В противном же случае, если ему придется на мне жениться потому, что его вынудили обстоятельства, он меня просто возненавидит. — Увы! Неужели вы так не уверены в его чувствах? — сказала Олимпия, удрученная тем, что ей пришлось услышать. — Да, да, я понимаю вас, дорогая! — отвечала Эвелина. — Вы не можете представить себе, что я так гонялась за человеком, который меня избегал? Но глупость сделана; я дорого за нее плачу, я в ней раскаиваюсь, наконец! Поэтому нет никакой необходимости казнить меня упреками. — Нет, нет, успокойтесь, моя дорогая девочка! — сказала Олимпия. — Я об этом и не думаю. Я выполню ваше желание и надеюсь, что все устроится к вашему счастью. — Поклянитесь, что ничего не скажете отцу! — возразила Эвелина. — Поклянитесь, и я буду спокойна. — Клянусь вам в этом, дорогое дитя. Я, хоть и невольно, почти что похитила вашу тайну; я не имею права распоряжаться ею. — В добрый час! О, я буду любить вас, Олимпия, я заглажу все свои провинности перед вами. А теперь дайте мне бумагу и перо. Я хочу сама предупредить отца, чтобы он не беспокоился. Мы пошлем к нему Креза, у которого ничего не выпытаешь о прошлом, потому что он сам в этом слишком заинтересован; а вы поскорее отошлите Тьерре и его друга в Мон-Ревеш. Не нужно, чтобы отец увидел их сегодня. Пришлось покориться Эвелине, чью волю не сломили страдание и горе. Она написала Дютертру:«Дорогой, любимый отец, Я только что подвернула ногу. Если вам скажут, что нога сломана, не верьте. Я сплю, ем, пью и жду, что сегодня вечером вы придете ко мне посмеяться над тем, как неловко я карабкаюсь на маленькие скалы нашего парка. Моя добрая мамочка ухаживает за мной, как будто я это заслужила. Малютка плачет, словно у нее умер чижик, а Ворчунья ворчит. Я же смеюсь по-прежнему и целую вас от всей души. Ваша Эвелина».Флавьен собрался уезжать вместе с Тьерре; он уже вышел в сад и закурил сигару, но в то время как Олимпия, остановившись с Тьерре у подъезда, передавала ему слова Эвелины, к Флавьену подошла Натали и завязала с ним разговор. Утреннее происшествие нарушило обычный ход жизни в доме, и она не могла найти время, чтобы поговорить с ним раньше. — Слава богу! Эвелина чувствует себя хорошо, насколько это возможно! — сказала она. — Мы все должны быть благодарны вам, сударь, потому что, не будь вас, она могла бы еще долго пролежать в парке одна без помощи. — Не будь меня? — спросил Флавьен, удивленный ее словами. — Ну, конечно; если бы вам сегодня утром не пришла мысль повезти на прогулку мою мачеху и вернуться с ней через самую тенистую и заброшенную часть парка, вы бы не нашли бедную Эвелину на этих скалах. Флавьен почувствовал яд ее намеков и насторожился. — Это, в самом деле, счастливая случайность, что я плохо знаю дорогу, — сказал он, — и мы с госпожой Дютертр чуть не заблудились оттого, что я хотел повезти ее самым коротким путем. — Ах, так она вам ничего не сказала? А ведь она могла бы вас предупредить, она-то хорошо знает аллеи парка! — Мне кажется, госпожа Дютертр заснула в коляске. — Значит, поездка была очень долгая? — Вот именно, довольно долгая. — В направлении Мон-Ревеша, кажется? — Это очень вас интересует, мадемуазель? Вот ваша матушка, она объяснит вам все это лучше, чем я; я не слишком хорошо знаю здешние места, и мне будет трудно начертить для вас их карту. К ним подошел Тьерре. Флавьен поклонился Натали, глядя на нее с холодной иронией. — Бьюсь об заклад, что это она, противная девчонка, заставила меня наделать все эти глупости с проклятыми букетами! — сказал он другу по пути домой. — Я должен был почувствовать, что ее цветы пахнут желчью. Теперь я понимаю, почему госпожа Дютертр несчастлива, несмотря на любовь своего мужа. Натали ходила за Олимпией по пятам. Когда та вернулась в гостиную, собираясь пойти к Эвелине, она подошла к ней и с той невероятной дерзостью, которую диктует ненависть, спросила, где она провела утро наедине с господином де Сож. Но в своей злобе она допустила промах. Олимпия не растерялась, не стала искать предлогов, а, видя, что вопрос задан в лоб, ответила с достоинством: — Милое дитя, я не понимаю, почему вы занимаете меня такими пустяками, когда я спешу к вашей больной сестре. И она удалилась, не подозревая о той буре, которая клокотала в груди ее соперницы. Оставшись одна, Натали залилась слезами бешенства. Она чувствовала, что страстная любовь к Флавьену обрушилась на нее как наказание господне, ибо Флавьен ее ненавидел, и она это понимала. Тем временем Крез приехал на ферму Риве, отыскал в поле господина Дютертра и передал ему письмо Эвелины. Дютертр прочел письмо и побледнел. — Боюсь, не обманывают ли меня, чтобы успокоить, — сказал он. — Из-за незначительного происшествия ко мне не стали бы посылать курьера и писать письмо. Крез, моя дочь упала с лошади? — Нет, сударь, — торжествующе ответил Крез. — Она сегодня не ездила верхом. — Все равно, — сказал Дютертр, которому отцовское чувство внушило нечто вроде ясновидения, — я уверен, что это было страшное падение. Я чувствую это всем своим существом. — Ну, сударь, — возразил Крез, весьма гордый своей миссией, — вы слишком уж тревожитесь. Госпожа Олимпия этого и боялась. Она сказала мне так: «Если ты увидишь, что хозяин спокоен, не говори ему ничего; если же ты увидишь, что он ломает себе над этим голову, отдай ему мое письмо». И вот оно, сударь, раз уж вам охота ломать себе голову! Олимпия писала мужу: «Не хочу обманывать вас, друг мой, иначе вы будете слишком огорчены, когда приедете и все увидите сами. Это не просто ушиб, это вывих. Но благодаря заботам вашего доброго Мартеля, все уже в порядке. Эвелина сейчас почти не страдает, у нее ничего не болит; конечно, ей досадно, потому что ноге нужен покой, но вы не должны волноваться. Поверьте той, которая никогда вам не лгала». Олимпия написала последнюю фразу так, как она вылилась из ее сердца. Но потом, запечатывая письмо, она почувствовала страх при мысли, что скоро, чтобы угодить Эвелине, ей, впервые в жизни, придется много лгать.
XXVIII
Дютертр, которого письмо жены успокоило больше, чем письмо Эвелины, тем не менее тотчас же поехал в замок. Он нашел дочь в сравнительно хорошем состоянии после всех волнений и страданий, которые она перенесла. По дороге Дютертр не задавал Крезу никаких вопросов, рассчитывая все узнать из первых рук. Малютка, выбежавшая ему навстречу, вкратце рассказала ему выдуманную Олимпией историю, которой девочка полностью поверила. История была так проста и правдоподобна, что Дютертр не стал вдаваться в подробности. То ли по забывчивости, то ли по глубокому инстинкту осторожной деликатности, который таился в ее преданной душе, Малютка ничего не сказала ни о Тьерре, ни о господине де Сож. «Это мама нашла мою бедную сестричку в скалах парка», — сказала она просто. Поэтому Дютертр поцеловал дочь и жену, не задавая им праздных вопросов, которые ничему не могут помочь. Он расспросил только врача и хирурга, которые оба сказали ему, что отвечают за пациентку. Дютертр опасался столбняка; он спросил, с большой ли высоты произошло падение, сильно ли Эвелина ударилась, не была ли она при этом чем-нибудь испугана. Эвелина поторопилась сказать, что упала с высоты собственного роста и у нее просто под вернулась нога. Успокоенный насколько возможно, Дютертр спустился пообедать с Натали и с обоими сельскими эскулапами, которые были верными друзьями дома и образованными людьми, в особенности Блондо, врач. Они ушли, не дожидаясь десерта: им надо было посмотреть Эвелину и сделать еще несколько визитов до наступления темноты, ибо Дютертр, боясь, как бы с Эвелиной не случилось чего-нибудь непредвиденного, добился от них обещания провести ночь в замке. Для того чтобы свести счеты с Олимпией, в распоряжении у Натали были только те несколько минут, когда Дютертр пил свой кофе. Ей их хватило с лихвой. — Сказали ли вам во всей этой суете, — спросила она, — что этот своевольный варвар Тьерре наконец появился снова? — А! — сказал Дютертр. — Ну, тем лучше. Эвелина знает? — Она даже видела его, потому что он помогал нести ее из парка на носилках, вместе с тем, другим. Упоминание о «том, другом» не поразило Дютертра. Он думал только об Эвелине. — Ну и как? — спросил он. — Когда он увидел бедную девочку в таком состоянии, выказал он какие-нибудь признаки сердечного волнения? Ты присутствовала при этом? — Да, отец, господин Тьерре был в отчаянии, как и полагалось вашему будущему зятю. — И это несколько утешило Эвелину, я надеюсь? Известно ли теперь, почему он не приезжал целую неделю? — Нет, ничего в точности не известно. Но я думаю, что его удержало в Мон-Ревеше присутствие друга. — Какого друга? — спросил Дютертр, и трепет пробежал по его жилам. — Ну, господина де Сож, — отвечала Натали безразличным тоном. — Он в Мон-Ревеше? — спросил Дютертр, стараясь тоже сохранить хладнокровие. — Вез сомнения, поскольку он приезжал сюда сегодня утром. — Сюда? — Разве Олимпия не говорила вам, что они приехали вместе? Как странно! — Кто «они»? Господин де Сож с Тьерре? — Право же, ваши вопросы меня удивляют, отец, и заставляют бояться, не сказала ли я какую-нибудь глупость. Что за странная особа ваша жена со своей скрытностью! Должна ли я понять все это так, что она скрывает от вас самые обычные вещи? — Моя жена ничего от меня не скрывает, Натали, — твердо отвечал Дютертр, — и я сам никогда не задаю ей вопросов. — Может быть, вы и правы, отец, — небрежно уронила Натали. И она торопливо ушла: удар был нанесен. Смертельная тревога овладела Дютертром, колени его дрожали. Не в силах подняться в комнату Эвелины, где находилась Олимпия, он дождался возвращения врачей. — Наша дорогая девочка чувствует себя прекрасно, — сказал старый Мартель, хирург, знавший Эвелину с рождения. — Уверяю вас, вы можете быть спокойны и позволить мне ночевать у себя дома. У вас остается Блондо. Если повязка ослабнет, чего, по-моему, не может быть, вы пошлете за мной; ведь деревня Пюи-Вердон так близко отсюда! Мартель не любил нарушать свои привычки. Блондо заверил Дютертра, что присутствие хирурга не обязательно, и сам обещал остаться. Дютертр отпустил старика, который дал слово коллеге посетить его больных. — К тому же, — сказал Мартель, уходя, — у вас тут есть самый лучший врач: ваша жена. Известно ли вам, что она успешно конкурирует с нами обоими? Она великолепно сделала Эвелине первую перевязку. Право же, умные жен шины все делают одинаково хорошо и умеют сделать все, что нужно. Я не раз видел в лачугах бедняков, какие чудеса предусмотрительности и прозорливости она творила, дожидаясь моего посещения. — Да, — сказал Дютертр, — хоть сама она и слаба здоровьем, она много занимается здоровьем других. — И, увлекаемый слепым роком на поиски разгадки слов Натали, он прибавил: — Она иногда выезжает с рассветом, чтобы навестить больных бедняков. — Еще бы! — подхватил Мартель. — Сегодня она встала раньше, чем я: когда я начал свой обход деревни, оказалось, что она уже там побывала. — А, так она выезжала сегодня утром? — сказал Дютертр, невольно продолжая лукавить и разыгрывать безразличие. — А как же! — невинно отвечал Мартель. — Когда в девять часов она нашла в парке Эвелину, она уже закончила свой обход. О, госпожа Дютертр — это великая душа. Все для других, ничего для себя. Но если я начну о ней говорить, я никогда не уйду. Покойной ночи! И Мартель удалился, оставив Дютертра, снедаемого пагубным любопытством. — Ваша жена — святая, — сказал, в свою очередь, Блондо. — Но она себя не бережет. Она слаба и утомляет себя превыше своих сил. — Не правда ли? — с живостью отозвался Дютертр. — Я уверен, что сегодня она совершенно изнурена. Ведь она выехала на рассвете! Где же она была сегодня утром? — Я не знаю, — отвечал Блондо, с большим удивлением заметивший волнение Дютертра. — Она была в Мон-Ревеше, — сказала Натали, на цыпочках вернувшаяся в комнату якобы для того, чтобы взять со стола свое вышивание. Дютертр принял удар бесстрастно, словно он этого и ожидал. — А, — сказал он, — видно, бедная Манетта заболела? Моя жена к ней очень добра, это честное создание. — Я думаю, что мадемуазель Натали ошибается, — сказал Блондо, который, не понимая, в чем дело, видел, что на его глазах разворачивается домашняя драма. Он знал Натали и был проницателен. Он чувствовал, что его вмешательство необходимо, хотя пока еще не понимал, к чему оно должно относиться. — Я не думаю, что госпоже Дютертр случалось в эти дни ездить в Мон-Ревеш, — прибавил он, видя, что Дютертр почувствовал облегчение при его словах. — Но я знаю, что она там была, — возразила беспощадная Натали. — Что в этом плохого? Вероятно, там болен кто-нибудь из стариков — Манетта или, может быть, Жерве. — Но откуда вам все это известно? — спросил Дютертр, теряя самообладание. — Что, у вас свои шпионы в деревне? Ему удалось улыбнуться, но улыбка его было полна горечи. — О господи, деревня полна шпионов, таких же не любопытных и не склонных к сплетням, как я, — небрежно отвечала Натали. — Один из ваших новых мон-ревешских фермеров — ведь ферма теперь принадлежит вам, отец! — только что принес нам в подарок дичь, которую пришлось принять мне, так как мачеха занята около Эвелины. Этот добрый человек простодушно спросил меня, не ездила ли я в Мон-Ревеш сегодня утром, потому что он видел, как наша белая карета с синими шторами, с господином де Сож на козлах, поднялась на холм и въехала в замок. Вот вам, кстати, доказательство, что крестьяне могут без всякой задней мысли предположить все, что угодно, о людях, чьих обычаев они не понимают. Ну, как известно, я не врач и не езжу в Мон-Ревеш; как известно, Олимпия позаботилась отослать от себя Креза в семь часов утра с поручением передать, что едет с господином де Сож в деревню Пюи-Вердон навестить больных; как известно, в девять часов она вернулась в этой самой коляске с господином де Сож; из всего этого я вполне естественно заключаю, что она была у него и с ним, чтобы ухаживать «за своими бедняками». — В добрый час! — сказал Дютертр; он терпел жестокую пытку и страдал так, что уже сам не чувствовал своих страданий. — Видимо, старые слуги канониссы заболели. — И, наверное, опасно, — сказал Блондо, который уже не знал, что сказать. — Я навещу их завтра. — Олимпия вам о них не говорила? — спросила Натали, чувствуя, что в присутствии третьего лица отец не прикажет ей замолчать. — Кажется, что-то говорила, — сказал Блондо, — Но меня так сильно встревожило происшествие с Эвелиной… — Ну, конечно, конечно, — сказал Дютертр, с усилием поднимаясь с кресла, в котором он сидел. — Пойдемте же навестить бедную Эвелину. Мы ведем праздный разговор а забываем о ней. В сопровождении Блондо он поднялся к дочери. Навстречу ему вышла Ворчунья. — Не входите, сударь! Мой бесенок спит очень крепко; и, глядите, малышка тоже задремала! — прибавила она, приоткрывая дверь и показывая на Каролину, которая спала, прикорнув у изголовья постели. — Неужели Малютка просидит с Эвелиной всю ночь? — спросил Дютертр. — Нет, нет, сударь, с Эвелиной будет сидеть хозяйка. Она пошла взять чепец и капот на ночь; как только она придет, она отошлет малышку. И я тоже буду здесь, вы не беспокойтесь. — Не надо, Ворчунья; поставьте себе походную кровать в комнате рядом, чтобы вас можно было позвать, если понадобится. Я сам буду сидеть около дочери. — Вы хорошо сделаете, — сказал Блондо. — Госпожа Дютертр слишком слаба здоровьем, чтобы не спать по ночам, не позволяйте ей этого! Блондо, узнав от Амедея, что тот рассказал дяде о нервной болезни Олимпии, имел по этому поводу с Дютертром длинный разговор. Блондо никогда не считал, что Олимпия опасно больна, к тому же за те несколько дней, когда Натали думала только о Париже и не проявляла своей злобности, госпожа Дютертр, казалось, внезапно расцвела снова. Некоторое время он ее не видел, а когда после происшествия с Эвелиной приехал в Пюи-Вердон, он, конечно, заметил, что Олимпия бледна и взволнована, но это его нисколько не удивило. Тем не менее ему показалось необходимым пробудить в Дютертре тревогу, ибо он уже почувствовал угрозу, нависающую над этим союзом, до той поры столь мирным и нежным. Он утвердился в своем мнении, когда Дютертр, который обычно закидывал его вопросами по поводу состояния здоровья жены, на этот раз промолчал, словно не услышал его слов. Дютертр спустился вниз, пересек весь дом и направился в свои покои. Блондо не хотелось идти за ним; он пошел в сад и стал расхаживать по лужайке, желая быть рядом, не для того, чтобы слушать супружеский спор, но чтобы предложить, в случае необходимости, помощь и утешение. Потом он говорил, что в этот вечер был подавлен странным предчувствием, совершенно несвойственным ему при его спокойном характере и веселом нраве. К тому же Блондо был не лишен любопытства — недостатка, которым в провинции страдают даже самые мудрые люди. И он стал обдумывать только что увиденное и услышанное. «Черт возьми! — говорил он себе. — Как же Дютертр, которому жена в жизни не подала ни малейшего повода к ревности, теперь, после восьми лет любви и четырех — образцового супружества, оказывается таким ревнивцем? Что ему до того, что господин де Сож возил его жену в коляске, если он уже два года оставляет ее чуть ли не наедине с Амедеем и предоставляет ей неограниченную свободу — привилегию порядочных женщин, которые неспособны этой свободой злоупотреблять? И что дурного можно сделать в коляске, если женщина сидит в кузове, а мужчина на козлах? Разве в таком положении удобно беседовать? Уже не в пример лучше гулять под ручку по лесам и даже по аллеям их собственного парка; на мой взгляд, там куда легче спрятаться. И сколько раз на семейных прогулках, на охоте, в поездках, которые устраиваются во время каникул, Дютертр видел, что его жену сопровождают мужчины. Почему же она не может совершенно невинно пригласить в свою коляску господина де Сож или господина Тьерре, которые, быть может, оба станут зятьями Дютертров, чтобы побеседовать с ними, например, о чьей-нибудь женитьбе или и впрямь посетить с ними каких-нибудь бедняков или больных? Конечно, странно, что ради этого она сама поехала в Мон-Ревеш, вместо того чтобы послать туда меня. Но, черт возьми, на то есть какая-нибудь простая причина, о которой эта скверная Натали нам не сказала ни слова. Все выяснится завтра, как всегда выясняется, если дать себе труд подождать, прежде чем осуждать. Госпожа Дютертр считает, что добродетель защищает ее от всяких подозрений. Она имеет на это полное право, и все-таки, по-видимому, ошибается, раз в собственном доме встречает недоброжелательство и клевету. Вот так-то! И это лучший из всех браков, который мне пришлось видеть! Немногого же он стоит!» Само собой разумеется, Блондо был старый холостяк. В это время Дютертр вошел в комнату жены. Она надела серый капот и убрала свои великолепные черные волосы под батистовый чепчик. В этом виде она походила на монахиню. В ней были покой и кротость, чистота и серьезность гольбейновской богоматери[201]. Олимпия молилась, ибо, будучи итальянкой и католичкой, она не пренебрегала религиозными обязанностями даже в ту пору, когда готовилась стать артисткой. Дютертр уважал простоту ее сердца и никогда не отвлекал жену от молитвы. Но в эту минуту он готов был даже ее молитву считать проявлением лицемерия, и ему захотелось прервать ее. Однако он не посмел. Нельзя в одно мгновение перейти от безграничного уважения к подозрительности и злобе. Он нетерпеливо ждал, пока она кончит молиться, шагая взад и вперед по соседней комнате, которая принадлежала ему. Олимпия услышала звук его шагов и поняла, что он взволнован. Она сосредоточилась еще на мгновение, чтобы последний раз вознестись душой к богу, и вышла к мужу. — Что, нашей дочери хуже? — спросила она с испугом, увидев его мрачное лицо. — Речь не о моей дочери, — ответил Дютертр, — речь обо мне. Олимпия, мне плохо, я очень страдаю. У меня смертельное горе, и я решил признаться вам откровенно, потому что, может быть, от вас зависит единым словом прекратить мои мучения, и если вы меня все еще любите, вы скажете мне это слово без колебаний. — Если я все еще вас люблю? — растерянно переспросила Олимпия. Она больше ничего не могла прибавить, ей показалось, что ее поразила молния. — Да, жена моя, мне кажется, что вы больше меня не любите. — Чтобы произнести эти слова впервые, о боже мой, надо самому перестать любить! — ответила Олимпия, которой почудилось, что ледяная десница смерти коснулась ее. — Почему вы мне это говорите? Что я вам сделала, что вы меня убиваете одним ударом? Этот крик, вырвавшийся из глубины ее души, заставил затрепетать Дютертра. — Да, это все страшный сон! — вскричал он, беря ее за руку. — Освободи меня от этой пытки, говори скорее, отвечай. Ты встретила сегодня утром господина де Сож у твоих больных? — Да, друг мой, — сказала Олимпия удивленно, не подозревая о ревности мужа. — И, как мне сказали, ты поехала с ним на прогулку? — Да, друг мой, это правда, разве я вам этого не говорила? — Нет. Я тебя об этом не спрашивал, — сказал Дютертр, успокоенный уверенным тоном жены. — К чему была эта прогулка? Я не понимаю, как это случилось, зачем это понадобилось. Олимпия подумала, что Дютертр мучается из-за Эвелины, что он предчувствует правду и осуждает ее за то, что она покрывает эту тайну. Видимо, он очень рассердился на дочь, если считает молчание жены таким большим преступлением. Но ведь она дала клятву Эвелине сохранить ее секрет! К своему изумлению, она увидела, что Дютертр вне себя. Она испугалась, что его гнев будет иметь тяжелые последствия для бедной больной, если она подтвердит своим признанием его подозрения, и решила сделать асе возможное, чтобы развеять их. Но Дютертр, видя, что она колеблется, повторил свой вопрос более холодным и тревожным тоном. — Я не понимаю, почему это для вас так важно, — сказала она. — Господин де Сож, о возвращении которого я не знала и который, по его словам, искал вас, обратился ко мне, чтобы попросить меня об услуге: он хотел, чтобы я оказала помощь интересующей его особе… Я попросила его отвезти меня к ней. Это было недалеко, но оттуда он повез меня шагом по проселочной дороге… По-моему, одна из лошадей захромала, я заснула в коляске, и господин де Сож некоторое время проблуждал по парку, что, к счастью, помогло нам найти Эвелину. Олимпия произнесла последние фразы с усилием. Ей было бы вовсе нетрудно сказать это, чтобы отвести от падчерицы недоброжелательные или просто нескромные намеки. Но, лгать справедливому и любящему отцу, лгать пламенно любимому супругу было для нее пыткой, и Дютертр в этом не обманулся. — Чтобы вы, вы лгали! — вскричал он. — Олимпия — и ложь! О господи! Как же надо любить, чтобы так внезапно измениться? — Любить? Я не понимаю! — сказала Олимпия, у которой закружилась голова. — Клянусь вечным спасением, я ничего не понимаю. — Я тоже, — сказал Дютертр, сердце которого всегда трогали правдивые интонации жены. — Объяснитесь же, Олимпия, объясните мне все! Разве вы не видите, что я умираю от нетерпения? — Но как объяснить го, чего я сама не понимаю? — возразила Олимпия. — Объяснись ты, друг мой, и я найду средство тебя успокоить. — Ну хорошо, — ожесточившись, сказал Дютертр, — я нанесу вам смертельное оскорбление и начну вас допрашивать. Бог мне свидетель, что я сделал все, чтобы избежать этого, вы сами позволили себе унизиться до такой степени. Зачем вы были сегодня утром в замке Мон-Ревеш? Отвечайте: теперь я этого требую…XXIX
Олимпия не могла предвидеть, что ее муж так быстро узнает подробности злополучной истории. Меньше всего в свете абсолютное доверие нуждается в расспросах, и Дютертр никогда даже не думал спрашивать у жены отчета в том, как она провела те часы, когда не находилась с ним рядом. Сколько раз она проводила утро за пределами замка, иногда одна, иногда с Каролиной или Амедеем, и он никогда не задавал вопросов, кроме одного: «Ну, детки, как поживают ваши бедняки?» Далеко не всегда ее поездки преследовалиблаготворительные цели. Нередко то были обыкновенные прогулки, и не раз Олимпия бродила одна по лесам, ибо любила их дикую прелесть и нежные ароматы. Правда, в те дни, которые Дютертр проводил подле нее, она почти всегда гуляла с ним вместе; но часто она писала ему: «Сегодня утром я обошла твои любимые места; когда я не с тобой, то воспоминание о тебе я предпочитаю всякому иному обществу!» И ни разу Дютертр не сказал, не написал ей: «Я не хочу этого! Мне не нравится, что ты ходишь одна». Зная, что Дютертра не будет в Пюи-Вердоне все утро, она, продумывая свой план, не подготовилась к объяснению с мужем. Она никак не предполагала, что, по роковому стечению обстоятельств, ее поездка в Мон-Ревеш тотчас же откроется: она надеялась, что пройдет неделя, прежде чем появится необходимость об этом рассказать, а за неделю Эвелина и Тьерре во всем признаются, ибо Олимпия не видела нужды хранить перед Дютертром столь долгое молчание и поклялась Эвелине не выдавать ее секрет только из опасения вызвать у нее своим возражением опасную для жизни лихорадку, которой иногда сопровождаются падения с большой высоты. Так как Олимпия даже не подозревала, какая страшная ревность терзает ее мужа, она решила, что он разгневался на Эвелину и потому сердится на нее. Но за что он так сердился на нее — она не могла понять. И потому она молча стояла перед своим судьей и господином и не отвечала на его вопрос, не желая навлекать грозу на голову падчерицы и предавать ее доверие ради того, чтобы самой избегнуть упреков за попытку ее спасти. Помертвевшая, ошеломленная, охваченная ужасом, Олимпия заключила, что если ее поступок возымел такие последствия, то, значит, произошло что-то ужасное: либо Натали измыслила какую-нибудь новую страшную клевету, которую нельзя было ни предвидеть, ни опровергнуть, либо Дютертр сошел с ума. И когда Дютертр вытащил руку, которую все время держал за отворотом сюртука, и Олимпия увидела, что он судорожно сжимает в кулаке окровавленные лохмотья своей рубашки, она окончательно уверилась в его безумии. С криком отчаяния она кинулась ему на шею, покрывая поцелуями и слезами его лицо и руки, нисколько не опасаясь, что он убьет ее в приступе буйного помешательства. Но Дютертр с негодованием оттолкнул ее, увидев в ее порыве испуг и мольбу виновной жены. Олимпия хотела заговорить, хотела поклясться, что Эвелина невинна, что, как бы то ни было, Тьерре твердо решил на ней жениться, При виде бешенства и отчаяния мужа она думала уже не о том, чтобы сохранить тайну Эвелины, но лишь о том, чтобы избавить несчастного отца семейства от опасений за будущее или за прошлое. Но все ее попытки заговорить были тщетны: слова замирали у нее на устах. За последние дни ее болезнь опять обострилась, и сейчас она слишком страдала, чтобы справиться с волнением и усталостью. Она никогда не видела своего мужа в таком гневе. Горло ее стиснуло как клещами: она забилась, произнося нечленораздельные звуки, и, не в силах даже вскрикнуть, совершенно разбитая упала в кресло. — Очнитесь, Олимпия, — сказал Дютертр, тоже сделавший над собой огромное усилие, чтобы заговорить, ибо ему хотелось рычать от боли. — Я никогда не позволю себе ни угроз, ни упреков по отношению к вам. Всему виной мое безрассудное доверие, мой слепой оптимизм. Я был обязан держать вас под своим покровительством и наблюдением. Но что вы хотите? Я думал, что вы безгрешны как ангел: я думал, что вы больше, чем женщина. А теперь, повторяю вам, успокойтесь. Я не забуду о тех обязательствах, которые связывают меня с вами. Любой ценой я спасу честь своей семьи и заставлю уважать вашу, вы можете на это рассчитывать. Вы для меня по-прежнему останетесь женой и дочерью. Но, боже мой, вы больше не Олимпия, вы для меня уже не святая, не божество, не высшее в мире благо!.. Вы подверглись какому-то нравственному насилию, какому-то неизъяснимому ослеплению! Вы будете отомщены и можете после этого рассчитывать на друга, который не отдаст вас на всеобщее посмеяние и простит вам восемь дней мучений и будущее, лишенное надежд, ради тех восьми лет высшего счастья, которое вы мне дали. Олимпия слушала эти слова, не понимая их. Взор ее устремился в одну точку, рот искривился, руки, вцепившиеся в подлокотники кресла, окостенели. Тому, кто не понимал, что ей только что был нанесен смертельный удар, могло показаться, что ее поза выражает ужас перед своей виной. Этого Дютертр снести не мог; страшное молчание жены отнимало у него последнюю надежду. Он мог вообразить, что его жена проявила легкомыслие или поддалась увлечению; однако же добродетель женщины, которая долго была чиста, нельзя победить за несколько часов, и Дютертр думал, что если Олимпия и оставила свое сердце и свои мечты в Мон-Ревеше, то, по крайней мере, свою честь она привезла обратно в Пюи-Вердон. Видя, что она онемела, как бы раздавленная своей виной, Дютертр утратил последние иллюзии и убежал в глубь сада, терзаемый отчаянием, бешенством и стыдом. Через четверть часа он вернулся в будуар, прошел в свой кабинет, пробыл там несколько минут, не входя в комнату Олимпии, и опять вышел в сад. В эту минуту Дютертр был совершенно безумен. Подстерегавший его Блондо, по-своему объяснивший себе его метания между домом и садом, остановил его у подножия башни и решительно обратился к нему: — Что случилось, господин Дютертр? Не меня ли вы ищете? Вы, по-видимому, обеспокоены: вашей жене нехорошо? — Какой жене? У меня нет больше жены! — ответил обезумевший Дютертр. — Несчастный! — воскликнул Блондо, который решил, что тут разыгралась еще более ужасная драма. — И это вы, всегда делавший только добро! Тогда бегите, спасайтесь, чтобы мне не пришлось отдать вас в руки правосудия. — Вы думаете, она от этого умрет? — сказал Дютертр с ужасной улыбкой. — О нет, доктор: женщины не умирают из-за таких пустяков. — Куда вы? — вскричал Блондо, который, попытавшись удержать Дютертра, ощутил под рукой пистолеты, спрятанные у него под плащом. — Куда же мне идти, милый доктор! — сказал Дютертр, который был словно в бреду. — Иду поглядеть на звезды и подышать воздухом. Позаботьтесь о моей бедной Эвелине, слышите? Я скоро вернусь. Блондо, полагая, что Дютертр замышляет самоубийство, схватил его за полу плаща, но в эту минуту ему показалось, что из комнаты Олимпии донесся стон. Зловещее подозрение охватило его, он отпустил Дютертра и кинулся вверх по лестнице. Но стон ему только почудился. Олимпия по-прежнему безмолвно сидела в кресле, неподвижная и холодная, как статуя. В первое мгновение доктору показалось, что она умерла. Но так как ни на ней, ни в ее комнате не было никаких следов насилия, он понял, что ошибся, определил у нее состояние нервной каталепсии и побежал вниз позвать Дютертра; однако ни в доме, ни в саду Дютертра не было. Тогда Блондо призвал горничную Олимпии, запретив ей поднимать тревогу, ибо Эвелина нуждалась в полном покое, и энергично стал приводить Олимпию в чувство. Наконец Олимпия очнулась, но, казалось, она не понимает, что с нею произошло; горничной удалось уложить ее в постель, так как она ей не противилась. Блондо стал ее расспрашивать, но Олимпия, показывая на свое горло и на лоб, дала ему понять, что голос к ней не вернулся и мысли путаются у нее в голове. Натали, которая из своего окна видела, как мечутся тени в комнате Олимпии, почувствовала, что происходит нечто необычное, и тихонько спустилась в будуар послушать, в чем дело. Как только она пришла туда, появился Блондо, который в беспокойстве расхаживал по всем комнатам. — Что случилось? — спросила слегка испуганная Натали. — Не заболел ли отец? — Ваш отец? — резко сказал Блондо, видевший в Натали разрушительницу семейного счастья. — Значит, вы не знаете где он? Ну, и я не знаю тоже! Ищите его, потому что, может быть, в этот самый час он собирается пустить себе пулю в лоб. — Это ужасно! — вскричала Натали. — Это жестоко, то, что вы говорите! — Ба! Разве вас это волнует? Разве вы не сделали все, что могли, для того, чтобы это произошло? — Великий боже, — возразила Натали, которая, несмотря на ужасную тревогу, не забывала о своей ненависти, — она, эта отвратительная женщина, убивает его и обвиняет меня. — Эта отвратительная женщина недолго будет отягощать вас, судя по тому, какую жизнь вы ей устроили! — Блондо, — раздраженно сказала Натали, — вы просто негодяй! Вероятно, она сделала вас поверенным своих интриг! Но я презираю вас обоих! Где мой отец? Меня интересует только это! В ответ на обвинения Натали Блондо лишь пожал плечами. — Вам удалось на целый час сделать своего отца вздорным и злым. Ищите его, говорю вам, и постарайтесь вывести его из заблуждения. Это все, что вам следует сделать, если вы на это способны. Испуганная Натали собиралась выйти, когда в комнату вошел Крез. — Что вам нужно? — спросил Блондо тем резким и властным тоном, который по праву принимает врач, когда в семье разражается катастрофа. — Я пришел от хозяина поговорить с хозяйкой. — Скажите мне то, что вы должны были сказать ей, — произнес Блондо с той же властной интонацией, которой грум инстинктивно повиновался. — Хозяин уехал верхом, но не велел, чтобы я ехал с ним. Он дал мне это для хозяйки. — Крез показал записку, не решаясь передать ее Блондо, ибо Дютертр, вероятно, приказал передать ее Олимпии в собственные руки; однако Блондо взял записку, бесцеремонно развернул ее, приблизил к свече и прочел про себя: «Олимпия, вы можете спокойно спать эту ночь, не доводите себя до болезни. Я увижу вас завтра утром». — Хорошо, — обратился Блондо к Крезу, — вы можете идти спать. Крез вышел. — Что пишет отец? — спросила Натали. — Я хочу это знать. — Вам надо знать, — отвечал Блондо, — только то, что вы можете спокойно отправляться в свою комнату; хватит и того зла, что вы уже причинили! — Моему отцу не грозит опасность? — Опасность? — переспросил Блондо. — Человеку всегда грозит опасность, когда он дерется на пистолетах, а я могу поклясться, что в эту минуту господин Дютертр находится на пути в Мон-Ревеш. — Он будет драться с господином де Сож? — вскричала Натали. — Вот так, внезапно, ничего не выяснив, из-за подозрения, которое только что пришло ему в голову? Но что за жестокая страсть у него к этой женщине! — У него страсть любви, как у вас страсть ненависти. — Боже мой, боже мой, что же мне делать! — простонала Натали, ломая руки, не слушая оскорбительных слов врача. — Только одно — уйти в свою комнату и провести бессонную ночь, которую вы, без сомнения, заслужили. Однако подождите… Нет, вас это не касается. Он пошел отдать несколько распоряжений слугам и, когда вернулся, увидел Натали на лестнице, ведущей в комнату Олимпии. Он схватил ее за руку и заставил спуститься вниз. — Нет, — сказал он, — больная поручена мне, вам не удастся убить ее. Я отвечаю за нее перед богом. Если вы непременно хотите убить кого-нибудь, поднимите тревогу в доме, разбудите внезапно Эвелину, расскажите ей, что происходит, у нее сделается воспаление мозга, и через тридцать шесть часов она умрет. Блондо не вполне понимал характер Натали; он знал только, что у нее желчный нрав, злой язык и что она жестоко ревнует своего отца. Он считал своим долгом друга и домашнего врача преподать ей жестокий урок, надеясь, что это ее исправит или по крайней мере остановит на несколько дней действие ее ядовитых речей, которые производили в семье столь страшные физические и нравственные разрушения. Он рассудил верно. Натали восстала бы против более осторожной и мягкой по форме критики своего поведения, но патриархальная грубость Блондо ее подавила. Есть люди, которых мягкость окружающих делает неблагодарными, терпение сердит и которых можно смирить только суровым обращением. Во славу человеческой природы можно сказать с уверенностью: злоба не сообщает характеру истинной силы. Если бы Дютертр действовал как Блондо, Натали, не сделавшись добрее, стала бы безобиднее. Ее сломили резкость и презрение этого старого, некрасивого, дурно воспитанного человека, которого она всегда считала низшим существом и который теперь чуть ли не топтал ее ногами. Впервые в жизни она почувствовала, что ее унизили, и немедленно смирилась, что прямо вытекало из ее дерзкого нрава и слабого духа. — Блондо милый Блондо, — вскричала она, заливаясь слезами, — сейчас это вы меня убиваете, это меня вы приносите в жертву. Может быть, я и заслужила это, но сжальтесь надо мной! Скажите, что надо сделать, чтобы вернуть моего бедного отца, чтобы помешать ему драться на дуэли или покончить с собой, потому что вы нарисовали мне все эти ужасы и я, кажется, схожу с ума. — Если бы я знал, что надо делать, — сказал Блондо уже более мягко, — то, несмотря на то, что госпожа Дютертр очень больна, меня бы здесь уже не было. Но каковы бы ни были намерения вашего отца, вы знаете его так же хорошо, как я, и вам известно, что в иные минуты нет человеческой силы, которая могла бы победить его волю и энергию. Если он захочет покончить с собой, он сделает это так, что никто не будет знать, где его искать, и никто, может быть, не определит никогда, отчего он умер. Если же он захочет драться… Право же, я никогда не видал, чтобы мужественному человеку могли помешать драться, если он считает это своим долгом. Однако, судя по его записке, речь идет не об этом, и если такие мысли и приходили ему в голову, то четверть часа уединения и раздумья рассеют весь этот чад. Он обещал завтра утром вернуться, а Дютертр никогда не нарушал своих обещаний. Он уехал верхом — вот и хорошо; нет такого исступления, которое не успокоилось бы, после получасовой скачки в холодную ночь. К тому же он еще не раз подумает, прежде чем поднимать шум, который может превратить совершенно безобидную историю в публичный скандал. Дитя мое, вы должны немного успокоиться и хорошенько покаяться. У нас дурное сердце, вы злоупотребляете своим умом, вы ревнуете к вашей мачехе и, думая, что заставляете страдать только ее, убиваете своего отца булавочными уколами. Пора вам перемениться, если вы не хотите возбудить всеобщую ненависть и остаться старой девой, несмотря на ваши стихи и на ваши деньги. Вас здесь балуют, щадят ваше самолюбие, но я-то скажу вам, что вы никому не нравитесь в вас тут боятся все, кроме меня, ибо я знаю вас с рождения и меня не трогают ваши злобные штучки. И потому обдумайте все, переменитесь; в ваших собственных интересах, если уж вы не можете стать доброй, старайтесь, по крайней мере, поступать как добрый человек; а потом, по привычке и от боязни людского суда, может прийти и доброта; в противном же случае… Запомните го, что я вам скажу: зло, которое вы причините, падет на вашу голову, а я, все еще любящий и жалеющий вас ради ваших родителей, я стану вашим непримиримым врагом и расскажу всему свету, какая змея тут всех искусала. Натали, потрясенная если не раскаянием, то настоящим испугом, почувствовала в глубине души всю силу рассуждений и угроз Блондо. Она молча склонила голову; он оставил ее и поднялся к Олимпии. Олимпия была все в том же состоянии нервного потрясения, которое вызвало у нее немоту; пульс едва прослушивался, сердце не прослушивалось вовсе. Глаза ее были открыты и устремлены в одну точку; казалось, она силится собраться с мыслями. Блондо спросил, о чем она думает; она подала ему знак, что не знает. Он спросил, не встревожена ли она, потому что муж рассказал ей о каких-нибудь своих огорчениях. Она слегка нахмурилась и поглядела на Блондо со смутным испугом. — Вы что-нибудь в этом роде припоминаете? — спросил Блондо. Олимпия сделала знак, что нет. — Вы слышите и понимаете то, что я говорю? — Она кивнула. — Ваши глаза хорошо видят? Можете ли вы прочесть письмо? — Она протянула руку и взяла записку. Прочтя то, что написал Дютертр, она улыбнулась и дала Блондо понять, что попробует заснуть. Блондо дал ей выпить новую порцию лекарства; однако она не уснула. Бесшумно, на цыпочках, вошла Натали. Блондо знаком приказал ей уйти. Она с умоляющим видом сложила руки и покорно остановилась позади постели, где Олимпия не могла ее увидеть. Блондо был тронут раскаянием Натали и, как все добрые люди в подобных случаях, немного гордился тем, что сам его вызвал. — Думаете ли вы, — спросил он Олимпию, — что кто-нибудь из окружающих виноват в том, что вы кажетесь такой грустной? Олимпия покачала головой. — Натали несколько раз приходила узнать, как вы себя чувствуете; не хотите ли пожать ей руку перед тем, как заснуть? Олимпия протянула свою бледную руку, готовая принять руку своего врага. Натали кинулась к ней, упала на колени перед ее постелью и покрыла слезами и поцелуями ту руку, которой она всегда с подчеркнутой беспощадностью касалась только кончиками пальцев. Бледность и немота Олимпии так ее испугали, что она почувствовала себя ее убийцей, и ужас перед нравственной карой за содеянное придавил ее, как преступника, который целует крест у подножия эшафота. Казалось, Олимпия была удивлена этими излияниями: несколько мгновений она смотрела на Натали, словно пытаясь понять, в чем дело. Потом слезы появились у нее на глазах, она притянула к себе Натали, поцеловала ее в лоб долгим материнским поцелуем, откинулась на подушку и наконец задремала с ангельской улыбкой на устах. Бедной женщине уже казалось, что все горести ее жизни ей лишь пригрезились, и ужасные образы, носившиеся последний час в ее мозгу, рассеялись как химеры.XXX
В го время как все это происходило в Пюи-Вердоне, Дютертр, как это и предполагал Блондо, скакал по дороге в Мон-Ревеш. Ночь была холодная; полная блестящая луна ярко освещала все вокруг. Дютертр мчался во весь опор на большой и сильной вороной лошади. На полпути к Мон-Ре-вешу, на поляне, посреди которой стоял крест, он столкнулся с другим всадником, столь же быстро скакавшим ему навстречу на прекрасной серой в яблоках лошади. Это был Флавьен де Сож. Лошади, которые, вероятно, давно уже были знакомы, приветствовали друг друга издали звучным ржанием, и в то время как их всадники смотрели друг на друга с холодной и вызывающей решимостью, они вытянули шеи и соприкоснулись дымящимися ноздрями, словно обменивались братским поцелуем. — Я ехал, чтобы встретиться с вами, сударь, — сказал Дютертр, заговорив первым, — у меня к вам дело. — Я тоже ехал, чтобы встретиться с вами, — сказал Флавьен, — и я в восторге, что сократил вам половину пути. — Итак, сударь, — продолжал Дютертр, — объяснение будет недлинным, так как вы знаете, что меня к вам привело? — Отлично знаю, сударь, — отвечал Флавьен, — и я полностью к вашим услугам. Флавьен ехал в Пюи-Вердон с гораздо более мирными намерениями, чем то можно было предположить по такому началу. Но разгневанный вид Дютертра, его ледяная, вызывающая интонация сделали то, что родовая гордость мгновенно вспыхнула огнем в его крови и он уже не слышал доводов рассудка. Место для дуэли, казалось, было специально выбрано. Пистолеты привез Дютертр: рукоятки их высовывались из кобуры его седла и блестели в лунном свете. Дютертр перекинул ногу, чтобы соскочить с лошади. Флавьен, с методической точностью повторявший каждое его движение, сделал то же. Он сердился на себя, что дал втянуть себя в дело, против которого заранее восставала его совесть. «Но если Дютертр так все это воспринял, — думал он, — значит, примирение невозможно. Ну что ж! Объяснение, которое я обязан дать ради спасения чести женщины, произойдет потом… только бы мне его не убить!» Последняя мысль вызвала у Флавьена ужас и угрызения совести, а это выражалось у него в том, что в любую минуту он мог вспыхнуть от гнева. К счастью, Тьерре не доверял ни его дипломатическим способностям, ни его терпению. Он послал за лошадьми на ферму и тотчас же выехал вслед за своим другом. В ту минуту, когда противники уже привязывали лошадей к основанию деревянного креста, стоявшего посреди поляны, еще двое всадников появились в конце затененной тропинки, которую слуга указал господину, чтобы сократить расстояние и настичь господина де Сож, выехавшего раньше. Это был Тьерре с сопровождавшим его Форже. — Вы привели своих секундантов? — иронически осведомился Дютертр. — Это прекрасно, но что касается меня, го у меня их нет и я в них не нуждаюсь. — Сударь, — сказал Флавьен, — я полагаю, вы согласитесь иметь секундантом нашего общего друга, господина Тьерре, а я удовлетворюсь своим слугой, честнейшим человеком. — Неужели мы дошли до этого? — сказал Тьерре, который, спрыгнув с лошади, услышал последние слова. — Делайте что хотите, господа, но только после того, как у меня произойдет прямое и честное объяснение с господином Дютертром. Я заинтересован в этом деле лично и требую предварительного объяснения, я требую его во имя чести. Форже, — прибавил он, повысив голос, — возьмите лошадей и отойдите в сторону. Форже удалился на опушку леса и привязал к ветвям мирных фермерских лошадок, держа на поводу двух других. На его месте Крез сделал бы все возможное, чтобы подслушивать; Форже выбрал место так, чтобы ничего не слышать. Дютертр с наружным спокойствием ожидал, чтобы Флавьен первый отверг предложение Тьерре, но, видя, что тот молчит, заговорил сам. — Вот уже второй раз, господин Тьерре, — сказал он, — вы весьма некстати, на мой взгляд, пытаетесь ввязаться в дело, где вам принадлежит чисто пассивная роль. Избавьте меня от объяснений, которые могут только подлить масла в огонь; никакой потребности и никакого намерения излагать здесь свои обиды у меня нет, и я не допущу, чтобы они были подвергнуты обсуждению. Я вижу, что господин де Сож хочет иметь секундантов, я соглашаюсь на это, но сам от секундантов отказываюсь, и если он хочет отложить дело и ради соблюдения правил подвергнуть меня необходимости выслушивать его постыдные признания перед свидетелями, я сумею заставить его драться немедленно. — Черт возьми, сударь, вам не придется себя затруднять! — вскричал Флавьен, ударив кулаком по каменной глыбе, поддерживающей крест. — Бог свидетель, что по дороге сюда я хотел обойтись без дуэли; но теперь, по вашей милости, я только того и желаю, чтобы она произошла поскорее. Довольно, Тьерре, этот господин торопится. Мы побеседуем потом, если у нас будет возможность. — Когда один из вас будет мертв или смертельно ранен, будет слишком поздно, — твердо возразил Тьерре. — Я прекрасно знаю, что если падет господин де Сож, господин Дютертр будет отомщен и его противник добровольно расплатится своей кровью за обыкновенную грешную мысль. Но если погибнет господин Дютертр, он умрет с богохульством в душе и с клеветой на устах, а горестные, оскорбительные последствия этого госпоже Дютертр придется нести весь остаток своей жизни. И пусть даже мне придется иметь дело с вами обоими, я все равно не допущу, чтобы между вами произошла дуэль, прежде чем честь госпожи Дютертр не будет восстановлена. — Замолчите, сударь, замолчите! — с бешенством вскричал Дютертр. — Я не потерплю, чтобы имя моей жены было произнесено в третий раз. — Вы вправе, сударь, не позволять этого своему противнику; но в моих устах ее имя не может быть запятнано. Флавьен, отойдите в сторону, я этого требую. Через десять минут вы будете к услугам господина Дютертра, а я буду к услугам вас обоих. Прежде всего, отдайте мне письмо, которое у вас при себе; если господин Дютертр не пожелает прочесть его, нужно, чтобы в случае его смерти письмо нашли у него на груди, потому что это такой оправдательный документ, в котором никто в мире, даже ослепленный ревностью муж, не вправе отказать порядочной женщине. — Ну, разумеется, — сказал подавленный Флавьен, в котором благородство победило вспышку гнева. — Хоть я и терплю от этого человека оскорбления, я все-таки должен исправить зло, которое причинил. Что ж, оскорбляйте меня! — обратился он к Дютертру, задыхаясь от усилия, которое сделал над собой. — Скажите мне, что я колеблюсь и отступаю: это наказание будет пострашнее смерти! Тьерре! — прибавил он с отчаянием, заставляя себя отойти. — Если ты недоволен мною сегодня, я вообще не знаю, можешь ли ты когда-нибудь быть довольным. В интонации Флавьена было слишком много истинного бешенства и страдания, чтобы Дютертр, знавший толк в храбрости, мог приписать его поведение низким мотивам. Он молча взял письмо, которое ему подал Тьерре. — Я полагаю, вы должны прочесть его, сударь, — сказал Тьерре почтительным и одновременно твердым тоном. — Оно не оправдывает моего друга, напротив, оно еще больше его обвиняет. И в том, что он сам привез его вам по собственному движению души, сказывается еще большее нравственное, чем физическое мужество; но поскольку оно полностью оправдывает одну особу… — Откуда вы взяли, сударь, что я считаю, будто эта особа нуждается в оправдании? Вот в чем состоит неприличие и оскорбительность для нее и для меня ваших хлопот о том, чтобы я уважал ее как должно. — Я на это не претендую, сударь, Но я дважды невольно явился случайной причиной обстоятельств, которые могут скомпрометировать ее в глазах менее проницательных и справедливых судей, чем вы. Я обязан дать вам средство победить их недоброжелательность, ибо сделать это — только ваше право и ваш долг. — Ну, что ж, хорошо! — сказал Дютертр, начинавший испытывать влияние интеллектуальной силы Тьерре. — Да, — согласился он, — это мой долг. И он развернул письмо Олимпии к де Сожу, датированное следующим днем после отъезда Флавьена в Париж. — Это, — остановил его Тьерре, — ответ, тотчас же данный Флавьену на письмо, которое он в своем безумии, обманутый проклятыми цветами, сыгравшими таинственную роль во всем этом деле, написал, покидая Мон-Ревеш. Но сначала я скажу, я должен и хочу сказать вам, кто та особа, которая пользовалась таинственным языком цветов, не для того, чтобы скомпрометировать госпожу Дютертр, но для того, чтобы подстегнуть любопытство и воспламенить воображение моего друга ради себя самой. Только мне одному это известно, господин де Сож не знает и никогда не должен узнать. Но отец должен быть в курсе дела. Эта особа — мадемуазель Натали Дютертр. — Ах! Опять Натали! — невольно воскликнул Дютертр и, пораженный мыслью, что Натали, вероятно, оклеветала Олимпию также и в своих рассказах о событиях этого утра, он с жадностью прочел при свете луны, сиявшие в холодном просторе безоблачного и яркого неба, следующие строки:«Я могу ответить вам, сударь, со всей быстротой и откровенностью только то, что ничего не понимаю и что мне никогда не приходила в голову странная затея с цветами. Если вы уезжаете, чтобы не поддаться дурному искушению приписать эту затею мне, вы поступаете правильно, и я вам за это благодарна. Я даже не стала бы думать об этом и защищать себя, если бы вы не сказали, что понимаете мое молчание как признание, которое вы, быть может, будете благословлять. Не благословляйте меня, сударь, я вас уважаю, но вовсе не люблю. Если я своей «странной», как вы говорите, тревогой вселила в вас какие-то иллюзии по этому поводу, я тысячу раз прошу у вас прощения за свою рассеянность и чувствую себя вынужденной объяснить вам свою «странность». Я подвержена нервным припадкам, с которыми мой врач борется, прописывая мне успокоительные лекарства. В те дни, что вы у нас гостили, я несколько раз принимала опиум, быть может, немного увеличив обычную дозу. Это погружало меня в некое душевное оцепенение, порою мешавшее мне видеть и слышать. Вы говорите, что в те дни я должна была понять ваши речи. Сударь, клянусь вам честью вашей матушки, которою вы клялись в разговоре со мной, что я не поняла ни единого слова и, не будь вашего сегодняшнего письма, не подозревала бы о внезапной страсти, ответственность за которую вы, кажется, хотите до некоторой степени переложить на меня. Позвольте мне совершенно отвергнуть ее и выразить надежду, что она кончится скорее, чем те лучшие чувства, выражение которых я прошу вас принять.Ошеломляющее спокойствие этого письма, свидетельство неуместной самонадеянности, столь вежливо выданное господину де Сож в ответ на его мольбу, сразу облегчило муки Дютертра. Он даже почувствовал, что Флавьен проявил некоторое благородство, предъявив это доказательство своей неопытности в обращении с добродетельными женщинами, и притом не кому-нибудь, а любимому мужу. На несколько минут к безмолвному Дютертру пришло ощущение покоя; непорочный образ его мадонны опять появился перед ним как утешительное видение; но тут он вспомнил, как два часа тому назад Олимпия испугалась при простом упоминании Мон-Ревеша, вспомнил ее страшное молчание в ответ на его обвинения и упреки — и обратился к Тьерре с прежним высокомерием и подозрительностью; — На что мне это письмо и почему вы так торопились доставить его сегодня вечером? — Потому что только сегодня вечером, — отвечал Тьерре, — мы с моим другом обнаружили глупость, которую я сделал невзначай, послав вместо своих стихов злосчастное письмо Флавьена ко мне, то самое, которое мадемуазель Нач тали тотчас вам показала. — Даже если все было так, откуда вы можете это знать?. — Я знаю это теперь, потому что на следующий день после своей ошибки я подошел к вам… да вот, почти на этом самом месте, и осмелился робко попросить у вас руки вашей очаровательной дочери Эвелины. — Вы просили у меня руки Эвелины? — переспросил изумленный Дютертр. — Да, и вы меня не поняли. Вы решили, что я намекаю на письмо. Вы мне ответили резко, даже оскорбительно. Я тоже ничего не понял; я подумал, что вы мне отказываете, это меня оскорбило, и я решил больше у вас не появляться. Только сегодня вечером я сумел объяснить себе ваше поведение и понял, что должен объяснить вам свое. Флавьен, который принимает во мне большое участие и упрекает себя за то, что разрушил мое счастье, поехал вперед. Он собирался рассказать вам, почему я перестал к вам ездить, а также дать все прочие объяснения, с которыми, как мы оба считали, нельзя было более медлить. Дютертр понял, что повредит будущему своей семьи и разобьет сердце Эвелины, если будет колебаться в не поддержит надежды Тьерре. — Я отдаю вам свою дочь, если вы ее любите и она любит вас, — сказал он, — но первая моя обязанность — наказать человека, который оскорбил мою жену своими домогательствами и который у меня на глазах, несмотря на письмо, которое вы заставили меня прочесть, продолжает открыто ее компрометировать своими дерзкими ухаживаниями и глупыми, подлыми хитростями. «Ну вот, — подумал Тьерре, — так я и предполагал он знает нее, что касается жены, и не знает ничего, что касается дочери. Надо или признаться во всем без утайки, или позволить этим людям убить друг друга». — Господин Дютертр, — сказал он, беря его за руку и с чувством ее пожимая, — вы сказали слова, которые дают мне право обратиться к вам, несмотря на незначительную разницу в возрасте, как сын обращается к отцу. Дютертр пожал руку Тьерре и выдавил на своем лице печальную улыбку. — Позвольте мне задать вам несколько вопросов, — продолжал Тьерре. — Теперь вы не имеете права упрекать меня в неприличном поведении, если я интересуюсь, что беспокоит семью, которую с этой минуты считаю своей. Я прекрасно понимаю, что вы никогда не могли бы подозревать или обвинять госпожу Дютертр, но вам кажется, что вы можете, не выслушав, решительно осудить моего друга. Скажите мне, в чем, по-вашему, он провинился сегодня, помимо его прежних сумасбродств? — Прежде всего, Тьерре, он жестоко виноват в том, что вернулся сюда; затем в том, что подстерег мою жену, когда она была занята святым делом милосердия; он воспользовался этим и, пробудив сострадание в ее наивной и доверчивой душе, увез ее в Мон-Ревеш, вероятно, под предлогом помощи больным и с целью, для меня несомненной, замарать ее доброе имя этим поступком. Вот каковы ваши светские господа, ваши милые повесы! Я ошибся, поверив, что бывают исключения. Они знают, что главная крепость женщины — это ее добрая слава, и они пробивают в ней брешь, надеясь, что, погибнув в глазах света, она больше не будет серьезно сопротивляться. Вот каковы эти любезники, эти шутники!.. О! Я дам ему урок, который послужит примером другим! Я хочу убить его, Тьерре, и я убью, ручаюсь вам! Я стыдился бы самого себя, если бы появился перед женой, не отомстив за нее! — Допускаю, что при том мнении, которое вы о нем составили месть доставила бы вам удовольствие, но вам придется от нее отказаться по двум причинам: первая — это то, что со времени ответа госпожи Дютертр, который находится у вас в руках (доказательство, что Флавьен не собирается им похваляться!), — Флавьену совершенно не в чем себя упрекнуть ни перед ней, ни перед вами. Он обвиняет и осуждает себя, он даже раскаивается в своем приступе безумия. Конечно, он смело встретил ваш вызов, как ему велит его кипучая натура, и все-таки он в смертельном горе из-за того, что ему придется драться с человеком, которого он почитает, за ущерб, не нанесенный женщине, внушающей ему уважение. Друг мой, друг и отец, разве вы уже не помните выражений, в которых он отзывался о вас в своем письме? Разве вы не видите отчаяния, с которым он готов подставить вам свою грудь. Вы оскорблены, вы будете стрелять первым. Клянусь вам, что он выстрелит в воздух, и вы будете вынуждены недостойно оскорбить его, чтобы заставить стрелять при второй попытке. — Вы сказали, что я должен отказаться от этой дуэли по двум причинам, — сказал Дютертр, слегка поколебленный, — какова же вторая? По какой причине ему понадобилось увезти мою жену в Мон-Ревеш? Я не могу придумать этому никакого оправдания. Даже если бы в смертельной опасности находились вы сами, Тьерре, — разве моя жена врач? Разве она владеет медицинской наукой, разве она связана врачебным долгом? Вы, Тьерре, должны были бы избавить меня от этой жестокой игры! — Это не жестокая игра, а ужасное признание, которое я должен вам сделать, — сказал Тьерре, вооружившись мужеством. — Ваша жена была единственным врачом, который мог оказать помощь больной в Мон-Ревеше и увезти ее оттуда, потому что этой больной, этой пострадавшей была Эвелина. — Эвелина! — вскричал Дютертр, схватившись за голову. — Господи! Вы сказали — Эвелина? Неужели я сошел с ума? — Я сказал: Эвелина! — продолжал Тьерре, которому испуг и страдания отца семейства внушили такое уважение, что он отбросил все свои сомнения, не думая о том, что, быть может, когда-нибудь в этом раскается. — Да, Эвелина, которая так любит меня, что когда, после приема, оказанного вами, я решил, что все потеряно, она явилась сама, чтобы меня в этом разубедить; Эвелина, чье богатство так пугало меня, что мысль о нем боролась во мне даже с моей любовью; Эвелина, от которой я прятался, отказываясь принимать ее письма и ехать к ней за приказаниями; Эвелина, которая проникла ко мне ночью, через окно, рискуя жизнью, причем упала с большой высоты; Эвелина, которая может оказаться в смертельной опасности, если вы скажете ей, что сделал вам это признание; Эвелина, наконец, чьих странностей и капризов я опасался, но которая победила меня отвагой, доверием, великодушием, и в настоящее время я люблю ее со всей силой, на какую способен. — Дай бог, чтобы вы говорили правду! — сказал глубоко потрясенный Дютертр. — Вы сомневаетесь в моем слове? — вскричал Тьерре. — Нет, — ответил Дютертр, пожимая ему руку. — Я сомневаюсь в добровольности вашего выбора, но могу винить в этом только недостатки ее характера. Ваше решение великодушно, Тьерре, если правда то, что вы не прибегли ни к каким соблазнам для того, чтобы вызвать ее на этот сумасбродный и достойный сожаления поступок. Если бы вы не любили ее, я думаю, мне пришлось бы снести это несчастье и поплатиться за ошибку, которую я совершил, слишком балуя своих детей. Да, мне пришлось бы отказать вам, не позволив вам пожертвовать своей свободой и гордостью, которая, знаю, в вас особенно сильна. — Я не ждал от вас меньшего, господин Дютертр, — сказал восхищенный Тьерре, обнимая его, — но пусть ваша деликатность успокоится, моя гордость сумеет постоять за себя. Так как я ничего не приношу жене, я вынужден потребовать, чтобы нас обвенчали с условием разделения имущества. Что касается моего выбора, то он был вполне добровольным, ибо с того дня, как я увидел Эвелину, я уже не видел никого другого, я был поглощен, взволнован, счастлив в несчастлив в одно и то же время. По поводу же соблазнов, которыми я мог воздействовать на ее воображение, я могу сказать, что, конечно, изо всех сил старался ей понравиться, не надеясь и не думая получить от нее столь несомненные доказательства своего счастья. Но если я невиновен в ее поступках (а будь это иначе, то не Флавьен, а я должен был бы искупить это своей жизнью, то я, конечно, виновен в том, что стал ее избранником, ибо невольно изо всех вил старался вызвать ее любовь. — Спасибо, Тьерре, спасибо! Все, что вы говорите, идет от благородного сердца и чистой совести. Не беспокойтесь, я никогда и виду не покажу, что знаю обо всех этих приключениях; но считаете ли вы возможным, чтобы они не стали известны в обществе? — Считаю возможным, потому что так оно и есть, — сказал Тьерре и рассказал о первом посещении Эвелины под видом госпожи Элиетты. — Согласитесь, — прибавил он, закончив свой рассказ, — самая невероятность подобной истории — гарантия того, что ее сочтут сказкой, если кто-ни-будь пожелает ее огласить. Затем он рассказал о причине возвращения Флавьена в Ниверне, о готовности, с которой тот устремился на поиски Дютертра, чтобы сообщить ему, в каком состоянии Эвелина оказалась в Мон-Ревеше; о совершенно случайной встрече о Олимпией и о том, как сама Олимпия направила дальнейший ход событий. Наконец добавил подробности, дополнявшие истинную картину происшествия.Олимпия Дютертр».
XXXI
Дютертр, слушавший рассказ Тьерре, сидя на каменном подножии креста, был в оцепенении. Он встал и сказал: — Прощайте, друг мой! Вы меня спасли! Теперь мне хочется поскорее поблагодарить великодушную и самоотверженную женщину, которая подвергла себя подозрениям и молча стерпела мои упреки, чтобы спасти честь моей дочери. И, забыв о Флавьене, он пошел к лошадям. — Подождите, — сказал Тьерре. — Прежде чем расстаться, нужно сговориться, как мы с Флавьеном будем объясняй приезд госпожи Дютертр в Мон-Ревеш. Приказывайте: в наших объяснениях не должно быть никаких разногласий. — Вы приедете завтра утром в Пюи-Вердон, — отвечал Дютертр, — и там мы обо всем сговоримся. Что касается господина де Сож, то в его помощи мы не нуждаемся… Ведь он, конечно, намерен завтра же уехать в Париж? — добавил Дютертр, повышая голос, ибо он увидел Флавьена, который все еще неподвижно стоял на краю поляны, ожидая его. — Да, сударь, — ответил Флавьен, подходя ближе. — Именно таково мое намерение, если вы больше ничего не хотите мне сказать. — Оскорбленным был я, сударь, — серьезно ответил Дютертр. — Я имею право взять назад вызов, и я вынужден это сделать. Дуэль между нами сейчас скомпрометировала бы сразу двух женщин, чья репутация для меня более священна, нежели дорога месть. Будущее покажет, следует ли мне отказаться от тех намерений, которые привели меня к вам. — В любое время и в любом месте я буду готов дать вам удовлетворение, — сказал Флавьен. Они раскланялись, и Форже подвел лошадей. Но прежде чем вскочить на лошадь, Флавьен топнул ногой и с глухим проклятием обратился к Тьерре: — Возмутительно несправедливо покидать меня таким образом! — Но почему же, сударь? — спросил Дютертр, который уже сидел на лошади, но, услыхав Флавьена, вернулся к нему. — Потому, — грубо сказал Флавьен, едва удерживая слезы, — что когда человек, имеющий свои притязания, как всякий другой, и который не лучше и не хуже всякого другого, приносит мужу такое письмо, как то, что я получил от вашей жены, он, во всяком случае, заслуживает, чтобы его не оскорбляли подозрениями на будущее. — Я не хочу подозревать вас ни в чем, сударь, — с достоинством сказал Дютертр, — это письмо принадлежит вам, я вам его возвращаю. И он протянул Флавьену письмо Олимпии. — Мне оно не нужно! — резко сказал Флавьен. — Разумеется, я не боюсь себя. Но на свете есть злые и глупые люди; это Тьерре должен хранить одно из тысячи доказательств ума, хорошего вкуса и истинного достоинства своей тещи. — Она не нуждается в этих доказательствах, — сказал Дютертр и поднес письмо к зажженной спичке в руках Тьерре, который собирался закурить сигару. Письмо сгорело. — А теперь мы квиты, — прибавил он, откланявшись снова. И он скрылся в лесной дубраве. — Вот уже теперь мне никогда больше не придет в голову ухаживать за порядочной женщиной!.. — воскликнул Флавьен, когда они с Тьерре повернули на дорогу к Мон-Ревешу. — Разве ты не удовлетворен? — с улыбкой сказал Тьерре. — Ты приехал сюда, чтобы устроить мою свадьбу: она устроена. Ты хотел дать окончательное удовлетворение человеку чести, ты дал его так, что не пролилось на капли крови и сам ты получил от него залог уважения… — Или презрения! Но допустим что то было уважение и доверие; я все-таки утратил симпатию и дружбу человека, к которому меня больше всего тянуло. Я все-таки закрыл для себя доступ в семью, которая станет твоей и где я был бы счастлив видеть тебя счастливым. А все потому, что мы светские люди, полные самолюбивых предрассудков; что мы считаем себя обязанными ответить на знаки внимания со стороны женщины даже когда подозреваем, что они исходят от другой; что почли бы себя обесчещенными в ее глазах, да и в своих собственных, если бы сдерживали свои страсти, свой язык свое воображение! Боже мой, какая глупость — тщеславное желание нравиться! И насколько человек мудрее, когда покупает любовь, чем когда старается ее внушить. — Это значит, что целая армия Леонис будет утешать тебя в твоих злоключениях? Сделай лучше, Флавьен, женись, поверь мне. Выбери как следует, и у тебя не будет соблазна похищать счастья в чужом гнезде. Это урок и для меня тоже. — Может быть, ты и прав, — отвечал Флавьен, — но теперь я буду смотреть в оба. Что, если мне попадется какая-нибудь Натали? Судите сами, как испугался Дютертр, когда, войдя в комнату жены, нашел там Натали и Блондо, бодрствующих у постели полуживой Олимпии, которая совсем не могла говорить и с трудом понимала слова, обращенные к ней. Несмотря на смиренное поведение виновницы, которая подошла к отцу с мольбой простить ее и теперь старалась, заботясь о больной, исправить зло, которое онапричинила, Дютертр не удержался и сказал: — Ах, дочь моя, вы убили благороднейшую из женщин, в если отец не проклинает вас, го только потому, что он уверен: это сделает небо. Никогда Дютертр не говорил таких слов, никогда он не думал, что ему придется произносить в своей семье такие приговоры. Натали, в ужасе от речей отца, со стоном удалилась в сад. Она снова увидела место, где смотрела на уснувшего Флавьена. Она поняла, что отец имел с ним только что решительное объяснение, после которого молодой человек был навсегда изгнан из их дома; увидела, что, отомстив ему за равнодушие, навсегда лишила себя всякой надежды ему понравиться; спрашивала себя, не разгадал ли он ее и не посылает ли он ей проклятий. Она оплакивала свой проступок, обреченная наконец испить его горечь и нести его последствия. «Да, да, — говорила себе Натали, — борясь против всех, убиваешь себя! Блондо прав: если человек не родился добрым, то есть слабым, легковерным и нежным, то для того, чтобы не подвергать себя осуждению этих слабых, следует, по крайней мере, вести себя так же, как они: уступать, прощать и щадить других». Таким образом, она приняла лучшее из решений, на какое была способна, и выполнила его с присущим ей упорством воли. Но было уже слишком поздно, если не для нее, то для других. Олимпия очнулась в объятиях мужа, стоявшего перед ней на коленях. Блондо, считая что радость — лучшее лекарство от болезней вызванных горем, пошел проведать Эвелину, чтобы дать супругам возможность объясниться без свидетелей. К Олимпии вернулась речь и память. Она так и не поняла ревнивых упреков мужа. Она и не подозревала, что он мог бы ревновать к Флавьену: рассудок ее помутился в ту минуту, когда муж «разбранил» ее, как она выразилась, за го, что она не выдала тайну Эвелины. Дютертр в душе возблагодарил бога, что не был понят. Ему было стыдно, что он мог обвинить такое кроткое и чистое существо; он утешался только мыслью, что она не ощутила более тяжкой раны — раны от оскорбления, вызванного его подозрительностью. — О господи, пусть она никогда не узнает! — твердил он, молясь про себя, как ребенок. — Пусть никогда не узнает, что я ее приревновал. Это был бы конец ее любви и моей жизни. — Но почему ты так сильно бранил меня? — с простодушием невинности повторяла Олимпия. — Не потому ли, что моя поездка в Мон-Ревеш могла стать известной, неправильно истолкованной и люди стали бы худо говорить обо мне? Боже мой! Ведь надо было сделать так, чтобы все эти несчастья не произошли с твоей дочерью! Признаюсь, я не думала о себе, а если бы и подумала, то, мне кажется, поступила бы так же; ведь я любима, мой муж не может подозревать меня, из глубины своего блаженства я могу бросить вызов всему свету, и потому моим долгом было бы пожертвовать собой ради этой девочки, еще не нашедшей такой опоры, какая есть у меня, и все будущее которой в эту минуту зависело от моей преданности. — Мой чистый, кроткий ангел! — говорил Дютертр, покрывая поцелуями ее руки. — Прости меня, я этого не понимал! Я думал, что моя дочь погибла, я был безумен! Да, да, у меня в самом деле был приступ безумия, я испугал тебя, но не сознавал этого. Теперь я увиделся с Тьерре, дочь моя чиста, он любит ее, он на ней женится; тебя же я благодарю на коленях за то, что ты вернула в лоно семьи мою бедную заблудшую овечку, за то, что ты ее спасла, утешила, благословила в ее страданиях и ободрила в ее смущении. И что мне до того, что о тебе скажет свет? Знаешь, что я на это отвечу? «Моя жена отправилась туда, потому что сочла это нужным; у меня нет никаких иных объяснений, и я никогда их у нее не спрошу. Есть трижды святые существа, которые имеют право ходить куда угодно, даже в вертепы порока, ибо они отправляются туда, чтобы делать добро, я никакая грязь не может их запятнать». Право же, это будет лучше, чем выдумывать причины. Мы все равно не сможем найти ничего, что было бы на высоте твоего самопожертвования, а лучшая защита женщины — это уважение ее мужа. Говоря все это с искренним жаром, Дютертр умышленно обвинял себя перед богом, и то удовлетворение, которое он не мог предложить своей жене, он предлагал небу как бы в искупление своего проступка. С рассветом явился Мартель; получив весьма конфиденциальную записку от своего коллеги Блондо, он целую ночь проездил по окрестностям в своей одноколке, чтобы помешать дуэли или, в крайнем случае, очутиться поблизости, если понадобится, оказать помощь и увезти раненых. Он был утомлен и раздражен дурно проведенной ночью, тем более что сердиться он мог только на Блондо, который, убедившись, что его больные спокойны, а из здоровых никто не погиб, прилег немного отдохнуть. Осмотреть Олимпию, у которой, по мнению Дютертра, началась лихорадка, пошел Мартель, угрюмый и отяжелевший от бессонницы. Никакой лихорадки он у нее не обнаружил и отправился наконец на боковую, сказав: — Ничего страшного нет. Спите спокойно. К утру все пройдет. Он был в этом искренне уверен. На следующий день состояние Эвелины уже не внушало никаких опасений. Флавьен уехал в Париж, Тьерре принялся строить планы на будущее. Натали, с провалившимися от бессонницы глазами, прекрасная, как пораженный громом мятежный ангел, испрашивала прощения каждым своим взглядом, хлопоча вокруг Олимпии, как благочестивая дочь вокруг матери. Олимпия проснулась ослабевшая, но вполне спокойная; сердце ее было открыто всем надеждам на счастье, которые расцветали вокруг нее. Малютка, доискиваясь, в чем дело, увидела перемену в манерах Натали и безмолвно выражала свою радость и благодарность, осыпая старшую сестру горячими ласками. Дютертр думал, что все спасено и исправлено, но Блондо, всматриваясь в черты Олимпии и привычными пальцами щупая ее пульс, слегка нахмурился и сказал: — Сегодня дела идут лучше, но вам надо полечиться и постараться, чтобы больше не было таких дней, как вчерашний. Дютертр, встревоженный выражением удивления и задумчивости на лице Блондо, увел его, чтобы расспросить наедине. — Не знаю, что и сказать вам, — ответил Блондо — Я замечаю какое-то странное расстройство кровообращении. Может бить, это неизбежное следствие вчерашних волнений; но, повторяю вам, господин Дютертр, нельзя слишком часто рисковать, устраивая вашей жене такие страшные сцены. В организме ее происходят неясные для меня процессы; он изрядно надломлен и, может быть, не сумеет победоносно бороться с долгими горестями. — Боже мой, чего же вы опасаетесь? — вскричал Дютертр. — Какие симптомы внушают вам страх? — Я скажу это вам через несколько дней, если, вопреки моей надежде, они не исчезнут. В последующие дни все в Пюи-Вердоне заметили, что в поведении и манерах госпожи Дютертр произошли необычайные изменения. Она, всегда такая молчаливая, проявлявшая свою благожелательность с некоторой робостью, внезапно стала экспансивной и щедрой до восторженности в выражениях своих чувств. Четыре года, под ненавидящим взором Натали, постоянно сталкиваясь с недоверчивостью Эвелины, Олимпия училась скрывать свои чувства, стирать свою индивидуальность, изо всех сил стараясь превратить себя в некое отвлеченное понятие, чтобы не вызывать ни насмешек, ни ревности. Живейшая признательность, которую выражала ей Эвелина теперь, и внезапное чудесное превращение Натали так живо тронули Олимпию, что она без всяких ограничений предалась своей истинной природе. А природа ее являла полную противоположность той принужденности поведения, которую она усвоила со времени своего замужества. Она была теперь со всеми такой, какой бывала только в тиши своей близости с мужем, да еще с Каролиной и Амедеем: итальянкой, а стало быть, экспансивной и решительной; артисткой — стало быть восторженной и впечатлительной. Но даже с Каролиной и Амедеем она проявляла себя во всем блеске лишь в редкие и короткие минуты покоя и забвения. Ненависть старших дочерей подавляла ее; непреодолимая грусть стала для нее привычной. Женщина, с детства окруженная всеобщим обожанием, познавшая триумфы в самой ранней юности, родившаяся для того, чтобы любить и быть любимой, не могла бы без огромного напряжения и несвойственного ей смирения терпеть недоброжелательность среды, в которую ее перенес муж. В последние два года Натали превратилась в отравленную стрелу, бившую без промаха, яд которой проникал во все поры; Эвелина стала слишком своевольна, и можно было опасаться с ее стороны тех заблуждений юности, за которые Олимпия несла тяжкую ответственность перед светом и перед мужем, не обладав достаточным авторитетом, чтобы их обуздать. Постоянной заботой несчастной женщины было скрывать несправедливости, жертвой которых она являлась. Вся эта продолжительная борьба против порою неудержимых порывов собственной уязвленной гордости разрушила в Олимпии неведомую для нее самой жизненную основу. Судьба ее решилась в тот день, когда страшная семейная буря, подробности которой мы рассказали, привела, правда слишком поздно, к счастливому результату. Олимпия подумала, что спасена. Она почувствовала необходимость жить, выявить себя, распуститься под солнцем, как сломанное растение поднимает голову, чтобы поглядеть на небо и напиться росы в свое последнее утро. Олимпия скрывала свой замечательный талант с тех самых пор, как почувствовала, что он возбуждает зависть. По просьбе Натали и своего мужа она проявила его опять в полном блеске. В один прекрасный день она согласилась петь, хотя давно уже говорила — и сама в это верила, — что голос у нее пропал от бездействия. Ее могучий, великолепный голос, звучавший с тем совершенством, которое дает мастерство, ее высокое вдохновение наполнили атмосферу Пюи-Вердона чарующей и жуткой магией; сердца присутствующих дрогнули, потрясенные восторгом и скорбью. Слезы хлынули у них из глаз. Даже Натали плакала: ей казалось, что то поет смертельно раненный ею лебедь. Эвелина, которой нее еще не позволяли вставать и которую очень осторожно принесли в гостиную, невольно взяла за руку Тьерре, смотревшего на Олимпию с какой-то странной тоской. Тьерре наклонился к невесте и тихо сказал: — Мне скорее больно, чем радостно. Я скажу вам потом почему, но дай бог, чтобы я ошибался! Тьерре, нервная, тонкая и немного болезненная натура которого необычайно быстро отзывалась на все впечатления, вышел из гостиной и отыскал Блондо. — Госпожа Дютертр очень больна, — сказал он, — я в этом совершенно уверен. Я не врач, я ничего не знаю, но когда она говорит, мне холодно; когда смеется, мне страшно; когда поет, я задыхаюсь. Скажите, не брежу ли я. — Госпожа Дютертр готовит нам всем страшный удар, — с грубоватой горечью ответил Блондо. — Тут сам черт замешался. Ей все хуже и хуже, но никто этого не подозревает. Я не смею сказать свое мнение, я боюсь убить этим всех, ну, что ж! Я не сплю, делаю все, что должен делать, но боюсь, что уже ничем не могу помочь. Опечаленный вид Блондо говорил еще больше, чем его слова. Тьерре, подавленный роковой тайной, с тех пор каждый день спрашивал его, не пора ли открыть все Дютертру. — Нет еще! — говорил Блондо. — Такой удар можно нанести лишь тогда, когда не останется никакой надежды. Кто бы мог без помощи ясновидения угадать развитие этой болезни? Красота Олимпии приняла обманчиво здоровый вид. Легкая отечность щек казалась полнотой: порою слабая краска разливалась по ее лицу, придавая ему яркость, которым оно никогда не отличалось. Она не жаловалась, она тщательно скрывала внезапные приступы удушья и сердцебиения, приписывая их остаткам нервной болезни, от которой она считала себя излеченной. Об этой болезни Олимпия не могла вспомнить без ужаса — потому что тогда пришлось бы вспоминать и о тяжких горестях тех дней. Вновь вызывать их в памяти значило не прощать — а она простила. Она и в самом деле излечилась от нервной болезни, но теперь у нее появилась другая, более серьезная, к которой первая вызвала предрасположение. К тому времени, когда нити, привязывающие нас к жизни, наконец обрываются, они уже давно бывают перетерты неощутимой и неторопливой, но жестокой и беспощадной силой. Однажды утром Олимпия, поднявшись по лестнице несколько быстрее, чем всегда, упала, задыхаясь, на последнюю ступеньку; однажды вечером она вдруг оборвала арию и вне себя закричала: — Воздуха! Воздуха! Я задыхаюсь… Такие припадки начали учащаться, потом стали делаться более продолжительными. Наступила затяжная лихорадка, силы стали быстро падать; однажды утром Олимпия не смогла встать и заплакала от огорчения, ибо впервые не сумела справиться с собой. В этот день выздоровевшая и поднявшаяся на ноги Эвелина с влюбленным и успокоенным Тьерре получили свадебное благословение в часовне замка Пюи-Вердон. Олимпия не могла при этом присутствовать, но горячо помолилась за них. На следующий день Дютертр, которого уже терзала тревога, вырвал из уст Мартеля и Блондо, приглашенных на консилиум с двумя другими врачами, слова, подготовлявшие окончательный удар: — Болезнь может оказаться очень серьезной. Все заставляет опасаться сердечной аневризмы. Между собой врачи говорили. — Эта женщина обречена. Наш коллега Блондо разумно применил все меры, которые указывает наука. Пусть он продолжает облегчать больной ее последнюю борьбу за жизнь, пусть осторожно предупредит семью. Средств, которые можно было бы испробовать, больше нет. Дютертр, не привыкший убаюкивать себя несбыточными надеждами, прочел свой приговор в мокрых от слез глазах старого Мартеля, который еще больше, чем Блондо, если это возможно, почитал госпожу Дютертр и любил всю семью. Отцу семейства потребовались все силы его высокой души, чтобы зрелищем отчаяния не омрачить счастье молодоженов. Эвелина, которую нетрудно было обмануть, предавалась детской радости по поводу того, что, как она выражалась, она ходит по благословенной земле, опираясь на руку мужа. Она была счастлива своими ослепительными туалетами, любовью, которая ее окружала, новой красотой, которую она приобрела за эти недели полного покоя. Ее нежные краски, которые долго скрывал загар, расцвели снова. Нервы ее, до предела натянутые из-за непомерной усталости, успокоились за время отдыха. Это сказалось и на ее характере: он тоже стал ровнее под влиянием нежного ухаживания и сердечных забот, которыми все домашние ее окружили. Отдавшись добрым побуждениям своей натуры, она любила всех, обожала мужа, и даже необходимость покоряться его воле доставляла ей теперь совершенно новое для нее удовольствие. Вечером того же дня Дютертр написал племяннику:«Возвращайся, сын мой. Ты нужен мне для того, чтобы я не умер раньше, чем Она. Болезнь неизлечима, я вижу эго слишком ясно. Сегодня утром Она спросила, почему ты не приехал на свадьбу своей сестры Эвелины. Я обещал ей, что она увидит тебя через три дня. Она очень обрадовалась. Итак, приезжай; я не имею права лишать тебя последнего благословения святой».
XXXII
Последние дни Олимпии наступили, но она не почувствовала их приближения. Дютертр подал в отставку, отказавшись от членства в палате депутатов, чтобы не покидать Олимпию. Бедная женщина была счастлива, что уже не будет разлучаться с мужем, которого по-прежнему любила до обожания. Она не заметила, как приблизился ее конец. Нежные и умелые заботы избавили ее от зловещего страха смерти. Она уснула, как птичка, которая хотя и чувствует холод и голод в своем покинутом гнезде и слабым голосом сетует на свое страдание, но не ведает, что умирает. За несколько часов до смерти она сказала Амедею: — Дорогой мой мальчик, я очень ослабла. Не понимаю почему, ведь я так счастлива, что не чувствую себя больной. Мне кажется, что я могу вставать, ходить, бегать — а у меня нет сил даже поднять руку. Разве от слабости умирают? Врачи говорят, что нет, и я тоже в это не верю. Но все-таки, если я умру, поклянись мне, что ты женишься на моей Малютке и что ни ты, ни она никогда не покинете моего мужа. Амедей дал клятву. Дютертр около года боролся с непрерывным жестоким искушением покончить с собой. Однако сознание своего долга гражданина и отца семейства было в нем так сильно, что он не поддался отчаянию и, наконец, признавшись Амедею в том, что он одержим манией самоубийства, попросил племянника никогда не оставлять его одного. Амедей, который в унылом молчании мучился тем же искушением, ходил за дядей как тень, чтобы, охраняя его, охранить и себя. Но ангел терпения и кротости часто являлся между ними в часы их горьких размышлений. Это была Малютка. Безутешная после утраты той, которую она любила как родную мать, Малютка оказалась самой твердой и сильной во всей семье. Она проявляла столько изобретательности, утешая и развлекая других, что однажды Амедей в порыве жестокого горя сказал ей тихо, но с раздражением: — Оставь нас, Малютка, твоя веселость причиняет нам боль. Каролина в ответ только повторила слова: «Моя веселость!» Она побледнела, покачнулась и вышла, шатаясь как пьяная. Амедей кинулся за ней, подхватил ее и стал с нежностью просить прощения за свою несправедливость. Каролина залилась слезами: — Значит, вы не понимаете, что мне горше, чем вам всем, потому что я потеряла больше, чем каждый из вас? У отца есть всевозможные обязанности, которые дают ему силы в его страданиях; у меня же была только одна обязанность — дать немного счастья бедной женщине, которая была несчастна, когда отец отсутствовал. Эвелина замужем и скоро будет матерью: своего ребенка она будет любить еще больше, чем мужа; Натали образованна, умна, честолюбива; что касается тебя, то ты можешь поддержать отца в его грудах и заботах; а что могу я и что я такое? Я не художественная на тура, как Эвелина, и не ученая дама, как Натали. Я не люблю света; я не вижу в будущем ничего, что бы меня привлекало, а в настоящем — ничего, что поглощало бы мои силы, с тех пор как нет моей бедной мамочки, которая принимала мои заботы и мою любовь и говорила, что ей со мной хорошо. Да, я принесла в ее жизнь немного счастья, я в этом уверена. Она это говорила, и я тоже это чувствовала! А теперь все кончилось. Теперь я ни на что не гожусь. Я не могу заменить ее отцу, у меня слишком мало ума, чтобы его утешить. Ей то этого и не нужно было, она и так меня любила! Да, она меня любила еще больше, чем отец, если это возможно. Она любила меня так, как никогда не полюбит никто из вас. Она была моей сестрой, потому что она была молода и простодушна; она была моей матерью, потому что была взрослой и мудрой. Но она была и моей дочерью, потому что она была слаба телом, несмотря на все свое мужество, и я заботилась о ней, как о маленьком ребенке. Она была для меня всем — подругой, родным человеком, образцом во всем. Было ли еще на свете существо столь же прекрасное, доброе и любящее, как она? Я не только была счастлива, что я ее любимая дочь, я этим гордилась, я этим тешила свое тщеславие! А теперь чем мне гордиться? Кому я буду необходима? Видишь. Амедей, я весела, я очень весела! У меня все основания для веселья! Впервые в жизни Каролина говорила так долго и с таким жаром. Амедей внезапно почувствовал, что у этой доброй девочки нежное сердце, соединенное с высокой душой, и твердый характер. Он прижал ее к груди, и он и заплакали вместе. Он плакал впервые после смерти Олимпии, и с этих пор он уже глядел на Каролину другими глазами. В самом деле, именно она превосходила всех восторженностью и бескорыстием своей любви к умершей. Она жила только ею, она еще не понимала, что сможет жить для кого-нибудь другого.Заключение
Через два года после смерти Олимпии Тьерре сидел один в гостиной канониссы. Он берег Мон-Ревеш как святыню и каждую неделю приезжал сюда из Пюи-Вердона, где жил постоянно, чтобы обойти его комнаты и предаться размышлениям в старой гостиной. Здесь сохранялся его рабочий стол. Поздоровавшись с бедным полупарализованным Жерве, который потерял жену и проводил дни, сидя в старом кожаном кресле в углу двора, пожав руку Форже, нынешнего сторожа замка, чьи обязанности сводились к тому, чтобы перетаскивать из угла в угол старого паралитика и чистить щеткой старый фрак, который Тьерре ему оставил, дабы Форже нашел своим щеткам хоть какое-нибудь применение; подвязав плющ и мальвы, сломанные бурей, Тьерре на часок устраивался в гостиной, где вспоминал роман своей жизни и сочинял стихи для жены. В каждый свой приезд сюда он писал несколько строф поэмы, посвященной первым дням их любви; он собирался, когда поэма будет закончена, преподнести ее Эвелине. Стояло лето; было жарко даже в замке Мон-Ревеш, Торжественный покой окружавших лесов нарушался только пронзительными криками гнездившихся в башне стрижей, которые на лету оспаривали друг у друга добычу, предназначенную для птенцов. Попугай и паралитик, разомлевшие под благодетельными лучами солнца, сидели рядом во дворе и хранили унылое молчание. Одна из великолепных собак Эвелины, отныне соблаговолившая разделить свою привязанность между нею и ее мужем и сопровождала Тьерре в его поездках в Мон-Ревеш, лежала на ступеньках гостиной, у открытой двери. Вдруг собака насторожила уши, заворчала, залаяла, и через минуту у массивных ворот Мон-Ревеша раздался звонок. Форже пошел открывать, а Тьерре, которому манера дергать колокольчик смутно напомнила прошлое, невольно поднялся, чтобы поглядеть в окно. Во двор вошел Флавьен. Тьерре бросился ему навстречу: — Какое неожиданное счастье! Ты ли это? За два года ни слова, ни привета! Я уж боялся, не умер ли ты во время своих долгих странствий! Сейчас ты едешь из Италии, не так ли? Приехал повидать меня? Пробудешь тут со мной несколько дней? — Не совсем с тобой, — сказал Флавьен, дружески обнимая его, — я ведь не имею права появиться в Пюи-Вердоне, чтобы приветствовать твою жену; но я остановлюсь здесь, где надеюсь иногда видеть тебя, а может быть, и ее, потому что в округе мне сказали, что она иногда сюда приезжает. — Она приедет сегодня же! — вскричал Тьерре. — Эвелина считает тебя своим братом; она никогда не забудет, каким преданным и скромным ты показал себя в тех несчастных обстоятельствах… — Не будем об этом говорить, — сказал Флавьен. — Ну, хорошо, не будем об этом говорить, но я всегда об этом думаю, потому что с того дня началось для меня счастье, которое было бы безоблачным, если бы небо не отняло у нас нашего ангела-хранителя, нашу избавительницу, ту прекрасную и благородную женщину… — Не будем говорить об этом! — повторил Флавьен, и тень омрачила его лоб, по-прежнему чистый, немного узкий, за которым скрывалось столько упрямства, искренности и доброты. — Расскажи о себе, — продолжал он. — Охотно, но прежде всего, так как я хочу, чтобы ты сегодня же увидел мою жену и дочь, я напишу два слова и пошлю Форже в Пюи-Вердон. Мы останемся здесь с тобой до вечера. Форже нас хоть и не слишком хорошо, но накормит. — Я хотел бы, друг мой, чтобы господин Дютертр не узнал официально о моем приезде. Мое имя должно вызвать у него воспоминания… очень грустные для него… и для меня тоже! — Будь спокоен! — сказал Тьерре, продолжая писать. — Я прошу Эвелину не говорить о тебе ни слова, а Форже, как ты знаешь, всему на свете предпочитает молчание. Когда записка была отправлена, Флавьен пожал бесчувственную руку старого Жерве, почесал головку попугая, поблагодарил друга за заботу об обоих стариках и вернулся с ним в гостиную, по-прежнему чистенькую, сохранившуюся без всяких изменений со всеми своими безделушками и маленькими сокровищами давних времен. — Теперь побеседуем, — сказал он. — Я приехал, чтобы поговорить с тобой о важных вещах, касающихся меня; но я прошу твоего разрешения сначала задать тебе несколько вопросов… Счастлив ли ты, Тьерре, действительно ли ты счастлив в супружестве, несмотря на тяжкое горе, которое, я знаю, ввергло всю семью в траурный мрак, лишь чуть-чуть просветлевший за два года? Скажи мне правду, это для меня очень важно. — Я понимаю, ты, в свою очередь, подумываешь о женитьбе! Ты хочешь знать, что произошло с человеком, менее всего думавшим о земных благах, строившим самые фантастические планы, который, отчасти, может быть, и не по своей воле, женился на богатой наследнице; словом, ты хочешь знать, неужели твой друг Тьерре, нерешительный, разборчивый и мнительный, предпочитает настоящее своей прошлой жизни. На это я тебе отвечу по чистой совести: да! Как видишь, ты можешь не страшась пойти навстречу опасности. — Значит, это избалованное и прелестное дитя твоя жена, превратилась… — Ну, не совсем в тот идеал, которого я иной раз просил у судьбы в своих честолюбивых мечтаниях. Чтобы устроить мне покойную и приятную жизнь, о которой я мечтал в ту осень, нужна была бы женщина вроде Каролины. Но Каролина тогда была еще ребенком, к тому же в дело вмешалась судьба, заставив меня увлечься другой фантазией. Волей-неволей эта фантазия перешла в страсть, и мне было нелегко превратить ее в настоящую любовь. Но небо мне покровительствовало, а Эвелина мне помогла. Да, как ни страшно это вымолвить, но Эвелина хорошо сделала, что вывихнула ногу, а бог, для того чтобы обратить на путь истинный избалованных детей Дютертра, хорошо сделал, что призвал к себе святую, которой наш свет не был достоин. Горе, посетив этот богатый дом и высокомерных девушек, превратило их дух господства — в терпение, дух борьбы — в угрызения совести, дух непокорности — в кротость. Несчастье — неласковый хозяин. Дютертр, благородный, удрученный, уважаемый всеми Дютертр, человек исключительного мужества, спаситель бедняков, друг несчастных, гордость семьи, который дал бы распять себя на кресте во имя отцовской любви, явил такое душераздирающее зрелище, что самые ожесточенные сердца смягчились, и даже Натали… — Рассказывай лучше об Эвелине, — с легким волнением перебил Флавьен, — сначала об Эвелине. — О да, я только того и хочу! — живо ответил Тьерре. — В сущности добрая и искренняя, Эвелина имела один главный недостаток: она воображала, что жизнь — это бал, увеселительная прогулка, даже меньше того — изящный туалет, короткий отчаянный галоп. Будь она счастлива и окружена успехом, она растоптала бы все своими хорошенькими ножками; но в печали и скорби она стала просто доброй как ангел. Потрясающее смирение Дютертра и его невиданная доброта произвели это чудо, которому, быть может, несколько помогла и моя любовь. Больше не было никаких разговоров о празднествах и путешествиях. Траурная одежда изгнала наряды. Наконец пришло материнство, а для молодой женщины это великое таинство, как бы второе крещение. Вообрази, что это прелестное существо, эта фея нашла в себе талант подарить мне дочь, которая до ужаса на меня похожа! Но ужас на этом и кончается, потому что, глядя на нее, замечаешь, что, несмотря на все сходство со мной, на хрупкую оболочку, смуглую кожу, жесткие и непокорные волосы, эта девочка — маленькое чудо грации, прелести и миловидности. Ты ее увидишь, она уже ходит и болтает как двухлетняя, несмотря на то, что ей исполнилось только тринадцать лун, как говорят дикари у Шатобриана[202]. — Ну, я счастлив все это слышать, — сказал Флавьен. — А другая дочь Дютертра… Малютка, как ее называли? — Малютка, как ее называют и теперь, шесть месяцев тому назад вышла замуж за своего кузена Амедея. Оба вполне счастливы. Присмотрись к ним хорошенько, если хочешь увидеть рай на земле. Этот рай не безоблачен, потому что в их глазах еще не высохли слезы. Но сколько простоты, сколько преданности, сколько прочных и вместе с тем пленительных достоинств в этих детях! Они так совершенны, так прекрасны, знаешь ли, что, глядя на них, хочется стать такими, как они. — Да, я знал, что они должны пожениться, что они полюбили друг друга. Мне даже говорили, что Каролина удивительно похорошела. — Похорошела необычайно, и, что еще более необычайно поразит тебя, если ты ее увидишь, это то, что она стала походить на нашу бедную Олимпию. — Как ты это объясняешь? — Я полагаю, что, думая о ней все время, она сумела воскресить ее в своем облике, как она воскрешает ее в своем характере. Подрастая, она каким-то образом переняла у той бесподобной женщины ее гибкость, походку, грацию. Так как Олимпия была для нее примером во всем, ее любимым типом, ее идеалом, то ее элегантные и простые туалеты послужили и, вероятно, всегда будут служить образцом для туалетов, которые Каролина придумывает для себя, чтобы нравиться мужу и отцу. Ее произношение, интонации повторяют музыку интонаций Олимпии. В конце концов, что здесь такого удивительного? Разве тело не есть скромный слуга души, ее отражение? Разве это не мягкая глина, которая растягивается по нашему желанию, по нашей воле, в зависимости от напряжения нашего ума? Как мать может произвести на свет ангела или чудовище, в зависимости от того, было ли сильное впечатление, пережитое ею во время беременности, прекрасным или устрашающим, так точно не может ли и постоянная мысль о любимом или ненавистном образе превратить нас самих в демона или в божество? И душа Каролины стала так походить на душу Олимпии, ее качества, вкусы, добродетели, инстинкты настолько в ней повторились, что мы каждую минуту с радостным удивлением узнаем в ней Олимпию, а для Дютертра это настоящее счастье, это реальное утешение, действенное вознаграждение, которое бог ему ниспослал в его утрате. — Но ты не рассказываешь мне о важном событии, которое касается тебя, как и других членов семьи? — О чем это? О материальных утратах, постигших Дютертра? О потере его состояния? Право же, я об этом не подумал! Значит, ты это знал? Ну что ж! Должен сказать тебе, в похвалу нам всем, это произошло в ту минуту, когда никто из нас не был в состоянии огорчаться по этому поводу, ибо у нас были куда более серьезные причины для горести. Что касается меня, Флавьен, то признаюсь тебе, я этому обрадовался, насколько я вообще мог чему-нибудь радоваться в те печальные дни траура. То, что я лишился миллиона, принадлежавшего моей жене, подняло меня в собственных глазах. Этот проклятый миллион, я никак не мор бы его переварить. Доход, который нам был назначен заранее, настолько превышал мои потребности, ибо рента в шесть тысяч ливров всегда казалась мне пределом мечтаний и увенчанием всех моих трудов, что я почувствовал себя все еще слишком богатым в тот день, когда Дютертр сказал нам: «Дети мои, вот все наше состояние. Оно сократилось на три четверти. Теперь это миллион, который надо разделить на пять равных частей. Прежде всего — доля бедняков: это доля господа бога; затем доли моих трех дочерей и моя, пока я жив. Мы были богаты: теперь мы люди среднего достатка. Мы больше не короли провинции, но мы все еще вполне обеспеченные буржуа. Не будем жаловаться. Мы сумели спасти нашу честь, нашу гордость, нашу независимость». Достойный отец! Он был почти доволен, что избавился от огромных обязанностей, которые на него налагало богатство. Зато эта катастрофа спасла его от полного отчаяния. Вынужденный расстаться с частью своего состояния, чтобы выполнить с отменной щекотливостью все свои обязательства, он ожил и встал на ноги под бременем этого долга. Мы же, дочери и зятья, решили на семейном совете следующее: вместо того чтобы разъезжаться, брать каждый свою часть, с мелочной бережливостью помещать ее в пятипроцентные государственные бумаги и получать по восемь-десять тысяч ливров ренты каждый, мы отдали все в руки отца семейства и предоставили ему вместе с Амедеем распоряжаться нашими общими деньгами. Таким образом, прекрасное имение Пюи-Вердон не было разрушено. Другие дома проданы, но этот остался нетронутым. Замок, полный воспоминаний об Олимпии, стал для нас святыней, так же как и парк, где под ивами у водопада находится ее могила. Содержать это обширное владение стоит довольно дорого, хотя число слуг и сокращено. Но если бы мы разъехались, каждый из нас потратил бы на свое устройство вдвое больше, чем требуется для сохранения общего гнезда. Поверь, друг мой, что переход от богатства к обыкновенному достатку, принудив нас к экономии и бережливости, был большим благом для моей жены, а следовательно, и для меня. Исчезли английские лошади — прекратились и бешеные скачки; зато теперь Эвелина не знает нервных припадков. Туалеты уже не насчитываются дюжинами — и теперь нельзя позволить себе в порыве гнева изорвать платье. У нас уже нет в Париже ни богатого дома, ни ложи в театре, ни роскошных экипажей; таким образом, уже нельзя демонстрировать свое искусство наездницы в Булонском лесу и свои бриллианты в Опере. Все, чего я боялся, от чего у меня мурашки бегали по спине в тот день, когда я, очень влюбленный, но нисколько не уверенный в будущем, вступал в этот брак, все рассеялось, как дурной сон. Теперь я радуюсь и даже немного горжусь, что мой труд прибавляет к достатку, который мне принесла жена, кое-какую роскошь, которой без меня она бы не имела. Да, все у нас очень хорошо, и я чувствую гордость при мысли, что воспитываю девочку, которая не будет богатой наследницей и которой не придется ломать себе руки и ноги, чтобы завоевать бедного мужа. — Да, все хорошо! Но ты ничего не сказал мне о Натали. — И Флавьен внимательно посмотрел на Тьерре, ожидая его ответа с беспокойством и нетерпением. — Бедная Натали! Да простит ей бог, как мы все были вынуждены ее простить. Да, она заставила нас простить ее, друг мой! Было ли то искреннее раскаяние, было ли то возвращение к правде и разуму… а в конце концов одно не бывает без другого, — она искупила свои проступки, насколько могла. Она ухаживала за Олимпией до последнего дня с самоотверженностью, в которой было столько усердия, смирения и упорства, что это походило на одержимость. Не знаю, сколько ночей она провела у ее изголовья. Она была неутомима! Эта странная девушка сделана из железа или из бронзы и способна как на зло, так и на добро. Пусть ей не хватает доброты, но у нее есть воля, и когда логика ума приводит ее к сознанию долга, она напоминает аскетов прежних времен, которые не чувствовали ни голода, ни бессонницы. После смерти Олимпии, видя отчаяние своего отца, она сама впала в глубокое отчаяние. Быть может, она обольщала свою гордость, на этот раз уместную, надеждой возместить ему своими заботами его непоправимую утрату. Дютертр вел себя с ней великолепно. Ни слова, ни взгляда, ни вздоха упрека; но за весь год ни одна улыбка надежды не осветила его лица. Бедная Натали, вероятно, не предвидела (только нежные сердца догадываются об этом), что бывают неизлечимые страдания и вечные сожаления. Она в самом деле не понимала, какое зло причиняет. Увидев, как сразу побелели волосы отца, какие разрушения произвели несколько месяцев в этом могучем и здоровом человеке, наложив на него печать преждевременной старости, она так испугалась, что в свою очередь тяжело заболела. У нее были приступы лихорадки, и во время ее бреда нам показалось, что к угрызениям совести у нее примешалась неутоленная и безнадежная страсть, более благородная, нежели тщеславное желание блистать, более нежная, чем высокомерная гордость; но назвать тебе, Флавьен, имя, которое сорвалось с ее уст, я не могу. Тайну, которую нам выдал бред, мы не можем открыть никому. — Ну, так я ее знаю, — сказал Флавьен, видимо, тронутый. — Это было мое имя. — Господи, откуда ты знаешь? — Не будем пока об этом говорить! Продолжай. Мне очень важно услышать подробности из твоих уст. — Хорошо, я кончаю! Когда Натали оправилась от лихорадки, она стала чахнуть, и это нас испугало. Отец умолил ее поехать за границу, чтобы развлечься, и поручил Натали своей сестре, мадемуазель Элизе Дютертр, которая повезла ее в Италию. Она провела там шесть месяцев и вернулась выздоровевшая, очень красивая, но по-прежнему печальная и мрачная. Впрочем, с нами она ведет себя прекрасно. Она полна внимания и заботы к каждому, полна бескорыстия и благородства во всех своих поступках. По тому, как она торопится принять участие во всех добрых делах, которые предлагает отец, как много и охотно жертвует на эти дела, как предается религиозным размышлениям, не показывая этого; даже по тому, как развился ее талант, озаренный порывами патетического вдохновения, который она теперь не демонстрирует и не скрывает, — по всему этому видно, что она не только решила искупить все, но и сумела победить демона, который в ней гнездился. Я не могу сказать тебе о ней, как об Эвелине: «она добра», но могу сказать: «в ней есть величие». Сам понимаешь, нельзя быть дочерью такого человека, как Дютертр, и не унаследовать от него если не все его добродетели, как Каролина, то хотя бы какую-то одну черту — очарование, как Эвелина, или твердость, как Натали. Но как ты меня слушаешь, Флавьен!.. Что такое ты готовишься мне сказать? Ну, не заставляй меня изнемогать от любопытства! — Тьерре, значит, Натали так и не сказала вам, что я встретил ее в Италии в прошлом году? — Нет. — Так вот! Я был в Риме, в Неаполе, во Франции, в Венеции в то же время, что и она, и мы много виделись в эти четыре месяца. — Значит, ты следовал за ней? — спросил изумленный Тьерре. — Да; сначала для того, чтобы мучить ее, наказывать, мстить, потому что мне она тоже причинила немало зла. А потом… Но не будем забегать вперед. Когда ты написал мне о болезни госпожи Дютертр, об обстоятельствах ее смерти, об отчаянии ее мужа и горе семьи, я прекрасно понял, хоть и старался отогнать эту мысль, что первопричиной этого ужасного несчастья был я. Да, это мой нелепый восторг перед этой женщиной, мое безумное признание а письме к тебе, моя самонадеянность, которую я проявил, поверив, что она оказывает мне тайные знаки внимания, и приняв ее болезненный вид и физическое изнеможение за признаки женской слабости, довели Дютертра до такой ревности, что он на мгновение дурно истолковал приезд его жены сюда и пожелал драться со мной в тот же вечер. Дютертр — слишком страстный человек, он не мог смолчать; над головой бедной Олимпии в тот же день разразилась неминуемая гроза. Эта гроза убила ее — а виной всему было мое письмо, то есть я. Я никогда не утешусь, никогда себе этого не прощу. Я уехал путешествовать, чтобы перестать об этом думать, но так и не перестал. Однажды, именно тогда, когда, погруженный в свои горькие воспоминания, я бродил по Везувию, я лицом к лицу столкнулся с Натали. Во мне вспыхнули ненависть к ней и непобедимое желание отомстить. Для меня она была убийцей, которая выхватила нож из моей неосторожной руки, чтобы погрузить его в грудь своего отца и его жены. Я подошел; я последовал за ней; я наговорил ей в ироническом тоне множество жестоких и горьких слов, которых люди, сопровождавшие ее, не могли понять, но которые доходили до глубины ее души. Однако кротость и терпение ее были неистощимы. Я следовал за ней по пятам; я встречал ее на каждой прогулке. Печальная, всегда одетая в траурное платье, никогда не появлявшаяся в свете, прекрасная той красотой, которая меня сердила, потому что казалась мне ошибкой провидения, она возбуждала в людях уважение и интерес. Меня это возмущало; но из уважения к Дютертру, чье имя Стало для меня священным, я ни с кем о ней не разговаривал. Но во время наших встреч я давал себе волю. Я находил всевозможные предлоги, чтобы увидеться с ней и чтобы ей, ей одной, дать почувствовать, как глубоко я ее ненавижу и презираю. Ее терпение притупило мою жестокость, и однажды, когда мы оказались наедине, она открыла мне свое измученное сердце и рассказала всю свою жизнь с таким красноречием, правдивостью, с силой смирения, что я был покорен. Она не побоялась признаться в своей склонности ко мне и сделала это с таким странным достоинством среди унижения, к которому, как я видел, она себя приговорила, что стала волнующей загадкой для моего ума… сказать ли? и для моего сердца. Да, через три месяца жестокой пытки, которой я ее подвергал, отвечая на ее любовь всевозможными выражениями ненависти, я почувствовал себя утомленным, пристыженным, побежденным. Эта женщина — полная противоположность слабому типу, который я люблю: ибо даже в своем добровольном унижении она оставалась сильной, как львица. Так вот, этот характер пронзил меня своей новизной, своей странностью. Он сулит полный простор моей гордости, моему деспотизму, угождая их потребностям, до сих пор неутоленным, ибо если сладко обладать кротостью, которая отдается, то прекрасно владеть силой, которая сама тебе покорилась. Наконец, по реакции, которую я должен был предвидеть, настолько она была естественна, я стал упрекать себя, у меня появились чувства жалости, уважения, любви к Натали. Я полюбил ее, но так никогда и не сказал ей об этом. Я хотел быть только ее другом. Однако в тот день, когда она уезжала во Францию, в Ниверне, я испытал сильное искушение броситься к ее ногам и попросить прощения. Я устоял; но, мне кажется, она увидела мое волнение, и с этого дня она надеется, она ждет. Я старался забыть ее, но я ее не забыл. Я узнал о том, что Дютертр потерял свое состояние: с этой минуты мое решение было принято. Я причинил ему столько зла! Я обязан по крайней мере дать незапятнанное имя и состояние, которому не угрожает опасность, той его дочери, которую трудно, быть может, невозможно, выдать замуж. Я ждал, но время подтвердило, что Натали переменилась по-настоящему и навсегда. Я только что получил от тебя новое подтверждение этого, и, подобно тому, как когда-то я хотел взять на себя обязанность просить для тебя у Дютертра руки Эвелины, я поручаю тебе сегодня разведать у него, можно ли мне получить руку Натали. — Сама Эвелина, и Амедей, и его жена займутся этим со мною вместе, — воскликнул Тьерре, — потому что моя жена обязана тебе благодарностью и наш общий долг — позаботиться о счастье Натали. Она искупит свою вину, она много страдала, и я знаю, что она любит тебя страстно. Я знаю, что она больше не надеется, что она удручена и смиренно покорилась судьбе. Это последнее испытание. Верь в нее, Флавьен, верь в будущее, она — дочь Дютертра. Дютертр не был удивлен предложением Флавьена. Натали, которая никому не сказала ни слова о том, что встретилась с молодым человеком в Италии, призналась отцу в своей любви и страданиях. Дютертр почувствовал, сколько великодушия было в стремлении Флавьена вернуть немного радости в его семью. Он принял его предложение. Первое время после замужества Натали пожелала жить в замке Мон-Ревеш, не изгоняя оттуда сестру и Тьерре, которых она принимала там с неизменной любезностью. Унылость этого обиталища, казалось, гармонировала со строгим и задумчивым характером ее красоты. Она появилась в свете с мужем, но успех, который она имела благодаря своим царственным манерам и серьезному уму, не вскружил ей голову. Она без труда добилась от мужа согласияпроводить половину года вместе с ней то в Пюи-Вердоне, то в Мон-Ревеше, где ей особенно нравится и где она заботливо ухаживает за старым слугой и старым попугаем канониссы. Ведет она себя примерно и в своей покорности мужу следует, по-видимому, заранее обдуманному плану. Это прекрасное доказательство ее здравого смысла; ибо Флавьен, лучший и добрейший из людей, по-прежнему одержим страстью считать себя господином, и если жена сумеет убедить его, что так оно и есть, она, без сомнения, навсегда сохранит свое господство над ним. Однако она не злоупотребляет своей властью и умеет сделать счастливым отважного, предприимчивого и слабохарактерного человека, все достоинства и недостатки которого ей известны. Она менее счастлива, чем сестры, ибо она не имеет детей. В глубине души она этим удручена и унижена; но муж прощает ей бесплодие за то суровое смирение, с которым она говорит ему: «Бог не благословил мое чрево, я этого не заслужила. Даровав мне вашу любовь, провидение должно было покарать меня за прошлое, иначе в своей милосердии оно перестало бы быть справедливым». Амедей нежно любит и лелеет свою жену. Он находит, что она похожа на Олимпию, но иногда ему кажется, что она еще красивее. Дютертр оправился; но если в сорок лет он казался тридцатилетним, то теперь он выглядит на десять лет старше своего возраста. Он — всеми любимый глава превосходной семьи. Лоб его, по-прежнему не тронутый морщинами, выражает тихую безмятежность, но его взгляд — это взгляд мученика, терпящего пытку жизнью. Каждый день он отправляется к водопаду, чтобы в молчании постоять у могилы жены; но Малютка, которая за ним следит, старается, чтобы он увидел там на ковре из цветов кого-нибудь из ее прелестных детей или ее самое, преклонившую колени под старыми ивами.Комментарии
«Мон-Ревеш»
В 1852 году в газете «Пэи» был напечатан новый роман Жорж Санд «Мон-Ревеш». Творчество Жорж Санд 50-х годов обычно считается менее значительным и интересным, чем произведения, написанные ею в период между революциями 1830 и 1848 годов. «Мон-Ревеш» также не относится к числу наиболее известных ее произведений. Восторженно встретив революцию 1848 года, Жорж Санд, подобно многим своим современникам, тяжело перенесла ее поражение, вызванное предательством буржуазии, пассивностью крестьянства, разногласиями в среде самих революционеров. В декабре 1851 года Луи-Наполеон совершил государственный переворот, и начался период Второй Империи, который Э. Золя назвал «эпохой безумия и позора». Республика пала. Сторонники нового диктатора жестоко расправлялись со своими политическими противниками. Аресты, суды, ссылки стали повседневным явлением французской жизни. Многие друзья Жорж Санд подвергаются преследованиям, да и она сама опасается репрессий. Ей кажется, что она больше никогда не сможет заниматься литературой. Когда Жорж Санд вновь садится за свой письменный стол, она обращается к драматургии. Пьесы для театра ей приходилось писать и раньше, но они не занимали большого места в ее творчестве. За несколько лет, начиная с 1850 года, Жорж Санд создает двенадцать пьес. Частично это переделки ее собственных романов (например, пьесы по романам «Мопра», «Теверино»), но чаще оригинальные произведения («Брак Викторины», «Каникулы Пандольфа», «Демон домашнего очага», «Клоди» и другие). Они идут в «Одеоне», в «Жимназ» и других парижских театрах и пользуются значительным успехом. Затем Жорж Санд снова обращается к роману. В предисловии к «Мон-Ревеш» она пишет, что стремление доказать какой-то тезис противоречит задачам искусства. Это как будто не согласуется о ее прежними эстетическими идеалами. Предисловие было ответом на нападки критики на пьесу «Демон домашнего очага», ситуация которой в известной мере повторяет содержание романа «Мон-Ревеш». В письме, напечатанном в «Пресс», и в предисловии к роману Жорж Санд протестует против того, чтобы взгляды автора отождествляли с высказываниями его персонажей. Из конкретного конфликта того или иного произведения нельзя делать выводы о мировоззрении писателя. Судьба одного человека связана со всей эпохой. Художественное произведение — не просто игра воображения. Оно может и должно иметь большой нравственный смысл, потому что искусство — это не пассивное отражение жизни, а активно действующая сила. Социальные взгляды Жорж Санд в 50-е годы как будто становятся более умеренными, хотя она не перестает верить во французский народ и в будущее своей страны. От открытой тенденциозности и публицистичности романов 40-х годов («Орас», «Странствующий подмастерье», «Мельник из Анжибо», «Пиччинино») она приходит к более камерной тематике. Нельзя не учитывать и жесткие цензурные ограничения, которыми печально известен период Второй Империи. «Мон-Ревеш», конфликты которого решаются в рамках семейных и личных отношений, можно было бы отнести к жанру психологического романа. Его действие ограничено узкими пространственными и временными рамками и небольшим количеством персонажей. Но, излагая частный случай, Жорж Санд всегда затрагивает сложнейшие вопросы современности. В этом романе она говорит о долге человека перед собой и перед обществом, о положении женщины, о воспитании, о буржуазии и аристократии, о Париже и провинции. Все эти проблемы связываются в один узел основным конфликтом романа — вторичной женитьбой Дютертра и влиянием, которое она прямо или косвенно оказала на судьбы всех действующих лиц. Дютертр, великодушный, прямой, искренний, полюбил Олимпию Марсиньяни, женщину умную и прекрасную. Они стремятся создать новый семейный очаг для дочерей Дютертра от первого брака. И все-таки этот дом, в котором могло бы царить полное счастье, оказывается на пороге катастрофы. Только смерть Олимпии, убитой семейными неурядицами, заставляет всех спросить себя — в чем же причина постигшего их несчастья? В ответе на этот вопрос и кроется решение конфликта этого романа. Дютертр добр. Его отношения с людьми строятся на доверии и любви — девиз «любите друг друга» представляется ему основой не только семейных, но и общественных отношений. Жорж Санд восхищается своим героем, но заставляет его потерпеть поражение во всех начинаниях и разочароваться в самых дорогих надеждах. Ошибка Дютертра, или его вина, в том, что он забыл про чувство долга, которое Жорж Санд противопоставляет теперь безумству самой возвышенной, романтической любви. Женившись на Олимпии, Дютертр обрел вторую жизнь и дал большое счастье своей жене. Но, исполнив долг перед собой и перед ней, он не исполнил более важный долг — свои отцовские обязанности. И в этом — одна из причин крушения его семейного счастья. Слепо любя своих дочерей, он был слишком снисходительным отцом, не занимался их воспитанием и не обращал внимания на их полудетские и поначалу невинные капризы и шалости, которые принесли впоследствии такие чудовищные плоды. Для того, чтобы дочери выросли такими же совершенными, как их отец, одной любви оказалось недостаточно. Строгость и даже суровость принесла бы, с точки зрения Жорж Санд, гораздо больше пользы, чем неограниченная свобода, позволившая развиться их дурным склонностям. В отношениях с людьми Дютертр слишком доверяет всему хорошему в них и не замечает плохого. Его рассудок, его способность правильно оценивать события усыплены созданной им самим тепличной атмосферой нежности: Поэтому первое же случайное и нелепое подозрение внезапно вторгается в его сердце, заменив самое преданное восхищение Олимпией недоверием и разочарованием в ней. Ни в чем не разобравшись, он наносит жестокий удар здоровью и жизни своей жены. Характер Дютертра — это еще один вариант недуга современного общества, воплощением которого впоследствии стал Фредерик Моро, герой «Воспитания чувств» Флобера. Неумение рассуждать, послушное следование своим эмоциям, неразумное отношение к жизни — вот что позволило чувству взять верх над рассудком, страсти — над долгом, пассивной доброте — над способностью действовать. Неправильно понимает Дютертр и свой общественный долг. Конечно, не забота о карьере, а стремление принести пользу обществу привело Дютертра в Париж, но сам он признается, что политика внушает ему отвращение. Здесь герой Жорж Санд выражает распространенную после 1848 года точку зрения. Так как долгожданная революция не только не привела к благу, но способствовала возникновению зла, многие современники почувствовали отвращение к «политической кухне», видя в ней средство для удовлетворения личных интересов, не приносящее никакой пользы в общественном плане. Так казалось и Флоберу, и Гонкурам, и Золя. Какова же арена общественной деятельности, которую Жорж Санд оставляет своему герою? Бывший промышленник, Дютертр начинает заниматься сельским хозяйством не ради выгоды, а потому, что он по своему духовному складу художник и поэт, го есть ощущает великое единство природы, восхищаясь ее мощью и ее вечными силами. Его влечет к естественным, простым занятиям, исконно свойственным человеку. В этом смысле Жорж Санд и называет его лучшим представителем современного общества, сочетающим естественность и прямоту «дикаря» с высокими гуманистическими идеалами, выработанными человечеством. Разочаровавшись в социальных теориях, которые не принесли пользы обществу, потому что не были основаны на положительном знании, Жорж Санд обращается к естественным наукам как к способу познания действительности. Пантеизм, как она его понимает — это борьба против зла, эгоизма и несправедливости, которых не знает природа. Таким образом, и общественный долг Дютертра не в том, чтобы произносить в палате депутатов пустые фразы о счастье человечества, а в том, чтобы, используя свои технические и научные знания, преобразовывать природу, приносить добро окружающим его людям, оставаться товарищем я братом рабочих, которые отвечали бы ему уважением и благодарностью. Таковы в этот период представления Жорж Санд об общественном долге, противопоставленные анархическому бунтарству 30-х годов. Изменяется и понимание женского вопроса. Представители так называемой «школы здравого смысла» прославляют семейный очаг, добродетели женщины-хозяйки, противопоставляя ее свободомыслящей «роковой» женщине, разрушающей благополучный буржуазный брак. В пьесах А. Дюма-сына («Идеи госпожи Обрей»), Э. Ожье («Габриэль», «Бедные львицы), О. Фейе («История Сибиллы») речь идет о воспитании молодых девушек, которое должно учить их истинному призванию — быть верной женой и доброй хозяйкой дома. Еще в 40-е годы Жорж Санд отказалась от прославления «великого» человека, стоящего выше среды. Но во всех своих романах она говорит о праве женщины самой решать свою судьбу, о ее праве на свободу чувства. Ее героиня всегда оказывается носительницей светлого и прогрессивного начала. Вместе с тем, отвергая эгоистические страсти и поиски свободы за чужой счет, Жорж Санд приходит к своеобразному антифеминизму. В двух старших дочерях Дютертра, Натали и Эвелине, она дает два образца эмансипированной женщины. Не случайно злобный характер одной и сумасбродство другой сокрушают семейный покой Дютертра[203]. Натали — существо гордое, холодное и завистливое. Однако дело не только в скверном характере. В разговоре с отцом она объясняет свою жизненную программу. Она требует самостоятельности, права устраивать свою жизнь. Ей хочется не подчиняться, а властвовать. Это приводит в ужас Дютертра, которому такие ее стремления кажутся чудовищными и противоестественными. Эвелина, по натуре добрая и не наделенная силой характера своей сестры, тоже по-своему стремится к независимости, которая проявляется у нее как капризы избалованного ребенка. Они не принадлежат к аристократии по рождению, но «новая аристократия» — богатые буржуа — восприняла многие пороки представителей высшего класса. Вместо того чтобы позволить дочерям свободно развиваться в соответствии с их задатками, Дютертр должен был, по мнению Жорж Санд, обуздать взбалмошность Эвелины и сломить вольнолюбивый дух Натали. Двум старшим сестрам противопоставлены младшая — Малютка (Каролина) — и их мачеха Олимпия. Они не стремятся прежде всего утвердить себя и свою свободу. Их первое желание — исполнить свой долг по отношению к другим, их главная потребность — давать счастье окружающим, а не требовать его для себя, их основная черта — инстинкт терпеливого и кроткого материнства, который выдвигается теперь Жорж Санд как святая обязанность и подлинная добродетель женщины. Жорж Санд много размышляет о роли различных классов в историческом процессе. Аристократ по происхождению в романе один — граф Флавьен де Сож. Флавьен неглуп, даже по-своему добр, но это светский человек, парижская жизнь внушила ему чувство ложной гордости. Тщеславие руководит многими его поступками, и он оказывается косвенным виновником бед Дютертра. Париж развратил не только Флавьена. Писатель Тьерре, сын провинциального адвоката, небогатый и гордый, обладает умом, знаниями, талантом. Но общение с пресыщенными и испорченными людьми делает его мелочно подозрительным. Обладая чистым сердцем, прямым и искренним характером, Тьерре из боязни насмешек прикидывается холодным скептиком. Едва не потеряв Эвелину вследствие недоверия к ней, а прежде всего к самому себе, Тьерре меняется под благотворным воздействием сельской жизни в общения с естественными людьми. Носителями положительных идеалов выступают буржуа Дютертр, Олимпия, Каролина, названная «буржуазкой в хорошем и серьезном смысле слова». Ее союз с Амедеем, основанный на сходстве характеров и мировоззрений, — пример для окружающих; смерть Олимпии и чувство вины заставляют Натали смириться с сельской жизнью; потеря состояния, любовь к Тьерре и рождение ребенка помогают Эвелине забыть о светских мечтах и стать примерной женой и матерью; Тьерре находит свое счастье в благополучном буржуазном браке. Именно такой брак, основанный на добродетельной любви и верно понятом чувстве долга, умеренность и труд на лоне природы Жорж Санд противопоставляет скептическому Парижу, развращенному свету и политическим интригам Второй Империи. В России роман под названием «Замок Мон-Ревеш» выходил дважды: в 1835 году в «Современнике» и в следующем году отдельной книгой. В советское время публикуется впервые.А. Владимирова.
Жорж Санд Нанон


I
В нынешнем тысяча восемьсот пятидесятом году, уже вступив в преклонный возраст, принимаюсь я писать о днях моей юности. Не к себе стремлюсь я привлечь внимание, нет, цель у меня иная: я хочу сберечь для детей и внуков дорогую мне, священную память о человеке, который был моим мужем. Сумею ли я хорошо написать — не знаю, ведь в двенадцать лет я не знала даже грамоте. Напишу как сумею. Я начну с событий очень давних и попытаюсь припомнить самые первые мои впечатления. Как у всех детей, чей ум не был развит воспитанием, они у меня очень смутны. Знаю, что родилась я в 1775 году, что пяти лет от роду лишилась отца и матери; я даже не могу припомнить их лица. Оба они умерли от оспы, я тоже чуть было не умерла от этой болезни — оспопрививание к нам еще не проникло. Меня вырастил мой двоюродный дед, он был вдов и воспитывал двух родных своих внуков, чуть постарше меня и тоже сирот. В нашем приходе мы были из самых бедных. И все же мы не христарадничали: дедушка ходил еще на поденщину, оба его внука уже начали зарабатывать; но у нас не было ни клочка земли, и нам с великим трудом удавалось выплачивать аренду за жалкий домишко, крытый соломой, и за огородик, где почти ничего не росло, потому что соседские каштаны его затеняли. На наше счастье, каштаны падали к нам, а мы помогали им падать; да и что в этом было худого — ведь разлапистые ветви нависали над нашими грядками и губили нам репу. Дедушка — все звали его Жан Утес — был, несмотря на бедность, человеком великой честности, и когда его внуки залезали в чужие сады и огороды, бранил их и строго наказывал. Он говорил, что любит меня больше, чем их, оттого что я не зарюсь на чужое. Он требовал, чтобы я относилась ко всем уважительно, и научил меня молиться. Суровый и в то же время очень добрый, он, случалось, оставшись дома в воскресный день, даже ласкал меня. Вот и все, что я могу припомнить до той минуты, когда мой детский ум пробудился благодаря обстоятельству, на первый взгляд совершенно пустячному, но для меня необычайно значительному и послужившему как бы отправной точкой моего дальнейшего существования. В один прекрасный день дедушка поставил меня перед собой, зажал между колен, влепил мне хорошую пощечину и сказал: — Слушай, да повнимательней, что я тебе, малышка Нанетта, сейчас скажу. Не реви. Я тебя ударил, но вовсе не потому, что на тебя сержусь: напротив, только потому и ударил, что забочусь о тебе. Я утерла слезы, подавила рыдания и стала слушать. — Тебе уже одиннадцать сравнялось, — заговорил снова дедушка, — а ведь ты еще никакой работы, кроме как по дому, не знаешь. Ты в этом не виновата, у самих у нас ничего нет, а идти на поденщину тебе не под силу. Другие дети ходят за скотиной, пасут ее на общинном выгоне, а нам купить скотину все было не по карману; но вот мне удалось скопить кое-что, и я собираюсь пойти сегодня на базар и купить овцу. Ты должна поклясться именем господа бога нашего, что станешь о ней заботиться. Если ты не заморишь ее голодом, и не потеряешь, и будешь содержать в чистоте хлев, то овца станет гладкой и красивой и принесет доход, и на эти деньги в будущем году я куплю двух овец, а еще через год — четырех; вот тогда ты сможешь гордиться собой, ты увидишь, что у тебя не меньше ума-разума, чем у других девочек, которые помогают своим семьям. Поняла меня? Станешь делать, как я говорю? Я была так взволнована, что и ответить толком не смогла, но дедушка почувствовал, что я очень хочу ему угодить, и отправился на базар, сказав мне, что вернется еще до захода солнца. Тут я впервые ощутила, как тянется день, и уразумела смысл и значение своей работы. Кое-что я уже умела делать: подметала полы, прибирала в доме, пекла каштаны, но притом совсем не думала, что я делаю и кто меня этому научил. В тот день я обратила внимание на то, что к нам пришла Мариотта, наша соседку, жившая в большем достатке, чем мы; должно быть, она и вырастила меня, потому что я видела ее всякий день у нас, но никогда не задумывалась, почему это она заботится о нашем бедном хозяйстве и обо мне. Я рассказала ей все, что услышала от дедушки, а потом стала расспрашивать и поняла, что ведет она наше хозяйство как бы за ту работу, которую мой дедушка делает для нее: выкашивает ей луг и вскапывает огород. Мариотта была женщина достойная и добрая. Должно быть, она давным-давно начала учить и наставлять меня, и я во всем ее слушалась, но только теперь ее слова стали доходить до моего сознания. — Наконец-то твой дедушка решился купить скотину! Я уже с каких пор толкую ему про это. Будут у вас овцы, будет и шерсть; я научу тебя промывать ее, прясть и красить в синий или черный цвет; и когда будешь ходить вместе с другими девочками пасти овец, ты научишься вязать и уж как ты будешь гордиться, когда свяжешь носки дядюшке Жану, ведь бедняга ходит, почитай, ползимы все равно что босой, такие рваные у него чулки, а мне одной со всем не управиться. Обзаведись вы еще и козой, у вас было б молоко. Видала, как я делаю сыр? Вот и ты бы научилась. Что ж, будем и впредь надеяться на лучшее. Ты девочка чистоплотная, разумная, одежка у тебя не бог весть какая, но ты бережешь ее. Вот и поможешь дядюшке Жану выбиться из нужды. Ты много ему задолжала, ведь он впал в еще большую нищету с тех пор, как посадил тебя себе на шею. Мариотта своими похвалами и ободрениями глубоко затронула мое сердце. Во мне проснулось самолюбие, и мне показалось, что со вчерашнего дня я выросла на целую голову. Была суббота, а по субботним ужинам и воскресным завтракам мы лакомились хлебом. В другие дни мы, как и все бедняки в этой провинции, в Марше, пробавлялись каштанами да жиденькой гречневой похлебкой. Я рассказываю о временах давних, шел, должно быть, тысяча семьсот восемьдесят седьмой год. Тогда многие семьи жили так же худо, как и мы. Нынче бедняки все же едят получше. Повсюду проложены дороги, и крестьяне могут сбывать свои товары и получать за каштаны хоть малость пшеницы. В субботу вечером дедушка всегда приносил с базара каравай ржаного хлеба и кусочек масла. Я решила сама сготовить ему ужин и попросила Мариотту хорошенько объяснить мне, как она его стряпает. Я сбегала на огород, надергала овощей и тщательно вычистила их своим тупым ножичком. Мариотта, видя, как ловко я их чищу, в первый раз дала мне свой нож, который прежде запрещала трогать из боязни, как бы я не порезалась. Жак, старший из моих двоюродных братьев, пришел с базара раньше деда; он принес хлеб, масло и соль. Мариотта ушла, и я взялась за работу. Жак очень потешался над моим тщеславным желанием самой сготовить похлебку на ужин и твердил, что ее и в рот нельзя будет взять. Сварить похлебку стало для меня делом чести; к счастью, она всем пришлась по вкусу, и меня даже похвалили. — Ну, коли ты и впрямь стала хозяйкой в доме, — сказал дедушка, отведав похлебки, — значит, будет тебе и радость по заслугам. Пойдем-ка со мною, встретим твоего младшего брата, он взялся привести ярочку и должен с минуты на минуту прийти. Овца, о которой я так мечтала, оказалась всего-навсего ягненком, да к тому же, надо думать, никудышным, ибо он стоил всего три ливра. Но мне эти три ливра представлялись огромными деньгами, а потому и овечка обрела в моих глазах дивную красоту. Конечно, с самого рождения я видела предостаточно других овец и могла сравнить с ними свою; однако мне и в голову не приходило заглядываться на чужих овец; моя овечка мне так понравилась, что я вообразила, будто владею самой прекрасной животинкой на свете. Глаза ее помнятся мне до сих пор. Мне казалось, что овечка глядит на меня с любовью и преданностью, и когда она взяла с моей ладошки сочные листья и очистки, которые я сберегла для нее, мне стоило немалого труда сдержаться и не закричать от радости. — Дедушка, послушай-ка, — заговорила я, пораженная мыслью, которая прежде не приходила мне в голову, — вот у нас и овца есть, чудесная овечка, а хлева для нее нет! — Хлев мы поставим завтра, — отвечал он, — а пока овца пусть поспит у нас в углу. Сегодня ей не очень-то хочется есть, она устала с дороги. Как рассветет, ты веди ее вниз по горной тропе, там есть трава, и овца досыта наестся. Ждать до утра, чтобы покормить Розетту (так я окрестила овечку), было слишком долго. Мне разрешили, пока не стемнело, пройти вдоль живых изгородей и «собрать корм». Я брала в руку веточку молоденького вяза или лещины, пропускала ее сквозь пальцы, собирала листья в передник. Стало совсем темно, я в кровь исцарапала руки о колючки, но не чувствовала боли и ничего не боялась, хотя мне еще никогда не случалось выходить из дому одной после захода солнца. Когда я вернулась, все уже спали, не обращая внимания на блеянье Розетты, которая, должно быть, скучала в одиночестве, вспоминая о своих товарках. Она чувствовала себя «не на месте», как говорили у нас, то есть чужачкой. Розетта не хотела ни есть, ни пить. Это меня очень беспокоило и огорчало. Но наутро, пощипав свежей травы, она приободрилась. Я хотела, чтобы дедушка поскорее соорудил для нее пристанище, где она могла бы лежать на подстилке, и сразу же после мессы побежала на общинный выпас нарезать папоротника. Не я одна была такой прыткой — почти весь папоротник был уже срезан; к счастью, для одной овцы не много и нужно. Но дедушка мой, уже не очень-то расторопный, только еще взялся за постройку, и я должна была помогать ему месить глину. Жак приволок большие плоские камни, ветки, куски дерна и огромную охапку дрока; к вечеру стены овина были возведены и крыша покрыта. Дверка была такая узенькая и низкая, что только я одна и могла в нее пройти, да и то сильно пригнувшись. — Видишь, — сказал мне дедушка, — овца теперь и впрямь твоя, потому как никто, кроме тебя, к ней и войти не сможет. Забудешь приготовить ей подстилку, нарезать травы днем, напоить на ночь, она заболеет и подохнет, и ты же первая станешь по ней плакать. — Вот уж чего можно не бояться! — гордо отвечала я, и в эту минуту я ощутила себя самостоятельной личностью. У меня было занятие, долг, собственность, цель, я несла ответственность за кого-то и — да позволено мне будет так выразиться, хотя речь идет всего лишь об овце — испытывала поистине материнские чувства. Вне всяких сомнений, я была рождена, чтобы за кем-то ухаживать, иначе говоря — кому-то служить, кого-то опекать, пусть даже это было бессловесное животное, и с той минуты я и проснулась к жизни. Сперва хлев Розетты очень мне нравился; но вскоре, услышав разговоры о том, что волки, которыми кишели наши леса, бродят чуть ли не под окнами, я уже не могла спать спокойно, непрестанно воображая, будто слышу, как они скребутся и стараются прогрызть лаз в убогий приют Розетты. Дедушка потешался надо мной, уверяя, что волки никогда на это не осмелятся. Я же продолжала стоять на своем, и он укрепил стены строеньица камнями потяжелее, а на крышу для большей надежности положил толстые ветви и скрепил их. Всю осень я хлопотала вокруг моей овцы. Наступила зима, в особенно морозные ночи Розетту приходилось брать в дом. Дедушка любил чистоту и, не в пример тогдашним крестьянам, охотно державшим скотину, даже свиней, в доме, не переносил шедшей от нее вони и сперва не хотел терпеть овцу у себя под боком. Но я содержала Розетту в такой чистоте, так часто меняла ей подстилку, что дедушка перестал противиться моей причуде. Надобно сказать, что, привязавшись к Розетте, я стала лучше исполнять другие мои обязанности. Мне хотелось во всем угодить дедушке и братьям, чтобы у них уже не хватило мужества отказать мне, если я попрошу о чем-нибудь для моей овечки. Я сама вела все наше хозяйство, сама стряпала. Мариотта помогала мне делать лишь черную работу. Ставить заплаты и стирать я научилась быстро. С собою в луга я брала какое-нибудь шитье и привыкла делать два дела зараз, потому что, даже орудуя иглой, не забывала приглядывать за Розеттой. Меня можно было бы и в самом деле назвать добрым пастырем. Я не оставляла Розетту подолгу на одном месте и, чтобы она ела в охотку, не позволяла ей выщипывать всю траву, а потихоньку прогуливала ее, выбирая под пастбище зеленеющие обочины дороги; овцы не больно-то умны, приходится с этим согласиться, они щиплют траву там, куда их приведут, и не переходят на другое место, пока не выедят все до самой земли. Это как раз о них можно сказать, что они ничего дальше собственного носа не видят, а все потому, что им лень смотреть. Возвращаясь с Розеттой домой, я никогда не гнала ее по дороге, над которой вздымались клубы пыли, поднятые проходящим стадом: я заметила, что, наглотавшись этой пыли, Розетта кашляет, а мне было известно, что у ягнят слабая грудь. Я следила и за тем, чтобы в подстилку не попадали зловредные травы вроде овсюга, зрелые зерна которого, попав в ноздри и глаза, вызывают воспаления и язвы. Из-за этого я всякий день умывала Розетту, а заодно приучилась и сама умываться и содержать себя в чистоте, чему меня никто не учил и что представлялось мне, весьма справедливо, столь же надобным для здоровья людей, как и животных. День ото дня все более деятельная, чувствуя, что я нужна моим близким, я начала заботиться о своем здоровье и очень скоро стала крепкой и неутомимой в работе, хотя на вид была щуплая и худенькая. Не думайте, что моим рассказам об овце уже конец. Выше я говорила, что любовь к ней решила всю мою судьбу. Но, чтобы вам были понятны последующие события, сейчас самое время рассказать о нашем приходе и о его жителях. Нас было не больше двухсот душ, или, если сказать иначе, каких-нибудь полсотни очагов, разбросанных на протяжении полулье по узкому ущелью, ибо жили мы в гористой местности; с середины ущелье расширялось, образуя прелестную долину, в которой раскинулся Валькрёзский монастырь со всеми своими угодьями. Монастырские здания были обширны, добротной постройки, кругом шли высокие стены со сторожевыми башнями и с воротами под сводчатыми арками. Церковь была старинная, маленькая, но очень высокая и довольно богато убранная. Чтобы попасть в нее, надо было пройти большим двором, по обе его стороны и в глубине виднелись красивые строения: трапезная, зала капитула, кельи для двенадцати монахов, а кроме того, конюшни, хлевы, риги, сараи, где хранился всевозможный инструмент; ибо монахи владели почти всей землей в нашем приходе, а обрабатывали для них эту землю и снимали урожай барщинные крестьяне, которым братья за а недорогую цену сдавали в аренду жилища: все дома в приходе были собственностью монастыря. Несмотря на огромные богатства, монахи Валькрёзского монастыря совсем обезденежели. Странно, но люди, у которых нет семьи, не умеют извлекать пользу из своего добра. Я знавала старых холостяков, которые, отказывая себе во всем, скопили кучу золота, а умерли, даже и не подумав составить завещание, словно бы никогда не любили ни самих себя, ни своих ближних. Знавала я и таких, которые позволяли обирать себя не по доброте, а ради собственного душевного покоя; но ни у кого эта черта не проявлялась так отчетливо, как у наших монахов: уверяю вас, у них и в мыслях не было хоть как-нибудь улучшить свое хозяйство. Они не думали ни о семье, ибо не имели права ею обзаводиться, ни о будущем своей общины: оно их вовсе не заботило. Не более заботило этих монахов и плодородие их земли и тот уход, который ей требовался. Они жили, не думая о завтрашнем дне, словно путники на привале; засевали одни и те же участки, забывали о других, истощая тем самым почву, которая им приглянулась, пренебрегая той, за которой не могли или не умели ухаживать. В долине были большие пруды, монахи прекрасно могли бы их осушить и потом засеять землю, но тогда рыбу в пост пришлось бы покупать, меж тем им казалось, что удобней ловить ее в своих собственных владениях. Они были ленивы, рубили только ближние леса, а остальные постепенно гибли. Их обирали, а ведь они могли бы оказать добрую услугу нашей голытьбе, приучив ее к честности, ежели бы нетерпимо относились к лени, которая и порождает воровство. Но монахи были слишком нерадивы либо слишком робки и помалкивали. Надобно вам все же сказать, что и времена наступали такие, что монахам было не так-то просто снискать уважение, в Казалось бы, у нас, местных жителей, нет причин жаловаться на этих людей, которые в большинстве своем были ни злыми, ни добрыми, даже и хотели бы творить добро, но не знали, как за это приняться. И все равно, какими бы покладистыми они ни были, крестьяне на них жаловались, не хотели их больше терпеть, не почитали их, более того — относились к ним презрительно. Крестьянам вообще свойственно не уважать людей, которые плохо управляются со своими делами. Я-то знаю, как смотрит на жизнь крестьянин, потому что сама из крестьянской семьи. Превыше всего он почитает землю — свою кормилицу. И в тот ничтожный клочок, которым владеет, он вкладывает всю душу; к той же земле, которой владеют другие, он вожделеет, и отойдет она к нему или нет, все равно он ее чтит, полагая, что только через нее снисходит к нему милость господня, которую он может увидеть, о деньгах крестьянин во времена моей юности не очень заботился. Он не знал, что с ними делать. Трястись над ними, пускать их в оборот, чтобы деньги шли к деньгам, — этой наукой владели буржуа. Для нас же, для тех, кто жил обменом — с одной стороны труд, с другой — товар, — деньги не были заветной мечтой. Их так редко видали в глаза, так редко держали в руках, что о них и не помышляли; все думы были о том, как бы приобрести в собственность какой-нибудь там луг или лесок, как бы обзавестись садом и огородом. При этом говорили: «На это имеют право лишь те, что работают и рожают детей». Сдерживало крестьян только благочестие, но оно уже не сдерживало буржуа и давным-давно стало посмешищем для аристократии. В монастыри не посылали даров, не делали вкладов, им не завещали имущества; младшие дети из знатных семей только в самых редких случаях шли теперь в монастырь; капитал не обновлялся, поместья приходили в упадок. Церковь теперь не влекла к себе людей, когда она требовала от них денег; приятнее было стать аббатом и самому получать их. И в Валькрёзском монастыре было шесть монахов вместо двенадцати, а позднее, перед роспуском общины, их оставалось там всего трое. Возвращаюсь теперь — не скажу «к моим баранам», потому как у меня была только одна овца! — а к моей милой Розетте. Наступило лето, трава почти вся выгорела, она не росла даже на склонах, и я не знала, что мне придумать, как прокормить Розетту. Мне приходилось забираться далеко в горы, я боялась волков. Дождей все не было. Розетта тощала, я впадала в отчаяние. Дедушка Жан, видя, как я убиваюсь, не упрекал меня, но был недоволен, что вложил свои деньги, свои три турнуазских ливра, в дело, которое требовало стольких трудов и обещало так мало выгоды. И вот, когда я как-то раз шла вдоль принадлежащего монастырю лужка, густо поросшего травой и еще зеленого, потому что через него протекала речка, Розетта остановилась у изгороди и заблеяла так жалобно, что у меня от горя и жалости помутилось в голове. Калитка была не заперта, даже неплотно притворена, и Розетте ничего не стоило просунуть голову, потом туловище и ловко проскользнуть на лужок. Сперва я пришла в ужас — овца пролезла на огороженный участок, куда не было ходу мне — мне, существу разумному, сознающему, что она — бедная невинная овечка! — не имела права этого делать. К тому времени я уже начала понимать, что такое чистая совесть, и немного гордилась собой — ведь я никогда не совершала набегов на чужую собственность, за что меня хвалил дедушка и уважали двоюродные братья, которые отнюдь не были столь щепетильны. Я спрашивала себя, не следует ли мне заставить Розетту подчиниться моим нравственным убеждениям, которые у нее явно отсутствовали. Я звала ее, но она притворялась глухой и ела с жадностью. А какой счастливой она выглядела! Я снова и снова звала ее вплоть до того мгновения, того счастливого (должна в этом признаться!) мгновения, когда вдруг увидела по ту сторону изгороди юное и кроткое лицо послушника, который смеясь глядел на меня.II
Мне стало очень стыдно: ведь мальчик наверняка смеялся надо мной, а я, надо думать, была очень самолюбива, потому что не смогла сдержаться и расплакалась, — так непереносим был этот стыд. Монашек удивился и заговорил со мной голосом столь же кротким, как его лицо: — Ты плачешь, малышка? Какое же у тебя горе приключилось? — Плачу я из-за моей овечки, — отвечала я. — Она забралась на ваш луг. — Ну, тут она не потеряется. Раз она ест, значит довольна. — Она-то довольна, я понимаю, но только я на нее сердита — ведь она занимается грабежом. — Как это — «занимается грабежом»? — Ест чужое добро. — Чужое добро! Ты сама не знаешь, малышка, что говоришь. Достояние монахов принадлежит всем людям на свете. — Выходит, этот луг уже не монастырский? А я и не знала. — Ты не верующая? — Что вы! Каждый день читаю молитву. — Ну, раз так, значит, ты каждое утро просишь у бога хлеб твой насущный, а церковь наша богата и должна подавать всем, кто просит господним именем. Ежели она не станет служить делам милосердия, зачем же она тогда надобна? Я слушала разиня рот, не понимая, о чем он говорит: хотя валькрёзские монахи были не такие уж дурные люди, все же они пытались, как могли, защищать свое добро от расхищения, и был у них один такой монах — брат Фрюктюё, выполнявший обязанности эконома, который всякий раз, застав потравщиков на месте преступления, поднимал громкий крик и грозил страшными карами. С прутом в руках он гнался за ними, — правда, не очень далеко, потому что был слишком толстый, чтобы бегать быстро, — но все же его боялись и говорили, что он человек злой, хоть он никогда и мухи не обидел. Я спросила у юноши, стерпит ли отец Фрюктюё, когда моя овца будет щипать его траву. — Про это я ничего не знаю, — ответил тот, — знаю только, что трава эта не его. — А чья же? — Господня. Ведь это господь растит ее на потребу всякой животине. Не веришь? — Чего не знаю, того не знаю. Но только ваши слова мне очень на руку! Если бы бедняжка Розетта могла малость подкормиться у вас в этакую-то засуху, вы уж поверьте, лентяйкой я от этого не стала бы. Поднимется в горах трава, и я снова стану ее туда водить, правду вам говорю. — Ладно, оставь ее тут и приходи за ней вечером. — Вечером? Ой, нет, что вы! Увидят ее монахи и заберут, а дедушке придется идти вызволять ее, да еще упреки терпеть: он станет меня бранить и скажет, что я такая же дрянь, как и другие, а уж обиднее этого ничего для меня нет. — Вижу, что воспитали тебя хорошо. А где он живет, твой дедушка? — Вон там, повыше, самый маленький домик на полдороге к ущелью. Видите? Да вон он, подле тех трех толстых каштанов. — Ну ладно, как твоя овечка наестся, я ее приведу. — А вдруг монахи станут вас бранить? — Они не станут меня бранить. Я им объясню, в чем заключается их долг. — Вы у них учителем? — Я? Вовсе нет. Я всего лишь ученик. Меня поручили им, чтобы они наставили меня и подготовили к постригу, когда я войду в возраст. — А когда вы войдете в возраст? — Года через два-три. Мне скоро шестнадцать. — Значит, вы, как говорится, послушник? — Еще нет, я здесь всего два дня. — Должно быть, потому я вас никогда не видела. А из каких мест вы будете? — Я здешний; ты слыхала о семействе и о замке Франквиль? — Честное слово, не слыхала. Я только и знаю, что Валькрё. Ваши родители, верно, совсем бедные, коли отослали вас от себя? — Мои родители очень богаты, но нас, детей, у них трое, а делить имущество они не хотят, берегут для старшего сына. За нас с сестрой внесут только вклады, чтобы каждый из нас вступил в предназначенную ему обитель. — А сколько ей лет, вашей сестре? — Одиннадцать, а тебе? — Еще тринадцати не сравнялось. — О, да ты рослая, сестра на целую голову ниже тебя. — Вы, видно, любите сестру? — Только ее я и люблю. — Что вы! А отца с матерью? — Я их едва знаю. — А брата? — Еще меньше. — Как же так получилось? — Родители хотели, чтобы мы с сестрой жили в деревне, а сами приезжали туда не часто, они с моим старшим братом живут в Париже. Но ты, должно быть, не слыхала про Париж, если и про Франквиль не знаешь. — Париж — это где король? — Верно. — Ваши родные живут у короля? — Да, они служат в его доме. — Они королевские слуги? — Они придворные; но ты ничего во всем этом не поймешь, и тебе это не интересно. Расскажи-ка лучше про овцу. Она тебя слушается, когда ты ее зовешь? — Не очень-то, если голодная, вот как сегодня. — Значит, если я захочу отвести ее к тебе, она и меня не послушается? — Очень может статься. Лучше я подожду, раз уж вы согласны потерпеть ее немножко у себя. — У меня? У меня ничего своего нет и никогда не будет. Меня вырастили в этой мысли: ничто не должно мне принадлежать, и ты с твоей овечкой богаче меня. — Вам обидно, что у вас ничего нет? — Нисколько не обидно. Я рад, что не стану страдать из-за вещей тленных. — Тленных? А ведь верно, моя овца может подохнуть и истлеть. — А живая она тебе много хлопот доставляет? — Конечно, много, но ведь я ее люблю, и мне не трудно заботиться о ней. А вы, значит, никого не любите? — Я всех люблю. — Кроме овец? — Як ним ни добрых, ни злых чувств не питаю. — А ведь они такие славные. Может, вы любите собак? — У меня был пес, и я его любил. Но взять его сюда мне не разрешили. — Вам, наверно, грустно жить вдали от дома, под началом у чужих? Он удивленно взглянул на меня, как будто такая мысль ни разу не приходила ему в голову, потом ответил: — Меня ничто не должно печалить. Мне всегда твердили: «Ни во что не вмешивайтесь, ни к чему не привязывайтесь, научитесь ко всему относиться бесстрастно. Это ваш долг, и лишь в исполнении его вы обретете счастье». — Вот забавно! Мой дедушка тоже все мне о долге твердит: только он говорит, будто мой долг — ни минутки не сидеть сложа руки, хорошо хозяйничать и все делать с душой. Видно, детям бедняков про долг говорят одно, а детям богатых — совсем другое. — Нет! Это говорят тем детям, которые должны вступить в монастырь. Но уже скоро вечерня начнется, мне пора в церковь. Ты уведешь овечку, когда захочешь, а если вздумаешь привести ее завтра… — О, я не осмелюсь! — Можешь ее приводить, я скажу об этом отцу эконому. — Он сделает, как вы захотите? — Он очень добрый и не откажет мне. Юноша ушел, и я видела, как он садами, под звон колоколов, возвращался в монастырь. Я позволила Розетте еще немного пощипать траву, потом покликала ее и отвела домой. С того самого дня я очень отчетливо помню все, что со мною случилось в жизни. Сперва я не очень-то раздумывала о моей встрече с молодым монашком. Меня поглощала радостная мысль о том, что он, может статься, добудет мне позволение приводить иной раз мою Розетту на монастырский луг. Я удовольствовалась бы малым. Дедушка во всем подавал мне пример учтивости и воздержанности, так что скромность вошла у меня в плоть и кровь. Я не была словоохотлива, мои двоюродные братья, большие насмешники, отнюдь не поощряли меня к болтовне, но позволение пасти овцу на том лугу так засело у меня в голове, что я рассказала вечером за столом все, только что рассказанное вам, да с такой точностью, что даже привлекла внимание дедушки. — Ага, — сказал он, — значит, это франквильского молодого барина привезли они в монастырь в понедельник вечером — мы покамест его еще не видели. Младший отпрыск славного рода — вот как это говорится. А вы, ребята, бывали во Франквиле? Ну и поместье! — Я проходил разок теми местами, — сказал тот из моих братьев, что был помоложе. — Далеко это, в сторону Сент-Леонара, того, что в Лимузене. — Ну уж, двенадцать лье — не так и далеко, — отвечал Жак со смехом. — Я там тоже побывал однажды, когда валькрёзскому настоятелю понадобилось доставить туда письмо — он даже велел дать мне монастырскую ослицу, только бы я побыстрее добрался. Видать, дело было срочное, не очень-то охотно он дает ее, эту своюбольшую ослицу. — Неуч ты! — возразил ему дедушка. — Кого ты величаешь ослицей — это лошачиха. — Да не все ли равно, дедушка! Меня провели в кухню, и я говорил с управляющим, звать его господин Премель. А еще видел я молодого барина, и теперь понимаю — письмо это было послано, чтобы поскорей это дело обтяпать. — Его обтяпали еще до того, как молодой барин на свет появился, — возразил мой дедушка. — Только и ждали, чтобы он в возраст вошел. Была у меня племянница, она этой малышке, что тут сидит, матерью приходилась. Теперь-то она на том свете; так вот, моя племянница служила скотницей как раз в замке, о котором речь. Я очень даже хорошо могу рассказать обо всех делах этого семейства. У них земли ни мало ни много на добрых двести тысяч экю, и земли стоящие, доход хороший дают. И присмотрены, не в забросе, как у наших монахов. Тот, кто у них всем ведает, — они его управителем зовут — человек опытный и очень строгий, но таким он и быть должен, ежели взялся управлять большим поместьем. Пьер заметил, что не видит проку в богатстве, когда двое детей из троих остаются ни при чем. И в соответствии с новыми веяниями, что начинали проникать даже в наши бедные хижины, он осудил тех аристократов, которые все еще обделяют своих младших детей. Дедушка мой был крестьянин старой закваски; он вступился за право первородства, сказав, что ежели поступать иначе, так ни одного крупного поместья не останется. Немного поспорили. Пьер был вспыльчив, он даже повысил голос в споре с дедом и в конце концов заявил: — К счастью, беднякам делить нечего; вот тут сидит мой старший брат, и я его крепко люблю, а уж как ненавидел бы, ежели бы знал, что хоть семья наша не безземельная, а мне все равно ничего не достанется. — Вы сами неведомо что несете, — отвечал старик, — так только голодранцы и рассуждают, а у аристократов понятия возвышенные, они о своем величии радеют, и младшие за честь почитают пожертвовать собою, чтобы род их сохранил все свои титулы и богатства. Я спросила, что это значит — «пожертвовать собою». — Ты еще чересчур мала, чтобы понимать такие вещи, — ответил мой дедушка. И пошел спать, тихонько бормоча молитву. Я все твердила эти новые для меня слова «пожертвовать собою», и Пьер, который любил строить из себя всезнайку, сказал мне: — А я знаю, что хотел сказать дедушка. Пусть он защищает монахов, пусть они богатые и бездельничают в свое удовольствие, все равно всем известно, что нет людей несчастней, чем они. — А почему они несчастные? — Потому что их презирают, — ответил Жак, пожимая плечами. И тоже отправился спать. Я потихоньку убрала со стола, стараясь не разбудить уже похрапывавшего дедушку, потом немного замешкалась и, когда Пьер начал закапывать в золу уголья, которые одни лишь и освещали наше жилье, подошла к нему перекинуться словечком. Меня томило желание узнать, почему монахи презираемы и несчастны. — Ты же сама видишь, — сказал мне Пьер, — что у них нет ни жен, ни детей. Неизвестно даже, есть ли у них родители или братья с сестрами. Как только они «затворяются», семья о них забывает или отказывается от них. Они теряют все, даже свое имя, будто невесть откуда взялись. Становятся толстыми, безобразными, вечно ходят грязные в этой своей долгополой одежде, хотя и могут содержать себя в чистоте. И к тому же это так нудно — вечно бормотать молитвы. Молиться богу — дело, конечно, неплохое, только что-то мне сдается — вовсе ему не надобно, чтобы так много молились, и от этих монахов с их колокольным звоном и латынью у него наверняка голова раскалывается. В общем, толку от них никакого! Распустить бы их всех по домам, а землю отдать тем, кто станет ее обрабатывать. Уже не в первый раз слушала я подобные рассуждения, но они казались мне пустой болтовней. Я уважала собственность и считала, что изменить что-либо на свете невозможно, значит, и желать этого бесполезно. — Глупости говоришь, — ответила я Пьеру. — Кто богат, тому не помешаешь быть богатым. Лучше скажи, что ты думаешь об этом молодом монахе, об ученике, который разрешил мне пасти Розетту на монастырском лугу. Как, по-твоему, послушаются они его? — Не станут они его слушаться, — сказал Пьер. — Он еще жеребеночек, еще не умеет тянуть соху. Старые монахи, которые знают свое дело, заберут твою овцу, ежели увидят ее у себя, а монашка тут же и накажут, чтобы не ослушничал. — Ну, тогда я больше не пойду туда. Не хочу, чтобы его, такого доброго и учтивого, наказывали из-за меня. — Можешь туда пойти во время утренней службы. В эти часы отец Фрюктюё всегда в церкви. — Нет, нет! — вскричала я. — Не хочу быть воровкой! Уснула я очень растревоженная. Я не столько думала теперь о Розетте, сколько об этом мальчике с добрым сердцем, который обречен быть несчастным, презираемым, «принесенным в жертву», как сказал дедушка. Ночью разразилась ужасная гроза, молнии освещали все небо, а от громовых раскатов волосы вставали дыбом. Так по крайней мере рассказал нам утром дедушка, потому что только он один и проснулся от грозы: в юности так сладко спится — даже в ветхой лачуге! — но когда я сняла с окна ставень, — стекол у нас и в помине не было, — то увидела мокрую землю и множество ручейков вокруг скалы, бегущих по бороздкам, которые они промыли в песке. Я побежала поглядеть, не унес ли ветер хлев. Но он устоял, и меня охватила радость: прошел дождь, значит, скоро зазеленеет трава. В полдень проглянуло солнце, и я ушла с Розеттой в одно укромное место, защищенное от непогоды нависшими скалами, где всегда можно было найти немного зеленой травы; другие пастухи не любили туда ходить, потому что спуск был крутой и небезопасный. В тот день там не было ни души, и я уселась на берегу бурливого и пенистого потока. Прошло не очень много времени, и вдруг меня кто-то окликнул по имени, и я увидела молодого монаха, который спускался в овраг, направляясь ко мне. Очень опрятный в своем новом одеянии, с виду он был вполне доволен жизнью и смело прыгал с камня на камень. Мне он показался красивее всех на свете. А между тем он не был красив, мой дорогой, бедный мой Франквиль, но выражение лица у него было такое доброе, глаза были такие ясные и весь облик такой кроткий, что никогда и никому не пришло бы в голову назвать его внешность неприятной или отталкивающей. Я была изумлена. — Как это вы разыскали меня, и кто вам сказал, как меня зовут? — спросила я. — Сейчас все тебе расскажу, — ответил он. — Давай позавтракаем, а то я очень есть хочу. И он извлек из-под одежды корзиночку, в которой лежали паштет, бутылка вина и мясо — вещи мне доселе незнакомые! Я заставила долго себя упрашивать, прежде чем отведала мяса. От непривычки и некоторой опаски я испытывала отвращение к этой новой пище, однако она мне понравилась; а вот вино показалось таким мерзким, что я скорчила гримасу, над которой вдоволь посмеялся мой новый друг. За едой он рассказал мне следующее. Не надо называть его ни господином, ни Франквилем; отныне он просто брат Эмильен, это имя ему дали при крещении. Он попросил эконома позволить мне пасти Розетту на лугу, но, к великому своему удивлению, получил решительный отказ. Отец Фрюктюё привел всевозможные резоны, которых Эмильен так и не понял; но, видя, как юноша огорчен, эконом позволил отдавать мне еду, когда только он захочет, и брат Эмильен, не заставляя повторять позволение дважды, сложил свой обед в корзинку и отправился в домик, который я накануне ему указала. Там он никого не застал, но повстречавшаяся ему пожилая женщина, в которой, по его описанию, нетрудно было узнать нашу Мариотту, почти правильно объяснила ему, где меня искать, добавив при этом, что зовут меня Нанетта Сюржон. Он верно выбрал дорогу: судя по всему, он привык лазить по горам. И вообще, как мне пришлось впоследствии убедиться, по своим привычкам он был скорее крестьянин, чем барин. Его ничему не учили, он сам себя образовал. Ему запрещали охотиться вместе с другими дворянами, он сделался браконьером на своих собственных землях и очень ловко бил зайцев и куропаток; но так как этим он нарушал запрет, то дичь он отдавал крестьянам, которые показывали ему кустарники, где она водилась, и хранили его тайну. У них он научился плавать, ездить верхом, лазить по деревьям и даже делать всякую крестьянскую работу, потому что был сильный малый, хоть и не больно крепок с виду. Понятно, все, что я сейчас о нем скажу, чтобы познакомить вас и с ним самим и с его положением, стало мне известно не в тот день и не в том месте; да я и четвертой части не поняла бы тогда, мне понадобились годы, чтобы разобраться в том, о чем коротко расскажу вам сейчас. Эмильен де Франквиль обладал характером и природным умом. Родные, стремясь помешать ему занять главенствующее положение в семье, хорошо и много поработали, дабы убить в мальчике ум и сердце. Его брат, видимо, был менее одарен от природы, но он был старшим, а в семье Франквилей все младшие дети вступали в орден. Это правило никогда не нарушалось, оно переходило из поколения в поколение, от отца к сыну. Маркиз, отец Эмильена, считал сие правило очень важным, важнее всех государственных законов. Маркиз утверждал, что оно упрощает введение в наследование и, значит, уменьшает роль стряпчих, которые любят всюду совать нос, заводят длиннейшие процессы и стараются раздробить крупные состояния. Мальчик, которому предназначено было стать монахом, ни на что не мог рассчитывать. Детей у него не будет; постригаясь, он не оставлял никаких зацепок в будущем для крючкотворов. Словом, так оно было заведено, и маленькому Эмильену, едва он научился отличать правую руку от левой, все это объяснили, отказав в праве на собственное суждение. Можно предположить, что он пытался протестовать; но эти протесты подавили так быстро и решительно, что, едва вступив в жизнь, он уже для многого был мертв и так наивен в свои шестнадцать лет, какими бывают лишь в восемь. В наставники ему дали какого-то слабоумного, у которого, однако, хватило ума понять, что от него требуется одно: превратить ученика в такого же слабоумного, каким был он сам. Не преуспев в этом начинании до конца, ибо Эмильен всегда был и умен и разумен, он, делая вид, что занят обучением ребенка, всецело предоставил того самому себе. Мальчик, придя в монастырь, еле-еле мог читать и писать, но он о многом размышлял, многое понял на свой лад и сам преобразовал свою душу. Сердце он отдал богу, как склонны поступать все, кому бог единственный друг и заступник; но чем настойчивее пытался наставник объяснить ему бога по-своему, тем решительнее склонялся ученик к своему собственному пониманию. Он отнюдь не был противником церкви. Но считал, что она вся — от мира сего, и, значит, ее не следует слишком возносить и вполне можно не одобрять и порицать, если церковь сбивается с пути истинного, предначертанного ей свыше. Над тем, что Эмильен мне сказал в тот первый день, он размышлял потом всю жизнь. Церковь, по его разумению, должна лишь учить любви к господу, утишать горести и врачевать раны. От всего остального Эмильен просто отмахивался, ни с чем не спорил — пусть говорят, что хотят, — и поступал согласно своей совести. В конце концов в силу того, что он был заброшен, предоставлен самому себе и вместе с тем от всего отстранен, Эмильен создал себе особый мир, положив в его основу собственные мечтания, и вошел во вкус этой уединенной и независимой жизни. Он никому не перечил и даже всем уступал из учтивости или от скуки; но переубедить его в чем-либо было делом невозможным, он ускользал от любого принуждения, едва лишь на него переставали обращать внимание. И в силу того, что у него отняли все, столь желанное людям, он стал презирать все, в чем ему было отказано.III
Когда мы позавтракали, он уснул на нагретом солнцем камне. Потом, проснувшись, спросил меня, о чем я думаю, когда вяжу и приглядываю за овцой. — Обыкновенно я думаю о множестве вещей сразу, — сказала я ему, — а потом и не вспоминаю о них; но сегодня я только дивилась вам: выходит, вы вертите монахами как хотите и проводите дни, где и как вам в голову взбредет? — Не знаю, станут ли монахи бранить меня за это, — отвечал он. — Не думаю, потому что, если я приму постриг у них, они получат изрядный вклад, и им совсем не с руки отвратить меня от своей обители, прежде чем они получат мои деньги; это я уже понял. Что же до моего обучения, так они не станут особенно приставать ко мне. — Почему же? — По очень простой причине: они и сами знают не на много больше моего и, если слишком прилежно возьмутся за дело, очень быстро истощатся. — И вы тоже презираете их, этих монахов? — Нет, я их не презираю, я вообще никого не презираю. По-моему, они люди очень приятные, и я не стану огорчать их больше, чем они меня. — Значит, вы будете иногда приходить повидаться со мной? — Конечно, с удовольствием. И всякий раз, когда захочешь, буду приносить тебе еду. Я вспыхнула от досады. — Не нужно мне вашей еды, — сказала я, — у нас все есть, что мне нужно, и наши каштаны, по-моему, куда вкуснее ваших паштетов. — Значит, тебе приятно меня видеть, раз ты хочешь, чтобы я приходил? — Ну да; но если вы думаете… — А я только то и думаю, что ты хорошая девочка, к тому же напоминаешь мне мою сестру; я буду рад снова тебя увидеть. Начиная с этого дня мы виделись очень часто. Он правильно угадал, как станут вести себя с ним валькрёзские монахи; они позволили ему свободно располагать своим временем, требуя от него лишь присутствия на некоторых церковных службах, чему он и подчинился. Скоро он свел знакомство с моими братьями, и однажды мы вдоволь посмеялись его рассказу о том, как он был вызван приором и как тот сказал, что, поразмыслив над его юным возрастом, счел себя вправе освободить Эмильена от утренней службы. — Вы не поверите, — добавил Эмильен, — что я имел глупость, поблагодарив приора, сказать, что привык вставать на рассвете и мне совсем не трудно простоять заутреню. Он твердил свое, а я — свое, стараясь показать, сколь я покорен уставу. Вот была потеха! Наконец брат Памфил толкнул меня локтем и, когда я вышел вслед за ним во двор, сказал мне: «Если вы, мой мальчик, во что бы то ни стало хотите ходить к заутрене, помните, что вы окажетесь в церкви в полном одиночестве: вот уже более десяти лет ни один из нас не ходит к заутрене, и отец приор был бы в большом затруднении, если бы вздумал приневолить нас к этому, ибо сам и побудил отменить столь бесполезное умерщвление плоти». Тогда я спросил у него, зачем в таком случае к этой службе звонят? Он ответил, что надо же и звонарю заработать себе на хлеб, а ничего другого этот бедный прихожанин делать не умеет. Однако Жак утверждал, что есть и другая причина, почище этой. — Монахи лицемеры, — сказал он. — Они хотят убедить прихожан, будто по утрам возносят молитвы богу, а сами в это время нежатся на своих пуховиках. Жак не упускал случая поиздеваться над монахами и не стеснялся говорить Эмильену, что тот делает глупость, вступая в это сообщество лежебок. Когда дедушка слышал такие слова, он приказывал внуку замолчать, но братец Эмильен — так мы его называли — отвечал ему: — Пусть себе говорит; монахов следует судить тем же судом, что и прочих людей. Я их знаю, я должен ладить с ними, чтобы мы ужились вместе. Я их не обвиняю, но и не считаю себя обязанным защищать. Если их занятие кажется бесполезным, значит они сами в том виноваты. Когда братца не было с нами, мы почти все время говорили о нем. Наша жизнь была так бедна событиями, что частые посещения нового человека, иной раз проводившего с нами целые часы, не могли не казаться нам настоящим событием. Пьер, младший из братьев, любил его всем сердцем и защищал от нападок Жака, который не ставил его ни во что. В этом он сходился с дедушкой, упрекавшим Эмильена в том, что тот не умеет держаться в соответствии со своим благородным происхождением, забывает, что он Франквиль, и, наконец, что он не так благостен, как следовало бы будущему монаху. — Пустой он человек, — говорил дедушка, — никогда из него не выйдет ни настоящего дворянина, ни настоящего монаха. Не злой, даже чересчур добрый; вроде бы порядочный, за девчонками еще не бегает, но не очень-то его беспокоят ни этот свет, ни тот, а между тем ежели не годишься для того, чтобы держать в руках шпагу, так надо быть пригодным служить в церкви. — Кто это вам сказал, что он не мог бы держать в руках шпагу? — взволнованно кричал Пьер. — Он ничего не боится, и не его это вина, что из него не сделали доброго солдата, а превратили в заморыша монаха. Я слушала эти споры, не очень-то зная, кому верить. Сперва я мечтала о дружбе с братцем; но он не выказывал мне такого внимания, какое выказывала ему я. Всегда он был в добром расположении духа, всегда готов услужить, провести часок-другой с первым встречным и вспоминал обо мне, только когда видел. Я вообразила, что смогу заменить ему сестричку, что утешу его в горестях, но у него больше не было горестей, которые он мог бы мне поверять. Он всем рассказывал о своем положении, никак его не оценивая, и повествовал о своем печальном детстве так, будто сам его не перестрадал; может быть, дело было в том, что смутная улыбка, постоянно блуждавшая на его лице и становившаяся еще шире, когда он говорил о вещах грустных, лишала его рассказы подлинного интереса. В общем, он отнюдь не походил на принесенное в жертву дитя, каким сперва я нарисовала его себе, и потому я вновь стала предпочитать ему Розетту, нуждавшуюся во мне, тогда как он не нуждался ни в ком. Зима, суровая зима восемьдесят восьмого года миновала, так же как и весна восемьдесят девятого. Политические события мало занимали жителей Валькрё. Грамоте мы не знали и в большинстве своем были — скорее юридически, чем на деле — неотчуждаемыми крепостными аббатства. Монахи не слишком обременяли нас барщиной, но зорко следили за выплатой десятины и, так как это вызывало недовольство, старались как можно меньше с нами разговаривать. Если до них доходили новости, нам они ничего не рассказывали. Наша провинция была одной из самых спокойных, и люди, приезжавшие в монастырь по делам из других мест, совсем не разговаривали с нами. Ведь по тем временам крестьян и за людей не считали. Революция уже началась, а мы о ней понятия не имели. Но все же в один из базарных дней и у нас распространился слух о взятии Бастилии, и так как эта новость взволновала даже наш приход, мне захотелось узнать, что же это такое — Бастилия! Я не довольствовалась объяснениями дедушки, потому что мои братья говорили прямо противоположное, случалось, что и при нем; это его очень сердило. Я решила хорошенько расспросить братца, стала подкарауливать его и наконец встретила, когда он бродил по окрестностям, прогуливая уроки; я попросила его — ведь он должен знать куда больше нашего! — объяснить мне, почему одни радуются из-за этой самой Бастилии, а другие тревожатся и волнуются. Я полагала, что Бастилия — это какая-то женщина, которую посадили в тюрьму. — Нет, — ответил он, — Бастилия была ужасной тюрьмой, и парижане ее разрушили. И он так объяснил мне суть и смысл происшедшего, как это мог бы сделать настоящий революционер. В ответ на другие мои вопросы он рассказал, что валькрёзские монахи считают победу парижан огромным несчастьем. Они утверждают, что все погибло, и поговаривают о том, как бы им заделать проломы в монастырских стенах на случай, если придется защищаться от разбойников. Я задала еще множество вопросов. Ответить на них Эмильен затруднялся — он знал немногим больше, чем я. Стоял конец июля, и я была знакома с братцем уже почти целый год. Я говорила с ним без обиняков, как с любым нашим соседом, и не скрывала возмущения тем, что он не более осведомлен, чем мы. — Чудно, право, — сказала ему я, — что вы так мало знаете! Положим, дома вас ничему не учили, но вы уже сколько времени в монастыре, так хоть бы читать толком научились, а то Жак говорит, что только по складам и умеете. — Коли Жак и вовсе грамоте не знает, не ему об этом судить. — Он сказал, что принес из города бумагу, а вы ее так прочитали, что ничего нельзя было понять. — Может, он в этом сам виноват. Но мне не к чему лгать: читаю я и впрямь плохо, а пишу как курица лапой. — А считать-то вы умеете? — О! Вот уж нет, и никогда не научусь. К чему мне знать счет? У меня ведь никогда никакого имущества не будет. — Вы могли бы в старости стать монастырским экономом, когда отец Фрюктюё помрет. — Сохрани господь! Мне нравится раздавать, я ненавижу отказывать. — Дедушка говорит, что вы из такой благородной семьи, что могли бы стать даже настоятелем. — Надеюсь, что на это я никогда не буду способен. — Почему вы такой? Ведь стыдно оставаться невеждой, когда можно стать человеком ученым. Были бы у меня средства, я бы всему научилась. — Всему! И никак не меньше? А почему тебе хочется быть такой ученой? — Не могу этого объяснить, не знаю, но вот хочу, и все; стоит мне увидеть исписанную бумагу, я прихожу в ярость, что ничего не могу в ней разобрать. — Хочешь, я научу тебя читать? — Да вы же сами не умеете! — Немного умею, да и подучусь, тебя обучая. — Вот сейчас вы это говорите, а завтра и не вспомните. Ветер у вас в голове. — Что это, малышка Нанон, ты меня сегодня бранишь? Разве мы не друзья? — Разумеется, друзья; но все-таки я часто думаю, можно и быть в дружбе с человеком, которого не заботит ни он сам, ни другие люди. Он посмотрел на меня, улыбаясь своей беспечной улыбкой, но не нашелся, что ответить, и ушел, глядя прямо перед собою, не всматриваясь в живую изгородь вдоль дороги, как обычно делал, стараясь найти гнезда; может быть, он думал о том, что я только что ему высказала. Дня через два-три, когда я вместе с другими моими сверстниками была на пастбище, к нам прибежали в полном перепуге женщины, в том числе Мариотта, и велели идти домой. — Что случилось? — Домой, домой! Забирайте всю скотину, да поскорее! Нас охватил страх. Каждый собрал свое маленькое стадо, и я тоже живо погнала домой Розетту, которая была не очень-то Довольна, потому что не привыкла в этот час уходить с пастбища. Свечерело. Жак с дедушкой решили спуститься вниз, постучать в монастырские ворота; но ворота были на запоре весь день, были они заперты и вечером; на стук никто не отозвался. Никто даже не вышел переговорить с ними через маленькое оконце. Казалось, монастырь обезлюдел. — Теперь сами видите, — вернувшись, сказал Жак, — что они никого не хотят принять. Монахи знают, что их здесь не любят. Своих-то прихожан они боятся не меньше, чем разбойников. Придя домой, я увидела, что дедушка очень беспокоится обо мне. Он схватил меня за руку и втолкнул вместе с Розеттой в дом, потом велел Пьеру и Жаку хорошенько запереть и заставить дверь и окно. Хотя братья говорили, что опасность пока еще нам не грозит, но, видно, тоже были обеспокоены. — Еще как грозит, — ответил им дедушка, когда все было сделано. — Ну вот, теперь мы все четверо вместе, давайте подумаем, что делать. Я предлагаю вот что. Пока светло, нам деваться некуда; тут уж все в руках божьих; но когда стемнеет, надо перебираться в монастырь; каждый снесет туда, что сможет, вещи и еду. — И вы думаете, — сказал Жак, — что монахи вот так и примут к себе весь приход? — Это же их обязанность. Мы приписаны к ним, наш долг платить десятину и повиноваться им, а их долг — давать нам убежище и защищать нас. Пьер, напуганный больше, чем старший брат, оказался на этот раз одного мнения с дедушкой. Монастырь окружен крепостными стенами, а открытые места они смогут защитить с помощью нескольких крепких парней. Жак, продолжая утверждать, что все это — бесполезная затея, принялся тем не менее разбирать наши жалкие ложа; я уложила кухонный скарб, четыре миски и два глиняных горшка. Узел с бельем был не слишком велик, с платьем — тоже. «Лишь бы только монахи согласились принять Розетту», — твердила я сама себе. Я механически выполняла все, что мне приказывали, и ждала, что же будет дальше, — ведь я ничего не знала и ни о чем не осмеливалась спрашивать! Наконец я поняла, что разбойники вот-вот нагрянут к нам, что людей они убивают, а дома жгут. И тут я расплакалась и не столько оттого, что боялась расстаться с жизнью — у меня еще не составилось отчетливого представления о смерти, — сколько оттого, что жалела нашу бедную, обреченную огню хижину, которая была так мне мила и дорога, словно она и в самом деле была нашей. И, надо сказать, и дедушка и его внуки оказались ничуть не умнее меня. Они не столько Думали о грозившей им опасности, сколько горько сетовали об утрате своих нищенских пожитков. Весь день мы провели в потемках, заполнивших запертый дом, об ужине и помину не было. Чтобы сварить репу, надо было развести огонь, а дедушка этому воспротивился, утверждая, что дымок над крышей нас выдаст. Если разбойники явятся, они решат, что из деревни все ушли и дома стоят пустые. Тогда они не задержатся здесь и сразу побегут к монастырю.— А по-моему, — объяснил дедушка, — они спрятались в подземелья, а оттуда им, ясное дело, никакого стука не услыхать. — Меня удивляет, — сказал Пьер, — что братец запрятался с ними вместе. Он-то ведь не робкого десятка, и мне думалось, что он или придет защитить нас, или проведет в монастырь. — Твой братец такой же плут и трус, как вся монастырская братия, — сказал Жак, не подумав даже, что сам он тоже изрядно перетрусил. И тут дедушке пришла в голову мысль узнать, нет ли в округе каких-нибудь новостей и не собираются ли соседние крестьяне принять меры против грозившей нам всем опасности. Он снова ушел вместе с Жаком, босиком, укрываясь в тени кустов, словно они-то и были разбойниками, замыслившими худое дело. Мы с Пьером остались одни, получив наказ сидеть на пороге, быть настороже и при малейшем подозрительном шуме спасаться бегством. Погода стояла чудесная. Небо было усыпано яркими звездами, воздух напоен ароматом, и, как мы ни напрягали слух, до нас не доносилось ни единого звука, наводившего страх или внушавшего надежду. Во всех домах, разбросанных вдоль ущелья и далеко отстоящих один от другого, жители поступили как мы: заложили двери, загасили огонь и разговаривали вполголоса. Было всего девять часов, а тишина стояла как глухой ночью. Между тем никто в ту ночь не спал. Все словно отупели от страха и даже боялись дышать. Этот панический ужас остался в памяти моих земляков как самое примечательное в революции. Этот год и сейчас называют годом великого страха. Ничто не шевелилось под высокими каштанами, укрывавшими нас в своей тени. Спокойствие природы снизошло и на наши души, и мы принялись потихонечку болтать. Голода мы не чувствовали, а вот сон нас все же сморил. Растянувшись на земле, Пьер начал рассказывать мне о звездах и объяснять, что они не остаются всякий час на том же месте, но меняют свое положение вместе с переменой времен года, а кончил тем, что заснул глубоким сном. Мне было жаль будить его. Я понадеялась, что смогу караулить и одна, но уже через мгновение моей караульной службе пришел конец. Я проснулась оттого, что чья-то нога задела меня в потемках: открыв глаза, я увидела серый призрак, склонившийся надо мной. Испугаться я не успела: у призрака был голо братца. — Что ты тут делаешь, Нанон? — сказал призрак. Почему ты спишь не в доме, а на голой земле? Я чуть было не наступил на тебя. — Пришли разбойники? — спросила я, подымаясь с земли. — Разбойники? Никаких разбойников нету. Бедняжку Нанетта, значит, и ты в них поверила? — Ну, конечно! А вы-то как узнали, что их нету? — Так ведь монахи смеются и говорят, что этих разбойников кто-то ловко придумал, чтобы отбить у крестьян охоту к революции. — Значит, все это обман! Ну, раз так, пойду-ка я загоню Розетту и сготовлю ужин, чтобы дедушка мог поесть, когда вернется. — Он ушел? — Ну да, пошел узнать, что решил народ: прятаться или защищаться. — Все двери заперты, и никто не захочет ему открыть. Со мной так и было. Как только я понял, что бояться нечего, я выбрался из монастыря через пролом в стене, хотел успокоить здешних своих друзей, но пока только с тобой и смог поговорить. Ты, что же, совсем одна? — Нет, вон Пьер; он спит, будто у себя в постели. Вы разве его не видите? — Верно, верно, вот только теперь разглядел. Ну, коли он спокойно спит, не будем его трогать. Пойдем, я помогу тебе загнать овцу и разжечь огонь. Он и в самом деле помог мне, и мы разговаривали, ни на минуту не переставая заниматься делом. Я спросила, в какие дома он стучался, прежде чем пришел К нам. Он перечислил с полдюжины. — А о нас, — сказала я ему, — о нас вы подумали только напоследок? Открой вам кто-нибудь дверь, вы так бы и остались рассказывать там ваши новости? — Нет, я хотел предупредить всех. Ты сейчас несправедлива ко мне, Нанон. Конечно, я шел к вам, и я думаю о тебе куда чаще, чем ты предполагаешь. Я очень много думал о тебе с того самого дня, когда ты так — резко говорила со мной. — Вы тогда рассердились на меня. — Нет, я рассердился на самого себя. Люди плохо обо мне думают, и по заслугам, я это понял и дал себе слово выучиться всему, чему только монахи сумеют меня выучить. — В добрый час! Тогда вы и меня научите? — Обязательно научу. Огонь ярко пылал, и при его свете Эмильен увидел спинки и доски наших кроватей и посреди комнаты — сваленные в кучу соломенные тюфяки. — А где вы ляжете ночью? — спросил он у меня. — Я пойду спать к Розетте, — ответила я, — ведь теперь я никого не боюсь. Моим братьям ничего не стоит проспать ночь под звездами, значит остается только мой бедный старенький дедушка, который наверняка очень устанет. Не знаю, хватит ли у меня сил, а хотелось бы поставить ему кровать: ведь он так сладко заснет, когда узнает, что никакие разбойники на нас не нападут. — Если у тебя не хватит сил, так я помогу, я ведь сильный! И он взялся за дело. В один миг он заново собрал и сколотил кровать старика Жана и мою кроватку. Я расставила на столе посуду, и когда дедушка с Жаком вернулись, в мисках уже дымилась похлебка из репы. Они ни до кого не достучались и всю дорогу бежали бегом, потому что увидели дым над нашей крышей и решили, что дом горит. Им чудилось, что мы все уже погибли: и Пьер, и Розетта, и я. Дедушка и Жак были счастливы, что ужин готов и что теперь можно со спокойной душой лечь спать; в первую минуту они не знали, как и благодарить братца. Но за столом дедушка вдруг снова помрачнел. Когда братец ушел, он сказал, что тот еще совсем несмышленыш, и очень может статься, что не понял, о чем говорили монахи; разве был бы весь народ в великом страхе, когда бы ему не грозила великая опасность? Он наотрез отказался лечь и, пока мы спали, бодрствовал, усевшись на каменную скамью у очага. Утром нашему удивлению не было конца — ведь все проснулись целыми и невредимыми. Парни из нашего прихода залезли на самые высокие деревья, росшие у входа в ущелье, и увидали вдали, сквозь утренний туман, людей, идущих строем. Мигом все кинулись по домам, и снова пошли разговоры о том, что надо бы все бросить на произвол судьбы, а самим попрятаться в лесах и горных расщелинах. Но скоро к нам прибыли гонцы, — сперва их даже не хотели слушать, потому что в первую минуту приняли за врагов и намеревались побить камнями. А между тем то были люди из соседних приходов, и когда наши наконец их узнали, они сгрудились вокруг них тесным кольцом. Гонцы сообщили, что как только до их мест дошла весть о приближении разбойников, а в ее правдивости не сомневались ни в нашем приходе, ни в соседних, все уговорились сообща защищаться от врагов. Вооружившись чем попало, составили отряды, которые должны были прочесывать местность и задерживать всех подозрительных. Они полагали, что и мы сразу же возьмемся за оружие и присоединимся к ним. Но наши пальцем не желали пошевелить, твердили, что у них никакого оружия нет, к тому же даже сами монахи не верят в существование этих разбойников — ведь братец, вертевшийся тут же, постарался, не выдавая монахов, рассказать людям правду. Но верзила Репуса из Фудрасы и кривой из Бажаду, люди горячие, стали насмехаться над нами и даже стыдить нас за наше долготерпение. — Сразу видать, что вы монашье отродье, — говорили они, — такие же хитрющие да трусливые. Ваши подлые хозяева хотят отдать наш край разбойникам на потраву, им невыгодно, чтоб люди оказывали сопротивление, а вы, будь у вас хоть малая толика отваги, давно бы раздобыли себе оружие. В монастыре достало бы и на вас и на соседей. Там и разных припасов на случай осады достаточно. Но раз вы не хотите драться, то мы вернемся к нашим товарищам и расскажем, какие вы трусы, потом приступом возьмем монастырь и оружие заберем, потому как вам оно ни к чему, вы все равно в руках его держать не умеете. Слова эти упали в толпу, как искра в солому. Наши крестьяне испугались соседей больше, чем разбойников, поднялся шум и крик, и люди порешили, что лучше самим быть себе хозяевами и уладить все промеж собой. Стали созывать всех прихожан и собрались на монастырской площади — то был просто склон, кочковатый и густо поросший травою; посредине площади был чудотворный источник, украшенный изображением богоматери. Верзила Репуса, гордясь тем, что будто бы пробудил в нас храбрость, потребовал первым делом застращать монахов и для этого разбить изображение божьей матери. В толпе среди других был и дедушка, и это предложение страшно его рассердило. Он с самого начала стоял на том, что мы должны требовать убежища в монастыре и укрываться за его стенами, но не мог допустить и мысли об осквернении святыни и обещал — он, такой старенький! — что разобьет голову лопатой первому, кто решится на подобное безобразие. К нему прислушались, потому что он был самый старый в нашем приходе и самый уважаемый. В это время братец, поняв суть происходящего, вернулся в монастырь через один из проломов в стене: он их знал наперечет, как никто другой. Обнаружив, что монахи страшно напуганы и только и думают, как бы им получше забаррикадироваться, братец постарался объяснить им, что их собственные крестьяне меньше на них злобятся, нежели крестьяне из других приходов, и что самым разумным было бы как раз им-то и довериться.
IV
И вот монастырские ворота распахнулись и впустили с десяток наиболее уважаемых в приходе крестьян; их провели по всем залам, дабы они убедились, что в монастыре ни пушек, ни ружей, ни сабель нет; но малыш Ангийу, которому как-то случилось помогать каменщикам, когда те перекладывали погреб, сказал, что в этом самом погребе он видел гору оружия, — и правда, вскоре там нашли груду старых, давно вышедших из употребления аркебузов, мушкетов с колесцом времен религиозных войн и ржавых бердышей без рукоятей. Все это забрали и вынесли на площадь, где каждый взял себе то, что ему пришлось по вкусу или по силе; аркебузы и мушкеты уже ни на что не годились, но наконечники бердышей были целы, и все принялись их чистить и рубить для них на монастырской лесосеке новые рукояти. Только этот ущерб и был нанесен монастырю. Монахи пообещали прихожанам убежище в случае опасности, показали, где разместиться каждой семье. Пришлых отправили восвояси; никто и не подумал предложить соседям воспользоваться покровительством монахов. Стоило чужакам уйти, как доброе согласие между крестьянами и монахами восстановилось, но оружие прихожане так и не возвратили, посмеиваясь и переговариваясь о том, что, дескать, если все это придумано монахами, чтобы их напугать, затея не очень-то удалась: они вооружили крестьян, и теперь, в случае чего, крестьяне обратят против них их же оружие. Три дня и три ночи все пребывали в страшном волнении: выставляли караулы, совершали обходы, по очереди бодрствовали ночами, договаривались о совместных действиях, когда случалось повстречать отряд из других мест. Этот великий страх, который был не более как выдумкой, — только вот чьей неизвестно, думаю, что этого так никогда и не узнали, — не стал в дальнейшем поводом для шуток, как того можно было бы ожидать. Наши крестьяне за три дня постарели на три года. Им пришлось вылезти из своих нор, сговориться между собой, узнать то, о чем говорили не только за пределами нашего ущелья, но даже и в городах; они стали понимать, что такое Бастилия, война, голод, король и Национальное собрание. Как и все прочие, я восприняла это в самых общих чертах, и мне казалось, что мой неразвитый ум, взращенный в клетке, обретает крылья и воспаряет в далекий простор. Мы испытали страх, и это придало нам мужества. Впрочем, на третий день, когда народ стал успокаиваться, случилась еще одна тревога. Мимо нас с криком «К оружию!» промчались галопом в соседние городки гонцы, разнося весть о том, что разбойники уничтожают урожай и убивают население. На этот раз дедушка вооружился косой и ушел вместе с внуками навстречу врагу, поручив меня заботам Мариотты и торжественно сказав на прощанье: — Мы идем сражаться, и ежели нас разобьют, не ждите, пока мы явимся, а по пятам за нами и враги. Бросайте скот, забирайте детей и спасайтесь — разбойники никого не милуют. Мариотта кричала, плакала, потом кинулась искать укромное местечко для своих пожитков. Что до меня, так я была очень взбудоражена и если еще верила в разбойников, то уж вовсе их не страшилась, говоря себе, что если дедушка с братьями погибнут, незачем жить и мне; предоставив Мариотте заниматься ее делами, я отвела Розетту на пастбище. Неужто же, спасая ее от разбойников, позволить ей умереть с голоду? Желание узнать новости завело меня далеко от дома, на высокое лесистое плоскогорье, но и оттуда я ничего не разглядела, потому что крестьянские отряды либо сидели в засаде, либо осторожно крались вдоль оврагов, пробираясь сквозь заросли дрока. Всматриваясь в даль, я силилась хоть что-нибудь увидеть между деревьями, когда от этого занятия меня отвлек какой-то человек, высунувшийся из кустов: то был братец, который преспокойно охотился и выслеживал лисиц, и вой на с разбойниками его нимало не заботила. — А я-то думала, — сказала я, — что вы ушли вместе со всеми. Ну, по крайней мере хоть бы поглядели, не грозит ли им опасность. — Я знаю, — ответил он, — что опасность грозит только аристократам и высшему духовенству, а они не признают меня своим; я в этом мире живу сам по себе. — Вы сердите меня такими разговорами. Не знаю, то ли презирать вас, то ли жалеть. — Ни того, ни другого, мой дружок, делать не надо. Пусть бы на меня возложили какие-нибудь обязанности, я бы их выполнил, но я не вижу, какие обязанности у монаха, если не считать за обязанность обрастание жиром. Монахи, видишь ли, сослужили службу в старые времена; но с Тех пор как стали жить в богатстве и холе, они мало чего стоят в глазах людей и господа бога нашего. — Так не идите в монахи! — Легко сказать; а кто примет меня в дом, кто станет кормить? Ведь моя семья, стоит мне воспротивиться, откажется от меня и выгонит вон! — Ну и что же! Будете работать! Это тяжело, но Пьер с Жаком ходят на поденщину, и они счастливее вас. — Это не совсем так. Они ни о чем не думают, а я люблю сам обо всем поразмыслить. Знаю, мне многому еще надо научиться, чтобы правильно рассуждать, и я научусь. Ты справедливо отчитала меня: стыдно быть лентяем. Ну, так смотри, я гуляю теперь с книжкой в руках и частенько в нее заглядываю. — А меня вы станете учить? Или уже позабыли о своем обещании? — Нет, помню. Хочешь, начнем сейчас? — Хочу. Он преподал мне первый урок, усевшись подле меня на папоротнике под этим огромным небом, которое немного ослепляло меня, потому что мне было привычнее видеть узкую полоску его над валькрёзским ущельем. Я так старалась ничего не упустить из объяснений братца, что у меня заболела голова, но из самолюбия я ни словом об этом не обмолвилась; меня охватила гордость, когда я почувствовала, что могу учиться, ибо братец удивлялся быстроте, с которой я все схватывала. Он говорил, что за час я запомнила больше, чем он за неделю. — Может быть, это оттого, — сказала я, — что вас плохо учили? — А может быть, это оттого, — ответил он, — что меня старались отвадить от учения. Потом он убил зайца и принес его мне. — Твоему дедушке на ужин, — сказал он. — Ты не смеешь отказываться. — Но ведь это монастырская дичь? — Значит, и моя, в таком случае я могу ею распоряжаться. — Большое спасибо, но мне бы хотелось кое-чего и для себя, только я ведь не лакомка. — Чего же ты хочешь? — Мне бы хотелось выучить сегодня все буквы. Я уже отдохнула, вы вроде бы тоже не очень устали… — Ну что ж, давай, — согласился он. И продолжал урок. Солнце опускалось, голова у меня уже не болела. В тот день я выучила всю азбуку и, возвращаясь домой, радовалась, слушая, как поют дрозды и как грохочет река. Розетта очень важно шла перед нами, а братец держал меня за руку. Солнце заходило справа от нас, каштаны и буки в лесу пылали, как в огне. Луга в закатном свете были совсем красные, а когда нашим взорам открылась река, она показалась нам золотой. Тогда я в первый раз обратила внимание на такие вещи, и я сказала братцу, что мне сегодня все кажется чудным. — Что ты этим хочешь сказать? — Хочу сказать, что солнце словно веселый огонь, а вода в реке словно статуя непорочной девы в монастыре, вся светится; я еще ни разу такого не видела. — Так бывает всякий раз, когда солнце садится в ясную погоду. — А дедушка Жан говорит, что красное небо — примета войны. — Увы, есть много других примет войны, глупышка Нанон! Я не стала спрашивать, что это за приметы, — была погружена в свои мысли; мои ослепленные глаза видели в лучах заходящего солнца красные и синие буквы. «Нет ли на небе приметы, — подумала я, — которая сказала бы мне, научусь ли я читать?» Дрозд пел не умолкая: казалось, будто он перелетает с куста на куст вслед за нами. Мне пришло в голову, что это сам господь беседует со мной, ободряет меня. Я спросила моего дружка, понимает ли он, о чем поют птицы. — Конечно, — отвечал он, — очень хорошо понимаю. — Ну, а дрозд? Что говорит дрозд? — Дрозд говорит, что у него есть крылья, что он счастлив и что господь добр и любит пташек! Вот так мы болтали, спускаясь ущельем, в то время как вся Франция уже взялась за оружие и только того и ждала, чтобы ринуться в бой. К ночи вернулись мои домашние. Я подала им зайца, и они похвалили мою стряпню. Разбойников наши приходские так и не увидели и стали поговаривать, что либо их вовсе нет, либо что те не осмеливаются прийти в наши края. На следующий день все еще держалисьнастороженно, но потом взялись за работу. Женщины, прятавшие своих детей, вернулись вместе с ними; выкопали из земли белье и ту малость денег, которую зарыли; воцарилось прежнее спокойствие. Все были довольны тем, как братец, сумев вовремя поговорить с монахами, предотвратил ссору прихожан с ними: полагая, что монахи еще долго будут господами, крестьяне не хотели навлекать на себя их гнев. Но те гнева не выказывали. Тогда прихожане решили, что братец их урезонил. Припоминали, что он с самого начала утверждал, что никакие разбойники на них не нападут, и стали его уважать куда больше прежнего. Всякий день я встречала его на дороге, и он учил меня читать тут же на пастбище, и выучил так быстро и хорошо, что народ только диву давался, а обо мне стали говорить в приходе как о каком-то маленьком чуде. Я была довольна собою, но не хвалилась перед другими. Кое-чему выучила я и Пьера, у которого желания учиться было хоть отбавляй, но голова варила с трудом. Учила я и моих однолеток, которые старались отблагодарить меня всякими подарками, и дедушка предсказывал мне, что я стану приходской учительницей, причем таким тоном, будто предсказывал, что я стану великой королевой. Несмотря на то что и у нас был организован отряд национальной гвардии, крестьяне снова погрузились в привычную безучастность, в повседневные заботы. Зима прошла спокойно. Страшились холодов, напугавших нас минувшей зимой, и так как все очень осмелели, то в декабре стали рубить на дрова монастырский лес; кое у кого на это было разрешение, а кое у кого и не было. Лес не воровали, его свозили в монастырский сарай, приговаривая, что теперь у монахов не будет повода жаловаться, как в прошлом году, будто они сидят без дров. Бедняги монахи могли бы жестоко наказать нас, ибо значительная часть наших прихожан до сих пор была приписана к ним. Мы слышали, что закон этот был отменен еще в августе и что отмена касалась и церковных владений, но так как указ по-прежнему не обнародовали, а монахи делали вид, будто слыхом про него не слыхали, мы порешили, что то был ложный слух, такой же вздорный, как и слух про разбойников. Однажды в марте 1790 года к нам пришел братец и сказал: — Друзья мои, вы — свободные люди! Наконец-то решились привести в исполнение и опубликовать прошлогодний указ, по которому во всей Франции отменяется рабство. Теперь вам обязаны платить за ваш труд, и вы сами будете назначать цену. Больше нет ни десятины, ни оброка, ни барщины; монастырь более не господин над вами, не заимодавец, а скоро он перестанет быть и владельцем этих земель. Жак улыбался, не веря словам братца; Пьер качал головой,] ничего не понимая; но дедушка все отлично понял, и мне показалось, что он вот-вот потеряет сознание, словно ему нанесли, удар, для его возраста непосильный. Увидев, как он побледнел, братец, вообразивший, будто у дедушки стеснило дыхание от радости, принялся уверять его, что новость эта верная — нынче утром в монастырь приехали законники и объявили монахам, что их имущество переходит в собственность государства, — правда, не сию минуту, но по прошествии времени, нужного для того, чтобы государство в качестве возмещения назначило им ренту. Дедушка не промолвил ни слова, но я-то хорошо знала его и сразу поняла, что он глубоко опечален и не желает ничего больше слышать о новых порядках. Наконец он овладел собой и сказал: — Это, дети, конец всему. Какая без господ жизнь! Не подумайте, что мне были милы монахи, они не выполняли своего долга по отношению к нам; но мы были вправе требовать у них помощи и в беде они были бы вынуждены прийти к нам на помощь — да вы сами могли в этом убедиться: когда заварилась вся эта каша с разбойниками, они не посмели отказать нам в оружии. А теперь кто будет заправлять в монастыре? Тот, кто его купит, нас не знает и ничего нам не должен. Ежели разбойники в самом деле к нам явятся, где сможем мы укрыться? Мы брошены на произвол судьбы и должны рассчитывать лишь на самих себя. — Да ведь это самое для нас лучшее, — сказал Жак. — Ежели все это правда, нам надобно радоваться, потому что теперь мы обрели мужество, которое раньше нам не дозволялось, и пики, которых прежде негде было взять. — И к тому же, — вновь заговорил братец, обращаясь к дедушке, — из ваших речей, дядюшка Жан, видно, что вы не очень хорошо знаете то, о чем говорите! Вы не можете заставить монахов защищать вас, нет у вас таких прав. Не сегодня, так завтра они все равно бросят вас на произвол судьбы, либо из страха, либо из слабости, и вы будете принуждены взбунтоваться и выступить против них. Новый закон спасает вас от этой беды. Казалось, дедушка должен сдаться на столь убедительные доводы, но он был полон сострадания к монахам и печалился о ничтожестве, в которое они скоро впадут. Братец объяснил ему, что они на этом скорее выиграют, ибо существует проект, по которому имущество, изъятое у епископов и высшего духовенства, пойдет на возмещение потерь, понесенных монашескими орденами, и на увеличение содержания сельских священников. — Я понимаю, — отвечал дедушка, — им дадут хорошие деньги, дадут больше, чем та малость, которую они выручали при своем плохом хозяйствовании и собирая оброк, который им так нерадиво платили; но разве стыд от того, что они уже больше не владельцы земли и имения, не хозяева здешних мест, ничего не стоит? Я так считаю: тот, кто владеет землею, куда выше того, у кого много денег. Днем дедушка, которого монахи очень отличали с того времени, как он спас статую богоматери у чудесного источника — она приносила им много даров и денег, — решил пойти и спросить у самих монахов, правда ли это, или выдумка. Он спустился в монастырь и застал там большое смятение. Едва судейские приехали и вручили копию указа, как с господином приором случился удар. Ночью он преставился, и дедушка очень горевал о нем. Старых людей всегда глубоко трогают известия о кончине их сверстников. Дедушке стало как-то не по себе, он перестал есть и начал относиться с полным безразличием ко всему, о чем только шла речь кругом. А весь приход ликовал, особенно молодежь. Их сердца полнились не столько счастьем освобождения — еще никому не ведомо было, как повернутся дела, — сколько гордостью от сознания того, что они — свободные люди, — так по крайней мере говорил братец. Мой бедный дедушка слишком долго был рабом и уже не мог вообразить себе другой жизненный уклад, другое обхождение. Все это до того поразило и взволновало его, что он умер неделю спустя после господина приора. Все о нем очень горевали, как и подобает горевать о честном и терпеливом человеке, который много в жизни потрудился и никогда не жаловался на свою долю. Трое суток мои двоюродные братья от всей души оплакивали его, а потом, покорные господней воле, вновь взялись за работу. Но у меня не хватило разума, чтобы так быстро утешиться, и скорбь моя была такой долгой, что все удивлялись и даже стали порицать меня. Наша Мариотта бранила меня, видя, как я без конца обливаюсь слезами, когда пасу овечку, и какая я стала безразличная и к ней и ко всему на свете. Она говорила мне, что я хочу быть не как все, что удел людей вроде нас — страдание, что мы должны привыкнуть стойко все переносить, а вовсе не нянчиться с нашими горестями. — Что поделаешь, — говорила я ей, — ведь я никогда не знала горя. Я вовсе не неженка, ни голод, ни холод меня не страшат; я почти не устаю, и смело могу сказать, что никогда не жаловалась на то, от чего стонут и плачут другие, но мне никогда не приходило в голову, что дедушка может умереть. Я привыкла к тому, что он старый. Я так хорошо за ним ухаживала, что он, мне казалось, был доволен своей жизнью. Он почти не разговаривал со мною, но всегда мне улыбался. Никогда не попрекал меня тем, что я свалилась ему на голову, хотя столько работал, чтобы прокормить меня! Я не могу сдержать слез, когда о нем думаю; должно быть, это сильнее меня, потому что я плачу и во сне и просыпаюсь с мокрым от слез лицом. Только один братец не выказывал недовольства моей долгой скорбью. Напротив, говоря, что я совсем не такая, как Другие, он добавлял, что я лучше их и что за это он еще больше меня уважает. — Но, быть может, это обернется несчастьем для тебя, — говорил он. — У тебя сердце широко открыто для дружбы, в ответ тебе будут давать меньше, чем ты заслуживаешь. Каждый день он либо появлялся у нас, либо ждал меня на пастбище, куда я ходила почти всегда одна; веселость моих одногодков печалила меня, а им моя печаль наскучивала. Подле Эмильена я старалась от нее отвлечься, ведь он выказывал столько предупредительности, желая меня утешить! Я горячо привязалась к нему: мне чудилось, что он заменяет мне дедушку, моего утраченного друга, и хотя я еще не могла как следует понять мысли и характер братца, все же знала, что в одном можно не сомневаться — в великой доброте его сердца.V
Я по-прежнему жила вместе с братьями и со всем тщанием вела их бедное хозяйство. Они частенько задерживались на работе вдали от дома, там и ночевали, поэтому Мариотта, не желая оставлять меня одну, перенесла мою постель к себе в дом. Я не была ей в тягость, ибо она тоже жила одиноко, давно овдовела, дети ее обзавелись семьями и разъехались кто куда. Мариотта была женщиной с понятием, как говорили у нас, и меня она учила тому же, а значило это, что, будучи очень бедной, она умела кое-как выкручиваться, потому что неустанно работала, ничего не пропускала мимо рук и из всего извлекала пользу. Она была из тех, кто, не имея гроша за душой, всегда ходят опрятные и будто бы ни в чем не терпят нужды. А наши женщины, даже самые зажиточные, в большинстве своем либо не умели пользоваться своим имуществом, либо терпели убытки из-за собственной нерасторопности: бываю, им в руки плывет, а они и то удержать не умеют. Мало-помалу я перенимала от нее эту мудрость, а еще училась у братца. К тому времени я уже умела немного писать и считать. Соседи глядели на меня как на какое-то диво и недоумевали, с чего бы это братец, который любил растрачивать время зазря, занимаясь целые дни охотой или рыбной довлей, учит меня с таким постоянством и рвением. Та малость знаний, которую я переняла от него, была мне огромным подарком, ибо теперь у меня были ученики, я давала им уроки зимою на посиделках, а когда моим землякам надо было прочесть какую-нибудь бумагу, они приходили ко мне и рассчитывались потом съестным. Разумеется, братец, ни в чем никому не отказывавший, вполне заменил бы им меня, но крестьяне — народ недоверчивый. Братец жил в монастыре, он был дворянин по рождению, и они не доверяли ему, как мне, своей землячке, рожденной от их же корня. Монастырские земли были назначены к продаже; но несмотря на то что были люди, которые очень охотно купили бы тот или иной участок, никто на это не отваживался. Боялись, как бы действие закона не было кратковременным. Монахи говорили посмеиваясь: «Это еще бабушка надвое сказала!», к тому же и государство, нуждаясь в деньгах, предоставило кредит только на три месяца. Для таких людей, как мы, крестьяне, этого было недостаточно, а спекулянты, стремившиеся купить имение, чтобы тут же его продать с барышом, находили, что риск еще слишком велик. Но внезапно все поверили в совершившееся; не могу точно сказать, когда это произошло, только помню, что после празднования Четырнадцатого июля, годовщины взятия Бастилии. Вся Франция праздновала этот день, его назвали праздником Федерации. Братец объяснил мне, что люди больше всего радуются тому, что теперь для всех французов один закон и что с этого времени у нас у всех одна родина. Он был очень счастлив, никогда прежде я не видала его таким; я восприняла его радость всем сердцем, несмотря на то, что еще слишком мало знала и понимала, чтобы судить о столь великом событии. Для нашего глухого, затерянного в горах прихода это был удивительный праздник. Тут надо сказать, что с тех пор, как монахов сменили муниципальные чиновники, приход стал называться коммуной. Монахи ни во что не вмешивались и — то ли по глупости, то ли из хитрости, кто их знает, — утверждали, будто довольны всем случившимся. Среди них было двое молодых, — правда, не таких молодых, как братец, они уже Успели принять постриг, — которые, казалось, очень тяготились монашеской жизнью и страстно желали уйти из монастыря с тех самых пор, как узнали, что теперь это для них возможно. В день праздника они заставили старцев открыть монастырские ворота муниципалитету и жителям, чтобы те могли отпраздновать день Федерации на огромном монастырском дворе, окруженном строениями, где можно было укрыться в случае грозы. Старцы согласились, полагая, что ежели они откажут, поднимется ропот и все будут ими недовольны. Они отслужили мессу, прося господа благословить объединение Франции, и даже предложили внести посильную лепту в пиршество, которое устраивалось на дворе. Скудный пир, где на десерт ели хлеб, как в богатых домах едят пирожное! Каждый принес с собой мучную похлебку и овощи. Чтобы не остаться совсем без вина, устроили складчину, вслед за водою и терновым сидром выпили и его. В эту минуту спали покровы с сооружения, воздвигнутого в тайне, специально для празднества, братцем вместе с Жаком и еще несколькими нашими парнями. О том, что к празднику готовят какой-то сюрприз, знали все, потому что парни работали на площади три дня; все видели огромную кучу веток, срезанных вместе с листьями, что-то укрывавшую. Едва принесли вино, как раздался залп из десяти или двенадцати ружей — изо всех, сколько их было в коммуне, парни разобрали хворост и ветки, и глазам присутствующих открылось некое подобие алтаря из дерна с красиво сплетенным из хлебных колосьев крестом. У креста лежали самые лучшие цветы и плоды, какие только можно было раздобыть; братец бесцеремонно нарвал их в монастырском цветнике и снял со шпалер. Были здесь и редкостные овощи того же происхождения, были и разные другие дары, попроще: снопы гречихи, ветки каштанов с еще незрелыми каштанчиками, ветки терна, боярышника, шелковицы — все то, что земля родит сама, по своей воле, на потребу крестьянской детворе и малым птахам. Вниз, к подножию алтаря, положили соху, лопату, кирку, серп, косу, топор, колесо от повозки, цепи, веревки, ярмо, подковы, сбрую, грабли, мотыги и, наконец, — пару цыплят, годовалого ягненка, пару голубей и гнездышки дроздов, славок, воробьев, а в гнездах были яйца либо птенцы. Мне могут заметить, что трофей этот был уж больно незатейлив; но он был так хорошо слажен, каждый предмет был так красиво обрамлен зеленым мхом, водяными лилиями и осокой, что произвел на всех большое впечатление, мне же показалось, что ничего чудеснее я за всю свою жизнь не видывала. И даже нынче, когда я состарилась, все это вовсе не кажется мне смешным. Крестьянину, который с безразличием глядит на отдельные предметы, всякий час попадающиеся ему на глаза, нужно нечто цельное, что привлекло бы его внимание, равно как и его взор, и что в некоем подобии театрального действа обобщило бы его смутное размышление. Когда всем открылось это столь простое сооружение, — ведь многие, быть может, надеялись увидеть нечто куда более чудесное! — которое, однако, всем пришлось по душе, хотя и невозможно было объяснить почему, сперва воцарилось молчание. Что до меня, то я поняла все же немного больше, нежели другие, потому что знала грамоту и стала читать надпись, сделанную у подножия сплетенного из колосьев креста. Читала я ее про себя, вся погрузившись в это занятие; как далека была я в тот миг от мысли о той важной роли, которая была мне уготована в предстоящей церемонии! Вдруг братец взял меня за руку и повлек за собою — ведь я не сидела за длинным столом; места всем там не хватило, и я устроилась на траве вместе с ребятишками. Братец подвел меня к алтарю и велел прочитать вслух, да погромче, то, что на нем было написано. Я читала, а все, кто был там, затаив дыхание, слушали.«Этот алтарь воздвигла благодарная беднота, чей труд, благословенный небесами, будет вознагражден на земле».
И тотчас же изо всех уст вырвалось: «Ах!» — словно вздох облегчения после долгих лет тяжкого рабского труда. Все почувствовали, что теперь они станут хозяевами этих колосьев, этих плодов, этих животных, всех даров земли, которые со временем смогут для себя приобрести. Люди бросались друг другу в объятия, плакали и говорили такие слова, что и сам, кто их говорил, никогда бы не подумал, что когда-нибудь их произнесет. Старейшина нашей коммуны взял кувшинчик вина — то была его доля — и сказал, что лучше принесет его в дар, нежели выпьет. Он вылил вино на алтарь, и многие поступили так же, потому что в наших деревнях всегда сохранялся старый обычай — жертвенное возлияние вина. Монахи, которые при этом присутствовали и сделали вид, что благословляют алтарь, — по их словам, для того, чтобы эта церемония не выглядела бы уж и вовсе языческой, — потом говорили, будто бы весь приход был пьян. Да, приход был пьян, но не от выпитого вина, которого только и достало, что каждому губы смочить. Крестьянам хотелось, чтобы вина попробовал каждый, и пьяны они были не от вина, а от радости, от надежд, от дружеских чувств. Монахам не препятствовали лить святую воду, с ними даже чокались. Никто не таил на них обиды, хотя им по-прежнему не доверяли, но ненависти в тот день не было места в крестьянских сердцах; к тому же на хотели обижать монахов из-за братца — его-то ведь все любили. Когда народ немного успокоился, критиканы — а такие находятся всегда и везде — сказали, что этому уличному алтарю все же кое-чего не хватает: не возвышается над всеми этими живыми тварями чистая христианская душа! — Ваша правда, старики! — вскричал братец. — И я приглашаю всех матерей подвести детишек к алтарю нашей родины: пусть они коснутся его! А над этими поросшими зеленой травою ступенями должна еще возвышаться фигура ангела возносящего к небесам моление о бедняках — точь в точь, как на алтарях в праздник тела господня. Сейчас я выберу для вас ангела, а если мой выбор придется вам не по вкусу, вы скажете почему. И тут он взял меня за руку и, подталкивая, потому чти я упиралась, заставил опуститься на колени у самого креста из колосьев, на верхней ступени алтаря. Все страшно изумились, хотя и без тени досады: против меня никто ничего не имел, но крестьянин любит, чтобы ему все объяснили. Братец заговорил, будто проповедь произносил, это тоже всех очень изумило, ибо братец не был красноречив и обычно, выразив несколькими словами все, что хотел сказать, не добавлял более ни слова, не заботясь о том, внимательно его слушали или нет. Но на этот раз он, должно быть, захотел непременно убедить всех в своей правоте, потому что говорил много и среди прочего сказал и такие слова: — Друзья мои, вместе с вами я вопрошаю себя: какие чувства в душе христианина более всего угодны богу? И я полагаю, что это — мужество, кротость, почитание родителей и добросердечие. Девочка, которую я выбрал, — самая бедная в вашем приходе, но она никогда ничего ни у кого не просила. Ей нет и четырнадцати, а она работает как взрослая. Он» ухаживала за своим дедушкой и оплакивала его смерть с нежностью, далеко превосходящей ее возраст; но это еще не все, она обладает дарами, которые тоже угодны богу, если и употребить на доброе дело. Она очень умна и хорошо и быстро выучивается всему, чему ей удается учиться. То, что она знает, она не хранит для себя одной, она спешит поделиться и с другими. Она учит всех подряд, не выбирая тех, кто может ее отблагодарить, она заботится о самых бедных так же, как и о самых богатых. Если вы ободрите ее и поддержите в труде, то через год многие из ваших детей научатся читать, а это будет для вас великое благо, ибо в ваших делах вам больше всего мешает то, что вы не в состоянии разобраться в бумагах и вынуждены ставить под ними крест вместо подписи, и потому вы питаете к ним недоверие, которое часто заставляет вас упускать счастливый случай. Все поняли, что он говорит о приобретении национальных существ и считает такое приобретение разумным и безопасным хотелось поверить братцу и они поверили; поняли они его слова, касавшиеся меня, и в толпе поднялся одобрительней гомон, очень меня изумивший, ибо я вовсе и не подозревайте смышленее и лучше других. Я думала о дедушке, о том, о чего был бы он счастлив, если бы услышал, как меня чествуют и не смогла сдержать слезы. Увидев, что вместо того, чтобы возгордиться, я держусь скромно и смущена, все прониклись ко мне симпатией; никто слова не сказал против, а старику Жиро даже кое-что пришло на ум; всю жизнь он был дружен с дедушкой, а после смерти ого оказался самым старым в нашей коммуне. По этой причине его сделали на празднике председательствующим, и в петлице его дрогетовой куртки красовался букетик из колосьев и цветов. — Дети мои, — сказал он, взобравшись на большой камень, чтобы его лучше слышали, — по моему разумению, братец сделал хороший выбор и хорошо рассказал, и уж поверьте мне, мы сделаем для этой малышки все, что в наших силах. Дом ее принадлежал монахам, мы купим его и отдадим ей в собственность, а также и огородик, что при нем. Если мы понемногу (ложимся, кто сколько сможет, мы не больно потратимся, зато это будет наш опыт в том деле, о котором речь, наше первое приобретение национального имущества, и если когда-нибудь нас попробуют в нем упрекнуть, мы сможем сказать, что пошли на это из милосердия, и вовсе не ради выгоды. Все одобрили его предложение, и наш мэр, папаша Шено, который был у нас самым богатым, всем предложил подписаться. Были такие, что давали по два су, а были и такие, что давали по два и три ливра. Мэр дал пять, и дело было сделано: дарственную должны были составить на мое имя, хотя я еще не Достигла совершеннолетия. Шено взял на себя опеку над моей собственностью. Моих братьев все уважали, но оставлять в их руках мое имущество не захотели. Я сразу же спросила, имею ли право предоставить им жилье, потому что предпочла бы ничем не владеть, нежели их прогнать. Мне сказали, что это мое дело и что я могу их держать до тех пор, пока мы будем ладить, и добавили, что мои добрые чувства доказывают еще раз, что мне и впрямь следовало помочь. Я стала обнимать мэра, и весь и муниципалитет, и всех стариков, и всех старух. И тут все заговорили о танцах, прикололи мне к чепчику букетик цветов, и папаша Жиро, с трудом передвигавший ноги, пожелал открыть танцы в паре со мной. Танцевать я умела, как и любая другая, но так как была в трауре, мне этого вовсе не хотелось. Мне сказали, что все равно надо танцевать, потому что это совсем необычный праздник. Такого никогда не видывали и никогда уже больше не увидят, такой день радует души покинувших нас, и если бы дедушка был с нами, так это он, как старейший, танцевал бы в паре с первой покупщицей. Я была вынуждена сдаться, но не прошло и двух минут, как папаша Жиро выбился из сил, и я поспешила уйти, потому что рассуждала так: «Они говорят, будто дедушка был бы доволен. Они не знают, что он умер с горя, так и не разобравшись в том, из-за чего радуются нынче их сердца». Я пошла домой и опустилась на колени у дедушкиной кровати, стоявшей на прежнем месте и скрытой старыми занавесками из желтой саржи — они были задернуты с тех самых пор, как мы проводили дедушку в последний путь. В голове у меня все перепуталось. Я боялась, что дурно поступила, приняв имущество, которое он никогда не смог бы приобрести и, быть может, никогда не пожелал бы получить в подарок. А с другой стороны, я говорила себе: «Братец лучше про все это понимает, а он говорит, что долг бедняков в том, чтобы выбраться из нищеты на радость господу, который любит труд и душевную стойкость». Я долго-долго думала и под конец все же решилась принять подарок, сделанный от души и по доброте сердечной. Я вспомнила также, что это приобретение было первым подобным опытом наших крестьян, и, значит, у меня нет права отказываться от их подарка. И вот, приняв, решение, я удивленным взглядом в первый раз оглядела этот ветхий домик. Он был очень старый, но еще крепкий. Вделанный в стену очаг с заостренной аркой, в нишах — каменные скамьи. Балки совсем почернели, и потолок прохудился, пропуская и снег и дождь. В этом были виноваты мои двоюродные; братья: стоило взять две-три доски, приложить немного труда — и все было бы в порядке. Дедушка частенько им указывал, но только они были из тех, кто много болтает, как бы устроить жизнь получше, и ничего не делает даже для того, чтобы не жить хуже. Теперь я буду вправе требовать — поскольку предоставлю им мой дом, — чтобы они починили его ради своего же собственного здоровья. Мой дом! Я твердила эти слова, будто в полусне, да ведь все это и в самом деле походило на сновидение. Когда подписывались на покупку дома, говорили, будто с садом там станет имущества на добрую сотню франков! Сотня франков! По моим понятиям, огромные деньги. Значит, я богата? За минуту я несколько раз обошла сад. Посмотрела на хлев Розетты: весной Розетта принесла мне ягненка, он уже подрос и стал прехорошенький — я так о нем заботилась! Если его продать, у меня будут деньги на каменное строение рядом с тем, которое дедушка поставил своими руками — из уважения к нему я хотела сохранить этот старый хлев. Хватило бы мне тогда денег и на две, а то и на три курицы, а потом — кто знает? — может быть, купив маленькую козочку, я сумею вырастить славную козу? Я повторяла, нимало о том не подозревая, басню про Перретту и кувшин молока. Но только я не была той девицей, что, ради удовольствия немножко попрыгать, пролила бы молоко, и моим мечтаниям суждено было увести меня в такую даль, о которой я в те времена и помыслить-то не могла.
VI
И вот, хоть я была премного всем довольна, заботы завладели мною, и я все еще сидела в глубокой задумчивости под живой изгородью из терновника и лещины, когда братец пришел спросить меня, уж не осталась ли я недовольна тем, что он для меня сделал, и с чего это я вроде бы дуюсь на людей, пожелавших меня осчастливить. — Неужели ты одного мнения с папашей Жаном, этим беднягой, который оплакивал свое рабство и свою нищету? — спросил он меня. — Нет, — отвечала я. — Доживи дедушка до сегодняшнего дня, быть может, он понял бы то, что уже все начинают понимать; но я скажу вам одну вещь, которая пришла мне теперь в голову. Я в одно время и рада и огорчена. Я вижу, какие работы здесь надо было бы сделать, чтобы привести дом в порядок и сберечь имущество. Знаю также, что братья мне ничуть не помогут. Станут они держаться за то, что им не принадлежит! Может, даже начнут мне завидовать. Они привыкли потешаться надо мной, потому что я больше об них забочусь, нежели они сами. Вам хорошо известно, что они немного дикари и держатся за свое дикарство, что они скорее разрушат, чем построят, и что они всегда довольны, когда день прошел и никто им не напоминает о дне, что наступит. Ну что ж, быть может, они и правы, и я зря буду лезть из кожи, когда им это совсем ни к чему. Мне ведь еще так мало лет, сумею ли я в моем возрасте управляться с имуществом, которое стоит целых сто франков? Братья будут меня донимать. Какой совет дадите вы? Наверное, рассудите как они? — Я больше не рассуждаю как они, — ответил он. — Прежде и они и я — мы считали, что чем больше печешься, чтоб было лучше, тем хуже получается, вот я и решил жить как придется, не думая о завтрашнем дне. Но с тех пор прошел год, Нанон, и я очень изменился. Слушая, что говорят монахи, я о многом стал размышлять. Они не выучили меня ни латыни, ни греческому, зато я убедился в их нежелании делать добро беднякам, отцами и покровителями которых они себя именуют. Я видел, как смеются они над бережливостью и трудом, как поощряют лень и говорят, что как оно шло всегда, так будет идти впредь, и решил сам измениться и устыдился прежней своей лени. Я о многом думал; да, малышка, я многому научился сам, без чужой помощи, пока бегал по зарослям и вересковым пустошам. Мое тело нуждается в движении, мои ноги должны бегать. Подумай-ка, мне всего восемнадцать, я тощий, как козел, и мне, как козлу, нужно бегать и прыгать. И все же я много передумал: я ведь часто бываю один, когда монахи работают, и ты не увидишь теперь, чтобы я бегал с ребятишками, лишь бы не остаться без компании. Ты, верно, замечаешь также, что когда я начинаю говорить, мне есть что сказать: это потому, что у меня в голове бродят мысли. Они еще очень смутные, но сердце подсказывает мне, что из них родится что-то доброе и человечное, ибо я презираю тех, кто лелеет злобу. В тот день, когда я понял, что больше не монах, я переменился так, как переменилась бы Розетта, если бы, вместо того чтобы блеять, она принялась болтать с тобой. — Как? Вы уже не монах? Ваши родители изменили свое намерение? — Об этом я ничего не знаю, они молчат, будто уже похоронили меня. Но зато я знаю, что при их гордости они никогда не позволят мне принять от государства милостыню, на которую станут теперь жить монашеские ордена. Если это будет решено окончательно и определенно, они не потерпят, чтобы дворянин, который внесет свой вклад в общину, согласился бы принимать вспомоществование. Впрочем, готовится закон, если он уже не вышел, — ведь я совсем не знаю, что творится в мире, — который не разрешает увеличивать число членов монашеской общины. Старым монахам дадут спокойно умереть, заботиться о хлебе насущном им не придется, а молодым людям не позволят более связывать себя навеки обетом. Я не стану монахом и так радуюсь этому, словно только сейчас и начинаю жить. Ты думала, я смирился со своей участью… твоя правда, я смирился, но как отчаявшаяся душа, что из гордости не желает продолжать бесполезное сопротивление. А с тех пор как я глотнул, как говорится в нынешние новые времена, воздуха свободы, я отвергаю эту участь! — Но что станете вы делать, братец, если ваши родители ничего вам не выделят? — Если они бросят меня на произвол судьбы, — правда, я в это не верю, — что ж, стану крестьянствовать, для меня это не составит труда. Я отлично умею орудовать топором и мотыгой. Мне кажется, что жить, как мне хочется, совсем просто, ведь теперь передо мной открыт весь мир. Я ничуть не беспокоюсь за свою судьбу. На худой конец, стану солдатом… Надежда и радость переполняют мне сердце. Я останусь, пока меня держат здесь, и не буду скучать, не проявлю нетерпения, потому что у меня тут есть друзья и более никто меня не презирает. Обо мне не беспокойся. Подумай лучше о самой себе: смотри не отчаивайся, если тебе будет нелегко управляться с твоим маленьким имением. Видишь ли, сегодня крестьянин стоит посередине между своим прошлым, когда он предпочитал тяжко страдать, нежели работать, неведомо ради чего, и будущим, когда, трудясь в поте лица, он забудет о страданиях. В тебе всегда жило мужество, ведь ты первая и научила меня ему. Сохрани его, это высокое чувство, и если понадобится сделать усилие, лучше его сделать, нежели возвращаться к болезненному оцепенению души, в котором держит рабство тех, кто ему покоряется. Не помню хорошенько, в каких именно словах братец мне все это высказывал; я передаю их как могу, и, вероятно, ему пришлось немало постараться, чтобы они дошли до моего сознания, но это произошло, и они запечатлелись в нем навсегда. Они отвечали тому естественному чувству, которым я руководствовалась в жизни, и я извлекала из них для себя пользу в течение всей своей жизни. Привлеченные шумом, мы вернулись на празднество. Прихожане из двух соседних приходов пришли к нам брататься, как тогда говорили. Они принесли с собой волынки и дудки и водрузили свои флажки рядом с нашим на ограде чудотворного источника. Никогда в Валькрё не видывали такого веселья, и только с наступлением ночи люди с трудом расстались друг с другом, нехотя расходясь по своим селениям. Приближалась страдная пора, жители равнины готовились убирать хлеба, кто на чужих, а кто и на своих полях, и, разумеется, долг перед землей стоял у них на первом месте. Эти коммуны были побогаче нашей, расположенной в горах, где и жать-то особенно нечего было; и так как кое-кто из наших на это жаловался, соседи Сказали нам: — Решайтесь, купите у ваших монахов их земли, и там, где они собирали лишь дрок, вы вырастите ячмень и овес. Расставаясь, все обнимались и клятвенно заверяли друг друга, что будут всегда держаться вместе и помогать в случае нужды. Уходивших пошли провожать, и, возвращаясь уже в темноте, мы с братцем стали свидетелями события, которое навело меня на серьезные раздумья. Уж не помню почему, только мы вдвоем отстали ото всех, и, чтобы нагнать их, нам взбрело в голову пойти по охотничьей тропке, едва-едва проторенной через овраги. Быстро идя по мягкому мху, заглушавшему шаги, мы начали нагонять двоих людей: девушку, хорошо мне знакомую, потому что она была из наших мест, и рослого парня в рясе — даже ночью она сразу выдавала, кто он таков. Они нас не заметили и какое-то время шли перед нами. — Я даже слушать вас не хочу, — говорила девушка, — вы и не собираетесь на мне жениться. А он, брат Сирил, один из двух молодых валькрёзских монахов, отвечал ей: — Сделай по-моему, и клянусь, что мы поженимся. Завтра же я оставлю монастырь. — Оставьте монастырь, пойдемте вместе со мною к моим родителям, — сказала она, — вот тогда я и буду вас слушать. Она хотела уйти, он стал ее удерживать; но, увидев нас, устыдился и свернул в сторону, противоположную той, куда убежала от него девушка. Братец, ничуть не удивленный, продолжал молча идти рядом со мною; я же была вся во власти любопытства и не могла удержаться от вопросов. — Вы думаете, — спросила я, — этот брат женится на Жанне Мулино? — Конечно, — ответил он. — Кто ему может помешать? Он уже давно об этом мечтает; пусть обзаведется семьей, мужчина не может жить один. — Так, значит, вы тоже женитесь? — Непременно, я хочу иметь детей, хочу сделать их счастливыми. Но я еще слишком молод даже думать об этом. — Слишком молоды? Через сколько же времени вы станете об этом думать? — Лет через пять или, быть может, шесть, когда у меня уже будет какое-то положение. — Вы, верно, найдете себе богатую? — Не знаю, это будет зависеть от того, что моя семья захочет для меня сделать; но я возьму в жены только ту женщину, которую полюблю. — А разве бывает иначе? — Бывает. Иные женятся только ради выгоды. — Значит, когда-нибудь вы станете очень счастливым? Но я-то вас не увижу тогда, даже не буду знать, где вы, а вы и вовсе меня забудете. — Я никогда не забуду тебя, в какие бы края меня ни закинуло. — Как бы я хотела, чтобы вы кое-чему еще меня научили. — Чему же это? — Находить разные страны на карте, — ну, такой, какая висит в монастыре. — Ладно, сам выучусь географии и тебя выучу. Мы расстались у монастырских ворот. Со двора все еще уносили столы и скамьи, а старики переговаривались между собой: — Второго такого счастливого дня нам уже не видать. Радость никогда не загащивается. Они оказались правы — за годы революции то был счастливейший день для французов. Потом все смешалось, все покорежилось. Люди опытные это предвидели, но меня, при полном моем неведении, слова стариков привели в ужас. Они, казалось мне, грешат несправедливостью и неблагодарностью, потому что, считала я, господь бог не отнимет у людей того, что для них является благом. Я вернулась в свою лачугу на горе, полная грустных мыслей — мыслей о том, что придет день, и братец уедет от нас, и я больше никогда его не увижу. Глаза мои наполнились слезами. Пророчество стариков сбылось: я пережила счастливейший день своего детства, сейчас он подошел к концу, и меня уже пугало будущее; оттого-то рыдания и душили меня. И все-таки конец года не принес в наши деревни особенно горестных событий, но прежней радости тоже не было, да и вести, долетавшие до нас, внушали беспокойство. Поэтому никто не спешил приобрести монастырские земли, и мэр, получивший совсем мало денег, обещанных на покупку моего дома, вынужден был ограничиться тем, что заплатил монахам за его наем. Нас многое тревожило, и среди прочего — рассказы о том, что в Париже идут большие споры между сторонниками короля и Национальным собранием; что дворяне и священники не ставят ни во что декреты восемьдесят девятого года и грозятся перессорить те коммуны, которые, казалось, были так единодушны в ненависти к аристократам. Торговля замерла, нищета росла, и все снова стали бояться разбойников, хоть толком не знали, откуда им взяться. Было хорошо известно, что во многих местах идут грабежи, жгут лес, громят замки, но это все было делом рук крестьян, таких же, как мы, и им находили оправдание, считая, что владельцы поместий первые на них напали. Между тем все чаще разгорались споры; не о республике — тогда еще понятия не имели, что это такое, — а о религии. Монахи, которые сидели тихо, как мыши, были страшно раздосадованы, когда оба молодых монаха, Сирил и Паскаль, удрали ранним утром, наплевав, что называется, на все. В приходе много над этим потешались. Трое из четверых оставшихся монахов разозлились и начали вести проповеди против революционного духа, а между тем они сами тоже устроили у себя в монастыре революцию: отец настоятель умер, но они никак не могли договориться, кого назначить его преемником, и жили теперь республикой, никем не управляемые, никому не повинуясь. Братец, — между прочим, с тех пор как увидели, что он не намеревается оставаться в монастыре, его помаленьку начали величать господин Эмильен, — так вот, братец молчал, считая недостойным разглашать внутренние распри, коим он был свидетель; но, зная, что я умею хранить тайны, он рассказывал мне о них, когда мы оставались наедине. От него я узнала, что отец Фрюктюё, этот толстый грубиян, которого мы так не любили, оказался единственным искренним человеком, лучшим из всех четырех братьев. Натурально, он не был в восторге от продажи монастырского имущества, ибо относился к этой продаже всерьез и считал, что она вот-вот должна произойти, но твердо решил не делать ничего, чтобы этому воспрепятствовать, в то время как другие, особенно отец Памфил, подталкиваемые и подстрекаемые тайными письмами и предписаниями, собирались натравить друг на друга крестьян, поднять самых богомольных, запугав их небесными карами, против тех, кому церковное имущество не казалось святыней; короче говоря, монахи желали гражданской войны, потому что их уверили, что ее желает бог, и, будь они порасторопнее и похитрее, они бы и в самом деле науськали нас друг на друга. Как-то вечером, когда, накормив своих взрослых братьев ужином, я шла ночевать к Мариотте, меня перехватил Эмильен и отозвал в сторонку. — Слушай, — сказал он, — про это будем знать только ты да я. В нашей общине и так хватает волнений, и то, что я тебе скажу, не должно быть предано огласке. Нынче вечером за ужином я не увидел отца Фрюктюё. Днем у монахов были большие споры с ним, и они объяснили мне, что он заболел. Я пробрался в келью к эконому, его там не было, и так как я стал искать его повсюду, мне сказали, что на него наложено наказание, что меня это не касается, и велели идти к себе. Я сказал вполне откровенно, что наказывать брата за его политические взгляды представляется мне злоупотреблением властью, и спросил, в чем состоит это наказание. Мне приказали молчать и пригрозили тоже упрятать под замок. О! Выходит, бедняга монах сидит где-то под замком? Я увидел, что, продолжая стоять на своем, только поступлю во вред ему, что все переменилось и они готовы сейчас прибегнуть к строгостям. Не возразив больше ни слова, я пошел к себе в келью, сделав вид, будто подчинился им, но сейчас же, словно кошка, выскочил через окно, на крышу, отыскал место, где можно спуститься, и вот — я здесь. Хочу знать, где сейчас бедняга эконом. Если он в карцере, чего я опасаюсь, то это место жуткое, и они могут замучить его там до смерти, даже просто заставив поститься, потому что для него пост — тяжкое испытание; ведь он привык есть вволю и ни в чем себе не отказывать. Но я знаю, как туда проникнуть, правда, не в самый карцер, а в маленький закуток, откуда в темницу попадает немного воздуха. Я не раз пытался выяснить, сможет ли кто-нибудь очень худой туда проскользнуть, поговорить с заключенными и прийти им на помощь, но сам ни разу не смог туда пролезть, а между тем мешал мне сущий пустяк — мои чересчур широкие плечи; но ты, узкая и тонкая, все равно что веретено, ты без труда пролезешь. Пошли! Если монах в карцере, я постараюсь как-нибудь его освободить, если же его там нет, усну спокойно, так как в этом случае он не будет наказан слишком жестоко. Я ни минуты не раздумывала. Скинула сабо, чтобы они не стучали по камню, и чуть заметной козьей тропкой, что вела прямо вниз, на задворки монастыря, пошла вслед за Эмильеном. Он подхватил меня на руки, когда надо было спрыгнуть с невысокой, но отвесной скалы, а потом мы с ним пробрались в некое подобие погреба. Я прекрасно знала все эти закоулки, где каменное строение было почти неотличимо от скалы, — нет такого тайника, куда бы не проник ребенок, — но не знала, что скрывалось за слуховым оконцем в толще стены, запертым на ключ. Уже давно Эмильен, который всюду совал нос, узнал о существовании этого места, и вот сегодня с утра он заметил, что окошечко открыто, чтобы в карцер проникал воздух, и, значит, там кто-то сидит. — Вот в это окошечко ты и должна пролезть, — сказал он мне. — Смотри только лезь осторожней, не поцарапайся.VII
Я даже не видела той черной дыры, в которую собиралась лезть, ибо, помимо того, что на дворе была ночь, в погребе и среди бела дня царила тьма, и передвигаться там можно было лишь ощупью; но, ни секунды не колеблясь, я легко пролезла в дыру, потом проползла до решетки на маленькой отдушине и прислушалась. Сперва я ничего не услышала, затем уловила какие-то еле слышные слова. Наконец голос стал громче, и я его узнала: то был голос отца эконома. Я осторожно окликнула его. Он испугался и мгновенно замолк. — Не бойтесь, — сказала я ему, — это я, маленькая Нанетта, меня привел братец Эмильен: он тоже здесь, стоит сзади и хочет узнать, не очень ли вы мучаетесь. — Ох, спасибо вам, храбрые вы мои ребятки! — отвечал он. — Благослови вас господь! Конечно же, я мучаюсь, мне худо, потому что я задыхаюсь; но вы ведь ничем тут не поможете. — Вы, наверное, к тому же хотите есть и пить? — Нет, мне дали хлеба и воды, и я как-нибудь устроюсь спать на соломе. Ночь пройдет быстро, а утром, быть может, наказанию моему придет конец. Уходите-ка подобру-поздорову; если Эмильена застанут здесь и узнают, что он замышляет помочь мне, его тоже накажут, как меня. Когда я, пятясь, возвратилась к Эмильену, тот попросил меня снова доползти до приора и передать ему, что одна ночь — это пустяк; а вот если его и завтра не выпустят, так мы об этом узнаем ипостараемся освободить. — И не думайте об этом! — воскликнул эконом, услышав мои слова. — Я должен подчиняться, не то со мной обойдутся еще хуже. Долго вести переговоры было невозможно, ибо я задыхалась в этой каменной кишке и к тому же отнимала от заключенного ту малость воздуха, которая поступала к нему через отдушину. Вернувшись к Эмильену, я сказала: — В одном я не сомневаюсь — если вы вернетесь в монастырь, с вами поступят, как с этим бедным братом. — Не беспокойся, — ответил он, — я буду очень осторожен. Если отец Фрюктюё не появится завтра, я, зная, где он, придумаю, как ему помочь. Не так уж я глуп, чтобы позволить засадить себя, когда мне нужно вызволить эконома. Мы расстались. Назавтра узник все еще оставался в карцере, и послезавтра тоже. Каждый вечер мы разговаривали с ним, и мне удалось просунуть ему немного мяса, которое Эмильен стащил для него; мясной запах порадовал было приора, но тут же он нам сказал, что есть не может, потому что совсем разболелся. Голос его все слабел, и на третий день вечером у него, казалось, не было сил отвечать нам. Мы только и смогли понять, что он должен оставаться здесь, пока не поклянется в чем-то, в чем клясться не хочет. Уж лучше смерть. — Дальше осторожничать, — сказал мне Эмильен, — было бы подлостью! Пойдем со мной к мэру, ты засвидетельствуешь, что я не лгу. Пусть магистрат потребует, чтобы монахи освободили несчастного эконома. Это оказалось не так легко, как он себе представлял. Мэр был человек вполне порядочный, но не больно отважный. Он нажил состояние, арендуя у монахов их лучшую мызу, и не очень-то был уверен, что они не станут вновь здесь хозяевами. Он, правда, говорил, что эконом — единственный достойный человек в монастыре и что монахам следовало бы выбрать его своим духовным пастырем, но отказывался верить, будто братья собираются уморить его в темнице. К счастью, тут подошли другие члены муниципалитета, и Эмильен в ярких красках изобразил им всю историю. Он напомнил, что закон освобождал монахов от их обета, отпускал на все четыре стороны. Долг муниципалитета, сказал он, заставить уважать закон, тут не может быть двух мнений. Если же валькрёзский муниципалитет ему откажет, он немедленно уедет в город, где магистрат, несомненно, и храбрел и человечнее. Я была очень довольна его пламенной речью и сама вступилась в защиту приора перед мэром, который меня любил и стал расспрашивать про монастырский карцер, хорошо зная, что я скажу только правду. — Ну что ж, — сказал он, — надобно нам, старикам, стать под команду этих двух ребятишек! Забавно это все же; да, мы живем во времена больших перемен: мы сами этого хотели, значит, нужно сносить и последствия. — Вы видите, — сказал ему Эмильен, — мы пришли к вам, преисполненные почтения и со всевозможными предосторожностями. Мы никому, кроме вас, не сказали о том, что происходит, а ведь могли бы поднять на ноги молодых парней, и пленник был бы уже на свободе; но они, быть может, дурно обошлись бы с монахами, а вы ведь именно этого и не хотите. Так идите же и говорите от имени закона. Мэр пригласил пойти вместе с ним нескольких членов совета. — Признаюсь, — сказал он, — что мне не больно охота идти одному: они, монахи, прикидываются овечками, но стоит их разозлить, так живо показывают зубы и кусают до крови. Все без лишнего шума отправились в монастырь и были там хорошо приняты. Монахи ни о чем не догадывались, но когда мэр сказал, что должен кое-что им всем официально сообщить, но он не видит среди них эконома, они, смешавшись, сослались на его болезнь. — Больной он или здоровый, но мы хотим его видеть, проведите нас к нему. Членов муниципалитета заставили долго ждать, и, желая усыпить их внимание, любезно угощали лучшим вином. Вино было принято и выпито, отказаться было бы неучтиво, но мэр все же настоял на своем, и его проводили в келью эконома. У монахов хватило времени перевести его туда, объявив ему, что он прощен, и, когда мэр осведомился о его здоровье, бедняга, не желая предавать братьев, ответил, что у него приступ подагры, поэтому он и не выходит из кельи. На секунду мэр поверил ему и даже подумал, что мы соврали, но он был достаточно проницателен, быстро разгадал правду и сказал монахам: — Почтенные отцы, я вижу, отец Фрюктюё очень болен; но нам известна причина этого недуга, и у нас есть приказ его пресечь. Если отец Фрюктюё хочет вас покинуть, он волен в этом, и мой дом в его распоряжении; в противном случае мы ставим вас в известность, что если вы снова заставите его жить в сырой норе, вам будет худо, ибо в нашем распоряжении есть закон, чтобы его защитить, и национальная гвардия, чтобы подкрепить закон. Монахи сделали вид, будто не понимают, о чем речь. Отец Фрюктюё вежливо отказался от защиты, которую ему предлагали, но остальные намотали все это себе на ус. Они не предполагали, что мэр окажется столь решителен, и перепугались. Назавтра они собрали совет, и отец Фрюктюё, который мог их погубить, но не пожелал этого, был избран старшим над тремя другими. Его окружили заботой, холили и лелеяли, и он вовсе не помышлял о мести. С этих пор монахи держались тихо, но они сразу догадались, что Эмильен действовал против них, и смертельно его возненавидели, хотя и не смели открыто проявить свою враждебность. После этого приключения мы с Эмильеном сделались закадычными друзьями. Мы вместе совершили такое дело, значение которого, быть может, и преувеличивали, потому что оно льстило нашей детской гордости, но мы вложили в него всю душу и пренебрегли опасностью. К нам уже можно было относиться как к взрослым. Начиная с этого дня Эмильен стал очень рассудительным, его просто узнать было нельзя. Он по-прежнему охотился, но только ради того, чтобы отдавать дичь больным беднякам, и не носился больше с нашими мальчишками по лугам. Он читал книги и газеты, какие приходили из города, и еще монастырские книги, — Эмильен говорил, что среди хлама там попадаются и хорошие. Он старательно учил меня, за долгие зимние вечера я сделала большие успехи и теперь понимала почти все, о чем он мне рассказывал. Больше не выплачивая арендную плату монахам и кое-что зарабатывая — я начала уже ходить на поденщину и стирала в монастырской прачечной, — я выбралась из нищеты. Мои ученики тоже приносили мне доход, потому что учиться грамоте у нас вошло в моду; правда, мода эта продержалась лишь до продажи национального имущества, потом о грамоте уже никто и не думал. Но у меня был второй ягненок, и я продала первого довольно удачно, так что смогла купить вторую овечку; мне принесли двух кур, я очень о них заботилась, и они стали чудесными несушками. Каково было мое удивление, когда к концу года у меня оказалось накоплено пятьдесят ливров! Мои взрослые братья поражались моей ловкости, — ведь они зарабатывали во много раз больше моего, но ничего не умели отложить; впрочем, видя, что я стараюсь ничего не брать с них за жилье, они оказались достаточно рассудительными, перекрыли крышу и расширили хлев. Весной 1791 года мы узнали важную новость: закон предоставлял восьмимесячную отсрочку платежей тем, кто покупает национальное имущество. Тут крестьяне уподобились стае жаворонков, когда она камнем падает в хлеба: за три дня они все раскупили. Участки были совсем крохотные и шли за бесценок, так что раскуплены были все до единого клочки земли в долине. Каждый купил, что смог, и хотя отец Памфил насмехался и пугал крестьян, красноречиво расписывая, что земля в их руках долго не останется, ибо с теми, кто свершит такое святотатство, случится беда, поверивших его словам было очень мало. Впрочем, отец Фрюктюё предписал ему молчание, он требовал уважения к закону, хотя и очень горевал из-за него. Что до меня, так мне удалось купить мой дом за тридцать три франка, и я смогла даже вернуть часть денег из собранных для меня в складчину на празднике Федерации, попросив мэра раздать эти деньги бедным. Себя-то я считала за богатую, — как же, ведь я была уже собственницей, и у меня осталось еще пятнадцать франков после того, как деньги были возращены. Но никто из нас не мог и помыслить о покупке монастыря с его огромными строениями и оставленными за ним землями, которые, будучи очень хороши, были нам совсем не по карману. Думали уже, что монахи в нем останутся надолго, если не навсегда, когда в середине мая появился некий господин, сопровождаемый мэром и одним судейским из города, и, показав бумаги, удостоверявшие, что он является владельцем монастыря и его угодий, попросил братию через судебного пристава очистить все помещения. Вероятно, трое монахов, выбрав отца Фрюктюё настоятелем, в конце концов поняли, что он ничему воспрепятствовать не сможет. Они приняли меры и подыскали себе жилье, не дожидаясь судебного приказа, и когда новый владелец вошел в монастырь, он обнаружил там только одного настоятеля, который пересчитал деньги и вписал их в книгу. Эмильен, присутствовавший при этом свидании, ибо отец Фрюктюё попросил его помочь ему привести в порядок счета, рассказал мне все, как оно было. А теперь надобно сказать несколько слов о покупщике. То был адвокат из Лиможа, патриот, который рассчитывал перепродать свою покупку и сделать выгодное дело, если закон останется в силе, но хорошо понимал, что во времена революции риск всегда очень велик; тем не менее он шел на этот риск из преданности революции. Все это он изложил настоятелю, который принял его очень любезно и захотел побеседовать с ним. — Я верю вам, — сказал он, — у вас лицо человека достойного, и мне говорили, что вы пользуетесь хорошей репутацией. Что касается меня, то я всегда думал, что распродажа нашего имущества начнется тотчас же, как Национальное собрание объявит рассрочку платежей. Поскольку дело сделано, мне остается только подчиниться. Но вы застали меня за подсчетом того, что наша община имела наличными деньгами, и я бы хотел узнать от господина мэра, который здесь присутствует, кому я должен их передать, потому что теперь мы имеем право только на государственную пенсию. Господина Костежу (таково было имя покупщика) удивила честность и прямота настоятеля. Он был весьма предубежден против монахов и не удержался от вопроса — так ли щепетильны и другие члены общины в отношении своих наличных денег. — Сударь, — ответил ему настоятель, — вы вовсе не должны касаться моих братьев во Христе. Они покинули обитель, не взяв с собой ничего из общего имущества. Да они и не смогли бы это сделать, потому что я был у них и настоятелем и казначеем. Если вы подозреваете недостачу денег, то это подозрение должно пасть только на одного меня. Мэр уверил его, что ни у кого нет никаких подозрений; адвокат попросил извинения за те слова, что вырвались его, а судейский объявил, что не сомневается в честности настоятеля. Он принял сумму, которая равнялась одиннадцати тысячам франков и которую он должен был возвратить государству. Он выдал на нее расписку и предложил настоятелю, явить свои права на обещанный пенсион. — Я не буду ничего заявлять и не хочу пенсиона, — ответил тот. — Я принадлежу к семье зажиточной, которая, радостью примет меня и даже возместит мне мою часть наследства, поскольку по закону я более не принадлежу к монашескому ордену. Покупщик, видя, сколь настоятель бескорыстен и законопослушен, уверил его в том, что никто и не собирается грубо вытолкать его из монастыря, и пригласил остаться на несколько дней и более, если он того пожелает. Настоятель поблагодарил и сказал, что он уже давным-давно готов покинуть эти места. Тогда занялись беднягой братцем, который оставался без единого су и в том самом платье, что было на нем надето. — А как же вы, сударь? — спросил его судейский. — Позаботится ли кто-нибудь о вашей судьбе? — Этого я не знаю, — ответил братец. — Кто же вы? — Эмильен де Франквиль. — В таком случае… У нас нет никаких оснований беспокоиться за вас: ваша семья из самых богатых в провинции, и вы, конечно, воссоединитесь с ней? — Но я не получил от моих родителей никакого предписания и не знаю, где они, — сказал Эмильен с некоторым замешательством. Покупщик, мэр и судейский с изумлением переглянулись. — Возможно ли, — воскликнул покупщик, — чтобы вас вот так и оставили на произвол судьбы?.. — Простите, сударь, — перебил его Эмильен, — вы ведь говорите при мне, а я не дозволяю никому оскорблять моих Родителей… — Это делает вам честь, — в свою очередь, перебил его господин Костежу, — но все же вы должны знать, каково ваше положение. Ваши родители покинули пределы Франции, и если они незамедлительно не возвратятся, их будут рассматривать как эмигрантов. Вы, безусловно, осведомлены о том, что стоит вопрос, не лишить ли эмигрантов их собственности; если решение будет положительное, вы легко можете оказаться без средств, ибо в случае объявления нам войны конфискация вашего имущества и имущества тех аристократов, что перешли на сторону врага, будет первым декретом, который примет Национальное собрание. — Ни мой отец, ни мой брат никогда не перейдут на сторону врага! — вскричал Эмильен. — И я настолько в этом уверен что даже рассчитываю пойти служить солдатом, если по какой-то неведомой мне причине моим родителям будет невозможно вернуться во Францию и принять во мне участие. — У вас очень благородные чувства, — сказал покупщик. — Но в ожидании того времени, когда начнется война и вы войдете в возраст, чтобы принять в ней участие, позвольте мне заняться вашей судьбой. Я вовсе не собираюсь, вступив во владение монастырем — этой темницей, куда вас заточили, выбрасывать вас на улицу; оставайтесь здесь, пока я соберу сведения, о средствах существования, которые выделены вам вашими родными. Они оставили в своем поместье управляющего, который должен был получить какие-то указания, и я возьму на себя труд напомнить ему о них. — Быть может, он не получил никаких указаний, — отвечал Эмильен, — мои родители, наверно, не предполагали, что монастырь будет продан. Поэтому они и считают, что я ни в чем не терплю нужды. — Не платили ли они этой обители деньги за ваше содержание? — Нет, ничего не платили, — сказал настоятель. — Община должна была получить двадцать тысяч франков в тот день, когда он примет постриг. — Мне все ясно, — сказал господин Костежу судейскому. — Они хотели схоронить навсегда младшего сына и старались, чтобы монахи были заинтересованы в его постриге. Настоятель улыбнулся и сказал, обращаясь к Эмильену: — Что касается меня, дорогое мое дитя, так я от вас никогда не скрывал, что так обстоит дело во всех монастырях и никогда не докучал вам уговорами искать там вашу судьбу. Они грустно пожали друг другу руки, ибо со времени событий в карцере стали очень любить и уважать друг друга. Эмильен гордо попросил адвоката не заниматься его делами, так как он и в мыслях не имеет сделаться бездомным бродягой и, даже не покидая коммуну, отлично найдет, чем заняться, и никому не будет в тягость. Судейский уда» лился, а покупщик с мэром пошли осматривать монастырские строения. Когда же они вернулись в келью приора, у господина Костежу созрело решение, которого никто никак и не ожидал.VIII
И вот господин Костежу обратился к ним с нижеследующими словами: — Господин приор, я только что узнал от господина мэра кое-какие подробности, касающиеся вас и юного Френкеля, и хотел бы, чтобы вы оба позволили мне считать себя вашим другом. Мы можем быть взаимно полезны: я — доверив вам мои интересы, вы — приняв на себя управление моим новым владением. Я сам не собираюсь ни жить здесь, ни вести хозяйство — мои занятия мне этого не позволяют, — не думаю я к перепродавать его ранее, нежели чем через несколько лет, ибо не хочу уходить в сторону от риска. Останьтесь здесь оба и управляйте поместьем, как если бы оно принадлежало вам. Я знаю, что могу со всевозможным доверием отнестись к тем отчетам, то вы мне представите. Требование у меня одно: не давать пристанища никому из людей духовного звания. Во всех других отношениях чувствуйте себя здесь как дома и сами определите долю, которую возьмете себе с того, что принесут отданные нам для хозяйствования земли. Отец Фрюктюё был изумлен этим предложением и попросил день на размышление. Мэр пригласил его к себе на ужин, приглашение было принято от чистого сердца; Эмильена тоже взяли с собой, — господин Костежу был и удивлен и обрадован, узнав, что он истинный патриот и добрый гражданин. Оставшись наедине с приором (так продолжали называть отца Фрюктюё, хоть он управлял общиной всего лишь шесть недель), Эмильен попросил у него совета. — Сын мой, — отвечал тот, — мы словно двое потерпевших кораблекрушение на неведомом берегу. Я-то проживу недолго, хотя еще не так уж стар и, как видишь, в теле; но после карцера я испытываю приступы удушья, которые подолгу не отпускают меня, и нет у меня надежды от них избавиться. Я не соврал господину Костежу, что у меня есть семья и маленькое наследство, тебе могу признаться, что моя родня стала мне совсем чужой что, ежели я и могу рассчитывать на доброе отношение ко мне, то отнюдь не уверен, что превозмогу себя и разделю с этими людьми их мысли и привычки. Я вступил в Валькрёзский монастырь шестнадцати лет, как и ты, с тех пор прошло ровно пятьдесят. Здесь я почти все время страдал, то от одного, то от другого; быть может, я страдал бы точно так же в любом другом месте, но теперь куда больше буду страдать от перемен, Чем от всего прочего. Нельзя покинуть дом, где столько пережито, не оставив в нем частицу своей души. Не видеть больше этих старых стен, этих огромных башен, этих садов и этих скал, которые всегда были передо мной, кажется мне немыслимым. Так вот, я принимаю на себя управление хозяйством, которое мне предложено, и надеюсь окончить мои дни там, где провел свою жизнь. Что до тебя, то это дело другое; ты не можешь любить наш монастырь, и я не представляю себе, чтобы твои родители не подумали о тебе, когда им станет известно, что монастырей больше не существует. Но кто знает, что может случиться и с ними и с вашим состоянием? Твой отец, с которым я обменялся несколькими письмами, придерживается отживших взглядов и не желает верить тому, что с нами происходит, а когда поверит, быть может, уже не будет времени принять разумные меры. Я давно узнал, но не хотел тебе говорить, а теперь должен наконец узнать и ты, что франквильские крестьяне разгромили ваш замок. Они бы его сожгли, если бы не управитель, а он у вас человек ловкий и очень хитрый; но крестьяне рассчитывают, что земли пойдут с аукциона, как тебе сказал этот адвокат, и было б отнюдь не безопасно и твоей семье и тебе самому слишком скоро туда возвращаться. Оставайся же со мной, посмотришь, как сложатся обстоятельства. Если ты все же уйдешь, если примешь решение без согласия отца, он, может статься, будет этим очень недоволен и спросит с меня; а вот если найдет тебя там, куда поместил, где оставил, он не сочтет дурным то, что ты принял некое условие, которое даст тебе возможность просуществовать. — Но каково будет это условие? — спросил Эмильен. — Что мне придется делать, чтобы заработать себе кусок хлеба, который вы мне предлагаете разделить с вами? — Ты возьмешь на себя ведение счетов и будешь присматривать за работниками. При необходимости и сам станешь работать — ведь ты любишь телесные упражнения. Я же, признаюсь, не чувствую к ним вкуса. После этого он отправился спать, а Эмильен, едва только рассвело, пришел ко мне посоветоваться, словно я была тем человеком, который мог дать ему добрый совет. Мне показалось, что приор привел ему очень основательные доводы, и я стала уговаривать моего друга поселиться с ним. — Если вы уедете, — сказала я ему, — я даже представить себе не могу, как мне жить дальше. Я так сильно к вам привязалась, что готова куда угодно идти за вами, даже если мне придется выпрашивать милостыню на дорогах. — Ну, риз так, — отвечал он, — я останусь здесь, пока это будет возможно, ибо я питаю к тебе такую же дружбу, какой даришь меня ты, и, расставшись с тобой, испытал бы не меньшую горечь, чем тогда, когда мне пришлось покинуть свою сестренку. — Вы по-прежнему ничего не знаете о ней? Не осталась ли она одна во Франквиле? — О нет! Я знаю, что она должна была вступить в женский монастырь тогда же, когда я вступил сюда. — А где этот монастырь? — В Лиможе. Но ты навела меня на мысль, что ее могут вышвырнуть на улицу. Я теперь свободен; отправлюсь-ка туда и разузнаю про нее. — В Лимож? Господи боже мой, это же ведь так далеко, а вы и дороги-то не знаете! — Ну уж, дорогу я легко найду, это всего в пятнадцати лье отсюда. Словом, решение было принято, и приор не противился. Даже господин Костежу, который был рад-радешенек передать заботы о своем новом владении в хорошие руки, предложил взять Эмильена с собою и помочь ему в поисках, ибо он что-то не слыхал в Лиможе, своем родном городе, чтобы младшая дочь Франквилей была помещена в один из тамошних монастырей, и потому опасался, что брат не сможет ее разыскать. Он только попросил его одеться в обычное платье, ибо, хотя в то время еще и не преследовали служителей церкви, но сторонники революции не любили показываться в их обществе. Эмильен поспешил натянуть на себя одежду, которую носил до того, как обрядился в рясу, не подумав о том, что за три года вытянулся на целую голову и раздался в плечах. У моего двоюродного брата Пьера, который был тех же лет и такого же роста, оказалось дрогетовое платье, совершенно новое, и я хотела, чтобы он отдал его Эмильену на время. Но Пьер и слышать об этом не желал и повел речь о продаже; денег у Эмильена не было, и, не ведая, когда они у него будут, он не смел ни у кого брать в долг. Ах, как я была счастлива и как горда, что смогла предложить ему мои пятнадцать франков! После долгих препирательств он их от меня принял. За половину этой суммы он купил у Пьера платье, в котором, как мне казалось, стал куда красивее, а остальные положил в карман, чтобы ни от кого не зависеть в пути. Увидев его в таком наряде, господин Костежу расхохотался с лукавым и вместе с тем благожелательным видом. — Ох, ох, господин виконт, — сказал он ему, — ведь, несмотря на ваше послушничество, вы останетесь виконтом де Франквиль, поскольку ваш старший брат носит титул графа, а ваш отец — маркиза; значит, пришлось вам вырядиться в крестьянскую одежку! Но в городе вы, очевидно, оденетесь по-другому? — Нет, сударь, — ответил Эмильен, — я не смогу этого сделать, и если вы стыдитесь общества крестьянина, я пойду своей дорогой, а вы ступайте своей. — Меткий удар! — смеясь, сказал адвокат. — Вы преподали мне урок равенства, но я в нем не нуждаюсь. Уверяю вас, что мы поймем друг друга и отлично сойдемся. По приезде в Лимож Эмильен, с помощью господина Костежу, начал искать сестру по всем монастырям. Они еще были открыты — власти проявляли терпимость, а покупщиков не находилось, — но сестры его ни в одном из них не оказалось, и он поспешил во Франквиль, чтобы разузнать о ее судьбе. Его там не сразу узнали, так он вырос, изменился, да и одежда на нем была другая. Он беспрепятственно прошел в замок и обратился к управляющему, который был весьма удивлен, когда Эмильен назвался, и притворился, будто не верит, что он это он. — Вы утверждаете, что вы виконт де Франквиль, — упорствовал управитель, — возможно, это правда, а возможно, ложь, ибо при вас нет ни рекомендательных писем, ни бумаг, которые подтвердили бы ваши слова. Как бы там ни было, я не получал никакого распоряжения на ваш счет. Ваши родители эмигрировали и, кажется, собираются вернуться только вместе с чужестранцами. Это очень худо и для них и для вас, потому что ваше имущество будет продано и вы останетесь ни с чем. А пока я могу распоряжаться доходами, следуя указаниям владельцев, написанных их рукой, или же требованиям властей, а поскольку вы ничего не можете предъявить, я ничего не могу вам дать. — Я приехал вовсе не за тем, чтобы просить у вас денег, — гордо возразил ему бедный маленький виконт, — они мне не нужны. — Ах, так вы при деньгах? Получили часть сокровищ Валькрёзского монастыря? Разумеется, монахи не такие простаки, чтобы перед уходом не поделить их между собою. — Никаких сокровищ в Валькрёзском монастыре не было, а небольшая сумма денег, отложенная на всякий случай, возвращена господином приором государству. Но все это вовсе не должно вас интересовать и касаться, раз вы продолжаете упорствовать в нежелании признать меня за того, кто я есть на самом деле; я пришел только, чтобы спросить вас, где моя сестра, и, надеюсь, у вас нет причин скрывать это от меня. — Никаких; ваша сестра, ежели вы настаиваете на том, что вы Франквиль, живет в Тюле у моих родных. Здесь ей было опасно оставаться, потому что крестьяне были очень озлоблены против всех вас; просто чудом мне удалось их сдержать, и, уж поверьте мне, я в вашем замке сплю вполглаза. Малышку я отсюда отослал, она ни в чем не терпит нужды, я плачу, сколько нужно, за ее содержание. Эмильен осведомился об имени этих родственников, которым, по словам управляющего, он доверил девочку, и немедленно отправился восвояси, не назвавшись никому из слуг и не подумав о том, что тем самым лишь подтверждает подозрения управляющего; но, уже подходя к околице деревушки, он столкнулся со старым слугой своей семьи, который всегда любил его, сразу же признал и закричал: — Господин Эмильен! У Эмильена было тяжело на сердце, он, рыдая, упал в объятия старого друга, сбежалось все местечко, все радушно его приветствовали. Его любили, считали жертвой честолюбия старшего брата и вздорных идей всего семейства, помнили, что, предоставленный самому себе, он держался на равной ноге с любым из бедняков. Крестьяне пришли в ярость, — они потому только признавали управителя, что тот, желая обуздать их, сулил скорую распродажу эмигрантского имущества; но потом поняли, что он их всех обманывает и так заботливо бережет господское добро только потому, что надеется прибрать его к рукам: он был богат, — еще бы, столько накрал! Крестьяне захотели его повесить, на руках внести Эмильена в замок его предков, взять себе в сеньеры; никого другого они не желали. Он с большим трудом утихомирил их и убедил, что не может идти против воли отца. Да к тому же самым неотложным делом для него было отыскать сестру, которой, быть может, было очень худо, ибо чем больше ему рассказывали, какой подлец управляющий, тем больше было у него причин тревожиться и спешить. Пришлось крестьянам отпустить его. Но старый слуга по имени Дюмон решил идти с ними и от своего решения не отступился. В дилижансе они отправились в Тюль. Там они и в самом деле нашли малышку Луизу у некой старой фурии, которая во всем ее утесняла и награждала колотушками, стоило той возмутиться. Луиза рассказала брату все свои горести, и соседи подтвердили, что она говорит чистую правду. Если старуха и получала на нее пенсион, то она его прятала, а девочку кормила кожурой от, каштанов и водила в рубище. Эмильен был в таком негодовании и отчаянии, что, даже не повидав старуху и ни с кем не посоветовавшись, забрал сестру и отвез ее прямо в монастырь вместе со стариком Дюмоном, у которого была при себе малость денег и который ни за что не хотел расстаться с этими несчастными, покинутыми детьми. Чтобы покончить с историей этого похищения, я сразу расскажу здесь все, что к нему относится. У маркиза Франквиля близких родственников в наших краях не было. Так как, по заведенному в семье обычаю, ради старшего сына все младшие сыновья и все дочери принимали постриг, семья утратила всякие родственные связи и под рукой не было никого, чьим заботам можно было бы вверить Луизу и Эмильена. Оказавшись в замке под угрозой серьезной опасности, семья уехала внезапно, приказав управляющему и кормилице поскорее поместить девочку в монастырь. Управляющий счел более экономным отдать ее туда, где мы ее нашли, а маркизу, с которым он состоял в переписке, объяснил все так, как ему было выгодно. Разумеется, Эмильен, не имевший права забирать свою сестру, должен был бы обратиться к господину Костежу, отменному законнику, и тот, быть может, посоветовал бы отвезти ее к какой-нибудь даме, связанной родством или дружбой с их семьей; но дело было сделано, и адвокат не мог осудить Эмильена, ибо эти двое детей находились, как он говорил, в особом положении в силу обстоятельств: словно совершеннолетние — без родных и словно сироты — без покровителей. Он всячески ругал управляющего, но при всем том у него не было никакой возможности вытрясти из него чужие деньги: в ту пору законность почти покинула пределы Франции. Господин Костежу посоветовал Эмильену подождать и не возвращаться во Франквиль, где его присутствие повело бы, помимо его воли, к крупным беспорядкам. Старуха, родственница управляющего, не имела права требовать возвращения девочки Франквиль, и у Эмильена было куда больше прав оказывать ей покровительство. Так что речь шла лишь о том, чтобы обязать управляющего давать хоть что-нибудь им на жизнь. Господин Костежу написал в Кобленц, где находилась семья Франквилей, но ответа не получил, — по всей видимости, потому, что его письма не дошли. Тогда, опасаясь идти на открытый скандал во времена, когда самый незначительный поступок вызывал порою последствия совершенно непредвиденные, он из собственного кармана послал Эмильену пятьсот ливров, но, щадя его самолюбие, написал, что они пришли от управляющего Франквилем, будто бы уразумевшего, в чем заключается его долг. Обман был разоблачен самим же управляющим, который, испугавшись, прислал в два раза большую сумму, поручив своему посыльному передать на словах, что, поскольку жители местечка узнали Эмильена, он, управляющий, приносит свои извинения и шлет деньги, чтобы надлежащим образом устроить Луизу, и предлагает даже отправить к ней кормилицу, которая согласна ехать в любое Место, где та обоснуется; но Луиза сказала нам, что эта кормилица до крайности падка на развлечения и всегда очень мало занималась ею. На деньги дали расписку, от кормилицы отказались. Эмильен снова отправился в Лимож поблагодарить господина Костежу и вернуть ему долг. Адвокат был в восхищении от рассудительности, доброты и бескорыстия юноши. Он горячо просил Эмильена поселить сестру в монастыре — пусть живет там по своей воле и делает лишь то, что ей по вкусу; что же касается самого Эмильена, то адвокат уверял, будто никаких долгов за ним нет, поскольку он с таким тщанием присматривает за поместьем господина Костежу, и это во времена, когда все кругом пришло в запустение.IX
Вот мы и зажили в монастыре одной семьей: почтенный приор, Эмильен, малышка Луиза, старик Дюмон и я. По просьбе Эмильена пришлось мне воспитывать и развлекать его сестру, а кроме того, делить с Мариоттой домашние хлопоты. Мои двоюродные братья подрядились обрабатывать землю господина Костежу и жили вместе с нами. Таким образом, это жалкое хозяйство, давно заброшенное и почти бездоходное, должно было прокормить немало народу, но, не считая моих братьев и Мариотты, которым было положено поденное жалованье, мы все, не жалея сил, трудились бесплатно, так энергично и расчетливо ведя хозяйство, что владелец был нами очень доволен и хотел одного: чтобы мы задержались у него подольше. Меньше всех работал приор, которого замучили приступы астмы, но без него мы никак не могли обойтись: молодежь следовало держать в строгости, и среди нас один приор умел их приструнить. В кошельках у нас водились кое-какие деньги, и брать вперед у господина Костежу мы не захотели. К тому же родственники приора вызвались заплатить ему сколько-то, если он откажется от своей доли в наследстве. Приор отправил Дюмона к себе на родину, в Гере, и, видно, остался доволен суммой, которую тот ему привез. И вот, в то время как события во Франции принимали все более грозный и зловещий оборот, мы наладили свое хозяйство и по-детски эгоистически наслаждались жизнью. В наше оправдание надо сказать следующее: мы почти ничего не знали о том, что творится вокруг, и скоро вообще перестали что-либо понимать. Пока существовало монашеское братство, в монастырь приходили газеты, приказы от окружного начальства, предписания высокого духовенства. Теперь приору не присылалось ничего: церковники гневно отвернулись от него за то, что он сдружился с неприятелем и даже воспользовался гостеприимством покупщика. Купив себе землю, ошалевшие от радости крестьяне с утра до ночи обносили каменной оградой и колючим кустарником свои драгоценные участочки. Работали не покладая рук, чего раньше никогда с ними не случалось, и так бранились из-за границ своих наделов, что обсуждать политические или церковные дела им было некогда. Впрочем, они стали еще более усердны в вере, чем при монахах. Мессы в монастыре не служили, поскольку приходская церковь уже не существовала, однако по желанию местных жителей утром, в полдень и вечером приор приказал бить в большой колокол. И хотя молитвы почти уже выветрились из памяти крестьян, им был бесконечно дорог привычный звон их церковного колокола. Ведь он возвещал им начало и конец трудового дня, по нему они узнавали, когда пора обедать или отдыхать. Когда немного погодя монастырские колокола конфисковали и перелили на пушки, крестьяне не на шутку опечалились. Приход, где не звонит колокол, — это же мертвый приход, говорили они, и я не могла с ними не согласиться. Должна сказать, что пока не наступили тяжелые времена и мне не довелось собственными глазами увидеть удивительные события, мы жили в старом монастыре нашего захудалого Валькрё вольготно и беспечно, как бы отгороженные от всего мира. Эмильен умел довольствоваться столь малым, что почитал себя богачом, имея на жизнь всего-навсего тысячу франков. Деньги он отдал господину Костежу, который обещал выгодно их поместить, но Эмильена это мало заботило, потому что в таких делах он все равно ничего не смыслил. Он радовался тому, что о его крошечном достоянии заботится нынешний хозяин монастыря, почтивший его своей дружбой, но мысли Эмильена были заняты только тем, как сделать счастливой свою сестричку, пока родственники не устроят их общую судьбу. Сестре он ни в чем не отказывал и страшно гордился тем, что спас ей жизнь. Даже больше, чем спасением из темницы отца Фрюктюё. Причин для беспокойства у него не было: твердо зная, что господин Костежу — верный друг и никогда его не оставит, Эмильен отдавал ему свои умственные способности, занимаясь счетоводством, и физическую силу, трудясь простым рабочим. Он даже пользовался некоторым авторитетом у приора, который при всем своем добродушии всегда ходил сердитый: кричать и чревоугодничать он из-за астмы больше не мог и поэтому сердился по каждому пустяку. Эмильен успокаивал его, подчас не без моей помощи, потому что наш милый приор прислушивался ко мне: с тех пор как я пообещала хозяйничать, ни в чем ему не прекословя, он сделался просто шелковый. Малышка Луиза окрепла и поздоровела, прежде-то она была такой хилой! Еду мы готовили хорошую, провизии на ветер не бросали, и Мариотта работала за двоих, а мои братья за четверых. Дюмон, все еще бодрый в свои преклонные лета, ходил за покупками в лавку и неплохо огородничал. Но, сказать по правде, у этого самого честного и бескорыстного человека на свете был один изъян: по воскресеньям он выпивал и к вечеру всегда приходил навеселе. Разумеется, тратил он деньги свои, а не чужие, и не буянил. Приор читал ему нотации, и каждый понедельник старик Дюмон божился, что больше не прикоснется к вину. Но самой счастливой в нашей общине была я. Я облегчала жизнь дорогим моему сердцу людям, и мои полные забот дни, приливы душевных и телесных сил приносили мне такую радость, какой я еще никогда не знала. В шестнадцать лет я была довольно рослой, такой же, как сейчас, хотя лицом не вышла: после оспы у меня остались чуть заметные рябины. Но люди говорили, что лицо у меня приятное, располагающее к себе, а навещавший нас господин Костежу твердил, что никакие беды мне нипочем, потому что я всегда сумею найти друзей. Как я радовалась, когда он говорил это при Эмильене, который сразу же брал меня за руку, крепко сжимал ее, прибавляя: — С ней всегда будет человек, для которого она сестра и подруга! Он говорил правду, мы неизменно любили друг друга, словно одна мать произвела нас на свет. Дюмон часто рассказывал мне о моей матушке, жившей в услужении во Франквиле. Он хорошо ее знал, и, по его словам, она была точь-в-точь как я, привечала всех и каждого, пользовалась большим уважением. Я с удовольствием слушала его речи, и тогдашняя моя доля казалась мне такой завидной, что я не хотела и думать ни о каких переменах. Только одно в ту пору меня заботило и даже тревожило: непонятный нрав малышки Луизы. Когда эта бедная девочка появилась у нас больная, в грязных лохмотьях, жалко было глядеть на нее, и в то же время я испытала огромную радость при мысли, что смогу ее утешить и выходить. Эмильен подвел ко мне девочку и сказал: — Вот тебе сестричка! — Нет, — ответила я. — Она будет мне дочкой. Я сказала эти слова от всего сердца, со слезами умиления на глазах, так что любой другой ребенок на месте Луизы бросился бы мне на шею, но она и бровью не повела. Окинув меня высокомерным и презрительным взглядом, она повернулась к брату и промолвила: — Хороша сестричка, нечего сказать. Мужичка! Сам же ты говорил, что она моя сверстница, а хочет называться моей матерью. Вот она какая, эта знаменитая Нанетта, про которую ты мне все уши прожужжал. К тому же еще дурнушка! Не хочу, чтобы она меня целовала. Вот и вся награда, которую я получила для начала. Эмильен ее выбранил, она расплакалась и, надув губы, забилась в угол. Она была гордая девочка. Мне потом рассказали, как ей с младенчества внушали, что она должна постричься в монахини, как, заранее воспитывая в ней покорность монашеской судьбе, твердили, что хотя ей не причитается ни сантима из денег старшего брата, она слишком родовита, чтобы выйти замуж за простолюдина. А потому лишь в убожестве монастырской обители она не посрамит своего знатного имени. Луиза в это свято уверовала: ведь дети, если им поминутно твердить одно и то же, запоминают наставления взрослых навсегда. Мать никогда Луизу не ласкала и, так как ей скоро предстояло расстаться с дочерью навсегда, запретила себе любить девочку. Эта красивая аристократка с головой ушла в жизнь парижских великосветских салонов, заглушила в себе голос природы, а королевский двор заменил ей семью, жизнь и материнский долг. Она не любила даже своего старшего сына, ибо, предназначенный для блестящей карьеры, он принадлежал ей не больше, чем остальные дети. В ту пору, о которой я веду рассказ, госпожа де Франквиль проживала за границей, была очень больна и в скором времени умерла. О ее кончине нам сообщили не сразу, и только со временем я узнала то немногое, что рассказала здесь о ней. В имении Франквиль малышку Луизу опекала кормилица, и наставнику, воспитывавшему — или, вернее, не воспитывавшему — Эмильена, полагалось обучить ее только чтению и немного письму. Кормилица обещала вызубрить с ней молитвы и научить шитью, вязанью и стряпне. Большего монахине не требовалось, но кормилица сочла, что девочка обойдется и так. Эта красивая женщина нравилась многим мужчинам, на хозяйство у нее почти не оставалось времени. Луиза оказалась на попечении кухонных служанок, которые вовсе не обращали на нее внимания: когда господа снисходительно взирают на домашний беспорядок, прислуга распускается тоже. Пока Луиза бывала с Эмильеном, она резвилась и бегала, как все дети, но стоило ей вернуться домой, она сразу же начинала разыгрывать принцессу, сердито бранила кормилицу, ссорилась, фыркала, высмеивала служанок, затем снисходительно фамильярничала с ними и все оттого, что хотела казаться барышней и хозяйкой дома. Расставшись с братом, который, как мог, урезонивал и успокаивал ее, она сделалась еще хуже, и, видя, что никто ее не любит, возненавидела всех без исключения. Она была умна и говорила дерзости не по возрасту — это ей спускали, а следовало бы ее отчитать, чтобы она перестала тщеславиться своим злоязычием и дерзким нравом. У сварливой старухи в Тюле ей пришлось так жестоко расплатиться за свои недостатки, что они лишь усугубились, и когда Луиза попала к нам, он напоминала разъяренную осу в пчелином улье. Уже в первый день я только и делала, что упрашивала ее умыться и надеть чистое белье. Но когда я принесла ей новую одежду, раздобытую в приходе точно таким же способом, как и платье Эмильена, Луиза затряслась от злости, закричав, что она, барышня и дочь маркизы, не наденет крестьянские обноски. Она предпочитала ходить в грязных лохмотьях, сшитых когда-то на городской манер, и брату пришлось сжечь их, чтобы Луиза нам покорилась. Тогда она еще пуще разобиделась, хотя чистая полосатая юбка и чепчик необыкновенно красили ее. За обедом Луиза немного смягчилась: ведь она так давно не ела досыта. Вечером она даже соблаговолила поиграть со мной, поставив, правда, условие, что я буду служанкой, а она, как госпожа, станет бить меня по щекам. На ночь я постелила ей в своей уютной келье мягкую чистую постель, и она спала рядом со мной. В монастыре сохранились большие запасы тонкого белья, и она этим прельстилась. Но на следующий день все началось сначала: одеваясь, она куксилась и заливалась слезами, и мне пришлось украсить цветами ей чепчик, сказав, что я просто перерядила ее в пастушку. Однако, постепенно уразумев, что я нянчусь с ней не по обязанности, а от доброго отношения, она поняла свое положение и так переменилась, что стала неузнаваема. Позднее Луиза считала, что никогда не была так счастлива, как живя с нами, потому что мы ее любили, баловали и ласкали, ничего не требуя взамен, но сердце ее не знало нежности, и она спокойно рассталась бы с нами, если бы не боялась, что без нас ей будет много хуже. Чтобы умерить взыскательность Луизы, мы были вынуждены играть на ее тщеславии, которое уже начало переходить в женское кокетство. Быть обходительной и никого не обижать стоило ей больших усилий, но она никогда не хотела сделать и самую пустячную работу ради других или самой себя. Она одна в нашей общине требовала услуг. За господином приором мы ухаживали с охотой, потому что человек он был нетребовательный, и так как Луиза с самого начала обнаружила, что он у нас за главного, она немедленно заявила, что во всем ему равна. За общим столом — мы ели все вместе из соображений экономии — сидела не рядом с нами, а напротив приора, словно и впрямь была хозяйкой дома. Сперва мы над ней потешались, потом перестали обращатьвнимание, и она сидела на этом месте, будто оно по праву полагалось ей. Как-то раз с нами обедал господин Костежу, но Луиза ни за что не пожелала уступить ему это место, что весьма развеселило стряпчего, очень заинтересовавшегося этим маленьким чертенком. Он нашел ее хорошенькой, болтал с ней, дразнил аристократкой, как говаривали в ту пору, а потом стал баловать ее больше нас — уже на следующий день прислал ей из города нарядное платье с лентами, какие носили барышни, и шляпку с цветами. Приехав к нам в другой раз, он думал, что Луиза поблагодарит его или поцелует за подарок. Ничего подобного не произошло. Луиза рассердилась, что он прислал ей обыкновенные башмаки на плоской подошве, а она хотела туфли на высоких каблуках и с бантами. Господин Костежу еще пуще развеселился — ее аристократические замашки явно ему нравились. Чем больше он ненавидел аристократию, тем больше забавлялся, глядя, как эта неисправимая маленькая спесивица, которую он мог прихлопнуть, как букашку, помыкает им и третирует его. Все поначалу было шуткой, а обернулось судьбой для обоих. А я, когда-то столько мечтавшая о малышке Луизе и всем своим существом преданная ей, я прекрасно знала, что когда эта девочка не нуждалась в моих услугах, она смотрела на меня как на пустое место, и если вдруг ласкалась ко мне, то наверняка хотела, чтобы я сделала для нее что-нибудь необычайно трудное. Исполнив ее прихоть, я не ждала от нее благодарности, — порою она сама забывала о своей мимолетной причуде. Выражаясь на моем теперешнем языке, в те дни я испытывала разочарование. Однако я не отвернулась от Луизы, но всю свою нежность отдала Эмильену, который был вполне ее достоин. Мне казалось, что, ответь его сестра сердечно на мою дружбу, я бы любила ее больше, чем Эмильена, потому что Луиза была моей сверстницей и тоже девушкой, но она не хотела дружить со мной, и всем сердцем я поневоле прилепилась к братцу. В октябре месяце этого года (1791) до нас докатились слухи о том, что война не за горами, и все стали бояться за свое недавно приобретенное добро. Прошли те времена, когда люди говорили: «А мне-то что! Не все идут на войну, не все кладут голову в сражении». Теперь каждый понимал, почему опять затевается война: французские аристократы и духовенство решили победить революцию, дабы отобрать назад все то, что революция успела нам дать. От этой мысли все приходили в неистовство и спешили вспахать свои поля и засеять их. Молодые люди говорили, что если враг вторгнется в их земли, они будут драться как черти. Все боялись за свое достояние и в то же время не робели перед неприятелем. Господин Костежу все чаще наведывался к нам, и Эмильен вновь стал интересоваться тем, что творилось вокруг. В один из ноябрьских дней ему сообщили, что мать его тяжело больна, и мысль о том, что он больше не увидит никого из своей родни, глубоко опечалила его — ведь он не сомневался, что они будут воевать с Францией, и если вернутся домой, то лишь вместе с ее врагами. Как-то раз, когда мы вдвоем возвращались с мельницы и ослица, навьюченная мешком зерна, шла перед нами, Эмильен сказал мне: — Нанон, посмотри, в каком странном положении я оказался: я всегда говорил, что в случае объявления войны пойду в солдаты, но как же я могу взяться за оружие, если мне придется сражаться против отца и брата? — Вам вовсе не надобно идти на войну, — сказала я ему, — вдруг вас убьют, что же будет с вашей сестренкой? — Костежу обещал мне не оставить ее и взять к себе вместе с тобой, если ты, конечно, согласна. Обещай, что ты не бросишь Луизу. — Луиза меня недолюбливает, да и жалко, конечно, покидать родное гнездо, но если это случится, можете рассчитывать на меня. Только вряд ли такое произойдет, потому что не пойдете же вы против воли вашего отца. — Если будет война, мне придется или воевать, или бежать за границу. Ты ведь слыхала, что на эту войну возьмут всех молодых людей, годных к военной службе? — Так-то оно так, но нельзя же всех подряд насильно туда тащить. Тогда на каждого рекрута понадобится по конному стражнику, а где взять столько жандармов? Вы говорите такое, наверно, потому, что сами хотите оставить меня и пойти в офицеры. — Нет, дорогое мое дитя, я не помышляю о военной славе. Меня иначе воспитывали, и войну я не люблю. Я по природе человек мягкий, и мне не по душе убивать людей. Но если будет затронута моя честь, ты сама не захочешь, чтобы меня все презирали. — Насчет меня будьте спокойны — я немало мучилась в ту пору, когда все говорили, что из вас ничего путного не получится. Кто знает, может, все сложится не так, как вы думаете. Только поклянитесь, что если вам не придется идти в солдаты, вы никогда не покинете нас. — И ты еще об этом спрашиваешь? Ты же знаешь, как я тебя люблю. — Правда, знаю. Вы мне обещали, что, когда женитесь, возьмете меня нянькой к своим детям. — Женюсь? Неужели ты думаешь, что я собираюсь жениться? — Как-то раз вы сказали мне, что когда-нибудь, наверно, подумаете о женитьбе. С той поры я изо всех сил старалась научиться тому, что должна уметь крестьянка, чтобы быть хорошей служанкой госпоже и в исправности содержать ее дом. — А ты уверена, что я хочу видеть тебя служанкой при моей жене? — Как? Вы больше не хотите? — Разумеется, нет. Раз ты мой друг, я не могу считать, что ты ниже кого-то. Неужели ты не понимаешь? Мы остановились у речки, Эмильен сжимал мою руку и не отводил от меня умиленных глаз. Я, признаться, удивилась его речам и тянула с ответом, боясь его обидеть. — И все-таки, — подумав, сказала я, — ваша жена будет не чета мне. — Почем ты знаешь? — Не возьмете же вы в жены крестьянку, как брат Паскаль! Он женится на мельничихе с моста Больё, и священник уже объявил об их помолвке. — А почему бы и нет? — Впрочем, неважно, крестьянка она или из благородных: все равно вы будете любить ее больше всех и назовете хозяйкой дома; поэтому я и решила во всем ей угождать и служить верой и правдой. А теперь, выходит, вам не по душе, если я тоже буду любить ее и служить ей, как вы сами. — Ах, Нанон, — промолвил Эмильен, продолжая наш путь, — простая ты, добрая душа! Оставим эти разговоры, ты еще мала, и тебе трудно понять мои мысли, так что мне не стоит их тебе поверять, а тебе — понапрасну беспокоиться. Знай, что никогда я не огорчу тебя, и если и женюсь, то лишь с твоего согласия. Поняла? Ты знаешь, что я, как говорится, не бросаю слов на ветер, и все, что обещал, уже исполнил. Запомни хорошенько мои слова, запомни и эту речку, которая ласково Журчит, словно и впрямь рада видеть нас на этом берегу, и эту старую иву — как серебрится ее листва, когда ветер колышет ветви! Обещай сберечь в памяти это местечко. Видишь островок, который как бы сплели ирисы из своих корней, — возле него мы с твоим двоюродным братом Пьером часто ставили верши. Как-то раз мы с тобой уже здесь останавливались — в тот самый день, когда ты попросила научить тебя тому немногому, что я знал. Я клятвенно обещал это сделать, а сегодня клянусь, что ни к одной женщине не прилеплюсь сердцем больше, чем к тебе. Может, тебя это огорчает? — Вовсе нет, — ответила я ему, — дай бог, чтобы так оно все и было. Только речи ваши меня удивили — я ведь никогда не думала, что вы так же дорожите моей дружбой, как я вашей. И если это так, будьте уверены, что я никогда не выйду замуж и всю свою жизнь буду служить вам; беру в свидетели моей клятвы эту реку и эту старую иву, чтобы вы тоже крепче запомнили их. Пока мы разговаривали, ослица ушла далеко вперед, и Эмильен, видя, что ей вздумалось идти более короткой дорогой через кусты и вдобавок сбросить наземь поклажу, бросился догонять ее. Я же осталась стоять на месте. Бежать за ним я не могла, потому что перед глазами у меня поплыли круги, а ноги налились свинцовой тяжестью. Почему он вдруг так красиво рассказал о своей дружбе, о которой прежде не заикался или говорил как-то вскользь и невзначай? Не скажу, что при всем моем целомудрии я не слыхала разговоров о любви. В деревне они ни для кого не тайна, но в северных краях, где жизнь скудна, а труд тяжел, люди взрослеют поздно — вот и я в свои юные годы была совсем неопытна. Возможно, привыкнув к мысли, что вся моя жизнь будет отдана на благо и в услужение другим, я не смела мечтать о собственном счастье, — во всяком случае, я как дурочка осталась стоять, ломая голову над тем, почему он сказал: «Ты еще не вошла в разум, чтобы понять мои мысли», — и вдруг меня охватило безотчетное желание громко смеяться и плакать. Движимая непонятным порывом, я сорвала несколько ивовых листочков и положила в нагрудный карманчик передника. С того самого дня от счастья у меня кружилась голова, и я так радовалась, что живу на свете! Луизетта капризничала, но я, не огорчаясь, терпеливо и весело сносила ее причуды. Когда господин приор ворчал, я, как никогда прежде, умела успокоить его добрыми словами, а если он мучился приступом астмы, я всегда находила средство унять его страдания. Если я видела, что Эмильен устал от садовых работ, я бежала к нему и совсем по-мужски брала в руки грабли и становилась за тачку. К концу лета у нас поспели чудесные фрукты, и мы послали целую корзину их господину Костежу, которого они весьма обрадовали. Он приехал нас благодарить, и по всему было видно, как ему приятно провести денек в нашем обществе: он обедал с нами и обсуждал с приором тонкости латинской грамматики, с Луизеттой толковал о нарядах, а с Эмильеном и рабочими о севе или урожае. Я с удовольствием прислушивалась к этим разговорам, даже к латыни господина приора, которая напоминала мне французский язык, или, вернее, особое наречие, понятное всем и каждому. Хозяйство лежало целиком на мне, и все в доме блестело и сверкало чистотой, а в вымытых стаканах и тарелках, казалось, отражаются люди еще более прекрасные, чем на самом деле. Эмильен снова начал по вечерам заниматься со мной, и эти уроки явились для меня лучшей наградой. Они проходили в присутствии господина приора, который любил высказывать свое мнение по каждому поводу, но скоро засыпал, и долгими зимними вечерами мы с Эмильеном сидели вдвоем в хорошо натопленной монастырской зале, читали, беседовали, а за окнами выл ветер, и у очага трещал сверчок. Эти разговоры были полезны для нас обоих: я постоянно задавала множество вопросов, я узнавала от Эмильена то, что он, сам постепенно накапливая, теперь старался передать мне. Меня страшно занимал вопрос, какими правами располагают бедные и богатые, короли и подданные, а также волновали все события на суше и на море со дня сотворения мира. Эмильен рассказывал мне всякие истории былых времен. В монастырской библиотеке он нашел многотомное сочинение, которое монахи прятали от него; называлось оно «История человеческого рода». По тем временам это была смелая книга, потому что в ней без утайки описывались людские несправедливости, но пока господин приор мирно похрапывал в большом кожаном кресле, мы проглотили ее том за томом и, сами того не подозревая, стали после ее прочтения гораздо образованнее приора, да и большинства наших современников. По каждому поводу в голове у нас возникала уйма мыслей, и знай мы, что творилось тогда в политической жизни, мы, конечно, смогли бы судить о революции совсем по-взрослому. Но про тогдашние дела рассказывал нам только господин Костежу, когда наведывался в монастырь; однако зимой дороги у нас так плохи, что он перестал приезжать, и мы оказались отрезанными от мира. Жизнь в этой глуши избавляла нас от мучительных размышлений о том, что творится во Франции. Мы пребывали в неведении, что в других уголках нашего отечества люди бунтовали и терпели утеснения, и все потому, что никак не могли договориться относительно политики и религии. Вот я и закончила первую часть моего жизнеописания, часть наиболее безмятежную, и в дальнейшем поведу рассказ о бурных событиях, увлекших нас вместе с остальными в свой круговорот. Тот, кто уже прочел мои записки, знает, что теперь я достаточно образованна, чтобы без особого труда выражать свои мысли и оценивать события, поразившие мое воображение. В предыдущих главах я никак не могла избавиться от некоторых крестьянских выражений и оборотов, потому что мысли поневоле облекались в слова, привычные для моей памяти, и воспользуйся я другими словами, я бы приписала себе чувства и мысли, которых у меня тогда не было. Дальше я буду писать на языке, свойственном горожанам, буду пользоваться их понятиями и терминами — ведь с 1792 года я была крестьянкой только по платью да по работе.X
У крестьянина душа как у ребенка: она легко поддается иллюзиям. Живя в нашем оазисе Валькрё, мы и представить себе не могли те подспудные причины, которые толкали нашу прекрасную революцию восемьдесят девятого года на столь страшные преступления. Доходившие до нас вести предвещали грядущие катастрофы, но мы были не более способны их себе представить, нежели предотвратить. Наше беспечное, полное неподдельного оптимизма монастырское сообщество видело в розовом свете любое уже свершившееся событие. Так, господин приор утверждал, что напрасно король убежал в Варенн и что это большая ошибка, которая тем не менее приведет ко благу. — Людовик Шестнадцатый испугался своего народа, — говорил он, — а бояться его не следует, потому, что народ от природы добр. Посмотрите, как все это произошло у нас! Распродали церковное имущество, а такого страшного злодеяния отродясь в мире не случалось. Все это устроили буржуазные вольнодумцы, а народ только пожал то, что они посеяли, но к нам он отнесся без всякой злобы и даже уважительно, а этого уж никто не чаял. Если король доверится своему народу, ему незамедлительно вернут власть. Врагов у него нет — сами знаете, какое почтение испытывает к нему наш крестьянин. Будьте спокойны, все уладится. Конечно, народ беспечен, ленив, малость вороват, но я-то хорошо знаю, что он кроток душой и незлопамятен. Когда я был экономом в нашем монастырском братстве, помните, как круто я обходился с крестьянами? И ничего, никто не в обиде, и я спокойно доживу свои дни в монастыре, как и король на троне. Рассуждения бедного монаха основывались на опыте, не выходившем пока за пределы ущелья Валькрё, и мы, подобно приору, не желали переступать эту границу, тем более что развернувшиеся события поначалу доказывали, что приор был кругом прав. Несмотря на бегство короля, Национальное собрание объявило его особу неприкосновенной. Потом оно окончило свою деятельность, ибо наивно полагало, что учрежденная им конституция — наивысшее завоевание революции и что отныне Законодательному собранию остается лишь проводить ее в жизнь. Ни один депутат Национального собрания первого созыва не имел права избираться второй раз. Господин Костежу выставил свою кандидатуру в депутаты, но в наших краях жители еще держали сторону короля и не пожелали поддержать адвоката. Он собрал много голосов и все-таки не прошел. Эта неудача не огорчила господина Костежу: он часто ездил в Париж, потому что именно он, а не кто другой хлопотал и отстаивал местные интересы в столице. Любую здешнюю просьбу или требование он рад был исполнить. Ученый, богатый, речистый, господин Костежу, казалось, был готов защитить интересы всех и каждого. В конце 1791 года мы по некоторым причинам стали беспокоиться за безопасность господина приора. Новое Национальное собрание, намеревавшееся покончить с анархией, которую коммуна развязала в Париже, пришло в ярость из-за королевского вето. Во всех неурядицах депутаты обвиняли духовенство и старались запретить устраивать богослужение даже в частных домах. Король этому все еще противился, и мы в Валькрё, разумеется, были все его сторонниками, ибо не желали отказываться от церковной службы и любили нашего господина приора; это не мешало нам стоять за революцию, поскольку мы во что бы то ни стало хотели сохранить права, дарованные нам конституцией. Если бы восторжествовало мнение большинства французов, революция на этом бы и остановилась. Но мы жили под угрозой двух напастей: ненависти аристократов и духовенства к революции и ненависти революционеров к аристократии и духовенству. Теперь личные пристрастия стали главенствовать над политическими убеждениями. Под натиском этих грозных сил наша несчастная крестьянская Франция оказалась на волосок от гибели, не понимая притом, что все это значит и за кого же, в конце концов, она стоит. В первых числах августа 1792 года господин Костежу приехал к нам из Парижа. Оставшись с Эмильеном с глазу на глаз, он сказал: — Сын мой, не знаете ли вы, принес ли господин приор присягу конституции? — Навряд ли, — ответил Эмильен, который не умел лгать и в то же время боялся сказать правду. — Так вот, если он не присягал, — продолжал стряпчий, — постарайтесь, чтобы это произошло возможно скорее. Сейчас положение духовных лиц весьма опасное. Больше ничего я не могу вам сказать, но, поверьте, у меня есть основания для тревоги. Вы же знаете, что судьба приора мне не безразлична. Эмильен уже много раз пытался убедить приора принести присягу, но тот не сдавался. Тогда он сказал мне об этом деле и поручил его уладить. Это была нелегкая задача. Поначалу приор чуть не прибил меня. — Неужели всю жизнь суждены мне эти мучения? — сетовал он. — Монахи упрятали меня в узилище, когда я не пожелал дать клятву, что возвещу о чудесах, будто бы совершенных пресвятой девой у источника, дабы крестьяне побоялись зариться на наше имущество. А теперь меня заставляют божиться, что я честный человек и люблю свою страну. Я не заслужил такого унижения и не желаю подвергаться ему. — Вы были бы правы, — сказала я, — если бы правительство поступало благоразумно, а люди были бы справедливы. Но постоянные беды сделали их подозрительными. Если вы навлечете на себя их суровый приговор, ваши друзья, живущие рядом с вами, пострадают, быть может, не меньше вас. Подумайте хотя бы о двух несчастных детях, нашедших здесь приют. Их родители убежали за границу, им и без того грозит опасность. Если вы вправду любите Эмильена, не отягчайте их и без того горькую участь, рискуя собственной головой. — Пожалуй, ты права, я сдаюсь, — сказал приор. И он действительно поступил так, как я советовала. Я хорошо знала, что если завести речь о близких ему людях, то ради них он откажется от своих убеждений. Теперь нам казалось, что все тревоги уже миновали, однако в августе месяце в Париже произошли ужасные события, и в сентябре мы узнали подробности о бесчинствах коммуны, о заключении короля в Тампль, об издании декрета о конфискации имущества эмигрантов, а также о том, что все духовные лица, не присягнувшие конституции, осуждены на изгнание, о повальных обысках, во время которых отбирали оружие и арестовывали неблагонадежных, и так далее. Нас, крестьян, эти ужасы не затрагивали, и бояться нам было нечего. Наша революция закончилась в 1789 году. Мы забрали все монастырское оружие, а немного погодя инакомыслящие монахи сами разбрелись, кто куда. Что до Эмильена, то он прекрасно знал — имущество его семьи конфискуют, и ему придется расплачиваться за предательство родителей. Он вел себя как человек, который никогда и никому не должен был наследовать. Но очень мы сокрушались из-за короля и ни за что не верили, что он сговорился с эмигрантами, которых так осуждал. Кроме того, мы горевали и чувствовали себя униженными оттого, что враг нас одолел. Когда нам рассказали о резне в тюрьмах, мы поняли, что нашему скромному счастью скоро придет конец. Читать и беседовать с Эмильеном стало недосуг: все наше время мы посвящали сельскому и домашнему хозяйству — так бывает с людьми, которые хотят отвлечься от тягостных раздумий и заглушить упреки совести. Возможно, последующее рассуждение мое покажется странным, тем не менее в этих записках я придаю ему большое значение. Если молодые и чистые души свято поверили в справедливость, в дружбу и честь, если будущее представлялось им поприщем для свершения их добрых намерений и если внезапно они обнаруживали, что люди исполнены ненависти, что они несправедливы, а зачастую — увы! — вероломны, тогда эти младенческие души переживают потрясение, приносящее им тяжкие увечья. Они начинают размышлять, не совершен ли ими какой-то проступок, за который люди карают их так жестоко. Теперь мы задавали господину приору гораздо больше вопросов, чем раньше, когда почитали себя всезнайками, проникшись без его помощи идеями, которые казались нам куда более совершенными, чем его. Но мы уже не смели важничать, так как боялись, что запутались в своих теориях. Приор же, несмотря на свой будничный вид и весьма прозаические занятия, оказался большим философом, чем мы предполагали. В один из вечеров девяносто третьего года мы завели с ним разговор о том, что он думает о якобинцах и об их стремлении любой ценой продолжать революцию. И приор нам сказал следующее: — Дети мои, эти люди катятся по наклонной плоскости, и им уже не остановить своего падения. Но дело не в них, а в обстоятельствах, которые могущественнее человеческих устремлений. Старая жизнь уходит, я давно это заметил, хотя по воле судьбы слежу за событиями из этой норы, где живу, как жалкая мокрица, забившаяся под замшелые камни. Не думайте, что это революция привела к гибели церковь. Она лишь развалила то, что насквозь прогнило и изжило себя. Вера угасла уже давно, церковью овладели мирские интересы, и у нее нет больше права на существование. Взять хотя бы меня: я верю далеко не всем ее поучениям, многое пропускаю мимо ушей. Я ведь столько раз был свидетелем того, как грубо высмеивались в монастырских стенах церковные заповеди и запреты. Во времена моей молодости стены нашей подземной молельни были украшены старинными фресками, изображавшими танец смерти; тогдашний приор почел их за мерзостные и смехотворные и велел замазать краской. Таким же образом были искоренены все верования, наводившие страх на душу, а вместе с ними и строгости церковного устава, и в нас вызревал все тот же революционный дух протеста. Прелаты и старшие чины богатых аббатств предавались за наш счет всевозможным увеселениям, модным в ту пору, купались в роскоши и даже развратничали. Мы не желали быть простаками и отставать от них, но поскольку скромность нашего положения не позволяла нам безнаказанно пускаться во все тяжкие, мы довольствовались сытной жизнью и замкнулись в равнодушии ко всему на свете: ведь быть равнодушными нам не возбранялось. Думаю, так жили не мы одни. Трое наших монахов, которые ушли последними, были вовсе не те, за кого вы их принимали. Когда они стращали меня за мое прямодушие и даже упрятали в темницу, ими двигал отнюдь не фанатизм. Они ни во что не верили и, желая нагнать на меня страху, сами всего боялись больше, чем я. Был среди них один распутник, который с большой охотой сложил с себя монашеское звание; другой, форменный болван, в бога не веровал, но, читая архиепископское послание, страшился адского пламени; третий, бледнолицый и мрачный Памфил, был честолюбец, который жаждал быть на виду — вероятно, он станет демократом, ибо не сумел отличиться особым рвением на монашеском поприще. А знаете, отчего духовенство измельчало и зачахло? Оттого, что оно смертельно устало от своего фанатизма, а подобная усталость неотвратимо влечет за собой кару, и эта кара — бессилие. Люди, которые устроили Варфоломеевскую ночь и отменили Нантский эдикт, всегда злоумышляли и против королей и против народа, сеяли зло, не испытывая угрызений совести, проповедовали преступление с амвона, не боясь погубить душу свою, — такие люди быстро превращаются в ничтожества. Нельзя всегда жить во лжи — пробьет час, когда она вас задушит, и вы умрете. Теперь вернемся к тому, о чем вы спрашивали, — кто такие якобинцы. Насколько могу судить, это люди, для которых революция дороже всего на свете, даже собственной совести, — в этом они сродни духовенству, которое чтит церковь превыше господа бога. Мучая еретиков и обрекая их на сожжение, духовенство говорило: «Мы действуем так во имя спасения христианства». Преследуя не столь рьяных революционеров, якобинцы говорят: «Мы поступаем так во имя общего дела». Эти одержимые, вероятно, искренне верят в то, что трудятся на благо человечества. Однако пускай они поостерегутся, ибо «человечество» — понятие очень широкое. Я думаю, что благу человечества служит только добро, и кто наносит зло в отдельных случаях и отдельным людям, тот наносит его всему человечеству без исключения. Конечно, я старик, который смотрит на жизнь из далекого прошлого, мне уже умирать пора. А вы молодые, вам виднее. Скоро сами поймете, помогают ли нетерпимость и жестокость, всегда извращающие любую веру, привести к другой, более совершенной. Я в это не верю, ибо знаю, что церковь погибла из-за своих жестокостей. Если дело якобинцев провалится, вспомните о резне, учиненной ими в тюрьмах, и мысленно повторите мои слова: новую церковь не построить на гнилой основе, из-за которой рухнуло прежнее здание. Тогда Эмильен сказал, что никто толком не знает, действительно ли сентябрьская резня и аресты дело рук якобинцев, а не разбойников, которых они не сумели остановить. — Возможно, и так! Дай-то бог! — воскликнул приор. — Может, те, кого мы почитаем злодеями, на самом деле люди благонамеренные, но когда вы сами сумеете в этом разобраться, помните о том, что я вам сказал: люди, обагрившие руки в крови, никогда не воплотят в жизнь своих замыслов, и если миру суждено спастись, то спасется он иными способами, а какими — предугадать нам не дано. Я убежден только в одном: все зло идет от духовенства; оно издавна прибегало к самым крайним мерам, которые его враги обратили теперь против них же самих. Жертвы насилия не бывают кроткими, признательными учениками. Зло порождает зло! Но, пожалуй, довольно об этом говорить. Будем жить тихо, мирно и ни во что не вмешиваясь. Лучше честно исполнять свой долг, времени нам отпущено немного, а разговорами беде не поможешь. Так один-единственный раз приор поделился с нами своими сокровенными мыслями. Духовенство он осуждал — но то ли соображения благоприличия, то ли привычка к повиновению мешали ему выразить в слишком прямых словах то, что он думал по столь щекотливому для него вопросу. Действительно ли нынешние взгляды были убеждениями всей его жизни, как ему теперь казалось, или он обманывался на этот счет и столь глубокие мысли посетили нашего приора лишь в темнице, где он просидел три дня, — сказать не берусь. Долгие годы монашества развили в нем такую осторожность, что он избегал откровенных признаний, и наша любознательность, очевидно, не столько занимала, сколько раздражала его. Обо всем приор судил всегда с самой практической, глубоко эгоистичной точки зрения, хотя человек он был великодушный и преданный тем, кого любил. Мир мыслился ему неким жестоким полем сражения, где всяк стоит только за себя, а идеалом он почитал жизнь крота в норе. Он уповал на вечное блаженство в загробной жизни, хотя твердой веры в нее у него не было. Как-то раз он даже воскликнул: — Они так испоганили лик господа бога, что я уже не могу его разглядеть. Передо мной словно страница, заляпанная чернилами и кровью, и никак не догадаться, что там написано. Впрочем, мысли эти, по всей видимости, не слишком его заботили: приор волновался по другим причинам, ну, к примеру, когда от заморозков чахли наши фруктовые деревья или в грозу скисали сливки. Иногда приор казался неотесанным грубияном, а между тем был действительно добр, очен умен и порядочно образован; вероятно, он так давно не давал воли своим мыслям, что уже не мог дышать полной грудью ни в прямом, ни в переносном смысле. Если приор изо всех сил старался держаться в стороне от происходящих событий, то Мариотта, мои двоюродные братья и старик Дюмон вообще ими не интересовались. Объявили, что отечество в опасности, клич о новом рекрутском наборе встретили с воодушевлением, а мы про то слыхом не слыхали и даже про эти правительственные указы узнали тогда, когда все уже успели о них забыть. Правда, из местных жителей ушли добровольцами в армию всего несколько человек, завзятых лодырей. Эмильен в ту пору не считал своим долгом следовать их примеру. Он помнил, что его брат сражается в противоположном лагере, и тянул с окончательным решением. Но тут он неожиданно получил письмо от управляющего Франквилем, господина Премеля.«Сударь, — писал тот, — господин маркиз, ваш отец, озабоченный положением, в котором оказались и вы и мадемуазель Луиза, ваша сестра, прислал мне письмо, из которого я привожу нижеследующее: «Снабдите господина Эмильена необходимыми деньгами, дабы он выехал из Франции и разыскал меня в армии принца Конде. Я полагаю, он не забыл, что носит имя Франквиль, и не отступит перед возможными опасностями, дабы осуществить мою волю. Снеситесь с ним и окажите должную поддержку, а также, снабдив его хорошей лошадью и расторопным слугой, приличествующими дворянину, выдайте ему кошелек со ста луидорами. Если он проявит храбрость и подобающую готовность, не жалейте для него ничего. В противном случае сообщите ему, что я отказываюсь от него и больше не считаю своим сыном. Что до его младшей сестры, мадемуазель Луизы, то я требую, чтобы под присмотром Дюмона и кормилицы ее препроводили в Нант, где ее уже дожидается моя родственница, госпожа де Монтифо, дабы заменить ей мать, которую она потеряла»».
— Как? Моя мать умерла? — воскликнул Эмильен, выронив письмо. — И отец сообщает об этом в таких словах! Я крепко сжала ему руки. Эмильен был бледен и дрожал — известие о кончине матери не может не потрясти, — но не пролил ни единой слезинки; он не мог плакать из-за женщины, которую едва знал и которая никогда не любила его. Когда он немного успокоился, его поразила мысль о том, как обошелся с ним отец, — даже не счел нужным сам написать письмо сыну, а сообщил ему свою волю через поверенного в делах! Поначалу Эмильен даже заподозрил Премеля в том, что письмо подложное, но конец послания рассеял всякие сомнения на этот счет.
«Господин маркиз, — писал далее Премель, — весьма обольщается относительно настоящего положения дел. Во-первых, он полагает, что его земли по-прежнему приносят ему доход, меж тем как имение давно конфисковано, а во-вторых, думает, что за последние годы у меня скопилась порядочная сумма, что опять таки не соответствует действительности, ибо фермеры отказались платить за свои земельные наделы, а крестьяне поддались анархии. Во Франквиле я больше не живу, потому что положение людей, имевших счастье быть на службе у аристократов, стало особенно опасным. Я скромно удалился в Лимож и не смогу убедить кормилицу мадемуазель Луизы покинуть Франквиль и уехать в западные провинции, ныне охваченные восстанием. Поскольку Дюмон живет при вас, вам самому и придется препроводить вашу сестру к госпоже Монтифо. Для этого я предоставляю в ваше распоряжение двести ливров из моего собственного кошелька, а когда вы вернетесь из вашей первой поездки, я постараюсь взять в долг для вас деньги, необходимые, чтобы уехать из Франции. Соблаговолите незамедлительно сообщить мне, решились ли вы эмигрировать и следует ли мне заняться вашей экипировкой. Однако раздобыть эти деньги так трудно, что я прошу вас не рассчитывать на получение той сотни луидоров, которые требует для вас господин маркиз. В наличности их у меня нет, и к тому же я не имею кредита, чтобы вас ими обеспечить. В настоящее время ваша семья располагает еще меньшими средствами, чем я, и даже если какой-нибудь ростовщик рискнет раскошелиться под ваше заемное письмо или письмо вашего отца, которое я держу в качестве залога, вам придется заплатить очень большие проценты, не говоря уже о том, что сохранение тайны также обойдется вам в солидную сумму. Я почел своим долгом сообщить вам о действительном положении вещей, которое, вероятно, вас не остановит, поскольку, если вы не покинете Францию, ваши родные навсегда отвернутся от вас».
— Ну и пусть отворачиваются! — решительно воскликнул Эмильен. — Им не впервой пренебрегать мною и отталкивать меня! Если бы мой отец написал мне собственноручно, если бы он с отеческой любовью потребовал от меня сыновней покорности, я принес бы в жертву не только мою совесть, но даже честь и самое жизнь. Ведь все это я уже обдумал и решил, что если придется, я в первом же бою брошусь на штыки французских революционеров, воздев глаза и руки к небу, свидетелю моей невиновности. Но обстоятельства сложились иначе. Отец обходится со мной как с наемником, которого покупают для военной кампании: вот тебе лошадь, слуга, чемодан с платьем, кошелек с сотней луидоров, иди воюй на стороне Пруссии или Австрии. А не хочешь, так помирай с голоду, меня это не касается, я тебя знать не знаю. Так вот, мне угодно жить трудами собственных рук и хранить верность своей отчизне, а вас я никогда не знал, и я отрекаюсь от отца, если он требует, чтобы я предал Францию. Наши родственные узы разорваны. Слышишь, Нанетта? — С этими словами он разорвал письмо управителя на мелкие клочки. — Видишь? Я больше не аристократ, я просто крестьянин, просто француз! Эмильен упал на стул и дал волю слезам. Я была потрясена его состоянием — ведь он при людях, а может, и наедине с собой, никогда не плакал. У меня тоже слезы хлынули из глаз, и я принялась целовать Эмильена, хотя раньше мне это и в голову бы не пришло. Он тоже целовал меня и крепко прижимал к груди, по-прежнему плача, и нас ни капельки не удивляло, что мы так любим друг друга. Ведь после стольких счастливых, беспечальных дней под одним кровом было так естественно вместе горевать! Однако следовало подумать о Луизетте и о том, нужно ли ее отправлять в Нант. Нант! Ах, если бы мы умели прочитать в книге будущего то, что там произойдет, как мы порадовались бы тому, что Луизетта с нами. Может быть, узнав о восстании в Вандее, мы, сами того не сознавая, прониклись бы дурными предчувствиями, и само небо отвратило от нас беду. Участь Луизы была решена в ту же минуту, когда Эмильен распорядился собственной судьбой. — Нет, — воскликнул он, — при теперешних временах я с сестрой не расстанусь! Нужно поглядеть, действительно ли госпожа де Монтифо хочет заменить ей мать. Я не желаю, чтобы над бедняжкой Луизой снова тиранствовала какая-то чужая женщина. Лучше я отправлю сестру к матери господина Костежу — она добрый, участливый человек. Но у нас еще есть время все обдумать. Детей никто не преследует и не будет преследовать — это ясно. Луизе с нами хорошо, ничего не говори ей о письме. Все равно решать не ей, а мне, и я берусь отказаться за нее. Эмильен уже собирался ответить господину Премелю, но приор, которому мы обо всем рассказали, сказал так: — Не пишите управителю! Напрасно вы разорвали письмо. Может, это был подвох, и я без труда вывел бы Премеля на чистую воду. Так или иначе, ваш ответ он перешлет господину маркизу, а это обернется полным разрывом с вашим отцом. Не стоит идти на открытую ссору, ни на что не соглашайтесь и не отвечайте вообще. Притворитесь, что вас нет на свете, — так разумнее всего! Движимый не столько осторожностью, сколько отвращением ко всей этой затее, Эмильен послушался приора и не ответил господину Премелю. Тот, вероятно, решил, что письмо его перехватили, и, не на шутку испугавшись, больше нас не беспокоил. Так мы снова избавились от нависшей беды, а происходящие события вселили в нас надежду. Дюмурье победил при Вальми. Наши войска овладели Ниццей и Савойей. О прошлых несчастьях никто не вспоминал. Опять собрался Конвент, и умеренные вроде бы одержали верх. — Не я ли говорил вам, что все устроится, — твердил господин приор, воспрянув духом, едва небо прояснилось, — Коммуна побеждена. Сорокадневная анархия всего лишь дурная случайность. Жирондисты настроены разумно и хотя, вероятно, свергнут короля, но, вполне возможно, вернут ему Люксембургский дворец — там ему будет хорошо, там он отдохнет от всех треволнений. Он уподобится мне; ведь я узнал, что такое покой, лишь тогда, когда стал никем. Напрасно легковерный приор обольщался: спустя несколько месяцев после двенадцатидневного заседания Конвент приговорил короля к смертной казни и учредил революционный трибунал. На сей раз эта грустная весть пришла не одна, а привела с собой великую нужду. Ассигнаты были обесценены, серебряные монеты исчезли из обращения, торговля совсем захирела, а о комиссарах, посланных для наведения порядка в провинциях, рассказывали такие ужасы, что крестьяне боялись ездить в город, ничего не покупали и не продавали. Жили, обмениваясь скудными запасами с соседями, и если в доме заводилась монета в шесть франков, ее зарывали в землю. Весь наш скот конфисковали, и мы остались ни с чем. Господин приор очень болел и нуждался в бульоне, поэтому пришлось мне зарезать своего последнего ягненка. Розетту продали давным-давно на платьишки Луизе, которая теперь ходила в отрепьях — одеваться барышней стало опасно, и даже господин приор носил обыкновенную крестьянскую куртку-карманьолу.
XI
Что касается Эмильена, то он носил крестьянское платье с тех пор, как снял монашеское одеяние. Я прилежно следила за тем, чтобы наши обноски не разлезались по швам. С Мариоттой мы подолгу засиживались по ночам, выкраивая и ставя заплаты из всего, что было под рукой. Господин приор часто ходил в серой куртке с ярко-синими заплатами на локтях, и так как Эмильен с Пьером еще росли, то и дело приходилось перешивать или надставлять им одежду. Не будь дичи, наш стол совсем бы оскудел, благо, стреляли ее все, кому не лень, потому что хозяев у леса не стало. Больше года терпели мы эту нужду, и за это время у многих из нас вместе с привычками изменился и нрав. Нам очень облегчили подати, но налоги, которыми раньше облагались богачи, теперь падали на нас. Никто не заставлял людей работать; страшась возможных бед, они не возделывали даже собственных участков, о которых раньше так мечтали. На жизнь промышляли браконьерством, мародерствовали в секвестрованных имениях. Крестьяне открыто жили грабежом, дичали, боялись всего на свете и злобились. Хоть бы они ладили между собой да помогали друг другу, как в первые дни революции! Увы, от нужды люди делаются эгоистичными и подозрительными. Из-за одной репы они ссорились, а из-за двух готовы были передраться. А давно ли все ликовали на празднике Федерации! Недаром старики говорили, что слишком уж все хорошо, чтобы долго продлилось. Крестьяне, жившие ближе к городам и набравшиеся тамошнего духу, стали так наседать на нас и стращать, что наших старых друзей в муниципалитете мы поневоле заменили молодыми людьми, более расторопными, но, увы, не столь порядочными, и они, ничего не смысля в парижских передрягах, произносили к месту и не к месту высокопарные речи, устраивали так называемые патриотические празднества, которые были бестолковы и нелепы. Они откровенно сокрушались из-за того, что по приказу властей пришлось снять церковные колокола и вывезти остатки серебряной утвари из монастырской часовни, ибо в глубине души были суевернее всех прочих и боялись оскорбить святых и навлечь на себя их гнев. Тем не менее они сделали все, что им велели, потому что трепетали перед монтаньярами и жирондистами, перед Комитетом общественного спасения, Конвентом и коммуной — эти названия путались у них в голове и мешались в одно. Не могу сказать, чтобы их четко различали и у нас в монастыре. Все так быстро менялось, а парижские события были такие запутанные. Но наступил день, когда Эмильена словно осенило, и он понял истинное положение дел. Из Парижа господин Костежу прислал ему письмо, в котором сообщал о своем скором переезде в Лимож, куда его назначили помощником комиссаров, посланных в провинции для того, чтобы ускорить рекрутские наборы и следить за исправным выполнением решений Конвента. — Послушай, Нанетта, — сказал мне Эмильен. — Я просто не знаю, что и думать об этом господине Костежу! Я привык считать его жирондистом и думаю, что он им действительно был; теперь же он явно в другом лагере, поскольку облечен полномочиями, требующими от него непреклонной суровости. Он пишет, что ему недосуг приехать в монастырь и приглашает меня для разговора в город. Я, конечно, поеду, но сначала хочу с тобой, Нанетта, поговорить начистоту и сообщить свое решение. Меня не коснулась всеобщая воинская повинность, но я могу, да и хочу, пойти на войну добровольцем. Это мой долг, поскольку сегодня половина Франции, если не две трети, восстала против революционного правительства, а зарубежные недруги окружили нас кольцом, мечтая вернуть монархию. Я всегда верил, что во Франции может быть разумный и человеколюбивый республиканский строй. Не знаю, утвердился бы он у нас или нет, будь наши вожди поумнее, а противники не столь яростны, но время летит слишком быстро, и гибель наша уже не за горами, разве что французы проявят недюжинное мужество и послушание. И посему, дорогая Нанетта, следует нам действовать, не слушая собственного сердца, — ведь жестокости, которые чинит Комитет общественного спасения при поддержке Конвента, омерзительная тирания граждан друг над другом, несправедливости, судебные ошибки, доносы, мздоимство, массовые убийства, о которых ходит столько толков, — все это повергает в отчаянье и пробуждает яростное негодование. Но вдруг союз заговорщиков-роялистов с внешними врагами оправдывает необходимость этих подлых и беспощадных мер? Тогда к кому примкнуть мне? К чужеземцам, которые прикрываются тем, что жаждут покончить с анархией, а на самом деле мечтают поделить Францию меж собой? И разве подстрекающие их люди не самые гнусные из французов, а судьи, сурово наказывающие предателей, не последняя надежда нашего отечества, даже если они по врожденной склонности или веря, что это необходимо, злоупотребляют своим правом карать и миловать? Ах, как я их ненавижу! Но тех, других, я презираю, и у меня нет сомнения, что лучше все претерпеть, чем подвергнуться самому страшному из всех унижений. Этих якобинцев, которых приор считает слабыми потому, что они творят добро с помощью зла, или, вернее, чинят зло во имя добра, — я их считаю героями, которых борьба свела с ума. Они вершат жестокие дела в каком-то ослеплении, а на службе у них целая армия кровожадных негодяев, которые еще более свирепы, чем они, потому что любят злодейство, одержимы тупым тщеславием или опьянены своей властью. Но придется их терпеть: ведь обстоятельства сложились так, что если прогонят якобинцев, нами будут верховодить злодеи пострашнее, более того — мы просто перестанем быть французами. А французами мы должны остаться любой ценой, это главное! Теперь ты понимаешь, что я обязан как-то послужитьсвоему отечеству. Мне нужно обязательно повидаться с Костежу и сказать ему: «Вы меня приютили и кормили. Я работал на вас и готов при малейшей возможности трудиться по-прежнему. Но теперь не время обрабатывать землю — нам надо ее удержать в своих руках. Я препоручаю вам свою сестру — дайте ей пристанище, а мне позвольте идти добровольцем на войну. Я от рождения незлобив, мне противна война, ненавистно кровопролитие, но я готов стать другим вопреки собственной природе. Если нужно, я превращусь в свирепого зверя, а потом, когда стану гадок самому себе, покончу счеты с жизнью; но пока родина нуждается в защите, я буду сражаться за нее, терпеть муки и ни о чем больше не думать». Пока Эмильен говорил, я слушала его в смятении, обливаясь слезами как ребенок, но речь его была преисполнена такого воодушевления, что оно передалось и мне, и когда Эмильен умолк, я не стала его отговаривать. — Ты не одобряешь мое решение? — спросил он. — О чем ты думаешь? — О Луизе, — ответила я. — Я бы поехала с ней на край света, только бы вас успокоить, но кто тогда будет присматривать за господином приором? Эмильен крепко обнял меня. — Ты беспокоишься за тех, кто остается! — воскликнул он. — Стало быть, ты миришься с моим отъездом. Ты понимаешь, в чем заключается мой долг, Нанетта, у тебя храброе сердце! Сейчас давай подумаем, как лучше устроить судьбу Луизы и нашего старого друга. Пожалуй, нужно постараться, чтобы они жили вместе или в монастыре, или в семье Костежу, который, будучи близок к правительству, должно быть, всесилен в своей провинции. Это я и хочу с ним обсудить и завтра же пойду к нему. На следующий день он увязал вещи в узелок, повесил на палку и, вскинув на плечо, пешком отправился в Лимож, пообещав возвратиться, чтобы попрощаться с нами перед отъездом в армию. Мне было очень грустно, но я не теряла надежды. В ту пору мне и в голову не приходило, что Эмильен скоро попадет в беду. Расскажу сейчас о перипетиях его путешествия — это много интереснее, чем описывать, как я тревожилась, поджидая его возвращения. Дюмон вызвался сопровождать Эмильена, и от старика я узнала кое-какие подробности. Этот добрый человек отдал все свои сбережения господину Костежу, брат которого был банкиром. Не говоря ничего заранее Эмильену, Дюмон хотел составить завещание на его имя. Эта мысль зародилась у него после несчастья, случившегося с ним, когда он был под хмельком. Чудом спасшись, Дюмон подумал, что следующий раз может оказаться для него роковым, и решил привести в порядок все свои дела. — Я человек бездетный, — сказал он Мариотте, — а из Франквилей я любил одного Эмильена. Мне удалось скопить двести ливров, да вот на старости лет пристрастился я к вину, и мне уже не округлить свой капиталец — что зарабатываю, то сразу и пропиваю. Но я ни за что не хочу растратить нажитое, и пускай господин Костежу не даст мне этого сделать. Коротко говоря, едва добравшись до Лиможа, они поспешили к господину Костежу. Он принял их и был очень взволнован. — Граждане, — сказал он резко, не выказав им привычного гостеприимства, — прежде всего я желаю знать, какие политические убеждения вы разделяете в столь страшные для нашего отечества времена. — Сударь, — ответил Эмильен, — хотя я не спрашиваю, каких политических взглядов придерживаетесь вы, но не скрою от вас своих убеждений, потому что для этого и пришел. Сейчас вы о них узнаете вне зависимости от того, одобрите их или нет. Я хочу пойти добровольцем на войну и верой и правдой служить спасению своей страны и революции. Поэтому прошу вас взять под свое покровительство мою сестру. — Как можно обещать покровительство в наше время, и о каких добровольцах вы говорите, если уже подписан приказ о всеобщей мобилизации и всем без исключения надлежит его исполнять. — Я ничего об этом не слышал. Ну что ж, я рад, я был готов к этому и без приказа. — Но как же ваши родные? — Я ничего о них не желаю знать. Они предложили мне помощь, но я от нее отказался. — С тем, чтобы поехать к ним самому? — С чего вы взяли? Я этого не говорил. — Стало быть, вы это отрицаете? — Прошу вас, не учиняйте мне допроса. Вам довольно знать мои взгляды и решение, которое я только что вам сообщил. Если в вашей власти ускорить мое поступление в полк, который не сегодня-завтра отправят на поле брани, умоляю вас помочь мне. — О жалкий юнец! — воскликнул господин Костежу. — Вы мне лжете! Вы разыгрываете благородные чувства и злоупотребляете моей неразумной доверчивостью. Вы хотите дезертировать и перейти во вражеский лагерь. Смотрите — вы изобличены! С этими словами он сунул Эмильену письмо, адресованное господину Премелю и подписанное маркизом де Франквилем, где содержалось следующее:«Поскольку мой сын Эмильен решил приехать ко мне, но ввиду отсутствия денег и злобных подозрений со стороны властей, его бегство сопряжено с серьезными трудностями, посоветуйте ему стать волонтером республиканской армии и поступить как многие сыновья из благородных семейств, которые, попав на войну, находили способы дезертировать».
— Это подлая клевета! — закричал Эмильен, дрожа от гнева. — Мой отец не мог написать такое! — И тем не менее это его почерк, — продолжал господин Костежу. — Посмотрите внимательно. Можете ли вы поклясться честью, что он подделан? Вопрос озадачил Эмильена: он редко получал письма от отца и плохо знал его руку. — Этого я сделать не могу, но клянусь всем святым в моей жизни, что никогда не согласился бы обесчестить себя, и если мой отец почел меня способным на такую низость, тому виной бесстыдное измышление Премеля. Он говорил с таким жаром и достоинством, что господин Костежу, не спускавший с него внимательных глаз, под взглядом которых Эмильен не дрогнул, резко сказал ему: — Возможно, это и так, но где доказательства? Сегодня утром революционным трибуналом нашей провинции подписан приказ о вашем аресте. Премель сидит в тюрьме — его давно уже подозревали в том, что он поддерживает связи со своими прежними господами. В наши руки попали все его бумаги, и когда я стал их разбирать, то сразу обнаружил это письмо. Если оно подлинное, вы преступник, а то, что оно написано рукой вашего отца, подтверждают другие письма и деловые бумаги. Впрочем, судебные процессы подобного рода занимают так мало времени, что графологов приглашать некогда. Вам остается только одно: если вы действительно невиновны, чего я всей душой желаю, постарайтесь обжаловать приговор и по возможности доказать, что вы никогда не поручали Премелю сообщать отцу о вашей готовности исполнить его волю. — Я это докажу. Господин приор свидетель тому, что я не желал отвечать на отцовское предложение эмигрировать. — Вы не пожелали ответить, стало быть, не отказались. — Господин приор… — Называйте его гражданин Фрюктюё: больше нет ни приоров, ни священников. — Как вам угодно! Гражданин Фрюктюё вам скажет… — Он ничего мне не скажет, его и вызвать-то будет некогда, к тому же советую вам не напоминать о существовании Фрюктюё — для его же блага! Через три дня вас помилуют или приговорят… — К смерти? — Или к тюремному заключению до тех пор, пока не закончится война; все зависит от того, в какой степени вас признают виновным. — В какой степени? А вы, мой старый друг, вы не допускаете мысли, что я действительно невиновен, и вы, адвокат, заявляете до суда, что меня непременно засудят? Господин Костежу раздраженно потер лоб. Глаза его метали молнии. Потом он побледнел и сел на стул с видом человека, чьи силы иссякли. — Молодой человек, — сказал он, — сейчас я выполняю свой тяжкий долг перед революцией, и тут не может быть ни друзей, ни защитников. Перед вами обвинитель и судья Костежу. В прошлом году я был жирондистом и тешился многими глупыми иллюзиями накануне отъезда из провинции, но теперь стал тем, кем обязан быть каждый истинный патриот. Я видел политическую беспомощность лучших из числа умеренных революционеров, видел, как подавляющее большинство их подло предавало Францию. Те, что были принесены в жертву революции, заплатили за других, разжегших гражданскую войну в стране. Они стояли на пути граждан, облеченных властью, которые поклялись спасти отечество любой ценой. Нужно было убрать с дороги и уничтожить смутьянов, как следовало растоптать в душе всякую жалость, привязанности, угрызения совести. Пришлось убивать женщин и детей… Повторяю — так было нужно! — Произнося свою речь, господин Костежу кусал носовой платок. — И мы станем действовать таким образом и впредь, потому что и впредь это будет нужно. Знайте: если вы испытали хотя бы минутное колебание в выборе между вашим отцом и республикой, вы пропали, и я не в силах спасти вас. — Я не колебался ни одной минуты! Но если мне отказываются верить и к тому же не позволяют оправдаться, тогда я действительно погиб. Хорошо, сударь, извольте — я готов умереть. Хотя мне мало лет, я вполне сознаю, что родился в такое время, когда человеческая жизнь ничего не стоит. Я умру без страха, но могу ли я надеяться, что мои друзья и сестра… — Молчите! Не произносите их имен. Пускай никто не знает, что они существуют. Покамест из вашей общины не поступило на них доноса. Пускай себе живут в своей норе и не напоминают о себе! — Ваш совет, которому, можете быть уверены, я последую, служит мне доказательством того, что вы сделаете все возможное для их спасения, и я вас заранее благодарю. Я не прошу пощады — велите отвести меня в тюрьму, где мои дни будут омрачены одной мыслью, что вы усомнились в моей искренности. Господин Костежу, казалось, дрогнул. Дюмон бросился перед ним на колени, твердя о невиновности и глубоком патриотизме Эмильена и умоляя старого друга его спасти. — Это не в моих силах, — сказал господин Костежу. — Лучше подумайте о себе. — Благодарю за совет, но мне это совершенно ни к чему, — ответил Дюмон. — Я старый человек. Пусть делают со мной что хотят, и раз вы не можете помочь моему молодому господину, пускай меня тоже засудят, посадят в тюрьму и, если дойдет до 3 того, гильотинируют вместе с ним. — Замолчите вы, несчастный! — воскликнул господин Костежу. — Есть люди, которые с радостью поймают вас на слове. — Правильно! Замолчи, Дюмон, — сказал Эмильен, обнимая старика. — Тебе умирать нельзя: я назначаю тебя своим наследником и завещаю тебе свою сестру. — И, глядя прямо в глаза господину Костежу, Эмильен добавил: — Довольно, сударь. Если, по-вашему, я лжец и трус, велите взять меня под стражу. — Кто-нибудь видел, как вы входили ко мне? — нетерпеливо спросил адвокат. — Мы ни от кого не таились, — ответил Эмильен. — Всякий мог нас видеть. — Вы с кем-нибудь разговаривали? — Знакомых нам не попадалось, и разговаривать было не с кем. — Вы называли свои имена служителю, который проводил вас ко мне в кабинет? — Не понимаю, сударь, о чем вы. Ваш слуга нас знает и впустил нас, не спросив, кто мы такие. — Хорошо. Уходите, — сказал господин Костежу, открывая потайную дверцу за книжной полкой. — Постарайтесь покинуть город, ни с кем не разговаривая и нигде не останавливаясь. Должен вам сказать, что, если вас схватят, за этот побег я поплачусь головой. Когда я приглашал вас сюда, чтобы обсудить наши дела, я не знал, что вы под подозрением. Поэтому, чтобы вы не думали, будто я заманил вас в ловушку, немедленно уходите.
XII
Эмильен молча взял за руку Дюмона, и, даже не поблагодарив господина Костежу, оба стремглав спустились по лестнице. Они вместе перешли улицу, а затем Эмильен показал Дюмону обратную дорогу и сказал: — Не торопись, иди не оглядываясь, нигде не задерживайся, не показывай вида, что ты меня ждешь. Я хочу еще переговорить с господином Костежу и тебя догоню на проселке. Только, пожалуйста, не дожидайся меня, или мы оба пропали. Если ты меня не увидишь на дороге, значит, встретимся в другом месте. Дюмон покорно исполнил его приказ, хотя ничего не понял, но когда прошел пол-лье, а Эмильен все не появлялся, стариком овладело беспокойство. Правда, он утешал себя тем, что, зная здешние места много лучше Эмильена, очевидно, сильно обогнал его. Пройдя еще какое-то расстояние, он решил подождать своего господина, но прохожие стали на него обращать внимание, и, боясь, как бы они чего не заподозрили, Дюмон опять тронулся в путь и завернул в лесок перевести дух. До монастыря он добрался на следующий день, всю дорогу торопился, так как ему не терпелось встретиться с Эмильеном. Но, увы, тот не вернулся, и мы напрасно ждали его. Эмильен решил спасти своего старого слугу и в то же время не желал компрометировать господина Костежу, поэтому снова пришел к нему и, проникнув в его кабинет через потайную дверцу, сказал: — Поскольку на мне тяготеет обвинение, я сам отдаюсь вам в руки. Эмильен хотел было добавить: «Благодарю вас за все, но не хочу подвергать вас опасности», как господин Костежу, писавший какую-то бумагу, бросил на него выразительный взгляд, как бы предупреждая, что надо держать язык за зубами. Дверь в переднюю была открыта, и почти сразу на пороге появился человек в карманьоле из тонкого сукна, в красном колпаке, перевязанный кушаком и при большой сабле; увидев Эмильена, он вперил в него глаза, словно стервятник, увидевший жаворонка. Сначала Эмильен не узнал его, но тут человек сказал зычным голосом: — На ловца и зверь бежит! Его и разыскивать не надо! Только тут Эмильен его узнал: то был брат Памфил, бывший монах из монастыря Валькрё, тот самый, который засадил отца Фрюктюё в темницу за то, что он отказался принять участие в чудесах, якобы творимых божьей матерью; это его приор в разговоре с нами называл честолюбцем, способным на любую подлость; именно он особенно ненавидел Эмильена. Он стал членом революционного трибунала в Лиможе, самым ревностным из обвинителей и самым беспощадным из санкюлотов. Он незамедлительно приступил к допросу в кабинете господина Костежу, но Эмильен испытал такое отвращение при виде этого Памфила, что отказался отвечать ему, после чего вооруженные пиками санкюлоты взяли его под стражу и повели в тюрьму, во все горло вопя на улицах: — Еще один Попался! Еще один аристократ, который собирался податься к врагу! Теперь он скоро окажется по ту сторону, хоть ему и не больно охота переходить эту границу! Какие-то рабочие заорали: «Да здравствует гильотина!», осыпая оскорблениями бедного юношу. Впрочем, большинство делало вид, что ничего не слышит, потому что боялось и революционеров и монархистов; аристократы бежали все до одного, но в городе остались буржуа, настроенные достаточно умеренно, которые ни во что не вмешивались, однако все видели и все брали на заметку, чтобы при случае, когда сила окажется на их стороне, по заслугам наказать зачинщиков злодеяний. Когда Дюмон рассказал нам то, что видел собственными глазами, не переставая удивляться, почему это Эмильен не возвращается домой, я поняла, что Эмильен сам выдал себя властям и что теперь он пропал. Но, как ни странно, я не испытывала сердечной боли, вернее — не успела ее почувствовать. Видимо, уже тогда у меня появилась способность в опасных положениях действовать с неизменной решительностью, и мысль о том, что Эмильена нужно спасти любой ценой, мгновенно овладела мною. Мысль была отчаянная, что и говорить, но я гнала прочь сомнения, считала ее здравой и всем своим существом слепо и упрямо верила, что добьюсь невозможного. Я не желала ни с кем советоваться, не хотела рисковать ничьей жизнью, но свою собственную поставила на карту, безоглядно и бесстрашно. Ночью я увязала в узелок кой-какую одежонку, взяла немного денег и написала записку приору, в которой просила обо мне не беспокоиться и сказать остальным, что он самолично отправил меня по каким-то делам. Я бесшумно подсунула ему письмецо под дверь, выбралась из монастыря через пролом в стене и к рассвету была уже далеко от дома, на лиможской дороге. Прежде мне никогда не случалось забираться так далеко, но, живя в наших горах, я так часто разглядывала простиравшуюся внизу долину, что знала наперечет все колоколенки, все деревни, дороги, развилки и перепутья. Кроме того, я немного смыслила в географии и довольно знала карту нашей провинции, чтобы не сбиться с пути, не заплутаться и не тратить времени на расспросы. Для большей уверенности я ночью срисовала с карты все места, через которые мне предстояло пройти. До Лиможа я добиралась два долгих дня — рассчитывать на попутные дилижансы или кареты не приходилось, так как их больше не существовало. Тех лошадей и повозки, которых не забрали для войска, конфисковали для себя мошенники, прикрываясь словами о благе отечества, и теперь все ходили пешком. Погода стояла чудесная. Чтобы не тратить денег и не привлекать к себе внимания, я решила устроиться на ночлег в стогу под открытым небом, поужинала хлебом с сыром, захваченными из дому в корзинке, покрылась накидкой и сразу же крепко уснула. Ведь за день я проделала путь, который осилил бы не всякий мужчина. Я пробудилась до света. Позавтракала остатками своей еды, вымыв сначала ноги в прозрачном ручейке. Я не обнаружила на них ни одной царапины, хотя всю дорогу шла босая, и приободрилась, решив, что, несмотря на усталость, сумею преодолеть оставшийся путь. Помолившись господу, чтобы он даровал мне силы, я снова двинулась в дорогу. К вечеру я благополучно добралась до Лиможа, спросила дом господина Костежу и без труда нашла его. Затем решительно переступила порог и сказала, что мне нужно поговорить с хозяином. Мне ответили, что господин Костежу обедает и беспокоить его нельзя. Тогда я развязно заявила, что такой патриот, как он, всегда находил время для беседы с девушкой из народа, и попросила передать эти слова господину Костежу. Спустя некоторое время меня провели в столовую, где я чуть было не потеряла самообладание при виде господина Костежу в компании шестерых господ с довольно свирепыми лицами, — поднимаясь из-за стола, двое из них попыхивали трубками, что в те времена считалось неприличным. Слова, переданные слугой, привлекли ко мне их внимание. Они ухмыляясь смотрели на меня, а один потрепал по щеке большой волосатой рукой, так что я даже испугалась. Однако я должна была доиграть свою роль до конца, ничем не выдав своего отвращения. Украдкой я всех оглядела, и поскольку никто из присутствующих меня не знал, постепенно успокоилась. Я не подозревала, что каждую минуту мог появиться этот мерзавец Памфил — Дюмон его не видел и ничего не знал о его обращении в санкюлотскую веру. По счастью, он отсутствовал, и я стала искать глазами господина Костежу: он стоял у камина спиной ко мне. Костежу повернулся и увидел меня. Никогда не забуду взгляда, брошенного им, более красноречивого, чем любые слова. Я все поняла и, подойдя ближе, развязно обратилась к нему на крестьянском наречии, которым еще владела, подчеркивая его наигранным воодушевлением: — Это ты, гражданин Костежу? Моя догадливость и хитрая уловка, к которой я прибегла, чтобы не скомпрометировать адвоката, несомненно, удивили его, но он не подал вида. — Это я, — ответил он. — А ты кто такая, юная гражданка, и что тебе надо? Я назвалась вымышленным именем и выдумала название деревни, откуда якобы пришла, а потом добавила, что слыхала, будто он ищет служанку для своей матери, и что я хочу наняться к ней. — Хорошо, — сказал он. — Моя мать живет в деревне, но я знаю, что ей нужно, и мы с тобой после все обговорим. А пока садись и поешь с дороги. Он что-то шепнул своему прислужнику, который, несмотря на провозглашенное равенство, провел меня на кухню. Там я сидела, как в рот воды набрав, и только поблагодарила за поставленное угощение: я боялась, как бы меня не начали расспрашивать, принудив изобретать в ответ невероятные небылицы. Я быстро поела, уселась у очага, чтобы не привлекать к себе внимания, закрыла глаза и притворилась, будто меня сморила усталость. А о скольких вещах я хотела бы узнать у этих людей! Может, Эмильена уже засудили и даже гильотинировали? Но я твердила себе: «Если я опоздала, то не по своей вине, и господь бог простит меня и навеки соединит с Эмильеном, потому что не даст мне долго страдать после его смерти. Покамест мне надо быть настороже и забыть про усталость». Говорят, огонь успокаивает, и это действительно так. Я грелась у очага, как гончая после охоты. Ведь за два дня я босая прошла больше двадцати лье, а всего-то мне было восемнадцать лет. Я тайком ловила каждое сказанное на кухне слово, боясь, что с минуты на минуту появится второй слуга господина Костежу, который работал у него на конюшне, часто наезжал с хозяином в Валькрё и превосходно меня знал. Я была готова на любую ложь, только бы расположить его к себе. При этом я была исполнена уверенности. Мне в голову не приходило сомневаться в тех, кто знал Эмильена; казалось немыслимым, что человек, встречавшийся с ним, захочет его погубить. Но конюх так и не появился, а из разговоров, которые велись на кухне между обитателями дома и посторонними, я не узнала ничего сколько-нибудь для меня важного. Мне только стало понятно, что господина Костежу отрядили в его родной Лимож на помощь парижским уполномоченным, чтобы он познакомил их с наиболее рьяными патриотами, иначе говоря, — с самыми безумными или злобными людьми в городе. Как ни грустно об этом говорить, но в ту пору наверху оказывались одни подонки, меж тем как у истинно порядочных людей уже не хватало душевных сил служить революции. Слишком многих умеренных сторонников революции казнили и посадили в тюрьмы, и нашими жизнями распоряжались даже не фанатики, а попросту говоря, кочующие из города в город разбойники или мастеровые, пьяницы и лентяи. Одни служили террору потому, что это давало положение и спасало от нищеты, другие потому, что получали возможность грабить и убивать. В этом заключалась та неисцелимая болезнь нашей Республики, которая и привела ее к скорому концу. Когда не было посторонних, слуги господина Костежу не скрывали своего презрения и откровенной неприязни к людям, с которыми их хозяину приходилось обедать за одним столом. Более того — они даже чувствовали себя униженными оттого, что им приходилось подавать еду гражданину Пифеню, кровожадному мяснику, призывавшему отправить всех аристократов на скотобойню, или бакалейщику Буданфлю, который почитал себя маленьким Маратом и требовал гильотинировать шестьсот человек, или судебному приставу Караби[204], сделавшему наушничество доходным промыслом, ибо он присваивал деньги и имущество своих жертв. Наконец через час меня позвали в кабинет к господину Костежу, где на этот раз он был совсем один. Едва я переступила порог, как он запер за мной дверь на ключ и спросил: — Зачем ты здесь? Ты, что же, захотела погубить приора с Луизой? — Я хочу спасти Эмильена, — ответила я. — Ты с ума сошла! — Нет, и я его спасу! Я произнесла эту фразу, замирая от ужаса и обливаясь холодным потом, но в то же время надеясь, что вот сейчас господин Костежу подтвердит — Эмильен не казнен! — Ты, что же, не знаешь, — продолжал он, — что Эмильен осужден? — На тюремное заключение, покуда не кончится война? — спросила я, решив выведать все, что возможно. — Да, пока она не кончится или пока не решат уничтожить всех подозрительных. Я облегченно перевела дух, — значит, у меня впереди еще было время. — Кто же донес на него как на подозрительного? — воскликнула я. — И неужели вас не было, пока его судили, — ведь вы-то знаете Эмильена. — Этот негодяй Премель обвинил Эмильена, решив, таким образом, спасти свою шкуру. Он божился, что поддерживал переписку с маркизом де Франквилем, только чтобы собрать улики против этого аристократа и его родни. По словам Премеля, Эмильен написал отцу о своем желании эмигрировать, однако письма он предъявить не смог, да и в бумагах его при обыске не нашли, вопреки утверждениям этого мерзавца. Я надеялся, что на судебном разбирательстве мое свидетельство будет весомее показаний Премеля, но с нами был этот расстрига Памфил. Из ненависти к Эмильену он заявил, что давно знает его как отъявленного роялиста и церковника, и потребовал, чтобы Эмильена немедленно приговорили к смертной казни, и все к этому шло; но тут я сумел отвлечь внимание суда, постаравшись всю вину переложить на Премеля. В результате тот был приговорен к депортации. Мне удалось спасти Эмильену жизнь… впрочем, до нового распоряжения. Я выслушала речь господина Костежу, не выдавая своих чувств, но отмечая про себя перемены в его лице и тоне. Мне стало ясно, что с тех пор как господин Костежу изменил свои политические убеждения, его жизнь превратилась в подлинную пытку. Хотя он искренне проникся новой верой и принял на себя роль, которая отвечала его нынешним патриотическим идеалам, но и то и другое было глубоко противно доверчивому и великодушному нраву этого человека. Я изучала его, чтобы понять, в какой степени можно на него положиться. В ту минуту он, казалось, готов был помочь мне во всем. — Не желаю и слушать ни о каком новом распоряжении, — сказала я. — Вы должны постараться немедленно освободить Эмильена. — Не болтай ерунду! — резко возразил он. — Это совершенно невозможно, поскольку Эмильен осужден с соблюдением всех форм, установленных республикой. — Но это неправый приговор: его вынесли слишком поспешно и без достаточных улик! Я знаю, что такие приговоры можно обжаловать. — Так оно и было в прошлые времена, но прошлого больше нет. Приговор, вынесенный революционным трибуналом, обжалованию не подлежит. — Тогда скажите, как спасают ни в чем не повинных людей? Что вы собираетесь сделать для освобождения этого молодого человека, которого и уважаете и любите? Ведь он вернулся к вам и отдал себя в руки правосудия, потому что вы ему сказали: «Если узнают, что ваш побег — дело моих рук, я поплачусь головой». — Теперь я могу сделать для Эмильена только одну вещь — тебе она покажется пустяком, но, поверь, это далеко не так. Я могу, вернее — рассчитываю, добиться перевода Эмильена в другую тюрьму, а стало быть, в другой город. Здесь он находится под неусыпным надзором Памфила и Пифеня, другими словами — удава и тигра. Оставаться в Лиможе для него опасно, а вот в чужом городе, где Эмильена никто не знает, о нем забудут, и возможно, не вспомнят до конца войны. — Да когда же это будет? Сейчас мы только и делаем, что терпим поражение за поражением, и, по слухам, аристократы надеются, что неприятель нас одолеет и освободит всех, кто сидит в тюрьмах. По-моему, вы поступаете неосторожно, делая стольких людей несчастными и ввергая их в отчаяние. Ваши действия обернутся против вас, потому что многие будут втайне молиться за чужеземцев и с нетерпением ожидать их. Конечно, речь моя была опрометчивой, но я поняла это, когда губы адвоката побелели и задрожали от гнева. — Много ты себе позволяешь, влюбленная малышка! — возмущенно воскликнул он. — Эти слова выдают с головой и тебя и твоего красавчика! — И вовсе я не влюблена! — обиженно, но решительно возразила я. — Я еще годами не вышла, чтобы влюбляться, и в моем сердце нет недозволенных чувств. Не оскорбляйте меня, потому что мне и без того не сладко; я пытаюсь спасти Эмильена, как спасла бы его сестру, господина приора… и вас самих, наконец, если бы вы попали в беду… А вас она вряд ли минует, как не обошла и остальных. Санкюлоты сочтут, что вы недостаточно жестоки… А если аристократы возьмут над ними верх, кто знает, может, я буду бродить возле вашей тюрьмы, всеми силами стараясь вам помочь. Неужто вы думаете, что если на вас обрушится несчастье, я буду сидеть сложа руки? Господин Костежу с удивлением уставился на меня и буркнул два слова, но я лишь значительно позже поняла их смысл — «героическая натура». Он взял мою руку, поглядел на нее, затем перевернул ладонью вверх, как делают гадалки. — Ты умрешь не скоро, — сказал он, — и сделаешь в жизни все, что тебе предназначено. Что именно — сказать не берусь, но любой свой замысел ты претворишь в действительность. Я, к сожалению, менее удачлив. Видишь эту линию? Мне тридцать пять лет, и я не доживу до пятидесяти. Только бы мне дождаться полной победы Республики! О большем я и не смею мечтать! — Вы такой отчаянный безбожник, господин Костежу, а верите в ворожбу! Тогда скажите, останется Эмильен в живых или нет? Может быть, про это тоже написано на моей руке? — Вижу только, что ты перенесешь тяжкую болезнь… а возможно, тебя постигнет большое несчастье… Не знаю… — Ничего-то вы не знаете! Только что сказали, что своего в жизни я добьюсь, а больше всего на свете я хочу, чтобы Эмильен остался жив. Ну хорошо, сейчас вы должны мне помочь! — Помочь? Но ведь даже если у него и в мыслях не было эмигрировать, есть опасность, что он последует примеру своего отца. — Вот видите — вы ему не верите? Вы стали подозрительны, господин Костежу! — Да, кто прознал про сеть бесчестных предательств и гнусных козней, которой опутана эта несчастная Республика, тот поневоле не доверяет собственной тени и даже самому себе. — Чем больше вы станете стращать людей, тем больше будет во Франции трусов! — Ты хорошая девочка, но тоже можешь совершить предательство… из любви к Эмильену… прости — из дружеских чувств. Скажи, а сколько тебе лет? — Осенью будет восемнадцать. — Через два месяца! Глядя на тебя, я вспоминаю свою деревню, мелкие, совсем еще зеленые сливы и времечко, когда я лазил по деревьям! Как все это теперь далеко! А я ведь собирался бросить суд, жениться, перестроить монастырь, сделать себе в нем красивое жилище, посадить у монастырских стен жимолость и ломонос, завести овец, крестьянствовать, жить вместе с вами… Увы, то была лишь пустая мечта! Казалось, Республика уже завоевана! Но нет, все нужно начинать сначала, и мы не откажемся от этого даже под страхом смерти. Ну, довольно, иди спать. Ты, наверно, очень устала. — А куда идти? — В каморку рядом с комнатой, где обычно живет моя матушка, когда приезжает в город. Лориана я предупредил. Это этажом выше. — Какого Лориана? Который приезжал с вами в монастырь? Я его здесь не видала. — Сегодня вечером я его услал по делу, но он уже вернулся, и я ему обо всем рассказал. Он один тебя знает, но ты с ним не заговаривай, и он тоже будет молчать. Завтра ты уедешь, а если очень утомилась, останешься еще на день, только не выходи из комнаты моей матери. А не то еще встретишь ненароком Памфила: у него и на тебя зуб! — Завтра я не уеду, потому что вы мне ничем не помогли. Я хочу с вами еще поговорить. — Не думаю, что завтра я буду располагать временем. Впрочем, какой помощи ты от меня дожидаешься? Ты прекрасно знаешь — я сделаю все, что в человеческих силах, лишь бы спасти бедного мальчика. — Вот теперь вы говорите дело, — сказала я, с жаром целуя ему руку. Некоторое время он с удивлением разглядывал меня. — А знаешь, — сказал он, — из дурнушки ты превратилась в хорошенькую девушку. — Господи, какое это имеет значение? — А вот какое: ты разгуливаешь одна по опасным дорогам, где всякое может случиться, любая беда, о которой ты даже не подозреваешь. У меня ты по крайней мере будешь в безопасности. Спокойной ночи. Мне еще нужно допоздна возиться с бумагами, а завтра встать ни свет ни заря. — Вы, что же, теперь не спите? — Кто нынче спит во Франции? — Я. Я иду спать — вы в меня вселили надежду. — Не очень ею обольщайся и будь осторожной. — Обещаю. Да хранит вас бог! Выйдя от господина Костежу, в коридоре я встретилась с Лорианом. Он ждал меня, но не промолвил ни слова и, даже не взглянув в мою сторону, стал подниматься по лестнице; я последовала за ним. Он указал мне дверь, протянул свечу и ключ, затем повернулся и бесшумно спустился по лестнице. Тут я поняла, что такое террор. Прежде я никогда с ним так близко не сталкивалась, и сердце мое сжалось. Я была так утомлена, что даже сердилась на себя за то, что совсем разбита и веки у меня сами собой слипаются. — Господи, — сказала я, падая на постель, — неужели я такая слабосильная? А еще думала, что способна горы своротить! Нате пожалуйста, немного устала и уже валюсь замертво. Ну, ничего, это только поначалу, потом привыкну, — сказала я себе в утешение и сразу же уснула. Спала я как убитая, не помня, где я, а когда с первыми лучами проснулась, с трудом пришла в себя. Первым делом осмотрела ноги — на них не было ни царапин, ни мозолей. Я их вымыла и аккуратно обулась; и тут вдруг вспомнила, как всегда боялась, что не научусь далеко ходить. Однажды мой брат Жак, смеясь над тем, какие у меня маленькие ноги и руки, сказал, что я не девочка, а настоящий кузнечик с тоненькими ножками. А я ему ответила: — У кузнечиков крепкие ножки, и прыгают они гораздо лучше, чем ты ходишь. И Мариотта поддержала меня: — Правильно говорит Нанетта; можно родиться такой нескладехой, как она, а ходить быстро, будто у нее большие, красивые ноги. Главное, чтобы они были выносливые. Итак, ноги у меня были крепкие, этому я очень порадовалась, и усталость совсем прошла. Я готова была обойти всю Францию, следуя за Эмильеном. Но он! Как, должно быть, он печалится и тоскует в тюрьме! А вдруг ему нечего есть, нету на смену белья, не на чем спать? Я гнала прочь от себя эти мысли, потому что они расслабляли меня. Я спала в маленькой комнатушке, которая единственным окном выходила на крышу. Вылезти туда я не могла и видела только небо. Я посмотрела на дверь, через которую вошла, — она была заперта снаружи. Как и Эмильен, я тоже была в тюрьме. Но господин Костежу прятал меня от людей для моего же блага. Что ж, мне оставалось лишь терпеливо ждать.XIII
Около шести часов утра кто-то постучал в другую дверь. Я сказала «войдите», и на пороге появился Лориан, подавший мне знак следовать за ним. Я прошла в соседнюю, очень красивую комнату, в которой обычно жила мать господина Костежу. Лориан указал мне на стол, где меня ждал обильный завтрак, а затем на окно, сквозные ставни которого были закрыты, как бы говоря, что мне разрешается смотреть, но нельзя их открывать. Потом Лориан ушел, по-прежнему не проронив ни слова, опять запер меня на замок, а ключ унес с собой. Позавтракав, я стала разглядывать улицу. Господин Костежу жил в красивом квартале; в город я попала впервые и все-таки решила, что наш монастырь гораздо привлекательнее на вид и лучше построен, чем здешние дома, — они показались мне приземистыми, черными и унылыми. Правда, их мрачный вид объяснялся просто: то были дома, чьи хозяева-богачи бежали в деревню. Теперь в них жили одни слуги, которые как бы крадучись выходили на улицу, ни с кем не разговаривали и молча возвращались. Всюду шли обыски. Я видела, как несколько человек в красных колпаках с большими кокардами вошли в один из самых красивых особняков, пооткрывали все окна, сновали взад и вперед. Я отчетливо разбирала их голоса: они отдавали приказы и кому-то угрожали. Я услышала грохот, словно выбивали двери и рубили мебель. Потом мне показалось, что старая служанка, выйдя из себя, стала хрипло браниться; в ответ посыпалась брань еще более грубая, потом старуху взяли под стражу и повели в тюрьму. Из дому выносили картонные коробки, сундуки, кипы бумаг. Лавочники глупо и подобострастно зубоскалили, прохожие ни о чем не спрашивали и не останавливались. Страх породил в людях безучастие и тупость. Я понимала, что происходит, и кипела от гнева. Я спрашивала себя, почему господин Костежу, наверняка тоже видевший эту картину, не пресек бесчинства и оскорбления, которым подвергалась седая служанка, не побоявшаяся из-за господского добра сцепиться с бандитами. А сами господа? Они-то куда подевались? Почему весь город покорствует горсточке распоясавшихся злодеев? Вот они потащили белье и столовое серебро. Убили несчастную собаку, защищавшую хозяйское жилище. Неужели во всем городе лишь старики и домашние животные сохранили смелость? Я задыхалась от негодования, и когда в полдень ко мне в комнату поднялся господин Костежу, не сдержалась и выпалила все, что думала. — Да, — ответил он, — все это и в самом деле противозаконно и омерзительно. Униженный народ мстит буржуазии столь унизительным для себя способом! — Нет, — воскликнула я, — это не народ! Народ сбит с толку и трясется от страха — в этом и заключается его преступление. — Полно сыпать соль на открытые раны! Да, простые люди трусят, а стало быть, нечего надеяться, что они помешают аристократам отдать страну врагам. Кроме головорезов, служить революции некому, и нам приходится брать тех, кто подворачивается под руку. — Бедные вы, несчастные! Мечетесь, точно птицы, которых посадили в клетку вместе с кошками. Сломаете прутья и тут же попадете в когти ястреба, который уже сидит — дожидается; останетесь в клетке — кошки сожрут. — Вполне возможно. А народ, для которого мы трудимся и всем на свете жертвуем, ему и дела до нас нет, он нам помогать не желает. Ты правильно сказала — он трясется от страха. Но этого мало — он еще и эгоистичен: взять хотя бы вас, крестьян. С какой радостью схватились вы за участки, подаренные вам революцией, а теперь их приходится отнимать у вас силой, иначе не заставишь защищать вашу же землю. — Вы сами виноваты! Не надо было нас озлоблять своими безумствами. Смотрите, как вы поступили с Эмильеном! Он пришел сюда, чтобы пойти добровольцем в армию, а вы его посадили в тюрьму. Думаете, это воодушевляет других? Скажите, что с ним собираются сделать, — вы наверняка знаете! — Я добился, что его отправят в Шатору. И это большая моя победа. — Тогда я тоже отправляюсь в Шатору. — Поступай как знаешь, но поверь мне — ты взялась за непосильное дело. — Зачем говорить под руку, если я все уже решила? — Хорошо. Пытайся, рискуй жизнью ради него, если хочешь, если такова твоя судьба. Помни только вот о чем: если твоя затея провалится и все выплывет наружу, ты обрекаешь Эмильена на верную смерть, тогда как, сидя в тюрьме, он, возможно, останется в живых. Прощай, больше мне нельзя здесь оставаться. Я принес тебе паспорт, вернее — свидетельство о благонадежности, и немного денег — без них ты никак не обойдешься. — За свидетельство спасибо, а денег у меня более чем достаточно. Когда Эмильена увозят? — Завтра утром. Здешние тюрьмы переполнены, вот я и отправляю отсюда троих. Эмильен уже в списке этих арестантов. Заслышав звонок у входной двери, господин Костежу поспешно покинул меня. Больше я его не видела. Остаток дня я употребила на изучение карты Кассини, которую обнаружила в комнате госпожи Костежу, и к вечеру знала назубок, как если бы ее перерисовала. Когда Лориан принес ужин, я сказала ему, что хочу вернуться в Валькрё, и попросила не запирать входную дверь. Пообещав ему удалиться незаметно, я выждала подходящую минуту и сдержала слово. В доме господина Костежу я появилась ночью и ушла с наступлением темноты; слуги так и не узнали, что целые сутки я провела вместе с ними, под одним кровом. Я долго размышляла, что мне теперь делать: оставаться в городе, где в любую минуту мне грозила встреча с Памфилом, значило рисковать переводом Эмильена в другой город; вернуться в Валькрё было равносильно тому, чтобы обречь себя на полное неведение и навсегда потерять Эмильена из виду. Я решила отправиться в Шатору, так как знала, что туда каждое утро ходит дилижанс: накануне на кухне я не теряла времени даром, прислушивалась к разговорам и все запоминала. Закутавшись поплотнее в свою серую накидку и зажав узелок под мышкой, я вышла из города и побрела наугад, пока наконец не увидела женщину, сидящую в одиночестве у своего дома. Я спросила у нее дорогу на Париж, и она мне толково объяснила. Пришлось пройти порядочный кусок, но я быстро его одолела. Вокруг царило безмолвие, лиможское предместье мирно спало. Здесь мне и следовало дожидаться дилижанса, но в котором часу он появится? По этой дороге, несомненно, поедет и тюремная карета с арестантами. Значит, тут и надо сторожить. В темноте я внезапно заметила церковь — двери ее были распахнуты настежь, она была погружена во мрак, и даже на клиросе привычно не теплилась лампадка. Церковь показалась мне заброшенной, и я решила укрыться в ней на ночь. Пробираясь на ощупь, я запнулась о ступеньки и упала, очень удивившись тому, что под руками у меня трава. Откуда она тут взялась? Церковь ведь еще не превратилась в развалины. Потом послышались какие-то шепотки и осторожные шаги — казалось, кто-то до меня уже нашел там приют. Я испугалась и на цыпочках стала выбираться назад. Накануне ночью я выспалась и потому могла бодрствовать. Прошлась по дороге до зарослей кустарника и там решила дождаться рассвета. Несколько раз я клевала носом от томительного ожидания, но заснуть себе не давала, боясь пропустить дилижанс. Наконец услыхала топот конских копыт и выбежала из своего укрытия. Ко мне приближалась огромная телега с крытым верхом, на манер почтовой кибитки, которую прикрывал конвой из четырех всадников в военных мундирах, при саблях и карабинах. Дорога забирала в гору, и они придержали лошадей. Сердце у меня так сильно забилось от мысли, что передо мной тюремная карета. Ночью я решила, что пропущу ее, и все-таки поеду дилижансом, но теперь надежда победила осторожность. Я прямо направилась к одному из всадников и спросила его с напускным простодушием, не это ли почтовая карета в Шатору. — Вот дуреха! — последовал ответ. — Протри глаза, а то не видишь, что аристократов на прогулку везем. Я притворилась, будто не поняла его шутки. — А если заплатить, сколько надо, — продолжала я, — вы дадите мне местечко сзади или сбоку? И, положив руку на морду лошади, я добавила: — Смотрите, не будь меня, ваша лошадка потеряла бы цепку от мундштука. Тюремная карета едва тащилась, и я успела закрепить цепь, снискав благоволение конвойного. — А ты куда путь держишь? — спросил он. — А я намедни в служанки поступила, а здешних мест совсем не знаю. Подвези меня на своей колымаге. — Мордашка у тебя ничего себе. Ты что, злишься, когда тебе говорят об этом? — А чего же тут злиться, — ответила я с показной развязностью, которая из-за моей полной невинности не стоила мне особенного труда. Он дал лошади шпоры и, подъехав к вознице, велел ему остановиться. Пошептавшись с ним, конвойный помог мне усесться на козлы и крикнул своим товарищам: — Вот какое добро конфисковал! Те прыснули со смеху, а я задрожала. «Ничего, — утешала я себя, — главное, что я тут, вместе с Эмильеном. Теперь хоть будузнать, куда его везут и как с ним обращаются. А если эти люди захотят обидеть меня, удеру при первом удобном случае». Возница был краснолицый, добродушный по виду толстяк с окладистой седеющей бородой, к тому же отчаянный болтун. Через час я уже знала, что он кучер на дилижансе, но на сей раз ему приказали везти арестантов, а на дилижансе нынче Батист, родной его племянник, помощник конюха. По именам он заключенных не знал, да и не проявлял к ним никакого интереса. — Мне что Республика, что монархия, белые, красные или трехцветные — все едино. Я разбираюсь только в лошадях да в постоялых дворах, где водка получше. А больше с меня и спрашивать нечего. Если правительство прикажет — готов служить верой и правдой. По мне, кто платит, тот и хозяин, тот и прав. Я притворно восхищалась его мудрой философией, а он все болтал, не закрывая рта, про разные разности, до которых мне не было дела, однако я его слушана, запоминая всякие мелочи и подробности, касающиеся здешних мест. Между прочим, возница рассказал мне, что он родом берриец, вырос в деревушке Креван, о которой я прежде не слыхала. — Черт побери! — говорил он. — Дикие у нас места, да и люди не лучше. Голову даю на отсечение, что многие ни разу в городе не бывали, дороги мощеной не видали, да и коляски о четырех колесах. Куда ни глянь, все каштановые рощи да папоротники, иной раз пройдешь целое лье и больше, и козы не встретишь. И чего мне дома не сиделось — жил бы себе спокойно, не то что нынче. Вот те крест! В наших краях из-за Республики ни у кого голова не болит. Наверное, там даже не знают, что такая есть в Париже. В большой у нас нужде люди живут — ничего себе не покупают, потому что ничего не зарабатывают. Я спросила его, где находится этот суровый край, и возница подробно рассказал, как до него добраться. Делая вид, что слушаю лишь краем уха, я ловила каждое его слово, хотя не знала, пригодятся ли мне в будущем эти подробности. Тем не менее я старалась все запомнить, твердя себе, что иной раз любая мелочь пригождается. Тот же возница сказал мне, что конный конвой составляют вовсе не жандармы, а городские патриоты, охотно берущиеся за любую хлопотливую и неблаговидную работу, только бы оказаться на хорошем счету. Вот и тут они, эти свирепые патриоты, которые сами дрожат от страха! В Бессине они остановились, чтобы поменять лошадей, и я поневоле с ними распрощалась. Изо всех сил я старалась увидеть заключенных или хотя бы услышать их голоса, но они были так крепко заперты, что попытаться узнать о них что-либо определенное значило выдать себя с головой. Я вела себя очень осторожно, и все же конвойные держались недоверчиво, возможно, боялись начальства, — как бы то ни было, но они мне заявили, что дольше ехать с ними нельзя, что дилижанс скоро придет и надо запастись терпением. Дилижанс я прождала больше часу, так как его возница тоже менял лошадей. Я стала очень беспокоиться, боясь потерять из виду тюремную карету. Подойдя к дилижансу и назвав возницу гражданином Батистом, я сказала, что его дядюшка просит разрешить мне занять местечко на козлах, на что Батист сразу же согласился. Теперь у меня появился новый собеседник, и я очень обрадовалась, когда дилижанс тронулся наконец в путь. Однако всю дорогу меня не покидали тревожные мысли. Разговаривая со мной, мужчины поглядывали на меня так, что поначалу я недоумевала, а потом поняла, как опасно молодой девушке оказаться одной в незнакомом месте. В Валькрё ни один человек, зная мою скромность и рассудительность, не осмеливался дать мне понять, что я уже не ребенок, и я как-то даже не думала о своем возрасте. Тут я невольно вспомнила слова господина Костежу. Только теперь мне стало понятно, что молоденькой девушке грозят досадные неожиданности и даже опасности, о которых я прежде не подозревала. Стыдливость пробудилась во мне вместе с испугом. При других обстоятельствах я, вероятно, с радостью выслушала бы, что хороша собой, но на сей раз пришла в смятение. Красота неизменно привлекает к себе взгляды, а мне хотелось стать невидимкой. В голове у меня возникали разные планы, но в конце концов я остановилась на том, что, не имея надежной поддержки, появляться в Шатору бессмысленно, а стало быть, надо вернуться в Валькрё и заручиться помощью, уверившись, разумеется, что Эмильен находится в этой партии заключенных. Я говорю «партия», потому что, свернув с боковой дороги, нас стала обгонять другая крытая повозка. — Смотри-ка, — сказал Батист. — Вот еще гонят с низин этих скотов — хотят соединить с остальными. Видать, все тюрьмы переполнены. И чего это у нас возятся с этими аристократами — право, глупо! Вон в Нанте и Лионе, когда их некуда девать, от них быстро избавляются. — Как это? — А так: расстреливают из митральезы или топят, как бродячих псов. — Неплохо придумано, — сказала я, не понимая от ужаса смысла собственных слов. Да, я тоже была во власти страха, но боялась не за себя, потому что, не будь у меня надежды спасти Эмильена, не задумываясь набросилась бы на Батиста и надавала бы ему пощечин. От Батиста я узнала, что нам с тюремной каретой не по дороге, так как она эту ночь проведет в пути, а мы остановимся в Аржантоне. «Всю ночь в пути! — думала я. — Ах, зачем я не осталась в той карете? Может, подвернулся бы удачный случай, и я увидела бы Эмильена». Мне хотелось соскочить с козел, бежать вдогонку за конвоем — я была сама не своя. Голова шла кругом. Слишком много планов я перебрала и чувствовала себя совсем разбитой. Казалось, ничего путного мне уже не придумать. И я всецело положилась на божью волю. Когда ночью мы добрались до Аржантона, с каким изумлением и радостью увидела я у постоялого двора тюремную карету! Подставы не оказалось на месте, ее угнали в другую поездку, и двое конвойных отправились в город, надеясь конфисковать там лошадей. Правда, говорили, что у горожан их больше не водилось. Я посмотрела на оставшихся двух конвойных — того, что назвал меня «конфискованным добром», среди них не было. Они тоже меня заметили. Один из конвойных, самый подозрительный, спросил, не ищу ли я кого-нибудь из знакомых арестованных? Подвох был очевиден, я тоже насторожилась и смело ответила, что крестьянки вроде меня с аристократами не знаются. Чтобы рассеять недоверие конвойных, я зашла в гостиницу. Скоро появились и те двое, ведя незнакомого мне пожилого господина, старуху, арестованную на моих глазах в Лиможе, и молодого человека, на которого я даже не взглянула — боялась выдать себя; впрочем, мне не нужно было глядеть, я и без того знала, что это Эмильен. Чтобы он, в свою очередь, не узнал меня, я отвернулась к камину. Я слышала, как перед ним и его спутниками поставили тарелки с едой, но так и не поняла, поели они или нет, потому что между собой несчастные не разговаривали. Овладев собой и уверившись, что конвойные забыли обо мне, я повернулась и посмотрела на Эмильена. Он был очень бледен, утомлен, но так спокоен, словно ехал куда-то по собственным делам. Я воспрянула духом, но поскольку, узнав меня, он мог показать, что мы знакомы, я предпочла проспать и эту ночь под открытым небом, а не в гостинице, где столько мужланов с ухмылкой поглядывало на меня. Я перешла проезжую дорогу и в полной тьме довольно долго шла по полю. Хлеб уже убрали, и всюду высились скирды, где можно было, не привлекая внимания, отлично устроиться на ночлег. Здесь я уже не чувствовала страха. Решив вернуться в монастырь и там тщательно обдумать свои дальнейшие действия, я поднялась до света и проселком, прямо идущим через Бона и Шеперай, пустилась в обратный путь. Заплутаться было невозможно. На карте я видела, что монастырь находится на равном расстоянии от Лиможа и Аржантона. Вечером следующего дня я благополучно добралась до своих.XIV
Я рассказала о своих злоключениях приору, умоляя его держаться в тени, не напоминать о себе, притвориться покойником, как говорил господин Костежу, постараться, чтобы о нем забыли. Уж лучше смотреть сложа руки на разор и бесчинства в поместье, чем заводить себе врагов. Приор и не подумал послушаться моих предостережений, напротив, сказал, что никого на свете не боится и что, покуда жив, будет честно исполнять долг перед своим хозяином. Он всегда всем твердил об осторожности, да и сам, особенно в беседах о политике, старался не болтать лишнего, но в глубине души был человек очень смелый и отважно разгонял охотников на чужое добро, совсем как в бытность экономом монастырской общины. Бесстрашие вошло у него в привычку, и поэтому крестьяне не позволяли себе злобных выходок по отношению к нему. Ведь человека, пугливо пасующего перед ними, они презирают, к справедливости же, по крайней мере в теории, относятся с уважением. Перебрав в голове множество планов, я остановилась на том, который обдумала еще во время моего путешествия. Поскольку Дюмон хорошо знал здешние места и дороги, я спросила, не хочет ли он совместно со мной осуществить опасную затею, и в ответ старик упрекнул меня за то, что я прежде не посвятила его в свой план, который он теперь полностью одобрил. В ближайшей деревеньке Дюмон купил осла и материи, из которой я за несколько ночей смастерила себе мужское платье. Взяла с собой белья, кой-какие товары для обмена, одежду для Дюмона и, главным образом, для Эмильена, который, наверно, совсем обносился. Оставалось лишь раздобыть денег. У приора, как, верно, помнит читатель, были скромные сбережения, и он открыл нам свой кошелек. И хотя он предлагал мне все свои деньги, я ограничилась небольшой суммой. Очень прижимистый в мелочах, приор был щедр в делах серьезных. Пока я готовилась к отъезду, Дюмон, следуя моим указаниям, отправился вперед, чтобы незаметно осмотреть ту самую деревню Креван, о которой я постоянно думала, считая ее самым ближним и надежным убежищем для нас. Устроить побег Эмильена составляло полдела — следовало обезопасить себя от погони, слежки, доносов, а спастись от них мы могли лишь в диком, безлюдном месте, которого в наших окрестностях и в помине не было. К тому же Памфил великолепно знал наши места. Вернувшись в монастырь, Дюмон сказал, что более пустынный и глухой уголок действительно трудно сыскать и что он уже снял за гроши развалившуюся хижину, стоящую совсем на отшибе — отличное убежище для Эмильена. До Кревана от нас было рукой подать, каких-нибудь десять — двенадцать часов пешим ходом. Правда, Дюмон сетовал на то, что о хлебе придется забыть, а о вине и подавно, но при известной сноровке можно не умереть с голоду. И вот через неделю после возвращения я, коротко подстриженная, в мужском платье и с крепкой палкой в руке, ночью пустилась снова в путь. Дюмон уже давно отращивал волосы и бороду, и теперь никто не признал бы в нем старого слугу из аристократического дома. Несколько месяцев назад он бросил пить, был очень осмотрителен, разумен и смел. Ослик, навьюченный нашей поклажей в соломенной обертке, трусил перед нами резвой рысцой и, поскольку наш узел был не слишком тяжел, мог при случае подвезти того из нас, кто очень устанет или заболеет. Сделав привал в Шатлю, мы прошли днем еще десять лье и заночевали в Шатре — небольшом городке, где было три тысячи жителей и где от террора, по счастью, было больше шума, чем дела. Правда, кое-кто из демократов произносил громкие речи, но обыватели, боясь друг друга, никого не трогали. Я обратила внимание Дюмона на то, что они гораздо радушнее и добрее, чем жители других городов. Он показал мне по дороге ту гористую местность, где нам предстояло жить, и мне показалось, что Берри и в самом деле не так захвачен революцией, как Лимож и Аржантон, через которые пролегала дорога на Париж. В ту пору между Шатром и Шатору не было дороги в нынешнем смысле слова. Поэтому добирались мы по берегу Эндра красивыми тенистыми тропками, которые зимой, вероятно, были непроходимы. Затем нам пришлось идти по огромной пустоши, где дорожки пересекались так путано, что мы едва не заблудились, пока наконец не попали в Шатору. Местность там плоская и довольно тоскливая, а люди были более насторожены и встревожены — недаром через Шатору шла дорога на Париж. Дюмона понемножку знали всюду, но знали за истинного патриота. К тому же у него было свидетельство о благонадежности. Что до меня, то в двух милях от монастыря я никому не была известна, точно приехала из Америки. Я выдавала себя за племянника Дюмона, и он звал меня Люкасом. Старик сразу же стал подыскивать нам пристанище и от всех отказывался якобы из-за дороговизны, пока наконец не снял квартиру в двух шагах от тюрьмы. Жилище было очень нищенское, но мы радовались, ибо нашли то, что хотели. Оно состояло всего из одной комнаты, и по нашей просьбе хозяева сдали нам небольшой чердак: мы сказали, что нам нужна мастерская для плетения соломенных циновок и корзин. На чердаке я и устроилась, считая, что там меня никто не увидит и не потревожит. Мое решение как можно реже появляться на людях Дюмон одобрил, на следующий же день закупил необходимые материалы, и мы принялись за работу. Дюмон был сыном корзинщика и не забыл когда-то хорошо знакомого ему ремесла. Я усвоила его быстро, и вскоре у нас появился товар на продажу — бездельничать мы не имели права, так как должны были чем-то объяснить свое пребывание в городе. Изредка Дюмону встречались знакомые, которые немного изумлялись, с чего это слуга маркиза де Франквиля, всегда опрятно одетый и при деньгах, занялся плетением корзинок. Однако, зная его любовь к бутылке, они решили, что он спустил все свои сбережения. В разговорах с ними Дюмон нарочно честил на чем свет стоит прежних хозяев, и никто не догадывался, что он печется о родном сыне маркиза; про меня же они думали, что Франквилей я отродясь не видала. Эти меры предосторожности не были, впрочем, так необходимы, как поначалу нам казалось. Окружающие нас люди не знали по имени арестантов, привезенных неделю назад из разных мест, и совершенно ими не интересовались. В маленьком Шатору жили в большинстве своем буржуа и умеренные, революционеров и роялистов было немного. Обитавшие в предместьях виноградари держались по преимуществу республиканских взглядов, но не любили громких фраз и отличались добросердечием. В этой тихой заводи террор не очень свирепствовал, и лучшего места для Эмильена господин Костежу не мог и придумать — в Шатору народный гнев ему не грозил. Поэтому мы сочли благоразумным дожидаться окончания войны, в простоте душевной не подозревая, что мир придет к нам лишь в 1815 году, вместе с поражением Франции. Мы думали, что лучше не терять надежд на скорую победу, ждать торжества справедливости и взаимного доверия, чем из-за безрассудного шага подвергнуть опасности жизнь нашего дорогого узника. Но я страстно хотела скрасить его тоскливые тюремные будни вестью о том, что мы рядом и, если ему будет грозить опасность, сделаем все для его освобождения. Скоро мне представился случай сообщить ему об этом. Тюрьма в Шатору, нынче давно срытая, помещалась в древних крепостных воротах, которые по старинке назывались Красильными. Они представляли собой две массивные башни, соединенные переходом на арке: прежде ее ограждали подъемные решетки, но теперь их уже никогда не опускали, потому что здесь пролегла улица. В нижних помещениях обеих башен жили тюремные стражи и вся прислуга; над ними же в больших круглых камерах с крошечными окнами содержались заключенные. Плоская кровля одной из башен служила местом прогулок арестантов. Наш домишко как раз прилегал к этой башне, не очень высокой, с щербатыми, местами совсем разрушенными зубцами. Из своей каморки под крышей я не видела этой площадки; однако соседний чердак, где тюремщик — а ему-то и принадлежал домишко — держал запасы овощей и фруктов, находился как раз насупротив этой площадки, так что при случае я могла бы переброситься словом или взглядом с Эмильеном. Сняв запоры, я проникла на этот чердак, осмотрелась, снова навесила замок, а затем сказала Дюмону — пусть попросит хозяина, чтобы он позволил мне работать в этом помещении, так как у меня слишком тесно и темно. Тот не возражал: с нашим хозяином-тюремщиком Дюмон был уже накоротке, и по утрам они совместно распивали бутылочку белого вина, за которую почти всегда платил Дюмон. За беседой он то и дело расхваливал своего племянника Люкаса, твердя, какой он умный, послушный и честный малый, горячительного и в рот не берет и в жизни не позарится на чужое яблоко или стручок гороха. Дело было сделано, а прибавленные к ежемесячной плате двадцать су довершили его. Мне вручили ключ от чердака, куда я перетащила ивовые прутья и инструменты; вдобавок мне была поручена забота о тамошних запасах продуктов, и я так успешно стала воевать с мышами, что хозяин расхваливал меня на все лады. Мы прожили в Шатору уже больше двух недель, а я все еще не знала, где находится Эмильен, в этой ли тюрьме, или в другой, в массивных ли замковых воротах, или в парковой башне. Расспрашивать мы не решались. Но теперь, когда я поминутно забиралась на чердак, я быстро изучила тюремную жизнь во всех подробностях, видела, как утром и вечером арестантов выводят на крышу башни подышать свежим воздухом. Было их человек десять — двенадцать, но на стену позволялось подниматься по двое. Эмильен гулял в паре с пожилым господином, которого я видела с ним на постоялом дворе в Аржантоне. Держались они так же спокойно, как прежде, и, кружа по площадке, о чем-то беседовали. Сквозь сломанные зубцы я отчетливо видела их, когда они проходили мимо. Однажды, держа в руках недоплетенную корзинку, я появилась в чердачном оконце и притворилась, будто любуюсь полетом ласточек. Эмильен, замедлив шаг, посмотрел на меня. Я стояла так близко от него, что не узнать меня было невозможно, но мое мужское платье, корзинка и коротко подстриженные волосы, очевидно, сбили его с толку — он так ни о чем и не догадался. Я чувствовала бы себя уверенней, будь Эмильен один, но смею ли я сомневаться в надежности его товарища, а также в том, что у самого Эмильена достанет присутствия духа? Продолжая плести корзину, я запела нашу деревенскую песенку, любимую Эмильеном, которую по его просьбе прежде часто мурлыкала для него. Он вздрогнул, подошел к краю площадки и внимательно посмотрел на меня. Я украдкой кивнула ему головой, как бы говоря: «Ну, конечно, это я!» Он приложил руки к губам, задержал их, изображая долгий поцелуй, быстро послал мне его и тотчас же отошел, чтобы я не успела ему ответить тем же. Он боялся за меня. Я сообщила Дюмону, что Эмильен предупрежден, и старик очень обрадовался, но тут же огорчил меня дурной вестью: прежнего представителя революционной власти, доброго и справедливого человека, — кажется, звали его Мишо, — только что заменили неким Леженом, о котором рассказывали всякие ужасы. Настроение местных жителей сразу переменилось, было решено предать заключенных суду. Не стану описывать моих волнений, а сразу перейду к рассказу о дальнейших событиях. Особенно опасным было положение молодых аристократов братьев Шери де Бигю. Их схватили по доносу, что они якобы старались помешать отправке рекрутов на войну, и собирались отправить в Париж для судебного разбирательства, но гражданин Лежен пришел в страшную ярость. — Вы, что же, не слыхали про новый закон? — кричал он. — Обвиняемые подлежат немедленному суду и каре там, где совершили свои злодеяния. Лежен устроил процесс, который был прост и недолог. А через несколько дней несчастных братьев, ложно обвиненных в призыве к бунту, приговорили к казни по показаниям всего двух свидетелей и обезглавили, можно сказать, на наших глазах, на площади Святой Екатерины, расположенной неподалеку от Красильных ворот. Пока тянулся этот омерзительный суд, кусок хлеба не шел мне в горло. Я надеялась, что казнь отложат, так как в Креване уже не было ни жандармов, ни палача. Но некий доброхот привез из Иссудена исполнителя, и одновременно в двух шагах от нашего дома воздвигли гильотину. Я укрылась на чердаке, откуда не видать было улицы, но на кровлях обеих башен тотчас же появились заключенные. Их привезли сюда из всех тюрем, чтобы они присутствовали при казни. Я даже представить себе не могла, что в здешних тюрьмах столько заключенных. Почти все они были монахи или монашенки; мужчины стояли на одной башне, женщины — на другой. Их окружала стража, и я, соблюдая осторожность, не показывалась в окне, а из-за ставенки следила за Эмильеном. Он решительно подошел к пролому в парапете и, скрестив руки на груди, невозмутимо следил за приготовлениями к казни. Но когда головы братьев Шери покатились на помост, лицо Эмильена передернулось как от боли, а из толпы, окружавшей гильотину, до меня донеслись душераздирающие крики, нарушившие зловещую тишину: у нескольких женщин началась истерика. Заключенных сразу же увели. Меня трясло, как в ознобе, зубы стучали. Целых два дня я не выходила на улицу, боясь увидеть гильотину и кровь на мостовой. От страха я совсем ослабела и пала духом, я даже сердилась на собственное малодушие и решила взять себя в руки. Разве я, задумавшая спасти одну из жертв, не иду на такую же смерть? Да, если затея моя провалится, гильотинируют нас обоих. Однако мне следовало доиграть до конца опасную роль и, как Эмильен, быть готовой к самому ужасному исходу. На следующий день я снова увидела Эмильена, и он кивком головы указал на голубя, летящего с башни ко мне на крышу. Голубей держал наш хозяин-тюремщик, и птицы часто слетались на башню поклевать хлебных крошек, которыми арестанты любили их оделять. Я уже не раз хотела отправить с голубем записку, но не осмеливалась, и сразу поняла, что Эмильен меня опередил. Желто-белую птицу я поймала у ее гнезда и на тряпице прочитала карандашные каракули: «Ради всего святого, уходите отсюда. Мне ничего не нужно. Я покорен судьбе, и только нависшая над вами опасность отравляет мой душевный покой». — Если он так беспокоится о нас, — сказала я Дюмону, — давай больше не показываться ему на глаза. Он решит, что нас здесь уже нет, а мы тем временем будем действовать. Медлить нельзя ни минуты. Они прикончат всех заключенных. — Не думаю, — ответил Дюмон. — Некоторых они освободили, так что отчаиваться рано, лучше все тщательно подготовить. Знаешь, мой милый племянничек, твои советы пошли мне на пользу, и я так ловко разыграл эту комедию, что папаша Мутон — то бишь тюремщик — сдружился со мной, и с завтрашнего дня я приступаю к работе в тюрьме. — Как тебе это удалось? — Ты еще не знаешь, что папаша Мутон такой же тюремщик, как мы с тобой. Он тут без году неделя, потому что, когда все здешние тюрьмы оказались переполнены, им пришлось нанимать в охрану новых людей. Стражники эти не жандармы и не военные. Они из местных горожан. Их сыновья пошли в армию добровольцами, а отцов в награду взяли в тюремную охрану. Им платят в день по два франка, деньги эти сдирают с местных богачей, которые отбывают заключение. Хитро придумано, ничего не скажешь. Все эти тюремщики — бывшие мастеровые и поэтому ничего не смыслят в своем нынешнем деле и, по лености, не очень усердствуют. В обязанности папаши Мутона и его жены входят и уборка помещения, и стряпня, и обслуживание арестантов. Он все жалуется на усталость и с большой охотой распивал бы вино со стражниками. Я вызвался делать за него всю черную работу, а чтобы он не догадался, зачем мне это нужно, стал с ним торговаться из-за жалованья. Мы сошлись на том, что он скостит нам плату за жилье, и мы с тобой проникнем в тюрьму. Я говорю «мы», потому что насчет тебя тоже договорился. Сказал, что ты малый не ахти какого ума, и до арестантов тебе и дела нет, но что ты пособишь мне при случае. Папаша Мутон просит только свидетельство о твоей благонадежности, а оно у тебя на имя Нанетты Сюржон. Не можешь ли ты сама его изготовить на имя Люкаса Дюмона? — Я про это уже подумала, — сказала я, — свидетельство у меня в кармане. По вечерам я старательно училась писать почерком господина Костежу, так что добилась больших успехов. В ту пору свидетельства большей частью писались на бумаге без водяных знаков, у меня был похожий лист, который папаша Мутон повертел в руках, посмотрел на свет и вернул — читать он не умел. Тогда я решила на всякий случай изготовить такое свидетельство и для Эмильена, но, чтобы не компрометировать господина Костежу, подписала его именем Памфила. Уходя из монастыря, я завернула что-то в клочок бумаги, исписанной этим расстригой, была там и его подпись. Найдя бумажку, я надумала подделать его подпись и без всяких колебаний аккуратно вывела ее на свидетельстве Эмильена.XV
Поначалу лишь изредка заглядывая в тюрьму, я разыгрывала из себя робкого и не больно-то сообразительного паренька, но скоро поняла, что папаше Мутону хотелось бы, чтобы его помощник был порасторопнее, да и помогал ему больше. Я осмелела и, заручившись его доверием, вошла наконец в камеру Эмильена. Это была мрачная каморка с двумя застланными соломенными матрасами и двумя табуретами. Эмильен сидел вдвоем со старым господином, о котором я уже упоминала; два других матраса пустовали; на них прежде спали те несчастные молодые люди, которых гильотинировали несколько дней назад. Увидев меня на пороге, Эмильен на мгновение растерялся, но, когда я бросилась ему на шею, он, дав волю чувствам, крепко прижал меня к груди и заплакал. — Вот мой ангел-хранитель, — сказал он, обращаясь к старику. — Моя подруга детства и сестра перед господом. Она решила меня спасти, только вряд ли ей это удастся… — Обязательно удастся! — воскликнула я. — Самое трудное уже позади. Я принесу вам веревку, и с помощью Дюмона вы спуститесь на крышу моего чердака. И не заикайтесь о том, чтобы мы с Дюмоном ушли отсюда. Мы решили умереть вместе с вами и готовы за все заплатить головой. — А моя несчастная сестра, а Костежу, приор и другие наши друзья? Им тоже придется за меня расплачиваться? — Нет, в Валькрё вашу сестру никто не выдаст. Приор принес присягу правительству, но если их станут преследовать, Мариотта поклялась мне, что укроет их в надежном месте, а остальные друзья помогут. Костежу сам хочет, чтобы вы бежали, и он уже многое для этого сделал. Он верит, что вы ни в чем не виноваты, и по-прежнему любит вас. Пока мы разговаривали, старик не вмешивался в наш разговор, молчал и даже, казалось, нас не слышал. Я смотрела на Эмильена, безмолвно спрашивая, вполне ли он доверяет своему товарищу по камере, и Эмильен шепнул мне: — Верю, как господу богу! Ах, если бы ты могла и его спасти! — И не помышляйте об этом, — сказал старик, слышавший, оказывается, каждое наше слово. — Спасать меня ни к чему. И, обратившись ко мне, добавил: — Я священник и отказался принести присягу. Вчера меня допрашивали, и хотя на допросе ко мне отнеслись весьма благосклонно и явно хотели спасти, я не пожелал лгать, сказал, что мне надоело таиться от всех и прикидываться сочувствующим революции. Свое я пожил и давно бы покончил с собой, если бы мои религиозные убеждения это допускали. Но гильотина окажет мне добрую услугу. Я честно исполнил свой долг и готов предстать перед судом господа. А вы, — добавил он, обращаясь к Эмильену, — вы молоды и к тому же приемлете революцию, стало быть, вам надо спастись во что бы то ни стало, тем более что убежать отсюда не такое уж хитрое дело. Гораздо затруднительнее потом найти себе надежное пристанище. — У нас оно есть, — ответила я. — Мне известно, что беглецов травят, точно диких зверей, и что никому нельзя верить — людей нынче просто не узнать, так они напуганы или разозлены. Мы поселимся в безлюдном месте, и если у вас хватит сил спуститься по веревке… — Нет, обо мне не может быть и речи, — возразил старик. — У меня на это нет ни сил, ни желания. Теперь мне остается лишь ждать смертного часа, и я не сетую, так что бросим этот бесполезный разговор. А за вас я помолюсь. И, повернувшись к нам спиной, старик зашептал молитвы. Эмильен еще раз попытался отговорить меня от моей затеи, но когда увидел, что я действительно готова все принести в жертву и умереть вместе с ним, он сдался и пообещал действовать так, как я ему посоветую. Поскольку революционный трибунал Лиможа приговорил его к тюремному заключению, а нового приговора не последовало, Эмильен тоже взял с меня обещание ничего не предпринимать, если прежний приговор не будет пересмотрен. На следующий день — кажется, это было 10 августа — в городе устроили большое празднество, и я отправилась поглядеть, чтобы рассказать обо всем Эмильену. Понять что-либо оказалось совершенно невозможно. Сначала выехала причудливо убранная коляска, за которой следовала группа женщин, размахивающих флагами: то были матери, чьи сыновья ушли в армию добровольцами, а сопровождали они богиню Свободы, в роли которой выступала высокая, очень красивая женщина в древнегреческом одеянии. Она была дочерью сапожника по имени Маркиз, и посему все звали ее Долговязой Маркизой. Коляска довезла богиню до францисканской церкви, туда же проследовала процессия, и открывшееся моим глазам зрелище вполне объяснило мне то, что в свое время показалось таким удивительным в заброшенной лиможской церкви. Долговязая Маркиза взошла на возвышение, выложенное дерном; его устроили на месте алтаря, а изображало оно, как мне пояснили, «Гору». Чуть повыше муравчатого пригорка сидел длиннобородый человек — одни полагали, что это «Время», другие — что «Всевышний отец». Изображал его мыловар, чье имя вылетело у меня из памяти. У подножия «Горы» полуголый мальчик представлял нам «Дитя любви». Произносились речи, пелись какие-то песни, а я смотрела на эти бессмысленные забавы и думала, что вижу сон; остальные, по-моему, понимали не многим больше. Эти республиканские празднества были на редкость затейливы. Их программу придумывали народные общества, совет коммуны ее утверждал, а народ перетолковывал как мог. Выйдя из «храма», я увидела еще более занятную картину. Поднимаясь на свою колесницу, Маркиза заметила в толпе ротозеев какого-то буржуа, подозреваемого в симпатии к роялистам. Она назвала его по имени — его я тоже забыла — и нагло заявила: — А ну-ка, иди сюда, послужи мне подножкой! Тот испугался, подошел к ней и опустился на одно колено. Маркиза встала ему на спину и резво прыгнула в коляску. Я решила, что весь мир сошел с ума, и, продав несколько корзин, отправилась в тюрьму, где рассказала Эмильену о том, что видела; к его скудному обеду я добавила тайком кой-какие лакомства. Старик священник к ним не притронулся, несмотря на все мои уговоры; от голода он так ослабел, что я предложила принести ему стакан вина. — Незачем мне копить силу, — сказал он. — Ваш рассказ достаточно приободрил меня, чтобы с радостью отправиться на эшафот. Вскоре после этого нелепого праздника разыгралась кровавая трагедия. С каким поразительным спокойствием шел на казнь старик священник! Гильотину установили на месте гуляния, и на сей раз я, преодолев ужас, решила посмотреть на зловещую машину. К тому же я почитала своим долгом проводить несчастного в последний путь, попытаться поймать его взгляд, чтобы он прочел в моих глазах все уважение, все добрые чувства к нему. Но он, боясь, вероятно, скомпрометировать своих многочисленных доброжелателей, от души жалевших его, даже не поднял головы. На его казни присутствовали заключенные-испанцы, которые извлекали цветы из-под своих белых одежд и бросали старику. Потом я закрыла глаза. Услышав, как упал нож гильотины, я словно окаменела, словно в эту минуту обезглавили и меня. Я подумала: «Может, завтра этот страшный нож опустится и на шею Эмильена». Дюмон взял меня за руку и увел домой. Я шла как слепая, не понимая, на каком я свете. Когда я снова пришла к Эмильену, он был один, подавленный горем, ибо очень привязался к священнику. Я старалась его утешить и, плача с ним, чувствовала, что мне становится легче. Тогда я стала изливать свое негодование, и тут уж Эмильену пришлось меня успокаивать. — Не надо проклинать Республику, — сказал он, — лучше поплачем над ее участью! Эти зверства и несправедливости оборачиваются страшными преступлениями против нее самой. Обрекая на гибель невинные жертвы и запугивая до смерти народ, они убивают Республику, суть которой остается непонятной тому же народу! — Нам надо бежать, — промолвила я, — бежать сегодня же ночью. Вы сами видите, что завтра может прийти ваш черед, а если вам подпишут смертный приговор, они выставят такую охрану, что я ничем не смогу вам помочь. — Нет, — ответил Эмильен, — надо еще немного подождать…-. Пока мы спорили, на лестнице раздались шаги, и я со своей корзиной и метлой бросилась к двери, будто только что закончила уборку; но тут, оказавшись лицом к лицу с господином Костежу, чуть было не закричала от радости. Он вошел в сопровождении тюремщика, которого тотчас же отослал, и, притворившись, что не знает меня, сказал: — Поди-ка принеси мне лист бумаги и перо. Я хочу сам допросить этого заключенного. Я послушно выскочила из камеры, а когда вернулась, господин Костежу сказал: — Закрой дверь, будем говорить шепотом. Я только что беседовал с революционным представителем Леженом. Эмильену предстоит еще один допрос и судебное разбирательство, но поскольку его дело находится в ведомстве Лиможа, я потребовал, чтобы Эмильена выдали мне незамедлительно, ибо Памфил желает самолично расправиться со своей жертвой. Я сказал, что таково его требование, а моя обязанность — доставить Эмильена к нему, и мне разрешили это сделать. Мы уезжаем сегодня вечером. Вы сами понимаете, что Памфил гораздо влиятельнее меня, так что необходимо во время поездки устроить Эмильену побег. Это будет несложно, но вот куда он денется потом? Где его можно надежно спрятать? Этого я покамест не знаю. — Но я знаю, — ответила я. — Хорошо, ничего мне не рассказывай, и да будет с вами милосердие господне. Ты можешь быть на дороге в Аржантон в одиннадцать часов вечера? Это в четырех лье отсюда. — Конечно. — Хорошо. Запомни название — «Кротовник». Дюмон наверняка знает это место: на огромном пустыре торчит единственный домишко. Я поеду почтовой каретой в сопровождении двух человек, они свои люди, на них можно положиться. У «Кротовника» Эмильен и должен бежать; его никто якобы не заметит, тревогу забьют в окрестностях Лиможа, когда вы уйдете слишком далеко, чтобы бояться погони. Готовьтесь в путь, вот вам деньги. Вы не знаете, сколько времени вам надо будет прятаться, а без денег придется туго. Все трое мы крепко обнялись. Эмильен поручил Луизу господину Костежу, и тот пообещал ее не оставить, а я тем временем побежала предупредить Дюмона и навьючивать осла. Папаше Мутону мы заплатили за месяц вперед, а потому не стали скрывать наш отъезд. Дюмон сказал, что получил письмо от брата, который вызывает его по безотлагательному делу, и всем объяснил, что мы на несколько дней уезжаем в Ватан. А для того чтоб уверить людей, что мы вернемся, мы нарочно оставили кой-какие мелочи. Когда с наступлением темноты мы очутились за городом, наши сердца радостно забились, и мы с Дюмоном расплакались, будучи не в силах даже говорить. Но скоро добрый старик нарушил молчание и стал шепотом изливать мне свои чувства, растрогавшие меня до глубины души, хотя, признаться, я предпочла бы прибавить шагу и не отвлекаться, чтобы сохранить ясность мыслей. — Нанон, — говорил старик, — не иначе как господь бог смилостивился над нами. Только сделал он это ради тебя, потому как у тебя сердце великодушное, а твоей смелости позавидует любой мужчина. Рядом с тобой я ничего не стою, и меня надо бы отправить на гильотину. Я преступник, Нанон: вместо того чтобы копить деньги и оставить хоть небольшие сбережения бедному моему мальчику (Дюмон говорил об Эмильене), я вел себя как последняя скотина, я все пропивал, все подчистую! Мне, как тому священнику в камере Эмильена, опротивела жизнь, и если я опять стану прикладываться к бутылке, дай слово, Нанон, что ты перестанешь со мной разговаривать! — Вам не нужно этого бояться, — сказала я, — вы излечились от вашего недуга, это ваше доброе сердце помогло вам справиться с ним. Вы прошли нечто вроде испытания: ведь, задабривая папашу Мутона, вы поневоле с ним часто распивали вино, но держали себя в руках и даже в нетрезвом виде не теряли головы. — Ах, Нанон, трудно мне было! Ничего труднее я в жизни не делал, да и не поверил бы, что осилю такое! Но что было, то было, прошлого ничем не искупишь, все равно я проклят… Да, Нанон, проклят, как последняя собака! — С чего вы взяли, что собаки — проклятые существа? — сказала я с улыбкой. — Они никому худого не делают. Но хватит вам забивать себе голову всякими пустяками, лучше пойдем побыстрее, папаша Дюмон. Ведь карета господина Костежу не плетется, как мы с вами, а нам надо поспеть на место к одиннадцати часам. — Да, ты права, — ответил Дюмон, — прибавим шагу. Давай идти и разговаривать. Я хочу все тебе рассказать, все начистоту. Всякий честный человек может позволить себе такое. Может, скажешь, опять чепуху мелю? Да, я был пьяницей и заслуживаю страшной кары. Один раз я уже был наказан — свалился в яму глубиной тридцать футов, а когда очнулся на дне… как увидел, что лежу… вот так… И Дюмон остановился было, чтобы в сотый раз показать мне, каким образом он, возвращаясь в монастырь навеселе, угодил ночью в яму и чуть насмерть не убился. — Идем, идем, — сказала я. — Из-за ваших историй, которые я и без того знаю наизусть, мы с вами, чего доброго, опоздаем. — Опоздаем? Ах, да, мы же торопимся. Вот и ты, Нанетта, сердишься на мою глупость. Все меня презирают! И поделом! Я и сам себя презираю. Бедная девочка, каково тебе в пути с таким забулдыгой и пропойцей, как я. Одно мучение! А я забулдыга, что ты там ни говори… Будь во мне хоть капля храбрости, сам бы наложил на себя руки… Собака я, вот кто! Знаешь что, брось-ка ты меня, упаду я в канаву, туда мне и дорога! Я знаю, что говорю, — я не пьяный, а просто у меня душа болит. В канаве мне самое место. Иди себе вперед, а я здесь помру!.. И тут я наконец все поняла: несчастный старик, столько времени противившийся соблазну, не выдержал: прощаясь с папашей Мутоном, он не устоял против искушения, короче говоря — напился. Будь мы в других обстоятельствах, я отнеслась бы к этому спокойно. Но каково мне было сейчас, когда речь шла о спасении нашего друга, когда нужно было обогнать карету Костежу, усыпить подозрения, подкрасться к карете, не привлекая к себе внимания, и, улучив момент, бежать вместе с Эмильеном, все благоразумно предусмотреть, владея собой и не суетясь попусту, — каково мне было сознавать, что на руках у меня пьяный старик, который впал в отчаяние из-за того, что ничем не может мне помочь, и горько угрызается, то и дело повторяя: «Я не пьяный. Просто у меня душа болит, погиб я, погиб… Умереть бы мне!» Он пытался улечься спать на землю, плакал, все громче и громче болтал, перестал узнавать меня, так что я испугалась, не начнет ли он буянить. Я тянула его за рукав, подталкивала, поддерживала, тащила за собой, выбиваясь из сил. Наконец, совсем измучившись, я отпустила Дюмона, и он с размаху сел на обочину, свесив ноги в канаву, до краев наполненную водой. Ехать на осле Дюмон категорически отказался, твердя, что это гильотина, а у него хватит духу самому покончить с собой. Я уже подумывала оставить его, так как мне все время чудился стук колес той самой почтовой кареты, которая везла Эмильена. В ушах у меня гудело, я потратила столько сил на упиравшегося Дюмона, что уже не знала, дотащат ли меня ноги до назначенного места. Хоть бы он уснул! Я устроила бы его в укромном местечке в стороне от проезжей дороги, а сама продолжала бы путь и попыталась без него добраться до Кревана, где он приготовил нам жилище. Но Дюмон, совершенно обезумев, все твердил про самоубийство, и приходилось умолять его, бранить, как малого ребенка. И тут на дороге появилась повозка… к счастью, не карета господина Костежу, а обыкновенная телега, и я приняла отчаянное решение. Бросилась прямо к вознице и остановила лошадей. Это был ломовик, возвращавшийся в Аржантон. Вознице я показала пьяного Дюмона, бившегося на земле, и, рассказав о своем трудном положении, стала молить подвезти старика до первого постоялого двора. Сначала возница отказался, решив, что у того падучая, потом, удостоверившись, что это совсем иная болезнь, которая, по его выражению, с каждым случиться может, он смягчился, посмеялся над моей тревогой и, подхватив на руки Дюмона, как ребенка, положил в телегу, сам уселся с краю и велел мне следовать за ним на осле. Через несколько минут Дюмон угомонился и заснул. Возница прикрыл его сеном и, чтобы не задремать самому, принялся насвистывать песенку, вернее — одну и ту же тягучую, монотонную музыкальную фразу; вероятно, только ее он и знал, да и то, видно, не целиком, так как все возвращался к началу, ни разу не доведя ее до конца. Я немного успокоилась, но нервы у меня были натянуты до предела. Однообразный свист раздражал меня, а когда примерно через час он прекратился, стало еще хуже. Возница задремал, лошади, не чувствуя кнута, настолько замедлили шаг, что я на своем осле поневоле обогнала их. Наконец вдали показался дом; я растолкала возницу и попросила помочь мне уложить моего «дядюшку» на кучу свеженарезанного папоротника у обочины. Он охотно это сделал, я поблагодарила его, но дать денег поостереглась. Может, он и взял бы их, но удивлению его не было бы границ: в то время даже медяк редко водился в карманах таких бедняков, как мы. Возница продолжил свой путь, а я изо всех сил принялась стучать в двери дома, но мне так никто и не открыл. Тогда я приняла другое решение: удостоверясь, что Дюмон крепко спит на куче папоротника и ничего худого с ним случиться не может, я стала понукать осла, пока мы не обогнали возницу, который мирно похрапывал и не видел, что своего «дядюшку» я оставила. И вот я очутилась на той самой пустоши, о которой мне говорил господин Костежу. По моим соображениям, я прошла по ней не больше одного лье, но понятия не имела, который час и сколько времени я провозилась с Дюмоном, таща его за собой. Конечно, я умела определять время по звездам, но небо заволокли лохматые тучи и вдали уже гремел гром. Порывы ветра вздымали дорожную пыль, и я с трудом разбирала дорогу. Я утешала себя тем, что огни «Кротовника» проглядеть невозможно, хотя в душе и понимала, что заметить их в предгрозовой мгле — задача не из легких. Той дело я останавливалась и оглядывалась назад, потом снова прибавляла шагу, опасаясь, что чересчур спешу или, напротив, чересчур медлю. Под громовые раскаты, которые все учащались и гремели громче и громче, я внезапно услышала за спиной конскийтопот. Далеко ли до почтовой станции? Не обгонит ли меня карета с Эмильеном? Раздумывать было недосуг, я даже на осла не вскочила, а припустила, что есть мочи, и бедное животное едва поспевало за мной. Когда почтовая карета обогнала меня, мы с ослом поневоле прижались к самой обочине. Карета промчалась, как вихрь, и я с трудом разглядела лишь двух всадников, скакавших сзади. Я побежала, не останавливаясь, но через минуту все потонуло в кромешной тьме и облаке пыли. А спустя еще одну минуту стук колес замер вдали, и я поняла, что догонять карету уже дело безнадежное. И тут я до предела напрягла волю и, собрав последние силы, кинулась, очертя голову, вперед, не понимая, куда и зачем, не слыша громовых раскатов, не видя сверкания молнии, которая словно гналась за каретой, да и за мной, ибо в своем безумном беге, вместе с потоком воздуха, я как бы увлекала и ее. Я мчалась как одержимая и, вероятно, настигла бы карету, но внезапно ярко-огненная вспышка преградила мне дорогу: раскаленный добела шар ударил о землю в десяти шагах от меня, на мгновение ослепив глаза жгучим блеском, все вокруг заходило ходуном, меня откинуло к бедному ослу, и оба мы взлетели на воздух. Молния нас не задела, но падение оглушило, и мы пребывали в состоянии оцепенения. Осел не шевелился, да и я не думала, что когда-нибудь встану на ноги. В голове был туман, и случись какой-нибудь повозке появиться в эту минуту, она переехала бы нас. Не знаю, сколько времени я пролежала на дороге, минуту или четверть часа, однако, очнувшись, увидела, что сижу на куче папоротника. Осел спокойно щипал траву, дождь лил как из ведра. Кто-то, крепко прижимая меня к себе, словно защищал от ливня, нашептывая какие-то слова. Я не понимала, умерла я или грежу. — Эмильен! — воскликнула я. — Да, я с тобой. Молчи! — ответил он. — Ты в силах идти? Тогда поскорее пойдем отсюда. Самообладание тотчас вернулось ко мне. Я поднялась, потрепала осла по шее — тот был так хорошо выучен, что довольно было подать ему знак, чтобы он потрусил за мной, словно собачонка. Ветер рвал на нас одежду, хлестал ливень, а мы целый час все брели по этой пустоши, пока наконец не добрались до леса Шатору. Мы были спасены. Там мы с Эмильеном облегченно перевели дух и долго молчали, не выпуская друг друга из объятий. Внезапно под ногами Эмильена что-то заскрипело — он наклонился, пошарил руками и шепнул мне: — Смотри-ка! Здесь выжигали уголь! Мы и в самом деле набрели на один из тех костров, тлеющих под слоем земли, где чуть теплится огонь и выжигается уголь. Головешки совсем почернели, но земля еще не остыла; мы улеглись на эту теплую землю, обсушились, меж тем как ливень понемногу затихал. Мы не разговаривали, боясь привлечь внимание угольщиков, чья хижина наверняка находилась неподалеку. Что касается лесничих, их больше не было, и государственные леса расхищали все кому не лень. Мы молча держались за руки и были так счастливы, что даже случись нам оказаться в более надежном укрытии, тоже навряд ли смогли бы разговаривать. Отдохнув с полчаса в этом укромном уголке, мы пошли через лес, и глаза трех волков, неотступно следовавших за нами, горели в темноте, как красные огоньки. Мы хорошо охраняли нашего ослика, не давая волкам приблизиться к нему; не будь такой надежной защиты, они непременно бы на него напали. Мы брели наудачу, так как леса не знали. Нам было лишь известно, что где-то рядом в направлении к юго-востоку пролегает древняя римская дорога, но на небе не светила ни одна путеводная звезда. Наконец небо расчистилось, и над верхушками деревьев обозначилось созвездие Ориона, которое крестьяне называют «Тремя волхвами». Теперь мы без труда нашли эту римскую дорогу. Ее легко было узнать по глубоким выбоинам от поставленных на ребро камней, некогда ее ограждавших. По ней мы дошли до опушки, где волки от нас отстали.XVI
Мы вышли из лесу, и нам открылась еще одна пустошь, но идти по ней было уже не так тоскливо, как по первой. Усталости я не чувствовала, туча не пролилась здесь дождем, ноги не увязали в грязи. Наконец-то мы преисполнились уверенности в том, что на огромном, широко раскинувшемся пространстве мы совершенно одни. Сверкающее звездами бескрайнее небо нависло над этой землей, чьи плодотворные участки лежали целиной, потому что некому было их возделать. Всех мужчин забрали в армию, и крестьяне обрабатывали только поля по соседству со своими жилищами. Республика призывала: «Обратим все наши помыслы к войне! Пусть юноши дерутся на поле брани, женщины ткут холст и шьют солдатские мундиры, дети со стариками щиплют корпию для раненых или плетут венки для победителей». А Дантон к этому добавил: «Пусть все забросят свои повседневные дела!» Хорошо было Дантону обращаться с такими словами к парижанам — городские власти кормили тамошнюю бедноту и даже платили деньги всякому, кто присутствовал на заседаниях парижских секций. Но крестьяне! Как могли они забросить свои дела, когда это означало, что земля окажется в запустении, скот перемрет, дети будут сидеть без хлеба! Вот чего горожане не понимали, вот почему наивно удивлялись унынию и озлобленности деревенского люда. Это всеобщее несчастье помогло бегству Эмильена. Поля стояли невспаханные. Дрок и папоротник так разрослись на приволье, что их заросли давали ночлег не менее надежный, чем неприступная крепость: Вокруг нас слышались только голоса куропаток, скликающих свои выводки, да порой какие-то ночные птицы тихо и жалобно звали друг друга. А эти жалкие деревья, немногочисленные и чахлые! Там и сям показывали они нам свои обрубленные, круглые макушки — точь-в-точь тайные соглядатаи! Но у нас был слишком наметанный глаз, чтобы мы поддались обману. Наконец-то мы могли разговаривать, не боясь, что нас подслушают, не прерывать беседу из опасности переломать ноги или сбиться в пути. Теперь я точно знала, что мы идем в правильном направлении. Я спросила Эмильена, как так получилось, что хотя я бежала за ним следом, он нашел меня в стороне от большой дороги. И он объяснил следующее: господин Костежу, считая, что на почтовой станции «Кротовник» чересчур много любопытных глаз, высадил его чуть раньше. Воспользовавшись тем, что гроза напугала его маленькую свиту, он велел Эмильену спрятаться в канаве и лежать там до тех пор, пока я не приду за ним, — меня же он рассчитывал предупредить на месте нашей встречи. Ни кучер, ни всадники не заметили исчезновения Эмильена, и он надеялся, что спохватятся они только под утро. Сначала он лежал в канаве без движения, потом услышал мои шаги и голос, так как я громко и горестно причитала, сама того не замечая. Из-за тревоги, безумного бега и грозы я, конечно, немного была не в себе и беспрестанно повторяла: «Господи… Господи… Неужели и ты против нас?» Эмильен, не смея меня окликнуть по имени, кинулся за мной вдогонку, но настиг уже в ту минуту, когда, повергнутая молнией наземь, я лежала поперек дороги. Он поднял меня на руки, а я все продолжала выкрикивать: «Господи… Господи… Значит, ты тоже против нас?» Он обрадовался, что я жива, и в то же время испугался, не повредилась ли в уме и не ослепла ли, так как идти я не могла и не понимала, что со мной. — Бедняжка ты моя Нанон! — сказал Эмильен. — Как я напугался! Я даже пожалел, что не остался в тюрьме, и проклял себя за то, что согласился на побег, который обошелся тебе так дорого! Скажи мне теперь, где Дюмон и почему я нашел тебя одну на дороге? Может, он нас где-нибудь дожидается? Я с большой неохотой рассказала Эмильену о том, что произошло, и лицо его омрачилось беспокойством. — Что же станется с нашим бедным другом? — воскликнул он. — Ведь, проснувшись, Дюмон кинется нас искать, начнет расспрашивать, чего доброго, в «Кротовнике», вызовет подозрения, скомпрометирует себя и угодит в лапы жандармов… — Не бойтесь, — успокаивала я Эмильена, — Дюмон очень осторожен, а протрезвев, он станет осторожным вдвойне. Он не любит вспоминать о своем пороке и не болтлив даже с друзьями. Дюмон решит, что мы отправились в Креван, где им приготовлено для нас жилище. Там он с нами и встретится. — В Креван? — воскликнул Эмильен. — Мы должны укрыться в Креване? — Да, все меры предосторожности приняты, и дорога мне хорошо известна. Дюмон мне все объяснил, а потом я проверила наш путь по карте. — Да ты знаешь, кто сидит мэром в Креване? Тот самый Мийар, который донес на несчастных братьев Бигю, моих товарищей по камере! Слова Эмильена так испугали меня, что я чуть было не отказалась от уже приготовленного нам убежища, но, посовещавшись, мы решили все-таки идти в Креван. Этот Мийар, решили мы, был или негодяй, решивший отомстить своим врагам, или честный, но глупый патриот, не понимавший, что отправляет этих несчастных на гильотину. Если правильна первая догадка, то нас он преследовать не станет, потому что мы ему чужие; если же верна вторая, то наверняка он раскаялся и больше ничего такого не совершит. И потом, он мог быть в отъезде, мог заболеть. Стало быть, нам следовало обойти стороной городок, и если домишко, снятый Дюмоном, покажется нам недостаточно безопасным приютом, искать еще более глухой уголок. Но где и когда мы встретимся с Дюмоном? Мы решили подождать его день на высоком холме среди кустарника, откуда мы, скрытые от глаз, видели всю окрестность и всех, кто шел. Усталость свалила меня, я уснула крепким сном и пробудилась лишь с первыми лучами солнца, ударившими мне в глаза. Я поднялась, огляделась по сторонам. Эмильена нигде не было. Рядом пасся осел, ночью его вьючное седло и поклажа послужили мне постелью. Я страшно испугалась. «Он наверняка пошел искать Дюмона, — решила я, — и теперь его арестуют». Я проглядела все глаза, но так никого и не выглядела. Тогда, не понимая, что и зачем делаю, я стала вьючить нашего осла, потом опять стала всматриваться в даль, пока наконец на вчерашнем проселке не заметила две крошечные мужские фигурки. Как я волновалась, пока они не приблизились и я не узнала Эмильена, который вел нашего бедного Дюмона, еще не вполне оправившегося от хмеля. Не мешкая ни минуты, мы снова пустились в путь. Дюмон молчал, и Эмильен подал мне знак, как бы говоря: «Оставь его, пускай приходит в себя!» В указаниях Дюмона мы не нуждались и шли прямиком, не задерживаясь на перепутьях и развилках. Помимо того, что я досконально изучила местность по карте, мы, жители провинции Марш, обладаем редкой способностью находить, словно каким-то нюхом, самый краткий путь к цели. Еще недавно наши мастеровые целыми толпами находили таким образом дорогу в Париж и другие большие города, где артелями нанимались в каменщики. До того, как проложили железные дороги, эти мастеровые, кучками или поодиночке, встречались повсеместно, и так как шли они обычно прямо по хлебам, крестьяне на них очень жаловались. Во времена Террора они остерегались кочевать с места на место, и встреча с ними посреди этой пустоши нам не угрожала. Сперва мы шли вниз по течению речки под названием Гурдон, которая текла на дне небольшого ущелья, где по склонам лепились мельницы и крестьянские жилища, потом возле Вильморского леса перебрались вброд через Бордесуль, миновали дорогу на Эгюранд, взяли влево и, отмахав за день около восьми лье и обойдя стороной Креван, очутились наконец в той глуши, куда так стремились. Лучше места трудно было сыскать. Перед нами возник настоящий оазис из камня и зелени, таинственный лабиринт, предлагавший верное убежище на каждом шагу. Большие круглые валуны выпирали из земли или громоздились друг на друга, словно скатились с горы; там и сям пролегали дорожки, все в колдобинах и глубоких рытвинах, по которым с трудом проехала бы и самая легкая повозка, а за ними глухие, вовсе непроходимые тропки, которые терялись в поисках, прорезанных ручьями, пропитанных влагой и не зыбучих. И куда ни глянь, всюду зелень. На всех холмах огромные каштаны, в низинах густые заросли кустарника, дикие груши, усыпанные плодами, жимолость в цвету, терновник и можжевельник, толстоствольные, как деревья, с раскидистыми корнями, которые нависали, словно мосты, над несчастными осыпями либо извивались, подобно чудовищным змеям. — Почему бы всем гонимым нынче французам не спрятаться в таких диких местах? — спрашивал меня Эмильен. — Ведь в городах шагу нельзя ступить, чтобы не попасться, а тут под самым носом властей есть отличные убежища. Сколько тысяч жандармов понадобилось бы, чтобы изловить беглеца в этой глуши! Дюмон, видя, что мы довольны нашим новым приютом, весьма приободрился. — Скудость здесь во всем, — сказал он. — Кто привык к сытой жизни, проживет тут от силы неделю. Да и вам, хоть вы не избалованы и привыкли к нужде, тоже придется не сладко, особенно, если случится тут зазимовать. Постараемся, конечно, перебиться. Это бывшим богачам невмоготу жить на дне лога, где не с кем даже словом перемолвиться. Они тут сходят с ума и с охотой отдаются на милость властей. Дюмон говорил правду. В ту пору многие предпочитали идти на верную смерть, чем непрерывно мучиться и страдать от нужды, — взять хотя бы того несчастного священника, который на наших глазах бесстрашно пошел на казнь, потому что ему надоело прятаться. Что касается нас, то мы, счастливые тем, что снова вместе, полные молодых сил, гордые совершенным побегом, привыкшие довольствоваться малым и любившие леса и скалы, — мы думали, что попали в рай, и если бы могли забыть о бедах наших соотечественников и опасностях, которым они подвергались, этот глухой уголок и в самом деле стал бы для нас раем. Отделившись от своих спутников, я завернула по пути в деревеньку и купила там немного оливкового масла, соли, хлеба, кой-какую кухонную утварь и нехитрую посуду. Хотя в еде мы были весьма неприхотливы, за ужином мы лакомились весьма изысканными кушаньями. Здешние каштановые рощи изобиловали белыми грибами, а во мху под кустами попадались свежие, чистенькие, янтарно-желтые опенки. У нас в провинции жители знали толк в грибах, а беррийцы по темноте своей пренебрегали этой вкусной пищей и с давних времен не собирали грибов. Даже сегодня они плохо их различают и, бывает, иной раз отравляются. Мы же набирали полные корзины опенок, и никому не было дела, куда это деваются грибы. В те времена массовые рекрутские наборы поглощали все мужское население, и земля в этой глуши оставалась необработанной и безлюдной. Конечно, кое-кто купил землю у государства, пример тому господин Костежу, но приезжали новые хозяева лишь на сбор каштанов — благо в течение года эти плодоносные деревья не нуждались в уходе. Пройдя еще изрядный кусок, мы добрались наконец до того места, которое Дюмон облюбовал для нашего жилья. Сперва мы миновали небольшую речку, которая струилась меж гранитных валунов, круглых, как хлебный каравай, и огромных, как крестьянский дом. Мостика через нее не было, — приходилось прыгать с одной каменной глыбы на другую. Затем, поднявшись на крутой холмик, мы оказались в чудесном саду, созданном самой природой, среди мягкой травы, цветов и кустарника. Испокон веков в этом уголке люди добывали гранит для областей, где не хватало строительного камня. Буйная зелень разрослась на земле, взрыхленной камнеломами и унавоженной ломовыми лошадьми, но никто уже не строил церквей и замков, и добывание гранита стало делом неприбыльным, да и перевозки стоили слишком дорого; кроме того, здесь, как и везде, не хватало рабочих рук. Последний камнелом покинул это место на глазах у Дюмона — он-то и сдал ему свое жилище за десять франков в год. — Дом, конечно, неказистый, — говорил нам Дюмон, пока мы взбирались по крутой горной тропке, затененной высокими деревьями, — но все еще крепкий, довольно просторный и, главное, стоит на отшибе. Мы его обживем, да и земельным участком воспользуемся — я взял его в аренду за двадцать франков. Можем в случае чего кой-какие пристройки сделать из здешнего камня. Наше жилище и в самом деле было временным убежищем каменотесов, но стены его, сложенные из скалистых глыб, гладких с внутренней стороны дома и плотно подогнанных друг к другу, выдержали бы любую осаду. Кровлей служила огромная, устрашающего вида каменная плита, так искусно установленная, что упасть она не могла, но потолок вышел очень низкий, и взрослому человеку было не выпрямиться в помещении, поэтому песчаную почву, заменявшую пол, подрыли и углубили. Жилище вышло на редкость чистое и удобное — оставалось лишь прокопать длинные желобки, чтобы дождевая вода не просачивалась в дом. — Ты только погляди! — сказал мне Эмильен, с удивлением осматривая массивное сооружение. — Каменотесам вряд ли было под силу поднять такие глыбы; это строение им досталось по наследству. Приор сказал бы, что перед нами долмен, а наши крестьяне назвали бы его гнездовьем фей. Эмильен не ошибался. Каменотесы только кое-где укрепили эти глыбы и заделали щели между ними, но в основе своей то была настоящая древняя кельтская постройка. Оглядевшись, мы обнаружили еще несколько долменов; одни были уже наполовину разорены, другие стояли совершенно нетронутые. Рядом с большой комнатой я решила устроить себе каморку, тем более что это не составляло большого труда: Эмильен, сразу же взявшись за работу, стал плести перегородку из веток и папоротника, а Дюмон меж тем, запасясь илом из речки и густыми водорослями, устилавшими ее дно на глубине двух-трех футов, заделывал щели в разошедшихся стенах. Я же занялась осмотром обстановки, весьма, надо сказать, убогой: старый железный таган, установленный под открытым небом, заменял плиту, большой кувшин, вместительная миска, дюжина плохо обтесанных досок да несколько чурок, служивших табуретами, — вот и все. О кроватях и постельных принадлежностях речь и не шла: здесь не было ни стола, ни шкафа, ни очага. И каждый раз, готовя обед, я проявляла чудеса изобретательности, чтобы хоть как-то извернуться и извлечь максимум пользы из своей утлой кухонной утвари. Первую ночь здесь мы провели под открытым небом, как, впрочем, и все предыдущие. Однако климат в здешних местах был холодный, а лето уже шло на убыль. На следующий же день мы принялись за дело. Прежде всего проверили, достаточно ли крепка входная дверь, ибо песок вокруг дома был усеян волчьими следами. Починили оконную раму, совсем разболтавшуюся, разделили помещение так, что у меня оказалась отдельная комната; незаделанная щель между двумя валунами служила мне окошком — на ночь я затыкала ее травой и мхом. В Шатору мы вместе с другой поклажей нагрузили нашего осла кой-какими инструментами, необходимыми для плотничьих работ. Из досок сколотили три ящика и наполнили их речными водорослями, высушенными на солнце: у нас получились отличные тюфяки, которые к тому же легко было заново перебивать. С собой я привезла три белых рабочих блузы, — если приходилось спать не раздеваясь, они предохраняли одежду. С тех пор как мне пришлось выдать себя за молодого человека, мои руки стали такие крепкие и ловкие, что я без труда справлялась с кое-какой мужской работой. Пока Дюмон с Эмильеном мастерили нашу грубую мебель, стол и кровати, я вырезала из дерева ложки, вилки, даже чашки и солонку. Из железной проволоки я сплела решетку для сушки грибов, а из цельной доски сделала себе полку, где расставила то, что величала «кухонной посудой». У меня было припасено не только все необходимое для починки и штопки, но и щетки, мыло, гребни, дюжина салфеток. Я изо всех сил старалась поддерживать чистоту, так как всегда считала, что нищета не причина, чтобы жить в грязи. Содержать дом в порядке я умела, поскольку еще в раннем детстве прошла хорошую школу у дедушки, который был чрезвычайно взыскателен на этот счет. Он неукоснительно требовал, чтобы за стол мы садились опрятно одетые и с чисто вымытыми руками. Построили мы и надежный хлев для нашего осла, о котором я пеклась, как когда-то о Розетте: ведь в разгар самых драматических событий моей жизни я по-прежнему оставалась ребенком, или, вернее, снова стала им, как только смогла спокойно вздохнуть. Осел наш был послушное, очень понятливое животное, выносливое и даже трудолюбивое, хотя ростом не вышел и с виду казался чересчур смирным. Ходил он за мной по пятам, как собака, и, бывало, шагу ступить не давал, все норовил порезвиться или чем-нибудь помочь хозяйке. Он служил верой и правдой — таскал на себе доски и землю для наших строительных работ; особенно тяжело доставалась нам глина, которую осел возил из рва, тянувшегося довольно далеко от дома за песчаными наносами и валунами. Хотя мы рачительно заготовляли провизию и трудились в поте лица, все-таки многого еще нам недоставало; однако мы довольствовались самым необходимым, и нам даже посчастливилось устроить наше жилище за неделю, в течение которой ни один чужак нас не потревожил. Подобное уединение было бы немыслимо сегодня, хотя край этот по-прежнему дик и с виду мало обжит, мало населен; и все же там за прошедшие годы проложили дороги, кое-где распахали новь, выкорчевали валуны, понастроили удобные, небольшие фермы. Но в 1793 году, когда старый режим только-только отошел в прошлое, крестьянин был бос и наг, а крупные землевладельцы, безвыездно жившие в городах, даже не знали толком, где их поместья, когда в деревнях царила анархия и почти всех мужчин забрали в солдаты, — мы в ту пору жили совсем как Робинзон на своем острове. Поэтому, увидев впервые на берегу речки чей-то след, мы с Эмильеном тревожно переглянулись, и одна и та же мысль пришла нам в голову. В свое время мы вместе с наслаждением прочитали «Робинзона Крузо» — и тогда, помнится, мечтали о собственном острове. И вот такой остров у нас появился, но, увы, вокруг нас было слишком много дикарей.XVII
Правда, это был след детской ноги, но ведь и ребенка могли послать шпионить за нами. Он нас не видел, да и мы его не заметили. На следующий день их пришло двое — на сей раз они не таились, но приблизиться не посмели, так как, вероятно, боялись нас. Не желая подавать виду, будто мы прячемся, мы сочли за благо позвать их. Детишки мгновенно удрали и больше не появлялись. «Донесут или не донесут?» — ломали мы себе голову. — Не надо об этом думать, — сказал Эмильен, — не то мы возненавидим всех подряд, а люди, меж тем, не все предатели и трусы. Покамест нам встречались лишь достойные и добрые, не мог же террор всех их истребить. Я твердо верю, что хороших людей больше, чем дурных. В этом можно убедиться на моем примере. У меня есть враги — скажем, Памфил, который так и не простил мне освобождения приора, или Лежен, одержимый безумной верой в то, что чем больше разрушаешь, тем легче строить новое общество, но зато сколько друзей! Костежу, приор, Дюмон, не говоря уже о тех, кто, не имея возможности помочь, горячо желал мне добра. Я убежден, что желали его почти все жители Валькрё. — А я? — спросила я Эмильена. — Меня вы к ним не причисляете? — Нет, — ответил он, — ты к ним не относишься. Ты, Нанетта, стоишь особняком, у тебя самое первое место, даже больше, чем первое. Я ведь тебя и не благодарю — надеюсь, ты понимаешь… — Честно говоря, не очень… — Да, ты ведь не знаешь, даже не догадываешься, что ты значишь для меня. Ты почитаешь себя только моей служанкой, горничной моей будущей жены и нянькой моих детей! Помнишь наш уговор? Эмильен рассмеялся и стал целовать мне руки, словно я была его матерью, и, не удержавшись, я сказала ему об этом. — Хорошо, — продолжал он. — Будь мне матерью, я согласен, ведь если бы у меня была настоящая, заботливая мать, я любил бы ее больше всех на свете. А теперь все сыновнее почтение, нежность и обожание, которые я питал бы к ней, по праву принадлежат тебе. С этими словами он спокойно взял меня под руку, и мы продолжали нашу прогулку вдоль зарослей терновника. Я ощипывала ягоды с кустов, решив заготовить на зиму вина: Эмильен выдолбил из дерева чан и бочку, а все остальное было делом нехитрым. В тот день Эмильен толковал со мной только о хозяйственных делах; надо сказать, что о своей привязанности ко мне он говорил очень редко и немногословно, но всегда так красиво и убедительно, что я не сомневалась в его искренности. Пришельцы больше не тревожили нас. От нашего дома до Кревана было два лье, а до редких хижин, разбросанных кое-где на пустоши, и того больше. Когда у крестьян нет настоятельной нужды разъезжать по окрестностям, они стараются сидеть дома. Даже сегодня в самых населенных уголках провинции Берри есть семьи, которые понятия не имеют, как выглядит местность на расстоянии одного лье от их жилища, и уже за километр даже не сумеют показать вам дорогу. Правда, этих нелюбознательных домоседов с каждым днем становится все меньше и меньше, и надо сказать, что, живя безвыездно на своем маленьком участке, дающем им пропитание, они только что не христарадничают. Мы отлично понимали, что если бы и обратились за помощью к местным крестьянам, неминуемо получили бы отказ, поэтому изо всех сил стремились жить отшельниками. Позже нам рассказали, что на заре христианства в скалах, приютивших нас, обитало множество настоящих отшельников, и если верить сказаниям, то в нашем «гнездовье фей» — его называли еще «пристанище духов», ибо в незапамятные времена в нем жили женщины-друиды — обретали уединение святые обоих полов. И мы решили, что если отшельники умудрялись жить в этой фиваиде, в те поры еще более дикой и безлюдной, то мы тоже как-нибудь скоротаем зиму. Поэтому, не щадя сил, мы улучшали и утепляли наше жилище, действуя так, впрочем, еще и из осторожности, на тот случай, если появятся нежданные посетители: мы хотели предстать перед ними бедняками, которые трудятся не покладая рук, чтобы наладить свое нехитрое хозяйство, Но отнюдь не беглецами, готовыми терпеть любую нужду, лишь бы укрыться от закона. С конца августа вплоть до первых заморозков мы всякий день ели грибы. Дюмон бесстрашно наведывался в деревню или на дальние фермы; ездил он туда на осле и привозил соль, ячменную муку или гречневую крупу, оливковое масло, а порой даже фрукты и овощи. Конечно, приходилось переплачивать, так как крестьяне сами жили впроголодь, и когда Дюмон предлагал им в обмен корзины, ему неизменно отвечали: «Зачем нам корзины, все равно в них нечего класть». В деньгах мы не нуждались, но должны были делать вид, что нуждаемся не меньше других, а значит, торговаться за каждый грош, чего ни я, ни Эмильен совершенно не умели. Дюмон же так ловко разыгрывал нищего, что прослыл одним из самых обездоленных, и в некоторых крестьянских домах ему из жалости подносили стаканчик вина, что почиталось редким и дорогим угощением, ибо в здешних местах вина не производили. Но Дюмон, который до сих пор страдал от того, что по слабоволию проворонил бегство дорогого своего Эмильена, дал зарок не прикасаться к этому зелью; он добровольно наложил на себя эту кару и умерщвлял плоть как истый отшельник. Скоро у нас и в округе иссякли запасы зерна, и купить мясо стало легче, чем раздобыть муку. Правда, в мясе мы не нуждались. Дичь в лесу водилась в изобилии, мы всюду понаставили ловушек, капканов и силков, так что не проходило дня, чтобы мы не лакомились зайчатиной, куропаткой, диким кроликом или мелкой птицей. В речке резвились уклейки и пескари, и я быстро смастерила верши. Соседнее болотце обильно поставляло к нашему столу лягушек, которыми мы тоже не брезговали. Нам удалось поймать, хотя и не без труда, нескольких лисиц, животных очень осторожных, которых мы все же перехитрили; высушив их шкурки на солнце, мы запаслись к зиме чудесными одеялами. В довершение всего Дюмон сумел приручить двух диких коз, чье молоко способствовало нашему благоденствию, тем более что содержание их нам ничего не стоило, как, впрочем, и содержание осла — столько было вокруг сочной травы, столько заброшенных пастбищ на ничейных землях. Но вот наступило время сбора каштанов, и мы уже тешили себя надеждой, что теперь ни в чем не будем нуждаться. Отпала надобность ездить за провизией в деревню, так как мы собрали урожай с десятка великолепных каштанов и, вырыв надежную яму в песке, ловко убрали свои запасы на зиму. Не в пример беррийцам, мы, жители провинции Марш, умеем хранить эту драгоценную провизию. Но время сбора плодов принесло с собой новую заботу: каждую минуту могли нагрянуть незваные гости, поэтому нам пришлось принять меры предосторожности. Дюмону и мне, по-прежнему выдававшей себя за его племянника, опасаться было нечего, но бедняга Эмильен, мечтавший пойти в солдаты, но поневоле сделавшийся дезертиром, вынужден был или вовсе не высовывать носа из дому, или прикинуться калекой. Вняв моему совету, он смастерил себе деревянную ногу и, приладив ее к колену, стал ковылять на костылях. К нашему огромному удивлению, беспокоились мы понапрасну: люди вокруг нас собирали урожай, целые толпы их хлопотали на соседних холмах, но ни один человек не перешел речку, никто не приблизился к нашему дому, не перекинулся с нами словом. Более того — они даже не смотрели в нашу сторону. Мы с Эмильеном ломали себе голову, что это означает, а потом решили, что добрые люди догадались о нашем положении и не желали даже нас замечать, чтобы в случае нашей поимки и допроса клятвенно заверить жандармов, будто знать не знают, кто мы такие. Некоторые, очевидно, и в самом деле руководствовались этой мыслью, другие же вели себя так по другой причине, которую мы узнали позднее. Случилось это в сочельник, в самую полночь. Теперь, когда мы наслаждались нашим спокойным, относительно безбедным существованием, когда ничего не знали о событиях во Франции, но надеялись, что смута уляжется и жизнь войдет в свою обычную колею, мы настолько воспрянули духом, что решили отпраздновать рождество. Из осколков гранита нам удалось устроить чудесный очаг, где запылало рождественское полено. Сухой валежник весело потрескивал в очаге, ярко освещая комнату, к столу я подала нанизанных на железный прут очень жирных жаворонков, гору отборных каштанов, изжаренных самыми различными способами, домашний козий сыр. Елку нам заменил кустик терновника, усыпанный красными ягодами, красиво выделяющимися на фоне зеленых листьев, — Эмильен сам срубил его и водрузил на стол. Моя наливка из терна была прозрачная, как родниковая вода, и терпкая, как винный уксус. Мы, горные жители, любим этот напиток, Дюмон тоже им не побрезговал, и когда я его заверила, что в наливке нет спирта, пропустил стаканчик вместе с нами за здоровье отсутствующих друзей. Каждый из нас в душе был почти уверен, что они в тюрьме или, может быть, даже гильотинированы, — все, даже Костежу, спасший нам жизнь, но мы, гоня прочь черные мысли, упрямо цеплялись за надежду и, насилуя собственное сердце, скрывали друг от друга, как оно заходится от ужаса и трепещет. Дюмон, столько времени грустивший из-за угрызений совести и наложенного на себя обета трезвости, решил немного повеселиться. Старик чувствовал, что мы его любим и давно простили, — вот он и затянул своим дребезжащим голосом песенку, очевидно не вполне пристойную, так как Эмильен велел ему замолчать, и Дюмон, послушавшись его, запел коляду. Он уже допевал второй куплет, как вдруг за окнами раздался странный пронзительный вопль и, эхом прокатившись по комнате, заглох где-то около Пареля [205] — огромного валуна по соседству с нами. Мы недоуменно переглянулись и прислушались. Волчий вой и тявканье лисиц были нам не в новинку, поэтому никто из нас не усомнился, что это какое-то другое животное или скорее всего человек. Дюмон взял дубинку и тихонько приоткрыл дверь. Потом до нас долетели обрывки фраз, лишенные всякого смысла, однако нам стало ясно, что выкрикнула их пожилая женщина, обезумевшая от ужаса и гнева. Мы выскочили и побежали вслед за пришелицей, стараясь поймать призрак, но она, топча иссохший папоротник, скрылась в темноте и больше не появлялась. — Бьюсь об заклад, — сказал нам Дюмон, — что это была колдунья. Наверняка она творила заклинания на большом валуне — ведь в прежнее время сейчас бы как раз служили рождественскую мессу. — Ты прав, — сказал Эмильен, — наверняка тут отправляют те же обряды, что и в наших краях. Верят, что кельтские камни заколдованы, что в полночь они танцуют и переходят с места на место, открывая сокровища, спрятанные под ними. Эта старуха, верно, решила вызвать дьявола, и ты своим рождественским псалмом ее спугнул и разозлил. Ничего худого в этом нет, но, уволь, братец, больше не пой: кто знает, сколько вокруг нас этих вольнодумцев-ведунов, они еще решат, что ты переодетый священник и поешь мессу. На следующий день мы нашли у порога угриную кожу, проколотую семью толстыми гвоздями. То было приношение злым духам, очень распространенное в наших деревнях. Заслышав пение Дюмона, колдунья уронила эту кожу возле нашего дома. Из нее Дюмон смастерил кошелек, а гвозди припрятал — такой находкой грешно было пренебрегать. А через несколько дней Дюмону повстречался один из последних каменотесов, работавший неподалеку от валуна Парель. Дюмон снимал наше жилище при нем, наверное поэтому тот сообщил ему, что наш хозяин ушел на работы в Шатр, где срывали колокольню при кармелитском монастыре. — Разломать ее малость опоздали, — добавил каменотес, — их уже всюду уничтожили. Но ничего, когда начнут восстанавливать, у нас будет работа. Тогда нам очень пригодятся ваши валуны вон на тех холмах. — И Парель тоже? — спросил Дюмон, желавший узнать, отчего этот камень так почитают в округе. — Нет, его мы не тронем, — ответил каменотес, — он слишком большой, и к тому же внутри у него живет нечистая сила. В вашем возрасте взобраться на него трудно (Дюмон старался выглядеть старше и дряхлее, чем был на самом деле), а не то вы сами увидали бы, что наверху он весь покрыт крестами и заклинаниями, которые вырезали священники, чтобы прогнать духов. В общем, хотите верьте, хотите нет, но в рождественскую ночь все эти кресты исчезают, и камень становится голый, как мое колено, но на рассвете они появляются снова. — Вы сами это видели? — спросил Дюмон, стараясь скрыть недоверие. — Я-то не видел, — ответил каменотес, — мне боязно туда ходить в недобрый час; а вот мой отец ничего не боялся — он видел все собственными глазами. — А ведунам, значит, недобрый час на руку? — Как Республика установилась, они забыли туда дорогу. Закон запрещает — они, дескать, оскорбляют Благодатную деву Разума — так зовут их новую богородицу. Но есть еще старухи, которые приходят сюда издалека, прячутся, все ищут сокровище, — только напрасно они вынюхивают, не видать им его. — Может, его и в помине нет? — Нет, оно есть, только духи глаз с него не спускают. Вам-то это наверняка известно. — Честное слово, нет. Я не хочу их злить, обхожу валун стороной. — И правильно делаете! Этот камень насылает порчу. — А вы жили неподалеку от него? — Конечно. В этой хибаре, из которой вы, говорят, сделали настоящее хорошее жилье, я не раз ночевал со стариком, вашим хозяином. Но меня, как доброго христианина, нечистая сила никогда не трогала. Знаете, а папаша Брейе будет доволен, когда получит от вас свой дом в таком хорошем виде. Вы даже очаг сложили — теперь можно ему тут жить круглый год. Раньше он не очень-то к этому стремился — стужа, да духи не раз ему сильно докучали, но теперь, когда вы скажете ему, что никакой нечистой силы не видали… Провалиться мне на месте, вы будете первый, кого они пощадили, потому что никто даже среди бела дня не ходит здесь. Эти места — от речки до Бассульского леса — слывут очень опасными; с противоположной стороны леса течет еще одна речка, так что получается участок площадью примерно в одно лье и зовется он Островом духов. Объяснив таким образом Дюмону, почему мы живет в приятном одиночестве, этот человек стал расспрашивать, откуда он родом, что поделывают его дети и какое такое увечье у старшенького. Дюмон сыпал готовыми ответами, которые мы обсудили заранее, чтобы не говорить вразнобой в случае допроса; однако он тут же понял, что опасность нам не грозит, ибо каменотес, проникнувшись доверием к такому же горемыке, как он сам, сказал ему на прощание так: — Ничего, что парень у вас изувечился, это даже счастье. Вон у меня сын здоров как бык, а я его уже с полгода прячу дома и всем твержу, что он у меня недужный. А парню тошно сидеть взаперти. Он жених у меня, а теперь даже невесту свою увидеть не может. Но что поделаешь? Если они убьют его или уморят голодом и холодом, кто тогда будет обрабатывать мою землю? — Что верно, то верно, — сказал Дюмон, — но разве вы не боитесь жандармов? — Какие жандармы! Их давно и в помине нет. — Но есть же добровольцы, которые выслеживают честных людей, чтобы перед властями выслужиться. — Да что вы! Они только прикидываются, что ищут, на самом деле у них у самих поджилки трясутся! С тех пор как господин Мийар из Кревана казнил братьев Бигю, на него пальцем показывают. Вот он и опасается возвращения роялистов, которые его по головке не погладят. Нет, всю спесь с него как ветром сдуло — теперь всем говорит, что ведем мы себя лучше не надо, что у нас одни патриоты живут, — словом, он нас оставил в покое. — А вы думаете, Республика долго не продержится? Что нового про нее слышно? — Был я на прошлой неделе в кузне возле Крозона — так мне сказали, будто королеву казнили и многих вместе с нею. Сами понимаете, такое долго продолжаться не может, придут эмигранты и казнят всех якобинцев. — Все это так, а что же враги сделают с нами, честными людьми, которые никого не убивали? Они же перережут нас, как волки овец в отаре. — Тогда будем драться из последних сил, защищать свое добро и жизнь! Дюмона так и подмывало сказать ему, что лучше не пускать врагов во Францию, чем сидеть и ждать, но он из осторожности решил не вести разговоры на политические темы. Вернувшись к нам, он подробно пересказал беседу с каменотесом. Смерть королевы поразила меня так, как, пожалуй, ни одно событие за годы революции. — Зачем было губить женщину? — недоумевала я. — Что она кому худого могла сделать? Только что своего мужа слушалась во всем и думала как он; так это ее супружеский долг. Эмильен в ответ сказал мне, что бывает и иначе, что муж повинуется своей жене. — Когда женщина обо всем судит трезвее мужчины, — говорил он, — это большая добродетель. Я считаю, что твоему будущему мужу стоит во всем с тобой советоваться. Но про королеву всегда говорили, что она хотела позвать на помощь наших врагов или увезти короля из Франции. Поэтому ему она принесла великий вред, и, быть может, она больше всех других повинна в том взрыве ярости, который породила революция. Когда головы рубят, как капустные кочаны, — это омерзительно, я всегда был против смертной казни, но раз уж в наш век философии и просвещения она все-таки существует, я полагаю, что королева заслуживает казни больше, чем несчастная служанка, которую отправляют на гильотину только за то, что у нее невзначай вырвалось слово, значение которого она даже толком не поняла. В отличие от нее, королева знала, что творила, чего хотела. О ней всегда говорили, что она женщина гордая и смелая. Должно быть, она и смерть приняла достойно, утешая себя тем, что таков удел сильных мира сего, играющих жизнями народов и ставящих на карту собственную жизнь, — просто она проиграла партию. Ты сама знаешь, что эшафот в истории — нечто вроде меры предосторожности, которую всегда держат в запасе для устрашения самодержавной власти. Тем не менее люди продолжают добиваться ее, а сейчас нет ни одного человека независимо от его политических убеждений, которого остановил бы страх перед смертной казнью.XVIII
Мы приободрились, узнав, что нашему уединению ничто не грозит, однако, услышав рассказ Дюмона о парне-дезертире, прячущемся дома, Эмильен пришел в негодование. Он осуждал людей, которые уклоняются от воинской повинности, и говорил, что на Террор он больше всего в обиде не за то, что его посадили в тюрьму, а за то, что не дали исполнить свой долг перед родиной. — Значит, вы твердо решили пойти в армию добровольцем, как только без риска для жизни сможете выйти отсюда? — спросила я. — Поступи я иначе, — ответил он вопросом на вопрос, — могла бы ты по-прежнему уважать меня? Сказать мне было нечего: Эмильен всегда был так честен и прямодушен! Я старалась привыкнуть к мысли о том, что его отъезд не за горами, чтобы не омрачать слезами нашего и без того горького расставания. Мне было ясно, что Эмильен любит меня, как никого другого, но я не допускала и мысли, что любовь ко мне можно поставить выше долга. Я с головой ушла в хозяйственные хлопоты — больше всего на свете мне хотелось, чтобы мои домашние хорошо себя чувствовали и ни в чем не нуждались. Работа приносила мне удовольствие и льстила самолюбию. Благодаря моим стараниям мужчины жили в полном достатке. Я ни о чем не забывала: стирала, чинила белье и одежду, стряпала, держала в чистоте дом, ставила и вынимала верши, резала и сушила папоротник и вереск, задавала корм козам, варила сыр, ставила «петли», иначе говоря — волосяные силки для зимней охоты на птиц. Словом, думать о будущем мне было некогда, и я была этому рада. Что касается Эмильена с Дюмоном, то они тоже не сидели сложа руки, а принялись обрабатывать арендованный нами участок. Однако он был маленький и песчаный, ни на что, кроме овощей, рассчитывать не приходилось. Кроме того, Эмильен задумал поднять новь на том берегу речки; по его мнению, там под слоем песка лежала плодородная почва. Мы не знали, чей это клочок земли, но поскольку, кроме сорняков, на ней ничего не росло и за отсутствием людей и животных ее не использовали даже под пастбище, Эмильен рассудил так: — Наверно, мы не посягнем на чужую собственность и не совершим кражи, если обработаем этот участок. Предположим, урожай будет хороший — а я в этом не сомневаюсь — и владелец участка вздумает оспаривать его у нас, — что ж, мы договоримся с ним, возьмем в долю. Он будет наверняка рад — как-никак все лучше что-то получить, чем ничего. Если же хозяин не объявите я, мы оставим ему обработанный участок, и, возможно, наш скромный опыт положит начало счастливому процветанию этого заброшенного края. Эмильен даже не предполагал, как он точно все расчислил, и с жаром взялся за работу. Сперва прополол, потом за осень перекопал землю лопатой, как следует унавозил, прорыл оросительные борозды, разбил лежащие на участке валуны. Затем засеял его ячменем, рожью и даже посеял немного пшеницы. Добытые с трудом семена Эмильен сеял аккуратными клиньями, чтобы испытать свойства почвы. В январе месяце участок покрылся зелеными побегами, так что среди сорняков, иссохших за зиму, этотчудесный ковер сверкал, как изумруд. Наше поле скоро приметили, и кое-кто из местных жителей даже рискнул прийти поглядеть на наши работы. Крестьянин, владевший этим участком, появился одним из первых и стал возмущаться. Но когда Дюмон сказал ему, что признает его право собственности и готов поделиться с ним урожаем, тот успокоился, и встреча закончилась довольно мирно. Крестьянин остался доволен, хоть и приговаривал: — Пока я вижу только корешки, но одному богу известно, какие будут вершки. — Вы боитесь, что здесь слишком холодно? — спросил его Дюмон. — Нет, вижу только, что нечистая сила не мешала вам сеять, но не знаю, позволит ли собрать урожай. — Чихать я хотел на нечистую силу, уж с ней-то я справлюсь, — заметил Дюмон. — Поживем — увидим, — ответил крестьянин, окинув старика недоверчивым взглядом. — Если вы знаете заговорное слово, тогда другое дело; но мне оно неизвестно, да я и не желаю держать его в памяти. — Так. Вы меня принимаете за колдуна! Но все же не отказываетесь от своей доли, если урожай будет таким хорошим, как обещает? — Конечно, нет! Только как мне другой урожай собрать, когда вас тут не будет? Он долго смотрел на свой зеленеющий участок, и лицо его одновременно выражало удивление, сомнение и надежду. Потом он отправился восвояси с таким озадаченным видом, словно увидел чудо. После этого о нас стали говорить, что мы дружим со злыми духами, и теперь нас сторонились пуще прежнего. Бояться нам было некого: все в страхе бежали от нас. Эмильен сердился, что по воле случая нам приходится потворствовать местному суеверию, однако последствия оказались куда благотворнее, чем он предполагал. В дальнейшем мы узнали, что после нашего отъезда жители, осмелев, все-таки решились обрабатывать землю на Острове духов и что хорошие урожаи примирили этих простаков с добрыми духами, оберегавшими наше жилище и труды наших рук. Зима в тот год выдалась сиротской, жилище у нас было теплое, и мы так привыкли не жаловаться на тяготы жизни, что перестали их замечать. Ели мы каштаны, дичь, сыр, молоко, научились обходиться без муки, а соль мы закупили в таком количестве, что у нас образовались даже запасы. Теперь нам ничего не нужно было добывать на стороне, и Дюмону больше не приходилось пускаться в опасные поездки. Последние новости, дошедшие до нас, были такие грустные, что мы предпочитали оставаться в неведении. Единственное, что нам хотелось, — это, с одной стороны, узнать, как обстоят дела в монастыре, а с другой — успокоить наших друзей, которые, очевидно, думали, что мы были брошены в тюрьму и казнены. Однако выйти из нашего убежища было слишком большим риском. Эмильен клялся, что если Дюмон или я решимся отправиться в монастырь, чтобы привезти ему весточку от Луизы, он пойдет вместе с нами. — По вашей милости, — говорил он, — я оказался в положении человека вне закона. Иначе говоря, таких, как я, отправляют на гильотину. Словом, решено! Мы либо вместе спасемся, либо вместе погибнем! Пришла весна, и погода установилась такая чудесная, что надежды распускались в нас, как цветы на кустах. Работать на участке уже не приходилось — нам оставалось лишь присматривать за всходами хлебов и овощей, посаженных около овчарни. Я починила одежду, а белье еще было вполне прочное. Вставая и ложась очень рано, мы экономили на свечах и могли бы прожить тут всю жизнь, не зная горькой нужды. Нет, мы не чувствовали, не могли чувствовать себя несчастными, ибо ни Эмильен, ни я еще не вступили в тот возраст, когда кажется, что бедам нет конца, жизнь разбита, а долго бороться с судьбой невозможно. Не отличаясь глубоким умом, Дюмон своим оракулом избрал Эмильена, а тот ежедневно удивлял меня здравыми суждениями, что было следствием его твердости и прямодушия. В обыденных делах Эмильен был по-детски наивен, в вопросах же жизненной важности разбирался трезво, как умудренный годами муж. Ему не приходилось долго размышлять, чтобы высказать то или иное суждение, столь разумное и справедливое, что нам казалось, будто мы до этого додумались одновременно с ним. Иной раз он предсказывал ход событий во Франции и за границей, и позднее, вспоминая его слова, мы считали, что это местные духи посылали ему вещие сны. Надо сказать, что из-за нашего одиночества у нас с Дюмоном не на шутку разыгралось воображение, так что любой пустяк казался нам предзнаменованием или предостережением судьбы. Не будь рядом Эмильена, умевшего остужать нашу воспаленную фантазию, мы оба повредились бы в уме. Воспоминание об ужасной гильотине не покидало меня, рождая страшные видения, но Эмильен, хладнокровно взиравший на подобные вещи, ненавязчиво возвращал меня к действительности и успокаивал. Как-то вечером я сказала ему, что стоит мне остаться одной, как в ушах сразу начинает звенеть падающий нож гильотины. — Что ж! — сказал он. — Вероятно, ты слышишь его потому, что где-то он и в самом деле падает на очередную жертву. Старайся в такие минуты обращаться к господу и повторяй: «Всеблагой отец, вот еще одной человеческой душой стало на земле меньше. Если то была добрая душа, не дай ей исчезнуть из нашей памяти. Надели нас ее мужеством и справедливостью, дабы мы, живые, творили добрые дела, которые не успела совершить она!» Видишь ли, Нанетта, дело ведь не в отрубленной голове, а в том, что всякое бессмысленное кровопролитие утяжеляет судьбу всего человечества. Людям, не попавшим под нож, гильотина причиняет большее зло» чем своим жертвам. Если бы она убивала только людей! Она убивает человеколюбие! С ее помощью народ пытаются убедить в том, что должно предать закланию его якобы дурных сынов и тем самым спасти других, почитаемых добродетельными. Вспомни, что нам говорил приор: в этом истоки инквизиции, истоки Варфоломеевской ночи, и так будет впредь при любой революции, доколе человеческими действиями управляет закон возмездия. Моисей сказал: «Око за око и зуб за зуб», а Христос поучал: «Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую, а руки воздень к кресту». Пожалуй, следует изобрести третье речение, дабы примирить меж собой первое и второе. Творить месть — значит чинить зло; покорствовать — значит мирволить ему. Нужно найти способ исправлять людей, не прибегая к наказанию, и пускать в ход оружие, которое не наносит ран. Ты улыбаешься? Так вот, Нанетта, такое оружие найдено, теперь следует лишь уразуметь, как им пользоваться: это свобода высказываний, просветляющая умы, это сила убежденности, посрамляющая братоубийственные замыслы, это мудрость и справедливость, живущие в глубине человеческого сердца; разумное воспитание развивает эти качества, невежество и фанатизм их губят. Итак, наша задача — искать правильные пути и поддерживать надежду на лучшее будущее. Нынче мы располагаем лишь варварскими методами и охотно даем им ход. Правда, от этого революция сама по себе не делается хуже, поскольку ставит своей целью превратить Францию в царство справедливости, и, возможно, Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст после стольких кровавых жертв по-прежнему мечтают о братском мире между французами. На сей счет они ошибаются, потому что грязными руками не освящают алтарь, и их методы будут преданы проклятию, ибо их восторженные последователи усвоят лишь их свирепость и никогда не проникнутся их патриотическими чувствами. Но им не удастся склонить на свою сторону большинство французов, так как желание жить в мире и оказывать взаимную помощь неистребимо в народе. Он скорее лишится свободы, чем поступится милосердием, которое именует миролюбием. Нынче якобинцы всесильны, и ты видела, какие дурацкие почести воздают они божеству, которое сами выдумали; но, поверь, их так называемое религиозное обновление недолговечно. Я абсолютно убежден, что другие партии вот-вот сокрушат могущество этих людей, а народ, охваченный ужасом перед жестокостью якобинцев и свирепостью их приспешников, скоро будет радостно приветствовать их низвержение. Кровавая месть настигнет якобинцев, и вершить ее будут во имя все того же человечества. Да, приор был тысячу раз прав, говоря, что зло порождает зло. Но настанет время, когда люди снова захотят, чтобы воцарились мир и согласие, и все безумные софизмы они принесут в жертву голосу природы. Быть может, Робеспьер в эту минуту добивается казни Дантона и тем самым губит дело своей жизни. Но попомни мои слова: года не пройдет, и на гильотину поведут самого Робеспьера. Мы вынуждены ждать, ну что ж, мы подождем! Только бы он не погубил Республику! Но если такое произойдет, мы не станем удивляться. Чтобы она возродилась, ей прежде всего надо будет стать человеколюбивой и добиться того, чтобы всякое кровопролитие в глазах людей стало бы преступлением. Когда я спросила Эмильена, как это ему, такому молодому и последнее время постоянно занятому работами в поле, удалось так глубоко постичь суть происходящих событий, которые он и видел-то краем глаза, Эмильен ответил: — Дни, проведенные в тюрьме, обернулись для меня годами. Поначалу мне казалось, что я так и умру в полном неведении, и я покорился судьбе, как человек на крыше, знающий, что неизбежно с нее сорвется. Но когда я остался наедине с тем несчастным священником, чье имя мне, да и никому другому, неизвестно и которого даже гильотинировали анонимно, беседы с ним быстро просветили мой ум. Мы с ним по-разному оценивали события, но он был такой спокойный, учтивый, образованный и достойный человек, что мне удалось постичь всю глубину его мыслей, а заодно понять самого себя, не разрушая той нежной дружбы, которую мы питали друг к другу. Будучи роялистом и католиком, он красноречиво убеждал меня в правоте своей веры, мы с ним говорили об очень серьезных материях, говорили честно и чистосердечно, и споры эти принесли мне огромную пользу. Поскольку ему были чужды наивные, пристрастные или предвзятые суждения, которые стоило бы оспаривать, он помог мне разобраться в собственной душе. Я обрел идеи, которые почитаю истинными, и они, словно маяк, светили мне сквозь мрак, окутавший нас обоих. Я стал так же спокоен, как этот священник, ни на кого не сетовал, ничему не удивлялся и ни на что не надеялся. Ощущал себя чем-то вроде высохшего листика в лесу, охваченном огромным пожаром. И вновь обрел любовь к самому себе, лишь когда увидел тебя в чердачном оконце и узнал свою Нанетту по ее песенке. Тут я вспомнил, что был некогда счастлив, что любил жизнь, и украдкой оплакал наше прекрасное прошлое, а заодно и будущее, о котором мы с тобой столько мечтали. — И. о котором нам больше мечтать не стоит? Так? — О нем я мечтаю всегда, дитя мое. Когда я выполню свой долг перед отечеством (солдат должен верить, что вернется с войны живым и невредимым), я больше с тобой не расстанусь. — Никогда? — Да, никогда, потому что ты для меня все, и в мое отсутствие я препоручу тебя самой себе. — Что это значит? — Это значит, что какие бы бури ни пронеслись над тобой без меня, ты должна остаться мужественной, здоровой, верной и жизнерадостной, дабы по возвращении я нашел бы тебя такой, какой оставил. Ты сама виновата, Нанон! Ты меня избаловала, и теперь мне без тебя не обойтись, ты научила меня быть счастливым, а это великое дело. Я был сызмальства приучен думать, что жизнь существует не для меня, что я ничего в этом мире не значу, не смею ни мечтать, ни надеяться, и, сама знаешь, я покорно исполнял предписанное. Но твои маленькие отповеди, короткие, умные рассуждения, живая любознательность, трудолюбие, простые и ясные желания, твоя безграничная, беспримерная преданность — все это возродило меня к жизни, я словно очнулся от тягостного и постыдного сна. Даже в мелочах ты пробудила во мне инстинкты, которые свойственны здоровому человеку, научила ухаживать за телом и лелеять душу. Прежде я бездумно существовал, даже ел урывками, как собачонка, мысли посещали меня редко, учился я от случая к случаю. Беспорядок и грязь в монастыре были мне безразличны. К себе-то я относился строго, но скорее по лености ума, нежели по добродетели. Ты объяснила мне, как важен во всем порядок, что значат размеренность и последовательность в суждениях. От тебя я узнал, что любое начинание следует доводить до конца и что приступать к делу можно только тогда, когда намерен его завершить. Я понял: то, что единожды полюбил, нужно любить всю жизнь. Даже наше теперешнее существование, по воле обстоятельств дикарское и трудное, ты превратила в приятные семейные будни, добилась для нас невиданного благополучия и столько вкладываешь в это стараний, что мы поневоле делим его с тобой и даже наслаждаемся им. Порою я подшучиваю над твоей хозяйственной изобретательностью, но неизменно умиляюсь тем тонким и незаметным уловкам, к которым ты прибегаешь, чтобы скрыть нашу нужду. Я восхищаюсь тобой, Нанон, — ведь хотя ты и работаешь как машина, у тебя такой живой, острый, даже изощренный ум, способный все на свете понять. И если порой я делаю вид, будто принимаю твои заботы как нечто само собой разумеющееся, не думай, Нанон, что я не способен оценить твою безграничную преданность. Ты словно полноводный источник, глубину которого невозможно измерить. Твоих забот я стою лишь оттого, что испытываю к тебе огромную, бесконечную признательность. Это чувство тоже источник, который вовеки не иссякает, и поскольку ты не ищешь иной награды, кроме как видеть меня счастливым, я постараюсь придерживаться такого образа мыслей и так чувствовать, чтобы никогда не впадать в уныние. Я хочу быть таким же упорным, как ты, Нанон, хочу сделаться таким же добрым и покладистым, и тебе будет довольно заглянуть в свою душу, чтобы понять, о чем я думаю и каков я на самом деле. Ведя такие речи, Эмильен прогуливался со мной под зазеленевшими каштанами, бросавшими свою еще прозрачную тень на весеннюю травку, пестревшую цветами. Многие из них он знал по названиям — приор кое-чему его все же научил, — и, памятуя, как Эмильен любит растения, я привезла с собой книгу по ботанике, которая была у него в монастыре. Он знакомил меня с ними по мере того, как сам учился распознавать все новые и новые цветы: на Острове духов их росло несметное множество, и нам было что изучать. Постепенно мы оценили прелесть этих растений, ибо красота мира открывается только тем, кто умеет и созерцать и сравнивать. К тому же этот причудливый край, который поначалу скорее удивлял нас, чем пленял, открылся нам во всем своем многообразии лишь весною, и, кто знает, возможно, мы оценили его потому, что были вместе и с каждым днем все сильнее любили друг друга.XIX
Как-то раз, уже более не сомневаясь в полной своей безопасности и не в силах противиться радостям первооткрытия, мы решили осмотреть окрестности и забрались в такую местность, которая, как мы рассудили по берущим в ней начало речушкам, была самой высокой в провинции Берри и граничила с нашим родным Маршем. Валунов там не было, а земля вздымалась холмами; поднявшись на один из самых высоких, поросший высоченными деревьями, мы наконец увидали всю окрестность, простертую перед нами как на ладони. Нас поразило ее однообразие. Ни единого жилища до самого горизонта, — то ли их вовсе не было, то ли они скрывались среди деревьев или в низинах, сплошь заросших кустарником. Даже бесчисленные речушки, бороздившие этот изрезанный ландшафт, — и те таились под густой листвою. Множество долин сливалось в одну большую долину, которая потом вздувалась округлыми холмами, вроде того, на котором стояли мы, и словно стремилась приблизиться к небу; но нельзя было разобрать, что там высится вдали — то ли гора, то ли лес. И на горизонте, и рядом с нами, со всех сторон все та же безлюдная местность, покрытая щедрой, обильной растительностью: гигантскими деревьями, сочной травой, розовым вереском, пурпурной наперстянкой, цветущим дроком; в низинах росли буки, повыше — каштаны; изумрудный цвет этой зелени порой сгущался вдали до синевы, а синева переходила в черноту. До нас доносился лишь птичий гомон, ни единый звук не напоминал о человеке. Нигде даже дымок не вился. — Посмотри, до чего удивительный край! — сказал мне Эмильен. — В нашем безводном и скудном Крёзе обжиты каждая мало-мальски плодородная долина, каждый клочок земли, который пощадили скалы, всюду видишь хижины, хлева, жалкие нищенские садики, где деревья согнулись в три погибели из-за постоянного ветра; а тут гляди — какой обильный, тучный чернозем! О плодородии этой земли говорят древесные чащи, каштаны, чьи рощи обновляются уже, почитай, три тысячи лет, если не больше. Ты ведь и сама знаешь, что старый каштан гибнет лишь от удара молнии. И тем не менее такой замечательный край никому во Франции не известен. Мы прожили больше полугода словно в пустыне. Люди здесь не строят жилищ, в этих бескрайних просторах не проложены даже дороги. Что же это все значит, Нанон? Ты задумывалась над этим? Ведь, разыскивая своих коз, ты наверняка не раз замечала, как огромен этот безлюдный край и как он прекрасен! — Да, я думала об этом, — ответила я, — и решила, что здешним обитателям недостает мужества и смекалки, которые свойственны нашим землякам, мыкающим нужду. Эти беррийцы — баловни судьбы: огромные каштаны кормят их целых полгода, необозримые пастбища, не знающие засух, всегда зеленые, дают им молоко; здесь пустынно, и дичь водится повсюду, — словом, они живут так, как живем мы на Острове духов, но, в отличие от нас, они по-дикарски бездеятельны. Я убеждена, что они испугались бы любых полезных новшеств, как испугался тот крестьянин, когда увидел, что вы вырастили пшеницу на его песках. — Ты права, и теперь я понимаю истинную причину этого, — промолвил Эмильен. — Они боятся злых духов! Бьюсь об заклад, что эти люди, сами того не подозревая, так и остались кельтами, ибо их нынешняя набожность не мешает им трепетать перед древними кельтскими божествами. Да, да, в этом краю мало что изменилось с тех незапамятных времен: растут те же деревья, что служили священным прибежищем таинственным жрицам-друидам, уже тысячу лет зеленеют те же травянистые ковры, обновляющиеся из года в год, ибо человек так и не посмел коснуться этой земли заступом и провести по ней межевые знаки. Земля здесь общая, а значит — ничья. Человек, очевидно, не решается завладеть ею, а уж выращивать хлеб и подавно. Он не пускает здесь корней, а боязливо делает привал. Одним словом, знаешь, Нанетта, где мы с тобою находимся? В самом сердце кельтской Галлии. Ничто тут не переменилось, вот она перед нами, такая, как была, только друидов не хватает. Да, когда я думаю обо всем этом, невольно кажется, что лучше этой древней страны, красивее и величественнее ее мы ничего нигде не видали. Как по-твоему, Нанетта? — Да, — ответила я, — весной я по-настоящему поняла, как вокруг красиво, и подумала, что мне жаль будет покидать эти места. Даже зимой, когда я впервые пришла сюда и увидела эти огромные корявые деревья, дуплистые, в уродливых наростах, без листвы, но обросшие космами мха и плюща, — даже тогда я говорила себе: «Отродясь я не видела такого величия, поистине природа возобладала здесь над человеком». Так протекали наши беседы, которые я воспроизвожу для читателя как умею, — вернее, наши размышления, которыми мы делились, гуляя по этим нехоженым, одиноким местам. Сегодня я пересказываю эти наши размышления, вероятно, лучше, чем высказывала свои мысли тогда, но не солгу, если скажу, что много разных мыслей приходило мне в голову в ту пору, когда мы жили этой удивительной, отъединенной от всего мира жизнью, меж тем как вокруг бушевал пожар, в горниле которого мужали и обретали зрелость люди, как бы простодушны они ни были. В те времена встречались двадцатилетние генералы, совершавшие поистине чудеса, и философы двадцати одного года вроде Эмильена, судившие обо всем глубоко и справедливо, и восемнадцатилетние девушки, которые, подобно мне, понимали все, что им случалось услышать. В тот день мы возвращались домой Бассульским лесом и, настроенные восторженно, в первый раз заметили, какой это удивительный лес. Его пересекал прелестный ручей, который широко растекался по болотистой ложбине, буйно заросшей травами: почва была такой жирной и влажной, что здесь вперемежку росло все что угодно. Большие деревья, подмытые водой и полегшие на землю, но все еще живые, сплошь поросли красивым папоротником; набрав силу, он перебрасывал свои молодые побеги на соседние деревья, прямые и стройные; затканные этой зеленью до самых вершин, они издали походили на величественные пышные пальмы. По высоким, сухим местам лес светлел прогалинами, которые, однако, не были делом рук человеческих; упавшие деревья и бурелом никто не убирал, всюду царило запустение. В этой части леса снова появились валуны. Иные из них вросли в стволы старых каштанов, и те, оплетая их своей древесной плотью, горделиво несли эти каменья в своем чреве, точно гигантские яйца, заносчиво демонстрируя свою силу и крепость. Но всего прекраснее лес был там, где и скал и воды было поменьше и где росли могучие буки, прямые как свечи и с такой густою листвой, что солнечные лучи, просачиваясь сквозь нее, обретали под их сенью зеленоватый оттенок лунного света. Эмильен на миг даже опешил. — Неужели уже наступила ночь? — сказал он. — Мне кажется, будто мы в заколдованном лесу. Верно, девственные леса, о которых я столько слышал, выглядят именно так, и если нам придется когда-нибудь увидеть их, мы с удивлением обнаружим, что однажды набрели на нечто подобное в самом сердце Франции. Этот чудесный лес существовал долгие годы и после Революции. Сейчас, увы, от него остался один подлесок: но хозяйство здесь весьма развилось, жителей прибавилось, и земля стоит не дешевле, и на нее не меньше охотников, чем во Фромантале. Но и по сей день еще встречаются холмы и долины, где вековые деревья дают вам полное представление о том, как выглядела древняя, не тронутая цивилизацией Галлия. Где прежде высились долмены, там сейчас раскинулись каменоломни, гигантский валун Парель изрядно выщерблен, но на дне речки по-прежнему неисчислимое множество скалистых глыб и обломков. Большой Дурдерин (искаженное название Друидерин) стоит и по сей день, а Остров духов почти не изменился. Впрочем, так его больше никто не именует, феи улетели, и путешественнику, разыскивающему их прежнее пристанище, теперь приходится справляться на соседней ферме «Яблонька», как найти дорогу к Большим валунам. Да, поэтичности поубавилось, зато суеверья рассеялись и земля не лежит в запустении. Возвращаясь с прогулки, мы весело болтали, но, подходя к дому, остановились в тревоге, увидев, что на Острове духов, на поляне, стоит Дюмон и разговаривает с двумя незнакомцами, при пиках, с красными шарфами на куртках и в шерстяных колпаках с большими кокардами. — Останемся тут, нам нельзя им показываться, — шепнула я Эмильену, увлекая его за собой в кусты. — Они пришли за вами. — И за тобой с Дюмоном, — ответил Эмильен, — так как вы прячете беглеца и дезертира. Посмотрим, что они станут делать; если попытаются увести с собой Дюмона, я с ними схвачусь. Место безлюдное, а нас двое на двое. — Нет, трое на двое, потому что я тоже в счет — буду, на худой конец, швырять в них камнями. В детстве, помню, я ловко подбивала птиц, всегда попадала в цель. Мы уже приготовились драться с пришельцами, но они спокойно простились с Дюмоном и прошли мимо, не заметив нас. — Мы еще дешево отделались, — сказал Дюмон. — Приходили представители власти, которые охотятся за сыном каменотеса. Они спрашивали меня, как пройти к его дому, и наш осмотрели сверху донизу, но ничего подозрительного не обнаружили — все у нас простое, крестьянское, а книги я спрятал, как только заметил на тропинке этих людей. Увидев три кровати, они спросили, какого возраста и пола мои дети, и я ответил как подобает. Впрочем, особенно они меня не донимали, — ведь предписания на наш счет у них не было. Судя по всему, они не очень усердствуют, когда получают приказ арестовать какого-нибудь дезертира. В этих диких краях они, видно, чувствуют себя не очень-то уверенно, а так как я указал им неправильную дорогу, теперь они наверняка заблудятся. Но все это пустяки. Главное, чтобы Эмильен не отстегивал своей деревянной ноги и не отлучался надолго из дому. — Мне стыдно этой недостойной, трусливой уловки, — сказал Эмильен, — но ради вас я готов на все. Скажи, Дюмон, тебе удалось выудить у них какие-нибудь новости? — Они сказали, что во всех больших городах нынче чистят тюрьмы, попросту говоря — всех заключенных отправляют на гильотину. Наводят, мол, порядок, любо-дорого смотреть. Без суда, без следствия — кто-нибудь донес, и первый попавшийся судья выносит приговор. Но в Берри и Марше все пока спокойно. Люди не злобствуют, доносов не строчат, а с тех пор как гильотинировали бедного священника, за которого никто не посмел вступиться, казни прекратились. Нужда так вцепилась в людей, что у них нет сил для ненависти; а страх мешает им спорить друг с другом. Больше ничего мне выведать не удалось — они и сами не очень осведомлены, а особенно любопытничать я не решался. Когда мы остались с Дюмоном наедине, он рассказал мне, что сестру короля казнили, а дофин в тюрьме. — Скроем это от Эмильена, — сказал Дюмон. — Ведь он отказывается верить, что каратели не щадят даже детей. Ему тяжко будет осознать жестокость Республики. А то еще подумает, что за него могут арестовать Луизу. — Боже мой, Дюмон, а почему бы нам самим не узнать, что с Луизой, и, если ей грозит опасность, не привезти ее сюда? Ночи сейчас ясные, но еще довольно длинные, десять лье — не велик путь, я выйду поздно вечером, до света доберусь до монастыря, отдохну там день, а следующей ночью снова в дорогу. Я одолевала и большие расстояния. Только вы объясните мне, как пройти в монастырь, вы тут каждую тропку… — Ах, Нанетта! — воскликнул Дюмон. — Вижу, ты мне больше не доверяешь. Ты думаешь, я уже ни на что не гожусь, презираешь меня, ну и поделом мне. — Не вспоминайте старое, дядюшка. Если вы и были в чем-то виноваты, я уже про это забыла. Давайте тянуть жребий, кому идти, согласны? Но ведь надо обмануть Эмильена, уйти ночью, когда он спит, чтобы к его пробуждению быть как можно дальше от дома. Вам это будет труднее, чем мне, — вы спите в одной комнате с ним, бок о бок. — Ничуть не труднее, — возразил Дюмон. — Эмильен спит крепко, как спят в его возрасте, я легко выберусь из, дому, не разбудив его. Я уже проделывал это не раз. А днем) ты ему скажешь, что я ушел по хозяйственным делам, — тебе, мол, понадобилось что-то раздобыть. Ну, а вечером скажешь; ему правду, поклянешься, что я вернусь на следующее утро, и я обещаю не подвести тебя. Конечно, Эмильен глаз не сомкнет, будет тревожиться, но лучше причинить ему беспокойство, чем подвергать опасности малышку Луизу, и он простит мне мое непослушание. Решено, и не вздумай возражать; завтра ночью я пойду в монастырь. Мне обязательно нужно это сделать, и сделать как следует; я согрешил и перестану мучиться из-за своей вины, только когда докажу себе, что я еще человек. Я не стала спорить с Дюмоном, так как знала, что Эмильен каждую ночь видит сестру во сне, и не считай он своим долгом оберегать нас от тревог, давно бы пошел на любой риск, только бы узнать, не стала ли Луиза жертвой преследований, которым подвергались все аристократы. Я притворилась очень усталой, чтобы все улеглись спать раньше обычного, и скоро услыхала, как вышел из дому Дюмон. На душе у меня было неспокойно: ведь Дюмон, может быть, отправился навстречу смерти, от этой мысли я всю ночь не сомкнула глаз. Если бы Эмильен заметил его исчезновенье, он наверняка бросился бы за ним вдогонку. Он так любил своего старого Дюмона, и я представляла себе, каким градом упреков он осыпал бы меня за то, что я позволила старику уйти одному! Но, по счастью, все обернулось для нас удачно: Дюмону не пришлось далеко идти за новостями. Решив сократить путь, он заблудился и заночевал в лесу, чтобы утром понять, куда его занесло. Оказалось, он вышел к деревушке Бонна и, подумав, что его появление может показаться подозрительным, повернул назад, так как боялся напугать нас слишком долгим отсутствием. Путешествие свое он отложил на следующую ночь, намереваясь подготовить его самым тщательным образом. Однако по дороге домой он нос к носу столкнулся с прежним сторожем из Франквиля по имени Бушеро, старым своим приятелем, человеком честным и надежным. Они обнялись, чуть не плача, и Бушеро, проведший ночь в деревне Бонна, где жила его замужняя сестра, рассказал Дюмону все, что тот стремился узнать. Маркиз де Франквиль скончался за границей, ненадолго пережив жену. О старшем его сыне не было никаких известий. Конфискованное имущество, в том числе парк и замок, продали с торгов, — их купил господин Костежу, можно сказать, даром. Там он поселил свою мать и молоденькую барышню, которую она называла своей внучатой племянницей. Особа эта очень редко показывается на людях, а местные крестьяне поговаривают, что это мадемуазель Луиза де Франквиль, повзрослевшая и очень похорошевшая. Он, Бушеро, видел ее собственными глазами в двух шагах от себя и не сомневался, что это дочь маркиза; однако тем людям, которые еще помнят Луизу маленькой противной гордячкой, сказал, что это не она. Впрочем, Луизе не угрожает никакая опасность, даже если ее вслух назовут по имени. С тех пор как господин Костежу раскрыл козни Премеля и публично изобличил Памфила в том, что тот вымогал деньги у арестованных богачей и жил на взятки, сила его и уважение к нему я куда как возросли. Господин Костежу с таким упорством разоблачал этих негодяев, что добился для них смертного приговора и отправил обоих на гильотину. Кроме того, Бушеро добавил, что если Эмильен еще находится в заключении, так господин Костежу уж непременно вскорости его освободит, потому что нет на свете человека справедливее и великодушнее, чем господин Костежу. Поначалу Дюмон не решился довериться Бушеро, он спросил старого друга, не слышал ли тот, будто Эмильен бежал из тюрьмы. Нет, никто ничего не слыхал, а заключенных повсюду было такое множество, что Эмильен, верно, затерялся при пересылках, которым то и дело подвергались арестанты, Я отвечал ему Бушеро. Правда, Памфил пытался разыскать кое-кого из тех, кто исчез, хотя имена их все еще значились в тюремных книгах, но господин Костежу избавил страну от этого злодея, и теперь к ответу призывались только те люди, которые открыто выступали против Республики или были уличены в роялистских интригах. Их ждала суровая кара, но по крайней мере теперь этими делами занимался честный человек, а не мерзавец, измышлявший несуществующие заговоры только для того, чтобы свести счеты с собственными врагами или выжать деньги из насмерть перепуганных людей, попавших под подозрение. Когда Дюмон понял, что на Бушеро можно положиться, он счел возможным все рассказать старому другу и привести его к нам. Известие о том, что Луиза находится в надежном укрытии, обрадовало Эмильена, и он передал через возвращавшегося во Франквиль Бушеро длинное письмо господину Костежу, в котором поблагодарил его, но в таких осторожных выражениях, что они никак не могли его скомпрометировать. В том же письме он спрашивал господина Костежу, нельзя ли ему, Эмильену, выбраться из своего убежища и исполнить наконец свое давнее желание, то есть пойти на военную Я службу. Спрашивал он также о том, не могут ли его друзья Я вернуться в монастырь, не претерпев при этом никаких утеснений. Ответ господина Костежу пришел к нам через неделю — его доставил все тот же достойный Бушеро, проникшийся участием к Эмильену, словно тот был ему родня.«Мой дорогой мальчик, — писал господин Костежу, — оставайтесь там, где вы есть; скоро вы сможете беспрепятственно выйти из своего убежища и выполнить долг перед родиной. Нам все еще приходится держать людей в узде и страхе, и хотя мы самым тщательным образом очистили революционные трибуналы от недостойных личностей, все же нам никак не добиться, чтобы все наши деятели были честны и разумны. При таком сложном положении ми, конечно, то и дело допускаем роковые ошибки. Пересмотр дела Премеля полностью снял с вас подозрение в преступных делах или замыслах, но у нас так много всяческих хлопот, что мне очень бы не хотелось во второй раз заниматься вашим спасением. Ведь в этом случае меня обязательно сочтут за покровителя вашего семейства. Довольно и того, что моя матушка опекает вашу сестру. Посему оставайтесь покамест невидимкой и не теряйте надежды на то, что в скором времени во Франции утвердится царство справедливости: Робеспьеру и Сен-Жюсту вот-вот удастся сокрушить врагов, и Республика, избавленная от всякой нечисти, станет той, какой должна быть, какой наши вожди хотят видеть ее, — то есть нежной матерью, любовно собирающей вокруг себя своих детей, дарующей им счастье и безопасность. Да, мой юный друг, потерпите еще несколько недель, и вы увидите, как жестоко и сурово будут наказаны предатели, вершившие гнусные преступления и пытавшиеся продать врагам и запятнать наше великое дело. По мере сил и возможностей я уже начал действовать и надеюсь, что помогу очистить нацию от презренных негодяев, подобных Памфилу и Премелю. Тогда спасенная Франция станет царством святого братства».
Затем следовал постскриптум:
«В обоих ваших друзьях никто не подозревает сообщников вашего бегства из тюрьмы, ибо история эта и по сей день не выплыла наружу. Словом, нет никаких препятствий для их возвращения в Валькрё, где гражданина приора больше не тревожат, и он спокойно живет в монастыре. Людей, принесших присягу, Республика оберегает, карая лишь священников, проповедующих с амвона гражданскую войну».
Итак, господин Костежу, человек поистине и великодушный и умный, свято веровал в то, что Робеспьер и Сен-Жюст возродят к жизни Францию, которую сами же подвергли безжалостному кровопусканию. Он надеялся, что накопившуюся великую ненависть можно разом умиротворить. Ни я, ни Дюмон не разделяли его упований и хотели одного — чтобы эта ужасная партия поскорее пала. Эмильен отмалчивался и пребывал в задумчивости. Наконец он поделился с нами своими мыслями. — Правда на вашей стороне, — сказал он, — а Костежу заблуждается. Он человек, страстно уверовавший, что служит родине, да он и впрямь служил ей не щадя живота, но ей давали такие страшные лекарства, что теперь она испускает последние вздохи на руках у этих фанатиков-костоправов. Всю нацию они расчленили на две части: на касту военных, которые, освободив своих соотечественников, их же и прижмут к ногтю; и на политиков, которые, не достигнув поставленной цели, вероятно, долгие годы будут разжигать в людях ненависть и подстрекать их к мщению. Бедная Франция! Еще и поэтому ее нужно любить и служить ей до последнего вздоха!
XX
Когда мы с Дюмоном узнали, что никто нас не разыскивает, я решила дня на три уйти из дому и проведать приора в монастыре: господин Костежу даже словом не обмолвился о его здоровье. Бушеро, конечно, тоже ничего о нем не знал. Накануне нашего отъезда его сильно донимала астма, и я беспокоилась, все так же ли хорошо ухаживает за ним Мариотта. Эмильен одобрил мое решение, и вместе с Бушеро, вызвавшимся в провожатые, я отправилась в монастырь. Пособников бегства Эмильена никто не разыскивал, я была вне подозрений, и это путешествие мне ничем не грозило. Намереваясь запастись в монастырю бельем, платьем и книгами, я оседлала осла, и мы двинулись в путь. Я не хотела, чтобы меня видели в Валькрё в мужской одежде, поэтому решила появиться там поздним вечером и отправила Бушерю вперед, наказав, чтобы Мариотта тихонько открыла мне дверь и не слишком громко удивлялась моему странному виду. Все обошлось благополучно: я незаметно проскользнула к себе в комнату, переоделась в женское платье, дабы при встрече с приором не ошеломить его своим нарядом. Мне показалось, что он сильно ослабел, хотя был по-прежнему толстый и румяный; из дому он уже не выходил и, значит, не мог приглядывать за хозяйством. Моих двоюродных братьев забрали в армию, обрабатывать землю отрядили стариков, но проку от них, конечно, не было никакого. В саду все пришло в запустение, луг вытоптали козы, — чтобы не смотреть за ними, детишки сломали заборы, сделали проходы в живой изгороди. Из своей комнаты приор видел, как опустошают сад, который при Эмильене так обильно плодоносил и был так красив. Несчастный старик в бессилии своем только раздраженно ерзал в креслах. Доставалось на орехи и Мариотте, которая, хоть и хлопотала целый день по хозяйству, не могла одна за всем приглядеть. Опустелый монастырь, казалось, осиротел, и я, бессильная что-либо изменить, даже жалела, что вернулась сюда. Приходилось смиряться и, не вмешиваясь ни во что, глядеть, как гибнет добро, доверенное нам господином Костежу. Однако, будучи человеком справедливым, последний, конечно, понимал, что не в наших силах чему бы то ни было помешать и что покинули мы монастырь не из пустой прихоти. Я пыталась внушить это приору и успокоить его, но он не унимался. — Ты думаешь, я скряга, — говорил он, — но это неправда. Мне больно смотреть на нищету крестьян, но ведь они настоящие разбойники, им бы только все портить — вот отчего я и выхожу из себя, и умру я, наверное, в припадке гнева, а разгневанному человеку отказано в благодати. Ах, Нанетта, я здесь слишком одинок и вдобавок очень болен! С тех пор как вы покинули меня, у меня не было ни одного радостного дня. Почему бы тебе не вернуться в родное гнездышко — ведь все опасности уже миновали. Неужели нельзя оставить Эмильена с Дюмоном — ты же сама говоришь, что живется им там хорошо и что скоро они смогут уйти оттуда? Неужто ты им так необходима сейчас, когда стоит чудесная погода, а им незачем прятаться? Чего теперь бояться? Брата Памфила больше нет на свете — да простит меня господь бог за то, что я порадовался его смерти. Сейчас почти все посходили с ума, но он не сумасшедший, а негодяй. Он никогда не простил бы вам то, что вы меня вызволили из темницы. Вот господь и прибрал его, вам уже ничто не грозит, а вот я умру в полном одиночестве. Ни единой родной души не будет рядом, и мне некому будет сказать перед смертью: «Прощайте! Я умираю!» Это ли не страшная кончина! — А Мариоттой, видать, вы очень недовольны? — Не то чтобы недоволен, женщина она добрая, но разговаривать с ней не о чем. По мне, так уж больно она богомольная, не ровен час, у смертного одра моего наговорит одних глупостей. Подумай, Нанон, — я знаю, долг для тебя превыше всего, вот и решай, кому больше нужна твоя поддержка, мне или Эмильену. Слова приора не на шутку огорчили меня, и хотя с дороги я буквально валилась с ног, всю ночь я не сомкнула глаз. Сердце мое разрывалось при мысли, что придется расстаться с Эмильеном: я просто не представляла себе, как буду жить без него, не заботясь о нем каждую минуту. Как-то раз он назвал меня своей матерью, — да он и впрямь был моим ребенком и вдобавок властелином моей жизни и светочем души. Никогда я не знала такого счастья, какое испытала, живя с ним в этом уединении, где он постоянно был у меня на глазах, где я могла ухаживать только за ним одним, и когда господин Костежу написал: «Скрывайтесь там еще несколько недель», сердце у меня радостно забилось при мысли о том, что впереди у меня еще несколько недель счастья. Но приор говорил правду. Жизнь Эмильена была в безопасности, и в лесу он жил лишь из осторожности. Он ни в чем не нуждался, а при случае Дюмон мог все ему принести. В кошельке у них водились деньги, и если я привезу им одежду, они могут жить припеваючи. А приор был один, болен, в глубоком унынии, и рядом с ним никого, кроме женщины, задавленной работой по хозяйству; а вдруг она тоже занедужит, умрет или ей опостылеют ее обязанности. Я видела, что, отдавая должное Мариотте, он, сам того не замечая, все время шпыняет ее, и она, конечно, обижалась на старика. Нет, безусловно, приору я была нужнее, чем Эмильену; решив служить тому, кого больше любила, я уступила влечению сердца, а не голосу совести. Утром я пошла помолиться в монастырскую часовню. Люди забыли к ней дорогу, и хотя Робеспьер упразднил культ Разума и позволил отправлять любые культы по выбору, церкви были закрыты. Никто не решался открыто сказать, что он католик, колокола конфисковали, а без них какая же это церковь для крестьянина! Из-за плохого здоровья приор служил молебны у себя в комнате. Я с трудом открыла покосившуюся дверь на заржавленных петлях. На клиросе лежала куча валежника, оберегавшего алтарь от богохульства, на которое, впрочем, жители Валькрё никогда бы не отважились. Облупившиеся своды почернели от сырости, градом побило стекла, сквозь пробоины в помещение проникли голуби и укрылись здесь от деревенских оголодавших мальчишек, которые охотились за ними, швыряя в них камнями. Голуби свили себе гнезда, радостно и дерзко гулили, но, увидев меня, чужую, испуганно захлопали крыльями. Пробравшись сквозь кучи валежника, я подошла к алтарю и в углу увидела большое распятие: оно стояло на полу, Христос был повернут лицом к стене. Его, этого друга всех страждущих, эту жертву властей предержащих, спрятали от пресловутых апостолов равенства и врагов тирании. Из часовни я вышла с тяжелым сердцем, но решение мною было принято: я остаюсь с приором. — Завтра я отправлюсь домой, — сказала я ему, — нужно предупредить друзей и попрощаться с ними. Денек я там отдохну перед дальней дорогой и вернусь в монастырь через день. Обещайте не тревожиться понапрасну — я твердо решила служить вам и ухаживать за вами, потому что, кроме меня, у вас никого нет. — Ступай, дочь моя, — ответил приор. — Господь да благословит тебя и зачтет тебе все, что ты для меня делаешь. Назавтра, как и было обговорено, я отправилась в путь, а примерно в двух лье от Острова духов простилась с Бушеро, сердечно поблагодарив за помощь. Дальше дорогу я знала хорошо и не желала надолго задерживать Бушеро, который мог понадобиться господину Костежу. Я готовилась к тягостному для меня расставанию, к безмерной печали, но знала, что Эмильен одобрит мое решение и проникнется ко мне еще большим уважением, и это придавало мне силы. Но я была далека от мысли, что на меня обрушится куда более жестокое горе. Проходя Бассульским лесом, я издали заметила Дюмона, шагавшего навстречу мне с переброшенной через плечо палкой, на конце которой болтался узелок. Казалось, он собрался в дальнюю дорогу. Я прибавила шагу. — Вы беспокоились обо мне и решили меня встретить? — спросила я старика. — Но я возвращаюсь к сроку, как обещала. — Я шел предупредить тебя, моя дорогая Нанон, чтобы ты оставалась в монастыре. Эмильен… Соберись с силами, Нанон! — Егоарестовали? — воскликнула я, едва не лишившись чувств: ноги меня не держали. — Что ты! — ответил Дюмон. — Эмильен на свободе и, слава богу, в добром здравии… Только он ушел… — В солдаты? — Да, он давно этого хотел и сказал мне так: «Я перечитал письмо господина Костежу и понял его до конца. Он сообщает мне, что личных врагов у меня больше нет, что о моем бегстве никому не известно. Но если он пишет: «оставайтесь в безвестности», это не значит, что я должен скрываться. Просто он не хочет, чтобы я компрометировал его появлением у него дома и просьбой взять меня под защиту. Но если я переберусь в другую провинцию, мы оба будем в полной безопасности, и я избавлюсь от постыдного сознания, что уклоняюсь от службы родине. В любом городе, где никто меня не знает, я предъявлю свое свидетельство о благонадежности, выданное на чужое имя господином Костежу в Шатору, и объясню властям, что закон нарушил из-за болезни и что теперь прошу отправить меня в полк. Право же, я ничем не рискую, все устрою без труда, присоединившись к армии, все равно где, и, наконец, верну себе честь и свободу». — Я хотел пойти вместе с ним, — добавил Дюмон, — но Эмильен убедил меня, что мое присутствие только помешает ему объясниться с властями: выдать меня за своего отца значит запутаться в бесполезных и лживых россказнях, а сказать, что я его слуга, значит изобличить себя в аристократическом происхождении. Он рассчитывает сойти за молодого крестьянина-сироту и привел столько веских доводов, и проявил такую твердость, что мне пришлось смириться. Но сердце у меня разрывается на части, и я пошел навстречу тебе, дочь моя, чтобы ты помогла мне пережить это горе. — А вы думаете, у меня хватит сил его вынести? — сказала я Дюмону, падая без сил на траву. — Если у вас сердце разрывается на части, то мое разбилось на куски, и я хочу одного — сию секунду умереть. Мужество изменило мне, и бедному, без того опечаленному Дюмону впервые пришлось утешать меня. Возмущаться решением Эмильена было безрассудно — я его давно предвидела и относилась к нему с тем же уважением, какое испытывала к самому Эмильену. Да, я знала, что он уйдет в солдаты, что счастью моему суждено длиться лишь короткое время, что скоро оно кончится, но как он мог уехать, не простившись со мной, как мог усомниться в моей стойкости и покорности? Это было так жестоко и так унизительно, что я даже не решилась пожаловаться Дюмону. — Пойдем, — сказала я, поднимаясь с земли. — Дело сделано, он этого хотел. Случись ему увидеть, как мы горюем из-за его отъезда, он рассердился бы на нас. Пойдем домой — сегодня у меня нет сил возвращаться в монастырь, и, говоря по правде, я хотела бы проститься с нашим Островом духов, где мы могли бы остаться хотя бы ненадолго, но жить еще более счастливо, чем раньше, потому что теперь нам не грозит никакая опасность. Но Эмильен не пожелал насладиться этими последними радостными днями. Что ж, пусть все будет как он хочет! — Вернемся на Остров духов, — подхватил Дюмон. — Соберем вещи, обсудим кое-что, но для этого нам нужно немного успокоиться. Едва мы добрались до нашей каменной хижины, как я расседлала осла, разожгла огонь, приготовила ужин, — словом, стала хлопотать по хозяйству, словно ничего не произошло. Я была спокойна, как бывают спокойны люди, охваченные беспредельным отчаянием. Я даже через силу поела, а Дюмон старался меня развлечь: рассказывал о козах и курах, которых продал, чтобы они не подохли с голоду, про какую-то тележку, которую надо купить, ибо как иначе перевезти весь наш скарб вместе с пожитками, принесенными мною из монастыря. Я разбирала вещи, решая, что взять, а что оставить; Дюмон сказал, что осел без труда довезет их до места, а дверь следует закрыть на замок и завтра же двинуться в путь — за жилье мы заплатили вперед, видеться ни с кем не надо, так что уйдем тихо, незаметно, как и пришли. После ужина, чувствуя, что мне не уснуть, я пошла на берег нашей речонки. Мы часто наведывались туда и даже протоптали тропинку, которая вилась среди скал, а вокруг пестрели красивые колокольчики с листьями как у плюща, белозоры, трифоли, росянки — мы любили эти скромные цветы, и Эмильен научил меня их распознавать. Речка часто пряталась под скалистыми глыбами и тихо журчала где-то у ног, а мы ее не видели. Заросли дубняка осеняли эту опушку нашего островка, круто обрывавшегося вниз и переходящего в овраг, скрытый от глаз; вынужденный не отлучаться далеко от дома, Эмильен любил здесь гулять со мной вечером после окончания трудового дня. Исследуя эти места, мы набрели с ним на грот, расположенный под Друидерином, менее крупным долменом, чем Парель, но по-своему замечательным, так как верхняя его часть, словно шляпка огромного гриба, крепко держалась на небольших подпорках. Мы вытащили из грота всякий мусор, так что при случае могли там спрятаться. Я вошла в этот грот и, уронив голову на руки, дала волю слезам. Никто меня здесь не слышал, а я должна была выплакаться! Но добрый Дюмон с первой минуты был так обеспокоен моим невозмутимым видом, что бросился за мной следом и, услышав мои рыдания, стал звать. — Пойдем, Нанетта, — сказал он, — не сиди в этой пещере. Поднимемся лучше на Друидерин. Смотри, какая чудесная ночь, и лучше уж любоваться звездами, чем сидеть, уткнувшись носом в землю. Мне надо рассказать тебе об очень серьезных вещах, и, кто знает, может, от них ты снова воспрянешь духом. Я покорно пошла с Дюмоном, и, когда мы уселись на алтаре друидов, он сказал: — Я хорошо понимаю, Нанетта, из-за чего ты так расстроилась. Ты плачешь потому, что он не предупредил тебя об отъезде и не попрощался с тобой? — Да, — ответила я. — Мне очень обидно и горько думать, что он считает меня бессердечной, пустоголовой девчонкой. — Послушай, Нанетта, я все тебе растолкую по-свойски, как отец дочке. Ты знаешь, что Эмильен любит тебя, потому что ты для него все равно что сестра, мать и дитя сразу. Так, во всяком случае, он сам говорит. Но известно ли тебе другое? Эмильен любит тебя, как мужчина любит женщину. Он божится, что ты об этом не догадываешься. Слова Дюмона ошеломили меня и бросили в краску. Эмильен любит меня как мужчина! Но он никогда не заикался о своей любви, да и я даже в мыслях не произносила этого слова. Я всегда думала, что он слишком уважает свою Нанетту, слишком печется о ней, чтобы сделать из нее свою любовницу. — Молчите, Дюмон, — резко сказала я. — Эмильен не мог так худо обо мне думать. Слишком часто он клялся мне в том, что уважает меня, как же я могу ему не верить! — Ты не понимаешь, Нанетта; любовь Эмильена к тебе и есть великое доказательство его уважения, потому что он хочет на тебе жениться. Неужели он про это ни словом не обмолвился? — Никогда! Наоборот, он постоянно твердил мне о том, что скорее никогда не женится, чем выберет себе невесту, которая не понравится мне или отдалит его от меня. Но чтобы он взял в жены меня, простую крестьянку, он, сын маркиза?! Да слыхано ли такое? Нет, этому не бывать, и не стоит, Дюмон, даже говорить о подобных вещах. — Маркизов больше нет, Нанетта, — продолжал Дюмон, — а если и будут снова, если аристократы и духовенство снова вернутся к власти, Эмильену нечего ждать от своего семейства. Ему придется стать монахом или крестьянином: принять постриг и с небольшим капиталом жить в монастыре или обрабатывать землю на свой страх и риск. Ты думаешь, революция исправила аристократов? Что же ты тогда сама посоветуешь своему другу? — Стать крестьянином, потому что на деле он уже сколько времени крестьянин. Вы, надеюсь, согласны со мной? — Конечно. Так вот, Эмильен сделал свой выбор уже давно, можешь мне поверить, и какой бы оборот ни приняли события, в удел младшему сыну маркиза де Франквиля достанутся тяжкий труд и бедность. Значит, ему остается надеяться только на одно счастье — жениться на любимой женщине, и так Эмильен и решил поступить. В первых же сражениях он примет, как он говорит, боевое крещение, а вернувшись, скажет тебе то, что я сейчас сказал по его поручению, то, в чем раньше он сам не мог тебе признаться. Не спрашивай почему — ты поймешь это позднее. Эмильен молод и чист душой, но он мужчина, и ему было не так легко жить бок о бок с тобой, преданной и доверчивой, и делать вид, что он так же спокоен, как и ты. Эмильен сказал мне: «Я так жить не смогу больше. В голове у меня гудит, сердце разрывается на части. Еще немного, и тогда у меня уже не хватит духу уйти отсюда, и я окажусь недостойным того счастья, которого хочу добиться себе в награду, а не получить легко и бездумно». Это, Нанетта, его собственные слова. Подумай над ними, и ты их лучше поймешь. Я тебе сказал все, чтобы ты не считала, будто Эмильен тебя чем-то унизил. Чтобы ты знала, как серьезно и глубоко он тебя любит, чтобы ты обрела силу духа и твердо верила в то, что он всегда стремился сохранить незапятнанными свои чувства. Позже я объясню, с какими чувствами выслушала я старого Дюмона, а покамест скажу лишь, что на этом месте кончается рассказ о днях моей ранней молодости. Остров духов я покидала, обливаясь слезами, но они уже были совсем не такие горькие, как пролитые накануне. Меня ждал монастырь, ждала хлопотливая, порою трудная жизнь. Но в Валькрё я вернулась с твердо поставленной целью, которую по милости судьбы мне удалось достигнуть. Рассказ об этом составит третью часть моего повествования.XXI
Можно себе представить, как обрадовался почтенный приор моему возвращению. Он не думал, что я вернусь так скоро. При виде его довольного лица я немного отвлеклась от своего горя. — Только, пожалуйста, не считайте, будто вы в долгу передо мной за то, что я вернулась в монастырь, — сказала я ему. — Ведь Эмильен уехал, и никакой жертвы с моей стороны нет. — Это большое облегчение для моей совести, — сказал приор. — И все же, дочь моя, твоя заслуга от этого не уменьшилась, ибо ты, не колеблясь, решила пожертвовать ради меня месяцами счастья с твоим другом. Слова приора бросили меня в краску, и так как глаз у него был наметанный, он сразу заметил мое смущение. — Не стыдись тех нежных дружеских чувств, которые ты питаешь к Эмильену — сказал он. — Я давно приметил, какие они искренние и сердечные; не думайте, что я так уж крепко спал, когда вечером вы читали и беседовали подле моего кресла. Я не только видел, с каким интересом вы изучаете философию и историю, но и знал, что вы любите друг друга, ни в чем не греша против нравственности и долга, — иными словами, надеетесь пожениться, когда войдете в возраст. — Нет, милый приор, я не питала никаких надежд и даже об этом не помышляла. Вспомните хорошенько, разве я когда-нибудь хоть словом обмолвилась о любви или замужестве? — Твоя правда. Эмильен тоже тебе об этом не заикался, но зато говорил мне — да, да, мне, не такой уж я эгоист и бесчувственный чурбан, чтобы судьба твоя меня не тревожила. Я твердо знаю, что у Эмильена честные намерения, знаю, что никого, кроме тебя, он в жены не возьмет, и одобряю его решение. Я с радостью увидела, что приору все известно, что можно открыть ему сердце и поделиться всеми моими мучительными сомнениями. — Послушайте, — сказала я приору, — два дня назад я тоже узнала о его благородных намерениях и, поверьте, не понимаю, как мне следует поступить. Я в полном смятении и даже потеряла сон. Теперь я легче переношу разлуку с ним, ибо солгала бы, сказав, что его любовь мне неприятна, но, право, не знаю, не испорчу ли я ему жизнь, согласившись выйти замуж за него? — Чем же ты ее испортишь? Эмильен сирота, и если отец уже не может лишить его наследства, так это сделает закон. — Вы в этом уверены? Нынче столько развелось законов! То, что сегодня постановил один, завтра отменяет другой. А если эмигранты победят и вернутся во Францию? — Тогда Эмильен, как младший сын, оказывается в том же самом положении, в каком его застала революция. — А если его брат умрет до него, не успев жениться и обзавестись детьми?.. Я и об этом уже успела подумать! — Конечно, в таком случае есть основание предполагать, что Эмильен унаследует отцовское имение. Допустим, он его даже получит. Только я не вижу, отчего ваш брак окажется помехой тому, чтобы государство вернуло деньги Эмильену за конфискованную недвижимость, если когда-нибудь сочтет нужным возмещать убытки. — Об этом я тоже думала и рассудила так: если государство продало недвижимость, то как же оно теперь может возвратить ее Эмильену? Это связано с огромными трудностями. Но вот вы сами заговорили о возмещении убытков, — разумеется, дети эмигрантов имеют на него право. Нельзя допустить, чтобы дети расплачивались за грехи своих отцов — это же несправедливо! Если Республика погибнет, Эмильену заплатят за конфискованное имущество, и тогда он сможет выгодно жениться и разбогатеть. Я не вправе мешать Эмильену хорошо устроиться в жизни, ибо какой ему прок от меня, у которой нет и никогда не будет ни сантима? Я уверена, что едва мы поженимся, такая партия ему обязательно подвернется. Конечно, он ни о чем не пожалеет и не подумает упрекать меня, но зато я буду себя корить — понимаете, я! Кроме того, у Эмильена столько родственников, двоюродных братьев, дядей, племянников, которых он покамест не знает, но обязательно узнает, как только они вернутся во Францию. Меня эти аристократы станут презирать, а его осудят. К сожалению, я права, ибо то, что Эмильен считает возможным, на самом деле невозможно; ведь, согласившись выйти за него замуж, я стану для Эмильена причиной многих огорчений и утрат, но я смогу избавить его от них, если отвечу ему отказом. Я заметила, что мои рассуждения серьезно озадачили приора, и сердце у меня сжалось от боли, так как, честно говоря, я надеялась, что он опровергнет их еще более вескими доводами. С тех пор как Дюмон рассказал мне о любви Эмильена, я только и делала, что все обдумывала и строила воздушные замки, сходя с ума от радости и дрожа от страха. Решив поделиться своими сомнениями с приором, я только на то и рассчитывала, что он рассудит все так же, как Дюмон. Однако я отчетливо увидела, что приор пришел в замешательство, ибо я без обиняков показала ему, какие последствия повлечет за собой этот брак и что наше будущее вовсе не так радужно, как ему казалось поначалу. Он сказал мне, что я девушка весьма рассудительная и даже мудрая, но эти слова, разумеется, послужили слабым утешением. Я проплакала ночь напролет и более к этому разговору не возвращалась, боясь, что мне удастся переубедить приора и я буду вынуждена принять чересчур мучительное для меня решение. Спустя неделю после моего водворения в монастыре я получила наконец от Эмильена письмо, из которого узнала, что в Орлеане его взяли в армию и он уже едет в полк. Еще через неделю пришло второе письмо.«Вот я и солдат, — писал он. — Знаю, что ты одобряешь меня, и доволен собой. Только не беспокойся обо мне. Жизнь солдата нелегка, особенно нынче, но никто не думает о трудностях, никто не жалуется и даже не замечает лишений. Люди рвутся в сражение, хотят разбить неприятеля. У нас ничего нет, кроме мужественных сердец, и они заменяют нас все. Мое же сердце вдобавок полно воспоминаний о тебе, Нанон, и мне довольно твоей любви, мой ангел, и любви к отчизне, чтобы ощущать в себе силы жить вопреки любым превратностям».
Его другие весточки были так же коротки и примерно такого же содержания. Я понимала, что ему не до писем, что у него нет самого необходимого и, прежде всего, времени. Не желая нас тревожить, он писал об усталости, о форсированных маршах и сражениях лишь во время коротких передышек, да и то вкратце и лишь для того, чтобы подчеркнуть, как он счастлив своей солдатской долей; я же читала между строк, что терпит он самые ужасные лишения и каждый день рискует жизнью. И во всех письмах неизменно была фраза о любви ко мне — одна единственная, но какая прекрасная — о твердом его намерении постоять за отчизну, а потом, вернувшись, жениться на мне. Бедный Эмильен! Ему приходилось во сто раз тяжелее, чем он писал: наши войска терпели неслыханные лишения, — нам рассказывали об этом раненые и больные солдаты, вернувшиеся домой. Сердце мое так сжималось от боли, что я задыхалась и временами со страхом думала, уж не заболела ли я астмой, как приор. Но в письмах, которые мне удавалось пересылать Эмильену, я тщательно скрывала свои душевные терзания. В этих письмах я притворялась такой же уверенной и решительной, как он, писала о своей нежности и надежде на его возвращение и не смела возражать против будущей нашей женитьбы. Мне казалось, что отказом я убью Эмильена, что не смею отнимать у него веру, которая дает ему силы в трудных военных испытаниях, но писать о своей любви к нему я тоже не смела — ведь это означало бы что-то вроде помолвки, и меня замучили бы угрызения совести. Однако я опережаю события, ибо вскоре после второго письма Эмильена, в самом начале августа, к нам в монастырь прилетела поразительная новость. Сообщил ее мне приор, получивший письмо от родственников. — Вот видишь, Нанон, — сказал старик, — не я ли предсказывал, что Робеспьер с друзьями не доведут до конца того, что замыслили? Они пускали в ход любые средства, и этими средствами уничтожили свою же цель. И вот их нет, они мертвы. Право карать всех, кто стоит на пути, обернулось против них самих. Люди, почитавшие себя более ревностными патриотами, приговорили их к смерти за то, что, по их мнению, они были чересчур мягкотелы. Чем же все это кончится?
Что можно придумать еще, чего бы не придумали они? Разве что снова ввести пытки или запалить Францию со всех концов. Прежний мэр, заходивший к нам в монастырь, очень радовался падению якобинцев. С тех пор как обезглавили короля и королеву, он, республиканец в девяностом году, стал ярым роялистом, но своими взглядами делился только с нами, так как нам лишь одним доверял, да и то говорил шепотом, — впрочем, в те времена все разговаривали вполголоса. В деревнях заглохли споры и живые беседы. Люди боялись обронить слово — не ровен час, соблазнится кто-нибудь, как нищий монеткой, и донесет на тебя. — Хотите верьте, хотите нет, — сказал нам этот славный человек, — но мне думается, что со смертью Робеспьера нашим бедам придет конец. Он был на службе у чужеземцев, торговал кровью наших солдат. — Вы заблуждаетесь, гражданин Шено, — прервал его приор. — Робеспьер был честен, и, вероятно, именно по этой причине люди похуже, чем он, и расправились с ним. Хуже, чем он, не бывает. Говорят, он был хитер и ловок. Те, которые сядут на его место, может быть, окажутся не такими ловкачами, и тогда здравомыслящие люди нас от них избавят. Таково было мнение всей коммуны. Сперва его поверяли друг другу на ухо, потом крестьяне стали собираться по пять-шесть человек и обсуждать события. Про новую систему еще не знали, из слухов, изредка доходивших до нас, мы ничего понять не могли, и тем не менее в воздухе чувствовалось обновление. Террор понемногу ослабевал, террор шел на убыль. Хорошо ли, плохо ли используют люди свободу, все равно она благо. В конце августа я получила от Эмильена третье письмо и с удивлением прочитала о том, что он как будто жалеет Робеспьера и якобинцев. Нет, любить он их не любил, но считал, что Франция становится роялистской и что армия боится предательства. Обычно такой мягкий и терпеливый, Эмильен метал громы и молнии против нынешних правителей, которые рвали друг у друга власть, не помышляя о защите отечества. По всему было видно, что теперь Эмильен сражался не только во имя своей чести; он шел в бой почти с радостью, проникшись общим ратным духом. Он сообщил мне, что за военные заслуги его даже повысили в чине, а через несколько недель Эмильен написал, что произведен в офицеры. — Смотри-ка! — воскликнул приор. — Так, глядишь, он и в генералы выйдет. Его слова заставили меня задуматься. Что ж удивительного, если Эмильен сделает блестящую военную карьеру, подобно многим другим, о которых я слышала. Тогда он перестанет думать, как на нем отразится участь аристократов: ни их крушение, ни презрительное высокомерие его не затронут. Эмильена ждет богатство, ждет слава. Стало быть, ему нельзя жениться на крестьянке! Его доброе сердце склоняется к ней, но крестьянка не должна принимать эту жертву! Сначала я очень горевала, но потом свыклась с мыслью, что, отказавшись от своего счастья, заслужу еще более глубокое уважение Эмильена, проявлю еще более бескорыстную преданность. Я не желала поддаваться слабости, разыгрывать сетующую и страдающую влюбленную. Мне казалось это недостойным; признаюсь, с тех пор как я узнала, что меня так горячо любят, я очень возгордилась. Одним словом, я решила удовольствоваться этим счастьем в жизни. Разве не довольно, что я навсегда сохраню такое прекрасное, такое сладостное воспоминание! Остаток своих дней я употреблю на то, чтобы отблагодарить Эмильена за подаренную мне радость, и буду преданно служить ему, не задумываясь над собственной долей. Как-то раз Дюмон сказал мне: — Мне нужно пойти на наш Остров духов. Говорят, на поднятой нами пустоши выросли обильные хлеба. Наш друг Бушеро, у которого в тех краях живут родичи, уже наведывался туда и собрал урожай. Владельцу участка он передал обусловленную долю, а остальные убрал в нашу каменную хижину и запер ее на замок. Тамошние крестьяне — люди очень честные, к тому же они не посмеют снять замок с нашего амбара, чтобы не прогневить духов. Но все равно надо что-то делать: через несколько дней срок нашей аренды кончается. Перевезти же сюда столько снопов нам не на чем. Пойду туда и посмотрю, не лучше ли хлеб обмолотить на месте и продать зерно. — Ступайте, — сказала я Дюмону, — вы хорошо придумали. По крайней мере вы с Эмильеном получите деньги. А я на поле не работала, мне ничего и не причитается. — Ты не работала? А кто стряпал нам обеды и ужины, кто убирал дом? Без твой помощи мы много не наработали бы. Так что эти капиталы, Нанон, мы разделим поровну: свою-то долю я отдаю Эмильену, только боюсь, что, сам того не желая… не думая… пущу их на ветер. Поэтому все три доли будешь хранить ты. — Я сделаю все, что вы хотите, — ответила я. — Сознаюсь, я очень завидую вам. Как я была бы рада увидеть наше скромное убежище, которое я покинула точно в беспамятстве, даже не попрощавшись с ним! Доставьте мне удовольствие, дядюшка Дюмон, нарвите букет цветов, которые растут на берегу речки, в том месте, где лежит большой валун, похожий на скамью. Там много цветов, которые Эмильен так любил, а на этом валуне он их рассматривал и изучал. Дюмон привез мне деньги, вырученные за наше зерно, и букет, огромный как сноп. Хотя урожаи в нашей провинции были превосходные, зерно почему-то стоило очень дорого. Дюмон отвез его на рынок и выручил триста франков в ассигнатах по три тысячи франков, которые он сразу же поменял на серебряные монеты: с каждым днем бумажные деньги падали в цене и ясно было, что скоро их никто не станет брать. Я отложила эту небольшую сумму и всю комнату убрала цветами, которые напоминали мне о прошлом счастье. Кто знает, может, я никогда не увижу Эмильена, может, его уже нет в живых в эту минуту, когда я вдыхаю аромат маленьких диких гвоздик и жимолости и передо мной возникает его образ. Я смеялась, плакала, целовала цветы, потом сделала из них букет для новобрачной. Дав волю воображению, я представляла себе, как прогуливаюсь, убранная цветами, под руку с моим другом, он ведет меня на берег реки возле монастыря и показывает мне старую иву, то место, где когда-то он сказал мне: «Посмотри на это дерево, на эту воду, затканную ирисами, на эти камни, у которых я часто забрасывал рыболовную сеть, и вспомни о том, как я клялся никогда не причинить тебе горя». И тогда я показала бы ему засушенные ивовые листочки, которые в тот самый день спрятала в карман своего фартука и с тех пор бережно хранила как драгоценную реликвию. Расставшись со своими мечтами — последней усладой, которую я себе позволила, твердо решив больше к ним не возвращаться, — я погрузилась с головой в хозяйственные хлопоты, а их было предостаточно, так как в монастыре царила разруха, и мне пришлось все взять в свои руки. Сделать это в моем возрасте было не так-то просто. Ссылаясь на жестокую нужду, которой, казалось, не будет конца, крестьяне не щадили чужого добра, и я была принуждена идти на хитрости. Произведя строгий отбор среди самых бедных жителей, я позволила им пока пасти скотину на наших угодьях, одновременно распорядившись огородить пастбище и заткнуть все лазы и дыры колючим терновником. Когда крестьяне попытались его вытащить, я потребовала, чтобы входили не иначе, как через калитку. Поначалу крестьяне огрызались, не слушались, но я, не обращая внимания на их возражения, убедила некоторых, что умею отличать действительно неимущих от тех, которые, лишь притворяясь бедняками, клянчат у меня подачки, тем самым лишая возможности помочь людям поистине обездоленным. Скоро у меня появились приверженцы, которые вместе со мной стращали мнимых бедняков и гнали их прочь со двора. Ночью эти прощелыги снова ломали ограду, но, видя, что я терпеливо заделываю дыры, отступились, уразумев, что поведение их не одобряют и что большинство на моей стороне. Постепенно я уяснила себе, кто из бедняков лодыри, терпящие нужду по собственной вине, и уговорила их гонять скотину на дальние, расположенные выше в горах, но зато более сочные пастбища, потому что наш выгон из-за неумеренного пользования изрядно оскудел. Когда, к приходу зимы, многих я устроила на хорошие работы, а некоторых подкормила, мои права на вверенную мне собственность были признаны всеми, и хозяйство стало на ноги. Господину Костежу я написала об успехах нашего молодого офицера, а также о стараниях, которые прилагаю, чтобы по мере сил служить его, господина Костежу, интересам, и он ответил, что очень доволен благородным поведением Эмильена, а что касается меня, то он и не сомневался в моей решительности.
«Какому бы страшному раззору ни подвергся монастырь, — писал господин Костежу, — это все равно ничто по сравнению с тем, что творится во Франквиле. И мне приходится терпеть эти бесчинства, так как я бываю там только наездами. Моя престарелая мать и юная воспитанница тоже бессильны унять расхитителей. Всякое вмешательство с их стороны могло бы дорого им обойтись, так как крестьянин, прежде грабивший из ненависти к богачам и аристократам, теперь стал мстить за то, что он именует преступлениями Республики. Не знаю, каковы настроения в Валькрё, да и не хочу знать: боюсь, как бы повсюду не восторжествовала стихийно роялистская реакция и как бы она не попрала агонизирующую свободу, воцарившись на обломках Чести и Родины».
Господин Костежу поручил мне передать Эмильену, что сестра его здорова и ни в чем не нуждается, а заодно просил сообщить его адрес, чтобы написать ему собственноручно. В конце письма он назвал меня «милой гражданкой» и попросил прощения за то, что так долго обращался со мной как с малым ребенком. Мое письмо, а, главное, решительность, ум и преданность убедительно доказали ему, что я достойна и уважения и дружбы с его стороны.
Письмо господина Костежу польстило мне и снова всколыхнуло желание принять любовь Эмильена. В конце концов, я тоже не первая встречная и не осрамлю его… Но моя бедность — как мне справиться с этой бедой, особенно страшной сейчас, в такие смутные и тяжелые времена? Вдруг Эмильен вернется простым офицером, не сделав карьеры, — сможет ли он тогда прокормить семью, если жена его принесет в приданое лишь свое неистощимое трудолюбие? И тут смелая мысль, внушенная, несомненно, любовью, завладела моим сознанием: а нельзя ли мне самой если не разбогатеть, то хоть бы сколотить небольшое состояние, которое позволило бы, не унижаясь и не мучаясь угрызениями совести, разделить судьбу с Эмильеном, какова бы она ни была? Я не раз слыхала рассказы о вполне достойных людях, которые благодаря сильной воле и долготерпению преуспели в делах. Сделав предварительные подсчеты, я поняла, что при нынешних низких ценах на землю можно за несколько лет не только оправдать покупку, но и утроить капитал. Теперь оставалось лишь хорошо изучить, как прибыльнее и разумнее вести хозяйство, а это было в моих силах, ибо я отлично знала, что за последние годы приносило доход крестьянам, а что было в убыток. Я посоветовалась с прежним мэром, так как приор в этих делах далеко не заглядывал, жил только сегодняшним днем. По сравнению с ним папаша Шено был куда опытнее и предусмотрительнее, но и ему недоставало смелости. Свое состояние он с трудом нажил еще при короле и в новых обстоятельствах мог бы очень и очень преуспеть. Он видел все возможности и умел указать на них другим, но сам ни на что не решался, вечно дрожа от страха, лишившись сна из-за политической смуты в нашей стране. Он с ужасом думал о том, что конфискованную недвижимость вернут их бывшим хозяевам; в такие минуты он становился демократом и сожалел, что казнили господина де Робеспьера. Я подсчитала свою наличность. За вычетом долга господину Костежу и тех денег, которые следовало ему выплатить в качестве дохода с имения, я располагала суммой, вырученной от продажи креванского зерна, деньгами за прежние и будущие уроки, которые я вновь стала давать, небольшими поступлениями от продажи молока и мяса, а также от сданной внаем части дома, поскольку мои двоюродные братья больше там не жили. Все это составило триста ливров четырнадцать су и шесть денье. И с этими-то деньгами я решила выкупить у господина Костежу монастырь со всеми угодьями, прикупить еще кой-какие участки и добиться, чтобы поместье стало столь же обширным, как при монахах, но более доходным! О своем замысле я никому не сказала: насмешки расхолаживают, а до конца доводишь только то начинание, в котором усомниться не позволяешь ни другим, ни себе. Я начала с того, что на одну треть своего капитала приобрела клочок нови, а вторую треть пустила на ее обработку, семена и унавоживание. Крестьяне решили, что я сошла с ума и не разбирая броду полезла в воду. В ту пору они отдавали земле все свое время, все силы, но только не деньги. Когда крестьяне не удобряли землю, она обходилась и без удобрения, но урожаи от этого, разумеется, страдали. Нужно было долго ждать, чтобы она стала хоть сколько-нибудь более плодородной, а я понимала, что недалек час, когда все припрятанные деньги пойдут на покупку земли, и хотела уже сейчас и приобретать ее и получать с нее доход, дабы в один прекрасный день мой капитал удвоился. Мои старания увенчались успехом — в 1795 году за этот участок мне предложили двести франков. — Не стану же я продавать землю без всякой для себя выгоды! — ответила я. — Лучше подожду! В том же 1795 году я продала участок за пятьсот восемьдесят франков. Другие участки принесли мне и того больше, но я не стану утомлять читателя подробностями. Мои современники, которые нажили состояния в те годы, знают, что успех дела зависел от того, насколько люди доверяли ходу событий. В наших деревнях таких смельчаков поначалу сыскалось не много. Во времена Конвента почти все купившие земельные участки спешили их продать и терпели значительные убытки. При Директории земли опять начали скупать, но на первых порах люди теряли на этом большие деньги, и тем не менее позднее возвращали себе утраченное. Ну, а те, что подобно мне, не испугались ни гнева, ни угроз тогдашних властей, через несколько лет получили большие и вполне законные прибыли.
XXII
Шерсть тоже оказалась для меня выгодным делом. Она была в большой цене, хоть скота и стало в избытке. Поначалу благодаря свободному выпасу на секвестрованных землях стада благоденствовали. Любой мог прокормить поголовье, выросшее вдвое, а то и втрое против прежнего, но нерачительное отношение к пастбищам недолго приносило выгоду. Травы не стало, начался падеж овец, их сбывали за бесценок. Я покупала по овце у разных людей в долг, а потом отправила все стадо в места близ Кревана, под присмотром одного обнищавшего старика, в котором обнаружила ум и энергию. Я взяла его в долю, и он, сняв в аренду хижину и пастбище неподалеку от Острова духов, обосновался там. Плата за выпас была ничтожна. Прибыль от стрижки шерсти позволила нам оплатить все расходы и даже положить в карман круглую сумму. К рождеству овцы стали ягниться, и большой приплод обещал нам новые прибыли. Занимаясь собственными делами, я в то же время наводила порядок и в поместье, находившемся в ведении приора, чем страшно удивляла господина Костежу, который величал меня в письмах «своим дорогим управителем». И правда, без меня ему от его владения не было бы никакого проку. Я-то хорошо понимала, что поместье у него великолепное, только требует денежных вложений, и настойчиво уговаривала его приехать и самому убедиться, что и как тут следует сделать. Он решился на это в разгаре зимы, еще одной суровой и трудной зимы, которой к тому же сопутствовала и подлая бесхлебица. Я говорю «подлая», потому что ее устроили перекупщики. Господин Костежу, увидев, какой прекрасный урожай мы собрали, сразу все понял и объяснил мне. Когда мы вдоволь наговорились об Эмильене, который, по его словам, писал ему письма, проникнутые пламенным патриотизмом, когда он рассказал мне, что Луиза с каждым днем хорошеет и что ее балует весь дом, я, убедившись, что господин Костежу во всех вопросах считается со мной, решилась открыться ему и доверить мой грандиозный план. Но я не стала говорить о нем как о чем-то твердо мною решенном, не выставила монастырь главной целью моих честолюбивых намерений, нет, я попросила совета в самой общей форме: возможно ли при нынешнем положении дел с пустыми руками составить себе состояние, ежели представляется такой случай, как при продаже национальных имуществ? Он внимательно выслушал меня, поглядел проницательным взглядом, расспросил про кое-какие мелочи и наконец ответил мне так: — Мой дорогой друг, ваш замысел превосходен, и нужно его воплотить в жизнь. Вам следует купить у меня монастырь со всеми угодьями. Мне не нужны барыши — я приобрел его из чистого патриотизма, и моя цель будет достигнута, если эта покупка поставит на ноги такую трудолюбивую и честную семью, как ваша. Вы должны выйти замуж за молодого Франквиля и принести ему монастырь в приданое. — Пусть так. Но мне понадобится большая рассрочка — согласитесь ли вы на нее? — Я дам вам двадцать лет на погашение долга. Надеюсь, достаточно? — Стало быть, я буду выплачивать по тысяче франков в год, не считая процентов. Да, вполне достаточно. — Мне не нужны проценты. — В таком случае наша сделка не состоится. Эмильен человек гордый — он почтет это милостыней с вашей стороны. — Хорошо. Согласен и на проценты — на два процента в год. В наших краях это обычный доход с земли, сдаваемой в аренду. — Нет, не меньше двух с половиной процентов. — Я вполне удовольствуюсь и двумя, ибо в настоящее время Франквиль не приносит мне ни одного. Просто чудо, что вы ухитрились превратить монастырское поместье в источник доходов для меня. Признаться, я несколько лет терпел одни убытки, поэтому будем считать сумму, которую вы мне сейчас вручили, первым взносом за покупку поместья. Начиная с этого дня монастырь ваш. Поскольку вы несовершеннолетняя, оформить купчую невозможно. Но достаточно и того, что мы договорились на словах, а на случай моей смерти до вашего совершеннолетия я составлю завещание и укажу, как распорядиться монастырскими угодьями. Если понадобится, в роли покупщика выступит Дюмон. Я все устрою, вы об этом не беспокойтесь… А теперь позвольте мне сказать вам, что вы ничуть мне не обязаны. Не я вам, а вы мне оказываете услугу. Я хочу вложить все свои средства во Франквильские земли — иначе они так и не станут приносить дохода. Своей работой в монастырском поместье вы меня полностью убедили в том, что его процветание зависит от долгих и непрестанных усилий. Не будь вас, мне пришлось бы на многие годы забыть о доходах с монастыря, а теперь, предложив платить проценты со вложенного капитала, вы прямо-таки снимаете камень у меня с души. Я даже боюсь, как бы условия нашего договора не оказались чересчур обременительны для вас и выгодны лишь мне одному. Подумайте хорошенько, прежде чем окончательно решиться. — Я все обдумала и взвесила заранее, — ответила я. — Буржуа смотрит на землю как на место увеселений, куда он изредка наезжает; для крестьянина же эта земля — настоящее сокровище. Он на ней живет, с нее же и кормится. У него нет ваших потребностей, ему не обязательно пышно принимать гостей и непривычно жить в довольстве и на широкую ногу. Вы сами когда-то говорили, что, прежде чем поселиться в монастыре, в нем все надо перестроить и переделать. И жизнь в этих местах обходилась бы вам очень недешево, ибо на нашей земле не родится даже то, что вам привычно видеть каждый день на столе. Мы же совсем другие люди — мы носим платья из грубого дрогета или другой домотканой материи, которые сами же и шьем, летом ходим босые, а зимою в сабо, едим репу, гречиху, каштаны и премного довольны, пьем с удовольствием кислую терновую наливку, все делаем собственными руками, не нуждаясь в помощи слуг, и только здоровеем от этого, ежедневно и ежечасно присматриваем за хозяйством, трудимся днем, что куда полезнее вашей ночной работы, по сантиму откладываем и копим, чего вы и вообразить себе не можете, — и берем у земли все, что только она в силах нам отдать. А стало быть, выплачивая вам два процента годовых, я сумею еще кое-что приберечь, чтобы возместить вам и основную сумму. Таким образом, наша сделка выгодна для обоих, и будем считать, что мы заключили ее. — Нам следует подумать о приоре, — сказал господин Костежу. — Бедняга совсем обессилел и может жить только в монастыре. Я уверен, что вы не выселите его, но уход за ним… — О, не беспокойтесь! Это я возьму на себя. — Но, милая Нанетта, у вас появится лишний расход. Не лучше ли пустить проценты, которые вы решили платить мне, на содержание приора? — В этом нет никакой нужды. — Но это было бы для вас подспорьем. Вы затеваете большое дело, почти ничего не имея за душой… — Представим себе, что я затеваю это дело с больным отцом на руках, — естественно, что в графу расходов входило бы и его содержание, и при нужде я экономила бы на собственной еде, только чтобы он был сыт. Мне это нетрудно, как, впрочем, и многим другим людям. — Но я тоже вправе считать приора как бы престарелым и немощным своим родителем, о котором обязан заботиться. Послушайте, Нанетта, добрая вы душа, почему бы мне не разделить с вами это приятное занятие? Скажем, при жизни приора вы будете выплачивать мне один процент. Да, решено, я так хочу, и таково мое последнее слово. Нашу сделку мы договорились держать в тайне. Я не хотела посвящать в нее даже приора, дабы не ущемить его самолюбия: ведь он все еще считал себя монастырским экономом, поскольку писал по моей просьбе кое-какие деловые бумаги, хотя я сама составила бы их лучше и быстрее. Про купчую я рассказала одному Дюмону, и старик так обрадовался, что, желая освободить меня от нескольких годовых взносов, тут же решил вручить господину Костежу три тысячи франков — свои сбережения, которые он хранил в банке, принадлежащем брату нашего друга. Для этого нужно было обменяться расписками, что я и сделала, считая себя не вправе мешать нашему достойному другу частично обеспечить будущее Эмильена, так как старик все делал для него. Я тоже хотела нашу купчую оформить на имя Эмильена, но господин Костежу ни за что не согласился. — Мало ли что может случиться, — сказал он. — Конечно, молодой Франквиль — честнейший малый и к тому же, как я убедился, весьма работящий, но не знаю, обладает ли он вашим разумом и упорством. Это поместье будет процветать только в ваших руках, и, заключая договор с вами одной, я предусмотрительно и заботливо действую в интересах Эмильена. Когда я накормила господина Костежу лучшим ужином, какой только могла приготовить из наших запасов, и когда приор с Дюмоном ушли, меж нами завязался разговор, не на шутку озадачивший меня. Началось с того, что я безо всякой задней мысли спросила господина Костежу, не улучшился ли характер у нашей Луизы. — Милый друг, — ответил он, — она так и останется сумасбродкой, и мне искренне жаль ее мужа, которому придется терпеть ее чудачества… Дай бог, чтобы он оказался умнее ее и обладал твердостью, которая редко свойственна женщинам. Вы, дорогая, исключение, счастливое исключение, потому что вы ни мужчина, ни женщина, а замечательное сочетание того и другого, вобравшее в себя лучшие качества обоих полов. Луиза де Франквиль — женщина, настоящая женщина, обладающая всеми прельстительными качествами и причудами, которые порождает в ней собственная слабость. Но в слабости кроется большое обаяние. Ведь не потому ли мы так часто всем сердцем прилепляемся к детям и покорствуем их тирании, что нам приятно ее терпеть. Скажу вам больше: при той жизни, которую я веду уже два года, жизни, преисполненной яростной борьбы, когда подчас приходится применять не только власть, но и насилие, когда моя природная благожелательность находится в жестоком и мучительном конфликте с постоянным недоверием, неотрывным от моего политического долга, — повторяю, при такой жизни я порой ощущал неодолимое желание забыться в лоне семьи, из террориста стать жертвой террора пичужки с острым клювом. Мои слуги мне слепо преданы, мать, чудесная женщина, смотрит на мир моими глазами, она не наденет нового чепца, не переменит табакерки, не спросив у меня совета. Я веду жизнь очень суровую: своим благонравием якобинцы как бы протестуют против развращенности золотой молодежи и преступного попустительства жирондистов. После напряженных политических разбирательств и бурных споров я попадаю в домашнее уединение и жажду найти там тирана, который подчинил бы себе мою волю и навязал бы свою; роль этого тирана взяла на себя Луиза. Будучи кокеткой от рождения, она задирает и дразнит меня, принуждая забыть все на свете и заниматься безраздельно ею одной. Она мне перечит, дерзит, осыпает меня насмешками, иногда даже оскорбляет и ранит мое самолюбие. Я проявляю неслыханное терпение, чтобы она раскаялась в своей неблагодарности и попросила прощение за несправедливость, и, в общем, всегда одерживаю верх в этом поединке, который, без конца возобновляясь, держит меня в напряжении, терзает и вместе приносит радость. Но эти чувства совсем другого рода, нежели политические треволнения. Мне необходимо отвлечься от размышлений об общем деле, которое сейчас серьезно скомпрометировано, а быть может, и совсем погибло! — Расскажите мне обэтом подробнее, господин Костежу, а после мы вернемся к разговору о Луизе. Прежде всего я хотела бы понять, почему вы считаете, что все погибло. Не вы ли совсем недавно были полны надежд, говорили и писали нам: «Еще несколько недель упорных усилий и суровых мер — и во Франции утвердится царство справедливости и братства». Неужели вы действительно считали, что найдете общий язык с колеблющимися, которых вы так запугали, и роялистами, которых столько мучили? Я убеждена, что люди никогда не прощают тем, кто держал их в страхе. — Я это знаю, — живо отозвался он, — даже слишком хорошо теперь знаю. Умеренные нас ненавидят еще более яростно, чем роялисты, ибо последние отнюдь не трусы. Напротив, они выказывают такую доблесть, на которую мы считали их давно неспособными. Одеваясь нелепо и вызывающе, усвоив женственные ужимки, только чтобы отличаться от нас, они называют себя «раздушенными щеголями» и «золотой молодежью». Теперь они взяли моду разгуливать по Парижу, с притворной беспечностью размахивая толстенными палками, и каждый день затевают с патриотами кровавые баталии. Они жестоки, еще более жестоки, чем мы! Они убивают на улицах и дорогах, устраивают резню в тюрьмах, сеют анархию своими преступлениями, пороками, развратом, вооруженными грабежами. Они надеются, что, перерезав горло Республике, восстановят монархию, они готовы перерезать горло Франции, лишь бы завладеть ею, не задумываясь о цене. — Увы, господин Костежу, — ответила я, — хотя я и знаю, что вы так не думали, но как вы действовали? Насилие стало оправданием насилия. Вам оно претило, но ваши друзья наслаждались им, и вам это известно не хуже, чем мне: теперь все знают, что они творили в Нанте, Лионе и других городах. Да, вы облекли ужасной властью чудовищ, а прозрели слишком поздно и теперь расплачиваетесь за это. Народ ненавидит якобинцев, потому что они тиранствовали над всеми, и ему дела нет до теперешних роялистов, которые борются только с вами. А если они совершают те же преступления, что и ваша партия, если убивают невинных и обрекают кровавой резне заключенных в тюрьмах, то у нас их действия объясняют так: эти люди хотят сокрушить террор, который заразил их своим примером, а ради достижения этой цели хороши любые средства. Разве сами вы этого не проповедовали, разве не считали, что во имя чистоты Республики следует уничтожить три четверти Франции, с помощью либо эшафота, войны или депортаций, либо нищеты, от которой погибло еще больше народа. Не сердитесь на мои слова и, если я ошибаюсь, опровергните их; но я просто передаю вам то, что слышала от крестьян, которым не нашлась, что ответить. Я видела, что ему больно слушать такие речи; сперва он молчал, потом вдруг заговорил так же гневно и запальчиво, как когда-то в Лиможе в разгар Террора. — Да! — воскликнул господин Костежу. — Таков наш удел! На наши головы обрушиваются упреки, проклятия за все, что было совершено постыдного во имя Революции. Я знаю, знаю, нас назовут негодяями, тиранами, хищным зверьем, а мы хотели одного — спасти Францию. Вот оно, возмездие! Ради народа мы пожертвовали всем, ради него насиловали собственную природу, были безжалостны и беззастенчивы, ради народа, бесконечно почитаемого нами, задавили в себе человеческие порывы, пренебрегали репутацией и даже гражданской совестью — и теперь этот народ платит враждой за нашу преданность! Он, не раздумывая, выдаст нас жестоким врагам, а в будущем проклянет наши имена и возненавидит в нашем лице само священное имя Республика. Вот какая награда ожидает нас за то, что мы пытались создать общество, основанное на братском равенстве, и веру, осененную Разумом! — Вы этому удивляетесь, господин Костежу, только потому, что сердце у вас человеколюбивое, а ум полон лишь мыслями о Республике. Но на двух-трех ваших единоверцев приходится три-четыре тысячи человек, если не больше, которые помышляли только о том, как бы дать ход своей застарелой зависти и всегдашней ненависти к аристократам… Ах, позвольте мне высказаться до конца: я вовсе не собираюсь нападать на тех, кого вы цените, хорошо знаете, в ком не сомневаетесь. Допустим, что на знаменах вашей партии не были написаны слова «ненависть» и «месть», вам виднее! Но я твердо знаю, что если бы вы вершили эту революцию, не науськивая людей друг на друга, ваше дело увенчалось бы победой. Поначалу революция встречала отклик в наших душах, мы ее приветствовали и помогали ей по мере сил. И вы, несомненно, укрепили бы ее, если бы не прибегли к преследованиям и ко всем тем мерам, которые смутили простого человека. Вы полагали, что все эти меры были необходимы. Но, увы, вы ошиблись, и сейчас, убедившись в своем заблуждении, пытаетесь себя утешить, говоря, что снисходительность и терпимость погубили бы дело. Но как вы можете это утверждать, если никогда не проявляли терпимости? Нет, это ваша ярость, ваш гнев все погубили, но вы не способны смириться, как смирялись мы, простые смертные, которые никого не ненавидели и не обижали. Господин Костежу хотел мне возразить, но когда он сердился, губы у него дрожали, как часто бывает с людьми вспыльчивыми, но добросердечными. Я же решила высказать ему все, что накопилось у меня на душе, чтобы, в случае если мои мысли показались бы ему оскорбительными, он мог расторгнуть нашу сделку. — Вы хотите возразить мне, — продолжала я, — что как раз возмущение народа и заразило вас, заставив прибегнуть к карательным мерам, дабы отомстить за долгие годы его страшной и мучительной нищеты. Я не раз слыхала, как наши крестьяне сожалели о том, что все вы, ученые, умные люди, идете на поводу у парижан и вообще жителей больших городов, потому что и сами вы горожане. Вы думаете, что изучили крестьян, хотя знаете только мастеровых из предместий и с городских окраин, да и в этой среде, полукрестьянской-полуремесленной, отличаете лишь тех, кто умеет громко кричать и возмущаться. Большего вы не требуете; вы полагаете, что можете на них рассчитывать, когда, подстрекая один другого, они сбиваются на улице в стадо. Вы не видите их потом, обсуждающих дома то, что, сами того не ведая, они натворили. Вы разговариваете только со своими прихвостнями, которые жаждут что-нибудь получить от вас: выгодную должность, деньги или то, что эти честолюбцы предпочитают всему — возможность властвовать над другими. Все это я видела собственными глазами; видела в Шатору, как встречали представителей парижских властей, а Дюмон не раз слыхал, как потом честили этих выскочек. Да что там говорить, они как свита, как придворные окружают вас, республиканских вождей, чтобы выклянчить какую-нибудь подачку, и, будь на вашем месте владетельный князь или архиепископ, кричали бы так же громко и льстили бы так же беззастенчиво. И хотя вы куда умнее нас, все-таки вас обвели вокруг пальца эти интриганы из простонародья, с которыми вы не без отвращения обедали за одним столом, вынося их лишь потому, что они вам твердили: «Я ручаюсь за свою улицу, за свое предместье, за свой цех». Они надували вас, стараясь набить себе цену и сделаться необходимыми. Но их ручательства ничего не стоили, и вы убедились в этом, когда, выведенные из себя их мошенничеством и жестокостью, принуждены были покарать негодяев, ибо таково было требование справедливости, живущее и в вашем сердце и в сердце возмущенного народа. Вот в чем заключалась ваша беда и беда ваших друзей, господин Костежу; вы думали, что знаете народ, а знали лишь его подонков. Вы спознались с самыми дурными и гнусными выходцами из народа и полагали, что он весь состоит из таких же мстительных и жестокосердных людей. Словом, вы трудитесь ради ублажения худших и даже не подозреваете, как вас порицают лучшие. Вы обзываете этих лучших трусами и плохими патриотами только потому, что они не ходят в красных колпаках, не говорят вам «ты» и не подлащиваются к вам. Я же утверждаю, что как раз эти умеренные, которых вы так яростно презираете, куда более горячие патриоты, нежели ваши приверженцы, ибо они терпели вас, лишь бы не повредить защите нашего отечества. Вам следовало бы знать, следовало бы прислушиваться к тому, Что люди говорят шепотом, но именно это вам неизвестно, ибо вы оглушены велеречивыми заявлениями и патриотическими воплями. Вы поняли это, когда, к сожалению, было уже поздно. Нынче болтуны и злодеи из вражеской партии вытесняют вас, занимая ваши места, а народ молча и сумрачно следит за тем, как они расправляются с вами. Сегодня вам опять приходится подсчитывать своих сторонников, и вы с удивлением обнаруживаете, что большинство против вас! Вы утверждаете, что народ труслив и неблагодарен. Я вышла из этого несчастного народа, и я люблю вас и обязана вам жизнью Эмильена, то есть гораздо большим, чем собственной жизнью, — так вот, я говорю: ночь застала вас врасплох в дремучем лесу, вы заблудились и во тьме приняли тернистую тропинку за торную дорогу. Чтобы выбраться из чащи, вам надо было расправиться с волками, но, когда наступило утро, вы с изумлением увидели, что идете не вперед, а пятитесь назад, и что ваши спутники — дикие звери, меж тем как люди в большинстве своем пошли совсем в другую сторону. Теперь роялистам и карты в руки. Они хуже, чем вы, не отрицаю, но злодействами им не перещеголять вас. Они заведут своих льстецов, своих интриганов и наемных убийц, свой собственный мир негодяев, которые обведут их вокруг пальца, как когда-то обвели вас. Но и они окажутся банкротами в свой черед. Кто же останется в барыше? Да первый встречный — лишь бы при нем окончилась гражданская война и люди спокойно зажили у себя дома, не боясь, что на них донесут, что их посадят в тюрьму или гильотинируют на рассвете. Это произойдет не потому, что вокруг одни приспешники короля или жиронды, трусы или эгоисты, и даже не потому, что все хотят покоя. Ведь в армии хватало храбрых солдат, ибо цель была благородна, а долг ясен. Люди устали от вечных подозрений и взаимной ненависти, от зрелища гибели невинных и невозможности им помочь. Кроме того, людям надоело бездельничать. Для крестьянина эта праздность — настоящая мука, и никакая ваша помощь, никакие льготы или подачки не утешат его, как и не возместят ущерб от потерянного времени. Крестьянин по-настоящему мужествен, у него доброе, открытое сердце, к которому вы не нашли ключа. У него немало недостатков, но я скажу вам так, как сказал бы он сам: когда бы сложить в одну кучу все, что есть доброго и великодушного в сердце каждого крестьянина, выросла бы целая гора, перед которой вы содрогнулись бы от ужаса, ибо не желали ее видеть, а теперь уже не можете уничтожить. Я говорила с большим воодушевлением, то прохаживаясь по комнате и вороша угли в камине, то берясь за свою работу, то снова ее бросая. Против воли разволновавшись, я не поднимала глаз на господина Костежу, боясь, что сконфужусь и не доведу свои рассуждения до конца. Думаю, что я сумела бы еще кое-что ему высказать, но, видно, терпение его лопнуло. Он поднялся, взял меня за руку и, сжав до боли, воскликнул: — Замолчи, крестьянка! Неужто ты не видишь, что твои слова ранят меня в самое сердце?XXIII
— Я метила не в ваше сердце, — сказала я. — Для этого я слишком люблю и ценю вас. Но мне бы хотелось покончить с ложью, в сети которой вы ненароком угодили. — Ты считаешь ложными такие понятия, как родина, свобода, справедливость? — О нет, не их, а вашу знаменитую идею насчет того, что цель оправдывает средства. Господин Костежу прошел в дальний угол залы, но сдаваться не собирался. Он сидел глубоко задумавшись, потом снова подошел ко мне: — А что, ты действительно горячо любишь молодого Франквиля? — Право, не знаю, что значит слово «горячо». Просто я люблю его больше самой себя, вот и все, что могу сказать. — А не могла бы ты полюбить другого, меня, к примеру? Я была так ошеломлена, что ничего не ответила. — Не удивляйся, — продолжал он, — я хочу жениться, уехать из Франции, бросить политику. Луизе я ничего не должен — отдам ей замок ее предков, и она поделит с Эмильеном это скудное наследство. Они снова станут господами над крестьянами, — те ведь только и мечтают снова стать рабами… Но полно об этом! Меня воротит и от них, и от горожан, и от всего на свете. Я ненавижу аристократов, и тебе тоже следовало бы их ненавидеть, потому что Эмильен не сможет и не захочет жениться на тебе, если во Франции опять восстановится монархия. По рождению я не больше аристократ, чем ты, и своим состоянием обязан только отцовским трудам да своим собственным. Не бойся, Нанетта, я в тебя не влюблен! Если бы я уступил влечению сердца, я полюбил бы Луизу. Но я знаю, что она маленькая ветреница, а ты обладаешь и глубоким умом и замечательным характером. Ты достаточно хороша собой, чтобы пробудить в мужчине желание, и если ты не оттолкнешь меня, я с легкостью забуду все и вся, кроме тебя. Погоди, не торопись с ответом, подумай: утро вечера мудренее. Став моей женой, ты сможешь лучше помочь Эмильену, чем мечтая выйти замуж за него. Ты знаешь, я его очень люблю; вдвоем с тобою мы сумели бы обеспечить ему приличное существование, и я позволил бы тебе относиться к Эмильену как к брату, не стал бы ревновать — никто не смеет оскорблять ревностью воплощение душевной прямоты… Мужчина, женившийся на Луизе, должен забыть, что такое покой, а тот, кому ты скажешь «да», может рассчитывать на тебя, как на господа бога. А это, в свой черед, означает, что он оценит тебя по заслугам… Молчи! Подожди до завтра! Довольно споров и обвинений. За тобою решение и твоей судьбы и моей. Он взял свечу и быстро ушел, даже не взглянув на меня. Я была потрясена его речью, но она не поколебала моей решимости. Даже если бы я чувствовала к нему сердечную склонность, все равно я поняла бы, что он безумно влюблен в Луизу, а на мне хочет жениться только затем, чтобы исцелиться от этой страсти. Но он мог бы и не справиться с собой — и как я была бы с ним несчастлива! Господин Костежу отличался неуравновешенным, горячим нравом и всегда бросался из одной крайности в другую. Конечно, он заслуживал самой глубокой привязанности, однако эта привязанность обернулась бы, возможно, несчастьем для нас обоих. Одним словом, я не пришла в восторг от его предложения. Понимая, насколько он выше меня по образованию и многим талантам, я одновременно понимала, что характер у него слабый и нерешительный. Его припадки гневливости ни капельки не испугали бы меня, но внутреннее смятение незамедлительно передалось бы мне, а я не люблю смятения, ибо оно означает неуверенность. Нет, простодушный и прямой в своих намерениях Эмильен гораздо больше был достоин моих забот и привязанности. Его характер не таил для меня никаких загадок, а каждое слово, точно небесный свет, проникало в душу. Он, конечно, никогда не сколотил бы себе состояния, как господин Костежу: в этой жизни Эмильен довольствовался столь малым! Мне пришлось бы заботиться о житейских вещах, тогда как он приобщал бы меня к понятиям возвышенным. И потом, только его одного я любила, любила всю свою жизнь и не смогла бы, сколько ни старалась, полюбить другого даже вполовину. На следующее утро господин Костежу, собиравшийся уехать из монастыря, увидел, что, подавая ему завтрак, я веду себя так же спокойно, как всегда, и не пытаюсь остаться с ним наедине. Поняв, что я не переменила решения, он, очевидно, стал раскаиваться во вчерашней своей откровенности. — Вчера вечером я совсем не владел собой, — сказал он, — вы разбередили мне сердце своими речами; в них много верного, но они несправедливы по существу, так как вы полагаете, что нынешнее наше положение — дело наших же рук, тогда как выбирать нам не приходилось. Увлекшись спором, я невольно выболтал тайну, которую до сих пор хранил в глубине сердца, и, по-глупому досадуя за это на себя, еще сильнее терзая и без того растравленную душу, невольно наговорил вам, словно в беспамятстве, всяких глупостей; не будь вы особой столь благоразумной и великодушной, вы стали бы надо мной смеяться… Могу ли я надеяться, что вы никому ничего не расскажете, даже Эмильену?.. В особенности Эмильену? — Мне даже в голову не пришло бы вызывать вас на подобный разговор, а вы затеяли его необдуманно и сгоряча, поэтому я не обязана сообщать о нем Эмильену. Считайте, что я забуду вашу исповедь столь же быстро, сколь скоропалительно вы решились на нее. — Спасибо вам, Нанетта; я полагаюсь на ваше слово. Быть может, настанет день, когда я приду к молодому Франквилю просить руки его сестры, и если бы вы рассказали ему о моих сомнениях, боюсь, он не встретил бы с радостью мое предложение. Эмильен более серьезен, чем я, потому что наивен. Он не понял бы меня. — Вы правы, господин Костежу, и давайте забудем о ваших сомнениях. Если вы действительно любите Луизу, вы поможете ей избавиться от маленьких недостатков, которые, между прочим, слишком поощряете. Вы сами это признаете. Заставьте ее полюбить вас — в глазах любящей женщины мужчина всегда прав и его слово — закон. А теперь, сударь, подумаем еще раз о той сделке, которую мы только что заключили. Если она вас не совсем устраивает… — Она меня полностью устраивает, дело сделано, и я об этом нисколько не жалею. И уверяю вас, Нанетта, никогда я не был вам таким верным другом, как сейчас, и никогда так не гордился вашим расположением. Он сердечно пожал мне руку, а когда за столом появился приор, стал живо и с насмешливой покорностью обстоятельствам повествовать о том, что творится в Париже, и, слушая его, мы только качали головой от удивления. Господин Костежу рассказал, что пока мы тут все еще не могли прийти в себя от прошлых тревог, сражались с каждодневной нуждой и лишениями и с опаской размышляли о будущем, высший свет веселился напропалую и совсем обезумел от наслаждений. Он поведал нам о празднествах, которые устраивали госпожа Тальен и госпожа Богарне, о греческих тюниках этих дам, о «балах жертв», где кланялись друг с другом, мимически изображая, как падает голова с плеч, где танцевали женщины в белых платьях с траурным поясом и коротко остриженные — такая прическа именовалась «гильотиной» — и куда приглашали только тех, у кого хотя бы один родственник погиб на эшафоте. Эти увеселения показались мне такими свирепыми и зловеще-мрачными, что я со страху всю ночь напролет видела кошмары. Я скорее посочувствовала бы собраниям роялистов, на которых они справляли бы печальную тризну, обливаясь слезами и вспоминая павших или клянясь отомстить за убитых; но плясать на могилах родных и друзей — это представлялось мне каким-то бредом, и ликующие парижане страшили мое воображение еще больше, чем парижане, теснящиеся вокруг лобного места. Пока высший свет предавался столь циничному веселью, наши несчастные и доблестные армии победили Голландию. В первых числах февраля 1795 года я получила письмо от Эмильена, который писал: «Сегодня, января 20 дня, мы вошли в Амстердам, вошли разутые и раздетые, прикрывая наготу соломенными повязками, но не теряя стройности рядов и под звуки оркестра. Мы нагрянули нежданно, и к нашей встрече тут были не готовы. Шесть часов мы проторчали в снегу, пока Наконец нас не накормили и не распределили по казармам. Однако даже слабый ропот не вырвался из груди наших героических солдат, и побежденные с восхищением смотрели на нас! Ах, друг мой, грудь распирает от гордости, когда ведешь в бой таких молодцов или думаешь, что составляешь частицу этой армии, где нашла себе прибежище чистая, возвышенная душа заблудшей, истерзанной Франции, где никто не преследует своих корыстных интересов, а каждый живет лишь страстной любовью к Республике и отечеству! Как я счастлив, что люблю тебя и после стольких неслыханных страданий, перенесенных легко и безболезненно, чувствую себя достойным твоей любви. Не жалей своего друга, будь тоже счастлива и знай, что, как только наступит мир, он придет искать свою награду в твоих объятьях. Скажи папаше Дюмону, что я по-прежнему привязан к нему, а Мариотте, что крепко ее целую. Скажи нашему милому приору, что не проходило дня или часа в моих военных испытаниях, когда бы я не вспомнил его мудрые слова. Терпя холод, голод и усталость, я твердил себе: «Натворили много зла, а от зла рождается только зло. Но нужно сделать все, чтобы добро воскресло к жизни. Ради этого стоит страдать, и солдат — это искупительная жертва, которая примирит небеса с Францией»». Потом шла приписка: «Чуть было не забыл сообщить вам, что за успешно проведенную операцию при Дюрене меня тут же, на поле боя, произвели в капитаны». Это письмо мы читали вчетвером — приор, Дюмон, Мариотта и я, — плача от радости и печали. Эмильен не писал о том, когда вернется, и нас терзал страх, что на его долю выпадут новые страдания и новые опасности. Но Эмильен хотел, чтобы мы не роптали и гордились его самоотверженностью, и мы изо всех сил старались скрыть горе и выказывать только радость. Благодаря нашим заботам приор легко перенес эту суровую зиму, но с наступлением весны внезапно заболел. Я не отходила от него ни на шаг, ни о чем больше не думая и не заботясь. Я сказала себе: пусть все хозяйство идет прахом, лишь бы приор был под неусыпным присмотром. Его болезнь принадлежала к числу тех недугов, когда мужество оставляет человека. Он не чувствовал себя немощным, хорошо ел и даже мог бы ходить, если бы его не мучили приступы удушья. Из-за них он впадал в гневливость и раздражение, а потом в глубокое уныние. В эти минуты только я одна и умела его утешить. Как-то раз, когда астма отпустила его, он заставил меня пойти прогуляться, и, воспользовавшись этим, я решила проведать другую больную, бедную женщину, которая жила довольно далеко и в которой я принимала участие. Туда и обратно я шла очень быстро, но дни еще были короткие, и хотя я отправилась в полдень, ночь меня застала в лесу. В нем водились волки, поэтому я обрадовалась, услышав голоса людей, идущих по большой лесной дороге, — я же шла окольным путем к опушке. И вот я надумала пойти за ними следом, — это оградило бы меня от хищников. Однако путники были не из нашей деревни, ибо шли совсем в другом направлении, а мне, довольно взрослой девице, не подобало разгуливать по лесу с незнакомцами. Поэтому я скользила за ними совершенно бесшумно. Их голоса отчетливо долетали до меня, и я разобрала несколько слов, в том числе — «приор», «монастырь Валькрё», «полночь». Я насторожилась, прибавила шагу, по-прежнему не выдавая своего присутствия, и скоро очутилась на таком расстоянии, что слышала уже каждое слово. Они остановились, и хотя в ночной темноте я не могла их разглядеть сквозь сплетения веток, но по голосам поняла, что их трое. Они поджидали своих приятелей, и те не преминули появиться, а потом пришли еще какие-то люди. Все держались очень таинственно, разговаривали только вполголоса, называли друг друга странными кличками — «Ищейка», «Пороховой картуз», «Обмани смерть», — так что в конце концов я сообразила, что передо мной, наверное, заговорщики. К тому же они сыпали словами и выражениями, напоминавшими воровской жаргон. Тем не менее я поняла, вернее, догадалась, о чем идет речь: передо мной была шайка разбойников, которые, прикидываясь роялистами, совершали ночные набеги на замки и фермы, истязали людей, отнимали у них деньги. Об этих злодеях часто говорили в наших краях и смертельно их боялись. Рассказывали, что они невероятно зверствуют и совершают дерзкие грабежи. Нас столько лет подряд пугали разбойниками, которые так и не появлялись, что я перестала в них верить. И вот случай столкнул меня нос к носу с грозной опасностью. Их было семеро — слишком мало, по их мнению, для набега на аббатство, а ныне ферму, Больё, где жило много народу и была надежная охрана. В Валькрё же, говорили они, только и есть, что старый приор, двое пожилых работников и две женщины. Осведомлены они были отлично, хотя и не брали в расчет Дюмона, а это говорило о том, что никто из нашей общины не затесался в их компанию. Я с радостью отметила это. Напасть на монастырь, конечно, было проще простого, только чем стоящим они могли там поживиться? О сбережениях приора не ведал никто, а все деньги монахов были переданы Республике. Стало быть, им предстояло лишь удовольствие разграбить имение якобинца Костежу. Один из них, правда, с пеной у рта доказывал, что у приора припрятаны денежки. Разбойник утверждал, что такие люди, как приор, гораздо хитрее Республики и всегда умели кое-что утаивать от нее. Судя по всему, церковников и якобинцев он ставил на одну доску. С ним, по-видимому, согласились и другие, ибо теперь заговорили о том, как пробраться в монастырь. Решено было, что двое из этих головорезов вечером появятся у нас под видом нищих и попросятся переночевать в сарае. В полночь они откроют ворота другим: как я поняла, они отлично знали, что проломы в стенах заделаны, а перелезть через ограду нелегко. Покамест разбойники решили поужинать у здешнего лесника, который, как оказалось, был «свой человек», их сообщник и укрыватель краденого. Я поняла, что нельзя терять ни минуты, иначе они и впрямь приведут в исполнение свой блистательный план. Но, стараясь незаметно выбраться из укрытия, в темноте я споткнулась о пень и с шумом растянулась. Те сразу же замолчали, и я услышала, как щелкнули курки их ружей. Я лежала на земле ни жива ни мертва. Они шарили в двух шагах от меня, и я уже думала, что пробил мой последний час — злодеи не щадили тех, кто ненароком узнавал об их тайных замыслах. Но, по счастью, они меня не нашли и решили, что с дерева сорвался высохший сук. Воспользовавшись тем, что они с шумом двинулись по большаку, я побежала со всех ног. Однако все тропинки вели к этому самому большаку, где я могла опять столкнуться с ними, поэтому, продираясь сквозь густой кустарник, я уже не понимала, куда забрела, и добрых полчаса блуждала вслепую, боясь, что иду назад и вот-вот напорюсь на разбойников. Набив себе о деревья изрядное количество шишек и в кровь исцарапавшись о колючий терновник, я выбралась на опушку и, перебежав через пустошь, набрела наконец на дорогу в Валькрё. Хотя было довольно холодно, домой я прибежала вся в поту и так запыхалась, что сперва не могла ничего толком объяснить. Первым делом я кинулась к нашему бывшему мэру, которого два дня назад опять избрали на эту должность, и рассказала ему о моем приключении. Он знал, что я не робкого десятка и не фантазерка, поэтому приказал полевому сторожу немедленно собрать народ и предупредить об опасности, которая грозит монастырю. В Валькрё сильных мужчин не было: всю молодежь забрали в армию, но старики отличались смелостью; узнав, что бандитов всего семеро, они решили их поймать, предполагая, что в эту банду входят и отпетые негодяи из нашей округи, а их ненавидели куда больше, чем пришлых. Каждый вооружился чем бог послал: у кого сохранились еще старые ружья, утаенные от конфискации, кроме того, у крестьян были пресловутые пики и алебарды, взятые в монастыре еще в 1789 году и составлявшие основное вооружение наших представителей национальной гвардии. Мне поручили приветливо встретить мнимых нищих и не мешать им в полночь открыть ворота. Мы условились, что двадцать крестьян спрячутся в канаве вокруг чудотворного источника и еще десяток укроется в монастырской часовне, так что разбойники будут взяты в кольцо. Потом я поспешила предупредить приора и уговорила его не высовывать нос из спальни, которую, по моему поручению, сторожили Дюмон с Мариоттой; в качестве оружия на случай нападения Мариотта со смехом поставила за дверью огромный вертел. Двое работников бодрствовали на кухне, а я отправилась к воротам, чтобы встретить самозваных нищих, которые не преминули явиться; я их впустила, не выказав ни малейшего недоверия. Я спросила, не накормить ли их; они ответили, что есть не хотят, но очень устали, так как прошли пешком много лье, и теперь им только бы соснуть. Я провела их в сарай, и они разлеглись на куче папоротника, точно их и впрямь сморила усталость. Я упрашивала наших друзей из деревни пробираться в часовню по одному и в полном молчании. Но все мои просьбы были тщетны: они стали перешептываться, и скоро я заметила, что разбойники не спят, оба встревожены и выбираются потихоньку во двор осмотреться. Когда пробило одиннадцать, все приготовления наших защитников были закончены. В это время, к нашему удивлению, на башне начали ухать совы. Я — прислушалась и сразу сказала: — Никакие это не совы. Те перекликнутся и сразу умолкают. Не сомневаюсь, что двое наших разбойников забрались на чердак и предупреждают товарищей, чтобы те не подходили к монастырю, потому что в нем полно охраны. Не удивлюсь, если они сейчас сделают попытку выбраться отсюда и присоединиться к своим. — В таком случае, — ответили мои защитники, — надо их подкараулить, неожиданно напасть и взять под стражу. Все это мы и проделали без особого труда, так как разбойники, не сопротивляясь, сразу же сдались нам, притворившись, будто не могут взять в толк, в чем их обвиняют. Мы посадили обоих в монастырский карцер, лишив их возможности подать знак сообщникам; впрочем, они и не пытались этого сделать, так как это их выдало бы с головой. Возня с ними заняла примерно час, и, когда пробило полночь, все уже стояли по своим местам. Мы приоткрыли ворота и в течение десяти минут старались не шевелиться и не разговаривать. Я укрылась на башенке брата-привратника, чтобы при случае швырять камнями в нападающих, так как ждала настоящего сражения и не желала, чтобы мои друзья рисковали, а я оставалась в стороне. Внезапно я почуяла запах гари и, выглянув в амбразуру, выходившую во двор, увидела, что из сарая клубами валит дым. Разбойники, то ли умышленно, то ли по недосмотру, подожгли его при выходе. Я мгновенно предупредила людей в часовне. Мы быстро потушили пожар, а крестьяне, засевшие в канаве у фонтана, собрались все до единого у ворот, отказавшись от первоначального замысла захватить шайку врасплох. Но остальные разбойники так и не посмели появиться, только прислали двух дозорных, и когда крестьяне кинулись к ним, те, повернув, так пришпорили лошадей, что скоро исчезли в темноте. Мы были пешие, а они на отличных конях, так что нам пришлось отказаться от погони и поимки. Наша конная охрана искала их несколько ночей напролет, но так и вернулась ни с чем. Они, конечно, были напуганы и больше не появились ни у нас в монастыре, ни в округе. Наших пленников мы препроводили в Шамбон, где их подвергли допросу. Один из них все отрицал и божился, что если ненароком и поджег сарай, раскуривая трубку, то понятия не имел об этом и ему не в чем оправдываться или виниться. Другой прикинулся дурачком и вообще не отвечал ни на один вопрос. При обыске у них нашли огромные ножи наподобие кинжалов; больше ничто не изобличало их злодейского намерения. Разбойников продержали в тюрьме довольно долго, все пытались узнать, кто они такие, да так ничего и не добились. Потом их судили как бродяг и заключили на несколько месяцев в Лиможскую тюрьму.XXIV
Об этом я узнала значительно позже, так как нападение на нас, по счастью, предотвращенное, повлекло за собой последствия другого рода и очень серьезные. Хотя мы сделали все, чтобы успокоить приора, он не на шутку перепугался, и на следующий день у него сделалась лихорадка, начался бред. Мне пришлось неотлучно быть при нем три ночи напролет, хотя я и сама чувствовала сильное недомогание, причины которого не понимала: вроде бы и страха я особого не натерпелась, разве что в лесу, когда меня чуть было не обнаружили разбойники, и потом, когда боялась, что опоздаю в монастырь и не смогу предотвратить набег. К тому же я так захлопоталась после бегства разбойников, что начисто забыла и свой испуг и усталость. Я готова была в лепешку разбиться, лишь бы накормить и напоить тех, кто столь бескорыстно вызвался нам помочь. Они съели все мои запасы сыра, выпили терновую наливку и пели до утра в просторной монастырской трапезной — словом, как водится у крестьян, все приготовления к баталии и ожидание ее закончились пиром. Я надеялась, что эти простодушные, щемящие сердце песни развлекут приора и развеют охватившее его беспокойство. Ничего подобного: он упрямо твердил, что в монастыре бражничают разбойники и что скоро они начнут его пытать и отнимут деньги. — Господь с вами, — увещевала я приора, не зная, какие бы еще доводы ему привести, — даже если бы они забрались к нам и хотели нас ограбить, зачем им, скажите на милость, нас мучить? Мы сразу, не сопротивляясь, отдали бы им то немногое, что есть в доме, и мне невдомек, отчего вы так изводитесь из-за своих крошечных сбережений, — право же, они не стоят того, чтобы ради них терпеть муки. — Мои сбережения! — воскликнул приор, пытаясь вскочить с постели. — Нет, не бывать этому! Мое достояние, мое единственное сокровище! Да мне оно теперь милее жизни! Нет, никогда этому не бывать. Пусть меня замучают до смерти, ни сантима им не отдам. Пусть возведут на костер, я готов к казни! Жгите меня, режьте на куски, негодяи, делайте свое черное дело — не скажу, где мои деньги, ни за что! Приор угомонился только утром, а вечером опять начались крики, бред, страхи, возмущение. Врач нашел, что он в очень плохом состоянии, а следующей ночью ему стало еще хуже. Я изо всех сил старалась его успокоить, но он не слушал и даже не узнавал меня. Врач велел мне лечь в постель, так как, по его словам, я сильно изменилась с лица и вид у меня был совсем больной. — Я вовсе не больна, — ответила я. — Лучше, пожалуйста, займитесь несчастным приором, он так страдает! Едва я сказала эти слова, как упала без чувств, словно подкошенная, и меня перенесли в мою комнату. Я ничего этого не помню — лежала без сил, без сознания, ни о чем не думала и ничто меня не тревожило. Я хотела только одного — спать, спать, спать — и страдала лишь, когда меня осматривал врач и задавал вопросы. Для меня это было тягчайшее испытание, непосильное напряжение. Так я пролежала целую неделю. У меня началось грудное воспаление, единственная моя болезнь, но такая серьезная, что никто не надеялся на мое выздоровление. Я так же внезапно пришла в себя, как и лишилась чувств, хотя не сразу поняла, на каком я свете. С большим трудом я вспомнила, что со мной произошло. В горячке мне чудилось, что приор умер, и я даже не видела, как его хоронили: потом на его месте был Эмильен, потом я сама. Наконец я узнала Дюмона, стоящего у моей постели, и спросила, что со мной. — Вы спасены, — сказал он. — А остальные? — Остальные тоже чувствуют себя хорошо. — А Эмильен? — От него хорошие вести. Наконец заключили мир. — А приор? — Лучше, значительно лучше! — Как Мариотта? — Вот она. — Ах да! А кто же ухаживает за приором?.. — За ним? Он поправляется. Я сейчас вернусь к нему, спите и ни о чем не беспокойтесь. Я снова заснула, а проснувшись, почувствовала, что силы возвращаются ко мне. Болезнь продолжалась не так уж долго, и я еще не успела совсем ослабнуть. Скоро я уже могла сидеть в креслах и даже хотела пойти проведать приора, но меня к нему не пустили. — Но если он так прекрасно себя чувствует, — спросила я Дюмона, — почему же он не навестит меня? — Врач запретил вести с вами разговоры, потерпите еще денек-другой. Сделайте это для ваших друзей, которые так беспокоились о вас. Я подчинилась им, но на следующий день, чувствуя, что без особых усилий могу пройтись по комнате, подошла к окну и бросила взгляд на окно приора. Оно было закрыто, что никак не вязалось с привычками больного астмой, который даже в холодные ночи не позволял затворять его. — Дюмон! — воскликнула я. — Вы меня обманываете!.. Приор… — Вот вы опять беспокоитесь! — ответил он. — Смотрите, снова заболеете! Вы же обещали потерпеть несколько дней. Я снова села, стараясь скрыть тревогу; Дюмон, желая уверить меня, что идет к приору, оставил при мне Мариотту, которую я не хотела расспрашивать. Пришла пора кормить меня, Мариотта ушла варить суп и тогда, оказавшись без присмотра и не в силах дольше мучиться сомнениями, я выскользнула из комнаты и, держась за стены, добралась до кельи приора, расположенной в конце небольшой галереи. Распахнутая настежь дверь, кровать без полога, перевернутые и сложенные вдвое матрасы, чисто выметенный пол, большое кожаное кресло, придвинутое к стене, убранная в шкаф одежда, не выветрившийся запах погребального ладана — все говорило о печальном событии. Тут я вспомнила, что из соседней комнаты, когда-то занимаемой Эмильеном, видно кладбище. Я пошла туда и, выглянув в окно, увидела почти у самой калитки совсем свежую могилу с некрашеным деревянным крестом, на котором не было никакой надписи; большой зеленый венок, висевший на кресте, уже чуть-чуть пожелтел. Вот и все, что осталось от моего дорогого больного, которого я с таким упорством отвоевывала у смерти! Пока я сама боролась с ней, она завладела приором. А я ничего не знала… Разве что мой лихорадочный бред явился доподлинным отражением того, что происходило в тот час на самом деле. Я вернулась к себе подавленная, и у меня снова случился приступ лихорадки, по счастью, не очень серьезный. Слезы хлынули из глаз, и мне стало немного легче, но сердце мое обливалось кровью при мысли, что я не услышала от моего старого друга прощальных слов и отеческого благословения. Когда я полностью оправилась от болезни, мне наконец рассказали в подробностях, как умер приор. Сначала ему стало значительно лучше, а потом он спокойно заснул вечным сном. Это несчастье произошло в тот момент, когда и моя жизнь висела на волоске. Он все звал меня, от него утаивали мое состояние, однако пришлось все же сказать ему, что я занемогла. Тогда, поманив к себе Дюмона, он сообщил ему свою последнюю волю. — Если вы хорошо себя чувствуете, — добавил Дюмон, — и в состоянии пережить новое потрясение, которое, конечно, лишь усугубит вашу печаль о кончине приора, то послушайте меня. Думая, что у господина приора только очень скудные сбережения, и зная, как он ими дорожит, вы всегда старались кормить его трудами собственных рук и не позволяли ему истратить ни сантима. На самом же деле он был богат — четыре года назад я привез из его родного городка его долю наследства, которая ему причиталась, — ни мало ни много двадцать пять тысяч франков. Я пообещал никому не рассказывать об этом и сдержал слово. Я также знал, как он собирался употребить свои деньги; ведь когда к нам нагрянули разбойники, он так боялся и беспокоился не из-за себя, а из-за вас, Нанетта, из-за своей наследницы. Теперь щедротами приора вы богаты, даже слишком богаты для Эмильена, за которого без всяких колебаний можете выходить замуж. «Эти дети меня спасли, — говорил мне приор. — Они вызволили меня из темницы, где я оставил свое здоровье, а не будь их, оставил бы там и свою жизнь. И вот теперь она сама уходит, но не зовите священников, не хочу слушать их дурацкую болтовню. Обойдусь без них — я сам исповедуюсь господу богу, в которого верую, тогда как большинство церковнослужителей давно уже изверились. Надеюсь, что умру в полном согласии с ним, и если в жизни я погрешил в чем-нибудь, постараюсь замолить свои грехи этим добрым делом. Я сделаю богатыми обоих детей, которые меня любили, холили, утешали, старались продлить мои дни, в особенности Нанетта. Она была ангелом для меня, настоящим ангелом-хранителем! Ради меня она принесла немало жертв и достойна того дара, который я подношу ей. Только ее я назначаю своей наследницей, ибо знаю, что она любит Эмильена и выйдет за него замуж. Нанетта умница и сумеет найти хорошее применение моим деньгам. Когда вы закроете мне глаза, сразу же возьмите из-под подушки бумажник. Там лежит письменный приказ о выплате известной вам суммы, которая лежит в лиможском банке брата господина Костежу. Мое завещание, помеченное тем самым днем, когда вы привезли мне эти деньги, я вручил господину Костежу, но не сказал, сколько и кому завещано. Вы отвезете к нему Нанетту, и он поможет ей вступить в права наследства». — Я сказал приору, — продолжал Дюмон, — что у него есть родные, и, вероятно, он не имеет права лишать их наследства. На это он ответил, что никого не обделяет; его братья и сестры в течение сорока лет, пока он жил в монастыре, проживавшие его доходы, честно предложили не только выделить его долю наследства, но и возместить растраченное; приор отказался от этого предложения с условием, что, умри он первым, они ни на что не станут притязать. У него есть бумага, подтверждающая их согласие, а честность его родственников служит дополнительной гарантией. Словом, приор сказал, что все бумаги лежат в бумажнике, и действительно, я их там и нашел. Не дожидаясь вашего выздоровления, я написал господину Костежу, который немедленно мне ответил; сегодня вечером он будет здесь и введет вас по владение наследством, собственноручно оформив необходимые бумаги. Он спросит вас, как вы желаете употребить ваш капитал, и вам надо это решить. Дорогой Дюмон, — ответила я ему, — сейчас я не могу думать об этом. Мне хочется только плакать и вспоминать моего бедного ушедшего друга, которого я даже не могу поблагодарить за такую заботу обо мне! — Ты отблагодаришь его в своих молитвах, — сказал Дюмон, считавший меня уже женой Эмильена и потому старавшийся говорить мне «вы». Но время от времени он по привычке переходил на «ты», чем доставлял мне только удовольствие, — Я никогда не был особенно богомольным, — добавил он, — но верю, что души усопших нас слышат, и ночью мне кажется, что я все еще беседую с нашим дорогим приором и что он мне отвечает. — Я тоже, Дюмон, вижу его, слышу его голос и утешаюсь только тем, что и он видит и слышит меня. Я надеюсь, он знает, что его последний вздох я не приняла не по своей вине, и видит, как я его оплакиваю, люблю и отдала бы все свое наследство за то, чтобы он был вместе с нами! — А я уверен, — сказал Дюмон, — что душа приора радуется оттого, что он обеспечил будущее своих милых детей. Верите ли, за час до кончины он поцеловал меня и сказал: «Вот мое благословение Нанетте и Эмильену». Слушая Дюмона, я обливалась слезами, и он, боясь, как бы болезнь не вернулась, увел меня в сад. Погода была уже совсем теплая, и мм гуляли, пока в скором времени не появился господин Костежу, который, предложив мне руку, провел меня в дом и вообще выказал большое участие. С собой он привез не только завещание, но и деньги, так что я разом стала обладательницей двадцати пяти тысяч франков. Когда я была уже в силах говорить о делах, то в ответ на его вопросы сказала, что желаю незамедлительно расплатиться за недвижимость, которую он мне продал. — Пожалуй, не стоит торопиться, — заметил он. — Ваш капитал в банке моего брата приносит вам шесть процентов годовых. Так не лучше ли платить мне два процента, аостальные пустить на расширение хозяйства? — Я поступлю так, как вы мне посоветуете, — согласилась я. — У меня уже нет сил что-либо решать самой. — Ничего, это пройдет, — сказал он, — и вы поймете, какой добрый совет я вам дал. Вы такая бережливая и работящая, что и не заметите, как расплатитесь со мной, а поместье ваше между тем понемножку разрастется, так что через каких-нибудь двадцать лет цена его увеличится втрое, а то и вчетверо. Помните, что процент, выплачиваемый мне, будет уменьшаться вместе с вашим долгом. Но об этом мы поговорим завтра. А сегодня давайте потолкуем об Эмильене. Собираетесь ли вы извещать его о перемене в вашем положении? — Ни в коем случае, господин Костежу! Я хочу предоставить ему благородную возможность взять меня бесприданницей! Кто знает, возможно, бедность моя явится камнем преткновения для его женитьбы. — Нет, не думайте о нем так плохо! Я хорошо знаю Эмильена, душа его обитает в сферах более возвышенных, она чужда мелочных расчетов. Деньги в его глазах не имеют цены: Эмильен похож на святого евангельских времен, но, на его счастье, вы обладаете практической жилкой, в будущем вам придется думать за двоих. Выходите за Эмильена замуж и занимайтесь делами — вот вы и принесете ему счастье. Все же я настояла на том, чтобы Эмильена оставили в неведении. Мне хотелось сделать ему приятный сюрприз, когда он вернется, так как я хорошо знала, что деньги, разумеется, его не интересуют, но к монастырю он испытывает подлинную привязанность и потому будет счастлив поселиться в нем навсегда. Словом, мы договорились, что сообщим ему лишь о смерти приора и о том нежном благословении, которое он послал Эмильену на смертном одре. Видя, что я еще не оправилась от своей болезни и тоски по приору, господин Костежу предложил мне навестить Луизу де Франквиль. — Дороги туда всего несколько часов, — сказал он, — езда развеет ваши грустные мысли, да и перемена обстановки тоже. К тому же ваш долг перед Эмильеном собственными глазами удостовериться в том, какими заботами окружена его сестра и в каком цветущем здоровье пребывает. До сего времени вы не могли сами, в этом убедиться, так что для начала употребите вашу нынешнюю свободу на визит к Луизе. Я согласилась погостить денек во Франквиле, решив взять С собой Дюмона, чтобы избавить господина Костежу от необходимости провожать меня в монастырь, и на следующее утро мы тронулись в путь. Дорогой господин Костежу много мне рассказывал о Луизе, вернее — только о ней и рассказывал. Я поняла, что он все пуще влюбляется в нее и втайне мечтает повести ее под венец, хотя она и корчит кислые гримаски по поводу его плебейского происхождения. Я спросила, знает ли Луиза о планах Эмильена на мой счет. — Нет, — ответил господин Костежу, — она даже о них не подозревает. Вы сами решите, стоит ли ее подготовить к тому, что вскоре должно свершиться. Я чистосердечно призналась господину Костежу, что очень боюсь, как бы Луиза не встретила меня высокомерно или даже с презрением. — Вы ее не узнаете, — заметил господин Костежу. — От болезненного, озлобленного ребенка, какой вы ее знали, не осталось и следа. Она поняла неодолимость происшедших событий и смирилась с ними. Ее ненависть к революции — просто игра, детская забава, кокетство со мной, если хотите. Дай-то бог! — Так оно и есть. Луиза хочет, чтобы я любил ее, и своим поведением как бы твердит мне о том, что за счастье быть ею любимым я должен заплатить, покорно снося ее язвительные выходки, впрочем, мы уже давно не касаемся политики. Мне интересно узнать, как она отнесется к вашему предполагаемому браку с ее братом, но если вам неприятно говорить об этом, мы ничего ей не скажем. — Я сама это решу в зависимости от того, как сложатся обстоятельства, — ответила я. — Еще неизвестно, как она меня встретит. Скоро мы уже подъезжали ко Франквилю, и сердце мое учащенно забилось, когда я впервые увидела места, где мой милый Эмильен провел свое детство. Я выглядывала из окошка кареты, жадно рассматривая эту местность и ее обитателей. Передо мной мелькали холмы и овраги, совсем как в родном Валькрё. Правда, замок стоял в долине более открытой и приветливой, чем та, где раскинулся наш монастырь. Земля здесь была хорошо возделана и, судя по всему, плодородна, крестьяне, по виду отнюдь не бедные, держались довольно заносчиво и недружелюбно. — Да, ужиться с этими людьми нелегко, — сказал господин Костежу. — Они страстно интересуются политикой, да только смыслят в ней меньше, чем ваши крестьяне. У них и вполовину нет того здравого смысла, что отличает жителей Валькрё, а честность никак не причислишь к их добродетелям. Но винить в этом надо не их, а обитателей замка, его многочисленную и развращенную челядь. Покойный маркиз совершенно не заботился о тех, кого именовал смердами, он предпочитал охотиться на волков и вепрей в своих лесах — в этом деле он знал толк, а крестьяне для него были вроде собак. Во время своих кратких наездов он проводил время в охоте или пирах, и хотя жители ненавидели маркиза, все же радовались его появлению в замке, ибо барский стол и барские забавы были неплохим источником доходов. Ничто так не развращает крестьянина, как возможность извлечь выгоду из подобострастного повиновения господину, которого он ни в грош не ставит. Но вот мы уже почти дома. Не судите о состоянии замка по его внешнему виду. Мы снесли несколько башенок и флюгеров с гербами, тем не менее замок по-прежнему очень красив. Но внутри эти милые крестьяне еще в восемьдесят девятом году все изрядно попортили и изгадили, а теперь они же бранят нас за то, что мы сняли эти гербы и сбили короны с голубятен. В самом деле, прихожая производила удручающее впечатление. Нам пришлось пробираться сквозь настоящие развалины, чтобы добраться до парадной гостиной, не окончательно обезображенной и разрушенной, хотя стекла в ней были выбиты, а двери сорваны с петель. Оконные переплеты, изувеченные топором, висели скособочившись; замечательные гобелены, сорванные со стен, валялись клочьями на полу. От скульптурных украшений на огромном камине остались одни обломки, так же, как, впрочем, от великолепной золоченой лепки на потолке. Куски дорогих рам, вдребезги разбитые зеркала, до неузнаваемости изуродованные вещи свидетельствовали о том, что разрушали все, чего нельзя было унести с собою. «И они еще сетуют на революцию! — думала я. — По-моему, они лихо сумели воспользоваться дарованной им свободой!» По узкой лесенке господин Костежу провел меня в башню, меньше пострадавшую от разрушений, где он сумел устроить удобное и красивое жилище для своей матери и Луизы. Тут нас и приняла с изысканной учтивостью и добротой госпожа Костежу. Она знала и мою историю и историю Дюмона, именовала его гражданином и уговаривала побыть с нами, но он, сложив в уголок сверток с моими пожитками и поднеся госпоже Костежу корзину с отборными фруктами, приготовленными мною для наших хозяев, скромно удалился. — Надеюсь, вы отобедаете с нами, — сказала ему старая дама. Дюмон растроганно поблагодарил ее, однако он хорошо помнил, что прежде был неприметным слугой в этом замке, в каком-то смысле снова принадлежащем мадемуазель де Франквиль, и отлично сознавал, что хотя в монастыре обедал с ней за одним столом, здесь она не потерпит подобного равенства. Сославшись на то, что торопится обнять старых деревенских друзей, Дюмон ушел, и больше мы его не видали. Я с нетерпением поджидала Луизу. — Она просит извинить ее, — сказала нам госпожа Костежу, — но спуститься к вам сейчас не может. Луиза целый день сидела неодетая, что вовсе не в ее правилах, но сегодня на нее обрушилась новость, поразившая ее как громом, которую я должна незамедлительно сообщить. Ее старший брат, маркиз де Франквиль, воевавший против Франции, убит на дуэли. Подробностей нам покамест не сообщили, но известие это совершенно доподлинное, и Луиза, хотя и знавшая своего преступного брата скорее понаслышке, весьма удручена его гибелью, что, согласитесь, вполне естественно. — Так, так! — воскликнул господин Костежу, глядя на меня. — Стало быть, теперь Эмильен глава семьи и может все решать сам. Он вправе действовать, как ему заблагорассудится, не боясь, что его воле воспротивятся или станут упрекать за излишнюю самостоятельность. У него остаются лишь дальние родственники, которые не принимали в его судьбе никакого участия и, даст бог, не вздумают в дальнейшем интересоваться им. «Но у него есть Луиза, — подумала я, опуская глаза. — Возможно, именно она восстанет против нашего брака решительнее, чем все семейство Франквилей вместе взятое».XXV
Наконец появилась Луиза, в глубоком трауре, прекрасная как ангел. Сначала она протянула руку господину Костежу и сказала: — Вы, конечно, знаете, что на меня обрушилась новая беда? Он поцеловал ей руку и ответил: — Тем более мы будем стараться заменить вам тех, кого вы утратили. Она поблагодарила его печальной и очаровательной улыбкой, а затем повернулась ко мне, грациозная и доброжелательная, но без капли сердечной теплоты. — Моя милая Нанетта, — сказала она, подставляя мне свой белоснежный лоб, — поцелуй меня, пожалуйста… Я очень рада, что ты навестила меня. Право, даже не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты сделала для моего брата. Мне все известно: ты много раз спасала Эмильена от смерти, пряча его у себя и всякий раз рискуя жизнью. Ах, как мы, преследуемые аристократы, счастливы, что еще не перевелись во Франции преданные души! А что Дюмон? Кажется, и он сделал для Эмильена не меньше добра, чем ты? — Безусловно, — ответила я. — Не будь прежде всего господина Костежу, а затем Дюмона, мне вряд ли удалось бы что-нибудь сделать. — Как он поживает, бедняга? Мы, что же, его не увидим? — Нет, он обязательно появится, — ответил господин Костежу, — но обед уже нас ждет, а гостья наша наверняка проголодалась. Он предложил руку Луизе, и мы спустились в столовую. За обедом прислуживали два лакея, но они не слишком торопились со сменой блюд, ибо хозяин их, находясь в семейном кругу, любил подолгу засиживаться за столом; по его словам, он теперь вознаграждал себя за все то время, когда ел в одиночестве, стоя или углубившись в работу. Обед был сервирован не без изысканности, которая поразила меня, впервые оказавшуюся за столом у состоятельного человека, а господин Костежу был достаточно богат, чтобы это было видно даже в наскоро устроенной трапезе. Его мать, опытная и искусная хозяйка, занималась домом бдительно и кропотливо, прежде всего заботясь о том, чтобы ее сын и его воспитанница ни в чем не нуждались и жили не просто в благополучии, но и в роскоши. Господин Костежу, как я заметила, не очень-то пекся о собственной персоне, но очень радовался, видя, что Луиза довольна его гостеприимством. Будто бы и не глядя в ее сторону, он следил за каждым ее движением, стараясь угодить ей во всем, предупреждая малейшее, даже не высказанное желание. Он вел себя с Луизой, как я с Эмильеном, когда мне выпадало счастье ему служить. Все это весьма удивляло меня, но держалась я достаточно умно, чтобы меня не сочли деревенской дурочкой. Но больше всего меня поразила перемена, происшедшая с Луизой. Я оставила ее хилым, рахитическим ребенком, чье личико было обветрено и опалено солнцем, чье умственное развитие было приостановлено нищенским и горестным существованием; теперь передо мной явилась красивая барышня, которая в безопасности и благополучии внезапно распустилась, как цветок. Луиза вытянулась, стала высокой и тонкой, хотя прежде казалось, что она так и останется приземистой. Лицо было все еще бледное, но кожа отличалась такой нежной, прозрачной белизной, что мне казалось, что я вижу водяную лилию. Ее холеные руки, гладкие, как слоновая кость, были просто чудом, — кто представил бы себе такие руки за работой? Их можно было лишь ласкать взглядом или целовать. Я вспомнила, как старательно ухаживала за ними, — Луиза уже тогда требовала, чтобы руки у нее были чистые, без единой царапинки, но подарить ей перчатки я не могла и не помышляла, что эти руки возможно довести до такого совершенства. Она заметила, что я в восхищении от нее, и, склонившись ко мне, ласково обняла рукой за шею, прижалась щекой к моей щеке, но не поцеловала, и это я тоже про себя отметила. Я не забыл что Луиза ни разу не удостоила меня поцелуя, даже и в лучшие свои минуты, когда старалась подольститься ко мне. Господин Костежу, конечно, ничего не заметил и, считая, что Луиза держится со мной на редкость обходительно, сказал: — Она сильно переменилась. Не правда ли? — Да, она очень похорошела, — ответила я. — А ты разве нет? — воскликнула она, глядя на меня так, словно увидела меня впервые. — Знаешь, Нанон, тебя просто не узнать. Ты в самом деле стала очень красивая. Болезнь тебя весьма облагородила, и следи ты за своими руками, они стали бы лучше моих. — Следить за руками? — рассмеялась я. — Мне? Я осеклась, боясь, как бы мои слова не прозвучали упреком, но Луиза его почувствовала и с большой теплотой промолвила: — Да, ты холишь и лелеешь всех, но только не себя, а я существо настолько избалованное заботами других, что подчас даже делаю вид, будто так оно и должно быть. Только я никогда не забываю, какая я на самом деле, можешь мне поверить! — И какая же вы? — с нежной озабоченностью спросил ее господин Костежу. — Чистосердечно покайтесь перед нами в своих грехах, если уж сегодня на вас нашел такой стих. Расскажите нам о всех ваших пороках — пускай это будет вашей платой за нашу любовь к вам. — Вы хотите, чтобы я перед вами покаялась? — сказала Луиза. — Хорошо, я готова. Я совершенно уверена, что тетушка (так она называла госпожу Костежу) по-матерински отпустит мне грехи, — что же касается вас, сударь, на свете нет более снисходительного отца. Нанон же мастерица баловать детей, тут с ней никто не сравнится. Я это испытала на самой себе. Как я мучила и изводила ее своими прихотями и капризами! Нанон, я была несносна, отвратительна, а ты все терпела, как ангел, и приговаривала: «Ничего, это не ее вина; она слишком много страдала, со временем станет добрее». Ты запрещала Эмильену отчитывать меня и даже пыталась убедить бедняжку приора, что мои злобные выходки очень забавны. Но они не забавляли его, а лишь усугубляли его недуги. Всем вокруг я доставляла одни неприятности, и если мои детские воспоминания кажутся мне кошмаром, то память о днях, проведенных в монастыре, гложет мою совесть. — Не надо так говорить, — сказала я. — Мне больно это слушать. Я и не то вытерпела бы от вас: когда любишь, всякий труд легок. — Знаю, что любовь — всегдашняя твоя вера. Почему мне не дано любить, как любишь ты? Я была бы счастлива, ведь я бы полностью тогда расквиталась с теми, кто столько мне сделал добра. Вот потому-то я и печалюсь и стыжусь самой себя. Я словно сломанное растение, которое не способно нигде пустить корни, даже в черноземе. Ум и сердце мое вянут и томятся. Я не понимаю, на что я в этой жизни гожусь, и всякий раз мучаюсь вопросом, почему меня жалеют, почему ценой таких трудов возвращают к жизни, когда мой род проклят и уничтожен? Почему, наконец, мне не дали зачахнуть и погибнуть, подобно стольким людям, гораздо более достойным, чем я? Пока Луиза со странной улыбкой на губах произносила эти печальные слова, а глаза ее блуждали по комнате, словно она говорила в пустоту, господин Костежу, сидевший вполоборота к нам, задумчиво смотрел на потрескивающие угли в камине и, казалось, решал какую-то мучительную и в то же время приятную проблему. Его мать не спускала с Луизы тревожных глаз. Очевидно, она боялась, как бы Луиза тут же не заявила господину Костежу, что никогда его не полюбит. Он не хотел этому верить и к исповеди Луизы отнесся как-то беспечно. — Если я вас правильно понял, — сказал он, — вы грустите потому, что вас любят, а вы никого не любите. Это и в самом деле большая беда, только очень уж мудреная, так как если бы вы совсем не любили, так и не раскаивались бы, что доставляете другим одни огорчения. Луиза внимательно посмотрела на господина Костежу, потом, точно не расслышав его слов, повернулась ко мне: — Ты, Нанон, настоящий кладезь любви, и твои несчастья совсем другого свойства, чем мои. Конечно, мой брат полон признательности; возможно, он даже влюблен, но что тебя ждет в будущем? Господин Костежу даже подпрыгнул на месте — от Луизы он никак не ожидал такой бестактности. Я же пришла в крайнее замешательство и побледнела как полотно, а он, забыв о данном мне слове, резко ответил за меня: — В будущем ее ждет любовь и обожание мужа — не все же люди бессердечны и лишены здравого смысла. Луиза даже покраснела от досады. — Возможно, — сказала она, — что мой брат загорелся великодушным желанием жениться на той, которая спасла ему жизнь. Но ведь он маркиз, господин Костежу, а теперь старший в роду Франквилей… — И, стало быть, может устраивать свое будущее, как ему угодно, мадемуазель де Франквиль. И если ваш брат не женится на самой верной своей подруге, он будет подлейшим из аристократов. Господин Костежу весь кипел от гнева, и Луиза не посмела с ним спорить. Госпожа Костежу попыталась перевести разговор на другое, но все сидели такие огорченные, что беседа не завязалась вновь. Когда мы отобедали, госпожа Костежу взяла меня за руку и отвела в свою комнату, обставленную наподобие гостиной. Она не без гордости показала мне, как все чудесно устроено у нее и в смежной Луизиной спальне, где красовались великолепные зеркала, туалетные столики, обтянутые шелком козетки. Мебельная лавка, да и только! — Конечно, живем мы в тесноте, — сказала она, — но не беспокойтесь, у нас вам будет удобно. Поставим кровать ко мне в комнату, и будете спать рядом со мной. Я не страдаю бессонницей, но буду рада, если вы захотите со мной поболтать. Мне все легко, все приятно, только бы мой дорогой сын был доволен. Я нарочно оставила его наедине с Луизой. Когда они вместе, он куда как красноречив, и ей перед ним не устоять. — Да, мне это известно, — ответила я. — Все его слова и мысли — прекрасны и возвышенны. Но уверены ли вы, что стоит тратить столько сил, чтобы устроить этот брак?.. — О, безусловно! — живо отозвалась госпожа Костежу, обычно ронявшая слова спокойно и неспешно. — Конечно, у Луизы много предрассудков, и очень серьезных, есть у нее и другие недостатки. Но человек меняется, когда полюбит. Разве не так? — Не знаю, — ответила я. — Мне своих взглядов менять не пришлось. — Сын мне говорил. Вы всегда любили молодого Франквиля. Но он не такой, как его сестрица! Он не гордец! Кто знает, может, он уговорит Луизу выйти замуж за моего сына. Как вам кажется? — Все возможно. — Он пользуется большим влиянием на Луизу? — Никаким. — А вы? — И того меньше. — Жаль! Жаль! — грустно промолвила госпожа Костежу, принимаясь за вязание. Потом она поправила заколки в своих седых буклях, выбившихся из-под кружевного чепца, который очень напоминал мой плоеный канифасовый капор. — Вероятно, у вас есть предубеждение против Луизы? Вы сейчас очень на нее рассердились? — Что вы, сударыня! Я привыкла к ее выходкам и нисколько не обижаюсь, ведь таковы ее убеждения. Впрочем, теперь вы ее знаете лучше меня; может статься, своей добротой вы даже исправили ее характер. — Просто я очень терпелива. Да и вы тоже, дорогая, — сын мне много о вас говорил. Знаете ли вы… Да, он ведь вам сам признался, а потом рассказал все мне. Если бы ваше сердце не принадлежало другому, он полюбил бы вас и забыл эту очаровательную Луизу. С вами он был бы куда счастливее, а стало быть, и я тоже. Она доставит нам много горестей, но ничего не поделаешь, так на роду, видно, написано! Господь знает, что творит! Только бы она не разлучила меня с сыном. Я этого не переживу. Что ж тут удивительного? Он у меня один остался, а было семеро сыновей, все красавцы, как на подбор, вроде него, и все умерли — один от болезней, другие от несчастного случая. Знаете, когда в доме поселяется несчастье, правильно люди говорят: бог всемилостив, но пути его неисповедимы. Она говорила тихим, монотонным голосом, не переставая считать петли, и из-под очков в черепаховой оправе по бледным пухлым щекам ее катились слезы. Когда-то она, видимо, была красавицей, следила за собой, но кокетством не отличалась; в ней я угадывала женщину, которая жила только для тех, кого любила, и по-прежнему была полна этой любовью, несмотря на все страдания и утраты. Я поцеловала ей руки, и она по-матерински прижала меня к груди. Я пыталась вселить в нее надежду, но видела, что в глубине души она думает то же, что и я, однако ж ее преданность сыну никак не зависела от этой надежды на собственное счастье. Тут в комнату вошла Луиза с господином Костежу. Оба весело смеялись, и морщины на лбу у старой дамы разгладились. — Дорогая тетушка, — обратилась к ней Луиза, — мы только что, как всегда, ожесточенно спорили из-за аристократов, и, как всегда, ваш достопочтенный сын превзошел меня в остроумии и красноречии. Но, как всегда, права все-таки я, ибо смотрю на вещи трезво, а он — сквозь розовые очки. Он, видите ли, полагает, что отныне мы будем жить в новом мире. Это его излюбленная тема, он ведь считает, что революция все настолько перевернула, что старое никогда не воротится. Я же уверена, что со временем все пойдет как встарь, что искоренить аристократию так же невозможно, как религию, и что сегодня мой брат точно так же маркиз, как был бы маркизом встарь после кончины отца и старшего брата. В ответ на это наш знаменитый адвокат произносит речь о святости чувства, о долге и так далее. Он сообщает мне, что при теперешних обстоятельствах Нанон — богатая невеста для Эмильена. Но денежная сторона меня не занимает. Тут мы с братом похожи, ибо богатству я не придаю никакого значения. На это вы можете возразить, что тем не менее я желаю купаться в роскоши, а она стоит денег. Возможно, тут я недостаточно последовательна. Зато Эмильен вполне последователен. Материальные блага его никогда не заботили и не привлекали. Он стал крестьянином и будет с Нанон очень счастлив. О, на этот счет я совершенно уверена: Нанон — воплощенная доброта и справедливость. Молчи, молчи, Нанон, я знаю, ты щепетильна в этом вопросе, хотя и безумно любишь Эмильена. И я знаю, что если брат вспомнит о своем высоком происхождении и хоть чуть засомневается, ты навсегда откажешься от него. Так что поглядим, как все устроится, — ему решать, и если его решение окажется в твою пользу, я смирюсь с ним, отнесусь к тебе как к своей золовке и никогда ничем не оскорблю тебя. Я уже многое поняла в жизни и не только не презираю тебя, но, напротив, полна уважения, даже дружеских чувств и не забуду того, что ты для нас сделала. Тем не менее это вовсе не значит, что я неправа, сказав то, что сказала. — Что же вы, в конце концов, сказали? — спросила я, так как нужно было окончить наш разговор. — Что ваш брат уронит свою честь, если забудет о титуле маркиза? — Я не говорила о чести. Я считаю, что он добровольно поступится своим положением в обществе и что свет ему это не простит. — Свет, который состоит из одних глупцов! — взорвался господин Костежу. — Свет, к которому принадлежу и я, — отрезала Луиза. — Так отвернитесь от него. И тут господин Костежу стал выговаривать Луизе как отец, отчитывающий строптивую, но обожаемую дочь, и я поняла, что он не заблуждается, полагая, что Луизе это по душе: она готова была сносить самые суровые упреки, лишь бы в основе их лежала страстная любовь к ней. Ссора закончилась примирением, сдобренным несколькими колкостями, после чего Луиза как будто сдалась. Когда господин Костежу удалился, Луиза продолжила этот разговор со мной, но спокойно и беззлобно, и в конце его сама поцеловала меня, сказав: — Люби меня по-прежнему, Нанон, ты ведь всегда будешь моей Нанон, баловавшей меня сверх меры, и я вовсе не хочу ходить в неблагодарных. Если ты выйдешь замуж за моего брата, я стану осуждать вас обоих, но любить буду по-прежнему. Так я решила, так оно и будет. На следующее утро я поднялась чуть свет, бесшумно оделась и вышла из комнаты на цыпочках, чтобы не разбудить милую госпожу Костежу. Мне хотелось осмотреть парк; я встретила там Бушеро, и он показал мне его во всех подробностях. Вскоре ко мне присоединилась Луиза, и Бушеро скромно удалился. — Нанон, — сказала Луиза, — со вчерашнего вечера я многое передумала. Раз уж ты теперь богатая и, по словам господина Костежу, скоро станешь еще богаче, ты должна купить Франквиль для моего брата. Тогда ты и впрямь будешь достойна зваться маркизой. — Поговорим лучше о вас, а не обо мне, — ответила я, смеясь над этим неожиданным компромиссом. — Франквиль и без того ваш, стоит вам только захотеть. Не так ли? — Нет! — живо промолвила Луиза. — Я вовсе не желаю называться госпожой Костежу. Уж лучше я останусь с тобой и братом, не выйду замуж, стану такой же крестьянкой, как ты, буду кормить ваших кур и пасти коров. Это все-таки менее предосудительно! — Но если вы твердо решили отказать господину Костежу, мое дорогое дитя, тогда будьте честны с ним и прямо скажите об этом. — Я ему это твержу всякий раз, как мы видимся. — Нет, вы обманываетесь. Если вы ему повторяете это по многу раз, значит, не желаете лишать его надежды. — Ты хочешь сказать, что я кокетка? — В высшей степени. — Как же прикажешь мне защищаться от него? Он мне нравится, а говоря начистоту, я даже уверена, что люблю его. — За чем же дело стало? — Как за чем? Я не хочу идти на поводу у собственной глупости. Могу ли я выйти замуж за якобинца, который отправил бы моих родителей на гильотину, если бы они попали ему в руки? Он спас Эмильена от смерти, а меня избавил от нищеты. Но он ненавидел моего отца и старшего брата. — Нет, он ненавидел эмигрантов. — А вот я оправдываю эмигрантов и упрекаю родителей только в том, что они не забрали меня с собой! Мое положение при них было бы менее блистательное, зато более достойное, и, наверное, они выдали бы меня там замуж за человека, равного мне по происхождению, а теперь я вынуждена довольствоваться милостыней. — Не говорите так, Луиза, это очень дурно. Вы отлично знаете, что господин Костежу никогда не станет принуждать вас выйти за него замуж. — Конечно, а я что говорю! Я не стану его женой, но буду вынуждена принимать его подачки или умереть с голоду. Выходи замуж за моего брата, Нанетта, так надо. Ты обеспечишь ему спокойную жизнь, а я клянусь, что буду работать вместе с вами, дабы не есть даром свой хлеб. Я опять надену деревянные сабо и чепчик — и нисколько от этого не подурнею. Пожертвую своими белоснежными руками — все же это лучше, чем жертвовать дворянской гордостью и убеждениями. — Будьте уверены, дорогая Луиза, что если я выйду замуж за Эмильена, ваша воля будет исполнена и вам не придется зарабатывать себе на жизнь. Довольно и того, что вы согласитесь жить нашей простой, деревенской жизнью, — может быть, нам даже удастся немного облегчить ее для вас. Но от этого вы счастливей не станете. — Нет, стану. Ты, вероятно, по-прежнему считаешь меня лентяйкой и «принцессой»? — Нет, я о другом. Я думаю, это правда, вы действительно любите господина Костежу, и вам жаль, что из-за собственной гордыни вы обрекаете на несчастье и его и самое себя… Я осеклась, так как, к моему удивлению, Луиза расплакалась, но тут же свое горе она прикрыла досадой. — Я люблю его против воли, — сказала она, — и в браке мы оба будем несчастнее, чем сейчас, когда поминутно ссоримся. К тому же откуда мне знать, что это действительно любовь? Девушки моего возраста вряд ли способны на подобные чувства. Я еще ребенок и, конечно, люблю тех, кто меня холит и балует. К тому же господин Костежу так остроумен, красноречив и образован, что слушаешь его и узнаешь пропасть разных вещей, даже книжек читать не надо. Конечно, под его влиянием я очень переменилась, и временами мне даже кажется, что он прав, а я заблуждаюсь. И мне так стыдно отжатого, и я краснею при мысли, что привязалась к нему. Жизнь у меня тут скучная. Мать господина Костежу — замечательная женщина, но так погружена в хозяйственные заботы, и такая она скучная и как овца кроткая, что я прямо из себя выхожу. Положение у нас сложное, мы никого не принимаем, меня все еще скрывают, как гостью, которая может скомпрометировать. Якобинцы не считают себя побежденными и, вероятно, какое-то время еще будут брыкаться. В этом одиночестве я немного свихнулась. Меня неимоверно балуют, не позволяют прикоснуться к кастрюле на кухне, к граблям в саду, и мне эта праздность становится нестерпимой. К тому же меня с детства ничему не учили: я не знаю, чем себя занять, даже думать — и то не умею. В монастыре я тоже бегала от занятий с тобой. В душе у меня пусто, и я живу одними мечтами и глупыми фантазиями. Да, Нанон, от этой смертельной скуки я действительно не знаю, куда деваться, и только когда нас навещает господин Костежу, словно просыпаюсь от сна, спорю с ним, думаю, живу. Очевидно, свой интерес к нему я и принимаю за привязанность. Но кто знает, возможно, в моем унынии любой человек внушил бы мне такие же чувства! — Мой совет вам, Луиза, послушайтесь вашего сердца и поступитесь гордыней — так будет лучше. Господин Костежу достоин вашей любви — он необыкновенный человек. — Ты-то откуда это знаешь? О свете и о мужчинах тебе известно еще меньше, чем мне. — Но я проницательнее вас. Я чувствую, что у господина Костежу редкостное сердце и глубокий ум. И с кем бы я ни говорила о нем, все со мной согласны. — Я знаю, что он слывет человеком незаурядным. Ах, если б я была уверена в этом!.. Но нет, меня это не извинило бы; я не должна выходить замуж за врага моего сословия. Обещай приютить меня, и как только ты выйдешь замуж за моего брата, я уеду отсюда и поселюсь с вами.. — Не требуйте от меня обещаний. Если Эмильен женится на мне, он станет хозяином моей жизни, и я буду с радостью во всем повиноваться ему. Вы отлично знаете, что большего счастья, чем жить вместе с вами, для него нет. Так что не беспокойтесь об этом, а сейчас, когда вы уверены, что свободны выбирать свое будущее, подумайте без предубеждения о настоящем. Вас любят, балуют, и, понимай вы, в чем ваше счастье, вы были бы очень счастливы. — Ты, вероятно, права, — ответила она. — Я еще подумаю, Нанон, но обещай не проговориться господину Костежу, что я его люблю. — Обещаю, но и вы пообещайте мне кое-что. Позвольте мне подарить ему то счастье, какого он заслуживает и которое прибавит ему красноречия, чтобы убедить вас. — Нет, не хочу. Он и без того держался достаточно самоуверенно со мной. Скажи ему, что я оставила тебя в неведении, потому что, в сущности, так оно и есть. Мне пришлось удовольствоваться этим решением.XXVI
За завтраком она выказала мне такую чистосердечную дружбу, какой прежде я никогда не видела с ее стороны, и несколько раз повторила, что пусть я и ниже ее по рождению, но умом и знаниями, безусловно, ее превосхожу. Господину Костежу, однако, так и не удалось убедить Луизу и вырвать у нее признание, что качества, приобретенные упорным трудом и волей, стоят несоизмеримо больше, чем то, что человеку даровано случаем. Они так настойчиво уговаривали меня погостить у них, что я осталась во Франквиле еще на день. Все были со мной милы, а Луиза обходилась с необычайной любезностью, и в их обществе я чувствовала себя легко и приятно; однако я не привыкла так долго бездельничать и проводить время в разговорах, поэтому, тепло распрощавшись с хозяевами, я с радостью села в карету и предвкушала возвращение в наш монастырь. Когда я по дороге сказала об этом Дюмону, он заметил: — Почему вы говорите в «наш монастырь», а не «домой»? Ведь вы там полновластная хозяйка, владелица, знатная госпожа, можно сказать. — Нет, друг мой, — ответила я после некоторого раздумья. — Я как была крестьянкой, так крестьянкой и останусь, ибо у меня тоже есть своя собственная гордость. Раньше я об этом никогда не думала, но благодаря Луизе поняла. Если Эмильен до сих пор помнит, что он маркиз, — а Луиза утверждает, что помнит, — и не считает меня ровней себе, что ж: я всегда буду ему служить просто из дружеских чувств, но ни за что не выйду замуж за человека, который презирает меня за мое происхождение. Я же не считаю его низким или позорным. Мои родители были честные люди; моя мать, по рассказам, была доброй и стойкой женщиной; мой дедушка — святой человек. Из поколения в поколение мы работали не покладая рук и никому ничего худого не делали. Мне краснеть не приходится. Проникшись этой мыслью, я почувствовала такую силу духа, какой прежде никогда не ощущала. Да, во Франквиль я съездила недаром. Вскоре от Луизы пришло письмо: из ее безграмотных каракуль я поняла, что она осталась довольна нашей встречей и что теперь, окрыленная моим обещанием и чувствуя себя более свободно, с легким сердцем относится к нынешнему своему положению, а заодно и к заботам своих любезных хозяев. Слухи о парижских событиях и восстаниях первого апреля и двадцатого мая докатились до Валькрё, как всегда, с большим опозданием. Мы дожили до июня в полном неведении, к чему привели эти жестокие бои, и только потом поняли, что якобинцы потерпели поражение и власть парижского люда пришла к концу. Крестьяне обрадовались этому известию, и никто не жалел депортированных, кроме меня, — ведь я-то знала, что среди них есть люди великодушные вроде господина Костежу, люди, полагавшие, что только они могут спасти Францию, и принесшие человечность и великодушие в жертву тому, что почитали своим священным долгом. Я очень беспокоилась о господине Костежу: в течение нескольких недель он где-то скрывался, чтобы о нем забыли. В одном отношении он от этого выиграл — Луиза написала мне, что скучает без него, тревожится и чувствует, как сильно к нему привязана. Пусть в этом письме не было страсти, зато оно дышало искренностью. Ее ничуть не радовали мстительные действия реакции. Чтобы Луиза не так томилась в одиночестве, госпожа Костежу предложила навестить меня; я с восторгом подхватила это предложение, и погожим летним днем 1795 года они приехали в монастырь. Луиза была одета очень просто и, казалось, забыла о своем пустом тщеславии. Она восхищалась чистотой, порядком и уютом, которые, несмотря на тяжелые времена, мне удалось навести в монастыре. Убранство моего жилища не отличалось роскошью, но все-таки моими стараниями оно имело вполне приличный вид. С чердака я извлекла развалившуюся старую мебель, и расторопные местные мастеровые, действуя по моим указаниям, сколотили столы и стулья, старомодные, но более приятные на вид, чем теперешняя затейливая обстановка. Залу капитула я превратила в просторную гостиную; там по-прежнему стояли резные скамьи — революционные власти пренебрегли ими, как старым хламом, — а искусно выполненные деревянные панели, частично покрывавшие стены, были красивы и по-прежнему прочны. Мне ничего не стоило содержать их в чистоте и блеске. Пол из черного мрамора тоже был невредим, и я попросила Мариотту не пускать туда кур, как, впрочем, и во все помещения нижнего этажа, так как люди делят кров с животными обычно от лени, а не по необходимости, и я твердо помнила, что дедушка не пускал их на порог нашей бедной хижины; однако это не помешало мне растить их и выхаживать. Итак, Луиза переступила порог приведенного в порядок, как бы помолодевшего монастыря и не переставала удивляться тому, что в действительности он был куда величественнее и лучше сохранился, чем ей казалось. Превратив комнату Эмильена в прелестное гнездышко, я отвела ее Луизе, а в своей поместила госпожу Костежу, предварительно устроив все по вкусу гостьи. Хотя мы с Дюмоном и Мариоттой ели как нельзя скромнее, приора, любившего хорошо покушать, я в свое время ублажала изысканными блюдами, так что умела теперь и заказать вкусный обед и приготовить его. Здешние жители меня очень любили, и стоило мне сказать слово, как рыбаки и охотники с радостью несли в монастырь лучшую свою добычу; я не злоупотребляла их любезностью, поэтому за редкие свои пиршества расплачивалась лишь благодарностью, а мои земляки неизменно делали вид, будто сами у меня в долгу. Окружающая обстановка, очевидно, заставила Луизу задуматься; разум ее словно проснулся, и она даже вызвалась помогать мне по хозяйству, дабы все поняли, что франквильские обитатели напрасно относятся к ней как к кукле. Я-то, конечно, видела, что она не рождена жить трудами своих рук, — Луиза была неловка, рассеянна, очень быстро уставала и только диву давалась, как это у меня на все хватает времени, даже на чтение и самообразование, которому я отдавалась с еще большим рвением, чем раньше. — Ты исключительное существо, — говорила она. — Я только теперь вижу, что не ценила тебя по достоинству и что господин Костежу правильно о тебе говорил. Хотелось бы знать, как ты умудряешься не замечать времени — у меня дни тянутся нестерпимо долго, и я не умею себя занять. Беседуя с кем-нибудь, я чувствую, что не глупее других, но одна ни в чем разобраться не могу и в состоянии воспринимать мысли, лишь когда они облечены в слова, которые я слушаю и на которые отвечаю. — В таком случае, — говорила ей я, — выходите замуж за адвоката. С ним вы не соскучитесь! С Дюмоном она была сама любезность и, не чинясь, обедала с ним за одним столом, так же как с Мариоттой, у которой попросила прощения за то, что когда-то выводила ее из себя. При желании она бывала так обходительна, что ее любили, не задумываясь, способна ли она ответить тем же. Луиза принадлежала к людям, которые одной милой улыбкой или приятными словами умеют отплатить людям за их преданность. Она бегала по всей деревне, и всюду ее привечали те, кого она когда-то раздражала. Я не отличалась от остальных и отдавала Луизе все свое сердце, почти ничего не требуя взамен, довольствуясь чудесной переменой в ее характере и манерах. Благо тому, кто, обделенный способностью любить, наделен умением очаровывать. Война с Голландией закончилась, и был заключен мир. Я надеялась на скорое возвращение Эмильена, а он, несмотря на свое обещание, все не приезжал. Дюмон твердил мне, что так оно и должно быть, что армия, действовавшая в районе рек Самбра и Маас, очевидно, переброшена в другое место, если уже не на театре военных действий. Хотя из-за всеобщей разрухи почта часто запаздывала или вообще терялась, нам до сих пор везло, мы получали все послания Эмильена, и я не допускала мысли, что его письмо может не дойти до нас. Поэтому, когда в течение трех убийственных месяцев от Эмильена не было ни строчки, моя тревога превратилась в настоящую пытку. Дюмон утешал меня как мог, но я видела, что и он сам не свой от беспокойства. Знай мы, где находится Эмильен, мы сразу поехали бы повидаться с ним, хотя бы только чтобы обнять его на поле боя. Дни тянулись монотонно, и выносить это страшное молчание мне было уже не под силу. Когда каждое утро просыпаешься с одной и той же упрямой надеждой и она снова и снова обманывает тебя, нетерпению уже нет предела. Напрасно я старалась рассеять работой грустные мысли. Мне казалось, что если исчезла основа всей моей жизни, то ни работа, ни сама жизнь мне больше ни к чему, и я подолгу сидела в оцепенении у могилы приора, уже украшенной памятником. Мысленно я разговаривала с этим добрым человеком, который так хотел мне счастья. И я шептала ему: «Милый, дорогой приор, если Эмильена нет в живых, мне остается лишь поскорее уйти к вам». Как-то вечером я сидела у его могилы, опершись лбом о каменный крест, поставленный на месте прежнего, деревянного, совсем ослабевшая, утратившая мужество. Меня все время поддерживала мысль, что если Эмильена убили, я тоже скоро умру от горя. По-прежнему убежденная в этом, я вдруг расплакалась, как ребенок, — внезапно вспомнилось, сколько счастья я надеялась ему дать, как выбивалась из сил в прошлом, как мечтала о будущем. К душевной скорби примешалась усталость от ежедневных забот — неужели же все мои старания, все думы, и труды, и расчеты, и терпение, — неужели все это впустую? Зачем тогда я жила на свете? Зачем трудилась, и добивалась, и любила, если вражеской пуле понадобилось меньше времени, чтобы меня осиротить, чем мне — ощутить свое сиротство? Я старалась думать о том, что скоро соединюсь с любимым человеком в лучшей жизни, где нас ждет блаженство и покой, но по природе своей я не была натурой мистической. Покорная божьему промыслу, воспитанная в духе искренней веры, я, однако, вовсе не испытывала восторга перед неведомым, не способна была представить себе небесное блаженство, о котором мне твердили чуть не с колыбели. Говоря по правде, оно внушало мне скорее страх, нежели желание приобщиться к нему, ибо в голове у меня не укладывалось — как это можно вечно существовать, ровно ничего не делая? Предаваясь скорби, я заметила, что дорожу жизнью и этим миром не только ради самой себя, но и ради своего любимого, и что не умею довольствоваться надеждой на успокоение в небесах, пока моя задача на земле еще не выполнена. Я перебрала в памяти столь милые моему сердцу трудности, связанные с выполнением этой священной задачи. «Как обидно, — говорила я себе, — покинуть этот мир на заре жизни, когда все в ней было надеждой и обещанием. Как бы он радовался, увидев свой сад похорошевшим, свою комнату — заново обставленной, своего старого Дюмона — еще крепким и совсем излечившимся от пагубного пристрастия, свою бедняжку Мариотту — всегда веселой, своих животин — в добром здравии, своего пса — сытым, свои книги — на полках, в полном порядке». И я представила себе, какой воцарится вокруг беспорядок и запустение, если он не вернется. Я думала обо всех, кто погибнет вместе с нами, даже о курах, даже о бабочках в саду, которые не найдут уж в нем цветов, и я оплакивала эти существа, словно бы частицу себя самой. И в то же время я прислушивалась к малейшему шуму, как человек, томящийся ожиданием помилованья или смертного приговора. Сквозь слезы я все же расслышала на монастырском дворе какое-то необычное движенье. Мигом я очутилась там, вся дрожащая, готовая упасть замертво, если новость окажется худой. И вдруг — голос Эмильена, он, кажется, говорит в зале капитула. И говорит тихо, как бы опасаясь, что его могут услышать. Его голос. Я не могу обмануться. Он там, он не ищет меня, он говорит с Дюмоном, ему рассказывает что-то, чего я не могу разобрать. Улавливаю только слова: «Ступай, найди ее, но ничего пока не говори. Меня страшит первая минута!» Но чего же страшиться? О чем столь ужасном должен онсообщить мне? Ноги отказываются переступить порог. Наклоняюсь, опершись о карниз арки. Я вижу его, это он; стоит с Дюмоном, тот поправляет плащ на его плечах. Зачем ему плащ в разгар лета? К чему это он заботится о плаще, вместо того чтобы бежать ко мне? Разве что он хочет скрыть от моих глаз свое потрепанное офицерское платье? Что говорит ему на ухо Дюмон? Я хочу закричать «Эмильен!», крик застревает у меня в горле, и я рыдаю; он услыхал, бросается ко мне, протягивает руки… нет, не руки, а руку! Он прижимает меня к груди одной рукой! Другая, правая, отнята по локоть; так вот что он хотел скрыть от меня в первую минуту! При мысли о том, как он должен был страдать, как он еще, быть может, и сейчас страдает, сердце мое мучительно сжалось, словно бы мне вернули Эмильена полумертвым. Не заботясь более о благопристойности, я покрывала его поцелуями и обливала слезами, я кричала как безумная: — Хватит этой войны, хватит несчастий! Вы больше не уедете, я не хочу! — Но ты же сама видишь, для войны я уже не гожусь, — ответил он. — Если ты находишь, что я еще гожусь для любви, так вот он я! Я навсегда вернулся к тебе. Когда мы немного успокоились и были в силах слушать друг друга, он сказал: — Ну что ж, милая Нанетта, поглядим, не отвернешься ль ты с отвращением от бедного изувеченного солдата. Меня вылечили. Я не хотел возвращаться, прежде чем не буду твердо уверен, что здоров; ведь все три месяца, что прошли после заключения мира, я находился на излечении из-за моей раны, полученной в первом же бою; я ею пренебрег, и она загноилась от холода во время голландской кампании, которую я все же пожелал проделать, хоть рука у меня и была на перевязи. Я очень страдал, это верно. Я надеялся сохранить руку, чтобы трудиться; не удалось! Тогда я согласился, чтобы меня избавили от нее и, после очень удачной операции, написал левой рукой Дюмону, чтобы он как можно осторожнее подготовил тебя к тому, что я выздоровел и скоро приеду. Оказалось, что письма вы не получили и что я преподнес тебе жестокий сюрприз. Вот еще одно испытание в моем послужном списке, ибо мне легче было потерять руку, чем видеть твои слезы! — Не буду, не буду, — отвечала я. — Простите, что я своей слабостью порчу нам минуты, которые должны быть прекраснейшими в нашей жизни. С того мгновения, как вы более не страдаете, я более не горюю и, если бы вы потеряли эту руку не страдая, была бы даже счастлива, что смогу послужить вам немножко больше, чем раньше. — Я был уверен в этом, Нанон! Я повторял себе это, пока шла операция: «Она будет рада служить мне!» Но не думай, что я позволю тебе работать за двоих. Я обучусь какому-нибудь ремеслу, не требующему особой физической силы, стану красиво писать левой рукой, научусь ловко ею обходиться, а быть может, мне и назначат пенсию, позднее, когда у них будут средства. — Ничего этого делать вам не понадобится, — сказал Дюмон, подмигнув, — вы станете вести счета в своем хозяйстве, приглядывать за своими угодьями, подсчитывать свои снопы… и свои доходы! — И если я не смогу управиться с лопатой или вилами, ты поможешь мне взвалить мешки или какую другую тяжесть на плечи, потому что я теперь привычен к тяжелой работе и в десять раз сильнее прежнего. Так, значит, ваши дела идут здесь прекрасно? Монастырь совсем преобразился. Господину Костежу, видно, пришлось войти в большие расходы. Он что, полагает здесь поселиться? — Нет, — ответила я, — это ради вас я позаботилась о доме и о владениях, ибо и владения и дом — ваши. — Мои? — засмеялся он. — Как же так могло статься? Дюмон поведал ему правду, которая, не считая благодарного воспоминания о приоре, не так сильно его растрогала, как того хотелось бы Дюмону: старик больше радовался, рассказывая Эмильену о наших богатствах, чем тот — узнавая о них. Меня это вовсе не удивило. Я знала — его отрешенность от материальных выгод достигла таких пределов, что из достоинства превратилась почти в недостаток, но я любила его таким, и еще я знала, что понемногу он поймет, как хорошо жить в довольстве, и оценит прелести спокойной жизни. Поначалу же он лишь удивился, особенно узнав, что я купила монастырь, не представляя себе, будет ли у меня когда чем за него расплатиться, и что, уже имея чем расплатиться, я каждый день еще что-нибудь прикупала. Но, обладая острым умом, он быстро понял мои планы и проникся к ним доверием. — Тебе нравятся всякие хлопоты, — сказал он мне. — Я, по своей натуре, предпочел бы немного меньше думать о будущем. Но я знаю, что ты, мечтая о будущем, можешь сотворить чудо, но и настоящее от этого не станет менее сладостным. И я всегда буду считать, что то, чего хочешь ты, есть то, чего должен желать я. Возьми меня себе в подручные, Нанон, командуй мной, подчиняться тебе будет для меня счастьем. Подробно рассказав Эмильену о сестре, мы решили о смерти брата сообщить на другой день, так как поняли, что ему об этом ничего не известно. Я уже не опасалась, что в нем произойдет перемена, когда он узнает о нынешнем своем старшинстве и титуле маркиза; но наша радость могла бы быть замутнена слезами, и хотя он едва знал брата, нам не хотелось портить этот первый день нашего счастья. Как я глядела на него за ужином, при свете, сидя напротив! Он очень возмужал среди всех этих треволнений. Лицо вытянулось, глаза запали. Ничего детского уже не осталось, вот только эта простодушная улыбка, дарившая прелесть его рту, и этот милый, доверчивый взгляд, делавший лицо его красивым, вопреки неправильности черт. Меня огорчали его худоба и бледность, я заметила, что он не ест, и никак не хотела верить, что виною этому пережитое волнение. — Ты очень огорчишь меня, — сказал он, — если будешь беспокоиться сейчас обо мне. Пойми, Нанон, ведь для солдата потерять руку на поле боя — это большая честь, и мое несчастье породило много завистников. Другие солдаты, сражавшиеся так же безоглядно, как я, сочли, что мне чересчур уж повезло, и не сразу простили мне и мою рану и мой чин, столь быстро полученный. У меня были прекрасные перспективы продвижения, если бы я был ну хоть чуточку честолюбив; но я не честолюбив, ты же знаешь! Я только хотел выполнить свой долг, Хотел вести себя, как подобает мужчине и патриоту. Не знаю, что готовит Франции будущее. Я покинул армию, которая страстно предана Республике, и я только что проехал по своей стране, которой Республика омерзела. Что бы ни случилось, я сохраню свое политическое кредо, но я не стану ненавидеть моих соотечественников, как бы они ни повели себя. Моя совесть спокойна. Я отдал руку родине, и не только родине — я отдал ее за свободу во всем мире. Но больше сражаться я не стану, ибо уже уплатил за свое право быть гражданином, тружеником, отцом семейства. Я начисто порвал все связи с тем сословием, которое предписывало мне либо бежать из страны, либо заниматься тайными интригами, искупил свое аристократическое происхождение, завоевал себе место под солнцем гражданского равенства, а если Франция отказывается от этого равенства, я сохраню свое право на равенство нравственное. А сейчас, — добавил он, подымаясь из-за стола и ловко складывая салфетку, чтобы я увидела, как он хорошо справляется одной рукой, — ночь светлая и теплая, проводи меня на могилу приора. Я хочу поцеловать землю, укрывшую его прах.XXVII
Когда мы ушли с кладбища, он предложил мне спуститься к речке, уверяя, что не устал. Ему хотелось вновь вместе со мной поглядеть на старую иву. Эта мысль, по его словам, неотвязно преследовала его в дни самых тяжких страданий. Та же мысль преследовала и меня, я попросила его минутку подождать, побежала домой и взяла засушенные листья, которые хранила все это время; когда мы стояли уже под деревом, я попросила Эмильена коснуться их. Воздух был теплый, ночное небо усыпано звездами, и речка, немноговодная сейчас, шуршала так нежно, что ее почти не было слышно. Он прижал мои руки к своему сердцу и сказал: — Видишь, Нанон, все вокруг сегодня такое же, как было. То, что я пообещал тебе здесь, я вновь тебе обещаю. Никогда не причиню я тебе горя, и никогда никто не займет твоего места в этом сердце! Я рассказала ему, что тоже все время думала об этой минуте, о том первом обещании, которое он мне дал и которого я даже не поняла, так что позднее сочла все это сновидением; потом, во время болезни, мне чудилось — то будто я иду к алтарю в венке из белых сережек этой старой ивы, то будто мертвая лежу в гробу в этом самом девическом венке. Он не знал, что я была больна и близка к смерти. Я не захотела писать ему про это. Он плакал, когда я рассказывала, каким образом узнала о смерти приора; когда я заговорила о Луизе, он стал расспрашивать, как она отнеслась ко мне, и я сочла неудобным долее оставлять его в неведении относительно того, что он стал маркизом и что, по убеждению Луизы, ему нельзя об этом забывать. Искренний и правдивый, он не счел себя обязанным оплакивать брата, который выказывал к нему лишь презрительное безразличие, а что до его маркизата, так эта новость заставила его только пожать плечами. — Друг мой, — сказал он, — не знаю, что нынче думают во Франции об этих обветшалых титулах. Я сейчас был в такой среде, где их ценность уже настолько пала, что если бы в полку ко мне стали обращаться с этим титулом, я был бы вынужден драться, дабы эта нелепость не прилипла к моему имени. — Ваша сестра, — сказала я ему, — верит, что эти титулы вовсе не потеряли в цене и что придет день — и, возможно, он уже близок, — когда их вновь с восторгом станут носить. Она также верит, что республиканцы, гордящиеся нынче своей незнатностью, и господин Костежу первый среди них, присвоят себе имена и титулы сеньоров, владения которых они купили. — Все может быть! — ответил мой друг. — Французы очень тщеславны, и даже в самых рассудительных из них сохраняется что-то детское. Они позабудут, возможно, кровь, которую мы пролили, чтобы отбить врага, жаждавшего вновь навязать нам всякое старье и вернуть монархию с ее сеньорами и их привилегиями, монастырями и их жертвами. Как же не простить моей сестре ее ребячество, если у зрелых мужей столь мало рассудительности? Что же касается меня, то я не простил бы себе, если бы оказался таким глупцом, таким безумным, что пожертвовал бы в угоду какой-то моде мой титул гражданина, столь тяжко мне доставшийся. Никто никогда не заставит меня сменить его на какой-либо другой, ибо, по моему убеждению, на свете нет более почетного титула. Оставим эти пустяки, Нанон! Я теперь свободен от всех этих предрассудков, и, надеюсь, ты тоже навсегда забыла прежнюю свою щепетильность, недоумение и даже ужас при мысли, что дворянин может жениться на крестьянке. Напротив, этот союз и проще и, я сказал бы, естественнее, чем союз между выходцами из дворянства и буржуазии. Эти два сословия слишком друг друга ненавидят, меж тем как крестьяне — лишь сторонние зрители их соперничества, ибо оно совсем не так важно для народа, как полагают многие. Крестьяне хотят только избавления от старинных поборов, от вымогательств и нищеты. Ну так они от этого избавлены навсегда! Крестьяне составляют большинство, и теперь уже нельзя будет приносить большинство в жертву малочисленной касте. У тебя есть деловая сметка, и ты правильно поступаешь, когда строишь свои планы в расчете на землю. Я тоже люблю землю, люблю ее просто за то, что она земля, но если для того, чтобы вернуть ей красоту и плодородие, нужно обладать ею — что ж! — станем ее обладателями! Я отдам ей единственную свою руку, свои думы, разум и знания, которые сумею приобрести, чтобы снять с твоих плеч и с плеч других людей хоть часть бремени вашего огромного труда и всю усталость, какую только можно будет снять. Ну так вот, Нанетта, давай назначим месяц, давай назначим день нашей свадьбы. Ты видишь, я нисколько не мучаюсь щепетильностью, предлагая тебе себя без состояния и лишь с одной рукою. Я знаю, в деревнях людей приводит в ужас одна мысль, что они станут калеками. И если увечье — великая честь в армии, то, по крестьянским понятиям, это если не позор, то, во всяком случае, утрата, которую можно уважать, но о которой постоянно сожалеют; не будешь ли ты чувствовать себя униженной, не только не вызывая зависти у женщин, но и постоянно выслушивая сетования, что ты, мол, берешь на себя тяжкую обузу, вместо того чтобы взять в мужья доброго работника, от которого была бы тебе честь и выгода? — Здешний народ благороднее, чем вы думаете, — ответила я, — они такое вовек не скажут. Вас они хорошо знают, поэтому и уважают и любят. Они поймут, что светлая голова полезней ста рук; а ежели нужно возбуждать зависть, чтобы быть счастливой, хотя я в это не верю, что ж, мне будут завидовать даже гордячки, не сомневайтесь в этом. Я люблю в вас совсем не работника, более или менее расторопного, а ваше большое сердце и ясный ум. Доброту и разум. Вашу дружбу, столь же надежную и столь же верную, как сама истина… Признаюсь, я была в нерешительности, я была как безумная, когда покинула Остров духов, я была скорее напугана, чем счастлива, а у вас ведь были тогда две руки! Но в те времена я, наверное, рассуждала как истая крестьянка, едва освободившаяся от рабства. Я боялась, что уроню вас в глазах других, а быть может, когда-нибудь и в ваших собственных. Я очень страдала, ибо несколько месяцев убеждала себя, что должна от вас отказаться. — Ты желала мне несчастья? — Подождите! Я вовсе не хотела покинуть вас, я бы посвятила себя вашему счастью иначе! Но позвольте мне забыть эту смертельную тоску, от которой я мало-помалу усилием воли излечилась. Когда я составила план, как стать богатой, когда господин Костежу уверил меня, что это действительно в моих возможностях, и сделал все, чтобы мне помочь, когда великодушие приора подвигло меня испробовать свои силы и убедиться, что я не обременю вас, а, напротив, буду вам полезна, наконец — когда я почувствовала ничтожность понятий Луизы и осознала разумность доводов, которыми господин Костежу разбивал эти понятия, я прониклась уверенностью; во мне пробудилась своего рода гордость, и теперь я знаю, что никогда не стану стыдиться, что я такая, какая есть. Если вы считаете, что заработали покой для совести и по справедливости уважаете себя сами, много пострадав за свою страну и за ее свободу, то я обрела те же душевные радости, делая все, что было возможно, ради вас и ради вашей личной свободы. — Ты, как всегда, права! — вскричал он, опускаясь передо мной на колени. — Я признаю, что умеренность, физический труд и честность отнюдь не обеспечивают независимость, если нет сбережений, которые позволяют человеку размышлять, предаваться умственным занятиям и упражнять разум. Пойми, Нанон, что ты — моя благодетельница, ибо тебе буду я обязан жизнью моей души, а для души, исполненной безграничной любви, материальное благополучие если и не абсолютно необходимо, тем не менее не теряет своей ценности и бесконечной приятности. У меня оно будет лишь благодаря тебе, и не бойся, что я забуду, что всем тебе обязан. За разговором мы уже подошли к ограде, окружавшей выгон. — Помнишь? — спросил он меня. — Ведь это здесь мы семь лет тому назад повстречались впервые. Ты владела тогда одной овцой, и она должна была стать основой твоего будущего капитала; у меня не было ничего, и в будущем я ничего не должен был иметь. Если бы не ты, я стал бы дурачком или бродягой — ведь революция выбросила бы меня на улицу совсем без понятия о жизни и обществе или, быть может, с глупыми понятиями, даже гибельными. Ты спасла меня от унижения, как позднее спасла от эшафота и изгнания; я принадлежу тебе, и у меня нет других заслуг, кроме той, что я это понял! Мы находились неподалеку от кладбища, и он захотел, прежде чем идти обратно, еще раз, в темноте, дотронуться до могилы приора. — Друг мой, — сказал он, обращаясь к отцу Фрюктюё, — слышите ли вы меня? Если слышите, то знайте: я вас любил, люблю и полон благодарности за то, что вы благословили нас, ваших детей. И я клянусь вам сделать счастливой ту, кого вы предназначили мне в жены. Он снова просил меня не откладывать нашей свадьбы. Я отвечала, что нам надо поехать к господину Костежу, который, по моим сведениям, вернулся во Франквиль, и попросить его назначить ее как можно скорее. Эмильен признал, что мы должны оказать уважение столь преданному другу. К тому же он от души желал видеть его своим зятем и льстился надеждой уговорить Луизу. На другое же утро мы отправились в путь. Едва мы въехали во франквильский парк, как увидели господина Костежу, — он вышел нам навстречу, раскрыв объятия и радостно улыбаясь; но почти тотчас же побледнел, и слезы заблестели у него на глазах. — Друг мой, дорогой мой друг, — сказал Эмильен, относя, так же как и я, волнение нашего хозяина к своему увечью, — не жалейте меня: она меня любит, принимает меня, и мы приехали просить у вас братского благословения. Костежу побледнел еще сильнее. — Да, да, — сказал он, — именно это, именно вид этого ужасного последствия войны!.. Я знал об этом, Дюмон уведомил меня, и все же, увидев вас без руки… Но поговорим о вашем будущем счастье: когда же свадьба? — А уж это решать вам, — сказала я. — Если нужно еще подождать, чтобы отпраздновать наше счастье одновременно с вашим… Он покачал головой и перебил меня: — Я составил некие планы… от которых мне нужно отказаться и от которых я отказываюсь без досады. Присядем на скамейку. Я очень устал, я много поработал нынче ночью, я много прошел утром… — У вас что-то болит, — сказал Эмильен, сжав обе его руки, — или у вас большое горе; ваша матушка… — В порядке. Вполне в порядке. Бедная моя матушка! Вы ее скоро увидите. — А Луиза? — Ваша сестра… тоже вполне в порядке, но вы ее не увидите здесь. Она… уехала. — Она… отсюда? Куда? Каким образом? — Вместе с одной своей родственницей, пожилой дамой, госпожой Монтифо, вандеянкой, непримиримой сторонницей шуанов! Ваши родители обременили ее заботами о Луизе, и, долго удерживаемая похвальной обязанностью питать раздоры и поддерживать гражданскую войну, она смогла наконец выбраться из этого разбойничьего притона; вчера вечером она приехала за Луизой, и Луиза уехала с ней. — Без сопротивления? — И без сожаления! Это вы, вы станете сожалеть, что не сможете обнять ее ни сегодня, ни, быть может, вообще в ближайшее время… — Я разыщу ее! Где бы она ни была, я найду ее, я привезу ее. Я совершеннолетний, она сирота, она подчиняется только мне. Я не согласен, чтобы моя сестра жила среди разбойников. — Мир заключен, мой друг, надобно покончить с накопившейся ненавистью; что до меня, то я от этого устал и предлагаю вам предоставить вашей сестре свободу действий и мнений. Через несколько месяцев ей исполнится двадцать; еще год, и у нее будет право жить там, где ей понравится, как у нее уже есть нравственное право думать так, как ей нравится, ненавидеть и отталкивать всякого, кто ей не по душе. Дорогой мой мальчик, мы страдали и сражались за свободу каждый как мог. Так станем же уважать свободу совести и признаем, что область взаимного доверия и чувств ускользает от нас. — Вы правы, — ответил Эмильен, — и если сестра отдает себе отчет в том, что она натворила, покинув вот так ваш кров, пусть себе остается во власти своих предубеждений. Но, может статься, они не так уж укоренились в ней, как вам кажется. Может статься, она захотела подчиниться последней воле родителей; может статься, она вовсе и не холодна к вам и в глубине сердца, и так как она входит в возраст, в котором уж можно будет располагать собой, может статься, она ждет лишь этого часа и моего согласия на… — Нет! Никогда! — возразил Костежу, поднимаясь. — Она меня не любит, и я тоже не люблю ее! Ее упрямство истощило мое терпение, ее холодность заморозила мне душу! Признаюсь, я нестерпимо страдал, провел ужасную ночь, но я рассудил, сделал выводы, взял себя в руки. Я мужчина, я ошибался, надеясь найти что-то необыкновенное в женщине. Простите, Нанетта, вы исключение. При вас я могу сказать то, что думаю о других. — А ваша матушка! — вскричала я. — Моя матушка! Она тоже исключение. Только вы две, и, кроме вас, других не существует. Но пойдем поищем ее, дорогую мою матушку. Она оплакивает Луизу. Она! Она плачет. Это облегчение для нее. Помогите мне развлечь ее и ободрить, ибо она прежде всего беспокоится за меня, а я радуюсь одному: Луиза не сделала бы ее счастливой, она не любила ее, она никого не любит и никогда не полюбит. — Позвольте мне верить, что моя сестра не столь недостойное существо, — с жаром возразил Эмильен. — Я поеду за ней, немедленно поеду. Поручаю вам Нанетту. Вернусь я завтра; сестра не может быть далеко, раз она простилась с вами лишь вчера вечером. Скажите, по какой дороге они уехали? — Это бесполезно! Поскольку жертва принесена… — Нет, вы заблуждаетесь! — Эмильен, дайте мне исцелиться. Я предпочитаю больше ее не видеть. — Вы исцелитесь, если она и в самом деле неблагодарная, ибо для вас, как и для меня, для людей с преданными сердцами, неблагодарность непростительна, ненавистна. Вы мужчина, вы сами сказали это, и я знаю, так оно и есть. Не поступайте же как человек слабый. Будьте до конца великодушны. Примите раскаяние, если она раскается, и если вы ее больше не любите, то по крайней мере простите с мягкостью и достоинством, вам подобающим. Мне невыносима мысль, что она вас покинула, не получив этого прощения, для меня это дело чести. Прощайте, но сперва скажите, как, по какой дороге она поехала, чтобы я мог ее нагнать; я требую этого от вас! Эмильен, несмотря на обычную мягкость и терпеливость, был столь решителен, повинуясь голосу долга, что господин Костежу уступил и указал ему дорогу, которую Луиза и госпожа Монтифо избрали, чтобы добраться до Вандеи. Он обнял меня, сел снова в экипаж, который привез нас сюда, и уехал, даже не войдя в дом своих отцов, даже не взглянув на него. Мне удалось успокоить госпожу Костежу касательно душевного состояния ее сына; ему самому удалось убедить ее за ужином, что он утомлен, разбит, но совершенно спокоен и что, ежели бы Луиза возвратилась, при виде ее он совсем бы не взволновался. Он так владел собою, что ему удалось и меня уверить в этом. Он рано покинул нас, сославшись на то, что до смерти хочет спать и что, когда выспится, от его горя и гнева не останется и следа. Госпожа Костежу попросила меня ночевать в ее комнате. Ей надобно было выговориться, рассказать про Луизу, пожаловаться на беспримерную суровость старой вандеянки, на ее надменный тон, пренебрежение, дерзость, против которых Луиза, смущенная и словно оцепеневшая, не имела мужества возвысить голос. — А между тем Луиза любит вашего сына, — сказала я, — ;,на призналась мне в этом, и теперь, чтобы хоть немного оправдать ее, я выдам эту тайну. — Она любила его, — возразила она, — да, я тоже так думала, но сейчас она краснеет при мысли об этом, и скоро в том ханжеском краю, куда ее увезли, она исповедуется в своей любви как в преступлении. Она примет покаяние, чтобы очиститься от этой скверны. Вот как ее сердце отблагодарило нас за всю нашу доброту к ней, за нашу ласку, баловство и заботы. О, бедный мой сын, пусть его излечит презрение! Среди жалоб она и уснула, я же не сомкнула глаз. Я спрашивала себя, в самом ли деле презрение излечивает от страстной любви. Я не знала. У меня не было опыта. Я никогда не испытала жестокой необходимости презирать любимое существо. Смятенная душа такого человека, как господин Костежу, была для меня непостижима. В нем уживались столь несоизмеримые противоречия! Я припоминала его строгость, более того — неумолимость в политических делах, и в то же время великодушную жалость к жертвам террора, а его ненависть к дворянам и любовь к Луизе казались мне загадочной непоследовательностью.XXVIII
Было уже около двух часов, когда я начала дремать, но тут госпожа Костежу, не просыпаясь, громко и горестно произнесла имя сына. Я поспешила разбудить ее от дурного сна. — Да, да, — сказала она, приподымаясь, — ужасный кошмар! Я видела, будто мой сын падает в море с высокого обрыва. Лучше было бы и не спать вовсе! Но так как прошлую ночь госпожа Костежу провела в разговорах с сыном об их общих заботах, она вновь откинулась на подушки и заснула. Немного погодя она опять заговорила, и среди невнятных слов я уловила жалобную мольбу. — Помогите ему, не покидайте его! Мной овладел суеверный страх. «Кто знает, — спрашивала я себя, — не ощущает ли бедная мать какую-то великую опасность, грозящую ее сыну? А вдруг у него приступ отчаяния? А если в это самое мгновение, когда мы считаем, что он спит, он борется с соблазном самоубийства?» Этажом ниже кто-то растворил окно. Я посмотрела на госпожу Костежу, она вздрогнула, но не проснулась. Затаив дыхание, я прислушалась — кто-то ходил под нами, в комнате господина Костежу. Значит, он не спит? Всегда ли он поднимается так рано? Терзаемая каким-то неясным беспокойство!) я поспешно оделась и бесшумно спустилась во второй этаж Прильнула ухом к двери господина Костежу. Все было вновь погружено в молчание. Я уже собиралась вернуться в спальню когда услышала шаги в первом этаже. Я спустилась — на этот раз к дверям, выходившим в сад, которые кто-то только что открывал. Всмотревшись, я увидела господина Костежу, уходившего в глубь парка. Я пошла следом, решив охранять его, не спускать с него глаз. Он широко шагал, разводя руками, словно оратор, но не произнося ни слова. Я подошла ближе; он не взглянул в мою сторону, меня испугал его потерянный вид, его глаза, запавшие и сверкающие, которые словно бы видели что-то скрытое от меня. Была ли то привычка разучивать таким образом речи? А может, приступ горячки? Он ушел в самую глубь парка, который заканчивался площадкой, круто обрывающейся над рекой с глубокой запрудой, и в этом опасном месте продолжал жестикулировать, все приближаясь к сломанному парапету, каш будто не понимал, где находится. Рискуя помешать этим усилиям, быть может даже спасительным для него, я стремительно подошла к нему, крепко схватила за руку и заставили повернуть назад. — Что случилось? — воскликнул он в изумлении, почти в ужасе. — Кто вы такая? Что вам от меня надобно? — Вы спали на ходу? — спросила я. — Знаете ли вы, где находитесь? — Да, — сказал он, — иной раз такое со мною случается. Не сомнамбулизм в полном смысле слова, но что-то похожее… Это у нас семейное; с моим отцом случалось иной раз такое, когда он погружался в какое-нибудь трудное дело. — И дело, в которое вы сейчас погрузились… — Проигранное дело! Я воображал, что выступаю в собрании шуанов и требую вернуть Луизу, а они хотят меня убить! Ну вот, вы разбудили меня на краю пропасти, и моя жизнь спасена, но Луизу они мне не отдадут. Я произносил речь перед камнями! — Значит, вы грезили? Это истинная правда? У вас не было дурных помыслов? — О чем вы? И, так как я не смела выразить вслух свою мысль, он сделал усилие, чтобы разгадать ее. К нему тотчас же вернулась ясности мысли, и, сжимая мне руку, он сказал: — Милая Нанон, вы принимаете меня за безумца либо за труса! Как вы очутились здесь? Еще и работники не вставали, едва светает. — Потому-то я и забеспокоилась, услышав, как вы вышли. — Вы, что же, не спали? И матушка тоже беспокоится? — Нет, она спит. — Бедная матушка, в ее возрасте это благо. Ей уже не под силу такие треволнения. — Вы заблуждаетесь! Она очень худо спала и только что видела во сне, будто вы падаете с обрыва в море. Вот из-за этого меня и охватил страх. И слава богу! Ведь вы сию минуту могли бы убиться. — Это было бы счастьем для меня. — А для нее? Думаете, очень сладко умереть с горя? — Нанон, я не хотел покончить с собой! Нет! Ради матушки я выдержу весь ужас, всю пытку жизни… Бедная дорогая моя матушка, я хорошо знаю, что вместе с собой убил бы и ее. Подумайте, между моей душевной сумятицей и ее тревожными сновидениями существует словно бы какая-то таинственная связь. О, я был бы презренным ничтожеством, если бы не боролся с притягательной силой самоубийства, и все же оно меня чарует, околдовывает и убаюкивает; оно влечет меня помимо моей воли! Каким образом сон привел меня на берег оврага? Уйдем поскорей от этого проклятого места. Я приходил сюда вчера утром. Я не спал, я глядел на эту серо-зеленую воду, что растекается там, под нашими ногами, и говорил себе: «Так просто положить конец этому мучению». Я удержался, с ужасом подумав о матушке, и больше не вернусь сюда. Клянусь вам, Нанон, я одолею страдание. Я увела его в ту часть сада, которую его мать, проснувшись, могла бы увидеть из окна, и, присев с ним на скамью, постаралась вызвать его на сердечные излияния. — Возможно ли, — сказала я, — чтобы вы позволили неистовой страсти управлять вами и приводить в смятение разум, подобный вашему? — Дело не только в том, о чем вы говорите, — ответил он, — дело и в другом, во всем вместе. Дело в Республике, которая угасает вокруг меня и во мне самом. Да, я ее чувствую здесь, ее, что умирает в моей охладевшей груди; моя вера меня оставила! — Почему же? — сказала я ему. — Разве у нас не все еще Республика, разве не наступила эра мира и терпимости, о которой вы грезили, которую предвещали? Мы всюду одержали победы, наши внешние враги просят мира, а внутренние — подавлены. Благоденствие возвращается вместе со свободой. — Да, кажется, что насилие насытилось и мы входим в новый мир — мир, где третье сословие протягивает руку дворянству, мир всеобщего успокоения и внутри страны и вне ее. Но это затишье обманчиво, и продлится оно лишь краткий миг. Монархическая Европа не примет нашей независимости, ретроградные партии строят заговоры, а третье сословие дремлет, удовлетворенное значением, которое оно ныне приобрело. Оно уже развращается, оно прощает, оно протягивает руку клерикалам, оно обезьянничает, подражает дворянству, водится с ним; аристократки порабощают нас, начиная с меня, который влюблен в девицу из рода Франквилей, отца которой я ненавидел и презирал. Вы сами видите, что все расползается по швам, что революционный порыв угас! Я любил революцию как любят возлюбленную. Ради нее я выдрал бы собственными руками свои внутренности, ради нее ставил себе в заслугу ненависть со стороны ее врагов. Я пренебрегал даже неразумным ужасом народа. Теперь этот энтузиазм меня покинул, отвращение овладело мной, ибо я увидел, как ничтожны или злобны люди; я сказал себе, что мы все были недостойны нашей миссии и далеки от нашей цели. Одним словом, наша революция была рождена преждевременно, вот и все! Французы не хотят быть свободными, отвращаются от равенства как от чего-то постыдного. Они вновь наденут на себя цепи, разбитые нами, и мы, мечтавшие освободить наш народ, мы будем презрены и прокляты, если только не покараем, не проклянем себя сами за наше крушение и не исчезнем с мировой арены! Я увидела, какую горечь, какое отчаяние вызвало падение якобинцев в этой пламенной душе, которая не могла более понять предназначения своей страны, вверенной ныне в другие руки, и утратила всякую надежду. Для нее терпение было равнозначно нечестной сделке. Натура деятельная, поддающаяся первому движению души, он не умел хранить веру в идеал, если его нельзя было сию минуту и на веки веков воплотить в жизнь, Я, бедная невежественная девушка, должна была показать ему, что великие усилия его партии не пропали даром и что когда-нибудь, быть может, совсем скоро, непредвзятое мнение определит, насколько они заслуживают порицания и насколько — признательности. Чтобы объяснить ему это возможно убедительнее, я много говорила о несомненном развитии народа, о тех страданиях и тяготах, от которых его избавила революция. Я поостереглась вновь порицать Террор: господин Костежу глубже меня постиг все зло, которое тогда творилось. Моей задачей было показать ему добро, которое вершилось во времена якобинцев, и я говорила о великом патриотическом порыве, вызванном ими, о заговорах, ими разрушенных. Конечно, если я и была хоть немножко красноречива, стремясь его убедить, так это оттого, что вложила в свои слова весь огонь и всю веру, которыми Эмильен зажег мое сердце. Видя, как безгранично предан родине мой жених, я и сама стала не только крестьянкой из Марша, но и француженкой. Господин Костежу выслушал меня очень внимательно и, убедившись в искренности моих доводов, согласился с ними. Тут он вновь стал с негодованием говорить о Луизе, а когда хорошенько излился, то внял моим просьбам. Я чуть ли не на коленях молила его, чтобы он пообещал мне лечить и душу и тело, ибо видела, что он болен. Странное состояние, в котором я только что его застала, вовсе не было обычным для него, и тем более не было оно обычным состоянием здорового человека. Я уговаривала его есть и спать настолько регулярно, насколько это совместимо с постоянной спешкой и неотложностью занятий его профессии. Крепко сжав мне руки, он поклялся, что отбросит мысль о самоубийстве, как недостойную хорошего сына и разумного человека. И тогда я отвела его к матери; он смягчился, а значит, уже наполовину покорился своей судьбе. Бедный человек! Судьба его была не очень счастливой. Луиза горько плакала, выслушивая упреки Эмильена. Она хотела бы написать Костежу о своей душевной борьбе, о сожалениях и признательности, но ведь Луиза почти не знала грамоты. Она хотела сказать ему об этом, но не посмела повернуть назад, не смогла победить свои предрассудки. Она поручила брату передать ее слова Костежу; тот, впрочем, и не рассчитывал на ее возвращение. Он подавил горе, скрыл негодование, и на сельском празднике, устроенном в монастырю по случаю нашего бракосочетания, был очаровательно весел и доброжелателен ко всем, кто там был. Он исцелился либо казался исцеленным; между тем Луизе вскоре прискучили нищета, деспотизм и, быть может, ничтожество тех, у кого она попросила убежища. И вот она упала к ногам госпожи Костежу и через несколько недель вышла замуж за нашего друга. Они жили в видимом согласии, и у них не было серьезных поводов упрекать друг друга. Но сердца их соединились во взаимном понимании лишь очень не скоро. Каждый исповедовал свою религию: она верила священнику и королю, он Республике и Жан-Жаку Руссо. Костежу всегда был по уши влюблен в нее — грациозная как кошечка, она была так прелестна! Но он не принимал ее всерьез и, случалось, бывал сух в обращении, а в словах его проскальзывала горечь, обнаруживающая пустоту в том уголке души, где, казалось бы, должны царить истинная нежность и счастье. Смерть матери усугубила его нравственные терзания. С той поры он с усердием принялся сколачивать себе состояние, чтобы не отказывать жене в ее расточительных прихотях, и теперь он один из самых богатых людей в наших местах. Луиза умерла еще молодой, оставив мужу двух прелестных дочерей, одна из которых вышла замуж за своего двоюродного брата, Пьера де Франквиля, моего старшего сына. Что же до нас, то мы достигли благополучия, которое позволило нам вырастить и воспитать пятерых детей. Все они уже обзавелись семьями, и когда нам выпадает счастье собраться вместе, со всеми их женами и детьми, то за стол садятся двадцать пять человек. Костежу горько оплакивал свою Луизу, но он обожает дочерей, существует ради них, и на склоне лет жизнь его стала поспокойнее. А между тем он ни на йоту не отступился от своих политических взглядов. В этом он остался таким же молодым, как и мой муж. Они не были обмануты июльской революцией. Не удовлетворила их и февральская. Я же, которая давным-давно и думать забыла о политике — на нее у меня не остается времени, — я им никогда не противоречила, и если бы даже была уверена в их неправоте, не посмела бы сказать об этом, так восхищали меня эти характеры, эти люди, сформированные былыми временами, — один неистовый и восторженный, другой уравновешенный и неколебимый, ничуть не постаревшие и всегда казавшиеся мне сердечнее и живее, чем нынешние. В прошлом году потеряла я друга своей юности, спутника жизни, душу самую чистую и самую справедливую, какую только знала. Я все время просила небеса не дать мне пережить его, но вот все еще живу, потому что вижу, как я нужна моим дорогим детям и внукам. Мне семьдесят пять лет, и уже недолго ждать той минуты, когда я соединюсь с моим любимым. — Ты не сомневайся, — сказал он мне, умирая, — мы не можем расстаться надолго, мы слишком любили друг друга здесь, чтобы порознь начать новую жизнь там.Госпожа маркиза де Франквиль умерла в 1864 году, когда она подорвала свои силы, ухаживая во время эпидемии за больными в своей деревне. До той поры она ничем не хворала, всегда была на ногах, ласковая и заботливая, горячо любимая семьей, друзьями и «прихожанами», как еще говорят старики крестьяне в средней полосе. Благодаря тому что и она сама, и муж ее, и дети разумно вели хозяйство, она составила довольно изрядное состояние, которым они пользовались самым достойным образом; маркиза любила говорить, что начала наживать его с одной овечки. Я узнал, что своей мудростью и добротой она победила предубеждения тех из мужниной родни, кто остался в живых. Она помогала тем, кто впал в нищету, и так бережно относилась к убеждениям других, что все почувствовали к ней искреннее уважение, а иные прониклись глубокой почтительностью. Госпожа де Монтифо не пожелала с ней встретиться, но в конце концов все же сказала: — Говорят, что эта Нанон такая достойная особа и так хорошо держится, будто она и в самом деле знатного рода. Добро она делает весьма деликатно; может быть, делала его и мне без моего ведома, потому что я получила вспомоществование, происхождение которого так и не узнала. Впрочем, я и не пыталась узнать. Когда вернутся Бурбоны, я все это выясню и уплачу долг. Не больно-то мне нужно быть благодарной этой самой Нанон, а уж тем более ее якобинцу-мужу. Не все преследуемые в те времена аристократы были столь неукротимы, и если после возвращения Бурбонов многие из них проявили мстительность, некоторые все же оказались людьми признательными и беспристрастными. В большой монастырской приемной по большим праздникам собирались посетители и друзья из самых различных слоев общества, начиная с аристократической родни дочерей господина Костежу, по матери Франквиль, и до правнуков Жана Лепика — двоюродного деда Нанон. Мне рассказали о Пьере и Жаке Лепик, двоюродных братьях маркизы, под одной крышей с которыми прошло ее детство. Старший, которого она научила грамоте, стал офицером; но когда он приехал в отпуск, она вынуждена была во время свадьбы удалить его от себя. Ему втемяшилось в голову заменить Эмильена подле нее, потому что, по его утверждению, он имел тот же чин, что и соперник, да еще и на одну руку больше. Он смирился и осел на жительство в другом месте. Что же касается братишки Пьера, тот остался другом дома, и один из его сыновей, который не бросил крестьянствовать, несмотря на очень приличное образование, женился на одной из барышень Франквиль. Однажды мне представился случай, увидеть маркизу де Франквиль в Бурже, где у нее были дела. Меня поразила величавость ее лица, глядевшего из-под крестьянского чепца, с которым она так и не пожелала расстаться и который приводил на память средневековых королев, чьи головные уборы, описанные в сказаниях, до сих пор сохраняют наши поселянки. Видел я и маркиза: седина уже тронула его волосы, пустой рукав был прикреплен к пуговице куртки. Он тоже был в деревенской одежде. Его простые манеры, благородная и скромная речь, удивительная красота, светившаяся во взоре, — все говорило о нем как о человеке высоких достоинств, который карьере предпочел счастье и, отказавшись от славы, выбрал любовь.
Жорж Санд Она и он
Мадемуазель Терезе Жак Дорогая Тереза, — вы ведь позволили мне не называть вас «мадемуазель», — сообщаю вам новость, важную для всего «артистического круга», по выражению Бернара, нашего друга. Смотрите-ка! Получилось складно, но вот в том, что я вам сейчас расскажу, уже не будет ни складу ни ладу. Представьте себе, что вчера, когда, наскучив вам своим визитом, я вернулся домой, я застал у себя какого-то английского милорда… Впрочем, может быть, и не милорда, но, во всяком случае, англичанина, который обращается ко мне на своем тарабарском наречии: — Вы есть художник? — Yes, милорд. — Вы пишете лицо? — Yes, милорд. — И руки? — Yes, милорд; и ноги также. — Вот это хорошо! — Очень хорошо! — О, я уверен! Вы хотите сделать мой портрет? — Ваш портрет? — А почему нет? Эти слова «А почему нет?» были произнесены так добродушно, что я перестал считать его идиотом, тем более что этот сын Альбиона[206] — великолепный мужчина. Голова Антиноя[207] на плечах… на плечах англичанина; греческая скульптура эпохи расцвета; слегка необычно только то, что она одета в современный костюм, а галстук на ней — образец последней британской моды. — Право же, — сказал я, — вы, несомненно, прекрасная модель, и я с удовольствием написал бы с вас этюд, просто так, для себя, но портрет ваш я написать не могу. — А почему? — Потому что я не портретист. — О!.. Разве во Франции нужно покупать патент на тот или иной жанр в искусстве? — Нет, но публика не позволяет нам работать в разных жанрах. Она хочет знать, какого мнения ей держаться на наш счет, в особенности если мы молоды; вот я, например, тот самый, с кем вы сейчас разговариваете, — я еще очень молод, и если бы я имел несчастье написать с вас удачный портрет, то на следующей выставке мне было бы очень трудно добиться успеха в каком-либо ином жанре: решили бы, что у меня нет к этому способностей и что я слишком самонадеянно взялся не за свое дело. Я наговорил моему англичанину еще много подобной чепухи, от которой я вас избавлю, а он, слушая меня, таращил глаза, а потом расхохотался, и я тут ясно увидел, что мои доводы внушают ему глубокое презрение если не к Франции, то к вашему покорному слуге. — Скажите прямо, — сказал он, — вам не нравится писать портреты. — Как! Вы что, за валлийца меня принимаете? Скажите лучше, что я еще не решаюсь писать портрет и что я не смог бы его написать, потому что одно из двух: либо это жанр, который исключает все остальные, либо это совершенное мастерство и, так сказать, вершина таланта. Иные художники, не способные создать ничего своего, могут со сходством и приятностью копировать живую натуру. Таким успех обеспечен, лишь бы они умели представить свою модель в самом выгодном для нее свете и ухитрились одеть ее к лицу и в то же время по моде; но если вы всего лишь скромный художник, пишущий на исторические сюжеты,если вы еще только ученик и талант ваш признан далеко не всеми — а как раз таким учеником я имею честь быть, — тогда нельзя бороться с профессионалами. Признаюсь, я никогда добросовестно не изучал складки черного фрака и особенности какого-нибудь определенного лица. Я только бедный изобретатель поз, типов и выразительных фигур, нужно, чтобы все это отвечало моему сюжету, моей идее, если хотите, моей мечте. Если бы вы позволили мне одеть вас по моему вкусу и сделать вас частью задуманной мною композиции… Но, впрочем, из этого тоже ничего бы не вышло, это были бы не вы. Этот портрет нельзя было бы подарить вашей возлюбленной… а тем более вашей супруге. Ни та, ни другая вас не узнали бы. А поэтому не требуйте от меня сейчас того, что я, возможно, и смогу сделать когда-нибудь, если из меня вдруг получится Рубенс или Тициан, потому что тогда я смогу остаться поэтом и творцом, легко и без робости передавая могучую и величественную действительность. К сожалению, из меня, пожалуй, выйдет только безумец или глупец. Почитайте фельетоны господ тех-то и тех-то. Только не подумайте, Тереза, что я сказал моему англичанину хоть что-нибудь из того, что я вам пишу: когда передаешь свою речь в письме, всегда приукрашаешь ее; но все, что я мог сказать ему, извиняя свое неумение писать портреты, было сказано впустую, за исключением этих слов: «Почему, черт возьми, вы не обратитесь к мадемуазель Жак?» Он три раза повторил: «О!», после чего спросил у меня ваш адрес и тут же ушел, не сказав больше ни слова, а я, не имея возможности закончить свои рассуждения о портрете, сконфузился и рассердился, потому что в конце концов, милая Тереза, если эта скотина, этот красавец англичанин пойдет к вам сегодня, — а я думаю, с него это станется, — и если он перескажет вам все, только что мною написанное, то есть все, что я ему наговорил о «ремесленниках» и великих мастерах, что вы тогда подумаете о вашем неблагодарном друге? Что он причисляет вас к первым и считает вас способной писать только красивенькие портреты, которые всем нравятся! Ах, милый друг, если бы вы слышали все, что я сказал ему о вас после того, как он уже ушел!.. Вы это знаете, вы знаете, что для меня вы не мадемуазель Жак, та, что пишет «похожие» портреты, которые теперь в большой моде. Для меня вы мужчина высшего порядка, переодевшийся женщиной, который никогда не учился в Академии, однако уже в поясном портрете угадывает сам и позволяет угадывать другим все тело и всю душу оригинала, так, как это делали великие скульпторы античности и великие художники Возрождения. Но я умолкаю: вы не любите, когда вам говорят то, что о вас думают. Вы делаете вид, что принимаете это за комплименты. Вы очень горды, Тереза. Сегодня, сам не знаю почему, на меня напала хандра. Утром завтрак был такой невкусный… С тех пор как у меня появилась кухарка, я ем ужасно невкусно. И теперь не достать хорошего табаку. Акцизное управление нас просто отравляет. А потом мне принесли новые сапоги, которые совсем не годятся… А потом идет дождь… А потом… почем я знаю, что потом? Вам не кажется, что с некоторых пор дни так тянутся, словно ты сидишь без куска хлеба? Нет, вам-то это не кажется. Вы не знаете ни этого томления, ни этих приевшихся развлечений, ни этой пьянящей скуки, ни этой тоски без названия, о которой я говорил вам как-то вечером в той маленькой сиреневой гостиной, где бы я хотел быть сейчас, потому что здесь у меня так мало света, что нельзя работать, а раз я не могу работать, я с удовольствием пришел бы побеседовать с вами, даже рискуя вам надоесть. Итак, я вас сегодня не увижу! У вас невыносимая родня, она похищает вас у самых лучших ваших друзей! Значит, сегодня вечером мне придется совершить какую-нибудь непроходимую глупость!.. Вот к чему привела ваша доброта ко мне, мой дорогой старший товарищ. Я становлюсь таким глупым и ничтожным, когда не вижу вас, что мне обязательно нужно забыться, даже рискуя возмутить вас. Но не беспокойтесь, я не стану рассказывать вам, как провел вечер. Ваш друг и покорный слугаГосподину Лорану де Фовелю Во-первых, дорогой Лоран, если вы в самом деле питаете ко мне дружеские чувства, я требую, чтобы вы не делали слишком часто глупости, которые вредят вашему здоровью. Все остальные я вам разрешаю. Вы сейчас потребуете, чтобы я привела в пример хоть одну из них, и я окажусь в большом затруднении, потому что, насколько мне известно, безвредных глупостей очень мало. Остается узнать, что вы называете глупостями. Если это те бесконечные ужины, о которых вы мне говорили на днях, то, по-моему, они вас убивают, и для меня это очень огорчительно. Боже мой! О чем вы думаете, когда с легким сердцем разрушаете свою жизнь, такую драгоценную и прекрасную? Но вы не выносите проповедей: я ограничусь мольбой. Что касается вашего англичанина, который на самом деле американец, то я только что его видела, и, так как мы с вами не встретимся ни сегодня вечером, ни, может быть, к моему большому сожалению, и завтра, я должна сказать вам, что вы напрасно не захотели написать его портрет. Он предложил бы вам за него баснословную цену, а баснословная цена для такого американца, как Дик Палмер, — это много банковских билетов, которые нужны вам как раз для того, чтобы не делать глупостей, то есть чтобы не играть в азартные игры в надежде на какое-то необыкновенное везение. А ведь людям с богатой фантазией никогда не везет, потому что люди с богатой фантазией не умеют играть, они всегда проигрывают, и им приходится потом требовать от своей фантазии, чтобы она заплатила их долги, — занятие, для которого не создана эта принцесса, — она может сделать это, лишь воспламенив бедное тело, свое обиталище. Я кажусь вам весьма практичной, не так ли? Мне все равно. Впрочем, если мы рассмотрим этот вопрос с более возвышенной точки зрения, то все доводы, которые вы привели вашему американцу и мне, не стоят ни гроша. Вы не умеете писать портреты, это возможно, это даже достоверно, если их нужно писать так, чтобы понравиться мещанам; но господин Палмер совсем не требовал этого. Вы сочли его за мелочного торговца и ошиблись. Это человек с верными суждениями и со вкусом, который понимает в искусстве и восхищается вами. И, конечно же, я приняла его хорошо! Он пришел ко мне, потому что ему некуда было больше идти, я это отлично заметила и была ему за это благодарна. И потому-то я и утешила его, обещав сделать все возможное, чтобы уговорить вас написать его портрет. Мы побеседуем об этом послезавтра, потому что я просила этого самого Палмера прийти послезавтра вечером, чтобы он помог мне хлопотать о его собственном деле и тут же заручился вашим обещанием. Итак, дорогой Лоран, мы с вами увидимся только через два дня. Развлекайтесь, как можете; для вас это будет нетрудно, вы знаете многих интересных людей и вращаетесь в высшем свете. Я же всего лишь старая ворчунья, которая очень вас любит, заклинает вас не всякую ночь ложиться поздно и советует вам не предаваться излишествам и ничем не злоупотреблять. Вы на это не имеете права: ведь гений обязывает! Ваша приятельницаЛоран11 мая 183…
Мадемуазель Терезе Жак Дорогая Тереза, через два часа я уезжаю за город с графом С. и князем Д. Как меня уверяют, там будет много молодежи и красивых женщин. Обещаю и клянусь вам не делать глупостей и не пить шампанского… А если выпью, буду в этом горько раскаиваться! Что делать! Я бы, конечно, предпочел прохаживаться по вашей большой мастерской и болтать чепуху в вашей маленькой сиреневой гостиной; но так как вы уединились с тремя десятками родственников из провинции, вы, конечно, и послезавтра не заметите моего отсутствия: весь вечер ваш слух будет услаждаться англо-американским акцентом. А! Его зовут Дик, этого славного господина Палмера? Я думал, что Дик — это уменьшительное от Ричарда! Правда, из языков я знаю только французский, да и то не бог весть как. О портрете же не будем больше говорить. Вы проявляете материнские чувства, когда печетесь о моих интересах в ущерб вашим, в тысячу раз больше, чем следует. Хотя у вас и много заказчиков, я знаю, что ваша щедрость не позволяет вам разбогатеть, и несколько лишних банковских билетов будут гораздо более на месте в ваших, нежели в моих руках. Вы осчастливите ими многих, а я, как вы сами говорите, брошу их на игорный стол. К тому же сейчас у меня совсем нет настроения заниматься живописью. Для этого нужно две вещи, обе они есть у вас: вдумчивость и вдохновение; первой у меня никогда не будет, а второе у меня было. И оно мне опротивело, как безумная старуха, измучившая меня тем, что заставляла скакать по полям на тощем крупе своего апокалипсического коня.[208] Я очень хорошо понимаю, чего мне не хватает; быть может, вы с этим не согласитесь, но я еще недостаточно насладился жизнью, и я уезжаю дня на три или на неделю с госпожой Действительностью в образе нескольких нимф из оперного кордебалета. Надеюсь, что по возвращении я стану самым совершенным светским человеком, то есть самым пресыщенным и самым рассудительным. Ваш другТереза Жак
Лоран
I
Взглянув на письмо, Тереза сразу поняла, что оно было продиктовано досадой и ревностью. «И все-таки он не влюблен в меня, — подумала она. — Нет, нет. Он, конечно, никогда ни в кого не влюбится, а уж в меня и подавно». Перечитывая письмо и размышляя, Тереза боялась солгать самой себе, пытаясь уверить себя в том, что возле нее Лоран не подвергается опасности. «Какая тут опасность? — думала она. — Страдать от неосуществившейся прихоти? Но разве можно сильно страдать из-за прихоти? Не знаю. У меня никогда не было прихотей!» Было уже пять часов пополудни. И Тереза, спрятав письмо в карман, велела принести себе шляпу, отпустила на целые сутки слугу, отдала распоряжения своей служанке, старой Катрин, и села в фиакр. Два часа спустя она вернулась в сопровождении худенькой женщины небольшого роста, немного сгорбленной, лицо которой было закрыто такой густой вуалью, что даже кучер его не разглядел. Тереза заперлась с этой таинственной особой, и Катрин подала им легкий, но очень вкусный обед. Тереза ухаживала за своей гостьей, угощала ее, а та не спускала с нее восхищенных глаз и в упоении забывала о еде. Тем временем Лоран готовился к увеселительной поездке, о которой сообщил Терезе в письме; но когда князь Д. заехал за ним, чтобы увезти его в своем экипаже, Лоран сказал, что по непредвиденному делу он должен задержаться в Париже еще часа на два и что вечером он сам приедет к князю в его загородный дом. Ничто, однако, не задерживало Лорана. Он оделся с лихорадочной поспешностью. Велел тщательно причесать себя. А потом бросил на кресло фрак и запустил пальцы в свои слишком ровно расчесанные кудри, не думая о том, какой это придаст ему вид. Он расхаживал по мастерской то быстрыми, то медленными шагами. Когда князь Д. уехал, раз десять взяв с него обещание, что он поторопится и скоро тоже уедет из Парижа, Лоран сбежал за ним по лестнице, намереваясь просить его подождать и сказать ему, что он бросит все дела и поедет с ним. Но, так и не остановив князя, он прошел к себе в спальню и бросился на кровать. «Почему она отказывает мне от дома на целых два дня? Здесь что-то нечисто! А если она и приглашает меня на третий день, то только для того, чтобы я встретился у нее с англичанином или американцем, с которым я вовсе не знаком! Но она его, конечно, знает, этого Палмера, раз она называет его по имени! Почему же он тогда спрашивал у меня ее адрес? Что это, притворство? К чему ей притворяться со мной? Я не любовник Терезы, я не имею на нее никаких прав! Любовник Терезы! Конечно, я никогда им не стану! Боже упаси! Женщина старше меня на пять лет, если не больше! Кто знает возраст женщины, а в особенности такой, о которой никто ничего не знает? Такое таинственное прошлое, должно быть, скрывает какой-то невероятно глупый поступок, быть может, позор, прикрытый видимостью приличий. И при всем том она синий чулок, или слишком набожная, или это женщина-философ — кто знает? Она говорит обо всем так беспристрастно, с такою терпимостью или же так, как будто это ее вовсе не касается… Бог знает, во что она верит, во что не верит, чего она хочет, что любит, и вообще способна ли она любить?» К Лорану зашел его приятель Меркур, молодой критик. — Я знаю, вы уезжаете в Монморанси, — сказал он. — Поэтому я зашел только на минутку, чтобы спросить у вас один адрес — адрес мадемуазель Жак. Лоран вздрогнул. — А какого дьявола вам нужно от мадемуазель Жак? — ответил он, делая вид, что ищет бумагу, чтобы свернуть сигарету. — Мне? Ничего не нужно… Хотя нет! Я бы очень хотел познакомиться с ней; я знаю ее только в лицо и понаслышке. Я спрашиваю ее адрес по просьбе одного человека, который хочет заказать ей свой портрет. — Вы знаете мадемуазель Жак в лицо? — Черт побери! Она теперь знаменитость, кто же не обратит на нее внимание? Она просто создана для этого! — Вы находите? — Ну, а вы? — Я не знаю, право. Мы с ней большие друзья, поэтому мне трудно судить. — Вы с ней большие друзья? — Да, видите, я сам так говорю, а это доказывает, что я за ней не ухаживаю. — Вы с ней часто видитесь? — Иной раз видимся. — Так, значит, вы только ее преданный друг? — Ну да, в какой-то степени… Почему вы смеетесь? — Потому что я этому не верю; в двадцать четыре года нельзя быть только преданным другом женщины… молодой и красивой! — Ну вот еще! Она не так молода и не так красива, как вы утверждаете. Это хороший товарищ, на нее приятно смотреть, вот и все. Впрочем, она не в моем вкусе, и я принужден прощать ей то, что она блондинка. Блондинок я люблю только на полотне. — Не такая уж она блондинка! У нее бархатистые черные глаза, волосы ее скорее каштановые, и она их как-то оригинально причесывает. Впрочем, это ей идет, она похожа на добродушного сфинкса. — Это хорошо сказано; но… вы ведь любите высоких женщин! — Она не слишком высокая, у нее маленькие ножки и ручки. Это настоящая женщина. Я подолгу смотрел на нее, потому что я в нее влюблен. — Вот как? Что это вы придумали? — Вам же это безразлично; ведь как женщина она вам не нравится? — Дорогой мой, даже если бы она мне и нравилась, это ничего бы не изменило. Тогда я постарался бы еще больше сблизиться с ней, но я бы не влюбился — я вообще не влюбляюсь, а значит, и не ревновал бы. Попытайте счастья, раз вам так хочется. — Я? Попытаю, если представится случай. Но у меня нет времени искать его. Да, в сущности, я такой же, как и вы, Лоран. Я могу терпеливо ждать, тем более что в мои годы и в обществе, в котором я вращаюсь, нет недостатка в развлечениях… Но раз уж мы говорим об этой женщине и раз уж вы ее знаете, скажите мне… — уверяю вас, с моей стороны это чистое любопытство — она вдова или… — Или кто? — Я хотел сказать: она вдова любовника или мужа? — Понятия не имею. — Не может быть! — Честное слово, я у нее не спрашивал. Мне это так безразлично! — Знаете, что о ней говорят? — Нет, это меня мало интересует! Так что же говорят? — Вот видите, это вас все-таки интересует! Говорят, она была замужем за человеком богатым и титулованным. — Замужем… — Самым настоящим образом. Брак ее был засвидетельствован господином мэром и освящен господином кюре. — Что за глупости! Тогда она носила бы имя и титул своего мужа. — А! Вот в том-то и дело! Здесь какая-то тайна. Когда у меня будет время, я разузнаю это и расскажу вам. Говорят, у нее нет постоянного любовника, хотя живет она очень свободно. Впрочем, вы-то ведь должны знать все это? — Ровно ничего не знаю. Вы что, думаете, я только и делаю, что наблюдаю за женщинами и расспрашиваю их? Я не такой волокита, как вы! По-моему, жизнь так коротка… Едва хватает времени, чтобы жить и работать. — Жить… не спорю. Вы, кажется, живете вовсю. Что же касается работы, говорят, вы не слишком себя утруждаете. А ну-ка, что это у вас здесь? Покажите-ка! — Нет, тут ничего нет, ничего начатого. — Да вот, например, эта головка… Это прекрасно, черт побери! Дайте же посмотреть, иначе я выругаю вас в следующей своей статье о Салоне. — Конечно, с вас станется! — Ну да, если вы этого заслужите; но эта голова великолепна, ею можно только глупо восхищаться. Что это будет? — Почем я знаю! — Хотите, я скажу вам? — Буду очень рад. — Сделайте из этого сивиллу. У нее может быть любая прическа, это ни к чему не обязывает. — А верно, ведь это идея! — И потом, вы не скомпрометируете особу, на которую она похожа. — Разве она похожа на кого-нибудь? — Черт побери! Вы что, шутите? Думаете, я не узнаю ее? Послушайте, мой милый, вы надо мной смеетесь, вы отрицаете все, вплоть до самых очевидных вещей. Вы возлюбленный этой женщины! — Доказательством может служить то, что я еду в Монморанси! — холодно ответил Лоран, берясь за шляпу. — Одно другому не мешает! — заметил Меркур. Лоран вышел, и Меркур, спустившийся по лестнице вместе с ним, видел, как он сел в фиакр; но Лоран велел кучеру ехать в Булонский лес, где он пообедал один в маленьком кафе и откуда вернулся в сумерках пешком, погруженный в свои мечты. Булонский лес был в то время не таким, как теперь. Он был гораздо меньше, запущеннее, беднее, таинственнее, в нем вы чувствовали себя ближе к природе и могли предаваться мечтам. К Елисейским полям, не таким роскошным и не так густо населенным, как теперь, примыкали новые кварталы, где еще сдавались по недорогой цене домики с очень уютными садиками. Там можно было жить и работать. В одном из этих белых, чистеньких домиков, среди цветущей сирени, за высокой живой изгородью из боярышника с выкрашенной в зеленый цвет калиткой жила Тереза. Был май. Погода стояла великолепная. Каким образом Лоран очутился в девять часов вечера у этой изгороди на пустынной незастроенной улице, где еще не было фонарей и по краям которой еще росла крапива и сорная трава, — он сам затруднился бы объяснить. Живая изгородь была очень густая, и Лоран бесшумно ходил вдоль нее, не видя ничего, кроме листьев, озаренных золотистым светом лампы, стоявшей, как он предполагал, в саду на маленьком столике — за этим столиком Лоран имел обыкновение курить, когда проводил вечер у Терезы. Значит, в саду кто-то курил? Или там пили чай, как это иногда бывало? Но Тереза сказала Лорану, что ждет целую семью из провинции, а до него доносился только таинственный шепот двух голосов, из которых один, как ему казалось, был голосом Терезы. Другой голос говорил совсем тихо; неужели это был мужской голос? Лоран слушал до тех пор, пока у него не зазвенело в ушах; наконец он услышал — или ему это показалось? — слова Терезы: — Какое мне до всего этого дело? У меня теперь только одна любовь на свете, и это вы! «Ну, теперь я совершенно спокоен, — подумал Лоран, поспешно уходя с пустынной улицы и возвращаясь на шумные Елисейские поля. — У нее есть возлюбленный! Впрочем, она совсем не обязана была сообщать мне об этом!.. Только напрасно она при всяком удобном случае намекала мне, что она никому не принадлежит и не хочет никому принадлежать. Эта женщина такая же, как и все остальные: прежде всего ей нужно лгать. Но мне-то не все ли равно? Однако же я бы никогда этому не поверил! И, конечно, хотя я в этом себе не признавался, она немного вскружила мне голову, раз я подслушивал здесь! Ведь только ревность может извинить такой подлый поступок! Но я не могу особенно раскаиваться: это спасло меня от пренеприятной истории, я чуть было не остался в дураках — начал мечтать о женщине, ничуть не более соблазнительной, чем другие, да к тому же еще и неискренней». Лоран остановил проезжавший мимо пустой фиакр и поехал в Монморанси. Он дал себе слово провести там неделю и не появиться у Терезы раньше чем через две. Однако он пробыл за городом только два дня, а на третий, вечером, уже подходил к дверям домика Терезы, как раз в ту же минуту, что и господин Ричард Палмер. — О, как я рад вам видеть, — сказал американец, протягивая ему руку. Лорану пришлось тоже протянуть руку, но он не смог удержаться и спросил у господина Палмера, почему тот так рад его видеть. Иностранец не обратил внимания на довольно дерзкий тон художника. — Я рад, потому что мне нравится вы, — ответил он с обезоруживающей сердечностью, — а мне нравится вы, потому что я восхищаюсь вы! — Как? Вы здесь? — удивленно спросила Тереза, обращаясь к Лорану. — А я сегодня вас и не ждала. И Лорану показалось, что в этих простых словах прозвучал необычный холодок. — Ах, вы легко бы примирились с моим отсутствием, — ответил он тихо, — и я боюсь, что нарушаю вашу очаровательную встречу. — Это тем более жестоко с вашей стороны, — возразила она все тем же игривым тоном, — что вы, кажется, сами хотели оставить нас вдвоем. — Вы на это рассчитывали, раз не отменили сегодняшней встречи! Так мне уйти? — Нет, оставайтесь. Придется как-нибудь перенести ваше присутствие. Американец, поклонившись Терезе, достал свой бумажник и вынул оттуда письмо, которое ему поручили ей передать. Тереза с невозмутимым видом пробежала его глазами, не сказав ни слова. — Если хотите ответить, — сказал Палмер, — то у меня есть оказия в Гавану. — Спасибо, — сказала Тереза, выдвигая ящик маленького столика, стоящего возле нее, — я не собираюсь отвечать. Лоран, следивший за всеми ее движениями, увидел, что она положила это письмо вместе с несколькими другими, из которых одно бросилось ему в глаза — он узнал форму конверта и надпись. Это было письмо, посланное им Терезе два дня тому назад. Не знаю почему, ему было неприятно видеть это письмо рядом с тем, которое только что передал Терезе Палмер. «Она дает мне отставку, — подумал он, — вместе со всеми своими неудачливыми воздыхателями. Но ведь я не имею права на такую честь. Я никогда не говорил ей о любви». Тереза завела речь о портрете Палмера. Лоран упрямился, следя за каждым взглядом и каждой интонацией своих собеседников; ему все казалось, что они тайно боятся, как бы он не уступил; но они настаивали так искренне, что он успокоился и устыдился своих подозрений. Если Терезу что-то и связывало с этим иностранцем, то ведь она была свободна, жила одна, ни перед кем не имела обязательств и всегда презирала людскую молву. Зачем ей был такой предлог, как этот портрет? Разве не могла она и без того часто и подолгу принимать у себя предмет своей любви или прихоти? Как только Лоран успокоился, он перестал стесняться. — Так вы американка? — с любопытством спросил он Терезу, время от времени переводившую на английский язык те реплики, которые Палмер не вполне понимал. — Я? — ответила Тереза. — Разве я не говорила вам, что имею честь быть вашей соотечественницей? — Но вы так хорошо говорите по-английски! — Откуда вам знать, хорошо ли я говорю, раз вы сами не знаете по-английски. Но я понимаю, в чем дело, потому что мне известно: вы любопытны. Вы хотите спросить, знакома ли я с Диком Палмером со вчерашнего дня или уже с давних пор. Ну, так спросите у него. Палмер не стал ждать вопроса, который Лоран вряд ли решился бы ему задать. Он ответил, что уже не в первый раз во Франции и что он встречал Терезу у ее родственников, когда она была еще совсем девочкой. У каких родственников — не объяснил. Тереза часто говорила, что она не знала ни отца, ни матери. Прошлое мадемуазель Жак было непроницаемой тайной как для светских людей, с которых она писала портреты, так и для немногочисленных художников, бывавших у нее в доме. Никто не знал, откуда, когда и с кем приехала она в Париж. О ней заговорили всего два или три года тому назад: написанный ею портрет был замечен людьми со вкусом и даже признан работой подлинного мастера. Так из бедной художницы, известной лишь среди ее немногочисленной клиентуры и ведущей скромную жизнь, она вдруг превратилась в мастера с первоклассной репутацией; она перестала стесняться в средствах, но не изменила ни своим скромным вкусам, ни своей любви к независимости, ни шутливой строгости своих манер. Она никогда не рисовалась и, говоря о себе, лишь выражала свои взгляды и чувства с большой искренностью и смелостью. Когда же ей задавали вопросы о ее жизни, она умела уклоняться от них, пропускать их мимо ушей, и это избавляло ее от необходимости отвечать. Если собеседник считал возможным настаивать, то обычно после нескольких неопределенных фраз она говорила: — Да что там толковать обо мне! В моей жизни не было ничего интересного, что я могла бы рассказать; если у меня и были горести, я уже не помню о них, потому что мне некогда о них думать. Теперь я очень счастлива: ведь у меня есть работа, а работу я люблю больше всего. Лоран познакомился с мадемуазель Жак случайно — оба они работали в одном и том же жанре. Как дворянин и как выдающийся художник, Фовель пользовался успехом и в свете, и в артистическом мире и поэтому в двадцать четыре года приобрел уже такой жизненный опыт, который не все имеют в сорок лет. Он то гордился этим, то огорчался; но у него совсем не было опыта в сердечных чувствах: такой опыт нельзя приобрести, ведя столь рассеянную жизнь. Так как он всегда хотел казаться скептиком, то прежде всего решил, что все, к кому Тереза относится дружески, должны быть ее любовниками, и только потом, когда все они по очереди убеждали его в чистоте своих отношений с нею, он стал считать ее женщиной, которая, может быть, и испытала страстную любовь, но вряд ли соглашается на легкие связи. С тех пор его стало мучить жгучее любопытство: ему хотелось узнать причину этого странного явления: молодая, красивая, умная женщина совершенно свободна и по своей воле живет в одиночестве. Он стал бывать у нее все чаще и чаще и наконец почти ежедневно, сначала под всякими предлогами, потом — выдавая себя за приятеля, с которым не нужно церемониться, слишком легкомысленного, чтобы ухаживать за серьезной женщиной, и все-таки в достаточной мере идеалиста, чтобы стремиться внушить к себе привязанность и ценить бескорыстную дружбу. В сущности, все это так и было, однако в сердце молодого человека вкралась любовь, и мы видели, как Лоран боролся с охватившим его чувством, которое он пока еще хотел скрыть от Терезы и от себя самого, тем более что это чувство он испытывал впервые в жизни. — Но в конце концов, — сказал он после того, как обещал Палмеру попытаться исполнить его просьбу, — портрет ведь может оказаться неудачным; так почему же, черт вас возьми, вы так настаиваете на том, чтобы я писал его, когда вы знаете мадемуазель Жак? Она, конечно, не откажется написать ваш портрет, причем наверняка превосходный. — Она мне отказывает, — чистосердечно ответил Палмер, — и не знаю почему. Я обещал своей матери, которая имеет слабость считать меня очень красивым, портрет кисти мастера, и, если он будет слишком близок к действительности, он покажется ей непохожим. Вот почему я и обратился к вам, как к мастеру романтической живописи. Если вы мне откажете, я буду огорчен, потому что не смогу доставить эту радость матери, или мне придется снова искать кого-то. — Долго искать не придется; есть столько людей способнее меня!.. — По-моему, вы не правы. Но если даже предположить, что я найду такого художника, вовсе не известно, свободен ли он сейчас, а я спешу, мне надо срочно отослать портрет. Мать должна получить его ко дню моего рождения, через четыре месяца, а пересылка займет около двух. — Это значит, Лоран, — добавила Тереза, — что вам надо написать портрет самое большее за шесть недель, а так как я знаю, сколько вам на это требуется времени, вам нужно начинать завтра. Ну, так решено, вы обещаете, правда? Палмер протянул Лорану руку: — Значит, контракт заключен. Не будем говорить о деньгах; гонорар назначит мадемуазель Жак, я в это вмешиваться не буду. В котором часу мне завтра прийти? Они условились о часе; Палмер взял свою шляпу, и Лоран из уважения к Терезе собрался было тоже уходить, однако Палмер не обратил на это никакого внимания и вышел, пожав руку мадемуазель Жак, но не поцеловав ее. — Мне тоже уйти? — спросил Лоран. — Не обязательно, — ответила она, — вечером ко мне могут прийти только хорошие знакомые. Но сегодня вы уйдете в десять часов, потому что в последние дни я, забывая о времени, болтала с вами почти до полуночи, а так как я всегда просыпаюсь в пять часов утра, то чувствовала себя очень усталой. — И вы все-таки не прогоняли меня? — Нет, мне это и в голову не приходило. — Если бы я был фатом, я бы возгордился. — Но вы, слава богу, не фат, вы предоставляете эту роль глупцам. Однако же послушайте, комплимент комплиментом, а я должна вас пожурить. Говорят, вы не работаете. — Так это для того, чтобы заставить меня работать, вы как с ножом к горлу пристали ко мне с этим портретом Палмера? — А почему бы и нет? — Я знаю, вы добрая, Тереза, вы хотите силой заставить меня зарабатывать на жизнь. — Я не спрашиваю вас о ваших средствах, у меня нет на это права. Я не имею счастья… или несчастья быть вашей матерью, но я ваша сестра… во Аполлоне, как говорит наш классик Бернар,[209] и я не могу не огорчаться, когда на вас находит приступ лени. — Но вам-то что до этого? — воскликнул Лоран, обрадовавшись и вместе с тем досадуя. Тереза угадала его чувства и ответила ему откровенно: — Послушайте, милый Лоран, — сказала она, — нам надо объясниться. Я ваш большой друг. — Я очень горжусь этим, но почему — сам не знаю!.. Из меня даже друга не выйдет, Тереза! Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, так же как не верю и в любовь. — Вы мне уже это говорили, и мне совершенно безразлично, что вы не верите. Ну, а я верю в то, что чувствую, я к вам привязана, я принимаю в вас участие. Такой уж я человек: если возле меня есть какое-нибудь существо, я обязательно привязываюсь к нему и хочу, чтобы оно было счастливо. И я привыкла делать для этого все, что могу, не заботясь о том, благодарно ли мне это существо. Ну, а вы-то ведь не кто-нибудь, вы человек гениальный, и я надеюсь, что и благородный человек. — Я благородный человек? Да, если вы понимаете это так, как это принято понимать в свете. Я умею драться на дуэли, платить свои долги и защищать женщину, которую веду под руку, какова бы она ни была. Но если вы думаете, что у меня нежное, любящее, простое сердце… — Я знаю, вы хотите казаться старым, потрепанным и порочным. Меня это нисколько не трогает. Сейчас это в моде, и допустим, что это вам идет. У вас это болезнь, быть может, неподдельная и мучительная, но она пройдет, как только вы этого захотите. У вас есть сердце, хотя бы потому, что вы страдаете от пустоты в своем сердце; но придет женщина и заполнит ее, если сумеет и если вы не будете ей мешать. Однако это уже другая тема; сейчас я обращаюсь к художнику: как человек вы несчастливы потому, что как художник вы недовольны собой. — Нет, вы ошибаетесь, Тереза, — с живостью возразил Лоран. — Как раз наоборот! Это человек страдает в художнике и душит его. Видите ли, я не знаю, что с собой делать. Меня убивает скука. Отчего я скучаю? Кто знает? От всего. Я не умею, как вы, быть внимательным и спокойным, работая по шесть часов подряд, не умею, прогулявшись по саду и покормив хлебом воробьев, снова браться за работу и писать еще четыре часа и потом вечером улыбаться двум-трем докучным посетителям, вроде меня, например, пока не наступит время ложиться спать. Я же сплю плохо, на прогулках я не спокоен, работаю лихорадочно. Всякий новый замысел смущает меня, бросает в дрожь: когда я выполняю его, на мой взгляд всегда слишком медленно, у меня начинается страшное сердцебиение, и в слезах, едва сдерживаясь, чтобы не кричать, я воплощаю на полотне идею, которая опьяняет меня, но уже на следующее утро я стыжусь ее, и она вызывает во мне отвращение. Если я пытаюсь преобразить ее, тогда дело плохо, она покидает меня; лучше забыть ее и ждать, пока появится другая. Но эта другая является мне такой неясной и такой необъятной, что мое бедное существо не может ее вместить. Она подавляет и мучит меня до тех пор, пока не воплощается в нечто такое, что я могу передать на полотне, — а тут уж вновь возвращаются муки, сопровождающие рождение моей картины, настоящие физические муки, которых я не в силах объяснить. Вот как протекает моя жизнь, если я даю власть над собой этому художнику-гиганту, которого я ношу в себе и из которого тот жалкий человек, что говорит сейчас с вами, акушерскими щипцами своей воли извлекает лишь тощих полумертвых мышей! А поэтому, Тереза, лучше мне жить так, как я живу, предаваться всякого рода излишествам и убить этого точащего меня червя, которого мои собратья скромно называют вдохновением, а я называю просто немощью. — Значит, решено и подписано, — улыбаясь, сказала Тереза, — вы хотите довести ваш дух до самоубийства? Ну, так я ничуть в это не верю. Если бы завтра вам предложили стать князем Д. или графом С., обладать миллионами одного и великолепными лошадьми второго, вы сказали бы, имея в виду столь презираемую вами палитру: Верните вы мне милую мою! — Презираемую мною палитру? Вы меня не понимаете, Тереза! Палитра — орудие славы, я это прекрасно знаю, а то, что называют славой, — это уважение, воздаваемое таланту, более чистое и более утонченное, чем то, которое воздается званию или богатству. А поэтому я очень горд и доволен тем, что могу сказать себе: «Я только мелкий дворянин без состояния; такие дворяне, как я, которые не хотят нарушать традиций своего сословия, ведут жизнь лесничих и волокутся за встреченными в лесу крестьянками, которым они платят вязанками хвороста. Ну, а я нарушил традиции, я избрал себе профессию, мне всего двадцать четыре года, и все-таки, когда я проезжаю верхом на взятой напрокат в манеже лошадке среди первых богачей и первых красавцев Парижа, лошади которых стоят по десять тысяч франков, то если среди зевак, сидящих на террасах Елисейских полей, есть человек со вкусом или умная женщина, они смотрят на меня, называют мое имя и не обращают внимания на других». Вы смеетесь! Вы считаете меня очень тщеславным? — Нет, но вы еще настоящий ребенок, слава богу! Вы не покончите самоубийством. — Да я совсем и не хочу кончать самоубийством! Я люблю себя, как и всякий другой, люблю всем сердцем, клянусь вам! Но я вам говорю, что моя палитра, орудие моей славы, в то же время и орудие моей пытки, потому что я не умею работать, не страдая. В кутежах я стремлюсь не убить свое тело или дух, а истомить и успокоить свои нервы. Вот и все, Тереза. Что же в этом безрассудного? Я работаю сносно только тогда, когда падаю от усталости. — Правда, — сказала Тереза, — я это заметила и удивляюсь — ведь это ненормально. Боюсь, как бы эта манера творить не убила вас, и не могу себе представить другого исхода. Постойте, ответьте на один вопрос: как вы начали жизнь? С работы и воздержания? Чувствовали вы тогда потребность забыться в кутежах, чтобы отдохнуть? — Нет, наоборот. Когда я окончил коллеж, я любил живопись, но не думал, что буду вынужден писать. Я считал себя богатым. Отец мой умер, завещав мне только около тридцати тысяч франков, которые я поторопился промотать, чтобы хоть год прожить в свое удовольствие. Оставшись без гроша, я взялся за кисть. Меня ругали и превозносили до небес, а это в наши дни означает успех, величайший из возможных. Теперь, пока у меня есть деньги, я в течение нескольких недель роскошествую и живу в свое удовольствие. Когда у меня ничего не остается, то оно и к лучшему, потому что к тому времени я и так уже без сил и желаний. Тут я опять принимаюсь за работу, с бешенством, с болью и с упоением, а когда работа завершена, снова начинаются праздность и расточительство. — И давно вы ведете такую жизнь? — В моем возрасте это не может быть давно. Три года. — Ну, как раз для вашего возраста это много. А потом вы плохо начали: вы подожгли свой жизненный спирт, прежде чем он достиг нужной крепости; вы пили уксус, чтобы задержать свой рост. Голова у вас все-таки выросла, и гений развился в ней, несмотря ни на что, но боюсь, что сердце у вас омертвело, и, быть может, вы никогда не станете ни совершенным человеком, ни совершенным художником. Эти слова Терезы, произнесенные со спокойной грустью, рассердили Лорана. — Так, значит, — спросил он, вставая, — вы презираете меня? — Нет, — ответила она, протягивая ему руку, — я вас жалею. И Лоран увидел, как по щекам Терезы медленно покатились две крупные слезы. Лоран был потрясен; из глаз его потоками полились слезы, и, бросившись на колени перед Терезой, не как влюбленный, открывающий свою страсть, а как ребенок, изливающий свое сердце, он воскликнул, схватив ее за руки: — Ах, мой милый, дорогой друг! Как хорошо, что вы жалеете меня, я так нуждаюсь в вашей жалости! Послушайте, я несчастен, я так несчастен, что мне стыдно признаться в этом. То непонятное, что у меня в груди вместо сердца, беспрестанно стремится к чему-то такому же непонятному, и я не могу придумать, что дать ему, чем его успокоить. Я люблю Бога и не верю в него. Я люблю всех женщин и всех их презираю! Вам я могу сказать это, вам, моему товарищу и другу! Иногда я ловлю себя на том, что обожествляю продажную женщину, а возле ангела могу быть холоднее мрамора. Все спуталось в моих представлениях, все мои инстинкты, быть может, извратились. Скажу вам даже, что и вино теперь меня не радует! Да, когда я выпью, я, кажется, становлюсь мрачным, и мне говорили, что третьего дня во время этого кутежа в Монморанси я декламировал трагические вещи с пафосом столь же пугающим, как и смешным. Что со мной станется, Тереза, если вы меня не пожалеете? — Конечно, мне жаль вас, бедное дитя мое, — сказала Тереза, вытирая ему глаза своим платком, — но чем это вам может помочь? — Если бы вы полюбили меня, Тереза! Не отнимайте ваших рук! Вы же позволили мне быть вашим другом? — Я сказала вам, что люблю вас как друг; вы мне ответили, что не можете верить в дружбу женщины. — Быть может, я поверил бы в вашу; у вас, наверное, сердце мужчины, — ведь у вас мужская воля и талант. Верните мне свою дружбу. — Я ее от вас и не отнимала и охотно попробую ради вас стать мужчиной, — ответила она, — хоть я не очень-то знаю, как взяться за это. Мне кажется, что в дружбе мужчины должна быть такая решительность и суровость, на какие я, пожалуй, не способна. Я невольно стану больше жалеть вас, нежели бранить. Да вот вы же видите! Я собиралась унизить вас сегодня, добиться, чтобы вы рассердились на меня и на самого себя, а вместо того я плачу вместе с вами, хотя этим ничего не изменишь. — Напротив! — воскликнул Лоран. — Это хорошие слезы, они оросили иссохшую почву; быть может, мое сердце пустит в нее ростки! Ах, Тереза, вы уже мне говорили однажды, что я хвастался перед вами тем, от чего должен был бы краснеть, что я скрытен, как тюремная стена. Вы забыли только одно: что за этой стеной томится узник! Если бы я был в силах открыть дверь, вы бы его увидели, но дверь заперта, она из железа, и вся моя воля, моя вера, мои излияния и даже мои слова не могут проникнуть сквозь нее. Неужели мне так и придется жить и умереть? Для чего мне, спрашиваю вас, покрывать фантастической живописью стены моей камеры, если там нигде не написано слово «Любовь»? — Если я вас правильно понимаю, — задумчиво сказала Тереза, — вы полагаете, что для вашего творчества необходимо, чтобы оно было согрето чувством. — А вы разве этого не думаете? Не к этому ли сводятся все ваши упреки? — Не совсем так. В вашей живописи слишком много огня; критика упрекает вас за это. Я-то всегда уважала эту пылкость молодости, свойственную великим художникам; она не позволяет тем, кто восхищается их творчеством, придираться к недостаткам. Я совсем не нахожу ваши работы холодными или напыщенными, наоборот, я чувствую в них огонь и страсть; но я старалась угадать, в чем кроется эта страсть; теперь я поняла: она в порывах вашей души. Да, конечно, — добавила она все так же задумчиво, словно стараясь проникнуть в глубь собственной мысли, — порывы могут быть страстью. — Ну, о чем же вы думаете? — спросил Лоран, следя за ее сосредоточенным взглядом. — Я спрашиваю себя, должна ли я бороться с этой могучей силой, которая в вас таится, и не погашу ли я вашего священного огня, убеждая вас быть счастливым и спокойным? Однако… я думаю, что вдохновение не может быть длительным состоянием духа; ярко проявившись в период лихорадочного творческого подъема, оно должно или утихнуть само собой, или сокрушить нас. Как вы думаете? Разве каждому возрасту не присуща своя сила и свои особые проявления духа? То, что называют различными манерами мастера, разве это не выражение последовательных перемен в его существе? Разве в тридцать лет вы сможете стремиться ко всему, не овладев ничем? Разве для вас не станет необходимостью утвердить свое мнение о разных предметах? Сейчас у вас возраст мечтаний, но скоро настанет возраст просветленности. Неужели вы не хотите совершенствоваться? — Но разве это зависит от меня? — Конечно, от вас, если вы не будете стараться нарушать равновесие своих способностей. Вы не убедите меня в том, что изнеможение может быть средством против лихорадки. Оно только ее роковой результат. — Тогда какое жаропонижающее вы мне предлагаете? — Не знаю; может быть, вам надо жениться. — Какой ужас! — воскликнул Лоран, расхохотавшись. И добавил, все еще смеясь и сам не зная, как это могло прийти ему в голову: — Разве что на вас, Тереза. Вот это мысль! — Чудесная мысль! — ответила она. — Но совершенно неосуществимая. Ответ Терезы поразил Лорана своим неумолимым спокойствием, и то, что он высказал так неожиданно для самого себя, казалось ему теперь его давнишней несбывшейся мечтой. Таков уж был этот могучий и вечно терзающийся ум: чтобы захотеть чего-либо, ему достаточно было слова неосуществимо, а Тереза как раз произнесла это слово. Тут же к нему вернулось неясное влечение к ней, а вместе с ним и подозрения, ревность и гнев. До той поры прелесть дружбы убаюкивала и словно опьяняла его; но тут он сразу заговорил с горечью, ледяным тоном. — Ах да, конечно, — сказал он, взяв свою шляпу и намереваясь уходить, — это слово я слышу всю жизнь, по любому поводу, в ответ на шутку и на серьезные речи: неосуществимо! Вы не знаете этого врага, Тереза, вы любите совершенно спокойно. У вас есть возлюбленный или друг, который не ревнует вас, потому что знает, что вы холодны и рассудительны! Кстати, явспомнил о том, что уже поздно и что ваши тридцать семь родственников, может быть, уже здесь, за калиткой, и ждут, пока я выйду. — Что это вы говорите? — удивленно спросила Тереза. — Что за мысли приходят вам в голову? У вас бывают приступы безумия? — Иногда бывают, — ответил он, уходя. — Придется уж вам простить меня.II
На следующий день Тереза получила от Лорана такое письмо:«Мой добрый, милый друг, как я расстался с вами вчера? Если я сказал вам какую-нибудь ужасную дерзость, забудьте ее, я не отдавал себе отчета. На меня нашло затмение, которое не рассеялось и на улице: когда я пришел в себя, я сидел в коляске у своих дверей и не мог вспомнить, как я в нее садился. Со мной это бывает очень часто, друг мой; губы мои произносят одни слова, а мозг в то же время твердит другое. Пожалейте меня и простите. Я болен, и вы правы, живу я прескверно. По какому праву стал бы я задавать вам вопросы? Вы должны отдать мне должное: за те три месяца, что вы принимаете меня запросто, я впервые спросил вас… Что мне за дело, невеста вы, замужем или вдова? Вы хотите, чтобы этого никто не знал; но разве я старался узнать это? Разве я вас спрашивал? Ах, право, Тереза, сегодня у меня опять сумбур в голове, и все-таки я чувствую, что лгу, а я не хочу вам лгать. В пятницу вечером у меня был первый приступ любопытства по отношению к вам, вчера это был уже второй, но он будет последним, клянусь, и, чтобы об этом никогда больше не было разговора, я хочу признаться вам во всем. Итак, я был в тот день у ваших дверей, вернее — у калитки вашего сада. Я смотрел, я ничего не видел, но я слушал и услышал! Но не все ли вам равно! Я не знаю его имени, я не видел его лица; но я знаю, что вы — моя сестра, поверенная моих тайн, мое утешение, моя поддержка. Я знаю, что вчера плакал у ваших ног, и вы вытерли мне глаза своим платком, повторяя: «Что делать, что делать, бедное дитя мое?» Я знаю: потому что вы благоразумная, трудолюбивая, спокойная, всеми уважаемая, потому что вы свободны, любимы, потому что вы счастливы, вы находите часы для милосердия и жалеете меня, хотите знать, как я существую, и желаете, чтобы я жил лучше. Добрая Тереза, не благословлять вас мог бы только неблагодарный, а как бы жалок я ни был, неблагодарность мне чужда. Когда вы согласны принять меня, Тереза? Мне кажется, я вас обидел. Только этого не хватало! Можно мне сегодня вечером прийти к вам? Если вы скажете нет, тогда, честное слово, я отправлюсь ко всем чертям!»Слуга, принесший Терезе письмо от Лорана, вернулся с ответом. Ответ был короткий: «Приходите сегодня вечером». Лоран не был ни ловеласом, ни фатом, хотя он часто намеревался или даже пытался стать и тем и другим. Он, как мы старались показать, был существом, полным контрастов, и мы описываем его, не объясняя, — это было бы невозможно: бывают характеры, ускользающие от логического анализа. Прочитав ответ Терезы, он задрожал, как дитя. Она никогда еще не писала ему в таком тоне. Неужели она приказывает ему явиться затем, чтобы объяснить, почему она не желает больше его видеть? А что, если она зовет его на любовное свидание? Чем были продиктованы эти три слова, сухие и жгучие, негодованием или страстью? Пришел Палмер, и Лоран, хотя он волновался и думал совсем о другом, был вынужден приняться за его портрет. Он намеревался расспросить его как можно более ловко и вырвать у него все тайны Терезы. Но он никак не мог начать разговор, а так как американец позировал очень добросовестно и сидел неподвижный и немой, как статуя, то за весь сеанс ни тот, ни другой не раскрыли рта. Поэтому Лоран мог успокоиться настолько, чтобы внимательно изучить безмятежно-правильные черты лица этого иностранца. Красота их была совершенна, и на первый взгляд лицо его казалось невыразительным, как это часто бывает свойственно лицам с правильными чертами. Приглядевшись, Лоран обнаружил, что в улыбке у него прячется ирония, а в глазах теплится огонь. Изучая свою модель, Лоран старался определить возраст американца. — Прошу прощения, — вдруг сказал он Палмеру, — но мне хотелось бы, и я должен был бы знать, кто вы? Молодой ли человек, немного утомленный жизнью, или человек зрелого возраста, но необыкновенно сохранившийся. Смотрю я на вас, смотрю и не могу понять. — Мне сорок лет, — просто ответил Палмер. — Поздравляю вас! — продолжал Лоран. — Значит, у вас завидное здоровье? — Превосходное! — сказал Палмер. И он опять, спокойно улыбаясь, принял свою непринужденную позу. «Такое лицо должно быть у счастливого любовника, — подумал художник, — или у человека, который любит только ростбиф». Он не мог удержаться, чтобы не спросить: — Так вы знали мадемуазель Жак совсем еще юной? — Ей было пятнадцать лет, когда я ее впервые увидел. Лоран не решился спросить, в котором это было году. Ему казалось, что, когда он говорит о Терезе, кровь приливает к его лицу. В сущности, не все ли равно, сколько Терезе лет. Он хотел бы знать не ее возраст, а ее прошлое. Терезе нельзя было дать и тридцати. Палмер в прошлом мог быть ее другом, не более. А кроме того, у него был громкий голос, раскатистое произношение. Если бы этими словами: «Теперь я люблю только вас» — Тереза обращалась к нему, он ответил бы ей что-нибудь и Лоран услышал бы его ответ. Наконец наступил вечер, и художник, который вообще не привык к пунктуальности, явился даже раньше того часа, когда Тереза обычно принимала его. Она была в саду, против обыкновения ничем не занятая, и в волнении ходила по дорожкам. Едва лишь она увидела его, как пошла к нему навстречу и взяла его за руку скорее властно, чем дружески. — Если вы честный человек, — сказала она, — то вы мне скажете все, что слышали, спрятавшись за этим кустом. Ну, говорите же, я слушаю. Она села на скамью, и Лоран, рассерженный таким необычным приемом, попытался помучить ее, отвечая уклончиво, но затем покорился, заметив ее недовольный вид и незнакомое ему прежде выражение лица. Боязнь окончательно поссориться с ней заставила его сказать правду. — Значит, это все, что вы слышали, — сказала она. — Я говорила кому-то, кого вам даже не было видно: «Теперь вы моя единственная любовь на земле»? — Так, значит, это мне приснилось, Тереза! Я готов поверить этому, если вы прикажете. — Нет, это вам не приснилось. Я могла это сказать, вероятно, я это сказала. А что мне ответили? — Я не слышал, — сказал Лоран, на которого ответ Терезы подействовал, как холодный душ, — не слышал даже звука его голоса. Теперь вы успокоились? — Нет, я буду спрашивать вас дальше. Как вы думаете, с кем я разговаривала? — Я ничего не думаю. Ведь известно, в каких вы отношениях со всеми вашими знакомыми; только о господине Палмере никто ничего не знает. — А! Так вы думаете, что это был господин Палмер? — воскликнула Тереза с каким-то странным удовлетворением. — А почему бы и не он? Разве предположить, что вы вдруг возобновили прежнюю связь, значит нанести вам оскорбление? Я знаю, что ваши отношения со всеми теми, кого я встречаю у вас за последние три месяца, так же бескорыстны с их стороны и так же безразличны с вашей, как и мои отношения с вами. Господин Палмер очень красив, у него манеры благородного человека. Он мне весьма симпатичен. У меня нет никакого права, да я и не смею спрашивать у вас отчета о ваших чувствах. Но только… Вы скажете, что я шпионил за вами… — Да, в самом деле, — сказала Тереза, которая, по-видимому, и не думала ничего отрицать, — почему вы за мной шпионили? Мне кажется, это нехорошо, хотя я в этом ничего не понимаю. Объясните мне, почему вам явилась такая фантазия? — Тереза! — с живостью ответил молодой человек, решившись сразу освободиться от всех своих страданий. — Скажите мне, что у вас есть возлюбленный и что этот возлюбленный — Палмер, и я буду любить вас по-настоящему, буду говорить с вами совершенно чистосердечно. Я попрошу у вас прощения за свой приступ безумия, и вам никогда не придется ни в чем меня упрекнуть. Послушайте, хотите вы, чтобы я стал вашим другом? Несмотря на все мое фанфаронство, я чувствую, что хочу быть им и способен на это. Будьте со мной откровенны — вот все, о чем я прошу. — Дорогое дитя мое, — ответила Тереза, — вы говорите со мной, как будто я кокетка, которая пытается удержать вас при себе, и как будто у меня есть грех, в котором я должна вам признаться. Я не могу допустить такого отношения к себе, оно меня оскорбляет. Господин Палмер мне друг, и я его очень уважаю; таким он всегда для меня останется. Я с ним совсем не так близка и уже давно потеряла его из виду. Вот что я должна сказать вам, но ничего больше. Если у меня и есть тайны, то они не нуждаются в излияниях, и я прошу вас не интересоваться ими больше, чем я того желаю. Поэтому не вам расспрашивать меня, вы должны отвечать мне. Что вы здесь делали четыре дня тому назад? Почему вы за мной шпионили? Что это за приступ безумия, о котором я должна знать и за который я должна судить вас? — Тон у вас не очень-то ободряющий. Зачем мне исповедоваться вам, раз вы не снисходите до того, чтобы обращаться со мной как с хорошим товарищем, и не оказываете мне доверия? — Ну, так и не исповедуйтесь, — возразила Тереза, вставая. — Это послужит доказательством, что вы недостойны уважения, которое я к вам питала, и что, стараясь узнать мои тайны, вы не платили мне таким же уважением. — Так вы прогоняете меня, и между нами все кончено? — спросил Лоран. — Все кончено, прощайте, — сухо ответила Тереза. Лоран вышел, охваченный таким гневом, что не мог произнести ни слова. Но он не сделал и тридцати шагов по улице, как вернулся и сказал Катрин, что ему было поручено передать кое-что ее хозяйке, а он забыл об этом. Дверь в сад оставалась открытой, Тереза сидела в маленькой гостиной, огорченная и подавленная, и, казалось, была погружена в свои мысли. — Вы вернулись? — спросила она. — Вы что-нибудь забыли? — Я забыл сказать вам правду. — Теперь я не хочу ее слышать. — Но вы ведь требовали ее от меня! — Я думала, что вы сразу сможете быть со мной искренним. — Я мог, я должен был говорить искренне; напрасно я этого не сделал. Послушайте, Тереза, вы в самом деле думаете, что мужчина моего возраста может, видя вас, в вас не влюбиться? — Влюбиться? — спросила Тереза, нахмурив брови. — Значит, вы смеялись надо мной, когда говорили, что не способны влюбиться ни в одну женщину? — Конечно, нет, я говорил то, что думал. — Значит, вы ошибались, и теперь вы влюблены, это верно? — О, не сердитесь, ради бога! Не так уж это верно. Мысли о любви приходили мне в голову, волновали меня, если хотите. Неужели вы так неопытны, что считаете это невозможным? — В мои годы я должна была бы приобрести этот опыт, но я долго жила одна. Мне не приходилось попадать в некоторые положения. Это вас удивляет? Однако это так. Я очень простодушна, хотя меня обманывали, как и всех! Вы мне сотни раз говорили, что слишком уважаете меня, чтобы видеть во мне женщину, по той причине, что ваша любовь к женщинам всегда слишком груба. Поэтому я считала себя в безопасности от ваших оскорбительных желаний, и больше всего я уважала вас за то, что вы искренне сказали мне об этом. Я принимала участие в вашей судьбе тем более свободно, что, помните, мы как-то говорили друг другу, смеясь, но, в сущности, серьезно: «Между двумя людьми, из которых один идеалист, а другой материалист, лежит Балтийское море». — Я говорил это искренне и доверчиво шел вдоль своего берега, не пытаясь переходить на ту сторону, но случилось так, что с моей стороны лед не выдержал. Разве моя вина, что мне двадцать четыре года и что вы так хороши? — Неужели я еще хороша? А я надеялась, что нет! — Не знаю, вначале я этого не находил, а потом, в один прекрасный день, вы показались мне красивой. Вы-то ничего для этого не делали, но я невольно ощутил ваше очарование, до того, что даже искал защиты от него и старался рассеяться. Я воздал дьяволу дьяволово — мою бедную душу и принес сюда, кесарю кесарево, мое уважение и безмолвствование. Но вот уже неделя или десять дней, как это волнение терзает меня даже во сне. Когда я с вами, оно рассеивается. Даю вам честное слово, Тереза, когда я вас вижу, когда вы говорите со мной, я спокоен. Я забываю о том, как звал вас в минуты безумия, непонятного для меня самого. Когда я говорю о вас, то утверждаю, что вы уже не молоды и что мне не нравится цвет ваших волос. Я заявляю, что вы мой близкий товарищ, другими словами — мой брат, и говорю это совершенно искренне. А потом среди зимы, всегда царящей в моем глупом сердце, иногда вдруг повеет весной, и мне кажется, что это дуновение исходит от вас. Конечно, от вас, вы ведь преклоняетесь перед тем, что вы называете истинной любовью! Послушав вас, начинаешь думать о ней, хоть и не знаешь ее! — По-моему, вы ошибаетесь, я никогда не говорю о любви. — Да, я знаю. У вас на этот счет предвзятое мнение. Вы где-то прочли, что говорить о любви — это значит внушать ее или любить самому; но ваше безмолвие очень красноречиво, ваши умолчания бросают в жар и ваша чрезмерная осторожность дьявольски привлекательна! — В таком случае перестанем встречаться, — сказала Тереза. — Почему? Что нам до того, если я проведу несколько бессонных ночей, раз в вашей власти вернуть мне спокойствие? — Что я должна для этого сделать? — Исполнить мою просьбу: сказать мне, что вы кому-то принадлежите. Я буду считать, что это так, а поскольку я очень горд, я излечусь как по волшебству. — А если я скажу вам, что никому не принадлежу, потому что не хочу больше никого любить, этого недостаточно? — Нет, я слишком фатоват: я буду верить, что вы можете изменить свое решение. Тереза не удержалась от смеха, услышав, с какой готовностью Лоран признается в своих недостатках. — Ну хорошо, — сказала она, — выздоравливайте и верните мне дружбу, которой я гордилась, вместо любви, за которую мне бы пришлось краснеть. Я люблю. — Этого недостаточно, Тереза: вы должны сказать мне, что принадлежите ему! — Иначе вы подумаете, что этот человек — вы, не так ли? Ну, так вот: у меня есть любовник. Вы удовлетворены? — Совершенно. И видите, я целую вам руку, чтобы поблагодарить вас за вашу искренность. Довершите благодеяние, скажите, что это Палмер! — Не могу, я солгала бы. — Тогда… я теряюсь в догадках! — Вы его не знаете, его здесь нет… — Но он иногда приезжает? — Очевидно, приезжает, раз вы подслушали излияния… — Благодарю вас, благодарю, Тереза! Теперь я знаю, чего держаться; я знаю, кто вы и кто я, и, чтоб уж быть совсем откровенным, мне кажется, что теперь вы нравитесь мне больше: вы стали женщиной, а были сфинксом. Ах, почему вы не сказали мне раньше! — Неужели эта страсть вас так измучила? — насмешливо спросила Тереза. — Еще как! Лет через десять я расскажу вам об этом, Тереза, и мы с вами посмеемся. — Решено, доброй ночи. Лоран лег спать совершенно спокойный и глубоко разочарованный. Он и в самом деле страдал из-за Терезы. Он страстно желал ее, не осмеливаясь даже намекнуть ей на свое чувство. Конечно, это была не совсем настоящая страсть. К ней примешивалось столько же тщеславия, сколько и любопытства. Эта женщина, о которой все ее друзья говорили: «Кого она любит? Я хотел бы, чтобы она любила меня, но она ко всем равнодушна», — представлялась ему идеалом и неудержимо привлекала его. Воображение его загоралось, его самолюбие страдало от того, что он боялся неудачи, почти был уверен в ней. Но самолюбие не было исключительной чертой этого молодого человека. По временам он остро и глубоко ощущал высокие понятие блага, добра и истины. Это был ангел, если не падший, как столь многие другие, то, во всяком случае, заблудший и больной. Жажда любви сжигала ему сердце, и по сто раз в день он с ужасом спрашивал себя, не слишком ли он злоупотребил уже жизнью и остались ли у него еще силы быть счастливым. Проснулся он спокойным и грустным. Он уже жалел о своей несбыточной мечте, о своем прекрасном сфинксе, который с дружеским вниманием читал его мысли, который то восхищался им, то журил его, то подбадривал, то жалел, никогда ничего не открывая ему из своей собственной судьбы, но лишь позволяя угадывать свои сокровища нежности, преданности, быть может — даже сладострастия! Во всяком случае, Лорану нравилось так истолковывать нежелание Терезы говорить о себе и ту улыбку, таинственную, как улыбка Джоконды, которая играла на ее устах и в уголках глаз, когда он богохульствовал в ее присутствии. В такие минуты она, казалось, думала: «Я могла бы описать рай, противопоставив его этому ужасному аду; но бедный безумец не понял бы меня». Как только Тереза открыла ему тайну своего сердца, она сначала потеряла в глазах Лорана всю свою привлекательность. Теперь она стала для него женщиной, похожей на всех других. Он хотел было даже лишить ее своего уважения, и хотя она никогда не позволяла себя расспрашивать, готов был обвинить ее в лицемерии и жеманстве. Но, узнав, что она принадлежит кому-то, он перестал жалеть о том, что уважал ее, и ничего больше не хотел от нее, даже дружбы, которую ему, как он думал, легко было найти в другом месте. Так прошли два или три дня, в течение которых Лоран приготовил объяснение, чтобы извиниться, на тот случай, если Терезе вздумается потребовать от него отчета о том, как он провел эти дни и почему не появлялся у нее. На четвертый день Лоран почувствовал себя во власти несказанной хандры. От проституток и куртизанок его тошнило; ни в одном из своих приятелей он не видел той терпеливой и деликатной доброты, с которой Тереза угадывала его тоску, пытаясь рассеять ее, вместе с ним искала ее причину и средство от нее, — словом, старалась ему помочь. Она одна знала, что нужно сказать ему, и, кажется, понимала, что судьба такого художника, как он, дело немаловажное, и человек с возвышенным умом не имеет права заявлять, что если этот художник несчастлив — тем хуже для него. Он отправился к ней так поспешно, что забыл все то, что собирался сказать в свое извинение, но Тереза не проявила неудовольствия и не удивилась тому, что он не появлялся у нее так долго; избавив его от необходимости лгать, она не задала ему ни одного вопроса. Это задело его, и он заметил, что ревнует ее больше, чем прежде. «Наверное, она встречалась со своим любовником, — подумал он, — и забыла обо мне». Однако он ничем не выдал своей досады и вел себя так сдержанно, что Тереза поверила его равнодушию. Прошло несколько недель, в течение которых в сердце его сменялись то бешенство, то холодность, то нежность. Ничто на свете не было для него так необходимо и так благотворно, как дружба этой женщины, ничто на свете не было для него так горько и оскорбительно, как невозможность надеяться на ее любовь. Признание, которого он от нее потребовал, нисколько не излечило его, как он надеялся, а, напротив, лишь разожгло его муки. Теперь он уже не мог скрывать от самого себя свою ревность, потому что у нее была вполне определенная причина — признание Терезы. Как мог он вообразить себе, что, едва лишь узнав эту причину, он утратит желание бороться, чтобы уничтожить ее? Однако он не прилагал никаких усилий, чтобы занять место невидимого и счастливого соперника. Ему мешало самолюбие — чрезмерное, когда дело касалось Терезы. Оставшись один, он ненавидел этот призрак, мысленно унижал его, представлял его себе в смешном виде, оскорблял его и вызывал на дуэль по десять раз в день. А потом ему надоедало страдать, он возвращался к кутежам, на время забывался и снова впадал в глубокую грусть, потом проводил часа два у Терезы, счастливый, что видит ее, что дышит тем же воздухом, которым дышит она, и нарочно пререкался с ней, ради удовольствия услышать ее голос, когда она ласково его журила. В конце концов он возненавидел ее за то, что она не догадывалась о его мучениях; он презирал ее за то, что она оставалась верна этому любовнику, который был, конечно, человеком посредственным, раз она не испытывала потребности говорить о нем; Лоран уходил от нее, клянясь себе, что долго не будет встречаться с ней, а сам рад был бы вернуться через час, если бы мог надеяться, что она его примет. Тереза, которая в какой-то момент заметила его чувства, теперь успокоилась на этот счет, так хорошо он играл свою роль. Она искренне любила этого несчастного юношу. Под невозмутимым и рассудительным видом она скрывала душу восторженной художницы; прежде она преклонялась перед тем, чем он мог бы стать, и от этого культа у нее осталась жалость к Лорану, желание баловать его, смешанное с подлинным уважением к страдающему и заблудшему гению. Если бы она была вполне уверена в том, что не возбудит в нем никаких низменных желаний, она ласкала бы его, как сына, и были минуты, когда она едва удерживалась от того, чтобы не говорить ему «ты». Примешивалась ли любовь к этому материнскому чувству? Несомненно, хоть и против воли Терезы; но женщина по-настоящему целомудренная, в чьей жизни было больше труда, чем страсти, может долго хранить в тайне от самой себя любовь, с которой она решила бороться. Терезе казалось, что она не ждет ничего для себя от этой привязанности, которая приносила ей только волнение и беспокойство; заметив, что Лоран успокаивается, что ему хорошо возле нее, она старалась поддерживать его умиротворенное состояние, и это ей удавалось. Она знала, что он не способен на такую любовь, какую она считала истинной, и поэтому была оскорблена и испугана, когда он признался ей в своих фантазиях. Когда этот приступ влюбленности прошел, она была рада тому, что нашла в невинной лжи средство предотвратить его повторение; всякий раз, как Лорана охватывало волнение, он начинал говорить о непроходимой ледяной преграде Балтийского моря, и она, не чувствуя страха, привыкла, не обжигаясь, жить среди огня. Все эти страдания и опасности, угрожавшие обоим друзьям, скрывались и словно тлели под привычкой к веселым насмешкам, присущей французским художникам и отличающей их как бы несмываемой печатью. Это наша вторая натура, за которую иностранцы-северяне часто нас упрекают и которая вызывает немалое к нам презрение, в особенности со стороны серьезных англичан. Однако она позволяет очаровательно выразить несмелое чувство и часто спасает нас от многих безумств и глупостей. Искать смешную сторону вещей — значит открывать в них слабое и нелогичное. Смеяться над опасностями, угрожающими нашей душе, значит упражняться в том, чтобы не ощущать перед ними страха: так поступают наши солдаты, когда идут в огонь со смехом и песнями. Подтрунивать над другом часто означает спасти его от малодушия, которого он не стремился бы преодолеть, если бы мы его жалели. Наконец, смеяться над собой — значит избежать глупого опьянения излишним самолюбием. Я заметил, что люди, которые никогда не шутят, всегда тупы, тщеславны и невыносимы. Когда Лоран бывал весел, его остроумие переливалось всеми красками, он становился ослепительным, как его талант, и это было вполне естественно, потому что такова была его натура. Тереза была не так остроумна, как он, в том смысле, что, по природе мечтательная, она охотнее молчала, чем разговаривала; но ей как раз было необходимо общество живых и веселых людей; среди них пробуждалось и ее остроумие, и хотя в ее шутках не было столько блеска, зато в них тоже была своя прелесть. Любовь была единственным предметом, над которым Тереза никогда не шутила и не позволяла шутить другим, а так как разговор обоих друзей всегда происходил в шутливом тоне, то в нем никогда не упоминалось о любви, не допускалось даже никакого намека на это чувство. В одно прекрасное утро портрет господина Палмера был закончен, и Тереза передала Лорану от своего друга солидную сумму, которую молодой человек обещал отложить на случай болезни или других непредвиденных расходов. Лоран подружился с Палмером, пока писал его портрет. Он находил его таким, каким тот был на самом деле: прямым, справедливым, щедрым, умным и образованным. Палмер был богат; он унаследовал свое состояние от родителей-коммерсантов. Сам он в молодости долгие годы занимался коммерцией и совершал далекие путешествия. В тридцать лет он решил, что уже достаточно богат, и поступил очень разумно, начав жить для себя. С тех пор он путешествовал только для своего удовольствия; повидав, как он говорил, много любопытного в экзотических странах, он теперь наслаждался видом прекрасного и изучал страны, культура которых представляла подлинный интерес. Не будучи большим знатоком искусства, он обладал довольно хорошим вкусом и имел обо всем правильные суждения, подсказанные ему здравым смыслом. Застенчивость мешала ему с легкостью говорить по-французски; в начале диалога речь его была неразборчива и до смешного неправильна; но когда он чувствовал себя свободно, видно было, что он знает язык и что ему не хватает только практики и уверенности в себе, чтобы прекрасно говорить на нем. Вначале Лоран изучал этого человека с большим волнением и любопытством. Когда ему было с очевидностью доказано, что Палмер не любовник мадемуазель Жак, он стал ценить его и питать к нему дружеские чувства, правда, очень мало похожие на те, которые он испытывал к Терезе. Палмер был философ, человек широких взглядов, довольно жесткий по отношению к себе и очень снисходительный к другим. По своим убеждениям и по характеру он был похож на Терезу и почти всегда во всем бывал с ней согласен. Временами Лоран еще чувствовал ревность к тому, что он называл, пользуясь музыкальным термином, их непоколебимым унисоном, но это была только интеллектуальная ревность, и он не осмеливался говорить о ней Терезе. — Ваше музыкальное определение никуда не годится, — возражала она, — Палмер — человек слишком спокойный и слишком совершенный для меня. Во мне побольше огня, и пою я громче. Я по сравнению с ним верхняя нота мажорной терции. — А я тогда только фальшивая нота, — замечал Лоран. — Нет, — говорила Тереза, — с вами я смягчаюсь и спускаюсь ниже, чтобы образовать минорную терцию. — Значит, со мной вы спускаетесь на полтона? — И получается, что к вам я ближе на пол-интервала, чем к Палмеру.
III
Однажды, по приглашению Палмера, Лоран отправился в отель «Мерис», где жил американец, чтобы проверить, подходящая ли рама выбрана для портрета и правильно ли он упакован. Перед ними положили крышку ящика, и Палмер сам написал кистью имя и адрес своей матери; потом, когда почтовые служащие уносили ящик, чтобы отправить его, Палмер пожал руку художника и сказал: — Я обязан вам большою радостью, которую вы доставили моей доброй матушке, благодарю вас еще раз. А теперь позволите ли вы мне побеседовать с вами? Мне нужно вам кое-что сказать. Они прошли в гостиную, где Лоран увидел чемоданы. — Завтра я уезжаю в Италию, — сказал американец, предлагая ему превосходные сигары и свечу, хотя сам он не курил, — и не хочу расставаться с вами, прежде чем мы не поговорим об одном деликатном деле, таком деликатном, что, если вы перебьете меня, мне трудно будет найти подходящие слова, чтобы выразить свою мысль по-французски. — Клянусь вам быть немым как могила, — сказал, улыбаясь, Лоран, удивленный и немало встревоженный таким предисловием. Палмер продолжал: — Вы любите мадемуазель Жак, и мне кажется, что и она вас любит. Быть может, вы ее любовник; если нет, то я уверен, что вы им станете. О, вы обещали мне не говорить ни слова. Не говорите ничего, я ни о чем вас не спрашиваю. Я верю, что вы достойны той чести, которую, как я думаю, она вам оказывает, но боюсь, что вы недостаточно хорошо знаете Терезу и недостаточно прониклись той мыслью, что если ваша любовь для нее почетна, то и ее любовь так же почетна для вас. Я боюсь этого потому, что вы меня о ней расспрашивали, и потому, что, когда при нас обоих кто-то позволил себе недостаточно почтительно говорить о ней, вы взволновались больше, чем я. Значит, вы ничего не знаете; я же знаю все и все вам расскажу, чтобы ваша привязанность к мадемуазель Жак основывалась на уважении и почтении, которых она заслуживает. — Подождите, Палмер! — воскликнул Лоран; хотя ему и не терпелось услышать обещанный рассказ американца, он вдруг с присущим ему благородством усомнился в том, что имеет на это право. — С разрешения ли мадемуазель Жак или по ее приказу хотите вы рассказать мне о ее жизни? — Ни то, ни другое, — ответил Палмер. — Тереза никогда не расскажет вам свою жизнь. — Тогда замолчите. Я хочу знать только то, что она разрешает мне знать. — Хорошо, очень хорошо, — ответил Палмер, пожимая ему руку, — ну, а если то, что я хочу рассказать вам, освободит ее от всяких подозрений? — Тогда почему же она это скрывает? — Из великодушия по отношению к другим. — Ну хорошо, говорите, — не устоял Лоран. — Я не буду никого называть, — начал Палмер. — Скажу вам только, что в одном городе, во Франции, жил богатый банкир, соблазнивший прелестную девушку, гувернантку своей дочери. Родился незаконный ребенок — это было двадцать восемь лет тому назад, как раз в день святого Иакова; так как девочка была записана в муниципальном бюро как рожденная от неизвестных родителей, вместо фамилии ей дали просто имя этого святого — Жак. Эта девочка — Тереза. Банкир дал гувернантке приданое и через пять лет выдал ее замуж за одного из своих служащих, порядочного человека, который ни о чем не догадывался, потому что все дело хранилось в строгой тайне. Девочка воспитывалась в деревне. Отец взял на себя все заботы о ней. Потом ее поместили в монастырь, где она получила очень хорошее образование и была окружена заботами и любовью. В первые годы мать усердно посещала ее, но когда эта женщина вышла замуж, у ее мужа появились подозрения, он ушел со службы у банкира и увез жену в Бельгию, где начал заниматься делами и разбогател. Бедной матери пришлось подавить слезы и подчиниться. Эта женщина всегда живет очень далеко от своей дочери; у нее есть другие дети; после замужества она вела себя безупречно, но никогда не была счастлива. Муж любит ее, но держит взаперти и до сих пор ревнует; она же считает это заслуженным наказанием за свой грех и за свою ложь. Казалось бы, прошли годы, и жена должна была бы признаться, а муж — простить. Так было бы в романе, но нет ничего менее логичного, чем реальная жизнь: эта супружеская пара осталась такой же неуспокоенной, как в первый день их совместной жизни. Муж — влюбленный, встревоженный, грубый, жена — мучимая угрызениями совести, безмолвная и подавленная. Таким образом, Тереза, оказавшись в трудном положении, была лишена советов, помощи, поддержки и утешений матери. Однако же мать любит ее тем сильнее, что она принуждена видеться с дочерью тайно, украдкой, когда ей удается приехать в Париж на день или на два — так, как было недавно. Только несколько лет тому назад ей удалось придумать какой-то предлог и получить разрешение на эти редкие поездки. Тереза обожает свою мать и никогда не признается ни в чем, что могло бы бросить на нее тень. Вот почему она не выносит, чтобы при ней осуждали поведение других женщин. Вы могли подумать, что тем самым она молчаливо требует снисхождения к самой себе. Ничего подобного. Терезе не за что просить прощения для себя, но она все прощает своей матери: такова история их отношений. Теперь я должен рассказать вам историю графини… три звездочки. Так, кажется, говорите вы, французы, когда не хотите называть чьего-либо имени. Эта графиня, которая не носит ни имени, ни титула своего мужа, — Тереза. — Так, значит, она замужем? Она не вдова? — Терпение! Она и замужем, и не замужем. Сейчас поймете. Терезе было пятнадцать лет, когда ее отец, банкир, овдовел и оказался свободным, потому что все его законные дети были уже устроены. Это был прекрасный человек, и, несмотря на совершенную им ошибку, о которой я рассказал вам и которой я не извиняю, его невозможно было не любить, такой он был умный и щедрый. Я был к нему очень привязан. Он доверил мне историю рождения Терезы и не раз брал меня с собой, когда навещал ее в монастыре. Она была красива, образованна, мила, сердечна. Я думаю, он хотел, чтобы я решился просить у него ее руки; но в то время сердце мое не было свободно, а то бы… Но я не мог и думать об этом. Тогда он стал наводить у меня справки об одном молодом португальце, дворянине, очень красивом, который бывал у него и у которого были большие владения в Гаване. Я встречал этого португальца в Париже, но по-настоящему не знал его и поэтому не стал высказывать о нем никаких суждений. Он всех очаровывал, но что до меня, я никогда не доверился бы человеку с таким лицом; это был граф ***, за которого Тереза через год вышла замуж. Мне пришлось уехать в Россию; когда я вернулся, то узнал, что банкир внезапно умер от апоплексического удара, а Тереза была уже замужем, замужем за этим незнакомцем, этим безумцем, я не хочу сказать — за этим подлецом, раз она могла любить его даже после того, как открыла его преступление: этот человек был уже женат в колониях, когда имел неслыханную дерзость просить руки Терезы и жениться на ней. Не спрашивайте меня, как мог отец Терезы, человек умный и опытный, позволить так одурачить себя. Я повторяю вам то, что знаю слишком хорошо по собственному опыту: в этом мире сплошь и рядом случаются вещи, противоположные тому, что, казалось, должно было бы случиться. В последние годы своей жизни банкир допустил еще другие оплошности, позволявшие предполагать, что ум его в то время уже не был таким ясным, как прежде. Он завещал Терезе часть своего имущества, вместо того чтобы передать ей ее приданое из рук в руки. Это наследство свелось к нулю из-за наличия законных наследников, и Тереза, обожавшая своего отца, не захотела судиться, даже имея шансы на успех. Она оказалась разоренной как раз в то время, когда стала матерью. Тогда же к ней приехала разъяренная женщина, которая предъявила свои права и хотела устроить скандал; это была первая и единственная законная жена ее мужа. Тереза вела себя с необыкновенным мужеством: она успокоила эту несчастную и взяла с нее обещание не подавать в суд; она добилась от графа, чтобы он вернулся к первой жене и уехал с ней в Гавану. В связи с обстоятельствами рождения Терезы и тайной, которою отец окружал свои нежные заботы о ней, свадьба ее произошла безо всякой огласки, за границей; там и жила с тех пор молодая чета. Жизнь их была окутана тайной. Граф, боясь, что его непременно разоблачат, если он вновь появится в свете, уверял Терезу, что он страстно жаждет уединения с ней, и молодая женщина, доверчивая, влюбленная и романтичная, находила вполне естественным, что муж ее путешествует с ней под вымышленной фамилией для того, чтобы избавиться от докучных знакомых. Итак, когда перед Терезой открылся весь ужас ее положения, ей все-таки предоставлялась возможность сохранить все в тайне. Посоветовавшись с надежным юристом, она убедилась в том, что брак ее недействителен, но для того, чтобы его расторгнуть, если она когда-нибудь захотела бы воспользоваться своей свободой, пришлось бы передать дело в суд. Она тотчас же приняла бесповоротное решение лучше остаться ни свободной, ни замужем, нежели запятнать имя отца своего ребенка скандалом и позорным осуждением. Ребенок в любом случае считался бы незаконным, но лучше, чтобы у него не было фамилии и он никогда не узнал бы, от кого родился, чем добиваться для него опозоренного имени ценой бесчестия его отца. Тереза до сих пор любила этого несчастного! Она призналась мне в этом, и он тоже любил ее с какой-то дьявольской страстью. Между ними происходила душераздирающая борьба, невероятные сцены; Тереза защищалась с энергией, не свойственной ее возрасту, я уж не говорю — ее полу. Если женщина — героиня, она не может быть героиней лишь наполовину. Наконец она одержала верх; она оставила у себя ребенка, прогнала бесчестного из своих объятий и была свидетельницей его отъезда с соперницей, которая, несмотря на пожиравшую ее ревность, была побеждена великодушием Терезы и, расставаясь с нею, готова была чуть ли не целовать ей ноги. Тереза уехала за границу, где стала жить под чужим именем, выдавая себя за вдову; она старалась, чтобы ее забыли немногочисленные знакомые, и с болезненной пылкостью целиком посвятила себя своему ребенку. Ребенок этот был ей бесконечно дорог, и она думала, что с ним может утешиться во всем, но и это последнее ее счастье оказалось недолговечным. Так как граф был богат и у него не было детей от первой жены, Терезе пришлось принять (жена графа сама просила ее об этом) приличное содержание, чтобы иметь возможность достойно воспитать сына. Но едва лишь граф отвез свою жену в Гавану, как он тут же снова ее покинул, уехал от нее, вернулся в Европу и бросился к ногам Терезы, умоляя ее бежать с ним и с его ребенком на противоположный край света. Тереза была неумолима: за это время она много думала и молилась. Душа ее окрепла; она больше не любила графа. Как раз из-за своего сына она и не хотела, чтобы такой человек стал хозяином ее жизни. Она потеряла право на счастье, но не потеряла права уважать себя; она оттолкнула графа без упреков, но твердо. Граф угрожал оставить ее без средств к существованию; она ответила, что не боится труда и станет сама зарабатывать себе на жизнь. Этот несчастный безумец решил тогда применить подлое средство, то ли для того, чтобы поставить Терезу в полную зависимость от себя, то ли чтобы отомстить ей за ее сопротивление. Он похитил ребенка и исчез. Тереза помчалась за ним, но он сумел так сбить ее с толку, что она поехала не по той дороге и не догнала его. Вот тогда-то я и встретил ее в Англии, в гостинице, полумертвую от отчаяния и усталости, почти обезумевшую и так измученную горем, что я едва узнал ее. Я уговорил ее отдохнуть и просил, чтобы она поручила действовать мне. Мои поиски увенчались печальным успехом. Граф вернулся в Америку. Ребенок не вынес тяжелого путешествия и умер по приезде. Когда мне пришлось сообщить несчастной это ужасное известие, я сам ужаснулся тому спокойствию, с которым она его выслушала. В течение недели она была словно живая покойница. Наконец она разрыдалась, и тут я понял, что она спасена. Я был принужден оставить ее; она сказала мне, что хочет поселиться там, где я ее встретил. Меня встревожило то, что у нее нет средств к существованию; она обманула меня, сказав, что мать заботится о ней и она ни в чем не нуждается. Позднее я узнал, что ее бедная мать ничем не могла ей помочь: она отчитывалась в каждом сантиме, истраченном на хозяйство. К тому же она ничего не знала о несчастьях своей дочери. Тереза, которая тайком с ней переписывалась, скрыла от нее все, чтобы еще более не огорчать ее. Тереза жила в Англии, давала уроки французского языка, рисования и музыки, потому что у нее были таланты и она имела мужество воспользоваться ими, чтобы не принимать помощи, которую ей могли бы предложить из жалости. Через год она вернулась во Францию и поселилась в Париже, где раньше никогда не бывала и где ее никто не знал. Ей было тогда только двадцать лет; замуж она вышла шестнадцати. Теперь она совсем не была красива, и понадобилось восемь лет отдыха и примиренности со своей судьбой, чтобы вернуть ей здоровье и прежнее ровное и веселое расположение духа. Все это время я видел ее лишь изредка, потому что я постоянно путешествую; она всегда держалась с достоинством и гордостью, работала с непоколебимым мужеством; все вокруг нее сияло такой чистотой и опрятностью, что бедность ее никогда не бросалась в глаза, и она никогда не жаловалась ни на бога, ни на кого другого, не желала говорить о прошлом, иногда втихомолку ласкала детей, но как только кто-нибудь начинал смотреть на нее, оставляла их, должно быть, боясь, что заметят ее волнение. Вот уже три года, как я ее не видел; когда я пришел к вам, чтобы попросить вас написать мой портрет, я как раз искал ее адрес; я справился бы у вас, если бы вы сами мне его не сообщили. Я приехал накануне и не знал еще, что она наконец имеет успех, живет в достатке и стала знаменитостью. Убедившись во всем этом, я понял, что ее сердце, которое так долго было разбито, еще может жить, любить… страдать или быть счастливым. Попытайтесь сделать ее счастливой, милый Лоран, она вполне это заслужила! И если вы не уверены в том, что не заставите ее страдать, лучше застрелитесь сегодня же, но не возвращайтесь к ней. Вот все, что я хотел вам сказать. — Подождите, — сказал Лоран, очень взволнованный. — Этот граф ***, он еще жив? — К сожалению, да. Люди, которые служат причиной несчастья других, всегда здоровы и выходят невредимыми изо всех опасностей. Они даже никогда не оставляют в покое свои жертвы: этот, например, еще и сейчас имел наглость прислать письмо для Терезы, которое я ей отдал и с которым она поступила должным образом. Слушая рассказ господина Палмера, Лоран думал о том, чтобы жениться на Терезе. Этот рассказ глубоко взволновал его. Монотонные интонации, ярко выраженный акцент и некоторые странные перестановки слов в речи Палмера, передавать которые мы не сочли нужным, произвели на живое воображение его слушателя какое-то странное и жуткое впечатление, как и сама судьба Терезы. Эта дочь без родителей, мать без ребенка, жена без мужа, не была ли она волею рока осуждена на неслыханные страдания? Какое грустное представление, должно быть, составилось у нее о любви и о жизни! Перед ослепленным взором Лорана снова появился сфинкс. Покровы тайны спали, но Тереза теперь казалась ему еще более загадочной: утешилась ли она в своем горе и могла ли утешиться хоть на мгновение? Он пылко обнял Палмера, поклялся, что любит Терезу и что если когда-нибудь добьется ее любви, то каждую минуту своей жизни будет помнить об этих минутах и о том, что рассказал ему Палмер. Потом, обещав американцу не показывать вида, что знает историю мадемуазель Жак, он вернулся домой и написал такое письмо:«Тереза, не верьте ни единому слову из того, что я говорю вам вот уже два месяца. Не верьте тому, что я сказал вам, когда вы испугались, что я могу в вас влюбиться. Я не влюблен, это совсем не то, я безумно люблю вас. Это нелепо, бессмысленно, жалко; но мне, который считал, что я не должен и не могу сказать или написать женщине «Я люблю вас», когда я обращаюсь к вам, эти слова кажутся слишком холодными и слишком сдержанными. Я не могу больше жить с этой тайной, она душит меня, а вы не хотите ее угадать. Сотни раз я собирался покинуть вас, уехать на край света, забыть вас. Через час я уже снова у ваших дверей, и часто ночью, пожираемый ревностью и кляня самого себя, я прошу бога освободить меня от моегонедуга, прошу его, чтобы явился тот неведомый любовник, в существование которого я не верю, которого вы придумали, чтобы я отказался от мечты о вас. Дайте мне увидеть этого человека в ваших объятиях, Тереза, или полюбите меня! Иначе мне остается лишь одно, третье решение — я убью себя и покончу со всем этим… Это подло и глупо, это банальная угроза, повторяемая всеми отчаявшимися влюбленными, но моя ли вина, что такое отчаяние вырывает один и тот же крик у всех, кто ему предается, и неужели я безумец только потому, что наконец становлюсь таким же человеком, как все? Все мои выдумки, изобретенные для того, чтобы оградить мое жалкое существо от этого раскаяния, чтобы не приносить вам вреда и сохранить свободу, ни к чему не привели! Но разве вы можете упрекнуть меня в чем-нибудь, Тереза? Разве я фат или развратник? Ведь я только делал вид, что погряз в пороке, чтобы вы могли поверить в мою дружбу! Почему же вы хотите, чтобы я умер, так и не полюбив, когда вы одна можете научить меня любви и хорошо это знаете? У вас в душе сокровище, вы улыбаетесь при виде несчастного, умирающего от голода и жажды. Время от времени вы бросаете ему мелкую монету; вы называете это дружбой, а ведь это даже не жалость — вы же прекрасно знаете, что капля воды лишь усиливает жажду. И почему вы меня не любите? Быть может, вы уже любили кого-нибудь, кто не стоил меня? Я, правда, не многого стою, но я люблю, а разве это не важнее всего? Вы мне не поверите, вы опять скажете, что я ошибаюсь, как в прошлый раз! Нет, вы не сможете этого сказать, вы солгали бы перед богом и перед самой собой. Вы же видите, что моя мука сильнее меня и что только она вырывает у меня это смешное признание, у меня, который больше всего на свете боится ваших насмешек! Тереза, не считайте меня развращенным. Вы прекрасно знаете, что глубина моей души никогда не была осквернена и что из бездны, куда я бросился сам, я всегда невольно взывал к небу. Вы ведь знаете, что возле вас я чист, как малое дитя, и случалось, вы не боялись охватить руками мою голову, как будто хотели поцеловать меня в лоб. И вы говорили: «Глупая головушка! Тебя следовало бы разбить!» И все же вместо того, чтобы раздавить ее, как голову змеи, вы пытались вдохнуть в нее чистое и горячее дуновение вашей души. Ну что ж, вы достигли своего, и даже слишком, а теперь, когда вы зажгли огонь на алтаре, вы отворачиваетесь и говорите мне: «Пусть этот огонь поддерживает другая! Женитесь, полюбите красивую девушку, нежную и преданную; пусть у вас будут дети, вы будете гордиться ими, у вас будет порядок в доме, семейное счастье, ну, что еще? Все, кроме меня!» А я страстно люблю вас, Тереза, а не себя самого. С тех пор, как я вас знаю, вы делаете все, чтобы заставить меня поверить в счастье, чтобы я захотел быть счастливым. Не ваша вина, что я не стал эгоистом, избалованным ребенком. Но я не такой уж плохой. Я не думаю о том, могла ли бы ваша любовь сделать меня счастливым. Я знаю только, что она стала бы моею жизнью; мне нужна только эта жизнь, счастливая или несчастная, или же смерть».
IV
Терезу глубоко огорчило это письмо. Оно поразило ее, как удар грома. Ее любовь к Лорану была так непохожа на его чувство к ней, что она вообразила, в особенности перечитывая выражения, которые он употреблял в своем письме, будто у нее только привязанность, а совсем не любовь. Сердце Терезы было спокойно, и если страсть начинала опьянять его, то очень медленно, по капле, и Тереза, не замечая этого, считала, что владеет собой, как прежде. Слово «страсть» возмущало ее. «Страстно любить! Мне! — говорила она. — Он думает, я не знаю, что это такое, и хочу снова испить этого отравленного пойла! Что я ему сделала, я, всегда окружавшая его такой заботой и лаской? Почему вместо благодарности он предлагает мне отчаяние, лихорадку и смерть?.. Впрочем, он не виноват, этот несчастный, — думала она. — Он сам не знает, чего хочет, чего требует. Он ищет любви, как философского камня, в который потому и верят так сильно, что не могут его найти. Он думает, что я владею этим камнем и забавляюсь тем, что не хочу его отдать! Ко всему, что он думает, всегда примешивается какой-то бред. Как успокоить его, как отвлечь от фантазии, которая принесет ему одно лишь несчастье? Я сама виновата, и он отчасти прав, говоря это. Стремясь отвлечь его от кутежей, я слишком приучила его к честной привязанности; но он мужчина, и наши отношения кажутся ему неполными. Зачем он обманул меня? Зачем заставил поверить, что он спокоен возле меня? Как мне исправить мою глупую оплошность? Я вела себя не совсем так, как надлежит вести себя женщине, мне надо было держаться более недоступно. Я не знала, что женщина, как бы ни была она холодна, как бы ни устала от жизни, всегда может вскружить голову мужчине. Мне надо было поверить, что я соблазнительна и опасна, как он сказал мне однажды, и угадать, что он отказался от этих слов только для того, чтобы успокоить меня. Значит, это нехорошо, значит, это недостаток — быть лишенной инстинкта кокетства?» И Тереза, погрузившись в прошлое, вспоминала о том, как инстинктивно вела себя со сдержанностью и недоверием, чтобы уберечься от домогательств со стороны других мужчин, которые ей нравились; с Лораном она забыла об этом инстинкте, потому что уважала его как друга и не могла поверить, чтобы он старался обмануть ее, а также — и это нужно признать — потому, что он нравился ей больше всех других. Одна в своей мастерской, она ходила взад и вперед во власти мучительных сомнений, поглядывая то на это роковое письмо, которое она положила на стол, словно не зная, что с ним делать и не решаясь ни развернуть его снова, ни уничтожить, то на мольберт с прерванной работой. Она как раз работала с увлечением и удовольствием, когда ей принесли это письмо и вместе с ним сомнение, тревогу, изумление и страх. Это было похоже на мираж, появившийся на ее пустом и безмятежном горизонте и воскресивший все призраки ее прошлых горестей. Каждое слово, написанное на этой бумаге, было словно песнь смерти, которую она уже слышала в прошлом, словно предсказание новых несчастий. Она попыталась успокоиться, снова взявшись за кисть. Для нее это было верное средство против всех мелких внешних треволнений; но в тот день и оно было бессильно: ужас, внушенный ей этой страстью, ворвался в ее самое чистое и сокровенное святилище, нарушив жизнь, которую она вела теперь. «Поколеблены или уничтожены два условия, необходимые для счастья: работа и дружба», — подумала она, бросив кисть и глядя на письмо. Она провела остаток дня, не в силах ни на что решиться. Одно лишь было для нее ясно: она ответит «нет»; но, решившись сказать это слово, она не стремилась произнести его сразу, с той обидной резкостью женщин, которые боятся, что не устоят, и потому торопятся забаррикадировать свою дверь. Сказать безвозвратное, не оставляющее никакой надежды «нет», чтобы оно вместе с тем не выжгло, словно раскаленным железом, сладкое воспоминание о дружбе, — было для Терезы трудной и горькой задачей. Она сама любила это воспоминание; когда приходится хоронить дорогого покойника, нельзя без боли решиться набросить белую простыню ему на лицо и опустить его в общую могилу. Хочется набальзамировать его, положить в особую гробницу и порой смотреть на нее, молясь за душу того, кого она скрывает. Наступил вечер, но она так и не нашла предлога отказать Лорану, не заставив его слишком сильно страдать. Катрин, заметив, что она почти ничего не ела за ужином, с тревогой спросила, не больна ли она. — Нет, — сказала Тереза, — я просто озабочена. — Ах, вы слишком много работаете, — ответила добрая старушка, — вы не успеваете жить. Тереза погрозила ей пальцем; Катрин знала этот жест, означавший: «Не говори об этом». С некоторых пор в часы, когда Тереза принимала своих немногочисленных друзей, к ней приходил один только Лоран. Хотя двери были открыты для всех, кто хотел навестить Терезу, приходил он один, потому ли, что других не было в Париже (в это время года все уезжали за город, а те, кто жил в деревне, оставались там), потому ли, что знакомые Терезы заметили в ней какую-то озабоченность, невольное и плохо скрытое желание разговаривать только с господином Фовелем. Лоран приходил в восемь часов; Тереза посмотрела на часы и подумала: «Я не ответила ему; сегодня он не придет». И, почувствовав в сердце мучительную пустоту, добавила: «Он никогда больше не должен приходить». Как провести этот бесконечный вечер, эти часы, когда она привыкла беседовать со своим юным другом, делая при этом легкие наброски или занимаясь каким-нибудь женским рукоделием, в то время как он курил, небрежно раскинувшись на подушках дивана? Она подумала было рассеять тоску, навестив подругу, жившую в Сен-Жерменском предместье, с которой она иногда бывала в театре, но та ложилась рано, и пока Тереза добралась бы до нее, время было бы уже слишком позднее. Жила она так далеко, а фиакры в то время двигались так медленно! К тому же пришлось бы одеться, а Тереза, целыми днями ходившая в домашних туфлях, как все художники, которые, работая с увлечением, не терпят ничего, что их стесняет, ленилась облачаться в туалет, приличный для визита. Набросить шаль, закрыть лицо вуалью, послать за фиакром и проехаться шагом по пустынным аллеям Булонского леса? Тереза несколько раз каталась там с Лораном, когда в душные вечера они искали прохлады под сенью листвы. Такие прогулки сильно скомпрометировали бы ее, если бы она бывала с кем-нибудь другим; но Лоран держал в строгом секрете ее доверие к нему, и их обоих забавляла эксцентричность этих таинственных прогулок вдвоем, за которыми не скрывалось никакой тайны. Она вспомнила об этих прогулках, как будто это было уже давно, и вздохнула при мысли, что они больше не повторятся. — Хорошее было время! Все это уже не вернется ни для него, раз он страдает, ни для меня, раз я знаю о его страданиях. В девять часов она попыталась наконец ответить Лорану, как вдруг вздрогнула — раздался звонок. Это он! Она поднялась, хотела сказать Катрин, что ее нет дома. Вошла Катрин: принесли письмо от него. Тереза невольно пожалела, что это был не он сам. В письме было всего несколько слов:«Прощайте, Тереза, вы меня не любите, а я люблю вас, как дитя!»Прочтя эти две строчки, Тереза задрожала с головы до ног. Единственная страсть, которую она никогда не старалась потушить в своем сердце, была материнская любовь. Эта рана, казалось, совсем зарубцевавшаяся, все еще кровоточила, как и ее неутоленное чувство материнства. — Как дитя, — повторяла она, сжимая конверт в дрожащих руках. — Он любит меня, как дитя! Что он говорит, боже мой! Знает ли он, какую боль мне причиняет? «Прощайте!» Мой сын уже умел говорить «Прощай», но он не крикнул мне этого слова, когда его уносили. Я бы услышала его! А теперь я его уже никогда не услышу. Тереза была возбуждена до предела, и, в волнении ухватившись за самый мучительный предлог, она разразилась слезами. — Вы звали меня? — спросила Катрин, входя в комнату. — Боже мой! Что с вами? Вот вы опять плачете, как прежде! — Ничего, ничего, оставь меня, — ответила Тереза. — Если кто-нибудь придет, скажи, что я в театре. Я хочу побыть одна. Мне нездоровится. Катрин вышла через сад. Она видела, что Лоран украдкой пробирается вдоль живой изгороди. — Не надо дуться, — сказала она ему. — Не знаю, почему моя хозяйка плачет, но, наверное, по вашей вине. Вы ее огорчаете. Она не хочет вас видеть. Пойдите попросите у нее прощения! Катрин, несмотря на свое уважение и преданность Терезе, была убеждена, что Лоран ее любовник. — Она плачет? — воскликнул он. — О боже, почему она плачет? Он стремительно промчался через садик и бросился к ногам Терезы, которая рыдала в гостиной, закрыв лицо руками. При виде ее слез Лоран пришел бы в восторг, если бы он был тем повесой, каким иногда хотел казаться; но сердце у него было удивительно доброе, а Тереза владела тайным искусством пробуждать в нем его настоящие чувства. Слезы, которыми она обливалась, в самом деле глубоко тронули его. Он на коленях стал умолять ее и на этот раз забыть его безумную выходку и успокоить его своею нежностью и рассудительностью. — Я хочу только того, чего хотите вы, — сказал он, — и если вы оплакиваете нашу погибшую дружбу, клянусь вам, что она оживет и я не буду больше причинять вам огорчений. Но послушайте, моя нежная и добрая Тереза, моя дорогая сестра, будем искренни, потому что я не в силах больше вас обманывать! Будьте мужественны и примите мою любовь, как печальное открытие, сделанное вами, и как недуг, от которого вы не откажетесь излечить меня терпением и жалостью. Я сделаю все, чтобы излечиться, клянусь вам! Я не прошу у вас даже поцелуя, быть может, мне не так трудно будет обойтись без него, как вы можете подумать, потому что я еще не знаю, люблю ли я вас чувственной любовью. Нет, правда, я не верю, чтобы это было так. Возможно ли это после того, как я вел такую жизнь, которую могу продолжать и сейчас, если захочу. Я томлюсь душевной жаждой; чего же вам ее бояться? Отдайте мне частицу вашего сердца и возьмите мое, все без остатка. Разрешите мне любить вас и не говорите больше, что это для вас оскорбление; я прихожу в отчаяние, когда вижу, что вы презираете меня так, что даже не хотите позволить мне, хотя бы в мечтах, надеяться на вашу любовь… Это так унижает меня в собственных глазах, что мне хочется убить этого несчастного, который нравственно вам гадок. Вытащите меня лучше из грязи, куда я упал, прикажите искупить мою скверную жизнь и стать достойным вас. Да, оставьте мне надежду! Какой бы слабой она ни была, она поможет мне стать другим человеком. Вы увидите, увидите, Тереза! Одна лишь мысль — работать для того, чтобы подняться в ваших глазах, — уже придает мне силы, я это чувствую; не отнимайте их у меня. Что станет со мной, если вы меня оттолкнете? Я опущусь на столько же ступеней ниже, на сколько я поднялся с тех пор, как знаю вас. Все плоды нашей священной дружбы будут потеряны для меня. Вы пытались излечить больного, а вместо этого убьете его! Останетесь ли вы довольны тем, что сделали, не будете ли упрекать себя в том, что не достигли лучшей цели, вы, такая великодушная и добрая? Будьте для меня сестрой милосердия, которая не только перевязывает раненого, но старается примирить его душу с небом. Прошу вас, Тереза, не отнимайте от меня своих благородных рук, не отворачивайте вашей головки, которой страдание придает еще больше прелести. Я не встану с колен, пока вы если не позволите мне любить вас, то по крайней мере простите мне мою любовь! Терезе пришлось принять эти излияния всерьез, потому что Лоран был искренен. Оттолкнуть его с недоверием значило бы признаться в слишком сильном чувстве к нему; женщина, не скрывающая своего страха, уже побеждена. Поэтому Тереза держалась смело; быть может, она и в самом деле не боялась, воображая, что у нее еще достанет сил оттолкнуть его. К тому же самая ее слабость внушила ей правильное решение. Разрыв в этот момент привел бы к мучительным волнениям; лучше было утишить их, чтобы потом ловко и осторожно отдалить от себя Лорана. На это могло потребоваться несколько дней. Лоран был так переменчив и так легко переходил от одной крайности к другой! Они успокоились, помогая друг другу забыть бурю и даже пытаясь посмеяться над ней, стараясь ободрить друг друга на будущее; но что бы они ни делали, их отношения резко изменились и стали неизмеримо интимнее. Страх перед разлукой сблизил их, и хоть они и клялись, что ничего не изменилось в их дружбе, во всех их словах и мыслях появилась какая-то душевная истома, нечто вроде утомления, смешанного с нежностью: оба они уже отдавались во власть любви! Катрин принесла чай и своими простодушными и материнскими заботами помогла им, как она говорила, окончательно помириться. — Лучше бы вы съели крылышко цыпленка, — сказала она Терезе, — чем портить себе желудок этим чаем. Знаете ли вы, — обратилась она к Лорану, указывая на свою хозяйку, — что она не дотронулась до обеда? — Ну, тогда пусть она скорее ужинает! — воскликнул Лоран. — Не говорите «нет», Тереза, вам нужно поесть! Что сталось бы со мной, если бы вы заболели? И так как Тереза отказалась есть, потому что у нее и в самом деле не было аппетита, по знаку Катрин, поощрявшей его настойчивость, Лоран заявил, что сам он голоден, и это была правда, потому что он забыл пообедать. Тут Тереза стала с удовольствием угощать его ужином, и они впервые вместе сели за стол — в одинокой жизни Терезы это было немаловажным событием. Еда за одним столом очень сближает. Вы сообща удовлетворяете потребность вашего материального существа, а если искать здесь более возвышенный смысл, то можно назвать это приобщением — само слово раскрывает этот смысл. Лоран, чьи мысли часто даже среди шуток принимали поэтический оборот, смеясь, сравнил себя с блудным сыном, для которого Катрин торопилась закласть жирного тельца. Этот жирный телец предстал в виде щуплого цыпленка, что, естественно, рассмешило обоих друзей. Он был так мал по сравнению с аппетитом молодого человека, что Тереза встревожилась. В квартале, где она жила, нельзя было ничего купить, а Лоран не хотел затруднять старушку Катрин. В буфете нашли огромную банку желе из гуявы. Это был подарок Палмера, который Тереза еще не удосужилась попробовать; Лоран начал уплетать его, с восторгом говоря об этом чудесном Дике, к которому он по глупости начал было ревновать Терезу, теперь же он любил его всем сердцем. — Видите, Тереза, — сказал он, — какими несправедливыми делает нас горе! Верьте мне, детей надо баловать. Хорошими становятся только те, с которыми обращались ласково. Дайте же мне побольше гуявы и делайте так всегда! Суровость — это не только желчь, это смертельный яд! Когда подали чай, Лоран заметил, что он насыщался, как эгоист, а Тереза только делала вид, что ест, а на самом деле ни к чему не притронулась. Он упрекнул себя за свое невнимание и признался в нем; потом, отпустив Катрин, он сам захотел приготовить чай и подать его Терезе. Впервые в жизни он кому-то прислуживал и наивно удивился, почувствовав при этом утонченное удовольствие. — Теперь я понимаю, что можно быть слугой и любить свое положение, — сказал он Терезе, на коленях подавая ей чашку. — Нужно только любить своего хозяина. Со стороны некоторых людей самое незначительное внимание представляет необыкновенную ценность. В манерах Лорана и даже в его движениях и позах была какая-то жесткость, не покидавшая его даже тогда, когда он общался со светскими женщинами. Он прислуживал им с церемонной холодностью, как будто выполняя правила этикета. У Терезы, которая встречала его в своем маленьком доме как добродушная женщина и жизнерадостная художница, за ним всегда предупредительно ухаживали, и ему приходилось принимать это как должное. Разыгрывать домочадца значило бы обнаружить плохой вкус и неумение вести себя. И вдруг теперь, после всех этих слез и взаимных излияний, Лоран, не отдавая себе в том отчета, оказался облеченным правом, которое ему не принадлежало, но которым он завладел по вдохновению, а Тереза, удивленная и растроганная, не могла оспаривать у него это право. Казалось, он был у себя дома и завоевал привилегию заботиться о хозяйке как любящий брат или старый друг. И Тереза, не думая об опасности, которой угрожали ей эти заботы, следила за ним широко раскрытыми удивленными глазами и думала о том, как глубоко она ошибалась, принимая до сих пор это нежное и преданное дитя за высокомерного и мрачного человека. И все-таки ночью Тереза много думала; но наутро Лоран не дал ей даже перевести дух, совсем не преднамеренно, а просто потому, что сам он жил теперь, не переводя дыхания. Он послал ей роскошные цветы, экзотические лакомства и такую нежную, кроткую и почтительную записку, что она невольно растрогалась. Он писал, что он самый счастливый из смертных, что он ничего не желает, кроме прощения, а теперь, получив его, чувствует себя королем вселенной. Он соглашался на все лишения, на любую суровость с ее стороны, только бы ему было позволено видеть и слышать свою подругу. Лишиться этого было выше его сил; все остальное в счет не шло. Он говорил, что Тереза не может его любить, что он это хорошо знает, и тут же, на десять строк ниже, писал: «Разве наша святая любовь не будет длиться вечно?» И так по сто раз в день утверждал он и за и против, и правду и ложь с чистосердечием, в которое сам, конечно, верил, окружая Терезу изысканными заботами, всем сердцем желая внушить ей доверие к чистоте их отношений и каждую минуту говоря о том, как он боготворит ее; потом, стараясь развлечь Терезу, когда видел, что она чем-то озабочена, рассмешить, когда видел, что она грустна, и разжалобить, когда она журила его, он незаметно добился того, что его воля стала ее волей, а его жизнь — ее жизнью. Такая нежная дружба между мужчиной и женщиной, даже когда оба они твердо решили не обольщать друг друга, может быть очень опасной, если ни один из них не внушает другому тайного физического отвращения. Люди искусства из-за своей независимой жизни и своей работы, которая часто заставляет их пренебрегать общественными условностями, больше подвержены этим опасностям, чем те, кто ведет правильный и положительный образ жизни. Поэтому надо прощать им их более неожиданные увлечения и более пылкие чувства. Общественное мнение это сознает: обычно оно снисходительнее к артистам, которые поневоле бродят среди бурь, чем к тем, кого баюкает спокойный штиль. А потом свет требует от художников пламенного вдохновения, но что же делать, если этот огонь, пылающий для наслаждения и восторгов публики, сжигает и самих творцов! Тогда жалеют их, и благодушный обыватель, который, узнав об их горестях и трагедиях, возвращается вечером в лоно семьи, говорит своей славной и нежной подруге: — Знаешь, эта бедная девушка, которая пела так хорошо, — она умерла с горя. А этот знаменитый поэт, который писал такие прекрасные вещи, — он покончил с собой. Очень жаль, женушка… Все эти люди плохо кончают. Зато мы, простые смертные, мы счастливы… И этот благодушный обыватель прав. Однако же Тереза долго жила если не как добрая мещанка, потому что для этого надо иметь семью, а Бог отказал ей в семье, то, во всяком случае, как трудолюбивая работница. Она работала с самого утра, а вечером не опьянялась ни наслаждениями, ни негой. Ее всегда тянуло к правильной домашней жизни, она любила порядок, и, совсем не стараясь, как некоторые художники, афишировать свое презрение к тем, кого они в то время называли мелочными торговцами, она горько жалела, что не вышла замуж за посредственного, но верного человека из этой скромной среды, с которым вместо таланта и славы она наслаждалась бы прочной привязанностью и покоем. Но нам не дано выбирать себе судьбу: она, как молния, поражает не только безумцев и гордецов, но и многих других неосторожных людей.
V
Тереза не питала слабости к Лорану в том насмешливом и легкомысленном значении, которое обычно придается этому слову. После долгих ночей мучительного раздумья она по своей воле сказала ему: — Я хочу того же, чего хочешь ты; мы зашли так далеко, что исправить ряд совершенных нами ошибок мы можем, только совершив новую. Я виновата перед тобой в том, что у меня не хватило эгоизма и осторожности бежать от тебя; но пусть лучше я буду виновата перед самой собой, оставшись твоей подругой и твоим утешением ценою моего покоя и моей гордости… Слушай, — добавила она, изо всей силы сжимая его руку, — никогда не оттолкни мою руку и, что бы ни случилось, имей достаточно чести и мужества и не забудь, что, прежде чем я стала твоею любовницей, я была твоим другом. С первого же дня твоей страсти я сказала себе: нам было так хорошо, когда мы были друзьями; и, конечно, если наши отношения изменятся, нам уже не будет так же хорошо; но я не могу быть счастлива, если ты перестал разделять мое счастье и если в наших отношениях, приносящих тебе и муки и радости, преобладают теперь страдания. Я только прошу тебя: если придет день, когда ты устанешь от моей любви, как устал от моей дружбы, вспомни, что я бросилась в твои объятия не в минуту страсти, а следуя порыву своего сердца и чувству более нежному и более прочному, чем опьянение сладострастием. Я не лучше других женщин и не присваиваю себе права быть неуязвимой, но я люблю тебя так горячо и так свято, что никогда не уступила бы тебе, если бы моя стойкость могла спасти тебя. Сначала ты думал, что эта стойкость для тебя благотворна, что она укрепляет и твою силу воли и помогает тебе очиститься от пагубного прошлого; теперь же ты уверился в обратном и уверился до того, что все получилось наоборот: ты становишься раздражительным, и кажется, если я буду сопротивляться, готов меня возненавидеть, готов вернуться к разврату и даже проклясть нашу несчастную дружбу. Так вот, ради тебя я приношу в жертву Богу свою жизнь. Если мне придется страдать из-за твоего характера или из-за твоего прошлого, пусть будет так. Я буду достаточно вознаграждена, если спасу тебя от самоубийства, к которому ты был так близок, когда мы познакомились. Если мне это не удастся, то я по крайней мере попытаюсь, и Бог простит мне мою бесполезную преданность — Он ведь знает, как она искренна. В первые дни их союза Лоран был полон восторга, благодарности и веры в будущее. Никогда еще он не испытывал столь возвышенных чувств; теперь у него бывали религиозные порывы, он благословлял свою дорогую возлюбленную за то, что с ней он познал истинную любовь, чистую и благородную, о которой он так мечтал, думая, что навсегда лишился ее по своей воле. По его словам, Тереза как бы вновь погружала его в крестильную купель и прогоняла у него даже воспоминание о ненавистных днях прошлого. Это было обожание, поклонение, культ. Тереза наивно поверила в эти чувства. Она была бесконечно рада, что подарила ему такое блаженство и вернула величие этой избранной душе. Она забыла все свои тревоги и смеялась над ними как над пустыми опасениями, которые она было приняла за серьезные причины для страха. Они вместе смеялись над этими сомнениями, они упрекали друг друга в том, что каждый из них с первого дня не понял другого и не бросился ему на шею, — ведь они были созданы для того, чтобы понимать, обожать и ценить друг друга. Больше не было разговоров об осторожности и о клятвах. Тереза помолодела на десять лет. Это было дитя, в большей степени дитя, чем даже Лоран; она не знала, что придумать, стараясь создать ему блаженную жизнь, чтобы ни одно пятнышко не омрачало его счастье. Бедная Тереза! Ее опьянение не длилось и недели. Почему такое ужасное возмездие тяготеет над теми, кто злоупотребляет силами своей молодости? Они уже не способны вкушать сладость гармоничной и разумной жизни. Разве уж такой он преступник, этот юноша, который, окрыленный необъятными надеждами, безудержно бросается в свет и думает, что может обнять все проходящие мимо призраки, вкусить от всех зовущих его наслаждений? Разве грех его не что иное, как неведение, и мог ли он затвердить в колыбели, что жизнь — это вечная борьба с самим собой? Среди этих юношей, право же, есть такие, которых можно пожалеть; их трудно осудить: быть может, у них не было опытного наставника, осторожной матери, серьезного друга, искренней первой возлюбленной. Головокружение началось у них с первых же шагов; разврат бросился на них, как на добычу; он превратил в грубых скотов тех, у кого чувственность преобладала над душой, и сделал безумцами таких, кто, как Лоран, метался между грязью действительности и идеалами своих грез. Вот о чем думала Тереза, чтобы оправдать свою любовь к этой страдающей душе, вот почему она терпела обиды, о которых мы сейчас расскажем. Седьмой день их счастья оказался последним; судьба была неумолима; это мрачное число навсегда запечатлелось в памяти Терезы. Внешние обстоятельства способствовали тому, что их вечное блаженство продлилось целую неделю: никто из близких не навещал Терезу, у нее не было спешной работы; Лоран обещал снова взяться за кисть, как только сможет вернуться в свою мастерскую, над перестройкой которой сейчас трудились рабочие. В Париже стояла удушливая жара; он предложил Терезе поехать на двое суток за город, в лес. Это был седьмой день. Они отправились на пароходе и к вечеру прибыли в гостиницу, откуда после обеда вышли прогуляться по лесу при восхитительном лунном свете. Наняли лошадей и проводника, который, однако, скоро надоел им своей назойливой болтовней. Проехав две мили, они оказались у подножия скалистого холма. Лоран знал это место. Он предложил отослать лошадей и проводника и вернуться пешком, даже если будет довольно поздно. — Не знаю, почему бы нам не провести в лесу всю ночь, — сказала Тереза. — Тут нет ни волков, ни разбойников. Останемся здесь столько, сколько тебе захочется; если тебе угодно, можем совсем не возвращаться. Они остались вдвоем, и тут-то произошла странная, почти фантастическая сцена, которую нужно рассказать так, как это было на самом деле. Они поднялись на вершину скалы и сели на густой, высохший за лето мох. Лоран смотрел на великолепное небо, на котором лунный свет затмевал сияние звезд. Только две или три самые крупные звезды сверкали над горизонтом. Лежа на спине, Лоран созерцал их. — Хотел бы я знать, — сказал он, — как называется вон та звезда, она почти над самой моей головой и как будто смотрит на меня. — Это Вега, — ответила Тереза. — Так ты знаешь названия всех звезд? Ну да, ведь ты ученая женщина! — Некоторые знаю. Это не трудно; за четверть часа ты, если захочешь, узнаешь столько же, сколько знаю я. — Нет уж, спасибо. Я решительно не хочу этого знать: лучше я сам буду придумывать им имена. — Ты прав. — Мне больше нравится бродить наудачу по этим линиям, начертанным там, в небе, и составлять созвездия, слушаясь своей фантазии, чем следовать за прихотью других. В общем, может быть, я ошибаюсь, Тереза, но, по-моему, ты любишь проторенные тропинки! Правда? — По ним легче ходить моим слабым ногам. У меня ведь нет семимильных сапог, как у тебя! — Насмешница! Ты прекрасно знаешь, что ты сильнее меня и можешь ходить гораздо больше! — Просто потому, что у меня нет крыльев, я не могу улететь. — Попробуй только раздобыть их и улететь от меня! Но не будем говорить о разлуке, а то от этого слова еще дождь пойдет! — Ну, кто о ней думает? Не повторяй это гадкое слово! — Нет, нет! Не будем думать о ней, не будем! — воскликнул он, порывисто вставая. — Что с тобой? Куда ты? — спросила она. — Не знаю, — ответил он. — Ах нет, знаю… Кстати… Здесь в одном месте удивительное эхо, и когда я в последний раз приезжал сюда с этой малюткой… тебе ведь не интересно знать ее имя, правда? Я с большим удовольствием слушал ее, когда она пела там, напротив, на том холме. Тереза ничего не ответила. Он сообразил, что такое несвоевременное воспоминание об одном из его неблаговидных знакомств было совсем неуместно среди романтической ночной прогулки с повелительницей его сердца. Почему он вспомнил об этом? Каким образом имя падшей женщины возникло у него на устах? Он с болью ощутил свою бестактность; но вместо того чтобы простодушно раскаяться и загладить ее потоками нежных слов — ведь он находил их так много, когда страсть вдохновляла его, — он не захотел признать свою вину и спросил у Терезы, не хочет ли она спеть для него. — Я не могла бы сейчас петь, — мягко ответила она. — Я давно уже не ездила верхом и немного устала. — Если только немного, то постарайтесь, Тереза, это доставило бы мне такое наслаждение! Тереза была слишком горда, чтобы обижаться, она только огорчилась. Отвернувшись, она сделала вид, что кашляет. — Ну, значит, вы только слабая женщина, — сказал он, смеясь. — И потом, я вижу, вы не верите в мое эхо. Я хочу, чтобы вы его услышали. Побудьте здесь. Я полезу наверх. Надеюсь, вы не боитесь остаться одна на пять минут? — Нет, — грустно ответила Тереза, — совсем не боюсь. Чтобы взобраться на другую скалу, надо было сначала спуститься в неглубокий овраг, отделявший ее от той, на которой они сидели, но этот овраг был глубже, чем казалось. Когда Лоран, спустившись наполовину, увидел, сколько ему еще нужно пройти, он остановился, боясь оставить Терезу одну на такое долгое время, и, громко окликнув ее, спросил, не звала ли она его обратно. — Нет, совсем нет! — крикнула она в ответ, не желая противиться его фантазии. Невозможно объяснить, что тут произошло в голове Лорана; он принял это «совсем нет» за резкость с ее стороны и, продолжая спускаться, но уже медленнее, стал размышлять: «Я обидел ее, и вот она уже дуется на меня, как в те времена, когда мы играли в брата и сестру. Неужели она не избавит меня от таких причуд и теперь, когда она стала моей любовницей? Но чем же я ее обидел? Конечно, я был неправ, но сказал я это непреднамеренно. Ведь невозможно же, чтобы у меня в памяти никогда не возникали обрывки моего прошлого. Неужели каждый раз это будет оскорблением для нее и огорчением для меня? Что ей за дело до моего прошлого, раз она приняла меня таким, какой я есть? Но все же я был неправ! Да, я был неправ, но неужели ей самой никогда не случится говорить о том прохвосте, которого она любила и женой которого она себя считала? Волей-неволей Тереза будет вспоминать при мне о днях, прожитых ею без меня, и разве я должен считать это преступлением?» Лоран тут же ответил самому себе: «Да, конечно, я бы не вынес этого! Значит, я поступил очень дурно и должен был сейчас же попросить у нее прощения». Но он уже дошел до того состояния нравственной усталости, когда душа пресытилась восторгами и когда жестокое и слабое существо, которым в большей или меньшей степени является каждый из нас, готово было вновь вступить в свои права. «Опять каяться, опять обещать, опять уверять, опять умиляться? Да что это? — подумал он. — Неужели она не может быть счастливой и довериться мне хотя бы в течение недели? Тут моя вина, это правда, но она еще больше виновата в том, что портит мне эту дивную поэтическую ночь, которую я хотел провести с ней здесь, в одном из самых прекрасных уголков мира. Я приезжал уже сюда с кутилами и веселыми девицами, это правда, но в какой же уголок окрестностей Парижа я мог бы повезти ее, где бы у меня не всплывали все те же докучные воспоминания? Разумеется, они меня совсем не опьяняют, и с ее стороны почти жестоко упрекать меня за них». Так, молча отвечая на упреки, которые Тереза, вероятно, также молча обращала к нему, он спустился на самое дно долины. Он был смущен, чувствовал себя усталым, как после ссоры, и в изнеможении с досадой бросился на траву. Вот уже целую неделю он не принадлежал себе; он испытывал потребность вновь завоевать себя и хоть на мгновение почувствовать себя одиноким и непокоренным. Со своей стороны, Тереза была очень огорчена и в то же время испугана. Почему это слово «расстаться» было брошено им как зловещий крик в том спокойном воздухе, которым они дышали вместе? По какому поводу? Чем она вызвала этот крик? Она напрасно искала ответа. Лоран сам не мог бы объяснить ей этого. Все, что он говорил потом, было грубо, жестоко. До какой степени он, наверное, был раздражен, если мог сказать это, он, человек с таким изысканным воспитанием? И почему он пришел в такой гнев? Не гнездилась ли в нем змея, которая жалила его в сердце, вырывая у его помутившегося разума эти святотатственные слова? Она провожала его глазами по склону утеса, пока он не вошел в густую тень оврага. Теперь она не видела его и удивилась, почему он так долго не появляется на склоне другого холма. Она испугалась: вдруг там была пропасть и он упал в нее? Ее взгляд напрасно вопрошал глубину заросшего травой оврага, усеянного большими темными валунами. Она уже хотела встать и попытаться позвать его, когда до нее донесся крик невыразимого отчаяния, такой хриплый, страшный и безнадежный, что волосы поднялись у нее на голове. Она стрелой помчалась в том направлении, откуда донесся его голос. Если бы там в самом деле была пропасть, Тереза, не раздумывая, бросилась бы в нее, но это был только крутой откос. Спускаясь, она несколько раз поскользнулась и разорвала себе платье о кусты. Ничто не остановило ее; сама не зная как, она прибежала к Лорану; он стоял, устремив перед собой дикий взгляд и дрожа с ног до головы. — Ах, вот и ты, — сказал он, схватив ее за руку. — Как хорошо, что ты пришла! Иначе бы мне конец! И, как Дон Жуан после ответа статуи, он добавил резко и отрывисто: — Уйдем отсюда! Он увлек ее с собой на дорогу, шагая наудачу и не отдавая себе отчета в том, что с ним произошло. Прошло четверть часа, прежде чем он наконец пришел в себя, и они сели на просеке. Они сами не знали, где находились: повсюду виднелись плоские скалы, похожие на могилы; между ними росли кусты можжевельника, которые ночью можно было принять за кипарисы. — Боже мой! — сказал вдруг Лоран. — Мы на кладбище? Зачем ты привела меня сюда? — Это просто дикая пустошь, — ответила она. — Мы сегодня проезжали много таких мест. Если тебе здесь не нравится, не будем тут останавливаться, вернемся под деревья. — Нет, останемся здесь, — возразил он. — Если случай или судьба внушают мне эти мысли о смерти, лучше смело отдаться им и исчерпать весь их ужас. В этом есть своя прелесть, как и во всем остальном, не правда ли, Тереза? Все, что способно сильно поразить воображение, доставляет нам более или менее острое удовольствие. Когда с эшафота должна упасть голова, толпа идет смотреть на такое зрелище, и это вполне естественно. Нам недостаточно одних только сладких волнений; нам нужны и потрясения, чтобы мы могли изведать жизнь во всей ее силе. Так бессвязно он говорил в течение нескольких минут. Тереза не смела расспрашивать его и старалась его развлечь; она прекрасно поняла, что у него только что был приступ болезненного бреда. Наконец, немного успокоившись, он захотел и нашел в себе силы рассказать, что с ним произошло. У него была галлюцинация. Он лежал на траве в овраге, и вдруг в голове у него помутилось. Он слышал эхо, но не слышал песни, и эхо повторяло все тот же непристойный припев. Потом, когда он приподнялся, чтобы отдать себе отчет в этом явлении, он увидел, как перед ним по вереску бежит человек, бледный, в разорванной одежде, с развевающимися по ветру волосами. — Я так хорошо его видел, — сказал он, — что у меня хватило времени подумать, что это запоздалый прохожий, которого подкараулили воры и теперь гонятся за ним; я даже стал искать свою трость, готовый бежать ему на помощь; но трость затерялась где-то в траве, а этот человек все приближался. Когда он был уже совсем близко, я увидел, что он пьян и никто его не преследует. Он прошел, бросив на меня бессмысленный, отвратительный взгляд и скорчив уродливую гримасу ненависти и презрения. Тогда мне стало страшно, я ничком упал на землю — потому что этот человек… был я! Да, это был мой призрак, Тереза! Не пугайся, не думай, что я обезумел, это было видение. Я хорошо это осознал, когда очнулся и понял, что я один и кругом темнота. В таком мраке я не мог бы различить черты человеческого лица, это лицо я видел только в своем воображении, но как четко я видел его, какое оно было страшное, отталкивающее! Это был я, но на двадцать лет старше, с ввалившимися от разврата или болезни щеками, с блуждающим взором, с обвисшими губами, и, несмотря на всю эту притупленность моего существа, в этом призраке еще оставалась сила, чтобы оскорблять меня и бросать вызов моему теперешнему «я». Тогда я сказал себе: «О боже мой! Неужели в зрелом возрасте я буду таким?.. Сегодня на меня нахлынули воспоминания о моем пагубном прошлом, и я невольно высказал их: значит, во мне еще живет тот прежний человек, от которого я уже считал себя свободным? Призрак разврата не хочет отпустить свою добычу, и даже в объятиях Терезы он будет издеваться надо мной и кричать мне: «Слишком поздно!» Тогда я встал, чтобы пойти к тебе, моя бедная Тереза. Я хотел просить у тебя прощения за свою жалкую слабость и умолять, чтобы ты защитила меня; но не знаю, в течение скольких минут или веков я стал бы кружиться на месте, не в силах идти вперед, если бы ты наконец не пришла. Я тебя тотчас же узнал, Тереза, я не испугался тебя, и мне сразу стало легко. Из слов Лорана трудно было понять, рассказывал ли он действительно пережитое им, или в мозгу его перемешались образы, возникшие из его горьких мыслей, и картина, увиденная в полусне. Однако он поклялся Терезе, что не уснул на траве и все время отдавал себе отчет в том, где он находится и сколько прошло времени. Этого Тереза тоже не могла определить. Она не знала, куда он скрылся, и время для нее тянулось бесконечно. Она спросила его, страдал ли он прежде такими галлюцинациями. — Да, когда бывал пьян, — ответил он, — но вот уже две недели с тех пор, как ты принадлежишь мне, я бываю пьян только любовью. — Две недели! — с удивлением сказала Тереза. — Нет, меньше, — возразил он, — не придирайся к датам: ты ведь видишь, я еще не совсем в себе. Пойдем, это мне поможет. — Но тебе нужно отдохнуть: надо подумать, как добраться до гостиницы. — А разве мы не туда идем? — Мы идем не в ту сторону; то место, куда мы приехали, остается позади. — Ты хочешь, чтобы я опять прошел мимо этой проклятой скалы? — Нет, пойдем правее. — Но нам надо в прямо противоположную сторону. Тереза настаивала, она не ошибалась. Лоран упрямился, даже рассердился и начал говорить раздраженным тоном, как будто тут было из-за чего ссориться. Тереза уступила и пошла с ним туда, куда он хотел. Она чувствовала себя совсем разбитой от волнения и грусти. Лоран только что говорил с ней тоном, который она никогда не позволяла себе с Катрин, даже когда старушка выводила ее из терпения. Она простила ему это, потому что видела, что он болен, но его мучительное возбуждение тем более пугало ее. Из-за упрямства Лорана они заблудились в лесу, бродили четыре часа и вернулись только на рассвете. Ходить в лесу по мелкому песку, в котором тонет нога, очень утомительно. Тереза выбилась из сил, Лорану же быстрая ходьба только помогала прийти в себя; он и не думал замедлять шагов, чтобы дать ей отдохнуть. Он шел впереди, все утверждая, что найдет правильный путь, время от времени спрашивая ее, не устала ли она, и не догадываясь, что она отвечала «нет» только для того, чтобы он не мучился раскаянием, — ведь он один был виноват во всех их злоключениях. На следующий день Лоран уже не вспоминал о том, что произошло накануне. Правда, этот странный приступ жестоко потряс его,однако таково уж свойство нервных натур: они выздоравливают как по волшебству. Тереза потом даже заметила, что на другой день после таких мучительных испытаний чувствовала себя разбитой, а у него, казалось, появились новые силы. Она не сомкнула глаз, боясь, что он серьезно заболеет, но он принял ванну и был расположен совершить новую прогулку. Казалось, он забыл, как прошлая бессонная ночь испортила их медовый месяц. Печальное впечатление быстро изгладилось и у Терезы. Вернувшись в Париж, она решила, что между ними ничего не изменилось; но в тот же вечер Лорану вздумалось нарисовать карикатуру на Терезу и на себя, изобразить, как оба бродят при луне в лесу, он — с растерянным и отсутствующим видом, она — в порванном платье, разбитая усталостью. Художники так привыкли рисовать шаржи друг на друга, что Тереза забавлялась, глядя на карикатуру, но хотя она тоже рисовала с легкостью и остротой, она ни за что на свете не стала бы делать карикатуры на Лорана и огорчилась, когда увидела, что он в комическом виде изображает эту ночную сцену, столь для нее мучительную. Ей казалось, что существует такая душевная боль, над которой никогда нельзя смеяться. Лоран, вместо того чтобы понять ее, стал еще больше иронизировать над их приключением. Он подписал под своим изображением: «Потерянный в лесу и во мнении своей возлюбленной», а под изображением Терезы: «С сердцем, таким же растерзанным, как и платье». Он назвал свой рисунок: «Медовый месяц на кладбище». Тереза заставила себя улыбнуться; она похвалила рисунок, — несмотря на его шутовской характер, в нем чувствовалась рука мастера, — и ничего не сказала о неудачном выборе сюжета. Она поступила неразумно: лучше бы она с самого начала потребовала от Лорана, чтобы шутки его не резвились где попало в грубых сапогах. Она позволила наступать себе на ноги, потому что боялась, чтобы он опять не заболел и чтобы его мрачный юмор не сменился бредом. После того как ей пришлось еще два-три раза пережить подобные происшествия, Тереза стала сомневаться, подходила ли для этой исключительной натуры та приятная и правильная жизнь, которую она хотела создать своему другу. Она сказала ему: — Быть может, иной раз ты будешь скучать, но скука полезна после головокружения, и когда к тебе окончательно вернется душевное здоровье, ты будешь радоваться каждому пустяку и познаешь настоящее веселье. Но все выходило наоборот. Лоран не признавался в том, что скучает, но он не умел переносить скуку, и у него возникали капризы, то полные горечи, то какие-то странные. Его настроение то поднималось, то падало. Он не мог теперь обходиться без резких переходов от задумчивости к экстазу и от полного безразличия к чересчур шумному выражению своих чувств; такие переходы сделались для него обычными. Счастье, которым он с блаженством упивался в течение нескольких дней, начинало раздражать его, как картина моря во время мертвого штиля. — Ты счастливая, — говорил он Терезе, — каждое утро, просыпаясь, ты чувствуешь, что сердце у тебя все на том же месте. А я теряю свое сердце, пока сплю. Словно чепчик, который нянька надевала мне на ночь, когда я был ребенком: утром она находила его то у меня в ногах, то на полу. Тереза подумала, что безмятежность не может сразу воцариться в этой беспокойной душе, что нужно постепенно приучить ее к покою. Поэтому нельзя было мешать Лорану по временам возвращаться к бурной жизни; но как добиться того, чтобы эти возвраты не были грязью, смертельным ударом по их идеалу? Тереза не могла ревновать к любовницам, которые прежде были у Лорана, но она не представляла себе, как сможет поцеловать его на следующий день после оргии. Работа, за которую он снова принялся с жаром, возбуждала его, вместо того чтобы успокоить, и нужно было вместе с ним искать выхода его силам. Естественным выходом могли бы стать восторги любви, но это снова было возбуждение, после которого Лоран готов был вознестись на седьмое небо; не в силах сделать это, он обращал свой взор в сторону ада, и тогда в мозгу его и даже на лице порой мелькали дьявольские отсветы. Тереза изучила его вкусы и фантазии и удивилась, когда оказалось, что их легко удовлетворить. Лоран любил перемены и неожиданности, ему совсем не нужны были неосуществимые волшебные затеи; достаточно было свести его куда угодно или найти ему забаву, которой он не ожидал. Если вместо того, чтобы обедать с ним дома, Тереза объявляла ему, надевая шляпу, что они пойдут обедать в ресторан, и если вместо одного театра, куда она просила его повести ее, она вдруг решала пойти на совсем другой спектакль, он бывал восхищен этой неожиданной переменой и получал от нее величайшее удовольствие; подчиняясь же какому-нибудь заранее намеченному плану, он испытывал непреодолимую скуку и потребность бранить все. Поэтому Тереза обращалась с ним как с выздоравливающим ребенком, ни в чем ему не отказывала и не считалась ни с какими неудобствами, которые ей самой приходилось при этом терпеть. Первое и самое серьезное неудобство состояло в том, что она погубила для него свою репутацию. Про нее говорили, что она благоразумна, и все это знали. Кое-кто подозревал, что до Лорана у нее был другой любовник; к тому же одна особа распустила слух, что видела ее в Италии с графом ***, имевшим жену в Америке, и с тех пор стали думать, что она была на содержании у того, за кем на самом деле была замужем. Читатель знает, что Тереза скорее согласна была нести на себе это пятно, чем начинать скандальное дело против того негодяя, которого она когда-то любила. И все-таки все считали ее осторожной и разумной. — Она соблюдает внешние приличия, — говорили о ней, — из-за нее никогда не было соперничества или скандалов; все друзья Терезы уважают ее и говорят о ней одно хорошее. Это умная женщина, которая старается жить так, чтобы ее не замечали, и это только умножает ее достоинства. Когда ее начали встречать в городе под руку с Лораном, все удивились, и чем дольше щадили ее, тем сильнее в конце концов стали ее осуждать. Художники очень ценили Лорана, но среди них у него было мало друзей. Его не любили за то, что со щеголями из высших кругов общества он разыгрывал аристократа, а его приятели из этих кругов, со своей стороны, ничего не поняли в новом образе жизни Лорана и не поверили в то, что он навсегда оставил кутежи. Поэтому нежную и преданную любовь Терезы приняли за необузданную прихоть. Разве целомудренная женщина выбрала бы себе в любовники среди всех окружающих ее серьезных людей того единственного, кто вел рассеянную жизнь с самыми отчаянными распутницами Парижа? А тем, кто не захотел осудить Терезу, пылкая страсть Лорана казалась просто удачным волокитством, прихотью, от которой он легко сможет отделаться, как только она наскучит ему. Таким образом, многие осудили мадемуазель Жак за сделанный ею выбор, который она, казалось, нисколько не скрывала. Тереза, конечно, совсем не собиралась выставлять напоказ их связь, но, хотя Лоран и решил окружать ее уважением, с ним невозможно было жить замкнуто. Он не мог отказаться от внешнего мира, и надо было или позволить ему вернуться туда и погибнуть, или сопровождать его, чтобы предотвратить его гибель. Он привык видеть толпу и быть в центре ее внимания. Если ему случалось прожить один день вдали от людей, ему казалось, что он заживо погребен, и он начинал громко кричать, требуя света газовых ламп и солнца. Итак, Тереза пожертвовала уважением к себе; скоро ей пришлось принести еще одну жертву — свою материальную обеспеченность. До сих пор она зарабатывала достаточно, чтобы жить в довольстве; но для этого она должна была вести размеренную жизнь, разумно тратить деньги и своевременно выполнять заказы. Жизнь, полная неожиданностей, восхищавшая Лорана, привела ее к стесненности в средствах. Тереза скрыла это от Лорана, продолжая жертвовать для него главным капиталом художника — драгоценным временем. Но все это было только рамкой для гораздо более мрачной картины, на которую Тереза набрасывала густую завесу; никто не догадывался о том, что она несчастна, и друзья, возмущенные или огорченные ее положением, отдалились от нее, говоря: — Она в опьянении. Подождем, пока у нее глаза откроются; этого ждать недолго! Так оно и случилось. Тереза с каждым днем все более убеждалась в том, что Лоран ее уже не любит или любит такой пагубной любовью, что в их союзе больше не остается надежды на счастье ни для него, ни для нее. В Италии они оба совершенно убедились в этом. Сейчас мы расскажем об их путешествии.VI
Лоран уже давно хотел побывать в Италии; это была мечта, которую он лелеял еще в детстве, и когда он продал несколько своих работ, получив за них такую цену, на которую не надеялся, у него явилась возможность осуществить эту мечту. Он предложил Терезе повезти ее в Италию, с гордостью показав ей свое маленькое состояние и клянясь, что если она не захочет поехать с ним, то и он откажется от этого путешествия. Тереза отлично знала, что это повело бы к сожалениям и упрекам. Поэтому она, со своей стороны, тоже стала стараться собрать деньги. Она достала их, получив аванс за свою будущую работу, и поздней осенью они отправились в путь. Лоран создал себе ложное представление об Италии; он думал, что у Средиземного моря весна царит и в декабре. Пришлось разочароваться в этом: во время перехода морем из Марселя в Геную они страдали от сильного холода. Генуя привела его в восторг — там можно видеть множество произведений живописи, а так как это было главной целью его путешествия, то он охотно согласился остановиться в этом городе на месяц или на два и снял меблированную квартиру. Через неделю Лоран успел уже все посмотреть, а Тереза только стала устраиваться, чтобы начать писать, — нужно сказать, что она не могла обойтись без этого. Чтобы получить несколько тысячефранковых билетов, ей пришлось заключить договор с одним торговцем картинами на несколько копий портретов, гравюры с которых еще не были изданы; эти копии он потом хотел передать граверам. Такая работа не лишена была приятности; торговец, человек со вкусом, просил ее скопировать несколько портретов Ван-Дейка:[210] один в Генуе, другой во Флоренции и в других местах. Тереза и прежде копировала этого мастера; изучая его, она развила свой собственный талант и благодаря этому зарабатывала на жизнь еще до того, как сама начала писать портреты. Но здесь надо было предварительно получить разрешение владельцев этих шедевров, и как бы энергично она его ни добивалась, прошла неделя, прежде чем она смогла начать копию с портрета, находившегося в Генуе. Лоран совсем не был расположен копировать что бы то ни было. Для такого рода работы у него была слишком ярко выраженная индивидуальность и слишком пылкий темперамент. Он иначе воспользовался возможностью видеть великие произведения. Это было его право. Однако же многие крупные мастера не прошли бы мимо такого удобного случая. Лорану еще не было и двадцати пяти лет, он мог еще учиться. Таково было мнение Терезы, которая видела в этом также возможность пополнить его кошелек. Если бы он соблаговолил скопировать одну из картин Тициана, особенно его восхищавших, тот же издатель, с которым имела дело Тереза, без всякого сомнения, купил бы эту копию или продал бы ее какому-нибудь любителю. Лоран нашел эту идею бессмысленной. Пока у него в кармане были хоть какие-то деньги, он не представлял себе, что можно спуститься с заоблачных высот вдохновения и думать о заработке. Он даже подтрунивал над Терезой, сосредоточенно вглядывавшейся в свою модель, заранее насмехался над тем Ван-Дейком, которого она собиралась создать, и даже пытался обескуражить ее, говоря, что она осмелилась взять на себя чересчур уж трудную задачу; потом он начал бродить по городу, не зная, куда девать полтора месяца, в течение которых Тереза должна была закончить работу. Конечно, ей нельзя было терять времени: стоял декабрь с короткими и сумрачными днями, работать было не так удобно, как в ее мастерской в Париже, не хватало дневного света, большой зал плохо или даже совсем не отапливался, и толпы туристов-зевак, которые под тем предлогом, что созерцают шедевр, останавливаясь возле нее, мешали ей своими довольно нелепыми замечаниями. Простуженная, больная, грустная, а главное, испуганная скукой, которую она уже замечала в глазах Лорана, Тереза возвращалась к себе; она или заставала его в дурном настроении, или ждала, пока голод не принудит его вернуться домой. Двух дней не проходило, чтобы он не упрекнул ее за то, что она согласилась на такую отупляющую работу, и чтобы он не предлагал ей от всего отказаться. Разве его денег не хватило бы на двоих, и почему его возлюбленная не соглашалась, чтобы он делил их с нею? Тереза держалась твердо; она знала, что Лоран быстро истратит свои деньги, и, может быть, их даже не хватит на возвращение домой, когда ему надоест Италия. Она умоляла его, чтобы он позволил ей продолжать работу и работал сам так, как считал нужным, потому что всякий художник может и должен работать, если ему надо завоевать себе будущее. Он согласился с ней и решил взяться за кисть. Он распаковал свои ящики, нашел себе мастерскую и сделал несколько эскизов, но от перемены ли воздуха, с непривычки ли или оттого, что он за последние дни видел столько разных шедевров, сильно его взволновавших, и ему требовалось время, чтобы переварить эти впечатления, он вдруг почувствовал, что потерял способность работать, и поддался одному из тех приступов сплина, против которых не мог бороться один. Ему нужны были какие-то необыкновенные впечатления: дивная музыка, струящаяся с потолка, арабский конь, проникший к нему через замочную скважину, неведомый литературный шедевр, вдруг оказавшийся под рукой, или, еще лучше, созерцание морской битвы в генуэзском порту, землетрясение — любое событие, чарующее или грозное, которое оторвало бы его от вечных мыслей о самом себе и воодушевило бы так, что он почувствовал бы себя обновленным. Внезапно, среди этих неясных и бурных стремлений, у него невольно возникла тлетворная мысль: «Подумать только, прежде (так он называл то время, когда еще не любил Терезу) любой шалости было достаточно, чтобы вдохнуть в меня новые силы! Теперь у меня есть многое из того, о чем я мечтал: деньги, а это означает полгода свободы, земля Италии под ногами, море у самых дверей, возле меня возлюбленная, нежная, как мать, и вместе с тем серьезный и умный друг, и всего этого недостаточно, чтобы душа моя ожила! Кто этому виной? Конечно, не я. Я не был избалован, и прежде мне нужно было не много, чтобы рассеяться. Когда я думаю, что любая шипучка ударяла мне в голову так же, как старое вино, что достаточно было любой пикантной мордашки с задорным взглядом и в сомнительном наряде, чтобы я развеселился и вообразил, что после такой победы я уже герой времен Регентства! Нужна ли была мне тогда такая идеальная женщина, как Тереза? Как мог я убедить себя, что для любви мне была необходима физическая и духовная красота? Я умел довольствоваться меньшим, а значит, большее должно было угнетать меня, потому что лучшее враг хорошего. А впрочем, существует ли для наших чувств истинная красота? Истинная красота — это та, которая нам нравится. Той же, которой мы пресытились, словно никогда и не бывало. А потом, есть еще прелесть перемены, и в ней-то, может быть, и заключается смысл жизни. Менять — это значит обновляться; иметь возможность менять — это значит быть свободным. Разве художник рожден для рабства и разве верность или просто данное слово не есть рабство? Лоран позволил захлестнуть себя этим старым софизмам, всегда новым для душ, отклонившихся от правильного пути. Скоро он почувствовал потребность высказать их кому-нибудь и, конечно, высказал Терезе. Кому же еще, раз он больше никого и не видел! Их вечерние беседы всегда начинались почти одинаково: — В этом городе можно умереть со скуки! Однажды он высказал такую мысль: — Здесь, наверное, скучно даже картинам. Я не хотел бы быть моделью, которую ты копируешь. Эта бедная красавица графиня в черном с золотом платье, которая висит тут целых двести лет, если она уже не попала в ад из-за своих нежных глаз, то, конечно, терзается и на небе, видя, что ее портрет заперли здесь, в этой противной стране. — А все-таки, — возразила Тереза, — здесь она по-прежнему пленяет всех красотой, увековеченной рукою мастера, успех ее пережил ее смерть. Хоть она и истлела в могиле, у нее доныне есть обожатели; я каждый день вижу, как молодые люди, впрочем, равнодушные к живописным достоинствам портрета, в восторге останавливаются перед этой красавицей, которая словно дышит и улыбается спокойно и торжествующе. — Знаешь, она похожа на тебя, Тереза! В ней есть что-то от сфинкса, и я не удивляюсь, что ты восхищаешься этой таинственной улыбкой. Говорят, художники всегда создают нечто свойственное их натуре: вполне естественно, что ты избрала портреты Ван-Дейка, чтобы учиться на них. Люди на его портретах всегда величественны, стройны, изящны и горды, как ты сама. — Ну, вот уже и комплименты! Прекрати, а то я вижу, ты сейчас начнешь издеваться! — Нет, я не собираюсь смеяться. Ты ведь знаешь, что я больше не смеюсь. С тобой надо все принимать всерьез: я подчиняюсь приказу. Я хочу сказать одну печальную вещь. Видишь ли, твоей покойной графине, должно быть, страшно надоело всегда быть одинаково прекрасной. После того, что ты сейчас сказала, передо мной возникла такая фантазия. Слушай. Молодой человек, который, вероятно, кое-что понимал в скульптуре, влюбился в мраморную статую, высеченную на гробнице. Он сошел с ума от любви, и этот бедный безумец приподнял однажды каменное изваяние, желая посмотреть, что осталось от этой прекрасной женщины в саркофаге. Глупец! Он обнаружил там то, что должен был обнаружить, — мумию! Тогда к нему вернулся разум, и, обнимая скелет, он сказал: «Такою я люблю тебя еще больше; по крайней мере это ты, ты жила, а я был влюблен в камень, не сознающий даже того, что он существует». — Не понимаю, — сказала Тереза. — И я тоже, — ответил Лоран, — но, может быть, в любви статуя — это то, что создают в голове, а мумия — то, что сохраняют в сердце. Как-то раз он набросал в альбоме Терезу, мечтательную и грустную. Когда она потом перелистала альбом, она нашла в нем дюжину набросков с разных женщин, фривольные позы которых и бесстыдная внешность заставили ее покраснеть. Это были тени прошлого, мелькнувшие в памяти Лорана и прилипшие, быть может, против его воли к этим белым листкам. Тереза молча вырвала тот листок из альбома, в котором она была нарисована среди этих падших созданий, бросила его в огонь, закрыла альбом и оставила его на столе. Затем она села у огня, положила ногу на каминную решетку и заговорила о другом. Лоран не стал мешать ей, но сказал: — Вы слишком горды, дорогая! Если бы вы сожгли все листки, которые вам не нравятся, оставив в альбоме только ваше изображение, я бы это понял и сказал бы вам: «Ты поступила правильно», но вырвать себя и оставить других означает, что вы никогда не окажете мне чести оспаривать меня у кого-либо. — Я оспаривала вас у распутства, — ответила Тереза, — но никогда не стану оспаривать вас ни у одной из этих весталок. — Ну, так это и есть гордыня, я повторяю — это не любовь. А я оспаривал вас у благоразумия и стал бы оспаривать вас у любого из его жрецов-монахов. — Зачем вам оспаривать меня? Разве вам не надоело любить статую? Разве в вашем сердце не мумия? — А, вы придираетесь к словам! Боже мой! Что такое слово? Его можно толковать как угодно. Из-за одного слова могут повесить невинного. Я вижу, с вами надо говорить осмотрительно; может быть, осторожнее нам с вами никогда не беседовать. — Неужели мы дошли уже до этого? Боже мой! — сказала Тереза, заливаясь слезами. Они и в самом деле дошли до этого. Напрасно огорченный Лоран просил у нее прощения; на следующий день все началось сначала. — Что мне делать в этом отвратительном городе? — сказал он ей. — Ты хочешь, чтобы я работал: я тоже хотел этого, но я не могу! Я не рожден, как ты, со стальной пружинкой в мозгу — нужно только нажать кнопку, и твоя воля действует. Я творец! Маленькая или большая, слабая или мощная, это всегда пружина, которая ничего не слушается; только дыхание Бога, когда есть на то его воля, приводит ее в действие. Я ни на что не способен, если я скучаю или мне где-нибудь не нравится. — Как это возможно, чтобы умный человек скучал, — сказала Тереза, — если только он не лишен света и воздуха в подземной темнице? Неужели в этом городе, которым ты так восхищался в первый день, нет ни прекрасных вещей, на которые можно смотреть, ни интересных прогулок в окрестностях, ни хороших книг, ни умных людей, с которыми можно побеседовать? — Я уже сыт по горло здешними красивыми вещами; я не люблю гулять один; лучшие книги меня раздражают, когда они говорят мне о том, чему я не верю. Что до знакомств, которые можно было бы завести… У меня есть рекомендательные письма, но я не могу воспользоваться ими, ты ведь знаешь это? — Нет, не знаю, а почему? — Потому что мои светские друзья, естественно, направляют меня к светским людям; ну, а светские люди не живут в четырех стенах без всяческих развлечений; а так как ты не из их общества, Тереза, так как ты не можешь бывать там со мной, мне бы пришлось оставлять тебя одну. — Только днем, потому что я должна работать там, во дворце! — Днем люди ходят друг к другу с визитами и строят планы на вечер. Ведь во всех странах развлекаются по вечерам, разве ты этого не знаешь? — Ну, так выходи иногда по вечерам, раз это нужно; пойди на бал, на conversazione.[211] Только не играй, это единственное, о чем я прошу тебя. — А я не могу тебе этого обещать. В свете нужно посвятить себя или игре, или женщинам. — Значит, все светские люди или разоряются за игрой, или занимаются волокитством? — Те, кто не делает ни того, ни другого, скучают в свете или наводят скуку на других. Я не салонный болтун. Я еще не настолько пустой человек, чтобы заставлять слушать себя, когда болтаю всякую чепуху. Скажи, Тереза, ты в самом деле хочешь, чтобы я стал бывать в свете, хоть это для нас рискованно и опасно? — Нет еще, потерпи немного, — сказала Тереза. — Увы! Я еще не готова к тому, чтобы потерять тебя так скоро! Горестный тон и душераздирающий взгляд Терезы рассердили Лорана больше обычного. — Ты знаешь, что стоит тебе начать плакаться, и ты всего добьешься от меня, — сказал он, — и ты злоупотребляешь своим могуществом, моя бедная Тереза. Не раскаешься ли ты когда-нибудь, если я заболею и дойду до предела раздражения? — Я уже раскаиваюсь, если я надоела тебе, — ответила она. — Делай тогда что хочешь! — Так, значит, ты бросаешь меня на произвол судьбы? Ты уже устала бороться? Вот видишь, милая, ты сама меня больше не любишь! — Ты говоришь таким тоном, как будто хочешь, чтобы было так! Он ответил «нет», но минуту спустя из его слов стало ясно, что он на все лады повторяет «да». Тереза была слишком серьезна, слишком горда, слишком стыдлива. Она не хотела спускаться с ним с романтических высот. Какое-нибудь вольное слово казалось ей оскорблением, всякое незначительное воспоминание подвергалось ее цензуре. Она была трезвой во всем и ничего не понимала в капризных желаниях и невыполнимых причудах. Из них двоих она была, конечно, лучше, и, если бы она в этом нуждалась, он готов был расточать ей комплименты, но разве в этом было дело? Разве для них обоих не важнее всего было найти возможность ужиться вместе? Прежде она была весела, она кокетничала с ним — теперь у нее пропала охота кокетничать, теперь она была похожа на больную птицу, сидящую на шесте, с растрепанными перьями, с втянутой в плечи головой и потухшим взглядом. Ее бледное, безучастное лицо порой пугало его. В этой большой комнате, которой остатки былой роскоши придавали печальный вид, она казалась ему привидением. Временами он боялся ее. Ну, что бы ей наполнить эти мрачные покои причудливыми песнями и веселым смехом? — Послушай, что нам делать, чтобы стряхнуть эту мертвящую скуку, которая ледяной тяжестью давит мне на грудь? Сядь за рояль и сыграй мне вальс. Я буду вальсировать один. Ты умеешь танцевать вальс? Пари держу, что нет! Ты умеешь все только грустное! — Вот что, — сказала Тереза, вставая, — уедем завтра, а там будь что будет. Ты здесь с ума сойдешь. Быть может, в другом месте будет еще хуже, но я выполню свою задачу до конца. При этих словах Лоран вспылил. Так, значит, она взяла на себя какую-то задачу? Она холодно выполняла долг? Быть может, она принесла обет Пресвятой Деве и посвятила ей своего любовника? Не хватало только, чтобы она стала набожной! Лоран взял шляпу со свойственным ему видом величайшего презрения, как будто собирался навсегда порвать с Терезой. Он вышел, не сказав, куда идет. Было уже десять часов вечера. Тереза провела ночь в ужасной тревоге. Он вернулся на рассвете и заперся в своей комнате, с треском захлопнув дверь. Она не посмела показаться, боясь рассердить его, и бесшумно ушла к себе. Впервые они заснули, не помирившись и не сказав друг другу слов любви. На следующий день, вместо того чтобы идти во дворец и продолжать свою работу, она сложила вещи и приготовила все к отъезду. Лоран проснулся в три часа пополудни и, смеясь, спросил ее, что она затеяла. Он сказал, что пришел в себя, образумился. Всю ночь он гулял один по берегу моря; он размышлял, он успокоился. — Это огромное ворчливое море, которое твердит все одно и то же, вывело меня из терпения, — весело сказал он. — Сначала я сочинял стихи. Я сравнивал себя с морем. Мне хотелось броситься в его прекрасное зеленоватое лоно!.. А потом я решил, что волна однообразна и смешна со своими вечными жалобами на то, что на берегу есть скалы. Если у нее нет сил разрушить их, пусть молчит! Пусть берет пример с меня — я не хочу больше жаловаться! С сегодняшнего утра я пай-мальчик, я решил работать, я остаюсь в Генуе. Я тщательно побрился, поцелуй меня, Тереза, и не будем вспоминать о глупом вчерашнем вечере. И главное — развяжи эти пакеты, убери чемоданы, быстрей, чтобы я больше их не видел! Они как будто упрекают меня, а я этого уже не заслуживаю. Как быстро он нашел себе оправдание! Как далеки были те времена, когда ему достаточно было одного встревоженного взгляда Терезы, чтобы упасть перед ней на колени! А ведь прошло не более трех месяцев. Их развлекло неожиданное событие. Палмер, приехавший в то утро в Геную, пришел к ним обедать. Лоран был в восторге от этой неожиданности. Он, всегда довольно холодный в обращении с другими мужчинами, бросился на шею американцу, называя его посланцем неба. Палмер был скорее удивлен, нежели польщен таким горячим приемом. Ему достаточно было только взглянуть на Терезу, и он тотчас же убедился, что не счастье причина такой экспансивности. Однако же Лоран не говорил ему, что скучает здесь, и Тереза удивилась, слыша, что он хвалит и город, и страну. Он заявил даже, что женщины здесь прелестны. Откуда он это знал? В восемь часов он взял свое пальто и вышел. Палмер тоже хотел уходить. — Почему бы вам не посидеть еще немного с Терезой? — спросил Лоран. — Это доставило бы ей удовольствие. Мы здесь совершенно одни. Я ухожу на час. Подождите меня, я вернусь к чаю. В одиннадцать часов Лоран еще не вернулся. Тереза была очень подавлена. Она напрасно старалась скрыть свое отчаяние. Она уже не тревожилась, она чувствовала, что погибла. Палмер понял все, но притворялся, что ничего не замечает: он беседовал с ней, стараясь развлечь ее, но так как Лоран не приходил и было неприлично ждать его после полуночи, он ушел, тихонько пожав Терезе руку. При этом он невольно дал ей почувствовать, что понимает всю глубину ее отчаяния, хотя она и скрывает его с большим мужеством. В этот момент появился Лоран; он заметил волнение Терезы. Как только они остались одни, он стал насмехаться над ней, стараясь подчеркнуть, что не собирается унижаться до ревности. — Послушайте, — сказала она, — не мучьте меня напрасно. Неужели вы думаете, что Палмер ухаживает за мной? Давайте уедем, я же предлагала вам это. — Нет, милая, я не настолько глуп. Поскольку теперь есть кому составить вам компанию и вы позволяете мне отлучаться одному, все хорошо, и я чувствую, что смогу работать. — Дай-то бог! — сказала Тереза. — Пусть будет так, как вы хотите, но если вы радуетесь тому, что теперь есть кому составить мне компанию, то имейте достаточно такта и не говорите со мной об этом в таком тоне — я этого не потерплю. — Какого черта вы сердитесь? Что я сказал оскорбительного? Вы становитесь слишком обидчивой и подозрительной, дорогая! Что было бы в том дурного, если бы этот добряк Палмер влюбился в вас? — Было бы дурно с вашей стороны оставлять меня с ним вдвоем, если вы действительно думаете то, что говорите. — Ах, я не должен был бы… покидать вас в опасности? Вы, значит, согласны, что опасность существует и что я не ошибся? — Пусть так! Тогда давайте проводить вечера вдвоем и не будем никого приглашать. Я на это согласна. Так решено? — Какая вы добрая, милая Тереза. Простите меня. Я буду оставаться с вами, и мы будем видеться, с кем вы захотите; так будет и лучше и приятнее всего. И в самом деле, Лоран, казалось, образумился. Он начал интересный этюд у себя в мастерской и пригласил Терезу прийти посмотреть его работу. Несколько дней прошло без бурь. Палмер больше не появлялся, но скоро Лоран, устав от этой размеренной жизни, пошел за ним и стал упрекать его в том, что он забыл своих друзей. Но едва Палмер пришел провести с ними вечер, как Лоран отыскал предлог, чтобы уйти, и не возвращался до полуночи. Так прошла неделя, за ней вторая. Из трех или четырех вечеров Лоран один проводил с Терезой, но какой это был вечер! Она предпочла бы одиночество. Где он пропадал? Она так никогда и не узнала об этом. В свете он не появлялся; погода была такая сырая и холодная, что вряд ли он стал бы для развлечения совершать морские прогулки. Однако, по его словам, он часто садился в лодку, и его одежда в самом деле пахла смолой. Он упражнялся в гребле и брал уроки у одного рыбака на побережье, к которому добирался в лодке до рейда. Он говорил, что на следующий день ему лучше работается, если усталость собьет ему нервное возбуждение. Тереза не осмелилась больше заходить к нему в мастерскую. Он раздражался, когда она изъявляла желание посмотреть на его работу. Когда он воплощал свой замысел, он не желал слушать ее соображений; ему не правилось и ее молчание, которое он принимал за осуждение. Он хотел показать ей свое произведение только тогда, когда сочтет его законченным. Прежде он не начинал ничего, не изложив ей свой замысел, теперь он видел в ней только публику. Два или три раза он не ночевал дома. Тереза никак не могла привыкнуть спокойно относиться к его долгому отсутствию. Она вывела бы его из себя, если бы выдала свою тревогу, но, разумеется, она поджидала его и пыталась узнать правду. Самой ей невозможно было ходить вслед за ним ночью в городе, полном матросов и авантюристов всех национальностей. Поручить кому-то следить за ним? Она ни за что не пошла бы на такое унижение. Тереза бесшумно входила к Лорану и смотрела на него, пока он спал. Он казался смертельно усталым. Быть может, он и в самом деле вел отчаянную борьбу с самим собой и старался физическими упражнениями заглушить чрезмерное творческое напряжение. Однажды ночью она заметила, что одежда его была в тине и разорвана, как будто ему пришлось бороться с кем-то или как будто он где-то упал. Испуганная, она подошла к нему и увидела на подушке кровь. На лбу у него была ссадина. Он спал таким глубоким сном, что она, надеясь не разбудить его, приоткрыла ему грудь и посмотрела, нет ли и там ран; но он проснулся и пришел в такую ярость, которая, словно последним ударом, убила все ее чувства к нему. Она хотела убежать, но он удержал ее, надел халат, закрыл дверь и, в волнении расхаживая по комнате, слабо освещенной ночником, излил наконец всю боль, переполнявшую его душу. — Довольно, — сказал он, — давайте будем оба откровенны. Мы друг друга больше не любим, мы никогда друг друга не любили; вы захотели иметь любовника, может быть, я был не первым и не вторым, не все ли равно! Вам нужен был слуга, раб; вы подумали, что мой несчастный характер, мои долги, мое утомление от жизни, мои мечты о настоящей любви поставят меня в полную зависимость от вас и что я никогда не смогу вновь обрести свободу. Чтобы добиться успеха в таком опасном предприятии, вам самой нужно было бы иметь более мягкий характер, больше терпения, больше гибкости, а главное, больше юмора! У вас совсем нет юмора, Тереза, не обижайтесь. Вы вся словно сделаны из одного куска, однообразная, упрямая, вы до предела кичитесь вашей пресловутой умеренностью, а это ведь философия недальновидных людей с ограниченными способностями. Ну, а я безумец, непостоянный, неблагодарный, все, что вам угодно; но я искренний, нерасчетливый, я отдал себя без всякой задней мысли, и потому я так же возвращаю себе свободу. Моя духовная свобода для меня вещь священная, и я никому не позволю завладеть ею. Я доверил вам ее, но не подарил, ваше дело было правильно распорядиться ею и суметь сделать меня счастливым. О, не пытайтесь говорить мне, что вы не хотели мне отдаваться! Знаю я эти уловки скромности и эту изменчивость женской совести. В тот день, когда вы уступили мне, я понял: вы думаете, что завладели мной, и все это ложное сопротивление, эти слезы отчаяния и прощение, всегда дарованные моим домоганиям, были только примитивным искусством забросить в мою сторону удочку и заставить клюнуть бедную рыбку, прельщенную поддельной мухой. Я обманул вас, Тереза, сделал вид, что попался на удочку, — это было мое право. Вы соглашались сдаться только ценой обожания — я расточал вам его без усилий и без притворства; вы красивы, и я вас желал! Но женщина — это только женщина, и последняя из них доставляет нам столько же наслаждения, как и самая великая царица. Вы были так наивны, что не знали этого, но теперь вы должны отдать себе отчет во всем. Вам надо понять, что однообразие мне не подходит, вы должны предоставить меня моим склонностям, которые не всегда возвышенны, но я не могу уничтожить их, не уничтожив себя самого… Что в том дурного и почему при мысли об этом мы рвем на себе волосы? Мы сошлись, а теперь расходимся, вот и все. Нам незачем из-за этого ненавидеть друг друга и браниться. Отомстите мне, утолив вожделения этого бедного Палмера, который томится по вас; я буду рад его счастью, и мы все трое останемся лучшими друзьями на свете. К вам вернется ваша прежняя прелесть, которую вы сейчас утратили, и блеск ваших прекрасных глаз, утомленных и потускневших оттого, что вы не спите по ночам, шпионя за мной. Я опять стану тем же хорошим товарищем, каким был прежде, и мы забудем этот кошмар, который пережили вместе… Так решено? Вы молчите? Предпочитаете ненависть? Берегитесь! Я не знал ненависти, но я всему могу научиться, вы знаете, у меня есть способности! Например, сегодня я вступил в драку с пьяным матросом вдвое выше и сильнее меня, я отколотил его и отделался только царапиной. Берегитесь, при случае я могу оказаться таким же сильным духовно, как и физически, и в борьбе, полной ненависти и жажды мести, раздавить самого дьявола, не оставив у него в когтях ни одного своего волоса! Лоран, бледный, ожесточенный, то язвил, то впадал в бешенство; волосы его растрепались, рубашка была разорвана, лоб в крови, на него так страшно было смотреть, так страшно было слушать его, что любовь Терезы уступила место отвращению. В этот момент она была в таком отчаянии, что даже нисколько не испугалась. Немая и недвижимая, сидела она в кресле, слушала поток его святотатственных речей и, понимая, что этот безумец способен убить ее, с ледяным презрением и полным равнодушием ждала, пока его приступ бешенства пойдет на убыль. Лоран замолчал; у него не осталось сил говорить. Тогда она встала и вышла, не сказав ему ни слова и даже не взглянув на него.VII
Лоран был лучше, чем можно было судить по его словам: он совсем не думал того, что наговорил Терезе в ту мучительную ночь. Он думал это, только пока говорил, или, вернее, говорил бессознательно. Когда он проснулся, он уже ничего не помнил, и если бы ему повторили его речи, он стал бы все отрицать. Но в его словах была доля правды, и она заключалась в том, что в те дни он устал от возвышенной любви и всем своим существом стремился к пагубному опьянению прошлого. Это было возмездием за то, что, вступая в жизнь, он пошел по ложному пути, возмездие, конечно, очень жестокое, и понятно, почему он так пылко на него сетовал, — ведь он не обдумывал заранее своих поступков и когда, смеясь, бросился в пропасть, верил, что сумеет выбраться из нее, если захочет. Но любовь подчиняется законам, которые, как и общественный кодекс, основываются на грозном правиле: незнание законов не может служить оправданием! Если ребенок бросится в когти пантеры, намереваясь погладить ее, пантеру не тронет его невинность, она растерзает ребенка, потому что не от нее зависит пощадить его. Так же и яд, и молния, и порок — все это слепые исполнители рокового закона, который человек должен знать или испытать на себе. На следующее утро после этого приступа у Лорана осталось только сознание того, что произошло решительное объяснение с Терезой; он смутно помнил, что она подчинилась судьбе. «Быть может, все к лучшему», — подумал он, увидя ее такой же невозмутимой, какой он ее оставил. Однако его испугала ее бледность. — Ничего, — спокойно сказала она, — меня только очень утомляет простуда, но это всего лишь простуда. Она пройдет. — Ну так как же, Тереза, какими теперь будут наши отношения? Вы подумали? Решать-то ведь вам. Должны ли мы расстаться врагами или останемся вместе, но лишь как друзья, какими были прежде? — Я не враг вам, — ответила она, — останемся друзьями. Живите здесь, если вам тут нравится. Я закончу работу и через две недели возвращусь во Францию. — А не переехать ли мне на другую квартиру на эти две недели? Вы не боитесь, что начнутся разговоры? — Делайте как знаете. У нас не смежные комнаты; только гостиная общая: мне она совсем не нужна, я уступаю ее вам. — Нет, пусть она будет вашей. Вы не услышите, как я буду приходить и уходить, ноги моей там не будет, если вы запретите мне входить туда. — Я ничего вам не запрещаю, — ответила Тереза, — только не вздумайте хоть на секунду поверить, что ваша любовница может простить вас. Что же касается вашего друга Терезы, то, хоть она и разочаровалась во многом, она выше этого и надеется еще быть вам полезной. Вы всегда можете рассчитывать на нее, когда вам понадобится дружеское участие. Она протянула ему руку и ушла работать. Лоран не понял ее. Такое умение владеть собой было необъяснимо для него, ему было чуждо пассивное мужество и безмолвная решимость. Он подумал, что она рассчитывает снова подчинить его своей воле и, оставаясь ему другом, вернуть его любовь. Он обещал себе быть неуязвимым, не поддаваться слабости и для большей уверенности в себе решил найти какого-нибудь свидетеля происшедшего между ними разрыва. Он пошел к Палмеру, рассказал ему историю своей несчастливой любви и добавил: — Мой милый друг, если вы любите Терезу, — а я этому верю, — заставьте ее полюбить вас. Я не могу ревновать к вам, даже наоборот. Я причинил ей много горя, а вы будете относиться к ней прекрасно, я в этом уверен, и вы избавите меня от угрызений совести, которыми я не хотел бы мучиться. Лорана удивило молчание Палмера. — Разве я вас обидел? Я вовсе не хотел этого. Я отношусь к вам дружески, уважаю вас и даже, если хотите, чувствую к вам почтение. Если вам не нравится мое поведение во всей этой истории, скажите мне это — так будет лучше, чем всем своим видом выражать равнодушие или презрение. — Мне не безразличны ни горести Терезы, ни ваши огорчения, — ответил Палмер. — Я только избавляю вас от запоздалых советов или упреков. Я думал, что вы созданы друг для друга, теперь я убедился, что самое большое благо и единственное, которое вы можете дать друг другу, — это расстаться. Что до моих личных чувств к Терезе, то я не признаю за вами права расспрашивать меня о них, и после того, что вы мне сказали, вы не имеете права высказывать при мне, а тем более при ней, какие-либо предположения о тех чувствах, которые я, по-вашему, мог бы ей внушить. — Это справедливо, — развязно отозвался Лоран, — и я очень хорошо понимаю, что вы хотите сказать. Я вижу, что ныне буду здесь лишним, и лучше мне удалиться, чтобы никому не мешать. Он в самом деле уехал, холодно простившись с Терезой, и сразу же направился во Флоренцию, собираясь погрузиться в светскую жизнь или в работу, смотря по тому, как повелит ему его прихоть. Он с невыразимым наслаждением говорил себе: «Я стану делать все, что мне вздумается, и никто не будет из-за этого страдать или тревожиться. Для людей вроде меня, не очень злых, это худшая из пыток, если волею рока им приходится смотреть на свою собственную жертву. Ну, а теперь я свободен, и если я буду делать зло, оно падет только на мою голову!» Конечно, Тереза напрасно скрыла, сколь глубока была нанесенная им рана. Она была слишком терпелива и горда. Раз уж она начала лечить этого безнадежного больного, ей не следовало отступать перед сильными средствами и жестокими операциями. Надо было обильно пустить кровь этому обезумевшему сердцу, осыпать его упреками, ответить бранью на брань и заплатить болью за боль. Увидя все зло, которое он причинил, Лоран, быть может, строже отнесся бы к самому себе. Быть может, стыд и раскаяние спасли бы его душу от этого преступления и не позволили бы ему хладнокровно убить любовь в своем сердце. Но после трех месяцев напрасных усилий у Терезы пропала охота бороться. Разве была она обязана жертвовать собой ради человека, которого никогда не хотела поработить, который вторгся в ее сердце, несмотря на боль и грустные предчувствия, который не отставал от нее, как покинутый ребенок, крича: «Возьми меня с собой, не прогоняй меня, или я умру здесь, на краю дороги»?.. И этот ребенок проклинал ее за то, что она уступила его мольбам и слезам. Он обвинял ее в том, что она, воспользовавшись его слабостью, отняла у него наслаждение свободой. Он уходил от нее, дыша полной грудью, и повторял: «Наконец-то, наконец-то!» «Если он неизлечим, — подумала она, — тогда зачем его мучить? Разве я не вижу, что тут ничего не поделать? Разве он не сказал мне и — увы! — разве почти не доказал,что я задушу его гений, стремясь погасить его лихорадочный огонь? Когда я думала, что воспитала в нем отвращение к излишествам, разве не возникла у него еще большая жажда их? Когда я сказала ему: «Появляйся в свете», он испугался моей ревности и бросился в тайный грубый разврат; он вернулся пьяный, в разорванной одежде, с окровавленным лицом!» В день отъезда Лорана Палмер сказал Терезе: — Послушайте, друг мой, что вы намерены делать? Не поехать ли мне за ним? — Нет, конечно, — ответила она. — Быть может, я привез бы его обратно! — Я была бы огорчена. — Значит, вы его больше не любите? — Нет, совсем не люблю. Они помолчали; потом Палмер задумчиво продолжал: — Тереза, я должен сообщить вам очень важную новость. Я не решаюсь, потому что боюсь причинить вам еще одно сильное волнение, а вы не расположены… — Простите, друг мой. Мне страшно тяжело, но я совершенно спокойна и готова ко всему. — Так вот, Тереза, знайте, что вы свободны: графа больше нет в живых. — Я это знала, — ответила Тереза. — Уже неделя, как я это знаю. — И вы не сказали об этом Лорану? — Нет. — Почему? — Потому что кто знает, как он на это реагировал бы? Вы же видели, как все неожиданное будоражит и волнует его. Одно из двух: или он вообразил бы, что, сообщая ему о своем новом положении, я хочу выйти за него замуж, и ужас перед нерасторжимой связью со мной обострил бы его враждебное чувство, или он сам вдруг, повинуясь одному из порывов преданности, которые охватывают его и продолжаются ровно четверть часа, чтобы уступить место глубокому отчаянию или беспричинному гневу, решил бы, что мы должны пожениться. Несчастный и так уже достаточно виноват передо мной; незачем было бросать новую приманку его фантазии и давать ему новый повод нарушить свои клятвы. — Значит, вы больше не питаете к нему уважения? — Я этого не говорю, милый Палмер. Я жалею его и не обвиняю. Быть может, другая женщина сделает его счастливым и добрым. Я не смогла сделать ни того, ни другого. Здесь, вероятно, столько же моей, сколько и его вины. Как бы то ни было, для меня совершенно ясно, что нам не следовало любить друг друга и что мы больше не должны делать попыток к примирению. — А вы, Тереза, не захотите теперь воспользоваться возвращенной вам свободой? — Как я могу ею воспользоваться? — Вы можете снова выйти замуж и познать радости семейной жизни. — Дорогой Дик, я уже два раза в жизни любила, и вы видите, к чему это привело. Мне не суждено быть счастливой. Теперь уже поздно искать того, что для меня потеряно. Мне тридцать лет. — Вот потому-то, что вам тридцать лет, вы и не можете обойтись без любви. Вы только что были увлечены страстью — это как раз возраст, когда женщины не могут ее избежать. Именно потому, что вы страдали, что вы были несчастливы в любви, неугасимая жажда счастья скоро проснется в вас и поведет вас от разочарования к разочарованию, в бездны еще более глубокие, чем та, из которых вы теперь выбрались. — Надеюсь, что нет. — Да, разумеется, вы надеетесь; но вы ошибаетесь, Тереза. Всего можно опасаться в вашем возрасте, при вашей сверхвозбудимой чувствительности, при этом обманчивом состоянии покоя, в который вы погрузились в минуту подавленности и утомления. Любовь отыщет вас, не сомневайтесь, теперь, когда вы снова свободны, она будет вас преследовать, как наваждение. Прежде ваше уединение удерживало на почтительном расстоянии надежды тех, кто вас окружал; но теперь, когда Лоран, быть может, унизил вас в их глазах, все те, кто выдавал себя за ваших друзей, захотят стать вашими любовниками. Вы будете внушать сильные страсти, и найдутся достаточно хитрые люди, которые сумеют вас уговорить. Наконец… — Наконец, Палмер, вы считаете меня погибшей, потому что я несчастна! Ведь это очень жестоко, и вы заставляете меня остро почувствовать, как низко я пала! Тереза закрыла лицо руками и разрыдалась. Палмер не мешал ей плакать; понимая, как нужны ей слезы, он намеренно вызвал это отчаяние. Когда она успокоилась, он опустился перед ней на колени. — Тереза, я причинил вам большое огорчение, — сказал он, — но вы должны простить меня, я сделал это из добрых намерений. Тереза, я люблю вас, я всегда вас любил, не слепою страстью, но со всею верою и со всею преданностью, на какие я только способен. Больше чем когда-нибудь я убедился, что ваша благородная жизнь испорчена и сломана по вине других. Вы в самом деле пали в глазах света, но не в моих глазах. Напротив, ваша любовь к Лорану доказала мне, что вы женщина, и вы больше нравитесь мне такой, чем вооруженной с ног до головы против всех человеческих слабостей, какою я представлял себе вас прежде. Выслушайте меня, Тереза. Я философ, это значит, что я считаюсь с разумом и терпимостью больше, чем со светскими предрассудками и романтическими тонкостями чувства. Если бы вы сделались жертвой самых пагубных заблуждений, я не перестал бы любить вас и уважать, потому что вы из тех женщин, которые могут сбиться с правильного пути, только повинуясь своему сердцу. Но зачем вам терпеть все эти бедствия? Я совершенно уверен, что если вы сейчас встретите преданное сердце, спокойное и верное, человека, не подверженного болезням души, которые иной раз неотделимы от великих талантов и часто свойственны плохим супругам, если вы найдете в нем отца, брата, друга, наконец — мужа, вы навсегда избавитесь от опасностей и горестей в будущем. Так вот, Тереза, я дерзаю сказать, что человек этот я. Во мне нет блеска, способного ослепить вас, но у меня верное сердце, и я люблю вас. Я безгранично вам верю. Если вы будете счастливы, значит, будете благодарны, а если вы почувствуете благодарность, вы будете верны мне и навсегда оправданны. Скажите «да», Тереза, согласитесь выйти за меня замуж, и согласитесь сейчас же, без страха, без угрызений совести, без ложной стыдливости, без недоверия к себе. Я отдаю вам свою жизнь и прошу у вас только одного: верьте мне. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы не страдать от слез, которые заставила вас проливать неблагодарность другого. Я никогда не упрекну вас за прошлое и берусь создать вам такое приятное и такое спокойное будущее, что никакая буря никогда не оторвет вас от моей груди. Палмер говорил долго, с такою сердечностью, которой Тереза не знала за ним. Она пыталась поколебать его веру в нее; Палмер возражал, что она противится его уговорам лишь потому, что еще не вполне исцелилась от своей нравственной болезни, хотя и борется с ней. Она чувствовала, что Палмер говорит правду, но понимала также, что он хочет возложить на себя труднейшую задачу. — Нет, — говорила она ему, — я боюсь не себя самой. Я не могу больше любить Лорана и не люблю его; но свет, но ваша матушка, ваша родина, уважение, которым вы пользуетесь, честь вашего имени? Я пала, вы сами сказали это, и я это чувствую. Ах, Палмер, не торопите меня! Меня слишком пугает все то, против чего вы готовы пойти ради меня! На следующий день и потом уже ежедневно Палмер продолжал энергично настаивать. Он не давал Терезе передышки. С утра до вечера наедине с ней он напрягал всю силу своей воли, чтобы убедить ее. Палмер был смелым человеком, он повиновался первому побуждению; впоследствии мы увидим, права ли была Тереза, когда она колебалась. Ее тревожила стремительность, с которой действовал Палмер, его желание связать ее обещанием, чтобы она тоже принуждена была действовать. — Вы боитесь моих размышлений, — говорила она ему, — значит, у вас нет той веры в меня, о которой вы все твердите. — Я верю вашему слову, — ответил он, — иначе я не просил бы его у вас, но я не уверен, что вы меня любите, раз вы не даете мне ответа, и вы правы. Вы еще не знаете, как вам назвать свое дружеское отношение ко мне. Ну, а я знаю, что люблю, я не из тех, кто не решается заглянуть в себя. Моя любовь очень логична. У нее сильная воля. Она не хочет подвергаться риску, позволив вам погрузиться в размышления и думы, — ведь теперь вы в болезненном состоянии и можете не распознать своей настоящей пользы. Тереза чувствовала себя почти оскорбленной, когда Палмер говорил ей о пользе. Она видела, что Палмер совсем не думает о своей, и ни за что не потерпела бы, чтобы он счел ее способной принять это самоотречение, ничем его не отблагодарив. Ей вдруг стало стыдно за себя в этой борьбе великодуший, в которой Палмер отдавал все, не требуя ничего взамен, и только просил, чтобы она приняла его имя, его состояние, его покровительство и его любовь на всю жизнь. Он отдавал все и в награду за это молил об одном: пусть она подумает о себе. И надежда вновь затеплилась в сердце Терезы. Этот человек, которого она всегда считала рассудительным и который к тому же с наивностью подчеркивал у себя эту черту, явился ей в таком неожиданном свете, что душа ее поразилась и словно воспрянула после агонии. Это было как луч света во мраке ночи, которая, казалось ей, будет длиться вечно. В тот момент, когда она в отчаянии готова была несправедливо проклясть любовь, он заставил ее поверить в любовь и смотреть на свое горе как на несчастный случай, за который небо готово было послать ей утешение. Правильное и холодное лицо Палмера с каждой секундой преображалось под удивленным, неуверенным и растроганным взглядом любимой им женщины. Его застенчивость, придававшая его первым признаниям какую-то резкость, уступила место искренним излияниям, и если он говорил не так поэтично, как Лоран, зато ему лучше удавалось убедить Терезу. Под жестковатой корой упрямства она разглядела его воодушевление и не могла удержаться от растроганной улыбки, видя, с какой страстью он «холодно» стремился спасти ее. Она была тронута и позволила вырвать у себя обещание, которое он от нее требовал. И вдруг она получила письмо, написанное до того искаженным почерком, что он показался ей незнакомым. Она даже с трудом разобрала подпись. Наконец с помощью Палмера ей удалось прочесть:«Я играл, я проигрался, у меня была любовница, она изменила мне, и я убил ее. Я принял яд. Умираю. Прощай, Тереза.— Едем! — сказал Палмер. — О друг мой, я люблю вас! — ответила Тереза, бросаясь к нему в объятия. — Теперь я вижу, что вы достойны моей любви. Они тотчас же отправились в путь. За одну ночь они морем добрались до Ливорно и вечером были во Флоренции. Они нашли Лорана, он не был при смерти, но у него был такой приступ горячки, что приходилось держать его вчетвером. Увидя Терезу, он узнал ее и бросился ей на шею, крича, что его хотят похоронить живого. Он обхватил ее так крепко, что она, задыхаясь, упала на пол. Тереза потеряла сознание. Палмеру пришлось унести ее из комнаты, но через минуту она вернулась туда и с выдержкой, похожей на чудо, провела двадцать дней и двадцать ночей у изголовья этого человека, которого она больше не любила. Он узнавал ее лишь для того, чтобы осыпать грубой бранью, но едва лишь она удалялась на секунду, звал ее, говоря, что без нее он умрет. К счастью, никакой женщины он не убил, яда не принимал и, может быть, даже не проиграл своих денег, не сделал ничего того, о чем он написал Терезе, больной, в бреду. Он никогда не вспомнил об этом письме, о котором она не решилась бы ему говорить: он и так страшно пугался в те минуты, когда сознавал, что ум его помутился. Его мучили и другие мрачные видения, не прекращавшиеся, пока не спал жар. То ему виделось, что Тереза наливает ему яд, то казалось, что Палмер надевает на него наручники. Чаще всего ему представлялось — и это было самое жестокое из его болезненных видений, — как Тереза вынимает из своих волос золотую булавку и медленно вонзает ему в череп. У нее действительно была такая булавка, которою она закалывала волосы по итальянской моде. Она спрятала ее, но он все-таки видел эту булавку и ощущал ее прикосновение. Так как присутствие Терезы, казалось, чаще всего раздражало Лорана, она обычно сидела у его кровати, отделенная от него пологом, но когда надо было подавать ему питье, он в бешенстве кричал, что примет его только из рук Терезы. — Она одна имеет право убить меня, — говорил он, — я причинил ей столько зла! Она ненавидит меня, так пусть отомстит мне! День и ночь она у моей кровати в объятиях своего нового любовника! Да ну же, Тереза, идите сюда, я хочу пить, налейте мне яду. Из рук Терезы он вкушал покой и сон. После нескольких дней такого сильного напряжения, которое, по мнению врачей, он не мог выдержать и которое они сочли явлением ненормальным, Лоран внезапно успокоился и теперь лежал безжизненный, разбитый и почти все время спал, но он был спасен. Он был так слаб, что приходилось кормить его, даже когда он был в забытьи, и совсем понемногу, чтобы не обременять желудок. Тереза боялась покидать его хотя бы на минуту. Палмер пробовал заставить ее отдохнуть, заверив честным словом, что заменит ее возле больного, но она отказалась, хорошо понимая, что человек не в силах сопротивляться подстерегающему его сну, и если сама каким-то чудом угадывала тот момент, когда наступало время подносить ложку к губам больного, и усталость никогда не побеждала ее, значит, именно ей, и никому иному, Бог поручил спасти эту хрупкую жизнь. Бог поручил ей это, и она спасла Лорана. Какой бы передовой ни была медицина, в безнадежных случаях она бессильна, и очень часто это происходит потому, что почти невозможно в совершенстве соблюдать все требования ухода за больными. Бывают минуты, когда для больного, жизнь которого висит на волоске, все зависит от того, окружен ли он заботами и вниманием или остается без ухода; и чудо, которое может спасти умирающего, — это спокойствие, упорство и точность тех, кто ухаживает за ним. Наконец однажды утром Лоран проснулся как от летаргического сна: он, казалось, удивился, увидев справа от себя Терезу и слева Палмера, подал каждому из них руку и спросил, где он и что с ним произошло. Ему не сразу сказали правду о том, как долго и серьезно он болел, потому что он очень огорчился из-за своей худобы и слабости. Когда он посмотрел на себя в зеркало, он испугался. В первые же дни своего выздоровления он попросил позвать Терезу. Ему ответили, что она спит. Он очень удивился. — Разве она превратилась в итальянку, что спит днем? — спросил он. Тереза проспала двадцать четыре часа кряду. Природа взяла свое, едва лишь рассеялась тревога. Понемногу Лоран узнал, как она жертвовала собой ради него, и увидел на ее лице следы крайнего утомления, сменившего следы так недавно испытанных душевных мук. Так как он был еще слишком слаб и не мог ничем заниматься один, Тереза сидела возле него и то читала ему вслух, то играла с ним в карты, чтобы развлечь его, то возила в экипаже на прогулку. Палмер всегда бывал с ними. Силы возвращались к Лорану с быстротой столь же необычной, сколь необычна была и сама его натура. Однако сознание его не всегда бывало вполне ясным. Однажды он с досадой сказал Терезе, улучив минуту, когда остался с ней наедине: — Послушайте! Когда же этот славный Палмер обрадует нас своим отъездом? Тереза поняла, что у него пробел в памяти, и ничего не ответила. Тогда он сделал над собой усилие и добавил: — Вы считаете меня неблагодарным, друг мой, за то, что я так говорю о человеке, который ухаживал за мной почти так же преданно, как и вы; но в конце концов, я не так тщеславен и не так уж глуп, чтобы не понять: он заперся на целый месяц в комнате у очень неприятного больного лишь для того, чтобы не покидать вас. Послушай, Тереза, можешь ты мне поклясться, что он сделал это только из-за меня? Терезу оскорбил этот прямо поставленный вопрос и это «ты», которое она считала навсегда изгнанным из их бесед. Она покачала головой и попыталась заговорить о другом. Лоран с грустью уступил, но на следующий день он снова заговорил об этом, и так как Тереза, видя, что он уже достаточно окреп, чтобы обойтись без нее, уже собиралась уезжать, он спросил ее с неподдельным удивлением: — Но куда же мы едем, Тереза? Разве нам не хорошо здесь? Пришлось объясниться, потому что он настаивал. — Дитя мое, вы остаетесь здесь, — сказала Тереза, — врачи говорят, что вам нужно подождать еще неделю-другую, прежде чем пуститься в путешествие, не опасаясь рецидива болезни. Я возвращаюсь во Францию, потому что закончила свою работу в Генуе и потому что сейчас я не собираюсь ехать в другие города Италии. — Прекрасно, Тереза, ты свободна, но если ты хочешь вернуться во Францию, то ведь я тоже свободен и тоже хочу ехать. Ты не можешь подождать неделю? Я уверен, что за эти дни поправлюсь настолько, что смогу пуститься в путь. Он так чистосердечно забыл о том, сколько горя он ей причинил, и сказал это так по-детски, что Тереза удержала слезы, выступившие у нее на глазах при воспоминании о своей материнской нежности к нему, от которой теперь ей приходилось отрекаться. Она невольно снова стала называть его на «ты» и сказала ему как можно мягче и осторожнее, что им нужно на некоторое время расстаться. — Зачем же нам расставаться? — воскликнул Лоран. — Разве мы больше не любим друг друга? — Ничего не поделаешь, — возразила она, — мы навсегда сохраним дружеские чувства, но мы причинили друг другу много горя, и твое здоровье не вынесло бы теперь новых огорчений. Пусть пройдет время, чтобы все это забылось. — Но я уже все забыл! — воскликнул Лоран с трогательно-наивной искренностью. — Я не помню никакого зла, которое ты причинила бы мне! Ты всегда была для меня ангелом, а если ты ангел, ты не можешь быть злопамятной. Ты должна простить мне все и увезти меня, Тереза. Если ты оставишь меня здесь, я умру со скуки! И так как Тереза проявила твердость, которой он не ожидал, Лоран надулся и сказал, что напрасно она притворяется строгой, когда все ее поведение противоречит этому. — Я прекрасно понимаю, чего ты хочешь, — сказал он. — Ты требуешь, чтобы я раскаялся, искупил свои провинности. Но разве ты не видишь, что я сам от них в отчаянии, и неужели я не достаточно искупил их, потеряв рассудок на неделю или десять дней? Ты хочешь слез и клятв, как когда-то? Зачем?! Ты бы им больше не поверила. Суди меня по моему будущему поведению: ты ведь видишь, я не боюсь будущего, раз я хочу остаться с тобой. Послушай, Тереза, ты ведь тоже дитя; помнишь, я часто называл тебя так, когда ты делала вид, что дуешься. Неужели ты думаешь убедить меня в том, что больше не любишь меня, когда ты только что провела здесь взаперти целый месяц, не ложилась в постель двадцать дней и двадцать ночей и почти не выходила из моей комнаты? Разве я не вижу, что твои прекрасные глаза окружены синевой, что ты умерла бы от утомления, если бы это продолжалось? Таких вещей не делают для человека, которого разлюбили. Тереза не решалась произнести рокового слова. Она надеялась, что придет Палмер, прервет их разговор наедине и его присутствие избавит ее от объяснения, опасного для выздоравливающего. Но не тут-то было: Лоран закрыл собою дверь, чтобы помешать ей выйти, и в отчаянии упал к ее ногам. — Боже мой! — сказала она. — Неужели я так жестока и так капризна, что способна отказать тебе в слове, которое я могла бы сказать? Но я не могу его сказать, это слово было бы неправдой. Любовь между нами кончена. Лоран в бешенстве вскочил. Он не представлял себе, что мог убить эту любовь, хотя прежде сам утверждал, что не верит ей. — Так, значит, это Палмер? — воскликнул он, швырнув об пол чайник, из которого только что машинально налил себе чаю. — Так, значит, это он? Скажите, я требую этого, я хочу знать правду! Пусть я лучше умру, но не хочу быть обманутым! — Обманутым! — повторила Тереза, взяв его за руки, чтобы не дать ему расцарапать их ногтями. — Обманутым! Какое слово вы употребили! Разве я принадлежу вам? Разве с первой ночи, которую вы провели вне дома в Генуе, после того, как сказали мне, что я для вас и пытка и палач, мы не стали чужими друг другу? Разве с тех пор не прошло больше четырех месяцев? И неужели вы считаете, что, если за это время вы и не подумали вернуться, я не имею права теперь располагать собой? И так как Лоран, вместо того чтобы рассердиться на ее откровенность, успокоился и слушал ее с жадным любопытством, она продолжала: — Если вы не понимаете, почему я оказалась возле вашей постели, когда вы были в агонии, и почему задержалась здесь до сегодняшнего дня, ожидая вашего выздоровления и окружив вас материнскими заботами, значит, вы никогда ничего не понимали в моем сердце. Это сердце, — сказала Тереза, приложив руку к груди, — не такое гордое и не такое пламенное, как ваше, но — вы сами это прежде часто говорили — оно всегда неизменно. Оно не может перестать любить того, кого любило, но только знайте: это любовь не в том смысле, как вы ее понимаете, не та любовь, которую вы мне внушили и которой вы, как безумец, ждете от меня. Ни мои чувства, ни разум больше не принадлежат вам. Я снова хозяйка себе и своей воле, я не могу вернуть вам прежнего доверия и прежней восторженной любви. Я могу отдать их тому, кто их заслуживает, если найду нужным, то и Палмеру, и у вас не должно быть никаких возражений: ведь однажды утром вы сами пошли к нему и сказали: «Утешьте же Терезу, окажите мне такую услугу!» — Это правда… правда! — сказал Лоран, сжимая дрожащие руки. — Я сказал это! Я забыл, но теперь вспоминаю! — Так не забывай же больше, — сказала Тереза; увидев, что он успокоился, она снова стала говорить с ним мягким тоном, — и знай, мое бедное дитя, что любовь — слишком хрупкий цветок, он не может подняться, когда его затоптали ногами. Не думай больше о любви ко мне, ищи ее в другом месте, если грустный опыт, приобретенный со мной, откроет тебе глаза и изменит твой характер. Ты найдешь ее в тот день, когда станешь достоин ее. Я же не смогу больше терпеть твоих ласк, они осквернили бы меня; но моя нежность, нежность сестры и матери, останется вопреки тебе и вопреки всему. Это уже другое чувство, не скрою от тебя, это жалость, и я говорю тебе это именно потому, чтобы ты не пытался больше завоевать любовь, которая унизила бы тебя так же, как и меня. Если ты хочешь, чтобы эта дружба, которая сейчас тебя оскорбляет, снова стала для тебя приятной, тебе нужно только заслужить ее. До сих пор у тебя не было для этого случая. Вот теперь он представился: воспользуйся им, покинь меня, не поддаваясь слабости и огорчению. Дай мне увидеть спокойное и смягчившееся лицо великодушного человека, а не лицо ребенка, который плачет, сам не зная почему. — Дай мне поплакать, Тереза, — сказал Лоран, падая на колени, — дай мне омыть свою вину слезами, не мешай мне поклоняться этой святой жалости, которая пережила в тебе разбитую любовь. Она не унижает меня, как ты подумала, я чувствую, что стану достойным ее. Не требуй, чтобы я успокоился, ты хорошо знаешь, что я никогда не смогу быть спокойным, но верь, что я смогу стать хорошим… Ах, Тереза, я слишком поздно узнал тебя! Почему ты прежде не говорила со мной так, как говоришь сейчас? Почему ты осыпаешь меня дарами своей доброты и преданности, бедная моя сестра милосердия, которая не может вернуть мне счастье? Но ты права, Тереза, я заслужил то, что со мной случилось, и ты наконец заставила меня понять это. Твой урок пойдет мне на пользу, уверяю тебя, и если когда-нибудь я смогу любить другую женщину, я буду знать, как нужно любить. Значит, я буду обязан тебе всем, сестра моя, и прошлым, и будущим! Он еще продолжал свои излияния, когда вернулся Палмер. Лоран бросился ему на шею, называя его своим братом и спасителем, и воскликнул, показывая на Терезу: — Ах, друг мой, помните, что вы говорили мне в отеле «Мерис» в последний раз, когда мы виделись в Париже? «Если вы не надеетесь сделать ее счастливой, лучше застрелитесь сегодня же, но не ходите больше к ней!» Мне нужно было это сделать, и я этого не сделал! А теперь посмотрите на нее, она изменилась больше, чем я, бедная Тереза! Она была сломана и все-таки пришла, чтобы вырвать меня из когтей смерти, — а ведь ей следовало бы проклясть и покинуть меня! Раскаяние Лорана было искренним; оно глубоко растрогало Палмера. Предаваясь ему, художник становился таким красноречивым и убедительным, что Палмер, оставшись наедине с Терезой, сказал ей: — Друг мой, не думайте, что меня огорчали ваши заботы о нем. Я все прекрасно понял! Вы хотели вылечить и душу его и тело. Вы одержали победу. Ваше бедное дитя спасено! Что вы теперь собираетесь делать? — Расстаться с ним навсегда, — ответила Тереза, — или по крайней мере не видеть его долгие годы. Если он вернется во Францию, я останусь в Италии, а если он останется в Италии, я вернусь во Францию. Разве я не говорила вам, что таково мое решение? Я откладывала минуту прощания только потому, что решение мое твердо. Я знала, что он тяжело перенесет наше объяснение, и не хотела покинуть его в такой момент, когда ему будет слишком трудно. — А вы уверены в себе, Тереза? — задумчиво спросил Палмер. — Вы убеждены, что в последний момент у вас хватит сил? — Убеждена. — Мне кажется, что перед этим человеком невозможно устоять, когда он в горе. Он может растрогать даже камень, и все-таки, Тереза, если вы уступите ему, вы погибли, и он вместе с вами. Если вы его еще любите, поверьте, вы можете спасти его, только расставшись с ним! — Я это знаю, — ответила Тереза, — но что вы говорите мне, мой друг? Вы тоже заболели? Вы забыли, что я дала вам слово? Палмер поцеловал ей руку и улыбнулся. Покой снова воцарился в его душе. На следующий день Лоран сказал им, что хочет уехать в Швейцарию, чтобы там закончить лечение. Климат Италии не подходил для него, это была правда. Врачи советовали ему уехать, прежде чем начнется жара. Во всяком случае, было решено, что они расстанутся во Флоренции. У Терезы не было определенных планов, лишь бы уехать от Лорана, но, видя, что он так утомлен вчерашним волнением, она обещала ему побыть во Флоренции еще неделю, чтобы ему не пришлось уезжать, не восстановив своих сил. Эта неделя была, быть может, лучшей в жизни Лорана. Он был великодушным, сердечным, доверчивым, искренним — такого душевного состояния у него не бывало никогда, даже в первую неделю их союза с Терезой. Нежность победила его, можно сказать, захлестнула, он был переполнен ею. Он не покидал своих друзей, ездил с ними в экипаже в Cascines[212] в те часы, когда там мало народа, ел вместе с ними, радуясь, как ребенок, что будет обедать за городом, шел под руку то с Терезой, то с Палмером, испытывая свои силы, пробовал немного заниматься гимнастикой с Палмером, сопровождал их обоих в театр и составлял вместе с великим туристом Диком маршрут своего путешествия в Швейцарию. Они никак не могли решить, поедет ли он через Милан или через Геную. Наконец он выбрал последнее, чтобы побывать в Пизе и Лукке, а потом проехать вдоль побережья по земле или по морю, в зависимости от того, окрепнет он или ослабнет после первых дней путешествия. Наступил день отъезда. Лоран с веселой меланхолией закончил все приготовления. Он беспрестанно и с блеском шутил по поводу своего костюма, своего багажа, по поводу того, какой у него будет вид в непромокаемом пальто, которое Палмер заставил его принять в подарок — тогда это была еще новинка, — по поводу ломаного французского языка слуги-итальянца, выбранного для него Палмером; он с благодарностью и послушанием принимал все наставления и нежные заботы Терезы; он весело смеялся, хотя в глазах его стояли слезы. В ночь перед отъездом его слегка лихорадило. Он шутил и по этому поводу. Кучер, которому он обещал платить поденно, уже подъехал к дверям гостиницы. Утро было свежее. Тереза встревожилась. — Проводите его до Специи, — сказал Палмер. — Там он сядет на пароход, если он плохо переносит езду в экипаже. Я приеду за вами на другой день после его отъезда. На меня только что свалилось неотложное дело, и я должен еще на сутки остаться здесь. Тереза, удивленная решением Палмера и его предложением, отказалась ехать с Лораном. — Я умоляю вас, — настаивал Палмер, — сам я никак не могу поехать с вами! — Ну, и не надо, друг мой, но ведь не обязательно и мне ехать с Лораном. — Нет, — возразил он, — вам нужно поехать. Тереза поняла, что Палмер считает это испытание необходимым. Она удивилась и встревожилась. — Можете вы дать мне честное слово, — спросила она, — что у вас действительно важное дело? — Да, — ответил он, — даю вам слово. — Ну, так я остаюсь. — Нет, вам нужно ехать. — Не понимаю. — Я объясню вам после, друг мой. Я верю вам, как богу, вы же видите; доверьтесь и вы мне. Поезжайте. Тереза быстро собрала свои вещи в небольшой сверток, бросила его в экипаж и села с Лораном, крикнув Палмеру: — Вы дали мне слово, что приедете за мной через двадцать четыре часа!Лоран».
VIII
Палмер, действительно вынужденный остаться во Флоренции и удалить из нее Терезу, видя, как она уезжает, почувствовал смертельную боль в сердце. Однако же опасность, которой он страшился, не существовала. Сковать разорванную цепь было невозможно. Лоран даже и не думал снова привести в волнение чувства Терезы, но, уверенный, что он все же не изгнан из ее сердца, решил вновь завоевать ее уважение. Решил ли он это заранее? Нет, он поступал без всякого расчета, он совершенно естественно почувствовал потребность вновь подняться в глазах этой женщины, которая так выросла в его глазах. Если бы он теперь стал умолять ее, она легко бы дала ему отпор и, может быть, стала бы его презирать. Но он сознательно не делал этого или, скорее, не подумал об этом. Его чутье не позволило ему совершить подобную ошибку. Он искренне и с воодушевлением стал играть роль человека с разбитым сердцем, послушного и наказанного ребенка, так что в конце их путешествия Тереза даже стала сомневаться, уж не он ли жертва этой роковой любви. В течение трех дней, которые они провели с глазу на глаз, Тереза была счастлива возле Лорана. Перед ней раскрылась новая пора изысканных чувств, путь, еще неведомый ей, потому что прежде эти чувства из них двоих были доступны только ей одной. Она наслаждалась радостью любить без угрызений совести, без тревоги и без борьбы это бледное и слабое существо, от которого, можно сказать, остался лишь дух; она воображала, что уже в этой жизни они обрели рай, где обитают только души, тот рай, в котором люди мечтают встретиться после смерти. Она не могла забыть, что была глубоко оскорблена и унижена им; она негодовала и сердилась на себя: эта любовь, принятая ею столь смело и великодушно, оставила в ней такой осадок, какой могла оставить какая-нибудь легкомысленная связь. Был момент, когда она презирала себя за то, что позволила обмануть себя так грубо. Теперь она чувствовала, что возрождается, она начала примиряться с прошлым, видя, как на могиле этой погребенной страсти вырастает цветок нежной и пылкой дружбы, более прекрасной, чем страсть даже в ее лучшие дни. Десятого мая они приехали в Специю — живописный городок на границе генуэзских и флорентийских земель, на берегу голубой бухты, спокойной, как самое ясное небо. Сезон морских купаний еще не наступил. Всюду царило зачарованное безлюдье, стояла восхитительная свежая погода. При виде этой прекрасной невозмутимой воды Лоран, которого немного утомила езда в экипаже, решился продолжать путешествие по морю. Они осведомились о движении судов: маленький пароход ходил в Геную два раза в неделю. Тереза была довольна, что им не пришлось расставаться в тот же час. Ее больной мог отдыхать еще целые сутки. Она заказала ему каюту на пароходе, отходившем на следующий день. Хотя Лоран был еще слаб, он никогда не чувствовал себя так хорошо. Он крепко спал и ел с аппетитом. В эти первые дни полного выздоровления сладкая нега и восхитительное томление переполняли его. Воспоминания о прошлом таяли, как дурной сон. Он чувствовал, что переменился окончательно и навсегда. Все его существо словно обновилось, и он потерял способность страдать. Он покидал Терезу с какой-то торжественной радостью, хотя и обливался слезами. Это подчинение неумолимой судьбе казалось ему добровольным искуплением, за которое она должна была быть ему благодарна. Он не хотел этой разлуки, но принял ее как раз в то время, когда узнал цену тому, чего не понимал раньше. В своей жажде самоуничижения он даже говорил ей, что она должна любить Палмера, что Палмер — это лучший из друзей и величайший философ. Потом он вдруг восклицал: — Не говори мне ничего, милая Тереза! Не говори мне о нем! Я еще не настолько окреп, я не вынесу, если ты скажешь, что любишь его. Нет, замолчи! Я умру от этого!.. Но знай, что я тоже люблю тебя… Что лучшее могу я сказать тебе? Тереза ни разу не произнесла имени Палмера; и когда Лоран, неспособный на такой героизм, задавал ей косвенные вопросы, она отвечала ему: — Молчи. У меня есть тайна, которую я открою тебе потом. Это не то, что ты думаешь. Тебе не угадать, не старайся. Последний день они провели, катаясь на лодке по бухте Специи. Время от времени они выходили на берег, срывали красивые ароматные растения, которые растут в песке, даже там, куда достигают волны, ленивые и светлые. На этих живописных берегах мало тени, к ним отвесно спускаются горы, покрытые цветущими кустами. Жара уже давала себя знать, и, увидя группу сосен, они высадились на берег возле нее. Они взяли с собой еду и пообедали на траве, среди лаванды и розмарина. День прошел словно сон, он показался им коротким, как мгновение, он оставил обоим воспоминание о самых светлых чувствах, когда-либо испытанных ими. Солнце уже садилось, и Лорана охватила грусть. Он издали видел дым «Феруччо» — парохода, стоявшего на якоре у Специи, который разводил пары перед отплытием, и черное облако окутывало его душу. Тереза поняла, что она должна развлекать его до последней минуты, и спросила у лодочника, что еще можно посмотреть в бухте. — Есть еще остров Палмариа и карьер портосского мрамора.[213] Если вы хотите туда поехать, вы сможете сесть на пароход и там. Он проходит мимо острова перед тем, как выйти в открытое море, и останавливается напротив, в Порто-Венере, чтобы принять пассажиров и грузы. Вы вполне успеете добраться до него. Ручаюсь. Друзья велели везти себя на остров Палмариа. Это мраморная скала, отвесным краем повернутая к открытому морю, а к заливу спускающаяся пологим склоном с плодородной почвой. Посреди склона несколько домов, и на самом берегу две виллы. Этот остров высится у входа в бухту, как естественная крепость, и отделен совсем узким проливом от порта, прежде посвященного Венере. Отсюда название этого городка — Порто-Венере. Ничто в этом противном городишке не оправдывает его поэтического названия, но его местоположение на голых скалах, о которые бьются беспокойные волны, первые волны настоящего моря, проникающие в пролив, весьма живописно. Трудно представить себе более подходящее место для логова морских разбойников — это настоящее гнездо пиратов. Дома, черные и нищенские, изъеденные соленым воздухом, непомерно высокие, поднимаются один над другим по неровной скале. Нет ни одного целого стекла в их оконцах, похожих на тревожные глаза, подстерегающие добычу на горизонте. Нет ни одной стены, от которой штукатурка не отваливалась бы большими лоскутами, похожими на паруса, разорванные бурей. Нет ни одной отвесной линии в этих строениях, которые лепятся одно к другому и все вместе готовы обрушиться. Все это поднимается вверх и резко обрывается у края мыса, где высится старая, полуразрушенная крепость и устремляется в небо шпиль маленькой колокольни, стоящей как часовой у безграничности моря. За этой картиной, выделяющейся на фоне морской воды, поднимаются огромные скалы мертвенного оттенка, основание которых, радужное от отблесков моря, как будто погружено в какое-то неопределенное и неосязаемое пространство цвета пустоты. Тереза и Лоран созерцали этот живописный пейзаж, стоя у края мраморного карьера острова Палмариа, по другую сторону узкого пролива. Заходящее солнце освещало весь передний план красноватым светом, от которого все сливалось в сплошную массу, так что с первого взгляда трудно было различить утесы, старые стены и развалины; все, даже церковь, казалось высеченным из одного куска, в то время как большие скалы на заднем плане тонули в зеленоватой мгле. Лоран был поражен этим зрелищем; забыв обо всем, он охватил его взглядом художника, и Тереза увидела, что в его глазах, как в зеркале, отразились огни пылающего неба. «Слава богу, — подумала она. — Наконец-то в нем пробуждается художник!» Действительно, с тех пор как он заболел, Лоран ни разу не вспомнил о живописи. В карьере они пробыли недолго — посмотрели только на огромные глыбы прекрасного черного мрамора с золотисто-желтыми прожилками, — и Лоран захотел взобраться по крутому склону острова, чтобы сверху взглянуть на открытое море. Он поднялся на гору, поросшую соснами, где идти было довольно трудно, до площадки, покрытой лишайником, и тут он словно затерялся в пространстве. Скала нависла над морем; оно подтачивало ее основание, где волны разбивались с грозным шумом. Лоран не ожидал, что этот склон такой отвесный; у него сильно закружилась голова, и если бы не Тереза, которая подошла к нему и заставила его лечь и соскользнуть всем телом назад, он упал бы в пучину. В тот момент она поняла, что он охвачен ужасом, глаза у него обезумели, как тогда в лесу ***. — Что с тобой? — спросила она. — Неужели опять галлюцинация? — Нет! Нет! — воскликнул он, вставая и охватив ее руками, как будто она была какой-то незыблемой силой, способной удержать его. — Это уже не галлюцинация, это действительность! Это море, ужасное море, оно сейчас унесет меня! Это картина жизни, в которую я вновь погружусь! Это бездна, которая сейчас разверзнется между нами! Это шум моря, монотонного, неутомимого, ненавистного — я ходил слушать его ночью на берег в Генуе, а оно ревело мне в уши свои проклятия, — я старался укротить его волны, сидя в лодке, но они, словно рок, уносили меня к бездне еще более глубокой и неумолимой, чем бездна вод! Тереза, Тереза, знаешь ли ты, что делаешь, бросая меня в добычу этому чудовищу, — вот оно уже открывает свою мерзкую пасть, чтобы сожрать твое бедное дитя? — Лоран! — сказала она, встряхнув его за руку. — Лоран, ты слышишь меня? Узнав голос Терезы, Лоран словно очнулся в другом мире, потому что, когда он позвал ее, ему казалось, что с ним никого нет, а теперь, обернувшись, он с удивлением увидел, что дерево, в которое он судорожно вцепился, было не чем иным, как дрожащей и усталой рукой его подруги. — Прости! Прости! — сказал он. — Это последний приступ, это ничего. Пойдем! И он стремительно спустился по откосу скалы, на которую они взобрались вместе. Из бухты Специи на всех парах подходил «Феруччо». — Боже мой, вот он! — воскликнул Лоран. — Как быстро он подходит! Хоть бы он пошел ко дну, прежде чем успеет причалить! — Лоран! — строго остановила она его. — Хорошо, хорошо, не бойся ничего, мой друг, я спокоен. Ты ведь знаешь, что теперь достаточно одного твоего взгляда, чтобы я с радостью повиновался! Где наша лодка? Ну, вот теперь все хорошо! Я спокоен, доволен! Дай мне руку, Тереза. Видишь, я не просил у тебя ни одного поцелуя за все эти три дня, что мы провели вдвоем. Я прошу у тебя только эту благородную руку. Вспомни тот день, когда ты сказала мне: «Никогда не забудь, что, прежде чем стать твоей возлюбленной, я была твоим другом!» И вот то, чего ты хотела, свершилось: я для тебя ничто, но я твой на всю жизнь! Он бросился в лодку, думая, что Тереза останется на острове и лодочник вернется за ней, когда он поднимется на борт «Феруччо», но она прыгнула в лодку вслед за ним. По ее словам, она хотела убедиться, что слуга, который должен был сопровождать Лорана и который погрузил багаж и сел на пароход в Специи, не забыл ничего из вещей, необходимых его хозяину в пути. Итак, она воспользовалась остановкой маленького парохода в Порто-Венере, чтобы подняться на борт вместе с Лораном. Вичентино, слуга, о котором шла речь, дожидался их там. Читатель помнит, что это был доверенный человек, рекомендованный Палмером. Тереза отозвала его в сторону. — Кошелек вашего хозяина у вас? — спросила она. — Я знаю, что он поручил вам оплачивать все расходы по путешествию. Сколько он вам доверил? — Двести флорентийских лир, синьора; но я думаю, у него еще есть деньги в бумажнике. Тереза осмотрела карманы Лорана, пока он спал. Она нашла бумажник, но заранее знала, что он почти пуст. Лоран много тратил во Флоренции; расходы во время его болезни были весьма значительны. Он отдал Палмеру остатки своего маленького состояния, попросив его записать, сколько он истратил, но даже не взглянул на этот счет. В отношении расходов Лоран был совсем ребенок, он до сих пор не знал, что сколько стоит за границей, не знал даже курса денег в различных провинциях. Ему казалось, что суммы, отданной Вичентино, должно хватить надолго, а ее не хватило бы даже доехать до границы человеку, у которого и понятия не было о расчетливости. Тереза отдала Вичентино все, что у нее было с собой в Италии; она даже не оставила себе суммы, необходимой, чтобы прожить несколько дней; видя, что приближается Лоран, она успела отложить для себя несколько золотых монет из свертка, который быстро сунула слуге со словами: — Вот это было у него в карманах, он очень рассеянный и предпочитает, чтобы деньги были у вас. И она обернулась к художнику, чтобы на прощание пожать ему руку. На этот раз она обманула его без угрызений совести. Прежде он раздражался, приходил в отчаяние, когда она хотела платить его долги; теперь она была для него только матерью и имела право поступать так. Лоран ничего не заметил. — Еще минутку, Тереза, — сказал он сквозь слезы. — Провожающих предупредят, когда им пора будет сойти с корабля в лодки, — зазвонит колокол. Она взяла его под руку и пошла посмотреть его каюту; спать в ней было довольно удобно, но там отвратительно пахло рыбой. Тереза хотела отдать ему свой флакон с духами, но она потеряла его на утесе Палмарии. — О чем вы тревожитесь? — спросил он, растроганный ее заботами. — Дайте мне веточку лаванды, которую мы собирали вместе там, в песках. Тереза приколола цветы к корсажу своего платья; отдать их значило оставить ему нечто вроде залога любви. Ей показалось, что просьба эта не совсем деликатна, женский инстинкт не позволил ей отдать ему эти цветы, но, облокотившись на борт парохода, она увидела в одной из лодок, привязанных к причалу, мальчика, предлагающего пассажирам большие букеты фиалок. Она поискала у себя в кармане, с радостью обнаружилатам последнюю монетку и бросила ее маленькому продавцу, а тот послал ей через борт свой самый красивый букет; она ловко поймала его и разбросала цветы по каюте Лорана, который понял чувства своей подруги, вызвавшие этот поступок, но никогда не узнал, что за фиалки Тереза отдала свою последнюю монетку. Какой-то молодой человек, дорожная одежда и аристократический вид которого отличали его от остальных пассажиров — почти все они были торговцы оливковым маслом и мелкие береговые лавочники, — прошел мимо Лорана и, посмотрев на него, сказал: — А, это вы! Они обменялись холодным рукопожатием, поздоровавшись с тем бесстрастным выражением лица, которое отличает людей хорошего тона. Однако это был один из тех прежних приятелей Лорана по кутежам, о которых он, когда скучал, отзывался Терезе как о своих лучших, единственных друзьях. В те минуты он добавлял: «Это люди моего круга!», потому что, досадуя на Терезу, Лоран всегда вспоминал, что он дворянин. Но теперь он глубоко раскаялся и вместо того, чтобы обрадоваться этой встрече, мысленно послал к черту докучного свидетеля его прощания с Терезой. Господин де Верак — так звали его старого приятеля — знал Терезу, потому что был представлен ей в Париже Лораном; почтительно поклонившись, он сказал, что это большая удача встретить на жалком маленьком «Феруччо» таких попутчиков, как она и Лоран. — Но я не поеду с вами, — ответила она, — я остаюсь здесь. — Как здесь? Где? В Порто-Венере? — В Италии. — Вот как! Так, значит, Фовель выполнит ваши поручения в Генуе и завтра вернется? — Нет! — сказал Лоран, раздраженный этим любопытством, которое показалось ему нескромным. — Я еду в Швейцарию, а мадемуазель Жак туда не едет. Это вас удивляет? Ну, так знайте, что мадемуазель Жак покидает меня и что я очень этим огорчен. Понимаете? — Нет, — улыбаясь, ответил Верак, — но мне и незачем… — Напротив, вам нужно понять, что произошло, — продолжал Лоран несколько надменно и резко, — я заслужил то, что со мной случилось, и подчиняюсь этому, потому что мадемуазель Жак, несмотря на мои проступки, соблаговолила быть мне сестрой и матерью во время смертельной болезни, от которой я только что излечился; следовательно, я обязан ей не только уважением и дружескими чувствами, но и глубокой благодарностью. Верак был очень удивлен тем, что услышал. Эта история была для него совершенно непонятна. Он отошел из скромности, сказав Терезе, что его не удивляет ни один ее поступок, но краем глаза следил за прощанием обоих друзей. Тереза, стоя у причала, где ее толкали и теснили местные жители, которые бурно и шумно обнимались при звуках колокола, оповещавшего об отправлении, с материнской заботой поцеловала Лорана в лоб. Оба они плакали; потом она спустилась в лодку и велела причалить к бесформенной и темной лестнице из плоских скал, по которой можно было подняться в городок Порто-Венере. Лоран удивился, что она направилась туда, вместо того чтобы вернуться в Специю. «Ах, Палмер, конечно, здесь и ждет ее», — подумал он, заливаясь слезами. Но десять минут спустя, когда «Феруччо», не без труда выйдя в море, поворачивал напротив мыса, Лоран, бросив последний взгляд на эту мрачную скалу, увидел на площадке старой, разрушенной крепости чей-то силуэт. Волосы, золотившиеся в лучах заходящего солнца, развевались по ветру; это были светлые волосы Терезы и ее обожаемый Лораном профиль. Она была одна. Лоран пылко протянул к ней руки, потом сжал их в знак раскаяния, и губы его прошептали два слова, которые унес морской ветер: — Прости! Прости! Господин де Верак с удивлением смотрел на Лорана, и Лоран, человек, больше всего на свете боящийся показаться смешным, не обратил никакого внимания на присутствие своего бывшего приятеля по кутежам. В тот момент он даже с какой-то гордостью бросал ему вызов. Когда берег исчез в вечернем тумане, Лоран сел на скамью рядом с Вераком. — Ну, расскажите же мне это странное приключение, — сказал Верак. — Вы уже слишком много сказали, чтобы остановиться на полпути. Все ваши парижские друзья, словом, весь Париж, потому что вы человек знаменитый, будут спрашивать, как окончилась ваша связь с мадемуазель Жак, которая тоже слишком известна, чтобы не возбуждать любопытства. Что я им отвечу? — Что вы видели меня очень печальным и очень глупым. То, что я сказал вам, можно выразить в двух словах. Надо ли повторять вам их? — Значит, это вы покинули ее первый? Я хотел бы, чтобы было так, для вас это было бы лучше! — Да, я вас понимаю, мы смешны, когда нам изменяют, но нас уважают все, если мы начнем первыми. Прежде я рассуждал так вместе с вами, таков был наш кодекс, но у меня совершенно другие понятия об этом с тех пор, как я полюбил. Я изменил, меня покинули, я в отчаянии, значит, наши старые теории противоречили здравому смыслу. Найдите в этой науке жизни, которой мы придерживались вместе с вами, какой-нибудь довод, чтобы он освободил меня от моих сожалений и страданий, и я скажу, что вы правы. — Я не стану искать доводов, мой милый, страдание не рассуждает. Я жалею вас, потому что вы теперь несчастны; только не знаю, существует ли женщина, достойная того, чтобы о ней столько плакали, и не лучше ли было бы со стороны мадемуазель Жак простить вам неверность, чем покидать вас в таком горе. Для матери она слишком сурова и мстительна. — Да ведь вы не знаете, как я был виноват и безумен. Неверность! Она простила бы мне ее, я убежден; но поношения, упреки… хуже того, Верак! Я сказал ей слова, которых не может забыть ни одна уважающая себя женщина: «Вы мне надоели!» — Да, это жестокие слова, в особенности если они правдивы. Но если это не было правдой? Если это было сказано с досады? — Нет, это было душевное утомление. Я не любил ее больше! Или нет, еще хуже: я никогда не мог любить ее, когда она принадлежала мне. Запомните это, Верак, смейтесь, если вам угодно, но запомните для себя. Весьма возможно, что в одно прекрасное утро вы проснетесь и почувствуете, что вам опротивели ложные наслаждения и вы страстно влюблены в порядочную женщину. Это может случиться с вами, как случилось со мной, ведь вы не более развращены, чем был я. Так вот, когда вы преодолеете сопротивление вашей возлюбленной, с вами, вероятно, случится то же, что случилось со мной; имея пагубную привычку к любовным утехам с женщинами, которых все презирают, вы неизбежно ощутите потребность в той необузданной свободе, которую с ужасом отвергает возвышенная любовь. Тогда вы почувствуете себя, как дикий зверь, укрощенный ребенком и всегда готовый пожрать его, чтобы разорвать свои цепи. И в тот день, когда вы убьете своего слабого стража, вы убежите один, рыча от радости и встряхивая гривой; но тут… звери пустыни испугают вас, и так как вы изведали клетку, вы не захотите жить на свободе. Как бы неохотно ваше сердце ни согласилось нести узду, пусть самую слабую, оно будет жалеть о ней, как только сбросит ее, оно погрузится в ужас одиночества, не в силах сделать выбор между любовью и развратом. Это болезнь, которой вы еще не знаете. Бог да сохранит вас от нее! А пока насмехайтесь над ней, как насмехался я! Все равно придет ваш день, если разврат еще не сделал из вас мертвеца! Господин де Верак, улыбаясь, слушал этот поток возвышенных излияний, который он воспринял, как хорошо спетую каватину в Итальянском театре. Лоран был, несомненно, искренен, но, возможно, его собеседник был прав в том отношении, что не придавал большого значения его отчаянию.IX
Тереза потеряла из виду «Феруччо», когда стало уже совсем темно. Она отпустила лодку, взятую утром в Специи, за которую она заплатила вперед. Когда лодочник привез ее с парохода в Порто-Венере, Тереза заметила, что он пьян; боясь возвращаться одна с этим человеком и рассчитывая найти какую-нибудь другую лодку на берегу, она отпустила лодочника. Но когда Тереза подумала, что ей пора вернуться, она вспомнила, что у нее нет ни одного су. Проще всего было бы заехать в гостиницу «Мальтийского креста» в Специи, где она останавливалась с Лораном, попросить, чтобы там заплатили за лодку, которая привезла бы ее туда, и подождать там приезда Палмера; но мысль о том, что у нее нет ни гроша и что на следующий день Палмеру придется платить за ее завтрак, внушала ей отвращение, может быть, ребяческое, но непреодолимое при тех отношениях, в которых они находились. К тому же ее довольно сильно мучила тревога: она не понимала причин его поведения с ней. Уезжая из Флоренции, она заметила в его глазах терзающую его печаль. Она не могла отогнать от себя мысль, что внезапно возникло какое-то препятствие, мешающее их браку; но в этом союзе она видела столько отрицательных сторон для Палмера, что не считала себя вправе бороться против этого препятствия, откуда бы оно ни появилось. Тереза приняла совершенно инстинктивное решение: оставаться в Порто-Венере до нового распоряжения Палмера. В свертке, который она взяла с собой, было все необходимое, чтобы провести четыре-пять дней в любом месте. Из драгоценностей у нее были часы и золотая цепочка; она могла оставить их в залог до тех пор, пока не получит деньги за свою работу, которые должны были перевести в один из банков Генуи. Она поручила Вичентино взять ее письма, полученные до востребования в Генуе, и переслать их в Специю. Надо было где-то переночевать, а Порто-Венере казался не очень-то приветливым. Высокие дома, которые со стороны пролива спускаются до самой воды, внутри города едва возвышаются над скалой, на которой они построены, так что во многих местах нужно нагибаться, чтобы пройти под их крышами, выступающими до середины улицы. На этой узкой, винтом поднимающейся в гору улице, вымощенной нетесаными плитами, копошится множество детей и кур, а под стоками вкривь и вкось приткнувшихся друг к другу крыш стоят большие медные сосуды, куда ночью стекает дождевая вода. Эти сосуды — местные барометры: пресной воды здесь мало, и как только ветер начинает нагонять облака, хозяйки торопятся поставить у своего дома всю мало-мальски годную посуду, чтобы не потерять ничего из благодеяния, посылаемого им небом. Проходя мимо раскрытых дверей этих домов, Тереза заметила комнату, показавшуюся ей чище других: здесь хоть и пахло прогорклым оливковым маслом, но не так сильно, как всюду. На пороге стояла бедная женщина, доброе и честное лицо которой внушало доверие; предупредив намерение Терезы, она заговорила по-итальянски или на языке, близком к итальянскому. Поэтому Тереза могла понять эту добрую женщину, которая услужливо осведомилась, не ищет ли она кого-нибудь. Тереза вошла, огляделась и спросила, нельзя ли получить здесь комнату на ночь. — Да, конечно, комната есть, и лучше этой; там вам будет спокойнее, чем в гостинице, где всю ночь распевают лодочники! Но у меня не гостиница, и завтра я попрошу вас громко сказать на улице, что вы меня знали прежде, чем приехали сюда, иначе у меня будут неприятности. — Хорошо, — сказала Тереза, — покажите мне, что у вас есть. Ей пришлось подняться на несколько ступеней, и она оказалась в нищенски убранной просторной комнате, откуда глазам являлась необъятная панорама открытого моря и бухты. Терезе почему-то сразу полюбилась эта комната, вероятно, она показалась ей защитой от тех уз, к которым не лежало ее сердце. Отсюда она на следующий день написала матери:«Моя дорогая, любимая, вот уже целых двенадцать часов я совершенно спокойна и могу рассуждать здраво… уж не знаю, надолго ли! Мне пришлось заново пересмотреть все свои чувства, и сейчас вы сможете сами судить о моем положении. Эта роковая любовь, которая так пугала вас, не возобновилась и больше не вернется. На этот счет вы можете быть спокойны. Я проводила своего больного и вчера посадила на пароход. Если я не спасла его бедную душу — а я не могу тешить себя этой надеждой, — он по крайней мере раскаялся и на несколько мгновений почувствовал прелесть дружбы. Если верить ему, он навсегда освободился от волновавших его бурь, но я ясно видела по его противоречивым чувствам, по его возвратам ко мне, что в нем еще осталось то, что составляет основу его натуры и что я могу определить, только назвав это любовью к несуществующему. Увы! Да, этот ребенок хотел бы иметь любовницей что-то вроде Венеры Милосской, оживленной дыханием моей покровительницы святой Терезы, или, вернее, женщину, которая сегодня была бы Сафо,[214] а завтра Жанной д’Арк. Как могла я, себе на горе, поверить, что после того, как он в своем воображении украсил меня всеми атрибутами божества, глаза его не откроются на следующий день! Наверное, сама того не подозревая, я очень тщеславна, раз я могла взять на себя задачу внушить к себе обожание, как к божеству! Но нет, я не была тщеславной, клянусь вам! Я не думала о себе; в тот день, когда я позволила ему вознести себя на этот алтарь, я говорила ему: «Если обязательно нужно, чтобы ты боготворил меня, вместо того чтобы любить, хотя для меня это было бы гораздо лучше, так боготвори меня, — увы! — но только не разбивай своего кумира завтра!» Он разбил меня! Но на что я могу жаловаться? Я предвидела это и заранее этому подчинилась. Однако, когда настал этот мучительный момент, я пала духом, возмутилась, страдала; но мужество взяло верх, и Бог позволил мне излечиться быстрее, чем я надеялась. Теперь я должна поговорить с вами о Палмере. Вы хотите, чтобы я вышла за него замуж, и он этого хочет, и я тоже хотела этого! Хочу ли я этого теперь? Что мне сказать вам, моя любимая? Меня снова мучат сомнения и страхи. Может быть, в том есть и его вина. Он не смог или не захотел провести со мной последние минуты, которые я провела с Лораном; он оставил меня с ним наедине на три дня — три дня, вполне для меня безопасных, я это знала, но он, Палмер, разве он знал это, и мог ли он за это отвечать? Или, что было бы еще хуже, не решил ли он испытать меня? В этом было с его стороны какое-то романтическое бескорыстие или преувеличенная деликатность — у такого человека, как он, они могут свидетельствовать только о добром чувстве, — и все-таки они навели меня на размышления. Я писала вам о том, что произошло между нами; казалось, он считает своим священным долгом жениться на мне, чтобы заставить меня забыть перенесенные мною унижения. Я, воодушевленная благодарностью, растроганная и восхищенная, сказала «да». Я обещала быть его женой и еще сейчас чувствую, что люблю его, насколько я еще способна любить. Однако теперь я сомневаюсь, потому что мне кажется, он раскаивается. Может быть, это мне только кажется? Не знаю, но почему он не мог поехать со мною сюда? Когда я узнала об ужасной болезни моего бедного Лорана, он не стал ждать, чтобы я сказала: «Я еду во Флоренцию», он сам сказал мне: «Едем!» Двадцать ночей, которые я провела у изголовья Лорана, он провел в соседней комнате и ни разу не сказал мне: «Вы убиваете себя!», а только говорил: «Отдохните немного, иначе у вас не хватит сил». Никогда я не замечала в нем и тени ревности. Казалось, что, по его мнению, я должна сделать все, чтобы спасти этого неблагодарного ребенка, которого мы оба словно усыновили. Благородное сердце Палмера чувствовало, что его доверие и великодушие только усиливали мою любовь к нему, и я была ему бесконечно благодарна за то, что он это понял. Своим доверием он возвышал меня в моих глазах, и я гордилась тем, что буду принадлежать ему. Откуда же в последний момент этот каприз? Почему он не смог поехать с нами? Непредвиденное препятствие? У него такая сильная воля, что я не верю в возможные для него препятствия; скорее мне кажется, что он хотел испытать меня. Признаюсь, это для меня унизительно. Увы! Я стала очень обидчивой со времени своего падения! Разве это не в порядке вещей? Он, который все понимает, почему он не понял этого? Или, может быть, он переменил свое решение и наконец согласился с моими доводами, которые я приводила, убеждая его не думать обо мне: что в том было бы удивительного? Я всегда знала, что Палмер — человек осторожный и благоразумный. Я очень удивилась, открыв в нем сокровища пылких и глубоких чувств. Не такой ли это характер, который волнуют страдания и который может страстно полюбить жертву? Это естественный инстинкт сильных людей, это святая жалость счастливых и чистых сердец! Порой я говорила это себе, чтобы примириться с собой, когда я любила Лорана, потому что прежде всего и больше всего я привязалась к нему из жалости к его страданиям! Все, что я говорю вам, моя любимая, я не посмела бы сказать Ричарду Палмеру, если бы он был здесь! Я боялась бы жестоко огорчить его своими сомнениями и сейчас не знаю, что делать, потому что эти сомнения возникают у меня невольно, и я боюсь если не за сегодняшний, то за завтрашний день. Не станет ли он смешным в глазах других, женившись на женщине, которую он, по его словам, любит уже десять лет, которой он никогда не сказал об этом ни слова и которую решился завоевать, найдя ее окровавленной и растоптанной ногами другого? Я живу в ужасном и все же великолепном маленьком приморском городке и безвольно жду, пока решится моя судьба. Быть может, Палмер в Специи, за три мили отсюда. Мы условились встретиться там. А я, дуясь на него или, скорее, его боясь, не могу решиться поехать туда и сказать: «А вот и я!» Нет, нет! Если он сомневается во мне, то между нами все кончено! Я прощала другому по пять или шесть оскорблений на день. Ему же я не могла бы простить даже тени подозрения. Это несправедливо? Нет! Теперь мне нужна или возвышенная любовь, или ничего! Разве я искала его любви? Он сам предложил мне ее, сказав: «Это будет небесное счастье!» Другой предупреждал меня, что он, быть может, готовит мне адские муки! И он меня не обманул. Так вот, я не хочу, чтобы Палмер обманул меня, обманувшись сам, потому что после этой новой ошибки мне останется только отказаться от всего и говорить себе, подобно Лорану, что по своей вине я навсегда потеряла право верить, а я не знаю, смогу ли жить с таким убеждением! Простите, моя родная, я знаю, мои волнения огорчают вас, хоть вы и говорите, что хотите разделить их! Не беспокойтесь по крайней мере о моем здоровье: я чувствую себя превосходно, перед глазами у меня самое прекрасное море, а над головой самое прекрасное небо, какое только можно вообразить. Я ни в чем не нуждаюсь, я живу у славных людей и, может быть, завтра напишу вам, что все мои тревоги исчезли. Любите всегда вашу Терезу, которая вас обожает».
Палмер и в самом деле уже накануне приехал в Специю. Он нарочно явился туда через час после отхода «Феруччо». Не найдя Терезы в «Мальтийском кресте» и узнав, что она посадила Лорана на пароход у входа в бухту, он стал ждать ее возвращения. В девять часов вернулся лодочник, которого она нанимала накануне и который работал при гостинице. Он был один. Этот славный малый не был пьяницей. Он опьянел от бутылки кипрского вина, которую Лоран подарил ему после того, как они пообедали с Терезой на траве. Лодочник выпил эту бутылку, пока друзья находились на острове Палмариа: он довольно хорошо помнил, что отвез синьора и синьору на «Феруччо», но совсем не помнил, как он отвозил потом синьору в Порто-Венере. Если бы Палмер расспросил его спокойно, он быстро понял бы, что лодочник не очень ясно представляет себе это последнее обстоятельство, но Палмер, несмотря на свой серьезный и невозмутимый вид, был очень вспыльчив и горяч. Он подумал, что Тереза уехала с Лораном, уехала втихомолку, не решаясь или не желая сказать ему правду. Он вообразил, что это так, и вернулся в гостиницу, где провел мучительную ночь. Мы не намеревались рассказывать здесь историю Ричарда Палмера. Мы озаглавили нашу повесть «Она и он», то есть «Тереза и Лоран». Поэтому о Палмере мы скажем только самое необходимое, чтобы объяснить события, к которым он оказался причастен; мы думаем, характер его будет в достаточной степени понятен из его поведения. Поспешим только сказать в двух словах, что Ричард был так же пылок, как и романтичен, что он был горд, и гордость заставляла его стремиться ко всему хорошему и прекрасному, но что воля его не всегда была столь сильна, как он думал, и, беспрерывно желая возвыситься над человеческой природой, он лелеял благородную мечту, в любви, быть может, и неосуществимую. Он встал рано и прогуливался по берегу залива, во власти мыслей о самоубийстве, от которого его спасло, однако, нечто вроде презрения к Терезе; потом утомление бессонной ночи вступило в свои права и подало ему разумные советы. Тереза была только женщиной, и ему не следовало подвергать ее опасному испытанию. Ну что ж, раз так случилось, раз Тереза, столь высоко вознесенная в его мнении, была побеждена прискорбной страстью после того, как дала священные обещания, не следовало верить ни одной женщине, и ни одна женщина не заслуживала того, чтобы благородный человек пожертвовал для нее жизнью. К такому заключению пришел Палмер, когда увидел, что к тому месту, где он стоял, причаливает изящная черная лодочка, а в ней стоит морской офицер. Восемь гребцов быстро вели длинную и узкую лодку по спокойной воде: в знак приветствия они с военной четкостью подняли свои белые весла; офицер сошел на берег и направился к Ричарду, которого он узнал издали. Это был капитан Лоусон, командующий американским фрегатом «Юнион», уже год стоявшим в этой бухте. Известно, что морские державы посылают в различные части земного шара на несколько месяцев или даже лет корабли, предназначенные для защиты их торговых операций. Лоусон был другом детства Палмера, и Палмер дал Терезе рекомендательное письмо к нему на тот случай, если она захотела бы посетить корабль во время своей прогулки по бухте. Палмер подумал, что Лоусон будет говорить с ним о Терезе, но он ошибся. Лоусон не получил никакого письма, и Тереза никого к нему не посылала. Он предложил Палмеру пойти позавтракать на корабль, и Ричард позволил увести себя. «Юнион» должен был уйти из Специи в конце весны, и Палмер тешился мыслью воспользоваться этим случаем, чтобы вернуться в Америку. Ему казалось, что между ним и Терезой все кончено, однако он решил остаться в Специи, потому что вид моря всегда оказывал на него благотворное влияние в тяжелые периоды его жизни. Он провел там уже три дня, бывая на американском корабле гораздо чаще, чем в гостинице «Мальтийского креста», стараясь вновь обрести вкус к навигации, которой он занимался большую часть своей жизни. Однажды утром, за завтраком, молодой мичман, полусмеясь, полувздыхая, рассказал, что накануне он влюбился и что предмет его страсти представлял собой загадку, о которой он хотел бы спросить мнение такого светского человека, как Палмер. Это была женщина на вид лет двадцати пяти — тридцати. Он видел ее только у окна, где она сидела, занятая плетением кружев. Кружева из грубой хлопчатобумажной нити — изделие женщин из народа, распространенное по всему генуэзскому побережью. Прежде эти кружева составляли целую отрасль коммерции, которая совсем зачахла после того, как изобрели станок, но до сих пор женщины и девушки побережья занимаются плетением кружев и получают от этого небольшой доход. Следовательно, та, в кого влюбился молодой мичман, принадлежала к сословию ремесленников: об этом свидетельствовал не только род ее работы, но также бедность жилья, в котором он ее увидел. Однако же покрой ее черного платья и изящество ее черт внушили ему сомнения. У нее были волнистые волосы, не слишком темные, мечтательные глаза, бледный цвет лица. Она очень хорошо видела, что из гостиницы, где он укрылся от дождя, молодой офицер смотрел на нее с любопытством. Она не соблаговолила ни поощрить его, ни спрятаться от его взглядов. Она была для него не сулящим никакой надежды воплощением равнодушия. Молодой моряк рассказал еще, что он расспросил хозяйку гостиницы в Порто-Венере. Та ответила ему, что чужеземка живет здесь уже три дня у здешней старушки, которая выдает ее за племянницу и, наверное, лжет, потому что это старая интриганка: она сдает плохую комнату и тем наносит ущерб настоящей гостинице, хозяйка которой имеет патент. Эта старушка всячески старается заманить путешественников; она их якобы кормит, но кормит, наверное, очень плохо, у нее ведь ничего нет, и поэтому она заслуживает презрения и порядочных людей, и уважающих себя путешественников. Услышав все это, молодой человек поспешил пойти к старушке и попросил ее сдать комнату его другу, которого он будто бы ждал, в надежде под предлогом этой истории выведать что-нибудь о незнакомке; но старушка была непроницаема и даже неподкупна. Описание этой молодой незнакомки, услышанное от моряка, привлекло внимание Палмера. Это могла быть Тереза, но что она делала и почему пряталась в Порто-Венере? Конечно, она была там не одна: где-нибудь в другом углу, должно быть, прятался Лоран. Палмер стал уже думать о том, не поехать ли ему в Китай, чтобы не стать свидетелем собственного несчастья. Однако же он принял самое разумное решение — узнать, в чем было дело. Он тотчас приказал везти себя в Порто-Венере и без труда нашел Терезу, которая жила там, где ему сказали, и занималась плетением кружев. Объяснение было живым и откровенным. Оба были слишком искренни, чтобы дуться молча; оба признались, что сильно друг на друга сердятся: Палмер — за то, что Тереза не сказала ему, где она скрывается, Тереза — за то, что он не усердно искал ее и не обнаружил раньше. — Друг мой, — сказал Палмер, — вы, кажется, упрекаете меня за то, что я как будто покинул вас в опасности. Но я не верил в эту опасность! — Вы были правы, и я благодарю вас за это. Тогда почему же вы так огорчились и словно пришли в отчаяние, видя, что я уезжаю? И почему, прибыв сюда, вы с первого дня не могли узнать, где я нахожусь? Вы, значит, решили, что я уехала и что искать меня бесполезно? — Выслушайте меня, — сказал Палмер, избегая прямого ответа, — и вы увидите, что за эти несколько дней у меня было столько огорчений, что я мог потерять голову. Вы поймете также, почему, зная вас еще совсем юной и имея возможность предложить вам руку, я прошел мимо своего счастья, сожаления и мечты о котором никогда не покидали меня. Тогда я был любовником женщины, игравшей мной на тысячу ладов. Я считал своим долгом, я в течение десяти лет считал себя обязанным поддерживать ее и покровительствовать ей. Наконец она дошла до предела неблагодарности и коварства, и я смог покинуть ее, забыть и свободно распоряжаться собою. Так вот, эту женщину, — я думал, что она в Англии, — я увидел во Флоренции в тот момент, когда Лоран должен был уезжать. Покинутая своим новым любовником, который был моим преемником, она хотела и рассчитывала возобновить связь со мной: она столько раз убеждалась в моем великодушии и слабости! Она написала мне угрожающее письмо и, разыгрывая нелепую ревность, намеревалась оскорбить вас в моем присутствии. Я знал, что эта женщина не отступит перед любым скандалом, и ни за что на свете не хотел, чтобы вы стали хотя бы свидетельницей ее безумств. Мне удалось убедить ее не показываться, только обещав объясниться с ней в тот же день. Она сняла комнату в том самом отеле, где мы жили с нашим больным, и когда кучер, который должен был увезти Лорана, подъехал к дверям, она была тут, готовая устроить скандал. Ее отвратительное и нелепое намерение состояло в том, чтобы кричать перед всеми, кто был в отеле и на улице, что я делю свою новую возлюбленную с Лораном де Фовелем. Вот почему я позволил вам уехать с ним, а сам остался, чтобы развязаться с этой сумасшедшей, не компрометируя вас и не ставя вас перед необходимостью видеть ее и слышать. Теперь не говорите больше, что я хотел вас испытать, оставив наедине с Лораном. Боже мой, я достаточно страдал от этого, не обвиняйте меня! А когда я вообразил, что вы уехали с ним, на меня набросились все фурии ада. — Вот за это-то я вас и упрекаю, — сказала Тереза. — Ах, что вы от меня хотите! — воскликнул Палмер. — Меня так подло обманывали в жизни! Эта мерзкая женщина всколыхнула во мне целое море горечи и презрения. — И это презрение вылилось на меня? — О, не говорите так, Тереза! — Однако меня тоже очень много обманывали, а все-таки в вас я верила. — Не будем больше говорить об этом, друг мой; я сожалею о том, что мне пришлось рассказать вам свое прошлое. Теперь вы подумаете, что оно может повлиять на мое будущее и что, как Лоран, я заставлю вас платить за измены, которых мне пришлось испытать так много. Ну, милая Тереза, прогоним эти грустные мысли. Вы поселились в таком мрачном месте — оно навевает сплин. Лодка ждет нас, вы устроитесь в Специи. — Нет, — сказала Тереза, — я остаюсь здесь. — Как? Что же это такое? Мы, значит, будем сердиться друг на друга? — Нет, нет, милый Дик, — возразила она, протягивая ему руку, — на вас я никогда не хочу сердиться. О, умоляю вас, сделайте так, чтобы наши отношения стали идеалом искренности; что до меня, то я хочу сделать для этого все, на что способна доверчивая душа; но я не знала, что вы ревнивец, вы были им и признаете это. Так вот знайте: не в моей власти избежать жестоких страданий от этой ревности. Это настолько противоречит вашим обещаниям, что я задаюсь вопросом, куда мы теперь идем и почему я должна, выйдя из ада, попасть в чистилище, я, которая мечтала только о покое и одиночестве. Я боюсь этих новых мучений и боюсь, что, по-видимому, они ждут не только меня; если бы было возможно, чтобы в любви один из двоих был счастлив, тогда как другой страдал бы, то путь самопожертвования был бы намечен заранее и по нему легко было бы идти; но дело обстоит не так, и вы это видите: если я буду огорчена хотя бы одно мгновение, вы это сразу почувствуете. И мне невольно придется отравлять вам жизнь, и я, которая никому не хотела причинять вреда, вдруг стану причиной вашего несчастья! Нет, Палмер, верьте мне: мы думали, что знаем друг друга, но мы друг друга не знали. Больше всего меня трогало ваше доверие ко мне, а вы его уже потеряли. Разве вы не понимаете, что я, оскверненная, нуждалась именно в этом доверии и ни в чем другом, чтобы полюбить вас? Если же теперь я буду переносить вашу любовь со всеми ее тяготами и слабостями, со всеми сомнениями и бурями, разве вы не вправе будете сказать себе, что, выходя за вас замуж, я действую по расчету? О, не говорите, что у вас никогда не появится такой мысли, она придет к вам против вашей воли. Я слишком хорошо знаю, как мы переходим от сомнения к сомнению и по какому крутому склону мы катимся от первого разочарования к оскорбительному отвращению! Нет, я уже достаточно напилась этой желчи, я не хочу ее больше, я твердо знаю, что не способна больше переносить то, что переносила; я сказала вам это в первый же день, и если вы это забыли, то я помню. Отложим же мысль о нашем браке, — добавила она, — и останемся друзьями. Временно я беру назад свое слово, до тех пор, пока смогу рассчитывать на ваше уважение, такое, каким я предполагала пользоваться. Если вы не хотите подвергаться испытанию, расстанемся сейчас же. Что до меня, то клянусь вам, в том положении, в каком я нахожусь сейчас, я ничем не хочу быть вам обязанной, даже самой небольшой услугой. Я объясню вам свое положение, потому что нужно, чтобы вы поняли, чего я хочу. Здесь меня приютили и кормят, веря мне на слово, потому что у меня нет абсолютно ничего, я все отдала Вичентино на дорожные расходы Лорана; но оказалось, что я умею плести кружева быстрее и лучше, чем здешние женщины, и в ожидании денег, которые я должна получить из Генуи, я могу ежедневно заработать столько, чтобы если и не рассчитаться с моей доброй хозяйкой, то по крайней мере заплатить ей за очень скромную пищу, которой она меня снабжает. Я не испытываю ни унижений, ни страданий от такого положения. Так будет до тех пор, пока придут мои деньги. Тогда я решу, что мне делать. А до тех пор возвращайтесь в Специю и приезжайте ко мне, когда захотите; я буду плести кружева, беседуя с вами. Палмеру пришлось подчиниться, и он подчинился без споров. Он надеялся вновь завоевать доверие Терезы и чувствовал, что оно пошатнулось по его вине.
X
Несколько дней спустя Тереза получила письмо из Женевы. Лоран письменно обвинял себя во всем, в чем уже обвинял себя на словах, как будто хотел закрепить таким образом свидетельство своего раскаяния.«Нет, я не сумел заслужить тебя, — писал он. — Я был недостоин такой великодушной, такой чистой, такой бескорыстной любви. Я утомил твое терпение, о моя сестра, моя мать! Я утомил бы даже ангелов! Ах, Тереза! По мере того как ко мне возвращается здоровье и я снова начинаю жить, мои воспоминания проясняются; я смотрю в свое прошлое, как в зеркало, и оно показывает мне призрак человека, которого я знал, но которого я теперь не понимаю. Этот несчастный был во власти безумия; не думаешь ли ты, Тереза, что за три или четыре месяца до начала этой ужасной физической болезни, от которой ты чудом спасла меня, у меня уже началась душевная болезнь и уже тогда я не сознавал своих слов и поступков? О, если бы это было так, разве не должна ты была простить меня?.. Однако то, что я говорю сейчас, лишено здравого смысла. Что такое зло, если не душевная болезнь? Разве отцеубийца не мог привести такое же оправдание? Добро, зло — я впервые мучительно задумываюсь над этими понятиями. До того как я узнал тебя и заставил страдать, моя бедная, моя любимая, я никогда о них не думал. Зло было для меня чудовищем низшего порядка, апокалипсическим зверем, живущим среди мерзких подонков общества и оскверняющим своими объятиями отбросы рода человеческого. Зло! Разве могло оно приблизиться ко мне, светскому человеку, парижскому щеголю, благородному сыну муз! Ах, глупец! Так, значит, потому, что борода моя была надушена и руки были в дорогих перчатках, мои ласки облагораживали великую блудницу всех народов, оргию, мою невесту, сковавшую меня с собою такой же благородной цепью, как та, что сковывает каторжников на галерах? И я принес тебя в жертву, моя бедная, нежная возлюбленная, своему грубому эгоизму, а потом поднял голову, говоря: «Это было мое право, она принадлежала мне; это не могло быть дурно, раз я имел на это право!» Ах, я несчастный, несчастный! Я был преступником и не подозревал об этом! Для того, чтобы понять это, мне нужно было потерять тебя — тебя, мое единственное сокровище, единственное существо, которое меня когда-либо любило, которое было способно любить такое неблагодарное и безумное дитя, каким был я! Только когда я увидел, что мой ангел-хранитель, закрыв лицо, улетел от меня, чтобы вернуться в небеса, я понял, что я навеки один и покинут всеми на земле!»
Большая часть этого первого письма была написана в экзальтированном тоне, искренность которого подтверждалась подробностями из повседневной жизни и резкими переменами настроения, столь характерными для Лорана.
«Поверишь ли ты, что, приехав в Женеву, первое, что я сделал, даже прежде чем написать тебе, это пошел купить себе жилет? Да, летний жилет, очень красивый, честное слово, и хорошего покроя: я нашел его у французского портного — приятная находка для путешественника, которому не терпится покинуть этот город часовщиков и набивальщиков чучел. И вот я ходил по улицам Женевы, в восторге от своего нового жилета, и остановился перед книжным магазином, где одно издание Байрона, переплетенное с большим вкусом, непреодолимо соблазняло меня.[215] Что читать в дороге? Я, кстати, терпеть не могу путеводителей, если только в них не говорится о странах, куда я никогда не смогу поехать. Я больше люблю поэтов, которые водят нас по стране своих грез, и я купил это издание. А потом я пошел за прехорошенькой девушкой в короткой юбке — она проходила мимо, и щиколотка ее показалась мне чудом изящества. Я шел за нею, гораздо больше думая о своем жилете, чем о ней. Вдруг она свернула направо, а я налево, сам того не заметив, и я очутился в своей гостинице; там, собираясь положить новую книгу в чемодан, я нашел махровые фиалки, которые ты разбросала по моей каюте в минуту нашего расставания. Я тщательно собрал их и сохранил как реликвию; и вот, когда я увидел их, я залился слезами, словно водосточный желоб, глядя на свой новый жилет, покупка которого была для меня главным событием в это утро, и подумал: «Вот такое дитя любила эта бедная женщина!»
Дальше он писал:
«Ты взяла с меня обещание, что я буду следить за своим здоровьем, ты сказала: «Так как это я вернула тебе здоровье, оно принадлежит немного и мне, и я имею право запретить тебе его портить». Увы! Моя Тереза, что мне делать с ним, с этим проклятым здоровьем, которое начинает опьянять меня, как молодое вино? Весна в цвету — это время любви, я согласен; но от меня ли зависит, чтобы я полюбил? Ведь даже ты не смогла внушить мне настоящей любви, и ты думаешь, что я встречу женщину, способную совершить чудо, которого не могла совершить ты? Где я найду ее, эту волшебницу? В свете? Конечно, нет; ведь светские женщины не идут на жертвы, они не хотят ничем рисковать. Они, конечно, совершенно правы, и ты могла бы сказать им, мой милый друг, что те, кому мы жертвуем собой, этого не заслуживают; но не моя вина, если я не могу согласиться на то, чтобы делить свою возлюбленную с мужем или любовником. Полюбить незамужнюю девушку? И, значит, жениться на ней? О! Уж об этом, Тереза, ты не можешь подумать без смеха… или без дрожи. Я, скованный цепью закона, когда я не могу терпеть даже цепей своей собственной воли! Когда-то у меня был друг, который любил гризетку и думал, что он счастлив. Я приударил за этой верной любовницей и получил ее за зеленого попугая, которого ее друг не хотел подарить ей. Она наивно говорила: «Ну вот! Он сам виноват, зачем он не подарил мне этого попугая!» И с тех пор я дал себе слово никогда не любить содержанку, то есть такое существо, которому хочется обладать всем тем, чего оно не получает от своего любовника. Словом, для меня остаются только авантюристки, которых можно встретить на дорогах, — все они родились княгинями, но у всех были в жизни «несчастья». Слишком много несчастий, покорно благодарю! Я не настолько богат, чтобы заполнить бездны прошлого всех этих дам. Известная актриса? Это часто меня соблазняло; но тогда нужно, чтобы моя возлюбленная отказалась играть перед зрителями, а зритель — это любовник, заменить которого, я чувствую, у меня не хватит сил. Нет, нет, Тереза, я не могу любить! Я требую слишком многого и требую того, чего не могу дать взамен; значит, придется мне вернуться к моей прежней жизни. Лучше уж так, по крайней мере твой образ никогда не будет осквернен во мне возможными сравнениями. Почему бы мне не устроить свою жизнь так: женщины для тела и возлюбленная для души? Хотим мы этого или нет, Тереза, ты все равно останешься моей возлюбленной, тем идеалом, о котором я мечтал, который потерял, оплакал и о котором мечтаю больше, чем когда-либо. Ты не можешь считать это оскорблением, я никогда ничего не буду говорить тебе об этом. Я стану любить тебя в моих сокровенных мыслях, и никто не будет знать об этом, и ни одна женщина никогда не сможет сказать: «Я заменила ее, эту Терезу!» Друг мой, ты должна сделать мне милость, в которой ты отказала мне в эти последние, столь сладкие и дорогие дни, проведенные нами вместе: ты должна поговорить со мной о Палмере. Ты думала, что это еще причинит мне боль. Так вот, ты ошиблась. Это сразило бы меня, когда в первый раз я в запальчивости спрашивал тебя о Палмере; я был еще болен и невменяем; но когда рассудок вернулся ко мне, когда ты намекнула мне о тайне, которую ты не обязана была мне открывать, я, как мне ни было больно, почувствовал, что могу загладить свою вину, если не буду препятствовать твоему счастью. Я внимательно следил за вами, когда вы были вместе: я видел, что он тебя страстно любит и что в то же время со мною нежен, как отец. Поверишь ли, Тереза, это глубоко взволновало меня. Я и не представлял себе, что может быть такое великодушие, такое величие в любви. Счастливец Палмер! Как он уверен в тебе! Как он тебя понимает, а значит, как он достоин тебя! Это напомнило мне те времена, когда я говорил тебе: «Полюбите Палмера, я буду очень рад!» Ах, какое мерзкое чувство было у меня тогда в душе! Я хотел освободиться от твоей любви, которая угнетала меня угрызениями совести, а все-таки если бы тогда ты ответила мне: «Ну, так я люблю его!..» — я убил бы тебя! Палмер — это доброе, великодушное сердце, он уже любил тебя, но не побоялся посвятить себя тебе, когда ты, быть может, еще любила меня! Я в подобных обстоятельствах никогда не решился бы рисковать. Во мне было слишком много той гордости, которой мы так чванимся, мы, светские люди, и которую так хорошо придумали глупцы, чтобы помешать нам пытаться завоевать счастье, несмотря на риск и опасности, или уметь хотя бы удержать его, когда оно от нас ускользает. Да, мой бедный друг, я хочу исповедаться до конца. Когда я говорил тебе: «Полюбите Палмера», я порой думал, что ты уже любишь его, и это окончательно отдаляло меня от тебя. В последнее время я часто готов был броситься к твоим ногам; меня останавливала такая мысль: «Слишком поздно, она любит другого. Я так хотел, но она не должна была пойти на это. Значит, она недостойна меня!» Вот как я рассуждал в своем безумии, и все же — теперь я в этом уверен — если бы я с чистым сердцем вернулся к тебе, даже если бы ты уже полюбила Дика, ты пожертвовала бы им для меня. Ты снова согласилась бы на то мученичество, которому я тебя подвергал. Послушай, я хорошо сделал, что сбежал, не правда ли? Я чувствовал это, покидая тебя. Да, Тереза, это и дало мне силы уехать во Флоренцию, не сказав тебе ни одного слова. Я чувствовал, что убиваю тебя день за днем и что у меня нет иного способа искупить свою вину, как только оставив тебя одну с человеком, который по-настоящему тебя любит. Это поддерживало во мне мужество в Специи в продолжение того дня, когда я мог еще попытаться вымолить прошение; клянусь тебе, друг мой, у меня даже не появлялось такой недостойной мысли. Не знаю, сказала ли ты лодочнику, чтобы он не терял нас из виду, но поверь мне, это было бы совершенно не нужно! Я скорее бы бросился в море, чем захотел бы изменить доверию, которое Палмер оказал мне, оставив нас вдвоем. Скажи же ему, что я его по-настоящему люблю, насколько я умею любить. Скажи, что это ему в той же мере, как и тебе, я обязан тем, что приговорил себя и казнил. Боже мой, сколько я выстрадал, прежде чем совершить в себе это самоубийство прежнего человека! Но теперь я горжусь собой. Все мои прежние друзья сочли бы меня глупцом или трусом, потому что я не пытался убить своего соперника на дуэли, с тем чтобы потом покинуть изменившую мне женщину, плюнув ей в лицо! Да, Тереза, я сам, вероятно, так же осудил бы у другогото поведение, которое я с такой радостной решимостью избрал по отношению к тебе и Палмеру. Дело в том, что я, слава богу, все-таки не грубое животное! Я ничего не стою, но я понимаю то малое, чего я все-таки стою, и я справедлив по отношению к самому себе. Говори же мне о Палмере и не бойся, что мне это будет больно; совсем нет, это послужит мне утешением в часы хандры. Это придаст мне силы: ведь твой бедный ребенок еще очень слаб, и когда он начинает думать о том, чем он мог бы быть и чем стал для тебя, у него до сих пор еще мутится в голове. Но скажи мне, что ты счастлива, и я с гордостью скажу себе: «Я мог бы смутить, оспаривать и, быть может, разрушить ее счастье; я этого не сделал. Оно немного и мое творение, и теперь я имею право на дружбу Терезы».Тереза с нежностью ответила своему бедному ребенку. Под таким именем он отныне был погребен и словно набальзамирован в святилище прошлого… Тереза любила Палмера, по крайней мере она хотела любить его и верила, что любит. Ей казалось, что она уже не будет жалеть о том времени, когда каждое утро она просыпалась, боясь, что дом обрушится ей на голову. Однако ей чего-то не хватало, и какая-то грусть охватила ее с тех пор, как она жила на этом голом утесе в Порто-Венере. Она как бы отреклась от жизни и в этом порой находила какую-то прелесть; но ее томили уныние и подавленность, что вовсе не было ей свойственно и чего она сама не могла бы объяснить. Она не в силах была исполнить просьбу Лорана относительно Палмера: в своем письме она лишь кратко упомянула о том, как высоко она его ценит, и передала от него Лорану уверения в самых дружеских чувствах, но не могла заставить себя рассказать ему о своих отношениях с Палмером. Она не хотела открывать Лорану свое истинное положение, то есть говорить о своих обещаниях, на выполнение которых она сама еще окончательно не решилась. И даже если бы она уже приняла решение, было бы еще слишком рано заявить Лорану: «Вы все еще страдаете, тем хуже для вас! А я выхожу замуж!» Только через две недели она получила долгожданные деньги. Все это время она плела кружева с усердием, огорчавшим Палмера. Став наконец обладательницей нескольких банковских билетов, она щедро заплатила своей доброй хозяйке и позволила себе прокатиться с Палмером вдоль берегов бухты; но она решила остаться в Порто-Венере еще на некоторое время — она сама не могла объяснить, почему ей так полюбилось это унылое и нищенское местечко. Бывают душевные состояния, которые можно чувствовать, но трудно определить. Терезе удавалось излить душу только в письмах к матери. В июле она писала ей:
«Я все еще здесь, несмотря на гнетущую жару. Я прилепилась, как раковина, к этой скале, где никогда не вздумает расти ни одно дерево, но где дуют сильные и живительные морские ветры. Климат здесь резкий, но здоровый, а беспрерывно видеть море, которое прежде я не могла переносить, кажется, стало для меня необходимостью. Местность, лежащая позади меня, куда я могу за два часа добраться на лодке, весной была восхитительна. Если пройти подальше, в том направлении, куда врезается бухта, то в двух или трех километрах от берега увидишь удивительные места. Почва, развороченная какими-то происходившими давным-давно землетрясениями, образует там причудливые складки. Это ряд красных песчаных холмов, покрытых соснами и вереском, надвигающихся друг на друга; на их гребнях образовались довольно широкие естественные дороги, которые вдруг отвесно падают в пропасть, так что вы не знаете, как продолжать путь. Если вернуться обратно по своим следам и заблудиться в лабиринте узких тропинок, протоптанных стадами, то окажешься у края других пропастей; мы с Палмером иногда целыми часами блуждали по этим лесистым вершинам в поисках дороги, которая привела нас туда. Потом спускаешься на необъятные равнины возделанной земли, пересекаемые здесь и там с известной правильностью все теми же странными холмами, а за этой безграничностью равнины расстилается синяя безграничность моря. С этой стороны горизонт кажется бесконечно далеким. С севера и востока высятся Приморские Альпы, резко очерченные гребни которых были еще покрыты снегом, когда я приехала сюда. Но сейчас уже нет и в помине этих пустошей, покрытых цветущим дроком и кустами белого вереска, распространявших такой свежий и тонкий аромат в первые дни мая. Тогда здесь был рай земной: в лесах благоухало ложное черное дерево, иудино дерево[216], душистый терновник и ракитник, сверкающий, словно золото, среди черных кустов мирта. Теперь все выжжено, сосны источают терпкий аромат, на полях люпина, еще недавно цветущих и таких душистых, торчат только обрезанные стебли, черные, как будто их опалил огонь; жатва убрана, на полуденном солнце над землей поднимается пар, и нужно вставать очень рано, чтобы прогулка не превращалась в мучение. А так как, чтобы добраться в лодке ли, пешком ли до хорошего леса, нужно не меньше четырех часов, то возвращаться оттуда неприятно; высоты же, непосредственно окружающие бухту, великолепны по форме и живописны, но такие голые, что легче всего дышится все-таки в Порто-Венере или на острове Палмариа. И потом, в Специи есть бич — москиты, порождаемые стоячими водами маленького соседнего озера и огромными заболоченными пространствами, которые земледельцы отвоевывают у моря. Здесь мы не страдаем от избытка пресной воды; у нас только море и скалы, а значит, нет насекомых, нет ни одной травинки, но зато какие облака, пурпурные, золотые, какие величественные бури, какой торжественный покой! Море — это картина, краски и настроение которой меняются каждую минуту дня и ночи. Здесь есть пучины, откуда доносятся страшные вопли, невообразимые, пугающие, нестройные; здесь раздается плач отчаяния, звучат проклятия ада, и по ночам я слышу из своего окошечка эти голоса бездны, то ревущие в какой-то неслыханной вакханалии, то поющие дикие гимны, которые наводят страх даже тогда, когда наступает почти полное затишье. И вот теперь я полюбила все это, — а я ведь всегда предпочитала поля, меня тянуло к спокойным зеленым уголкам. Потому ли, что во время моей роковой любви я привыкла к грозам и не могу теперь обходиться без шума? Может быть, и так! Мы, женщины, такие странные создания! Должна признаться вам, моя любимая: прошло немало дней, пока я привыкла существовать без мук. Я не знала, что делать с собой, потому что мне некому было прислуживать, не за кем ухаживать. Было бы лучше, если бы Палмер стал хоть чуть-чуть несносным; но вот какая несправедливость: едва лишь я заметила в нем что-то похожее на это, как я взбунтовалась, а теперь, когда он снова стал ангельски добрым, я не знаю, на ком мне выместить ужаснейшую скуку, которая охватывает меня по временам. Увы! Да, это так!.. Сказать вам? Нет, лучше мне и самой не знать этого или, если я это знаю, не огорчать вас своим безрассудством. Я хотела рассказать вам только о здешних местах, о моих прогулках, о моих занятиях, о моей печальной комнатке под крышей или, вернее, на крыше, где мне нравится быть одной, никому не известной, забытой всем миром, без обязанностей, без заказчиков, без дел, без всякой работы, кроме той, которая мне нравится. Я заставляю позировать маленьких детей и для забавы образую из них живописные группы; но всего этого вам недостаточно, и если я не скажу вам, к чему влечет меня мое сердце и чего я хочу, вы еще больше встревожитесь. Так вот, знайте, я твердо решила выйти замуж за Палмера, и я люблю его; но до сих пор я не могла отважиться сказать ему, когда это будет: я боюсь, боюсь и за себя и за него. Что станется с нами назавтра после этого нерасторжимого союза? Я уже вышла из возраста иллюзий, и после такой жизни, как моя, у меня накопилось за сто лет опыта, а значит, столько же и страхов! Я думала, что совершенно отдалилась от Лорана; так оно и было в Генуе, в тот день, когда он сказал мне, что я его бич, убийца его гения и славы. Теперь я чувствую, что не совсем еще оторвана от него; после его болезни, его раскаяния и его прелестных писем, полных нежности и отречения, которые он писал мне за два последних месяца, я понимаю, что великий долг еще связывает меня с этим несчастным ребенком, и я не хотела бы обидеть его, покинув его окончательно. А ведь это может случиться на следующий день после моей свадьбы. Палмер уже проявлял минутную ревность, и она может вернуться в тот день, когда он будет иметь право сказать мне: «Я так хочу!» Я больше не люблю Лорана, моя дорогая, клянусь вам, я лучше хотела бы умереть, чем снова полюбить его, но в тот день, когда Палмер захочет разбить те дружеские чувства, которые пережили во мне эту несчастную страсть, быть может, я разлюблю Палмера. Все это я сказала ему; он меня понял, так как гордится тем, что он великий философ, и твердо уверен: то, что кажется ему справедливым и хорошим сегодня, никогда не изменится в его глазах. Я тоже верю в это и все-таки прошу его подождать, пока протекут дни, не считая их, и продлить это спокойное и приятное состояние, в котором мы сейчас пребываем. Правда, у меня бывают приступы хандры, но по природе своей Палмер не очень проницателен, и я могу скрыть их от него. Я могу в его присутствии выглядеть, по выражению Лорана, как больная птица, и Палмера это не испугает. Если в будущем нам не грозит иной опасности, кроме той, что, когда я буду нервничать и грустить, он этого не заметит и не встревожится, мы уживемся и будем по возможности счастливы. Но если он станет следить за моим рассеянным взглядом, будет стараться угадать мои мысли и наконец станет повторять все те жестокие ребячества, которыми меня угнетал Лоран в часы моей душевной подавленности, то я чувствую, что у меня уже не будет сил бороться; пусть лучше меня убьют сейчас же, и пусть все будет кончено — чем скорее, тем лучше».В эти же дни Тереза получила от Лорана такое пылкое письмо, что она встревожилась. Опять это были излияния, но уже не дружбы, а любви. Молчание, которое Тереза хранила о своих отношениях с Палмером, вернуло художнику надежду на ее возвращение. Он не мог больше жить без нее; напрасно старался он забыться в своих прежних утехах. Теперь они опротивели ему до тошноты.
«Ах, Тереза! — писал он ей. — Прежде я упрекал тебя в том, что ты слишком целомудренна и создана скорее для монастыря, чем для любви. Как я мог так святотатствовать? С тех пор как я стараюсь вновь пристраститься к пороку, я чувствую, что опять становлюсь целомудренным, как само детство, и женщины, с которыми я встречаюсь, говорят, что я гожусь в монахи. Нет, нет, я никогда не забуду того, что между нами было нечто большее, чем любовь: эта материнская нежность, часами согревавшая меня растроганной и безмятежной улыбкой, эти излияния сердца, эти взлеты ума, эта поэма, пережитая вдвоем, в которой мы, сами о том не думая, были и авторами и героями. Тереза, если ты не принадлежишь Палмеру, ты можешь быть только моей! С кем другим обретешь ты снова эти пылкие волнения, эту глубокую нежность? Разве все дни у нас были горькими? Разве не было и прекрасных? А впрочем, разве ты ищешь счастья, ты, воплощенное самопожертвование? Можешь ли ты не страдать ради кого-то, и не называла ли ты меня иногда, когда ты прощала мне мои безумства, своей дорогой мукой и пыткой, без которой ты не можешь обойтись? Вспомни, вспомни, Тереза! Ты страдала, и все-таки ты живешь. А я заставлял тебя страдать и умираю от этого! Разве я не достаточно искупил свою вину? Вот уже три месяца, как душа моя в агонии!..»Затем начинались упреки. Тереза сказала ему либо слишком много, либо слишком мало. Изъявления ее дружеских чувств были слишком пылкими, если это была только дружба, и слишком холодными и осторожными, если это была любовь. Нужно, чтобы у нее хватило мужества заставить его жить или дать ему умереть. Тереза решилась ответить ему, что она любит Палмера и хотела бы любить его всегда; однако же она умолчала об их предполагаемом браке, на который она не могла заставить себя смотреть как на дело решенное. Она насколько могла смягчила удар, который это признание должно было нанести гордости Лорана.
«Знай, — писала она ему, — что я отдала свое сердце и жизнь другому не для того, чтобы, как ты говорил, наказать тебя. Нет, я простила тебя от всей души в тот день, когда ответила на любовь Палмера, и доказательство моего прощения то, что во Флоренцию мы помчались вместе с ним. Неужели ты в самом деле думаешь, мое бедное дитя, что, ухаживая за тобой во время твоей болезни, я была только сестрой милосердия? Нет, нет, не долг приковал меня к твоему изголовью, а материнская нежность. Разве мать не прощает всегда? Вот видишь, так всегда и будет! Каждый раз, когда, не посягая на то, чем я обязана Палмеру, я смогу быть тебе полезной, ухаживать за тобой и утешать тебя, ты снова обретешь меня. Только потому, что Палмер не препятствует этому, я смогла полюбить его, только потому я его и люблю. Если бы мне пришлось перейти из твоих объятий в объятия твоего врага, я возненавидела бы себя, но он тебе не враг. Наши руки соединились в тот миг, когда мы поклялись друг другу всегда заботиться о тебе и никогда тебя не покидать».Тереза показала это письмо Палмеру, которого оно глубоко взволновало; он захотел тоже написать Лорану и обещать ему постоянные заботы и искреннюю дружбу. После этого Лоран долго не писал. Мечта, которую он снова начал было лелеять, теперь улетела без возврата. Сперва он испытывал жгучую боль, но решил стряхнуть с себя это горе, так как чувствовал, что не в силах выдержать его. С ним произошла одна из тех резких и полных перемен, которые то губили его, то спасали ему жизнь, и он написал Терезе:
«Благословляю тебя, моя обожаемая сестра; я счастлив, я горжусь твоей верной дружбой, а дружба Палмера растрогала меня до слез. Почему ты не сказала мне раньше, жестокая? Я не страдал бы так сильно. В самом деле, что мне было нужно? Знать, что ты счастлива, и ничего больше. Ведь только потому, что я воображал тебя грустной и одинокой, я хотел припасть к твоим ногам и сказать тебе: «Ну что ж, если ты страдаешь, будем страдать вместе. Я хочу разделить твою грусть, твои горести и твое одиночество». Разве это не было моим долгом и моим правом? Но ты счастлива, Тереза, а значит, и я тоже! Благословляю тебя за то, что ты сказала мне это. Теперь я наконец освобожден от угрызений совести, которые терзали мое сердце. Я могу идти с высоко поднятой головой, дышать полной грудью и повторять себе, что я не осквернил и не испортил жизнь лучшей из подруг! Ах, я так горжусь тем, что ощущаю эту благородную радость вместо отвратительной ревности, которая мучила меня прежде!! Дорогая Тереза, мой милый Палмер, вы мои ангелы-хранители. Вы принесли мне счастье. Благодаря вам я понял наконец, что родился не для такой жизни, какую вел. Я возрождаюсь, я чувствую, как небесные флюиды спускаются в мои легкие, жаждущие чистого воздуха. Все мое существо обновляется. Я буду любить! Да, я буду любить, я уже люблю!.. Я люблю прекрасное и чистое дитя, которое еще ничего не знает об этом и возле которого я испытываю неизъяснимое наслаждение хранить тайну моего сердца, казаться и быть таким же наивным, таким же веселым, таким же ребенком, как она сама. Ах! Как они прекрасны, эти первые дни зарождающегося волнения! Разве нет чего-то возвышенного и пугающего в этой мысли: я предаю себя, другими словами — я себя отдаю! Завтра, быть может — сегодня вечером, я уже не буду принадлежать себе? Радуйся, моя Тереза, такому завершению печальной и безумной юности твоего бедного сына. Скажи себе, что это обновление существа, которое казалось погибшим, а теперь, вместо того чтобы барахтаться в тине, раскрывает крылья, как птица, — и все это дело твоей любви, твоей доброты, твоего терпения, твоего гнева, твоей строгости, твоего прощения и твоей дружбы! Да, нужны были все перипетии этой интимной драмы, в которой я был побежден, чтобы заставить меня открыть глаза. Я твое создание, твой сын, твой труд и твое воздаяние, твое мученичество и твой венец. Благословите меня оба, друзья мои, и молитесь за меня, я полюбил!»Все письмо было написано в таком духе. Получив этот гимн радости и благодарности, Тереза впервые почувствовала, что и ее счастье полно и прочно. Она протянула обе руки Палмеру и сказала ему: — Ну, так когда же и где мы обвенчаемся?
XI
Было решено, что свадьба их состоится в Америке. Палмер был бесконечно рад, что сможет представить Терезу своей матери и что та будет присутствовать при свадебном обряде. Мать Терезы не могла надеяться на счастье быть на этой церемонии, даже если бы ее дочь венчалась во Франции. Она была вознаграждена за это лишение радостной уверенностью в том, что Тереза помолвлена с человеком разумным и преданным. Она терпеть не могла Лорана и всегда дрожала при мысли, что он снова станет мучить Терезу. «Юнион» готовился к отплытию. Капитан Лоусон предлагал взять с собой Палмера и его невесту. Для офицеров корабля было бы настоящим праздником совершить переход, имея на борту эту всеми любимую пару. Молодой мичман, стараясь загладить свою дерзкую попытку, держал себя по отношению к Терезе в высшей степени почтительно и выражал ей самое искреннее уважение. Когда Тереза уже приготовилась к тому, чтобы восемнадцатого августа сесть на корабль, она получила письмо от матери, которая умоляла ее заехать в Париж, хотя бы на одни сутки. Она тоже должна была приехать туда по семейным делам. Кто знает, когда Тереза сможет вернуться из Америки? Другие дети не принесли счастья бедной матери, потому что, по примеру недоверчивого и раздражительного отца, относились к ней непочтительно и холодно. Поэтому она обожала Терезу, которая одна из всех детей была ей нежной дочерью и преданным другом. Она хотела благословить и обнять ее, быть может, в последний раз, потому что чувствовала себя преждевременно состарившейся, больной и усталой от жизни, в которой не было ни душевного покоя, ни нежной любви. Палмера сильно раздосадовало ее письмо, хотя он и не хотел в этом признаться. Он, как будто всегда охотно уверявший Терезу в своей прочной дружбе с Лораном, все же беспрестанно мучился тревогой, какие чувства могут проснуться в сердце Терезы, когда она снова его увидит. Палмер, конечно, сам не отдавал себе отчета в своих опасениях и заявлял, что совершенно спокоен, но он ясно ощутил эту тревогу, когда пушка американского корабля разбудила эхо вокруг бухты Специи своими прощальными залпами, повторявшимися весь день восемнадцатого августа. При каждом залпе он вздрагивал, а при последнем так сильно сжал руки, что хрустнули пальцы. Тереза удивилась. Ей казалось, что с того времени, как он приехал в эти края и объяснился с нею, он был совершенно спокоен. — Боже мой, что же это такое? — воскликнула она, пристально глядя на Палмера. — Что у вас за предчувствие? — Да, верно, — поспешно ответил Палмер, — предчувствие… Оно относится к Лоусону, моему другу детства. Не знаю, почему… Да, да, это предчувствие! — Вы боитесь, что с ним случится несчастье в море? — Может быть! Кто знает? В конце концов, слава богу, вам ничто не угрожает — ведь мы едем в Париж. — «Юнион» заходит в Брест и остановится там на две недели. Мы сядем на корабль там? — Да, да, конечно, если до тех пор не случится несчастья. Палмер оставался печальным и озабоченным, а Тереза и не догадывалась, что в нем происходило. Да и как могла она догадаться? Лоран был на водах в Бадене. Палмер это прекрасно знал; Лоран тоже собирался жениться, он уже написал им об этом. Они уехали на следующий день в почтовой карете и, нигде не останавливаясь, вернулись во Францию через Турин и гору Сени. Это путешествие было необыкновенно печальным. Палмер всюду видел дурные предзнаменования; он признавался в суеверии и малодушии, совсем не свойственных его характеру. Он, всегда такой спокойный, такой нетребовательный, не сдерживаясь, впадал в необузданный гнев на кучеров почтовой кареты, на дороги, на таможенных чиновников, на проезжающих. Тереза никогда не видела его таким. Она не могла удержаться и выразила ему свое удивление. Он ответил ей какими-то незначительными словами, но с таким мрачным лицом и с такой заметной досадой в голосе, что она испугалась его, а значит, и своего будущего. Есть люди, к которым судьба неумолима. В то время как Тереза и Палмер возвращались во Францию через гору Сени, Лоран возвращался туда через Женеву. Он приехал в Париж за несколько часов до них, терзаемый мучительной заботой. Он наконец уяснил себе, что для того, чтобы обеспечить ему возможность путешествовать в течение нескольких месяцев, Тереза отдала в Италии все, что у нее тогда было; он узнал (потому что рано или поздно все узнается) от одного человека, проезжавшего в то время через Специю, что мадемуазель Жак жила в Порто-Венере в крайне стесненном положении и плела кружево, чтобы платить за комнату шесть ливров в месяц. Униженный и терзаемый угрызениями совести, рассерженный и печальный, он хотел выяснить, каково теперь положение Терезы. Он знал, что она слишком горда, чтобы принять деньги от Палмера, и не без оснований предполагал, что, если ей еще не заплатили за ее работу в Генуе, ей пришлось продать свое имущество в Париже. Он помчался на Елисейские поля, содрогаясь при мысли, что незнакомые люди поселились в этом дорогом ему домике, к которому он всегда приближался с сильно бьющимся сердцем. Так как швейцара не было, ему пришлось позвонить у калитки садика, не зная, кто откликнется на звонок. Он был далек от мысли, что Тереза выходит замуж, не подозревал даже, что она теперь свободна и может располагать собой. Последнее письмо, в котором она писала ему об этом, пришло в Баден на другой день после его отъезда. Лоран страшно обрадовался, когда калитку ему открыла старушка Катрин. Он бросился ей на шею, но тут же опешил, увидя недовольное лицо этой доброй женщины. — А зачем вы пришли сюда? — сердито сказала она ему. — Значит, вы знаете, что мадемуазель приезжает сегодня? Разве вы не можете оставить ее в покое? Вы опять задумали что-то дурное? Мне говорили, что вы расстались, и я обрадовалась, потому что раньше я любила вас, а теперь терпеть не могу. Вы думаете, я не знала, что это вы виновник ее неприятностей и огорчений? Ну, идите, идите. Нечего вам ждать ее здесь! Вы что, хотите совсем ее погубить? — Вы говорите, она сегодня приезжает? — повторял Лоран. Это все, что дошло до него из отповеди старой служанки. Он вошел в мастерскую Терезы, в маленькую сиреневую гостиную, заглянул и в спальню, приподнимал небеленое полотно, которое Катрин расстелила всюду, чтобы не выгорала мебель, по очереди разглядывая все эти прелестные вещицы, изысканные произведения искусства, за которые Тереза заплатила своим трудом; все было на месте. Казалось, положение, которое она создала себе в Париже, совсем не изменилось, и Лоран растерянно повторял, глядя на Катрин, которая ходила за ним по пятам, не сводя с него подозрительных глаз: — Она приезжает сегодня! Когда он писал, что любит какое-то прелестное дитя любовью такою же чистой и светлой, как сама эта девушка, Лоран только хвастался. Ему казалось, что он не лжет, рассказывая об этом Терезе с воодушевлением, всегда охватывавшим его, когда он говорил ей о себе, и составлявшим такой контраст с холодным и насмешливым тоном, который он считал нужным принимать в свете. Он так и не признался в любви этой девушке — предмету его грез. Достаточно было пролететь какой-нибудь птичке или облаку набежать на вечернее небо, чтобы разрушить хрупкое здание счастья и освобождения, возникшее утром в воображении поэта, наивного, как ребенок. Ему помешала боязнь показаться смешным или же страх излечиться от своей непобедимой и роковой страсти к Терезе. Он не уходил и ничего не отвечал Катрин, которая, торопясь приготовить все к приезду своей дорогой хозяйки, решилась наконец оставить его одного. Лоран был во власти мучительной тревоги. Он терялся в догадках, почему Тереза возвращалась в Париж, не сообщив ему об этом. Приезжает ли она тайно с Палмером, или, быть может, она поступила так же, как он, Лоран? Быть может, она сообщила ему о счастье, которое еще не осуществилось и самая мысль о котором теперь уже исчезла? Не скрывался ли за этим неожиданным и таинственным возвращением ее разрыв с Диком? Лорана это радовало и в то же время пугало. В его мозгу и нервах сталкивались тысячи мыслей, тысячи причин для волнения. Был момент, когда он незаметно для себя забыл о действительности и ему показалось, что все эти предметы, покрытые серым полотном, были могилами на кладбище. Он всегда испытывал ужас перед смертью и невольно, но беспрестанно думал о ней. Он видел ее вокруг себя во всех обличьях. Ему почудилось, что вокруг него колеблются саваны, и, в страхе вскочив, он закричал: — Кто же это умер? Тереза? Палмер? Я вижу, я чувствую, кто-то здесь умер!.. Нет, это ты, — продолжал он, говоря с самим собой, — это ты, проживший здесь, в ее доме, единственные счастливые дни в твоей жизни, теперь возвращаешься сюда безвольный, покинутый, забытый, как мертвец! В комнату вошла Катрин — он не заметил этого, — она сняла чехлы, вытерла пыль с мебели, распахнула окна, подняла жалюзи, поставила цветы в большие китайские вазы на золоченых столиках. Потом она подошла к нему и сказала: — Послушайте, что вы тут делаете? Лоран очнулся от забытья и, растерянно оглядевшись вокруг, увидел цветы, отраженные в зеркалах, мебель работы Буля,[217] сияющую на солнце, и весь этот праздничный облик комнаты, как по волшебству сменивший тот мрак, который бывает в доме, когда его покинули хозяева и когда кажется, что дом этот посетила смерть. У него возникли другие галлюцинации. — Что я здесь делаю? — повторил он, мрачно улыбаясь. — Да, что я здесь делаю? Сегодня у Терезы праздник, это день опьяняющей радости и забвения. Хозяйка этого дома назначила здесь любовное свидание, и, конечно, она ждет не меня — ведь я мертв! Что делать мертвецу в этой комнате, где будут праздновать свадьбу? И что она скажет, когда увидит меня здесь? Она скажет то же, что и ты, бедная старушка, она мне скажет: «Уходи отсюда! Твое место в гробу!» Лоран говорил как в бреду. Катрин стало жаль его. «Он сумасшедший, — подумала она, — он всегда был таким». В то время как она искала добрые слова, чтобы ласково выпроводить его, Катрин услышала, что перед домом остановился экипаж. От радости, что увидит Терезу, она забыла Лорана и бросилась открывать. Палмер стоял у калитки вместе с Терезой, но, торопясь стряхнуть с себя дорожную пыль и не желая доставлять Терезе неудобства, перенося свои вещи из почтовой кареты к ней в дом, он тут же снова сел в экипаж и приказал везти себя в гостиницу «Мерис», сказав Терезе, что через два часа привезет ей ее чемоданы и пообедает вместе с ней. Тереза обняла свою добрую Катрин и, расспрашивая, как жилось старушке в ее отсутствие, вошла в дом с тем нетерпеливым, тревожным или радостным любопытством, которое инстинктивно охватывает нас при возвращении в места, где мы долго жили. Катрин не успела предупредить ее о том, что Лоран здесь, и Тереза неожиданно увидела его, бледного, отчужденного и словно окаменевшего на диване в гостиной. Он не слышал ни стука экипажа, ни хлопанья стремительно открывшихся дверей. Он все еще был погружен в свои мрачные мысли, когда увидел ее перед собой. Он издал душераздирающий крик, бросился к ней, чтобы обнять ее, и упал, задыхаясь, почти без чувств, у ее ног. Пришлось развязать ему галстук и дать ему понюхать эфира; он тяжело дышал, и сердце его билось так сильно, что все его тело сотрясалось, словно от электрических разрядов. Видя его в таком состоянии, Тереза испугалась и подумала, что он опять заболел. Однако румянец, свойственный молодости, скоро вновь проступил на его щеках, и Тереза заметила, что он пополнел. Он тысячу раз поклялся ей, что никогда не чувствовал себя лучше и что он счастлив видеть ее похорошевшей, с такими же ясными глазами, как в первые дни их любви. Он встал на колени и целовал ей ноги в знак своего уважения и обожания. Его излияния были так пылки, что Тереза встревожилась и поспешила напомнить ему, что она скоро уезжает и выходит замуж за Палмера. — Как? Что? Что ты говоришь? — вскричал Лоран, побледнев так, как будто гром грянул над его головой. — Уезжаешь? Выходишь замуж!.. Каким образом? Почему? Неужели это все еще сон? Ты в самом деле произнесла эти слова? — Да, — ответила она, — я их произнесла. Я тебе писала об этом; ты, значит, не получил моего письма? — Уезжаешь! Выходишь замуж! — повторял Лоран. — Но ведь прежде ты говорила, что это невозможно! Вспомни! Были дни, когда я жалел, что не могу заставить замолчать терзавших тебя людей, отдав тебе мое имя и всю мою жизнь. А ты, ты отвечала: «Ни за что, ни за что, пока будет жить этот человек!» Так, значит, он умер? Или ты любишь Палмера так, как меня ты никогда не любила, раз ты пренебрегаешь для него щепетильностью, которую и я находил обоснованной, и не боишься ужасного скандала, который я считаю неизбежным? — Графа *** не стало, и я свободна. Лорана так поразило это неожиданное известие, что он забыл все свои мечты о братской и бескорыстной дружбе. То, что Тереза предвидела в Генуе, осуществилось самым душераздирающим образом. Лоран вообразил себе упоительное счастье, которым он мог бы наслаждаться, став мужем Терезы; он разразился потоками слез, и никакие уговоры Терезы не могли успокоить его смятение и отчаяние. Его горе выражалось так бурно и слезы были так искренни, что Терезу невольно взволновала эта патетическая и горестная сцена. Она никогда не могла видеть страданий Лорана, не чувствуя глубокой материнской жалости; она журила его и все-таки всегда бывала побеждена. Напрасно старалась она удержать слезы. То не были слезы сожаления, она понимала, что Лоран сам обманывает себя; так оно и было, но состояние его волновало ее нервы, а у таких женщин, как она, нервы — это фибры души; они содрогались от боли, которой она не могла себе уяснить. Наконец ей удалось успокоить Лорана мягкими, нежными словами и заставить его принять ее замужество как решение самое благоразумное и лучшее для нее и для него. Лоран согласился с грустной улыбкой. — Да, конечно, — говорил он, — я был бы отвратительным мужем, а с ним ты будешь счастлива! Небо посылает его тебе как награду и воздаяние за все тобою пережитое. Ты совершенно права, когда благодаришь его за это и считаешь, что твой брак спасет нас: тебя — от жалкого существования, меня — от угрызений совести, еще более горьких, чем прежние. Все это так верно, так мудро, так логично и так прекрасно устроено, и потому-то я так и несчастен! И он снова заливался слезами. Они не слышали, как вернулся Палмер. Правда, он был во власти ужасного предчувствия и без всякой предвзятой цели вошел, как подозрительный ревнивец, позвонил едва-едва и старался ступать так, чтобы паркет не скрипел у него под ногами. Он остановился у дверей гостиной и узнал голос Лорана. «Ах! Я так и знал», — подумал он, рванув перчатку, которую он начал натягивать как раз перед этой дверью, очевидно для того, чтобы дать себе время собраться с мыслями, прежде чем войти. Он решил, что должен постучать. — Войдите! — быстро крикнула Тереза, удивленная, что кто-то мог оскорбить ее этим стуком в дверь ее гостиной. Увидя Палмера, она побледнела. То, что он сделал сейчас, было красноречивее слов — он подозревал ее. Палмер заметил эту бледность и не понял ее истинной причины. Он увидел также, что Тереза только что плакала, а расстроенное лицо Лорана совсем его смутило. Первый взгляд, которым обменялись эти двое мужчин, был полон ненависти и вызова; потом они пошли навстречу друг другу, не зная, обменяются ли они рукопожатиями или схватят друг друга за горло. Из них двоих Лоран в этот момент оказался лучше и чистосердечнее; его искренние порывы часто искупали все его ошибки. Он раскрыл объятия и горячо расцеловал Палмера, не пряча от него своих слез, которые снова начали душить его. — В чем же дело? — спросил его Палмер, глядя на Терезу. — Не знаю, — ответила она твердо. — Я сейчас сказала ему, что мы уезжаем, с тем чтобы обвенчаться. Он в большом горе. Он, видимо, думает, что мы скоро его забудем. Скажите ему, Палмер, что, где бы ни были, мы всегда будем любить его. — Он просто избалованное дитя! — возразил Палмер. — Он ведь знает, что я не меняю своего слова и что важнее всего для меня ваше счастье. Неужели нам придется взять его в Америку, чтобы он перестал горевать и доводить вас до слез, Тереза? Эти слова были произнесены тоном, который трудно было бы определить. В нем был и оттенок отеческой ласки, и примесь какой-то глубокой и непреодолимой досады. Тереза поняла. Она спросила шаль и шляпу и сказала Палмеру: — Мы пойдем обедать в кабачок. Катрин ждала меня одну, и на двоих обеда не хватит. — Вы хотите сказать — на троих, — возразил Палмер; в его голосе все еще слышались и горечь, и ласка. — Нет, я с вами не обедаю, — вмешался Лоран, который наконец понял, что происходит в душе Палмера. — Я покидаю вас; я еще приду с вами попрощаться. Когда вы едете? — Через четыре дня, — сказала Тереза. — Не раньше! — подхватил Палмер, как-то странно посмотрев на Терезу. — Но это не помешает нам пообедать сегодня вместе. Мы пойдем к «Братьям провансальцам», а потом покатаемся по Булонскому лесу. Это напомнит нам Флоренцию и Кашины. Пожалуйста, прошу вас. — Я занят, — сказал Лоран. — Ну, так освободитесь, — продолжал Палмер. — Вот бумага и перья! Пишите, пишите же, прошу вас! Палмер говорил таким решительным тоном, что трудно было сомневаться в его искренности. Лорану показалось, что он, по своему обыкновению, говорит то, что думает. Терезе хотелось, чтобы Лоран отказал; она могла бы взглядом намекнуть ему на это, но Палмер не спускал с нее глаз и, казалось, был готов понять все в самом мрачном смысле. Лоран был очень искренним. Когда он лгал, то прежде всего лгал самому себе. Он считал себя достаточно сильным, чтобы выдержать это деликатное положение; у него было прямое и благородное намерение вновь обрести доверие Палмера. К несчастью, когда человеческий дух, увлеченный возвышенными устремлениями, достигает известных высот и у него начинается головокружение, он уже не спускается с этих высот, а бросается вниз, в пропасть. Это случилось и с Палмером. Человек исключительно добрый, смелый и честный, он захотел победить душевную тревогу, возникшую при таком слишком деликатном положении. Силы изменили ему; кто бы стал осуждать его за это? И он бросился в пропасть, увлекая за собой Терезу и Лорана. Кто бы не пожалел всех троих? Все трое мечтали вознестись на небо и достичь тех безмятежных краев, где страсти уже лишены всего земного; но это не дано человеку; для него уже счастье, если он на мгновение поверил, что способен любить без тревог и подозрений. Обед был томительно грустный; хотя Палмер, взявший на себя роль Амфитриона, обязательно хотел попотчевать своих гостей самыми изысканными блюдами и винами, все показалось им горьким, и Лоран, после тщетных усилий вернуть себе то расположение духа, которым он наслаждался в обществе их обоих после своей болезни во Флоренции, отказался ехать с ними в Булонский лес. Палмер, который, чтобы рассеяться, выпил немного больше, чем обычно, настаивал так, что это стало раздражать Терезу. — Послушайте, — сказала она, — не будьте же так упрямы. Лоран прав, что отказывается; в Булонском лесу, в вашей открытой коляске, мы будем на виду у всех и сможем встретить знакомых. Они не обязаны знать, в каком исключительном положении мы все трое находимся, и смогут подумать о каждом из нас весьма неприятные вещи. — Ну что ж, тогда вернемся к вам, — сказал Палмер, — потом я поеду кататься один, мне нужно подышать свежим воздухом. Лоран удивился, видя, что Палмер как будто нарочно решил оставить его вдвоем с Терезой, очевидно, для того, чтобы наблюдать за ними или захватить их врасплох. Он вернулся домой очень грустный, поняв, что Тереза, быть может, несчастлива, и невольно испытывая удовлетворение от того, что, как оказалось, Палмер вовсе не был существом, возвысившимся над человеческой природой, каким представлял его себе Лоран и каким рисовала его в своих письмах Тереза. Мы не будем останавливаться на описании следующей недели, во время которой возвышенный роман, с разной силой увлекший воображение трех несчастных друзей, с каждым часом становился все более недостойным той высоты, на которую они его вознесли. Самые неосуществимые иллюзии строила себе Тереза, потому что, вопреки довольно обоснованным страхам и предчувствиям, она все-таки решила связать свою судьбу с Палмером и теперь, несмотря на всю его несправедливость, должна была и хотела сдержать свое слово. Но Палмер неожиданно освободил ее от этого слова, после целого ряда подозрений, проявившихся в его молчании, еще более оскорбительном, чем вся та брань, которою прежде осыпал ее Лоран. Одну из ночей Палмер провел, спрятавшись в саду Терезы; утром, когда он хотел уйти, она появилась у калитки и остановила его. — Так, значит, вы караулили здесь в течение шести часов; я видела вас из своей комнаты. Теперь-то вы хорошо убедились, что никто не приходил ко мне этой ночью? Тереза была рассержена, и все же, вызывая Палмера на объяснение, в котором он ей отказывал, она еще надеялась вернуть его к доверию; но он понял ее иначе. — Я вижу, Тереза, — сказал он, — что вы устали от меня, раз вы требуете признания, после которого получите право презирать меня. А ведь вам ничего не стоило закрыть глаза на слабость, которая не очень-то и докучала вам. Почему вы не позволили мне страдать молча? Разве я бранил вас или осыпал вас горькими сарказмами? Разве я писал вам целые тома оскорблений, а на следующий день плакал у ваших ног и изливался в бредовых уверениях, с тем чтобы назавтра снова начать вас мучить? Обращался ли я к вам хоть с одним нескромным вопросом? Что вам мешало спокойно спать в эту ночь, пока я сидел здесь на скамье, не смущая ваш покой криками и слезами? Неужели вы не способны простить мне страдание, за которое я, может быть, краснею, но по крайней мере горжусь тем, что хочу и умею его скрыть. Вы прощали гораздо больше тому, у кого не было такого мужества. — Я ничего не простила, Палмер, раз я покинула его безвозвратно. Что же касается тех страданий, в которых вы мне признаетесь и которые, по-вашему, вы так хорошо скрываете, то знайте, что они ясны как день и что я страдаю от них больше, чем вы сами. Знайте, что они глубоко унижают меня и что со стороны человека такого сильного и разумного, как вы, они обижают меня в сто раз больше, чем оскорбления ребенка, охваченного бредом. — Да, да, это правда, — отвечал Палмер. — Значит, я вас обидел, и вы навсегда рассердились на меня! Ну что ж, Тереза, все между нами кончено. Сделайте для меня то, что вы сделали для Лорана, — сохраните вашу дружбу ко мне. — Итак, вы меня покидаете? — Да, Тереза; но я не забыл о том, что, когда вы соблаговолили дать мне обещание, я положил к вашим ногам мое имя, состояние и мое положение в обществе. Я всегда держу свое слово и сделаю то, что обещал вам: обвенчаемся здесь, без шума и без радости, примите мое имя и половину моих доходов, а потом… — Потом? — спросила Тереза. — Потом я уеду, я хочу обнять свою мать… А вы будете свободны! — Вы что, угрожаете мне самоубийством? — Нет, клянусь вам честью! Самоубийство — подлость, в особенности когда имеешь такую мать, как моя. Я буду путешествовать, опять объеду вокруг света, и вы обо мне больше не услышите! Терезу возмутило такое предложение. — Я сочла бы это за неудачную шутку, Палмер, — сказала она, — если бы не знала вас как человека серьезного. Я хочу верить, что вы не считаете меня способной принять это имя и эти деньги, которые вы мне предлагаете для очистки совести. Никогда не повторяйте подобного предложения, оно меня оскорбляет. — Тереза! Тереза! — пылко воскликнул Палмер, до боли сжимая ей руку. — Поклянитесь мне памятью вашего ребенка, которого вы потеряли, что вы больше не любите Лорана, и я упаду к вашим ногам и буду умолять вас простить мне мою несправедливость. Тереза вырвала свою руку, которую он сжал так, что остались синяки, и молча посмотрела на него. Она была оскорблена до глубины души тем, что он требовал от нее такой клятвы, и слова его показались ей еще более жестокими и грубыми, чем физическая боль, которую он ей причинил. — Дитя мое, — воскликнула она наконец, стараясь подавить рыдания, — клянусь тебе — тебе, который смотрит на меня с небес, что ни один мужчина не осквернит больше твоей бедной матери! Она встала, ушла в свою комнату и заперлась там. Она знала, что ни в чем не виновата перед Палмером, и не могла унизиться до того, чтобы оправдываться перед ним, как женщина, знающая за собой вину. И потом, она понимала, какое ужасное будущее ждет ее с человеком, умеющим так хорошо скрывать глубокую ревность. Ведь он два раза ставил ее в такое положение, которое сам считал опасным, а теперь обвинял ее, как в преступлении, в своей собственной неосторожности. Она думала о несчастной жизни своей матери с мужем, ревновавшим ее к прошлому, и справедливо говорила себе, что после таких мук, какие принесла ей страсть Лорана, было безумием верить в счастье с другим человеком. Палмер тоже был достаточно умен и горд, чтобы после описанной нами сцены потерять всякую надежду на счастливый брак с Терезой. Он чувствовал, что не сможет излечиться от своей ревности, и упорно считал ее обоснованной. Он написал Терезе:«Друг мой, простите, если я огорчил вас, но невозможно не признать, что я чуть не увлек вас в бездну отчаяния. Вы любите Лорана, вы всегда его любили, не в силах совладать с собой, и, быть может, всегда будете любить его. Это ваша судьба. Я хотел избавить вас от нее, вы тоже хотели этого. Я признаю также, что, принимая мою любовь, вы были искренни и сделали все возможное, чтобы ответить на нее. Я строил себе много иллюзий, но после Флоренции я чувствовал с каждым днем, как они меркнут. Если бы он упорствовал в своей неблагодарности, я был бы спасен; но когда он раскаялся и признал всю вашу доброту, вы растрогались. Я сам был смущен, и все-таки мне хотелось верить, что я спокоен. Напрасно. С тех пор у вас обоих было из-за меня много горьких минут, о которых вы мне не рассказывали, но которые я, конечно, угадал. У него опять проснулась прежняя любовь к вам, а вы, сопротивляясьей, жалели, что связаны со мной. Увы! Тереза, тогда-то вы и должны были взять назад свое слово. Я был готов вернуть вам его. Я предоставил вам свободу уехать с ним из Специи; почему вы не сделали этого? Простите меня, я упрекаю вас за то, что вы много страдали, чтобы осчастливить меня и связать свою судьбу с моей. Я тоже много боролся, клянусь вам! И теперь, если вы еще согласны принять мою преданность, я готов снова бороться и снова страдать. Подумайте, хотите ли вы страдать и надеетесь ли, поехав со мной в Америку, излечиться от этой несчастной страсти, которая сулит вам печальное будущее. Я готов увезти вас с собой, но умоляю вас, не будем больше говорить о Лоране и не вменяйте мне в преступление то, что я угадал правду. Останемся друзьями, живите у моей матери, и если через несколько лет вы не сочтете меня недостойным вас, примите мое имя и согласитесь жить в Америке, но с тем, чтобы уже никогда больше не возвращаться во Францию. В течение недели я буду ждать вашего ответа в Париже.Тереза отвергла это предложение, оскорбляющее ее гордость. Она еще любила Палмера и в то же время была глубоко обижена тем, что он принимает ее из милости, когда ей не в чем себя упрекнуть. Поэтому она скрыла от него свои душевные терзания. Она тоже понимала, что не могла возобновить с ним какие бы то ни было отношения, не подвергая его вновь этой муке, скрывать которую у него уже не было сил, и что жизнь их превратилась бы в беспрестанную борьбу и горькое страдание. Она уехала из Парижа с Катрин, не сказав никому куда, и заперлась в деревенском домике, который она сняла в провинции на три месяца.Ричард».
XII
Палмер уехал в Америку, с достоинством унеся с собой свою глубокую рану, но не соглашаясь признать, что он ошибался. Палмер был упрям, и иногда это упрямство толкало его на решительные поступки, однако, чтобы одолеть скорбный и поистине трудный путь, ему не хватало упорства. Он думал, что способен излечить Терезу от ее роковой любви, и своей восторженной верой, быть может, неосторожно совершил это чудо, но он утратил плод своих усилий в тот миг, когда готов был сорвать его, потому что его вера не выдержала последнего испытания. Правда, нужно сказать, что заключить прочный союз труднее всего бывает в том случае, когда желаешь слишком быстро овладеть сердцем, которое только что было разбито. Заря такого союза встает в ореоле великодушных иллюзий; но ревность к прошлому — неизлечимая болезнь; она порождает бури, которые не всегда рассеиваются даже в старости. Если бы Палмер был действительно сильным человеком и если бы при этом он был спокойнее и рассудительнее, он мог бы спасти Терезу от несчастий, которые предвидел для нее. Быть может, в этом состоял его долг, потому что она доверилась ему с искренностью и бескорыстием, достойными забот и уважения; но многие мужчины, которые хотят быть сильными и воображают, что сильны, на самом деле всего лишь энергичны, а Палмер был из тех, на чей счет можно долго ошибаться. Каким бы он ни был, он, несомненно, заслуживал сожаления Терезы. Мы скоро увидим, что он был способен на благороднейшие порывы и на самые смелые поступки. Палмер был неправ в одном: он поверил в непоколебимую прочность того чувства, которое было порождено в нем только недолгим усилием воли. Лоран сначала не подозревал об отъезде Палмера в Америку; он был изумлен, узнав, что и Тереза уехала, не простившись с ним. Он получил от нее только три строчки: «Вы единственный, кто знал во Франции о моем предполагаемом браке с Палмером. Этот брак не состоится. Сохраните все в тайне. Я уезжаю». Когда Тереза писала эти ледяные слова Лорану, она испытывала по отношению к нему какую-то досаду. Разве жестокий рок не послал ей это дитя, чтобы оно стало причиной всех ее несчастий и разочарований? Однако она скоро поняла, что на этот раз ее досада несправедлива. Лоран безупречно вел себя с Палмером и с ней в дни той несчастной недели, в течение которой все было потеряно. Справившись с охватившим его отчаянием, он простосердечно покорился судьбе и сделал все возможное, чтобы не омрачать радости Палмера. Он ни разу не попытался воспользоваться несправедливостью жениха Терезы, чтобы вернуть себе ее любовь. Он не переставал говорить о нем дружелюбно и с уважением. В этом странном сплетении чувств именно он, Лоран, оказался благороднее Палмера. И потом, Тереза не могла не признать, что если порой безумства Лорана доходили до жестокости, то мелочность и низость всегда были чужды его натуре. В течение трех месяцев, прошедших после отъезда Палмера, поведение Лорана оставалось достойным дружбы Терезы. Он сумел открыть место ее уединения, но не стал беспокоить ее там. Он только написал ей, чтобы смиренно пожаловаться на холодность ее прощального письма, чтобы упрекнуть ее за то, что она в своем горе не чувствовала к нему доверия, относилась к нему не как к брату: разве он создан и рожден не для того, чтобы служить ей, утешать ее, отомстить за нее в случае надобности? Затем следовали вопросы, на которые Тереза волей-неволей должна была ответить. Не оскорбил ли ее Палмер? Не нужно ли поехать к нему и потребовать у него удовлетворения? «Допустил ли я какую-нибудь неосторожность, которая обидела тебя? Можешь ли ты упрекнуть меня в чем-нибудь? Видит бог, я не хотел ни в чем тебя обидеть! Если я причина твоей боли, то брани меня; если же я в ней невиновен, то скажи, что позволяешь мне поплакать вместе с тобой». Тереза оправдала Ричарда, не желая ничего объяснять. Она запретила Лорану говорить с ней о Палмере. Великодушно решившись не омрачать воспоминание о своем женихе, она позволила Лорану думать, что причиной разрыва была она одна. Быть может, это означало вернуть Лорану надежду, которую она совсем не хотела ему подавать; но бывают такие обстоятельства, при которых, что бы ты ни сделал, ты всегда поступаешь неудачно и роковым образом стремишься к гибели. Письма Лорана были бесконечно ласковыми и нежными. Лоран писал бесхитростно, без претензий, часто не заботясь о вкусе и не исправляя написанного. Стиль его был то откровенно патетичным, то обыденным без ложного стыда. Несмотря на все их недостатки, его письма были глубоко искренни и потому непреодолимо убедительны; в каждом их слове чувствовался пыл молодости и кипящий темперамент талантливого художника. К тому же Лоран с жаром принялся за работу, решив навсегда отказаться от беспорядочной жизни. Сердце его обливалось кровью при мысли о тех лишениях, которым подвергалась Тереза, чтобы предоставить ему возможность двигаться, вдыхать свежий воздух и набираться сил во время путешествия по Швейцарии. Он решил расплатиться с ней как можно скорее. Тереза скоро поняла, что ей приятна привязанность ее «бедного ребенка», как он все еще называл себя, и что если характер этой привязанности не изменится, то это будет самое чистое и благородное чувство, которое он питал к кому-либо в жизни. Она с материнской заботой отвечала Лорану, ободряя его на пути творческого труда, который он, по его словам, избрал окончательно. Письма ее были ласковые, в них звучала примиренность с судьбой и целомудренная нежность; но в словах ее Лоран угадывал смертельную грусть. Тереза признавалась, что она не совсем здорова и что в голову ей приходят мысли о смерти, над которыми она смеялась с печальной меланхолией. Она и в самом деле была больна. Без треволнений любви и без напряженной работы ее снедала скука. Она взяла с собой немного денег, оставшихся от заработанных в Генуе, и строго экономила их, чтобы прожить в деревне как можно дольше. Париж она возненавидела. И потом, быть может, в ней постепенно зарождалось желание, смешанное со страхом, увидеть Лорана, переменившегося, послушного и совершенно раскаявшегося, каким он стал, судя по его письмам. Она надеялась, что он женится; ведь однажды у него уже появилась такая склонность, и эта хорошая мысль могла вернуться, Тереза уговаривала его решиться на это. Он отвечал то да, то нет. Тереза все ждала, чтобы из писем Лорана исчезли последние следы прежней страстной любви; эта любовь все еще угадывалась, но теперь он выражал ее с изысканной деликатностью, и в этих возвратах к не до конца подавленному чувству преобладала сладостная нежность, пылкая чувствительность, нечто вроде сыновнего обожания. Когда настала зима, средства Терезы подошли к концу, и она была принуждена возвратиться в Париж, куда ее призывала клиентура и долг по отношению к самой себе. Она скрыла свое возвращение от Лорана, не желая сразу свидеться с ним; но, движимый каким-то предчувствием, он пришел на тихую улицу, где стоял ее домик. Он увидел, что ставни открыты, и зашел, пьяный от радости. То была наивная, почти ребяческая радость, перед которой всякое недоверие и сдержанность показались бы смешным ханжеством. Он оставил Терезу обедать одну, упросив ее вечером прийти к нему, чтобы посмотреть картину, которую он закончил и о которой обязательно хотел узнать ее мнение, прежде чем сдать ее заказчику. Эта картина была уже продана и деньги за нее получены, но если бы Тереза дала ему какие-нибудь советы, он поработал бы над ней еще несколько дней. Прошли те печальные времена, когда Тереза «ничего в этом не понимала», когда у нее были «узкие реалистические суждения портретистов», когда она «не способна была понять картину, созданную вдохновением художника», и т. д. Теперь она была «его музой и вдохновляющей силой». Без помощи ее божественного влияния он ни на что не был способен. С ее советами, при ее поощрении он должен был осуществить все надежды, которые подавал его талант. Тереза забыла прошлое и, не слишком, впрочем, опьяняясь настоящим, подумала, что не может отказать ему в том, в чем ни один художник никогда не отказал бы своему собрату. После обеда она взяла экипаж и поехала к Лорану. В ателье горели все лампы; картина была великолепно освещена. То было прекрасное произведение мастера. Этот необыкновенно талантливый художник способен был, отдыхая, быстрее совершенствовать свое искусство, чем другие, случается, путем упорного труда. Из-за своих путешествий и болезни Лоран целый год не работал, но казалось, что путем одних лишь размышлений он избавился от недостатков того раннего периода, когда живопись его страдала преувеличениями. В то же время он приобрел новые качества, казалось бы, не свойственные его порывистой натуре: правильность рисунка, сладостную красоту образов, совершенство выполнения — все, что теперь должно было нравиться публике, не уменьшая его мастерства в глазах художников. Тереза была растрогана и восхищена. Она живо выразила ему свой восторг. Она сказала ему все, что сочла подходящим, чтобы благородная гордость его таланта восторжествовала над пагубными увлечениями прошлого. Ей нечего было критиковать, и она даже запретила ему поправлять что-либо. Как бы скромны ни были манеры и речь Лорана, в нем таилось больше гордости, чем хотела внушить ему Тереза. В глубине души он был опьянен ее похвалами. Он понимал, что из всех, кто способен был его оценить, она была самым придирчивым и внимательным критиком. И он снова испытывал властную потребность делиться с ней всеми муками и радостями художника и своей надеждой стать мастером, а значит, и настоящим человеком, которую в минуты его душевной слабости только она могла ему вернуть. После того как Тереза долго созерцала картину, Лоран попросил ее обернуться. Он приготовил ей сюрприз, который, по его мнению, должен был обрадовать ее еще больше; Тереза ожидала, что это будет еще одна картина, но вместо этого увидела свою мать — она стояла, улыбаясь, на пороге спальни Лорана. Госпожа С*** приехала в Париж, точно не зная, когда Тереза вернется туда. На этот раз ее привели сюда серьезные дела: ее сын собирался жениться, и сам господин С*** уже некоторое время находился в Париже. Мать Терезы, зная от нее, что она возобновила переписку с Лораном, и боясь за ее будущее, неожиданно приехала к художнику, с тем чтобы высказать ему все, что мать может сказать человеку, которому она хочет помешать стать причиной несчастья ее дочери. Лоран умел говорить с сердечной искренностью. Он успокоил бедную мать и попросил ее подождать. — Тереза сейчас придет, — сказал он, — я хочу поклясться ей у ваших ног, что всегда буду для нее только тем, кем она захочет сама: братом, мужем, но, во всяком случае, ее рабом. Встретить здесь свою мать, которую она не ожидала увидеть так скоро, было очень приятным сюрпризом для Терезы. Они обнялись, плача от радости. Лоран повел их в маленькую гостиную, полную цветов, где был с роскошью сервирован чай. Лоран разбогател, он только что заработал десять тысяч франков. Он был счастлив и горд, что может возместить Терезе все, что она истратила на него. В этот вечер он был очарователен; он завоевал сердце дочери и доверие матери, он был достаточно тактичен, чтобы не говорить Терезе ни слова о своей любви. Напротив, целуя соединенные руки обеих женщин, он искренне воскликнул, что это прекраснейший день в его жизни и что никогда наедине с Терезой он не чувствовал себя таким счастливым и не был так доволен собой. Первой, кто через несколько дней заговорил с Терезой о замужестве, была госпожа С***. Эта бедная женщина, которая всем пожертвовала ради мнения света, которая, несмотря на несчастную семейную жизнь, считала свое поведение правильным, не могла перенести той мысли, что Палмер покинул ее дочь, и думала, что теперь Тереза должна прекратить все пересуды, сделав другой выбор. Лоран стал знаменитым и был в большой моде. Казалось, невозможно было подобрать лучшей пары. Молодой и необыкновенно талантливый художник преодолел все свои заблуждения. Влияние Терезы восторжествовало в самые тяжелые моменты его трудного перерождения. Он питал к ней непобедимую привязанность. Для них обоих стало долгом навсегда замкнуть цепь, сковывавшую их; она никогда не рвалась окончательно; теперь, несмотря даже на все их усилия, она уже не могла порваться. Лоран объяснял свои ошибки в прошлом очень своеобразным рассуждением. Тереза, говорил он, вначале избаловала его чрезмерною мягкостью и терпеливостью. Если бы после первой его неблагодарности она показала бы ему, что обижена, он отучился бы от приобретенной в общении с дурными женщинами привычки уступать своему гневу или своим прихотям. Она научила бы его уважению, которым мужчина обязан женщине, отдавшейся ему по любви. Чтобы снять с себя вину, Лоран приводил еще одно соображение, которое казалось более серьезным и на которое он уже намекал в своих письмах. — Вероятно, — говорил он Терезе, — я, сам того не зная, был уже болен, когда впервые провинился перед тобой. Внешне горячка поражает сразу, как молния, однако же нет ничего невозможного в том, что молодой и сильный человек, быть может, задолго до проявления болезни уже страдает недугом, из-за которого ум его мутится, а воля становится бессильной. Не это ли произошло со мной, бедная моя Тереза, при приближении той болезни, от которой я чуть не погиб? Ни ты, ни я не могли отдать себе в этом отчета; что до меня, то я часто просыпался утром, думая о том, как ты страдала накануне, и был не в силах отличить реальность от своих ночных кошмаров. Ты ведь знаешь, что я не мог работать, что место, где мы жили, вызывало во мне болезненное отвращение, что уже в лесу *** у меня была странная галлюцинация; наконец, когда ты с мягкостью упрекала меня за мои жестокие слова и несправедливые обвинения, я слушал тебя с изумленным видом, думая, что все это тебе приснилось. Бедняжка! А я еще обвинял тебя в том, что ты сходишь с ума! Ведь ясно же, что я был безумен, неужели ты не можешь простить мне мою невольную вину? Сравни мое поведение после болезни с тем, как я вел себя до нее! Разве это не было словно пробуждение моей души? Разве ты не увидела сразу, что я такой же доверчивый, послушный, преданный, каким был скептическим, раздражительным, эгоистичным перед тем кризисом, который вернул мне разум? А с тех пор разве ты можешь в чем-либо меня упрекнуть? Разве я не принял твой брак с Палмером как наказание, которое я заслужил? Ты видела, как я умирал от боли при мысли, что могу навсегда потерять тебя: разве я вымолвил хоть слово против твоего жениха? Если бы ты приказала мне бежать за ним и даже застрелиться, чтобы вернуть тебе его, я бы сделал это, до такой степени моя душа и жизнь принадлежат тебе! Быть может, ты еще хочешь этого? Скажи одно слово, и если моя жизнь мешает тебе и губит тебя, я готов с ней покончить. Скажи одно слово, Тереза, и ты никогда не услышишь об этом несчастном, которому нечего больше делать на свете, как только жить и умереть для тебя. Характер Терезы уже не был таким сильным после этого раздвоения ее чувств, которое, в общем, представляло собой лишь два действия одной и той же драмы. Без этой оскорбленной и разбитой любви Палмеру никогда и в голову не пришла бы мысль жениться на Терезе, а усилие, которым она заставила себя дать ему слово, было, возможно, только реакцией на отчаяние. Лоран никогда не исчезал из ее жизни, потому что Палмер, убеждая ее согласиться на брак с ним, постоянно говорил об этой пагубной связи, стремясь заставить Терезу забыть ее и роковым образом беспрестанно о ней напоминая. К тому же возвращение к дружбе после разрыва было для Лорана подлинным возвращением к страстной любви, тогда как для Терезы это было новой фазой преданности, более утонченной и более нежной, чем сама любовь. Она страдала от того, что Палмер покинул ее, но не проявляла малодушия. У нее еще хватало сил, чтобы устоять перед несправедливостью; можно даже сказать, что все ее силы были при ней. Она была не из тех женщин, которые вечно страдают и сетуют, непрестанно твердя о своих бесполезных сожалениях и невыполнимых желаниях. Ей были свойственны бурные порывы, и ее довольно развитый ум, естественно, помогал ей при этом. Выше всего она ставила нравственную свободу, и когда ей приходилось обманываться в любви и доверии других, у нее хватало справедливой гордости не обсуждать по пунктам договор, разорванный в клочки. В таких случаях ей даже нравилось великодушно и без упреков вернуть независимость и покой тому, кто их требовал. Но она стала гораздо менее стойкой, чем была в ранней молодости, в том смысле, что она вновь обрела потребность любить и верить, долго дремавшую в ней из-за постигшей ее трагедии. Она долго воображала, что так и будет жить одна и что искусство станет ее единственной страстью. Она ошиблась и теперь уже не могла строить себе иллюзий на будущее. Ей нужно было любить кого-то, и главное ее несчастье состояло в том, что она умела любить, только жертвуя собой, чтобы какой угодно ценой утолить тот порыв материнского чувства, который составлял как бы роковую необходимость ее характера и жизни. Она уже привыкла страдать ради кого-нибудь; ей хотелось снова страдать, такая потребность, как это ни странно, существует у иных женщин и даже у некоторых мужчин, и если Тереза не была так же милосердна к Палмеру, как и к Лорану, то это потому, что Палмер казался ей слишком сильным, чтобы нуждаться в ее преданности. Итак, Палмер ошибся, предлагая ей опору и утешение. Терезе не хватало уверенности в том, что она необходима этому человеку, именно потому, что он убеждал ее думать только о себе. Лоран, более простодушный, обладал той особой прелестью, которая роковым образом пленяла ее, — слабостью! Он не скрывал этого, он признавался в этом трогательном недостатке своего гения в искренних излияниях, с неисчерпаемой нежностью. Увы! Он тоже ошибался. На самом деле он не был таким уж слабым, а Палмер — таким уж сильным человеком. Временами он все еще говорил как невинный младенец, и едва лишь его слабость побеждала, он снова обретал силу, чтобы мучить других, как это бывает со всеми обожаемыми детьми. Лоран был под властью неумолимого рока. Он сам говорил это в минуты прозрения. Казалось, что, родившись от связи двух ангелов, он был вскормлен молоком фурии, и от этого в крови у него осталось что-то, порой будившее в нем бешенство и отчаяние. Он принадлежал к тому типу людей, более распространенному среди представителей человеческого рода обоих полов, чем это принято думать, которые, при всей возвышенности мыслей и сердечных порывов, не могут достичь апогея своих способностей, не впадая вслед за тем в какую-то нравственную эпилепсию. А кроме того, он так же, как и Палмер, хотел предпринять невозможное — хотел привить ростки счастья к отчаянию и вкусить небесные радости супружеской веры и святой дружбы на развалинах только что разрушенного прошлого. Этим двум душам, источающим кровь из нанесенных им ран, было необходимо успокоение, Тереза молила о нем с такой тоской, какая бывает только при ужасном предчувствии, но Лорану казалось, что со времени их разлуки прошло не десять месяцев, а десять веков; он просто был болен от избытка душевных порывов, а их Терезе следовало бояться больше, чем порывов его страстей. Именно платонический характер его любви, к несчастью, успокоил Терезу. Лоран, казалось, возродился до такой степени, что в нем снова возобладала духовная любовь, и, оставаясь наедине с Терезой, он не докучал ей, как раньше, своими страстными порывами. Он умел в течение целых часов говорить с ней о самой возвышенной любви; по его словам, он долго считал себя немым, а теперь наконец почувствовал, что гений его распростер свои крылья и взлетел в небесные сферы! Он утверждал, что неотделим от будущего Терезы, беспрестанно доказывая ей, что она должна выполнить свою священную обязанность: спасти его от увлечений юности, от бесплодного тщеславия зрелого возраста и от порочного эгоизма старости. Он говорил о себе и только о себе: почему бы и нет? Он говорил так хорошо! Благодаря ей он станет великим художником с великим сердцем, великим человеком; она обязана сделать это для него, потому что она спасла ему жизнь! А Тереза, с роковым простодушием любящих сердец, в конце концов нашла это рассуждение непререкаемым и стала считать своим долгом то, что прежде он вымаливал у нее как прощение. Словом, Тереза вновь замкнула роковую цепь; но, по счастью, она отложила свадьбу, чтобы испытать решимость Лорана, боясь, что он не сможет выдержать нерасторжимых уз. Если бы дело касалось только ее, она, со свойственной ей неосторожностью, связала бы себя безвозвратно. В первый раз счастье Терезы «продолжалось меньше недели», как грустно поется в веселой песенке; второй раз — меньше суток. Смена настроения у Лорана наступала неожиданно и резко, так же как внезапно его охватывала безудержная радость. Мы говорим: смена настроения; Тереза говорила: его отречение, и это было точное слово. Он повиновался той непобедимой потребности, которую испытывают некоторые подростки, убивая или разрушая то, что привлекает их страсть. Эти жестокие инстинкты порой проявляются у людей с самыми разными характерами; в истории их принято называть порочными инстинктами; правильнее было бы считать их инстинктами, извращенными то ли болезнью мозга, полученной в той среде, где родились эти люди, то ли безнаказанностью, пагубной для их разума, которую известные обстоятельства обеспечили им с первых шагов в жизни. Бывало, молодой король убивал лань, которую он, казалось, обожал, только для того, чтобы видеть ее еще трепещущие внутренности. Гениальный художник — это тоже король в той среде, где он вырос; более того — это король с совершенно неограниченной властью, и власть опьяняет его. Таких людей порой терзает жажда господствовать, и если это господство утверждается, их радость доходит до неистовства. Таков был Лоран; в нем, несомненно, боролись два разных человека. Казалось, две души, взаимно оспаривая право одухотворять его тело, вступили в ожесточенную борьбу, стараясь изгнать одна другую. Во власти этих противоположных дуновений несчастный терял способность судить здраво и каждый день падал без сил после победы ангела или демона, которые старались вырвать его друг у друга. И когда он пытался анализировать самого себя, порой казалось, что он читает магическую книгу, с пугающей и ослепительной проницательностью объясняя эти таинственные заговоры, устроенные с целью завладеть им. — Да, — говорил он Терезе, — я страдаю тем недугом, который каббалисты называли одержимостью. Два духа овладели мной. Правда ли, что один из них добрый, а другой злой? Нет, я не верю этому: тот, который пугает тебя, — скептический, резкий, страшный, творит зло только потому, что он не властен делать добро в том смысле, как он его понимает. Он хотел бы быть спокойным, философски настроенным, веселым, терпеливым; другой не допускает этого. Он хочет вести себя, как подобает доброму ангелу: хочет быть пылким, восторженным, безупречным, преданным, а так как его противник издевается над ним, отрицает все, что он говорит, и оскорбляет его, он тоже становится мрачным и жестоким, и, таким образом, два ангела, живущих во мне, в конце концов порождают демона. На эту странную тему Лоран высказывал и писал Терезе свои прекрасные и пугающие домыслы, казавшиеся правдивыми и словно еще подтверждавшие те права на безнаказанность по отношению к ней, которые он, по-видимому, себе присвоил. Все мучения, связанные с Лораном, которых страшилась Тереза, когда она решила стать женою Палмера, выпали ей на долю, как только она вновь стала подругой Лорана; но причиной их теперь оказался Палмер. Ужасная ревность к прошлому, худшая из всех, потому что она цепляется за все и ничего не может проверить, грызла сердце и терзала мозг несчастного художника. Воспоминание о Палмере стало для него призраком, вампиром. Он неотступно требовал от Терезы, чтобы она отдала ему отчет о всех подробностях своей жизни в Генуе и в Порто-Венере, и, когда она отказалась, он обвинил ее в том, что уже с тех пор она старалась «обмануть» его. Забывая, что в то время Тереза написала ему: «Я люблю Палмера» и что немного позже она сообщила: «Я выхожу за него замуж», он упрекал ее за то, что она никогда не выпускала из своих уверенных и коварных рук ту цепь надежды и желания, которая связывала ее с ним. Тереза положила перед ним всю их корреспонденцию, и он признал, что она честно и вовремя сказала ему все для того, чтобы отдалить его от себя. Он успокоился и согласился с тем, что она щадила его еще не остывшую страсть с исключительной деликатностью, говорила ему правду лишь постепенно и только тогда, когда он, по-видимому, готов был принять ее безболезненно, а также по мере того, как она сама начинала верить в свое будущее с Палмером. Лоран признал, что она никогда не допустила по отношению к нему ни тени лжи, даже когда она отказывалась объясниться с ним, и что вскоре после его выздоровления, когда он еще льстил себя надеждой на уже невозможное примирение, она сказала ему: «Все между нами кончено. То, что я решила и приняла для себя, — это моя тайна, и ты не имеешь права меня расспрашивать». — Да, да, ты права! — воскликнул Лоран. — Я был несправедлив; мое роковое любопытство — пытка, и с моей стороны преступно заставлять тебя делить ее со мной. Да, бедная Тереза, я подвергаю тебя унизительным допросам, тебя, которой следовало бы забыть меня и которая дарует мне великодушное прощение! Я путаю роли: я веду следствие по твоему делу и забываю, что я один — виновный и обвиняемый! Я стараюсь святотатственной рукой сорвать покров стыдливости, которым душа твоя имеет право и, разумеется, должна окутать себя во всем, что касается твоих отношений с Палмером. Ну что ж, благодарю тебя за твое гордое молчание. За него я уважаю тебя еще больше. Оно доказывает мне, что ты никогда не позволяла Палмеру расспрашивать тебя о тайнах наших горестей и радостей. Теперь я понял: женщина не обязана делать эти интимные признания своему возлюбленному, более того — она должна ему в них отказывать. Человек, который домогается их, унижает ту, кого он любит. Он требует от нее подлости и в то же время оскверняет ее в своих мыслях, связывая ее образ со всеми призраками, преследующими его. Да, Тереза, ты права, надо самому стремиться сохранить чистоту своего идеала, а я, я беспрестанно стараюсь осквернить его и вырвать из храма, который я ему построил! Казалось, что после таких объяснений должен был вновь воцариться покой, — Лоран говорил, что готов подписать это своею кровью и своими слезами, — должно было начаться счастье. Но не тут-то было! Пожираемый тайным бешенством, Лоран на следующий день возобновлял свои вопросы, свои оскорбления, свои сарказмы. Целые ночи проходили в ненужных спорах, когда казалось, что он упорно, словно ударами хлыста, старался подгонять свой собственный дух, ранить его, терзать, чтобы он породил проклятия устрашающего красноречия и довел и его и Терезу до последних пределов отчаяния. После этих бурь казалось, что им остается только вместе покончить самоубийством. Тереза всегда ожидала такого исхода и была к нему готова, потому что жизнь ужасала ее, но Лорану еще не являлась эта мысль. Он засыпал в изнеможении, и, казалось, к нему возвращался его добрый ангел, чтобы баюкать его сон и посылать ему небесные видения, от которых на устах его блуждала блаженная улыбка. У этой необыкновенной натуры существовало неизменное правило, необъяснимое, но непреложное: сон изменял все его решения. Если он засыпал с сердцем, преисполненным нежности, то просыпался с жаждой борьбы и убийства, и, наоборот, если накануне он уходил, проклиная, то на следующий день прибегал с благословениями. Три раза Тереза покидала его и уезжала далеко от Парижа, три раза он мчался к ней в отчаянии и заставлял ее простить его, потому что, как только он терял Терезу, он снова начинал ее обожать и, умоляя ее, обливался слезами пылкого раскаяния. Тереза была одновременно достойна и презрения, и восхищения, когда она, закрыв глаза, не жалея своей жизни, погрузилась в этот ад. В своей преданности она доходила до такого самопожертвования, от которого содрогались ее друзья и которое вызывало порой порицание, почти высокомерное осуждение людей гордых и благоразумных, не знающих, что значит любить. Да к тому же эта любовь Терезы к Лорану была непонятна для нее самой. Это не было чувственное влечение, напротив, Лоран стал для нее отвратительнее трупа, потому что, отчаявшись погасить свою любовь усилием воли, он старался убить ее, оскверняя себя развратом, в который он вновь погрузился. У нее больше не было для него ласк, и он даже не смел требовать их от нее. Ее уже не побеждало и не покоряло очарование его красноречия и детская прелесть его раскаяния. Она не могла больше верить в будущее, и яростные порывы нежности, которые столько раз примиряли их, были теперь для нее только пугающими симптомами бури и кораблекрушения. Привязывала ее к нему та огромная жалость, которая становится властной привычкой, если речь идет о тех, кому мы многое прощали. Прощение как будто порождает прощение, вплоть до пресыщенности, до глупой слабости. Когда мать понимает, что ее сын неисправим и ему остается только умереть или стать убийцей, у нее нет иного выбора, ей приходится или отречься от него, или принять все. Тереза ошибалась каждый раз, когда пыталась излечить Лорана, покинув его. Правда, тогда он становился лучше, но это лишь при условии, что он надеялся на ее прощение. Перестав надеяться, он с головой уходил в лень или распутство. Тогда она возвращалась, чтобы образумить его, и с трудом заставляла его работать в течение нескольких дней. Но как дорого приходилось ей платить за ту малую пользу, которую ей удавалось ему принести! Когда его снова охватывало отвращение к разумной жизни, он осыпал ее обвинениями, упрекая ее в том, что она хочет сделать из него то же самое, что «ее покровительница Тереза Левассер[218]» сделала из Жан-Жака, то есть, по его словам, «маньяка и идиота». И все-таки к этой жалости Терезы, о которой он молил ее так страстно, хотя и оскорблялся, едва лишь она соглашалась внять его мольбе, примешивалось восторженное уважение, быть может, немного фанатичное, к гению художника. Эта женщина, которую он обвинял в том, что она ограниченная мещанка, хотя видел, что она кротко и упорно добивается его благополучия, была художницей в высоком смысле этого слова, во всяком случае — в том, что касалось ее любви: она терпела деспотизм Лорана, считая, что он оправдан божественным правом, и жертвовала ему своей собственной гордостью, своим собственным трудом и тем, что другая, менее преданная, быть может, назвала бы своею собственной славой. А он, несчастный, видел и понимал эту преданность, и, когда он сознавал свою неблагодарность, его пожирали угрызения совести, выносить которые у него не хватало сил. Ему нужна была бы беззаботная и здоровая любовница, которая смеялась бы над его гневом и над его раскаянием, не страдала бы ни от чего, лишь бы ей властвовать над ним. Тереза не была такой. Она умирала от усталости и горя, и, видя, что она гибнет, Лоран старался, убивая свой ум отравой опьянения, хоть на время осушить свои собственные слезы.XIII
Однажды вечером он так долго и так беспричинно изводил ее упреками, что она перестала его слушать и заснула в кресле. Через несколько секунд легкий шорох заставил ее открыть глаза. Лоран швырнул на пол что-то блестящее: это был кинжал. Тереза улыбнулась и снова закрыла глаза. Смутно, словно сквозь пелену сна, она поняла, что у него явилось намерение убить ее. В тот момент для Терезы все было безразлично. Только бы отдохнуть от жизни и от мыслей — сон это будет или смерть, она оставляла выбор на волю судьбы. Смерть она презирала. Лоран подумал, что это презрение относилось к нему, и, сам презирая себя, наконец ушел от нее. Три дня спустя Тереза, решившись сделать заем, который позволил бы ей совершить большое путешествие, уехать надолго (такая жизнь, полная потрясений и бурь, не давала ей возможности работать и разоряла ее), пошла на Цветочную набережную и купила куст белых роз, который послала Лорану, не сказав своего имени рассыльному. Так она попрощалась с Лораном. Вернувшись домой, она нашла там куст белых роз, присланный неизвестно кем: это с ней прощался Лоран. Оба хотели уехать, оба остались. Эти два куста белых роз, одновременно посланные ими друг другу, до слез взволновали Лорана. Он помчался к Терезе; она заканчивала укладывать свои вещи. Место в дилижансе было заказано на шесть часов вечера. Лоран заказал себе место на то же время и в той же карете. Оба хотели снова увидеть Италию, но на этот раз не вместе. — Ну, так поедем вдвоем! — воскликнул он. — Нет, я уже не еду, — ответила она. — Тереза, — сказал он, — хотим мы этого или нет, эта мучительная связь, соединяющая нас, не порвется никогда. Безумие даже думать об этом. Моя любовь выдержала все, что может разбить какое угодно чувство, все, что может убить душу. Придется тебе любить меня таким, какой я есть, или мы должны умереть вместе. Ты хочешь любить меня? — Если бы я и хотела этого, то напрасно, я не могу больше, — сказала Тереза. — Мое сердце исчерпалось: я думаю, оно мертво. — Ну так хочешь умереть? — Я не боюсь смерти, ты это знаешь, но с тобой вместе я не хочу ни жить, ни умереть. — Ах, да! Ты веришь в то, что наше «я» бессмертно! Ты не хочешь встретить меня в иной жизни! Бедная мученица, я тебя понимаю! — Мы не встретимся, Лоран, я в этом уверена. Каждая душа пойдет к своему центру притяжения. Меня зовет покой, тебя же всегда и повсюду будет привлекать буря. — Значит, ты не заслужила ада! — Ты тоже не заслужил его. У тебя будет другое небо, вот и все! — Что ждет меня на этом свете, если ты покинешь меня? — Слава, когда ты перестанешь искать любви. Лоран задумался. Он несколько раз машинально повторил: «Слава!», потом опустился на колени перед камином и стал помешивать дрова щипцами, как он делал всегда, когда хотел остаться наедине с собой. Тереза вышла, чтобы отказаться от места в дилижансе. Она отлично знала, что Лоран поехал бы за ней. Когда она вернулась, он был совсем спокоен и очень весел. — Этот мир, — сказал он, — всего лишь жалкая комедия; но зачем нам пытаться возвыситься над ним, раз мы не знаем, что находится выше и есть ли там вообще что-нибудь. Слава, над которой ты смеешься про себя, я это прекрасно знаю… — Я не смеюсь над славой других… — Кого это — других? — Тех, кто в нее верит и любит ее. — Бог знает, верю ли я в нее, Тереза, и не смеюсь ли я над ней, как над глупой шуткой! Но можно ведь любить вещь и в то же время знать ей цену. Любим же мы норовистую лошадь, которая может сломать нам шею, табак, который нас отравляет, плохую пьесу, которая нас смешит, и славу, хотя она не что иное, как маскарад! Слава! Что значит слава при жизни художника? Газетные статьи, в которых вас ругают и заставляют публику говорить о вас, а потом похвалы — их никто не читает, потому что людей забавляет только желчная критика, а если их кумира превозносят до небес, они перестают и думать о нем. А затем группы людей толпятся и сменяют друг друга перед расписанным вами полотном, и вы получаете заказы на монументальные произведения, которые радуют вас и тешат ваше самолюбие, а потом вы чуть не умираете из-за них от усталости, так и не воплотив своей идеи… А потом… академия… собрание людей, которые вас терпеть не могут, а сами… Тут Лоран пустился в горчайшие сарказмы и закончил свою речь словами: — Что ж делать! Такова слава в этом мире! Мы на нее плюем, но не можем без нее обойтись за неимением лучшего! Их разговор продолжался до вечера: философский и полный иронии, он стал понемногу совершенно отвлеченным. Видя и слыша их, можно было подумать, что это мирная беседа двух друзей, которые никогда не ссорились. Такое странное успокоение повторялось уже много раз, сменяя порою самые бурные сцены: это значило, что, когда сердца их умолкали, умом они понимали друг друга и находили взаимный отклик. Лоран проголодался и попросил Терезу накормить его обедом. — А ваш отъезд? — сказала она. — Ведь уже скоро пора. — Но раз вы не уезжаете! — Я уеду, если вы останетесь. — Ну, так я еду, Тереза. Прощайте! Он стремительно вышел, но через час вернулся. — Я опоздал к почтовой карете. Поеду завтра. Вы еще не обедали? Тереза, занятая своими мыслями, забыла, что обед на столе. — Дорогая Тереза, — сказал он, — окажите мне последнюю милость: пойдем куда-нибудь обедать, а вечером поедем вместе в театр. Я хочу снова стать вашим другом, только другом. Это излечит меня и спасет нас обоих. Испытайте меня. Я больше не буду ни ревнивым, ни требовательным, ни даже влюбленным. Послушайте: у меня есть другая любовница, хорошенькая маленькая светская женщина, крошечная, как малиновка, беленькая и тонкая, как веточка ландыша. Это замужняя женщина. Я друг ее любовника, и я обманываю его. У меня два соперника, две смертельные опасности, которым я подвергаюсь каждый раз, как она соглашается на свидание со мной. Это очень пикантно, и в этом-то весь секрет моей любви. Итак, мои чувства и мое воображение с этой стороны удовлетворены: я предлагаю вам лишь свое сердце и духовное общение. — Я отказываюсь от них, — сказала Тереза. — Как! Вы настолько тщеславны, что ревнуете к человеку, которого вы больше не любите? — Конечно нет! Но ведь я не могу уже отдавать ему свою жизнь, а я не признаю такой дружбы, какой вы у меня просите, без полной преданности. Приходите ко мне, как и остальные мои друзья, я ничего не имею против; но не требуйте от меня более тесной близости, даже внешней. — Я понимаю, Тереза, у вас есть другой любовник! Тереза пожала плечами и ничего не ответила. Он умирал от желания, чтобы она похвасталась каким-нибудь своим любовным похождением, как он только что похвастался ей. Силы его вернулись к нему, и он жаждал борьбы. Он с нетерпением ждал ее ответа на свой вызов, готовый забросать ее упреками, уничтожить презрением и, может быть, объявить ей, что он сейчас придумал эту любовницу в надежде, что и она тоже признается в какой-нибудь интриге. Он не понимал пассивности Терезы. Он предпочитал, чтобы она ненавидела его или обманывала, только бы не быть ей безразличным, не наводить на нее скуку. Наконец он устал от ее безмолвия. — До свидания, — сказал он. — Я поеду обедать, а оттуда на бал в Оперу, если не слишком опьянею. Тереза, оставшись одна, в тысячный раз заглянула в бездну этой таинственной судьбы. Чего не хватало Лорану, чтобы эта судьба стала одной из прекраснейших человеческих судеб? Разума. «Но что же такое разум? — спрашивала себя Тереза. — И как гений может обходиться без разума? Быть может, огромная сила гения способна убить и пережить свой разум? Или, быть может, разум — это только обособленное качество, единство которого с остальными не всегда обязательно?» Она погрузилась в какие-то метафизические размышления. Ей всегда казалось, что разум — это совокупность идей, а не какое-то свойство организма, что все способности хорошо организованного существа по очереди берут от него и отдают ему что-то, что разум — это одновременно и средство и цель, что всякое мастерское произведение искусства подчиняется его законам и что ни один человек не может воспользоваться всеми своими возможностями, если он станет упорно попирать ногами свой разум. Она вспоминала великих художников прошлого и думала также о художниках современных. Она повсюду видела слияние законов правдивого с мечтой о прекрасном; повсюду, впрочем, попадались исключения, пугающие отклонения от нормы, лица, сияющие и трагические, как лицо Лорана. Тяготение к возвышенному было болезнью времени и среды, в которой жила Тереза. Какая-то лихорадка охватила молодежь и заставляла ее презирать условия разумного счастья и обязанности обыденной жизни. Силой обстоятельств, не предвидя и не желая этого, Тереза тоже была брошена в этот роковой круг человеческого ада. Она стала подругой, духовной половиной одного из этих возвышенных безумцев, сумасбродных гениев; она присутствовала при беспрерывной агонии Прометея, при все возрождающейся ярости Ореста;[219] она сама страдала от этих невыразимых страданий, не понимая их причины, не в силах найти способ излечить их. Но Бог еще пребывал в этих мятежных и измученных душах: бывали часы, когда Лоран снова становился восторженным и добрым, потому что в нем не иссяк чистый источник священного вдохновения, талант его не истощился; это был человек, быть может, с еще большим будущим. Могла ли она покинуть его, бросить его во власть бреда и отупляющей усталости? Тереза, как мы уже сказали, так часто приближалась к этой бездне, что порой голова ее тожекружилась. Ее собственные талант и характер чуть не вступили, против ее воли, на этот отчаянный путь. У нее бывала эта экзальтация страдания, которая преувеличивает все мелкие горести жизни и колеблется между пределами действительного и воображаемого; но теперь у нее возникла естественная реакция: душа ее жаждала правдивого, чего-то такого, что не было бы ни недостижимым идеалом, ни реальностью, лишенной поэзии. Она чувствовала, что в этом-то и следует искать прекрасное и надо стремиться к жизни материальной, простой и достойной, чтобы вернуться к логической жизни души. Она серьезно упрекала себя за то, что так долго пренебрегала своими обязанностями по отношению к себе самой; потом, мгновение спустя, начинала укорять себя в том, что слишком много заботилась о своей собственной судьбе, в то время как судьбе Лорана грозила страшная опасность. Всеми своими голосами — голосом дружбы, голосом молвы — свет кричал ей, чтобы она опомнилась, вернулась к прежней жизни. По мнению света, это был ее долг, а в подобных случаях долг — это то же самое, что общепринятый порядок, дань интересам общества: «Идите по правильному пути, пусть погибают те, кто от него отклоняется». А официальная религия добавляла: «Мудрым и праведникам — вечное блаженство, слепым и непокорным — геенна огненная!» Так, значит, мудрому нет дела до того, что безумец погибнет? Тереза возмутилась против такого заключения. «В тот день, когда я сочту себя самым совершенным существом, самым драгоценным и превосходным на свете, — подумала она, — я признаю смертный приговор для всех других, но если этот день настанет для меня, разве не буду я безумнее всех остальных безумцев? Прочь от меня, безумие гордыни, порождающее эгоизм! Лучше снова страдать, но только за других!» Было около полуночи, когда она поднялась с кресла, в которое четыре часа тому назад упала, безвольная и сломленная. У дверей позвонили. Это рассыльный принес картонку и записку. В картонке лежали домино и черная атласная маска. В записке были только эти слова, написанные рукой Лорана: «Senza veder, e senza parlar».[220] «Не видя друг друга и не говоря друг с другом…» Что означала эта загадка? Может быть, он хотел, чтобы она пошла на маскарад и там стала его интриговать? И его привлекало такое банальное приключение? Может быть, он хотел попытаться завязать с ней любовную интригу, не узнав ее? Что это: прихоть поэта или наглость распутника? Тереза послала картонку обратно и снова упала в кресло; но тревога прервала ее размышления. Разве не должна она испытать все, чтобы попытаться спасти этого несчастного от его адских заблуждений? — Я пойду, — сказала она, — я буду следовать за ним по пятам. Я увижу, услышу его в те часы, когда он живет без меня, я узнаю, есть ли правда в тех мерзостях, которые он мне рассказывает, узнаю, до какой степени он любит разврат, искренне или притворно, правда ли у него порочные вкусы или он только хочет рассеяться. Если я узнаю все, чего не хотела знать о нем и об этом дурном обществе, все, что я с отвращением изгоняла из его воспоминаний и из своего воображения, я открою, быть может, какую-то связь, найду какой-то способ вырвать его из этой бездны. Она вспомнила о домино, которое Лоран прислал ей и на которое она едва посмотрела. Оно было из атласа. Она послала за другим, из грубой неаполитанской ткани, надела маску, тщательно подобрала волосы, прицепила банты из разноцветных лент, чтобы изменить свой облик на тот случай, если Лоран заподозрит, что под этим костюмом скрывается она, и, приказав позвать фиакр, полная решимости, одна поехала на бал в Оперу. Она никогда не бывала на таких балах. Маска казалась ей невыносимой, душила ее. Она никогда не пыталась изменять свой голос, но хотела, чтобы ее никто не узнал. Поэтому она безмолвно ходила по коридорам, прячась в уединенные уголки, когда уставала ходить, но едва лишь кто-нибудь направлялся к ней, удалялась, делая вид, что проходит мимо, и ей удавалось легче, чем она думала, оставаться совершенно одинокой и свободной в этой беспокойной толпе. В те времена на балах в Опере не танцевали и появлялись только в одном костюме — в черном домино. Поэтому одетая в темное, с виду степенная толпа, быть может, и занятая столь же далекими от высокой морали интригами, как и те оргии, что происходят в других местах, в общем, если глядеть на нее сверху, казалась вполне респектабельной. Потом вдруг, через каждый час, шумный оркестр начинал играть бешеную кадриль, как будто распорядители бала, не слушаясь полиции, соблазняли толпу преступить запрет, но никто, по-видимому, об этом и не думал. Черный муравейник продолжал медленно двигаться и шептаться среди этого шума, который заканчивался выстрелом из пистолета; но этот странный, фантастический финал, казалось, не в силах был рассеять видение мрачного празднества. В течение нескольких секунд Тереза была так поражена этим зрелищем, что, забыв, где она находится, вообразила себя в мире печальных грез. Она искала Лорана и не находила его. Она отважилась пройти в фойе, где без масок и домино толпились люди, известные всему Парижу. Обойдя это фойе кругом, она уже хотела уйти оттуда, когда услышала, что в одном углу произносят ее имя. Она обернулась и увидела человека, столь горячо любимого ею прежде; он сидел между двумя девицами в масках, в голосе и тоне которых чувствовалась какая-то вялость и вместе с тем желчность, что свидетельствовало об утомлении чувств и душевной горечи. — Так, значит, ты ее наконец бросил, твою знаменитую Терезу? Оказывается, она тебе изменяла там, в Италии, а ты не хотел этому верить? — Он начал об этом догадываться, — вставила вторая, — в тот день, когда ему удалось прогнать счастливого соперника. Тереза была смертельно оскорблена, слыша, что самый мучительный роман ее жизни служит предметом таких пересудов, но еще больше ее обидело поведение Лорана: он улыбался, возражая этим девицам, что они болтают чепуху, и переменил тему разговора без возмущения, как будто не запомнил того, что только что услышал, и не придал этому значения. Тереза никогда бы не поверила, чтобы он мог так предавать их дружбу. Теперь она в этом убедилась! Она осталась в фойе, продолжая слушать и чувствуя, как маска прилипает к ее лицу от холодного пота. Однако же Лоран не говорил этим девицам ничего такого, чего нельзя было бы слушать всем. Он болтал с ними, забавлялся их щебетанием и отвечал на него как веселый собеседник. Они были совсем неостроумны, и два-три раза он зевал, почти не пытаясь это скрыть. И все же он оставался с ними, нисколько не смущенный тем, что его видят в этой компании, позволял им ухаживать за собой, зевая от усталости, а не от настоящей скуки, мягкий, рассеянный, но любезный, и говорил с этими случайными встречными, как будто это были женщины из лучшего общества, чуть ли не порядочные и серьезные знакомые, с которыми его связывали общие воспоминания о вполне приличных развлечениях. Это продолжалось добрых пятнадцать минут. Тереза не двигалась с места. Лоран сидел к ней спиной на банкетке, в нише с закрытыми застекленными дверями, лицом к этим дверям. Когда группы людей, прохаживающихся по внешнему коридору, останавливались против дверей, фраки и домино создавали непрозрачный фон и стекло становилось черным зеркалом, где появлялось отражение Терезы, чего она не замечала. Лоран видел ее несколько раз, не узнавая ее, но постепенно неподвижность этого лица в маске встревожила его, и он сказал своим собеседницам, показывая на темное зеркало: — Вы не находите, что маска — вещь пугающая? — Значит, ты и нас боишься? — Нет, вас не боюсь, я знаю, какой у вас нос под этим куском атласа; но лицо, которого не угадываешь, которого не знаешь и которое пристально смотрит на тебя горящими зрачками… Я ухожу отсюда, с меня довольно. — Значит, с тебя довольно нас? — возразили они. — Нет, с меня довольно этого бала, — сказал он. — Здесь задыхаешься. Хотите посмотреть на снег? Я еду в Булонский лес. — Но ведь там можно замерзнуть! — Ну да! Разве кто-нибудь там замерзает? Так поедем? — Ой, нет! — Кто хочет поехать со мной в домино в Булонский лес? — спросил он, повысив голос. Группа черных фигур, как стая летучих мышей, слетелась к нему. — А сколько ты нам заплатишь? — спросила одна. — А ты напишешь мой портрет? — приставала другая. — Пешком или в экипаже? — спрашивала третья. — Сто франков каждой, — ответил он, — только за то, чтобы погулять по снегу при лунном свете. Я пойду за вами издали. Чтобы посмотреть, как это будет выглядеть… Сколько вас? — добавил он через минуту. — Десять? Маловато! Ну, да ничего, пошли! Три передумали: — У него нет ни гроша. Мы схватим из-за него воспаление легких, вот и все. — Вы остаетесь? — спросил он. — Значит, семеро. Браво, это каббалистическое число, семь смертных грехов! Слава богу! Я думал, что буду скучать, но эта затея спасает меня. «Ну, это творческая фантазия!.. — подумала Тереза. — Он вспомнил, что он художник. Еще не все потеряно». Она проводила эту странную компанию до выхода, чтобы проверить, действительно ли будет осуществлена эта фантастическая идея, но холод заставил отступить самых решительных, и Лоран дал отговорить себя от поездки. Все захотели, чтобы вместо нее он угостил их ужином. — Ну уж нет! — сказал он. — Вы трусихи и эгоистки, совсем такие же, как порядочные женщины. Я пойду в приличное общество. Пеняйте на себя! Но они снова увели его в фойе, и между ним, другими молодыми людьми, его знакомыми, и группой каких-то наглецов завязался такой оживленный разговор, с обсуждением таких замечательных проектов, что Тереза, побежденная отвращением, ушла, решив, что уже слишком поздно. Лоран любил порок; она уже ничего больше не могла для него сделать. В самом ли деле Лоран любил порок? Нет, раб не любит ярмо и кнут; но если он стал рабом по своей вине, если он позволил отнять у себя свободу, когда у него не хватило мужества или осторожности, чтобы отстоять ее, он привыкает к рабству и ко всем связанным с ним страданиям; он оправдывает то глубокое изречение древности, которое гласит, что, когда Юпитер делает человека рабом, он отнимает у него половину души. Когда рабство тела было страшным следствием победы врага, небо поступало так из жалости к побежденному; но когда душа попадает в пагубные объятия разврата, она должна полностью нести наказание. Лоран заслужил его теперь. У него была возможность выкупить себя: Тереза тоже рисковала половиной своей души, но он этим не воспользовался. Когда она садилась в экипаж, чтобы ехать домой, какой-то человек, взволнованный и возбужденный, вскочил в него вслед за ней. Это был Лоран. Он узнал ее в тот момент, когда она выходила из фойе, по ее невольному и бессознательному жесту, выражавшему отвращение. — Тереза, — воскликнул он, — вернемся в Оперу! Я хочу сказать всем этим мужчинам: «Вы грубые животные!» и всем женщинам: «Вы подлые твари!» Я хочу крикнуть твое имя, твое священное имя этой глупой толпе, хочу упасть тебе в ноги и глотать пыль, призывая на себя все презрение, все оскорбления, весь позор! Я хочу громко произнести свою исповедь среди этого огромного маскарада, как первые христиане исповедовались в языческих храмах, внезапно очищенные слезами покаяния и омытые кровью мучеников… Этот экстаз длился до тех пор, пока Тереза не отвезла Лорана домой. Она не могла понять, как и почему этот человек, почти не пьяный, так хорошо владевший собой, так приятно беседовавший с девицами на костюмированном балу, вновь попадал во власть беспредельной страсти, как только она появлялась перед ним. — Это я свожу вас с ума, — сказала она. — С вами только что говорили обо мне как о последней девке, и даже это не разбудило вас. Я стала для вас каким-то мстительным призраком. Совсем не этого я хотела. Расстанемся же, если я теперь могу приносить вам только зло.XIV
И все-таки они опять встретились на следующий день. Он умолил ее подарить ему последний день братской беседы и совершить вместе с ним «мещанскую» прогулку, дружескую, спокойную. Они пошли в Зоологический сад, сидели под большим кедром, бродили по лабиринту. Было тепло; снегу не осталось и следа. Бледное солнце светило сквозь сиреневые облака. Почки уже наливались соком. В тот день Лоран был поэтом, только поэтом и художником-созерцателем; он был глубоко, необычно для него спокоен: ни угрызений совести, ни желаний, ни надежд; временами наивная веселость. Тереза, наблюдавшая за ним с удивлением, не могла поверить, что между ними все кончено. На следующий день без причины, без предлога вновь разразилась страшная буря, совершенно так же, как она возникает в летнем небе только потому, что накануне была прекрасная погода. Потом с каждым днем все больше и больше темнело, пока не наступил словно конец света: кромешный мрак как будто прорезали беспрерывные вспышки молний. Однажды ночью он пришел к ней очень поздно, ничего не соображая и не зная, где он находится; не сказав ей ни слова, он повалился на диван в гостиной и тут же заснул. Тереза ушла в свою мастерскую и в отчаянии стала горячо молить бога, чтобы он избавил ее от этой пытки. Она упала духом; чаша ее страданий переполнилась. Она плакала и молилась всю ночь. Занималась заря, когда она услышала звонок. Катрин спала, и Тереза подумала, что это какой-нибудь запоздалый прохожий ошибся дверью. Звонок повторился; он повторился три раза. Тереза пошла на лестницу посмотреть в окошечко над входной дверью. Она увидела мальчика лет десяти-двенадцати, хорошо одетого; он смотрел на нее снизу вверх; лицо его показалось ей ангельским. — Что случилось, дружок? — спросила она. — Вы заблудились в этом квартале? — Нет, — ответил он, — меня сюда привели; я ищу даму, которую зовут мадемуазель Жак. Тереза спустилась, открыла мальчику дверь и смотрела на него с необычайным волнением. Ей казалось, что она уже где-то видела его или что он был похож на кого-то, чье имя она не могла вспомнить. Ребенок тоже держался смущенно и нерешительно. Она повела его в сад, чтобы там расспросить, но вместо ответа он сказал, весь дрожа: — Так это вы мадемуазель Жак? — Это я, дитя мое. Что вы от меня хотите? Что я могу для вас сделать? — Взять меня и оставить у себя, если вы согласны, чтобы я жил у вас! — Но кто же вы? — Я сын графа ***. Тереза едва удержалась, чтобы не закричать; первым ее движением было оттолкнуть ребенка, но вдруг ее поразило его сходство с лицом, которое она написала недавно, глядясь в зеркало, чтобы отослать этот портрет своей матери, — это было ее собственное лицо. — Погоди! — воскликнула она, судорожно заключив мальчика в объятия. — Как тебя зовут? — Маноэль. — О боже! Кто же твоя мать? — Это… Мне строго наказывали не говорить вам сразу! Моя мама сначала была графиня ***, там, в Гаване; она меня не любила и очень часто говорила: «Ты не мой сын, я не обязана любить тебя». Но мой отец любил меня и всегда говорил: «Ты только мой, у тебя нет матери». А потом он умер, полтора года тому назад, и графиня сказала: «Ты мой и останешься со мной». Это потому, что отец завещал ей деньги с тем условием, что я буду считаться их общим сыном. А все-таки она так и не любила меня, и мне было очень скучно с ней. И вот приехал один господин из Соединенных Штатов — его зовут господин Ричард Палмер — и стал просить, чтобы графиня меня отпустила. Графиня сказала: «Нет, я не хочу». Тогда господин Палмер сказал мне: «Хочешь, я отвезу тебя к твоей настоящей маме? Она думает, что ты умер, и будет очень рада увидеть тебя». Я сказал: «Да, конечно!» Тогда господин Палмер приехал ночью в лодке, потому что мы жили на берегу моря; а я встал тихо-тихо, и мы оба плыли до большого корабля, а потом мы пересекли все большое море, и вот мы здесь. — Вы здесь! — сказала Тереза, прижимая ребенка к груди; вся дрожа от счастья, она согревала его своим телом и, пока он говорил, покрывала его пылкими поцелуями. — Где же он, Палмер? — Не знаю, — сказал мальчик. — Он привел меня к дверям, сказал: «Позвони!», и потом я больше его не видел. — Поищем его, — сказала Тереза, — он, наверное, недалеко! И, побежав вместе с мальчиком, она быстро нашла Палмера, который стоял поодаль, ожидая, пока не уверится в том, что ребенок признан своею матерью. — Ричард! Ричард! — воскликнула Тереза, бросаясь к его ногам посреди еще пустынной улицы (она сделала бы то же самое, даже если бы улица была полна народа). — Вы для меня бог! Больше она не могла говорить; задыхаясь от счастливых слез, она почти обезумела. Палмер увел ее под деревья на Елисейских полях и заставил сесть. Ей понадобился по меньшей мере час, чтобы успокоиться, прийти в себя и обрести способность ласкать своего сына без риска задушить его. — Теперь я заплатил свой долг, — сказал ей Палмер. — Вы подарили мне дни надежды и счастья, я не хотел оставаться в долгу. Я возвращаю вам любовь и утешение на всю жизнь, потому что ребенок этот — ангел, и мне нелегко расстаться с ним. Я лишил его наследства и взамен должен оставить ему другое. Вы не имеете права препятствовать этому; я уже принял меры, и все формальности соблюдены. У него в кармане бумажник, который обеспечит ему настоящее и будущее. Прощайте, Тереза! Считайте меня своим другом до гроба. Палмер уехал счастливый; он совершил хороший поступок. Тереза не захотела больше переступать порог дома, где спал Лоран. Она послала рассыльного к Катрин, чтобы передать ей свои распоряжения, которые она написала в маленьком кафе, где позавтракала вместе с сыном. Затем она взяла фиакр, и они провели весь день, разъезжая по Парижу и покупая все необходимое для долгого путешествия. Вечером Катрин присоединилась к ним с вещами, которые она запаковала в течение дня, и Тереза уехала в глубь Германии, чтобы спрятать там своего ребенка, свое счастье, свой покой, свой труд, свою радость, свою жизнь. Счастье ее было эгоистичным: она больше не думала о том, что станется без нее с Лораном. Она была матерью, а мать безвозвратно убила в ней возлюбленную. Лоран проспал весь день и проснулся в одиночестве. Он встал, проклиная Терезу за то, что она где-то гуляет, не заботясь о его ужине. Он удивился, не найдя и Катрин, послал к дьяволу весь этот дом и вышел. Только по прошествии нескольких дней он понял, что произошло. Когда он увидел, что дом Терезы снова сдан внаем, что мебель запакована или продана, когда он прождал недели и месяцы, не получив от нее ни слова, он потерял надежду и стал думать лишь о том, чтобы как-нибудь заглушить свое горе. Только через год он нашел способ передать Терезе письмо. В своем несчастье он обвинял одного себя, он просил ее не отказать ему в прежней дружбе, потом, возвращаясь к своей страстной любви, закончил письмо такими словами:«Я знаю, что не заслуживаю даже этого, потому что я тебя проклял и в отчаянии от того, что я потерял тебя, прибегал к средствам отчаявшегося, чтобы излечиться от своей любви. Да, я старался очернить твой характер и твое поведение в моих собственных глазах, я осуждал тебя с теми, кто тебя ненавидит, и с удовольствием слушал о тебе дурное от тех, кто тебя не знает. В твое отсутствие я вел себя с тобою так же, как когда ты была здесь! Но почему тебя здесь больше нет? Если я сойду с ума, виновата будешь ты, не надо было покидать меня… О, я, несчастный, я ненавижу тебя и вместе с тем боготворю. Я чувствую, что вся моя жизнь пройдет в любви к тебе и в обращенных к тебе проклятиях… И я прекрасно вижу, что ты меня ненавидишь! Я хотел бы убить тебя! Но если бы ты была здесь, я упал бы к твоим ногам! Тереза, Тереза, ты, значит, стала чудовищем, раз ты не знаешь больше жалости? О, ужасное возмездие, эта неизлечимая любовь и этот неутолимый гнев! Что же я сделал такого, о боже, чтобы потерять все, даже свободу любить или ненавидеть?»Тереза ответила ему:
«Прощай навсегда! Но знай, что ты ничего не сделал против меня, чего бы я не простила, и что ты и впредь не сможешь сделать ничего такого, чего бы я снова не могла простить. Бог обрекает иных гениальных людей на то, чтобы они блуждали среди бурь и творили в страданиях. Я достаточно изучила тебя, я знаю твои теневые и светлые стороны, твое величие и твою слабость и знаю, что ты жертва судьбы и что к тебе нельзя подходить с той же меркой, как к большинству других людей. Твои страдания и твои сомнения, то, что ты называешь твоим возмездием, быть может, необходимые условия для твоей славы. Научись же переносить их. Ты изо всех сил стремился к идеалу счастья, но ловил его только в мечтах. Так знай же, что твои мечты, дитя мое, — это твоя действительность, это твой талант, это твоя жизнь; разве ты не художник? Будь спокоен, Бог простит тебе то, что ты не мог любить. Он обрек тебя на эту неутолимую жажду, чтобы твоя молодость не была поглощена одной женщиной. Женщины грядущего, те, кто будет созерцать твои произведения в веках, — вот твои сестры и возлюбленные».
Примечания
«Она и он»
Над романом «Она и он» Жорж Санд работала с 4 по 29 мая 1858 года. Опубликован он был в 1859 году в журнале «Ревю де дё монд» (15 января — 23 августа) и в том же году вышел отдельным изданием. Стало уже традицией считать, что роман «Она и он» воспроизводит знаменитый «венецианский эпизод» в жизни Жорж Санд и А. де Мюссе. История эта и проста и сложна одновременно: двое влюбленных едут в Италию, но не находят там счастья, а переживают трагедию взаимного непонимания и тягостный для обоих разрыв. Именно так, как произведение автобиографическое и документальное, роман воспринимался в момент его первой публикации. Почти одновременно с романом «Она и он» появился роман «Он и она» Поля де Мюссе, старшего брата А. де Мюссе. В этом произведении «она» изображается коварной, безнравственной и мстительной женщиной, погубившей молодого гениального поэта из зависти к его литературной славе. Роман этот стал первым в лавине низкопробных произведений, спекулировавших на любопытстве читателей. «Чернила потекли рекой», история любви Жорж Санд и Мюссе начала обрастать слоем сомнительных подробностей, домыслов и даже сознательных искажений и клеветы, к которой прибегали враги Жорж Санд. Превратившись в легенду, «венецианская история» стала темой многочисленных исследований. Кажется, все детали выяснены и все возможные уточнения уже сделаны благодаря скрупулезным поискам этих исследователей: изучены маршрут «венецианских любовников» и путеводители по Италии, которыми они могли пользоваться, указаны даты их пребывания в каждом городе, описаны все достопримечательности и памятники, расположенные на их пути, все спектакли и праздники, на которых они могли присутствовать, установлено, какая погода стояла в Генуе, Венеции и других городах, в каких (и почему иногда в разных) отелях останавливались путешественники, как были расположены и обставлены их комнаты, в какие моменты герои переживали восторг или апатию и т. п. Некоторые детали вызывали споры: действительно ли путешественникам пришлось испытать приступ морской болезни на пути из Марселя в Геную и перенес ли Мюссе в Венеции горячку или что-нибудь иное? Роман «Она и он» считали документальным и часто цитировали его страницы, чтобы подтвердить или опровергнуть разные версии легенды. Между тем Жорж Санд совершенно по-иному представляла себе задачу и смысл своего романа. Когда в 1836 году Мюссе опубликовал «Исповедь сына века», многое в этом романе напомнило Жорж Санд историю их любви. Некоторые реальные детали, воспроизведенные Мюссе, вызвали у нее слезы умиления.[221] Вместе с тем восприятие ею «Исповеди» вовсе не ограничивалось одной этой стороной. Жорж Санд нашла, что роман Мюссе правдив, «великолепен» и «выше «Адольфа» Б. Констана» по глубине проникновения в психологию современного человека. Не совпадение фактов, а общность психологической проблемы позволяла увидеть во взаимоотношениях Октава и Брижитты отзвук венецианской драмы, пережитой Мюссе и Жорж Санд. Через двадцать четыре года она написала роман, который продолжает эту линию. В 1855 году Жорж Санд вновь посетила Италию, и эта поездка, очевидно, оживила ее воспоминания о совместном с Мюссе путешествии 1834 года. 2 мая 1857 года умирает Мюссе. Ровно через год Жорж Санд пишет свой роман. Несомненно, что сюжет романа «Она и он» подсказан событиями личной жизни Жорж Санд и ее впечатлениями об Италии, его персонажи имеют реальных прототипов, и можно даже отметить некоторые дословные совпадения отдельных строк из писем Лорана и Мюссе. Однако видеть в нем лишь документальную хронику интимного конфликта значит исказить его суть и игнорировать подлинные цели Жорж Санд. Личный опыт и вымысел — вот двойная основа всякого художественного произведения, утверждает Жорж Санд в предисловии к роману «Жан де Ла Рош» (1859). Это предисловие было написано, когда острота первой реакции на роман «Она и он» еще не притупилась. Однако Жорж Санд, в отличие от ее противников и даже от многих ее друзей, вовсе не стремится оправдать одного из реальных прототипов своего романа и обвинить другого. Жорж Санд напоминает критикам романа о подлинной функции критики: истолковать основную мысль, поучение, которое несет в себе роман. Поиски реальных имен, исследование только документальной основы, послужившей писателю, лишь уводят от главного, мешают и литературе, и критике выполнять их общественную, воспитательную роль. Принципам, изложенным в предисловии к роману «Жан де Ла Рош», Жорж Санд неизменно следовала в своем творчестве. «Она и он» продолжает тему, волновавшую Жорж Санд на протяжении всего ее творческого пути: преодоление эгоистической ограниченности человека, борьба против индивидуализма. В основе психологического конфликта романа — крайне индивидуалистическое мировосприятие Лорана. Он понимает свободу как свою привилегию, отменяющую для него одного общепринятые принципы морали, а долг в его представлении — это только долг других по отношению к нему. Болезненная чувствительность ко всему, что касается его личности, эгоцентризм, оборачивающийся невольной жестокостью к другим, отсутствие воли и неуравновешенность, маниакальная подозрительность — все основные черты характера Лорана порождены эгоизмом. Жизнь Терезы подчинена совершенно иным принципам: главное в ее психологии — это разумное начало и повиновение долгу. Тереза хочет излечить Лорана от тяжкой болезни эгоизма и ради этого готова пожертвовать многими своими привычками, скромным достатком и даже репутацией. Однако конфликтом характеров смысл романа не исчерпывается, Тереза и Лоран — художники, и это вводит в роман проблему творческой личности и законов творчества. Эстетические идеалы Лорана и понимание им нравственного долга художника подсказаны его убежденностью в своем превосходстве над всеми. Он ведет беспорядочную жизнь, повинуясь своим прихотям и ожидая озарения, в момент которого он должен создать новый шедевр. Лишь свое, индивидуальное восприятие мира, свои чувства, не скованные унылыми доводами рассудка и изливаемые в искусстве, Лоран считает необходимыми для творчества. Он чувствует себя независимым и от авторитета признанных мастеров, и от проблем повседневной жизни. В живописи должны полновластно царить чувства и дерзкие грезы художника. Смысл творчества Лоран понимает как поиски идеальной красоты, творимой воображением художника и противопоставляемой несовершенствам действительности. Акт творчества как бы очищает художника от безнравственности, которую он утверждает своей повседневной жизнью, возвышает художника над человеком, но ничуть не помогает человеку стать лучше. По существу, Лоран признает лишь творчество ради самого себя, его искусство безразлично к проблемам повседневной жизни людей, которых он воспринимает лишь как унылую в своей посредственности и достойную презрения нетворческую массу. Принцип «незаинтересованного» искусства, или «искусства для искусства», был впервые сформулирован во Франции в начале 30-х годов, событиями которых подсказан роман «Она и он». Тогда «незаинтересованное творчество» стало для Мюссе средством отмежеваться от меркантилизма современных ему буржуа. Жорж Санд, напротив, всеми своими произведениями утверждала принцип социально активного искусства. Не изменила она своей позиции и в 50-е годы. В предисловии к Собранию сочинений 1851 года, подводя итог двум десятилетиям творчества, Жорж Санд пишет: «Вот уж поистине никогда педантизм не доходил до такой нелепости, как в этой теории «искусства для искусства»: ведь эта теория ни на что не откликается, ни на чем не основана и никто в мире — в том числе ее глашатаи и противники — никогда не мог претворить ее в жизнь. Искусство для искусства — это пустой звук, совершенно ложное понятие». В 50-е годы в понимании «искусства для искусства» на первый план выдвигается идея асоциальности, и именно такому «чистому» искусству возражает Жорж Санд. Утратив в 50-е годы многие надежды, связанные с революцией 1848 года, но не отказавшись от своих демократических убеждений, Жорж Санд тем большее значение придает литературе как средству борьбы за общественный прогресс. Лоран в романе «Она и он» — не двойник Мюссе, «замаскированный» под живописца, а, скорее, художник в широком смысле слова, оказавшийся в силу своего нравственного инфантилизма не в состоянии подняться до идеи общественно полезного искусства. Психология такого художника является своего рода питательной почвой для идеи чистого искусства в духе 50-х годов, поэтому проблема творчества решается в романе Жорж Санд неотделимо от нравственного и психологического конфликта, противопоставившего героев друг другу. Уводящие от реальности грезы «возвышенных безумцев», подобных Лорану, представляются Терезе «ужасающей аномалией». Она ищет в искусстве слияние «законов правдивого с мечтой о прекрасном». В творчестве великих художников прошлого она всюду видит это единство, утраченное ее современниками. Поэтому она терпеливо учится у старых мастеров, копируя их произведения. Смысл жизни Тереза видит в искусстве, неотделимом от труда, который для нее — и акт творчества, и способ обеспечить себе средства к существованию. Рядом с Лораном, ограничивающим свое творчество эгоистическим самовыражением, Тереза олицетворяет принципы, которым следовала сама Жорж Санд. Вместе с тем проблема творческой личности оказывается сложнее, чем вопрос о задачах искусства. Это обнаруживается в том, как Жорж Санд мотивирует вынужденный разрыв Терезы с Лораном. Она не удовлетворяется доводами традиционной морали, с точки зрения которой этот разрыв вполне может быть оправдан: «Идите по правильному пути, пусть погибает тот, кто от него отклоняется» — таков принцип этой морали, повторяющий одну из религиозных заповедей: «Мудрым и праведникам — вечное блаженство, слепым и непокорным — геенна огненная». Но Тереза не может с этим согласиться: «Так, значит, мудрым нет дела до того, что безумец погибнет?» Тереза оставляет Лорана, потому что считает себя не вправе навязывать свои принципы другому человеку. Она видит свой долг в том, чтобы предоставить художнику возможность следовать своему неповторимому пути и творить, повинуясь своей природе. Таким образом, если в романе «Она и он» Жорж Санд и возвращается к теме «Исповеди сына века», то делает это вовсе не для того, чтобы еще раз пересказать историю своих личных отношений с Мюссе. Роман написан для того, чтобы сопоставить две точки зрения на смысл творчества и опровергнуть принцип эгоистического самовыражения в искусстве. На русский язык роман был переведен тотчас же после его появления во Франции. В 1859 году он вышел дважды: в журнале «Семейный круг» (№ 7, 8, 9) и отдельным изданием в серии «Собрание иностранных романов». Он был включен также в самое полное дореволюционное Собрание сочинений Жорж Санд (издание Г.Ф. Пантелеева).Жорж Санд Пиччинино
Моему другу Эмманюэлю Араго в память о вечере, проведенном в семейном кругу.
I. ПУТНИК
Область, называемая Piedimonta[222] и простирающаяся от подножия Этны до самого моря, где лежит город Катания, представляет собой, по отзывам всех путешественников, самую прекрасную страну в мире. Поэтому я и решил избрать ее местом действия для истории, рассказанной мне с условием не называть ни селений, ни подлинных имен ее героев. Итак, друг читатель, соблаговоли перенестись воображением в область, именуемую Valdemona, что значит Долина Демонов. Это чудесный край, который, однако, я не намерен описывать тебе подробно, по той простой причине, что совершенно его не знаю, а хорошо описывать то, что известно лишь понаслышке, — вещь невозможная. Но ведь есть столько прекрасных книг о путешествиях, к которым ты можешь обратиться, если, впрочем, не предпочтешь посетить этот уголок лично; я бы и сам охотно совершил подобное путешествие хоть завтра, но только не вместе с тобой, читатель, ибо при виде тамошних чудес ты стал бы бранить меня за то, что я плохо их описал, а в дороге нет ничего хуже, чем спутник, читающий тебе наставления. В ожидании лучших времен фантазии моей угодно, чтобы я увел тебя подальше, по ту сторону гор, оставив в покое мирные селения, которые я так охотно избираю местом действия своих рассказов. Причина здесь самая пустая, но я все-таки сообщу ее тебе. Не знаю, помнишь ли ты — раз уж ты так добр, что читаешь мои сочинения, — как год тому назад я представил на твой суд роман под заглавием «Грех господина Антуана», где события развертываются на берегу Крезы, и главным образом — среди развалин старого замка Шатобрен. Дело в том, что замок этот существует на самом деле, и хотя он находится в десяти лье от моего жилища, я неизменно каждый год совершаю в те края по крайней мере одну прогулку. В этом году меня там весьма недружелюбно встретила старая крестьянка, приставленная стеречь эти развалины. — Коли правду говорить, — сказала она на своем полуберрийском, полумаршском наречии, — так я на вас в большой обиде. Звать-то меня вовсе не Жанилла, а Женни, и дочки у меня никакой нет, и вовсе я своего барина за нос не вожу, и барин мой блузы не носит, это уж вы приврали, я его в блузе и не видывала! — и т.д., и т.д. — Грамоте я не знаю, — продолжала она, — а вот знаю, что вы про меня и про моего барина дурное написали, и за это я вас больше не люблю. Таким образом мне стало известно, что неподалеку от развалин Шатобрена живет некий престарелый господин де Шатобрен, который не носит блузы. Вот, впрочем, все, что я о нем знаю. Но это научило меня, каким нужно быть осторожным, когда пишешь о Марше или о Берри. Вот уж который раз со мной случается нечто подобное: лица, носящие имя одного из моих героев или живущие в описанных мною краях, обидевшись и пылая гневом, обвиняют меня в клевете, никак не желая поверить, что имена их я взял случайно и понятия не имел о самом их существовании. Чтобы дать им время успокоиться, пока я снова не принялся за старое, я решил прогуляться теперь по Сицилии… Но как же мне быть, чтобы случайно не упомянуть лица или места, в самом деле существующего на этом прославленном острове? Ведь героя-сицилийца не назовешь Дюраном или Вольфом, и на всей карте Сицилии не найти названия, которое походило бы на Понтуаз или Баден-Баден. Поневоле придется мне дать своим персонажам и местностям имена, оканчивающиеся на а, на о или и. Не слишком заботясь о географической точности, я выберу такие, которые легко произносятся, и заранее заявляю, что у меня нет в Сицилии даже знакомой кошки, а следовательно, не может быть и намерения кого-либо там описать. После всего сказанного я считаю, что волен выбирать любое имя, а выбор имен — это самое трудное для писателя, желающего искренно полюбить создаваемые им образы. Прежде всего мне нужна княжна с блестящим именем — одним из тех, что высоко возносят особу, которая его носит. А в том краю столько красивых имен! Акалия, Мадония, Валькорренте, Вальверде, Примосоле, Тремистери и т.п., и все они ласкают слух, как прекраснейшие аккорды. Но если случайно в каком-либо знатном семействе, носящем имя своего феодального поместья, приключилась история, подобная той, какую я собираюсь рассказать, история, надо признаться, довольно щекотливая, меня, пожалуй, опять обвинят в злословии и клевете. К счастью, Катания отсюда далеко, романы мои вряд ли читаются по ту сторону мессинского маяка, и я надеюсь, что новый папа из милости продолжит то, что его предшественник совершил по неизвестной ему самому причине, то есть оставит меня в списке авторов, запрещенных католической церковью. Это позволит мне свободно говорить об Италии, в то время как в Италии, а тем более в Сицилии, об этом никто и знать не будет. Итак, княжну свою я назову княжной Пальмароза. Ручаюсь, что ни в одном романе вы не найдете столь звучной и, можно сказать, столь цветистой фамилии. Следует, однако, подумать об имени, данном княжне при крещении. Назовем ее Агатой, ибо святая Агата считается покровительницей Катании. Но я попрошу читателя произносить именно Агата, следуя местному обычаю, даже тогда, когда мне, по рассеянности, случится написать это имя на французский лад, то есть без а на конце. Героя моего будут звать Микеланджело Лаворатори, только не спутайте его со знаменитым Микеланджело Буонаротти, умершим по меньшей мере за двести лет до рождения моего Микеле. Что касается времени описываемых событий, а это еще одно досадное затруднение в начале каждого романа, то предоставляю вам, любезный читатель, выбрать его по своему усмотрению. Но поскольку мои действующие лица будут исповедовать идеи, имеющие хождение в современном обществе, и мне, при всем моем желании, невозможно говорить о них как о людях прошлых времен, история княжны Агаты Пальмароза и Микеланджено Лаворатори происходит, очевидно, где-то между 1810 и 1840 годами. Можете по своему усмотрению установить год, день и час, с которого начинается мое повествование; мне это все равно, ибо роман мой не является ни историческим, ни описательным, и я ни в том, ни в другом отношении не претендую на точность. Итак, в этот день… — пусть это будет, если вам угодно, ясный осенний день — Микеланджело Лаворатори пробирался извилистыми тропами то вниз, то вверх по ущельям и ложбинам, бороздящим склоны Этны и спускающимся к плодородной Катанской равнине. Герой наш прибыл из Рима, переправился через Мессинский пролив и пешком добрался до Таормины. Отсюда, очарованный зрелищем, со всех сторон открывшимся его взору, и не зная, куда смотреть — то ли на морское побережье, то ли на горы, он уже пошел почти наугад, колеблясь между желанием поскорее обнять отца и сестру и соблазном поближе подойти к гигантской огнедышащей горе, глядя на которую готов был согласиться с мнением Спалланцани, что Везувий по сравнению с ней не более как игрушечный вулкан. Так как Микеланджело путешествовал в одиночестве и пешком, он не раз сбивался с пути средь застывших лавовых потоков, образующих где обрывистый утес, а где лощину, покрытую роскошной растительностью. Когда непрестанно то поднимаешься в гору, то спускаешься с кручи, путь поневоле оказывается длинным, но на деле весьма мало подвигаешься вперед, и дорога из-за подобных естественных преград становится вчетверо длиннее. Микеле потратил целых два дня на то, чтобы пройти расстояние в каких-нибудь десять лье, отделяющих по прямой линии Таормину от Катании. Но теперь он был уже близко, почти у цели, ибо, миновав Кантаро и Маскарелло, Пьяно-Гранде, Вальверде и Маскалучью, он оставил наконец вправо от себя Санта-Агату, а влево — Фикарацци и находился уже не более чем в одном лье от предместья города. Еще какие-нибудь четверть часа, и все трудности его пешего путешествия окажутся позади; несмотря на восторженное изумление, которое должна была внушать молодому художнику столь величественная природа, он достаточно натерпелся в дороге от жары в ущельях, от холода на горных вершинах, от голода и усталости. Но на склоне последнего холма, который ему предстояло еще преодолеть, проходя вдоль стены громадного парка и устремив взор на город и гавань, он заспешил, чтобы наверстать упущенное время, споткнулся о корень оливы и сильно ушиб ногу; боль была очень резкой, так как после двух дней ходьбы по острым обломкам окаменевшей лавы и горячему пуццолану, башмаки его износились и ноги были все изранены. Вынужденный остановиться, он увидел, что находится перед небольшой нишей, где стоит статуя мадонны. Эта маленькая часовня с выступающим каменным навесом и скамьей служила гостеприимным убежищем для прохожих и удобным местом ожидания для нищих, монахов и прочего бедного люда, ибо была расположена у самых ворот виллы, изящное здание которой было видно нашему путнику сквозь листву тройного ряда апельсиновых деревьев, окаймлявших длинную аллею. Микеле, скорее досадуя на эту внезапную боль, чем страдая от нее, сбросил дорожный мешок, сел на скамью, вытянул ушибленную ногу и вскоре совсем позабыл о ней, погрузившись в раздумье. Чтобы познакомить читателя с мыслями молодого человека и вызвавшими их причинами, следует рассказать о нем подробнее. Микеле было восемнадцать лет, и он учился живописи в Риме. Отец его, Пьетранджело Лаворатори, был простым мастером-живописцем, впрочем весьма искусным в своем деле. Известно, что в Италии ремесленники, расписывающие стены и потолки, — почти художники. То ли в силу традиции, то ли вследствие прирожденного вкуса, они создают чудесные орнаменты, и в самых скромных жилищах, даже в убогих харчевнях, взор наш радуют гирлянды и розетки в прелестном стиле, а то и просто бордюры, удивительно удачно дополняющие своим цветом гладкий тон панелей и обшивок. Росписи эти нередко бывают выполнены с не меньшим совершенством, чем наши бумажные обои, но намного превосходят их свободой исполнения, свойственной всякой ручной работе. Ничего нет скучнее, чем строгий правильный орнамент, созданный машинами. Красота китайских ваз, да и всех вообще китайских изделий, заключается именно в той причудливой непринужденности, которую только рука человека может придать своим произведениям. Изящество, свобода, смелость, неожиданные находки, а подчас даже наивное неумение придают декоративной живописи особое очарование, с каждым днем все реже встречающееся в нашем обществе, где все начинает производитьсямашинами и станками. Пьетранджело был одним из самых искусных и изобретательных adornatori[223]. Уроженец Катании, он жил в ней со своим семейством вплоть до рождения Микеле, когда вдруг неожиданно покинул родину и переехал в Рим. Причину своего добровольного изгнания он объяснял тем, что семья его увеличивается, что в Катании у него слишком много конкурентов, работы у него становится все меньше, словом — что он хочет попытать счастья на чужой стороне. Но тайком поговаривали, будто он бежал от гнева неких вельмож, весьма могущественных и весьма преданных неаполитанскому двору. Всем известна ненависть, которую завоеванный и порабощенный народ Сицилии питает к правительству, находящемуся по ту сторону пролива. Гордый и мстительный сицилиец вечно бурлит, как и его вулкан, а подчас и извергает огонь. Ходили слухи, будто Пьетранджело оказался замешанным в народном заговоре и вынужден был бежать вместе со своим семейством и своими кистями. Его жизнерадостный и благодушный нрав, казалось, исключал подобные предположения, но живому воображению жителей катанского предместья необходима была необычайная причина, чтобы объяснить внезапный отъезд любимого мастера, о котором жалели все его товарищи. В Риме, однако, он не нашел счастья, ибо потерял там всех своих детей, кроме Микеле, а некоторое время спустя умерла и его жена, подарив жизнь девочке; юный брат стал ее крестным отцом, и назвали ее Мила — уменьшительное от Микеланджела. Оставшись только с двумя детьми, Пьетранджело стал менее веселым, но зато более обеспеченным и, работая без устали, сумел дать своему сыну воспитание, намного превосходившее то, какое получил сам. К этому ребенку он проявлял особую любовь, доходившую порой до слабости, и хотя Микеле рос в бедной и скромной семье, он был изрядно избалован. Старших своих сыновей Пьетранджело заставлял трудиться, с ранних лет стараясь внушить им тот рабочий пыл, каким отличался сам. Но небо не послало им тех сил, какими обладал их отец, и они погибли, не выдержав чрезмерного напряжения. То ли наученный печальным опытом, то ли считая, что теперь, когда в семье осталось всего трое, включая его самого, он и один сумеет прокормить ее, но только Пьетранджело, казалось, больше думал о здоровье своего младшего сына, чем спешил сделать из него мастера, способного заработать себе на хлеб. Мальчик, однако, очень любил рисовать и, играя, рисовал плоды, цветы и птиц, прелестно их раскрашивая. Однажды он спросил у отца, почему тот никогда не изображает на своих фресках человеческие фигуры. — Еще чего захотел — фигуры! — ответил благоразумный Пьетранджело. — Их надо делать либо очень хорошо, либо вовсе за них не браться. Мне для этого недостает умения. Мои гирлянды и арабески всем нравятся, но если на потолке у меня запляшут хромые амуры и горбатые нимфы, меня засмеют все знатоки. — А что, если попробую я? — спросил мальчик, который робостью не отличался. — Попробуй сначала на бумаге; может, для твоих лет получится и неплохо, но только ты скоро сам увидишь, что без учения нет и умения. Микеле попробовал. Пьетранджело показал рисунки сына любителям и даже художникам, и все признали у мальчика большие способности и посоветовали не связывать ему рук, приучая к труду ремесленника. С того времени Пьетранджело решил сделать из сына живописца, послал его в одну из лучших мастерских Рима и полностью избавил его от приготовления красок и малевания стен. «Одно из двух, — справедливо рассуждал он, — либо из этого ребенка выйдет художник, либо, если способности его не так уж велики, он вернется к орнаментам; зато у него будут знания, каких у меня нет, и в своем деле он станет первостепенным мастером. Так или этак, а жить ему будет легче, и обеспечен он будет лучше, чем я». Нельзя сказать, чтобы Пьетранджело был недоволен своей участью, но он отличался тем легкомыслием и даже беспечностью, которые свойственны очень трудолюбивым и очень здоровым людям. Он всегда полагался на судьбу, может быть потому, что рассчитывал при этом на собственные руки и собственное трудолюбие. Но будучи человеком умным и проницательным, он рано подметил у Микеле искру честолюбия, которого у других его детей не было. Отсюда он заключил, что та степень благополучия, которой достиг он сам, для более сложной натуры Микеле окажется недостаточной. Чрезмерно терпимый, он твердо верил, что у каждого человека есть врожденные способности, определить которые может лишь он сам, а потому уважал чувства и склонности Микеле, как дарованные ему свыше, и в этом оказался столь же великодушным, сколь и неосторожным. Ибо неизбежным следствием этой слепой снисходительности явилось то, что Микеланджело, никогда не испытавший ни горестей, ни страданий, привык ни в чем не знать отказа и считать себя личностью более значительной и интересной, чем все прочие. Свои прихоти он часто принимал за серьезные желания, а исполнение этих желаний считал своим правом. К тому же его рано посетил недуг, свойственный всем счастливцам, а именно страх потерять свое счастье, и в самый разгар успехов он мог вдруг упасть духом при мысли о возможной неудаче. Смутное беспокойство охватывало его тогда, а так как по природе он был энергичен и смел, беспокойство это подчас рождало в нем грусть и раздражительность. Но мы глубже проникнем в его характер, если подслушаем те мысли, которые занимают его у ворот Катании, в маленькой часовне, где он только что остановился.II. ИСТОРИЯ ПУТНИКА
Но я забыл объяснить — а вам нужно это знать, читатель, — почему Микеле вот уже год как находится в разлуке с отцом и сестрой. Несмотря на хорошие заработки в Риме и вопреки своему покладистому характеру, Пьетранджело никак не мог привыкнуть к жизни на чужбине, вдали от любимой родины. Как истый островитянин, он считал Сицилию страной, во всех отношениях благословенной небом, а материк — местом изгнания. Когда жители Катании говорят о страшном вулкане, столь часто истребляющем и разоряющем их, они в своей любви к родной земле доходят до того, что называют его «наша Этна». «Ах, — сказал однажды Пьетранджело, проходя мимо лавы, извергнутой Везувием, — посмотрели бы вы на наш знаменитый лавовый поток! Вот это красота! Вот это сила! Тогда вы и заикнуться бы не посмели о вашей лаве». Он имел в виду страшное извержение 1669 года, когда огненная река докатилась до самого центра города и истребила половину населения и зданий. Гибель Геркуланума и Помпеи он считал сущим пустяком. «Подумаешь, — говорил он с гордостью, — я видывал землетрясения и почище! Вот приезжайте к нам, узнаете, что такое настоящее извержение!» Он постоянно вздыхал о той минуте, когда снова сможет увидеть милый его сердцу раскаленный кратер и адскую пасть вулкана. Когда Микеле и Мила, привыкшие видеть его всегда в добром расположении духа, замечали, что он задумчив и печален, они огорчались и беспокоились, как бывает всегда, когда видишь грустным того, кто обычно весел. Тогда он признавался, что думает о родимом крае. «Не будь у меня такого крепкого здоровья, — говорил он, — и не будь я столь благоразумен, я давно умер бы с тоски по родине». Но когда дети заговаривали о том, чтобы вернуться в Сицилию, он многозначительно поводил пальцем, словно говоря: «Нельзя мне переезжать через пролив; избегнув Харибды, я бы разбился о Сциллу». Раз или два у него вырвались слова: «Князь Диониджи давно уже умер, но еще жив его брат Джеронимо». А когда Микеле и Мила стали спрашивать, почему он боится этого князя Джеронимо, он, по обыкновению, погрозил пальцем и сказал: «Молчите, молчите! Зря я и произнес при вас эти имена». Но однажды Пьетранджело, работая в одном из римских дворцов, нашел валявшуюся на полу газету. — Вот горе, что я не умею читать! — сказал он, протягивая ее Микеле, который зашел к нему по дороге из музея живописи. — Бьюсь об заклад, тут есть что-нибудь о милой моей Сицилии. А ну-ка, Микеле, взгляни на это слово: готов побожиться, что оно значит «Катания». Да, да, это слово я узнаю. Взгляни же и скажи мне, что делается сейчас в Катании. Микель заглянул в газету и прочел, что в Катании предполагается осветить главные улицы газовыми фонарями. — Боже мой! — воскликнул Пьетранджело. — Увидеть Этну при свете газовых фонарей! Вот-то будет красота! — И от радости он подбросил свой колпак до самого потолка. — Тут есть еще одно сообщение, — продолжал юноша, просматривая газету. — «Кардинал, князь Джеронимо Пальма-роза, вынужден отстраниться от важных обязанностей, возложенных на него неаполитанским правительством. Его преосвященство разбит параличом, и жизнь его в опасности. До тех пор пока медицинская наука не выскажется определенно об умственном и физическом состоянии высокопоставленного больного, правительство временно вручает выполнение его обязанностей его сиятельству маркизу…» — А какое мне дело кому? — в необычайном волнении воскликнул Пьетранджело, вырывая газету из рук сына. — Князь Джеронимо теперь отправится вслед за своим братом в могилу, и мы спасены! — И, словно опасаясь ошибки со стороны Микеле, он попытался сам, по складам, разобрать имя князя Джеронимо, а затем вернул сыну листок, прося его еще раз очень медленно и очень отчетливо прочитать сообщение. Прослушав его вторично, он истово перекрестился. — О провидение, — воскликнул он, — ты дозволяешь старому Пьетранджело увидеть кончину своих притеснителей и дожить до возвращения в родной город. Обними меня, Микеле! Это событие столь же важно для тебя, как и для меня. Что бы ни случилось, дитя мое, помни: Пьетранджело был тебе хорошим отцом! — Что вы хотите сказать, отец? Разве вам еще угрожает опасность? Если вы вернетесь в Сицилию, я поеду вместе с вами. — Мы еще поговорим об этом, Микеле, а пока… молчи! Забудь даже те слова, что у меня вырвались. Два дня спустя Пьетранджело, сложив пожитки, уехал вместе с дочерью в Катанию. Но Микеле, несмотря на все его просьбы, он не согласился взять с собой. — Нет, — отвечал он, — я и сам не знаю наверное, смогу ли устроиться в Катании; еще сегодня утром я просил, чтобы мне почитали газеты, и там нигде не написано, что кардинал Джеронимо умер. О нем вообще нет ни слова. А может ли человек, столь любимый правительством и столь богатый, умереть или выздороветь, не наделав при этом большого шума? Вот я и полагаю, что он еще дышит, но ему не лучше. Его временный заместитель — человек добрый, хороший патриот и друг народа. При нем я могу не бояться полиции. Ну, а вдруг случится чудо, и князь Джеронимо останется жив и поправится? Ведь мне придется тогда как можно скорее возвращаться сюда, в Рим; к чему же тебе прерывать свои занятия и пускаться в это путешествие? — Но в таком случае, — сказал Микеле, — почему бы и вам не подождать, чем кончится болезнь князя? Я не знаю, почему вы так опасаетесь его и чем может грозить вам пребывание в Катании, этого вы никогда не хотели мне объяснить, но меня пугает, что вы отправляетесь туда один с нашей девчуркой, в страну, где неизвестно еще, как вас примут. Я знаю, что полиция в самодержавных монархиях подозрительна и придирчива; если вас арестуют хотя бы на несколько дней, что станется тогда с нашей маленькой Милой в городе, где вы уже никого не знаете? Позвольте же мне, ради всего святого, поехать с вами. Я буду защищать и беречь Милу, а когда увижу, что вас не трогают, что вы хорошо устроились и решили остаться в Сицилии, я снова вернусь в Рим, к своим занятиям. — Да, Микеле, я все это знаю и понимаю, — ответил Пьетранджело. — У тебя самого нет ни малейшего желания переехать в Сицилию, и твоему юному честолюбию не по вкусу жизнь на острове, где, как ты думаешь, нет ни памятников искусства, ни возможности заниматься им. Но ты ошибаешься, у нас столько чудесных памятников! В Палермо их просто не счесть! А Этна? Да ведь она — самое дивное зрелище, какое только природа может явить глазам художника. А что до картин, у нас их тоже достаточно. Морреалес подарил нашей Сицилии немало шедевров, которые вполне можно сравнить с сокровищами Рима или Флоренции. — Простите, отец, — сказал, улыбаясь, Микеле, — но Морреалес никак не может сравниться ни с Рафаэлем, ни с Микеланджело, ни с мастерами флорентийской юколы. — А ты почем знаешь? Вот каковы они, детки! Ведь ты же не видел больших полотен Морреалеса, его лучших произведений? А какая у нас природа! Какое небо! Какие плоды! Настоящая земля обетованная! — Но тогда, отец, позвольте мне ехать с вами, — сказал Микеле, — этого я только и прошу. — Нет, нет, — поспешно ответил Пьетранджело, — я увлекся, расхваливая тебе Катанию, но не хочу, чтобы ты сейчас отправлялся туда; я знаю, тебя побуждает твое доброе сердце и забота о нас, но знаю также, что мечтаешь ты не о том. Вот когда тебя самого потянет на родину, когда пробьет твой час и тебя позовет судьба, тогда ты с любовью поцелуешь ту землю, на которую сейчас ступил бы с презрением. — Все эти доводы, отец, ничтожны по сравнению с тем беспокойством, какое я буду испытывать во время вашего отсутствия. Лучше уж мне скучать и терять даром время в Сицилии, чем отпустить вас одних и терзаться здесь мыслями о грозящих вам бедах и опасностях. — Спасибо, сынок, и прощай! — ответил старик, с нежностью обнимая его. — Если хочешь знать правду, я не могу взять тебя с собой. Вот тебе половина денег, какие у меня есть. Расходуй их бережно, пока я сумею прислать тебе еще. Знай, что в Катании я не стану терять времени даром и усердно примусь за работу, чтобы дать тебе возможность продолжать твои занятия живописью. Дай мне только время добраться туда и устроиться, а уж работу я найду: у меня ведь на родине немало было покровителей и друзей, и я знаю, что кое-кого из них там встречу. А ты не воображай себя всяких там бед и опасностей. Я буду осторожен, и хотя лживость и трусость мне не свойственны, в жилах моих недаром течет сицилийская кровь, и при надобности я всегда сумею прикинуться хитрой старой лисой. Этну я знаю, как собственный карман, ущелья ее глубоки и долго смогут скрывать такого бедняка, как я. Ты знаешь, я хоть и тайно, но сохранил добрые отношения с родными. У меня есть брат, капуцин… О, это замечательный человек, и Мила в случае надобности всегда найдет у него приют и покровительство. Я буду писать — вернее, сестра твоя будет писать тебе как можно чаще, так что ты недолго останешься в неведении относительно нашей участи. Но сам ты в своих письмах ни о чем не спрашивай — полиция их вскрывает. И не вздумай упоминать в них имя князей Пальмароза, прежде чем я сам не заговорю о них. — А до тех пор, — спросил Микеле, — я так и не узнаю, бояться ли мне этих господ, или ожидать от них милости? — Тебе? Тебе-то, по правде сказать, бояться нечего, — ответил Пьетранджело, — но ты не знаешь Сицилии, ты не сумеешь сохранять там ту осторожность, которая необходима во всякой стране, где господствуют чужеземцы. Ты полон, как и вся нынешняя молодежь, пылких идей… Сюда, в Рим, они просачиваются тайно, а в Сицилии они глубоко запрятались и словно тлеют под пеплом вулканов. Ты еще и меня, пожалуй, подведешь: из одного вольного слова, что вырвется у тебя случайно, там сумеют состряпать целый заговор против неаполитанского двора. Прощай же, не задерживай меня более. Мне, видишь ли, нужно снова увидеть свою родину. Ты не знаешь, что значит родиться в Катании и жить вдали от нее целых восемнадцать лет, или, вернее, ты этого не понимаешь, ибо хотя ты и родился в Катании и изгнание мое было и твоим изгнанием, но вырос ты в Риме и потому, увы, считаешь его своей рединой! Месяц спустя Микеле получил через одного прибывшего из Сицилии ремесленника письмо от Милы, сообщавшей ему, что добрались они вполне благополучно, что родные и старые друзья встретили их с распростертыми объятиями, что отец получил работу и нашел высоких покровителей, но кардинал все еще жив, и хоть теперь он уже и не столь опасен, ибо совсем отстранился от света и всяких дел, Пьетранджело пока по-прежнему не желает возвращения Микеле, ибо «мало ли еще что может случиться». После отъезда отца и сестры Микеле грустил и тревожился, так как нежно их любил; но, получив письмо и успокоившись на их счет, он невольно ощутил радость при мысли, что находится в Риме, а не в Катании. С тех пор как отец разрешил ему посвятить себя высокому искусству живописи, жизнь его в этом городе стала чрезвычайно приятной. Он снискал расположение своих учителей, пленив их не только выдающимися способностями, но и особой возвышенностью мыслей и выражений, не свойственных его возрасту и среде, из которой он вышел. Очутившись в обществе молодых людей, более богатых и лучше воспитанных (надо сказать, что он охотнее сходился с ними, чем с равными себе по положению сыновьями ремесленников), он тратил все свободное время на то, чтобы развивать ум и расширять круг своих понятий. Он много и жадно читал, посещал театры, беседовал с людьми искусства, одним словом — готовил себя исключительно для жизни независимой и благородной, на которую не мог, однако, с уверенностью рассчитывать. Ибо средства бедного маляра, который отдавал ему половину своих заработков, не были неистощимы. Отец мог заболеть, а живопись — искусство столь серьезное и глубокое, что ему надо учиться долгие годы, прежде чем оно сможет стать источником дохода. Мысль об этом страшила Микеле и временами повергала его в глубокое уныние. «Ах, отец мой, — как раз думает он в ту минуту, когда мы встречаемся с ним у ворот какой-то виллы, неподалеку от родного города, — не совершили ли вы из чрезмерной любви ко мне большой, пагубной и для вас и для меня ошибки, толкнув меня на путь честолюбия? Не знаю, достигну ли я чего-либо, но чувствую, что мне будет бесконечно трудно жить той жизнью, которую ведете вы и которая и мне предназначена была судьбой. Я не так вынослив, как вы, не обладаю физической силой, которой рабочий человек гордится так же, как дворянин — своим происхождением. Я плохой ходок, я изнемогаю, пройдя путь, который вы, отец, в свои шестьдесят лет сочли бы полезной для здоровья прогулкой. Вот и сейчас я впал в уныние, я ушиб ногу, и все по собственной вине, из-за своей рассеянности или неловкости. И, однако, я тоже сын этих гор, где, я вижу, дети бегают по острым обломкам окаменевшей лавы, словно по мягкому ковру. Да, отец прав, отчизна моя прекрасна; можно лишь гордиться тем, что ты рожден этой землей, подобно лаве, исторгнутой недрами сей огнедышащей горы! Но надо быть достойным такой отчизны, и в полную меру достойным! А для этого надо быть либо великим человеком, поражающим мир громом и молниями, либо отважным простолюдином, бесстрашным разбойником и жить в этой глуши, полагаясь лишь на свой карабин и непреклонную волю. Подобная судьба ведь тоже полна поэзии. Но для меня все это слишком поздно, слишком многое я уже познал, слишком хорошо знаю законы, общество, людей. То, что для дикого, простодушного горца — геройство, для меня было бы преступлением и низостью. Совесть терзала бы меня за то, что я, который с помощью всех достижений человеческой мысли мог бы достигнуть истинного величия, из-за собственного бессилия опустился до положения разбойника. Итак, мне суждено остаться безвестным и ничтожным!» Но покинем ненадолго Микеле, погруженного в раздумье и машинально растирающего ушибленную ногу, и расскажем читателю, почему, вопреки своей привязанности к Риму, где он так приятно проводил время, он оказался у ворот Катании. Из месяца в месяц сестра писала ему под диктовку отца: «Тебе еще нельзя приезжать сюда, мы и сами еще не знаем, что нас здесь ожидает. Больной чувствует себя настолько хорошо, насколько может чувствовать себя человек не владеющий руками и ногами. Но голова продолжает жить, и потому он сохраняет еще остаток власти. Посылаю тебе денег; трать их осторожно, дитя мое, ибо хотя работы у меня хватает, но платят здесь меньше, нежели в Риме». Микеле старался тратить эти деньги осторожно, знал, что отец зарабатывает их в поте лица. Он содрогался от стыда и ужаса всякий раз, когда обнаруживал, что его юная сестра, занимавшаяся пряжей шелка — ремесло, весьма распространенное в этой части Сицилии, — тайком прибавила к посылке отца золотую монету и от себя. Бедной девочке, очевидно, во многом приходилось отказывать себе, чтобы брат имел возможность провести часок-другой в приятных развлечениях. Микеле дал себе клятву не прикасаться к этим деньгам, хранить их и возвратить потом Миле все ее скромные сбережения. Но он любил удовольствия, он привык жить в какой-то мере на широкую ногу и не умел экономить. У него были барские замашки, то есть ему нравилось быть щедрым, и он щедро награждал любого посыльного, доставившего ему картину или письмо. К тому же материалы, необходимые художнику, весьма дороги. А когда Микеле случалось развлекаться где-либо вместе с богатыми товарищами, он сгорел бы со стыда, если бы не внес и свою долю… Кончилось тем, что он задолжал, правда, небольшую сумму, но огромную для бюджета бедного маляра; долги росли, как снежный ком, и наступил наконец день, когда ему ничего больше не оставалось, как постыдно бежать или браться за работу куда более скромную, чем писание исторических картин. Терзаясь угрызениями совести, он истратил и те золотые, которые так твердо решил вернуть Миле. Но, видя, что ему все равно не рассчитаться с долгами, он написал отцу полное раскаяния письмо, в котором во всем ему признался. Неделю спустя некий банкир передал ему сумму, достаточную для того, чтобы расплатиться с долгами и жить еще некоторое время по-прежнему. Потом пришло письмо от Милы, написанное, как всегда, под диктовку Пьетранджело: «Одна добрая душа ссудила мне те деньги, которые я переслал тебе, но мне придется отрабатывать их целые полгода. Постарайся, дитя мое, не наделать за это время новых долгов, иначе нам никогда не расплатиться». До тех пор Микеле не слыхал от отца ни единого слова укоризны, однако на этот раз он ожидал упреков. Его потрясли неисчерпаемая доброта и спокойное мужество честного ремесленника, и так как он не мог признать себя полностью виноватым в поступках, которых требовало от него его положение, он почел преступлением то, что согласился на эту слишком блестящую для него жизнь. Он принял тогда решение, укрепиться в котором помогла ему мысль, что он приносит великую жертву, и если у него недостает таланта, чтобы стать великим художником, он по крайней мере обладает героизмом великой души. Тщеславие сыграло здесь, таким образом, немалую роль, но тщеславие наивное и благородное. Он расплатился с долгами, распрощался с приятелями, заявив им, что бросает живопись, становится отныне ремесленником и будет работать вместе с отцом. Затем, ничего не сообщая ему, он сложил в дорожный мешок кое-какое платье получше, альбом и акварельные краски, не замечая того, что тем самым берет с собой остатки былой роскоши и мечты об искусстве, и отправился в Катанию, куда, как мы видели, он уже почти добрался.III. ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО
Несмотря на героическое решение отказаться от мечты своей юности, бедный Микеле испытывал в это мгновение мучительный страх. До сих пор дорога отвлекала его мысли от возможных последствий принесенной им жертвы. Вид Этны привел его в восторг. Радость близкого свидания с добрым отцом и милой сестренкой поддерживала в нем бодрость. Но это случайное происшествие — легкий ушиб ноги, вынудивший его ненадолго остановиться, — дало ему время впервые после отъезда из Рима задуматься над своей судьбой. Вместе с тем это была такая торжественная минута для его молодой души: он уже приветствовал издали кровли родного города, одного из прекраснейших в мире, даже в глазах того, кто прибыл из Рима, ибо Катания, в силу своего расположения, представляет в самом деле ни с чем не сравнимое внушительное зрелище. Этот город, много раз разрушенный извержениями, не выглядит древним, и господствующий в нем стиль XVII века не отличается ни величием, ни стройностью более ранних стилей; и все же, построенная свободно и по-античному широко, Катания чем-то напоминает города Греции. Черный цвет лавы, когда-то поглотившей Катанию, вновь возродившуюся теперь, подобно Фениксу, из собственного пепла, окружающая город открытая равнина, гладкие лавовые утесы, навеки окаменевшие в гавани и затемняющие своим мрачным отражением даже ясные воды моря, — все здесь выглядит печально и торжественно. Но не внешний облик Катании занимал сейчас юного путника. В его нынешнем положении этот город, изуродованный огнем, исторгнутым некогда из пещеры циклопов, показался ему особенно суровым и страшным. Для него он должен был стать местом искупления и местом испытаний, при мысли о которых холодный пот выступал у него на теле. Итак, здесь придется ему сказать «прости» миру искусства, обществу образованных людей, безмятежным мечтаниям и изысканным досугам художника, призванного к высокой цели. Здесь предстоит ему, после десяти лет привольной жизни, вновь надеть фартук рабочего, взять в руки безобразное ведерко с краской и приняться за вечные гирлянды, украшающие прихожие и коридоры. А главное, здесь ему придется работать по двенадцати часов в сутки, по вечерам ложиться в постель, изнемогая от усталости, и у него не останется ни времени, ни сил, чтобы открыть книгу или помечтать в музее. Здесь не будет у него иных друзей, кроме простых сицилийцев, до того бедных и грязных, что вся живописность их черт и характера едва может пробиться сквозь лохмотья и подавляющую их нужду. Словом, городские ворота Катании казались бедному изгнаннику вратами Дантова ада. При этом сравнении долго сдерживаемые слезы потоком хлынули у него из глаз, и всякий, кто увидел бы его сидящим у ворот дворца, юного, красивого, бледного, невольно поддерживающего рукой ушибленную ногу, непременно вспомнил бы античного гладиатора, раненного в бою и не столько плачущего от боли, сколько оплакивающего свое поражение. Бубенцы многочисленных мулов, поднимавшихся на холм, и появление странного шествия, направлявшегося прямо в его сторону, невольно отвлекли Микеланджело Лаворатори от его грустных мыслей. Мулы были великолепные, в богатой сбруе и с султанами на головах. На длинных пурпуровых попонах сверкали кардинальские эмблемы — тройной золотой крест, а над ним — маленькая кардинальская шляпа с кистями. Мулы были тяжело навьючены, их вели под уздцы одетые в черное слуги с унылыми и угрюмыми лицами. За ними следовали аббаты и прочие духовные особы в коротких черных штанах, красных чулках и башмаках с большими серебряными пряжками. Одни ехали верхом, других несли в портшезах. На откормленном осле степенно ехал толстяк в черной одежде, с волосами, забранными в кошелек, брильянтовым перстнем на пальце и шпагой на боку. По его виду, важному, но более простодушному, чем хитрые физиономии остальных духовных особ, легко можно было догадаться, что это медик его преосвященства. Он следовал непосредственно вслед за самим кардиналом, которого несли на носилках, вернее — в большом ящике, два сильных носильщика; рядом с ними шагали для смены еще четверо. Всего в шествии было человек сорок, и степень бесполезности каждого из них соответствовала степени смирения и унижения, написанных у него на лице. Микеле, с любопытством рассматривавший этот кортеж, чья классическая старомодность превосходила все, что ему приходилось видеть по этой части даже в Риме, встал и приблизился к воротам, желая получше разглядеть черты главного персонажа. Ему было тем легче удовлетворить свою любознательность, что носильщики остановились у высокой позолоченной решетки, и один из аббатов, отличавшийся особо отталкивающей физиономией, спешился и с высокомерным видом и какой-то странной улыбкой принялся собственноручно отпирать ворота. Кардинал был уже очень стар; медленно подтачивавший его жестокий, изнурительный недуг превратил этого прежде тучного и румяного человека в худого, бледного старца. Кожа на лице его, дряблая и обвисшая, образовывала тысячи складок, напоминая собой почву, изборожденную бурными потоками. Несмотря на эти страшные разрушения, следы властной красоты проглядывали еще на этом угрюмом лице, которое, то ли поневоле, то ли намеренно, оставалось неподвижным, но на котором горели еще большие черные глаза, последнее убежище упорно сопротивлявшейся жизни. Контраст между их пронизывающим, жестким взглядом и мертвенно-бледным лицом до того поразил Микеле, что он невольно поддался охватившему его чувству почтительности и инстинктивно обнажил голову перед этим свидетельством былого могущества и непреклонной воли. Все, что носило печать силы и власти, действовало на воображение нашего юноши, ибо сам он честолюбиво стремился к тому же, и если бы не властное выражение кардинальских глаз, он, быть может, и не подумал бы снять перед ним свою соломенную шляпу. Но поскольку его скромное платье и запыленная обувь изобличали в нем скорее простолюдина, чем будущего великого художника, кардинал и его свита вправе были ожидать, что он преклонит колени, — этого он, однако, не сделал, тем самым приведя окружающих в страшное негодование. Кардинал первый заметил эту оплошность, и в ту минуту, когда носильщики готовы были уже проследовать в ворота, он сделал бровями знак, тотчас же понятый его врачом, которому дан был строгий наказ держаться все время возле носилок и не отводить глаз от глаз его преосвященства. У врача хватало ума ровно настолько, чтобы по взгляду кардинала понять, когда тому угодно изъявить свою волю; тогда он приказывал остановиться и призывал аббата Нинфо, секретаря его святейшества, того самого, который только что собственноручно открыл ворота ключом, вынутым из собственного кармана. Аббат тотчас же подбегал — как подбежал он и сейчас — и становился перед дверцами носилок, закрывая их своим телом от глаз остальных присутствующих. И тут между ним и кардиналом начинался таинственный диалог, настолько таинственный, что никто не мог бы сказать, изъяснялся ли его преосвященство при помощи слов, или одной игры своего лица. Парализованный кардинал обычно издавал только нечленораздельное ворчание, в минуту гнева переходившее в ужасающий рев. Но аббат Нинфо так хорошо понимал это ворчание, сопровождавшееся выразительным взглядом, что, зная характер кардинала и его намерения, он переводил на общепонятный язык и заставлял выполнять желания своего господина так толково, быстро и точно, что это казалось настоящим чудом. Остальным приближенным кардинала это казалось даже чересчур сверхъестественным, и они предпочитали думать, что кардинал сохранил еще дар речи, но, в силу каких-то, весьма тонких дипломатических соображений, разговаривает с одним аббатом Нинфо. Правда, доктор Рекуперати уверял, будто язык его преосвященства парализован так же, как его руки и ноги, и единственное, что в его организме еще остается живым, — это мозг и органы пищеварения. «Но в таком состоянии, — прибавлял он. — можно дожить до ста лет и все еще вершить дела мира сего, подобно тому, как Юпитер потрясал Олимп одним мановением своих бровей». Фантастический диалог, возникший и на этот раз между проницательным взглядом аббата и красноречивыми бровями его преосвященства, привел к тому, что аббат резко обернулся к Микеле и сделал ему знак приблизиться. Микеле очень хотелось бы ослушаться и тем самым заставить аббата самого подойти к нему, но внезапно в нем заговорил истинный сицилиец, и он решил вести себя осторожно. Он вспомнил все, что говорил ему отец о некоем кардинале, гнева которого ему следует опасаться, и хотя не видел, разбит ли параличом тот, кто находится сейчас перед ним, тотчас же сообразил, что это вполне может быть князь Джеронимо Пальмароза. С этой минуты он решил притворяться и с покорным видом приблизился к раззолоченным и украшенным розетками и гербом носилкам его святейшества. — Эй, что ты делаешь здесь, у ворот? — высокомерно спросил его аббат. — Ты из здешней прислуги? — Нет, ваша милость, — ответил Микеле с видимым смирением, хотя с удовольствием отхлестал бы эту важную особу по щекам, — я прохожий. Аббат заглянул в глубь носилок, и ему, как видно, дали понять, что прохожих запугивать не стоит, ибо, снова обратившись к Микеле, он резко изменил тон и манеры. — Друг мой, — благодушно произнес он, — я вижу, вы измучены; вы ремесленник? — Да, ваша милость, — сказал Микеле, стараясь отвечать самым кратким образом. — Вы устали, идете издалека? — Да, ваша милость. — Однако вы кажетесь крепким для нашего возраста. Сколько же вам лет? — Двадцать один год. Микеле отважился на эту ложь, ибо хотя на подбородке его едва начинала пробиваться растительность, он был высокого роста и, обладая живым и пытливым умом, успел уже утратить первоначальную свежесть юности. Отвечая подобным образом, он следовал особому наставлению, полученному при расставании от отца и которое теперь, весьма кстати, пришло ему на память: «Если ты когда-нибудь вздумаешь приехать ко мне, — сказал ему старый Пьетранджело, — хорошенько запомни, что, пока не встретишь меня, не говори ни слова правды тем любопытным, которые станут тебя расспрашивать. Не открывай ни своего имени, ни возраста, ни своего рода занятий, ни моего, ни откуда ты, ни куда идешь. Полиция придирчива, но не проницательна. Лги не стесняясь и ничего не бойся». «Если бы отец слышал меня в эту минуту, — подумал Микеле, ответив на вопрос аббата, — он был бы доволен мной». — Хорошо, — промолвил аббат и отодвинулся от дверцы носилок, чтобы прелат лучше мог рассмотреть бедного малого, привлекшего его внимание. Микеле встретил страшный взгляд этого живого мертвеца и на сей раз ощутил скорее недоверие и отвращение, чем почтение, увидав его узкий лоб деспота. Чувствуя инстинктивно, что ему грезит какая-то опасность, Микеле изменил обычное свое выражение лица, изобразив на нем, вместо гордого достоинства, притворное простодушие, затем преклонил колено и, опустив голову, чтобы кардинал не мог как следует рассмотреть его черт, сделал вид, что ожидает благословения. — Их преосвященство благословляют вас мысленно, — сказал аббат, обменявшись взглядами с кардиналом, и сделал знак носильщикам продолжать путь. Носилки проследовали в ворота и медленно углубились в аллею. «Желал бы я знать, — сказал себе Микеле, — следя за проходящим миме кортежем, — обмануло меня предчувствие или в самом деле этот кардинал и есть враг нашего семейства?» Он уже хотел было продолжать свой путь, как вдруг заметил, что аббат Нинфо не последовал за кардиналом, а подождав, пока мимо прошел последний мул, запер ворота и положил ключ в карман. Такое неподходящее занятие для лица, столь близкого к кардиналу, удивило Микеле, но еще больше поразили его косые внимательные взгляды, которые исподтишка бросала на него эта отталкивающая личность. «Очевидно, что за мной уже следят в этой злосчастной стране, — подумал он, — и отцу моему не зря мерещились опасности, от которых он предостерегал меня». Вынув ключ из замка, аббат через решетку сделал Микеле знак подойти ближе, и тот, понимая, что ему следует как можно лучше сыграть взятую на себя роль, покорно приблизился. — Вот тебе, паренек, — сказал аббат, протягивая ему мелкую монетку, — ты, я вижу, очень устал, промочи себе горло в ближайшем кабачке. Микеле едва сдержал себя, чтобы не вздрогнуть, однако снес обиду, протянул руку и смиренно поблагодарил; затем он осмелился сказать: — Очень уж меня огорчает, что их преосвященство не удостоили меня своим благословением. Столь хорошо разыгранное простодушие окончательно рассеяло подозрения аббата. — Утешься, дитя мое, — сказал он уже самым обычным тоном. — Божественному провидению угодно было послать нашему святому кардиналу испытание, лишив его способности двигаться. Паралич не дозволяет ему благословлять верующих иначе как умом и сердцем. — Господь да исцелит и да сохранит его! — ответил Микеле и пошел дальше, уверенный теперь, что не ошибся и только что счастливо избежал опаснейшей встречи. Не успел он, спускаясь с холма, сделать и десяти шагов, как, обогнув скалу, столкнулся лицом к лицу с каким-то человеком, поднимавшимся в гору. Они не сразу узнали друг друга, настолько каждым из них был далек от мысли о подобной встрече. Оба одновременно вскрикнули, бросились друг к другу и крепко обнялись: Микеле был в объятиях отца. — Ах, мой мальчик, мой милый мальчик, ты здесь! — воскликнул Пьетранджело. — Вот радость для меня! Правда, я и встревожен! Но радость сильнее тревоги и придает мне храбрости, которой минуту назад у меня еще не было. Вспоминая тебя, я всегда говорил себе: хорошо, что Микеле здесь нет, а то дела наши могли бы испортиться. Но вот ты здесь, и будь что будет, а я все-таки чувствую себя счастливейшим человеком в мире. — Отец, — ответил ему Микеле, — не бойтесь: я стал осторожным, ступив на землю своей родины. Я только что встретился лицом к лицу с нашим врагом, он расспрашивал меня, и я наврал ему так, что любо было послушать! Пьетранджело побледнел. — Кто, кто расспрашивал тебя, — воскликнул он, — кардинал? — Да, кардинал, собственной персоной, паралитик в большом позолоченном ящике. Это, конечно, и есть тот самый знаменитый князь Джеронимо, которого я так боялся в детстве; он казался мне тем более страшным, что я не знал причины этого страха. Так вот, дорогой отец, уверяю вас, что если бы он и хотел еще причинить нам зло, то не в силах этого сделать, ибо его поразили, как видно, все возможные немощи. Я потом подробно опишу вам эту встречу, но сначала скажите, здорова ли сестра, и побежим скорей обрадуем ее. — Нет, нет, Микеле, прежде объясни мне, как случилось, что ты так близко видел кардинала. Зайдем в этот лесок, я так встревожен! Ну, рассказывай же, рассказывай! Он, значит, говорил с тобой? Значит, это правда, он может говорить? — Успокойтесь, отец, он говорить не может! — Ты уверен? Ведь ты только что сказал, что он тебя расспрашивал. — Меня расспрашивали, я думаю, по его приказанию; но я внимательно за всем наблюдал, и так как тот аббат, что служит ему переводчиком, недостаточно толст, чтобы совершенно заслонить собой дверцу носилок, я прекрасно видел, что его преосвященство может изъясняться одними глазами. Более того — кардинал, очевидно, совершенно глух, ибо когда я ответил, сколько мне лет, — не знаю, для чего меня об этом спросили, — аббат, я заметил, наклонился к нему и показал два раза десять пальцев, и потом еще большой палец левой руки. — Немой, недвижимый и к тому же еще и глухой! У меня сразу отлегло от сердца. Но сколько, ты сказал ему, тебе лет? Двадцать один год? — Вы сами велели мне не говорить правды, едва нога моя ступит на землю Сицилии. — Очень хорошо, дитя мое; видно, само небо сохранило и наставило тебя при этой встрече. — Охотно верю, но верил бы еще больше, если бы вы объяснили мне, какое значение может иметь для кардинала, восемнадцать мне или двадцать один? — Никакого, конечно, — ответил, улыбаясь, Пьетранджело, — но я рад, что ты вовремя вспомнил мои наставления и сразу проявил осторожность, на какую я считал тебя неспособным. Да, скажи-ка еще, аббат Нинфо — я уверен, что это он с тобой говорил, — он очень безобразен? — Он ужасен… Косой, курносый. — Да, это он самый. А о чем он еще тебя спрашивал? Как тебя зовут? Откуда ты? — Нет он только спросил, сколько мне лет, и мой удачный ответ видимо, вполне его удовлетворил, потому что он повернулся ко мне спиной, обещая мне благословение его преосвященства. — Но кардинал не благословил тебя? Он не поднял руку? — Аббат сам сказал мне немного позже, что его преосвященство не может двинуть ни рукой, ни ногой. — Как, он и потом с тобой разговаривал? Он, что же, снова вернулся к тебе, этот приспешник ада? С этими словами Пьетранджело почесал у себя в затылке: то было единственное место на его голове, где рука могла еще нащупать несколько волосков, и жест этот был у него признаком величайшего умственного напряжения.IV. ТАЙНЫ
Микеле со всеми подробностями рассказал отцу, чем кончилось его приключение, и Пьетранджело удивился его находчивости и одобрил ее. — Но послушайте, отец, — воскликнул юноша, — объясните же мне, как это вы живете здесь не скрываясь и под собственным именем, и никто вас не трогает, а я, едва приехав, сразу же должен прибегать к каким-то хитростям и чего-то остерегаться. Пьетранджело на минуту задумался, потом ответил: — Очень просто, дитя мое! Когда-то я был объявлен заговорщиком; меня бросили в тюрьму, и, вероятно, только бегство спасло меня от виселицы. Против меня уже начато было дело. Теперь все это забыто, и хотя кардинал в то время знал меня, очевидно, по имени и в лицо, но то ли я сильно изменился, то ли он потерял память, только он снова меня увидел, слышал, должно быть, как меня называют по имени, но не узнал и ничего не вспомнил. Я, видишь ли, нарочно сделал своего рода опыт: аббат Нинфо предложил мне работу в кардинальском дворце. Я храбро пошел туда, приняв меры к тому, чтобы Мила была в безопасности на случай, если меня без суда и следствия засадят за решетку. Кардинал увидел меня и не узнал. Аббату Нинфо ничего обо мне не известно. Поэтому я могу, или, вернее, мог быть за себя спокоен и уже собирался вызвать тебя к нам, как вдруг, несколько дней тому назад, по городу прошел слух, будто здоровье кардинала заметно улучшилось, и до такой степени, что он собирается провести некоторое время в своем загородном доме, в Фикарацци; отсюда виден этот дворец, — вон там, на склоне холма. — Значит, эта вилла, что в двух шагах от нас и куда только что внесли кардинала, не его резиденция? — Нет, это вилла его племянницы, княжны Агаты; очевидно, он решил сделать крюк и завернуть к ней как бы по дороге; только это посещение очень меня тревожит. Я знаю, что княжна его вовсе не ожидала и не приготовилась к приему дядюшки. Должно быть, ему хотелось сделать ей весьма неприятный сюрприз, ибо он не может не знать, что у нее нет причины любить его. Боюсь, не кроется ли здесь какой-то злой умысел. Во всяком случае, такая расторопность со стороны человека, который уже целый год совершает прогулки только в кресле на колесах по галерее своего городского дворца, заставляет меня призадуматься, и, говорю тебе, теперь нам следует быть особенно начеку. — Но, отец, я все же не понимаю, какая опасность может угрожать именно мне? Когда мы покидали Сицилию, мне было, если не ошибаюсь, всего полгода, и вряд ли я мог быть замешан в заговоре, из-закоторого пострадали вы. — Нет, конечно; но здесь следят за каждым новым лицом. Всякий человек из народа, если он молод, умен и прибыл издалека, считается здесь опасным, набравшимся новых идей. Достаточно одного твоего слова, сказанного при каком-нибудь соглядатае или вызванного подстрекателем, и тебя засадят за решетку, а когда я пойду хлопотать за тебя как за сына, нам и вовсе не поздоровится, если, на наше несчастье, кардинал выздоровеет и снова окажется у власти. Он тогда, наверное, вспомнит, что я был осужден, и применит к нам поговорку: «Каков отец, таков и сын». Понимаешь теперь? — Да, отец, я буду осторожен. Можете на меня положиться. — Но это еще не все. Мне надо самому убедиться, насколько болен кардинал. И я не хочу, чтобы ты появлялся в Катании, пока не узнаю, чего нам следует ожидать. — Как же вы это узнаете? — А вот как: мы здесь с тобой спрячемся и подождем. Долго нам ждать не придется. Если кардинал в самом деле глух и нем, беседа его с княжной не затянется и он сразу же, вместе со всей свитой, отправится дальше, в Фикарацци. Тогда, уже не боясь встретить его, мы пойдем во дворец Пальма-роза, где я как раз сейчас работаю; там и спрячу тебя в каком-нибудь уголке, а сам пойду посоветоваться с княжной. — Княжна, значит, очень расположена к вам? — Это самая главная и самая щедрая моя заказчица. У нее я получаю много работы, и, надеюсь, с ее помощью нам удастся избежать преследований. — Ах, отец! — воскликнул Микеле. — Так это она дала вам деньги для того, чтобы я расплатился с долгами? — Одолжила, дитя мое, одолжила. Я хорошо знаю, что ты не примешь милостыни; но она доставляет мне столько работы, что мало-помалу я рассчитаюсь с ней. — Скажите «скоро рассчитаюсь», отец, так как я теперь с вами. Я здесь, чтобы уплатить вам свой долг, для этого только я и приехал. — Как, мой мальчик, ты продал картину? Получил за нее деньги? — Увы, нет! Я еще не настолько искусен и не настолько известен, чтобы зарабатывать как художник. Но у меня есть руки и достаточно знаний для того, чтобы расписывать стены. Мы будем работать вместе, дорогой отец, и мне не придется больше краснеть оттого, что я веду жизнь художника, тогда как вы выбиваетесь из сил ради моих неуместных прихотей. — Ты говоришь это серьезно? — воскликнул старый Пьетранджело. — Ты в самом деле хочешь сделаться ремесленником? — Да, я твердо это решил. Я распродал картины, гравюры, книги, рассчитался за квартиру, поблагодарил своего учителя, распрощался с друзьями, с Римом, со славой… Это было не так-то легко, — прибавил Микеле, чувствуя, как глаза его наполняются слезами, — обнимите же меня, отец, скажите, что вы довольны своим сыном, и я буду гордиться тем, что сделал! — Да, обними меня, друг мой! — воскликнул старый маляр, прижимая Микеле к груди и смешивая свои слезы с его слезами. — То, что ты сделал, честно, прекрасно, и бог наградит тебя за это, ручаюсь тебе. Я принимаю твою жертву, но договоримся сразу — принимаю ее только на время, а мы еще постараемся насколько возможно сократить это время, будем работать изо всех сил, чтобы скорее расплатиться с долгами. Такое испытание даже полезно тебе, и талант твой за это время окрепнет, а не зачахнет. Мы с тобой, работая вдвоем и с помощью доброй княжны, которая всегда так щедро платит, скоро заработаем достаточно денег, и ты сможешь вернуться к настоящей живописи без всяких угрызений совести и ничем не стесняя меня. Итак, решено. А теперь я расскажу тебе о Миле. Эта девочка — чудо какая умница. Сам увидишь, как она выросла и похорошела. Она до того хороша, что мне, старику, иной раз просто страшно становится. — Но я хочу остаться ремесленником! — воскликнул Микеле. — Я хочу иметь скромный, но верный заработок, чтобы выдать замуж сестру сообразно ее положению. Бедняжка как добрый ангел посылала мне свои маленькие сбережения! А я, несчастный, собирался возвратить их, но потом вынужден был все их потратить. Ах, это ужасно, это, может быть, даже нечестно — мечтать о славе художника, когда ты из бедной семьи! — Ну, об этом мы еще поговорим, и уж я постараюсь, чтобы ты снова вернулся к своему истинному призванию. Но, слышишь, заскрипели ворота… значит, кардинал выезжает из виллы. Спрячемся и посмотрим… Вот сейчас они повернут направо. Так ты говоришь, что аббат Нинфо собственноручно открыл ворота и что у него был ключ? Это очень странно, и мне очень не нравится; значит, наша добрая княжна не хозяйка даже в собственном доме, раз у этих господ есть отмычка и они в любую минуту могут ворваться к ней. Значит, они ее в чем-то подозревают, если так тщательно следят за ней. — Но в чем же они могут ее подозревать? — Да хотя бы в том, что она покровительствует людям, которых они преследуют. Ты, говоришь, стал теперь осторожен; впрочем, ты и так поймешь, как важно то, что я сейчас тебе расскажу. Ты уже знаешь, что князья Пальмароза всецело были преданы неаполитанскому двору, а князь Диониджи, старший в роде, отец княжны Агаты и брат кардинала, был самым скверным сицилийцем, какого когда-либо носила земля, врагом своей родины и притеснителем своих земляков. И не из трусости, подобно многим другим, перешел он на сторону победителя, и не из жадности, как те, что продаются за деньги, — нет, он был и отважен и богат, а из одного честолюбия, из страстного желания властвовать, наконец, — просто из жестокости, что была у него в крови: запугивать, мучить и унижать своего ближнего было для него высшим удовольствием. При королеве Каролине он был всемогущ, и пока господь не смилостивился и не избавил нас от него, он успел причинить уйму зла и благородным патриотам и беднякам, любящим свою родину. Брат его был таким же злодеем, но теперь уже и он одной ногой в гробу, и если догорающая лампа еще вспыхивает слабым пламенем, значит она скоро погаснет. И тогда жители Катании, а особенно нашего предместья, где все так или иначе зависят от князей Пальмароза, вздохнут наконец свободно. Других мужчин у них в семье нет, и все их огромные богатства — а большая часть их доселе находилась в руках кардинала — перейдет к единственной наследнице, княжне Агате. А она настолько же добра, насколько родные ее жестоки, и уж у нее намерения самые добрые. Уж у нее-то истинно сицилийская душа, неаполитанцев она ненавидит! О, она еще докажет это, когда станет полновластной хозяйкой своих богатств и своих поступков. Если бы господь бог послал ей еще достойного мужа и в дом к ней вошел бы добрый синьор, с теми же добрыми помыслами, что у нее, тогда и полиции пришлось бы вести себя иначе и судьба наша переменилась бы к лучшему. — Княжна, значит, еще молода? — Да, молода и может выйти замуж. Но до сих пор она не хотела этого, опасаясь, мне кажется, что ей не позволят выбрать супруга по собственному усмотрению. Ну вот мы и дошли до парка, — добавил Пьетранджело, — тут нам может кто-нибудь повстречаться, а потому давай разговаривать о другом. Советую тебе, сынок, говорить здесь только на сицилийском наречии, мы ведь недаром сохраняли в Риме эту похвальную привычку. Надеюсь, ты не забыл родной язык с тех пор как мы расстались? — Нет, конечно, — ответил Микеле и бойко заговорил по-сицилийски, желая показать отцу, что ничем не похож на чужестранца. — Прекрасно, — заметил Пьетранджело, — выговор у тебя совсем чистый. Они пошли в обход и приблизились к другим воротам, отстоящим довольно далеко от тех, где Микеле встретился с кардиналом Джеронимо. Ворота эти были открыты, и, судя по следам на песке, через них прошло и проехало сегодня множество людей и повозок. — Здесь сейчас страшная суматоха, необычная для этого дома, — сказал старый маляр своему сыну, — потом я все тебе объясню, а теперь помолчим, так будет вернее. Да не очень гляди по сторонам, словно новичок, который только что прибыл. Прежде всего спрячь свой дорожный мешок, вот здесь, между скал, возле водопада, — я узнаю потом это место. И оботри башмаки о траву, чтобы не походить на путника. Да ты, я вижу, хромаешь; ты что, ушиб ногу? — Нет, это пустяки, просто немного устал. — Ну, я сведу тебя в такое место, где ты отдохнешь, и никто тебя не потревожит. Пьетранджело повел сына через парк кружным путем по тенистым дорожкам, и таким образом они дошли до дворца, никого не встретив, хотя, по мере приближения к нему, все явственнее слышали шум голосов. Войдя в галерею нижнего этажа, они быстро миновали огромную залу, где было множество рабочих и лежали всякого рода материалы, заготовленные для какого-то непонятного сооружения. Люди здесь были так заняты и так шумели, что и не заметили, как мимо них проскользнули Пьетранджело с сыном. Микеле не успевал даже ничего разглядеть, — все мелькало у него перед глазами. Отец велел ему следовать за собой не отставая, а сам так спешил, что молодой путешественник, изнуренный усталостью, едва поспевал за ним, поднимаясь по узким и крутым лестницам. Путь по этому лабиринту таинственных переходов показался Микеле очень долгим. Наконец Пьетранджело вынул из кармана ключ, открыл в темном коридоре небольшую дверцу, и они очутились в длинной галерее, украшенной статуями и картинами. Но ставни на всех окнах были закрыты, и кругом царил такой мрак, что Микеле ничего не удалось различить. — Здесь ты можешь отдохнуть, — сказал Пьетранджело, тщательно заперев дверцу и снова положив ключ в карман. — Оставляю тебя одного. Постараюсь вернуться как можно скорее и тогда скажу тебе, что нам делать дальше. Он прошел до конца галереи и, приподняв украшенную гербами портьеру, дернул шнурок звонка. Через несколько мгновений по ту сторону двери послышался голос и последовал разговор, но такой тихий, что Микеле ничего не мог разобрать. Наконец таинственная дверь приоткрылась, и Пьетранджело исчез, оставив Микеле одного во мраке, прохладе и тишине огромного сводчатого помещения. Время от времени до него доносились звонкие голоса мастеров, работавших в нижнем этаже, скрежет пилы, удары молотка, песни, хохот и брань. Но по мере того как угасал день, звуки эти затихали, и часа через два в таинственном помещении, где был заперт умиравший от голода и усталости Микеланджело, воцарилась полная тишина. Эти два часа ожидания показались бы ему бесконечными, если бы на помощь ему не явился сон. Хотя глаза юноши и привыкли к темноте галереи, он не сделал ни малейшего усилия, чтобы рассмотреть находившиеся в ней предметы искусства. Он повалился на ковер и погрузился в дремоту, временами прерываемую долетавшим снизу шумом и тем тревожным чувством, какое испытываешь, засыпая в незнакомом месте. Только когда к концу дня прекратились работы, он заснул наконец глубоким сном. Вдруг странный крик пробудил его — казалось, он доносился из круглого окошка под потолком, одного из тех, через которые в галерею проходил воздух. Микеле невольно поднял голову, и ему почудилось, будто по потолку пробежал слабый луч света и фигуры, написанные на сводах, на мгновение словно бы ожили. Второй крик, слабее первого, но до того странный, что Микеле весь задрожал, еще раз донесся сверху. Потом свет погас, вокруг вновь воцарились мрак и тишина, и Микеле невольно спрашивал себя, не было ли все это сном. Прошло еще четверть часа. Микеле, взволнованный тем, что видел и слышал, не мог больше заснуть. Он боялся, что отцу его угрожает какая-то непонятная опасность, и ужас охватывал его при мысли, что сам он заперт и ничем не может помочь ему. Он осмотрел все выходы из галереи — все они были закрыты. Вместе с тем он не смел поднять шум, ибо только что слышанный им голос был голосом женщины, и непонятно было, какое отношение этот крик или стон мог иметь к нему или к его отцу. Наконец таинственная дверь приоткрылась, и Пьетранджело появился снова, со свечой в руке; дрожавший ее свет, скользя по статуям, мимо которых он проходил, придавал им какой-то фантастический вид. — Мы спасены, — сказал он шепотом, подойдя вплотную к Микеле, — кардинал совсем впал в детство, а что до аббата Нинфо, то он ничего о нас не знает. Княжна — у нее, видишь ли, были гости, и мне пришлось долго дожидаться, — княжна полагает, что нам нечего скрывать твое возвращение; хуже будет, если мы сделаем из него тайну. Мы, значит, пойдем теперь прямо домой — сестра твоя, верно, уже тревожится, что меня так долго нет. Но нам предстоит еще сделать порядочный конец, а ты, я полагаю, умираешь от голода и жажды. Здешний дворецкий — а он очень ко мне благоволит — велел нам зайти в маленькую буфетную, где мы найдем, чем подкрепиться. Микеле последовал за отцом в небольшую комнатку с застекленной дверью, завешенной снаружи портьерой. Комната эта, ничем особо не примечательная, была ярко освещена свечами — обстоятельство, слегка удивившее Микеле. Пьетранджело, заметив это, объяснил ему, что сюда каждый вечер приходит старшая камеристка княжны присматривать за приготовлением ужина для своей госпожи. Затем он без всякого стеснения принялся открывать буфеты и доставать оттуда сласти, холодное мясо, вино, фрукты и множество всяких лакомств; он ставил их как попало на стол, смеясь каждый раз, когда ему удавалось обнаружить еще что-нибудь в глубине неистощимых шкафов. Все это крайне изумило Микеле — он не узнавал своего отца, всегда такого скромного и гордого.V. CASINO
— Ну что же ты, — сказал Пьетранджело, — не хочешь мне даже помочь? Отец прислуживает тебе, а ты сидишь себе сложа руки. Так уж по крайней мере хоть ешь и пей сам. — Простите, дорогой отец, но мне кажется, вы распоряжаетесь здесь слишком свободно. Меня это поражает. Вы словно у себя дома. — А мне здесь лучше, чем дома, — ответил Пьетранджело, принимаясь за куриное крылышко и протягивая другое сыну. — Не воображай, что я часто стану угощать тебя таким ужином. Ну, а теперь ешь, не стесняйся; я уже сказал тебе, что сам мажордом разрешил нам здесь подкрепиться. — Мажордом — только старший из слуг; он заодно с ними расточает хозяйское добро, угощая своих приятелей. Простите меня отец, все это мне претит, и я перестаю чувствовать голод при мысли, что мы воруем этот ужин у княжны, ибо эти японские тарелки, эти изысканные кушанья предназначались не для нас и даже не для господина мажордома. — Ну, если уж хочешь знать правду, княжна сама велела нам съесть ее ужин, у нее сегодня вечером что-то нет аппетита. К тому же она думала, что тебе будет не очень приятно ужинать в обществе ее слуг. — Вот на редкость добрая княжна, и какое тонкое внимание проявляет она ко мне! Мне и в самом деле не хотелось бы сидеть за столом рядом с ее лакеями. Однако, отец, если это делаете бы, если таковы обычаи дома, я не буду разборчивее вас и скоро привыкну к тому, чего требует мое новое положение. Но почему княжна решила на сегодняшний вечер избавить меня от подобной маленькой неприятности? — Да просто потому, что я все рассказал ей о тебе. Она, видишь ли, проявляет ко мне особый интерес, а потому много расспрашивала о тебе, а когда узнала, что ты художник, то заявила, что будет обращаться с тобой как с художником, и поручит тебе в своем доме роспись стен, и что ты будешь окружен здесь вниманием, какого только можно пожелать. — Вот поистине великодушная и щедрая дама. — сказал со вздохом Микеле, — но я не хочу злоупотреблять ее добротой. Я сгорю со стыда, если ко мне, художнику, будут относиться иначе, чем к моему отцу, ремесленнику. Нет, нет, я тоже ремесленник, ни больше и ни меньше. Пусть же со мной обращаются как с подобными мне, и если сегодня я ужинаю здесь, то завтра хочу обедать там, где обедает мой отец. — Правильно, Микеле, это у тебя благородные чувства! За твое здоровье! А сиракузское винцо придало мне храбрости, и кардинал кажется мне теперь не более страшным, чем какая-нибудь мумия. Но куда это ты смотришь? — Мне кажется, портьера за стеклянной дверью все время колышется. Верно, какой-нибудь любопытный лакей с досадой глядит, как мы вместо него уничтожаем такой вкусный ужин. Ах, как неприятно будет каждую минуту сталкиваться с этими людьми! С ними, конечно, придется жить в ладу, иначе они способны очернить нас в глазах своих господ и лишить честного, но не угодного им работника хорошего заработка. — Вообще говоря, ты прав, но здесь нам нечего этого опасаться. Княжна во всем мне доверяет, я всегда имею дело с ней самой, а не получаю приказания через мажордома. К тому же все ее слуги — люди честные. Ну, ешь спокойно и не смотри все время на портьеру, которую шевелит ветер. — Уверяю вас, отец, что это вовсе не ветер, разве что у Зефира прелестная белая ручка с брильянтовым кольцом на пальце. — Ну тогда это, значит, старшая камеристка княжны. Верно, она слышала, как я говорил ее госпоже, что ты красивый парень, и ей захотелось взглянуть на тебя. Пересядь вот сюда, пусть себе насмотрится вволю. — Отец, я хочу скорей повидать Милу, а не красоваться здесь перед синьорой старшей камеристкой. Вот я уже и сыт, пойдемте. — А я не уйду, пока еще раз не подкреплю свои силы глотком этого доброго винца. Это придает мне храбрости. Выпей со мной, Микеле. Я так счастлив, что ты здесь! Эх, и напился бы я допьяна, будь у нас только время! — Я тоже счастлив, отец, но стану еще счастливее, когда мы будем дома, подле сестры. Я не чувствую себя так свободно, как вы, в этом таинственном дворце. Мне все кажется, будто за мной подглядывают или кто-то меня здесь боится. Здешние тишина и безлюдье кажутся мне какими-то неестественными. Никто тут не ходит, никого не видно. Вошли мы сюда тайком, и за нами подглядывают. Будь я в другом месте, я разбил бы это стекло, чтобы посмотреть, кто там прячется за портьерой… А только что в галерее я был страшно напуган: меня разбудил чей-то крик, но такой, какого я никогда в жизни не слышал. — Крик, в самом деле? А как же я, будучи тут же, в этой же части дворца, ничего не слышал? Тебе, верно, приснилось. — Нет, нет, я слышал его два раза. Крик, правда, был слабый, но такой тревожный, такой странный… Как вспомню его, сердце начинает у меня колотиться. — Ну, это уже романтические фантазии! Узнаю тебя, Микеле, и очень рад этому, а то я начал уже бояться, не слишком ли ты стал благоразумным. Однако как мне ни грустно, но придется тебя разочаровать: должно быть, старшая камеристка ее милости, проходя по коридору, что тянется над картинной галереей, увидела мышь или паука; она всякий раз при виде этих тварей отчаянно кричит. Я даже позволяю себе иной раз посмеиваться над этой ее слабостью. Столь прозаическое объяснение несколько разочаровало молодого художника. Он поспешил увести отца, который рад был бы еще помедлить над стаканом доброго сиракузского, и спустя полчаса Микеле обнимал уже свою сестру. На следующий же день Микеланджело Лаворатори начал помогать отцу во дворце Пальмароза, намереваясь усердно работать там до конца недели. Надо было расписать временно пристроенную к фасаду и выходящую в сад огромную бальную залу, сооруженную из досок и холста. Княжна, обычно ведущая весьма замкнутый образ жизни, давала великолепный бал, на котором должны были присутствовать все богатые и знатные обитатели Катании и окрестных замков. Дело в том, что здешнее высшее общество ежегодно устраивало по подписке бал в пользу бедных, и каждый, у кого в городе или за городом было достаточно большое помещение, по очереди предоставлял его для этой цели и даже, если ему позволяли средства, брал на себя часть расходов по устройству праздника. Хотя княжна много занималась благотворительностью, но так велика была ее склонность к уединению, что до сих пор она еще ни разу не предлагала своей виллы. Наконец пришла ее очередь, и она подчинилась необходимости, проявив истинно княжескую широту, ибо взяла на себя все расходы по устройству праздника, то есть убранство залы, ужин, музыку и все прочее. Благодаря ее щедрости на долю бедных должна была остаться весьма крупная сумма, а так как дворец Пальмароза был самым красивым в том краю и прием предполагался великолепный, праздник обещал быть самым блистательным из всех, какие здесь когда-либо видели. Итак, вилла была полна рабочих; вот уже две недели трудились они над убранством бальной залы под руководством мажордома Барбагалло, человека с большим опытом в подобных делах, и под непосредственным наблюдением Пьетранджело Лаворатори, вкус и мастерство которого были признаны всеми и высоко ценились в округе. В первый день Микеле, верный своему слову и покорный своей участи, малевал гирлянды и арабески вместе с отцом и приставленными к нему подручными. Но этим испытание его и ограничилось, ибо на следующий же день Пьетранджело объявил, что княжна поручает Микеле украсить аллегорическими фигурами холсты, обтягивающие стены и потолок залы. Выбор сюжетов и размеров предоставлялся ему самому, он получал все необходимые материалы, его просили только поторопиться и верить в собственные силы. Работа эта не требовала тщательности и законченности, какие необходимы при создании настоящей, долговечной картины, но давала полную свободу воображению, и когда Микеле увидел перед собой огромные полотнища, на которых волен был щедрой рукой набросать все, что подскажет ему фантазия, его охватил бурный восторг, и более чем когда-либо он почувствовал упоительную радость при мысли о своем призвании художника. Окончательно одушевило его переданное отцом от имени княжны обещание: если росписи его будут хотя бы приемлемы, эту работу зачтут ему в счет суммы, которую ради него же взял в долг Пьетранджело; если же они заслужат похвалу знатоков, он получит за них вдвое больше. Таким образом, ему надо было только проявить свой талант, и он вновь обретал свободу и становился богатым, быть может, на целый год. Одно лишь, но очень серьезное обстоятельство страшило его и омрачало его радость: день праздника был назначен, и не во власти княжны было отсрочить его. Оставалась неделя, всего одна неделя! Для опытного живописца это было бы достаточно, ко для Микеле, который еще не пробовал своих сил в подобной работе и для которого к тому же это было делом самолюбия, срок этот казался столь малым, что при одной мысли о нем холодный пот выступал у него на лбу. К счастью для него, в детстве ему не раз приходилось работать вместе с отцом, да и потом он тысячу раз видел его за работой, так что все приемы малярного дела и правила расположения орнаментов были ему хорошо знакомы. Но когда дело дошло до выбора сюжетов для росписей, на него нахлынуло столько фантастических образов, а богатое его воображение так разыгралось, что он пережил настоящую пытку. Две ночи подряд он делал наброски, а дни проводил на лесах, пригоняя свои композиции к месту. Он не спал, не ел и даже не думал о том, чтобы поближе сойтись со своей юной сестрой, пока не решил всего окончательно. Наконец он остановился на определенном сюжете и отправился в глубину парка, где на паперти старой, полуразрушенной часовни был растянут холст длиной в сто пядей, долженствующий изображать небо. Здесь, ступая босыми ногами по своему мифологическому небосводу, Микеле воззвал к музам, моля их даровать его робкой руке нужную твердость и мастерство. Затем, вооружившись гигантской кистью, которую вполне можно было назвать метлой, он начертал контуры своего Олимпа и, полный надежд, с помощью добрых подручных, подававших ему уже готовые краски, принялся за работу с таким усердием, что за два дня до бала холсты уже можно было вешать на место. Пришлось еще распоряжаться и этой работой и поправлять некоторые, неизбежные в таких случаях повреждения. Надо было также помочь отцу, который из-за него же несколько запаздывал и теперь спешил закрепить последние бордюры, панели и карнизы. Неделя промелькнула для Микеле, как сон, и те несколько мгновений отдыха, которые он мог себе позволить, показались ему восхитительными. Дворец был великолепен как внутри, так и снаружи. Сады и парк казались настоящим земным раем. Природа этой страны так богата, цветы так прекрасны и благовонны, растительность так роскошна, воды так чисты и стремительны, что искусству не нужно больших усилий для того, чтобы окружать дворцы волшебными панорамами. Правда, то здесь, то там рядом с этим Элизиумом виднелись обломки лавы и лужайки, покрытые пеплом — печальные картины разрушения. Но эти ужасные следы придавали еще больше прелести оазисам, которые пощадил подземный огонь. Вилла Пальмароза, построенная на склоне холма и защищенная его крутым гребнем от опустошений, причиняемых Этной, уже несколько столетий стояла, не тронутая постоянно бушевавшей вокруг нее стихией. Старинный дворец очень изящной архитектуры был выдержан в мавританском стиле. Бальный зал, пристроенный теперь к нижней части фасада, составлял резкий контраст с темным цветом и строгими орнаментами верхних этажей. Внутри этот контраст был еще разительнее. Внизу все было шум и суета, наверху, в покоях княжны, царили тишина и порядок. Все было там загадочно. Микеле проникал в эту заповедную часть в часы обеда и ужина, ибо, в виде особой и необъяснимой милости, ему предоставлялась для еды и отдыха та самая небольшая буфетная с застекленной дверью, где он ужинал с отцом в первый день своего приезда. Здесь они всегда бывали одни, и если портьера и шевелилась порой, то так незаметно, что Микеле не мог бы сказать с уверенностью, в самом ли деле внушил он романтическую страсть синьоре старшей камеристке. Поскольку дворец непосредственно примыкал к скале, из покоев княжны можно было выйти прямо на террасы, украшенные цветниками и фонтанами. Можно было даже по узкой, смело высеченной в лаве лестнице сойти в парк и близлежащие окрестности. Однажды Микеле проник в эти вавилонские сады, повисшие над страшной бездной. Здесь он увидел окна будуара княжны, возвышавшегося на двести футов над главным входом; таким образом княжна могла выходить в свой сад, не спускаясь ни на одну ступеньку. То было столь дерзкое и вместе с тем восхитительное воплощение архитектурного замысла, что у Микеле закружилась голова в прямом и переносном смысле. Но королевы этих волшебных мест он не видел ни разу. В те часы, когда он поднимался наверх, она либо отдыхала, либо принимала близких друзей в гостиных третьего этажа. Этот сицилийский обычай жить в верхней части дома, наслаждаясь там тишиной и прохладой, встречается во многих городах Италии. Такого рода отдельные помещения, небольшие и спокойные, иногда называются casino; вместе со своим садом такое casino образует как бы возведенную над главным корпусом особую надстройку. Та, которую мы описываем, отступала от фасада и боковых стен дворца на ширину целой террасы и была, таким образом, скрыта от глаз и как бы изолирована. Другой своей стороной эта одноэтажная надстройка выходила прямо на цветник, ибо первые два этажа примыкали здесь непосредственно к скале. Глядя отсюда, казалось, будто поток лавы, достигнув дворца, целиком поглотил его и застыл у подножия casino. Но вся постройка задумана была таким образом для того, чтобы избежать опасности в случае нового извержения. Со стороны Этны виден был только легкий павильон, стоящий на самой вершине скалы, и нужно было обойти массы изверженных пород, чтобы обнаружить роскошный дворец; три его этажа, возвышавшиеся один над другим, казалось, карабкаются, словно пятясь, вверх по горе. В другое время Микеле, несомненно, поинтересовался бы, обладает ли дама, которую все называли красивой и доброй, достаточно поэтической душой и достойна ли она обитать в столь волшебном месте, но сейчас воображение его настолько было поглощено порученной ему увлекательной работой, что он оставался равнодушным ко всему остальному. Когда он ненадолго выпускал из рук тяжелую кисть, его охватывала ужасная усталость и ему приходилось отгонять от себя сон, чтобы отдых его не превышал получаса. Он так боялся, как бы его помощники за это время не охладели к делу, что тайком уходил на эти полчаса в картинную галерею, где отец запирал его и куда, как он думал, никто никогда не заглядывает. Два или три раза у него просто не хватило сил вернуться на ночь домой, в предместье Катании, хотя дом его был одним из первых по дороге в город, и, согласившись на уговоры отца, он ночевал в замке. Но даже когда он возвращался в свое скромное жилище, где Мила цвела, словно роза за стеклами теплицы, он ничего там не замечал и не видел. Он успевал только поцеловать сестру, сказать, как он рад ее видеть, но ему некогда было даже разглядеть ее хорошенько и поговорить с ней. Канун празднества пришелся на воскресенье. Оставалось только бросить последний взгляд на сделанные работы и навести последний глянец. Для этого в распоряжении рабочих был еще весь день понедельника. В стране столь пылкого благочестия нечего и думать о работе в воскресный день. Микеле ничто не занимало, кроме его росписей, и отцу пришлось долго уговаривать его пойти прогуляться. Наконец он согласился. Приодевшись, он проводил Милу к вечерней службе в церковь и решил пройтись по городу. Он наскоро осмотрел храмы, площади и наиболее достопримечательные здания. Отец представил его нескольким друзьям и родным, те приняли его очень радушно, и он постарался быть с ними любезным. Но отличие этой среды от окружавшей его в Риме было так велико, что ему поневоле сделалось грустно, и он рано вернулся домой, думая только о завтрашнем дне, ибо, увлеченный работой и очарованный прекрасным местом, где работал, он забывал о своем происхождении и помнил только, что он художник. Наконец наступил этот день, день, исполненный надежд и страха, когда творениям Микеле предстояло заслужить либо похвалу, либо насмешки избранного сицилийского общества.VI. ЛЕСТНИЦА
— Как, все еще не готово? — с отчаянием воскликнул мажордом, врываясь в толпу рабочих. — Боже мой, о чем же вы думаете? Сейчас пробьет семь часов, в восемь начнут съезжаться гости, а половина залы еще не убрана! Так как это замечание не относилось ни к кому лично, никто ему не ответил, и рабочие продолжали торопливо делать свое дело, каждый в меру своих сил и умения. — Дорогу, дорогу цветам! — закричал глава этой немаловажной отрасли дворцового хозяйства. — Ставьте сюда, за эти скамьи, сто кадок с камелиями. — Как же вы собираетесь ставить сюда цветы, когда еще не постланы ковры? — спросил мажордом с глубоким вздохом. — А куда же прикажете мне ставить мои кадки и вазы? — продолжал кричать главный садовник. — Почему ваши обойщики еще не кончили? — Вот именно! Почему они не кончили! — повторил мажордом с чувством глубокого возмущения. — Дорогу, дайте дорогу лестницам! — раздался новый голос. — Зала должна быть освещена к восьми часам, а мне нужно еще немало времени, чтобы зажечь все люстры. Дорогу, дорогу, прошу вас! — Господа живописцы, убирайте свои леса, — закричали в свою очередь обойщики, — мы ничего не можем делать, пока вы здесь! — Что за безобразие, что за шум, просто какое-то столпотворение вавилонское, — бормотал мажордом, утирая лоб, — уж я ли не старался, чтобы все было сделано вовремя и там, где полагается, сто раз наказывал это каждому, а вы сбились в кучу, ссоритесь из-за места, мешаете друг другу, а дело не продвигается. Безобразие, это просто возмутительно! — А кто виноват? — сказал главный садовник. — Что ж, мне развешивать гирлянды по голым стенам и ставить цветы прямо на доски? — А я, как доберусь я до люстр, — закричал главный ламповщик, — если обойщики убирают мои стремянки, чтобы стелить ковры? Вы думаете, мои рабочие — летучие мыши, или хотите, чтобы я позволил тридцати добрым парням сломать себе шею? — А как же моим ребятам стелить ковры, — спросил, в свою очередь, главный обойщик, — если маляры все еще не убрали свои леса? — Как, вы хотите убрать леса? Да ведь мы стоим на них! — крикнул один из маляров. — А все это из-за вас, господа мазилы, — в отчаянии возопил мажордом, — вернее, из-за вашего мастера, он один во всем виноват, — прибавил он, увидев, что юноша, к которому он обращался, при слове «мазилы» сердито сверкнул глазами. — Всему виной этот старый безумец Пьетранджело, а он, ручаюсь, даже не явился сюда присмотреть за вами. Ну где он? Не иначе как в ближайшем кабачке. Тут сверху, из-под купола, раздался чей-то звучный и свежий голос, напевавший старинную песенку, и раздраженный синьор Барбагалло, подняв глаза, увидел блестящую лысую голову главного мастера. Старик явно поддразнивал мажордома; будучи хозяином положения, он хотел собственноручно еще кое-то подправить в своей работе. — Пьетранджело, друг мой, — сказал мажордом, — да вы просто смеетесь над нами! Это уж слишком! Вы ведете себя как старый избалованный ребенок, кончится тем, что мы поссоримся. Сейчас не время шутить и распевать застольные песни. Пьетранджело не соблаговолил даже ответить. Он только пожал плечами и продолжал разговаривать с сыном, который, стоя еще выше, под самым куполом, старательно покрывал краской тунику плясуньи из Геркуланума, плывущей по синему полотняному небу. — Хватит фигур, хватит оттенков и всех этих складок! — закричал взбешенный управляющий. — Ну кого черт понесет на эту верхотуру разглядывать, все ли в порядке у ваших богов, еле видных под небесным сводом? Общая картина хороша, а большего и не нужно. Ну, спускайся, старый хитрец, не то я тряхну лестницу, на которую ты взгромоздился. — Если вы дотронетесь до лестницы моего отца, — громко произнес юный Микеле звонким голосом, — я сброшу на вас эту люстру, и она вас раздавит. Прекратите ваши шутки, синьор Барбагалло, не то вам придется раскаяться. — Пусть себе болтает, а ты знай делай свое дело, — спокойно промолвил старый Пьетранджело. — Спор только отнимает время, не трать же его на праздные разговоры. — Спускайтесь, отец, спускайтесь, — ответил юноша. — Боюсь, как бы в этой сумятице вас не столкнули. Я сию минуту кончу, а вы слезайте, прошу вас, если хотите, чтобы я был спокоен. Пьетранджело стал медленно спускаться — не потому, что в шестьдесят лет утратил силу и гибкость молодости, а для того, чтобы не показалось слишком долгим время, нужное его сыну для окончания работы. — Да ведь это глупо, это ребячество, — говорил, обращаясь к старому маляру, мажордом, — ради недолговечных холстов, которые завтра же будут скатаны и отправлены на чердак и на которых к следующему же празднеству придется рисовать что-то новое, вы стараетесь так, словно они предназначены для музея. Кто скажет вам за это спасибо, кто обратит на них хоть малейшее внимание? — Не вы, конечно. — презрительным тоном ответил юный художник с высоты своих лесов. — Молчи, Микеле, и делай свое дело, — сказал ему отец. — У каждого, кто за что-либо берется, есть свое самолюбие, — добавил он, взглянув на управляющего, — только некоторые довольствуются тем, что гордятся плодами чужих рук. Ну, теперь обойщики могут начинать. А ну-ка дайте и мне, ребята, молоток и гвозди! Раз я задержал вас, значит, по справедливости, должен теперь помочь вам. — Ты, как всегда хороший товарищ, — сказал один из обойщиков, подавая старому мастеру нужные инструменты. — Ну, Пьетранджело, пусть искусство и ремесло идут рука об руку. Надо быть дураком, чтобы ссориться с тобой. — Да, да, — проворчал Барбагалло, который, вопреки своей обычной сдержанности и обходительности, был в этот вечер в ужасном расположении духа. — Вот так-то всегда все ухаживают за этим старым упрямцем, а ему ничего не стоит ввести в грех своего ближнего. — Вы бы лучше, вместо того чтобы ворчать, помогли вбивать гвозди или зажигать люстры, — насмешливо сказал Пьетранджело, — хотя что я, ведь вы побоитесь запачкать свои атласные штаны или порвать манжеты! — Синьор Пьетранджело, вы позволяете себе слишком много, и клянусь, что сегодня вы работаете здесь в последний раз. — Дай-то бог, — ответил тот с обычным спокойствием, сопровождая свои слова мощными и мерными ударами молотка, быстро всаживая в стену гвозди, — да только в следующий раз вы опять придете меня упрашивать, скажете, что без меня у вас ничего не получается, и я, как всегда, прощу вам ваши дерзости. — Ну, — обратился мажордом к юному Микеле, который медленно спускался с лестницы, — ты кончил? Слава богу! Ступай скорей помогать обойщикам, или садовникам, или ламповщикам, берись за дело, чтобы наверстать упущенное время. Микеле смерил мажордома надменным взглядом. Он уже совсем забыл свое намерение стать рабочим и не понимал, как этот слуга смеет приказывать ему браться за какое-то дело, помимо порученной ему росписи; он уже собирался резко ответить ему, когда услышал голос отца: — Принеси-ка нам гвоздей, Микеле, и иди сюда, помоги товарищам: без нас им не успеть закончить работу. — Ты прав, отец, — ответил молодой человек, — я, быть может, не очень ловко справлюсь с этим делом, но холст натягивать могу, руки у меня крепкие. Ну, за что приниматься? Приказывайте, ребята. — В добрый час! — воскликнул молодой обойщик Маньяни, парень с пылкой и открытой душой, живший в предместье рядом с семействами Лаворатори, — будь таким же добрым товарищем, как твой отец; его у нас все любят, и тебя также станут любить. Мы слышали, ты учился живописи в Риме, а потому немного важничаешь; и вправду — ходишь по городу в платье, вовсе не подходящем для ремесленника. Малый ты красивый и многим нравишься, но вот, говорят, больно гордый. — А разве это плохо — быть гордым? — спросил Микеле, продолжая работать вместе с Маньяни. — Разве это кому-нибудь запрещается? — Твой чистосердечный ответ мне по душе; но кто хочет, чтобы им восхищались, должен сначала добиться того, чтобы его полюбили. — А разве меня в этом краю ненавидят? Ведь я только что прибыл, ни с кем еще не знаком. — Этот край — твоя родина. Здесь ты родился, здесь знают твою семью, уважают твоего отца, но ты для нас — человек новый, и потому мы к тебе присматриваемся. Ты красивый парень, хорошо одет, ловок, у тебя, насколько я могу судить, есть талант: фигуры там наверху, что ты нарисовал и раскрасил, это не просто мазня. Твой отец гордится тобой; но всего этого еще мало, чтобы тебе самому возгордиться. Ты еще мальчик, ты на несколько лет моложе меня, у тебя и бороды-то еще нет, и ты ничем не успел доказать свое мужество или доблесть… Вот когда ты кое-что испытаешь в жизни да научишься переносить, не жалуясь, все ее тяготы, тогда мы простим тебе, что ты задираешь голову и разгуливаешь по улицам вразвалку, заломив шляпу набекрень. А иначе скажем тебе, что ты много о себе воображаешь, и ежели ты не ремесленник, а художник, так тебе следует разъезжать в карете и не иметь с нами ничего общего. Но в конце концов твой отец такой же рабочий, как и мы все. Он тоже талантлив в своей области; может быть, рисовать на карнизах цветы, плоды и птиц труднее, чем вешать на окна занавеси и подбирать цвета для обивки. Но разница не так уж велика, и мы смело можем назвать себя свояками по работе. Я не считаю себя лучше столяра или каменщика, почему же ты хочешь считать себя лучше меня? — У меня этого и в мыслях не было, боже упаси, — ответил Микеле. — Почему же тогда ты не пришел вчера на нашу вечеринку? Твой двоюродный брат Винченцо звал тебя, я знаю, а ты отказался. — Не суди меня за это строго, друг; может быть, у меня просто дикий, нелюдимый характер. — Ну нет, этому я не поверю, на лице у тебя написано совсем иное. Прости, что я говорю с тобой так откровенно, но ты мне нравишься, потому я и делаю тебе все эти упреки. Однако этот ковер мы прибили, пойдем теперь дальше. — Становитесь по двое и по трое к каждой люстре, — закричал главный ламповщик, — а то в одиночку вы никогда не кончите! — А я-то как раз один, — завопил Висконти, толстый фонарщик, уже несколько захмелевший, отчего зажженный фитиль у него на два пальца не доставал до свечи. Микеле, помня урок, который только что получил от Маньяни, влез на скамейку и принялся помогать Висконти. — Вот это славно! — воскликнул тот. — Мастер Микеле, я вижу, добрый малый, и за то его ждет награда. Княжна платит щедро, а кроме того, ей угодно, чтобы на празднике у нее было весело всем, а потому и для нас тоже будет угощенье, — то, что останется от господ; и доброго винца тоже не пожалеют! Я уже успел пропустить стаканчик, проходя через буфетную. — То-то вы и обжигаете себе пальцы, — заметил с улыбкой Микеле. — Ну, через два-три часа и твоя рука будет не такой твердой, как сейчас, — ответил Висконти, — ведь ты, паренек, тоже сядешь ужинать с нами? Твой отец споет нам свои старые песни, и мы, как всегда, вдоволь нахохочемся! Нас будет больше ста за столом, то-то повеселимся. — Дорогу, дорогу! — закричал рослый лакей, в расшитой галуном ливрее. — Книжка идет сюда, взглянуть все ли готово. Ну, живо, да посторонитесь, не трясите так сильно ковры, вы подымаете пыль… А вы там, наверху, ламповщики, не капайте воском! Убирайте свой инструмент, освободите проход. — Ну вот, — сказал мажордом, — теперь, надеюсь, вы наконец замолчите, господа мастеровые! Поторапливайтесь! Раз уж вы запоздали, сделайте по крайней мере хоть вид, что спешите! Я не ответчик за выговор, что вас ожидает. Жаль мне вас, конечно, но только вы сами виноваты, и я не стану вас выгораживать. Ах, мастер Пьетранджело, на этот раз вам придется выклянчивать себе комплименты. Слова эти достигли слуха Микеле, и вся его гордость вновь прихлынула к сердцу. Мысль, что отец его может униженно выклянчивать комплименты и подвергаться оскорблениям, была ему невыносима. Если он до сих пор еще ни разу не видел княжны, то ведь он и не пытался ее увидеть. Он не принадлежал к числу тех, кто жадно гонится за богатым и знатным, дабы насытить свои взоры пошлым и рабским восхищением. Однако на этот раз он склонился со своей лесенки, ища глазами надменную особу, которая, как сказал синьор Барбагалло, должна была единым мановением руки и единым словом унизить умелых и старательных работников. Он остался стоять, заметно возвышаясь над толпой, чтобы лучше все видеть, но готов был в любую минуту спуститься, броситься к отцу и отвечать за него, если, в порыве благодушия, беззаботный старик позволит оскорбить себя. Громадная зала, убранство которой спешно заканчивалось, представляла собой обширную садовую террасу, до такой степени покрытую снаружи зеленью, гирляндами и флагами, что она казалась гигантской беседкой в стиле Ватто. Внутри, на усыпанный песком грунт, был временно настлан паркет. Три больших мраморных фонтана, украшенных мифологическими фигурами, служили лучшим украшением залы и оставляли достаточно места для прогулок и танцев. Фонтаны эти, окруженные цветущими кустарниками, устремляли ввысь целые снопы кристально чистой воды, искрящиесяпод ослепительным светом огромных люстр. Скамьи, расположенные наподобие античного амфитеатра между кустами цветов, оставляли много свободного пространства, предоставляя удобные сиденья тем, кто желал отдохнуть. Временно сооруженный купол был так высок, что под ним полностью умещалась главная дворцовая лестница изумительной архитектуры, украшенная античными статуями и яшмовыми вазами самого изысканного стиля. На белые мраморные ступени только что был постлан огромный красный ковер, и когда появившийся лакей оттеснил в сторону толпу рабочих, перед лестницей образовалась торжественная пустота, и невольная тишина воцарилась в ожидании величественного выхода. Рабочие, побуждаемые любопытством, у одних наивным и почтительным, у других беспечным и насмешливым, все разом воззрились на большую, увенчанную гербами дверь, обе створки которой распахнулись над верхней ступенью лестницы. Сердце Микеле забилось, но скорее от досады, чем от нетерпения. «Кто же они такие, эти богатые и знатные мира сего, — говорил он себе, — что так гордо попирают алтари и престолы, воздвигаемые нашими презренными руками? Богиня Олимпа, и та едва ли достойна была появиться вот так, на ступенях своего храма, перед ничтожными смертными, простертыми у ее ног. О, какая дерзость, какая ложь и насмешка! Женщина, которая явится здесь перед моими глазами, быть может существо ограниченное, с душой низкой, а между тем все эти сильные и смелые люди при ее появлении обнажают головы». Микеле почти не расспрашивал своего отца о вкусах и характере княжны Агаты, да и на эти немногие вопросы тот, особенно в последние дни, отвечал рассеянно, как всегда, когда его, ушедшего с головой в работу, пытались отвлечь от нее чем-либо посторонним. Но Микеле был горд, и мысль, что ему придется так или иначе встретиться с существом еще более гордым, вселяла в его сердце досаду и даже чувство, близкое к ненависти.VII. ВЗГЛЯД
Когда княжна Пальмароза появилась наверху лестницы, она показалась Микеле пятнадцатилетней девочкой, так тонка была ее талия и стройна вся фигура. Но по мере того как она спускалась, ему чудилось, будто с каждой ступенькой она становилась на год старше. И когда она очутилась внизу, он понял, что ей, должно быть, не меньше тридцати. И все же она была прекрасна, красотой не блистательной и пышной, а чистой и нежной, словно букет цикламенов, который она держала в руке. Ее можно было назвать скорее изящной и обаятельной, чем красивой, ибо в ней не чувствовалось и течи кокетства и она никогда не стремилась нравиться. Многие женщины, далеко не столь красивые, умели зажигать сердца, потому что желали этого, но поведение княжны Агаты никогда ке возбуждало никаких толков, и если в жизни ее и имелись какие-либо привязанности, светское общество ке могло сказать о них ничего достоверного. Она была очень добра и, казалось, только и занята благотворительность, но и это делала она незаметно, без показного тщеславия, а потому и не прослыла в народе «матерью бедных». В большинстве случаев те, кому она помогала оставались в неведении относительно источника выпавших на их долю благодеяний. Княжна не слишком усердно посещала церковные службы и слушала проповеди, хотя и не избегала религиозных церемоний. Она обладала большим художественным вкусом и старалась окружать себя самыми прекрасными вещами и талантливыми людьми с самыми благородными чувствами; она никогда не стремилась блистать в своем кругу и не считала себя выше других из-за знатности своего происхождения, родственных связей и богатства. Казалось, она стремится вести жизнь самую обыкновенную, и, вследствие ли внутреннего равнодушия, хорошего вкуса или природной застенчивости, все ее старания были направлены на то, чтобы оставаться незамеченной. Трудно было представить себе женщину менее притязательную. Ее уважали, ее любили, но не восторженно, ее высоко ценили, не завидуя ей. Но ценили ли ее так, как она того заслуживала? Это сказать трудно. Она не слыла особенно умной, и самые старые ее друзья утверждали, считая это высшей похвалой, что на нее можно положиться и что у нее очень хороший характер. Все это легко было понять с первого же взгляда, и юный Микеле, в то время как она с естественной грацией спускалась по лестнице, чувствовал, как вместе с опасениями рассеивается и его недоброжелательность. Нельзя было продолжать сердиться, глядя на лицо столь чистое, спокойное и нежное. Микеле, в порыве возмущения приготовившийся смело встретить негодующий взгляд ослепительной и дерзкой красавицы, невольно ощутил внутреннее облегчение, увидев обыкновенную женщину. Он уже понимал, что даже если она и собиралась выказать недовольство, у нее недостанет ни энергии, ни, быть может, ума на то, чтобы кого-то оскорбить. Гнев его утих, и он смотрел на княжну со все возрастающим чувством умиротворения, словно от нее к нему шел некий освежающий ток, словно она излучала какое-то внутреннее сияние. На ней было простое и богатое платье из тяжелой шелковой ткани молочно-белого цвета, без единого украшения. Изящная брильянтовая диадема лежала на ее темных волосах, разделенных пробором над чистым и гладким лбом. Без всякого сомнения, она могла бы надеть более роскошные драгоценности, но ее диадема была истинно художественным произведением превосходной работы, и не давила непосильной тяжестью на ее очаровательную, изящно поставленную головку. Ее полуоткрытые плечи уже утратили прелестную худощавость юности, но не обрели еще пышной полноты, свойственной женщинам третьей или четвертой молодости, фигура еще сохранила стройность, и все движения отличались бессознательной и безыскусственной, естественной гибкостью. Медленно, концом своего веера, она отстранила лакея и мажордома, стремившихся расчистить перед ней дорогу, и прошла вперед, легко и без неловкой торопливости шагая через доски к скатанные ковры, преграждавшие ей путь, и со скромной или безразличной небрежностью метя складками своего длинного белого шелкового платья пыль, принесенную башмаками рабочих. Она касалась, не обнаруживая при этом ни малейшего отвращения, а может быть, и не замечая их, покрытых потом ремесленников, не успевших вовремя посторониться. Она прошла через толпу садовников, передвигавших огромные кадки, словно не видя их и не боясь, что ее могут толкнуть или ушибить. Тем, кто кланялся ей, она отвечала поклоном без всякого оттенка превосходства или покровительства. Когда же она оказалась в самой гуще людей, среди нагромождения холстов, досок и стремянок, она спокойно остановилась, медленно обвела взглядом то, что было сделано и что еще оставалось сделать, и сказала тихим и ободряющим голосом: — Ну как, господа, успеете вы закончить вовремя? У нас осталось каких-нибудь полчаса, не больше. — Отвечаю вам за все, дорогая княжна, — ответил Пьетранджело, весело подходя к ней, — ведь вы видите, я сам ко всему прикладываю руки. — Тогда я спокойна, — ответила княжна, — надеюсь, и остальные тоже постараются. Право, было бы очень жаль, если бы такая прекрасная работа осталась незаконченной. Я очень, очень довольна. Все задумано с большим вкусом и выполнено с большим старанием. Сердечно благодарю вас, господа, за ваши труды. Этот праздник принесет вам заслуженную славу. — Надеюсь, что тут будет и доля моего сына Микеле, — продолжал старый мастер. — Разрешите, ваша милость, представить его вам. Подойди же, Микеле, дитя мое, и поцелуй руку княжны. Видишь, какая она у нас добрая. Но Микеле не сделал даже движения, чтобы приблизиться к ней. Хотя тон, которым княжна только что «разбранила» его отца, смягчил сердце юноши и завоевал его расположение, однако он не желал выказывать ей рабской покорности. Ему хорошо было известно, что у итальянцев целовать руку дамы означает или уважение друга, или раболепное подчинение. Не смея претендовать на первое, он не желал опускаться до второго; он только снял бархатную шапочку и продолжал стоять прямо, с вызывающим видом глядя на княжну. Тогда она пристально взглянула на него, и оттого ли, что в глазах ее сияли доброта и сердечность, столь непохожие на обычную ее небрежно-благосклонную манеру, или оттого, что он стал жертвой какой-то странной галлюцинации, но этот неожиданный взгляд вдруг пронизал его до глубины души. Ему показалось, будто какое-то вкрадчивое, но могучее, всесильное пламя проникает в него из-под тонких век знатной дамы, будто несказанная нежность, исходящая от этой неведомой ему души, овладевает всем существом его; будто, наконец, невозмутимая княжна Агата говорит ему на языке более красноречивом, чем все человеческие слова: «Приди ко мне в объятия, прильни к моему сердцу». Растерянный, ошеломленный, не помня себя, Микеле вздрогнул, побледнел, потом безотчетным и порывистым движением устремился вперед, схватил, трепеща, руку княжны, и в тот миг, когда подносил ее к губам, еще раз взглянул ей в глаза, думая, не обманулся ли он и не рассеется ли сейчас этот одновременно и мучительный и сладостный сон. Но в ее чистых, ясных глазах было столько неприкрытой, доверчивой любви, что он потерял голову — сознание его помутилось, и он упал, словно сраженный громом, к ногам синьоры. Когда он опомнился, княжна была уже в нескольких шагах от него. Она удалялась в сопровождении Пьетранджело; достигнув конца залы и оставшись одни, они, видимо, говорили о каких-то подробностях праздника. Микеле было совестно. Возбуждение его быстро прошло при мысли о том, какую слабость и неслыханную самонадеянность выказал он на глазах у своих сотоварищей. Между тем ласковые слова княжны всех подбодрили, и все снова с какой-то веселой яростью накинулись на работу; вокруг Микеле двигались, пели, стучали, и случившееся с ним прошло незамеченным, или, во всяком случае, никто ничего не понял. Кое-кто с улыбкой заметил, что он поклонился ниже, чем полагается, но приписал это аристократическим и галантным манерам, привезенным издалека вместе с горделивой осанкой и дорогим платьем. Другим показалось, будто он, кланяясь, споткнулся о доски, и эта неловкость заставила его растеряться. Один только Маньяни внимательно наблюдал за ним и наполовину разгадал его чувства. — Микеле, — сказал он ему немного спустя, когда они вновь очутились рядом за совместной работой, — на вид ты такой застенчивый, а на деле, оказывается, ужас до чего дерзкий. Спору нет, княжна нашла, что ты красивый парень, и соответствующим образом взглянула на тебя; со стороны всякой другой женщины это могло бы что-то значить, но не будь слишком самонадеянным, мой мальчик, наша добрая княжна — дама предобродетельная; никто никогда не слышал, чтобы у нее был любовник, а если бы она и вздумала им обзавестись, то, уж конечно, нашла бы не какого-то ничтожного живописца, когда столько блестящих синьоров… — Молчите, Маньяни, — с возмущением перебил его Микеле, — ваши шутки оскорбляют меня, я не давал вам повода к насмешкам такого рода и не потерплю их. — Ну, ну, не кипятись, — ответил молодой обойщик, — я не хотел обидеть тебя, да и было бы подлостью с такими ручищами, как у меня, затевать ссору с таким ребенком, как ты. К тому же в душе я человек добрый и, повторяю, если говорю с тобой откровенно, так это только потому, что расположен к тебе. Я чувствую, что твой ум более развит, чем мой, это мне нравится и влечет к тебе. Но я вижу также, что характер у тебя слабоватый, а воображение — бурное. Ты более умен и тонок, чем я, зато я рассудительнее и опыта у меня побольше. Не обижайся на мои слова. Приятелей среди нас у тебя еще нет, а если бы ты захотел всмотреться повнимательнее, то заметил бы, что многие тебя недолюбливают. Я здесь кое в чем мог бы тебе помочь, и если ты послушаешься моих советов, то, быть может, избежишь многих неприятностей, которых ты не предвидишь. Так как же, Микеле, принимаешь ты мою дружбу или гнушаешься ею? — Напротив, я прошу твоей дружбы, — ответил Микеле, взволнованный и покоренный искренним тоном Маньяни, — и чтобы стать достойным ее, хочу сказать тебе кое-что в свое оправдание. Я ничего не знаю, ничему не верю, ничего не думаю о княжне. Впервые в жизни я увидел так близко знатную даму… Но чему ты улыбаешься? — Ты заговорил о моей улыбке, потому что не знаешь, как закончить свою фразу. Я закончу ее вместо тебя. Тебе почудилось, будто эта дама — богиня, и ты, как безумец, влюбился. Ведь ты обожаешь все величественное! Я понял это с первого же дня, как увидел тебя. — Нет, нет! — воскликнул Микеле. — Не влюбился! Я не знаю этой женщины. А что до ее величия, то я не понимаю, в чем оно заключается. С таким же успехом можно сказать, что я влюбился в ее дворец, в ее платье или брильянты, ибо пока не вижу в ней иного превосходства, кроме прекрасного вкуса, которому мы сами немало способствовали, так же, впрочем, как ее ювелир и портниха. — Поскольку это все, что ты о ней знаешь, ты выразился неплохо, — ответил Маньяни, — но тогда объясни мне, почему ты чуть не лишился чувств, целуя ей руку? — Нет, ты сам мне это объясни, если можешь, а я не могу. Да, я знал, что знатные дамы умеют бросать взгляды более вызывающие, чем куртизанки, и вместе с тем более бесстрастные, чем монахини. Да, я заметил это, и такое сочетание вызова и высокомерия бесило меня, когда мне случалось порой, против воли, соприкоснуться с одной из них в толпе. Вот почему я ненавидел знатных дам. Но взгляд княжны… Нет, ни у кого не видел я подобного взгляда. Я не сумею сказать, что в нем было — сладострастная нега или наивная доброта, но никогда ни одна женщина не смотрела на меня так, и… что тут удивительного, Маньяни, я молод, впечатлителен, и голова у меня закружилась, вот и все. Я совсем не опьянел от гордости и тщеславия, клянусь тебе, ибо уверен, что она и на тебя посмотрела бы таким же взглядом, будь ты в ту минуту на моем месте. — Ну, это вряд ли… — задумчиво произнес Маньяни. Он уронил молоток и опустился на скамью. Казалось, он решает про себя какую-то важную задачу. — Ах, молодые люди! — сказал им Пьетранджело, проходя мимо. — Вы тут болтаете, а работа стоит; видно, одни старики умеют спешить по-настоящему. Задетый этим упреком Микеле побежал помогать отцу, шепнув своему новому другу, что они еще продолжат эту беседу. — Для тебя было бы полезнее, — вполголоса и с каким-то странным видом ответил ему Маньяни, — постараться как можно меньше думать о ней. Микеле горячо любил отца, и было за что. Пьетранджело был человек добрый, мужественный и умный. Являясь тоже на свой лад художником, он в своей работе следовал добрым старым обычаям, однако не чуждался и новшеств. Напротив, он быстро перенимал то новое, что старались объяснить ему. Обладая характером легким и веселым, он обычно был жизнерадостен, а в отдельных случаях снисходителен; он никогда никого не подозревал в дурных намерениях; когда же не мог больше великодушно обманываться на чей-либо счет, то уже не шел ни на какие уступки. Человек прямой, простой и бескорыстный, он довольствовался малым, охотно всему радовался, работу любил ради самой работы, а деньги — потому, что мог ими кому-то помочь, иначе говоря — жил, не думая о завтрашнем дне и не умея ни в чем отказать своему ближнему. Таким образом, провидение послало Микеле с его пылкой натурой именно такого наставника, какому он только и способен был подчиниться, ибо сын представлял во многих отношениях полную противоположность отцу. Это был юноша мятущийся, обидчивый, несколько эгоистичный, склонный к честолюбию, подозрительности и подверженный приступам гнева. Но вместе с тем это была прекрасная душа, ибо Микеле искренно и страстно любил все высокое и благородное и с восторгом следовал за тем, кто умел возбудить его доверие. Надо, однако, сказать, что характер его оставлял желать лучшего, живой и пытливый ум его часто терзал самого себя, а мятежная и утонченная натура порой жестоко восставала, нарушая его душевное спокойствие. Если бы грубая, тяжелая рука ремесленника, пекущегося лишь о заработке или зараженного республиканской нетерпимостью, захотела бы воздействовать на непостоянный характер и мятущуюся душу Микеле, она быстро подавила или сломала бы его тонкую натуру и довела бы юношу до отчаяния. Но беззаботный и веселый нрав Пьетранджело служил как бы противовесом или успокаивающим средством для восторженных порывов Микеле. Отец редко говорил с ним на языке холодного рассудка и никогда не противился его изменчивым прихотям. Но в самой беспечной бодрости некоторых людей таится такая побудительная сила, которая заставляет нас стыдиться наших слабостей; они действуют своим примером, своими простыми и благородными поступками сильней, чем это могли бы сделать любые слова и поучения. Таким именно образом добряк Пьетранджело, на вид как бы уступая прихотям и фантазиям Микеле, оказывал на него то единственное влияние, которому юноша до сих пор способен был подчиняться.VIII. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Увидев, что отец его работает за двоих, Микеле и на этот раз тоже устыдился своей забывчивости и бросился помогать ему. Оставалось укрепить в конце залы приставную лестницу, ведущую на галерею, чтобы создать для публики еще один вход. Уже слышно было, как катятся вдали многочисленные кареты по великолепному проспекту с пышным названием улица Этны. Проспект этот пересекает Катанию по прямой линии от берега моря до подножия горы, и жители города возвели на нем роскошные дворцы, словно для того, чтобы, как выразился один путешественник, предоставить грозному вулкану достойный его путь. В минуты высшего напряжения, когда времени не хватает, когда часы не идут, а бегут и человеческие руки в кипучей работе стремятся достичь невозможного, очень немногие бывают достаточно сильны духом, чтобы верить в победу. В такие минуты все сводится к тому, чтобы удесятерить свои способности и совершить чудо. Большинство рабочих пали духом и предложили отказаться от укрепления приставной лестницы, замаскировав вход цветами и картинами, иначе говоря — нарушить планы распорядителей праздника, преподнеся им неприятный сюрприз. Пьетранджело сумел подбодрить тех, у кого оставалась еще добрая воля, и сам взялся за дело. Микеле, не желая отставать от других, творил чудеса, и работа, на которую, как говорили, нужно было еще два часа, оказалась законченной через десять минут. — Микеле, — сказал тогда старик, отирая свою облысевшую до самого затылка голову, — я доволен тобой; вижу, что ты работник хороший; а это, на мой взгляд, необходимо всякому, кто хочет стать великим художником. Не каждый умеет спешить, и обычно те, что работают быстро, работают плохо. Но презирать их за это не следует. Любой труд требует хладнокровия, расчета, порядка, прозорливости, ума, наконец… Да, даже для того, чтобы нагрузить тележку булыжником, можно применить тысячу способов, и только один из них будет верным. Некоторые берут на лопату слишком много камней, другие — слишком мало, один подымает лопату слишком высоко и кидает груз через тележку, другой — слишком низко и сыплет все на колеса. Ты никогда не вглядывался в обыкновенные сельские работы и не размышлял над ними, не делал сравнений? Видал ты, как копают землю? И тут, как и во всем другом, на одного умелого работника приходится десятка два неумелых. И почем знать, может быть, тот, кто вскопает за четверых, не надрываясь и не тратя ни минуты лишней, — это человек выдающийся, и он прекрасно справился бы и с гораздо более сложным делом? Как ты полагаешь? А я так уверен в этом, и когда я видел, как девушки собирают в горах землянику, я всегда мог предсказать, какая лучше всех станет вести свое хозяйство и воспитает детей. Тебе кажется, я вздор говорю? Ну, отвечай же. — Я думаю, что вы правы, отец, — с улыбкой ответил Микеле. — Чтобы работать быстро и хорошо, надо обладать и трезвым умом и страстной волей, надо, чтобы в крови горела лихорадка, а голова была ясной. Надо одновременно и думать и действовать. Нет, конечно, подобное свойство дано не каждому, и грустно видеть, что среди стольких тщедушных и неспособных так мало уверенных и сильных. Увы! Мне становится страшно за самого себя, ибо, несмотря на все ваши похвалы, я редко ощущаю в себе столь высокие и благотворные порывы, и если это произошло со мной сейчас, то лишь благодаря вашему примеру. — Нет, нет, Микеле, никакой пример не поможет человеку бездарному. Он, бедняга, будет делать все, на что только способен, и это лишний повод, чтобы сильные и одаренные помогали ему. А ты разве не чувствуешь радости и не гордишься тем, что сейчас сделал? — Вы правы, отец, вы всегда видите самые честные и благородные стороны моего характера, лучше даже, чем я сам. О Пьетранджело, ты не умеешь читать, а меня научил тысяче вещей, тебе неизвестных! И, однако, это ты проливаешь свет в мою душу, и на каждом шагу я чувствую себя слепцом, которому ты открываешь глаза! — Славно сказано! — с простодушным восторгом воскликнул Пьетранджело. — Прямо хоть записывай! Получается совсем как у актеров, что говорят со сцены всякие красивые фразы. Как это ты сказал? Повтори-ка! Ты обратился ко мне на ты и назвал по имени, словно вспоминал старого друга, а не стоял тут же, рядом. Ах, до чего же люблю я красивые слова! «Пьетранджело, ты не умеешь читать…»— вот как ты начал… А потом назвал себя слепцом, которому я, мол, открываю глаза, это я-то, бедный невежда! Но сердцем я хорошо вижу все, что касается тебя, Микеле. Я хотел бы уметь писать стихи на чистом тосканском наречии, а могу только кропать вирши на родном сицилийском; нужно только, чтобы рифмы складывались на «и» или на «у», тогда что-то получается. Сложил бы я тогда чудную песню про любящего и скромного сына, который приписывает старику отцу все хорошее, что есть в нем самом. Да, песню! Нет в мире ничего лучше, чем хорошая песня! Я много их знаю, да не все мне нравятся, к каждой хотел бы прибавить что-то, чего ей не хватает. Кстати, придется мне петь сегодня за ужином. Хм! Хм! А я еще наглотался здесь пыли! Ну да ничего, в буфетной для нашего брата винца нынче будет достаточно. А ты что же, не пойдешь туда с нами? Видно, не любишь чокаться с кем попало. А может, ты и прав. Говорят, будто ты загордился, но, с другой стороны, ты ведь парень непьющий и скромный, так что и поступай как знаешь. В конце концов, что ты там ни говори и что ни делай, не быть тебе простым ремесленником, как я. Сейчас ты помогаешь мне как подручный, и это похвально, но вот погоди, расплатимся мы с нашими маленькими долгами, и ты вернешься в Рим: я хочу, чтобы ты продолжал обучаться благородному искусству, которое так любишь. — Ах, отец, каждое ваше слово терзает мне сердце! Наши маленькие долги! Да ведь это я наделал их, и не только ради своего учения, а ради пустых забав, из-за глупого, ребяческого тщеславия! Подумать только, что каждый год моего пребывания в Риме стоит всего вашего трудового заработка! — Ну и что? Для кого же мне и зарабатывать, как не для сына? — Но вы лишаете себя… — Ничего я себя не лишаю. Всюду, где работаю, я нахожу дружбу и доверие и, если не считать рюмки-другой доброго винца, этого стариковского молочка, а оно, слава богу, и не редкость и не дорого в нашем благословенном краю, так мне ничего и не надо. Ну что может быть нужно в мои годы? И о будущем мне тоже не приходится думать. Сестра твоя трудолюбива, она найдет себе хорошего мужа. А моя судьба уже не изменится до самого последнего дня. Ничему новому, такому, что могло бы мне пригодиться, я уже не научусь. К чему же мне копить деньги? Чтобы ты получил их в свои зрелые годы? Но это было бы безумием, это значило бы лишить тебя, молодого, возможности учиться и самому обеспечить свою будущность? — А меня, отец, страшит как раз ваше будущее! Старость — это утрата сил, недуги, беспомощность, бедность! А что, если все ваши жертвы окажутся напрасными? Вдруг у меня не хватит ни мужества, ни ума, ни бодрости, ни таланта? Вдруг я не сумею добиться успеха, удачно выдать замуж сестру, обеспечить вам достаток и покой на старости лет? — Полно, полно! Сомневаться в себе, когда ты полон самых лучших стремлений, значит искушать провидение. Но положим, что случится даже самое худшее, — мы все равно не пропадем. Пусть из тебя выйдет самый заурядный художник, на хлеб-то ты всегда заработаешь, а так как ты неглуп, то научишься довольствоваться теми благами, какие будут тебе по карману, как это делаю я. А я хоть и небогат, бедным себя не считаю, поскольку мои потребности никогда не превышают моих доходов. Эта философия тебе еще непонятна, ибо твои годы — это годы больших стремлений и больших надежд, а вот если ты потерпишь неудачу, тогда ты эту философию поймешь. Пока я такой неудачи еще не предвижу и потому не проповедую тебе умеренность. Но важнее всего — умение владеть собой. Тот, кому при игре в кольца везет, себя не помнит от радости. Он выигрывает и хвалит себя за то, что решился играть. А тот, кто напрасно ломал копья, возвращаясь домой, говорит себе: «Мне не повезло, больше я не играю». Но и он кое-что выиграл, ибо приобрел опыт и получил хороший урок. Однако я чувствую, что вечерний ветерок уже осушил пот на моем старом лбу; пойду, подкреплюсь в буфетной, ты же, раз тебе нечего здесь больше делать, ступай домой. — А вы, отец, когда вернетесь? — Я, Микеле, не знаю, ни когда, ни каким способом. Все зависит от того, будет ли мне за ужином весело. Ты знаешь, в общем-то я человек воздержанный и не пью больше того, что требуется, чтобы утолить жажду, но когда меня заставляют петь, смеяться и болтать, я увлекаюсь, прихожу в веселое, возвышенное настроение, уношусь за облака. Тогда уж нечего говорить мне, что пора идти спать. Но ты не беспокойся, я не свалюсь где-нибудь в углу, вино не делает из меня скотину, напротив, прибавляет ума, и как зашумит у меня в голове, так я становлюсь особенно рассудительным. К тому же завтра на рассвете придется здесь еще поработать вместе со всеми, убрать то, что мы соорудили за неделю; глотнув вина, я буду бодрее, чем если бы провел ночь в постели. — Вы должны презирать меня за то, что я не умею, как вы, черпать в вине эту сверхчеловеческую силу. — Да ты никогда даже и попробовать не хотел! — воскликнул старик, но тут же прервал себя: — И хорошо делал! В твои годы это излишнее возбуждающее. Эх, когда я был молод, один мимолетный женский взгляд придавал мне больше силы, чем нынче придал бы весь княжеский погреб. Ну, доброй ночи, мой мальчик. С этими словами Пьетранджело взошел на только что построенную им приставную деревянную лесенку — разговор происходил в саду, где старик растянулся на траве, чтобы немного передохнуть. Но Микеле остановил его и сам медлил с уходом. — Отец, — сказал он с необычайным волнением, — а вы имеете право оставаться в зале после того, как съедутся знатные гости? — А то как же, — ответил Пьетранджело, удивленный волнением юноши. — Нас выбрали по нескольку мастеров от каждого ремесла, всего человек сто самых лучших работников, следить за тем, чтобы все было в порядке. При таком большом скоплении народа может пошатнуться рама, сорваться и загореться от огней люстры холст, может произойти тысяча несчастных случаев, и на месте должно находиться достаточное число рабочих рук, готовых в любую минуту помочь беде. Быть может, нам и нечего будет делать, и тогда мы весело проведем всю ночь за столом. Но случись что — мы тут как тут. Более того — мы имеем право ходить везде, чтобы проверять, не загорелось ли где-нибудь, нет ли где беспорядка, не чадят ли гаснущие свечи, не готова ли упасть картина, люстра, ваза или что там еще. Мы всегда можем понадобиться, вот мы и ходим дозором, всяк в свою очередь, хотя бы для того, чтобы в залу не пробрались жулики. — И вам заплатят за эту лакейскую службу? — Да, заплатят, если мы захотим. Тому, кто делает это от чистого сердца, княжна поднесет небольшой подарок, а для такого старого друга, как я, у нее всегда найдутся приветливые слова и милостивое внимание. Но пусть я за это ничего не получу, я считаю своим долгом преданно служить синьоре, которую я так почитаю. Сам я, правда, еще не нуждался в ее помощи, но видел, как она помогала попавшим в беду, и знаю, что она своими руками перевязала бы мои раны, если бы увидела меня раненым. — Да, да, я все это знаю, — с мрачным видом промолвил Микеле. — Доброта, сострадание, благотворительность, подачка! — Пора, пора, синьор Пьетранджело, — сказал проходивший мимо лакей, — надо вам переодеться. Снимайте передник, вот уж гости съезжаются. Идите в гардеробную или сначала в буфетную — это уж как вам самим угодно. — Верно! — ответил Пьетранджело. — А то мы тут в слишком затрапезном виде, чтоб оставаться среди нарядной публики. Прощай, Микеле, пойду переоденусь, а ты иди спать. Микеле взглянул на свое запыленное и во многих местах испачканное платье, и к нему вернулась вся его гордость. Он медленно спустился по ступенькам в большую залу и прошел мимо начавших уже съезжаться блестящих господ. В тот момент, когда он выходил, какой-то молодой человек, как раз входивший в залу, довольно грубо толкнул его. Микеле готов был вспылить, но сдержался, увидев, что юноша не менее озабочен, чем он сам. Это был молодой человек лет двадцати пяти, небольшого роста и прелестной наружности. Правда, было что-то странное в лице его и походке, так что Микеле невольно обратил на него внимание, сам, впрочем, не понимая, что именно заинтересовало его в незнакомце. Однако, видимо, в самом деле в нем было что-то необычайное, ибо привратник, проверявший его входной билет, несколько раз перевел глаза с кусочка картона на посетителя и обратно, как бы желая лишний раз убедиться, что все в порядке. Не успел незнакомец сделать и трех шагов, как глаза других прибывающих гостей обратились к нему, словно под влиянием какого-то внезапно охватившего всех недуга, и Микеле, все еще стоявший у дверей, услышал, как одна дама сказала своему кавалеру: — Кто это? Я его не знаю. — Я тоже, — ответил ее спутник, — но что вам до этого? Неужели вы думаете, что в таком многолюдном собрании, какое ожидается здесь, вы не встретите новых лиц? — Конечно, встречу, — ответила дама, — мы увидим на этом платном балу весьма любопытное смешение лиц, и это нас немало позабавит. Для начала я и займусь нашим молодым человеком. Он как вошел, так и стал под первой же люстрой, словно не знает, куда ему двинуться дальше в этой огромной вале. Взгляните же на него, он, право, очень необычен, этот красивый мальчик. — Вас, я вижу, этот мальчик очень занимает, — сказал кавалер; в качестве любовника или мужа он знал наизусть все уловки своей сицилийской подруги, и потому, вместо того чтобы смотреть туда, куда указывала ему дама, он обернулся назад, желая убедиться, не с умыслом ли она отвлекает его внимание направо и не передает ли одновременно налево любовной записки или не обменивается ли с кем-нибудь взглядом. Но в силу добродетели или по воле случая дама в эту минуту была искренней и смотрела только на неизвестного. Микеле не уходил, хотя и не думал больше о человеке, толкнувшем его; он заметил в глубине залы белое платье и диадему из брильянтов, сверкавших, как бледные звезды, и хотя на балу было немало других дам в белых платьях и немало брильянтовых диадем, он сразу узнал княжну Агату и уже не мог отвести от нее глаз. Дама и кавалер, говорившие о молодом незнакомце, удалились, и возле Микеле послышались новые речи: — Не помню где, но я видела это лицо, — сказала одна синьора. Красивая бледная женщина, шедшая с ней под руку, воскликнула тоном, который вывел Микеле из задумчивости: — Ах, боже мой, как похож!.. — Что с вами, моя дорогая? — Ничего. Просто одно воспоминание… сходство… Но нет, это не то… — А в чем дело? — Я скажу вам потом, а сейчас взгляните вон на того приглашенного. — На того невысокого юношу? Но я, право, не знаю его. — Я тоже не знаю, но он до ужаса похож на одного человека, который… Больше Микеле ничего не расслышал, так как красавица, удаляясь, понизила голос. Кто же был этот неизвестный, который, едва войдя в залу, произвел на всех такое сильное впечатление? Микеле взглянул ему вслед и увидел, как он повернул обратно, словно желая выйти из залы. Но внезапно он остановился перед Микеле и спросил его голосом, вкрадчивым как у женщины: — Будьте добры, скажите мне, друг мой, которая из всех прекрасных дам на этом балу княжна Агата Пальмароза? — Не знаю, — ответил Микеле, движимый каким-то непонятным чувством недоверия и ревности. — Разве вы с ней не знакомы? — продолжал таинственный гость. — Нет, сударь, — сухо ответил Микеле. Незнакомец вернулся в залу и смешался с толпой, которая быстро росла. Микеле следил за ним взглядом и в манерах его обнаружил много странного. Правда, одет он был по последней моде и даже с изысканностью, граничащей с дурным вкусом, но казалось, что костюм стеснял его, словно он никогда не носил черного фрака и узких ботинок. Вместе с тем черты его и весь облик выражали гордость и благородство, не свойственные обычно горожанину, нарядившемуся в воскресное платье. Повернувшись, чтобы уйти, Микеле увидел, что стражник, стоявший с алебардой в руке у дверей, тоже смущен видом незнакомца. — Не знаю, кто это, — сказал он мажордому Барбагалло, подошедшему к нему, — у меня, правда, есть знакомый крестьянин, похожий на него, но только это не он. — Это, должно быть, прибывший вчера греческий князь, — сказал другой служитель, — или человек из его свиты. — А не то, — продолжал стражник, — кто-нибудь из египетского посольства. — Или, — добавил Барбагалло, — какой-нибудь левантинский купец. Как сменят эти люди свою одежду на европейскую, так их и узнать нельзя. Он что, купил билет при входе? Ты не должен был допускать этого. — Да нет, билет был у него в руках, и я видел, как он раскрытым подал его привратнику; тот еще сказал: «А, подпись ее светлости». Но Микеле не слышал этого разговора, он уже подходил к Катании. Он вошел в бедное свое жилище и сел на кровать; но спать ему не хотелось. Он откинул назад волосы — они жгли ему лоб — и на пол упал небольшой цветок. То был белый цикламен. Каким образом обломился он и запутался у него в волосах? По правде говоря, тут нечего было удивляться или смущаться: там, где Микеле только что работал, двигался, ходил взад и вперед, все было усыпано бесчисленным множеством самых разных цветов! Но этого Микеле не помнил. Он помнил только огромный букет белых цикламенов, который держала княжна Пальмароза в тот момент, когда он с трепетом нагнулся, чтобы поцеловать ей руку. Он поднес цветок к губам: от него исходил одуряющий запах. Микеле стиснул голову обеими руками: ему казалось, что он сходит с ума.IX. МИЛА
Смятение нашего юного художника объяснялось двумя причинами: с одной стороны, то была странная, бессмысленная ревность к княжне Агате, внезапно охватившая его подобно приступу лихорадки, с другой — досада, что благородная дама до сих пор не высказала своего мнения о его работе. Само собой разумеется, что Микеле волновали отнюдь не корыстные соображения, не желание получить большую или меньшую награду. Пока он находился во власти вдохновения, мнение синьоры его весьма мало тревожило. Ему важно было одно — только бы работа его удалась и он сам остался бы ею доволен. Потом, убедившись, что у него что-то получается, и еще не увидев своей таинственной покровительницы, он подумал: а найдутся ли в этом краю просвещенные знатоки, способные по одной пробной работе оценить его талант живописца? В сущности, до самой последней минуты он был так занят работой, что не успел еще осознать, насколько это его беспокоит. Только оставшись один, он вдруг почувствовал, как мучает его мысль, что в эту минуту там, во дворце, судят его творение, а он не может при этом присутствовать. Но что мешало ему быть там? Не низкое положение в обществе преграждало ему туда путь, а острое чувство ложного стыда, превозмочь которое он не находил в себе силы. А ведь Микеле ни как человек, ни как художник не отличался робостью. Несмотря на юные годы, он уже немало думал о своей будущности и довольно ясно представлял себе удачи и превратности ожидавшей его судьбы. Теперь, ощутив свое малодушие, он сначала удивился и пытался побороть его, но чем больше от проверял себя, тем больше убеждался в своей слабости, не желая сознаться в ее причине. Но мы откроем ее читателю. Его огорчало и страшило то, что он до сих пор не знает, как отнеслась к его работе княжна Агата. Пьетранджело сообщил ему еще утром, что накануне, в воскресенье, ее светлость приходила осматривать залу, но сам он при этом не присутствовал, а потому не знает, что она говорила. Синьор Барбагалло, находившийся из-за непомерных хлопот по устройству праздника в весьма дурном расположении духа, говорил с ним очень сухо, но о том, что княжна высказала неудовольствие или что-либо раскритиковала, не сказал ни слова. «Будь покоен, — прибавил добряк Пьетранджело со своей всегдашней уверенностью, — княжна в подобных вещах толк знает и останется довольна. Ты, без сомнения, превзошел все ее ожидания». Микеле позволил себе поддаться этой уверенности, не придавая особого значения тому, оправдается она или нет. Он подумал, что если княжна и не очень разбирается в живописи, то вокруг нее вскоре появится достаточно знатоков, чтобы подсказать ей правильное мнение. А теперь он страшился суда этих людей, потому что страшился суда княжны. Да, она обратила на него взгляд, пронизавший его до глубины души, но она ничего ему не сказала; ни одно слово похвалы или одобрения не сопровождало этого взгляда, правда, более чем благосклонного, но именно потому и загадочного. А что, если выражение ее лица обмануло его, если, устремив на него свои прекрасные, отуманенные негой глаза, она в это время думала о ком-то другом… о своем возлюбленном, быть может, ибо что бы там ни говорил Маньяни, но у нее, наверное, есть возлюбленный! При одной мысли об этом Микеле весь похолодел. Ему представилась княжна об руку с этим счастливым смертным, ради которого она, должно быть, и отказывалась от брака. Рассеянным взглядом окидывали они росписи молодого художника, словно хотели сказать: «Какое нам до всего этого дело? Для нас нет ничего прекрасного, ничто на свете не существует, кроме нас двоих». Вконец измученный этими безумными мыслями, Микеле, чтобы побороть свою слабость и успокоиться, принял блестящее решение. «Лягу спать, — сказал он себе, — и забудусь сном, высплюсь хорошенько, пока там обсуждают мои работы, горячатся, может быть спорят. Завтра утром отец придет будить меня и скажет, увенчан ли я лаврами, или освистан. Не все ли мне равно, в конце концов». Ему в самом деле это было настолько безразлично, что вместо того, чтобы раздеваться и ложиться спать, он вдруг стал одеваться, собираясь на бал. По какой-то странной рассеянности он тщательно причесал свои прекрасные волосы, которые, быть может, показались бы слишком длинными для чопорного аристократа, но великолепно оттеняли умное и одушевленное лицо Микеле. С величайшим старанием он смыл с себя все следы работы, надел самое тонкое белье и лучшее платье, и когда взглянул на себя в маленькое зеркальце, то нашел не без основания, что он не менее элегантен, чем любой другой гость, приглашенный на княжеский бал. Приготовившись, таким образом, лечь спать, он вышел из дома, но не сделал и десяти шагов, как заметил, что по странной рассеянности идет прямо ко дворцу Пальмароза. Негодуя на самого себя, он вернулся, скинул фрак, швырнул его на постель и, открыв окно, остановился в нерешительности, колеблясь между героическим намерением лечь спать и неодолимым желанием пойти на бал. Дворец сверкал перед его глазами тысячью огней, и вместе с прочими звуками этой шумной ночи до его ушей доносились звуки оркестра. Со всех сторон катились кареты. Никто не спал ни в городе, ни в его окрестностях. Было только девять часов вечера, и Микеле совсем не клонило ко сну. Он закрыл окно и решил взяться за книгу, но под руку ему попался только цветок цикламена, который прежде, в порыве досады, он бросил на стол. Он вдохнул тонкий, волнующий аромат мускуса, исходивший из бледно-розовой сердцевины этого прелестного маленького цветка, и перед ним вдруг возникли и закружились совершенно осязаемые образы: женщины, огни, цветы, брызжущие фонтаны, голубое пламя брильянтов, и рядом с этими реальными картинами появлялись, как это бывает во сне, другие, совершенно фантастические. Прекрасные античные плясуньи, написанные им под куполом, стали медленно отделяться от холста и, приподняв выше колен свои лазоревые или пурпурные туники, проскальзывали в толпу, мимоходом бросая ему сладострастные взгляды и загадочно улыбаясь. Опьяненный желанием, он устремлялся за ними, преследовал их, терял их из виду, пытался найти их снова, стараясь схватить и удержать — одну за развевающийся пояс, другую за прозрачный пеплум, но тщетно растрачивал он силы, тщетно расточал мольбы: он не мог остановить их, не мог удержать. Вдруг какая-то женщина, вся в белом, медленно прошла мимо, и к ней одной устремилось его непостоянное сердце. Она остановилась перед ним, взглянула на него каким-то застывшим взглядом, но мало-помалу глаза ее стали оживляться, и из них заструилось обжигавшее его пламя. Застыв у ее ног, он видел, как она склоняется к нему, он уже ощущал на лбу ее дыхание, но в эту минуту неистовая вереница римских куртизанок опутала его сетью разноцветных тканей и, кружась вихрем, умчала под самый купол. И вот он уже один стоит на своих лесах, перепачканный краской, в запятнанном платье, изнемогая, задыхаясь, в ужасающем одиночестве, еле освещенный неверным сумеречным светом. В холодных и пустых залах царит молчание, и от его видения остался лишь небольшой измятый цветок, чей аромат он так страстно вдыхал, что исчерпал его до конца. Эта фантасмагория совсем измучили Микеле, и он в испуге отшвырнул от себя цикламен. «Быть может, — подумал он, — в испарениях его таится что-то одуряющее, ядовитое». Однако уничтожить цветок он был не в силах. Он поставил его в стакан с водой, снова открыл окно и задумался. — Откуда эти страдания, — говорил он себе, — в чем их причина, какова цель? Неужели одного женского взгляда или отдаленного вида шумного праздника достаточно, чтобы бурное мое воображение так разыгралось? Ну что ж, если оно в самом деле так неистово, дадим ему волю. Лицезрение действительной жизни должно либо усмирить его, либо дать ему новую пищу. Я или успокоюсь, или муки мои станут иными; не все ли равно! — Что это ты разговариваешь сам с собой, Микеле? — раздался вдруг нежный голос, в то время как дверь егокомнаты приоткрылась у него за спиной. Обернувшись, он увидел свою сестренку Милу: босиком, закутанная в пидемию — темный плащ, обычную одежду местных крестьянок, она робко подошла к нему. Трудно было представить себе девушку милей, изящней и ласковей Милы; Микеле всегда нежно любил ее, однако в эту минуту появление ее несколько раздосадовало его. — Что тебе нужно здесь, крошка? — спросил он. — И почему ты не спишь? — Как это можно спать, — воскликнула она, — когда через наше предместье без конца катят кареты и дворец княжны сверкает там, вдали, словно звезда? Нет, мне все равно не уснуть. Правда, я обещала отцу, что лягу вовремя и не побегу к дворцу, чтобы вместе с другими девушками поглядеть на бал через приоткрытые двери. Вот я и легла, и хотя даже сюда долетали звуки скрипок и сердце мое невольно билось в такт музыке, я честно старалась уснуть, но тут прибежала моя подруга Ненна и стала звать меня с собой. — Как, бежать ночью к дворцу, окруженному толпой лакеев, нищих и бродяг, да еще вместе с этой взбалмошной Ненной? Нет, ты этого не сделаешь. Я не позволю тебе. — Э, синьор братец, не принимайте столь строгого отеческого тона, — ответила обиженным голосом Мила. — Неужто я так безрассудна, что способна послушаться Ненну? Я прогнала ее, и теперь она далеко, а я совсем было уж заснула, как вдруг услыхала, что вы ходите и разговариваете. Я решила, что отец вернулся вместе с вами, но, заглянув в щелку, увидела, что вы один, и тогда… — И тогда, вместо того чтобы заснуть, ты пришла сюда поболтать со мной? — По правде говоря, мне вовсе не хочется так рано ложиться спать, и отец ведь не запрещал мне слушать и наблюдать издали все, что происходит во дворце. Ах, как, должно быть, там красиво! А из твоего окна, Микеле, видно гораздо лучше, дай же мне вволю насмотреться отсюда на эти яркие, веселые огни! — Нет, дитя мое, нынче ночью ветер холодный, а ты едва одета. Я сейчас закрою окно и лягу, и ты тоже ложись. Спокойной ночи. — Говоришь, что ляжешь, а сам разоделся, для чего это, скажи-ка на милость? Нет, Микеле, ты обманываешь меня, ты идешь посмотреть на праздник, ты войдешь в залу. Ручаюсь, что ты приглашен, только не хочешь сказать мне это. — Приглашен? Нет, моя бедная сестричка, таких людей, как мы, не приглашают на подобные празднества; если мы входим туда, то как простые рабочие, а не гости. — Не все ли равно, лишь бы оказаться там! Ты, значит, войдешь в залу? Ах, как бы я хотела быть на твоем месте! — Что это у тебя за страсть все видеть собственными глазами? — Может ли быть что-нибудь радостнее, чем видеть то, что красиво, Микеле? Когда ты рисуешь прекрасное лицо, я смотрю на него даже с большим наслаждением, чем ты, который создал его. — Но если бы ты попала на бал, тебе пришлось бы спрятаться в какой-нибудь нише, иначе бы тебя увидели и заставили уйти, и ты все равно не смогла бы ни танцевать, ни показать себя. — Пусть так, я видела бы, как танцуют другие, а это уже много. — Ты еще настоящий ребенок, Мила! Ну, спокойной ночи! — Значит, ты не хочешь взять меня с собой, Микеле? — Конечно, нет, да и не могу. Тебя заставят уйти, а мне пришлось бы разбить голову тому дерзкому лакею, который посмел бы при мне оскорбить тебя. — Как, неужели там не найдется крохотного уголка, величиной с ладонь, где мне можно было бы спрятаться? Ведь я такая маленькая! Взгляни, я могла бы поместиться в твоем шкафу. Впрочем, тебе даже незачем брать меня с собой в залу, доведи меня только до дверей: отец не станет сердиться, зная, что я пришла с тобой. Микеле прочитал Миле целую проповедь на тему о ее ребяческом любопытстве и страстном, неодолимом желании насладиться зрелищем блестящего светского общества. Он забыл, что самого его мучило то же искушение и что он дождаться не мог минуты, когда окажется один, чтобы скорее поддаться ему. Только тогда Микеле сказал, что идет помогать отцу следить за убранством залы, Мила согласилась остаться дома, но тяжело при этом вздохнула. — Ну что ж, — сказала она, с трудом отрываясь от окна, — значит, нечего об этом и думать. Впрочем, я сама во всем виновата: знай я раньше, что мне так сильно захочется пойти на этот бал, я попросила бы княжну пригласить меня. — Вот ты опять начинаешь говорить глупости, а я-то думал, что ты наконец образумилась. Ну как могла бы княжна пригласить тебя, даже если бы ей пришла в голову подобная фантазия? — Конечно, могла бы, разве она не хозяйка в своем доме? — Как бы не так! Что сказали бы все эти чопорные старые вдовы, все эти знатные дуры, увидев, как среди их благородных, похожих на куклы, дочерей танцует маленькая Мила в своем бархатном корсаже и полосатой юбке? — Ну и что? Я, быть может, оказалась бы там лучше их всех, и старых и молодых. — Это еще ничего не доказывает. — Да, я знаю; но ведь княжна у себя во дворце полноправная хозяйка и, ручаюсь, пригласит меня на первый же бал, который ей вздумается дать. — Ты что же, попросишь ее об этом? — Конечно! Я знакома с ней, и она очень меня любит. Мы с ней друзья. С этими словами Мила выпрямилась и стала такой смешной и прелестной в своей напускной важности, что Микеле, рассмеявшись, поцеловал ее. — Мне нравится эта твоя уверенность, — сказал он. — К чему мне тебя разочаровывать? Ты и без того скоро утратишь иллюзии золотого детства. Но если ты так хорошо знаешь княжну, расскажи мне о ней подробней, расскажи, как это ты так близко познакомилась с ней? А я об этом и не знал. — Ага, Микеле, теперь тебя разбирает любопытство, а прежде ты обо мне и не думал! Ну, раз ты так долго меня не расспрашивал, подожди теперь, пока мне придет охота отвечать тебе. — Так, значит, у вас с княжной какие-то секреты? — Может быть! Но тебе-то какое до этого дело? — До княжны мне и вправду нет дела. У нее прекрасный дворец, я там работаю, она мне платит, ничто другое меня сейчас не интересует. Но все, что касается моей сестренки, не может быть для меня безразличным и не должно оставаться для меня тайной, не так ли? — Теперь ты льстишь мне, чтобы заставить меня говорить, так вот же и не скажу тебе ничего! Я только покажу тебе одну вещь, и глаза у тебя сделаются совсем круглые от удивления! На, смотри, что ты скажешь об этой безделушке? С этими словами Мила вынула из-за корсажа золотой медальон, усыпанный крупными брильянтами. — Они отличной воды, — сказала она, — и стоят уйму денег. Мне хватило бы их на целое приданое, если бы я вздумала продать их. Но только я ни за что не расстанусь с ними, это подарок моего лучшего друга. — И этот друг — княжна Пальмароза? — Да, Агата Пальмароза. Видишь, ее вензель вырезан на медальоне? — В самом деле. Но что же находится внутри этого драгоценной вещицы? — Волосы, чудесные, светло-каштановые, почти русые волосы, вьющиеся от природы и тонкие-претонкие. — Но это не волосы княжны, она брюнетка. — Значит, ты ее наконец увидел? — Да, недавно. Но скажи мне наконец, Мила, чьи же волосы ты носишь на сердце, да еще в столь дорогом медальоне? — Ах ты, какой любопытный! И, как все любопытные, ничего не видишь и ни о чем не догадываешься. Неужели ты не узнаешь их, не помнишь, как они ко мне попали? — По чести говоря, нет. — Так приложи их к своим, и ты все поймешь, хотя голова твоя и потемнела немного за этот год. — Ах, милая моя сестричка! Да, теперь припоминаю, что ты отрезала у меня надо лбом прядь волос в тот день, когда покинула Рим. И ты так бережно их сохранила! — Я носила их в маленьком черном мешочке. Мой друг княжна Агата спросила меня однажды, что за реликвию ношу я на груди, и я сказала, что это волосы моего единственного, горячо любимого брата; она попросила их у меня, обещая вернуть на следующий день. А назавтра отец принес мне от нее эту драгоценность с твоими волосами внутри. Правда, их стало как будто меньше — видно, ювелир, вкладывая их в медальон, украл немного или потерял… — Потерял — это возможно, — сказал, улыбаясь, Микеле, — но украл… Нет, мои волосы имеют ценность только для тебя, Мила.X. ЗАГАДКА
— Но как же возникла, скажи мне, твоя дружба с княжной? — продолжал немного погодя Микеле. — И какую услугу оказала ты ей, что она сделала тебе подобный подарок? — Никакой. Просто отец с ней в хороших отношениях и однажды взял меня с собой во дворец, чтобы представить княжне. Я ей понравилась, она обласкала меня и просила стать ее другом, и я тотчас это ей обещала. Я провела с ней наедине целый день, мы гуляли по дворцу и по саду, и с тех пор я хожу туда, когда вздумается, и знаю, что меня всегда встретят с радостью. — И часто ты там бываешь? — С того дня была там только два раза — ведь я познакомилась с княжной совсем недавно. А последнюю неделю из-за подготовки к празднику во дворце все было вверх дном, я знала это и не хотела мешать моей милой княжне, когда у нее было столько забот. Но через два или три дня я пойду к ней опять. — Так вот, значит, и вся твоя тайна? Почему же ты так долго не хотела открыть ее мне? — Да потому что княжна, прощаясь со мной, сказала: «Прошу тебя, Мила, никому не рассказывай, как чудесно мы провели этот день и как мы с тобою подружились. У меня есть причины просить тебя сохранить эту тайну. Ты узнаешь их позже, а я верю, что могу положиться на твое слово, если ты мне дашь его». Понимаешь теперь, Микеле, я не могла не пообещать ей этого. — Прекрасно, но сейчас ты, значит, нарушила свое слово? — Ничуть не нарушила. Ты ведь для меня не чужой. А княжна, конечно, не предполагала, что я буду скрывать что-либо от брата или отца. — Значит, отцу все известно? — Конечно, я сразу же все ему рассказала. — И он не удивился подобной прихоти княжны, не встревожился? — Чему же тут удивляться? Вот твое удивление, Микеле, кажется мне странным и даже немного обидным. Разве я не могу внушить чувство дружбы хотя бы и княжне? А почему отец должен был встревожиться? Разве дружба не доброе, не прекрасное чувство? — А меня, дитя мое, подобная дружба если не тревожит, то, во всяком случае, удивляет. Постарайся хоть как-нибудь объяснить мне ее. Быть может, отец оказал какую-либо большую услугу княжне Агате? — Он выполнил во дворце много прекрасных живописных работ, украсил, например, стены столовой чудесным орнаментом из листьев. — Да, я видел, но все это щедро оплачено. Должно быть, княжна благоволит к отцу за его живой характер и бескорыстие? — Да, должно быть. Разве не привязываются к отцу все те, кто хоть ненадолго с ним сходится? — Да, верно. Так, значит, эта важная дама проявляет к тебе такой интерес благодаря нашему достойному отцу? — Что ты, Микеле, ну какая она важная дама! Она просто чудная, добрая женщина. — О чем же она целый день говорила с тобой, такой юной, почти ребенком? — Она задала мне тысячу вопросов, обо мне, о нашем отце, о том, как мы жили в Риме, о твоих занятиях, о наших семейных делах, о наших вкусах. Она заставила меня рассказать, кажется, всю нашу жизнь, изо дня в день, с самого моего рождения. Я так много говорила, что к вечеру даже устала. — Она, значит, ужасно любопытна, эта знатная дама; ведь, в сущности, какое ей до нас дело? — Я об этом не думала. Да, пожалуй, ты прав, она несколько любопытна. Но так приятно отвечать на ее вопросы — она слушает с таким интересом, и притом так приветлива. Не говори мне о ней ничего дурного, иначе я рассержусь на тебя! — Ну так кончим этот разговор, и боже меня упаси заронить в твою ангельски невинную душу семена недоверия или страха. Иди же, ложись, а меня во дворце ждет отец. Завтра мы еще потолкуем об этом твоем приключении, ибо в твоей жизни это ведь настоящее чудесное приключение — такая пылкая дружба с прелестной княжной… которая сейчас думает о тебе не более, чем о паре туфель, которые были на ней вчера… Впрочем, не принимай такого обиженного вида. Может статься, что в один прекрасный день, скучая от праздности и одиночества, княжна Пальмароза снова пошлет за тобой, чтобы еще поразвлечься твоей болтовней. — Ты говоришь о том, чего не знаешь, Микеле. Княжна никогда не бывает праздной, а коли ты так о ней думаешь, я тебе вот что скажу: несмотря на всю ее доброту, говорят, что с людьми нашего звания она держится довольно холодно. Одни считают ее поэтому гордой, другие — застенчивой. А дело в том, что с рабочими и слугами она разговаривает, правда, приветливо и вежливо, но очень-очень мало! Все знают эту ее особенность, и иногда люди, работавшие у нее годами, так никогда и не слыхали звука ее голоса и едва видели ее в ее же собственном доме. Потому-то ее дружественное отношение к отцу и ко мне вовсе не показное, а самое настоящее; это настоящая дружба, и все твои насмешки не помешают мне верить ей. Доброй ночи, Микеле, сегодня ты не очень-то мне нравишься, раньше ты не был таким насмешником. Ты словно хочешь сказать, что я всего-навсего маленькая девочка и меня нельзя полюбить. — Ну, что касается меня, я совсем этого не думаю, потому что хоть ты и маленькая девочка, но я обожаю тебя! — Как вы сказали, братец? Вы меня обожаете? Ах, какое красивое слово! Поцелуйте же меня. И Мила бросилась в объятия брата. Он нежно обнял ее, и когда она опустила свою прекрасную темноволосую головку ему на плечо, поцеловал длинные косы, ниспадавшие на полуобнаженную спину молодой девушки. Вдруг он оттолкнул ее, мучительно содрогнувшись. Все жгучие мысли, час тому назад волновавшие его мозг, предстали перед ним как угрызения совести, и ему показалось, что уста его недостаточно чисты, чтобы дать прощальный поцелуй юной сестре. Но едва он остался один, как тотчас же выбежал из своей комнаты, не закрыв даже двери, и стремительно шагнул за порог старого дома. Неотступно преследуемый своими мечтами, он, по правде говоря, не заметил пройденного расстояния, и ему показалось, будто из своей мансарды он прямо перенесся к мраморному перестилю дворца. А между тем от крайних домов предместья Катании до виллы княжны было около лье. Первое лицо, попавшееся ему на глаза при входе в залу, был тот самый незнакомец, с которым он прежде столкнулся при выходе. Молодой человек медленно удалялся, вытирая лоб обшитым кружевами платочком. Заинтересованный Микеле невольно подумал, уж не переодетая ли это женщина, и решительно подошел к нему. — Ну как, сударь, — спросил он, — удалось вам увидеть княжну Агату? Погруженный в свои думы незнакомец быстро поднял голову и посмотрел на Микеле странным взглядом, полным такой подозрительности и даже ненависти, что того обдало холодом. Нет, то не был взгляд женщины, то был взгляд мужчины, и притом мужчины сильного и пылкого. Чувство враждебности не свойственно молодым сердцам, и сердце Микеле сжалось, как от неожиданной боли. Ему показалось, будто незнакомец тайком нащупывает рукою нож, спрятанный под атласным, затканным золотом жилетом, и Микеле остановился, с изумлением следя глазами за каждым его движением. — Что это значит? — произнес незнакомец вкрадчивым голосом, совершенно не соответствующим выражению гнева и угрозы, сверкнувших в его глазах. — Только что вы были рабочим, а теперь одеты как дворянин? — Дело в том, что я ни то и ни другое, — ответил с улыбкой Микеле. — Я художник, работающий здесь, во дворце. Вам этого достаточно? Мой вопрос, видимо, задел вас, но один вопрос стоит другого; вы ведь тоже обратились ко мне, не зная меня. — Вы что, намерены смеяться надо мной, сударь? — сказал незнакомец. Он говорил на чистом итальянском языке, без малейшего акцента, выдававшем бы его греческое или левантинское происхождение, в котором заподозрил его Барбагалло. — Нисколько, — ответил Микеле, — если я обратился к вам с вопросом, то без всякого злого умысла; прошу простить мне мое любопытство. — Любопытство? Почему любопытство? — произнес неизвестный, стиснув зубы и цедя слова совершенно на сицилийский манер. — Право, не знаю! — ответил Микеле. — Но к чему столько разговоров из-за случайно брошенного слова; я не имел намерения оскорбить вас. Если вы все еще недовольны, не ищите повода для ссоры, ибо я отступать не намерен. — Это вы, сударь, ищите ссоры! — воскликнул незнакомец, бросая на Микеле взгляд, еще более грозный, чем прежде. — Честное слово, сударь, вы просто сумасшедший, — сказал Микеле, пожав плечами. — Вы правы, — ответил тот, — ибо теряю время на то, что слушаю глупца! Едва незнакомец произнес это слово, как Микеле бросился к нему, намереваясь тут же дать ему пощечину. Но, опасаясь, как бы не ударить женщину — ибо он все еще сомневался, мужчина ли это, — он остановился и был очень обрадован, увидев, что загадочный гость пустился бежать и исчез с такой быстротой, что Микеле не успел даже заметить, в каком направлении он скрылся, и подумал, уж не померещилось ли ему все это. «Положительно, — сказал он себе, — сегодня вечером меня преследуют призраки». Но едва очутился он среди обычных людей, как снова обрел чувство действительности. У него спросили входной билет, и ему пришлось назвать себя. — А, это ты, Микеле, — воскликнул привратник, — а я и не признал тебя. Ты вырядился таким молодцом, прямо настоящий гость. Проходи, парень, да присматривай хорошенько за свечами. Раскрашенные тряпки, что ты развесил над нашими головами, того и гляди вспыхнут! А тебя там, кажется, очень хвалят, говорят, фигуры твои нарисованы рукой мастера. Микеле обидело это «ты»в устах лакея, обидело, что ему поручали должность пожарного, но в глубине души он польщен был тем, что слух об его успехе дошел уже до лакейской. Он скользнул в толпу, надеясь незаметно пройти и укрыться где-нибудь в уголке, откуда ему удобно было бы наблюдать и слушать, но в большой зале было столько народа, что люди давили друг друга и наступали друг другу на ноги. Невольно подчиняясь движению сплошного людского потока, Микеле позволил увлечь себя, сам не зная куда, и вскоре очутился в дальнем конце огромной залы, у подножия парадной лестницы. Только тут смог он наконец остановиться, перевести дух и насытить свои глаза, свой слух, обоняние, всю свою душу волшебным зрелищем праздника. Стоя на некотором возвышении, на украшенных цветами и осененных листвой ступенях амфитеатра, он одним взглядом мог объять и танцующих, кружившихся у фонтанов, и зрителей, теснивших и давивших друг друга, чтобы лучше видеть. О, сколько звуков, света, движения! Достаточно, чтобы ослепить и вскружить голову более крепкую, чем у Микеле. Сколько красавиц, драгоценных уборов, белоснежных плеч и роскошных локонов! Сколько грации, величавой или вызывающей, сколько веселья, притворного или искреннего, сколько неги, напускной или едва скрываемой. На мгновение Микеле почувствовал себя опьяненным, но когда общая картина начала проясняться и перед глазами его стали выступать подробности, когда он спросил себя, какая же из этих женщин могла бы служить образцом истинной красоты, он возвел свои взоры ввысь, к фигурам, написанным им под куполом, и, о гордец, остался более доволен творением своих рук, нежели творениями бога. Он мечтал о создании красоты идеальной. Он думал, что воплотил ее своей кистью. И он, видимо, обманулся, ибо невозможно создать божественно прекрасный образ, не придавая ему человеческих черт, а на земле ничто не одарено абсолютным совершенством. Микеле, еще неуверенный и неумелый художник, создавая свои персонажи, приблизился, насколько возможно, к истинной красоте. Это именно и поражало всех, кто рассматривал его картины. Это поразило и его самого, когда он начал искать в действительной жизни воплощение носившихся в его фантазии образов. В многолюдной толпе он заметил только двух или трех женщин, показавшихся ему подлинно прекрасными, да и то, пожелай он изобразить их на холсте, ему пришлось бы у одной отнять, а другой прибавить ту или иную черту, тот или иной оттенок, которых недоставало, на его взгляд, для полной чистоты или гармонии. В эту минуту он ощущал истинное беспристрастие, беспристрастие художника, анализирующего свое искусство. Он понял, что в человеческом лице недостаточное совершенство формы искупается выражением живого бытия. «Я создал более красивые лица, — говорил он себе, — но в них нет правды. Они не думают, не дышат, они не любят. Лучше бы они были менее правильны, но более одушевлены. Завтра, скатывая эти холсты, я все их порву и отныне изменю и переверну все понятия, которыми до сих пор руководствовался». Он не стал больше искать среди пляшущих перед ним красавиц идеальных черт, а принялся изучать их движения, грацию, позы, выражение взгляда или улыбки, одним словом — тайну самой жизни. Сначала он пришел в восторг, но потом, рассматривая каждую фигуру в отдельности, снова стал рассуждать беспристрастно. Должно быть, существует среди женщин и среди мужчин немало простых, непосредственных душ, но на великосветском балу вы не встретите ни одной. Там каждый принимает вид, почти всегда противоположный его внутренней природе, либо чтобы привлечь к себе взгляды, либо чтобы избежать их. Микеле казалось, что одни лицемерно скрывают свое тщеславие, другие, напротив, надменно выставляют его напоказ; эта молодая девушка, такая на вид скромница, на самом деле чрезмерно смела, а та, что хочет казаться влюбленной, холодна и пресыщена жизнью. Веселость одной казалась Микеле унылой, меланхолия другой — жеманной. Какой-то выскочка старается выглядеть дворянином, а тот знатный синьор держится как простолюдин. Каждый в той или иной мере становится в позу. Ничтожнейшие стремятся придать себе важности, и даже сама застенчивость, обычно вызывающая сочувствие, пытается побороть себя и скрыть свою угловатость, которая, вопреки всем усилиям, все равно проявляется. Микеле видел, как прошли мимо несколько знакомых ему молодых рабочих. Они честно выполняли свои обязанности и выделялись в толпе здоровым видом и живописностью праздничной одежды. Мажордом, очевидно, выбрал их из числа самых представительных, и они прекрасно знали это, ибо тоже в простоте души своей манерничали: один непрестанно поводил плечами, чтобы показать их ширину, другой подчеркивал свой высокий рост, нарочно проходя мимо самых малорослых из великих мира сего, третий приподнимал брови дугой, чтобы показать прелестным дамам свои сверкающие глаза. Микеле изумился, увидев, как преобразились эти парни в результате такой нелепой, хоть и бессознательной, рисовки, — они сразу утратили всю свою естественную и столь располагающую к ним манеру держать себя. «Я давно знал, — подумал он, — что люди, к какой бы среде они ни относились, всегда ищут себе похвалы, какой бы она ни была. Но почему эта потребность привлекать к себе взгляды отнимает у нас сразу и наше обаяние и наше человеческое достоинство? Потому ли, что желание это неумеренно или цель эта презренна? Неужели же для того, чтобы сиять во всем блеске, красота должна быть неосознанной? Или я один одарен столь мучительной проницательностью? Где тот восторг и наслаждение, которые я мечтал здесь найти? Вместо того чтобы поддаться общему веселью, я хладнокровно анализирую все, что поражает мой взор, тем самым лишая себя возможности наслаждаться окружающим». Занятый всеми этими наблюдениями и сравнениями, Микеле совершенно забыл о главной цели своего прихода на бал. Наконец он вспомнил, что хотел прежде всего спокойно разглядеть одну особу, и уже собрался было подняться по главной лестнице, чтобы войти в ярко освещенный и открытый для всех дворец, когда, повернувшись, заметил в двух шагах от себя грот, который не успел еще как следует рассмотреть. Этот грот из камней и ракушек был устроен в довольно большом углублении под ступенями главной лестницы. Микеле собственноручно украсил его раковинами, ветками коралла и причудливыми растениями; в глубине этого прохладного убежища мраморная наяда наклоняла свою урну над огромной раковиной, до краев наполняя ее прозрачной бегущей водой. Вкус, проявляемый Микеле во всем, что ему поручалось, побудил мажордома многое в убранстве залы предоставить на усмотрение молодого художника; Микеле эта наяда показалась очаровательной, а потому он с истинным наслаждением убрал ее грот самыми красивыми вазами, гирляндами самых свежих цветов и самыми роскошными коврами. Он потратил целый час, окружая огромную, отливавшую перламутром раковину, бордюром из мха, мягкого и нежного как бархат; он выбрал и с большим вкусом очень естественно расположил вокруг нее ирисы, водяные лилии и длинные, похожие на ленты травы, столь подходящие к волнообразному движению бегущей воды. Грот был озарен бледным светом, источник которого скрывался в зелени, и так как вся публика занята была танцами, вход в него оставался свободным. Микеле быстро проскользнул внутрь, но не успел сделать и трех шагов, как заметил в глубине женскую фигуру, сидевшую, или, вернее, полулежавшую, у подножия статуи. Он поспешно спрятался за выступ скалы и хотел уже удалиться, но непреодолимая сила удержала его на месте.XI. ГРОТ НАЯДЫ
Княжна Агата сидела на низком диване, и ее стройная аристократическая фигура вырисовывалась на темном бархатном фоне, словно бледная тень, озаренная лунным сиянием. Она видка была Микеле в профиль. Скрытый позади нее и спрятанный в зелени источник света с изумительной четкостью обрисовывал ее стан, тонкий и гибкий, словно у юной девушки. Длинное, свободное белое платье отливало при этом мягком освещении всеми оттенками опала, а брильянты диадемы сверкали попеременно то сапфировыми, то изумрудными огнями. На этот раз Микеле окончательно потерял полученное им ранее представление о ее возрасте. Теперь она казалась ему почти девочкой, и когда он вспомнил, что считал ее тридцатилетней, то не мог понять, небесное ли сияние преображало ее столь чудесным образом, или отблеск адского пламени, которым она, как волшебница, окружала себя, чтобы обмануть человеческие чувства. Княжна выглядела усталой и озабоченной, хотя поза ее была спокойной, а лицо — ясным. Она вдыхала аромат своих цикламенов и небрежно играла веером. Микеле долго смотрел на нее, прежде чем услыхал, что она с кем-то разговаривает, и понял смысл ее слов. Она казалась ему прекрасной, намного прекраснее всех красавиц, которых он только что с таким вниманием разглядывал, и он не мог понять, почему именно она внушает ему столь чистое, столь глубокое восхищение. Он тщетно пытался разобрать в подробностях ее черты и объяснить себе ее очарование — он не в силах был этого сделать. Ее словно окружали какие-то таинственные чары, запрещавшие рассматривать ее как обыкновенную женщину. Порой, думая, что он уловил наконец ее черты, Микеле закрывал глаза и пытался мысленно воссоздать ее образ, нарисовать ее в своем воображении огненными штрихами на том черном фоне, который возникал перед ним, когда он опускал веки. Но он ничего не видел, кроме расплывчатых, неясных линий, и не мог представить себе никакого отчетливого образа. Тогда он снова спешил открыть глаза и созерцал ее с тревогой, с восторгом, но больше всего — с изумлением. Ибо было в ней нечто необъяснимое. Она держалась очень просто и, единственная изо всех женщин, которых Микеле только что видел, казалось, не думала о себе, не заботилась о том, чтобы произвести впечатление или играть какую-то роль. Она не знала, или не хотела знать, что о ней подумают, что, глядя на нее, почувствуют. Она была так спокойна, словно душа ее отказалась от всего земного, и так естественна, как бывают в полном одиночестве. А вместе с тем одета она была как королева, она давала бал, выставляла напоказ всю роскошь своего дворца и вела себя совершенно так же, как любая другая высокопоставленная особа и светская женщина. Откуда же тогда этот вид мадонны, эта внутренняя сосредоточенность, эта душа, воспарившая над земной суетой? Для пытливого воображения молодого художника она являла собой живую загадку. Но его смущало нечто другое, еще более странное: ему казалось, будто в этот день он видел ее не впервые. Где же он мог встречать ее раньше? Тщетно перебирал он свои воспоминания. Когда он прибыл в Катанию, даже имя княжны было ему незнакомо. Особа столь знатного рода, знаменитая своим богатством и красотой и славная своей добродетелью, не могла посетить Рим, оставаясь неизвестной. Микеле напрягал всю свою память, но не в силах был припомнить ни одного случая, когда он мог бы с ней встретиться; более того — глядя на нее, он чувствовал, что это была не мимолетная встреча, что он знает ее близко и давно, с тех самых пор, как живет на свете. После долгих поисков он нашел для себя наконец довольно туманное объяснение: она, очевидно, олицетворяет тот тип истинной красоты, который он всю жизнь искал, но не мог уловить и воспроизвести. За неимением лучшего ему пришлось удовольствоваться этой поэтической банальностью. Но княжна была не одна, она с кем-то разговаривала, и Микеле вскоре разглядел, что вместе с ней в гроте находится мужчина. Микеле следовало бы тотчас уйти, но сделать это было довольно трудно. Для того чтобы свет из бальной залы не проникал в грот и в нем царил таинственный полумрак, вход был задрапирован большой синей бархатной портьерой; наш любознательный герой по воле случая проскользнул внутрь, лишь слегка отстранив ее, так что лица, беседующие в гроте, не обратили на это внимания. Вход был вдвое уже самого грота и составлял нечто вроде преддверья, стены которого были сложены не из искусственного камня, как это сделали бы у нас, при нашем подражании рококо, а из обломков настоящей лавы, остеклевших и отливающих самыми различными оттенками; эти причудливые и ценные осколки были собраны в кратере вулкана и вделаны, словно драгоценности, в каменную кладку. Созданный таким образом сверкающий выступ совершенно скрывал Микеле, а вместе с тем позволял ему все видеть сквозь оставленные в скале просветы. Но чтобы выйти из грота, ему пришлось бы еще раз коснуться портьеры, и трудно было ожидать, что на этот раз княжна и ее собеседник окажутся настолько рассеянными, что он снова останется незамеченным. Микеле сообразил это слишком поздно и уже не мог исправить своей оплошности. Выйти так же просто, как он вошел, было нельзя. Кроме того, его приковали к месту любопытство и жгучая тревога: ведь мужчина, сидевший здесь, и был, очевидно, любовником княжны Агаты. Это был человек лет тридцати пяти, высокого роста, с серьезным и мягким выражением на редкость красивого и правильного лица. В том, как он держал себя, сидя напротив княжны на расстоянии, обличавшем нечто среднее между почтительностью и интимностью, нельзя было заметить ничего предосудительного. Но когда Микеле настолько овладел собой, что смог понимать слова, долетавшие до его ушей, его сразу же насторожила произнесенная княжной фраза, в которой ему послышался явный намек на существующую между ними взаимную привязанность: — Слава богу, — сказала она, — что никому еще не пришло в голову приподнять эту завесу и открыть наш прелестный уголок. Хотя я могла бы щегольнуть им перед своими гостями, приведя их сюда, ибо сегодня он восхитительно убран, но мне приятнее провести этот вечер здесь в одиночестве или с вами, маркиз, а бал, шум и танцы пусть идут себе своим чередом там, за портьерой. Маркиз ответил тоном человека, не очень-то гордящегося своими победами: — Вам следовало бы совсем закрыть этот грот, сделать здесь дверь, ключ от которой вы хранили бы у себя. Это была бы ваша собственная гостиная, где вы могли бы время от времени отдыхать от духоты, ярких огней и любезностей. Вы не привыкли к светскому обществу и слишком понадеялись на свои силы. Завтра вы будете чувствовать себя совершенно разбитой. — Я и сейчас уже изнемогаю, но не гости и шум тому виною, а страшное волнение. — Я понимаю вас, дорогой друг, — сказал маркиз, по-братски пожимая руку княжны, — но постарайтесь овладеть собой хотя бы на несколько часов, чтобы никто ничего не заметил. Вы ведь не сможете избежать взглядов гостей, а кроме этого грота, во всем дворце вы не оставили ни одного уголка, где могли бы укрыться, не пройдя сначала сквозь толпу с ее раболепными приветствиями, любопытствующими взорами… — И банальными фразами, заранее вызывающими во мне отвращение, — отвечала княжна, стараясь улыбнуться. — Как можно любить светскую жизнь, маркиз? Можете вы это понять? — Могу. Ее любят люди, довольные собой и полагающие, что им выгодно показывать себя. — А знаете, отзвуки бала прекрасны вот так, издали, когда его не видишь и тебя тоже никто не видит. Эти голоса, эта долетающая до нас музыка и сознание, что там веселятся или скучают, а нас это и не касается… В этом есть какая-то прелесть, что-то даже поэтическое. — Однако сегодня все говорят, что вы решили вернуться в свет; что этот роскошный бал, дать который побудила вас любовь к добрым делам, должен вызвать у вас желание и в дальнейшем устраивать подобные празднества или посещать их. Словом, ходят слухи, будто вы собираетесь изменить своим привычкам и снова появиться в обществе, подобно звезде, которая слишком долго оставалась скрытой. — Почему же говорят такие странные вещи? — О, чтобы ответить вам, я должен был бы повторить все хвалебные речи, которых вы сами не захотели слушать; а я не имею привычки говорить вам даже правду, если она похожа на пошлость. — В этом я отдаю вам должное, но сегодня вечером дарю вам право повторить мне все, что вы слышали. — Ну так вот. Говорят, что вы до сих пор прекраснее всех женщин, прилагающих столько усилий, чтобы казаться прекрасными, что вы затмеваете самых блестящих и обольстительных из них своей совершенно особенной, свойственной вам одной прелестью и благородной простотой, привлекающей все сердца. Начинают удивляться, почему Вы живете такой отшельницей и… должен ли я… смею ли я говорить все? — Да, решительно все. Говорят также (я слышал это собственными ушами, толкаясь в толпе, когда никто и не полагал, что я нахожусь так близко): «Почему она не выходит замуж за маркиза Ла-Серра? Что за странная причуда?» — Продолжайте, маркиз, продолжайте, не бойтесь: это считают, конечно, тем более странной причудой, что маркиз Ла-Серра — мой любовник? — Нет, сударыня, этого не говорят, — ответил маркиз рыцарским тоном, — и не посмеют говорить до тех пор, пока у меня есть язык, чтобы отрицать это, и рука, чтобы защищать вашу честь. — Верный, чудесный друг, — сказала княжна, протягивая ему руку, — но вы ко всему относитесь слишком серьезно. Ведь все говорят и думают, я в этом не сомневаюсь, что мы любим друг друга. — Могут говорить и думать, что я люблю вас, так как это правда, а правда всегда обнаруживается. Поэтому все знают, что вы меня не любите. — Благородное сердце! Нет, не сейчас… Завтра я скажу вам больше, чем когда-либо говорила. Я все вам открою. Сейчас не место и не время. Я должна вновь появиться на балу, где, наверное, уже удивляются моему отсутствию. — Вы достаточно отдохнули, достаточно успокоились? — Да, теперь я в состоянии вновь надеть личину равнодушия. — Ах, с какой легкостью вы ее надеваете, страшная, жестокая женщина! — воскликнул маркиз, вставая и порывисто прижимая к своей груди руку, которую княжна подала ему, чтобы выйти из грота. — Сердце ваше так же бесстрастно, как и лицо. — Не говорите так, маркиз, — произнесла княжна, останавливая его и обращая к нему сияющий взор, который заставил задрожать Микеле. — В столь торжественную для меня минуту жизни это с вашей стороны жестоко, но вы не в состоянии еще этого понять. Завтра, впервые за двенадцать лет, что мы с вами разговариваем, не понимая друг друга, вы меня наконец поймете. А теперь, — прибавила она, тряхнув своей прелестной головкой, словно желая отогнать серьезные мысли, — пойдемте танцевать. Но сначала скажем прости нашей наяде, столь мило освещенной, и нашему чудесному гроту, который скоро осквернит толпа бездушных гостей. — Это, должно быть, старый Пьетранджело убрал его так красиво? — спросил маркиз, взглянув на наяду. — Нет, — ответила княжна Агата, — не Пьетранджело, а он! — И, устремившись, словно в порыве отчаянной решимости, в самую гущу бала, она быстро отдернула занавес и откинула его на Микеле, так что, когда она проходила мимо, он, по счастливой случайности, оказался совершенно закрытым. Едва рассеялся страх, вызванный неловким положением, в которое он попал, как он ринулся в грот и, убедившись, что там никого нет, бросился на диван рядом с тем местом, где только что сидела княжна Агата. То, что ему удалось услышать, чрезвычайно взволновало его, но каковы бы ни были его прежние соображения, все они были теперь уничтожены последними словами этой удивительной женщины. Скромному и простодушному юноше слова ее показались загадкой: Нет, это не Пьетранджело, а он! Что за таинственный ответ! Или просто рассеянность? Но Микеле не верил, чтобы это была рассеянность. Он относилось явно не к Пьетранджело, а к нему лично. Значит, для княжны Микеле есть тот самый он, которого не надо даже называть по имени, и именно так, коротко и решительно, называла она его, говоря с человеком, который ее любил. Значит, эта необъяснимая фраза и все предыдущие недомолвки — признание княжны, что она не любит маркиза, упоминание о какой-то торжественной минуте в ее жизни, страшное волнение, которое, по ее словам, ей пришлось испытать в тот вечер, важная тайна, которую она собиралась открыть завтра, — все это имеет отношение к нему, к Микеле? Вспоминая упоительный взгляд, каким она одарила его, когда увидела впервые перед балом, он не мог не предаваться самым безумным фантазиям. Правда, во время разговора с маркизом ее мечтательные глаза тоже на миг зажглись удивительным блеском, но в них было совсем не то выражение, с каким она заглянула в глубину глаз Микеле. Один взгляд стоил другого, но он предпочитал тот, что предназначался ему. Кто мог бы пересказать все те невероятные романтические истории, которые за четверть часа сумел изобрести мозг самонадеянного юноши? В основе их лежало всегда одно и то же: необыкновенная гениальность молодого человека, неведомая ему самому и внезапно проявившаяся в его блестящих и величественных росписях. Прекрасная княжна, для которой они выполнялись, много раз в течение недели тайком приходила любоваться, как подвигается его искусная работа, а в те часы, когда он отдыхал и подкреплял свои силы в таинственных залах волшебного дворца, она, как невидимая фея, наблюдала за ним из-за занавески или через круглое окошечко под потолком. То ли она воспылала любовью к нему, то ли прониклась восхищением его талантом, во всяком случае — она чувствовала к нему большое влечение, и чувство это оказалось настолько сильным, что она не смела выразить его словами. Взгляд ее высказал ему все против ее собственной воли; а он, дрожащий, потрясенный, как даст он теперь ей знать, что все понял? Вот о чем думал он, когда перед ним неожиданно появился поклонник княжны, маркиз Ла-Серра. Микеле держал в руках и рассматривал, не видя его, веер, забытый княжной на диване. — Простите, милый юноша, — сказал маркиз, кланяясь ему с изысканной вежливостью, — я вынужден забрать у вас эту вещицу, ее спрашивает дама. Но если вас интересует китайская роспись на этом веере, то я готов предоставить в ваше распоряжение целую коллекцию весьма любопытных китайских ваз и рисунков, чтобы вы могли выбрать себе все, что вам понравится. — Вы слишком добры, господин маркиз, — ответил Микеле, задетый снисходительным тоном маркиза, в котором ему почудилось надменное покровительство, — этот веер меня вовсе не интересует, и китайская живопись не в моем вкусе. Маркиз прекрасно заметил досаду Микеле и, улыбнувшись, продолжал: — Это, должно быть, потому, что вам приходилось видеть только грубые изделия китайцев, но у них есть цветные рисунки, которые, несмотря на всю примитивность исполнения, достойны, благодаря четкости линий и наивной прелести жестов, выдержать сравнение с этрусскими. Мне хотелось бы показать вам те, которые у меня имеются. Я рад был бы доставить вам это маленькое удовольствие и все-таки остался бы перед вами в долгу, поскольку ваша живопись доставила мне удовольствие намного большее. Маркиз говорил так сердечно, и на его благородном лице отражалась такая явная доброжелательность, что Микеле, затронутый за живое, не выдержал и наивно высказал ему свои чувства. — Боюсь, — сказал он, — что ваша светлость желает подбодрить меня и потому проявляет ко мне больше снисхождения, чем я заслуживаю, ибо я не допускаю мысли, что вы способны унизиться до насмешки над молодым художником, едва начавшим свой трудовой путь. — Боже меня сохрани, мой юный мэтр! — ответил господин Ла-Серра, с неотразимой чистосердечностью протягивая Микеле руку. — Я так хорошо знаю и уважаю вашего отца, что заранее был расположен в вашу пользу, в этом я должен сознаться, но совершенно искренно могу подтвердить, что ваши произведения обнаруживают сноровку и предвещают талант. Видите, я совсем не захваливаю вас, вы делаете еще немало ошибок, как по неопытности, так и, быть может, вследствие чересчур пылкого воображения, но у вас есть вкус и оригинальность, и то и другое нельзя ни приобрести, ни утратить. Трудитесь, трудитесь, наш юный Микеланджело, и вы оправдаете прекрасное имя, которое носите. — А другие разделяют ваше мнение, господин маркиз? — спросил Микеле, страстно желая при этом услышать имя княжны. — Мое мнение, я думаю, разделяют все. Ваши недостатки критикуют снисходительно, ваши достоинства хвалят искренно; никто не удивляется вашим блестящим способностям, узнав, что вы уроженец Катавии и сын Пьетранджело Лаворатори, прекрасного работника, энергичного и сердечного человека. Мы все здесь добрые патриоты, всегда радуемся успеху земляка и великодушно готовы во всем помогать ему. Мы так ценим всех, кто родился на нашей земле, что не хотим больше знать никаких сословных различий; дворяне ли мы, земледельцы, рабочие или художники, мы забыли наши прежние родовые пережитки и дружно стремимся к народному единению. «Вот как, — подумал Микеле, — маркиз заговорил со мной о политике! Но я не знаю его убеждений. Быть может, если он догадался о чувствах княжны, он будет стараться погубить меня. Лучше не доверить ему». — Смею ли я спросить у вашей светлости, — продолжал он, — удостоила ли княжна Пальмароза взглянуть на мои картины и не очень ли она недовольна ими? — Княжна в восторге, можете не сомневаться, дорогой мэтр, — с большой сердечностью ответил маркиз, — и знай она, что вы здесь, сама сказала бы вам это. Но она слишкомзанята сейчас, чтобы вы могли подойти к ней с вопросом. Завтра вы, несомненно, услышите от нее похвалы, которых заслуживаете, и ничего не потеряете от такой небольшой отсрочки… Кстати, — прибавил, оборачиваясь к Микеле, маркиз, уже готовый уйти, — не хотите ли все же посмотреть мои китайские рисунки и другие картины? Они не лишены кое-каких достоинств. Я буду рад видеть вас у себя. Мой загородный дом в двух шагах отсюда. Микеле поклонился в знак благодарности и согласия, но хотя любезность маркиза должна была бы польстить ему, он почувствовал себя грустным и даже подавленным. Да, маркиз явно не ревновал к нему. Он не проявлял даже ни малейшей тревоги.XII. МАНЬЯНИ
Нет ничего мучительней, чем, поверив хотя бы на один час упоительной, романтической сказке, потом постепенно убеждаться, что все это — пустые фантазии. Чем дольше размышлял наш юный герой, тем более остывал его мозг, и он возвращался к печальному сознанию действительности. На чем построил он свои воздушные замки? На взгляде, видимо ложно понятом, на слове, должно быть плохо расслышанном. Все доводы рассудка, явно опровергавшие его вздорные предположения, встали перед ним непреодолимой стеной, и он почувствовал, что с неба упал на землю. «Я просто безумец, — сказал он себе наконец, — что так много раздумываю о загадочном взгляде и непонятных словах женщины, которую я не знаю, а следовательно, не люблю, в то время как решается дело, куда более для меня важное. Пойду, послушаю, не обманул ли меня маркиз и в самом ли деле любители живописи считают, что у меня есть талант, но не хватает умения?» «И все же, — говорил он себе, выходя из грота, — тут кроется какая-то тайна. Откуда этот маркиз знает меня, если я его ни разу не видел? Почему он обратился ко мне так уверенно, назвав просто по имени, словно мы с ним давнишние приятели?» «Правда, — говорил себе также Микеле, — он мог видеть меня из окна, или в церкви, или на главной площади в тот день, когда я прогуливался с отцом по городу. Или, в то время, как я осматривал висячие сады Семирамиды здешних мест, у которой работаю, он мог находиться в одном из ее будуаров — куда ему, конечно, дозволено являться, чтобы безнадежно вздыхать о ее загадочных глазах, а окна этих будуаров, якобы всегда плотно запертых, выходят в сад». Микеле прошел через толпу гостей незамеченным. Хотя имя его было у всех на устах, но в лицо его никто не знал, и потому при нем свободно судили о его работе. — Из него выйдет толк, — говорили одни. — Ему многому еще надо научиться, — изрекали другие. — У него есть фантазия и вкус, эти росписи ласкают глаз и оживляют мысль. — Да, но вот непомерно длинные руки, а там ноги коротки; некоторые ракурсы обнаруживают его полное невежество, а позы неправдоподобны. — Верно, но во всем есть изящество. Поверьте, этот мальчик (говорят, он почти ребенок) далеко пойдет. — Он уроженец нашей Катании. — Ну так он повертится в ней, а дальше ему хода не будет, — заметил один неаполитанец. В общем, Микеланджело Лаворатори услышал больше благосклонных похвал, чем горьких истин, но, срывая множество роз, он то и дело чувствовал уколы шипов и понял, что успех — это сладкое блюдо, в котором таится немалая толика горечи. Сначала он огорчился. Потом, скрестив на груди руки, вглядываясь в свою работу и не слушая больше, что говорят кругом, он принялся сам разбирать свои достоинства и недостатки с беспристрастием, победившим его самолюбие. «Все они правы, — думал он, — мои росписи многое обещают, но ничего не доказывают. Я уже раньше решил, что завтра, убирая эти холсты на дворцовый чердак, я все их прорву и впредь буду работать лучше. Я произвел опыт сам над собой и не жалею о нем, хотя и не очень им доволен. Но я сумею использовать его; не знаю, принесет ли он пользу моему кошельку, но таланту моему он будет полезен». Вновь обретя наконец всю ясность мысли, Микеле решил, что поскольку он не принадлежит к тем, кто уплатил при входе налог в пользу бедных, нечего ему далее любоваться балом, а лучше побыть одному в каком-нибудь тихом уголке дворца, пока он окончательно не успокоится и не будет в состоянии идти домой спать. Рассудок вернулся к нему, но усталость предшествующих дней оставила в его крови и нервах еще некоторое лихорадочное волнение. Он решил подняться наверх, в casino, откуда был выход в сад, на созданные самой природой горные террасы. Весь дворец был ярко освещен, украшен цветами и открыт для публики. Но, обойдя один раз чудесное здание, толпа приглашенных покинула его. Самое увлекательное — танцы, молодость, музыка, шум, любовь, — все это сосредоточилось внизу, в огромной временно сооруженной зале. На верхних галереях, на роскошных лестницах и в богатых покоях оставалось только несколько либо очень значительных, либо малозаметных лиц: серьезные мужи, занятые государственными делами, да записные кокетки, которые, искусно ведя беседу, сумели привлечь и удержать возле своих кресел кое-кого из мужчин. К полуночи все, кто не находил особого удовольствия или личного интереса в празднике, разъехались, всюду сделалось просторнее, бал стал выглядеть еще красивее, а убранство залы — еще изящнее. По узкой потайной лестнице Микеле поднялся в висячий цветник княжны. Здесь, наверху, дул свежий ветер, и юноша с наслаждением опустился на последнюю ступеньку, возле благоухающей клумбы. В цветнике никого не было. Сквозь серебристые газовые занавески видны были покои княжны, тоже пустынные. Но Микеле недолго оставался один; вскоре к нему присоединился Маньяни. Среди местных ремесленников Маньяни был, несомненно, одним из самых достойных. Он был трудолюбив, умен, отважен и безупречно честен. Микеле чувствовал к нему невольное влечение, с ним одним не испытывал он того стеснения и недоверчивости, какие внушали ему другие рабочие, с которыми, из-за положения своего отца, он вынужден был держаться на равной ноге. Бедный юноша страдал от того, что после нескольких лет привольной жизни снова очутился в обществе парней, немного грубоватых и крикливых; они ставили ему в вину презрительное отношение к ним, а он делал тщетные усилия, чтобы относиться к ним как к равным. Обо всем этом он поведал теперь Маньяни, ибо тот казался ему самым развитым из всех и в его дружеской откровенности не было ничего обидного или унижающего. Микеле открыл ему свои честолюбивые стремления, все свои слабости, восторги и муки, словом — поверил ему тайны юного сердца. Маньяни понял его, не стал ни в чем упрекать и заговорил с ним серьезно. — Видишь ли, Микеле, — сказал он, — на мой взгляд, ты ни в чем не виноват. Неравенство — еще и поныне главный закон нашего общества; каждый хочет подняться, и никому неохота опускаться. Не будь этого, народ оставался бы вьючной скотиной. Но, слава богу, народ хочет расти, и он растет, как ни стараются помешать ему. Сам я тоже пытаюсь достигнуть кое-чего, иметь что-то свое, не всегда оставаться подчиненным, стать, наконец, свободным! Но какого бы благоденствия я ни достиг, я считаю, что никогда не должен забывать, с чего начал. Несправедливая судьба оставляет в нищете многих, которые, как я, а может, и больше, чем я, достойны были бы выбиться из бедности. Вот почему я никогда не стану относиться с презрением к тем, кому это не удалось, не перестану всей душой любить их и помогать им, насколько это будет в моей власти. Вот и ты, я вижу, хоть и сторонишься своих собратьев по сословию, но у тебя нет к ним ни презрения, ни ненависти. Тебя тяготит их общество, однако при случае ты всегда готов оказать им услугу. Но берегись! В твоем отношении к ним есть некоторая доля высокомерия! Со временем такое дружелюбное снисхождение, может быть, и будет оправдано, но сейчас, пойми, оно неуместно. Правда, ты образованнее большинства из нас и держишься по-благородному, но разве в этом — истинное превосходство? Разве иной бедняк, который и умнее, и честнее, и храбрее тебя, не вправе считать себя хотя бы равным тебе, даже если у него дурные манеры и грубая речь? Ты художник, и тебе не раз придется терпеливо сносить наглость богачей; да и вообще, если я не ошибаюсь, жизнь художника — это непрерывное усилие оградить свое личное достоинство от презрения тех, что кичатся своими мнимыми достоинствами: рождением, властью или богатством. А ты как раз хочешь попасть в их общество, забыв и страх и самолюбие. Ты заранее принимаешь вызов, ты готов помериться силами с великими мира сего, с их желчным тщеславием. Почему же оно кажется тебе менее оскорбительным и дерзким, чем простодушное панибратство малых сих? А вот я скорее прощу обиду невежде, нежели какому-нибудь изысканному господину, и предпочитаю получить тумака от своего товарища, чем выслушивать милые шуточки тех, кто стоит якобы выше меня. Или тебе скучно с нами потому, что у нас мало мыслей и мы не умеем красиво излагать их? Но ведь у нас есть нечто другое, и если бы ты это понял, тебя потянуло бы к нам. В самой нашей простоте есть своя хорошая сторона, и она должна была бы вызывать уважение и умиление у тех, кто ее утратил. А может быть, тебе противны наши недостатки или пороки? Но этих пороков — мне самому больно их видеть, и я изо всех сил стараюсь воздержаться от них, — разве их нет и в высшем обществе? Правда, светские люди лучше умеют скрывать их — развратный ум приукрашивает и изощряет развратные чувства, но разве от этого пороки становятся извинительней? И сколько бы ни прятались эти баловни века, их грехи и преступления просачиваются и в нашу среду, и нередко, даже почти всегда, именно среди нас ищут они себе соучастников и даже жертв. Трудись же, Микеле, надейся, преуспевай, но только не в ущерб справедливости и добру; ибо иначе, возвысившись в мнении немногих, ты в той же мере упадешь в мнении большинства. — Все, что ты говоришь, — правильно и разумно, — ответил Микеле, — но верный ли ты делаешь вывод? Могу ли я продолжать заниматься живописью и в то же время находиться исключительно, или хотя бы преимущественно, в обществе рабочих, среди которых волею судеб родился? Подумай хорошенько, и ты сам увидишь, что это невозможно; произведения искусства находятся в руках богачей, они одни хранят, покупают и заказывают картины, статуи, вазы, чеканные изделия и гравюры, и, чтобы получить у них работу, надо жить среди них, быть таким же, как они. Иначе художник обречен на забвение, на неизвестность и нищету. Наши предки, благородные мастера Средневековья и Возрождения, были одновременно и художниками и ремесленниками. Их положение было ясным, и в зависимости от таланта становилось более или менее блестящим. Теперь все изменилось. Число художников возросло, а среди богачей нет уже былых вельмож. Утрачен хороший вкус, и современные меценаты перестали быть знатоками. Меньше строится дворцов: для создания одного музея тридцать дворцов должны быть распроданы по мелочам либо в уплату за долги, либо потому, что наследники знатных родов предпочитают деньги произведениям искусства. Итак, для того чтобы найти работу и заслужить своим ремеслом славу, теперь мало быть талантливым мастером. Случай, а еще чаще интрига помогают иным всплыть на поверхность, тогда как многие другие, и, быть может, более достойные, идут ко дну. Я же не рассчитываю на случай и слишком горд, чтобы участвовать в интригах. Что же мне остается делать? Ждать, пока какой-нибудь любитель обратит внимание на одну из моих фигур, довольно смело написанных на холсте клеевой краской, и настолько поразится моей работой, что на следующий же день разыщет меня в кабачке и закажет картину? Но такая удача выпадает в одном случае из ста. И даже при такой удаче я буду обязан куском хлеба покровительству богача, принимающего во мне участие. Рано или поздно, а придется мне склониться перед ним и просить, чтобы он рекомендовал меня своим приятелям. Так не лучше ли будет, если я как можно скорее и как только обрету достаточную уверенность в своих силах брошу передник и леса, приму вид человека, который не просит милостыню, и с гордо поднятой головой появлюсь в среде богачей? Ведь если я выйду из кабачка под руку с веселыми собратьями по пиле или мастерку, ясно, что мне не попасть уже во дворец как гостю, а только как поденщику. Да вот сегодня, захоти я подойти к одной из этих красавиц и пригласить ее танцевать, меня тут же высмеяли бы и выгнали вон. Но должно же наступить время, когда эти красавицы будут сами заискивать передо мной и когда мой талант станет для меня титулом, способным успешно тягаться в свете с титулом герцога или маркиза. Но все это лишь при условии, что я усвою себе привычки и манеры аристократии. Я должен стать тем, что называется человек из хорошего общества, а иначе, каким бы талантом я ни обладал, никто меня и не заметит. Значит, добиться успеха как художник я могу, только уничтожив в себе ремесленника. Я должен быть сам хозяином своих произведений и продавать их как собственность, а не только выполнять их по заказу как поденщик. Ну, а для этого нужно иметь известность, а известность в наши дни не приходит за художником на его убогий чердак, он обязан сам завоевать ее, расплачиваясь за нее своей личностью, вращаясь среди тех, кто создает ее, требуя ее как право, а не выпрашивая как милость. Суди сам, Маньяни, как мне выйти из этого порочного круга! В то же время, клянусь тебе, меня терзает мысль, что я вынужден буду словно бы отречься от среды своих предков и меня станут обвинять во вздорности и бесстыдстве те самые люди, чьим собратом и другом я себя чувствую. Ты видишь теперь, что мне надо покинуть этот край, где так хорошо знают моего отца; здесь мой разрыв с прошлым был бы особенно оскорбительным для окружающих и особенно мучительным для меня самого, больше, чем где-либо в другом месте. Я прибыл сюда, чтобы выполнить свой долг, искупить некоторые ошибки, но как только задача моя будет закончена, мне необходимо будет вернуться в Рим и там уже вступить в свет под личиной, быть может и преждевременной, свободного человека. Если я этого не сделаю, прощай моя будущность! Тогда лучше отказаться от нее сегодня же! — Да! Да! Понимаю, — ответил Маньяни, — тебе необходимо любой ценой добиться самостоятельности. Работа поденщика — это рабство, труд художника — это труд свободного человека! Я согласен с тобой, Микеле, ты имеешь на это право, следовательно это твой долг, твоя судьба. Но как печальна и жестока участь людей выдающихся! Как, отказаться от семьи, покинуть родину, играть комедию ради того, чтобы чужие признали тебя своим, надеть маску, чтобы быть увенчанным лаврами, вступить в борьбу с бедняками, осуждающими тебя, и с богачами, которые едва тебя терпят, — да, это поистине ужасно! Не захочешь и славы! Да и что это за слава, если ее покупают такой ценой! — Слава, как ее понимают обычно, в самом деле ничто, мой друг, — с жаром ответил Микеле, — это всего лишь слабый шум, который выдающийся человек может произвести в мире. Позор тому, кто отрекается от родной крови, кто рвет дружеские связи ради пустого тщеславия! Но слава, как ее понимаю я, совсем не то! Это проявление и развитие таланта, который носишь в себе. Если на пути своем ты не встретишь просвещенных ценителей, пылких поклонников, строгих критиков и даже завистливых клеветников, если ты не используешь всех возможностей, не выслушаешь всех советов и не вытерпишь всех преследований, порождаемых громкой известностью, то гений твой зачахнет от разочарования, уныния, сомнений или непонимания самого себя. Только благодаря победам, битвам, страданиям, ожидающим нас на пути к высокой цели, наш талант может достигнуть поистине чудесного развития и оставить в мыслящем мире могучий, неизгладимый, навеки плодотворный след. Ах, кто истинно любит свое искусство, жаждет для своих творений славы не для того, чтобы жило его имя, а чтобы искусство не умирало. И не нужны мне были бы лавры моего патрона Микеланджело, если бы я мог оставить потомству картину (пусть даже имя мое осталось бы неизвестным), достойную сравнения со «Страшным судом»! Слава — это скорее мученичество, чем наслаждение. Подлинный художник ищет этого мученичества и терпеливо переносит его. Он знает, что таково тяжкое условие успеха; а успех не в том, чтобы все восхищались тобой и одобряли тебя, а в том, чтобы создать и оставить после себя нечто, во что бы ты сам верил. Но что с тобой, Маньяни? Ты огорчен? Ты не слушаешь меня?XIII. АГАТА
— Напротив, я слушаю тебя, Микеле, и слушаю очень внимательно, — ответил Маньяни, — а огорчаюсь я потому, что понимаю всю силу твоих доводов. Ты не первый, с кем мне приходится говорить о подобных вещах; я встречал уже не одного молодого рабочего, мечтающего бросить свое ремесло и стать купцом, адвокатом, священником или художником; и надо сознаться, с каждым годом таких дезертиров становится все больше. Чуть только кто из нас почувствует в себе способность мыслить, как тотчас же почувствует и честолюбие; до сих пор я изо всех сил старался подавлять такие стремления и у других и у самого себя. Мои родители, гордые и упрямые, как все старые люди и честные труженики, научили меня свято чтить семейные традиции и сословные обычаи и хранить им верность. Вот почему я твердо решил, обуздывая порой собственные свои порывы, не искать удачи помимо своего ремесла; вот почему я сурово порицал честолюбие моих юных товарищей, едва оно начинало проглядывать, вот почему мое участие и симпатия к тебе с первых же слов выразились в предостережениях и упреках. Мне кажется, что до встречи с тобой я был прав, ибо остальные в самом деле были тщеславны, и тщеславие это сделало бы их черствыми эгоистами. Я чувствовал себя достаточно сильным, чтобы то бранить их, то высмеивать, то уговаривать. Но с тобой я чувствую себя слабым, потому что в своих рассуждениях ты сильнее меня. Ты изображаешь искусство такими благородными, такими яркими красками, так глубоко ощущаешь его высокую миссию, что я не смею спорить с тобой. Может быть, ты, именно ты, имеешь право ничего не щадить ради достижения своей цели, даже собственного сердца, подобно тому как я не щадил своего ради того, чтобы остаться в безвестности… И все же совесть моя не может примириться с подобным решением, ибо оно, как я вижу, ничего не решает. Ты образованнее меня, Микеле, скажи же, кто из нас грешит перед божественной истиной? — Я полагаю, друг мой, что мы оба правы, — ответил Микеле, — и полагаю, что в эту минуту мы с тобой как бы представляем те же противоречия, которые поднимаются сейчас в душе у народа во всех просвещенных странах. Ты защищаешь чувство братского единения; оно свято и нерушимо; оно восстает против моих убеждений; но мысль, которую вынашиваю я, велика и правдива, она так же священна в своем стремлении к борьбе, как твоя вера в правоту самоотречения и молчания. Ты следуешь долгу, я добиваюсь права. Признай же и мою правоту, Маньяни, а я, я уважаю тебя, ибо у каждого свои идеал, и он был бы неполным, если бы не дополнялся идеалом другого. — Да, ты говоришь о вещах отвлеченных, — задумчиво ответил Маньяни, — и, кажется, я тебя понимаю. Но по сути дела мы не решили вопроса. Современный мир бьется, словно между двумя подводными скалами, между покорностью судьбе и борьбой. Из любви к своему народу я готов страдать вместе с ним и провозглашать свое единодушие с ним. Ты, быть может, по той же причине, хочешь сражаться и победить во имя его. Оба эти способа проявить себя настоящим мужчиной как бы взаимно исключали друг друга. Что же должно взять верх перед лицом божественного правосудия: покорность или борьба? «И то и другое», — ответил ты. Но как примирить эти две силы на земле, где людьми управляют не божеские законы? Я тщетно ищу решения. — Да к чему и искать его? — сказал Микеле. — В наши дни на земле оно невозможно. Народ в целом может добиться свободы, прославиться великими битвами, добрыми нравами, гражданскими доблестями, но у каждого человека из народа — своя судьба: тот, кто чувствует, что его призвание — трогать сердца, должен жить в братском единении с людьми простыми, тот, кто призван просвещать умы, должен стремиться к свету, безразлично, в одиночестве ли он будет или даже среди врагов своего сословия. Великие художники в смысле материальном работали на богатых, а в духовном — для всего человечества, ибо последний бедняк может почувствовать красоту их творений. Пусть же каждый следует своему призванию и повинуется таинственной цели божественного провидения! Отец мой любит петь в кабачках веселые песни и тем самым воодушевлять своих товарищей. То, что он рассказывает, сидя на скамейке на углу улицы, его бодрость и усердие во время совместной работы на лесах поднимают дух у всех, кто видит и слышит его. Небо одарило его способностью воздействовать непосредственно на живое восприятие своих собратьев, и притом самыми простыми способами: рвением в работе, откровенной беседой во время отдыха. А вот я люблю уединенные храмы, старинные богатые и мрачные дворцы, античные шедевры, пытливую мечтательность, тонкое наслаждение искусством. Общество аристократов не вызывает у меня тревоги. На мой взгляд, они слишком выродились, чтобы можно было их бояться. Но в их именах мне слышится нечто поэтическое, и это делает их для меня какими-то отвлеченными фигурами, тенями, если хочешь, и мне нравится с улыбкой бродить среди этих не страшных для меня призраков. Мне милы те, кого уже нет, я живу в прошлом, через него получаю я представление о будущем, но признаюсь тебе, что настоящего я вовсе не знаю, и данная минута моего существования для меня как бы не существует, ибо все реальности, которые я нахожу, роясь в прошлом, я применяю к будущему, тем самым изменяя и приближая их к идеалу. Ты видишь, что я не сумел бы достигнуть тех же целей, каких достигли мой отец или ты с помощью тех же средств, ибо ими я не владею. — Микеле, — воскликнул Маньяни, ударив себя по лбу, — ты победил! Придется мне отпустить тебе грехи и избавить от нравоучений. Но я страдаю, Микеле, я так страдаю! Твои слова причиняют мне ужасные муки! — Но почему же, милый Маньяни, почему? — Это моя тайна, но тебе я открою ее, не нарушая ее святости. Ты думаешь, и у меня не было невинных честолюбивых мечтаний, тайного, сокровенного желания избавиться от зависимости, в которой я живу? Разве ты не знаешь, что в сердце каждого человека скрывается жажда счастья? Или ты полагаешь, что сознание выполняемого долга заставляет меня утопать в блаженстве? Так слушай же и суди о моих мучениях. Я люблю, люблю безумно, вот уже пять лет женщину, которая по своему положению в свете так же далека от меня, как небо от земли. Но поскольку совершенно невероятно — я всегда знал это, — чтобы она бросила на меня хотя бы один сострадательный взгляд, я обрел какое-то восторженное упоение и в своем страдании и в сознании своей бедности, своего вынужденного ничтожества в свете. С горечью решил я не подражать тем, кто хочет возвыситься, рискуя подвергнуться насмешкам со стороны и выше и ниже стоящих. Будь я одним из них, думал я, быть может, настал бы день, когда мне позволено было бы галантно поднести к своим губам руку той, кого я обожаю, но едва я открыл бы рот, чтобы выдать свою тайную страсть, как меня оттолкнули бы, высмеяли, попрали ногами. Нет, лучше я останусь безвестным, ничтожным ремесленником и в моих безумных притязаниях никогда не посмею возвыситься до мысли о ней. Пусть и она считает невероятными мои мечтания о ней. По крайней мере под блузой рабочего она не оскорбит моего невидимого страдания, а обнаружив, не растравит его, стыдясь и опасаясь страсти, которую сама же внушила. Теперь же она проходит мимо меня, как мимо вещи, совершенно для нее безразличной, но которую она не считает себя вправе ни оскорбить, ни разбить. Она здоровается со мной, улыбается мне, разговаривает со мной как с существом совершенно иной породы. Это как будто и незаметно, но заложено в ней самой природой, я прекрасно это чувствую и понимаю. Теперь она и не думает о том, чтобы унизить меня, да она и не хотела бы этого, и чем меньше я стараюсь ей понравиться, тем меньше боюсь, что она оскорбит меня своим состраданием. Все было бы иначе, будь я художником или поэтом; если бы я преподнес ей ее портрет, написанный трепетной рукой, или сонет, сочиненный в ее честь, она иначе улыбалась бы мне, иначе говорила бы со мной. В ее доброте сквозила бы осторожность, или насмешка, или снисходительность, в зависимости от того, удалась бы моя попытка проявить себя в искусстве или нет. О, как это отдалило бы меня от нее, как заставило бы опуститься еще ниже, чем сейчас! Лучше уж я останусь простым рабочим и буду служить ей, продавая труды рук своих, чем сделаюсь новичком в искусстве, которому она оказывала бы покровительство или жалела бы, как безумца! — Ты прав, друг, — сказал Микеле, в свою очередь задумываясь. — Мне нравится твоя гордость, и, пожалуй, я сам, даже в моем положении и с моими замыслами, последовал бы твоему примеру, если бы и мной владела любовь к женщине, от которой меня отделяли бы, правда, нелепые, но непреодолимые препятствия. — О, ты совсем другое дело, Микеле. Если сейчас и существовали бы препятствия между тобой и знатной синьорой, то ты бы их быстро преодолел; ты сам сказал, что настанет день, когда светские дамы начнут перед тобой заискивать. Эти слова, вырвавшиеся у тебя из души, сначала показались мне заносчивыми и смешными, но теперь, когда я понял тебя, я нахожу их естественными и законными. Да, ты будешь нравиться самым высокопоставленным дамам, потому что ты — в расцвете юности, и красота твоя — нежная и даже немного женственная, как у тех, кто рожден для праздности, ибо ты от природы изящен, у тебя прекрасные манеры, ты умеешь непринужденно носить хорошее платье, а все это необходимо в придачу к таланту и успеху для того, чтобы гордые женщины могли забыть о плебейском происхождении художника. Да, ты сможешь быть в их глазах настоящим мужчиной, тогда как я, как бы ни прихорашивался, навсегда останусь простым поденщиком и моя грубая шкура все равно будет проглядывать. Да теперь уж и поздно, мне двадцать шесть лет! Но меня бросает в дрожь, и я чувствую странное волнение при мысли, что если бы тогда, пять лет тому назад, когда я был еще мягок, как воск, и податлив, как младенец, кто-нибудь оправдал и облагородил в моих глазах пробуждавшиеся во мне порывы, если бы кто-нибудь заговорил со мной так, как ты заговорил сейчас, быть может и я ступил бы на тот же путь, что и ты, устремился бы на то же упоительное поприще. Ум мой жадно воспринимал тогда все прекрасное. Я мог петь, как соловей, не понимая сам звуков своей песни, но охваченный каким-то диким вдохновением. Я мог тогда прочесть, понять и запомнить множество книг. Мне была понятна и природа. Я читал в небесах и в морских горизонтах, в зелени лесов и в синеве высоких гор. Мне кажется, я мог бы стать тогда музыкантом, поэтом, художником-пейзажистом. А в сердце моем уже заговорила любовь, уже явилась мне та, к которой доныне прикованы мои помыслы. О, как это поощрило бы меня, если бы я поддался тогда безумным искушениям! Но я все подавил в сердце своем, боясь, что друзья и родные сочтут меня отступником, боясь, что желание возвыситься лишь унизит меня в их глазах, да и в моих собственных тоже. Я закалил себя работой: руки мои огрубели, огрубел и дух. Грудь моя, правда, стала шире, а сердце в ней разрослось, словно полип, грызущий меня и поглощающий всю мою жизнь. Но лоб мой стал уже, в этом я уверен, воображение застыло, поэзия во мне умерла. Мне остались только разум, верность, твердость и самоотверженность, иначе говоря — страдание! Ах, Микеле, раскрой свои крылья и покинь эту долину скорби! Лети, как птица, к куполам дворцов и храмов и оттуда, с высоты, взгляни на несчастный народ, влачащийся и стонущий здесь, внизу. Люби его, если можешь, или хотя бы жалей, но никогда не делай ничего, что могло бы в твоем лице унизить его. Маньяни был глубоко взволнован, но вдруг волнение его стало иным: он вздрогнул, быстро обернулся назад и протянул руку к веткам густого розового мирта, прикрывавшего за его спиной темное углубление в стене. Резким движением он раздвинул эту зеленую завесу; за ней оказался потайной ход, ведущий, должно быть, в помещение для слуг и потому скрытый от взоров гостей. Микеле, удивленный поведением Маньяни, бросил взгляд в этот уходящий во мрак коридор, едва освещенный слабым светом лампы. Ему показалось, что там, в темноте, мелькнула какая-то белая фигура, но такая неясная, почти неуловимая, что она вполне могла оказаться всего лишь отблеском более яркого света, проникающего извне в глубь прохода. Микеле хотел уже броситься туда, но Маньяни удержал его. — Мы не имеем права, — сказал он, — подглядывать за тем, что происходит в закрытых покоях этого святилища. Мое первое движение, вызванное любопытством, было невольным: мне послышались здесь, вблизи, чьи-то легкие шаги… Но это мне, без сомнения, пригрезилось! Мне почудилось, будто ветки куста шевелятся. Такое наваждение нашло на меня, должно быть, от страха при мысли, что тайна моя чуть было не сорвалась с моих губ; я лучше уйду, Микеле. Мне нужно прийти в себя и дать рассудку время усмирить бурю, поднятую в моей груди твоими словами и твоим примером!.. Маньяни поспешно ушел, а Микеле снова вернулся в бальный зал. Признание его молодого друга, охваченного безрассудной любовью к знатной даме, вновь пробудило в нем волнение, которое, ему казалось, он уже поборол. Чтобы рассеяться, он стал бродить вокруг танцующих, ибо чувствовал, что его собственное безумие сейчас столь же опасно, как и безумие Маньяни. Еще многие годы должны были пройти, прежде чем он сможет с помощью своего таланта почувствовать себя равным в любом обществе. Пока же, находя в этом для себя какую-то горькую радость, он принялся рассматривать самых юных из танцующих женщин, в мечтах своих выбирая среди них ту, на которую сможет в один прекрасный день поднять дерзкий взор, горящий любовью. Но он все не находил ее, ибо продолжал поочередно переносить свою фантазию с одной на другую; а поскольку, строя подобные воздушные замки, можно без всякого риска быть крайне разборчивым, он без конца продолжал искать и мысленно оценивать сравнительные достоинства юных красавиц. Вот какие мысли блуждали в его затуманенном мозгу, когда он вдруг увидел княжну Пальмароза. До тех пор он старательно держался на известном расстоянии от танцующих, скромно пробираясь вдоль скамей амфитеатра, но теперь невольно выдвинулся вперед, и хотя толпа не была настолько густой, чтобы остаться в ней незамеченным, неожиданно очутился в первых рядах, среди лиц, одно другого знатнее или богаче. На этот раз инстинктивная гордость не подсказала ему всей опасности его положения. Непреодолимый магнит привлекал и удерживал его на месте: княжна танцевала. Само собой разумеется, она делала это только ради формы, ради приличия или из любезности, ибо она просто двигалась, не испытывая, видимо, при этом особого удовольствия. Но двигалась она изящнее, чем иные танцевали, и, не стараясь быть грациозной, была воплощенной грацией. Эта женщина обладала каким-то поистине необъяснимым обаянием, оно исходило от нее, как тончайший аромат, и в конце концов все покоряло и все затмевало вокруг. Такой могла быть королева, окруженная своими придворными, королева страны, где царит духовное и телесное совершенство. Было в ней целомудрие святых девственниц, всемогущих своей невинностью; бледность ее, не чрезмерная и не болезненная, свидетельствовала об отсутствии сильных страстей. Ее замкнутый образ жизни объясняли строгой воздержанностью или же исключительным равнодушием. Но при этом она не походила на холодную статую. Доброта одушевляла ее несколько рассеянный взгляд и придавала ее слабой улыбке несказанную прелесть. Здесь, при свете тысячи огней, она явилась Микеле совсем иной, непохожей на ту, которую он видел час тому назад в гроте наяды, когда то ли из-за странного освещения, то ли по прихоти его собственной фантазии, ему почудилось в ней даже что-то пугающее. Ее безразличие казалось теперь скорее спокойным, чем грустным, скорее привычным, чем вынужденным. Сейчас она была оживлена ровно настолько, чтобы привлекать сердца, оставляя страсти спокойными.XIV. БАРБАГАЛЛО
Если бы Микеле способен был отвести глаза от предмета своего созерцания, он увидел бы в нескольких шагах от себя своего отца, игравшего в оркестре на флажолете. Пьетранджело обожал искусство во всех его видах. Он любил и понимал музыку и по слуху играл на многих инструментах, более или менее удачно попадая в тон и соблюдая такт. Убедившись, что все порученные ему работы по убранству дворца закончены, и оказавшись без дела, он не смог устоять против искушения и присоединился к музыкантам, которые хорошо знали его и любили за веселый нрав; им нравилась его славная, добрая физиономия и тот пыл, с каким он время от времени повторял на своем инструменте какую-нибудь громкую ритурнель. Когда вернулся из буфетной деревенский скрипач, которого он временно заменял, Пьетранджело завладел свободными цимбалами, а к концу кадрили он уже с упоением водил смычком по толстым струнам контрабаса. В особенном восторге он был оттого, что под его игру танцевала сама княжна, а она, увидев на эстраде его лысую голову, издали улыбнулась ему и сделала едва заметный дружеский знак, тронувший доброго старика до глубины души. Микеланджело нашел бы, пожалуй, что отец его проявляет слишком много усердия на службе у своей дорогой хозяйки и недостаточно строго соблюдает свое достоинство ремесленника. Но Микеле, воображавший, будто он уже излечился, будто забыл и думать о взгляде княжны Агаты, настолько в этот момент вновь подпал под ее чары, что мечтал лишь о том, как бы еще раз встретить ее взгляд. Единственное хорошее платье, которое он, как последнюю память своих неизлечимых аристократических замашек, мужественно пронес на плечах в дорожном мешке через ущелье Этны, было сшито по моде и со вкусом. Прекрасная фигура и благородная внешность Микеле, его костюм и манеры не давали никакого повода придраться к чему-либо, однако вот уже несколько минут, как присутствие его среди лиц, непосредственно окружавших княжну, кололо глаза синьору Барбагалло, мажордому дворца Пальмароза. Этот человек, обычно мягкий и снисходительный, имел, однако, свои антипатии и иной раз приходил в такое негодование, что становился просто смешным. Он признавал, что у Микеле есть талант, но то раздражение, с каким молодой человек выслушивал его зачастую вздорные замечания, и недостаточное почтение, которое он выказывал особе мажордома, заставляли последнего недоверчиво и почти неприязненно относиться к юноше. По понятиям Барбагалло, досконально изучившего науку о титулах и гербах, благородными были только люди благородные, а все остальные слои общества он смешивал воедино и смотрел на них с немым, но непобедимым презрением. Поэтому он был обижен и оскорблен при виде того, как гордый дворец его повелителей открыли для всякого, как он выражался, сброда: коммерсантов, юристов, дам еврейского происхождения, подозрительных путешественников, студентов, чиновников, словом — для тех, кто за золотую монету мог купить себе право танцевать в кадрили с княжной. Такой бал по подписке был новшеством, занесенным из-за границы, и опрокидывал все представления Барбагалло о приличиях. Уединение, в котором постоянно жила княжна, помогло достойному мажордому полностью сохранить свои иллюзии и предрассудки касательно превосходства знати, и поэтому, по мере того как проходила ночь, он становился все более и более грустным, тревожным и мрачным. Он только что видел, как княжна обещала кадриль молодому адвокату, имевшему дерзость пригласить ее, а заметив, что Микеланджело Лаворатори стоит совсем близко и смотрит на нее восторженными глазами, он подумал, уж не собирается ли и этот пачкун танцевать с ней. «Мир, видно, перевернулся вверх дном за последние двадцать лет, — сказал он себе. — Если бы такой бал давался здесь во времена князя Диониджи, все было бы по-другому. Каждая группа гостей держалась бы отдельно, низшие не смешивались бы с вышестоящими. А тут все сословия перепутались, просто базар какой-то, бесовское сборище. Кстати, — подумал он, — что делает здесь этот горе-художник? За вход он не платил, он даже не купил себе того права, какое сегодня, увы, каждый мог купить у ворот благородного дворца Пальмароза. Он попал сюда как рабочий. Если он собирается играть на тамбурине, как его отец, или присматривать за кенкетами, пусть убирается из первых рядов. Ну, я буду не я, ежели не собью с него спесь! Сколько бы он ни разыгрывал из себя великого художника, я отправлю-таки его назад, к ведерку с краской! Следует проучить его хорошенько, раз этот старый чудак отец только балует его, а не может направить на путь истинный». Приняв столь доблестное решение, но не осмеливаясь самолично приблизиться к кружку княжны, синьор Барбагалло попытался издали привлечь внимание Микеле, делая ему всевозможные знаки, на которые тот не обращал ни малейшего внимания. Тогда мажордом, видя, что кадриль вот-вот кончится и княжна неизбежно встретит на своем пути молодого Лаворатори, бесцеремонно торчавшего прямо перед ней, решился на смелый ход, чтобы положить этому конец. Подобно легавой, пробирающейся между колосьями ржи, он тихонько проложил себе путь между присутствующими и, осторожно взяв молодого человека под руку, попытался увлечь его в сторону, без огласки и шума. В это мгновение Микеле поймал тот взгляд княжны, которого искал и ожидал так долго. Взгляд этот пронизал его словно электрическим током, хотя показался ему слегка затуманенным осторожностью, и когда он почувствовал, что кто-то берет его под руку, то, не поворачивая головы, не потрудившись даже взглянуть, с кем имеет дело, он резким движением локтя оттолкнул нескромную, схватившую его руку. — Мастер Микеле, вы что здесь делаете? — шепнул ему на ухо возмущенный мажордом. — А вам какое дело! — ответил юноша, повернувшись к нему спиной и пожав плечами. — Вам не полагается здесь стоять, — продолжал Барбагалло, теряя терпение, но все еще сдерживаясь и говоря шепотом. — А вам полагается? — ответил Микеле, глядя на него горящими от гнева глазами и надеясь отпугнуть его своей резкостью. Но Барбагалло был по-своему смел и скорее позволил бы плюнуть себе в лицо, чем хотя бы на йоту отступить от того, что почитал своим долгом. — Я, сударь, — сказал он, — нахожусь здесь при исполнении своих обязанностей, а вы извольте-ка исполнять ваши. Сожалею, если это вам не по вкусу, но каждый должен знать свое место. И нечего смотреть так дерзко! Где ваш входной билет? Нет его у вас, я знаю. Если вам позволили взглянуть на праздник, то, само собой разумеется, при условии, что вы, как ваш отец, будете либо помогать в буфетной, либо смотреть за освещением… Ну, что именно вам поручено? Ступайте к дворецкому, он вам укажет, что делать, а если вы ему больше не нужны, ступайте отсюда и не вертитесь под носом у дам. Синьор Барбагалло продолжал говорить вполголоса, чтобы его слышал один Микеле, но его сердитые взгляды и беспокойные жесты были достаточно выразительны и начинали привлекать внимание окружающих. Микеле уже готов был уйти, ибо видел, что не в силах более противиться мажордому. Поднять руку на старика он не мог, а вместе с тем никогда еще так не кипела его сицилийская кровь и так сильно не чесались руки. Он с улыбкой подчинился бы приказанию, будь оно выражено вежливым тоном, а теперь просто не знал, как поступить, как оградить свое достоинство от нелепых нападок мажордома; гнев и стыд душили его. Барбагалло стал грозить, все так же вполголоса, что сейчас позовет людей, чтобы вывести его. Гости, стоявшие поблизости, смотрели с насмешливым удивлением на незнакомого юношу, вступившего в препирательство с мажордомом. Дамы, рискуя измять свои наряды, бросились прочь в толпу, чтобы отдалиться от него. Они думали, что это пробравшийся на бал мошенник или дерзкий интриган, ищущий повода для скандала. Но в ту минуту, когда бедный Микеле готов был лишиться чувств от гнева и обиды, ибо в ушах у него звенело, а ноги подкашивались, слабый крик, раздавшийся в двух шагах от него, заставил всю его кровь прихлынуть к сердцу. Это был тот самый крик, крик боли, удивления и нежности, который, как ему показалось, он уже слышал сквозь сон в вечер прибытия своего во дворец. Повинуясь необъяснимому для него самого порыву доверия и надежды, он обернулся на этот дружественный призыв и ринулся наугад в толпу, словно ища приюта на груди, испустившей этот крик. Неожиданно он оказался возле княжны и ее дрожащая рука с силой сжала его руку. Этот взаимный порыв, этот миг душевного смятения промелькнул как вспышка молнии. Удивленные зрители расступились перед княжной, и она прошла через залу, опираясь на руку Микеле. Кавалер ее так и остался склоненным в последнем поклоне, а совершенно ошеломленный Барбагалло готов был провалиться сквозь землю. Окружающие, посмеиваясь над изумлением старого слуги, решили, что Микеле, очевидно, какой-нибудь знатный иностранец, недавно прибывший в Катанию, и княжна поспешила самым деликатным образом и без излишних объяснений загладить перед ним оплошность своего мажордома. Когда княжна Агата достигла ступенек главной лестницы, где было меньше народа, она вновь обрела спокойствие, зато Микеле трепетал больше, чем когда бы то ни было. «Сейчас она, должно быть, сама укажет мне на дверь, — думал он, — так что никто этого не заподозрит. Она слишком великодушна и добра, чтобы подвергать меня оскорблениям своих лакеев и презрению своих гостей, но приговор, который я сейчас от нее услышу, будет для меня смертельным ударом. Здесь, быть может, и кончится вся моя будущность, и здесь, на пороге ее дворца, совершится крушение всех моих надежд». — Микеланджело Лаворатори, — произнесла княжна, поднося к лицу свой букет, чтобы заглушить слова, могущие долететь до чьих-либо любопытных ушей, — сегодня я поняла, что ты настоящий художник и что перед тобой открывается блестящее будущее. Еще несколько лет упорного труда, и ты сможешь стать мастером. Тогда свет признает тебя, как ты уже сейчас того заслуживаешь, ибо человек, у которого есть пусть только надежды, но обоснованные надежды, обрести личную славу, во всяком случае равен тем, у кого нет ничего, кроме воспоминаний о славе предков. Но скажи мне, быть может, тебе не терпится уже сейчас вступить в свет? Ты только что его видел и уже можешь судить о нем. Одного моего слова, одного жеста достаточно, чтобы твое желание исполнилось. Все присутствующие здесь сегодня знатоки обратиливнимание на твоих нимф и спрашивали меня о твоем имени, твоем возрасте и твоих предках. Достаточно мне представить тебя своим друзьям как художника, и с сегодняшнего же дня ты будешь принят ими как художник, и притом в достаточной степени порвавший со своим прошлым. Скромная профессия твоего отца не только не повредит тебе, но возбудит даже особый интерес; ибо свет всегда удивляется, когда обнаруживает врожденный талант у бедного человека, как будто таланты в искусстве не исходили всегда из народа, а наша каста еще способна рождать людей выдающихся. Отвечай же мне, Микеле, хочешь ли ты сегодня же вечером ужинать за моим столом, сидя рядом со мной, или ты предпочитаешь сидеть в людской, рядом с твоим отцом? Последний вопрос был поставлен так прямо, что Микеле показалось, будто он слышит в нем свой приговор. «Вот весьма деликатный, но жестокий урок с ее стороны, — подумал он, — или же это испытание. Но я выйду из него с честью». — Сударыня, — гордо сказал он, — счастливы те, кто удостоен права сидеть рядом с вами и кого вы считаете в числе своих друзей! Но ужинать с людьми высшего круга я впервые буду за своим собственным столом, и отец мой будет сидеть напротив меня. Я понимаю, этого, по всей вероятности, никогда не будет, а если и будет, то еще многие годы отделяют меня от славы и богатства. А пока я пойду ужинать вместе с отцом в людскую вашего дворца, чтобы доказать вам, что я не честолюбив и принимаю ваше приглашение. — Твой ответ мне нравится, — сказала княжна, — сохрани и впредь такое же чистое сердце, Микеле, и счастье тебе улыбнется. Это я тебе предсказываю. С этими словами она взглянула ему прямо в лицо, ибо перестала опираться на его руку, уже готовая уйти. Микеле ослепило пламя, брызнувшее из ее глаз, обычно столь кротких и задумчивых, — но в этом он более не сомневался — для него одного загоравшихся непреодолимой симпатией. Однако юноша не смутился, как в первый раз. Или выражение этих глаз стало иным, или он прежде не так понимал его, но то, что он принимал за любовь, было скорее нежностью, и страстное чувство, охватившее его сначала, сменилось восторженным обожанием, столь же чистым, как та, что внушала его. — Послушай, — продолжала княжна, делая при этом знак проходившему мимо маркизу Ла-Серра подойти и подать ей руку, тем самым как бы приглашая его быть третьим в их разговоре, — хотя для умного человека нет ничего унизительного в том, чтобы поужинать в людской, так же как не такое уж это счастье ужинать в зале, я желаю, чтобы ты не был сегодня ни здесь, ни там. Для этого у меня есть причины, касающиеся тебя лично, — твой отец должен был сообщить их тебе. Ты уже достаточно привлек к себе сегодня внимание своими росписями. Избегай в течение еще нескольких дней показываться на людях, но и не прячься, не окружай себя излишней таинственностью, это тоже опасно. Я не хотела, чтобы ты являлся на этот праздник; ты должен был понять, почему я не послала тебе пригласительного билета; когда твой отец сказал тебе, что, оставшись, ты вынужден будешь выполнять малоприятные для тебя обязанности, он тем самым пытался побороть твое желание быть на балу. Почему же ты все-таки пришел? Отвечай мне откровенно. Ты, значит, так любишь балы? Но ведь ты, должно быть, видел в Риме столь же красивые, как этот? — Нет, сударыня, — ответил Микеле, — я нигде не видел столь же красивых, ибо там не было вас. — Он хочет меня уверить, — спокойно и ласково улыбаясь, сказала княжна маркизу, — что пришел на бал ради меня. Вы этому верите, маркиз? — Я в этом убежден, — ответил Ла-Серра, дружески пожимая руку Микеле. — Итак, мэтр Микеланджело, когда же вы придете взглянуть на мои картины и отобедать со мной? — Он говорит еще, — с живостью добавила княжна, — что никогда не будет обедать в нашем обществе один, без отца. — К чему столь преувеличенная скромность? — спросил маркиз, глядя в глаза Микеле умным и проницательным взглядом, в котором были и доброта и некоторая доля строгости. — Разве Микеле боится, что вы или я заставим его краснеть оттого, что он не заслужил еще такого же уважения, как его отец? Вы еще молоды, дитя мое, и никто не может требовать от вас тех достоинств, за которые мы так любим и ценим нашего славного Пьетранджело. Но у вас есть ум и благие намерения, а этого вполне достаточно для того, чтобы вы смело могли появиться всюду, не стараясь держаться в тени вашего отца. Впрочем, можете быть спокойны, он уже обещал отобедать со мной послезавтра. Этот день вам подходит? Вы сможете прийти вместе с ним? Микеле согласился, стараясь скрыть свое замешательство и изумление под внешним равнодушием, а маркиз прибавил: — Теперь позвольте сообщить вам, что мы будем обедать тайно: ваш отец в свое время был осужден; я на плохом счету у правительства, и у нас еще есть враги, могущие обвинить нас как заговорщиков. — Ну, доброго вечера, Микеланджело, и до скорого свидания, — сказала княжна, прекрасно видевшая крайнее изумление юноши, — и сделай нам одолжение, поверь, что мы умеем ценить истинные достоинства и сумели оценить достоинства твоего отца, не ожидая, чтобы сначала проявились твои. Пьетранджело — наш старинный друг, и если он не обедает каждый день за моим столом, то только потому, что я боюсь подвергнуть его преследованиям врагов, слишком выставляя его напоказ. Микеле был смущен и растерян, но в эти минуты ему ни за что на свете не хотелось показать, до какой степени он ослеплен внезапными милостями фортуны; в глубине души он, однако, испытывал скорее унижение, чем восторг, от только что преподанного ему дружеского урока. «Ибо это был самый настоящий урок, — сказал он себе, после того как княжна и маркиз, в сопровождении еще нескольких лиц, удалились, ласково кивнув ему на прощание. — Эти знатные господа, вольнодумцы и философы, ясно дали мне понять, что их благосклонность — прежде всего дань уважения моему отцу. Это меня приглашают из-за него, а не его из-за меня, иначе говоря — причина их расположения ко мне вовсе не мои личные достоинства, а доблести моего отца. О боже, прости мне честолюбивые мысли, пробудившие во мне желание начать путь к успеху независимо от него! Я был безумцем, преступником! Эти вельможи меня хорошо проучили; я-то думал, что заставлю их уважать мое происхождение, тогда как они в душе уважают его — или делают вид, что уважают — еще больше, чем я». Но тут гордость молодого художника, уязвленная подобными выводами, возмутилась. «А, понимаю, — воскликнул он после нескольких мгновений раздумья, — эти люди занимаются политикой; они заговорщики. Быть может, они не потрудились даже взглянуть на мои росписи или вовсе ничего не понимают в живописи. Они ласкают и хвалят моего отца, потому что он, как и многие другие, служит орудием в их руках, а теперь пытаются завладеть и мной. Так нет же! Если они хотят пробудить в моем сердце патриотизм истинного сицилийца, пусть берутся за дело иначе и пусть не воображают, что им удастся воспользоваться мной в своих интересах, в ущерб моему будущему. Я вижу все их происки; но и они, они еще узнают меня. Я готов принести себя в жертву ради благородного дела, но не дам себя одурачить ради чужого тщеславия».XV. РОМАНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
«Неужели, — вернулся Микеле к прерванным мыслям, — в этой стране таковы все знатные люди? Неужели в Катании наступил уже золотой век и одни только лакеи хранят еще верность сословным предрассудкам?» Мажордом прошел мимо него и поклонился с грустным и подавленным видом; без сомнения, он получил выговор или ожидал его. Микеле решил уйти, но, проходя через гардеробную, увидел Пьетранджело, подававшего теплое верхнее платье какому-то старому синьору в белокуром парике, который никак не мог попасть в рукава трясущимися руками. Микеле вспыхнул при этом зрелище и ускорил шаги. Он подумал, что отец был слишком уж простодушен, а человек, заставлявший его служить себе, явно опровергал только что высказанное предположение Микеле о благородной доброте великих мира сего. Но ему не удалось уйти от унижения, от которого он бежал. — А! — закричал Пьетранджело. — Вот и он, ваша светлость! Вы спрашивали, красивый ли он парень? Вот, судите сами. — Эге, да он в самом деле недурен, плутишка! — произнес старый вельможа, становясь перед Микеле и оглядывая его с головы до ног и в то же время кутаясь в свое теплое одеяние. — Ну что ж, милейший, я очень доволен твоими малярными работами, я обратил на них внимание. Как я сейчас говорил твоему отцу, а его я знаю давно, ты достоин со временем унаследовать всех его заказчиков и если не будешь слоняться без дела, без куска хлеба не останешься. Ну, а если останешься, сам будешь в том виноват. А теперь крикни-ка мою карету, любезный, да живо; этот свежий ночной ветерок не очень-то полезен, когда выйдешь из душной залы. — Тысяча извинений, ваша светлость, — ответил взбешенный Микеле, — но я сам тоже боюсь этого ветерка. — Что он говорит? — обратился старик к Пьетранджело. — Он говорит, что карета вашей светлости у подъезда, — ответил тот, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. — Хорошо. У меня и для него найдется поденная работа, когда будет в том надобность: пусть приходит тогда вместе с тобой. — Ах, отец, — воскликнул Микеле, едва старый синьор удалился, — этот глупец обращается с вами как с лакеем, а вы только смеетесь! Вы можете исполнять такие лакейские обязанности со смехом! — Тебя это возмущает, — ответил Пьетранджело, — но почему же? Я ведь смеюсь над твоим гневом, а не над бесцеремонностью этого старикашки. Разве я не обещал во всем помогать здешним слугам? Я случайно оказался здесь, он спросил у меня свое теплое платье, он стар, немощен и глуп — вот три причины, чтобы я помог ему. За что же мне презирать его? — За то, что он презирает вас. — Это по-твоему. Но у него другие понятия о вещах мира сего. Он старый ханжа, бывший когда-то распутником. Прежде он соблазнял девушек из народа, теперь раздает милостыню бедным матерям семейств. Господь, без сомнения, простит ему его старые грехи; так неужели же я буду более строг, чем господь бог? Видишь ли, разница между людьми, установленная обществом, вовсе не так велика и не так значительна, как ты думаешь, сын мой. Все это мало-помалу уходит a volo[224], и если бы те, у кого слишком чувствительное сердце, поменьше упрямились, все эти перегородки скоро стали бы одними пустыми словами. Я только смеюсь над теми, что считают себя выше меня, и никогда на них не сержусь. Ни один человек не властен унизить меня, если я в ладу со своей совестью. — А знаете ли вы, отец, что приглашены завтра обедать к маркизу Ла-Серра? — Да, мы так уговорились, — спокойно ответил Пьетранджело. — Я согласился, потому что он не такой скучный человек, как большинство знатных синьоров. С некоторыми из них я ни за какие деньги не согласился бы просидеть несколько часов подряд. Но маркиз человек умный. Давай пойдем к нему вместе, Микеле, но только в том случае, если это тебе в самом деле доставит удовольствие. Ни для кого не следует принуждать себя, если хочешь сохранить душевную прямоту. Да, велика была разница между тем, как относился к чести подобного приглашения Пьетранджело и как представлял себе свое триумфальное вступление в свет Микеле. Опьяненный сначала тем, что казалось ему любовью княжны, потом ошеломленный благосклонностью маркиза, возмущенный, наконец, дерзостью старого господина в теплом платье, он просто не знал теперь, что и думать. Все его теории о победоносном шествии таланта рушились перед беспечной простотой его отца, принимавшего знаки почтения со спокойной благодарностью, а пренебрежение — с веселой усмешкой. У ворот виллы Микеле столкнулся с Маньяни, тоже уходившим домой. Но, пройдя сотню шагов, молодые люди, возбужденные прохладой утреннего воздуха, решили не идти спать, а, обогнув холм, насладиться картиной рассвета, ибо уже начинали белеть склоны Этны. Поднявшись до половины ближайшего холма, они уселись на краю живописного утеса; справа от них видна была вилла Пальмароза, еще сверкающая огнями и гремящая звуками музыки, а слева возвышалась гордая пирамида вулкана и виднелись опоясывающие ее до самой вершины широкие полосы зелени, скал и снегов. То было изумительное и волшебное зрелище. Все казалось смутным, уходящим в бесконечную даль, и область Piedimonta почти не отличалась от лежащей выше, называемой Nemorosa, или Silvosa[225]. В то время как заря, отраженная морем, бледными и неясными бликами скользила по нижней части картины, на вершине горы с удивительной четкостью вырисовывались в прозрачном ночном воздухе ее страшные ущелья и девственные снега, а синева над челом горы-великана еще усеяна была звездами. Величественное молчание и благородная чистота уходящей в заоблачные края вершины резко отличались от царившей вокруг дворца суеты: рядом с немой и спокойной Этной музыка, крики лакеев, грохот карет казались жалким итогом человеческой жизни перед лицом таинственной бездны — вечности. По мере того как разгоралась заря, вершина вулкана бледнела и ее пышный султан багрового дыма, пересекавший синее небо, мало-помалу принял тоже синий оттенок и развернулся лазурной змеей на опаловом небосводе. Тогда вся картина преобразилась и контраст стал иным. Шум и движение вокруг дворца быстро стихали, в то время как ужасный вулкан, его страшные кручи и зияющие пропасти становились все более отчетливыми, а следы опустошений, которые Этна запечатлела на почве от кратера до самого подножия, простирались намного дальше того места, откуда созерцали ее Микеле и Маньяни; они доходили до самой бухты, где лежит Катания, опоясанная бесчисленными обломками черной, будто черное дерево, лавы. Казалось, эту страшную природу оскорбляют и словно бросают ей вызов обрывки музыкальных фраз затихавшего оркестра и умирающие огни, венчавшие фасад дворца. Временами музыка и огни как бы вновь оживали. Должно быть, особо неистовые танцоры вынуждали музыкантов стряхнуть с себя оцепенение, а от догоревших свечей вспыхивали розовые бумажные розетки. Похоже было на то, будто в этом сверкающем и шумном дворце беззаботная веселость юности борется с одолевающей ее властью сна или томлением страсти, тогда как вечно грозящая этой роскошной стране неумолимая стихия продолжает посылать в небо свой пламенеющий дым как угрозу разрушений, которой не всегда можно пренебрегать безнаказанно. Микеланджело Лаворатори погрузился в созерцание вулкана, тогда как Маньяни чаще обращал свои взоры в сторону виллы. Вдруг у него вырвалось восклицание, и Микеле, взглянув в том же направлении, различил белую фигуру, словно плывшую в пространстве. То была женщина, медленно проходившая по верхней террасе дворца. — Она тоже, — невольно воскликнул Маньяни, — она тоже глядит, как рассвет озаряет Этну, она тоже грезит и, быть может, вздыхает! — Кто? — спросил Микеле, ибо рассудок успел уже несколько подавить его собственные пустые мечтания. — Неужели у тебя такое хорошее зрение, что ты можешь различить отсюда, сама ли это княжна, или ее камеристка вышла в сад подышать свежим воздухом. Маньяни схватился за голову и не отвечал. — Друг, — продолжал Микеле, пораженный внезапной догадкой, — будь со мной до конца откровенным. Знатная дама, в которую ты влюблен, это княжна Агата? — Ну что ж, почему мне в этом и не сознаться? — ответил молодой рабочий тоном глубокой скорби. — Может быть, потом я и пожалею, что открыл почти незнакомому юнцу тайну, на которую даже не намекнул тем, кого должен был бы считать своими лучшими друзьями. Есть, вероятно, какая-то роковая причина в этой внезапно возникшей у меня потребности открыться перед тобой. Быть может, это поздний час ночи, усталость, возбуждение, вызванное музыкой, огнями, ароматами… не знаю. А скорее всего то что я чувствую в тебе единственное существо, способное понять меня: ты сам безумен и не станешь смеяться над моим безумием. Да, это так, я люблю ее! Я боюсь, ненавижу и в то же время боготворю эту женщину, непохожую ни на какую другую, никем не понятую, да и мне самому тоже непонятную. — Нет, я не стану смеяться над тобой, Маньяни, я жалею тебя, понимаю и люблю, потому что мы с тобой очень похожи, я чувствую это. Я тоже возбужден этими ароматами, этим ярким, праздничным освещением, оглушительной танцевальной музыкой, в которой под напускной веселостью мне слышится нечто донельзя мрачное. Меня тоже в такие минуты охватывает какое-то странное одушевление и, может быть, даже безумие. Мне кажется, есть что-то таинственное в симпатии, влекущей нас друг к другу. — Потому, что мы оба любим ее! — воскликнул Маньяни, не в силах более сдерживаться. — Знай, Микеле, я угадал это с первого же взгляда, который ты бросил на нее; да, ты тоже любишь ее. Но ты, ты любим или будешь любим, а я — никогда! — Буду любим или уже любим? Что ты говоришь, Маньяни, ты просто бредишь! — Слушай же, я должен рассказать тебе, как этот недуг овладел мной, ты лучше тогда, пожалуй, поймешь, что происходит в тебе самом. Пять лет тому назад мать моя лежала больная. Доктор, из милосердия лечивший ее, почти от нее отступился, казалось, надежды больше нет. Я плакал, охватив голову руками, сидя у калитки нашего садика, выходящего на улицу, почти всегда пустынную, и которая тут же за околицей теряется в полях. Вдруг какая-то женщина, закутанная в широкий плащ, остановилась возле меня. «Юноша, — сказала она, — о чем ты так горюешь? Что можно сделать, чтобы облегчить твое горе?» Была уже почти ночь, лицо ее было закрыто, я не видел ее черт, а голос ее, звучавший так удивительно нежно, был мне незнаком. Но по ее произношению и манерам я понял, что она не нашего сословия. «Сударыня, — ответил я, вставая, — моя бедная мать умирает. Мне следовало бы быть подле нее, но она в полном сознании, а я не в силах более сдерживаться, и потому вышел поплакать на улицу, чтобы она не слышала. Сейчас я вернусь к ней, ибо плакать так — малодушие…» «Да, — сказала она, — нужно иметь достаточно мужества, чтобы передать его тому, кто борется со смертью. Ступай же к своей матери, но сначала скажи мне: разве нет больше надежды, разве доктор вас не посещает?» «Доктор сегодня не приходил, и я понял, что он ничем больше не может помочь нам». Она спросила у меня имя моей матери и имя доктора и, когда я ответил, воскликнула: «Как, значит, нынешней ночью ей стало хуже? Еще вчера вечером доктор говорил мне, что надеется спасти ее!» Но и эти слова, вырвавшиеся в минуту участия, не открыли мне, что со мной говорит княжна Пальмароза. Я не знал тогда, а многие не знают и поныне, что эта милосердная синьора платила нескольким врачам, чтобы они навещали бедняков, которые живут в городе, его предместьях и даже в окрестностях; никогда не показываясь, дабы избежать почтительной благодарности за добрые свои дела, она с необычайным усердием входила во всякую мелочь, помогала нам в наших нуждах и недугах. Я был так поглощен своим горем, что не обратил тогда внимания на ее слова и понял их только позже. Я оставил ее на улице, но, входя в комнату моей бедной матери, заметил, что дама под вуалью идет вслед за мной. Молча приблизилась она к постели больной, взяла ее руку, которую надолго задержала в своей, нагнулась к ее лицу, заглянула в глаза, прислушалась к ее дыханию, а потом шепнула мне на ухо: «Нет, юноша, вашей матери не так плохо, как вы думаете. У нее есть еще силы и воля жить. Доктор напрасно перестал надеяться. Я сейчас пошлю его к вам и уверена, что он спасет ее». «Кто эта женщина? — слабым голосом спросила моя мать. — Я вас не знаю, моя милая, а ведь мне знакомы все в нашей округе». «Я ваша соседка, — ответила княжна, — и пришла вам сказать, что скоро прибудет доктор». Она вышла, и сейчас же мой отец воскликнул: «Да ведь это княжна Агата, я сразу узнал ее!» Мы не хотели ему верить, нам казалось, что он ошибается, но у нас не было времени долго рассуждать об этом. Мать сказала, что уже чувствует себя лучше, а вскоре явился и доктор; он снова принялся лечить ее и, уходя, сказал нам, что теперь она выздоровеет. И она в самом деле выздоровела; с тех пор она всегда говорила, что дама под вуалью, появившаяся у ее смертного ложа, была ее святой покровительницей, которой она как раз в ту минуту молилась, и дуновение уст этого ангела чудесным образом вернуло ее к жизни. Ни за что не хотела она расстаться с этой благочестивой и поэтической мыслью, а мои братья и сестры, бывшие тогда еще детьми, до сих пор разделяют с ней ее веру. Доктор всегда делал вид, будто не понимает нас, когда мы заговаривали с ним о даме в черном плаще, которая только вошла к нам и вышла, предсказав нам его приход и выздоровление моей матери. Говорят, княжна требует соблюдения полной тайны от всех, кому поручает вести свои добрые дела, и скромность ее доходит чуть ли не до мании. В течение многих лет тайна ее оставалась нерушимой, но истина в конце концов всегда обнаруживается, и теперь кое-кто уже знает, что это она является загадочной покровительницей несчастных. Но подумай, как несправедливо и безумно судят иногда люди! Некоторые говорят, будто она совершила какое-то преступление и дала обет искупить его, что ее благородная и святая жизнь не что иное, как добровольно наложенное на себя тяжкое покаяние, что в душе она до того ненавидит людей, что не хочет даже обменяться добрым словом с теми, кому помогает, и что только страх вечной кары заставляет ее посвящать свою жизнь делам милосердия. Такие суждения ужасны, не правда ли? Однако я сам слышал, как это говорили, правда, шепотом, старухи, собиравшиеся по вечерам у моей матери, но порой это повторяют и молодые люди, пораженные такими странными подозрениями. Что до меня, то я твердо уверен, что видел не призрак, и хотя мой отец, боясь потерять расположение княжны, если выдаст ее инкогнито, уже не смеет говорить, что это именно она посетила нас, то тогда, вначале, он так прямо и решительно заявил это, что я не мог не поверить ему. Как только мать стала поправляться, я пошел заплатить доктору за его услуги, но ни он, ни аптекарь нашего предместья не взяли с меня денег. На мои расспросы оба ответили, как им было, видимо, приказано, что тайное общество богатых и благочестивых лиц возмещало им все их труды и издержки.XVI. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МАНЬЯНИ
— Голова моя начала работать, — продолжал свой рассказ Маньяни. — По мере того как печаль, удручавшая меня, уступала место радости, я стал припоминать все, что было в моем приключении необычного. Мельчайшие подробности вставали в моей памяти, полные упоительного очарования. Нежный голос, изящная фигура, благородная походка, белая рука незнакомки непрестанно возникали передо мной. Особенно поразило меня необычной формы кольцо, которое я заметил у нее на пальце в тот момент, когда она щупала пульс у моей умирающей матери. До тех пор мне ни разу не приходилось бывать во дворце Пальмароза. В отличие от большинства старинных жилищ, принадлежащих нашей знати, он не открыт для обозрения иностранцам или местной любопытной публике. После смерти отца княжна жила уединенно, словно скрываясь от людей, принимала у себя очень немногих и выходила только по вечерам, да и то редко. Мне пришлось поэтому выжидать и искать случая, чтобы увидеть ее вблизи, ибо теперь я хотел взглянуть на нее совсем другими глазами. До того я никогда не пытался рассматривать ее, а за последние десять лет она так мало показывалась, что мы, жители предместья, совсем позабыли ее черты. Когда она выезжала, занавески в карете бывали всегда задернуты, а когда шла в церковь, закрывала лицо своей черной мантильей. Из-за этого у нас даже поговаривали, что прежде она была красавицей, но потом на лице у нее появилась проказа и так страшно изуродовала ее, что она не хочет больше показываться людям. Все это были одни россказни, ибо отец мой и другие работавшие у нее ремесленники смеялись над подобными баснями и уверяли, что она такая же, как и прежде. Однако мою молодую голову чрезвычайно занимали эти противоречивые слухи, и к желанию увидеть княжну примешивался какой-то мне самому непонятный страх, незаметно подготавливавший мое безумие — любовь к ней. Была одна странность, которая еще усиливала мое и без того пылкое желание увидеть ее. Отец часто ходил во дворец Пальмароза, где в качестве простого подручного помогал старшему обойщику снимать или прибивать драпировки; но меня он никогда не брал с собой, хотя обычно я сопровождал его ко всем другим заказчикам. Он отделывался пустыми отговорками, которым я, не задумываясь, верил, но когда мной овладело страстное желание проникнуть в это святилище, отец вынужден был признаться, что княжна не терпит у себя в доме молодых людей и старший обойщик всегда отсылает их, когда отправляется к ней со своими подручными. Это непонятное ограничение еще больше раззадорило меня. В одно прекрасное утро я решительно взял молоток, надел фартук и пошел во дворец Пальмароза, неся обитую бархатом скамеечку для молитвы, которую отец только что закончил в мастерской у старшего обойщика. Я знал, что она предназначалась для княжны Агаты, и вот, ни у кого не спросясь, я взял ее и понес. С тех пор, Микеле, прошло пять лет! Дворец, который ты видел сейчас сверкающим, открытым для всех, полным гостей, еще месяц тому назад был таким, как в ту пору, о которой я рассказываю; и таким он был в течение всех пяти лет, что княжна жила в нем после того, как, осиротев, обрела наконец свободу; таким, быть может, он снова станет завтра. Это была могила, в которой она, казалось, похоронила себя заживо. Все богатства, выставленные нынче напоказ, лежали, покрытые мраком и пылью, словно мощи святых в погребальном склепе. Двое или трое слуг, печальных и молчаливых, беззвучно проходили по длинным галереям, недоступным солнцу и свежему воздуху. Плотные занавеси были опущены на всех окнах, двери скрипели на заржавевших петлях, на всем лежал отпечаток торжественного запустения. Статуи возникали во мраке, как привидения, портреты предков следили за мной подозрительным взором. Мне стало страшно, но я все же шел вперед. Дворец, как я и предполагал, никем не охранялся. Невидимой стражей служили ему его негостеприимная, мрачная слава и ужасающее одиночество. Я шел, влекомый безумной дерзостью своих двадцати лет, со зловещей отвагой в сердце, обреченном заранее и стремящемся к своей гибели. По случайности или по воле рока никто не задержал меня. Немногочисленные слуги этого мрачного обиталища не видели меня или не считали нужным остановить, полагаясь, видимо, на какого-то цербера, более приближенного к хозяйке, обязанного стеречь вход в ее покои и которого каким-то чудом там не оказалось. Меня вел инстинкт, а может быть, судьба. Я прошел несколько зал, приподнимая тяжелые и пыльные портьеры. Я миновал последнюю незапертую дверь и очутился в богато убранной комнате, где прямо против меня висел на стене большой мужской портрет. Увидев его, я замер, и дрожь пробежала по моим жилам. Я узнал его по описаниям своего отца, ибо оригинал этого портрета возбуждал в то время у нас в предместье еще больше россказней и разговоров, чем странности самой княжны. То был портрет Диониджи Пальмароза, отца синьоры Агаты; но я должен рассказать тебе подробнее, Микеле, какой страшный это был человек: ведь ты, быть может, ничего еще о нем не слышал, ибо в наших местах самое имя его произносят со страхом. Мне следовало, пожалуй, раньше рассказать тебе о нем, ибо, зная ненависть и ужас, которые до сих пор внушает людям его память, ты лучше понял бы недоверие и даже недоброжелательность, с каким многие и теперь еще относятся к его дочери, несмотря на все ее добродетели. Князь Диониджи был деспот, угрюмый, жестокий и наглый. Свойственная его роду заносчивость доводила его порой чуть ли не до помешательства, и малейшее проявление гордости или сопротивления со стороны нижестоящих каралось им с неслыханной надменностью и жестокостью. Мстительный до безумия, он, как говорили, собственной рукой убил любовника своей жены и уморил несчастную женщину в заточении. Равные по положению ненавидели его, но еще более ненавидели его бедняки, которым он, правда, при случае помогал, и притом с княжеской щедростью, но делал это в такой оскорбительной форме, что каждый чувствовал себя униженным его благодеяниями. Теперь ты лучше поймешь, как мало симпатии могла завоевать и возбудить к себе его дочь. Мне так кажется, что неволя, в которой она, отданная во власть такого гнусного отца, провела свою раннюю юность, вполне объясняет и ее скрытность и как бы преждевременное увядание и замкнутость ее сердца. Она, несомненно, боится, встречаясь с нами, пробудить неприязнь, связанную с именем, которое носит, и если она избегает общества, на то есть свои причины, которые у людей справедливых должны были бы вызывать сочувствие и жалость. А вот тебе еще один, последний пример нрава князя Диониджи. Лет пятнадцать или шестнадцать тому назад — я был тогда ребенком и лишь смутно это помню — молодой горец, один из его слуг, выведенный из терпения грубой бранью князя, пожал, говорят, плечами, держа ему стремя, когда тот слезал с лошади. Юноша этот был храбрым и честным, но он был также горд и вспыльчив. Князь ударил его по лицу. Страшная ненависть вспыхнула между ними, и юный конюх, звали его Эрколано, покинул дворец Пальмароза, пригрозив, что знает ужасную семейную тайну и вскоре отомстит за себя. Что это была за тайна? Он так и не успел открыть этого, и никто никогда не узнал ее, ибо на другое же утро Эрколано нашли зарезанным на берегу моря с кинжалом в груди, а на кинжале был герб князей Пальмароза… Родные не посмели требовать правосудия, они были люди бедные! В эту минуту бледная тень, которую они уже видели на террасе дворца, вновь прошла через цветник и скрылась во внутренних покоях. Микеле с ног до головы пронизала дрожь. — Не знаю почему, но твой рассказ привел меня в смятение, — сказал он. — Я словно чувствую холод этого кинжала у себя в груди. Я боюсь этой женщины. Странная, суеверная мысль преследует меня: нельзя быть из рода убийц и не унаследовать при том либо извращенной души, либо больного рассудка. Дай мне прийти в себя, Маньяни, подожди, не рассказывай дальше. — Тягостное волнение, которое ты испытываешь, мрачные мысли, приходящие тебе в голову, — все это пережил и я, глядя на портрет Диониджи. Но я миновал его и вошел в последнюю дверь. Открывшаяся передо мной лестница привела меня в casino, и я очутился в молельне княжны. Тут я опустил на пол свою скамейку и огляделся. Никого! У меня не было больше предлога идти дальше. Хозяйка этого грустного жилища, видимо, вышла. Значит, надо было повернуть обратно, так и не увидев ее, потерять все плоды своей дерзости и, быть может, никогда больше не найти в себе подобного мужества или подобного случая. Мне пришло в голову произвести какой-нибудь шум, чтобы привлечь внимание княжны, если она находилась в одной из соседних комнат, ибо я был именно в ее покоях, в этом я не сомневался. Я взял молоток и принялся стучать по позолоченным гвоздикам, словно заканчивая работу. Хитрость моя удалась. «Кто там? Кто это стучит?»— услышал я слабый голос и по чистому и ясному произношению сразу узнал нашу таинственную гостью, ибо голос ее не переставал раздаваться в моих ушах, как мелодия несказанной красоты. Я подошел к бархатной портьере и с решимостью последней надежды приподнял ее. Я увидел богатую, по-старинному убранную комнату и женщину, лежавшую на кушетке; то была княжна; я прервал ее сиесту. Мое появление привело ее в неописуемый ужас. Она бросилась на середину комнаты, словно желая бежать. Ее прекрасное лицо — нежной и немного грустной красотой его я успел насладиться не долее одного мгновения — внезапно исказилось каким-то детским, отчаянным страхом. Я сделал шаг вперед, но тотчас же снова отступил. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость, — сказал я, — я просто бедный обойщик… Я стыжусь своей неловкости… Я ошибся… Я думал, ваша светлость вышли на прогулку, и работал здесь…» «Уйдите! — сказала она, — уйдите!»И жестом, в котором было больше растерянности и страха, чем властности и гнева, она указала мне на дверь. Я хотел выйти, но оцепенел, как во сне. Вдруг я увидел, что княжна, бывшая до того в необычайном волнении, стала бледной, как прекрасная лилия; дыхание ее прервалось, голова запрокинулась, руки бессильно опустились. Она упала бы, если бы я не бросился к ней и не поддержал ее. Она была без сознания. Я положил ее на кушетку. Я совершенно потерял голову и не думал звать на помощь. Да и к чему было бы звонить? Все спали или занимались своим делом в этом дворце, где безмолвие и запустение были, казалось, единственными полновластными хозяевами. Да простит меня бог, но двадцать раз с тех пор мучило меня искушение сделаться в этом доме лакеем. Не могу передать тебе, Микеле, что я испытал в течение этих двух или трех минут, когда она лежала передо мной словно мертвая: губы ее были бледны и сухи, как чистый воск, глаза полуоткрыты, но взгляд их остановился, темные волосы рассыпались вокруг чела, омытого холодным потом. Вся ее дивная, хрупкая красота казалась ни с чем для меня не сравнимой. О Микеле, сейчас я не в силах пересказать тебе всего этого! Но не хмельная, грубая страсть зажглась в моей здоровой, плебейской крови. Нет, то было чувство обожания, столь же чистое, робкое, нежное и таинственное, как и та, что внушала его. Я хотел бы упасть перед ней ниц, как перед усыпальницей святой мученицы, ибо думал, что она умерла, и вместе с ее душой и моя готова была покинуть землю. Я не смел коснуться ее и не знал, как помочь ей; голос отказывался служить мне, чтобы позвать на помощь. В ужасе я не мог сдвинуться с места, как бывает, когда во сне борешься со страшным кошмаром. Наконец, не знаю как, под руку мне попался какой-то флакон. Княжна мало-помалу стала оживать; она взглянула на меня, не видя, не понимая и не стараясь понять, кто я такой; потом она приподнялась на локте и наконец начала собираться с мыслями. «Кто вы, друг мой, — спросила она, увидев меня перед собой на коленях, — и о чем вы просите? У вас, я вижу, большое горе?» «О да, сударыня, я в страшном горе оттого, что так напугал вашу светлость, тому бог свидетель». «Нет, вы не испугали меня, — проговорила она с непонятным для меня замешательством, — разве я закричала? Ах да, — прибавила она, вздрогнув, снова охваченная недоверием и страхом, — я спала… Вы вошли и напугали меня… Я не люблю, когда ко мне входят так неожиданно… Но разве я обидела вас чем-либо, что вы плачете?» «Нет, сударыня, — ответил я, — вы лишились чувств, а я скорее готов был бы умереть, чем причинить вам страдание». «А разве я здесь одна? — воскликнула она с тревогой, заставившей меня задрожать. — Значит, каждый может войти сюда и оскорбить меня?» Она поднялась и побежала к звонку, словно охваченная порывом отчаяния. Слова ее и волнение привели меня в такой трепет, что я и не думал бежать. Между тем, если бы она позвонила и кто-либо вошел, то со мной обошлись бы, пожалуй, как со злоумышленником. Но она вдруг остановилась, и то, что отразилось на ее лице, в один миг позволило мне понять ее истинный характер. То было какое-то удивительное сочетание болезненной недоверчивости и соболезнующей доброты. Ведь ей пришлось, говорят, пережить в ранней молодости столько горя! Во всяком случае, ей хорошо был известен чудовищный нрав отца. Быть может, в детстве ей пришлось быть свидетельницей какого-нибудь убийства. Кто знает, какие страшные сцены насилия и ужаса тайно происходили за толстыми стенами этого безмолвного жилища? Быть может, у нее остался от них какой-то душевный недуг, приступ которого я только что видел. А вместе с тем сколько участия выражал ее взгляд, когда она выпустила из рук шнурок от звонка, видимо побежденная моим скромным видом и глубокой печалью! «Вы ведь вошли сюда нечаянно, не правда ли? — спросила она. — Вы не знали о моей странной причуде: я не терплю новых лиц… А если и знали, то решились нарушить мой запрет только потому, что у вас горе, которое я могу облегчить? Я уже видела вас где-то, мне смутно припоминаются ваши черты… Как вас зовут?» «Антонио Маньяни. Мой отец иногда работает здесь». «Я знаю его, он человек с достатком. Что же с ним случилось? Он болен или задолжал?» «Нет, сударыня, — ответил я, — я не прошу милостыни, хотя, быть может, только у вас одной в целом свете я мог бы попросить ее не краснея. Я давно уже мечтал вас увидеть, но не для того, чтобы о чем-либо просить, а чтобы призвать на вас благословение божье. Вы спасли мою мать, вы исцелили ее, вы склонились над ее изголовьем и возвратили мне надежду, а ей — жизнь… Да, это так! Вы об этом, разумеется, не помните, а я — я никогда этого не забуду. Господь да воздаст вам добром за то добро, которое вы сделали мне! Вот все, что я хотел сказать вашей светлости. А теперь я ухожу и умоляю вас никого не бранить, ибо я один во всем виноват». «Нет, я никому не скажу, что, несмотря на запрет, вы входили сюда, — ответила она, — иначе ваш отец и ваш хозяин вас разбранят. А вы, со своей стороны, не рассказывайте, что видели, как я испугалась, не то еще назовут меня сумасшедшей. Это и так уже говорят, а я не люблю, чтобы обо мне говорили. Что же касается вашей благодарности, я не заслужила ее. Вы ошиблись, дитя мое, я никогда ничего для вас не сделала». «О нет, я не ошибаюсь, сударыня, я узнал бы вас среди тысячи других женщин. Сердцем все постигаешь глубже и вернее. Вы не хотите, чтобы люди догадывались о ваших добрых делах, и я не буду о них говорить. Я не стану благодарить вас за то, что вы уплатили лекарю, нет: вы богаты, и вам не трудно быть щедрой. Но ничто не заставляет вас любить и жалеть тех, кому вы помогаете, и, однако, вы пожалели меня, когда я рыдал у дверей дома, где умирала моя мать, и вы полюбили ее, склонившись над ложем ее страданий». «Но, дитя мое, повторяю, я не знаю вашей матери». «Возможно, но вы узнали, что она больна, вы пожелали ее видеть, и милосердие охватило в этот миг вашу пылкую душу, ибо ваш взгляд, ваш голос, ваша рука, ваше дыхание в один миг исцелили ее, словно чудом. Она почувствовала это, она это помнит, она думает, что ей явился ангел, она обращается к вам с молитвой, ибо полагает, что вы на небе. Но я, я хорошо знал, что отыщу вас на земле и смогу поблагодарить». Холодное и сдержанное лицо княжны Агаты смягчилось, словно помимо ее воли. На мгновение оно озарилось горячим лучом сочувствия, и я увидел, какая редкостная доброта борется в ее больной душе с какой-то мучительной нелюдимостью. «Хорошо, — сказала она с неземной улыбкой, — я вижу, во всяком случае, что ты — добрый сын и любишь свою мать. Дай бог, чтобы я в самом деле принесла ей счастье. Но я думаю, что одному богу подобает возносить хвалу. Благодари его и молись ему, дитя мое; есть горести, которые он один знает и умеет врачевать, ибо люди не много могут сделать друг для друга. Сколько тебе лет?» Мне было тогда двадцать. Она выслушала мой ответ и, глядя на меня так, словно до того не разглядела моих черт, сказала: «Да, правда, ты не так молод, как мне показалось. Можешь теперь приходить сюда и работать, когда захочешь. Я уже привыкла к твоему лицу и больше не испугаюсь его, но в другой раз не буди меня так неожиданно своим стуком, ибо я просыпаюсь всегда с испугом и печалью — в этом моя болезнь!» И пока она говорила, провожая меня взглядом до самой двери, в глазах ее я читал затаенную мысль: «Я не предлагаю тебе помощи на жизненном пути, но буду заботиться о тебе как о многих других; я сумею послужить тебе без твоего ведома, так, чтобы не слышать более от тебя слов благодарности». Да, Микеле, вот что выражало ее лицо, ангельское и в то же время холодное, материнское и бесчувственное. Это роковая загадка, которую я не смог разгадать тогда и которая сейчас кажется мне еще более непонятной.XVII. ЦИКЛАМЕН
Маньяни умолк, и Микеле, задумавшись, не задавал ему больше вопросов. Наконец он опомнился и попросил приятеля докончить свой рассказ. — Рассказ мой окончен, — ответил молодой ремесленник. — С того памятного дня мне дозволено работать во дворце. Я много раз видел княжну, но ни разу не говорил с ней. — Но как же случилось, что ты полюбил ее? Ведь ты ее совершенно не знаешь, не знаешь, каковы ее сокровенные мысли. — Мне казалось, что я разгадал ее. Но вот уже неделя, как она вдруг пожелала выйти из своей могилы, открыть двери своего дома, отдаться светской жизни; особенно это заметно стало с сегодняшнего дня, когда она сделалась необычайно общительной, благосклонно беседует с людьми нашего звания, приглашает их к себе запросто (я ведь слышал твой разговор с ней и с маркизом Ла-Серра у главной лестницы, я стоял тут же, подле вас), и теперь я не знаю, что и думать о ней. Да, недавно еще мне казалось, что я разгадал ее характер. Дважды в год, весной и осенью, я являлся сюда вместе с другими рабочими и иной раз видел ее: она проходила мимо нас медленным шагом, погруженная в себя, печальная и в то же время спокойная. Порой она казалась расстроенной или больной, но и тогда ясный взгляд ее не был затуманен. Она приветствовала нас общим поклоном, с большей вежливостью, чем проявляют обычно лица ее положения по отношению к нашему брату. Порой она говорила несколько благосклонных слов старшему обойщику или моему отцу, без всякого высокомерия, но и без особенной теплоты. Казалось, она с почтением относится к их преклонному возрасту. Я был единственным молодым рабочим, допущенным во дворец, но княжна ни разу не обратила на меня ни малейшего внимания. Она не избегала моего взгляда, она встречала его не видя. Однако в иные минуты мне казалось, что она замечает гораздо больше того, что можно было предположить: жалобы, которых она словно и не слышала, вскоре оказывались справедливо удовлетворенными, и люди получали помощь, так и не зная, что это совершалось по мановению ее втайне простертой над ними руки. Дело в том, что она скрывает свое безграничное милосердие, подобно тому, как иные скрывают свой постыдный эгоизм. И ты еще спрашиваешь, почему я люблю ее! Ее добродетель восхищает меня, а немое отчаяние, видимо гнетущее ее, внушает мне глубокое и нежное сострадание. Восхищаться и жалеть, разве это не значит любить? Язычники, оставившие на нашей земле столько великолепных руин, приносили жертвы своим богам, блиставшим силой, славой и красотой, но не любили их, а у нас, христиан, вера из головы переместилась в сердце, ибо нашего бога показали нам в образе окровавленного и омытого слезами Христа. О да, я люблю эту женщину, поблекшую,как бедный лесной цветок, под грозной тенью отцовской тирании! Я не знаю, каково было ее детство, но угадываю его, судя по ее загубленной юности. Говорят, что когда ей было четырнадцать лет, отец ее, будучи не в силах заставить ее выйти замуж сообразно его гордости и честолюбию, которым хотел принести ее в жертву, надолго заточил ее в отдаленную комнату этого дворца, где она страдала от голода, жажды, жары, одиночества и отчаяния… Достоверно об этом никто ничего не знает. В то время ходили и другие слухи, — говорили, будто она находится где-то в монастыре, но удрученный вид ее слуг достаточно красноречиво свидетельствовал о том, что исчезновение ее было связано с каким-то несправедливым и бесчеловечным наказанием. Когда Диониджи умер, наследница его снова появилась во дворце, в обществе старой тетки, которая была не многим лучше покойника, но все же давала ей хоть свободнее дышать. Говорили, что в ту пору ей снова было сделано несколько блестящих предложений, но она упорно всем отказывала, и это еще больше восстановило против нее княгиню, ее тетку. Наконец смерть последней положила конец мучениям княжны Агаты, и в двадцать лет она вдруг оказалась во дворце своих предков свободной и одинокой. Но было, очевидно, слишком поздно, и она не могла оправиться от уныния, в которое погрузили ее перенесенные горести. Она утратила стремление и волю к счастью и осталась какой-то безразличной, почти нелюдимой и словно не способной искать чьей-либо привязанности. Однако она нашла ее среди некоторых лиц своего круга, и всем известно, что маркиз Ла-Серра, которому она отказала несколько лет тому назад, когда он в числе прочих просил ее руки, до сих пор страстно влюблен в нее. Так все о ней говорят, я же знаю это наверно и сейчас расскажу, каким образом узнал. Хотя я, без хвастовства, считаю себя хорошим работником, но должен признаться, что, попадая сюда, невольно становлюсь последним лентяем. Я чувствую себя взволнованным, угнетенным, стук молотков действует мне на нервы, словно я барышня. При малейшем физическом усилии меня бросает в жар. Каждую минуту я боюсь, что мне станет дурно, я только и думаю, как бы забраться в какой-нибудь темный угол и спрятаться там, чтобы обо мне забыли. Я стал способен подслушивать, подглядывать, шпионить. Я более не осмеливаюсь войти один в молельню или комнату княжны, о нет, хотя хорошо знаю туда дорогу. Отныне почтение мое к ней сильнее моей мятежной и безумной страсти! Но если мне удается вдохнуть сквозь дверную щель аромат ее будуара, услышать хотя бы издали звук ее легких шагов, которые я так хорошо знаю, тогда я доволен, я счастлив! Не одну беседу княжны с маркизом услышал я таким образом; не смею сказать, что это было нечаянно, ибо если случай давал мне возможность слышать, то у меня не хватало воли, чтобы не слушать. О, как долго снедала меня безумная ревность! Но потом я убедился, что он в самом деле только друг ее, друг верный, почтительный и покорный. Однажды между ними произошел разговор, все слова которого запечатлелись в моей памяти с роковой отчетливостью. В ту минуту, как я вошел в соседнюю комнату, княжна говорила: «О, зачем вы постоянно расспрашиваете меня? Вы же знаете, друг мой, что я до смешного чувствительна, что при мысли о прошлом я вся холодею и если бы я решилась заговорить о нем… о, я думаю, да, я думаю, что просто сошла бы с ума!» «Нет, нет, — тотчас же воскликнул маркиз, — не будем больше ни говорить, ни думать о прошлом. Вернемся к настоящему, к нашей дружбе, к покою. Взгляните на это прекрасное небо, на прелестные цикламены, которые словно улыбаются у вас в руках». «Эти цветы, — ответила княжна Агата, — не улыбаются; вам непонятен их язык, но я расскажу вам, за что я люблю их. Видите ли, в моих глазах они как бы эмблема моей жизни, отображение моей души. Посмотрите, до чего они необычны, причудливы. Они чисты, свежи, ароматны, но вместе с тем в их мучительно смятых и закрученных лепестках есть что-то болезненное, слабое; разве это не поражает вас?» «Да, правда, — ответил маркиз, — вид у них какой-то измятый. Они растут на вершинах гор, где гуляет ветер. Кажется, будто они так и спорхнули бы со своих стебельков, словно ничто их не держит, и природа дала им крылья, как бабочкам». «И, однако, они не улетают, — продолжала княжна, — они крепко держатся на своих стебельках. На вид они хрупки, но нет растения более выносливого, и самый нещадный ветер не в силах сорвать с них лепестков. Тогда как роза погибает от зноя за один жаркий день и усеивает лепестками раскаленную землю, цикламен стойко держится и живет много дней и много ночей, скромный и словно застывший. Вы, я думаю, никогда не видели его в ту минуту, когда он раскрывается. А я терпеливо проследила это таинство. Когда бутон расцветает, лепестки, туго свернутые и закрученные спиралью, с трудом отделяются друг от друга. Первый, наконец освободившись, вытягивается, словно крыло птицы, но тотчас же откидывается назад и снова закручивается, только в обратную сторону. То же происходит и с другими лепестками, и вот цветок, едва распустившись, уже весь растрепан и смят, словно вот-вот увянет. Но он не увядает, он живет, и живет долго. Это печальный цветок, и потому я всюду ношу его с собой». «Нет, нет, он не похож на вас, — сказал маркиз, — ибо его открытая сердцевина щедро дарит свой аромат любому ветру, тогда как ваше сердце таинственно закрыто даже для самой скромной, самой нетребовательной преданности!» Тут их прервали, но я уже знал достаточно. С этого дня я тоже полюбил цикламены и стал выращивать их в своем палисаднике; но я не осмеливаюсь срывать их и вдыхать их аромат, он мучает меня, сводит с ума! — Меня тоже! — воскликнул Микеле. — О да, это опасный запах! Но что-то не слышно больше грохота карет, Маньяни. Должно быть, сейчас закроют ворота виллы. Мне нужно вернуться к отцу. Что бы он там ни говорил, он, должно быть, падает от усталости, я могу ему понадобиться. И друзья направились к бальной зале. Она была пуста. Висконти и его товарищи тушили огни, все еще боровшиеся с дневным светом. — И к чему было давать этот праздник? — продолжал Маньяни, обводя глазами огромную залу. Через открытые двери в нее уже проникал унылый голубоватый рассвет, тогда как купол быстро погружался во тьму, отчего громадная зала казалась вдвое выше. — Княжна могла иначе помочь бедным, и я все еще не понимаю, зачем понадобилось ей подчиняться требованиям общественной благотворительности, ей, которая до сих пор творит добро с такой таинственностью. Какое чудо произошло в жизни нашей скромной благодетельницы? И вот я, готовый, кажется, отдать за нее жизнь, вместо того чтобы радоваться, чувствую себя словно оскорбленным и не могу думать о ней без горечи. Я любил ее такой, какой она была, а излечившаяся, утешившаяся, общительная, она стала мне непонятной. Значит, все теперь узнают ее и полюбят? Никто не станет называть ее сумасшедшей, не скажет, что она совершила преступление, скрывает страшную тайну, искупает свой грех благочестивыми делами, хотя на самом деле ненавидит род человеческий? Какой я безумец! Я сам боюсь излечиться и завидую, что она, быть может, вновь обрела свое счастье!.. Скажи мне, Микеле, а вдруг она решила ответить на любовь маркиза Ла-Серра и завтра пригласит двор и всю знать города и окрестностей, чтобы торжественно отпраздновать во дворце свою помолвку? Сегодня она задала царственный праздник. Быть может, завтра она устроит праздник народный? Она словно хочет примириться со всеми. Великие и малые, все будут веселиться на ее свадьбе! Ну и потанцуем же мы! Какая радость для нас, не правда ли? И какая добрая эта княжна! Микеле прекрасно понимал горькую иронию, звучавшую в словах его друга, и хотя его тоже охватило странное волнение при мысли о браке княжны Агаты с маркизом Ла-Серра, однако он сумел совладать с собой. Его сердце тоже было сильно задето, но удар нанесен был слишком недавно для того, чтобы юноша осмелился или удостоил назвать чувство, которое испытывал, любовью. Безрассудная страсть Маньяни служила ему предупреждением: он жалел товарища, но находил, что в странном его положении есть нечто унизительное, и не хотел следовать его примеру. — Возьми себя в руки, друг, — сказал он ему. — Такой дивный ночной праздник невольно возбуждает воображение, особенно если ты на нем только зритель. Но солнце уже поднимается над горизонтом и скоро прогонит прочь все призраки и сновидения. Я словно пробудился от какого-то фантастического сна. Слышишь, на дворе уже поют птицы! А здесь остались лишь прах и дым. Я уверен, что твоя безрассудная страсть далеко не всегда бывает так сильна, как сейчас, в минуту волнения и потери воли. Держу пари, что, проспав часа два и вернувшись к работе, ты почувствуешь себя другим человеком. Я уже ощущаю благотворное влияние обыденной жизни и обещаю тебе, что когда в следующий раз мимо нас пройдет эта бледная тень, я не стану оспаривать у тебя ее взгляда. — Ее взгляда! — воскликнул Маньяни с горечью. — Ее взгляда! Ах, ты мне напомнил тот взгляд, который она бросила на тебя еще до того, как начался бал, когда она впервые увидела твое лицо… Какой взгляд! Боже мой! Если бы он упал на меня только раз в жизни, я тотчас убил бы себя, чтобы не возвращаться к действительности, не жить рассудком после такой иллюзии, такого восторга! И ты, Микеле, ты почувствовал передаваемое тебе пожирающее пламя ее взгляда. На миг оно зажгло и тебя, и если бы не мои насмешки, ты до сих пор с упоением вспоминал бы его. Но какое мне теперь до этого дело? Я вижу, что она потеряла рассудок, что она нарушила свое священное печальное одиночество, что она любит кого-то — тебя ли, маркиза ли, не все ли равно? Почему она так подчеркивает свою благосклонность к твоему отцу, которого знает не больше года? Мой отец работает на нее с самого ее рождения, а она едва ли знает его по имени. Уж не хочет ли она увенчать свое противоестественную жизнь поступком совсем уже безумным! Не хочет ли она искупить тиранию и роковую славу своего отца, взяв в мужья дитя из народа, чуть ли не подростка? — Да ты сошел с ума, — сказал смущенный и готовый рассердиться Микеле. — Поди подыши свежим воздухом, Маньяни, и не воображай, будто я разделяю твои заблуждения, вызванные лихорадкой. В этот час княжна Агата засыпает спокойным сном, не вспоминая ни твоего, ни моего имени. Если она и удостоила меня благосклонным взглядом, то лишь потому, что любит живопись, и моя работа ей понравилась. — Посмотри, друг, — продолжал молодой художник, указывая на фигуры своих росписей, которых уже касался румяный луч утреннего солнца, проникавший в залу, — вот для меня единственная реальность, опьяняющая мою жизнь! Пусть прекрасная княжна выходит за маркиза Ла-Серра, я буду только рад. Он очень любезный человек, и лицо его мне нравится. Я же, когда захочу, напишу богиню более совершенную и менее загадочную, чем эта бесцветная Агата. — Ты? Несчастный! Никогда! — с негодованием воскликнул Маньяни. — Я согласен, что она красива, — продолжал, улыбаясь, Микеле, — я хорошо рассмотрел ее, и не без пользы для себя. Я взял у нее, не спрашивая позволения, все изящество и очарование ее образа, чтобы воспроизвести и идеализировать его по прихоти собственной фантазии. — Мне не раз говорили, что у художников ледяное сердце, — сказал Маньяни, с изумлением и ужасом глядя на Микеле. — Ты видел грозу, что бушует во мне, и остался холоден, и еще издеваешься надо мной! Мне стыдно, что я открыл тебе свое безумие. Ах куда мне бежать теперь, где спрятаться? Маньяни в отчаянии бросился прочь, и Микеле остался один в почти опустевшей зале. Висконти гасил последние огни. Пьетранджело, прежде чем уйти, помогал навести некоторый порядок в зале, которую должны были разобрать вечером того же дня. Микеле принялся помогать ему, но довольно лениво. Собственные раздумья несколько умеряли его пыл, и он чувствовал себя и духовно и телесно совершенно разбитым усталостью. Внезапная вспышка Маньяни огорчила его; молча подавив в себе отклик на волнение друга, он упрекал себя в том, что не сумел выразить сочувствие его горю и дал ему уйти, не успокоив его. Но и сам он, в свою очередь, невольно испытывал некоторое раздражение. Маньяни, пожалуй, зашел слишком уж далеко, желая внушить ему, будто он стал предметом внезапной страсти княжны. Это казалось до того нелепым, до того неправдоподобным, что Микеле, более сдержанный и воспитанный в свои восемнадцать лет, чем когда-либо мог стать Маньяни, только пожимал плечами от жалости. Однако самолюбие — это столь упрямый и столь дерзкий советчик, что минутами Микеле вновь слышал внутренний голос твердивший ему: «А ведь Маньяни прав. Ревность дала ему проницательность, которой нет у тебя самого. Агата любит тебя, она влюбилась в тебя с первого взгляда. Да и почему бы ей не полюбить тебя?» Микеле одновременно и упивался этими приступами тщеславия, от которых кровь приливала к его лицу, и в то же время стыдился их. Ему не терпелось поскорее вернуться домой, чтобы забыться сном и окончательно успокоиться. Однако он хотел дождаться отца, а тот, усердный и неутомимый, все еще продолжал хлопотать, находя себе тысячу мелких дел, принимая тысячу, казалось бы, излишних предосторожностей. — Потерпи еще немножко, — сказал ему добродушный Пьетранджело, — я сию минуту кончу. Мне, видишь ли, важно, чтобы наша добрая княжна могла спать спокойно, чтобы никто до самого вечера не заходил сюда и не шумел, а главное, чтобы нигде, ни в одном уголке, не осталось бы горящей свечи. Теперь-то пуще всего и надо опасаться пожара. Ну что за ротозей этот Висконти! Лампа-то в гроте все еще горит, отсюда вижу. Поди потуши ее, Микеле, да смотри не закапай маслом диван. Микеле вошел в грот наяды, но, прежде чем потушить лампу, не мог отказать себе в удовольствии еще минуту полюбоваться прелестной статуей, которую сам украсил прекрасными зелеными растениями, еще раз взглянуть на диван, где перед ним, как дивное сновидение, явилась княжна Агата. «Какой молодой она казалась и как была хороша! — говорил он себе. — И как этот влюбленный маркиз смотрел на нее! Он не в силах был скрыть своего обожания, и оно невольно передавалось самым чувствительным струнам моей души. На балу я видел и других мужчин: они смотрели на нее с дерзким вожделением, и все мое существо трепетало от негодования. Все они любят ее, каждый по-своему, эти знатные синьоры, а она не любит никого!» И взгляд Агаты, подобно молнии, сверкнул в его памяти, затмевая своим блеском все — и доводы рассудка, и страх показаться смешным, и сомнения в себе. Погрузившись в мечты, Микеле потушил лампу и опустился на подушки дивана, в ожидании того, что отец окликнет его; он надеялся еще насладиться несколькими минутами блаженного отдыха, прежде чем покинуть этот дивный грот. Но усталость одолевала его. Он уже не в силах был бороться с призраками, рожденными его воображением. Впервые за двадцать четыре часа он мог спокойно посидеть в одиночестве. Еще несколько минут он грезил наяву. Мгновенье спустя он уже спал глубоким сном.XVIII. МОНАХИ
Сколько минут, а может быть, и секунд, длилось это непреодолимое оцепенение, Микеле не мог сказать. Пылкое воображение, быстро летящее в сфере грез, проделывает такой путь и превозмогает одним скачком столько препятствий, что время не может больше служить ему мерилом, особенно в первые мгновения. Странный сон приснился Микеле. Будто какая-то женщина осторожно вошла в грот, приблизилась к нему, склонилась над его лицом и долго смотрела на него. Он чувствовал, как ароматное дыхание ласкает его чело, ему даже чудилось, будто он ощущает огонь ее взгляда, страстно устремленного на него. Но видеть ее он не мог, ибо в гроте было темно, да он и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Но то была Агата: сердце Микеле, воспламененное близостью этой женщины, твердило ему, что это она. Он попытался проснуться, чтобы заговорить с ней, и тогда она коснулась своими свежими и нежными губами его лба и запечатлела на нем долгий, но такой легкий поцелуй, что он, сраженный радостью, затрепетал от страха, что это только сон, и не в состоянии был ответить на него. «Но ведь это сон, увы, всего лишь сон!»— говорил он себе, продолжая спать, но в конце концов именно страх пробудиться заставил его проснуться; так обычно во сне инстинктивное и страстное желание продлить иллюзию заставляет ее только скорее рассеяться. Но какой то был странный и настойчивый сон! Микеле открыл глаза, приподнялся, опираясь на дрожащую руку, увидел и услышал, как убегает приснившаяся ему женщина. Портьера у входа в грот была опущена, в темноте он различил лишь неясную фигуру; послышался шелест шелкового платья, портьера приоткрылась и вновь закрылась так быстро, словно привидение проскользнуло, даже не коснувшись ее. Микеле бросился было вслед за ним, но кровь его так бурно приливала к сердцу, что он не в состоянии был устоять на ногах и вновь упал на диван. Прошла целая минута, прежде чем он пришел в себя и устремился к синей бархатной портьере, отделявшей его от залы. Трепещущей рукой приоткрыл он ее и очутился лицом к лицу с отцом, который весело и спокойно сказал ему: — Эге, мой мальчик, ты, я вижу, вздремнул здесь немножко? Ну, теперь все прибрано. Пойдем-ка, посмотрим, не проснулась ли наша маленькая Мила! — Мила? — воскликнул Микеле. — Разве Мила здесь, отец? — Возможно, что она не так уж далеко, — ответил старик. — Бьюсь об заклад, что она всю ночь не сомкнула глаз, очень уж хотелось ей взглянуть на бал! Но я запретил ей выходить из дома, пока совсем не рассветет. — А в самом деле, уже рассвело, — сказал Микеле, — значит, Мила должна быть здесь! Отец, скажите, не входила ли только что в грот какая-то женщина; может быть, это была сестра? — Ну, это тебе приснилось. Я никого не заметил. Правда, я не все время смотрел в эту сторону, видел, как за окнами мелькали пестрые юбочки, значит, какие-то любопытные девчонки уже забрались в сад. Кто знает, может Мила и входила сюда, пока я стоял отвернувшись. — Нет, отец, вот только что, сейчас, когда вы подходили к гроту, кто-то выскользнул из него, какая-то женщина… Я в этом уверен! — Да ты бредишь, сынок. На этой портьере я видел только собственную тень. Тебе в самом деле нужно выспаться как следует; пойдем-ка домой. Вот уже запирают последнюю дверь. Если Мила где-нибудь здесь, мы, конечно, увидим ее. Микеле собрался последовать за отцом, но оглянувшись последний раз на грот, вдруг заметил, как внутри что-то блестит; он бросился назад — уж не искра ли упала на ковер у дивана? Микеле нагнулся: перед ним лежала какая-то драгоценность; он поднял и рассмотрел при свете дня. То был золотой, осыпанный брильянтами медальон с вензелем княжны, ее подарок Миле, Микеле открыл его, желая убедиться, что это тот самый, и узнал в нем прядь своих собственных волос. — Я так и знал, что Мила входила в грот, — сказал он отцу, направляясь в сад. — Она поцеловала меня и разбудила своим поцелуем. — Возможно, и входила, — беззаботно повторил Пьетранджело, — но только я ее не видел. В эту минуту Мила вышла из-за купы магнолий, смеясь и подпрыгивая подбежала к отцу и нежно поцеловала и его и Микеле. — Пора вам отдохнуть, — заявила она. — Я пришла сказать, что завтрак готов. Мне так хотелось поскорее увидеть вас! Бедный отец, вы, верно, очень устали? — Нисколько, — ответил добряк, — я привык к подобной работе, а когда ужинаешь до самого рассвета, бессонная ночь — одно удовольствие. Напрасно ты готовила завтрак, Мила. Но смотри, брат твой прямо стоя спит. Пойдемте, дети! Вот уже и ворота парка запирают. Но вместо того, чтобы запирать, привратники вдруг принялись широко распахивать ворота, и Микеле увидел, как через них проследовала целая процессия монахов самых различных орденов, причем каждый нес какую-либо котомку или сумку. То были братья-сборщики нищенствующих орденов из многочисленных монастырей Катании и ее окрестностей. Они пришли сюда, чтобы собрать для своих обителей остатки от пиршества. Мимо Микеле медленно прошествовало человек сорок, многие вели за собой ослов, чтобы увезти на них полученное подаяние. Странные то были гости для утра, следовавшего за балом; их угодливые повадки и торжественная поступь, которой они входили в ворота вместе со своими ослами, производили столь неожиданное и комическое впечатление, что Микеле забыл о своих волнениях и с трудом удерживался от смеха. Но не успели монахи войти в сад, как смешали свои ряды и, сбросив высокопарные и постные личины, ринулись к бальной зале: один старался отпихнуть соседа, желая опередить его, другой нахлестывал осла, чтобы тот быстрее бежал, и все они спешили и толкались, обнаруживая всю свою ненасытную алчность и завистливость. Монахи разбежались по всей зале, чуть не высадив ее легкие двери, пытались даже подняться по главной лестнице и проникнуть в кухни. Но дворецкий и его войско, заранее приготовившиеся к штурму и хорошо знакомые с повадками монахов, тщательно забаррикадировали все входы и вынесли в залу подаяния, которые старались раздать со всей возможной справедливостью. Тут были целые блюда мяса, остатки пирожных, кувшины с вином и даже разбитая во время ужина стеклянная и фарфоровая посуда, которую добрые братья бережно забирали, а впоследствии искусно склеивали для украшения своих буфетов или для продажи любителям. Монахи, не стесняясь, оспаривали друг у друга добычу и упрекали слуг, что те не отдают им всего, полагающегося по праву, делят подачки несправедливо и не выказывают должного уважения к святым, покровителям их монастырей. Они даже грозили всяческими недугами, от которых эти святые якобы исцеляют тех, кто умеет заслужить их милость. — Фу, какой тощий окорок ты суешь мне! — кричал один. — Ты и так уже глух на одно ухо, погоди, скоро и вторым не будешь слышать даже раскатов грома. — Эта бутылка наполовину пуста! — кричал другой. — Берегись, мы перестанем молиться за тебя, и тебе никогда не вылечиться от камней в пузыре, ежели у тебя обнаружится эта скверная болезнь. Иные выпрашивали весело, с шутовскими выходками, вызывая у раздатчиков смех и выказывая при этом столько остроумия и добродушия, что слуги старались незаметно от прочих сунуть им кусочек получше. Микеле видывал в Риме величественных капуцинов — в своих надушенных рясах они с изящной торжественностью шаркали сандалями в непосредственной близости от священной папской туфли. Нищие сицилийские монахи показались ему поэтому особенно грязными, грубыми и даже циничными, когда они набросились, словно стая жадных воронов и болтливых сорок, на крохи, оставшиеся от пира. Некоторые, однако, понравились ему своими смелыми и умными лицами. И под монашеской рясой он узнавал в них все тот же сицилийский народ, благородный народ, который может согнуться под вражеским игом, но никогда не сломится. Молодой художник снова вернулся в залу, чтобы присутствовать при столь любопытном зрелище, и стал наблюдать отдельные его сцены с вниманием живописца, из всего извлекающего для себя пользу. Особенно бросился ему в глаза один монах, в капюшоне, опущенном чуть не до самой бороды. Монах этот ничего не выпрашивал. Отдалившись от прочих, он расхаживал по зале, словно его больше интересовало помещение, где происходил праздник, чем собственная выгода. Микеле несколько раз пытался разглядеть его черты, думая определить по ним, кто же скрывается под этим клобуком, наблюдательный ли художник, или разочарованный светский человек. Но он только раз, да и то случайно, увидел, как монах приподнял капюшон, и был поражен его отталкивающим безобразием. В то же мгновение и монах устремил на него взгляд, полный злобного любопытства, но тотчас же снова отвел его, словно боясь, как бы кто-нибудь не заметил, что он следит за другими. — Я уже видел где-то это безобразное лицо, — сказал Микеле сестре, стоявшей возле него. — Ты называешь это лицом? — ответила молодая девушка. — А я так видела только козлиную бороду, совиные глаза да нос, похожий на перезрелую и раздавленную фигу… Надеюсь, ты не собираешься писать его портрет? — Мила, ты недавно говорила, что знаешь многих из этих монахов, видала, как они собирали милостыню у нас в предместье; а этого ты никогда не встречала? — По-моему нет; но если ты хочешь узнать его имя, это не так трудно: вот идет человек, который скажет мне его. И молодая девушка побежала навстречу последнему входившему в залу монаху; у него не было с собой ни мешка, ни осла, он нес только небольшую суму. Это был высокий красивый мужчина средних лет. Борода его была еще черной, как эбеновое дерево, хотя волосы, венком окружавшие голову, начинали уже седеть. Черные живые глаза, благородной формы орлиный нос и улыбка румяных губ говорили о прекрасном здоровье в сочетании со счастливым и твердым характером. Он не был ни болезненно худ, ни смехотворно толст, как большинство его собратьев. Его коричневая ряса выглядела опрятно, и носил он ее даже как-то величественно. Микеле с первого взгляда почувствовал доверие к этому капуцину, но вдруг с возмущением увидел, как Мила чуть не бросилась монаху на шею и, захватив его бороду своими маленькими ручками, со смехом делает вид, будто хочет насильно поцеловать его. — Ну-ну, малютка, уймись, — сказал тот, отстраняя ее с отеческой нежностью. — Хоть я и прихожусь тебе дядей, но все-таки целовать монаха не полагается. Микеле вспомнил тогда о капуцине Паоланджело, о котором отец часто говорил ему, но которого он еще ни разу не видел. Фра Анджело был как по крови, так и по духу родным братом Пьетранджело и самым младшим дядей Микеле. Его ум и благородный характер составляли гордость семьи, и едва Пьетранджело завидел его, как поспешил представить ему Микеле. — Брат, — сказал старый ремесленник, дружески пожимая руку капуцину, — благослови моего сына. Я и раньше привел бы его к тебе с монастырь за благословением, да очень уж мы были здесь заняты, пожалуй даже свыше сил. — Дитя мое, — ответил фра Анджело, обращаясь к юноше, — прими мое благословение, благословение родственника и друга; я рад видеть тебя, и лицо твое мне нравится. — Это взаимно, дядя, — ответил Микеле, вкладывая свою руку в руку монаха. Однако, желая выразить свое расположение к племяннику, добрый капуцин, обладавший мышцами атлета, с такой силой сжал ему пальцы, что молодому художнику на один миг показалось, будто они сломались. Он и вида не подал, что находит подобную ласку немного чрезмерной, но пот выступил у него на лбу, и он с улыбкой подумал, что человеку такого закала, как его дядя, скорей пристало бы требовать милостыню, нежели просить ее. Но поскольку сила почти всегда сочетается с кротостью, фра Анджело, подойдя к дворцовому раздатчику милостыни, выказал столько же сдержанности и скромности, сколько его собратья — рвения и настойчивости. Он с улыбкой поздоровался с ним, но не соизволил протянуть за подаянием руку, а просто открыл перед ним свою суму и снова закрыл ее, не глядя, сколько туда положили, и кратко пробормотав положенные слова благодарности. Затем он вернулся к брату и племяннику, отказавшись взять что-либо съестное. — В таком случае, — сказал, подходя к нему, особо набожный лакей, — вы получили слишком мало денег! — Ты думаешь? — ответил монах. — Право не знаю. Но сколько бы там ни было, монастырю придется довольствоваться и этим. — Угодно вам, брат мой, чтобы я пошел и потребовал для вас еще что-либо? Если вы обещаете молиться за меня всю неделю, я похлопочу, чтобы вам дали побольше. — О нет, не трудись, — ответил, улыбаясь, гордый капуцин, — я помолюсь за тебя даром, и молитва моя будет от этого только действеннее. Твоя госпожа княжна Агата раздает достаточно милостыни, и если я пришел сюда, то единственно в силу послушания. — Дядюшка, — шепотом сказала ему маленькая Мила, — тут есть один монах вашего ордена, чье лицо очень смущает моего отца и брата. Им кажется, что он похож на кого-то другого. — На другого? Что ты хочешь сказать? — Посмотри на него, — добавил Пьетранджело. — Микеле прав, у него прегнусная рожа. Ты должен знать его, вот он стоит там, один, возле помоста для музыкантов. — По росту и походке я не мог признать в нем ни одного из братьев нашего монастыря. Однако он в одежде капуцина. Но почему это вас беспокоит? — Нам, видишь ли, кажется, — ответил Пьетранджело, понизив голос, — что он похож на аббата Нинфо. — В таком случае поскорей уходите отсюда, — с живостью сказал фра Анджело, — а я заговорю с ним и узнаю таким образом, кто он и что ему здесь нужно. — Да, да, пойдемте, — согласился Пьетранджело. — Дети, ступайте вперед, я сейчас же последую за вами. Микеле взял сестру под руку, и вскоре они шли уже по дороге в Катанию. — Мне кажется, — сказала Мила брату, — что этот аббат Нинфо замыслил против нас что-то недоброе и может причинить нам много неприятностей. Ты не знаешь, отчего это, Микеле? — Нет, мне это и самому не очень-то понятно. Но мне подозрителен человек, который принимает чужое обличие явно для того, чтобы шпионить за кем-то. За нами ли, за другими ли — это не имеет значения, но подобная таинственность скрывает дурные намерения. — Ну, да что там! — сказала беззаботная Мила после минутного молчания. — А может быть, это такой же монах, как другие. Он держится в стороне и рыщет по углам, но многие ведут себя так после процессий и празднеств — ищут, не потерял ли кто из толпы какой-нибудь драгоценной вещицы… Тогда они потихоньку поднимут ее и унесут к себе в монастырь, чтобы потом вернуть ее в обмен на одну или две щедро оплаченные мессы или чтобы выведать чью-либо сердечную тайну. Ведь они большие охотники всюду совать свой нос, эти милые монахи! — Как, ты не любишь монахов, Мила? Ты, значит, лишь наполовину сицилийка. — Смотря каких монахов. Я люблю дядю и тех, кто на него похож. — Да, кстати! — продолжал Микеле, ибо слова «драгоценная вещица» снова напомнили ему приключение, от которого отвлекли его капуцины. — Ты ведь входила в бальную залу еще до того, как я встретил тебя в саду? — Нет, — сказала она, — если бы ты не повел меня смотреть на раздачу милостыни, я и не подумала бы войти туда. Но почему ты об этом спрашиваешь? Я видела убранную залу перед самым балом, а теперь, когда она пуста и в ней больше не танцуют, мне до нее и дела нет. Бал, танцы, наряды — вот что мне хотелось увидеть! Но ты не пожелал проводить меня даже до дверей нынче ночью! — Почему ты не хочешь сказать мне правду, ведь дело идет о сущем пустяке! Ты входила в грот наяды, чтобы разбудить меня, дорогая сестричка, что же тут удивительного? — Отец сказал, что ты стоя спишь, Микеле, и я теперь сама это вижу. Клянусь, что со вчерашнего утра, когда я принесла зеленые ветки, которые ты просил нарвать тебе, я не входила в грот. — Ах, Мила, это уж слишком! Раньше ты лгуньей не была, и мне грустно, что теперь я нахожу у тебя этот недостаток. — Молчите, братец, вы меня оскорбляете, — произнесла Мила, гордо отнимая у него руку. — Я никогда не лгала и не начну лгать сегодня ради вашего удовольствия. — Сестричка, — продолжал Микеле, ускоряя шаги, чтобы догнать Милу, которая побежала вперед, огорченная и обиженная, — будьте добры, покажите мне медальон, который вам подарила княжна Агата. — Нет, синьор Микеланджело, — ответила молодая девушка, — вы недостойны смотреть на него. В ту пору, когда я срезала у вас прядь волос, чтобы носить их на сердце, вы не были таким злым, каким стали теперь. — А я на вашем месте снял бы этот медальон с груди, — насмешливо произнес Микеле, — и бросил бы его в лицо злому брату, который вздумал так вас мучить. — Так вот же вам, нате! — воскликнула молодая девушка, выхватывая из-за корсажа медальон и с досадой отдавая его Микеле. — Можете взять обратно свои волосы, мне они больше не нужны. Только верните медальон; он мне дорог, как подарок особы, которая лучше вас! «Два одинаковых медальона, — проговорил про себя Микеле, держа их оба на ладони. — Что это, неужто видение мое продолжается?»XIX. ЮНАЯ ЛЮБОВЬ
Микеле не решился просить у сестры объяснения этого чуда. Он убежал, заперся в своей каморке и сел на кровать, но вместо того, чтобы лечь спать, раскрыл оба медальона и принялся рассматривать их внутри и снаружи. Они были совершенно одинаковы: в них лежали одинаковые волосы, до такой степени одинаковые, что Микеле, после того как он долго разглядывал и ощупывал их, уже не мог отличить, какой же медальон принадлежит его сестре. Тут он вспомнил слова Милы, на которые не обратил тогда внимания, хотя сначала они и показались ему немного странными. Мила уверяла, что данная княжне прядь волос, побывав в руках у ювелира, уменьшилась наполовину. Эта странность так и оставалась необъяснимой. Княжна не знала Микеле, ни разу его не видела; он еще не прибыл в Катанию, когда она взяла у Милы ее ладанку, чтобы обменять ее на драгоценный медальон. Трудно представить себе, чтобы женщина полюбила мужчину только за цвет его волос. Как ни ломал себе голову Микеле, ему удалось придумать только одно объяснение, которое, впрочем, мало удовлетворяло его пылкое любопытство: быть может, княжна когда-то любила человека, чьи волосы имели точно такой же оттенок и были такими же тонкими, как волосы Микеле. Она носила их в медальоне. Увидев, с каким обожанием Мила хранит на груди локон брата, она заказала другой такой же медальон и подарила его Миле. Но в восемнадцать лет самые невероятные предположения кажутся порой самыми вероятными. И Микеле казалось поэтому гораздо правдоподобнее, что его полюбили еще до того, как увидели; и когда сон наконец одолел его, оба медальона все еще лежали у него на ладони. Но когда около полудня он проснулся, то нашел только один: другой, видимо, затерялся в постели. Микеле всю ее перерыл и обшарил. Он потратил целый час, осматривая все щели в полу, все складки своей одежды, лежавшей на стуле у изголовья. Один из двух талисманов исчез. «Не иначе, как это проделки мамзель Милы», — подумал он. Дверь его комнатки была закрыта лишь на щеколду, и молодая девушка, напевая, работала в соседней мансарде. — Ага, наконец-то вы встали! — сердито сказала она, когда он зашел к ней. — Давно бы так! Ну что, вернете вы мне мой медальон? — Мне кажется, моя крошка, что вы сами пришли и забрали его у меня, пока я спал. — Да ведь вот он, вы держите его! — воскликнула Мила, внезапно схватив его за руку. — Ну, разожмите же пальцы, не то я исколю их иголкой. — Охотно, — сказал он, — но этот медальон не ваш, свой вы у меня уже взяли. — Вот как! — сказала Мила и вырвала медальон у брата, который, слабо защищаясь, пристально глядел на нее. — Этот медальон не мой? Вы думаете, что я могу ошибиться? — Тогда, значит, вы взяли другой? — Какой другой? Разве у вас тоже есть медальон? Я не знала; но этот — мой; вот вензель княжны, это моя собственность, моя реликвия. Забирайте обратно свои волосы, раз мы в ссоре, я согласна; но с медальоном я не расстанусь. И она спрятала его на груди, вовсе не собираясь выбросить из него волосы, которые ценила больше, чем хотела сознаться в своей детской досаде. Микеле вернулся в свою комнату. Второй медальон был, очевидно, там. Мила говорила так уверенно и у нее было такое правдивое выражение лица! Но и на этот раз он ничего не нашел и решил поискать в комнате сестры, как только та уйдет. Пока же он попробовал помириться с ней. Он принялся ласково ее уговаривать, упрекая в чрезмерной гордости и подозрительности, и клялся, что все происшедшее было просто шуткой. Мила согласилась помириться с братом и поцеловать его; но она все еще оставалась немного грустной, и ее розовые щечки были бледнее, чем обычно. — Ах, братец, — сказала она, — плохо вы выбрали время, чтобы мучить меня; бывают дни, когда особенно трудно переносить насмешки, и я подумала было, что вы это делаете нарочно, чтобы посмеяться пав, моими горестями. — Твоими горестями, Мила? — воскликнул Микеле, с улыбкой прижимая ее к сердцу. — У тебя есть горести? Ты огорчена, что не видела вчерашнего бала, да? Ах, тогда ты в самом деле пренесчастная маленькая девочка! — Прежде всего, Микеле, я не маленькая девочка. Мне скоро пятнадцать лет, в этом возрасте уже можно иметь горести. Что до бала, то, по правде говоря, я думала о нем очень мало, а теперь, когда он позади, совсем больше не думаю. — Какие же у тебя в таком случае горести? Может быть, тебе хочется новое платье? — Нет. — Уж не умер ли твой соловей? — Ведь он поет. Разве вы не слышите? — Уж не съел ли жирный кот нашего соседа Маньяни твою горлицу? — Пусть бы попробовал! Я знать не хочу ни господина Маньяни, ни его кота! Тон, каким Мила произнесла имя Маньяни, заставил Микеле насторожиться, а заглянув в лицо сестры, склонившейся над работой, он увидел, что смотрит она на деревянную галерею, где обычно, прямо против ее комнаты, работал Маньяни. В эту минуту он как раз проходил по галерее. Он не смотрел на окно Милы; она не смотрела на свою работу. — Мила, ангел мой, — сказал Микеле, беря обе ее руки и целуя их, — видишь ты того юношу, что идет по галерее с таким рассеянным видом? — Да, ну и что же? — то бледнея, то краснея ответила Мила. — Какое мне до него дело? — Я только хочу сказать тебе, дитя мое, что если твое сердце захочет когда-нибудь полюбить, об этом молодом человеке тебе думать не следует. — Вот еще глупости! — воскликнула Мила, вскинув голову и пытаясь рассмеяться. — Да он последний, о ком бы я тогда подумала. — И правильно бы сделала, — продолжал ее брат, — потому что сердце Маньяни не свободно: он вот уже много лет любит другую женщину. — Это меня не касается и совершенно мне безразлично, — ответила Мила и, склонив голову к работе, быстро запустила колесо прялки. Но Микеле с грустью увидел, как две крупные слезы скатились на моток сырцового шелка. Микеле обладал большой душевной деликатностью. Он понял, какой стыд охватил его юную сестру, прибавив еще новую муку к мукам ее уязвленного сердца. Он видел, какие сверхъестественные усилия делает бедная девочка, чтобы подавить рыдания и преодолеть свое смущение. Он понял, что в этот миг нельзя было еще больше оскорбить ее, продолжая расспрашивать. Итак, он сделал вид, будто ничего не заметил, и, решив серьезно поговорить с ней, когда она будет лучше владеть собой, вышел из комнаты, где она работала. Но и сам он был так взволнован, что, придя к себе, не мог оставаться спокойным. В последний раз он принялся искать медальон, но в конце концов отказался от напрасных поисков, понадеявшись на то, что, как это нередко случается с потерянными предметами, вещица сама попадется ему под руку, когда он меньше всего будет о ней думать. Он решил пойти к Маньяни, чтобы помириться с ним, ибо они расстались, сердясь друг на друга, и Микеле, не имевший более сил сдерживать тайную гордость от сознания, что он страстно любим княжной, ощущал новый прилив великодушного участия к своему обездоленному сопернику. Он поспешил перейти двор и вошел в мастерскую отца Маньяни. Но напрасно искал он друга — Антонио не было ни в мастерской, ни в его комнате. Старушка мать сказала, что сын только что вышел, но куда он направился, она не знала. Тогда Микеле устремился за город, отчасти потому, что надеялся встретить там друга, отчасти — чтобы предаться своим мечтам. Маньяни между тем, побуждаемый тем же чувством симпатии и великодушия, решил пойти к Микеле. Выйдя из своего скромного жилища другим ходом, он кружным путем, через узкий, темный переулок позади обоих смежных строений направился к бедному, ветхому дому, где жил Пьетранджело с детьми. Таким образом, молодым людям не удалось встретиться. Маньяни поднялся во второй этаж и заглянул в большую, бедно обставленную комнату, где увидел лежавшего на своем скромном ложе Пьетранджело. Старик спал спокойным сном, уже не нарушаемым, как бывало в молодости, волнениями любви. Тогда Маньяни поднялся по лестнице, или, вернее, по деревянной стремянке, ведущей к мансардам, и оказался перед комнатой Микеле, смежной с комнатой Милы. Дверь оставалась открытой. Маньяни вошел и, не найдя никого, готов был уже уйти, как вдруг остановился пораженный: взор его упал на цикламен, заботливо поставленный Микеле в старый венецианский стакан причудливой формы. Да, конечно, Маньяни был воплощением честности, однако неизвестно, не похитил ли бы он украдкой этот цветок, если бы знал, что он выпал из букета княжны. Но юноша об этом не догадался и только заметил про себя, что Микеле, очевидно, тоже любит цикламены. Вдруг жалобный стон вывел Маньяни из раздумья и заставил его вздрогнуть. В соседней комнате кто-то тихо плакал. Сдержанные, но горькие рыдания слышались за перегородкой, недалеко от двери, соединявшей комнатки детей Пьетранджело. Маньяни хорошо знал, что здесь живет Мила. Он часто с улыбкой приветствовал ее со своей галереи, когда она, сияя молодостью и красотой, появлялась у своего окошка. Но так как она нисколько не затрагивала его сердца и он всегда обращался с ней как с ребенком, он совсем забыл в этот миг, что это ее мансарда, и вообще даже не помнил о ней. Плач ее, конечно, совсем не походил на мужской, но голос Микеле звучал порой так молодо и нежно, что вполне можно было предположить, что это плачет он. Думая только о своем юном товарище, полный участья, Маньяни быстро толкнул дверь и вошел в комнату Милы. При его появлении молодая девушка громко вскрикнула и отбежала в дальний угол комнаты, закрывая лицо руками. — Мила, дорогая моя соседка, — воскликнул добрый Маньяни, почтительно останавливаясь у двери, — простите и не бойтесь меня. Я ошибся, я услышал, что кто-то горько плачет, и решил, что это ваш брат… Я страшно испугался и, не подумав, вошел… Но, боже мой, о чем вы так плачете, дитя мое? — Я не плачу, — ответила Мила, незаметно вытирая глаза и делая вид, что ищет какую-то вещь в старом комоде у стены, — вы, право же, ошиблись. Благодарю вас, госродин Маньяни, но оставьте меня, вы не должны входить таким образом в мою комнату. — Да, да, я это знаю, Мила, и сейчас уйду. Но не могу же я оставить вас в таком состоянии, вы слишком расстроены, я хорошо это вижу. Может быть, вы больны? Позвольте мне разбудить вашего отца, чтобы он пришел утешить вас. — Нет, нет, ни за что! Не надо его будить! — Но, моя милая… — Я сказала — нет, Маньяни. Я еще больше расстроюсь, если вы встревожите отца. — Но что же случилось, Мила? Не разбранил ли вас за что-нибудь Пьетранджело? Но ведь вы не заслуживаете нималейшего упрека, а он так добр, так ласков, так любит вас! — О да, конечно, он всегда разговаривает со мной с такой любовью, с такой нежностью. Вам просто показалось, Маньяни; нет у меня никакого горя, я вовсе не плачу. — Но я отсюда вижу, что лицо ваше опухло, а глаза покраснели, моя бедная девочка. Какое же глубокое горе может быть у вас, такой юной, прекрасной, всеми любимой? — Не смейтесь, прошу вас, надо мной, — гордо произнесла Мила, но тут же побледнела и вместо того, чтобы спокойно сесть, задыхаясь упала на стул. Маньяни был настолько далек от мысли, что может внушить ей какие-либо иные чувства, кроме дружеских, и сам относился к ней настолько по-братски, что уже не мог теперь оставить ее одну. Не испытывая ничего иного, кроме нежного участия, он приблизился к ней, опустился у ее ног на плетеную соломенную циновку и, взяв обе ее руки в свои, принялся по-отечески настойчиво расспрашивать ее. Бедная Мила так смутилась, что не в силах была оттолкнуть его. Впервые разговаривал он с ней, сидя так близко и с такой явной симпатией! О, как счастлива была бы она, если бы не роковые слова, сказанные Микеле! Но слова эти еще звучали у нее в ушах, а Мила была слишком горда, чтобы позволить Маньяни заподозрить свою тайну. Она сделала над собой огромное усилие и с улыбкой ответила, что не такое уж у нее большое горе, просто они немного поссорились с братом. — Поссорились с братом, бедный мой ангелочек? — переспросил Маньяни, пристально вглядываясь в нее. — Возможно ли? О нет, вы обманываете меня, Мила. Микеле любит вас больше всего на свете, и это так понятно. Если бы вы в самом деле поссорились, он был бы уже здесь, на моем месте у ваших ног, и лучше сумел бы вас утешить — ведь он ваш брат, а я только друг. Ну, как бы там ни было, а я сейчас пойду приведу его, и если он и вправду виноват, отчитаю его как следует. Но когда он увидит, как вы расстроены и изменились в лице, он, я знаю, расстроится больше вас. — Маньяни, — ответила Мила, удерживая его, — я запрещаю вам идти за Микеле, это значило бы придать слишком большое значение простой ребяческой ссоре. Забудьте все и ничего не говорите ни ему, ни отцу. Уверяю вас, что я обо всем уже забыла, и сегодня же вечером мы с братом помиримся. — Если это было пустое ребячество, — сказал Маньяни, садясь рядом с ней, — значит, вы слишком чувствительны, дорогая Мила. У меня тоже есть сестры, и когда я был еще не таким рассудительным, как теперь, когда я был еще в возрасте Микеле, я любил немножко поддразнить их. Только они не плакали, они щедро отплачивали мне тем же, и я же еще оставался посрамленным. — Это потому, что они умны, а у меня, видно, не хватает ума, чтобы защищаться, — грустно ответила Мила. — Вы, напротив, большая умница, Мила, я прекрасно это заметил; недаром вы дочь Пьетранджело и сестра Микеле, да и воспитаны вы лучше всех наших девушек. Но сердце у вас превосходит ум, раз вы умеете защищаться одними слезами! Похвалы эти одновременно и радовали и огорчали молодую девушку. Ей льстило, что Маньяни, не подавая и вида, будто обращает на нее внимание, на самом деле достаточно следил за ней для того, чтобы оценить ее по достоинству. Но его спокойное, благожелательное обращение в достаточной степени свидетельствовало о том, что Микеле не обманул ее.XX. БЕЛЬ-ПАССО И МАЛЬ-ПАССО
И тут Мила взяла себя в руки; ибо Маньяни не льстил ей, она и в самом деле по своему развитию была выше большинства девушек ее сословия, а Пьетранджело сумел внушить ей те же благородные представления, что были свойственны ему самому. При этом ей свойственна была некоторая доля девичьей восторженности, сочетавшейся с мужеством и самоотверженностью, которые она, подчиняясь врожденному такту и доброму своему сердцу, скрывала под внешней беспечностью. Это высшая форма стоицизма — уметь жертвовать собой с улыбкой, ничем не обнаруживая своего страдания. — Мой добрый Маньяни, — сказала она, вставая и глядя на него обычным своим ясным взглядом, — благодарю вас за вашу дружбу; вы помогли мне, я успокоилась. Позвольте мне теперь приняться за работу, у меня ведь не было, как у вас, рабочего дня ночью. Я должна выполнить то, что мне положено на сегодня, и получить за это свою плату. Уходите, не то станут говорить, что я лентяйка и трачу время на болтовню с соседями. — Прощайте, Мила, — ответил молодой человек. — Да ниспошлет вам сегодня господь душевный покой и да будут счастливы все дни вашей жизни. — Благодарю вас, Маньяни, — ответила Мила, протягивая ему руку, — отныне я надеюсь на вашу дружбу. Выражение благородной сдержанности, с каким эта девушка, только что перенесшая такой удар, протягивала ему руку, и тон, каким она произнесла слово «дружба», словно мужественно говоря прости всем своим иллюзиям, остались непонятными Маньяни; однако что-то в этом жесте и в этом тоне глубоко тронуло его, он и сам не знал почему. В одно мгновение Мила на его глазах преобразилась: она перестала быть прелестным ребенком, она сделалась серьезной и красивой, как взрослая женщина. Своей грубой, сильной рукой он взял ее маленькую ручку, чтобы, не задумываясь, скрепить братским рукопожатием этот дружеский договор, но рука его неожиданно дрогнула, прикоснувшись к нежным и тонким, словно у принцессы, пальчикам; ибо Мила очень заботилась о своей внешности и умела одновременно быть и трудолюбивой и утонченной. Маньяни почудилось, будто это рука Агаты, которой по странной случайности ему лишь однажды удалось коснуться. Он почувствовал внезапное волнение и привлек к себе на грудь дочь Пьетранджело, словно хотел по-братски поцеловать ее, однако не посмел этого сделать. Тогда она простодушно подставила ему лоб, говоря себе, что это будет первый и последний поцелуй, память о котором она сохранит в знак прощания навеки со всеми надеждами. Маньяни вот уже шестой год как соблюдал строгое целомудрие. Казалось, он дал обет подражать непорочной жизни Агаты, и, охваченный одной неотступной мыслью, решил медленно сгореть, так и не узнав ни любви, ни брака. Он не целовал больше женщин, даже своих сестер, с тех пор как носил в груди химеру своей безнадежной страсти. Быть может, в минуту болезненной экзальтации он и в самом деле произнес подобный обет. Но он сразу же забыл этот грозный обет, когда прелестная темноволосая головка Милы легла к нему на грудь. Он взглянул на нее, и ясность ее черных глаз, выражавших непонятную для него муку и мужество, пробудила в нем восторженное изумление и чувство неги. Губы его не коснулись лба девушки; они с трепетом отклонились от ее алых губ и прижались к ее смуглой нежной, как бархат, шейке, быть может, на секунду или две дольше, чем было необходимо для скрепления уз братской дружбы. Мила побледнела, глаза ее закрылись, и болезненный стон вырвался из ее исстрадавшейся груди. Испуганный Маньяни усадил ее на стул и убежал, охваченный ужасом, изумлением и, возможно, укорами совести. Мила, оставшись одна, едва не лишилась чувств; немного придя в себя, она, шатаясь, пошла и закрыла на задвижку дверь; потом она опустилась на колени у своей кровати, закрыла лицо руками и осталась так, погруженная в глубокую задумчивость. Но она больше не плакала, и горе ее уступило место радостному возбуждению, полному энергии и жгучих надежд. Это проснулся в ней оптимизм Пьетранджело, та вера в судьбу, которая для людей сильных духом и деятельных заменяет суеверия. Она встала, поправила волосы, посмотрела в зеркальце и громко сказала, снова берясь за работу: «Не знаю, почему, когда и как, но он полюбит меня; стоит только мне захотеть; я этого хочу, и бог поможет мне». Когда Микеле вернулся, она, спокойная и прекрасная, погружена была в созерцание «Мадонны в кресле», которую он для нее скопировал; она повесила ее не у изголовья, а над своим зеркальцем. Микеле понял, что поступил правильно, оставив девушку одну переживать первые приступы горя, ибо видел, что наедине с собой она обрела новые силы. Она не слышала, как он наклонился, чтобы поцеловать ее в шею. — Поцелуйте меня сюда, братец, — сказала она, подставляя ему щеку, — но никогда больше не целуйте меня в шею. — Почему же, маленькая проказница? Разве брату это запрещается? — А вот почему, — ответила она, — у вас уже начинает расти борода, и я не хочу, чтобы вы меня поцарапали. — Ну, это ты мне льстишь! — сказал, рассмеявшись, Микеле. — Твои опасения делают слишком много чести моим пробивающимся усикам! Не думал я, что они могут отпугнуть кого-либо! Но ты, значит, меньше заботишься о своей щечке, чем о своей хорошенькой шейке, сестричка? Не потому ли, что ты только что любовалась лицом этой прекрасной мадонны? — Может быть, — ответила Мила. — Мадонна в самом деле прекрасна, и я очень хотела бы во всех отношениях походить на нее. — Так вот почему ты смотрелась сейчас в зеркало? Берегись грешных мыслей перед этим святым изображением! — Нет, Микеле, — с серьезным видом ответила Мила, — нет ничего грешного в том, что я вглядываюсь в красоту мадонны. Я только сегодня по-настоящему поняла ее, а до того думала, что никто не в силах создать такого красивого лица, как у княжны Агаты. Но теперь я вижу, что Рафаэль превзошел ее. В чертах его мадонны много силы, но еще больше спокойствия. Это божественное лицо живет; в нем много воли, много веры в себя… Это самая целомудренная и вместе с тем самая любящая женщина; она словно говорит: «Любите меня, потому что я люблю вас!» — Ну, Мила, откуда только берутся у тебя такие мысли? — воскликнул Микеле, с изумлением глядя на сестру. — Я слушаю тебя, как во сне. Беседу молодых людей прервал их отец. Он пришел предложить Микеле принять участие в разборке бальной залы. Все рабочие, участвовавшие в ее сооружении, сговорились сойтись к трем часам пополудни, чтобы убрать эту временную пристройку. — Я знаю, — сказал Пьетранджело, — что княжна хочет сохранить твои росписи; ты должен помочь мне скатать холсты и осторожно перенести в одну из галерей дворца. Микеле последовал за отцом, но едва вышли они из города, как Пьетранджело остановился. — Друг мой, — сказал он, — я пойду на виллу один; мне надо поговорить с княжной об этом проклятом аббате, что переодевается монахом и шпионит — не знаю, за чем или за кем, — в ее доме. Ты же ступай вот по этой тропинке прямо на северо-запад и иди по ней, не сворачивая ни направо, ни налево, целых два лье. Через час дойдешь до Бель-Пассо, монастыря капуцинов, где ждет тебя твой дядя, фра Анджело; он сказал, что будет ждать до самого захода солнца. Он убедился, что подозрительный монах, на которого мы ему указали, не кто иной, как тот самый Нинфо. Брат не стал объяснять мне, в каких кознях он его подозревает, а заявил, что хочет серьезно поговорить с тобой. Не думаю, чтобы твоему дяде было известно больше, чем нам, о здоровье кардинала и целях аббата, но он человек разумный и предусмотрительный. Должно быть, сегодня утром он навел некоторые справки, и мне очень хотелось бы узнать, что он обо всем этом думает. Микеле свернул на указанную ему тропинку и после часа ходьбы по самым живописным местам, какие только может представить себе воображение, очутился у ворот монастыря, где жил его дядя. Монастырь этот был расположен над небольшой деревушкой, у подножия Этны, посреди возделанной и цветущей долины, усеянной сельскими домиками. Густые вековые деревья осеняли здания, а из сада, обращенного к африканскому солнцу, открывался роскошный вид, простирающийся до самого моря. Этот романтический уголок, весь изборожденный чудовищными потоками окаменевшей лавы, имел два названия, данных ему в разные периоды, и поскольку теперь уже неизвестно было, какое из них ему больше подходит, его называли то одним, то другим именем. Ландшафт здесь был чудесный, почва — плодородная, климат — благодатный, и поэтому эту местность сначала назвали Бель-Пассо, или Прекрасная Долина. Но потом произошло страшное извержение Этны и одного из ее боковых кратеров, Монте-Россо, которое все разорило и изуродовало. И тогда стали называть эту местность Маль-Пассо, или Долина Бедствий. Между тем время шло, люди вновь отстроили деревню и монастырь, разбили лазу, обработали почву и мало-помалу вернулись к первому, веселому имени. Однако оба эти противоположные названия часто еще смешивались в обычной речи и в воспоминаниях жителей. Старики, видевшие край в его былом великолепии, называли его Бель-Пассо, так же как маленькие дети, заставшие его уже возрожденным из хаоса. А те, кого зрелище катастрофы и ее бедствия поразили в их юные годы, на чью долю с самой колыбели выпали одни лишь тяготы и страх, те, кто теперь только-только начал видеть какие-то плоды от трудов рук своих, те чаще говорили Маль-Пассо, чем Бель-Пассо. Быть может, уже с очень давних пор, дважды или трижды в столетие, долина эта изменяла таким образом, в зависимости от событий, свое имя — пример храброй беспечности человеческого рода, который вновь и вновь вьет свое гнездо рядом со сломанной веткой и вновь начинает любить, лелеять и восхвалять родной край, едва отвоеванный у вчерашних бедствий. Край этот, впрочем, оправдывал оба данные ему названия. Он словно сочетал в себе и все ужасы и все красоты природы. Там, куда некогда огненная река устремила свои гибельные потоки, все — и лавовые нагромождения, и синеватое вулканическое стекло, и остатки изуродованной, изрытой, затопленной или сожженной почвы — напоминало те роковые дни — жителей, впавших в нищету, вдов, и сирот, убитых горем, Ниобею, превратившуюся в камень при виде своих сраженных детей. Но тут же, совсем рядом, старые смоковницы, согретые прошедшим мимо них пламенем, дали новые ветви и сочными своими плодами усеяли свежую траву и древнюю почву, пропитанную необычайно плодородными соками. Все, что находилось на пути у раскаленной лавы, все, что уцелело, благодаря неровностям рельефа, обратило себе на благо гибель соседей. То же происходит и с родом человеческим — всюду жизнь попирает смерть. Микеле заметил, что в некоторых местах из двух деревьев-близнецов одно исчезло, словно срезанное пушечным ядром, и от него остался лишь обгоревший пень рядом со стройным стволом второго, словно торжествующего победу над погибшим братом. Микеле застал дядю за работой: он дробил застывшую лаву, чтобы расширить грядку, засаженную чудесными овощами. Монастырский сад был разбит внутри самой лавы. Его дорожки были покрыты блестящей фаянсовой мозаикой, а грядки с овощами и цветами, высеченные прямо в скале и наполненные принесенной землей, походили на огромные ящики, до краев врытые в грунт. Чтобы еще усилить это впечатление, между возделанной почвой и фаянсовыми дорожками была оставлена кайма из черной лавы, наподобие того, как делают бордюры из букса или тимьяна, а на каждом углу были высечены из лавы шары, напоминавшие классические украшения на кадках с апельсиновыми деревьями. Трудно было представить себе что-либо более аккуратное и более уродливое, более симметричное и более унылое, одним словом — более монастырское, чем этот сад, предмет гордости и любви добрых монахов. Но красота цветов, великолепие виноградных гроздьев, покоившихся на массивных лавовых столбах, нежное журчание родника, разбивавшегося на тысячи серебристых ручьев, несущих влагу каждому растению в его каменное узилище, а более всего вид, открывавшийся с террасы, обращенной на юг, все это возмещало грусть, навеваемую при мысли о столь тяжелом и столь упорном труде. Фра Анджело, вооруженный железной палицей, снял свою монашескую рясу, чтобы она не стесняла его движений, и остался в одной короткой коричневой тунике, так что на солнце сверкали громадные мускулы его волосатых рук; при каждом ударе, от которого лава разлеталась осколками, он издавал нечто вроде рычания. Но, увидев юного художника, он выпрямился и обернул к нему кроткое и ласковое лицо. — Ты явился вовремя, юноша, — сказал он, — я как раз думал о тебе; мне много о чем надо тебя расспросить. — А я, дядюшка, думал, что вы, напротив, многое хотите сообщить мне. — Да, верно, хотел бы, если бы знал, кто ты такой; но если не считать нашу кровную связь, ты ведь для меня чужой, и что бы ни говорил твой отец, ослепленный, быть может, своей любовью, я не знаю, насколько серьезный ты человек. Отвечай же: что ты думаешь о том положении, в каком очутился? — Для того чтобы мне не приходилось отвечать на ваши вопросы другими вопросами, вам следовало бы, любезный дядя, задавать их более точно. Когда я узнаю, каково мое положение, я смогу сказать вам, что о нем думаю. — Значит, — продолжал капуцин, внимательно и несколько строго всматриваясь в Микеле, — ты ничего не знаешь о тех тайнах, которые тебя касаются, даже не предчувствуешь их? И ни о чем не догадываешься? Тебе никогда не поверяли никаких секретов? — Я знаю, что когда-то, в то время, как я только родился, отец был замешан в политическом заговоре. Но в том возрасте я, естественно, не мог знать, справедливо его обвиняли или нет. А отец никогда не заговаривал со мной об этом. — Что же, он недостаточно доверял тебе, или ты сам был равнодушен к его судьбе? — Несколько раз я пытался расспрашивать его, но он всегда отвечал мне уклончиво. Однако я не заключил из этого, подобно вам, дядя, что он не доверяет мне; мне это кажется просто невозможным; но я всегда считал, что если в самом деле он участвовал в заговоре, то, вероятно, был связан клятвой, как это принято во всех тайных обществах. Я полагал поэтому, что проявил бы неуважение к нему, если бы продолжал расспросы. — Славно сказано; но не скрывается ли под этими словами глубокое равнодушие к судьбам родной страны и эгоистическое пренебрежение к священной борьбе за свободу? На этот раз Микеле был несколько смущен столь прямо поставленным вопросом. — Ну, — продолжал фра Анджело, — отвечай смело, не бойся, я жду от тебя одной только правды. — Хорошо, я отвечу вам, дядя, — сказал Микеле, стойко выдерживая холодный взгляд монаха, невольно огорчивший его, ибо ему хотелось понравиться этому человеку, чье лицо, голос и манеры внушали уважение и симпатию, — я скажу вам, что думаю, раз вы желаете это знать, скажу вам, кто я, хотя и рискую потерять ваше расположение. Пусть борьба за свободу станет для Италии и Сицилии подлинной борьбой за освобождение людей порабощенных — и вы увидите: я ринусь в бой не только с восторгом, но с яростью. Но увы! До сих пор я всегда видел, как простые люди жертвовали собой лишь для того, чтобы из одного рабства попасть в другое, видел, как богатые и знатные использовали их в своих целях во имя той или иной идеи. Вот почему, хотя я не остаюсь равнодушным при виде бедствий и угнетения своих сограждан, я никогда не хотел участвовать в заговорах под главенством аристократов и ради их интересов, как бы охотно они ни привлекали нас к своему делу. — О люди, люди! Так, значит, «каждый за себя»— таков всегда будет ваш девиз! — воскликнул капуцин и вскочил, словно не в силах был сдержать возмущение; но тут же, засмеявшись каким-то странным и горьким смехом, он снова сел и произнес, с иронией глядя на Микеле: — Синьор князь, eccellenza[226], вы, я вижу, изволите смеяться над нами!XXI. ФРА АНДЖЕЛО
Странная выходка капуцина больно задела и озадачила Микеле, однако, желая сохранить независимость и прямоту своих суждений, он выказал спокойствие, которого на самом деле не чувствовал. — Почему называете вы меня князем и сиятельством, милый дядя? — произнес он, пытаясь улыбнуться. — Разве я говорил сейчас как аристократ? — Именно. Вот я и говорю: каждый за себя! — ответил фра Анджело, снова становясь серьезным и грустным. — Если таков дух века, которым ты проникся в Риме, если такова новая философия, которой питаются молодые люди по ту сторону пролива, значит, наши несчастья еще не кончены и мы долго еще сможем молча перебирать свои четки. Увы, увы, вот как обстоят дела! Дети нашего народа не хотят поднимать смуту, опасаясь, как бы им вместе с собой не освободить и бывших своих хозяев; а аристократы тоже не смеют двинуться, боясь, как бы их бывшие рабы не уничтожили их! Что ж, в добрый час! А тем временем чужеземная тирания богатеет за наш счет и смеется над нами, своей добычей; наши матери и сестры побираются или вынуждены продавать себя, наши братья и друзья умирают в нищете или на виселице. Чудесное зрелище, и я удивлен, Микеланджело, как это вы из Рима, где у вас перед глазами были только великолепие папского престола и шедевры искусства, явились сюда лицезреть эту бедную Сицилию с ее нищим народом, разоренным дворянством и ленивыми, отупевшими монахами! Почему бы вам не совершить увеселительную прогулку в Неаполь? Вы там нашли бы синьоров более богатых, правительство более щедрое, и все это за счет тех самых налогов, что заставляют нас умирать от голода. Народ там весьма равнодушный, он очень мало беспокоится о судьбе своих соседей: «Какое нам дело до Сицилии? Она — наша добыча, и ее жители вовсе нам не братья». Вот что говорят в Неаполе. Поезжайте в Палермо — там вам скажут, что Катанию нечего жалеть, что она прекрасно может прожить за счет своих шелковичных червей. Ступайте в Мессину — и вам заявят, что Палермо — это вовсе не Сицилия, и нечего слушать его мерзкие советы и набираться его мерзкого духа. Отправляйтесь во Францию — там ежедневно печатают в газетах, что богомольные и трусливые народы вроде нашего вполне заслужили свою участь. Поезжайте в Ирландию — там вам скажут, что ирландцы не желают иметь дела с французскими еретиками. Ступайте куда хотите — и всюду вы окажетесь на одной высоте с идеями вашего времени, ибо всюду вам скажут то, что вы только что заявили: «Каждый за себя!» Слова, тон и выражение лица фра Анджело глубоко потрясли Микеле, и у него хватило честности тут же признаться себе в этом. В нем заговорила его артистическая жилка, и то, что, высказанное кем-либо другим, он счел бы софизмами и декламацией, в устах этого монаха показалось ему простым и величественным. — Отец мой, — произнес он с наивной непосредственностью, — может быть, вы и правы, что так отчитали меня, не знаю. Я мог бы привести немало доводов в защиту своего скептицизма, но все они улетучиваются из моей памяти по мере того, как я слушаю вас. Я не думаю, чтобы я был так уж плох и заслуживал такого презрения, как считаете вы. Но, когда я слушаю вас, мне скорее хочется исправиться, чем защищаться. Продолжайте же, дядя. — Да, да, понимаю, — гордо промолвил фра Анджело, — вы художник и изучаете меня, вот и все. Подобные речи кажутся вам неожиданными в устах монаха, и вы уже мечтаете о картине, которую напишете: Иоанн Креститель, проповедующий… в пустыне? — Не смейтесь надо мной, умоляю вас, дядя, не стоит: я и так знаю, что вы проницательнее и умнее меня. Вы стали меня расспрашивать, я чистосердечно открыл вам свои мысли. Я ненавижу насилие, в каком бы обличье оно ни выступало, в обличье прошлого или настоящего. Я не хотел бы служить орудием чужих страстей и жертвовать своей будущностью художника ради того, чтобы вернуть почести и богатство нескольким знатным семействам, неблагодарным по своей природе и у которых деспотизм — в крови. Я считаю, что в такой стране, как наша, революция ни к чему другому не привела бы. Я готов взять в руки ружье ради того, чтобы защитить жизнь отца или честь сестры. Но если речь идет о том, чтобы вступить в некое тайное общество, участники которого должны действовать вслепую, не видя ни руки, направляющей их, ни цели, к которой они идут, то я этого не сделаю! (Разве что вы сумеете красноречиво доказать мне, что это мой долг.) Не сделаю, милый дядя, хотя бы вы прокляли меня за то или высмеяли бы меня, что еще хуже. — А откуда вы взяли, будто я собираюсь вовлечь вас в какое-то общество? — спросил, пожимая плечами, фра Анджело. — Я удивляюсь вашей подозрительности и тому, что первое чувство, пробудившееся в вас по отношению к брату вашего отца, — это страх, что он обманет вас. Я хотел поближе познакомиться с вами, юноша, и весьма опечален тем, что узнал о вас. — Что же вы узнали обо мне? — теряя терпение, воскликнул Микеле. — Ну, предъявляйте мне обвинения по всем правилам, чтобы я знал наконец, в чем моя вина. — Вся ваша вина в том, что вы не тот, кем вам следовало быть, — ответил фра Анджело, — и нам это очень прискорбно. — Опять не понимаю. — Вы и не можете понять того, о чем я сейчас думаю. Иначе вы не высказались бы так передо мной. — Но объяснитесь же, во имя всего святого, — сказал Микеле, не в силах долее выносить дядюшкины нападки. — Мы словно деремся на дуэли в темноте. Я не могу парировать ваши выпады, а защищаясь, видимо, наношу вам удары. В чем вы меня обвиняете или чего от меня требуете? Я человек своего времени и своего круга, разве я виноват в этом? Я впервые попал в эту страну, которая вся во власти прошлого. Я не атеист, но и не святоша. Я не верю ни в превосходство избранных наций, ни в роковую отсталость моего народа. Я не чувствую себя прирожденным слугой старых аристократов, старых предрассудков и старых обычаев моей родины. Я ставлю себя на один уровень с самыми гордыми и почитаемыми лицами, чтобы судить их, ибо хочу знать, преклоняться ли мне перед истинными заслугами или остерегаться ложного авторитета. Вот и все, дядя, клянусь вам. Теперь вы знаете, кто я. Я восхищаюсь всем, что прекрасно, величественно и искренно перед лицом бога. Сердце мое способно на привязанность, а разум благоговейно чтит добродетель. Да, я люблю искусство, я мечтаю о славе, но я хочу искусства серьезного, а славы — незапятнанной. Я не поступлюсь ради нее ни одной из своих обязанностей, но никаких ложных обязанностей не наложу на себя и не поддамся ложным доводам. Неужто из-за этого я достоин презрения? И неужто ради чести считаться настоящим сицилийцем я должен стать монахом в вашем монастыре или разбойником в ваших горах? Порыв живого, непосредственного чувства, которому невольно поддался Микеле, пришелся капуцину по нраву. Он слушал юношу с интересом, и черты лица его постепенно смягчались. Но последние слова подействовали на него словно электрический ток. Он подскочил на скамье и, схватив Микеле за руку с той же геркулесовской силой, какую уже доказал ему утром, воскликнул: — Это еще что за намек, вы кого это имеете в виду? — Но, увидев, как изумлен Микеле этой новой выходкой, он рассмеялся. — Ну что ж! — продолжал он. — Если ты все знаешь, если твой отец все тебе рассказал, мне что за дело! Другие же знают эту тайну, а мне и горя нет. Ах, дитя мое, вы, сами того не подозревая, сказали нечто очень важное, выразили то, что можно было бы назвать зерном истины. Только не все способны питаться подобной истиной, есть истины и более удобные и более приятные, вполне удовлетворяющие большинство. Но для тех, что жаждут оправдать свои чувства и поступки законами абсолютной логики, для них то, что вам кажется парадоксом, в наших краях считается самым обыкновенным. Вы глядите на меня с удивлением? Да, повторяю, вы, сами того не зная, проявили большую проницательность, когда заявили, что ради чести быть истинным сицилийцем надо стать либо монахом в моем монастыре, либо разбойником в наших горах. Я предпочел бы, чтобы вы стали тем или другим, а не художником-космополитом, как вы мечтаете. Выслушайте же теперь одну историю и постарайтесь понять ее. Жил-был в Сицилии один горемыка, одаренный, однако, живым воображением и некоторой долей мужества. Он не в силах был переносить бедствия, постигшие его родину, и в одно прекрасное утро взял ружье и ушел в горы, решив, что либо его убьют, либо он уничтожит поодиночке столько врагов, сколько сумеет, в ожидании того дня, когда сможет обрушиться на них вместе с партизанами, к которым хотел присоединиться. Их было много, все — отборные молодцы. Во главе стоял знатный дворянин, последний отпрыск одной из самых знаменитых местных семей, князь Чезаре Кастро-Реале. Запомните хорошенько это имя: если вы до сих пор не слышали его, наступит время, когда оно станет для вас очень важным. В лесу и в горах князь велел называть себя «Destatore» [227], Дестаторе, и под этим прозвищем его знали, любили и боялись целых десять лет, не подозревая, что он тот самый молодой аристократ, который незадолго перед тем безрассудно растратил в Палермо все свое состояние и вел самую веселую жизнь, окруженный друзьями и любовницами. Прежде чем говорить о бедном горемыке, который из любви к родине и ненависти к ее угнетателям стал разбойником, надо рассказать вам о благородном дворянине, который по той же причине стал во главе этих разбойников. Это поможет вам лучше узнать свою страну и своих соотечественников. Дестаторе было тридцать лет, он был красив собой, образован, хорошо воспитан, смел и великодушен. Настоящий герой; но его преследовало и притесняло неаполитанское правительство, особенно ненавидевшее его из-за влияния, которое он имел на простой народ. Он решил положить конец той жизни, какую вел, прокутить остатки своего состояния, которое с каждым днем таяло из-за налогов, обогащавших врага, словом, заглушить свою душевную боль и либо убить себя, либо довести до отупения, предавшись разгулу. Однако ему удалось только разориться. Его крепкое здоровье выдержало все излишества, которым он предавался, распутство не заглушило его душевную боль, и когда он увидел, что вино не усыпляет, а только возбуждает его, поднимая в нем столь глубокую ненависть, что ему оставалось либо тут же заколоться собственной шпагой, либо, по его выражению, «попробовать неаполитанского мясца», тогда он исчез и стал разбойником. Решили, что он утонул; наследство его не доставило ни больших хлопот его племянникам, ни больших выгод судейским крючкотворам. И тогда он стал тигром, грозным львом, наводившим ужас на всю округу, и кровавыми делами своими стал мстить за родину. Тот горемыка, о котором я упомянул в начале этой истории, страстно привязался к нему и служил ему беззаветно. Он не боялся оказаться «во власти прошлого», когда склонял колени перед тем, кто почитал себя выше него, но перед богом был равен и подобен ему; он не думал о том, что дерется, рискуя жизнью, ради «хозяина», «неблагодарного по своей природе»и у которого «деспотизм в крови», не думал о том, что, уничтожив чужеземную тиранию, он снова подпадет под иго «старых предрассудков», «старых злоупотреблений», аристократов и монахов. Нет, все эти сомнения были слишком сложны для его простого и прямого ума. Просить милостыню в те времена он считал бы низостью; работать?.. Да он только это и делал всю жизнь, да еще с жаром, ибо любил работу и не боялся труда. Но я не знаю, успели ли вы заметить, что в Сицилии не каждый, кто хочет, находит работу? На земле, самой плодородной и щедрой в мире, непомерные налоги разорили торговлю, земледелие, все промыслы и все искусства. Человек, о котором я говорю, готов был на самую неблагодарную и тяжелую работу в соляных копях и рудниках, в самых недрах этой разоренной и запустелой земли. Но работы не было нигде, все предприятия одно за другим закрывались, и ему пришлось бы либо просить на хлеб у своих земляков, таких же нищих, как он, либо воровать. Он предпочел брать открыто. В банде Дестаторе знали, с кого брать, и брали справедливо. Убивали и грабили только врагов Сицилии и изменников. А с людьми смелыми или несчастными заключали союз. Мы надеялись создать отряд, достаточно сильный, чтобы захватить какой-нибудь из наших трех главных городов: Палермо, Катанию или Мессину. Но Палермо готово было оказать нам доверие только в том случае, если бы во главе банды стоял аристократ, Дестаторе же считался авантюристом низкого происхождения, и потому его отвергли. А скажи он свое настоящее имя, было бы еще хуже, ибо распущенность его получила позорную известность по всей стране, и винить в этом он мог только себя. В Мессине от наших предложений отказались под тем предлогом, что неаполитанское правительство многое сделало для процветания мессинской торговли, и если все как следует взвесить, то лучше мир любой ценой, а вместе с ним расцвет промыслов и надежда на обогащение, чем война за свободу, вместе с ее беспорядками и анархией. В Катании нам ответили, что ничего не могут предпринять без союза с Мессиной и ничего не желают делать в союзе с Палермо. Одним словом, нам решительно отказали во всякой помощи; а потом, год за годом кормя нас обещаниями, нам в конце концов заявили, что разбойничье ремесло вышло из моды и отстаивать его попросту неприлично, когда можно продать себя правительству и разбогатеть, находясь у него на службе. Правда, при этом забывали прибавить, что для того, чтобы снова занять свое место в обществе, князю Кастро-Реале пришлось бы стать врагом своего народа и вступить в какую-либо военную или гражданскую должность, то есть усмирять бунтовщиков с помощью пушек или преследовать, выдавать и посылать на виселицу бывших товарищей. Дестаторе понял, что миссия его окончена, что отныне жить за счет своего мушкетона — значит нападать на своих же земляков, и глубокая грусть овладела им… Блуждая по самым диким ущельям в глубине острова, и в своих дерзких вылазках иной раз даже подходя к городским воротам, он некоторое время существовал за счет иностранных путешественников, имевших неосторожность посетить нашу страну. Но подобное занятие было недостойно его, ибо иностранцы эти в большинстве случаев были неповинны в наших несчастьях и настолько не способны защищаться, что и обирать-то их было просто стыдно. Храбрецам, последовавшим за своим вожаком, скоро опротивело столь жалкое ремесло, и каждый день кто-нибудь из них дезертировал. Правда, эти совестливые лица, покинув нас, делались еще хуже: одни, всеми отвергнутые, опустились и обнищали, другие вынуждены были спеться с правительством, которое видело в них хороших солдат и сделало из них жандармов и шпионов. С Дестаторе остались, таким образом, только настоящие разбойники, убивавшие и обиравшие без разбора всех, кто попадался им на пути. Лишь один человек среди них еще сохранил честность и не хотел становиться грабителем с большой дороги. Это был тот горемыка, чью историю я тебе рассказываю. Но покинуть несчастного своего предводителя он тоже не хотел, ибо любил его, и сердце его разрывалось при мысли, что тот останется один с негодяями, которые в одно прекрасное утро, когда некого будет грабить, не задумываясь зарежут его или вовлекут в какое-либо выгодное для них одних преступление. Дестаторе ценил привязанность своего бедного друга. Он назначил его своим лейтенантом — чин смехотворный в отряде, состоявшем из небольшой кучки отверженных. Порой он еще позволял ему говорить себе правду в глаза и прислушивался к его советам, но чаще всего с досадой прогонял прочь, ибо день ото дня становился все раздражительней, и суровые добродетели, обретенные им в пору душевного подъема и мужества, уступали место порокам прежней его жизни; эти мрачные призраки, дети отчаяния, возвращались, чтобы вновь овладеть его угнетенной душой. Пьянство и разврат опять захватили его, как в пору праздности и уныния. Он пал даже ниже, чем прежде, и вот однажды — этот проклятый день никогда не изгладится из моей памяти — он совершил страшное преступление, гнусное, отвратительное… Случись это при мне, я убил бы его на месте… Но последний друг Дестаторе узнал обо всем только назавтра и в тот же день покинул его, сурово отчитав за гнусный поступок. И тогда наш горемыка, которому некого было больше любить и который ничем не мог больше помочь своей страдающей родине, спросил себя, что же ему делать? И сердце его, все еще пылкое и молодое, обратилось к религии; он понял, что хороший монах, проникнутый духом Евангелия, может еще творить добро — проповедовать добродетель великим мира сего, учить невежд и помогать обездоленным; и он облачился в рясу капуцинов, постригся в монахи и укрылся в этом монастыре. Он принял нищенство, предписанное его ордену как искупление за грехи, и вскоре понял, что просить лучше, чем грабить, ибо просящий обращается к богатым ради бедных, и притом без насилия и без хитрости. Правда, в одном отношении этот способ хуже — он не такой верный и не такой скорый, как грабеж. Но если обдумать все хорошенько, так выходит, что в дни моей молодости тот, кто хотел делать как можно больше добра, должен был стать разбойником, а тому, кто в наши дни хочет лишь совершить как можно меньше зла, приходится стать монахом, — ты сам это сказал. Вот и вся история, понял ли ты ее? — Прекрасно понял, дядя; она очень интересна, но для меня главный ее герой — это вовсе не князь Кастро-Реале, а монах, который сейчас со мной разговаривает.XXII. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ГОРАХ
Несколько мгновений фра Анджело и его племянник хранили молчание. Капуцин погрузился в горькие и славные воспоминания о прошедших днях. Микеле с удовольствием смотрел на него, не удивляясь более воинственному виду и атлетической силе, скрытым под монашеской рясой; он, как художник, любовался своеобразной поэтичностью этой натуры, безраздельно преданной одной идее. Если и было что-то чудовищное и в то же время забавное в том, как этот монах восхвалял свое разбойничье прошлое, все еще с сожалением вспоминая о нем, то поистине прекрасным было то, как бывший бандит сумел сохранить свое личное достоинство, скомпрометированное в глазах общества столь удивительными приключениями. С кинжалом или с распятием в руке, убивая изменников в лесу или прося милостыню для бедных у дворцовых ворот, он был все тот же: гордый, прямой, непоколебимый в своих понятиях, готовый добиваться добра самыми энергичными средствами, ненавидящий низкие поступки и способный собственноручно карать за них; он ничего не понимал в вопросах личной выгоды, которые управляют миром, и не постигал, почему не все и не всегда стремятся свершить невозможное, а предпочитают с холодной и осторожной расчетливостью идти на уступки. — Отчего же ты восхищаешься только второстепенным лицом в истории, которую я рассказал тебе? — спросил он племянника, очнувшись наконец от раздумья. — Значит, преданность и любовь к родине имеют какой-то смысл, ибо у этого человека не было иного побуждения и в теперешнее время он показался бы, пожалуй, глупцом и даже немного помешанным? — Да, дядя, настоящая преданность и забвение всего личного во имя идеи — это вещь великая, и если бы я знал вас в те годы и был бы уже взрослым мужчиной, я, возможно, пошел бы за вами в горы. Быть может, я не привязался бы так, как вы, к князю Кастро-Реале, но, полагаю, питал бы те же иллюзии и ту же любовь к своей родине. — Это правда, юноша? — спросил фра Анджело, вперяя в Микеле проницательный взгляд. — Правда, дядя, — ответил тот, гордо поднимая голову и выдерживая этот взгляд со спокойной уверенностью. — Так что же, бедный мой мальчик, — продолжал, вздохнув, фра Анджело, — значит, сейчас уже поздно пытаться что-либо сделать? Значит, прошли времена, когда люди верили в победное шествие истины, и новый мир — из глубины своей кельи, как и прежде из глубины разбойничьей пещеры, я ведь его как следует и не разглядел — решил покорно дать себя раздавить? — Надеюсь, дядя, что нет. Если бы я думал, что это так, у меня, пожалуй, не осталось бы ни крови в жилах, ни огня в воображении, ни любви в сердце, и я не мог бы уже быть художником. Но увы, надо сознаться, что наша страна уже не та, какой была в пору ваших приключений, и если она и сделала шаг вперед, развиваясь умственно, зато сердечный пыл ее заметно охладел. — И вы называете это прогрессом! — воскликнул капуцин с горечью. — Нет, разумеется, — ответил Микеле, — но те, что родились в нынешнюю эпоху и вынуждены жить в ней, могут ли они дышать иным воздухом, чем тот, которым дышали с детства, и иметь иные понятия, чем те, которые им внушили? Разве не следует согласиться с очевидностью и склониться под иго действительности? Разве вы сами, уважаемый дядя, когда, после бурной жизни свободного искателя приключений, перешли к исполнению непреклонных монастырских правил, разве вы не признали тогда, что мир совсем не таков, каким вы его себе представляли, и что уже ничего больше нельзя добиться с помощью силы? — Увы, это верно! — ответил монах. — Я провел в горах десять лет и не видел, какие за это время произошли перемены в нравах просвещенных людей. Когда Дестаторе послал меня вместе с другими в города, чтобы попытаться установить связь с аристократами, которых он знал прежде как добрых патриотов, а также с богатыми и образованными горожанами, которых он помнил пылкими либералами, мне волей-неволей пришлось убедиться, что они уже не те, что они и детей своих воспитали совсем в других понятиях и не желают больше рисковать состоянием и жизнью, пускаясь в опасные приключения, где только вера и энтузиазм могут совершать чудеса. Да, да, мир за это время сильно подвинулся… назад, по моему разумению. Разговоры шли об одних только денежных сделках, о борьбе с монополиями, о конкуренции, о создании новых промыслов. Все так спешили к богатству, что уже мнили себя богатыми, и за малейшую привилегию государство могло купить любого. Достаточно было пообещать, подать надежду на обогащение, и самые пылкие патриоты набрасывались на эту подачку, говоря: «Процветание вновь вернет нам свободу». Народ тоже верил этому, и каждый предприниматель мог привести своих рабочих к ногам новых господ; эти бедняги воображали, что труды их рук принесут им миллионы. То была какая-то лихорадка, какое-то всеобщее безумие. Я искал людей, а находил одни машины. Я говорил о чести, о родине, а в ответ слышал о добыче серы, о прядении шелка. Я вернулся в горы опечаленный и недоумевающий, ибо не решался выражать недовольство по поводу виденного, думая, что не мне, невежде и дикарю, судить о том, какое новое благо принесут моей родине загадочные эти новшества. Но с тех пор, боже мой, я видел, чем обернулись для народа эти прекрасные обещания! Я видел, как иные дельцы, разорив друзей и пресмыкаясь перед власть имущими, сколотили себе состояния. Я видел, как несколько мелких торгашей небывало разбогатели, но видел я также, как все больше и больше обижали и мучили честных людей; а главное, видел, и вижу каждый день, как все больше и больше становится нищих, несчастных людей без хлеба, без образования, без будущего. И вот я спрашиваю: чего же вы добились вашими новыми идеями, вашим прогрессом, вашим учением о равенстве? Вы презираете прошлое, вы клянете былые злоупотребления, но вы убили будущее, породив новые злоупотребления, еще более чудовищные, чем прежние. Лучшие из вас, молодые люди, набрались революционных понятий вдругих странах, более развитых, чем наша. Вы кажетесь себе очень просвещенными и очень сильными, когда кричите: «Долой аристократов, долой священников, долой монастыри, долой все прошлое!»И вы не замечаете, что у вас не осталось больше ни веры, ни поэзии, ни гордости, которые одухотворяли это прошлое. — Видите ли, — прибавил капуцин, скрестив руки на своей пылкой груди и глядя на Микеле полуотеческим, полунасмешливым взглядом, — ведь вы еще молоды, вы совсем ребенок! Вы считаете себя очень умным, ибо знаете, что сейчас говорят и думают люди на белом свете. Вы смотрите на меня, закоснелого монаха, который день-деньской трудится, дробя скалу, чтобы на будущий год вырастить на этой лаве стручковый перец или помидоры, и думаете: «Странное времяпрепровождение для подобного человека! А между тем он не был ни ленивым, ни глупым. Он мог сделаться адвокатом или торговцем и зарабатывать деньги, как и всякий другой. Он мог бы жениться, иметь детей, научить их, как добиться своего места в обществе. А он предпочел заживо похоронить себя в монастыре и протягивать руку за милостыней! Это потому, что над ним тяготеет прошлое, он поддался обману, он весь во власти старых химер и старых кумиров своей родины!» А я, знаете, что думаю я, глядя на вас? Я думаю: «Вот юноша, который набрался поверхностных знаний и чужого ума, сумел быстро вознестись над своей средой и не желает разделять ни несчастий своей страны, ни трудов своих родных. И ему это удастся. Он очень приятный молодой человек, более рассудительный и проницательный в свои восемнадцать лет, чем я был в тридцать. Он знает множество вещей, которые мне показались бы совершенно ненужными и о которых я и понятия не имел до того, как монастырский досуг позволил мне кое-чему поучиться. Вот он стоит, столь уверенный в превосходстве своего разума, своего раннего опыта, своего знания людей и великой своей теории о личной выгоде, и, улыбаясь моей восторженности, глядит на меня так, как учитель мог бы глядеть на школьника. Это он, видите ли, зрелый муж, а я, старый бандит и старый монах, я, оказывается, дерзкий юноша, наивное и слепое дитя!» Уморительное противоречие! Он — это новый век, век золота и славы, а я — прах развалин, молчание могилы! Но пусть только зазвонит набат, зарокочет вулкан, загудит возмущенный народ, и та черная точка, что виднеется там на рейде, тот правительственный корабль весь ощерится пушками и откроет огонь по городу при первом же вздохе, зовущем к освобождению; пусть только спустятся с гор разбойники, пусть пламя пожаров подымется до самых небес — и в эту минуту последних конвульсий умирающей родины юный художник схватит свои кисти; он усядется в стороне, на склоне холма, подальше от всякой опасности, и напишет картину, говоря себе: «Несчастный народ, но какое изумительное зрелище! Поспешим увековечить его. Еще мгновение, и народ этот перестанет существовать, ибо пробил его последний час!» А старый монах возьмет свое ружье — оно еще не заржавело, — засучит рукава и, не спрашивая себя, что из всего этого выйдет, бросится в схватку и будет драться за родину до тех пор, пока его тело, растоптанное ногами, не потеряет всякий человеческий облик. Так слушай же, дитя, я предпочитаю умереть, как этот монах, чем, подобно тебе, пережить гибель своего народа! — Ах, отец мой! Не думайте так! — воскликнул Микеле, увлеченный и убежденный страстным порывом капуцина. — Нет, я не трус! И если моя сицилийская кровь немного и остыла в чужом краю, она может вновь разгореться от пламенного дыхания, исходящего из вашей груди. Не кляните меня таким страшным проклятием! Обнимите меня и зажгите своим огнем мою душу. Около вас я чувствую, что живу, и эта новая жизнь восхищает и опьяняет меня! — Вот и отлично! Вот наконец доброе душевное побуждение! — сказал монах, крепко сжимая Микеле в объятиях. — Это мне больше по вкусу, чем твои прекраснодушные идеи об искусстве, которым ты и отца своего заставил слепо поверить. — Простите, дядя, — возразил, улыбаясь, Микеле, — но этого я вам не уступлю. Я до последнего вздоха буду защищать благородное и высокое назначение искусства. Вы только что сказали, что в разгар гражданской войны я хладнокровно усядусь где-нибудь в сторонке и буду наблюдать за событиями, вместо того чтобы драться. Нет, я буду драться, смею вас уверить, и очень жестоко драться, если взаправду придется прогонять врага. Я не задумываясь отдам тогда свою жизнь и достигну славы, скорее чем если бы посвятил себя живописи, а я люблю славу; боюсь, что в этом я неисправим. Но если бы мне после тщетной борьбы за освобождение моего народа в самом деле суждено было бы пережить его гибель, возможно, что я, собрав свои горькие воспоминания, написал бы много картин, дабы восстановить и увековечить память кровавых этих событий. И чем сильнее были бы моя боль и отчаяние, тем лучше, тем выразительнее оказались бы мои творения. Они взывали бы к человеческому сердцу, рождали бы восхищение нашим героизмом, пробуждали бы сострадание к нашим несчастьям, и, поверьте, своими кистями я, может быть, лучше послужил бы нашему делу, нежели своим ружьем. — Хорошо, очень хорошо! — воскликнул монах в порыве наивного восторга. — Хорошо сказано, да и мысль хороша. Тут у нас один брат занимается ваянием, так я полагаю, что его труд не менее важен для религии, чем мой — для монастырского хозяйства, когда я разбиваю здесь лаву. Но у этого монаха есть вера, и потому он может высекать небесные черты святой мадонны, не искажая нашего представления о ней. Ты будешь писать прекрасные картины, Микеле, но только в том случае, если душой и телом примешь участие в общей борьбе и будешь охваченным страстью борцом, а не равнодушным зрителем. — Значит теперь, отец мой, мы с вами в полном согласии: без убеждений и без волнения искусство бесплодно. Но если нам не о чем больше спорить, если вы наконец довольны мной, скажите же мне, что такое готовится и чего вы от меня ждете? Мы, значит, накануне какого-то решительного выступления? Фра Анджело был так взволнован, что утратил чувство действительности. Но вдруг горящие его глаза потухли и наполнились слезами, расширившаяся грудь опустилась с глубоким вздохом, трепещущие руки, только что, казалось, искавшие заткнутые за поясом пистолеты, опустились на веревку, опоясывавшую его рясу, и коснулись четок. — Увы, нет! — произнес он, растерянно озираясь кругом, как человек, внезапно пробудившийся ото сна. — Нет, ничего не готовится, и я, должно быть, так и умру в келье, ни разу больше не зарядив ружья. Все это мечта, которую и ты разделил со мной на мгновение; но не жалей о том, юноша, мечта эта прекрасна, и это мгновение, ободрившее меня, быть может, сделало тебя лучше. Благодаря ему и я узнал тебя и почувствовал к тебе уважение. Теперь мы связаны с тобой на жизнь и на смерть. Но не будем терять надежды. Взгляни на Этну! Как она спокойна, как светла; она еле курится, она не грохочет. А завтра, быть может, она снова изрыгнет свою раскаленную лаву и окончательно разрушит ту землю, по которой мы сейчас ступаем. Это символ и образ сицилийского народа, и час Вечерни может пробить и во время танцев и во время сна. Но вот уже солнце клонится к западу, и у меня не осталось времени сообщить тебе то, что тебя касается. Дело, о котором я хотел поговорить с тобой, имеет отношение именно к тебе, и дело это очень серьезное. Ты можешь избегнуть грозящей тебе опасности только с моей помощью и с помощью других лиц, которые, как и я, будут рисковать своей свободой, своей честью и своей жизнью ради твоего спасения. — Возможно ли, дядя? — воскликнул Микеле. — Нет, пусть уж я один подвергался бы этой загадочной опасности, угрожающей мне без моего ведома! Неужто она висит и над вами? Неужто она грозит не только отцу? Не могу ли я один спасти его? — Твоему отцу она тоже грозит, но тебе — больше всех. Не расспрашивай меня ни о чем, верь мне на слово. Я уже сказал, что ненавижу бесполезное насилие, но я не остановлюсь ни перед чем, если сочту это правильным и необходимым. Я должен помочь тебе и помогу. Ни ты, ни твой отец ничего не сможете сделать без помощи капуцина со склонов Этны и остатков банды Дестаторе. Все уже подготовлено. Прости меня за то, что, прежде чем решиться на серьезное дело, я захотел узнать, насколько ты заслуживаешь преданности тех, кто может спасти тебя. Окажись ты простым себялюбцем, я помог бы тебе бежать; но раз ты достоин называться сицилийцем, мы поможем тебе восторжествовать над судьбой. — И вы мне не откроете… — Я открою тебе только то, что ты должен знать. Мне не дозволено поступить иначе; и помни одно: пытаясь узнать больше, чем тебе могут сказать, ты только увеличишь грозящую нам опасность и усложнишь все дело. Так что, будь добр, положись во всем на старого дядюшку и умерь свое беспокойное и праздное ребяческое любопытство. Постарайся стать мужчиной к сегодняшнему вечеру, ибо сегодня же вечером тебе, возможно, придется действовать. — Я прошу вас лишь об одном, дядя, — позаботиться о безопасности отца и сестры, прежде чем думать обо мне. — Это уже сделано, сын мой: по первому же знаку твой отец найдет себе приют в горах, а сестра — у той дамы, что давала прошлой ночью бал. Но я слышу — звонят к вечерне. Пойду попрошу у настоятеля позволения отлучиться вместе с племянником по семейному делу. Он мне не откажет. Подожди меня у входа в церковь. — А если откажет? — Тогда придется его ослушаться; это, признаться, будет мне тягостно, и не из-за завтрашней епитемьи, а просто потому, что я не люблю нарушать свой долг. Для старого солдата выполнение приказа — закон. Через пять минут фра Анджело присоединился к Микеле у входа в церковь. — Разрешил, — сказал он, — но мне предписано, дабы возместить должное господу, проявить свое благочестие, совершив краткую молитву перед алтарем богоматери. Это самое меньшее, что может потребовать от меня настоятель за то, что я пропущу вечернюю службу. Пойдем, юноша, помолимся вместе: вреда это тебе не принесет, а сил прибавит. Микеле последовал за монахом к подножию алтаря. Заходящее солнце зажигало огнем цветные витражи и усеивало рубинами и сапфирами плиты пола, на которых монах преклонил колена. Микеле тоже опустился на колени и смотрел, с каким жаром и простодушием молится его дядя. Одно из стекол было огненного цвета, и проходящие через него солнечные лучи, падая прямо на бритую голову монаха, окружали ее сиянием, и она казалась объятой пламенем. Юный художник, охваченный уважением и восторгом, созерцал это благородное лицо, энергичное и простодушное, в минуту смиренной, чистосердечной молитвы, и сам тоже, тронутый до глубины души, начал молиться за родину, за своих близких и за себя с верой и чистотой, каких не знал с самого детства.XXIII. ДЕСТАТОРЕ
— А позволено мне, милый дядя, узнать, куда мы направляемся? — спросил Микеле, когда они свернули на узкую и тенистую горную тропку, извивавшуюся среди старых оливковых деревьев. — Конечно, — ответил фра Анджело, — мы идет к последним настоящим разбойникам Сицилии. — Значит, разбойники еще существуют? — Да, их несколько человек; они порядком измельчали, но по-прежнему готовы сражаться за родину, и в сердце их все еще тлеет искра священного пламени. Не стану, однако, скрывать от тебя: люди эти — нечто среднее между храбрецами былых времен, которые не тронули бы и волоска на голове доброго патриота, и нынешними головорезами, готовыми убить и ограбить первого встречного. Правда, когда возможно, они делают это с выбором, но поскольку профессия их стала намного менее выгодной, а полиция — намного более бдительной, чем в мое время, то у них не всегда есть возможность подобного выбора. Не стану уверять тебя, что они безупречны. Но и такие, какие они есть, они сохранили еще некоторые качества, которых ты тщетно стал бы искать у других людей: верность данному слову, благодарность за оказанную помощь, бунтарский дух и любовь к отчизне; словом, все то, что осталось от рыцарского духа прежних наших разбойничьих банд, освещает еще слабым светом души некоторых из этих людей, ведущих особую, полуоседлую, полубродячую жизнь. Дело в том, что у всех у них есть хозяйства и семьи в деревнях и поселках, и они нередко слывут даже добрыми земледельцами, покорными закону и не имеющими никаких столкновений с кампиери[228]. А те, что находятся на подозрении или в чем-либо замешаны, ведут себя крайне осторожно: своих жен и детей они навещают только ночью или выбирают для жилья места почти недоступные. Но тот, к которому мы идем, еще чист от всяких подозрений, и его никто не преследует. Он живет, совершенно открыто, в соседней деревушке и может всюду показываться. Ты не пожалеешь об этом знакомстве, и советую тебе приглядеться к нему хорошенько, ибо это натура интересная и незаурядная. — А не будет с моей стороны излишним любопытством, если я попрошу вас рассказать мне немного о нем? — Конечно, рассказать тебе о нем следует, и я это сделаю. Но тем самым, Микеле, я открываю тебе великую тайну, и тебе придется выслушать еще одну историю. Знай, что отныне в твоих руках будет судьба человека, которого полиция ищет со всем рвением и со всей настойчивостью, на какие только способна. Вот уже шесть или семь лет, с того самого времени, как человек этот взялся продолжать дело Дестаторе, она так и не может узнать ни его настоящего лица, ни имени. Скажи-ка, друг, тебе еще не случалось здесь, в Сицилии, слышать о Пиччинино и его банде? — Пожалуй, что так… Да, верно, дядюшка, сестра рассказывала мне какие-то фантастические истории об этом самом Пиччинино, о котором болтают юные прядильщицы Катании. Это, по их словам, опасный разбойник: он похищает женщин и убивает мужчин чуть ли не у самых ворот предместья. Но я не верил этим сказкам. — Во всех народных россказнях есть зерно истины, — продолжал монах. — Пиччинино в самом деле существует и действует. Но есть два Пиччинино: один, безуспешно разыскиваемый кампиери, и другой, которого никому и в голову не придет заподозрить. Один руководит опасными предприятиями и тайным сигналом сзывает всех сколько-нибудь значительных ноттолони[229], разбросанных по всем уголкам нашего острова, для участия в тех или иных более или менее достойных делах, а другой живет неподалеку отсюда в прелестном сельском домике, никем не преследуемый, и слывет человеком умным, но спокойным, врагом кровавых столкновений и вольных мыслей. Ну так вот! Через час ты встретишься лицом к лицу с этим человеком, узнаешь его имя, увидишь его лицо. Ты да еще двое будете единственными (кроме подчиненного ему отряда единомышленников), кто отныне станет отвечать за нерушимость его тайны. Ты видишь, дитя мое, что я говорю с тобой как с мужчиной; но знать чью-либо опасную тайну — значит самому подвергаться той же опасности. Отныне малейшая нескромность может стоить тебе жизни. Более того — это было бы с твоей стороны не просто подлостью, а величайшим преступлением, страшное значение которого ты вскоре поймешь. — Предупреждения эти излишни, дядя, я и так никогда не злоупотребил бы вашим доверием. — Я верю тебе. Однако я не знаю, насколько свойственна тебе осторожность, и потому должен сделать все, чтобы ее усугубить. Твой отец, княжна Агата, быть может, твоя сестра и, разумеется, я сам — все мы заплатим за тебя жизнью и честью, если ты нарушишь требуемую мной клятву. Клянись же самым для себя святым, клянись Евангелием, что никогда, даже на эшафоте, не выдашь настоящего имени Пиччинино. — Клянусь, дядя. Этого достаточно? — Да. — А Пиччинино, поверит ли он моей клятве так же, как вы? — Да, хотя доверчивостью он отнюдь не страдает. Но, говоря ему о тебе, я привел такие доводы, которые не могли не убедить его. — Скажите же наконец, дядя, какие отношения должны установиться между этим человеком и мной? — Терпение, мой мальчик, я обещал тебе еще одну историю, так вот: в последние свои годы Дестаторе пристрастился к вину… — Значит, Дестаторе умер, дядя? Этого вы мне не сказали. — Я расскажу тебе о его конце, как мне это ни тяжело. Я должен это сделать! Я уже говорил тебе об одном совершенном им страшном преступлении. Он подстерег и похитил юную девушку, почти еще ребенка, гулявшую с гувернанткой в тех самых местах, где мы сейчас находимся, и спустя два часа — увы, непоправимых — он вернул ей свободу. Никто не был свидетелем его гнусного поступка, но в тот же вечер он похвастался передо мной и посмеялся над моим возмущением. Тогда, охваченный гневом и отвращением, я проклял его, бросив его во власть фурий, а сам ушел в монастырь, где вскоре постригся в монахи. Я любил этого человека и долго подчинялся его влиянию; видя, как он губит себя, как все более опускается, я испугался, что он и меня увлечет своим примером. Я хотел воздвигнуть между ним и собой неодолимую преграду, я стал капуцином. Вот что было одной из главных побудительных причин этого решения. Мое отступничество оказалось для него чувствительнее, чем я ожидал. Тайно явившись в Бель-Пассо, он пустил в ход все средства — и мольбы и угрозы, — чтобы вернуть меня. Он был красноречив, ибо, несмотря на все свои заблуждения, обладал душой пылкой и искренней. Я остался, однако, неумолим и попытался обратить его на путь истинный. Я, как видишь, не красноречив — а тогда говорил еще хуже, чем сейчас, — но я был так убежден в своей правоте, и вера настолько овладела моим сердцем, что упреки мои произвели на него большое впечатление. Я добился того, что он искупил, насколько это было возможно, совершенное преступление, сочетавшись браком с невинной жертвой своего насилия. Однажды ночью я отправился к ней и убедил ее еще раз увидеть черты ненавистного ей разбойника. И в ту же ночь они были обвенчаны, тайно, но совершенно законно, в той самой часовне и перед тем алтарем, где ты только что молился вместе со мной… И, увидев эту юную девушку, такую прекрасную, такую бледную и трепещущую, князь Кастро-Реале был охвачен раскаянием и полюбил ту, которой суждено было вечно ненавидеть его! Он умолял ее бежать с ним и, разгневанный ее отказом, хотел увезти ее силой. Но я дал этой девочке слово, и девочка эта проявила силу характера и воли, намного превосходившую ее возраст. Она заявила ему, что никогда больше его не увидит; затем, бросившись ко мне и к нашему настоятелю (достойный старец унес ее тайну с собой в могилу), она вцепилась в наши рясы и воскликнула: «Вы поклялись, что ни на мгновение не оставите меня наедине с этим человеком и отвезете меня к дверям моего дома, как только обряд будет окончен; не покидайте меня, или я размозжу себе голову о ступени вашего храма». И гордая девушка выполнила бы свою угрозу! К тому же я дал ей клятву! Я отвез ее домой, и никогда больше не видела она Дестаторе. Что касается до него, то он впал в безграничное отчаяние. Сопротивление зажгло в нем еще большую страсть, и, быть может, впервые в жизни он, соблазнивший и бросивший стольких женщин, познал истинную любовь. Но вместе с тем он познал и муки раскаяния, и с этого дня рассудок его стал мешаться. Я надеялся на его глубокое перерождение. Я отнюдь не думал сделать его, по своему примеру, монахом, я хотел, чтобы он вернулся к своему великому делу, чтобы он отказался от ненужных преступлений, разврата и безумств. Я пытался внушить ему, что если он вновь станет мстителем за родину и надеждой нашего освобождения, молодая супруга простит его и согласится разделить с ним его тягостную и славную участь. Да и я сам, должно быть, не задумываясь отрекся бы тогда от своего монашеского сана и последовал за ним. Но увы! Как просто было бы человеку исправиться, если бы преступление и порок отпускали свою жертву при одном ее пожелании! Кастро-Реале уже не был прежним Дестаторе, или, вернее, им слишком сильно вновь овладело прошлое. Угрызения совести, которые я пробудил в нем, помутили его рассудок, но не могли победить его диких наклонностей. То охваченный буйным безумием, то снедаемый суеверным страхом, он сегодня молился, обливаясь слезами, в глубине нашей бедной часовни, а назавтра возвращался, как говорит писание, «на свою блевотину». Он хотел убить всех своих сотоварищей, он хотел убить меня, он совершил еще не одно безумство, и однажды утром… ах, Микеле, как трудно мне говорить об этом, как больно!.. Однажды утром его нашли мертвым у подножия креста, неподалеку от нашей обители: он пустил себе пулю в лоб!.. — Какая страшная участь! — воскликнул Микеле. — И я не знаю, дядя, что это действует на меня — ваш взволнованный голос или ужас этого места, но меня охватила мучительная тревога. Быть может, я уже слышал эту историю от отца в годы моего детства, и теперь во мне проснулся тот же страх, какой она внушила мне тогда. — Не думаю, чтобы отец когда-либо рассказывал тебе эту историю, — произнес капуцин после минуты мрачного молчания. — Если же я рассказываю ее тебе теперь, так это потому, что так надо, дитя мое; хотя мне вспоминать ее тяжелее, чем кому бы то ни было, а место, где мы находимся, действительно не вызывает у меня веселых мыслей. Вот он, смотри, тот крест, подножие которого было залито кровью Дестаторе и где я нашел его мертвым, с изуродованным лицом. Это я собственными руками вырыл ему могилу вон под той скалой, в глубине лощины, это я прочитал над его телом молитвы, в которых отказал бы ему тогда всякий другой. — Бедный Кастро-Реале, бедный разбойник, бедный друг! — продолжал капуцин, обнажив голову и протягивая руку к большому черному камню на самом берегу потока, в пятидесяти футах ниже дороги. — Да простит тебе бог, сей неиссякаемый источник доброты и безграничного милосердия, заблуждения твоей жизни, как я прощаю тебе все горести, что ты мне причинил! Я помню только твои доблестные годы, твои славные деяния, благородные чувства и пламенные порывы, которые я разделял с тобой. Ведь господь не будет строже, чем я, столь ничтожный человек, не правда ли, Микеле? — Я не верю в мстительность того высшего совершенного существа, что направляет нас, — ответил юноша. Но поскорее уйдем отсюда, дядя! Меня знобит, какая-то странная слабость внезапно овладела мной, и мне легче сознаться в ней, чем провести еще минуту у подножия этого креста… Мне страшно! — Я рад, что ты здесь дрожишь от страха, а не смеешься, — ответил монах. — Дай же мне руку, и пойдем дальше. Некоторое время они шли молча; затем фра Анджело, словно желая отвлечь Микеле от мрачных мыслей, снова заговорил: — После смерти Дестаторе множество людей, особенно женщин, ибо он соблазнил не одну из них, бросились в его убежище, надеясь завладеть деньгами, которые он мог оставить своим детям, так как был, или считался, отцом многих. Но в самое утро самоубийства он отнес добычу от последнего грабежа своей любовнице, той, которую любил больше других, или, лучше сказать, менее других презирал; ибо если сам он не раз поддавался любовной страсти, то еще более умел он внушать ее, и все эти женщины, составлявшие при нем нечто вроде разбросанного по нашим горам сераля, до крайности надоедали ему и раздражали его. Каждая хотела женить его на себе — они не знали, что он уже женат. Одна лишь Мелина из Николози никогда ни за что не упрекала его и ничего от него не требовала. Она по-настоящему любила его и отдалась ему без сопротивления и без корысти; она родила ему сына, и он предпочитал его остальным двенадцати или пятнадцати побочным детям, которых приписывала ему молва здесь, в горах. Большинство из них живы и похваляются (то ли справедливо, то ли нет), что он их отец. Все они в той или иной степени промышляют разбоем. Но есть среди них один, от которого Дестаторе никогда не отрекался, тот, что повторил в точности все его черты (хотя это всего лишь несовершенный и бледный отпечаток его мужественной и живой красоты), тот, что с младенческих лет готовился стать продолжателем его дела и вырос, окруженный такими заботами, о каких другие не смели и мечтать. Это сын Мелины, тот юноша, которого мы скоро увидим, это предводитель бандитов — я уже говорил тебе о них, среди которых, может быть, и в самом деле есть его братья! Это, наконец, тот, чье настоящее имя ты должен узнать: это Кармело Томабене, которого называют также Пиччинино. — А девушка, которую похитил Кастро-Реале, та, которую вы обвенчали с ним, ее имени вы мне не откроете? — Ее имя и ее история — тайна, известная ныне только троим: ей, мне и еще одному человеку. Но довольно, Микеле, больше ни слова об этом. Вернемся к Пиччинино, сыну князя Кастро-Реале и крестьянки из Николози. Дестаторе сошелся с ней за несколько лет до своего преступления и брака. Деньги, оставленные им Мелине, были не очень велики, но все относительно, и для нее они оказались настоящим богатством. Она воспитала сына так, словно ему суждено было подняться над своей средой; в глубине души она хотела сделать из него священника, и в течение нескольких лет я был его учителем и наставником. Но, едва достигнув пятнадцати лет, он потерял мать, ушел из нашего монастыря и странствовал где-то до самого своего совершеннолетия. Он всегда мечтал разыскать бывших соратников своего отца и создать с их помощью новую банду разбойников, однако, уважая желание матери, которую, надо признаться, действительно любил, он учился так старательно, словно в самом деле готовился стать священником. Но, получив свободу, он решил свою судьбу, не посвящая меня в свои намерения, ибо думал, что я буду осуждать его. Позднее он вынужден был, однако, открыть мне свою тайну и не раз просить у меня совета. Я не был особенно огорчен, сознаюсь тебе, когда освободился от опеки над этим молодым волчонком, ибо поистине то была самая неукротимая натура, какую я когда-либо встречал. Столь же смелый, как и его отец, но гораздо более проницательный, он от природы так осторожен, насмешлив и хитер, что порой я не знал, кто же передо мной: самый ли лукавый лицемер, или величайший дипломат, один из тех, что играют, запутывая их, судьбами империй. В нем странным образом сочетаются коварство и верность, великодушие и мстительность. Он унаследовал часть достоинств и добрых качеств своего отца, но недостатки и пороки у него другие. Для него, как и для его отца, дружба священна, а данное слово — закон. Но в то время как Кастро-Реале, предаваясь пылким страстям, оставался верующим и даже в глубине души набожным, сын, если не ошибаюсь и если он не изменился, самый равнодушный и хладнокровный атеист, когда-либо существовавший на свете. Если ему и свойственны страсти, то предается он им так скрытно, что ничего нельзя заподозрить. Я знаю только одну его страсть, но и не пытался бороться с ней, страсть эта — ненависть ко всему чужестранному и любовь к родине. Любовь столь пылкая, что он простирает ее и на родное свое селение. Он не расточителен, как его отец, напротив, он бережлив, аккуратен, у него в Николози прелестный дом с участком земли и садом, где он живет, судя по видимости, почти всегда в одиночестве, кроме тех случаев, когда совершает тайные вылазки в горы. Но, отлучаясь, он действует чрезвычайно осторожно, а сообщников своих принимает у себя в глубокой тайне, так что никогда не знаешь, то ли он ушел в горы, то ли читает или курит в саду. Для того чтобы обеспечить себе эту искусно созданную свободу действий, он, когда к нему стучатся, не отзывается, а спустя некоторое время показывается, так что, когда он находится за десять лье от дома, вполне можно предположить, что он, по прихоти странного своего нрава, просто заперся у себя, словно в крепости. Он сохранил одежду и внешний уклад жизни зажиточного крестьянина, и хотя он очень образован и умеет при случае быть весьма красноречивым, хотя он мог бы избрать себе любое поприще, а на ином из них даже и отличиться, он так ненавидит общество и законы, управляющие этим обществом, что предпочитает оставаться бандитом. Быть просто зажиточным vellano[230] для него недостаточно. Он честолюбив, энергичен, неистощим в военных хитростях и страстно любит приключения. Хотя он намеренно скрывает свой ум и образованность, однако эти качества проявляются помимо его воли, и в своем поселке он пользуется большим влиянием. Односельчане считают его несколько странным, но к мнению его прислушиваются и по всякому поводу обращаются к нему за советом. Он поставил себе долгом быть всем приятным, ибо поставил себе целью не иметь врагов. Свои частые отлучки и частые визиты к нему каких-то незнакомых людей он объясняет тем, что якобы ведет небольшую торговлю сельскими припасами, требующую поездок в глубину острова и обширных связей. Свой патриотизм он тщательно скрывает, но изучил и знает убеждения других, и при первом же серьезном волнении ему достаточно будет сделать знак, чтобы поднять все население наших гор, и оно пойдет за ним. — Ну что ж, дядя, я понимаю, что подобный человек в ваших глазах герой, и вам трудно уважать столь незначительную личность, как я. — Человека я уважаю не по тому, сколько он говорит, а по тому, что говорит, — ответил монах, — а ты произнес два или три слова, которых мне достаточно. Что же до моего героя, как ты его называешь, то он немногословен, и сужу я о нем не по его речам, а по действиям. Сам я редко говорю о том, что глубоко чувствую, а если сейчас так разболтался, так ведь мне за два часа нужно было сказать тебе все, чего я не мог сказать за все восемнадцать лет, что ты жил на свете, а я тебя не знал. Впрочем, мне более по вкусу молчаливость. Я любил Кастро-Реале, как никогда никого больше не полюблю, а между тем мы с ним проводили вдвоем целые дни, не перемолвившись и словом. Он был осторожен, как всякий истинный сицилиец, и пока остерегался и самого себя и других, сохранял горячее сердце и здравый ум. — А молодой человек, к которому мы идем, должно быть до сих пор питает к вам большую привязанность, дядя, раз вы так уверены, что он готов встретиться со мной? — Если он любит кого-либо на свете, то это меня, хоть и бранил я его и немало мучил, когда он был моим учеником. И все же я не вполне уверен, согласится ли он сделать для тебя то, о чем я собираюсь просить. Ему придется для этого побороть некоторую неприязнь; но все же я надеюсь. — Вероятно, он знает о моих делах и обо мне больше чем дозволено было узнать мне самому? — Он? Нет, он ничего не знает и ничего не должен знать прежде, чем об этом узнаешь ты сам. То немногое, что должно быть известно вам в настоящее время, — я открою вам обоим. Тогда Пиччинино, пожалуй, поймет больше, чем следует, он очень проницателен; но о том, о чем догадается, он никогда тебе не скажет, а если захочет узнать больше, ни за что не станет тебя расспрашивать, на этот счет я спокоен. А теперь помолчим, мы выходим из леса и снова вступаем в населенную и обработанную местность на склоне горы. Постараемся дойти по возможности незамеченными туда, где нас ждут. Монах и Микеле молча и осторожно стали пробираться вдоль изгородей и под купами деревьев, стараясь оставаться в тени и избегая торных тропинок, и вскоре, уже под прикрытием сумерек, достигли убежища Пиччинино.XXIV. ПИЧЧИНИНО
На склоне горы, по которому фра Анджело и Микеле поднимались вот уже более двух часов, большой, густо населенный поселок Николози — это последний цивилизованный пункт, где путешественник, желающий подняться на Этну, останавливается, прежде чем вступить в суровую и величественную зону лесов. Зона эта называется Silvosa или Nemorosa. Холод здесь уже сильно дает себя чувствовать. Выше растительность становится все более чахлой и редкой и, наконец, совсем исчезает, сменяясь лишайниками и бесплодными каменистыми россыпями, а дальше — снег, вулканическая сера и дымящиеся кратеры. Николози и его великолепные окрестности уже тонули в вечерней мгле, когда Микеле попытался оглядеться кругом. Величественная Этна казалась отсюда неясной однотонной громадой. Лишь на высоте около лье над тем местом, где стоял Микеле, можно было различить конус Монте Россо, этого младшего вулкана, одного из двадцати или тридцати порождений Этны, потухших или недавно запылавших очагов, грозно застывших наподобие батареи у подножия главного кратера. Этот самый Монте-Россо менее двух веков тому назад отверз свою черную пасть и изрыгнул страшную лаву, осколки которой до сих пор загромождают море у берегов Катании. Нынче крестьяне выращивают виноградные лозы и оливы на обломках лавы, которая все еще кажется раскаленной. Жилище Пиччинино, затерянное в горах в полулье выше селения и отделенное от него довольно крутым обрывом, стояло на границе плодородной земли, овеваемой теплым и нежным воздухом. Еще несколько сот шагов в гору — и уже становилось холодно, начиналось суровое запустение; исчезали возделанные участки, а лавовые потоки становились так многочисленны и широки, что гора с этой стороны казалась далее неприступной. Микеле подумал о том, насколько отвечают эти условия интересам человека, который был наполовину мирным обывателем, наполовину разбойником. У себя он может наслаждаться всеми жизненными благами, но стоит ему выйти из дома — и он легко скроется и от людских глаз и от преследований закона. Холм, с одной стороны крутой и обрывистый, с другой — пологий и плодородный, на вершине был покрыт буйной растительностью — трудолюбивая и умелая рука не без цели, видно, поддерживала ее необъяснимую пышность. Сад Кармело Томабене славился своей красотой и обилием плодов и цветов. Но хозяин ревниво оберегал доступ в него и со всех сторон окружил его высоким, увитым зеленью частоколом. Дом, довольно обширный и прочный, хотя и лишенный внешних прикрас, построен был на развалинах небольшой, заброшенной крепости. Остатки полуразрушенных толстых стен и фундамент четырехугольной башни, частью использованные для укрепления и расширения новой постройки, носили следы весьма умелых поправок и придавали скромному жилищу полудеревенский, полугосподский вид. Дом оставался усадьбой зажиточного крестьянина, хотя ясно было, что и человек с утонченными привычками мог жить в нем не без приятности. Фра Анджело подошел к прятавшейся в зелени калитке и разыскал в окружающих ее густых кустах каприфолия шнурок, протянутый через длинный, увитый виноградом проход к колокольчику внутри дома. Колокольчик этот, однако, отличался таким слабым звуком, что снаружи его не было слышно. Шнурок был скрыт в листве, так что воспользоваться им могло только лицо, посвященное в тайну сигнала. Монах медленно и старательно трижды потянул за этот шнурок; потом потянул еще пять раз, потом два, потом три раза, после чего скрестил руки на груди и подождал пять минут. Затем он повторил сигналы в том же порядке и так же старательно. Одним звонком больше или меньше — и подозрительный хозяин заставил бы их, чего доброго, прождать всю ночь, так и не открыв двери. Наконец калитка отворилась. Мужчина невысокого роста, закутанный в плащ, подошел к фра Анджело, взял его за руку и сказал ему что-то на ухо; затем он приблизился к Микеле, сделал ему знак войти и, тщательно заперев калитку, зашагал впереди путников. Они прошли по одной из двух длинных аллей, крестообразно пересекавших сад, и вступили в своего рода деревенский портик — галерею из простых столбов, увитых виноградом и жасмином; далее хозяин провел их в большую, очень просто обставленную комнату, где все свидетельствовало об аккуратности и скромности ее хозяина. Там он предложил им сесть, а сам, растянувшись на диване, обитом красным ситцем, спокойно закурил сигару; потом, не взглянув даже как следует на Микеле и ничем не проявляя своего дружеского отношения к монаху, он стал ждать, чтобы тот заговорил первым. Он не выказывал ни малейшего нетерпения, ни малейшего любопытства. Неторопливо снял он свой коричневый плащ на розовой подкладке, тщательно разгладил на нем воротник и поправил на себе шелковый пояс, словно хотел устроиться поудобней, прежде чем выслушать то, что пришли ему сообщить. Но каково было изумление Микеле, когда он узнал в молодом villano из Николози того странного гостя, который на балу у княжны в течение нескольких минут привлекал к себе всеобщее внимание и с которым он при выходе из залы обменялся не слишком любезными словами! Микеле смутился при мысли о том, что происшествие это вряд ли могло расположить в его пользу того, кого он пришел просить об услуге. Но Пиччинино, как видно, не узнал его, и Микеле решил, что лучше и не напоминать ему о том досадном происшествии. Теперь у него была полная возможность изучить черты Пиччинино и попытаться определить по ним особенности его характера. Но в эту минуту он не мог обнаружить на его неподвижном, бесстрастном лице даже тени какого-либо волнения, желания или другого человеческого чувства. Оно не было даже надменным, хотя в поведении и молчании Пиччинино можно было усмотреть явное намерение выказать свое пренебрежительное отношение к гостям. Пиччинино было на вид лет двадцать пять. Его маленький рост и изящная фигура оправдывали данное ему прозвище, и он носил его скорее с некоторым кокетством, нежели с досадой[231]. Трудно было представить себе существо более нежное, слабое и вместе с тем более совершенное, чем этот невысокий человек. Идеально сложенный, похожий на античную бронзовую статуэтку, он искупал недостаток мускульной силы исключительной гибкостью. Он славился тем, что не имел себе равных в физических состязаниях, хотя успеха достигал только с помощью ловкости, хладнокровия, проворства и меткого глаза. Не было человека выносливее в ходьбе, никто не мог сравняться с ним в беге. Он перепрыгивал через пропасти с ловкостью серны, превосходно стрелял из ружья и пистолета и метал из пращи; во всех развлечениях подобного рода он был настолько уверен в своей победе, что уже не давал себе труда участвовать в каких-либо состязаниях. Превосходный наездник, отважный пловец, он в любых соревнованиях на скорость и в любой борьбе неизменно побеждал тех, кто осмеливался с ним соперничать. Прекрасно понимая, какие преимущества имеет физическое развитие в горной стране, и готовясь стать партизаном, он с ранних лет стремился приобрести те качества, в которых словно бы отказала ему природа. Он развивал их в себе с невероятным упорством и настойчивостью и добился того, что его слабое тело стало верным его рабом и покорным исполнителем его воли. Однако сейчас, небрежно раскинувшийся на диване, он напоминал изнеженную или болезненную женщину. Микеле не подозревал, что в тот день Пиччинино прошел двадцать лье пешком и теперь отдыхал положенное число часов, точно зная — ибо он изучил и проверил себя во всех отношениях, — какое время ему следует провести в горизонтальном положении, чтобы полностью избавиться от ощущения разбитости. Лицо его отличалось своеобразной красотой. То был сицило-арабский тип в его чистом виде: удивительная четкость линий, слегка подчеркнутый восточный профиль, полные неги удлиненные черные бархатные глаза, тонкая и ленивая улыбка, женственное обаяние, кошачье изящество в поворотах головы, и при всем этом какое-то странное сочетание нежности и холодности, на первый взгляд необъяснимое. Одет он был опрятно и в высшей степени изысканно. На нем был живописный костюм, который носят горцы, но сшитый из тонких, легких тканей. Из-под коротких, облегающих штанов из мягкой коричневой шерсти, прошитой желтым шелком, виднелись белые, словно алебастр, голые ноги, обутые в ярко-красные домашние туфли. Вышитая, украшенная кружевом батистовая рубашка позволяла разглядеть на его груди толстую волосяную цепочку, перевитую золотыми нитями. Зеленый шелковый пояс, затканный серебром, стягивал его талию. Все, что было на нем надето — все было добыто контрабандным или еще более неприглядным путем, и тот, кто вздумал бы взглянуть на метки на его белье, убедился бы, что оно из последнего захваченного им чемодана. Пока Микеле любовался, немного насмешливо, той развязностью, с какой этот красивый юноша крутил в своих тонких и длинных, словно у бедуина, пальцах сигарету из алжирского табака, фра Анджело, нисколько, видимо, не удивленный и не обиженный оказанным ему приемом, обошел комнату, запер дверь на засов и, спросив у Пиччинино, точно ли они одни в доме, на что тот ответил утвердительным кивком головы, начал так: — Благодарю тебя, сын мой, что ты недолго заставил меня дожидаться этой встречи; я пришел просить тебя об услуге. Можешь ли ты и хочешь ли потратить на это несколько дней? — Несколько дней? — произнес Пиччинино таким нежным голосом, что Микеле пришлось взглянуть на стальные мускулы его ног, чтобы снова не поддаться иллюзии, будто он слышит голос женщины; но выражение, с каким были сказаны эти слова, совершенно явно означало: «Да вы что, смеетесь надо мной!» — Я сказал — несколько дней, — спокойно продолжал монах. — Надо спуститься с горы и отправиться в Катанию вместе вот с этим молодым человеком, моим племянником, и оставаться с ним до тех пор, пока не удастся освободить его от некоего врага, который его преследует. Пиччинино медленно повернулся к Микеле и посмотрел на него так, словно только теперь заметил его; потом, вытащив из-за пояса стилет в богатой оправе, он протянул его Микеле с едва заметной иронической и презрительной усмешкой, как бы говоря ему: «Вы уже достаточно взрослый и сильный, чтобы защищаться самому». Микеле, оскорбленный положением, в котором оказался помимо своей воли, уже готов был резко ответить, но фра Анджело остановил его, положив ему на плечо свою железную руку. — Молчи, мой мальчик, — сказал он, — ты не знаешь, о чем идет речь, и тебе здесь говорить нечего. Друг, — прибавил он, обращаясь к Пиччинино, — если бы мой племянник не был мужчиной и сицилийцем, я не привел бы его к тебе. Сейчас я объясню, что нам от тебя нужно, если, конечно, ты сразу же не заявишь, что не хочешь или не можешь нам помочь. — Отец Анджело, — ответил бандит, беря руку монаха, грациозным движением поднося ее к губам и глядя на него нежным взглядом, мгновенно изменившим выражение его лица, — о чем бы вы ни просили, для вас я на все согласен. Но никто не может сделать все, что он хочет. Так что мне нужно знать, о чем идет речь. — Нам мешает один человек. — Понимаю. — Мы не хотим убивать его. — Напрасно. — Если мы убьем его — мы погибли; если удалим — спасены. — Надо, значит, похитить его? — Да, но мы не знаем, как это сделать. — Не знаете? И это вы, отец Анджело! — произнес Пиччинино с улыбкой. — Раньше я бы знал как, — ответил капуцин. — У меня были друзья, убежища. Теперь же я монах. — Напрасно, — повторил бандит все так же спокойно. — Итак, я должен похититьчеловека. А что, он очень толстый, очень тяжелый? — Он очень легкий, — ответил монах, видимо понявший намек Пиччинино, — и никто и дуката не даст тебе за его шкуру. — В таком случае прощайте, отец мой; я, один, не могу взять его и сунуть в карман, как носовой платок. Мне понадобятся люди, а их уже не заполучишь, как в ваше время, задаром. — Ты не понял меня. Ты сам назначишь, сколько надо дать твоим людям, и им заплатят. — А кто за это поручится, вы, отец? — Да, я. — Вы одни? — Я один. А что касается тебя, то не будь это дело в высшей степени великолепным, я не стал бы тебя и беспокоить. — Ну ладно, поговорим об этом на той неделе, — произнес бандит, желая, видимо, подробнее разузнать, насколько выгодно предлагаемое ему дело. — Тогда нам не о чем больше разговаривать, — сказал монах, немного обиженный такой недоверчивостью, — нужно действовать немедля или не действовать вовсе. — Действовать немедля? А время, чтобы собрать людей, уговорить их, дать им указания? — Ты сделаешь это завтра утром, и завтра же вечером они будут на местах. — Ну, я вижу, вы не очень торопитесь, иначе вы сказали бы, что отправляться надо сегодня же. Если вы можете ждать до завтра, значит можете ждать и две недели. — Нет, я рассчитываю забрать тебя сейчас же и отвести на одну виллу, где ты переговоришь с неким лицом, весьма заинтересованным в нашем успехе; у тебя еще останется время до завтрашнего вечера, чтобы обойти окрестности, выяснить подробности, установить свои батареи, предупредить людей, расставить их, где нужно, наладить разведку. Эх, за такой срок и не то еще можно сделать! В прежние годы я не попросил бы у твоего отца и половину этого времени. Микеле увидел, что капуцин задел наконец чувствительную струнку бандита, ибо, услышав, что к нему обращаются как к сыну Кастро-Реале — а далеко не все отваживались или хотели открыто признавать это, — Пиччинино вздрогнул, выпрямился и вскочил на ноги, словно готовый тут же пуститься в путь. Но, внезапно схватившись рукой за колено и снова падая на диван, он воскликнул: — Нет, не могу, слишком острая боль. — Что с тобой? — спросил фра Анджело. — Ты ранен? Или это все еще та, прошлогодняя пуля? Мы в наше время, заполучив пулю, продолжали идти вперед. Твой отец прошел тридцать миль, не останавливаясь, чтобы вынуть ту, что засела у него в бедре при Леон-Форте; но теперешним молодым людям нужен, видно, целый год, чтобы поправиться от пустячной раны. Микеле подумал, что дядя, пожалуй, перестарался, ибо Пиччинино, вновь растянувшись на диване, лег на спину и стал пускать в потолок клубы табачного дыма, лукаво предоставив святому отцу самому заботиться о возобновлении беседы. Но фра Анджело, хорошо зная, что мысль о дукатах уже плотно засела в мозгу молодого бандита, продолжал, ничуть не смутившись: — Сын мой, даю тебе полчаса, если уж они так тебе необходимы; полчаса — это много для человека, в жилах которого течет такая кровь, как твоя; после этого мы все трое отправимся в путь. — А это, собственно, что за молодой человек? — спросил Пиччинино, указывая на Микеле пальцем, но не глядя на него и продолжая лежать, отвернувшись к стене. — Я уже сказал — это мой племянник; а племянник фра Анджело — значит, человек стоящий. Но он не знает наших мест, и у него нет связей, необходимых для такого дела. — Может быть, синьорино боится себя скомпрометировать? — Нет, сударь! — воскликнул Микеле, теряя терпение; он не в силах был долее выносить дерзости бандита и сдерживаться, как того требовал дядя. Бандит повернулся и вперил прямо в него свои удлиненные, слегка приподнятые к вискам глаза — в них было столько язвительной насмешки, что взгляд их порой трудно было выносить, но, увидев исказившиеся черты и побелевшие губы Микеле, он придал своему лицу более благожелательное, хотя все еще несколько недоверчивое выражение и протянул Микеле руку. — Будем друзьями, — сказал он, — пока не покончим с врагом; это лучшее, что мы можем сейчас сделать. Микеле сидел от него на некотором расстоянии, и ему пришлось бы встать, чтобы взять эту царственно протянутую ему руку. Он только улыбнулся и не двинулся с места, рискуя тем самым рассердить дядю и погубить все плоды его стараний. Но монах отнюдь не был недоволен, увидев, как повел себя Микеле по отношению к бандиту. Последний понял, что имеет дело вовсе не со слабым характером, и, с трудом поднявшись, подошел, чтобы пожать ему руку. — Вы безжалостны, мой юный мэтр, — сказал он, — вы не желаете сделать даже двух шагов ради человека, умирающего от усталости. Вы-то не прошли сегодня, как я, двадцать лье, а хотите, чтобы я тотчас же отправился с вами, когда я не отдохнул еще и двух часов. — В твоем возрасте, — произнес неумолимый монах, — я проходил по двадцати лье в день и, не успев даже поужинать, шел дальше. Ну как, решился ты наконец? Идем мы или нет? — Вам это, значит, очень важно? Дело касается лично вас? — Так же важно, как спасение души, а дело касается тех, кто мне дороже всего на свете теперь, когда твой отец в могиле. Опасность грозит моему брату, а также этому отважному юноше, для которого ты должен стать верным и честным другом. — Разве я не пожал ему руку? — Значит, я на тебя рассчитываю. Когда я увижу, что ты готов, я открою тебе нечто, что покажется тебе еще заманчивей, чем золото или слава. — Я готов. Тот, кого нужно убить, враг Сицилии? — Я уже сказал, что убивать никого не надо; ты забываешь, что я служу богу мира и милосердия. Но необходимо полностью обезвредить одного человека и полностью разрушить его коварные планы; человек этот — шпион и предатель. — Его имя? — Пойдешь ты с нами? — Разве я уже не поднялся? — Аббат Нинфо. Пиччинино рассмеялся беззвучным смехом, в котором было что-то странное. — И мне разрешается обезвредить его? — Да, обезвредить, но не убивать. Ни капли крови! — Не убивать! Ладно, постараюсь убить его остроумием. В самом деле, не стоит и руки марать о подобную личность. Итак, более или менее договорились; пора объяснить мне, для чего нужно это похищение. — Я объясню тебе это по дороге, и ты все обдумаешь на ходу. — Невозможно. Я не умею делать две вещи одновременно. Я способен думать только, когда мое тело отдыхает. И он преспокойно снова улегся и закурил сигарету. Фра Анджело понял, что он не даст увести себя с закрытыми глазами. — Известно тебе, — промолвил он, не выказывая ни малейшего признака нетерпения, — что аббат Нинфо — приспешник, шпион и прихвостень некоего кардинала? — Да, Джеронимо Пальмарозы. — Тебе также известно, что восемнадцать лет тому назад старший мой брат, Пьетранджело, вынужден был бежать… — Знаю. И совершенно напрасно. Отец был еще жив, и ваш брат мог присоединиться к нему, вместо того чтобы покидать родину. — Ты ошибаешься. В то время твой отец только что умер. Ты был ребенком; я — монахом. Здесь уже никто ничего не мог сделать. — Продолжайте. — Как тебе известно, год тому назад мой брат вернулся, а его сын, этот самый Микеланджело, вернулся неделю тому назад. — Для чего? — Чтобы помогать отцу в его работе, а при случае помочь и родной стране. Но на него и на его отца уже послан донос. Кардинал еще не потерял память, он ничего не прощает. Аббат Нинфо вот-вот начнет действовать от его имени. — Чего же они ждут? — Не знаю, чего еще ждет кардинал, чтобы умереть, но могу сказать, что аббат Нинфо ждет смерти кардинала. — Для чего? — Чтобы захватить его бумаги, прежде чем успеют опечатать их и предупредить наследницу. — А кто его наследница? — Княжна Агата Пальмароза. — Ах да! — промолвил бандит, приподнявшись. — Говорят, красивая женщина! — Это к делу не относится. Но понимаешь ты теперь, почему так необходимо удалить Нинфо, почему нельзя, чтобы он оставался при кардинале в последние его минуты? — Чтобы не дать ему захватить документы — вы это уже сказали. Он может лишить княжну Агату законных прав, похитив завещание. Для нее это дело серьезное. Она очень богата, эта синьора? Ее отец и дядя были исполнены верноподданнических чувств, за что правительство оставило ей все имущество и не разоряет ее принудительными поборами. — Она очень богата, следовательно, дело это для тебя очень выгодно, ибо она так же щедра, как и богата. — Понимаю. И потом она так красива! Настойчивость, с какой Пиччинино все время возвращался к этой мысли, заставила Микеле задрожать от гнева; дерзость бандита казалась ему непереносимой; но фра Анджело отнесся к этому спокойно; он считал, что Пиччинино под маской галантности хочет только скрыть свою алчность. — Итак, — продолжал бандит, — охрана вашего брата и вашего племянника — это дело попутное, главная же моя задача — это спасти наследство, причитающееся синьоре Пальма-роза, похитив подозрительную личность, аббата Нинфо. Я правильно вас понял? — Да, ты правильно меня понял, — ответил монах. — Синьоре нужно заботиться о своих интересах, а мне — о своих близких. Вот почему я посоветовал ей обратиться за помощью к тебе и взялся передать тебе ее просьбу. Пиччинино на минуту, казалось, задумался; потом вдруг, откинувшись на подушки, разразился громким хохотом. — Вот так история! — воскликнул он сквозь смех. — Да лучшего приключения в моей жизни еще не было!XXV. КРЕСТ ДЕСТАТОРЕ
Этот приступ веселости, показавшийся Микеле крайне дерзким, наконец встревожил монаха, но, прежде чем он решился осведомиться о его причине, Пиччинино перестал смеяться, столь же внезапно, как и начал. — Дело проясняется, — сказал он, — но одно остается непонятным: почему Нинфо ждет смерти кардинала, чтобы донести на ваших родных? — Он знает, что им покровительствует княжна, — ответил капуцин, — она так дружелюбно, с таким уважением относится к старому, честному мастеру, который вот уже год как работает у нее во дворце, что готова заплатить подлому аббату, лишь бы тот прекратил свои преследования. А он, вероятно, считает, что после смерти кардинала судьба благородной синьоры окажется полностью в его руках и в его власти будет разорить ее, чтобы поживиться за ее счет. Так не лучше ли, чтобы княжна Агата, эта истая сицилийка, спокойно унаследовала бы богатство кардинала и щедро наградила за услугу такого храбреца, как ты, чем выбрасывала деньги на подкуп такой ядовитой гадины, как Нинфо? — Вы правы; но где порука, что завещание еще не выкрадено? — Мы знаем из верного источника, что этого еще не успели сделать. — Мне необходимо знать это точно. Я не хочу действовать впустую. — А тебе разве не все равно? Ведь ты в любом случае получишь награду. — Послушайте, фра Анджело, — сказал Пиччинино, приподымаясь на локте, и его томные глаза вдруг гордо блеснули, — за кого вы меня принимаете? Вы, кажется, забыли, кто я. Разве я наемный убийца, которому платят сдельно или поденно? До сих пор я всегда считал себя верным другом, человеком чести, преданным родине партизаном и гордился этим, а вот теперь вы, видимо краснея за своего прежнего ученика, разговариваете со мной как с продажной тварью, готовый на все ради горсточки золота? Прошу вас, опомнитесь! Я такой же мститель, каким был мой отец; и если я действую иными способами, если, отдавая дань времени, я чаще прибегаю к хитрости, чем к отваге, дух мой тем не менее остается гордым и независимым. Если я приношу больше пользы, нежели нотариус, адвокат или врач, если к моей помощи чаще обращаются и я дорого беру за услуги или оказываю их даром, смотря по тому, кто в них нуждается, я тем не менее люблю это дело и не роняю своего достоинства. Я никогда не стану тратить времени и труда ради одних денег, если не могу выполнить того, о чем меня просят; ибо главарь не рискует бесполезно жизнью своих людей, так же как честный врач прекратит свои посещения, поняв, что не может больше помочь больному; так и я, отец мой, отказываюсь от вашего предложения, ибо оно противно моей совести. — Не стоило труда говорить мне все это, — спокойно ответил фра Анджело, — я знаю, кто ты, и не стал бы унижаться, прибегая к помощи человека, которого не уважаю. — Тогда, — продолжал Пиччинино, все больше раздражаясь, — почему вы мне не доверяете? Почему открываете мне только часть истины? — Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, где хранится завещание кардинала? Вот этого я не знаю, мне и в голову не приходило справляться об этом. — Не может быть. — Клянусь перед лицом бога, дитя мое, что не знаю. Знаю только, что оно до сих пор было недосягаемо для Нинфо, и захватить его, пока кардинал жив, он может только с согласия последнего. — А кто вам сказал, что это еще не сделано? — Княжна Агата в этом уверена; так она сказала мне, и мне ее слов достаточно. — А если мне их недостаточно? Если я не верю в прозорливость и ловкость синьоры? Разве женщины имеют хоть малейшее представление о подобных делах? Разве все свое искусство угадывать и притворяться не ставят они исключительно на службу любви? — Вот каким ты стал знатоком в этом вопросе, а я так и остался невеждой; впрочем, друг мой, если ты хочешь знать обо всем этом более подробно, спроси саму княжну, и ты, вероятно, останешься доволен. Я хотел сегодня же вечером свести тебя к ней. — Сегодня же вечером свести к ней? И я смогу говорить с ней без свидетелей? — Несомненно. Если считаешь это полезным для дела. Внезапно Пиччинино повернулся к Микеле и молча посмотрел на него. Юный художник с трудом выдержал этот испытующий взгляд, настолько сильно было его волнение. То, как авантюрист только что говорил об Агате, глубоко возмутило его, и, чтобы не выдать своих чувств, он вынужден был взять сигарету, которую неожиданно предложил ему бандит с ироническим и почти покровительственным видом. На этот раз Пиччинино наконец поднялся с дивана с твердым намерением тотчас же отправиться в путь. Разматывая свой пояс, он потягивался и переминался с ноги на ногу, напоминая охотничью собаку, которая проснулась и готова начать гон. Затем Пиччинино прошел в соседнюю комнату и вскоре вернулся, одетый уже более тщательно и прилично. На нем были теперь длинные белые гетры из домашнего сукна, какие носят итальянские горцы, только все пуговицы на них, от щиколотки до колена, были из чистого золота. Он надел два кафтана: верхний, из зеленого бархата, шитый золотом, нижний, более короткий и узкий, весьма элегантного покроя, из лилового муара, затканного серебром. Белый кожаный пояс стягивал его гибкую талию, но обычная медная пряжка была заменена великолепной старинной сердоликовой застежкой в богатой оправе. Оружия при нем не было видно, но он, несомненно, обеспечил себя надежными средствами личной защиты. В довершение всего он сменил свой причудливый разноцветный плащ на классический шерстяной, черный снаружи и белый с изнанки, а на голову накинул островерхий капюшон, который придает вид монахов или привидений всем тем таинственным фигурам, которых встречаешь на горных тропах. — Ну вот, — сказал он, посмотревшись в большое стенное зеркало, — теперь я могу предстать перед дамой, не пугая ее. Что вы скажете об этом, Микеланджело Лаворатори? И, нимало не заботясь о том, какое впечатление мог произвести на юного художника этот его фатовской тон, он чрезвычайно тщательно принялся запирать все двери своего жилища. После чего весело взял Микеле под руку и быстрым шагом двинулся в путь; оба его спутника с трудом поспевали за ним. Когда они спустились с холма, на котором расположено селение Николози, фра Анджело остановился на развилке дорог и распрощался с молодыми людьми — он должен был вернуться в свой монастырь и советовал им не терять времени, провожая его. — Отпущенное мне время истекает через полчаса, — сказал он, — а в ближайшие дни мне не раз еще, быть может, придется испрашивать разрешения на отлучку, поэтому сегодня мне не следует опаздывать. Ступайте прямо, и вы дойдете до виллы Пальмароза, минуя Бель-Пассо. К княжне вы получите доступ и без моей помощи. Она предупреждена и ждет вас. Микеле, вот тебе ключ от парка, а вот — от сада со стороны казино. Лестница, прорубленная в скале, тебе знакома; ты позвонишь дважды, потом трижды и еще один раз у небольшой золоченой калитки на самом верху. Постарайтесь, чтобы вас никто не видел и не следовал за вами. Вместо пароля скажете камеристке, которая откроет калитку в цветник княжны: «Святая мадонна Бель-Пассо». Никому не отдавай этих ключей, Микеле. Уже несколько дней как все замки на вилле тайно заменили новыми, причем такими сложными, что без помощи поставившего их слесаря — а он человек неподкупный — Нинфо не сможет пробраться на виллу со своими отмычками. И еще одно хочу я сказать вам, дети мои. Если случилось бы что-нибудь непредвиденное и я вдруг понадобился бы вам ночью, Пиччинино знает, где находится моя келья и каким путем можно проникнуть в монастырь. — Еще бы! — сказал Пиччинино, после того как они расстались с монахом. — Сколько раз случалось мне удирать ночью из монастыря, сколько раз возвращался я туда на рассвете, мне ли не знать, как перелезть через стены Маль-Пассо. А теперь, дружище, когда нам не нужно больше щадить старые ноги доброго брата Анджело, пустимся-ка мы вниз прямо по откосу, и вы уж, будьте любезны, не отставайте. Я не привык ходить проторенными путями, к тому же путь по прямой намного надежней и быстрее. С этими словами он ринулся вниз по скалам, круто, чуть отвесно спускавшимся к потоку, словно хотел броситься в него. Ночь была очень светлая, как почти всегда в том благодатном краю. Но из-за поднимавшейся в небо луны большие тени заполняли все впадины, придавая им неверный, обманчивый вид. Если бы Микеле не следовал по пятам за своим проводником, он просто не знал бы, куда ступить среди лавовых нагромождений и крутых спусков, на вид совершенно неприступных. Хотя Пиччинино прекрасно знал все тропы, некоторые оказались столь опасными и трудными, что только боязнь прослыть трусом и увальнем, заставляла Микеле спускаться. Однако соперничество в честолюбии — это возбудительное средство, удесятеряющее человеческие силы, и, двадцать раз рискуя сломать себе шею, юный художник с невозмутимым видом следовал за бандитом, ничем не выдавая своего страха и недоверия. Мы сказали «недоверия», ибо вскоре он заметил, что все эти трудности спуска и вся эта смелость отнюдь не способствуют сокращению пути. Быть может, это была хитрость разбойника, желавшего испытать силы Микеле, его ловкость и храбрость; а может быть, он попросту хотел избавиться от него. Эти подозрения почти подтвердились, когда, после получаса стремительного спуска, трижды перебравшись через излучины одного и того же потока, путники очутились на дне ущелья, показавшегося Микеле знакомым: по верхнему его краю он проходил с капуцином, направляясь в Николози. Он ничего не сказал об этом, но невольно на миг остановился, чтобы взглянуть на вырисовывавшийся над обрывом каменный крест, у подножия которого Дестаторе пустил себе пулю в лоб. Осмотревшись, он узнал и камень из черной лавы, служивший надгробием вождю бандитов, который издали показал ему монах. Камень находился теперь всего в трех шагах от них, и Пиччинино, подойдя к нему ближе, остановился и скрестил руки, словно для того, чтобы перевести дух. Что задумал он, решив совершить столь опасный и ненужный обход лишь для того, чтобы пройти мимо могилы своего отца? Мог ли он не знать, что тот похоронен именно здесь? Или ему казалось менее страшным пройти мимо его праха, нежели мимо креста, свидетеля его самоубийства? Микеле не посмел коснуться столь тягостного и деликатного предмета; он тоже стоял и молчал, недоумевая, почему два часа тому назад, когда фра Анджело на этом же месте рассказывал ему о трагическом конце Дестаторе, его охватило такое страшное волнение. Он достаточно знал свой характер, знал, что не робок, не суеверен, и сейчас был совершенно спокоен; он не испытывал страха. Он только с каким-то отвращением и чувством возмущения смотрел, как бандит, опираясь на этот роковой камень, преспокойно высекает огонь, чтобы зажечь новую папиросу. — А знаете ли вы, что это за скала? — спросил его вдруг этот странный юноша. — И что произошло когда-то у подножия вон того креста? Видите, как он разрезает лунный диск на четыре части? — Да, знаю, — холодно ответил Микеле, — и я надеялся, ради вас, что вы этого не знаете. — Ах, вот как! — продолжал разбойник развязным тоном. — Значит, вы, подобно брату Анджело, удивляетесь, как это я, проходя здесь, не бросаюсь на колени и не произношу «Oremus» [232] за спасение души своего отца? Чтобы выполнять эту обязательную формальность, необходимо верить в три вещи, в которые я не верю: во-первых — в бога, во-вторых — в бессмертие души, а в-третьих — в то, что мои молитвы способны принести хоть какое-то облегчение душе моего отца, в том случае, если она действительно несет заслуженную кару. Вы считаете меня нечестивцем, не правда ли? Однако бьюсь об заклад, что сами вы такой же нечестивец, как я, и если бы не ложный стыд и не лицемерное соблюдение приличий, которому все, даже очень умные люди, считают необходимым подчиняться, вы сознались бы, что я совершенно прав. — Никогда не стал бы я лицемерить ради соблюдения приличий, — ответил Микеле, — я искренно и твердо верую в те три основы религии, от которых вы так гордо отрекаетесь. — В таком случае вы должны быть в ужасе от моего безбожья? — Нет, ибо хочу думать, что оно у вас искреннее и бессознательное. Я не имею права возмущаться чужими заблуждениями, ибо и моему разуму во многом другом не открыта, конечно, абсолютная истина. Я не святоша, чтобы порицать и осуждать тех, кто думает не так, как я. Однако скажу откровенно: есть род безбожья, который ужасает и отталкивает меня, — это безбожье сердца; боюсь, что источник вашего безбожья не только рассудок. — Так, так, продолжайте! — произнес Пиччинино с несколько принужденной развязностью, окружая себя клубами дыма. — Вы считаете, что у меня каменное сердце, только потому, что на этом месте, мимо которого я вынужден проходить ежедневно, и на этом камне, на котором я сотни раз сидел, я не проливаю потоков слез, вспоминая своего отца? — Я знаю, что вы лишились его, когда были еще ребенком, и не можете поэтому сожалеть о том, что утратили душевную близость с ним. Знаю, что роковые воспоминания, связанные с этим местом, должны были стать для вас привычными, чуть ли не досадными; я повторяю себе все, что может объяснить ваше равнодушие, но это не оправдывает в моих глазах той вызывающей игры, того странного спектакля, который вы, видимо умышленно, разыгрываете здесь передо мной. Сам я не знал вашего отца и не связан с ним никаким родством, но мне достаточно знать, что мой дядя любил его, что жизнь этого предводителя разбойников полна была смелых патриотических подвигов, чтобы здесь, у его могилы, почувствовать глубокое уважение к нему; вот почему ваше поведение печалит и возмущает меня. — Синьор Микеле, — сказал Пиччинино, резким движением отбросив сигарету и поворачиваясь к нему с угрожающим видом, — в том положении, в каком мы с вами находимся относительно друг друга, мне кажется весьма странным, что вы осмеливаетесь читать мне подобную отповедь. Вы забываете, кажется, что я знаю ваши секреты, что я волен быть вашим другом или вашим недругом, что, наконец, здесь, в этот час, в этом безлюдном проклятом месте, где я, быть может, не всегда способен сохранить хладнокровие, ваша жизнь в моих руках. — Единственное, чего я здесь боюсь, — с величайшим спокойствием ответил Микеле, — это впасть в совершенно неподходящий для этого места наставнический тон. Такая роль мне не по возрасту и не по вкусу. Поэтому позвольте вам заметить, что если бы сами вы с каким-то непонятным упорством не подстрекали меня отвечать вам так, как я отвечал, вы были бы избавлены от моих замечаний. Что же до ваших угроз, не стану утверждать, что способен столь же хорошо и хладнокровно защищаться, как вы, очевидно, нападать. Я знаю, что достаточно вам свистнуть, как из-за каждой скалы появится вооруженный молодчик. Я доверился вашему слову и без оружия пустился в путь с человеком, который протянул мне руку и сказал: «Будем друзьями». Но если мой дядя заблуждается насчет вашей честности, если вы завлекли меня в засаду, или (я предпочел бы ради вас, чтобы это было именно так) если влияние места, где мы находимся, затуманивает ваш мозг и приводит вас в неистовство, все равно я выскажу вам все, что думаю, и не унижусь до того, чтобы потакать вашим странностям, которые вы словно нарочно выставляете передо мной напоказ. Сказав это, Микеле распахнул плащ и показал бандиту, что у него нет с собой даже ножа; затем он сел напротив Пиччинино, с величайшим спокойствием глядя ему прямо в лицо. Впервые он попал в положение, совершенно для него неожиданное, и не знал, удастся ли ему выйти из него с честью, ибо луна, показавшаяся из-за Croce del Destatore[233], ярко осветила черты молодого бандита, и жестокое, коварное выражение его лица не могло укрыться от Микеле. Однако сын Пьетранджело, племянник отважного капуцина из Бель-Пассо почувствовал, что сердце его недоступно страху и что первую серьезную опасность, угрожающую его юной жизни, он встречает решительно и смело. Пиччинино, увидев себя так близко от Микеле и столь хорошо освещенным, хотел было испробовать грозное действие своего завораживающего, тигриного взгляда, но не в силах был заставить Микеле опустить глаза; и, не обнаружив в лице юноши и в его фигуре ни малейшего признака робости, вдруг подошел к нему, сел рядом и взял его за руку. — Нет, — сказал он, — как я ни стараюсь внушить себе презрение и ненависть к тебе, у меня ничего не выходит; ты, я думаю, достаточно наблюдателен и понимаешь, что я предпочел бы убить тебя, а не охранять, как обещал. Ты мешаешь некоторым моим иллюзиям… сам можешь догадаться каким: ты разбиваешь некоторые мои надежды, которые я лелею и от которых отнюдь не намерен отказываться. Но меня сдерживает не только данное слово — какая-то непреодолимая симпатия влечет меня к тебе. Не хочу лгать, говоря, что ты мне мил и что мне приятно охранять твою жизнь. Но я тебя уважаю, а это уже много. Знаешь, ты хорошо сделал, что отвечал мне именно так; место это, сознаюсь тебе теперь, и в самом деле вызывает у меня подчас приступы безумия; и здесь не раз я решался на страшные поступки. Да, здесь ты не был со мной в безопасности, да и сейчас лучше тебе не произносить при мне одно имя. Пойдем отсюда, и возьми вот этот стилет… Я уже предлагал его тебе. Сицилиец всегда должен быть готов пустить его в дело, а в том положении, в каком находишься ты, я считаю безумием ходить безоружным. — Пойдем, — сказал Микеле, машинально беря кинжал бандита, — дядя сказал, что время не терпит и нас ждут. — Нас ждут! — воскликнул Пиччинино, вскочив на ноги. — Ты хочешь сказать, что ждут тебя! Проклятие! О! провались они сквозь землю, и этот крест и эта скала! Юноша, ты можешь считать, что я безбожник и у меня каменное сердце, но если ты думаешь, что оно ледяное… Вот, приложи сюда руку и знай, что в нем живет столько же воли и страсти, сколько в моем мозгу. Резким движением он взял руку Микеле и приложил к своей груди. Она вздымалась так бурно, что, казалось, вот-вот разорвется. Но когда они вышли из ущелья и оставили позади Croce del Destatore, Пиччинино принялся напевать, голосом нежным и чистым, словно дыхание ночи, сицилийскую песенку с таким припевом: «От вина потеряешь рассудок, от любви поглупеешь. Напиток мой — кровь изменников, любовница — карабин». После этого вызывающего припева, предназначенного не только для Микеле, но и для ушей неаполитанских сбиров, на тот случай, если бы они оказались неподалеку, Пиччинино заговорил с Микеле совершенно непринужденным и спокойным тоном. Он принялся рассуждать об искусстве, литературе, внешней политике и событиях дня с той же свободой мысли, любезностью и изяществом, как если бы они находились в гостиной или на прогулке, словно им, и тому и другому, не предстояло решение весьма важного дела, словно не было волнующих дум, которыми они могли бы поделиться. Вскоре Микеле вынужден был признать, что капуцин не преувеличивал обширность знаний и богатую одаренность своего ученика. В знании древних языков и классиков Микеле намного уступал Пиччинино, ибо, до того так посвятить себя искусству, не имел ни возможности, ни досуга, чтобы посещать школу. Пиччинино, увидев, что Микеле только по переводам знаком с теми классиками, которых сам он цитировал по памяти с изумительной точностью, перешел к истории, современной литературе, итальянской поэзии, романам и театру. Хотя Микеле для своего возраста прочел невероятно много и хотя, как он сам говорил, сумел пообчистить и заострить свой ум, спешно проглатывая все, что попадалось ему под руку, он вынужден был сознаться, что крестьянин из Николози, в промежутках между своими опасными экспедициями, в уединении своего тенистого сада сумел намного лучше, чем он, использовать свободное время. Можно было только поражаться, как человек, который не умеет ходить в модных сапогах и носить галстук, который за всю свою жизнь и десяти раз не спускался в Катанию, словом — человек, постоянно живущий в горах, никогда не бывающий в свете и не встречающийся с умными людьми, сумел с помощью чтения, размышлений или интуиции познать современное общество так же подробно, как в монастыре познал мир древний. Ни одна тема не оставалась для него чуждой; он самостоятельно изучил несколько живых языков и, немного рисуясь, говорил с Микеле на чистом тосканском наречии, словно желая показать, что в самом Риме оно не звучит с большей правильностью и музыкальностью. Микеле с таким интересом слушал его и отвечал, что на мгновение забыл о недоверии, какое, не без оснований, должен был внушать столь сложный ум и столь непроницаемый характер. Остаток пути прошел для него незаметно, ибо дорога была теперь легкой и надежной, и когда молодые люди очутились у парка Пальмароза, Микеле вздрогнул от изумления при мысли о том, что сейчас увидит княжну Агату. И тогда все то, что произошло с ним во время бала и после него, вдруг пронеслось перед его глазами вереницей странных снов. Упоительное волнение овладело им, и он уже не чувствовал ни раздражения, ни страха при мысли о возможных притязаниях своего дорожного спутника, так велики были его собственные, лелеемые им надежды.XXVI. АГАТА
Тропа привела молодых людей к калитке, и Микеле собственноручно открыл ее. Затем окольными дорожками они прошли через парк и достигли подножия вырубленной в лавовой толще лестницы, ведущей наверх, на скалы. Напомним читателю, что дворец Пальмароза непосредственно примыкал к крутому склону и составлял как бы три отдельных здания, которые, словно пятясь, карабкались одно за другим в гору. Верхний этаж, называемый casino, самый уединенный и прохладный, предназначался, по обычаям страны, для главного лица в доме; иначе говоря, покои хозяина выходили прямо на вершину скалы, где был разбит небольшой, но прелестный сад, как бы висевший в воздухе, на той стороне, что была противоположна фасаду. Здесь-то и жила княжна, уединившись от всего мира, словно в роскошной обители; здесь она могла насладиться одинокой прогулкой, не спускаясь по главной лестнице и не привлекая внимания слуг. Микеле видел уже это святилище, но, как известно читателю, всегда в страшной спешке; а когда он сидел здесь с Маньяни во время бала, он был так взволнован и говорил с таким жаром, что не успел разглядеть ни постройку, ни ее окружение. Теперь, проникнув сюда вместе с Пиччинино со стороны обрыва, он сумел яснее понять расположение этого бельведера: построен он был в очень смелом стиле и, в сущности, представлял собой маленькую крепость — лестница, вырубленная в скале, была более приспособлена для выхода, чем для входа; она была так зажата между двумя стенами из лавы и так крута, что даже женская рука легко могла остановить и столкнуть вниз нескромного или опасного посетителя. Наверху не было даже площадки, — прямо на верхней ступеньке возвышалась позолоченная калитка, необыкновенно узкая и высокая, укрепленная между двумя легкими колоннами из черного мрамора, гладкими словно мачты. Справа и слева от каждой колонны зияли глубокие пропасти, огражденные лишь чугунными решетками во вкусе семнадцатого столетия, с массивными завитками, напоминающими фантастических драконов, и с торчащими во все стороны шипами; преодолеть эти решетки, служившие одновременно двум целям, было весьма затруднительно, ибо ухватиться тут было не за что, а под ногами открывалась бездна. Подобное укрепление было далеко не излишним в стране, где разбойники дерзко спускаются с гор в долины и на равнину и доходят до самых ворот города. Микеле взглянул на эту решетку с радостью ревнивого любовника, а Пиччинино — с презрением; он позволил себе даже сказать, поднимаясь по лестнице, что это конфетная цитадель, годная лишь для украшения праздничного стола. Микеле позвонил положенное число раз, и калитка тотчас же отворилась. За ней стояла женщина под покрывалом, с нетерпением ожидавшая их. Едва Микеле переступил порог, как она схватила в темноте его руку, и юный художник узнал по нежному пожатью княжну Агату. Он вздрогнул и так растерялся, что не заметил, как Пиччинино, никогда не терявшийся, вынул из замка ключ, который Микеле, давая условные звонки, успел вставить в замочную скважину. Бандит запер калитку, спрятал ключ в складках своего пояса, и когда Микеле вспомнил наконец о своей оплошности, было поздно исправить ее. Все трое находились уже в будуаре княжны, и не время было заводить ссору с человеком столь бесцеремонным, как сын Дестаторе. Агата была предупреждена и, насколько возможно, осведомлена о характере и привычках лица, с которым ей предстояло иметь дело. Как истая дочь своей родины, она не питала предрассудков относительно профессии бандита и готова была на любые денежные жертвы, лишь бы обеспечить себе услуги Пиччинино. Однако, едва увидев его, она испытала какое-то неприязненное чувство, которое ей с трудом удалось скрыть; а когда он поцеловал ей руку, глядя на нее своими дерзкими, насмешливыми глазами, ее охватила мучительная тревога, и она изменилась в лице, хотя сумела остаться приветливой и любезной. Агата знала, что следует прежде всего польстить затаенному тщеславию авантюриста, выказывая ему особое уважение и где только можно подчеркивая его роль главаря; поэтому она не преминула тут же назвать его капитаном и пригласила сесть по правую руку от себя. К Микеле она обратилась с более фамильярной благосклонностью и усадила его почти рядом с собой, у изголовья кушетки. Затем, не глядя на него, но склонившись в его сторону, так что локоть, на который она опиралась почти касался его плеча, словно для того чтобы иметь возможность, в случае надобности, предупредить его незаметным движением, Агата приготовилась начать переговоры. Но Пиччинино, заметив эту попытку соучастия и находя, что сам он оказался слишком далеко от княжны, встал с кресла и без всяких церемоний уселся рядом с ней на диван. В эту минуту в комнату бесшумно вошел маркиз Ла-Серра, ожидавший, по-видимому, в соседней будуаре, когда начнется беседа; молча и вежливо поклонился он бандиту и сел рядом с Микеле, предварительно пожав ему руку. Хотя Микеле и чувствовал в маркизе соперника, его присутствие придало ему больше уверенности, и он даже подумал, не выбросить ли им через некоторое время бандита в окно; но такая горячность могла бы привести к весьма печальным последствиям, и он стал надеяться, что Пиччинино, сдерживаемый серьезным лицом и степенными манерами маркиза, не посмеет выйти за грани приличия. Пиччинино прекрасно знал, что со стороны господина Ла-Серра ему нечего бояться предательства; он даже рад был, что благородный синьор явился, словно для подтверждения заключаемого здесь союза, и, следовательно, сам неизбежно должен войти в него. — Господин Ла-Серра, значит, тоже мой друг и соучастник? — спросил он княжну тоном упрека. — Синьор Кармело, — ответил маркиз, — вам, несомненно, известно, что я связан близким родством с князем Кастро-Реале, а следовательно, и с вами. Я был еще очень молод, когда катанская полиция открыла наконец настоящее имя Дестаторе, и вам, быть может, небезызвестно также, что я оказал немалые услуги изгнаннику. — Я достаточно хорошо знаю историю своего отца, — ответил молодой бандит, — и мне достаточно того, что господин Ла-Серра распространяет и на меня свою благосклонность. Удовлетворенный в своем тщеславии и твердо решивший ни в коем случае не разыгрывать здесь роль шута, а, напротив, заставить склониться перед своей волей волю всех присутствующих, Пиччинино пожелал сделать это изящно и со вкусом. Он быстро принял на диване позу одновременно достойную и грациозную и придал своему дерзкому и сладострастному взгляду выражение благожелательное и даже почтительное. Княжна первая нарушила лед молчания и кратко изложила дело, приблизительно в тех же словах, в каких сделал это фра Анджело, когда выманивал волка из логова. Пиччинино выслушал ее рассказ, и ничто на его лице не отразило того глубокого недоверия, которое он при этом испытывал. Но когда княжна кончила, он снова настойчиво повторил свое sine qua non[234] относительно завещания и заявил, что в данном случае похищение аббата Нинфо кажется ему весьма запоздалой предосторожностью, а собственное его вмешательство — напрасным трудом и напрасным расходом. Княжна Агата недаром переноса в своей жизни ужасные несчастья. Она научилась распознавать коварство скрытых страстей; и хитрость, которой она не сумела бы найти в своей прямой и правдивой душе, она обрела, правда в ущерб себе, из общения с людьми прямо противоположного склада. Поэтому она сразу поняла, что опасения Пиччинино были притворными и что требовалось угадать их тайную причину. — Синьор капитан, — сказала она, — если вы так относитесь к делу, у нас ничего не получится; я пожелала вас видеть главным образом для того, чтобы получить от вас совет, а не раскрывать перед вами свои мысли. Соблаговолите же выслушать некоторые подробности, которых не мог сообщить вам фра Анджело. Мой дядя, кардинал, составил завещание, в котором объявил меня своей единственной наследницей, и не более десяти дней тому назад, переезжая из Катании на свою виллу в Фикарацци, где он сейчас находится, свернул с дороги, чтобы нанести мне визит, которого я не ожидала. Я нашла дядю в том же состоянии, в каком видела его незадолго перед тем в Катании, то есть он был недвижим, глух и не мог говорить членораздельно; понять его речь можно было только с помощью аббата Нинфо, который узнает или угадывает намерения кардинала с удивительной прозорливостью… если только не истолковывает и не переводит их с безграничным бесстыдством! Однако в данном случае мне показалось, что аббат Нинфо совершенно точно передал волю моего дяди, ибо кардинал посетил меня с целью показать мне завещание и сообщить, что дела его приведены в полный порядок. — А кто показывал вам завещание, синьорина? — спросил Пиччинино. — Ведь его преосвященство не может двинуть ни рукой, ни ногой. — Терпение, синьор капитан, — я не забуду ни одной мелочи. Доктор Рекуперати, врач кардинала, является хранителем завещания, и по взглядам и волнению дяди я хорошо поняла, что он не хочет, чтобы доктор выпускал этот документ из рук. Два или три раза аббат Нинфо попытался взять его, якобы для того, чтобы показать мне, но тогда дядя начинал страшно сверкать глазами и рычать, словно умирающий лев. Доктор положил завещание обратно в свой портфель и сказал мне: «Ваша милость, можете не разделять тревоги его преосвященства. С каким бы глубоким уважением и доверием мы не относились к аббату Нинфо, завещание поручено хранить мне, и никто, кроме меня, будь то хоть папа, хоть король, не коснется столь важного для вас документа». Доктор Рекуперати — человек чести, он неподкупен и в решительных случаях проявляет непреклонную твердость. — Верно, сударыня, — сказал бандит, — но он дурак, тогда как аббат Нинфо далеко не глуп. — Я прекрасно знаю, что у аббата Нинфо хватит наглости выдумать какую-нибудь небылицу, чтобы заманить простодушного доктора в грубую западню. Вот почему я и просила вас, капитан, удалить на время этого гнусного интригана. — Я это сделаю, если еще не упущено время, ибо не хочу рисковать напрасно своей жизнью, а главное, подрывать свою блестящую репутацию, которая для меня дороже жизни. Поэтому я еще раз спрашиваю вас, сударыня, не слишком ли поздно браться за это дело? — Если поздно, то всего на два часа, — ответила княжна Агата, внимательно глядя на него, — так как два часа тому назад я посетила дядю, и по его знаку доктор еще раз показал мне завещание в присутствии аббата Нинфо. — И это был тот самый документ? — Да, тот самый. — В нем не было приписки в пользу аббата Нинфо? — В нем не было ни одного прибавленного или измененного слова. Сам аббат, раболепно делающий вид, что защищает мои интересы, аббат, каждый косой взгляд которого как бы говорил: «Вы еще заплатите мне за мое усердие», сам аббат настоял на том, чтобы я внимательно перечитала завещание. — И вы это сделали? — Я это сделала. Пиччинино, убедившись в непоколебимости княжны и в ее здравом смысле, почувствовал к ней большое уважение, ибо до этого он видел в ней только изящную, очаровательную женщину. — Меня вполне удовлетворяют ваши объяснения, — сказал он, — но, прежде чем начать действовать, мне необходимо еще кое-что знать. Уверены ли вы, сударыня, что за два последних часа аббат Нинфо не схватил доктора Рекуперати за горло, чтобы вырвать завещание? — Как я могу это знать, капитан? Вы один сможете сообщить мне это, когда соблаговолите начать свой тайный розыск. Однако доктор человек сильный и смелый, и он не настолько прост, чтобы позволить обокрасть себя столь хилому и трусливому существу, как аббат Нинфо. — Но что помешало бы этому Нинфо, а он плут первостатейный и водит знакомство с самыми низкими слоями нашей округи, — что помешало бы ему обратиться к наемному убийце, который за честное вознаграждение подстерег бы и убил доктора… или был бы готов на это? Тон, которым Пиччинино сделал это замечание, заставил вздрогнуть всех трех его слушателей. — Несчастный доктор! — воскликнула княжна бледнея. —Значит, это преступление решено или уже совершилось? Во имя неба, объяснитесь подробнее, господин капитан! — Успокойтесь, сударыня, это преступление еще не совершилось; но оно могло бы свершиться, ибо уже решено. — В таком случае, сударь, — сказала княжна, умоляюще схватив бандита за руки, — отправляйтесь немедленно. Сохраните жизнь честному человеку и захватите негодяя, способного на худшие преступления. — А если во время схватки завещание попадет ко мне? — спросил бандит, вставая и не выпуская рук княжны, которые он крепко сжал, едва они коснулись его собственных. — Завещание, синьор капитан? — с жаром ответила она. — Что значит для меня половина моего состояния, когда надо спасти людей от кинжала убийц? Мне нет дела до завещания! Схватите чудовище, которое его добивается. Ах, если бы я знала, что могу усмирить его ненависть, уступив ему этот документ, он давно мог бы считать себя его обладателем! — А если его обладателем стану я? — произнес авантюрист, вперяя свои острые, рысьи глаза в глаза Агаты. — Это не устроило бы аббата Нинфо, ибо он прекрасно знает, что его преосвященство не в силах составить или хотя бы продиктовать новое завещание. Но вы, сударыня, вы, имевшая неосторожность открыть мне то, чего я не знал, сообщив, какому смехотворному стражу поручено хранить столь важный документ, вы, в таком случае, не были бы встревожены? Княжна давно уже поняла, что бандит не начнет действовать, пока не увидит возможности извлечь из завещания какую-то выгоду для себя. Она готова была пожертвовать этим документом и без сожаления уступила бы Пиччинино огромную сумму, если бы ему удалось сохранить за ней титул наследницы. На это у нее были серьезные причины: всем было известно, — и бандит, который, как видно, заранее изучил дело во всех подробностях, не мог этого не знать, — что у одного нотариуса хранится старое завещание, лишавшее Агату наследства в пользу их дальней родственницы. Кардинал составил это первое завещание и сделал его широко известным еще в ту пору, когда гневался на племянницу и ненавидел ее. Правда, заболев и все время получая от княжны знаки искреннего почтения, он изменил свои намерения, однако пожелал, чтобы первое завещание оставалось нетронутым на тот случай, если ему вздумается уничтожить новое. Так дурные люди, поддаваясь доброму чувству, всегда оставляют приоткрытой дверь для возможного возвращения своего злого гения. Поэтому княжна Агата заранее была готова к притязаниям Пиччинино, но по манере, с какой он намекал на эти свои притязания, она поняла, что к его алчности примешивается немалая доля тщеславия, и ей пришла в голову счастливая мысль удовлетворить, и притом немедленно, и ту и другую его страсть. — Синьор Кастро-Реале, — сказала она, сделав над собой усилие, чтобы произнести вслух ненавистное имя, применив его в виде титула к побочному сыну Дестаторе, — я сама готова вручить вам завещание, ибо оно будет тогда в надежных руках. Княжна победила. У бандита закружилась голова, и другая страсть, боровшаяся в нем с корыстолюбием, мгновенно одержала верх. Он поднес к губам дрожащие руки княжны и прильнул к ним таким долгим и сладострастным поцелуем, что Микеле и сам господин Ла-Серра содрогнулись. Еще одна надежда, помимо надежды на обогащение, забрезжила перед Пиччинино. Неудержимое желание овладело им еще в ту ночь, на балу, когда он увидел Агату, окруженную восхищением и обожанием стольких мужчин, которых она даже не замечала, так же как не заметила и его, хотя он втайне надеялся, что она лишь делает вид, будто его не узнает. Особенно возбуждала Пиччинино кажущаяся невероятность подобной победы. Всегда презрительно-сдержанный с женщинами своего круга, он обладал при этом неукротимым темпераментом хищного зверя, но ко всем его чувствам примешивалось так много тщеславия, что ему редко представлялся случай утолить свою любовную жажду. На этот раз успех тоже был сомнителен, но это-то и горячило его энергичную, упрямую и предприимчивую натуру, ибо он страстно любил браться за дела трудные, слывущие невыполнимыми. — Ну что же, сударыня, — воскликнул наконец Пиччинино рыцарственным тоном, — ваше доверие ко мне доказывает благородство вашей души, и я сумею оправдать его. Не беспокойтесь о судьбе доктора Рекуперати, ему теперь ничто не грозит. Правда, не далее как сегодня аббат Нинфо договорился с неким человеком, который взялся убить доктора. Но не говоря о том, что аббат хочет дождаться, чтобы кардинал оказался при смерти, — а этого еще не случилось, — кинжал, долженствующий поразить вашего друга, не выйдет из ножен без моего разрешения. Так что нам нечего спешить, и я еще на несколько дней могу вернуться к себе в горы. Аббат Нинфо сам лично явится предупредить нас, когда настанет подходящий момент для того, чтобы нанести удар в жирное брюхо толстого доктора, и тут-то, вместо того чтобы выполнить сие приятное поручение, мы схватим самого аббата и попросим его вместе с нами подышать горным воздухом, пока вашей милости не угодно будет вернуть ему свободу. При этих словах княжна, до тех пор прекрасно владевшая собой, смутилась и сказала взволнованным голосом: — Я полагаю, капитан, вам известна и другая причина, заставлявшая нас с огромным нетерпением ожидать похищения аббата Нинфо. Доктор Рекуперати не единственный из моих друзей, которому грозит опасность; я поручила фра Анджело сообщить вам и другие причины, в силу которых мы желали бы как можно скорее избавиться от аббата. Но лукавый кот Пиччинино не кончил еще играть с облюбованной им жертвой. Он притворился, будто не понимает или не помнит, что в похищении аббата заинтересованы главным образом Микеле и его отец. — Я думаю, — сказал он, — ваша светлость преувеличивает опасность, какую представляет собой присутствие аббата Нинфо при кардинале. Вам должно быть известно, что его преосвященство глубоко презирает и с трудом переносит этого прихвостня, хотя и использует как энергичного и сообразительного переводчика; словом, если кардинал и нуждается в нем, он никогда не позволит ему совать нос в свои дела. Вашей светлости также известно, что в завещании упомянут небольшой дар в пользу бедняги аббата, и я не думаю, чтобы синьора соизволила оспаривать его. — Конечно, нет! — ответила княжна, пораженная тем, что Пиччинино так хорошо знаком с завещанием, — уверяю вас, меньше всего тревожит меня сейчас жалкий вопрос о том, получит ли аббат от моего дяди большую или меньшую сумму. Я уже говорила вам, капитан, и фра Анджело тоже должен был сказать вам это, что его брат и племянник подвергаются огромной опасности, ибо аббат может донести на них кардиналу или неаполитанской полиции. — Ах, да! — воскликнул хитрый Пиччинино, ударив себя по лбу. — Я и забыл об этом, а ведь это очень важно для вас, княжна, я понимаю… Я мог бы даже сообщить вам по этому поводу кое-что, неизвестное вам; но дело это весьма деликатного свойства, — прибавил он, словно пребывая в нерешительности, — и мне трудно будет говорить о нем в присутствии двух лиц, почтивших меня здесь своим вниманием. — При маркизе Ла-Серра и Микеланджело Лаворатори вы можете говорить все, — ответила княжна с некоторой тревогой. — Нет, сударыня, я человек долга и слишком уважаю вас, чтобы до такой степени забыть о некоторых условностях. Если ваша светлость расположены выслушать меня без свидетелей, я сообщу вам, какой был составлен заговор и какие приняты решения; в противном случае, — добавил он, делая вид, будто собирается уйти, — я вернусь в Николози и там буду ждать, пока синьора соблаговолит уведомить меня, в какой день и час она соизволит меня выслушать. — Сейчас, сударь, сейчас, — с живостью ответила княжна. — Жизнь моих друзей, подвергающихся из-за меня опасности, беспокоит и тревожит меня неизмеримо больше, чем мое состояние. Пойдемте, — продолжала она, вставая и смело беря под руку бандита, — мы побеседуем в цветнике, а мои друзья подождут здесь. Нет, нет, не уходите, — сказала она маркизу и Микеле, которые готовы были удалиться, хотя не могли без какого-то смутного страха думать о разговоре княжны наедине с Пиччинино. — Я в самом деле хочу подышать свежим воздухом, а господин Кастро-Реале будет так добр и предложит мне руку. Оставшись одни, Микеле и маркиз Ла-Серра переглянулись, словно пораженные одной и той же мыслью; оба бросились к окнам, не для того, чтобы услышать разговор, от которого княжна, казалось, сама желала устранить их, а чтобы ни на мгновение не упускать ее из виду.XXVII. ДИПЛОМАТИЯ
— Зачем, дорогая княжна, — развязно заговорил Пиччинино, оставшись наедине с Агатой и беря ее под руку, — зачем совершаете вы такую неосторожность, вынуждая меня говорить о Микеле в присутствии столь деликатного чичисбея, как маркиз Ла-Серра? Вы, наверное, забываете, ваша светлость, что раз мне известны секреты виллы Фикарацци, то мне, несомненно, ведомы и тайны дворца Пальмароза, поскольку аббат Нинфо ведет самое тщательное наблюдение за обеими резиденциями. — Так, значит, капитан, — возразила княжна, стараясь, в свою очередь, говорить так же свободно, — значит, аббат Нинфо успел повидаться с вами раньше меня и, желая склонить на свою сторону, раскрыл вам уже все свои секреты? Агата прекрасно понимала, как ей держаться в разговоре. И в самом деле, не обнаружь она, что аббат уже пытался заручиться помощью Пиччинино, замышляя план похищения или даже убийства Микеле, никак не сочла бы она возможным обратиться к разбойнику с поручением похитить аббата. Однако она остерегалась выдавать Пиччинино свои истинные мотивы — ей хотелось подстрекнуть его самолюбие, намекая на другие, будто бы главные свои побуждения. — Откуда бы ни шли мои сведения, — улыбнувшись, сказал Пиччинино, — предоставляю вам самой судить о степени их точности. Когда кардинал прибыл, чтобы посетить вас, у решетки сада оказался некий юноша, благородные черты и гордое выражение лица которого никак не вязались с запыленной и поношенной одеждой, видимо не один день служившей в дороге. По какой прихоти кардинал стал разглядывать молодого человека и с какой стати ему вздумалось о нем справляться, осталось непонятным даже самому аббату Нинфо. И вот он поручил мне по возможности добраться до сути дела. Ясно одно: давнишняя странная причуда кардинала — справляться об имени и возрасте всех простолюдинов, внешность которых чем-то поражает его, пережила в нем и силы и память. Словно отзвук прежней деятельности в тайной полиции, в нем возникает по временам какое-то смутное беспокойство, и тогда он повелительным взглядом дает понять аббату Нинфо, о чем тому следует разузнать и доложить. Правда, когда аббат принес и показал ему записку с кратким пересказом всего, что удалось выведать, кардинал, кажется, не выказал никакого интереса. Но так бывает и всякий раз, когда аббат досаждает ему своими наглыми требованиями и коварными вопросами: его преосвященство прочитывает лишь несколько первых слов и, гневаясь, закрывает глаза, как бы приказывая, чтобы его не утомляли более. Вряд ли вам известны эти подробности, ваша светлость: ведь доктору Рекуперати не приходится бывать их свидетелем. Но в краткие часы сна, выпадающие на долю доброго доктора, бдительность преданных слуг, которыми вы, ваша светлость, сумели окружить его преосвященство, не может помешать Нинфо прокрадываться в спальню; он бесцеремонно будит кардинала и подносит к его глазам листки с четко написанными фразами, на действие которых аббат особо рассчитывает. При таком болезненном пробуждении у кардинала под влиянием гнева случаются моменты особого просветления. Он, видимо, сознательно прочитывает предложенные ему фразы, пытается пробормотать какие-то слова и часть из них его мучителю все-таки удается разобрать. А вслед за тем кардинал опять впадает в изнеможение, и гаснущее пламя его жизни тем скорее меркнет и ослабевает. — Значит, — негодующе воскликнула княжна, — этот негодяй из льстеца и шпиона превращается теперь в палача и убийцу моего несчастного дяди? Вы сами видите, синьор капитан: надо отделаться от него поскорее, и нечего мне дожидаться каких-то других причин, побуждающих желать его удаления. — Простите, сударыня, — упрямо возразил разбойник, — не сообщи я вам всего этого, у вас все равно оставались бы другие, ваши собственные, причины, которых вы не желаете мне открывать, но которые по моему требованию мне разъяснил Нинфо. Я никогда не берусь за дело, не вникнув в него толком, и мне подчас случается, как видите, расспрашивать обе стороны. Позвольте же мне продолжить рассказ о моих открытиях, и тогда, надеюсь, вы наконец решитесь поделиться со мной вашими. Аббат Нинфо сначала без особого внимания оглядел и опросил прохожего, оказавшегося у решетки вашего сада. Но он заметил, что кардинал был взволнован встречей, словно лицо юноши пробудило в нем какие-то воспоминания, на которых ему не удавалось сосредоточиться, чтобы разобраться в них (его преосвященству, очевидно, очень трудно и тягостно дается всякое напряжение мысли). Аббат задержался у решетки и стал расспрашивать юношу уже более подробно. Однако, вероятно, имея на то особые причины, юноша увернулся от расспросов аббата, который в конце концов решил, что перед ним просто бродяга, и даже подал ему милостыню. Но через два дня, занимаясь слежкой в вашем доме, куда он проник переодевшись рабочим, которых во множестве наняли для подготовки к празднеству, аббат легко обнаружил, что его «бродяга» является прекрасным художником, что ваша светлость его балует и засыпает заказами и что он вовсе не так беден, чтобы принимать медные гроши у ворот дворца, ибо приходится сыном зажиточному мастеру Пьетранджело Лаворатори. Аббат не преминул в тот же вечер принести монсиньору Джеронимо полоску бумаги, на которой крупными буквами излагалось новое донесение. Но стараясь заставить сильнее звучать последние струны арфы, аббат оборвал их. Кардинал ничего не понял. Имена Пьетранджело и Микеланджело Лаворатори не привели ему на память ничего. Он только сердито пробормотал что-то, проклиная Нинфо, нарушившего его дремоту. Так что, — с лукавой усмешкой добавил Пиччинино, — страхи за Пьетранджело, которые вы, ваша светлость, испытываете либо притворяетесь, будто испытываете, оказываются безосновательными. Если кардинал и преследовал когда-то этого честного мастера как заговорщика, он его теперь начисто позабыл, и даже аббату Нинфо не разбудить в старике никаких воспоминаний о деле, ставшем ему совсем чуждым. И — по крайней мере сейчас — никакой донос со стороны аббата не грозит вашему подопечному… — У меня отлегло от сердца, — сказала княжна, в своей тревоге за друзей рассеянно дозволяя разбойнику пожать ей руку и даже отвечая на его пожатие. — Ваши слова приносят мне отраду, синьор, и я благословляю вас за доверие, которое вы мне оказываете, раскрывая мне эти подробности. Да, здесь-то и гнездились мои страхи. Но если кардинал ничего не помнит, а аббат ничего не знает, во всем прочем я доверяюсь вашей мудрости. Вот, капитан, что, по-моему, нам остается сделать. Вы ведь человек хитроумный — придумайте средство, как нам захватить завещание кардинала. Пусть аббат узнает о пропаже бумаги, тогда он перестанет преследовать почтенного доктора. Вы отвлечете таким образом внимание аббата, и он даст умереть спокойно моему несчастному дяде. Так дипломатическим путем мы покончим дело; я боюсь, как бы иначе из-за низкой корысти не пролилось невесть сколько крови. — Вы слишком спешите, ваша светлость! — возразил Пиччинино. — Есть еще один пункт, по которому не так-то легко усыпить бдительность аббата. И несмотря на мое уважение к вам, несмотря на всю мою робость и смущение, я не могу обойти молчанием этот вопрос. — Говорите же, говорите! — торопила его Агата. — Ну хорошо же! Раз вы, ваша светлость, не хотите понимать с полуслова, я должен, с вашего позволения, сообщить, что аббат Нинфо, вынюхивая политические козни, до которых ему так и не удалось докопаться, наткнулся на некую любовную интригу и решил использовать ее к своей выгоде. — Я вас не понимаю, — промолвила княжна так чистосердечно, что разбойник был поражен. «Неужели Нинфо дурачил меня? — подумал он. — Или, быть может, эта женщина сама в силах потягаться со мною? Сейчас увидим». — Сударыня, — вкрадчиво заговорил он, прижимая к сердцу прекрасную руку Агаты. — Быть может, сударыня, вы меня возненавидите. Но мой долг — служить вам и, хотя бы наперекор вашей воле, прояснить дело. Аббат дознался, что молодого Микеланджело Лаворатори каждодневно в урочный час принимают в личных апартаментах вашего дворца, что он обедает не с челядью и не с другими рабочими, а за вашим столом и втайне ото всех и, наконец, что когда наступает час сьесты, художник отдыхает от своих трудов в объятиях прекраснейшей и очаровательнейшей из женщин. — Это ложь! — воскликнула княжна. — Это гнусная клевета! Я особо отличала этого юношу, как того достойны, по моему мнению, его талант и образ мыслей, но он обедал со своим отцом в отдельной комнате, а отдыхал в моей картинной галерее. Плохо же подглядывает аббат Нинфо, не то он мог бы рассказать вам, что Микеле, сломленный усталостью, даже провел две-три ночи в одном из закоулков дворца. — Мне говорили и это, — подтвердил Пиччинино, никогда не упускавший случая сделать вид, будто ему уже давно известно то, что ему только что сообщили. — Так вот, синьор де Кастро-Реале, — твердо продолжала Агата, глядя ему в лицо, — все это так и было. Но я могу поклясться душою моей матери и вашей матери тоже, да и Микеле мог бы повторить перед вами такую клятву, что он даже не видел меня ни разу до дня бала, когда в присутствии двух сотен рабочих отец впервые представил его мне. На балу я говорила с ним в толпе гостей на парадной лестнице, и господин Ла-Серра, который вел меня под руку, хвалил его искусство тоже. С той минуты и до сего часа Микеле не видел меня. Спросите у него самого! Синьор, вы человек, которого не легко провести. Призовите же на помощь свою проницательность — я на нее вполне полагаюсь. Эта откровенная речь, произнесенная с уверенностью, которую могла придать ей только правда, заставила Пиччинино содрогнуться от радости, и он с такой силой прижал руку Агаты к своей груди, что княжне сразу стали ясны его чувства. На секунду ее охватил страх, еще обостренный неким ужасным воспоминанием. Но она мигом увидела, какая опасность возникает перед Микеле, и, откладывая до более удобного часа заботу о его прямой безопасности, решила сыграть на самолюбии Кармело Томабене. — Зачем же было аббату Нинфо, — тем временем спрашивал тот, — сочинять такую неправдоподобную историю? Агата поняла, что догадавшись о безумной страсти, которую, как она сама сейчас убедилась, разбойник питал к ней, аббат пожелал подстрекнуть Пиччинино и этим ускорить выполнение своего злого замысла. «Коли так, — подумала она, — я применю твое же оружие, подлый Нинфо, ты мне сам подсовываешь его». — Послушайте, синьор, — заговорила она, — вы так хорошо знаете людей, так умеете проникать в самые тайные глубины души, неужели же до сих пор вы не поняли, что ко всем явным порокам аббата присоединяется еще и бешеное бесстыдство воображения? Вы думаете, он зарится лишь на мое наследство? А разве аббат не намекал вам, что завладей он бумагой, он не удовольствуется одними деньгами, ежели я захочу выкупить часть наследства? — Да, да! — уже вполне искренно вскричал Пиччинино. — Я сам не раз подмечал у этого безобразного, похотливого чудовища мерзкие влечения и отвратительные порывы. Прикидываясь в подобных случаях, будто он сомневается в женской стойкости, он просто пытается утешить самого себя, так как вполне сознает свое физическое и нравственное уродство. Да, да, я понял это, несмотря на все его притворство. Я не хочу сказать, будто он — он! — любит вас, это значило бы оскорбить само слово «любовь». Но он вожделеет к вам, и он вас ревнует. Ревнует! Это тоже слишком благородное слово! Ревность — страсть молодой души, а душа аббата поражена старческой немощью. Он подозревает и ненавидит все, что вас окружает. Наконец, чтобы победить вас, он додумался до дьявольского средства. Сообразив, что вы не пожелаете заплатить ему за наследство своей благосклонностью, и предполагая, что вы любите этого юношу, он решил захватить его в качестве заложника и заставить вас любою ценой выкупить жизнь и свободу Микеле. — Мне следовало ожидать этого, — вся похолодев, но сохраняя наружное спокойствие и надменность, сказала княжна. — Выходит, что вы, синьор, не прочь принять участие в предприятии, привычном для людей, занимающихся ремеслом столь мерзким, что само его название ни на одном языке не произнести женщине — так оно постыдно. Мне кажется, господин аббат заслуживает с вашей стороны самой суровой кары за то, что осмеливается приглашать вас в союзники в таком деле. Удар Агаты попал в цель. Подлые намерения аббата, до сих пор возбуждавшие в молодом разбойнике лишь ироническое презрение, теперь представились ему личной обидой и возбудили в нем жажду мести. Поистине справедливо говорится, что любовь даже в дикой и безудержной душе пробуждает чувство человеческого достоинства. — Строгой кары? — глухо процедил Пиччинино сквозь стиснутые зубы. — Он ее дождется!.. Однако, — прибавил разбойник, — не тревожьтесь более ни о чем, синьора, и без всяких опасений передайте свою судьбу в мои руки. — Моя судьба всецело в ваших руках, синьор, — ответила Агата, — в ваших руках также мое состояние, мое доброе имя и жизнь моих друзей. Подумайте, как же мне не тревожиться? И она открыто поглядела ему в глаза. Во взгляде ее выразилось столько женской прозорливости, что Пиччинино не в силах был противиться ее обаянию и ощутил, как к его чувству в этот миг примешались и робость и уважение. «О, мечтательница! — подумал он. — Разбойничьего вожака ты все еще представляешь себе либо театральным героем, либо средневековым рыцарем! И, чтобы понравиться тебе, мне придется играть эту роль! Ну, что ж! Я ее сыграю. Для человека начитанного и догадливого здесь нет ничего трудного». «А почему мне и в самом деле не быть героем? — продолжал он размышлять, молча шагая рядом и трепещущими пальцами сжимая руку женщины, казалось, столь ему доверявшей. — Я не соизволил до сих пор стать героем лишь потому, что не представлялось случая, а без него всякие возвышенные чувства показались бы смешными. С такой женщиной, как эта, цель становится достойной усилий, и, наверное, не так уж трудно проявлять благородство, если награда сулит быть столь сладостной. Тут расчет ради личной выгоды высшего порядка, однако расчет не менее реальный и разумный, чем всякий другой». Все-таки, прежде чем перейти окончательно на роль рыцаря прекрасной дамы, он захотел покончить с последними остатками своего недоверия и, чтобы от него избавиться начисто, проявил на этот раз почти детскую наивность. — Единственная слабость, какую я знаю за собой, — заговорил он, — это боязнь играть смешную роль. Нинфо хотел заставить меня выступить в гнусной роли и будет наказан за это. Но если вы, ваша светлость, на самом деле любите этого юношу… Придется и ему горько каяться, что он обманул меня! — Но что у вас на уме? — спросила Агата, подводя Пиччинино к свету, падавшему на цветник из окна ее будуара. — Я действительно люблю Микеле, Пьетранджело и фра Анджело, как своих преданных друзей, как людей, достойных уважения. Чтобы оградить их от вражды злодея, я отдам любые деньги, да и все, что только потребуют. Но взгляните же на меня, синьор, и поглядите на этого мальчика, который задумчиво сидит там за окном. Неужели вы полагаете, что при разнице в нашем возрасте и положении между нами могут возникнуть какие-либо нечистые чувства? Вы не знаете моего характера. Меня никто никогда не понимал. Быть может, вы будете тем, кто воздаст мне должное. Я бы хотела этого, ибо ценю ваше уважение и не заслужила бы его, если бы испытывала к этому мальчику чувства, которые желала бы скрыть от вас. С этими словами Агата снова оперлась на руку Пиччинино и направилась с ним к двери будуара. Разбойник был так потрясен этим знаком близости и доверия, которые она хотела выказать ему на глазах у Микеле и маркиза, что шел рядом почти вне себя, словно опьянев от счастья.XXVIII. РЕВНОСТЬ
Ни маркиз, ни Микеле не слышали ни слова из приведенной нами беседы. Однако первый был совершенно спокоен, другой же сильно встревожен. Маркизу Ла-Серра довольно было одного взгляда на безмятежное лицо княжны, чтобы понять, что никакой непосредственной опасности со стороны разбойника ей не угрожает. Но Микеле, совсем не знавший характера синьоры, терзался мыслью, не осмелился ли Пиччинино в этом разговоре перейти границы, которые ставит уважение. Его мука еще увеличилась, когда он увидел лицо Пиччинино, показавшегося в дверях будуара. Его лицо, обычно столь безразличное и сдержанное, сейчас светилось доверием и счастьем. Этот невысокий человек словно вырос на целую голову, а его черные глаза пылали огнем, которого нельзя было и предполагать ранее в глубине этой холодной и расчетливой души. Едва княжна, несколько утомленная долгим хождением взад и вперед по узкому пространству цветника, присела на диван, к которому с элегантной учтивостью подвел ее разбойник, как сам он почти без сил опустился на стул б другом углу тесного будуара. Однако Пиччинино постарался все же оказаться лицом к ней, словно для того, чтобы оттуда вволю глядеть на княжну, освещенную огнем свечей. В саду Пиччинино вдоволь насладился звуком ее пленительного голоса, лестным смыслом ее слов, нежностью ее руки. Чтобы довершить это изысканное, впервые в жизни испытанное наслаждение, ему хотелось теперь только одного — глядеть на нее без помехи, без той сдержанности в речах, без той работы мысли, которых требовала их недавняя сосредоточенная беседа. Он погрузился в немое созерцание, и взор его был красноречивей, чем хотелось бы Микеле. Он не сводил своего дерзкого взора с лица княжны, не мог досыта наглядеться на эту прелестную женщину, которою уже обладал в мыслях, — словно она была только что похищенное им сокровище, блеском которого он мог наконец спокойно любоваться. Особенно же приводило в отчаяние молодого художника то, что под роковым влиянием этой нахлынувшей страсти, едва зародившейся и разгорающейся с быстротою пожара, в самом разбойнике все больше проявлялось какое-то странное очарование. Его изысканная красота засверкала, как сверкает звезда сквозь дымку, застилающую горизонт, — некоторая резкость его черт, скрытное выражение лица, заставлявшее опасаться его, уступили теперь место обольстительной мягкости, жадному стремлению высказаться, пока еще немому и как бы притушенному собственным пылом. Казалось, он был в изнеможении и не старался более выглядеть равнодушным и рассеянным. Его руки повисли, как плети, грудь опустилась, влажный и восторженный взгляд остановился — все говорило, что он потрясен взрывом неведомой ему самому силы, сбит с ног волною нахлынувшего предвкушения своей победы. Впервые он внушал страх Микеле — Микеле, который, не дрогнув, стоял перед Пиччинино в зловещем безлюдье у Креста Дестаторе. Но здесь, весь светившийся неведомым ликованием, он казался столь могущественным, что ни одной женщине нельзя было устоять перед его взглядом, словно то был магический взгляд василиска. Однако Агата, видимо, совсем не замечала всего этого, и всякий раз переводя взгляд с нее на разбойника и обратно, Микеле видел, что она держится смело и открыто и не собирается ни нападать, ни защищаться. — Друзья мои, — сказала она, отдохнув с минуту, — теперь мы можем проститься и спокойно разойтись. Я вполне полагаюсь на нового друга, которого провидение послало нам через догадливого фра Анджело. Вы почувствуете к нему такое же доверие, когда узнаете, что этот новый друг наперед и лучше, чем мы с вами, знал, чего нам следует опасаться и на что надеяться. — По правде сказать, дело это довольно тонкое, — сказал Пиччинино, с трудом отрываясь от своих мечтаний. — Пришла пора этому молодому человеку узнать, почему я так смеялся, когда он явился ко мне. Надеюсь, и вам тоже станет смешно, мэтр Микеланджело, если я скажу, что вы намеревались вверить свою судьбу тому, кому часом ранее поручалось убить вас. И не будь я осмотрителен и хладнокровен в делах такого рода, доверяй я слепо словам тех, кто приходит ко мне за советом, могло бы получиться совсем другое. Когда вы, по поручению ее светлости, пришли договариваться со мною о похищении аббата, я мог бы схватить вас и по поручению того же Нинфо упрятать к себе в подвал скрученным на славу и с кляпом во рту. Судя по виду, вы бы отважно защищались. О, я знаю, вы не трус и, пожалуй, посильнее меня. У вас есть дядюшка, который двадцать лет так старательно дробил камень на дорогах, что и теперь, найдя себе в горах другое занятие, легко докажет, что не растерял силы, за которую его прозвали Железной Рукой. Но когда дело доходит до высокой политики, становишься предусмотрительным. Мне стоило тронуть пальцем некий колокольчик, и дом окружил бы десяток решительных молодцов, с которыми шутки плохи, — вам было бы не отбиться. Пиччинино выговорил все это, насмешливо поглядывая на Микеле, а затем снова повернулся к Агате. Она прикрыла веером свое побледневшее лицо, но, перехватив ее взгляд, разбойник увидел в ее глазах спокойствие, перед которым бессильна была ирония. Привычное тайное наслаждение, которое он испытывал, запугивая всех, кто пробовал оказать ему сопротивление, вдруг погасло под этим женским взглядом, словно говорившим: «Ты этого не сделаешь, я тебе запрещаю». И он уже с видом прямодушия и благожелательности снова обратился к Микеле: — Вы сами видите, мой юный друг, у меня были причины желать, чтобы мне разъяснили дело и не слишком бы меня торопили. Теперь я вижу: на одной стороне — честность и правдивость, на другой — подлость и ложь, и у меня не остается уже никаких сомнений: вы можете спать спокойно… Я вас провожу до Катании, — сказал он юноше вполголоса, — там мне нужно подготовить на завтра похищение аббата, но я непременно должен отдохнуть часа два. Не предоставите ли вы мне в вашем доме уголок, где я мог бы хорошенько выспаться, не опасаясь, что меня кто-нибудь увидит? В городе меня мало кто знает в лицо, и я предпочел бы, чтобы меня узнали и запомнили попозднее. Так вот, как бы мне зайти к вам в дом, не остерегаясь любопытных, особенно женщин? — У меня как раз есть молоденькая и прелюбопытная сестричка, — улыбнувшись, отвечал Микеле, — да сейчас она, наверное, уже спит. Впрочем, доверьтесь мне, как я доверяюсь вам. Я уступлю вам свою постель, а сам, если пожелаете, сяду рядом и буду стеречь ваш сон. — Согласен, — сказал разбойник. Говоря с Микеле, он все время старался вслушаться в те лишенные особого значения фразы, которыми, не желая мешать беседе молодых людей, обменивались княжна и маркиз. Микеле заметил, что, вопреки своему заявлению, будто он не может делать двух дел зараз, Пиччинино, говоря с ним, не пропустил ни единого слова, ни единого движения Агаты. Успокоенный обещанием Микеле предоставить ему два часа полного отдыха, необходимые, по его словам, чтобы начать действовать немедля, Пиччинино поднялся, собираясь уйти. Однако кокетливая неторопливость, с какой он облекал плащом свой стройный стан, его рассеянный вид и томная грация во время этой важной церемонии и чуть заметное подрагивание черных шелковистых усов явно свидетельствовали, что он уходит с сожалением; так человек с усилием преодолевает свое опьянение, возвращаясь к работе. — Вы не желаете, чтобы вас видели? — спросила его Агата. — Тогда садитесь с Микеле в карету маркиза. Вас довезут до пригорода, а там вы проберетесь переулками… — Благодарю покорно, синьора! — возразил разбойник. — Я вовсе не собираюсь посвящать в свои дела слуг господина маркиза и вашей светлости. Завтра утром аббату Нинфо, проницательность которого может поспорить с их болтливостью, станет известно, что некий горец вышел из ваших апартаментов, хотя никто не видел, как он входил туда. И господин аббат, почуяв мою измену, оскорбит меня лишением доверия, которым почитал до сих пор. Еще двенадцать часов мне надо числиться его верным Ахатом и добрым другом. Я уйду с Микеле тем же путем, что и пришел. — Когда же я вас увижу? — спросила Агата, смело протягивая ему руку, несмотря на жадный пламень, горевший в его упорном взоре. — Вы меня не увидите, — сказал он, опускаясь на колено и пылко целуя ее руку, что так не вязалось с этой смиренной позой, — пока ваш приказ не будет выполнен. Не назначаю ни дня, ни часа, но своей жизнью отвечаю за всех ваших друзей, даже за толстого доктора! Я запомнил дорогу к вашему дому. Когда я позвоню у садовой калитки — раз, три раза и еще семь раз, соизволит ли ваша светлость допустить меня к себе? — Можете быть в этом уверены, синьор, — отвечала она не подавая виду, как ее страшит такая возможность. Маркиз Ла-Серра поспешил уйти вслед за молодыми людьми. Он слишком уважал княжну и никак не хотел, чтобы его сочли ее избранником и любовником. Однако он не был все же спокоен за нее и медленно спускался по лестнице, готовый вернуться по первому зову. Выйдя из цветника, Пиччинино сам замкнул калитку и отдал ключ Микеле, попрекнув его за беспечность. — Если б не я, — сказал он, — так этот бесценный, незаменимый ключ остался бы торчать в замочной скважине. А по пути в покои княжны разбойник с присущим ему хладнокровием уже успел сделать для себя отпечаток этого ключа на шарике воска, который на всякий случай всегда носил с собою. Едва они вышли на лестницу, как преданная Агате камеристка сказала ей: — Молодой человек, которого вы, ваша светлость, желали видеть, дожидается в картинной галерее. Агата приложила палец к губам в знак того, что в подобных случаях следует говорить потише, и спустилась этажом ниже в картинную галерею, где ее действительно уже более получаса ожидал Маньяни. С тех пор как бедный Маньяни прочел таинственное послание княжны, он был ни жив ни мертв. Но, в отличие от Пиччинино, он не лелеял ни малейшей надежды — и его осаждали самые дурные опасения. «Я совершил страшную ошибку. — думалось ему, — доверив Микеле тайну своей безумной страсти. Он, наверное, рассказал все своей сестре. Мила побывала у княжны, которая любит и балует ее. Девочка, которой не понять было всей важности этого рассказа, своей пустой болтовней напутала и возмутила княжну. Но почему было не прогнать меня без всяких объяснений? Ведь все, что она может сказать мне, будет только смертельной обидой и ненужной жестокостью». Час ожидания показался ему столетием. Когда же бесшумно отворилась скрытая в стене галереи дверь и он увидел приближающуюся к нему Агату — в белом платье, побледневшую от недавно перенесенного волнения, в прозрачном белом кружевном покрывале, — его кинуло в озноб, он почувствовал, что умирает. В огромной галерее горел лишь один небольшой светильник. Ему казалось, что княжна не идет, а скользит навстречу, подобно тени. Она прямо подошла к нему и как близкому другу протянула ему руку. И так так он медлил подать свою, то ли считая все это сном, то ли опасаясь ошибиться в значении ее жеста, она сказала мягко, но решительно: — Дай руку, мой мальчик, и скажи, сберег ли ты еще те дружеские чувства, что выражал мне когда-то? Помнишь, после того как я вылечила твою мать, ты говорил однажды, что обязан мне горячей признательностью? Вспомни свои слова! Я-то не забыла тот порыв твоего великодушного сердца! Маньяни не в силах был отвечать. Он не осмеливался поднести руку Агаты к своим губам и, низко склонив голову, лишь слегка пожал ее пальцы. Она заметила, что он весь дрожит. — Ты очень робок, — сказала она, — но если ты и боишься меня, все же — я надеюсь — к твоему смятению не примешивается недоверие. Я должна спешить — отвечай же и ты не раздумывая. Готов ли ты, рискуя жизнью, оказать мне великую услугу? Я прошу о ней именем твоей матери! Маньяни опустился на колени. Лишь в полных слез глазах выразились весь его восторг и преданность. — Возвращайся в Катанию, — заговорила она вновь, — беги, пока не нагонишь двоих мужчин, только что вышедших отсюда — они опередили тебя минут на пять, не больше. Один из них — Микеланджело Лаворатори, ты легко узнаешь его при свете луны. Другой — горец в широком плаще. Следуй за ними, не давая заметить себя, но не теряй их из виду. При первом подозрительном движении этого человека будь готов кинуться на него и свалить с ног… Ты силен, — прибавила она, касаясь крепкой руки молодого рабочего, — но он ловок и коварен. Берегись! Держи, вот тебе кинжал, но примени его только в целях защиты. Этот человек либо мой враг, либо мой спаситель — еще не знаю. Щади его жизнь. Лучше беги прочь вместе с Микеле, постарайся не доводить дело до кровавой схватки. Ты живешь в одном доме с Микеле, не правда ли? — Почти так, синьора. — Держись поблизости, чтобы при малейшей тревоге броситься к нему на помощь. Не ложись спать: сторожи всю ночь, устройся как можно ближе к его комнате. На рассвете этот человек уйдет. Не отлучайся из дому и смотри, чтобы Микеле не выходил один, будь все время рядом, понимаешь? И будь начеку, пока я не отменю своего приказа. Я все объясню завтра, мы свидимся с тобой. С этого часа считай меня своей второй матерью. Идем со мной, мой мальчик, я хочу тебя направить по следам Микеле и его спутника. Она взяла его под руку и, не говоря более ни слова, поднялась с ним в Casino и быстро провела по своим покоям. Они вышли в цветник, она открыла калитку и показала на лестницу, вырубленную в застывшем потоке лавы. — Иди! — сказала она. — Поспешность, осторожность и твое великодушное сердце сына народа — все на защиту друга! Быстрей стрелы и бесшумно, как она, слетел Маньяни вниз по лестнице. Он не терял времени на размышления, не гасил порыва своей воли мучительным раздумьем. А вдруг Микеле — его счастливый соперник, а вдруг уже назавтра его настигнет соблазн пронзить Микеле грудь? Ни о чем этом он не думал: его гнали вперед волшебная сила слов Агаты и пожатие ее руки. Он готов был идти на смерть ради этого баловня, спешил пожертвовать собою и только пожалел бы о любой задержке. Более того — он был горд и счастлив повиноваться той, кого любил, и слова ее звучали в его душе, словно голос неба. Вскоре он миновал пригород и заметил впереди на тропинке двоих мужчин. Это был, без сомнения, Микеле и с ним горец в плаще. Маньяни старался остаться незамеченным, но наперед определял взглядом расстояние и все препятствия, которые ему придется преодолеть, чтобы настигнуть их в случае нужды. Один раз, беседуя, горец приостановился. Сильным и ловким броском, который в иных обстоятельствах был бы не под силу человеку, Маньяни почти настиг их, но расслышал только, что незнакомец рассуждает о любви и поэзии. Потом он дал им уйти вперед и, проскользнув по узкому проходу между бугров лавы, громоздившихся у самого предместья, раньше, чем они, очутился в маленьком дворике, куда выходили смежные дома, где жила семья Маньяни и семья Микеле. Он проследил, как мимо прошел его друг со своим подозрительным гостем, которого Микеле сразу ввел к себе. Тогда Маньяни обежал кругом дома и стал искать укромный уголок, где мог бы провести ночь и откуда, не замеченный никем, мог прислушиваться к малейшему звуку, малейшему движению внутри дома.XXIX. НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ
Пьетранджело знал со слов и княжны и монаха из Маль-Пассо, что ему нечего беспокоиться из-за отсутствия сына и что в случае опасности юноша проведет ночь либо в монастыре у фра Анджело, либо во дворце маркиза Ла-Серра. Так сперва и предполагала распорядиться княжна. Но необходимость доказать свое доверие разбойнику, о мнительности которого она много слышала от фра Анджело, взяла верх. Опасаясь за жизнь Микеле, она послала за Маньяни, и читатель знает, что она оказалась вполне права, рассчитывая на преданность этого великодушного молодого человека. Оптимист по природе, успокоенный к тому же полученными известиями, Пьетранджело лег спать и, как человек, знающий цену времени, постарался крепким сном вознаградить себя за труды, понесенные в дни подготовки к балу. Мила тоже ушла к себе, однако ей не спалось. Накануне она провела несколько часов у княжны, и та расспрашивала девушку о ее друзьях. Среди прочих Мила вспомнила и Антонио Маньяни, и притом с такой горячностью, которая выдала бы тайну ее сердца, будь Агата даже менее проницательна и менее внимательна к ней. Похвалы молодому соседу надоумили княжну обратиться в затруднительном положении к его помощи. Она рассудила, что раз Маньяни в один прекрасный день может стать мужем Милы, то вполне естественно ему уже и сейчас принимать участие в судьбе Микеле. Княжна поручила молодой девушке прислать его вечером к ней, и бедный Маньяни, получив такой приказ, едва не лишился рассудка. Пожалуй, вернее было бы сказать — «бедная Мила». Но смятение молодого человека Мила приписала всецело его робости. Она никак не могла заподозрить в княжне соперницу, и не потому, что Агата казалась ей недостаточно прекрасной, а потому, что в чистом сердце нет места для ревности к тому, кого любишь. Наоборот, великодушная девушка лишь порадовалась такому знаку доверия и уважения, которым любимая ею Агата почтила Антонио Маньяни. Она была горда за него и охотно согласилась бы ежедневно передавать ему такие поручения. Однако княжна не сочла возможным скрыть от Милы, что Микеле нечаянно оказался впутанным в дело, грозившее некоторой опасностью, от которой Маньяни поможет ему уберечься. И поэтому Мила очень беспокоилась. Отцу она ничего не сказала, но сама раз десять бегала на дорогу, ведущую к вилле княжны, прислушиваясь к отдаленным звукам, вглядывалась в прохожих и каждый раз возвращалась домой все в большей тревоге и печали. После того как пробило одиннадцать, она гуже не решалась выходить и оставалась в своей комнате; то стояла у окна, до боли в глазах всматриваясь в темноту, то, измученная бесплодным ожиданием, переходила к постели и опускала голову на подушку. Подчас сердце ее билось так сильно, что этот быстрый стук она принимала за приближающиеся шаги прохожих, вздрагивала, поднимала голову и, не услыхав ничего, пыталась молиться. Наконец около полуночи ей ясно послышались приглушенные звуки неровных шагов. Она выглянула, и ей показалось, будто какая-то тень скользнулавдоль стены и пропала во тьме. Это был Маньяни, но ей не удалось разглядеть его, и она даже усомнилась, не было ли то пустой игрой ее воображения. Несколько минут спустя во двор тихо вошли двое и стали подниматься по наружной лестнице. Мила как раз опять принялась жарко молиться и услыхала их шаги, когда они были уже под ее окном. Она подлетела к нему, поглядела вниз и, рассмотрев сверху лишь головы двух людей, решила, что это ее брат и Маньяни возвращаются вместе домой. Поспешно пригладив пышные распущенные волосы, она побежала навстречу им в комнату брата. Но едва она вбежала туда, как дверь раскрылась и она очутилась лицом к лицу с Микеле и каким-то другим человеком, который был на целую голову ниже Маньяни. Быстро скрыв лицо капюшоном плаща, Пиччинино отступил назад и притворил за собою дверь. — Вы, верно, не ждали сегодня своей возлюбленной, Микеле, — сказал он. — При иных обстоятельствах я охотно познакомился бы с чей, сдается мне, она хороша, как сама мадонна. Однако сейчас вы очень обяжете меня, если спровадите ее так, чтоб она меня не видела. — Будьте спокойны, — ответил молодой художник, — эта девушка — моя сестра, и я сейчас же попрошу ее уйти к себе. Побудьте здесь, за дверью. — Мила, — заговорил он, входя снова и прикрывая своего спутника створкой двери, — что за привычку ты завела не спать по ночам, словно сова какая-то? Иди к себе, голубушка, я не один. Отцовский подручный попросил приютить его на ночь, он будет спать у меня. Сама понимаешь, тебе лучше уйти поскорее: ведь не хочешь же ты, чтоб тебя увидели такой растрепанной и неубранной. — Ухожу, ухожу, — отвечала Мила. — Но скажи мне, Микеле, Маньяни тоже вернулся? — А тебе какое дело? — сердито спросил Микеле. Мила глубоко вздохнула и ушла к себе. Там в полном унынии она бросилась на постель; она решила притвориться, будто спит, и слушать тем временем, что будут говорить в соседней комнате. Быть может, с Маньяни случилась беда? Резкость брата, казалось, сулила недоброе. Оставшись с Микеле наедине, разбойник попросил задвинуть все засовы и, сняв один тюфяк с кровати, прикрыть узкую растрескавшуюся дверь в смежную комнату, сквозь щели которой можно было увидеть свет и услышать их голоса. Когда это было сделано, он попросил Микеле пойти и посмотреть, спит ли его отец, и если ке спит, то пожелать ему доброй ночи, чтобы старику не вздумалось подняться к ним. Затем разбойник скинул свою богато расшитую куртку, без всяких церемоний бросился на кровать Микеле, и, укрыв голову плащом, видимо, решил не теряя ни минуты предаться сну. Микеле и в самом деле пошел вниз, но не успел он ступить на лестницу, как молодой разбойник быстрей и легче птицы выскочил из постели, откинул в сторону тюфяк, отодвинул засов, открыл дверь и направился к постели Милы, у изголовья которой еще горел слабый ночник. Мила прекрасно слышала, как он вошел, но решила, что это Микеле пришел проверить, спит ли она. Ей и в голову не приходило, что чужой человек посмел войти к ней. Она сомкнула веки, словно дитя, которое боится, как бы его не стали бранить, и лежала тихо, не шелохнувшись. При встрече с любой женщиной Пиччинино всегда охватывало беспокойство и волнение. Он старался разглядеть ее внимательно, чтобы либо перестать о ней думать, если ее прелесть на поверку оказывалась несовершенной, либо твердо остановить на ней свой выбор, если ее красоте удавалось встревожить его надменную душу, в которой странным образом сочетались пыл и лень, сила и вялость. Редко двадцатипятилетний мужчина проводил свои годы так целомудренно и скромно, как разбойник со склонов Этны, но мало в чьем воображении кипели столь пылкие мечты и столь безудержные желания. Казалось, он стремился разжечь свою страсть, чтобы проверить ее силу, но чаще всего избегал удовлетворять ее, словно опасаясь, как бы победа не обманула его ожидания. Так или иначе, но в тех случаях, или, вернее сказать, в тех немногих случаях, когда он уступал своей страсти, он испытывал лишь глубокую печаль и корил себя, зачем с такими усилиями добивался так быстро улетучившегося упоения. Возможно, были у него и другие причины, почему он желал без ведома Микеле увидеть лицо его сестры. Как бы то ни было, он с минуту пристально вглядывался в ее черты и, очарованный ее красотой, молодостью и невинным выражением лица, уже задавал себе вопрос — не лучше ли ему полюбить эту прелестную девочку, чем женщину, которая старше его годами и добиться которой ему наверняка будет труднее. Тут Миле надоело притворяться спящей. К тому же она так жадно ждала вестей о Маньяни, что ей стало не до братниных попреков; она открыла глаза и увидела склонившегося к ней незнакомца, увидела его глаза, блиставшие в разрезах капюшона, и в страхе едва не закричала. Но он зажал ей рот рукою. — Дитя, — шепнул он, — промолви хоть слово, и ты умрешь; смолчи — и я уйду. Полно, мой ангел, — прибавил он вкрадчиво, — зачем вам пугаться друга вашей семьи. Может статься, вы еще поблагодарите его за то, что он нарушил ваш сон. И, поддавшись приступу безрассудного кокетства, подчас заставлявшего его вдруг изменять своим намерениям и инстинкту осторожности, он поднял капюшон и открыл свое пленительное лицо, которое сейчас особенно красила нежная и тонкая улыбка. Простодушной Миле показалось, будто перед ней какое-то видение. Блеск алмазов на груди прекрасного незнакомца еще усиливал это наваждение, и она уже стала гадать, не ангел ли ей явился, или, может быть, переодетый принц. Потрясенная, растерянная, вся во власти и восхищения и страха, она сама улыбнулась в ответ. Тогда он поднял соскользнувшую ей на плечо тяжелую прядь черных волос и поднес ее к своим губам. Тут страх взял верх. Мила снова чуть не крикнула. Незнакомец посмотрел так грозно, что голос изменил ей. Он задул ночник, вернулся в комнату брата, задвинул засов и снова заложил дверь тюфяком. Затем кинулся в постель, укрылся с головой и, когда Микеле вернулся, притворился крепко спящим. Все это заняло меньше времени, чем наш рассказ. Однако, быть может, впервые в жизни, Пиччинино не удавалось заглушить свои мысли и позабыться сном. Он издавна, словно с диким скакуном, боролся со своим воображением и думал, что навеки наложил на него узду. И вот узда была разорвана и могучая воля, исчерпанная в пустяковых схватках, не в силах была одолеть столь долго подавляемое неистовство желаний. Пиччинино оказался между двух соблазнов, которые явились ему в образе двух женщин, почти равно желанных и обладание которыми подлый Нинфо почти предлагал разделить с ним. Микеле был заложником в руках Пиччинино, и он мог в виде выкупа все потребовать за него и, быть может, все получить. Правда, он больше не верил в любовь Агаты к этому юноше, однако видел, какое равнодушие выказала она к богатству, когда речь зашла о спасении друзей от грозящей опасности. Но чтобы выкупить своего милого художника, захочет ли она поступиться чем-то поценнее богатства? Вероятно, нет, поэтому разбойнику оставалось только полагаться на свои чары и на свое умение обольщать. Он видел в художнике лишь удобный предлог для встреч с Агатой ради сближения с ней. Что до молоденькой сестры художника, победа над такой наивной девочкой представлялась ему гораздо более легкой не только потому, что она наверняка беззаветно любила брата, но также из-за ее неопытности и чистоты помыслов, в чем он отчасти уже мог убедиться. Юностью и красотой Мила превосходила Агату. Но Агата была княжной, а в незаконном отпрыске Кастро Реале горело чувство тщеславия. Считалось, что у нее никогда не было возлюбленного, что она тверда и благоразумна. Уже лет двадцать, наверное, ей приходилось жить настороже и не один раз выдерживать натиск страсти, которую она внушала многим. Ведь ей было около тридцати, а под пламенным солнцем Сицилии плоды вызревают, когда у нас на деревьях появляется весенний цвет, и девочка в десять лет здесь уже почти женщина. Это была бы самая славная победа, о какой он только мог мечтать, и потому-то она и влекла его более других. Но и боязнь неудачи тоже не оставляла Кармело, и ему казалось, что он умер бы тогда от стыда и ярости. Никогда не знавал он душевной муки. До сих пор это слово ничего для него не значило. Теперь он начинал понимать, что мучить может не только скука или гнев. Уже не надеясь уснуть, он незаметно для Микеле наблюдал за ним. С постели ему видно было, что юноша в полном унынии сидит за столом, подперев голову руками. Микеле был глубоко опечален. Все его мечты разлетелись прахом. После разговора с разбойником на обратном пути с виллы положение как будто окончательно выяснилось. Чтобы испытать Микеле, Пиччинино рассказал ему о грязных измышлениях Нинфо, причем сделал вид, что верит им и думает так же, как аббат. Честная и открытая душа молодого художника была возмущена подозрением, порочащим честь княжны: его горячие опровержения и рассказ о первой встрече в бальной зале настолько совпадали с ее собственным рассказом об этом же, что разбойник, который вел свой допрос тоньше и подробней любого инквизитора, уже не мог подозревать княжну в связи с художником. Все же, почуяв тайную печаль под скромностью и благородством Микеле, Пиччинино решил, что если художник и не был возлюбленным княжны, однако, влюбившись в Агату с первого взгляда, хотел бы стать им. Пиччинино припомнил сухой ответ и ироническое замечание Микеле на балу и с жестокой радостью намекнул юноше, что тому никогда не добиться любви такой женщины. Он даже признался, что вел свои расспросы с единственной целью — испытать его деликатность. Наконец он слово в слово пересказал, что говорила Агата, оставшись перед окном будуара и указывая на Микеле: «Посмотрите на этого мальчика и скажите, неужели при разнице в наших годах и положении в свете между нами могли бы возникнуть нечистые отношения?» Когда они уже входили в пригород, разбойник сказал Микеле, пожимая ему руку: — Вы нравитесь мне, мой мальчик, ведь всякий другой в вашем возрасте постарался бы выставить себя героем тайного романа с этой прелестной женщиной. Я вижу теперь — вы настоящий мужчина, и могу вам признаться, что на меня самого она произвела неизгладимое впечатление; и, верно, не знать мне покоя, пока я снова не свижусь с нею. Торжественный тон этого, так сказать, признания Пиччинино, вместе с воспоминанием о ликующем и уверенном выражении его лица, когда он входил в будуар с Агатой, повергли Микеле в полное смятение. Он, по совести, не считал себя обязанным сообщать разбойнику о своих былых надеждах, о том, что ему мерещилось подчас во взоре княжны, и еще менее о том, что почудилось ему в гроте наиды. Заподозри что-нибудь его соперник, Микеле счел бы своим священным долгом яростно отрицать все это. Но его горделивые мечты о счастье разлетелись как дым, когда Пиччинино сухо и резко пересказал ему холодные слова Агаты. Одно лишь оставалось неясным в его судьбе — особая привязанность княжны к его отцу и сестре. Но чему мог он приписать честь такой дружбы? Она объяснялась либо старыми политическими связями, либо чувством благодарности за какую-нибудь давнюю услугу, оказанную княжне самим Пьетранджело. Сын его претерпел лишения вместе с ним, ему теперь и делить награду. Когда будет оплачен этот долг сердца, Микеле уже не будет представлять никакого особого интереса для щедрой покровительницы его семьи. Манившие его загадки переместились в царство реальной действительности, и вместо сладостной борьбы с прельщавшими его иллюзиями ему оставалось лишь унизительное сознание того, что он плохо боролся с ними, да горестное сознание, что больше их не воскресить. «Зачем же я завидую наглой радости, которой горели глаза этого бандита? — с тоской спрашивал он сам себя. — Только мне и дела, что гадать, приятно или неприятно будет княжне его дерзкое поведение! Что общего между ней и мною? Что я для нее? Сын Пьетранджело! А тот дерзкий авантюрист — он ей опора и спаситель. Скоро он получит право на ее признательность, быть может на ее уважение и любовь. От него самого зависит, приобретет ли он их: он любит ее, и если он не безумец, найдет способ заставить ее полюбить себя. А я, чем мне заслужить ее внимание? Чего стоят жалкие успехи моего искусства рядом с той деятельной помощью, которая ей требуется? Она, кажется, считает меня мальчиком — ведь она не только не пожелала призвать меня на помощь и не дала мне никакого поручения, важного для ее дела и для ее личной защиты, она даже не верит, что я способен оборонять самого себя. Она считает меня столь слабым и робким, что в наши общие затруднения впутывает чужого человека, союзника, быть может, скорей опасного, чем полезного. О боже мой! Право, ей и в голову не приходит смотреть на меня как на мужчину! Зачем не сказать мне просто:» Твоему отцу и мне самой угрожает враг; возьми кинжал, оставь свои кисти — защити отца и отомсти за меня?«? Фра Анджело попрекал меня равнодушием; но вместо того, чтобы помочь мне преодолеть его, со мной обращаются как с ребенком, которого жалеют, которому спасают жизнь, ничуть не заботясь о его душе!» Предаваясь таким грустным размышлениям и чувствуя, что сердце его обливается кровью, Микеланджело уронил горячую слезу на стоявший перед ним в бокале венецианского стекла еще сохранивший свою свежесть цветок цикламена.XXX. ЛЖЕМОНАХ
Появление Пиччинино так встревожило Милу, что она уже не могла уснуть. Особенно пугало ее то, что в комнате рядом было тихо и она не могла проверить, там ли брат. Ей не хотелось лежать; чем больше она раздумывала, тем ей становилось страшней, и через несколько минут она поднялась и отворила дверь, ведущую на закрытую галерею, или, вернее, в обветшалый проход под навесом, который выходил на лестницу, общую и для их жилья и для других обитателей дома. Ночью Мила никогда не открывала эту дверь: на этот раз она вышла на галерею, решив укрыться у отца и дождаться рассвета в кресле в его комнате. Но не ступила она и трех шагов, как страх снова обуял ее. Какой-то человек неподвижно стоял на галерее, прислонясь к стене, словно грабитель в засаде. Она хотела повернуть назад, но услыхала осторожный шепот: — Это вы, Мила? Человек двинулся ей навстречу, и она узнала Маньяни. — Не пугайтесь, — сказал он, — я стою здесь на страже по приказанию дорогой вам особы. Вы, наверное, знаете, зачем я здесь, ведь вы сами передали мне ее записку. — Я знаю, какая-то опасность грозит моему брату, — отвечала молодая девушка, — но, кажется, наша любимая княжна не вам одному поручила оборонять его. У него в комнате сейчас еще другой, неизвестный мне молодой человек. — Я это знаю, Мила. Но этого-то молодого человека как раз и приходится опасаться, и мне поручено стоять на страже как можно ближе к комнате, где он спит, и не уходить, пока он оттуда не выйдет. — Но вы же так далеко от них, — ужаснулась Мила. — Брата могут убить, а вы и не услышите отсюда. — А что делать? — возразил Маньяни. — Ближе мне к ним не подобраться. Он старательно запер дверь, что выходит на другую лестницу. Я стою здесь, но слушаю во все уши и гляжу во все глаза — уж будьте покойны! — Я тоже стану сторожить, — решительно заявила девушка, — а вы, Маньяни, будете около меня. Идем в мою комнату. Пусть обо мне наговорят худого, если кто заметит, пусть меня бранят отец с братом — мне все равно. Я боюсь только человека, который заперся с Микеле. Да, может быть, он и один в комнате: они заложили дверь тюфяком, и не понять, там ли Микеле. Я боюсь за Микеле, боюсь сама за себя. И она рассказала, как разбойник входил к ней, а Микеле, очевидно, и не было поблизости, чтобы ему помешать. Не умея найти объяснения такому странному происшествию, Маньяни не стал раздумывать долго над предложением Милы. Он вошел с ней в комнату и оставил дверь на галерею растворенной, чтобы, если понадобится, незаметно уйти, а дверь в комнату художника решил взломать при малейшей тревоге. Он постоял у этой двери, хладнокровно и осторожно послушал, припав к ней ухом, поглядел в замочную скважину, затем отошел в глубь комнаты и тихонько сказал Миле: — Не беспокойтесь, они не так уж хорошо забаррикадировались, и я разглядел, что Микеле сидит за столом, как будто глубоко задумавшись. Того, другого, мне не было видно, но, поверьте мне, шелохнись они там, и я их услышу, а этим засовам моего кулака и секунды не выдержать. Я вооружен, так что вам, дорогая Мила, тревожиться нечего. — Нет, нет, я не тревожусь больше, — отвечала она. — Теперь, раз вы здесь, я моту рассуждать спокойно. А то я чуть с ума не сошла — все видела и слышала, как в тумане. Так значит, сегодня с вами ничего не случилось, Маньяни? Вам самому ничего не угрожает? — Ничего. Но что вы там ищете, Мила? Потише, вас могут услышать. — Да нет, — отвечала она. — Я только хочу и для себя найти какое-нибудь оружие. Рядом с вами я тоже расхрабрилась. И она показала отделанное серебром резное веретено черного дерева, заостренный и крепкий конец, которого мог в случае нужды заменить стилет. — Когда милая княжна дарила мне сегодня эту вещицу, — объяснила она, — она, наверное, не подозревала, что веретено может мне послужить для защиты брата. Но расскажите мне, Маньяни, как приняла вас княжна и как она объяснила таинственные происшествия, что творятся вокруг нас и которых мне никак не понять? Мы можем отлично поговорить шепотком у той двери; никто нас не услышит, за разговором и время не будет тянуться так долго и скучно. Она уселась на порожке двери, выходившей на галерею. Маньяни сел рядом, готовый скрыться при появлении какого-нибудь нескромного свидетеля или броситься на помощь Микеле, если гость поведет себя враждебно. Молодая пара беседовала осторожно, их тихий шепот терялся в открытой галерее, но оба они не забывали по временам прерывать свою речь и внимательно прислушиваться к любому шороху, возникавшему в ночной тьме. Маньяни рассказан Миле то немногое, что знал сам. Мила терялась в догадках, кто такой этот молодой человек, такой красивый, с таким нежным и в то же время грозным лицом, назвавшийся другом всей семьи, человек, о котором княжна сказала в разговоре с Маньяни — «это либо наш спаситель, либо наш враг». Когда же Маньяни стал уговаривать Милу оставить попытки разгадать тайну, которую княжна и семья Лаворатори, видимо, считала нужным скрывать от нее, девушка сказала: — Не думайте, будто меня мучит просто глупое ребяческое любопытство! Нет, я этим гадким недостатком не страдаю; только я весь день дрожала от страха, а ведь я тоже не трусиха. Вокруг меня творится что-то непонятное, и я чувствую, что мне тоже угрожают эти неведомые враги. Я не решаюсь заговорить об этом ни с отцом, ни с княжной. Я боюсь, как бы, занявшись мною, они не упустили чего-нибудь такого, чего требует их собственная безопасность. Но в конце концов, ведь и мне тоже надо подумать о себе. Завтра, когда вы отправитесь работать и уйдут брат с отцом, я опять буду тревожиться за них, за вас и за себя самое. — Завтра я не пойду на работу, Мила, — сказал Маньяни. — Княжна приказала мне не оставлять вашего брата ни на минуту — пойдет ли он куда, или останется дома. Она ничего не сказала о вас, а значит, я почти уверен, вам не грозят те тайные козни, которых она опасается. Но что бы ни случилось, я не двинусь отсюда, не удостоверясь сначала, что никто не может прийти и напугать вас. — Послушайте, — заговорила она, — я хочу вам рассказать — вам одному, — что случилось со мною сегодня. Вы знаете, как часто заходят к нам во двор монахи за подаянием; они ведь пристают ко всем, даже к беднякам, и от них не отделаешься, пока не подашь чего-нибудь. Едва ушли отец с Микеле, явился один такой, и мне еще не приходилось видеть монаха назойливей, наглей и нахальней. Представьте себе, приметив, что я работаю у окна, он стал внизу и не уходит, и смотрит на меня так, что мне стало неловко, хоть я сама старалась не глядеть в его сторону. Я кинула ему краюшку хлеба, чтобы от него избавиться, а он даже не соизволил ее поднять. «Девушка, — говорит он мне, — так не делают приношения братьям моего ордена. Надо потрудиться сойти вниз, надо подойти поближе и попросить помолиться о своей душе, а не швырять ломоть хлеба, словно собаке. Нет в вас набожности, и плохо воспитали вас ваши родители. Об заклад побьюсь — вы не здешняя!» Тут я сделала оплошность и ответила ему. Меня рассердили его поучения, и он был такой уродливый, такой грязный и наглый, что мне захотелось сказать ему, до чего он мне гадок. Мне показалось, что я видела его ранним утром во дворце Пальмароза. Брата тогда чем-то встревожило его лицо, и он стал расспрашивать о нем дядю, фра Анджело. Дядя напоследок пообещал разузнать, кто бы это мог быть и говорил, что монах вовсе не из капуцинов, а отец сказал, будто он похож на одного аббата по имени Нинфо, который, кажется, наш враг. Уж не знаю, был ли то кто другой, или он нарочно переоделся, только когда он приходил сюда, то был одет как босоногий кармелит, и борода была не черная, большая и кудрявая, а рыжая, короткая, торчком, словно кабанья щетина. В таком виде он был еще гаже, и если это не был тот же самый человек, то могу сказать по чести, что сегодня мне попались два самых мерзких монаха, какие только есть в Вальдемоне. — Вы, значит, имели неосторожность разговаривать с ним? — спросил Маньяни. — Какое там разговаривать — просто я ему посоветовала идти читать свои проповеди куда-нибудь в другое место. Сказала, что мне недосуг, и я не хочу ни спускаться к нему, ни слушать его выговоры, и если мое подаяние ему не подходит, пусть он его подберет и отдаст первому встречному нищему. И, наконец, ежели ои с рождения такой гордый, незачем было ему идти в нищенствующие монахи. — Он, разумеется, рассердился на такие речи? — Ничуть. Если бы я видела, что он обиделся либо разгневался, у меня хватило бы ума из жалости не говорить ему всего этого. Только он больше не стал меня бранить и заулыбался, правда, очень противно, но безо всякой злобы и обиды. «Вы забавная девочка, — говорит он мне, — прощаю вам неучтивость за смышленость и черные глаза». Как вы думаете, ведь не годится же монаху разбирать, какие у меня глаза? Я ему ответила, что стой он под моим окошком хоть целый год, я и не подумаю рассматривать, какие у него глаза. Он меня обозвал кокеткой — странное слово, не правда ли, для человека, которому его и знать-то не следует? Я заперла окошко, но когда через четверть часа открыла снова, — ведь выдержать нельзя, какая духота и жара в комнате, если солнце стоит высоко; вижу — он все смотрит на меня. Я не хотела больше разговаривать с ним. Он мне заявил, что будет стоять, пока не получит что-нибудь получше краюшки хлеба, он-де прекрасно понимает, что я девушка не бедная, вот у меня в волосах красивая чеканная золотая шпилька, и он охотно примет ее, если я только не захочу подарить ему прядь волос взамен. И тут он пустился сыпать любезностями, да такими глупыми и раздутыми, что я их иначе как просто за насмешку и посчитать не могла, да и сейчас считаю, — либо уж он так нагло и непристойно решил выразить свою досаду. Так как в доме были люди — ваш отец и один из братьев работали у себя, мне их видно было, и они услышали бы меня, — странные речи и наглые взгляды противного монаха ничуть меня не испугали. Я все насмехалась над ним и, чтобы отделаться, пообещала подарить какую-нибудь мелочь, только если после этого он сразу уйдет прочь. Он заявил, что вправе принять или не принять мой подарок и что если я предоставлю ему выбор, он будет очень скромен и не разорит меня. «Что же вы хотите, — говорю я, — моток шелка, чтоб заштопать вашу рваную рясу?» «Нет, — говорит он, — шелк ваш плохо пряден». «Тогда ножницы, чтобы подстричь вам бороду, а то она торчком торчит?» «Ну, я лучше подстригу кончик одного дерзкого розового язычка». «Значит, иголку — зашить вам рот, что не знает, что болтает?» «Нет, я боюсь, никакая иголка не уколет так, как ваши колкости». Так мы перебранивались некоторое время, потому что хоть он и бесил меня, а заставлял смеяться. И мне уже стало казаться, что он бранится по-отечески и не так злобно и что он настоящий монах, один из тех назойливых балагуров, что умеют шуткой добыть такое, что другому не вырвать молитвой. Словом, я заметила, что он неглуп, и так эти дурачества и тянулись, а мне их давно пора было прекратить. Он увидел маленькое грошовое зеркальце, с ладонь величиной, что блестело у моего окна, и спрашивает, сколько часов в день я перед ним верчусь. Я это зеркальце сняла, спустила к нему на шелковой нитке и сказала, что ему, наверное, куда приятней будет любоваться в него на себя, чем мне — терпеть его лицо так долго перед своими глазами. Он жадно схватил зеркальце, поцеловал его и воскликнул с таким выражением, что мне стало страшно: «Сохранилось ли в нем твое отражение, о роковая красавица? Одно отражение — этого очень мало, но знаешь, уж если мне удастся поймать его, то ввек не оторву я от него свои губы». «Фу! — сказала я и отскочила от окна. — Такие слова позорят одежду, которую вы носите, да и все эти шуточки вовсе не пристали вашему сану». Я опять заперла окошко, пошла к двери, у которой мы сейчас сидим, и открыла ее, чтоб было чем дышать, когда работаешь. Не просидела я на пороге и пяти минут, как капуцин очутился передо мной. Не знаю, как посмел он войти в дом: нашу-то входную дверь я заперла, и ему, поди, пришлось пробираться через жилье соседей, либо уж очень хорошо знал он все ходы-выходы в доме. «Убирайтесь, — говорю я ему, — так в чужие дома не входят, и если бы только попробуете подойти поближе к моей двери, я кликну отца и брата: они работают в соседней комнате». «Я отлично знаю, что их там вовсе нет, — отвечал он с мерзкой усмешкой, — а ваших соседей и звать не стоит: пока они придут, я буду далеко. Что во мне страшного, девочка? Мне захотелось только получше рассмотреть твои милые глазки и розовый рот. Мадонна Рафаэля рядом с тобой простая служанка. Ну, не бойся же меня!» (Он говорил это и все время крепко держал дверь, которую я хотела захлопнуть у него перед носом.) «Я жизнь отдам за твой поцелуй, а если не хочешь, так подари хоть розу, что благоухает у тебя на груди. Я умру от счастья, представляя себе…» Я дальше не слушала, потому что тут он выпустил створку двери и потянулся обнять меня. Несмотря на мой страх, у меня сохранилось гораздо больше присутствия духа, чем он мог ожидать: резким движением сбоку я потянула дверь, и створка ударила его по лицу. Воспользовавшись тем, что он не сразу опомнился от удара, я опрометью пробежала через комнату Микеле, бегом спустилась по лестнице и так как, на мою беду, никого из соседей не оказалось поблизости, не останавливаясь, выскочила на улицу. Очутившись среди прохожих, я уже не боялась того монаха, но ни за что на свете не вернулась бы домой. Я отправилась на виллу Пальмароза и опомнилась лишь в комнате у княжны. Там и провела остаток дня и возвратилась только вместе с отцом. Но я ничего не посмела рассказать ему, я вам говорила почему… А уж если говорить начистоту, я понимала, что по легкомыслию пустилась в шуточки с тем противным монахом и заслужила выговор. Если б отец стал корить меня, мне было бы ужасно тяжело, но один упрек от княжны Агаты… Да лучше мне быть сразу проклятой на веки веков! — Милая моя девочка, — сказал ей Маньяни, — раз вы так боитесь укоров, я никому не выдам вашей тайны и не позволю себе промолвить ни слова в упрек. — Напротив, прошу вас, побраните меня построже, Маньяни. От вас мне слушать упреки вовсе не обидно. Я ведь не надеюсь вам понравиться и знаю — вы не станете огорчаться из-за моих ребячеств и провинностей. Я ведь знаю, как меня любят отец и княжна Агата, и оттого так боюсь их огорчить. А вы только посмеетесь над моим легкомыслием и поэтому можете говорить что угодно. — Вы, стало быть, думаете, что вы мне совсем безразличны, — возразил Маньяни, которого вся эта история с монахом чрезвычайно встревожила и взволновала. И, сам дивясь словам, которые вдруг вырвались у него, он поднялся, на цыпочках подошел к двери Микеле и прислушался. Ему показалось, что он слышит ровное дыхание спящего. Пиччинино и впрямь удалось справиться со своим волнением, да и сломленный усталостью Микеле дремал, опустив голову на руки. Маньяни вернулся к Миле, но теперь он уже не решился сесть рядом с него. «Я тоже, — думал он, стыдясь и пугаясь самого себя, — я тоже монах, которого терзает воображение и мучит воздержание. Эта девочка слишком красива, слишком чиста, слишком доверчива, чтобы жить свободной и распущенной жизнью девушек нашего сословия. Никто не может смотреть на нее без волнения — ни монах, обреченный на безбрачие, ни человек, безнадежно влюбленный в другую женщину. Хотел бы я изловить этого мерзкого монаха и проломить ему голову. А между тем я и сам трепещу при мысли, что эта юная девушка без всякой опаски сидит здесь наедине со мною в ночной тиши и готова при малейшей тревоге искать спасения в моих объятиях!»XXXI. НАВАЖДЕНИЕ
Стараясь уйти от этих мыслей, Маньяни заговорил с Милой о княжне. Простодушная девушка сама навела его на эту тему, и он рад был повороту разговора. Как мы уже знаем, в душе молодого человека последние два дня происходили большие перемены, — ведь теперь он готов был смотреть на свою любовь к Агате как на некий долг или, как сказали бы врачи, как на своего рода отвлекающее средство. Будь Маньяни уверен, что княжна любит Микеле — а это он порой настойчиво внушал себе, — он, вероятно, совсем исцелился бы от своей безумной любви. Ведь в его представлении Агата стояла так высоко, что раз ему не на что было надеяться, ему почти нечего было и желать. Его страсть перешла в какое-то привычное благоговение, столь возвышенное, что в нем не оставалось уже ничего земного; раздели Агата его чувство — и оно, вероятно, было бы мгновенно убито. Если бы она полюбила кого-нибудь, даже человека, питавшего к ней такое восторженное обожание, она сделалась бы для него только женщиной, с очарованием которой он мог бы бороться. Вот к чему привели пять лет мучений без единого луча надежды и без единого взгляда в сторону. В этой столь сильной и чистой душе даже такая граничащая с безумием любовь подчинена была некоему суровому закону: в этом же таилась для Маньяни возможность спасения. Все усилия забыться только раздували бы его страсть, и после грубых наслаждений он возвращался бы к своим несбыточным мечтам, еще более слабым и унылым. И без страха, без сопротивления, без надежды на отдых и покой, предаваясь этой муке, которая могла бы затянуться навеки, он предоставлял пламени, сосредоточенному в глубине его души и лишенному новой пищи, гореть все слабее и слабее. На Маньяни в этот миг надвигался неизбежный перелом — ему предстояло либо умереть, либо выздороветь, другого исхода не было. Он не отдавал себе в этом ясного отчета, однако это было именно так; все его чувства пробуждались после долгой дремоты, и Агата не только не была повинна в этом пробуждении, но была для него единственной женщиной, о которой он постыдился бы подумать, когда его охватывало томление. Не желая пропустить ни единого слова молодой девушки, он понемногу наклонялся к ней все ниже и ниже и наконец снова сел рядом. Он спросил ее, почему она заговорила о нем с княжной Агатой. — Ничего мудреного тут нет, — ответила Мила, — княжна сама завела речь об этом. Она меня спросила, с кем из знакомых мне рабочих больше всего дружит Микеле с тех пор, как приехал в наши края. Я колебалась, кого назвать — вас или кого-нибудь из отцовских подмастерьев, помогавших Микеле, чьей работой он был доволен, и тут княжна сама сказала: «Видишь, Мила, ты-то, может быть, и не знаешь наверное, а я спорю: Микеле дружит с неким Маньяни; тот часто работает у меня, и я о нем очень хорошего мнения. Во время бала они сидели вдвоем в моем цветнике, и мне случилось оказаться рядом, позади вон того миртового куста. Я искала уединения, пряталась там от гостей, чтобы хоть на миг отдохнуть от мучительно долгого приема. Я слышала их беседу, и она до крайности меня удивила и заинтересовала. У твоего брата, Мила, благородная душа, но твой сосед Маньяни — человек великого сердца. Они говорили об искусстве и о своей работе, о честолюбии и долге, о счастье и доблести. Меня поразили рассуждения художника, но чувства рабочего меня растрогали. Ради блага твоего юного брата я бы хотела, чтобы Маньяни всегда оставался его лучшим другом, поверенным всех его мыслей и советчиком в деликатных обстоятельствах его жизни. Ты это вполне можешь посоветовать ему от моего имени, если он заговорит с тобой обо мне. И если ты передашь брату либо Маньяни, что я слышала их откровенные излияния, не забудь сказать, что я не была излишне нескромной. Когда Маньяни заговорил о чем-то глубоко личном, чего я совсем не хотела слышать, я при первых же его словах быстро удалилась». Все это так и было, Маньяни? — спросила девушка. — Вы помните, о чем вы говорили в цветнике у дворца? — Да, да, — со вздохом отвечал Маньяни, — все это так и было, и я даже заметил, как промелькнула княжна, хоть мне и в голову не пришло, что это была она и что она слышала наш разговор. — Ну, Маньяни, вы можете радоваться и гордиться: ведь, подслушав ваши речи, она прониклась к вам и дружбой и уважением. Мне даже показалось, что ваш образ мыслей ей особенно понравился и вас она считает умнее и лучше моего брата, хотя она и сказала, что с той минуты решила по-матерински заботиться о счастье вас обоих. Не можете ли вы пересказать мне все эти прекрасные речи, которые княжна слушала с таким удовольствием? Я бы так хотела, чтобы они пошли мне на пользу: я ведь еще простая, глупая девушка, и даже Микеле едва удостаивает меня настоящего разговора. — Моя дорогая Мила, — сказал Маньяни, беря ее за руку, — счастлив будет тот, кого вы сочтете достойным направлять ваше сердце и душу. Однако хоть я и помню все, что мы с Микеле говорили друг другу в том цветнике, не думаю, чтобы вам был какой-нибудь прок от этой беседы. Разве вы не лучше нас обоих? А что касается ума, то у кого его больше, чем у вас? — Ну, это уж просто насмешка! Синьора Агата умней нас троих, вместе взятых, да, пожалуй, и мой отец не умней княжны. Ах, Маньяни, если бы вы ее знали так, как я! Какая это умная и сердечная женщина! Сколько в ней тонкости! Сколько доброты! Я бы всю жизнь слушала ее, и если бы отец и она сама разрешили, я рада была бы стать ее служанкой, хоть послушание не из моих главных достоинств. Несколько минут Маньяни сидел молча. Он был так взволнован, что не мог собраться с мыслями. До сих пор Агата казалась ему настолько превыше всяких похвал, что его возмущало и заставляло страдать, если кто-нибудь при нем позволял себе называть ее прекрасной, доброй и милой. Пожалуй, ему лучше было слушать тех, кто, никогда не видев и не зная ее, объявлял, будто она некрасива и глупа. Эти по крайней мере не говорили о ней ничего, в чем был бы хоть какой-то смысл; те же, кто хвалил ее, хвалили слишком мало и сердили Маньяни своим неумением ее понять. Но в устах Милы образ Агаты не терял ничего по сравнению с образом, созданным им самим. Одна Мила, казалось ему, была достаточно чиста, чтобы произнести ее имя, не оскорбляя его; разделяя поклонение Маньяни, Мила сама словно становилась на один уровень с его идолом. — Моя добрая Мила, — заговорил он наконец, в забывчивости продолжая держать ее руку в своей, — любить и понимать, как вы, — для этого тоже нужен большой ум. Но вы-то сами, что вы сказали княжне обо мне? Или с моей стороны нескромно расспрашивать об этом? Мила возблагодарила темную ночь, скрывшую ее румянец, и ответила, набравшись смелости, словно робкая женщина, попавшая на маскарад, которую понемногу опьяняет безнаказанность, принятая на таком балу. — Я боюсь, как бы мне самой не оказаться нескромной, повторяя вам те свои слова, — сказала она, — вот и не решаюсь произнести их! — Значит, вы дурно говорили обо мне, злая девочка? — Вовсе нет. После того как синьора Агата сказала о вас столько хорошего, могло ли мне прийти в голову говорить о вас дурно? Я теперь на все смотрю ее глазами. Но я выдала ей один секрет, который Микеле доверил мне. — Вот как! Но я не пойму, о чем вы говорите? Мила заметила, как дрогнула рука Маньяни. Тут она отважилась нанести главный удар. — Ну, так вот, — заговорила она откровенно и почти развязно. — Я сказала княжне, что вы и в самом деле человек очень добрый, очень славный, очень сведущий, но что надо вас хорошо знать и понимать, чтобы все это заметить… — Почему же? — Потому что вы влюблены и оттого впали в такую печаль, что почти всегда держитесь особняком и только и заняты своими размышлениями. Маньяни затрепетал. — Это Микеле рассказал вам? — сказал он изменившимся голосом, от чего сердце Милы сильно сжалось. — И, вероятно, — прибавил он, — Микеле выдал мою тайну до конца и назвал имя… — О, Микеле не способен выдать ничьей тайны, — возразила девушка, собирая все свое мужество перед лицом опасности, которую сама же навлекла. — А я не способна подбивать своего брата на такой гадкий поступок, Маньяни. К тому же что тут может быть любопытного для меня, как вы полагаете? — Разумеется, вам это совершенно безразлично, — ответил сраженный ее словами Маньяни. — Безразличие тут ни при чем, — возразила она. — Я полна к вам и дружбы и уважения и молюсь о вашем счастье, Маньяни. Но о своем-то я тоже забочусь и не стану бездельничать да зря соваться в чужие секреты. — О своем счастье?.. В вашем возрасте, Мила, счастье — это любовь. Значит, вы тоже любите? — Тоже? А почему бы и нет? По-вашему, мне еще рано мечтать о любви? — Ах, милое дитя мое, в вашем возрасте только и мечтать о любви, а в моем любовь — это безнадежность. — Значит, вас не любят? Я не ошиблась, значит, подумав, что вы несчастливы? — Нет, меня не любят, — ответил он напрямик, — и не полюбят никогда. Я даже никогда не мечтал быть любимым. Женщина более романическая, более начитанная, чем Мила, сочла бы также признание за гибель всех своих надежд, но она принимала жизнь проще и естественней. «Если ему не на что больше надеяться, он исцелится от своей любви», — надумала она. — Мне очень жаль вас, — сказала она ему, — ведь такое великое счастье знать, что вы любимы, и, наверное, так ужасно любить без взаимности! — Вы никогда не повстречаетесь с такой бедой, — возразил Маньяни, — а тот, кого вы любите, должен быть переполнен гордостью и признательностью. — Мне незачем на него сетовать, — сказала она, с удовлетворением замечая, что в глубине взволнованной и смятенной души молодого человека зашевелилась ревность. — Однако прислушайтесь, Маньяни, — из комнаты брата доносится шорох! Маньяни бросился к другой двери, но пока он тщетно пытался сообразить, что за звуки уловил тонкий слух девушки, Миле почудились тихие шаги во дворе. Она поглядела сквозь щель в ставнях и, знаком подозвав Маньяни, указала ему на таинственного гостя, который уже выходил на улицу так проворно и легко, что если бы не чуткое ухо, не зоркий глаз, не знай они в чем дело и не держись начеку — им было бы не уследить его ухода. Даже Микеле, которого наконец одолела дремота, не слышал, как он поднялся. Маньяни старался убедить Милу прилечь и отдохнуть, обещая ей нести стражу во дворе или на галерее, чтобы Микеле не ушел без него. Девушка все-таки беспокоилась и едва Маньяни вышел, нарочно опрокинула стул и с грохотом передвинула стол, чтобы разбудить брата и заставить его встать. Молодой человек поднялся и, с изумлением окинув взглядом свою собственную постель, на которой легкое тело Пиччинино не оставило почти никакого отпечатка, словно на ней спал призрак, пошел, к сестре. Когда брат вошел, Мила не успела лечь, и он пожурил ее за добровольную бессонницу. Но она сослалась на свою тревогу и, не упоминая о Маньяни, так как княжна настоятельно просила ее не сообщать Микеле про содействие друга, рассказала брату о дерзком и странном появлении Пиччинино. Она рассказала ему также о монахе и взяла с Микеле слово не оставлять ее утром одну, а если его позовут к княжне — предупредить заранее, потому что она решила тогда искать себе пристанища у кого-либо из подруг и не оставаться одной в доме. Микеле охотно пообещал ей все это. Он ничем не мог объяснить странный поступок разбойника, но бесстыдство и наглость монаха, конечно, взволновали его чрезвычайно; и, желая защитить сестру от новых покушений с его стороны, он собственноручно заставил чем попало дверь на галерею. Вернувшись к себе, он не увидел цветка цикламена, на который с такою тоской глядел, засыпая ночью у стола. Пиччинино заметил, что (как и раньше, в день бала) княжна держала в руке либо поблизости от себя букетик таких цветов, что она как будто даже завела себе привычку играть таким букетиком вместо веера, неразлучного спутника любой южанки. Он заметил также, что Микеле бережно хранит один такой цветок, что накануне он много раз то подносил его к лицу, то быстро отстранял от себя. Коварный Пиччинино обо всем догадался и, уходя, вынул цветок из бокала, который Микеле все еще держал оцепеневшей рукой. Разбойник засунул цветок цикламена в ножны своего кинжала, сказав себе: «Если мне придется этим кинжалом сегодня нанести удар, то печать владычицы моих дум, быть может, останется в ране». Микеле постарался поступить так же, как Пиччинино, то есть на час-другой погрузиться в здоровый сон, чтобы вернуть себе ясность мыслей. Милу он тоже заставил лечь по-настоящему в постель и для пущей уверенности в ее безопасности оставил открытой дверь между их комнатами. Он спал крепко, как спят в ранней молодости, но и во сне его тревожили тягостные и спутанные видения, да это и не мудрено было в его положении. Проснувшись вскоре после рассвета, он попытался собрать свои мысли, и первое, что пришло ему в голову, было посмотреть — не снилось ли ему, что цветок цикламена похищен. Велико же было его удивление, когда, кинув взгляд на бокал, который, засыпая, помнил пустым, он обнаружил, что в нем снова стоят цикламены удивительной свежести. — Мила, — спросил он сестру, увидев, что она уже встала и оделась, — значит, среди всех наших треволнений и злоключений тебе все-таки приходят в голову всякие поэтические затеи? Эти цветы почти так же прекрасны, как ты, но им вовек не заменить тот пропавший цветок. — Ты воображаешь, будто после ухода твоего странного приятеля я взяла и выбросила цветок? — возразила она. — Ты бранишь меня, а не хочешь припомнить, что я даже и не входила в твою таинственную комнату. А сейчас ты меня винишь, что яподменила твой цветок другими, и это тоже странно, потому что где же мне было их взять? Ты ведь запер выход на галерею, а ключ положил к себе под голову. Разве что эти милые цветочки выросли под моей подушкой, что, конечно, случается… во сне. — Ты, Мила, готова насмешничать по любому поводу и в любое время. Этот букет мог быть у тебя с вечера. Ведь ты вчера полдня провела на вилле Пальмароза. — Так, значит, такие цветы растут только в будуаре синьоры Агаты? Теперь мне понятно, почему ты их так любишь. А где же ты вчера сорвал тот, что так долга искал на заре, вместо того чтобы поскорее лечь спать? — У себя в волосах, малютка, и, кажется, тут-то и вылетел у меня из головы всякий разум. — Ах так! Ну, тогда ясно, отчего теперь ты несешь такой вздор. Микеле терялся в догадках. Мила, проснувшись, была спокойна и весела и уже забыла о своих ночных страхах и тревогах. От нее он не добился ничего, кроме шаловливых намеков и полных милого ребячества шуточек, которые всегда были у нее наготове. Она потребовала обратно ключ от своей комнаты и, пока он раздумывал и одевался, с обычной быстротой и весельем занялась хозяйственными делами. Распевая словно утренний жаворонок, она носилась по коридорам и лестницам. Микеле, печальный, словно зимнее солнце над полярными льдами, слышал, как скрипели половицы под ее резвыми ножками, как весело смеялась она в нижнем этаже, обмениваясь с отцом утренним поцелуем, как пулей взлетала по ступенькам к себе в комнату, как бегала за водой к колодцу во дворе с прекрасными фаянсовыми кувшинами в старом мавританском стиле, что изготовляют в Скъякке и которые до сих пор в ходу у жителей края; как, ласково поддразнивая, она здоровалась с соседями и как препиралась с полуголыми ребятишками, уже затеявшими свою возню на вымощенном плитами дворике. Пьетранджело тоже одевался, и гораздо проворней и веселее, чем Микеле. Вытряхивая пыль из своей коричневой куртки на красной подкладке, он распевал, как и Мила, только голос его был сильней и мужественней. По временам на него еще наплывала сонливость, пение обрывалось, он запинался, с трудом выговаривая слова песни, но все же добирался до победоносного припева. Так он обычно поднимался по утрам, и никогда собственный голос не звучал лучше для слуха Пьетранджело, чем когда он изменял ему. «Счастливая беззаботность подлинно народных натур! — еще полуодетый, говорил себе Микеле, облокотясь на подоконник. — Иной сказал бы, что ничего странного не происходит в нашей семье, что вокруг нас нет врагов и нас не подстерегают их западни; что ночью сестра моя спала, как всегда, что ей неведома любовь без взаимности и она не знает, как беззащитны будут перед кознями злодеев красота и бедность, если хоть на какой-нибудь миг она останется без опоры близких. Мой отец, которому следовало бы все знать, ни о чем не подозревает. Все забывается, все меняется в мгновение ока в этих благословенных краях. Ни извержению вулкана, ни тирании, ни преследованиям — ничему не прервать этих песен, этих взрывов смеха… К полудню, сморенные зноем, они все улягутся и заснут мертвым сном. Вечерняя свежесть оживит их, и они поднимутся, словно живучие, крепкие травы. Страх и отвага, печаль и радость сменяются у них, точно волны у морского берега. Ослабеет одна из струн души — зазвучат двадцать других: так в стакане воды похищенный цветок уступает место целому букету. Один я, среди всех этих прихотливых изменений, веду жизнь напряженную, но грустную, и мысли мои ясны, но печальны. Ах, оставаться бы мне всегда отпрыском своего народа и сыном своей страны!»XXXII. ПРИКЛЮЧЕНИЕ У ОКНА
Дома, среди которых стоял и дом Микеле, были бедны и по сути некрасивы, но выглядели бесконечно живописно. Грубые строения, поставленные поверх лавы, а то и высеченные в ней, носили следы разрушавших их последних землетрясении. Фундаменты домов, лежащие на самом камне, явно сохранились с давних пор; наспех выстроенные после катастрофы или недавно пострадавшие от новых толчков верхние этажи уже еле держались, стены прорезали глубокие трещины, крыши угрожающе нависали, а перила отчаянно крутых лестниц отклонялись в сторону. Плети виноградных лоз прихотливо вились, цеплялись там и сям за выщербленные карнизы и навесы, колючие алоэ в старых, лопнувших горшках раскидывали свои жесткие отростки по терраскам, смело пристроенным на самом верху этих убогих жилищ, белые рубашки и разноцветные платья свисали из всех слуховых окошек и знаменами развевались на веревках, протянутых от дома к дому; все это составляло яркую и причудливую картину. Подчас где-то у самых облаков на узких балкончиках, осаждаемых голубями и ласточками и едва державшихся на черных источенных червями брусьях, которые, казалось, вот-вот обрушатся от первого порыва ветра, можно было видеть прыгавших ребятишек или женщин, занятых работой. Малейшее колебание вулканической почвы, малейшая судорога грозной и великолепной природы — и равнодушное и беззаботное население будет поглощено или сметено прочь, как листья, сорванные бурей. Но опасность пугает, лишь когда она далека от нас. Находясь в полной безопасности, мы представляем себе катастрофу в самых ужасных красках. Но когда родятся, дышат, существуют в ближайшем соседстве с опасностью, под непрестанной угрозой гибели — воображение гаснет, страх притупляется, и возникает странный покой души, в котором больше отупения, чем мужества. Хоть в этой картине, несмотря на всю бедность и беспорядок, и было много настоящей поэзии, Микеле еще не научился ценить ее красоту и менее чем когда-либо расположен был наслаждаться ее своеобразием. Детство он провел в Риме и жил в домах если не богатых, то все же более благоустроенных и бывших приличнее с виду, и всегда в мечтах своих тянулся к роскоши дворцов. Отцовский дом, лачуга, где добряк Пьетро жил с детских лет и куда вернулся, чтобы с такой радостью обосноваться опять, казалась молодому Микеле мерзкой конурой, и он был бы доволен, если бы она провалилась под ту самую лаву, на которой была поставлена. Напрасно Мила, не в пример соседям, старалась содержать их тесное жилище в почти изысканной чистоте, напрасно самые чудесные цветы украшали их лестницу и сияющее утреннее солнце прорезало широкими золотыми полосами тень, в которой тонули черноватая лава под домом и тяжелые своды его основания; молодому Микеле все мерещился грот наяды, мраморные фонтаны дворца Пальмароза и портик, где Агата явилась перед ним, словно богиня на пороге своего храма. Вдоволь нагоревавшись о недавних иллюзиях, он наконец устыдился своего ребяческого разочарования. «Я приехал в эти края, куда мой отец не звал меня, — говорил он себе, — а мой дядя-монах намекал, что мне надо примириться со всеми неудобствами моего положения и не уклоняться от обязательств, связанных с ним. Покидая Рим, отказавшись от надежды на славу, чтобы стать безвестным рабочим в Сицилии, я заранее обрекал себя на жестокое испытание. Испытание это оказалось бы слишком легким и слишком кратким, если с самого начала, с первой пробы кисти, мне, обласканному и признанному прекрасной и знатной дамой, приходилось бы лишь нагибаться, чтобы собирать под ногами лавры и пиастры. А мне нужно быть добрым сыном, хорошим братом и даже стойким товарищем, чтобы при случае вступиться за жизнь и честь моей семьи. Я отлично понимаю, что настоящего уважения синьоры и, может быть, своего собственного я добьюсь лишь этой ценой. Ну, что ж! Приму мою судьбу с улыбкой и научусь не сетуя переносить все, что столь мужественно переносят мои близкие. Стану зрелым мужчиной, не достигнув зрелого возраста, и откину замашки баловня, привычные для меня с отрочества. Если и надо мне стыдиться чего-либо, так только того, что я слишком долго оставался таким баловнем и пренебрегал своим долгом — помогать и защищать тех, кто так великодушно и преданно помогал мне». Такое решение вернуло мир его душе. Песни отца и маленькой Милы зазвучали ему теперь нежной мелодией. «Да, да, пойте же, — думал он, — счастливые пташки юга, чистые, как небеса, под которыми вы родились! Ваша веселость — признак вполне спокойной совести, и смех неразлучен с вами, ибо злые мысли вам никогда и в голову не приходят. Святые песни моего старого отца, вы тешили его среди каждодневных забот и облегчали тяготы труда — я должен внимать вам с уважением, а не посмеиваться над вашей наивностью. Взрывы шаловливого смеха моей сестренки, мне следует с нежностью прислушиваться к вам, ведь вы свидетельство ее мужества и чистоты! Прочь себялюбивые мечты, прочь холодное любопытство! С вами, моими близкими, я перенесу грозу, с вами порадуюсь любому солнечному лучу, проскользнувшему между туч. Мое омраченное чело — это оскорбление вашей чистосердечности, черная неблагодарность в ответ на вашу доброту. Я хочу быть вам опорой в беде, хочу делить с вами и труд и веселье!» «Нежные и печальные цветы, — продолжал он раздумывать, любовно склоняясь к букету цикламен, — чья бы рука ни собрала вас, каковы бы ни были чувства, залогом которых вы являетесь, никогда мое дыхание, разгоряченное дурными помыслами, не заставит вас поблекнуть. Если я подчас, подобно вам, замыкаюсь в себе самом, пусть сердце мое будет столь же чисто, как и ваши пурпуровые чашечки; и если оно зальется алой кровью — ведь вы тоже словно покрыты ею, — пусть источает моя рана лишь целомудрие, как вы источаете свой аромат». Приняв это благое решение, как бы осветившее все вокруг лучом поэзии, Микеле без всяких суетных мыслей закончил свой туалет и поспешил к отцу, который уже взялся за работу и растирал краски, собираясь идти подрисовывать в разных залах виллы Пальмароза росписи, поврежденные люстрами и гирляндами во время бала. — Вот, смотри, — сказал добряк, показывая увесистый кошелек из тунисского шелка, полный золота, — это плата за твой прекрасный плафон. — Тут вдвое больше, чем следует, — сказал Микеле, разглядывая искусно расшитый цветными шелками кошелек гораздо внимательнее, чем тяжелые червонцы, что были в нем. — Мы еще не рассчитались с княжной по нашему долгу, и мне бы хотелось погасить его сегодня же. — Он уже погашен, мой мальчик. — Значит, он погашен из вашего жалования, а не из моего? Ведь насколько я могу оценить содержимое кошелька, в нем больше, чем я намерен принять. Отец, я не хочу, чтобы вы работали на меня. Нет, клянусь вашими сединами, больше вы не будете работать на своего сына, пришел его черед работать на вас. И я не собираюсь принимать подачки от княжны Агаты, довольно с нас ее доброты и помощи! — Ты знаешь меня достаточно, — улыбаясь, возразил Пьетранджело, — чтобы думать, будто я стану идти наперекор твоей гордости и сыновним чувствам; здесь я бы только поощрял тебя. Но послушай меня — прими это золото. Оно твое. Я им не дорожу, а та, что посылает его тебе, вправе сама судить о достоинствах твоей работы. Вот разница, Микеле, которая всегда сохранится между твоим отцом и тобою. На работу художников нет установленной цены. Одного дня вдохновения им достанет, чтобы сделаться богатыми. А нам, простым мастеровым, и многих дней труда недостанет, чтобы выбраться из бедности. Но господь добр и возмещает нам. Художник в муках зачинает и рождает свои создания. Рабочий с песнями и смехом выполняет свой урок. Я привык к этому и не сменяю свое дело на твое! — Позволь же мне по крайней мере получить от моего дела ту радость, которую оно мне может дать, — отвечал Микеле. — Возьмите этот кошелек, отец, и пусть ни гроша из него не пойдет на меня. Это приданое моей сестры, это проценты с денег, что она ссудила мне, когда я был в Риме. И если мне не заработать столько, чтобы сделать ее богатой, пусть по крайней мере ей принесет пользу день моей удачи. — И видя, что Пьетранджело все не хочет принять его жертвы, он с полными слез глазами воскликнул: — Ах, отец! Не отказывайтесь, вы разрываете мне сердце! Ваша слепая любовь чуть не развратила меня. Помогите мне перестать быть себялюбцем, ведь из-за вас я чуть не примирился с этим положением. Поддержите мои добрые порывы, не отнимайте у меня того, что они могут принести мне. Они и без того запоздали. — Правда, мой мальчик, мне следует сделать по-твоему, — сказал растроганный Пьетранджело. — Но пойми, это будет с твоей стороны не просто денежная жертва. Если бы дело касалось каких-нибудь развлечений, которыми ты поступаешься, — это был бы пустяк, и я ничуть не колебался бы. Но ведь твое будущее художника, твое духовное развитие, все, чем ты живешь, заключено в этом шелковом мешочке! Это целый год учения в Риме! И кто знает, когда еще тебе удастся заработать столько? Может статься, княжна не будет больше давать балов. Среди остальной знати нет никого, кто так богат и щедр, как она. Такая удача приходит не часто и может не повториться дважды. Я старею, завтра я могу свалиться с лестницы и сделаться калекой. Как вернешься ты к жизни художника? Тебя не пугает мысль, что ради удовольствия дать приданое сестре ты рискуешь стать ремесленником и остаться им на всю жизнь? — Пусть так! — воскликнул Микеле. — Меня это теперь ничуть не страшит, отец. Я все обдумал и вижу, что быть рабочим так же почетно и приятно, как быть богатым и знатным. Ведь я люблю Сицилию! Разве она не родина мне? Я не хочу оставлять сестру. Ей нужен защитник, пока она не замужем, а мне хочется, чтобы она могла не спешить с выбором. Вы говорите — вы стары и завтра можете стать калекой? Так кто же будет ходить за вами, кто будет кормить и поддерживать вас, если меня не будет здесь? Справится ли со всем этим сестра, став уже матерью семейства? Зять? Но зачем мне передавать другому исполнение своего долга? Позволить ему украсть мою честь и славу? Ибо в этом отныне я полагаю мою честь и славу. Мои мечты уступили место действительности. Погляди на меня, мой добрый отец, видишь, как я весел сегодня? Хочешь, я подхвачу песенку, что ты только что пел? Разве у меня безутешный вид человека, приносящего себя в жертву? Значит, ты меня не любишь, раз отказываешься взять меня под свое начало! — Ну ладно! — ответил Пьетранджело, глядя на Микеле ясным взором, хотя дрожащие руки выдавали его сильное волнение. — Вы человек мужественный! И мне не придется жалеть о том, что я для вас сделал! С этими словами Пьетранджело снял шапку, обнажил свою лысую голову и вытянулся почтительно и вместе с тем гордо — как старый солдат вытягивается перед своим молодым офицером. Первый раз в жизни он сказал Микеле «вы», и это обращение, которое у другого отца могло бы свидетельствовать о холодности и недовольстве, в его устах прозвучало со странным оттенком нежности и величия. Молодому художнику, к которому отец обратился сейчас как к взрослому, это «вы», эта обнаженная голова и эти слова, сказанные спокойно и важно, показались почетной наградой, какой не почувствовал бы он в красноречивейшей хвалебной и ученой речи. Они вдвоем взялись за работу, а Мила тем временем занималась приготовлением завтрака. Она все носилась туда-сюда, но чаще обычного пробегала галереей, о которой мы уже говорили. Для того были у нее тайные причины. Комната Маньяни — по правде говоря, просто жалкий чулан с окном без стекол, которые в жарком климате являются излишней раскошью для здоровых людей, — находилась в глубине, за углом дома, и галерея почти примыкала к ней. Став у балюстрады и слегка перегнувшись, можно было разговаривать с тем, кто подошел бы к окошку скромной каморки. Маньяни обычно не сидел дома, он проводил там только ночь и с раннего утра уходил со двора либо работал на галерее против той, где Мила часто тоже располагалась с каким-нибудь занятием. Отсюда она целыми часами следила за ним и, не подавая вида, что глядит в его сторону, и будто бы не отрывая глаз от своего рукоделия, не пропускала ни единого его движения. Но в то утро она напрасно бегала взад и вперед — его не было на галерее, хотя он обещал и ей и княжне, что никуда не уйдет. Может быть, его сморил сон после двух бессонных ночей? Это было на него непохоже, при его стоической силе воли и испытанной выдержке. Наверное, думала она, он завтракает со своими родными. Однако сколько она ни задерживалась, чтобы прислушаться к голосам шумной семьи Маньяни, она не различала среди них низкого и мужественного голоса, так хорошо знакомого ей. Она поглядела на окошко чуланчика. Оно было пусто и темно, как обычно. У Маньяни не было привычки к жизненным удобствам, как у Микеле, и он раз навсегда отказался от стремления к комфорту. В предвидении смерти кардинала и приезда молодого художника Пьетранджело с дочерью заранее приготовили для своего любимца чистую мансарду, выбеленную, прохладную и обставленную всем лучшим, что они могли ему уделить из своей собственной обстановки. Маньяни же спал просто на циновке пол окошком, чтобы дышать воздухом, скудно проникавшим в эту щель, пробитую в толстой стене. Единственное, чем он разрешил себе украсить свое жилье, был узкий ящичек, который он поставил на подоконник с наружной стороны и в котором росли прекрасные белые вьюнки, свежей гирляндой окружавшие оконный проем. Он каждый день поливал их, но последние двое суток был так занят, что совсем забросил свои цветы: красивые белые чашечки закрылись и томно свисали среди полузавядшей листвы. Легко неся на голове один из своих глиняных кувшинов, для которого подушечкой служила короной уложенная длинная коса, трижды обвивавшая ее голову, Мила, проходя мимо, заметила умиравшие от жажды вьюнки соседа. Это было бы поводом заговорить с Маньяни, окажись он где-нибудь поблизости, но никого не было видно в этом укромном и уединенном уголке. Мила попыталась просунуть руку под перила, чтобы хоть каплей воды напоить бедные цветы. Но рука ее была слишком коротка, и ей было не дотянуться кувшином до ящика. Дети не любят невозможного и, затеяв что-нибудь, стараются выполнить это даже с опасностью для жизни. Сколько раз мы сами карабкались вверх по стене, чтобы дотянуться до гнезда ласточки и пересчитать кончиками пальцев теплые яички на пуховой подстилке? Молодая девушка заметила толстую длинную виноградную лозу, которая веревкой шла вдоль стены и цеплялась за перила галереи. Перелезть через перила и пройти по этой лозе вовсе не показалось трудным для Милы. Так и добралась она до окошка чуланчика. Но когда она подняла своей красивый обнаженный локоток, собираясь полить вьюнки, чья-то крепкая рука схватила ее за тонкую кисть, прямо над ней появилось загорелое лицо, и крупные белые зубы блеснули в улыбке. Маньяни не спал, но он не хотел, чтобы видели, как он наблюдает по приказу Агаты за всем происходившим в доме. Он лег на свою циновку, чтобы немного отдохнуть, но был начеку и, не долго думая, схватил проворную ручку, тень которой упала ему на лицо. — Пустите, Маньяни! — воскликнула молодая девушка, взволнованная его появлением больше, нежели опасностью, которая могла угрожать ей. — Я упаду, и вы будете виноваты. Лоза гнется подо мною. — Я буду виноват, если вы упадете? — возразил юноша, крепкой рукой обхватывая ее стан. — Милая девочка, этого никогда не случится, разве что мне отрежут эту руку, да и другую вдобавок! — Никогда, это сильно сказано: ведь я люблю лазать, а вы не всегда будете рядом. — Счастлив будет тот, кто всегда и везде будет рядом с тобой, моя прекрасная Мила! Но что вы тут делаете вместе с пташками? — Я увидела из своего окна, что эти чудные цветочки котят пить. Смотрите, их прелестные головки опустились, а листики повисли. Я думала, вас нет здесь, и хотела дать напиться бедным цветочкам. Вот вам кувшин. Принесите мне его сразу же. А мне пора вернуться к своим занятиям. — Уже пора, Мила? — Ну конечно, да и висеть тут пренеудобно. Мне уж надоело. Отпустите меня, и я уйду, как пришла. — Нет, нет, это слишком опасно. Лоза прогибается все больше, а у меня не такие длинные руки, чтобы переправить вас на галерею. Лучше я перетяну вас сюда, Мила, и вы пройдете через мою комнату. — Нельзя, нельзя, Маньяни. Соседи начнут дурно говорить обо мне, если увидят, что я вхожу в вашу комнату, все равно — через дверь или окно. — Ну ладно! Тогда держитесь там покрепче; я выскочу через окно и помогу вам спуститься. Но было слишком поздно: лоза вдруг прогнулась. Мила вскрикнула, и если бы Маньяни не схватил ее обеими руками и не посадил бы на край окна, переломав свои любимые вьюнки, она упала бы вниз с десятифутовой высоты. — Теперь, отчаянная девчонка, — сказал он ей, — вам уже не вернуться к себе иначе, как через мою комнату. Влезайте поскорее сюда, я слышу внизу, под галереей, шаги — влезайте, пока вас никто не увидел. Он быстро втянул ее в свое жалкое обиталище, и она бросилась к двери с той же быстротой, с какой очутилась в комнате. Однако, выглянув из его клетушки, Мила увидела, что дверь из комнаты соседа-сапожника настежь распахнута на лестницу, и сам сапожник, славившийся по дому своим злоречием, сидит у себя, распевая, за работой. Таким образом, проходя мимо него, ей было не избежать его неприятных шуток.XXXIII. КОЛЬЦО
— Ну вот! — сказала девушка, с досадой захлопывая дверь. — Не везет мне! Вздумала я всего-навсего полить бедные цветочки, а теперь злые языки будут судачить на мой счет! И отец разбранит меня! А Микеле и того больше, он и так мне проходу не дает! — Милая моя девочка, — сказал Маньяни, — о вас никто не посмеет говорить того, что говорят о других: вы так не похожи на остальных девушек нашего предместья! Вас любят и уважают, как ни одну из них. Кроме того, раз это из-за меня… верней — только из-за моих цветов с вами это случилось… будьте покойны — пусть кто-нибудь посмеет сказать хоть слове! — Ах, я все равно не решусь пройти мимо этого проклятого сапожника. — И не надо. Ему пора обедать. Жена уже дважды звала его. Он сейчас уйдет. Подождите здесь немножко, всего минутку, наверное. Тем более что мне надо сказать вам кое-что. — Что же такое вам надо сказать мне? — спросила она, усаживаясь на единственном в его комнате стуле, который он ей придвинул. Она вся трепетала от страшного скрытого волнения, но старалась выглядеть спокойной и равнодушной, как, казалось ей, того требовало положение. У нее не было страха перед Маньяни. Она слишком хорошо знала его и не боялась, что он злоупотребит таким свиданием наедине. Но сейчас она больше чем когда-либо боялась, как бы он не разгадал тайны ее сердца. — Я и сам не знаю, что мне говорить, — отвечал, слегка смутившись, Маньяни. — Кажется, это вы хотели сказать мне что-то. — Я! — гордо воскликнула Мила и вскочила с места. Клянусь, мне нечего сказать вам, синьор Маньяни! И она бросилась к двери, предпочитая соседские толки обидной догадливости того, кого она любила. Удивленный ее порывом и заметив, как она вдруг зарделась, Маньяни начал понимать, в чем дело. — Дорогая Мила, — сказал он, загораживая ей выход, — чуточку терпения, умоляю вас. Не показывайтесь соседям и не сердитесь на меня, если я задержу вас на минутку. Пустая случайность может принудить к важным действиям человека, который ради чести женщины не побоится убить или быть убитым. — Тогда не говорите так громко, — сказала Мила, изумленная его словами. — Ведь этот зловредный сапожник может услышать нас. Я отлично знаю, — продолжала она, разрешая ему отвести себя на прежнее место, — что вы смелы и отважны и что для меня вы сделаете то, что сделали бы для любой из своих сестер. Но я вовсе не хочу, чтобы это случилось: ведь вы мне не брат и, вступившись за меня, не поможете мне обелиться. Обо мне станут говорить только еще хуже, либо нам придется пожениться, что не доставит удовольствия ни вам, ни мне. Маньяни внимательно посмотрел в черные глаза Милы и, увидев, сколько в них гордости, сразу отказался от своей догадки, которая только что испугала и обрадовала его. — Я отлично понимаю, что вы не можете полюбить меня, моя добрая Мила, — сказал он с печальной улыбкой. — Во мне нет ничего привлекательного. И было бы и вовсе грустно, если бы только из-за того, что я бросил тень на ваше имя, вам пришлось бы провести всю жизнь с таким унылым человеком. — Я вовсе не это хотела сказать, — хитро возразила девушка. — Я полна к вам уважения и дружбы, и нет у меня причин скрывать это. Но я люблю другого. Вот почему меня мучит и пугает то, что я тут оказалась под замком вместе с вами. — Коли дело обстоит так, Мила, — задвигая засов двери, сказал Маньяни, и так стремительно захлопнул ставень окна, что чуть не обломал свои последние вьюнки, — коли так, мы сделаем все, что только возможно, чтобы никто не проведал о вашем посещении; клянусь вам, вы выйдете отсюда, и никто ничего не заподозрит, даже если мне силой придется убирать с дороги соседей или караулить до самого вечера. Казалось, Маньяни надо было бы обрадоваться и испытать облегчение, узнав, что ему не придется обороняться от любви Милы. А между тем, когда девушка объявила ему о своей любви к другому, его сердце внезапно пронзила острая печаль и помимо воли на его открытом лице все-таки выразилось горестное разочарование. Разве она не призналась ему в своем чувстве во время их ночного разговора и разве ее признание не налагало на него своего рода братских обязанностей? Он тогда решил достойно выполнить этот священный долг, но почему же он так затрепетал сейчас, приметив ее гнев? И почему его сердце, питавшееся горькой и безумной страстью, почуяло, что оживает и молодеет, когда эта девочка неожиданно появилась в окне, словно луч солнца? Мила тайком наблюдала за ним. Она видела, что удар попал в цель. «О непокорный, — охваченная тайным ликованием, подумала она, — я поймала тебя, теперь тебе не уйти». — Милый сосед, — начала плутовка, — не оскорбляйтесь тем, что я вам сейчас рассказала, здесь нет никакой обиды для вашего достоинства. Я знаю, в надежде стать вашей женой, любая на моем месте обрадовалась бы, оказавшись скомпрометированной вами. Но я-то не обманщица и не кокетка. Я люблю и раз вам доверяю, то прямо и говорю вам это. Я знаю, что это вас ничуть не огорчит: ведь вы чураетесь брака, и вам противны все женщины, кроме одной-единственной, а эта единственная — не я. Он ничего не отвечал. А сапожник все пел. «Мне, видно, суждено, — думал Маньяни, — не быть любимым, и мне не исцелиться вовек». Осененная особой догадливостью, которой любовь озаряет женщин, даже совсем неопытных и неначитанных, Мила рассудила, что Маньяни, чью страсть поддерживали страдание и безнадежность, будет испуган и возмущен, если любовь предстанет ему легко достижимой и идущей ему навстречу; поэтому она сделала вид, будто сердце ее неуязвимо, будто оно защищено от него другой привязанностью. Она хотела победить его, заставив страдать и, в самом деле, иначе победить его было нельзя. Заменяя одну муку другой, она готовила ему исцеление. — Мила, — наконец промолвил он, показывая ей тяжелое, чеканное золотое кольцо, которое было у него на пальце и которое она уже заметила, — не можете ли вы объяснить, откуда взялся этот дорогой подарок? — Вот это? — сказала она, с притворным удивлением разглядывая кольцо. — Я ничего не могу сказать о нем. Однако вашего соседа уже не слышно — прощайте! Знаете, Маньяни, у вас усталый вид. Вы ведь отдыхали, когда я появилась, вам хорошо бы полежать еще немножко. Сейчас никакая опасность не грозит никому: ни мне — потому что мой брат и отец уже встали, ни им — потому что среди бела дня дом полон народу. Ложитесь спать, милый сосед. Поспите хоть часок, это вернет вам силы, и вы станете и дальше охранять наше семейство. — Нет, нет, Мила, я не стану спать, да мне теперь и не хочется. Ведь что бы вы ни говорили, в доме все-таки творится что-то странное, необъяснимое. Признаюсь, когда стал заниматься день, на меня напало было какое-то сонное оцепенение. Вы спали, ваша дверь была закрыта, человек в плаще ушел. Я сидел под вашей галереей в полной уверенности, что если я позволю себе заснуть, первые же шаги наверху сразу разбудят меня. И сон и вправду сморил меня. Минут на пять, не больше, потому что за это время почти не стало светлее. Ну, так вот: когда я открыл глаза, мне почудилось, будто мимо промелькнул и мгновенно исчез край черного платья или покрывала. Моя рука свисала со скамьи, я сделал неопределенное и довольно бесполезное движение, пытаясь ухватить этот призрак. Но в моей руке — или рядом с ней, уж не знаю, — оказался какой-то предмет, который я уронил на пол и тут же поднял; то было это кольцо. Не знаете ли вы, кому оно может принадлежать? — Такое красивое кольцо не может принадлежать никому в нашем доме, — отвечала Мила, — но мне кажется, я узнаю его. — И я, я тоже узнал, — сказал Маньяни. — Это кольцо княжны Агаты. Все пять лет я всегда видел его на ее руке, и оно было на ее пальце, когда она приходила к моей матери. — Это кольцо перешло к ней от ее собственной матери, она сама мне это говорила! Но как очутилось оно на вашей руке сегодня? — Я как раз рассчитывал, что вы объясните мне это чудо, Мила. Вот это-то я и собирался спросить у вас! — Я объясню вам? Почему же я? — Только вы одна здесь настолько близки с княжной, чтобы получить от нее такой ценный подарок. — А вы думаете, что, получив его, — сказала она с высокомерной насмешкой, — я могла бы с ним расстаться ради вас, сударь? — Разумеется, нет, вы не должны были так поступить и не поступили бы. Но вы могли уронить его, проходя по галерее, а я сидел как раз под вашими перилами. — Ничего подобного! И потом, вы ведь видели, как около вас мелькнуло черное платье. Разве я ношу черное? — И все-таки я думаю, что вы выходили в ту минуту, когда сон одолел меня, и, чтобы меня наказать или подразнить, вы сыграли со мной эту шутку. Если это так, посудите сами, Мила, это слишком мягкое наказание, вам следовало бы плеснуть мне водой в лицо, а не беречь ваш кувшин для моих вьюнков. Возьмите же ваше кольцо, я не хочу, чтобы оно было у меня. Мне не годится его носить, да я боялся бы потерять его. — Клянусь вам, мне этого кольца никто не дарил, я не выходила на галерею, пока вы спали! И я не возьму того, что принадлежит вам. — Ведь невозможно же, чтобы синьора Агата приходила сюда этим утром… — Ох, разумеется, невозможно! — сказала Мила с важной миной, за которой таилось лукавство. — А все-таки она приходила сюда! — воскликнул Маньяни, который, казалось, прочел правду в ее сияющих глазах. — Да, да, Мила, она приходила сюда утром! Ваше платье пахнет духами, которыми пахнет ее одежда; вы или касались ее мантильи, или обнимали ее, и с тех пор прошло не больше часа. «Боже мой! — подумала молодая девушка. — Как он знает все, что касается княжны Агаты! Как он угадывает, что тут замешана она! А если это в нее он так влюблен? Ну что ж! Дал бы бог, чтобы это так и было, она поможет мне избавить его от этой страсти, она ведь так любит меня!» — Вы не отвечаете, Мила? — говорил между тем Маньяни. — Значит, я угадал, признавайтесь же. — Я даже не слышала, о чем вы говорите, — отвечала она, — я думала о другом… о том, как мне уйти! — Я помогу вам, но сначала, прошу вас, наденьте это кольцо на пальчик и передайте его княжне Агате; ведь дело ясно, это она потеряла его, проходя мимо меня. — Уж если предположить, что она приходила сюда, что вовсе странно, почему бы ей не сделать вам такой подарок, милый сосед? — Потому что она меня достаточно знает и понимает, что я его не приму. — Какая гордость! — Вы хорошо сказали, именно гордость, дорогая Мила! Никому не определить цены той радостной преданности, которой полна моя душа. Я понимаю, что вельможа дарит золотую цепь или алмаз художнику, талантом которого он упивается целый час. Но мне никак не понять, как можно платить золотом человеку из народа, в расчете на его преданность. Впрочем, здесь совсем не то. Предупредив меня об опасности, угрожающей вашему брату, княжна лишь указала мне на мой долг, который я выполнил бы с тем же рвением, предупреди меня об этом кто-нибудь совсем чужой. Мне кажется, я достаточно друг вашему брату и отцу и, осмелюсь сказать, вам самой, чтобы с готовностью стоять на страже, драться, даже позволить засадить себя в тюрьму ради одного из вас, и никто на свете не может тут мне ничего указывать. Вы думаете иначе, Мила? — Я думаю то же самое, друг мой, — отвечала она. — Но я думаю также, что вы плохо судите об этом подарке, если это и в самом деле подарок. Княжна Агата лучше нас с вами знает, что за дружбу не платят ни деньгами, на драгоценностями. Но, как и мы с вами, она, наверное, понимает, что когда дружеские сердца соединяются для взаимной поддержки, уважение и привязанность между ними увеличиваются соразмерно рвению каждого из них. Кольцо часто служит залогом дружбы, а не средством платы за услугу. Вы оказали княжне услугу, поднявшись на нашу защиту, это ясно. Не знаю, как и отчего, но ее судьба связана с нашей, и наш враг — ее враг. Если вы подумаете над моими словами, вы сами согласитесь, что для княжны это кольцо дорого как память и не представляет для нее материальной ценности, как считаете вы. Ведь эта безделушка сама по себе стоит немного. — Вы говорите, что это кольцо ее матери? — спросил Маньяни смягчаясь. — Вы же сами заметили, что она всегда носила его! На вашем месте, будь я уверена, что кольцо мне подарено, я не рассталась бы с ним никогда. Я не надевала бы его — оно привлекало бы взгляды завистников, я носила бы его у своего сердца, и оно стало бы моим талисманом и реликвией. — Тогда, дорогая Мила, — сказал Маньяни, растроганный нежной заботой, которую проявила молодая девушка, стараясь смягчить боль его души и заставить его с радостью принять дар соперницы, — тогда снесите княжне кольцо и если она и в самом деле пожелала подарить его мне, если она будет настаивать, чтобы я оставил его у себя, я так и сделаю. — И будете его носить у самого сердца, как я советовала вам? — спросила Мила, беспокойно и отважно устремляя на него свой взгляд. — Подумайте только, — горячо прибавила она, — ведь это дар святой покровительницы! Женщина, в которую вы влюблены, кто бы она ни была, ничем не может заслужить, чтобы вы пожертвовали им ради нее, и лучше закинуть этот дар в море, чем осквернить его неблагодарностью! Маньяни поразил огонь, горевший в больших черных глазах Милы. Угадала ли она истину? Может статься! Но если она и не зашла дальше предположения, что Маньяни поклоняется женщине, спасшей жизнь его матери, от этого она не оказывалась менее великодушной и прекрасной в своем стремлении сообщить ему веру в сладость дружбы этой доброй феи. Он начинал чувствовать очарование чистого и глубокого пламени, который она хранила в своем сердце, и это гордое и страстное сердце наперекор ей самой раскрывалось ему в самых этих усилиях победить его или принудить к молчанию. В порыве признательности и нежности Маньяни преклонил колени перед молодой девушкой. — Я знаю, Мила, — сказал он, — что княжна Агата — святая, но не знаю, достойно ли мое сердце хранить на себе ее священный дар. Однако я уверен, что есть на свете еще одно сердце, которому я хотел бы доверить этот дар. И потому вы можете быть покойны: кроме вас, нет для меня на свете женщины достаточно чистой, которая могла бы носить это кольцо. Наденьте его сейчас же на свой пальчик и отдайте ей либо сохраните его для меня. Мила вернулась к себе потрясенная, почти без чувств. Растерянность и упоение, страх и безумная радость — все вместе заставляло бурно вздыматься ее грудь. Наконец она услышала голос отца, нетерпеливо напоминавшего о завтраке. — Эй, малютка! — кричал он. — Мы голодны, да и пить так хочется! Ведь уже стало жарко, а от красок першит в горле! Мила бросилась подавать им. Но, ставя кувшин на скамью, на которой они завтракали, она вдруг заметила, что он пуст. Микеле посмеялся над ее оплошностью и вызвался сходить за водой. Привыкнув гордиться тем, что она одна управляется с хозяйством своего старого отца, Мила, задетая упреком брата, вырвала у него кувшин и вприпрыжку легко побежала к источнику. Они брали воду из прекрасного ключа, который бил из нижних слоев лавы в глубокой расщелине позади их дома. Такие удивительные ключи, закрытые потоком лавы и через несколько лет снова пробившиеся наружу, часто встречаются в вулканической почве. Жители ищут и раскапывают старое русло. Иногда оно оказывается лишь прикрытым сверху, другой раз отходит немного в сторону. Вода пробивает себе дорогу под остывшим вулканическим потоком, и когда ей дают выход, она выбивается на поверхность, чистая и светлая, как прежде. Ручей, омывавший основание дома Пьетранджело, проходил по дну глубокой выемки, которую пробили в скале и куда спускались по живописной лестнице. Для прачек был устроен небольшой водоем: чистое белье, развешанное повсюду вокруг, давало свежесть и тень. Красавица Мила с кувшином на голове спускалась и поднималась по крутой лестнице раз десять в день — прекраснейший образец для тех классических фигур, которыми художники прошлого века неизменно населяли свои итальянские пейзажи. И в самом деле, какая другая более естественная подробность может придать пленительный местный колорит картине, чем фигура, платье и ловкая и все же величественная осанка такой смуглой и горделивой нимфы?XXXIV. У ИСТОЧНИКА
Сбежав по лестнице, вырубленной в скале, Мила увидела, что на краю водоема сидит какой-то человек, но нисколько не была этим встревожена. Душа ее была переполнена любовью и надеждой, и вчерашние ее страхи не вспоминались ей. Когда она подошла ближе к воде, этот человек, сидевший к ней спиной и с головой завернувшийся в обычную у простолюдинов длинную одежду с капюшоном[235], тоже не вызвал у нее беспокойства. Но когда он повернулся к ней и тихо попросил позволения напиться из ее кувшина, она вздрогнула. Ей показался знакомым его голос, и сейчас она заметила, что в расщелине, ни ниже, ни выше источника, никого нет, что дети, против обыкновения, не играют на лестнице, словом — что она совсем одна здесь с этим чужим человеком, голос которого внушал ей страх. Притворившись, будто не слышит его просьбы, она поспешно наполнила кувшин и повернулась к лестнице. Но то ли для того, чтобы заградить ей проход, то ли просто желая расположиться поудобнее, незнакомец разлегся на камнях и сказал ей так же мягко и вкрадчиво: — Неужто, Ревекка, ты откажешь в капле воды Иакову, другу и слуге твоей семьи? — Я вас не знаю, — ответила Мила, стараясь говорить ровно и спокойно. — Разве не можете вы просто наклониться к бегущей струе? Так вы напьетесь гораздо лучше, чем из кувшина. Незнакомец преспокойно охватил руками колени Милы, и, чтобы не упасть, ей пришлось опереться на его плечо. — Пустите меня, — сказала она испуганно и рассерженно, — не то я кликну на помощь. Мне некогда любезничать с вами, и я не из тех, что балуются с первым встречным. Пустите меня, говорят вам, не то я закричу. — Мила, — сказал незнакомец, откидывая капюшон, — я для вас не «первый встречный», хотя наше знакомство не из давних. Нас связывают отношения, которые разорвать не в вашей власти и признать которые — ваш долг. Жизнь, состояние и честь тех, кто вам дороже всего на свете, зависят от моего рвения и моей преданности. Мне надо поговорить с вами. Подайте мне кувшин, чтобы никто, случайно увидев нас, не нашел бы ничего странного в том, что вы задержались здесь со мной ненадолго. Мила узнала таинственного ночного гостя, и ее невольно охватил страх, к которому примешивалась и некоторая доля преклонения. Скажем прямо: Мила была женщиной, и при ее вкусе ко всему изысканному, при ее мечтательности красота, молодость, смелый взгляд и вкрадчивый голос Пиччинино оказывали на нее свое тайное влияние. — Синьор, — заговорила девушка (она невольно принимала его за человека знатного, лишь переряженного в чужую одежду), — синьор, я сделаю как вы хотите, но не задерживайте меня силой и говорите скорее, потому что это небезопасно и для вас и для меня. Она подала ему кувшин, и разбойник не спеша стал пить. Не отпуская обнаженной руки девушки и любуясь ее красотой, он нажимал на эту руку и по мере того, как утолял свою притворную или настоящую жажду, заставлял Милу постепенно наклонять к нему кувшин. — А теперь, Мила, — сказал он, прикрывая лицо, на которое дал ей вдоволь наглядеться, — теперь слушайте! Тот монах, что напугал вас вчера, явится сюда, едва ваш брат и отец уйдут из дома. Они сегодня должны обедать у маркиза Ла-Серра. Не старайтесь удерживать их, наоборот, если они останутся дома, если увидят этого монаха, если они захотят прогнать его, это поведет к большой беде, и я буду не в силах помешать этому. Если же вы будете благоразумны и захотите помочь вашей семье, вы постараетесь избежать опасности и не позволите монаху показаться у вас в доме. Приходите сюда будто бы со стиркой: я уверен, перед тем как пойти к вам, он будет долго слоняться вокруг и попытается подстеречь вас здесь, потому что во дворе побоится наткнуться на ваших соседей. Будьте покойны — он трус и среди бела дня не посмеет применить силу из страха огласки. Он снова начнет твердить о своей низкой страсти. Оборвите его сразу, но притворитесь, будто переменили свое мнение о нем. Велите ему отойти, потому-де что за вами следят, и назначьте ему свидание на двадцать часов[236]. Место я вам укажу, вы придете туда одна и часом раньше срока. Я там буду. Так что в этом для вас не будет ничего опасного. Я разделаюсь с монахом, и вы никогда о нем больше не услышите. Вы будете избавлены от гнусного преследователя, над княжной Агатой перестанет висеть угроза бесчестия от подлой клеветы и вашему отцу не придется больше постоянно опасаться тюрьмы, а вашему брату — кинжала убийцы. — Боже мой! Боже мой! — воскликнула Мила, задыхаясь от волнений и ужаса. — Значит, этот человек так ненавидит нас и может причинить нам столько зла? Значит, этот человек сам аббат Нинфо? — Говорите тише, девушка, и пусть никто из окружающих вас не услышит сегодня этого проклятого имени, держитесь спокойно и делайте вид, будто ничего не знаете и ничего не собираетесь предпринимать. Если вы промолвите об этом хоть полслова кому бы то ни было, вам помешают спасти ваших близких. Вам скажут, чтобы вы не верили мне, потому что они сами не верят в ваше благоразумие и решимость. Кто знает, а вдруг меня посчитают вашим врагом? За себя я не боюсь, но я боюсь, как бы мои друзья не погубили себя по своей нерешительности. Вы одна можете спасти их, Мила; хотите ли вы сделать это? — Да, хочу, — отвечала она, — но что будет со мной, если вы обманете меня? Если вы не придете на условное место? — Ты, значит, не знаешь, кто я? — Нет, не знаю. Никто не хотел рассказывать мне этого. — Тогда посмотри на меня еще раз, попробуй хорошенько вглядеться в мое лицо, и ты поймешь меня лучше, чем все те, кто стал бы говорить тебе обо мне. Пиччинино откинул капюшон и сумел придать своему красивому лицу такое успокоительное выражение, выражение такой сердечности и мягкости, что Мила в своей невинности сразу подчинилась страшному обаянию этого человека. — Мне кажется, — вспыхнув, сказала она, — вы добры и справедливы, и если в вас и сидит дьявол, то, вероятно, он обрядился ангелом. Пиччинино опустил капюшон, чтобы скрыть удовольствие, которое доставило ему это простодушное признание из прекраснейших в мире уст. — Ну вот, и следуй этому чувству, — сказал он, — подчиняйся только тому, что велит твое сердце. Надо тебе знать к тому же, что твой дядя из монастыря Бель-Пассо воспитал меня как своего сына, а любимая тобою княжна Агата доверила мне и свое состояние и свою честь. Не будь она женщиной, так сказать, слишком щепетильной, она сама бы назначила аббату Нинфо это свидание, без которого нам не обойтись. — Но ведь я тоже женщина, — сказала Мила, — и мне страшно. Почему нельзя обойтись без этого свидания? — Разве ты не знаешь, что мне надо похитить аббата Нинфо? Как мне захватить его посреди Катании или у ворот виллы Фикарацци? Не лучше ли заставить его выйти из своего логова и заманить в ловушку? Его злая судьба сама захотела, чтобы он загорелся к тебе безумной любовью. — Ах, не произносите слово «любовь», говоря об этом человеке! Мне омерзительно слушать. И вы хотите, чтобы я притворилась, будто он мне приятен! Я умру от стыда и отвращения. — Прощай, Мила! — сказал разбойник, делая вид, что собирается уйти. — Я вижу, ты в самом деле женщина, как и все прочие, существо слабое и пустое. Я вижу, ты думаешь только о себе, и тебе нет никакого дела до того, что самые близкие и священные для тебя люди будут опозорены и погублены. — Ну нет, я не такова! — гордо возразила она. — Я отдам жизнь за них, а что до моей чести, то я сумею умереть, прежде чем посягнут на нее. — В добрый час, храбрая девушка! Вот речи, достойные племянницы фра Анджело. Впрочем, сама видишь, я совершенно спокоен за тебя. Я знаю, что тебе никакая опасность не грозит. — Значит, она угрожает вам, синьор? Если вы погибнете, кто защитит меня от монаха? — Удар кинжала! И вовсе не в твою прекрасную грудь, как ты грозишься, мой ангел, но в горло той поганой скотине, что недостойна погибнуть от руки женщины. Впрочем, до этого не дойдет. — Где мне надо назначить свидание? — В Николози, в доме Кармело Томабене, садовника. Ты скажешь, что он тебе родня и друг; добавишь, что он в отъезде, но что у тебя есть ключи от дома. Там большой огороженный сад, и в него можно войти незаметно, если пройти через ущелье, где крест Дестаторе. Ты все запомнила? — Прекрасно запомнила. И он придет? — Он придет туда непременно, не подозревая, что этот Томабене накрепко связан с неким Пиччинино, которого считают главарем разбойничьей шайки и которому аббат вчера предлагал княжеское состояние, за то, чтобы похитить твоего брата и убить его в случае нужды. — Святая мадонна, помилуй меня! Пиччинино! Я слышала рассказы о нем, это страшный человек. Он придет с вами? Я умру со страха, увидев его. — И притом, — сказал разбойник, с радостью обнаружив, что Миле был совсем неведом настоящий ход событий, — и притом, бьюсь об заклад, тебе, как всем здешним девушкам, до смерти хочется увидеть его? — Мне было бы любопытно его увидеть — ведь говорят, он ужасно безобразный! Но я ни за что не хочу, чтобы он увидел меня. — Будь покойна, у этого садовника в Николози никого не будет, только я один. А меня ты тоже боишься, девочка? Очень я страшен с виду? Похож на злодея? — По правде сказать — вовсе нет. Но почему же мне надо идти на это свидание? Может быть, достаточно отправить туда аббата… то есть этого монаха? — Он недоверчив, как все преступники. Он не войдет в сад Кармело Томабене, если не увидит тебя там одну. Придя за час до назначенного срока, ты не рискуешь встретиться с ним на дороге. Впрочем, иди через Бель-Пассо, ты эту дорогу, наверное, знаешь лучше, чем ту, другую. Была ты когда-нибудь в Николози? — Никогда, синьор. А это далеко? — Слишком далеко для твоих маленьких ножек, Мила, но ты умеешь ездить на муле? — О да, разумеется. — Позади дверца Пальмароза тебя будет ждать надежная и смирная кобылка, тебе ее передаст мальчик с белой розой вместо пароля. Закинь уздечку на шею этой дебрей скотинке и спокойно пусти ее быстрым шагом. Получаса не прейдет, и она без ошибки доставит тебя к моей двери, ни разу не споткнувшись, как бы ни показалась страшна тебе самой та дорога, которую ей заблагорассудится выбрать. Ты не побоишься, Мила? — А если мне встретится аббат? — Подхлестни мою Бьянку — тебя никто не догонит, будь покойна. — Но раз это неподалеку от Бель-Пассо, разрешите мне попросить дядю проводить меня. — Нет, нет! Твой дядя занят в другом месте по тому же самому делу. Не если ты предупредишь его, он захочет сопровождать тебя; если он тебя увидит, то отправится с тобою, и все, что мы затеяли, пойдет прахом. Больше я ничего не могу сказать тебе — мне некогда. Кажется, тебя зовут. Ты колеблешься? Значит, ты отказываешься? — Я не колеблюсь, я пойду туда! Синьор, вы верите в бога? Наивный и неожиданный вопрос заставил Пиччинино побледнеть и в то же время вызвал у него улыбку. — Почему ты спрашиваешь меня об этом? — сказал он, закрывая лицо капюшоном. — Ах, вы сами отлично знаете почему, — сказала она. — Бог все слышит и видит, он наказывает лжецов и помогает невинным. Голос Пьетранджело, кликавшего дочь, раздался во второй раз. — Уходи, — сказал Пиччинино, поддерживая ее и помогая проворней подняться по лестнице. — Не смотри: одно твое слово — и мы погибли. — Вы тоже? — И я! «Это было б очень жаль», — подумала Мила, оборачиваясь наверху лестницы, чтобы еще раз взглянуть на прекрасного незнакомца. Он невольно представлялся ей героем и высоким покровителем, которого она в своем капризном воображении уже ставила рядом с Агатой. У него был такой ласковый голос, такая ласковая улыбка! Его речь была так благородна, властный вид покорял с первого взгляда. «Я буду осторожна и отважна, — говорила она себе, — и вот я, простая девушка, спасу всех!» Увы, воробушек всегда поддается ястребу! В этом разговоре Пиччинино уступал внутренней потребности усложнить и затруднить дело ради своей выгоды и просто для своей забавы. Правда, лучшее средство поймать аббата Нинфо было зазвать его к себе на приманку распутства. Но можно было бы выбрать какую-нибудь другую девушку на месте простодушной Милы и, пользуясь некоторым сходством или одинаковым нарядом, передать ей роль женщины, которая показалась бы в саду. Аббат подчас бывал чрезвычайно недоверчив, потому что был страшным трусом. Однако, ослепленный глупым самомнением и подгоняемый грубой похотью, он мог попасть в западню. Поставить за дверью здорового молодца, применить силу — и он оказался бы в руках Пиччинино. В запасе у разбойника имелись и другие уловки, которыми он привык пользоваться и которые отлично помогли бы ему, ибо Нинфо со всеми своими интригами, любопытством, постоянным шпионством, нахальным лганьем и бесстыдным упорством в действиях был самым низким подлецом и притом самым ограниченным и тупым человеком на свете. Вообще злодеев слишком боятся, не зная, что большинство их — люди глупые. Аббат затратил бы вполовину меньше усилий и наделал бы вдвое больше зла, будь он немножко сообразительней и проницательней. Мы видели, например, как часто он почти докапывался до истины. Он затевал тысячу переодеваний и изобретал тысячу образцовых козней, добиваясь узнать, что творится на вилле Пальмароза, и в конце концов уверился, что Микеле — любовник княжны. Он оказался за тысячу лье от догадки, что же на самом деле связывает их. Он мог легко использовать набожность доктора Рекуперати, которому при суровой честности не хватало предусмотрительности и глубоких познаний. И все же, задумав выкрасть у Рекуперати завещание, он откладывал дело со дня на день, никак не умея внушить доктору ни чуточки доверия. И так крепко держалась на его лице печать беспримесной и безграничной низости, что он и пяти минут не мог играть роль порядочного человека. Его пороки не давали ему покоя — это он и сам заявлял, — когда бывал пьян. Развратный, жадный, он плохо владел собой, терял голову в минуты, когда ему более всего нужна была ясность мысли, и тогда не доводил до конца ни одной из своих интриг. Кардинал много лет пользовался им в качестве ничем не брезговавшего полицейского агента, но считал его только одним из средств последнего разбора. В дни, когда прелат еще отличался своим остроумием и цинизмом, он сам заклеймил Нинфо позорным прозвищем, надолго к нему приставшим и не заслуживающий перевода. Поэтому ему никак не удавалось проникнуть в семейные тайны и в дела государственной важности, которым монсиньор Джеронимо посвятил всю свою жизнь. Презрение к аббату кардинал сохранил даже после того, как потерял память, и, почти впав в детстве, прелат нисколько не боялся Нинфо. И если кардинал находил силы говорить с аббатом, то неизменно употреблял позорную кличку, которой когда-то наградил его. Другим доказательством недомыслия аббата была питаемая им уверенность, будто он может соблазнить любую женщину, какую пожелает. — Немножко золота и побольше вранья, — говаривал он, — с добавкой угроз, обещаний и любезностей помогут добиться и самой гордой и самой скромной. Поэтому он льстил себя надеждой получить часть состояния Агаты, если по его приказу похитят того, кого он считал ее любовником. Из тщеславия или в минуту обманутой похоти он был только способен подставить Микеле под дуло карабина какого-нибудь бандита и закричать «пали!», но не решился бы сам убить его, как не осмелился бы покуситься на Милу, схватись она за ножницы в порядке защиты. Но как ни был гнусен этот человек, у него была власть совершать зло. Она не была ему присуща, ею наделяла его злоба других людей. Неаполитанская полиция оказывала ему свою низкую и отвратительную помощь, когда он обращался за ней. Многих невинных он подверг изгнанию и разорению, многие его жертвы томились в тюремных камерах, и он мог легко захватить Микеле, не обращаясь к помощи горных разбойников. Но аббат желал сохранить возможность выдать Микеле за солидный выкуп и поэтому хотел сговориться с отъявленными бандитами, которым не было смысла предавать его. Вся его роль здесь свелась бы к тому, чтобы найти bravi[237] и сказать им: «Я раскрыл одну любовную интрижку, которая может принести кучу денег. Устройте дельце, а барыш поделим пополам». Однако и тут он остался в дураках. Его надул один отчаянный bravo, действовавший в городе под руководством Пиччинино и которому тот не разрешал ничего предпринимать без спроса. Он вызвал аббата на свидание, где тот встретился с двойником Пиччинино, а настоящий Пиччинино подсказывал ему, сидя в это время тут же, за перегородкой. Любому из двоих заговорщиков, кто сболтнет что-нибудь или шевельнет пальцем без его приказа (а они его знали за человека слова), он пригрозил на месте проломить голову. Впрочем, молодой авантюрист правил своей шайкой так ловко и так умел сочетать мягкость с крутыми мерами, что даже его отец (правда, орудуя более широко и занимаясь предприятиями большего масштаба) никогда не внушал к себе такой любви и такого страха. И поэтому Пиччинино мог не беспокоиться: его тайн не выдали бы и под пыткой, и в зтот раз он мог удовлетворить часто находившую на него прихоть — никому не доверяясь и не пользуясь ничьей подмогой, самому закончить дело, где требовалась не грубая сила, а только ловкость и хитрость. Вот почему Пиччинино, уверенному в успехе этого совсем не сложного предприятия, хотелось ради собственного удовольствия ввести в свой план какие-нибудь поэтические, необычайные, причудливые приключения, либо вполне реальные наслаждения. Его живое воображение и его хладнокровный расчет, сталкиваясь, постоянно заводили Пиччинино в противоречивые испытания, откуда он благодаря отличной сообразительности и самообладанию, всегда выходил с успехом. Он так умело вел свои дела, что, помимо его помощников и весьма ограниченного числа близких людей, никому не удалось бы доказать, что знаменитый разбойник Пиччинино, побочный сын Дестаторе, и мирный крестьянин Кармело Томабене — одно и то же лицо. Правда, последний тоже считался сыном Кастро-Реале, но в горах гуляло еще столько других молодцов, которые хвастались тем же опасным происхождением!XXXV. ГЕРАЛЬДИКА
Стало быть, Пиччинино, захоти он того, мог оказаться поистине опасным врагом семьи Лаворатори; но Мила вовсе не подозревала об этом, а фра Анджело полагался на склонность к героизму, которая, если можно так выразиться, составляла половину души его бывшего ученика. Добрый монах все-таки был не совсем спокоен. Он надеялся вновь повидаться с Пиччинино и убедиться в его намерениях, но напрасно поджидал он его и всюду разыскивал. Фра Анджело даже начинал надумывать — не пустил ли он волка в овчарню и не было ли опасной ошибкой перекладывать на других умелых людей то, что не хотелось делать самому. Во время сьесты он отправился на виллу Пальмароза и застал Агату, когда она уже собиралась насладиться этим блаженным часом ничегонеделания, столь необходимым для всех жителей юга. — Успокойтесь, добрый отец, — сказала она ему. — Мои тревоги рассеялись вместе с ночной тьмой. На рассвете я почувствовала, что мало надеюсь на вашего ученика, и мне захотелось самой проверить, не перерезал ли он горло Микеле ночью. Оказалось — мальчик мирно спит, а Пиччинино ушел еще до зари. — И вы, сударыня, решили убедиться в этом самолично? Как неосторожно! А что будут говорить в предместье о вашем поступке? — Никто ничего не узнает, я надеюсь. Я пошла одна, пешком, и закуталась в обыкновенный mazzaro[238]. Если мне навстречу и попался кто-нибудь из знакомых, наверное никто не признал меня. Кроме того, отец мой, у меня больше нет серьезных опасений: аббату не известно ничего. — Вы в этом уверены? — Вполне, да и кардинал не способен ничего припомнить, это подтвердил мне доктор. Но аббат по-прежнему лелеет свои злые умыслы, разумеется. Вы знаете, что он считает Микеле моим любовником? — И Пиччинино верит этому? — испуганно спросил монах. — Теперь уже нет, — ответила Агата. — Я получила утром записку от него, он клятвенно уверяет, что мне нечего тревожиться. Он пишет, что сегодня Нинфо будет в его руках, а до тех пор он постарается отвлечь внимание аббата, и тому будет не до нас. Я вздохнула свободно, у меня теперь одна забота — как потом избавиться от дружбы Пиччинино, который может стать чересчур назойливым. Но это мы обдумаем попозже — довлеет дневи злоба его. А если в конце концов мне придется раскрыть ему правду… Вы ведь не считаете, что он способен злоупотребить ею? — Я знаю его за человека, который старается делать вид, будто готов воспользоваться и злоупотребить всем на свете, но если вы наберетесь духу и будете обходиться с ним как с героем, блистающим прямотой и великодушием, вы увидите, ему захочется и в самом деле быть таким героем, и он им будет назло самому дьяволу. Княжна и капуцин еще довольно долго беседовали, пересказывая друг другу все, что было им известно. Затем фра Анджело отправился в предместье, чтобы снять с поста Маньяни, назначить ему от лица Агаты новую встречу и самому проводить Микеле с отцом во дворец Ла-Серра, ибо все-таки доброму фра Анджело не хотелось, чтобы они одни шли по пустынной дороге, пока он сам не повидается с сыном Дестаторе. Отправимся же с тремя членами семьи Лаворатори к маркизу и предоставим Миле в тревоге дожидаться появления монаха. Маньяни работал в это время на галерее напротив, и ему и в голову не приходило, что, обратившись к нему за помощью, девушка выжидает теперь случая ускользнуть от его присмотра. Она обещала отцу пойти обедать к своей подружке Ненне, но сперва она хотела выстирать и выгладить шаль, без которой, как она заявила, ей невозможно было выйти на улицу. Все получилось так, как предсказывал неизвестный друг. Девушка увиделась с монахом у источника, и ей не пришлось притворяться, будто она заробела при неожиданной встрече, так как ее действительно мучил страх. И правда, что мог подумать о ней Маньяни, если после всего рассказанного Милой застал бы ее беседующей по своей охоте с этим негодяем? Чтобы избавить себя от разговора с ним и от необходимости глядеть на его отвратительное лицо, она бросила ему записку, которую он прочел с восторгом. Затем он удалился, посылая ей воздушные поцелуи, что заставило ее содрогнуться от омерзения и негодования. В эту самую минуту ее отец, брат и дядя, не подозревая об опасности, которой бедная девочка ради них собиралась подвергнуть себя, входили во дверец маркиза Ла-Серра. Богатое жилище внутри было устроено гораздо современнее, чем вилла Пальмароза, от которой дворец Ла-Серра отделялся лишь обширным парком и узкой долиной, занятой лугами и плодовыми садами. Дворец был наполнен произведениями искусства — статуямя, вазами и прекрасными картинами, которые маркиз Ла-Серра собирал со вниманием серьезного и просвещенного знатока. Он сам вышел навстречу к обоим братьям, сердечно пожал руку каждому и, в ожидании пока накроют стол, повел по своей обширной резиденции, любезно, умно и разумно показывая и объясняя украшавшие ее шедевры. Пьетранджело хоть и был простым мастером по внутренней отделке дома, adornatore, все же отличался вкусом и пониманием прекрасного. Он живо воспринимал все эти уже ранее известные ему произведения искусства, и его наивные и вместе с тем глубокие суждения не только не мешали такой серьезной беседе, но даже оживляли ее. Микеле сначала немного стеснялся маркиза. Но вскоре, заметив, что в естественности и непринужденности отца много хорошего вкуса и что эти качества приятны такому достойному и разумному человеку, как маркиз, он почувствовал себя уверенней. Когда же сели за стел, уставленный серебром и цветами и тщательно убранный, как для приема знатных гостей, молодого человека оставило всякое стеснение, и он беседовал так же приятно и непринужденно, как если бы был собственным сыном хозяина или его родственником. Только одно мучило его за обедом: он все гадал, что думают о нем лакеи маркиза. Я говорю «гадал», потому что он и глаз на них поднять не решался. Он не раз обедывал у богачей, когда жил в Риме, особенно после того, как отец переселился в Катанию и семейный уклад не удерживал его дома и не отвращал более от желания искать общества молодых щеголей. Поэтому для самого себя он не опасался обиды. Но отец впервые был приглашен вместе с ним к знатному патрицию, и теперь Микеле мучительно страдал от опасения, как бы лакеи не вздумали пожимать плечами за спиной почтенного старика либо грубо не обнесли его блюдом. И в самом деле, у лакеев, которые столько раз видели Пьетранджело на его лесенке в этом самом дворце и привыкли обходиться с ним как с ровней, могло зародиться против него чувство злобы и презрения. Однако то ли маркиз заранее поговорил с ними и объяснил свою особую благосклонность и уважение к старику, чем польстил болезненному самолюбию, свойственному людям этого сословия, то ли Пьетранджело умел так расположить в свою пользу всех, кто его знал, — только лакеи прислуживали ему весьма почтительно. Микеле наконец понял это, когда отец повернулся к старому камердинеру, наполнявшему его стакан, и сказал добродушно: — Благодарю, старина, ты мне служишь по-приятельски. Ну и я при случае в долгу не останусь! Микеле вспыхнул и оглянулся на маркиза, а тот улыбнулся с довольным и растроганным видом. И старый слуга в ответ тоже дружески улыбнулся Пьетранджело. Когда убрали десерт, маркизу доложили, что дворецкий княжны мессир Барбагалло ожидает его в одной из дворцовых зал и хочет показать ему какую-то картину. Они застали его за разговором с фра Анджело, воздержанность и сан которого никак не позволяли ему засиживаться за обеденным столом и который поэтому после первого блюда попросил разрешения прогуляться по саду. Сначала маркиз один подошел к Барбагалло, чтобы справиться, не передавала ли княжна ему чего-либо особо. Вполголоса обменявшись с дворецким двумя-тремя словами, судя по выражению лиц обоих, не содержавших ничего важного, маркиз вернулся к Микеле, взял его под руку и сказал: — Вам, может быть, доставит некоторое удовольствие посмотреть развешанные в отдельной галерее семейные портреты, которых мне до сих пор не доводилось показывать вам. Пусть вас не пугает количество предков, собранных здесь. Взгляните на них мельком, а я задержу вас только перед теми, которые принадлежат кисти известных мастеров. Впрочем, вместе с тем это и любопытная коллекция костюмов, с ней стоит ознакомиться историческому живописцу. Но прежде чем идти туда, взглянем на картину, принесенную мэтром Барбагалло: он лишь на днях раскопал ее на чердаке виллы Пальмароза. Мой мальчик. — прибавил он, понизив голос, — поздоровайтесь же с бедным мажордомом: он рассыпается в поклонах перед вами, видно, устыдясь своего поведения на балу у княжны. Микеле заметил наконец поклоны мажордома и, не помня старого, ответил на них. С тех пор как он примирился со своим положением и с самим собой, он отделался от прежней обидчивости и, как его отец, считал теперь, что ничья наглость не может задеть человека, если в нем сильно чувство собственного достоинства. — Вот что я принес вам, — сказал затем мажордом маркизу, — это один сильно поврежденный Пальмароза. Но хотя надпись почти совсем стерлась, мне удалось ее восстановить; вот она — на этом клочке пергамента. — Как? — сказал маркиз улыбаясь. — Вам удалось разобрать тут, что этот хвастливый вояка был военачальником в правление короля Манфреда и сопутствовал Джованни ди Прочида в Константинополь? Это удивительно! Что до меня, я в старинных надписях ничего не понимаю! — Можете быть уверены, что я не ошибся, — возразил Барбагалло. — Я прекрасно знаю этого храброго воина и уже давно ищу его портрет. Пьетранджело покатился со смеху. — Так, значит, вы жили уже в те времена? — спросил он. — Вы, конечно, постарше меня, мэтр Барбагалло, но никогда я не думал, чтобы вы могли жить в дни нашей Сицилийской вечерни. — Если б мне только довелось жить тогда! — вздохнул фра Анджело. — Надо мне разъяснить вам особую эрудицию мэтра Барбагалло и интерес, который он проявляет к нашей семейной галерее, — сказал маркиз, обращаясь к Микеле. — Он всю жизнь посвятил этому кропотливому труду, и никто так не знает генеалогию сицилийских родов, как он. В прошлом мой род связан с родом Пальмароза, а еще теснее — с родом Кастро-Реале Палермских, о которых вы, верно, слышали. — Я наслушался о них вчера, — улыбнувшись, сказал Микеле. — Ну, так вот! После смерти знаменитого князя по прозвищу Дестаторе в наследство мне, как последнему отпрыску этого рода (а об этом наследстве, уверяю вас, я довольно мало беспокоился), досталась лишь коллекция портретов предков. Мне к ней и прикасаться не хотелось, но мэтр Барбагалло, обожающий всякие такие редкости, взял на себя труд вымыть и вычистить портреты, а потом он их разобрал и развесил по порядку в галерее, которую вы сейчас увидите. В этой галерее, кроме моих прямых предков, есть изрядное количество предков по линии Пальмароза. Княжна Агата, которая не увлекается такого рода коллекциями, отправила ко мне и своих, полагая, что лучше соединить их всех в одном месте. Мэтра Барбагалло это толкнуло на долгую и кропотливую работу, которую он с успехом закончил. Пойдемте же туда все вместе, ведь мне надо представить Микеле очень многим лицам, и ему может понадобиться помощь отца и дяди, чтобы отбиться от такой толпы покойников. — Не буду надоедать вашим милостям и удаляюсь, — сказал мэтр Барбагалло, дойдя с ними до галереи и оставляя там своего сицилийского воина. — Я зайду в другой раз и повешу эту картину на место. Впрочем, может быть, господин маркиз захочет, чтобы я пересказал господину Микеланджело Лаворатори, покорным слугою которого и сейчас и в будущем я являюсь, историю оригиналов здесь находящихся портретов? — Как, господин мажордом, — с сомнением спросил Микеле, — вы помните историю всех этих лиц? Их больше трех сотен! — Их пятьсот тридцать, сударь, и я знаю не только их имена и все события их жизни с точными подробностями, но также имена, пол и возраст всех их детей, умерших до того, как живопись воспроизвела их черты, чтобы передать их потомству. Их было триста двадцать семь, включая мертворожденных. У меня пропущены лишь те, что умерли некрещенными. — Вот чудеса! — воскликнул Микеле. — Но если уж у вас такая память, на вашем месте я предпочел бы изучать историю всего рода человеческого, а не одной семьи. — Род человеческий меня не касается, — важно заявил мажордом. — Его светлость князь Диониджи де Пальмароза, отец ныне здравствующей княжны, не поручал мне должности наставника своих детей в истории. Но поскольку мне хотелось чем то заниматься и у меня оставалось много свободного времени, так как в доме два последних поколения не устраивали ни приемов, ни празднеств, он посоветовал мне ради развлечения свести в одно историю его рода, рассеянную по разным рукописным томам, которые вы можете увидеть в семейной библиотеке Пальмароза и которые я все до единого изучил, выбрал из них все, связанное с историей семьи, и прокомментировал все до последней буквы. — И это в самом деле нравилось вам? — Весьма, мэтр Пьетранджело, — важно ответил мажордом старому художнику, видимо желавшему подразнить его. — Я вижу, — иронически вмешался Микеле, — что вы не являетесь обыкновенным управителем, сударь, и что ваше образование куда больше, чем требует ваша должность. — Моя должность хоть и незаметна, но всегда была очень приятной, — ответил мажордом, — даже во времена князя Диониджи, который не был любезен ни с кем, кроме меня. Он дарил меня уважением и почти дружбой, потому что я был как бы открытой книгой, где он всегда мог справиться о своих предках. Что до княжны, его дочери, то поскольку она добра ко всем на свете, как не быть счастливым подле нее? Я делаю почти все, что хочу, и меня огорчает только то, что княжна Агата рассталась со своей семенной галереей, никогда не взглянет на свое генеалогическое древо и знать не желает геральдической науки. А геральдика — чудесная наука, и в ней когда-то с успехом отличались дамы. — Теперь же она переходит в ведение живописцев по внутренней отделке дома и золотильщиков по резному дереву, — снова засмеялся Микеле. — Это удачные орнаменты, их яркие краски и детали рыцарского оружия ласкают глаз и будят воображение — вот и все. — Вот и все?! — возразил возмущенный управитель. — Простите, сударь, это вовсе не все! Геральдика — это история, написанная иероглифами ad hoc[239]. Увы! Придет время и, быть может, скоро, когда эту тайнопись разучатся читать, как уже не умеют читать священные письмена, покрывающие гробницы и статуи Египта. А ведь сколько глубоких мыслей изложено самым хитроумным образом на языке этих рисунков! Уместить на печатке, на простой оправе кольца всю историю своего рода — не есть ли это достижение подлинно волшебного искусства! И какими еще знаками, столь же точными и выразительными, пользовались когда-либо цивилизованные народы? — В том, что он говорит, есть и разумные основания и здравый смысл, — сказал маркиз вполголоса, обращаясь к Микеле. — Ты, мой мальчик, слушаешь его с презрением, которое кажется мне страшным. Ну что ж, говори все, что думаешь, я рад буду узнать твое мнение, и понять, есть ли у тебя настоящие причины с такой горечью, как мне кажется, насмехаться над знатью. Не стесняйся нисколько, я выслушаю тебя так же спокойно и беспристрастно, как слушают нас эти мертвецы, тусклыми глазами следящие за нами из своих почернелых от времени рам.XXXVI. СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ
— Ну так вот, — заговорил Микеле, ободренный рассудительностью и искренней добротой хозяина дома. — Я скажу все, что думаю, и пусть мэтр Барбагалло позволит мне высказаться до конца, даже если это будет затрагивать его убеждения. Будь изучение геральдики занятием полезным и нравственным, мэтр Барбагалло, столь успешно выпестованный этой наукой, считал бы всех людей равными перед богом и единственным различием на земле было бы для него различие между людьми ограниченными и зловредными и людьми просвещенными и добродетельными. Он прекрасно видел бы суетность всех этих титулов и понимал бы сомнительную ценность родословных. Его представления об истории человечества, как мы только что говорили, были бы шире, и он судил бы эту великую историю столь же твердо, сколь беспристрастно. Вместе этого в его взглядах есть — если не ошибаюсь — известная узость, с которой я не могу согласиться. Он почитает дворянство особой породой, ибо оно обладает привилегиями, и он презирает простонародье, ибо оно не имеет истории и воспоминаний. Бьюсь об заклад, что, преклоняясь перед величием других, он презирает самого себя, разве что он обнаружил в библиотечной пыли некий документ, который дарует ему право считать себя в родстве четырнадцатой степени с каким-нибудь блистательным родом. — Такой честью я не могу похвалиться, — сказал несколько раздосадованный мажордом. — Все же я с удовлетворением убедился, что происхожу отнюдь не из черни: у меня есть по мужской линии предки среди духовенства и торгового сословия. — С чем я вас искренне поздравляю, — иронически отвечал Микеле. — А мне-то и в голову не приходит расспрашивать отца, нет ли среди наших предков каких-нибудь маляров, малевавших вывески, либо пономарей или дворецких. Признаюсь даже, мне это совершенно безразлично. В этом отношении у меня одна забота: своей славой быть обязанным самому себе и заработать себе герб кистью и палитрой. — В добрый час, — заметил маркиз. — Это благородное честолюбие. Тебе хочется, чтобы от тебя пошел славный род мастеров искусства, и ты желаешь приобрести себе благородное звание, а не потерять его, как многие нищие синьоры, недостойные носить громкие имена. Но, может быть, тебе заранее неприятно знать, что твои потомки будут гордиться твоим именем? — Да, господин маркиз, мне было бы неприятно, если бы мои потомки оказались невеждами и глупцами. — Друг мой, — возразил маркиз с величайшим спокойствием, — я отлично знаю, что во всех странах дворянство вырождается, и мне незачем говорить тебе, что это тем непростительней для этого сословия, чем больше за ним славы и величия. Но зачем нам из-за этого осуждать ту или иную замкнутую часть общества и заниматься здесь проверкой — велики или малы достоинства отдельных личностей, ее составляющих? В споре такого рода может быть интересным и даже полезным для нас лишь рассмотрение этого института как он есть. Скажи же мне, что ты думаешь, Микеле: осуждаешь ты или одобряешь различия, установленные между людьми? — Одобряю, — не раздумывая ответил Микеле, — потому что сам надеюсь выдвинуться, но в этих различиях я отрицаю всякий принцип наследования. — Всякий принцип наследования? — переспросил маркиз. — Поскольку он применяется к богатству или власти — я согласен. Это французская идея, идея смелая… Мне эта идея по душе!.. Но если речь идет о славе, не связанной ни с какой корыстью, либо о чести, в прямом смысле… Ты позволишь, мой мальчик, задать тебе несколько вопросов? Предположим, Микеланджело Лаворатори, здесь присутствующий, родился лет двести-триста тому назад. Предположим, он состязался с Рафаэлем или Тицианом и оставил по себе имя, достойное стоять рядом с этими славными именами. Предположим далее, что дворец, в котором мы сейчас находимся, принадлежал ему и переходил по наследству его потомкам. Предположим, наконец, что ты последний отпрыск этого рода и совсем не занимаешься искусством живописи. Твои склонности толкали тебя к другой профессии, а может быть, у тебя даже нет никакой профессии, ибо ты богат, великие творения твоего знаменитого прадеда принесли ему состояние, а потомки честно передали это состояние тебе. Ты здесь у себя дома, в той картинной галерее, куда твои предки являлись один за другим, чтобы занять здесь свое место. Более того — тебе известна история каждого из них. Она начертана в рукописях, которые сохраняются и заботливо продолжаются в твоей семье. И вот вхожу сюда я, найденыш, подобранный у приютской двери, — предположим и такое. Мне неведомо имя моего отца и даже той несчастной, что дала мне жизнь. С прошлым я не связан ровно ничем, и, рожденный только вчера, я с изумлением рассматриваю эту череду предков, с которыми бок о бок ты живешь уже почти триста лет. Остолбенев от удивления, я расспрашиваю тебя о них, и мне даже хочется подразнить тебя, как это ты живешь подле покойников и их радением. Побаиваюсь даже, как бы эти блистательные поколения не поистрепались в долгом пути. В ответ ты с гордостью указываешь на прародителя, прославленного Микеланджело Лаворатори, который из ничего стал великим человеком и память о котором сохранится в веках. Затем ты сообщаешь мне факт, которому я очень дивлюсь: оказывается, сыновья и дочери этого Микеле, исполненные почтения к памяти отца, тоже решили служить искусству. Один стал музыкантом, другой гравером, третий живописцем. Если небо не даровало им таких же талантов, как отцу, они по крайней мере сохранили в душе и передали своим детям уважение и любовь к искусству. Те, в свою очередь, поступали так же, и все эти портреты, девизы на гербах, эти биографии, с которыми ты меня знакомишь, представляют наглядно историю многих поколений художников, ревностно поддерживающих свою наследственную профессию. Разумеется, между этими соискателями славы лишь некоторые действительно достойны имени, которое носят. Гений есть исключение, и ты мне называешь только двух-трех замечательных художников, собственной деятельностью продолживших славу твоего рода. Но этих двух-трех достаточно, чтобы подновить вашу богатую кровь и сохранить в душах промежуточных поколений некий пыл, некую гордость, некую жажду величия, которые могут еще способствовать появлению выдающихся людей. Однако я, незаконный сын, человек без роду и племени в настоящем и прошлом (так продолжаю я свою притчу), естественный хулитель всякой родовой славы, я стараюсь сбить с тебя спесь. Я улыбаюсь с видом превосходства, когда ты мне признаешься, что тот или иной предок, портрет которого привлекает меня своим чистосердечным выражением, был человеком невеликих талантов, ограниченным и неумным. Другой, который мне вовсе не нравится — он одет небрежно, у него усы торчком, — оказывается негодяем, безумцем или фанатиком. И, наконец, я намекаю, что сам ты — выродившийся художник, ибо не унаследовал священного огня и, созерцая деятельную жизнь своих прадедов, погрузился в сладкую дремоту ленивого far niente[240]. Тут ты мне возражаешь. Позволь мне вложить в твои уста кое-какие, по-моему, достаточно разумные слова: «Сам по себе я ничто. Но я был бы еще ничтожней, потеряй я связь с достойным прошлым. Меня одолевает апатия, свойственная душам, лишенным вдохновения. Но мой отец научил меня тому, что было в его крови и перешло в мою — сознанию, что я принадлежу к хорошему роду и что, если я не способен ничем оживить его блеск, то должен по крайней мере удерживаться от мыслей и пристрастий, которые могли бы заставить его потускнеть. За неимением таланта я питаю уважение к традициям рода, и, не будучи в состоянии гордиться самим собой, я искуплю перед моими предками вину своего ничтожества тем, что в некотором роде поклоняюсь им. Моя вина была бы стократ белее, если бы, кичась своим невежеством, я изорвал бы их изображения и оскорбил бы их память презрительной гримасой. Отказываться от своего отца, ибо ты не способен сравняться с ним, может лишь дурак или подлец. И, наоборот, человек поступает в некотором смысле благочестиво, когда обращается к памяти отца, стремясь искусить свое неумение сравняться с ним. И художники, у которых я бываю и которым не решаюсь показывать мои произведения, по крайней мере слушают меня с любопытством, когда я говорю о произведениях моих предков. Вот что ответишь ты мне, Микеле, и неужели это не окажет на меня действия? По-моему, будь я тем нищим, заброшенным юношей, которого я описал, меня охватила бы великая печаль и я обвинял бы свою судьбу, повинную в моем полном одиночестве и, так сказать, безответственности на земле. Но вот тебе другая притча, не такая трудная и более соответствующая твоему воображению художника — прерви меня на первых же словах, если тебе она уже известна… Случай этот приписывают многим персонажам типа Дон Жуана, и так как старые истории только молодеют, переходя от поколения к поколению, последнее время его приписывали Чезаре де Кастро-Реале, Дестаторе, прославленному разбойнику, человеку необыкновенному и в добре и в зле. В Палермо рассказывают, что в ту пору, когда он искал забвения в пьяных оргиях, сам не зная, скатиться ли ему на дно или поднять знамя восстания, однажды под вечер ей отправился в свой старинный дворец, который проиграл накануне. Теперь он хотел побывать там в последний раз, чтобы уже никогда в него не возвращаться. Дворец был последнее, что у него оставалась от его богатства, и единственное, может быть, о чем он сожалел. Потому что там он провел свои юные годы; там были погребены его родители; наконец, там под пылью давнего забвения хранились портреты его предков. И вот теперь он пришел отдать приказ своему управителю уже завтра утром принять в качестве нового владельца того синьора, который выиграл у него дворец одним броском костей. » Как?«— вскричал этот управитель, подобно мессиру Барбагалло питавший уважений к семейным преданиям и портретам. — Вы могли сделать ставкой в игре гробницу отца и даже портреты своих предков?» «Все поставил и все проиграл, — беззаботно отвечал Кастро-Реале. — Впрочем, некоторые вещи мне выкупить по силам, и мой партнер не станет из-за них торговаться. Ну-ка, поглядим на эти семейные портреты! Я их уже не помню. Я их видел, когда был еще несмышленышем. Если есть среди них стоящие, я их отмечу, чтобы сразу договориться с новым владельцем. Бери факел и иди за мной». Взволнованный управитель дрожа последовал за своим господином в темную, пустую галерею. Кастро-Реале уверенно и высокомерно шел первым. Но говорят, чтобы сохранить до конца твердость и беспечность, он, придя в свой замок, пил без меры. Он сам толкнул заржавленную дверь и, заметив, что старый дворецкий держит факел дрожащей рукой, взял его и поднял на уровень лица первого портрета, оказавшегося у входа в галерею. То был гордый воин, вооруженный с головы до пят, в широком круглом воротнике фландрского кружева поверх железных лат. Да вот он, Микеле! Ведь картины, играющие такую роль в моем рассказе, — все они перед твоими глазами: это те самые, что присланы мне из Палермо, как последнему в роде. Микеле посмотрел на старого воина и был поражен его мужественным лицом, торчащими усами и суровым видом. — Ну, ваша светлость, — сказал он, — этот не чересчур веселый и не чересчур благосклонный господин, наверное, поставил нашего dissoluto[241] на место? — Да к тому же еще этот господин ожил, — продолжал маркиз, — и, вращая разгневанными глазами в темных орбитах, произнес замогильным голосом: «Я недоволен вами!» Кастро-Реале содрогнулся в изумлении и отступил, но, сочтя себя жертвой игры собственного воображения, перешел к следующему портрету и, почти обезумев, нагло посмотрел на него в упор. То была древняя и почтенная аббатиса монастыря урсулинок в Палермо, одна из его прабабок, умершая праведницей. Ты можешь увидеть ее здесь, Микеле, вот она, направо, в покрывале, с золотым креслом, с лицом морщинистым и желтым, как пергамент, с проницательным в властным взором. Не думаю, чтобы ее портрет что-либо говорил тебе. Но когда Кастро-Реале поднял светильник к ее лицу, она прищурилась, словно свет внезапно ослепил ее, и сказала скрипучим голосом: «Я недовольна вами!» На этот раз ужас охватил князя, и он повернулся к управителю, у которого подкашивались ноги. Однако Дестаторе решил не поддаваться этим предостережениям из потустороннего мира и резко обратился к третьему портрету — это был тот старый судья, которого ты видишь рядом с аббатисой. Не осмеливаясь долго разглядывать его горностаевую мантию, которая сливалась с длинной седой бородой, Кастро-Реале взялся за раму, решился все-таки тряхнуть ее и спросил: «А вы?» «Я тоже!»— ответил старик суровым голосом судьи, произносящего смертный приговор. Кастро-Реале уронил, говорят, свой факел и, не помня себя, спотыкаясь на каждом шагу, бросился в глубь галереи, а бедный дворецкий, оцепенев от страха, не смея ни следовать за ним, ни его покинуть, остался у двери, через которую они вошли. Он слышал, как его господин неровным и поспешным шагом бежал в темноте, натыкаясь по дороге на кресла и столы и бормоча проклятия. И он слышал, как каждый портрет провожал его господина все теми же грозными словами: «Я тоже! Я тоже! Я тоже!..» Голоса один за другим стихали в темной глубине галереи, но каждый четко произнес роковой приговор. И Кастро-Реале не убежать было от проклятия, от которого ни один из предков его не избавил. Рассказывают, будто прошло много времени, пока он добрался до выхода. Когда же он переступил порог и с силой захлопнул за собой дверь, словно за ним гнались призраки, опять воцарилось молчанке. И уж я не знаю, доводилось ли с тех пор портретам, висящим здесь, снова обрести дар речи. — Досказывайте, досказывайте, ваша светлость, — воскликнул фра Анджело, с блиставшими глазами и полуоткрытым ртом слушавший эту историю; ведь несмотря на свой ум и полученное образование, бывший разбойник с Этны был монах и сицилиец и не мог до известной степени не дать веры рассказу. — Расскажите же, как с этой минуты ни управитель дворца и никто из жителей Палермо и всей округи никогда не видели князя Кастро-Реале. Там, по выходе из галереи, находился подъемный мост, и люди слышали, что он шел по нему, но когда потом во рвунашли его шляпу с перьями, плавающую по воде, решили, что он утопился, хотя и напрасно искали его тело. — На самом-то деле этот урок подействовал целебно, — сказал маркиз. — Князь Кастро-Реале бежал в горы, собрал там партизан и вел борьбу десять лет, добиваясь спасения или хотя бы отмщения для своей родины. Правда это или неправда, только легенда эта довольно долго ходила в народе, и новый владелец поместья верил в нее; он даже не захотел хранить у себя эти страшные семейные портреты и тут же отослал их мне. — Не знаю, справедлив ли этот рассказ, — сказал фра Анджело, — я никогда не решался расспрашивать Дестаторе. Однако верно, что решение стать партизаном пришло к нему в прадедовском доме в тот последний раз, когда он посетил его. Правда и то, что он испытал там сильное потрясение и что он не любил, когда с ним заговаривали об его предках. Верно, наконец, и то, что с того часа рассудок его немного помутился и что часто я слыхал, как он говаривал в черные дни: «Ах, зачем не пустил я себе пулю в голову, когда последний раз проходил по подъемному мосту своего замка!» — Вот, наверное, и все, что есть правдивого во всей этой фантастической сказке, — сказал Микеле. — Но все равно! Хотя между теми знаменитыми лицами и моими предками и нет никакой связи и хотя я не знаю за собой ничего, в чем бы мне следовало упрекать себя перед ними, мне было бы все-таки не по себе, коли мне пришлось бы провести ночь одному в этой галерее. — А я, — без всякого ложного стыда сказал Пьетранджело, — ни одному слову этой истории не верю. И все же пообещай мне господин маркиз свое состояние и свой дворец в придачу, я не согласился бы провести и одного часа после захода солнца наедине с госпожой аббатисой, монсиньором главным судьей и всеми прославленными воинами и монахами, которые здесь развешаны. Здешние слуги не раз пробовали запереть меня тут для своей забавы, но я им не давался, я бы скорей выпрыгнул в окошко. — И какой же вывод насчет дворянства сделаем мы из всего этого? — спросил Микеле, обращаясь к маркизу. — Тот вывод, мой мальчик, — ответил маркиз Ла-Серра, — что привилегии знати есть несправедливость, но что в легендах и в семейных преданиях много мощи, поэзии и пользы. Во Франции, уступая доброму порыву, дворянство предложило сжечь свои титулы и с пристойной учтивостью и хорошим вкусом выполнило свой долг, принеся эту искупительную жертву. Но вслед за тем стали взламывать склепы, вытаскивать из них трупы, даже оскорблять образ Христа, как будто не священны пристанища мертвых и как будто сын Марии был покровителем лишь вельмож, а не убогих и малых сих. Я прощаю революции ее безумства, я понимаю их, быть может, лучше, чем те, кто говорил вам о них, мой юный друг. Но я знаю также, что ее философия не была ни законченной, ни глубокой философией и что в отношении идей дворянства, как и в отношении всех идей, она умела разрушать, а не строить, умела вырывать с корнем, но не сеять. Позвольте мне сказать еще два слова на эту тему, а потом мы выйдем в сад есть мороженое, потому что боюсь, как бы все эти покойники не нагнали на вас тоску и скуку.XXXVII. БЬЯНКА
— Так-то, Микеле, — продолжал свою речь маркиз Ла-Серра, беря правой рукой за руку Пьетранджело, а левой — фра Анджело, — все люди по благородству равны между собой. И я прозакладывал бы свою голову, что род Лаворатори стоит рода Кастро-Реале. Если о мертвых судить по живым, то предки этих двоих наверняка были людьми добрыми, умными и мужественными, тогда как Дестаторе — вместилище высоких добродетелей и жалких недостатков, то князь, то разбойник, то кающийся благочестивец, то впавший в отчаяние самоубийца — заставляет усомниться в благородстве вельмож, портреты которых нас окружают. Если вы когда-нибудь разбогатеете, Микеле, вы сами нечаянно положите начало семейной галерее, написав прекрасные лица вашего отца и дяди, и никогда не станете продавать их портретов. — И портрета своей сестры! — вскричал Пьетранджело. — Он ее тоже не забудет нарисовать; ведь ее портрет когда-нибудь послужат доказательством, что в нашем роду люди не были противны с виду. — Тогда не находите ли вы, — подхватил маркиз, опять обращаясь к Микеле, — что вам есть над чем призадуматься? Что вы можете пожалеть, почему у вас нет портрета вашего отца и вашего дяди и почему вам неведома его история? — Вот это был человек! — воскликнул Пьетранджело. — Он служил в солдатах, потом стал хорошим мастером, а я его помню хорошим отцом. — А его брат был монахом, как я, — сказал фра Анджело. — Он был набожен и мудр. Его пример сильно подействовал на меня, когда я колебался, идти ли мне в монахи. — Вот как действуют семейные воспоминания! — сказал маркиз. — А кем были ваши дед и брат его, друзья мои? — Что до брата моего деда, — отвечал Пьетранджело, — не знаю, кажется, его вовсе не было. Но дед мой был крестьянин. — Как же прожил он свою жизнь? — Мне, наверное, рассказывали о нем в детстве, да я не припомню ничего. — А ваш прадед? — Я и не слышал о нем. — И я тоже, — вмешался фра Анджело. — Мне смутно помнится, что наш прапрадед был моряк, и притом весьма отважный. Но как его звали — не помню. Имя Лаворатори служит всего двум нашим поколениям. Это ведь прозвище, как и большая часть фамилий в народе. Оно указывает на смену занятия в роду, когда наш дед, бывший раньше земледельцем в горах, перебрался в город и стал ремесленником. Нашего деда звали Монтанари, это тоже прозвище, а его дед, верно, звался иначе. А уж дальше начинается полная тьма, и наша родословная погружается в забвение, равное небытию. — Так вот, — сказал маркиз Ла-Серра, — вы сейчас на примере своей семьи пересказали всю историю народа. Два-три поколения ощущают родство между собою, но те, что предшествовали, к те, что следуют позже, чужды им. По-вашему, это справедливо и достойно, милый Микеле? Ведь такое полное забвение прошлого, такое равнодушие к будущему, такое отсутствие связи между промежуточными поколениями — это варварство, состояние дикости, возмутительное презрение к человечеству! — Вы правы, господин маркиз, и я вполне понимаю вас, — отвечал Микеле. — История любой семьи повторяет историю человечества, и кому известна история семьи, тот знает и историю человечества. Разумеется, кто помнит своих предков и кто с детства, вникая в эти одна за другою проходящие жизни, привык черпать в них примеры, которым он следует или которым старается не следовать, такой человек живет в своей душе жизнью более интенсивной и полной, чем тот, кто связан в прошлом лишь с двумя-тремя смутными, неуловимыми тенями. Благородство по происхождению — великое общественное преимущество. Если оно налагает великие обязательства, оно в основном дает и более широкий взгляд на вещи и предоставляет великие возможности. Ребенок, который научается различать добро и зло по книге, написанной той же кровью, что струится и его жилах, и по чертам портретов, сходных с его собственным образом, словно это зеркало, где он с радостью встречает самого себя, — такой ребенок непременно станет великим человеком либо по крайней мере, следуя вашим словам, он станет человеком, преданным идее подлинного величия, то есть будет обладать качеством приобретенным взамен качества врожденного. Теперь я понимаю, что есть истинного и благого в принципе наследования, который связывает одни поколения с другими. Не буду напоминать вам, что есть в нем вредного, — вы это знаете лучше меня. — Что есть в нем вредного, — я скажу сам, — возразил маркиз. — Вредно то, что мы имеем исключительное право на благородство, а остальной род людской не причастен к нему, что признанные сословные различия основаны на ложном принципе и герой-крестьянин не будет так прославлен и отмечен в истории, как герой-патриций, что семейные добродетели ремесленника не будут вписаны в книгу, навечно открытую для потомства, что имени и изображения добродетельной и бедной матери семейства, которая была напрасно столь красива и целомудренна, не сохранится на стене бедного жилища, что это жилье бедных не становится верным убежищем даже для ее потомков; что не все люди настолько богаты и свободны, чтобы в честь своего прошлого создавать статуи, поэмы и картины, наконец, что история человеческого рода не существует, что она сводится лишь к нескольким именам, спасенным от забвения, которые называют прославленными именами, знать не желая того, что в иные эпохи целые народы достигают величия под воздействием какого-нибудь одного события или одной идеи. Кто перечислит нам имена всех тех энтузиастов и великодушных храбрецов, что бросали свои заступ или пастуший посох и шли сражаться с неверными? Не сомневаюсь, среди них у тебя есть предки, Пьетранджело, а ты ничего о них не знаешь! А те вдохновенные монахи, что проповедовали закон божий дикарским народам? И там есть твои родичи, фра Анджело, но ты о них тоже ничего не знаешь. Ах, друзья мои, сколько перестало биться великих сердец, какие великие деяния канули в вечность, не принеся пользы живущим ныне! Какая печаль и безнадежность для народа в этой непроницаемой тьме прошлого, и как мне мучительно думать, что вам, быть может — кровным родичам этих мучеников и храбрецов, не найти ни малейших следов их на наших тропах! А я, который вас не стою, я могу узнать у мэтра Барбагалло, какой из моих дальних предков родился и умер в этом месяце пятьсот лет тому назад! Подумайте! С одной стороны — пустое и зряшное поклонение праотцам, с другой — ужасная, необъятная могила, без разбора поглощающая и священные и нечистые кости простого народа! Забвение — кара, которая должна постигать лишь дурных людей, но в наших горделивых семьях она не постигает никого; среди вас же забвению предаются самые высокие достоинства и добродетели. Мы как бы завладели историей в собственных интересах, а вы, остальные, вы словно не имеете к ней отношения, хотя она скорее есть дело ваших рук, чем наших! — Да, — сказал Микеле, взволнованный горячей речью маркиза, — вы заставили меня в первый раз уяснить себе понятие благородства. Я его связывал лишь с немногими прославленными личностями, которых надо отделять от их родичей и потомков. Теперь мне понятны возвышенные и гордые предания, которые передаются от поколения к поколению, связывают их между собою и ведут строгий счет и скромным добродетелям и блистательным деяниям. Это справедливый счет, господин маркиз, и имей я честь и несчастье принадлежать к благородному сословию (ибо это тяжкое бремя для того, кому понятна его тяжесть), я хотел бы глядеть вашими глазами и думать как вы! — Благодарю тебя за это, — отвечал маркиз Ла-Серра, беря его за руку и выводя на террасу дворца. Фра Анджело и Пьетранджело переглянулись — они были растроганы. Обоим была понятна мысль маркиза, и они почувствовали, как их возвышает и подкрепляет этот новый взгляд на коллективную и личную жизнь, который был сейчас изложен перед ними. Что касается мэтра Барбагалло, он внимал разговору с почтительным благоговением, но не понял ровно ничего и ушел домой, недоумевая, какое же это благородство без дворцов, без грамот, без гербов, и особенно без семейных портретов. И вывел заключение, что благородное сословие не может обойтись без богатства, — удивительное открытие, которое ему стоило немало труда. В то время как в галерее Ла-Серра клюв большого великана из позолоченного дерева, служивший стрелкой на огромных часах, твердо указывал на четыре часа пополудни, Пиччинино казалось, что полдюжины часов с репетицией у него сильно отстают, — так нетерпеливо ждал он появления Милы. От английских часов он переходил к женевским, пренебрегая катанийскими, лучшими, какие он мог достать за свои деньги (ведь Катания, как Женева, славится часовщиками), и от часов, усыпанных алмазами, к другим, украшенным рубинами. Он любил драгоценные вещи и из добычи своих людей отбирал лишь самое изысканное. И он всегда точнее других мог сказать, который теперь час, ибо он-то хорошо знал цену времени и умел строго распорядиться им, чтобы вести сразу и жизнь, посвященную занятиям и раздумью, и жизнь приключений, интриг и разбоя, и, наконец, жизнь наслаждения и сладострастия, которой мог, да и хотел, наслаждаться только втайне. В нетерпении он бывал горяч до сумасбродства, и ему так же нравилось держать других в ожидании или мучать их хитрыми проволочками, как не под силу было дожидаться кого-либо самому. Впрочем, уступая необходимости, он на этот раз первым явился на место свидания. Он не мог рассчитывать, что у Милы достанет смелости поджидать его, а тем более войти к нему в сад, если он не выйдет к ней навстречу. Он и выходил уже раз десять и с досадою возвращался, не решаясь пересечь тенистую дорожку, шедшую вокруг сада, так как не хотел в случае встречи с кем-либо дать заметить, что он охвачен желанием или вообще что-то затеял. Вся наука, на которой держалось его сложное существование, была в том, чтобы иметь всегда спокойный и равнодушный вид перед людьми мирными и вид рассеянный и занятой перед людьми деловыми. И когда Мила появилась вверху, на зеленой тропинке, круто спускавшейся к его саду, Пиччинино был уже по-настоящему сердит на нее: она запоздала на целых четверть часа. Между тем — то ли благодаря его уму, то ли благодаря личным чарам, — еще ни одной красавице из горных деревень никогда не удавалось заставить его первым прийти на любовное свидание. Дикая душа разбойника горела поэтому мрачной яростью. Он совсем забыл, что Мила ему вовсе не любовница, с повелительном видом двинулся навстречу, взял Бьянку под уздцы и, едва молодая девушка очутилась перед садовой калиткой, он подхватил ее на руки и, почти с бешенством сжав ее прекрасный стан, опустил на землю. Но, раздвигая складки легкой двойной мантильи, Мила удивленно взглянула на него и сказала: — Разве нам уже грозит опасность, синьор? Или вы, быть может, думаете, что я велела кому-нибудь сопровождать меня? О нет, смотрите, я явилась одна, я вам доверяю, и у вас нет причин для недовольства мною. Пиччинино посмотрел на Милу и овладел собой. Отправляясь к своему защитнику, она простодушно приоделась и сейчас была в своем воскресном наряде. Из-под алого бархатного корсажа виднелся другой — бледно-голубой, отделанный изящной вышивкой и стянутый шнуром. Тонкая сетка из золотых нитей сдерживала по местному обычаю ее прекрасные волосы, а для защиты лица и наряда от знойных солнечных лучей на ней была mamtellina — большое легкое покрывало, которое, когда оно умело накинуто и ловко носится, окутывает голову и весь стан. На сильной кобылке разбойника вместо седла лежало украшенное золочеными гвоздиками плоское бархатное сиденье, чтобы женщина могла удобно сидеть боком; разгоряченное животное бурно дышало, как будто гордясь своей прекрасной всадницей и тем, что может унести ее от любой опасности. Судя по ее покрытым пеной бокам, маленькая Мила ничуть не сдерживала кобылку в пути, храбро доверясь ее резвому нраву. А между тем дорога была довольно опасна: приходилось взбираться на кручи, пересекать ручьи, проезжать подчас по краю пропасти. Бьянка выбирала дорогу самую короткую, карабкалась и прыгала, как коза. Заметив ее силу и резвость, Мила, несмотря на всю свою робость, не могла не испытывать странного и бурного наслаждения, которое женщины находят в опасности. Она гордилась, чувствуя, как наряду с нравственной силой в ней просыпается и физическое мужество. Пока Пиччинино любовался блеском ее глаз и щечками, разрумяненными скачкой, она была занята лишь достоинствами своей белой кобылки и, обернувшись, поцеловала ее в ноздри со словами: — Тебе бы возить самого папу! Разбойник не мог сдержать улыбки и позабыл о своей досаде. — Мое милое дитя! — сказал он. — Я рад, что вам нравится моя добрая Бьянка, я думаю, она теперь достойна есть из золотой кормушки, как лошадь одного римского императора, но идемте же скорее, я не хотел бы, чтобы видели, как вы входите сюда. Мила покорно ускорила шаг и, пройдя через сад вслед за разбойником, не позабывшим дважды повернуть ключ в калитке, вошла в дом, прохлада и чистота которого обрадовали ее. — Вы здесь и живете, синьор? — спросила она Пиччинино. — Нет, — отвечал он. — Это дом Кармело Томабене, как я и говорил вам. Но он мой помощник и друг, и у меня здесь есть комната, куда я подчас прихожу, когда мне нужно отдохнуть и побыть одному. Он провел ее по дому, устроенному и обставленному по-деревенски просто, однако везде были видны порядок, основательность и опрятность, какие редко встретишь в жилье разбогатевшего крестьянина. В глубине сквозного коридора, пересекавшего верхний этаж, он открыл дверь, за которой была вторая, обитая железными полосами, и ввел Милу в ту низкую башню, приспособленную, так сказать, им для своего жилья, где он тайно устроил себе чудесный уголок. Ни у какой принцессы не было такого богатого, такого раздушенного и такого разукрашенного всякими редкостями будуара. И притом ни один рабочий не приложил сюда руки. Пиччинино сам завесил стены восточными шелками, затканными золотом и серебром. На диване, крытом желтым атласом, лежала большая шкура королевского тигра с мордой, которая сначала даже испугала молодую девушку. Но Мила вскоре освоилась, потрогала пальчиком бархатный пунцовый язык и эмалевые глаза и села на черные полосы тигровой шкуры. Потом она обвела взглядом сверкающее оружие, турецкие сабли, украшенные драгоценными камнями, курительные трубки с золотыми чашечками, курильницы для благовоний, китайские вазы, сотни других вещей — изящных, роскошных, диковинных, ласкавших ее взор и воображение, словно в описаниях очарованных замков, которыми полна была ее память. «Это еще удивительней, еще прекрасней, чем то, что я видела во дворце Пальмароза, — говорила она себе, — и, наверное, этот князь еще богаче и знатней. Он, наверное, наследник королевского трона в Сицилии и втайне готовит свержение неаполитанского правительства». Что подумала бы бедная девочка, узнай она, откуда взялась у разбойника эта роскошь? Пока она с детским, простодушным восторгом разглядывала все эти вещи, Пиччинино закрыл дверь на засов, опустил китайскую циновку на окне и теперь с чрезвычайным удивлением смотрел на Милу. Он приготовился по необходимости плести ей самые невероятные россказни, пускаться в самую наглую ложь, чтобы она решилась последовать за ним в его логово, и от легкости успеха ему уже становилось не по себе. Мила была, конечно, самым прекрасным созданием из тех, что встречались ему до сих пор, но отвага или глупость порождали ее спокойствие? Могла ли такая привлекательная девушка не понимать, какое волнение должна вызывать ее прелесть? Могла ли столь юная девушка отважиться на такое свидание, не испытывая хотя бы минутного страха или растерянности? Пиччинино, заметив на ее руке очень красивое кольцо и следуя за ее взглядом, подумал, что угадывает ход ее мыслей, и сказал с улыбкой: — Вам нравятся драгоценности, милая, и, как все молодые девушки, вы охотно предпочтете такую вещицу всему на свете. Моя мать оставила мне несколько ценных безделушек, они там — в лазуритовой шкатулке рядом с вами. Хотите посмотреть на них? — Охотно, если вы не сочтете это нескромностью, — ответила Мила. Кармело взял шкатулку, положил ее на руки девушке, затем встав коленом на край тигровой шкуры рядом с нею, поднял крышку, и ее взору открылись ожерелья, кольца, цепочки, броши, насыпанные в шкатулку с каким-то великолепным презрением ко всем этим драгоценным вещам, из которых одни были прекрасными образчиками старинной резной работы, другие — подлинными сокровищами по красоте камней или величине брильянтов. — Синьор, — сказала молодая девушка, с любопытством перебирая пальчиками эти богатства, в то время как Пиччинино не сводил с нее упорного, сухого, пылающего взора, — синьор, вы небрежно обходитесь с драгоценностями вашей матушки. Моя мать оставила мне всего несколько лент да ножницы с серебряными ручками, — я их храню, как святыню, и все это у меня тщательно убрано в шкафу и закрыто на ключ. Если у нас станет времени до прихода проклятого аббата, я бы вам навела порядок в шкатулке. — Не трудитесь, — сказал Пиччинино, — да и времени у нас мало. Но вы все же успеете выбрать себе в этой шкатулке все, что вам захочется взять. — Мне? — засмеявшись, сказала Мила и снова поставила шкатулку на мозаичный столик. — Что мне с ними делать? Ведь мне, бедной прядильщице, зазорно носить княжеские драгоценности, да и вам не годится отдавать материнские вещицы никому, кроме той женщины, которая станет вашей невестой. Да к тому же мне эти побрякушки могут принести только лишние хлопоты. Приятно смотреть на драгоценности, приятно даже потрогать их — так, говорят, курочки любят переворачивать лапкой то, что блестит на земле, но еще приятней видеть их на шее и на руках у кого-нибудь другого, а не на своих собственных. Для меня это так стеснительно, что владей я ими, я бы их никогда не носила. — А счастье владеть ими вы, значит, ни во что не ставите? — спросил разбойник, ошеломленный результатом затеянного испытания. — По мне, владеть тем, с чем не знаешь, что делать, очень хлопотно, — ответила она, — и мне непонятно, зачем обременять свою жизнь такими глупостями, — разве что иногда приходится взять чужую вещь на хранение. — Однако вот красивое колечко! — сказал Пиччинино, целуя ее пальцы. — О сударь, — сказала молодая девушка, сердито убирая руку, — а достойны ли вы целовать это кольцо?.. Простите, что я так говорю с вами, но, видите ли, оно не мое, и мне надо сегодня вечером вернуть его княжне Агате, которая поручила мне взять его у ювелира. — Бьюсь об заклад, — сказал Пиччинино, все-таки подозрительно и недоверчиво поглядывая на Милу, — что княжна Агата засыпает вас подарками! Поэтому вы и презираете мои. — Я никого и нечего не презираю, — отвечала Мила. — Иной раз княжна уронит булавку или шелковую ниточку, я их подбираю и берегу как святыню. Но если б она стала засыпать меня богатыми подарками, я бы попросила ее приберечь их для тех, кому они нужнее. Впрочем, надо сказать правду: она подарила мне красивый медальон, и я вложила в него волосы брата. Но он у меня спрятан, я не люблю наряжаться иначе, чем мне следует по моему положению. — Скажите, Мила, — помолчав, спросил Пиччинино, — вы, значит, уже перестали бояться? — Перестала, синьор, — уверенно ответила она. — Когда я заметила вас на дороге у этого дома, у меня пропал всякий страх. До того, признаюсь, я сильно боялась, не разбирала, какой дорогой еду, и за каждым кустом мне мерещилось лицо мерзкого аббата. Когда я поняла, как далеко меня завезла славная Бьянка, когда я завидела наконец эту башню и деревья сада, я вздумала: «Боже мой, а вдруг моему покровителю не удастся сюда прийти, а вдруг этот подлый аббат — ведь он на все способен — устроил, чтобы его забрали campieri, либо его убили по дороге, — что тогда станется со мной?»И я боялась не только за себя самое, но и за вас, потому что считаю вас нашим ангелом-хранителем, и потому, что ваша жизнь ценнее моей, как мне кажется. Пиччинино, с момента приезда Милы державшийся вполне хладнокровно и как бы сердившийся на нее, теперь почувствовал себя немножко взволнованным и сел рядом с нею на тигровую шкуру.XXXVIII. ЗАПАДНЯ
— Значит, дитя мое, вы все-таки хорошо относитесь ко мне? — спросил он, устремляя на нее свой взгляд, опасная власть которого была известна ему самому. — Хорошо? Конечно, клянусь моей душой! — ответила молодая девушка. — Да и как еще мне к вам относиться после всех ваших забот о нашей семье? — И вы думаете, что ваши родные испытывают ко мне те же чувства, что и вы? — Но разве может быть иначе? Впрочем, говоря по правде, никто не говорил мне о вас, и я не знаю о вас ровно ничего. В семье со мной обходятся как с болтливой девчонкой, но вы-то понимаете меня лучше, ведь вы видите сами, я не любопытствую зря и даже не спрашиваю, кто вы такой. — И вам не хочется узнать, кто я? Или вы говорите так, чтобы выспросить меня? — Нет, сударь, я не посмела бы задавать вам вопросы, и лучше мне не знать ничего, о чем, по мнению родных, следует помалкивать. Я горжусь тем, что вместе с вами делаю все ради их благополучия, не пытаясь сбросить повязку, которой они завязывают мне глаза. — Это хорошо с вашей стороны, Мила, — сказал Пиччинино, которого начинало задевать полное спокойствие молодой девушки, — пожалуй, даже слишком хорошо. — Почему? Как же это может быть слишком хорошо? — Потому что вы по легкомыслию подвергаете себя большой опасности. — Какой такой опасности, синьор? Разве вы не обещали перед господом богом защищать меня от всякой опасности? — Со стороны этого мерзкого монаха — я жизнью отвечаю за вас. Но разве вы не подозреваете, что вам может грозить что-нибудь еще? — Да, пожалуй, — сказала Мила, чуть-чуть подумав. — Тогда, у родника, вы назвали страшное для меня имя: вы говорили, будто вы связаны с Пиччинино. Но потом вы сказали еще раз: «Приходи, не бойся», и я пришла. Признаться, я все-таки боялась, пока ехала одна по дороге. Когда я выйду отсюда, мне, должно быть, снова станет страшно. Но пока я с вами, я не боюсь ничего. Я чувствую себя очень храброй, и мне кажется, если на нас нападут, мы будем обороняться вместе. — Даже если нападет Пиччинино? — Ну, тут уж не знаю… Но, боже мой, неужели он придет? — Если и придет, то лишь для того, чтобы наказать монаха и защитить вас. Почему вы так боитесь его? — Да, собственно говоря, я и сама не знаю. Однако у нас, когда девушка отправляется одна за город, ей говорят посмеиваясь: «Берегись Пиччинино!» — Вы, значит, думаете, что он убивает молодых девушек? — Да, синьор, ведь рассказывают, будто оттуда, куда он их уводит, никто не возвращается, а если какая и вернется, так уж лучше бы оставалась там. — И вы ненавидите его? — Нет, зачем его ненавидеть: ведь, говорят, он сильно досаждает неаполитанцам, и если бы другие собрались с духом и пришли ему на помощь, он очень помог бы своей стране. Но я его боюсь, а это дело другое. — И вам рассказывали, что он изрядный урод? — Конечно, ведь у него длинная борода, и он похож, я думаю, на того ненавистного монаха. Но что же монах-то не идет? Когда он явится, мне можно будет уйти, не правда ли, синьор? — Вы так торопитесь уйти, Мила? Значит, вам здесь очень неприятно? — Ах, вовсе нет, но к ночи страшно пускаться в путь. — Я сам провожу вас. — Вы очень добры, синьор, это было бы самое лучшее — лишь бы нас никто не увидел. Ну, а с аббатом вы собираетесь расправиться очень жестоко? — Ничего подобного. Полагаю, вам совсем неохота слушать его крики? — Царь небесный! Я не хочу ни присутствовать при насилии, ни быть повинной в нем. Но если сюда придет Пиччинино, боюсь, может пролиться кровь. Вы улыбаетесь, синьор? — спросила девушка, побледнев. — Ох, теперь мне становится страшно! Отпустите меня сразу же, как только аббат переступит порог. — Клянусь вам, Мила, я не сделаю аббату ничего худого. Как только я захвачу его, явится Пиччинино и уведет его прочь. — И все это делается по приказу княжны Агаты? — Вам следовало бы это знать. — Тогда я спокойна. Она не захочет смерти даже самого последнего негодяя. — Вы очень милосердны, Мила. Я думал, вы тверже и отважней. Выходит, у вас не хватило бы храбрости убить этого человека, если б он решил надругаться над вами? — Простите, синьор, — сказала Мила, вынимая из-за корсажа кинжал, который княжна дала накануне Маньяни и который Мила ухитрилась незаметно унести. — Наверное, мне не под силу спокойно смотреть, как убивают человека. Однако если бы меня захотели оскорбить, я думаю, гнев мог бы довести меня до худого. — Я вижу, Мила, вы вооружены на славу. Значит, вы мне не доверяете? — Я вам доверяю, как господу богу, сударь, да только бог-то вездесущ, а вам какая-нибудь нечаянная напасть могла помешать прийти сюда. — А знаете, Мила, ведь с вашей стороны это очень храбрый поступок — прийти сюда. И если узнают… — Ну так что же, сударь? — Вместо того чтобы восхищаться вашим геройством, вас осудят за легкомыслие. — Одно я знаю наверняка, — быстро и весело возразила девушка, — узнай кто-нибудь, как я заперлась здесь с вами, и я пропала. — Еще бы! Злословие… — Злословие и клевета! И половины этого довольно, чтобы навеки очернить и опозорить девушку. — А вы полагали, что ваш поступок навеки останется непроницаемой тайной? — Я полагалась на вашу скромность, а в остальном надеялась на волю божью. Я отлично знаю — впереди большие опасности, но разве вы сами не говорили мне, что дело идет о спасении моего отца и о чести княжны Агаты. — А ваша преданность так велика, что вы не боитесь погубить свою собственную честь? — Погубить в чьем-то мнении? По мне, это лучше, чем допустить гибель и бесчестие тех, кого я люблю. Жертва за жертву, так уж лучше жертвой буду я. Но в чем дело, синьор? Вы говорите так странно, словно осуждаете меня за то, что я доверилась вам и поступила по вашему совету. — Нет, Мила, я просто спрашиваю. Прости меня, я ведь хочу понять тебя и получше узнать, чтобы оценить тебя по достоинству. — В добрый час, я на все отвечу вам откровенно. — Ну так вот, дитя мое, говори же начистоту. Неужели тебе не приходило в голову, что я мог устроить тебе западню и заманить сюда, чтобы здесь обидеть или по крайней мере попытаться соблазнить. Мила посмотрела в лицо Пиччинино, стараясь понять, что могло заставить его высказать ей такое предположение. Если то был способ испытать ее — он казался оскорбительным. Если то была шутка — она казалась шуткой дурного тона для человека, которого она принимала за существо высшего порядка и вполне воспитанную личность. Минута была решительная для нее и для него. Выкажи она хоть чуточку страха (а она была не из тех женщин, что умеют скрыть его, как княжна Агата), — Пиччинино сразу осмелел бы; он знал, что страх прокладывает дорогу слабости. Но она смотрела на него так открыто и отважно, с таким явным негодованием, что он почувствовал наконец, что перед ним создание по-настоящему мужественное и искреннее. С этой минуты у него пропало желание вступать с ней в поединок. Он понял, что вести борьбу при помощи хитрости против такой открытой души не доставит ему ничего, кроме стыда и угрызений совести. — Ну, дитя мое, — сказал он и по-дружески пожал ей руку, — я вижу, вы питаете ко мне доверие, которое делает честь нам обоим. Позвольте же мне задать вам еще один вопрос: у вас есть возлюбленный? — Возлюбленный? Нет, сударь, — ответила девушка и жестоко покраснела. И сразу прибавила: — Я только могу сказать, что есть один человек, которого я люблю. — Где он сейчас? — В Катании. — Он богат? Получил образование? — У него благородное сердце и пара крепких рук. — И он любит вас, как вы того стоите? — Это, синьор, вас не касается. Больше я вам ничего не скажу. — А ведь вы явились сюда с риском потерять его любовь! — Увы, это так, — вздохнув, ответила Мила. — О женщины! Неужто вы действительно лучше нас? — сказал Пиччинино, поднимаясь с места. Но, едва бросив взгляд в окно, он схватил Милу за руку. — Вот и аббат! — сказал он. — Идем! Почему вы дрожите? — Это не от страха, — ответила она, — это от гадливости и отвращения. Но я иду с вами. Они вышли в сад. — Вы не оставите меня ни на минуту наедине с ним? — сказала Мила, переступая порог. — Если он поцелует мне хотя бы руку, мне придется выжигать это место каленым железом. — А мне придется убить его, — ответил Пиччинино. Они вошли в галерею, увитую зеленью. Найдя сбоку просвет, разбойник скользнул за листву и пошел по ту сторону ее. Так шел он рядом с Милой до самой садовой калитки. Расхрабрившись от того, что он был тут же, она открыла дверцу и сделала аббату знак войти. — Вы одна? — спросил тот, распахивая рясу, чтобы покрасоваться изящной черной одеждой, какой щеголяют аббаты-модники. В ответ она произнесла только: — Входите скорее. Едва Мила замкнула калитку, появился Пиччинино, и трудно себе представить, какое разочарование выразилось при этом на лице аббата Нинфо. — Простите, сударь, — сказал Пиччинино, напуская на себя простоватый вид и удивив тем свою гостью, — от моей родственницы Милы я узнал, что вам захотелось посмотреть мой скромный садик, и я решил сам встретить вас. Не обессудьте — это простой деревенский сад, но плодовые деревья у меня так стары и так хороши, что смотреть на них сходятся со всех сторон. К несчастью, у меня есть дело, и через пять минут мне придется уйти. Но Мила обещает взять на себя роль хозяйки дома, и, с разрешения вашей милости, я удалюсь — только угощу вас вином и персиками. — Не беспокойтесь, друг мой, — отвечал аббат, обрадованный заявлением Пиччинино, — отправляйтесь по своим делам без всяких церемоний. Идите, идите же, я не хочу вас задерживать. — Я и уйду, только сначала присядьте к столу. Боже милостивый, вы, верно, умираете от жары. Дороги у нас нелегкие! Входите в дом, я налью вам первый стаканчик, а потом и уйду, раз ваша милость не возражает. — Братец не уйдет, пока вы не войдете в дом, — сказала Мила, повинуясь выразительному взгляду Пиччинино. Видя, что, пока он не уступит настояниям такого предупредительного хозяина, ему от него никак не отделаться, аббат прошел зеленой галереей в дом. Он не успел обменяться с Милой ни словом, ни взглядом, так как Пиччинино шел между ними, продолжая разыгрывать почтительного крестьянина и услужливого хозяина. Аббата препроводили в прохладную, полутемную комнату, где уже был накрыт стол. Но в дверях Пиччинино шепнул девушке: — Я налью стакан и вам, ко вы не дотрагивайтесь до него. В большом графине, поставленном в глиняный горшок со свежей водой, играл золотистый мускатель. Аббат, которого беспокоило присутствие крестьянина, не колеблясь выпил залпом поднесенный ему стакан. — Теперь, — сказал монах, — отправляйтесь скорее, мой друг! Я не простил бы себе, если б из-за меня вы пропустили свои дела. — Проводи меня, Мила, — сказал Пиччинино. — Надо закрыть за мной калитку: ведь если оставить ее незапертой хоть на минутку, ребятишки заберутся в сад воровать персики. Мила ие заставила себя просить и побежала вслед за ним. Но Пиччинино только вышел за дверь; закрыв ее, он приложил палец к губам, обернулся и припал к замочной скважине. Две-три минуты он оставался в полной неподвижности, затем выпрямился, громко сказал: «Ну, вот и все!»и широко распахнул дверь. Мила увидела, что аббат лежит на плитах пола с побагровевшим лицом и тяжело дышит. — О боже мой! — воскликнула она. — Неужели вы отравили его, синьор? — Нет, разумеется, — ответил Пиччинино. — Ведь нам потом может понадобиться, чтобы он заговорил. Он только задремал, голубчик, но задремал крепко-накрепко. — О синьор, не говорите так громко: он нас видит, он нас слышит! У него глаза открыты и уставлены прямо на нас. — Однако он нас не узнает, он сейчас ничего не понимает. Что с того, что он видит и слышит, когда его бедная голова ничего не соображает? Не подходи близко, Мила, как бы эта заснувшая гадюка все-таки тебя не напугала. А мне надо еще проверить воздействие сонного зелья, оно, бывает, действует по-разному. Пиччинино спокойно подошел к аббату, Мила же, окаменев, осталась у порога и с ужасом смотрела на него. Он потрогал свою жертву, словно волк, что обнюхивает добычу, перед тем как сожрать ее. Он следил, как только что пылавшие огнем лоб и руки аббата становились ледяными, как с лица сбегала краска и как дыхание делалось ровным и слабым. — Хорошее действие, — сказал он как бы про себя, — а ведь такая слабая доза! Я доволен опытом. Это куда лучше, чем удары, борьба, крики, заглушаемые кляпом. Не правда ли, Мила? Женщина может глядеть на это, не падая в обморок. Вот какие средства мне по душе, и если бы их получше знали, то не применяли бы ничего другого. Только вы все-таки ке рассказывайте об этом, Мила, слышите? А то такими средствами станут злоупотреблять, и тогда никому — понимаете ли, никому! — будет не уберечься. Если бы мне пришло в голову усыпить вас вот этак, дело стало бы лишь за моим желанием. Решитесь ли вы теперь принять из моих рук стакан воды, если я поднесу вам его? — Да, синьор, приму, — ответила Мила, посчитав за шутку его вызывающие слова. «Он смеется над чем угодно, — подумала она, — насмешник, как наш Микеле». — Значит, вам так же не хватает осторожности, как этому несчастному аббату, — рассеянно продолжал Пиччинино, неторопливо обыскивая спящего. — Вы мне не позволили даже притронуться к этому вину, — возразила Мила, — стало быть, не замышляли против меня ничего дурного. — А, вот он… — пробормотал Пиччинино, вытаскивая бумажник из кармана аббата. — Потерпите, Мила, мне надо посмотреть, что тут. И, усевшись у стола, он развернул бумажник и стал вынимать оттуда разные бумаги, тут же проворно и внимательно проглядывая их. — Донос на Маркантонио Феррера! Неведомая личность, наверное муж женщины, которую наш аббат хотел совратить. Ну-ка, Мила, вот вам огниво, зажгите, пожалуйста, лампу, и пусть бумага сгорит. Этот Маркантонио и не подозревает, что ваша прелестная ручка избавляет его от тюрьмы… А это что? Ну, это поважнее! Анонимное письмо на имя коменданта, сообщающее, что маркиз Ла-Серра замышляет заговор против правительства! Милому аббату хочется убрать с дороги чичисбея княжны либо по крайней мере наделать ему хлопот. Вот дурак. Даже не догадался изменить почерк! В огонь, Мила! Это по адресу не пойдет. — Еще одно письмо! — продолжал Пиччинино, роясь в бумажнике. — Негодяй! Он хочет, чтобы схватили того молодца, что свел его с Пиччинино! Это надо приберечь. Малакарне поймет, как хорошо он сделал, не поверив обещаниям этого болвана, как был бы наказан, не обратись он к своему начальнику! Странно, что я не нахожу ничего против вашего отца, Мила! Ага, так и есть, вот оно! Монсиньор аббат сделал все, чтобы нанести этот главный удар. Сегодня вечером Пьетранджело Лаворатори и… Ах, фра Анджело тоже! Ну, друг, ты плохо рассчитал! Ты не знал, что Пиччинино и пальцем не позволит коснуться этой головы с тонзурой! Мало ты знаешь, оказывается! Однако, Мила, этот человек лезет в злодеи, а на самом деле просто дурак! — А в чем он обвиняет отца и дядю? — В заговоре — та же песня! Меня удивляет одна вещь — как это полиция еще попадается на такие старые уловки! Полиция так же глупа, как и те, что натравливают ее. — Дайте, дайте сюда, я сама хочу сжечь это! — вскричала Мила. — А вот еще! Кто ж это такой… Антонио Маньяни? Мила ничего не ответила. Но она с такой живостью протянула руку, чтобы схватить и сжечь этот новый донос, что Пиччинино оглянулся и увидел, как ее лицо залилось внезапным румянцем. — Понимаю, — сказал он, передавая ей бумагу. — Ему бы послать этот донос раньше, чем начинать ухаживать за тобой! Опять опоздал, опять промахнулся, бедняга! Пиччинино развернул и пробежал глазами еще несколько бумаг, в которых упоминались разные неизвестные имена и которые Мила сожгла, не поглядев на них, но вдруг он вздрогнул и воскликнул: — Вот как! Это попало к нему в руки? В добрый час! Никогда бы не подумал, что вы способны урвать такую добычу. Простите, господин аббат, — сказал он, кладя к себе в карман какие-то бумаги и шутовски раскланиваясь перед негодяем, с полуоткрытым ртом и помутившимся взглядом валявшимся у его ног. — В таком случае примите мое восхищение. Ну, право, я не считал вас таким ловким! Глаза Нинфо как будто блеснули. Он попытался шевельнуться, из груди вырвался какой-то хрип. — Ах, мы еще не спим? — сказал Пиччинино, поднося ко рту аббата горлышко флакона с сонным зельем. — Тут вы стали просыпаться? Это вам ближе к сердцу, чем прекрасная Мила? Тогда незачем было мечтать об ухаживаниях и являться сюда — ходили бы лучше по своим делам. Спите, спите, сударь, ведь если вы начнете соображать, придется вас прикончить! Аббат снова опустился на плиты пола, не сводя своего остановившегося, словно у трупа, стеклянного взора с насмешливого лица Пиччинино. — Ему нужен покой, — с жестокой улыбкой сказал разбойник Миле, — не будем больше его тревожить. Он подошел к окну, запер висячим замком большие засовы прочных ставень, замкнул дверь на два оборота, положил ключ к себе в карман и вышел с Милой из комнаты.XXXIX. ИДИЛЛИЯ
Пиччинино провел свою юную спутницу в сад и вдруг, задумавшись, опустился на скамью, словно совсем забыв о ее присутствии. Однако его мысли были заняты как раз ею. И вот о чем он размышлял: «Позволь этой прекрасной девушке уйти отсюда столь же спокойно и гордо, как она вошла сюда, — не будет ли это поступком глупца? Да, это было бы глупым поступком для того, кто замышлял бы ее погибель. Но я-то, я хотел лишь испробовать власть своего взгляда, власть своих речей, хотел лишь проверить, могу ли я приманить ее в клетку, словно красивую птичку, которой приятно полюбоваться вблизи и которую сразу же выпускаешь, потому что не хочется, чтобы она умирала. В бурном желании, которое внушает женщина, всегда есть что-то от ненависти. (Так рассуждал, определяя свои впечатления Пиччинино.) Ведь тут победа становится вопросом самолюбия, а нельзя вести никакой борьбы, если не испытываешь хоть немного злобы. Но в чувстве, что внушает мне эта девочка, нет ни ненависти, ни желания, ни досады. Ей не приходит в голову даже кокетничать со мною; она не робеет и, не краснея, глядит мне в лицо; ее не волнует мое присутствие. Если я злоупотреблю ее беззащитностью и слабостью, она, наверное, будет плохо защищаться, но выйдет от меня в слезах и, быть может, убьет себя, — ведь бывают и такие, что убивают себя… И, уж во всяком случае, ей станет ненавистна самая память обо мне, она будет стыдиться, что мне принадлежала. А не такой я человек, чтобы меня презирали. Пусть женщины, которые не знают меня, трепещут передо мной, те, кто знают, — пусть почитают меня или желают, а те, кто знали когда-то, — пусть сожалеют обо мне. Конечно, где-то на грани дерзости и насилия испытываешь безграничное опьянение, полное чувство победы, но лишь на этой грани; перейди ее — и не останется ничего, кроме грубого скотства. Как только женщина окажется вправе укорить тебя в том, что ты применил силу, она опять начинает властвовать, даже побежденная, и ты рискуешь стать ее рабом за то, что стал господином наперекор ей. Поговаривают, будто с моим отцомслучилось нечто подобное, хотя фра Анджело и не захотел рассказать мне об этом. Но все отлично знают, что мой отец был несдержан и много пил. Все это слабости, свойственные его времени. Сейчас люди учтивей и ловчей. Нравственней? Нет, только они стали утонченней, а вследствие этого и сильнее. Много ли потребуется искусства, чтобы добиться у этой девушки того, в чем она еще не уступила своему возлюбленному? Она так доверчива, что первая половина пути окажется наверняка легкой. Впрочем, полпути уже пройдено. Игра в рыцарскую доблесть очаровала ее. Она явилась, вошла в мою комнату, сидела рядом. Однако другая половина пути не только труднее, но просто невозможна. Стать желанной, чтобы сразиться со мной, и уступить ради обладания противником, — это никогда не придет ей в голову. Будь она моя, я переодел бы ее мальчиком и брал бы с собой в дело. При нужде она ловила бы неаполитанцев, как только что изловила аббата. Она быстро приучится к военной жизни. Пусть бы она была моим пажом — я никогда не смотрел бы на нее как на женщину». — Ну что ж, синьор, — спросила Мила, которую начинало тяготить долгое молчание хозяина, — вы ждете, чтобы пришел Пиччинино? Разве мне нельзя еще уйти? — Ты хочешь уйти? — спросил Пиччинино, рассеянно глядя на нее. — А зачем мне оставаться? Вы быстро справились с делом, сейчас еще достаточно рано, и я могу засветло пуститься одна в обратный путь. Чего мне бояться, когда я знаю, где аббат, и понимаю, что он не в силах броситься вдогонку. — Значит, ты не хочешь, чтобы я проводил тебя хотя бы до Бель-Пассо? — Мне кажется, не стоит вам беспокоиться. — Ну хорошо. Иди, Мила, я тебя не держу, раз ты так торопишься уйти от меня и раз тебе так худо со мною. — Нет, синьор, не говорите так, — простодушно отвечала девушка. — Для меня быть с вами — большая честь. Но я боюсь, как бы меня не выследили здесь и не ославили — не будь этого, я охотно побыла бы еще с вами. Вам, кажется, грустно, и я по крайней мере постаралась бы развлечь вас. Вот и княжна Агата иной раз грустит, и когда я собираюсь уйти и оставить ее одну, она говорит: «Побудь со мною, малютка, мне легче от твоего присутствия, даже когда я не говорю с тобой». — Княжна Агата подчас грустит? И вы знаете почему? — Нет, не знаю; мне кажется, она скучает. Тут Пиччинино забросал Милу вопросами, на которые она отвечала с обычной откровенностью, хотя не захотела да и не могла сообщить ничего, кроме уже ему известного. Что княжна ведет жизнь целомудренную, уединенную, что она занимается добрыми делами, много читает, любит искусство, что она уступчива и тиха, почти равнодушна в своих отношениях с внешним миром. Впрочем, Мила наивно прибавила, что уверена, будто ее любимая княжна гораздо горячей и пристрастней к людям, чем думают. Мила сказала, что ей приходилось видеть, как та бывала взволнована до слез при рассказе о чьем-либо несчастье или даже просто о трогательном поступке. — Ну, например? — попросил Пиччинино. — Приведи же мне пример! — Ну вот, однажды, — начала Мила, — я ей рассказывала, как одно время мы бедствовали в Риме. Мне тогда было всего лет пять-шесть, нам почти нечего было есть, и я порою говорила своему брату Микеле, будто не голодна, чтобы он взял себе мою долю. Но Микеле, заподозрив мой умысел, со своей стороны тоже начинал уверять, что не голоден. И часто наш хлеб оставался нетронутым до утра, а мы оба не желали признаться друг другу, как нам хочется его съесть. Из-за таких церемоний нам становилось еще хуже, чем было на самом деле. Я, посмеиваясь, рассказывала все это княжне, и вдруг она разразилась слезами. Она прижимала меня к себе и все повторяла: «Бедные детки! Милые бедные детки!» Сами видите, синьор, разве у нее черствое сердце и холодная душа, как хочется утверждать людям? Пиччинино взял Милу под руку и долго водил по саду, заставляя рассказывать о княжне. Он мысленно стремился к этой женщине, произведшей на него такое сильное впечатление, совершенно позабыв, что какую-то часть этого дня Мила тоже занимала его душу и волновала чувства. В полной уверенности, что говорит с искренним другом, добрая Мила с радостью предалась восхвалениям женщины, которую так горячо любила, и «забывая, что забывается», по собственному выражению, целый час провела под великолепными тенистыми деревьями в саду Николози. У Пиччинино были впечатлительный ум и переменчивый нрав. Вся его жизнь была посвящена то размышлению, то любопытству. Грациозный и наивный разговор молодой девушки, пленительный образ мыслей, великодушная горячность в привязанностях и что-то возвышенное, смелое и веселое, унаследованное от отца и дяди, мало-помалу очаровали разбойника. Перед ним открывались новые дали, словно из утомительной и беспокойной драмы он переходил в радостную и мирную идиллию. Он был достаточно сообразителен, чтобы понимать все, даже то, что претило его инстинктам и привычкам. Он с жадностью читал поэмы Байрона. В мечтах он возносился до Лары и Дон Жуана. Но читал он также и Петрарку, знал его наизусть и даже не зевал над ним, и улыбался тихонько, твердя про себя concetti[242] из «Аминты»и «Верного пастуха». Он чувствовал, что откровенная беседа с маленькой Милой успокоит его вернее, чем чтение тех ребячески-сентиментальных строк, которыми обычно он пытался утихомирить бушевавшие в нем страсти. Наконец солнце стало садиться. Мила подумала о Маньяни и заговорила о прощании. — Ну, прощай же, моя славная девочка, — сказал Пиччинино. — Я провожу тебя до калитки, а по дороге преподнесу тебе подарок, какого никогда не делал ни одной женщине иначе как в насмешку или из расчета. — Что же такое, синьор? — удивленно спросила девушка. — Я подарю тебе букет, белый букет из цветов моего сада, — ответил он с улыбкой, в которой если и была доля иронии, то лишь по отношению к себе самому. Мила гораздо меньше удивилась этой любезности, чем ожидал Пиччинино. Он старательно выбрал несколько белых роз, несколько веточек мирта и флердоранжа. Снял с роз шипы. Он выбирал самые прекрасные цветы и составил великолепный букет для своей очаровательной гостьи с таким умением и вкусом, каких и сам не подозревал в себе. — Ах, — сказал он, подавая ей цветы, — мы чуть было не забыли о цикламенах. Они, верно, на той клумбе. Нет, нет, Мила, не ищи их, я хочу сам сорвать эти цветы, чтобы княжне было приятно понюхать мой букет. Ты ей скажешь, что он от меня и что это единственная любезность, какую я позволил себе, проведя наедине с тобой два часа в моем доме. — Вы, значит, не запрещаете мне рассказать княжне Агате, что я была здесь? — Расскажи ей, Мила. Расскажи ей все, но только ей одной, понимаешь? Клянись мне спасением своей души — ты-то ведь веришь в него? — А вы, сударь, неужто не верите? — Во всяком случае, верю, что умри я сейчас, я заслужил бы сегодня право попасть в рай, потому что пока ты со мною, у меня сердце чисто, как у невинного младенца. — Но если княжна спросит, кто вы, синьор, и о ком я ей рассказываю, что мне сказать про вас, чтобы ей стало понятно? — Ты скажешь ей то, что я хочу, чтобы и ты знала, Мила… Но в будущем может случиться, что мое лицо в иных случаях не сойдется с именем. Тогда ты промолчишь и, если понадобится, притворишься, будто никогда меня не видела, потому что одним своим словом ты можешь послать меня на смерть. — Боже избави! — пылко вскричала Мила. — Ах, синьор, вы можете положиться на мою осторожность и на мою скромность, как если б моя жизнь зависела от вашей. — Ну, хорошо! Скажи княжне, что Кармело Томабене избавил ее от аббата Нинфо и что он поцеловал твою руку с таким уважением, словно то была ее собственная рука. — Это мне надо целовать вам руку, синьор, — отвечала девушка простодушно, поднося руку разбойника к своим губам, в полной уверенности, что человек, обходившийся с нею так изысканно вежливо и покровительственно, был по крайней мере сыном короля. — Ведь вы меня обманываете, — добавила она. — Кармело Томабене — простой villano, и этот дом не ваш, как и не ваше это имя. Вы могли бы жить во дворце, захоти вы только. Но вы скрываетесь по причинам политическим, которых я не должна и не хочу знать. Мне думается, вы станете когда-нибудь королем Сицилии. Ах, как бы я хотела быть мужчиной и сражаться за вас! Ведь вы осчастливите свой народ, уж в этом-то я уверена! При этой неожиданной выдумке безумная мысль молнией блеснула в смелом воображении Пиччинино. На миг голова у него пошла кругом, и он испытал такое ощущение, будто девушка угадала его истинные замыслы, а не просто помечтала вслух. Но он тут же разразился смехом, почти горьким смехом, впрочем, не нарушившим ее иллюзий; она подумала только, что он старается отвести ее нескромные подозрения, и чистосердечно попросила прощения за свои нечаянные слова. — Дитя мое, — сказал он в ответ, целуя ее в лоб и помогая взобраться на ту же белую кобылку, — княжна Агата скажет тебе, кто я. Разрешаю тебе спросить у нее мое имя. Но когда ты узнаешь его, помни, что либо ты останешься моей сообщницей, либо пошлешь меня на виселицу. — Лучше я сама пойду на казнь! — сказала девушка, отъезжая, и на глазах разбойника благоговейно поцеловала его букет. «Ну, — сказал себе Пиччинино, — вот самое приятное и самое романтическое приключение в моей жизни. Разыграл переодетого короля, сам того не зная, ничуть не стараясь, ничего заранее не придумывая, ничего не сделав, чтобы доставить себе такое удовольствие. Говорят, истинные радости — только нечаянные, — начинаю в это верить. Быть может, из-за того, что я слишком обдумываю наперед свои действия и слишком улаживаю все в своей жизни, я так часто, едва достигнув цели моих предприятий, испытываю скуку и отвращение. Прелестная Мила! Как цветет поэзия в твоей юной душе, какое свежее воображение кружит твою головку! Ах, зачем ты не мальчик-подросток? Зачем нельзя мне оставить тебя при себе, но так, чтобы ты не потеряла при этом своих счастливых иллюзии и своей благотворной чистоты? Это был бы верный товарищ, у которого я встречал бы нежность женщины, не опасаясь внушить или самому ощутить страсть, что портит и отравляет любую близость! Но нет на свете такого существа! Женщина непременно изменит, мужчина всегда останется грубым. Ах, мне не дано и никогда не будет дано любить! Мне надо встретить душу, непохожую на все другие и, главное, непохожую на меня… А это ведь невозможно! Так неужто я исключение? — спрашивал себя Пиччинино, глядя на следы, оставленные на песке в саду маленькими ножками Милы. — Сравнивая себя с горцами, с которыми вынужден жить, и с разбойниками, над которыми начальствую, я думаю, что это так. Между ними у меня, говорят, найдутся братья. Поверить этому мешает как раз то, что у них нет ничего общего со мной. Страсти, что служат нам связью, так же различны, как и черты лица, как сложение тела. Им нужна добыча, чтобы обращать в деньги все, что не есть деньги, а для меня ценно лишь прекрасное и редкое. Они хотят грабить из жадности, а я берегу добычу из щедрости, чтобы при случае обойтись с ними по-королевски и распространить свое могущество и власть на все вокруг. И золото для меня всего-навсего средство, а для них оно цель. Они любят женщину как вещь, а я — увы! — я хотел бы, чтобы мне было дано любить в женщине живое существо! Их опьяняет насилие, которое мне мерзко и кажется мне унизительным: ведь я-то знаю, что могу нравиться и что никогда не приходилось мне добиваться любви принуждением. Нет, нет! Они не братья мне, они сыновья того, кого называли Дестаторе, они порожденье разнузданности и дней его нравственного падения. А я сын Кастро-Реале. Я был зачат в день просветления. Мать моя не подверглась насилию, как другие. Она отдалась добровольно, я плод соединения двух свободных людей, и они дали мне жизнь по своей воле. Но разве в этом мире, что именует себя обществом и который я зову средой, подвластной закону, нет людей с кем я мог бы сходиться, чтобы спастись от ужасного душевного одиночества? Неужто среди них не найдется наделенных тонкой восприимчивостью, умных мужчин, с которыми я мог бы завязать дружбу? Или понятливых и гордых женщин, кому я мог бы стать любовником, не оказываясь вынужденным самому смеяться над усилиями, затраченными ради победы над ними? И, наконец, неужели я осужден никогда не испытывать никакого волнения в той жизни, которую избрал как раз в надежде, что она-то к принесет самые бурные волнения? Неужели я осужден вечно растрачивать свое неистовое воображение и свою сметливость, чтобы в конце концов разграбить судно на прибрежных рифах или караван путешественников в горном ущелье? И все это ради того, чтобы завладеть кучей дорогих побрякушек, пачкой денег или сердцем одной из тех некрасивых или сумасбродных англичанок, что ищут приключений с бандитами в качестве средства от сплина? Но я навсегда захлопнул перед собой дверь в тот мир, где я мог бы встретить равных или подобных себе. В него я могу проникнуть лишь скрытым ходом интриги. Если же мне захочется появиться там среди бела дня, то за мной по пятам будет следовать тайна моего прошлого, а это означает смертный приговор, издавна висящий над моей головой. Покинуть свою страну? Но, быть может, это единственная страна, где профессия разбойника более опасна, чем позорна. Повсюду, в других странах, у меня потребуют доказательств, что я всегда жил в мире закона; и если я не буду в состоянии их представить, меня приравняют к самому низменному отребью, которое эти народы таят в темных трясинах своей фальшивой цивилизации! О Мила! Какие горести и тревоги вызвали вы из этого сердца, заронив в него луч вашего света?»XL. ОБМАН
Так терзался этот человек, лишенный места в жизни по несоответствию своего ума своему положению. Развитой ум, доставлявший ему столько наслаждения, становился источником его мук. Начитавшись без разбору и порядка книг и самого возвышенного и самого низменного содержания, последовательно подчиняясь впечатлениям от одних и от других, он узнал о зле не меньше, чем о добре, и незаметно для себя пришел к скептицизму, когда до конца не верят уже ни в добро, ни в зло. Он возвратился в дом и принял кое-какие меры, относящиеся к аббату Нинфо, чтобы в случае внезапного появления в доме чужих им не попались на глаза никакие следы учиненного насилия. Он вылил из графина вино со снотворным и налил туда чистого, теперь при нужде он мог проделать опыт на самом себе. Затем перетащил аббата на покойное ложе, потушил еще горевшую лампу и вымел пепел от сожженных бумаг. В его отсутствие к нему никто никогда не входил. У него не было постоянных слуг, и строгая чистота, которую он сам поддерживал в доме, не стоила ему большого труда, так как он занимал лишь несколько комнат, да и в те входил не каждый день. В часы досуга он ухаживал за садом, — потому, что ему хотелось поразмяться, и еще потому, что не желал, чтоб говорили, будто он изменяет своему крестьянскому званию. У всех входов и выходов им самим были устроены простые и надежные запоры, которые не сразу уступили бы попытке взломать их. Сейчас он еще спустил двух огромных, страшных псов, каких держат горцы, диких животных, признававших лишь своего хозяина, которые наверняка задушили бы пленника, попробуй он убежать. Приняв все эти предосторожности, Пиччинино умылся, надушился и, перед тем как спуститься в долину, прошелся по деревне Николози, где пользовался всеобщим уважением. Он поговорил по-латыни с местным священником под навесом виноградных лоз у его дома; перекинулся колкими шутками с местными красотками, глазевшими на него с порогов своих домов; надавал деловых советов и рецептов по садоводству толковым людям, знавшим цену его уму и познаниям. Наконец, уже выходя из деревни, он столкнулся с начальником отряда campieri и прошел с ним часть пути; тот рассказал ему, что Пиччинино по-прежнему ускользает от розысков полиции и городских стражников. А Мила, спеша с разрешения своего таинственного принца выложить все секреты княжне и узнать разгадку тайны, спускалась по крутым и опасным склонам с такой быстротой какая только была по силам Бьянке. Мила нисколько ее не придерживала, она, в свою очередь, была сейчас задумчива и рассеянна. Люди с безмятежной и чистой душой, наверное, замечают, что, общаясь с беспокойными и взволнованными людьми, они отчасти теряют собственную ясность духа. Они дарят, лишь принимая что-то взамен. Ведь доверие бывает только взаимным, и нет такого сильного и богатого сердца, которое, благодетельствуя, не рисковало бы что-то потерять. Однако тревога мало-помалу стала уступать место радости в душе прекрасной девушки. Слова Пиччинино все еще звучали сладкой музыкой в ее памяти, она вдыхала запах подаренного им букета, и ей чудилось, будто она все еще в том прекрасном сельском саду, где растут фисташковые деревья и темные смоковницы, под ногами у нее ковром лежит мох, кругом цветет мальва, ятрышник и дикий бадьян, и покрывало ее цепляется за колючки алоэ и кусты сассапарели, от которых с почтительной любезностью поспешно освобождает ее рука хозяина. У Милы были скромные вкусы ее сословия, смешанные с поэтическими вымыслами, владевшими ее собственной душой. Если мраморные фонтаны и статуи виллы Пальмароза заставляли ее впадать в мечтательный экстаз, увитые виноградом галереи и старые дикие яблони в саду Кармело говорили ее сердцу еще больше. Она уже позабыла комнату разбойника, убранную в восточном вкусе, она не чувствовала себя там так свободно, как под зеленым сводом сада. У себя в доме Кармело почти все время был холоден и ироничен, — среди цветущих кустарников и у серебряного источника в нем вдруг обнаружились простодушие и нежное сердце. Почему же молодая девушка, навидавшаяся таких странных и страшных вещей (эта комната в доме простолюдина, достойная королевы, эта ужасная сцена усыпления аббата Нинфо), почему она уже не помнила того, что должно было так поразить ее воображение? И ее изумление и ее испуг растаяли, точно сон, и в памяти остались теперь лишь цветы, зеленые лужайки, птицы, щебечущие в листве, и прекрасный принц, который вел ее по этому волшебному лабиринту и говорил нежные и целомудренные слова. Миновав крест Дестаторе, Мила спрыгнула с седла, как ради безопасности советовал ей поступить Кармело. Затем она закинула поводья за луку седла и хлестнула прутиком Бьянку по ушам. Умная кобылка рванулась и во весь опор понеслась по дороге в Николози — она и сама знала путь к стойлу. Мила пошла дальше пешком. Она решила обойти стороной Маль-Пассо, но по роковой случайности фра Анджело, возвращаясь в это время из дворца Ла-Серра, шел в свой монастырь окольной дорогой, и Мила как раз столкнулась с ним лицом к лицу. Бедняжка попыталась плотней закутаться в свою мантелину и быстро пройти мимо, словно не замечая дяди. — Откуда ты идешь, Мила? — Этот оклик, да еще заданный в тоне, не допускающем никакой заминки, остановил ее на ходу. — Ах, дядя, — сказала она, отводя покрывало, — я вас не видела, солнце бьет прямо в глаза. — Откуда ты идешь, Мила? — повторил монах, не желая даже оспаривать правдоподобность ее отговорки. — Ну хорошо, дядя, — отвечала она решительно, — не буду лгать вам, я отлично вас видела. — Это я и сам знаю, но скажи мне, откуда ты идешь? — Я иду из монастыря, дядя… Я вас искала… А не найдя вас, пошла обратно в город. — Что же такое неотложное надо было тебе рассказать мне, моя милая девочка? Поди, что-нибудь очень важное, раз ты решилась одна, наперекор своему обычаю, отправиться за город. Ну, отвечай же! Молчишь? Ты не умеешь обманывать. Мила! — Ну да, ну да! Я шла… И она запнулась, совершенно растерявшись, потому что вовсе не готовилась к такой встрече и сейчас всякая сообразительность ей изменила. — Ты, Мила, совсем потеряла голову, — сказал монах, — я тебе говорю, что ты не умеешь обманывать, а ты твердишь «Ну да, ну да!» Слава богу, ты не знаешь, что такое ложь. Вот и не старайся лгать, деточка, а скажи откровенно, откуда ты идешь. — Знаете, дядюшка, этого я не могу вам сказать. — Вот как! — вскричал, нахмурясь, фра Анджело. — А я тебе велю сказать! — Нельзя, дядюшка, никак нельзя, — с глазами, полными слез, ответила Мила, опуская голову и вся заалевшись от стыда, — так ей горестно стало, что ее почтенный дядя впервые сердился на нее. — Значит, — возразил фра Анджело, — ты предоставляешь мне думать, что только что совершила что-то необдуманное или даже гадкое? — Ни то, ни другое! — воскликнула Мила, поднимая голову, — видит бог! — Ох, боже мой! — грустно сказал монах. — Мне больно слушать тебя, Мила! Неужто ты способна на ложную клятву? — Нет, дядюшка, нет, никогда! — Обманывай своего дядю сколько хочешь, но не обманывай господа бога! — Разве в моих привычках лгать? — горячо воскликнула молодая девушка. — Разве я заслужила, чтобы меня заподозрил в чем-то дурном мой дядя, который так хорошо меня знает, чьим уважением я дорожу больше жизни? — Тогда отвечай! — сказал фра Анджело, беря девушку за руку, как ему казалось, отечески ласково, однако сделав ей при этом так больно, что у Милы вырвался испуганный крик. — Чего же ты боишься? — удивленно спросил монах. — Ах, значит, ты провинилась, дитя мое, и совершила не то чтобы грех — этого я не думаю, — но какое-то безрассудство, а это первый шаг по дурной дороге. Иначе ты не шарахалась бы так испуганно от меня, не старалась бы скрыть лицо, проходя мимо, и, главное, не пыталась бы обмануть меня. А так как тебе нельзя иметь от меня и самой невинной тайны, ты уж не отнекивайся и объясни, в чем дело. — А все-таки, дядюшка, эту вполне невинную тайну я никак не могу открыть вам. Не расспрашивайте меня. Я лучше умру, чем расскажу. — Тогда, Мила, обещай мне по крайней мере рассказать эту тайну отцу, раз уже мне ее нельзя узнать! — Этого я не обещаю, но клянусь — я все расскажу княжне Агате. — Я, конечно, уважаю и почитаю княжну Агату, — отвечал монах, — но я знаю, что женщины между собой на редкость снисходительны к некоторым промахам поведения, и чистые женщины тем больше выказывают терпимости, чем меньше знакомы со злом. И мне совсем не по душе, что ты собираешься искать убежище от позора на груди подруги и не можешь, высоко подняв голову, объяснить свое поведение родным. Что ж, иди, Мила, не буду настаивать, раз ты не хочешь больше быть откровенной со много. Но мне жаль тебя, Мила, жаль, что твое сердце уже не так чисто и не так спокойна душа, как утром; мне жаль моего брата, чьей гордостью и радостью ты была, — жаль и твоего брата, которому, вероятно, вскоре придется отвечать перед людьми за твое поведение, и он наделает себе хлопот, если не захочет, чтобы тебя оскорбляли рядом с ним. Горе, горе мужчинам в той семье, где женщины, которым следует беречь семейную честь, как весталки хранили священный огонь, нарушают законы стыдливости, благоразумия и правдивости! Фра Анджело ушел прочь, и бедная Мила, бледная, задыхаясь от рыданий, осталась одна на коленях посреди каменистой дороги, словно пригвожденная к месту его суровыми словами. «Увы! — говорила она себе. — А мне-то до сих пор мое поведение казалось не только невинным, но даже смелым и достойным похвалы. Как все-таки тягостны для женщины обычаи скромности и необходимость беречь свою добрую славу! Ведь даже когда дело идет о спасении твоей семьи, приходится сталкиваться с осуждением тех, кто тебе всего дороже! Быть может, я напрасно поверила обещаниям» принца «? Конечно, он мог и обмануть меня. Но раз он на деле доказал свое мужество и честность, зачем мне упрекать себя, что я ему поверила? И разве не предчувствие истины толкнуло меня к нему, а безрассудное и глупое любопытство?» Мила пустилась вниз по дороге; на ходу она все время вопрошала свою совесть, и сомнения зашевелились в ее сердце. Может быть, ее толкало честолюбивое желание совершить трудные и опасные подвиги, на которые никто не считал ее способной? Может быть, она поддалась обаянию и красоте незнакомца? И доверилась бы она ему до такой степени, не будь он так молод и красноречив? «Но что за важность, в конце концов? — говорила она себе. — Что я сделала худого, и в чем могли бы меня упрекнуть, если бы меня и выследили? Теперь меня могут оболгать и оклеветать, и, конечно, это была бы моя вина, если бы я поступала так из эгоизма или из кокетства. Но когда подвергаешься опасности ради спасения отца и брата! Княжна Агата будет моим судьей; она мне скажет, хорошо или плохо я сделала и поступила бы она так, как я, или нет». Но что сталось с бедной Милой, когда на первых же словах ее рассказа княжна прервала ее восклицанием: — О дитя мое! Это был Пиччинино! Мила попыталась спорить с истиной. — Весь свет твердит, — говорила она, — что Пиччинино мал, коренаст, кривобок и ужасающе безобразен, что лица его почти не видно под косматыми волосами, что оно заросло клочковатой бородой, а незнакомец был так строен хоть и мал ростом, так изящен и благороден в обхождении! — Дитя мое, — сказала княжна, — у него есть двойник, и этот поддельный Пиччинино выступает вместо своего хозяина перед теми людьми, которым вождь разбойников не доверяет. Он при необходимости играет роль Пиччинино перед жандармами и судьями, если попадается им в руки. Это безобразное и дикое существо, и его ужасная внешность еще усиливает страх, который нагоняют налеты банды. Но настоящий Пиччинино, кто называет себя «свободным мстителем»и кто распоряжается действиями горных разбойников, — тот, кого никто не знает, и будь он захвачен, никто не мог бы доказать, что он был когда-либо начальником или участником шайки; этот Пиччинино — красивый, молодой человек, воспитанный, красноречивый, распутный и коварный. Это Кармело Томабене, с которым ты встретилась у источника. Мила так опешила, что с трудом могла продолжать свой рассказ. Как ей было признать, что она стала жертвой притворщика, что она сама предалась в руки распутника? Тем не менее она рассказала все с полной откровенностью, а закончив свою историю, расплакалась, представив себе опасность, которой подверглась, и те домыслы, предметом которых она станет, если Пиччинино вздумает хвастать ее посещением. Но Агата, которая не раз содрогнулась, слушая этот рассказ, и собиралась распечь за безрассудное поведение и объяснить, что Пиччинино слишком ловок, чтобы в самом деле нуждаться в ее помощи, теперь была обезоружена ее наивным огорчением. Стараясь ее утешить, она только прижала девушку к своей груди. Но не меньше, чем дерзость молодой девушки, поразила Агату одушевлявшая ее отвага и мужество, ее решимость убить себя при малейшей угрозе насилия, ее безграничная самоотверженность и великодушная доверчивость. И Агата только нежно поблагодарила Милу за все, что та перенесла из-за желания избавить ее от врага. Теперь, когда она уверилась, что аббат Нинфо находится в руках «мстителя», ею овладело другое чувство — чувство радости, и она даже поцеловала ручки молодой девушки и назвала ее своей доброй феей и ангелом-хранителем. Утешив Милу и успокоив ее совесть, княжна, заразившись от Милы детской веселостью, предложила девушке сменить платье, чтобы освежиться после поездки, и идти сейчас к маркизу, где они захватят врасплох отца и брата Милы. — Мы пойдем пешком, — говорила она, — ведь это совсем близко, если идти садами, а сначала мы пообедаем вместе. Таким образом мы воспользуемся сумерками и вечерним бризом, и у нас будет спутник, на которого ты, верно, и не рассчитываешь, но он вовсе не будет тебе неприятен, так как это один из твоих друзей. — Посмотрим, кто это может быть, — улыбаясь, сказала Мила. Она уже догадалась, но не желала выдавать тайны своей любви, и потому в ее душе сразу ожила вся ее женская осторожность. Обед и сборы заняли у подруг около часу. Потом пришла камеристка и шепнула княжне: — Вчерашний молодой человек уже в саду, у западной решетки. — Ну вот, — сказала княжна, уводя с собой Милу, — нам как раз в ту сторону. И они побежали через парк; обеим было весело и легко, потому что обе вновь обретали надежды на счастье. Печальный и погруженный в свои мысли Маньяни прогуливался по саду, поджидая, когда его позовут во дворец. Вдруг из кустов мирт и апельсиновых деревьев появились две дамы в покрывалах, подбежали к нему, не говоря ни слова, подхватили под руки и шаловливо увлекли за собой. Он узнал их, княжну раньше, чем Милу, которая в своей легкой накидке показалась ему одетой иначе, чем обычно. Но он был слишком взволнован, чтобы говорить, и делал вид, будто так же весело включается в их милые проказы. На его устах блуждала улыбка, но в сердце была тревога, и если он старался противиться волнению, причиной которого была Агата, то опиравшаяся на его руку Мила отнюдь не помогала его успокоению. Лишь у входа в сады Ла-Серра княжна приподняла покрывало и промолвила: — Мой мальчик, я хотела поговорить с вами у себя, но мне так не терпелось сообщить хорошую новость нашим друзьям, собравшимся у маркиза, что я была вынуждена увести туда и вас. У нас впереди целый вечер, и я могу переговорить с вами там, как и в любом другом месте. Пойдемте же, только потише: нас не ждут, и мне хочется сделать им сюрприз. Вдоволь наговорившись, маркиз и его гости сидели на дворцовой террасе и любовались морским простором, еще горевшим в последних лучах солнца, а в небе над ними уже зажигались звезды. Микеле с живейшим интересом слушал маркиза Ла-Серра, речь которого, ни на минуту не переставая быть приятней и естественной, была весьма поучительна. Но каково же было его удивление, когда, обернувшись, он увидел, что у стола с прохладительными напитками, от которого он только что отошел к балюстраде, сидят трое гостей, и в них узнал Агату, Милу и Маньяни! Сначала он все смотрел на Агату и не сразу догадался, что с ней его сестра и друг. Меж тем княжна оделась очень скромно, в простое шелковое серо-жемчужное платьице, и набросила на голову и плечи guardaspalle[243] черного кружева. Она показалась ему не такой молодой и свежей, как при свете дня. Но мгновение спустя ее изящные манеры, искренняя улыбка, прямой и открытый взор заставили его признать ее еще моложе и привлекательней, чем при первой встрече. — Вы не ожидали увидеть здесь свою милую дочку? — сказала она, обращаясь к Пьетранджело. — Но разве она не объявила вам, что не станет обедать одна? И, видите, вы оставили ее дома, а она, как Ченерентола, является в разгаре вечера, блистая нарядом и красотой. Что касается мэтра Маньяни, так это сопровождающий ее волшебник. Но так как мы не имеем здесь дела с доном Маньифико, волшебник не будет заколдовывать его взор и мешать ему признать свою любимую дочку. И Золушка может поэтому храбро посматривать вокруг. С этими словами Агата откинула покрывало Милы, и та появилась перед всеми, «сияющая точно солнце», как говорится в сказке. Микеле поглядел на сестру. Она светилась искренней радостью. Княжна одела ее в ярко-розовое шелковое платье; нити крупного, прекрасного жемчуга несколько раз обвивали ее шею и руки; венок чудесных живых цветов, подобранных с изысканным вкусом, венчал ее темную головку, не скрывая роскошных кудрей. Маленькие ножки были изящно обуты. Красивые пальчики поворачивали и заставляли вспыхивать искрами дорогой веер Агаты с таким же достоинством и искусством, как если бы она была какая-нибудь marchesina[244]. Перед ним была одновременно и муза художников Ренессанса, и молодая патрицианка, и прекрасная дочь юга, блистающая здоровьем, благородством и поэзией… Агата с материнской гордостью оглядывала ее и, нежно улыбнувшись, сказала о ней что-то на ухо Пьетранджело. Затем Микеле поглядел на Маньяни. А тот со странным чувством смотрел то на скромную княжну, то на прекрасную прядильщицу из предместья. Он, как и Микеле, тоже не мог уяснить себе, в каком странном и завороженном сне вдруг оказался. Он знал наверное лишь то, что видел Милу в том магическом золотом отблеске, в том свете пламени, которое исходило от Агаты.XLI. РЕВНОСТЬ И ПРИЗНАНИЕ
Княжна отвела в сторону маркиза и Пьетранджело и рассказала им, что аббат уже в руках Пиччинино и что она получила известие об этом от одного непосредственного свидетеля, которого ей запрещено называть. Затем принесли свежий шербет, и беседа завязалась вновь. Маньяни был грустен и робок, Микеле — возбужден и рассеян, однако княжна и маркиз вскоре успокоили обоих молодых людей, выказав много умной заботливости и великого искусства держаться просто, которыми владеют хорошо воспитанные люди, когда сама основа их характера соответствует силе их житейской мудрости. И Агата поэтому стала расспрашивать Микеле о том, что тот хорошо знал и понимал. А молодой художник, со своей стороны, был восхищен тем, как она понимает искусство, и в память ему врезались многие глубокие определения, которые вырывались у нее как будто нечаянно, еще не получив точной формы, так естественно она их выражала. Разговаривая об искусстве, она словно обсуждала предмет с собеседником, не собираясь поучать, а ее полный живой симпатии проникновенный взор, казалось, искал у Микеле подтверждения ее мнений и мыслей. Маньяни все легко схватывал и если редко решался вставить слово, то по его сообразительному лицу легко было прочесть, что ничего из того, что говорится вокруг него, не является трудным для его понимания. У этого молодого человека были хорошие способности, которые, быть может, остались бы неразвитыми, не настигни его романическая страсть. Со дня, когда он увлекся Агатой, он почти весь свой досуг посвящал книгам и изучению произведений искусства, какие ему удавалось встретить. Свое свободное от работы время, те недели, что у ремесленников зовутся мертвым сезоном, он использовал, обойдя пешком всю Сицилию, и повидал памятники античности, рассеянные по этой земле, и без того столь прекрасной. И хотя он твердил себе, что хочет остаться скромным, неизвестным человеком и не желает изменять грубой простоте своего сословия, неодолимым инстинктом его влекло к просвещению. Беседа сделалась общей и в то же время интересной и непринужденной, а благодаря выходкам Пьетранджело и наивным речам Милы — даже полной веселья. Но ее наивность была так трогательна, что самолюбие Микеле нисколько не страдало в присутствии княжны, и пятнадцатилетний возраст сестренки предстал перед ним в новом свете. Он, конечно, не давал себе полного отчета в той огромной перемене, какую каждый лишний год в этом возрасте производит в душе молодой девушки, когда накануне, считая Милу еще нерассудительным и робким ребенком, он одним словом чуть не погубил все ее надежды на любовь. В каждой фразе, что произносила сестра, он замечал, как неизмеримо развились ее ум и характер, а контраст между ее умственным развитием и ее неопытностью, искренностью и порывистостью души был одновременно и приятен и трогателен. Княжна с деликатным тактом, свойственным лишь женщинам, помогала славной девушке показать себя в каждом ответе с лучшей стороны, и никогда ни Маньяни, ни сам Пьетранджело не представляли себе раньше, какое удовольствие может доставить беседа с этой юной девочкой. Поднялась луна, серебряно-белая в чистом небе. Агата предложила погулять по саду. Вышли вместе, но вскоре княжна, дружески взяв Маньяни под руку, отошла с ним в сторону; с полчаса они держались в отдалении от своих друзей, и по временам даже Микеле терял ее из виду. Мы не расскажем здесь, что говорила и что доверила Агата своему спутнику во время этой прогулки, показавшейся такой долгой и такой странной молодому художнику. Мы этого вообще не расскажем. В свое время читатель догадается об этом сам. Но Микеле-то не понимал ничего и жестоко терзался. Маркиза он больше не слушал и только все спорил с Милой и дразнил ее. Он исподтишка высмеивал и бранил ее туалет и почти довел ее до слез. Наконец малютка шепнула ему: — Микеле, ты всегда был ревнив, ревнуешь и сейчас. — По какой причине? — с горечью возразил он. — Из-за твоего розового платья и жемчуга? — Вовсе нет, — отвечала она, — а потому, что княжна выражает такую дружбу и доверие твоему другу. Еще бы! Я помню, когда мы были детьми, ты, бывало, всегда дулся, если мать целовала меня чаще, чем тебя! Когда Агата с Маньяни присоединились к ним, Агата казалась спокойной, а Маньяни растроганным. Впрочем, его благородное лицо выглядело строже обычного, и Микеле заметил, что его друг держался теперь по-иному. В присутствии Агаты Маньяни не испытывал сейчас ни малейшего смущения. Когда она обращалась к нему, при ответе у него уже не дрожали губы, он больше не отводил робкого взгляда, исчезла ужасная тоска, которая прежде читалась в его чертах; он стал спокоен, внимателен и сосредоточен. Гости поговорили еще несколько минут, затем княжна поднялась, собираясь уходить. Маркиз предожил ей свою коляску. Она отказалась. — Я предпочитаю пойти пешком по тропинке, как пришла сюда, — сказала она, — но хотя нам теперь можно и не опасаться врагов, мне все-таки нужен провожатый. Я пойду с Микеланджело, если он не откажется, — прибавила она с ясной улыбкой, заметив волнение молодого человека. Микеле не нашел ни слова в ответ, лишь поклонился и предложил ей опереться на его руку. Час тому назад он был бы вне себя от радости. Теперь его гордость страдала оттого, что ему на людях демонстрировалась любезность, оказанная Маньяни наедине и как бы втайне. Пьетранджело пошел с дочерью, которой Маньяни и не подумал предложить руку. Такие галантные церемонии не были в его привычках. Он делал вид, будто презирает учтивость из нелюбви к подражанию другим, а на самом деле он был мягок и доброжелателен в обращении. Не прошли они и десяти шагов, как он оказался совсем рядом с Милой и, естественно, чтобы помочь ей не заплутаться в темных переулках предместья, взял молодую девушку за круглый локоток и, поддерживая, вел ее до самого дома. Микеле тронулся в путь, облачившись в броню гордости, in petto[245] обвиняя княжну в капризах, в кокетстве и твердо решив не поддаваться ни на какие ласковые слова. Впрочем, в глубине души, он сам недоумевал, откуда берется его досада. Он поневоле признавал ее несравненную доброту и говорил себе, что если она и в самом деле чем-то обязана старому Пьетранджело, то теперь сторицей расплачивается с ним драгоценнейшим пониманием и нежностью, какие только может вместить сердце женщины. Но Микеле не мог откинуть все те загадки, которые последние два дня напрасно мучили его воображение. И когда в этот самый миг княжна, идя рядом, сжимала его руку, то ли как страстно влюбленная женщина, то ли как нервная дама, не привыкшая ходить пешком, перед ним опять возникала новая загадка, которая никак не объяснялась достаточно правдоподобно давней услугой, оказанной синьоре его отцом. Сначала он решительно и молча шел вперед, давая себе клятву, что не заговорит первым, что не растрогается, что не забудет о Маньяни, рука которого, быть может, испытывала такое же пожатие, что, наконец, он будет начеку. Ведь либо княжна Агата была ветреницей, либо под личиной добродетели и за томной усталостью скрывается самое отчаянное кокетство. Но все прекрасные намерения Микеле вскоре разлетелись прахом. Тенистая дорога, по которой они шли, вилась среди тщательно обработанной и засаженной местности, среди маленьких садов, принадлежавших зажиточным ремесленникам и горожанам. Красивая тропинка шла вдоль участков, отделенных друг от друга лишь кустарником, шиповником или узкой грядкой душистых трав. Там и сям на путь Микеле ложилась густая тень перекинутых через дорожку виноградных лоз, косые лучи неверного лунного света едва проникали туда. Цветущие поля дышали тысячами ароматов, и из-за далеких холмов доносился влюбленный шепот моря. В кустах жасмина пели соловьи. Людские голоса тоже пели вдалеке и весело выкликали эхо, но на тропинке никто не повстречался Агате и Микеле. Садики были безлюдны. Микеле испытывал какое-то душевное угнетение, он шел все медленней, рука его по временам дрожала. Ночной ветерок играл у его лица легким покрывалом Агаты, и ему чудились какие-то невнятные слова. Он не осмеливался повернуть голову, проверить, близкое ли это дыхание женщины, или ласковое веяние ночи. — Дорогой Микеле, — сказала княжна так спокойно и доверчиво, что юноша сразу упал с небес на землю, — простите, но мне надо перевести дыхание. Я не привыкла ходить пешком и чувствую себя очень утомленной. Вот та скамейка под нависшими желтофиолями словно манит меня присесть на пять минут. Не думаю, чтобы владельцы садика, увидев меня, сочли это за преступление. Микеле подвел ее к указанной ему скамье и, окончательно придя в себя, почтительно отошел на несколько шагов и стал разглядывать маленький источник, нежный лепет которого не мог помешать его раздумью. «Да, да, то был лишь сон, а быть может, тот поцелуй был поцелуем моей сестренки. Она насмешлива и шаловлива, но начни я ее расспрашивать всерьез и без обиняков, быть может, она разъяснила бы, откуда взялся тот таинственный медальон. Наверное, этому есть простое объяснение, я только не могу догадаться. Ведь так случается всегда. Единственное, чего не можешь разгадать, как раз самое простое. Ах, если бы Мила знала, с каким огнем играет и от какого расстройства она могла бы уберечь мой рассудок, скажи она мне правду! Завтра я буду настойчивее, и она признается во всем!» Так раздумывал Микеле, а меж тем прозрачная струйка все бормотала в маленьком бассейне, где дрожало отражение луны. Вода понемножку стекала туда из небольшого обыкновенного и наивного терракотового фонтанчика. Это была фигурка купидона из свиты морского бога, схватившего ручками большого карпа, изо рта которого падала струя воды с локоть длиною. Скромный скульптор, выполнивший эту группу, пытался показать, как бьется рыба, но ему удалось только придать выпученным глазам карпа выражение забавной свирепости. Микеле глядел на фигурку, не видя ее, и не для него благоухала волшебная ночь. Страстно любя природу, он был сейчас погружен лишь в свои мысли и не мог воздать ей обычной дани восхищения. И все-таки журчанье воды действовало на его воображение, хоть он и не сознавал этого. Оно напоминало ему схожую мелодию — тот робкий и грустный лепет, каким наполняла грот в саду виллы Пальмароза вода, изливавшаяся в большую раковину из кувшина мраморной наяды. Прелестный сон снова вспомнился Микеле, и ему захотелось уснуть, чтобы вновь пережить свое видение. «Да что же это? — вдруг сказал он себе. — Не смешон ли я со своим смирением? Не затем ли онаостановилась здесь, чтобы нарочно длить это мучительное свидание наедине? И то, что я принял за спокойное объяснение ее действий — эта внезапная усталость, это желание посидеть в первом попавшемся саду, — не делается ли это для того, чтобы заставить меня преодолеть мою робость?» Он быстро подошел к ней и сразу осмелел в тени листвы. Скамейка была так коротка, что он не мог сесть рядом, надо было просить княжну подвинуться. Он сел на траву, не совсем у ее ног, но достаточно близко, чтобы вскоре оказаться еще ближе. — Ну что, Микеле, — с невыразимой нежностью в голосе спросила она, — вы, значит, тоже устали? — Я изнемогаю! — ответил он так горячо, что княжна вздрогнула. — Что такое? Уж не больны ли вы, мой мальчик? — сказала она, протягивая к нему руку и в темноте находя мягкие кудри юноши. Одним рывком он очутился у ее колен. Он склонил голову, словно околдованный прикосновением этой не отталкивающей его руки, он прижал губы к подолу легкого шелкового платья, который никому не выдал бы его восторженного порыва, он не верил себе, он был вне себя, не смея сказать о своей страсти, не имея сил побороть ее. — Микеле, — воскликнула княжна, касаясь рукою пылающего лба молодого безумца, — у вас жар, мой мальчик! У вас горит голова! Да, да, — прибавила она с нежной заботливостью, проводя рукой по его щекам, — вы слишком утомились за последние дни, провели без сна подряд две ночи, а утром хоть и прилегли на час-другой, но, наверное, не спали! А я еще весь вечер заставляла вас говорить. Вам пора возвращаться. Идем, вы доведете меня до калитки сада и как можно скорее пойдете домой. Я собиралась сегодня кое-что сказать вам, но боюсь, как бы вы не заболели. Когда вы хорошенько отдохнете, завтра, быть может, я буду говорить с вами. Она хотела подняться, но он стоял коленями на кромке ее платья. Он тянул к своему лицу, прижимал к губам прекрасную руку, позволявшую целовать ее. — Нет, нет! — нетерпеливо вскричал Микеле. — Позвольте мне умереть здесь. Я знаю, завтра вы навсегда прогоните меня от себя. Я знаю, мне больше не видеть вас, после того как вы все прочли в моей душе. Но слишком поздно — я схожу с ума! Ах, не притворяйтесь, что вы думаете, будто я болен, оттого что работал днем и провел на страже ночь! Не бойтесь обнаружить правду. Ведь это ваша вина, сударыня, — вы этого хотели! Как мне было противиться такому счастью? Оттолкните меня, Агата, прокляните, но завтра — нет, сейчас! — подарите мне поцелуй, что приснился мне в гроте наяды! — Ах, Микеле, — воскликнула княжна с невыразимым выражением в голосе, — ты, значит, почувствовал мой поцелуй? Ты, значит, видел меня? Значит, ты знаешь все? Тебе сказали или ты догадался сам? Такова воля господня. И ты опасаешься, как бы я тебя не прогнала? О боже мой — возможно ли это? И неужели то, что происходит в твоем сердце, не раскрывает тебе любви, которой полно мое? С этими словами прекрасная Агата охватила обеими руками Микеле за шею и, прижав его голову к своей груди, осыпала ее жгучими поцелуями. Микеле было восемнадцать лет, у него была пламенная душа, беспокойная и жадная натура, безумная гордость и дерзкий нрав. И все же душа его была чиста, как и подобало его возрасту, и он целомудренно и благоговейно склонился перед своим счастьем. Вся его ревность, все оскорбительные подозрения растаяли. Он уже не спрашивал себя, как женщина столь строгих нравов и, судя по молве, никогда не имевшая любовника, могла вдруг, с первого взгляда, увлечься таким мальчиком, как он, и, все забыв, признаваться ему в любви. Он испытывал лишь счастье быть любимым, восторженную безграничную благодарность, пылкое, слепое обожание. Он упал из объятий Агаты к ее ногам и покрыл их жаркими, почти благоговейными поцелуями. — Нет, нет, не к моим ногам, а к моему сердцу! — воскликнула княжна. И, сжав молодого человека в своих горячих объятиях, она залилась слезами. Ее слезы были так искренни, так неподдельны, что Микеле невольно охватили те же чувства. Он задыхался, рыдания разрывали ему грудь, небесная любовь вытеснила всякое представление о земной страсти. Он вдруг ощутил, что эта женщина не внушает ему никакого нечестивого желания, что в ее объятиях он испытывает счастье, а не возбуждение, и что смешивать свои слезы с ее слезами и чувствовать себя любимым ею было наслаждением больше всех тех, какие наполняли его юные мечты, и, наконец, что, прижимая ее к своему сердцу, он почитал и почти страшился ее и знал, что никогда между им и ею не мелькнет мысли, которой не могли бы с улыбкой прочесть ангелы. Разумеется, его ощущения были довольно смутны, но так глубоки и настолько захватили его, что Агате не могло и в голову прийти, какой дурной и суетный порыв бросил его к ее ногам несколько минут тому назад. Потом Агата подняла к небу свои прекрасные, увлажненные слезами глаза и, бледная в свете луны и как бы охваченная священным экстазом, воскликнула в восторге: — Благодарю тебя, о боже! Вот первый миг блаженства, который ты даруешь мне. Но я не жалуюсь, что ждала его так долго, — оно так велико, так чисто, так полно, что искупает все печали моей жизни. Она была так прекрасна, говорила с таким искренним волнением, что Микеле казалось, — он видит перед собой какую-нибудь святую былых времен. — Боже мой, боже мой, — сказал он срывающимся голосом. — И я благословляю тебя! Чем заслужил я такое счастье? Быть любимым ею? О, это сон, я боюсь пробудиться! — Нет, Микеле, это не сон. — возразила княжна, переводя на него свой вдохновенный взор, — нет, это подлинная действительность моей жизни, и это будет действительность также и всей твоей. Скажи мне, кого еще, кроме тебя, могла бы я любить на земле? До сих пор я только томилась и страдала, но сейчас, когда ты со мною, мне кажется, я рождена для самого великого счастья, какое может быть дано человеку. Мой мальчик, мой любимый, мое лучшее утешение, моя единственная любовь! О, я не могу говорить более, я не могу ничего больше сказать тебе, радость душит и переполняет меня!.. — Нет, нет, не будем говорить, — вскричал Микеле, — никакие слова не могут выразить того, что я испытываю! И, благодарение небу, я еще сам не постиг всей огромности моего счастья, ибо если бы я его постиг — я бы тут же умер!XLII. ПОМЕХА
Раздавшиеся невдалеке шаги вывели обоих из их безумного упоения. Встревоженная приближением каких-то прохожих, княжна поднялась, схватила Микеле под руку, и они вместе пошли дальше по пути к ее вилле. Теперь она шла быстрее, чем раньше, и тщательно укуталась в покрывало, но с какой-то целомудренной страстью опиралась на него. А он, вне себя от счастья, в трепете и в то же время проникнутый глубоким уважением к ней, осмеливался лишь иногда поднести к губам ее руку, которую не выпускал из своей. И только завидев впереди решетку сада, он вновь обрел дар слова. — Как? Уже покинуть вас? — сказал он с беспокойством. — Расстаться так скоро? Это невозможно! Я умру от волнения и отчаяния. — Нам нужно расстаться здесь! — отвечала княжна. — Еще не пришло время, но дай срок, и мы совсем не будем расставаться. Этот счастливый день скоро наступит для нас. Будь спокоен, предоставь мне действовать. Положись на меня, на мою бесконечную нежность, а мне оставь заботу о том, чтобы нам соединиться навсегда. — Возможно ли это? Из ваших ли уст исходит то, что я слышу? Этот день настанет? Мы соединимся? Мы не будем расставаться совсем? О, не играйте с моим простодушием! Я не смею верить в такое счастье, и все же как мне сомневаться, когда это говорите вы! — Усомнись в вечности звезд, сияющих над нами, усомнись в своем собственном существовании, но не в том, найду ли я силы победить препятствия, что кажутся тебе столь огромными, а мне столь малыми. Ах, поверь, в тот день, когда мне придется бояться одного лишь мнения света, я почувствую себя очень, очень сильной! — Опасаться мнения света? — переспросил Микеле. — Ах да, я и забыл о нем, забыл обо всем, кроме нас двоих. Свет отвергнет вас, свет вознегодует против вас — и это из-за меня! Господи, прости мне порыв охватившей меня гордости! Как мне ненавистна теперь моя спесь. О, пусть же никто ничего не узнает, и пусть мое счастье будет окутано тайной! Пусть будет так, я не потерплю, чтобы вы погубили себя из любви ко мне. — Успокойся, мой благородный мальчик, — воскликнула княжна, — мы победим вместе, но как я благодарна тебе за этот сердечный порыв. О да, я знаю, ты великодушен во всем. Я не только счастлива, я горжусь тобой! И она взяла голову юноши в свои руки, чтобы еще раз поцеловать его. Но тут ему снова послышались шаги невдалеке, и боязнь скомпрометировать смелую женщину пересилила в нем чувство счастья. — Нас могут застать тут, за нами, быть может, следят, — сказал он, — я уверен, здесь ходит кто-то. Бегите! Я укроюсь в тех зарослях, пока любопытные или прохожие не пройдут. До завтра, не правда ли? — О, разумеется, до завтра! — отвечала она. — Приходи сюда словно для работы и поднимись ко мне наверх. Она еще раз сжала его в объятиях, вошла в парк и исчезла за деревьями. Звуки шагов, которые послышались ему, стихли, словно подходившие люди повернули в другую сторону. Микеле долго стоял неподвижно. Он словно потерял рассудок. Какие дивные иллюзии, сколько усилий не поддаваться им! И вот он снова и еще безвозвратней подпал под власть мечты, или по крайней мере должен опасаться, что это уже случилось. Он не осмеливался верить, что бодрствует, боялся ступить шаг, сделать движение, чтобы еще раз не прогнать очарование, как то было в гроте наяды. Он не решался проверить, наяву ли все это. Самая правдоподобность случившегося страшила его. Почему, за что полюбила его Агата? Он не находил ответа и старался отогнать самый вопрос как некое кощунство. «Она меня любит, она сама сказала мне это! — говорил он себе. — Сомневаться было бы преступлением. Если я не буду доверять ее слову, я не буду достоин ее любви». Он утопал в океане восторгов. Он мысленно обращался к небу, судившему ему родиться для такого счастья. Он чувствовал, что способен на величайшие деяния, раз ему суждено было оказаться достойным такого блаженства. Никогда не веровал он так горячо в божественную милость, никогда не ощущал такой гордости, такого смирения, такого благоговения и такой смелости. «Ах, пусть простит меня небо, — говорил он сам себе. — До этого дня я считал себя чем-то. Я лелеял свою гордость, предавался эгоизму, а ведь я не был еще любим. Лишь сегодня я стал существовать. Мне дана жизнь, дана душа — я человек! Но я не должен забывать, что сам по себе я ничто, что обуревающий меня восторг, могучая сила, которая меня переполняет, чистота, цену которой я понял теперь, — все родилось по слову этой женщины и все это живет во мне лишь благодаря ей. О, день безграничного блаженства! О, высший покой! Честолюбие, утоляемое без эгоизма и без угрызений совести! Опьяняющая победа, которая оставляет сердце скромным и щедрым! Все это и есть любовь, и не только это. Как ты благ, господь, что не позволил узнать мне все это прежде! И как неожиданность этого открытия усиливает упоение души, выходящей из собственного небытия!..» Он уже готов был медленно удалиться, но вдруг увидел, как что-то темное скользнуло вдоль стены и скрылось под ветвями. Микеле постарался опять спрятаться в тени, желая получше рассмотреть, кто это, и сразу узнал Пиччинино. Тот уже снял плащ и перебросил его через стену, чтобы легче было перелезть через нее. У Микеле вся кровь прихлынула к сердцу. Неужели Кармело ждали здесь? Неужто княжна позволяет ему приходить для переговоров с нею в любой час и любым путем? Правда, ему приходилось обсуждать с ней разные важные и тайные дела, и так как для него естественней всего «летать птицей», по его собственному выражению, то и перелезть ночью через стенку для него дело вполне естественное. Ведь не зря он предупреждал Агату, что может прийти и позвонить у калитки цветника в момент, когда она менее всего будет ожидать. Но не было ли ошибкой с ее стороны разрешать ему это? Кто может предвидеть намерения такого человека, как Пиччинино? Агата сейчас у себя и одна, неужели она будет настолько неосторожна, что откроет ему и станет слушать его? К чему только может привести такая безумная доверчивость? Микеле никак не разделял ее. Понимает ли Агата, что он влюблен в нее или притворяется влюбленным? О чем они говорили в цветнике, когда Микеле и маркиз присутствовали при их свидании, не слыша их речей? Микеле спустился с небес на землю. Им овладел яростный приступ ревности, и самообмана ради он пытался себя уверить, будто опасается только, как бы Пиччинино не оскорбил его возлюбленную. Разве не его прямой долг бдительно охранять ее и защищать от всего на свете? Он бесшумно отворил калитку, ключ от которой был у него, так же как и ключ от цветника, и проскользнул в парк, намереваясь следить за врагом. Однако хоть он и видел, как Пиччинино ловко перелезал через стену, теперь его нигде не было видно. Он направился к обломкам скал и, убедившись, что впереди нет никого, решил подняться по лестнице, высеченной в лаве. Каждый миг он оборачивался, чтобы посмотреть, не следует ли за ним Пиччинино. Сердце его сильно билось, потому что встреча на лестнице была бы роковой. Увидев его здесь, разбойник поймет, что его обманывают, что Микеле — любовник княжны. Какова будет его ярость! Для себя самого Микеле вовсе не боялся кровавой схватки, но как помешать Кармело мстить Агате, если тот выйдет живым из поединка? Тем не менее Микеле поднялся на самый верх и, убедившись, что никто за ним не следует, вошел в цветник, закрыл за собой дверцу и подошел к окну будуара Агаты. Комната была освещена, но пуста. Через минуту вошла камеристка, потушила люстру и вышла. Все погрузилось в тишину и темноту. Никогда Микеле с таким ужасным волнением не готовился к схватке. Чем долее длилось это молчание и эта неопределенность, тем сильнее, чуть не разрываясь, билось сердце. Что происходит в апартаментах Агаты? Ее спальня помещалась за будуаром, туда можно было пройти из цветника через короткую галерею, где еще горела лампа. Микеле понял это, поглядев в замочную скважину в маленькой резной двери, покрытой изображениями гербов. Может быть, эта дверь не заперта изнутри? Микеле толкнул ее, она подалась, и он беспрепятственно вошел в casino. Куда он шел и для чего? Он и сам не знал этого. Он говорил себе, что идет на помощь Агате, которой угрожает Пиччинино. Он не смел себе признаться, что его гонит демон ревности. Ему показалось, что в комнате Агаты разговаривают. То были два женских голоса. Может быть, это камеристка отвечала госпоже. Но это мог быть также и мягкий, почти женский, голос Кармело. Микеле остановился, дрожа и не зная, на что решиться. Вернуться через цветник? Но камеристка, вероятно, уже закрыла дверь на галерею. Как же ему уйти? Разбить стекло в окне будуара? Такой способ годился для Пиччинино и, естественно, был неприемлем для Микеле. Ему показалось, будто с тех пор, как он увидел, что разбойник перелезает через стену, миновали века, однако прошло всего четверть часа. Ведь можно в минуту пережить годы, и он говорил себе, что раз Пиччинино так долго не появляется из сада, он, очевидно, уже опередил его. Вдруг дверь в комнату Агаты открылась, и Микеле едва успел скрыться за цоколем статуи, державшей светильник. — Запри получше дверь в цветник, — сказала Агата выходящей камеристке, — а эту оставь открытой — у меня ужасно жарко. Девушка выполнила приказание хозяйки и удалилась. Микеле успокоился. Агата была там одна с камеристкой. Но он-то оказался запертым. И как ему выйти? И как объяснить княжне свое присутствие, если обнаружится, что он спрятался у нее за дверью? «Скажу правду, — думал он, не желая признаться самому себе, что то была лишь половина правды. — Скажу, что видел, как Пиччинино перелезал через садовую ограду, и пришел сюда ради защиты той, кого я обожаю, от человека, которому не доверяю». Но не зная, насколько служанка посвящена в дела своей госпожи, и не увидит ли она в этом доказательство их близости, он решил дождаться ее ухода. Вскоре Агата и в самом деле отпустила ее. Послышался скрип дверей и звук шагов; девушка, видимо, уходя, закрывала выходные двери. Не желая откладывать долее свое появление, Микеле решительно вступил в комнату Агаты, но оказался там один. Перед отходом ко сну княжна вошла в свою молельню, и Микеле увидел, что она преклонила колени на бархатную подушку. Она была в длинном белом широком платье; черные волосы падали до самых ног; они были заплетены в две тяжелые косы, которые не дали бы ей спать, оставь она их на ночь лежать короной вокруг головы. Слабый огонек ночника под голубым стеклянным колпаком проливал на Агату свой бледный и печальный свет, и в нем она казалась каким-то призраком. Охваченный робостью и благоговением, Микеле остановился. Но пока он колебался, прервать ли ее молитву, и раздумывал, как привлечь ее внимание, не испугав ее, он услышал, что маленькая дверь, ведущая на галерею, отворилась и к комнате Агаты приближаются чьи-то шаги, столь легкие, что лишь ухо ревнивца могло уловить их. Микеле едва успел скрыться за кроватью черного дерева, украшенной резьбой и узором из слоновой кости. Эта кровать не была приставлена к стене, как у нас, но стояла отдельно, как это принято в жарких странах, изножьем к середине комнаты; между стеной и высокой спинкой изголовья этой старинной кровати было, таким образом, достаточно места, чтобы Микеле мог там спрятаться. Он не осмеливался пригнуться пониже, опасаясь, как бы не шевельнулись белые атласные, густо шитые шелком, занавеси. Впрочем, и времени, чтобы принимать меры предосторожности, у него не было. Но случай ему помог, и хотя Пиччинино окинул комнату быстрым, проницательным взглядом, он не заметил никакого беспорядка, и ни малейшее движение не выдало ему присутствия человека, пришедшего сюда раньше него. Пиччинино собрался все же предусмотрительно заняться осмотром, но тут княжна, заслышав его легкие шаги, приподнялась с колен и спросила: — Это ты, Нунциата? Не получив ответа, она отодвинула портьеру, наполовину загораживающую для нее внутренность спальни, и увидела стоявшего перед ней Пиччинино. Она выпрямилась во весь рост и неподвижно остановилась, удивленная и испуганная. Но отлично понимая, что перед подобным человеком нельзя выказывать робости, она хранила молчание, чтобы изменившийся голос не выдал ее чувств, и пошла ему навстречу, как бы ожидая объяснений причины этого дерзкого визита. Пиччинино опустился на колено и сказал, подавая ей сложенный пергамент: — Сударыня, я знал, что вы, вероятно, очень тревожитесь из-за этого важного документа и не хотел откладывать до завтра передачу его. Я приходил сюда вечером, но вас не было, и мне пришлось ждать вашего возвращения. Простите, если мой приход несколько нарушает привычные для вас светские приличия. Но ведь вашей светлости известно, что мне приходится действовать, и особенно с вами, соблюдая во всем строжайшую тайну. — Синьор капитан, — в ответ сказала Агата, сперва развернув и проглядев пергамент, — я знала, что завещание дяди сегодня утром было похищено у доктора Рекуперати. Днем бедный доктор вне себя явился ко мне рассказать о новой беде. Он никак не мог понять, каким образом бумажник выкрали у него из кармана, и обвинял аббата Нинфо. Меня это ничуть не встревожило, потому что я рассчитывала, что уже днем аббату придется вернуть вам украденное. Поэтому я уговорила доктора не поднимать шума, поручившись, что завещание скоро найдется. Можете быть уверены, я не намекала ему, как и каким образом это случится. Однако, капитан, мне не пристало держать у себя этот документ, словно я сама выкрала его, наперекор намерениям дяди и бдительности доктора. Когда придет время представить завещание, вы сами каким-нибудь окольным, но верным путем вернете его тому, кому он был отдан на хранение. Вы достаточно изобретательны и найдете способ сделать это, никак не выдавая себя. — Так я и это должен взять на себя? Да что вы, сударыня! — сказал Пиччинино, который тем временем поднялся и нетерпеливо ожидал, что ему предложат сесть. Но Агата говорила с ним стоя, словно рассчитывая на скорый уход своего собеседника. Он же хотел любой ценой продолжить беседу и ухватился за возможные трудности дела. — Это невозможно, — заявил он, — кардинал обычно взглядом требует, чтобы ему показали завещание — и это повторяется каждый день. Правда, — прибавил он, желая выгадать время и словно в страшной усталости опираясь на спинку стула, — правда, теперь кардинал лишился своего толмача — аббата Нинфо, а доктор легко может притвориться, что не понимает красноречивого взгляда его преосвященства… Тем более, — продолжал Пиччинино, пригибая стул к себе и опираясь на его спинку локтем, — что всегдашняя тупость доктора сделает это весьма правдоподобным… Но, — продолжал он, почтительно подвигая стул княжне, чтобы она подала ему пример и села сама, — кардинала может понять кто-нибудь другой из доверенных лиц, и тот поставит доброго доктора в тупик, если заявит: «Вы сами видите, что его преосвященство хочет посмотреть завещание!» Тут Пиччинино сделал рукой изящный жест, чтобы показать княжне, как он страдает, видя ее стоящей перед ним. Но Агата не желала понимать его, а главное, не желала оставлять у себя завещание, чтобы в такой момент не быть вынужденной благодарить Пиччинино, причем любые выражения признательности могли оскорбить его своей чрезмерной сдержанностью либо поощрить излишней горячностью. Облекая его безграничным доверием по части своих имущественных интересов, она предпочитала держаться надменно. — Нет, капитан, — ответила она с полным самообладанием и по-прежнему стоя, — кардинал не пожелает больше видеть свое завещание, так как за последние сутки его здоровье сильно ухудшилось. Этот негодяй Нинфо, видимо, умел держать его в постоянном возбуждении, помогавшем продлевать его жизнь, потому что с того момента, как он исчез, дядя погрузился в умственный покой, несомненно, близкий к покою могилы. Глаза погасли, ничто окружающее не заботит его, он не замечает отсутствия своего приближенного, и доктор вынужден применять искусственные средства, чтобы побороть сонливость, от которой — как опасается доктор — кардиналу уже не очнуться. — Доктор Рекуперати всегда был простоват, — возразил Пиччинино, присаживаясь на край столика и как бы нечаянно спуская плащ к своим ногам. — Не находите ли вы, ваша светлость, — прибавил он, скрещивая руки на груди, — что так называемые законы человечности в подобном случае бессмысленны и ложны, как почти все правила людских благоприличий и ханжеской условности? Какой прок умирающему от того, что его пытаются вызвать к жизни при полной уверенности в неудаче и что тем самым только продлеваются его мучения на этом свете? Будь я на месте доктора Рекуперати, я бы признал, что его преосвященство пожил довольно, и, по мнению порядочных людей и вашей светлости тоже, этот человек даже слишком долго жил. Давно пора дать ему отдохнуть после утомительного жизненного пути, раз он этого, кажется, сам хочет, и пусть он поудобней устраивается на подушке для своего последнего сна. Прошу прощения у вашей светлости, что оперся на этот столик. Ноги подо мной подгибаются, столько мне пришлось бегать по делам вашей светлости, и если я не передохну минутку, мне не под силу будет добраться сегодня до Николози. Агата сделала разбойнику знак присесть на стул, стоявший между ними. Сама она осталась стоять, желая дать ему почувствовать, что не потерпит, чтобы он долго злоупотреблял ее любезностью.XLIII. ОПАСНЫЙ МИГ
— Мне кажется, — сказала княжна, кладя пергамент на столик рядом с разбойником, — мы уклонились в сторону. Вот, синьор Пиччинино, каковы факты. Моему дяде жить осталось считанные часы, и он больше не вспомнит о своем завещании. Так что близок срок, когда этот документ будет предан гласности. Но я предпочла бы, чтобы к этому времени он находился в руках доктора, а не в моих. — Весьма благородная щепетильность, — сказал Пиччинино, маскируя досаду твердостью тона, — но я тоже щепетилен, и так как все странное и таинственное, что происходит в наших краях, всегда приписывают отчаянному разбойнику Пиччинино, я, со своей стороны, предпочел бы совсем не впутываться в это дело с возвратом завещания. Поэтому вы, ваша светлость, можете поступать с ним как вам заблагорассудится. Я завещание не выкрадывал. Я его нашел в кармане у вора, принес вам и, полагаю, сделал достаточно, чтобы меня не упрекали в недостатке рвения. Нечего сомневаться, что исчезновение аббата Нинфо будет сразу замечено и имя Пиччинино возникнет и в фантазии простонародья и в мозгах угрюмой полиции. Пойдут новые розыски в придачу к тем, целью которых является моя подлинная личность и от которых я до сих пор ускользал лишь чудом. Я взялся за это опасное дело; я держу это чудище у себя взаперти. Вы, ваша светлость, успокоились теперь за судьбу своих друзей и можете действовать по своему усмотрению. Вы можете распоряжаться своим титулом и состоянием — вам нужна также и моя жизнь? Я готов сто раз отдать ее за вас, но скажите это открыто и не толкайте меня к гибели разными увертками, не оставляя мне утешения знать, что я умираю ради вас. Пиччинино нарочно подчеркнул свои последние слова, чтобы Агата не могла опять ускользнуть от щекотливого объяснения. — Синьор, — сказала она с принужденной улыбкой, — вы плохо думаете обо мне, если считаете, что я боюсь обременять себя благодарностью к вам. Мое нежелание взять этот документ, который несет мне обладание большими богатствами, должно только доказать мое доверие к вам, и я твердо намерена предоставить вам право распоряжаться всем, что мне принадлежит. — Я не понимаю, сударыня, — отвечал Пиччинино, резко поворачиваясь на стуле. — Вы, значит, думали, что я взялся помогать вам ради своей выгоды? Только ради этого? — Синьор, — возразила Агата, не давая себя растрогать подлинным или притворным негодованием Пиччинино, — вы сами и справедливо называете себя свободным мстителем, то есть вы ведете суд и расправу, как велят вам сердце и совесть, не заботясь об официальных законах, которые довольно часто противоречат законам естественной и божеской справедливости. Вы помогаете слабым, вы спасаете обреченных, защищаете тех, чьи чувства и образ мыслей вам кажутся достойными уважения, от тех, кого вы считаете врагами вашей родины и человечества. Вы караете негодяев и препятствуете им выполнять свои коварные замыслы. В этом ваше призвание, которого не понять законопослушному обществу, но я-то вижу всю его глубокую важность и героизм. Неужели мне надо доказывать уважение, которое я питаю к вам, неужели вы находите, что я не выражаю его вам достаточно? Но так как официальный мир не признает вашей независимой деятельности и так как ради нее вы вынуждены сами добывать значительные суммы, было бы нелепым, было бы нескромным прибегать к вашему покровительству, не рассчитывая предложить вам средства для того, чтобы вы могли продолжать и еще расширять эту деятельность. Я об этом подумала, я должна была подумать об этом и решила обходиться с вами не так, как обходятся с обыкновенным ходатаем по делам. Я предоставляю вам самому назначить плату за ваши великодушные и честные услуги. Определить самой их цену — значило бы, по-моему, оскорбить вас. В моих глазах они неоценимы. Вот почему, предлагая вам по вашему усмотрению черпать из этого огромного состояния для того, чтобы считать себя полностью расквитавшейся с вами, мне приходится еще положиться на вашу скромность и бескорыстие. — Все эти очень лестные слова и ласковые речи вашей светлости были бы мне очень приятны, думай я так, как вы полагаете. Но если вы, ваша светлость, соизволите присесть на минутку и выслушать меня, я постараюсь высказать свои взгляды на этот счет, не опасаясь злоупотребить вашим терпением. «Ну, — подумала Агата, садясь подальше от Пиччинино, — упорство этого человека непреодолимо, как судьба!» Увидев, что она наконец села, Пиччинино лукаво улыбнулся и сказал: — Я буду говорить недолго. Да, занимаясь чужими делами, я обделываю свои. Но каждый толкует свою выгоду смотря по обстоятельствам. Иные люди лишь на то и годны, чтобы тянуть с них деньги. Это случай простой, вульгарный, как, кажется, говорится. Но от некоторых других, кто прелестью и достоинствами богаче, чем дукатами, умный человек ждет более тонкой награды. Все материальные богатства такой особы, как княжна Агата, — ничто в сравнении с сокровищами ее щедрого и нежного сердца… И решительный человек, давший клятву служить ей, если он служит ей с известной готовностью и рвением, не вправе ли он надеяться на награду более высокую, чем дозволение черпать из ее кошелька? Ведь есть же духовные радости более возвышенные, рядом с которыми предложение разделить ваши богатства не только не может удовлетворить меня, ко даже оскорбляет мою душу и чувства. Тут Пиччинино поднялся и подошел к ней, и Агата почувствовала, что ее охватывает страх. Она не осмеливалась перейти на другое место, опасаясь, что побледнеет или задрожит; она была достаточно смела, но лицо и речь молодого человека причиняли ей ужасную муку. Одежда, черты лица, движения, голос пробуждали в ней целый мир воспоминаний, и как она ни старалась считать его достойным своего уважения и благодарности, непобедимое отвращение замыкало для этих чувств ее душу. Несмотря на настояния фра Анджело, она часто отказывалась обратиться к помощи разбойника, и, вероятно, никогда и не прибегла бы к ней, если бы не узнала наверняка, что аббат Нинфо уговаривал Пиччинино убить или похитить Микеле и показывал ему завещание, которым собирался оплатить его услуги. Но было слишком поздно. Прямой и наивный капуцин из Бель-Пассо не предвидел, что его ученик, которого он привык считать мальчиком, влюбится в женщину на несколько лет старше себя. А ведь это не трудно было предвидеть! У тех, к кому испытываешь уважение, нет возраста! Для фра Анджело княжна Пальмароза, святая Агата Катанийская и мадонна — все они даже не были женщинами. Если бы кто-нибудь потревожил его сон и сказал ему, какой опасности подвергается в эту самую минуту Агата со стороны его ученика, он воскликнул бы: — Ну, этот скверный мальчишка, вероятно, загляделся на ее брильянты. И, пускаясь в дорогу, чтобы броситься на помощь Агате, он подумал бы еще, что она сама одним словом могла удержать разбойника на расстоянии. Но Агата как раз испытывала непреодолимое нежелание произнести это слово и все надеялась, что так и не будет вынуждена прибегнуть к этому. — Я отлично понимаю, сударь, — заговорила она с растущей холодностью, — что в награду вы просите моей дружбы. Но повторяю, я ее уже доказала в этом самом случае и думаю, что ваша гордость должна быть удовлетворена. — Да, сударыня, моя гордость. Но речь идет не только о моей гордости. Да вы и не знаете моей гордости достаточно, чтобы судить о ее пределах и о том, не окажется ли она выше всех денежных жертв, которые вы могли бы принести ради меня. Мне не нужно ваше завещание, мне оно вовсе и никак не нужно, — вы понимаете меня? И он опустился перед ней на колени и жадно схватил ее руку. Агата поднялась и, поддаваясь, быть может, необдуманному порыву негодования, схватила со столика завещание. — Раз так, — сказала она, делая попытку разорвать его, — пусть лучше это богатство не достанется ни вам, ни мне; это ведь меньшая из услуг, оказанных мне вами, капитан, и не будь она связана с другой, более важной, я бы вас никогда о ней не просила. Лучше мне уничтожить этот документ, и тогда вы будете вправе требовать законную долю моей признательности, а мне не придется краснеть, слушая вас. Но пергамент не поддавался усилиям ее слабых рук, и Пиччинино успел отнять его у нее и положить под большую доску римской мозаики, украшавшую столик, поднять которую ей было еще трудней. — Оставим это, — сказал он улыбаясь, — и больше не будем об этом думать. Будем считать, что этого завещания даже никогда и не было. Решим раз навсегда, что оно никак не связывает нас и что вы ничего не должны мне за ваше состояние. Я знаю, вы достаточно богаты и можете обойтись без этих миллионов, знаю также, что не владей вы ничем, вы не отдали бы своей дружбы за денежную услугу, которую вы рассчитывали оплатить деньгами. Ваша гордость вызывает восхищение, сударыня, я ее понимаю и горжусь тем, что понимаю. Теперь же, когда такие прозаические соображения устранены, я чувствую себя гораздо счастливей, ибо надеюсь! Я чувствую себя также гораздо смелее, потому что дружба такой женщины, как вы, мне представляется столь желанной, что я готов на все, чтоб ее добиться. — Не говорите пока о дружбе, — сказала Агата, отталкивая его, так как он уже касался ее длинных кос и пытался обвивать их вокруг своей руки, словно желая привязать себя к ней. — Говорите о благодарности, которой я обязана вам, — она велика, я никогда не отрекусь от нее и при случае докажу вам это, наперекор вам, если понадобится. Услуга, оказанная вами, ждет услуг с моей стороны, и придет день, когда мы будем квиты. Но дружба предполагает взаимную симпатию, и, чтобы добиться моей, нужно ее снискать и заслужить. — Что же надо сделать? — пылко вскричал Пиччинино. — Скажите только! О, я умоляю вас, скажите мне, что надо сделать, чтобы вы меня полюбили! — Надо уважать меня в глубине своего сердца, — отвечала она, — и не приближаться ко мне с такими смелыми взглядами, с такой самодовольной улыбкой, — это оскорбляет меня. Увидев, как она надменна и холодна, Пиччинино почувствовал досаду. Но он знал, что досада — плохой советчик; ему хотелось понравиться, и он преодолел себя. — Вы не понимаете меня, — сказал он, подводя ее к ее месту и садясь рядом. — О нет, в такой душе, как моя, вы ничего не понимаете! Вы слишком светская женщина, вы слишком дипломатичны, а я слишком прост, слишком груб, я слишком дикарь! Вы боитесь, что я могу забыться, так как видите, что я без памяти люблю вас, но не боитесь заставить меня страдать, потому что не представляете, какую боль может мне причинить ваше равнодушие. Вы думаете, что горцу со склонов Этны, авантюристу и разбойнику, ведома лишь чувственная страсть, и когда я прошу вашей любви, вы думаете, будто вам надо обороняться. Будь я герцог или маркиз, вы слушали бы меня без боязни и утешали бы меня в моей горести; и, объяснив, что вашей любви невозможно добиться, предложили бы мне свою дружбу. А я был бы смирен, терпелив, покорен и исполнен печали и нежной благодарности. Мне же вы отказываете даже в слове участия, только потому, что я простой крестьянин. Ваша гордость встревожена, вы думаете, будто я требую, чтобы вы пожертвовали ею в благодарность за мою службу. Вы попрекаете меня этими услугами, словно на этом основании я требую себе места рядом с вами, как будто я помню о своих услугах, когда гляжу на вас и говорю с вами! Увы! Беда в том, что я не умею хорошо выразиться, говорю, что думаю, и не изыскиваю способов, как бы дать вам понять это без слов. Искусство ваших льстецов мне неизвестно, я не угодничаю ни перед красотой, ни перед властью, и моя проклятая жизнь не позволяет мне стать вашим верным поклонником, как маркиз Ла-Серра. Мне дан один час — всего один час на то, чтобы с опасностью для жизни прийти среди ночи и сказать, что я ваш раб, а вы мне отвечаете, что не желаете быть моей владычицей, и хотите быть только должницей, моей клиенткой и что вы хорошо мне заплатите! Ах, стыдно, сударыня, такой холодной рукой касаться пылающего сердца! — Если бы вы говорили только о дружбе, — сказала Агата, — если бы вы на самом деле желали стать только одним из моих друзей, я бы ответила, что, быть может, со временем… — Дайте же мне говорить! — горячо перебил ее Пиччинино, и лицо его вдруг засияло чудесным обаянием, присущим ему в минуты, когда он действительно был глубоко взволнован. — Сначала я не осмеливался просить вас ни о чем, кроме дружбы, и только ваш ребяческий страх заставил слететь слово «любовь»с моего языка. Но что же другое может сказать мужчина женщине, чтобы ее успокоить? Я вас люблю настоящей любовью, и потому вам нечего опасаться, если я беру вас за руку. Я высоко чту вас, вы сами видите, ведь мы с вами одни здесь, а я владею собой; но управлять своими мыслями и порывами не в моей власти. Если бы у меня была целая жизнь, чтобы доказывать вам свою любовь! Но у меня есть лишь этот миг, чтобы сказать о ней, поймите же это. Если бы я мог каждый день проводить по шесть часов кряду у ваших ног, как маркиз, я, возможно, был бы счастлив тем подобием чувства, что вы соглашаетесь дарить ему. Но когда у меня только этот час, который, словно видение, тает на глазах, мне нужна вся ваша любовь, либо пусть меня постигнет отчаяние, всей глубины которого я не смею себе представить. Разрешите же мне говорить о любви, слушайте меня я не бойтесь ничего. Если вы скажете «нет»— это будет «нет». Но если вы выслушаете меня без опаски, если вы искренно захотите меня понять, если согласитесь забыть и ваш свет и вашу надменность, которые здесь неуместны и которые совсем не существуют в том мире, где существую я, вы смягчитесь, потому что вы поймете меня. О да, да! Если бы вы были простодушны, если бы не подменяли предрассудками чистых побуждений, исходящих из человеческой природы и правды, вы бы поняли, что в этой груди бьется сердце, которое моложе и горячее, чем у всех тех, кого вы оттолкнули, что с людьми это сердце льва, сердце тигра, но с женщинами — сердце мужчины, и с вами — сердце ребенка. Вы бы хоть пожалели меня. Вы бы увидели какова моя жизнь — жизнь, постоянно грозящая гибелью, ставшая пыткой, неотвязным мучением. И одинокая… Душевное одиночество — о, вот что меня убивает, потому что душа моя еще требовательней, чем мои чувства. Постойте, вы ведь знаете, как я обошелся сегодня утром с Милой! Она, конечно, красива, да и по характеру и уму существо незаурядное. Я рад был бы полюбить ее, и если бы хоть на одно мгновение почувствовал любовь к ней, она полюбила бы меня и была бы моей на всю свою жизнь. Но рядом с нею я думал лишь о вас. Это вас я люблю, и вы единственная женщина, какую я любил когда-либо, хоть и был любовником очень многих! Так полюбите же меня хоть на один миг, лишь бы вы успели сказать мне это, иначе сегодня, проходя у того креста, что зовут крестом Дестаторе, я сойду с ума! Я буду скрести ногтями землю, чтобы надругаться над останками человека, давшего мне жизнь, чтобы пустить по ветру его прах! При этих словах Агата вдруг совершенно обессилела. Она побледнела, дрожь пробежала по ее телу, и она откинулась на спинку кресла, словно некая окровавленная тень прошла перед ее глазами. — Ах замолчите, замолчите, — вскричала она, — вы не знаете, как вы меня мучите! Разбойнику не понять было причины ее внезапного ужасного волнения. Он совсем иначе понял ее. Пока он говорил, такая сила была в его голосе, такая сила была в его взгляде, что они убедили бы любую женщину, кроме княжны. Он подумал, что очаровал ее своими горящими глазами, опьянил своей речью, — по крайней мере он верил в это. И он так часто имел основания убеждаться в этом, даже когда и вполовину не испытывал влечения, какое внушала ему эта женщина! Он счел ее побежденной и, схватив в объятия, искал ее уст, полагая, что растерянность довершит дело. Но Агата с неожиданной силой вырвалась из его рук, бросилась к колокольчику, и тут между нею и Пиччинино встал Микеле с пылающими глазами и со стилетом в руке.XLIV. ОБЪЯСНЕНИЕ
Пиччинино оцепенел при этом внезапном появлении и стоял неподвижно, не нападая, не защищаясь. Микеле готов был уже нанести удар, ко тоже остановился, как бы смущенный собственной поспешностью. Тут Пиччинино сделал быстрое и ловкое, почти незаметное движение, и пока Микеле отводил свой стилет, в его руке уже оказалось оружие. В глазах разбойника молнией сверкнула ярость, однако он, как всегда, заговорил холодно и презрительно: — Прекрасно, теперь я все понимаю. Чем разыгрывать такую глупую сцену, княжна Пальмароза могла бы довериться мне и сказать попросту: «Оставьте меня в покое, я не могу слушать вас, у меня за кроватью спрятан любовник». И я бы скромно удалился; теперь же мне придется проучить синьора Лаворатори в наказание за то, что он видел меня в такой дурацкой роли. Тем хуже для вас, синьора, это будет кровавый урок! И, как гибкий зверь, он легко прыгнул на Микеле. Но как бы ии был ловок и стремителен его прыжок, дивная сила любви помогла Агате оказаться еще проворней. Она кинулась наперерез, и удар пришелся бы ей в грудь, если бы Пиччинино не убрал кинжал в руках с такой быстротой, что могло показаться, будто его рука никогда и не держала оружия. — Что вы делаете, сударыня? — сказал он. — Я вовсе не собираюсь убивать вашего любовника, я собираюсь драться с ним. Вы не хотите? Ладно. Вы решили грудью прикрыть его? Такого прикрытия я не коснусь, но я найду этого человека, поверьте моему слову! — Остановитесь! — вскричала Агата, удерживая его за руку, так как он уже направился к двери. — Откажитесь от своего безумного мщения и подайте руку тому, кого вы считаете моим любовником. Он охотно подчинится тоже: ведь кто же из вас двоих захочет убить или проклясть своего брата? — Брата?.. — сказал изумленный Микеле, роняя стилет. — Это мой брат? — спросил Пиччинино, не выпуская своего оружия. — Такое наспех сочиненное родство кажется довольно неправдоподобным, сударыня. Я слышал не раз, что жена Пьетранджело была нехороша собой, и сомневаюсь, чтобы мой отец играл такие злые шутки с мужьями, у которых не было бы оснований для ревности. Не хитро вы придумали! До свидания, Микеланджело Лаворатори. — Говорю вам, он брат ваш! — твердо повторила Агата. — Он сын вашего отца, а вовсе не Пьетранджело, и сын женщины, которую ваше презрение не в силах оскорбить и для которой слушать вас было преступлением и безумием. Вы не понимаете? — Нет, сударыня, — сказал Пиччинино, пожимая плечами. — Я не понимаю бредней, которые вы сейчас придумываете для того, чтобы спасти жизнь своего любовника. Если этот мальчишка — сын моего отца, тем хуже для него: у меня ведь немало других братьев, которые немногого стоят и которых я, ничуть не стесняясь, могу хватить по голове рукояткой пистолета, если не вижу надлежащего послушания или уважения ко мне. И этот новый член семьи, самый младший, сдается мне, тоже будет наказан по заслугам моей рукой. Не на ваших глазах — я не люблю, чтобы женщины падали при мне в судорогах, но не всегда жеэтому красавчику прятаться у вас на груди, сударыня, и уж я узнаю, где мне его найти! — Прекратите эти оскорбления, — решительно сказала Агата, — вам не задеть меня, и если вы не подлец, то не должны говорить подобным образом с женою вашего отца. — С женою моего отца? — переспросил разбойник, понемногу начиная прислушиваться к ее словам. — Мой отец никогда не был женат, синьора! Нечего меня обманывать. — Ваш отец был женат, Кармело! Он женился на мне! И если вы сомневаетесь, можете найти подлинное брачное свидетельство в архивах монастыря Маль-Пассо, спросите его у фра Анджело. Имя этого юноши вовсе не Лаворатори — его имя Кастро-Реале. Он сын, единственный законный сын князя Чезаре де Кастро-Реале. — Значит, вы моя мать? — воскликнул Микеле, падая на колени и со смешанным чувством ужаса, угрызений совести и обожания целуя платье Агаты. — Ты же знаешь сам, — сказала она, прижимая голову сына к своей взволнованной груди. — Теперь, Кармело, попробуй, убей его в моих объятиях — мы умрем вместе. И после попытки совершить кровосмешение ты совершишь матереубийство. Пиччинино, раздираемый множеством различных чувств, скрестил на груди руки и, прислонившись к стене, молча разглядывал брата и мачеху, как будто все еще не желая верить правде. Микеле поднялся, подошел к нему и сказал, протягивая руку: — Твоя вина только в твоей ошибке, и эту ошибку я должен простить тебе: ведь я сам любил ее, не зная, что имею счастье быть ее сыном. Ах, не омрачай злопамятством моей радости! Будь моим братом, как я желаю быть твоим! Ради господа бога, который повелел нам любить друг друга, вложи свою руку в мою и склонись перед моей матерью, чтобы она тебя простила и благословила вместе со мной. Услышав эти великодушные и искренние слова, произнесенные от всего сердца, Пиччинино едва не растрогался: грудь его стеснилась, слезы готовы были брызнуть. Но гордость оказалась сильнее зова природы, и он устыдился чуть было не одолевшего его чувства. — Прочь от меня, — сказал он юноше, — я тебя не знаю. Мне чужды все эти семейные нежности. Я тоже любил свою мать. Но с нею умерли все мои привязанности. У меня не было никакого чувства к отцу, которого я едва знал и который очень мало любил меня. Я, пожалуй, лишь тщеславился тем, что я единственный признанный сын князя и героя. Я считал свою мать единственной женщиной, которую он любил. И вдруг мне сообщают, что он обманул мою мать, что он был мужем другой, — мне нечего радоваться такому открытию. Ты законный сын, а я незаконнорожденный. Я привык считать, что я один, если захочу, имею право похваляться именем, которое ты будешь носить в свете и которого у тебя никто не станет оспаривать. И ты хочешь, чтобы я любил тебя — тебя, кто знатен вдвойне, и по отцу и по матери? Тебя — кто так богат? Тебя — кто будет властвовать в краях, где я скитаюсь, где меня преследуют? Тебя — кого все равно, хороший ты сицилиец или дурной, будет холить и ласкать неаполитанский двор и кому иногда не под силу будет отказаться от почестей и должностей! Тебя — кто, быть может, станет командовать вражеским войском, чтобы разорять очаги твоих соотечественников! Тебя — кто, став генералом, министром или судьей, велит отрубить мне голову и приколотить позорный приговор к шесту, на котором она будет торчать ради примера и на страх всем нам, братьям-горцам? Ты хочешь, чтобы я любил тебя? Нет, я ненавижу тебя и проклинаю. А эта женщина, — желчно и горько продолжал Пиччинино, — эта лживая, холодная женщина, которая с таким дьявольским искусством играла мной, — ты хочешь, чтобы я стал перед ней на колени и просил благословить меня рукою, быть может, замаранной кровью моего отца? Ведь теперь-то я понимаю больше, чем ей хотелось бы! Никогда не поверю, чтобы она добровольно пошла за разбойника, разоренного, опозоренного, загнанного, развращенного несчастьями, которого звали не иначе, как Дестаторе. Он, наверное, похитил ее и взял силою. Ах да, припоминаю теперь! Ходит такая история, обрывки ее я слышал от фра Анджело. Одну девочку на прогулке захватили разбойники, утащили вместе с гувернанткой в логово своего начальника, а через два часа привели обратно — полуживую, обесчещенную! Ах, отец, отец, вы были и героем и злодеем сразу! Я знаю это, но я-то получше вас, насилие мне отвратительно, и туманный рассказ фра Анджело навсегда отучил меня искать наслаждения в насилии… Так это вы, Агата, были жертвой Кастро-Реале! Теперь я понимаю, почему вы согласились тайно обвенчаться с ним в монастыре Маль-Пассо. Этот брак остался тайной, быть может единственной подобной тайной, которая не вышла наружу! Вы действовали хитро, но остальная ваша история теперь для меня проясняется. Теперь я понимаю, почему ваша родня держала вас под замком целый год, и так тщательно, что считалось, будто вы умерли либо ушли в монастырь. Теперь я понимаю, почему убили моего отца, и я не поручусь, что вы неповинны в его смерти! — Негодяй! — вскричала возмущенная Агата. — Вы осмеливаетесь подозревать меня в убийстве человека, которого я согласилась взять в мужья? — «Не ты, так твой отец иль кто-то из твоих…»— с горьким смехом процитировал Пиччинино по-французски. — Мой отец вовсе не покончил с собой, — со злобным выражением продолжал он, переходя снова на сицилийский диалект, — он мог быть повинен и преступлении, но не в трусости, и пистолет, что нашли в его руке у креста Дестаторе, никогда не принадлежал ему. И не так он низко пал, чтобы, спасаясь от врагов, когда от него отступились многие его сторонники, искать смерти от своей руки. И набожность, что пытался ему внушить фра Анджело, не так уж затемнила его рассудок, чтобы он счел долгом самому карать себя за свои прегрешения. Его убили и к тому же, наверное, заманили в ловушку, иначе он не попался бы так легко неподалеку от города. Аббат Нинфо, вероятно, приложил руку к этому кровавому заговору. Уж я это узнаю, ведь он сидит у меня под замком, и хоть я и не жесток, а буду пытать его своими собственными руками, пока он не признается! Ведь это мое дело — мстить за смерть отца, а твое, Микеле, стоять заодно с теми, кто подстроил это убийство. — Боже великий! — воскликнула Агата, не слушая больше обвинений Пиччинино. — Неужто с каждым днем будут раскрываться новые злодейства и акты мести в моей семье? О, кровь Атридов, да не пробудят ее фурии в жилах моего сына! Какие обязательства, Микеле, налагает на тебя твое рождение! Сколькими добрыми делами придется тебе искупать грехи, совершенные до твоего рождения и после него! Вы думаете, Кармело, ваш брат когда-нибудь пойдет против своей страны и против вас? Будь это так, я сама просила бы вас убить его сегодня, пока он чист и благороден, ибо я знаю — увы! — какими становятся люди, отрекаясь от любви к родине и уважения, на которое имеют право побежденные. — Убить его сейчас? — сказал Пиччинино. — Я бы охотно поймал вас на слове, это дело недолгое: ведь наш новоявленный сицилиец действует ножом, наверно, не лучше, чем я карандашом. Но я не сделал этого вчера вечером, когда такая мысль пришла мне в голову на могиле нашего отца. Сегодня я подожду, чтобы остыл мой гнев, — убивать надо хладнокровно, по здравому суждению и приказу совести. Ах, Микеле дель Кастро-Реале, я еще не знал вчера, кто ты, хотя аббат Нинфо уже предназначал тебя моей мести. Я ревновал к тебе, считая тебя любовником той, что сегодня называет себя твоей матерью. Но у меня было предчувствие, что эта женщина не стоит любви, которая разгоралась во мне, и когда ты не отступил передо мною, я сказал себе: «Зачем убивать смелого мужчину ради женщины, которая, может быть, просто труслива?» — Замолчите, Кармело! — вскричал Микеле, снова хватаясь за стилет, — умею я владеть ножом или нет, но прибавьте хоть слово к оскорблениям, которыми вы осыпаете мою мать, и либо я убью вас, либо вы меня. — Сам ты замолчи, мальчик, — отвечал Пиччинино, надменно оборачиваясь к Микеле и обнажая свою грудь. — Добропорядочность законного общества делает человека трусом, и, воспитанный в его понятиях, ты сам таков. Ты не посмеешь и оцарапать мою львиную шкуру, потому что почитаешь во мне брата. Но у меня таких предрассудков нет, и я — дай срок! — докажу тебе это, когда буду поспокойней! Сегодня, признаюсь, я слишком негодую, и мне хочется тебе сказать почему. Потому что меня обманули, а я думал, что никому на свете не поймать меня на легковерии, потому что я доверился слову этой женщины, когда она сказала мне вчера в этом самом цветнике, откуда сейчас доносится лепет фонтанов, под светом этой самой луны, которая казалась не так чиста и ясна, как ее лицо: «Что может быть общего между мной и этим мальчиком?» «Что общего?»— а ты ее сын! Ты знал это и тоже обманул меня! — Нет, этого я не знал. А мать моя… — Ты и твоя мать — вы две холодные змеи, двое ядовитых Пальмароза! Ах, ненавижу эту семью, которая всегда угнетала мою страну и мой народ. Когда-нибудь я разочтусь с ними за все, даже с теми, что разыгрывают хороших патриотов и добрых синьоров. Я ненавижу всю знать, и пусть моя откровенность пугает вас, кому не зазорно выступать и за и против! Я возненавидел знать минуту назад, в тот миг, как узнал, что не принадлежу к ней, потому что у меня есть брат — законный сын, а я только незаконнорожденный. Я ненавижу имя Кастро-Реале, раз не могу его носить. Я завистлив и мстителен. И я тоже честолюбив! С моим умом и моими способностями у меня для этого больше оснований, чем у воспитанника муз и Пьетранджело с его искусством живописи! Я достиг бы большего, чем он, останься наши обстоятельства прежними. И мое тщеславие простительней твоего, князь Микеле, потому что я говорю о нем с гордостью, а ты стыдливо прячешь его, будто от скромности. Наконец, я сын дикой природы и свободы, а ты ученик привычки и страха. Я действую хитростью по примеру волков, и мои хитрости приводят к цели. А ты действуешь ложью по примеру людей, и никогда не достигнешь цели, да еще и лишаешь себя преимуществ откровенности. Вот жизнь моя и вот твоя. Если ты станешь мне поперек дороги, я отделаюсь от тебя как от помехи — понимаешь? Не серди меня, не то берегись! Прощай. Не старайся свидеться со мною вновь — вот мое братское напутствие! — А что до вас, княгиня Кастро-Реале, — сказал он, иронически кланяясь Агате, — вам, которая могла бы и не заставлять меня валяться у своих ног, чья роль в несчастье у креста Дестаторе не очень ясна, вам, которая не сочла меня достойным узнать о злоключениях вашей юности и захотела красоваться в моих глазах незапятнанной девственницей, нимало не беспокоясь тем, что я томлюсь в безумной надежде на ваши драгоценные милости, — вам я желаю счастья в полном забвении всего, что было между нами. Но я-то буду помнить все и предупреждаю вас, сударыня: вы затеяли бал на вулкане и в прямом и в переносном смысле. Досказав свою речь, Пиччинино закутался в плащ с головой, прошел в будуар и, не желая, чтобы ему отворяли дверь, одним прыжком перемахнул через большое окно, выходившее в цветник, потом вернулся к той двери, порога которой он не пожелал переступить, и, подобно старинным участникам Сицилийской вечерни, крест-накрест разрубал кинжалом вырезанный на двери герб рода Пальмароза. Через несколько секунд он уже стрелой несся в гору. — О мать моя! — восклицал Микеле, обнимая расстроенную Агату. — Желая избавить меня от врагов воображаемых и бессильных, какого жестокого врага вы приобрели себе сами! Моя добрая, обожаемая мать, я тебя не покину ни на миг ни днем, ни ночью. Я буду спать у твоего порога, и если любовь сына не сумеет защитить тебя, значит, провидение совсем оставило людей! — Успокойся, мой мальчик, — сказала Агата, сжимая его в своих объятиях, — у меня сердце кровью обливается от всего, что наговорил этот человек, но я не страшусь его несправедливого гнева. Нельзя было раньше раскрыть ему тайну твоего рождения, ты сам видишь, какое действие это оказало. Но пробил час, теперь мне нечего бояться за тебя: тебе опасна лишь его личная вражда, а ее мы успокоим. Мстительные страсти в семье Пальмароза угаснут с последним вздохом кардинала Джеронимо, — быть может, он как раз испускает его. Если попытка уберечься от него с помощью Кармело и была ошибкой, эта ошибка на совести фра Анджело, который считает, будто знает людей, так как провел жизнь среди отщепенцев, разбойников и монахов. И все же я доверяю его чутью. Этот человек, только что проявлявший здесь такую злобу, на которого я не могу глядеть без смертельной муки, потому что он напоминает мне того, кто был источником всех моих несчастий, этот человек — Кармело, — быть может, не так уж недостоин доброго порыва, подсказавшего тебе назвать его братом. Он тигр, когда впадает в ярость, и хитрая лиса, когда размышляет. Но между часами, когда он предается ярости, и часами, посвященными коварству, должны же быть у него часы упадка духа, когда человеческие чувства обретают свои права и исторгают у него слезы сожаления и тоски. Мы вернем его, я надеюсь! Справедливость и доброта найдут трещину в его броне. В момент, когда он тебя проклинал, я видела, как он заколебался и еле удержал слезы. Его отец… твой отец, Микеле!.. способен был чувствовать глубоко и пылко даже в дни самых мрачных безумств. Я видела, как он рыдал у моих ног, а перед этим он чуть не задушил меня, препятствуя мне кричать. Позднее я видела, как он каялся перед алтарем во время венчания, и, несмотря на всю ненависть и ужас, которые он всегда внушал мне, я тоже каялась в час его смерти, зачем не простила его раньше. Я содрогаюсь, вспоминая его, но никогда я не решалась предать проклятию его память. А с тех пор как я снова обрела тебя — о возлюбленный сын, — я старалась оправдать его в своих собственных глазах, чтобы не быть вынужденной осуждать его перед тобой. Так не стыдись же носить имя человека, который причинил горе лишь мне и который много сделал для своей родины. Но к тому, кто воспитал тебя, сыном кого ты считал себя до этого дня, сохрани ту же любовь, то же уважение, которое испытывал еще утром, отдавая ему приданое Милы и уверяя, что тебе лучше оставаться у него в подмастерьях всю жизнь, лишь бы не расставаться с ним! — О Пьетранджело! Отец мой! — с жаркими слезами, переполнявшими его грудь, воскликнул Микеле. — Ничто не изменится между нами! И в день, когда мое сердце перестанет биться сыновьей любовью к тебе, — в тот день оборвется, наверное, моя жизнь!XLV. ВОСПОМИНАНИЯ
Агата совсем выбилась из сил и чувствовала себя разбитой после всех перенесенных ею волнений. Она была хрупкого здоровья, хоть и сильна душою. Микеле испугался, заметив, как она побледнела, как ослабел ее голос. Его переполняла нежная, разрывающая ему сердце заботливость, пришедшая вместе с новым чувством. Он почти не знал любви, какую может внушить мать. Жена Пьетранджело была, разумеется, добра к нему, но он потерял ее в самом раннем возрасте, и в его памяти остался только образ крепкой женщины, хорошей, но вспыльчивой, преданной заботам о своих малышах, но с резким голосом и тяжелой рукой. Как отличалось от нее это поэтическое существо пленительной красоты с изысканной душою, как отличалась от нее Агата, которая была для Микеле идеалом художника и которую он обожал как мать! Он упросил ее лечь в постель и попытаться отдохнуть часок. — Я останусь подле вас, — говорил он, — буду бодрствовать у вашего изголовья, для меня счастье глядеть на вас, и когда вы откроете глаза, вы найдете меня на месте. — А ты? — возражала она. — Уже третью ночь ты проводишь почти без сна. Ах, как я страдаю за тебя, за ту жизнь, что мы с тобой ведем последние дни! — Не беспокойтесь обо мне, дорогая матушка, — отвечал юноша, покрывая поцелуями ее руки, — все эти три дня я хорошо спал по утрам, а сейчас я так счастлив, несмотря на все пережитое нами, что, кажется, мне никогда и не уснуть. Раньше я желал заснуть, чтобы снова увидеть вас в своих сновидениях, теперь, когда сновидения стали явью, я боюсь во сне расстаться с действительностью. Это вам, моей матери, надо отдохнуть. Ах, как сладко это звучит — «моя мать»! — Мне так же не хочется спать, как и тебе, — сказала она, — я хотела бы ни на миг не расставаться с тобой. Я теперь из-за Пиччинино так дрожу за твою жизнь, что будь что будет — оставайся со мной до рассвета. Раз ты этого хочешь, я лягу. Садись в кресло, дай руку, и если у меня не станет сил говорить, по крайней мере я буду слушать тебя — нам нужно так много сказать друг другу! Я хочу знать твою жизнь — с первого дня, как ты помнишь себя, и до сегодня. Так провели они два часа, пролетевших для них, словно две минуты. Микеле и в самом деле рассказал ей свою жизнь, не скрыв даже своих недавних переживаний — в том восторженном влечении, которое он испытывал к матери, еще не зная ее, не было теперь ничего, что не могло быть пересказано словами, достойными святости их новых отношений. Слова же, которые он говорил про себя когда-то, теперь изменили смысл, и все те, что могли быть нечестивыми, стерлись, как невнятные речи, которые мы бормочем в жару и от которых не остается и следа, едва к нам возвращается рассудок и здоровье. Да, впрочем, за исключением иных тщеславных порывов, Микеле никогда не мечтал о том, из-за чего ему следовало бы краснеть теперь перед самим собой. Он думал, что любим, и нисколько не ошибся! Пылкая любовь переполняла его, но он чувствовал, что любит Агату, ставшую ему матерью, с не меньшим жаром и признательностью и даже не менее ревниво, чем любил час назад. Теперь ему стало понятно, почему он не мог видеть ее без того, чтобы душа его неодолимо не стремилась к ней, всегда с живейшим сочувствием, с чувством тайной гордости ею, которая перекликалась с его собственной. Он вспоминал, как, увидев ее впервые, он подумал, что когда-то уже видел ее. И когда Микеле попросил у нее объяснения этого чуда, она сказала: — Посмотрись в зеркало, и ты поймешь, что в моих чертах ты увидел свои собственный образ. Это сходство, которое всегда любил отмечать Пьетранджело, наполняло меня гордостью и в то же время заставляло трепетать за тебя. К счастью, оно никому не бросилось в глаза, разве что кардиналу, который велел остановить носилки, чтобы разглядеть тебя, в день твоего прибытия, когда ты, словно направляемый невидимой рукой, пришел ко входу во дворец твоих предков. Мой дядя в свое время был самым подозрительным, самым проницательным и хитрым врагом и деспотом. Если бы он тебя увидел до того, как его разбил паралич, он, конечно, узнал бы тебя и, не задав ни единого вопроса, велел бросить в тюрьму, а потом отправить в изгнание… Быть может, велел бы убить тебя! Как он ни ослабел за последние десять дней, он уставился на тебя (что и пробудило подозрения Нинфо), и его память прояснилась настолько, что он пожелал справиться о твоем возрасте. Кто знает, к какому роковому открытию это могло привести его, если бы провидение не подсказало тебе назвать двадцать один год вместо восемнадцати! — Мне восемнадцать, — сказал Микеле, — а вам, матушка? Вы мне кажетесь моложе меня. — Мне тридцать два, — ответила Агата, — разве ты не знаешь? — Нет, не знаю! Мне могли бы сказать, что вы моя сестра, и, поглядев на вас, я поверил бы. О, какое счастье, что вы так еще молоды и прекрасны! Вы проживете столько же, сколько я, правда? Я не испытаю несчастья потерять вас! Потерять вас! Ах, теперь, когда моя жизнь слилась с вашей, смерть мне страшна, я не хотел бы умереть ни прежде вас, ни после!.. Но разве мы впервые вместе? Я роюсь в смутных воспоминаниях раннего детства с надеждой поймать хоть что-нибудь связанное с вами… — Мой бедный мальчик, — сказала княжна, — я даже не видела тебя до того дня, когда, заглянув через верхнее окошко в галерею, где ты спал, не могла удержать крика любви и горькой радости, который тебя разбудил. Три месяца тому назад я еще не знала о твоем существовании. Я думала, ты умер в тот же день, когда родился. Иначе неужели ты думаешь, что, переодевшись в чужое платье, я не бросилась бы к тебе в Рим, чтобы обнять тебя и избавить от опасностей одинокой жизни? В день, когда Пьетранджело рассказал мне, как он спас тебя, отняв у злодейки повитухи, которая, по приказу моих родных, собиралась снести тебя в приют, как он бежал с тобой на чужбину, как воспитывал тебя, словно родного сына, в тот день я собралась ехать в Рим. Я бы так и сделала, если бы не осмотрительный фра Анджело, который убедил меня, что твоя жизнь будет в опасности, пока жив кардинал, и что лучше тебе дождаться его смерти, чем нам всем вызвать подозрения и подвергаться розыску. Ах, сыночек, как я настрадалась, живя столько лет с теми ужасными воспоминаниями моей юности! Опозоренная еще девочкой, гонимая, все время под замком, преследуемая собственной семьей за то, что никак не желала открыть имя человека, с которым согласилась обвенчаться при первых признаках беременности, разлученная со своим ребенком, осыпаемая бранью за слезы, которые вызвало у меня известие о его ложной смерти, и угрозами загубить его на моих глазах, когда я осмеливалась высказывать надежду, что то был обман, — так в слезах, в страхе и трепете провела я лучшие годы своей жизни. Ты появился на свет, Микеле, в этой комнате, на этом самом месте. Тогда это было что-то вроде необитаемого чердака, где давно никто не жил и который превратили в тюрьму, чтобы скрыть от людей мой позор. Никто не знал, что со мной случилось. Мне самой этого не рассказать, я едва понимала происшедшее, так была молода и так чисто было мое воображение. Я предчувствовала, что правдивый рассказ навлечет новые бедствия на дитя, что я носила под сердцем, и на его отца. Моя воспитательница умерла на другой день после несчастья и не успела или не захотела сказать ни слова. Никто не мог вырвать у меня тайны даже во время родовых мук. И когда мой отец и дядя, как безжалостные инквизиторы, стояли над моим ложем и угрожали мне смертью, если я не признаюсь в моем, как они называли, грехе, я отвечала им одно: я невинна перед богом, и ему одному судить или простить виновника. Открыли ли они позже, что я была женою Кастро-Реале, — этого я никогда не узнала; никогда не произносили при мне его имя; никогда мне не задавали вопросов о нем. Убили ли они его и помогал ли им аббат Нинфо заманить его в засаду, как считает Кармело, — этого я тоже не знаю, но, к сожалению, не могу считать их неспособными на такое дело. Знаю только, что по смерти Дестаторе, когда я еще не совсем оправилась после родов, они хотели заставить меня выйти замуж. До этого они в качестве вечного наказания изображали мне невозможность для меня брака. И вот меня извлекли из моей темницы, где так тщательно стерегли, что за стены ее ничто не выходило, и в округе считали, будто я живу в монастыре в Палермо. Я была богата, красива и знатна. Много раз мне делали предложения. Я с ужасом отвергала самую мысль обмануть честного человека или признаться в истине человеку достаточно подлому, чтобы он захотел взять меня за мое богатство. Мое сопротивление бесило отца. Он притворился, будто отправляет меня в Палермо, а на самом деле ночью перевел меня в эту комнату и держал здесь взаперти целый год. Это была ужасная тюрьма; духота стояла, как в венецианских пьомби, так как солнечные лучи отвесно падали на узкую железную террасу, служившую временной кровлей для этого так и недостроенного этажа. Я мучилась жаждой, меня терзали москиты, заброшенность, одиночество, мне не хватало воздуха и движения, столь потребных в юности. И все же я не умерла и ничем не заболела — так велика была во мне сила жизни. Отец никому не доверял обязанности стеречь меня, опасаясь, как бы слуги из жалости не постарались смягчить моих страданий; он сам приносил мне пищу, а когда политические интриги иной раз по целым дням задерживали его в городе — я подвергалась мукам голода. Но я выработала в себе стоическую твердость и не унижалась до жалоб. Я почерпнула известное мужество и многое уяснила себе в этом испытании в вовсе не сетую на бога, что он послал мне его. Понятие долга и чувство справедливости — великие блага, и за них никогда не платишь слишком дорого! Так, полулежа в постели, слабым, понемногу крепнувшим голосом говорила Агата; потом, приподнявшись на локте и откинув длинные черные волосы, она обвела рукой богато убранные покои, где они находились, и сказала сыну: — Пусть богатство и знатность твоего рода никогда не вскружат тебе головы, Микеле! Дорого я заплатила за эти преимущества: здесь, в этой самой комнате, где нам обоим так уютно сегодня, я проводила в ужасном одиночестве долгие часы без сна на простом ложе, снедаемая лихорадкой, и вопрошала бога, зачем он не назначил мне родиться в пещере козьего пастуха или в лодке пирата. Я тосковала о свободе, и последний нищий казался мне счастливее меня. Будь я бедна, будь я низкого звания, мои родные пожалели бы меня и постарались утешить в моем несчастье, но именитые князья Пальмароза считали позором и преступлением, если дочь не соглашается лгать и отказывается обманом восстанавливать честь семьи. У меня в моей тюрьме не было книг, мне дали самое поверхностное образование, и я не понимала, за что я подвергаюсь таким преследованиям. Но во время своего долгого и мучительного бездействия я начала размышлять и собственным умом постигла тщету человеческой гордыни. Мое нравственное существо, так сказать, изменилось, и все утехи, и всякая корысть, потребные человеческой суетности, после моих лишений предстали мне в настоящем свете. Но зачем говорить о лишениях, а не о том, что я приобрела? Что значат эти два мучительных года, если их ценой я узнала благодетельную силу правды? Когда я вернулась к свободе и к жизни, когда почувствовала, как легко ко мне возвращаются силы юности, я поняла, что у меня есть время и средства, чтобы обратить на пользу новые взгляды, к которым я пришла, я испытала великое успокоение и вступила на путь уже вошедшего в привычку стойкого самоотречения. Я навсегда отказалась от любви и супружества. Даже мысль о любовных радостях была мне отвратительна, а что до потребностей сердца — их я удовлетворяла иначе, они переросли во мне пределы эгоистических страстей. В годы страданий во мне зародилась одна истинная страсть; целью ее было не наслаждение, не торжество одной личности, благодаря богатству и высокому положению избавленной от общечеловеческих бедствий. Эта страсть, снедавшая меня, можно сказать, с лихорадочной силой, была жажда борьбы на стороне слабых против угнетателей и стремление принести столько добра и помощи, сколько мой род посеял горести и ужаса. Меня воспитывали в духе почитания и трепета перед королевским двором, в духе недоверия и ненависти к моим бедным соотечественникам. Не случись со мной моего несчастья, я, быть может, тоже следовала бы этим обычаям и этим примерам чудовищного бездушия. При моем беспечном нраве, свойственном женщинам этой страны, я в своих понятиях, вероятно, и не поднялась бы выше взглядов моей семьи. Ведь мои родные не принадлежали к тем, кто подвергался преследованиям и кому изгнание и нищета вдохнули в душу ненависть к иностранному игу и любовь к родине. На моих близких, пылко преданных официальным властям, постоянно сыпались всякие блага, и то новое процветание, которое принесет нам наследство кардинала, будет постыдным исключением среди разорения сотен других знатных домов, рухнувших на моих глазах под тяжестью принудительных поборов и проскрипций. Став наконец хозяйкой своих поступков и своего состояния, я посвятила мою жизнь помощи несчастным. Как женщине, мне не было дано заниматься политикой, социальными науками или философией. Да и какому мужчине это доступно под тяготеющим над нами игом? Все, что я могла делать, — это приходить на помощь жертвам тирании, к какому бы классу они ни принадлежали. Вскоре я увидела, что число их огромно и что моих доходов не хватит на это, отказывай я себе даже в необходимом. Мое решение было принято быстро. Я дала себе слово не выходить замуж. Ведь о твоем существовании я не знала и считала, что я одна на свете. Я велела произвести точный подсчет своего имущества, к чему наша знать прибегает очень редко; по нерадивости богатые дворяне даже не посещают своих поместий, поскольку те обычно расположены внутри острова, и нога многих из нас никогда не ступала по своим угодьям. Я взялась за дела и сама ознакомилась со своими владениями. Сперва я разделила одну часть земли на мелкие участки, чтобы по очень низкой цене, а чаще вовсе даром, раздать их бедным жителям этих областей. Это ничему не помогло. Одним росчерком пера не спасешь народ, опустившийся до последней черты рабства и нищеты. Я испробовала другие способы — позже я расскажу тебе о них подробно. Ничего не получалось. Ничего не может получиться, когда законы страны направлены к ее разорению. Едва мне удавалось поднять какую-нибудь семью, как налоги, которые растут с ростом благосостояния, опять приводили ее к прежней нищете. Как можно добиться для людей порядка и прочного положения, когда государство взимает шестьдесят процентов и со скудного заработка и с богатства бездельника? И вот я увидела с печалью, что побежденной и сломленной стране можно помочь лишь благотворительностью, и посвятила ей свою жизнь. Это потребовало от меня гораздо больше усилий и настойчивости, чем случайные подарки и пожертвования. Если вы взялись сами распределять постоянную милостыню, эта работа нескончаемая, изнурительная и неблагодарная. Ведь милостыня спасает лишь на данное мгновение, она порождает необходимость повторения, растягивается на веки веков, и ты никогда не увидишь результатов взятой на себя работы. О, как это мучительно — жить и любить, и ежечасно врачевать рану, которую нельзя залечить, и тратить все силы души, пытаясь закрыть бездонную пучину, которой не закрыть никогда, как жерла Этны! Я приняла ее на себя, эту работу, и выполняю ее ежечасно. Я знаю, этого недостаточно, но не падаю духом. Меня уже не возмущает лень, распутство и все другие пороки, порождаемые нищетой. А если и возмущают, то не по отношению к тем, кто им подвержен поневоле, но к тем, кто их навлекает и упрочивает. Я не очень понимаю, что называется быть разборчивым в благотворительности. Это хорошо для стран свободных, где твои укоры могут привести к чему-то и где каждый может воспользоваться уроками практической морали. У нас — увы! — нищета столь велика, что для множества взрослых людей добро и зло — пустые слова, и проповедовать порядок, честность и бережливость, когда умирают голодной смертью, становится безжалостным педантством. Моих доходов, Микеле, не хватало на покрытие таких больших расходов. Состояние твоей матери так подорвано этими глубокими подкопами, что, возможно, в наследство тебе достанется только куча мусора. Если бы не наследство кардинала, мне, пожалуй, пришлось бы горевать сейчас, что я не могу оставить тебе достаточно средств, чтобы ты мог на свой лад служить своей стране. Но завтра ты станешь богаче, чем была когда-либо я, и будешь распоряжаться этим состоянием, как велит тебе сердце и твои убеждения, я же не стану навязывать тебе своего дела. С завтрашнего дня ты вступаешь во владение, и мне не стоит тревожиться, как ты захочешь распорядиться этим состоянием: я в тебе уверена. Ты прошел хорошую школу, мой мальчик, школу лишений и труда! Я знаю, как ты стараешься искупить самые легкие свои ошибки; знаю, на какие жертвы способна твоя душа, когда в ней пробуждается чувство долга. Приготовься же нести бремя твоего нового богатства, приготовься быть князем и на деле и по имени. За эти три дня, что неожиданно принесли тебе такие странные на первый взгляд приключения, ты получил не один урок. От фра Анджело, от маркиза Ла-Серра, от Маньяни, даже от этого прелестного ребенка Милы ты выслушал речи, которые, я знаю, произвели на тебя глубокое впечатление. Я видела это по твоему поведению, по твоему решению стать простым рабочим и тогда же задумала открыть тебе тайну твоей судьбы, даже если жизнь кардинала продлится и это заставит нас держаться крайне осторожно. — О, как вы благородны, матушка, — воскликнул Микеле, — и как мало вас понимают, когда считают вас равнодушной святошей или капризницей! Ваша жизнь — жизнь мученицы и подвижницы: ничего для себя — все для других! — Не хвали меня так за это, дитя мое, — возразила Агата, — я не имела права на обычное счастье, хоть и была ни в чем не повинна. Меня постигла тяжкая судьба, и никакие усилия не могли облегчить ее бремя. Отрекаясь от любви, я только выполняла самый простой долг, какой честность налагает на женщину. А став милосердной сестрой, я подчинялась властному голосу своей совести. Я была несчастлива, я сама познала несчастье; я не принадлежала к тем, кто способен отрицать чужие страдания, потому что сам никогда не страдал. Я творила добро, быть может вслепую, но по крайней мере я творила его горячо и без устали. И, по-моему, делать добро — это не так уж трудно, делать добро — это просто не делать зла; не быть эгоистом — это значит не быть слепцом или негодяем. Я так жалею тех, кто тщеславится своими добрыми делами, что скрываю свои почти с тем же старанием, как скрывала тайну своего брака и твоего рождения. В моем характере ничего не понимают. Но я сама этого хотела. Поэтому и не имела права жаловаться, что меня не понимают. — Ах, а я понимаю вас, — сказал Микеле, — и мое сердце сторицей вернет вам все то счастье, которого вы были лишены. — Я знаю, — сказала она, — твои слезы — доказательство этому, я это чувствую. С тех пор, как ты здесь, я забыла о том, что была несчастлива, и не вспомнила бы, не будь я вынуждена рассказать тебе мою историю. — Благодарю, о, благодарю вас! Но не говорите, что вы предоставите мне свободу в моих поступках и поведении. Ведь я еще мальчик и чувствую себя таким ничтожеством рядом с вами, что мне хочется видеть только вашими глазами, поступать только по вашему приказанию. Я помогу вам нести бремя богатства и благотворительности, но буду лишь вашим помощником, ничем другим. Мне ли быть богачом и князем! Мне ли пользоваться какой бы то ни было властью, когда тут вы? Ведь я ваш сын! — Дитя мое, надо быть мужчиной. Я не имела счастья воспитывать тебя и сделала бы это не лучше, чем достойный Пьетранджело. Теперь мое дело — любить тебя, больше ничего, и этого достаточно. Чтобы оправдать мою любовь, тебе не придется стараться, чтобы портреты твоих предков не могли сказать тебе: «Я недоволен вами». Ты всегда будешь поступать так, чтобы услышать от своей матери одно: «Я довольна тобой!» Однако прислушайся, Микеле!.. Звонят колокола… Это похоронный звон… Звонят все колокола города… Это умирает вельможа!.. Это твой родич, твой враг, это кардинал Пальмароза готовится свести с богом свои ужасные счеты… Уже светает, пора расставаться! Иди, помолись, чтобы господь смилостивился над ним, а я пойду принять его последний вздох!XLVI. УТРО
Пока Агата звонила камеристке и приказывала закладывать карету, чтобы отправиться выполнить последний долг перед умирающим кардиналом, Микеле через цветник, по лестнице, вырубленной в лаве, спускался в парк. Еще не достигнув середины лестницы он заметил мессира Барбагалло, который был уже на ногах и начинал добросовестный обход владений. Добряк был далек от мысли, что богатый дворец и прекрасные сады были уже только обманчивой вывеской и пустой видимостью огромного богатства. На его взгляд, тратить доходы на милостыню было привычкой почтенной и приличной для любого синьора. Он без спора поддерживал княжну в ее добрых делах. Но затронуть капитал было бы страшным грехом, противоречащим наследственному достоинству славного имени. И если бы Агата посвящала его в подобные дела либо с ним советовалась о них, ему не хватило бы всей генеалогической эрудиции для доказательства того, что никто из рода Пальма-роза иначе как по предложению своего короля не совершал такого преступления, оскорбляющего честь дворянства. Обобрать себя до нитки! Фи! Если бы еще дело шло об основании приюта или монастыря, — такие памятники остаются надолго, доносят до потомства доблесть и славу основателя и не только не вредят великому имени, но даже придают ему больше блеска. Видя, что мажордом невольно преграждает ему путь, погрузившись в разглядывание одного индийского кустика, который он сам посадил внизу у лестницы, Микеле предпочел отвернуться и пройти мимо без всяких объяснений. Через несколько часов ему уже не придется прятаться, но приличия ради следовало подождать публичного заявления Агаты. Но мажордом словно в землю врос у своего куста. Его удивляло, что климат Катании — лучший на свете, по его мнению, — оказался для этого драгоценного растения не так хорош, как тропический, из чего следует, что мэтр Барбагалло умел обходиться с генеалогическим древом лучше, чем с обычным деревом. Он низко нагнулся, почти лег на землю, чтобы проверить, не грызет ли какой-нибудь червяк корни сохнущего кустика. Достигнув последних ступеней каменной лестницы, Микеле счел за лучшее попросту перепрыгнуть через мессира Барбагалло. Тот издал громкий крик, вероятно, вообразив, что началось извержение вулкана и рядом с ним свалился камень, вылетевший из какого-нибудь кратера по соседству. Его хриплый крик прозвучал так забавно, что Микеле расхохотался. — Cristo! — воскликнул мажордом, узнав молодого художника, с которым Агата приказала ему обходиться с особым вниманием, но которого ему и в голову не приходило считать ее сыном или любовником. Однако, когда прошел первый испуг и Микеле уже быстро удалялся, пересекая сад, мажордом постарался все-таки собраться с мыслями. Он сообразил, что на восходе солнца сын Пьетранджело вышел из цветника. Из цветника княжны! Из святилища, со всех сторон закрытого и огороженного, куда ночью мог проникнуть только осыпаемый милостями любовник. «Любовник княжны Агаты! И какой любовник! И это когда сам маркиз Ла-Серра который едва осмеливается надеяться на ее благосклонность, никогда не входит и не выходит иначе, как через главные ворота дворца!..» Это было неслыханное предположение. Все же, не имея оснований спорить с таким очевидным фактом и не дозволяя себе истолковывать его, Барбагалло ограничился тем, что повторил: «Cristo!»И, постояв две-три минуты на месте, решил заняться обычными делами и запретить себе всякие мысли о чем бы то ни было впредь до особого распоряжения. Микеле ничуть не меньше дивился своему новому положению, чем старик — только что случившейся встрече. Из всех снов, что, как ему казалось, снились ему последние три дня, самый неожиданный, самый чудесный, уж наверное, был тот, что сейчас увенчал и объяснил все остальные. Он шел и шел, не разбирая дороги, но по бессознательной привычке, сам не зная как, пришел к дому в предместье. Как никогда не виданные, оглядывал он предметы, останавливавшие его взор. Великолепие дворцов и нищета жилищ простонародья представляли контраст, прежде печаливший его лишь как обстоятельство, горестное для него самого, но которое он принимал как некий роковой закон, присущий обществу. Теперь, когда он почувствовал себя свободным и могущественным в этом обществе, его жалость и доброта стали еще сильней и бескорыстней. Оказавшись в числе счастливых, он сделался лучше; полные великодушия речи матери зажгли в его сердце чувство долга. Он ощущал, как взрослеет в ряду других людей с тех пор, как узнал, что не только не может явиться жертвой, но сам должен заботиться о судьбе себе подобных. Одним словом, он ощущал себя князем и теперь уже не удивлялся тому, что всегда был честолюбив. Честолюбие облагородилось в его собственных глазах в тот день, как он дал ему определение в ответ на нападки Маньяни. Теперь же, когда его честолюбие было удовлетворено, оно не только не вредило ему, но возбуждало и возвышало над самим собой. Есть люди, и, к несчастью, их большинство, которых благосостояние принижает и развращает. Но для истинно благородной души богатство — лишь средство делать добро, а Микеле было восемнадцать лет — возраст, когда идеалы чисты и душа открыта для добрых и возвышенных стремлений. У входа в предместье он увидел просившую подаяние бедную женщину с ребенком на руках и тремя другими, цеплявшимися за ее рваную юбку. Слезы навернулись ему на глаза, и он сразу сунул обе руки в карманы своей куртки: со вчерашнего дня он стал носить одежду простонародья и решил носить ее долго, всегда, если придется. Но карманы оказались пусты, и он вспомнил, что у него еще ничего нет. — Простите меня, милая, — сказал он, — я подам вам завтра. Будьте завтра здесь, я приду. Нищенка подумала, что он смеется над ней, и с грустью сказала, величественно, как свойственно южанам, кутаясь в свои лохмотья: — Нельзя смеяться над бедняками, мальчик, это приносит несчастье. «Да, да! — говорил себе Микеле, отходя от нее. — Я верю, чувствую сам! Со мной зтого никогда не случится!» Чуть дальше он наткнулся на прачек, которые преспокойно развешивали biancheria[246] над самыми головами прохожих, на веревке, протянутой поперек улицы. Микеле нагнулся, чего не сделал бы накануне, — раньше он только нетерпеливо сдвинул бы в сторону мешавшее ему препятствие. Две хорошенькие девушки, которые старались натянуть веревку потуже, благодарно улыбнулись ему. Но когда Микеле миновал первый занавес и нагнулся, чтобы пройти под вторым, он услышал, как прачка гневно, словно старая сивилла, выговаривала своим помощницам: — Не заглядывайся на него, Нинетта! Не верти головой, Розалина! Это молодой Микеланджело Лаворатори, он корчит из себя великого художника и никогда не будет стоить своего папаши. Плохи детки, что отказываются от ремесла родителей! «Мне совершенно необходимо было обзавестись ремеслом князя, — улыбнувшись, подумал Микеле, — а то ремесло художника навлекает на меня одни попреки». Он вошел в дом, и в первый раз, при всем своем жалком неустройстве, дом его показался ему живописным и уютным. «Настоящее жилье средневекового художника, — говорил он себе, — я прожил здесь всего несколько дней, но они останутся в моей жизнн чистым и сладким воспоминанием». Он, пожалуй, даже немножко сожалел о нем, об этом скромном семейном гнезде, и испытанное накануне смутное желание иметь более поэтическое и более красивое жилище показалось теперь нелепым и безрассудным: поистине нам свойственно преувеличивать цену жизненных благ, когда их у нас нет. «Я отлично мог бы прожить здесь годы так же счастливо, как проживу их во дворце, — думал он, — пусть бы только совесть моя была чиста, как была тогда, когда Пьетранджело сказал мне:» Вы человек мужественный!«Пусть портреты всех Кастро-Реале и Пальмароза твердят, что довольны мной, — они не доставят мне той радости, какуюдоставили слова моего отца — ремесленника». Он вошел князем в этот дом, откуда несколько часов тому назад выходил рабочим, и с чувством уважения переступил его порог. Затем он кинулся к отцу, думая найти его еще в постели. Но Пьетранджело был в комнате Милы, которая не спала всю ночь, так как беспокоилась, видя, что брат не возвращается. Старик догадывался, что Микеле задержала у себя княжна, но он не знал, как ему заставить Милу поверить в правдоподобность такого предположения. Микеле бросился к ним в объятия и заплакал сладостными слезами. Пьетранджело понял, что произошло и почему молодой князь Кастро-Реале с такой нежностью говорит ему «отец»и не позволяет называть себя иначе, как «сыном». Но Мила очень удивилась, когда Микеле, вместо того чтобы, как обычно, по-семейному расцеловать ее, несколько раз подряд поцеловал ей руку и назвал милой сестричкой. — Что с тобой, Микеле? — спросила она. — И откуда такое почтительное обращение со мной? Ты говоришь, что ничего особенного не произошло и что этой ночью ты никакой опасности не подвергался, а здороваешься с нами, словно едва избегнул смерти или несешь нам целый рай в ладошке. Ну, что с тобой! Раз ты здесь, мы счастливей всех святых в небе, право! Мне мерещились всякие страхи, пока я ждала тебя. Часа за два до рассвета я разбудила бедного Маньяни и послала искать тебя — он и сейчас бегает где-то. Он, наверное, дошел до самого Бель-Пассо — посмотреть, не у дяди ли ты. — Добрый, милый Маньяни! — воскликнул Микеле. — Ну, я пойду к нему навстречу, чтобы его успокоить и увидеться с ним поскорее. Но сперва я хотел позавтракать с вами обоими за нашим маленьким семейным столом. Дай нам рису — ты, Мила, так вкусно его готовишь — и арбуз, который умеют выбрать только твои ручки. — Гляди-ка, как он бывает мил, когда не чудит! — смеялась девушка, поглядывая на брата. — Когда он не в духе, все нехорошо — рис переварен, арбуз перезрел. Сегодня все будет превкусно, даже раньше, чем он попробует. — А я теперь всегда буду таким, сестричка! — отвечал Микеле. — Никогда не буду ворчать, не стану задавать тебе нескромных вопросов, и, надеюсь, не будет у тебя на свете друга лучше меня. Оставшись наедине с Пьетранджело, Микеле опустился на колени. — Благословите меня, — сказал он, — и простите, что я был не всегда достоин вас. Теперь я буду всегда помнить об этом и если хоть на миг заколеблюсь на пути долга, обещайте побранить и отчитать меня построже, чем это бывало до сих пор. — Князь, — начал Пьетранджело, — пожалуй, я был бы построже, будь я вашим отцом, но… — О отец мой! — воскликнул Микеле. — Никогда не обращайтесь ко мне так и никогда не говорите, что я вам не сын. Разумеется, быть сыном княжны Агаты — блаженство, но зачем же примешивать горечь к моему счастью и приучать меня к мысли, что я уже не сын вам? И если вы станете обходиться со мной как с князем — я не хочу быть князем: лучше мне быть рабочим! — Ну ладно, пусть будет так! — сказал Пьетранджело, прижимая его к своей груди. — Оставайся моим сыном, как было раньше, мне так больше нравится. Тем более что у меня все равно сохранилась бы прежняя привычка, даже если бы это оскорбляло тебя. Теперь послушай-ка: я наперед знаю, что ты собираешься мне сказать. Ты захочешь меня обогатить. Так наперед тебе скажу: не приставай ты ко мне с этим, прошу тебя. Я хочу остаться таким, как сейчас. Мне хорошо. С деньгами приходят заботы, я деньги беречь не умею. Княжна что угодно сделает для твоей сестры, но сомневаюсь, чтобы малютке захотелось сменить свое положение. Если не ошибаюсь, она любит Антонио Маньяни, нашего соседа, и не собирается выходить ни за кого другого. Маньяни не захочет ничего принять от тебя — я знаю наверное: это человек вроде меня, он любит свое ремесло, и ему будет стыдно принимать чью-то помощь, когда он сам зарабатывает достаточно. Не сердись, мой мальчик. Вчера я принял от тебя приданое для сестры: это был еще не дар князя, это было твое жалованье мастерового, жертва, принесенная братом от доброты. Я был горд такой жертвой, да и твоя сестра, когда узнает, не устыдится ее. Я не хотел пока говорить ей. Она никогда не приняла бы этого золота: ведь она привыкла смотреть на твое будущее как на нечто священное, а девочка упряма, сам знаешь! А я, Микеле… Ты ведь меня тоже знаешь. Если я стану богачом, мне будет стыдно работать. Подумали бы, что это из жадности, что мне охота прибавить еще немножко к моему имуществу. Работать, когда в этом нет нужды, я бы тоже не мог: я рабочая скотинка, работаю по привычке. Всякий день стал бы для меня воскресеньем; сейчас мне полезно потешиться немножко за столом в святой день отдыха, а бездельничать всю неделю подряд мне будет вредно. Скука меня одолела бы, а потом и тоска. Я, быть может, попытался бы избавиться от нее, пустился бы во все тяжкие, как люди, что не умеют читать и не могут отвлечь себя какими-нибудь сочиненными историями. Им все-таки следует питать свой ум, когда отдыхает тело; вот они его и питают вином. Когда я иду на свадьбу, в первый день мне весело, на второй я скучаю, а на третий — я болен. Нет, нет, мне нужны мой передник, лесенка, горшок с клеем и мои песни, чтобы время не тянулось слишком долго. Если ты меня стыдишься… Впрочем, нет, не стану договаривать, это уж была бы обида для тебя, — ты никогда меня не постыдишься. Так вот, позволь мне жить на свой лад, а когда я совсем состарюсь и стану слишком слаб для работы, ты меня возьмешь к себе, будешь заботиться обо мне — на это я согласен, обещаю тебе! Надеюсь, ничего лучшего я не могу сделать для тебя? — Ваши желания для меня священны, — ответил Микеле, — и я отлично понимаю, что деньгами мне с вами расквитаться нельзя. Слишком легко было бы иметь возможность в один миг и без всякого труда сбросить с плеч, что я задолжал за целую жизнь. Ах, если бы я мог удвоить течение жизни вашей и своей кровью возместить вам силы, истраченные на то, чтобы воспитать и обучить меня! — И не надейся расплатиться со мной иначе, как дружбой, — отвечал старый мастер. — Молодости не вернешь, и я не желаю ничего, что шло бы наперекор божеским законам. Если я работал на тебя, то делал это с радостью и никогда не хотел иной награды, кроме твоего счастья, которым ты, надеюсь, воспользуешься на моих глазах. Княжне известны мои убеждения на этот счет. Если бы она заплатила за твое воспитание и обучение, она отняла бы у меня право на законную гордость. У меня ведь тоже есть свое честолюбие, и я буду гордиться, когда станут говорить: «Какой хороший сицилиец и хороший князь этот Кастро-Реале! А ведь воспитал-то его этот старый дурак Пьетранджело!» Ну, давай-ка мне руку, и поставим точку. Иначе, признаюсь, мне было бы обидно. Похоже, что кардинал умирает. Мне хочется вместе с тобой прочесть за него молитву — она ему очень пригодится. Он был дурной человек, и та женщина, у которой мы с братом вырвали тебя из рук, по-моему, несла тебя вовсе не в приют, — у нее был такой вид, словно она собирается забросить тебя в море. Помолимся же за него от чистого сердца! Ничего, Микеле, это ведь недолго! И Пьетранджело обнажил голову и с глубокой искренностью проговорил твердым голосом: — Отпусти, господи, наши прегрешения и отпусти грехи душе кардинала Джеронимо, как мы сами отпускаем ему. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь. Микеле, ты не сказал аминь. — Да будет так, и говорю это от всего сердца, — отозвался Микеле, растроганный тем, как евангельски просто прощал Пьетранджело своего гонителя. Ибо монсиньор Джеронимо был когда-то очень жесток к бедному ремесленнику. У него были одни подозрения, а он его преследовал, бросил в тюрьму, разорил, в конце концов принудил бежать из родного края, и это было самым тяжким из всего, перенесенного Пьетранджело. Но в смертный час кардинала добряк не припомнил ничего, что касалось его самого. Так как Мила опять стала беспокоиться о Маньяни, который все не возвращался, Микеле отправился ему навстречу. Все колокола в городе вызванивали последний час прелата; во всех церквах читали за него молитвы, и бедный угнетенный им народ, подвергавшийся грабежу и казням при малейшей попытке бунта, теперь на ступенях папертей набожно преклонял колени, моля бога отпустить кардиналу его грехи. Все, несомненно, при первом ударе колокола втайне возрадовались и должны были возрадоваться еще больше, услышав последний. Но ужасы преисподней действуют так сильно на живое воображение этих людей и мысль о вечном наказании так пугает их, что вражда, которую они испытывали к кардиналу при его жизни, исчезала перед угрозой, что слышалась им всем в звоне колоколов. Микеле не стал дожидаться, пока заключительный удар колокола возвестит, что смерть уже закогтила свою добычу, и, предполагая, что мать ранее этой решительной минуты не покинет смертного одра дяди, направился к холмам Маль-Пассо. Он хотел обнять Маньяни и фра Анджело еще раз до того, как они явятся приветствовать в его лице князя Кастро-Реале. Он больше всего боялся, как бы Маньяни, несправедливо опасаясь высокомерия нового князя, не вооружился бы против него гордостью и даже холодностью. Микеле заранее намеревался просить его о прежней дружбе, хотел вынудить у него торжественное обещание сохранить ее и, после того, как в присутствии фра Анджело их братская связь будет упрочена, ему первому сообщить о своем новом положении. Потом Микеле задумался о Пиччинино. Не так уж далеко, рассуждал он, от Бель-Пассо до Николози, чтобы ему не дойти до брата, прежде чем тот предпримет что-либо против княгини Кастро-Реале или ее сына. Он не мог позволить себе спокойно, ничего не предпринимая, дожидаться мстительных действий Пиччинино, которые могли настигнуть его мать раньше, чем его самого. И пусть при встрече в Николози злоба незаконного сына разгорится еще сильней, чем при расставании в покоях княгини, Микеле считал своим долгом сына и мужчины принять на себя одного первые ее последствия. По пути Микеле увидел, как встающее солнце заливает природу своим блеском, и в нем проснулся живописец. Чувство глубокой грусти вдруг нахлынуло на него: его будущее как художника показалось ему конченным и, проходя мимо решетки виллы Пальмароза, глядя на ту нишу со статуей мадонны, откуда он впервые завидел купола Катании, он ощутил, как сжалось его сердце. Словно не две недели, а двадцать лет протекли между жизнью, только что закончившейся такой развязкой, и мятежной юностью, полной поэзии, опасений и надежд. Его вдруг испугала его будущая обеспеченность, и он со страхом спрашивал себя, найдется ли место таланту художника в душе богача и князя. А честолюбие, гнев, страх и пыл работы, препятствия, которые надо преодолевать, успехи, которые надо защищать, все эти могущественные и необходимые побуждения, — что станется с ними? Место врагов, которые его подгоняют, займут льстецы, которые развратят его суждение и испортят вкус, а нищета, заставляющая бросаться на трудности и держащая вас в постоянной лихорадке, заменится пресыщением от всех тех преимуществ, за которыми искусство обычно гонится не меньше, чем за славой. Он тяжело вздохнул, но тут же ободрился, решив, что постарается быть достойным друзей, которые будут говорить ему правду, и что, стремясь к благородной цели — к славе, — он теперь легче, чем прежде, решится пренебречь выгодами профессии и грубыми суждениями толпы. Размышляя обо всем этом, подошел он к монастырю. Колокола обители перекликались с колоколами города, и в чистом утреннем воздухе их заунывные, мрачные звуки смешивались с пением птиц и дыханием ветерка.XLVII. СТЕРВЯТНИК
Маньяни было известно все, потому что Агата, если не разгадав, то все же подозревая его любовь и желая исцелить его, рассказала ему свою жизнь, свое опозоренное и печальное прошлое, свое трудное настоящее, посвященное только материнскому чувству. Выказав ему такое доверие и дружбу, она, во всяком случае, помогла ему залечить тайную рану, от которой страдала его плебейская гордость. Она деликатно дала ему понять, что препятствием между ними является не различие их положения и образа мыслей, но возраст и непоправимая судьба. Наконец, обращаясь с ним как с братом, она равняла его с собой, и если ей не удалось вылечить его раз и навсегда, ей удалось, во всяком случае, смягчить горечь страдания. Затем она искусно ввела в разговор имя Милы, и, поняв, что княгиня желает их союза, Маньяни счел долгом повиноваться ее желанию. Он должен был постараться выполнить его, этот долг, и он сам прекрасно чувствовал, что Агата подсказывает ему самый легкий, чтобы не сказать — самый приятный способ искупить свою вину за прежнее безумство. Он вовсе не разделял беспокойства Милы по поводу отсутствия Микеле и вышел с единственной целью угодить ей и совсем не собираясь разыскивать ее брата. Он пошел к фра Анджело, чтобы расспросить его о чувствах девушки и просить его совета и поддержки. Когда он пришел в монастырь, братья монахи читали отходную кардиналу, и Маньяни, вынужденный ждать, чтобы фра Анджело вышел к нему, остался в саду, где дорожки были выложены фаянсовыми плитками, а клумбы окружены кусками лавы. Зловещие песнопения наводили тоску, и он не мог отделаться от мрачного предчувствия, говоря себе, что шел сюда с надеждой на помолвку, и угодил к похоронной службе. Он уже накануне, прощаясь с Пьетранджело на обратном пути из дворца Ла-Серра, выспрашивал старого мастера о чувствах его дочери. Обрадованный таким началом переговоров, Пьетранджело простодушно ответил, что, кажется, дочь любит его. Но так как тот все не осмеливался поверить в свое счастье, Пьетранджело посоветовал ему обратиться к своему брату-капуцину, которого, хоть сам и был старше, привык считать главой семьи. Маньяни был очень взволнован и совсем не ощущал уверенности в себе. Однако ж тайный голос говорил ему, что Мила его любит. Он вспоминал ее робкие взгляды, внезапный румянец, скрытые слезы, минутную смертельную бледность, самые ее слова, в которых притворное равнодушие, быть может, было подсказано гордостью. Он надеялся. Он нетерпеливо дожидался, пока дочитают молитвы, и когда фра Анджело вышел к нему, попросил уделить ему полчаса, чтобы дать совет и прежде всего без околичностей сказать всю правду. — Вот это дело сложное, — ответил ему добрый монах, — я всегда дружил с твоей семьей, сын мой, и очень уважаю тебя. Не ручаешься ли ты, что знаешь и любишь меня достаточно, чтобы мне поверить, если мой совет не сойдется с твоими тайными желаниями? Ведь с нами, монахами, советуются часто, а слушаются нас редко. Каждый приходит рассказать о своих замыслах, страстях, даже о делах, так как считается, что люди, отказавшиеся от собственных интересов в жизни, разбираются в ней лучше других. Это ошибка. Чаще всего мы в своих советах бываем либо слишком снисходительны, либо слишком суровы, и невозможно ни следовать нашим советам, ни выполнять их. Я сам терпеть не могу советов. — Ну, если вы считаете, — сказал Маньяни, — что я не способен с пользой выслушать ваши наставления, так не можете ли вы пообещать ответить без всяких колебаний и обиняков на вопрос, который я вам задам? — Колебаться мне не свойственно, друг! Но говоря без обиняков, можно причинить боль тем, кого любишь. А разве ты хочешь, чтобы я был жесток с тобой? Ты подвергаешь мою дружбу трудному испытанию. — Вы меня пугаете заранее, отец Анджело. Мне кажется, вы уже угадали вопрос, который я хочу задать. — Все-таки говори, а то, быть может, я и ошибаюсь. — И вы ответите? — Отвечу. — Ну, хорошо! — дрогнувшим голосом сказал Маньяни. — Правильно ли я поступлю, если попрошу у вашего брата руки вашей племянницы Милы? — Вот как раз то, чего я и ждал. Брат уже говорил со мной об этом. Он думает, что его дочь тебя любит. Ему кажется, что это так. — Боже мой, если бы это было правдой! — сказал Маньяни, молитвенно складывая руки. Но лицо фра Анджело было строго и печально. — Вы считаете, что я недостоин стать ее мужем, — сказал скромный Маньяни. — Ах, отец мой, это верно! Но если бы вы знали, как твердо решил я сделаться достойным ее! — Друг, — отвечал монах, — лучшим днем в жизни Пьетранджело, и в моей также, будет день, когда ты станешь мужем Милы, если оба вы любите друг друга горячо и искренно. Ведь мы, монахи, знаем твердо — надо от всей души любить супругу, которой ты отдаешь себя, семья ли то или религия. И вот, я верю, ты любишь Милу, потому что добиваешься ее, но я вовсе не знаю, любит ли тебя Мила и не ошибается ли тут мой брат. — Увы! — вздохнул Маньяни, — я тоже не знаю. — Не знаешь? — чуть нахмурясь, спросил фра Анджело. — Значит, она тебе ничего никогда не говорила? — Никогда! — И все-таки оказывала тебе какие-нибудь невинные милости? Случалось ли ей оставаться с тобой наедине? — Лишь по необходимости или встретясь случайно. — И никогда не назначала тебе свидания? — Никогда! — А вчера? Вчера на закате она не гуляла с тобой в этой стороне? — Вчера, в этой стороне? — бледнея, переспросил Маньяни. — Нет, отец мой. — Клянешься спасением своей души? — И спасением души и моей честью! — Тогда, Маньяни, незачем тебе думать о Миле. Мила любит кого-то, но не тебя. И, что еще хуже, ни отец, ни я не можем дознаться кого. Дал бы бог, чтобы такой самоотверженной, такой работящей и — до вчерашнего дня — такой скромной девушке полюбился человек вроде тебя! Вы бы составили хорошую семью, и ваш союз был бы примером для других. Но Мила еще девочка, дитя, и опасаюсь, склонна ко всяким фантазиям. Теперь будем следить за ней более тщательно: я предупрежу отца, а ты, как человек мужественный, будешь молчать и забудешь ее. — Как? — вскричал Маньяни. — Мила — верх откровенности, мужества и невинности, а за ней уже есть грех, в котором ей надо упрекать себя? Боже мой! Так, значит, на свете нет ни чистоты, ни правды? — Я этого не говорю, — возразил монах. — Надеюсь, Мила покамест чиста, но если ее не удержать, она на пути к погибели. Вчера на закате она шла здесь — одна, разряженная. Она старалась избежать встречи со мной, отказалась от всяких объяснений, пыталась лгать. Я молился за нее всю ночь и не заснул ни на минуту! — Я никому не выдам тайны Милы и перестану думать о ней, — сказал убитый Маньяни. Однако он продолжал думать обо всем этом. Сильный и меланхоличный, он был чужд хвастливой самоуверенности и никогда не брал препятствия с наскоку, а останавливался перед ними, не умея ни преодолеть, ни обойти их. В это мгновение появился Микеле. Хоть он и был в прежней рабочей одежде, но с вечера в нем как будто произошла некая волшебная перемена. Лоб и глаза словно стали больше, ноздри глубже вдыхали воздух, грудь словно расширилась, дыша вольней. Лицо его сияло гордостью, силой и спокойствием свободного человека. — Ах, твой сон уже сбылся, Микеле! — воскликнул Маньяни, бросаясь в раскрытые объятия молодого князя. — Это был прекрасный сон, а пробуждение еще прекрасней! А меня мучил кошмар, и хотя твое счастье развеяло его, но я все еще чувствую себя измученным, усталым и разбитым. Фра Анджело благословил обоих и обратился к князю: — Я рад видеть, что в час, когда ты пришел к величию и власти, ты прижимаешь к сердцу человека из народа твоей страны, Микеле де Кастро-Реале, Микеланджело Лаворатори, любя в тебе своего князя, я всегда буду любить тебя и как своего племянника. А вы и теперь скажете, eccellenza, что людям моего сословия глупо служить людям вашего и любить их? — Не напоминайте мне о моих заблуждениях, почтенный дядюшка, — ответил Микеле. — Сегодня я уже не знаю, к какому сословию принадлежу, знаю только, что я мужчина и сицилиец, вот и все. — Тогда да здравствует Сицилия! — воскликнул капуцин, взмахом руки указывая на Этну. — Да здравствует Сицилия! — отвечал Микеле, тем же жестом приветствуя Катанию. Маньяни был растроган и дружелюбен. Он искренно радовался счастью Микеле, но сам был очень удручен препятствием, возникшим между ним и Милой, и в то же время боялся подпасть под власть своей первой любви. Все же «мать»— это больше, чем «женщина», и когда Агата предстала ему в этом новом свете, обожание, которое Маньяни испытывал к ней, стало спокойней и глубже, чем это было до сих пор. Он понимал, что если в душе его сохранится хоть капля прежнего безумия, ему придется краснеть в присутствии Микеле. И он решил стереть все его следы в своем сердце и радовался возможности утверждать, что свою молодость посвятил по обету одной из прекраснейших небесных святых, и будет беречь ее образ и память в своей душе как некое райское благоухание. Маньяни выздоровел — но какое грустное выздоровление! В двадцать пять лет отречься от всякой мечты о любви! Он до конца покорился судьбе, но с этой минуты жизнь стала для него только тяжким и суровым долгом. Умерли мечты и мучения, что заставляли его любить этот долг. И не было на свете человека более одинокого, до такой степени потерявшего вкус ко всему земному, чем Маньяни в день своего избавления. Он расстался с Микеле и фра Анджело, которые хотели немедля идти в Николози, и остаток дня провел, одиноко бродя по берегу моря, у базальтовых скал Ячи-Реале. Решив идти к Пиччинино, молодой князь и монах сразу же пустились в путь. Когда они проходили мимо зловещего креста Дестаторе, колокола Катании сменили мелодию, и до них донеслись унылые звуки, возвещавшие о чьей-то смерти. Фра Анджело на ходу перекрестился, Микеле подумал о своем отце, убитом, быть может, по приказу нечестивого прелата, и ускорил шаги, чтобы преклонить колени на могиле Кастро-Реале. Он еще не чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы вблизи рассмотреть этот роковой крест, у которого испытал такие тягостные ощущения, еще даже не зная, какие кровные узы связывают его с разбойником Этны. Но большой стервятник, взлетевший внезапно от самого подножия креста, заставил его невольно обратить туда глаза. На миг ему показалось, что он становится жертвой галлюцинации. На том месте, откуда взлетел стервятник, в луже крови лежал труп. Оледенев от ужаса, Микеле с монахом подошли ближе к кресту и увидели, что это тело аббата Нинфо, изуродованное двумя пистолетными выстрелами, сделанными в упор. Убийство было обдумано заранее или совершено с редким хладнокровием, так как убийца нашел время и не пожалел труда сделать мелом на черной лаве, служившей кресту пьедесталом, следующую, не оставлявшую никаких сомнений, надпись мелким, изящным почерком: «Здесь восемнадцать лет назад, день в день, нашли тело знаменитого разбойника Дестаторе, князя Кастро-Реале, мстителя за бедствия своей страны. Сегодня здесь найдут тело его убийцы аббата Нинфо, который сам признал свое участие в убийстве. Столь трусливый воин не посмел бы напасть на столь отважного человека. Он заманил его в засаду, где и сам погиб через восемнадцать лет, проведенных им в безнаказанных злодействах. Более удачливый, чем Кастро-Реале, которого поразили руки наемников, Нинфо пал от руки свободного человека. Если хотите знать, по чьему приказу был убит Дестаторе и кто оплатил это убийство, расспросите сатану, перед которым вот-вот предстанет в его судилище мерзкая душа кардинала Джеронимо Пальмароза. Не обвиняйте вдову Кастро-Реале — она ни в чем не повинна. Микеле де Кастро-Реале! Немало придется пролить крови, прежде чем отомстится смерть твоего отца! Написавший эти строки — незаконный сын князя Кастро-Реале, тот, кого называют Пиччинино, или Свободный Мститель. Это он убил обманщика Нинфо. Он совершил это на восходе солнца, под звон колоколов, возвещающих смертный час кардинала Пальмарозы. Он совершил это, чтобы не думали, будто все злодеи могут умереть в своей постели. Пусть первый же, кто прочтет эту надпись, перепишет или заучит ее на память и передаст народу в Катании». — Сотрем ее, чтобы дерзость моего брата не оказалась роковой для него, — сказал Микеле. — Нет, не будем стирать ее, — сказал монах, — твой брат достаточно осторожен и сейчас уже, наверное, далеко, а мы не вправе скрывать от вельмож и народа в Катании этот страшный пример и кровавый урок. Значит, он был убит, гордый Кастро-Реале! Убит кардиналом, завлечен в ловушку подлым аббатом! Ах, мне следовало бы догадаться самому! У него было еще слишком много энергии и мужества, чтобы он мог унизиться до самоубийства. Ах, Микеле! Не вини своего брата за чрезмерную жестокость; ведь это кара, а не бессмысленное преступление. Ты не знаешь, каким бывал твой отец в свои лучшие дни, в дни своей славы! Не знаешь, что он был уже на пути к исправлению, на пути к тому, чтобы снова стать Мстителем Гор. Он раскаивался, он верил в бога, он, как и раньше, любил свою страну и обожал твою мать! Проживи он так еще год, и она полюбила бы его и простила бы все. Она делила бы его опасную жизнь и была бы женой разбойника, а не узницей и жертвой подлых убийц. Она сама воспитала бы тебя и никогда не разлучалась бы с сыном! Сосцы дикой львицы поили бы тебя, ты мужал бы в бурях. Все было бы лучше! Сицилия была бы ближе к своему освобождению, чем будет и через десять лет, а я не оставался бы монахом! И мы не прогуливались бы с тобой по горам, где в глухом углу наткнулись на этот труп, и Пиччинино не бежал бы отсюда через пропасти — нет, мы были бы вместе и с мушкетом в руках задавали бы трепку швейцарским наемникам неаполитанского короля, а может быть, шагали бы по Катании с желтым знаменем, золотые складки которого плясали бы на утреннем ветру! Да, все было бы лучше тогда, уверяю тебя, князь Кастро-Реале!.. Но да будет воля господня! — закончил фра Анджело, вспомнив наконец, что он все же монах. В полной уверенности, что Пиччинино покинул эти места задолго до часа, указанного в надписи, как часа убийства, Микеле с капуцином повернули обратно и пошли прочь от страшного места, где лежал труп аббата, предоставляя стервятнику еще много часов подряд терзать свою добычу, прежде чем кто-либо нарушил бы его ужасное пиршество. Возвращаясь прежней дорогой, они видели, как зловещая птица пролетела над их головами и жадно накинулась вновь на свою злосчастную добычу. — «И сожрут тебя псы и стервятники», — сказал монах без всякого сожаления, — такого удела ты и заслужил! Вот проклятие, которым от века народ клеймит доносчиков и предателей. А вы побледнели, мой молодой князь! Быть может, вам кажется, что я слишком суров к этому священнику, — ведь я и сам принадлежу к служителям церкви. Чего же вы хотите? Я видывал, как убивают, и убивал сам, пожалуй, чаще, чем надо бы для спасения моей души. Но, знаете, в завоеванной стране подчас не остается иных средств борьбы, кроме самовольного убийства. Не считайте, что Пиччинино хуже других. От рождения он сдержан и терпелив, но у нас иные добродетели могут стать пороками, если мы будем их строго придерживаться. Ум и чувство справедливости научили его при нужде проявлять жестокость. Но, впрочем, в глубине души он человек честный. Вы сказали, что он злобствует против вашей матери и что вы опасаетесь его мести, но видите сами — он не винит эту святую женщину в преступлении, которого у нее и в мыслях не было. Вы видите, он отдает дань правде, даже в пылу гнева. Вы видите также, он не шлет вам проклятий, но призывает при случае сражаться вместе. Нет, нет, Кармело чужда низость! Микеле был того же мнения, что капуцин, но промолчал. Ему стоило большого труда испытывать братские чувства к этому изысканному дикарю с мрачной душой, который называл себя Пиччинино. Он отлично понимал тайную склонность монаха к этому разбойнику. На взгляд фра Анджело, не молодой князь, а незаконнорожденный Кармело был вправе считаться законным сыном Дестаторе и наследником его власти. Но Микеле так изнемог от испытанных за последние несколько часов то сладостных, то ужасных волнений, что был не в силах уже вести никакого разговора. Притом, если капуцин и казался ему мстительным и склонным к излишней жестокости, Микеле не чувствовал себя вправе опровергать, а тем более осуждать человека, которому был обязан законностью своего рождения, спасением жизни и счастьем встретиться со своей матерью. Они издали заметили, что вилла кардинала вся затянута черным. — И вам тоже, Микеле, придется надеть траур! — сказал фра Анджело. — Кармело, стоящий вне общества, сейчас счастливей вас. Будь он сыном княгини Пальмароза, ему пришлось бы носить обманное платье печали, траур по убийце своего отца. — Ради моей дорогой матери, дядюшка, — отвечал молодой князь, — не указывайте мне на дурную сторону моего положения. Я могу думать только о том, что прихожусь сыном благороднейшей, прекраснейшей и лучшей из женщин. — Хорошо, сын мой, ты прав. Прости меня, — сказал монах. — Я ведь живу прошлым, меня не оставляет память о моем бедном убитом капитане. Зачем я покинул его? Зачем пошел в монахи? Ах, я тоже трусил! Если бы я остался ему верен в злосчастье, был бы терпелив к нему, когда он сбивался с пути, он не попался бы в эту дрянную засаду и — кто знает? — посейчас был бы жив! Он был бы горд и счастлив, что имеет двоих сыновей, таких красивых и смелых! Ах, Дестаторе, Дестаторе! Я плачу по тебе еще горше, чем в день твоей смерти. Узнать, что ты погиб от чужой, не от своей руки — это потерять тебя снова! И монах, только что сурово и равнодушно попиравший кровь предателя, расплакался как дитя. В нем проснулся старый солдат, хранящий верность в жизни и смерти, и он обнял Микеле со словами: — Утешь меня, дай мне надежду, что мы отомстим за него! — Будем надеяться на освобождение Сицилии! — отвечал Микеле. — У нас есть дело поважнее, чем отмщение наших семейных ссор, мы должны спасти родину! Ах, моя родина! Вчера тебе надо было объяснять мне это слово, добрый солдат; сегодня это слово мне понятно. Они крепко пожали друг другу руки и вошли в ворота виллы Пальмароза.XLVIII. МАРКИЗ
Мэтр Барбагалло поджидал их у входа — на лице его читалось сильнейшее беспокойство. Завидев Микеле, он бросился к нему навстречу, опустился на колени и хотел поцеловать руку. — Встаньте, встаньте, сударь, — сказал молодой князь, неприятно пораженный таким раболепством. — Вы всегда преданно служили моей матери. Подайте же мне руку, как подобает честному человеку! Вместе они прошли через парк. Но Микеле не хотелось принимать знаки преданности и почтения от всех слуг, хотя вряд ли это могло стать таким докучным, как излияния мажордома. Тот не отставал ни на шаг и, в сотый раз принося извинения по поводу сцены на балу, старался доказать, что если бы приличия позволили ему тогда надеть очки, слабое зрение не помешало бы ему заметить, что Микеле точь-в-точь походит лицом на великого начальника Джованни Пальмарозу, умершего в 1288 году, чей портрет он у него на глазах принес накануне к маркизу Ла-Серра. — Ах, как я сожалею, — твердил он, — что княгиня подарила маркизу всех Пальмароза! Но ваша светлость получит обратно эту важную и драгоценнейшую часть своего наследства. Я уверен, что его сиятельство маркиз оставит вам по завещанию либо передаст вам еще и раньше того всех предков обеих семей. — По-моему, им хорошо и там, где они сейчас, — смеясь, отвечал Микеле. — Не очень-то мне нравятся портреты, обладающие даром речи. Еле избавясь от приставаний мажордома, Микеле обогнул скалу, чтобы войти в дом через апартаменты княгини. Но, входя в будуар матери, он заметил, что запыхавшийся Барбагалло бежит вслед за ним по лестнице. — Простите, ваша светлость, — сказал тот срывающимся голосом, — ее светлость в большой галерее со всеми своими родными, друзьями и слугами, которым она только что сделала публичное заявление о своем браке с благороднейшим и сиятельнейшим князем, вашим родителем. Поджидают лишь достопочтенного фра Анджело, который уже часа два тому назад должен был получить посланную ему спешную просьбу принести из монастыря подлинные брачные свидетельства, долженствующие подтвердить права княгини на наследование имущества его преосвященства, высочайшего, всемогущего и всесветлейшего князя кардинала… — Документы у меня с собой, — сказал подошедший монах, — а вы уже все сказали, высочайший, всемогущий и всесветлейший мэтр Барбагалло? — Я должен сказать еще его светлости, — ничуть не смущаясь, продолжал управитель, — что его светлость тоже ожидают с нетерпением… Но что… — Да в чем дело? Зачем вы все время с таким умоляющим видом преграждаете мне дорогу?.. Если моя мать ожидает меня, не мешайте мне поспешить к ней, если же у вас еще какая-нибудь личная просьба ко мне, я выслушаю вас в другой раз и заранее обещаю все, что хотите. — О мой благородный хозяин — вот, вот, личная просьба! — воскликнул Барбагалло, с геройским видом становясь в дверях и подавая Микеле парадный камзол старинного фасона. Он тут же быстро схватил колокольчик и вызвал слугу, который принес шелковые панталоны с золотым шитьем, шпагу и шелковые чулки с красными стрелками. — Да, да, осмеливаюсь обратиться к вам с личной просьбой, — продолжал Барбагалло. — Вы ведь не можете явиться к ожидающим вас съехавшимся родным в этой толстой куртке и грубой рубашке. Это невозможно! Невозможно, чтобы князь Пальмароза, я хотел сказать — князь Кастро-Реале, впервые появился перед своими двоюродными братьями и сестрами и отпрысками их в нелепой одежде чернорабочего. Всем известны возвышенные горести вашей юности и недостойное положение, пред которым сумело устоять ваше благородное сердце. Но это не основание, чтобы на плечах вашей милости видели бедное платье. Я припадаю к стопам вашей светлости и умоляю вашу светлость переодеться в парадные одежды, которые князь Диониджи де Пальмароза надевал, когда представлялся к неаполитанскому двору. Первая половина этой речи прогнала недовольство художника. И он и монах не могли сдержать отчаянного хохота. Но конец ее оборвал их смех и заставил нахмуриться. — Я совершенно уверен, — сухо сказал Микеле, — что моя мать не поручала вам предлагать мне такой смешной маскарад и что ей не доставит никакого удовольствия, если я наряжусь в эту ливрею. Мне больше нравится то платье, что на мне сейчас, и я не сниму его до вечера, как бы вы ни сердились, господин мажордом. — Пусть ваша светлость не гневается на меня, — смешавшись, отвечал Барбагалло, делая знак лакею унести поскорей это одеяние. — Быть может, я поступил неосмотрительно, моим единственным советчиком было мое рвение… Но если… — Нет и нет! Оставьте меня, — сказал Микеле, решительно открывая дверь, и, взяв под руку фра Анджело, он спустился по внутренней лестнице и в своем рабочем платье решительно вступил в большую залу. Княгиня, вся в черном, сидела на софе в глубине залы. С нею были маркиз Ла-Серра, доктор Рекуперати и Пьетранджело. Ее окружали испытанные друзья обоего пола, а также многочисленные родственники с более или менее недоброжелательными или расстроенными лицами, несмотря на все их усилия казаться умиленными и потрясенными романом ее жизни, который она только что им рассказала. Мила сидела на подушке у ее ног — прекрасная, растроганная, побледневшая от неожиданности и волнения. Остальные группами расположились в галерее. Там сидели друзья уже не столь близкие и дальние родственники, а также юристы, которых Агата призвала, чтобы они подтвердили законность ее брака и законное рождение сына. Еще дальше толпились слуги — и те, что служили сейчас, и те, что были уже стары и получали пенсию, затем кое-какие избранные рабочие — между ними семья Маньяни, наконец, некоторые наиболее видные «клиенты», с которыми сицилийские синьоры поддерживают связи, основанные на общности интересов, что не принято у нас и сходно с античными обычаями римского патрициата. Само собой разумеется, Агата не сочла нужным объяснять, какие тягостные обстоятельства принудили ее обвенчаться с человеком такой дурной славы, как князь Кастро-Реале, отважным и грозным разбойником, столь развращенным и подчас столь простодушным, с каким-то раскаявшимся Дон Жуаном, о похождениях которого ходило так много страшных, фантастических и неправдоподобных рассказов, что ему было и не совершить всего этого. Она не желала объявлять о насилии, что было бы противно ее стыдливости и гордости, и предпочла намекнуть, что то была любовь романтическая, даже безумная, — но любовь по обоюдному согласию и освященная законным браком. Один маркиз Ла-Серра был посвящен в ее истинную историю, лишь ему одному из собравшихся было известно о бедствиях Агаты, о жестокости ее родных, о вероятном убийстве Дестаторе, об умыслах на жизнь младенца — сына. Прочим присутствующим княгиня дала лишь понять, что ее семья никогда бы не признала этого тайного брака и что ей пришлось скрытно воспитывать сына, чтобы не подвергать его опасности из-за нее оказаться лишенным наследства от родных с материнской стороны. Ее рассказ был краток, прост и ясен, она говорила с уверенностью, достоинством и спокойствием, которые придавала ей сила материнской любви. Раньше, когда она еще не знала о существовании сына, она скорее умерла бы, чем позволила людям заподозрить и десятую часть своей тайны, теперь, желая добиться для сына признания, она раскрыла бы все, если бы подробный рассказ оказался необходимым. Она уже с четверть часа как закончила говорить. Когда вошел Микеле, она оглядывала своих слушателей совершенно спокойно. Она понимала, чего ей ждать от наивной растроганности одних, от скрытой враждебности других. Она знала, что у нее хватит храбрости с открытым лицом встретить все те домыслы, насмешки и злобные выходки, которые ее заявление должно было породить в обществе и особенно в высшем кругу. Она была готова ко всему и чувствовала себя сильной, опираясь на сына, — эта женщина, никогда не искавшая ни защиты мужа, ни утешений любовника. Иные из присутствующих лиц, то ли по злобе, то ли по глупости пробовали вытянуть из нее разные подробности и объяснения. Она отвечала мягко, но непреклонно: — Не годится мне перед столькими свидетелями в день траура и печали в моей семье развлекать или занимать вас рассказом о любовной истории. Да в моей памяти многое уже стерлось. Я была тогда совсем юной и теперь, спустя двадцать лет после тех волнений, мне было бы трудно пробудить в себе чувства, которые помогли бы вам понять, почему я сделала тогда такой выбор. Допускаю, он кажется странным, но я никому не позволю осуждать этот выбор в моем присутствии — это значило бы чернить память человека, имя которого я приняла, чтобы передать его моему сыну. Разные группы собрания, к этому времени уже разошедшегося по просторной галерее, жадно шушукались. Только добрые рабочие и верные слуги, державшиеся в отдалении в самом конце залы, были серьезны, спокойны и втайне растроганы. Отец и мать Маньяни подошли к княгине и со слезами поцеловали ей руку. Полная изумления и радостного восторга Мила в глубине души испытывала грусть. Она говорила себе, что Маньяни следовало быть здесь, а он все не появлялся, хотя его искали везде. Впрочем, когда она увидела, что вошел Микеле, она, позабыв про Антонио, вскочила и пробилась к нему между пораженными или враждебно настроенными гостями, которые расступались, пропуская князя-рабочего в суконной куртке. Но вдруг она вспыхнула и остановилась в огорчении — Микеле больше не был ей братом. Ей нельзя было теперь поцеловать его. Агата поднялась со своего места еще раньше Милы. Она обернулась, сделала той знак и, взяв ее за руку, уверенно и гордо, как подобало матери и королеве, пошла с Милой к сыну. На глазах у всего собрания она сначала подвела его под благословение к приемному отцу и фра Анджело, затем представила своим друзьям, чтобы он пожал им руку, и знакомым, которые его приветствовали. Микеле доставляло удовольствие держаться холодно и надменно с теми, кто ему казался холоден и надменен. Лишь дойдя до гостей-простолюдинов, он стал самим собой и вел себя с ними искренно и сердечно. Ему не трудно было завоевать их сердца, и здесь его приняли так, словно он родился и вырос на глазах у этих честных людей. Затем Агата представила свидетельства о заключении брака и рождении сына, которые были составлены и зарегистрированы при старой церковной администрации и оказались вполне действительными и законно засвидетельствованными. Потом она простилась со съехавшимися родными и удалилась в свои комнаты вместе с Микеле, семьей Лаворатори и маркизом Ла-Серра. Здесь, без помех, они вкусили наконец радость быть вместе и немного отдохнули от перенесенного напряжения, вволю посмеявшись над случаем с дедовским придворным одеянием — забавной выдумкой Барбагалло! Все заранее потешались над тем, какие нелепые и смешные сплетни возникнут в первые же дни у легковерных жителей Катании, Мессины и Палермо по поводу новых обстоятельств в семье Пальмароза. Однако еще день не подошел к концу, как выяснилось, что мужество им всем понадобится для дел более важных. Весть об убийстве аббата Нинфо и дерзкой надписи на кресте к вечеру достигла города и быстро облетела его. Некоторые жители уже побывали там и принесли списанную надпись, campieri принесли тело. Поскольку тут имелся политический оттенок, о происшествии толковали тайком, но так как оно было связано с событиями дня, со смертью кардинала и заявлением Агаты, о нем толковали ночь напролет, пока не потеряли всякую охоту спать. Самый прекрасный, самый большой город, если он не являлся одной из столиц цивилизованного мира, всегда, и особенно на юге Европы, по духу и умственному уровню схож с маленьким провинциальным городком. Кроме того, из-за мщения, постигшего одного из ее агентов, забеспокоилась и полиция. Люди, бывшие в милости у правительства, сыпали в гостиных угрозами против дворян, настроенных патриотически. Неаполитанская партия давала понять, что князю Кастро-Реале следует помалкивать, если он хочет, чтобы преступления его батюшки были забыты. Даже в будуар княгини проникали душеспасительные увещания, с которыми к нему хотели бы обратиться. Один искренний, но малодушный друг явился к ней и сообщил, что подтверждение ее невиновности в безумном послании Пиччинино и призыв к ее сыну мстить за Кастро-Реале в этом же послании могут чрезвычайно скомпрометировать ее, если она не поспешит сделать некоторые благоразумные шаги. Так, например, ей следует явиться с сыном к ныне действующим властям, и хоть и не прямо, но вполне ясно заявить, что она предоставляет душу покойного разбойника дьяволу, тело его незаконного сына, своего пасынка, — палачу, а сама намерена стать подлинно добрым отпрыском семьи Пальмароза, какими были ее отец и дядя; и, наконец, ей надо поручиться, что она постарается дать наилучшее политическое воспитание наследнику такогоопасного и обременительного имени, как Кастро-Реале. На эти увещания Агата спокойно и разумно отвечала, что она вовсе не бывает в свете, что вот уже двадцать лет, как она живет в тихом уединении, где никогда не устраивалось никаких заговоров, что сделай она сейчас какие-либо шаги для сближения с властями, это выглядело бы так, будто она признает основательность их недоверия, которого вовсе не заслуживает, что сын ее пока еще мальчик, выросший в скромных обстоятельствах и в неведении всего, кроме поэтической стороны искусства, наконец, что и она и он смело будут носить имя Кастро-Реале, потому что было бы трусостью отрицать свои связи и происхождение, и что оба они постараются заставить уважать это имя на глазах у самой полиции. Что до Пиччинино, она ловко притворилась, будто даже не понимает, чего от нее хотят, и не верит в существование этого неуловимого призрака, какого-то чудовища, которым пугают маленьких детей и старых бабушек в предместье. Убийство Нинфо поразило и испугало ее, но так как завещание весьма кстати нашлось у доктора Рекуперати, никто не мог заподозрить, будто помогли вернуть этот документ тайные связи с горными разбойниками. Доктор даже никогда и не узнал, что оно было у него похищено, так как, когда он собрался заявить, что аббат Нинфо украл у него завещание, Агата остановила его, сказав: — Смотрите, доктор, вы ведь очень рассеянны, не обвиняйте никого так легко. Позавчера вы мне показывали это завещание — не оставили ли вы его у меня в кабинете, под мозаичным пресс-папье? И в указанном месте, в присутствии свидетелей, нашли завещание целехоньким. Доктор подивился своей рассеянности и поверил Агате, как и все прочие. Агата слишком много перенесла, ей приходилось слишком часто скрывать разные страшные тайны, чтобы не выучиться действовать хитростью, когда нужно было. Микеле и маркиз восхищались присутствием духа, которое она проявила во всем этом деле, выбираясь из довольно затруднительного положения. Но фра Анджело очень опечалился, да и Микеле ложился спать в своем дворце далеко не так беззаботно, как, бывало, в своей мансарде. Все эти необходимые предосторожности и постоянное притворство, которыми приходилось вооружаться, раскрыли ему глаза на заботы и опасности, связанные со знатным титулом. Капуцин опасался, как бы Микеле не развратился нечаянно для самого себя. Микеле не боялся этого, но понимал, что ему придется либо соблюдать осторожность и держаться в тени ради своего покоя и счастья семьи, либо ввязаться в борьбу, которая закончится лишь с погибелью его состояния и его самого. Он яа этом и успокоился. Он говорил себе, что ради матери будет вести себя благоразумно до того дня, когда настанет случай проявить отвагу ради своей отчизны. Миновали часы упоения и счастья, наступало время выполнять свой долг: так романы, которые не обрываются на хорошей развязке, если они хоть отчасти правдоподобны, омрачаются на последней странице. Иные люди со вкусом и воображением хотели бы, чтобы романы никак не заканчивались и чтобы фантазия читателя доделывала остальное. Другие, рассудительные и любящие порядок, желали бы, чтобы все нити интриги неторопливо развязывались у них на глазах и все действующие лица прочно устраивались на всю остальную жизнь либо умирали, чтобы ими уж более не заниматься. Я согласен с первыми и думаю, что мог бы покинуть читателя у креста Дестаторе, разбирающим надпись, начертанную Свободным Мстителем. Читатель и без меня придумал бы главу, которую, я уверен, просматривал только что довольно вяло, все время приговаривая: «Я так и знал, я так и думал, это само собой разумеется». Но я боюсь иметь дело с чувствительным читателем, который не захочет оказаться в образцово-романтическом соседстве с трупом и стервятником. Почему все развязки так или иначе неудачны и неудовлетворительны? Причина проста — все получается из-за того, что в жизни развязок не бывает, что всякий роман в жизни длится без конца, печальный или спокойный, поэтичный или обыденный, и что в чисто условном произведении не найдется ни единого правдивого характера, который вызывал бы интерес. Но раз наперекор своим склонностям я решил все объяснять, я честно признаю, что оставил Маньяни на мели, Милу — в тревоге, Пиччинино — в бегах, а маркиза Ла-Серра — у ног княгини. Почти двенадцать лет он припадал к ее стопам, и днем больше, днем меньше — ничего не изменяло в его судьбе. Но теперь, когда, зная тайну Агаты, он увидел, что сын ее получил все свои права и достиг всякого счастья, он изменил позицию, и, поднявшись, во всем своем величии, как настоящий верный рыцарь, сказал ей в присутствии Микеле: — Сударыня, я вас люблю, как всегда любил: я вас тем более уважаю, что, доказав этим свою гордость и честность, вы под прекрасным именем девственницы отказывались вступить в союз, в который вам пришлось бы втайне нести имя вдовы и матери. Но ежели вы считаете, будто пали в моих глазах из-за того, что вам нанесли когда-то ужасную обиду, вы совсем не знаете моего сердца. Ежели из-за того, что вы носите имя, странное и страшное по связанным с ним воспоминаниям, вам кажется, что я побоюсь присоединить его к моему, значит, вы недооцениваете мою преданность. Напротив, как раз в этом кроется причина, почему я больше прежнего желаю стать вашим другом, вашей опорой, вашим защитником и вашим супругом. Ваш первый брак сейчас вызывает насмешки. Отдайте мне вашу руку, и никто не посмеет шутить над вашим вторым замужеством. Вас именуют женой разбойника. Станьте женой благоразумного и выдержанного дворянина, и все поймут, что если вы могли зажечь воображение человека страшного, вы можете царить также в сердце человека мирной жизни. Вашему сыну очень нужен отец, сударыня. Он еще не раз окажется в трудных и опасных обстоятельствах из-за той несчастной жизни, которую мы должны вести по вине иноземцев. Знайте, я уже люблю его как сына, моя жизнь и мое состояние принадлежат ему. Но этого мало: надо, чтобы освящение брака с вами положило конец двусмысленному положению, в котором мы оба находимся. Как ему любить и уважать меня, когда я считаюсь любовником его матери? Не покажется ли смешным и, быть может, низким, если он будет делать вид, будто допускает все это, не испытывая стыда и негодования? И теперь, если вы откажетесь заключить брак со мной, я должен буду удалиться. Вы потеряете лучшего своего друга, и Микеле тоже!.. Что до меня, я уже не говорю о горе, которое мне это причинит, у меня нет слов, чтобы выразить его. Но дело вовсе не во мне, и вовсе не из себялюбия умоляю я вас. Нет, я знаю, вам неведома любовь, и страсть пугает вас. Я знаю, какая рана нанесена вашей душе и какое отвращение внушают вам чувства, которые зажигают воображение всех, знающих вас. Ну что ж! Если вы потребуете, я буду вам только братом, я обещаю это честью. Микеле — ваше единственное дитя, и он останется вашей единственной любовью. Однако тогда закон и общественное мнение позволят мне стать его лучшим другом, его руководителем и в то же время защитником чести и репутации его матери. Маркиз произнес эту длинную речь спокойно, и выражение его лица вполне совпадало с нею. Только слезы показались на его глазах, и он напрасно старался их удержать, ибо они были красноречивей его слов. Княгиня зарумянилась. Маркиз впервые видел, как она краснеет, и это так взволновало его, что он потерял все хладнокровие, которым вооружился. Этот румянец впервые, в тридцать два года, делавший ее женщиной, казался лучом солнца на снегу. Микеле был достаточно тонкий художник и догадался, что она хранила в глубине души еще одну тайну, или, вернее сказать, что ее сердце, ожившее под влиянием счастья и покоя, могло начать любить. И какой мужчина заслуживал ее любви больше, чем маркиз де Ла-Серра? Молодой князь опустился на колени. — О матушка, — сказал он, — вам сейчас всего двадцать лет! Вот поглядите на себя, — прибавил он, протягивая ей ручное зеркальце, забытое горничной на столе. — Вы так прекрасны и молоды, и вы хотите отречься от любви! Неужто ради меня? Разве я буду счастливей, если ваша жизнь будет не такой полной и радостной? И разве я буду чтить вас меньше, зная, что теперь вы окружены большим уважением и лучше защищены? Вы опасаетесь, что я стану ревновать, как меня в этом упрекала Мила?.. Нет, я вовсе не буду ревновать, разве что почувствую, что он любит вас больше, чем я, но уж тут он со мной не поспорит! Дорогой маркиз, мы очень будем любить ее, не правда ли? Мы заставим ее забыть прошлое, мы сделаем ее счастливой — ведь она-то никогда не была счастлива и больше всех в мире заслужила самое полное счастье! Матушка, скажите «да», я не поднимусь с колен, пока вы не скажете «да»! — Я уже думала об этом, — ответила Агата, снова краснея. — Я полагаю, что это нужно ради тебя, ради достоинства нас всех. — Не говорите так! — воскликнул Микеле, сжимая ее в своих объятиях. — Если вы хотите, чтобы мы были счастливы — и он и я, — скажите, что делаете это ради собственного счастья! Агата протянула руку маркизу и спрятала голову сына на своей груди. Ее смущало, что сын видит радость ее жениха. Она сохранила стыдливость молодой девушки и с этого дня снова стала такой молодой и прекрасной, что злобные люди из тех, кому непременно хочется видеть повсюду ложь и преступление, утверждали, будто Микеле вовсе не сын ей, а любовник, под священным именем сына обманно введенный в дом. Однако всякая клевета и всякие насмешки отступили прочь, когда было объявлено о ее свадьбе с маркизом Ла-Серра, которая должна была состояться по окончании траура. Пробовали было очернить «донкихотскую» любовь маркиза, но здесь было больше зависти к нему, чем сожаления.XLIX. ОПАСНОСТЬ
Новость произвела сильное впечатление на Маньяни. Она его и излечила и опечалила. Его восторженная душа требовала любви исключительной и всепоглощающей. Но, видимо, он сам ошибался, внушая себе, будто не испытывал надежды, ибо когда всякая надежда стала невозможной, образ Агаты перестал преследовать его. Теперь его раздумьями, его бессонными часами завладел образ Милы. Но эта страсть началась с мучений, горших, чем все былые. Агата представлялась ему недостижимым идеалом. На Милу он глядел такими же глазами, но вдобавок еще был уверен, что у нее есть любовник. И вот в этом тесном кругу, между членами его, связанными родственными и дружескими отношениями, начали возникать еле заметные нелады, как будто по незначительным поводам, но становящиеся все тягостней для Милы и Маньяни. Пьетранджело видел, что дочь его грустит, и, ничего не понимая, решил откровенно объясниться с Маньяни и заставить его открыто и определенно просить руки Милы. Фра Анджело был не согласен с ним и удерживал его от такого шага. Спор этот был вынесен на снисходительный суд княгини, и хотя ее объяснение причин поездки Милы в Николози удовлетворило отца и дядю, оно оставило все же некоторые сомнения в прямой и гордой душе молодого влюбленного. Фра Анджело, учинивший эту беду, взялся ее поправить. Он пошел к Маньяни и, не раскрывая секрета великодушной неосмотрительности Милы, объявил ему, что она полностью оправдана в его глазах и что, как выяснилось, загадочное путешествие имело причиной лишь благородные и отважные цели. Маньяни не задал ни единого вопроса. Случись иначе, монах, не умевший приукрашивать правду, рассказал бы ему все. Но прямодушный Маньяни откинул все свои подозрения, раз фра Анджело поручился ему за Милу. Он наконец поверил своему счастью и пошел к Пьетранджело, чтобы тот подтвердил их помолвку. Но счастье не было суждено ему. В день, когда он явился, чтобы признаться в любви и просить ее руки, Мила не захотела его видеть, ушла в сердцах из мастерской отца и закрылась у себя в комнате. Ее гордость была уязвлена тем, что Маньяни целых пять дней находился в нерешительности и унынии. Она думала, что победа достанется ей быстрей и легче. Ей уже было стыдно, что этой победы приходится добиваться так долго. И, кроме того, ей было известно все, что произошло за эти тоскливые дни. Она знала, что Микеле не по душе, чтобы Маньяни так торопили с предложением, Микеле же один знал тайну своего друга и боялся за названную сестру; он боялся, как бы внезапный переход Маньяни к ней не оказался актом отчаяния. А Мила решила, что Микеле знает о стойкой любви Маньяни к другой женщине, хотя тот и отказался взять кольцо Агаты и просил Милу оставить его у себя в залог его преданности и уважения. В тот самый вечер, когда Микеле остался у матери и Маньяни провожал ее домой из дворца Ла-Серра, молодой человек, опьяненный красотой, умом и успехом Милы, говорил с нею так пылко, что это было почти объяснение в любви. У девушки достало силы не идти открыто ему навстречу, но она уже считала себя победительницей и думала, что завтра, то есть в тот день, когда Агата публично делала свои признания, она снова увидит Маньяни у своих ног и откроет тогда ему свою любовь. Однако в тот день он вовсе не появился и в следующие дни не сказал ей ни слова, а когда не мог избежать ее взгляда, ограничивался почтительным ледяным приветствием. Смертельно обиженная и опечаленная, Мила отказалась открыть правду, хотя добряк отец, встревоженный ее бледностью, чуть ли не на коленях умолял ее признаться. Она упорно отрицала, что любит молодого соседа. Пьетранджело не придумал ничего лучшего, как сказать ей с обычной своей прямотой и простотой: — Не горюй, дочка, мы отлично знаем, что вы любите друг друга. Его беспокоит только твоя поездка в Николози. Он тебя ревнует, но если ты постараешься оправдаться перед ним, он будет опять у твоих ног. Завтра так и случится, я уверен в этом. — Ах, так господин Маньяни позволяет себе ревновать и подозревать меня! — с сердцем возразила Мила. — Давно ли он меня любит, не знает даже, люблю ли я его, а когда ему в голову приходят подозрения, так вместо того, чтобы смиренно изложить их мне и постараться вытеснить беспокоящего его соперника, он разыгрывает обманутого мужа, дуется, забывает, что меня нужно завоевывать, что мне нужно нравиться, и думает будто доставит мне великое удовольствие и окажет великую честь, если явится с заявлением, что изволил простить меня! Так вот, теперь я его не прощаю. Вот, батюшка, это вы ему и передайте от меня. Раздосадованная, она так упорствовала, что отцу пришлось привести Маньяни к ее двери; она заставила его долго стучать и, открыв наконец, стала сердито жаловаться, что вот-де как ее мало жалеют и не дают отдохнуть в час сьесты. — Поверь, — сказал ее отец Маньяни, — эта обманщица и не думала спать, ведь она только-только вышла от меня, когда ты пришел. Ну, дети, бросьте ваши дурацкие ссоры. Подайте друг другу руки — ведь вы оба любите, и поцелуйтесь с моего позволения. Не хотите? У Милы самолюбия не меньше, вижу я, чем было у ее бедной матери! Ах, друг Антонио, с тобой будут обращаться, как со мной когда-то, и от этого тебе будет не хуже, так-то! Ну, тогда на колени, и проси прощения. Синьора Мила, может быть, и вашему отцу стать рядом? — Отец, — отвечала Мила, вся пунцовая от радости, гордости и огорчения сразу, — выслушайте меня, вместе того чтобы смеяться надо мной. Ведь надо же мне беречь и защищать мое достоинство. У женщин нет ничего драгоценней, и мужчине — даже отцу — не понять, до какой степени мы имеем право на щепетильность. Я не хочу, чтобы меня любили наполовину, не хочу быть средством и лекарством от незалеченной страсти. Я знаю, господин Маньяни был долго влюблен и, боюсь, еще и сейчас влюблен немножко в некую прекрасную незнакомку. Ну, что ж! Я, ему предлагаю подождать, пока он не забудет ее совсем, а мне пусть даст время, чтобы разобраться, люблю ли я его. Все это еще слишком незрело, чтобы мне соглашаться сразу. Я знаю, уж если дам слово, так не стану брать его обратно, даже если придется пожалеть об обещании. Так я узнаю, какова любовь Маньяни, — прибавила она, с упреком взглянув на него, — узнаю, равны ли наши чувства и достаточно ли он тверд в своей привязанности ко мне. Ему надо кое-что загладить, а мне — кое-что простить. — Принимаю это испытание, — отвечал Маньяни, — но не в наказание; я не чувствую за собой вины оттого, что предавался печали и унынию. Я не думал, что Мила любит меня, и отлично понимал, что не имею никакого права на ее любовь. Я и сейчас думаю, что недостоин ее, и хоть немного и надеюсь, но все же боюсь… — Ах, сколько красивых и пустых слов! — воскликнул Пьетранджело. — В наше время мы были не так красноречивы, зато были искренней. Мы говорили: «Ты меня любишь?»— «Да, а ты?»— «Безумно». — «И я тоже, до самой смерти». Это стоило побольше ваших разговоров, похожих на какую-то игру, да еще на такую, где каждый хочет наскучить и насолить другому. Но, может быть, я вас стесняю. Я ухожу. Наедине вы договоритесь скорее. — Нет, отец, — сказала девушка, опасаясь, как бы ей не смягчиться и не позволить слишком быстро уговорить себя. — Даже если сегодня у него достанет любви и ума, чтобы заставить себя слушать, завтра я непременно пожалею, что была чересчур доверчива. Кроме того, я вижу, вы не все ему сказали. Я знаю, он позволяет себе ревновать меня из-за той странной поездки. Вижу и другое. Убеждая Маньяни, что я не совершила тогда ничего дурного, чему Антонио соизволил поверить, дядя счел своим долгом умолчать о цели моего путешествия. А мне только неприятно и стыдно от таких уверток, которые будто бы ему необходимы: я не хочу из жалости к нему утаивать ни капельки правды. — Как хочешь, дочка, — ответил Пьетранджело. — Я думаю так же, как ты. Не стоит, пожалуй, скрывать то, что ты считаешь своим долгом сказать. Поэтому поступай как знаешь. Только не забывай: это тайна не только твоя, но и человека, которому ты обещала никогда его не называть. — Я могу его назвать — ведь его имя у всех на устах, особенно в последние дни. Да если и опасно говорить, что знаешь человека, носящего это имя, так ведь это опасно лишь для тех, кто похваляется его дружбой. А я не собираюсь ничего открывать из того, что мне о нем известно. Поэтому я могу сообщить господину Маньяни, что по своей воле провела два часа наедине с Пиччинино, но не скажу где и не скажу зачем. — Видно, все женщины заразились лихорадкой делать признания! — со смехом воскликнул Пьетранджело. — С тех пор как княгиня Агата сделала те признания, о которых столько говорят, все женщины хотят исповедаться на народе! Пьетранджело сам не знал, насколько был прав. Пример мужества заразителен для женщин, а восторженная Мила так страстно обожала Агату, что жалела, зачем она не может сию же минуту объявить о своем тайном браке с Пиччинино, впрочем, разумеется, при условии, чтобы она сразу осталась вдовой и могла бы выйти замуж за Маньяни. Но это смелое признание произвело совсем другое действие, чем она ожидала. На лице Маньяни не выразилось никакого волнения, и ей не пришлось внутренне порадоваться, что ей удалось уколом ревности разбудить и подстрекнуть его любовь. Он стал еще грустней, чем обычно, поцеловал Миле руку и мягко сказал: — Ваша откровенность исходит из благородного сердца. Мила, но тут есть и доля гордости. Вы хотите, должно быть, подвергнуть меня тяжкому испытанию, рассказывая то, что до крайней степени встревожило бы любого, но не меня. Я ведь слишком хорошо знаю вашего отца и дядю, чтобы опасаться, будто они меня обманывают, объясняя, что вы оказались на горной дороге ради какого-то доброго дела. Так не старайтесь же задеть мое любопытство. Это было бы дурно, потому что тут нет иной цели, как заставить меня страдать. Расскажите мне все либо не говорите ничего. У меня нет права требовать признаний, которые могут быть для кого-нибудь опасны. Но у меня есть право просись вас не забавляться мною, стараясь поколебать мое доверие к вам. Пьетранджело сказал, что на этот раз Маньяни говорил «как по книге»и что в таком тонком деле нельзя было найти ответа честней, великодушней и разумней. Но что же произошло за эти несколько коротких дней в душе маленькой Милы? Вероятно, нельзя играть с огнем, каким бы добрым побуждением ты ни руководился, и она напрасно отправилась тогда в Николози. Короче сказать, ответ Маньяни понравился ей меньше, чем отцу, и она почувствовала себя задетой и обиженной наставлениями, которые прочел ей ее поклонник. — Как? Уже и поучения! — сказала она, поднимаясь и тем давая понять Маньяни, что на сегодня с нее хватит. — Читать проповеди мне, кого вы любите будто бы так безнадежно и робко? Мне кажется, сосед, вы рассчитываете, что, наоборот, я окажусь весьма послушной и весьма покладистой. Ну, боюсь, как бы вам не ошибиться. Я еще дитя, я должна об этом помнить, мне это твердят беспрестанно. Но я прекрасно знаю и другое: когда любят, то не замечают недостатков, не ищут, в чем бы обвинить любимую девушку. Все, что она делает и говорит — мило или по меньшей мере — важно. Ее честность не называют надменностью, а гордость — ребяческим вздором. Вот ведь, Маньяни, как это скучно в любви, видеть все слишком ясно. Есть такая песенка, в которой поется: «Cupido e un bambino cieco» [247]. Отец ее знает, он вам споет. А пока помните, что проницательность заразительна и, срывая повязку со своих глаз, вы выдаете другим свои собственные недостатки. Вам стало ясно, что я важничаю и вы, конечно, считаете меня кокеткой. А я из этого делаю вывод, что вы чересчур самолюбивы, и боюсь, как бы вы не оказались педантом. В семье Анджело надеялись, что туча рассеется и что, вдоволь взбунтовавшись, Мила станет мягче, а Маньяни счастливей. И правда, случались у них беседы и завязывались словесные перепалки, разыгрывалась борьба чувств, и подчас они настолько готовы были понять друг друга, что внезапные ссоры минуту спустя, горесть Маньяни и раздражение Милы — все это казалось необъяснимым. Маньяни иногда пугало подобное упорство и настойчивость в женщине. А Милу пугало, что у мужчины она встречает подобную серьезность, непреклонность и рассудительность. Ей казалось, что Маньяни не способен к великой страсти, а ей хотелось внушать ее, так как она ощущала в себе склонность к бурному ответному чувству. Он же в своих речах и мыслях был воплощенной добродетелью, и Мила с некоторой долей иронии называла его «истинным праведником». Она очень кокетничала с ним, а Маньяни, вместо того чтобы радоваться, видя, сколько усилий и ухищрений тратит она, желая ему понравиться, побаивался только, не кокетничает ли она понемногу со всеми мужчинами. Ах, если бы он видел ее в доме Пиччинино, какое сражение она там провела и как ее нравственная чистота и будто бы мужественное простодушие одержали победу над темными желаниями и дурными мыслями молодого разбойника! Тогда Маньяни понял бы наконец, что Мила вовсе не кокетка, потому что кокетничала она лишь с ним одним. Но бедный молодой человек совсем не знал женщин: он любил долго, безответно и мучительно и еще ничего не понимал в нежных и таинственных загадках разделенной любви. Он был слишком скромен, слишком на веру принимал жестокие выходки Милы и бранил ее, когда она бывала зла с ним, вместо того, чтобы на коленях благодарить за это. И наконец будем откровенны. Это путешествие в Николози было отмечено печатью рока, как и все, связанное хоть тончайшей нитью с таинственной судьбой Пиччинино. Не входя в подробности, которые раскрывать нельзя было, молодому человеку рассказали об этом приключении все, что могло бы его успокоить. Фра Анджело, верный своей тайной склонности к разбойнику, ручался за его рыцарскую порядочность в подобных обстоятельствах. Княгиня с материнским пристрастием и сердечным красноречием говорила с Маньяни о преданности и отваге молодой девушки. Пьетранджело был простодушно уверен, что все устроил к лучшему. Один Микеле содрогнулся, услышав о происшедшем, и поблагодарил провидение за то, что оно совершило чудо ради его благородной и прелестной сестры. Но, несмотря на свое великодушие, Маньяни все не мог примириться с тем, будто поездка Милы исходила из доброго порыва, и, не говоря об этом ни единого слова, жестоко страдал. Впрочем, это понятно. А для Милы последствия поездки оказались важнее, чем она пока могла предполагать. В памяти Милы эта глава ее девического романа оставила неизгладимый след. Узнав, как легкомысленно она сама предалась в руки грозного Пиччинино, Мила сначала перепугалась и поплакала. Затем она обсудила про себя свой неосмотрительный поступок и втайне изменила мнение об этом страшном человеке, встреча с которым оставила в ней не стыд, не угрызения совести и не отчаяние, но лишь поэтические воспоминания, хорошее мнение о самой себе да букет незапятнанных цветов, который, уж не знаю почему, она сначала бережно высушила, а потом тщательно хранила, запрятав среди других своих сентиментальных реликвий. Мила не была кокеткой, и мы уже доказали это, упомянув, как держалась она с мужчиной, на которого смотрела как на своего жениха. Не была она и переменчива и до самой смерти хранила бы ему безупречную верность. Но в сердце женщины есть тайны, и они тем деликатней и глубже, чем одаренней эта женщина, чем тоньше ее натура. Кроме того, есть нечто сладостное, льстящее гордости каждой молодой девушки в том, чтобы укротить грозного льва и выйти целой и невредимой из страшных приключений благодаря лишь могуществу своей прелести, искренности и мужества. Теперь Мила понимала, сколько без своего ведома проявила она силы и ловкости в этом опасном положении, и мужчина, который до такой степени подчинился власти ее очарования, не мог казаться ей презренным или заурядным. Поэтому какая-то восторженная признательность приковывала память Милы к капитану Пиччинино, и сколько бы ни говорили о нем дурного, ее доверие к нему не могло поколебаться. Она приняла его за принца; разве он не был сыном князя и братом Микеле? И за героя, будущего освободителя своей родины; а разве он не мог стать им, и не в этом ли состояло его честолюбие? Его мягкие речи, его воспитанность, его обхождение очаровали ее, а почему это плохо? Не было ли увлечение княгиней Агатой еще более пылким, и разве это обожание было менее законным и менее чистым, чем то? Все это не мешало Миле любить Маньяни так горячо, что она вот-вот готова была невольно признаться ему в любви. Однако прошла неделя с их первой ссоры, а скромному и робкому Маньяни все еще не удавалось вырвать у нее это признание. Он, без сомнения, добился бы этой победы раньше или позже, быть может даже завтра!.. Но непредвиденные события перевернули жизнь Милы и поставили под угрозу жизнь всех героев этой повести. Однажды вечером, когда Микеле с матерью и маркизом прогуливались по садам виллы и строили планы своей будущей жизни, полной взаимной преданности и счастья, фра Анджело пришел навестить их; по его изменившемуся лицу и по его волнению Микеле понял, что монах хочет поговорить с ним наедине. Они вдвоем, словно случайно, отошли в сторону; тут капуцин вынул из-за пазухи какой-то испачканный и измятый листок и дал его прочесть Микеле. В записке было всего несколько слов: «Я ранен и схвачен. На помощь, брат! Малакарне расскажет тебе все. Через сутки будет поздно». Микеле узнал нервный, мелкий почерк Пиччинино. Строки эти были написаны его кровью. — Я знаю, что надо делать, — сказал монах. — Письмо пришло шесть часов тому назад. Все готово. Я пришел проститься: ведь очень может быть, что я оттуда не вернусь. И он остановился, словно опасаясь договаривать. — Понимаю вас, отец мой, вы рассчитывали на мою помощь, — отвечал Микеле, — я готов. Позвольте мне лишь поцеловать мою мать. — Если вы это сделаете, она поймет, что вы уходите, — она вас не отпустит. — Нет, отпустит, но станет беспокоиться. Я не пойду к ней, идем. По дороге мы придумаем, как объяснить ей мой уход, и найдем, с кем послать ей записку. — Это будет очень опасно для нее и для всех нас, — возразил монах. — Предоставьте это мне — задержка на пять минут, но она нужна. Он вернулся к Агате и сказал ей при маркизе: — Кармело укрывается у нас в монастыре. Он не испытывает вражды к вашей светлости и к Микеле и хочет примириться с ним перед отправлением в долгий поход, к чему его вынуждает дело аббата Нинфо к начавшиеся с тех пор строгости встревоженной полиции. К тому же ему надо просить брата об одной услуге. Поэтому разрешите нам уйти вместе, а если нас выследят, что весьма возможно, я задержу Микеле в монастыре до тех пор, пока ему нельзя будет уйти оттуда, не подвергаясь опасности. Доверьтесь благоразумию человека, который разбирается в этих делах. Быть может, Микеле заночует в монастыре; не беспокойтесь, если он задержится и дольше, и ни в коем случае не присылайте к нам никого. Не пишите ему: письма могут быть перехвачены, и тогда они выдадут нас — станет известно, что мы оказываем приют и помощь изгнаннику. Пусть ваша светлость простит, ко я ничего не могу сказать больше для вашего успокоения. Надо спешить! Перепуганная Агата постаралась сдержать свое волнение, поцеловала Микеле и проводила его до выхода из парка. Но тут она вдруг остановила его. — У тебя с собой нет денег, — сказала она. — Они могут понадобиться для Кармело. Я сбегаю за ними. — Женщины подумают обо всем, — сказал фра Анджело. — Я чуть не забыл самое главное. Агата вернулась, неся червонцы и лист бумаги со своей подписью; Микеле мог заполнить его по своему усмотрению, если бы брату понадобился приказ на выплату денег. Тут пришел. Маньяни. По волнению княгини, по тому, как Микеле старался ее успокоить, он понял, что нависает какая-то настоящая опасность, которую стараются скрыть от любящей матери. — Я не помешаю вам, если отправлюсь с вами? — спросил он монаха. — Напротив! — сказал монах. — Ты нам при случае можешь быть очень полезен. Идем с нами! Агата поблагодарила Маньяни взглядом, полным материнской любви, взглядом, какие бывают красноречивее всяких слов. Маркиз хотел было присоединиться к ним, но Микеле запротестовал. — Мы воображаем себе фантастические, несуществующие опасности, — сказал он, улыбнувшись, — но если опасность может грозить мне, то она может грозить и моей матери. Ваше место рядом с нею, мой друг. Я вам поручаю то, что для меня дороже всего. Но не слишком ли торжественно мы прощаемся перед простой прогулкой при луне в монастырь Бель-Пассо?L. НОЧНОЙ ПОХОД
Когда они отошли шагов на сто от парка, Микеле стал просить молодого ремесленника вернуться в Катанию. Он охотно соглашался поставить под угрозу собственную жизнь, но не хотел, чтобы жених Милы рисковал своей из-за дела для него чуждого и участвовать в котором его не заставляли ни долг совести, ни семейные связи. Фра Анджело держался другого мнения. Когда дело доходило до дружбы и патриотизма, он был фанатиком и считал Маньяни за помощь, посланную судьбой. Одним крепким и храбрым соратником больше, — ведь их отряд был так мал! Маньяни же стоил троих. Небо послало его им на помощь, и следовало воспользоваться его великодушием и преданностью ради правого дела. Они горячо спорили на ходу, не сбавляя шагу. Микеле корил монаха за бесчеловечную в этих обстоятельствах жадность при вербовке сторонников. Монах упрекал Микеле, что, мол, признавая цель, он не соглашался со средствами; Маньяни покончил их спор, выказав непреклонную решимость. — Я понял с самого начала, — сказал он, — что Микеле вмешался в дело гораздо более серьезное, чем было сказано его матери. Для меня все решено. Однажды я дал княгине священную клятву — никогда не оставлять ее сына в опасности, которую я мог бы разделить с ним. Хочет ли этого Микеле, или не хочет, я сдержу слово и пойду туда, куда пойдет он. Не вижу никакого средства помешать мне, разве что вы прострелите мне голову. Выбирайте же, Микеле, — терпите мое общество либо убейте меня на месте… — Вот и прекрасно! — сказал монах. — Но потише, ребята! Становится пасмурно, и не стоит разговаривать, если рядом тянется изгородь. Да и шагаешь медленней, когда споришь. Ах, Маньяни, ты настоящий мужчина! Маньяни шел навстречу опасности, полный бесстрастного и печального мужества. Он не ощущал в любви полного счастья. Потребность в бурных переживаниях толкала его наудачу к любой отчаянной затее, которая смутно обещала ему изменить его теперешнее существование и навсегда покончить с неуверенностью и тоской, владевшими его душою. Микеле был полон решимости, но не был спокоен. Он прекрасно понимал, что его увлекает за собой фанатик, спешащий на помощь человеку, быть может столь же вредному, сколь и полезному для правого дела. Он знал, что сам он рискует жизнью более счастливой и значительной, чем его товарищи, но обстоятельства были таковы, что он не колебался перед совершением поступка, требующего мужества. Пиччинино был его брат, и хотя Микеле испытывал к нему лишь некоторую симпатию пополам с недоверием и жалостью, он знал, в чем его долг. Быть может, он уже стал «настоящим князем»и уже не мог допустить, чтобы сын его отца закончил свою жизнь в петле, с позорным приговором, приколоченным к столбу виселицы. И все же сердце его сжималось при мысли, какое горе причинит он матери, если погибнет в этом смелом походе. Но, отметая прочь всякую человеческую слабость, он несся вперед быстрее ветра, словно надеясь забыть о все растущем расстоянии между ним и Агатой. Монастырь вовсе не был на подозрении, и монахи не подвергались слежке, потому что Пиччинино там не было и полиция в Катании отлично знала, что, пробираясь в глубь острова, он уже миновал Гаррету. Фра Анджело сочинял опасности, будто бы подстерегавшие их в близком соседстве, чтобы не дать княгине догадаться об опасностях дальних, но и более существенных. Он провел своих молодых товарищей к себе в келью и помог им переодеться в монашеское платье. Они распределили червонцы («деньги — основная пружина военных действий», как выразился фра Анджело), чтобы не обременять кого-нибудь одного тяжестью золота. Под рясой каждый из них скрывал надежный пистолет, порох и пули. Переодевание и снаряжение заняли сколько-то времени, затем фра Анджело, знавший по давнему опыту, что может случиться из-за спешки, тщательно и хладнокровно проверил все. Действительно, свобода передвижения и свобода действий целиком зависели от того внешнего обличья, какое они могли придать себе. Капуцин обработал бороду Маньяни, подкрасил брови и руки Микеле, разными ухищрениями, известными ему по прежней профессии, изменил цвет щек и рта, и сделал все так хорошо, что эти изменения могли выдержать и дождь, и пот, и даже насильное умывание, к чему нередко прибегала полиция, стараясь разоблачить захваченных пленников. При всем том подлинный капуцин отнюдь не старался отвести глаза врагам от собственной персоны. Ему не важно было, что его могут схватить и повесить, — лишь бы ему удалось сперва спасти сына своего капитана. А так как для этого им надобно было пересечь местность под личиной самых мирных людей, ничто не могло так пригодиться ему для взятой на себя роли, как его настоящее лицо и одежда. Когда оба молодых человека были полностью снаряжены, они с удивлением оглядели друг друга. Их было почти не узнать, и они поняли теперь, почему Пиччинино, еще более опытный в искусстве переодевания, чем фра Анджело, мог во всех похождениях так долго скрывать свою подлинную личность. Когда же они оседлали больших мулов — худых, но горячих, невзрачных, но безупречно сильных, — они подивились сообразительности монаха и не могли ею нахвалиться. — Мне бы не проделать одному так быстро столько всяких дел, — скромно ответил он, — но мне помогают рьяно и ловко. Мы ведь не одни отправляемся в поход. На пути нам будут встречаться различные паломники. Вы, ребята, вежливо-превежливо приветствуйте всех встречных, кто будет приветствовать вас, но смотрите берегитесь перемолвиться с кем-нибудь хоть словом, не оглянувшись на меня. Если по какому-либо непредвиденному случаю мы разойдемся врозь, у вас будут другие проводники и товарищи. Пароль такой — «Не здесь ли, друзья, проходит дорога на Тре-Кастанье?». Нечего говорить, что эта дорога совсем в другой стороне, и никто, кроме соучастников, не обратится к вам с таким дурацким вопросом. Однако из предосторожности вы должны ответить как бы шутя: «Все дороги ведут в Рим»«. И вы можете вполне довериться лишь после того, как вам ответят:» По милости господа бога-отца «. И помните — не дремлите в седлах и не жалейте мулов. По дороге будут подставы. И ни слова — разве что на ухо один другому. Углубясь в горы, они погнали мулов быстрым шагом и в короткое время проделали с десяток миль. Как и предупреждал фра Анджело, им не раз попадались люди, с которыми они обменивались условными фразами. Капуцин подъезжал к этим встречным, тихо переговаривался с ними, и затем, соблюдая известное расстояние, чтобы не подумали, будто они едут вместе, но в то же время стараясь не терять друг друга из виду, Микеле и его товарищи продолжали путь. Ночь в горах вначале была удивительно тепла и светла. Луна освещала громады скал и самые романтические пропасти. Но по мере того как они поднимались по этим диким местам, холод заставлял себя чувствовать все больше и вскоре туман скрыл свет звезд. Маньяни был погружен в свои думы, но молодой князь по-детски наслаждался приключениями; он вовсе не собирался, подобно своему другу, лелеять и вынашивать разные зловещие предчувствия и ехал, вполне доверяясь своей счастливой звезде. Монах же старался даже не думать о чем-либо, не относящемся к предприятию, которое возглавлял. Зорко и внимательно вглядываясь вперед и прислушиваясь к малейшему шуму, он наблюдал еще и за малейшим изменением в посадке своих товарищей, следил, чтобы никто из них не задремал и не выпал из седла, чтобы не ослабла рука на поводьях, не закивала бы подозрительно голова под капюшоном. Через пятнадцать миль они сменили мулов в хижине отшельника, с виду давно уже покинутой. Однако в темноте их там встретили люди, одетые погонщиками мулов, у которых они спросили дорогу к пресловутой деревни Тре-Кастанье и которые пожали им руки и, придерживая стремя, отвечали, что все дороги ведут в Рим. Всем, кто отзывался на этот красноречивый пароль, фра Анджело раздавал деньги, порох и пули, которые вез в своей монашеской суме. Подъезжая к цели путешествия, Микеле насчитал уже два десятка человек в их отряде: погонщиков мулов, коробейников, монахов и просто крестьян. Были даже три женщины — три юных мальчика, еще безбородых, с еще не установившимися голосами. Они были переряжены и прекрасно играли свою роль. При случае они должны были служить нарочными или дозорными. Вот каково было положение Пиччинино, и вот как он был захвачен. Убийство Нинфо было совершено и разглашено с безумным удальством, наперекор обычной предусмотрительности молодого капитана. Убить человека и этим похваляться в надписи, оставленной тут же, вместо того чтобы спрятать труп и скрыть все улики — а это сделать совсем нетрудно в таких краях, как предгорья Этны, — все это было, конечно, поступком отчаянным и как бы вызовом, брошенным судьбе в приступе безумия. Однако Кармело, не желая навсегда закрывать себе доступ в свое любимое убежище в Николози, навел там полный порядок и подготовил все к домашнему обыску, к которому могло бы повести следствие. Он быстро убрал мебель из своего пышного будуара и все роскошные вещи вынес в подвал, вход в который почти невозможно было найти и о существовании которого было и не догадаться. Потом на восходе солнца он весело и спокойно прошелся по городскому рынку, чтобы таким образом закрепить свое алиби, если бы, поверив заявлению, начертанному на цоколе креста Дестаторе, полиция заподозрила его и навела справки, что он делал в этот час. Убийство же Нинфо было совершено на самом деле по крайней мере на два часа ранее. После всего этого Кармело проехал по рынку верхом и сделал ряд закупок для многодневного путешествия, объясняя своим знакомым, что собирается съездить в глубь острова, чтобы присмотреть там земли под аренду. Он поехал на север Сицилии, в сторону гор Небродичи, решив провести несколько дней у членов своей банды, пока не пройдет достаточно времени, чтобы вокруг Катании прекратились расследования и розыски. Ему были известны обычаи местной полиции: сначала браться за дело горячо и ретиво, затем робеть и трусить и, наконец, действовать лениво и вяло. Но дело у креста Дестаторе обеспокоило власти больше, чем обычное убийство. Оно имело политическую окраску и связывалось с последними событиями — с признаниями Агаты и появлением на общественной сцене ее сына. Во все стороны полетели быстрые и суровые приказы. В горах Кармело тоже не был в безопасности, тем более что его правая рука, поддельный Пиччинино, присоединился к нему, навлекая на них опасность преследования. Кармело же вовсе не хотел покидать этого пылкого и свирепого человека, уже доказавшего ему свою безграничную преданность и свое послушание и с отвагой, гордостью и упорством взявшегося до конца играть свою роль. Поэтому, прежде чем думать о собственной безопасности, он решил помочь ему уйти. Поддельный Пиччинино, настоящее имя которого было Массари, по прозванию Вербум Каро, потому что он происходил из деревни с таким названием, отличался безупречной храбростью, но сметки у него было не больше, чем у разъяренного быка. С ним Кармело выбрался к морю в стал искать судно, которое перевезло бы его в Сардинию. Но несмотря на всю осмотрительность, которой сопровождалась эта попытка, капитан судна их обманул и выдал береговым таможенникам, как контрабандистов. Вербум Каро защищался как лев и достался врагам полумертвым. Кармело был ранен довольно легко. Обоих препроводили на ближний форт, где передали отряду campieri. Среди солдат нашлись двое, опознавшие двойника Пиччинино, будто уже виденного ими в одной стычке на другом конце острова. Они заявили об этом городским властям в Чефалу — и началось великое ликование, что наконец-то изловлен знаменитый начальник грозной банды. Настоящего Пиччинино сочли за одного из сообщников, как ни настаивал Вербум Каро, что знает его всего дня три и что это молодой рыбак, желавший вместе с ним переплыть в Сардинию по своим делам. В любом другом случае присутствие духа и умение притворяться помогли бы Кармело добиться освобождения, но сейчас повсюду царило беспокойство. Его решено было отправить в Катанию вместе с его опасным товарищем, где, мол, и разберутся в деле. Их передали отряду жандармов, которые повели их в Катанию по тропам, спускающимся по внутренней стороне гор к главной дороге, что казалось безопаснее. Однако в окрестностях Сперлинги солдаты подверглись нападению разбойников, уже проведавших о захватеобоих Пиччинино; они чуть не освободили пленников, но непредвиденное подкрепление, явившееся на помощь солдатам, все же обратило разбойников в бегство. Как раз во время этой стычки Пиччинино ловко швырнул в сторону приготовленное заранее на всякий случай письмо с завернутым в него камешком. Малакарне, которого Пиччинино приметил среди разбойников, пытавшихся освободить их, был человек энергичный, сообразительный и преданный, из старинных головорезов его отца, и притом верный друг фра Анджело. Письмо было подхвачено и доставлено по адресу вместе с ценнейшими подробностями. Вполне обоснованно опасаясь попытки освободить Пиччинино в горах Небродичи, чефалусские власти постарались скрыть, насколько важны захваченные пленники, и конвой был отправлен без лишнего шума. Все же власти послали нарочного в Катанию с просьбой выслать навстречу отряд швейцарских стрелков; предполагалось, что конвой остановится в Сперлинге и будет там поджидать их. Горные разбойники подстерегли и убили курьера; прочтя послание, они убедились, что пленник действительно их начальник, и, как мы видели, попытались вырвать его их рук стражи. Неудача этой попытки не обескуражила их. От Кармело, от него одного зависела их судьба. Его умное руководство, его энергия, то дикий, то рыцарственный дух справедливости, которым он руководствовался, управляя ими, огромное обаяние его имени и личности, — все это делало его особу и священной и необходимой для них. Среди них и среди множества горцев, которые не знали его в лицо и не служили непосредственно под его началом, но не раз обменивались с ним и его приспешниками разными взаимными услугами, царствовало единодушное мнение, что умри Пиччинино — и профессия разбойника станет невозможной, а героям разбойничьих приключений не останется ничего другого, как идти побираться. И вот Малакарне собрал кое-кого из своих товарищей у Сперлинги и ухитрился передать обоим Пиччинино, что им надо притвориться хворыми, чтобы возможно дольше задержаться там. Это оказалось нетрудным, так как Вербум Каро был тяжело ранен; к тому же при стычке в горах, когда он делал отчаянные попытки разорвать свои путы, его рана раскрылась, и он снова потерял столько крови, что его пришлось на руках нести в Сперлингу. Да и сами campieri знали, как важно доставить его живым, чтобы постараться вырвать у него сведения об убийстве Нинфо и деятельности банды. Приняв свои меры, Малакарне приказал товарищам, которых было всего восьмеро, держаться наготове, а сам, предварительно обрив бороду, чтобы его не узнали, верхом на коне убитого курьера непрямик проехал через эту местность до самого Бель-Пассо. По дороге всем, на кого он мог положиться, он приказывал тоже вооружаться и поджидать его возвращения. Вдвоем с фра Анджело они шесть часов провели в предгорьях Этны, собирая других разбойников, и на вторую ночь по прибытии пленников в Сперлингу десятка два людей, решительных и привычных к такого рода схваткам, поднимались к крепости, а некоторые засели у подножия скалы, на которой она стояла. Сверх того, для руководства экспедицией подоспели фра Анджело, молодой князь Кастро-Реале и верный Маньяни. Первый был здесь в качестве начальника, потому что, как никто другой, знал эти места и в лучшие времена вместе с Дестаторе брал эту маленькую крепость приступом. Двое других прибыли в качестве его помощников: это-де преданные делу молодые дворяне, вынужденные действовать скрытно, но богатые и имеющие силу. Таковы были объяснения фра Анджело, прекрасно понимавшего, что не только расчет, но и воображение движет людьми, которые ведут борьбу с законом. Фра Анджело и его друзья спешились, чтобы пробраться между отвесных скал возле Сперлинги, и тут только могли пересчитать своих людей; им сказали, что поблизости держатся вразброс еще десятка два крестьян, эти осторожные союзники поддержат их, как только подойдет удачный момент. Были это все люди мстительные и горячие, они натерпелись от врагов всякого зла, жаждали рассчитаться с ними и, если дело не грозило слишком большой опасностью, умели свершать свой быстрый и жестокий суд. Однако к тому времени, когда прибыл монах, часть банды уже начинала терять бодрость. Лейтенант тех campieri, что стерегли пленных, днем послал в Кастро-Джованни просьбу о новом подкреплении, и оно должно было прибыть к рассвету. Офицер этот очень беспокоился, видя, что швейцарские наемники, которых он поджидал с нетерпением, все не идут. Настроение крестьян в округе тоже не вселяло уверенности! Быть может, лейтенант прослышал о каких-нибудь передвижениях разбойников в горном районе и об их сношениях с иными горожанами. Наконец, он попросту боялся (а это монах считал бы уже залогом победы!) и дал приказ выступать в тот же день, предпочитая, по его словам, увидеть, как этот негодяй Пиччинино отдаст душу дьяволу по дороге, чем допустить, чтобы его честных солдат передушили в крепости, не имевшей ни крепких ворот, ни оборонных стен. Быть может, офицер достаточно понимал по-латыни, чтобы прочитать над входом древнего нормандского замка, где они укрылись, пресловутый девиз, который французы-туристы читают с любовью и признательностью: «Quod Sicilis placuit, Sperlinga sola negavit» [248]. Известно, что Сперлинга была единственной крепостью, отказавшейся выдать анжуйцев в час Сицилийской вечерни, но сколько бы признательности ни испытывали к этой твердыне наши соотечественники-французы, верно то, что Сперлинга не совершила тогда акта патриотизма[249] и что если лейтенант campieri считал неаполитанское правительство желанным в Сицилии, он должен был видеть в этом» negavit» крепости Сперлинга вечную угрозу, которая могла возбудить в нем суеверный страх. Итак, подмоги из Кастро-Джованни ждали с минуты на минуту. Осаждавшие оказались бы между двух огней. Некоторым из них уже мерещилось появление швейцарцев, а швейцарский солдат нагоняет ужас на сицилийца. Эти закаленные и безжалостные сыны Гельвеции, чья корыстная служба у королевских: правительств — стыд и позор для их республики, побивают без различия всех, кого встречают, и тот campiere, кто поколеблется высказать ту же храбрость и ярость, что швейцарцы, первым падет под пулями наемников. Поэтому разбойникам внушали страх и те и другие. Но фра Анджело рассеял колебания разбойников несколькими фразами, полными сурового красноречия и беспримерной отваги. Обратившись сначала с горячей укоризной к тем, кто предлагал подождать, он объявил, что пойдет один со своими «двумя князьями», и пусть его убьют под стенами форта, чтобы потом по всей Сицилии говорили: «Двое знатных юношей и один монах — только они старались освободить Пиччинино. Сыны гор видели это и не шевельнули пальцем. Тирания торжествует: народ Сицилии стал труслив». Малакарне поддержал его, заявив, что тоже пойдет на смерть. «А вы, — сказал он, — ищите себе другого начальника и делайте что хотите». Теперь никто не колебался, ведь у этих людей нет середины — либо крайнее малодушие, либо необузданная ярость. Едва завидев, что они двинулись, фра Анджело воскликнул: «Пиччинино спасен!» Микеле удивился, что он может так верить в мужество людей, за минуту до этого столь нетвердых, но вскоре увидел, что капуцин знал их лучше.LI. КАТАСТРОФА
Крепость Сперлинга, некогда слывшая неприступной, со временем превратилась в развалины — величественные, но непригодные для защиты. В городке, или, вернее, деревушке, под ее стенами ютилось жалкое население, терзаемое лихорадкой и нищетой. Все это располагалось поверх белесоватого утеса из песчаника, а высокие укрепления были выдолблены в самой скале. Осаждающие вскарабкались на утес со стороны, противоположной деревне. Он казался недоступным, но для разбойников подобная осада была делом привычным, и они быстро оказались под стенами форта. Половина их, под началом Малакарне, взобралась еще выше, чтобы занять заброшенный бастион, торчащий на дальнем гребне утеса. Зубцы этого бастиона представляли позицию, чтобы оттуда стрелять по замку почти в упор. Было условлено, что фра Анджело со своими людьми подойдет к самой крепости, вход в которую преграждали лишь большие, расшатанные и источенные червем ворота. Однако выламывать их не стоило, так как эта операция заняла бы достаточно времени, чтобы гарнизон успел собраться с силами. Малакарне должен был дать по замку известное число ружейных выстрелов, а фра Анджело предполагал держаться поблизости и напасть на тех, кто выйдет из крепости. Потом монах велит своему отряду притвориться, будто они обращаются в бегство, а когда их станут преследовать, Малакарне спустится и ударит в тыл врага, поставив его между двух огней. Маленький гарнизон, временно обосновавшийся в замке, состоял из тридцати человек. Он был, таким образом, значительней, чем ожидали разбойники, потому что подмога из Кастро-Джованни скрытно прибыла еще с вечера. Занятые своими приготовлениями и старавшиеся держаться незамеченными, разбойники не видели, как солдаты поднялись по тропе, или, вернее, по лестнице, через поселок. Солдаты той части конвоя, которая накануне несла сторожевую службу, спали, завернувшись в плащи, на каменных плитах пола в больших обветшалых залах. Новоприбывшие разожгли во дворе огромный костер из еловых ветвей и, чтобы не заснуть, играли в mora[250]. Пленники помещались в большой квадратной башне: ослабевший Вербум Каро, тяжело дыша, лежал, растянувшись, на связке камыша. Пиччинино сидел на каменной скамье — невеселый, но спокойный, и был бодрее, чем его сторожа. Он уже услышал, как в овраге просвистела маленькая пташка, и в этой нарочито насвистанной песенке узнал сигнал Малакарне. Терпеливо он силился перепилить о выступ камня веревку, которой ему связали руки. Начальник отряда campieri сидел в соседней зале на единственном стуле, какой был в замке, опершись локтями на единственный стол, причем и стул и стол пришлось разыскать в деревушке и реквизировать. Это был молодой парень — грубый, энергичный, который привык поддерживать свою раздражительность постоянным возбуждением от вина и сигар, быть может все время стараясь побороть в себе остатки любви к родине и ненависть к швейцарцам. У него не было и часа отдыха с тех пор, как ему поручили охрану Пиччинино, так что приступы сонливости просто валили его с ног. Зажженная сигара, которую он держал в руке, время от времени обжигала ему концы пальцев. Дернувшись, он просыпался, делал затяжку, вглядывался сквозь широкую трещину в стене напротив, не начинает ли светлеть горизонт, плотнее укутывался в плащ, спасаясь от резкого холода, проникающего повсюду на этом одиноком утесе, проклинал двойника Пиччинино, храпевшего в соседней зале, и вскоре голова его снова падала на стол. На каждом конце замка стоял часовой, но то ли по усталости, то ли по нерадивости, одолевающей даже самых бдительных, когда опасность уже на исходе, только ни один из них не заметил безмолвного и стремительного приближения разбойников. Однако на отдельном укреплении, которое предполагал занять Малакарне, стоял третий часовой, и из-за этого обстоятельства чуть не провалился весь план приступа. Вскочив в пролом стены, Малакарне увидел под собой этого часового, сидевшего у самых его ног. Он не предполагал такой помехи и держал в руке пистолет, а не кинжал. Кстати нанесенный удар стилета обрывает жизнь человека, не давая ему вскрикнуть. Это вернее выстрела, да Малакарне и не хотел стрелять, прежде чем все его товарищи не станут по местам: и не приготовятся открыть смертоносный огонь по форту. А часовой поднял бы тревогу, даже если разбойник успел бы попятиться, потому что ноги его стояли нетвердо и не скрепленные цементом камешки посыпались вокруг. Campiere не спал. Его пробирал холод, и он спрятал голову под плащом, укрываясь от пронизывающего ветра, под которым он совсем оцепенел. Но если плащ, смягчая вой ветра, и помогал лучше улавливать отдаленные звуки, он мешал слышать то, что происходит рядом, и вдобавок опущенный в последние четверть часа на глаза капюшон делал часового еще и незрячим. А это был хороший солдат, не способный задремать на посту. Но нет ничего труднее, как уметь бодрствовать. Для этого надо обладать живым умом, в голове же у campiere не было ни одной мысли. Он полагал, что бодрствует, ибо не храпел. И покатись ему под ноги хоть песчинка, он дал бы выстрел. Он держал палец на курке ружья. В порыве отчаянной решимости, Малакарне бросился вперед, схватил несчастного стража за горло своими железными руками, скатился с ним внутрь бастиона и продолжал душить, пока один из его товарищей не заколол солдата в его объятиях. Они сразу же засели за зубцами, чтобы не опасаться ответного огня с форта. Костер, пылавший во дворе, позволял им видеть campieri, беспечно погруженных в игру, и у них хватило времени хорошенько прицелиться. Ружья были перезаряжены мгновенно, пока осажденные искали свои, но прежде чем они успели ими воспользоваться, прежде чем поняли, с какой стороны нападают, раздался другой залп, направленный в упор, и некоторые были тяжело ранены. Двое вовсе не поднялись, третий упал вперед лицом в огонь и погиб, так как некому было вытащить его из костра. Со двора офицер увидел, откуда шло нападение. Он прибежал с яростным ревом, но не успел помешать своим людям дать бесполезный залп по стенам. «Ослы, дураки, — кричал он, — зря тратите патроны, нельзя стрелять наудачу! Что вы, голову потеряли? Выходите, выходите! Сражаться надо снаружи!» Тут он понял, что сам теряет голову, так как оставил саблю на столе; за которым дремал. К той зале вели только шесть ступеней. Он перескочил через них одним прыжком, отлично зная, что через минуту ему придется биться врукопашную. Но за время перестрелки Пиччинино успел отделаться от своих пут и под общий шум высадил едва прилаженную дверь своей тюрьмы. Он кинулся к сабле лейтенанта и опрокинул смоляной факел, воткнутый в стол. Когда офицер вбежал и стал ощупью искать свое оружие, он получил страшную рану в лицо и упал навзничь. Кармело бросился на него и прикончил. Затем он перерезал путы Вербум Каро и, сунув ему в руки фляжку лейтенанта, сказал только: «Делай что можешь!» Двойник Пиччинино в мгновение ока забыл о своих ранах и слабости. На коленях он дотащился до двери, и там ему удалось подняться и встать на ноги. Но настоящий Пиччинино, видя, что тот может идти, лишь держась за стены, накинул на него плащ офицера, нахлобучил форменную шляпу и велел не спеша выходить. Сам же спустился в опустелый двор, стащил плащ с одного из только что убитых campieri, переоделся, как умел, и, храня верность товарищу, возвратился к нему, чтобы под руку довести до ворот крепости. Все уже выбежали наружу, только двое вернулись, так как им было поручено следить, чтобы, воспользовавшись суматохой, пленники не бежали; на них тоже лежала охрана башни. Костер во дворе потух, и от него исходил лишь тусклый свет. «Лейтенант ранен!»— закричал один из солдат, увидев Вербум Каро, которого поддерживал также переодетый Кармело. Вербум Каро ничего не ответил, но жестом приказал им идти охранять башню. Затем как только мог быстро вышел вместе со своим начальником, который ни за что не хотел его покинуть, хотя Вербум Каро упрашивал его бежать без него. Это было и великодушием, но и мудростью со стороны Пиччинино, ибо, доказывая своим людям таким образом свою любовь, он навек завоевывал их верность. Поддельного Пиччинино могли бы тут же схватить снова, но если бы это и случилось, никакие пытки не заставили бы его признаться, что его товарищ был настоящий Пиччинино. На узкой площадке перед замком уже шла схватка, и разбойники под началом фра Анджело как раз обратились в притворное бегство. Но campieri, лишившись офицера, действовали без единства и порядка. Когда группа Малакарне, молниеносно спустившись с бастиона, захватила ворота и выяснилась невозможность отступления, солдаты поняли, что пропали, и остановились, словно в столбняке. В этот миг фра Анджело, Микеле и Маньяни со своими людьми повернули обратно и стиснули их так, что положение стало безнадежным. Тогда campieri, зная, что разбойники пощады не дают, яростно бросились в бой. Зажатые между двумя стенами укреплений, они имели позиционное преимущество перед разбойниками, которым надо было остерегаться открытой за ними пропасти. Кроме того, тут в отряде Малакарне возникло изрядное замешательство. Завидев двух Пиччинино, проходивших в ворота, разбойники, обманутые одеждой, выстрелили по ним. Вербум Каро остался невредим, но Кармело получил пулю в плечо и сразу упал. Малакарне бросился, чтобы прикончить его, но, узнав Пиччинино, издал горестный вопль, а его люди собрались вокруг позабыв о схватке. Несколько мгновений фра Анджело и Микеле, бившиеся в первом ряду лицом к лицу с campieri, были в большой опасности. Маньяни выдвинулся еще дальше, чтобы отразить любой удар, угрожающий Микеле. Теперь некогда было перезаряжать ружья, бились уже саблями и ножами, и великодушный Маньяни все время старался своим телом заслонить сына Агаты. Вдруг Микеле, который все время отталкивал друга, упрашивая его думать о самом себе, заметил, что Маньяни нет рядом. Микеле дрался яростно. Когда рассеялось отвращение, вначале вызванное резней, он вдруг подпал под власть странного и ужасного нервного возбуждения. Он не был ранен. Фра Анджело, суеверно убежденный в счастливой судьбе молодого князя, предсказывал, что с ним этого не случится. Но Микеле могли ранить двадцать раз, и он не заметил бы, так вся жизнь для него сосредоточилась сейчас в одном чувстве. Он был как бы опьянен опасностью и воодушевлен битвой. То было ужасное, но бурное наслаждение; кровь Кастро-Реале пробудилась и начинала бурлить в жилах этого львенка. Когда победа стала клониться на сторону его соратников и когда они, ступая по трупам, соединились с Малакарне, юноше показалось, что все сражение было слишком кратким и слишком легким. Однако же оно было настолько серьезно, что почти каждый из победителей получил какую-нибудь рану. Campieri дорого продавали свою жизнь, и если бы Малакарне не опомнился вовремя, заметив, что Пиччинино приходит в себя, и не нашел в себе достаточно сил для битвы, отряд фра Анджело мог оказаться сброшенным со страшного обрыва, у которого завязалась эта схватка. Бледная, тусклая заря уже серебрила окутанные мглой горные вершины, замыкавшие горизонт, когда осаждавшие вошли в завоеванную крепость. Надо было пройти сквозь нее и уйти отсюда под взглядами жителей поселка, которые вышли из своих домов и робко поднимались по уличной лестнице, чтобы узнать об исходе сражения. Ночью они, перепуганные, с трудом различали колыхавшуюся толпу сражающихся, освещаемую только мгновенными вспышками ружейных выстрелов. Когда дело дошло до рукопашной, бледные жители Сперлинги стояли, заледенев от страха и вслушиваясь в крики и проклятия непонятной для них битвы. У них не было ни малейшего желания помогать гарнизону, и большая их часть была на стороне разбойников. Но, страшась репрессий и возмездия, они не решались прийти им на помощь. Когда занялась заря, стало видно, как они, полуголые, собираются группами на выступах скал и дрожащими тенями медленно подвигаются вперед, чтобы поддержать победителей. Фра Анджело и Пиччинино не стали их ждать. Они стремительно вошли в крепость, и каждый разбойник тащил с собой по мертвецу, чтобы нанести ему последний, «верный» удар. Они подняли своих раненых и изуродовали лица тем, кто был уже мертв. Но это отвратительное дело, для которого и Вербум Каро нашел в себе силы, вызывало страшное омерзение у Пиччинино. Он дал приказ спешить, чтобы поскорее рассеяться и разойтись по домам или искать себе другое убежище. Затем, поручив Вербум Каро заботам Малакарне и его шайки, двинулся прочь, взяв под руку фра Анджело, с намерением увести монаха вместе с собой. Но, охваченный страшным беспокойством, фра Анджело хотел найти Микеле и Маньяни и, никому не называя их имен, спрашивал всех о двух молодых монахах, которые сопровождали его. Он ни за что не соглашался уйти, не найдя их, и его отчаянное упорство грозило стать для него роковым. Наконец Пиччинино заметил под обрывом двоих людей в рясах. — Вот твои спутники, — сказал он монаху, увлекая его за собой. — Они ушли вперед — полагаю, им не захотелось присутствовать при ужасном зрелище нашей победы. Но чувствительность не помешала им оказаться храбрецами. Кто же эти парни? Я видел — они дрались как львы, на них одежда твоего ордена. Понять не могу, как могли эти два героя подрасти в твоем монастыре, я о них и не знал. Фра Анджело ничего не отвечал: залитыми кровью глазами он вглядывался в двух монахов. Он отлично узнал платье, в которое переодел Микеле и его друга, но он не понимал, почему они так неподвижны, почему охвачены таким безразличием, которое, казалось, отделяло их от всех остальных. Один как будто сидел, другой стоял рядом с ним на коленях. Фра Анджело бросился вниз по откосу, не помня себя, так что не раз чуть не срывался в пропасть. Тяжело раненный, но по-прежнему стойкий и полный решимости, Пиччинино последовал за фра Анджело, не думая о себе, и вскоре они очутились на дне пропасти, в совершенно диком, скрытом месте, где под ногами бежал горный поток. Им пришлось много раз обходить отвесные скалы, и они потеряли монахов из виду, да еще и мгла, царившая в ущелье, едва дозволяла им держать направление. Звать их они не осмеливались; наконец они увидели тех, кого искали. Один в самом деле сидел, другой поддерживал его. Фра Анджело бросился к ним и откинул первый капюшон, до которого дотянулась рука. Перед ним открылось красивое лицо Маньяни, на которое уже надвигались тени смерти; кровь его стекала на землю. Микеле был залит ею и почти терял сознание, хотя и не был ранен и терзался лишь огромной, невыносимой скорбью оттого, что не мог облегчить страдания друга и должен был смотреть, как тот умирает у него на руках. Фра Анджело хотел попытаться помочь благородному мастеру, во Маньяни мягко отвел руку, которую тот протянул было к ране. — Дайте мне умереть спокойно, отец мой, — произнес он таким слабым голосом, что монах должен был приложить ухо к устам умирающего, чтобы расслышать его слова. — Я счастлив, что могу проститься с вами. Скажите матери Микеле и его сестре, что я умер, защищая его, но пусть Микеле не узнает этого. Он позаботится о моей семье, а вы утешите ее… Мы добились победы, не правда ли? — сказал он, обращаясь к Пиччинино, глядя на него потухшим взглядом и не узнавая его. — О Мила! — невольно воскликнул Пиччинино. — Ты могла бы стать женой храбреца! — Где ты, Микеле? Я тебя больше не вижу, — говорил Маньяни, ища друга слабеющей рукой. — Мы здесь в безопасности, да? Это, наверное, ворота Катании?.. Ты сейчас поцелуешь свою мать? Ах, конечно, я слышу бормотанье Наяды — этот звук освежает меня, вода капает на мою рану, какая холодная… но какая целительная. — Очнись, ты должен увидеть мою мать и сестру! — вскричал Микеле. — Ах, ты будешь жить, мы никогда не расстанемся! — Увы! Я знаю эту улыбку, — тихо сказал Пиччинино, вглядываясь в посиневшие, вздрагивавшие губы Маньяни. — Не давайте ему говорить. — Как мне хорошо! — громко сказал Маньяни, протягивая руки. — У меня ничего не болит. В путь, друзья мои! Он поднялся одним рывком, мгновение постоял, качаясь, и мертвым упал на влажный песок. Микеле был сражен горем. Фра Анджело не потерял присутствия духа, хотя из груди его, сотрясаемой тяжелыми рыданиями, вырывался как бы хриплый и мучительный вой. Он отвернул громадный обломок скалы, загораживавший доступ в одну из многочисленных пещер, выдолбленных в песчанике, когда встарь отсюда брали камень для постройки крепости. Он тщательно укутал тело Маньяни в широкую рясу, бывшую на нем, и, устроив ему, таким образом, временное погребение, закрыл пещеру камнем. Затем он взял Микеле за руку и провел его вместе с Пиччинино на несколько сотен шагов дальше, к обширной пещере, где жила одна бедная семья. Микеле мог бы узнать в человеке, вскоре пришедшем туда, одного из крестьян — союзников их шайки. Но Микеле не понимал ничего и никого не узнавал. Крестьянин помог монаху перевязать рану Пиччинино; она была глубока и начинала причинять боль, так что ему понадобилась вся сила воли, чтобы скрывать свои мучения. Фра Анджело был лекарем получше большинства дипломированных лекарей в стране. Он подверг Пиччинино жестокой, но быстрой операции и извлек пулю. Пациент не издал ни единого стона, и Микеле понял, насколько ему больно, лишь заметив, как Пиччинино побледнел и заскрипел зубами. — Брат мой! — сказал он, коснувшись его судорожно сжатой руки. — Неужели и вы умрете? — Дал бы мне бог умереть вместо твоего друга! — с каким-то ожесточением против самого себя отвечал Кармело. — Я бы не страдал больше, и меня бы оплакивали. А теперь я буду мучиться всю жизнь, и никто не пожалеет обо мне! — Друг, — сказал монах, швыряя пулю в сторону, — так-то ты ценишь преданность твоего брата? — Моего брата! — повторил Пиччинино, поднося руку Микеле к своим губам. — Ты делал все это не из любви ко мне, я знаю, ты делал это ради своей чести. Ну, что ж! Ты победил мою ненависть, ибо сохранил свою. Но я-то обречен любить тебя! Две слезы скатились по бледным щекам разбойника. Было ли то порывом подлинного чувства, или нервной реакцией после страшного напряжения от физической боли? Несомненно, было здесь и то и другое. Крестьянин предложил для больного странное лекарство, но фра Анджело охотно на него согласился. То было какое-то полужидкое вещество; его находят по соседству в одном источнике, желтоватая вода которого содержит серу. Местные жители собирают эту грязь, хранят в каменных горшочках и применяют для пластыря — это их панацея. Фра Анджело приготовил повязку и наложил на рану разбойника. Затем он помыл его, одел в лохмотья, на месте купленные у крестьянина, смыл с Микеле и с себя кровь, которой они покрылись во время схватки, дал своим товарищам глотнуть вина и посадил Кармело на хозяйского мула. Он оставил крестьянину кругленькую сумму золотом, чтобы тот понял всю выгоду служения правому делу, а затем распрощался, взяв с хозяина клятву, что следующей ночью тот найдет тело Маньяни и похоронит его достойно, как похоронил бы собственного сына. — Моего собственного сына, — глухо сказал крестьянин, — того, которого швейцарцы убили у меня в прошлом году? Такие слова внушили Микеле больше доверия к этому человеку, чем любые обещания и клятвы. Он в первый раз поглядел на него и заметил, сколько в его мрачном и худом лице напряженной решимости и огненного фанатизма. Это был не просто разбойник, но жадный волк, коршун, всегда готовый кинуться на окровавленную добычу, чтобы изорвать ее и насытить свою бешеную злобу ее внутренностями. Видно было, что ему всей жизни не хватит, чтобы отомстить за смерть сына. Он не предложил беглецам проводить их. Ему не терпелось поскорее исполнить свой долг гостеприимства по отношению к ним и пойти поглядеть, не осталось ли в замке хоть одного живого campiere, над которым он успел бы еще надругаться в его смертный час.LII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возвращение в Катанию троих беглецов заняло вдвое больше времени, чем их путь в Сперлингу. Пиччинино не под силу было ехать долго; одолеваемый лихорадкой, он то и дело припадал к шее мула. Тогда они делали остановку у пещеры или у каких-нибудь развалин, и монах был вынужден давать раненому глоток вина для подкрепления сил, хотя и понимал, что это усиливало жар. Приходилось пробираться по крутым, труднодоступным дорогам, вернее даже избегать любых дорог, чтобы не подвергаться опасности неприятных встреч. Фра Анджело надеялся на полпути в Катанию заехать к одним бедным людям, на которых он мог положиться как на самого себя и которые могли бы принять раненого и позаботиться о нем. Но дом оказался пуст и уже почти весь обрушился. Нищета выгнала несчастных из их убежища — они не могли выплатить налога, которым была обложена хижина. Быть может, они их бросили в тюрьму. Это было страшным разочарованием для монаха и его товарища. Они с умыслом взяли в сторону от мест, где орудовали разбойники, полагая, что к югу отсутствие бандитов делало полицию менее активной. Но когда единственное убежище, на которое они могли рассчитывать в этих горах, оказалось пустым, они по-настоящему встревожились. Напрасно Пиччинино уговаривал монаха и Микеле предоставить его собственной судьбе и напрасно убеждал их, будто, когда он останется один, нужда придаст ему, быть может, сверхъестественные силы. Они, разумеется, не согласились и, перебрав все средства, остановились на том, что было скорее и вернее, хоть и казалось отчаянным шагом: они решили везти Кармело во дворец Пальма-роза и скрывать его там до той поры, пока он не будет в состоянии бежать. Княгине достаточно было выразить хоть немного лояльности перед некоторыми людьми, чтобы отвести от себя всякие подозрения, а теперь, когда сам Микеле мог быть заподозрен в том, что приложил руку к освобождению Пиччинино, она, разумеется, ничуть не задумается обмануть партию двора насчет своих политических взглядов. Несколько дней тому назад такие рассуждения показались бы юноше отвратительными, но последние события все больше и больше делали его сицилийцем и заставляли лучше понимать необходимость разных уловок. Поэтому он согласился с планом монаха, и теперь им оставалось только придумать, как пронести раненого во дворец, чтобы никто этого не заметил. Только это и было важно, потому что уединение, в котором жила Агата, ее немногочисленная и слепо преданная челядь, умение молчать верной камеристки Нунциаты, которая одна была вхожа в личные комнаты, да и многие другие обстоятельства обычно замкнутого образа жизни княгини — все это превращало такое убежище в самое надежное из всех возможных. К тому же в двух шагах был дворец Ла-Серра, куда они могли перенести раненого, в случае если дворец Пальмароза окажется небезопасным. Было решено, что Микеле пойдет вперед и явится к матери, с наступлением ночи. Он предупредит ее о прибытии раненого и поможет устроить все нужное для того, чтобы несколькими часами позже тайно провести Пиччинино во дворец. Агата находилась в неописуемом беспокойстве, когда Нунциата объявила, что кто-то ожидает ее в молельне. Она кинулась туда и чуть не лишилась чувств, увидев рясу монаха, — она решила, что один из братьев из Бель-Пассо принес ей скорбную весть. Но как удачно ни переоделся Микеле, материнского глаза не обманешь, и, разразившись слезами, она заключила сына в объятия. Микеле скрыл от нее, через какие опасности прошел, — он знал, что ей придется догадаться о них довольно скоро, когда весть об освобождении Пиччинино распространится в их краях. Он сказал ей только, что ездил разыскивать брата и нашел его в одном отдаленном потайном месте, где тот умирал без всякой помощи; что он приведет его к ней, и пусть она позаботится о Пиччинино, пока он не подготовит ему другое убежище. Раненого без помех доставили глубокой ночью. Однако он не мог так горделиво взбежать по лавовой лестнице, как в прошлый раз. Его силы таяли на глазах. Фра Анджело был вынужден до самого верха нести его на руках. Он едва узнал Агату и несколько дней находился между жизнью и смертью. Мила, которой сказали, что Маньяни по поручению Микеле отправился в Палермо, сначала успокоилась. Но проходили дни, Маньяни не возвращался, и его семья стала удивляться и тревожиться, Микеле объявил, будто получил от него письмо — он-де уехал в Рим, все ради Микеле. Позже он уверял их, будто по одному важному тайному делу, связанному с семьей Пальмароза, Маньяни пришлось отправиться в Милан, в Венецию, в Вену. Да мало ли куда! И его заставляли путешествовать годы, а ради успокоения и утешения родных им читали (ведь те сами не умели читать) отрывки из будто бы написанных им писем и часто передавали деньги, которые он будто бы присылал для них. Семья Маньяни богатела и дивилась удачам бедного Антонио. Они печалились, но жили надеждами. Его старая мать умерла, скорбя, что не может обнять его на прощание, но поручила Микеле передать сыну свое благословение. Милу обмануть было труднее, но княгиня, стараясь избавить ее от большего горя, подсказала ей другую печаль, которую легче было снести. Сперва она намекала, а потом и объявила напрямик, что Маньяни, разрываясь между былой страстью и новой любовью и не надеясь сделать Милу счастливой, уехал, чтобы подождать, пока не излечится от прошлого полностью, и лишь тогда намерен вернуться. Миле такой поступок показался благородным и честным; однако ей было обидно, что ей не удалось заставить его забыть эту упорную страсть. Она постаралась сама излечиться от любви, раз ей не могли поручиться за такое же излечение ее милого, и ее великая гордость пришла ей на помощь. Каждый день затянувшегося отсутствия Маньяни прибавлял ей силы и стойкости. Рассказав об его переезде в Рим, ей намекнули, что Маньяни не превозмог старой привязанности и отрекается от новой. Мила не стала плакать, без всякой горечи помолилась о счастье неблагодарного, и понемногу к ней стала возвращаться былая ясность души. Микеле, разумеется, подчас очень страдал, слушая, как обвиняют отсутствующего, память которого с его стороны заслуживала всякого поклонения, но жертвовал всем ради спокойствия своей милой названой сестры. Тайком он отправился с Фра Анджело к могиле друга. Крестьянин, который похоронил его, отвел их на кладбище соседнего монастыря. Добрые монахи, патриоты, какими они обычно бывают в Сицилии, перенесли его туда ночью, и на камне, положенном вместо памятника среди белых роз и цветущего ракитника, начертали по-латыни такие слова: «Здесь покоится неизвестный мученик». Выздоровление Пиччинино шло медленней, чем ожидалось. Рана зажила довольно быстро, но нервная горячка достаточно тяжелого характера задержала его на три месяца в будуаре Агаты, который служил ему спальней и охранялся крайне ревностно. В этом недоверчивом и цельном молодом человеке начал совершаться нравственный переворот. Заботливый уход Микеле и княгини, деликатность, с которой они старались утешить его, вся та ласка и доброта, которых он лишился со смертью матери и не надеялся уже встретить у кого-либо, — все это постепенно смягчало сухость и гордость, словно броней облекавшие его. Он всегда испытывал горячую потребность быть любимым, хотя не был способен привязываться с такой же силой и упорством, с каким он умел ненавидеть. Сперва его как бы оскорбляло и унижало то, что он оказывался вынужден быть благодарным. Но в конце концов чудо в сердце Агаты свершило чудо в сердце Микеле, и, в свою очередь, оно завершилось чудом в Кармело. Агата, внешне столь сдержанная и столь пылкая в своих переживаниях, обладала таким щедрым сердцем, что начинала любить, кого жалела. Суровые речи Пиччинино иной раз ужасали ее, но сострадание взяло верх, когда она поняла, как несчастен был он из-за своего нарочитого ожесточения. Во время своей болезни, мучаясь физически и нравственно, Пиччинино, который раньше выставлял напоказ свою проницательность в отношении человеческих чувств, теперь с горечью, поражавшей Агату, оплакивал эту свою печальную способность. Однажды вечером, говоря о нем с Микеле, который признался, что не ощущает никакой симпатии к брату, она сказала: — По чувству долга ты ухаживаешь за ним, и подвергаясь себя опасности ради него, и оказываешь ему всяческую заботу и внимание. Ну, что ж! Надо любить свой долг, а этот брат — твой долг, и очень страшный долг. Но долг стал бы легче, если бы ты мог полюбить его. Попытайся, Микеле, быть может, его каменное сердце переменится тоже, ведь у него есть способность проникновения. Быть может, он чувствует, что ты не любишь его, и потому холоден сам. При первом твоем искреннем и ласковом порыве, даже если ты не обнаружишь его, он его угадает и, быть может, полюбит тебя в свою очередь. Я сама попробую подать тебе пример. Я буду изо всех сил убеждать себя, что он мой сын, правда, совсем не похожий на тебя, Микеле, но что его недостатки не мешают мне любить его. Агата сдержала слово, и Микеле старался ей подражать. Ощущая искреннее участие к своим нравственным мукам в этих чистых и самоотверженных усилиях облегчить ему физические страдания, Пиччинино мало-помалу смягчался. И настал день, когда он впервые поднес руку Агаты к своим губам и сказал ей: — Вы добры ко мне, как мать! Ах, если бы мне быть вашим сыном! Я любил бы Микеле, потому что одна утроба носила нас. Настоящими братьями становятся только через женщину. Она одна может заставить нас понять, что называется голосом крови, зовом природы. Затем через день-другой он сказал Микеле: — Я не люблю тебя, потому что ты сын моего отца. Человек, который смешивал свою чистую кровь с кровью женщин, столь различных по происхождению и своей природе, был, наверно, существом переменчивым, сложным, лишенным цельности, потому-то и сыновья его различны между собою, как день и ночь. Если бы я полюбил тебя — тебя, кого я уважаю и кем восхищаюсь, то лишь потому, что у тебя есть мать, которую я люблю, и потому, что я воображаю подчас, будто она и моя мать тоже. Когда Пиччинино был уже в состоянии вернуться к беспокойной жизни, о которой так тосковал во время своей томительной болезни, он вдруг стал сокрушаться, что ему приходится прервать существование, ставшее для него столь счастливым благодаря Агате и ее сыну. Он с независимым видом отказался от предложений, которые, желая изменения его судьбы, делали ему Микеле и Агата, но было видно, что все же его мучат некоторый страх и сожаления. — Дорогой мой, — сказал ему маркиз, — вам следует принять эти средства, чтобы расширять и углублять деятельность, которой вы посвятили себя. У нас никогда не было мысли заставить вас послушно и трусливо вернуться в общество, которое вы презираете и для которого вы вовсе не созданы. Но не подчиняясь принуждению, никак не изменяя своим принципам неприятия этого общества, своим принципам независимости, вы можете заключить в обход существующих законов истинный союз с истинным человечеством. До сего дня вы обманывали себя, внушая себе ненависть к людям. Но ведь вы выступаете не против них, а против их дурных и ложных установлений. В глубине души вы любите своих ближних, ведь вы страдаете от их неприязни и от своего одиночества. Постарайтесь же понять истинную суть вашей деятельности. До сих пор вы только воображали, что носите звание свободного мстителя, вы им пользовались лишь для личной мести и для удовлетворения своих инстинктов. Чтобы роль ваша стала благородной и вы могли лучше служить нашей родине, вам не хватает более просторного поля действий и средств под стать вашему честолюбию. Брат предлагает вам такие средства. Он готов с вами разделить свои доходы, и это укрепит вашу силу и ваше дело, никак не связывая вас с обществом. Действительно, вы же не можете стать вельможей и помещиком, не заключая связей с законными учреждениями. Но пользуясь втайне дружеской братской поддержкой, так вам необходимой, вы останетесь в стороне от общества, в котором мы живем, и в то же время обретете власть искоренять его порядки. Вы можете уехать с этого несчастного острова, где ваша деятельность оказывается слишком узкой, чтобы дать какие-то результаты, вы можете искать себе товарищей и последователей в иных местах, можете на чужбине установить отношения с врагами общественного неустройства, трудиться над делом всеобщего освобождения, изучить способы уничтожения рабства и вернуться к нам с познаниями и помощью, которые в один год сделают больше, чем ваши походы против жалких campieri сделали бы за всю вашу жизнь. Ваши способности ставят вас гораздо выше разбойничьего ремесла. Ваша проницательность, ваша сообразительность, ваше широкое и всестороннее образование, все — вплоть до чарующей силы вашего лица и вашей обольстительной речи — все предназначает вас стать человеком политического действия, осторожным и отважным, ловким и мужественным вместе. Да, вы рождены заговорщиком. Случайность рождения толкнула вас на этот путь, а ваш душевный строй помог вам проявиться там с ярким блеском. Но существуют большие заговоры, которые, даже и потерпев неудачу в одной точке земного шара, двигают вперед дело свободы во всей вселенной; и существуют малые, заканчивающиеся на виселице вместе с неведомым героем, затеявшим его. Попадись вы завтра в засаду, ваша банда рассеется и последняя надежда на независимость умрет с вашим последним вздохом. Но готовьте свои заговоры на ярком свету человечества, вместо того чтобы разбойничать во тьме наших пропастей, и вы когда-нибудь станете освободителем наших братьев, вместо того чтобы быть пугалом для старух. Эти слова были одновременно и жестокими и лестными для чуткого самолюбия Пиччинино. Ему больно было выслушивать такую оценку его прежней жизни, но мнение о его будущих возможностях утешило его. Он покраснел, побледнел, задумался и понял. Он был слишком умен, чтобы обороняться от правды. Агата ласково взяла его за руку, Микеле тоже. Они чуть ли не на коленях умоляли его принять половину состояния, которым были обязаны ему целиком. Слезы гордости, надежды, счастья и, быть может, благодарности покатились из его горящих глаз, и он согласился принять их дар. Надо сказать также, что неведомо для всех в сердце этого странного человека произошло и другое чудо. Любовь, чистая любовь победила его. Мила была сиделкой при нем, и у Милы нашлись на тигра цепи. Она этим справедливо гордилась, да и от природы она была очень гордой. Любовь капитана Пиччинино поднимала ее в собственных глазах и заставляла забыть урок, который нанес ее самолюбию Маньяни, покинув ее. Она была мужественна к тому же. Она чувствовала, что рождена для жизни более трудной и яркой, чем жизнь прядильщицы шелка. Ее склонности к героическому и необычному хорошо согласовывались с жизнью, полной опасностей и волнений. Кармело, сожалевший при их первой встрече, зачем она не мальчик, которого он, подобно Ларе, мог бы сделать своим пажом, теперь думал иначе и говорил себе, что красота женщины и сердце героини прибавляют многое к прелести товарища, о котором он мечтал. Впрочем, он не сразу добился Милы. Она хотела быть залогом и наградой той покорности, с которой он будет следовать советам княгини и маркиза. Я полагаю, что этот день наступит скоро, если не наступил уже. Но здесь кончается роман, который, если угодно, мог бы длиться еще долго, потому что — повторяю снова — ни один роман не имеетконца.Жорж Санд Последняя любовь
 В один из зимних вечеров мы собрались за город. Обед, вначале веселый, как всякое пиршество, соединяющее истинных друзей, омрачился под конец рассказом одного доктора, констатировавшего утром насильственную смерть. Один из окрестных фермеров, которого мы все считали за честного и здравого человека, убил свою жену в порыве ревности. После нетерпеливых вопросов, возникающих всегда при трагических происшествиях, после объяснений и толкований по обыкновению начались рассуждения о подробностях дела, и я удивлялся, слыша, как оно возбуждало споры между людьми, которые во многих других случаях сходились во взглядах, чувствах и принципах.
Один говорил, что убийца действовал в полном сознании, будучи уверенным в своей правоте; другой утверждал, что человек с кротким нравом мог расправиться таким образом только под влиянием моментального помешательства. Третий пожимал плечами, находя низостью убивать женщину, как бы она ни была виновна, тогда как его собеседник считал низким оставлять ее в живых после очевидной неверности. Я не буду вам передавать все разноречивые теории, которые возникли и разбирались по поводу вечно неразрешимого вопроса: о нравственном праве мужа на преступную жену с точки зрения закона, общества, религии и философии. Все это обсуждали с жаром и, не сходясь во взглядах, начинали спор снова. Кто-то заметил, смеясь, что честь не воспрепятствовала бы ему убить даже такую жену, о которой он нимало не заботился, и сделал следующее оригинальное замечание:
— Издайте закон, — сказал он, — который обязал бы обманутого мужа отрубить публично голову своей преступной жене, и я держу пари, что каждый из вас, высказывающий теперь себя неумолимым, восстанет против такого закона.
Один из нас не принимал участия в споре. Это был г-н Сильвестр, очень бедный старик, добрый, учтивый, с чувствительным сердцем, оптимист, скромный сосед, над которым мы немного подсмеивались, но которого мы все любили за добродушный характер. Этот старик был женат и имел красавицу дочь. Жена его умерла, промотав громадное состояние; дочь же поступила еще хуже. Тщетно стараясь вырвать ее из разврата, господин Сильвестр, будучи пятидесяти лет, предоставил ей свои уцелевшие последние средства, чтобы лишить ее предлога к гнусной спекуляции, но она пренебрегла этой жертвой, которую он считал необходимой принести ей ради своей собственной чести. Он уехал в Швейцарию, где под именем Сильвестра прожил десять лет, окончательно позабытый теми, кто его знал во Франции. Позднее его нашли недалеко от Парижа, в сельском домике, где он жил поразительно скромно, тратя триста франков годового дохода, плоды своей работы и сбережений за границей. Наконец, его убедили проводить зиму у г-на и г-жи ***, которые особенно любили и уважали его, но он так страстно привязался к уединению, что возвращался к нему, едва только почки показывались на деревьях. Он был ярым отшельником и слыл за атеиста, но на самом деле это был очень верующий человек, создавший себе религию по собственному влечению и придерживавшийся той философии, которая распространена понемногу везде. Одним словом, несмотря на внимание, которое ему выказывала семья, старик не отличался особенно высоким и блестящим умом, но был благороден и симпатичен, с серьезными, толковыми и твердыми взглядами. Он принужден был выразить свое собственное мнение после того, как долгое время отказывался под предлогом некомпетентности в этом деле, он признался, что был два раза женат и оба раза несчастлив в семейной жизни. Он ничего не рассказывал более о себе, но, желая избавиться от любопытных, сказал следующее:
— Конечно, прелюбодеяние есть преступление, потому что оно нарушает клятву. Я нахожу это преступление одинаково серьезным для того и другого пола, но как для одного, так и для другого в некотором случае, которого не стану называть вам, нет возможности избегнуть его. Позвольте же мне быть казуистом относительно строгой нравственности и назвать прелюбодеянием только измену, не вызванную тем, кто является ее жертвою, и предумышленную тем, кто ее совершает. В этом случае неверные супруг и супруга заслуживают наказания, но какое наказание примените вы, когда тот, кто полагает его, по несчастью, сам является ответственным лицом. Должно существовать как для одной, так и для другой стороны иное решение.
— Какое? — вскричали со всех сторон. — Вы очень изобретательны, если нашли его!
— Может быть, я еще не нашел его, — скромно ответил г-н Сильвестр, — но я его долго искал.
— Скажите же, что вы считаете лучшим?
— Я всегда желал и старался найти то наказание, которое действовало бы на нравственность.
— Что же это, разлука?
— Нет.
— Презрение?
— Еще менее.
— Ненависть?
— Дружба.
Все переглянулись; одни засмеялись, другие были в недоумении.
— Я вам кажусь безумным или глупым, — спокойно заметил г-н Сильвестр. — Что ж, дружбой, употребленной как наказание можно подействовать на нравственность тех, которым доступно раскаяние… это слишком долго объяснять: уже десять часов, и я не хочу беспокоить моих хозяев. Я прошу позволения удалиться.
Он как сказал, так и сделал, и не было возможности удержать его. Никто не обратил особенного внимания на его слова. Подумали, что он вывернулся из затруднений, сказав парадокс или же, как древний сфинкс, желая замаскировать свое бессилие, задал нам загадку, которой не понимал сам. Загадку Сильвестра я понял позднее. Она очень несложна, и я скажу даже, что она в высшей степени проста и возможна, а между тем, чтобы объяснить ее, он должен был вдаться в подробности, которые показались мне поучительными и интересными. Спустя месяц я записал то, что он рассказывал мне в присутствии г-на и г-жи ***. Не знаю, каким образом я заслужил его доверие и получил возможность быть среди его самых близких слушателей. Может быть, я ему стал особенно симпатичен вследствие моего желания, без предвзятой цели, узнать его мнение. Может быть, он испытал потребность излить свою душу и вручить в какие-нибудь верные руки те семена опытности и милосердия, которые приобрел благодаря невзгодам своей жизни. Но как бы то ни было и какова бы ни была сама по себе эта исповедь, — вот все, что я мог припомнить из повествования, слышанного в продолжение долгих часов. Это не роман, а скорей отчет анализированных событий, изложенных терпеливо и добросовестно. С литературной точки зрения он неинтересен, не поэтичен и затрагивает только нравственную и философскую сторону читателя. Я прошу у него прощения за то, что на этот раз не угощаю его более научным и изысканным кушаньем. Рассказчик, цель которого не выказывать своего таланта, а изложить свою мысль, походит на ботаника, приносящего с зимней прогулки не редкостные растения, а травку, которую ему посчастливилось найти. Эта былинка не восхищает ни взора, ни обоняния, ни вкуса, а между тем тот, кто любит природу, ценит ее и найдет в ней материал для изучения. Рассказ г-на Сильвестра покажется, может быть, скучным и лишенным прикрас, но тем не менее его слушателям он нравился откровенностью и простотой; со знаюсь даже, что мне иногда он казался драматичным и прекрасным. Слушая его, я всегда вспоминал чудесное определение Ренана, который сказал, что слово это — «простое одеяние мысли и все изящество его заключается в полной гармонии с идеей, которую можно выразить». В деле же искусства «все должно служить красоте, но дурно то, что намеренно употреблено для украшения».
Я думаю, что г-н Сильвестр был преисполнен этой истиной, потому что он во время своего простого рас сказа сумел овладеть нашим вниманием. К сожалению, я не стенограф и как могу передаю его слова, стараясь внимательно проследить за мыслями и действием, а поэтому безвозвратно утрачиваю их особенность и оригинальность.
В один из зимних вечеров мы собрались за город. Обед, вначале веселый, как всякое пиршество, соединяющее истинных друзей, омрачился под конец рассказом одного доктора, констатировавшего утром насильственную смерть. Один из окрестных фермеров, которого мы все считали за честного и здравого человека, убил свою жену в порыве ревности. После нетерпеливых вопросов, возникающих всегда при трагических происшествиях, после объяснений и толкований по обыкновению начались рассуждения о подробностях дела, и я удивлялся, слыша, как оно возбуждало споры между людьми, которые во многих других случаях сходились во взглядах, чувствах и принципах.
Один говорил, что убийца действовал в полном сознании, будучи уверенным в своей правоте; другой утверждал, что человек с кротким нравом мог расправиться таким образом только под влиянием моментального помешательства. Третий пожимал плечами, находя низостью убивать женщину, как бы она ни была виновна, тогда как его собеседник считал низким оставлять ее в живых после очевидной неверности. Я не буду вам передавать все разноречивые теории, которые возникли и разбирались по поводу вечно неразрешимого вопроса: о нравственном праве мужа на преступную жену с точки зрения закона, общества, религии и философии. Все это обсуждали с жаром и, не сходясь во взглядах, начинали спор снова. Кто-то заметил, смеясь, что честь не воспрепятствовала бы ему убить даже такую жену, о которой он нимало не заботился, и сделал следующее оригинальное замечание:
— Издайте закон, — сказал он, — который обязал бы обманутого мужа отрубить публично голову своей преступной жене, и я держу пари, что каждый из вас, высказывающий теперь себя неумолимым, восстанет против такого закона.
Один из нас не принимал участия в споре. Это был г-н Сильвестр, очень бедный старик, добрый, учтивый, с чувствительным сердцем, оптимист, скромный сосед, над которым мы немного подсмеивались, но которого мы все любили за добродушный характер. Этот старик был женат и имел красавицу дочь. Жена его умерла, промотав громадное состояние; дочь же поступила еще хуже. Тщетно стараясь вырвать ее из разврата, господин Сильвестр, будучи пятидесяти лет, предоставил ей свои уцелевшие последние средства, чтобы лишить ее предлога к гнусной спекуляции, но она пренебрегла этой жертвой, которую он считал необходимой принести ей ради своей собственной чести. Он уехал в Швейцарию, где под именем Сильвестра прожил десять лет, окончательно позабытый теми, кто его знал во Франции. Позднее его нашли недалеко от Парижа, в сельском домике, где он жил поразительно скромно, тратя триста франков годового дохода, плоды своей работы и сбережений за границей. Наконец, его убедили проводить зиму у г-на и г-жи ***, которые особенно любили и уважали его, но он так страстно привязался к уединению, что возвращался к нему, едва только почки показывались на деревьях. Он был ярым отшельником и слыл за атеиста, но на самом деле это был очень верующий человек, создавший себе религию по собственному влечению и придерживавшийся той философии, которая распространена понемногу везде. Одним словом, несмотря на внимание, которое ему выказывала семья, старик не отличался особенно высоким и блестящим умом, но был благороден и симпатичен, с серьезными, толковыми и твердыми взглядами. Он принужден был выразить свое собственное мнение после того, как долгое время отказывался под предлогом некомпетентности в этом деле, он признался, что был два раза женат и оба раза несчастлив в семейной жизни. Он ничего не рассказывал более о себе, но, желая избавиться от любопытных, сказал следующее:
— Конечно, прелюбодеяние есть преступление, потому что оно нарушает клятву. Я нахожу это преступление одинаково серьезным для того и другого пола, но как для одного, так и для другого в некотором случае, которого не стану называть вам, нет возможности избегнуть его. Позвольте же мне быть казуистом относительно строгой нравственности и назвать прелюбодеянием только измену, не вызванную тем, кто является ее жертвою, и предумышленную тем, кто ее совершает. В этом случае неверные супруг и супруга заслуживают наказания, но какое наказание примените вы, когда тот, кто полагает его, по несчастью, сам является ответственным лицом. Должно существовать как для одной, так и для другой стороны иное решение.
— Какое? — вскричали со всех сторон. — Вы очень изобретательны, если нашли его!
— Может быть, я еще не нашел его, — скромно ответил г-н Сильвестр, — но я его долго искал.
— Скажите же, что вы считаете лучшим?
— Я всегда желал и старался найти то наказание, которое действовало бы на нравственность.
— Что же это, разлука?
— Нет.
— Презрение?
— Еще менее.
— Ненависть?
— Дружба.
Все переглянулись; одни засмеялись, другие были в недоумении.
— Я вам кажусь безумным или глупым, — спокойно заметил г-н Сильвестр. — Что ж, дружбой, употребленной как наказание можно подействовать на нравственность тех, которым доступно раскаяние… это слишком долго объяснять: уже десять часов, и я не хочу беспокоить моих хозяев. Я прошу позволения удалиться.
Он как сказал, так и сделал, и не было возможности удержать его. Никто не обратил особенного внимания на его слова. Подумали, что он вывернулся из затруднений, сказав парадокс или же, как древний сфинкс, желая замаскировать свое бессилие, задал нам загадку, которой не понимал сам. Загадку Сильвестра я понял позднее. Она очень несложна, и я скажу даже, что она в высшей степени проста и возможна, а между тем, чтобы объяснить ее, он должен был вдаться в подробности, которые показались мне поучительными и интересными. Спустя месяц я записал то, что он рассказывал мне в присутствии г-на и г-жи ***. Не знаю, каким образом я заслужил его доверие и получил возможность быть среди его самых близких слушателей. Может быть, я ему стал особенно симпатичен вследствие моего желания, без предвзятой цели, узнать его мнение. Может быть, он испытал потребность излить свою душу и вручить в какие-нибудь верные руки те семена опытности и милосердия, которые приобрел благодаря невзгодам своей жизни. Но как бы то ни было и какова бы ни была сама по себе эта исповедь, — вот все, что я мог припомнить из повествования, слышанного в продолжение долгих часов. Это не роман, а скорей отчет анализированных событий, изложенных терпеливо и добросовестно. С литературной точки зрения он неинтересен, не поэтичен и затрагивает только нравственную и философскую сторону читателя. Я прошу у него прощения за то, что на этот раз не угощаю его более научным и изысканным кушаньем. Рассказчик, цель которого не выказывать своего таланта, а изложить свою мысль, походит на ботаника, приносящего с зимней прогулки не редкостные растения, а травку, которую ему посчастливилось найти. Эта былинка не восхищает ни взора, ни обоняния, ни вкуса, а между тем тот, кто любит природу, ценит ее и найдет в ней материал для изучения. Рассказ г-на Сильвестра покажется, может быть, скучным и лишенным прикрас, но тем не менее его слушателям он нравился откровенностью и простотой; со знаюсь даже, что мне иногда он казался драматичным и прекрасным. Слушая его, я всегда вспоминал чудесное определение Ренана, который сказал, что слово это — «простое одеяние мысли и все изящество его заключается в полной гармонии с идеей, которую можно выразить». В деле же искусства «все должно служить красоте, но дурно то, что намеренно употреблено для украшения».
Я думаю, что г-н Сильвестр был преисполнен этой истиной, потому что он во время своего простого рас сказа сумел овладеть нашим вниманием. К сожалению, я не стенограф и как могу передаю его слова, стараясь внимательно проследить за мыслями и действием, а поэтому безвозвратно утрачиваю их особенность и оригинальность.
Он начал довольно непринужденным тоном, почти оживленно, так как, несмотря на удары судьбы, его характер остался веселым. Может быть, он не рассчитывал рассказать нам подробно свою историю и думал обойти те факты, которые считал ненужными для доказательств. По мере того как подвигался его рассказ, он начал думать иначе или же, увлеченный правдивостью и воспоминанием, решил ничего не вычеркивать и не смягчать. — Вы меня спрашиваете, — сказал он, обращаясь к господину и госпоже ***,— что я делал в Швейцарии пять лет, о которых ничего не говорил вам и которые, по-вашему, должны заключать тайну: какое-нибудь грандиозное, неудавшееся предприятие или пылкую страсть. Вы не ошибаетесь, это время моих самых мучительных волнений и моей самой тяжелой умственной работы; это окончательный и решительный перелом в моей личной жизни, мое самое горькое и суровое испытание; это, наконец, моя последняя любовь, которая предана забвению. Вот все, что было в продолжение тех пяти лет! Когда я покинул Францию пешком, имея в кармане шестьдесят три франка, мне не было пятидесяти лет, а по лицу мне можно было дать менее сорока, несмотря на пережитое горе, известное уже вам; о нем я больше не буду рассказывать. Тихая жизнь, занятия философией и пребывание на даче подкрепили меня физически и нравственно. На моем челе не было еще ни одной морщины, лицо было смугло, а глаза так же светлы, как и теперь. У меня всегда был слишком большой нос, который мешал мне считаться красивым юношей, но было симпатичное лицо, черные волосы, открытый взгляд и искренний смех в те минуты, когда мне удавалось забыть о горе. Кроме того, я был силен и высок ростом, ни особенно худощав, ни толст, без особенной грации и красоты, но, как старый пехотинец, неутомим и ловок. Одним словом, я не гнался за победами и не думал о них, но видел по взглядам женщин, что я еще мужчина и могу надеяться несколько лет не слыть за старика. Этим ограничивалось мое скромное тщеславие. Я любил мою жену, несмотря на ее недостатки; она всегда делала меня несчастным, но не изменяла мне; я же никогда не пользовался своим правом и никогда не поддавался соблазну нарушить мой долг верности. Оставшись вдовцом, я много лет вел строгую жизнь, я должен был это делать ради моей дочери. Но мои советы и примеры ничему не послужили: она пошла по дурной дороге, и я принужден был удалиться, чтобы не быть ответственным свидетелем ее заблуждений. Итак, я более двадцати лет не знал покоя и счастья. Но я не стремился быть счастливым. Казалось, я не должен был более об этом думать! Удрученный, униженный и притом лишенный всяких средств, я должен был заботиться о том, чтобы заработать себе на хлеб, что было нелегко после жизни в роскоши. Я решил не обращаться ни к кому за помощью, изгладить себя из памяти общества, жить отшельником как человек, который совершил преступление и обязан скрывать свое прошлое. Моим намерением было отправиться в Италию, чтобы там заняться каким-нибудь ремеслом. Я остановился на границе в Швейцарии. Я еще не успел приучиться к экономии, и мои шестьдесят три франка подходили к концу. В моей сумке было немного белья, я всегда любил чистоту и не решился продать его. Я провел ночь в гостинице «Симплон», где не мог заснуть, думая о завтрашнем дне. У меня хватало денег, чтобы заплатить по счету, но что потом? Между тем я особенно не беспокоился. В материальном отношении жизнь всегда покровительствовала мне: мои потребности никогда не превышали моих средств. Только в пределах чувства меня преследовало несчастье. Я охотно переменил бы свою судьбу, но это не зависело от меня. Итак, моя бессонница не носила характера отчаяния. Я составлял проекты, искал средства к жизни и был так очарован местностью, которую осмотрел, что решил не идти далее, а искать работу в окрестностях. Луна светила ярко. С моей постели, не завешенной пологом, я мог видеть чистое и холодное небо; я думал о тех, кого любил, плакал и молился… кому? Тому не известному людям духу, который говорит их сердцу и внушает им чувства добра и красоты. Эту недоступную нашему пониманию душу, которая нас привлекает и волнует, не обнаруживая себя, мы называем Богом. Эта душа ничего не говорит нам, а если и скажет что-ни будь, то мы не поймем ее; но ребенок, не понимающий слова матери и засыпающий на ее груди, чувствует ее нежную теплоту и черпает в ней начало совершенного бытия, в котором он познает то, чего не понимал прежде. Успокоясь, я наконец заснул и, когда меня разбудили, услышал внизу добродушный и грубый голос, который показался мне хорошим предзнаменованием. Я поспешно оделся, сошел вниз с уверенностью, что найду там друга. Действительно, в общей зале находился красивый горец средних лет, полукрестьянин, полумещанин, дружески говоривший с хозяином. Я скоро узнал, что у него в этой местности были дела: он купил на склоне горы на сруб лес, нанял в швейцарской земле двенадцать работников, но этих ему было недостаточно, и он хотел спуститься до итальянской границы Симплона, чтобы поискать там других. Я предложил ему свои услуги: мне много приходилось следить за такими работами, чтобы знать, как занимаются порубкой и каким образом сваливают и разрубают деревья. Мой костюм и загоревшая кожа ни в чем не противоречили той работе, которой я собирался заняться. Жан Моржерон принял мое предложение и нанял меня. Мое лицо всегда пользовалось привилегией внушать доверие. Моржерон не предлагал затруднительных вопросов и не вынудил меня сознаться, что мне не на что купить необходимые инструменты. Хозяин, дав мне вперед двадцать франков, повел меня на край пропасти и показал внизу, у наших ног, лес, в котором соберутся мои товарищи. Я провел там шесть недель, работая много и усердно, живя в согласии со всеми моими товарищами, в каком бы они ни были настроении. Я был любим и имел влияние на других. Я чувствовал себя хорошо и был доволен собой. Местность была превосходная. Я удивлялся, сознавая себя счастливым после всех моих бедствий. Не имея в прошлом ничего, кроме горьких воспоминаний, а в будущем — независимость от прежних неудач жизни, я испытывал истинное наслаждение в сносном настоящем. Жан Моржерон, приходивший часто наблюдать за работой, подружился со мной, и однажды, когда я с ним составлял счет его расходов и смету его прибыли, сказал мне: — Вы здесь не на своем месте. Вы получили образование в десять раз больше, чем я, и в двадцать раз более, чем нужно для простого дровосека. Я не знаю, кто вы такой, вы сами не торопились объяснить. Может быть, что-нибудь лежит на вашей совести? — Хозяин, — сказал я ему, — посмотрите на меня. У меня было восемьдесят тысяч ливров дохода, а теперь у меня более ничего нет, но самое главное то, что я имел несчастие потерять тех, кого любил. Все это было не так давно, и я не успел позабыть. И что же, вы видите, как я весел был, спокойно сплю под листвой, работаю без принуждения и грусти, не питаю против кого-нибудь злобы или досады, не имею потребности забыться в пьянстве и не боюсь выдать себя, чокаясь с вами. Думаете ли, что человек с таким складом ума и при таких условиях может упрекнуть себя в чем-нибудь? — Нет, — вскричал горец, поднимая к небу свою широкую руку, — как истинно то, что там существует Бог, я верю, что вы честный и добрый человек. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть в глубину ваших глаз, и если вы даже потеряли все, то ваше поведение здесь доказывает, что у вас сохранилось самое лучшее — довольство самим собою. Я знаю, что вы образованны, знаете математику и множество предметов, которых я не учил. Если вы хотите быть моим другом, я вам предоставлю спокойное существование. Я обеспечу вас и все же буду всегда считать себя обязанным вам, потому что вы можете оказать мне большие услуги и поможете приобрести состояние. — Я уже ваш друг и хочу остаться им, и поэтому спрашиваю вас, Жан Моржерон, думаете ли вы, что благодаря богатству найдете себе счастье? — Да, — отвечал он, — я вижу счастье только в деятельности, борьбе и успехе. Я не такой философ, как вы, я даже совсем не из тех, мудрость которых состоит в том, чтобы брать от жизни все то, что она может нам дать. — Если вы так полагаете, хорошо! Вы подчиняетесь инстинкту и, если вы вменяете это себе в обязанность, значит, хотите с помощью вашей энергии послужить на пользу другим? — Человек, который много предпринимает, — возразил он, — всегда полезен другим. Он заставляет работать, и этой работой пользуется понемногу весь мир. Вы знаете, что я хорошо обращаюсь с моими рабочими и что они зарабатывают вместе со мной. Я деятелен, и у меня в голове много планов, но мне недостает образования. С вами я могу выполнить грандиозные предприятия! После этого он мне представил на рассмотрение довольно остроумный план. Моржерон владел обширными бесплодными землями в одной из альпийских долин, которые оканчиваются на берегу Роны. Почва была хороша, но каждый год горный поток покрывал ее песком и камнями. Надо было бы устроить плотину, на что потребовались бы слишком значительные издержки. Он придумал пожертвовать одной частью земли, чтобы спасти другую: прорыть канал, по которому стекала бы вода, образуя из его владений остров. Земля, извлеченная из канала и выброшенная на этот остров, образовала бы холм, которого не мог покрыть поток даже при сильном разливе. Мысль была хороша, и оставалось только узнать после исследовании местности и свойств почвы, была ли она осуществима. Мы прошли через ущелье гор по глетчеру и через несколько миль ниже остановились на склоне красивого холма, часть которого принадлежала моему хозяину. Кроме того, он еще владел там большим домом, богато, но грубо выстроенным, по бокам которого находились службы и помещения, хорошо устроенные для скота, хлеба, пчел и т. д. При виде этого прекрасного и живописного жилища, чудесно расположенного в прохладной, окруженной богатыми пастбищами местности, я испытал сильное желание быть действительно полезным моему другу и жить около него. Когда я поздравил Моржерона с таким жилищем, его лицо омрачилось. — Да, — сказал он, — это резиденция принца для такого человека, как я! Здесь можно быть счастливым с женой и детьми, я же живу холостяком и только изредка останавливаюсь здесь. Я вам объясню это позднее… Вы должны узнать все, если останетесь у меня. Молодой человек, брюнет, с иностранным выговором, лицом умным и благородным, одетый по-деревенски, но изысканно, радостно вышел нам навстречу. — Хозяйка отправилась продавать двух коз, — сказал он. — Вот-то она удивится и обрадуется, когда вернется!.. А как ваше здоровье? Сколько времени будем мы иметь удовольствие на этот раз видеть вас? — Хорошо, хорошо, Тонино, — ответил хозяин довольно грубым, но добродушным тоном. — Мы это еще увидим. Не смущай нас любезностями, а дай нам, если можешь, пообедать. Обед был превосходный и подан с замечательной чистотой. Тонино, казалось, был одновременно в этом доме «своим человеком» и слугою. Он ловко справлялся с посудой и настолько хорошо повелевал служанкой, насколько это может сделать хозяйка дома; настоящая же хозяйка явилась в то время, когда мы пили кофе. — Вот моя сестра, — сказал мне Жан, видя ее спускающейся по тропинке, которая была перед нашими глазами. Я посмотрел на эту женщину, ожидая встретить полную и почтенную матрону. Я был удивлен, увидя тонкую, изящную, стройную особу, которая показалась мне совсем молодой. — Ей тридцать лет, на пятнадцать лет она моложе меня и родилась от второго брака моего отца. Мы владеем нашим имением сообща, потому что она также желает увеличить его доход, и мы оба дали слово не вступать в брак. Я боялся быть нескромным, спрашивая о причине такого странного решения. Для Жана оно еще, пожалуй, подходило, но когда я вблизи увидел его сестру, то понял, что для нее это было иначе. У нее было одно из тех томных и изменчивых лиц, по которым никогда нельзя точно определить возраст. Десять раз в продолжение часа она казалась то старше, то моложе, чем была на самом деле; но как бы то ни было, она поражала своей красотой. Подобного ей типа я никогда не встречал более. Тонкая, но не худощавая, прекрасного сложения, брюнетка с голубыми глазами, нежной кожей, правильными чертами и греческим профилем, она, казалось, скрывала в себе что-то таинственное и необыкновенное. Она была насмешлива, даже резка, но с серьезным лицом, предупредительна, гостеприимна, нежно заботлива, странно порывиста, изящна, рассудительна, любезна, внезапно упряма, сварлива и почти заносчива в споре. Она приняла меня очень холодно, что, однако, не помешало ей выказать мне такое внимание, как будто я был ее господином, а она — моей служанкой. Я был смущен и стал благодарить ее, но она, казалось, не слушала и смотрела в сторону. Не выразив никакого удивления, что видит меня там, и ни о чем не расспрашивая, она пошла вместе с Тонино приготавливать мне комнату. Жан Моржерон, который наблюдал за мной, заметил, что я был удивлен этой оригинальностью и даже немного смущен. — Моя сестра поражает вас, — сказал он мне. — Действительно, она немного странна. Она другого происхождения, чем я: ее мать была итальянкой, а Тонино — ее двоюродный брат. Эта женщина не обращает внимания на постороннее мнение, и с ней трудно справиться, но она так смела, так умна, деятельна и преданна, что, когда нужна помощь, нельзя найти ей подобной. Если мы захотим изменить здесь что-нибудь, то надо будет сразиться с Фелицией прежде, чем она согласится, но раз мы этого добьемся, то она принесет больше пользы, чем десять мужчин. — А если она не согласится? — Я откажусь, так как желаю мира. Я оставлю ее здесь управлять, как она хочет; сам же уйду куда-нибудь, где буду в состоянии удовлетворять свои фантазии и выполнять мои собственные проекты… с условием, однако, что вы поможете мне, если найдете меня правым. На другой день на рассвете я осмотрел имение Моржеронов. Проект был осуществим и сам по себе очень хорош, но Жан не умел считать и, как все люди с пылкой фантазией, составил смету, сообразуясь со своими желаниями и надеждами. Я хладнокровно, до мельчайших подробностей, вычислил расход и вывел заключение, что это предприятие действительно поглотит все его имущество, прежде чем принесет серьезную пользу. Он пришел в дурное настроение, увидя, что я прав, и начал проклинать вычисления. Он долго оспаривал мои доводы, но кончил тем, что согласился. Тогда он почти с отчаянием воскликнул: — Значит, на этом свете ничего нельзя сделать хорошего! Надо оставлять все на погибель, даже если знаешь против этого средство! Я буду смотреть, как этот проклятый поток с каждым днем, с каждым часом будет уничтожать мое имущество, и никакая жертва не спасет меня от этого. Так как он должен разорить меня, если я оставлю его в покое, то не будет ли лучше, если я разорюсь сам, сопротивляясь ему? Не правда ли, унизительно для человека оставаться неподвижным, со сложенными руками, перед бессмысленной струей, когда от его воли зависит победить ее? — Вы меня просили помочь вам приобрести состояние, — отвечал я ему. — Если же это не единственная ваша цель, то рискните! У вас нет, сказали вы мне, ни жены, ни детей, и если только одно самолюбие побуждает вас совершить нечто смелое и изумительное, то поступайте так, но подумайте о позоре, если вы разоритесь и если вас сочтут помешанным даже те, которые воспользуются вашим бедствием. — Да, — сказал он, — я знаю это. Когда я сделаю из болота плодородный остров, готовый вознаградить за мои хлопоты, мне будет необходимо передать его за бесценок, чтобы расплатиться с долгом, и другие посмеются надо мной и обогатятся вместо меня. Но после них и после меня придут туда люди, поселятся, будут благоденствовать и скажут: «А все же он создал эту землю! У этого необыкновенного человека были смелые планы. И это место, на котором теперь груда камней и песка, станет превосходной землей и будет называться «остров Моржерона». Он был так прекрасен в своей гордости, что я отговаривал его с сожалением. Но когда он сознался мне, что без помощи сестры в этом предприятии будет принужден оставить работы неоконченными и просил меня занять необходимую сумму, я решительно остановил его. — Не рискуйте, — сказал я ему, — в деле, успех которого будет вопросом чести не только для вашего самолюбия, но и для вашей совести. Найдите акционеров, передайте вашу идею, работу, землю и предоставьте им управлять работой. Вы же примите в ней участие, если это им будет угодно, и разделите с ними доход, если они получат его, но не берите на себя ответственность за успех, а самое главное, не занимайте: с вашей горячностью вы погибнете. Он сдался и решил показать свой проект соседним прибрежным помещикам, которые могли бы помочь ему. Я должен был начертить план и представить смету необходимых расходов, но мне хотелось также указать и на случайные издержки, которые могли бы удвоить и даже утроить смету: неожиданности почвы, как, например, твердость некоторых выступов, непрочность других и т. д. Такие простые догадки приводили его в отчаяние. — Мы не будем иметь успеха, — говорил он, — около нас мы не найдем таких богатых и доверчивых людей, которые согласились бы рискнуть. Оставим этот проект в покое, пока я не найду необходимых для меня акционеров. Завтра я вам скажу нечто другое. Прошла неделя, мы жили в полном довольстве в этом уютном и опрятном домике. Я любовался распорядительностью и деятельностью г-жи Моржерон, послушанием и понятливостью Тонино. Мне казалось, что при меньшей доле тщеславия Жан мог бы быть одним из самых счастливых людей, потому что его сестра, подсмеиваясь с большей дальновидностью над его потребностью «заставить говорить о себе», выказывала ему действительную любовь и ежеминутно заботилась о нем. Мое положение около этой молодой женщины могло бы быть неловким, если бы она отнеслась ко мне недоверчиво, но она скоро заметила, что, имея влияние на ее брага, я пользуюсь им, чтобы умерить его порывы. После этого она стала с уважением относиться ко мне и предоставляла мне хладнокровно разубеждать его. В конце недели я решил покинуть моих хозяев, думая, что одержал победу. Жан ничего не говорил мне о другом проекте, и я заметил, что не могу быть ему полезным в этом небольшом поместье, которое так образцово управлялось его сестрой. Между тем он мне показался грустным, когда я ему сказал, что должен уехать. Ничего не отвечая мне, он закрыл лицо руками, стараясь подавить глубокий вздох. Он не обедал и весь вечер хранил молчание. Сестра молча смотрела на него, и я заметил, что она беспокоилась. При закате солнца я сел на скалу, чтобы полюбоваться восхитительным видом, который расстилался вокруг. Вдруг кто-то неслышно, благодаря высокой траве, подошел и сел рядом со мной. Это была Фелиция Моржерон. — Слушайте, — сказала она, — вы слишком честны и благоразумны. Надо это несколько умерить и согласиться со мной уступить безумству брата. Я его знаю, он захворает и может даже умереть от печали, которую испытывает вот уже третий день. Я не могу этого перенести! Вы видели, что я употребляю всевозможные усилия, чтобы привести его в сознание. Я подсмеивалась над его тщеславием, сердилась на него, но ничто не удалось. Он увлечен своей мечтой более, чем прежде. Вот уже десять лет, как он предается ей: он только и думает о том, чтобы заработать деньги и потратить их на это дело. Нет возможности разубедить его: уже слишком поздно! Надо исполнить его желание, и я пришла сказать вам, что не противлюсь более. Не говорите этого ему: он слишком возгордится, что победил меня, и совсем разорит нас своими проектами. Будьте во главе его предприятия, так как он хочет этого, но, если только возможно, продолжите работу как можно дольше, лет на десять или на пятнадцать… Когда у нас ничего не останется более, надо будет остановиться, но зато он проведет десять или пятнадцать счастливых лет, а это в состоянии вознаградить меня за мою жертву. Я восхищался преданностью г-жи Моржерон, но счел, однако, нужным разубедить ее относительно последствий горя ее брата. Мне казалось невозможным, что он принял дело так близко к сердцу и может даже умереть От этого. — Знайте, — возразила она, — что я боюсь еще худшего: он может сойти с ума. Вы не знаете, до какой степени он возбужден. Брат не хочет показать вам этого, но он не спит уже восемь ночей, прогуливается у себя в комнате или по лугам и лихорадочно говорит сам с собою. Я не хочу этого, повторяю вам! Я не понимаю, как можно колебаться, когда деньгами можно помешать большому несчастью и спасти того, кого любишь более всего на свете! — У вас доброе сердце, — сказал я Фелиции, взял ее руку и в волнении крепко пожал ее. — Все, что вы думаете, прекрасно и совершенно примиряет меня с вами. — Вы меня считали корыстной, не правда ли? — спросила она равнодушным тоном. — Когда работают с такой лихорадочной деятельностью, как вы, значит, хотят осуществить какие-нибудь планы в будущем, и расстаться с ними — большая жертва для такой положительной и рассудительной женщины, как вы. — Не знаю, умна ли я, но что я положительна — это так. Я всегда работала из любви к труду и иначе не могу жить, так как люблю, чтобы все было хорошо сделано. Что же касается планов, то для себя у меня их нет. Итак, вы видите, что моя жертва невелика! — Вы удивляете меня, но я не имею ни права, ни намерения расспрашивать вас. Позвольте только сказать вам, что я не могу способствовать вашему разорению и поощрять безумство вашего брата, скрывая ту правду, которую уже доказывал ему. Я не инженер, но у меня достаточно опытности и наблюдательности, чтобы быть уверенным в своей правоте. Как же вы хотите заставить меня отказаться от моего убеждения? — Не изменяйте вашего решения, но помогите брату рискнуть. Слушайте, господин Сильвестр, это нужно! Не думайте, что ваша предусмотрительность разрушила его мечты. Чем труднее ему кажется предприятие, тем сильнее он его любит. Если вы покинете брата, он будет искать совета у других, которые будут, по всей вероятности, менее честны и знающи, чем вы, и, вместо того чтобы сообразоваться с временем и замедлить разорение, поглотят все наше состояние и разрушат все надежды моего брата. Упорство Фелиции Моржерон опечалило меня, и я отговаривался от той роли, которую она желала возложить на меня. Она была настойчива в споре, скоро начинала горячиться и теряла терпение. — Как, — вскричала она, — у вас такой вид, как будто вы хотите сказать мне, что я не имею права разоряться из-за каприза моего брата! Слушайте же, надо, наконец, покончить с этим! То, чего вы не знаете теперь, вы все равно узнали бы потом, если бы остались еще недели две в этой стране. Я считаю лучшим теперь сама все рассказать вам. Знайте, что я всем обязана Жану и что я живу только для него. Когда мне было пятнадцать лет, один иностранец соблазнил меня и покинул… Мой отец, строгий протестант, выгнал меня. Моя мать умерла с горя… Я скиталась по дорогам, просила милостыню, гонимая отовсюду, и, наконец, отправилась в Италию, с ребенком на руках, чтобы найти родных моей матери. Они сами были в нищете, но тем не менее приютили меня. Я работала, но слишком утомлялась и заболела; мой бедный ребенок умер! Я хотела умереть и была близка к агонии, как вдруг приехал мой Жан, красивый солдат, который, будучи на службе, не знал о моем несчастье. Прослужив свой срок и узнав все обо мне, он пошел отыскивать меня. Я обязана моим спасением его доброте и дружбе. Он способствовал моему выздоровлению и привез меня сюда. Наш отец поссорился с ним из-за того, что он простил меня. Невеста, ждавшая его возвращения, объявила, что она не выйдет замуж за того, который покровительствует потерянной девушке, и она обвенчалась с соперником Жана. Все это он скрыл от меня; два года ухаживал и заботился обо мне, потому что я была еще так больна и слаба, что не могла работать. Перед смертью отец не благословил его. Он не женился, так как был на дурном счету у всех соседей и даже теперь слывет за вздорного и неверующего человека, и все это из-за меня! Ну, что же делать! Они все таковы в этой благочестивой стране! Католики и протестанты стараются перещеголять друг друга относительно религиозной нетерпимости. Итак, я потерянная девушка: у меня нет будущего, и я расстроила судьбу моего брата. Мы были, однако, достаточно богаты, чтобы найти: он — жену, а я — мужа, но для этого надо было спуститься слишком низко, а мы оба горды! Страсть к предприятиям, которая, как вы полагаете, погубит брата, спасла тогда его от скуки и горя. Он, конечно, мог бы осуществить свои великие мечты, если бы был более ученым и терпеливым, но он знает, чего не хватает ему, и страдает от этого. У него есть идеи, но они слишком шатки. Я рассудительнее его, но не умею изобретать и, видя, что его планы ничего не стоят, могу только противоречить, ничему не научая его. Мы с ним спорим, и я мешаю его счастью. Моя однообразная работа раздражает его, а между тем я работаю только для него, люблю только его и стараюсь приобретать единственно для того, чтобы дать ему возможность тратить! Благодаря тому порядку, который заведен у нас, к нам должны быть справедливы хотя бы в этом отношении. Все признают, что мы приносим пользу, и если даже говорят, что мы нечестивы, то все же не считают нас скупыми и низкими. Теперь, сударь, вы все знаете и видите, что я обязана соглашаться с планами моего брата, каковы бы они ни были — дурные или хорошие, если бы даже из-за них должно было бы погибнуть наше имение и мои сбережения, а я должна была бы снова бедствовать и своими руками обрабатывать землю. — Ну что ж, — сказал я, заинтересованный тем, что мне пришлось услышать, — не надо допускать, чтобы это случилось. Надо полезно и честно затратить ваше состояние, удовлетворяя тщеславие вашего брата исполнимыми проектами. Я его теперь хорошо знаю и понял, что у него страсть к предприятиям; надо будет найти необходимую пищу для его деятельного ума. Невозможно, чтобы в наших владениях не было бы какого-нибудь серьезного дела. Я знаю, что у него в голове другая идея, но я не хотел выпытывать ее. Я боялся возбудить ваше неудовольствие и поощрить какую-нибудь новую фантазию. Кто знает, может быть, теперь он нашел лучший путь, и мне не придется менять моего убеждения, а вам — подвергаться большой опасности. Позвольте мне попытаться, и если вам придется потерять деньги, то постараемся сделать это с честью. — Я не гонюсь за честью, — возразила Фелиция. — Я не забочусь ни о чем на свете. Я навсегда порвала с мнением других: я уже получила должное и не страдаю от этого. Моя жизнь слишком деятельна, чтобы я думала о чем-нибудь другом; но мой брат нуждается, чтобы другие говорили о нем и, осуждая и порицая его слабости, по крайней мере, признавали бы его энергию. Старайтесь же все делать для него и не думайте обо мне, если хотите, чтобы я любила и благословляла вас. Сказав резким и довольно холодным тоном эти нежные и в то же время энергичные слова, она покинула меня, не дожидаясь ответа. Я знал теперь или, по крайней мере, думал, что знаю все тайны этой семьи. Меня пугала не мысль оказать услугу Моржеронам, но то, что я соединю мою жизнь с их беспокойным существованием. Я чувствовал потребность покоя после всех моих собственных бедствий. Моею мечтою были свобода и одиночество и возможность работать изо дня в день без всякой ответственности. Я боялся, что, привязываясь к беспокойной и довольно исключительной судьбе Моржеронов, я буду так же несчастлив и так же мало полезен, как в своей собственной семье. Волнуясь, я чувствовал, что благодаря доверию Фелиции, я буду навсегда подчинен строгому долгу. Но в порыве великодушия я согласился на это. Краткий и грубый рассказ этой падшей, но энергичной девушки возбудил мое участие к ней и в особенности к ее брату. Они оба обладали возвышенными идеями и чувствами, которые возбудили мое уважение к ним. Порождая зависть своим богатством, порицаемые за их странности, гонимые за ошибку, тяготевшую над ними, они нуждались в друге. Первые шаги, которые я делал по пути свободы, пользуясь моим «инкогнито», привели меня к тяжелой обязанности. Мне казалось, однако, что я не должен стараться избегать их, и, побуждаемый сердцем и совестью, я отдавался течению, которое влекло меня в новую пропасть мучений и горя. На другой день я сделал открытие, которое окончательно побудило меня легким и верным способом осуществить мечту моего хозяина. На рассвете я бродил по его владениям, внимательно рассматривая и исследуя все видоизменения почвы. Это имение было так же странно, как и его владельцы. Оно состояло из двух совершенно различных сторон. Та, которая была расположена на горе, представляла превосходную почву: богатые пастбища, виноградники, фруктовые деревья и хлебные растения изобиловали в этой области, лежащей на одном уровне с жилищем. Но внизу все было в беспорядке и запустении. Два ручейка, соединяясь в узком и глубоком ущелье, помогали главному потоку подмывать землю и наносить на нее песок. Груда камней, утопавших в трясине, деревья, спускавшиеся вниз, таинственные ущелья и закоулки, разбитая и проточенная в тысячах мест гора — все это представляло из себя разрушенный лабиринт. Этот хаос скал, песка и зелени доставил бы наслаждение художнику, и, даже не будучи артистом, я сознаюсь, что ничего не переменил бы в этом фантастическом имении, если бы оно принадлежало мне. Исследуя с опасностью для жизни ущелья, где с шумом протекали два ручья, я нашел то, что называют «земляной рудой», это была масса чернозема лучшего качества. Извлечь из пропасти эту землю, которая наполнила собой глубокое под скалой ущелье, было бы слишком гигантской работой, но заставить воды, погребавшие здесь эти богатства, нести их в другом направлении и затем культивировать казалось мне не особенно трудным. Стоило только взорвать скалу, которая заграждала им проход, и направить их течение на полуостров, из которого Жан ради тщеславия хотел сделать остров. Если бы нам удалось обогатить эту низкую почву всеми плодотворными осадками, приносимыми ручейками, то она приподнялась бы и возвысилась до того, что была бы в состоянии противиться волнам. Оставалось только узнать, исходили ли эти отброски из области достаточно богатой и обширной, чтобы доставить нам необходимое наслоение. Я пошел отыскивать Жана. Он был сумрачен, так как лишился аппетита и сна. Я его спросил о том, что мне надо было узнать. — О, — с горечью сказал он, — вы открыли мой замысел. Я нашел залежи чернозема, и так как это место принадлежит мне, то я придумывал способ извлечь землю из пропасти. Но та местность сотворена дьяволом, и чтобы перевезти оттуда чернозем, надо иметь средства которых у меня нет. — Не будем об этом думать, — сказал я ему. — Надо найти источник той земли, которая приносится вам водою. Где она расположена? Вы должны знать это. — Да, я знаю: земля принадлежит одному бедняку, который не в состоянии устроить плотину, чтобы спасти ее, но если он догадается, что я хочу купить ее для своей выгоды, то спросит за нее в три раза более, чем она стоит. — Итак, — сказал я, — позвольте мне сделать расчет, и если мы найдем, что земли, приносимые нам потоком, будут у нас стоить в двадцать раз более, чем они стоят наверху, заплатите не колеблясь вшестеро дороже: это не будут потерянные деньги. — Но что мы сделаем с черноземом, когда он будет у нас, если он теряется в пропасти, которой не заполнить в сто лет? Я видел, что Жан не понял моего плана и не старался особенно понять его. Он любил только свои выдумки. Надо было не только заставить его согласиться с моей идеей, но и уверить его, что он был ее творцом. — Господин Жан, — сказал я ему, — вы смеетесь надо мной. Вы говорили метафорами, думая, что я не догадаюсь, но я отлично понял, что вы желаете подвести ручей к полуострову. Чело его прояснилось, но тем не менее он колебался присвоить себе мое открытие. — Разве я говорил вам, — вскричал он, — что я думаю сделать это? В свою очередь я колебался солгать, но надо было это сделать для его спасения, и я подтвердил, что он намекал на это. В то же время я ловко сообщил ему тот удобный способ взорвать скалу, который я заметил при исследовании. Я видел, как в его блестящих глазах отразилась сильная борьба гордости изобретателя и его природной правдивости. Последняя одержала верх. — Вы обманываете меня, — сказал он, обнимая меня, — я никогда не думал о том, что вы сообщили, но, по-моему, одинаково приятно согласиться с хорошей идеей, как и породить ее. Мы взорвем эту глыбу, купим там, наверху, луг, мы… Нет, мы купим раньше луг и затем подкопаем и свалим ее… Нет, мы будем действовать осторожно, чтобы не загромождать извилины потока, и я вижу уже теперь, как полуостров будет подниматься, подниматься как по волшебству!.. Через десять лет это будет гора или, по крайней мере, холм. Можно отлично загородить его плотиной. У меня есть превосходные бревна в том лесу, который я купил около Симплона и где вы работали. Он как будто только и предназначался для этого! Теперь моя сестра не скажет, что это даром потраченные деньги. С каждым годом мы будем приобретать прекрасную черноземную землю толщиною в метр, мы… — Подождите, вы слишком спешите. Рассмотрим раньше ежегодные опустошения, производимые потоком. Это легко рассчитать. Пройдемся туда. — Отлично, но я знаю, в чем дело. Я помню, какой длины был луг двадцать лет тому назад. В то время вода не протекала там. С тех пор как она пробила себе проход, пространство луга уменьшилось на четверть. Теперь он будет уменьшаться еще скорей, так как скалы, которые его защищают, подмыты внизу. Этому, по всей вероятности, можно помочь. Идемте туда, идемте! — Отправимся, — сказал я ему, входя в дом, — но позавтракаем раньше и попросим вашу сестру сопровождать нас. Когда она это увидит своими собственными глазами, то поймет, что вы заслуживаете ее похвал и содействия. — Я не знаю, в чем дело, — отвечала Фелиция, внося завтрак на прекрасном блюде из фигового дерева, — но я пойду с вами, Жан, если господин Сильвестр согласится быть инженером и если вы будете слушать то, что он скажет. — Клянусь памятью Рутли! — вскричал Жан. Он позавтракал с большим аппетитом. Фелиция надела короткую юбку, круглую шляпу и башмаки с железными гвоздями. Обыкновенно она одевалась по-деревенски. Горный костюм очень шел к ней: ее длинные черные косы спускались до колен, ее тонкая и красивая нога была необыкновенно изящна. Сила и любовь к работе в ее итальянской натуре соединялись с грацией и изяществом. Она ушла вперед с Тонино, который также надел костюм горца, необходимый для прогулок по таким крутым откосам. Тонино был очень красив и хорошо сложен, с приятным и приветливым выражением лица. Он был слишком тонок и смугл, чтобынравиться окрестным жителям, но мне казалось, что когда-нибудь он произведет сильное впечатление на более утонченную натуру. — Дадим пройти этой красивой парочке, — с добродушным видом сказал Жан, взяв свою палку с железным наконечником и подавая мне такую же. — Мы с вами поднимемся прямо и пройдем через поток. Это будет нелегко, предупреждаю вас, но вы, впрочем, бодры и крепки, да к тому же я хочу, чтобы вы знали все изгибы и падение нашего ручья, приносящего землю. Подъем был действительно одним из самых трудных, а во многих местах даже опасным. Мы погибли бы там, если бы нас застиг дождь или буря; но погода стоял превосходная, и в главном потоке было немного воды. Мы могли убедиться, что он нигде не встречал серьезных препятствий, и если мы освободили бы его от некоторых скал, то в бурные дни он мог бы нам пригнать значительное количество земли. Один берег принадлежал Фелиции, другой Жану. Этот почти отвесный канал служил границей их имений. Жан был в восторге и в волнении. Он говорил с быстрыми студеными ручьями, которые журчали над нашими головами и у наших ног. — Ты можешь теперь сердиться, злючка, — говорил он прозрачной воде, которая при падении покрывала нас радужными брызгами. — Чем больше ты будешь ворчать, тем мы будем довольнее; думая нам сделать как можно больше зла, ты нам будешь приносить пользу! Достигнув истоков, мы должны были вскарабкаться на гору, чтобы не быть унесенными главным течением, имевшим несколько десятков метров ширины. Удерживаясь за кустарники, росшие на утесе, мы могли исследовать выбоины, которые образовала вода при своем падении. Обнаженная почва дала нам возможность убедиться, что на недоступной и плотной скале лежали толстые слои прекрасной земли. С большим трудом добравшись до вершины, мы нашли там Фелицию и ее двоюродного брата, ждавших нас на поляне, которая вследствие известковой зубчатой горы, возвышавшейся посередине, называлась «Килем». Мы изнемогали от усталости. — Отдохните тут на солнце, — сказала нам Фелиция, — и выпейте молока, которое мы достали с фермы Земми. — Не там ли случайно и помещик? — спросил Жан Моржерон. — Нет, — он никогда не приходит туда, он не любит этого места, видя, что ничего не может сделать против зла, причиняемого водой. Мы видели только его пастуха. Это бесхитростный ребенок, и вы можете рассмотреть все без затруднений. Мы встретили полдень на этой зеленой вершине, над которой возвышался последний утес. Ручей вытекал из соседнего глетчера, соприкасавшегося почти с вершиной горы, на которой мы находились. Я мог заметить, что по крайней мере в продолжение многих лет снег при таянии будет протекать по проложенному уже пути. Я также заметил, что почва, которую он подмывал, почти вся состояла из остатков старинного леса. Все согласовалось с нашими желаниями. Жан Моржерон вне себя от радости и восторга, утомленный ходьбою и разговором, опьяненный своими мечтами, утолив жажду молоком, пошел спать в шалаш Земми. Более спокойный и способный переносить усталость, я еще бродил по поляне «Киль», где отдыхали Фелиция и Тонино, сидя в углублении, защищенном от солнца и ветра и устроенном, по всей вероятности, пастухами. Конечно, я не намеревался следить за ними. Но случайно я заметил маленькую сцену, которая привлекла мое внимание. Фелиция Моржерон сидела на траве, и ее голубые глаза были устремлены вдаль. Тонино лежал около, как бы собираясь спать, но его глаза были открыты, и он смотрел на нее с выражением восторга и преданности. Он взял ее косу и в ту минуту, когда я проходил позади них, он прижал ее к своим губам и долго держал ее так. Сначала Фелиция ничего не видела, но, заметив, она резко выдернула косу и хотела ударить Тонино по щеке, но он рукой отразил удар. Она настаивала и ударила его по голове, называя глупцом. Мне казалось, однако, что она серьезно не сердилась и едва сдерживала улыбку. Что же касается его, то он смеялся, нисколько не раскаивался в своем поступке, не стыдился и не был испуган тем, что его поймали; он старался только схватить руку, которая его наказывала. Я не знаю, видела ли Фелиция, что я был там, но внезапно она рассердилась и приказала юноше пойти посмотреть, спит ли в шалаше ее брат. Он повиновался, и г-жа Моржерон тотчас позвала меня, приглашая отдохнуть. Она поблагодарила меня за то, что я вернул энергию и надежду ее брату, и спросила, действительно ли я нахожу хорошим это предприятие. — Если бы было иначе, — сказал я ей, — я никогда не подал бы ему подобной мысли. — Вы были бы неправы, — возразила она, — надо во что бы то ни стало соглашаться с ним и доставлять ему удовольствие! Мне не хотелось возобновлять прежний спор. Я ей сказал довольно внушительно, что никогда умышленно не буду разорять ее и невольно намекнул ей, что они слишком молода, чтобы отказываться от мысли о ль ном счастье в будущем. Она догадалась, о чем я думал, и по-своему истолковала сказанные мною слова. — Вы полагаете, что я могу думать о замужестве? — сказала она, пристально смотря на меня. — Я ничего не полагаю, но вам уже тридцать лет, вы красивы, можете и должны внушать любовь. — Можно всегда внушить любовь, — возразила она, — но уважение? — Если вам не в чем упрекнуть себя, кроме того несчастья, о котором вы мне говорили вчера, то, как мне кажется, вы достаточно уже искупили его, и было бы подлостью упрекать вас. Преданность брату должна возвысить вас в глазах честного человека. Что касается меня, то я нахожу вас достойной уважения, если вы на самом деле такая, какой выказали себя вчера; если ваша жизнь есть полнейшее самоотвержение и если вы беспрерывно работаете только для того, чтобы отплатить за сделанное вам добро. — Если!.. Видите, вы сами говорите «если»! Это значит, «если» я только подумала бы о себе, понадеялась бы на малейшее личное счастье, то я не заслуживала бы того уважения, которым вы награждаете меня теперь. — Всякое испытание имеет свой конец. Ваша ошибка — я употребляю это общепринятое слово, потому что не знаю, как назвать то, что при многих обстоятельствах могло быть только несчастьем, — имела такие серьезные последствия для вашего брата, что я подумал бы о вас дурно, если бы вы не загладили ее вашим искренним раскаянием и строгим поведением. Теперь вы имеете все данные, чтобы о вас составилось хорошее мнение, и честный человек удовлетворится этим. — Я не хочу выходить замуж, — возразила она, — не хочу и не должна быть любимой и счастливой. Все, что у меня есть, должно принадлежать брату; муж бы не согласился на это и помешал бы мне всем жертвовать для Жана; но я очень хотела узнать, достойна ли я уважения, как вы это говорите. Я хочу более подробно рассказать вам мою историю. — Уйди, — сказала она Тонино, который пришел объявить ей о том, что Жан все еще спит. — Не буди его и возвратись домой. — Без вас? — Без меня. Я должна поговорить с этим господином. Слышишь же? Торопись! Тонино состроил гримасу, не желая уходить; он хотел вызвать улыбку на устах Фелиции, но не дождался ее. На этот раз мне показалось, что с ним обращаются как с ребенком, и то, что я заметил прежде в странных глазах Фелиции, не имело значения. Когда мы остались вдвоем, она мне рассказала следующее: — Мое происхождение так же странно, как и моя жизнь. Я знатного рода со стороны матери: мой дедушка был граф, Тонино — барон. Наш род разорился в прошлом столетии благодаря предку графу дель-Монти, который все потерял в азартной игре. Его сын Антоний был принужден давать уроки музыки под именем Тонио Монти. Он женился на знатной девушке, но также разоренной, как сам, имел много детей и на старости лет, доведенный до нищеты, принужден был, играя на скрипке, ходить по дорогам в сопровождении своей младшей дочери Луизы Монти (моей матери), которая была очень хороша собой и прекрасно пела. У этого бедного дедушки не было пороков, но ему недоставало расчетливости и предусмотрительности, хотя тем не менее он был достойным и превосходным человеком. Я его знала и до сих пор еще помню его пре красное, нежное и грустное лицо, его длинную седую бороду, его старинное платье, красивые выхоленные руки, его скрипку и смычок, украшенный агатом, на котором был выгравирован его герб. В одно из странствований по Ломбардии он прошел границу и, отправляясь в Женеву, должен был остановиться на несколько дней в Сионе. Там жил Жюстин Моржерон. Разбогатевший крестьянин, ставший мещанином, владелец нескольких ферм, он жил в городе со своим единственным сыном Жаном. Он лишился жены вскоре после свадьбы, и в то время ему было сорок лет Их семья считалась одной из самых уважаемых, и сам старик, ярый протестант, вел строгий образ жизни. Недолгая сдержанность приводит иногда к пылкой страсти. Он приютил у себя Тонио Монти с дочерью. Старый странствующий артист был ранен в ногу. Сострадательный мещанин, ухаживая за ним, продержал его у себя месяц, в конце которого так влюбился в красавицу Луизу, что просил ее руки и женился на ней. Это произвело сильный скандал в семье Моржеронов, в городе и даже во всей стране. Мой дедушка тщетно старался доказать благородство своего происхождения и характера, — он был артист. Все видели, как он, хромой, останавливался с дочерью у дверей богачей, и никто не допускал возможности, чтобы эта красивая девушка оставалась непорочной. Ее называли цыганкой, не кланялись ей и отворачивались, когда она проходила мимо. Протестанты ее презирали больше всего за то, что она была католичкой; католики же отступились от нее, потому что она вышла замуж за протестанта. Мой отец увидел, что все оставили его. Его гордость так страдала от этого, что он почти лишился рассудка, сделав несчастной свою бедную жену, из-за которой подверг себя такому преследованию. Мрачная ревность снедала его, он стал очень сурово обращаться со стариком Монти. Меня, единственного ребенка от этого брака, он никогда не любил. Я выросла среди слез, горя и волнений. А между тем я была послушна и трудолюбива, училась всему, чего от меня требовали. Мой дедушка Монти, бывший человеком сведущим, дал мне образование свыше моего звания, думая этим сделать удовольствие моему отцу. Этот же, далеко не будучи польщенным моими успехами, утверждал, что я хочу затмить Жана, потому что ему трудно давалось учение, и, несмотря на все старания образовать его, мальчик оставался невеждой. Я же не хотела соперничать с этим добрым братом, который защищал дедушку, мою мать и меня от преследования и несправедливостей отца; но он скоро покинул нас. У него была страсть к путешествиям, и, кроме того, семейные бури надоели ему. Он поступил на службу, а мать, видя, что я стала ненавистной отцу, выпросила, чтобы меня отправляли со стариком Монти проводить летнее время на одну из наших ферм. Я была там счастлива, но старик Монти скоро заболел и умер. Тогда я почувствовала себя одинокой на свете. Мой отец, вместо того чтобы успокоиться, становился с каждым днем все мрачнее и озлобленнее. Он предался ханжеству и хотел, чтобы я отказалась от религии моей матери, но она в одном этом не уступала ему. Она посоветовала мне оставаться в деревне, чтобы избегнуть религиозного преследования. В этом и было мое несчастье: я чувствовала, что одни покинули меня, другие ненавидели, что те фермеры, которым я была поручена, косо смотрели на меня и дурно обращались со мной. Я чувствовала потребность быть любимой, слышать слова сочувствия и утешения. Один путешественник, бродивший около фермы, уверил, что обожает меня, женится на мне и вырвет из этого грустного существования. Он был очень привлекателен, но оказался негодяем и покинул меня. Все остальное вы знаете, но я хочу сказать еще о Тонино, о котором раньше не говорила вам. Когда я пришла в Лугано, где, по словам дедушки, жил его женатый сын, я нашла моих родственников в нищете. Мой дядя, наследовавший титул графа, был ткачом. Обремененный большим семейством, он едва зарабатывал настолько, чтобы не умереть с голоду. Тем не менее они ласково приняли меня, и его жена, бывшая прачкой, взяла меня в работницы. Это был ужасный труд для молодой женщины, истощенной усталостью, лишениями и кормившей ребенка! Меня выдавали за вдову, и Тонино, старший сын моего дяди — ему было тогда девять лет — сильно привязался ко мне. Он стал нянькой моей девочки. Целыми днями он носил ее на руках, укачивал или же развлекал, пока я работала. Стоя на коленях на мокрой соломе, держа руки в воде, я видела всегда этих двух малюток, игравших на солнце, и я молила Бога только о том, чтобы Он сохранил мне одного и дал бы возможность вознаградить другого. Когда самое большое горе, потеря дочери, сокрушило меня, Тонино стал моей сиделкой. Он плакал, сидя у моей постели, и, давая мне питье, поддерживал мою помутившуюся голову своими маленькими ручками. Когда же мой брат при ехал за мной, я просила разрешения увезти с собой Тонино, и он согласился на это. Я воспитала и люблю его, как сына. Находите ли вы меня неправой? Госпожа Моржерон остановилась, ожидая моего ответа. — Я нахожу, что вы правы, — сказал я ей, — но отчего вы мне задали этот вопрос? — Потому что, может быть, вам не нравится мое строгое обращение с этим мальчиком. Оно нужно: видите ли, он слишком восторжен, это достоинство составляет его недостаток. Тонино привязчив, как собака. Он остался еще таким ребенком, что каждую минуту приходится напоминать о том, что он мужчина. Он слишком итальянец, то есть слишком любит излияния, что не подходит к нравам этой страны. Я должна приучить его придерживаться манер и мыслей, свойственных среде, которой он живет. Необходимо сделать из него порядочного человека, опытного земледельца, для того чтоб, он впоследствии сумел поддержать свою семью, о ко торой я пока забочусь. Время наступает: мой брат отделил для него некоторую часть наших доходов. Вот уже десять лет, как я устроила для него копилку, и скоро он будет иметь возможность призвать своих родителей и прилично жениться. Теперь же поговорим только обо мне. Тринадцать лет я прожила здесь одна: я не обращала внимания ни на молодых, ни на старых, ни на высоких, ни на низких, ни на брюнетов, ни на блондинов. Я думала только о своем долге, то есть о счастье моего брата и о будущем Тонино. Я строго поступаю с одним и противоречу другому. Горе сделало меня злой и, может быть, слишком требовательной к другим и к самой себе. Я не умею быть любезной, это не моя вина; но я хочу жертвовать собой, и я жертвую. Скажите же теперь, можно ли уважать меня? — Да, и преклоняться пред вами, — отвечал я. — Вы видите, что я не ошибался. — Но тем не менее вы сомневались? — Нет! Но все равно, если это даже и было так, то теперь я не сомневаюсь более. — А думаете ли вы, что я могу возбудить серьезное чувство? Ведь нельзя же полюбить тех людей, которые не любят самих себя и поэтому не стараются нравиться? — Это другой вопрос, — сказал я ей. — Я не могу вам ответить на него: мне уже пятьдесят лет, но Тонино всего двадцать один. Вскоре, может быть, он почувствует к вам нечто более сильное и опасное для него, чем сыновнюю любовь. — Не говорите мне этого, господин Сильвестр! Нехорошо, что вы думаете это! По разуму Тонино можно дать не более пятнадцати лет, а я по опытности могу быть его матерью. — Но ведь вы только его двоюродная сестра и только на восемь или девять лет старше его. Если он вас любит, я не понимаю, почему вам не выйти за него замуж: никакой закон не воспротивился бы этому. — Я не могла бы полюбить его настоящей любовью, и мне было бы смешно считать этого ребенка моим повелителем, когда я сама каждую минуту журила и наставляла его. Я не могла бы согласиться на это! Оставьте такую мысль, господин Сильвестр: она оскорбляет и огорчает меня. Слава Богу, Тонино не знает еще, что такое любовь. — Тогда не будем больше говорить о Тонино, и простите мне мою, может быть, нескромную откровенность! Но я стар, и мне казалось, что я могу говорить с вами о чувствах, как отец говорит с дочерью. Ради спокойствия и счастья этого славного Тонино я был бы рад ошибаться. Вам следует заботиться о вашем ребенке и найти пищу его страстям, когда вы заметите их проявление. В эту минуту пришел Жан Моржерон, и разговор начался только о потоке и лугах. В продолжение двух недель мы только и толковали об этом. Я не переставал исследовать дно потока, желая все предвидеть, и несколько раз возвращался в поляну «Киль», чтобы во всех отношениях убедиться в глубине почвы. Вода, проточив гору, повлекла бы наверно за собой обломки скал, и надо было подумать о том, чтобы камни не завалили приготовленной земли. После долгих размышлений и наблюдений я нашел простой и недорогой способ… Но вы меня просили рассказать вам не о потоке, и потому я не буду вдаваться в подробности. Все предыдущее я рассказал для того, чтобы познакомить вас, каким образом я сошелся с семьей Моржеронов, мог узнать тайны их жизни и даже характер такой необщительной особы, как Фелиция. Что касается этой последней, я узнал ее впоследствии еще лучше, в особенности после того, как объявил ей, что, уверенный в успехе, я составил смету и оставалось только купить участок земли в поляне «Киль». Жан с лихорадочным нетерпением ждал моего решения. Он тотчас же хотел бежать к Земми, но Фелиция воспротивилась этому. — Вас обманут, — сказала она. — Дайте мне справиться с этим делом. Она вместе с Тонино отправилась в деревню, где жил Земми. В тот же вечер они возвратились. Все было окончено: роща была приобретена за минимальную цену. Жан был слишком возбужден, чтобы почувствовать угрызения совести. Он с восторгом благодарил и расхваливал свою сестру. Моя же совесть не была спокойной: Земми был бедный крестьянин, и мне хотелось, чтобы каким-нибудь образом его сделали участником в нашем будущем барыше; но дело не зависело от меня, и я ничего не смел сказать. — Вы мечтаете, — сказал мне на другой день Тонино со своей обычной детской и ласковой фамильярностью. — О чем можете вы так думать? — О бедном Земми, — сказал я ему. — Я сожалею о том, что ничем не могу отплатить ему… — Тсс! — возразил Тонино. — Будем говорить тише потому что моя сестра всегда настороже: у нее тонкий слух. Она рассердится, если узнает, что я рассказывал вам о ее поступках. — В таком случае не говорите мне. — Несмотря на ее запрет, я хочу рассказать вам. Я хочу, чтобы вы знали, насколько она великодушна и справедлива. Вы должны полюбить ее так же, как и я люблю ее! Знайте же, что за поляну она заплатила очень дорого и не торгуясь. Земми был этим очень удивлен и обрадован до безумия. Но хозяйка не хочет, чтобы ее брат знал это, и доплатила разницу. Вот какова она! Она всегда бранит хозяина за неосторожность, говорит ему, что он всегда позволяет обманывать себя, а сама, когда вмешивается в дело, так великодушна, что платит вдвое больше, чем он. Но при этом она говорит: «Меня не обманывали, я желала сделать это…» Сохраните тайну, господин Сильвестр! Хозяйка побьет меня, если узнает, что я выдал ее. Я спросил Тонино, действительно ли он боится своей двоюродной сестры. — По отношению к себе совсем нет, — наивно ответил он. — Она бьет не больно, но, ударив, бывает недовольна собой и втихомолку плачет. И потому страх причинить ей горе и увидеть ее больной делает меня смирным и послушным, как девочка, и увертливым, как угорь. Время подходило к половине июля. Мы могли уже начать нашу работу и потому принялись нанимать рабочих. Жан отправился, чтобы устроить это, а также привезти срубленные у Симплона деревья. Надо было торопиться, чтобы не быть застигнутым зимой во время работы над плотиной. У меня не было времени на размышления; я поселился на неопределенный срок в Диаблерете, — это было выразительное название имения моих хозяев, этого оазиса, лежащего среди суровых гор. В отсутствие Жана я следил за работой, трудился сам, а также направлял моих рабочих. Физический труд полезен: он дает возможность быть справедливым и терпеливым с теми, над которыми начальствуешь. Судя по себе, можно требовать от них настолько энергии, насколько они могут дать без ущерба для своего здоровья. Место, которое мы прорывали, лежало так глубоко в узком и отвесном ущелье, что там с раннего утра царила ночь. Я обедал в семь часов с Фелицией и Тонино и, чтобы заполнить остаток вечера, забавлялся, давая уроки математики и практической геологии молодому барону. У него была странная организация: чудесно воспринимающий все то, что говорило чувствам, но совершенно замкнутый для вещей идеальных. Сила поли тем не менее была в нем. Его послушание и внимание не оставляли желать лучшего, и если мне не удалось в точности ничему научить его, то тем не менее я развил в нем способность рассуждать. Мне не приходилось встречать более симпатичного и ласкового юноши. Я действительно сильно привязался к нему и начал баловать. Фелиция упрекала меня за это, но на самом деле, несмотря на свою брань, баловала его еще более, чем я. Она уверяла, что любила только брата, но я отлично видел, что она была не менее привязана и к Тонино. Эта любовь казалась мне вполне понятной и законной. Замечая у Тонино детские наивные порывы, я упрекал себя за те подозрения, которые явились у меня прежде относительно его близости с Фелицией. Он был настолько же ласков и предупредителен со мной, как и с ней: во время наших занятий вопреки моему желанию он целовал мне руки. Напрасно я говорил ему, что это неприлично, он отвечал, что так принято благодарить Италии и, провожая меня в мою комнату, целовал мою шляпу и книги прежде, чем отдать их мне. Фелиция, всегда озабоченная и внимательная, выказывала себя серьезной и холодной по отношению к нему и ко мне. Несмотря на то, что я знал тайну ее жизни, причину морщинок на ее челе, строгого взгляда и горькой улыбки, она удивляла меня как загадка, которой я не мог найти решения. Как все было странно в ее судьбе! Эта девушка, дочь артиста, частью знатного, частью низкого происхождения, воспитанная в среде, противившейся ее побуждениям, поруганная еще будучи ребенком, испытавшая нищету и горе, затем принужденная жить в деревне и ставшая деятельной расчетливой хозяйкой, представляла для меня, а может быть и для нее самой, непонятное целое. Те, кто окружал ее, не интересовались загадкой — привыкнув к ней, они не старались найти ей объяснение. Простые люди никогда не ищут основных причин. Жан, несмотря на свой деятельный и изобретательный ум, был настоящим крестьянином; Тонино мог бы анализировать, но он довольствовался любовью. Что же касается меня, не имевшего особенного влечения к этой «смешанной» натуре, я рассматривал ее тогда, когда мне было нечего делать, и замечал в ней неожиданные противоречия. Когда она отдавалась веселью, можно было быть уверенным, что минуту спустя она станет сумрачной и сдержанной; когда же она выказывала себя рассерженной и требовательной, можно было ожидать, что вскоре она вас осыплет заботами, чтобы загладить свою несправедливость, делая, однако, вид, что не заметила ее и не раскаивается в ней. Она напоминала роскошный сам по себе инструмент, который не мог держать строя, потому что в нем были слишком растянутые или совсем порванные струны. Мне было тяжело слушать его раздирающий звук, изредка чудная, чистая нота производила неотразимое впечатление. Тогда я чувствовал потребность выразить Фелиции мое сочувствие, но она не допускала дружбы и, казалось, никогда не знала ее. Ее привязанность к своим носила характер страсти исполненного долга, но в ней недоставало мягкости. Тем не менее она была добра, очень добра! Отзывчивая к людским нуждам, она мучилась до тех пор, пока не улучшала их участи, сердилась, когда от нее скрывали горе, и еще более, когда ее благодарили за помощь. Она была умна и понятлива, а ее разносторонние, но смутные познания сделали то, что она ничего не знала основательно — ни в делах религии, ни в философии. Она любила добро, справедливость и все прекрасное, не умея их оценить и зная их если не понаслышке, то только благодаря инстинкту. Она, как и Тонино, казалось, была лишена способности рассуждать. Если ему приходилось спрашивать ее о чем-нибудь, чего она не умела объяснить, она всегда очень забавно отвечала ему: «Одни только глупцы и лентяи постоянно твердят «отчего?»». И он довольствовался таким ответом. Две вещи, однако, она знала очень хорошо: это была музыка и итальянский язык. Она говорила свободно, но неправильно по-французски и по-немецки, но язык ее деда остался в ее памяти полным чистоты и изящества, я любил, когда она говорила по-итальянски. Что же касается музыки, она превосходно преподавала ее Тонино и мне, потому что я, несмотря на свои пятьдесят лет, любил учиться и всю свою жизнь сожалел о том, что был только любителем и не имел ни случая, ни времени постигнуть всю премудрость этого божественного искусства. Тонино очень мило играл на скрипке, хотя у него не было другого профессора, кроме его двоюродной сестры. Меня интересовало, теоретически ли она объясняла ему или сама хорошо была знакома с этим инструментом, но я знал, что на мой вопрос она резко ответит, что ровно ничего, не знает. Однажды, когда Тонино разбирал мотив Вебера и по свойственному итальянцу легкомыслию искажал его, она пришла в негодование, взяла скрипку и с невыразимой прелестью мастерски сыграла мелодию. Я не мог устоять и начал аплодировать. Она, гневно пожав плечами, бросила инструмент, но Тонино пошел за другой скрипкой, которую подал ей с умоляющим видом. — Как ты осмеливаешься трогать эту вещь? — сказала она ему. Действительно, это была святыня, скрипка (Кремона) и смычок, украшенный гербами ее деда. Фелиция не могла устоять против желания сыграть и начала настраивать ее. В продолжение часа она приводила нас в восхищение. Конечно, ей были недоступны некоторые трудности, но у нее был полный и чистый тон настоящих артистов. Красота движения ее руки, непринужденная поза — все это соответствовало святому музыкальному вдохновению. Она казалась величественной, когда держала эту скрипку: ее серьезное лицо озарялось духовным огнем и было окружено таинственным ореолом. В минуту высокого вдохновения, когда, казалось, ей стало понятно откровение великих музыкантов, она остановилась и, отдавая скрипку, сказала Тонино: — Отнеси ее, мне надо идти на ферму. — И, приняв озабоченный вид и походку прозаичной хозяйки, она побежала к своим коровам. Эти противоречия всегда поддерживали и усиливала мое негодование. Я думал: неужели это существование, еще полное жизни и деятельности, уже окончено? Неужели она мне говорила правду, уверяя, что никого не любила после несчастья, бывшего в ее молодые годы? Неужели, если ей представился бы теперь случай полюбить благородно и законно, у нее не хватило бы на это ни сил, ни доверия? Вы меня спрашиваете, почему я задавал себе подобные вопросы? Откровенно говоря, я могу утверждать, что меня они интересовали с чисто философской точки зрения. Я не мог усидчиво заниматься ими, у меня было слишком много работы, слишком много в голове материальных расчетов, чтобы долго философствовать или мечтать над ними. Я стал более свободным с тех пор, как осенью прекратились наши работы. Однако я должен был постоянно следить за приращением почвы, так как Брама, это было название нашего потока, все еще в ущерб нам производил опустошения в поляне «Киль». Это не так сердило меня, как Жана, потому что я думал о возможности взорвать другие скалы и открыть пропасть той плодородной грязи, запасы которой нам приносились потоком. Так как в общем все шло прекрасно и поставленная в январе плотина, казалось, была достаточно прочна, наша жизнь стала спокойной и даже веселой. Жан, любивший перемены, ездил по своим делам из Сиона в Мартиньи и из Брига в Диаблерет. Но все же мы видели его довольно часто, и он проводил с нами целые недели. Фелиция благодарила меня за это, так как в предыдущие зимы он редко навещал их. Долгие вечера проходили оживленно. Жан бывал постоянно в хорошем настроении духа, так как заботы не тяготили его; на этот раз ему все представлялось в розовом свете. Его удовольствием было дразнить Тонино, и предметом его шуток были надежды этого юноши на будущее. — Знаешь, — говорил он, — когда наш остров будет приносить доход, я куплю у тебя титул барона. Я хочу быть бароном «d’lsola-Nuova». Тебе не нужно титула, потому что ты любишь только свою скрипку и животных. У тебя нет силы, и поэтому ты всегда остаешься аркадийским пастушком. — Неправда, я силен! — восклицал Тонино. — Я умею обрабатывать землю! Подождите, когда у меня будет такая же длинная борода, как у вас, вы увидите, как я буду управлять плугом! — Я надеюсь, что плуг пройдет по моим пескам и рожь взойдет раньше, чем на твоих щеках вырастет борода. А вот ум-то, без которого нельзя даже пахать, никогда не вырастет в твоей голове! После этого начинали спорить, так как Тонино и Фелиция, хотя и признавали преимущество хозяина, но тем не менее принадлежали к другой школе, и Жан был прав, называя их племенем пастухов. Будучи предоставленными самим себе, они и не обратили бы внимания на погром, производимый наводнением в нижней части Диаблерета, а позаботились бы о расширении владений наверху для разведения стад. Таким образом, действительно не рискуя, можно было получить барыш. Жан любил риск, а Фелиция обвиняла его. Эта странная девушка, всегда помогавшая удовлетворять его страсть к предприятиям и находившая меня слишком осторожным, более всех бранила своего любимого избалованного брата и не раз называла сумасшедшим. Но эти споры никогда более не переходили в ссоры. Я всегда умиротворял обе стороны, убеждая их уступить друг другу, и приводил доводы, которые давали возможность каждому быть правым. Тонино соглашался со мной, и Фелиция переносила на него если не свое дурное настроение, у нее его никогда не было, то свою потребность побранить и посмеяться. Только со мной она была равнодушна и сдержанна, а ее уступчивость выражалась тем, что она предлагала мне вопросы и внимательно выслушивала мой ответ. Я старался объяснить ей ту совместную жизнь, на которую она с трудом могла согласиться при ее твердом характере. Я старался извинить, скрасить и опоэтизировать страстную манию ее брата, говоря о солидарности мужчин, о всеобщем прогрессе, которому все должны служить ввиду общего блага. Мелкое тщеславие, которое Жан называет славой, я старался обратить в действительную, всеми признанную славу, и Жан, у которого, несмотря на честолюбие, было много благородства, приходил в восторг от моей идеализации. Тонино слушал все это с удивлением, глядя на Фелицию своими большими черными глазами, как бы спрашивая ее, что она думает о моей теории. Но он ничего не мог узнать; она была еще более удивлена, чем он, и, выслушав до конца мою речь, говорила: — Все это выше моего понимания. Мужчины причинили мне только зло, я не могу благословлять и любить их, и у меня нет никакой потребности служить им. Пусть они будут чем хотят, я отдам им мою жизнь, хотя они этого не оценят. Я думаю, что никто искренне не служит прогрессу. — Эго великое слово придумано для того, чтобы скрывать личное честолюбие и выдавать порок за добродетель. Но, однако… не сердитесь на меня, господин Сильвестр! Я уверена, что вы искренне верите тому, о чем говорили, что сердце у вас возвышенное, но в вас живет потребность любить, и, не найдя человека, достойного вашей дружбы, вы полюбили всех. Я бы хотела быть такой же, как вы: это дало бы мне возможность забыть, что весь свет зол и несправедлив. Но меня хорошая память, и потому я могу привязаться только к тем, кому я обязана. Я люблю их эгоистично, забывая для них все остальное и даже самое себя: такова моя любовь. Я знаю, что она ничего не стоит, но вы совершите чудо, если заставите меня измениться. В феврале было сильное половодье, вода принесла целую гору камней на верхнюю часть полуострова, но наша плотина держалась крепко, и песок прошел стороной, не засыпав земли. В порыве радости Жан сказал мне: — Знаете ли, господин Сильвестр, пора уже привести в порядок наши дела. Вы мне скажете, какую часть желаете получить от моего барыша, и так как было бы несправедливо заставить вас ждать, то я готов хоть сейчас дать вам вперед столько, сколько вы пожелаете. — Разделите ваш барыш на четыре части: две большие между вами и вашей сестрой, меньшие же между Тонино и мной. Сделайте это тогда, когда вам это будет удобно, и не давайте мне ничего вперед, а платите же мне за неделю столько, сколько вы мне платили до этих пор. — Но мне неприятно, — возразил он, — платить понедельно, как простому работнику, такому человеку, как вы, и знать, что у вас нет ничего впереди для исполнения ваших прихотей. — Стыдитесь, Жан, — сказала Фелиция, слушавшая нас. — Я краснею, и если бы посмела, то… — У меня нет прихотей, — перебил я, — тем более что вы предупреждаете все мои желания. Я живу у вас, как принц: имею прекрасный стол, квартиру, отопление и наслаждаюсь во всем безукоризненной чистотой. Зимой у меня есть во что одеться; мое белье всегда вымыто, и я убежден, что если мы будем считаться, то я окажусь еще в долгу у вас. Оставим же этот разговор о деньгах, он только оскорбляет меня. Об этом более не было речи, и мы весной опять усердно принялись за наше дело. Распределив труды между Жаном и его рабочими, я поднялся в «Киль» и поселился в оставленном Земми шалаше, который не совсем испортился за зиму. Тонино помог мне исправить его; Фелиция же перенесла туда все, чтобы устроить удобное для жилья помещение. Я оставался там в продолжение двух недель, для того чтобы наблюдать за таянием снега, за течением, которое примет потом Брам, покрытый еще в то время льдом, и для того, чтобы быть готовым в случае необходимости изменить его направление по нашей роще. Всем известно, что шалашами, настоящими шалашами (мы же давали это название богатым домам, расположенным в долине) называются выстроенные по простому плану хижины пастухов, в которых эти последние ищут себе убежище во время бурь. Там они находят теплое и не душное помещение для сна. Шалаш Земми, сохранивший название прежнего владельца, состоял из двух половин, из которых самая поместительная была предназначена для коз. Из нее я сделал себе рабочий кабинет; вставил в слуховое окно раму и достал себе два стула и стол; из другой половины устроил себе спальню. Каждый день мне приносили съестные припасы. Я жил там как сибарит. Уже давно я мечтал о совершенном уединении; оно всегда жило в моей фантазии, а может быть даже и было потребностью моего характера. Когда я нахожусь с людьми, я стараюсь помочь им жить дружно или пытаюсь узнать, почему они живут дурно. Моя мысль всегда бывает исключительно занята ими, и потому я совершенно забываю о себе. Когда я замечаю, что сделал для них все то, что от меня зависело и что более не могу принести им пользы, я углубляюсь в самого себя, сливаюсь с природой и думаю о вечном бытие. Я знаю, что природа выразилась в человеке более, чем в деревьях и скалах, но она выражается в нем беспорядочно: она чаще кажется безумной, чем мудрой, она полна иллюзий и лжи. Дикие животные и те проявляют потребность существования, которая нам мешает понять, что они думают и не обманчивы ли в них эти смутные проявления. Испытывая потребности и страсти, они сейчас же удовлетворяют их, и логика их самосохранения уступает чувству голода и любви. Где же можно найти и услышать в природе голос абсолютной правды? Увы, только среди безжизненных предметов и безмолвий! Вид бесстрастной скалы, озаренной солнцем, возвышенность глетчера, обращенного к луне, мрачные и недоступные высоты — все это необъяснимо способствует нашему просветлению. Там мы себя чувствуем как бы находящимися между небом и землей в сфере идей, где может быть только Бог или ничто. Если мы допустим, что там нет ничего, то мы и себя должны считать ничтожеством и думать, что мы не существуем, потому что все должно иметь свою причину. Тайна оказывается непроницаемой, когда ее хотят подчинить точным исчислениям. Она ускользает далее при самой мудрой логике. Божество проявляет себя именно отсутствием доказательств, доступных нашему пониманию. Оно утратило бы свое величие, если постигалось бы людьми. Понятие, которое мы имеем о Нем, заключено в сфере, доступной нам только в том случае, когда мы возвышаемся над самим собой, когда наша вера является духовной силой, чрезмерным возбуждением ума, гениальной гипотезой! Это идеал чувства, при котором всякое рассуждение выражается в этих немногих словах: «Бог существует, потому что я ощущаю в себе Его!» Я совершенно углубился в это приятное и простое созерцание, когда неожиданные и странные волнения заставили меня спуститься на землю. Однажды утром я совершенно забыл о моих прежних несчастьях, чувствуя себя свободным, одиноким и счастливейшим из людей. Восходящее солнце уже начинало освещать поляну «Киль». Я находил очаровательной эту местность, которая другим показалась бы смертельно скучной. Ни одно дерево, ни один куст не препятствовали взору и не нарушали гармонии этого бесконечного зеленого пространства. Более высокие соседние горы скрывали горизонт, теснясь своими вершинами, покрытыми снегом. Жаворонки пели подо мной в тех сферах, которые были зенитом для жителей долины, а для меня — надиром. Глетчер, обращенный к солнцу, отливал наверху розоватым сиянием, внизу же блистал изумрудной зеленью. Воздух был чист и тих, ни малейший ветерок не колыхал травки. Все это спокойствие охватило меня, я более не способен был думать; я как бы жил скрытой жизнью гор и скал, которые окружали меня. Появление Фелиции Моржерон в эту раннюю пору при торжественном блеске зари меня поразило, как непредвиденное событие. А между тем что могло быть проще? Ей показалось странным мое удивление. — Я не спала эту ночь, — сказала она, — у меня болела голова, и мне захотелось пройтись, но для того чтобы не опоздать к завтраку с братом, я вышла из дому, когда на небе еще светила луна. Я вам принесла сама эту корзину, потому что Тонино всегда забывает самое нужное. Я шла скоро; сначала было холодно, но теперь я согрелась, немного отдохну и потом возвращусь обратно. Пожалуйста, не стесняйтесь из-за меня. Я благодарил ее за любезность и предусмотрительность, старался доказать, что она меня не стесняет, потому что как раз застала меня в то время, когда я ничего не делал. — Напротив, — сказала она, — вы думали, а я знаю, что это ваше наслаждение. Вам никого не нужно, чтобы быть счастливым, и хотя вы постоянно заботитесь о счастье других, но эти заботы не мучают вас, потому что ваша совесть спокойна. — Разве вы не похожи в этом отношении на меня? — Нет, нет, вы ошибаетесь! Вы меня совсем не знаете. Я хотела бы, чтобы кто-нибудь на свете отдал бы мне справедливость и понял бы мои страдания. — А вы, значит, страдаете? Я догадывался об этом, но вы так скрытны и сегодня первый раз сознались в них. — Я должна была сознаться, потому что у меня не хватает более сил. Всякому терпению приходит коней, говорили вы, и вот мое уже подходит к концу. Видя, что я храню молчание, она с горькой усмешкой сказала мне: — Но вам ведь это все равно, не правда ли? — Конечно, нет, — ответил я, — и я очень хотел бы как-нибудь помочь вам, но, зная вашу подозрительность, вследствие которой вы сразу лишаете доверия, я никогда не осмелился задать вам вопросы. — А, значит, я несносное создание? Скажите же, что вы думаете обо мне, я за этим и пришла сюда. Говоря таким образом, она закрыла лицо обеими руками и зарыдала. Это было первый раз, что я видел ее слезы, так как раньше она никогда не плакала. Проявившаяся в ней женская слабость тронула меня. Я взял ее за руки, говорил ей о дружбе, сочувствии и преданности. — Нет, нет, — повторяла она, не переставая рыдать, — вы не любите и никогда не полюбите меня, так же как никто не любил и не полюбит меня. Я старался доказать ей, что, говоря это, она выказывает себя несправедливой по отношению к своему брату, и в особенности к Тонино, который обожает ее. — Ах, оставьте в покое Тонино, — воскликнула она. — Стоит ли говорить об этом ребенке? Я видел, что в ней снова явилась потребность бороться даже против чувства дружбы, о котором она со слезами умоляла. Я первый раз постарался одержать верх над этим непокорным существом и отечески начал бранить ее. — У вас больная душа, — сказал я ей, — ваши прошлые страдания не могут оправдать этого. Я был несчастнее, чем кто-либо, за это я ручаюсь, — я на двадцать лет старше вас и не имел возможности, как вы, с пользой пожертвовать собой. Мои старания оказывались всегда тщетными. А между тем я слабее вас, чувствителен и кроток. Я не умею собственными силами совладать с моим горем и не борюсь с ним: когда оно приходит, то сокрушает меня, и тогда как вы способны долго и гордо бороться, я, как ушибленный ребенок, надаю на землю. Однако я не считаю себя вправе отчаиваться, потому что я не зол и, покоряясь своему несчастью, стараюсь приободриться и действовать. Конечно, не в этом моя добродетель и, конечно, не в ней у вас недостаток — но вы слишком строги и суровы к себе. Во мне есть то, чего вы не желаете приобрести: это вера. Я не говорю о религии, я не осмеливаюсь спрашивать вас о ней, но в вас нет веры в людей, вы признаете и любите только двух или трех, но привычка спорить с ними лишила вас способности верить им. Этот разрыв нравственных связей с обществом, совершившийся в вашем сердце, сделал вас мизантропкой, а мизантропия есть та же гордость. Вы гордитесь тем, что переносите одиночество, между тем как должны были бы поступать совершенно иначе: отказаться от него и примириться с теми, которые из-за предрассудков и религиозной нетерпимости оскорбляли вас. Наконец, вы постоянно питаете враждебное чувство к людям и не подозреваете, что сами отдаляетесь от них и что своим упорством возмущаете их. То существование, которое вы ведете, ожесточает ваши мысли и смущает ваш рассудок; оно заставляет вас быть требовательной даже к тем, кого вы любите, и если вы не будете осторожнее, то ваша привязанность перейдет в деспотизм. Даже в вашей уступке их желаниям проглядывает какая-то неохота и презрение; сто раз в день вы порываетесь прибить ваших любимцев, между тем как могли бы так же, как я, убеждать и управлять ими. Я не помню, что еще говорил на эту тему. Она со вниманием, но с угрюмым видом слушала меня, как будто бы эти слова волновали, но не убеждали ее. Между тем, когда я кончил, она сказала: — Говорите еще, заставьте меня понять вас, — и когда я хотел изменить положение, она сказала: — Держите мои руки, у меня лихорадка, и вы облегчаете меня. Когда я сказал все, что думал о ее недуге, она тотчас же попросила меня указать ей средство против ее болезни,как бы считая меня волшебником или святым. — Скажите, как мне поступать, чтобы измениться. Вы хотите, чтобы я была весела, любезна, приглашала соседей, занималась музыкой, ходила на празднества, носила роскошные костюмы и стала кокеткой? Это ли советуете вы мне? Я могу исполнить все, но откройте мне раньше таинственный способ интересоваться всем этим. — Я ничего подобного не советовал вам и не знаю, какие отношения можете вы завязать с людьми и какую будете иметь от этого пользу. Я вам говорил о возобновлении сношений с ними, но я сам не имею никакого представления, каким образом сделать это: я не человек общества и, откровенно говоря, еще более, чем вы, порвал с ним. Тем не менее, если желаешь, то всегда можешь разумом и сердцем примириться с ними, и это-то я могу и даже должен посоветовать вам. Вы великодушны, моя дорогая Фелиция, но в вас нет кротости. Вы не можете приобрести ее, если не избавитесь от своей привычки презирать то, что не вы. Итак, подумайте хорошенько, я уверен, что это никогда не приходило вам в голову! — Это правда, — сказала она, — я не умею и не могу размышлять. Научите же меня, помогите мне! Докажите, что другие лучше меня. — Многие отдельные лица, конечно, не стоят вас, но взятое в совокупности человечество имеет громадную цену, и это становится ясным только в том случае, когда его поймут. Будьте же человеколюбивы, любите в себе человечество. Повторяйте себе, что вы должны сочувствовать страданиям ближних и что они сочувствуют вашим. То наказание, которому вы подвергаетесь, откуда же исходит оно, как не от отсутствия милосердия в других! Это причина как всех ваших бедствий, так и несогласной жизни ваших родителей. Итак, если бы в вас было милосердие, вы пожалели бы тех, что не обладают им, а раз явилось чувство жалости, явилось бы и прощение. Но вы не прощаете, значит, на том клочке земли, где вы живете, недостает милосердия, так, увы, недостает и в остальном мире. Вы не хотите допустить его ни в ваш дом, ни в вашу душу! Вы жертва зла, силу которого должны понять, не думаете о его многочисленных жертвах! Разве вы не должны были бы пожалеть и полюбить их и этим смягчить и наполнить ваше сердце? Итак, знайте, что те, которые наносят удары, бывают несчастнее тех, которые получают их, потому что они уже не смогут считать себя невинными. Кто породнится со злом, тот лишается спокойствия. Человечество представляет собой хаос заблуждений и бездну страданий. Счастливы те, что в сердце своем жалеют ближнего, о них-то и можно сказать, что в этом мире они будут утешены. «Каким образом?» — спросите вы. Я тотчас отвечу вам: им незнакома ненависть! — И это все? — вскричала с удивлением Фелиция. — Не знать ненависти — значит быть равнодушной! — Нет, — возразил я, — равнодушия нет и не может быть. Равнодушие — это ничтожество души и пустота разума. Ваши жалкие горы — безразличны, поэтому они и не люди, но для человека не чувствовать ненависть — значит безгранично любить своего ближнего. — Но за что же любить его, когда знаешь, что он несчастлив по своей собственной вине? — А у вас, Фелиция, несчастье произошло разве не по вашей же ошибке? — Это жестоко, господин Сильвестр! Вы, который прощаете всех, упрекаете меня?.. — Нисколько! Вы впали в ошибку по неведению, вы были ребенком. И что же, человечество надо считать также ребенком: неведение — источник всех его заблуждений и бедствий. Любите же его за легковерие, за слабость, за потребность любить и быть счастливым, за все то, что даст вам право быть любимой. — А, значит, у меня есть право быть любимой? Вот о чем я постоянно спрашивала себя и что заставляло меня страдать, потому что общество всегда отрицательно отвечало мне! Мир же, если я только поняла вас, — это вы, я, всякий, кто подчиняется общественным законам. Итак, несмотря на то, что вы говорите, предположим, что мы с вами оба молоды и свободны, оба мечтаем о браке… и, конечно, вы не выбрали бы меня в жены? Вы, гордый и честный, предпочли бы скорей непорочную девушку хотя бы даже без состояния, без образования и ума, такой падшей и опозоренной женщине, как я. — Вы ошибаетесь, Фелиция, я предпочел бы непорочную девушку не благодаря чистоте ее репутации, но ради чистоты ее души. Я мало забочусь о мнении света не вследствие презрения к нему, а потому, что часто приходится бороться с ним, чтобы переменить дурное отношение на хорошее. Я уважал бы в непорочной и сердечной девушке прямоту и простоту ее взглядов. Я надеялся бы просветить ее, если бы она была необразованна, и поделиться с ней моими понятиями о нравственности. С вами эта надежда была бы обманута, потому что ваше несчастье слишком дурно повлияло на вас и я побоялся бы встретить то же сомнение и презрение, с которым вы относитесь ко всем. — Следовательно, вы женились бы, чтобы приобрести спокойствие? Вы, значит, эгоист? Вы не могли бы, как я, привязаться ради одной любви? — О, гордячка, напротив! Но я бы это сделал, если бы питал надежду быть полезным. Есть привязанности слепые, упорные, даже великодушные, но бессмысленные, потому что они способны только усилить причуды тех, кого любишь, и породить в них, помимо своей воли, гибельное зло: эгоизм. Если ваш брат сумасброден, то верьте, вы виноваты в этом, а если Тонино превосходен, то, следовательно, вы не могли помешать ему сделаться таким. Что же касается меня, я был почти таков же, как и вы: я баловал и портил тех, кого любил, и когда я постарался исправить зло, было уже слишком поздно. Мне недоставало предусмотрительности и не хватало влияния. Человек, который полюбил бы вас с надеждой смягчить суровость вашего характера, пришел бы, может быть, уже слишком поздно и поэтому не достиг бы своей цели, а только раздражил бы вас. Разве мы могли бы уважать человека, который ради обладания вами пожертвовал бы своим и вашим покоем? — Вы говорите о спокойствии тому, который не понимает этого. С тех пор как я живу на свете, я ни часу не испытывала его! — Вы были неправы. Прекрасно, если тело не требует покоя, но необходимо с помощью правды и милосердия успокаивать ум и сердце. Без этого можно сойти с ума, а сумасшедшие всегда вредны. — А, значит, я была права, говоря, что меня нельзя полюбить, потому что я не люблю сама! — Зачем скрывать от вас правду, если она вам будет полезна? Старайтесь полюбить, и вы еще познаете счастье быть любимой. — А между тем мой бедный Тонино любит меня такой, какая я есть, вы сами говорили это! — Я могу повторить мои слова: он инстинктивно любит вас, но вы не довольствуетесь его привязанностью и потому впадаете в отчаяние. — Это правда, я чувствую, что мне надо нечто более, чем привязанность верной собаки. Я мечтала прежде о любви более совершенной и возвышенной, чем эта; теперь же мне надо отказаться от нее, потому что я сама не в силах внушить такое чувство. — Не отчаивайтесь, а старайтесь смириться. — Разве это возможно? — Конечно, если только вы убедитесь, что это необходимо. — Я уже убедилась в этом и постараюсь исправиться. Она удалилась, и я вскоре потерял ее из виду, так как она спустилась с горы. Спустя четверть часа проходя по вершине глетчера, я увидел Фелицию на большом расстоянии от меня внизу, между скал, где она была уверена, по всей вероятности, что скрылась от посторонних взоров. Прислонясь к одной из этих отвесных скал, она стояла в задумчивой и безнадежной позе. Ее красное с белым платье резко выделялось на зеленом лугу, и на всей ее грациозной фигуре лежал отпечаток грусти. Но вдруг, заметив меня, она быстро удалилась. Я не видел ее более. Фелиция не объяснила мне вполне причины своего горя, и, предвидя, что оно относилось к области чувств, я не осмелился расспрашивать ее. Но чему приписать внезапную скорбь этой гордой души, как не потребности долго сдерживаемой любви? Я усмотрел ошибку со своей стороны в том, что не сумел сказать ей слово, которое могло бы вызвать ее на откровенность и тем облегчить ее горе. Я был только сухим резонером, между тем как мог бы быть ее другом и вырвать из ее сердца тайну скрытой и мучительной для нее страсти. Никто из приходивших в Диаблерет не мог внушить ей этой любви, но она выходила часто одна продавать скот или свою работу, и тогда могла познакомиться с человеком, показавшимся ей достойным, но не понимающим или не могшим простить ее прошлого. Не знаю, почему я всегда испытывал непреодолимое отвращение к расспросам. Может быть, чувство гордости препятствовало мне вкрадываться в чужое доверие, хотя я имел на него право. Кроме того, мне всегда казалось, что вопросы мужчины к женщине оскорбляют ее скромность даже в тех случаях, когда между ними существует большая разница в годах. Я уважал Фелицию и говорил себе: если бы она хотела посвятить меня в свою тайну, то могла бы намекнуть о ней, и тогда я знал бы, как отвечать. В общем, эта бедная женщина, отвергавшая любовь, чувствовала в ней непреодолимую потребность, и я решил быть с ней менее сдержанным и сухим, если она снова придет просить моего совета. Она более не приходила, и не знаю почему я сам в продолжение недели упорно не спускался к их жилищу. У меня не было даже причины пойти туда за провизией, потому что Тонино предупреждал все мои желания. Я иногда говорил себе, что должен пойти выразить участие Фелиции, но моя нерешительность удерживала меня. Еще менее я осмеливался спросить о ней у Тонино. Он был настолько откровенен, что мог бы сообщить о том, чего я не должен был и не хотел слышать от него. Но было суждено, чтобы правда достигла меня самым грубым путем, несмотря на мои старания избегнуть ее. Жан, придя в мой шалаш и пожимая руки, сказал мне: — Отчего вы не возвращаетесь к нам? Судя по громадному реестру, составленному вами, занятия здесь окончены. Разве вам больше нравится быть одному, чем с друзьями? — Я люблю одиночество, — отвечал я, — и часто чувствую в нем потребность, но друзей люблю еще более и возвращусь к вам через несколько дней, если только, конечно, теперь не нужен вам. — Да, вы нам необходимы сейчас же: моя сестра погибает. — Разве она больна? — Да, и вы должны быть ее врачом. — Но, мой друг, ведь я не доктор. Разве вы уверены, что я все знаю? — Вы знаете все то, что полезно, и мы должны знать слова утешения, которые могут излечить больную душу. Перестаньте, ведь вы не ребенок и должны были заметить и понять, что моя сестра любит вас, иначе, конечно, вы не перестали бы приходить к нам. Но видя мое изумление, он добродушно засмеялся. — А ведь, кажется, я ошибся, и вы действительно не знали этого? — Но вы бредите, мой друг, — воскликнул я, — я на целых двадцать лет старше вашей сестры! — Мы не верим этому и думаем, что вы на десять лет хотите состариться, но ваше лицо, ваша бодрость, силы, веселость и ваши черные волосы выдают обман. Вам самое большее сорок лет, господин Сильвестр, и я по крайней мере на пять лет старше вас. Я ему дал честное слово, что мне было около сорока девяти лет. — Ну что же, нам это все равно, — возразил Моржерон, — о годах судят по лицу и по силам. Моя сестра любит вас таким, каков вы есть, и я вполне разделяю ее вкус. Послушайте же, она ведь еще молодая и красивая женщина, она обладает двумястами тысяч франков, и дети, которые будут у нее, получат от меня, вступая в брак, наследство, потому что я никогда не женюсь. Вы знаете, что с ней было несчастье, но ее за это можно скорей пожалеть, чем осудить, да притом она уже достаточно загладила свою ошибку. Вы как философ сказали ей, что находите ее достойной уважения. Не отталкивайте же от себя ее сердца, потому что вы никогда не найдете ему подобного. Я знаю, что вы вдовец, вы сами говорили это; я вижу, что вы вполне свободны, потому что, живя у нас столько времени, не получили ни одного письма. Позаботьтесь же о своем счастье! Верьте мне, вы не из тех характеров, которым подобает состариться в одиночестве; вы не тщеславны, как я, вам нужны дружба и заботы. Скажите «да», и я прижму вас к своему сердцу. Я буду гордиться таким братом, и, несмотря на вашу бедность, вы будете знать, что оказали нам большую честь. Я все еще не мог прийти в себя от изумления; к этому состоянию еще присоединялось чувство грусти и ужаса, которое не ускользнуло от внимания моего хозяина, несмотря на то, что я старался выразить ему благодарность за дружеское ко мне отношение. — Ну что ж, — сказал он, — несмотря на вашу любезность и внимание, я замечаю, что это дело неприятно вам. — Это правда, — сказал я. — Из всех предположений, которые я делал относительно будущего, возможность брака никогда не приходила мне в голову; настолько она далека была от моих мыслей и желаний. Я был несчастлив в семейной жизни, конечно, может быть, в этом была и моя вина, так как я был слишком слаб характером, да и теперь не исправился от этого. Характер вашей сестры, несмотря на все ее великодушие, пугает меня. Вы говорите, что о годах можно судить по лицу и по силе, но вы ошибаетесь, мой друг, с годами меняется сердце, опытность и вера. Я слишком много испытал и потому более не верю в себя и более не чувствую в своем сердце того божественного огня, который пылает в нас в дни юности. Кроме того, я не влюблен в вашу сестру, и мой рассудок, так же как и чувства, не советуют мне приносить ей в жертву такую разбитую жизнь, как моя. — Если это так, то я не настаиваю, — сказал Жан, — но не верю, что вы вполне убеждены в ваших словах. Я вас прошу подумать об этом: возвратитесь к нам и побольше понаблюдайте за моей сестрой, может быть вы теперь полюбите ее, зная, что имеете на это право. После того несчастья, которое случилось с ней и которое она ни от кого не скрывала, Фелиции не раз представлялся случай прекрасной партии, но она разборчива и никого не находила по вкусу. Единственно она преклоняется перед вами и считает вас выше себя. Я знаю, что, несмотря на свои недостатки, она может нравиться, и уверен, что со временем вы оцените ее. Надеюсь, что вы не расстанетесь с нами вследствие того, что узнали от меня. — Признаюсь, мой дорогой хозяин, что я несколько смущен и боюсь играть смешную и оскорбительную роль. — О, вы можете притворяться, что ничего не знаете и ни о чем не догадываетесь. Если бы сестра знала о моей нескромности, она, я уверен, пришла бы в негодование и сбежала бы из дому! Она горда, она, пожалуй, даже слишком горда! Не бойтесь, она никогда первая не заговорит с вами о своем чувстве! Кроме того, она не дитя, и если заметит, что вы не любите ее, что, впрочем, она думает и теперь, то скроет свою печаль и постарается победить свое чувство. Она сильна и отважна, как десять мужчин, что же касается досады, она незнакома ее возвышенной душе. Приходите же к нам, и через неделю мы с вами снова поговорим об этом. Надо ради той, которая вас любит, обо всем поразмыслить и испытать себя. Я должен был это обещать ему, но, прощаясь с Моржероном, спросил его, открыла ли ему сестра свою тайну или же это было его личным предположением. — Это не предположение, — ответил он, — но также и не от сестры я узнал о ее тайне. Легче было бы вырвать сердце из груди Фелиции, чем услышать такое признание от нее, она пятнадцать лет насмехалась над любовью других. — Но как же могли вы узнать это? — Мне сказал Тонино. — Тонино? Она, следовательно, поверяет ему свои тайны? — О нет! Он читает в ее сердце, как в книге. Он хитрее всех нас: знает все, о чем она думает, и даже понимает, когда она противоречит своим убеждениям. — А почему Тонино выдал тайну, которую он узнал? — Потому что он любит Фелицию как мать и хочет ее видеть счастливой. — Значит, все сказанное вами есть не что иное, как предположение, родившееся в голове этого ребенка? Несмотря на всю его хитрость, я думаю, что он мог ошибиться и принять призрак своей ревности за правду. — Вы думаете, что он ревнует свою приемную мать! — Отчего же нет? Родные сыновья постоянно ревниво следят за ласками своей матери. — Да, это возможно, даже и собаки ревнуют своего хозяина. Медор всегда сердится на меня, когда я ласкаю лошадь. Но с появлением дружбы ревность у детей прекращается. Во всяком случае ваше замечание может быть основательно: Тонино могло показаться это. Возвращайтесь же, вы сами узнаете правду, и тогда мы решим. Уходя, он несколько раз оборачивался, чтобы крикнуть: — Вы придете завтра? Вы обещали исполнить это! Он, видимо, беспокоился о последствиях своей поспешности. Добрый малый думал, что нет ничего проще, как женить меня на его сестре, и, как предприимчивый оптимист, не сомневался, что это будет лучший способ удержать меня вблизи него. Заметив противное, он начал досадовать, что сказал мне, и менее чем через четверть часа снова поднялся ко мне, чтобы сказать следующее: — Подумав, я решил, что вы, верно, угадали, в чем дело. Этот мальчуган придумал все, чтобы узнать, что из этого выйдет и как отнесусь я к его словам. — Передайте ему, что он заблуждается, — ответил я, — и будем ждать новых решений. Я погрузился в мрачные размышления. Мое двухнедельное пребывание в возвышенной области глетчера возбудило снова мою страсть к одиночеству. Такие безобидные люди, как я, не умеющие бороться с судьбой, то есть сломить волю других, находят утешение в самих себе, то есть в своей собственной кротости. Борьба для них так же ужасна, как и всякое дело, не приносящее пользы, и они сильно нуждаются в покое. После двадцатилетней борьбы я, наконец, в продолжение нескольких месяцев пользовался покоем, и в ту минуту, когда надеялся продлить его, живя в шалаше, лежа на своей постели из вереска, вдыхая аромат цветов и созерцая луну, мне, жертве уже измученной и истерзанной, предложили посвятить мою жизнь для счастья других и снова возобновить сношение с обществом! Я все еще надеялся, что Тонино лгал, чтобы выведать правду, но память моя проснулась, и все слова, резкая предупредительность, взгляды и противоречие этой странной девушки стали мне понятны. После такого психологического анализа тайна сделалась для меня явной и заставила сильно смутиться. Тогда я еще был во цвете моих лет, мое сердце, перенеся много страданий, не охладело от них; я состарился только в отношении опытности и способности рассуждать. Я был еще в состоянии любить, но я не любил Фелицию и боялся почувствовать только желание обладать ею. В годы страстей не делают этих критических разделений: что бы ни говорили, любить и желать — почти всегда одно и то же. Мы это чувствуем в себе, хотя смутно, но сильно и непобедимо. Но когда уже насчитываете себе около полувека, то, конечно, сумеете распознать влечение сердца или чувства. Я восторгался энергией Фелиции, а также и достоинствами ее исключительной натуры, но ее ум не привлекал меня. Он был слишком напряжен, слишком чужд моему собственному; он был полон бурь, а я перенес их слишком много! Три раза в продолжение ночи я брал свои пожитки и дорожную палку и намеревался скрыться в горах. Моя клятва удерживала меня, и, кроме того, я был более чем когда-либо нужен для работы Жана Моржерона, потому что подходило время выполнения самого главного, и я не мог бежать от лежавшей на мне ответственности. Надо было бы по крайней мере дать моему другу некоторые указания, чтобы научить его выполнить одну работу. Я с грустью расставался с моим шалашом. Тонино рано утром прибежал ко мне помогать укладывать вещи. Так как это был большой праздник, то я застал Фелицию очень нарядно одетой: на ней был богатый и изящный костюм горцев, в котором я уже раз видел ее и сказал, что он очень идет к ней и она должна была бы постоянно носить его. Она действительно была в нем прелестна, насколько это возможно для женщины с резкими чертами лица, с задумчивыми глазами и презрительной улыбкой, так как красота не может быть привлекательной без доброго и приветливого выражения. Она с обычной вежливостью встретила меня, но не выказала радости; так же тщательно накрыла на стол и так же, как прежде, редко вступала в разговор; но разница была в том, что она переставала смущать других своими едкими замечаниями и даже, когда сели за десерт, позволяла своему брату подсмеиваться над собой, не отплачивая ему тем же. — Знаете ли, — сказал он мне в ее присутствии, — наша хозяюшка очень переменилась. Я не знаю, какую нотацию прочли вы ей, но с тех пор, как она побывала у вас в «Киле», она ни разу не бранилась и не возражала нам. Хорошо же вы, однако, журите женщин! Я ответил, что я не позволил бы себе… — Да, да, — наивно заметил Тонино, — она сказала, что вы бранили ее. — Чего ты суешься, — крикнул Жан своим оглушительным голосом, — ведь не с тобой говорят! Пойди-ка лучше в хлев, уже с час как коровы мычат от жажды, а пастух ушел к обедне. — При мне первый раз случилось, что Жан в присутствии Фелиции позволил себе отдать Тонино приказание. Я замечал, что она более не приказывала ему вообще, и, казалось, изменила своей прежней деятельности. Тонино не боялся Жана, он вышел из комнаты, смеясь и не спеша, а на его лице я не заметил ни малейшего неудовольствия или беспокойства. В то время когда я следил за его уходом, я увидел в старинное зеркало, висящее над дверью, устремленный на меня взор Фелиции. Увы, этот взгляд, выражение ее лица взволновали меня, и моя душа покорилась ей, как покоряется былинка дуновению ветра. Она быстро перевела глаза, встала и пошла доставать кофейник, но яркий румянец покрыл ее бледное лицо, которое, казалось, совершенно преобразилось. Пораженный, решаясь скрыть, что я заметил, я ничего не мог предпринять и избегал ее взгляда. Она поступала так же, как я; но наши старания привели только к учащенной и неизбежной встрече этого двойного магнитного тока. Под влиянием любви Фелиция становилась очаровательной: мрамор превратился в женщину, Ее робость, застенчивость, сдержанная страсть, покорность, отсутствие высокомерия — все это придавало ей ту прелесть и то могущество женщины, против которого никто не может устоять. Я не знаю ни одного мужчины, который мог бы противиться, если этот небесный луч упал бы на него. Все то, что я прежде говорил себе против нее, было не что иное, как софизм и безумство. Часу не прошло с тех пор, как она предстала предо мной, и я уже любил ее; ее дыхание, казалось, наполняло для меня всю атмосферу, в которой я впервые ощутил прелесть небесной жизни. Прикосновение ее косы, когда она, наклонясь, подавала мне что-нибудь, заставляло меня внутренне вздрогнуть; ее голос, который прежде я находил резким, казался мне теперь дивным пением. Когда она с плохо скрытым волнением говорила мне, по-видимому, какое-нибудь незначительное слово, я старался затаить дыхание, чтобы услышать второе слово, как будто бы от него зависела вся моя жизнь. Я вышел в поле, чтобы остаться одному и опомниться, но не мог отдать себе отчета. Просветленная часть моей души заранее отвечала на все возражения ее тревожной части, или же скорей что-то высшее снизошло на меня и подсмеивалось над тем, что осталось во мне прежнего. Это показалось мне необъяснимым; я не задавал себе вопроса, люблю ли я ее, потому что был убежден в этом. Я удивлялся только могущественному и волшебному чувству любви, которому я отдался и которое завладело мной. Я любил в первый раз в жизни, хотя это было моим вторым увлечением. Я был влюблен в мою жену до забвения в начале нашего несчастного супружества, но это было лишь то волнение, о котором я недавно говорил вам, тот избыток чувств, во время которого молодость не различает наслаждения от счастья. Теперь благодаря более возвышенным взглядам я постиг счастье, и моя любовь не проявлялась в страстных порывах: с годами я стал лучше, не думал более о себе и весь проникся чувством нежности и благодарности, потребностью утешить и обновить эту огорченную душу, которая так хотела измениться, отдаваясь мне. Я познал ясно чистоту своего чувства, и вся моя нерешительность исчезла. Зачем же мне было обманывать самого себя, а также и лгать другим? Я решил пойти сказать правду Фелиции и ее брату. Но, направляясь к дому, я заметил Тонино, который следил за мной, прячась за кустом на некотором расстоянии от того места, где я сидел. Я остановился в задумчивости, и мне с чрезвычайной ясностью вспомнилась та сцена, которую я видел полгода тому назад в «Киле». Мне припомнился этот юноша, прильнувший губами к косам Фелиции; я снова как бы увидел ее полусердитый, полунежный взор, который показался мне подозрительным и оставил, несмотря на ее правдоподобное объяснение, неизгладимое и мучительное впечатление. Неужели Тонино был влюблен в свою двоюродную сестру, сам не сознавая того? Неужели он ревновал меня? Неужели я принесу несчастье этому ребенку, который гораздо больше меня имеет прав на любовь Фелиции? Я буду причиной несчастья, я! Я не мог отделаться от этой мысли точно так же, как, наступив на змею, испуганный не может пройти мимо нее. Я решил позвать Тонино, гулял с ним два часа и со всей своей осторожностью и проницательностью старался проникнуть в тайну его мыслей. Это была почти такая же странная натура, как и Фелиция. Как итальянец он умел соединять в себе страсть с хитростью, но, живя в деревне и воспитанный под разумным во многих отношениях влиянием Фелиции, он обладал если не врожденным инстинктом, то чувством благородства. Он предупреждал все мои вопросы и говорил мне то же, что Жан. Но, казалось, Тонино высказывал ту осторожность, которой не заметно было у Жана. Он не предполагал, чтобы Фелиция могла влюбиться в кого-нибудь, а следовательно, и в меня. Было ли это признаком уважения к ней или пренебрежения ко мне, но слово «любовь» не произносилось им. — Вам следует жениться на моей кузине, это будет счастьем для вас обоих. Она настолько благоразумна, что не могла бы ужиться с молодым мужем, вам же в ваши годы не могут понравиться причуды и прихоти молодой девушки. Она так же добра, как и вы, не так кротка, но настолько же человеколюбива и великодушна. Вы сами видите, что она слишком умна и образованна, чтобы быть женой крестьянина. Я очень боялся, чтобы она не согласилась выйти замуж за Сикста Мора, который два года тому назад очень часто приходил к нам и за которого так хлопотал наш хозяин. Тогда я себя чувствовал несчастным; я боялся, что у меня будет злой хозяин, который взвалит на меня всю работу или же заставит уехать из дома, а между тем я видел, что во время отсутствия Жана моя кузина нуждается в друге и поддержке. До тех пор я никогда не думал об этом, я воображал, что заменяю ей сына, потому что она сама часто говорила мне: «Когда мать находится с ребенком, она никогда не может чувствовать себя одинокой». Это она говорила, бывая в хорошем настроении; чаще же всего она рано, с заходом солнца, отсылала меня спать, говоря: «Ты мне надоедаешь, мне приятнее остаться одной». Тогда я уходил плакать к пастушке коз, и она объяснила мне, что женщина в тридцать лет не может жить в одиночестве, что она нуждается в разговоре с человеком ученым и рассудительным, в особенности же если она так образованна, как наша хозяйка. Тогда я покорился своей участи и начал молить Бога послать необходимого ей друга. Он услышал меня, послав вас, и она стала уважать вас и верить вам более, чем своему родному брату. Женитесь на ней, я мы будем все вместе счастливы. Я буду слушать вас, как отца, вы всему научите меня и впоследствии, может быть, будете гордиться мною. Во всей болтовне Тонино, как вы, конечно, замечаете сами, сквозила наивность ребенка. Я напрасно побуждал его к разговору, чтобы проследить, не насмехается ли он надо мной; я мог только заметить во всех его ответах и рассуждениях самое очевидное простодушие. Но почему это не могло меня окончательно успокоить? По всей вероятности, потому, что его бледное и подвижное лицо выражало нечто более, чем его слова. Например, когда он мне рассказывал о своих сердечных излияниях с пастушкой, то в углах его верхней губы, оттененной шелковистым пушком, виднелось что-то злобное и сладострастное. Когда он говорил о том, что Фелиция нуждается в серьезном друге, его прекрасные черные глаза светились мрачным огоньком; когда он обещал смотреть на меня, как на отца, его голос звучал насмешливо и, казалось, говорил мне: «Также и для моей кузины вы, в ваши годы, можете быть только отцом!» Вы, конечно, можете себе представить, что мое самолюбие было этим не особенно польщено. Конечно, я был слишком стар, чтобы претендовать на любовь. Но я и не требовал ее, в этом отношении я не мог упрекнуть себя, а также чувствовать себя в смешном положении. Любовь призвала меня и завладела мной. Юноши могли смеяться надо мной, но я не заслуживал их насмешек, и, следовательно, они не могли оскорбить меня. Но не было ли горечи в немой насмешке Тонино? Вот чего я не мог узнать. Его слова ничего не выдавали, напротив, они были в высшей степени почтительны и нежны. Должен ли я был мучить себя из-за лица, которое, по всей вероятности, унаследовало итальянскую способность к мимике? Между тем я чувствовал, что мое волнение остыло, и я, вместо того чтобы пойти расцеловать руки Фелиции, решил ждать. Чего ждать? Я не мог бы ответить на это, но нет сомнения, что Тонино, умышленно или нет, с самого начала встал между нею и мной. Я так тщательно следил за собой в тот вечер, а также и в следующие дни, что она должна была поверить в мою недогадливость. Зная, что Тонино передает ей все мои слова, я избегал отвечать на его откровенность. Я делал вид, что принимаю это все за его выдумку. В то время было столько работы по берегам потока, что мне: было легко отвлечь Жана Моржерона от мысли относительно моей женитьбы. Я сам изо всех сил старался заняться работой, чтобы развлечь себя от дум. Мне казалось, что я должен был предоставить одной Фелиции устроить такое серьезное дело, как наш брак. И несмотря на свою твердость, я чувствовал, что нежно, сильно, и может быть даже страстно, люблю ее. Когда она приходила взглянуть на нашу работу, я, еще не видя ее, чувствовал ее приближение. Часто я мечтал, что она идет, что она пришла уже, и мое сердце начинало так сильно биться, что я не мог копать землю и разбивать скалы. Я с нетерпением оборачивался, жаждал увидеть ее и тревожился, когда не находил ее. Я мысленно беседовал с ней. Я думал о ней. Я спрашивал себя, могла ли она любить меня, верила ли в то, что я только на десять лет старше ее, и не казалось ли ей, что я олицетворяю ее идеал, с которым я имел только мимолетное сходство, и я почти желал, чтобы это было так. Я настолько любил ее, что боялся быть недостойным ее, и я хотел, чтобы она приказала мне при нести ей в жертву мою любовь, что дало бы мне возможность предложить ей достойную ее дружбу. Но как бы то ни было, любовь моя всегда эгоистична. Я с ужасом заметил в себе это неожиданное чувство; я всегда скорее был уверен, что буду нежным и добрым отцом, чем страстным супругом. Я думал об этом, отдыхая несколько минут в ложбине, где работал один на некотором расстоянии от нашего дома. Вдруг нежные звуки донеслись до меня. Это была та волшебная скрипка, на которой она так редко и так божественно играла. Она играла, по всей вероятности, какую-нибудь неизданную арию великого артиста; может быть, это была музыкальная мечта старика Монти, свято запечатлевшаяся в памяти его внучки. Что же касается меня, то я истолковал ее как ответ на мои размышления: я открыл в ней мысли и слова. По-моему, эта музыка говорила мне: «Бедняга с робкой надеждой и горьким прошлым, ты ничего не знаешь не не можешь понять! Внимай же голосу артиста: он знает правду, потому что ему знакома любовь. В нем горит тот священный огонь, который не отвечает голосу совести, потому что он не рассуждает, а сжигает все. От так же непостижим, как Бог, он освещает и объемлет все. Слушай же, как этот звук чист и силен, перед ним смолкает вся природа! Этот звук достигает светил и теряется в небесах. Простой и единый, как жизнь, он звучит до бесконечности. Ни одна из твоих мыслей не может смутить, прекратить и совратить с вечного пути этот могущественный голос любви!» Я тщетно старался отвечать ему. Я призывал мысль о дружбе, о самопожертвовании, о сострадании, об отеческой бескорыстной помощи, обо всем том, что казалось мне более возвышенным и чистым, чем удовлетворенная страсть. Но скрипка Кремона не слушала; она пела, звуки лились по-прежнему, однообразно повторяя великие слова: «Любовь, ничего более как любовь!» Побежденный еще раз, я встал и, оставив свою рабочую блузу и инструменты, спустился к дому. С той скалы, к которой он прилегал, я мог видеть все происходившее в зале, где собиралась вся семья во время обеда, а также и после него. Эта прекрасная и обширная комната, отделанная сосновыми полированными досками, с большим столом, резными стульями в германском вкусе, редкостным фаянсом и прекрасным из слоновой кости распятием старинной итальянской работы, служила в то же время столовой и гостиной. Многочисленные, но маленькие окна, низкий потолок и светлые стены придавали этой комнате с ценной и в то же время простой обстановкой радостный и светлый вид. Мне показалось, что там никого не было, но, повернув по тропинке, я заметил в глубине комнаты Тонино, сидевшего прислонясь к двери, которая вела в комнату Фелиции. Она была там и занималась музыкой, а он, прячась, слушал ее. Я не мог войти к ней, не встретив, как всегда, этого юноши между нами. Я не хотел уступить чувству несправедливой досады, которая овладела мной. Если он мог слушать ее, только прячась за дверью, то, следовательно, Фелиция играла не для него. Я вошел в зал, когда звуки смолкли, и в ту же минуту я увидел, как Тонино бросился бежать в другую дверь, надеясь, что я не замечу его. Увертливый, как змея, он без шума спустился по внутренней лестнице, я же пришел по той, которая выходила на скалу. Но почему бежал он? Потому ли, что это не был час отдыха, а час работы? Но я не должен был наблюдать за ним и никогда не делал ему замечаний. Боялся ли он, что хозяйка заметит и выбранит его? Но она уже более никого не бранила, потому что хотела нравиться и знала, что женщина в гневе безобразна. С ее лица исчезли морщинки, которые омрачали его; она казалась прекрасной и помолодевшей; нежность и задумчивость покоились на ее челе. Такой явилась она мне на пороге своей комнаты… Но почему же Тонино бежал при моем появлении? Я не знал, что сказать, не испытывал уже того полного доверия, которое питал к ней. Она не спросила меня, почему я пришел, не осмеливалась даже поднять на меня своих глаз: она стала застенчива, как ребенок, и стояла неподвижно передо мной, как бы ожидая моих приказаний. Видя ее застенчивость, я старался побороть свое смущение. — Фелиция, — сказал я, — вы сейчас сыграли превосходную вещь. Я счел долгом поблагодарить вас за нее, как будто бы вы играли для меня; но, может быть, в ту минуту вы думали только о том, кто вас научил играть ее. — Меня никто ей не учил, — отвечала она. — Эта вещь совершенно неожиданно пришла мне в голову, я даже сама не знаю, что это такое. — А вы можете повторить ее? — Нет, не думаю. Она уже улетела. — Но Тонино, конечно, запомнил ее? — Тонино? Почему же он, а не вы? — Может быть, он умеет внимательнее слушать! — И, стараясь улыбнуться, я прибавил: — Когда слушает под дверьми. Фелиция с удивлением взглянула на меня. Очевидно, она не знала о присутствии юноши и, конечно, не могла понять моей неловкой эпиграммы. Мне стало стыдно самого себя, и я решил чистосердечно признаться ей во всем, но, собираясь говорить, я заметил Тонино, стоявшего на той тропинке, по которой я пришел. Он хорошо знал, что оттуда было видно, что делается в зале, и так близко высматривал, что его ироническая улыбка не могла ускользнуть от моего внимания. Еще раз я почувствовал, что Тонино составляет для меня какое-то таинственное и даже, может быть, непреодолимое препятствие. Боязнь быть осмеянным этим мальчиком, а также и чувство пустой недоверчивости, делавшее меня смешным в моих собственных глазах, остановили мое признание. Я попросил у Фелиции стакан воды, как будто бы пришел для того, чтобы утолить жажду. Она поспешно пошла за водой, а я взял книгу и делал вид, что в ожидании читаю. Черные глаза Тонино были все время устремлены на меня. Они как две стрелы угрожали мне, по крайней мере мне казалось это. Не видя самого юноши, я чувствовал на себе его взгляд, но когда я поднимал голову, Тонино исчезал. По всей вероятности, он не был далеко и прятался где-нибудь, откуда было удобнее следить за мной. Я чувствовал злобу и в то же время считал себя униженным. Фелиция принесла кувшин воды и подала мне стакан. Я заметил, что ее нежные руки побелели: она заботилась о них, не мыла посуду, и потому на ее красивых пальцах не было более царапин. Она, такая усердная в домашней работе, находившая, что ни одна прислуга не была достаточно аккуратна и расторопна, этим приносила большую жертву любви. Ее рука дрожала, подавая мне стакан. Я наклонил голову и хотел безмолвно прильнуть к ней губами, но невидимый призрак итальянца как тень промелькнул по стене, и я, подняв голову, сухо поблагодарил Фелицию. Две крупные слезы катились по ее щекам. Я сделал вид, что не заметил этого, вышел и трудился целый день как работник. Нечто новое, горькое и подозрительное, чуждое моей натуре, овладело мной. Напрасно я старался избегнуть этого, — я ревновал! Но по какому праву? У меня его не было, а между тем я имел причину жаловаться! Фелиция напрасно молчала и казалась застенчивой: она чувствовала, что я знаю о ее любви и что только вследствие моей недоверчивости мы не обручены еще. Разве она не замечала моего волнения и не могла догадаться о его причине? Казалось, она была так очевидна, тем более что мои слова и поведение часто выдавали меня. Неужели же у Фелиции недоставало такта и проницательности, или же она решила не обращать внимания на мое подозрение, от которого, как она думала, чувство правды заставит меня отказаться? Часто она прежде предупреждала мои подозрения, говоря о своем приемном сыне с целью снова восстановить мое доверие. Почему же теперь она более не говорит мне и старается не замечать, что я нуждаюсь в успокоении? Нравилось ли ей то, что я страдаю? Неужели в этих страданиях она думала найти средство для возбуждения и усиления моей любви? Она плохо знала меня: я не люблю дурных страстей и сумею, несмотря на мою слабость и простодушие, защититься от них. Когда моя совесть указывает мне на мою смущенную и обезображенную душу, то чувство отвращения и ужаса овладевает мной, и я скорей согласился бы лишить себя жизни, чем оставаться в такой недостойной обстановке. Я решил победить самого себя и Фелицию, а также и потушить нашу любовь, возникшую при таких неприятных условиях. После обеда я обратился к Тонино и, улыбаясь, но довольно резким голосом, которым изумил его, сказал: — Мой дорогой барон, я должен поговорить с нашими друзьями и потому прошу вас уйти и не подслушивать. На его лице румянец сменился бледностью скорее, чем молния пересекает тучи; но он нашел еще возможность любезно и весело ответить мне и вышел. Я знал, что он где-нибудь остановится и будет слушать. Я не мог на этот раз сердиться на него, потому что своим предостережением возбудил любопытство и внимание юноши. Оставаясь с братом и сестрой, я видел, что Фелиция находится в волнении и старается скрыть от меня свое лицо, делая вид, что занята уборкой чашек, тогда как Жан, с добродушным видом набивая табаком свою длинную немецкую трубку, весело глядел на меня и, казалось, хотел сказать: — Ну вот отлично, наконец-то! Ну, смелее! Но я и не чувствовал себя смущенным. — Друзья, — сказал я им со спокойствием человека, который выполняет свою трудную, но необходимую задачу, — я много обдумывал наши обоюдные отношения. В настоящее время я чувствую себя в семье, так как вы для меня брат и сестра; но я считаю это незаконным, потому что не имею ничего, в то время как вы богаты. Я знаю, что ради нашей дружбы вы дали бы мне часть вашего состояния, но это было бы несправедливо. Я хотел бы остаться чуждым всякой собственности и договоров. Вы меня будете держать у себя как хорошего работника, когда же я стану дряхлым и слабым, вы приютите меня ради дружбы, благодарности или же из любви к ближнему, все равно я верю вам! Я не хочу заключать условий. Вот результат моих обещанных размышлений относительно нашего товарищества. Это решение принято бесповоротно. В то время как Жан готовился ответить мне, а Фелиция, как бы оскорбленная или опечаленная, наклонила голову, я поспешно добавил: — Одно обстоятельство могло бы ближе связать нас. Это возможность брака между Фелицией и мной, и я вам откровенно сознаюсь, что мысль о нем иногда казалась мне возможной. Простите ее мне, если вам кажется странным, что человек в мои годы мог иметь такое намерение. Если я сегодня решаюсь говорить вам об этом, то только потому, что отверг эту мысль без возврата, упрекаю себя за нее как за безумную дерзость и уверен, что более никогда не вернусь к ней. — Ну что же, — сказал с глубоким вздохом Жан, — вы были неправы. Эта мысль не кажется мне безрассудной, она приходила даже и мне в голову, и, может быть, моя сестра… хотя и не думала об этом, но без гнева приняла бы ваше предложение. Кто знает! Отвечай же, Фелиция! Но я помешал ей ответить. По ее волнению, которое она с гордостью старалась скрыть, я отлично видел, что она не была обманута моей хитростью. — Фелиция, — сказал я Моржерону, — ровно ничего не значит в этом деле, тем более что мы говорили о намерении, совершенно для нее неожиданном и новом. Если я был безумцем, то она простит мне, приняв во внимание причину, которая побуждала меня к этому. Мысль предложить ей мою вечную преданность явилась не вследствие низкой алчности или смешной в мои годы страсти, но вследствие желания загладить ту несправедливость, которую ей нанесла судьба, и дать ей доказательство моего уважения, но потом я стал рассуждать так: я говорил себе, что Фелиция Моржерон была слишком красива и слишком молода, чтобы выйти замуж по расчету или же по чувству дружбы. Она может внушить любовь и должна требовать ее, а я, желая видеть ее счастливой, могу предложить ей только отцовскую нежность. Вы мне можете сказать, что я не должен был признаваться ей в этом. Но я знал, что угрызение совести будет постоянно мучить меня, если бы я не сознался ей теперь и не сказал ей обо всем. Я уверен, что она не будет сердиться на меня за то, что я считал ее достойной человека благоразумного и безупречного. Моею исповедью я желал и должен был высказать мое уважение к ней. Следовательно, Фелиция узнает, что я не из-за гордости, но ради смирения и преданности не привел в исполнение моего намерения. Жан ничего не мог понять более: он с комическим изумлением смотрел на меня, как бы спрашивая, было ли это с моей стороны скромным признанием или же полнейшим разрывом. Он радовался, что я не выдал его, и принял на себя всю ответственностьэтого объяснения: он теперь с тревогой ждал ответа Фелиции. Что же касается ее, она не высказала своего смущения и, решительно встав, подошла ко мне и протянула руку. — Благодарю вас за вашу откровенность, — сказала она мне. — Вы мне прощаете прошлое, но этого недостаточно. Вы меня считаете слишком молодой и чувствуете, что я не могу быть для вас той благоразумной и спокойной супругой, которая вам нужна; вы правы, я не могу выйти замуж ради дружбы, а так как я не надеюсь внушить кому-нибудь любовь, то и не рассчитываю на замужество. Жан довольно основательно заметил нам, что мы с ней неромантичны, потому что один отказывался от брака вследствие недостатка любви, другая же — вследствие неумения внушать ее. — Слушайте, — с жаром сказала Фелиция, — напротив, я очень положительна! Я не признаю брака без обоюдной верности, гарантией которой я считаю только любовь. Ни чувство долга, ни дружба не могут бороться в сердце человека против соблазна жизни: любовь необходима. Я не хочу, чтобы меня любили из жалости или по обязанности. Господин Сильвестр понял это, и я ему очень благодарна, что он избавил меня от возможности впасть в обман. Она рассталась с нами дружелюбно, пожелав нам спокойной ночи, но так как Жан оставался грустным и задумчивым, то я старался доказать ему, что Фелиция была совершенно спокойна и нисколько не оскорблена и что я действовал ввиду общего интереса, прекращая это смешное и жалкое недоразумение. Жан отрицательно покачал головой. — Моя сестра слишком горда, — сказал он, — чтобы рассердиться на вашу холодность. Может быть, она и не страдает от нее: я теперь уже ровно ничего не понимаю, что происходит между вами, но во всяком случае я хочу сказать вам о том, что, если она чувствует ваше равнодушие, ее страдания должны быть очень сильны. Никто не узнает об этом, но зло, причиненное ей, будет ужасно. Эта девушка ничего не испытывает наполовину. — Мысль о горе Фелиции, я признаюсь, очень огорчила меня, и на другой день я двадцать раз порывался сказать ей, что я солгал, что я страстно люблю и ревную ее! Я не мог, однако, решиться на такое унижение, тем более что эта энергичная девушка не располагала меня к откровенности. Ее решение было принято и казалось даже обдуманным раньше, так как не было заметно, что ее самолюбие затронуто и что она сожалела о погибших мечтах. Она по обыкновению работала по-прежнему заботилась о своей семье и обо мне, а на ее лице не было видно следов бессонницы или слез. Может быть, я был даже несколько оскорблен ее мужеством и равнодушием. Я заметил, что нечто нелогичное и злое происходит во мне: мне даже как будто захотелось, чтобы она испытывала сильное горе. Я старался оправдать мою несправедливость в своих собственных глазах, говоря, что ее искреннее и глубокое горе уничтожило бы мою боязнь и подозрения. Имел ли я на это право или нет? Я не мог более ясно читать в глубине моей совести, насколько любовь волновала и смущала мою душу. Вскоре после того как я сжег мои корабли, у меня явилась потребность уединения, и случай благоприятствовал мне. Моржероны уже несколько лет вели процесс, на который совершенно бесполезно тратили деньги. Так как они немного беспокоились об этом, то я просил объяснить мне дело и нашел исход, который раньше не приходил им в голову. Чтобы предложить его и заставить выполнить, надо было ехать в Сион. Я предложил мои услуги. Они были приняты, и я отправился. В отсутствии я пробыл месяц; целыми днями был занят делами моих друзей, а по вечерам совершал один прогулки по горам. Там я снова нашел покой, которого лишился, и, думая, что совершенно излечился от любви, с радостью возвращался в Диаблерет. Но там ожидало меня большое огорчение. Я застал Фелицию настолько изменившейся и постаревшей, что спрашивал себя, не любовь ли заставила меня находить ее молодой и красивой или же ее глубокое горе могло оставить на ее лице в один месяц отпечаток многих лет. Она мне говорила, что чувствовала себя хорошо, и Жан также уверил меня, что она ни разу не была больна и что он, видя ее каждый день, ни разу не замечал ее страданий. Тонино отсутствовал; он уехал в Лугано, чтобы получить благословение от своей умирающей матери. Фелиция хранила нежное воспоминание об этой доброй родственнице, которая приютила ее во время несчастья. Я мог думать, что ее смерть и горе Тонино действительно опечалили Фелицию и что она, погруженная в эту семейную скорбь, не думала уже более обо мне. Но я не испытывал ревности; я краснел при воспоминании о ней и довольствовался тем, что могу внушить благотворную и серьезную дружбу. Однажды вечером Жан, отведя меня в сторону, сказал мне: — Эту ночь я видел дурной сон. Я не суеверен и не думаю, чтобы сны нам могли предсказывать будущее, но в них есть грустное или же скорей полезное преимущество, что они заставляют нас подумать о том, что с нами может случиться, и о тех, кого мы оставляем в нужде. Мне снилось, что я был на охоте и убил серну, но убитым зверем оказался я сам. Я видел себя повешенным на скале, кровь лилась из моей раскрытой раны; мой пес Медор подошел, чтобы покончить со мной, я хотел заговорить с ним, но не мог, а он не узнавал меня. Я в испуге проснулся совершенно больным. Мне теперь смешно это, но тем не менее я спросил себя, все ли у меня в порядке на случай моей смерти. Необходимо, чтобы вы помогли мне узнать это. Тот процесс, который вы счастливо окончили в Сионе, дал вам возможность узнать мое состояние, а также и расположение к Фелиции моих родных. Они все богаты, и поэтому и хочу, чтобы Фелиция была моей единственной наследницей. Мое завещание написано, и я хочу вместе с вами просмотреть его. Скажите мне, хорошо ли оно составлено и вполне ли обеспечит мою сестру. После тщательного обсуждения я нашел все в исправности, собрал и привел в порядок все документы, а Жан указал мне то место, куда он прятал ключ от своего письменного стола. — Теперь я спокоен, — сказал он, — и могу видеть тысячи снов, не беспокоясь о будущем. Несмотря на его веселый вид, мне казалось, что мрачное предчувствие преследовало его. Люди, одаренные жизненными силами, без внутреннего содрогания не могут думать о своей смерти. Я несколько раз замечал, как облако грусти пробегало по его широкому я низкому лбу, который уже начинал лысеть. Это грустное впечатление скоро изгладилось. Однажды Жан предложил мне отправиться с ним на охоту. — Я должен, — сказал он, — убить серну, чтобы убедиться в лживости моего сна. Я отправился с ним. Охота была удачна, вместо одной серны мы убили двух. Медор прекрасно вел себя, и хозяин осыпал его похвалами и ласками. Фелиция, при которой мы тщательно избегали говорить о сне ее брата, с радостью принялась за стряпню и приготовила нам вкусное блюдо из лучших кусков. Ужин был очень веселый. Жан пригласил несколько соседей и вместе с ними Сикста Мора, который мне показался все еще влюбленным в Фелицию, несмотря на то что она по-прежнему не обращала на него внимания. Это был красивый еще молодой человек, богатый, не получивший образования, но обладавший здравым природным умом. Жан выпил немного больше, чем обыкновенно, и, не будучи пьяным, казался только возбужденным в разговоре. Когда подали десерт, Фелиция оставила нас. Я заметил, что она с прежним рвением начала заботиться о хозяйстве и, не боясь больше испортить своих красивых рук, опускала посуду в бассейн с проточной водой, устроенный посреди обширной кухни. Жан начав говорить о ней, восхвалять ее мужество, преданность и хозяйственные способности. Он растрогался, почувствовал дружбу к сидевшему рядом с ним Сиксту и, обнимая его, говорил: — Если я умру, я хочу, чтобы ты не беспокоился о будущем и убедил бы Фелицию выйти за тебя замуж. Я вижу и знаю, что ты все еще любишь ее и ты один достоин ее. Поклянись мне, что ты сделаешь ее счастливой! Когда все разошлись, Жан находился еще в большем возбуждении и, забыв о том, что говорил Сиксту Мору, повторил мне слово в слово то же самое, прося меня никогда не покидать его сестру и дать клятву жениться на ней. В эту минуту радостного свидания с друзьями он забыл о своей смерти, но во время опьянения неотступная и ужасная мысль снова овладела им. Жан обыкновенно был очень воздержан, и потому меня сильно беспокоило то, что следующие дни он продолжал пить и предаваться веселью, как будто, считая себя осужденным на близкую смерть, желал забыться и утопить в вине свои мрачные мысли. Фелиция также тревожилась. Она старалась остановить его, но неудачно принялась за это и не имела успеха. Мне более посчастливилось, так как удалось снова возбудить интерес Жана к его любимой идее, и он опять с рвением принялся за работу на острове Моржерон. Мы там оставались и работали в продолжение нескольких дней, когда гроза наполнила поток и принесла нам впервые землю, которую благодаря разрушенным скалам мы могли ожидать. При этом первом успехе Жан почти обезумел от радости и гордости. Он начал говорить о том, что, когда солнце высушит землю на его новом владении, он раскинет палатку и устроит празднество для всех бедных и богатых жителей их края, но вдруг, с каким-то отчаянием бросая лопату, воскликнул: — К чему же тратить столько сил и трудов, если не придется наслаждаться успехом? Фелиция, которая была при этом, испугалась и просила меня сказать ей причину такого неожиданного отчаяния Жана. Я должен был ей сознаться, что с некоторых пор одна мрачная мысль преследует ее бедного брата. Она сильно встревожилась. — Я не верю в предчувствия, — сказала она, — но мне всегда казалось, что у моего брата слишком сильное воображение, чрезмерная страсть к предприятиям и что он может сойти от этого с ума. Вот почему я всегда боюсь, когда он возбуждается от вина и пищи. Но ка ним бы способом можно отвлечь его от этой мысли? Если мы посоветуем ему отдохнуть от работы и поехать путешествовать, чтобы рассеяться, он не послушает нас. Постарайтесь же придумать что-нибудь, потому что я более не в силах… Когда я останавливаю его и противоречу, он сердится, когда же я уступаю ему и восхваляю его намерения, он слишком возбуждается. Что делать, господин Сильвестр, что делать? Дайте же добрый совет, потому что я чувствую, что тоже могу сойти с ума. Я достаточно изучил характер и темперамент Жана Моржерона и потому знал, что движение, перемена воздуха и места были положительно необходимы для его беспокойной натуры. Отсутствие Тонино и мое заставили его целое лето провести за работой, а для него это было слишком тяжело. Фелиция, которой я передал мои размышления, нашла их справедливыми, и мы вместе с ней старались найти предлог, благодаря которому можно было заставить нашего дорогого хозяина отправиться путешествовать и в то же время не дать ему заметить наших опасений. Я скоро нашел этот предлог. Тонино удерживало в Лугано горе его старика-отца, который не хотел расстаться со своей страной и вместе с тем приходил в отчаяние при мысли о разлуке с сыном. Граф-ткач был горд и не хотел стать в тягость Моржеронам, которые не могли ему поручиться, что его ремесло найдет себе применение у них в долине. Жан своею добротой, прямодушием и откровенностью один мог бы успокоить старика и убедить его приехать вместе с сыном и жить в Диаблерете. Льстя самолюбию Жана, ссылаясь на его доброе сердце, можно было быть уверенным в успехе. И поэтому его отъезд был назначен на следующий же день. Мысль отправиться в путешествие, действовать, говорить, убеждать, быть полезным, выказать себя любезным и великодушным рассеяла его меланхолию; он с радостью начал готовиться к своей экскурсии, поручил мне следить за работой и отложил до своего приезда с Тонино праздник по случаю освящения острова. Жан не выносил общественных карет: задыхался них, если там вместе с ним ехали попутчики, и смертельно скучал, оставаясь один. Поэтому он всегда ездил на своей верной и сильной лошади, снаряжая ее для путешествия. Мы торопили Жана, боясь, чтобы он не передумал. Увы, желая его спасти, мы сами натолкнули его на погибель! Я взял другую лошадь и поехал провожать его до спуска гор. Доехав с ним до равнины, мы позавтракали в маленькой гостинице, где он был очень весел и спокоен. Его призраки, казалось, совершенно рассеялись, и потому он благоразумно и добродушно говорил со мной о положении Тонино и его семьи. Когда мы дружески обнялись и он сел верхом на свою сильную лошадь, которая помчалась во всю прыть, звеня своей сбруей из накладного серебра, я долго следил за ним. Думал ли я, что последний раз вижу этого здорового и энергичного человека, жизнь которого была постоянным волнением, постоянным излишеством сил, если можно так выразиться? Я уже начал терять его из виду, когда заметил, что за ним не следует его постоянный спутник Медор, которого он всегда брал за шиворот и клал поперек загривка лошади, замечая его усталость. Жан не беспокоился, зная, что его охотничья собака часто сворачивала с дороги и забегала в лес, но потом всегда догоняла его. Медор также знал, что, когда он прибегал усталым, его всегда клали на лошадь. Между тем я искал его глазами и был очень удивлен, увидев собаку, лежавшую на боку, с тусклым взглядом. Я хотел прогнать Медора к хозяину, но мои побуждения и угрозы были тщетны. Истощенная и усталая собака взглянула на меня, как бы желая сказать мне, что она больна и скорей согласна погибнуть от удара, чем пытаться продолжать путешествие. Жан был слишком далеко, не мог заметить, что происходило у нас и вернуться обратно. Я должен был принести собаку домой. На другой день Медор не хотел ни есть, ни пить; все думали, что он тоскует о своем хозяине. На следующий день напрасно искали его: он исчез. «Славный Медор, — говорили все, — он убежал, как только почувствовал в себе силы. Он сумеет найти своего друга». Он действительно догнал его при въезде в Лугано. Он бросился на Жана, стал ласкаться и укусил его. Бешенство, эта ужасная болезнь, обнаружилась у собаки в минуту радости. Несколько дней спустя я получил письмо от Тонино. Жан был серьезно болен, и никто не мог определить болезнь. У него сделалась горячка и при этом сильный бред. Я должен был приготовить Фелицию, сказав ей об опасности. Она догадалась и выхватила у меня письмо. — Мой брат помешался, — вскричала она. — Он должен был кончить так, я была в этом уверена! Мы отправились через час вдвоем на лошадях, чтоб и доехать до ближайшего почтового двора. Ночь застигла нас в узком и темном ущелье, где мы должны были прислониться к стене скалы, чтобы пропустить всадника, который ехал нам навстречу. Увидя нас, он остановился и по-итальянски спросил нас дорогу в Диаблерет. Это был посланник Тонино, желавший помешать, нашему отъезду. Утреннее письмо было только приготовлением к ужасной новости: Жан умер в сильных мучениях. Собаку должны были убить, потому что доктор увидел рану на руке больного. Таким образом и с быстротой молнии сбылся ужасный и фантастический сон бедного Жана. Тонино приказал посланнику прибавить следующее: — Не ездите, я знаю мысли и чувства Фелиции. Тело ее брата будет бальзамировано и привезено в нашу долину. Пусть она ждет его, но я еще не знаю, каким путем перевезу его, и потому мы рискуем разъехаться. Фелиция слушала эти подробности с ужасающим хладнокровием. Она заставила повторить их несколько раз, как бы не понимая их, затем, обращаясь ко мне, сказала: — Мы вернемся домой. Пошлите этого гонца предупредить о нашем возвращении. Как только этот человек опередил нас, она пошла пешком, ничего не говоря, не плача, не выказывая ни расстройства мыслей, ни упадка сил. Я был потрясен и взволнован, но молчал, беспокоясь о Фелиции. Темнота мешала мне видеть ее лицо, и я едва мог разглядеть ее позу. Я ехал рядом с ней, боясь припадка или обморока. Ее наружное спокойствие продолжалось около четверти часа. Вдруг она сильно вскрикнула и подняла руки к небу, как будто бы луна, которая в это время показалась из-за вершины скалы и осветила нам путь, привела ее к действительности. — Неужели это правда? — вскричала она, падая на свою лошадь и не держа ее более. — Разве это не был сон? Разве мой брат умер? Нет, этого не случилось, скажите же мне, что я спала, разбудите меня или же убейте меня лучше, чем дать мне снова увидеть этот сон! Она ехала по краю пропасти, не зная, что с ней, и не сознавая, куда она направляется. Я понял, что настал кризис. Поспешив вместе связать лошадей, я подъехал к ней и начал говорить, стараясь вызвать ее слезы, но она с ужасным отчаянием оттолкнула меня. — Оставьте меня, — сказала она, — дайте мне умереть, я хочу смерти! Вам все равно, вы ведь не любите меня. Одно только существо и любило меня, но и он умер, и я больше не увижу его! Она хотела броситься в пропасть, я удержал ее, напоминая о прахе ее брата, которого скоро привезут и которому она должна отдать последний долг. Она покорилась и дала мне клятву, что более не посягнет на свою жизнь. Я еще более старался убедить ее, говоря о ее дяде и Тонино, этих двух представителях ее семьи, которые нуждаются в ее опоре и преданности. Когда я заговорил о ее старом родственнике, она почтительно выслушала, но когда я произнес имя юноши, она с горечью остановила меня и просила более никогда не говорить о нем. Я старался убедить ее сесть на лошадь. Мы были в трех лье от дома, а я чувствовал, что она едва держалась на ногах. Казалось, она хотела послушаться, но вдруг бросилась с криком на землю. — Оставьте, оставьте меня здесь, разве вы не видите, что я должна выплакаться! Но несчастная не плакала. Ее рыдания, казалось, потрясали то уединенное местечко, где мы находились. Защищенные и замкнутые между двух скал, мы почти не слышали более потока, протекавшего в глубине у наших ног. Луна уже прошла узкую часть видимого нами неба и теперь только бросала на стены утеса ясный, как лезвие сабли, отблеск. Ужас, наводимый пропастью, усилился еще вследствие темных туч, гонимых ветром, не было видно ни одного дерева, ни одного куста, не было даже слышно шелеста листьев. Ветер резко завывал над нашими головами, не достигая нас, и только упавший в пропасть камешек нарушал тишину и служил как бы ответом на жалобные и раздирающие крики бедной Фелиции. В нежных душах часто жалость возбуждает страсть. Своей скорбью несчастная пробудила во мне, сама того не зная и не желая, нежную страсть, которую я думал, что победил в себе. Ее горе потрясало меня до глубины души, и, видя, как она билась на земле и рвала волосы, я понял по своему отчаянию, что ее страдания были моими и что я страстно любил ее. Тогда я стал красноречивым и старался привести ее в сознание или растрогать. Она долго не могла понять меня, но вдруг какое-то из моих слов проникло в ее сердце и просветило ее разум: она с удивлением выслушала меня, стараясь в темноте найти мои руки, и сказала раздирающим душу голосом: — Разве вы здесь? Это вы говорили со мной? Разве вы любите меня? Нет, я ошиблась! Теперь никто более не любит и не полюбит меня! Нет ни дружбы, ни любви! Для меня более ничто не существует. — Поклянитесь мне пересилить ваше горе, — сказал я ей, — старайтесь жить, и я посвящу вам свою жизнь! — Это невозможно, — возразила она, — вы не может быть моим братом! И в своем возбужденном состоянии, потеряв гордость и сдержанность, она вскричала, отталкивая меня: — Нет, вы ничем не можете быть для меня, потому что я вас люблю, а вы скорее разрешили бы мне умереть, чем ответили бы тем же. Я вам говорю, что я не хочу ни вашей дружбы, ни вашего сострадания, они оскорбляют и унижают меня. Я могу или ненавидеть или преклоняться перед вами, да, я такова, и вы не в состоянии изменить меня. Я отказалась от вас, и мое сердце мстит за это, проклиная вас. Я не люблю и не хочу никого любить. У меня есть деньги, я теперь богата, да я очень богата, потому что у меня нет более брата, на которого я разорялась, исполняя его прихоти. Я отдам все деньги, все земли, стада моим родственникам итальянцам. Они будут счастливы. Тонино женится, я его не люблю и не должна жить для него. Теперь вы сами видите, что мне остается только умереть. — А если бы я любил вас, Фелиция? Если бы я даже сильнее полюбил вас, чем вы меня? — Силой нельзя приобрести любовь, иначе вы уже давно бы любили меня! Я выдал ей мою тайну. Я не знаю, каким образом поверил я ей и как объяснил ей происходившую во мне борьбу. Я только помню, что я не говорил ей о моей ревности и даже не произносил имени того, кто возбуждал ее. Мне было стыдно признаться в этом; я боялся оскорбить Фелицию в ту минуту, когда надо было возвысить ее в собственных глазах; я боялся, что мои подозрения в связи с ее горем переполнили бы теперь чашу ее страданий. Она и не догадывалась о них, она, не прерывая, слушала меня с удивлением и волнением, потом слезы брызнули из ее глаз, и она зарыдала, прося прощения у Бога и брата за то, что нашла еще на земле человека, которого могла полюбить. Скоро возбуждение вернулось к ней. Она встала, машинально взяла повод своей лошади и сказала мне: — Надо ехать! Мысль о счастье не должна теперь занимать меня, но я чувствую в себе силу и надежду еще раз кому-нибудь посвятить свою жизнь. Смотрите, мой брат слушает нас, он там, он видит нас! Он хотел, чтобы мы принадлежали друг другу. Поклянитесь же, что вы мне сказали правду, и его душа будет спокойна! Я же клянусь ему, что буду жить, продолжать его работу, назову его именем этот остров, который был его мечтой, и никогда более не буду падать духом! Ведь он хотел этого, не правда ли? Если бы я умерла теперь, то он был бы забыт и его дело было бы оставлено. Любите же меня, и если вы разлюбите, то все будет кончено как для него, так и для меня. Я посадил ее на седло и, целуя ее дрожащие колени, клялся ей, что она с этих пор будет всегда находить цель в жизни. Мы погнали лошадей галопом. На другой день Тонино привез прах Жана в телеге, лошадь, привязанная сзади, шла понуря голову. Тонино тщательно прятал какой-то ящик и ночью зарыл его в том месте, где должны были похоронить Жана. Меня он посвятил в эту тайну. Почувствовав себя больным, Жан сказал ему: — Нужно будет убить мою собаку, она может сделать много вреда, но меня она укусила нечаянно, и если я умру от этого, то хочу, чтобы ее зарыли у моих ног. К Фелиции снова вернулась ее энергия. От всех скрыли причину смерти бедного Жана. Жители долины пришли на его похороны, и Фелиция могла найти утешение, видя, что соседи, несмотря на свои прошлые насмешки, зависть и недоброжелательство, искренне сожалели о том, кого они так часто оскорбляли. Они отдавали справедливость его достоинствам. После погребения по местному обычаю был приготовлен обед. Фелиция без устали следила за хозяйством, оказывая всем гостеприимство. Когда все кончилось и воцарилась тишине, Фелиция, взяв меня за руку, тихо заплакала и сказала мне: — Вы видели, что я была мужественна! Тонино приехал один, так как его отец, несмотря на уговоры Жана и просьбу сына, ни за что не хотел следовать за ним. На другой день Фелиция приказала Тонино ехать обратно. — Ты не умеешь исполнять своих обязанностей, — сказала она ему строгим голосом. — Со смертью своей любимой жены твой отец потерял все. Деньги, которые ты ему дал, ровно ничего не значат для него, ему теперь нужна опора и общество, в его годы можно умереть, оставаясь в одиночестве. Поезжай за ним и передай ему, что, если будет нужно, я сама приеду просить его. Я бы поехала с тобой, если бы не была так разбита усталостью, а я не хочу заболеть: у меня теперь много обязанностей в этом мире. Тонино противился, уверяя, что ничто не заставит отца переселиться в Диаблерет. — Ну, хорошо, — возразила Фелиция, — если тебе это не удастся, то ты должен остаться с ним, я требую этого. Их спор разгорелся, и я из какого-то нравственного побуждения не захотел знать, какое чувство заставляло одного настаивать на разлуке, другого же противиться этому. Я чувствовал, что играю какую-то роль в строгости Фелиции и в упорстве ее двоюродного брата. Я их оставил вдвоем и принялся за работу. Возвратясь вечером, я уже не застал Тонино. — Наконец мы одни, — сказала Фелиция, смотря на меня скорее строго, чем нежно. — Желали бы вы постоянно проводить время со мной одной? — Зачем вы спрашиваете об этом, Фелиция? — Тонино вам неприятен? — О нет, совершенно напротив, я люблю его, но если вы вызываете меня на откровенность, то я утверждаю, что Тонино влюблен в вас и мне было очень тяжело видеть это. Теперь же все переменилось, вы меня любите и будете моей женой. Не желая вас оскорблять, я ждал и не сомневался, что вы найдете средство избавить меня от моего страдания. — Разве вы страдали от этого? — О, даже очень сильно! — Но почему вы не говорили мне? — Я стеснялся сказать вам. — Вы очень странны, господин Сильвестр! Вы сами жестоко заставили страдать меня, потому что я считала вас равнодушным и гордым, а вы тщательно скрывали то, что должно было бы утешить меня. — Вы, значит, не думаете, что ревностью можно оскорбить любимого человека? — Я не заглядываю так глубоко, как вы, по-моему, любовь всегда нераздельна с ревностью, и я горжусь тем, что возбуждаю ее. Мы расходились в этом отношении, но я видел, что Фелиция нуждалась в утешении, а не в споре, да и, кроме того, в ее присутствии я испытывал безотчетное смущение, которое делало меня снисходительным и даже слепым к ее недостаткам. Ее инстинктивная покорность моему тайному желанию удалить молодого барона меня глубоко трогала. Я благодарил ее, но, стыдясь своего эгоизма, поспешил сказать, что не следует надолго продлевать разлуку с Тонино. — Поживем несколько дней вдвоем, — сказал я ей, — у меня потребность видеть вас и знать, что за мной не наблюдает завистливое око, говорить с вами и слушать, чувствуя, что нет любопытных свидетелей наших бесед. Мы о многом можем поговорить с вами, так как любовь — мир совершенно неведомый даже для друзей, отлично знающих друг друга во всех других отношениях. Мы еще не знаем, чем она будет для нас, и не следует стараться отдавать себе в ней отчет. Но будем воспитывать в себе это нежное чувство, которое одно может открыть златые врата счастья, ожидающего нас впереди. Приучим себя к полнейшему доверию и будем жить единодушно. Когда мы достигнем этого, то пусть этот юноша возвратится! Если он вас любит так, как я думаю, то мы вместе постараемся излечить его от этого чувства. Если же я ошибаюсь, то вы употребите усилие избавить меня от моего подозрения и несправедливости. — Я вам скажу правду, — возразила Фелиция. — Вы верно отгадали, но не вполне поняли, в чем дело. Тонино любит меня, как любил бы мать или сестру, то есть, другими словами, сильно расположен ко мне. Но он эгоист, как все избалованные дети. Заметьте еще при этом, что он в том юношеском возрасте, когда чувствуют потребность любви, и потому поддаются влечению ко всем женщинам и ко мне, как и к другим: этого я не могла не заметить. Вы краснеете, господин Сильвестр вы надеялись, что ошибаетесь? Но нет, я сознаюсь, что Тонино желал и желает обладать мною. Если это оскорбляет вас, то я не хочу, чтобы он возвратился, если же вам это так все безразлично, как и мне, то пусть он приедет, и я женю его, чтобы заставить увлекаться другой. — Разве он осмеливался говорить вам о своей любви? — Да, с тех пор как вы возбудили в нем чувство ревности. — А вы бранили его за это или… пожалели? — Я не сделала ни того, ни другого. Я нашла лучшим сделать вид, что не поняла его. — Но при этом неужели вы не испытывали ни волнения, ни сожаления? — Я не знаю, Сильвестр! Я много думаю об этом. В то время мне казалось, что вы избегаете и презираете меня. Были минуты, когда мысли о вас сводили меня с ума, и тогда я думала, надо покончить с этим, потому что я слишком страдаю! Пусть кто-нибудь страстно полюбит меня, и я, насколько могу, также постараюсь полюбить того. Тонино предан мне и, кроме того, находит меня красивой, ну что же, испытаю страсть этого юноши, сделаю его счастливым и буду этим довольствоваться! Такая жизнь будет лучше одиночества, которое я испытывала в продолжение тринадцати лет и которое, с тех пор как я полюбила, для меня стало ужасным. Пусть же кто-нибудь пробудит меня, говоря: «Вот существование, не то, о котором ты мечтала; оно, может быть, и хуже одиночества, но все же может назваться жизнью!» Своей ужасной откровенностью Фелиция причиняла мне сильные страдания и в то же время внушала уважение своей правдивостью. Я хотел до конца выслушать эту исповедь и моими, по-видимому спокойными вопросами побуждал Фелицию продолжать. — Я даже думала выйти замуж за этого ребенка, — продолжала она. — Я хотела заставить себя решиться на это, но не могла, так как чувствую к нему какое-то нравственное отвращение. Я не уважаю его, знаю все его недостатки и самые его невинные ласки считаю для себя оскорблением. Я думаю, что Тонино в состоянии изменить своему лучшему другу в тот день, когда он узнает, что более ничего не может получить от него. Вот увидите, что он скоро забудет Жана. Кроме того, он хитер, и я никогда не могла исправить его. В общем, я ненавижу его, сама не зная за что, с тех пор, как он влюбился в меня. Тонино выводит меня из терпения и сердит. Я чувствую облегчение, когда не вижу его, и если вы признаетесь мне, что он стесняет вас и что вам также неприятно видеть его, я постараюсь устроить, чтобы он не возвращался более. — Хорошо, — вскричал я, поддаваясь какому-то непреодолимому побуждению, — пусть он не возвращается! Я не посмел сказать ей, что Тонино казался мне опасным более для нее, чем она была для него. А между тем положение этого дела сделалось для меня совершенно очевидным. Пылкие страсти молодого человека действовали на неудовлетворенные чувства Фелиции. Может быть, невольное влечение жило в них с самых ранних лет. Они не любили друг друга, не соответствовали один другому и, может быть, обречены были на взаимную ненависть: я не имел ни нравственных, ни умственных причин ревновать. Но это физическое влечение, тревожная пытливость, желание одного, страх другой, что-то беспокойное и чувственное, витавшее между ними, естественно, причиняло мне нечто вроде бешенства. И, странное дело, вместо того чтобы краснеть, внушая мне такое чувство, Фелиция радовалась этому, как воздаваемой ей чести. Она с грубой радостью приняла приговор, который я трепетно произнес. — Отлично, — сказала она, — пусть он не приезжает и не тревожит нас! Я ему оставлю хорошее приданое и сообщу, что уезжаю с вами. Если вы хотите, мы совершим небольшое путешествие. Надеюсь, что, когда мы возвратимся, Тонино уже успеет привыкнуть к жизни с отцом в Лугано. Я ему напишу сегодня же вечером. — Значит, сообщите ему о нашей свадьбе? — Да, я хочу написать об этом и отнять у него всякую надежду. Мне было так тяжело слышать эти последние слова Фелиции, что я поспешил уйти, чтобы не выказать ей моего неудовольствия. Значит, она давала Тонино право надеяться. Следовательно, эта строгая женщина не была вполне целомудренной. Впрочем, она и не могла быть такой! Ее первая ошибка, на которую я прежде не обращал никакого внимания, теперь предстала предо мной как пятно на ее прошлом, как преждевременная чувственность, животное влечение, которых ее невинность и гордость не сумели побороть. Я вспомнил, что Фелиция, говоря об этом заблуждении, никогда не раскаивалась в нем, а, напротив, высоко поднимала голову и, казалось, гордилась этим. На другой день я чувствовал тревожное состояние, мне было грустно. Фелиция же, напротив, была совершенно спокойна и как бы оживилась, приняв твердое решение. Она написала своему двоюродному брату, показала мне это письмо, но я отказался прочитать его, боясь найти в нем подтверждение моих сомнений, а также потерять в себе силу пожертвовать собой. Я чувствовал, что не смею заботиться только о своем счастье, но должен принять на себя все последствия моей страсти и не могу разбить то сердце, которое поклялся исцелить. Моя страсть была непостижима, она то сжигала, то снова наполняла меня таким равнодушием, что, казалось, грозила совершенно покинуть. Но около Фелиции я испытывал то волнение, которое может возбудить любовь красивой и разумной женщины. Когда я оставался один, мне казалось, что я спал, и только то, что неприятно поражало меня в этой женщине, представлялось мне действительностью. С течением времени мое волнение стало проходить и наконец совершенно рассеялось. Я ничего не знал о Тонино кроме того, что он больше не склонял своего отца к отъезду и, повинуясь Фелиции, оставался с ним. Он много писал, но я отказывался читать его письма и не любил говорить о нем. Я предоставил Фелиции все заботы и всю заслугу в этом деле… Но ей оно не казалось слишком тяжелым. Напротив, если луч радости озарял ее грустные дни, то это случалось только в те минуты, когда она говорила мне: — Мальчик начинает привыкать там. Он тратит мало денег, но я думаю, что он ничем не занимается. Когда же я увижу, что он окончательно покорился своей участи, то постараюсь достать ему место. Он здесь был слишком избалован моим братом. Пусть он приучится жить так, как другие. Я ничего не отвечал ей, и Фелиция украдкой смеялась. Но ее радость носила какой-то боязливый оттенок. Она была довольна, что возбуждала мою ревность но, видя мое строгое лицо, боялась сказать мне это. Во время нашего уединения, полного прелести и страдания для меня, Фелиция выказывала поразительное мужество. Она относилась ко мне с безграничным доверием и, считая себя моею невестой, не смущаясь и не сдерживая своих чувств, говорила о своей любви. С тех пор она уже казалась мне действительно достойной, так как была одновременно скромна и смела со мной. Она как бы дала священный обет не думать о себе до тех пор, пока будет носить траур по своему брату, и, беспрестанно говоря со мной о нашем браке, ни разу не намекнула на свое личное счастье. Она только заботилась о моем спокойствии и просила меня помочь ей в этом. — Я стою ниже вас во всех отношениях и потому ни за что на свете не хотела бы принадлежать вам до тех пор, пока вы не исправите меня. Я обладаю способностями и волей; научите же меня всему, чего я не знаю, вразумите меня, просветите мои мысли, заставьте меня понять то, что занимает вас, дайте мне возможность беседовать с вами, интересоваться тем, чем интересуетесь вы, и вполне понять вас и самое себя. Вы когда-то бранили меня, но, прошу вас, более не огорчайте меня так. Не удивляйтесь моему невежеству и моим странностям, но постарайтесь меня избавить от них, я вас уверяю, что это будет очень легко. И действительно, это, по-видимому, было нетрудно. Она внимательно выслушивала все наставления; не спорила более, с жадностью внимала мне и, как бы упиваясь моими словами, была послушна и добра, как дитя. Ее беспокойный от природы характер проявлялся только в ее заботах и хлопотах по хозяйству и в тех приказаниях, которые она отдавала своей прислуге. Я добился ее обещания пересилить в себе эту лихорадочную Деятельность и приучить себя спокойно приказывать и философски переносить неизбежные оплошности и глупость ее подчиненных. Вначале это было свыше ее сил, но однажды, объясняя ей теорию Лафатера относительно физиономии человека, я пером нарисовал ее собственный профиль и указал на различные видоизменения ее лица под влиянием ее душевного настроения. Видя себя играющей на скрипке, она нашла себя красивой, смотря же на свое изображение в ту минуту, когда бранит слуг, она была поражена своим безобразием. Смущенная моей проницательностью, она заплакала и с той минуты стала со всеми кроткой, как и в то время, когда первый раз начала наблюдать за собой, чтобы по нравиться мне. Конечно, я был очень тронут ее покорностью. Вскоре мне также пришлось восхищаться ее умственными способностями: она с поразительной легкостью воспринимала все. Две или три недели для нее были достаточны, чтобы отучиться от некоторых неправильных оборотов ее французской или немецкой речи; она просила меня составить их список и ночью, вместо того чтобы спать, учила его. Затвердив их, она уже более никогда не ошибалась. Довольно трудно было исправить ее выговор, но зато вскоре совершенно исчезла грубая интонация в ее голосе. Для нее это был как бы урок музыки, и ее музыкальное чувство послужило ей в этом отношении. Она научилась даже беседовать, чего прежде совершенно не умела. Она была из тех порывистых натур, которые слушают из разговора только то, что имеет для них личный интерес. И таким образом схватывая одно слово, особенно поразившее ее из всего разговора, она как недобросовестный критик, порицающий непонятную для него цитату, искажала смысл всей фразы и с упорством отвечала на то, о чем ее не спрашивали. Она совершенно отказалась от подобной манеры говорить не после того, как я доказал ей трудность вести с ней беседу, а после того, как я дал ей почувствовать ее смешную и глупую сторону. Она была чрезвычайно самолюбива, и для того, чтобы исправить ее недостатки, мне приходилось прибегать к насмешкам, несмотря на то что они были противны моему характеру. Употребляя их, я, как человек добродушный, сильно страдал, видя, что огорчаю Фелицию, но тем не менее она требовала этого. — Моя воля уступчива, но мои чувства упрямы. Я всегда стремлюсь сделать то, чего вы требуете от меня, но постоянно что-то по привычке противится во мне. Чтобы исправить меня, вы должны оскорблять мое самолюбие, вызвать перелом, причинить мне страдания, и тогда урок этот запечатлится в моей памяти и уже более никогда не изгладится. Меня удивляла неуступчивость ее нравственной стороны, столь различной от стороны артистической: первая сдавалась только разбитой, вторая же подчинялась совершенствовалась от самого легкого дуновения. А между тем под этой грубой оболочкой характера таилась удивительная чуткость. Трудно было при наших с ней отношениях не впасть в эгоизм; Фелиция вполне сознавала, что, не будь несчастья, которое так потрясло ее, я поборол бы мою любовь к ней, а теперь, конечно, в ее жизни я становился более полезной и серьезной опорой, чем был ее брат. Она так живо чувствовала это, что я иногда боялся вспышки оскорбленного самолюбия, но мои опасения не оправдались. Эта великодушная девушка в высшей степени стойко переносила свое горе, и если иногда порывалась забыть его и повеселиться, то, быстро подавляя в себе этот порыв, отдавалась рыданиям, причину которых я угадывал, несмотря на ее скрытность. Я понял, какую сильную победу она одержала над собой, сказав мне однажды: — Вы ясно видите все мои недостатки и стараетесь исправить меня, вы мне этим оказываете большую услугу. Мне стыдно, но в то же время я горжусь, что причинила вам столько труда, и говорю себе, что, соглашаясь на это, вы, такой добрый и снисходительный к другим, должны любить меня более всех на свете. Когда я сознался ей, что действительно люблю ее больше самого себя, она старалась потушить луч радости, который невольно блеснул в ее глазах. — Мой бедный Жан так же сильно любил меня, — говорила она, — но он не был так умен, как вы, и, страдая от моих причуд, не умел найти против них средство. Жан переносил их и довольствовался мной, какой я была. Он говорил мне: «Как это ты можешь, будучи такой доброй, отдаваться злобе?» И он смеялся, бранил и целовал меня, чтобы только не поддаться искушению ударить. Конечно, это было очень грубо, но все же трогало меня… О, он был сильно привязан ко мне! Вы будете любить меня с большой добротой и терпением, но я никогда не осмелилась бы просить вас относиться ко мне с такой же отцовской нежностью. Зима наступила поздно, и мы, пользуясь этим, подвинули нашу работу на острове к концу, чтобы иметь возможность посеять там хлебные растения и посадить фруктовые деревья. В той области, в которой мы жили, был прекрасный климат, и если бы глетчеры не угрожали опустошить земли, находившиеся внизу и не везде защищенные уступами скал, мы могли бы наслаждаться весной десять месяцев в году. Эти внезапные опустошения и, так сказать, механическое появление зимы в нашем умеренном климате усиливали живописность этого странного местечка. Нередко приходилось видеть снежные хлопья, падавшие рядом с финиковыми деревьями, отягощенными плодами, и наши высохшие луга покрывавшимися среди лета травой вследствие случайного таяния снега. Я по-прежнему вел деятельный и правильный образ жизни. Целый день я работал сам и заставлял трудиться других, по вечерам же я находил покой и награду, беседуя с моей интересной и дорогой Фелицией. Я начинал считать это время самым счастливым в моей жизни и верил, что на этом свете можно найти нечто продолжительное. Мы решили обвенчаться весной, и после этого все мои опасения рассеялись. Но однажды вечером я застал Фелицию в слезах. — Мой бедный дядя скончался, — сказала она мне, — Он не был стар, но работа в сырой мастерской окончательно подорвала его здоровье, и потому он не был в состоянии перенести даже легкой болезни. Он был добрейшим человеком, и принял меня во время моего несчастья и обращался со мной как с дочерью. У него нет более родных, мой друг, у меня нет более никого, кроме вас!.. Я утешал ее, обещая заменить семью, потерянную за последний год. Я не смел говорить ей о Тонино, ожидая, что она сама выскажет мне свои планы относительно этого юноши. Но Фелиция хранила упорное молчание, через несколько дней я сам решил нарушить его. — Я чувствую угрызения совести, — сказал я ей, — и не могу привыкнуть к мысли, что вы из-за меня совершенно равнодушно относитесь к вашему приемному сыну. Если вы признаете меня главой семьи, то он также становится моим сыном, и потому я сознаю свои обязанности по отношению к нему. Скажите же мне, что вы намерены делать, чтобы избавить Тонино от опасного одиночества и праздности. — Я не думала об этом, — отвечала она. — Вот уже шесть месяцев как он перестал быть со мной откровенным, и мы даже немного поссорились. Он говорит, что сумеет обойтись без моей помощи и найти себе занятия. Откровенно говоря, я сомневаюсь в этом и думаю, что он окончательно пропадет. Я был удивлен, слыша, с каким равнодушием говорила Фелиция, и взглянул на нее, чтобы убедиться, и делает ли она над собой усилия, высказав готовность принести Тонино в жертву моему эгоизму. Может быть это было немым упреком? Или же под этим скрывалась ловко замаскированная хитрость? — Фелиция, — сказал я ей, — необходимо призвать Тонино, расспросить его или же понаблюдать за ним. Надо заметить, искренне ли он дорожил своею независимостью и способен ли с пользой употребить ее. После этого мы увидим, что должны предпринять. — Зачем, — сказала она, — вы стараетесь скрыть от меня, что вам будет неприятно его видеть? — Я этого и не скрываю, но я считаю своим долгомпревозмочь себя, как я уже говорил вам… — Значит, долг, по-вашему, прежде всего? — Да, мой друг, это мое правило! — А между тем, как мне кажется, — робко возразила она, — ничто не может стоять выше любви. — Любовь становится чище благодаря жертвам, принесенным ради долга. — Каким образом? — Она возвышается и облагораживается. — Возвышается и облагораживается… да, вот моя мечта, вот мое стремление! Мне кажется, что я понимаю вас: вы хотите победить в себе чувство ревности, не правда ли? Хорошо, испытайте, но постарайтесь не разлюбить меня, когда приучите себя равнодушно видеть того, который с любовью будет смотреть на меня. — Я никогда не буду в состоянии равнодушно относиться к нему, в особенности если вы будете поощрять его сладострастные взгляды, которые должны осквернить вас в моих глазах так же, как и в ваших собственных. — Боже мой, — с жаром вскричала она, — что вы говорите? Значит, если вы найдете меня несовершенной, то перестанете любить меня? — Я не знаю, будете ли вы или уже теперь совершенны во всех отношениях, но чувствую только, что я вас люблю такой, какая вы есть, и всегда буду любить вас! В отношении любви я, может быть, составляю исключение и положительно не понимаю, каким образом для любящих сердец верность может казаться трудным подвигом. — Вы хорошо знаете, — сказала она после недолгого молчания, — что я никогда не была кокеткой. Это не в моей натуре. А между тем теперь, если бы я, желая больше понравиться вам и укрепить вашу любовь, старалась бы дать вам почувствовать, что могу также внушить ее и другим, то неужели вы строго осудили бы меня и приняли бы мое желание за неверность? — Да, конечно, я строго осудил бы вас за это! — вскричал я. — И думаю, что был бы прав. Всякая кокетка нуждается в соучастнике, и потому та женщина, которая пожелала бы сделать над мужчиной не совсем невинный опыт, о котором вы сейчас говорили, она не только обманула бы этим своего мужа, но и унизила бы его. Пусть она одна забавляется его страданиями, с ее стороны это будет злой, но извинительной шуткой, но если она будет поощрять также и другого мучить ее мужа, которого она клялась уважать, то это вызвало бы во мне непреодолимое презрение, и я никогда не простил бы ей. — Вы жестоки, — сказала Фелиция, — и говорите сегодня такие вещи, которые пугают и оскорбляют меня. Вы не хотите допустить, что тот, о котором мы говорим, может быть другом и невинно войдет в сделку в интересах самого мужа? — Из какого водевиля вы вычитали эту мораль, Фелиция? Неужели вы настолько наивны, что воображаете возможным разыгрывать комедию любви без раздражения чувств мнимого соперника вашего мужа? О, если вам придет фантазия воспользоваться выразительным лицом Тонино ради этой уловки… берегитесь… я… — Вы убьете нас обоих? — с невольной и дикой веселостью воскликнула Фелиция. — Вы ошибаетесь, — ответил я, — я сделал бы худшее: я стал бы глубоко презирать вас обоих. Мой ответ раздражил ее, и она первый раз рассердилась на меня. — Вы меня не любите, — сказала она, — если предполагаете, что ваша любовь может растаять как первый снег. Что же она значит после этого для вас? Ничего или почти ничего. Вы говорите о переходе от обожания к презрению так же легко, как о перемене летней одежды на зимнюю! Значит, философы таким образом понимают привязанности? Они начертят план, утвердят законы и ни на йоту не уклонятся от них. Если они избирают жену не такое же совершенство, как сами, то ее не убивают в припадке гнева, о нет, их это не достаточно волнует, но они не лишают уважения и убивают любовь к ней в своем сердце. Полноте, предать земле этот труп было бы гораздо проще! Но знайте, я нахожу это ужасным и предпочитаю вечную грубость, вечные укоры и вечное прощение моего бедного Жана! Он не гордился, и когда мы спорили с ним, он противоречил мне, и мы с ним бывали всегда квиты. Она ушла, не желая выслушать меня, и провела целую ночь в слезах на могиле Жана. Итак, Тонино даже в отсутствии мешал нам вполне доверчиво относиться друг к другу. Его имя не могло быть произнесено нами, даже мысль о сближении с ним не могла явиться, не подавая нам повода к серьезной ссоре и не потрясая фундамента основанного нами здания счастья! Значит, несмотря на наши обоюдные искренние старания укрепить и упрочить наши отношения, мы приходили к плачевным результатам. Целую ночь я придумывал такое решение, благодаря которому мы могли бы найти покой и исполнить долг по отношению к Тонино. Утром я заговорил об этом с Фелицией. — Займемся Тонино, — сказал я ей, — Поссоримся из-за него, если это необходимо, но не будем забывать о нем. Вы всегда имели намерение сделать из него земледельца? Хорошо, но не имея возможности дать ему достаточно полезных сведений, удерживая его у нас, мы постараемся дать ему настоящее специальное образование, отдав его в образцовую школу, которая не особенно далеко отсюда. Я часто буду навещать его и буду заботиться о нем, как о своем сыне, когда он выйдет… — Он никогда не выйдет оттуда, потому что никогда не согласится поступить туда, — быстро прерывая меня, сказала Фелиция. — Подумайте, он слишком стар для этого, ему теперь двадцать два года. Для него было бы унизительным учиться вместе с детьми. Ведь вы знаете, что он горд, да и, кроме того, он теперь уже не в том возрасте, чтобы как мальчик слушать нас. Да и вообще он не говорил, что согласится подчиниться вашей отцовской власти, как подчинялся Жану. Самое же лучшее — давать ему на содержание и предоставить ему уехать и искать работу согласно его желанию. Я слишком много перенесла от вас из-за Тонино и более не в состоянии выносить его присутствия, так как могу сойти с ума. Я не желаю более видеть его здесь! Фелиция снова начинала раздражаться и говорила почти трагическим голосом, а моя улыбка еще более рассердила ее. — Что же, по-вашему, ничего не значат, — вскричала она, — те угрозы, которыми вы стращали меня вчера! Я сначала думала, что вы говорили общее правило, но когда вы произнесли имя Тонино, то увидела, что не так понимала вас. Знайте же, я об этом продумала всю ночь! Вы вначале пренебрегали моею любовью только потому, что ревновали меня к Тонино, я же тогда думала совершенно противное и считала вас недостаточно ревнивым. Вот почему я рассказала вам о тех пустяках, о которых лучше было молчать. Теперь я знаю вас! Когда вы подозреваете, вы не можете чувствовать любви, вы тогда презираете! О, я была слишком неосторожна и не прощу себе этого! — Фелиция, — воскликнул я, — признайтесь же в том, что вы обманули меня, желая испытать мое чувство? Скажите же мне, что Тонино никогда не был влюблен в вас! Я прощу вам эту ложь, важность которой вы не могли понять, и я сам вместе с вами буду смеяться над ней и даже с восторгом буду благодарить вас, если вы избавите меня от мучения, которому я подвергся, поверив вам. — Я не лгала! — сказала она. — Я никогда не лгу, но иногда моя фантазия увлекает меня, и я преувеличиваю, сама не сознавая того. Кроме того, как вы знаете, у меня подозрительный характер, и потому я могу ошибаться. Может быть, этот мальчик никогда не испытывал тех чувств, которые я подозревала в нем. Но дело в том, что теперь он более не выказывает их и очень холодно обходится со мной. Не думайте же более об этом. Я все позабыла. Не можете ли и вы сделать то же? Неужели же из-за всякого неосторожного слова вы будете готовы лишить меня вашего доверия? — Нет, — сказал я, — конечно, это не случится. Я все забуду и, веря вашим новым объяснениям, еще более буду заботиться о воспитании Тонино. — Ну хорошо, поговорите же с ним, — спокойно отвечала Фелиция. — Вот он, готовый вас слушать и отвечать вам, я оставляю вас вдвоем. И, к моему удивлению, она вышла из комнаты, в то время как Тонино входил в зал. Он с грустным лицом подошел ко мне и с жаром обнял меня. — Вы, кажется, удивлены, видя меня, — сказал он, — разве вы не знали, что я здесь уже с раннего утра? — Ваша кузина не сказала мне об этом. — О, моя кузина очень странно теперь обходится со мной. Она совершенно разлюбила меня с тех пор, как полюбила вас. Почему же это, господин Сильвестр? Почему вы ненавидите меня, вы, которого я всегда так уважал и к которому был всегда так искренне привязан? Но погодите, теперь вы можете все объяснить мне. Приехав сюда в пять часов утра, я, конечно, остановился около кладбища, чтобы пойти взглянуть на могилу моего бедного двоюродного брата. Там я увидел стоящую на коленях Фелицию. Я позвал ее. Она громко вскрикнула и, подойдя ко мне, сказала, что я приехал на ее горе. Она хотела заставить меня сейчас же возвратиться, и я должен был сделать вид, что слушаю ее. Но объехав по другой дороге, я возвратился сюда и снова увидел рассерженную на меня Фелицию. Тогда я также рассердился и сказал ей, что я только вам позволю прогнать меня, потому что вы теперь единственный здесь хозяин. Говорите же, господин Сильвестр, я буду повиноваться вам, но прежде всего вы должны сказать мне, почему я неприятен и противен вам. Я ни в чем не могу упрекнуть себя по отношению к вам и потому вправе требовать от вас откровенного объяснения. Он говорил это так чистосердечно, что я с прежней любовью ответил ему. Я постарался разубедить его и спросил, думал ли он, что я до такой степени враждебно отношусь к нему, что не захочу оказать ему никакой услуги. — Да, я об этом думал, — сказал он, — несмотря на уверения Фелиции, что решение удалить меня принадлежало ей, но, конечно, эту перемену я приписывал вам. Скажите, что я должен делать?.. Надо ли мне сейчас же уехать, остаться ли на несколько дней или же совсем поселиться у вас? Видя ваше дружелюбное отношение ко мне, я сочту долгом подчиниться всему, что вы посоветуете. — Хорошо, скажите же мне совершенно откровенно, чего вы больше всего желаете? — Я бы хотел жить здесь по-старому, работать под вашим руководством и снова, как и прежде, слушать ваши уроки. Вы всё так же дружелюбно и с отцовской нежностью относитесь ко мне, но если я стал теперь противен моей кузине, то я лучше уеду и постараюсь жить как могу. — Что вы умеете делать, мое дорогое дитя, и есть ли у вас какие-нибудь планы относительно будущего? — Но какие же могут быть у меня планы? Мое положение выходит из ряда обыкновенных: теперь я стал графом дель-Монти, но чтобы не казаться смешным, должен называться просто Тонино Монти. Я умею только пасти стада и ничего другого не знаю в совершенстве; я — пастух, как говорил про меня мой бедный дорогой Жан. Это положение хорошо, когда следишь за благосостоянием своего собственного стада, живешь в семье, пользуешься дружбой и черпаешь полезные сведения. Но те познания, которые я приобрел, не дают мне возможности получить никакой должности, а также и заняться промышленностью или искусством. Я плохой счетовод, потому что не умею делать вычислений на бумаге, несмотря на то, что быстро решаю задачи в уме. Я не настолько изучал музыку, чтобы давать, как дедушка Монти, уроки, а также не знаю грубого и скучного ремесла моего отца. Я только и способен быть пастухом на какой-нибудь ферме. Ну что ж, скажите, это ли моя судьба? Разве моя кузина не будет страдать при мысли, что я служу на жалованье у каких-нибудь мужиков? Зачем она взяла меня к себе, воспитала, внушила гордость, по-своему образовала и сделала из меня почти артиста, если теперь хочет покинуть? Она говорила, что будет давать мне деньги. Но зачем? Ведь я не калека и могу работать. Зная, что я ничего не делаю, мне было бы стыдно получать деньги, и, кроме того, я не ручаюсь, что от праздной жизни не сделаюсь разбойником. Почему же Фелиция не желает, чтобы я жил здесь? Если мое присутствие стесняет вас, то постройте мне шалаш, там, на «возвышенности», доверьте мне смотреть за скотным двором, и я буду приходить сюда только тогда, когда вы позовете меня. Я найму одного или двух пастушков, чтобы они помогали мне, буду даже там обрабатывать землю, если только почва окажется хорошей. Возьму с собой скрипку, вы дадите мне несколько книг, я не соскучусь! Я стану честно зарабатывать себе хлеб, не стыдясь сам и не заставляя других стыдиться за себя. Не правда ли, все это легко исполнимо и благоразумно? Тонино был совершенно прав, и потому я не мог ничего возразить ему. Он прекрасно знал уход за скотом и любил сельскую жизнь. Действительно, это было единственное дело, которое он знал. Во всем же остальном у него были слишком поверхностные познания, и, кроме того, его мечтательная и созерцательная натура не могла подчиниться умственной работе, которая была необходима, чтобы вознаградить потерянное время. Итак, следовало, значит, водворить его снова в нашей семье, не посылая его жить на «возвышенности»: как он говорил, до тех пор, пока он не дал бы мне повода к неудовольствию. В случае же необходимости можно было бы отправить его еще дальше — по направлению к Сиону, где Фелиция по наследству от брата получила несколько владений. Я с искренним радушием принял молодого графа, намереваясь строго отнестись к нему, если он обманет меня, но в то же время не желая допустить мысли, что это случится. Дружеский прием, который я оказал ему, заставил его заплакать и страстно поклясться, что он от всей души любит меня. К этим излияниям примешивалось еще и воспоминание о недавней смерти его отца. Он мне говорил о нем с таким чистосердечием и нежностью, что положительно растрогал меня, и я находил бы гнусным и бесчеловечным бранить его при таких обстоятельствах. Я позвал Фелицию и старался ей показать, что с одинаковым доверием отношусь к ним обоим. Она же холодно держала себя по отношению к нам и казалась даже смущенной и рассерженной, когда Тонино начал настаивать, чтобы она сказала причину ее суровости. — Вы мне не скажете, — воодушевляясь, воскликнул он, — что я сделал, чем я мог рассердить вас со дня смерти нашего бедного Жана? До тех пор вы относились ко мне как мать, но вдруг я стал вам неприятен, и вы тяготитесь моим присутствием. Я во всем обвинял господина Сильвестра и был не прав. Он добр, как ангел, и я преклоняюсь перед ним, как перед божеством. Он доволен, что видит меня, и хочет, чтобы я остался здесь. Значит, вы одна только отталкиваете меня. Но что же я сделал дурного, чтобы быть таким несчастным? — Ничего, — отвечала Фелиция, смотря на меня и как бы желая взять меня в свидетели каждого слова, с которым она обращалась к нему. — Ты ничего не сделал дурного, но ты всегда противился моей свадьбе с кем бы то ни было. Знай же, что ты испорченный ребенок, так как ревнуешь меня к тем людям, которые стараются помочь тебе, и этим доказываешь, что ты не уверен, достоин ли ты их расположения. Я опасалась с твоей стороны непочтительного отношения к господину Сильвестру, потому что два или три раза, не говоря о нем ничего дурного, — это было бы и немыслимо — ты осмелился с досадой отозваться о нем. И потому я предупреждаю, если ты не решился быть ласковым с ним и услуживать ему как своему хозяину и лучшему другу, то я не потерплю твоего присутствия здесь. Господин Сильвестр желает, чтобы ты остался, и поэтому ты останешься. Но помни о том, что я сказала тебе: не смей ревновать, притворяться, злиться и жаловаться! Клянусь, что одного твоего слова, одного недовольного взгляда достаточно будет, чтобы тебя не стало в этом доме! Тонино, казалось, был поражен этим строгим выговором, смутившим также и меня и заставившим снова усомниться в искренности юноши, которой я только что поверил. Он в сильном волнении начал ходить по комнате и, подойдя ко мне, стал передо мной на колени и сказал: — Так как Фелиция упрекает меня за мои ошибки в вашем присутствии, то вы должны простить мне их. Ну что же, я действительно ревновал ее к вам, так как думал, что ваша дружба к ней заставит ее забыть обо мне. Разве это не естественно? Разве это преступление? Всякий сын огорчается и чувствует страх, когда его мать вторично выходит замуж. Может быть, это эгоизм, если хотите, но в мои годы не могут быть так же рассудительны и добродетельны, как в ваши. Ведь я еще ребенок, и вы должны были бы разубедить меня, успокоить, сказать мне, что я не буду чужим для моей кузины, а также и для вас… Вы это сделали, я благодарю вас и верю вам. Но почему же она так сухо и злобно говорит со мной? Ведь меня не приучили к этому. Я должен быть ее опорой и целью ее жизни. Так говорила она мне, когда я был маленький и когда она хотела заставить меня быть добрым и послушным. Смотрите же, как теперь она изменилась ко мне? Разве я виноват, что страдаю от этого? — Ну, довольно, — сказала Фелиция. — Будь добр и благоразумен, будь тем, чем ты должен быть, и я по-прежнему дружелюбно буду относиться к тебе, но предупреждаю тебя, что мне это уже не так легко. Проведя с тобой большую часть жизни, я только баловала тебя и никогда не думала о замужестве. Но теперь все изменилось: на мою долю выпало нежданное счастье внушить любовь человеку, гораздо достойнее меня и который заменил для меня теперь всё. Неужели же для того, чтобы не противоречить такому мальчишке, как ты, я откажусь от долга посвятить мою жизнь тому, кто удостаивает меня принять ее? Мы теперь находимся перед ним как перед судьей, и должны объяснить ему все и сказать правду, как бы мы ее сказали Богу. Ты имел дерзкое намерение отговорить меня от свадьбы! Ты мог найти уважительные причины, когда дело касалось Сикста Мора. Я тогда позволяла тебе говорить, потому что для меня это не имело значения. Но когда ты хотел мне доказать, что господин Сильвестр будет смотреть на меня не иначе, как на свою служанку, то я приказала тебе молчать. Ты настаивал, ты рассердился и даже наговорил дерзостей. Ты оскорбил и очень огорчил меня. Я не хотела надоедать господину Сильвестру и потому ничего не сказала ему. Но я думаю, что он догадывался и по своей доброте не хотел расспрашивать меня, а ты меня принудил все рассказать, потому проси у него прощения и более никогда не начинай того же, если хочешь, чтобы я забыла о твоей глупости. Тонино снова заплакал и так искренне раскаивался в своей вине, что окончательно покорил меня. Я внимательно следил за ним, но ни в его разговоре, ни во взглядах, ни в голосе не мог заметить прежней дерзости или лукавства. Это был уже более не тот Тонино, а наивный и ласковый ребенок, которого я любил раньше, чем Фелицию. Чем больше он выказывал раскаивания в своей ревности, тем более она казалась мне невинной и естественной. Я даже хотел выбранить Фелицию, когда мы остались вдвоем. Она была слишком резка и заставила меня играть роль строгого судьи, которая так не соответствовала моим желаниям. Она делала меня смешным и даже ненавистным, меня, который желал только убеждениями действовать на Фелицию и ее родных. По всей вероятности, она ошиблась, приписывая этому юноше такую оскорбительную и неуместную любовь. Разве она не признавалась, что пользовалась этим предположением, чтобы возбудить мою страсть? — Выслушайте, моя дорогая, — сказал я ей, — не следовало бы вам сердиться на меня в такие решительные минуты нашей жизни. Вот вы опять стали такой же скрытной, как и в то время, когда я боялся вашей грустной и надменной улыбки. Я вижу и чувствую, что вчера первый раз оскорбил вас. Но разве это причина, чтобы тосковать и приносить мне жертву, которой я не требую? Вы любите Тонино, вы привыкли к нему и обязаны любить его. Если он невинен, оправдайте его, если же вы нашли в нем вину, то простите его с душевным спокойствием, которого не могут смутить мечты заблудшего юноши. Будем говорить о нем, как о нашем сыне Не позволяйте мне слишком доверять и препятствуйте если я буду несправедлив. Будьте совершенно откровенны, и если найдете, что я стал легковерным после того, как был слишком подозрительным, то предупредите меня об этом. Я не мог добиться от Фелиции удовлетворяющего меня ответа. Она все еще не могла прийти в себя от ужаса при мысли о презрении, которым я угрожал ей. — Дайте мне успокоиться, — сказала она. — Сегодня я еще слишком взволнована. Я не спала ночью и все время плакала: приезд Тонино также поразил меня. Я вообразила, что вы сочтете меня сообщницей и потворщицей. Я так рассердилась на него, так возненавидела, как будто бы он приехал с целью лишить меня вашего уважения и отнять у меня единственное благо, которое осталось у меня на этом свете! Вы меня спрашиваете, были ли у него дурные намерения, но я не знаю и не смею думать об этом. Ведь в них вы осудили бы меня? Вы говорили, что женщина всегда способствует тому влечению, которое мужчина почувствует к ней… Может быть, вы уже презираете меня! Эта мысль сводит меня с ума, и как же вы можете желать, чтобы я дружелюбно обращалась с Тонино, когда я знаю, что его присутствие возбуждало вашу ревность? Зачем вы говорите мне о потребности видеть его и об обязанности любить? Мне кажется, что я возненавидела его с тех пор, как вы из-за него угрожали мне вашим равнодушием. А вы спрашиваете меня, хорошо ли вы сделали, ласково приняв его! Да разве я могу ответить на это? Может быть, если бы я сказала, что нахожу ваш поступок несправедливым, то вы упрекнули бы меня в жестокосердии, а если бы я согласилась с вами — вы подумали бы, что я поступаю нечестно. Я должен был довольствоваться этими уклончивыми ответами, так как знал, что есть натуры, от которых нельзя требовать признания, потому что они сами не могут вполне дать отчета в своих поступках. Я с содроганием почувствовал, что между нами лежит громадная пропасть. Но не образовалась ли она по моей ошибке и не сам ли я подготовил ее? Может быть, я своим педантизмом и логикой охладил и покрыл терниями радостный и усыпанный цветами путь любви? Разве я мог желать, чтобы у Фелиции не было никаких недостатков? Разве я не мог примириться со слабостями ее страдальческой души, которая так бесхитростно и с таким доверием отдавалась мне? Наконец, разве я сам настолько безупречен, что смею требовать совершенства от нее? Рассуждая таким образом, я сам осуждал себя. Для общего спокойствия я решил побороть свою требовательность и во всем подчиняться снисходительности и доброте. Поэтому я решил оставить Тонино жить с нами и не обращать на него внимания. Я чувствовал, что в глубине моего сердца остается живая рана, которая никогда не закроется. Но надо было пересилить в себе эту боль, не заставляя других незаслуженно страдать от нее. Я льстил себя надеждой, что приобрету эту способность, и действительно достиг этого. В первый день приезда Тонино судьба внесла неожиданную перемену в мои тайные волнения. Ванина, пастушка коз, стала взрослой, хорошенькой блондинкой со стройным станом, очень грациозной, с красиво округленными, как у этрусских статуй, руками. В той стране говорили, что она была незаконной дочерью старика Монти, и хотя это и было очень неправдоподобным, но не представляло из себя ничего невозможного. У нее был прекрасный цвет лица, свойственный германской расе, к которой принадлежала ее мать, но по ее звучному и нежному голосу, по ее грациозным и изящным движениям ее можно было принять за итальянку. Предположение таинственного родства к ней очень нравилось Тонино; Жан же, говоря со мной, отзывался об этом очень беспечно и лаконично, употреблял выражение «может быть». Он был крестным отцом этого ребенка и из сострадания приютил ее у себя, когда она еще была совсем маленькой. Фелиция, не позволявшая смеяться над своим дедом, долго держала ее в отдалении, чтобы не дать повода к толкам. Поэтому воспитание Ванины было очень запущено, а манеры очень грубы. Однако в продолжение двух лет благодаря ее частым беседам с Тонино стало заметно, что ее умственные способности развились, манеры и разговор сделались более сдержанными, но одновременно с этим она стала очень рассеянной; Фелиция, следившая за ее поведением, сделала ей выговор, после чего девушка, боясь быть выгнанной, снова с рвением принялась за работу. Она сумела всем угодить: приносила большую пользу на ферме, была незаменима даже дома, и ее хозяйка стала очень дружелюбно относиться к ней, в особенности после того, как отъезд Тонино положил конец подозрениям относительно их близости. Ванина на рассвете выгоняла свои стада на противоположную сторону холма и потому ничего не знала о неожиданном приезде Тонино. В эту минуту, когда мы садились за обед, она вошла в зал, побледнела, подавила в себе крик и почти без чувств упала на стул. Эта наивная радость, от которой она старалась тот час же оправиться, выдала ее ярким румянцем и заставила улыбнуться Тонино. Он подошел к ней, без церемоний поцеловал ее и начал, как и в прежние годы, называть ее на «ты». Через минуту он встал, чтобы помочь ей прислуживать за столом, и по мере того как обед продолжался, нам подавали все хуже и хуже. Случалось даже так, что нам ничего не подавали, настолько эти молодые люди оживленно болтали на кухне. Фелиция встала и позвала Ванину, но не бранила ее, а обвиняла во всем Тонино, которому наконец приказала сесть за стол и вести себя приличнее. — Если ты так начинаешь, — сказала она, — то я вижу, что буду снова недовольна тобой, как и в прошлом году. Ты тогда заставил меня отослать эту девочку. Я ее принимала тогда за безнравственную кокетку, но теперь я убедилась, что она добра и благонравна, но очень простодушна. Если ты будешь отвлекать ее от работы, я прогоню тебя! — Опять та же угроза! — со сдержанной дерзостью воскликнул Тонино. — Я теперь вижу, что должен буду следить за каждым моим словом и поступком. Знай же, кузина, я от всей души люблю Ванину. Прежде опровергал это, и действительно мне казалось, что она мне не нравится. Но в мое отсутствие я все время мечтал о ней и теперь, увидев ее такой хорошенькой и любящей меня… как брата, я решил, что любовь этой пастушки все-таки лучше, чем ничего, так как вы разлюбили меня, и принимаю ее как дар, ниспосланный мне в утешение. — Люби ее, — сказала Фелиция, — она достойна этого, но если ты осмелишься говорить ей о любви… — Знаю, вы прогоните меня! Я осмелюсь заговорить с ней о любви, а вы все же не прогоните меня! — Ты, значит, рассчитываешь жениться на ней? — Да, кузина… с вашего позволения, а также и господина Сильвестра. — И ты об этом болтал с ней целый час на кухне? — Нет, я все время говорил о моей дружбе. Мне надо было раньше просить вашего разрешения, чтобы заговорить с ней о браке. Вы согласны на него? — Я, да, охотно! Но мне хочется, чтобы ты узнал мнение господина Сильвестра. — Я подожду… если только господин Сильвестр не сейчас же соблаговолит сказать мне его. — Мое дорогое дитя, — сказал я ему, — я могу только дать вам несколько отцовских и дружеских советов. И очень вам благодарен, что вы позволяете мне сделать это. Но разрешите мне также задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста, — сказал он, целуя меня. — Итак, — продолжал я, — не кажется ли вам, что вы слишком молоды для женитьбы? — Я действительно молод, но ведь и Ванина тоже молода. Мне двадцать два года, ей же шестнадцать. Я достаточно благоразумен для нее. Если бы я был старше, то она могла бы найти, что я слишком стар. — Но ведь брак — это такое серьезное дело! — Да, для вас и для моей кузины очень серьезное, но не для таких молодых, как мы, которые ничего не знают, ничего не имеют и не привыкли ломать себе головы над решением житейских задач. Мы будем работать, любить друг друга, не будем думать ни о чем другом и наслаждаться счастьем. Фелиция хотела что-то заметить ему, но он перебил ее: — Кузина, — сказал он, — позвольте заметить вам, что вы ровно ничего не понимаете в этом деле. Вы слишком много требуете от меня. Прежде вы читали мне длинные нравоучения, и я выслушивал их, доверяя вам, как Богу. Это было в то время, когда вы хотели сделать из меня что-то очень хорошее и мечтали в будущем женить меня на богатой мещанке, но я раздумал. С тех пор как вы перестали заботиться обо мне, я сказал себе, что женитьба на богатой фермерше или же на бедной пастушке будет одинаково унизительна для дворянина, и потому мне следовало найти себе какую-нибудь княжну или же довольствоваться пастушкой, а так как, конечно, княжна не свалится для меня с неба, то я решил выбрать пастушку, которая понравится мне. Дайте же мне Ванину, я буду жить с ней на горе и спустя несколько времени ручаюсь, что у вас будут превосходные козы и прехорошенькие маленькие племянники, которых вы будете, может быть, любить так, как прежде любили меня, когда я был послушным… Слушая Тонино, я улыбался. В его характере было что-то симпатичное! Что же касается Фелиции, она слушала его довольно холодно и, видимо, была недовольна его легкомыслием. — Вы слишком доверяете ему, — сказала она мне, — и в этом ваша ошибка. Этот мальчик смеется над всем, и я не особенно верю его хорошим намерениям относительно Ванины. — Конечно, когда дело касается меня, — возразил Тонино, — то вы сомневаетесь во всем, даже в моей чести; но вы, господин Сильвестр? — Я верю вам; но сознаете ли вы, что дали клятву в ту минуту, когда просили разрешения жениться на этой девушке, о которой заботится ваша кузина? — Будете ли вы спокойны, если я вам отвечу утвердительно? — Да, я буду совершенно спокоен. — Хорошо, я говорю вам «да» и клянусь, что буду почитать Ванину и беречь ее до тех пор, пока она не сделается моей женой. Он сдержал слово и, выказывая этой девушке искреннее расположение, ни разу не заставил ее покраснеть. Из боязливой и застенчивой Ванина стала спокойной и веселой и, казалось, торжествовала при мысли о законном супружестве. Было очевидно, что Тонино обещал жениться на ней и она была уверена в нем и гордилась любовью, которую внушила ему. Все это могло успокоить тяжелое воспоминание о моей ревности и даже совершенно уничтожить ее, если бы Фелиция доверяла намерению этих детей повенчаться в одно время с нами. Но она упорно думала, что Тонино относится к этому несерьезно, и поэтому с горькой насмешкой говорила с ним. Я начинал даже упрекать ее в несправедливости. Тонино жаловался на нее со своим обычным добродушием, которое лежало в основе его характера и делало его обращение таким приятным. Он не был ни вспыльчив, ни злобен: всюду он вносил такое сияние радости и выказывал мне такое искреннее расположение, что положительно трогал меня. Он спрашивал о причине недовольства Фелиции и всегда делал это так ласково и вежливо, что я был принужден оправдывать его и беспрестанно примирять их. — Я нуждаюсь в вашем расположении, — сказал он мне, — потому что, как вы видите, кузина холодно и с пренебрежением относится ко мне. Ее сердце закрыто для меня с тех пор, как вы царствуете в нем, и это вполне справедливо. Я ничего более, как ветреник и невежда, между тем как вы — необыкновенный человек, почти ангел. И потому, замечая строгость кузины, я утешаюсь, слыша ваши ласковые слова. Вы можете сделать из меня все, что хотите: друга, собаку, раба! Вы человек чуткий, я также, поэтому мы будем с помощью взглядов и улыбок понимать друг друга. Ваше приказание доставляет мне удовольствие; я счастлив, что могу жить для вас и вблизи вас. Я утешаю себя тем, что Фелиция может любить только одного. Когда она меня считала своим сыном, с ней нельзя было говорить о замужестве; теперь же, когда она предалась вам всей душой, ей нельзя более напоминать обо мне. Впрочем, теперь это не огорчает меня, потому что вы мне заменяете отца. Я привыкну видеть в Фелиции только двоюродную сестру, не сожалеть о прошлом и повторять себе то, что я уже сказал: я выиграл при обмене, так как вы лучше ее, лучше всех на свете. — Даже лучше Ванины? — смеясь заметил я ему. — Я обожаю Ванину, — отвечал он, — но если вы запретите мне думать о ней, я разобью свое сердце, но все же повинуюсь вам. Я тогда скажу себе, что вы не могли быть несправедливым, что вы, как Бог, ясно читаете в сердцах людей и для моего же счастья заставляете меня страдать. Я старался проследить за его привязанностью к Ванине и заметил, что его любовь к ней если и не носила возвышенного характера, то во всяком случае была очень искренна. — Пастушка не особенно глупа, — сказал он мне, — она только простодушна. Она запоминает все, о чем говорят, и даже, может быть, слишком, потому что безусловно верит всему. Если вы скажете ей, что я магическим словом могу удержать ее на воздухе, то она вниз головой бросится с вершины горы. Это хотя и глупо, но восхищает меня, и я не желаю, чтобы она сделалась более ученой или любознательной. Я ее люблю такой, какая она есть, и ее красота совершенно в моем вкусе; люблю только блондинок может быть потому, что сам слишком смугл. Я до сумасшествия влюблен в ее нежный цвет лица и в ее лазоревые глазки. Конечно, буду чувственно любить мою жену, я вас предупреждаю, поэтому не осуждайте меня. Я молодой человек и никогда не удовлетворял своих страстей. Если бы вы спросили меня «почему», я затруднился бы ответить. Я насмешлив и вследствие того, может быть, слишком разборчив и щепетилен для человека в моем положении. Грубые манеры оскорбляют меня и возбуждают смех а когда я замечаю тупость ума при красивом лице, то оно теряет для меня свою прелесть. У Ванины в жилах течет благородная кровь, я в этом не уверен, но предполагаю. Она с неподражаемой грацией исполняет самые прозаические работы; артистическое чувство никогда не бывает оскорблено, когда я смотрю на нее и у меня является страстное желание обладать ею, но я помню данное мною слово и почтительно отношусь к ней. Это прекрасно! Борьба, которую я веду сам с собой, усиливав мою любовь и, может быть, даже придает ей страсть. Я ручаюсь, что мы с ней проведем дивный медовый месяц! — И, добродушно смеясь, он добавил: — Друг, я вам желаю того же! Вольнодумство вместе с невинностью и цинизмом, с которым этот юноша говорил о моем браке с его приемной матерью, иногда очень смущали меня. В Тонино не доставало скрытности и глубины, которой характеризуются люди с возвышенными взглядами. В нем иногда появлялись какая-то сухость и скептицизм, в которых он сам не отдавал себя отчета, но которые выказывали его неуважение к себе и к другим. Трудно было его заставить понять это, потому что он еще более, чем Фелиция, не умел внимательно слушать и вникать в смысл слов в известном направлении мыслей. Грубый реализм проглядывал сквозь его милую откровенность, и он заставлял меня, пятидесятилетнего человека, краснеть, когда предавался своим сладострастным мечтам. Любовь этих детей рядом с нашими строгими отношениями с Фелицией отличалась простотой. Иногда я спрашивал себя, не была ли любовь молодых одна только законна, и не результат ли общественного развращения изысканная скромность, незнакомая простым нравам? Желая выказать невесте уважение, не уничтожаю ли я пылкое и страстное чувство, которое жило в моем сердце. Однажды утром Тонино пришел ко мне в сильном смущении. — Я хочу исповедоваться перед вами, — сказал он, я должен жениться на Ванине. Мы не будем больше ждать. Кузина не хочет устраивать праздников до конца траура, я совершенно сочувствую ей, но ведь нас можно обвенчать с Ваниной и без музыки. А праздник и бал отложите до вашей свадьбы. — Но погодите, мой друг, разве вы не сдержали вашего слова? — Я чувствую, что более не в состоянии сдержать его. С каждым днем я все продолжительнее ласкал мою невесту, она отвечала этим ласкам. Необходимо совершить над нами брачный обряд, или я нарушу клятву. — Я поговорю об этом с вашей кузиной. — Хорошо. Но нельзя ли не советоваться с Фелицией, а просто сказать ей, что вы желаете этого? — Я никогда, мое дорогое дитя, не говорю с ней таким тоном!.. — Напрасно. Вы никогда не поймете ее, если не будете властно обращаться с ней. Она не покоряется просьбе, но любит, когда ей приказывают. — Позвольте мне вас уверить, что я лучше знаю ее и правильно сужу о ней. — Не думаю, впрочем, конечно, это дело касается только вас. Но я прошу вас, не вынуждайте меня нарушить данную вам клятву, а также и ослушаться моей кузины, к тому же она уже теперь косо смотрит на мою любовь к Ванине. — Почему вы думаете это? — Потому что она ревнует меня. Мне показалось, что я не так расслышал, но Тонино снова повторил то же самое; — Да, да, она ревнует меня. Разве это удивляет вас? — Да, конечно, — отвечал я, стараясь скрыть мое волнение. — А я удивляюсь вашему изумлению, — не смущаясь возразил Тонино. — Вот видите, вы совсем не знаете ее! Моя кузина рождена ревнивой, и если я ревновал ее к вам, то ей не следовало упрекать меня за это, потому что она сама подавала мне в этом пример. Когда я был маленький, она не могла переносить, когда меня ласкали, и часто говорила мне; «Меня никто не любит, и потому твоя любовь должна заменить мне всех. Но если ты кого-нибудь предпочтешь мне, то знай, что эти убьешь меня». По мере того как я рос, она стала меньше любить меня и забыла свои слова; но все же привычка властвовать над всеми моими желаниями осталась у нее. Как все подозрительные люди, она деспотична. Когда я немного запаздываю, исполняя ее приказание так как в это время оказываю какую-нибудь услугу Ванине, она более уже не выходит из себя, так как вы отучили ее от этого; но после дуется на нас и холодно говорит в продолжение трех дней. Вот уже пятнадцать лет как она стала завидовать власти, свободе и счастью других, и все это произошло вследствие ее ошибки. — Ее ошибки! — воскликнул я. — Тонино, вы смеет произносить это слово? Разве вам было известно, что ваша приемная мать ее сделала в своей жизни? — Как же я мог бы не знать этого? Я сам качал ее ребенка. Тогда мне говорили, что она вдова, и это было совершенно напрасно, потому что я не расспрашивал, но после, когда я жил здесь, то, конечно, узнал, как и все, что у нее никогда не было мужа. — Вы должны были бы не слушать и не верить когда вам говорили, а также и сегодня не упоминать об этом. — Но позвольте вам сказать, господин Сильвестр что вы немного преувеличиваете, вы судите, по всей вероятности, как человек высшего общества. Мы же крестьяне, ничего не находим в этом серьезного и говорим: «Это несчастные», а потому легко прощаем их и не считаем нужным не знать и молчать о них. Но видя, что я оскорблен и опечален до глубины души, он продолжал: — Господин Сильвестр, я очень сожалею, что при чинил вам горе, но разве это моя вина? Я простой пастух, вы же аристократ и философ, и потому мои мысли и чувства не могут быть такие же, как у вас. Знаете, вы находитесь в неподходящем для вас обществе. Никогда вам не удастся привыкнуть к грубости наших слов и мыслей, и как бы Фелиция ни старалась развить свой ум и исправить манеры, чтобы более подходить вам, она всегда будет смущать вас своими привычками, так как, с одной стороны, она внучка графа дель Монти, с другой же — дочь Моржерона, который бил свою жену, когда бывал в дурном настроении или напивался. И кроме того, с ней случилось это несчастье, о котором вы не хотите говорить, но которое ожесточило ее сердце… Я не сомневаюсь, что вы исправите ее, но это будет вам довольно тяжело и к вашей ежедневной работе прибавит еще новый труд. Вы обладаете большими знаниями, силой и умом, но вам будет неприятно иметь дело с такими необразованными людьми, как мы… Простите же, что я пробудил воспоминание, которое вам так неприятно, и позвольте вам сказать, что кузина не любит мою невесту, потому что она не сделала «ошибки», а я не хочу, чтобы это случилось с ней по моей вине. Убедите же мою кузину согласиться на нашу свадьбу. Вот все, что я хотел сказать вам; пожалуйста, не сердитесь на меня, я скорее согласился бы умереть, чем оскорбить вас. Таким образом меня мучил Тонино своим добродушием и здравой проницательностью. Я снова начинал подозревать его в вероломстве и думать, что все его объяснения, по-видимому случайные, он ловко приводил для того, чтобы наказать меня за любовь Фелиции, которой он домогался, а может быть даже и пользовался прежде меня… Правдивость моего характера восставала против такого ужасного предположения, и я думал: «Нет, это невозможно!» Но чем же другим я мог объяснить себе поведение Фелиции? Может быть, нарочно нарушая семейный кружок, в котором у Тонино было свое законное место, она желала наказать меня за мои подозрения? Она, казалось, нарочно хотела провиниться перед ним, передо мной и даже перед самой собою и доказать мне, что не следовало играть ее гордостью и заставлять ее оправдываться. Казалось, все должно было гибнуть вокруг нас! Тонино — предмет ее притворного презрения — жаловался мне, а может быть, и хвастал, что возбуждает в ней ревность! Были дни, когда мне казалось, что я ясно понимаю всю эту интригу: Тонино притворялся увлеченным Ваниной, чтобы рассердить Фелицию и привлечь ее в свои сладострастные объятия. Ванина сама соглашалась на эту бесчестную сделку, чтобы угодить своему жениху и заставить потом Фелицию платить за молчание. Фелиция же, находившаяся во власти какого-то рокового заблуждения, готова была тем скорее попасть в западню, чем более старалась избежать ее и с гордостью противилась ей. Она не любила ни меня, ни Тонино. В ней таилось чувство оскорбленной гордости и недовольства против своей судьбы, и потому у нее являлась потребность отомстить и восстановить свое честное имя. Для удовлетворения тщеславия ей очень хотелось стать моей женой. Для удовлетворения чувств ей хотелось из Тонино сделать своего раба. Я боролся против этого кошмара, но он даже во сне преследовал меня. Когда утром мне приходилось услышать величественные и чистые звуки скрипки, на которой играла вдохновенная Фелиция; когда мне удавалось видеть пастушку с ее голубыми глазами и замечать ее грациозный жест, которым она приказывала собакам собирать стадо; или же, наконец, когда я, с беспокойством разыскивая Тонино, заставал его на коленях перед Ваниной, которая смеясь косматила рукой его густые черные волосы, тогда я начинал упрекать себя за безумство, и мне казалось, что свежий ветерок, прилетевший из Аркадии, касался моего пылающего чела и нежные голоса смеялись около меня над моими мрачными мыслями и больным воображением. Одно мое страдание вызывало другое, и я чувствовал себя все более и более удрученным. Советуя Фелиции ускорить брак Тонино, я, конечно, старался не говорить ей этого повелительным тоном, но мой дрожащий голос и взгляды выдавали мое желание не встретить с ее стороны сопротивления. Мне казалось, что Фелиция отвечала мне утвердительно с тайным отвращением и сама дрожала при этом от злобы и страха. Я довольно опрометчиво спросил ее, почему она колеблется. — Я вовсе не колеблюсь, — отвечала она. — С какой стати вы спрашиваете меня об этом? Я не мог ответить ей. — Вы чем-то озабочены? — продолжала она. Я ей солгал, придумав какую-то причину моей тревоги. Она назначила свадьбу Тонино в последних числах месяца. Времяподходило к 15 апреля, и стояла весна в полном разгаре. Плодовые деревья рано покрылись обильным цветом. В деревне все блистало и пело! Ванина, опьяненная взглядами и улыбками своего молодого жениха, казалось, задыхалась от счастья. Тонино же, не теряя своего немного насмешливого хладнокровия, старался сдержать в своей груди чувство нетерпения и порывы таинственной радости. Я не мог не любоваться их наивной, взаимной страстью. Фелиция же казалась спокойной, решительной и непроницаемой. Она с материнской заботой и со своим обычным великодушием занималась приданым молодых. Ванина стеснялась, что Фелиция целыми днями шила, метила и гладила для нее, и потому приходила помогать ей, но невольно она прилежно и внимательно работала только над вещами своего жениха. Она мало заботилась о своем белье, и потому Фелиция часто должна была исправлять ее ошибки. Она это делала терпеливо, почти не разговаривая, едва улыбаясь, озабоченная тем, чего не объясняла нам и, по-видимому, не могла объяснить. Наконец настал этот торжественный день. Невеста, блиставшая молодостью и нарядом, придя вместе с Тонино, просила на коленях Фелицию и меня благословить их. — Тебя, — сказала Фелиция, целуя ее, — я благословляю от всего моего сердца. Мне, не в чем упрекнуть тебя: ты бесхитростный и бесхарактерный ребенок, но я с трудом благословлю твоего мужа. Ему следовало бы дождаться окончания траура в том доме, где мой брат обращался с ним, как с сыном. Причины, выставленные им, чтобы избавиться от обязанности чтить память и оплакивать бедного Жана, — самые низкие и эгоистичные! Я уступила ради тебя, из сожаления к твоей неопытности и слабости. Я не ждала от тебя особенных добродетелей и не имею даже права требовать их, потому что я не так заботилась о твоем воспитании, как это, может быть, должна была бы сделать; о нем же… Но не будем говорить об этом. Любите друг друга и будьте счастливы. Я нашел речь Фелиции необоснованно грубой и мало подходящей для слуха молодой девушки, которую она считала невинной. Я не знаю, поняла ли ее Ванина, но она сильно покраснела и заплакала. Тонино крепко пожал ей руку, ни слова не ответил Фелиции и, когда она поцеловала их обоих, он увел невесту, нашептывая ей что-то на ухо, как бы успокаивая ее и говоря: «Ты ведь знаешь, она ревнива, но будь спокойна, и я тебя не дам в обиду». Говорил ли он так или это подсказывало мне воображение? Я посмотрел на Фелицию. Она была бледна и гневным взором следила за молодой четой, не замечая ничего другого. Значит, я и Тонино не ошиблись. Она ревновала настолько сильно, что не думала даже более скрывать это от меня! Но какого же рода была ее ревность? Я хотел узнать это. Забыв мою обычную деликатность, я заговорил резко и даже жестоко. Я начал порицать то, что произошло, и резко задавал вопросы. Фелиция дрожала, невнятно отвечала мне и почти теряла сознание; но я был неумолим, и она вскоре покорилась моей воле. — Ну что ж, — отвечала она, — да, я завидую этой молодости, невинности и чистоте, которые служат мне живым упреком. Но я жалею не Тонино, а вас, когда смотрю на Ванину. Я нахожу, что она слишком счастлива, потому что этот юноша так пылко любит ее, а вы смотрите на нее с таким уважением, как будто бы она заслужила его! Что сделала она, чтобы казаться вам такой святой? Без меня, без моих угроз Тонино давно заставил бы поблекнуть эту случайную чистоту, и только благодаря мне она могла сегодня приколоть себе померанцевые цветы. Как же вы можете требовать, чтобы я не возмущалась тем победоносным видом, с которым Тонино поведет ее в церковь? Следовало бы хорошенько сбавить им спеси! Вы же браните меня за попытки сделать это! Говоря мне, что я не имею права читать нравоучения, вы хотели жестоко унизить меня. И кроме того, вы меня спрашиваете, почему я не радуюсь счастью Тонино: оттого ли, что я недобрая мать, или оттого… Нет, я не хочу добираться до глубины вашей мысли. Мне кажется, что я в ней найду то презрение, которое тяготеет над моей бедной головой и убивает меня. Она горько плакала, и я должен был утешить, разубедить и успокоить ее. Тонино нетерпеливо звал меня. Нас ждали, чтобы ехать в церковь. Он вошел и, увидев Фелицию в слезах, посмотрел на меня своими выразительными глазами, которые ясно говорили: «Я знал, что вы не можете сделать счастливыми один другого». Я увлек Фелицию, рассерженную и сконфуженную за ее страдающее лицо, которое еще носило следы слез. Ванина, как бы желая попросить у нее прощения за то, что она одержала над ней верх, смотрела на нее отчасти с сожалением, отчасти с гордостью. Когда священник благословил их союз, новобрачные, не имевшие других поезжан, кроме нас, свидетелей и домашней прислуги, поблагодарили меня и Фелицию и просили нашего разрешения провести три дня у матери Ванины, которая жила в горах. Фелиция холодно согласилась на их просьбу и едва им сказала: «Прощайте». Они отправились одни, держась за руки, но прижавшись друг к другу так крепко, что, казалось, составляли одно целое. Тонино обернулся, чтобы послать мне поцелуй, и указал на майское солнце, как бы призывая его в свидетели своего счастья. Я пробовал рассеять печаль Фелиции. — Эти дети неблагодарны, — сказала она мне. — Я, признаюсь, не ожидала, что они сегодня покинут дом. — Это не значит покинуть дом, уезжая на три дни. — Они удалились навсегда, будьте в том уверены. Они потихоньку от нас составили проекты относительно их будущей жизни. Мать Ванины дурно ведет себя, и если Тонино не потерял рассудок, то, конечно, свой медовый месяц не будет проводить у нее. — А между тем они отправились по направлению к ее дому. — Они поехали к ней, чтобы утешить ее, я нанесла ей оскорбление, запретив присутствовать на свадьбе. — Это обязанность Ванины. Какова бы ни была ее мать… — О, вы гораздо снисходительнее к большим грешницам, чем я! — Я не снисходителен, но вы должны были быть такой по отношению к этим молодым людям. Они должны наслаждаться счастьем без борьбы с вами, упрекающей их в эгоизме. Они отдадутся любви в каком-нибудь шалаше, где забудут все остальное. — Даже смерть бедного Жана? — Конечно, это их право и даже, может быть, их обязанность. Бог создал из любви такой великий и могущественный закон, которому надо уметь подчиняться, не думая ни о прошедшем, ни о будущем. Птицы, которые вьют сегодня себе гнезда, не спрашивают о том, что гроза может завтра разрушить их. Отнесемся же с уважением к капризу наших детей и, так как они желают уединения, подумаем лучше о том, чтобы на лето приготовить им удобное помещение в горах. Разве это не было вашим намерением, а также и Тонино? Разве вы ничего не решали? — Ничего. — отвечала Фелиция. — Но почему же? — Я ждала вашего приказания. Если бы я решила что-нибудь без вас, вы бы могли дурно истолковать это. Я достиг того, что рассеял и развеселил ее своими проектами. Те рассуждения, которые я представлял ей проводя с ней недели и месяцы, казалось, покорили ее, но потеряли всю свою силу после того, как я невольно оскорбил ее любовь и самолюбие. Она была как бы нравственно унижена. Ее можно было пробудить, заставляя заняться разнообразными домашними обязанностями и трудом. Она относилась ко всему этому с безграничным самоотвержением, которое было отличительной чертой ее энергичного характера. После того как я сказал ей, что надо упрочить свободу, достоинство и благосостояние молодой четы, она ответила: — Ну конечно, я сама много думала об этом, но ждала вашего поощрения. Наконец все готово! Правда, не окончен еще срок аренды той большой фермы в Вервале, которую я дала в приданое Тонино, но я знаю, что за небольшое вознаграждение фермер тотчас же уступит ее нам. Она требует поправок, а у меня в сарае есть готовый сруб и камень, недавно привезенный из каменоломни. Я не хотела говорить об этом нашим молодым. Мне бы хотелось, чтобы они были более скромны, и вместо того чтобы ждать от меня подарков и забот, как нечто должное, Тонино выразил бы мне какое-нибудь желание. Он же не подумал сделать этого и, казалось, хотел сказать, что с того времени, как он обладает молодой и красивой женщиной, влюбленной в него, ему больше ничего не нужно на земле, и я ничего не могу прибавить к их счастью. Он избегал говорить со мной о своих проектах. Не рассчитывал ли он продать ферму, чтобы поселиться вдали от нас? Может быть, если я затрачусь на исправление дома, он скажет мне, что это было бесполезно! — Все же пойдемте смотреть, — отвечал я ей, — какие средства нужно вложить, чтобы поддержать ферму; после мы посоветуемся с Тонино. — Таким образом вы не знаете, в каком виде теперь этот дом? — спросила меня Фелиция, направляясь со мной к ферме, которая находилась в часе ходьбы в горах. — Разве вы никогда не гуляли там? — Редко. Мне не хватало времени: работа внизу поглощала все дни, вы сами знаете это. Кроме того, эта ферма годится для пастушеской жизни, которой не занимался Жан, да и хорошо делал. Вас, так прекрасно понимающей это дело, было совершенно достаточно. Ферма недурна, и земля представляет отличные пастбища, которые дадут значительный доход. Выслушав меня, она сказала: — Может быть, вы находите, что я уступила Тонино слишком большое место? — Нет, я не нахожу этого. Супруги молоды, у них будут дети. — Да, конечно, — отвечала она. — Они будут счастливы и сумеют сберечь их. Я заметил слезы на ее щеках. Это было в первый раз, что она при мне оплакивала свою дочь. Она всегда говорила о ней с угрюмой скорбью и теперь старалась скрыть от меня свои слезы. — Плачьте, — сказал я ей. — Будьте женщиной, будьте матерью. Я вас люблю теперь более, чем в те минуты, когда вы раздражаетесь и сердитесь. — Но разве вы не презираете того воспоминания, которое сокрушает меня? — Нет, когда вы плачете, я не презираю прошлого. Слезы смывают все, и истинное горе заставляет уважать себя. Она вытерла слезы моей рукой и поцеловала ее, бросив на меня ясный и глубокий взгляд, в котором выражалась вся энергия и страсть ее души. — У меня было два горя в жизни, — сказала она, — смерть моего ребенка и брата. В тот день, когда вы полюбите меня так, как я люблю вас, я позабуду о них. — Зачем же забывать их? — сказал я ей. — Горе полезно прекрасным душам, и я охотнее разделю его с вами, чем забуду о нем. Вы приобретете мое расположение, будьте в этом уверены, скорее нежностью, чем энергией. Я желал бы вас видеть настолько слабой, чтобы быть в состоянии посвятить вам мою жизнь. Она вдруг воодушевилась, перестала протестовать против выражения моей любви к ней и с усердием и почти оживлением начала заниматься собственностью Тонино. Она хотела все сломать, чтобы все перестроить, и концом ветки начала рисовать на песке план. Я любовался ее рассудительностью, ее умением вдаваться в подробности и ее верным и быстрым взглядом. По мере того как она развивала свои планы, я составлял ей смету. Когда я достиг значительной суммы, она сказала: — Нет, я не дойду до такой цифры. Это будет слишком дорого, и вы будете бранить меня. — Никогда, — отвечал я. — Все ваши дела в таком порядке, что вы всегда имеете право быть великодушной. — Но ведь я затрагиваю ваше состояние, господин Сильвестр. — Нет, оно ваше! У меня его никогда не было, не желаю иметь его. Я обвенчаюсь с вами, но не воспользуюсь вашим состоянием. Так должны были всегда поступать супруги, когда один имеет много, другой ничего. — Почему же это должно быть? Я колебался ответить ей, и она воскликнула: — О да, я понимаю: вы не хотите, чтобы думали, что вы женитесь на падшей девушке из-за ее богатств. — Мне это и в голову не приходило, — сказал я. Но если вы так думаете, то я согласен с вашим предложением. Я хочу, чтобы все узнали, что я женюсь только из любви к вам. Она была в восторге от моего ответа и снова принялась за свои планы, болтая с фермером и вычисляя сумму, которую хотела дать ему в вознаграждение. Солнце уже начинало садиться. Мы все еще находились там, как вдруг увидели в нескольких шагах от нас на тропинке Тонино и Ванину. — О, посмотрите, — воскликнула Фелиция, — они уже здесь! Они явились, чтобы посмотреть на свое жилище. Молодые совсем не так опьянены своей любовью, как вы предполагали, потому что уже начали заботиться о завтрашнем дне. — Они следуют законам природы. Во время весенней песни любви они подумывают уже о своем гнездышке. — Как, кузина, вы здесь? — сказал Тонино, подходя ближе. — Да, — ласково отвечала она, — я пришла сюда приготовить твое гнездышко, как говорит господин Сильвестр. Хочешь ли ты жить здесь? — Да, конечно, если только у меня хватит средств исправить все, когда отсюда выедет фермер. — Фермер уедет завтра, и с того же дня начну здесь работать. Посмотри на план, пока его еще не смел ветерок. Вот здесь ваша большая комната, в которой могут поместиться кровати и колыбели… Вот зал чтобы беседовать, обедать и заниматься музыкой… Тут будет хлев с двойными стойлами, разделенный на три части — для коров и для телят двух возрастов. Там сеновал, сушильня, пчельник, колодец и так далее. — Но ведь это мечта! — воскликнул Тонино. — Мне придется работать двадцать лет, чтобы заплатить за все это! — Вы ничего не должны платить, — сказала она ему. — Это вам свадебный подарок, сверх приданого. Побуждаемый ли искренним чувством или же под влиянием импровизации своей артистической натуры, Тонино, падая на колени перед Фелицией, воскликнул: — Мать, значит ты еще любишь меня! Побежденная Фелиция доверчиво и сердечно поцеловала его. — Если ты станешь таким же добрым и искренним, каким ты был раньше, то я так же, как и прежде, полюбила бы тебя, — сказала она ему. — Любите же меня, как прежде, — отвечал он, — потому что я исправился от моих безумств и стал наивен, каким был в двенадцать лет. Этим я обязан ей, — прибавил он, указывая на Ванину. — Сегодня утром я еще был зол, она выбранила меня и сказала, что я неблагодарен и несправедлив. Я почувствовал, что она была права, раскаялся, и если вы нас теперь видите здесь, то только потому, что мы шли просить у вас прощения. С этого дня в семье воцарился покой. Тонино перестал быть заносчивым, угрюмость Фелиции исчезла. Добрая и ласковая Ванина, казалось, была связующим звеном. Между ними состоялся как будто бы безмолвный договор, условием которого было поставлено, чтобы молодые не жили у нас до вступления во владение своим домом. Я сожалел об этом, так как судил о деле иначе, чем Фелиция. Любовь молодой пары казалась мне настолько святой и серьезной, что не могла бы нарушить наш траур. Фелиция ничего не объясняла мне по этому поводу, чтобы не иметь со мной пререканий, но Тонино тихо говорил мне: — Позвольте мне устроиться так. Я знаю, что наша любовь оскорбляет кузину по отношению к ее брату. Это довольно безрассудно, потому что нет причины допустить через два или три месяца то, что было запрещено сегодня; точно так же нельзя горевать ровно целый год, пока носят траурные одежды, и забыть печаль так же скоро, как сбрасывают изношенное платье. Но во всяком случае таково мнение моей кузины и следует уважать его. Она переносила бы терпеливо мое присутствие, была бы добра с моей женой, но внутренне стала бы волноваться, а мне не хотелось бы причинять ей неприятности. В ожидании переселения в Верваль Тонино с женой отправились путешествовать. Фелиция поручила ему взглянуть на ее владения в Ронской долине. Воспользовавшись этим, он проехался по всей Швейцарии и пробыл в отсутствии три месяца. Он должен был возвратиться к нашей свадьбе, назначенной на июль. Несмотря на желание снова увидеть этого ласкового ребенка, я должен был сознаться, что его отсутствие благоприятно действовало на меня и на Фелицию. Жизнь наша стала спокойной и приятной, у Фелиции смягчился ее суровый характер, и ее ум и сердце открылись для любви. Если в лета Тонино и Ванины легко сойтись характерами, то в годы Фелиции и мои и после горьких житейских опытов нужно много мудрости и усилий, чтобы понять друг друга. Минута нашего духовного соединения настала. И когда нас обвенчали, я остался довольным собою и ею: я чувствовал сдержанную страсть, она была стыдлива и доверчива. Наш медовый месяц не походил на детский порыв веселости при виде цветов; то было время глубоких и интимных радостей под влиянием жарких и чудных лучей летнего солнца. Мы должны были обвенчаться, не дождавшись Тонино. Накануне назначенного для его возвращения дня он прислал нам письмо, в котором извещал, что Ванина упала и, боясь опасных последствий, должна будет пролежать несколько недель. Он возвратился только в начале осени со своей женой, которая была совершенно здорова и в приятном ожидании материнства. Он мне признался, что с ней не было никакого несчастья, но что он боялся своим присутствием стеснить Фелицию. — Я не всегда могу объяснить себе все странности ее настроения, но я их чувствую и отгадываю даже ранее, чем она высказывает. Верьте мне, что я хорошо сделал, не присутствовав на ее свадьбе. Ведь так мало нужно, чтобы смутить ее! Все к лучшему, не сомневайтесь в этом! Я чувствовал, что Тонино прав, но так же, как и он не мог объяснить почему. Он поселился с осени в Вервале, и мы редко виделись с ними. В то время начались большие работы: пахали землю, собирали плоды, приготовляли вина и сыр. В полях мы с радостью встречались с ними, по воскресеньям же изредка собирались все вместе, но мы не чувствовали потребности в этих свиданиях, и могу сказать, что я был счастлив, когда никого не было между мной и моей женой. У нее был слишком впечатлительный ум, чтобы вести спокойную жизнь. Сильные волнения в молодости оставили привычку драматизировать и принимать малейшие выбоины ее прозаической жизни за открытые пропасти. Я старался повлиять на нее, сдерживая ее порывы, постоянно заботился об ее образовании, поддерживал и водворял спокойствие в душе. Все это было изобретательным и приятным трудом, нисколько не утомлявшим меня, за который Фелиция была мне очень благодарна. Необходимо было только, чтобы постороннее влияние не смущало мою жену. В начале нашего супружества она создавала себе неожиданные неприятности. Насколько она желала посредством брака с солидным человеком восстановить честное имя, настолько она была поражена, достигнув этого. Она приходила в отчаяние, если мимоходом слышала подобную фразу: «Какое счастье выпало на долю Фелиции Моржерон после всего, что было с ней», или же замечание какого-нибудь соседа: «Хорошую партию делает господин Сильвестр, нечего сказать!» Она не мстила, как я, улыбкой сожаления, слыша эти пустые слова, но тревожилась и сокрушалась, как будто бы обида падала с небес. — Теперь я все понимаю, — говорила она. — Одни уважают вас и сожалеют, другие же, несмотря на мои уверения, что вы не взяли ни малейшей части моего состояния, думают, что корысть сделала вас снисходительным к моей ошибке. О, я была большой эгоисткой: я не предвидела, что общественное мнение нельзя подкупить и часть моего позора падет на вас. Напрасно я не послушалась моего внутреннего голоса. Знаете ли, много раз я собиралась сказать вам: «Любите меня, но не женитесь на мне! Я буду вашей любовницей, вашей рабой, потому что не чувствую себя достойной быть вашей супругой». — Вы хорошо сделали, — сказал я, — не предложив мне этого низкого соблазна. Я бы подумал, что вы меня считаете способным уступить ему и, следовательно, не уважаете меня. — Вы слишком строги! Разве было бы преступлением, если бы вы согласились отдать мне любовь, не давая своего имени? — Я бы не исполнил долга по отношению к вашему брату, а также и к вам, принявшей меня, как сестра. Кроме того, подобная связь, Фелиция, простительна только в молодости, когда не чувствуют угрызений совести, не подчиняясь законам, но для человека в летах она постыдна, в особенности же если между ним и предметом страсти нет никаких препятствий. Она с большим трудом поняла, что можно соединить долг со страстью. В конце концов мне удавалось развеселить ее и даже вызвать ее смех каким-нибудь рассказом о сплетнях кумушек или скупого соседа-мужика. Конечно, я во многих вызывал чувство зависти и в особенности в Сиксте Море, который сильно злословил относительно нашего брака. Но что же это значило для меня? Я чувствовал свою совесть совершенно спокойной. Фелиция завидовала мне и говорила это. Мне трудно было добиться, чтобы она простила себе прошлое и настолько бы уважала себя, что не обращала бы внимания на клевету. Мне удалось все же указать ей на смешную сторону этого злословия и отучить ее преувеличивать его гнусность. Несмотря на эти кратковременные тревоги, мы была счастливы. Не знаю, удовлетворяла ли Фелиция идеалу духовной чистоты и прелести, о котором я мечтал а юности. Есть пора в жизни, когда бываешь требовательным только к себе. Когда любишь, то чувствуешь возможность совершенства, но одновременно понимаешь трудность достигнуть его. Эта тщетная погоня за прекрасным и совершенным делает человека снисходительным к дорогим и любимым существам. У него является желание устранить с их пути те подводные камни, о которые можно споткнуться, те шипы, которые колют, я он делается кротким и смиренным сердцем от избытка любви и усердия. Конечно, в ту пору, когда я заботился о больной и тревожной душе, я стал лучше, чем был прежде, я, если можно так сказать, стал лучше самого себя. Когда моя жена говорила мне: «Я не подозревала, что вы до такой степени добры», я совершенно искренне отвечал ей: — Я не был таким до того времени, пока не полюбил вас. Наше счастье продолжалось два года. Оно не пополнилось для меня отцовской радостью, но теперь я, увы, благодарю судьбу, что она избавила меня от ужасной причины к волнению и неуверенности. Фелиция все льстила себя надеждой стать матерью. Один старый доктор, который постоянно лечил ее, по возвращении ее из Италии, сказал мне, что я не должен льстить себя тщетными надеждами. В то же время он просил меня не разубеждать в этом Фелицию. — Мечта быть матерью — ее страсть. Будьте осторожны с ее нервами. Ее рассудок в высшей степени потрясен, мысли сосредоточены, воля возбуждена, и ее жизненные силы не отвечают энергии. Я был очень удивлен, что она перенесла смерть своего брата. Я думал, что она лишится жизни или рассудка. Теперь же все стало для меня понятным: она любила вас! Постарайтесь доставить ей счастье, если желаете сохранить ее. Она более не в состоянии была бы перенести нового горя. — Неужели вы думаете, что невозможность иметь детей была бы для нее непоправимым несчастьем? — Она подчинится этому, но будет долго хранить свои иллюзии. Впрочем, это подробности, я же прошу вас обратить внимание на главное: доставьте ей спокойное существование, если хотите, чтобы она жила. — Вы должны объясниться, — воскликнул я. — Мы с вами одни, и вам некого щадить здесь, потому что я, как мужчина, должен быть ко всему готовым и все предвидеть. Я должен знать, угрожает ли какая-нибудь серьезная опасность моей жене, чтобы ежеминутно избегать ее в нашей жизни. Говорите. — Хорошо, — отвечал он, — я буду говорить вам, как человек простой, но опытный должен говорить с человеком образованным и серьезным. Госпожа Моржерон долгое время боролась между жизнью и смертью вследствие ее горя и несчастья, которое вы, конечно, знаете. Уже давно она поправилась. Конечно, воля придала ей новые силы. Но смягчая организм, нельзя переделать его в основе, а мы имеем дело здесь с организмом ненормальным. Я много наблюдал за ней как за редким типом в ее сословии. В большинстве у деревенских жителей — я называю так всех, кто живет в постоянном соприкосновении с деревенской природой, к какому бы классу общества они ни принадлежали, — тело благотворно одерживает верх над душой, воздух и физические упражнения придают сон, аппетит и умственное равновесие. У госпожи же Фелиции это совершенно иначе: ее воля — единственный источник ее физических сил, и ничто извне не действует на нее непосредственно. Только расположение ее ума делает ее слабой или сильной; одним словом, выражаясь грубо, но во всяком случае верно, живость ума истощает телесные силы. Не заставляйте ее много размышлять, но если она желает образовать себя, то будьте осторожны с ее способностями. Они у нее обширны, но в ее голове никогда не улягутся в логическом порядке все приобретенные ею по знания. Направьте ее деятельность и дайте пищу нежности и доброте. Не заставляйте ее быть слишком последовательной, обращайтесь с ней как с ребенком, которого хвалят за старание, но щадят его способности у нее нет органической болезни, будьте в этом отношении спокойны, но следите за ее чувствительностью к малейшему волнению: слушайте часто ее пульс и заметьте, какое лихорадочное состояние проявляется в ней под влиянием самого незначительного нервного возбуждения. Особенно старайтесь не выказывать ей вашего беспокойства, а то она скроет от вас все признаки своей болезни. У нее есть поразительное свойство: я часто видел ее опасно больной, но никто из окружающих не мог заметить этого. Будьте же проницательны, но не показывайте ей этого. Я более никого не знаю, кто был бы так неподатлив, как она, на расспросы и лечение. Если когда-нибудь случайно ей придется перенести серьезное горе, не спрашивайте ее, больна ли она, будьте уверены, что это так. Она, по обыкновению, будет работать и делать вид, что ест и спит, она даже будет, может быть, весела, чтобы не огорчить вас, но в это время у нее будет сильнейшая лихорадка, которая продолжится в ней до тех пор, пока вы не внесете луч утешения в ее душу. Доктора в этом отношении ничего не могут сделать или же почти ничего. Будьте вы врачом вашей жене. Я это говорю вам как друг, а не шарлатан. Этот разговор обеспокоил меня, и в продолжение нескольких дней я с большим вниманием следил за Фелицией, но ничего не открыл в ней нового. Ее впечатлительность началась, конечно, со дня ее рождения, и то, что мне казалось болезнью и упадком сил, было для нее деятельностью и жизнью. Подобные организмы не понимаются врачами, в особенности же знающими и любящими рассуждать. Невольно они хотят всегда подчинять природу логике. Часто случается, что ненормальные типы не подчиняются разумному контролю. Может быть, помешанные нуждаются в антирациональном лечении. Тем не менее я старался внушить простой, здравый смысл больному воображению моей жены; я употреблял на это все мое терпение, осторожность и доброту, и мне казалось, что я достигаю цели. Но как объяснить то отчаяние, сокрушившее меня в это время, тот удар, поразивший меня в самое сердце и разорвавший ту священную завесу, под которой покоились моя вера и мои иллюзии? Однажды Сикст Мор прошел мимо меня в горах. Я знал, что он дурно отзывался о нас, и мне показалось, что он стеснялся поклониться. Такое оскорбление не может уязвить человека с незапятнанной и безупречной совестью. Я первый подошел к нему и осведомился о его семье. Он совершенно смутился, пожал плечами и ушел с недовольным и презрительным видом. Я не двинулся с места и глазами следил за ним. Он сделал угрожающий жест и стал снова подходить ко мне. Я подождал его, он остановился, и мы оба посмотрели друг на друга: он с досадой, я с удивлением, но спокойно. Вдруг он снял шляпу и, подходя ко мне, протянул руку, которую я пожал, по-прежнему следя за выражением его лица. Я заметил его смущение, но не злобу. Я вам уже говорил, что он был честный человек и пользовался моим уважением. — С вами случилось какое-нибудь несчастье, — сказал я, — не могу ли я помочь вам? — Со мной ничего не случилось, — отвечал он, — но я хочу, чтобы вы знали все мои страдания. Я чувствую, что должен это сказать вам, вам, которого я, однако, не люблю. Но это выше моих сил: ваше лицо говорит мне о раскаянии, и каждый раз, когда я встречаюсь с вами, я думаю: «Вот человек, которого я не умел оценить только потому, что ревновал его. Это несправедливо, но верно! Если я когда-нибудь покаюсь ему, я поступлю так благодаря тому, что осталось во мне хорошего и честного, но мое раскаяние опять не помешает мне дурно судить о нем, потому что во мне также есть нечто злое, заставляющее меня страдать и краснеть, — это любовь, которую я испытывал к его жене». Эта любовь прошла, — прибавил он, видя, что я жду дальнейшего хода его мыслей, прежде чем ответить ему. — Я более не люблю Фелицию, и нет необходимости говорить вам почему, так как вы сегодня или завтра узнаете об этом. Вы мне можете ответить, что прощаете меня за вражду к вам и что сами ничего не имеете против меня. — Я всегда питал к вам чувство дружбы, — отвечав я ему, — потому что в сердце давно уже простил вас, не ожидая извинений. Теперь же, видя, что вы сделали первый шаг к примирению, я вас уважаю еще больше и уверен, что вы никогда не будете несправедливо относиться ко мне. — Погодите, — воскликнул он, — неужели вы находите меня несправедливым? Разве не смешна ваша женитьба на госпоже Моржерон? В нашей стране говорили: «Это из-за денег!» Я повторял то же самое, хотя и не верил. Я думал, что вы поступили так, подчиняясь одной из тех причуд, которые являются в ваши годы, а также может быть и в мои, потому что я только на какой-нибудь десяток лет моложе вас. — Какая же это причуда? Объясните мне, господин Сикст! — Вы повторяли себе: «Вот девушка, за которой ухаживают люди богаче и моложе меня, а я хочу быть любимым ею. Я желаю из самолюбия, чтобы она всем предпочла меня, даже и ее кузену». — Ее кузену? — Ну да, Тонино Монти, который давно рассчитывал быть ее мужем и с досады женился на другой. Впрочем, это не мешает ему сожалеть о своей кузине и постоянно завидовать вашему счастью. Фелиции все известно, и потому она не желает видеть его вблизи себя. — Вы ошибаетесь, Сикст! Мы часто видимся с Тонино, и ваши предположения относительно его так же нелепы, как и то самолюбие, которое вы приписываете мне. — Как знаете! Значит, вы женились на госпоже Моржерон по любви? — И по дружбе. — Следовательно, можно быть влюбленным и в пятьдесят лет? — Да, конечно! — И, значит, через десять лет я все еще буду влюблен в вашу жену? — Вы говорили, что уже излечились от этой любви? — Я лгал, то есть… бывают минуты, когда мне кажется, что я разлюбил ее, но в другое время я чувствую противоположное. Это зависит от того, что подозрение, которое слишком мучает меня, несмотря на то, что оно не касается меня и не тревожит вас… — Скажите, что же это такое? — Вы ничего не подозреваете? — Ничего. — Итак… Он остановился, пот выступил у него на лбу, он, видимо, боролся с какой-то тайной тоской. — Господин Сильвестр, — вскричал он, с силой схватывая мою руку, — зачем вы щадите жизнь этой проклятой итальянской собаки, которая обманывает вас? Мужчина вы или нет? Неужели люди, получившие, как вы, образование и жившие в богатом обществе, созданы иначе, чем мы, люди деревенские? Дозволено ли у них поощрять оскорбление и допускать, чтобы их жены подвергались опасности и чтобы на них указывали пальцем? Слушайте же: я ничего не значу для Фелиции; она ничем не обязана мне, так же как и я ей, но если я узнаю, что она виновна, то я излечусь от моей любви на всю мою жизнь. Я буду презирать всех женщин и останусь холостяком. Для меня было бы ударом знать, что Фелиция низкая обманщица! Этого удара я никогда не забыл бы. А вы спокойны, только немного бледны, вот и все! Но еще улыбаетесь и с сожалением смотрите на меня, принимая меня за злого и мстительного человека или сумасшедшего. Действительно, я думал, что он помешался, но он советовал мне убедиться на деле. — На деле? — спросил я его. — Вот полчаса назад, — отвечал он, указывая мне на скалы, — они оба были там и прятались. Знаете ли вы это? — Я знаю, что они не прячутся. Ваше подозрение оскорбительно для моей жены. Я вам запрещаю говорить так о ней. — Вы должны поступать так, но вы все же пойдете посмотреть, там ли они? — Я спокойно пойду, чтобы иметь удовольствие встретить их, и я не опасаюсь, что помешаю им. — Да, да, вы кашляните, чтобы предупредить их! Ну что же, идите, делайте, как хотите, будьте обмануты, мне ведь это все равно! Я вас предупредил, чтобы исполнить свой долг, а на вас теперь лежит обязанность наказать Тонино. Вы не хотите этого? Ну так, может быть, я сам когда-нибудь накажу его: он свалится под моим ударом, и я задавлю его, как жалкое насекомое. Вот уже десять лет я терплю от его интриг и моему терпению приходит конец. Он помешал Фелиции выслушать мое признание, а теперь заставляет меня стыдиться, что я так любил ее. Идите же, идите, закрывайте на все глаза и спите спокойно, я же позабочусь о себе. Он не дал мне времени ответить ему и ушел вне себя от злобы. Его гнев нисколько не смутил меня: я знал, что Сикст подозрителен и тщеславен. Я подумал, что он ревнует только из-за самолюбия, так как знал его ненависть к Тонино, с которым у него были недавно денежные споры. Я настолько победил свои прошлые подозрения, что со спокойным сердцем направился к тому месту, которое он указал мне. Это было на некотором расстоянии от жилища, в узком ущелье, земля которого принадлежала семье Сикста Мора. Крутая скала шла отвесно вдоль тропинки, там не было ни одного грота, никакой расщелины, где можно было скрыться или даже просто отдохнуть. Идя по этой тропинке, я обошел вокруг скалы: место было положительно пустынно. Я подумал, что Сикст бредил или же хотел посмеяться надо мной. Я плохо знал ту местность, так как хотя много раз проходил там, но никогда не останавливался. Я тихо поднялся на холм, поросший травой, где, как мне показалось, были видны следы, но они скоро исчезли. Я больше никого не искал, место было красиво, я поднялся на самую вершину скалы и сорвал несколько редких цветов, которые росли там. Я думал о Тонино, искренне привязанном ко мне, и о Фелиции, которую дал себе слово не волновать бессмысленными подозрениями Сикста Мора. Я также спрашивал себя, достоин ли я такого счастья, которым пользуюсь? Я не мог упрекнуть себя в том, что наглостью достиг его, и радовался досаде других. Я испытывал грусть скромных в своих желаниях людей, которые охотно просят прощения У Бога и ближних за то, что пользуются спокойствием и некоторым благосостоянием. Вдруг я увидел Фелицию внизу скалы, быстро удалившуюся по тропинке, которая вела в лиственный лес. Она то исчезала из моих глаз, то опять появлялась, но я ясно видел, что это была моя жена, и ее поспешная походка походила на побег. Сердце у меня усиленно билось. Я упрекнул себя за это и встал, чтобы догнать Фелицию, но не осмеливался позвать ее: Сикст Мор мог быть где-нибудь поблизости настороже и подумать, что я ревную. Я снова сел и, предполагая, что за мной следят, начал рвать цветы, не показывая ни малейшею волнения. Действительно, уже с минуту за мной наблюдали, но то был не Сикст Мор, а Тонино, который вышел из-за угла скалы. Он первый увидел меня и успел принять другое выражение лица. — Черт возьми, что вы делаете здесь? — сказал он, улыбаясь и лаская меня своим чудным взглядом, прозрачным как горный ручеек. — Ты видишь, — отвечал я ему, — я рву цветы, которые понравились мне. — Рвите, — сказал он, — кузина очень любит их. Я изредка прохожу здесь: это самая для меня короткая дорога к вам, и когда я приношу ей букет, она всегда говорит мне: «Откуда ты достал такие чудные цветы?» — Ты шел к нам? — спросил я. — Давно уже мы не видели тебя. — О, что поделаешь с детьми на руках, с женой, которая отнимает от груди одного, чтобы начать кормить другого? Я никогда не оставляю Ванину одну. — Ты хорошо поступаешь. Пойдем теперь, навести кузину. — Она начнет бранить меня. — Отчего? — Сперва по привычке, а затем потому, что я около месяца не давал о себе знать. — Ну что же, вначале она побранит тебя, а затем простит. Мы пошли по той же тропинке, по которой только что пробежала Фелиция. Было очевидно, что Тонино не думал о том, что я заметил Фелицию, но видел ли он ее? Знал ли он, что она была здесь? Тонино был так весел и спокоен, что я не мог предположить измены. Но я не понимал, зачем понадобилось Фелиции быть в этом диком месте, и надеялся, что это объяснится, как только мы догоним ее. Сдерживая свое волнение, я шел быстро. Тонино несколько раз останавливал меня, находя к этому весьма правдоподобные причины. Поэтому Фелиция пришла десятью минутами раньше нашего возвращения и успела переменить обувь и причесаться. Так как она всегда проделывала это, прежде чем сесть за стол, то я ее совершенно просто спросил, выходила ли она из дому. Я ожидал правдивого и простого ответа, она же с уверенностью солгала, сказав «нет». Я повторил мой вопрос, как будто бы по рассеянности не расслышал ответа. Она снова отвечала: «Нет»!.. Я почувствовал головокружение и смертельную дрожь во всем теле. Да, мы испытываем смерть не один раз, даже в продолжение этой короткой жизни мы умираем несколько раз. Мы неоднократно погибаем. Наша внешность остается та же, но внутри нас отрывается душа, улетает или же уничтожается, мы чувствуем, как она леденеет в нас и тяжелеет, как труп. Что делается с нею? Ждет ли она, чтобы опять присоединиться к нам в последующие наши существования? Или же это уже испорченная и кончившая свой век вещь, которая более не послужит ни нам, ни другим? Куда же уходят, куда же уходят наши прошедшие привязанности? Кто может мне ответить на это? Они становятся тенями, призраками, злотворными гениями, как говорят поэты. Разве они ничего не значат? А тот мир, который проходит перед нашими глазами, разве он никогда не существовал? Разве страсти такие же тщетные мечты, как сон? Нет, это невозможно! В сновидениях действует наше несовершенное и бессознательное «я». Наши страсти не представляют собой только роковое действие, но также и желаемое проявление всего нашего существа. Увлечение порождает их, но воля преследует, узнает, определяет и удовлетворяет их. Наши страсти — это наш ум, наше сердце, наша плоть, осуществление нашего могущества, нашей интимной жизни, проявляющиеся жизнью физической. Они стремятся быть взаимными, они достигают этого, действуют, становятся плодотворными и созидают. Они творят различные дела, историю, прекрасные произведения искусства или идеи и принципы. Они творят новые существа, которые духовно или естественно рождаются от нас. Это не сновидения и не призраки! Отнимите страсти, и человек перестанет существовать. А между тем страсть может потухнуть, а мы все же не умираем. Это, может быть, было бы слишком приятно — не пережить ее могущества и умереть с верой, которая нас самих делает прекрасными. Но это не так: в жизни надо несколько раз почувствовать себя разбитым, уничтоженным, потерянным безвозвратно и снова познать себя, как чужого. Надо убеждать себя, а порою даже и резко порицать себя: где я находился сейчас и какое другое существо поразило меня? Неужели я буду в состоянии жить без сердца, без цели, которая всегда была у меня? Вы знаете о действии кураре[251], этого яда, который отнимает энергию, но не сознание, поражает неизбежной и скорой смертью. Я почувствовал себя как бы скованным в свинцовую мантию! Я не имел возможности сделать какое-нибудь движение. Большая часть людей испытывала и понимает это состояние. Пожалейте же тех, которые тщетно противятся ему и стараются забыться в гневе или в отчаянии. Пожалейте же еще тех, которые, не зная, что некоторые яды не щадят, принимают их и только после первого припадка начинают сознавать ужас своего положения. В одну минуту я был разочарован на всю мою жизнь. Но я не буду приводить вам целый ряд моих заблуждений и обманутых надежд. Как я сумел скрыть тот удар, который сокрушил меня, я не знаю, не помню и не могу отдать себе в этом отчета. Вечером я сидел за своим письменным столом. Фелиция и Тонино занимались музыкой в зале, находившейся внизу. Изредка до меня доносились звуки, как будто бы дверь отворялась на минуту, а затем резко затворялась, отделяя их от меня, но эта дверь существовала только в моем воображении. Я взял книгу и перелистывал ее, ничего не видя. Одну минуту я занимался тем, что задавал себе пустые вопросы. Зачем так глупо солгала мне Фелиция, когда могла бы ответить мне вполне правдоподобно? Она даже до некоторой степени могла сказать мне правду. «Я предчувствовала, что Тонино придет сегодня к нам, и потому отправилась ему навстречу: затем я вспомнила, что пора обедать, и возвратилась обратно, уверенная, что он уже близко. Пятью минутами раньше вы меня встретили бы и мы вернулись бы все вместе». Что стоило ей сказать мне это? Если они невинно назначили себе свидание, то отчего же они боялись встречи со мной, когда я после брака, нисколько не беспокоясь, оставлял их много раз наедине? Какой злой рок наталкивает на ложь тех виновных, которые благодаря нашей доверчивости могли бы избежать наказания? Они показались мне жалкими. Я рассмеялся от презрения. Этот смех, мучительный, как рыдание, заставил меня вздрогнуть и оглядеться, так как мне показалось, что я вижу моего двойника, который насмехается надо мной и оскорбляет меня. Но я был один и действительно смеялся. Меня могли бы услышать внизу, если бы скрипка Фелиции не заглушала моего голоса. В тот вечер она играла восхитительно. Я с минуту слушал ее и начал снова смеяться потому что все лгало в ней, даже музыка! Она вся с головы до ног была обманом. Я написал на столе: «Твое имя — ложь», но тотчас же стер; всякое проявление было бы недостойно моей гордости. Я перестал на минуту смеяться и плакать, но потом опять зарыдал, сам не сознавая этого. Я ушел из дому, смотрел на мерцающие звезды и, странно, вздохнул свободно. Мне казалось, что я вырастаю до небесных светил, касаюсь их, горю с ними одним пламенем, держу весь мир в своих руках, что я так же силен, как Бог, счастлив до бесконечности и пою на неизвестном языке. По всей вероятности в эту минуту я был безумным, но нет, я не лишился рассудка! Я был в возбужденном состоянии и, может быть, дошел до ясновидения. Вне моей индивидуальной жизни я понимал низость зла и величие блага: эти два полюса человеческой души. Преступление заставило меня спуститься в мрачный ад, так как люди неразрывно связаны с теми, которых они особенно любят и которые в некотором отношении составляли часть их самих. Узнав, что те два существа, к которым я питал самую нежную любовь, были развращены и низки, я почувствовал, что смерть вселилась в меня, стыд, покрывающий их, осквернил меня, и я краснел и бледнел, как будто бы был соучастником их падения. Зло царило необузданно на земле и торжествовало над всеми, как и надо мной. На этом свете ничего не было, кроме лжи и низости! Если два существа, которых я так уважал и любил,показали себя не лучше последнего из дикарей, то мог ли я быть уверенным в самом себе? Не мог ли я пасть так же низко? Какое ручательство в своей собственной правоте и целомудрии я могу представить Богу и людям? Но когда это облако рассеялось, когда небесные звезды осветили лестницу Иакова, которую видит почтя каждый человек, убитый горем, и с восторгом взбирается на нее, чтобы спастись от земных чудовищ, тогда и покинул область софизмов и загадок. Я поднялся в область истины, где зло является относительным и где его имя ничего не значит. Мы все там будем исправленные временем, раскаянием и испытанием; но не все могут в этой жизни вознестись туда духовно. Царство Божие, я называю так просветленное чувство, воспринимающее всю грандиозность прекрасного, вечного и неизменного, не может открыться для материалиста, который презирает понятие о добре и зле. Человек не постигает абсолютного блага, и потому он унижается, едва только начинает искать его вне области относительного совершенства, доступного ему. Не надо нравственного падения, вредной лихорадки, низкого неудовлетворения между полетом души и ее таинственной великой целью! Но я был чист, и во время моего восторга мои губы шептали эти земные слова. То зло, которое мне сделали, я не мог и никогда не буду в состоянии сделать другим. И действительно, если бы какие-нибудь волшебные гении ночью принесли мне Ванину, которая была в сто раз красивее и моложе моей жены, то никогда бы мои объятия не коснулись ее, и я даже мысленно не посягнул бы на жену Тонино в двадцать пять лет, так же как и в пятьдесят! Я оглядывался на свое полное страстей и сил прошлое и не находил в нем ни одного бесчестного поступка. Я знаю, что не было ни минуты, которая заставила бы меня покраснеть за то, что животное чувство восторжествовало над чистотой души. Я был просто честный человек! Конечно, этим нечего было гордиться, но было чем утешиться, ощущая в себе силу терпения и чистой радости. Те несчастные, которые старались унизить меня, предприняли невозможное! Я был судьей для них так же, как и для самого себя. Они отняли у меня покой, мое счастье, мою веру в них и все то, что служило основанием моей новой жизни. Им оставалось только убить меня. Ну что же? Почему же нет? Отделаться от меня и Ванины было бы вполне логично. Но отнять частицу моего нравственного превосходства, чтобы хвалиться этим одному перед другим, вот чего они не могли сделать! Тонино уходил, когда я вернулся. Он по обыкновению ласково и нежно простился со мной. — Но отчего же ты, — сказала ему Фелиция, — не поцелуешь своего отца? Он назвал меня отцом и поцеловал. Я вспомнил легенду о поцелуе Иуды и позволил Тонино обнять меня. На другой день я ушел под предлогом новых наблюдений над течением тающего внизу снега и отправился подумать и отдохнуть в поляну «Киль». Я чувствовал усталость, как будто бы совершил кругосветное путешествие. Вчерашнее мое возбуждение было слишком ненормально, чтобы долго продолжаться, и потому, должен был платить дань природе. У меня сделались приступы сильнейшей лихорадки, горькой тоски, бессильной злобы и желания все сокрушить. Я был раздражен и впал в уныние. В таком состоянии я провел двое суток, на третий день я успокоился и мог спать. Надо было как можно скорее принять какое-нибудь решение. Два раза Фелиция, обеспокоенная моим отсутствием, взбиралась в мой шалаш, но, видя, как она подходила, я скрывался от нее, чтобы избавиться от томления, которое находило на меня в ее присутствии. Я не хотел мстить ей, вредя ее здоровью и жизни, а также возбуждать в ней угрызения совести и боязнь. Это казалось мне недостойным человека. Я решил заранее обдумать мое поведение. Прежде чем располагать будущим моей жены, а также и моим, мне следовало узнать все подробности нашего положения, дать себе отчет в правд; и тогда без смущения и безошибочно произнести приговор. Допрашивая Фелицию, я не мог бы добиться истины; она умела лгать, я более уже не сомневался в этом. Если бы даже мне и удалось вырвать у нее точное признание всех поступков, то все равно я не мог бы узнать от нее их причину. Я убедился, что в ней недоставало логики, и не удивился, что в ней также оказался недостаток совести. Если бы я подвергнул допросу ее соучастника, то этим дал бы повод к самому глупейшему роману и низ кой и смешной драме. Я скорее решался выносить оскорбление его ласк, чем нравственно вверяться этому негодяю. Чем более унижался он передо мной, тем менее мог унизить меня. Итак, я возвратился в Диаблерет, решив ничего не предпринимать до того дня, пока не узнаю всех подробностей этой измены. Они, по всей вероятности, теперь не вели переписки, но раньше должны были делать это. Вдруг я вспомнил, что незадолго до нашей свадьбы Фелиция передала мне небольшой сверток бумаги, тщательно запечатанный и заставила меня поклясться нашим взаимным доверием, что я открою его только в том случае, если она умрет раньше, чем я. Подумав, что это ее завещание и решив никогда не пользоваться им, я без всякого внимания спрятал его куда-то в ящик письменного стола. Иногда мне приходило в голову, что это могла быть исповедь о ее первом заблуждении, но, дав слово теперь не читать этого, я рассчитывал и в будущем не касаться ее ошибки, уничтоженной моей любовью. Теперь я мысленно допускал другие предположения. Женщины подобного характера чувствуют потребность к страстным излияниям, которыми они поощряют свои ошибки или поэтизируют свои пороки. В этих тайниках я мог найти объяснение моим подозрениям. Я клялся Фелиции моим доверием, но оно более не существовало, его попирали ногами. Эти бумаги принадлежали мне, и без всяких угрызений совести я разломал печать. То была краткая, но красноречивая переписка Тонино с Фелицией после отъезда его в Италию, за год до нашей свадьбы. Я перевел с итальянского. От Фелиции. «Да, я люблю его. Я чувствую к нему любовь, вернее, даже обожание. Узнай же, если тебе непременно хотелось знать это! Я вижу, что ты не оставишь меня в покое, пока я не скажу тебе правды. Что ты можешь ответить мне? Ты знаешь, что я не люблю и никогда не любила тебя. Неужели же надо вечно повторять тебе это?» От Тонино. «Хорошо же! Я убью твоего Сильвестра, и это случится по твоей вине. Я любил его, ты же заставила меня возненавидеть его. Да, я знаю, что он добр и великодушен; но ты приговариваешь его к смерти. Я люблю тебя, неужели ты настолько безумна, что забыла об этом? Разве ты не знаешь меня? Разве не знаешь, что когда я захочу чего-нибудь, то надо покориться моей воле?» От Фелиции. «Если ты сумасшедший и убийца, скажи прямо, и я умру. Если через три дня я не получу от тебя письма, я лишу себя жизни». От Тонино. «Жизнь Сильвестра в твоих руках. Будь на свидании, где условлено, 5-го числа, в час утра». От него же. «Ты победила тигра, ты заковала его в цепи. Ты заставила его страдать, но дала ему надежду. О, ты любишь меня! Напрасно станешь отрицать это: твой гнев тает в моих объятиях, ты отталкиваешь меня, но твои руки, ноги и плечи покрыты моими слезами, которые сожгут тебя. Люби же меня, безумная, разве ты можешь бороться со мной? Разве ты не желала этого? Ты ведь воспитала меня на своем сердце как птичку, упавшую из гнезда и согретую твоим дыханием. Кровосмешение? Полно, кузина, папа даст разрешение, и само небо смеется над твоей боязнью. Ты хочешь уверить меня, что можешь быть моею матерью, а я должен почитать тебя как сын! Это возможно для твоих грубых протестантов или для хладнокровных католиков, которые живут у полюса. Мы же, итальянцы, — люди живые, пылкие и цельные. Я никогда не называл тебя матерью и никогда жизни не буду называть так; но я хочу упиваться твоими ласками, я был вскормлен, опьянен ими с тех пор как помню себя. Вот это любовь, другой не может быть. Ты не любишь и никогда не будешь любить Сильвестра Он старик, он может быть хорошим отцом. Пусть он остается с тобой, ты можешь почитать его, преклоняться перед ним, как перед святым изображением, если хочешь, я дозволяю тебе это, но запрещаю выходить за него замуж!» От него же. «Ты меня любишь и будешь всегда любить. Я тебе позволяю выйти за него, так как ты хочешь этого. Ненасытная, ты непременно хочешь испытать двоякую любовь, одну для ума, другую — для сердца? Мне достается лучшая, я буду обладать тем, чего желаю! Это и будет так! Терпение!» От Фелиции. «Нет, сто раз нет, ты не добьешься от меня той любви, которой желаешь. Но если твоим безумством ты смутишь меня, то и это не докажет, что я люблю тебя. Какое удовольствие доставят тебе мои слезы? О, кинусь тебе, что после этого я убью себя. Забудь же меня, не возвращайся более. Какое зло причиняешь ты мне! Этим ли ты благодаришь меня за мои материнские заботы? Да, я видела в тебе только моего сына. Мой сын! Иметь дитя, которое любило бы меня так, как любила бы меня дочь, — вот что было моей мечтой, и это так естественно! Могла ли я подумать, что ты, будучи еще ростом до моего локтя, испытывал гадкие побуждения? Вспомни же, какой гнев, горе и стыд вызвал ты во мне, когда первый раз осмелился сказать, что желаешь быть моим мужем! Я должна была бы тогда же прогнать тебя. У меня не хватило мужества. Я привыкла любить тебя, да притом я не любила Сикста и не думала ни о нем ни о ком другом. Я видела тебя безумным, в судорогах, с пеной у рта. Я думала, что ты умрешь, и обещала тебе никогда не выходить замуж. Ты успокоился, мне казалось, что ты излечился, потому что в продолжение нескольких недель не тревожил меня, но вдруг однажды утром ты показался мне еще более опасным. Твое безумие повторялось до тех пор, пока я не прогнала тебя. А теперь, когда я полюбила до обожания, неужели ты думаешь, что я пощажу тебя, если ты постараешься разбить мое счастье и сделать меня недостойной его? Попытайся же, и Сильвестр узнает все! Мы увидим тогда, посмеешь ли ты показаться ему. Берегись, я скажу ему, что ты угрожал его жизни и что я пошла на то свидание, чтобы предотвратить от него несчастье. Я ему расскажу все твои безумства и преступные мысли; он велит арестовать тебя и посадить в тюрьму. Так только и можно поступить с таким неблагодарным и безнравственным мальчишкой, как ты». От Тонино. (Два месяца спустя после смерти Жана.) «Моя дорогая кузина, после того несчастья, которое поразило нас, я был бы слишком виновен, если бы не раскаялся в моем безумстве и детской злобе. Простите все, забудьте и милостиво примите меня. Ваш покорный и преданный сын». От него же. (После брака Тонино с Ваниной.) «Кузина, я самый счастливый из смертных и шлю вам и г-ну Сильвестру пожелания того же счастья. Он прекрасный отец, а вы самая великодушная женщина! Я не всегда был достоин вашей доброты. Простите мне прошлое и благословите мою дорогую жену, которая очень любит вас». От него же спустя год. «Фелиция, я счастлив, вот уже два года как у меня родился сын. Его зовут Феликс, второго же назовем Сильвестром. Вы оба мои ангелы-хранители. Благодаря твоей доброте и терпению ты спасла меня от самого себя! Благодаря тебе я буду честным человеком, как тот, которому ты посвятила свою жизнь! Люби меня так же, как я обожаю тебя…» На этом кончались письма, собранные по порядку, но не обозначенные числами. Это был первый акт той драмы, которая разыгрывалась перед моими глазами. Я думал только то, о чем догадывался в самом начале, и на что Фелиция намекала мне несколько раз, не открывая вполне своей тайны. Вникая в буквальный смысл этих писем, я в них не заметил теперь прямой виновности против меня. Тонино находился под влиянием слепой страсти, которую он победил и раскаялся передо мной. Фелиция могла сказать, что она восторжествовала над опасностью, которой она подвергала себя, чтобы спасти мою жизнь, и что ее любовь ко мне ни на минуту не была омрачена в ее сердце. Вот почему она и завещала мне эти доказательства своей невинности. Но кто анализирует и вникает в некоторые доказательства, часто не находит в них безусловной чистоты и потому я открыл целую пропасть в том, что со стороны Тонино казалось мне раньше безотчетным влечением, а именно: в той чувственной страсти, о которой он так часто говорил. Эта страсть началась у него уже с детства. Фелиция старалась уничтожить ее и боролась с ней в продолжение многих лет; она страшилась и избегала его; она боялась страсти Тонино не только из-за меня, но также и из-за себя. В одном из ее писем ясно говорилось, что она была в состоянии поддаться ему и среди упреков и почти детских и смешных угроз она выказывала волнение чувств и боязнь падения. Женщина с сердцем и с нравственными правилами не так старается внушать к себе уважение: она сумеет предотвратить опасность, и потому ей никогда не приходится защищаться. Для того чтобы отвергнуть любовь, которая не нравится и может только оскорблять, не надо получать особенно изысканного образования, хорошие побуждения и искренность совершенно для этого достаточны. Крестьянка не знает никаких изысканных выражений, чтобы отвергнуть непрошеного ухаживателя, она ударяет своим деревянным сапогом или кулаками того кого она не хочет выбрать своим другом. Фелиция не могла считаться ни бой-бабой, которая сумеет кулаками спастись от непрошеных поцелуев, ни целомудренной женщиной, к которой два раза не посмеют обратиться с оскорбительными предложениями. Возбуждение Тонино передавалось ей несколько раз даже тогда, когда она любила меня любовью более достойной и нравственной, но уже оскверненной тайными и роковыми вожделениями. Однако до этих пор я не имел права приходить в негодование. Я страдал и краснел, видя этот раздел чувств, но и прежде некоторые признания Фелиции вызывали во мне это страдание и стыд, я не узнавал раньше о ее поведении и характере, потому что слишком уважал ее и боялся оскорбить. Видя ее беспокойство и волнение, я довольствовался ее уклончивыми ответами. Я сам виноват в том, что не все было мне ясно. Не надо обвинять другого в сделанных самим ошибках, даже в том случае, когда причиной их было великодушие. Что же происходило в то время, когда мне казалось, что Тонино забыл о любви к Фелиции и довольствовался объятиями Ванины и улыбкой своего первенца? Может быть, все оставалось по-старому? Значит, мне лгали, прятались от меня; следовательно, они были виноваты и даже преступны, потому что бесчестно играли моим доверием! С той и другой стороны мне выказывали пылкую любовь и хвалились своей высокой ко мне привязанностью. Следовательно, я был самым смешным идолом, перед которым воскуривали фимиам и разукрашивали цветами, чтобы потом плевать в лицо. Но все же надо было узнать, что произошло. Я решил сделать это, чтобы обдумать, насколько я должен быть строгим или снисходительным. О, как мало я был создан для шпионства и какое отвращение возбуждало оно во мне! Но это был мой долг, и я покорился ему, начав с исследования той скалы, где я чуть было не застал их на свидании. Я нашел глубокий грот, в который можно было проникнуть через расщелину. Подняться на вершину этого природного здания и по стенке спуститься во внутрь его было очень трудным и опасным предприятием, но Фелиция не отступала перед опасностями и трудностями. Хорошо защищенная пещера скрывала ее тайную и преступную любовь. Луч солнца проникал только до порога, ветер нанес туда мелкий песок, по которому надо было идти, чтобы добраться до темного и скрытого от постороннего взора места. Прежде чем войти, я начал внимательно осматриваться и заметил совершенно свежий след мужского сапога. Значит, Тонино был там. Он ожидал свою соучастницу. Значит, их не беспокоило то, что они видели, как я раз бродил вокруг? Они не подумали, что у меня могли явиться подозрения. Следовательно, их связь продолжалась уже давно и их свидания были часты, если они успели приобрести такую уверенность в безнаказанности своих поступков? Они были, может быть, в моих руках, и я мог тотчас застать их. Но мне еще не хотелось поразить их, и потому я обрадовался, когда вместо Тонино увидел Сикста Мора, выходящего из грота мне навстречу. — А наконец и вы здесь! — с горечью сказал он. — Вы открыли их убежище и знаете всю правду, но вы опоздали, так как они больше не приходят сюда. Я знал этот грот и решил изловить их, пристыдить и возмутить против них всю страну, потому что вы отказались сами расправиться. Всю эту неделю я следил за ними. Они заподозрили что-то и больше не показывались. Надо искать их в другом месте, и я сделаю это. — Я запрещаю вам. — Право мести принадлежит бесспорно вам, но если вы отказываетесь от него, то я отомщу за вас и за себя. Разве вы можете запретить или помешать мне? В вашем обществе, кажется, дерутся на дуэли, мы же не признаем этого. Я не имею намерения оскорбить вас или при чинить вам зло, но если вы оскорбите меня, я буду защищаться как человек, на которого напали, и дело кончится тем, что один из нас убьет другого. Я знаю, что вас нельзя назвать слабым, но ведь и я силен и потому ни кого не боюсь. Итак, вы видите, что лучше толково по говорить со мной, а не приказывать, последнее ни к чему не приведет. — Хорошо, будем рассуждать, господин Сикст. Признаете ли вы, что человек, даже обманутый, может запретить другому вмешиваться в его дела и производить расправу? — Да, если он сам будет действовать. — Но кто же будет судьей в этой расправе? Глаза ли семьи или посторонний? Сикст колебался, он был неглуп. — Господин Сильвестр, — возразил он, — всякий судит по-своему. Вы не можете помешать мнению других. Он был прав, я с этим согласился, но он должен был также признать, что мнение может быть ошибочно и что обязанность честного человека судить беспристрастно. — Я честный человек, — сказал он с гордостью, мои обвинения основательны… Если бы вы вели себя так, как надлежит смелому и проницательному мужу, то я был бы совершенно спокоен; но ваша слабость заставляет подумать, что вы слишком снисходительны, никто не помешает мне сказать вам это. Вы пожелали стать повелителем Фелиции Моржерон, это было нелегко, и несмотря на ваше образование, вы не сумели сделать из нее честной женщины. Может быть такой невежда, как я, лучше сумел бы управлять ею. Я имею право осуждать вас и буду смеяться вам в лицо, если вы не отомстите за вашу честь и за мое самолюбие, потому что ведь я также смешон, любя так долго эту женщину и позволив другому завладеть ею. Я хочу, чтобы все узнали, что она достойна презрения. — Но я не хочу, чтобы все презирали ее, хотя бы она даже и была достойна этого. Если я должен отомстить, то я поступлю иначе и запрещу вам оскорблять и позорить ее. Вы побудили меня к решительным мерам, и мы должны рассчитаться с вами. — Что же вы намерены сделать со мной? — Я вас убью, господин Сикст, — совершенно спокойно ответил я. — Вы убьете меня? — По всей вероятности. Я вам скажу при свидетелях, что вы солгали, и без злобы и ненависти буду драться с вами до тех пор, пока один из нас не упадет мертвым. Итак, если вы хотите удовлетворить вашу злобу и досаду, то можете подвергнуть вашу жизнь самой неизбежной и серьезной опасности. — Не думаете ли вы напугать меня? — Если бы я хотел напугать вас, то моя угроза была бы низостью. Я знаю, что вы настолько же храбры, как и я, но также знаю, что человек с сердцем и разумом ради одного желания совершить дурной поступок не убьет и не захочет чтобы его убили. Подумайте о том, что я сказал вам, господин Сикст, это мое последнее слово. — Вы странный человек, — сказал он мне, подумав немного, — я вижу, что вы убеждены в том, что говорите, и спрашиваю себя, почему вы решились так действовать. Я не могу понять этого. — Если вы спокойны, то я могу объяснить вам. — Говорите. — Вспомните о моей дружбе с Жаном Моржероном, о доверии его ко мне и о тех обязанностях, которые наложила на меня его смерть. Его сестра сделала ошибку, он простил ее за это. Он защищал ее от всех и против всех и таким образом помог ей восстановить репутацию. Я не могу забыть того, что Жан Моржерон сделал для своей сестры, и должен продолжать это, насколько возможно дольше, потому что, прежде чем быть мужем Фелиции, я был ее братом. Таковым я был принят в их семью. — Да, это правда! Но простить, возможно ли простить то, что делается теперь в вашей семье? — Я не говорю вам, что прощу в моем сердце, но наружно я сделаю это. К тому же я не хочу принять никакого решения, прежде чем не узнаю, не старались ли вы обмануть меня. Я буду полагаться только на себя чтобы разузнать правду, и все, что вы скажете, будет казаться мне неправдоподобным. Не старайтесь же помочь мне! — Вы меня знаете как честного человека, а между тем говорите, что я хочу обмануть вас? Вы оскорбляете меня! — Нет, Сикст, я знаю, что под влиянием страсти и негодования можно наговорить таких небылиц, в которых после приходится раскаяться и стыдиться… Это случается почти со всеми честными людьми хотя бы один раз в жизни. Вспомните же наш разговор недалеко отсюда на прошлой неделе. Вы защищали и опровергали, вы были взволнованы и даже слегка заблуждались. Видя вместе тех двух молодых людей, близость которых, преступная или невинная, всегда неприятно действовала на вас, вы сейчас же предположили дурное. Но между тем вы не были вполне уверены в этом, потому что сами сказали мне: «Я не люблю более вспоминать о Фелиции Моржерон» и минуту спустя прибавили: «Я не перестану любить ее, если буду уверен в том преступлении, в котором подозревал ее!» Даже и сегодня вы повторяли почти то же самое, и мы могли даром проговорить с вами два часа, обсуждая и опровергая наши предположения. — Вы лжете, господин Сильвестр! Не сердитесь на это слово, так как я знаю, что вы лжете из хорошего побуждения. Вы считаете своею обязанностью солгать, но нисколько не сомневаетесь в их проступке, иначе не пришли бы сюда! — Отчего же? Ведь и вы здесь! — О, вы гораздо хитрее, чем кажетесь! Вы хотите заставить меня сказать то, что мне известно. — Я вам запрещаю говорить что бы то ни было! — Другими словами, не хотите быть обязанным мне, но если я невольно проговорюсь, вы будете довольны! Итак, думайте, что я сказал нечаянно. Мои пастухи вот уже год видят, как Тонино и ваша жена приходят сюда. Уже год как обманывают вас! — Вот ничтожная причина, чтобы подозревать их в измене? Приходить сюда не значит совершать против меня преступление! — Разве вы знали об этом? — Конечно, потому у меня и не было никаких подозрений. — А знаете ли вы, что в прошлый понедельник ваша жена была здесь? — Конечно, а то иначе каким бы образом я узнал, что здесь существует грот, если бы не она указала мне его? — Вы на все находите ответ. Но я повременю. Я не буду разглашать, но предупреждаю вас: я даю вам месяц, чтобы узнать все. — А я даю вам столько же времени, чтобы подумать о том, что я сказал вам. — Если я расскажу, вы убьете меня? — Или же вы убьете меня, потому что мы будем драться как дикари. — Вы слишком философ или слишком человеколюбивы, чтобы убить вашу жену или вашего соперника, а вместе с тем вас не мучает совесть, когда вы угрожаете мне, который хочет спасти вашу честь? — Вы одобрите меня, — сказал я смеясь, — в тот день, когда предадите все огласке и я расквитаюсь за ту благодарность, которую вы теперь требуете. Вообще каждый должен заботиться о своей чести и о чести ближних так, как он понимает это, тем более что нет законов, могущих защитить ее. — Законов? Нет, они существуют. Вы можете подать на меня жалобу в суд за клевету. — Этим я разгласил бы только и дал бы людской злобе вечный повод к шуткам и насмешкам. — А если я сегодня же расскажу всем, что вы угрожали убить меня, и отправлюсь предупредить власти, чтобы они взяли меня под свое покровительство? Итак, думаете ли, что, стращая меня, вы усыпите все толки? — Значит, я должен сейчас же убить вас или себя? Я не ожидал этого. Но все равно! Вы так злобно, безумно и упорно пристаете ко мне, как с ножом к горлу! Защищайтесь, господин Сикст, мы оба не вооружены, никто не видит нас, потому мы можем бороться здесь до тех пор, пока один из нас не задушит другого. — Вы говорите серьезно? — Вы нападаете на меня, следовательно, я должен защищаться! — Я нападаю на вас? — Вы объявили, что собираетесь обесчестить мою жену, а следовательно, и меня, поэтому если я выпущу вас отсюда, то никто не помешает вам сейчас исполнить угрозу. — Я вам давал месяц… — С условием, что по окончании его я должен буду подчиниться вам. Я не могу согласиться на это. Давайте же бороться или же поклянитесь, что вы ничего не скажете. — Бороться здесь, почти без света и без воздуха! В такой тесноте — ведь это будет очевидным убийством, господин Сильвестр. — У нас будут равные шансы. Снимайте же вашу одежду, так же как и я. — Хорошо, — вскричал Сикст, — если бы я отказался, вы могли бы подумать, что испугали меня; я же не хочу плясать не по своей дудке. Я человек богатый и всеми уважаемый в деревне, и потому не хочу, чтобы какой-нибудь господин имел право хвалиться предо мной. Будем драться, и горе вам, пожелавшему это! Мы схватились. — Погодите, — сказал он, не выпуская меня, — самый сильный столкнет другого туда, куда он сможет. — Хорошо. У него опустились руки, и он побледнел. — Умереть без покаяния, неужели это все равно вам? Поклянемся же, что тот, кто убьет другого, не оставит его тело на съедение орлам и коршунам! — Напротив, я требую, чтобы вы оставили меня там, куда я упаду, и чтобы сами спаслись бегством. Он не мог отказать мне в той выгоде, которой мог воспользоваться. Он принял воинственное положение и замахнулся, чтобы ударить меня, я отразил удар, не отплачивая ему тем же. Тогда, видя, что я не поступлю так до последней крайности, он уже более не осмеливался отступить от правил борьбы. Несмотря на его смелость и силу, он был очень взволнован и поражен мрачным видом той местности, в которой мы находились, а потому в его взгляде отражался ужас и тоска. Вскоре я увидел, что могу погубить его, но решил пощадить, стараясь доказать ему мое превосходство, не злоупотребляя им. Через минуту он упал, и я насел из него, схватив его за горло, и видя, что он не просит пощады, сам предложил ее ему. — При каких условиях? — спросил он, запинаясь от досады и стыда. — С условием, что вы никогда ничего не будете говорить ни о моей жене, ни обо мне. Он поклялся в этом. Я помог ему подняться и одеться. Он был слаб и, казалось, лишился рассудка. Машинально последовав за мной и дойдя до небольшого ручейка, он долго пил. Заметив, что у Сикста не было серьезных ушибов, так как все движения его были свободны, и что фиолетовый цвет его лица начинает приходить в нормальный, после того как он вымылся свежей водой, я покинул его. Он позвал меня и, когда я обернулся, то заметил, что он плакал. — Вы меня унизили, — сказал он. — О, как унизили! — Вы хотели, чтобы я был унижен вами, но судьба решила иначе. — Судьба? Как бы не так, просто у меня сегодня не было силы. Мысль быть съеденным собаками или же волками!.. — Вы не хотели сознаться, что на вас также действовало то, что вы стояли не за правое дело? — Я ничего более не скажу вам, вы могли покончить со мной, так как у нас не было условия щадить друг друга. — Оно, конечно, подразумевалось. — Вы лучше меня, господин Сильвестр. Прощайте! Я теперь знаю, что вы, оставляя жизнь Тонино, поступаете так не из-за трусости. Вы можете быть спокойны, что я сдержу мое слово; но я не обещал щадить Тонино, и горе ему, если он попадется мне под руку. Уйдите, я слишком удручен моим унижением и должен успокоиться. Я покинул его совершенно спокойным и даже теперь не раскаиваюсь, когда вспоминаю, что чуть было не задушил человека, правда немного злого, но не лишенного нравственности и чести. Я долго обдумывал, прежде чем подписать условие второго брака; я повторял себе, как и первый раз, что нельзя принимать за шутку ту клятву, которая обязывает покровительствовать женщине. В этой клятве много глубокого и таинственного, и часто человек произносит и подписывает ее, не обдумав всех ее последствий. Покровительствовать — значит защищать, предохранять и мстить за жену. Внимательно вдумываясь в смысл этого слова закона, мы можем найти в нем черту беззакония, потому что сказано, что скорее, чем позволить оскорбить женщину должно убить ее оскорбителя, а так как женщина может быть обесчещена одним сказанным против нее — словом, то, следовательно, из-за одного слова можно сделаться убийцей. Это является случаем законной защиты, непредвиденным официальным законом, который весьма затруднил бы судью. Фелиция уже более не заслуживала с моей стороны покровительства. Но был ли я поэтому свободен от клятвы? Нет, она одна могла освободить меня от нее оставив меня, отдаваясь открыто другому. А так как она не могла сделать этого без моего разрешения, точно так же, как и я не мог дать ей его, не нарушая моего долга, то, следовательно, мы не были свободны и должны были подчиняться строгому общественному мнению Сикст Мор заранее предвидел борьбу, которую мне пришлось бы вести со всей страной, если разгласили бы то, что называли моим позором. Но думали ли об этой борьбе сами виновные, которые своим бесстыдством подвергали меня ей. Я соразмерил всю трудность моей задачи и приготовился к ней. Но для того чтобы не подвергаться неминуемой опасности, я должен был сохранять осторожность в моих исследованиях, так как в и время, как я ходил бы по их следам и подсматривал бы их свидания, за мной могли бы также следить. Ревнивцы своим беспокойством и нетерпением всегда освещают и разглашают то, что следовало бы окутать мраком и молчанием. Я был очень терпелив и вполне владел собой. Я был уверен, что узнаю измену во всех подробностях, если только не поддамся чувству негодования. Мне приходилось вести дело с людьми очень искусными во лжи. Но я не думаю, чтобы можно было обмануть человека, не желающего быть обманутым, человека, который с холодным равнодушием стоит как каменный на своем наблюдательном посту, не давая возможности ускользнуть от своего внимания ни одной примете, ни взгляду, ни движению тени, и проделывать все это с таким безучастным видом, что нельзя заподозрить, до какой тонкости он развил в себе наблюдательные способности. Время от времени я навещал Ванину. Я не участил моих визитов к ней, но воспользовался ими для наблюдений. Она была очень ревнива, так как страстно любила своего мужа, но ни в чем не подозревала и не беспокоилась о нем. Она не сомневалась, что Фелиция увлекалась им, и, гордясь победой над своей прежней хозяйкой, все еще верила в торжество. Она тем не менее любила Фелицию и признавала превосходство ее ума и общественного положения, но Ванина была слишком наивна, чтобы не дать заметить мне, а также и самой Фелиции, что она нисколько не боится ее. Когда я увидел их вместе, завеса упала с моих глаз. Фелиция ненавидела ее! Ванина была добра и доверчива, хотя немного пуста и ограниченна. Она искренне благодарила Фелицию за то, что та способствовала ее счастью, и при этом на ее губах появлялась детская улыбка, которая, казалось, говорила: «Вы не могли воспрепятствовать этому». На ее улыбку Фелиция отвечала угрожающей и ужасной усмешкой, но Ванина не понимала ее. Для меня стало ясным, что соперница Ванины должна была сильно страдать, когда узнала, что Тонино влюбился в эту бедняжку, но в тот день, когда он сказал ей: «Я никого никогда не любил, кроме тебя», она почувствовала себя в упоении и не устояла. Ванина наслаждалась счастьем: она была богата и вследствие материнства поразительно похорошела. Ее дети были прелестны; она с самодовольным видом кормила младшего ребенка и с гордостью смотрела на старшего; Тонино любил их с какой-то дикостью. Можно было сказать, что, покрывая их поцелуями, он был готов растерзать их. Я видел, что в присутствии Фелиции он старался не целовать детей. Она смертельно завидовала материнству Ванины. Она осыпала малюток заботами и подарками, но избегала смотреть на них и никогда не ласкала. Но любил ли Тонино свою жену? Бедная, жалкая Фелиция! Одна Ванина была любима, любима чувствами и сердцем! А между тем ее обманывали. Но и развратное наслаждение уже не удовлетворяло алчной и беспокойной души Тонино, или он уже пресытился злом, и Фелиция начинала надоедать ему своей ревностью. Это было справедливое наказание, и я краснел за Фелицию, так как она не могла скрыть свою горечь! Я более не старался найти подтверждения моим ежеминутным подозрениям. Я был уверен, что в силу обстоятельств оно представится само собой. Так и случилось. В один из летних вечеров мы возвращались от Тонино. Солнце еще грело, и мы шли лесом. Тонино пошел с нами, говоря, что проводит нас до половины дороги, до шалашей Сикста Мора, где ему надо было повидаться с кем-то. Эти пристанища для стада были выстроены недалеко от той скалы, где я мог застать их врасплох на последнем свидании, недели две тому назад. Фелиция говорила о делах со своим двоюродным братом. Они часто спорили об уходе за стадами и о торговле скотом. Тонино отлично понимал свои выгоды. Этот артист, про которого Жан Моржерон говорил, что он парит в небесах, не любит работать и годится только на то, чтобы проводить время, глядя на звезды, сделался теперь одним из самых деятельных и хитрых купцов. С каждым годом он увеличивал свои стада и доходы. Его мечтой было купить на склоне холма небольшой участок земли и выстроить там дом вроде замка. Тогда он намеревался назваться своим настоящим именем дель-Монти, и даже с прибавлением титула, и, уже заранее смеясь, называл свою жену «контессиной», а своего старшего сына «баронино». Фелиция порицала эти порывы тщеславия, становившиеся год от года все серьезнее и серьезнее. Она говорила, что гордость погубит Тонино, что он предпринимает слишком много и потому может разориться. Затем с довольно выразительной иронией она прибавила, что вся страна будет смеяться над графиней Ваниной, которая до замужества бегала за козьими хвостами и получала за это десять экю в год. Я не вмешивался в их разговор. С некоторого времени я делал вид, что увлекаюсь естественной историей, и потому, собирая травы и цветы, шел зигзагами то позади них, то рядом; но ни одно их слово, ни один их взгляд не ускользали от моего внимания. Я вскоре заметил, что среди их спора Тонино показывал свой низкий характер: он эксплуатировал любовь и боязнь Фелиции. Он хотел, чтобы она доверила ему под видом товарищества ту сумму, которую она в прошлом году дала ему взаймы. Фелиция не настаивала, чтобы он скоро отдал ей деньги, и назначала срок через несколько лет, в продолжение которых он мог бы рассчитаться. Она не показывала даже страха, что Тонино своими смелыми предприятиями может сделать ее несостоятельной, но отказывалась разделять с ним его прибыль и убытки, говоря, что не хочет поощрять его безумств, а напротив, старается удержать, потому что он должен ей и другим. Одно время они, казалось, сильно заспорили: — Вы обращаетесь со мной совершенно так же, как с бедным Жаном, — говорил ей Тонино. — Вы достаточно мучили его вашими насмешками и выговорами. Вы всегда упрекали его, никогда ни в чем не упрекавшего вас! Эти слова вонзились как кинжал в сердце Фелиции. Тонино теперь начал ревновать ее к прошлому или же только делал вид, что ревнует ее. Эта прежняя ошибка, это неизгладимое пятно, которое я старался уничтожить, было опять вызвано Тонино, как клеймо на плече преступника, появляющееся вновь при нанесении удара. Муж и брат простили ей и даже забыли; они, которые несли на себе всю тяжесть и позор, примирились с этим, а она, неблагодарная, позволяла любовнику упрекать себя! Я видел, как тяжело дышала ее грудь, как ее глаза наполнились слезами, которые текли по щекам, а она не вытирала их, опасаясь, чтобы я не заметил. Она молчала, а я умышленно отошел в сторону, делая вид, что ищу в кустах ужа. Тогда я заметил, что Тонино подошел к ней, насильно взял ее руку и просил простить его поведение. Но эта просьба была для нее только унизительна: казалось, он оказывал ей милость этой мимолетной лаской. Когда я догнал их, она все еще дулась. Я попросил их пройти около скалы, на которой две недели назад я нашел растение бадан. Говоря так, я показывал вид, что теперь не помню этого места. Я заметил, как Фелиция вздрогнула. Тонино же совершенно спокойно взобрался на скалу, сорвал это растение и подал мне. В то время как он вежливо оказывал мне эту услугу, мне удалось подметить очень важную подробность. Я стоял на тропинке рядом с Фелицией, сидевшей на камне. Я немного отошел, чтобы видеть лицо Фелиции и следить за всеми движениями Тонино. Спускаясь, он прошел мимо едва приметной расщелины; я, однако, заметил ее, но не подумал, что она может служить более удобным входом в грот. Дойдя до нее, он остановился, и я, видел, как Фелиция невольно поднялась, рассерженная и испуганная неосторожностью или скорее бесстыдством своего любовника. Они обменялись теми красноречивыми и чувственными взглядами, которые указывали на всю драму возбужденной страсти. Глаза Тонино говорили: «Там!» Затем, отыскав на горизонте точку, где восходит солнце, они выразили следующее торжественное приказание: «Радуйся, завтра утром! Сначала глаза Фелиции ответили: «Нет, я ненавижу тебя!» Тонино с улыбкой продолжал: «Берегись, чтобы не поймал тебя на слове!» Она покраснела. Ее опущенные глаза говорили еще яснее, они сказали: «Я труслива, и поэтому приду». Передавая мне сорванные им цветы, Тонино сказал; — Они теперь в семенах, и потому вам не придется более заниматься их изучением. Как ботаник я должен был бы ответить, что в таком виде я и хотел ими заняться. Но я сказал: — Действительно, вот и прошло их время. Я видел подобные же около «Киля», но те не настолько еще распустились. Завтра утром я пойду посмотреть, открылись ли они. И прося извинения у Тонино, что я причинил ему столько хлопот, я положил эти растения на скалу, как бы не интересуясь ими более. Этим я хотел показать, что более не приду туда изучать их. Эти «милые друзья» остались очень довольны мною, они украдкой взглянули друг на друга. Взгляд Тонино, казалось, говорил: «Муж не будет стеснять нас. Мы хорошо проведем время!», взор же Фелиции, казалось, отвечал ему: «Завтрашние радости изгладят то зло, которое ты причинил мне сегодня вечером». Между ними опять произошел в таком же роде разговор, в то время когда Тонино расставался с нами. Он советовал Фелиции быть нежной со мной, и она сейчас же взяла меня под руку, давая понять, что была очень счастлива, оставаясь наедине со своим дорогим мужем. Мы еще раз вернулись домой как влюбленная пара! Она не смела сказать этого, но выражала пожатием руки. Дорога, по которой нам пришлось идти, была настолько узка, что нам трудно было идти рядом, и потому я хотел оставить ее руку. — Нет, — сказала она, не желая оставлять меня и идя как серна на краю пропасти, — я не могу упасть, потому что любовь поддерживает меня. — Какая любовь? — спросил я ее, озабоченный опасностью, которой она подвергалась. — О чем вы думаете? — спросила она. — Кого же я могу любить, кроме вас? О, Сильвестр, одно только это чувство я и испытываю. Вас только и можно любить всей душой: вы олицетворение доброты, терпения, мудрости и нежности. Все, что не вы, неблагородно, несправедливо, эгоистично, жестоко и подло. Я ненавижу и презираю все то, что не относится к вам. Я старался успокоить ее, пока мы шли около пропасти, но она снова начала говорить, подвергаясь еще большей опасности. — О, с некоторых пор мне кажется, что вы не верите мне. Я не знаю, что с вами, вы слишком углубляетесь в науку. Неужели вы снова станете таким же мечтательным и сосредоточенным, каким были до нашей свадьбы? Между тем вы тогда не думали ни о своих книгах, ни об исследованиях, и я полагала, что когда вы их вновь полюбите, то заставите и меня изучать и исследовать вместе с вами! Ведь вы обещали мне это! А теперь снова начали думать только для себя одного и гулять в одиночестве! Правда ли, что вы завтра снова хотите подняться к шалашам Земми? — Я не пойду, если вам это неприятно. — Нет, нет, но возьмите с собой и меня: я также хочу принять участие в собирании трав и камешков. — Хорошо, но это скоро надоест вам, и к тому же дорога туда очень тяжелая. Вам сегодня наверное нездоровится. — Вовсе нет! Почему вы так думаете? — Вы сегодня Бог знает из-за чего побранились с Тонино. Вы знаете, что я запрещаю вам вступать в горячие споры: они вызывают у вас лихорадку и не приводят к хорошим результатам. Тонино следует влечению своего характера, своих побуждений и своему вкусу, и вы никогда не исправите его. — В таком случае вы хотите оставить на произвол его дикий характер? Вы, значит, не любите его больше? — Почему вы подозреваете это? — Вы почти не говорите с ним. Он, замечая это, сильно тревожится. — Он не прав и, по всей вероятности, скоро заметит, что ошибается. — Отлично, но в таком случае не позволяйте ему предаваться тщеславию. — Мне кажется, что он всегда был тщеславен. — Да, но с тех пор как он женился, он сделался еще хуже. Неужели вы не заметили этого? Его жена погубит его. Ванина очень глупа; я уверяю вас, что она только и мечтает сделаться графиней! — Пусть это будет так. Что нам за дело до ее тщеславия, тем более, когда она такая прекрасная жена и мать. — При ее глупости нельзя быть ни в каком отношении прекрасной. — Теперь пришла моя очередь задать вам вопрос который вы мне задали относительно ее мужа: почему вы больше не любите Ванину? — Разве я кого-нибудь любила из них? Вы так добры и нежны, что привязываетесь ко всем, кто живет около вас; это ваша потребность. Я же люблю или ненавижу по мере того, как оценивают вас. Если я и питаю слабость к Тонино, то только потому, что он больше всех любит вас. Но я не уважаю его, я вам говорила это несколько раз, потому что он бессердечный и кроме того, злой! Слышали ли вы, что он сегодня сказал мне? — Нет, я ничего не слышал. — Ну, тем лучше, иначе, я уверена, вы бы прибили его, так как за его слова он достоин был получить от вас пощечину. — В таком случае я не прав, что не слышал его? Я этим нарушил мой долг мужа и друга? Но, может быть, вам все это показалось; я замечаю, что вы становитесь слишком экзальтированной. — Я только проницательна и знаю, что, если вы не помешаете, Тонино разорит вас. — Он разорит меня! Но это не удастся ему, так как у меня ничего нет. — Вы не хотите ничего иметь, я знаю это, но тем не менее у вас есть средства: мое состояние принадлежит вам. — Я не принимаю его. — Вы должны охранять мое имущество. — Нисколько, я не брал на себя этой обязанности. — Зачем же в таком случае выработаете и тратите столько забот и знаний для процветания острова Жана? — В память его и из привязанности к вам. Мне нравится, что я увеличиваю ваше богатство и приношу вам пользу. Если же вы будете разорены, я сочту своим долгом работать для вас. — Самым благоразумным и легким было бы воспрепятствовать моему разорению. Следите же внимательна за Тонино, так как он постоянно занимает у меня деньги! — Вы сами должны быть судьей в этом отношении. Я никогда не буду вмешиваться в эти семейные дела: они ненавистны мне. Относительно всего, что касается денег и состояния, я хочу остаться чуждым как путник, проходящий мимо. — Проходящий мимо! — в ужасе воскликнула Фелиция. — Да разве мы в жизни не путники? — ответил я смеясь, не желая еще показывать свое отвращение. Она наклонилась ко мне и с нежным и страстным видом приблизила ко мне свое лицо. Я холодно поцеловал ее, но она так мало верила в мою проницательность, что не заметила этого. Дорога делалась мало-помалу шире, и Фелиция спокойно шла рядом со мной. Она испытывала потребность жаловаться на Тонино и брала меня в свои поверенные. Оскорбленная настолько же, как и порабощенная им, она в моем присутствии бранила его, оставаясь же с ним наедине, не могла противиться ему. Какой странной низостью и поразительной наглостью увлекаются такие заблудшие души! Могу сказать, что до того дня я, несмотря на свои горькие опыты, не знал человеческого сердца, как сказали бы другие. Я теперь понял, насколько в нем скрываются злоба, эгоизм, отсутствие человеколюбия, религии и понятия о долге и правде. На следующее утро, когда я назначил свою прогулку совершенно на противоположном направлении от места их свидания, я увидел, что моя жена быстро оделась и приготовилась идти со мной. Неужели я ошибся относительно их намерений? Ее взгляд, выражавший согласие, неужели лгал Тонино, или же ночью ее мучили угрызения совести и она решила идти со мной, чтобы устоять против роковой страсти? Скоро, однако, я увидел, что это было притворством. В ту минуту, когда нужно было идти со мной, она вдруг почувствовала приступ мигрени. Я решил во всяком случае не уходить и не пускать ее, а потому предложил ей лечь, сказав, что не уйду из дома для того, чтобы избавить ее от утомительных наблюдений за хозяйством. Она не сумела скрыть от меня своего удивления и досады. Мигрень, сказала она, недолго продолжится у нее, и не стоило терять такое прекрасное утро из-за пустяка, который пройдет через час, если она полежит спокойно. Я настаивал на том, что она слишком деятельна и потому не усидит на месте. — В таком случае пойдем, — сказала она. — Я вижу что вы стали беспокоиться из-за меня, и могу серьезно заболеть от мысли, что вы будете пленником по моей вине. Она настояла, и мы отправились, но пройдя несколько сот шагов, она остановилась, говоря, что ходьба усиливает ее боль и она чувствует, что только сон может окончательно вылечить ее. — Идите вперед, — сказала она, — в двенадцать часов я приду вам навстречу. Подождите меня там, наверху. Она хотела во что бы то ни стало убежать от меня, но я решил не пускать ее. Я сослался тоже на тяжесть в голове, говоря, что это всегда служит у меня признаком грозы, и потому идти в горы было бы не особенно приятно и небезопасно. Я вернулся вместе с Фелицией. И хотя она благодарила меня за мои заботы о ней, но, видимо, я очень стеснял ее. Она не могла удержаться, чтобы с досадой не хлопнуть дверью своей комнаты, когда ушла, по ее словам, отдохнуть. Я поднялся в свой рабочий кабинет, откуда виду все, что происходило в нашем деревянном простом домике. Мне было понятно, что случится: Фелиция напишет письмо или поставит сигнал наверху дома, чтобы предупредить любовника относительно неожиданного препятствия. Она два раза выходила из своей комнаты и слушала, как я хожу по балкону, находившемуся на втором этаже. Она не могла проскользнуть на чердак, не встретясь со мной, и поэтому отложила свое намерение. Следовательно, она должна была написать, не желая дать Тонино повода думать, что добровольно подвергает его тщетным ожиданиям. Но каким образом она отошлет это письмо и был ли у нее поверенный? Нет, Тонино был слишком недоверчив или скорее скуп, чтобы согласиться иметь слугу, который мог бы каждую минуту открыть виновных. Следовательно, у них был какой-то способ передавать письма, о котором я не догадывался. Способ этот оказался очень простым. Она посылала нарочного с мелкими вещами к Ванине и приказывала ему идти мимо шалашей Сикста Мора; Тонино мог находиться там и этим дать возможность посланному не идти дальше. Тонино стоял на тропинке и, увидя посланного, брал пакет, предназначенный для его жены, и отсылал нарочного обратно. Один из пастушков вошел к нам в нижний этаж и через некоторое время вышел с маленькой картонкой в руках. Он шел в том направлении, где назначено было свидание. Надо было догнать его. Я вышел с преднамеренной осторожностью, как бы опасаясь разбудить жену, и под окнами ее комнаты проник в фруктовый сад, который был довольно густ и мог скрыть меня от ее взора. Я часто работал здесь, и потому она могла подумать, что я некоторое время пробуду в нем. Пробираясь между кустами, я перелез через забор, находящийся на другой стороне сада. Я добрался до оврага, левая сторона которого была отлога, правая же — очень крутая и шла по направлению к гроту. Я перелез с такой быстротой, что пересек дорогу мальчику прежде, чем он вошел в лиственный лес и за километр до того места, где должен был находиться Тонино. — Куда ты идешь, Пьер? — добродушным тоном спросил я посланника. — Я иду, — отвечал он, — отнести маленький подарок, который хозяйка посылает своему крестнику. — Я как раз направлялся в Верваль, — сказал я. — Дай мне, и я отнесу сам. — О нет, сударь, этого нельзя! — Отчего? — Хозяйка сказала: «Отдай это только господину Тонино, это сюрприз, который я хочу сделать его жене». — Я берусь передать сюрприз. — А если хозяйка будет бранить меня? — Подожди меня, мы вернемся вместе, и я обещаю тебе попросить барыню, чтобы она не бранилась. Пойди спустись к оврагу, спрячься и подремли. Проходя обратно, я кликну тебя. Ребенок не заставил долго упрашивать себя. Я пошел по лесу в обратную сторону от того места, где находился грот. Я открыл картонку, которая была не запечатана, а завязана красной лентой: в ней находился маленький детский чепчик, но картонка была тяжелее, чем должна была быть по размеру и по виду. Я тщательно измерил ее глубину и толщину. Дно было заметно толще, следовательно, оно было двойное. Надо было отклеить бумагу, под которой скрывали контрабанду. Но каким способом я мог сделать это, не оставив следов? Дом доктора находился не особенно далеко, и я знал, что он в это время делает свой обход. Я был уверен, что мне удастся исполнить мое намерение. Через минуту я уже пришел туда. Его служанка позволил мне войти в его кабинет и из скромности и доверия оставила меня одного. Я начал искать и вскоре нашел гуммиарабик и белую бумагу. Отделив верхний лист дна картонки, я там нашел одно из самых выразительных писем. «Меня не оставляют, и я не могла прийти туда, где ты ждешь. Отсюда я чувствую, как ты сердишься и ревнуешь! И я знаю, как ты поступишь со мной: ты будешь ворчать на меня, полюбишь свою жену или будешь делать вид, что любишь ее. Дни, недели пройдут, и ты не захочешь снова ждать меня, не придешь увидеться со мной и не пришлешь ни одного слова утешения, я снова буду обязана, как вчера, прийти к тебе, притворяться и переносить глупый торжествующий вид твоей пастушки! О, Боже, Боже, это ли ты обещал мне? О, как ты хитер и жесток! Зачем ты притворяешься ревнивым? Ведь ты знаешь, что я не люблю больше Сильвестра. Я любила его, я признаюсь в этом, и теперь уважаю и духовно преклоняюсь перед ним. Он — мой идеал и мой бог на земле! Я думала, что иначе полюблю его, а может быть, кто знает, и любила его? Да, мне казалось, что я была счастливой в его объятиях. Я не хочу лгать тебе… но вот уже год, с тех пор как, на мое несчастье, я познала и разделила твою страсть, я более ничего не чувствую в его присутствии, кроме стыда и страха. Я не знаю, понимает ли он, что я уже не та. Он обдумывает и обсуждает все, но не ради холодности, как ты полагаешь, но вследствие своей доброты. Он старается объяснить в хорошую сторону и в пользу других все, что огорчает и удивляет его. Может быть, заметив мою холодность, он обвинит в этом себя и будет стараться удвоить свою нежность и преданность А я должна играть ужасную комедию, чтобы скрыть от него, что после твоих поцелуев я погибла душой! О, как я несчастна, как сильно я упрекаю себя!.. Ну что ж я безумно люблю тебя, и если бы ты так же любил меня, я ни в чем не раскаивалась бы. Вспомни первые дни нашего счастья… ведь это было так недавно, прошел только один год! Как прекрасно провели мы лето! В наших сердцах горел огонь. В то время я была слаба, как цветок, и беспечна, как птичка. Я была в упоении. Ведь столько лет огонь тлел под пеплом, и я жаждала тех наслаждений, которые ты дал мне! Я не знала их. Вот почему, дрожащая от безотчетного влечения к тебе и от страха быть обманутой тобой, я бросилась на грудь другу более надежному и доброму. Увы, он не обманул меня, но ты изменил мне! Не говори «нет»! Я знаю, что твоя страсть была слишком пылка и потому непродолжительна: я чувствую, что ты больше не любишь меня. Но вот вместо того, чтобы успокоить и привлечь вновь, я только сержу тебя!.. Ты раздражаешься, когда я говорю тебе об этом, а я, повинуясь какой-то роковой случайности, постоянно повторяю одно и то же! Но вместо того чтобы бранить меня и угрожать, успокой меня! Ты ведь знаешь, что твои слова непреодолимо действуют на меня; но мы живем отдельно, видимся редко и еще реже бываем вдвоем. Отчего же при свидетелях мы постоянно ссоримся с тобой, и мне кажется, что ты ненавидишь меня, и я сама бываю готова возненавидеть тебя? О, как ужасны те минуты, когда мы желаем вернуться к дружбе, семейным отношениям и общим интересам! Как можешь ты думать, что я не забочусь о твоем будущем еще с большей предусмотрительностью и осторожностью, чем ты сам? Я вижу, что у меня не будет детей, потому что я проклята! У Сильвестра они были, следовательно, зло происходит от меня! Но ты обещал… Нет, я проклята! Пусть твои дети будут моими, и хотя я не люблю их, но пусть будет так, как ты хочешь! Сильвестр ничего не требует; я вчера говорила с ним по этому поводу. Ты можешь не опасаться, что у нас будет семья, тем более что ты приказываешь мне быть только его сестрой. Я исполню это, я найду отговорку: скажусь больной, если ты только любишь меня! Он так доверчив и так предан мне! Бедный Сильвестр! Но все равно, лишь бы ты любил меня! Возвратись тем же любящим и страстным, каким ты был вначале, иначе я убью себя, потому что слишком сознаю свою виновность. Пока у меня будет надежда, я заставлю умолкнуть раскаяние; но если ты оскорбишь и оставишь меня, я возненавижу себя и не буду в состоянии перенести жизнь. Я все сказала тебе! Ты должен подумать об ужасе моего положения, а также и своей собственной опасности. Ты не смеешь слишком шутить с моей ревностью и возносить до небес глупую крестьянку, на которой ты женился с досады. Если ты позволишь ей оскорблять меня, то я не отвечаю за себя. О, знаешь, я становлюсь безумной и злой. Я уже больше не великодушна, как была прежде: ты убил во мне доброту. Я буду предупредительна с твоей женой, буду осыпать ее подарками, но превозмочь чувство отвращения к ней для меня немыслимо! В особенности, когда я вспомню о ее втором ребенке, родившемся вскоре после первого, в то время когда ты клялся, что считаешь жену за служанку и больше не любишь ее!.. Как я жалка! Часы бегут, а Сильвестр все упорно сидит в своем рабочем кабинете. Чтобы послать тебе письмо, я употреблю то средство, которым ты посоветовал пользоваться мне в крайне случаях; оно кажется мне надежным. Прощай, приходя скорее или же назначь мне свидание. Иначе берегись! Я приду к тебе, скажу все твоей жене или моему мужу. Я способна на все, если ты оставишь меня в этом состоянии отчаяния и возбуждения целые недели и месяцы!» Зачем я перехватил это отчаянное письмо? Оно было еще одним лишним шипом в том венке страдании, который сплел себе Тонино, думая наслаждаться с победоносными лаврами или миртами любви. Эти несчастные мучили один другого, и пора искупления настала. Своим вмешательством я мог только ускорить его. Если резко разлучить их, то они, может быть, пожалели бы друг о друге; лучше оставить их, и пусть каждый видит в лице другого живое, непрерывное и неизбежное наказание. Я был неумолим в ту минуту! — Пусть они терзают и проклинают друг друга! — вскричал я. — Пусть отравляют себе существование, пусть ненавидят и презирают друг друга! Для меня теперь кончена обязанность защищать их! Я сложил письмо, которое прочел, почти не прикасаясь к нему: настолько оно было мне противно. И, быстро и искусно заклеив коробку, побежал к Пьеру. — Я хотел идти в Верваль, — сказал я ему, отдавая посылку, — но должен буду зайти к одному соседу, который просил меня оказать ему услугу. Иди же, куда тебе приказывали, ты опоздаешь только на час и можешь не говорить об этом. Если же тебя будут бранить то я объясню все. Он пошел по дороге к шалашам Сикста Мора. Я же пробираясь по лесу, прошел к гротам. Я увидел Тонино, который осторожно бродил кругом, не показывая ни малейшего нетерпения. По-видимому, он сейчас только пришел: он нисколько не стеснялся заставить Фелицию прождать целое утро, не предвидя, что ей помешают прийти и что письмо от нее может попасть в руки его жены. Стоя на тропинке, он получил это письмо, отослал обратно мальчика и скрылся в скалах, конечно, для того, чтобы прочитать послание. Во всех его движениях я заметил высокомерную беспечность человека, привыкшего хитрить и поэтому думать, что он стал непроницаемым. Но, очевидно, это притворство сильно надоело ему. Будет ли он отвечать? Он всегда носит с собой записные книжки и карандаши, так как привык делать вычисления и записывать счета. Я спрятался на довольно большом от него расстоянии и ждал. Вскоре я увидел, что он продолжал разрывать на маленькие кусочки картонку, которую я так тщательно заклеил, и бросать их на скалу. Затем он сунул чепчик в карман, не беспокоясь, что мнет его, и смело направился по дороге в Диаблерет. У него не было никаких причин прятаться, и он всегда мог найти предлог, чтобы его визит показался мне вполне естественным. Я дал ему пройти, предвидя, что может произойти. Фелиция, конечно, обошла фруктовый сад, в который, как она видела, я вошел, и, не найдя меня там, могла отправиться на свидание со своим любовником. Едва я успел предположить это, как заметил быстро подходившую Фелицию. Она озиралась с беспокойством вокруг, как будто бы боялась, что за ней следили. Тонино подошел к ней, начал успокаивать ее. Они вошли в лес, в котором я находился. Я потерял их из виду, но слышал шум шагов по сухому и хрустевшему вереску. Одно время я подумал, что они удалялись, но звук их голосов вывел меня из заблуждения. Они дошли до того места, покрытого травой, где соединялся целый ряд мелких прогалин и где я нашел себе убежище. По мере того как они подходили, я понемногу отступал. Очевидно, они искали то же место, которое мне казалось удобным для наблюдения, и подробно знали окрестности места их свиданий. Я по-прежнему отступал без шума, но вскоре должен был остановиться за скалой, позади которой деревья и кусты спускались к оврагу. Они подошли совершенно близко ко мне. Далее не было тропинки: там простиралась пустыня, безмолвие и безнаказанность! Они сели так близко от меня, что я принужден был затаить дыхание. — Что за фантазия пришла тебе, — сказал Тонино, забраться в этот вереск, когда было бы так легко проникнуть в грот, не будучи никем замеченной! — Я не пойду туда, — отвечала она, — потому что там ты своими поцелуями, которые унижают меня, отнял бы мою волю прежде, чем ответил бы на то, что я писала тебе. Отвечай мне! — Неужели ты думаешь, что могла бы противиться мне, если бы я захотел покорить тебя здесь или там? — Здесь я устою: возвысив только голос, я напугаю тебя. Там же, в том проклятом гроте, напрасно бы а кричала и угрожала: там ты был мой повелитель, там ты… О, в первый раз это случилось помимо моей воли! Не усмехайся так зло… Я боролась целый день и когда хотела бежать, ты загородил выход своими железными руками. Ты употребил силу! — Лжешь! — Ты держал меня пленницей против моего желания, я клянусь в этом перед Богом! — Разве ты привела меня сюда для того, чтобы порицать те воспоминания, которые ты недавно находила такими прекрасными? Послушай, чего же ты хочешь? Твое сегодняшнее письмо безумно, как и остальные. Ты говоришь «да» и «нет», ты любишь и ненавидишь меня, ты любишь своего мужа и никого не любишь, кроме меня! То ты мучаешься угрызениями совести, то у тебя их нет; то ты хочешь усыновить моих детей, то не можешь видеть их. Признайся же, что ты лишилась рассудка! Я, право, не знаю, что с тобой делать! — Если ты находишь, что я схожу с ума, то ты обязан спасти меня, так как я не осознаю своих поступков. — Но ведь ты делаешь все невозможным! Наша жизнь так хорошо сложилась! Твое замужество и моя женитьба, которые, казалось, должны были разлучить нас, обеспечили нам спокойствие. На нас не тяготела ответственность за наше семейное счастье, и это было к лучшему, потому что мы слишком страстны, ты сама знаешь это, чтобы жить вместе! Ты с твоим превосходным и милым мужем, я с моей глупой женой, которая добра и боится меня, только и можем страстно любить друг друга в тайне, без которой нет любви, и отдаваться нашим пылким порывам в эти счастливые часы, которых другие ждут, заранее приготовляются к ним и наслаждаются как победой над судьбой. Что может быть прекраснее, живее и полнее наших первых свиданий? Зимой они стали реже и недоступнее, и ты сердилась на меня, как будто бы я был творцом зимы! Твой ум работал, тоска овладевала тобой, и ты снова отдалась мужу. Тогда ты бывала в дурном настроении и, говоря о нем, думала меня уколоть. Ты заставила меня, в свою очередь, беспокоиться, скучать и терять рассудок. Я тогда запрещал тебе быть его женой, я и теперь запрещаю это, когда моя дикая любовь раздражает меня; но раздумав, я сознаю, что не может быть нераздельной связи между несвободными, как мы, любовниками. Будь же рассудительна и не делай несчастным этого доброго Сильвестра. Я люблю его может быть больше, чем ты. Ты неблагодарна: вместо того чтобы предаваться бесполезным угрызениям совести, ты должна была бы стараться скрыть от него твою тайну и твои ссоры со мною. Он кончит тем, что догадается об их причине и тогда навсегда лишится покоя. По отношению к нему у меня спокойная совесть: я ему желаю только всего хорошего, готов броситься из-за него в огонь, и его одного на свете считаю человеком, достойным уважения. Я не хочу лишать его жены, ее общества и счастья. Он не знает, что его во всех отношениях прелестная жена одарена чувствами или же, если хочешь, потребностью сердца, которую ни он, ни я, никто другой не в состоянии удовлетворить. Перестань же, не сердись и не вонзай твоих хорошеньких ногтей в мою бедную руку! Говоря таким образом я, с моей точки зрения, хвалю тебя! Я всегда желал обладать тобою, я почувствовал это желание с первым биением моего сердца. Я угадывал в тебе то, чего никто не знал, чего ты сама не подозревала: пламенное облако окутывало тебя, и едва ли Сильвестр мог узнать тебя так же, как я. Будь уверена, что если бы этот умный и достойный человек узнал тебя, он не привязался бы к тебе! Он, может быть, был бы твоим любовником, но мужем — никогда! Сильвестр ошибся: люди, у которых нет пороков, не видят их у другого! Я говорю пороков, потому что другие так называют страсти, но ты знаешь, что я не признаю этого и не особенно-то придерживаюсь добродетелей. Я таков, каким создал меня Бог; пусть называют меня животным и дикарем, я не обижаюсь на это! Чтобы познать любовь и жизнь, тебе следовало бы встретиться и соединиться с человеком такого же покроя и таким же атеистом в делах нравственности, как я. Следовательно, мы можем наслаждаться счастьем, не отнимая его ни у твоего мужа, ни у моей жены. Ни тот, ни другая не понимают нас, и тем хуже для них! От нас они видят только дружбу и уважение, но так как, впрочем, они и не требуют ничего другого и не понимают наших порывов, то будем думать, что это лучше для нас четверых, и согласимся, что я был прав, победив в тебе угрызения совести! Ты стараешься своими капризами испортить разумную и тихую жизнь, которую я водворил в нашей семье, такую восхитительную и прекрасную для нас обоих. Я тебя умоляю успокоиться и довериться мне… Дай же мне, — прибавил он, — управлять твоей жизнью, твоим будущим и даже твоим мужем, который не признает мучительным волнение и погружен только в свои книги и занятия. Не беспокойся также о моем отношении к пастушке и тем количеством детей, которые у нее будут. Она, кажется, только и стремится к тому, чтобы вскормить их целую дюжину. Нельзя бояться красоты женщины, у которой нет другой страсти, кроме материнства. Тебе ревновать к Ванине, ведь это бессмысленно, несправедливо и даже бесчеловечно!.. Бедная Ванина, если бы она увидела меня погибающим от любви у твоих ног, она умерла бы от изумления и унижения. Неужели ты, такая великодушная, захотела бы убить ее? Нет, ты не пожелаешь этого точно так же, как и я не желаю убивать моего дорогого и доброго Сильвестра, перестав обманывать его. Сохраним же наши отношения; в этом состоит вся нравственность, которую я признаю, чего бы она ни стоила мне! Будем добры, внимательны и осторожны, тогда мы останемся довольными сами собой и друг другом. Будем же упиваться нашими радостями, а те часы, которые разделяют нас, будем заниматься работой, обязанностями и делами. Не будем ссориться из-за пустяков, из-за денег и из-за того, что принадлежит тебе и мне. Все это служит для тебя только предлогом излить желчь. Предоставь мне управлять делами так, как я понимаю их. Что тебе за дело, что я трачу свои деньги и пользуюсь также и твоими? С каких это пор ты начала рассчитывать? Что значат деньги в нашей любви? Ты сама говоришь, что у тебя не будет больше детей, и, кроме того, я знаю, что твой муж презирает золото. Неужели ты стала корыстной, ты, которая всю жизнь работала и копила для других? Довольно, я думаю, что я ответил на все. Что же можешь ты еще сказать? — Я могу сказать, — вскричала рассерженная Фелиция, — что ты лжец и негодяй! Я любуюсь, как ты, попирая ногами всякую нравственность, проповедуешь о семейных обязанностях! Смеешь ли ты защищать моего мужа! Признайся, что я уже давно надоела тебе и ты хочешь время от времени забавляться мной, играть комедию страстей и чувств, уверять меня своими заранее заготовленными лживыми словами и клятвами. Остальное же время ты любишь всем сердцем свою жену и вместе с ней смеешься надо мной! Но слушай, лжешь ты или нет, но я не хочу довольствоваться той долей, которую ты предоставляешь мне. Я не только хочу восторгов, уверений, вздохов, но также и твоей дружбы, доверия, покорности, твоего общества! Я хочу видеть тебя каждую минуту! Я желаю участи твоей жены. Этой ценой я поменяюсь с ней ролью: она будет твоей любовницей, твоей прихотью и твоим мимолетным развлечением. Я знаю теперь горечь и унижение этого положения и без ревности предоставлю ей его: я согласна лучше жалеть ее, чем завидовать. Слышишь ли, чего я хочу?.. Под каким-нибудь предлогом ты придешь жить ко мне и время от времени будешь навещать Ванину. Она согласится на это. Ты убедишь ее, она будет думать, что ты обожаешь ее, что она одержала победу надо мной, а я тогда буду смеяться над ней! — Прекрасно, — с иронией заметил Тонино, — вот это превосходно придумано. А что же сделаем мы с Сильвестром? — О, не говори мне о нем, иначе я взберусь на ту скалу и брошусь оттуда! — Ты видишь, что он тебе дороже жизни, дороже меня, и я должен был бы ревновать! — А ты не ревнуешь! Теперь это совершенно ясно. Но я… — Ты ревнуешь из-за своего самолюбия, но не из-за любви ко мне, которой ты никогда не чувствовала. — Это возможно… так же, как и ты ко мне. Кто знает, может быть, только порок и соединил нас. — Твои слова ужасны! — Не слова, а факты! Иди же прочь, я узнала теперь свою судьбу. Я исправлю свою вину: буду любить мужа и забуду тебя. Она хотела уйти, но он удержал ее. Очевидно, она надоела ему и он с восторгом порвал бы с ней всякие отношения, если бы денежный интерес не таился под его чувственной страстью. По всей вероятности, сделав над собой усилие, чтобы стряхнуть усталость ума и сердца он старался заговорить со свойственной ему смесью красноречия и цинизма прозы. Я не осмелюсь передать вам всех прелестей и плоскостей его разговора. Я, насколько возможно, стараюсь выбросить те циничнее сцены и слова, сказанные под влиянием лихорадочного состояния, то экзальтированные, то оскорбительные и унизительные для той женщины, которая слушает и принимает их. Следя за изменением лица Фелиции, он изучал то впечатление, которое производил на нее своими доводами, то правдоподобными, то оскорбительными В заключение этого разговора было сказано то, что могло служить развязкой их теперешнего положения и теснее соединить их. Но для этого надо было терпеть и ждать. Но ждать чего же? На это последовал роковой ответ. Надо было надеяться на мою смерть, а также и на смерть Ванины. Я был еще молод и совершенно здоров, но часто подвергал себя опасности в глетчерах: стоило только наступить на какой-нибудь камешек или сучок или же, еще менее, задуматься на одну секунду, чтобы поскользнуться и навсегда исчезнуть. Да и кроме того, я подвергал себя тысяче ежедневных опасностей. Я был слишком добр и притом совершенный ребенок; из-за какого-нибудь муравья я был готов броситься в воду, чтобы спасти его. С таким характером можно найти массу случаев для скорой смерти. Даже мое хорошее здоровье и то заключало в себе повод к опасности. Те, которые, как я, не подвергались серьезной болезни, могут умереть от малейшей простуды или же от удара солнца. Кроме того, я не предпринимал никаких предосторожностей. В мои годы это было очень необдуманно, ведь наша жизнь висит на волоске! Никогда не следует поэтому бояться продолжительности тех уз, которые тяготят нас. На свете нет ничего вечного! Разумно можно только предвидеть то, что молодые переживут старых: зрелый плод первый падает с дерева! В заключение добрый Тонино, оплакав меня заблаговременно обещал моей жене похоронить меня. Что же касается его жены, то он говорил, что она гораздо слабее здоровьем, чем это кажется; при рождении первого ребенка она чуть было не умерла. Фелиция настаивала, что бы он все рассказал, и тогда он гнусно жалобным тоном прибавил, что с того времени у Ванины очень слабая грудь. Поэтому, заметил он, не следует портить будущего ненавистью и нетерпением. От судьбы не уйдешь, он уверен в этом и с юных лет уже говорил себе: я буду мужем Фелиции, и в то время, когда венчался с Ваниной и стоял с ней у престола, какой-то волшебный голос шептал ему: «Это в ожидании той, которую ты любишь и которой будешь обладать». Обладание наступило, скоро наступит и брак. — Я не знаю, когда и каким образом, — прибавил он, — но это предназначено, я чувствую, знаю, вижу и предсказываю тебе. Ты это увидишь, верь мне, молчи и не отнимай от меня мечты, которой я живу! Я с презрением улыбался, слушая Тонино, который говорил о судьбе, устраивая ее по своему желанию. Находясь за скалой, разделявшей нас и возвышавшейся над пропастью, я смотрел на подмытые глыбы этой скалы, которые унесет первая гроза, и говорил себе, что может быть внизу она разрушена еще сильней и грозит еще более неминуемым падением, чем мне казалось. Тонино нечаянно мог бы толкнуть ее и заставить обвалиться ту каменистую глыбу, на которой я стоял. И кто знает, может быть, и я, втыкая мою палку в песок, мог бы свергнуть в пропасть вместе со мной этих мечтателей, строивших свое гнездо на моей могиле?! Я утомился слушать их; я уже достаточно узнал. Не знаю, о чем они говорили еще; когда они удалились, я не слушал их больше и не следил за ними, все, что касалось их, сделалось для меня совершенно безразличным. Кроме того, я узнал все, что желал: прошлое этой связи, настоящее, надежды относительно будущего, степень их искренности, правдивости, влечения того и другого, их смелость, софизмы, опасения и надежды — словом, все! Моя роль совершенно менялась после этого: мне более нечего было узнавать; я должен был, окончив справки, исследовать сам причину и произнести приговор. Но как бы я ни был рассержен и оскорблен, я, как человек рассудительный, не мог не знать, что, прежде чем осудить виновных, следовало разобрать важность их проступка и раньше еще этого разобрать все человечество. Надо было подняться еще выше и потеряться в созерцании бесконечности, потому что мы не можем определить человека, не упоминая о Боге. Я мог действовать на основании моих познаний, мне не надо было дожидаться этого дня, чтобы утвердиться в моей вере. Я не был ни последователем Спинозы, ни картезианской философии; я признавал большей частью, как и все люди моего времени, ту и другую систему, дополняя их учением прогресса, которое, казалось, примиряло эти две доктрины. В действительности, если верить, что Спиноза прав, считая свободу и ответственность нашей совести менее абсолютной, чем это допускает Декарт, и, если последний прав, расширяя область ответственности и свободы совести, то мы не находим ни у того, ни у другого решительного ответа на этот важный вопрос. Католик есть тот же самый картезианец в том отношении, что оба признают неограниченность ответственности, основываясь на вечности наказания. Следовательно, католицизм ничего не разрешает, потому что вечное наказание отвергается, основываясь на аналогии, разумом, чувством и опытом. Все новейшие философские учения допускают новые, высшие понятия, и не нужно быть слишком ученый или хитроумным, чтобы постигнуть истину, которой дышат главнейшие изыскания нашего века. Эта светлая истина основана на опыте, другими словами, на критическом разборе истории человечества и содержит в себе ту редкую, могущественную правдивость, которая тотчас же признается разумом и чувством. Человек не ангел и не животное, говорит Паскаль. Теперь мы почти все согласны с этим. Человек большею частью повинуется своим роковым инстинктам, и его душа слишком безусловно свободна; в некоторых случаях, слишком даже частых, чтобы считать их за исключения, душа совсем не бывает свободной. А между тем Спинозу если не осудили, то по крайней мере опередили и исправили. Человек считается действующей силой нравственности. Но когда он не отвечает за свои мысли и поступки, он не может быть членом общества и считаться этой силой. Род человеческий был создан способным к усовершенствованию, следовательно, человек может считаться свободным каждый день, каждый час его существования спадает завеса с его глаз, смягчаются его инстинкты, развиваются ум и сердце. В общем, это не всегда кажется верным, но это так. Даже в эпохи, которые кажутся склонными к упадку, тайная работа приготовляет почву для прогресса. Само человечество переживает более или менее суровые зимы, но весна обыкновенно возвращается, и так как в совокупности люди незаметно совершенствуются, то и каждый человек в отдельности, обладающий чувствительностью, прогрессирует, ощущая это сам или даже не замечая этого. Общество может быть развращенным, может распасться и уничтожиться; но тем не менее правда будет идти вперед, и, если даже у нее останется только один последователь, она все же сумеет распространиться и образовать новое общество. Земные перевороты не уничтожают божественных законов, а также не изменяют и законов нравственных, духовных и физических. Эти истины не гибнут, а возвышаются и совершенствуются. Было очень легко вывести следствие из моей скромной личной философии. Хотя те виновные, которых я должен был осудить, и были жертвой своей невоздержанной и развращенной натуры, то тем не менее лучшая среда, лучшее образование могли бы дать им силы для борьбы с их желаниями. Презирая до отвращения болезненное воображение, заставившее их отвергнуть супружеское счастье и броситься в преступные объятия, я должен был вспомнить, что Тонино мог бы, соединяя свою судьбу с другой женщиной, стать честным и что Фелиция могла бы остаться чистой и избежать до конца своей жизни последствий ее первой ошибки. Свобода нравственности существует, но она может заглохнуть вследствие отсутствия нравственной поддержки и деспотического заражения злом. Перед этой задачей мне не было надобности разбирать великий вопрос о браке и спрашивать, была ли неразрывность его возможна по отношению к чувствам. Брак является фактическим вопросом общественного порядка. Скрытое прелюбодеяние избегало законного наказания, и муж становился судьей своего собственного дела. Я знал, что мог пользоваться широкими правами, но так как всякое право синоним обязанности, то я должен был определить и исследовать мою обязанность. Мы все подвигаемся вперед, но некоторые из нас двигаются слишком быстро. Я уже пережил полстолетия, для меня прошло уже то время, когда я мог увлекаться романом, названным «Жак», который наделал много шума и взволновал меня в дни моей юности. Это было повествование о чистых чувствах и рассуждениях. Автор много раз изменял название этого рассказа, который поставил в тупик невнимательных критиков, довольно хорошо проник в смысл этого произведения уловил ход его идей. Итак, мнение г-жи Занд или вернее, ее наблюдения и заметки имели для меня важное значение. Прочитав «Жака», я заметил, что мои взгляды сходились с ним, и я объяснил себе роман, как это сделал бы всякий мало ученый муж в свое время. Тогда была эпоха страстей и романтизма, эпоха Рене, Вертера, Оберманна, Чайльд Гарольда, Ролланда, типов убийц, разочарованных и утомленных жизнью; Жак был маленьким побочным сыном этой великой семьи разочарованных, которые имели свою историческую и общественную цель. Жак думал оживить любовь, но не мог сделать этого; он является в романе уже усталым от неудач. В браке он напомнил Оберманна, или, скорей, брак для него был каплей желчи, переполнившей чашу. Он убил себя, желая доставить другим счастье, в которое сам более не верил. Возвышенная черта его характера заключалась в полнейшем равнодушии к жизни. Борьба не была в его натуре, и потому он не воспользовался своим правом, но был справедлив к самому себе. Нравоучение этой книги могло бы быть следующим: «Если ты не умеешь желать, ты не имеешь права жить». Предполагали, что романом «Жак» автор хотел высказать основную мысль за или против брака. Но я думаю, что в этом жестоко ошибались; автор не заносился так высоко и не старался таким способом добиться успеха. Он был молод и принадлежал к той литературе, которая еще не устарела. Я уже сказал, что мои юношеские чувства соответствовали чувствам Жака. Позднее они были оживлены развязкой в прекрасной драме Александра Дюма «Граф Герман», где появляется Жак, более точный и более смелый, чем у г-жи Занд, потому что он приносит себя в жертву из героизма, не чувствуя отвращения к жизни. В общем, нельзя считать безумцами этих добровольных мучеников обманутой любви, так как всякий великодушный человек, потерявший веру, испытывает желание смерти. В ту эпоху, о которой я вам рассказываю, литературные вымыслы находили отголосок в моем сердце. Я был, как и все, романтиком и остался таким навсегда. Зрелый возраст, точно так же как и старость, не уничтожил моей чувствительности. Если бы я послушался голоса моего сердца, то поднялся бы на соседний глетчер и нашел бы там смерть, которую мне желал мой соперник и которой воспользовалась бы моя жена. Но человек пробудился во мне. Низость, или скорей бесполезность, самоубийства сделалась мне очевидной, в то время как расширились и определились мои понятия о долге. Я победил искушение, которое стерегло меня и тревожило мой покой; я ни одной минуты не отдавался ему. В другом романе автора «Жака» действующее лицо могло бы иметь на меня влияние. Вальведр поступает иначе, чем Жак; неверность его жены возбуждает жизнь в его сердце. Он питает и хранит другую любовь. Но когда затронут вопрос о разводе, так как действующие лица по закону могут воспользоваться им, то муж не соглашается на него, полагая, что не следует разрывать связи, которая постановила его быть защитником своей жены. Он присутствовал при ее кончине и женился только тогда, когда мог дать своим детям вторую мать. Преступная любовь на этот раз убивает и наказывает жену, муж же торжествует над злобой и горем. Мое положение было совсем иное. Сумев обмануть, моя жена не сделала меня несчастным, и никакая другая женщина не казалась мне идеалом для лучшего существования. К чему я мог привязаться в жизни с тех пор, как ее разбили? Ни к чему другому, кроме моего безотрадного и неумолимого долга. Когда совесть осветила мне мой долг, то оказалось, что он не состоит ни в наказании, ни в прощении. Как невозможно определить в человеке, более или менее просвещенном, степень его нравственного и духовного сопротивления грубой чувственности, точно так же нельзя философам и физиологам с уверенностью произнести приговор над преступником. Законы признали это радикально, отделив судью от палача. Суд присяжных определяет существование и несуществование виновности, которая влечет за собой то или другое наказание. Судья не произносит приговора, а применяет только статью закона: все основано на более или менее удачных расчетах вероятности. Было бы затруднительно решить, почему иногда поступают смело или трусливо. Изучение иногда даже совершенно чистой совести представляется трудным делом, которое приводит к сомнению. Каким образом можно это проделать с другим человеком, когда нельзя вполне завладеть его доверием и убедиться в его искренности? Я не мог наказать то, что строго осуждалось моим разумом и сердцем. Одно только преступление вызывало мое порицание, право же наказывать виновных ускользнуло от меня. Я не мог более оправдывать их, те же самые причины противились этому. Я знал, что я имею дело с людьми разумными во многих отношениях, у которых не было недостатка в хорошем примере и совете. У них была доля светлого ума и духовной свободы, даже у Тонино. Они, конечно, заслуживали сурового и строгого урока и беспощадных упреков. Это вполне удовлетворило мою законную злобу, потому что, не признавая казни, я также никогда не любил ни убивать, ни мучить, ни бить. У меня составилось такое высокое понятие о человеческом достоинстве, что я не знал искушения больше сильного, чем чувство человека, униженного справедливым презрением другого, пользующегося своим правим. Кроме того, у меня не было права убить моего соперника, и я никогда не решился бы на это. Тонино был отцом семейства, и жена боготворила его. Ванина на самом деле была вполне непорочной, достойной и преданной женщиной. Она кормила невинного младенца, моего крестника, который носил мое имя. Я представлял себе ужасную сцену, которой эта семья могла быть свидетельницей и жертвой. Я мало заботился о том, что надо мной могли насмехаться, открыв тайну, которая так бесчестила меня. Человек, добросовестно следивший за собой всю свою жизнь, как это делал я, знает, что он сумеет всегда найти себе награду в общественной мнении. Все узнают, что я принудил к молчанию Сикста Мора не ради своей репутации, а для того, чтобы воспрепятствовать обществу оскорбить и унизить мою несчастную жену. Когда настало время наказания, я почувствовал себя обязанным сделать различие между двумя виновными. Какой же из них должен был считаться более преступным? По-видимому, это был Тонино. Его побуждения были в высшей степени развращены, но в отношении ума и рассудительности он во многом уступал Фелиции. Ему редко говорили о его совести: нравственное воспитание, которое я предпринял слишком поздно, было прервано и забыто вследствие многих обстоятельств. Несмотря на свою слепую привязанность, Ванина не противилась его дурным побуждениям и не старалась его исправить. В действительности же Тонино был учеником и созданием Фелиции. Она могла сделать из него вполне порядочного, искреннего и безупречного человека. Она не могла научить его правде и целомудрию, потому что эти качества были чужды ей самой, но она даже не сумела внушить ему понятие о бескорыстии, хотя сама была проникнута им. Вместо того чтобы действовать на его рассудок, она только возбуждала его чувства. В тот день, когда я увидел этого ребенка целующим ее волосы, я заметил на устах Фелиции улыбку смущения и сладострастия. Эта улыбка не обманула меня, и я никогда не должен был бы простить ее. Может быть, это было первое невольное поощрение той страсти, стыд которой тяготел над ней. Но очевидно, что с того дня Фелиция принадлежала уже своему мнимому приемному сыну; ее материнское чувство было осквернено и стало печальным и низким обманом. Увы, эта женщина была менее достойна извинения, чем ее соучастник. Этот последний, уступая чувственному влечению, действовал под влиянием своего возмужалого возраста. Фелиция сама испытала это и знала, какой подвергалась опасности. Она не сумела успокоить в нем порыв и исправить его, соглашаясь на будущий брак, о котором мечтал Тонино. Он был слишком молод, слишком непостоянен, говорила она мне тогда, чтобы быть ее мужем. Между тем следовало бы немедленно и навсегда удалить его или отослать его на время, дав ему обещание выйти за него замуж. Однако нет, она в то же время влюбилась в того, который совершенно не думал о ней. Во мне она видела существо более возвышенное, чем она и Тонино. Фелиция полюбила меня благодаря своей гордости и потребности восстановить свое честное имя. Но любила ли она меня в действительности? Что же мешало предположить это? Она испытывала потребность узнать правду, удовлетворить свой ум точно так же, как Тонино стремился к удовлетворению своих чувств. Я вспомнил, с каким жаром она слушала, когда я говорил с ней: ее вопросы, замечания, возражения, ее восторженное изъявление покорности, ее смущение, возродившуюся борьбу, сомнения, волнение ее беспокойной души, великодушные порывы, притворное унижение, скрытый гнев, внезапную усталость — весь этот рой мыслей и чувств, которые волновали нас во врем; наших бесед. Она брала на себя тогда слишком много играла ли она ловкую комедию, желала ли побороть свои инстинкты, но во всяком случае она показалась мне самой целомудренной женщиной. Никогда порок бывал так умело скрыт. Даже в порывах любви,освященной браком, Фелиция сумела играть роль. Она тщательно хранила со мной прелесть невинности, и, раздумав, я понял, что ее натура была доступна более тонкому развитию. В ней была способность к усовершенствованию, и благодаря ей она оценила истинную страсть и святость исключительной любви. Но не была ли она поэтому еще более виновна, желая пополнить свою жизнь наслаждениями преступной любви? Может быть, она считала это своим правом? Идея, допускаемая некоторыми философскими школами о развитии существа во всех его проявлениях и об удовлетворении всех его желаний, могла быть признаваема также и этой беспокойной и непостоянной женщиной, Но никакое учение о свободе, насколько бы оно ни было цинично, никогда не допускало систематической лжи. Разделение чувств, бесстыдное смешение никогда принципиально не находят себе покровительства в лице обманутого мужа. Фелиция смотрела на соединивший нас брак, как на большое благодеяние с моей стороны и большую честь, оказанную ей. Она не хотела отказаться от своих преимуществ и охраняла их ценою лжи. Могла ли она считать себя невинной или достойной прощения? Фелиция испытывала угрызения совести, но они были недостаточны, чтобы остановить ее от зла. Она сама сознавалась, что в тот день, когда удовлетворилась ее страсть, она была «беззаботна, как птичка», и почувствовала себя чистой, «как цветок»! Она была тогда в полном опьянении, но в этом состоянии я никогда не видел ее и поэтому не мог судить. То, что должно было мне внушить милосердие, напротив, казалось в ней самым низким и несправедливым. Когда встречают пьяного, готового упасть в воду или под экипаж, и знают, что он по своей вине потерял силу и рассудок, его все-таки спасают от опасности, так как жалость заставляет умолкнуть презрение и отвращение. Увы, пьяница также думает развить свою силу и выполнить свою мечту, притупляя свой ум. Бесстрастный философ в том и другом случае видит только глупца, впадающего в обман. Подобно диким, которые не знают, что пьянство ведет к смерти и к идиотизму, Фелиция захотела испить «огненной воды». Но в действительности ли неизвестна бедным индейцам опасность, которая их ждет? Разве они не видят, как погибают их братья? Разве не учит их первый опыт, сделанный над собой? А между тем целое благородное поколение исчезает таким образом. Индеец красив, умен и смел, но героизм проявляется у него в жестокости, умеренность кончается невоздержанностью. Он отличается древним гостеприимством, но вы не можете считать себя в безопасности у него, так как его воображение необузданно и ему достаточно увидеть сон, чтобы зарезать гостя, за которым он накануне ухаживал. Я должен был сравнить Фелицию с этими великодушными, но дикими натурами, представляющими такое поразительное сочетание добродетели и злобной жестокости. У нас есть только один критерий, чтобы судить других и самих себя. Чем более существо развито в умственном отношении и одарено природой, тем менее нам кажутся простительными его ошибки. Мы не допускаем, что божество, которое проявляется в нас чувством справедливости, может судить иначе, чем мы. Но не в этом ли заключается роковое заблуждение, оскорбляющее божественную кротость того, кто все прощает? Наказывать! Я вам уже говорил несколько раз, что это самое тяжелое страдание для великодушного сердца. Человек, который любит воздавать злом за зло, который находит наслаждение в страданиях другого, инквизитор, поощряющий палача, судья, торжественно произносящий смертный приговор, осуждаются Богом в сто раз строже, чем их жертвы, хотя бы последние были в сто раз виновнее. Как допустить, что Бог не сочувствует страданиям, если он облечен обязанностями судьи. А между тем божество не может страдать! Следовательно, о Боге мы имеем самые разноречивые понятия. Мы должны понимать, что его справедливость основана на тех же правилах, как и наша, но если бы он применял ее так же, как мы, то люди потеряли бы всякую любовь и уважение к нему. Я углубился в эти грустные размышления, и мало-помалу страдания принесли свои плоды, горькие для честной души. Жалость одержала верх над негодованием против Фелиции. Что же касается ее сообщника, то я становился к нему все холоднее и презрительнее. Его беспечная наглость так унижала его в моих глазах, что я все менее и менее видел в нем себе подобного. Относительно Фелиции мне часто приходили на ум слова добрых людей, умеющих ценить прежние достоинства: «Как жаль!» Вспоминая же все прошлое Тонино, я говорил себе: «Это так должно было быть». Для этого последнего не было благотворного наказания, на его долю оставалось только презрение и отвращение. Я отправился к нему и заговорил с ним следующим образом: — Ваши денежные споры с моей женой оскорбляют и утомляют меня. Я не желаю, чтобы ее покой был смущен вашими проектами о приобретении богатства. Вы отказываетесь уплатить долг, между тем как я требовал, чтобы она расквиталась с вами. Вы просите денег для других предприятий, я даю вам их от ее имени, но с условием: вы уедете отсюда сегодня же вечером в местность, которую вы сами выберете не менее как за сто лье отсюда. Через шесть недель вы приготовите временное или постоянное помещение, и я привезу туда вашу жену и детей. Но с этой минуты вы не увидите больше Фелиции или в ее присутствии вы получите от меня оскорбление, которое заслуживает человек, изменяющий своему слову. А вы мне дадите это слово, если желаете получить двадцать тысяч франков, которые и просите, и расписку на ваш долг в пять тысяч. Тонино был бледен как смерть. Он понимал меня и внутренне содрогался от ужаса и беспокойства. Он хотел заговорить, но я перебил его: — Я требую, чтобы вы дали мне слово, что послушаетесь меня. — Но… — Вы даете его? — Да. — Проститесь с вашей женой, возьмите вашу дорожную палку и чемодан. Я даю вам четверть часа времени, а затем требую, чтобы вы уехали. — Моя жена будет очень беспокоиться, и я не знаю, что сказать ей… — Позовите ее сюда, я сам поговорю с Ваниной. — Господин Сильвестр… — Не смейте произносить моего имени и повинуйтесь. Он покорился. — Ванина, — сказал я молодой женщине, — я отправляю вашего мужа по делу, которое не терпит ни минуты промедления. Его состояние, будущность детей зависят от этого путешествия, и поспешность вполне обеспечит успех. Не беспокойтесь, а, напротив, радуйтесь. Храните некоторое время тайну о его отъезде. Ваш муж напишет вам с первой остановки, и через шесть недель, я ручаюсь, вы увидитесь. Тонино подтвердил мои слова. В волнении он простился с семьей, взял деньги и запер свой чемодан. Мы пошли по дороге в Италию. — Разве вы направляетесь туда? — спросил я его. — Да, я хочу раньше поехать на мою родину, чтобы моя поездка имела правдоподобный вид. — Это хорошо, но ваша родина слишком близка отсюда, и я не позволю вам оставаться там более суток. — Я поеду в Венецию, где живут наши дальние родственники, последние в нашем роду. Я должен буду собрать у них некоторые сведения, чтобы знать, как мне устроиться. — Хорошо, поезжайте. — Каким образом я получу обещанную сумму денег и расписку? — Я вам привезу это, сопровождая Ванину и ваших детей. — Но что будет с тем, что я оставляю здесь? С моими делами, которые теперь в полном разгаре, с моим скотом и домашней утварью? — Я позабочусь обо всем этом, как будто бы вы умерли и мне следовало ликвидировать состояние вашей семьи. — Но этим я понесу убытки. — Вам заплатят за все. — Согласны ли вы, чтобы я написал вам? — Нет, вы должны написать только вашей жене. Знайте же, что всякое нарушение моей воли послужит предлогом к отмене моих обещаний вам. — Я буду повиноваться, — сказал он. — Позволите ли вы выразить вам мою благодарность. — Напротив, я запрещаю вам! Минуту Тонино оставался в нерешительности, а затем хотел сыграть со мной комедию. Он встал передо мной на колени и залился слезами. Он мог, как женщина, расплакаться по желанию. — Встаньте, — сказал я ему, — и уезжайте. — О, — вскричал он, — лучше ударьте меня, плюйте мне в лицо, топчите меня ногами… Я легче бы мог перенести это, чем ваше равнодушие. Я отвернулся от него. Он покорился своей участи и исчез. Когда я возвратился к Фелиции, я ничего не сказал ей и принялся за мои обыденные занятия. Я был уверен, что Тонино не напишет ей, так как боялся, а может быть даже и ненавидел ее. Но во всяком случае он радовался этой развязке, так как приобрел богатство, мог удовлетворить свое тщеславие, а также избавиться от мучительного притворства в неиспытываемой страсти. Что же касается позора, то он примирился с ним. Несколько дней, по-видимому, прошли спокойно. Я заметил в Фелиции перемену: она стала более кроткой и тихой. Я объяснял это тем, что по временам у нее являлась потребность забыть Тонино. Почти всегда после бурных свиданий с ним она избегала говорить и думать о нем. Ее нервная и лихорадочная натура требовала иногда спокойствия. Когда ее силы восстанавливались, она снова начинала волноваться, желая видеться со своим возлюбленным или заниматься его делами. Я дал пройти этому времени, и когда она сказала мне, что беспокоится «о детях» и удивляется, что не имеет никаких известий о них, я сообщил ей об отъезде Тонино. — Уехал? Но куда же? — Очень далеко, чтобы никогда больше не возвращаться. Она, как бы пораженная ужасом, упала на стул. Я никогда не забуду выражения ее светлых и глубоких глаз, которые с наивным страхом спрашивали меня: «Вы убили его и, может быть, хотите также убить и меня?» И так как в моем взгляде не было ничего ужасного, то она улыбнулась, сложила руки, как бы благодаря Бога, что он не выдал мне ее тайны. Надо удивляться, как иногда виновные бывают безрассудны и думают, что они могут провести честных людей. Не поняв моего спокойного вида, она, запинаясь, спросила у меня объяснения странной новости, которую я сообщил ей. — Мой друг, — сказал я, — надо было покончить с этим мучительным положением. Из-за вашего великодушия вы скрывали от меня ваши тайные неприятности, но я давно уже знал о них. Она решила тогда, что для нее все потеряно. — О да, — воскликнула она, бросаясь к моим ногам, — я знаю, что вам все известно, теперь я вижу это! — К чему такое раскаяние и отчаяние, — продолжал я, — в чем и кого просите вы простить вас? Она встала, испуганная своим волнением, и с прежним удивлением посмотрела на меня. — Я не знаю, — сказал я, — никакой вины в этом деле за вами, но если вы чувствуете себя виноватой по отношению к Тонино, то я не могу быть судьей. Я видел, что этот юноша был очень недоволен своей судьбой, несмотря на все жертвы, которые вы приносили, чтобы удовлетворить его. Вы с горечью жаловались мне на его неблагодарность, и я видел вашу боязнь, что благодаря своему тщеславию он может нанести вам громадный убыток. Подумав об этом, я расспросил его и понял, что он желает. Ему надоела эта страна и его обязательные занятия, а потому он желал иметь наличные деньги и свободу. Я обещал ему ту сумму, в которой он нуждается: вы пошлете ему! Таким образом вы избавитесь от его жалоб, неотступных просьб и раздражения, которое он возбуждал в вас. Вы принесете эту жертву, необходимую для вашего и моего спокойствия; жертва эта будет ничем в сравнении с теми выгодами, которые вы во всех отношениях извлечете из нее. Я был готов ко всему, говоря таким образом, но тем не менее я чрезвычайно удивился, заметив, какое впечатление произвели мои слова. Фелиция, вместо того чтобы уступить такому умеренному приговору и понять, что она должна будет заплатить за молчание и удаление своего соучастника, воспротивилась той денежной жертве, которую я налагал на нее. Она, всегда такая бескорыстная и великодушная, чувствовала себя униженной, сознавая, что ей придется рассчитаться с тем, от кого она претерпевала оскорбления и который от мольбы и покорности, казалось, перешел к приказаниям и угрозам. Ее богатство было силой и орудием в ее руках, и даже, увы, она надеялась прельстить этим Тонино. Как я мог заметить, оно играло в ее постыдной любви большую роль! Фелиция с энергией отстаивала единственное средство, которым она могла снова привлечь неблагодарного. Она резко уверяла меня в моей ошибке относительно важности ее денежных споров с Тонино и сказала что я не могу серьезно заставлять ее подчиняться таким неуместным требованиям. — Вообще, — прибавила она, — вы еще более ошибаетесь, если думаете, что мы такой ценой купим себе спокойствие. Останется ли у меня луг или поле, Тонино будет мечтать о том, как бы заставить меня продать их и вырученные деньги пустить в оборот. Чем больше он получит, тем больше он будет требовать. Вот вы увидите: не пройдет двух лет, как он явится сюда с новыми просьбами! Несчастная льстила себя этой надеждой, но я не замедлил отнять ее, я не хотел этим наказать ее, но желал скорей искоренить зло. — Вы знаете, — сказал я ей, — что Тонино очень труслив. Если он возвратится, я пригрожу ему, и этого будет достаточно, чтобы его удалить навсегда. Вы, конечно, понимаете, что встречаются мужчины, которым не под силу борьба с другими. Я это доказал Тонино. Поэтому он никогда не возвратится и никогда не будет писать вам. Что же касается его денежных просьб, то я действительно сомневаюсь, чтобы он отказался от них, но это пустяки! Мы будем вместе обсуждать его потребности, и если они окажутся действительными, то вы, конечно, сами поймете, что следует помочь ему. Если вы даже дадите ему половину или две трети вашего состояния, то и тогда у вас останется достаточно, чтобы жить в довольстве. Я, право, не понимаю, почему вы не желаете обогатить единственного вашего родственника? — Сильвестр, вы сошли с ума! — вскричала вне себя Фелиция. — Вы презираете деньги до безумия! Почему вы думаете, что я должна Тонино, когда, напротив, он во всем обязан мне? И что это за фантазия — ставить меня в вечную зависимость от честолюбца, который решил разорить меня? Где же права Тонино на мое существование, на средства, приобретенные благодаря моему и вашему труду, уже не говоря о труде моего брата, которые должны быть для нас священными? — Вы сохраните в продолжение вашей или, по крайней мере, моей жизни остров Моржерон, но остальное — все лишнее при наших потребностях. Мы с вами не честолюбивы, не любим роскоши и, кроме того, не калеки и не имеем потомства. Я вас уверяю, что мы будем довольствоваться очень немногим. — Вы, по-видимому, смеетесь. Откуда взялась у вас такая внезапная нежность и безграничная снисходительность к Тонино, которого несколько дней тому назад вы совсем не любили? — Я много думал, и мне стало жаль его, когда я заметил, что вы сами охладели к нему. — Вы правы! Бог свидетель, что я больше не люблю Тонино! — Я не знаю, правы вы или нет, поступая так, но вы очень любили его в детстве и приучили рассчитывать на вас. Он привык работать только с вашей помощью и смотреть на свое будущее, ожидая вашей защиты. Он не был рожден со стойким характером, да к тому же и ваша привязанность помешала ему стать мужественным. Вы думаете, что он больше не заслуживает вашей любви. Я согласен! Но теперь слишком поздно лишать его вашей заботы и ласки. Для него теперь эти заботы выражаются в деньгах, и вы должны давать их. — А если я не буду их давать? — Он будет жаловаться на вас, Фелиция, и скажет, что прежде вы были добрее к нему. Тонино будет жить далеко отсюда, и я не буду в состоянии помешать ему проклинать и осуждать вас. — Итак, чтобы быть для него доброй и нежной матерью, надо посвятить ему всю свою жизнь? — Подумайте… Это слово лишало Фелицию смелости, с которой она защищалась. Она начала сомневаться в моем простодушии и, сознавая свое глубоко унизительное положение, вздрогнула, подошла к окну и отворила его, чтобы перевести дух. — Что же делать, — безжалостно продолжал я, — необходимо в этом мире платить за свои удовольствия! — За свои удовольствия? — с испугом повторила она. — Да, как за невинные, так и за порочные! За все приходится расплачиваться! Принять этого ребенка и считать себя его матерью было для вас нежной радостью. Это счастье продолжалось несколько лет; теперь оно наложило на вас обязанности по отношению к приемному сыну. Она с облегчением вздохнула. Но, восхищаясь моей простотой, все же не осмеливалась более оспаривать. На другой день, не будучи в состоянии более сдерживать своего беспокойства и любопытства, Фелиция отправилась к Ванине. Эта последняя оказалась совсем не такой простодушной, какой выглядела. Она при случае умела быть настоящей женщиной, да и Тонино нередко намекал ей на любовь и на ревность к нему Фелиции. Если Ванина не боялась этой соперницы, то тем не менее она при своей честности страдала от нее, видя мужа в зависимости от женщины, которая при желания могла постыдно торговать своими благодеяниями. Вот до какой степени низко упала Фелиция в мнении своей малоразвитой, но справедливой прежней служанки! Именно там ожидало Фелицию самое ужасное для нее наказание. Я не решился бы нанести ей подобного удара, но она подверглась ему вследствие неумолимого, но логичного течения обстоятельств. Когда она начата с живостью и покровительственным тоном расспрашивать Ванину о внезапном отъезде ее мужа и о том, что произошло между ним и мною, молодая женщина, которой я посоветовал некоторое время хранить молчание, наотрез отказалась отвечать Фелиции. Я не знаю, что именно происходило между ними и какие истины они наговорили друг другу, но, возвратясь домой, Фелиция слегла в постель, и я должен был позвать доктора. Это был все тот же Моргани, который лечил ее с детства. — О, — сказал он мне, осмотрев Фелицию, — она, должно быть, пережила сильное волнение. — Фелиция сама сказала вам это? — Она никогда ничего не сообщает о себе, да и кроме того, мне достаточно было нащупать ее пульс. — Ее болезнь опасна? — Это будет зависеть от вас: если вы сумеете утешить ее, то она будет в состоянии противостоять хроническому расстройству, которое угрожает ей. — Теперь вы говорите о какой-то хронической болезни, но в чем же она состоит? — Я не могу еще определить, но болезнь будет очень серьезна, если продолжится общее возбуждение. — Итак, мой друг, вы, значит, ничего не в состоянии сделать с ней и пришли только для успокоения вашей совести? — Я пришел к вам по дружбе, но как доктор я ничего не могу сделать здесь. Выслушайте же меня спокойно, как подобает преданному мужу и философу. Мне передали, что Тонино уехал; сделайте так, чтобы он больше не возвращался. — Но отчего? Объяснитесь, я буду настолько спокоен и благоразумен, насколько вы пожелаете этого. — Разве мне необходимо объяснять? Я думал, что вы поможете мне в этом и что сами содействовали отъезду вашего двоюродного брата. Но все равно, знайте же, что Тонино влюблен в Фелицию, это препятствует его семейному счастью, а Фелиция оскорблена и возмущена этой любовью. — До вас дошли неверные слухи, доктор. Тонино не влюблен в Фелицию, он очень счастлив в своей семейной жизни, и потому моей жене нет повода оскорбляться. — В таком случае считайте, что я ничего не говорил вам. Осторожно давайте ей противолихорадочные средства и постарайтесь возбудить в ней веселость. Я же буду думать, что признания вашей жены, высказанные в бреду, не имели в действительности никакого смысла и значения. Я стал ухаживать за Фелицией; она действительно бредила, и я старался не допустить, чтобы кто-нибудь мог услышать ее слова. Она преимущественно высказывала гнев против Тонино и Ванины. В ее жалобах не было заметно ни упреков, ни любви, ни опасений, ни раскаяния: она только страдала от стыда и негодования. К ночи Фелиция успокоилась и, узнав меня, с содроганием спросила, не говорила ли она чего-нибудь во сне, и когда я ей ответил отрицательно, она спокойно уснула. Через несколько дней она поправилась, но это было только относительным выздоровлением: лихорадка не покидала ее и хотя была менее острой, но продолжалась беспрерывно. Моргани уверял, что это состояние нормально у людей, обладающих таким исключительным пульсом. Будучи более внимательным, чем он, я заметил в ней усиленное возбуждение и с тех пор решил заняться, насколько возможно, исправлением ее нравственности. Искупление было достаточно; оно было слишком тяжело, так как подвергало опасности ее жизнь. Перелом был полный. Я не желал подвергать Фелицию мучениям на всю жизнь за один год ее преступной любви. Тонино хорошо понял мое презрение к нему и, будучи слишком трусливым, не решался более ничего предпринимать против меня. Моя несчастная жена, следовательно, была свободна от него. Сознание, что за это она должна будет расплатиться деньгами, было для жестоким и суровым уроком. Но тем не менее мой долг состоял в том, чтобы вылечить эту больную душу. Сперва надо было, не заставляя ее сильно страдать, довести до раскаяния и предоставить ей более достойное будущее. Так как мое негодование прошло, а моя честь была удовлетворена, то я весь проникся сожалением и терпеливо ждал. Сначала я размышлял, будет ли полезным для Фелиции объяснить ей роль, которую я играл. Но вскоре я заметил, что этим возбудил бы только вновь ее раскаяние. При мысли о том, что я знаю о ее ошибке, она испытывала такой ужас, что, казалось, могла умереть, если бы мне не удалось разубедить ее. Для этой женщины, в которой рассудок постоянно боролся со сладострастием, было бы слишком тяжело выносить мое презрение. Мне казалось, что Фелиция не перенесла бы такого несчастья. Я думал, что она не могла даже представить себе ужас такого положения, потому что ее было так легко убедить в моем неведении! Следовательно, мне необходимо было играть свою роль, насколько бы она ни унижала и ни раздражала меня. Требовать признания было бы не только жестоким с моей стороны, но также и безрассудным, потому что искренне признаться в своей вине может тот, кто раскаивается; Фелиция же чувствовала себя только нравственно униженной. Чтобы растрогать ее, мне самому пришлось бы проникнуться искренним чувством, а это стало невозможным и даже унизительным для меня, говорить же о моем разбитом сердце с этой женщиной, обманутой другим, казалось мне непростительной низостью! Она между тем испытывала потребность поверить мне часть своих страданий, и если бы я только позволил ей, она бы ежеминутно говорила мне о Тонино, предпочитая осуждать его, чем совсем не вспоминать о нем. Но я находил, что подобное облегчение было для нее хуже молчания, и потому запретил ей это, сказав строгим и холодным тоном, что не следует судить Тонино за прошлое, в котором она сама была виновата, и надо подождать, чтобы он самостоятельно устроил будущее своей семьи. Сначала она пришла в негодование, обвиняла меня в слабости характера и начала смеяться над моим оптимизмом. Я не возражал, предоставляя ей говорить, но она скоро замолчала и более уже не смела касаться этого вопроса. Вскоре Ванина захотела повидаться со мной, так как спешила уехать. Сердясь на Фелицию, она ничего не объяснила мне, но, не расспрашивая, я успел заметить, что все было порвано между ними. Ванина знала теперь, что состояние, обещанное мною ее мужу, было ничем иным, как подарком Фелиции, сделанным по моему внушению. Она страдала, видя, что Тонино принимает это благодеяние, за которое, очевидно, ее упрекнула Фелиция. Ванина хотела уехать со своими детьми и служанкой, догнать Тонино прежде, чем он успеет устроиться, помешать ему воспользоваться моим великодушием и убедить его лучше остаться бедным и трудом зарабатывать себе на хлеб, не обязываясь никому. — Пусть ваша жена, — сказала она мне, — возьмет все то, что она дала нам; здесь хватит, чтобы расплатиться с ней. Я больше не хочу быть ей обязанной. Я достаточно сильна и горда и не боюсь труда, а также не беспокоюсь за моего мужа, зная, что он благодаря своему уму сумеет приобрести состояние без посторонней помощи. Я старался ей доказать, что она не имела права отказываться от того, что моя жена дарила ее мужу и, следовательно, ее детям. Да и вообще, прежде чем делать шум, за что Тонино мог только выбранить ее, ей следовало бы раньше посоветоваться с ним. Она обещала мне быть терпеливой до срока, который я назначу для моего отъезда с ней. Но она не могла сдержать своего слова. На другой день я узнал, что она вместе с детьми и двумя слугами уехала в Венецию; Тонино еще раньше приехал туда, но не успел еще устроиться. Узнав эту новость, Фелиция снова выказала свое великодушие: она беспокоилась о детях, о том, что путешествие может утомить молодую мать, которая сама кормит ребенка, и о том, что у них было мало денег. Она волнуясь начинала укладывать вещи; ее лихорадка усилилась, и я принужден был успокаивать ее, доказывая, что Ванина достаточно сильна и решительна, дети совершенно здоровы, слуги вполне преданные, а Тонино оставил жене денег больше, чем понадобится для путешествия в сто лье. Она успокоилась, по вскоре начала торопить меня с отъездом, чтобы я сдержал обещание, данное Тонино и с чрезвычайной решительностью приготовила сумму которую я должен был отвезти ее мнимому приемному сыну. Тогда я заметил, что она сама приготовилась к путешествию, надеясь в последнюю минуту убедить меня взять ее с собой. Я расстроил ее планы — эту последнюю вспышку ее страсти, объявив, что я не настолько интересуюсь Тонино, чтобы ехать к нему. К тому же поспешность Ванины, уехавшей без моего ведома, лишила меня возможности оказать ей и моему крестнику те обещанные услуги, а потому по отношению к ней я был свободен от своего обещания и не считал себя обязанным лично отвозить деньги Тонино, которые можно легким и верным способом переслать ему через банкира. Все произошло так, как я предполагал: Тонино, получив плату за свою низость, остался очень доволен, а его жена написала мне письмо, в котором, выражая признательность, сообщала о своем благополучном прибытии в Венецию и о предстоящем отъезде в ту местность, где Тонино откупил землю. Она не выполнила своих гордых планов, так как, по всей вероятности, муж заставил ее отказаться от этого намерения, и Ванина мстила тем, что в своем письме упорно молчала о Фелиции. Я отказался показать его моей жене, она тщетно искала его на моем письменном столе. Я сжег письмо, и Фелиция должна была довольствоваться моим сообщением, что они вполне удовлетворены. Это было для нее последним ударом, после которого она должна была сдаться. С тех пор началась для нас новая супружеская жизнь. Ее первый период, до измены моей жены, был полон счастья и спокойствия. Второй, ужасный для меня, был унижением для Фелиции, за которым последовало искупление. Третий период начался ее исправлением, но я не знал, чем это трудное предприятие может кончиться! Я еще не спрашивал себя, люблю ли я мою жену и до какой степени страдаю от ее измены. Я не хотел сосредоточиваться на самом себе, зная, что, поддаваясь горю, я не в состоянии буду исполнить свой долг. Конечно, встречаются люди, которые в состоянии соединить в себе горе и чувство долга, но я, как вам известно, не был в полном смысле слова стойким человеком! Как я был слаб, так и остался теперь. Я чувствую бодрость духа только в те минуты, когда я мысленно совершенно отвлекаюсь от своей личности и смотрю на себя как на послушную машину, действующую под влиянием высшей власти. Такова моя вера, каждый исповедует ее по-своему, смотря по своей организации. Я могу до некоторой степени мысленно уничтожиться, вычеркнуть себя из моего собственного расчета или, по крайней мере, счесть себя за нуль, имеющий значение только по отношению к другим цифрам, которые определяют мое поведение и судьбу. В ту минуту, когда я склоняюсь под тяжестью живых страданий, чрезмерной усталости или сильного горя, я могу произнести над собой приговор: «Пусть — все равно», который хотя и краток, но полезен и энергичен! Этот возглас, произносимый в важные моменты моей жизни, как бы пресекает мою чувствительность. Такое состояние испытывают почти все люди: все сумеют скорей противостоять крупному несчастью, чем мелкой неприятности. Те, которые более внимательно наблюдают за собой, знают, что их слабости часто искупаются каким-нибудь высоким вдохновением, и им было бы трудно поверить, что над ними не витает божественного принципа силы, мудрости и доброты, помогая им решать их жизненную задачу и выполнить искренние желания. Я должен был храбро перенести испытание первых дней. В продолжение двух месяцев я беспрерывно работал, стараясь не думать о страданиях. Я ни разу не поднял руку к небу, восклицая: «Неужели мне суждено быть таким несчастным?!» Я чувствовал приближение неизбежной реакции, в то время когда моему рассудку необходимо было дать отдых из опасения чересчур напрягать его. Фелиция сама вызвала этот горький кризис. Ее здоровье, видимо, поправлялось. Казалось, я своею спокойной решимостью изгнал злого духа, который вселился в нее. Она теперь не притворялась уже, что забыла Тонино, а в действительности забывала его. Я наблюдал, как она нервно вздрагивала, когда в ее присутствии произносили его имя, и как она, по-видимому, радостно и спокойно проводила дни, не вспоминая о его существовании. Я употреблял все силы, чтобы продлить эти дни забвения, необходимого для ее духовного исцеления. Скоро мрачный для нее призрак рассеялся и настало время раскаяться. Я заметил по той покорности и заботливости, которые Фелиция выказывала мне, что, умея скрывать свою тайну со смелостью и решимостью, она не была на самом деле лицемерной. Наблюдая внимательно, я замечал по ее частым отлучкам по хозяйству, что ее смущали тайная неловкость и натянутость наших отношений. В то время она не притворялась в своей любви ко мне, но отдаляла момент ее выражения, как бы надеясь всю жизнь любить меня и желая сохранить всю свежесть этого чувства. Стесняясь, как и все искренне влюбленные, я не хотел спрашивать о причине ее сдержанности, я ждал откровенного признания, говоря себе, что вызывать его было бы принуждением с моей стороны и что никогда не следует насильно заставлять женщину проявлять те чувства, которых она не испытывает. Почувствовав, что может возвратиться ко мне, Фелиция была в свою очередь очень удивлена, найдя меня озабоченным и не понимающим ее. Следя внимательно за моей усидчивой работой, за моими продолжительными прогулками, за моим сном, дорого купленным неделями бессонницы и размышлений, она однажды сказала мне: — Вы больше не любите меня? — Я вас люблю теперь более, чем когда-либо, — сказал я ей, обнимая ее горячую голову, которую она положила мне на грудь. Но когда мои губы приблизились к ее челу, чтобы поцелуем любви и прощения очистить ее, какая-то непреодолимая сила остановила мою руку. Я держал ее бедную опозоренную голову на таком расстоянии от моей, что не было никакой возможности приблизить их. Против моей воли моя рука сжалась так судорожно, что испуганная Фелиция вскрикнула: «О, как мне больно, вы, кажется, хотите задушить меня!» Я поспешно оставил ее и ушел, не будучи в состоянии отдать себе отчета в моем поступке. Но Бог свидетель тому, что, говоря этой женщине: «Я вас люблю теперь более, чем когда-либо», я думал сказать правду. У меня было такое искреннее желание простить ее, что я не мог сомневаться в себе. Чисто отцовское христианское чувство охватило меня. Я думал, что прижму к моей груди мою дочь, мою заблудшую овечку, но когда я заметил в глазах Фелиции вместо благодарности выражение сладострастия, какой-то тайный ужас овладел мной. Мне показалось, что, разделив с ней преступное наслаждение, я оскверню самую высокую духовную победу: «прощение ради человеколюбия». Тогда я понял, что случилось со мной: я думал, что, своей волей сумев побороть и обновить себя, буду в состоянии спасти эту душу, о которой обязан беспрерывно и нежно заботиться. Но любовь ускользнула от меня… Чувство отвращения овладевало мной при мысли соединить мои уста с ее оскверненными устами, слить в этом поцелуе душу безупречного человека с душой развратной женщины. Но кто из нас перестал жить? Глубокая могила открывалась перед нами, но при мысли вступить в нее я содрогался от ужаса. О, конечно, умерла она: притворяясь живой, ее тень бродила возле меня, говоря: «Мы с тобой соединимся после смерти!» Но смерть священна, она устраивает брачное ложе только тем, кто при жизни отдавался святым ласкам, а потому любовники, опьяненные страстью, не найдут в ней счастья. В вечной жизни нет ни начала, ни конца, она выражается величественным отречением от своей видимой личности. Если в той жизни существуют божественные законы, признающие любовь, то люди, испытывая ее, не знают ее проявления. Между мной и любовницей Тонино не могло быть ничего общего! Наша связь была порвана! Каким образом я мог подумать раньше, что буду в состоянии возобновить ее? Пятно, которое лежало на моей жене, не могли смыть даже воды Леты. Я искренне задавал себе вопрос, не предрассудок ли это с моей стороны? Я старался возвысить свои мысли до идеала, вспоминал Иисуса, произнесшего эти великие слова: «Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит камень в эту грешницу». Но все же я не мог себе представить, как оскорбленный муж мог вести к брачному ложу свою прелюбодейную жену. Да, я признавал прощение в смысле милосердия, но признать его в отношении брака я не мог: это было противно человеческой натуре! Подобные грубые желания заставили бы покраснеть порядочного человека, если бы он не поддался им! Я старался мечтать о безусловной святости, о полном забвении, об отсутствии себялюбия, старался доказать себе, Что жена любила меня всегда, любит теперь, а «тогда» была обманута и обольщена. Чтобы стать вполне безупречной, Фелиция ждала только возвращения моей безграничной нежности к ней. Только моим доверием я мог бы заставить ее поверить в саму себя; этим я возобновил бы нашу связь и уничтожил зло! — Но почему же я не могу сделаться святым? — спрашивал я себя. — Разве я не совершил самого трудного? Разве я не поборол в себе гнев и не перенес с мужеством несчастья? Разве я не пережил отчаяния и не победил в себе чувства гордости? Я поступал как философ, как друг, как человек религиозный, как разумный отец испорченного ребенка, капризы которого он терпеливо переносит. Я испил эту чашу страданий до последней капли, но в ту минуту, когда я мог воспользоваться плодами моего благоразумия и доброты, злоба и ненависть наполнили мое сердце, и вместо того чтобы своим поцелуем восстановить мир, я задрожал от ужаса и гнева! Неужели же я снова становлюсь тем необдуманным и грубым человеком, которым дал слово не быть более? Я возвратился к Фелиции, чтобы успокоить ее относительно странности моего поведения. Если бы я дал ей понять, что произошло во мне, она умерла бы от горя и стыда или случилось бы еще худшее: к ней вернулись бы воспоминания о ее постыдной страсти. Надо было уничтожить в ней сомнение и представиться наивным и доверчивым идиотом, роль которого я героически исполнял. Выказывая ей мое доброе расположение и говоря о своей привязанности, когда сердце мое разрывалось от боли, я заставил ее улыбнуться. Но в этой полугрустной, полувероломной улыбке чувствовалось легкое презрение… но я перенес его. Вскоре оно исчезло: Фелиция была слишком страстной натурой, чтобы, разлюбив одного, не перенести своей любви на другого. Она забыла Тонино с надеждой найти в себе чувство, которое раньше питала ко мне! Она готова была отдаться этому чувству, но чтобы ей удалось это, мне надо было самому испытать его… Я не стараюсь говорить обиняками с осторожным и вольнодумным намерением заставить понять из моих слов более чем я хочу или могу сказать. Разоблаченный брак может показаться нечистым для тех, которые видят в нем только мимолетные удовольствия и не вносят в него истинной и сильной любви. Но мой взгляд на брак был не таков: я женился на Фелиции не из расчета, не по дружбе, не из-за волокитства, но потому, что я всем моим существом любил ее. Все мои мысли, все стремления, все принадлежало ей. Мы оба были не настолько молоды, чтобы не предвидеть, что чувства наши остынут раньше, чем пройдет взаимное уважение и привязанность. Любовь поддерживается воспоминаниями чистых радостей первых дней, и только вера в прошлое делает ее незабвенной. Но отнимем от нее веру и уважение, и мы уже не найдем в ней святой радости. Для того чтобы из своей порочной жены сделать приятную любовницу, мне надо было бы отвергнуть любовь и надсмеяться над самим собой. Но я не мог шутить так, потому что испытывал слишком искреннее и сильное чувство. Но, значит, надо было заставить себя позабыть все! Фелиция могла поступить так, потому что желала этого. Несмотря на то что она, быть может, ненавидела себя, она знала, что найдет возможность загладить прошлое; я же, не чувствуя ненависти и также мечтания найти возможность исправить все, не мог прогнать от себя мысли о прелюбодеянии, которое стояло между нами и мешало соединиться. С тех пор началась для нас роковая борьба. Несчастная женщина хотела снова приобрести власть надо мной, думая, что я вступаю в тот фазис духовной лености, когда уже более не испытывают желания возвыситься до идеала и снова принимаются за свои прежние привычки. Фелиция выказала более ловкости и терпения, чем я ожидал от нее. Она притворялась, что преклоняется перед теми науками, в которые я старался погрузиться, чтобы скрыть мою тоску. Она стала снова боязливой, застенчивой, скромной и целомудренной, как в те дни, когда я боялся разделить ее любовь. Тогда Фелиция победила меня своим смирением и теперь опять старалась сделать то же, не обращаясь ко мне ни с упреком, ни с жалобой и украдкой вытирая слезы, вызванные моей мнимой озабоченностью. Я был вскоре тронут ее нежностью и радовался, замечая свое волнение: — Может быть, на меня нисходит благодать, — говорил я себе. — Может быть, мне теперь удастся забыть прошлое, и луч надежды осветит жизнь, в которой я отчаялся! Я снова увижу то дорогое для меня лицо, которое не могу более себе представить. Оно вновь приобретет свой ореол, чистый профиль и невинное выражение. Госпожа Сильвестр исчезнет навсегда, и снова предстанет Фелиция Моржерон, та изящная и скромная девушка библейских времен, которая придет с кувшином воды на голове и скажет мне: «пей», и я не буду знать что ее рука подала мне яд и что благодаря ей я узнал ложь. О, я пожертвовал бы последними днями моей жизни, чтобы хоть одну минуту увидеть ее такой! Бывали минуты, когда мне хотелось ножом пронзить мое сердце и вырвать воспоминание, этого червя, точившего меня и мешавшего надеяться! Наконец, настал этот день, которого я так наивно просил у судьбы. Фелиция отправилась в церковь не для молитвы, так как в действительности она не верила ни во что, кроме жизни, а для того, чтобы отдаться воспоминаниям, сосредоточиться и, может быть, постараться уверовать. Я писал, когда она вошла нарядная, оживленная, прекрасная и действительно помолодевшая. Я взглянул на нее. Она встала на колени и сказала: — Помните ли вы ту арию, которая пришла мне в голову три года тому назад и которая, как вы сказали позже, пробуждала, провозглашала и внушала любовь? Я ее забыла и никак не могла вспомнить; она снова пришла мне на память в церкви. Хотите послушать ее? — Нет, — живо ответил я, сам не зная, что говорю. Я раскаялся в моем ответе. Если она не проникла в его настоящий смысл, то по-своему поняла его. — Вы ничего не любите из прошлого, — сказала она грустная и как бы разбитая. — Я слишком позволяла вам забывать «о нем». Я ничего не забыл, но боялся найти свои воспоминания искаженными и обезображенными. Видя огорчение Фелиции, я стал просить ее пробудить струны дорогой скрипки. Она отказалась, говоря, что я это делаю из любезности, и она лучше пропоет арию вполголоса, чтобы напомнить ее мне. Фелиция запела ее тихо почти над самым моим ухом, и несмотря на то что у нее не было голоса, она вложила столько прелести и чувства в этот шепот, что слезы навернулись на мои глаза при воспоминании об арии, открывшей мое сердце и ум для любви, когда я слушал ее в первый раз. Я вспомнил, при каких обстоятельствах это очарование охватило меня, я вновь увидел местность, в которой тогда находился; мужественное и доброе лицо Жана появилось передо мной и улыбалось мне. Дыхание весны скользнуло по моим волосам, я почувствовал себя совсем молодым, как в ту минуту, когда волшебные звуки скрипки Тонино Монти наполнили воздух, который я вдыхал. Я поверил чуду, как человек, который уже испытал волшебное перерождение и возврат его считает возможным. Фелиция снова стала на колени возле меня и запела. Я забыл, что она умерла для меня, обнял ее и поверил, что ко мне вернулась любовь. Но это не было мечтой: физическая страсть еще сильнее дала почувствовать отсутствие духовной любви. Пробуждение было ужасно; обманчивое опьянение вызвало рыдания, и Фелиция поняла, что я все знал! Она притворилась, что поверила нервному возбуждению и, не расспрашивая, оставила меня одного. Будучи слишком взволнованным, я не заметил, что она догадалась, и думал, что у меня не вырвалось ни одного слова, намекавшего на мое отчаяние. Я был разбит, но не сделал низости, не оскорбил женщины, которая убивала меня. Кто знает, может быть, эта вспышка была для меня последней! Любовь творит чудеса, разве она не может заставить умолкнуть рассудок? Но тогда я представил себе Фелицию, отдававшуюся в объятиях своего любовника тому опьянению, которое она испытывала со мной, и я сказал себе то, чего раньше не смел думать: для нее наслаждение — это сама любовь; она сильнее всего, и совесть ничего не значит перед ней! Она жила с этим богохульством и будет жить еще, так как без смущения изменяла любовнику, отдавалась ласкам мужа и сравнивала потом, которое наслаждение было сильнее. Она выказывала этим холодность сердца, причиной которой была нечистая совесть и извращенные чувства. Я напрасно старался извинить ее, я понимал, что она становилась мне если не ненавистной, так как ненависть есть еще любовь, то чуждой. Плотью эта женщина уже не принадлежала мне: ее красота больше не трогала меня. Я имел бы право искать ей другого мужа и сделал бы это со вниманием и добротой, как для родственницы или для дочери, не считая возможным ревновать. Любовь, которую она возбудила во мне, казалась мне чувственным порывом, я стыдился его и негодовал на самого себя! Если бы я отдался сильным необузданным чувствам, было очевидно, что я задушил бы ее после порыва. Попытки к полному прощению вели меня к приступам злобы и, может быть, убийству! Мысль об убийстве потрясала все моесущество, так что я почувствовав слабость, но тотчас же ужасная реакция направила мой гнев на самого себя. Я разрывал мою грудь ногтями чувствуя потребность мучить и ненавидеть кого-нибудь. Я презирал себя и считал себя жертвой. Заметив на себе мою собственную кровь, я почувствовал облегчение, как пресыщенное хищное животное. Это было для меня великим откровением. У самого кроткого и развитого человека бывают минуты кровожадной злобы, когда он более не владеет собой и способен действовать, не осознавая своих поступков. Вид раны, которую в минуту самозабвения я нанес себе, внушил мне страх к самому себе, как к сильнейшему врагу. Значит, бывают минуты, когда и я подвергаюсь безумию, от которого могут пострадать другие. И на кого же падет оно, как не на ту несчастную, которая возбуждает мои хищные инстинкты? Я думал бежать, но это было бы самым низким способом для облегчения моей участи. Я строго начал спрашивать себя, и врожденная правдивость подсказала мне: «Никакая опасность, ни гнев, ни месть невозможны для того, в ком живет такая просвещенная и безупречная совесть, как твоя! Но горе тебе, если ты пожелаешь испить той огненной воды, которая обожгла твою жену! Этот напиток не подходит к такому здоровому и крепкому организму, как твой. Люди опытные в жизни не переносят искусственного возбуждения! Ты хотел победить в себе природу. Но природа — святыня, логика, не поддающаяся лживому обаянию зла. Она отвергает софизмы и отбрасывает отравленную пищу даже когда она скрыта под медом и маслом. Излишняя доброта ввела тебя в заблуждение. Ты хотел сделаться добрее самого Бога, который, по-твоему, никогда не наказывает. Но ты не понял глубины и совершенства его законов, которые он никогда не изменяет. В этих законах зло, причиняемое себе человеком, тотчас влечет за собой наказание. Ты исцарапал свою грудь и истекаешь кровью. Ты хотел испытать блаженство из оскверненного сосуда, горе овладело тобой! Ты думал, что сострадание может вернуть любовь, но тебя охватила ненависть! Открой же глаза и смирись, наивный и тщеславный последователь идеала! Идеал может быть истинным только в пределах природы. Любовь в человеке тоже идеал. Это стремление к объединению двух различных существ путем одинаковых стремлений одинаковой веры. Это желание порождает забвение, томление и даже отвращение, если злоупотребляют им, потому что природа разумна и логична как в материальных, так и в духовных проявлениях. «Не играйте с любовью», — это великое слово, смысл которого еще глубже, чем он кажется. Любовь не только опаляет тех, которые с недоверием приближаются к ней, но она осуждает на погибель даже людей, бросающихся к ней, не зная, что нужно иметь веру, чтобы прикоснуться к этому священному огню. Животная чувственность возбуждает слепое восхищение, заставляет заблуждаться; неразборчивая дружба вызывает отвращение. Любовь требует одновременно наслаждения, уважения и нежности, чтобы оживлять и подкреплять душу и тело. Но она не может возродиться на своем пепле. Кто дал ей потухнуть, тот не может оживить ее вновь. Если ты прочтешь в сердце преступной жены, ты увидишь, что она не любит больше ни мужа, ни любовника, и с этого времени она бессильна полюбить самое себя. Она не может более знать истинной любви, которая проявляется в ней болезненным желанием и ужасом наказания. Ее глаза, встречаясь с твоими, напрасно ищут страсти, они всегда будут читать там смертный приговор, презрение, которое она заслужила, и отчего ты не можешь избавить ее. Эта женщина помимо тебя будет наказана тобой же. Это закон, и ты должен подчиниться ему, так же как и она. Ты угадал это с первого дня, утверждая, что не наказал бы ее. Ты хорошо чувствовал, что она уже наказана. Ты исполнил свой долг, зачем же ты хочешь перейти его границы и таким образом уничтожить? Зачем хочешь ты преобразить прощение в награду и победить в себе отвращение, это сильное, правдивое и законное чувство, которое нисходит свыше вследствие божественного правосудия? Отчуждение не есть простая физическая усталость, которую побеждает незначительное усилие воли, — это глубокий покой, требуемый человеку после чрезмерной борьбы; это не истощение человеколюбия, но конец пустой чувствительности, которую поддерживает в нас леность; это протест, внушаемый нам нашим достоинством с угрозою покинуть нас. Я отдался этому голосу, говорившему во мне как бы от меня самого. Это был действительный «я», человеколюбивый, законченный и уверенный в самом себе, требовавший своих прав в жизни. О нет, нет, думал я, не предрассудок и не деспотизм желать исключительной любви, когда сам так любишь и когда ничто не извиняет и не дает права на измену. Мою любовь унизили, разделяя ее с другим!.. Фелиция лгала своему любовнику: она несколько раз возвращалась ко мне во время своей страсти к нему. Она с завязанными глазами вводила меня в оскверненный храм, где я думал найти жертвенник супружеской верности. Разве я должен простить ее? Нет, я не должен, так как не могу забыть этого, несмотря на усилия, которые едва не погубили моего рассудка. Сама природа не желала моего падения; Бог не мог сотворить чуда, которого я просил у него. Бог не творит безумств! Я вновь приобрел покой. Я обедал с женой и говорил с ней нежнее обыкновенного, она сочла меня больным и беспокоилась обо мне. Разве я мог объяснить ей рыдания и крики, которые вырвались у меня в ее объятиях? Я не мог этого сделать, не солгав, и я не желал более ни лжи, ни откровенного признания. Разве мы не должны понять друг друга, не входя в отвратительные объяснения? — Будьте уверены, — сказал я ей, — если у меня будет горе, что может случиться со всяким, то я постараюсь победить его и не надоедать вам. Я вас только прошу никогда не спрашивать меня о моих страданиях и не бояться за меня. Будьте, насколько можете, счастливой и не смотрите на меня с таким испуганным видом, который заставляет меня считать себя виновным. Если у вас есть какая-нибудь тайная печаль, не раздражайте ее болезненными тревогами. Я наблюдаю за вашей репутацией, забочусь о вашей безопасности и независимости. Никакое несчастье, никакая борьба не угрожают вам. Кроме того, у меня одна только забота: восстановить ваше здоровье, достоинство и спокойствие вашей жизни; я вам это доказал уже и всегда буду стараться поступать так же. Эти заботы будут для меня утешением в тех испытаниях, которые могут встретиться. Она молча слушала меня, наклонив голову. Мы сидели за столом, вода кипела в кофейнике, она встала и налила мне кофе. Ее рука не дрожала, ее движения были свободны, взгляд горд и холоден. Всякому другому показалось бы, что она ничего не поняла, но я был испуган ее внешним спокойствием. Выла ли она оскорблена моей добротой? Не слишком ли я ясно выразился? Может быть, для нее было достаточно этого, чтобы не посметь больше надеяться на мою любовь? Вечера мы проводили всегда вместе, причем иногда по ее просьбе я читал ей вслух. В этот вечер, услышав ее просьбу, я попросил Фелицию самой выбрать книгу. Она принесла: «Die Wahlverwandtschaften» Гете, и я начал читать, опасаясь встретить какой-нибудь повод к спору благодаря этому странному выбору; но я скоро заметил, что Фелиция меня не слушала: она взяла свою работу, но не занималась ею. Ее глаза были закрыты: она спала. Как все деятельные люди, рано встающие, она была подвержена такой внезапной усталости. Мало-помалу понижая голос, я закрыл книгу и начал смотреть на нее. Она была бледна, но дыхание казалось ровным; около часа она отдыхала неподвижно, ее пульс был спокоен и стал слабее только в ту минуту, когда она проснулась. — Вы думаете, что я больна? — спросила она меня. — Нет, но вы должны в продолжение нескольких дней снова принимать подкрепляющее лекарство. Вы теперь слабее обыкновенного. — Вы ничего не знаете, — с какой-то резкостью возразила она, — я никогда так хорошо не чувствовала себя. Мне необходим отдых и больше ничего. Вы мне позволите уйти? Она заботливо уложила свою рабочую корзиночку, пошла, по обыкновению, распорядиться по хозяйству и возвратилась, чтобы запереть в зале ставню. Я никогда не давал ей делать этого и в тот вечер также сказал, но ей не было необходимости напоминать мне об этом. — О, — с какой-то странной горечью сказала она, — ведь вы не любите заботиться о подобных вещах! Идите заниматься наверх; я уверена, что вам уже давно хочется остаться одному. — Что с вами, Фелиция? — сказал я ей, взяв ее за руку. — Разве я выказал усталость в вашем присутствии или нетерпеливое желание удалиться? — Нет, — с еще большей горечью отвечала она, — я не права! Вы всегда справедливы, не так ли? Она оставила меня, проговорив эти жестокие и несправедливые слова, которые привели меня в оцепенение и помешали узнать, что происходило с ней. Через минуту, боясь, чтобы она не заболела, я по; стучал в дверь ее комнаты: она была заперта. — Дайте мне отдохнуть, — сказала она, — со мною ничего не случилось; я хочу спать. Чего вы боитесь? Итак, она отказывалась от моей дружбы, узнав, что более не владеет моей любовью. Этого следовало ожидать от такой возбужденной натуры, но тем не менее я был очень удивлен, так как предполагал, что заслуживаю большего внимания, если не признательности. Неужели в этом бурном сердце, которое не могло смягчиться, возродилась ненависть? Я поднялся в свою комнату, открыв двери, чтобы иметь возможность подать ей помощь, если эта досада разразится каким-нибудь мучительным припадком. Я разложил, по обыкновению, на столе много книг, чтобы иметь занятой и спокойный вид, когда придут ко мне. Я проделывал это в продолжение трех месяцев, потому что в действительности не мог больше работать. Большую часть дня и ночи я проводил в горестных размышлениях о минувших и предстоящих событиях. Я внимательно прислушивался ко всему, что происходило в доме. Я слышал, как прислуга, затворив внизу двери, ушла в свою комнату; некоторое время слышны были шаги Фелиции; наконец настала тишина. У нервных людей и почти у всех женщин усталость проявляется возбуждением. Очевидно, Фелицию сильно взволновали мои слезы, она, должно быть, также плакала и чувствовала себя разбитой. После хорошего сна она станет бодрей, правдивей, и если мы дойдем до объяснения, она будет способна отдать мне справедливость. С этой смутной надеждой, чувствуя себя утомленным и не будучи в состоянии разбирать ее странное поведение, я задремал, облокотясь руками на стол. Я не хотел ложиться, прежде чем буду уверен, что могу спать без страха. В полночь я был разбужен звуками скрипки. Фелиция играла ту арию, которую пела мне утром. Она начала с замечательной чистотой, характеризовавшей ее игру. Но вдруг она изменила мелодию и резко перешла к какой-то другой мысли, погрузилась в целый ряд мучительных фантазий. Иногда она тщетно старалась вспомнить мотив, который пела днем, но потом, казалось, с презрением прерывая его, желала выразить совершенно противоположные чувства. Мое возбужденное воображение истолковало эти музыкальные фантазии как символический рассказ, которым она хотела передать мне пережитые ею бурю, падение и отчаяние. Но я напрасно искал выражение страдания: его там не было. Это был скорее гнев, ее жалобы напоминали проклятие. Резкий звук скрипки, нервно терзаемой смычком, причинял мне ужасные страдания. Я предпочел бы ему самые жестокие слова. Фелиция показывала необыкновенное искусство, но я чувствовал, что ее уму было недоступно искреннее волнение. Ее музыка была безумна, мысли непоследовательны и непонятны, как будто она не стремилась выразить свои личные страдания, а старалась только вызывать их в другом. Наконец, она порывисто бросила скрипку, которая, как мне казалось, разбилась от падения. Я увидел на деревьях перед домом отблеск света, мелькавшего в ее комнате: Фелиция двигалась как тень, без малейшего шума. Сильное волнение охватило меня. Я задал себе вопрос, не была ли эта странная музыка среди ночи криком отчаяния или безнадежного прощания? Не думала ли она убежать, чтобы соединиться с Тонино? Но ведь я был убежден, что он не любит ее более. Не ошибалась ли она относительно его отвращения или не надеялась ли какими-нибудь решительными мерами заставить его разыгрывать комедию страсти, чтобы помещать ей нарушить его семейный покой? Я потихоньку спустился с лестницы и в темноте сел на последней ступеньке возле ее двери. Она не могла сделать ни одного движения без моего ведома. Я ни в коем случае не хотел допустить ее побега на свой позор и погибель. Выгнанная Ваниной и покинутая Тонино, она не нашла бы другого исхода, кроме самоубийства, так как я не чувствовал в себе более сил прощать новые заблуждения. Мне казалось, что в ее комнате трещал огонь. Я вышел на балкон и действительно увидел полосу дыма на вистом и звездном небе. Без сомнения, она жгла свои бумаги, так как дело было летом и не было необходимости топить печь, если только Фелиция не была больна. Ветерок, который разносил дым, донес до меня едкий запах, который напомнил скорее сожженное белье, чем бумагу. Я вернулся к двери и услышал, что она отворяла задвижку, как бы намереваясь выйти. Желая помешать ее побегу, я умышленно зашумел, чтобы предупредить ее о моем присутствии, и спросил ее через запертую еще дверь, как она себя чувствует. — Хорошо, — отвечала она решительным голосом, — если желаете, войдите. — Отчего вы не спите? — сказал я входя. — Вы должно быть, сильно страдаете, так как, уходя к себе вы чувствовали потребность отдохнуть. — Я не страдаю, — отвечала она, — вы это хорошо знаете: вы не ложились и должны были слышать, как я играю. — Я беспокоился о вас. Вчера вечером мы холодно расстались с вами; вы холодно вырвали у меня свою руку и казались рассерженной. Если я вас оскорбил, знайте, что у меня не было такого намерения. Клянусь вам в этом! Неужели же вы не верите мне? — Сильвестр, — вскричала она грубым и глухим голосом, — вы можете клясться в чем угодно, я вам не поверю больше! Вы меня ненавидите до такой степени, что еще сегодня хотели лишить себя жизни. Покажите вашу грудь. А, вы не хотите? Я не знаю, насколько тяжело вы себя ранили; я думаю, что рана неопасна, так как вижу вас теперь, но опасно ваше отчаяние, заставляющее вас терзать себя. Я сожгла рубашку, которую вы бросили в вашей комнате, не заботясь о том, что подумают слуги об этих ужасных кровяных пятнах. Я случайно нашла ее и была смертельно поражена, не поняв сперва и подумав, что кто-то хотел вас убить. Придя в себя, я вспомнила ваше отчаяние сегодня утром. Вы уступили моим ласкам, остатку любви, порыву страстного желания, весьма понятного мужчине, долго жившему в одиночестве. Но тотчас же ваше отвращение: ко мне вернулось, и вы как святой или безумец терзали свою грудь за то, что в ней билось сердце, которое одну минуту жило мной! Вот видите, я чудовище в ваших глазах! Но лучше бы вам покинуть меня, бежать, осыпать ударами и оскорблениями, чем давать мне чувствовать то зло, которое я вам причиняю, живя вблизи вас. Слушайте, дайте мне уехать, я не могу больше оставаться здесь! Меня будут все презирать, так как ваше горе всем понятно! Все спрашивают, почему вы так изменились и постарели. Разве вы не замечаете, что в два месяца вы совершенно поседели? А что бы сказали другие, увидев вашу окровавленную рубашку? Неужели вы думаете, что отъезд Тонино не возбудил толков?! Вы воображаете, что поступали осторожно? Можно было поступить лучше. Надо было действовать, как следует любящему мужу. Надо было убить этого несчастного, которого я теперь ненавижу и может быть ненавидела всегда. Отомстив за себя, надо было топтать меня ногами, бить, плевать в лицо, а потом простить меня. И вы любили бы меня теперь, как до моей ошибки. Между тем как благодаря вашему терпению и доброте вы не излили злобу и храните ее теперь в вашем сердце, она душит вас и не покидает. Вас удивляют мои слова, вы меня находите безумной? Ну что ж, вы благоразумны, но зато не любите, потому что любовь необузданна, и кто желает ее обратить в добродетель, тот ничего в ней не понимает и никогда не испытывал ее! Фелиция долго еще говорила по-итальянски, упрекая и браня меня, смеясь над моим поведением, осуждая мой характер, защищала и проповедовала любовь, употребляя циничные выражения, смешанные с грубой поэзией, напоминавшей Тонино. Она принадлежала его школе с тех пор, как сошлась с ним. Нравственное развращение принесло свои плоды. Оно достигло сердца, заразило и извратило его и внушило ему чудовищную неблагодарность. От благородной души женщины, полной ума, жизненных сил, признательности, деятельности и преданности, остались только тщеславие, озлобление и болезненное желание без определенной цели, потому что она теперь могла принадлежать всякому, кто пожелал бы ее взять. Я слушал Фелицию молча, в недоумении, мной овладевало мучительное презрение. Я находил отвратительной ее худощавую страстную фигуру. Полунагая передо мной, она не думала прикрыться, и эта нагота, как наглость, неприятно поражала меня. Я не чувствовал больше жалости. Она уже больше не казалась мне женщиной, нуждавшейся в моей защите. Она была для меня старой любовницей, покинувшей меня из-за каприза и возвращавшейся ко мне со скуки, но ее притворное кокетство оставляло меня холодным и равнодушным. Я не мог больше сказать ей ни слова. Отвращение мешало мне говорить и не возбуждало ни сожаления, ни гнева. Объяснение было для нас невозможным: мы не поняли бы друг друга. Я встал, чтобы уйти. — Итак, — сказала она вне себя от отчаяния, — вам все равно, уеду я или останусь? — Я вам запрещаю уезжать, — холодно ответил я. — Но вы ведь силой не помешаете сделать это! — Я никогда не подниму на вас руки, а призову преданных вам людей, укажу на вас, как на помешанную, и они помешают вам убежать и подвергать себя позору. — Вы запрете меня? — Я запру вас, если это будет нужно. — В сумасшедший дом? — В ваш собственный, вы достаточно богаты, чтобы вас охраняли и ухаживали за вами. — И вы остались бы здесь как сторож? — Я остался бы на своем месте. — Десять лет, двадцать лет? — Всю мою жизнь, если надо. — А если я буду буйной помешанной? — Не будучи сам сумасшедшим, я бы велел обходиться с вами с неизменной добротой. Она громко захохотала. Этот ужасный смех был для моего сердца последней смертельной раной, оно затрепетало на мгновение от боли и потом замерло. — Я не хочу уезжать, — возразила Фелиция с ужасным спокойствием. — Вам не надо новых добродетелей. Разве вы будете наблюдать за мной? — Я знаю, что это было бы бесполезным, если бы вы решились бежать. Но всегда было бы легко вернуть вас, потому что я знаю, куда вы пойдете. Она бросилась ко мне, упала на колени и воскликнула: — Сильвестр, одно слово гнева, я тебя умоляю, одно слово ненависти против Тонино и ревности ко мне! Будь человеком! Прокляни твоего соперника и накажи твою жену! Я подумаю тогда, что ты меня любишь, и буду обожать тебя! — Не любите меня, — сказал я ей, — я не могу отвечать вам тем же. Я покинул ее. Чаша была переполнена. На другой день она казалась по-прежнему решительной, деятельной, точно забыла об ужасной драме, которая случилась ночью. Она вполне владела собой: приказывала, работала, была ласкова с прислугой и со мной в их присутствии. Думала ли она о моих угрозах и не желала ль показать, что нелегко ее будет выдать за сумасшедшую, когда она сбежит? Я был возмущен этой низостью: она знала, что я никогда не подам на нее в суд. Хотела ли она заставить меня возненавидеть ее, вывести меня из терпения, утомить и озлобить? Доказать мою виновность по отношению к ней было ее последней попыткой, но она потерпела неудачу, так как я стал чрезвычайно вежлив и равнодушен. Знание жизни можно сравнить с крепостью, которою не умеют пользоваться плохо воспитанные люди. Фелиция казалась побежденной и иногда даже тронутой моим непоколебимым терпением. Увы, я не находил больше в ней ни одного достоинства. Ничто в ней не могло больше ни растрогать, ни оскорбить меня: я больше не любил Фелицию. А между тем я готов был выполнить долг преданности в продолжение, может быть, всей моей жизни. Я не хотел и не должен был забыть дружбу и доверие Жана Моржерона, который принял на себя эту обязанность и подавал мне благородный пример. Фелиция любила меня, насколько могла; ее любовь заставила меня помолодеть на некоторое время. Благодаря ей я два года, был счастлив. Эта любовь оказалась лживой с ее стороны, но я верил в нее. Кроме того, благодаря Фелиции моя жизнь устроилась вначале приятно, хотя я нисколько не стремился к этому, и казалась с виду спокойной и внушающей уважение. Все это было испорчено и осквернено; но дав клятву Богу и людям принять и сохранить то, что я считал честью и благом, то есть любовь и заботы этой женщины, я потерял теперь, как мне казалось, право объявить, что все это было злом и позором! Я мог только тайно сознавать это: мое положение стало бы еще ужаснее, если бы я открылся Фелиции. Мой брак был заблуждением, безумством и глупостью, говоря обыденным языком. Надо переносить последствия своих заблуждений, и когда не можешь ни в чем упрекнуть себя, кроме чрезмерной доброты и честности, страдания бывают не так ужасны. Мое ослепление было безгранично: я интересовался Тонино, верил в его искренность, помог ему устроиться! Я доверял вполне этому разбойнику с большой дороги и как Дон-Кихот питал пустую надежду возвысить и исправить его. Вспомнив об этом типе, представляющемся идеалом героя, я сознался, что Дон-Кихот был возвышеннее меня, потому что я наконец прозрел, он же продолжал вечно доверять. До самой смерти он преследовал — свою химеру — величие души, еще более трогательное вследствие своей бесполезности! Я в сущности не был ни святым, ни помешанным: я был просто человеком и хотел им остаться. Если раньше терпение казалось мне долгом, то теперь моя гордость подсказала мне то же самое. Ни мщения, ни слабости — вот состояние, которого я хотел достигнуть. Чувствуя мою силу, Фелиция скоро отказалась от мысли бежать. Кроме того, она очень боялась скандала и лгала, уверяя меня когда-то, что не дорожит мнением других. Когда она увидела, что, несмотря на ее предположения, наши семейные неприятности остались для всех тайной, она начала притворяться счастливой и почувствовала признательность за мое отношение к ней. Но зло было слишком глубоко, чтобы его могло искоренить мое простое обращение, внушенное логикой. Тоска овладела Фелицией, и потребность избегнуть эти нестерпимые страдания с силой выражалась в ней. Она почувствовала снова безумную страсть ко мне и подвергала меня постоянной пытке бороться против ее упреков, оскорблений и слез. Моя жизнь сделалась адом, иногда мне казалось, что я схожу с ума; но я победил ад и его пытку. Я начал серьезно работать над моим образованием, стараясь усовершенствовать мой характер с помощью полезной умственной пищи. Но несмотря на это, я не перестав наблюдать за моей несчастной женой. Я ухаживал за ней, как за больной, усидчиво, добросовестно, то снисходительно, то строго, смотря по тому, какой из этих приемов я считал своевременным. Иногда приходилось ее бранить, как ребенка, чтобы помешать ей прийти в отчаяние; другой же раз приходилось ждать окончания припадка, который временно облегчал ее. Я все надеялся, что со временем, то есть с годами, настанет покой. Так прошел год. Однажды она показалась мне рассеянной и мрачной; в следующие дни это состояние еще усилилось, а между тем она была совершенно здорова. Я предложи ей сделать прогулку, чтобы рассеяться, и она против ожидания согласилась без спора. Мы поехали в тележке с одним слугой, который правил, и спустились но склону итальянских Альп; Фелиция оставалась по-прежнему грустной, задумчивой, но кроткой; после трехдневной поездки она без усталости и волнения вернулась домой, не выражая ни радости, ни сожаления, и рано легла спать. Мои опасения почти исчезли, и я также лег в моей комнате, находившейся над спальней Фелиции. Дом был высок и узок и расположен таким образом, что у нас не могло быть смежных комнат. Ее раздраженное состояние духа так долго не давало мне покоя, что я крепко заснул в ту ночь. Наутро, когда первый луч солнца проник в мою комнату, я начал по привычке вставать. Обыкновенно Фелиция поднималась раньше меня, и я удивился, когда, спускаясь вниз, не услышал шума. Приложив ухо к замочной скважине, я услышал дыхание Фелиции, более ровное и громкое, чем обыкновенно, и счел это признаком крепкого сна. Я тихо отошел и спустился в сад. Через несколько минут, увидав старого доктора, который начинал свой обход, я позвал его, и мы заговорили о здоровье Фелиции. Старик одобрил нашу прогулку и советовал продолжать экскурсии, причем прибавил, что, увидев ее за несколько дней перед этим, он нашел, что она прекрасно выглядит. Я счел нужным сказать, что Фелиция была грустнее обыкновенного, казалась равнодушной к тому, что ее волновало прежде, и обратил внимание доктора на окна ее комнаты, которые были до сих пор закрыты. Первый раз случилось, что она так долго спала. Наконец, я попросил старика привязать лошадь у ворот и подождать, пока встанет жена, на что он охотно согласился. Полчаса прошло, мы продолжали говорить о Фелиции. — Вы последовали моему совету, — сказал Моргани, — и помешали, не знаю какими средствами и под каким предлогом (это меня не касается), возвращению Тонино. Вы поступили прекрасно! Этот чудак причинял ей большие неприятности. Если бы у нее был не такой сильный характер, он мог бы сделаться причиной ее несчастия, а теперь все обошлось благополучно. Ваша жена теперь спокойна и, как видите, может спать. Она вам кажется скучной, но это только значит, что ее лихорадочная деятельность прекращается. Не беспокойтесь, ваша преданность и благоразумие не пропадут даром и скоро принесут плоды! Таким образом говорил доктор, а Фелиция все еще не вставала. Моргани удивлялся моему беспокойству, но я попросил его подождать, вернулся домой и постучал в дверь к Фелиции. Она не отвечала. Встревоженные служанки сказали мне, что они уже стучали, но хозяйка не отворяла, хотя уже не спала, так как они слышали шум. По-видимому, она не хотела отвечать, и они не знали, что делать. Я выломал дверь. Фелиция сидела в кресле у стола, ее голова склонилась на руки, члены так окоченели, что я не мог изменить ее положения. Но вдруг все ее тело подалось; горячая кожа сразу охладела; голова поднялась, глаза открылись и губы прошептали непонятные слова. Моргани, привлеченный шумом, который я произвел, выламывая дверь, бросился ко мне и сказал: — Воздуху, воздуху, она задыхается! В то время как я открывал окно, Фелиция кончалась на его руках. Растерявшийся доктор указал мне выразительным жестом на открытое на столе письмо и пустой стакан. Я понюхал стакан, в нем был опиум. Взглянув на письмо, заметив, что оно было адресовано Тонино, я схватил его и спрятал в карман. — Надо прочитать письмо, — сказал Моргани. — Оно адресовано не мне. — Ничего не значит, надо знать, добровольно ли она лишила себя жизни. — В этом нет сомнения, — возразил я, подавая ему стакан. — Но не думайте теперь об этом. Принимайте скорей меры, смерть может быть только кажущейся. Все оказалось бесполезным: Фелиция умерла! Смерть величественна и священна в том отношении, что она разом, как бы одним взмахом пера сводит счеты, которые нельзя было свести при жизни. Дуновение божества чувствуется нами настолько сильно, когда совершается эта тайна, что всякое земное воспоминание и злоба исчезают в порыве прощения. Смерть внезапно заставляет уважать существо, переставшее страдать; она налагает бледность аскета и спокойствие праведника на чело, когда-то омраченное пороком, и на черты, искажавшиеся злобой. Вдвойне виновная в жизни и в смерти, так как она покончила самоубийством, Фелиция, лежавшая под белым покрывалом и окруженная цветами, стала снова прекрасной и чистой. Я с почтением поцеловал ее чело и охладевшие руки, не помня зла, которое она мне сделала при жизни, и даже то, которое она хотела мне причинить, налагая на себя руки. Без сомнения, это было последним ужасным упреком, направленным против меня. Я не хотел знать этого, я не хотел об этом думать, прежде чем честно предал ее прах земле. Я оставался около гроба, унимая крики, вопросы и всякие шумные проявления. Моргани оказывал мне большое внимание и почти не покидал меня. Его пугало мое спокойствие, он боялся реакции, и при этом его страшило еще нечто другое. Когда мы вернулись с кладбища, он сказал следующее: — Я не мог скрыть от властей причину ее смерти. Не только вы, но и все лица, окружавшие и служившие этой несчастной женщине, находятся настолько вне подозрений, что мне разрешили приписать смерть апоплексическому удару, признаки которого так резко обозначились на трупе. Клянусь вам честью открыть тайну смерти только в том случае, если власти найдут нужным сделать дальнейшие исследования. Это произойдет только тогда, когда кто-нибудь с дурным намерением вмешается в это дело; я считаю Тонино способным на все. Вы должны прочитать письмо, которое ваша жена написала перед смертью. Я требую этого ради вас, ради себя, ради правды! В последнюю минуту она должна была выразить свое решение умереть. Вы должны сохранить это доказательство вашей невиновности, чтобы оно не попало в руки человека, который будет вашим врагом, если только того потребуют его выгоды. Имя Тонино заставило меня пожать плечами. — Тонино единственный наследник моей жены, — сказал я, — и может быть моим врагом только в том случае, если бы я стал оспаривать его право, но этого не будет! — Почему же? Ваша жена должна была желать упрочить за вами свое состояние или, по крайней мере, пользование доходами. — Моя жена знала, что подобное распоряжение было бы для меня оскорблением, и она не сделала его. — Оскорбление! — воскликнул доктор. — Почему же это может быть оскорблением? — Потому что она сделала в молодости ошибку, и я женился на ней с условием ничего не получать от нее ни при жизни, ни после ее смерти. — Вы безумец, — сказал Моргани, — но вы логичны в вашем безумии, и я уважаю вас, Сильвестр. Но что будет с вами? — Ничего, я останусь тем, что я есть: человеком, любящим труд и не нуждающимся в богатстве. — Но настанет же старость, несчастный! Ваше здоровье пострадало за последнее время. — Не беспокойтесь обо мне. Будьте уверены, я не узнаю нищеты, потому что незаметно перенесу ее. — Но что же вы будете делать? — Я никого не буду просить и никому не буду жаловаться. — О, Сильвестр, живите со мной! Я один и пользуюсь достатком. Я вас научу медицине, а вы меня всему остальному. Мы будем жить вместе. Это будет не так грустно, как жить и умирать одиноким. — Благодарю вас, мой друг, но я не останусь в этой стране. Я должен покинуть ее и никогда более не возвращаться. — Да, я понимаю. А между тем… не проклинайте никого, не питайте ненависти к вашей жене! — Я не ненавижу ее. Почему вы так предполагаете?.. — Сильвестр, довольно притворяться друг перед другом! Вы знали все, она мне сказала это, когда мы с ней говорили в последний раз. Я так давно все знал. Надо уметь прощать… Бывают роковые организации, перед которыми врач становится материалистом… Если бы я вам сказал, что вы сами подчинились этому року, вызвав отвращение к жизни и доведя вашу жену до самоубийства? — Она вам сама сказала это? — Нет, но она три раза повторяла: «Он не может больше любить меня!» — Она жаловалась на мои упреки, гнев? — О нет, напротив! Она отдавала вам полную справедливость! И поэтому я повторяю вам: прочтите письмо и сохраните его. Оно, конечно, имеет отношение к той ошибке, следы которой вы хотели бы уничтожить. — А если это завещание в пользу Тонино, как всё заставляет меня думать? — Ну что же, в таком случае вы честно передадите письмо по назначению и будете знать, что делаете. Совет был хорош. Когда я остался один, я открыл письмо; оно было едва сложено и совсем не запечатано. Конечно, Фелиция желала, чтобы я прочел его. Письмо Фелиции. «Нет более надежды, все пропало… Он меня не любит и никогда не полюбит более. Его сердце умерло, мы убили его. Целый год я веду борьбу, чтобы приобрести вновь его привязанность или победить свою собственную. Я старалась ненавидеть его, и были моменты, когда достигала этого. Но разве женщина может простить равнодушие, самое ужасное из оскорблений? А между тем я умираю ради того, чтобы заслужить его прощение! Может быть, мертвую он пожалеет меня, может быть, он почувствует жалость. Сильвестр вспомнит, что любил меня, и забудет мое преступление; он сохранит в своем сердце воспоминание обо мне, очищенной искуплением, которого он не требовал от меня и которое я сама наложила на себя. Умереть! Вот все, что я могу сделать, если жизнь ничего не может исправить. Я хотела тебе написать это: я не хочу, чтобы ты подумал, что я умираю из-за тебя и сожалею о тебе. Нет, я тебя презираю и проклинаю. Не думай также, что я сержусь: я старалась простить тебя и полюбить снова. Чего я не испробовала в этот год, чтобы избегнуть ужаса одиночества! Все было бесполезно. Я чувствовала, что испытываю к тебе то же отвращение, которое Сильвестр испытывает ко мне. Негодяй, ты получишь мое наследство, не правда ли? Ты переедешь в мой дом, твоя жена будет лежать в моей постели рядом с тобой. В то время когда она будет спать по одну сторону от тебя, ты будешь видеть по другую труп, которым я сейчас стану! О Боже мой, умирать еще такой молодой, полной воли и силы! Я не могу размышлять о том, что такое смерть. Я бросаюсь в неизвестность как человек, который стремится в темноту, не зная сам, попадет ли он в пропасть или в пустоту. Может быть, совсем нет падения? Может быть, передо мной предстанет снова какая-нибудь обязанность, другие существа, другие страдания, другие мысли? О, только бы забыть ту жизнь, которую я покидаю! У меня нет других желаний, кроме забвения! Не знать более, что я опозорена и презренна. За эту награду я бы с радостью перенесла самые ужасные пытки, даже ужас и огонь ада. О, я не знаю, существует ли Бог, но я чувствую, что есть справедливость, так как я была строго наказана! Как ужасно после того, как я была так счастлива, любима и уважаема, чувствовать себя такой одинокой, презираемой и знать, что не можешь ничего сделать, чтобы вернуть прежнее! Он сам ничего не мог сделать! Он хотел меня любить, но между нами стояло что-то, отталкивающее его. Он мне предсказал, что с той минуты, когда перестанет уважать меня, я сделаюсь ему чуждой и безразличной. Все это случилось по моей вине. Я должна была стать твоей женой и обманывать тебя ради него. Ты мне простил бы: в тебе нет сердца, и деньги утешают тебя во всем. Вот что я думаю о тебе, вот мое последнее прости! Его прочтет тот, с кем я не смею более говорить. Он проклянет твое имя и мое наследство, так как оно осквернило бы его чистые руки. Но он не проклянет моги могилы; он окружит ее цветами, прольет, может быть, слезу!.. О, Сильвестр, если бы вы знали, как я вас люблю!.. Но вы не могли поверить этому, вы не понимаете, как можно любить и обманывать… Вы… нет, я не хочу говорить с ним, он рассердится. Все, что касается меня живой, кажется ему неприятным и отталкивающим. Надо умереть! А между тем я боюсь смерти и никогда не думала, что кончу таким образом. Я бывала так часто и так долго больна, что рассчитывала на болезнь, чтобы избавиться от моих страданий… Я поправилась, мое тело более не страдает, но душа мучает меня. Я должна нанести себе смерть, которой так боюсь… Ну что ж, еще одной причиной более, если бы я чувствовала желание умереть, если бы я была слаба, изнурена, больна, где была бы сила воли, где было бы наказание!.. …Все кончено: я выпила. Буду ли я страдать и долго ли? Я чувствую теперь в себе силу и вижу ясно мою жизнь: для меня не было прощения. Сильвестр прекрасен, ты низок, я… гордость мешает мне сознаться в моем падении. Нет сомнения, что я совершила великое преступление, но к чему унижаться, если нельзя его уничтожить? Одна смерть… о, скорей умереть! Да, скоро… я не могу более думать. Все меня тяготит и давит, даже воздух. Все меня… Ничего… Фелиция… тридцать два года умерла… числа… Не знаю более…» Я несколько раз прочел это ужасное письмо, переписал его и послал оригинал как извещение тому, любовь которого убила Фелицию. Между тем я спрашивал себя, не был ли я, так же как он, убийцей этой несчастной? В действительности, увы, да! Если бы я мог вернуть ей мою любовь, она жила бы. Но я более не верил в ее привязанность, тем более что за последний год к ней примешивался гнев и неудовольствие: оскорбленное самолюбие породило ненависть и отчаяние. Если бы я мог притворяться, я бы спас ее, но есть натур к которые не могут лгать. Разве я мог упрекать себя в том, что не лицемерил? Разве я мог простить даже после смерти эту женщину, которая не хотела подчиниться неизбежным последствиям своего заблуждения и, казалось, старалась наказать меня за свою ошибку, вызывая во мне вечные угрызения совести? А между тем я простил, почувствовав в этом самоубийстве что-то невыясненное, но правдивое. Фелиция стремилась к идеалу, не зная его. В ней была жажда чести, теряя которую она думала вновь ее приобрести, так как после первого падения сумела заслужить мое уважение и доверие. В минуту своего второго падения Фелиция уже не могла свободно размышлять, а после него она совсем потеряла способность понять наше положение. Духовный свет не всегда безнаказанно проникает через тьму: совесть умаляется, внутренний светоч мало-помалу гаснет. В этом полусознаваемом положении и любви ко мне она надеялась очиститься смертью, которую считала подвигом, причем даже страх, внушенный атеизмом, не помешал ей. Поступок был ужасен, но она, конечно, не хотела сделать низости, потому что, жертвуя своей жизнью, думала снова возвыситься в моих глазах. Бедная Фелиция! Я с заботливостью и уважением убрал комнату, в которой она спала последний раз, и когда при наступлении ночи исполнил ее последнее желание, убрав могилу цветами, я плакал от всей души и усердно посылал ей полное прощение, которое должно было проникнуть за пределы этой жизни. Я ушел оттуда в полночь и встретил какого-то человека, который, по-видимому, скрывался, чтобы не столкнуться со мной в воротах кладбища. Несмотря на его старания, я узнал, что это был Сикст Мор. — Почему вы избегаете меня? — спросил я. — На пороге этого грустного места не может быть дурных воспоминаний! Сикст плача бросился ко мне на шею: по-видимому, он глубоко любил Фелицию. — Господин Сильвестр, — сказал он, отводя меня немного дальше, — вы должны все знать. Не низость любовника, не гордость мужа, а мои угрозы убили ее. — Неправда, Сикст, этого не может быть! Вы ведь не нарушили вашей клятвы! — Я не клялся молчать перед ней. Я был свободен указать на ее ошибку и упрекнуть за несчастье всей моей жизни. Случай соединил нас неделю тому назад в одном пустынном месте, где она блуждала как помешанная, а я не старался ее избегнуть. Я был так несчастлив, так долго несчастлив из-за нее! Я должен был сказать ей, что она обманула честного человека, скучала о негодяе и что, если бы она была моей женой, я изрезал бы ее в куски. Фелиция испугалась, хотела смягчить мой гнев, но этим только окончательно лишила меня рассудка, так как кокетничала и лгала. Она уверяла, что любила меня, и дала понять, что может полюбить опять. Я хорошо видел ее уловки и назвал ее низкой. Наконец… убейте меня, если хотите, я не буду теперь защищаться, так как ненавижу жизнь. Эта женщина лишила меня рассудка, она сделала меня виновным по отношению к вам, хотя вы всегда обращались со мной, как с порядочным человеком. Фелиция, конечно, не любила меня и после доказала это, не желая более увидеть меня. Она написала, что лишит себя жизни, если я буду преследовать ее, но я не поверил, и она умерла. Отомстите же теперь мне. У этой женщины была страстная натура, она принадлежала мне прежде, чем вам и Тонино. Я хотел на ней жениться, но она сама отказала, не доверяя моей верности. Убейте меня потом, говорю вам, но теперь дайте мне прожить неделю, чтобы исполнить свой долг: я должен покончить с тем, который оскорбил нас обоих. — Говорите, — ответил я, — я не хочу недомолвок, я хочу знать, должен ли я упрекать себя в смерти этой несчастной. Неделю тому назад она отдавалась вам? — Да. — Из страха угроз? — Из боязни, что я все расскажу. Но я не угрожал ей этим, я был связан словом. — Чем же вы угрожали ей? — Убийством Тонино. — И вы поставили условием вашего прощения ее любовь? — Нет, клянусь Богом, я не ставил такого условия! Я ничего не требовал и ничего не желал от нее. Она сама омрачила мой ум и сердце взглядами и речами, против которых не может устоять влюбленный. Следовательно, я виновен, но не преднамеренно. Что же касается вас, то вы по-своему также виноваты. Я не могу думать иначе… Надо было снова полюбить вашу жену, и она перестала бы заблуждаться. — Еще одно слово! Вы взволнованны, но искренни. После последних объятий с этой женщиной, которую вы более не уважали, что сказали вы друг другу? Благословили вы ее за то счастье, которое она вам дала? Обещала ли она доверять вам? Удалилась ли она тронутой вашей любовью, а вы гордый самим собой? Был ли хоть один момент, когда вы забыли прошлое и надеялись примириться с будущим? — Нет, мы оба чувствовали гнев, стыд и ненависть. Я сказал ей: «Уйди прочь, не говори более, или я брошу тебя в поток». — А она? — Она закрыла лицо руками и убежала, не оборачиваясь. — Но после вы снова желали увидеть ее? — Да, чтобы зарезать ее; это стало моей затаенной, неотвязчивой мечтой. — Итак, Сикст, вот действие той любви, которая переживает уважение, и вот почему я не хотел и не должен был стать любовником моей жены. Идите прочь. Не оскверняйте ее могилы вашим прощанием. Вы не имеете права молиться за нее. Я вам запрещаю приближаться к той земле, под которой она покоится. Я вам запрещаю также мстить Тонино. Я не могу отомстить вам и ему, не унижая памяти Фелиции в общественном мнении. Это единственное, что остается ей. Пусть ее тайны умрут вместе с ней. Во имя милосердного Бога, намерения которого нам неизвестны, я требую, чтобы вы оставили Тонино в живых. Фелиция более не принадлежит ни ему, ни вам, ни мне. Сикст склонил голову и молча удалился. Я больше никогда не видел его. Я хотел еще раз простить ту, о новом заблуждении которой я только что узнал. Я нарвал букет цветов на соседнем поле и разбросал их на ее могиле, говоря: — Забудь ту рану, которую ты мне нанесла, и пусть Господь исцелит твою! На другой день я чувствовал себя как в чаду, почти не сознавая того, чтопроисходило вокруг меня. Все требовали моих приказаний, и я не мог понять, о чем идет речь. Наконец я сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть это оцепенение. Я передал все управление и все ключи самому старому и честному из наших слуг, после чего, взяв с собой необходимые пожитки и бумаги, я отправился к доктору, чтобы прожить у него то время, после которого мой отъезд не казался бы бегством. Через три дня приехал Тонино. Он не смел сказать, что хочет меня видеть, а между тем когда он сделался владельцем всего состояния и перестал бояться, что ему придется делиться со мной, он испугался этого дурно приобретенного богатства и предложил мне выдавать деньги на содержание. Это была последняя низость, пришедшая ему в голову. Моргани хорошо знал, каков будет мой ответ, чтобы согласиться исполнить такое поручение, и с пренебрежением отказал ему передать мне его предложение. Как только я узнал, что Тонино вступил во владение, я распростился с доктором и уехал потихоньку. Меня любили в стране, и я хотел избегнуть сцен прощания, не желая, чтобы меня жалели за бедность, восхищались моим бескорыстием, передавали о поступках и делах нового владельца и, унижая его, думали бы доставить мне удовольствие. Иногда грусть требует уединения, гордость — молчания. Я пошел через глетчеры, отдохнув некоторое время в шалаше Земми. Солнце палило, но я избегал тенистых окрестностей «Киля»: мои воспоминания о нем были отравлены. Я смотрел на небо, на горы, на орлов, парящих в воздухе, на леса, находившиеся внизу и скрывавшие от меня дом и остров, на холмистые луга и на громадные итальянские Альпы. Все казалось величественным и прекрасным! Природа была невинна в моих страданиях, она мне улыбалась, учила меня и давала силу. У меня не было ни одного друга на земле, потому что я умер для тех, с кем был добр и справедлив в продолжение пяти лет. Не будучи обязанным и не желая их увидеть снова и знать, что происходит в этом уголке, где я надеялся кончить мое существование, я недолго проживу в их памяти. Люди недолго занимаются теми, кто горд и не желает, чтобы о нем жалели. Следовательно, через пять лет я оказался таким же одиноким, таким же самостоятельным, как в тот день, когда ночевал в гостинице «Симплон» и встретил бедного Жака. Все мои связи тогда с жизнью и блаженством были порваны, теперь случилось то же самое и даже еще решительнее: для меня все было в прошлом и ничего в будущем. Трудно представить себе более горькое существование и более тяжелое положение. Я взял мою сумку, палку с железным наконечником и пошел сперва по снегу, потом по травке и по пыльным дорогам. Я шел до вечера и, когда настала ночь, заснул крепко, без снов. На другой день я увидел блестящий восход солнца в этой величественной местности. В ту минуту все мое существо охватила нравственная и физическая мощь. Я вновь почувствовал порыв таинственной радости, которую я испытывал в тот день, когда открыл свое несчастье. Я почувствовал себя счастливым, сознавая, что существую и могу начать жить снова и что многое уже пережил! Я счастлив! Почему? Как это могло случиться? Разве у меня было холодное сердце? Разве я был глупым эгоистом? Нет, не думаю. Я не предавался иллюзиям относительно трудности предстоящей жизни, так как многое могло еще случиться со мной и новое существование должно было наложить новые обязанности. Я сознавал только необходимость работать и должен был этому подчиниться на другой день, а может быть, и сегодня. Всякий, кого я встречу и с кем мне придется вести дела, будет мне чужд, и мне потребуется восстановить нравственную связь между ним и мной, а это будет борьбой, каков бы ни был тот человек. У меня было двадцать шансов против одного, что я сперва внушу недоверие, как человек без средств, опоры и ищущий работы. Но все это не причиняло мне ни малейшего беспокойства: у меня была сила воли, и я умел трудиться. Я был уверен, что могу быть полезным и таким образом заставлю других быть полезными мне. Если бы у меня не хватило сил зарабатывать на хлеб, что может быть проще, как лечь и умереть спокойно в лесу, если какой-нибудь добродетельный прохожий не поднимет меня? В моем нравственном общественном положении было то преимущество, что смерть не была для меня несчастьем. Чему же я мог радоваться, чувствуя, что ко мне возвращалась сила быть самим собой, пока Богу будет угодно оставить меня на этом свете? Я постараюсь вам это объяснить. Я не был недоволен собой, у меня, конечно, не хватало дальновидности, проницательности, умения убеждать, способности исцелять нравственно и умственно, но, не будучи гордецом и считая себя самым простым смертным, я мог отдать себе справедливость, что я все, чем обладал, посвятил правде и добру. Несмотря на ошибочность моих суждений, мое сердце никогда не заблуждалось, и все, что составляло мой нравственный мир, стремилось к добру; никакая низкая страсть не омрачила моей совести. — Совесть, дети мои, — воскликнул старый Сильвестр, кончая свой рассказ и вставая с живостью молодого человека, несмотря на свои семьдесят пять лет, — чистая совесть есть нечто истинное и светлое! Это талисман, это классическое зеркало души, которое отражает предметы такими, какие они есть: природу — прекрасной, человека — совершенствующимся, жизнь — всегда удобной, а смерть — приятной!
Палесо, 15 мая 1866 г.
Жорж Санд Прекрасные господа из Буа-Доре
ТОМ ПЕРВЫЙ
Глава первая
Консини дон Антонио д'Альвимар, испанец итальянского происхождения, называвший себя и подписывавшийся Скьярра д'Альвимар, был одним из наименее заметных протеже фаворита, хотя и выделялся умом, воспитанием и изысканными манерами. Это был красавец-мужчина на вид лет двадцати, хотя и говоривший, что ему уже тридцать. Роста скорее низкого, чем высокого, очень сильный, правда, это не бросалось в глаза, ловкий, он привлекал женщин блеском живых и пронзительных глаз, а также приятностью беседы, всегда легкой и очаровательной с дамами, но содержательной и увлекательной с людьми серьезными. Он почти без акцента говорил на многих европейских языках и обладал немалыми познаниями в области древних языков. Несмотря на все эти похвальные достоинства, Скьярра д'Альвимар не смог завязать самостоятельной интриги при опутанном интригами дворе регентши. Ближайшим друзьям он сообщил, что хотел понравиться ни много ни мало, как самой Марии Медичи, вдове Генриха IV, и занять в сердце королевы место своего хозяина и покровителя маршала д'Анкра. Но Ла Балорда[252], как называла ее Леонора Галигай[253], не обращала внимания на маленького испанца, видя в нем лишь стройного офицера, выслужившегося из рядовых, навсегда обреченного на второстепенные роли. Да и вообще, заметила ли она его искреннюю или поддельную страсть? История об этом умалчивает, да и сам д'Альвимар никогда об этом так и не узнал. Он мог привлечь к себе внимание умом и приятными манерами. Истинную причину, по которой Консини оставил сердце регентши равнодушным, надо искать в другом. Конечно, не в его происхождении или недостатке ума. Препятствие к высокой фортуне куртизана крылось в нем самом, препятствие, которое его честолюбие не смогло преодолеть. Будучи ревностным католиком, он обладал всеми пороками свирепых испанских католиков времен Филиппа II. Подозрительный, неугомонный, мстительный, беспощадный, он верил в Бога искренне, но без любви и без света, вера его была искажена страстями и ненавистью, свойственными политике, идентифицировавшей себя с религией, к великому неудовольствию доброго и милосердного Бога, завоевания которого свершаются в моральной сфере путем милосердия, а не жестокости в мире фактов. Как знать, может, и Франции довелось бы изведать режим инквизиции, если бы Скьярра д'Альвимар покорил сердце регентши. Но этого не случилось, и Консини, вся вина которого состояла в том, что он не родился достаточно знатным, чтобы безнаказанно воровать и грабить, как высшие вельможи, до самой своей трагической смерти обречен был только наблюдать за переменчивостью и продажностью политики регентши. После убийства маршала д'Анкра, д'Альвимар, скомпрометировавший себя на его службе во время дела парижского сержанта[254], вынужден был исчезнуть, чтобы не оказаться втянутым в процесс Леоноры. Он был бы не прочь переметнуться к другому фавориту, фавориту короля господину де Люйену[255], но дело не выгорело. Хотя он был не более щепетилен, чем любой придворный своего времени, он понял, что не сможет смириться с обычаями королевской политики, идущей на уступки кальвинистам, дабы купить покорность принцев, вертевших реформистской религией в угоду своим интересам. Когда королева Мария попала в откровенную немилость[256], Скьярра д'Альвимар решил, что в его интересах сохранять ей верность. Королева, даже в изгнании, могла делать щедрые подарки верным ей людям. Все в мире относительно, а д'Альвимар был так беден, что милости даже разоренной королевы могли дать ему шанс. Он участвовал в подготовке бегства из Блуа, как несколько лет назад играл третьи и четвертые роли в различных политических комедиях, разыгрываемых то Филиппом III, то Марией Медичи, дабы осуществить королевские браки.[257] Господин д'Альвимар, работая во благо других, был довольно ловок, честен и трудолюбив. Его можно было упрекнуть лишь в мании высказывать собственное мнение в тех случаях, когда вполне достаточно следовать мнению других и оставлять лавры победителя на долю более значительных лиц, когда сам ты лицо незначительное. Поэтому, несмотря на все свое усердие, он не смог привлечь к себе внимание королевы-матери. Пока Мария жила в изгнании в Анжере, он продолжал оставаться безвестным младшим офицером, которого скорее терпели, чем привечали. Д'Альвимар тяжело переживал свои многочисленные неудачи. Сначала он производил приятное впечатление, но вскоре начинала раздражать горечь, прорывавшаяся у него, или вызывало подозрение честолюбие, которое он некстати проявлял. Он не был в достаточной степени ни испанцем, ни итальянцем, вернее, он слишком был и тем, и другим. Сегодня общительный, вкрадчивый, изворотливый, как молодой венецианец, назавтра он представал высокомерным, упрямым и мрачным, как старый кастилец. К вышеупомянутым недостаткам примешивались тайные угрызения совести, причину которых он открыл лишь перед смертью. Несмотря на наши изыскания, мы неоднократно теряем его из виду в промежуток между смертью Консини и последним годом жизни Люйена. В нашем манускрипте лишь несколько слов о его пребывании в Блуа и Анжере, в его смутной и причудливой истории мы не находим ни одного факта, достойного упоминания, до 1621 года. В то время как король столь неудачно осаждал Монтобан, маленький д'Альвимар находился в Париже, по-прежнему в свите королевы-матери, помирившись с ее сыном после дела Пон-де-се. К тому времени д'Альвимар оставил надежду ей понравиться и, возможно, в своем «разбитом» сердце тоже стал называть ее тупицей, хотя она впервые проявила здравый смысл, оказав доверие и, как говорят, отдав свое сердце Арману Дюплесси. Одолеть подобного соперника д'Альвимару и мечтать было нечего. К тому же, следуя советам Ришелье, королева направила свою политику в то же русло, что Генрих IV и Сюлли. В данный момент она боролась против испанского влияния в Германии, и д'Альвимар оказался почти в опале, когда к довершению всех несчастий попал в неприятную историю. Он поссорился с другим Скьярра, Скьярра Мартиненго, к которому Мария Медичи больше благоволила и который отказывался признать его за родственника. Состоялся поединок, Скьярра Мартиненго был тяжело ранен. До королевы дошло, что Скьярра д'Альвимар недостаточно точно соблюдал принятые во Франции правила дуэли. Вызвав его к себе, она устроила жестокий разнос, в ответ д'Альвимар излил давно копившуюся в нем горечь. В скором времени он покинул Париж, опасаясь ареста, и в первые дни ноября прибыл в замок д'Арс в Берри, в герцогстве Шатору. Сразу откроем вам причины, по которым он предпочел это убежище всем остальным. Недель за шесть до своей несчастной дуэли Скьярра д'Альвимар сдружился с Гийомом д'Арсом, любезным и богатым молодым человеком, потомком по прямой линии славного Людовика д'Арса, прославившегося отступлением под Венузой в 1504 году и погибшего в битве при Павии. Гийом д'Арс был очарован умом д'Альвимара и приветливостью, на которую тот был способен «в свои лучшие минуты». Они не были знакомы достаточно долго, чтобы молодой человек успел проникнуться антипатией, которую несчастный д'Альвимар почти неизбежно внушал всем спустя несколько недель после тесного общения. К тому же господин д'Арс был очень молод, почти не имел светского опыта и, судя по всему, не был особенно проницателен. Он получил воспитание в провинции и, оказавшись в парижском свете, сразу же познакомился с д'Альвимаром, который произвел на него неизгладимое впечатление своей посадкой в седле, успехами на псовой охоте и при игре в мяч. Щедрый и даже расточительный, Гийом предоставил в распоряжение испанца свой кошелек и свою дружбу, настойчиво приглашая посетить его замок в Берри, куда вынужден был вернуться по срочному делу. Д'Альвимар в отношениях с новым другом проявлял исключительную честность. Пусть у него было много изъянов, никто не смог бы упрекнуть его в недостатке гордости, когда он принимал денежные подарки. Он вовсе не был богат, и расходы на одежду и прическу поглощали все его скудное жалованье. Он не позволял себе никаких излишеств, и благодаря строгой экономии ему удавалось не просто сводить концы с концами, но и следить, чтобы его лошадь и наряды выглядели не хуже, чем у многих более богатых. Когда над ним нависла угроза судебного разбирательства и преследования, он вспомнил о приглашении беррийского дворянина и почел за благо попросить у него убежища. По словам Гийома, его провинция была в этот период одним из самых спокойных уголков Франции. Управлял ею принц Конде, живущий то в замке в Монтроне, в Сан-д'Амане, то в своем добром городе Бурже, где верно служил королю, а еще больше иезуитам. В наши дни покой, царивший в Берри, был бы назван гражданской войной, так как там происходило немало вещей, о которых мы своевременно расскажем; но, по сравнению со всей остальной страной, да и с тем, какие страсти кипели здесь в прошлом веке, Берри действительно выглядел, как уголок мира и порядка. Скьярра д'Альвимар мог, таким образом, надеяться, что найдет покой в одном из этих замков в Нижнем Берри, где кальвинисты на протяжении нескольких лет соблюдали спокойствие, где господа роялисты, бывшие лигеры, давно не имели случая или повода отправить своих людей кормиться за счет соседа, друга или недруга. Д'Альвимар прибыл в замок д'Арс осенним утром, точнее в восемь утра, в сопровождении единственного слуги, старого испанца, который утверждал, что тоже дворянин, вынужденный из-за нищеты пойти в услужение. Он был не похож на человека, способного выболтать тайны хозяина, поскольку ему случалось не сказать за неделю и трех слов. У обоих были хорошие лошади, и, хотя они везли помимо седоков немалую поклажу, путники добрались от Парижа до Берри за шесть дней. Первым человеком, которого они встретили во дворе замка, оказался Гийом. Он уже садился в седло, и еще несколько человек с дорожным багажом готовились составить ему компанию. — Ах, как вы кстати! — воскликнул он, обнимая д'Альвимара. — Я как раз собираюсь в Бурж на праздник, который принц Конде устраивает по поводу рождения сына, герцога Enghien[258]. Там будут танцы, представление комедии, стрельба из аркебуз, фейерверк и много других развлечений. Я отложу свой отъезд на несколько часов, чтобы мы могли поехать вместе. Пойдемте в дом, вам надо поесть и отдохнуть с дороги. Я тем временем найду для вас свежих лошадей, поскольку ваши лошади, хоть и выглядят бодрыми, вряд ли готовы пройти сегодня еще восемнадцать лье. Оставшись наедине с хозяином замка, д'Альвимар объяснил ему, что он не может показываться на празднике, напротив, он хочет спрятаться в замке на несколько недель. В те времена, чтобы забылось столь незначительное прегрешение, как смерть или ранение противника на дуэли, вполне достаточно было на некоторое время исчезнуть с глаз долой. Надо было только найти влиятельного защитника при дворе. Д'Альвимар рассчитывал на скорое прибытие в Париж герцога де Лерма, которого считал своим родственником, по крайней мере так говорил. Это было достаточно влиятельное лицо, чтобы не только добиться прощения, но и в целом улучшить свое положение при дворе. Неизвестно, как наш испанец расписывал свою дуэль со Скьярра Мартиненго[259], извинялся ли за нарушение правил дуэли или же клялся, что оболган перед королевой Марией и господином де Люйеном, в любом случае Гийом д'Арс слушал его вполуха. Честный дворянин, он был в восторге от д'Альвимара и ни о чем плохом не думал. Кроме того, ему не терпелось отправиться на праздник, так что момент для каких бы то ни было серьезных разговоров был явно неподходящим. Так что Гийом не особо вникал в сущность проблемы и думал лишь о том, что его отъезд на праздник в столицу Берри может отложиться еще на день. Заметив его затруднения, д'Альвимар поспешил заверить д'Арса, что ничего в его планах менять не надо, и попросил лишь указать на деревню или ферму в его владениях, где он мог бы чувствовать себя в безопасности. — Нет, вы будете жить не на ферме или в деревне, — возразил Гийом, — а в моем замке. Однако я боюсь, что вам здесь будет скучно в одиночестве. Мне в голову пришла удачная мысль. Ешьте и пейте, затем я отвезу вас к одному из моих друзей, который живет неподалеку, в часе езды отсюда. У него вы будете чувствовать себя в безопасности и приятно проведете время, насколько это возможно в нашей деревне. Дня через четыре или пять я за вами приеду. Д'Альвимар предпочел бы остаться один. Но поскольку Гийом настаивал, вежливость не позволила ему возразить. Отказавшись от еды, он снова сел в седло и последовал за Гийомом д'Арсом и его спутниками, вынужденными сделать крюк по дороге в Бурж.Глава вторая
Выехав из замка, они через охотничьи угодья д'Арса доехали по проселочной дороге до дороги, ведущей в Бурж, затем, оставив ее слева, лесными тропинками добрались до большой дороги, ведущей в Шато-Мейан, и, оставив справа баронский город Ля Шатр, поехали дальше прямо по полям к замку и поселку Бриант, дели своего путешествия. Поскольку в этих краях действительно было спокойно, молодые дворяне обогнали своих спутников, чтобы спокойно поговорить. Молодой д'Арс счел своим долгом сообщить следующее: — Друг, к которому мы едем, — одна из самых выдающихся личностей христианского мира. В его присутствии вам, возможно, иногда придется сдерживать смех, зато вы будете вознаграждены за терпение, которое проявите к его странностям, познакомившись с великой добротой его души. Настолько, что обратись вы к первому встречному благородного или низкого происхождения с вопросом, где живет добрый господин, все в один голос укажут на него. Следует объяснить вам все поподробнее. Поскольку ваша лошадь явно не хочет бежать, а сейчас никак не больше девяти утра, я расскажу вам о человеке, у которого вам предстоит прожить несколько дней. Итак, я начинаю, слушайте!История доброго господина из Буа-Доре
— Поскольку вы чужой в этих краях и живете во Франции лет десять, вы не могли раньше с ним встречаться. Иначе вы несомненно его бы заметили, старого, доброго, храброго, безумного, благородного маркиза де Буа-Доре, ныне сеньора Брианта, Гинарда, Валиде и многих других мест, кроме того, аббата Варенна по фидеикоммиссу[260]. Несмотря на такое обилие титулов, Буа-Доре не относится к высшему дворянству наших краев. Это рядовой дворянин, которого покойный Генрих IV отметил своей личной дружбой и который, не знаю как, разбогател во время войн, которые вел Генрих Наварский. Возможно, в какой-то степени он обязан своим состоянием грабежу, как было принято в то время по праву войн. Не буду рассказывать вам сейчас о кампаниях господина Буа-Доре, это займет слишком много времени, остановлюсь только на его семейной истории. Его отец, господин де… — Подождите, — прервал его д'Альвимар, — получается, что этот господин де Буа-Доре — еретик? — О дьявол, — со смехом ответил его провожатый, — я и забыл, что вы ревностный католик, настоящий испанец! В наших краях придают не очень много значения религиозным разногласиям. Провинция слишком от них пострадала, и мы ждем не дождемся, когда вся Франция будет от них избавлена. Мы надеемся, что в Монтобане король наконец-то покончит со всеми этими фанатиками с юга.[261] Мы желаем, чтобы он как следует их поколотил, но в отличие от наших отцов не желаем им виселицы или костра… Но я вижу, мои слова вам неприятны, поэтому спешу довести до вашего сведения, что маркиз де Буа-Доре в наши дни столь же правоверный католик, как и те, что не переставали ими быть. Когда Беарнсц решил, что Париж стоит мессы, господин де Буа-Доре рассудил, что король не может ошибаться, и без лишнего шума, но окончательно отрекся от кальвинизма. — Вернемся к истории семьи господина де Буа-Доре, — сказал д'Альвимар, перебив Гийома, желая скрыть презрительное недоверие, с каким он относился ко вновь обращенным. — Вы правы, — согласился молодой человек. — Отец нашего маркиза был одним из самых упорных лигеров в этих краях. Он был верным сподвижником Клода де ля Шатра и де Барбонсуа, этим все сказано. В своем замке он хранил набор пыточных инструментов для гугенотов. Случись им попасть к нему в руки, он непременно их применял, но мог поднять на дыбу и кого-нибудь из своих вассалов, если тот не уплачивал в срок свои оброки. Люди настолько его боялись и ненавидели, что он получил прозвище chetti-месье, и по заслугам. Его сын, нынешний маркиз де Буа-Доре, получивший при крещении имя Сильвен, столько страдал от его жестокого характера, что с младых ногтей относился к жизни наоборот и обращался с пленниками и вассалами отца с мягкостью и сочувствием, возможно, не совсем уместными у военного человека по отношению к мятежникам и у дворянина к людям низшего звания. Эти качества вместо того, чтобы возбуждать любовь к нему, напротив, вызвали у многих почти презрение, и крестьяне, люди, как известно, неблагодарные и недоверчивые, говорили о нем и его отце: «Один весит больше своих прав, другой не весит вовсе ничего». Они полагали, что отец — человек жестокий, но решительный, храбрый, сможет защитить их от лихоимства бандитов с большой дороги, порождения войны. А господин Сильвен, по их мнению, оставит их на растерзание злодеям, поскольку не имеет ни мозгов, ни храбрости. В один прекрасный день господин Сильвен сильно скучал, и уж не знаю, что пришло на ум молодому человеку, но только он сбежал из замка Бриант, где света божьего не видел, от своего отца. Тот обращался с юношей, как с умалишенным. Сильвен отправился к умеренным католикам, которых в то время называли третьей партией. Вам известно, что эта партия неоднократно протягивала руку помощи кальвинистам. Господин Сильвен постепенно стал кальвинистом, а также слугой и другом молодого короля Наварского[262]. Узнав об этом, отец его проклял и, чтобы разорить сына, надумал, несмотря на преклонный возраст, жениться и произвести на свет еще одного сына. Это означало уменьшение вдвое и без того небогатого наследства господина Сильвена, который, будучи гугенотом, мог потерять право старшинства при дележе наследства. Chetti-месье был не особенно богат, к тому же его земли неоднократно разорялись кальвинистами. Но посмотрите, как добра природа этого человека! Вместо того, чтобы рассердиться или хотя бы посетовать на судьбу по поводу женитьбы собственного отца и рождения ребенка, вдвое уменьшающего его наследство, он гордо поднял голову, когда ему принесли эту новость. — Только подумайте! — воскликнул он. — Моему отцу за шестьдесят, а он произвел на свет мальчика. Великолепно! Я могу считать, что происхожу от доброго корня! Его благодушие не ограничилось лишь словами. Семь лет спустя, когда отец отлучился из Берри, чтобы поддержать Порубленного[263] в его борьбе против принца д'Алансонского[264], наш дорогой Сильвен, узнав, что после смерти его мачехи ребенок остался в замке почти без присмотра, тайно вернулся в наши края, чтобы в случае необходимости защитить сводного брата и, по его словам, ради радости его видеть и ласкать. Он провел всю зиму рядом с ребенком, играл с ним, носил на руках, как кормилица или гувернантка. Люди в окрестностях насмехались, говоря, что он слишком прост, что он блаженный, что в их устах означает умалишенный. Когда дурной отец возвратился домой после мира de Monsieur[265], как вы понимаете, недовольный тем, что мятежники лучше вознаграждены, чем союзники, он был зол на весь белый свет и даже на Господа, который позволил его молодой супруге умереть от чумы в его отсутствие. Не зная, на ком бы отыграться, он заявил, что старший сын явился сюда, чтобы колдовством погубить младшего, отраду его старости. Со стороны старого корсара это было весьма гнусно, поскольку ребенок никогда так хорошо себя не чувствовал и не был так хорошо ухожен, чем в присутствии старшего брата. Несчастный Сильвен был не более способен на злые намерения, чем новорожденный…В этот момент Гийом д'Арс прервал свой рассказ. Путники уже почта доехали до Брианта. Навстречу им вышла молодая особа, одетая в черное с красным и серым платье с подоткнутым подолом и открытой шеей. Подойдя ближе, она сделала глубокий реверанс. — Увы, месье, — произнесла она. — Вы, возможно, собираетесь отобедать сегодня у моего досточтимого хозяина, маркиза де Буа-Доре? Но его нет дома, он на весь день отправился в Мотт-Сейи и отпустил нас всех до вечера. Новость расстроила молодого д'Арса, но воспитание не позволило это продемонстрировать. Он галантно сказал: — Ну что ж, мадемуазель Беллинда, тогда мы отправляемся в Мотт-Сейи. Желаю вам приятной прогулки! И, чтобы скрыть свое огорчение, обратился к д'Альвимару, приглашая его повернуть назад: — Не правда ли, весьма привлекательная экономка. Ее цветущий вид должен сделать для вас более притягательной мысль о пребывании в Буа-Доре. Беллинда, от ушей которой не ускользнуло это заявление, сделанное громким голосом и куртуазным тоном, выпятила грудь, улыбнулась, подозвала помощника конюха, сопровождавшего ее на манер пажа, и извлекла из широких рукавов двух маленьких белых собачек, которых осторожно поставила на траву, будто бы, чтобы дать им возможность погулять, но на самом деле, чтобы оставаться лицом к кавалерам и дольше представлять их взглядам красивую обновку и свои прелестные и весьма пышные формы. Ей было лет тридцать пять. Румяная, волосы с красным отливом были довольно красивы, взбитые, они постоянно выбивались из-под шапочки, к великому неудовольствию местных дам. Но, даже стараясь выглядеть приветливой, она казалась недоброй. — Почему вы называете ее Беллиндой? — спросил д'Альвимар. — Это имя распространено в ваших краях? — Вовсе нет. Ее зовут Гийет Карка. А Беллиндой ее прозвал маркиз, следуя своему правилу, я объясню вам это позже, сперва закончу его историю. — Ни к чему, — ответил д'Альвимар, остановив коня. — Несмотря на вашу любезность, я чувствую, что принес вам слишком много хлопот. Давайте поедем в замок Бриант, я останусь там с письмом, в котором вы рекомендуете меня господину де Буа-Доре. Я буду ожидать его возвращения и тем временем отдохну. — Об этом не может быть и речи! — воскликнул юноша. — Уж лучше я откажусь от поездки в Бурж, я бы даже уже от нее отказался, если бы не дал слово своим друзьям, что непременно буду там сегодня вечером. Но я ни в коем случае не оставлю вас, не представив лично своему доброму и верному другу. Мотт-Сейи всего в одном лье отсюда, так что не будем гнать наших коней, поедем спокойно. Я приеду на праздник на час-другой позже и найду двери еще открытыми. И он продолжил историю маркиза де Буа-Доре, хотя д'Альвимар слушал весьма невнимательно, так как был озабочен своей безопасностью. Окрестности казались ему малоподходящими для того, чтобы здесь прятаться. На плоской и открытой равнине в случае нежелательной встречи невозможно было укрыться в лесу или рощице. Мелкая красная почва крупными волнами лежала под солнцем. Бескрайняя равнина, печальная на первый взгляд, время от времени оживлялась красивыми холмами или небольшими замками. Однако Бриант, который уже можно было разглядеть, показался ему более надежным. Минутах в десяти езды от замка равнина внезапно снижалась и вела по отлогому скату к узкой тенистой ложбине. Сам замок заметен только сверху, поскольку колоколенка аспидного цвета, самая высокая из башен, была лишь немного выше равнины, сама равнина сверкала в лучах заходящего солнца, как маленький золоченый фонарь, поставленный на край лощины. То же самое можно сказать и о замке Мотт-Сейи[266], правда, не так живописном, поскольку он печально возвышается над плоской и бесконечной равниной Шомуа. До того, как свернуть на проселочную дорогу, ведущую к замку, Гийом успел рассказать своему спутнику о прочих превратностях судьбы господина Сильвена де Буа-Доре: отец хотел запереть его в башне, чтобы воспрепятствовать возвращению сына к гугенотам; молодой человек сбежал и вернулся к своему дорогому Генриху Наварскому, в рядах армии которого после смерти Генриха III сражался в течение девяти лет; и, наконец, сделав все, что в его силах, чтобы Беарнец воцарился на французском престоле, он вернулся в свои края после того, как тиран-отец отошел в мир иной и перестал быть грозой окрестностей. — А что стало с его младшим братом? — спросил д'Альвимар, чтобы проявить интерес к рассказу. — Его больше нет, — ответил д'Арс. — Его мало знали в Буа-Доре, поскольку отец еще в нежном возрасте отправил его на службу к герцогу Савойскому, где он погиб довольно странным образом… В этом месте рассказ Гийома был прерван неожиданным приключением, которое, судя по всему, весьма раздосадовало д'Альвимара, потому что, будучи испанцем, он терпеть не мог, чтобы начатое дело прерывалось.
Глава третья
Расположившаяся у обочины толпа цыган при виде наших путников вскочила на ноги, как стая потревоженных воробьев, так, что лошадь д'Альвимара отпрянула в сторону. «Воробьи» эти оказались слишком ручными. Вместо того, чтобы отлететь подальше;, они, рискуя попасть под копыта, прыгали, кричали, жалобно-комично гримасничая, протягивали к всадникам руки. Глядя на их ужимки, Гийом лишь рассмеялся и подал щедрую милостыню. Д'Альвимар же проявил неожиданную нетерпимость и, угрожая плеткой, приказал: — Убирайтесь! Прочь с дороги, канальи! Он даже замахнулся на мальчугана, вцепившегося в его стремя с умоляющим и несколько насмешливым видом, как все дети, с младенчества приученные к попрошайничанию на большой дороге. Гийом, ехавший сзади, заметил, как мальчишка, увернувшись от удара, схватил с земли камень и собирался запустить им в д'Альвимара, но другой паренек, постарше, удержал его за руку и отругал, чем-то угрожая.. На этом дело не кончилось. Женщина маленького роста, довольно красивая, хотя уже увядающая, взяв ребенка за руку и говоря с ним по-матерински, подтолкнула его к Гийому, а сама подбежала к д'Альвимару, протягивая к нему руку, но при этом глядя на него так, будто хотела на всю жизнь запомнить его лицо. Д'Альвимар, все сильней раздражаясь, направил на нее лошадь и сбил бы ее с ног, если бы она ловко не увернулась. Он уже положил руку на рукоятку одного из пистолетов, которые вез в седле, словно ему ничего не стоило бы пристрелить одного из этих глупых язычников. Цыгане переглянулись и, сбившись в кучу, о чем-то принялись совещаться. — Вперед, вперед! — крикнул Гийом д'Альвимару. — Почему вперед? — спросил д'Альвимар, не собираясь подстегивать лошадь. — Потому что вы разозлили этих черных птиц. Смотрите, они сбились в стаю, как журавли в беде, а их не менее двадцати, в то время как нас всего семеро. — Мой дорогой Гийом, неужели вы опасаетесь, что эти слабые и трусливые скоты могут причинить нам какой бы то ни было вред? — Я не имею привычки опасаться чего бы то ни было, — возразил молодой человек несколько уязвленно. — Но мне не хотелось бы стрелять по этим несчастным оборванцам. Я даже удивлен, что они так вас рассердили, хотя было так легко отделаться от них несколькими монетами. — Я никогда им не подаю, — ответ д'Альвимара прозвучал так сухо и резко, что доброжелательный Гийом удивился. Он понял, что его спутник страдает тем, что сегодня называют болезнью нервов, и не стал упрекать его за резкость. Он просто настаивал на том, чтобы ускорить шаг, потому что цыгане их уже догоняли и даже обгоняли, разделившись на две команды, следующие по обеим сторонам дороги. Между тем эти люди не выглядели враждебно настроенными, и было непонятно, с какой целью они эскортируют наших путешественников. Они переговаривались на тарабарском наречии и, казалось, были заняты лишь женщиной, шествующей впереди. Мальчик, которого д'Альвимар хотел ударить, бежал теперь рядом с д'Арсом, будто надеясь на его защиту. Похоже, этот странный пробег казался ему увлекательным. Гийом обратил внимание, что ребенок менее грязен и менее смугл, чем остальные, и что его тонкие приятные черты лица не имеют ничего общего с цыганским типом. Если бы он повнимательнее пригляделся к женщине, которую д'Альвимар ругал и осыпал угрозами, он бы заметил, что, хотя она ни капельки не похожа на мальчика, она тем более не похожа на своих собратьев по нищете. Она выглядела благороднее и нежнее. Помимо того, она явно не относилась к европейской расе, хотя и была одета в костюм жительницы Пиренеев. Но самым удивительным было другое. Прекрасно поняв жест д'Альвимара, несмотря на вполне естественный страх нищих и бродяг такого типа, она храбро шагала с ним рядом, не покушаясь больше на содержимое его кошелька, вид ее был не угрожающим, но она по-прежнему рассматривала его с пристальным интересом. Д'Альвимар был разгневан такой наглостью; еще немного; и он дал бы волю своему причудливому и жестокому воображению. Догадавшись об этом и опасаясь, как бы не пришлось из-за сердитого д'Альвимара связаться с безобидными бродягами, Гийом подъехал поближе и, загородив своей лошадью Скьярра от женщины, сделал ей знак остановиться и обратился к ней с полусерьезной-полушутливой речью: — Не изволите ли, королева дроков и вересков, сообщить нам, по какой причине вы нас сопровождаете столь странным образом, чтобы оказать нам честь или пристыдить нас? Должны ли мы быть польщены или огорчены этой церемонией? Египтянка (в то время египтянами, или цыганами, называли всех бродяг непонятного происхождения) покачала головой и жестом подозвала мальчика, который удержал другого от того, чтобы бросить камень. Подойдя с дерзким видом, он вкрадчиво и без малейшего акцента обратился к Гийому: — Мерседес, — указывая на женщину, произнес он, — не понимает языка ваших милостей. Вместо тех из наших, кто не знает французского, говорю я. — Хорошо, — кивнул молодой дворянин, — значит, ты оратор своей группы. Как тебя величать, господин нахал? — Флеш[267], если угодно вашей милости. Я имел честь родиться во Франции, в городе, имя которого с тех пор ношу. — Это, несомненно, великая честь для Франции. Итак, мэтр Флеш, скажи своим спутникам, чтобы они оставили нас в покое. Учитывая, что я сейчас в дороге, вы получили от меня вполне достаточно, и плохая благодарность за мою щедрость заставляет нас дышать поднимаемой вами пылью. Прощайте, и отстаньте от нас, а если у вас есть ко мне еще какая-нибудь просьба, говорите быстрей, мы торопимся. Флеш быстро перевел слова Гийома женщине по имени Мерседес, к которой, казалось, не только он, но и все остальные относились с особым почтением. Она произнесла несколько слов по-испански, и Флеш снова обратился к д'Арсу: — Эта женщина смиренно просит сообщить ей ваши имена, чтобы она могла за вас молиться. Гийом расхохотался. — Вот это просьба! Передай ей мой совет: пусть молится за нас без имен. Господь Бог и без того хорошо нас знает, и она вряд ли сообщит ему о нас что-то ему неизвестное. Флеш смиренно поклонился и снял свою засаленную шапчонку, а наши путники, подстегнув коней, наконец-то оставили толпу позади. — Что это? — воскликнул д'Альвимар, заметив у линии горизонта колоколенки Мотт-Сейи. — Вы мне так и не рассказали, к какому вашему другу мы едем. — Это замок молодой и прекрасной дамы, которая живет тут со своим отцом. Оба будут рады вас видеть. Вы пробудете у них до вечера и, надеюсь, убедитесь, что в нашей глуши люди вовсе не дикари и не чужды старинного французского гостеприимства. Вероятней всего у них находится и господин де Буа-Доре. Д'Альвимар ответил, что нисколько в этом не сомневался, и наговорил своему спутнику массу любезностей, поскольку умел это делать, как никто другой. Но его желчный ум тут же перекинулся на иной предмет. — Исходя из того, что вы мне сейчас рассказали о господине де Буа-Доре, мой будущий хозяин — старое чучело, вассалы которого от души над ним потешаются. — Вовсе нет! — воскликнул молодой человек. — Из-за цыган я не успел закончить свой рассказ. Я собирался рассказать вам, что, когда он вернулся, разбогатев и получив титул маркиза, все были очень удивлены, узнав, что в бою он храбр, как лев, и, несмотря на свой благодушный вид, а также на то, что манеры его иногда кажутся комичными, он обладает христианскими добродетелями, которые делают ему честь. — Входят ли терпимость и целомудрие в перечень вышеупомянутых христианских добродетелей? — Почему вы об этом спрашиваете? У вас возникли какие-то сомнения? — Я вспомнил экономку с пышной гривой, которую мы встретили у его замка. Она мне показалась слишком молодой для столь зрелого человека. — Позор тому, кто дурно об этом подумает, — улыбнулся Гийом. — Не могу поклясться, что он не интересовался прелестями фрейлин королевы Катерины, но это было так давно! Держу пари, вы можете рассказать об этом Беллинде, не причинив ей ни малейшего огорчения. Но вот мы и прибыли. Нет необходимости напоминать вам, что предположения такого рода здесь не приняты. Наша прекрасная вдова, госпожа де Бевр, вовсе не недотрога, но в ее возрасте, в ее положении… Всадники проехали по подъемному мосту, который ввиду спокойствия, царящего в этих краях, постоянно был опущен, опускная решетка поднята. Они беспрепятственно и без лишних церемоний въехали во двор усадьбы и спешились. — Одну минуту, — обратился д'Альвимар к Гийому. — Когда вы будете меня представлять, прошу вас, не называйте при слугах моего имени. — Ни здесь, ни в другом месте я его не назову, — ответил господин д'Арс. — Поскольку вы говорите без малейшего акцента, никому в голову не придет, что вы испанец. За кого из парижских друзей вы хотели бы сойти? — Роль другого человека меня стесняет. Я предпочитаю остаться более-менее самим собой и назваться одним из семейных имен. С вашего позволения, я буду называться Виллареаль, а что касается причины моего бегства из Парижа… — Вы объясните ее маркизу наедине и скажете, что вам будет угодно. Я лишь скажу, что вы мой друг, что вы спасаетесь от преследования и что я прошу оказать вам прием, который бы я устроил сам.Глава четвертая
Замок Мотт-Сейи (это название в конце концов закрепилось) почти полностью сохранился до наших дней. Он состоит из пятиугольной въездной башни в феодальном средневековом стиле, жилого здания с большими окнами, окруженного прочими строениями, над одним из которых возвышается главная башня. В левом здании со сводчатыми потолками и мощными нервюрами[268] конюшни, а также кухня и спальни для дворни. Справа часовенка с готическими окнами времен Людовика XII и короткая открытая галерея, поддерживаемая двумя приземистыми столбами, окруженными рельефными нервюрами, как толстые стволы деревьев, опутанные лианами. Эта галерея ведет к главной башне, относящейся, как и входная башня, к двенадцатому веку. Убранство круглых комнат было скромным, вид оживляли красивые колонны, у основания напоминающие когти. Винтовая лесенка в маленькой башне по соседству с большой проходила внутри древнего сруба, который и в наше время является подлинным произведением искусства. В центре этой башни под сводом находилась так называемая деревянная лошадка, то есть дыба, применение которой было хладнокровно упорядочено еще ордонансом 1670 года. Это ужасное приспособление относится ко времени строительства замка, поскольку составляло одно целое с остовом[269]. В этом бедном и мрачном замке прекрасная Шарлотта д'Альбре, жена жестокосердного Чезаре Борджа, прожила пятнадцать лет и умерла еще молодой, прожив жизнь, полную страдания и святости. Известно, что гнусный кардинал, байстрюк Папы римского, развратник, кровосмеситель, кровожадный тиран, любовник родной сестры Лукреции и убийца собственного брата и соперника, в один прекрасный день решил сложить с себя духовный сан и отправился во Францию в надежде найти выгодную партию для женитьбы. Людовик XII хотел расторгнуть свой брак с Жанной, дочерью Людовика XI, чтобы жениться на Анне Бретонской. Это было невозможно без папского согласия. Король получил его в обмен на то, что отдал байстрюку, кардиналу-кондотьеру, область Валентинуа и руку принцессы. Шарлотта д'Альбре, красивая, умная и чистая, была принесена в жертву: несколько месяцев спустя муж ее оставил, и она жила, как вдова. Купив это печальное поместье, она отправилась туда воспитывать свою дочь[270]. Единственным ее развлечением вне стензамка были поездки в Бурж, к ее мистической подруге по несчастью Жанне Французской, отвергнутой королеве, ставшей доброй герцогиней де Берри. После смерти Жанны Шарлотта, которой было тогда всего двадцать четыре года, одела траур и не снимала его до самой смерти, не выезжала больше из замка. Она умерла девять лет спустя, в 1514 году. Тело ее было перевезено в Бурж и погребено рядом с Жанной, а полвека спустя эксгумировано, подвергнуто надругательствам и сожжено кальвинистами, равно как и останки другой несчастной святой. Ее сердце покоилось в сельской часовне Мотт-Сейи, в прекрасном склепе, заказанном для нее дочерью. Но материальной памяти об этой печальной судьбе не суждено было сохраниться. В 1793 крестьяне обрушили весь гнев, накопившийся в их сердцах, против несчастного склепа, разрушили мавзолей, обломки которого еще валяются окрест. Расколотая на три части статуя Шарлотты стоит, прислоненная к стене. Заброшенная церковь разрушается сама по себе. Сердце несчастной страдалицы, наверняка, было запечатано в золотой или серебряный ларец; что-то с ним сталось? Может, продано по дешевке, а может, где-то спрятано из страха или уважения к ее памяти и до сих пор хранится в какой-нибудь деревенской лачуге, а новые ее обитатели ничего не знают про то, что ларец лежит под камнем очага или зарыт под терновником изгороди. В наши дни реставрированный замок нежится под лучами солнца, через частично разрушенную стену солнце проникает на его посыпанный песком внутренний дворик. Вода в старинных рвах, которые, как я полагаю, питает соседний источник, бежит подобно небольшой веселой речушке через недавно обустроенный английский сад. Могучий тис, современник Шарлотты д'Альбре, величественно опирается на каменные глыбы, специально подложенные под его ветки, чтобы поддержать его монументальную дряхлость. Несколько цветков и одинокий лебедь будто бы меланхолично улыбаются горестному замку. Горизонт по-прежнему хмур, пейзаж уныл, башня мрачна, но наш артистический век любит мрачные жилища, старые разоренные гнезда, крепкие постройки, доставшиеся в наследство от тяжелого и горького прошлого, которое народ уже не помнит, которое не помнил уже в 1793 году, поскольку разорил могилу кроткой Шарлотты вместо того, чтобы поломать дыбу в Мотт-Сейи. Во времена, к которым относится наш рассказ, закрытый со всех сторон замок был одновременно мрачнее и комфортабельнее, чем в наши дни. Большие камины с чугунными литыми очагами жарко нагревали просторные комнаты. Обивку на стенах уже заменили на фетровую бумагу удивительной красоты и толщины. Вместо наших красивых персидских занавесей, которые дрожат от ветра, дующего из окон, висели шторы из тяжелого дамасского шелка, а в более скромных домах — занавеси из очесов шелка, которые служили лет по пятьдесят. Керамику в коридоре и лавочки застилали коврами, сотканными из смеси шерсти, хлопка, льна и конопли. В те времена паркет было принято красиво инкрустировать. Серванты были заставлены красивым неверским фаянсом, причудливыми кубками из цветного стекла, которые извлекались оттуда только в торжественных случаях. Их делали в форме памятников, растений, кораблей или фантастических животных. Итак, несмотря на внешнюю простоту хозяйского дома, господин д'Альвимар нашел помещение уютным, чистым, даже довольно элегантным, в нем чувствовалось если не богатство, то по крайней мере настоящий достаток. После замужества Луизы Борджа замок Мотт-Сейи отошел к дому де ля Тремуй, с которым господин де Бевр был связан по материнской линии. Это был суровый и храбрый дворянин, который не стеснялся высказывать вслух свое мнение и не скрывал своих убеждений. Его единственная дочь, Лориана[271], в возрасте двенадцати лет была выдана за своего кузена, шестнадцатилетнего Элиона де Бевра. Дети редко виделись, поскольку провинция была охвачена событиями, в которых господа де Бевр считали своим долгом принять участие. На следующий день после свадьбы они покинули замок, чтобы отправиться на помощь герцогине Неверской, принявшей сторону принца Конде и в данный момент осажденной в своем добром городе Монтини (Франциска де Гранжа). Храбро пытаясь прорваться в город прямо на глазах у католиков, юный Элион погиб. Вернувшись в деревню, господин де Бевр с болью в сердце вынужден был сообщить своей обожаемой дочери, что она стала вдовой, не лишившись девственности. Лориана долго оплакивала своего юного кузена и мужа. Но можно ли бесконечно рыдать в возрасте двенадцати лет? Тем более, что отец подарил ей такую красивую куклу. Юбка у этой куклы была из серебряной ткани, башмачки из красного бархата. А когда Лориане исполнилось четырнадцать, ей привезли из Буржа прекрасную маленькую лошадку из конюшен самого принца. Помимо того, Лориана, которая в момент своей свадьбы была худенькой и бледной девчушкой, к пятнадцати годам превратилась в столь свежую, элегантную и любезную блондинку, что не стоило опасаться, что ее вдовство будет продолжительным. Но ей было так спокойно рядом с отцом, она чувствовала себя полновластной хозяйкой в доставшемся ей в приданое имении, что вовсе не торопилась повторно вступать в брак. Разве ее и без того не называют мадам? А желание услышать это обращение не одну молодую девушку склонило к замужеству. А что касается подарков, празднеств, свадебных нарядов? Лориана наивно говорила: — Я уже познала все радости и тяготы свадьбы. Между тем, хотя господин де Бевр имел немалое состояние, за которым рачительно следил и которое благодаря уединенному образу жизни постоянно увеличивалось, ему не удавалось найти для дочери подходящей партии. Господин де Бевр поднялся на борьбу за дело Реформы в момент, когда, истощи и свои людские и денежные возможности, движение в провинциях стало затухать. Все вокруг стали католиками или по крайней мере делали вид. Кальвинизм в Берри находился в упадке, момент его недолгого взлета давно прошел. Но год 1562[272] давно прошел, и крепостные стены Сансера, досадной твердыни, были давно срыты до самого основания. Беррийцы не мстительны и не склонны к фанатизму, так что после недолгого удивления и возбуждения, когда явившиеся извне страсти захватили простолюдинов и третье сословие, снова воцарилась империя страха перед сильными мира сего, который и составляет основу политики этой провинции. Что касается сильных мира сего, они, как обычно, торговали своей покорностью. Конде превратился в ревностного католика. Де Бевр, служивший сперва у его отца и потерявший зятя на службе принцу, как и следовало ожидать, оказался в немилости и больше не показывался в Бурже. Направленные к нему принцем иезуиты, стремившиеся склонить его к отречению, вернулись ни с чем. Де Бевр вовсе не был религиозным фанатиком, принимая доктрину Лютера, он следовал скорее политическим соображениям и вскоре понял, что ошибся. Но было уже поздно: у всех отпала необходимость его покупать. Ограничивались тем, что пытались его запугать, в частности, ему дали понять, что он не сможет пристроить свою дочку в этих краях, если продолжит упорствовать в ереси. Гордо державшийся перед прочими угрозами, он начал колебаться из страха, что Лориана останется одинокой и его имение перейдет в женские руки. Но сама Лориана помогла ему устоять. Воспитанная им в протестантской вере и получившая посредственное образование, она в своем сердце смешивала обряды и молитвы обеих религий. Она не стремилась по длинным и дурным дорогам Иссудена и Линньера любой ценой добраться до протестантской проповеди, но и не вздрагивала от отвращения, слыша перезвон с католической колокольни. Но иногда за ее приветливой и почти детской мягкостью угадывались ростки великой гордости. Заметив, что ее отец страдает при мысли о необходимости публичного отречения, она с удивительной энергией пришла ему на помощь, заявив прибывшим из Буржа иезуитам: — Напрасно вы пытаетесь обратить меня в свою веру, обещая мне знатного мужа-католика. Я поклялась в своем сердце, что скорее выйду за человека низкого происхождения, зато моей веры.Глава пятая
Недели через две после последнего посещения Мотт-Сейи иезуитами Гийом д'Арс представил владельцам замка Скьярра д'Альвимара. И отец, и дочь вышли навстречу гостям, а вот маркиза де Буа-Доре в доме не оказалось — он с лесником господина де Бевра поехал травить зайца. Новая помеха весьма расстроила молодого д'Арса. Его поездка откладывалась час за часом, и он уже отчаялся попасть в Бурж сегодня. Скьярра д'Альвимар представился с немалым изяществом, и с самого начала любезной беседы де Бевр, который понимал в этом толк не потому, что часто бывал в Париже, но в силу того, что много времени провел при провинциальных дворах, где каждый сеньор мнил себя не ниже короля, сразу же понял, что имеет дело с человеком, принадлежащим к высшему свету. Что до господина д'Альвимара, он был поражен грацией и юностью Лорианы и, долгое время полагая, что это младшая дочь господина де Бевра, ожидал, когда его представят вдове, о которой говорил Гийом. Лишь через добрых четверть часа он понял, что это прелестное дитя и есть хозяйка замка. В десять утра сели обедать, к этому времени вернулся Гийом, который отправился в луга на поиски господина Сильвена. — Я предупредил маркиза, — обратился он к Скьярра, — и он скоро приедет. Он обещал мне принять вас у себя и быть вашим другом до моего возвращения. Так что я оставляю вас в хорошей компании, а сам постараюсь наверстать упущенное время. Напрасно его пытались уговорить остаться обедать. Он ускакал, поцеловав руку прекрасной Лориане, обменявшись рукопожатием с господином де Бевром и обняв д'Альвимара, пообещав вернуться не позже, чем в конце недели, и забрать его из Брианта в д'Арс, где, как он надеется, гость пробудет еще немало времени. — Итак, — обратился господин де Бевр к д'Альвимару, — подайте руку владелице замка и пойдемте к столу. Не удивляйтесь, что мы не стали ждать нашего друга Буа-Доре. У него вошло в привычку, даже если охота продолжалась не более пятнадцати минут, после этого не менее часа тратить на приведение в порядок туалета, и ни за что на свете он не покажется даме, даже Лориане, которая ему в дочки годится и которая выросла у него на глазах, не умывшись, не надушившись и не переодевшись с головы до ног. Мы не видим большого зла в этой его маленькой слабости. Между нами не приняты церемонии и, отложив из-за него обед, мы бы его, напротив, стеснили. — Не следовало ли мне, — спросил д'Альвимар, когда его усадили за стол, — подняться в комнату маркиза, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение до того, как приступить к обеду? — Нет, — со смехом воскликнула Лориана. — Он расстроился бы, если бы гость застал его за одеванием. Не спрашивайте, почему, увидев его, вы сами все поймете. — Кроме того, — добавил ее отец, — ваша предупредительность к нему может быть обусловлена только вашей разницей в возрасте, ведь, поскольку он вас принимает, это он должен оказывать вам знаки внимания. Господин д'Арс поручил мне представить вас маркизу, и я с удовольствием исполню эту миссию. Полагая, что д'Альвимар молод, господин де Бевр разделял всеобщее заблуждение. Хотя ему было в ту пору около сорока, он выглядел не более чем лет на тридцать. Возможно, в глубине души господин де Бевр сравнивал красивое лицо своего гостя со своей дорогой Лорианой. Его постоянной заботой были поиски для нее супруга, который был бы не из этих краев и не требовал бы публичного отречения. Наивный старик, он не знал, что засилье иезуитов установилось повсеместно. Кроме того, он не подозревал, что в душе д'Альвимар был верным рыцарем прекрасной дамы Инквизиции. Желая обеспечить своему другу сердечный прием, Гийом ни словом не обмолвился о том, что он ревностный католик. Сам он тоже был католиком, но весьма терпимым и даже маловерующим, как большинство светских молодых людей. Поэтому и представляя гостя господину де Бевру, и рекомендуя его господину де Буа-Доре, он не поднял вопрос о религии, которому, впрочем, все трое не придавали особого значения при общении с друзьями. Он ограничился тем, что сообщил господину де Бевру, что господин де Виллареаль происходит из хорошей семьи и довольно богат. Гийом и сам в это верил, поскольку д'Альвимар скрывал свою бедность со всей гордостью, присущей испанцам в этом вопросе. Первая перемена блюд была подана со всей медлительностью, на которую только способны беррийские слуги, и съедена с методической медлительностью хорошо воспитанных людей. Терпеливое пережевывание пищи, длинные паузы между глотками, рассказы радушных хозяев между блюдами до сих пор являются для беррийских стариков признаком хорошего тона. В наши дни крестьяне стараются перещеголять друг друга хорошим воспитанием, и когда садишься с ними обедать, можно быть уверенным, что проведешь за столом не менее трех часов, даже если подан будет лишь кусок сыра, да бутылка вина. Д'Альвимар, живой и беспокойный ум которого не знал отдыха, воспользовался величественным жеванием господина де Бевра, чтобы побеседовать с его дочерью, которая ела быстро и мало, занимаясь больше отцом и гостем, чем собой. Он был удивлен, обнаружив столь острый ум у девушки, которая, не считая двух-трех поездок в Бурж и Невер, никогда не покидала своих владений. Лориана не получила приличного воспитания и, вероятно, не смогла бы написать большое письмо, не сделав в нем нескольких ошибок. Но у нее была правильная речь, и, слыша разговоры отца с соседями о недавних событиях, она начала неплохо разбираться в истории, начиная с царствования Людовика XII и первых религиозных войн. Помимо природного такта и деликатности, ее ум обладал прямотой и хитростью, чисто беррийским сочетанием, а союз двух этих противоположностей создает оригинальную манеру думать и говорить. Она родилась в тех краях, где правду говорят с улыбкой и каждый знает, что его поймут. Д'Альвимар почувствовал перед этой девушкой некоторую робость, сам не зная, почему. Иногда ему казалось, что она угадала его характер, его жизнь, его недавнее приключение и что она мысленно говорит: «Несмотря на все это, мы останемся к вам добры, мы все равно к вашим услугам». Когда наконец дошла очередь до жаркого, среди хлопанья дверей и звона тарелок появился господин де Буа-Доре, впереди него шествовал богато разодетый молодой слуга, нечто вроде пажа, будто чтобы подтвердить стих, еще не сочиненный, о нелепости ему подобных: Каждый маркиз хочет, чтобы у него были пажи, что, кстати, противоречило ордонансам, разрешавшим иметь пажей лишь принцам и самым высокопоставленным вельможам. Несмотря на вечную свою меланхолию и нынешнюю озабоченность, д'Альвимар с трудом удержался, чтобы не рассмеяться при виде своего временного хозяина. В свое время Сильвен де Буа-Доре был очень красив. Завидного роста, прекрасно сложенный, черноволосый и белолицый, с живыми глазами, тонкими чертами лица, сильный и легкий в движении, он в свое время покорил сердца многих дам, но ни разу не смог вызвать прочной или страстной любви. Быть может, дело тут было в его легкости и скупости его собственных эмоций. Безграничная доброта и верность, принимая во внимание эпоху и среду, королевская расточительность в те дни, когда судьба неожиданно делала его богатым, и стоическая философия в часы нищеты (как он сам называл минуты безденежья), все эти приятные и легкие качества авантюриста-сподвижника Беарнца были недостаточны, чтобы сделать из него пылкого героя, какие были в моде в дни его юности. В ту экзальтированную и кровавую эпоху, чтобы подняться над романтической привязанностью, роман должен был содержать в себе хоть каплю жестокости. Буа-Доре, отважный в сражении, все прочее время был чрезвычайно мягкосердечен. Он не убил на дуэли ни одного мужа или брата, не зарезал в объятиях неверной любовницы ни одного соперника. С Жавоттой или Нанеттой он легко находил утешение после измены Дианы или Бланки. Поэтому, несмотря на его склонность к пасторальным и рыцарским романам, женщины считали, что у него рыбья кровь и недалекий ум. Тем легче ему было сносить женскую неверность — он ее просто не замечал. Он знал, что красив, добр и храбр. Его любовные приключения были непродолжительны, но многочисленны. И, честно говоря, он любил понемногу каждую из красавиц, не питая страсти ни к одной из них. Сердце его было более склонно к дружбе, чем к страсти. Он был счастлив, не терзаясь стремлением вызвать страсть. Его считали бы эгоистом, если бы это обвинение хоть как-то вязалось с упреками в чрезмерной доброте и гуманности. В какой-то степени он был карикатурой на славного Генриха, которого многие называли предателем и бесчестным, но, сойдясь с ним поближе, проникались к нему любовью. Но время летит, и это тоже, как неверность любовниц, мессир де Буа-Доре не соизволил замечать. Его легкое тело утратило былую гибкость, благородный лоб лишился волос, вокруг глаз, как лучи вокруг солнца, пробежали морщины, из всей своей юной красоты он сохранил лишь зубы, немного длинноватые, но все еще белые и ровные. Он до сих пор мог колоть зубами поданные на десерт орехи и нередко таким образом привлекал к себе внимание общества. Соседи говорили даже, что он бывал расстроен, когда, принимая его, забывали поставить орехи на стол. Говоря, что господин де Буа-Доре не снисходил до того, чтобы заметить причиненный ему временем урон, мы имеем в виду, что он все еще был собою доволен. Он, конечно, понимал, что старится, и упорно боролся с разрушительным временем, тратя большую часть своих жизненных сил на эту битву. Заметив, что волосы стали седеть и редеть, он отправился в Париж, чтобы заказать парик у лучшего мастера. Изготовление париков к тому времени превратилось в настоящее искусство. Но знатоки старины сообщили нам, что щеголю, желавшему видеть на своей голове пробор из белого шелка и по одному приклеенные к парику волосы, приходилось выложить за подобный парик не менее шестидесяти пистолей. Господина де Буа-Доре не могла остановить такая безделица, он разбогател и тратил двенадцать — пятнадцать экю на будничную одежду и пять-шесть тысяч на праздничную. Он отправился выбрать себе парик. Сперва ему понравилась русая грива, которая, по словам мастера, как нельзя лучше ему подходила. Буа-Доре никогда не был блондином и уже почти поддался уговорам мастера, когда ему пришло в голову померить парик с шатеновыми волосами, который, опять же по словам продавца, смотрелся на нем просто великолепно. Оба парика стоили одинаково. Но Буа-Доре померил все-таки третий, стоивший на десять экю дороже, и тот привел мастера в совершенный восторг: именно этот парик как нельзя лучше подчеркивал достоинства господина маркиза. Буа-Доре вспомнил, что в свое время дамы говорили ему, что редко встречаются столь черные волосы при столь белой коже. — Вероятно, мастер прав, — подумал он. Тем не менее он несколько минут с изумлением взирал на свое отражение, поскольку эта черная грива делала его лицо твердым и жестоким. — Удивительно, — воскликнул он, — как эта вещица меня изменила! А ведь это цвет моих собственных волос. Но в юности я выглядел добрым, как и сейчас, И черные волосы не придавали мне вид злого мальчишки. Ему не пришло в голову, что природа во всем стремится к гармонии, и когда она нас одаряет, и когда разоряет, и что к его нынешнему лицу лучше всего подходят седые волосы. Но продавец так настойчиво убеждал его, что в этом парике он выгладит никак не старше, чем лет на тридцать, что маркиз не только купил этот парик, но заказал еще один такой же, по его словам, из экономии, чтобы поберечь первый. Тем не менее на следующий день он спохватился. Он пришел к выводу, что с волосами молодого человека стал выглядеть еще старше, и это подтвердили все, к кому он обратился за советом. Тогда мастер объяснил, что волосы должны соответствовать цвету бороды и бровей, и немедленно всучил ему черную краску. Но с подкрашенными бровями и бородой лицо маркиза стало казаться смертельно бледным, и поэтому потребовалось накладывать еще и румяна. — Получается, стоит ступить на этот путь, и остановиться невозможно? — Таков обычай, — ответил мастер. — Надо либо выглядеть, либо казаться, выбирайте. — Но разве я стар? — Нет, поскольку употребляя мои средства, вы выглядите молодым. С этого дня Буа-Доре начал носить парик, красить брови, усы и бороду, маскировать ароматическими пудрами каждую морщинку, душиться и рассовывать ароматические саше по всему телу. Когда он выходил из своей комнаты, это чувствовалось даже во дворе, а если он проходил мимо псарни, гончие еще целый час чихали и морщили носы. Завершив превращение величественного старика в старую балаганную марионетку, он, помимо того, решил испортить свою осанку, приказав зашить в камзол двойные стальные пластинки, благодаря которым он целый день держался неестественно прямо, а к вечеру еле добредал до кровати. Он бы свел себя этим в гроб, но, к счастью для него, мода изменилась. На смену жестким камзолам времен Генриха IV пришли широкие легкие плащи с широкими рукавами в стиле фаворитов Людовика XIII. Фоссебреи уступили место широким кюлотам, отражающим каждый наклон тела. Не без труда Буа-Доре примирился с этими нововведениями и расстался с несгибаемыми выпуклыми фрезами, зато он стал лучше себя чувствовать в легких ротондах. Он горько сожалел о позументах, но вскоре утешился бантами и кружевами. После очередной поездки в Париж он вернулся одетый по моде и переняв у придворных щеголей манеру с небрежной непринужденностью разваливаться в креслах, принимать утомленные позы, медленно, будто нехотя (со счетом на три), поднимаясь. Одним словом, учитывая его высокий рост и раскрашенное лицо, он представлял собой тип прошлого маркиза, какой тридцать лет спустя Мольер сочтет смешным и готовым для сатиры. Но все это помогало Буа-Доре скрыть реальный груз своих лет за маской, превращавшей его в комическое привидение. Сперва вид маркиза почти ужаснул д'Альвимара. Ему было дико смотреть на изобилие черных локонов над изборожденным морщинами лицом, на злобные черные брови над добрыми глазами, на яркие румяна, все это казалось безумной маской, одетой на благородное и благожелательное лицо. Что до костюма, его изысканность, обилие галунов, вышивок, бантов, розеток, плюмажей среди бела дня в деревне казались совсем неуместными. Весь костюм был выдержан в нежных палевых тонах, которые маркиз обожал. К сожалению, эти цвета никак не гармонировали с львиным видом его щетинистых усов и париком. Но прием, оказанный ему престарелым маркизом, быстро разрушил первое отталкивающее впечатление, произведенное этим маскарадом. Господин де Бевр поднялся, чтобы представить друга Гийома маркизу и напомнить, что именно ему выпала честь несколько дней принимать у себя высокого гостя. — Я оспаривал бы у вас это удовольствие и счастье, — сказал господин де Бевр, — если бы находился в собственном доме. Но мне нельзя забывать, что я нахожусь у своей дочери. К тому же этот дом менее богат и красив, чем ваш, мой дорогой Сильвен, поэтому мы не хотим лишать господина де Виллареаля приятного времяпрепровождения, которое ожидает его у вас. — Я принимаю вашу гиперболу, — ответил Буа-Доре, — если благодаря ей я буду иметь счастье принимать под своей крышей дорогого гостя. Распахнув руки, он обнял так называемого Виллареаля, в доброй улыбке обнажив свои красивые зубы: — Будь вы самим дьяволом, месье, с того момента, как вы стали моим гостем, вы для меня, как брат. Маркиз специально не сказал «как сын». Он боялся таким образом раскрыть свой истинный возраст. С тех пор, как сам он перестал вести счет годам, он полагал, что и остальные следуют его примеру. Виллареаль д'Альвимар прекрасно обошелся бы без того, чтобы обниматься со столь недавно обращенным католиком, тем более, что духи, которыми маркиз был буквально пропитан, отбили у него аппетит, а маркиз, разжав объятия, крепко сжал ему руку своими сухими пальцами, унизанными огромными кольцами. Но д'Альвимар должен был прежде всего заботиться о собственной безопасности, а по сердечному и решительному тону господина Сильвена он понял, что попал в дружеские и надежные руки. Он выразил признательность за оказанное ему двойное гостеприимство. Судя по всему, это был один из его удачных дней, и, вставая из-за стола, оба провинциальных дворянина были им совершенно очарованы. Д'Альвимар был бы не прочь теперь немного отдохнуть, но владелец замка предложил ему партию в шахматы, затем втроем с Буа-Доре они сыграли в биллиард, и маркиз дал себя обыграть. Д'Альвимар любил игры, к тому же выигрыш в несколько золотых экю был ему далеко не безразличен. Несколько часов они провели втроем, но принятые при играх беседы не давали им возможности познакомиться ближе. Госпожа де Бевр, покинувшая их сразу после обеда, вернулась к четырем часам, заметив в окно, что во внутреннем дворе начались приготовления к отъезду гостей. Она предложила перед расставанием совершить всем вместе небольшую прогулку.Глава шестая
Стоял конец октября, но было еще ясно и тепло, до сих пор продолжалось бабье лето. Обнаженные деревья выделялись на фоне красного солнца, садящегося за черные кусты у горизонта. Гуляющие шагали по ковру из сухих листьев, по самшитовым и буковым аллеям. Когда они шли вдоль рвов, вслед за ними плыли красивые карпы, привыкшие получать от Лорианы хлебные крошки. Маленький ручной волк следовал за ними, как собака, но порабощенный и запуганный крупным спаниелем, любимцем господина де Бевра, молодым и дурашливым, который вовсе не питал отвращения к столь подозрительному спутнику, катал его по земле и покусывал с замечательной грубостью ребенка из хорошей семьи, соизволившего поиграть с простолюдином. Д'Альвимар собирался подать руку прекрасной Лориане, но заметил, что маркиз приближается к ней с теми же намерениями. Но галантный маркиз тоже отступил: — Это ваше право, — сказал он. — Такой гость, как вы, имеет преимущество перед остальными друзьями. Но вы должны оценить, на сколь великую жертву я иду ради вас. — Я высоко ценю вашу жертву, — ответил д'Альвимар, на руку которого Лориана положила свою маленькую ручку. — Вы ко мне вообще очень добры, но этот поступок, я полагаю, непревзойден. — Я с удовольствием замечаю, — продолжал Буа-Доре, шагая слева от мадам де Бевр, — что вы понимаете французскую галантность, как наш покойный король, блаженной памяти Генрих IV. — Надеюсь, что даже лучше, с вашего позволения. — О, это не так легко! — Мы, испанцы, понимаем это по крайней мере иначе. Мы полагаем, что верная преданность женщине предпочтительнее галантности ко всем. — О, мой дорогой граф… Вы ведь граф, не правда ли? Или герцог?.. Извините, вы же испанский гранд, я знаю, я вижу… Так вы увлекаетесь совершенной верностью, как в романе? На свете нет ничего более прекрасного, мой дорогой гость, даю слово! В это время господин де Бевр отозвал Буа-Доре в сторону, чтобы показать ему какое-то недавно посаженное дерево. Д'Альвимар воспользовался минутой, чтобы спросить у Лорианы, не потешается ли над ним господин де Буа-Доре. — Нисколько, — ответила она. — Знайте, что излюбленным чтением господина де Буа-Доре является роман «Астрея» д'Юрфе[273], он знает его почти наизусть. — Но как мог сочетаться вкус к возвышенной страсти с нравами предыдущего двора? — Все вполне понятно. Когда наш друг был молод, он, как говорят, любил всех женщин. Старея, его сердце остыло, но он хочет скрыть это, как пытается скрывать свои морщины, поэтому делает вид, что к добродетели возвышенных чувств его склонил пример героев «Астреи». То есть, чтобы объяснить окружающим, почему он не ухаживает ни за одной красавицей, он гордится верностью одной-единственной, имени которой не называет, которую никто никогда не видел и не увидит по той простой причине, что она существует лишь в его воображении. — Возможно ли, чтобы в его лета он еще полагал для себя необходимым прикидываться влюбленным? — Очевидно, поскольку он хочет казаться молодым. Если он признает, что стал равнодушен к женщинам, чего ради он стал бы румянить лицо и носить парик? — То есть, вы полагаете, что невозможно, будучи молодым, не быть влюбленным в женщину? — Я ничего об этом не знаю, — живо возразила мадам де Бевр. — У меня совершенно нет опыта, и я не знаю сердца мужчин. Но мне случалось слышать, что дело обстоит именно так, а господин де Буа-Доре, тот просто в этом убежден. А каково ваше мнение, мессир? — Я полагаю, — сказал д'Альвимар, желая узнать мнение молодой дамы, — что можно жить долго старой любовью в ожидании новой любви. Ничего не ответив, она устремила взор красивых голубых глаз в небо. — О чем вы думаете? — спросил он с несколько излишне нежной фамильярностью. Казалось, Лориану удивил этот нескромный вопрос. Глядя ему прямо в лицо, будто спрашивая: «А вам что за дело до этого?», на словах она не проявила резкости и мягко, с улыбкой ответила: — Ни о чем. — Так не бывает, — возразил д'Альвимар, — люди всегда думают о чем-то или о ком-то. — Иногда думают мимоходом, настолько смутно, что секунду спустя уже не помнят, о чем думали. Лориана сказала неправду. Она думала о Шарлотте д'Альбре, и мы расскажем вам, о чем она замечталась. Перед ней будто предстала несчастная принцесса и ответила ей на вопрос, заданный д'Альвимаром. Вот ее ответ: «Иногда молодая девушка, которая никогда не любила, легко соглашается на любовь, потому что ей не терпится полюбить, в результате она иногда попадает в руки негодяя, который ее терзает, мучает и покидает». Д'Альвимар, конечно же, не догадывался о видении, посетившем эту юную душу. Он полагал, что это кокетство, и игра ему понравилась, хотя его душа оставалась холодной, как мрамор. Он продолжал настаивать: — Могу поспорить, что вы подумали о настоящей любви, не о такой, что изображает господин до Буа-Доре, а о любви, которую вы могли бы если не испытать, то по крайней мере внушить галантному человеку. Он произнес эти банальные слова прочувствованно и растроганно, как он умел говорить подобные вещи. Лориана вздрогнула, вырвала свою руку, побледнела и отступила. — Что случилось? — воскликнул он, пытаясь вновь завладеть ее рукой. — Ничего, ничего. — Она изобразила подобие улыбки. — Я заметила в камышах ужа и испугалась. Сейчас позову отца, чтобы убил его. Она убежала, д'Альвимар остался на месте, раздвигая своей тросточкой камыши в поисках проклятой твари. Но там не обнаружилось ни одного животного, ни безобразного, ни прекрасного. Когда он начал искать взглядом госпожу де Бевр, то увидел, что она, покинув сад, уже вернулась во внутренний двор. — Вот чувствительная натура, — подумал он, глядя ей вслед, — возможно, конечно, ее напугала змея, но скорее ее так взволновали мои слова… Ах, почему королевы и принцессы, в руках которых высшие судьбы, не так простодушны, как деревенские дамочки! Пока его честолюбие тешилось смятением Лорианы, та поднялась в часовню Шарлотты д'Альбре, но не затем, чтобы там молиться. Она пришла в католическую часовню, чтобы убедиться в правоте своих подозрений, которые ее внезапно потрясли. В маленькой часовне хранился уже почерневший от времени портрет, который никогда никому не показывали, но хранили там, где нашли, из уважения к порядку, принятому здесь при жизни святой их семьи. Лориана видела этот портрет два раза в жизни. Впервые она заметила его случайно, когда пожилая женщина, поддерживавшая в часовне чистоту, стала вытирать пыль в шкафчике, закрывавшем портрет. Лориана была тогда совсем ребенком. Портрет напугал ее, хотя она не поняла, почему. Второй раз — недавно, когда отец, пересказывая ей полную легендарных подробностей историю бедной герцогини, сказал: — И все-таки наша святая родственница не ненавидела этого монстра. Быть может, она любила его до того, как узнала, какими чудовищными преступлениями он запятнан, а может, повинуясь христианскому милосердию, она считала своим долгом за него молиться; так или иначе она держала его портрет в этой часовне. Лориана поняла, чей портрет когда-то так напугал ее, и ей захотелось взглянуть на него еще раз. Она рассматривала его пристально и хладнокровно, обещая себе, что никогда не выйдет замуж за человека, хоть немного похожего на изверга с портрета. Несмотря на то, что она изучала портрет вполне спокойно, зловещий призрак еще некоторое время маячил у нее перед глазами, и, встречая жестокое лицо, она невольно сравнивала его с тем омерзительным типом на портрете. Но вскоре она об этом позабыла. Когда ей представили д'Альвимара, ей не пришло в голову сравнить его с портретом, даже в саду, подавая ему руку, весело с ним беседуя и глядя ему в лицо, она не ощутила ни малейшей тревоги. Почему же, когда он заговорил на эту тему, она вспомнила о Шарлотте д'Альбре? Но д'Альвимар настойчиво пытался проникнуть в ее мысли, говорил с ней почти о любви. По крайней мере в двух словах он сказал ей об этом больше, чем любой из окружавших ее друзей, молодых или старых, за всю ее жизнь. Удивленная такой дерзостью, она снова взглянула на него, и ее удивила коварная улыбка, промелькнувшая на его красивом лице. В тот же миг профиль на фоне красного неба исторг из ее груди крик ужаса. Молодой красавец, который заставил ее сердце биться сильней, был похож на Чезаре Борджа. Действительно ли сходство имело место или ей просто показалось, но стоять с ним рука об руку для нее было невозможно. Придумав повод для испуга, она убежала посмотреть на портрет, чтобы либо утвердиться в своих подозрениях, либо отказаться от них.Глава седьмая
День быстро угасал, и, поскольку уже начало темнеть, она зашла за свечой в свою комнату, расположенную во флигеле, связанном маленькой галереей с часовней, затем сразу же отправилась к шкафчику, в котором находился портрет. Открыв шкафчик, Лориана поставила свечу так, чтобы получше разглядеть лицо нечестивца. Портрет был очень хорош. Чезаре и Луиза Борджа были современниками Рафаэля и Микеланджело, так что при холодном изучении картина напоминала манеру раннего Рафаэля. Художник принадлежал к его школе. Кардинал-бандит был изображен в профиль, и глаза на портрете смотрели прямо. На лице герцога де Валентинуа не было ни синеватых пятен, ни отвратительных прыщей, о которых пишут некоторые историки, ни косых глаз, «сверкающих адским огнем, который был невыносим даже для его близких и друзей». Либо художник хотел ему польстить, либо портрет был написан в тот период жизни, когда порок и преступления еще не «сочились с его лица» и не обезобразили его. Он был бледен, чудовищно бледен и худ, острый и узкий нос, рот почти незаметен, настолько губы были тонки и бесцветны, острый подбородок, изящное лицо, довольно правильные черты, красные борода и усы. Длинные узкие глаза, казалось, погружены в блаженное размышление о каком-либо злодеянии, а невозмутимая улыбка на прозрачных губах будто говорила о дремотной мягкости, присущей удовлетворенной свирепости. Трудно было сказать, что именно производило ужасное впечатление: оно крылось во всем. Кровь стыла в жилах при виде этой бесстыдной и жестокой физиономии.[274] — Мне показалось! — сказала себе Лориана, вглядываясь в его черты. — Ни лоб, ни глаза, ни рот этого испанца вовсе не похожи на портрет. Сколько я ни смотрю, не нахожу ничего общего. Закрыв глаза, она попыталась представить лицо гостя. Она вспомнила его лицо: ему весьма шло выражение сдержанной и гордой меланхолии. Она вспомнила его профиль: жизнерадостный, даже немного насмешливый, он улыбался. Но стоило ей восстановить в памяти его улыбку, как перед ней возник профиль злодея Чезаре, и тут же оба отражения будто склеились и стали неразделимыми. Закрыв шкаф, она посмотрела на кафедру резного дерева, маленький алтарь и подушку черного бархата, истертую коленями святой Шарлотты за те часы, что она провела за молитвою. Лориана тоже встала на колени и принялась молиться, не раздумывая, где она, в церкви или в храме, протестантка она или католичка. Она молилась Богу слабых и обиженных, Богу Шарлотты д'Альбре и Жанны Французской. Успокоившись и заметив через окно, что лошади для отъезда гостей уже готовы, она спустилась в гостиную, чтобы попрощаться. Она нашла своего отца в сильном возбуждении. — Идите сюда, мадам, моя дорогая дочь, — сказал он, протягивая ей руку, чтобы усадить в кресло, которое поспешили ей подвинуть Буа-Доре и д'Альвимар. — Вы должны помирить нас. Когда мужчины остаются одни без женщин, они становятся мрачными, начинаются разговоры о политике, религии, а в подобных вопросах согласие невозможно. Добро пожаловать, моя кроткая голубица, и расскажите нам о ваших птичках, которых вы, вероятно, сейчас укладывали спать. Лориане пришлось признаться, что она совсем позабыла о своих горлицах. Чувствуя на себе ясный и пронзительный взгляд д'Альвимара, она еле осмелилась поднять на него глаза. Конечно же, он похож на Чезаре Борджа ничуть не больше, чем добрейший господин Сильвен. — Так вы опять поссорились с нашим соседом? — спросила она отца, поцеловав его и протягивая руку старому маркизу. — Не вижу в этом большой беды, поскольку вы сами говорите, что вам надо немного поспорить, чтобы лучше переваривать пищу. — Нет, черт побери! — возразил де Бевр. — Если бы я поспорил с ним, я бы в этом не каялся. Ведь это мой привычный грех. Но, поддавшись духу противоречия, я поспорил с господином де Виллареалем, а это противоречит всем законам гостеприимства и приличия. Помирите нас, дорогая дочь. Вы ведь хорошо меня знаете, так скажите ему, что хоть я старый и упрямый гугенот и спорщик, но я честен и по-прежнему к его услугам. Господин де Бевр преувеличивал. Он не был столь ревностным гугенотом, религиозные понятия в его голове вообще были чрезвычайно запутаны. Но у него были твердые политические убеждения, и он слышать не мог о некоторых противниках без того, чтобы не дать волю своей резкой откровенности. Он обиделся на д'Альвимара, который встал на защиту бывшего правителя Берри, герцога де Шатра, который случайно был помянут в разговоре. Лориана, которая была в курсе дела, мягко произнесла свой вердикт: — Я оправдываю вас обоих. Вас, господин мой отец, за то, что вы подумали, что ни в чем, кроме отваги и ума, господин де Шатр не заслуживает подражания. Вас, господин де Виллареаль, за то, что вы заступились за человека, которого больше нет и который не может сам себя защитить. — Прекрасное решение, — воскликнул Буа-Доре, — и давайте сменим тему разговора. — Конечно, довольно о тиранах, — не унимался старый дворянин, — довольно об этом фанатике. — Вы называете его фанатиком, — возразил д'Альвимар, который не умел уступать, — но я придерживаюсь другого мнения. Я хорошо знал его при дворе, и смею утверждать, что он скорее недостаточно любил истинную религию и видел в ней лишь средство подавления мятежа. — Верно, — подтвердил де Буа-Доре, который терпеть не мог споры и мечтал, чтобы все это поскорее окончилось. Но господин де Бевр ерзал на стуле, и было видно, что он не считает спор завершенным. — В конце концов, — добавил д'Альвимар, надеясь таким образом положить конец распре, — он ведь верно и преданно служил королю Генриху, памяти которого преданы все здесь присутствующие. — И неспроста, месье! — воскликнул господин де Бевр. — Неспроста, черт подери! Где еще найти столь мудрого и доброго короля? Но сколько времени наш взбесившийся лигер де Шатр сражался против него, сколько раз он его предавал? И сколько потребовалось денег, чтобы он, наконец, успокоился? Вы еще молоды, вы человек света. Вы видели в нем куртизана и хорошего рассказчика. Но мы, старые провинциалы, прекрасно знаем провинциальных тиранов! Пусть господин де Буа-Доре расскажет вам о лжи и предательстве, которыми ваш вояка прославился во время битвы при Сансере! — Увольте меня! — сказал Буа-Доре с явным неудовольствием. — Как я могу об этом помнить? — А чем вам не нравятся эти воспоминания? — взвился де Бевр, не обращая внимания на настроение друга. — Бы ведь тогда уже вышли из пеленок, я полагаю. — По крайней мере я был так молод, что ничего не помню, — настаивал маркиз. — Я-то помню, — воскликнул де Бевр, взбешенный отступничеством де Буа-Доре, — хотя я на десять лет младше вас и меня там не было. Тогда я был пажом храброго Конде, предка нынешнего, и смею вас заверить, что он был совсем другим человеком. — Послушайте, — вмешалась Лориана, решившая прибегнуть к хитрости, чтобы утихомирить отца и увести разговор в сторону от опасной темы, — наш маркиз должен признаться, что он присутствовал при осаде Сансера и храбро там сражался, а вспомнить об этом не хочет из скромности. — Вы прекрасно знаете, что меня там не было, поскольку я провел все это время здесь, с вами. — О, я имею в виду не последнюю осаду, которая продолжалась всего сутки, в мае прошлого года, это был лишь последний удар. Я говорю о великой, знаменитой осаде 1572 года. Буа-Доре панически боялся дат. Он закашлялся, суетливо задвигался, поправил свечу, которая и без того хорошо стояла. Но Лориана решила пожертвовать им ради всеобщего спокойствия, усыпав его цветами похвал. — Я знаю, что, хотя вы были чрезвычайно молоды, вы сражались, как лев. — Друзья мои действительно отличились в сражении, — ответил Буа-Доре, — а дело было жаркое! Но в мои лета при всем своем рвении я не мог быть хорошим воином. — Черт побери! Да вы лично захватили двоих пленных! — вскричал де Бевр, топая ногой. — Меня просто бесит, когда храбрец, военный человек, как вы, отказывается от своей доблести, лишь бы скрыть свои годы! Эти слова больно ранили господина Сильвена, лицо его опечалилось. Это был единственный способ, которым он давал понять друзьям свое неудовольствие. Лориана поняла, что зашла слишком далеко. — Нет, месье, — обратилась она к отцу, — позвольте вашей дочери сказать,что вы пошутили. Поскольку маркизу не исполнилось тогда и двадцати лет, его подвиг тем более замечателен. — Как! — воскликнул де Бевр. — Вам не было тогда и двадцати лет? Я внезапно стал старше вас? — Человеку столько лет, на сколько он выглядит, — сказала Лориана, — а стоит только посмотреть на маркиза… Она остановилась, будучи не в силах произнести столь откровенную ложь, даже чтобы его утешить. Но оказалось достаточно доброго намерения, Буа-Доре довольствовался малым. Он поблагодарил ее взглядом, лоб его разгладился, де Бевр засмеялся, д'Альвимар выразил восхищение умом Лорианы, и гроза прошла стороной.Глава восьмая
Мирная беседа текла еще некоторое время. Господин де Бевр попросил д'Альвимара не сердиться на его упрямство и послезавтра пожаловать вместе с маркизом к нему на обед, поскольку господин де Буа-Доре обедал в Ла-Мотт каждое воскресенье. Подали карету господина де Буа-Доре, представляющую собой тяжелую и просторную берлину[275], которую тянула четверка сильных и красивых лошадей, правда, слегка толстоватых. Эта достопочтенная колымага, проходившая как по пригодным для карет дорогам, так и по непригодным, была необычайно прочна. Пусть мягкость ее хода оставляла желать лучшего, в ней по крайней мере можно было быть уверенным, что не поломаешь себе кости в случае падения благодаря толстенной внутренней обивке. Под обивкой из шелковой узорчатой ткани слой шерсти и пакли достигал толщины шести дюймов, так что вы и ней чувствовали себя если не в удобстве, то наверняка в безопасности. К тому же она была красиво обита кожей при помощи позолоченных гвоздиков, образовывавших орнамент. По углам этой цитадели на колесах размещался целый арсенал, состоящий из пистолетов, шпаг и, конечно, такого запаса пороха и пуль, что, пожалуй, их хватило бы, чтобы выдержать настоящую осаду. Процессию открывали два конных слуги с факелами, еще двое следовали за каретой вместе со слугой д'Альвимара, ведшего на привязи его лошадь. Юный паж маркиза уселся на облучок рядом с кучером. Проезжая под отпускной решеткой Мотт-Сейи и по его подъемному мостику, громадное сооружение произвело сильный шум. Веселый лай сторожевых собак со двора еще долго вплетался в производимый кавалькадой грохот, который был слышен даже в поселке Шампийе, расположенном в доброй четверти лье от замка. Д'Альвимар счел своим долгом сказать маркизу несколько комплиментов относительно его роскошной и удобной кареты, какие еще редко встречаются в деревне, в этих краях она казалась просто чудом. — Я не ожидал, — сказал он, — найти в Берри те же удобства, что в большом городе. Я вижу, что вы ведете жизнь вельможи. Последнее выражение как нельзя более порадовало маркиза. Он был рядовым дворянином и не мог, несмотря на свой титул, именоваться вельможей. Его маркизатом была крохотная ферма в Бовуази, которая ему даже не принадлежала. Как-то в дни неудач Генрих Наварский из-за превратностей партизанской войны оказался с небольшой свитой на маленькой заброшенной ферме и вынужден был сделать там передышку. Ему грозила опасность остаться без обеда, но господин Сильвен, который в подобных ситуациях бывал необыкновенно находчивым, обнаружил в кустах забытых хозяевами и одичавших домашних птиц. Беарнец устроил на них охоту, а господин Сильвен взялся их приготовить. Этот неожиданный праздник привел короля Наварского в прекрасное состояние духа, и он подарил ферму своему спутнику, основав в этом месте маркизат, за то, что, по его словам, ферма не дала умереть с голоду королю. Буа-Доре владел этим поместьем, завоеванным без единого выстрела, лишь несколько часов, проведенных там с королем. На следующий день ферма оказалась в руках у противника. После заключения мира туда вернулись законные владельцы. Но Буа-Доре дорожил не ветхой лачугой, а своим титулом, поскольку король Франции впоследствии со смехом подтвердил обещание, данное королем Наварры. Это не было записано на бумаге, но, поскольку беррийский дворянин пользовался покровительством всемогущего монарха, к титулу привыкли, и скромный деревенский помещик был принят в королевском окружении как маркиз де Буа-Доре. Никто против этого не возражал, шутливость и терпимость короля создали если не закон, то по крайней мере прецедент, и сколько бы ни подтрунивали над маркизатом господина Сильвена Бурона дю Нуайе — таково было его настоящее имя, — он несмотря на любые насмешки, вел себя как человек, относящийся к высшей знати. В конце концов он заслужил свой титул честнее и носил его с большим достоинством, чем многие другие сподвижники короля. Д'Альвимар был не в курсе этой истории, поскольку невнимательно слушал рассказ Гийома д'Арса. Он не думал насмехаться над сановитостью господина де Буа-Доре, и привыкший к постоянным шуткам на эту тему маркиз был бесконечно ему признателен за его учтивость. Тем не менее он изо всех сил пытался казаться удальцом, чтобы сгладить неуместную историю с осадой Сансера. — Я держу эту карету лишь для того, чтобы предоставлять ее соседским дамам, когда у них возникает такая необходимость, — сказал он. — Что до меня, я предпочитаю ездить верхом. Это быстрей и шума меньше. — Получается, — ответил д'Альвимар, — вы приняли меня за даму, послав днем за каретой? Я очень смущен, и если бы я знал, что вы не боитесь вечерней прохлады, я умолял бы вас ничего не менять в ваших привычках. — Я полагаю, что после предпринятого вами путешествия не стоит в тот же день садиться в седло. А что касается холода, скажу вам откровенно, я большой лентяй и зачастую позволяю себе такие нежности, в которых мое здоровье вовсе не нуждается. Буа-Доре пытался увязать изнеженность молодых куртизанов с бодростью молодых деревенских дворян, что иногда бывало довольно сложно. Он был еще крепок, оставался прекрасным наездником и сохранял хорошее здоровье, если не считать ревматических болей, о которых никогда никому не рассказывал, и легкую глухоту, которую он также скрывал, объясняя недостатки слуха рассеянностью. — Считаю своим долгом, — продолжил он, — извиниться перед вами за невоспитанность моего друга де Бевра. Что может быть нелепей, чем религиозные споры, которые, к тому же, вышли из моды. Простите старику его упрямство. В глубине души де Бевра эти тонкости волнуют ничуть не больше, чем меня. Пристрастие к прошлому заставляет его иногда тревожить память мертвых, досаждая таким образом живым. Не понимаю, почему старость столь педантична в своих воспоминаниях, будто за долгие годы не повидала достаточно людей и вещей, чтобы философски глядеть на мир. Ах, расскажите мне лучше, мой дорогой гость, о людях Парижа, чтобы мы могли с изысканностью и умеренностью обсудить все предметы нашей беседы. Расскажите мне о дворце Рамбуйе, например! Вы, несомненно, бывали в голубом салоне Артенисы? Ответив, что бывал принят у маркизы, д'Альвимар не погрешил против истины. Его ум и ученость открыли перед ним двери модного Парнаса. Но он не мог стать своим человеком в этом святилище французской вежливости, поскольку слишком быстро обнаружилась его нетерпимость. К тому же литературные пасторали были не в его вкусе. Его снедало свойственное его времени честолюбие, так что пастораль, идеал отдыха и скромных развлечений, была ему ни к чему. Поэтому он почувствовал себя в плену усталости и сонливости, когда Буа-Доре, в полном восторге от того, что есть с кем поговорить, целыми страницами принялся пересказывать «Астрею». — Что может быть прекрасней, — восклицал он, — чем письмо пастушки к своему любовнику: «Я подозрительна и ревнива, меня трудно завоевать и легко потерять, легко обидеть и трудно утешить. Мои желания должны стать судьбой, мои мнения истиной, мои приказы непреложными законами». Вот это стиль! А как прекрасно обрисован характер! А продолжение, продолжение! Не правда ли, месье, в нем содержится вся мудрость, вся философия, вся мораль, которая только нужна человеку? Послушайте, что ответила Сильвия Галатее: «Невозможно сомневаться, что этот пастух влюблен, поскольку он столь честен». Вы понимаете, месье, всю глубину этого утверждения? Сильвия объясняет это сама: «Ничего на свете влюбленный так не желает, как быть любимым; чтобы быть любимым, надо стать приятным, а приятным человека делает то, что делает его честным». — Что? Что вы сказали? — встрепенулся д'Альвимар, разбуженный словами ученой пастушки, которые Буа-Доре вещал ему прямо в ухо, чтобы перекричать стук кареты по камням древней римской дороги, ведущей из Ля Шатра в Шато-Мейян. — Да, месье, и я готов защищать эту мысль хоть против всего света! — горячился маркиз, не заметивший, как вздрогнул его гость. — Сколько времени я впустую твержу об этом старому вздорному еретику в области чувств! — О ком вы? — переспросил ошарашенный д'Альвимар. — Я имею в виду своего соседа де Бевра. Даю слово, он прекрасный человек, но полагает, что можно найти понятие добродетели в теологических книгах, которые он не читает, поскольку ничего в них не понимает. Я же пытаюсь внушить ему, что оно содержится в поэтических произведениях, в приятных и благовоспитанных рассуждениях, из которых любой человек, как бы прост он ни был, может извлечь для себя пользу. Например, когда юный Луцида уступает безумной любви Олимпии… Тут д'Альвимар снова погрузился в дрему, на этот раз окончательно, а господин Буа-Доре продолжал декламировать до тех пор, пока карета и эскорт с тем же грохотом, как в ля Мотт, въехала на подвесной мост Брианта. Было уже совсем темно, и д'Альвимар смог осмотреть замок лишь изнутри. Он показался ему совсем маленьким. В наши дни любая из комнат замка показалась бы нам просторной, но по тогдашним понятиям они считались чрезвычайно маленькими. Часть дома, которую занимал маркиз, в 1594 году была разорена авантюристами и недавно отстроена заново. Это было квадратное помещение, примыкающее с одной стороны к весьма старой башне, а с другой к еще более древней постройке. Архитектурный комплекс вобрал в себя разнородные стили, но выглядел изящным и живописным. — Не удивляйтесь, что мой дом выглядит столь скромно, — сказал маркиз, поднимаясь впереди него по лестнице, пока его паж и экономка Беллинда освещали им путь, — это всего лишь охотничий дом, холостяцкая квартира. Если мне когда-нибудь придет в голову мысль о женитьбе, придется заняться строительством. Но до сих пор я об этом и не помышлял; надеюсь, что поскольку вы тоже холостяк, вы не будете чувствовать себя в этой хижине слишком неудобно.Глава девятая
На самом деле холостяцкая квартирка была обустроена, меблирована и украшена с роскошью, которую трудно было ожидать, глядя на маленькую и низкую, украшенную виньетками дверь и узкий вестибюль, где начиналась пинтовая лестница. Каменные плиты были устланы беррийскими шершавчиками (коврами местного производства), на деревянном полу лежали более дорогие ковры Обюссонской мануфактуры, а гостиную и спальню хозяина украшали дорогие персидские ковры. Окна были широкими и светлыми, двухдюймовой толщины ромбы из неподкрашенного стекла были украшены выпуклыми медальонами с цветными гербами. На обивке стен были изображены очаровательные хрупкие дамы и красивые маленькие кавалеры, в которых, благодаря пастушьим сумкам и посохам можно было признать пастушек и пастухов. В травке у их ног были вышиты имена главных героев «Астреи», прекрасные слова, сходящие с их уст, пересекались в воздухе с не менее прекрасными ответами. В салоне для гостей панно изображало несчастного Селадона, который, грациозно извиваясь, бросается в голубые воды Линьона, который уже заранее пошел кругами в ожидании его падения. За ним несравненная Астрея открыла шлюзы, дав волю своим слезам[276], обнаружив, что прибежала слишком поздно, чтобы остановить своего воздыхателя, хотя его висящие в воздухе ноги находились на уровне ее руки. Изображенное над этой патетической сценой дерево, более похожее на барана, чем бараны фантастических лугов, тянуло к потолку курчавые ветви. Но, чтобы не печалить сердце зрителя душераздирающей картиной гибели Селадона, художник на том же панно, совсем рядом, изобразил его уже лежащим на другом берегу, находящегося меж жизнью и смертью, но спасенного от верной гибели тремя прекрасными нимфами, густые волосы которых с вплетенными в них гирляндами жемчужин, волнами спускались на плечи. Из-под закатанных по локоть рукавов виднелся внутренний рукав, который сборочками шел до самой кисти, где его придерживали два жемчужных браслета. У каждой на боку был колчан со стрелами, а в руке лук из слоновой кости. Подобранные подолы их платьев обнажали высокие золоченые ботиночки до колен. За этими красавицами следовал маленький Мериль, сидевший в повозке в форме раковины, увенчанной зонтом от солнца, в которую были впряжены лошади, своими кроткими физиономиями и сгорбленными спинами более напоминавшие овец. На следующем панно спасенный и поддерживаемый этими милыми нимфами пастух был изображен в тот момент, когда отдает через рот всю выпитую им воду Линьона. Но этот процесс не мешает ему тем не менее говорить, и на фоне извергающейся из его рта струи написано: «Если я жив, то как возможно, что жестокость Астреи не заставила меня умереть?» Пока он произносит свой монолог, Сильвия обращается к Галатее: «В его манерах и его речах есть нечто более благородное, чем свойственно тем, кто носит звание пастуха». Над головой у них Купидон пускает в сердце Галатеи стрелу, размером больше, чем он сам, при этом из-за того, что дерево закрывает ему обзор, он целится ей в плечо. Но стрелы любви столь летучи! Что сказать о третьем панно, изображающем схватку златокудрого Филандра с ужасным Мором? Зажатый чудовищем со всех сторон, храбрец, не растерявшись, правой десницей всаживает железное острие своего пастушьего посоха меж глаз врага. На четвертом панно прекрасная Меландра в доспехах Рыцаря печального образа противостоит жестокому Липанду. Но кто не знаком с шедеврами этого прекрасного края ковроткачества, как сказал о нем один из наших поэтов, безумного и веселого края, в которых будто отражены наши детские фантазии и мечты о чудесах? Обивка в доме господина де Буа-Доре была весьма удачной, в том смысле, что с помощью отдельных групп фигур, рассеянных по пейзажу, удалось соединить все приключения воедино, так что хозяин имел удовольствие созерцать все сцены любимого произведения, прохаживаясь по комнате. Но рисунки были донельзя абсурдны, краски просто невообразимы, ничто лучше не могло характеризовать дурной, отвратительный, фальшивый вкус, который в то время соседствовал с великим и великолепным вкусом Рубенса и смелыми и правдивыми видами Жака Калло[277]. У каждой эпохи свои крайности, поэтому никогда не стоит сожалеть о времени, в котором живешь. Тем не менее следует признать, что в истории искусства некоторые периоды были более благоприятными, чем другие, и иногда вкус был столь чист и плодороден, что чувство прекрасного проникало во все детали обыденной жизни и во все слои общества. Во времена расцвета возрождения все имело характер элегантного изобретения, даже по малейшим обломкам той эпохи чувствуется, что подъем в общественной жизни благоприятствовал подъему воображения. Так происходит у всех — от высших интеллектов до простого ремесленника; и во дворцах, и в лачугах не существует ничего, что могло бы приучить глаз к виду безобразного или пошлого. В эпоху Людовика XIII все изменилось, и провинциалы начали предпочитать ковры и мебель современной работы, такие, как у господина де Буа-Доре, драгоценным образцам прошлого века, подобным тем, что были разбиты или сожжены рейтерами в замке его отца пятьдесят лет назад. Сам он считал себя человеком сведущем в искусстве, но ничуть не сожалел о старье, и если ему случалось встретить на дороге какого-нибудь бродячего мазилу, он излагал ему то, что наивно называл своими идеями в области мебели или украшений, и затем за большие деньги заказывал желаемое, поскольку ни перед чем не останавливался, чтобы потешить свой детский и странный вкус к роскоши. Таким образом, его замок кишел сервантами с секретом и ларцами-комодами с сюрпризом. Эти чудные ларцы представляли собой нечто вроде больших коробок с выдвижными ящиками, из которых при нажатии пружины появлялись сказочные дворцы с колоннами, инкрустированные крупными фальшивыми камнями, обитатели которых были вырезаны из ляпис-лазури, слоновой кости и яшмы. Другие ларцы, покрытые прозрачными раковинами на красном фоне, оттененные блестящей медью или украшенные резной слоновой костью, содержали какой-нибудь шедевр токарного искусства, в котором, благодаря его хитроумному устройству, хранили нежные записки, портреты, локоны, кольца, цветы и прочие любовные реликвии, бывшие в ходу у красавцев той эпохи. Де Буа-Доре уверял, что его шкатулки из красного дерева набиты такого рода сокровищами, но злые языки утверждали, что они совершенно пусты. Несмотря на все извращения вкуса господина де Буа-Доре, ему удалось превратить свой маленький замок в роскошное, теплое и уютное гнездо, которое встало ему значительно дороже, чем стоило на самом деле; приятно было бы увидеть его нетронутым среди маленьких замков края, ныне заброшенных, приходящих в упадок или сдаваемых внаем. Не будем дальше описывать занятную обстановку Брианта, это заняло бы у нас слишком много времени. Скажем только, что господин д'Альвимар почувствовал себя, как в лавке старьевщика, такое обилие безделушек располагалось на сервантах, горках, каминах, столах, что контрастировало с суровой простотой испанских дворцов, где прошли его юные годы. Среди всех этих фаянсовых и стеклянных изделий, флаконов, подсвечников, кувшинов, бомбоньерок, люстр, не считая золотых, серебряных, янтарных и агатовых кубков, стульев различной формы и размеров, обитых шелковой и бархатной тканью, украшенных бахромой, скамеек и шкафов резного дуба с большими металлическими замками, выделявшимися на красном фоне, сатиновых занавесок, на которых золотом были вышиты большие и маленькие букеты, с ламбрекенами из тонкого золота и т. д., и т. п.; подлинные произведения искусства и очаровательные изделия современной промышленности лежали вперемежку с многочисленными детскими безделушками и плодами неудачных опытов. В целом впечатление было сверкающим и приятным, хотя все это было слишком нагромождено и в помещении страшно было двигаться из опасения что-либо задеть или даже сломать. Когда д'Альвимар выражал маркизу де Буа-Доре свое удивление оттого, что нашел в отдаленных долинах Берри сей дворец феи Бабиолы[278], в комнате появилась экономка Беллинда. Со слугами она говорила зычным и ясным голосом, а к хозяину обратилась тихо и почтительно, чтобы сообщить, что ужин готов; паж широко открыл перед ними двери, выкрикнув установленную фразу, а часы с курантами по фландрской моде пробили ровно семь. Д'Альвимар, который так и не привык к принятому во Франции изобилию блюд, был удивлен, увидев на столе не только золотую и серебряную посуду, подсвечники, украшенные цветами из разноцветного стекла, но и такое количество блюд, что их хватило бы на добрую дюжину сильно проголодавшихся мужчин. — Ну что вы, это вовсе не ужин, — ответил ему Буа-Доре, к которому он обратился с упреком, что тот, вероятно, принял его за гурмана, — всего лишь скромная закуска при свечах. Если мэтр-повар не напился в мое отсутствие, вы убедитесь, что оригинальное блюдо способно расшевелить ленивый аппетит. Никогда за столом своих вельможных соотечественников д'Альвимару не случалось отведать столь восхитительного мяса, да и в лучших домах Парижа он вряд ли встречал вкуснее. Были поданы блюда умело и тонко, в соответствии с модой того времени приправленные: фаршированные перепела, суп из креветок, выпечка, марципаны, начиненные ароматизированными кремами нескольких видов, бисквиты с шафраном и гвоздикой, тонкие французские вина, причем старое иссуденское могло соперничать с лучшими сортами бургундского, а также нежные десертные вина из Греции и Испании. На то, чтобы попробовать все, ушло два часа. Господин де Буа-Доре говорил о винах и кухне, как безупречный хозяин, а мадемуазель Беллинда командовала слугами с неподражаемым умением и опытом. Молодой паж сопровождал первые две смены блюд игрой на теорбе[279]; так совпало, что с третьим блюдом появился и новый человек, чем-то встревоживший д'Альвимара.Глава десятая
На вид вновь пришедшему было лет сорок, здороваясь с ним, маркиз назвал его мэтром Жовленом. Ни слова не говоря, он уселся в углу на стул из позолоченной кожи, так, чтобы не мешать слугам разносить еду. Он принес с собой сумочку из красной саржи, которую поставил на колени, и с мягкой улыбкой взирал на сотрапезников. Его можно было назвать красивым, хотя черты лица были довольно вульгарны. У него был большой нос и толстые губы, маленький срезанный подбородок и низкий лоб. Несмотря на эти недостатки, стоило взглянуть на его красивые черные волосы, на его белые зубы, открывающиеся в печальной, но приветливой улыбке, на его черные глаза, светящиеся умом и добротой, как возникала потребность любить его и даже уважать. На нем был костюм мелкого буржуа, очень опрятный, из серо-голубого сукна, шерстяные чулки, длинный свободный плащ, отложной воротник с вырезом на груди, рукава, подвернутые на фламандский манер, и большая фетровая шляпа без перьев. Господин де Буа-Доре, вежливо поинтересовавшись его самочувствием, приказал подать ему кипрского вина, от которого тот жестом отказался, и больше не обращал на него внимания и занимался только своим гостем. Приличия того времени требовали, чтобы знатный человек не уделял много внимания людям низкого происхождения в присутствии себе равных, чтобы не оскорбить последних. Но от внимания д'Альвимара не укрылось, что они часто встречались взглядами и при каждом слове маркиза обменивались улыбками, будто маркиз хотел приобщить незнакомца ко всем своим мыслям, либо получить его одобрение, либо отвлечь от каких-то печальных мыслей. Конечно, это не должно было расстроить господина Скьярра. Но совесть его была не вполне чиста, и это честное и открытое лицо было не просто ему неприятно, оно смутило его и даже вызвало подозрения. Маркиз, правда, не задал ни единого вопроса, ни словом не помянул причины бегства испанца в Берри. Он говорил только о себе, выказав таким образом должную воспитанность, поскольку д'Альвимар оказался не расположен к каким бы то ни было откровениям, и хозяину удавалось вести беседу, не задавая ему никаких вопросов. — Вы видите, что у меня хороший дом, хорошая мебель, хорошие слуги, — говорил он, — все это так. Вот уже много лет, как я удалился от света, чтобы немного отдохнуть от тягот войны в ожидании событий. Скажу вам по секрету, после смерти великого короля Генриха я не люблю ни двор, ни город. Я не нытик и принимаю время таким, какое оно есть. Но в моей жизни было три больших горя: первое, когда умерла моя мать, второе, когда потерял младшего брата и третье, когда не стало моего великого и доброго короля. Причем три этих дорогих мне человека умерли не своей смертью. Король пал от руки убийцы, моя мать упала с лошади, а мой брат… Впрочем, все это слишком печальные истории, и я не хочу в первый же вечер, что вы проводите под моей крышей, рассказывать вам перед сном грустные вещи. Скажу только, что погрузило меня в лень и домоседство. После смерти моего короля Генриха я сказал себе: «Ты потерял все, что имел, теперь осталось потерять только себя и если ты не хочешь тоже погибнуть, тебе надо покинуть край смятений и интриг и отправиться лечить удрученную и усталую душу в родные места». Так что вы абсолютно правы, полагая, что я счастлив насколько возможно, поскольку я выбрал для себя участь, которую пожелал, и сохранил себя от всех противоречий. Но вы не ошибетесь, предположив, что кое-чего мне все-таки не хватает. У меня действительно есть все, чего только можно пожелать, но мне не хватает общения. Но не буду больше обременять вас моими печалями, я не из тех, кто уходит в них с головой, не желая утешиться или отвлечься от них. Не желаете ли попробовать лимонного желе, пока наш слух будет услаждать музыкант, более умелый, чем паж, которого вы сейчас слушали? Вы тоже послушайте, любезный друг, — обратился он к пажу, — вам это пойдет на пользу. Обращаясь к д'Альвимару, он послал тому, кого называл мэтром Жовленом, почтительный взгляд, напоминающий скорее просьбу, чем приказ. Человек, одетый в серое, расстегнул и отбросил назад широкий рукав, под которым был более узкий, цвета ржавчины. Затем он вынул из сумки волынку с коротким, украшенным виньетками посохом, в тех краях их называют сурделина, на которых исполняли камерную музыку. Этот инструмент, звучание которого столь мягко и нежно, сколь современные мюзеты[280] крикливы и шумны. Едва музыкант начал настраивать инструмент, он уже завладел не только вниманием, но и душой своих слушателей. В его руках сурделина пела будто человеческим голосом. Д'Альвимар знал толк в музыке, и красивые мелодии делали печаль его души менее горькой, чем обычно. Он с радостью отдался во власть этого облегчения, поскольку ему стало спокойней, когда он понял, что незнакомец умелый и безобидный музыкант, а не тайный шпион. Что до маркиза, он любил музыку и музыканта и каждый раз слушал своего мэтра-сурделиниста с благоговейным вниманием. Д'Альвимар в любезных выражениях высказал свое восхищение игрой. На этом ужин закончился, и он попросил разрешения удалиться. Маркиз тоже встал, сделал знак мэтру Жовлену его дождаться, а пажу принести светильник. Он захотел сам проводить гостя в приготовленную для него комнату. Затем он вернулся к столу, снял шляпу, что в те времена означало, что можно вести себя без церемоний, позже обычай изменился. Он налил себе нечто вроде пунша, который назывался кларет, смесь белого вина с медом, мускатом, шафраном, гвоздикой, и предложил мэтру Жовлену присесть рядом, на место д'Альвимара. — Ну что ж, мессир Клиндор, — обратился маркиз с добродушной улыбкой к юноше, которому, по своему обыкновению, дал прозвище из «Астреи», — идите ужинать с Беллиндой. Скажите ей, чтобы она о вас позаботилась, и оставьте нас. Постойте, — удержал он пажа, — что это за манера ходить, я давно обещал отучить вас от этой привычки. Я обратил внимание, что вы иногда шагаете, как вам кажется, по-военному, а на самом деле, как простолюдин. Не забывайте, что хотя вы и не дворянин, вы можете им стать и что добрый буржуа, служа знатному человеку, может затем получить фиеф[281] и взять его имя. Но чего ради я стану помогать вам облагородить ваше происхождение, если вы делаете все, чтобы опростить ваши манеры? Старайтесь держаться, как дворянин, месье, а не как мужлан. Держитесь с достоинством, постарайтесь, когда ходите, ставить ногу на всю ступню, а не ступать сперва на пятку, потом на носок, от этого ваша поступь напоминает лошадиную, а звук ваших шагов — стук копыт лошади, которая работает на мельнице. А теперь ступайте с миром, ешьте и крепко спите, а не то как бы не довелось вам изведать путчища[282]. Юный Клиндор, настоящее имя которого было Жан Фашо (его отец держал аптеку в Сен-Амане), выслушал напутствие своего сеньора с великим уважением, и, попрощавшись, удалился на цыпочках, как танцор, чтобы показать, что он не ставит ногу сперва на пятку, поскольку он вовсе ее так не ставил. Старый слуга, который всегда ложился спать последним, тоже ушел ужинать, и маркиз обратился к своему музыканту: — Итак, мой дорогой друг, снимайте вашу шляпу и, не опасаясь слуг, спокойно поешьте. Возьмите кусок этого пирога и ветчины, как всегда, когда мы остаемся наедине. Мэтр Жовлен поблагодарил его нечленораздельным мычанием и принялся за еду; маркиз тем временем неторопливо потягивал свой клерет, не столько из любви к напитку, сколько чтобы составить музыканту компанию, поскольку хотя этот старик и был во многом смешон, у него не было ни одного недостатка. Пока несчастный немой ел, хозяин вел с ним беседу, что было для немого большой отрадой, поскольку никто другой не брал на себя труд разговаривать с человеком, который не может ответить. Все привыкли обращаться с ним, как с глухонемым, и зная, что он не способен повторить услышанное, не стеснялись лгать или злословить в его присутствии. Лишь маркиз обращался с ним весьма почтительно из уважения к его благородному характеру, обширным знаниям и перенесенным невзгодам, которые мы вам кратко опишем. Люсилио Джиовеллино, уроженец Флоренции, был другом и учеником знаменитого и несчастного Джордано Бруно. Вскормленный высокой наукой и обширными идеями своего учителя, он помимо того проявил незаурядные способности к искусству, поэзии и языкам. Учтивый, красноречивый, владеющий даром убеждения, он успешно распространял смелые доктрины множественности миров. В тот день, когда Джордано был сожжен на костре, приняв смерть со спокойствием мученика, Джиовеллино был навечно изгнан из Италии. Это произошло в Риме за два года до описываемых нами событий. Под пыткой Джиовеллино отрекся от некоторых принципов Джордано. Несмотря на всю любовь к учителю, он отказался от некоторых из его заблуждений; поскольку удалось заставить его отречься лишь от половины его ереси, ему присудили половинное наказание — отрезали язык. Разоренный, изгнанный, сломленный пытками, Джиовеллино отправился скитаться по Франции, игрой на нежной волынке зарабатывая на кусок хлеба. Затем Провидение столкнуло его с маркизом, который поселил его у себя, выкармливал и лечил, и, что еще важнее, ценил и уважал. Люсилио письменно рассказал ему свою историю. Буа-Доре не был ни ученым, ни философом: сперва он просто принял участие в судьбе несчастного изгнанника, каким в свое время был сам, преследуемый католической нетерпимостью. Ему не понравился бы упрямый и непреклонный сектант, каких среди гугенотов было не меньше, чем среди их противников. Он имел смутное представление о хуле, возводимой на Джордано Бруно, и попросил объяснить его догмы. Джиовеллино писал быстро и с элегантной ясностью, которую великие умы начинали ценить, желая даже самое заурядное ввести в чистую науку. Маркиз скоро почувствовал вкус к этой письменной речи, когда ясно и без лишних отступлений описывалось главное. Постепенно он вдохновился и увлекся новыми определениями, которые избавили его от невыносимых противоречий. Он захотел ознакомиться с изложением идей Джордано и даже его предшественника Ванини. Люсилио смог их достать и, указывая на слабые или ложные места, привел его к тем единственным выводам: творение бесконечно, как и сам Творец, бесчисленные звезды заполняют бесконечное пространство Не для того, чтобы служить светильником или развлекать нашу маленькую планету, но являются очагами для универсальной жизни. Понять это совсем не сложно, и люди поняли это при первом же проблеске гения, появившемся у человечества. Но доктрины средневековой церкви уменьшали Господа и небо до размеров нашей маленькой планеты, так что маркиз подумал, что грезит, когда узнал (он утверждал, что именно так все всегда себе представлял), что существование настоящей вселенной не поэтическая химера.Глава одиннадцатая
— Итак, — воскликнул маркиз, пока его друг из скромности торопился закончить трапезу, хотя хозяин и просил его не спешить, — чем вы сегодня занимались, мой славный ученый? Да, понимаю, вы написали несколько прекрасных страниц. Берегите их, эти слова должны дойти до потомства, поскольку мрачные времена пройдут и канут в Лету. Но не забывайте прятать написанное в сервант с секретным замком, который я поставил в вашей комнате, если пишете не в моей комнате. Немой жестами объяснил, что работал в кабинете маркиза, и что убрал написанное в ящик из красного дерева, где маркиз хранил все его записи. Он легко объяснялся с хозяином жестами. — Тем лучше, — одобрил Буа-Доре, — там они в еще большей безопасности, поскольку туда никогда не заходит ни одна женщина. Дело не в том, что я не доверяю Беллинде, но она, на мой взгляд, стала слишком набожной с тех пор, как монсеньор Буржский прислал нам нового приходского священника, который, боюсь, и в подметки не годится нашему старому другу, прежнему священнику, бывшему здесь при архиепископе мессире Жане де Боне. Ах, как жаль, что нам пришлось расстаться с нашим славным священником. Со своей длинной бородой, гигантским ростом, пузатый, как винная бочка, с аппетитом Гаргантюа, красивым лицом и широкими взглядами, он был одним из самых тонких и лучших людей королевства, хотя глядя на него можно было подумать, что это обыкновенный бонвиван. Если бы вы оказались здесь в его время, мой дорогой друг, вам не пришлось бы прятаться в маленьком охотничьем домике, вам не надо было бы переиначивать ваше имя на французский лад, скрывать вашу ученость, выдавая себя за скромного волынщика, и убеждать окружающих, что вы изувечены гугенотами. Наш бравый прелат взял бы вас под свое покровительство и вы смогли бы издать ваши выдающиеся произведения в Бурже к вящей славе вашего имени и нашей провинции. Кстати, сегодня у моего соседа де Бевра я узнал еще кое-что о принце, отрекшемся от веры своих отцов и от друзей молодости. Он наводняет наши края иезуитами. Если бы несчастный Генрих вдруг ожил, он застал бы перемены занятными. Господин де Сюлли попал в немилость. Угрожая ему, Конде скупает его земли в Берри. Послушайте, он уже заполучил окружной суд и командование большой башней. Он становится королем нашей провинции, и, говорят, метит в короли Франции. Так что снаружи все плохо, можно чувствовать себя в безопасности лишь в наших маленьких крепостях, и то при условии, что соблюдаешь осторожность и терпеливо ожидаешь, пока все это кончится. Джиовеллино взял протянутую маркизом через стол руку и поцеловал ее с красноречивым выражением, заменявшим ему слово. В то же время взглядом и мимикой он дал понять, что счастлив находиться рядом с ним и не сожалеет о славе и мирском шуме, что он не забывает об осторожности из опасения повредить своему покровителю. — Что касается человека, которого я сюда привез и который сидел со мной за столом, — продолжал Буа-Доре, — знайте, что мне о нем ничего не известно, кроме того, что он друг мессира Гийома д'Арса, что ему грозит опасность и его надо спрятать, а в случае необходимости защитить. Но не кажется ли вам удивительным, что в течение всего дня он даже не попытался отозвать меня в сторону, чтобы рассказать о том, что его сюда привело, и даже когда мы остались наедине в моем замке, он все равно об этом не заговорил? Люсилио, всегда имевший под рукой бумагу и карандаш, написал: «Испанская гордость». — Да, — кивнул маркиз, прочтя эти слова еще до того, как они были написаны, если можно так выразиться, за два года он привык понимать слова друга еще по первым буквам, — я тоже сказал себе «кастильское высокомерие». Я знавал многих идальго, и помню, что они не считают недостаток доверия признаком невежливости. Так что мне придется проявить древнее гостеприимство — уважать все его тайны и оказывать ему прием, как старому другу, в честности которого не сомневаешься. Но это вовсе не обязывает меня оказывать ему доверие, в котором он мне отказывает. Именно поэтому в его присутствии я усадил вас в углу, как бедного музыканта. Приношу вам свои извинения за недостаток уважения и вежливости, поскольку на это меня толкает забота о вашей безопасности, равно как и за скромный наряд, в котором я заставляю вас ходить… Несчастный Джиовеллино, который в жизни лучше не был одет и накормлен и так нежно опекаем, прервал маркиза, сжав его ладони в своих, и Буа-Доре был до глубины души растроган, заметив, что слезы благодарности стекают по щекам и черным усам друга. — Вы слишком дорого мне за это платите, поскольку так любите меня! Я должен отблагодарить вас в свою очередь, рассказав вам о прекрасной Лориане. Но стоит ли пересказывать, что она сказала о вас? Не возгордитесь ли вы? Нет? Тогда слушайте. Сперва она спросила: «Как поживает ваш друид?» Я ответил, что друид, скорее, ее, чем мой, и напомнил ей, что Клемант в «Астрее» был ложным друидом и был так же влюблен, как все влюбленные в этой восхитительной истории. — Как же, — ответила она. — Если бы этот Клемант был бы так влюблен в меня, как вы хотите меня убедить, он сегодня приехал бы вместе с вами, а между тем он уже две недели носа к нам не кажет. Но, возможно, он, как герой «Астреи», вздрагивает, слыша мое имя, или он так вздыхает, что у него желудок вот-вот из живота вырвется? Я вам не верю и полагаю, что он, скорее, похож на непостоянного Иласа! Вы видите, что очаровательная Лориана продолжает насмехаться над «Астреей», над вами и надо мной. Но когда вечером я покидал ее, она сказала: — Я хочу, чтобы послезавтра вы приехали к нам вместе с друидом и его волынкой, или же я на вас обижусь, так и знайте. Несчастный друид выслушал рассказ Буа-Доре с улыбкой. Он умел шутить, вернее, понимать шутки других. Лориана была для него прелестным ребенком, он ей в отцы годился; но он был еще достаточно молод, чтобы помнить, как любил, и в глубине души он горько переживал свое одиночество. Вспомнив о прошлом, он подавил вздох и тут же начал наигрывать итальянскую мелодию, которую маркиз любил больше всего. Он вложил в игру столько страсти, музыка звучала так очаровательно, что Буа-Доре воскликнул, употребив почерпнутое в романе выражение: — Громы небесные, вам не нужен язык, чтобы говорить о любви. Если бы предмет вашей страсти находился здесь, только будучи глухой, она не смогла бы понять, что ваша душа обращается к ней. Но не покажите ли вы мне написанные сегодня строки чистой науки? Люсилио жестом показал, что устал, и маркиз, дружески обняв, отправил его спать. Джиовеллино часто чувствовал себя больше сентиментальным музыкантом, чем ученым философом. Это была восторженная и в то же время возвышенная натура. Господин де Буа-Доре поднялся в свои комнаты, расположенные над салоном. Он вполне отвечал за свои слова, сказав Джиовеллино, что ни одна женщина никогда не заходит в это святилище отдыха, часть которого составлял кабинет. Самые суровые меры были приняты даже против Беллинды. Старый Матьяс (прозванный Адамасом по тем же причинам, что Гийет Карка называлась Беллиндой, а Жан Фашо Клиндором) был единственным человеком, имевшим доступ к тайнам туалета маркиза, настолько тот был убежден, что его возраст можно определить лишь увидев, какое количество мазей и красок содержится в расставленных на столике бутылочках, баночках, флаконах и коробочках. Адамас, естественно, был один и готовил папильотки, пудры и ароматные мази, которые должны были поддерживать красоту маркиза, пока тот спит.Глава двенадцатая
Адамас был чистокровным гасконцем: доброе сердце, живой ум и неистощимое красноречие. Буа-Доре наивно называл его «мой старый слуга», хотя тот был моложе его на десять лет. Адамас, сопровождавший его в последних компаниях, повсюду следовал за ним, как тень, постоянно окружая его фимиамом вечного восхищения, тем более губительного для разума, поскольку шло от искренней любви к хозяину. Именно он убеждал маркиза, что тот еще молод и не может состариться, и что, выходя из его рук, он блестит, как цветная картинка из требника, затмевает собой всех ветреников и поражает всех красавиц. — Господин маркиз, — обратился к нему Адамас, вставая на колени, чтобы разуть своего престарелого идола, — я хочу рассказать вам необычную историю, произошедшую сегодня в ваших владениях. — Говори, друг мой, говори, раз тебе хочется, — ответил маркиз, который иногда позволял своему слуге говорить с ним довольно фамильярно, к тому же он был уже сонным и полагал, что невинная болтовня поможет ему заснуть. — Так знайте же, мой дорогой и любимый хозяин, — продолжил Адамас с гасконским акцентом, который мы не беремся здесь воспроизводить, — что сегодня часов в пять здесь появилась довольно странная женщина, одна из тех несчастных, которых мы так много встречали на берегу Средиземного моря и в наших южных провинциях. Вы понимаете, о ком я говорю: у этих женщин белая кожа, толстые губы, красивые глаза и волосы, черные, как… Как ваши! Он и не думал вкладывать в это сравнение хоть каплю насмешки, хотя именно в этот момент надевал черный парик хозяина на подставку из слоновой кости. — Ты имеешь в виду, — спросил Буа-Доре, ничуть не рассерженный этим сравнением, — египтянок, которые бродят по дорогам и показывают всякие фокусы? — Нет, месье, совсем не то. Она испанка и, даю слово, когда она не на людях, она поклоняется Магомету. — То есть она мавританка? — Вот именно, господин маркиз, она мавританка, и не знает ни слова по-французски. — Но ты немного говоришь по-испански? — Совсем немного, месье. Я уже позабыл почти все, что знал, но когда я с ней заговорил, я начат говорить так же свободно, как с вами. — Это вся твоя история? — О нет, месье, дайте мне время. Судя по всему, она из тех пятидесяти тысяч мавров, которые почти все погибли лет десять назад от голода и лишений, одни на галерах, которые должны были доставить их к берегам Африки, другие в Лангедоке и Провансе от нищеты и болезней. — Несчастные! — вздохнул Буа-Доре, — это один из самых мерзких поступков в мире. — Правда ли, месье, что Испания выслала миллион мавров, а до Туниса добралось лишь сто тысяч? — Не знаю, сколько точно, могу сказать одно, это была настоящая бойня, никто никогда не обращался с вьючной скотиной, как они с этими несчастными людьми. Ты знаешь, что наш Генрих хотел обратить их в кальвинизм; став французами, они спасли бы свою жизнь. — Я помню, месье, что католики Юга и слышать об этом не хотели, они говорили, что скорее перережут их всех до единого, чем пойдут на мессу с этими дьяволами. Кальвинисты проявили ту же нетерпимость,так что в ожидании момента, когда сможет что-нибудь для них сделать, наш добрый король оставил их в покое в Пиренеях. Но после его смерти королева-регентша решила избавить от них Испанию, тогда-то их и бросили в море. Некоторые, чтобы избежать сей злой участи, крестились, так поступила и эта женщина, хотя я подозреваю, что это только для вида. — Что из того, Адамас? Или ты думаешь, что великий творец солнца, луны и Млечного пути… — Что вы сказали? — переспросил Адамас, еще мало разбиравшийся в новом увлечении своего господина, которое его, скорее, несколько даже пугало. — Не знаю, что значит молочный голос[283]. — Я объясню тебе это в следующий раз, — зевнув, промолвил маркиз, совсем разомлевший у камина. — Заканчивай скорее свою историю. — Так вот, месье, — продолжил Адамас. — До прошлого года эта женщина жила в Пиренеях и пасла коз у бедных крестьян, поэтому она прекрасно говорит на каталонском диалекте, который хорошо понимают и по эту сторону гор. — Так вот почему ты смог общаться с ней по-испански, с твоим гасконским диалектом, который не сильно отличается от горского. — Как месье будет угодно, но только я вспомнил немало испанских слов, которые она поняла. Кроме того, с ней ребенок, он ей не сын, но она любит его, как козочка своего козленка, это красивый мальчик, умный не по годам и говорит по-французски, как вы или я. Эту мавританку зовут по-французски Мерседес… — Мерседес — испанское имя, — сообщил маркиз, залезая на высокую кровать с помощью Адамаса. — Я хотел сказать, что это христианское имя, — объяснил слуга. — Итак, полгода назад Мерседес пришло в голову отправиться к господину де Росни. Она слышала, что он сподвижник покойного короля, который хоть и попал в немилость, еще сохранил немалое влияние благодаря своему богатству и добродетели. И она отправилась в Пуату, где, как ей сказали, проживает господин де Сюлли. Не удивительно ли, месье, что бедная и неграмотная женщина пешком прошла пол-Франции с десятилетним ребенком, чтобы повидать столь значительную персону? — Так почему же она так поступила? — В этом соль всей истории! Как вы полагаете, в чем тут дело? — Трудно гадать. Быстро объясняй, а то уже поздно. — Объяснил бы, если б знал. Но я знаю об этом не больше, чем вы, и как я ни старайся, она мне ничего не сказала. — Тогда спокойной ночи. — Сейчас, месье, я прикрою огонь. Закрывая огонь, Адамас продолжал, чуть повысив голос, в надежде, что хозяин его услышит: — Эта женщина, месье, настолько таинственна, что я хотел бы, чтобы вы на нее взглянули. — Сейчас? — воскликнул разбуженный маркиз. — Ты шутишь, давно пора спать! — Несомненно. Но завтра утром? — Так она здесь? — Да, месье. Она попросила разрешения провести ночь под крышей. Я накормил ее ужином, зная, что месье не любит, когда неимущим отказывают в куске хлеба. Побеседовав с ней, я отправил ее спать на сене. — И напрасно, друг мой, напрасно: женщина всегда остается женщиной. И… я надеюсь, с ней не остались остальные нищие? Я не люблю шума в своем доме. — Я тоже, месье. Я поместил только ее с ребенком в подвале на сене, им там хорошо, уверяю вас. Похоже, несчастные не привыкли даже к таким удобствам. Между тем Мерседес настолько опрятна, насколько это возможно при такой бедности. К тому же она недурна собой. — Я надеюсь, что вы, Адамас, не злоупотребите ее положением? Гостеприимство свято! — Месье изволит шутить над бедным стариком! Это господину маркизу нужны принципы добродетели, а я в них, поверьте, вовсе не нуждаюсь, поскольку дьявол уже давно меня не искушает. К тому же она производит впечатление честной женщины и ни шагу не ступает без своего ребенка. Полагаю, что ей грозила большая опасность, чем понравиться мне: ведь она долго путешествовала с толпой цыган, которые проходили сегодня через наши края. Их было довольно много, одни египтяне, другие неизвестно кто, как обычно. Она сказала, что эти бродяги были к ней добры, так что верно, что нищие защищают себя друг от друга. Не зная дороги, она шла с ними, поскольку они сказали, что направляются в Пуату. Но сегодня она ушла от них, поскольку, по ее словам, у нее возникло дело в наших краях. И это самое удивительное, месье, поскольку она мне так и не сказала, почему так поступила. Что об этом думает месье? Буа-Доре ничего не ответил, он мирно спал, несмотря на шум, производимый Адамасом в некоторой степени нарочно, чтобы заставить хозяина слушать его историю. Заметив, что маркиз отправился в страну грез, старый слуга бережно укутал его одеялом, положил в висящий в изголовье сафьяновый кошель пару пистолетов, на столик справа от кровати рапиру без ножен и охотничий тесак, а также прекрасное издание с гравюрами его любимой «Астреи», поставил кубок сладкого вина с корицей, колокольчик, свечу, носовой платок тонкого голландского полотна, надушенный мускатом. Затем он зажег ночную лампу, задул крапчатые свечи, то есть покрытые разноцветными разводами, поставил у кровати домашние туфли из красного бархата, положил на стул халат из зеленой саржи с вышитыми шелком зелеными же узорами. Перед тем, как удалиться, верный Адамас еще постоял, глядя на своего хозяина, своего друга, своего полубога. Без краски маркиз выглядел красивым стариком, и спокойствие чистой совести придавало благородство лицу спящего. На фоне роскошной и мягкой кровати это старое лицо, резко очерченное и вечно воинственное даже в своей мягкости, со взъерошенными папильотками усами, в чепце из подбитой ватой тафты, обшитом кружевами таким образом, что чепец напоминал корону, при свете слабой лампы создавало странное впечатление смеси бурлескного и сурового. — Месье спит спокойно, но он забыл помолиться на ночь, — сказал себе Адамас. — Это моя вина, и я должен за него помолиться. Встав на колени, он весьма усердно помолился, затем ушел в свою комнату, отделенную от хозяйской спальни лишь тонкой перегородкой. Арсенал, размещенный Адамасом в изголовье маркиза, был, скорее, данью привычке или роскоши. Все вокруг маленького замка было спокойно, все в замке крепко спали.Глава тринадцатая
Первым в замке проснулся Скьярра д'Альвимар, который накануне, сраженный усталостью, заснул первым. Он не любил после пробуждения долго находиться в постели. Тщательно скрываемая им крайняя бедность приучила его обходиться без лакея. Сопровождавший его старый испанец вряд ли согласился бы выполнять иные обязанности помимо оруженосца. Правда, этот человек был предан д'Альвимару не менее, чем Адамас Буа-Доре, но их положение и характеры разительно отличались. Они почти не разговаривали между собой либо из нежелания, либо потому, что понимали друг друга с полуслова. К тому же слуга считал себя в некоторой степени равным своему господину, поскольку оба произошли из семей одинаково древних и чистых (по крайней мере, так они утверждали). Д'Альвимар родился и вырос на глазах Санчо де Корду, так звали старого оруженосца, в поселке, где тот из-за бедности вынужден был заняться выращиванием свиней. Молодой владелец замка, который был лишь немного богаче, принял его к себе на службу, отправляясь искать счастья в чужих краях. В кастильском поселке поговаривали, что Санчо любил госпожу Изабеллу, мать д'Альвимара, и даже, что он тоже был ей небезразличен. Это вполне объясняло привязанность этого мрачного и печального человека к высокомерному и холодному юноше, который обращался с ним если не как со слугой, то по крайней мере как с неумным подчиненным. Мечтательная жизнь Санчо проходила в уходе за лошадьми и заботе о том, чтобы оружие хозяина всегда блестело и было остро наточено. Остальное время он посвящал молитве, сну или мечтаниям, никогда не сближался с другими слугами, давая им понять, что они ему не ровня, ни с кем не дружил из-за своей вечной подозрительности, ел мало, вина не пил и никогда не смотрел собеседнику в глаза. Так что д'Альвимар, одевшись самостоятельно, вышел, чтобы изучить окрестности, хотя было еще раннее утро. Из замка открывался вид на пруд, откуда выходил ров, который, обогнув постройки, туда же и возвращался. Как мы уже сказали, замок представлял собой комплекс сооружений, относящихся к различным эпохам. Совсем новое, хрупкое белое здание, крытое шифером, что было признаком большой роскоши в краю, где обычно крыши были в лучшем случае из черепицы. Здание было увенчано двумя мансардами, тимпаны которых были украшены фестонами (украшенными по фронтонам гирляндами) и шариками[284]. Другая постройка, очень древняя, но хорошо отреставрированная, была крыта мереном[285] и по форме напоминала некоторые швейцарские шале. Здесь помещалась кухня, службы и комнаты для друзей. Это здание давало представление о расположении, принятом в былые тревожные времена. Двери на улицу не было, проникнуть туда можно было только из других зданий: окна выходили во двор, на стороне, обращенной к деревне, было лишь два отверстия, две маленьких квадратных норы, смотрящих со стрельчатого фронтона, как пара недоверчивых глаз с немого лица. Призматическая башня со стрельчатой дверью недурной работы, так называемая башня, крытая шифером, и увенчанная колоколенкой с макушкой и флюгером, устремленным высоко вверх. В этой башне находилась единственная на весь дворец лестница, через башню старое здание связывалось с новым. К этому массиву примыкали еще невысокие постройки для домашних слуг, выходившие на берег рва. В середине внутреннего двора стоял колодец. Он был со всех сторон закрыт замком, прудом, еще одним одноэтажным зданием, также с мансардами, украшенными шариками, где помещалась конюшня, свита, снаряжение для охоты и, наконец, въездной башней, менее большой и красивой, чем в Мотт-Сейи, зато поддерживаемой крепостной стеной, усыпанной бойницами с фальконетами[286] для обстрела подходов к мосту. Не очень мощная фортификация компенсировалась тем, что рвов было два: первый вокруг двора, глубокий и с проточной водой, второй вокруг заднего двора, был болотистым, зато окружен крепкими стенами. Между двух рядов укреплений, справа от моста, располагался довольно большой парк, обнесенный высокими стенами и окруженный хорошо ухоженным рвом. Слева — аллея для игры с шарами, псарня, фруктовый сад, ферма, луг с господской голубятней, помещением для охотничьих птиц, а также большой загон, простиравшийся до начала поселка, в котором почти все дома принадлежали маркизу. Поселок также был укреплен, и в некоторых местах основание стен относились, как говорили, ко временам Цезаря. Сравнивая небольшие размеры замка с богатой мебелью и привычкой хозяина к роскоши, д'Альвимар начал размышлять о причинах сего несоответствия. Поскольку он ни в коей мере не был склонен к доброжелательности, он предположил, что маркиз, судя по всему, скрывает свое богатство, при этом не из скупости, а, вероятней всего, из-за не совсем честного источника его состояния. И он не ошибался в предположениях. Как большинство дворян своего времени, маркиз сколотил состояние во время гражданской смуты, обогащаясь за счет разорения богатых аббатств, благодаря военным контрибуциям, то есть тому, что они получали по праву победителя, а также благодаря контрабанде солью. В ту эпоху грабеж был почти узаконен, свидетельство тому официальная жалоба господина Аркана на господина де Шатра, который сжег его замок «в нарушение всех правил войны, в то время как о разорении и повреждении мебели он даже не поминает». Что касается контрабанды соли, в начале XVII века трудно было найти в провинции дворянина, который бы считал ругательством слова дворян «фальшивосолонщик». Роскошь, в которой маркиз уже давно купался, благодаря его либеральности и бесконечному милосердию, была широко известна в окрестностях ля Шатра, но он благоразумно избегал того, чтобы обширным замком или слишком роскошным видом дома привлечь к себе внимание провинциальных властей. Он знал, что мелкие тираны, делящие между собой либо деньги, либо налоги Франции, легко бы нашли так называемый законный предлог, чтобы заставить его вернуть награбленное. Д'Альвимар обошел сады, комичное создание своего хозяина, которыми он гордился не меньше, чем своими военными подвигами. Они представляли собой подражание садам Изауры, описанным в «Астрее»: там были разбиты цветники и били фонтаны, аллеи чередовались с рощицами. Большой лес-лабиринт был представлен рощей-лабиринтом, где не были забыты ни «грядка» орешника, ни фонтан правды любви, ни Грот Дюмона и Фортуны, ни пещера старой Мандраги. Все это показалось д'Альвимару ребячеством. Навязчивая идея господина Буа-Доре была в те времена столь распространенной, что не казалась эксцентричной. При дворе Генриха IV «Астреей» зачитывались все, а в мелких германских княжествах принцы и принцессы давали своим детям звучные имена, которыми маркиз удостаивал свою челядь и домашних животных. Роман господина д'Юрфе был чрезвычайно популярен на протяжении двух столетий. Еще Жак-Жан Руссо был им очарован. Вспомним также, что накануне Террора известный гравер Моро помещал в свои композиции дам по имени Клорис и кавалеров по имени Хлас и Цидамас. Правда, тогда эти славные имена фигурировали в виньетках и в романсах, а новые пастушки назывались Коен или Кола. Была сделана небольшая уступка реальности: пастушья жизнь из героической превратилась в гривуазную. Желая составить представление и об окрестностях, д'Альвимар прошелся по поселку, насчитывавшему около сотни дворов, который буквально прятался в дыре. Так нередко бывало со старыми деревнями. Гордые и неприступные, на взгорье, они будто специально прятались в ложбины, чтобы не бросаться в глаза мародерам. Это было одно из самых красивых мест Берри. Ведущие туда гравиевые дорожки чисты и сухи в любое время года. Веселые ручейки создавали им естественную защиту, чем, вероятно, в свое время воспользовался Цезарь. Один из этих ручьев питал рвы замка, другой протекал за деревней, пересекая два небольших озера. Затем оба ручья вливались в протекающий неподалеку Эндр. Вместе со своими водами он несет их по узкой долине, пересеченной дорогами, где рощи чередуются с дикими на вид пустырями. В сей маленькой пустыне не стоит искать величия, зато она преисполнена очарования. По мере того, как поднимаешься к истокам Эндра, он становится все больше похож на обыкновенный ручей, изобилие диких цветов по его берегам просто поразительно[287]. Спокойный и чистый ручей размыл на своем пути все, что преграждало ему путь, образовав зеленые островки, поросшие деревьями. Растущие слишком скученно, чтобы стать величественными, они простирали над водой свои густые кроны. Земли вокруг поселка были плодородны. Великолепные орешники и высокие фруктовые деревья образовывали зеленую нишу. Большая часть этих земель принадлежала господину де Буа-Доре. Лучшие из них он сдавал в аренду, те, что похуже, — оставил себе в качестве охотничьих угодий. Изучив окрестности, уединенность которых и отсутствие крупных дорог вселили ему надежду, что здесь не произойдет нежелательных встреч, д'Альвимар вернулся в поселок, размышляя по пути, не зайти ли к приходскому священнику. Он запомнил слова, обращенные господином де Бевром к маркизу: — А как ваш новый священник? По-прежнему молится за Лигу? Слова эти разожгли интерес испанца. «Если этот священник ревностно служит благому делу, — подумал он, — мне стоит с ним подружиться. Ведь де Бевр гугенот, да и Буа-Доре с его терпимостью, тоже не лучше. Как знать, смогу ли я ужиться с подобными людьми?» Для начала он посетил церковь и был раздосадован ее неухоженностью и наготой, что свидетельствовало о бесхозяйственности предыдущего священника, а также о безразличии владельца замка к интересам храма и неусердии паствы. Буа-Доре, реальное или мнимое отречение которого от протестантства прошло без шума, не пожелал ознаменовать свое возвращение в лоно истинной церкви пожертвованиями деревенскому храму и подарками капеллану. Его вассалы, ненавидевшие гугенотов, без восторга встретили его окончательное возвращение в родной замок в 1610 году, но их настороженность быстро сменилась искренней привязанностью, поскольку вместо жестоко угнетавшего их правителя они получили добродушного и милосердного сеньора. Так что паства в Брианте не была слишком набожной. Когда крестьяне принялись оспаривать бог весть какую десятину у бог весть какой братии, архиепископ послал к ним весьма вышколенного пастыря не только для того, чтобы он внушал этим дурным людям благие принципы, но и чтобы проследить за настроениями сеньора. Набожный д'Альвимар, войдя в церковь, встал на колени и произнес несколько молитв, но почувствовав, что не очень настроен молиться от души, он вышел, чтобы поискать священника. Он увидел его на площади, беседующим с Беллиндой, так что у д'Альвимара было время к нему приглядеться. Это был довольно молодой человек с несколько желтушным, сладковатым и скрытным лицом. Возможно, заботы сего суетного мира занимали его не меньше, чем д'Альвимара. Заметив, что из церкви вышел элегантный и серьезный незнакомец, священник сразу же принялся гадать, кто бы это мог быть. Он уже знал, что вчера вечером в замок прибыл новый гость, поскольку главной его заботой было наблюдение за маркизом. Но что общего может быть у человека, о набожности которого свидетельствует то, как рано он явился в церковь, со столь сомнительным новообращенным, как Буа-Доре? Пытаясь разузнать об этом у экономки, священник обнаружил, что не может оглянуться без того, чтобы не встретиться с устремленным на него взглядом д'Альвимара. Тогда он отошел немного в сторонку, чтобы оказаться вне поля зрения незнакомца, как человек, который не хочет здороваться, пока не узнает, с кем имеет дело. Догадавшись об этом, д'Альвимар не последовал за ним, а остался поджидать его на маленьком кладбище, окружавшем церковь, решив поговорить с ним и завести дружбу. Так он стоял, размышляя о судьбе, теме, постоянно его занимающей, и вид разрозненных могил, казалось, раздражал его больше обычного. Д'Альвимар верил в Церковь, но не в истинного Бога. Церковь, была для него учреждением для поддержания дисциплины, а также ужаса, пыточным инструментом, который свирепый и неумолимый Бог использует, чтобы поддерживать свою власть. Если бы ему случилось дальше пойти по этому пути, он бы пришел к выводу, что милосердный Христос и сам был еретиком. Мысль о смерти была д'Альвимару ненавистна. Он боялся ада, и из-за дурных верований не мог согласовать свою жизнь со строгостью своих принципов. Он был горяч лишь в споре. Наедине с собой он обнаруживал, что сердце его сухо, а разум смущен мирским тщеславием. Напрасно он себя в этом упрекал. Мысль о наказании никогда не будет плодотворной, а страх и угрызения совести далеко не одно и то же. — Я умру! — говорил он себе, глядя на бугорки травы, которые подобно бороздам на поле, выросли над могилами безвестных людей. — Умру, возможно, без богатства и могущества, как эти ничтожные холопы, от которых не осталось даже имени на сгнивших деревянных крестах. Ни влияния, ни славы в этом мире! Ярость, разочарование, бесполезный труд, тщетные усилия… возможно, даже преступления… все это может случиться со мной на пороге вечности, и я так и не смогу послужить делу Церкви в этом мире, чтобы получить спасение в ином! Размышляя о своей судьбе, он пришел к выводу, что дьявол его сильно искушает. Он подумал, не стоит ли исповедоваться этому священнику, показавшемуся ему человеком умным, но потом решил, что не стоит доверять свои жгучие тайны незнакомому человеку. Погруженный в черную меланхолию, он заметил появление господина Пулена, лишь когда тот почтительно поздоровался. Они представились друг другу. С первых же слов оба поняли, что одинаково честолюбивы. Священник пригласил его к себе на обед. — Я смогу оказать вам лишь скромный прием, мой стол не так изобилен, как в замке. У меня нет слуг, прислуживающих на пирах. Так что скромность моего угощения позволит вам сохранить аппетит, чтобы отобедать затем у маркиза, о начале которого колокол возвестит часа через два-три, не раньше. В этих словах проскользнула едкая зависть к замку, которая не укрылась от испанца. Он охотно принял приглашение, надеясь узнать у священника все, чтобы решить, стоит ли опасаться гостеприимства маркиза или радоваться ему.Глава четырнадцатая
Для начала господин Пулен отозвался о владельце замка положительно. Очень добрый человек; у него прекрасные намерения; он много подает бедным, никто этого не отрицает; к сожалению, будучи недостаточно осведомленным, он раздаст милостыню направо-налево, не посоветовавшись с естественным посредником между замком и хижиной, то есть с приходским священником. Он слегка тронутый, сам по себе безобиден, но его позиция опасна из-за его богатства, примера рафинированной чувственности, легкости и небрежения к религии, который он подает своему окружению. К тому же у него проживает весьма подозрительная личность: волынщик, который, возможно, на самом деле вовсе не так нем, как кажется; может, он еретик или лжеученый, и занимается астрономией или даже астрологией! Старый Адамас тоже не лучше, мерзкий льстец и лицемер. А этот паж, нелепо выряженный в дворянина? Хотя, будучи буржуа, он не имеет права носить даже сатин, а по воскресеньям он имеет наглость являться на мессу в камчатой ткани! Вообще вся челядь никуда не годится. Со священником они в лучшем случае вежливы, о предупредительности и речи не идет. Его еще ни разу как следует не пригласили на обед, сказали только, что для него раз и навсегда поставлен прибор. Слишком уж бесцеремонное обращение! Даже удивительно видеть подобное у человека, который долго прожил при дворе. Правда, у Беарнца не очень-то обращали внимание на правила хорошего тона и нередко слишком баловали ничтожных людей. Так что во всем замке лишь Беллинда производит впечатление рассудительного человека. Д'Альвимар решил, что Пулен весьма умен, а подозрения к волынщику разгорелись в его сердце с новой силой. Но эти мелочи недолго занимали внимание испанца. Уверившись, что маркизу доверять не стоит, он перенесся мыслью в более высокие слои и захотел узнать, что представляют собой важные персоны этой провинции. Пулен был в курсе всех маленьких тайн Буржского правительства. Политику он понимал так же, как д'Альвимар: завладеть секретами частной жизни каждого, чтобы затем влиять на большие дела. Вскоре священник понял, что может говорить открыто. Он признался, что смертельно скучает в этом затерянном в беррийской глуши поселке, но, набравшись терпения, надеется, что близок тот день, когда господин де Буа-Доре или его сосед де Бевр предоставят повод для преследования, при этом господин Пулен предпочитал быть жертвой, а не нападающим. — Вы понимаете, лучше быть в обороне, чем на острие наступления. Наступая, никогда не чувствуешь себя уверенно. Вот если бы беррийские безбожники мне угрожали или даже причинили небольшое зло, я смог бы поднять достаточно шума, чтобы навсегда покинуть этот пустынный край. Не думайте, что я честолюбив. Я служитель Церкви, а чтобы принести ей пользу, приходится стремиться быть на виду. «Этот попик половчее меня, — подумал д'Альвимар, — он умеет ждать и умеет найти удобную позицию для нападения на врага. А я всегда был слишком агрессивным, это меня и погубило. Но никогда не поздно воспользоваться добрым советом, я часто буду приходить к нему посоветоваться». Создавалось впечатление, что этот человек занят лишь мелкими дрязгами своего прихода, и то затем, чтобы извлечь из этого выгоду для себя. Но он был значительно сильнее д'Альвимара, настолько, что через час он полностью разгадал его, несмотря на всю его недоверчивость, и если он узнал не все секреты жизни испанца, то по крайней мере его характер, разочарования, неудачи, желания и мечты. Исповедовав его таким образом, делая вид, что исповедуется сам, он повел разговор прямо к цели: — У вас больше шансов преуспеть, чем у меня, поскольку богатство делает могущественным. Священник не может добиться успеха теми же способами, что человек света. Он должен идти к цели медленно, рассчитывая лишь на свой ум и усердие. Он должен помнить, что богатство для него не цель, а средство. А вы можете разбогатеть уже завтра-послезавтра. Надо лишь жениться. — Я в это не верю! — воскликнул д'Альвимар. — В наш развращенный век женщины предпочитают покровительствовать своим любовникам, а не мужьям. — Я про это слышал, — возразил священник, — но я знаю против этого одно простое средство. — Вот это да! В таком случае вы обладатель великого секрета! — Очень простого и легкого при этом. Не надо целить высоко. Не стоит жениться на женщине из высшего света. Надо найти в провинции простую женщину с хорошим приданым. Вы понимаете? Надо тратить деньги при дворе, а жену туда не вывозить. — Как! Жениться на мещанке? — Среди дворянок есть богатые девушки, не менее скромные, чем мещанки. — Я с такими не знаком. — Ну как же, что далеко ходить за примерами… Как вам нравится молодая вдовушка из Мотт-Сейи? — По-моему, тут можно скорее говорить о достатке, чем о богатстве. — Вы судите поверхностно. В этих краях люди не привыкли к роскоши. За исключением чокнутого маркиза все дворяне-домоседы живут довольно скромно, но деньги имеют. Они обогатились благодаря контрабанде солью и ограблению монастырей. Если захотите, я докажу вам, что, заполучив доходы мадам де Бевр, вы сможете вести в Париже вполне достойный образ жизни. К тому же она в родстве с лучшими семьями Франции, и те не станут возражать против того, чтобы породниться со здравомыслящим испанцем. — Но разве она не гугенотка, как отец? — Вы ее обратите! По крайней мере, если вы не хотите воспользоваться ее кальвинизмом как предлогом, чтобы оставить ее доживать свой век в одиночестве. — Вы весьма дальновидны, господин священник! Но вы же собираетесь в один прекрасный день объявить войну этой семье… — Поскольку я не собираюсь семью разорять, эта война скорее окажет вам услугу. Только не подумайте, что я советую вам плохо с ней обращаться или бросить ее. Просто надо иметь достаточно свободы, чтобы отлучаться, когда этого требует ваше положение. Если она станет сварливой или строптивой, ее легко будет укротить, памятуя о ее ереси. Свобода совести, предоставленная этим людям, оговаривается рядом ограничений, которые они не всегда соблюдают. Они постоянно в наших руках, доказательство тому то, что она до сих пор не нашла нового мужа. В наших краях люди, уставшие от войны между замками, опасаются жениться во время непрекращающихся войн. Так что в данный момент у вас нет конкурентов, кроме, разве что, Гийома д'Арса, умеренного католика, завсегдатая Ла-Мотт. Но в Бурже его смогут завлечь в иные сети. Этого молодого зятька нетрудно отвлечь. И наконец, со вдовой, изнывающей от одиночества, такому человеку, как вы, грех не справиться. По вашей улыбке я вижу, что вы уверены в успехе. — Признаюсь, все, что вы говорите, верно, — ответил д'Альвимар, вспомнив волнение, которое молодая дама не смогла от него скрыть, но причину которого он истолковывал совершенно неверно. — Я думаю, стоит мне захотеть… — Надо захотеть… Подумайте об этом как следует, — произнес господин Пулен, поднимаясь. — Если вы решитесь, я напишу конфиденциальное письмо людям, которые многое могут. Он имел в виду иезуитов, которые уже поколебали твердость господина де Бевра, угрожая, что его дочь не сможет выйти замуж. Ценой этого замужества де Бевр мог купить для себя покой. Д'Альвимар, понявший все с полуслова, обещал священнику серьезно над этим подумать и дать ответ послезавтра, после визита к мадам де Бевр. Колокол в замке возвестил начало обеда. Попрощавшись со священником, сулившим ему золотые горы, д'Альвимар направился замку. После общения с деятельным и способным поддержать его умом священником, он чувствовал себя сильным и веселым, чего с ним не случалось уже давно. К нему возвращалась надежда. Бегство в Берри, убежище, найденное у врагов его веры, своеобразное одиночество, в котором он оказался, то есть все, что еще два часа назад виделось ему в мрачных красках, теперь казалось счастливым приключением. — Да, да, этот человек прав, — сказал себе д'Альвимар. — Эта женитьба меня спасет. Стоит мне только захотеть. Вскружив голову этой провинциалочке, я признаюсь ей, что попал при дворе в немилость, и она сочтет для себя честью меня в этом утешить. Придется некоторое время притворяться… ну что ж, постараюсь. Итак, вперед! Горизонт проясняется, и может, вскоре звезда моей судьбы выйдет из-за туч. Ведя с собой такую беседу, он поднял голову и заметил на мостике у двора ребенка мавританки, храбро сидящего на одной из лошадей из вчерашней каретной упряжки маркиза. Мерседес попросила у Адамаса позволения провести еще день в замке, и добрая душа разрешила ей это от имени хозяина, которому он непременно желал ее представить, когда тот будет свободен. Игравший во дворе ребенок понравился каретнику[288], и он уступил просьбам мальчика покатать его на Скилендре. Сам он сел на Пиманта (другую лошадь из упряжки) и, держа Скилендра за уздечку, повел коней к ручью на ежедневную процедуру мытья копыт. Д'Альвимар был потрясен, увидев лицо ребенка, еще вчера бросившегося под копыта его лошади, чтобы выклянчить подаяние, и увернувшегося от его хлыста, сегодня восседающим на монументальном боевом Скилендре и взирающим на него сверху вниз с невольным торжеством. Редко можно встретить более интересное и более трогательное лицо, чем у этого маленького бродяги. Он был очень красив, белокожее лицо, обожженное солнцем, казалось утонченным. Черты лица, возможно, были не безупречны, но черные бархатные глаза были столь выразительны, улыбка столь нежна, что были неотразимы для любого, чье сердце не закрыто для божественного очарования детства. Адамас инстинктивно поддался этой нежной силе, исходящей от малышка. Иногда эти суровые люди бывают так добры! Не о них ли мадам де Севиньи сказала, что встречаются «крестьянские души, прямее линий, и для которых любовь к добродетели так же естественна, как для лошади галоп»? Но д'Альвимар, не любивший простодушие, не любил и детей, а этот мальчик вызывал у него особое раздражение, хотя он не мог понять, почему. Он почувствовал холод и головокружение, как если бы, когда он спокойным и веселым возвращался в Бриант, ему на голову обрушилась опускная решетка. Несколько лет назад с ним начали приключаться эти внезапные головокружения, и он охотно относил их на счет встреченных им лиц. Он верил в таинственные влияния и, чтобы их избежать, по любому поводу внутренне проклинал людей, одаренных, на его взгляд, оккультной силой. — Чтоб эта лошадь тебе шею свернула! — прошептал он, делая двумя пальцами левой руки под полой плаща «рожки», чтобы уберечься от сглаза. Завидев мавританку, направляющуюся в его сторону, он повторил этот кабалистический жест. На секунду она остановилась и снова пристально на него посмотрела, что привело его в бешенство. — Чего вам от меня надо? — грубо спросил он, сделав шаг ей навстречу. Ничего не ответив, она поклонилась и побежала к ребенку, весьма встревоженная тем, что тот забрался на лошадь. Навстречу д'Альвимару вышел Буа-Доре в сопровождении Люсилио Джиовеллино. — Скорее за стол! — воскликнул маркиз. — Вы, наверно, умираете от голода. Беллинда очень расстроена, что, не заметив, как вы уходите утром, отпустила вас гулять голодным. Д'Альвимар почел за благо не рассказывать, что был у священника и ел у него. Он заговорил о печальной красоте природы и теплом ясном осеннем утре. — Да, — сказал Буа-Доре, — такая погода продержится еще несколько дней, поскольку солнце… Его прервал пронзительный вопль, донесшийся ото рва. Бросившись бежать настолько быстро, насколько только мог, чтобы узнать, что произошло, он встретился на мосту с д'Альвимаром и Люсилио; один из них обогнал его, другой механически за ним последовал. Они увидели, что мавританка мечется по берегу, протягивая руки к ребенку, сидящему на огромной лошади, вот-вот готовая броситься в воду с довольно крутого места.Глава пятнадцатая
Вот что произошло. Цыганенок, счастливый и гордый, что заполучил такую большую игрушку, ласково уговорил каретника дать ему подержать уздечку. Почувствовав, что оказался во власти слабой детской руки, а также подбадриваемый маленькими каблучками, барабанившими по его бокам, конь взял слишком вправо и, потеряв брод, поплыл. Каретник хотел прийти ему на помощь, но более осторожный, чем его товарищ, Пимант отказался сходить с привычного пути. Мальчик был в полном восторге от этого обстоятельства и только крепче вцепился в лошадиную гриву. Крики матери слегка отрезвили его, и он крикнул ей на языке, знакомом только Люсилио: — Не бойся, мать, я хорошо держусь. Но лошадь попала в течение речки, питавшей ров. Тяжелый и флегматичный Скилендр уже устал, раздутые ноздри свидетельствовали о его страхе и беспокойстве. Не сообразив, что можно повернуть назад, конь плыл прямо к пруду, и было вероятно, что он потратит последние силы на тщетные попытки преодолеть плотину. Опасность не была еще неминуемой, и Люсилио жестами пытался убедить мавританку не бросаться в воду. Не обращая внимания на его слова, она начала спускаться по зеленому склону. Маркиз, видя двух несчастных созданий в беде, принялся расстегивать плащ. Он бросился бы вплавь, ни с кем не посоветовавшись, так, что д'Альвимар даже не успел разгадать его намерения, но тут Люсилио прыгнул с моста в воду и быстро поплыл к ребенку. — Ах, добрый, храбрый Джиовеллино! — прошептал маркиз, от волнения позабыв французский вариант имени друга. Д'Альвимар тут же поместил нечаянно вырвавшееся имя в архивы своей памяти, которая никогда его не подводила. Пока маркиз спускался по откосу к мавританке, чтобы ее успокоить, испанец оставался на мосту, с интересом ожидая, чем все кончится. Это был не тот интерес, что испытывал бы любой добрый человек в подобных обстоятельствах, хотя д'Альвимар был весьма встревожен. Он вовсе не желал, чтобы этот немой утонул, да это было и маловероятно. Но он желал, чтобы погиб ребенок, что было возможно. Он не просил небеса оставить это несчастное создание, но и не пытался усмирить свой жестокий инстинкт. Против его воли ребенок казался ему воплощением странного, непреодолимого зла, внушая суеверный ужас. «Если то, что я испытываю, является знаком судьбы, — подумал он, — то в этот момент решается моя участь. Если ребенок погибнет — я спасен, если он спасется — я погиб». Ребенок был спасен. Догнав лошадь, Люсилио схватил маленького наездника за шиворот и выволок на берег к матери, которая, рыдая и крича, наблюдала за всеми перипетиями драмы. Затем он отправился за глуповатым Скилендром, упрямо пытавшимся преодолеть плотину, и взяв за уздечку, целым и невредимым доставил растерянному каретнику. На крик мавританки сбежался весь дом и все были растроганы, застав ее «всю в слезах» у ног Люсилио. Она что-то жарко говорила ему по-арабски и недоумевала, почему он не отвечает, ведь видно, что он ее понимает. Обняв Люсилио, маркиз тихо сказал ему: — Мой бедный друг! Побывав в руках палача, терзавшего вас до мозга костей, вы остались прекрасным пловцом. Бог, знающий, что вы живете на этом свете лишь для добра, пожелал являть через вас чудеса. А теперь скорее переоденьтесь, а вы, Адамас, высушите и обогрейте этого маленького чертенка, который, как я вижу, испугался не больше, чем если бы встал с постели. Я хочу, чтобы вы сразу после еды привели его ко мне вместе с матерью, так что позаботьтесь, чтобы они выглядели поопрятнее. А куда делся господин де Виллареаль? Так называемый Виллареаль вернулся в замок и один в своей комнате молился своему мстительному Богу, надеясь, что тот не слишком сурово покарает его за страстность, с которой он беспричинно желал смерти цыганенку. Мы называем малышка цыганенком, поскольку его так называли окружающие; но когда после еды маркиз де Буа-Доре явился в старый зал замка, который Адамас торжественно величал залом для аудиенций, а иногда залом суда, когда этот престарелый министр внутренних дел представил маркизу мавританку и ребенка, первое, что воскликнул маркиз после удивленной паузы, было: — Чем дольше я смотрю на этого мальчика, тем больше убеждаюсь, что он не египтянин и не мавр, а, скорее, чистокровный испанец, а может даже француз. На представлении присутствовали Адамас, д'Альвимар и Люсилио. Все внимательно слушали маркиза. — Вот видите, — продолжал Буа-Доре, наивно довольный своей проницательностью, отогнув ворот рубашки у ребенка, — лицо загорелое, впрочем, не сильней, чем у наших крестьян во время жатвы; а вот шея бела как снег, а руки и ноги маленькие, таких у свободных крестьян и крепостных не бывает. Ну что, шалун, не стесняйтесь и, поскольку вы знаете французский, отвечайте нам. Как вас величать? — Марио, — немедленно отозвался мальчик. — Марио? Это ведь итальянское имя! — Не знаю. — Откуда вы родом? — Полагаю, что я француз. — Где вы родились? — Не помню. — Охотно верю, — рассмеялся маркиз, — но спросите об этом у вашей матери. Повернувшись к мавританке, мальчик заговорил с ней. Он выглядел счастливым рядом с этим красивым господином, который отечески с ним беседовал, держа его между колен, и робко проводил пальчиком по шелковым одеждам сеньора и шелковистой шерстке украшенной бантами собачки. Но взглянув на мать, он будто прочел в ее взгляде важное предупреждение; мягко отстранившись от господина де Буа-Доре, он подошел к мавританке и молча опустил глаза. Маркиз продолжал задавать ему вопросы, мальчик хранил молчание, хотя, казалось, он нежным взглядом просит у него прощения за свою невоспитанность. — Я полагаю, друг Адамас, что ты сверх меры расхвалил мальчика, утверждая, что он хорошо говорит на нашем языке. Он, правда, произнес несколько слов совсем без акцента; но я полагаю, что этим его познания во французском и ограничиваются. Поскольку ты хорошо знаешь испанский, а я, признаюсь, не очень в нем силен, задай ему мои вопросы. — Ни к чему, господин маркиз, — возразил неунывающий Адамас, — я клянусь, что малыш говорит по-французски, как настоящий грамотей: просто он оробел перед вами, вот и все. — Да нет! — не согласился маркиз. — Это маленький лев, который ничего не боится. Он вышел из воды столь же спокойно, как зашел туда, и он видит, что мы добрые люди. Казалось, Марио понял Буа-Доре, его ласковые глаза будто говорили «да», в то время, как умные и настороженные глаза мавританки, обращенные на д'Альвимара, говорили ему «нет». — Ну ладно, — сказал маркиз, вновь подзывая к себе ребенка, — я хочу, чтобы мы стали добрыми друзьями. Я люблю детей, и этот мальчик мне нравится. Не правда ли, мэтр Жовлен, это лицо создано не для того, чтобы обманывать, и взгляд этого ребенка проникает прямо в сердце. В этом кроется какая-то тайна, и я хочу в нее проникнуть. Послушай, Марио, если ты скажешь мне правду, я подарю тебе… Что ты хочешь получить в подарок? Наивно непосредственный, как и положено в его годы, Марио бросился к Флориалю, красивой белой собачке, которая, когда маркиз садился, всегда залезала к нему на колени. Казалось, Марио готов на все, чтобы ее заполучить. Но взгляд мавританки снова заставил его сдержаться, и он поставил собачку обратно к великой радости маркиза, который уже подумывал, не слишком ли далеко он зашел. Печально покачав головой, ребенок жестом показал, что ничего не хочет. До этой минуты д'Альвимар хранил молчание; пока он замаливал перед Богом свой грех, совершенный у рва, через его память кратко, но точно прошли все обстоятельства его жизни. Не всплыло ничего, хоть косвенно связанного с этой женщиной и ребенком. Так что его чувство было лишь галлюцинацией, и он раскаивался, что не преодолел его сразу; к нему вернулось здравомыслие. За столом маркиз ни словом не помянул рассказ Адамаса о таинственном путешествии Мерседес. Он и сам накануне вечером слушал его вполуха, засыпая. Поэтому д'Альвимар смотрел на двух попрошаек со спокойным презрением, найдя разумное объяснение своему к ним отвращению. Он произнес: — Господин маркиз, если вы позволите мне удалиться, то, полагаю, с помощью небольшой подачки вы легко проникнете во все их тайны. Возможно, мальчик — христианин, украденный этой мавританкой, а уж в ее расе я ни капли не сомневаюсь. Между тем вы ошибаетесь, полагая, что цвет кожи является верным признаком. У мавров иногда рождаются дети белокожие, как мы с вами. Если вы хотите в чем-то удостовериться, надо поднять волосы, прикрывающие лоб, возможно, вы найдете там клеймо, сделанное каленым железом. — Как! — воскликнул маркиз с улыбкой, — неужели они так боятся святого крещения, что смывают воду огнем? — Это знак раба, — пояснил д'Альвимар. — Так велит испанский закон. На лбу у них выжигают S шляпку гвоздя, что на образном испанском языке означает Раб. — Да, — кивнул маркиз, — помню, это напоминает ребус. Мне этот обычай кажется отвратительным. Если малыш носит такой знак и является рабом вашей нации, я хочу его выкупить, чтобы на земле Франции он был свободным. Мерседес ни слова не поняла из их разговора. Она с тревогой следила, как д'Альвимар приближается к Марио, будто бы собираясь до него дотронуться. Но д'Альвимар ни за что на свете не стал бы марать обтянутую перчаткой руку прикосновением к мавру и ожидал, что маркиз сам приподнимет волосы надо лбом ребенка. Маркиз же этого делать не собирался из чувства деликатного сострадания к несчастной матери, угадывая ее тревогу. Марио понимал, о чем идет речь, но, будто зачарованный взглядом Мерседес, сохранял неподвижность и молчание. — Вот видите, —продолжал д'Альвимар, — он опустил голову, скрывая свой стыд. Я знаю эту публику, с меня довольно, так что оставляю вас в этой честной компании. Они, вне всякого сомнения, и рта при испанце не раскроют, а, судя по всему, они знают, кто я такой. Между этой низшей расой и нашей существует инстинктивная неприязнь. Они чуют нас, как дичь — приближения охотника. Я встретил эту женщину вчера на дороге и уверен, это она навела порчу на моего коня, поскольку сегодня он начал хромать. Будь я хозяином этого дома, эта нечисть и минуты не находилась бы под моей крышей!.. — Вы мой гость, — ответил Буа-Доре вежливо, но с достоинством и неожиданной для д'Альвимара твердостью, — в силу этого никто не станет оспаривать здесь ваше мнение, независимо от того, совпадает ли оно с моим. Если вам неприятно смотреть на этих несчастных, то, поскольку я не могу допустить, чтобы вы испытывали у меня в гостях какие бы то ни было неудобства, можно устроить все так, чтобы они не попадались вам на глаза. Но вы не можете потребовать, чтобы я выгнал ребенка и женщину. — Конечно, месье, — сказал д'Альвимар, вновь овладевший собой, — это означало бы злоупотребить вашей добротой; прошу прощения за мою несдержанность. Вы знаете, какое отвращение моя раса испытывает к этим неверным, но я должен был сдержаться. — Что вы имеете в виду? — не без раздражения спросил маркиз. — Вы нас за мусульман принимаете? — Видит Бог, нет, господин маркиз! Я имел в виду терпимость французской расы в целом, а поскольку вежливость велит подчиняться обычаям, принятым в стране, гостеприимством которой пользуешься, я обещаю вам держать себя в руках и без отвращения смотреть на любого, кого вы соизволите у себя принимать. — Вот и слава Богу! — произнес маркиз, протягивая ему руку. — Как вам понравится, если я предложу вам поохотиться на зайцев? — Это очень любезно, господин маркиз, — сказал д'Альвимар, — но не стоит утруждать себя: с вашего позволения я в ожидании обеда напишу несколько писем. Вставший, чтобы проводить его, маркиз с небрежной грацией вновь опустился в кресло и обратился к Люсилио: — Наш гость хорошо воспитанный кавалер, но излишне горяч, кроме того, водится за ним тот грех, что он слишком испанец. Эти возвышенные люди презирают все, что не является испанским. Но, мне кажется, они подрубили сук, на котором сидят, преследуя и уничтожая несчастных мавров. Когда-нибудь они локти себе будут кусать. Мавры были единственными, кто прилежно трудился и заботился о чистоте в этой стране. До того, как их столь жестоко начали преследовать, они были кроткими и добрыми. Так что если перед нами действительно осколок сей несчастной нации, столь великой в прошлом, прекратим этот разговор. Пожалеем несчастных! Один Бог на всех! Люсилио слушал маркиза с благоговейным вниманием, но это не помешало ему что-то писать. — Что вы делаете? — спросил Буа-Доре. Люсилио протянул ему лист бумаги, испещренный непонятными маркизу знаками, показавшимися ему полной тарабарщиной. — Это, — ответил немой при помощи карандаша, — перевод на арабский ваших прекрасных слов. Посмотрим, умеет ли ребенок читать, и понимает ли он этот язык. Взглянув на бумагу, Марио бросился к мавританке, которая, выслушав его с большим волнением, поцеловала написанные слова и встала перед маркизом на колени. Повернувшись к Джиовеллино, она произнесла по-арабски: — Человек сердца и добродетели, передай этому доброму человеку мои слова. Я не хотела при испанце говорить на своем языке. Я не хотела, чтобы ребенок произнес при нем хоть слово. Испанцы ненавидят нас, и где бы ни повстречали, стараются причинить нам зло. Между тем ребенок христианин, а не раб. Посмотри на мой лоб, на нем клеймо инквизиции, оно еще заметно, хотя и выжженно очень давно. Развязав пестрый платок, державший ее черные волосы, она обнажила лоб, на котором не было заметно никаких следов каленого железа. Но она ударила себя ладонью по лбу и вскоре на покрасневшей коже белым контуром выступил ужасный ребус. — Но, — продолжала она, убирая со лба пышные волосы Марио, — взгляни на этот чистый лоб. Если бы на нем было выжжено клеймо, след был бы еще заметен. Этот лоб крещен священником твоей религии, ребенок воспитан в вере своих отцов и знает язык своих предков. Пока мавританка говорила, Люсилио письменно переводил ее слова и маркиз постепенно их читал. — Попросите ее, — обратился он к немому, — рассказать ее историю. Скажите, что мы сочувствуем ее несчастьям и берем ее под свое покровительство. Люсилио не пришлось переводить слова де Буа-Доре. Марио, одинаково хорошо говоривший по-арабски, французски и каталонски, успел все пересказать своей приемной матери с удивительной точностью. Мы передадим продолжение разговора, как если бы все четверо говорили на одном языке и к Люсилио вернулся дар речи. Вот что сказала мавританка: — Дорогой Марио, скажи этому доброму сеньору, что я плохо говорю по-испански, а по-французски и того хуже. Я расскажу все его писателю, и он прочитает. Я дочь бедного каталонского фермера. В Каталонии последние мавры, уцелевшие после устроенной инквизицией бойни, жили еще спокойно, в надежде, что им позволят своим трудом зарабатывать на жизнь, потому что мы не принимали участия в войнах последнего времени, принесших столько несчастий нашим братьям в других провинциях Испании. Моего отца звали по-мавритански Йезид, а по-испански Хуан. Я при крещении окроплением получила имя Мерседес, а по-мавритански меня зовут Ссобия[289]. Сейчас мне тридцать лет. Когда мне было тринадцать, нам по секрету сообщили, что нас тоже ожидает изгнание и разорение. Еще до моего рождения ужасный король Филипп II издал ордоннанс, предписывающий всем маврам выучить кастильское наречие и никогда больше ни тайно, ни на людях не говорить, не писать и не читать по-мавритански. «Все контракты, заключенные на этом языке, будут признаны недействительными, все книги должны быть сожжены». Мы должны были отказаться от нашей одежды и носить христианское платье. «Мавританские женщины должны выходить на улицу без чадры, с открытым лицом». У нас не должно быть национальных праздников, танцев, песен. Мы должны отказаться от наших имен и фамилий и взять христианские имена. Ни женщины, ни мужчины не должны больше мыться, и ванны в наших домах должны быть разрушены. Была оскорблена чистота наших нравов и забота о чистоте тела. Мои родители с этим смирились. Когда они поняли, что это ничего не дает и что все равно их преследуют, чтобы заполучить их деньги, они решили накопить как можно больше золота и припрятать, чтобы, когда появится смертельная опасность, можно было убежать. Трудолюбием и терпением им удалось сколотить небольшое состояние. Они надеялись, что мне не придется ходить с сумой по миру, как многим другим, которых беда застала врасплох. Но мне было суждено просить подаяние, как и всем остальным. Несмотря на причиняемые нам унижения, мы были довольно счастливы. Наши испанские сеньоры нас не любили, но понимали, что во всей Испании лишь мы умеем и хотим обрабатывать землю, и просили своего короля пощадить нас. Когда мне исполнилось семнадцать лет, король Филипп III неожиданно издал указ против каталонских мавров. Мы были изгнаны из королевства, нам разрешили взять с собой лишь движимое имущество, которое можем унести в руках. Через три дня под страхом смертной казни нам было предписано покинуть наши дома и под конвоем отправиться к месту отплытия. Христианину, спрятавшему у себя мавра, грозили семилетние работы на галерах. Мы оказались разорены. Правда, отец и я взяли столько золота, сколько могли унести, и безропотно отправились в путь. Нас обещали отвезти в Африку, на родину наших предков. Тогда мы обратились к Богу наших отцов с просьбой принять своих верных детей. На корабле нам разрешили одеть наши старые одежды, которые сто лет хранились в сундуках, и петь песни на нашем языке, который мы никогда не забывали, поскольку, несмотря на все декреты, говорили между собой только на нем. Народу на корабле набилось, как сельдей в бочке Едва мы отплыли, с нас потребовали плату. У большинства не было с собой ни гроша. Тогда приказали, чтобы за неимущих заплатили богатые. Увидев, что тех, кто не может заплатить, бросают за борт, мой отец без колебаний заплатил за всех, кто был на нашем корабле. Убедившись, что у него ничего больше не осталось, его, как и остальных, бросили за борт. Мавританка на секунду прервалась. Глаза ее были сухи, но грудь тяжело вздымалась. — Презренные мерзавцы испанцы! Несчастные мавры! — прошептал маркиз. Но, поймав печальный взгляд Люсилио, добавил: — Увы! Франция поступила не лучше, а регентша обращалась с ними точно так же. Мерседес продолжала: — Оставшись одна на белом свете, без единого денье за душой, лишенная всего, что я любила, я хотела последовать за моим бедным отцом, но меня удержали. Я была красивой, и хозяин галеры хотел сделать меня своей рабыней. Но Бог ниспослал бурю, и все силы были брошены на борьбу со стихией. Многие корабли пошли на дно, и тысячи мавров погибли вместе со своими палачами. Нашу галеру прибило к французским берегам, она разбилась о скалы в месте, названия которого я не знаю. Меня выбросило на берег вместе со многими мертвыми и умирающими. Я была спасена. Не в силах идти дальше, мокрая и измученная, я поспешила укрыться в горах. Впервые за много дней и ночей мне удалось заснуть. Когда я проснулась, буря кончилась, было тепло, я была одна. Разбитый корабль дрейфовал у берега, песок был усеян мертвыми телами. Я была голодна, но еще могла идти. Я поспешила как можно дальше уйти от побережья, опасаясь повстречаться с испанцами. Я шла через горы, мне подавали хлеб и воду, иногда давали кров. Меня принимали плохо: мой наряд вызывал у крестьян недоверие. Как-то я встретила несколько моих соплеменниц, которые жили в деревне. Они дали мне одежду и посоветовали скрывать мою веру и национальность, потому что местные люди не любят чужеземцев, и особенно ненавидят мавров. Увы, похоже, их ненавидят везде. Позже я узнала, что, вместо того, чтобы принять добравшихся до берегов Африки мавров как братьев, берберы перерезали их или обратили в рабство еще худшее, чем у испанцев. Как я могла скрыть, что я мавританка? Я слишком плохо говорила на каталонском. Мне подавали милостыню, но стоило оказаться поблизости испанцу, как он говорил местным: — У вас тут мавританка. И меня отовсюду изгоняли. Я шла от долины к долине. Однажды на большой дороге, которая, как я потом узнала, вела в По, я повстречала женщину, еще более несчастную, чем я. Это была мать ребенка, которого вы видите, который стал мне, как сын… — Продолжайте, — кивнул маркиз. Но Мерседес замялась и, обращаясь к Люсилио, сказала: — Я могу рассказать историю родителей Марио лишь вам… Вы спасли его жизнь, вы кажетесь мне ангелом небесным. Если мне позволят остаться тут еще на несколько дней и я уверюсь, что Марио в безопасности, клянусь, я скажу вам все. Но я опасаюсь того испанца, которому этот старый сеньор протягивал руку, после того, как попенял за жестокость к нам. Я все видела своими глазами, господа всегда остаются господами, и бедные рабы не могут надеяться, что даже лучшие из них будут на их стороне, выступая против равных себе. — В таком деле не может быть равных! — воскликнул маркиз, когда Люсилио перевел ему эти слова. — Клянусь христианской верой и честью дворянина, что буду защищать слабого против всех. Мавританка ответила, что расскажет всю правду, но скроет некоторые ненужные подробности. — Я шла по дороге, ведущей в По, через безлюдное место в горах. Я спряталась, чтобы отдохнуть, поскольку боялась бандитов, которые всегда бывают на дорогах. Я заметила сначала мужчину. Женщина шла впереди. Набежали бандиты, убили и ограбили ее мужа, который шел сзади. Все произошло так быстро, что, когда женщина вернулась назад, посмотреть, почему муж ее не догоняет, она нашла его распростертым на дороге. При виде этого она упала без чувств, и я заметила, что она беременна. Я не знала, чем ей помочь и как утешить. Встав перед ней на колени, я молилась и плакала. В это время на дороге показался одетый в черное человек с серыми усами. Подъехав к нам, он спросил, почему я так плачу. Я указала на женщину, лежащую рядом с трупом ее мужа. Он обращался к ней на нескольких языках, потому что был очень учен, но вскоре убедился, что она не в состоянии ответить. Перенесенное ею потрясение ускорило роды. Мимо проходили пастухи со своими стадами. Он подозвал их. Увидев, что к ним обращается христианский священник, они поспешили исполнить его просьбу и перенесли женщину в свой дом, где она умерла час спустя после того, как произвела на свет Марио. Перед смертью она успела передать священнику обручальное кольцо, ничего не объяснив ему словами, но указывая на ребенка и на небо! Священник задержался у пастухов, чтобы похоронить несчастных, затем, полагая, что я рабыня той дамы, дал мне ребенка и приказал следовать за ним. Я не хотела его обманывать, узнав, какой он добрый и образованный. Я рассказала ему свою историю и как я случайно стала свидетелем убийства торговца. — Так это был бродячий торговец? — спросил маркиз. — Или переодетый дворянин, — ответила Мерседес. — Жена его прикрывала бедным плащом дворянское платье, и на нем тоже, когда обмывали его перед отпеванием, обнаружили под грубой одеждой рубашку тонкого полотна и шелковые штаны. У него были белые руки, кроме того, при нем нашли печать с дворянским гербом. — Покажите мне эту печать! — воскликнул взволнованный Буа-Доре. Мавританка покачала головой: — У меня ее нет. — Эта женщина нам не доверяет, — молвил маркиз, обращаясь к Люсилио, — но эта история интересует меня сильней, чем она может предположить. Как знать, вдруг… Дорогой друг, постарайтесь хотя бы поточнее узнать, когда произошло это несчастье. Люсилио знаками предложил маркизу спросить об этом у ребенка, тот ни секунды не колеблясь, ответил: — Я появился на свет через час после смерти моего отца и за четыре дня до убийства доброго короля Франции Генриха IV. Так мне сказал господин аббат Анжорран и приказал никогда об этом не забывать. Моя мать Мерседес разрешила это вам рассказать при условии, что об этом не будет известно испанцу. — Почему? — спросил Адамас. — Не знаю, — ответил мальчик. — Тогда, — обратился к нему маркиз, — попроси свою мать продолжать рассказ и будьте уверены, что мы, как и обещали, сохраним вашу тайну. Мавританка продолжала: — Добрый священник обзавелся козой, чтобы было молоко для ребенка, и взял нас с собой, сказав мне: — О религии мы поговорим позже. Вы несчастны и нуждаетесь в сострадании. Он жил довольно далеко от того места, в самом сердце гор. Он поселил нас в небольшом домике, сложенном из кусков мрамора, крышей которому служили какие-то большие и плоские камни. В доме я нашла только сено. Этот святой мог предложить нам лишь кров и слово Божье. Дом, в котором он жил сам, был ничуть не богаче нашей хижины. Не прошло и недели, ребенок был чист и ухожен, а дом обнесен оградой. Пастухи и крестьяне не испытывали ко мне ненависти, поскольку их священник сумел внушить им доброту и жалость. Я научила их приемам животноводства и земледелия, известным каждому мавру-крестьянину, но новым для них. Увидев, что я приношу пользу, они стали снабжать меня всем необходимым. Я была бы счастлива встрече с этим человеком мира и страной прощения, если бы могла забыть своего несчастного отца, родимый дом, друзей и близких, которых мне больше не суждено увидеть. Но я так привязалась к бедному сироте, что постепенно совершенно утешилась. Священник воспитывал Марио, учил его французскому и испанскому, а я учила его своему языку, чтобы рядом была хоть одна живая душа, с которой я могла бы поговорить. Только не думайте, что, обучая мальчика арабским молитвам, я хотела отвратить его от веры, внушаемой ему священником. Я не отвергаю вашего Бога. Нет, нет! Убедившись, как честен, добр, милосерден и учен этот человек, послушав, что он рассказывает о пророке Иссе[290] и Енгиле[291], чьи великолепные заповеди запрещают то же самое, что нам запрещает Коран, я поняла, что лучшая на свете религия именно та, которой он служит. Поскольку я была некрещеной, несмотря на окропление испанских священников (я руками закрыла голову, чтобы на нее не попало ни одной капли христианской воды), я согласилась, чтобы этот добродетельный человек окрестил меня еще раз и поклялась Аллаху никогда не отрицать в моем сердце веру в Иссу. Это наивное заявление весьма порадовало господина маркиза, который, несмотря на свои новые философские воззрения, был не более склонен к языческому идолопоклонству, приписываемому маврам, чем, скажем, Адамас. — Так что, — произнес он, гладя Марио по кудрявой голове, — мы имеем здесь дело не с диаволами, а с подобными нам существами. Громы небесные! Я очень доволен этим обстоятельством, поскольку судьба несчастной женщины и сироты глубоко меня трогает. Итак, любезный друг Марио, тебя воспитывал добрый и ученый кюре из Пиренеев! Да ты и сам маленький ученый! Я не могу обратиться к тебе на арабском, но если твоя мать разрешит тебе у меня остаться, я обещаю воспитать тебя, как дворянина. Марио не знал, что такое дворянство. Конечно, он был замечательно образован, учитывая, где и в какое время он воспитывался, но во всех прочих вопросах, связанных с религией, моралью и языками, был настоящим дикарем и не имел ни малейшего представления об обществе, куда маркиз хотел его ввести. Он представил себе банты, конфеты, маленьких собачек и красивые комнаты, набитые безделушками, которые он принимал за игрушки. Глаза его невольно сверкнули наивным вожделением, и маркиз воскликнул: — Слава Богу! Мэтр Жовлен, этот ребенок рожден не в простом звании. Вы заметили, как блеснули его глаза, когда я произнес слово дворянин? Ну-ка, Марио, попроси Мерседес остаться с нами. — И я тоже! — сказал ребенок, который решил, что предложение относится прежде всего к его приемной матери. — И она тоже, — ответил Буа-Доре. — Я знаю, что разлучать вас было бы бесчеловечно. Взбудораженный Марио бросился к мавританке и, осыпая ее ласками, обратился к ней по-арабски: — Мать! Нам не придется больше ходить по дорогам. Этот добрый сеньор предлагает нам остаться в этом красивом доме. Мерседес со вздохом поблагодарила: — Ребенок принадлежит не мне, а Господу, который мне его доверил. Я должна отыскать его семью. Если его семьи больше нет, или она от него откажется, я вернусь сюда, и на коленях буду умолять: «Примите его, а меня, если хотите, прогоните. Уж лучше я буду одна плакать под дверью дома, где он счастлив, чем заставлять его нищенствовать на дорогах». — У этой женщины возвышенная душа, — сказал маркиз. — Ну что ж, мы поможем ей деньгами и нашими связями найти тех, кого она ищет. Возможно, мы сможем помочь ей прямо сейчас, если она назовет фамилию ребенка. — Мне она неизвестна, — ответила мавританка. — Тогда на что же вы надеялись, покидая ваш дом в горах? — Скажи им, что они хотят узнать, — на арабском велела Мерседес Марио, — но не говори ничего из того, что до поры им должно быть неизвестно.Глава семнадцатая
Марио, в совершенном восторге от полученного поручения, заговорил без дерзости или ломания, с естественным изяществом, глядя на маркиза лучистым взглядом. — Мы были там счастливы, — сказал он, — там были пещеры, водопады, высокие вершины, большие деревья; все в тех краях было крупнее, чем здесь, вода сильно шумела. Моя мать пасла очень добрых коров, стригла овец, пряла пряжу и ткала толстые теплые ткани. Взгляните на мой белый колпак и красный плащ! Это из маминой ткани. Я тоже работал. Я научился плести корзины, о, я очень хорошо их плету! Если я вернусь сюда, чтобы стать дворянином, вы сами в этом убедитесь. Все корзины в вашем доме будут только мои! Два часа ежедневно господин кюре Анжорран учил меня читать и говорить по-испански и по-французски. Он был очень добрый человек! Он так меня любил, что мать иногда даже ревновала. Она говорила: — Могу поспорить, ты любишь кюре больше, чем меня. Но я отвечал: — Нет, я люблю вас одинаково. Я люблю вас так сильно, как только могу. Моя любовь велика, как высокие горы и даже еще больше: как небо! Когда мне было десять лет, все внезапно изменилось. Разыскивая потерявшихся в снегах детей, а снег у нас зимой выпадает выше вашей крыши, господин Анжорран простудился и умер. Мы с матерью так плакали, что даже не знаю, как не выплакала все глаза. Тогда мать сказала: — Надо исполнить волю нашего отца, нашего покойного друга. Он оставил нам бумаги, печать и кольцо, которые могут помочь найти твою семью. Он много раз писал о тебе министру Франции, но ни разу не получил ответа. Возможно, до того не дошли его письма. Мы отправимся к королю или к кому-нибудь, кто мог бы перед ним замолвить за нас слово, и если у тебя есть бабушка, или тетки, или кузены, они не допустят, чтобы ты, рожденный свободным, был крепостным, ведь свобода — самая великая вещь на свете. Взяв с собой наши скудные сбережения, мы отправились в путь. От доброго кюре не осталось никакого наследства. Как только у него появлялась хоть мелкая монета, он отдавал ее нуждающимся. Мы шли очень долго: Франция такая большая! Мы уже три месяца в пути! Видя, как длинна дорога, мать начала опасаться, что мы никогда не дойдем. Мы просили подаяние, нам никогда не отказывали, потому что по матери видно, что она добрая, и я тоже людям нравлюсь. Но, не зная дороги, мы часто шли не туда, куда нужно, и нередко отдалялись от цели нашего путешествия, вместо того, чтобы к ней приближаться. Нам повстречались странные люди, называвшие себя египтянами. Они предложили идти с ними в Пуату, если мы умеем что-нибудь делать. Мать хорошо поет по-арабски, а я умею играть на цимбалах и пиренейской гитерне[292]. Если вы захотите, я для вас потом сыграю. Египтяне решили, что этого достаточно. Они относились к нам хорошо, среди них была маленькая мавританка по имени Пилар, которая мне очень нравилась, и мальчик постарше, Ля Флеш[293], француз, который развлекал меня разными историями и забавными гримасами. Но мою мать всегда огорчало, что почти все они воры, обжоры и лентяи. Поэтому она каждый день говорила: — Надо поскорее расстаться с этими людьми, это дурная компания. И вчера мы от них ушли, потому что… — Потому что? — переспросил маркиз. — Это мать Мерседес, наверное, расскажет вам потом, когда помолится Богу, чтобы тот открыл ей истину. Так она мне сказала, и это все, что я знаю. — Итак, — молвил маркиз, вставая, — эти люди произвели на меня самое благоприятное впечатление, и я хочу, чтобы в моем доме их хорошо принимали до тех пор, пока они не сообщат мне, чем еще я могу им помочь. Верный Адамас, ты, кажется, говорил, что у Мерседес письмо к господину де Сюлли? — Да, — воскликнул Марио, — именно это имя было написано на письме господина Анжоррана. — Это упрощает дело. Будучи его покорным слугой, я могу доставить вас к нему так, чтобы вам не пришлось снова изведать усталость и нищету. Пока что отдохните в моем доме, вам будет предоставлено все, в чем вы нуждаетесь. Смотри, Адамас, и мать, и ребенок одеты чисто и их горские одежды даже довольно красивы. Но на них ведь надето все, что у них есть? — Почти, месье, кроме дорожной одежды, которая была на них вчера и сегодня утром. У каждого из них две рубашки и смена одежды. Но женщина моет и причесывает ребенка и штопает одежду все время, пока они не в пути. Смотрите, как хорошо у него ухожены волосы. Она знает множество арабских секретов поддержания чистоты. Кроме того, она умеет изготавливать пудры и эликсиры, чему я хочу у нее поучиться. — Прекрасная мысль. Но не забудьте дать ей белья и тканей, пусть она приоденется. Раз она такая умелая, она с этим справится. Я отправляюсь на прогулку. Затем, если она не против, я послушал бы песни ее народа в сопровождении гитерны, мне хочется услышать чужеземную музыку. Итак, до свидания, мэтр Марио! Вы так любезно со мной беседовали, что вскоре вы получите за это подарок, я никогда не забываю своих обещаний! Марио поцеловал руку маркиза, искоса бросив взгляд на Флориаля, который был для него ценнее любой драгоценности этого дома. Флориаль действительно был очень милой собачкой. Из трех любимцев маркиз этого особенно выделял, и по заслугам. Белый, как снег, кудрявый, он в отличие от большинства маленьких собачек, был кроток, как овечка, и сопровождал хозяина по всему дому. Во время прогулки маркиз по своему обыкновению побеседовал со своими вассалами, узнал, как чувствуют себя больные и в чем они нуждаются, а, вернувшись в замок, вызвал к себе Адамаса. — Что бы подарить этому славному мальчугану? — спросил он. — Надо бы найти какую-нибудь подобающую его возрасту игрушку, наверно, в доме таких нет. Увы, мой друг, нас собралось здесь три холостяка: мэтр Жовлен, я и ты. — Я уже подумал об этом, месье, — ответил Адамас. — О чем, мой верный слуга, о женитьбе? — Нет, месье, это не в вашем вкусе и не в моем тоже. Но я нашел игрушки для Марио. — Принеси скорее! — Вот, месье, — сказал Адамас, беря с подоконника заранее принесенную игрушку. — Я заметил, что ребенку очень понравился ваш Флориаль, а поскольку вы не сможете подарить ему собаку, я вспомнил, что видел на чердаке несколько давно позабытых игрушек, и среди них собачку, набитую паклей. Она не слишком побита молью и немного даже похожа на Флориаля, разве что черная, да хвоста почти не осталось. — И еще тысяча мелких отличий, из-за которых они вовсе не похожи! Но где ты ее нашел, Адамас? — На чердаке, месье. — Хорошо… Но ты сказал, что там были еще игрушки? — Да, месье, маленькая лошадка, у которой осталось лишь три ноги, дырявый барабан, игрушечное оружие и крепость с бойницами… Адамас внезапно прервался, увидев, что маркиз поглощен созерцанием игрушечной собачки, а по щеке его течет крупная слеза, смывая на своем пути румяна. — Я сделал какую-то глупость! — воскликнул престарелый слуга. — Бога ради, дорогой хозяин, почему вы плачете? — Не знаю… минутная слабость! — прошептал маркиз, утирая слезу надушенным платочком, стирая заодно свой фальшивый румянец. — Я, кажется, узнаю эту игрушку, если я не ошибаюсь, это реликвия, с которой нельзя расставаться, Адамас! Это осталось от моего брата! — Неужели, месье? Ах, какой я глупец! Я должен был догадаться. Но я подумал, что это вы играли ими в детстве. — Нет, когда я был ребенком, у меня не было игрушек. Было время войны и печали, мой отец был ужасным человеком и развлекал меня, показывая железные ошейники[294], цепи, поднятых на дыбу крестьян или повешенных на вязах пленных… Позже, значительно позже он снова женился, и у него родился сын. — Я знаю, месье. Вы так любили молодого месье Флоримона! Он, несомненно, был украшением здешнего дворянства! И так странно исчез! — Невозможно выразить словами, как я его любил, Адамас! И не за те отношения, что возникли у нас, когда он вырос, поскольку мы сражались на разных сторонах, при редких встречах мы успевали только обняться и сказать друг другу, что, несмотря ни на что, остаемся друзьями и братьями, но за то, каким ласковым он был ребенком, о котором, как я уже рассказывал, мне пришлось заботиться в отсутствие отца, которое продолжалось около года. Его вторая жена умерла, а в окрестностях было неспокойно. Зная, что кальвинисты ненавидят моего отца, я решил, что мальчик нуждается в защите, и он полюбил меня, как если бы понял, как отец ко мне несправедлив. Он был кротким и красивым, как Марио. У него не было ни друзей, ни родных, одни умерли от чумы, другие от страха. Он тоже бы умер из-за отсутствия заботы и радости, если бы я не привязался к нему настолько, что играл с ним целыми днями. Это я привез ему эти игрушки, с ними у меня связана целая история, поскольку мне чуть не пришлось заплатить за них жизнью. — Расскажите поподробнее, месье, может, это поможет вам отвлечься. — Хорошо, мой добрый Адамас, слушай. Это случилось в тысяча пятьсот… ну, в общем, неважно. — Конечно, месье, точная дата не имеет никакого значения. — Мой дорогой младший брат очень скучал от того, что вовсе не выходит из дома, но я не решался выпускать его, поскольку окрестности кишели различными бандами, которые убивали каждого встречного, никого не щадя. Я подумал, что надо найти для него развлечения, которых сам я в детстве был лишен. В замке де Сарзей мне случалось видеть у маленьких Барбансуа много зверушек и прочих игрушек. Господа де Барбансуа, из поколения в поколение владевшие поместьем до Сарзей, были одними из самых оголтелых врагов кальвинистов, но в данный момент они находились в Иссудене, сжигая и вешая несчастных. В их отсутствие замок де Сарзей не слишком хорошо охранялся. Большинство окрестных дворян были на стороне католиков или господина де Шатра, меня они не опасались, поскольку я был один и к тому же слишком беден, чтобы что-нибудь предпринять самому. Я решил проникнуть туда под каким-нибудь предлогом и заполучить игрушки, потому что больше найти их было негде. Игрушки были предметом роскоши и не продавались на каждом углу. Я смело явился в замок, будто бы по поручению своего отца, и захотел поговорить с кормилицей молодых хозяев, которые к тому времени уже выросли и уехали на войну. Сперва кормилица приняла меня плохо. Она знала, что я сражался на стороне кальвинистов и что мой отец меня не любит. Но деньги смягчили ее, она принесла мне то, что еще сохранилось. Я отправился в обратный путь, сложив в большую корзину лошадь, собаку, крепость, шесть пушек, тележку, жестяную игрушечную посуду. Накрытую куском ткани корзину я привязал у себя за спиной. Она доходила мне до плеч, и, выезжая со двора, я слышал, как слуги пересмеиваются и говорят друг другу: — Он блаженный. Если бы все гугеноты были такими, мы бы быстро с ними справились. Кому-то из них пришло в голову пальнуть мне вслед из аркебузы. Таким образом они хотели отплатить мне за причиненный им страх. Все шло хорошо, я спокойно возвращался по проселочной дороге, чтобы в таком виде не проезжать через город Ля Шатр, но мне пришлось проехать через Куард, и на мосту Эгюрандской дороги я повстречался с бандой из десятка рейтеров, направлявшихся к городу. Это были обыкновенные мародеры, но с ними ехал один из самых отчаянных головорезов того времени, некий чудак, отец или дядя которого, капитан Макабр[295], командовал большой башней Буржа. Он был моим ровесником, но уже успел стать закоренелым лжецом, и часто служил проводником грабителям, стремясь и сам при этом поживиться. Завидя мой груз, он решил, что я представляю собой хорошую добычу, и хвастливым тоном приказал мне спешиться и отдать лошадь со всей поклажей его людям, которые тогда называли себя «кавалерами герцога Алансонского»[296]. Поскольку они не знали ни слова по-французски, а толмачом им служил сын Макабра, вступать в объяснения было бесполезно. Зная, что, подчинившись и сойдя с коня, я буду избит, а может даже застрелен из аркебузы, как это часто делали мародеры, я решил рискнуть. Не вынимая ноги из стремени, я со всей силой ударил сапогом в живот Макабру, подошедшему, чтобы стащить меня с коня; он растянулся на земле, безбожно ругаясь. — И правильно сделали, месье! — воскликнул воодушевленный Адамас. Остальные вовсе не ожидали, что такой молокосос, как я, посмеет так поступить на глазах у старых, до зубов вооруженных вояк, и от неожиданности засмеялись. Воспользовавшись этим, я поскакал столь же стремительно, как пущенная из арбалета стрела. Когда их удивление прошло, они пустили мне вслед град немецких «слив», которые тогда называли еще сливами Месье, поскольку немцы выступали на стороне Месье, брата короля, в его борьбе против королевы-матери. Судьбе было угодно, чтобы ни одна пуля меня не задела, моя добрая кобыла Брандина по извилистым дорожкам Куарда доставила меня домой, живого и невредимого. При виде игрушек мой брат очень обрадовался. — Дорогой мой, — сказал я, протягивая ему крепость, — она оказалась мне как нельзя более кстати. Если бы моя спина не была столь замечательно защищена, вряд ли вы увидели бы меня живым. Я думаю, что если распороть собачку, в животе у нее обнаружится несколько кусочков свинца. Так что если меня не защитила крепость, по крайней мере ее защитили зверушки. — В таком случае, месье, я предлагаю их оставить, и как почетный трофей выставить в одной из комнат замка. — Нет, Адамас, над нами будут смеяться. Поскольку судьба занесла к нам этого милого ребенка, надо отдать ему и собачку, и все остальное. То, что принадлежало одному ангелу, должно достаться другому, а в глазах Марио я нахожу невинность и дружелюбие, как когда-то в глазах моего несчастного брата. Да, это верно, — продолжал маркиз, глядя на входящих в комнату в сопровождении пажа Клиндора Марио и Мерседес. — Если бы у Флоримона был сын, он был бы как две капли воды похож на этого мальчика. Малыш так понравился мне с первого взгляда, потому что напомнил мне, не столько чертами лица, сколько своим кротким видом, нежным голосом и ласковыми манерами, моего брата, каким он был в этом возрасте. — Ваш брат не был женат, — сказал еще более романтичный, чем его хозяин, Адамас, — но не мог ли он иметь внебрачных детей, и как знать… — Нет, друг мой, не стоит об этом и говорить. Дело в том, что отец бедного Марио был убит за четыре дня до смерти нашего доброго короля Генриха, а последнее письмо брата было написано в Генуе, в шестнадцатый день июня, то есть месяц спустя после того[297]. Так что не будем делать сопоставлений.Глава восемнадцатая
Пока маркиз беседовал с Адамасом, мавританка приготовилась петь; пришел и Люсилио, чтобы ее послушать. Маркизу так понравились ее песни, что он попросил Люсилио запомнить ноты. Итальянец оценил эти редкие и древние песни, совершенные и прекрасные. Мерседес по мере того, как ее подбадривали, пела все лучше и лучше, Марио прекрасно ей аккомпанировал. Он выглядел таким милым со своей длинной гитарой, кротким лицом, приоткрытым ртом, кудрявыми волосами, разметавшимися по плечам, что любоваться им можно было бесконечно. Он был одет в белую рубашку, короткие панталоны из коричневой шерсти с красным поясом и серые чулки с красными подвязками; одежда как нельзя лучше подчеркивала изящество и хрупкость его тела. Он с радостью принял принесенные с чердака игрушки. Маркиз с удовольствием наблюдал, как мальчик любовался этими чудесами, прежде чем бережно сложил их в углу. Дело в том, что в глазах ребенка они значили не так много, и, когда первое изумление прошло, он снова начал мечтать о Флориале, живом и ласковом, который мог бы сопровождать его в скитаниях, в то время, как лошади, пушки и крепости в нищей и полной случайностей жизни были лишь минутной мечтой. Остаток дня прошел спокойно, без грозы со стороны господина д'Альвимара. Он снова встретился с господином Пуленом, сообщил, что решился осаждать крепость прекрасной Лорианы. За ужином он был сама любезность, чтобы не нажить себе если не врага, то по крайней мере оппонента в лице маркиза. Он не встретил в доме ни мавританку, ни ребенка, не слышал разговоров о них, рано отправился спать, чтобы поразмышлять над своим планом. Все слуги маркиза, как сказал Адамас, были рады, что Марио останется еще на несколько дней. Адамас посадил мальчика и его мать за второй стол, где ел сам вместе с мэтром Жовленом, которого Буа-Доре нарочно стремился представить рядовым слугой, Беллиндой и пажом Клиндором. Каретник и прочие слуги ели в другое время и в другом месте, за третьим столом. Был еще четвертый стол, для работников с фермы, крестьян, бедных путешественников, нищенствующих монахов. Таким образом с ранней зари до поздней ночи, то есть до восьми-девяти вечера, в замке Бриант ели, из трубы постоянно доносился запах готовящейся пищи, привлекавший со всей округи детей и нищих. Все они получали у входа в замок пищу и образовывали на лужайке или у обочины дороги пятый стол. Несмотря на щедрое гостеприимство и число слуг, удивительно большое для столь маленького замка, у маркиза всегда оставались деньги на его невинные фантазии. Слуги его не обкрадывали, хотя он не вел учета своим доходам; Адамас и Беллинда терпеть друг друга не могли, и хотя Беллинда была из тех женщин, что не прочь нагреть руки на чужом добре, страх быть пойманной заклятым врагом Адамасом вынуждал ее к большой осторожности и умеренности в попытках увеличить свой доход. Ей хорошо платили и за счет владельца замка; она прекрасно одевалась, поскольку маркиз сказал, что не желает видеть вокруг себя «ни грязи, ни лохмотьев»; так что у нее не было необходимости в казнокрадстве; тем не менее она была недовольна, поскольку такие, как она, предпочитают краденый су честно заработанному луидору. Что касается Адамаса, пусть он не был воплощением честности во всех своих делах (участвуя в войне, он перенял некоторые партизанские нравы), зато был настолько предан хозяину, что если бы, занимая завидный пост доверенного человека маркиза, он принялся бы грабить и вымогать деньги за стенами замка, то лишь для того, чтобы обогатить Бриант. Клиндор поддерживал его в борьбе против Беллинды, которая его ненавидела и не называла иначе, как «переодетой собакой». Это был добрый юноша, наполовину хитрый, наполовину глупый, который еще не решил, что ему лучше: остаться человеком третьего сословия, которое получало все больше реальной власти, или же мечтать о будущем дворянском гербе; подобные мечты еще долго удерживали буржуазию в двусмысленном состоянии и, несмотря на ее интеллектуальное превосходство, заставляли ее играть роль простофили. Было решено скрыть происхождение мавританки от подозрительной нетерпимости Беллинды, в последнее время ставшей чрезвычайно набожной. Адамас сказал ей, что Мерседес просто-напросто испанка. До ушей непосвященных не дошло ни слова из ее истории и истории Марио. — Господин маркиз, — обратился Адамас к хозяину, раздевая его, — мы просто дети и ничего не понимаем в тайнах туалета. Перед сном я поговорил с мавританкой о серьезных вещах и она всего за час рассказала множество вещей, неизвестных вашим парижским поставщикам. Она знает сокровенные тайны многих вещей, умеет извлекать из растений чудодейственные целебные соки. — Хорошо, хорошо, Адамас! Поговорим о чем-нибудь другом. Прочитай мне какое-нибудь стихотворение, пока расчесываешь мне бороду. Сегодня мне грустно, и, повторяя слова господина д'Юрфе про Астрею, я могу сказать, что «груз моих печалей смущает покой моего желудка и дыхание моей жизни». — Громы небесные! — воскликнул верный Адамас, охотно повторявший выражения обожаемого хозяина. — Это все из-за воспоминаний о вашем брате? — Увы! Сегодня, не знаю почему, он предстал передо мной, как живой. Бывают дни, друг мой, когда заснувшая боль просыпается. Это как раны, напоминающие о войне. Знаешь, что мне пришло в голову, когда я смотрел на милого сироту? Что я старею, мой бедный Адамас. — Месье шутить изволит! — Нет, мы стареем, друг мой, и мое имя умрет вместе со мной. У меня, конечно, есть внучатые племянники, судьба которых меня не заботит, и которые, если смогут, увековечат имя моего отца. Но я буду первым и последним де Буа-Доре, и мой маркизат ни к кому не перейдет, поскольку это почетное звание, которое королю было угодно изволить мне пожаловать. — Мне случалось об этом думать, и я сожалею, что месье обладает слишком горячим сердцем, чтобы согласиться оставить наконец холостяцкую жизнь и жениться на какой-нибудь прелестной нимфе из наших краев. — Конечно, напрасно я об этом не думал. Я был слишком легкомыслен в отношениях с дамами, и хотя мне не доводилось встречаться с господином д'Юрфе, могу держать пари, что он, от кого-то про меня услышав, именно меня вывел под именем пастуха Хиласа. — Ну и что с того, месье? Этот пастух очень милый человек, чрезвычайно умный и на мой взгляд самый занимательный из всех героев книги. — Да, верно. Но он молод, а я, повторяю, уже нет, и начинаю горько сожалеть, что у меня нет семьи. Ты знаешь, что мне неоднократно приходило в голову усыновить какого-нибудь ребенка? — Знаю, месье. Каждый раз, когда вы видите хорошенького и забавного ребеночка, вы возвращаетесь к этой мысли. Но что ж вам мешает это сделать? — Трудно найти такого ребенка, чтобы он был хорош собой, добр, и чтобы у него не было родственников, которые захотят получить его обратно, после того, как я его выращу. Потому что отдать всю душу ребенку, чтобы в двадцать или двадцать пять лет его у тебя отняли… — До тех пор, месье… — О, время бежит так быстро! Даже не замечаешь, как оно проходит! Ты знаешь, что я думал, не взять ли к себе ребенка каких-нибудь обедневших родственников. Но вся моя семья — старые лигеры, и к тому же их дети некрасивы, шаловливы и нечистоплотны. — Действительно, месье, младшая ветвь Буронов некрасива. Рост, привлекательность, храбрость всей семьи сосредоточилась в вас, и только вы можете дать достойного вас наследника. — Я! — воскликнул Буа-Доре, потрясенный подобным предположением. — Да, месье, я говорю совершенно серьезно. Поскольку ваша свобода наскучила вам, поскольку вы уже десятый раз говорите, что хотите устроить свою жизнь… — Но Адамас, ты говоришь обо мне, как о развратнике! Мне кажется, после печальной смерти нашего Генриха я всегда жил, как подобает человеку, удрученному горем, и дворянину, которому должно показывать пример окружающим. — Конечно, месье, вы можете говорить мне все, что вам угодно. Мой долг не противоречить вам. Вы вовсе не обязаны делиться со мной вашими приключениями в замках и окрестных рощах, не так ли, месье? Это касается только вас. Верный слуга не должен шпионить за своим хозяином и я, как мне кажется, никогда не досаждал вам нескромными вопросами. — Я отдаю должное твоей скромности, мой дорогой Адамас, — ответил Буа-Доре, смущенный, встревоженный и польщенный химерическими предположениями любящего слуги. — Но поговорим о чем-нибудь другом, — добавил он, не решаясь углубляться в столь деликатную тему и пытаясь понять, не известны ли Адамасу какие-то вещи, которых он сам о себе не знает. Маркиз не был ни бахвалом, ни хвастуном. Он вращался в слишком хорошем обществе, чтобы рассказывать о своих любовных связях или выдумывать несуществующие. Но он был рад, что их по-прежнему ему приписывают, и поскольку при этом он не компрометировал ни одну женщину конкретно, он охотно позволял говорить, что может претендовать на любую. Друзья тешили его скромное самомнение, и большим удовольствием для молодых людей, в частности, для Гийома д'Арса, было поддразнивать его, зная, как это приятно престарелому соседу. Но Адамас не разводил вокруг этого столько церемоний, а просто и самоуверенно подтвердил, что месье прав, думая о женитьбе. Им часто случалось возвращаться к этому разговору, и неустанно на протяжении тридцати лет они снова и снова поднимали эту тему, при этом каждый раз беседа заканчивалась следующим заключением Буа-Доре: — Конечно, конечно. Но мне так хорошо и спокойно в моем нынешнем положении! Спешить некуда, мы еще вернемся к этой теме. Однако на этот раз он, казалось, слушал похвалы Адамаса внимательнее, чем обычно. — Если бы я был уверен, что не женюсь на бесплодной женщине, — сказал он своему конфиденту, — я бы, пожалуй, и в самом деле женился! А может, лучше жениться на вдове, имеющей детей? — Фи, месье! — воскликнул Адамас. — Даже и не думайте! Женитесь на молодой и красивой девушке, и она обеспечит вам потомство по вашему образу и подобию. — Адамас, — продолжал маркиз после недолгого колебания, — я немного сомневаюсь, что небеса будут ко мне благосклонны. Но ты подсказал мне хорошую мысль жениться на молодой девушке; тогда я смогу представлять себе, что она моя дочь и любить ее, как если бы был ее отцом. Что ты на это скажешь? — Ну что ж, если месье женится на очень молодой девушке, то в крайнем случае он сможет представлять себе, что удочерил ее. Если вы пришли к такому решению, то не надо долго и искать. Юная владелица Мотт-Сейи как раз подойдет для месье. Она красива, добра, разумна, весела, она сможет оживить наш замок, и я уверен, что ее отец тоже много раз об этом думал. — Ты полагаешь, Адамас? — Ну конечно! И она сама тоже! Неужели вы думаете, что, когда они приезжают в гости, она не сравнивает свой старый замок с вашим, настоящим сказочным дворцом? Неужели вы думаете, что хоть она так молода и невинна, она не может оценить, насколько вы превосходите всех прочих претендентов на ее руку? Маркиз убедил себя, что его предложение будет принято как подарок судьбы. Они легко решат между собой религиозные проблемы. Если Лориана упрекнет его, что он отрекся от кальвинизма, он готов снова стать протестантом. Самонадеянность не позволила ему подумать о возражении, связанном с его возрастом. Адамас обладал даром во время вечерних бесед отгонять сию неприятную мысль. Буа-Доре заснул с мыслью о том, что других-то претендентов на руку Лорианы нет. Господин Сильвен заснул в этот вечер смешным, как никогда. Но тот, кто смог бы прочитать в его сердце истинно отцовские чувства, двигавшие им, великую философскую терпимость «в преддверии супружеских измен», его намерения баловать и лелеять будущую жену, преданность ей, тот, несомненно, смеясь над ним, простил бы его. Направляясь в свою комнату, Адамас услышал шорох платья на потайной лестнице. Как только мог быстро, он бросился к двери, чтобы застать Беллинду на месте преступления, но она успела скрыться. Адамас знал, что она способна на подобное шпионство, и ей нередко удавалось подслушать разговор двух холостяков. Однако на этот раз он решил, что ошибся. Он запер все двери, не слыша больше ничего, кроме мерного похрапывания хозяина, да порыкивания маленького Флориаля, спящего в ногах хозяина на кровати и видящего во сне кошку, которая была для него тем же, чем Беллинда для Адамаса.Глава девятнадцатая
Гости прибыли в Мотт-Сейи к девяти утра. Читатель, вероятно, помнит, что в те времена обедать садились в десять утра, а ужинали в шесть вечера. На этот раз маркиз, решивший открыть свои матримониальные замыслы, счел нужным отправиться к соседям в более изящном виде, чем в своей знаменитой карете. Он легко взобрался на красивого андалузца по кличке Розидор — это было прекрасное создание с легким аллюром, спокойным нравом, умеющее подыграть хозяину, чтобы выказать его прекрасным наездником, то есть, повинуясь малейшему движению ноги или руки, конь свирепо выкатывал глаза, раздувал ноздри, как диавол из преисподней, делал довольно высокие прыжки, чтобы казаться своенравным животным. Спешившись, маркиз приказал Клиндору четверть часа поводить Розидора по двору, поскольку конь слишком разгорячен. Но на самом деле маркизу хотелось, чтобы все обратили внимание, что он приехал верхом и что он по-прежнему остается удалым наездником. Перед тем как предстать перед Лорианой, добрый господин Сильвен отправился в комнату, предоставленную соседом в его распоряжение, чтобы привести себя в порядок, надушиться и переодеться как можно изящнее и элегантнее. Скьярра д'Альвимар, с головы до ног одетый в черный бархат и сатин, по испанской моде, с коротко постриженными волосами и фрезой из богатых кружев лишь сменил дорожные сапоги на шелковые чулки и туфли с бантами, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Хотя его строгий костюм казался во Франции «древностью» и скорее подошел бы ровеснику господина Буа-Доре, он придавал ему вид дипломата или священника и как нельзя лучше подчеркивал, как молодо он выглядит для своих лет и придавал ему элегантность. Старый де Бевр будто предчувствовал день сватовства. Сегодня он выглядел менее гугенотом, то есть оделся не так строго, как обычно и, сочтя, что его дочь одета слишком просто, приказал надеть лучшее платье. Так что она выглядела настолько нарядной, насколько позволял ей вдовий траур, который она должна была носить до следующего замужества. Обычай был строг. Она надела платье из белой тафты, верхняя юбка приоткрывала край нижней юбки цвета ситного хлеба, надела кружевные брыжи[298] и манжеты; вдовья шапочка (небольшой чепчик а ля Мария Стюарт) позволила ей не надевать еще не вышедший из моды ужасный парик, зато дала возможность показать прекрасные светлые волосы, взбитые валиком, открывавшие высокий лоб и виски с тонкими венами. Чтобы не выглядеть слишком провинциалкой, она нанесла на волосы лишь немного кипрской пудры, сделавшей ее светлые волосы еще более детскими. Хотя оба претендента обещали друг другу быть любезными, во время обеда между ними возникла некоторая неловкость, как если бы они угадали друг в друге соперников. Дело в том, что Беллинда пересказала экономке господина Пулена подслушанный разговор маркиза с Адамасом, а та немедленно передала его кюре. Священник прислал д'Альвимару записку следующего содержания:«В лице вашего хозяина вы имеете соперника, над которым сможете посмеяться. Пользуйтесь этим».Д'Альвимар про себя посмеялся над этим конкурентом, сам он решил прежде всего добиться благосклонности юной дамы. Ему было неважно, что отец поощряет его ухаживания. Он полагал, что, завладев сердцем Лорианы, он легко уладит все прочее. Буа-Доре рассуждал иначе. Он не сомневался в уважении и привязанности, которую питают к нему в этом доме. Он не надеялся поразить их воображение и вскружить голову. Ему хотелось поговорить с отцом и дочерью без свидетелей, чтобы изложить преимущества своего положения и состояния, затем он рассчитывал скромными ухаживаниями дать себя честно разгадать. То есть он собирался держать себя, как хорошо воспитанный юноша из прекрасной семьи, в то время, как его противник предпочитал выглядеть, как герой приключенческого романа. Де Бевр, заметив, что д'Альвимар становится все нежней, увлек старого друга на дорожку вдоль пруда, чем немало его огорчил, чтобы порасспросить о положении и состоянии его гостя. Буа-Доре на все вопросы мог ответить лишь, что господин д'Арс рекомендовал его как человека высшего света, которого очень уважает. — Гийом очень молод, — сказал де Бевр, — но он знает, чем он нам обязан, чтобы привозить к нам человека, недостойного нашего гостеприимства. Тем не менее я удивлен, почему он ничего больше не сообщил вам о нем. Но, вероятно, господин де Виллареаль рассказал вам о мотивах своего приезда. Почему он не поехал с Гийомом на праздник в Бурж? На эти вопросы Буа-Доре ответить тоже было нечего, но в глубине души де Бевр был убежден, что появление испанца окутано таинственностью с единственной целью: понравиться его дочери. «Наверно, он где-то ее видел так, что она не обратила на него внимания. Хотя он кажется ревностным католиком, он, похоже, сильно ею увлечен», — думал де Бевр. Он говорил себе, что при существующем положении вещей испанский зять-католик мог бы поправить дела его дома и возместить ущерб, который он нанес дочери, поддержав Реформацию. Да даже чтобы утереть нос запугивавшим его иезуитам он бы желал, чтобы испанец оказался достаточно знатного рода, чтобы мог претендовать на руку Лорианы, пусть и не очень богатым. Господин де Бевр рассуждал как скептик. Он не поднимал вокруг «Опытов» Монтеня столько шума, как Буа-Доре вокруг «Астреи», но они стали его настольной книгой, пожалуй, даже единственной, которую он теперь читал. Буа-Доре был более честен в политике и на его месте рассуждал бы иначе. Как и де Бевр, он не был склонен к религиозному фанатизму, но со старых времен сохранил веру в родину и никогда бы не пошел на уступки Лиге. Поглощенный своими думами, он не обратил внимания на озабоченность друга, и добрые четверть часа они играли в загадки, толкуя о необходимости скорее найти достойную партию для Лорианы. Наконец вопрос разъяснился. — Вы? — воскликнул пораженный де Бевр, когда маркиз сделал наконец предложение. — Кто бы мог подумать! Я-то полагал, что вы в завуалированных выражениях говорите о вашем испанце, а, оказывается, вы имели в виду себя. Вот это да! Соседушка, вы в своем уме, не принимаете ли вы себя за собственного внука? Буа-Доре закусил ус. Но, привыкший к подтруниваниям друга, он быстро справился с досадой и постарался убедить его, что тот ошибается относительно его возраста, что он не достиг еще шестидесяти лет, возраста, в котором его отец вполне успешно вступил в повторный брак. Пока он таким образом терял время, д'Альвимар времени зря не терял. Ему удалось увлечь Лориану под большой тис, длинные ветви которого свисали почти до земли, образуя зеленый шатер, где посреди сада можно было чувствовать себя уединенно. Он начал довольно неловко, осыпав ее преувеличенными комплиментами. Неопытная в подобных делах Лориана не обладала противоядием против лести, она плохо знала замашки молодых придворных и не смогла бы отличить ложь от правды. Но, к счастью для нее, ее сердце еще не почувствовало скуку одиночества, к тому же она была более ребенком, чем казалась. Поэтому гиперболические выражения д'Альвимара рассмешили ее и она принялась над ним подтрунивать, чем ввела кавалера в замешательство. Увидев, что от высокопарных фраз толка мало, он постарался говорить о любви в более естественных выражениях. Быть может, он добился бы своей цели и смутил бы юную душу, но тут появился Люсилио, словно посланец Провидения, явившийся, чтобы прервать эту опасную беседу нежной игрой на волынке. Он не приехал вместе с Буа-Доре, зная, что обедать ему придется в людской и он не увидит Лориану до полудня. Лориане и ее отцу была известна трагическая история ученика Бруно, и в Мотт-Сейи его уважали не меньше, чем в Брианте, но, чтобы не скомпрометировать его, обращались, как с обыкновенным музыкантом. Люсилио оказался единственным человеком, который не стал наряжаться к случаю. У него не было ни малейшей надежды привлечь к себе внимание, он даже не хотел привлекать к себе взгляд, зная, что может рассчитывать лишь на таинственное общение душ. Он приблизился к тису без напрасной робости и ложной скромности. Рассчитывая на правду и красоту того, что может выразить в музыке, он заиграл, к великой досаде д'Альвимара. На секунду Лориана также ощутила недовольство от этого вторжения, но, заметив на красивом лице волынщика наивное намерение доставить ей удовольствие, устыдилась минутного порыва. «Не знаю почему, — подумала она, — это лицо выражает искреннюю любовь и чистую совесть, которых я не нахожу у другого». Она снова взглянула на д'Альвимара, раздраженного, обиженного, высокомерного и ощутила холодок страха. То ли потому, что она была чувствительна к музыке, то ли потому, что была склонна к некой восторженности, ей показалось, что внутри нее звучат слова песни, которую наигрывал Люсилио. Вот что говорилось в песне: «Взгляни на яркое солнце на ясном небе, отражающееся в изменчивых быстрых водах! Вот прекрасные деревья, черными колыбелями склоненные над бледно-золотыми лугами, радостными, как весной, покрытыми розовыми осенними цветами; на гордого лебедя, на парящих в небе перелетных птиц. Все это музыка, что я тебе пою, это юность, чистота, надежда, дружба, счастье. Не слушай чужой, непонятный тебе голос. Он нежен, но лжив. Он потушит солнце у тебя над головой и осушит ручьи под ногами, загубит цветы и подрежет крылья поднебесным птицам; вокруг тебя будут царить мрак, холод, страх и смерть; источник божественной гармонии, о которой я тебе пою, навеки иссякнет». Лориана больше не видела д'Альвимара. Погруженная в свои мечты, она не видела и Люсилио. Она перенеслась в прошлое и, вспомнив Шарлотту д'Альбре, сказала себе: «Нет, нет, никогда я не прислушаюсь к голосу демона!» — Друг, — обратилась она к волынщику, когда тот закончил мелодию, — твоя игра доставила мне большое удовольствие, спасибо тебе. У меня нет ничего, чтобы отблагодарить тебя за чудные мечты, что навевает твоя музыка; поэтому прошу тебя принять эти нежные фиалки, символ твоей скромности. Она отказалась подарить фиалки д'Альвимару и у него на глазах отдала их музыканту. Д'Альвимар торжествующе улыбнулся, сочтя этот вызов более дразнящим, чем признание. Но Лориана ни о чем подобном и не помышляла; прикалывая фиалки к шляпе волынщика, она прошептала: — Мэтр Жовлен, я прошу вас, будьте мне как отец, и не уходите, пока я сама не скажу. Благодаря острой итальянской проницательности, Люсилио сразу обо всем догадался. «Да, да, я понял, — отвечал его выразительный взгляд, — положитесь на меня!» Он уселся на толстые корни старого тиса на довольно почтительном расстоянии от них, как слуга, ожидающий приказаний, но в то же время достаточно близко, чтобы от него не ускользнуло хоть одно слово д'Альвимара. Д'Альвимар все понял. Его боятся, ну что ж, тем лучше! Питая к музыканту высокомерное презрение, он, не задумываясь, возобновил свои ухаживания на глазах у него, как если бы тот был пустым местом. Но его опасный магнетизм утратил свою силу. Лориане казалось, что молчаливое присутствие честного человека, такого, как Люсилио, служит противоядием. Ей было стыдно показаться ему тщеславной и пустой. Под его взглядом она чувствовала себя в безопасности. Увидев, что испанец все сильнее обижается и раздражается, она приготовилась защищаться. Д'Альвимар попросил, чтобы она отослала этого несчастного, при этом достаточно громко, чтобы тот услышал. Лориана твердо отказалась, заявив, что хочет еще послушать музыку. Люсилио сразу же взялся за инструмент. Д'Альвимар достал из камзола остро наточенный испанский нож и, вынув его из ножен, принялся им поигрывать, будто бы просто так; то он собирался что-то вырезать на коре дерева, то кидал его перед собой, словно демонстрируя свою ловкость. Лориана не поняла этой угрозы. Люсилио сохранял неподвижность, хотя был слишком итальянцем, чтобы не знать холодную ярость испанцев, и догадывался, куда, будто бы случайно, может вонзиться блестящее лезвие стилета. При любых других обстоятельствах его беспокоила бы судьба инструмента, в который, как казалось, д'Альвимар целится, чтобы продырявить. Но ведь Люсилио выполнял волю Лорианы, сражался за ее невинность, как Орфей своей победоносной лирой за свою любовь. Он храбро заиграл одну из записанных им накануне мавританских мелодий. Д'Альвимар счел его поведение вызывающим, и тлевший в его груди очаг горечи снова жарко запылал. Он был весьма ловок в метании ножа и, желая напугать неуместного свидетеля, принялся кидать нож рядом с ним; сверкающее лезвие пролетало все ближе и ближе от музыканта, но тот продолжал наигрывать нежную и жалобную мелодию. Отошедшая на несколько шагов Лориана стояла к ним спиной и не видела этой жестокой сцены. «Меня не испугали пытки и угроза смерти, — сказал себе Джиовеллино, — не побоюсь их и теперь; я не доставлю испанцу радости увидеть меня побледневшим от страха». Отвернувшись, он продолжал играть так сосредоточенно и совершенно, как если бы спокойно сидел за столом Буа-Доре. Д'Альвимар прохаживался взад-вперед, время от времени останавливаясь перед музыкантом и целясь в него, всем видом показывая, что испытывает искушение кинуть в него нож. Под действием странных чар, что служат нам наказанием за дурные шутки, он и в самом деле начал испытывать этот чудовищный соблазн. Он покрылся холодным потом, в глазах потемнело. Люсилио чувствовал больше, чем видел глазами, но предпочитал рисковать жизнью, чем хоть на секунду показать страх врагу своей родины и хулителю человеческого достоинства.
Глава двадцатая
Во время этой ужасной сцены буквально в двух шагах от Лорианы находился еще один странный свидетель — молодой волк, выращенный на псарне, который перенял привычки и повадки собаки, но не ее инстинкты и нрав. Он охотно ласкался ко всем, но ни к кому не был привязан. Лежа у ног Люсилио, он с беспокойством наблюдал за жестокой игрой испанца, и когда кинжал раза два или три упал рядом с ним, он поднялся и укрылся за деревом, не беспокоясь ни о чем другом кроме, как о собственной безопасности. Однако поскольку игра продолжалась, зверь, который начал чувствовать свои зубы, много раз показывал их молча и, полагая, что на него нападают, в первый раз в жизни испытал инстинкт ненависти к человеку. С горящими глазами, напряженными подколенными суставами, ощетинившимся и дрожащим позвоночником он укрылся от д'Альвимара за огромным стволом тиса, где выжидал подходящий момент, и откуда он вдруг бросился, чтобы схватить его за горло. И он сделал бы это, если не задушив, то по крайней мере ранив, если бы не был сильно отброшен ударом ноги Люсилио. Внезапно прерванное пение и жалобный звук, который издал мюзет, отброшенный артистом, заставил Лориану обернуться. Не поняв того, что произошло, она лишь увидела д'Альвимара, который вне себя от гнева вспарывал ножом брюхо зверю. Он совершал этот акт расправы со всем жаром мести. Можно было легко видеть на его бледном лице и в его налитых кровью глазах таинственную и глубокую радость, которую он испытывал, имея возможность убивать. Он трижды вонзил нож в трепещущие внутренности, и при виде крови его рот исказился столь сладострастным образом, что Лориана, вся дрожа, схватила обеими руками руку Люсилио, говоря ему тихим голосом: — Смотрите, смотрите! Чезаре Борджа! Вылитый! Люсилио, который неоднократно видел в Риме портрет, написанный Рафаэлем, и сам еще более почувствовал это сходство, сделал знак головой, что он этим был сильно поражен. — В чем дело, сударь? — спросила взволнованная Лориана торжествующего испанца. — Вы вообразили себе, что находитесь в центре леса, и полагаете, что мне будет приятно, когда вы поднесете мне голову или лапы зверя, которого я кормила из своих рук и только что ласкала перед вами? Фи! Вы понятия не имеете о соблюдении приличий, и с этим окровавленным резаком вы похожи скорее на живодера, чем на дворянина! Лориана была в гневе, она не испытывала больше ничего, кроме отвращения к этому чужестранцу. Он, словно очнувшись ото сна, просил прощения, говоря, что это волк хотел его сожрать, что это была плохая компания в доме и что он счастлив, что имел возможность освободить мадам от инцидента, который мог бы произойти и с ней. — Так он набросился на вас? — спросила она, глядя на Люсилио, который утвердительно кивнул головой. — И куда же он вас укусил? — продолжала она. — Где же рана? И поскольку д'Альвимар не был поранен, она возмутилась страхом, который он испытал перед животным еще таким молодым и столь малоопытным. — Слово страх не совсем точное, — ответил он с некоторым проявлением ярости, — я не думаю, что его можно адресовать тому, у кого еще в руке орудие убийства. — И вы еще так гордитесь, что убили этого волчонка! Если бы это сделал ребенок, ему было бы простительно, но вовсе не мужчине, которому достаточно было ударить хлыстом, чтобы избавиться от него. Я говорю вам, сударь, что вы ужасно испугались и что это мания тех, кто любит проливать кровь. — Я вижу, — сказал д'Альвимар, внезапно удрученный, — что я навлек на себя вашу немилость, и я нахожу в этом, как и в остальном, результат моей злой участи. Она столь упряма, что порой у меня возникает мысль уступить ей победу в битве, где я не нахожу ничего, кроме потерь и огорчения. Было немало правдивого в том, что только что сказал д'Альвимар, и поскольку после того, как он машинально вытер свой кинжал, он, казалось, колеблется, класть ли его в ножны, Лориана, пораженная мрачным выражением его взгляда, поверила, что он немного безумен вследствие какого-либо большого несчастья, и приготовилась быть следующей жертвой. — Чтобы простить вас, — сказала она, сдерживая волнение, — я требую, чтобы вы вручили мне оружие, которым только что столь скверно распорядились. Мне совсем не нравится этот злодейский клинок, который дворяне Франции не носят нигде более, кроме как на охоте. Шевалье достаточно шпаги, и, чтобы вытащить ее из ножен перед дамой, нужно время подумать. Я всегда боялась людей, которые прячут на себе оружие слишком быстрое и слишком простое в применении, и оттого я прошу вас принести мне жертву, исправив огорчение, которое вы мне причинили. Д'Альвимар поверил, что, разоружая его, ему оказывается милость. Однако ему нелегко было расстаться со столь надежным оружием, и он пребывал в нерешительности. — Я вижу, — сказала Лориана, — что это подарок какой-нибудь красавицы, которой вы не осмеливаетесь ослушаться. — Если вы так думаете, — ответил он, — я хотел бы освободиться от него как можно скорее. И, преклонив колено, он передал ей кинжал. — Вот и хорошо, — сказала она, убирая руку, которую он хотел поцеловать. — Я прощаю вас как гостя, который вовсе не хотел оскорбить, но и только, клянусь вам, что же касается этого гадкого клинка, если я храню его, то это вовсе не от любви к вам, но чтобы не допустить зла, которое он может причинить. Они были уже у подножья башни, где их встретили маркиз и господин де Бевр, воодушевленно болтающие. Лориана собиралась рассказать им о том, что произошло, но ее отец не дал ей времени. — Послушай-ка, дорогая моя девочка, — сказал он ей, взяв ее за руку и просовывая ее под руку маркиза, — наш друг хочет сказать вам об одном секрете, а пока он будет вам его рассказывать, я составлю компанию господину де Виллареалю. Вот видите, — добавил он, обращаясь к Буа-Доре, — я вам доверяю мою овечку, не опасаясь ваших больших зубов, и я не скажу ей ничего, чтобы не подорвать ее доверие к вам! Говорите теперь сами, как считаете нужным. Если вы не справитесь, я умываю руки, вы уж постарайтесь! — Я вижу, — сказала мадам де Бевр маркизу, — что у вас есть ко мне какая-то просьба. И поскольку она решила, что речь пойдет как обычно о каком-то развлечении типа охоты у маркиза в поместье, она добавила, что заранее согласна. — Осторожно, моя дорогая! — воскликнул господин де Бевр, смеясь. — Вы совсем не знаете, во что вступаете! — И нисколько вы меня не напугаете, — ответила она, — он может сказать быстро. — Да ну! Вы так думаете, но вы заблуждаетесь, — продолжил господин де Бевр. — Держу пари, что ваша беседа продлится более часа. Идите-ка оба в какой-нибудь из залов, где вам никто не помешает, а когда вы все обсудите, вы вновь вернетесь к нам. Едва они оказались в салоне, как маркиз предложил свое сердце, свое имя и свои экю в духе «Астреи» с той неистовой страстью, которая не говорит ни о чем, кроме как о страшных муках, вздохах, которые рассекают сердце, страхах, которые вызывают тысячу смертей, надеждах, которые лишают рассудка, и т. д., и все это в выражении столь целомудренном и столь холодном, что самая неприступная добродетель не могла бы этого испугаться. Когда Лориана поняла, что речь идет о браке, она была так же удивлена, как ее отец. Она знала, что маркиз способен на все, и вместо того, чтобы развеселиться, она чувствовала сострадание. Она испытывала к нему дружеские чувства, и даже уважала его за доброту и верность. Она чувствовала, что бедный старик подвергается бесчисленным насмешкам и стоит только ей дать пример, как шутки, дружеские и умеренные, объектом которых он был, станут обидными и жестокими. «Нет, — подумало это юное и мудрое дитя, — этого не должно быть, и я не потерплю, чтобы мой старый друг стал посмешищем слуг». — Дорогой маркиз, — сказала она ему, стараясь говорить с ним в его манере, — я часто размышляла о возможности и приемлемости плана, о котором вы мне сообщили. Я догадалась о вашей прекрасной и честной любви и, если я ее нисколько не разделяю, то это потому, что я еще слишком молода для того, чтобы шаловливый Купидон обратил на меня внимание. Позвольте же мне еще немного порезвиться на волшебном острове «Неведения любви», ничто не торопит меня покинуть его, потому что я счастлива вашей дружбой. Из всех мужчин, которых я знаю, вы самый лучший и наиболее приятный, и если мое сердце заговорит, скорее всего оно заговорит мне о вас. Но это записано в книге судеб, и вы должны предоставить мне время спросить себя. Если, по какой-либо фатальности, я окажусь неблагодарной по отношению к вам, я признаюсь вам в этом с чистосердечием и раскаянием, потому что это будет для меня совершенным падением и стыдом, но вы столь великодушны, у вас такое доброе сердце, что вы мне еще будете другом и братом, несмотря на мою глупость. — Конечно же, клянусь вам! — воскликнул Буа-Доре с простодушным восторгом. — Вот и хорошо, мой преданный друг, — продолжала Лориана, — подождем еще. Я прошу у вас семь лет испытания, по древнему обычаю истинных рыцарей, и сделайте мне одолжение, что это соглашение останется секретом между нами. Через семь лет, если душа моя останется нечувствительна к любви, вы откажетесь от меня, равно как если я разделю вашу страсть, я не стану таить это от вас. Я также клянусь вам, что если до окончания срока этого соглашения я полюблю вопреки воле кого-нибудь другого, я смиренно и чистосердечно вам признаюсь. Это совсем невероятно, однако я хочу все предусмотреть, поскольку я желаю, потеряв вашу любовь, по крайней мере, сохранить вашу дружбу. — Я подчиняюсь всему, — ответил маркиз, — и я клянусь вам, прелестная Лориана, слово дворянина и преданность безукоризненного любовника. — На это я и рассчитываю, — сказала она, протягивая руку. — Я знаю, что вы человек великодушный и бесподобный пастырь. А теперь возвращаемся к моему отцу, и позвольте сказать ему то, что решено, с тем, чтобы наш секрет не стал достоянием иного доверенного лица, кроме него. — Согласен, — ответил маркиз, — но не обменяться ли нам каким-либо залогом? — Каким? Скажите, я согласна, но пусть это будет не кольцо. Подумайте, что будучи вдовой, я не могу носить другого, кроме как кольца нового брака. — Хорошо, так позвольте завтра послать вам подарок, достойный вас. — Ни за что! Это будет означать, что все будут в курсе… Дайте мне первую попавшуюся безделушку, которая у вас есть… Например, эту маленькую бонбоньерку из слоновой кости, покрытую глазурью, которая у вас в руке! — Пожалуйста! А что вы дадите мне? Как я вижу, вы знаете, каким должен быть этот обмен. Нужно, чтобы это была вещь, которая находилась у человека в тот момент, когда он давал слово. Лориана поискала у Себя в карманах и нашла только носовой платок, перчатки, кошелек и кинжал господина д'Альвимара. Кошелек достался ей от матери, поэтому она дала кинжал. — Хорошенько спрячьте его, — сказала она, — и поскольку я вам его оставляю, надейтесь на меня; так же, как если я попрошу у вас его обратно… — Я проткну им грудь! — воскликнул старый Селадон. — Нет! Вот этого вы не сделаете, — сказала Лориана очень серьезно, — потому что тогда я умру от горя, и, кроме того, тем самым вы не выполните данного мне обещания оставаться моим другом несмотря ни на что. — Это верно, — сказал Буа-Доре, преклонив колени и получая залог. — Клянусь вам не умирать от этого, равно как не любить и даже не глядеть ни на какую другую девушку до того, как вы не лишите меня надежды вам нравиться.Глава двадцать первая
Они вернулись в сад, где господин де Бевр встретил их, не пытаясь скрыть насмешливой улыбки. Но очень быстро улыбка уступила место большому изумлению, когда он увидел серьезный и спокойный вид Лорианы, растроганный и сияющий вид маркиза. Изумление было столь велико, что он не смог удержаться, чтобы не расспросить их, правда, намеками, но достаточно прозрачными, в присутствии д'Альвимара. Лориана ответила, что она вполне согласна с маркизом, и д'Альвимар, не желающий верить услышанному, принял это утверждение за кокетство. Господин де Бевр, уже не на шутку забеспокоившись, отвел дочь в сторону и спросил, серьезно ли она говорила, и неужели она настолько безрассудна или настолько честолюбива, чтобы принять предложение прекрасного кавалера, родившегося при короле Генрихе II. Лориана рассказала ему о том, как она отложила свой ответ и отсрочила всякое объяснение на семь ближайших лет. Только после того, как господин де Бевр отсмеялся, он смог оценить чуткую доброту своей дочери. Его очень потешила неудача маркиза, и он находил, что это был бы хороший для него урок, откровенно высмеять его. — Нет, отец, — сказала ему Лориана. — Это могло бы доставить ему большое огорчение и ничего более. Он не в том возрасте, чтобы исправиться от своих недостатков, и я не вижу, что мы выиграем, оскорбив такого замечательного человека, когда нам так легко утвердить его в его мечтаниях. Поверьте, если кокетство женщины бывает безобидно, то это относится именно к таким старикам, и, возможно, даже самое лучшее будет оставить ему его фантазии. Будьте уверены, что в день, когда я скажу ему, что я полюбила кого-нибудь, он, возможно, будет этому очень рад, в то время, как если я ему сказала бы, что не могу стать его женой, он, возможно, тут же сильно бы заболел и не столько от жестокости, как от своей старости, которую я заставила бы его увидеть без пощады и без сострадания. Лориана имела некоторое влияние на отца. Она добилась, чтобы все произошедшее осталось в тайне и чтобы он воздержался от издевательств над маркизом за его возвышенные чувства к ней. И даже д'Альвимар, несмотря на спою проницательность, не догадался о том, что произошло между ними. Лориана была еще ребенок, но уже с задатками сильной женщины, способной совершать действительно хорошие поступки. Итак, она провела остаток дня не будучи затронутой галантной вкрадчивостью д'Альвимара, и даже казалось, что, отдав его кинжал маркизу в знак благодарной дружбы, она избавилась от какой-то вещи, которая ее тревожила и жгла руки. Она позаботилась больше не оставаться наедине с испанцем и не поощрять никаких стараний, которые он предпринимал, чтобы перевести беседу на нежные банальности любви. К тому же происшествие прервало все частные разговоры и отвлекло общество. Явился молодой цыган, прося повеселить именитую публику показом своих дарований, я даже верю, что пройдоха сказал «своего таланта». Едва его ввели, как д'Альвимар узнал молодого бродягу, который выполнял роль посредника между господином д'Арс и мавританкой на вересковых зарослях Шампилье и который объявил, что он француз и зовется Ла Флеш. Это был парень лет двадцати, Довольно красивый, хотя уже увядший от распутства, взгляд его был проницательным и дерзким, рот плоский и коварный, речь глупая, неблагоразумная и насмешливая, к тому же он был хорошо сложен при своем маленьком росте, ловок в движениях, как мим, с руками, как у вора, сообразительный во всем, что относилось к плохим делам, кретин в том, что касалось любой полезной работы или всех разумных доводов. Этот юноша соорудил из каких-то лохмотьев оригинальный костюм для выступления. И предстал в подобие генуэзского плаща с красной подкладкой, в отпугивающей шляпе, утыканной петушиными перьями, шляпе, у которой не было названия, не было формы, не было смысла, развалина, надменная и безнадежная. Поверх коротких сапог с неровными краями, один слишком большой, другой чересчур маленький для его ноги, виднелись штаны цвета скисшего отстоя красного вина. На груди неверующего красовалась охранная дощечка, всегда висящая на шее против обвинения в язычестве и черной магии. Бесцветно белокурые прямые волосы безумной длины падали на его худое лицо цвета красной охры, и небольшие усы соединялись двумя крюками из белесого пушка на гладком и блестящем подбородке. Он начал громким надтреснутым голосом: — Пусть высокопоставленная публика соизволит простить дерзость, которую я осмеливаюсь бросить к ногам их снисходительности. В самом деле, подобает ли такому тупице, как мне, со своей щетинистой физиономией, прорехами на камзоле и шляпою, которая уже давно настойчиво просится на службу к пугалу на конопляное поле, предстать перед дамой, глаза которой пристыживают свет солнца, чтобы явиться рассказывать здесь множество глупостей? Она мне скажет, возможно, чтобы вернуть мне храбрость, что я не создан ни крестьянином, ни молотильщиком, ни работником житницы, потому что речь вдет о батраках, которые подобны орехам, ведь чем больше их бьют, тем больше они приносят плодов. Она мне еще может сказать, что я не верзила, не вор, не щеголь, не хвастун, не фанфарон, не щелкопер, не забияка, не дикарь, что у меня довольно красивая внешность, несмотря на немного заурядную физиономию, но перед заслугами подобными, как у дамы, которую я вижу, и перед собравшимися господами, которые больше похожи на собрание монархов, чем на полный воз ярмарочных телят, самый храбрый в мире человек теряется и не есть более чем поток невежества, водосток глупостей и бассейн всех дерзостей… Мэтр Ла Флеш мог бы говорить два часа в таком стиле с нестерпимой говорливостью, если бы он не был прерван с тем, чтобы спросить его, что он умеет делать. — Все! — воскликнул негодяй. — Я могу танцевать на ногах, на руках, на голове и на спине, на канате, на жерди, на верхушке колокольни, как на острие копья, на яйцах, на бутылках, на мчащейся в галопе лошади, на мозгу, на бочке и даже на проточной воде, но это при условии, что кто-нибудь из собравшихся смог бы сидеть напротив меня на стоячей воде. Я могу петь и сочинять стихи на тридцати семи с половиной языках, если только кто-нибудь из здесь присутствующих смог бы мне ответить, не сделав ошибки, на тридцати семи с половиной языках. Я могу глотать крыс, пеньку, шпаги, огонь… — Довольно, довольно, — сказал нетерпеливый де Бевр, — мы знаем твои четки: это те же для всех болтунов вроде тебя. — По правде говоря, — ответил Ла Флеш, — я в этом деле большой мастер, и если ваши светлейшие милости захотят встать в очередь, я брошу жребий, чтобы знать, с кого начать, ибо судьба есть суровый дух, который не знает ни пола, ни звания собравшихся. — Итак, бросай жребий, вот мой залог, — сказал господин де Бевр, кидая ему серебряную монету. — А вы, дочь моя? Лориана бросила более крупную монету, маркиз — маленький золотой экю, Люсилио — медную монету и д'Альвимар — булыжник, сказав: — Поскольку я вижу, что залоги даются прорицателю, я нахожу, что он не заслуживает ничего, кроме как быть заброшенным камнями. — Берегитесь, — сказала ему Лориана, улыбаясь, — он предскажет вам лишь неприятности, ведь хорошо известно, что, когда предсказывают судьбу, это никогда не происходит иначе как за деньги. — Не думайте так, судьба — это мой господин, — сказал Ла Флеш, который перемешивал фанты в подобии копилки, и который вдруг стал говорить без разглагольствований и с фатальным видом. Он перевернул свою неописуемую шляпу, которая угрожала небу, как дерзкая башня, и надвинул ее на глаза, как мрачный враг веселья, он делал многочисленные гримасы, произнося слова, лишенные смысла, которые претендовали быть кабалистическими формулами и, отвернувшись, чтобы тайком творить свое грубое притворство, он показал свое лицо, бледное от пророческого вдохновения. Тогда он начертил на песке большой круг невежественных некромантов со всеми знаками астрологии перекрестков, затем он положил камень в центр и бросил туда копилку, которая, разбившись, рассыпала все содержимое на различные знаки, начерченные в отделениях. В этот момент д'Альвимар нагнулся, чтобы поднять свой камень. — Нет, нет! — закричал цыган, бросившись с ловкостью обезьяны и ставя кончик ноги на фант д'Альвимара, не стерев ни одного из знаков, окружавших его. — Нет, мессир, вы больше не можете воспрепятствовать судьбе. Она над вами, как и надо мной! — Разумеется, — сказала Лориана, протянув свою маленькую трость между д'Альвимаром и Ла Флеш. — Прорицатель — хозяин в этом магическом круге, и, приведя в беспорядок вашу судьбу, вы можете также расстроить и наши. Д'Альвимар подчинился, но все заметили странное волнение, которое его охватило, однако он тут же справился с собой.Глава двадцать вторая
Ла Флеш начал с фанта, ближайшего к центральному камню, который звался Синай. Это был фант Люсилио: он сделал вид, что измеряет углы, делает подсчеты и сказал в рифмованной прозе:Человек без языка и большого сердца,
Знающий нищету, есть победитель.
Не отдавайте никому вашего сердца,
От дьявола будет победитель!
Тот, чей это фант,
Если хочет услышать предсказанье
И хорошенько защититься от любви…
Глава двадцать третья
В то время, как цыган бежал в направлении севера, маркиз с д'Альвимаром и Люсилио поехали в обратную сторону по дороге в Бриант. Маркиз медлил сообщить своему верному Адамасу о том, что он рассматривал как счастливое завершение своей затеи. Все хорошо оценивая, он не был слишком расстроен семью годами ожидания, прежде чем сможет предпринять новое матримониальное решение. Д'Альвимар был весьма мрачно настроен не только по причине пророчеств, которые расшевелили его желчь и потревожили его мозг, но также и по причине спокойного прощания с ним со стороны мадам де Бевр, в то время как она протянула свои маленькие руки маркизу, весело обещая свой приезд на послезавтра. «Разве это возможно, — думал он, — чтобы она приняла деньги этого старика, и что я оказываюсь вытесненным соперником семидесяти лет?» Он имел большую охоту расспросить, поднять на смех, досадовать. Но не было возможности завязать разговор с Буа-Доре на этот предмет. Маркиз имел торжествующий вид, сдержанный и скромный. Д'Альвимар не мог отомстить за свое поражение, кроме как забрызгать грязью, что он и сделал только с мэтром Жовленом, едущим рысью позади маркиза. Едва приехав в замок, поскольку время ужина еще не наступило, он отправился пешком, чтобы побеседовать с господином Пуленом. — Итак, месье, — сказал, разувая своего хозяина верный Адамас, который в своем качестве камердинера почти никогда не покидал замок Бриант, — надо помышлять об обеде помолвки? — Точно, мой друг, — отвечал маркиз. — Нужно обдумать пораньше. — Правда, месье? Ну, я был уверен, и я так рад, что даже не знаю как. Представьте себе, месье, что эта рыжая дылда, которую вы звали Беллиндой и которой лучше было бы называться Тизифоной… — Ну полноте, Адамас, у вас настроение слишком невыносимое! Вы же знаете, что я не люблю слушать, когда оскорбляют лицо другого пола. Что еще было между вами? — Простите, мой благородный господин, но, возможно, эта подлая девица подслушивала у дверей и что она знает о мероприятии, которое месье предпринял сегодня. Значит в скором времени она будет смеяться, как чайка, с глупой экономкой священника. — Откуда вы это знаете, Адамас? — Я это знаю через колдовство, месье. — Через колдовство? И давно ли вы пристрастились к оккультным наукам? — Я скажу это, месье, я ничего не скрываю, но пусть месье соизволит тогда рассказать мне, как он действовал, раскрывая свои чувства несравненной даме своего сердца, и что она ответила, потому что я уверен, что ничего столь выразительного не говорилось под небом с тех пор, как мир есть мир, и я хотел бы уметь писать так же скоро, как мэтр Жовлен, чтобы это ложилось на бумагу по мере того, как месье будет мне рассказывать. — Нет, Адамас, ни слова не выйдет из моих уст, опечатанных клятвой доблестного рыцаря. Я поклялся не выдавать секрет моего блаженства. То, что я могу сказать тебе, мой друг, это что ты можешь радоваться теперь вместе с твоим хозяином и надеяться с ним на будущее! — Так, месье, это осуществлено, и..? Адамас был прерван легким кошачьим царапаньем в дверь. — Ах, — сказал он, заглянув, — это мальчик, который хочет с вами поздороваться. — Иди, дружок, его светлость увидится с тобой позже, он занят. — Да, да, Адамас, пусть он вернется! Это будет хорошо! Нет, нет, я больше не старый холостяк, который хочет жениться поскорее, чтобы добиться цели. Я молодой человек, Адамас, да, юный влюбленный, честное слово, нежно обреченный доказать свое постоянство через испытания, вздыхать и писать стихи, одним словом, ждать в томлении и радости надежды доброй воли моей государыни. — Если я хорошо понимаю, — продолжал Адамас, — это ревнивое божество питает некоторое недоверие к ветреному нраву моего господина, и она требует, чтобы он отказался от всех любовных приключений? — Да, да, это так, Адамас, должно быть это так! Немного недоверия! Это именно наказание за мою безрассудную юность, но я сумею отлично доказать свою искренность… Посмотри же за дверь, снова кто-то скребется! — Что, — серьезно сказал Адамас Марио, приоткрывая немного дверь, — это снова вы, мой шалун? Разве я не сказал вам подождать? — Я подождал, — ответил Марио своим нежным голосом, ласковым до шалости, — вы мне сказали: «Иди и возвращайся». Я дошел до конца другой комнаты и вот я вернулся. — Вот постреленок! — сказал маркиз. — Впусти его. Здравствуй, дружок, ну-ка, иди, поцелуй меня, а потом спокойно поиграешь с Флориалем. Я разговариваю о серьезных вещах с добрым господином Адамасом. Видите ли, Адамас, на послезавтра я договорился со своей несравненной соседкой. Надо позаботиться: это небольшой обед без церемоний, самое большее на четырнадцать персон. — Все будет так и сделано, месье, желаете, чтобы я позвал повара? — Нет, я вообще не люблю приказывать, и если кухней занимаются подходящие люди, они всегда справятся со своим делом. Помоги мне помечтать… — Откуда здесь взялся этот нож? — очень горячо спросил Марио, которого маркиз, добродушный и изрядно рассеянный, держал между своих ног и дозволил рыться у себя в карманах. — Ничего, ничего, — сказал маркиз, стараясь взять назад залог, который дала ему Лориана. — Верни-ка мне это, дружок, дети не трогают это. Видишь, это кусается! ну-ка верни! — Да, да, вот оно! — воскликнул Марио. — Но я видел уже, что у него сверху, и отлично знаю, кому он принадлежит. — Ты не можешь этого знать. — Нет, я знаю, это месье испанца, которого вы называете Виллареаль. Так это он вам его дал? — Что ты там бормочешь! Ты несешь чушь! — Нет, добрый господин! Я хорошо видел девиз, имеющийся на лезвии, он на испанском, и я хорошо его знаю. У моей матери Мерседес был точно такой же кинжал, где была такая же надпись. — И что означает этот девиз? — Я служу Богу. С.А. — И что означает С.А.? — Это должно быть первые буквы имени человека, которому принадлежит кинжал. Это как если кто-нибудь поставил их однажды около рукоятки. — Я это отлично знаю, но почему ты говоришь, что это кинжал месье испанца, которого зовут Виллареаль? Мальчик не ответил и казался в смущении. Он уже не был больше под бдительным и подозрительным взглядом мавританки. Он сказал слишком много того, чего не должен был говорить, но поздно вспомнил наставления Мерседес. — Мой Бог, сударь, — сказал Адамас. — Дети порой говорят, лишь бы говорить, не отдавая отчет в произнесенном. Мы же с вами поговорим о вещах серьезных. Ваш лесник, папаша Андош, принес сегодня связку птиц, которые из жира… — Да, да, ты прав, мой друг, поговорим об обеде. И все же я не знаю… я спрашиваю себя, как мог оказаться в кармане ее юбки этот испанский кинжал. — Кого ее, месье? — Ее, черт возьми! О ком же другом я могу отныне говорить? — Вы правы, простите, месье! Поговорим о кинжале. Я полагал, что это в самом деле дар господина де Виллареаля или что он одолжил его вам, потому что на самом деле он от него. Эти две буквы С.А. есть и на другом его оружии, которое весьма красиво, что я и отметил сегодня утром, когда его слуга чистил оружие. Маркиз погрузился в задумчивость. Откуда у Лорианы кинжал Виллареаля? Она получила его от него, поскольку она им распоряжалась, как своей собственностью. Напрасно он искал во всей родословной де Бевров, там не находилось ни одного имени, которое могло бы начинаться с инициалов С.А. — А, может быть, она, — сказал он себе, — заключила такое же соглашение с ним, как затем со мной? Он, однако, утешился, думая, что она очевидно не слишком придавала значения первому, потому что она пожертвовала подарок ему, но он оставался пребывать в некотором недоумении по поводу этих обстоятельств, и славный маркиз не был еще настолько безумен, чтобы не бояться стать объектом какой-то «насмешки». И потом то, что сказал мальчик, перепутало все мысли в его голове, и он не понимал, какие происки судьбы или какая мистификация окружала этот кинжал. Ему хотелось пойти объясниться тут же со своим гостем, но он вспомнил, что Лориана приказала ему спрягать ее подарок и никому его не показывать. Адамас увидел беспокойство на челе своего хозяина и заволновался. — В чем дело, месье, — спросил он, — и что может сделать ваш бедный Адамас, чтобы выручить вас из интриги? — Не знаю, мой друг. Хотел бы я знать, как случилось, что мавританка имела такое же оружие, как это, носящее тот же девиз и те же буквы. Затем, понизив голос, чтобы не услышал Марио, добавил: — Ты говорил мне и мне это кажется самому, что эта женщина весьма порядочная особа. Однако она похитила этот предмет у нашего гостя? Вот вещь, которую я не могу вынести, что в моем доме воровка. Адамас также разделял подозрения своего хозяина, тем более, что Марио, почувствовав, что он поступил необдуманно, сказав про кинжал, собирался выскользнуть из комнаты на цыпочках, чтобы избежать новых вопросов. Адамас задержал его. — Вы нам тут сказки рассказывали, мой славный друг, — сказал он ему, — и тем самым вы заслуживаете потерять благорасположение моего господина и повелителя. Этого не может быть, чтобы у вашей Мерседес была вещь, о которой вы говорили, или тогда… Маркиз прервал его, не желая, чтобы обвинение было произнесено в присутствии мальчика. — И давно, мой мальчик, — сказал он ему, — как у твоей матери есть этот кинжал? Мальчик прожил некоторое время с цыганами и знал, что такое воровство. Он был одарен к тому же необычайной проницательностью. Он понял подозрения, которые он навлек на свою приемную мать, и он готов был скорее ослушаться, но снять эти подозрения с матери, доказав ее невиновность. — Да, — сказал он, — довольно давно. И поскольку он произнес это уверенно и даже с гордостью, маркиз и Адамас почувствовали, что они смогут его разговорить. — Так значит господин де Виллареаль дал его ей? — спросил Адамас. — О, нет, он оставил его… — Где? — спросил маркиз. — Ну же, надо сказать, или я не стану больше верить вам, малыш. Где он его оставил? — В сердце моего отца! — ответил Марио, лицо которого выражало чрезвычайное волнение. У него было желание излиться, эта тайна давила его, он сказал первое слово, он не мог больше молчать. — Адамас, — сказал маркиз, охваченный внезапным волнением, — закрой дверь, а ты, малыш, иди сюда и рассказывай. Ты среди друзей, ничего не бойся, мы тебя защитим, мы добьемся для тебя справедливости. Расскажи нам все, что ты знаешь о своей семье. — Хорошо, — сказал мальчик, — если вы меня любите, нужно покарать господина де Виллареаля, потому что это он убил моего отца. — Убил? — Да, Мерседес это видела! — Когда это случилось? — В день, когда я появился на свет, в день, когда умерла моя мать. — И почему он убил его? — Чтобы иметь много денег и драгоценностей, которые были у отца. — Вор и убийца! — воскликнул маркиз, глядя на Адамаса. — Знатный человек! Друг Гийома д'Арса! Разве в это можно поверить? — Месье, — сказал Адамас, — дети сочиняют много сказок, и я думаю, что вот этот насмехается над нами. Краска залила лицо Марио. — Я никогда не вру! — сказал он с умилительной энергией. — Господин Анжорран всегда говорил: «Вот этот ребенок совсем не лгун». Моя Мерседес всегда говорила мне, что никогда не нужно врать, а лучше молчать, когда не хочешь отвечать. Поскольку вы заставили меня говорить, я говорю, что это правда. — Он прав, — воскликнул маркиз, — и я отлично вижу, что благородной кровью заполнено сердце этого красивого мальчугана! Говори же, я тебе верю. Скажи, как звали твоего отца? — Ах, вот этого я не знаю. — Честью клянетесь, дружок? — По правде, — ответил мальчик, — мою мать звали Марией, вот и все, что я знаю, и вот поэтому господин Анжорран дал мне при крещении имя Марио. — Но Мерседес сказала, я это отлично помню, — заметил Адамас, — что эта дама передала кюре обручальное кольцо, она говорила также о печати. — Да, — сказал Марио, — печать принадлежит моему отцу, внизу там был герб, но у нас ее украли не так давно. Что же касается кольца, то никогда господин Анжорран, ни моя Мерседес, которая все-таки очень ловкая, ни я, никто не мог открыть его. Однако внутри него что-то есть. Моя мать, которая умерла, ни произнеся ни слова, кроме имени, полученного при крещении, Мария, сделала знак кюре открыть ее кольцо. У нее не было сил этого сделать, но и он не сумел этого! — Пойди, принеси его, — сказал маркиз, — и мы, возможно, сможем! — О, нет! — воскликнул Марио испуганно. — Моя Мерседес не захочет, и если она узнает, что я рассказал, она будет очень огорчена. — Но все же, почему она прячет от нас то, что могло бы помочь тебе найти семью? — Потому что она думает, что вы послушаете испанца, и что он убьет ее, если поймет, что она его узнала. — А он что, до сих пор не признал ее? — Он не видел ее, поскольку она пряталась! — И она встречала его где-нибудь после этого гадкого дела? — Нет, никогда. — И спустя десять лет она уверена, что узнала его? Что-то сомнительно… — Она говорит, что уверена в этом, что он почти не постарел, что он всегда одевался в черное, и его старый слуга, она уверена, что он тот же самый. О, она их хорошо рассмотрела! Когда три дня назад мы повстречали их около другого замка, который недалеко отсюда… — Ах, да! Ну же, — сказал маркиз, — расскажите, как она его встретила. — Он был с красивым и добрым молодым вельможей, которого позже, я слышал, вы звали Гийомом, говоря о нем. Он дал тогда много монет цыганам, с которыми мы были. А испанец разозлился и хотел меня ударить. Мерседес сказала мне: — Это он! Послушай! Это он! А другой — его старый слуга, я тоже его узнала! И она побежала за ними, чтобы видеть до тех пор, пока господин Гийом не сказал нам, что это ему неприятно. Тогда Мерседес спросила его имя и имя его друга с тем, сказала она, чтобы молиться за них. Но господин Гийом не обратил на нас внимания, и цыгане пошли своей дорогой в другую сторону. Тогда Мерседес дала им уйти и сказала мне: «Мы повстречали убийцу твоего отца, я утверждаю это. Нужно узнать их имена». Тогда мы вернулись назад, мы просили милостыню в замке Ла-Мотт, и поскольку на нас не обращали внимания. Мерседес сказала мне, чтобы я слушал, что говорят слуги и крестьяне, и так мы узнали, что испанец будет жить у маркиза, поскольку маркиз послал за его каретой и приказал приготовить иностранцу комнату для почетных гостей. А потом мы разговаривали с одной пастушкой в поле. Ома нам сказала: маркиз хороший человек, вы можете пойти туда переночевать, к вам хорошо отнесутся, вон там его замок. И тогда мы тут же отправились сюда и со вчерашнего утра мы снова видели убийцу, двух убийц! А я видел буквы на пистолетах и на большой шпаге, которые держал слуга, и я тогда сказал Мерседес: покажи мне гадкий нож, которым был убит мой бедный отец, мне кажется, что там те же буквы, которые я видел. — И ты в этом уверен? — спросил маркиз. — Да, уверен, да вы и сами увидите, если Мерседес захочет показать вам. — А где она теперь? — Она с господином Жовленом, которого она очень любит, потому что он бросился за мной в воду. — Совершенно необходимо, чтобы Жовлен вытянул из нее ее секрет, — сказал маркиз Адамасу, — пойди за ним, чтобы я с ним поговорил. Адамас вышел и вернулся сказать, что Жовлен сейчас придет. — Он о чем-то очень оживленно беседовал с мавританкой; она говорила по-арабски, он записывал все, что она говорила, делая много жестов, которые она, казалось, понимала. Он сделал мне знак, что не может прерваться, — добавил Адамас, — я думаю, месье, что ему была доверена правда за доброту и убежденность, не будем его беспокоить. Он писал быстро, но она не очень хорошо читает даже на своем языке, и это удивительно видеть, как глазами и руками он заставляет понять себя. Потерпите, месье, мы что-нибудь будем знать. Ожидание в четверть часа показалось маркизу веком. Час приближался, прозвучал первый сигнал к ужину. Может быть, надлежало оказаться напротив Виллареаля не имея ничего проясненного. Буа-Доре находился в сильном волнении. Он вставал и снова садился, бормоча про себя бессвязные слова, что сильно интриговало Адамаса. Марио, думая, что на него сердятся, сидел задумчивый и озадаченный в углу. Флориаль, видя беспокойство своего хозяина, пристально следил за каждым его шагом и время от времени скулил, шевеля хвостом, как будто говоря ему: «Ну и что вы будете теперь делать?» Наконец Адамас отважился задать вопрос: — Месье, — воскликнул он, — вот вы имеете идею, которую вы скрыли от вашего слуги, и тем самым вы передали ему ваше огорчение еще более тяжелым. Скажите, месье, скажите Адамасу, что вы говорите сам себе, он не повторит никому ничего, как ночной колпак, и это вас настолько же облегчит. — Адамас, — ответил Буа-Доре, — я боюсь показаться сумасшедшим, потому что имеется в этом ребенке и в истории, которую он рассказал нам, что-то такое, что трогает меня больше, чём следует. Нужно, чтобы ты знал, что сегодня мне была рассказана моя судьба цыганами, и что в их пророчестве были слова довольно темные по смыслу, но которые могут тем не менее объясниться через сочувствие, которое я испытываю к этому несчастному мальчику. Мне говорили среди других странных вещей, что я через три месяца, три недели или три дня стану отцом. Однако я клянусь тебе, Адамас, что я не могу рассчитывать ни на какое прямое отцовство в такой короткий срок, ясно, что я должен стать отцом через усыновление. Но другие слова этого предсказания меня мучат больше, это то, что мне была раскрыта смерть моего брата, произошедшая именно в тот день, когда мавританка назвала гибель отца этого мальчика. Как понять это? Предсказательница говорила намеками и символически, но она назвала эту дату ясно, сделав расчет лет, месяцев и дней, которые прошли. И я, вспоминая это, сделал тот же самый расчет и попал именно на четвертый день после смерти нашего короля Генриха. Иди сюда, Марио, ведь ты сказал четыре дня?.. — Но, месье, — заметил Адамас, — не вы ли сами сказали вчера, что последнее письмо господина Флоримона датировано шестнадцатым июня и отправлено из города Генуи? — Это так, мой друг, но можно было спутать дату при написании и поставить одно слово вместо другого, это происходит со всеми! — Но, месье, ведь город Генуя находится в Италии и очень далеко от места, где, по словам этого ребенка, погиб его отец? — Несомненно, мой друг. Меня мучит очевидность вещей, и я не могу привести в порядок слова вещуньи и эти фантазии, куда я допустил тебя. Открой-ка сейчас сервант, где заперты дорогие реликвии моего брата, и это последнее письмо, которое я столько раз перечитывал, никогда не постигая его смысла! — Мой Бог, месье, — сказал Адамас, открывая выдвижной ящик и протягивая письмо своему хозяину, — все, что случилось, это все то, что должно было случиться, вы это отлично поняли и узнали со временем; господин Флоримон сообщил вам слишком мало нового по причине больших серьезных дел, которые он имел при дворе Италии, куда его отправил его хозяин герцог Савойский. Он вам говорил о своем путешествии, но умолчал о его цели, потому что это было запрещено ему политикой, которой он служил. Это последнее письмо вам докладывало о других поездках, из которых он только что вернулся, и вот, что он собственноручно писал вам: «Если вы не услышите ничего обо мне отсюда до осени, не беспокойтесь. Здоровье мое хорошее, и мои личные дела не в плохом состоянии». Дата подлинная, потому что начинает он, обращаясь к вам: «Месье и горячо любимый брат, вы должны получить мое последнее январское письмо, в течение этих пяти прошедших месяцев…» — Я все это знаю, Адамас, я знаю это наизусть и тем не менее, когда я был в Италии в 1611 году, я лично наводил справки о моем бедном брате, от которого больше не было вестей, и мне сказали, что он никогда не возвращался из поездки в Рим, куда он отбыл за пятнадцать месяцев до того. И когда я был в Риме, то уже более двух лет, как никто его там не видел. Я объехал всю Италию до 1612 года, не найдя никаких признаков, никаких следов до такой степени, что я вообразил себе, что он предпринял какую-нибудь длительную поездку в Индию или Вест-Индию по своим целям, и что я увижу его когда-нибудь, но, в конце концов, я должен был посчитать достоверным, что он зло убит разбойниками, которыми наводнена Италия, или что он погиб во время какого-нибудь шторма на море. Он не сколотил крупного состояния на службе у Савояра, однако же он никогда не жаловался, и я думаю, что он не часто сопровождал его в поездках. В конце концов я потерял надежду найти брата, но не потерял надежду узнать его судьбу и отомстить за него, если он злодейски погиб. Пока маркиз и Адамас беседовали, Марио, которым никто больше не занимался, проскользнул за кресло маркиза. Он слушал, он внимательно смотрел на письмо, которое Буа-Доре держал в руках. Он очень хорошо умел читать, как мы уже говорили, и даже написанное от руки, но он терзался большой тревогой, боясь ошибиться и быть еще раз обвиненным в том, что говорит, что попало. Наконец он уверился в своей правоте и воскликнул: — Подождите! Марио выбежал, полный решимости и радости, но маркиз, углубленный в свои размышления, не обратил на него никакого внимания. Марио уже знал комнату мэтра Жовлена, и там он нашел свою мать, которая собиралась уходить, не желая удовлетворить просьбу Жовлена — показывать кольцо и письмо, ревностной и недоверчивой хранительницей которых она была. Люсилио был так же, как и маркиз, поражен совпадением даты, закрепленной в памяти ребенка аббатом Анжорраном, с той, присвоенной маленькой цыганкой смерти Флоримона. Он нисколько не верил в магию, но так же, как он был удивлен именем Марио, произнесенным Ла Флешем, он боялся, чтобы маркиз не стал жертвой какого-нибудь фиглярства. Он начал подозревать саму мавританку, и его первой заботой по возвращении домой было вызвать ее на разговор в письменном виде со всей определенностью и строгостью. Он потребовал, чтобы она показала кольцо и письмо господина Анжоррана, о котором она говорила, и хотя женщина испытывала к нему большое уважение и симпатию, подобная настойчивость заставляла ее опасаться косвенного вмешательства д'Альвимара в допрос, которому она подвергалась, она была погружена в молчание, полное тревоги. Лишь только она увидела Марио, ее уязвленное сердце излило жалобу, которую она не осмеливалась адресовать непосредственно Люсилио. — Видишь, мое бедное дитя, — сказала она ему, — нас гонят отсюда, потому что нас обвиняют в том, что мы хотим ввести в заблуждение и рассказываем историю, каковой в действительности не было. Так вот, мы сейчас же уходим, с тем, чтобы знали, что мы не просим помощи ни у кого, кроме как у Бога и самих себя. Но Марио остановил ее. — Довольно уже не доверять, матушка, — сказал он, — нужно делать то, что нас просят. Дайте мне письмо, дайте мне кольцо, они мои, я хочу их сейчас же! Люсилио был поражен энергией ребенка, а ошеломленная мавританка некоторое время хранила молчание. Никогда еще Марио так не разговаривал с ней, никогда она не чувствовала в нем малейшей робкой попытки независимости, и вот он ей властно приказывает! Она боялась, она верила в какое-то чудо; вся сила ее характера пала перед фаталистской мыслью; она сняла со своего пояса кошель из кожи ягненка, куда она зашила драгоценные предметы. — Это не все, матушка, — сказал ей Марио, — мне нужен также и нож. — Тебе нельзя дотрагиваться до него! Этим ножом был убит… — Я знаю, я его уже видел, я хочу видеть его еще раз. Нужно, чтобы я к нему прикоснулся, и я прикоснусь к нему! Давай! Мерседес передала нож и сказала, сложив руки: — Если это дух противоречия заставляет поступать и говорить моего сына, то мы пропали, Марио! Он не слушал и, положив маленький кожаный мешочек на стол Люсилио, ловко распорол его кинжалом, из него он извлек кольцо, которое надел на свой большой палец, и письмо аббата Анжоррана господину де Сюльи, с которого сорвал печать и шелк к огромному огорчению Мерседес. Проделав это, он открыл послание и вытащил запачканную и измаранную бумагу, поцеловал ее, рассмотрел внимательно, затем, воскликнув: «Идем, матушка! Идемте, господин Жовлен!» он устремился по лестнице, вернулся в комнату маркиза, стремительно выхватил из его рук письмо, сравнил почерк и, положив все, что он имел, в руки Адамаса — письмо, кольцо и кинжал, вскочил на колени маркиза, обвил руками его шею и принялся так крепко обнимать его, что добрый месье сделался как бы задавленным на какое-то мгновение. — Ну же, полноте! — произнес наконец Буа-Доре, немного сердитый от подобной фамильярности, каковой он не ожидал и каковая подвергала серьезной опасности его завивку, — сейчас не время для такой игры, мой добрый друг, и вы осмелились на такую вольность… Что это вы нам принесли? И почему? Но маркиз остановился, видя залитого слезами Марио. Мальчик поддался вдохновению, он имел доверие, но ум других не работал столь же быстро и столь же верно, как его; сомнение, страх и стыд завладели им. Он ослушался Мерседес, которая плакала и дрожала. Люсилио посмотрел на него внимательным взглядом, который вызвал в нем робость, маркиз отверг его пылкое объятие, а ошеломленный Адамас не мог без колебания удостоверить схожесть почерка. — Ну же, не плачьте, мое дитя, — сказал возбужденный маркиз, беря из рук Адамаса письмо своего брата и смятую истрепанную бумагу, которую принес Марио. — Что с тобой, Адамас, и почему ты так дрожишь? А что это за бумага, испачканная черным? Мой Бог! Да это же следы крови! Придвиньте свечу, Адамас, ну же!.. Ах! мои друзья! Ах, господь Бог, который на небесах! Жовлен! Адамас! Взгляните сюда! Уж не галлюцинация ли у меня? Этот почерк, это действительно почерк моего дорогого брата? А эта кровь… Ах, мои друзья! Как трудно глядеть на это… Но… Марио… откуда ты это взял? — Читайте, читайте, месье, — воскликнул Адамас, — и вы убедитесь… — Я не могу, — сказал маркиз, который стал бледным, — мне нужно мужество! Откуда взялась эта бумага? — Ее нашли у моего отца, — сказал Марио, обретя храбрость, — взгляните, не то ли это письмо к вам, которое он хотел отправить. Господин Анжорран заставлял меня читать его по много раз, но на нем не было вашего имени внизу, и мы не знали, кому оно предназначалось. — Твой отец! — повторял маркиз, как бы выходя из грез, — твой отец!.. — Читайте же, месье, — воскликнул Адамас, — и вы убедитесь. — Нет, не сейчас, — сказал маркиз. — Если это сон, который мне снится, я не желаю, чтобы он кончался. Позвольте мне представить, что этот красивый ребенок… Иди же сюда, малыш, в мои объятия… А ты, Адамас, читай, если можешь, я же не в состоянии! — Я сам прочитаю, я знаю его наизусть, — сказал Марио, — следите глазами.«Месье и горячо любимый брат, Не обращайте внимание на письмо, которое вы получите от меня после этого, и которое я писал вам из Генуи, датированное шестнадцатым числом будущего месяца, предвидя долгое и опасное отсутствие, которое могло вас встревожить, я пожелал успокоить вас предварительным письмом и таким образом предотвратить ваши попытки разыскать или просто осведомиться обо мне в этой стране, где я и желал бы, чтобы мое отсутствие не было вовсе замечено. Поскольку, слава Богу, мне здесь более счастливо, чего я не ожидал, рассчитывая на трудности и опасности, я хочу вас с этого дня информировать о моих похождениях, которые я наконец могу рассказать вам, ничего не скрывая и не утаивая, сохранив, однако, подробности для очень скорого и очень желанного момента, когда я буду рядом с вами вместе с моей достойной и любимой женой, и если Бог это позволит, с ребенком, который в скором времени появится на свет! Сегодня вам достаточно знать, что, тайно женившись в прошлом году в Испании на красивой и знатной даме, вопреки воле ее семьи, я должен был покинуть ее по причине службы моему принцу, и вернуться не менее тайно к ней, чтобы похитить ее от строгости ее родителей и сопроводить ее во Францию, куда мы наконец вступили сегодня при помощи предпринятых предосторожностей. Мы рассчитываем остановиться в По, откуда я отправлю вам это письмо в ожидании того, что я сообщу вам, если будет угодно небу, о благополучных родах моей жены и где у меня будет время, которого не хватает в этот момент, чтобы рассказать вам…»Здесь письмо было прервано какой-то непредвиденной заботой. Оно было сложено и взято с собой в камзол путника, чтобы быть законченным и запечатанным, возможно, в По, и доверено курьеру, которые кое-как несли в эту эпоху почтовую службу в незначительных городках.
Глава двадцать четвертая
Буа-Доре очень плакал, слушая это чтение, которое устами Марио проникало еще глубже в его сердце. — Увы! — сказал он. — Я зачастую обвинял его в забывчивости, а он думал обо мне со своего первого дня радости и безопасности! Он несомненно собирался доверить мне свою жену и своего ребенка, и я не старился бы один и без семьи! Но что же, покойся в мире на груди Господа, мой бедный друг! Твой сын будет моим и в моем горе так жестоко потерявшего тебя, я, по крайней мере, имею это утешение, ниспосланное Господом — твое живое подобие! Потому что его наружность и его изящество, мой друг Жовлен, мое сердце взволновалось с первого взгляда, который я бросил на этого ребенка. А теперь, Марио, обнимемся, как дядя и племянник, каковыми мы являемся, или, скорее, как отец и сын, которыми мы должны быть. На этот раз маркиз уже не беспокоился о своей завивке, он горячо обнял своего приемного сына с радостью, которая сменила у него мучительные воспоминания, воскрешенные письмом. Между тем Мерседес, которую подозрения Люсилио глубоко опечалили, сочла важным теперь заставить удостоверить правду во всех ее подробностях. — Дай им кольцо, — сказала она Марио, — может быть, они смогут открыть его, и ты узнаешь имя своей матери. Маркиз взял это массивное золотое кольцо и попытался повернуть, но он, человек изобретательный и знакомый со многими тайнами, никак не мог найти способ его открыть. Ни Жовлен, ни Адамас тоже не смогли открыть кольцо, и все решили, что пока следует отступиться от этого. — Ба! — сказал маркиз Марио, — не будем смущаться. Ты сын моего брата, вот то, в чем я не могу сомневаться. По его письму, ты принадлежишь к роду более знатному, чем наш, но нам нет нужды знать твоих испанских предков, чтобы нежно любить тебя и радоваться тебе! Тем временем Мерседес все плакала. — Что с этой бедной мавританкой? — спросил маркиз Адамаса. — Месье, — отвечал тот, — я не понимаю, что она сказала мэтру Жовлену, но я хорошо вижу, что она боится, что не сможет остаться подле своего ребенка. — А кто ей в этом помешает? Неужели я, который обязан ей такой радостью и благодарностью? Подойди, славная мавританская девушка, и проси у меня чего хочешь. Если вам нужен дом, земля, стада, слуги, видеть доброго мужа по вашему вкусу, у вас все это будет, или я потеряю свое имя! Мавританка, которой Марио перевел эти слова, отвечала, что она не просит ничего, кроме как возможности работать, чтобы жить, но в месте, где она сможет видеть своего дорогого Марио каждый день. — Согласен! — сказал маркиз, протягивая ей обе руки, которые она покрыла поцелуями. — Вы останетесь в моем доме, и если вам нравится видеть моего сына влюбое время, вы сделаете мне приятное, потому что никакая другая женщина, кроме вас, не сможет заботиться о нем так хорошо, как его холили вы. А теперь, мои друзья, поздравьте меня с великим утешением, которое ко мне пришло, и которое, вы это знаете, Жовлен, сообразуется во всех частях с предсказанием. Вслед за этим он обнял Люсилио и даже, в первый раз в своей жизни, верного Адамаса, который записал золотыми буквами этот славный факт на своих дощечках. Затем маркиз взял на руки Марио, поставил его на стол посередине комнаты и, отойдя на несколько шагов, принялся его рассматривать, словно прежде не видел. Это была его собственность, его наследник, его сын, самая большая радость в его жизни. Он оглядел его с головы до пят, улыбаясь со смесью нежности, гордости и ребячества, как будто он был картиной или великолепным предметом меблировки; и поскольку он уже чувствовал себя отцом и не хотел вызывать смешное тщеславие в этом благородном ребенке, он сдержал свои восклицания и только сиял большими черными глазами, сверкал зубами в широкой улыбке, поворачивая с готовностью голову направо и налево, словно желая сказать Адамасу и Люсилио: «Что! Каков мальчик, какова наружность, какие глаза, какая осанка, какая миловидность, какой сын!» Два его друга разделяли его радость, а Марио переносил испытание с нежным и уверенным видом, будто бы, говоря им: «Можете меня рассматривать, вы не найдете во мне ничего плохого», и, казалось, говоря старику в отдельности: «Ты можешь любить меня из всех твоих сил, я тебе за это хорошо отплачу». И когда экзамен был закончен, они снова обнялись, как будто хотели проявить в одном этом объятии все объятия, которых детство одного и старость другого были лишены. — Видите, мой большой друг, — сказал маркиз Люсилио в своей радости, — не надо насмехаться над прорицателями, потому что это по звездам они нам предсказывают нашу судьбу. Вы качаете вашей хорошей и большой головой? Вы думаете все-таки, что наша планета… Славный маркиз попытался изложить некую систему на свой манер, где астрономия, которой он восхищался, была немного подкреплена астрологией, которой он восхищался еще более, если бы Люсилио не прервал его запиской, где он просил сообщить ему о способах раскрыть убийство его брата. — А вот в этом вы весьма правы, — сказал Буа-Доре, — и псе же в этот день ликования, не похожий ни на какой другой, мне нелегко думать о каре. Но я должен и, если вам угодно, мы обсудим это вместе. — Ну-ка, Адамас, пойди и скажи господину де Виллареалю, что прошу извинить меня за опоздание к ужину, и в особенности мы не дадим знать пока никому в доме о великом возвращении утраченного, случившемся с нами… Иди же, мой друг… Что ты там делаешь? — добавил он, глядя на Адамаса, который смотался в большое зеркало, оправленное в раму золотого плетения, делая при этом странные гримасы. — Ничего, месье, — ответил Адамас, — я изучаю мою улыбку. — И с какой же целью? — Не кстати ли будет, месье, чтобы я сделал злодейскую физиономию, разговаривая с этим мерзавцем? — Нет, мой друг, чтобы так думать, нужно лучше изучить случившееся, а это мы и будем делать. В этот момент Клендор постучал в дверь. Он сообщил от имени господина де Виллареаля о недомогании и желании не покидать своей комнаты. — Это к лучшему, — сказал маркиз Адамасу, — я пойду нанесу ему визит. После чего мы начнем расследовать его дело между нами. — Вы не пойдете один, месье, — сказал Адамас. — Кто знает, не притворство ли эта болезнь и не устроит ли этот мерзавец, предупрежденный своим сознанием, какую-нибудь ловушку для вас? — Ты говоришь вздор, мой дорогой Адамас. — Если он убил моего бедного брата, то, конечно, он не знал его имени, поскольку он общался со мной без беспокойства. — Но взгляните на этот кинжал, дорогой хозяин! Вы еще не видели этого доказательства… — Увы! — сказал Буа-Доре. — И ты думаешь, что я могу хладнокровно его разглядывать? Люсилио посоветовал маркизу увидеть своего гостя, прежде чем что-либо прояснится, чтобы быть вполне спокойным, скрывая от него свои подозрения. Адамас позволил маркизу пойти, но проскользнул за ним до двери испанца. Д'Альвимар действительно был болен. У него случались нервные мигрени, очень сильные, которые вызывали приступы гнева. Он поблагодарил маркиза за его заботу и умолял его не беспокоиться о нем. Ему ничего не было нужно, кроме диеты, тишины и отдыха до следующего дня. Буа-Доре поручил Беллинде тайно наблюдать за тем, чтобы у гостя всего хватало, и он воспользовался этим визитом, чтобы рассмотреть лицо старого Санчо, на которого он еще не обращал внимания. Длинный, худой и мертвенно-бледный, но костистый и сильный, старый свинопас сидел в глубоком проеме окна, читая при последнем свете дня аскетическую книгу, с которой он никогда не расставался и которую не понимал. Произносить губами слова этой книга и машинально читать наизусть по порядку, таким было его главное занятие и, казалось, его единственная радость. Буа-Доре украдкой наблюдал то за хозяином, распростертым на постели с удрученным видом, то за слугой, спокойным, суровым и набожным, монашеский профиль которого выделялся на оконном стекле. «Это не разбойники с большой дороги, — подумал он. — Что за черт! Этот молодой человек, белый и тонкий, на вид добрый, как барышня… Правда, недавно он сердился на цыган, и вчера, когда он выступал против мавров, у него не было такого благодушного вида, как обычно. Но этот старый оруженосец с бородой капуцина, читающий свою набожную книгу с такой сосредоточенностью… Правда, никто не походит так на порядочного человека, как мошенник, который знает свое ремесло! Итак, моего вторжения тут недостаточно, надо взвесить факты». Он вернулся во флигель, который был предназначен целиком для его апартаментов, каждый этаж состоял из одной большой комнаты и одной поменьше: на первом этаже столовая с буфетной для обслуживания, на второй — гостиная и будуар, на третьем — спальня владельца замка и еще один будуар, на четвертом — большой зал, так называемый Зеленый зал[299], тот, который Адамас украшал порой именем зала правосудия, на пятом — свободные и незаконченные апартаменты. В пристройке, присоединенной сбоку от этого небольшого здания, находились комнаты Адамаса, Клендора и Жовлена, сообщаясь с комнатами большого дома: так без насмешки простодушно называли в деревне маленький особняк маркиза. Он нашел всех своих собравшимися в Зеленом зале и только тогда он вспомнил, что мавританка посреди общего возбуждения получила доступ в его комнату. Он был признателен Адамасу перенести заседание за пределы его убежища. Он видел Жовлена, занятого записыванием, и не желая беспокоить его, он сел и ознакомил с письмом, адресованным аббатом Анжорраном господину де Сюльи, с целью довести его до обнаружения семьи Марио. Это письмо было написано немного времени спустя после смерти Флоримона, господин Анжорран еще не знал о смерти Генриха IV и о том, что де Сюльи в немилости. Это была копия, которую аббат сохранил и передал Марио с письмом, недописанным Флоримоном. Это письмо аббата, или, скорее, эти мемуары содержали очень точные подробности убийства фальшивого разносчика, такие, которые аббат получил из уст Мерседес и подтвержденные разными признаками. Во всем этом ничто не разоблачало мнимую виновность д'Альвимара и его слуги. Убийцы остались неизвестными. Один и другой, это правда, были описаны довольно точно в свидетельских показаниях мавританки, отраженных в этих мемуарах, но эта женщина, которая теперь уверяла, что узнала их, могла вполне ошибаться, и ее обвинения было недостаточно, чтобы осудить их. Каталанский нож, орудие преступления, сопоставимый с тем, который дал Марио, был доказательством более убедительным. Эти два оружия были если не одинаковые, то по крайней мере столь похожие, что на первый взгляд их едва можно было различить один от другого. Буквы и девиз были выполнены одной рукой и лезвия одного изготовления. Но Флоримон мог быть убит оружием, украденным у господина де Виллареаля или потерянным им. Ничто не доказывало, что оба кинжала принадлежат этому иностранцу. И наконец буквы, виденные Марио, Мерседес и Адамасом на другом оружии испанца, могли не быть его, поскольку в итоге он был представлен Гийомом под именем Антонио де Виллареаль.Глава двадцать пятая
Справедливый Буа-Доре громко высказывал свои размышления Адамасу, когда Жовлен дал ему лист, на котором он только что закончил писать. Это был короткий рассказ о том, что произошло утром в Ла-Мотт-Сейи, между Лорианой, испанцем и им: нож злобно метали неоднократно, чтобы запугать или прервать, затем вонзили в утробу волчонка и наконец передали как залог в знак повиновения и раскаяния мадам де Бевр прямо на глазах у Жовлена. — В таком случае это становится серьезным! — произнес маркиз, все более погружаясь в задумчивость. — И я вижу в Виллареале очень злого человека. Однако, возможно, это оружие не являлось его собственностью десять лет назад, и что он получил его потом в дар или в качестве наследства. Возможно, он родственник или друг убийцы, негодяи и подлецы встречаются и в самых лучших семьях. Как и у вас, мэтр Жовлен, у меня плохое мнение о нашем госте, но я уверен, что вы, как и я, хорошенько подумаете прежде, чем вынести приговор на основе этих доказательств. Люсилио сделал знак, что согласен и посоветовал маркизу постараться заставить убийцу признаться в хитро подстроенной и неожиданной для него ситуации. — Вот о чем мы подумаем тщательно, — сказал Буа-Доре, — и вы мне в этом поможете, мой большой друг. Пока что мы должны идти ужинать, и поскольку мы будем одни среди своих, мы можем доставить себе радость поесть с нашим маленьким будущим маркизом. — И все же, месье, если вы мне доверяете, — сказал Адамас, — мы оставим еще сегодня вещи как они есть. Беллинда — злой бич, и я нахожу, что она очень дружит с домом священника, кухней плохих замыслов против всех нас. — Ну же, Адамас, — сказал маркиз, — что же произошло такого обидного между домом священника и тобой? — Знаете, месье, что и я тоже обращаюсь к помощи магии. Сегодня утром, едва вы уехали, как некий Ла-Флеш, несомненно тот цыган, которого вы видели днем в Ла-Мотт, рыскал вокруг замка и предлагал рассказать мне о хорошем событии. Я отказался: я страшно боюсь предсказаний, и я сказал, что зло, которое должно к нам прийти, приходит к нам дважды, если мы о нем знаем заранее. Я довольствовался тем, что спросил у него, кто украл у меня ключ от шкафа с напитками, и он мне ответил, не раздумывая. — Та, которую вы подозреваете. — Назови ее, — настаивал я, хорошо зная, что это была Беллинда, но желая испытать знание этого ловкого пройдохи. — Звезды мне это запрещают, — отвечал он, — но я могу вам сказать, что делает в момент, когда мы разговариваем, лицо, которое вы не любите. Она находится у приходского священника, где она насмехается над вами, говоря, что вы вбили в голову владельца этого замка жениться на молодой госпоже… — Замолчите, Адамас, замолчите, — воскликнул стыдливо маркиз, — вы не должны повторять всякую ерунду!.. — Да нет же, месье, нет, я ничего не говорю, но желая знать, правду ли сказал чародей, когда он ушел, я отправился туда, как если бы прогуливался вдоль дома священника, где я увидел Беллинду в окне с экономкой, которые обе смотрели смеясь и надо мной тайком издевались. Жовлен спросил, входил ли этот цыган в замок. — Он очень хотел, — сказал Адамас, — но Мерседес, которая видела его из кухни, не показываясь ему, меня умоляла не впускать его, говоря, что он предрасположен к воровству, и я не позволил ему войти во двор. Он осмотрел дверь с большим волнением, и поскольку я спросил у него, что он там видит, ответил мне: — Я вижу, большие события скоро произойдут в этом доме, такие большие и такие удивительные, что я должен сообщить об этом вашему хозяину. Дайте мне поговорить с ним. — Вы не сможете, — сказал я ему, — его нет дома. — Я это знаю, — ответил он. — Он в Ла-Мотт-Сейи, где я попытался видеть его, но, поскольку я там не мог поговорить с ним без свидетелей, я пришел сюда и поистине, если вы мне еще откажете войти, вы будете сожалеть об этом дне, потому что судьбы находятся в моих руках. — Все это замечательно, — сказал простодушно маркиз. — Событие, о котором он мне предсказал, оно уже произошло, и я теперь сожалею, что не расспросил его прежде. Если он вернется, Адамас, приведите его ко мне. — Не скажете ли вы мне, мой дорогой Марио, что это умный парень? — Очень забавно, — ответил Марио, — но моя Мерседес не любила его. Она считала, что это он украл у нас печать моего отца. Я так не думаю, потому что он помогал нам искать ее и требовал ее у других цыган. Казалось, он нас очень любит, и он делал все, о чем мы его просили. — А что было на той печати, мое дорогое дитя? — Герб. Подождите! Господин аббат Анжорран рассматривал его через стекло, которое позволяет видеть большим, потому что это было так мелко, что ничего не различалось, и он мне сказал: — Запомни так: от серебра к зеленому дереву. — Это так, — сказал маркиз, — это герб моего отца! Это был бы и мой герб, если бы король Генрих не сочинил бы мне другой на свой лад. — И один, и другой, — написал Люсилио, — вырезаны на двери внутреннего двора. Спросите мальчика, видел ли он их, когда пришел сюда. — А как он мог их видеть? — воскликнул Адамас, который прочитал слова Люсилио в то же время, как и его хозяин. — Каменщики, которые ремонтировали арку, установили сверху свои леса! — А сегодня утром, — продолжал писать Люсилио своим карандашом, — когда цыган рассматривал эту дверь, он мог видеть гербы? — Да, — ответил Адамас, — гербы были освобождены, и каменщики работали в другом месте. Гербы подновили… Но, как я думаю, мэтр Жовлен, этот Ла-Флеш должен знать что-нибудь из истории нашего дорогого мальчика, поскольку они вместе странствовали? — Я не думаю, — сказал Марио, — мы никогда никому ни о чем не говорили. — Но вы говорили об этом с Мерседес? Ла-Флеш знает арабский язык? — написал Люсилио. — Нет, он знает испанский, а я с Мерседес всегда говорил на арабском. — А в таборе этих цыган не было кого-нибудь еще из мавров? — Была маленькая Пилар, которая понимала по-арабски, потому что она дочь мавра и цыганки. — Итак, — написал Люсилио маркизу, — откажитесь от веры в сверхъестественное. Ла-Флеш хотел воспользоваться обстоятельством. Он знал до определенной степени историю Марио, он узнал вашу в стране, о вашем пропавшем брате десять лет назад. Он украл печать. Он узнал герб на двери. Он сопоставил даты. Он угадал, предчувствовал или предположил всю правду. Он отправился в Ла-Мотт, чтобы сообщить вам свое предсказание, которое он заставил выучить наизусть маленькую цыганочку. Сегодня вечером или завтра он принесет вам печать, думая, что он один распутает тайну, которую вы теперь знаете, и рассчитывает на крупное вознаграждение. Это жулик и интриган, ничего больше. Нелегко было маркизу признать объяснения такие естественные и такие очевидные, однако он подчинился. Адамас еще боролся. — А как вы объясните, — обратился он к Люсилио, — то, что он мне рассказал о Беллинде и доме священника? Люсилио ответил, что с большим удовольствием. Беллинда подслушивала накануне у дверей комнаты маркиза, Ла-Флещ подслушал утром у двери или под окнами кюре. — Вы трезво обо всем рассуждаете, — воскликнул маркиз, — и я вижу теперь, что нет тут никакой другой магии, кроме воли святого провидения, которое привело с этим ребенком истину и радость в мой дом. А теперь ужинать! И у нас сразу же будет ясный ум. На этот раз маркиз ужинал быстро и без удовольствия. Он чувствовал себя выслеживаемым Беллиндой, которая не имела больше возможности подслушивать в потайном коридоре, поскольку Адамас воспользовался присутствием каменщиков в доме и велел днем замуровать коридор, но любопытная и недоброжелательная Беллинда отметила долгие беседы маркиза и Жовлена с Мерседес и малышком, закрытые двери при этих разговорах, и особенно важный и торжествующий вид Адамаса, каждый взгляд которого, казалось, говорил: «Вы ничего не узнаете!» Она не была настолько сообразительна, чтобы догадаться, что произошло. Она думала, что маркиз, давая продолжение своим матримониальным намерениям, готовит с «египтянами» увеселение для маленькой вдовы. Здесь не было ничего, что могло бы сослужить ей пользу против Адамаса, личного врага, но она испытывала против него и против мавританки ревность и только искала случая отомстить им. Когда Буа-Доре был один с Жовленом, они согласовали и составили план действия на завтрашний день против д'Альвимара. Письмо господина Анжоррана было внимательно перечитано и обсуждено. Затем славный Сильвен, который не любил погружаться в серьезные и грустные дела, велел позвать своего наследника и провел вечер, болтая и играя с ним. Его восхищала прелесть детства, и в этом он действительно был похож на своего дорогого государя Генриха IV, не думая ему подражать. — Вот что, — сказал он Адамасу, когда увидел, что сон утяжелил шелковые веки Марио, — нужно вернуть мавританку, чтобы она еще эту ночь позаботилась о нем. Но завтра, когда мы прольем свет на дело этого Виллареаля и больше не будет надобности утаивать правду, я хочу, чтобы мой наследник имел свою постель в будуаре моей комнаты. Иди, мое дитя, — сказал он Марио, — посмотри это маленькое гнездо, все золото и шелк, которое ждет только благородного господина, такого как вы! Вам нравится эта шелковая ярко-розовая обивка и эти маленькие предметы обстановки, инкрустированные перламутром? Не кажется ли вам, что они предназначены для особы вашего роста? Нужно будет, Адамас, устроить постель, которая будет шедевром. Что ты скажешь о квадрате на витых колоннах из слоновой кости с большим букетом розовых перьев в каждом углу? — Месье, — сказал Адамас, — когда мы успокоимся, я направлю свой ум на этот вопрос, чтобы вас удовлетворить, потому что ничего нет слишком красивого для вашего наследника. И мы подумаем также об его одежде, которая должна быть соответствующей его положению. — Я уже думал об этом, Адамас, я уже думал! — воскликнул маркиз, — и я хочу, чтобы его гардероб был во всем похож на мой. Ты позовешь ко мне лучших портных, белошвеек, сапожников, торговцев шляпами и перьями — самых искусных в стране, и в течение месяца я хочу, чтобы перед моими глазами, день и ночь, если необходимо, трудились над экипировкой моего племянника. — А моей Мерседес, — сказал Марио, прыгая от радости, — ей тоже дадут такие красивые платья, как у Беллинды? — И у Мерседес будут красивые платья, платья из золота и серебра, если такова твоя фантазия… И это заставляет меня задуматься… Послушайте, дорогой Жовлен, мне кажется, что эта женщина красива и еще молода. Не полагаете ли вы позволить ей здесь надеть снова костюм мавританки, который очень галантен за исключением вуали, которая чересчур исламская? Раз это славное создание настоящая христианка в данный момент, и раз мы живем в стране, где народное никогда не рассматривалось как мавританское, этот костюм не будет шокировать ничьих взглядов и порадует наши. Что на этот счет говорит ваша мудрость? Мудрость Люсилио позволяла ему понять, что исправить этого старого ребенка невозможно, следует примириться и любить его таким, каков он есть. Философ желал бы для начала новой судьбы Марио не тревожить его столькими украшениями и роскошью, а лучше бы объяснили его новые обязанности, которые он должен выполнять. Он утешился, заметив, что ребенок меньше упивается обладанием вещей, чем радуется и умиляется выражениям расположения и ласкам, обращенным к нему. На другой день д'Альвимар, который не спал ночь, попросил через Беллинду, которая охотно ухаживала за ним, разрешения не появляться раньше полудня. Маркиз нанес ему еще один короткий визит и был поражен, как исказились черты его лица. Под ударом ужасных предсказаний, которые были ему сделаны, ему виделись кошмары. Наконец дневной свет дал войти надежде в его душу и он продремал часть утра.Глава двадцать шестая
Маркиз воспользовался этой отсрочкой, чтобы вернуться к своему плану относительно туалетов. Он поднялся с Марио и Адамасом в незанятый зал, который был на пятом этаже, то есть над Зеленой комнатой. Этот незаконченный зал предлагал беспорядок сундуков и шкафов. Когда висячие замки и крышки были подняты и створки раскрыты, Марио показалось, что он очутился в волшебной сказке. Здесь были блестящие ткани, ослепительные галуны, ленты, кружева, перья и украшения, богатые обивочные материалы, кожи из Кордовы, разобранная мебель совсем новая и готовая к сборке, шкатулки, заполненные драгоценными камнями, превосходная живопись на стекле, которая лишь ожидала соединения, прекрасные мозаики из эмали, пронумерованные в штабелях, штуки тонкого полотна, громадные гипюровые гардины, решетки из золота и серебра, наконец комплект трофеев, которые маркиз рассматривал как законно приобретенные с оружием в руках. Эта груда доспехов называлась в доме склад, чулан. Предполагалось, что здесь сохраняется избыток предметов меблировки, негодные вещи, обрезки. Адамас один был посвящен в содержимое этих удивительных сундуков и называл все в этом зале сокровище или аббатство. Здесь имелись не модные безделушки, как в комнатах маркиза, но предметы искусства или промышленности огромной ценности и великой красоты, некоторые очень старые и от этого более ценные: ткани, способ изготовления которых был уже утерт, оружие всех видов и из всех стран, некоторые хорошие картины и драгоценные рукописи и т. д. Все это редко видело дневной свет, маркиз опасался возбудить алчность некоторых соседей и не давал выходить своим богатствам из склада, кроме как мало-помалу и с правдоподобием недавнего приобретения. Среди всех этих чудес маркиз выбирал то, что годилось для экипировки Марио, который был привлечен выражать свое мнение и вкус относительно цвета. Буа-Доре тем временем выбирал материалы и отдавал распоряжения Адамасу, который должен был разбирать предметы у него на глазах. В отношении туалета Адамас имел способность. Можно было положиться на него, и в случае надобности он удачно справлялся с этой работой. Колонны и карнизы из слоновой кости, предназначенные для постели мальчика, были найдены после некоторых поисков. — Я отлично знал, что здесь есть что-то в этом духе, — сказал маркиз, улыбаясь. — Эта превосходная работа относилась к парадному балдахину в часовне аббатства Фонтгомбо, где я был аббатом, то есть господином по праву завоевания в течение двух недель. Когда я завладел им, я вспоминаю, что сказал себе: «Если новый аббат Фонтгомбо может скоро стать отцом, это будет балдахин, достойный его первенца!» Но, увы, мой друг, я не унаследовал ничего из добродетелей монахов, и мне понадобилось, чтобы заиметь сына, найти его чудом в моем зрелом возрасте. Не важно! От этого он стал мне только дороже, и он будет спать своим ангельским сном под покровом Девы из Фонтгомбо. Воспоминания маркиза были прерваны приходом Ла-Флеша, желающего поговорить с ним. Тщательно были закрыты сундуки и двери сокровищницы, и плута решили принять на заднем дворе. Стояла хорошая погода, и Жовлен придерживался мнения не пускать в дом интригана такого сорта. Расчет Жовлена был верен. Ла-Флеш принес печать, которую он увидел в руках маленькой Пилар, он хотел также раскрыть тайну рождения Марио и убийства Флоримона господином де Виллареалем. Ему дали выговориться, а когда он закончил, его выпроводили, дав ему экю за труд, который он совершил, чтобы принести печать, но сделали вид, что ничего не поняли в его истории, не поверили ему и сочли, что очень плохо, что он позволил обвинить господина де Виллареаля, против которого в действительности нет другого доказательства, кроме как волнения и восклицаний мавританки, когда она подумала, что узнала его в вересковых зарослях Шампилье. В этом маркиз по совету Люсилио действовал мудро. В случае, если бы он принял обвинение, Ла-Флеш был вполне способен предупредить испанца, с тем чтобы извлечь из этого двойную выгоду. Ла-Флеш, сильно недовольный своим фиаско, удалился, повесив голову, а когда он шел вдоль наружной стены сада Галатеи, он услышал, что его зовет нежный голос. Это был Марио, которого маркиз не хотел допускать к этой беседе, желая, чтобы все отношения между его наследником и цыганом были прерваны безвозвратно. Мальчик не думал ослушаться его, но поскольку ему ничего не объяснили, он проскользнул в лабиринт и подле маленькой бойницы, выходившей в сторону деревни, подстерегал уходящего цыгана. — Кто меня зовет? — спросил тот, оглядываясь. — Это я, — сказал Марио. — Я хочу, чтобы ты сообщил мне новости о Пилар. — И что ты мне дашь за это? — Я ничего не могу тебе дать, у меня ничего нет! — Глупец! Укради что-нибудь! — Нет, никогда. Так ты ответишь мне? — В свое время, сначала ты мне ответь. Что ты делаешь в этом замке? — Играю. — Ах, ты не хочешь говорить? Прекрасно. Прощай! — Но ты не сказал мне, где Пилар? — Она умерла, — грубо ответил цыган и удалился, насвистывая. Марио напрасно звал его. Когда цыган ушел и уже больше не были слышны его шаги, мальчик убежал в лабиринт, пытаясь внушить себе, что Ла-Флеш посмеялся над ним. Но мысль о смерти его маленькой подруги страшно возвышалась в его живом воображении. — Она говорила, что Ла-Флеш бьет ее, — размышлял он, — но я не верил этому. При нас он не бил ее. Но, возможно, она говорила правду; может, когда он ее бил, то и убил. И думая об этом, мальчик лил слезы. Пилар не была столь приятной особой, но в добром Марио уже было нечто от Буа-Доре, он был чрезвычайно расположен к состраданию, к тому же аббат Анжорран воспитал в нем отвращение к насилию и жестокости. Но он скрыл слезы, боясь огорчить своего дядю, которого он уже страстно любил.Д'Альвимар наконец вышел из своей комнаты. Полученный отдых, прекрасное заходящее солнце, радостное пение дроздов прогнали мрачные предчувствия, осаждавшие его несколько дней. Одетый и надушенный, он отправился к маркизу и поблагодарил его за участие, которое он проявил, и заботу, которой он был окружен. Буа-Доре не мог решиться обвинить в душе этого человека еще такого молодого, со столь изящной осанкой, с лицом, которое привычная грусть делала поистине интересным. Но когда они направились за стол ужинать, увидев Люсилио, бывшего там, как обычно, чтобы музицировать, Буа-Доре вспомнил об их уговоре и резюмировал то, что он называл «механизм осады», чтобы грозно штурмовать совесть своего гостя. Он много воевал и пережил много опасных приключений, чтобы уметь сохранять манеру держать себя и выражение лица, не испытывая нужды, как Адамас, делать предварительную подготовку перед зеркалом. Хотя он уже долгое время жил спокойно, чтобы не вынуждать себя больше отступать от своего природного благодушия, он был слишком человеком своего времени, чтобы уметь говорить на свое усмотрение в случае надобности двадцать раз на дню: «Да здравствует король! Да здравствует Лига!» Чудесное музицирование немого избавляло д'Альвимара поддерживать банальный разговор, который казался ему затянувшимся. Эта музыка, которая раньше могла настраивать его на спокойствие, в котором он нуждался, вызывала на сей раз у д'Альвимара лихорадочное возбуждение. Он решительно возненавидел Люсилио. Он знал его имя, вырвавшееся при нем у маркиза, и после этого разоблачения господин Пулен, который был весьма в курсе современных ересей, догадался почти с уверенностью, что Жовлен было вольным толкованием Джовеллино. Обстоятельство, при которых он стал калекой, укрепляли его в этом подозрении, и он уже заботился о способе убедиться в этом и вызвать на него какое-нибудь новое гонение. Д'Альвимар охотно бы ему в этом посодействовал, если бы не был вынужден некоторое время держаться в стороне, и бедный философ был ему все более антипатичен. Его прекрасная музыка, которой он был очарован в первый день, казалась ему теперь нестерпимой бравадой. После ужина маркиз предложил ему партию в шахматы в будуаре своей гостиной. — С большой охотой, — ответил он, — но при условии, что там не будет музыки. Я не могу играть при этом отвлечении. — И я тоже, разумеется, — сказал маркиз. — Уберите ваш сладкоголосый инструмент в футляр, мой славный мэтр Жовлен, и идите смотреть спокойную битву. Я знаю, что вы принимаете участие в хорошо разыгранной партии. Они прошли в будуар и нашли там великолепную шахматную доску из хрусталя, вмонтированную в золото, превосходные кресла и много зажженных свечей. Д'Альвимар еще не был в этой маленькой комнате, одной из самых роскошных в большом доме, он бросил рассеянный и быстрый взгляд на безделушки, которыми она была заполнена, затем уселся, и игра началась.
Глава двадцать седьмая
Маркиз, очень спокойный и учтивый, казался полностью поглощенным игрой. Стоя позади него, Люсилио мог наблюдать малейшее движение, малейшее изменение выражение лица испанца, хорошо освещенного свечами. Д'Альвимар играл довольно находчиво и решительно. Буа-Доре, более медлительный, долго раздумывал над следующим ходом, в это время испанец нетерпеливо рассматривал окружающие предметы. Его взгляд естественно неоднократно возвращался к этажерке, располагавшейся слева от него и совсем рядом с ним около стены. Мало-помалу предмет более всего рассматриваемый среди безделушек, размещенных на этой маленькой этажерке, привлек и сосредоточил на себе его внимание, и Люсилио заметил у него ироническую усмешку и досаду всякий раз, когда его взгляд останавливался на этом предмете. Это был нож, обнаженный и блестящий, помещенный на черную бархатную подушечку с золотой бахромой и накрытый стеклянным колпаком. — Что это? — спросил наконец маркиз. — Вы мне кажетесь рассеянным! Вы в плену, мессир, и я не хочу очка, поскольку вы так хорошо играли. Что-то вам мешает или беспокоит вас. Вы слишком близко от этой этажерки, хотите, отодвинем от нее стол? — Нет, — ответил д'Альвимар, — мне очень удобно; но признаюсь, что этот прекрасный предмет меблировки содержит некую вещь, которая меня занимает. Будьте добры ответить мне на один вопрос, если вы не сочтете его бестактным? — Вы не можете задать вопрос, который был бы таковым, мессир. Спрашивайте, пожалуйста. — В таком случае я спрашиваю вас, дорогой маркиз, как это произошло, что вы имеете здесь, под стеклом, лежащее с победоносным видом на подушечке походное оружие вашего покорного слуги? — О, вы в этом заблуждаетесь, мой гость! Этот нож попал ко мне не от вас! — Я знаю, что я вам его не давал, но я знаю, что он был вручен вам, исходя от меня, и это случайность, которую вы, возможно, не знаете. Я понимаю, что всякий дар прекрасной руки кажется вам драгоценным, но я нахожу, что вы очень нечувствительны к бедному гостю, так выставлять напоказ трофей вашей победы перед глазами отвергнутого соперника. — Ваши слова для меня загадка! — Ах, если бы мне это померещилось! Позвольте мне поднять это стекло и рассмотреть поближе. — Смотрите и трогайте, мессир, после чего я вам расскажу, если вы этого пожелаете, почему эта реликвия любви и печали находится здесь среди стольких других вещей, напоминающих прошедшие времена. Д'Альвимар взял нож, внимательно поглядел на него, потрогал и вдруг положил туда, откуда взял его. — Я ошибся, — сказал он, — и прошу вас извинить меня. Это вовсе не то, что я думал. Люсилио, который внимательно наблюдал за ним, казалось, что он видел, как задрожали от страха его изящные ноздри. Но это легкое искажение лица происходило у него по малейшей причине и даже иногда без причины. Он вернулся к игре. Но Буа-Доре прервал его. — Простите меня, — сказал он, — но, кажется, вы узнали этот предмет, и это мой долг расспросить вас: возможно, вы сможете пролить какой-то свет на таинственное происшествие, которое, случившись давно, мучит и волнует меня. Не могли бы вы сказать мне, господин де Виллареаль, знаком ли вам девиз и инициалы, выгравированные на этом клинке? Желаете взглянуть на него еще? — Это бесполезно, господин маркиз, я не знаю этого предмета, он мне никогда не принадлежал. — Испытываете ли вы отвращение к себе, утверждая это? — Отвращение? Почему вы меня об этом спрашиваете, мессир? — Сейчас объясню, может быть, вы узнали это оружие, принадлежащее кому-нибудь, кому вы стыдитесь быть соотечественником, и имя которого, однако, вы скажете мне, если я призову к вашей верности? — Если вы делаете из этого серьезное дело, — ответил д'Альвимар, — хотя я, в свою очередь, не понимаю вас, я хочу еще раз хорошенько посмотреть. Он снова взял нож, рассмотрел его с величайшим спокойствием и сказал: — Он изготовлен в Испании, оружие очень распространенное у нас. Нет знатного лица или просто свободного звания, который не носил бы подобный в своем поясе или в рукаве. И девиз один из самых банальных и самых распространенных: «Я служу Богу», или «Я служу своему хозяину», или «Я служу чести»; вот что написано на большинстве нашего оружия, которое есть рапиры, пистолеты или тесаки… — Очень хорошо, но эти две буквы С.А., похожие на личный вензель? — Вы могли бы найти их и на моем собственном оружии, так же, как и этот девиз, это марка фабрики в Саламанке. Буа-Доре чувствовал, как его подозрения рассеиваются при таком естественном объяснении. Люсилио же, напротив, почувствовал, как растут его подозрения. Он находил д'Альвимара слишком старающимся предотвратить объяснения, которые могли бы от него потребовать о его собственном девизе и его собственных инициалах, которые считались неизвестными. Он дотронулся до колена маркиза, притворившись, что он гладит Флориаля, и предупредил его так не отступать от своего расследования. Д'Альвимар, казалось, сам помогал ему в этом, спрашивая с некоторым видом оскорбленной гордости причину этого допроса. — Вы могли бы также спросить меня, — ответил Буа-Доре, — по какой причине предмет, на который мне страшно смотреть, находится тут перед моими глазами все время. Знайте же, сударь, этим проклятым оружием был убит мой брат, и я его не прячу с единственной целью беспрестанно напоминать себе, что я должен найти его убийцу и покарать его смертью. Лицо д'Альвимара выразило сильное волнение, но это могло быть волнение сочувственное и благородное. — Вы правы, называя его скорбной реликвией, — сказал он, отодвигая нож. — Так это о вашем брате вы говорили вчера утром, когда справлялись у этих египтян, вы спрашивали их, когда и как он был убит? — Да, я спрашивал то, что хорошо знал, желая проверить их знание дела, и действительно диявол, сидящий в девочке, мне ответил так верно, что я был этим поражен. Вы не заметили, мессир, что она сделала подсчет, который поместил событие в десятый день мая 1610 года? — Я не следил за подсчетом. И именно в этот день ваш брат действительно был убит? — В тот самый день. Я вижу, что вы очень изумлены? — Изумлен? Я?.. Почему я должен быть изумлен? Я думаю, что прорицатели не раскрывают прошлого, помимо того, которое они знают. Но скажите мне, прошу вас, как произошло это печальное событие? И вы так и не узнали виновников? — Вы правы, говоря о виновниках, потому что их было двое… двое, кого я очень хотел бы раскрыть. Но вы мне в этом не поможете, как я вижу, потому что это обвинительное оружие не имеет никакой особой приметы. — И при случившемся не было свидетелей? — Простите меня, они были. — И они не могли сообщить вам, кто это совершил? — Они могли их описать, но не назвать. Если эта горестная история вас интересует, я могу рассказать вам ее со всеми подробностями. — Конечно, я принимаю участие в ваших огорчениях и я вас слушаю. — Хорошо же, — сказал маркиз, отодвигая шахматную доску и придвигая свой стул к столу, — я расскажу вам все, что я получил из расследования, которое мне было сообщено кюре из Урдоса. — Урдоса? Откуда вы взяли Урдос? Я не припоминаю… — Это место вы должны были проезжать, если вы путешествовали по дороге на По. — Нет, я приехал во Францию по дороге на Тулузу. — Тогда вы его не знаете. Я вам сейчас опишу. Знайте сначала, что мой брат, будучи простым дворянином среднего достатка, но из почтенной семьи, благородной наружности, приятного нрава и галантный мужчина, встретил в одном из городов Испании, каком, не знаю, даму или девицу знатного происхождения и стал ее мужем, тайно обвенчавшись с ней вопреки воле ее семьи. — Как ее звали?.. — Я не знаю этого. Все это было сердечным делом, в которое я не был посвящен и которого я не смог раскрыть впоследствии. Я только знаю, что он похитил свою подругу, и что оба они, переодевшись в бедных людей, направлялись во Францию, куда они въехали по дороге из Урдоса. Дама была на последних днях беременности, они ехали в маленькой повозке бедного внешнего вида, что-то вроде повозки разносчика, запряженной одной лошадью, купленной по дороге, и которая ехала не очень быстро при их нетерпении. Однако они благополучно добрались то последнего испанского этапного пункта, где, проведя ночь на дурном постоялом дворе, мой брат соизволил захотеть поменять испанское золото на французское золото и попросил похожего на дворянина человека. Этот человек смог предложить ему лишь маленькую сумму, а когда мой брат садился в свою повозку со своей спутницей в плаще и вуали, на постоялом дворе приметили, что оба незнакомца уделили этому внимание, наблюдая за двумя сундучками, которые он погрузил туда сам, один содержал его золотые и серебряные монеты, а другой — драгоценности его жены, и что они тут же уехали, отправившись за ними следом, хотя заявляли о намерении ехать в противоположную сторону. Эти самые мерзавцы привлекли к себе внимание так, что не оставалось сомнения, когда описывались убийцы моего брата. — Ах! — сказал д'Альвимар, — так вам описали их? — Отлично. Один из них имел красивую внешность и был столь молод, что казался юношей. Он был среднего роста, но очень стройный. У него были белые маленькие руки, как у женщины, пробивающаяся черная борода, шелковистые волосы, внушительный благородный вид, довольно богатый дорожный костюм, мало или совсем не было запасной одежды, потому что его чемодан ничего не весил, хороший андалузский конь и этот гнусный нож, который служил ему и чтобы есть, и чтобы убивать. Другой… — Это неважно, мессир. Ваш брат?.. — Я должен описать вам другого вора, так, как мне его описали. Это был мужчина в возрасте, похожий и на монаха, и на бретера. Длинный нос спускался на седеющие усы, туманный взгляд, мозолистые руки, неразговорчивый характер, настоящее животное Испании… — Как вы сказали, мессир? — Животное, какие имеются в каждой стране, где думают откупиться от ада молитвами. Эти бандиты преследовали моего брата, как два свирепых волка, трусы, они следовали за добычей, на которую не осмеливались напасть, и догнали… Что с вами, мессир? Вам слишком жарко в этой маленькой комнате? — Возможно, мессир, — ответил взволнованный д'Альвимар. — Я нахожу, что трудно дышатъ воздухом дома, где кажется, что имя Испании презираемо, как вы это делаете. — Никоим образом, сударь. Садитесь же… Я нисколько не определяю вашу нацию виновной в падении некоторых нравов. Повсюду есть низкие люди. Если я говорю едко о тех, которые лишили меня брата, вы должны извинить меня. Д'Альвимар, в свою очередь, извинился за свою обидчивость и умолял маркиза не прерывать свой рассказ. — Это было, — продолжал тот, — примерно в миле от небольшого местечка под названием Урдос, когда мой брат был один со своей женой на стене из скал вдоль очень глубокой пропасти. Дорога извивалась на подъеме столь крутом, что лошадь отказалась идти в какой-то момент, и мой брат, опасаясь, что она откатится в лощину, спрыгнул на землю и быстро спустил жену, приняв ее в свои объятия. Было очень жарко, и чтобы она не страдала от солнца, он показал ей впереди тень пихт, куда она потихоньку отправилась, пока он давал передохнуть лошади. — Так эта дама видела, как убили ее мужа? — Нет, она свернула в небольшую горную рощу, когда это случилось. Бог хотел спасти ребенка, которого она носила, потому что, если бы убийцы ее увидели, они бы ее не помиловали. — Так кто же мог знать, как погиб ваш брат? — Другая женщина, которую случай привел совсем рядом за обломки скалы, и у которой не было времени позвать на помощь, так быстро было совершено ужасное убийство. Мой брат старался заставить лошадь двигаться вперед, когда его настигли убийцы. Более молодой спрыгнул на землю и обратился к нему с лицемерной учтивостью: «Ах, бедняга, ваше животное доведено до изнеможения. Не нужно ли помочь?» Старый негодяй, который следовал за ним, тоже спешился, и оба приблизились к брату, который ничего не заподозрил, и в то же мгновение свидетель, которого небо послало туда, увидел, как он споткнулся и упал во весь рост между колес, при том, что ни один крик не мог заставить думать, что ему был нанесен удар. Этот кинжал был воткнут ему в сердце до рукоятки рукой твердой и умеющей это делать. — Итак вы не знаете кто — хозяин или слуга — нанес удар? Вы говорите, что хозяин был очень молод, трудно поверить, что это был он. — Мне все равно, мессир. Для меня оба они негодяи, что один, что другой, потому что дворянин вел себя точно так же, как лакей. Он устремился к повозке, не имея времени взять обратно свое оружие, спеша и страстно желая украсть обе шкатулки. Он передал их своему товарищу, который укрыл их у себя под плащом, и оба они обратились в бегство, повернув обратно, подгоняемые, но не угрызениями совести или стыдом, человеческими чувствами, которые они не способны были испытывать, но страхом наказания кнутом и колесом, которые есть вознаграждение и конец такого отродья! — Вы лжете, сударь! — воскликнул, вскакивая, д'Альвимар вне себя и бледный от бешенства. — Кнут и колесо… Вы все лжете… и вы дадите мне удовлетворение… Он снова упал вкресло, задыхаясь и как бы сдавленный признанием, которое вырвал у него наконец приступ гнева.Глава двадцать восьмая
Маркиз был также поражен этой выходкой, которой он не ожидал, поскольку до сих пор виновный хорошо держался и отпускал с естественным видом свои частые реплики. Он пришел в себя первым и схватил своей длинной нервной рукой конвульсивное запястье д'Альвимара. — Презренный человек! — сказал он ему с удручающим презрением, — вы должны благодарить небо, которое сделало вас моим гостем, потому что если бы я не дал слово защищать вас, слово, которое охраняет вас от меня самого, я бы вас разбил о стену этой комнаты. Люсилио, опасаясь борьбы, схватил нож, оставшийся на столе. Д'Альвимар увидел это движение и испугался. Он высвободился из руки маркиза и схватился за эфес своей шпаги. — Будьте спокойны и не бойтесь здесь ничего, — сказал ему Буа-Доре со спокойствием. — Мы не убийцы, мы другие! — И я нет, сударь, — ответил д'Альвимар, который казался побежденный этим достойным поведением, — и поскольку вы не хотите отступить от законов чести, я приложу все усилия, чтобы оправдаться. — Вы оправдаться, вы! Полноте! Вы изобличены через опровержение, которое вы мне дали как доказательство, я нас презираю! — Оставьте ваше презрение для тех, кто молча выносит оскорбление. Если бы я так поступил, вы бы меня не подозревали! Я отверг оскорбление. И я его еще раз отвергаю! — Ах, так вы хотите все отрицать? — Нисколько… Я убил вашего брата… как всякого другою. Я не знал имени человека, которого убил… или дал убить! Но что знаете вы о причинах, приведших меня к этому убийству? Как знать вам, не совершил ли я законную месть? Откуда знать вам, что эта женщина… имени которой вы не знаете… была моей сестрой, и мстя за честь своей семьи, я взял, как собственное добро, золото и драгоценности, увезенные соблазнителем? — Замолчите, сударь! Не оскорбляйте память моего брата. — Вы же сами признались, что он не был богат: откуда тогда он взял тысячу пистолей, чтобы бежать с женщиной? Буа-Доре заколебался. Его брат по причине различия их взглядов никогда не хотел принять от него меньшую часть состояния, поскольку он считал это по справедливости как происходящее от лишения его собственной чести. Он был вынужден удовлетвориться объяснением, что жена его брата имела право взять то, что было ее. Но д'Альвимар ответил, что семья тоже имела право рассматривать это как свое. Он энергично отверг обвинения в воровстве. — А разве вы не злодей, — сказал ему маркиз, — если вероломно убили кинжалом дворянина, вместо того чтобы вызвать его на дуэль? — Примите во внимание, что ваш брат был переодет, — с жаром отвечал д'Альвимар. — Вы скажете, что, видя его в одежде виллана, я не мог полагать, что могу дать убить, его, как виллана, своему слуге. — А почему вы не сделали этого на том постоялом дворе, где вы должны были узнать свою сестру, а вместо этого преследовали его, чтобы схватить в западне? — Вероятно, — отвечал д'Альвимар, по-прежнему высокомерный и оживленный, — что я не хотел устроить скандал и скомпрометировать мою сестру перед чернью. — И почему же вместо того, чтобы пойти за ней, чтобы отвезти ее в семью, вы оставили ее на той дороге, где они умерла в страданиях через час без того, чтобы кто-нибудь вступился за нее? — Мог ли я знать, что она здесь, совсем рядом от меня? Ваш свидетель не мог понять все мои слова, вопросы, которые я задавал похитителю, я не выкрикивал их на дороге. Что вы знаете, если он не ответил мне ничего более, кроме того, что моя сестра осталась в Урдосе, и если тот, кто склонил ее к бегству, не выразил готовности бежать за ней? — И, не найдя ее в Урдосе, вы ничего не знали о ее смерти, такой достойной сожаления? И вы не заботились даже о месте ее погребения? — Кто вам сказал, что я не знаю лучше, чем вы, сударь, все подробности этой неприятной истории? На моем месте, не имея возможности помочь ничем, стали бы вы поднимать шум в стране, где никто не мог не знать имени вашей сестры и бесчестья вашей семьи? Маркиз, удрученный очевидностью этих объяснений, хранил молчание. Он пребывал в задумчивости и был столь поглощен своими размышлениями, что едва ли услыхал сообщение о прибытии Гийома д'Арс, который только что был проведен в соседний салон. Люсилио увидел, как в глазах д'Альвимара блеснула радость, или радость видеть снова друга была тому причиной, или то была только надежда избавиться от опасной ситуации. Д'Альвимар бросился из будуара, и створки двери захлопнулись тут же между ним и его хозяевами. Люсилио, видя, что маркиз погружен в свои тягостные думы, дотронулся до него, как бы спрашивая. — Ах, мой друг! — воскликнул Буа-Доре, — сказать надо, что я не знаю, что решить, и что я, может быть, попался на удочку величайшего обманщика, который существует! Я пошел неправильным путем. Я выдал добрую мавританку и, возможно, также моего малыша под месть и козни опаснейшего врага, я неловкий, я предоставил доводы защиты, признавшись, что я не знаю имени дамы, и теперь, когда у него имеется правда или ложь в оправдании убийства; я не нахожусь более вправе лишить его жизни. Мой Бог! Господь Бог! Возможно ли, чтобы порядочные люди не были осуждены быть обманутыми злодеями, и чтобы во всех битвах они были бы самыми осмотрительными и в конечном счете самыми сильными! И говоря так, маркиз, возмущенный самим собою, энергично стучал кулаком по столу, затем он встал, чтобы пойти принять Гийома д'Арса, голос которого, радостный и беспечный, доносился из соседней комнаты. Но немой сильно схватил его за руку с нечленораздельным восклицанием. У него был предмет, на который тот привлекал его внимание посредством удивленного и радостного лепета. Это было кольцо, которое маркиз надел на свой мизинец, то таинственное кольцо, которое не могли открыть и которое благодаря сильному удару кулака по столу, разделилось на два круга, входящих друг в друга. Не имелось никакого подобия секрета в этом кольце. Только части соединялись очень плотно, и нужен был большой толчок, чтобы разъединить их. Прочитать имена, выгравированные на этих двух кольцах, было секундным делом. Это были имена Флоримона и его жены. Понимание, что наконец они располагают истиной, придало им уверенности. Маркиз быстро отдал распоряжение Люсилио и с облегченной душой и улыбающимся лицом вышел пожать руку Гийому. Д'Альвимар и господин д'Арс имели только время обменяться несколькими словами о хорошей поездке одного и приятном удивлении другого. Однако Гийом заметил и некоторое беспокойство на лице своего друга, который сослался на мигрень накануне. Маркиз после первых приветствий своего юного родственника хотел отдать распоряжение об ужине. — Нет, спасибо! — сказал Гийом. — Я перекусил по дороге, пока мои лошади отдыхали, потому что мне необходимо тотчас же отправляться в путь. Вы видите, что я вернулся гораздо раньше, чем должен был. Я был предупрежден в Сен-Амане, где я вчера вместе с частью молодежи страны делал почетное сопровождение его светлости Конде, о том, что мой управляющий очень болен в моем доме. Боясь, что он умрет, этот честный человек спешно отправил курьера, чтобы уведомить меня вернуться как можно быстрее с тем, чтобы быть введенным им в курс самых важных моих дел, о которых, признаюсь, я не знаю ни слова. И вот я прибыл сюда сначала, чтобы узнать, намеревается ли господин д'Альвимар поехать со мной сегодня вечером ко мне домой, или, порабощенный в ваших садах «Астреи», он желает провести еще эту ночь в очаровании. — Нет, — поспешно ответил д'Альвимар, — я довольно злоупотреблял вежливостью господина маркиза. Я нездоров и становлюсь угрюмым. Я желаю выехать вместе с вами в тот же час и пойду распоряжусь, чтобы срочно приготовили моих лошадей. — Это ни к чему, — сказал маркиз, — я позвоню; я скоро буду иметь удовольствие видеть вас снова, господин де Виллареаль. — Это я буду с завтрашнего дня ожидать ваших приказов, господин маркиз, и дам вам все объяснения, которые вы пожелаете… о партии, которую мы только что разыграли. — О какой партии идет речь? — спросил Гийом. — О партии в шахматы очень замысловатой, — ответил маркиз. Адамас появился по звону колокольчика. — Лошади и багаж господина де Виллареаля. В то время, как он исполнял этот приказ, маркиз со спокойствием, которое заставляло надеяться д'Альвимара, что все успокоилось между ними, давал отчет Гийому о том, как он проводил время в Бриане и Ла-Мотт во время его отсутствия. Затем он расспросил его о пышных празднествах в Бурже. Молодого человека не надо было просить рассказывать: он с большим удовольствием поведал о волнениях стрельбы или, вернее, как говорили тогда, «почтенное действие аркебузы». Были построены стрельбища вблизи Фишо и большой павильон, украшенный гобеленами и увитый цветами для дам и барышень города. Стрелки разместились на площадке в ста пятидесяти шагах от щита. Шестьсот пятьдесят три аркебузира. Трибуде из Сансера единственный заслуживал награды, но был вынужден поделить ее с Буаро из Буржа за то, что он взял поддельное имя с тем, чтобы опередить свою очередь; что люди из Сансера очень осуждали, потому что они считали за честь доказать, что их стрелки являются лучшими в королевстве, и находили весьма несправедливым распределение наград. Это было очевидно, чтобы не вызвать недовольство людей из Буржа, что вынесли подобное несправедливое решение. — В самом деле, — сказал Гийом, рассказывая это с пылом юности, — или Требуде выиграл, или проиграл. Если он выиграл, он имеет право на полный почет и на всю прибыль от победы. Я согласен, что он виноват, взяв вымышленное имя. Ну пусть за эту вину его накажут каким-нибудь штрафом или несколькими днями тюрьмы, но чтобы он все-таки был признан победителем в соревновании, потому что честь таланта — это святое дело и, несмотря на то, что мы не очень-то любим старых сансерских хитрецов, не было дворянина, который не протестовал бы против несправедливости, допущенной по отношению к Трибуде. Но, что вы хотите! Крупные города всегда кушают маленькие, и важные судейские крючки из Буржа присвоили бесцеремонно первенство над всеми буржуа провинции. Они бы очень охотно поступили так и со знатью, если бы им позволили это сделать! Я был удивлен, что Иссуден участвовал в соревновании. Аржантон от этого воздержался, говоря, что награда была отдана заранее и что ничего не оценится у судей из Буржа, кроме чемпионов из Буржа. — Не думаете ли вы, что принц был впутан в эту несправедливость? — спросил маркиз. — На это я не отвечу! Но время идет, и вот преданный Адамас явился сообщить нам, что лошади готовы, не так ли? Ну что ж, едем, дорогой Виллареаль, и так как вы обещали маркизу прибыть завтра отблагодарить его, я приглашаю себя с вами. — Я на это рассчитываю, — продолжил Буа-Доре. — И можете также рассчитывать, сударь, — сказал ему д'Альвимар, отвешивая низкий поклон, — что я вам предоставлю все доказательства того, что я высказал. Буа-Доре не ответил, а только поклонился. Гийом, торопясь отправиться в путь, не заметил, что маркиз, несмотря на свою кажущуюся любезность, воздержался протянуть руку испанцу, и что тот не осмелился его попросить коснуться руки.Глава двадцать девятая
Как только они вскочили в седла, маркиз, обращаясь к Адамасу, сказал ему взволнованным голосом: — Быстро, мои доспехи, шлем, оружие, коня и двух человек! — Все готово, месье, — ответил Адамас. — Мэтр Жовлен отдал нам распоряжения, сказав, что они исходят от вас, что если господин д'Арс отправится обратно сегодня вечером, вы будете сопровождать его… Но с какой целью? — Ты узнаешь это, когда я вернусь, — ответил маркиз, поднимаясь к себе в комнату, чтобы переодеться. — Позаботились ли о том, чтобы подготовить лошадей в маленькой конюшне, так, чтобы в тайну были посвящены только люди, которые должны меня сопровождать. — Да, месье, я сам за этим проследил. — И далеко ты отправляешься? — воскликнул Марио, который только что поужинал с Мерседес и вернулся в спальню. — Нет, сын мой, я не еду далеко. Я буду здесь через дна коротких часа. Вы должны спать спокойно, и обнимите-ка меня быстро! — О, какой ты сделался красивый! — простодушно сказал Марио. — Ты что, поедешь потом в Ла-Мотт-Сейи? — Нет, нет. Я еду танцевать на одном балу, — отвечал маркиз, улыбаясь. — Возьми меня, я хочу видеть, как ты танцуешь, — сказал мальчик. — Я не могу, но потерпите, мой Купидон, потому что, начиная с завтрашнего дня, я и шагу не сделаю без вас. Когда старый дворянин надел свой маленький шлем из желтой кожи с серебряными полосами, подбитый подкладкой или железным секретом, и украшенный длинным султаном, падающим на плечо; когда он надел свой короткий военный плащ, привязал свою длинную шпагу и застегнул под своим обвислым подбородком закрывающую шею деталь доспехов из блестящей ткани, Адамас мог посмеяться без излишней лести, что у него был внушительный вид, тем более, что волнения вечера заставили ослабнуть его румяна, его лицо было почти естественного цвета и не было женоподобным. — Вот вы и готовы, сударь, — сказал Адамас. — А я разве не поеду с вами? — Нет, мой друг, ты закроешь все двери моего дома и проведешь вечер с моим сыном. Если он заснет, сделай ему походную постель из двух подушек. Я хочу найти его здесь, когда вернусь, а теперь посвети мне, я хочу поговорить в салоне с мэтром Жовленом. Он несколько раз с умилением поцеловал Марио и спустился на этаж. — Куда вы едете и что вы решили? — говорили ему выразительные глаза Люсилио. — Я еду в Арс, чтобы завершить расследование… А что дальше, не так ли? Потом, если это произойдет, я договариваюсь с Гийомом, чтобы злодей не смог ускользнуть, и вернусь посоветоваться с вами об остальном. Итак, до свидания, мой большой друг. Люсилио вздохнул, глядя, как маркиз уезжает. Он казался ему поглощенным более серьезными замыслами, в которых он не признался в своей программе. В то время, когда маркиз собирался уезжать, Гийом и д'Альвимар, последний в сопровождении Санчо, другой с четырьмя людьми охраны, направлялись довольно медленно к замку д'Арс по нижней дороге, то есть по той, которая оставляла плоскогорье Шомуаз справа и проходила довольно близко от Ла-Шатра. Луна еще не поднялась, и лошади Гийома были очень усталые, ехать быстро было невозможно. Д'Альвимар воспользовался этим обстоятельством, чтобы быть немного впереди со своим оруженосцем, которого он тихо спросил: — Санчо, не забыл ли ты в Брианте что-нибудь принадлежащее мне? — Я никогда ничего не забываю, Антонио! — Если бы! Вы забываете кинжалы в телах людей, которых устраняете. — Снова этот упрек? — У меня есть основание делать его сегодня. Скажите мне, моя лошадь больше не хромает и в состоянии ли она, по вашему мнению, совершить длинный пробег этой ночью? — Да. Что нового произошло? — Слушайте хорошенько и постарайтесь быстро понять. Разносчик был дворянином, братом маркиза де Буа-Доре. Нож, которым вы действовали, находится в руках у этого старца, который поклялся отомстить, и мы обвинены устами не знаю какого свидетеля. — Мавританки. — Почему мавританки? — Потому что египтяне всегда приносят несчастья. — Если у вас нет другого соображения… — У меня есть другие, я вам их выскажу. — Да, позже. Мы подумаем покинуть эту страну без другого объяснения со старым безумцем. Я наговорил ему достаточно, чтобы заставить обрести спокойствие. Он ждет меня завтра. — Для дуэли? — Нет, он слишком стар. — Но очень коварен, хотите сгнить в какой-нибудь подземной тюрьме его замка? Все равно я поеду с вами, если вы туда отправитесь. — Я не поеду. Некое пророчество сделало меня очень осмотрительным. Когда мы будем около этого маленького городка, огни которого вы видите там, отдалитесь от эскорта, скройтесь, а спустя четверть часа возвращайтесь догнать меня, говоря очень громко, что кто-то из города передал вам письмо для меня. Я поеду до замка д'Арс как бы для того, чтобы прочитать его, и тут же, как я его будто прочту, сообщу господину д'Арс, что мне необходимо срочно уезжать. Понятно? — Понятно. — Тогда поджидаем господина д'Арса и не высказываем никакой поспешности.Когда славный господин Буа-Доре, вооруженный до зубов и хорошо сидящий в седле на красавце Росидоре, преодолел пояс укреплений селения Бриант, он увидел, как Адамас верхом на хорошенькой небольшой кобыле-иноходце, очень смирной, проскользнул рядом с ним. — Глядите-ка! Это вы, господин бунтовщик? — сказал ему маркиз тоном, которому не удалось быть гневным. — Разве вам не было запрещено следовать за мной и приказано охранять моего наследника? — Ваш наследник хорошо охраняется, месье, мэтр Жовлен дал мне слово не оставлять его, и, с другой стороны, я не думаю, что в вашем замке он теперь подвергается какому-либо риску, поскольку враг вне его стен и мы за ним гонимся. — Я знаю, что опасность теперь над нами, Адамас, и именно поэтому я не хотел брать тебя, старого и дряхлого, и к тому же ты никогда не был великим военным. — Это правда, сударь, что я не люблю получать удары, но я очень люблю раздавать их, когда могу. Я больше не молод, но я все еще очень бодрый и хочу позаботиться о том, чтобы вы не угодили в какую-нибудь ловушку. Вот почему я захватил с собой еще двоих людей, которые присоединятся к нам через три минуты. Я бы с ума сошел, дожидаясь вас, ничего не зная и ничего не делая. Итак, хозяин, куда мы направляемся и как будем действовать? — Увидишь, друг мой, увидишь! Но поторопимся. Нельзя терять времени, чтобы догнать их на полпути к д'Арсу. Они пустились галопом, и менее чем через четверть часа стал виден Гийом и его эскорт, который продолжал двигаться очень медленно. Луна поднялась, и оружие всадников сверкнуло в ее лучах. Это было место, которое звалось тогда и называется теперь Ла-Рошель. Но в те времена место было очень засушливое и пустынное. Дорога проходила по середине подъема между маленькой балкой и холмом, усеянным большими серыми камнями, среди которых росли довольно жалкие каштаны. Место пользовалось дурной славой, и суеверные крестьяне во все времена связывали большие валуны с демонами старой Галлии. Маркиз повелел сделать остановку своему маленькому отряду, прежде чем он привлечет внимание спутников Гийома и, пришпорив коня, он направился в сторону своего молодого родственника. Услышав приближающийся стук копыт, Гийом и д'Альвимар обернулись, первый весьма спокойно, думая, что это какой-нибудь испуганный путник, второй очень обеспокоенно и думая постоянно о предсказании, которое, казалось, начинает сбываться. Когда Буа-Доре проезжал по левому флангу этого эскорта, Гийом не узнал его в этом военном наряде, но д'Альвимар узнал его по биению своего взволнованного сердца, и старый Санчо, предупрежденный подобным же волнением, приблизился к нему. Их тревога почти рассеялась, когда Буа-Доре, не заговорив, опередил их. Они подумали, что все-таки ошиблись. Но когда он резко остановился, развернув своего коня, перекрыв им дорогу, они уже не сомневались, что это Буа-Доре. Но прежде чем Буа-Доре ответил, прозвучал пистолетный выстрел, и пуля срезала шлем маркиза, который, заметив движение Санчо, быстро наклонился, крикнув: — Гийом! Это я! — Черт возьми! — воскликнул испуганный Гийом. — Кто стрелял в маркиза? Во имя неба, маркиз, вы не ранены? — Нисколько, — отвечал Буа-Доре, — но я должен сказать вам, что в вашем обществе есть подлые трусы, которые стреляют в простого человека до того, как узнают, враг ли он. — Да, разумеется, и я немедленно расправлюсь, — продолжал возмущенный молодой человек. — Жалкие негодяи, кто из вас стрелял в лучшего человека королевства? — Не я! Не я!.. Не я! — воскликнули одновременно четыре лакея господина д'Арса. — Нет, нет, — сказал маркиз, — никто из этих молодцов не делал подобного. Я видел того, кто стрелял, вот он! Говоря так, Буа-Доре с ловкостью, силой и проворством, достойными его лучших дней, перерезал ударом хлыста лицо Санчо, и пока убийца подносил руки к глазам, он схватил его за воротник и, вырвав из седла, столкнул на землю и стегнул его лошадь, которая понеслась и исчезла в направлении Брианта. В то же самое время четыре человека маркиза, услышав звук пистолетного выстрела и топот скачущей галопом лошади, нарушили его запрет и бросились на помощь. — А вот и вы! — сказал маркиз своим людям. — Ну так арестуйте этого выбитого из седла всадника. Он принадлежит мне, так как я обладаю всеми правами на этой дороге. Он мой пленник. Свяжите его, нужно остерегаться его рук.
Глава тридцатая
В то время, как огромный каретник Аристандр, обезоружив, связывал руки ошеломленного падением Санчо, д'Альвимар наконец опомнился от изумления. Лишь мгновение он мечтал избежать роковой причастности гневу Буа-Доре, но остатки целомудрия и гордости заставили его вступиться. — Мессир, — сказал он, — я понимаю, что вы гневаетесь на тупость этого старика, который заснул на лошади и который был разбужен кошмаром, подумав, что его атаковала банда воров. Разумеется, он заслужил наказание, но не быть же ему за это вашим узником, полностью предоставленным вашему праву сеньора, ибо только мне и мне одному надлежит его карать за оскорбление, нанесенное вам. — Вы называете это оскорблением, господин де Виллареаль? — спросил маркиз презрительным тоном. — Но не только с вами я имею дело, но и с моим родственником и другом Гийомом д'Арс. — Я не затрудню себя никакими объяснениями, — продолжил д'Альвимар с рассчитанной злостью, — прежде чем мой слуга не будет передан мне, если это поединок, которого вы желали… — Гийом, выслушай меня, — сказал Буа-Доре. — Нет, никто не станет вас слушать! — воскликнул д'Альвимар, пытаясь освободить свою лошадь, которая оказалась зажатой между лошадью Гийома и Буа-Доре. — Господин д'Арс, я ваш друг и ваш гость, вы пригласили меня, вы обещали мне помощь и лояльность в любом поединке; вы не позволите оскорблять меня, даже члену вашей семьи. В подобном случае, именно мне вы обязаны оказать помощь и восстановить справедливость, пусть даже против вашего собственного брата? — Я знаю это, — ответил Гийом, — так это и будет. Однако успокойтесь и позвольте высказаться господину Буа-Доре. Я знаком с ним достаточно, чтоб быть уверенным в его учтивости по отношению к вам и о его великодушии к вашему слуге. Дайте пройти вспышке гнева; я впервые вижу его таким разгневанным; и хотя он подвластен ему, я уверен, что все образуется. Полноте, полноте, мой дорогой, успокойтесь! Вы тоже в гневе, но вы моложе, а мой кухн оскорблен. Признаюсь вам, что если он подвергся малейшему оскорблению, я бы убил вашего слугу на месте, и должен был бы дать вам отчет лишь потом. — Но, монсеньор, какого черта! — воскликнул д'Альвимар, надеясь по-прежнему избежать объяснения причин ссоры, а в худшем случае и драки, — в чем вина моего слуги, если вам угодно? Что за причуда была у господина маркиза бежать по нашей земле не помня себя и внезапно преградить нам путь? Не могли бы вы, именно вы, выхватить ваш пистолет, чтобы крикнуть ему «стой, кто идет»? — Несомненно, но я не стрелял бы, не дождавшись ответа. Ну же, успокойтесь. Если вы пожелали бы, я смог бы уладить недоразумение к вашей чести и удовлетворению, но не лишайте меня этой возможности из-за своей вспыльчивости. Пока д'Альвимар продолжал резко возражать, а маркиз ожидал с величайшим спокойствием, Адамас, обеспокоенный исходом дела и действуя по своему разумению, поговорил с людьми Гийома, от них ему стало известно, что господином д'Арсом было приказано защищать д'Альвимара от челяди Буа-Доре. Все лакеи двух лагерей были родственниками или друзьями, и никто особо не тревожился о стычках из-за любви какого-то чужеземца, виновного или подозреваемого. Время, которое д'Альвимар надеялся выиграть своим сопротивлением, стало таким образом обстоятельством, фатально повернувшимся против него, и когда Гийом, нетерпеливый и возмущенный его упорством, отвернулся от него, чтобы удалиться, объясняясь с маркизом, д'Альвимар обнаружил, что окружен людьми последнего и, не считая челяди Гийома, оказался в меньшинстве. Его опасения становились теперь гораздо серьезнее, и он огляделся окрест, подсчитывая немногие шансы, которые у него остались, чтобы удалиться, или по крайней мере избежать посягательств на честь или жизнь. Однако надежда покинула его, когда он услышал Гийома, которому Буа-Доре в немногих словах только что изложил свои притязания, Гийом отказывался поверить, что не стал жертвой искаженной действительности. — Господин де Виллареаль? — спросил он маркиза. — Это невозможно, и мне следовало бы увидеть все собственными глазами, чтобы поверить в это. Однако вы должно быть были обмануты ложными доносами, позвольте же мне защитить честь этого дворянина, и не считайте, господин и добрый кузен, что, невзирая на уважение, которое я к вам питаю, я позволю бездоказательно оскорблять и унижать друга, который находится под моей защитой. Впрочем, вы не имеете никакого права, и это дело королевского правосудия, которому подвластен каждый дворянин. Успокойте же ваши расстроенные чувства, я вас заклинаю в этом, и позвольте мне вернуться в свой дом, вы знаете, что я ненавижу отступать. — Мои чувства не столь расстроены, — возразил Буа-Доре, величаво возвышая свой голос, — я ждал вашего ответа, мой дорогой кузен и друг. Он таков, какой дал бы и я на вашем месте, и я больше не осуждаю вас за это. Предвидя, что ваше поведение будет таковым, как оно есть, я решил согласовать собственное в соответствии с почтением, которым я вам обязан, и поэтому вы видите меня здесь, на полпути к вашему почтенному жилищу, и на земле нейтральной и общинной. У меня есть некоторые права на эту дорогу, однако, в трех шагах от обочины, у этих старых скал, я окажусь ни у вас, ни у себя. Итак, знайте же, что я решил там драться до последнего, один на один, против этого изменника, того, кто не смеет отказать мне в поединке, видя, что я задеваю его умышленно, и провоцируя через моего лакея и что я подстрекаю его и оскорбляю в этот час, обращаясь с ним перед Богом, перед вами и порядочными людьми, которые нас сопровождают, как с подлым и низким убийцей. Я не думаю, что вы могли заподозрить злой умысел в том, что я совершаю; ибо, я прошу вас отметить это, пока вы и он находились в моем поместье, я воздерживался от любого оскорбления и любой досады, в чем я клялся вам быть ему честным хозяином, и я прошу вас отметить также, что предпринял меры встретить его в открытом поле, в конечном счете, чтобы не осквернить ваше жилище, не желая ни за что на свете ставить вас перед необходимостью оказывать поддержку этому несчастному. Наконец, мой кузен, я прошу вас обдумать все, что является самой большой жертвой, какую я мог бы сделать: именно на этом место его должны были забить палками мои люди, как он того заслуживает, но я снисхожу, именно я, дворянин и отмеченный властью, помериться силами с убийцей самого гнусного рода. Без дружбы, которой вы его удостоили, я бы бросил его в застенки подземной тюрьмы, но, желая почтить вас даже в заблуждении, в котором вы находитесь на его счет, я нарушаю все привилегии чести, чтобы сразиться с ним, бесчестным и опозоренным, оружием чести. Я уже сказал, и вы не можете ни в чем мне возразить. — Будьте его секундантом, как и любого падшего, который находится под вашим покровительством, Адамас станет моим. — Разумеется, — воскликнул Гийом, растроганный благородством души старика, — он не мог увидеть более лояльное поведение, чем ваше, мой кузен, и это при тех подозрениях, какие вы имеете, вы проявляете незаурядное великодушие. Но эти подозрения, не будучи глубоко обоснованными… — Дело даже не в подозрениях, — возразил маркиз, — раз вы не желаете выслушать, я вызываю на дуэль одного из ваших друзей, и я полагаю, что вы не будете упорствовать из-за подобного человека, способного отступить. — Нет, разумеется, — воскликнул Гийом, — но я, именно я не пострадаю от дуэли, которая не приличествовала бы вашему возрасту, мой кузен! Скорее я буду драться вместо вас. Итак, захотите ли вы принять мою клятву? Я даю ее вам — отомстить лично за смерть вашего брата, если вы сумеете неопровержимо доказать, что д'Альвимар был малодушным и злобным негодяем. Подождите до завтра, и я отправлюсь защищать нашу семью, ибо это мой долг по отношению к вам. Порыв Гийома был достоин великодушия маркиза; но Гийом, обронив намек на его возраст, больно задел его. — Мой кузен, — сказал он, отдавая дань наивности души, которая отличалась таким смирением своих порывов, — вы принимаете меня за какого-то старого сеньора Пантолоне, с заржавленной шпагой и дрожащей рукой. Прежде чем я отброшу костыль, я прошу вас, вспомните об уважении, какое я вам выказывал, и которое не заслужило такого оскорбления, что вы нанесли мне, предлагая отмстить вместо меня за гнусное убийство моего дорогого брата. Начнем же, я полагаю, довольно слов, и я совершенно вышел из терпения. Ваш господин де Виллареаль, скорее, в этом случае мой, он, кто выслушал все это, не считая нужным сказать хоть слово! Гийом понимал, что все расстроилось до такой степени, что любое соглашение стало невозможным и, полагая, по своему разумению, что сдержанность гораздо более свойственна д'Альвимару, повернулся к нему и живо заговорил с ним: — Посмотрим, мой дорогой, отвечайте же; я даже не скажу ничего об этом вызове, который не обоснован, на это обвинение, которое вы не можете заслуживать. Во время спора д'Альвимар размышлял. Он старался с самого начала выказать пренебрежительное и ироническое спокойствие. — Я принял вызов, сударь, — ответил он, — и я не думаю, что это большая честь — принять его, будучи, как вы знаете, первым бойцом во всех видах оружия. Что до обвинения, оно так смехотворно и несправедливо, что я надеюсь, что вы сами его объясните; ибо я не знаю ничего о том, что маркиз рассказал вам обо мне, что-то шепча вам на ухо, а я требую, чтоб он повторил это громко. — Я очень этого желаю, и не будем медлить, — заметил Буа-Доре. — Я заявил, что вы были бандитом, убийцей и вором. Вы хотите продолжать так и дальше, но именно я не намерен искать иных доводов против вас, кроме истины. — Вы говорите мне ее с такими странными любезностями, господин маркиз! — холодно возразил испанец. — Вы уже попотчивали меня этой мрачной историей в вашем доме, где вы имели удовольствие, представив, сударь, рассказ об убийстве мною вашего брата. Эту историю, которую я не принимаю всерьез, я говорил вам уже; единственно я знаю, что я убил через моего слугу человека, одетого торговцем-разносчиком, который силой увез некую даму, о которой я вам уже сказал, что готов защищать и мстить за ее честь. — Ах, ах! — вскричал маркиз, — таковы ваши доводы теперь? Та, что убежала с моим братом, была увезена против ее воли, и вы еще не припомните о том, что вы мне сказали, что она была вашей… — Потише, сударь, я прошу вас… Если господин д'Арс захочет выслушать меня в двух шагах отсюда, я скажу ему, кто была эта женщина, по крайней мере вам не по вкусу оскорблять и произносить это имя перед вашими лакеями. — Мои лакеи стоят большего, чем вы и ваши слуги, сударь! Не важно! Я очень хочу, чтобы вы поведали вашу тайну господину д'Арсу, но при мне. Втроем они отделились от группы, и маркиз заговорил первым: — Давайте же, — приказал он, — объяснитесь! Вы привели в свою защиту то, что эта женщина была вашей сестрой! — А вы, сударь, — возразил д'Альвимар, — вы же претендуете сейчас потворствовать своему фантастическому исступлению, предъявляя новое разоблачение. — Ничуть, сударь. Я требую от вас имя вашей сестры, потому что вас ведь действительно зовут Виллареаль, так, вероятно? — А почему бы и нет, сударь? — Потому что теперь я его знаю. Вы же осмеливаетесь говорить обратное господину д'Арсу, которого вы тоже обманули вымышленным именем! — Никоим образом! — возразил Гийом, — господин скрывается под одним из имен своего семейства, и то, которое он носит, я знаю достаточно хорошо. — Итак, мой кузен, я клянусь, что, если то имя, какое он назвал, — настоящее имя моей покойной невестки, то я застрелюсь здесь, принеся вам обоим извинения. — Я же, — сказал д'Альвимар, — я отказываюсь его говорить. Я полагал, что среди дворян должно быть достаточно лишь простого слова, но вы меня оскорбляете непрерывно и неосторожно. Эта дуэль, которой вы желали, и она должна состояться согласно вашим прихотям. — Нет, сто раз нет! — воскликнул Гийом. — Покончим с этим: и не потому, что маркизу нужно знать ваше имя, чтобы удалиться с миром, я… — Не забывайте, прошу вас, — возразил д'Альвимар, — что вы меня подвергаете… — Отнюдь! Мой кузен — слишком галантный человек, чтобы выдать вас вашим врагам. Узнайте же еще, маркиз, и, я предполагаю, это под защитой вашей чести, что господина зовут Скьярра д'Альвимар. — О да! — ответил маркиз с иронией. — Итак, господин должен раскрыть свои собственные инициалы клейма выделки Саламанки? — Что вы хотели сказать? — Ничего! Это ложь господина, которому я сообщил мимоходом, но эта ложь так ничтожна по сравнению с ценой других… — Каких других? Посмотрим, маркиз, вы слишком упрямы! — Оставьте, Гийом! — сказал д'Альвимар, по-прежнему выказывая пренебрежение. — Нужно, чтобы все это завершилось ударом шпаги. Тогда мы гораздо раньше освободимся. — Ну, ладно, — сказал маркиз, — я не так спешу! Я очень хочу узнать имя, данное при крещении и родовое имя сестры господина де Виллареаля, де Скьярра и д'Альвимара. Я знаю, что у испанцев много имен, но, если он скажет мне единственно настоящее и основное, которое носила эта дама… — Если вы его знаете, — ответил д'Альвимар, — ваше упорное желание заставить произнести его — для меня это еще одно оскорбление. — Э, д'Альвимар, не воспринимайте это так! — воскликнул Гийом. — Раскройте здесь ваше имя! По крайней мере не хотите же вы заставить провести здесь ночь! — Оставьте, мой кузен, — приказал ему маркиз, — я сам назову это таинственное имя. Мнимую сестру господина де Виллареаль звали Джулия де Сандоваль. — Пусть так, а почему бы и нет, сударь? — возразил д'Альвимар, с живостью отметив то, что, он полагал, должно было стать еще одной неслыханной оплошностью старика. — Я не желал бы его произносить, это имя. Он не соглашался мне его выдать, и я полагал, что вы его не знаете. Потому что, вы также, утверждая этот последний довод, вы представили мне одну из этих выдумок, которые вы порицаете столь решительно у других, так знайте же, что Джулия Сандоваль была дочерью моей матери и рождена от первого брака. — Итак, сударь, — возразил Буа-Доре, сняв шлем, — я готов удалиться и даже раскаяться в своей жестокости, если вы соизволите только поклясться честью, что вы узнали вашу сестру по матери, Джулию Сандоваль, под вуалью в экипаже моего брата, на постоялом дворе в… — Я клянусь вам ею, чтобы вас удовлетворить. Я даже видел ее без вуали на том постоялом дворе. — И в третий раз… Простите мою настойчивость, я должен это сделать в память моего брата. В третий раз, это действительно ли Джулия Сандоваль была вашей сестрой? Кольцо, которое она носила на пальце, которое сейчас у меня и на котором это имя написано полностью, не могло ли случиться, что это ее кольцо. Вы в том клянетесь? — Я клянусь в этом! Довольны ли вы? — Постойте? В шатоне[300] этого кольца есть герб; лазурный гербовый щит на золотом поле. Это герб Сандовалей из вашего семейства? — Да, сударь, именно так. — Итак, сударь, — произнес Буа-Доре, вновь надевая свой головной убор, — я объявляю еще раз, что вы солгали, как человек без стыда и наглец, каким и являетесь, потому что я только посмеялся над вами: на кольце вашей мнимой сестры стоит имя Мария де Мерида, а герб этот — зеленое поле с серебряным крестом. Я могу представить его как доказательство.Глава тридцать первая
Гийом был ужасно потрясен, но д'Альвимар быстро сообразил. Ярко светившая луна не позволяла однако разглядеть крошечные буквы и микроскопические гербы, скрытые на кольце, и в то же время было невозможно, как сегодня, выстрелить наизготовку из кармана. Не было даже необходимости переносить на другое время изучение этого доказательства. Он не пытался, как преступник, уклониться, но, напротив, искал поединка. Он опасался, что ему откажут в чести этой возможности спасения и оставят пленником маркиза или судьи. Он стремительно отвел Гийома в сторону и рассмеялся: — Я понимаю, — промолвил он. — Я желал быть любезным, как вы того требуете, чтобы покончить с этим и освободить вас от этого старого лунатика. Я рассказал все, что он желал бы заставить меня сказать, а теперь его блажь обрела другое направление, которому я не могу следовать. Все это по моей вине; я должен был бы рассказать вам, вернувшись от него, что он был безумен в течение двух дней, а доказательством тому его вчерашние поступки. Вам могли бы сообщить об этом: он просил руки мадам де Бевр. А весь сегодняшний день под впечатлением от смерти брата он выкидывал весьма странные фокусы, принимая за убийц то меня, то своего немого, то своего щенка. Я не сумел избежать того, чтоб он не схватил меня за горло, тешась выдумками, которые стали разменной монетой в его спектакле; но он только успокоился, увидев, что вы приехали. — Что же вы не рассказали обо всем? — воскликнул Гийом. — Я не хотел бы жаловаться на неприятности, которые я выносил, вы могли подумать, что я упрекаю вас в том, что меня здесь оставили. В настоящее время есть одно лишь средство покончить с этим. Позвольте мне драться с ним. — С безумным стариком? Я не могу, чтоб он страдал. — Ну же, Гийом, — нетерпеливо воскликнул Буа-Доре, — позволите ли вы теперь отомстить за оскорбление или же мне следует дать ему пощечину? — Мы к вашим услугам, сударь, — ответил д'Альвимар, пожимая плечами. — Начнем же, мой дорогой, — прошептал он Гийому, — что с ним делается! Не бойтесь! Я быстро образумлю эту старую марионетку, и обещаю вам заставить его попрыгать со своей шпагой столько раз, сколько вы пожелаете. Я берусь измотать его так, что ему придется быстро отправиться в постель, а завтра мы посмеемся над этим приключением. Гийом успокоился, увидев его таким веселым. — Я очень рад видеть, что у вас все в порядке, — прошептал он, — но я предупреждаю вас, что, считая своим долгом состязаться в фехтовании с этим стариком, вы не проявите мужества и причините мне огромную боль. Я понимаю, что он безумец; но это лишний довод, чтобы приберечь ваши силы и отпустить его измотанным ради его болезней. Гийом знал тем не менее, что Буа-Доре был искусен в фехтовании. Но это был старый метод, который презирали молодые люди, и он также знал, что, если маркиз еще сохранил верную руку, его колени были не столь крепки, чтобы продержаться больше двух или трех минут. Соперники спешились, слуги остались стеречь лошадей и пленного Санчо, которого Гийом приказал не освобождать до исхода поединка, чтобы не осложнять возможным вмешательством и без того трудной ситуации. Пока Гийом искал вместе с двумя соперниками подходящую площадку, Адамас и Аристандр с жаром шептали друг другу на ухо. Аристандр был в отчаянии, Адамас дрожал в лихорадке; но мысль, что его хозяин может стать жертвой своего великодушия, не могла прийти ему в голову. Он упивался своей уверенностью в ловкости и силе маркиза. — Что ты задрожал, как ребенок? — спрашивал он каретника. — Разве не знаешь, что господин проглотит тридцать шесть таких, как этот испанский ветрогон? Такого не случится, чтоб разум изменил такому доблестному человеку; но плут Санчо под надежной охраной, а мы за всем приглядим, господин Гийом и я. Разве я не секундант? Господин это сказал. Ты же слышал это. Мы два верных секунданта, и мы не сделаем ни движения, ни выпада, которые были бы против правил. — Но ты знаешь их не больше меня, эти правила поединка дворян? Слушай, я так хочу забраться повыше, чтоб никто меня не увидел, и если у противника нашего хозяина будет слишком много шансов, сбросить на него, прямо на голову, один из этих огромных камней. — Ради этого, если б я мог рассчитывать, что ты не прикончишь господина вместе с его противником, я не стал бы тебя удерживать, как не прочь бы совершить преступление и выпустить парочку пуль ему в голову, если бы не был секундантом. Но мой хозяин зовет меня, а ты можешь успокоиться, все уладится! Между тем площадка была выбрана, достаточно просторная и хорошо освещаемая луной. Шпаги были измерены, Гийом исполнял обязанности беспристрастного секунданта для обоих противников, которые поклялись во всем полагаться на него; ибо согласно правилам Адамас не мог находиться там. Поединок начался. Несмотря на свою веру и свой энтузиазм, Адамас ощущал дрожь во всем теле; он онемел, выпучив глаза и не чувствуя пота и слез, которые текли по его лицу, трогательному и гротескному. Гийом пристроился поодаль, чтобы самому тоже убедиться, что ничего ужасного не должно выйти из этой странной затеи. Но, когда оружие было обнажено, он почувствовал, что теряет свою уверенность, и корил себя за то, что не сумел предотвратить, любой ценой, какова бы она ни была, поединок, который с самого начала угрожал принять серьезный оборот. Д'Альвимар обещал сохранить жизнь своему противнику и пощадить его; но, насколько свет луны смог изменить черты его лица, что злоба и ненависть появились на нем со все возрастающей силой, и его действия, жесткие и точные, не предвещали даже малейшего благоразумного или великодушного намерения. К счастью, маркиз снова успокоился, твердо стоял на ногах и держался с ловкостью, которой никто не ожидал в его положении. Гийом не мог ничего произнести и довольствовался лишь тем, что кашлянул два или три раза, чтобы убедить д'Альвимара сдержать себя, не возбуждая обидчивости маркиза, который потерял бы голову совсем, если бы только заподозрил, что его не склонны воспринимать всерьез. Но поединок был серьезным. Д'Альвимарпочувствовал, что обрел противника менее сильного, чем он, в теории; но он ощутил тревогу и озабоченность, что и самому ему придется хуже всего, на этот раз, на практике. Он норовил пронзить его шпагой, разыгрывая оборону, но маркиз, казалось, догадался о его хитрости. Он берег свои силы. Поединок продолжался безрезультатно. Гийом принимал в расчет усталость маркиза, не веря все же, что д'Альвимар повергнет его во прах. Д'Альвимар чувствовал, что маркиз не терял силы; он старался разозлить его обманными движениями, выжидая, что одно нетерпеливое движение заставит его забыть об удивительной осмотрительности его поведения. Внезапно луна уплыла за огромную тучу, и Гийом хотел было вмешаться, чтобы приостановить сражение; но у него не было времени: оба противника продолжали кружить друг около друга. Третий участник бросился к ним, рискуя быть пронзенным шпагой: это был Адамас, который совсем потерял голову и который, не зная, на чьей стороне преимущество, бросился без оружия, сломя голову, в сражение. Гийом живо оттолкнул его и увидел маркиза на коленях около живота д'Альвимара. — Смилуйтесь, мой кузен! — воскликнул он, — смилуйтесь ради того, кем вы дорожите! — Слишком поздно, мой кузен, — ответил маркиз, поднимаясь. — Правосудие свершилось. Д'Альвимар был пригвожден к земле огромной рапирой маркиза: он уже скончался. Адамас исчез. На крик о пощаде слуги Буа-Доре поспешили на выручку. Маркиз, задыхавшийся и разбитый усталостью, прислонился к скале. Но он не ослабел и, когда луна вышла из-за тучи, присел на корточки, чтобы осмотреть и дотронуться до трупа. — Он уже мертв! — сказал ему Гийом укоризненно. — Вы меня лишили друга, сударь, и я не могу вас поздравить; ибо ваши подозрения могли быть несправедливы. — Я докажу вам, что они все же были обоснованы, Гийом, — ответил Буа-Доре с достоинством, которое снова возвратилось к нему, — пока же откажитесь на время от вашей озлобленности против меня и от ваших причитаний по этому злобному человеку. Когда вы узнаете правду, вы, быть может, станете упрекать себя за то, что вынудили меня рисковать моей жизнью, чтобы сохранить его. — И что же мы теперь будем делать с этим злосчастным телом? — спросил Гийом подавленный и смущенный. — Я не оставлю вас в беде ради моей выгоды, — ответил Буа-Доре. — Мои люди отвезут его в монастырь кармелитов в Шатре, которые совершат погребение, как они это разумеют. Я не собираюсь ни от кого скрывать поступок, который я совершил, тем более, что мне пришлось покарать убийцу. Но я не могу совершить хладнокровно грязное дело и убить Санчо, я полагаю передать его лейтенанту полевой жандармерии, чтобы его наказание было достойным. Адамас, ты будешь его сопровождать. Но где же мой верный Адамас? — Увы! господин, — ответил Адамас глухо, — я здесь, на коленях перед вами, и слишком слаб для этого поручения. — Итак, мой бедный друг, если ты больше ни на что не способен, мы отправим кого-нибудь другого. Я уже говорил тебе, что ты не слишком молод, чтоб подвергаться таким потрясениям! Маркиз возвратился к лошадям, пока его люди и люди Гийома уносили труп и завертывали в плащ; пленник исчез. Никто не позаботился связать ему ноги. Воспользовавшись моментом тревоги и смятения, когда слуги, обеспокоенные исходом поединка, оставили лошадей на двоих из них, которые прилагали много усилий, чтобы удержать их, он обратился в бегство, или, вернее, он проскользнул и скрылся где-то в лощине. — Успокойтесь, господин маркиз, — сказал Аристандр Буа-Доре. — Человек, у которого связаны руки не может ни бежать достаточно быстро, ни надежно укрыться; я обещаю вам поймать его. Я беру это на себя. Возвращайтесь к себе и отдохните; вы это заслужили! — Не возражаю, — сказал маркиз, — мне необходимо вновь увидеть этого убийцу. Пусть двое из вас ищут его, пока с двумя другими я буду сопровождать господина д'Арса в монастырь кармелитов. Д'Альвимара перекинули поперек спины его лошади, и люди Гийома помогли слугам Буа-Доре перевезти его. Дорогой Буа-Доре изложил своему молодому родственнику подробности столь определенные о смерти его брата, о возвращении его племянника, обстоятельства, связанные с каталонским ножом, наконец, об обстоятельствах, связанных с предъявленным кольцом, так что Гийом не мог продолжать защищать честь своего друга. Он признавал, что в общем и целом он знал его очень мало, связавшись с ним необдуманно, и что в Бургесе он узнал о нем, о дуэли, которой сей дворянин стремился избежать, подробности мало почтенные, если они были правдивы. Господин Скьярра-Мартиненго был бы убит, против всех законов чести, в момент, когда он требовал отложить поединок, поскольку его шпага сломалась. Гийом не желал верить этим обвинениям; но разоблачения Буа-Доре начинали заставлять его взглянуть на них серьезнее, и он обещал отправиться в Бриант на другой же день, чтобы увидеть доказательства и познакомиться с прелестным Марио.Глава тридцать вторая
По мере того, как убеждение входило в его сознание, Гийом вновь обретал экспансивность и дружелюбие по отношению к маркизу, равно как из чувства врожденной справедливости, которое сочеталось с природной легкостью предаваться целиком и полностью своему последнему впечатлению. — По-моему, — говорил он ему, когда они были неподалеку от города, — вы поступили как мужественный человек, и удар, которым вы его наградили, так, что пригвоздили к земле, — один из самых удачных ударов шпагой, о каком я когда-либо слышал. Я никогда не видел ничего подобного, а когда вы мне докажете, что этот бедняга Скьярра был к тому же большим негодяем, как вы утверждаете, я не стану больше сердиться, что увидел подобное. Если бы я не был так огорчен, то выразил бы вам свое восхищение. Но в любом случае, к сожалению или удовольствию, которое я испытывал бы от этой смерти, я признаю, что вы отлично владеете клинком, и что я желал бы обладать вашей силой в подобном поединке. Наши два всадника были уже на мосту Скабина, направляясь к воротам равелина, когда Адамас, который уже совсем совладал со своими чувствами и сделал определенные выводы, решил приблизиться к ним и попросить выслушать его. — Не думаете ли вы, господа, — спросил он их, — что появление покойника наделает много шума в городе? — Ну ладно, — перебил его маркиз, — ты подумал, что я желал бы укрыться от того, что отмстил за мою честь и смерть моего брата? — Да, господин, вы должны гордиться столь прекрасным поступком, но лишь тогда, когда тело будет предано земле; ибо начнется ужасный шум из-за пустяка среди мелких обывателей, кроме того, вид дворянина, перекинутого через седло его коня, заставит широко раскрыть глаза этих мещан из Шатра. У вас есть враги, господин, а сейчас появился еще один, господин де Конде — ярый католик. Если до него дойдет, что этот испанец был погребен по обряду и с четками, если его исповедовал господин Пулен, чья гувернантка восхваляла его уже в городке Бриант как истинного христианина… — Посмотрим, куда ты клонишь со своими историями для сплетниц, мой дорогой Адамас, — нетерпеливо произнес маркиз. Гийом взял слово. — Мой кузен, — сказал он, — Адамас прав. Законы против дуэли никем не уважаются; но люди злонамеренные могли бы, между тем, на них сослаться. Этот д'Альвимар имел кое-каких влиятельных друзей в Париже; и могли быть злобные доносы, время от времени, и все это можно обернуть против вас и против меня, тем более, что вы не считаетесь правоверным католиком. Подумайте еще и обо мне, не будем входить в город и постараемся избавиться от этого покойника. Вы уверены в своих людях, а я отвечаю за моих. У нас нет даже доверенных лиц ни среди служителей церкви, ни среди обывателей этого маленького городка, все самые злые языки в этой местности направлены против тех, кто сражался с лигой и служил покойному королю. — В том, что вы говорите, есть здравый смысл, — ответил Буа-Доре, — но мне внушает отвращение повесить камень на шею покойного и бросить его в реку, как собаку. — Э! Господин, — сказал Адамас, — да этот человек стоит того! — Это правда, мой друг: таким образом я думал уже час; но теперь уже не питаю больше ненависти к трупу! — Итак, господин, — сказал Адамас, — мне пришла в голову мысль, которая уладит все к лучшему: если мы повернем назад, мы обнаружим, в ста шагах отсюда, вдоль луга Шамбон, дом садовницы. — Вот как? Мари-творожницы? — Она очень предана господину и говорят, что не всегда была безобразной и рябой. — Продолжай же, продолжай, Адамас, не время шутить! — Я не шучу, господин, и я утверждаю, что эта старая дева хорошо сохранит тайну. — А ты хочешь доставить ей неприятности и вручить покойника? Да от этого она умрет со страху! — Нет, господин, известно, что она вовсе не одна в своем уединенном домишке. Я готов поклясться, что там мы найдем доброго кармелита, который похоронит достойно и по-христиански господина испанца в какой-нибудь яме за оградой садовницы. — Вы слишком гугенот, Адамас, — упрекнул его д'Арс. — Кармелиты совсем не так развратны, как вы это утверждаете. — Я же не говорю худого обо всех, мессир: я говорю о единственном, кого я знаю, и который, по крайней мере, облачен в монашескую одежду и носит четки. Это Хромой Жан, который служил господину маркизу на войне и которому господин маркиз дал возможность поступить в монастырь в качестве послушника с определенным капиталом. — Ну! Признаюсь, совет хорош! — сказал маркиз. — Хромой Жан — человек верный и тот, кто повидал слишком много мертвенно-бледных лиц, уткнувшихся в землю на полях сражений, чтобы испугаться из-за неприятного дела, которое мы ему поручим. — Итак, поспешим же, — сказал господин д'Арс, — потому что вы ведь знаете, что мой управляющий умирает и я хотел бы увидеть его еще раз, если еще успею. — Езжайте, мой кузен, — разрешил маркиз, — займитесь вашими делами; а дела, оставшиеся здесь, могут быть улажены только мной! Они обменялись рукопожатием. Гийом присоединился к своим людям и отправился по дороге к своему поместью: маркиз и Адамас остановились в доме Творожницы, где действительно находился Хромой Жан. Он с радостью встретил своего покровителя, которого называл своим полководцем. Известно, что послушник был доблестным воином на службе королю или сеньору провинции, и тем, о ком монастырь был вынужден позаботиться. Большинство религиозных общин были вынуждены, по соглашению, принимать и содержать тех немногих уцелевших жертв войны, порой слишком подвижных для набожных отшельников, но порой не менее испорченных, чем они сами. То, что он оказался среди кармелитов Шатра, историю которого мы не смогли здесь разыскать; брат-мирянин Хромой Жан с огромным трудом заставлял себя следовать установленному в монастыре порядку, но, если же он неукоснительно соблюдал часы каждодневного пропитания, то пренебрегал ими, возвращаясь на покой. Пока маркиз объяснял ему то, что ожидал получить от его преданности и скромности, Адамас вносил тело в уединенный домик, а четверть часа спустя Буа-Доре и его люди вновь направлялись по дороге в Ла Рошаль. Они встретили там Аристандра и его товарищей, расстроенных тем, что так и не смогли обнаружить, куда подевался Санчо. — Итак, господин, — промолвил Адамас, — быть может, Господь так благоволит к нему! Этот преступник ни в коем случае не появится в стране, где, как известно, он был уличен и подвергся бы новым неприятностям из-за вас. — Признаюсь, трезво рассудив, я не имею желания вершить расправу, — отвечал маркиз, — и хотел бы, чтоб он держался подальше от меня. Выдав его правосудию, я был бы вынужден рассказать, каким образом я обошелся с его хозяином, а потому мы должны в настоящий момент молчать об этом, таким образом, все и к лучшему. Я полагаю, что смерть моего дорогого Флоримона отомщена в должной мере, Мерседес даже не видела, чей удар, хозяина или слуги, оборвал его бедную жизнь; но в подобных случаях, Адамас, главный виновник и, быть может, единственный виновник тот, кто приказывает. В любом случае лакей верил, что его долг — подчиняться злонамеренному приказу, и он не мог даже действовать по своему усмотрению или воспользоваться вещами моего брата, так как он оставался лакеем, как и прежде. Адамас не разделял потребности в отпущении грехов тому, кто своими насильственными действиями причинил страдания маркизу. Он ненавидел Санчо гораздо больше, чем д'Альвимара. Он не считал себя очень способным, чтобы дать совет и совершить преступление; но именно он больше всего опасался увидеть графа преследуемым, и это поддерживало его мнение о нужности преследования, от которого он чуть было не отказался. Когда они приблизились к воротам поместья Бриантов, то услышали неровный топот копыт лошади, скакавшей без узды. Это была лошадь Санчо, которая вернулась к своему последнему ночлегу, рядом была лошадь д'Альвимара, приведенная назад в поводу. Они жалобно заржали, почти рыдающе. — Эти бедные животные чувствуют, как в том нас уверяют люди; несчастные, вернувшиеся к своим хозяевам, — сказал маркиз Адамасу, — это разумные существа и они живут в неведении. Я вовсе не собираюсь убивать их здесь; ибо совсем не желаю иметь в своем доме ничего, что бы принадлежало этому д'Альвимару и чтоб получить хоть малейшую выгоду от вещей, оставшихся после покойного, которая осквернила бы мои руки, пусть отведут этих лошадей на десять или двенадцать лье отсюда и пусть их там выпустят на волю. И пускай этим воспользуется тот, кто захочет. — И таким образом, — возразил Адамас, — никто не узнает, откуда они пришли. Вы могли бы отставить это на попечение Аристандра, господин. Он даже не даст соблазнить себя желанием их продать ради собственной выгоды, и сели вы мне в этом поверите, он отправится в путь в тот же час, не дав им переступить порога поместья. Это совсем ни к чему, чтоб кто-то увидел этих лошадей на вашей конюшне. — Делай, что хочешь, Адамас, — ответил маркиз. — Это заставило меня подумать, что этот злосчастный плут должен был иметь деньги при себе, и что я должен бы подумать о том, чтобы взять их на пожертвование нищим. — Оставьте это на попечение послушника, господин, — сказал благоразумный Адамас, — вдобавок он поищет их в карманах покойника, к тому же вы будете уверены в его молчании.Было одиннадцать часов вечера, когда маркиз вернулся в свою гостиную. Жовлен бросился ему в объятия. Его выразительные черты лица говорили достаточно о пережитых ужасах беспокойства. — Мой добрый друг, — сказал ему Буа-Доре, — я обманул вас; но радуйтесь, этого человека больше нет; и я вернулся к себе домой с легким сердцем. Мое дитя, несомненно, спит в этот час: не станем будить его. Я расскажу вам… — Ребенок не спит, — ответил немой, воспользовавшись карандашом. — Он догадался о моих страхах: он плакал, он просил и метался на своей постели. — Пойдем успокоим это бедное сердечко! — воскликнул Буа-Доре, — но сначала, друг мой, взгляните, нет ли на моей одежде хоть малейшей капли этой злодейской крови. Я не хочу, чтоб это дитя узнало страх или ненависть в том возрасте, когда еще нет спокойствия силы. Люсилио снял с маркиза плащ, шлем и забрал оружие, а когда они поднялись наверх, то обнаружили босого Марио на пороге комнаты. — Ах! — воскликнул ребенок, горячо прижимаясь к огромным ногам своего дядюшки и болтая с ним с той бесцеремонностью, в которой он еще не сознавал ничего противного обычаям знати, — вот ты и вернулся? С тобой все в порядке, мой дорогой друг? Скажи, тебе не сделали ничего плохого? Я подумал, что этот злодей хотел убить тебя, и я так хотел, чтоб меня отпустили побежать за тобой! Я был так огорчен, вот! В другой раз, когда ты отправишься сражаться, мне нужно следовать за тобой, потому что я — твой племянник. — Мой племянник! мой племянник! Этого недостаточно, — говорил маркиз, относя его в постель. — Я хочу быть твоим отцом. Тебе бы хотелось быть моим сыном? — И заодно он наклонился, чтобы принять ласки маленького Флориаля, который хорошо понимал и разделял опасения Жовлена и Марио. — Вот он, маленький друг, который больше не принадлежит мне. Знайте же, Марио, вы так хотели этого! Я дарю его вам, чтобы утешить вас в горе сегодня вечером. — Да, — проговорил Марио, положив Флориаля на свою подушку, — я так люблю его, но ставлю условие, пусть он принадлежит нам обоим и пусть он любит нас одинаково, как одного, так и другого… Но скажи мне еще, отец: этот злой человек поплатился за все, что совершил?.. — Да, сын мой, за все, что совершил. — А король его покарает за то, что он убил твоего брата? — Да, сын мой, он будет наказан. — А что же с ним сделают? — спросил Марио задумчиво. — Я расскажу вам позже, мой сын. Подумайте только, какое счастье, что мы уже вместе. — И никто не разлучит меня с тобой, никогда? — Никогда! Затем, обращаясь к немому: — Почтенный Жовлен, разве не грустно даже помыслить изменить нежную речь этого ребенка, которая так мелодично звучит в моих ушах? Давайте позволим ему говорить мне «ты» наедине, ибо сама эта фамильярность в его устах идет от любви. — А разве нужно было бы, что я тебе говорил «вы»? — возразил изумленный Марио. — Да, дитя мое, по крайней мере, всегда на людях. Таков обычай. — Ах! да, так я говорил господину аббату Анжоррану! Но ведь я люблю тебя гораздо больше, чем его… — Ты меня уже любишь, Марио? Я так доволен этим! Но как это объяснить? Ты ведь совсем меня не знаешь. — Все равно, я тебя люблю. — А ты не знаешь, почему? — Конечно! я тебя люблю, потому что люблю. — Друг мой, — обратился маркиз к Люсилио, — нет ничего прекраснее и приятнее, чем детство! Оно лепечет, как, должно быть, ангелы говорят между собой, и их доводы, какими бы они ни были, стоят дороже, чем вся мудрость старых голов. Вы будете обучать этого херувима для меня. Вы сделаете его ум столь же прекрасным и добрым, как ваш; хотя я и не невежда, но я хочу, чтоб он знал гораздо больше, чем я. Времена уже не таковы, как на гражданской войне в годы моей ранней юности, но я верю, что дворяне должны подниматься в просвещении разума. Но постарайтесь все же сохранить те простодушные привычки, которые дала ему жизнь среди пастухов. Во истину, он представляется по натуре одним из добросердечных детей, которые должны были бегать среди цветов, очарованных рек Линьона с их светлыми водами. Маркиз, приняв из рук Адамаса укрепляющее средство, чтобы снять усталость этого вечера, улегся и уснул счастливейшим из людей. Во времена, когда каждый вершил правосудие сам, за неимением упорядоченной законности, и когда понятие о прощении было бы воспринято как преступная и заслуживающая презрения слабость, маркиз, хотя бы в виде исключения склонный к огромной доброте, полагал, что исполнил самый священный свой долг, и в этом он следовал мыслям и обычаям самой разумной части рыцарства. Разумеется, в те времена никто не нашел бы и одного па тысячу дворянина, который не осудил бы или не высмеял чрезмерной романтической терпимости, которую Буа-Доре проявил во время этой дуэли. Буа-Доре это хорошо знал, но не особенно тревожился об этом. У него было три побудительных причины, чтобы стать тем, кем он стал: врожденное чувство, затем образцы гуманности Генриха IV, того, кто одним из первых в ту эпоху питал отвращение к проливаемой без особой надобности крови. Генрих III, смертельно раненный шпагой Жака Клемана, был столь выдержан в проявлении гнева и мщения, что, готовый ответить на удар шпагой своему убийце и с радостью увидеть его мертвым, выбросил ее в окно; а Генрих IV, лично оскорбленный Шастелем, первым делом произнес: «Отпустите этого человека!» Наконец, Буа-Доре имел в качестве неукоснительного свода правил кодекса чести дела и поступки героев «Астреи». Он находил образец для подражания в этой идеальной: поэме, в которой благородный рыцарь мстил за любовь, честь или дружбу, избегая в конце концов неприятностей. Нет необходимости слишком иронизировать над «Астреей», а следовало бы с интересом приглядеться к причинам популярности этой книги. Здесь, несмотря на множество бесчеловечных мерзостей вежливых раздоров, звучит крик о человечности, песнь невинности, мечта о доблести, которые поднимают к небесам.
Глава тридцать третья
Первой мыслью маркиза при его пробуждении была мысль о его наследнике, которого мы назовем его сыном. Ему еще вспомнились довольно беспорядочно тяжкие события этой беспокойной ночи; но он уже позвал дорогого Марио, чтобы возобновить с ним беседу, начатую со слова «сокровище». Но он не получил ответа и уже начал тревожиться, когда ребенок, оживленный и проснувшийся до рассвета, весь напоенный прохладным ароматом утра, бросился ему на шею. — И откуда вы идете так рано, мой милейший друг? — сказал ему старик. — Отец, — весело ответил Марио, — я пришел от Адамаса, он запретил мне раскрывать секрет, который знаем только мы двое. Не спрашивай меня пока о нем, это сюрприз, который мы хотели тебе преподнести. — В добрый час, сын мой. Я больше не стану спрашивать, я хочу получить сюрприз! Но не позавтракать ли нам вместе, тут, на этом маленьком столике, около моей постели? — О! У меня нет времени, мой папочка! Мне нужно вернуться к Адамасу, который просил тебя поспать еще часок, если ты не хочешь все проспать. Маркиз прилагал все усилия, чтобы снова заснуть, но все напрасно. Его слишком многое тревожило. Мадам де Бевр должна была приехать в этот день рано утром со своим отцом; Гийом тоже собирался быть, в случае, если его управляющему станет лучше. Распорядились ли надлежащим образом насчет обеда? Прилично ли будет представить Марио даме в его одеянии пастуха с гор? А это бедное дитя, которое не умеет ни толком поклониться, ни поцеловать руку и вымолвить три любезных словца! Все его очарование, все обаяние — не воспримут ли их с насмешкой и презрением те люди, которых голос крови делает слепыми? Впрочем, ничего не было приготовлено, когда он договаривался об охоте. Тогда было слишком много волнений и забот, чтобы заняться этим. — Если бы Адамас был там, ведь он — тот, кого никогда нельзя застать врасплох, он бы дал мне совет, — думал маркиз. Он оставался в постели почти до девяти часов, и никто не приходил ему на помощь, и, наконец, голод и беспокойство всерьез охватили его. — О чем только думает Адамас? — пробормотал он, решив подняться сам. — Мои сотрапезники должны уже приехать. Не думает ли он, что меня застанут в халате и с таким бледным лицом? Наконец, вошел Адамас. — О! Господин, успокойтесь! — воскликнул он. — Не думаете же вы, что я способен забыть о вас? Торопиться некуда. До двух часов пополудни у вас не будет посетителей, мадам де Бевр только что сказала мне об этом. — Тебе, Адамас? — Да, господин, мне, тому, кто постарался послать нарочного; чтобы дать знать, что вы готовите им огромный сюрприз, который еще не готов; я взял на себя эту небрежность, и я смиренно умолял их не приезжать до часа, который вы назначили, добавив, что вы хотели бы задержать ее у себя в доме сегодня вечером вместе с господином ее отцом и ему только завтра выпадет удовольствие охотиться. — Что же ты наделал, несчастный! Она решит, что я был безумен или неучтив. — Вовсе нет, господин; она все хорошо поняла, сказав, что с вашей стороны, все случившееся стало еще одним доказательством вашей мудрости или учтивости. — Итак, мой друг, нам придется позаботиться о… — Ни о чем, господин, совсем ни о чем, я вам клянусь в том. Вы достаточно сделали вашим умом и вашей шпагой в прошлую ночь, но для чего же Господь оставил беднягу Адамаса на земле, если не для того, чтоб уберечь вас от мелочной суеты пустяковых дел? — Увы, мой друг, это будет не столь просто, едва ли даже возможно в столь краткий срок сделать моего наследника представительным! — Вы так думаете, господин? — спросил Адамас с невыразимой улыбкой удовлетворения. — Я хотел бы увидеть хоть что-то, что вы пожелали бы и что было бы невозможно! Да, действительно, это так, хотел бы я это увидеть! Но позвольте, господин, я спрошу вас, каким образом я должен буду доложить о вашем наследнике, когда он предстанет перед обществом в салоне. — Вот это довольно затруднительно, мой друг; я уже размышлял об имени и о титуле, которые должно носить это дорогое дитя. Его отец, так же, как и мой, не имел титула; но, я так хочу, чтоб по наследству, а, если понадобится, то с разрешения короля, он унаследует мой титул, а также мое имущество, я думаю хорошо позаботиться до того времени и называть его так, как будто он является моим собственным сыном. Таким образом, в моем доме его следует называть «господин граф». — Это несомненно, господин! Но его имя. Не хотите же вы обращаться к нему просто Бурон, к этому бедному ребенку, который достоин носить более славное имя? — Знайте же, Адамас, что я никогда не краснел за имя своего отца, и что это имя, которое носил мой брат, мне будет всегда дорого. Но, как я хочу передать ему то, что дал мне мой король, я хочу, чтоб Марио носил его в равной степени и назывался Бурон де Буа-Доре; то, которое, согласно обычаю и в сокращенном виде, превратится в краткое — Буа-Доре. — Как хорошо, что я услышал об этом! А теперь, господин, одевайтесь, поешьте здесь, в вашей комнате, с мальчиком; потому что зал внизу находится в распоряжении моих декораторов; а я мог бы помочь завершить ваш туалет. Только нужно сегодня подобрать одежду, которую вы прикажете подавать. — Делай, как знаешь, Адамас, потому что ты ответствен за все! Все время смеясь, беседуя за завтраком со своим наследником, добрый Сильвен вдруг ощутил приступ острой печали. Он старался скрыть ее от ребенка. Но, когда Адамас, объявив, что все полностью улажено, явился, чтобы его переодеть, он раскрыл ему свое сердце, пока ребенок играл и бегал по дому. — Мой бедный друг, — обратился он к нему, — я поражаюсь тому, что избранные откровения, какие так по-родственному Беллинда расточает на меня в последние дни, могут ввести меня в ужасные неприятности. — Что за неприятности, сударь? — Стоит ли напоминать еще раз, Адамас, что я отдал свое сердце и свою жизнь некой прекрасной обольстительнице, именно утром того же дня, когда я вновь обрел Марио? Однако, хотя она не отказала, а только отсрочила мое предложение, но в результате всего этого я рискую… по-твоему, получить других наследников; в то время как есть это дитя, которому я хотел бы посвятить все мои дни и оставить все состояние. — Черт возьми, господин, да я и не помыслил о таком! Но вы даже не огорчайтесь! Как я, так и вы, мы вбили себе в голову этот роковой план, но именно я сумею найти для вас выход, чтобы избежать интрига. Я об этом подумаю, господин, я подумаю об этом! А вы подумайте лучше о том, как вас приодеть и развеселить сегодня. — Я так хочу этого. Но какой костюм ты мне принесешь теперь, мой друг? — Ваш костюм в крестьянском стиле, монсеньор; это один из ваших самых галантных. — Именно самый, я полагаю, галантный; мне непросто прикидываться столь доблестным, когда мой бедный Марио… — Сударь, сударь! Позвольте мне все уладить; наш Марио будет выглядеть очень достойно. Платье «по-крестьянски» для маркиза было сшито все из бархата и белого сатина, со щедростью украшенного золотыми галунами и восхитительными кружевами. Белое было в те времена цветом крестьян, которые в любое время года были одеты в полотно или грубую бумазею, которые отбеливались полностью, и говорилось, что парадная одежда была в крестьянском стиле и это было в моде у самых изысканных. Маркиз был довольно приятен в этом облачении, но это не выглядело, как стремление выглядеть молодым человеком, он был, с головы до ног, украшен такими прелестными вещицами и такими забавными безделицами, его духи были так изысканны, но, несмотря на это, во всем чувствовалась благородность старинной грации и приятной добротности в их покрое, что никто не увидел бы попытки, недостойной и надуманной, не сообразной его годам, любой испытывал лишь удовлетворение от того, что он имел приятный вид и удовольствие от того, что он умеет сохранить здравый смысл. К двум часам мальчик на побегушках, одетый по старинной феодальной моде, предназначенной для данных обстоятельств, и поставленный на угловой сторожевой башне при въезде, затрубил в старинный рог, возвестив о приближении кавалькады. Маркиз, сопровождаемый Люсилио, направился к той башне, чтобы приветствовать даму своих мечтаний; он страстно желал бы видеть рядом с собой своего наследника, но появление ребенка решили задержать до окончательного деликатного объяснения с мадам де Бевр.Глава тридцать четвертая
Лориана прибыла верхом на прелестной маленькой лошадке, которую ее отец объездил для нее и которую она холила с отменной тщательностью. Она была облачена также «по-крестьянски», в амазонке тонкого белого сукна, по всему полю покрытому галунами из шелка, и легкой волной кружев поверх неизменного вдовьего капюшона. — О да! — вскричал грузный де Бевр, увидев одеяние маркиза, — вы уже облачились в цвета вашей дамы, мой дорогой зять? Его дочь пыталась остановить, но, когда все вошли в гостиную, несмотря на обещания, которые он давал, воздержаться от колкостей на эту тему, он все же не удержался и живо потребовал сказать, когда же свадьба. Вместо того чтоб быть обиженным или расстроенным, маркиз был весьма доволен этим предложением и попросил выслушать его тайно для выяснения этого чрезвычайно важного дела. Лакеи были отосланы, двери закрыты и Буа-Доре, преклонив колена перед прелестной маленькой Лорианой, заговорил в таких выражениях: — Дама, юная и прекрасная, вы видите у ваших ног верного слугу, для которого это огромное событие, исполненное радости и тревоги, счастья и боли, упования и опасений. Когда я предлагал, два дня назад, свое сердце, мое имя и мою судьбу, я считал себя свободным от всех других обязанностей и пристрастий. Однако… — Неужели! мой дорогой зять! — воскликнул де Бевр, охваченный гневом и яростно сверкая глазами, — вы смеетесь над всеми, не думаете же вы, что я, тот человек, который допустит, чтобы вы отреклись от своего обещания, после того, как смертельно поразили стрелой любви сердце моей бедной дочери? — О! Успокойтесь же, мой дорогой отец! — промолвила весело и слащаво Лориана, — вы меня компрометируете. К счастью, маркиз не поверил, что я столь капризна, что потребую прежде семи лет на размышление, теперь же мне кажется, я уже вынуждена настаивать на его слове. — Позвольте мне сказать, — возразил маркиз, беря руку Лорианы в свою, — я знаю, моя прекраснейшая, что в вашем сердце нет и тени любви, и именно я беру на себя смелость потребовать назад свое обещание. А вы, мой сосед, посмейтесь вволю, по такому прекрасному поводу, а я посмеюсь вместе с вами сегодня, так как вчера у меня было довольно причин для слез. — В самом деле, сосед мой, — спросил добряк де Бевр, взяв его за другую руку. — Если вы говорите серьезно, как кажется по вашему виду, я не стану больше смеяться. У вас какое-то горе? — Говорите же, мой дорогой Селадон, — добавила Лориана сердечно, — расскажите же нам о своих печалях! — Мои печали развеялись, и если вы сохраните свою дружбу ко мне, я буду счастливейшим из людей. Итак, слушайте, мои друзья, — произнес он, немного напряженно возвышая голос. — Вы услышали, позавчера, пророчество — «Через три дня, три недели или три месяца, вы станете отцом?» — Ну, ладно, — сказал де Бевр, возвращаясь к своему вызывающему скуку расположению духа, — вы поверили, мой смельчак, что предсказание сбылось? — Оно сбылось, мой сосед. И это скорее не для меня, ведь я не требовал от вас и от прелестной Лорианы семь лет ожидания и верности: все это ради моего наследника, ради моего единственного сына, ради… Тут, обе створки двери распахнулись и Адамас с величавой осанкой провозгласил отчетливым голосом и с торжественным видом: — Господин граф Марио де Буа-Доре! Удивление поразило всех присутствующих; ибо даже маркиз не ожидал такого скорого появления своего сына и не знал еще, в каком наряде придется его представлять! Какова же была его радость, когда он увидел входящего Марио, одетого «по-крестьянски», то есть в одежде, точно соответствующей по фасону и по ткани, тому облачению, в котором он был сам: камзол из сатина с множеством дырочек на рукавах, наплечник без крылышек (камзол в верхней части с эполетами, но без свисающих рукавов), на белом бархате вышивка золотом; свободные панталоны, в четыре локтя шириной, присборенные почти до колена, обшитые жемчужными пуговицами и немного раскрытыми на бортах, чтобы выпустить розочку на подвязке; шеловые чулки, с башмаками «подъемный мост», закрытый розетками, зубцы «в смятении», то есть, несколько неровных рядов с хорошо подогнанными отворотами, фетровая шляпа с перьями, повсюду бриллианты, маленькая портупея, вся украшенная жемчугом, и маленькая шпага, которая сама являлась произведением искусства! Адамас провел целую ночь, выбирая, размышляя, подгоняя и поправляя, и целое утро — примеряя. Проворный мориск и четверо работников, поднятые до зари, с азартом шили. Клиндор проскакал десять лье, чтобы отыскать шляпу и обувь. Адамас подбирал, украшал перьями, декорировал, перекладывал, прилаживал, и наряд, со вкусом задуманный, отлично скроенный и довольно прочный, чтобы продержаться несколько дней без починки, был на диво хорош. Марио, украшенный бантами и надушенный, как маркиз, слегка завитый и около левого уха розетка из белой тесьмы, подвешенной на пряди волос или «усе», с изяществом представился. Он носил рапиру с непринужденностью, а трогательная его красота выигрывала среди всей этой белизны, которую он дарил с простодушием молоденькой девушки. Лориана и ее отец были так восхищены его осанкой и движениями, что невольно встали, как бы приветствуя королевского отпрыска. Но это было еще не все. Адамас, прихорашивая своего маленького сеньора, попытался выучить с ним несколько лестных слов, выдержку из «Астреи» для Лорианы. Прочитать несколько фраз на память не было трудной задачей для смышленого Марио. — Мадам, — произнес он с нежной улыбкой, — «невозможно видеть вас и не влюбиться, но еще более невозможно влюбиться в вас, не будучи без ума от этой страсти. Позвольте же поцеловать тысячу и тысячу раз ваши прекрасные руки, не желая, таким образом, затеряться среди умерших, которым отказано в этой мольбе, даруйте же мне…» Здесь Марио остановился. Не понимая и не размышляя, он быстро освоился. Смысл слов, которые он произносил, показался всем сразу очень смешным: ибо он нисколько не был расположен к подобным страданиям, если бы Лориана отказала ему в поцелуе тысячу и тысячу раз, он бы не имел столь сильного желания получить его. У него появилось желание рассмеяться и он посмотрел на молодую даму, которой тоже было смешно и которая с симпатией и жизнерадостностью протянула ему обе руки. Он воспринял этикет двора, но, повинуясь своей природной доверчивости, прижал обе руки к шее и прижимал их к обеим щекам, произнося собственную выдумку: — Добрый вечер, мадам; я прошу вас пожелать мне добра; ведь вы кажетесь мне такой доброй и я уже очень полюбил вас. — Простите его, — сказал маркиз, — это такое искреннее дитя… — За это он мне так и нравится, — отвечала Лориана, — я избавлю его от всех церемоний. — Посмотрим, посмотрим, — сказал де Бевр, — что означает, мой сосед, этот прелестный малыш, как я вижу, вы заслужили мой комплимент, но я не поверил бы вам… Объявили о приходе Гийома д'Арса с Луисом Вильемор и молодыми Шабаннесами, которые приехали утром к нему и которым он уже рассказал о чудесном возвращении сына Флоримона. — Так это он? — воскликнул он, войдя и взглянув на Марио. — Да, это мой маленький цыганенок. Но, как же он хорош сейчас, Бог мой, и как вы должно быть довольны, мой кузен! Ей-богу, мой дворянин! — говорил он ребенку, — у вас такая красивая шпага и такой доблестный вид! Вы сделали бы честь вашим соседям и друзьям! Вы нас сокрушите, я понимаю это, и никто не сравнится с вами. Итак, скажите же нам свое имя и давайте познакомимся; ибо мы родственники, если вам угодно, и я хотел бы услужить вам хоть в чем-то, хотя бы научить вас ездить верхом на лошади! — О, я умею, — сказал Марио. — Я ездил уже на Скилиндре! — На этой огромной лошади для кареты! И, скажите же мне, мой учитель, не находите ли вы его рысь вялой. — Не слишком, — ответил Марио со смехом. И он принялся играть и болтать с Гийомом и его приятелями. — Ах так! — проговорил де Бевр, отводя Буа-Доре в сторону, — откройте же вашу тайну, ибо я не знаю ее. Вы можете ее нам доверить, мой сосед! Не вы же произвели на свет этого прелестного малютку! Он слишком юн для этого. Это какой-то усыновленный ребенок? — Это мой собственный племянник, — отвечал Буа-Доре, — это сын моего Флоримона, которого вы тоже любили, мой сосед. И он рассказал перед всеми с достоверными доказательствами историю Марио, ни разу не произнеся имени д'Альвимара или имя Виллареаля, и чтоб никто не услышал, что он обнаружил и покарал убийц своего брата.Глава тридцать пятая
Все радостно встретили миловидного Марио, который своей врожденной добротой, своим ласковым видом и своим красивым взглядом завоевал сразу все сердца. — Ну вот, — сказал де Бевр своей дочери, — вот вы больше и не помолвлены с нашим старым соседом, а помолвлены с его племянником, потому что, мне кажется, именно так маркизу хочется повернуть теперь дело. — Как угодно Богу, отец! — ответила Лориана. — И если он заговорит об этом, я прошу вас притвориться, как и я, что вы согласны с этой сделкой, — добряк способен принять это всерьез. — Он очень даже всерьез принял это, когда речь шла о нем! — сказал де Бевр. — Разница в возрасте между вами и этим маленьким мальчиком исчисляется годами, в то время, как между маркизом и вами она, скорее, могла бы измеряться четвертями столетия. Не важно, я вижу, что дорогой человек потерял понятие времени для других так же, как и для самого себя; но вот он идет к нам, я хочу позлить его немного! Буа-Доре, от которого де Бевр настоятельно требовал объяснения, очень серьезно заявил, что это было всего лишь слово, и что, вручив свою свободу и свою веру Лориане, он рассматривает себя ее рабом, если она не вернет ему свое обещание. — Я вам его возвращаю, дорогой Селадон! — воскликнула Лориана. Но отец прервал ее. Он хотел подразнить и ее тоже. — Нет уж, нет уж, дочь моя, речь идет о чести семьи и ваш отец не позволит насмехаться над ним. Я вижу, что ваш переменчивый и взбалмошный Селадон захвачен отцовской нежностью по отношению к этому красивому племяннику, и что он предпочитает в дальнейшем выступать в роли отца, не взяв на себя труд стать супругом. К тому же, я вижу также, что он замышляет передать ему все свое состояние, не принимая во внимание своих будущих детей, этого я не вынесу и этому вы должны воспрепятствовать, требуя выполнить обещание, которое он вам дал, поклявшись. Господин де Бевр говорил столь серьезно, что какое-то время маркиз, пораженный, размышлял про себя: «Надо думать, что мое счастье очень меня омолодило, и что мой сосед, который столько высмеивал меня, уж больше не находит меня таким старым. Зачем только чертову Адамасу пришла мысль заставить меня поступить так?» Лориана, увидев замешательство на его лице, великодушно пришла ему на помощь. — Месье мой отец, — сказала она, — а это вас нисколько не касается ввиду того, что наш маркиз не просил моей руки без моего сердца, и поскольку сердце мое не заговорило, маркиз свободен. — Вот так на! — воскликнул дс Бевр. — Ваше сердце говорит вам очень громко, дочь моя, и легко видна ваша поблажка маркизу, что оно говорит именно о нем. — Это правда? — сказал колеблющийся Буа-Доре. — Если бы я имел это участье, то тут ни до племянника, и поскольку я дал слово… — Нет, маркиз, нет, — сказала Лориана, решившись покончить с мечтаниями старого Селадона. — Мое сердце говорит, это верно, но после определенного мгновения, после того, как я увидела вашего миловидного племянника. Судьба хочет так по причине великой дружбы, которую я имею к вам, она не сможет позволить мне обратить внимание на кого-нибудь, помимо вашей семьи и вашего подобия. Итак, это я рву наши узы и объявляю себя неверной, но я делаю это без угрызений совести, потому что тот, кого я предпочла вам, дорог вам так же, как и мне. Итак, не будем говорить больше ни о чем до тех пор, пока Марио не достигнет возраста, когда докажет некоторое чувство ко мне, если этот счастливый день должен наступить. В ожидании этого я постараюсь запастись терпением и мы останемся друзьями. Буа-Доре, восхищенный этим решением, горячо поцеловал руку любезной Лорианы, но в это время страшная пальба заставила задрожать стекла и содрогнуться всех обитателей замка. Подбежали к окнам. Это был Адамас, который свирепствовал из всех фальконетов, аркебуз и пистолетов своего маленького арсенала. В то же время увидели, как во внутренний двор входят все жители поселка и все вассалы маркиза, крича во всю глотку, вместе со всеми служащими и слугами дома: — Да здравствует господин маркиз! Да здравствует господин граф! Эти славные люди подчинились приказу, отданному Аристандром, не зная, о чем идет речь. Но они хорошо знали, что когда их звали и замок, то возвращались они с щедрыми подарками, и поэтому они шли туда охотно. Открыли окна гостиной, чтобы слышать речи в виде воззваний, которые Адамас выпаливал многочисленным собравшимся. Стоя на колодце, который был закрыт, чтобы предаваться без опасности оживленной пантомиме, счастливый Адамас импровизировал красноречивую пьесу о трагической смерти господина Флоримона, заставлял проливать слезы, и поскольку Адамас вообще плакал легко и простодушно, расчувствовавшись сам собой, он был выслушиваем благоговейно даже из окон гостиной. Возрадовались лишь при восторженности патетической радости, с которой он оповестил об обретении Марио, но деревенская аудитория не нашла в этом ничего такого. Крестьянин понимает жест, а не слова, которые он не старался понимать; это был труд, а работа ума кажется ему вещьюпротивоестественной. Он слушает глазами. Однако в восторг привела заключительная часть речи, и знатоки утверждали, что господин Адамас проповедует намного лучше приходского священника. Речь окончилась, маркиз со своим наследником и сопровождающим сошел вниз, и Марио очаровал и покорил и крестьян тоже своим приветливым обращением и своим нежным голосом. Выполняя поручение своего отца, Марио пригласил весь поселок на большой пир на следующее воскресенье. Он это сделал, естественно, в выражениях, понятных и принятых в народе, так что Гийом и его друзья и даже республиканец де Бевр были вынуждены вспомнить, что мальчик и сам вышел из народа. Маркиз, заметив их неодобрение, спрашивал себя, не следует ли отозвать Марио, который переходил от группы к группе, давая обнимать себя и с пылкостью возвращая ласки. Но одна старая женщина, старейшина деревни, подошла к нему, опираясь на свою клюку, и сказала ему дрожащим голосом: — Ваша светлость, Бог благословит вас за то, что вы добры и человечны к беднякам. Вы заставили нас забыть вашего отца, который был жесток по отношению к вам так же, как и ко всем другим. Вот ребенок, который похож на вас и который не допустит, чтобы вас забыли. Маркиз пожал руку старухе и позволил Марио пожать руки всем. Он предложил выпить за здоровье сына и сам пил за здоровье собравшихся в то время, как Адамас продолжал греметь своей артиллерией. Когда толпа разошлась, маркиз заметил господина Пулена, который наблюдал происходящее, не выходя из-под маленького навеса, где он разместился, как в ложе. Маркиз отрезал ему путь к отступлению, Подойдя поприветствовать и пригласить отужинать, слегка упрекнув в том, что господин Пулен никогда не приходит. Священник поблагодарил его с загадочной вежливостью, сказав с притворным смущением, что его принципы не позволяют ему кушать с «так называемыми». В те времена говорили в соответствии со взглядами, которых придерживались, протестанты или так называемые протестанты. Когда говорили коротко «так называемые», это было выражением ортодоксии, которая не принимала даже идеи возможности реформации. Это хулящее выражение ранило маркиза и, обыгрывая слово, он ответил, что у него в доме нет жениха и невесты. — Я думал, господин и госпожа де Бевр обручены с «ошибкой Женевы», — продолжил священник с коварной усмешкой, — или они разведены по примеру господина маркиза? — Господин священник, — сказал Буа-Доре, — сейчас не время толковать о теологии, и признаюсь, что я в этом ничего не понимаю. Один раз, два раза, хотите быть своим «с» или «без» гугенотов. — «С» — я это уже сказал вам, господин маркиз, для меня это невозможно. — Итак, месье, — продолжал Буа-Доре с горячностью, которую он не сумел побороть, — это когда вам угодно, но в дни, когда вы меня не считаете достойным принимать вас в моем доме, вы, может быть, соизволите не приходить в мой дом. Зачем, не желая войти туда, вы все же приходите туда, видимо, чтобы поносить тех, которые делают мне честь, находясь здесь. Священник достиг того, что он называл надоеданием, то есть он желал разозлить маркиза, чтобы выложить ему его вину. — Господин маркиз допустил всех жителей моего прихода на семейное празднество, так я полагаю, — сказал он, — и я был позван, как и другие. Я даже вообразил себе, что этот приятный мальчик, обретение которого отмечалось, будет нуждаться в моих услугах, чтобы быть возвращенным в лоно церкви церемонией, которой, возможно, следовало бы начать празднество. — Мой мальчик был воспитан как настоящий христианин настоящим священником, месье! Он не нуждается ни в каком другом примирении с Богом, а что касается этой мавританки, по поводу которой вы полагаете быть столь хорошо осведомленным, так знайте, что она лучшая христианка, чем большинство людей, которые к этому стремятся. Так будьте покойны, и приходите ко мне с открытым забралом и без задних мыслей, прошу вас, или совсем тогда не приходите. — Я искренней, господин маркиз, — отвечал священник, повышая голос, — и доказательство того, что я спрашиваю вас без уверток, где господин де Виллареаль и как произошло, что я не вижу его в вашей компании? Эта коварная неожиданность должна была привести в замешательство Буа-Доре. По счастью Гийом д'Арс, который приблизился к ним в этот момент, услышал вопрос и взял на себя ответ на него: — Вы спрашиваете о господине дс Виллареале, — сказал он, здороваясь с господином Пуленом. — Он уехал из этого замка со мной вчера вечером. — Извините меня, — продолжал священник, приветствуя Гийома с большим почтением, чем он проявил к Буа-Доре, — тогда значит это к вам, граф, я могу отправить письмо ему? — Нет, месье, — ответил Гийом, раздосадованный такой настоятельностью. — Сегодня у меня его уже нет… — Но если он отправился на прогулку, вы ожидаете его возвращения сегодня вечером, или завтра, или послезавтра, или позднее, думаю я? — Я не знаю, когда он вернется, сударь, у меня нет привычки допрашивать людей. Идемте же, маркиз, вас просят в гостиную. Он повлек Буа-Доре к де Беврам, чтобы махом оборвать расследование священника, который удалился со странной улыбкой и угрожающим смирением. — Вы говорили о господине де Виллареале, — сказал де Бевр маркизу, — я расслышал, как упоминалось его имя. Куда же он делся, поскольку мы не видим его здесь? Он заболел? — Он уехал, — сказал Гийом, которого эти расспросы перед многочисленными свидетелями очень беспокоили. — Уехал, чтобы больше не вернуться? — удивилась Лориана. — Чтобы больше не вернуться, — ответил Буа-Доре твердо. — Тогда, — сказала она после небольшой паузы, — я очень рада. — Вам он не понравился? — спросил маркиз, предлагая ей свою руку в то время, как Гийом шел за ней. — Вы сочтете меня сумасшедшей, — отвечала молодая дама, — но я все-таки признаюсь. Я прошу у вас извинения, господин д'Арс, но ваш друг внушал мне страх. — Страх?.. Это странно, другие люди говорили мне то же самое! А почему, мадам, он внушал вам страх? — Он определенно похож на портрет, который у нас дома и которого вы, возможно, ни разу не видели… В нашей маленькой часовне! Вы его видели? — Да, — воскликнул пораженный Гийом, — я знаю, о чем вы говорите! Он был похож на него, честное слово! — Был похож? Вы говорите о вашем друге, как будто он умер! Марио появился прервать эту беседу. Лориана, которая с ним уже очень подружилась, хотела дать ему руку, чтобы вернуться. Гийом и Буа-Доре остались на мгновение одни позади общества. — Ах, мой кузен! — сказал молодой человек старику. — Это такая неприятная штука скрывать смерть человека, как будто краснеешь от какого-то малодушия, хотя, напротив… — Что до меня, то я больше люблю откровенность, — ответил маркиз. — Это вы приговорили меня к этому притворству, и если оно вас давит… — Нет! нет! Ваш священник, кажется, имеет подозрения. Мы молчим пока о том, что способ, которым ваш брат был подло убит, был весьма распространен, но вы покажете доказательства всем, не называя виновных. Когда вы их назовете, все будет подготовлено, чтобы их приговорить. Но скажите мне, маркиз, знаете ли вы, где тело этого презренного человека? — Да, Аристандр выяснил это. Брат монах помог нам. — Но понимаете ли вы что-нибудь об этом д'Альвимаре, мой кузен? Человек столь хорошего происхождения и который проявлял такие хорошие манеры! — Придворное честолюбие и нищета Испании! — ответил Буа-Доре. — И потом, знаете, мой кузен, мне часто приходит в мысли философский парадокс: мы все равны перед Богом, и для него нет разницы душа ли это дворянина или душа виллана. Вот точка, где популярный кальвинист, возможно, не столь уж обманывается? — Да, да, — продолжал Гийом, — кстати о кальвинистах, мой кузен, знаете ли вы, что дела короля плохи там, и что его не принимает весь Монтобан? Я узнал в Бурже от хорошо информированных людей, что в первый же день сняли осаду и так могли хорошо изменить еще раз всю политику. Лично вы может быть немного удручены, что приходится отрекаться! — Отрекаться, отрекаться! — сказал Буа-Доре, качая головой. — Лично я никогда ни от чего не отрекался. Я размышляю, я дискутирую сам с собой, и то, что мне кажется более правильным, я принимаю в том виде или ином. В сущности… — В сущности вы таков, как и я, — сказал Гийом со смехом, — вас заботит только быть порядочным человеком. Ужин, хотя очень интимный, был сервирован с неслыханной роскошью. Зал был декорирован листвой и цветами, увитыми золотыми и серебряными лентами; самые искусные золотые, серебряные и фаянсовые изделия были выставлены, кушанья и вина самые изысканные были предложены. Пять или шесть лучших друзей или соседей прибыли к последнему удару колокола; это был еще один сюрприз для маркиза. Адамас разослал курьеров по всем окрестностям. Во время еды музыки не было, гости говорили, и им было что сказать! Правда, каждая перемена блюд сопровождалась фанфарами во дворе. Лориана заняла место напротив маркиза, справа от нее был Марио. Люсилио ушел с праздника, опасаясь недоброжелательства кого-нибудь из гостей. Через полчаса после того как они вышли из-за стола, Адамас попросил своего хозяина подняться вместе с его компанией в Зеленый зал, где им был подготовлен еще один сюрприз.Глава тридцать шестая
Это было развлечение во вкусе эпохи, но такое, какое можно исполнять на скорую руку в небольшом помещении. В глубине зала было устроено подобие театра с богатыми коврами, заменяющими подмостки, тканями для рамки, натуральной листвой для кулис. Когда все расселись, Люсилио сыграл красивую увертюру и паж Клендор появился на сцене в костюме пастуха. Он пропел довольно красивые деревенские куплеты в стиле мэтра Жовлена, затем он приступил пасти своих баранов, настоящих ягнят, украшенных лентами и хорошо вымытых, которые вели себя довольно прилично на сцене. Флориаль, собака пастуха, играла тоже очень прилично свою роль. Сурделина играла музыку сонливую и приятную, и под ее звуки пастух задремал. Тогда показался почтенный старец, ищущий что-то с треногой даже в карманах спящего и в шерсти баранов. У него была такая обильная борода, волосы и столь густые белые брови, что сначала не узнали, кто же исполняет эту роль, но когда он стал декламировать стихи, выражая предмет своего страдания, все разразились радостным смехом, обнаружив гасконское произношение Адамаса. Этот безутешный старик гонялся за судьбой, которая похитила у него его юного хозяина, обожаемого ребенка его господина. Пастух, внезапно проснувшийся, спросил его, что он желает. Между ними происходит вольный диалог, где повторяется много раз одна и та же вещь, та, которая, по мнению Адамаса, имела преимущество заставить зрителя почувствовать то, что ему нравилось называть узлом пьесы. Пастух помогал старику в его поисках, и они отправились атаковать небольшой форт, расположенный в глубине театра, этот форт был именно тем, который некогда захватил маркиз на вершине замка Сарзо, когда страшный великан, одетый фантастическим образом, оказал сопротивление их намерению. Этот великан, роль которого играл Аристандр, выражался слогами на неизвестном языке. Поскольку он объявил себя неспособным запомнить даже три слова, Люсилио, который очень хотел помочь Адамасу в постановке его сочинения, разрешил исполнителю произносить наобум бессвязные, лишенные смысла слоги; достаточно было того, что он имеет устрашающий вид и удивительный голос. Аристандр придерживался очень хорошо этого предписания, но поскольку Адамас оскорблял его и провоцировал самым активным образом, обзывая его людоедом, чудищем, страшилищем, славный великан, желая не запнуться, позволил вырваться на настоящем беррийском наречии проклятьям столь ужасным, что пришлось поторопиться убить его, чтобы воспрепятствовать негодованию собравшихся. Эта сцена очень не понравилась Флориалю, который не был храбрым, и который с легкостью перемахнул через рампу из свечей, чтобы найти убежище в ногах своего хозяина. Когда это чудище растянулось во весь рост от доблестной деревянной шпаги Адамаса, маленький форт обрушился как по волшебству, и стало видно появившуюся на его месте сивиллу. Это была мавританка, которой доверили прекрасные ткани Востока и которыми она была задрапирована с большим вкусом и поэзией. Она была очень красива, и ее приветствовали горячими аплодисментами. Бедная мавританка! Выросшая в неволе и доведенная до изнеможения гонениями, счастливая затем под соломенной крышей и при очень скромной работе под защитой бедного священника, это было впервые в ее жизни, когда она видела себя богато одетой, принимаемой с любовью богатыми людьми, которые аплодировали ей за ее изящество и ее красоту без оскорбительных мыслей. Она не поняла сначала, она боялась, она хотела убежать. Но Адамасу кстати послужили пять или шесть слов испанских, которые он знал, чтобы ее успокоить и дать понять, что она нравится. Мерседес искала глаза человека, который интересовал ее больше всех среди публики, и увидела почти рядом с собой Люсилио, который тоже аплодировал. Пламя брызгало из ее черных глаз, затем, испугавшись этой молнии счастья, в котором она не отдавала себе отчет, она опустила свои длинные ресницы, которые очерчивали бархатистые тени на знойных щеках. Ей снова зааплодировали. Когда она воспряла духом, она запела по-арабски, после чего она дала ответы на вопросы старого Адамаса. Затем после спора в пантомиме, сопровождаемой музыкой, она обещала ему ребенка, которого он искал, при условии, что он выдержит еще испытание сражением со страшным драконом из волоченой бумаги, который прибыл в театр, извиваясь и изрыгая пламя. Бесстрашный Адамас, решившийся на все, чтобы вернуть в отчий дом ребенка своего хозяина, устремился навстречу дракону и проткнул его своим непобедимым мечом, когда дракон порвался, как старая перчатка, и красивый Марио вышел из его утробы, одетый Купидоном, то есть в атласе розовом и золотистом с вышитыми цветами, голова его была увенчана короной из роз и перьев, лук в руке и колчан на плече. Превращение ребенка в Купидона в чреве дракона нам непросто понять в сценарии, написанном Адамасом, но, кажется, оно было воспринято как очень приятное, потому что это появление имело самый большой успех. Марио произнес приветствие, восхваляя своего дядю и его друзей, и сивилла предсказала ему самую высокую судьбу. Затем из кустов стали появляться разные диковины: рог изобилия, наполненный цветами и конфетами, которые мальчик бросал зрителям; портрет маркиза, который Марио с благоговением поцеловал, наконец гербовые щиты, раскрашенные по транспаранту, один с гербом Бурон дю Нуайе, другой с гербом Буа-Доре, расположенные рядом под венком, откуда бил маленький фейерверк в форме сияющего солнца. Попутно скажем несколько слов об этих гербах маркиза. Они были очень интересны, так как были придуманы лично Генрихом IV. В стиле геральдических книг их описывали так: «От устья десница, движимая золотой тучей, держащая шпагу острием вверх, возглавляемая тремя курицами с серебряными диадемами». То есть «герб на красном фоне, в середине которого правая рука является из золотой тучи, держа шпагу острием вверх по направлению к трем курицам в серебряных коронах. Вокруг герба девиз: „Все таковы предо мною!“» Если бы кто-нибудь вспомнил, как наш славный Сильвен был произведен в маркизы, то девиз эмблемы можно было перевести так: «Перед этой рукой нет врага, который не обнаружил бы сердца курицы». Дивертисмент был встречен аплодисментами и приветственными возгласами. Маркиз плакал от удовольствия видеть очарование своего сына и старание Адамаса. Отведали сладостей, оспаривали ласки Марио и расстались в одиннадцать часов, что было довольно поздно для деревенских привычек того времени. На следующий день была охота на птиц. Лориана непременно хотела, чтобы Марио принял участие, она одолжила ему свою маленькую белую лошадь, которая была доброй и умной, а сама храбро поехала на Росидоре. Маркизу хватило запасного парадного коня. Охота была безобидной, как и подобало персонажам, которые были героями. Марио получил столько удовольствия, что Люсилио опасался, чтобы не подвергалась слишком большому упоению эта юная голова, и чтобы он не сделался больным или безрассудным. Но мальчик показал, что у него прекрасное телосложение, он развлекался всеми этими новыми вещами и в то же время не слишком ими упивался, при малейшем обращении к его разуму он приходил в чувство и слушался с ангельской кротостью. Его нервы не были перевозбуждены, и он входил в счастье, как в рай любви и свободы. Ужин этого второго праздничного дня снова собрал в Брианте друзей, правда, на следующий день праздник был устроен для вассалов: пантагрюэльская еда и танцы под старыми ореховыми деревьями ограды; был устроен также, под руководством Гийома д'Арса, тир для аркебузиров. Марио предложил для ребят поселка соревнования по бегу и праще. Он показал ловкость и сноровку, которые наполнили его конкурентов восхищением. Никто не мог и мгновения помыслить оспорить у него приз, поэтому он скромно удалился с соревнований, чтобы дать возможность справедливо заработать приз другим. Некая церемония одновременно простодушная и претенциозная, довольно умилительная по существу, завершила празднество. В центре садового лабиринта поднималась маленькая постройка, крытая соломой. Маркиз называл ее дворцом Астреи. Туда отнесли бедные одежды, грубые и залатанные, которые были надеты на Марио, когда он впервые вступил в замок своих предков. Там составили подобие сельского трофея со скромной гитарой, которая служила ему для добывания средств к существованию во время странствий, и все это развесили внутри хижины, с гирляндами из листьев и с надписью, где можно было прочитать под датой этого памятного дня эти простые слова, выбранные и каллиграфически написанные Люсилио: «Вспоминай, что ты был беден!» В то же время Марио поднесли большую корзину, в которой лежали двенадцать новых костюмов. Их он раздал двенадцати бедным мальчикам из группы на маленьком крыльце хижины. Наконец маркиз заказал для размещения в приделе приходской церкви маленького мраморного мавзолея, посвященного памяти доброго и святого аббата Анжоррана. Люсилио сделал чертеж и сделал там запись. Приглашенные разошлись, и в замке Бриант наступила тишина. Маркиз серьезно задумался о воспитании своего сына. Ведь то, чему его научил аббат Анжорран, он мог очень легко забыть. Счастье, что в замке находился Люсилио, который с нежным сердцем принялся обучать дитя своего друга, и не только по причине дружбы, но также и потому, что само дитя своим мягким простодушием и ясностью своего ума делало для учителя привлекательным урок, большей частью столь надоедливый и столь унылый. Этот урок Люсилио не был, однако, легким. Он чувствовал, что обременяет душу, особенно душу бесконечно дорогую и чистую. Он хотел прежде всего дать этому юному созданию крепость веры и убеждений против бурь грядущего. Ведь они жили в столь смутное время! Разумеется, не пренебрегали приобретенными знаниями или превосходными познаниями прогресса. Это была эпоха новшеств, как говорилось, новшеств ненавистных для одних и ниспосланных провидением для других. Дискуссии были повсюду и обо всем, тогда, как и сегодня, как и вчера, как всегда, пошлость мышления полагала, что обладает непогрешимыми истинами. Но мир сознания потерял свое единство. Умы спокойные и бескорыстные искали отныне правоту то в одном лагере, то в другом, и поскольку в обоих лагерях часто имелась нетерпимость, заблуждение и жестокость, скептицизм быстро находил выгодным для себя сложить руки и узаконивать неискоренимое ослепление и бессилие человечества. Итак, следовало не поддаваться обстоятельствам, не верить во все те правды, которые утверждаются в мире убийствами, грабежом, насилием, мечом, костром и веревкой, а хранить в душе лишь одну-единственную правду, повинуясь собственным познаниям и здравому смыслу. Люсилио Джиовеллино размышлял о всех этих вещах и решил следовать Евангелию, комментируемому его собственным сердцем, потому что он хорошо видел, что эта божественная книга в руках некоторых католиков и некоторых протестантов может стать и становится с каждым днем кодексом фатализма, доктрины отупления и неистовства. Итак, он принялся учить Марио философии, истории, языкам и естественным наукам, всему вместе, стараясь сделать относящимися ко всем вещам логику и доброту Бога. Его метод был понятен и его объяснения лаконичными. Когда-то красноречивый, бедный Люсилио сначала испытывал отвращение к написанному слову, и даже еще он порой страдал от того, что вынужден ограничивать малым числом слов свою мысль, но он пришел к тому, что медлительность записей и нетерпение проявить себя вынудили и приучили его резюмировать с совершенными ясностью и энергией, и что мальчик питался от истинной сущности вещей, без ненужных подробностей и без утомительного начетничества. Уроки были удивительной краткости и несли в себе этот юный дух уверенности, столь редкий в те Бремена и не без основания. Со своей стороны, Буа-Доре, занимающий своего сына ребячеством и ерундой, сохранял его чистым и добрым благодаря тому таинственному проникновению, которое от одного доброго характера передается другому, не думая о том и не зная того. Когда среди своих пустых забот маркиз утруждал себя оказывать услугу или помощь, он никогда не проявлял ни досады, ни отвращения. Он поднимался, выслушивал, задавал вопросы, утешал и действовал. От природы праздный и благодушный, он не скучал от какой-либо жалобы и не выражал своего нетерпения от болтовни какой-нибудь бедной кумушки. Таким образом, желая посвятить всю свою жизнь пустякам, он вовсе не упускал моментов в этой жизни легкой и благосклонной, чтобы не доставить удовольствие или не сделать добро кому-нибудь. Так его день всегда начинался с хороших планов работы для своего сына (он называл работой заботы о туалете и обучение хорошим манерам), и переходил в нерешение ничего, в неделанье ничего и предоставлении всех дел мудрым решениям Адамаса и приятным капризам ребенка. Между тем по прошествии нескольких недель благодаря активности Адамаса и разуму Мерседес, удалось экипировать Марио, как знатного дворянина. Маркиз дал ему некоторые понятия о выездке и фехтовании, а также провел приятные сеансы по обучению изящным манерам. Маркиз заставлял входить и выходить десять раз подряд своего воспитанника, чтобы обучить его манере входить элегантно и учтиво в салон и выходить из него скромно и вежливо. — Видите ли, мой дорогой граф, — говорил он ему (это был час, когда нужно было разговаривать с вежливой церемонностью), — когда дворянин проходит порог двери и делает три шага в комнату, о нем уже выносят суждение заслуженные или знатные особы, которые там находятся. Значит нужно, чтобы все его достоинства и все его качества давали о себе знать в положении его тела и выражении его лица. До сегодняшнего дня вас встречали с ласками и нежной фамильярностью, вас освобождали от приличий, которых вы могли не знать, но эта поблажка скоро кончится, и если увидят, что вы сохраняете деревенские манеры под одеждами, которые теперь на вас, это примут за вашу натуру или мое равнодушие. Будем работать, мой дорогой граф, будем серьезно работать, начнем с этого реверанса, которому недостает блеска, и повторим еще раз это вхождение, которое выглядит дряблым и неблагородным. Марио развлекался этим обучением, которое давало возможность нарядиться в его самые красивые одежды, смотреться в зеркало и энергично двигаться по комнате. Он был такой ловкий и такой гибкий, что ему почти не составляло труда изучать эту разновидность величественного балета, в который он был тщательно посвящаем; и его старый отец, еще больший ребенок, чем он, умел сделать урок увлекательным. Это был полный курс пантомимы, в которой маркиз, несмотря на свой возраст, был еще превосходным исполнителем. — Видите ли, сын мой, — сказал он ему, причесываясь и драпируясь определенным образом, — вот манеры фанфарона. Смотрите хорошенько, что я буду делать, чтобы никогда так не делать в хорошей компании, разве что ради смеха. А теперь представим хвастливого от природы капитана. Марио смеялся, катаясь по полу. Ему позволялось для развлечения тоже изобразить капитана, и тогда уже наступала очередь маркиза смеяться до упада в своем кресле, столь ловко и славно шалун обезьянничал. Но нужно было возвращаться к уроку. Маркиз показывал ему тогда тупого мужлана, решительного и назойливого, или горького и противного педанта, или растерянного простака, и поскольку нужны были два актера, чтобы представить выразительную сцену, позвали людей дома. Отрадно, что можно было привлечь Адамаса и Мерседес, которые воспринимали это с большим воодушевлением. Но Адамас был деятельным, а мавританка работящей, они все время ускользали, чтобы работать на благо их любимого Марио. Тогда набросились на Клендора, который выразил желание, но действовал, как марионетка, и на Беллинду, которая очень хотела сыграть знатную даму, но играла эту роль самым смешным и самым абсурдным образом. Маркиз весело журил ее и отмечал ее нелепости в пользу обучения Марио, который был изрядный насмешник, веселившийся столь бурно, что оскорбил экономку. Она обиделась и ушла, а Марио, громко хохоча, забыв, что это было время занятий, вспрыгнул на колени маркиза и обнял, обращаясь к нему на ты, так что у старика не хватило мужества воспрепятствовать этому, потому что он тоже развлекался от души и не находил ничего более приятного, как видеть своего мальчика веселящимся. После обеда отправились верхом. Маркиз раздобыл для своего наследника самых красивых лошадей в мире и был великолепным учителем. Также и в фехтовании, но эти упражнения очень утомляли старика, и он имел заместителей и ограничивался руководством. Был также и учитель геральдики, который приходил два раза в неделю. Этот наводил ужасную скуку на Марио, но он делал над собой усилие с мужеством, довольно редко встречающимся у детей, чтобы не отвергать ничего из того, что его отец с такой нежностью вменял ему в обязанности. Он утешался от геральдической науки своими прекрасными маленькими лошадками, своими прекрасными маленькими аркебузами и уроками Люсилио, которые его привязывали и волновали чрезвычайно. Он испытывал к немому уважение, в котором не отдавал себе отчет, либо его прекрасная душа чувствовала превосходство великой души, либо восторженное почитание Мерседес Люсилио оказывало на него свое магическое влияние, потому что в душе он оставался сыном мавританки и чувствуя, что между ней и маркизом существует ощутимая ревность по отношению к нему, он имел тонкую деликатность уделять внимание одному и другому, не возбуждая тревоги в этих двух почти детских сердцах одновременно великодушных и обидчивых. Он уже прошел это обучение деликатности со своей приемной матерью, когда она жила у аббата Анжоррана. Больше всего нравились ему уроки музыки. Люсилио и в этом тоже был непревзойденным мастером. Его дивный талант восхищал мальчика и погружал его в восторженные мечтания. Но эта склонность, которая преобладала над всеми другими, немного огорчала маркиза, который считал, что дворянин не должен изучать искусство с тем, чтобы стать артистом. Дворянин должен первым делом глубоко знать все, что называется военной профессией, а затем понемногу все остальное, «по возможности отлично, — говорил он, — но не слишком, потому что человек очень искусный в чем-нибудь одном пренебрегает другими вещами и не слишком любезничает со всеми». Среди всех этих забот и развлечений Марио стал самым красивым мальчиком на свете. Его кожа, от природы белая, приняла под теплым осенним солнцем наших широт нежный оттенок, как у цветка. Его маленькие руки, шероховатые и покрытые царапинами, стали ухоженными благодаря перчаткам, которые носил, и почти столь же нежными, как руки Лорианы. Его восхитительные темно-русые волосы вызывали восхищение и гордость бывшего цирюльника Адамаса. Маркиз хорошо делал, что шлифовал его изящество дворянина, сохраняя природное. Искусное обучение танцам, которое ему преподавали, служило лишь для развития его телосложения, которое, впрочем, в этом не нуждалось. С момента, как его приодели, маркиз брат его с собой, нанося визиты на десять лье в окружности. Появление такого мальчика стало событием в стране. Сначала завистники и сплетники высмеяли его, как химеру и фантом. Однако, когда его видели ловко гарцующим на своей маленькой лошадке в сопровождении Клендора и Аристандра по улицам Шатра, люди таращили глаза и говорили: — Так, выходит, это правда? Спрашивали, как его зовут и как будут называть. Удивительно, что маркиз, знатный человек, безропотно покорился сделать его наследником простого мелкопоместного дворянчика. Но имеет ли он право завещать свой титул и три своих курицы с серебряными диадемами некоему Бурону? Позволит ли нынешний король подобное? Не будет ли это противоречить законам и обычаям дворянства? Трудный вопрос! Об этом говорили на протяжении двух недель, а затем перестали, потому что сложные вопросы быстро надоедали, и когда видели старого маркиза и его маленького графа приехавшими на званый обед к кому-нибудь из соседей, абсолютно одинаково одетых, то в белом по-крестьянски, то в небесно-голубом с серебряной канителью, или в атлас абрикосового цвета с белыми перьями, то в ярко-зеленом, то в цвете цветка персика с лентами, сплетенными из серебра и золота, грациозно вытянувшихся на темно-красных подушках прекрасной коляски, запряженной их прекрасными белыми лошадьми, украшенными султанами того же цвета, и сопровождаемых свитой слуг, что их принимали за вельмож, так хорошо они ехали, были хорошо вооружены и сверкали позолотой, и не было в городе, в деревнях и даже в замках знатного человека, буржуа или виллана, который бы не вскакивал, говоря: — Ну же! ну! Я вижу, едет большая карета маркиза! Бежим быстро поглядеть, как едут красивые господа Буа-Доре!Все это происходило в то время в счастливой стране Берри, на юге Франции, охваченной волнением. Около 15 ноября узнали совершенно определенно в Бурже, что король заставил снять осаду Монтобана. Луинес, который стремился ослабить партию путем подкупа вождей, потерпел неудачу с Роаном, генералом провинции и защитником города. К сожалению, оказалось, что этот знатный вельможа был в числе редких исключений, и что метод Луинеса оказался действенным для большинства знатных бунтовщиков, но этот метод подкупа разорил Францию и опозорил королевство. Людовик XIII временами это чувствовал и видел, что его усилия парализуются бездарностью и недостойностью его фаворита. Армия плохо содержалась и плохо оплачивалась. Беспорядок был возмутительный, король содержал тридцать тысяч солдат, но не хватало двенадцать тысяч состава, чтобы содержать кампанию. Офицеры были в унынии. Майен был недавно убит. Испанский кармелит Доминго де Хесу-Мария, святости и энтузиазму которого немецкие поклонники приписали пражскую победу, напрасно пророчествовал у стен Монтобана. Ложные чудеса были затруднены во Франции. Кальвинисты поднимали голову, и в первые дни декабря господин Буа-Доре увидел прибывшего к нему господина де Бевра, очень оживленного, который сказал ему по секрету: — Мой сосед, я приехал посоветоваться с вами о важном деле. Вы знаете, что союзники в окружении герцога Туарского, главы дома Тремуйлье, у которого я имел честь быть прошлой весной, свели меня с людьми из Ла-Рошели. Вы меня удерживали, уверяя, что герцог тает как снег перед королем, что и произошло, как вы мне предсказывали. Но от того, что герцог мой родственник и я сделал промах, это не означает, что у меня были основания поступить так, и я упрекаю себя б том, что отказался от своего дела, особенно в момент, когда оно обретает силу. — Несомненно, вы оговорились, мой сосед, — простодушно отвечал Буа-Доре, — вы хотели сказать, что дело имело большую нужду в вас, потому что, если вы прибегли к его опоре, то это потому, что оно взяло верх, я не вижу, в чем тут заслуга. — Мой дорогой маркиз, — продолжал де Бевр, — вы всегда пленены рыцарством, я знаю это, но я, я человек расчетливы й, и говорю о вещах как они есть. Вы богаты, обладаете состоянием, карьера ваша закончена, вы можете философствовать. Я же, хотя и не беден, но потерял много, плохо сыграв свою партию в последнее время. Я чувствую себя еще бодрым, и бездействие мне наскучило. И потом, я не могу выносить вид превосходства, который принимают в нашей стране старые члены лиги. Дрязги иезуитов меня бесят. Если я хочу жить в мире, как вы, нужно, чтобы я отрекся? — Как я? — спросил маркиз, улыбаясь. — Я отлично знаю, что ваше отречение, пусть даже такое маленькое, это еще слишком рано для меня, мне больше нравится сражаться и у меня еще пять или шесть лет активности и здоровья, чтобы делать это. — Да, но вы очень толстый, мой сосед! — Вы полагаете, что видите меня толстеющим, потому что не видели, каким я был. Вот вы делаетесь более худым, а не я становлюсь все более толстым. — Пусть так! Я хорошо понимаю ваши основания еще вести эту кампанию. Вы полагаете, что она будет успешной, но вы заблуждаетесь. Командиры и солдаты, буржуа и пастухи, все это сражается храбро в назначенный день, но на другой день оно делится, оно ругается, и каждый тянет к себе. Партия проиграна после Варфоломеевской ночи, и король гугенотов не отыграет ее, кроме как отказавшись от дела. Он хочет быть французом прежде всего, а то, что вы хотите делать, не принесет выгоды ни Франции, ни вам самому. Де Бевр не терпел противоречия. Он упорствовал и бранил маркиза за отсутствие у него религиозных убеждений, самого скептического из людей. Предоставляя ему болтать так, Буа-Доре хорошо видел, что его приманивали хорошие условия, которые королевская власть была вынуждена делать господам кальвинистам всякий раз, как она терпела неудачу. Де Бевр не был из людей продающихся, как другие, но из хорошо сражающихся и извлекающих прибыль из победы, без щепетильности, чтобы проявить себя очень требовательным к себе. — Поскольку вы уверены, — сказал ему маркиз мягко, — нужно тогда мне сказать вам сейчас и не спрашивать моего мнения. Я могу сказать вам только одно. Вам нужно будет экипировать и увести с собой лучших из своих людей на эту кампанию. Подумали ли вы о той плохой партии, которую могут сыграть с вашей дочерью, если иезуитам придет в голову сообщить господину де Конде о вашем отсутствии? И подумали ли вы, что они не допустят осечки и что замок Ла-Мотт-Сейи подвергнется какой-нибудь оккупации именем короля, исполненной, как это происходит всегда, плохими людьми; ваша дочь подвергается опасности получить какое-нибудь оскорбление… — Об этом я не подумал, — сказал де Бевр. — Предполагается, что я буду в Орлеане, где у меня судебное дело. Оттуда я отправлюсь без шума в Гиень, где возьму какое-нибудь старое военное имя, как это принято, чтобы защитить свое состояние и свою семью в мое отсутствие, я буду капитаном Шанделем или Ла-Пелем, или капитаном… не важно, каким. — Задуманное, я знаю это, — продолжил Буа-Доре, — не всегда получается: я обещаю вам защитить ваш замок настолько, насколько это будет зависеть от меня и моих людей, но я не побоюсь вам предложить неприличную вещь, я вам предлагаю взять в мое жилище вашу Лориану на время вашего отсутствия. — Предлагайте, предлагайте, мой сосед, потому что я принимаю и не вижу в этом ничего неприличного. Нет неприличия для женщины, которой дома грозит опасность для ее добродетели или ее доброго имени, и меня не смущает, что она будет среди вас, который станет ей дедушкой, вашего мальчика, который всего лишь мальчик, вашего философа, язык которого не сможет отклонить, и вашего пажа, у которого выражение лица обезьяны, моя дочь рискует потерять свое сердце или свой разум. Итак, я привезу ее вам и оставлю до моего возвращения, конечно же, она будет счастлива и в безопасности у вас, и вы будете для нее, как и для меня, лучшим из друзей и соседей. — Можете на это рассчитывать, — отвечал Буа-Доре. — Я поеду за ней сам. Моя карета довольно большая, она сможет положить туда свои наиболее ценные вещи без того, чтобы кто-нибудь заподозрил, что она совершает не просто одну из своих привычных прогулок.
Глава тридцать седьмая
И действительно назавтра Лориана разместилась в Брианте, в Зеленом зале, который изобретательный Адамас быстро превратил в роскошные и комфортабельные апартаменты. Мавританка попросилась прислуживать молодой даме, к которой она испытывала доверие и симпатию, и Лориана, которая тоже имела уважение и влечение к ней, попросила ее спать в небольшой комнате рядом с ее просторной комнатой. Лориана расставалась со своим отцом с большим мужеством. Благородное дитя не подозревало в нем никаких корыстных побуждений, она, которая жила верой и энтузиазмом. Она трудно понимала то, что надо было обдумывать, сомневаться и делать выводы для личной пользы. Она знала своего отца храбрым и видела его открытым, жизнерадостным, с благородством дворянина: этого было достаточно, чтобы она сделала из него героя. Лориана, восторгающаяся прекрасным поведением людей Роана и Ла Форс в Монтобане, не препятствовала отцу в отъезде, думая, что он помышляет только о том, как восстановить честь дела, и что он видит во всем этом, как и она, что достоинство и свободу совести, пожертвованные Генрихом IV, надо хранить ценой состояния, жизни, если это потребуется! Она не проронила ни слезы, обнимая его в последний раз, она провожала его взглядом до тех пор, пока могла его видеть, а когда он скрылся из вида, она вернулась в свою комнату и принялась рыдать. Мерседес, которая работала в соседней комнате, услышала это. Она подошла к порогу, намереваясь войти, но не осмелилась. Она сожалела, что не знает языка, чтобы хоть как-то попытаться утешить Лориану. Мерседес — девушка с материнским инстинктом — не могла спокойно наблюдать, как страдает юное сердце. Сострадая, она должна была чем-то помочь и придумала пойти за Марио, казалось, что никакое горе не сможет противостоять внешнему виду и ласкам ее любимца. Марио тихо пришел на цыпочках и встал подле Лорианы, но она даже не заметила. Лориана уже была его нежно любимой сестрой. Она была так добра с ним, так жизнерадостна по обыкновению, так старалась развлечь его, когда он проводил с ней дни! Увидев ее плачущей, он оробел: он думал, как другие, что господин де Бевр будет отсутствовать всего несколько дней. Он встал на колени на край подушки, куда она положила ноги, и смотрел на нее весьма озадаченный, наконец он осмелился взять ее руки. Она вздрогнула и увидела перед собой лицо ангела, которое улыбалось ей сквозь влажную пелену ее глаз. Растроганная чувствительностью этого ребенка, она пылко прижала его к своему сердцу, целуя его прекрасные волосы. — Что это с вами, моя Лориана? — спросил он ее, осмелев от этого излияния. — Ах, мой милый, — отвечала ему она, — твоя Лориана огорчена, как и ты был бы огорчен, если бы видел уезжающим своего доброго отца маркиза. — Но он же скоро вернется, ваш отец, он же сказал вам так, уезжая. — Увы, мой Марио, кто знает, вернется ли он? Ты же хорошо знаешь, что когда путешествуют… — А разве он уехал далеко? — Нет, но… Идем, идем, я не хочу тебя огорчать. Я хочу прогуляться. Хочешь ли ты пойти со мной поискать твоего отца? — Да, — сказал Марио, — он в саду. Идем туда. Хотите ли вы, чтобы я сходил за своей белой козой, чтобы развлечь вас ее прыжками? — Пойдем за ней вместе. Она вышла, подав ему руку не как дама, опирающаяся на руку кавалера, а напротив, как маленькая мама, взяв мальчугана за руку. Спускаясь по лестнице, они повстречали Мерседес, которая обласкала их взглядом своих красивых нежных глаз. Лориана, которая стала понимать ее по знакам, нужно было только взглянуть на нее, чтобы понять. Она угадала ее нежную заботу и протянула ей руку, которую Мерседес хотела поцеловать. Но Лориана отдернула руку и бросилась, расцеловав ее в обе щеки. Никогда христианка не целовала мавританку, такую же христианку, как и она сама. Беллинда сочла бы себя опозоренной, получив от нее малейшую ласку, считая ее безбожницей, она испытывала отвращение, даже когда ела в ее обществе. Столь приятное излияние молодой знатной дамы стало одной из тех больших радостей в жизни этой бедной девушки, и с этого момента она почти разделила свою любовь между ней и Марио. Мерседес всегда отказывалась хоть как-то выучить французский язык, более того, она старалась забыть все слова из испанского языка, которые знала, и все это из-за преувеличенного опасения забыть язык своих предков. Но желание говорить с Лорианой и добрым маркизом начало побеждать ее отвращение. Она даже чувствовала, что должна принять язык этих сердечных людей, которые обращались с ней, как с членом своей расы и своей семьи. Лориана взялась быть ее учительницей, и в короткое время они уже смогли понимать друг друга. Лориане скоро стало очень счастливо в Брианте, и если бы не отсутствие отца, о котором она, впрочем, скоро получила хорошие известия, она бы даже чувствовала себя здесь такой счастливой, какой не была никогда в жизни. В Ла-Мотт она почти всегда была одна, неутомимый де Бевр почти все время охотился, любя утомлять себя и не делая, несмотря на свою привязанность к ней, тысяч мелких забот, деликатных предупредительностей, изобретательных подарков, которые маркиз умел делать женщинам и детям. Выращенная с небольшой строгостью, она должна была стараться быть строгой с собой, особенно после того, как мысль о долгом вдовстве явилась ей как возможность окружения и обстоятельств, в которых она находилась. Она стала бесчувственной к порывам любви и желаний, она уже почти выработала привычку заставлять себя смеяться, когда ей хотелось плакать, но природа брала свое. Она часто плакала, нуждаясь в обществе, любви, матери, сестре, брате, каких-либо улыбках, какой-либо снисходительности, которые помогли бы ей дышать и расцвести в атмосфере более нежной, чем холодная темнота ее старого замка, мрачное воспоминание оБорджии и политические препирательства ее отца, насмешливого и обиженного. В Брианте же она стала такой, какой должна быть. Маркиз, освободившийся с радостью от мысли сделать ее своей женой, решительно сделал ее своей дочерью, сам радуясь мысли, что она так молода, что он может смотреть на нее, как на старшую сестру Марио. К тому же, его странное кокетство подвело его к мысли, что двое детей гораздо лучше, чем один. Эти юные товарищи, с которыми ему нравилось носить мягкие цвета и разделять наивные заботы, его молодили в их почтении до такой степени, что порой он воображал себя юношей. — Ты видишь, — говорил он Адамасу, — есть люди, которые стареют, я же нисколько на них не похожу, потому что мне нравится быть с невинной юностью. Клянусь тебе, мой друг, что вступил в свой золотой возраст и что мысли мои столь же чисты и столь же радостны, как у этой голубки и этого херувима. Лориана, Марио и маркиз сделались неразлучными, и их жизнь протекала в непрерывности развлечений вперемежку с занятиями и хорошими делами. Лориана мало чему была обучена и мало что знала. Она с удовольствием присутствовала на уроках, которые Жовлен давал Марио в большом салоне. Она внимательно слушала, вышивая по канве седло для снаряжения маркиза, а когда Марио читал или отвечал свой урок, он клал себе на колени указания, написанные Люсилио, чтобы читать их вместе с ней. Лориана изумлялась, что она легко понимает вещи, которые ей казались недоступными уму женщины. Она наслаждалась уроками музыки, а порой аккомпанировала мавританке на тиорбе, которая пела свои нежные грустные народные песни. Маркиз, вытянувшись на своем большом стуле, слушал эти маленькие концерты, рассматривал действующих лиц гобелена Астреи и представлял, что они оживают, и вот уже он слышит их пение, он забывался сном в восхитительном блаженстве. Люсилио также получат свою часть этого семейного счастья, которое заставляло его забыть немного одиночество своего сердца и страх перед будущим. Строгий и простодушный философ был еще в возрасте любви, но он опасался попасть в какую-нибудь чувственную связь, где его душа не будет понята. Он безропотно покорился судьбе — жить преданностью другим и абсолютно забыть иллюзорные стремления к любви. Он, перенесший тюрьму, изгнание, нищету и претерпевший страдания, он призывал себя победить желание счастья, как он победил все остальное. Из этих размышлений он выходил успокоенным и торжествующим, но торжествующим, как это бывает после пытки: смесь возбуждения и упадка духа, души, с одной стороны, тела — с другой, жизнь, в которой равновесие нарушено, и где дух не знает больше, в каком мире он находится. Люсилио однако преувеличивал свою беду. Он был любим не за ум, а за сердце. Мерседес была перед его ученостью и его гениальностью, как роза перед солнцем. Она впитывала лучи, не понимая их, но она была влюблена и его доброту, его мужество и его добропорядочность, и ее нежная душа падала ниц перед ним. Она не оправдывалась в этом, потому что она сделала это религией и долгом, только она ничего не говорила, потому что в ней было больше опасения, чем надежды. Мы не должны забыть коснуться маленькой домашней революции, произошедшей в замке Бриант несколько дней спустя после отъезда господина дс Бевра, поскольку важность этого незначительного семейного события позднее сделалась тяжело ощутимой для слишком счастливых обитателей замка. Хотя из славных господ Буа-Доре более маленький не всегда был более ребенком, Марио порой имел склонность к шалостям, особенно, когда, по выражению Адамаса, «он терял голову со славной мадам». Он был очень добрым и очень любящим, его нельзя было упрекнуть в том, что он дергал за ухо Флориаля, или сказал неприятное слово Клендору, но неодушевленные вещи никогда не внушали ему почтения. В их числе были небольшие статуи персонажей из романа «Астрея», которые украшали сады Изауры, и знаменитый лабиринт и пещеру старой Манддраг, которая была очень занимательной в первые дни, но которая мало-помалу наскучила, как слишком неподвижная игрушка. Однажды, когда он испытывал довольно большую деревянную саблю, вырезанную Аристандром, он сделал вид, что угрожает одному персонажу, изображающему скрытного Филандра, то есть ложного Филандра, потому что будучи похожим на свою сестру, он переоделся в платье Каллире, чтобы проникнуть в узкий круг нимфы, которую он любил. Пастух был изображен под этой обманчивой женской внешностью, и художник, на которого было возложено создание персонажей, доверившись хорошо доказанной схожести брата и сестры, позволил себе небольшую экономию воображения и изготовил одну модель в двух экземплярах, помещенных один напротив другого с прочими Амидором, Дафнис и т. д., в зеленой ротонде, так называемой роще прозрений любви. Поэтому, чтобы отличить брата от сестры, маркиз написал карандашом на пьедестале брата отрывок из этого длинного монолога, который начинается так: «О дерзкий Филандр, кто никогда не сможет простить твой промах? и т. д.» Внешний вид этого хитрого персонажа был столь дурацким, что Марио, без того, чтобы его в точности ненавидеть, любил его высмеивать и угрожать. Он уже отвесил ему несколько безвредных оплеух, но в этот день, видя, что вызов, который он ему бросил, заставил смеяться Лoриану, он нанес ему слишком сильный удар саблей и сбил на газон нос Филандра. Едва этот подвиг был совершен, как мальчик пожалел о содеянном. Его отец любил Филандра так же, как и других персонажей. Лориана после долгих поисков нашла этот злосчастный нос в траве, и Марио, вскарабкавшись на пьедестал, приклеил его глиной изо всех сил. Но он держался лишь первое время, а на другой день нос был снова на земле! Он приклеил его еще раз, но скрытный Филандр был настолько глуп, что никак не мог сохранить свой нос, и случилось, наконец, что маркиз прогуливался там, а Филандр был без носа. Марио сознал себя виновным, добрый Сильвен видел его угрызения совести и не стал бранить его. Но на следующий день носа не хватала но только у Филандра, без него пребывала и его сестра Каллире, а еще через день таковыми оказались Филидас и даже сама несравненная Диана! На этот раз Буа-Доре серьезно взволновался и обратился с горестными упреками к своему мальчику, который принялся горячо плакать, клянясь чистосердечно, что он в своей жизни не разбивал никакого другого носа, кроме этого дерзкого Филандра. Лориана тоже уверяла маркиза в невиновности своего юного друга. — Я вам верю, мои дети, я вам верю, — сказал маркиз, весь взволнованный рыданиями Марио. — Но к чему это огорчение, мой сын, если вы нисколько не виноваты? Ну вот, достаточно, не плачьте; я вас выбранил слишком быстро, не наказывайте меня вашими слезами! Они горячо обнялись, но их изумляло это калечение носов, и Лориана заметила маркизу, что какой-то злой и неискренний человек имеет замысел сделать Марио виновным в его глазах. — Это определенно, — ответил маркиз очень задумчиво. — Поступок из самых гнусных, и я хотел бы иметь автора, чтобы приговорить его к потере его собственного носа. Я заставлю его испытать страх, даю слово! Однако попытались еще посмотреть на это, как на какое-то ребячество, и подозрения пали на самого молодого обитателя замка после Марио. Но Клендор выразил столь добродетельное негодование, что маркиз должен был утешить и его тоже. На следующий день не хватало еще двух или трех носов, и возмущенный Адамас приказал нести охрану сада днем и ночью. Ущерб прекратился, и добрый Люсилио, чувствуя беспокойство Буа-Доре, изготовил итальянскую пасту, с помощью которой терпеливо и умело приклеил все эти носы. Но кто мог быть автором преступления? Адамас имел подозрение, но маркиз отказывался верить, что кто-либо из его дома был способен на подобную низость; он сваливал вину на какого-нибудь пособника господина Пулена. — Этот святоша, — говорил он, — поскольку он считает нас безбожниками и идолопоклонниками, вообразил, что мы преклоняемся этим статуям. И все-таки, Адамас, они все совершенно целомудренные и прилично одеты, как надлежит им быть в месте, где прогуливаются наши дети! — А я говорю вам, что этот ханжа имеет ясно самое большое подлое желание заставить вас бранить господина графа. Потому что все здесь готовы лишиться жизни ради него, так его любят, кроме одной мерзкой особы… — Нет, нет, Адамас, — пожурил его великодушный маркиз. — Это невозможно! Это слишком гнусно даже для персоны мужского пола! Начали забывать это крупное дело, когда оно дошло до худшего.КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА
ТОМ ВТОРОЙ
Глава тридцать восьмая
С тех пор, как мавританка открыла Адамасу многие восточные секреты составления косметических настоек, мазей, микстур, цвет лица и качество волос бороды и бровей маркиза заметно улучшились. Они могли устоять против ветра, дождя и безумных ласк Марио; к тому же, запах этих косметических средств был более приятным, да и накладывались они быстрее. Вначале старый Селадон совершал эти процедуры в глубокой тайне, в те часы, когда ребенок где-нибудь резвился. Но поскольку малыш не докучал расспросами, не проявлял неучтивого любопытства, мало-помалу эти великие предосторожности были смягчены, и ежедневное омоложение стало прикрываться более чем простодушными уловками. Притиранья окрестили освежающими благовониями, нанесение румян называлось уходом за кожей. И Марио решил, что подобные ухищрения составляли часть туалета всех знатных особ. Поскольку он сам был достаточно кокетлив, им овладело сильное желание тоже обработать лицо по-дворянски; он попросил об этом, и поскольку ему ответили только, что в его возрасте нет нужды в подобной утонченности, он не воспринял это как решительный запрет. Как-то вечером, оставшись на минуту один в комнате приемного отца и увидев на туалетном столике флаконы, он позволил себе прихоть «надушиться» белым и розовым, как делал Адамас с маркизом. Покончив с этим, он решил, что должен сделать брови более темными и широкими, а потом, найдя, что воинственный вид очень идет ему, не смог устоять перед желанием нарисовать над верхней губой хорошенькие черные закрученные усики, а под нижней — красивую эспаньолку. Он был освещен всего одной забытой на столе свечой, поэтому щедро накладывал краски и не смог тонко растушевать контуры. Позвонили к ужину; он побежал садиться за стол, очень довольный тем, что выглядит задирой, и старательно сохранял важный вид. Маркиз не сразу обратил на него внимание, но когда Лориана расхохоталась, он поднял глаза и увидел эту маленькую милую головку так странно преобразившейся, что тоже не смог удержаться от смеха. И все же добрый маркиз был недоволен и даже огорчен в глубине души. Конечно, Марио и не думал его высмеивать, но то, как щедро он раскрасил себя, слишком явно обличало перед Лорианой существование той палитры красоты, которую, как ему казалось, он так удачно скрывал в своем туалете и на собственном лице. Он даже не решился спросить ребенка, где тот взял эти краски: он опасался слишком простодушного ответа. Он ограничился замечанием, что мальчик обезобразил себя, и что ему надо умыться. Лориана поняла смущение и беспокойство своего старого друга и подавила свою веселость; но от этого идея Марио стала ей казаться еще более комичной, и все время ужина она отчаянно боролась с припадком безумного смеха, какой бывает у юных девушек, и какой, если его сдерживать, превращается в нервное возбуждение. Это магическим образом подействовало на Марио, да так, что маркиз ласково сказал: — Ну, дети, посмейтесь же всласть, раз вам так сильно этого хочется! Но сам он не смеялся, а вечером выбранил Марио, который раскаялся и пообещал никогда больше так не делать. Эта шалость сильно позабавила господина Клиндора; давясь от смеха, он разбил красивое фаянсовое блюдо. Получив выговор от маркиза, он потерял голову и наступил на лапу Флориалю. Адамас не устоял перед уморительной шуткой Марио и тоже засмеялся! Одна Беллинда сохранила серьезность, и маркиз был ей за это признателен. — Этот ребенок такой проказник, — сказал он вечером Адамасу, — и все его поступки указывают на веселый и игривый ум. Однако не следует слишком его баловать, Адамас! На следующий день новая история: один из флаконов с кармином на туалетном столике оказался разбитым, а прекрасный гипюровый убор — покрытым пятнами. Обвинили Флориаля; но такие же пятна оказались на белом камзоле Марио, который удивился этому и отрицал то, что хотя бы приближался к туалетному столику. — Я верю вам, сын мой, — со вздохом ответил маркиз. — Я слишком был бы огорчен, сочти я вас способным лгать. Но на следующий день микстуры обнаружили перемешанными красную с черной, а черную с белой. — Так! — произнес маркиз. — Эта чертовщина продолжается. Может быть, все будет происходить так же, как с бедными носами моих статуй? Он ни слова не говоря осмотрел Марио: на манжетах были черные пятна, возможно, чернильные, но маркиз не выносил пятен и попросил его сменить белье. — Адамас, — сказал он, — хорошо, что этот ребенок шаловлив; но если он лжет и пользуется моей верой в его слова — это причинит мне сильное огорчение, друг мой! Я считал его возвышенной натурой; но Господь не хочет, чтобы я слишком гордился им. Он позволяет дьяволу сделать его таким же ребенком, как все прочие. Адамас встал на сторону Марио, только что возвратившегося в соседний будуар. В эту минуту послышался голос Беллинды, горячо спорившей с ребенком. Он тянул ее за юбку, а она упиралась, говоря, что он с ней фамильярно обращается. Возмущенный маркиз поднялся с места. — Распутник? — в отчаянии воскликнул он. — Уже распутник? Прибежал несчастный Марио, весь в слезах. — Отец, — сказал он, бросаясь в его объятия. — Эта служанка — дурная. Я хотел привести ее к тебе, чтобы ты сам увидел, что у нее на руках. Она трогает мои брыжи и говорит, что на них пятна, но она сама сажает эти пятна: это она хочет огорчить тебя и помешать тебе меня любить. Она пользуется глупостями, которые я сделал, чтобы приписать мне другие, более гадкие. Отец, это никуда не годная женщина; она выставляет меня лжецом, и, если ты ей веришь… — Нет, нет, сын мой, я нисколько ей не верю! — вскричал маркиз. — Адамас!.. Но Адамаса рядом уже не было: он побежал за Беллиндой; он нагнал ее на лестнице и хотел привести силой, но за свои труды получил сильную оплеуху и вынужден был выпустить добычу. Маркиз тоже выскочил на лестницу, услышав шум стычки. Оплеуха была крепкой; несчастный Адамас, совершенно оглушенный, держался за щеку. — Так эта шельма выпустила когти? — сказал он. — Я чувствую на своем лице… Ах, нет, сударь! — внезапно обрадовавшись, воскликнул он. — Это вовсе не кровь! Смотрите! Это прекрасные румяна из ваших флаконов! Это вещественное доказательство! О, ну конечно! Вот и дело выяснилось. Надеюсь, теперь вы больше не сомневаетесь в кознях этой рыжей девицы! — Господин граф, — обратился к своему ребенку маркиз, храня восхитительную серьезность, — признаюсь, что два раза усомнился в ваших словах. Если бы я не был вашим лучшим другом, вы могли бы потребовать у меня объяснения; но я надеюсь, что вы соблаговолите принять извинения вашего отца. Марио бросился ему на шею, а Беллинда в тот же вечер получила свое жалованье и без объяснений была уволена; она покинула оазис Брианта и рассталась со своим пастушеским именем, чтобы вернуться к реальной жизни под своим настоящим именем Гийет Карка; как мы увидим из дальнейшего, впоследствии она приняла имя более звучное и более мифологическое. В то время как эти трагические события стирались из памяти наших героев, господин Пулен не умерял своего рвения. Было 18 или 19 декабря, и аббат, с замерзшим носом и ногами, но с головой, пылающей в надежде на успех, которого он долго добивался, прибыл в Сент-Аман — расположенный в прохладной долине между двух рек красивый город в Берри, над которым возвышался огромный чудесный замок Монрон, резиденция принца де Конде. Аббат сошел с коня в монастыре капуцинов, чей просторный огороженный двор в форме креста укрывался под защитой замка принца. Он уклонился от встречи с приором, остерегаясь его любезности и посредничества: он хотел сам проделать всю работу и в одиночестве пройти свой путь. Он ограничился тем, что позволил одному из монахов, своему родственнику, угостить его скудной пищей, отряхнулся от покрывавшего его инея и появился у одного из входов в замок, предъявив надлежащим образом оформленный пропуск. «Благодаря трудам Сюлли и особенно украшениям господина Принца», купившего эту резиденцию у опального министра, «замок Монрон, игравший впоследствии такую важную роль в событиях Фронды, стал местом наслаждений и в то же время — неприступной крепостью. Его стены тянулись более чем на лье в окружности: они заключали в себе многочисленные постройки, просторный и великолепный замок в три этажа, большую башню или донжон в сто двадцать футов высотой, с бойницами в стенах и площадкой наверху, на которой можно было видеть статую Меркурия»[301]. «Что же касается укреплений, расположенных этажами, как бы амфитеатром, — их было такое множество, что человек, долгое время рассматривавший и изучавший их, едва мог в них разобраться»[302]. В этом каменном лабиринте, в окруженном многозначительной таинственностью логове знатного вассала, жил Анри де Бурбон, второй по счету из носивших это имя, принц де Конде; отбыв трехлетнее заключение за мятеж против престола, он примирился с двором и вернулся наместником в Берри. К этой должности он присовокупил исполнение обязанностей генерал-лейтенанта, бальи провинции и капитана главной башни Буржа: это означало, что он обладал политической, гражданской и военной властью во всей центральной части Франции, поскольку имел те же права и обязанности в провинции Бурбонне. Прибавьте к этой власти огромное богатство, увеличившееся на те суммы, в которые обходился каждый мятеж Конде короне, то есть Франции, под видом возмещения убытков; благодаря почти насильственной покупке земель и роскошных замков, которыми Сюлли владел в Берри, и которые с большим убытком пришлось уступить господину Принцу из-за трудных времен и несчастий страны; благодаря секуляризации, иными словами — упразднению к выгоде принца наиболее богатых аббатств провинции (среди прочих — в Деоле); благодаря подаркам, предписанным обычаем, лестью или трусостью крупной буржуазии городов; тяжелые золотые и серебряные чаши, наполненные звонкой золотой и серебряной монетой при помощи беррийских барашков; «лазурными каретами», резными и украшенными серебряными сатирами; запряженными шестеркой прекрасных лошадей в сбруе из юфти, отделанной серебром; налоги, вымогательство и всевозможные притеснения простолюдинов: деньги под всеми именами, во всех видах были единственной движущей силой, единственной целью, единственной властью, единственной радостью и единственной склонностью Анри, внука великого Конде времен Реформации и отца великого Конде времен Фронды. Два великих Конде, очень властолюбивых и тяжко виновных перед Францией, — это известно! — но и способных оказать ей важные услуги в борьбе с чужеземцами, если собственные их интересы не противоречили этому. Увы! Это ужасный XVII век. Но они все же обладали храбростью, величием, доблестью; а тот, который играет роль в нашем повествовании, был лишь скупым, хитрым и осторожным; о нем говорили и худшее. Его рождение было трагическим, юность — несчастливой. Он увидел свет в темнице, ему дала жизнь вдова, обвиненная в отравлении своего мужа[303]. Сам очень молодым женившись на Шарлотте де Монморанси, дочери коннетабля, он приобрел в качестве соперника слишком рьяного и давнишнего поклонника женщин Генриха IV. Юная принцесса была кокетлива. Принц увез свою жену. Короля обвинили в том, что он хотел объявить войну Бельгии за то, что она предоставила ему убежище. Это было и правдой, и ложью: король был безумно влюблен; но Конде, изображая ревность, на какую был не способен, воспользовался королевской страстью для удовлетворения своего честолюбия и вынуждал короля строго наказать мятежника. Несчастливый в семейной жизни, в войне и политике, принц во всех горестях утешался любовью к богатству, и, когда настало страшное время правления Ришелье, он жил спокойно, изобильно и бесславно в своем добром городе Бурже и в своем прекрасном замке Сент-Аман-Монрон. Но в то время, когда наш аббат Пулен, после шести недель хлопот и интриг, добился того, чтобы предстать перед ним, принц еще не отказался от политического честолюбия. Он еще должен был сыграть свою роль ястреба в агонии кальвинистской партии и королевской власти, надеясь возвыситься на руинах одной и другой. Аббат считал, что прекрасно знает, с каким человеком имеет дело. Он судил о нем по той репутации доброго принца, какую тот создал себе в Бурже: простой, свободный, без спеси говорящий с любым человеком, играющий с городскими детьми и охотно плутующий, очень любящий подарки; сплетник, очень прижимистый, довольно своенравный и исключительно набожный. Принц действительно обладал всеми этими качествами; но он обладал ими в гораздо большей степени, чем было известно. История утверждает, что он слишком любил общество детей и подростков. Он плутовал из корыстолюбия, а не просто забавы ради; он не поступал подобно Генриху IV, возвращавшему деньги. Он страстно любил подарки; он сплетничал из зависти и злобы; он был исступленно скуп, своенравен до суеверия, набожен до атеизма. Лене в своем панегирике очень простодушно или, скорее, очень зло сказал о нем: «Он понимает религию и умеет извлечь из нее выгоду, он как никто проникает в тайники человеческого сердца и в один миг решает, из каких побуждений действуют в каждом случае. Он умеет, не выдавая себя, уберечься от хитростей других людей. Он любит извлекать выгоду. Он мало начинал дел, не заканчивавшихся успехом, выжидая, если нельзя было довести их до конца другим образом. Он умел избегать обстоятельств, в каких мог бы потерять то, что ему причиталось, и пользоваться теми, какие могли бы ему что-то принести… Наконец, — забавно заключает славный Лене, — он показался мне великим и очень необычным человеком». Пусть будет так! Что касается внешности принца, вот как описывает его перо более прославленное, чем перо Лене, в частном письме: «Лицо на первый взгляд приятное; удлиненная, довольно пропорциональная голова; в чертах ничего от мощи и странности черт его сына, великого Конде; смеющиеся глаза; в лице, красиво обрамленном длинными волосами, достаточно изящества; приподнятые усы, длинная густая эспаньолка. В очертаниях средней высоты лба, довольно сильно развитого в верхней части, чувствуется неуверенность; в линиях щек — вялость. Этот улыбающийся взгляд из тех за какими, если проявить внимание, ощущается недостаток достоинства и серьезных убеждений, мелкая эгоистичная личность и глубокое безразличие. Лучший из его гравированных портретов сопровождается девизом: Semper prudentia»[304]. Статуя Меркурия, бога мошенников, укрепленная на верхушке его донжона, говорит о нем еще больше.Глава тридцать девятая
Господин Пулен отличался достаточной проницательностью, но вначале его поразила лишь привлекательная внешность принца. Тот принял его один на один в своем кабинете и пригласил сесть. Он проявлял чрезвычайную обходительность и к самой незначительной сутане. — Господин аббат, — произнес он. — Я готов выслушать вас. Простите меня; важные заботы вынудили меня заставить вас долго дожидаться этой встречи. Вы знаете, что я должен был съездить за герцогом Энгиенским; затем мне пришлось искать для него другую кормилицу, та, которую выбрала его мать, давала молока не больше, чем камень, и потом… Но поговорим о вас, вы кажетесь мне человеком с сильной волей. Сила воли — прекрасная вещь; но я удивлен, что вы так упрямо обращаетесь ко мне из-за такого мелкого дела. Ваш мелкопоместный дворянин из… Как называется это место? — Бриант, — почтительно ответил священник. Принц исподлобья взглянул на него и увидел под его смирением достаточную уверенность, которая встревожила его. Великим умам свойственна склонность постигать и использовать силы, с какими они встречаются. Принц был слишком недоверчив. Его первым побуждением было не столько использовать людей, сколько остерегаться их. Он притворился безразличным. — Так, значит, — сказал он, — ваш дворянчик из Брианта убил во время поединка, лучше сказать — странного поединка и вызывающим подозрения образом некоего… Как вы назвали убитого? — Скьярра д'Альвимар. — Ах, да! Я это знаю. Я осведомился о нем: это был ничтожный человек, который сам сражался не самым честным образом. Должно быть, эти дворянчики стоили друг друга: в конце концов, какое вам дело? — Я люблю свой долг, — ответил священник, — и мой долг предписывает мне не оставлять преступление безнаказанным. Господин Скьярра был добрым католиком, господин де Буа-Доре — гугенот. — Разве он не отрекся? — Где и когда, монсиньор? — Меня это не интересует. Он стар, он холост. Он скоро умрет естественной смертью. Околевший пес не укусит! Не вижу, почему надо уделять ему столько внимания. — Значит, ваше высочество отказывается дать ход этому делу? — Занимайтесь этим сами, господин аббат. Я вам не препятствую. Обращайтесь к кому следует. Это в ведении магистратуры; я не занимаюсь правонарушениями низших. Господин Пулен поднялся, глубоко поклонился и направился к двери. Он был оскорблен и унижен. — Эй! Подождите, господин аббат, — сказал ему принц, хотевший испытать его, не подавая виду. — Если я вовсе не интересуюсь вашим господином д'Альвимаром, то я очень заинтересовался вами; вы очень умело составляете письма, даете очень важные сведения, и кажетесь мне умным и добродетельным человеком. Ну, поговорите со мной откровенно. Может быть, я мог бы чем-то помочь вам. Скажите, по какой причине вы пожелали увидеться со мной, вместо того, чтобы обратиться к вашим прямым начальникам, к духовенству? — Монсиньор, — ответил священник, — подобное дело совершенно не в ведении церкви… — Какое дело? — Убийство господина д'Альвимара. Я ни о чем другом не хлопочу. Ваше высочество наносит мне оскорбление, считая, что я воспользовался этим происшествием как предлогом для того, чтобы пробиться к нему, для того, чтобы иметь возможность обратиться с какой-то личной просьбой; это совершенно не так. Я был движим лишь огорчением, охватывающим всякого искреннего католика при виде того, как самозванцы вновь начинают красть и убивать в этой стране. — Вы ничего не говорили мне о краже, — возразил принц. — Этот д'Альвимар владел каким-то имуществом, которое у него похитили? — Мне это неизвестно, и я совсем не это хочу сказать… Я имел честь написать его высочеству, что этот Буа-Доре обогатился грабежом церквей. — В самом деле, я припоминаю это, — сказал принц. — Не дали ли вы мне понять, что у него, в его домике, спрятано нечто вроде клада? — Я сообщил монсиньору точные и верные подробности. Часть сокровищ аббатства Фонгомбо еще находится там. — По-вашему, можно заставить его вернуть награбленное? Это было бы затруднительно, разве что прибегнуть к помощи законников, но медлительность правосудия позволила бы хитрому старику уничтожить состав преступления. Вы так не думаете? — Возможно, — ответил аббат. — Господин д'Алуаньи де Рошфор, которого ваше высочество назначило душеприказчиком аббатства Фонгомбо, мог бы принять меры… — Нет, — живо сказал принц. — Я запрещаю вам… я прошу вас ничего не сообщать ему об этом. Меня достаточно бранили за милости, которыми я вознаградил услуги господина де Рошфора: они не упустят случая сказать, что я обогащаю своих ставленников, грабя побежденных. Впрочем, Рошфора упрекают в алчности и, возможно, это отчасти верно. Я не поручился бы, что он конфискует эти вещи в пользу церкви. «Я попал в точку, — подумал аббат. — Сокровище заставило его насторожить уши. Монсиньор станет моим должником». Принц заметил внутреннее, слегка презрительное удовлетворение собеседника. Аббат не был жаден до денег и драгоценных камней. Он жаждал власти. Конде понял, что выдал себя и постарался быть более осторожным в разговоре. — Впрочем, — прибавил он, — было бы обидно поднять шум из-за пустяка. Этот клад, хранящийся в каком-нибудь старом сундуке на чердаке деревенского дома, не стоит, я думаю, труда, который придется затратить на его поиски. — И все же этот клад — живой источник роскошной жизни маркиза. — Он уже давно черпает из него, — возразил принц. — Источник должен был иссякнуть! Я немного знал его, вашего дворянчика; это маркиз потехи ради, в духе Наваррского короля. Он был принят в узком кругу у моего доброго дядюшки! Конде всегда говорил о Генрихе IV не иначе как с неприязненной иронией. Господин Пулен, заметив горечь в его тоне, улыбнулся, стараясь доставить удовольствие принцу. — Титул маркиза де Буа-Доре, — сказал он, — шутка, которую этот старик принимает всерьез, навязывая всем свою глупую страсть к покойному королю. — У покойного короля были хорошие черты, — возразил Конде, нашедший, что аббат зашел слишком далеко, — и старая тварь, о которой мы говорим, далеко не самый страшный из его зверей. Он промотал все свое состояние на смехотворные наряды: должно быть, у него ничего не осталось. Он больше не ездит в Париж, он никогда не появляется в Бурже, он живет в захолустье. У него есть старая карета времен Лиги и маленький замок, где я с трудом разместил бы своих собак. Он велел устроить у себя сады, где статуи — из гипса; все это говорит о среднем достатке. «Вот, — сказал себе священник, — подробности, которых я вовсе не давал его высочеству. Он осведомился, он клюнул на приманку». — Это правда, — вслух произнес он, — что человек, о котором мы говорим, — всего лишь мелкий деревенский дворянин. Известно, что у него примерно двадцать пять тысяч экю дохода, и все не без оснований удивляются, что он тратит шестьдесят тысяч, не делая долгов и не покидая дома. — Значит, аббатства Фонгомбо все еще хватает? — с улыбкой сказал принц. — Но откуда вам известно, господин аббат, что в поместье в Брианте существует этот рог изобилия? — Я знаю это от одной очень благочестивой девушки, которая видела там церковную утварь и облачения большой ценности. Некая детская кроватка, вся из резной слоновой кости, шедевр, происшедший от балдахина… — Ба, ба! — сказал принц. — Что за старье! Мы займемся этим, если вы настаиваете, ради чести и блага Церкви, господин аббат; но это дело вовсе не требует большой спешки. Я должен вас покинуть, но прежде я хотел бы знать, не мог бы я оказать вам какую-либо услугу. Ваш архиепископ — мой большой друг: он назначен благодаря мне. Хотите получить лучший приход? Я могу поговорить с ним о вас. — Я не желаю никакой выгоды в этом мире, — ответил аббат, уходя. — Мне хорошо там, где я могу позаботиться о своем спасении и молиться о благе вашего высочества. «Это означает, — подумал принц, оставшись один, — что сундуки Буа-Доре еще полны; иначе этот честолюбец прежде всего потребовал бы у меня свое вознаграждение. Он знает, что я останусь доволен и попросит большего, чем то, что я предложил ему. Увидим». И принц отдал распоряжения.Вечером того же дня, когда обитатели Брианта, пожелав друг другу доброй ночи, собирались расстаться, Аристандр, охранявший ворота, прислал сказать, что некий дворянин и его свита просят приюта на несколько часов, чтобы отдохнуть. Шел дождь, ночь была темной. Маркиз велел освещать дорогу и, завернувшись в плащ, сам отправился поднять решетку. — Мы… — произнес незнакомый голос. — Входите, входите, господа, — ответил маркиз, верный законам рыцарского гостеприимства. — Укройтесь от дождя. Вы назовете свои имена, если вам будет угодно, когда отдохнете. Всадники проехали; впереди было двое или трое, один из которых, казалось, командовавший остальными, сделал вид, что хочет спешиться. Буа-Доре не дал ему этого сделать, поскольку камни были мокрыми. Он пошел впереди с Адамасом, который нес фонарь, и вернулся во внутренний двор с ехавшим за ним гостем, не заметив свиты в двадцать вооруженных человек: один за другим пройдя по мосту, они вслед за господином вошли во внутренний двор, пока тот поднимался по ступеням вместе с владельцем замка. Этот значительный эскорт удивил Аристандра, который, поскольку в его обязанности входил прием слуг и отпирание конюшен, предложил свите свои услуги. Но они отказались разнуздать лошадей и остались вместе с ними частью вокруг костра, зажженного для них во внутреннем дворе, частью прямо у порога дома. Когда маркиз вместе с незнакомцем вошел в гостиную, он увидел человека лет тридцати, довольно плохо одетого и невысокого роста. Лицо было сильно затенено шляпой с опущенными полями и мокрыми перьями. Понемногу он смутно разглядел это лицо, не узнавая его или, по меньшей мере, не в силах вспомнить, где он его встречал. — Кажется, вы совершенно не помните меня? — сказал ему незнакомец. — Правда, что мы виделись очень давно и оба с тех пор сильно изменились. Маркиз простодушно ударил себя по лбу, прося прощения за отсутствие памяти. — Не стану терять время, заставляя вас угадывать, — продолжал путник. — Мое имя Лене. Я был почти подростком, когда увидел вас в Париже, у маркизы де Рамбуйе, и возможно даже, что вы совсем не обратили внимания на ту незначительную особу, какой я был тогда. Я и сейчас только советник, в ожидании лучшего. — Вы заслуживаете сделаться всем, кем только можете пожелать, — любезно ответил Буа-Доре. «Но черт меня побери, — говорил он про себя, — если я помню имя Лене и если я знаю, с кем говорю, хотя его вид смутно напоминает мне кого-то». — Не старайтесь для меня, — продолжал господин Лене, увидев, что маркиз отдает распоряжения к ужину. — Я должен отправиться в замок, где меня ждут. Меня задержали дурные дороги, и я прошу вас извинить меня за то, в какой час я явился к вам. Но у меня было к вам довольно деликатное поручение, и я должен исполнить его. Лориана и Марио, сидевшие в будуаре, услышали, что речь идет о делах, и поднялись, чтобы пересечь гостиную и уйти. — Это ваши дети, господин де Буа-Доре? — сказал путешественник, ответов на поклон, которым они приветствовали его, проходя мимо. — Я всегда считал вас холостяком. Вы женаты или вдовец? — Ни то, ни другое, — ответил маркиз. — И все же я отец. Вот мой племянник, он — мой приемный сын. — Вот в чем дело, — продолжал, когда дети вышли, советник с благодушным видом и ласковым тоном. — Его высочество, ваш сеньор и мой, служба у которого в нашей семье переходит от отца к сыну, поручил мне разобраться В достаточно неприятном деле, касающемся вас. Я перейду прямо к сути. Вы устранили некоего господина Скьярра д'Альвимар, который был, подобно мне, вашим гостем, с той разницей, что он был без свиты, какая есть у меня, для охраны меня лично и моих полномочий. Я должен вам сообщить, что под этим окном двадцать вооруженных человек, а в вашем городке — двадцать других, готовых прийти к ним на помощь, если вы примете меня не так, как подобает принимать посланника правителя и главного бальи провинции. — Это Предупреждение излишне, господин Лене, — очень спокойно и учтиво возразил Буа-Доре. — Вы были бы в еще большей безопасности, если прибыли в мой дом один. Довольно того, что вы были бы моим гостем, а вы к тому же под охраной поручения его высочества, которому я ни в коей мере не собираюсь выказывать неповиновения. Должен ли я следовать за вами, чтобы дать ему отчет в своем поведении? Я готов и, как видите, не волнуюсь. — В этом нет необходимости, господин де Буа-Доре. Я обладаю неограниченными полномочиями допросить вас и располагать вами в зависимости от того, сочту ли я вас невиновным или виновным… Соблаговолите сказать мне, что произошло с господином д'Альвимаром? — Я убил его в честном поединке, — уверенно ответил маркиз. — Но без свидетелей? — с насмешливой улыбкой продолжал советник. — У него был один, сударь, и из самых уважаемых. Если вы хотите услышать рассказ… — Это долго? — спросил советник, казавшийся озабоченным. — Нет, сударь, — ответил маркиз. — Несмотря на то, что я, как мне кажется, имею право объяснить дело, где речь для меня идет о чести и жизни, я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени.
Глава сороковая
Буа-Доре вкратце рассказал всю историю и предъявил доказательства. Советник по-прежнему казался нетерпеливым и рассеянным. И все же его внимание, казалось, сосредоточилось на одной подробности. Это было тогда, когда он слушал рассказ о предсказаниях Ла-Флеша в Мотт-Сейи. Буа-Доре, считая, что печать его брата — последнее доказательство того, что он и жертва д'Альвимара — одно лицо, счел необходимым упомянуть об этом; но, прежде, чем он успел объяснить точно, в чем состояло незначительное чародейство метра Ла-Флеша, советник прервал его: — Постойте, — сказал он. — Я вспомнил, что забыл рассказать вам об одном обвинении. Вас подозревают в пристрастии к магии, господин де Буа-Доре! И по этому пункту я заранее оправдываю вас, поскольку не верю в искусство гадателей и вижу в нем лишь забаву для ума. Хотите ли вы сказать мне, что случайно эти бродяги предрекли вам нечто истинное? — Их предсказание полностью осуществилось, господин Лене! Они объявили мне, что прежде, чем пройдет три дня, я сделаюсь отцом и буду отомщен. Они объявили убийце моего брата, что прежде, чем пройдет три дня, он будет наказан, и все произошло так, как они сказали; но… — Скажите мне, где сейчас эти цыгане? — Не знаю. Я больше не видел их. Но мне осталось сказать вам… — Нет. Этого достаточно, — сказал господин Лене, не оставляя ни своего слащавого тона, ни радостного вида. — Дело выслушано. Я считаю вас невиновным; но вам пришла в голову плохая мысль скрыть этот случай. Подозрения не так легко рассеять: станут, подобно мне, спрашивать, почему вместо того, чтобы объявить о том, что вы покарали убийцу вашего брата, как о поступке, делающем вам честь, вы утаили его, словно речь шла о западне. Я не смогу убедить его высочество… Здесь Буа-Доре почувствовал желание прервать советника жестом негодования; для него сделалось очевидным, что этот человек, объявив о своих полномочиях, чтобы заставить его говорить, притворяется, будто не может сам оправдать его, желая продать ему свою помощь. — Я признаю, — сказал он, — что, утаив смерть д'Альвимара, следовал дурному совету, сильно расходящемуся с моим собственным мнением. Мне объяснили, что его высочество — великий католик, а я обвинен в ереси… — И это правда, бедный мой сударь. Вас считают большим еретиком, и я вовсе не скрываю от вас, что его высочество дурно расположен к вам. — Но вы, сударь, вы кажетесь мне менее суровым во взглядах, и выразили доверие к моим словам, не могу ли я рассчитывать на то, что вы будете защищать мое дело и будете свидетельствовать в мою пользу? — Я сделаю все возможное, но ни за что не ручаюсь в том, что касается принца. — Что же я должен сделать, чтобы он стал благосклонным ко мне? — спросил маркиз, решивший узнать условия сделки. — Не знаю! — ответил советник. — Ему сказали, что у вас живет итальянец… худший из еретиков, который, по-видимому, вполне может оказаться неким Люсилио Джиовеллино, осужденным в Риме последователем отвратительного учения Джордано Бруно. Маркиз побледнел: он остался спокойным перед лицом опасности, грозившей ему; та, что грозила его другу, ужаснула его. — Вы сознаетесь в этом? — непринужденным тоном спросил советник. — Что касается меня, я нахожу этого несчастного достаточно наказанным и не желаю ему большего зла, чем то, какое ему уже причинили. Вы можете сказать мне все. Я постараюсь отвести подозрения принца. — Господин Лене, — ответил Буа-Доре, повинуясь внезапному вдохновению, — человек, о котором вы говорите, вовсе не еретик, это астролог самой высокой учености. Он не прибегает ни к какой магии и читает в созвездиях человеческие судьбы так искусно, что события жизни, кажется, подчиняются решениям, написанным в небесах. В его действиях нет ничего, что не подобает честному человеку и доброму христианину, и вы не хуже меня знаете, что его высочество, самый ортодоксальный католик во всем королевстве, усердно советуется с астрологами, как всегда поступают самые великие люди, и даже коронованные особы. — Не знаю, где вы взяли то, что говорите, сударь, — пожав плечами, ответил советник. — Я был и остаюсь приближенным принца, и никогда не видел, чтобы он предавался подобным занятиям. — И все же, сударь, — уверенно возразил маркиз, — я убежден в том, что он не станет порицать занятий моего друга, и я прошу вас сказать ему, что если он захочет испытать его знания, то останется очень доволен. — Принц посмеется над вашей уверенностью, но я не отказываюсь поговорить с ним об этом. Займемся самым неотложным, это помочь вам выйти из положения. Я не стану скрывать от вас, что мне поручено провести обыск в вашем жилище. — Обыск? — произнес изумленный маркиз. — Но с какой целью обыск, сударь? — С единственной целью точно проверить, нет ли у вас каббалистических книг и инструментов; поскольку вас обвиняют в занятиях магией, и не столько в том, что вы занимаетесь вычислениями и наблюдениями звезд, сколько в подозрительных связях и чем-то вроде поклонения духу зла. — Право же, вы оставили мне это на закуску, господин советник! Все ли это, в чем меня обвиняют, и не надо ли мне оправдываться в чем-то еще худшем? — Не вините в этом меня, — сказал советник, поднимаясь. — Я не верю в подобные гнусности с вашей стороны; поэтому я предлагаю обстоятельно показать мне ваш дом, чтобы я мог сказать и поклясться в том, что не нашел в нем ничего неприличного и недостойного. Подумайте о том, что я мог бы заставить вас подчиниться мне; но желая обращаться с вами учтиво, я прошу вас взять факел, и самому посветить мне,и не звать никого из ваших людей, потому что я буду вынужден позвать всех моих, а я намереваюсь повести с собой только пятерых или шестерых, которые находятся у двери этой комнаты. Луч света промелькнул в голове маркиза: они покушаются на его сокровища. Он немедленно принял решение. Как он ни любил все эти роскошные игрушки, которые рассматривал как законные трофеи и приятные воспоминания о давних подвигах, он не дорожил ими, и хотя испытал некоторое сожаление от того, что не сможет заставить их дольше доставлять удовольствие его дорогому Марио, он не колебался между этой жертвой и спасением Люсилио, о котором беспокоился гораздо больше, чем о своем собственном. — Пусть будет так, как вы пожелаете, сударь, — с улыбкой великодушия сказал он. — Откуда вы хотите начать? Советник обежал взглядом гостиную. — Здесь у вас, — непринужденно сказал он, — множество изящных и драгоценных вещей; но я не вижу здесь ничего достойного порицания, и я знаю, что вы прячете вашу чертовщину не в комнатах, открытых первому встречному. Мне говорили о запертой комнате, которую вы называете вашим складом, и куда вы допускаете не всех. Именно туда я хочу пойти, и туда вы должны повести меня без сопротивления и обмана, поскольку, помимо того, что у меня есть план вашего дома — а он невелик — у меня есть возможность все здесь перевернуть, и я был бы огорчен, если бы пришлось прибегнуть к этой крайности. — В этом не будет необходимости, — ответил маркиз, беря факел. — Я готов удовлетворить ваше желание. Ах! И все же, — добавил он, останавливаясь, — у меня нет ключей от этой комнаты, и я не смогу впустить вас в нее без помощи моего старого слуги. Угодно ли вам, чтобы я позвал его? — Я велю его привести, — сказал советник, открыв дверь. И, обращаясь к своим людям, стоявшим на площадке: — Пусть один из вас, — сказал он, — подчиняется господину де Буа-Доре. Приказывайте, маркиз. Как зовут вашего слугу? Маркиз, видя, что с него не спускают глаз, и что он всецело во власти своего гостя, подчинился и, не выказывая излишней досады, собирался назвать имя Адамаса, когда заметил, что он стоит за копейщиками, охранявшими дверь. — Адамас, — сказал он ему, принесите мне ключи от склада. — Да, сударь, — ответил Адамас, — они при мне; вот они; но… — Войдите, — сказал Адамасу советник. И, как только тот исполнил приказание, добавил: — Дайте мне ключи и оставайтесь в этой комнате. Адамас выглядел потрясенным. Он порылся в кармане камзола и, поглощенный удивительной заботой, ответил советнику: — Да, сир. При этом слове советник, словно почувствовав головокружение, оставил свой легкомысленный вид, бросился через всю комнату и быстро толкнул дверь, остававшуюся открытой между ним и его людьми. — С кем вы, по-вашему, говорите? — воскликнул он. — И почему вы называете меня так? Адамас стоял, словно оглушенный, и его смятение было в высшей степени странным. Маркиз слишком часто видел короля ребенком и те его портреты, что были написаны позже, чтобы хоть на минуту поверить в то, что стоящий перед ним человек — молодой Людовик XIII. Он подумал, что его бедным Адамасом овладел приступ безумия. — Отвечайте же! — нетерпеливо продолжал советник. — Почему вы называете меня королевским титулом? — Не знаю, сударь, — ответил хитрый Адамас. — Я не знаю ни что говорю, ни где нахожусь. У меня голова кругом идет из-за удивительной новости, которую я только что услышал, и я прошу вашего разрешения сообщить ее моему хозяину. — Скажите! Говорите! Ну же! — необыкновенно властным тоном воскликнул советник. — Так вот, мой господин, — сказал Адамас, обращаясь к маркизу, не замечая, казалось, возбуждения советника, — знайте, что король умер! — Король умер? — снова воскликнул господин Лене, опять устремляясь к двери, как будто собирался уйти, ни с кем не прощаясь. Но он остановился, охваченный недоверием. — Откуда вы узнали эту новость? — спросил он, вглядываясь горящими глазами в Адамаса. — Я узнал ее из решений судьбы… Я узнал ее от самого неба, — сказал Адамас с вдохновенным видом. — Что хочет сказать этот человек? — снова заговорил господин Лене. — Пусть он объяснится, господин де Буа-Доре; я требую этого, понимаете? И если он сообщил мне ложную весть, горе и ему, и вам! — Истинная или ложная, сударь, — ответил маркиз, внимательный к волнению своего гостя, — новость поразила и смутила меня не меньше, чем вас. Объясни, Адамас, откуда ты знаешь, что король умер? — Я знаю это от астролога, сударь! Он показал мне числа, и я их знаю. Я увидел, я понял, я ясно прочел, что только что скончалась наиболее могущественная особа в государстве. — Наиболее могущественная особа в государстве!.. — задумчиво сказал советник. — Возможно, это не король! — Вы правы, сударь, — простодушно ответил Адамас. — Возможно, это господин коннетабли. Я недостаточно понимаю знаки… Я мог ошибиться… но, в конце концов, это король или господин де Люинь: я вам своей жизнью в этом ручаюсь! — Где этот астролог? — живо сказал советник. — Пусть придет сюда, я хочу его видеть! — Да, сир! — ответил Адамас, еще смущенный и озабоченный, и побежал к двери. — Подождите, — сказал Лене, остановив его. — Я хочу знать, почему вы называете меня так. Скажите, или я вам голову проломлю! — Не ломайте ничего, сударь! — возразил Адамас. — Разве вы не видите, что я потерял голову? Это слово сам не знаю как приходит ко мне на уста; сущая правда, как то, что Бог есть на небе: я вижу ваше лицо в первый раз. Должен ли я идти за астрологом? — Да, бегите! И берегитесь все, если это обман или ловушка! Я подожгу вашу лачугу! Буа-Доре мог лишь уверять, что совершенно ничего не знает. Он ничего не понимал в поведении Адамаса, и был очень этим обеспокоен. Он ясно видел, что верный слуга слышал разговор, только что состоявшийся у него с советником, и что он пользовался, ради спасения Люсилио, выдуманным им способом выдать его, за астролога, зная, как и все, уважение, с каким принц Конде относился к мнимому искусству прорицателей. Но пойдет ли на эту уловку серьезный Люсилио? Сможет ли он сыграть свою роль? «В конце концов, — думал Буа-Доре, — положимся на Провидение и на талант Адамаса! Речь идет только о том, чтобы выгнать отсюда врага, не дав ему захватить ни моего друга, ни меня; затем позаботимся о нашей безопасности».Глава сорок первая
Через несколько минут появился Адамас с Люсилио. Люсилио, как всегда, был спокоен и улыбался. Он слегка поклонился советнику, глубоко — маркизу, и протянул последнему лист бумаги, заполненный неразборчивыми знаками. — Увы! Друг мой, — сказал Буа-Доре, — я ничего в этом не понимаю. — Говорите! — крикнул немому Лене; тот знаком показал, что это для него невозможно. — Напишите хотя бы! Люсилио сел и написал: «Я здесь не должен ни перед кем отчитываться, кроме маркиза да Буа-Доре; я вас не знаю. Выйдите из этой комнаты, я не стану писать при вас». — Станете, черт возьми! — вне себя вскричал советник. — Я хочу знать все, и вы ответите! — Простите его, сударь, — сказал Адамас. — Он, как великие ученые, очень странный и своенравный. Если вы хотите, чтобы он открыл свои секреты, говорите с ним ласково. — Он хочет денег? — спросил советник. — Он получит их: пусть говорит! Люсилио отрицательно покачал головой. Советник, казалось, сидел на горящих углях. — Ну, — сказал он после минуты беспокойного молчания, — я узнаю, ученый вы или сумасшедший! Взгляните на мою руку и расскажите мне что-нибудь. Люсилио посмотрел на руку советника, встал и, показав Адамасу свою тарабарщину, знаком велел ему говорить вместо себя. — Да! Я это ясно вижу, — сказал Адамас. — Эти знаки говорят, что есть один человек, принц… который хочет надеть на свою голову корону Франции; но где человек, у которого этот знак на руке? Я этого не знаю. Люсилио показал руку советника. — Так кто же я? — спросил он, очень удивленный. Люсилио написал три слова, которые прочел один советник, с волнением. Его лицо изменилось и голос смягчился. — И король умер? — спросил он, дрожа всем телом, словно от страха или радости. — Вы видите теперь, что надо ответить мне? Люсилио написал: «Король чувствует себя хорошо; но господин де Люинь умер при свете пламени, 15 числа сего месяца, в одиннадцать часов вечера». Мнимый советник Лене едва успел прочесть эти слова, как не выказывая никакого сомнения, надвинул шляпу на голову, бросился на лестницу и, ни слова не сказав, кроме обращенного к его людям: «В путь!», снова сел на коня и поскакал во весь опор со всей своей свитой, и не подумав ни извиниться перед хозяевами Брианта, ни поблагодарить их, ничего не пообещав и ничем не пригрозив. Адамас, маркиз и Люсилио, в молчании проводившие их до последней двери, чтобы убедиться, что ничего подозрительного не осталось ни в замке, ни в деревне, вернулись в гостиную, где нашли Лориану и Марио. Все они были так взволнованы, что несколько минут не говорили ни слова. Наконец маркиз нарушил молчание: — Значит, это был принц? — Да, — сказала Лориана. — Я видела его в Бурже три месяца назад, и я сразу его узнала, когда проходила здесь, чтобы поздороваться с ним. А вы, мой маркиз, вы, стало быть, никогда его не видели? — Один или два раза я видел его молодым, в Париже, с тех пор — никогда. И все же, когда он назвал имя принца де Конде, объявив себя приближенным к его особе, это имя наложилось на лицо фальшивого советника Лене, и с каждой минутой я все больше убеждался, что имел дело с самим господином. Вот почему я был очень терпеливым; на мое счастье, Господи! Но как случилось, что вы придумали?.. — Господин де Люинь в самом деле умер, от горячки, 15 числа этого месяца, в то время как войска короля грабили и жгли несчастный город Монер на Гаронне. Вот письмо моего отца, которое сообщает мне об этом, и которое один из его слуг, прибывший гонцом за свитой принца, смог тихо передать мне через Клиндора. — Вот великая новость, дети мои, и она еще раз перевернет всю политику! Но кому из вас пришла в голову мысль?.. — Мне, сударь, — сказал торжествующий Адамас. — Как только мадам Лориана сказала: «Этот чужой человек, что заперся вместе с господином маркизом, — принц и никто иной», мы все четверо спрятались в укромном месте. — Мы беспокоились о вас, — сказал Марио, — потому что у людей этой большой свиты был подозрительный и угрожающий вид. Это Адамас сразу придумал все. — Мэтр Жовлен не слишком был склонен на это соглашаться, — добавил Адамас, — но надо было спасать вас, раздумывать было некогда, и он ловко сыграл свою роль, не правда ли, сударь? Теперь его счастье в его руках, и если он хочет занять место или по крайней мере сделаться таким же фаворитом, как знаменитый астролог принца, того, кто предсказал ему, что он станет королем Франции в тридцать четыре года… — Я заметил, — сказал маркиз Жовлсну, — что вы не могли взять на себя смелость сделать ему такое обещание. Вы лишь сказали ему, что у него есть это стремление. Но что мы будем делать теперь, друзья мои? Поскольку, как видите, нас подло предали, и мы подвергаемся опасностям, о которых вовсе не помышляли. — Ничего не надо делать, будем сидеть смирно, — решительно ответила Лориана. — Принц сейчас скачет по дороге, ведущей на юг, и не так скоро вспомнит о нас. — Это правда, — сказал маркиз, — что сейчас он несется по дорогам, чтобы первым прибыть к королю и захватить если не благосклонность, то хотя бы власть, которой располагал господин де Люинь. Это будут сильно у него оспаривать! Рец, Шимберг и Пюизье захотят свою долю, не считая того, что мадам королева-мать и ее маленький люсонский епископ доставят им много хлопот! Ну, а наши мелкие дела уже вылетели из головы нашего доброго принца и, возможно, никогда в нее не вернутся. Если он только не отдал приказаний против нас, прежде чем явиться сюда! — Нет, сударь, вы ничем не рискуете! — сказал Адамас. — Он хотел ваши сокровища, значительность которых ему сильно преувеличили, раз из-за такой малости такой богатый принц оказал нам честь прийти к нам. Мы предупреждены: мы сумеем спрятать наше небольшое достояние и предоставить в распоряжение любопытных полные хлама сундуки. Мы будем держать в готовности потайной выход из замка и не станем доверять людям, которые являются укрыться от дождя. Но будьте уверены: если принц не вернется снова лично, никому другому это не придет в голову; потому что, если он отдал приказания, так это для того, чтобы никто другой не запустил руку в блюдо, к которому он протянул свою хозяйскую лапу. Рассуждение Адамаса было вполне справедливым. Закончил он тем, что осыпал тысячью проклятий Беллинду, и справедливо — только она могла узнать и предать огласке настоящее имя мэтра Жовлена, смерть д'Альвимара и существование клада. Было решено посоветоваться с Гийомом д'Арсом о том, что уместнее — умолчать или объявить о смерти д'Альвимара, и с этой целью маркиз на следующий день после обеда отправился к нему. Гийома не было дома, он должен был вернуться только вечером. Маркиз послал нарочного в Бриант с предупреждением, что не стоит беспокоиться, если он вернется поздно, и отправился нанести визит господину Робену де Кулоню, который в то время находился проездом в своих владениях в Кудре, красивом охотничьем королевском округе на возвышенности Верней, примерно в лье от замка д'Арс. Робен, виконт де Кулонь, главный сборщик податей в Берри и соляной откупщик, был одним из природных врагов бывшего контрабандиста Буа-Доре; и все же их связывала тесная дружба со времен дела Флоримона Дюпюи, сеньора де Ватан. Те, кто знаком с историей Берри, вспомнят, что в 1611 году этот Флоримон Дюпюи, известный гугенот и крупный контрабандист, похитил из ненависти к налогу на соль одного из детей господина Робена. Маркиз великодушно сам занялся возвращением ребенка отцу, рискуя поссориться с Флоримоном, который был, как говорили его друзья и враги, «очень неуживчивым человеком». После этого приключения мятеж принял такие значительные размеры, что для того, чтобы справиться с господином Дюпюи в его замке, пришлось послать туда двенадцать сотен пехоты, роту швейцарцев и шесть пушек. Двадцать девять его людей повесили на месте, на окрестных деревьях, а самому отрубили голову на Гревской площади. Юный Робен впоследствии стал настоятелем монастыря в Соррезе. Господин Робен-отец остался признательным и преданным должником господина де Буа-Доре и можно было подумать, что благодаря этой дружбе маркиза никогда не преследовали за его давнее соучастие и контрабандной торговле солью. Буа-Доре частично открыл этому верному другу затруднения, какими грозило ему посещение принца, и признался, что особенно встревожен из-за доброго Люсилио, на пребывание которого в его доме ревностные святоши края смотрели неодобрительно. — Ваши опасения кажутся мне преувеличенными, — ответил виконт. — Господин де Гроот, которого ученые называют Гротиусом, и который в своей стране был приговорен к пожизненному заключению, — не совершил ли он побег, спрятавшись в сундуке, благодаря великодушию и изобретательности своей жены, и не укрылся ли в Париже, где никто его не беспокоит и не притесняет? Почему ваш итальянец не воспользуется во Франции теми же привилегиями? — Потому что французское правительство, которое очень мало обеспокоено тем, что может вызвать неудовольствие голландских гомаристов[305] и Мориса Нассау, пожелает понравиться папе, преследуя одну из его жертв. Кампанелла двадцать лет в тюрьме, и, хотя во Франции его жалеют и высоко ценят, ничего не делается для того, чтобы вырвать его из рук палачей; Бог знает, дали ли бы ему сейчас убежище у них под носом! — Возможно, вы правы, — ответил господин де Кулонь. — Что ж, я одобряю вашу идею помочь бежать вашему другу при малейшей опасности, какая станет угрожать вашему замку; но я думаю, что вы должны были бы искать укрытие, куда он мог бы отправиться в случае тревоги. Позаботились ли вы об этом? — Да, конечно, — ответил маркиз, — и хочу посоветоваться с вами на этот счет. У вас здесь недалеко есть старый необитаемый дом, который кажется мне еще вполне пригодным для жилья, хотя я никогда в нем не был. Это место достаточно близко от моего дома, чтобы человек, поспешив, мог за час до него добраться. Эти развалины находятся рядом с маленькой фермой, принадлежащей вам, и, если вы отдадите приказ фермерам, чтобы они были готовы, на всякий случай, спрятать и кормить моего несчастного беглеца. Хотите ли вы оказать мне эту услугу? — Маркиз, — ответил виконт, — вы можете потребовать у меня мою жизнь: она принадлежит вам. Мое имущество, мои люди, мои дома по справедливости в вашем распоряжении. Но все же дайте мне обдумать, подходящее ли место, которое вы имеете в виду, поскольку речь идет о моем старом доме в Брильбо. — Именно! — Ну, посмотрим: он стоит очень уединенно, и дороги там отвратительные — это хорошо. Через него не проезжают ни в какой город или местечко: это тоже хорошо. Место принадлежит мне, и прево не позволит себе туда ворваться. К тому же, считается, что в развалинах водятся самые непоседливые и шумные духи, какие только бывают, и по этой причине ни один мародерствующий крестьянин туда не заглядывает, ни один прохожий не останавливается. Все лучше и лучше. Да, я вижу, что вы хорошо выбрали, и хочу сегодня же вечером отправиться туда с вами, чтобы отдать фермерам необходимые распоряжения. Буа-Доре, со своей стороны, поразмыслив, решил, что лучше будет, если он пойдет туда один, чтобы не вызвать подозрений. — Я немного знаком с вашими арендаторами, — сказал он. — Они когда-то покупали у меня… сами знаете что! — Да, да, злюка! — смеясь, сказал виконт. — Они дешево покупали у вас соль! Ну хорошо; идите обратно по этой дороге; вода еще не так прибыла, и вы пройдете, не подвергаясь опасности. Вы как бы случайно скажете Жану Фароде, арендатору, о необходимости прийти ко мне ранним утром; вы взглянете на руины и хорошо осмотрите окрестности, чтобы иметь возможность дать сведения вашему другу; и даже хорошо бы прийти туда тайно следующей ночью, чтобы знать все входы и выходы. Таким образом, если он будет вынужден там укрыться, он сможет, по необходимости, незаметно исчезнуть. — Договорились, — сказал маркиз, — и примите тысячу благодарностей за покой, который вы доставили моему духу. Виконт оставил маркиза поужинать; после чего тот, сев в свою карету, с наступлением ночи снова направился в Арс по дороге ничем не лучше той, что вела в Брильбо; это направление было избрано потому, что он не хотел появляться в своей карете, привлекавшей всеобщее внимание, поблизости от этих развалин. Проявив еще большую осторожность, чем советовал ему господин Робен, он вышел из кареты в четверти лье от того места, которое хотел осмотреть, приказал своим людям потихоньку ехать в Арс, и, вступив на одну из тысячи тропинок, на какие, возможно, никогда не ступала нога господина де Кулоня, но которые были знакомы старому контрабандисту не хуже, чем проходы в его заповеднике, скрылся в сырых лугах, подтянув перед тем выше колен свои высокие сапоги.Глава сорок вторая
Ночь была довольно теплой и не слишком темной, несмотря на большие черные тучи, которые ветер гнал, открывая в небе длинные разрывы, полные звезд, внезапно смыкавшиеся, чтобы снова образоваться в другом месте. Говорят, что наши предки — дворяне или мещане — несомненно, были крепче, чем сегодня мы, в то время как наши предки рабочие и крестьяне — напротив, были менее здоровыми. Так считают старики моей страны, и их взгляды кажутся мне обоснованными: у зажиточных людей была привычка к свежему воздуху и к движению, современная жизнь избавила нас от этого или лишила. Дворянин, который вел образ жизни воина или охотника, до преклонных лет сохранял силу и здоровье. Бедные классы жили хуже и хуже питались, чем в наши дни, не говоря об огромном количестве несчастных, которым совсем нечего было есть и негде жить. Буа-Доре, несмотря на свои шестьдесят девять лет и на привычку к изнеженности, сохранил хорошее зрение, грудь, не поддающуюся простуде, и достаточно легко ходил по голой земле или мокрой траве. Несколько раз он поскользнулся у кустов, но ухватился за ветки, как человек, который умеет передвигаться на местности, где неровности почвы однородны на большом пространстве. Благодаря своей быстрой ходьбе, он за десять минут добрался до фермы в Брильбо. Зная боязливый и суеверный характер крестьян, он кашлянул и заговорил прежде, чем постучать; затем, постучав, назвал себя, и был принят если не без удивления, то, по крайней мере, без страха. Хотя участь земледельцев была еще очень жалкой, в Берри она была такой в меньшей степени, говоря в нравственном смысле, поскольку это давно был край внесеньориальных владений, по сравнению со странами рабства. Кроме того, в этой части, которую называют Черной Долиной, материальные ресурсы всегда обеспечивали испольщику или арендатору относительное благополучие, сохранявшее его при больших бедствиях или больших эпидемиях. В это время лепрозории (приюты для прокаженных) были уже пусты; чума, еще такая частая гостья в Бренне и в окрестностях Буржа, редко свирепствовала в Фромантале. Жилища в Марше и Бурбонне были грязными и смрадными, у нас же — крепкими и хорошо устроенными, как свидетельствует большое число старых сельских домов XI и XV веков, еще стоящих и легко узнаваемых по своим огромным черепичным крышам, камням, обтесанным в форме призмы, окаймляющим двери, и мансардам, над которыми возвышаются большие украшения из терракоты, отделанные мелкими фигурками.[306] Так что маркиз смог без отвращения войти в жилище фермеров, сесть у очага и несколько минут поговорить. «Добрый господин», всеми любимый, мог без опаски доверить Жану Фароде и его жене возможную заботу о своем друге, преследуемом, как он сказал, за охотничье правонарушение, и, когда он объявил им, что их хозяин, господин Робен, хочет видеть их на следующее утро, чтобы отдать соответствующие распоряжения, они проявили радость и готовность к повиновению, ответив привычными в этом краю словами искреннего желания и любезности: «Это можно устроить!» И все же жена Фароде, которую называли Большая Катлин, не могла удержаться от того, чтобы пожалеть того, кому хотя бы одну ночь придется провести в замке Брильбо. Она твердо верила, что там есть привидения, и ее муж, высмеяв ее, чтобы угодить скептицизму маркиза, в конце концов признался, что предпочел бы умереть, чем войти туда после захода солнца. — Присутствие моего друга, — сказал маркиз, — надеюсь, успокоит вас, потому что я обещаю вам, что оно прогонит злых духов; но, поскольку вы не слишком боитесь входить туда днем, я прошу вас завтра же положить дров в камин и устроить постель в лучшей комнате. — Мы отнесем туда все, что надо, дорогой сударь, — ответила Большая Катлин, — но несчастный христианин, который придет туда, глаз не сомкнет. Он всю ночь будет слышать шум и потасовки, как мы это слышим. Господи! И как вы услышите сами, если только захотите подождать один часочек. — Я не могу ждать, — сказал маркиз, — и к тому же, зная, что я здесь, духи не пошевельнутся. Я хорошо знаю их трусость, потому мне никогда не удавалось услышать в рождественскую ночь голоса, кричащие на верхушке донжона в Брианте, так же, как увидеть двери, открывающиеся сами собой в Мотт-Сейи, и белую даму, которая отдергивает полог постелей у господина Гийома д'Арса. — Это возможная вещь, господин Сильвен, — с самонадеянным видом сказал арендатор, — что в нашем старом замке есть привидения. Известно, что и в других они могут быть, потому что нет ни одного, где не совершилось бы большое зло, или где бы его не терпели; это причиной тому, что несчастные христиане, телесно страдавшие или подвергавшиеся мучениям в этих домах, возвращаются туда душами, которые стонут и просят молитв или справедливости. Но в замке Брильбо, который никогда не был обитаем, никому не причинили ни хорошего, ни дурного, насколько я знаю. — Надо думать, — сказала женщина, которая, продолжала разговаривать, проворно прядя пряжу, — что прежний сеньор умер вдали, трагической смертью и в грехе: вы ведь знаете предание Брильбо? Это недолгая история. Один сеньор поднял этот дом до конька кровли, и уехал в святую землю вместе с семерыми своими сыновьями, откуда не вернулся ни он сам, ни один из них. Замок продавали и перепродавали, и никому он был не по вкусу. Думали, что он приносит несчастье в семьи: поэтому во все времена он служил лишь для того, чтобы убирать туда урожай. Его покрыли крышей, которая уже прохудилась, но там есть еще две красивые комнаты и большой зал, такой большой, что два человека, встав в противоположных его концах, едва узнают друг друга. — Можете ли вы дать мне ключи? — спросил маркиз. — Я хотел бы заглянуть внутрь. — Ключи — вот они; но, Бога ради, дорогой господин Сильвен, не ходите туда! Это час, в который начинается шабаш. — Ну какой шабаш, милые мои? — смеясь, сказал маркиз. — Какие они из себя, эти гадкие черти? — Я никогда их не видел, сударь, и не желаю видеть, — ответил фермер, — но я хорошо слышу их, слишком хорошо слышу! Одни стонут, другие поют. Этот смех, и еще крики, и ругань, и плач до самого рассвета, когда все уносит ветер, потому что там хорошо заперто, и ни один человек не может войти без моего ведома или разрешения. — Не могут ли это быть ваши батраки с фермы, забавы ради, или какой-нибудь грабитель, чтобы помешать вам обнаружить краденое? — Нет, сударь, нет! Наши работники и слуги так сильно боятся, что ни за какие деньги вы не заставите их приблизиться к замку на два выстрела из пищали после захода солнца; и вы видите, что они даже не спят больше в нашем доме, потому что говорят, что он слишком близко стоит к проклятой постройке. Они все спят в риге, там, в глубине двора. — Тем лучше для маленькой тайны, которая появилась у нас с вами сегодня, — сказал маркиз, — но, может быть, тем лучше и для тех, кто изображает привидения с единственной целью обокрасть вас! — А что они могли бы украсть, господин Сильвен? В замке ничего нет. Когда я увидел, что черт зажигает там огни, я испугался пожара и убрал оттуда весь урожай, кроме нескольких жалких вязанок хвороста и десятка охапок сена и соломы, чтобы не слишком задеть их, потому что говорят, будто домовые очень любят развлекаться среди дров и корма; и в самом деле, я обнаружил беспорядок и следы, как будто там побывали пятьдесят живых существ. Маркиз знал, что Фароде очень правдив и неспособен сочинить что бы то ни было для того, чтобы избавить себя от оказания услуги. Так что он начал думать, что, если в старом замке показывались огни, если слышались голоса, и особенно если ноги или тела мяли и разбрасывали корм, в этих событиях было больше действительного, чем бесовского, и что замок, куда арендатор и его жена, как они признались, уже больше шести недель не решались войти, вполне мог уже послужить укрытием нескольким беглецам. «Вызывают ли они сочувствие или они — злодеи, я хочу их видеть», — сказал он себе. И, поместив поудобней обнаженную шпагу, держа в одной руке ключи от замка, а в другой — фонарь, он направился через луга к безмолвным руинам. Фароде, при виде того, как его жена сетует на смелость доброго господина, постыдился оставлять его одного и решился последовать за ним. Но, когда маркиз перешел неподвижный мост, он увидел, что несчастный крестьянин сильно дрожит, решил, что человек в таком состоянии скорее помешает, чем поможет ему, и попросил его дальше не ходить. Большая часть замков Черной Долины, даже относящихся к раннему средневековью, расположены в самых глубоких ложбинах, вместо того, чтобы помещаться на возвышенностях, как в Марше или Бурбонне. Это отклонение имеет вполне правдоподобную причину. В стране, где нет значительных крутых откосов, должны были искать основной способ защиты в водных путях. Поэтому в Брильбо, как и в Брианте, как в Мотт-Сейи, в Сен-Шартье, в Мотт-де-Пресль, и так далее, замок стоит среди изгибов реки, способной питать своими проточными водами двойной ров, окружающий ограду. Мост, через который входят за первую из этих стен, очень узкий, и опирается на ряд арок очертаний, колеблющихся между полукруглыми и стрельчатыми. Весь замок переходной архитектуры: фасад имеет странную форму; двери и окна над лестницей на несколько метров углубились в основную кладку, словно для того, чтобы защититься от внешних нападений. Верхняя часть здания должна была изгибаться в этом месте, но незаконченная постройка изуродована крышей, не соответствующей зданию. Маркиз подошел к подножию замка по самой короткой тропе; стены были так разрушены и побиты столькими проломами, рвы были засыпаны в стольких местах, что не было необходимости искать ворота. Он бесшумно отворил дверь замка, маленькую и низкую под пологой аркой, над которой поднималась украшенная цветами стрелка свода. Там он наполовину приоткрыл свой фонарь, чтобы видеть, что у него под ногами, вспомнив предупреждения арендатора об осторожности на лестнице.Глава сорок третья
Маркиз вступил на очень красивую лестницу в форме спирали, шириной на шесть человек и легкую, словно перья веера. Она была сделана из довольно хрупкого белого камня; многие ступеньки совершенно разбиты какой-то упавшей верхней частью здания; но те, что остались, казались только что обтесанными и на них не было ни малейшего следа порчи. При каждом полуобороте спирали начальную ступеньку поддерживали гримасничающее лицо, фантастическое животное или торс вооруженного человека, вылепленные на стене. Маркиз развлекался рассматриванием этих изображений, казалось, шевелившихся в мерцающем свете его фонаря. Он поднимался медленно, прислушиваясь на каждой площадке; и, поскольку не слышалось никакого другого шума, кроме ветра в кровле, поскольку двери залов, мимо которых он шел, были заперты на замок, он все больше и больше сомневался в присутствии каких-либо обитателей. Так он добрался до последнего этажа, где находились две комнаты, предназначавшиеся владельцу замка. В средние века принято было помещаться под самой крышей и ломать лестницу, если понадобится выдержать осаду в собственных покоях, поэтому часто лестницу не доводили до конца, и владелец замка забирался к себе по приставной лесенке, которую затем убирали. Иногда ступеньки последнего этажа умышленно делали такими тонкими, что довольно было нескольких ударов кирки, и они разбивались. Именно так было в замке Брильбо: но надломы, каких должен был остерегаться маркиз, происхождением своим, как мы и сказали, были обязаны случайностям, и он смог своими длинными ногами, без серьезной опасности, перебраться через эти просветы. Поскольку в тех двух комнатах, о которых говорил арендатор, должен был, в случае необходимости, жить Люсилио, Буа-Доре первым делом вошел туда, чтобы посмотреть, есть ли там оконные рамы или хотя бы сплошные ставни на окнах. Все окна на лестнице, узкие и глубокие, с каменной скамьей, косо сидящей в проеме, пропускали бурные порывы ветра, от которых он с трудом защищал свой светильник. Но перед тем, как открыть эти принадлежавшие сеньору комнаты, от которых у него были ключи, маркиз заколебался. Если замок служил кому-либо убежищем, и этот кто-то находился здесь, то, застигнутый в месте отдыха, он станет обороняться, не дожидаясь объяснений. Так что этот осмотр требовал некоторой осторожности. Маркиз не верил в привидения и тем менее боялся живых, так как не шел к ним с дурными намерениями. Если там прятался какой-то несчастный, кем бы он ни был, маркиз решил оставить его в покое и не выдавать тайну, случайно открытую. Но первый испуг скрывающегося мог оказаться опасным. Маркиз не произвел почти никакого шума, входя и поднимаясь, поскольку ничто не шелохнулось. Он должен был, насколько возможно, узнать правду, не позволив ни увидеть, ни услышать себя, или, по крайней мере, не показываясь внезапно. С этой целью он вошел в комнату без двери, где царила самая глубокая тьма, поскольку все окна были забиты досками или заткнуты соломой. Пол был покрыт слоем пыли и измельченного цемента такой толщины, что он гасил шаги, словно зола. Буа-Доре долго шел, едва видя, куда направляется. Он закрыл свой фонарь, не защищенный ни стеклом, ни рогом, но лишь полуцилиндром из кованой стали, в котором были пробиты маленькие отверстия, по обычаю этого края. Он осмелился снова открыть его, лишь достигнув конца этого огромного помещения, и вполне убедившись, что находится в совершенно спокойном и безмолвном месте. Тогда он поставил свой светильник на пол перед собой и отступил в большой камин, находившийся рядом с ним. Там его глаза постепенно привыкли к столь слабому свету в таком обширном пространстве, и маркиз смог различить зал, тянувшийся во всю длину замка. Он оглядел камин, в котором стоял. Как и все остальное, он был высечен из белого камня, и угловой цоколь, входящий в кладку основания, казался вытесанным накануне, такими свежими были выступы камня; двойной багет рамы был без каких-либо выемок или пятен, как и чистый гербовый щит, венчавший колпак. На самой трубе и в неоштукатуренном очаге не было следов огня, дыма или золы. Неоконченное сооружение никогда не использовалось, это было очевидно. Никто никогда не занимал прежде и теперь эту холодную пустынную комнату. Убедившись в этом, маркиз осмелился пойти посмотреть вблизи, почему этот огромный неф на половине своей глубины пересекается идущим поперек барьером из досок высотой по грудь. Оказавшись там, он увидел провал. Пол обвалился или был полностью разобран, так же, как и на нижних этажах, во всей этой половине здания, возможно, для того, чтобы удобнее было убирать хлеб. Взгляд проникал в темное помещение, казавшееся большим, как церковь. Буа-Доре находился там уже несколько минут, пытаясь составить представление об ансамбле, когда из глубин, которые тщетно исследовал его взгляд, к нему поднялся какой-то стон. Он вздрогнул, закрыл и спрятал за досками фонарь, затаил дыхание и навострил уши, несколько тугие и способные обмануться в природе звуков. Не была ли это дверь, ставень, раскачиваемый ветром? Он не прождал и трех минут, как та же жалоба, еще более отчетливая, повторилась, и в то же время ему почудилось, что слабый луч света, исходивший из глубины провала, осветил дно здания, по отношению к нему представлявшее буквально пропасть. Он встал на колени, чтобы его не увидели, и посмотрел сквозь доски, служившие перилами. Свет быстро прибавлялся и вскоре сделался достаточно ярким для того, чтобы увидеть или, скорее, угадать в неясной путанице тени и света глубину зала первого этажа, такого же большого, как тот, в котором он находился, но который до того, как обрушились промежуточные этажи, должен был намного больше возвышаться, насколько он мог судить об этом по началу стрелок свода, опиравшихся на консоли, украшенные изображениями животных и фантастических персонажей, большими и сильнее выступающими, чем те, что он уже видел на лестнице. Вместо всякой обстановки виднелись несколько куч сухого фуража и половицы, стоявшие в глубине в виде загородки, вместе с остатками яслей. Этот нижний этаж долгое время служил стойлом для быков. Среди половиц можно было заметить остатки ярем и сошников. Затем все снова погрузилось во мрак, и свет, поднимаясь, озарил кусок стены, образовывавшей щипец здания, который маркиз видел перед собой на расстоянии сорока футов. Этот свет, то красноватый, то бледный, шел от невидимого очага, расположенного под сводом нижнего этажа, то есть в неразрушенной части, соответствующей той, откуда маркиз наблюдал эту сумрачную и зыбкую картину. Вдруг под этим сводом раздался шум дверей, шагов и голосов, и путаница беспокойно движущихся теней, то огромных, то приземистых, обрисовалась на большой стене самым причудливым образом, словно множество людей ходили взад и вперед перед большим очагом. «Вот это довольно забавная игра в прятки, — подумал маркиз, — и нельзя отрицать, что замок полон блуждающих и говорящих теней. Узнаем, о чем они говорят». Он послушал; но, среди неясного шума слов, пения, стонов и смеха не смог уловить ни одной фразы, ни даже слова. Невероятная гулкость свода, отражавшего звуки, как тени, на противоположную стену, смешивала все голоса в один, все обращая в невнятный шорох. Маркиз не был глухим, но у него была присущая старикам чувствительность слуха: они очень хорошо слышат диапазон умеренных звуков и отчетливо произнесенных слов, но шум, смесь голосов беспокоит и задевает без результата. Он улавливал лишь модуляции голоса и ничего больше; то грубого и хриплого, казалось, что-то рассказывавшего, то напевающего песню, внезапно прерывавшуюся угрожающими звуками, а затем чистый голос словно насмехался и передразнивал остальных, вызывая бурю неудержимого смеха. Иногда это были довольно длинные монологи, потом диалоги двоих или троих, и внезапно крики гнева или радости, похожие на рев. В общем, могло быть, что эти люди говорили на языке, которого маркиз не знал. Он внушил себе, что это всего лишь шайка бродяг или безработных фокусников, живущих кражами и проводящими плохие зимние дни, укрываясь в этих развалинах, а возможно и скрываясь в связи с каким-то преступлением. Этот смех, эти странные костюмы, вырисовывающиеся перед ним, словно в театре теней, эти длинные речи, эти оживленные разговоры, возможно, имели отношение к занятиям неким шутовским искусством. «Если бы я находился к ним поближе, — подумал он, — я мог бы позабавиться этим; человека не могут плохо принять в самом дурном обществе, если он войдет, любезно предлагая свой кошелек». Он снова взял свой фонарь и собирался спуститься, когда разговоры, пение и крики сменились криками животных, такими реальными и так превосходно воспроизведенными, что можно было подумать — задний двор пришел в волнение. Бык, осел, конь, коза, петух, утка и ягненок кричали все разом. Затем все смолкли, словно слушая лай своры, звук рога, все шумы охоты. Среди всего этого пронзительно кричал ребенок, то ли подражая остальным, то ли испугавшись во сне, и Буа-Доре увидел, как прошла маленькая тень, похожая на ребенка, но двигавшаяся, как обезьяна. Затем появилась большая голова, покрытая чем-то вроде шлема, украшенного султаном, обрисовав на освещенной стене причудливый нос, затем косматая голова, кажется в скуфье, обращавшаяся к длинному силуэту, долго остававшемуся неподвижным, словно статуя. Когда волнение улеглось, тень огромного распятия крестом перерезала всю стену. Свет, казалось, переместился, и этот крест стал совсем маленьким; наконец он исчез, и единственное очень четкое изображение появилось на его месте, в то время как замогильный голос монотонно произносил молитву, кажется, ту, что читают над умирающим.Глава сорок четвертая
Буа-Доре, оставшийся на месте ради забавы, которую предоставляли ему эта фантасмагория и эти странные звуки, начал чувствовать холод, заставлявший его стучать зубами, как только началось это скучное монотонное чтение. На этот раз, решившись пойти взглянуть, что происходит, он все же задержался, остановленный невероятным сходством, какое явило ему последнее видение. Оно делалось все более точным и определенным по мере того как заунывный голос произносил свою мрачную молитву, и маркиз, завороженный и неподвижный, не мог отвести от него глаз. Эта голова, такая узнаваемая по своей короткой стрижке «недовольного» и обрамлявшему ее испанскому «мельничному жернову», по определенным, угловато-изящным чертам, наконец, по особой форме бороды и усов, была головой д'Альвимара, откинутой назад в своем смертном окоченении. Вначале Буа-Доре отгонял от себя эту мысль; затем она сделалась наваждением, уверенностью, волнением, невыносимым ужасом. Применительно к себе он никогда не верил в привидения. Он говорил и думал, что, никогда не предав никого смерти из мести или жестокости, мог быть уверен, что ни одна страждущая Или разгневанная душа никогда не посетит его; но, как большинство здравомыслящих людей своего времени, он не отрицал того, что духи возвращаются на землю и людям являются привидения, о свойствах которых рассказывали столько достойных веры особ. «Этот д'Альвимар действительно умер, — подумал он, — и потрогал его холодные конечности; я видел, как сняли с коня его уже окоченевшее тело. Он в течение недель покоится в земле, и все же я вижу его здесь, я, который не видел ничего сверхъестественного там, где другие видели ужасных призраков. Был ли этот человек, вопреки всякой вероятности, не виновен в преступлении, в котором я обвинил его и за какое покарал? Не упрек ли это моей совести? Не выдумка ли моего мозга? Или холод этих руин охватил меня и смущает? Что бы там ни было, — подумал он затем, — с меня довольно». И, ощущая головокружение, предвещающее обморок, он дотащился до лестницы. Там он немного пришел в себя и стал увереннее спускаться по разбитой спирали. Но, оказавшись внизу, он, вместо того, чтобы окрепнуть духом и попытаться проникнуть в комнаты нижнего этажа, не захотел больше ничего видеть и слышать и, подгоняемый невыносимым омерзением, бросился бежать через поля, поверяя сам себе свой страх, и готовый простодушно признаться в нем любому, кто спросит у него отчета. Он нашел арендатора, который, ни жив ни мертв, ждал его на мосту. Для славного малого это был героический поступок — остаться там и ждать. Он был неспособен сказать или выслушать что бы то ни было и, лишь вернувшись вместе с маркизом в свой дом, решился расспросить его. — Ну что, мой бедный дорогой господин Сильвен, — сказал он, — я надеюсь, что вы вдоволь нагляделись на их огни и наслушались их криков! Я уж думал, что вы никогда не вернетесь! — Это верно, — сказал маркиз, выпив стакан вина, предложенный ему фермершей, который он нашел вовсе не лишним в эту минуту, — что в этих развалинах есть что-то необычное. Я не встретил там ничего способного причинить зло… — Но все же, мой добрый господин, —сказала Большая Катлин, — вы белее, чем ваши брыжи! Погрейтесь-ка, сударь, чтобы не заболеть. — Правду сказать, я замерз, — ответил маркиз, — и мне показалось, что я вижу вещи, которых, возможно, не видел вовсе; но ходьба укрепит меня, и я боюсь, что мои домашние забеспокоятся, если я еще задержусь. Доброй ночи вам, добрые люди! Выпейте за мое здоровье. Он щедро вознаградил их за услужливость и отправился к своей карете, которая ждала его в условленном месте. Аристандр был встревожен, но маркиз заверил его, что ничего неприятного с ним не случилось, и славный возница вообразил, что Адамас ничего не приврал, уверяя, что у хозяина еще бывают любовные приключения. — Должно быть, на этой ферме, — тихонько сказал он Клиндору по дороге, — есть какая-нибудь хорошенькая пастушка! Он утвердился в этой остроумной идее, когда его господин запретил ему рассказывать о его прогулке по лугам. Вместо того чтобы остановиться в Арсе, маркиз велел ехать, прямо в Бриант. Он был удивлен и уже немного стыдился той минуты страха, что заставила его покинуть Брильбо, ничего не узнав. «Если я об этом заговорю, надо мной станут смеяться, — подумал он. — Будут шептаться, что я заговариваюсь от старости. Лучше никому в этом не признаваться, и, поскольку мне безразлично, кто захватил Брильбо — шайка балаганных фокусников или чародеев, я поищу для Люсилио какое-нибудь другое, более спокойное укрытие». По мере того, как он приближался к своему дому, его отдохнувший ум вопрошал себя о том, что он испытал. Его поразило то, что страх охватил его в минуту, когда ничто к тому не располагало, и когда, напротив, он смеялся над проделками этих домовых и над забавной причудливостью их портретов на стене. Вследствие своих размышлений на эту тему он остановил Аристандра у лугов Шанбона и пешком спустился по короткой тропинке, что вела к хижине Мари-творожницы. Эта хижина еще существует; в ней еще живут огородники. Это источенный червями домишко, с одного боку к которому пристроена башенка с лестницей, сложенная из камней без раствора. Красивый фруктовый сад, со всех сторон окруженный грубой изгородью и зарослями дикой ежевики, как уверяют, был подарком Мари от господина де Буа-Доре. Он застал там брата облата[307], делившего монастырское пропитание с любовницей, а та делилась с ним вином и плодами из своего сада. Впрочем, их союз не был открытым; они соблюдали некоторые предосторожности, чтобы их «не заставили пожениться», и таким образом не отняли льготы инвалида, какими Хромой Жан пользовался в монастыре кармелитов. — Ничего не бойтесь, друзья мои, — сказал маркиз, нарушивший их уединение. — У нас есть общие секреты, и я только хочу сказать вам два слова… — Есть, мой капитан! — ответил Хромой Жан, вылезая из-под стола, где прятался. — Я прошу у вас прощения, но я не знал, кто приближается к дому, а на мой счет ходит столько всяких слухов! — Конечно, совершенно несправедливых! — улыбаясь, сказал маркиз. — Но ответь мне, друг мой; я не виделся с тобой со времени некоего события. Я передал тебе небольшое вознаграждение через Адамаса, которому ты поклялся, что в точности исполнил мои приказания. Сегодня вечером у меня есть минута поговорить с тобой без свидетелей, и я хочу узнать от тебя некоторые подробности того, как ты сделал это дело. — Что, мой капитан? Не существует двух способов похоронить мертвеца, и я совершил христианские богослужение так же по-христиански, как совершил бы его приор моей общины. — Я в этом не сомневаюсь, приятель; но был ли ты осторожен? — Мой капитан сомневается во мне? — воскликнул увечный с чувствительностью, особенно усиливавшейся в нем после ужина. — Я сомневаюсь не в твоей скромности, Жан, но немного — в твоей ловкости, с какой ты утаил это погребение; поскольку о смерти господина д'Альвимара сегодня известно моим врагам, и все же я не могу усомниться в верности моих людей, равно как и в твоей. — Увы! Господин маркиз, не только ваши люди были посвящены в тайну, — рассудительно заметила Мари. — Люди господина д'Арса могли проговориться, и кроме того, не искали ли вы в ту ночь человека, которого хотели схватить и который скрылся? — Это правда; я виню его одного. Я пришел вовсе не за тем, друзья мои, чтобы упрекать вас, но для того, чтобы спросить, где, когда и каким образом вы погребли это тело? — Где? — спросил Хромой Жан, глядя на Мари. — В нашем саду и, если вы хотите видеть место… — Меня это не занимает. Но было ли совсем темно или светало? — Это было около… двух или трех часов ночи, — с некоторой неуверенностью ответил облат, посмотрев снова на рябую старую деву, которая, казалось, взглядом подсказывала ему ответы. — И никто вас не видел? — снова спросил Буа-Доре, пристально изучая обоих. Этот вопрос окончательно смутил облата, и маркиз перехватил новые заговорщические взгляды между ним и его подругой. Для него становилось очевидным, что они опасались быть увиденными, и из страха, что их слова опровергнет достойный доверия свидетель, они не осмеливались описывать подробности того, каким образом они выполнили замысел маркиза. Буа-Доре поднялся и повелительным тоном повторил вопрос. — Увы! Мой добрый сеньор, — сказала Мари, упав на колени, — простите этому несчастному, увечному телом и разумом, который, может быть, многовато выпил сегодня вечером и не способен изъясняться как следует! — Да, простите меня, мой капитан, — прибавил калека, явно растроганный состоянием собственного мозга, и тоже встав на колени. — Друзья мои, вы обманули меня! — сказал маркиз, решивший добиться у них признания. — Вы вовсе не похоронили сами господина д'Альвимара! Вы испугались, или не решились, или испытали отвращение; вы сообщили господину Пулену… — Нет, сударь, нет! — с силой воскликнула Мари. — Мы никогда на сделали бы подобной вещи, зная, что господин Пулен против вас! Поскольку вы знаете, что мы ослушались вас, вы должны знать и то, что в этом нет нашей вины, и что сам дьявол в этом замешан. — Расскажите, что произошло, — продолжал маркиз. — Я хочу знать, скажете ли вы мне правду. Садовница, уверенная, что маркиз знал об этом больше, чем она сама, очень чистосердечно поведала нижеследующее: «Когда вы уехали, мой дорогой сударь, первой нашей заботой было перенести этого мертвеца в наш сад, где мы покрыли его большим соломенным щитом; поскольку мне совершенно не хотелось вносить его сюда и я не видела в этом никакой необходимости. Признаюсь, что я очень боялась его, и что для всякого другого, кроме вас, добрый мой господин, я не пожелала бы принимать подобное общество. Жан назвал меня дурой и смеялся, допивая свой кувшинчик вина, якобы для того, чтобы предохранить себя от ночной прохлады, но вполне возможно, чтобы отогнать от себя печальные мысли, какие всегда приходят в голову при виде мертвеца, каким бы черствым ни было ваше сердце. Надо признаться вам также в том, что первой заботой этого несчастного Жана, что здесь стоит, было взять то, что находилось в карманах этого покойника и в дорожной сумке, которой был навьючен конь, что принес его сюда… Вы ничего не сказали, и мы подумали, что это причитается нам, и мы сидели здесь и считали на столе деньги, чтобы в точности вернуть все вам, если вы явитесь потребовать их. Там был довольно большой кошелек, полный золота, и Жан, продолжая пить, с удовольствием на него смотрел и перебирал. Что поделать, сударь! Такие бедные люди, как мы! Так и тянет к этому прикоснуться. И мы строили планы, как распорядиться этим богатством. Жан хотел купить виноградник, а я говорила, что лучше фруктовый сад с плодоносящим орешником; и наполовину смеясь оттого, что видели себя такими богатыми, наполовину споря о том, как поступить с нашим имуществом, мы больше не думали о мертвеце, когда стенные часы пробили четыре часа утра. — Теперь, — сказала я этому бедняге Жану, — мне уже не страшно, и, поскольку ты не очень ловок со своей деревянной ногой, поскольку ты слегка припадаешь к тому же на здоровую ногу, я хочу помочь тебе выкопать могилу. Я никогда не пожелала зла ни одному живому существу, но, поскольку этот господин мертв, я не желаю ему воскреснуть. Есть такие люди, которые, уходя, приносят пользу оставшимся. Я должна признать себя виновной в том, дорогой сударь, что это были все молитвы, которые мы — этот негодный Жан и я — произнесли над этим усопшим. Таким образом, взяв заступ, мы оба вернулись в сад и подняли соломенный щит, под которым спрятали тело. Но каково же было наше удивление, сударь? Под ним ничего не было: у нас украли нашего мертвеца! И вот мы стали искать, мы все перевернули: ничего, сударь, ничего! Мы думали, что сошли с ума, и что нам приснилось все, что приключилось в ту ночь, и я быстро побежала взглянуть, не были ли деньги видением. И что же, сударь, если бы здесь не было вас и вы нас не расспрашивали, вы могли бы поверить, что дьявол подшутил над нами: ящик, куда я положила кошелек и драгоценности, был открыт, и все исчезло из дома, пока мы были в саду, как покойник исчез из сада, пока мы были в доме». Заканчивая этот рассказ, Мари стала горевать о пропаже денег, и облат, только и искавший случая поплакать, стал проливать слишком искренние слезы, чтобы маркиз мог подвергнуть сомнению двойную и странную кражу, совершившуюся в их доме: полного кошелька и «усопшего мертвеца», как жалобно говорила садовница.Глава сорок пятая
Во время этого дуэта сетований маркиз размышлял. — Скажите мне, друзья мои, — снова заговорил он. — Не видели ли вы в вашем саду следов ног, а в вашем доме — следов взлома? — Вначале мы не обратили внимания, — ответила Мари, — мы были слишком взволнованы; но, когда рассвело, мы как можно лучше все осмотрели. В доме не было ничего особенного. Туда могли войти, едва мы повернулись к нему спиной; мы оставили дверь и ящик открытыми, деньги на виду; здесь много нашей вины, увы! — Значит, — заметил маркиз, — покойный ушел не сам по себе, и у него оказалось не только несколько друзей, чтобы унести его останки, но еще кто-то, чтобы вытащить его деньги и его драгоценности. — Я предполагаю, сударь, что их было только двое для первого дела, а для последнего — один, который даже не был в согласии с остальными; потому что мы увидели на черноземе наших грядок следы двух пар ног, которые уходили к нашей изгороди, смотрящей на Бриант, и эти ноги, казалось, были обуты в сапога или башмаки, в то время как на песке нашего дворика были как будто следы босых ног, совсем маленьких детских ног, убегавших в сторону города. Но на тропинках уже стояла вода, и мы не могли ничего увидеть за нашей оградой. Буа-Доре про себя рассуждал так: «Сбежавший Санчо выследил нас и наблюдал за нами. Затем он отправился к господину Пулену, который кого-то послал или сам пришел вместе с Санчо за телом д'Альвимара, чтобы предать его погребению. Донос идет отсюда. Аббат не посмел, по неизвестной мне причине, показать этот труп своим прихожанам и публично изобличить меня. Возможно, он хотел дать Санчо время скрыться. Что касается денег, какой-нибудь мелкий воришка мог подслушать под дверью, подстеречь, когда они вышли из дома, и воспользоваться обстоятельствами: это мне довольно безразлично». Затем, еще поразмыслив обо всех этих вещах и задав разнообразные вопросы, которые не привели ни к какому новому прояснению, он сказал: — Друзья мои, когда мы привезли сюда этого мертвеца, лежащего поперек седла, мы оставили вам сумку, не думая ни о чем другом, кроме того, чтобы избавить наше зрение и руки от всего, что принадлежало нашему врагу. И все же на следующий день, подумав, что в этом чемодане могли находиться интересные для нас документы, мы потребовали их, и вы ответили Адамасу, что там не было ничего, кроме сменной одежды, небольшого количества белья, и никакой бумаги или пергамента. — Это правда, сударь, — ответила садовница, — и мы можем показать вам еще полную сумку такой, какой она попала к нам. Вор не увидел ее в изножье постели, куда мы ее бросили, или же не захотел себя ею обременять. Маркиз велел принести ее и убедился в правдивости утверждения. И все же, пока он изучал и вертел этот предмет, ему показалось, что он нашел потайной карман, ускользнувший от внимания хозяев дома, и ему пришлось распороть его. Тем он нашел несколько бумаг, которые унес с собой, вознаградив садовницу и калеку за их потерю и приказав им молчать вплоть до новых распоряжений.Было больше одиннадцати часов, когда маркиз вернулся к себе в большой дом. Марио не спал: он играл с Лорианой в бирюльки в большой гостиной, не желая ложиться спать, пока не увидит, что его отец вернулся. Люсилио читал в уголке у огня, не отвлекаясь на детский смех, но чувствуя, как его, посреди его глубокой задумчивости, убаюкивает эта свежая и прелестная музыка, к которой его нежное сердце и восприимчивое к мелодии ухо были особенно чувствительны. С тех пор как он изображал прорицателя перед его высочеством, дети прозвали его «господин астролог» и дразнили, чтобы вызвать у него улыбку. Любезный ученый улыбался, сколько им было угодно, не отвлекаясь от работы своего ума, поскольку доброжелательность характера и мягкость инстинктов были, если можно так выразиться, неотделимы от его тела и говорили через его прекрасные итальянские глаза, даже когда его душа странствовала в небесных сферах. Адамас, который, несмотря на то, что обожал своего маленького графа, тосковал до того, что впадал в меланхолию в отсутствие божественного маркиза, слонялся как неприкаянный по лестнице и внутреннему двору, пока не услышал, наконец, звучный топот Пиманты и Скилиндра, и стоны дорожных камней, раздробленных колесами монументальной кареты, словно орехи и давильне. — Вот едет господин! — воскликнул он, распахнув дверь гостиной с таким шумом и такой радостью, словно маркиз отсутствовал целый год, и побежал в кухню, чтобы самому принести согревающий пунш, составленный из вина и ароматических веществ, тонкое и приятное питье, секрет которого он берег и которому приписывал цветущий вид и крепкое здоровье старого своего хозяина. Добрый Сильвен поцеловал своего сына и нежно приветствовал свою дочь, пожал руку своего «астролога», выпил подкрепляющее средство, поднесенное славным его слугой, и, удовлетворив таким образом всех своих домашних, протянул ноги почти в самый огонь, велел поставить рядом с собой маленький круглый столик и попросил Люсилио прочесть некоторые бумаги, принесенные им, пока Марио будет, как может, переводить их вслух. Документы были написаны на испанском языке, в виде заметок, собранных для докладной записки и связанных ремнем. Не было ни адреса, ни печати, ни подписи. Это был ряд официальных и полуофициальных сведений об умонастроениях во Франции, о предполагаемых или замеченных настроениях некоторых особ, имеющих большее или меньшее значение для испанской политики; об общественном мнении в этом отношений; наконец, своего рода достаточно хорошо сделанная дипломатическая работа, хотя и незаконченная, и частью оставшаяся в черновиках. Из этого было видно, что д'Альвимар, в эти несколько дней его пребывания в Брианте, не переставал отчитываться перед принцем, министром или неким покровителем в своего рода тайной миссии, очень неблагоприятной для Франции и полной отвращения и презрения к французам всех классов общества, с какими он вступал в сношения. Эта тщательная критика была неглупой, стало быть — не лишенной интереса. Д'Альвимар обладал проницательным умом и правдоподобно рассуждал. За недостатком высоких и тесных связей, каких желал бы для своего продвижения и придания себе значительности, он ловко истолковывал любое мелкое подмеченное событие, подслушанное или подхваченное мимоходом слово: предположение, слух, соображение первого встречного, где бы он ни находился, все ему годились, и в этой работе, одновременно наивной и коварной, виделась непобедимая склонность и тайное удовлетворение души, полной желчи, зависти и страдания. Люсилио, который с первых строк догадался о том, какой интерес представляет для маркиза эта находка, поискал среди последних листков и очень скоро нашел вот этот текст, который Марио бегло, почти не задумываясь, перевел, в конце каждой фразы заглядывая прекрасными глазами в глаза учителя, чтобы быстро убедиться перед тем как продолжать, не ошибся ли он в значении слов:
«Что касается пр…. де К…е, я стану действовать таким образом, чтобы приблизиться к его особе; я получил сведения от умного и пронырливого церковнослужителя, который может оказаться полезным. Запомните имя Пулена, приходского священника в Брианте. Он из Буржа и знает множество вещей, в особенности о вышеупомянутом принце, который весьма жаден до денег и очень слаб в политике; но он пойдет туда, куда толкнет его честолюбие. Его можно завлечь большими надеждами и воспользоваться им, как поступили с Гизами, потому что Конде он лишь по имени, и боится всего и всех. Поэтому его труднее поймать, чем кажется. Он ни на что не пригоден лично. Его имя все еще полезно. В надежде сделаться королем он готов многое отдать святейшей И…, с тем, чтобы извернуться, если это в его интересах. Говорят, что не остановится перед тем, чтобы отделаться от К… и от его брата, и что, в случае необходимости, можно поразить высоко и сильно благодаря этому жалкому уму и этой слабой руке. Если ваше мнение таково, что следует укреплять его в той мысли, дайте это знать вашему покорнейшему…»— Превосходно, превосходно! — воскликнул маркиз. — У нас есть возможность поссорить нашего друга Пулена с его высочеством, и обоих — с памятью этого милого господина д'Альвимара. Богу известно, что я бы хотел оставить в покое этого усопшего; но, если нам грозят отомстить за него, мы предоставим добрым друзьям его, сожалеющим о нем, узнать его поближе. — Это прекрасно, — сказала благородная госпожа де Бевр, — при условии, если вам удастся доказать, что эти заметки написаны его рукой! — Действительно, — ответил маркиз. — Иначе у нас нет ничего стоящего. Но, без сомнения, Гийом сможет доставить нам какое-нибудь подписанное им письмо? — Вероятно; и вам надо побыстрее об этом побеспокоиться, мой маркиз! — Тогда, — сказал маркиз, целуя ее руку и желая ей спокойной ночи, поскольку она поднялась, чтобы удалиться. — Я завтра снова поеду к Гийому, а пока станем беречь наши доказательства и средства. Назавтра, проснувшись, маркиз увидел вошедшего к нему Люсилио, который вручил маркизу написанную им для него страницу. Несчастный немой хотел на время уехать, чтобы не навлечь на своего друга беду, угрожавшую им обоим. — Нет, нет! — вскричал очень взволнованный Буа-Доре. — Вы не причините мне этой боли, не покидайте меня! Опасность отступила на время, это всем нам доказано, и записки господина д'Альвимара прямо предназначены для того, чтобы окончательно успокоить меня на мой счет. Что касается вас, то поверьте, что вам нечего бояться принца, так удачно объявив ему о смерти фаворита. Впрочем, как бы ни было для вас рискованно оставаться здесь, я думаю, что в другом месте опасность была бы худшей, и именно здесь я смогу действенно защитить или спрятать вас, смотря по событиям, которые произойдут. Не будем терзаться неизвестным, и, если вам тягостно увеличивать затруднительность моего положения, подумайте о том, что без вас воспитание Марио обречено на неудачу и безвозвратно потеряно. Подумайте об услуге, какую оказываете мне, превращая живого ребенка в человека с сердцем и умом, и вы признаете, что ни моим богатством, ни моей жизнью я не мог бы отплатить вам, потому что ни одно, ни другое не стоят знаний и добродетелей, которыми вы делитесь с нами. Не без труда вырвав у своего друга клятву не покидать Бриант без его согласия, маркиз собирался вернуться в Арс, когда появился Гийом с господином Робеном де Кулонем; последний был очень удивлен тем, что рассказал ему тем же утром его арендатор Фароде, первый — тем, что не получил накануне вечером визита маркиза, объявленного его людьми. Буа-Доре во всем признался и чистосердечно поведал о видении, какое было у него в Брильбо, все же уверяя, что до появления профиля д'Альвимара на стене, он бы уверен в том, что шум и тени, произведенные вполне реальными существами, ему не пригрезились. Он был оскорблен, заметив недоверчивую улыбку на лицах обоих своих слушателей; но, когда он рассказал о событиях в доме садовницы и показал заметки д'Альвимара, он увидел, как его друзья вновь сделались серьезными и внимательными. — Мой кузен, — сказал ему Гийом. — Что касается этих заметок, мне легко будет доказать их подлинность и доставить вам образец почерка и подписи господина д'Альвимара. А пока я заверяю вас, что эти страницы точно написаны его рукой. Поместите их в свой архив и ждите, пока у вас снова спросят отчета в смерти этого предателя, чтобы объявить о ней. Господин Робен держался другого мнения. Он осуждал молчание, хранимое вокруг этого события, предосторожности, принятые, чтобы спрятать тело, и продолжение тайны в то время, когда умы в окрестности были расположены к прелестному Марио, тронутые рассказом о его приключениях, и все готовы были проклясть презренных убийц его отца. Буа-Доре мгновенно присоединился бы к этому мнению, если бы не опасался вызвать недовольство Гийома, который упорствовал в своем первом суждении. — Дорогой мой сосед, — сказал он. — Я склонился бы к вашему мнению и пожалел бы о совете, данном мною маркизу, не будь одного пришедшего мне в голову размышления, которое я прошу вас серьезно взвесить. Вот это размышление: маркизу нет необходимости признаваться в убийстве человека, возможно, не умершего. Господа Робен и Буа-Доре вздрогнули от удивления, и Гийом продолжил: — У меня есть два серьезных основания говорить и думать так: первое — то, что в сад Мари принесли человека, который мог, хотя и был пронзен хорошим ударом шпаги, не испустить последний вздох; второе — наш маркиз, чья храбрость не из тех, в каких можно усомниться, увидел в Брильбо лицо своего врага. Господин Робен хранил молчание и размышлял; Буа-Доре собрал воспоминания о вчерашнем дне и попытался освободить их от испытанного им волнения; затем он сказал: — Если господин д'Альвимар умер, это случилось не на месте боя, в Рошайе, и не в доме садовницы; это произошло в Брильбо, и не далее как вчера вечером. Он умер в каком-то странном и скотском обществе, но в присутствии священника, который мог быть господином Пуленом, и за ним ухаживал слуга, которым должен был быть старый Санчо. Неясные тени, какие я видел, ничего не представили мне противного этим предположениям, и, что касается того, что я видел самым отчетливым и ясным образом, это был крест, нарисованный не хуже, чем на гербе, и под правой ветвью этого креста, похудевшее и словно лишенное плоти лицо господина д'Альвимара. Это лицо казалось вначале немного беспокойным, пока голос читал погребальную молитву; слабые вздохи, которые я слышал сквозь вакханалию, еще раздавались во время молитвы. Затем эта жалоба стихла, лицо сделалось словно каменным: можно было сказать, что его черты отвердели на стене, показывавшей мне его изображение. Голова уже была не склоненной, но откинулась назад, и тогда… — Что тогда? — спросил Гийом. — Тогда, — простодушно продолжал маркиз, — я стал глупым и слабым, и я убежал, чтобы больше ничего не видеть. — Ну что ж; что бы там и как бы там ни было, — сказал господин Робен, — мы осмотрим и перевернем, если потребуется, эти развалины сверху донизу, чтобы взглянуть, что они скрывают и каких людей приютили. Гийом считал, что идти туда надо лишь с наступлением темноты, и с большими предосторожностями, чтобы проникнуть в смысл этих таинственных собраний. Фароде дал господину Робену точные указания относительно времени, когда начинался шум, и, поскольку эти странные звуки оказались вовсе не чистым вымыслом перепуганных крестьян, следовало видеть в их регулярности и постоянстве метод, избранный для того, чтобы сеять ужас и использовать его ради некоей выгоды. Господин Робен, помимо этого, заметил, что, по словам арендатора, эта фантасмагория происходила в Брильбо лишь в течение последних двух месяцев, то есть с того времени, на какое Гийом и маркиз указывали как на дату смерти д'Альвимара. — Все это, — сказал он, — приводит мне на память, что в день моего последнего приезда в Кудре, на прошлой неделе, я много раз встречал на моем пути, и на большом расстоянии друг от друга, людей довольно неприятного вида, которые не показались мне ни крестьянами, ни горожанами, ни солдатами, и я удивился тому, что совершенно не знал их. Расспросите ваших людей, не случались ли у них в последнее время в окрестностях ваших домов подобные встречи:. Вызвали слуг. Люди Буа-Доре и люди Гийома согласно заявили, что в течение нескольких недель видели, что в лесах и по безлюдным дорогам Варенны бродят некоторые подозрительные люди, и что они спрашивали себя, что эти чужеземцы могут заработать в таких пустынных уголках. Вспомнили также о многочисленных кражах, совершенных на фермах и птичьих дворах окрестных мест; наконец, лицо Ла-Флеша мелькало, среди прочих странных лиц, на ярмарках и базарах соседних городов. Они считали, что могут, по меньшей мере, утверждать, что некий бродячий актер, наглый болтун, различными способами меняющий внешность, был тем же самым, что бродил два или три дня подряд между Бриантом и Мотт-Сейи, в то время, когда вернулся Марио. Из этих сведений вывели заключение, что имеют дело с самыми недоверчивыми и хитрыми бродягами и разбойниками, и договорились о том, как овладеть их тайной, не спугнув их. Поэтому решили немедленно разделиться; было вполне возможно, что эти люди заметили приезд маркиза в Брильбо, и что они оставили в кустах у дороги несколько лазутчиков в засаде. Гийом вернется домой, возьмет с собой большое число слуг и сделает вид, что направляется в Бурж. Господин Робен останется со своими людьми в Кудре до условленного часа. Буа-Доре засядет в засаде у Теве, Жовелен — у Луруе.
Глава сорок шестая
С наступлением ночи слуги и вассалы под предводительством вышеупомянутых господ должны будут, образовав круг, наступать к развалинам замка, чтобы окружить его. Эта операция назначена на десять часов вечера, до тех пор они будут двигаться молча, скрытно; пропуская всякого, кто направляется в Брильбо; а после десяти часов остановят каждого, кто попытается оттуда выйти. Было запрещено убивать или ранить кого-либо, кроме случаев опасного нападения, поскольку главной целью было захватить пленников и добиться от них признаний. Было также условлено, что каждая группа по отдельности выйдет из условленного места, назначенного в соответствии со стратегическим знанием мельчайших подробностей местности, каким обладали Гийом и маркиз. Для этого Гийом отделится от своих людей в Бертену, приказав им рассеяться вдоль Иньере. Господин Робен должен отправиться к своему арендатору, пока его слуги по двадцати разным тропинкам будут преодолевать небольшое расстояние между Кудре и Брильбо, заботясь о том, чтобы охранять всю линию Сен-Шартье. Буа-Доре, со своей стороны, прогуляется в Монлевик и оттуда отправится на место встречи один, распределив свой эскорт таким же образом, как и два его друга, чтобы рассеять подозрения любого, кто станет наблюдать за его действиями. Приняв все эти меры, можно было рассчитывать привести в готовность и заставить с уверенностью действовать сотню крепких и очень осторожных людей. Что касается Буа-Доре, он выставлял их около пятидесяти, оставляя двенадцать хороших слуг для охраны своего замка и своей благородной гостьи Лорианы. Чтобы выглядеть в глазах предполагаемых шпионов чуждым всякому касающемуся Брильбо плану, маркиз взял с собой в Монлевик Морио, словно они собираются навестить своих молодых соседей. Д'Орсанны были внуками Антуана д'Орсанна, королевского наместника в Берри и кальвиниста. Маркиз и Марио провели у них час; после чего Буа-Доре поручил Аристандру отвезти ребенка в Бриант, а сам тем временем снова сел в седло, чтобы одному отправиться в Эталье, деревушку на пути из Ла Шатра в Треве, на гребне возвышенности, которая называлась Террье (логовище). Поскольку Марио, заинтересовавшись всеми этими предосторожностями, попросил, чтобы его взяли с собой, маркиз ответил ему, что едет ужинать к Гийому д'Арсу и рано вернется. Мальчик, вздыхая, сел на свою маленькую лошадку, потому что предчувствовал какое-то приключение; слушая разговоры дворян, хорошенький пиренейский крестьянин быстро и сам сделался дворянином, в романтическом и рыцарском смысле, еще приписываемом этому званию добрым маркизом. Известно, с какой легкостью дети изменяются и преображаются в зависимости от среды, в какую попадают. Марио уже мечтал о славных подвигах, о великанах, которых он разрубит, и о дамах, которых он освободит от плена. Он попытался настаивать на свой лад, повинуясь безропотно, но глядя на обожающего его старика своими прекрасными молящими глазами. — Ни за что, мой дорогой граф, — ответил ему Буа-Доре, прекрасно понимавший его немую просьбу. — Я не могу оставить в одиночестве, ночью в моем замке доверенную мне милую девушку. Вспомните, что она — ваша сестра и ваша дама, и что, когда я вынужден бываю отлучиться, ваше место рядом с ней, чтобы служить ей, развлекать ее и в случае необходимости защитить. Марио поддался на это лестное преувеличение и, пришпорив коня, пустил его галопом до дороге в Бриант. Аристандр последовал за ним и должен был вернуться к маркизу, как только проводит ребенка в замок. Как и накануне, вечер был довольно теплым для этого времени года. Небо, то облачное, то очищавшееся теплыми порывами ветра, было очень темным в ту минуту, когда юный всадник и его слуга спустились в лощину и въехали под старые деревья поселка. Когда они быстро поднимались по одной из извилистых и окаймленных высокими изгородями тропинок, что служили улицами между тридцатью или сорока дворами, составлявшими деревушку, конь Марио, шедший первым, внезапно отскочил в сторону, тяжело и беспокойно дыша. — Что это? — спросил мальчик, оставшийся твердо сидеть в седле. — Пьяница уснул поперек дороги? Подними его, Аристандр, и отведи к его семье. — Господин граф, — ответил возница, проворно спрыгнувший на землю. — Если он и пьян, можно сказать, что он мертвецки пьян, поскольку неподвижен, словно камень. — Тебе помочь? — продолжал мальчик, спешиваясь. И, приблизившись, попытался увидеть лицо вассала, не отвечавшего ни на один вопрос Аристандра. — Не могу сказать, — произнес этот последний со своим обычным спокойствием, — местный ли он, я ничего об этом не знаю; но что я знаю, клянусь честью, так это то, что он мертв, или что он мало чем от мертвого отличается. — Умер! — воскликнул мальчик. — Здесь, посреди города? И никто не подумал прийти к нему на помощь? Он побежал к ближайшей хижине и обнаружил, что она пуста; огонь горел, поперек комнаты валялась опрокинутая скамья. Марио несколько раз позвал, но никто не откликнулся. Только он собрался перебежать довольно обширный двор, чтобы заглянуть в другое жилище, раздались ружейные выстрелы и странный гул. Марио сразу же вскочил в седло. — Слышите, господин граф? — воскликнул Аристандр, который отнес мертвеца на обочину дороги и снова сел верхом, чтобы догнать своего молодого господина. — Это идет из замка, и наверняка там происходит что-то странное! — Поспешим туда! — сказал Марио, снова переходя на галоп. — Если это праздник, то очень шумный! — Подождите! Подождите! — возразил каретник, удваивая скорость, чтобы остановить коня Марио. — Это не праздник! В замке не может быть праздника без вас и без господина маркиза. Там сражаются! Слышите ли вы, как там кричат и ругаются? И взгляните, вот еще один мертвый или получивший скверную рану христианин у подножия стены! Уезжайте отсюда, сударь; спрячьтесь, Бога ради; я поспешу узнать, что это значит, и вернусь сообщить вам. — Ты смеешься надо мной! — воскликнул Марио. — Прятаться, когда нападают на замок моего отца?.. А моя Лориана? Поспешим защитить ее! И он устремился на подъемный мост, который был почему-то опущен, несмотря на наступавшую темноту. При свете подожженного стога соломы, Марио смутно увидел непонятное зрелище. Вассалы маркиза бились врукопашную с многочисленным войском рогатых, щетинистых, сверкающих созданий, «во всем больше похожих на дьяволов, чем на людей». Время от времени раздавались ружейные или пистолетные выстрелы, но это не был правильный бой; это была свалка в результате какой-то внезапной и неприятной неожиданности. Видно было, как на мгновение яростно свиваются и разрушаются группы, внезапно исчезавшие во тьме, когда минутная вспышка меркла в тучах дыма. Марио, которого каретник схватил в охапку, не мог броситься в эту схватку. Он напрасно вырывался, плача от ярости. Наконец Аристандру удалось его образумить. — Вы видите, сударь, — говорил ему славный Аристандр, — вы мешаете мне пойти туда на помощь! А ведь у меня силы на четверых. Но сам черт не заставит меня отпустить вас, потому что я за вас отвечаю, и я не сделаю этого ни за что, пока вы не поклянетесь мне сидеть спокойно. — Иди же, — отвечал Марио. — Я клянусь тебе в этом. — Но если вы останетесь здесь, и какой-нибудь отставший вас увидит… Давайте я спрячу вас в саду!.. И, не дожидаясь согласия ребенка, колосс снял его с коня и отнес в сад, вход в который был слева, недалеко от входной башни. Он закрыл его там и поспешил броситься в схватку. Напомним читателю расположение маленького замка в Брианте. Предположим, что мы входим через подъемный мост, переброшенный через первый пояс рвов: остановимся здесь ненадолго. Крепостная решетка поднята. Исследуем эту систему заграждения. «Орган», или «сарацинка», или, как тогда говорили «сарацинская решетка», была одним из видом опускной решетки, менее дорогостоящей и менее тяжелой, чем железная «борона». Это ряд подвижных кольев, независимых один от другого, и свободно ходивших, как, впрочем, и решетка, под сводом проезжей башни. Простой механизм сарацинской решетки было дольше приводить в действие, чем механизм цельной решетки, но он давал то преимущество, что довольно было одного человека, помещенного в «камере управления», чтобы поднять один из кольев и открыть проход перебежчику, в случае необходимости, не открывая слишком широкого отверстия для осаждающих. Камера управления — это комната или галерея внутри проезжей башни, над сводом. В полу имеется отверстие, позволяющее стражникам видеть у себя под ногами любого, кто пожелает войти или выйти. Эти отверстия позволяли также стрелять или бросать снаряды в осаждающих, когда им удавалось преодолеть ров и сломать опускную решетку, и под сводом завязывался новый бой. Эта камера управления сообщалась с «мушараби», низкой зубчатой галереей, венчавшей аркаду решетки на внешней стороне башни. Именно оттуда на врага сыпались градом пули и камни, мешая ему разрушить решетку. Проезжая башня Брианта, содержавшая в себе эти средства защиты, была крупным овальным строением, повернутым широкой частью и размещенной на краю рва. Ее называли башней «ворот», в отличие от «калитки», о которой мы поговорим немного позже. Ворота вели в просторный двор, обнесенный оградой, где находились ферма, голубятня, гнездовье цапель, аллея для игры шарами и т. д., неизменно называвшийся «нижним двором», поскольку он всегда располагался ниже внутреннего двора. Слева от нас тянется высокая стена сада, прорезанная кое-где узкими бойницами, откуда еще можно было, в случае внезапного нападения, укрыться и преследовать врага, захватившего нижний двор. Мощеная дорога ведет прямо, вдоль этой стены, ко второй ограде, той, где второй ров, наполненный водой из маленькой речки, соединялся с прудом, расположенным в глубине внутреннего двора. Через этот ров переброшен постоянный мост, то есть очень древний каменный мост, о чем свидетельствует его наклон под углом по отношению к башне входа. Это был средневековый обычай, который одни любители древностей объясняют тем, что осаждающие лучники, подняв руку для выстрела, открывали свой бок осажденным лучникам. Другие говорят нам, что этот изгиб неизбежно останавливал порыв штурма. Впрочем, это неважно. Башня калитки закрывала этот постоянный мост и внутренний двор. У нее была маленькая железная цельная решетка и крепкие сплошные дубовые ворота, укрепленные гвоздями с огромными шляпками. Вместе со рвом это была единственная защита собственно замка. Доставив себе удовольствие разрушить старый донжон своих предков и заменить его особнячком, который называли большим домом, маркиз не без оснований сказал себе, что его усадьба, будет ли она укрепленным замком или загородным домом, и часа не продержится против самой маленькой пушки. Но против небольших средств, какими могли располагать разбойники или враждебно настроенные соседи, хороший глубокий ров с быстрым течением, маленькие фальконеты, установленные с обеих сторон калитки, и окна, снабженные бойницами, наискось прорезанными со стороны нижнего двора, могли выдержать достаточно долго. Скорее из привычки к роскоши чем из осторожности, но в замке всегда находился большой запас продуктов. Прибавим, что рвы и стены, всегда содержавшиеся в хорошем состоянии, закрывали все, даже сад, и что, будь у Аристандра время поразмыслить, он унес бы Марио за пределы нижнего двора, в деревню, а не в сад, который мог сделаться для него тюрьмой так же легко, как убежищем. Но всего не предусмотреть, и Аристандр не мог предположить, что враг не будет изгнан в один миг. Славный малый не отличался воображением; для него было удачей, что он не дал смутить себя фантастическим и поистине устрашающим образам, какие явились его изумленному взгляду. Такой же легковерный, как всякий другой, он задумывался, нападая, и, уложив на месте одного или двоих, вывел философское заключение, что все это сброд, и ничего больше. Марио, припав к решетке сада, дрожа от волнения и жара, вскоре потерял его из вида. Горевший стог обрушился; битва продолжалась в темноте; ребенок только на слух мог следить за перипетиями боя, внимая неясным звукам. Он решил, что вмешательство могучего и храброго Аристандра подняло дух защитников замка; но после нескольких минут неуверенности, показавшихся ему веками, ему почудилось, что осаждавшие продвигаются вперед, что крики и топот отступают к постоянному мосту, и в короткий миг ужасной тишины он услышал выстрел и шум падения тела в реку. Через несколько секунд решетка в калитке рухнула с сильным грохотом, и залп из фальконетов заставил вступившее на мост войско отступить с ужасными воплями. Одна из частей этой необъяснимой драмы завершилась; осажденные были втиснуты и заперты во внутреннем дворе, захватчики остались хозяевами нижнего двора. Марио был один; Аристандр, вероятно, убит, раз бросил его среди врагов или, по меньшей мере, совсем рядом с врагами, которые с минуты на минуту могут ворваться в этот сад, выломав решетку, и захватить его. И не было никакого способа убежать без риска попасть в лапы этих демонов! Из сада был выход только в нижний двор, и он никаким образом не сообщался с замком. Марио испугался; затем мысль о смерти Аристандра и, возможно, еще кого-то из добрых, не менее дорогих для него слуг, вызвала у него слезы. И даже его бедная маленькая лошадка, которую он оставил с уздечкой на шее у входа во двор, пришла ему на память, и усилила его горе. Лориана и Мерседес, несомненно, были в безопасности, и вокруг них было еще много людей, поскольку угрюмое молчание деревушки свидетельствовало о том, что люди и скот укрылись за оградой, чтобы встретить врага под защитой стен. Это был обычай того времени — при малейшей тревоге вассалы приходили искать помощи и защиты в замок сеньора. Они спешили туда со своими семьями и скотом. — Но, если Лориана и моя мавританка догадываются, что я здесь, — думал несчастный Марио, — как они должны беспокоиться обо мне! Будем надеяться, что они не знают о моем возвращении! А этот славный Адамас, я уверен, что он словно обезумел! Только бы его не захватили в плен! Он молча лил слезы; забившись в подстриженный тисовый кустарник, он не решался ни подойти к решетке, где его мог заметить враг, ни удалиться так, чтобы перестать видеть то, что творится в нижнем дворе. Он слышал крики осаждающих, стоны раненых и умирающих из осажденных… Но все было смутным; от сада до фермы было довольно большое расстояние; впрочем, речушка, вздувшаяся от зимних дождей, сильно шумела. Осажденные только что подняли затворы шлюзов и пруда, чтобы поднять воду во рве и ускорить ее течение. Свет поднимался над дверью замка; несомненно, во внутреннем дворе тоже разожгли огонь, чтобы видеть друг друга, пересчитать людей и организовать оборону. Костер осаждавших отбрасывал теперь лишь красноватый отблеск, в котором Марио видел быстро проплывающие смутные тени. Затем он услышал приближающиеся к нему шаги и голоса и подумал, что пришли осмотреть сад. Он замер в неподвижности и увидел за решеткой, по ту сторону, двух проходящих мимо странно вырядившихся персонажей, которые направлялись к башне входа. Он задержал дыхание и смог поймать обрывок диалога: — Проклятые собаки не успеют прийти раньше него! — Тем лучше! Нам больше достанется! — Дураки, вы рассчитываете совсем одни захватить…Глава сорок седьмая
Голоса пропали, но Марио успел узнать их. Это были голоса Ла-Флеша и старого Санчо. Отвага разом вернулась к нему, хотя в этом открытии не было ничего успокаивающего. Марио не мог долго оставаться в неведении относительно рошайского дела, и он прекрасно сознавал, что убийца его отца, беззаветно преданный д'Альвимару человек, стал теперь самым заклятым врагом рода Буа-Доре; но участие Ла-Флеша в этом нападении дало ему надежду на то, что помощниками Санчо была стайка цыган, деливших невзгоды с ребенком во время его странствий. Он здраво рассудил, что эти бродяги должны былисоединиться с другими, более смелыми бандитами; но все это казалось ему менее опасным, чем организованное властями провинции наступление, какого можно было опасаться; на минуту у него мелькнула мысль, что он мог бы склонить Ла-Флеша на свою сторону. Но недоверчивость вновь охватила его, когда он вспомнил, с каким мрачным и грубым видом цыган говорил с ним на том же месте за несколько месяцев до этого. Тогда он принялся размышлять над словами, которые только что услышал. Он почувствовал, что потребуется ясность ума для того, чтобы понять их и при необходимости извлечь из них выгоду. Несомненно, захватчики ожидали подкрепления, которое шло, на взгляд Санчо, недостаточно быстро. «Они не успеют прийти раньше него!» Этот «он» мог оказаться только маркизом, чьего возвращения они боялись. «Тем лучше, нам больше достанется» означало надежду Ла-Флеша пограбить. «Дураки, вы рассчитываете совсем одни захватить…» (очевидно, этот замок) — было признанием бессилия осаждавших произвести осаду замка хоть с какой-то вероятностью успеха. Наконец, Марио, видевший раскрашенные, скрытые масками ужасные, гротескные лица, нелепые наряды, понял, что этот «маскарад» предназначался для устрашения крестьян с фермы и из поселка. Он и сам их вначале испугался, а теперь почувствовал себя спокойнее оттого, что имел дело с негодяями из костей и плоти, а не с фантастическими существами и необъяснимыми опасностями. Единственное, что пока он мог — прятаться, а для этого он подождал, пока голоса и шаги стихнут, удаляясь от решетки, чтобы самому отойти от нее подальше и найти укрытие от ночного холода в одной из садовых построек. Он справедливо подумал, что лабиринт, изгибы которого он так хорошо знал, поможет ему в течение нескольких минут ускользнуть от возможной погони, и вступил в него, уверенно направляясь к той маленькой хижине, которую называли метафорически дворцом Астреи. Едва он вошел в нее, как ему послышались шаги по песку круговой аллеи. Он прислушался. «Это ветер играет сухими листьями, — подумал он. — Или какое-нибудь животное с фермы спряталось здесь. Но, если это так, значит, садовая решетка открыта? Тогда я пропал! Боже мой! сжалься надо мной!» И все же шум был таким легким, что Марио решился посмотреть сквозь плющ, увивавший его приют, и увидел маленькое существо, которое нерешительно кружило, словно искало убежища в том же месте. Марио не успел закрыть за собой дверь хижины; маленькое создание вошло и тихо сказало ему: — Ты здесь, Марио? — Так это ты, Пилар? — ответил ей мальчик, охваченный чувством радости оттого, что узнал свою маленькую подружку, которую считал умершей. Но печально добавил: — Не ищешь ли ты меня затем, чтобы выдать? — Нет, нет, Марио! — ответила она. — Я хочу убежать от Ла-Флеша. Спаси меня, мой Марио, потому что я слишком несчастна с этим окаянным! — Но как я могу спасти тебя, я, не знающий, как спастись самому!.. Уходи отсюда, или оставайся здесь без меня, бедная моя Пилар; потому что эти бандиты, разыскивая тебя, найдут и меня тоже. — Нет, нет; Ла-Флеш думает, что я осталась там с мертвецом! — Каким мертвецом? — Они называют его д'Альвимар. Он умер прошлой ночью, и они похоронили его сегодня утром. — Ты в своем уме?.. или я ничего не понимаю. Неважно! Ты убежала? — Да. Я знала, что они пойдут сюда, чтобы захватить твой замок и твой клад. Я спустилась, как кошка, через совсем маленькое окошечко, и издали последовала за шайкой. Я надеялась, что Ла-Флеша убьют и тех негодяев, которые никогда не хотели меня пожалеть, — тоже. — Каких негодяев? — Знакомых тебе цыган, которые показывают фокусы, и потом многих других, которых ты не знаешь, они с ними сговорились. Да что там, я столько натерпелась от них в Брильбо! — Что это — Брильбо? Не развалины ли это рядом с… — Я не знаю. Я никогда не выходила! Они на весь день разбегались и оставляли меня с раненым больным, который все это время умирал, и его старым слугой, который ненавидел меня, потому что говорил, что я приношу несчастье господину и не даю ему выздороветь. Я очень бы хотела, чтобы он поскорее умер; потому что я тоже ненавидела их, этих испанцев! И я много раз наводила на них порчу. Наконец тот, что помоложе, умер, среди этих бесноватых, которые пили, пели и орали всю ночь и мешали мне спать. Поэтому я тоже заболела. У меня все время жар… Может быть, для меня это к лучшему, это не дает мне почувствовать голод. — Бедная моя девочка, вот все деньги, какие у меня при себе. Если ты можешь убежать, это тебе пригодится. Но, хотя я ничего не понял из того, что ты мне рассказала, мне кажется, что для тебя было безумием прийти сюда вместо того, чтобы уйти подальше от Ла-Флеша. Это заставляет меня опасаться, что ты в сговоре с ним для того, чтобы… — Да нет же, Марио! Оставь себе свои деньги! И, если ты думаешь, что я хочу выдать тебя, иди, спрячься в другом месте, я не стану следить за тобой. У меня нет на тебя злобы, Марио. Во всем мире я люблю тебя одного! Я пришла, думая, что, пока они станут сражаться, я смогу войти в твой замок и остаться у тебя. Но твои крестьяне слишком испугались нападавших: некоторых убили, и другие спрятались в твоем большом дворе. Твои слуги хорошо защищались, но не они оказались сильнее. Я спряталась под досками, у этой стены сада, внутри. Я видела все сквозь маленькую щелочку. Я видела, как ты верхом на коне въехал во двор; я видела, как высокий человек закрыл тебя здесь. Я не сразу узнала тебя из-за твоей красивой одежды, но, когда ты пошел к этому маленькому домику, я узнала твои шаги и последовала за тобой. — А теперь что нам делать? Играть в прятки, как можно лучше, в этом саду, который непременно обшарят? — Зачем, по-твоему, им приходить в сад? Все знают, что зимой не украдешь фруктов! Впрочем, эти проклятые уже нашли для себя и еду и питье в тех больших постройках; это ферма, правильно? Я знаю, что они делают прежде всего, когда входят в дом, который не охраняется. Мне незачем видеть их, чего там! Они убивают скот и жарят на вертеле; они вышибают днища у бочек; они взламывают шкафы; они набивают свои карманы, свои мешки и свои животы. Через час они все обезумеют, станут ссориться и покалечат друг друга. Ах, если бы твой слуга не запер нас здесь, было бы нетрудно отсюда выбраться! Но в этой садовой стене, несомненно, есть какая-нибудь дыра, в которую можно пролезть? Я совсем маленькая, а ты не толстый. Иногда, если влезть на дерево, можно достать до верха стены. Разве ты уже разучился лазить и прыгать, Марио? — Совсем нет; но я знаю, что здесь нет ни дыры, ни дерева, которые могли бы нам помочь. Есть пруд, граничащий с внутренним двором, но я еще не умею плавать. С тех пор, как я здесь, было слишком холодно для того, чтобы я мог научиться. Конечно, есть маленькая лодка, которую нам могли бы прислать из замка, если бы знали, что мы здесь. Но как сделать, чтобы нас увидели и услышали? Сейчас слишком темно; шлюз слишком шумит! Ах! Мой бедный Аристандр взят в плен или убит, раз… — Вовсе нет, мой маленький бесценный граф! — произнес снаружи грубый голос, старавшийся казаться таинственным. — Аристандр здесь, он ищет вас, и он вас слышит. — Ах, дорогой мой Аристандр! — воскликнул Марио, обхватив руками большую голову, просунувшуюся в низкое окошко тесного убежища. — Это ты! Но какой ты мокрый, Боже мой! Не кровь ли это? — Слава Богу, нет! Это вода, — ответил каретник, — и очень холодная вода! Но к счастью своему, я ее не хлебнул! Меня толкали наши чертовы отступающие крестьяне и увлекли помимо моей воли во внутренний двор. Я увидел, что тоже вынужден туда войти, и что я больше не смогу выйти, чтобы найти вас. Тогда я сделал свой последний выстрел из пистолета и прыгнул в реку. Шельма это река! Я думал, что никогда из нее не выберусь, тем более, что из замка в меня стреляли, принимая за врага. Ну вот, я и здесь! Уже четверть часа, как я вас разыскиваю; я подозревал, что вы в этой «чесалке для льна» (Аристандр называл так лабиринт), я знаю ее вот уже десять лет, но все еще не умею из нее выбираться. Ну, нам надо выйти отсюда, давайте попробуем! Предоставьте мне действовать! Но с кем вы здесь, черт возьми? — С кем-то, кого тоже надо спасать, с маленькой несчастной девочкой. — Из поселка? Ах, право же, мне это безразлично, мы спасем ее, если сможем. Прежде всего вы! Я пойду взгляну, что делается на заднем дворе; оставайтесь здесь и говорите потише. Аристандр вернулся через несколько минут. Он был озабочен. — Уйти отсюда нелегко, — тихо сказал он детям. — Ох, эти люди из поселка! Надо же допустить такую оплошность — позволить захватить ферму! А теперь, когда эти мерзавцы там пьянствуют, можно было бы перерезать их, как свиней, до последнего, если произвести вылазку из замка. Люди подумали, что на них напали демоны, а я говорю, что это переодетые бродяги, настоящий сброд! Послушайте только, как они кричат и поют! — Ну что ж, воспользуемся их разгулом, — сказал Марио. — Перейдем эту часть двора, где, возможно, никого нет, и быстро доберемся до башни ворот. — О, конечно же, да! Но они заперлись, негодяи! Они прекрасно знают, что господин маркиз может вернуться ночью, и ему придется осаждать собственную дверь! — Да! — воскликнул Марио. — Вот почему я видел идущих в ту сторону Санчо с Ла-Флешем! — Санчо? Ла-Флеш? Вы узнали их? Ах, как мне хочется отправиться одному напасть на этих знаменитых главарей! — Нет, нет! — сказала Пилар. — Они сильнее и хуже, чем вы думаете! — Но если они только заперли ворота, мы можем снова открыть их, — сказал Марио, соображавший быстрее, чем каретник. — А если они поставили сторожей… что ж, Аристандр, вдвоем мы можем попытаться убить, их, чтобы пройти. Ты раздумываешь! Видишь ли, друг мой, так надо. Надо поспешить предупредить моего отца. Иначе наши люди, поскольку они слишком напуганы, позволят захватить замок. Когда мерзавцы насытятся, они попытаются поджечь его. Кто знает, что может случиться? Ну же, Аристандр, друг мой, — прибавил храбрый малыш, вытащив свою маленькую рапиру, — бери кол, дубину, дерево, все равно что, и идем! — Погодите, погодите, мой милый господин! — ответил Аристандр. — Здесь есть инструменты… дайте мне поискать. Вот, я держу лопату; нет! долото! Это мне больше нравится, я никого не боюсь! Но послушайте меня: знаете ли вы, где ваш отец? — Нет! Ты отведешь меня туда. — Да, если выпутаюсь из этого дела! Иначе вам придется отправиться туда одному. Знаете ли вы, где находится Эталье? — Да, я там был. Я знаю дорогу. — Вы знаете постоялый двор «Красного Петуха»? — «Красного петуха»? Да, я два раза останавливался там. Его нетрудно найти, это единственный дом в этом уголке; и что же? — Ваш отец будет там до десяти часов вечера. Если вы приедете слишком поздно, отправляйтесь в Брильбо! Он там будет. — Внизу Кудре? — Да. Он будет там со своими людьми. Путь долгий! Ты не сможешь проделать его пешком. — Я сейчас же пойду в Брильбо, — сказала Пилар. — Я знаю дорогу, я доберусь! — Да, — сказал возница, — беги, малышка! Ты предупредишь господина Робена. Ты его знаешь? Ты нездешняя? — Все равно, я найду его. — Или господина д'Арса, запомнишь? — Я знаю его, я его видела однажды. — Так идем! Ах, господин Марио, если бы я мог поймать вашего коня! Вы бы быстро туда добрались… — Я могу бежать! — сказал Марио. — Не мечтай о коне, это невозможно. — Еще минутку, — продолжал Аристандр, — и слушайте внимательно. Мост поднят; вы сумеете опустить настил? Это не тяжело! — Это очень просто! — Но решетка опущена! Все же не тревожьтесь, я поднимусь в камеру управления. Если там есть люди, тем хуже для них, я стану драться, убивать, я подниму кол! Не теряйте времени на то, чтобы ждать меня. Пробирайтесь, бегите, летите! Если кол упадет на малышку, тем хуже для нес: вы ничем не поможете, и я тоже. Хрцни вас Господь! Бегите, я догоню вас. — Но если тебя… Марио, со сжавшимся сердцем, умолк. — Если меня отправят на тот свет, хотел ты сказать?. Что ж, как вы ни станете об этом горевать, от этого ничего не изменится. Жалея обо мне, вы потеряете голову и ноги! Вы должны думать лишь о том, чтобы бежать. — Нет, друг мой, это слишком опасно для тебя; спрячемся здесь. — А пока мы продолжаем скрываться, могут сжечь мадам Лориану, вашу Мерседес, Адамаса… и моих бедных лошадок из упряжки, которые там остались! Впрочем… Я пойду один. Когда путь будет открыт, вы пройдете. — Идем! Идем! — сказал Марио. — Все, что угодно, ради Лорианы и Мерседес. И он собрался выбежать из сада, но Пилар удержала его. — Будь осторожнее, сюда должны прийти другие окаянные, я знаю это. Если ты встретишь их, спрячься хорошенько, потому что твой наряд с золотыми пуговицами сверкает в темноте, словно алмазы, и, чтобы заполучить твой наряд, они убьют тебя! — Придумал! — воскликнул Марио. — Я быстро переоденусь в мои нищенские лохмотья, они здесь! Читатель помнит о сельском трофее, сентиментальном и философском, повешенном в хижине. Марио проворно снял его, и за две минуты, сбросив шелка, бархат и позументы, облачился в свое прежнее рубище; после чего он направился к воротам, ступая бесшумно и не говоря ни слова. Надо было пройти всего лишь пятьдесят шагов вдоль стены вне пределов сада. Они прошли их если не в безопасности, то по крайней мере благополучно, под звуки смеха, проклятий, крики и хриплое пение, доносившиеся с фермы. Башня ворот была темной и безмолвной. Аристандр поставил обоих детей совсем рядом с решеткой, Марио впереди, вплотную к последнему колу решетки с левой стороны. Затем он взял его руку в свою, чтобы помочь ему ухватиться за кольцо цепи, удерживавшей поднятым настил моста. Надо было только снять это кольцо с крюка, вделанного в стену. Больше нельзя было обменяться ни словом. Вокруг них, на лестнице, над их головами могли и должны были находиться уснувшие или невнимательные часовые. Марио не мог сжать руки возницы в своих, уже державших снятое кольцо и натянутую цепь. Он прикоснулся губами к этой жесткой руке и быстро запечатлел на ней бесшумный поцелуй; это могло оказаться прощанием навек. Аристандр, глубоко растроганный, тем не менее быстро отдернул свою огромную лапу, словно хотел сказать: «Ну, теперь думайте только о себе», и, быстро перекрестившись, решительно поднялся по короткой и крутой лестнице галереи управления. — Кто идет? — крикнул глухой голос, в котором Марио тотчас же признал голос Санчо. И, поскольку каретник продолжал подниматься и достиг левого края галереи, голос прибавил: — Будешь ты отвечать, тупица? Ты что, пьян? Отвечай, или я стреляю в тебя! Меньше, чем через минуту, раздался выстрел; но кол был поднят, Марио отпустил цепь, вскочил на мост и помчался, не оглядываясь. Ему показалось, что на мушараби подняли тревогу и что он слышит свист пули; кровь так бросилась ему в голову, что он не услышал выстрела. Оказавшись вне пределов досягаемости, он прислонился к дереву, чувствуя, что слабеет при мысли о том, что происходит между беднягой Аристандром и вражескими наблюдателями. Он слышал громкие крики из башни и словно удары кирки о камень. Это Аристандр размахивал в темноте своим заступом; но он из осторожности хранил молчание, чтобы его принимали за пьяного цыгана, и Марио, стараясь уловить раскат его голоса среди других голосов, терял надежду, а вместе с надеждой — решимость бежать без него. Бедный ребенок так мало думал о себе самом, что даже не вздрогнул, почувствовав, как кто-то сжал ему руку. Это была Пилар, опередившая его во время бега. Теперь она вернулась назад, чтобы отыскать его. — Ну, что ты здесь делаешь? — сказала она ему. — Беги же, пока они его убивают. Когда они покончат с ним, они погонятся за нами! Чудовищное хладнокровие маленькой цыганки ужаснуло Марио. Выросшая в окружении сцен насилия и резни, она уже почти не испытывала страха и понятия не имела о жалости! Но какое-то мгновенное соединение мыслей заставило Марио вспомнить о Лориане, и вся решимость, на какую может быть способен ребенок, вернулась в его сердце. Он возобновил свой бег, сделав Пилар знак следовать нижней дорогой, и направился к той, что поднималась к плоскогорью Шомуа. Через десять шагов он упал, споткнувшись о какой-то лежавший поперек дороги предмет. Это был второй труп, на который Аристандр указал ему но дороге сюда, и на который не было времени взглянуть. Почувствовав, что лежит на этом теле, Марио облился холодным потом: это мог оказаться Адамас! У него хватило мужества ощупать труп, и убедившись, что на нем крестьянская одежда, он встал и вновь пустился бежать. Вид бледного неба над голой равниной немного помог ому отдышаться: темнота душила его. Он помчался по прямой; но на этой равнине его подстерегал новый страх. Что-то белое, смутных очертаний, казалось, летело над нолями. Оно двигалось на него. Он постарался уклониться от него, но оно его преследовало. За ним гнался какой-то зверь. Ему на память пришли все деревенские сказки, какие рассказывают на посиделках о белой левретке и о домовом, кричащем: «Робер умер!» Но внезапно животное заржало и оказалось достаточно близко, чтобы его можно было узнать. Это была славная маленькая лошадка Марио, издалека его почуявшая и вернувшаяся к хозяину. — Ах, мой бедный Коке! — воскликнул мальчик, хватая его за гриву. — Ты вовремя подоспел! И ты узнаешь меня, бедный малыш, хотя на мне одежда, которую ты никогда не видел? Так ты очень испугался во время этого ужасного сражения? Ты убежал сразу после того, как подняли мост, и жуешь здесь сухой чертополох вместо своего овса? Ну, вперед! Мы оба поужинаем, когда у нас будет время! Болтая так со своим конем, Марио поправлял стремена, немного поврежденные кустарником. Затем, вскочив в седло, он полетел стрелой. Мы оставим его в пути и вернемся в Бриант, где положение осажденных внушает нам некоторое беспокойство.Глава сорок восьмая
Когда Марио с Аристандром приехали в Бриант, не прошло и получаса со времени внезапного появления бандитов. Лориана собиралась сесть за стол, когда в поселке послышались невнятные крики и ружейные выстрелы. Эти звуки, которые обитатели замка и даже фермеры приняли вначале за звуки охоты деревенских жителей на какого-то крупного зверя, забравшегося в их поселение, очень скоро приняли более тревожный характер. Каждый вооружился тем, что попало ему под руку, и молотильщики с гумна, размахивая своими цепами, побежали к башне ворот. Но их в ту же минуту оттеснили и остановили жители городка, которые, приходя со всех сторон, столпились на подступах к мосту и, в своем страхе, давили и опрокидывали людей, поспешивших им на помощь. Банда нападавших состояла всего лишь из пятидесяти человек, сопровождаемых женщинами и детьми; но мы помним, что маркиз привел в готовность и отправил на штурм Брильбо всех крепких и отважных людей своего небольшого владения, так что население, подвергшееся нападению разбойников, состояло в данный момент лишь из женщин и детей, искалеченных стариков или тщедушных подростков. Вид страшных и странно выряженных бандитов произвел то действие, на какое они и рассчитывали. Крестьянами поголовно овладела паника, и страх дал им ровно столько сил, сколько требовалось для того, чтобы помешать добрым слугам из замка выйти настрочу врагам. Один из мертвых, найденных Марио на дороге, был молодым калекой, который упал и был затоптан ногами бегущих; второй несчастный славный старик, один попытавшийся выступить против врага, и Санчо убил его ударом приклада. У слуг едва хватило времени снова перейти мост, и его не смогли поднять из-за отставших, которые приходили с криками и просьбами об укрытии для них и их скота. Враг воспользовался беспорядком, чтобы настигнуть их. Тогда под сводом ворот завязался бой, в котором люди из замка, окруженные кричащими детьми и животными, тупыми и неподвижными или ранеными и разъяренными, вынуждены были немедленно отступить. Едва они вернулись на задний двор, как крестьяне их покинули, бросившись на постоянный мост, и храбрецы, которых осталось не больше десятка, были вынуждены, под натиском бандитов, героически сражаясь, отойти к калитке. Там был убит один из лучших, фермер Шарассон; двое других были ранены. Погибли бы все, потому что страшный Санчо наносил удары с отчаянной яростью, если бы пс трусость Ла-Флеша и его товарищей, «занимавшихся грабежом и нисколько не желавших получать жестокие удары». Оставшись всемером, храбрые слуги должны были отступить во внутренний двор; это оказалось нелегко из-за тесноты, образовавшейся там. Санчо так подогревал бой, что большая часть животных осталась снаружи или, обезумев, бросилась в реку. Во время этой жестокой, но очень недолгой битвы — она длилась едва ли десять минут — Лориана и Мерседес сначала молча и дрожа стояли на площадке малой башни входа. Когда они увидели своих людей отступающими, их охватила спонтанная смелость, какую придает страх слабым людям, и женщины побежали к фальконетам. Они поспешили зажечь фитили и держались наготове, подбадривая друг друга, и стараясь припомнить то, что показывали и объясняли, в виде упражнения, Марио и другим молодым людям. Но стрелять по врагу пока еще не было возможности, поскольку они бились врукопашную с защитниками замка. Но что делал Адамас в этот последний час? Адамас находился в недрах земли. Мы помним о потайном ходе, через который должны были, в случае необходимости, вывести Люсилио. Этот подземный ход, проходивший подо рвом, вел к дороге в овраге, которую наводнения занесли песком вот уже несколько лет. Адамас вообразил, что расчистка входа потребует нескольких часов работы землекопов. Но повреждения оказались более значительными, и после трех дней работы проходом все еще нельзя было воспользоваться. Каждый вечер он управлялся проверять сделанную за день работу, и в то время, когда начался бой, он производил очередной осмотр, делая замеры и не догадываясь о царившем снаружи шуме. Когда он вылез из своей норы, заканчивавшейся под лестницей башенки, несколько минут он был словно пьяный и думал, что грезит; но будучи человеком изворотливым, быстро обрел присутствие духа. Адамас появился как раз в ту минуту, когда осажденные ворвались во внутренний двор и когда, пользуясь тем, что все потеряли голову, враг вот-вот готов был проникнуть туда же. Проворный и всегда хорошо обутый, настоящий камердинер, каким он и был, он одним прыжком оказался у механизма решетки, чтобы опустить ее перед носом и даже немного на головы нападавшим; так, что основание этого средства заграждения не касалось земли. Он вовремя заметил это. — Клиндор! — крикнул он растерянному пажу, готовившемуся закрыть ворота перед решеткой. — Стой, стой! Почему решетка дальше не опускается? У меня остается еще фут над желобом. Клиндор, не отличавшийся большой храбростью, хотя изо всех сил старавшийся быть храбрым, посмотрел и в ужасе отступил. — Еще бы! — сказал он. — Под ней три человека! — Силы небесные! Из наших?.. Посмотри же, трижды молочный теленок! — Нет, нет, из них. — Что ж, тем лучше, клянусь Меркурием! Эй, скорее сюда! Поднимайтесь на верх решетки! Давите! Давите! Разве вы не видите, что эти мертвые тела послужат живым для того, чтобы пробраться под железными зубьями, и что, оказавшись под сводом, они подожгут ворота! Ну, остальные, вниз! Молотками, ногами, прикладами, бейте по головам тех, кто захочет пролезть! Срезай всех подряд твоей косой, мой славный Андош, живых и мертвых! А у тебя, Шатенье, есть ли еще заряд свинца? Стреляй в эту высунувшуюся красную морду!.. Есть! браво! Клянусь богом Тевтатом, это здорово! в самую глотку! Еще одним меньше! Перемежая таким образом возвышенные обращения с пошлостями, до которых он опускался, чтобы быть доступным пониманию черни, Адамас с удовлетворением увидел, что решетка совсем опустилась на тела, и нападавшие отступили к началу моста. — Теперь к фальконетам! — воскликнул он. — Побыстрее, мои Купидоны! Давайте, тысяча чертей, цельтесь, цельтесь! Приготовьте мне фрикасе из этих ночных птиц! Небольшая артиллерия замка привела в уныние бандитов, которым нечем было отвечать, и они, унося своих раненых, решили, в ожидании лучшего, отправиться грабить и пировать на ферму. Телят и баранов бросали живьем в горящий стог, откуда вскоре поднялся едкий запах паленой шерсти. Несчастных животных, пытавшихся избежать этой казни, вилами заталкивали обратно. Их сожрали наполовину сырыми, наполовину обуглившимися. В погребе вышибали днища из бочек. Все более или менее сильно напились, даже дети и раненые. Тело несчастного фермера бросили в огонь, и поступили бы также с двумя пленными батраками, если бы не рассчитывали на выкуп, и Санчо, желавший быть беспощадным, остался этим недоволен. Один только старый испанец и не думал есть, пить и красть. Банда из Брильбо против его воли опередила более серьезных помощников, которых он нетерпеливо ждал, чтобы совершить свою месть. Он не боялся потерять жизнь — он заранее готов был пожертвовать ею, — но увидеть, что его операция провалилась из-за поспешности и жадности тех презренных, которые присоединились к нему, он не хотел. Не в силах сдерживать их до того часа, когда его настоящие союзники должны были выступить в поход и повести дело, он последовал за ними. Среди боя он, единственный исступленно смелый человек, естественно оказался во главе. Но когда битва была выиграна, он стал для них никем, и вскоре, как мы видели, должен был взять на себя труд охранять башню ворот, откуда можно было заметить приход тех, кто должен был осуществить захват и разграбление замка, а следовательно — погубить всех, кто послужил причиной или орудием убийства д'Альвимара. Те, кто оказался в замке, принимали спешные меры, необходимые для защиты от нового штурма. Они видели и слышали оргию бандитов, и если бы захотели пожертвовать фермой, то легко выбили бы оттуда противников картечью из больших мушкетов. Но они боялись попасть в пленных, число которых было неизвестно, и в скот, которого было слишком много, чтобы он весь мог войти в желудки этих изголодавшихся. Сосчитавшись, установили число павших или взятых в плен. Адамас впустил в конюшни всех жалких бесполезных членов прихода. Этим беднягам дали побольше свежей соломы и велели сидеть спокойно и жаловаться потише, чего нелегко было добиться. Лориана и Мерседес занялись тем, что перевязывали раненых и кормили детей. Тем временем Адамас расставлял своих людей во всех уголках, подвергавшихся выстрелам нападавших, так, чтобы предупредить их огонь своим, и, чтобы никто не уснул, все время ходил от одного к другому, расточая похвалы и ободряя, выражая надежду, опасения или совершенную уверенность в развитии событий, смотря по темпераменту каждого. Мудрый Адамас, никогда не державший в руках другого оружия, кроме расчески и щипцов для завивки, явно выполнял роль «мухи на рогах у вола», роль, которую он умел сделать полезной, и которую считают необходимой те, кому знакомы беррийские медлительность и апатия. Когда все было налажено, Адамас, изнуренный усталостью и волнением, бросился на стоявший в кухне стул, чтобы хотя бы пять минут отдышаться и прийти в себя. У него было очень тяжело на сердце, и он ни с кем не решался поделиться своим горем. Он один знал, что Марио вовсе не должен был сопровождать своего отца в Брильбо, и что, если Марио еще не схвачен, он мог с минуты на минуту приехать и попасть в руки врага. Ни Лориана, ни Мерседес не разделяли его тревоги; чтобы они не беспокоились, маркиз скрыл от них свои планы. По его словам, речь шла всего лишь об облаве, для которой он уводил всех своих людей. Они, конечно, предчувствовали нечто более серьезное по его озабоченному виду и переговорам, которые он вел целый день со своими друзьями и слугами; но они слишком хорошо знали его отцовскую любовь для того, чтобы опасаться, что он подвергнет Марио какой-либо опасности, и обе полагали, что он проведет ночь в замке д'Арса или в замке Кудре. Адамас был в полной растерянности, он спрашивал себя, не должен ли он заставить всех своих людей трудиться, чтобы закончить расчистку потайного хода и пройти по нему навстречу Марио, и послать кого-нибудь, чтобы предупредить маркиза, одновременно помогая бежать женщинам. Но он слишком хорошо измерил расстояние, чтобы не знать: там еще на много часов работы, и на время этих работ замок, оставшись без охраны, может быть захвачен. Что тогда станет с ними, запертыми в этом подземелье, так как наверняка вход не ускользнет от внимания грабителей. Его беспокойные размышления прервал приблизившийся к нему на цыпочках Клиндор. — Что ты здесь делаешь, негодный паж? — с раздражением сказал ему Адамас. И, забыв о том, что сам отдыхал, прибавил: — Разве эта ночь подходит для отдыха? — Нет! Я это знаю, — ответил паж. — Но я ищу… — Кого? Говори скорее! — Каретника! Вы не видели его? — Аристандра? А ты видел его, что ты его разыскиваешь? Отвечай же! — Я не видел его в замке; но так же верно, как то, что вы здесь, я видел его на постоянном мосту, пока там дрались. — Погибель моя! Его вовсе здесь нет, я за это ручаюсь! Но Марио! Он должен был привести его домой! Ты видел Марио? — Нет; я подумал о нем, я искал глазами; Марио там не было. — Тогда слава Богу! Если бы Марио был с ним, ты не увидел бы одного без другого. Он ни на шаг бы не отошел от него. Он бы не бросился в бой! Несомненно, господин оставил при себе малыша и послал каретника, чтобы сообщить об этом. Но этот бедняга!.. Ты говоришь, он дрался? — Как тридцать чертей! — Я в этом уверен! А потом? — Потом, потом… решетка упала, и я побежал закрывать ворота. — Черт возьми! она могла упасть на… Скорее, бери этот факел, идем! — Нет, нет. Я видел раздавленных людей. Его там не было. — Ты плохо посмотрел, ты боялся! — Боялся, я? Ну, нет! — Все равно, идем, говорю тебе! И Адамас поспешил вновь открыть ворота и с трепетом взглянуть на трупы, расплющенные железными зубьями. Они к тому же были так истерзаны, что это душераздирающее зрелище заставило пажа выронить из рук факел. Адамас с бранью поднял факел и в его неярком свете он увидел стоящего позади него Аристандра. — Ах, друг мой! — воскликнул он, бросаясь к нему на шею. — Марио? Где Марио? — Спасен! — ответил возница. — И я тоже, не без труда! Скорее, стакан можжевеловой настойки или виноградной водки! У меня зубы стучат, а я не хочу умирать, черт возьми! Я еще могу здесь пригодиться! — На кого ты похож, бедный мой друг! — сказал Адамас, быстро приведя его в кухню, где Клиндор налил ему вина. — Откуда ты вылез? — Из пруда, черт возьми, — ответил покрытый тиной каретник. — А как еще я мог войти? Уже четверть часа я топчусь в грязи, и за мои ноги цепляется трава. И, сорвав свою превратившуюся в лохмотья одежду, он голым устроился у огня, сказав: — Посмотри, Адамас, не слишком ли много крови я теряю, и останови мне ее, старина, потому что я чувствую слабость! Адамас осмотрел его; у него было около десяти ран и столько же ушибов. — Силы небесные! — воскликнул Адамас. — Я не вижу ни одного целого места на твоем несчастном трупе! — Сам ты труп! — воскликнул каретник, опрокидывая новый стакан. — Ты думаешь, я привидение? Конечно, я возвращаюсь издалека; но мне уже лучше: у меня шкура толстая, как у моих лошадей, благодарение Господу! Не дай мне истечь кровью, вот все, о чем я тебя прошу. Это никуда не годится, чтобы человек терял кровь своего тела. Адамас с удивительной ловкостью вымыл и перевязал его. В самом деле, благодаря толщине своей кожи и исполинской силе мускулов у раненого не было ничего особенно серьезного. — А Марио? — спрашивал Адамас, одевая его в сухие вещи, за которыми сбегал Клиндор. — Значит, малыш был в опасности? Аристандр рассказал обо всем до той минуты, как он поднял кол решетки. — Малыш прошел, — прибавил он, — несмотря на негодяев, которые стреляли в него, но они его не задели. В эту минуту я держал за глотку мерзавца Санчо. Я мог бы задушить его, но отпустил, чтобы побежать на мушараби, и я увидел Марио, который несся, словно ветер; и тогда я наткнулся на двух других мерзавцев. У меня было только долото, но все-таки я здорово их отделал! Санчо снова бросился на меня со своей сломанной рапирой и, думаю, хотел рукояткой обломать мне рога, поскольку бил меня ею по голове и по лицу, когда не попадал в живот. Ах, бешеный старик, как он больно дерется! К тому же я уже был ранен и лишился части сил! Но это все же немного согрело меня, потому что я уже пересек пруд, чтобы встретиться в саду с моим миленьким Марио, и дрожал от холода. Все равно я не смог справиться с этим старым чертом, вот и все, что меня огорчило. Когда я услышал, что другие идут к нему на помощь, я соскользнул по рабочей лестнице и, поскольку он не так легок на ногу, как тяжел на руку, я смог добраться до сада, и он не узнал, где я прошел. После чего, право же, мне больше ничего не оставалось делать, как вернуться сюда через пруд, и вот я здесь. — Аристандр! — воскликнул Адамас, который, в противоположность многим людям, искренне восхищался подвигами, на какие чувствовал себя неспособным. — Ты так же велик, как самые великие герои господина д'Юрфе! И, если господин мне поверит, он велит изобразить тебя на гобелене в своем салоне, чтобы увековечить память о твоей храбрости и твоем добром сердце. — Если все дело в том, чтобы быть рослым, — ответил простодушный каретник, — могу сказать, что ростом я вышел. Но мне это безразлично, пойду взгляну на моих лошадок; после чего мы приготовимся к небольшой вылазке, чтобы освободить задний двор от этого сброда. Что ты об этом думаешь, старина? Мудрый Адамас не вполне соглашался с этим мнением. Пока они обсуждают планы нападения и защиты, мы вернемся к Марио, который приблизился к большому дереву, еще и сегодня венчающему логовище Эталье. Мальчик взглянул на звезды, в которых научился разбираться за время своей пастушьей жизни; была примерно половина десятого. В то время в этой глуши стоял всего один дом: это был трактир и вместе с тем место встречи охотников. Возвышенность, расположенная посреди изобилующих дичью обширных равнин, часто удостаивалась чести служить местом привала сеньорам края, собиравшимся травить зайца и пообедать или поужинать под вывеской «Красного Петуха»[308]. Это объясняет, каким образом довольно небольшой трактир, расположенный достаточно близко к городу, чтобы не рассчитывать на остановку богатых путешественников, обладал, в лице метра Пиньу, трактирщика из «Красного Петуха», поваром редчайших достоинств. Когда местные дворяне доставляли себе удовольствие ловить рыбу в прудах Теве, они немедленно посылали за метром Пиньу, который являлся, вместе со своей женой, накрыть свой стол на берегу, и подавал им, под сенью какой-нибудь прекрасной листвы, те чудесные матлоты (тогда их называли душеной рыбой), которые его прославили. Он отправлялся также в города и замки для свадеб и пиров, и мог бы поучить, как говорили, поваров его высочества. Трактир «Красного Петуха» был построен основательно, в два довольно высоких этажа, и крыт ярко-красной черепицей, видной на версту в округе. Покровительство соседних сеньоров помогло мэтру Пиньу добиться разрешения поставить на своей крыше флюгер — дворянская привилегия, на какую он, по его словам, имел право, поскольку ему часто выпадал случай принимать у себя знать. К пронзительному непрестанному скрипу этого флюгера, казавшегося мишенью всех дуновений равнины, присоединялось постоянное хлопанье большой вывески из кованого железа, изображавшей «Красного Петуха» во всем блеске, гордо качавшегося на конце кронштейна над одним из окон второго этажа. Напротив дома, по другую сторону дороги, находилась просторная конюшня, крытая соломой, и длинные навесы — под ними укрывалась свита, которую знатные охотники таскали за собой. Трактир предназначался для всадников. Известно, что в те времена трактиры еще разделялись на гостиницы, ночлеги и харчевни. Ночлеги предназначались именно для ночевки, а харчевни — для обеда путников; эти последние представляли собой скверные трактиры, где приличные люди останавливались лишь за неимением лучшего, и где иногда подавали воронье и ослиное мясо, а также «Сансеррского угря», то есть ужа. Ночлеги, напротив, часто были очень роскошными. Гостиницы кроме того делились на трактиры для пеших и трактиры для конных. Там можно было получить обед и ужин. На вывеске «Красного Петуха» большими буквами было написано:ГОСТИНИЦА С КОРОЛЕВСКОГО ДОЗВОЛЕНИЯИ под этим:
ОБЕД ДЛЯ КОННОГО ПУТНИКА ДВЕНАДЦАТЬ СУ; НОЧЛЕГ ВЫШЕНАЗВАННОГО ДВАДЦАТЬ СУКоролевские грамоты поддерживали привилегии трактирщиков. Пеший путешественник не мог остановиться в гостинице для всадников, и наоборот. «Французские законы запрещают одному тратить слишком много, другому — не потратить достаточно».[309] Марио, видевший освещенные окна, не удивился радостному ржанию, которое испустила его маленькая лошадка примерно в двух сотнях шагов от трактира. Он подумал, что она узнает места. Однако его удивило то, что она внезапно свернула влево и упиралась, не желая возвращаться на правильный путь. Мальчик насторожился, прислушиваясь. Ему послышался топот конских копыт, идущий от трактира, еще скрытого от него ночными испарениями. Он обрадовался этому. — Мой отец здесь, — сказал он себе. — Со всеми своими людьми; возможно, с господином д'Арсом или его свитой. Поедем скорее. Но Коке заставил так долго просить себя двинуться вперед, что юный всадник решил: надо попробовать «понять его мысль». Он внезапно остановил свою лошадку и услышал намного ближе от себя, чем из конюшни трактира, хорошо знакомое ему ржание Розидора, верного парадного коня маркиза. — Так мой отец здесь? — сказал он сам себе. — Не надо бы нам встречаться на дороге. И, поскольку слева от себя он различал лишь какую-то густую поросль, он бросил повод на шею Коке, уверенный, что тот сумеет найти своего товарища. В самом деле, Коке вошел в заросли и остановился перед покосившейся и растрескавшейся лачугой. Это была старая гостиница «Красного Петуха», которую оставили разрушаться лет двадцать тому назад. Буа-Доре, Гийом и господин Робен дали деньги на постройку новой и подарили ее мэтру Пиньу как свидетельство того, как высоко они ценят его честность и его кулинарные таланты.
Глава сорок девятая
Марио вошел беспрепятственно, двери не было. Он коснулся Розидора, которого узнал по его сбруе, по тонкой коже, как и по ласкающему голосу; то обстоятельство, что конь его отца спрятан в этих развалинах, заставило его призадуматься. Маркиз, возможно, и сам скрывался. Возможно, он тоже был здесь. Марио поискал, осторожно позвал и, убедившись, что он один, решил, что должен последовать примеру, который, казалось, был ему подан, и, привязав Коке за уздечку рядом с Розидором, пешком и бесшумно направился к новой гостинице. Он пробрался вдоль кустов и вышел незамеченным прямо посреди группы всадников, расположившихся на этом месте; одни из них заводили лошадей в большую конюшню напротив; другие, уже вышедшие оттуда, стояли посреди дорога и вполголоса с загадочным видом обменивались непонятными для Марио словами. Он незаметно проскользнул между ними, но, когда он оказался на пороге просторной кухни трактира, освещенный светом очага, который тот отбрасывал наружу, он почувствовал, что грубая рука схватила его за ворот и грубый голос сказал по-французски, но с сильным немецким акцентом: — Сюда нельзя входить! В то же время он увидел по обе стороны двери двух невысоких черных людей, вооруженных до зубов и стоявших на часах. Тогда ему на память пришли слова Санчо и то, что Пилар сказала ему об ожидаемом бандитами подкреплении. «Я попал в осиное гнездо, — сказал он себе. — Но я переоделся, и они примут меня за маленького попрошайку. Мне совершенно необходимо узнать, здесь ли мой отец». Тогда он протянул руку и стал клянчить жалобным тоном, какой он слышал у цыган и каким пользовался иногда сам, смеясь исподтишка, во время своих странствий с этой «почтенной компанией». Его сразу же отпустили, но приказали убираться, а поскольку он не понимал, ему пригрозили, изобразив, будто целятся в него. Он собирался удалиться, твердо решив вернуться, когда другой голос, шедший из трактира, отдал приказ на немецком языке, и сразу же вместо того, чтобы оттолкнуть его от двери, его снова схватили за ворот и втолкнули в кухню. Там, не успев ни в чем разобраться, он оказался перед длинным, сухим и темным человеком в военном мундире, который сказал ему с итальянским акцентом: — Подойди, малыш, и если у тебя есть письмо, дай мне его. — У меня нет письма, — ответил Марио, уверенно глядя на него. — Значит, поручение на словах? Говори! — Прежде, чем говорить, — сказал ребенок с большой находчивостью, — я должен знать, с кем говорю. — Черт! — сказал чужеземец с презрительной улыбкой. — Какой осторожный мальчик; это хорошо! Вот пароль: Сакканс и Макабр![310] А тебе какое имя назвали? — Лa-Флеш, — наугад ответил Марио. — Эй, что это такое? — нахмурившись, сказал итальянец. — Это какая-то бессмыслица! — Погодите! — воскликнул вдохновленный этим ответом Марио. — Это не все. Нет ли в вашем пароле слова «грабеж»? — Это больше подходит, — ответил тот, продолжая зловеще улыбаться. — Но и это не все, маленькая обезьянка! Память вам изменяет! — Возможно, — ответил ребенок. — Есть второе слово, я прекрасно это знаю. Не правда ли, это Санчо? — Ну вот! Теперь сядь в уголок и не шевелись. Это я — лейтенант Сакканс; капитан Макабр будет здесь через четверть часа. Это ему ты должен передать свое сообщение, до которого мне дела мало. Эй, там, помолчите! — крикнул он всадникам, ходившим взад и вперед вокруг дома, разговаривая несколько громче, чем, видимо, было можно. Наступила тишина, и тот, кто именовал себя лейтенантом Саккансом, обращаясь к Марио, искавшему способ проникнуть в другуюкомнату, чтобы поискать своего отца или кого-нибудь, кто мог рассказать ему о нем, сказал: — Мой милый друг, хорошо бы довести до твоего сведения приказ. Всякого, кто захочет сюда войти, прогонят пли задержат; по всякому, кто пожелает выйти, будут стрелять. Ты слышал это? — Но у меня нет причин пожелать выйти, — осторожно ответил Марио. — Я ищу, нет ли здесь чего-нибудь поесть; я голоден. — Это мне совершенно безразлично, малыш. Мы тоже голодны, и мы ждем, когда капитан отдаст нам приказ есть. Марио не был голоден. Он был сильно встревожен. Он видел в задней комнате, служившей буфетной и кладовой, хозяйку Пиньу и ее служанку, ходивших взад и вперед с озабоченным видом. Ему показалось, что госпожа Пиньу видела и узнала его, и даже, что она говорила со своей служанкой, словно бы предупреждая ее молчать об этом открытии. Но все это вполне могло оказаться заблуждением, и Марио подстерегал минуту, когда Сакканс отвернется, чтобы попытаться обменяться словом или взглядом с хозяйкой. Он знал, что их с отцом здесь обожали. Он решил притвориться, будто засыпает, и вскоре Сакканс вышел, чтобы отдать распоряжения. Тогда ребенок бросился к госпоже Пиньу и сказал ей: — Это я! Не говорите ничего! Где мой отец? — Наверху! — торопливо ответила госпожа Пиньу, которая, хоть и была стара, оставалась еще крепкой и хорошо сохранившейся. Она показала Марио на деревянную лестницу, которая вела в столовую, называвшуюся парадным залом трактира «Красного Петуха». Но, поскольку ребенок уже полез по ней, она, удерживая его, сказала: — Нельзя! Они не знают, что он здесь! Не двигайтесь, мой молодой господин! Они убьют его! — Кто же эти люди? — Это скверные люди! Знаете ли вы, что такое «репы»? — Нет!.. Подождите!.. Может быть, вы хотите сказать… рейтары? — Да, так! Мой слуга Жак, который прислуживал им, хорошо их узнал. Это бандиты, которые предают огню и мечу все на своем пути. — И все же они не причинили вам зла? — Нет; они хотят есть и пить; после чего один Бог ведает, не сожгут ли они дом и нас вместе с ним! Вот так они платят! — Мадам Пиньу, надо, чтобы мой отец убежал отсюда! Как это сделать? — Сейчас это невозможно! Они охраняют двери со всех сторон, а ваш отец уже не в том возрасте, чтобы выпрыгивать в окна. Впрочем, чего ради? Дом окружен, и они не позволяют нам одним пойти даже в курятник или в погреб. — Но моего отца надо хотя бы спрятать! Ах, теперь я вполне уверен, что именно на него они покушаются! Где он? — В комнате моего мужа, которого, к счастью здесь нет! Он отправился готовить свадебный обед в Ла Шатр и вернется только завтра. Они назвали его по имени! — Кого? Моего отца? — Нет, моего мужа! Подумайте, как получилась, что они его знают! Я сказала, что он болен, и сказала это очень громко, чтобы ваш отец наверху услышал это. Я надеюсь, что он догадался лечь в постель. — А им не пришло в голову подняться? — Напротив, они заглянули в парадный зал, и они сказали… — Но они возвращаются? Молчим, — сказал Марио. И он поспешил вернуться в свой уголок в кухне и снова притвориться спящим. — Ну, старая ведьма, поторопитесь! — воскликнул Сакканс, вернувшийся в сопровождении двоих своих приспешников. — Накрывайте на стол и угощайте нас как можно лучше. Вот капитан Макабр, он идет сюда. А вы, — сказал он своим солдатам, — вы будете исполнять предписание: «Молчание и терпение!» Никто не будет есть, пока капитан не сядет за стол. Капитан остановится здесь, чтобы хорошо поужинать, и не хочет, чтобы ограбили кладовую и ничего, кроме костей, не оставили ему и его офицерам. Вспомните о тех, кого повесили в Линьере за то, что они воровали еду. Идите! Я говорил по-французски для ваших ушей, мадам мартышка, — прибавил он, обращаясь к хозяйке, как только вышли солдаты. — Это для того, чтобы вы знали, что незачем здесь хныкать и вздыхать… Старайтесь и готовьте вертел. Ну! И, если жаркое сгорит по вашей вине, берегите свои старые кости! — А как вы хотите, чтобы я поспешила, когда я почта совсем одна должна все делать? — сказала госпожа Пиньу, не смущаясь оскорблениями. — Нас здесь всего две старухи. Верните мне моего слугу, чтобы он накрывал на стол; я же не могу быть одновременно наверху и внизу, не так ли? — Твой слуга подозрителен, старая. Он, похоже, собирался сбежать при виде нас, и потом попытался спрятать овес. Он получил хорошую взбучку, и теперь работает на нас. — Ну, а этот постреленок? — возразила хозяйка; она говорила, насаживая птиц на вертел. — Он из вашей шайки? Не может ли он помочь мне? — Помоги ей, бездельник, — сказал Сакканс Марио, — и работай как следует! Марио поднялся с притворной беспечностью, и спросил, что надо делать. — Отправляйся-ка наверх со служанкой, — воскликнула госпожа Пиньу, — и быстренько накройте стол скатертью! Марио поднялся и сказал служанке: — Мой отец? В какой он комнате? Скорее! Она отвела его на второй этаж, и мальчик легонько поскребся в дверь, запертую изнутри. Маркиз тотчас же узнал этот знак. Только маленькая ручонка Марио скребется так же каждое утро в дверь его спальни. — О Боже! — воскликнул он, поспешно открывая. — Ты здесь? Но что означает этот наряд? С кем ты пришел? Как? Почему? — Мне некогда объясняться, — ответил Марио. — Я один; я хочу, чтобы ты убежал отсюда. Делай как я, отец, переоденься! — Да, это верно! — сказала служанка. — Вот вещи нашего хозяина, оденьте их на себя, господин мар… — Никаких маркизов! — сказал Марио. — Уходи-ка отсюда, моя милая; а вы, отец, станете мэтром Пиньу. — Но зачем мне показываться? — заметил маркиз, начиная машинально расстегивать камзол. — Я не смогу, подобно вам, сын мой, должным образом разыграть комедию! — Напротив! Сможете, отец! Но скажите мне, не знаете ли вы рейтара по имени Макабр? Мне кажется, я слышал от вас несколько раз это имя. — Макабр? Да, конечно, я знаю это имя, и человека тоже, если это тот самый, кто… — Он давно вас не видел? — Черт возьми! Да! Лет двадцать или тридцать… Может быть, и больше! — Ну что ж, это хорошо! Показывайтесь без опаски; изображайте трактирщика, и мы найдем способ бежать. — Это невозможно, дитя мое, — сказал маркиз, продолжая раздеваться. — Мы имеем дело с пройдохами. Представьте себе, они пришли, произведя не больше шума, чем стадо идущих шагом мулов, которых ведет один-единственный человек. Я не остерегался; хозяйка спала в уголке у очага; я был в комнате, читая «Астрею» в ожидании, пока пробьет час. — Спрячем «Астрею»! Повара не читают книг, переплетенных в шелк, — сказал Марио, схватив том, машинально положенный маркизом рядом со шляпой, когда расположился в комнате трактирщика. И тем временем, как только маркиз освобождался от одной из частей своего наряда, мальчик прятал ее под вязанками хвороста на маленьком чердаке по соседству. — Но ты, бедное мое дитя, — продолжал маркиз, — значит, они не узнали в тебе дворянина? Они не причинили тебе зла, Боже мой? — Нет, нет; поговорим о тебе, отец мой. Значит, ты не пытался выйти до того, как они выставили своих часовых? — Нет, конечно. Я ни о чем не подозревал! Они так мало шумели, что я думал — это привал погонщиков мулов, и только когда они окружили дом, они немного возвысили голоса, и я увидел через окно, что попал в западню, устроенную худшими разбойниками и убийцами, каких я только знаю. Я сидел спокойно, думая, что они вскоре уйдут; но я услышал и немного понял несколько итальянских слов. Они, я думаю, собираются остаться здесь до рассвета. И тогда я сказал себе, что, не увидев меня в Брильбо, где меня ждали к десяти часам, мои люди, беспокоясь обо мне, придут ночью за мной сюда, где, как им известно, я должен остановиться. Лучше было бы подождать их. Этих рейтаров не больше дюжины; я довольно точно их сосчитал, и когда я увижу наших людей, я сумею проложить нам путь добрыми ударами шпаги, раздавая их этим негодяям. — Отец, — сказал Марио, смотревший в окно. — Их сейчас по меньшей мере двадцать пять! Потому что только что прибыла еще одна шайка. Наши люди еще и не думают идти за тобой, и с минуты на минуту эти рейтары могут обыскать дом сверху донизу, чтобы пограбить. — Что ж, дитя мое, вот я и переоделся с головы до ног; оставайся при мне, как будто ухаживаешь за больным хозяином. Если сюда придут, нас не тронут. Истязают и грабят только хорошо одетых людей на хороших лошадях… Ах, кстати, из-за моего коня меня узнают. Они должны были видеть его! — Твой конь спрятан, и мой тоже. — Правда? Это, стало быть, храбрый конюх нашел способ… Но почему они так кричат, эти разбойники? Ты слышишь их? — Это они меня зовут! Оставайся здесь, отец; не запирайся: это вызовет подозрения. Смотри, они входят в комнату внизу. Я иду туда! Слушай все: перегородки тонкие; постарайся понять, и будь полностью готов прийти, если я в свою очередь позову тебя.Глава пятидесятая
Марио спустился, словно кошка, по маленькой лесенке, что вела из комнаты хозяина в парадный зал, и оказался перед капитаном Макабром. Лейтенант Сакканс тоже был там, и с ним двое или трое с такими же физиономиями висельников. Внешность человека, носившего зловещее имя Макабр, была на первый взгляд менее неприятной, чем у лейтенанта. Лицо последнего было предательским и холодным, смех — свирепым. Лицо Макабра говорило лишь о тупой грубости, старавшейся выглядеть внушительно. На этом лице, поглупевшем от усталости и разгула, совсем не осталось места для улыбки. Мускулы, казалось, затвердели и окостенели; светлые глаза казались неподвижными, словно нарисованные. Резкие черты напоминали черты Полишинеля, но без его насмешливого и оживленного выражения. Большой шрам на челюсти парализовал один угол рта и странным образом разделил рыже-седую бороду, которая казалась растущей косо и частично против шерсти. Большая волосатая родинка увеличивала горбину сильно выдающегося носа. Пальцы до самых ногтей ощетинились серыми волосами. Человек был маленьким и худым, но широкоплечим, и подобравшимся, словно кабан, от которого у него была и рыжая шерсть, и низко посаженная голова. Он казался очень пожилым, но его вид еще говорил об исполинской силе. Резкий голос, постоянно державшийся на повышенном, командном тоне, в устах этого глупца звучал простуженным громом и заставлял дрожать стаканы на столе. Он был одет на манер рейтара, в полукафтан и набедренники из буйволовой кожи, латы и шлем из лакированного железа. Дрянное черное, совершенно ощипанное перо торчало на этом черном и блестящем шлеме. Он носил крепкий и широкий немецкий меч, о который легко ломалось сверкающее копье французских конных латников. «Пистоли с огненным камнем», первый образец кремневого пистолета, которому наши солдаты напрасно предпочитали еще оружие со шкивом и фитилем; короткий мушкет и перевязь, снабженная мешочками из черной кожи, содержащими заряды пороха и пуль, дополняли его полевое снаряжение. Его личный эскорт составляли два конных разведчика, страдиота, и два оруженосца, совмещавших исполнение обязанностей пажа и кузнеца. Кроме того, у него было семь хорошо вооруженных солдат на хороших конях, рейтаров, никогда с ним не расстававшихся и составлявших цвет его отборного войска. По крайней мере, так мы можем перевести эквивалентами, принятыми в обычае того времени, чины и звания этой роты иностранных авантюристов, где каждый из командиров менял, в силу своей власти или прихоти, организацию, снаряжение и состав. Марио не ошибся, насчитав двадцать пять человек в банде, состоявшей из людей лейтенанта и вновь прибывших с капитаном. — Что за грязный трактир! — презрительно крикнул капитан, очищая тяжелые подошвы своих грубых и заляпанных грязью сапог о чистые и блестящие перекладины орехового стула. — Это что, огонь для ночных путников? В этой лачуге дров не хватает? — Увы, сударь! — ответила служанка, бросая охапку хвороста в камин, уже хорошо горящий. — Мы не можем сделать большего: мы в равнинном краю, и дерево здесь редкость. — Вот еще худшая дура, и еще большая уродина, если только это возможно, чем ее хозяйка! — продолжал любезный Макабр. — Ну, беззубая красотка, вот как согреваются, когда дрова дороги! И он бросил в большой камин стул, о который только что чистил сапоги. — Так что, лейтенант, — холодно продолжал он, обращаясь к Саккансу, — вы говорите, здесь есть маленький оборванец, посланный ими… — Вот, наконец, и ты! — ответил Сакканс, подняв сапог, чтобы подтолкнуть Марио к почтенному капитану. Марио увернулся от удара, проворно проскочив под сапогом рейтара, и, подойдя ко второму грубияну, самоуверенно сказал ему: — Это я, и вот мое сообщение; потому что я очень хорошо назвал вашему лейтенанту пароль. Вы не можете оставаться в этой гостинице, потому что этой ночью сюда должно прийти большое войско вооруженных людей. Вы совершенно не можете напасть на замок, его хорошо охраняют. Вам надо вернуться туда, откуда вы пришли, или дело плохо обернется для вас; это говорит вам Санчо. — Твой Санчо — всего лишь старый осел, — ответил капитан. И, сопровождая каждое свое слово богохульством, какое нет нужды приводить, чтобы дать представление о любезности его речи, он прибавил: — Я не для того проделал сотню лье во вражеской стране, чтобы уйти с пустыми руками. Иди, скажи тому, кто тебя прислал, что капитан Макабр лучше него знает эти места, и что ему… наплевать на то, что называется хорошо охраняемым замком! Скажи ему, что у меня сорок всадников, поскольку за мной идут еще пятнадцать, они явятся под предводительством моей супруги, и что сорок рейтаров стоят армии. Ну, живо, убирайся и иди к черту, цыганское отродье! — Не прогоняйте его, капитан, — сказал Сакканс, который казался здравомыслящим советчиком. — Нам ни к чему дальше переговариваться с этим сумасшедшим испанцем и с этой египетской сволочью. Совсем не нужно, чтобы этот прелестный гонец отправился сообщить им, что вы упорствуете. Они последуют за нами и будут только мешать нам и грабить рядом с нами. Делайте, как сказала вам ваша жена. Оставайтесь здесь до полуночи, и вы прибудете задолго до рассвета, потому что отсюда до Брианта нет и двух лье. Так помешаем уйти этому мальчишке. Я выброшу его в окошко, и он не сможет бегать. — Нет! Никакой излишней жестокости! — фальцетом крикнул капитан. — Я стал кротким и человеколюбивым с тех пор, как у меня появилась жена с чувствительным сердцем… Охраняется ли должным образом дом? — Муха не влетит без моего разрешения. — Так поужинаем спокойно, как только прибудет моя Прозерпина… Вы отдали приказания? — Да; но, несмотря на прекрасные обещания мадам Прозерпины насчет лакомств, какие есть в этой норе, мы, боюсь, найдем здесь скудную пищу. Великий повар, о котором вам говорили, лежит в постели и подыхает, а хозяйка теряет голову. Слуга — предатель, за которым мы должны следить, а служанка — старая перепуганная дура, которая все бьет и ни к чему не годна. — Это оттого, что вы грубо с ними разговариваете, друг мой! У вас всегда на устах оскорбление и угроза! Тысяча чертей! Моя супруга вам часто это говорила, вы не знаете правил хорошего тона. Где она, эта несчастная хозяйка, я сейчас двумя десятками оплеух подбодрю ее! И, тяжело протопав к лестнице, он позвал мадам Пиньу, награждая ее самыми грубыми эпитетами, очевидно, для того, чтобы дать своему лейтенанту пример мягкости и вежливости. Весь этот разговор шел по-французски. Макабр, немец по происхождению, родился в Бурже и провел юность в Берри. Кроме определенного набора слов, предназначенного для командования, он плохо и без удовольствия говорил на языке своих предков. Итальянец Сакканс с большей легкостью коверкал французский язык, чем немецкий. Так что им трудно было договориться, когда они хотели воспользоваться этим языком, и к тому же они настолько чувствовали себя хозяевами положения, что не снисходили до осторожности в присутствии Марио и обитателей дома. Марио, который многим рисковал, пытаясь заставить рейтаров повернуть назад, и которого в любую минуту мог разоблачить какой-нибудь настоящий гонец от Санчо или Ла-Флеша, понял, что настаивать сейчас было бы слишком смело. Он притворился безразличным и рассеянным, накрывая на стол, но не пропустил ни слова из того, что говорили два наемника. Санчо в самом деле обещал послать нарочного в Эталье, где отметил последнюю остановку рейтаров. Но этот нарочный, такой же бродяга, как все прочие, надеявшийся захватить и разграбить замок в Брианте без помощи немцев, воздержался от исполнения поручения, и отправился мародерствовать в покинутый городок, в ожидании часа штурма замка его товарищами. Хозяйка, так любезно призванная Макабром, поднялась и смело дала отпор. — К чему грубые слова, капитан Макабр? — сказала она, уперев кулак в бедро. — Мы давно с вами знакомы, и я прекрасно знаю, что вы заплатите свою долю и долю этих ваших чертовых ландскнехтов[311], ругаясь и все круша. Я вовсе не ради своего удовольствия принимаю вас, и мне известно, что это скорее послужит моему разорению. Но я — женщина рассудительная, и не глупее всякой другой. Так что я мужественно перенесу неприятности и буду служить вам как можно лучше, чтобы избежать плохого обращения и быстрее избавиться от ваших физиономий… Если вы хоть немного способны рассуждать, капитан, вы скажете себе, что не надо зря досаждать мне, но надо дать мне действовать и вспомнить о том, что я не хуже всякой другой умею жарить и печь. — А кто ты такая, старая болтунья? — спросил капитан, стараясь повернуть шею, скованную железными доспехами, чтобы взглянуть на госпожу Пиньу. — В девичестве меня звали Мари Мутон, и я была вашей маркитанткой во время осады Сансерра, и доказательство этому то, что однажды я так изжарила вам старую шляпу, что вы потом бороду обсасывали. — Это возможно; я вспоминаю шляпу, которая была вкусной, но не тебя, уродливую… Но, раз ты послужила правому делу, я прощаю тебе твое кудахтанье. — А какое дело вы теперь зовете правым? Потому что у вас и ваших людей это столько раз менялось! — Замолчите, подружка-болтушка. Я не говорю о религии с подобными вам людьми. — Знайте, впрочем, — усмехаясь, прибавил Сакканс, — что правое дело всегда то, которому мы служим. — Но разве время болтать, — продолжал Макабр, — когда моя Прозерпина приближается, и когда я приказываю вам поторопиться? — Я не могу быстрее, — ответила госпожа Пиньу. — Зачем вы заставили меня подняться сюда? — Потому что я хочу, чтобы твой муж, о котором говорят, что он — заслуживающий уважения повар, встал, околел он или нет, и принялся за работу. — Это невозможно: мой муж разбит болезнями и уже давно не стряпает. — Вы лжете, моя милая; ваш муж — приспешник старого… Хватит! Я вас знаю: моя супруга сказала мне… — О каком старике вы говорите? — Мне кажется, вы допрашиваете меня, прислуга? — сказал капитан с шутовским достоинством, которое он чистосердечно представлял. — Почему бы и нет? — возразила хозяйка. — А ваша, как вы говорите, супруга, — кто она такая, что так хорошо нас осведомляет? — Придержите ваш язык и, когда явится моя богиня, прислуживайте ей на коленях, — сказал Макабр с самодовольной улыбкой, от которой его кривой рот поднялся до левого глаза. Затем, вернувшись к своей навязчивой идее, заключавшейся в том, чтобы хорошо поесть и хорошо угостить свою «богиню», он настоял на том, чтобы подняли трактирщика. — Клянусь преисподней! — сказал Сакканс, вытаскивая шпагу, — это нетрудно. Я всегда слышал, что надо нашпиговать больные бока, чтобы расшевелить их, и я сумею выкурить этого мнимого умирающего из любой норы, в какую он забился! Идите со мной, страдиоты! И колите везде, плоть это будет или песчаник. — Не надо, — сказал Марио, бросившись навстречу обнаженной шпаге. — Я схожу за ним; я знаю, где метр Пиньу! Я знаю его, и, когда я скажу ему, что он удостоился чести принимать капитана Макабра собственной персоной, он немедленно явится. — Какой милый малыш! — сказал Макабр, глядя вслед Марио. — Надо подарить его моей супруге, пусть он ей прислуживает. Она каждый день просит у меня ловкого пажа. — Вы ничего не сделаете из бродяжки, — сказал Сакканс. — У него наглый и насмешливый вид. — Вы ошибаетесь! Я его нахожу милым, — возразил капитан, который не любил, чтобы ему слишком долго противоречили, и с которым в последние несколько дней лейтенант слишком часто не стеснялся в выражениях по причинам, о которых мы вскоре узнаем и о которых Макабр начинал догадываться. Маркиз, беспокоясь о Марио, стоял в маленьком коридорчике рядом с парадным залом и старался все услышать, но его ухо улавливало лишь обрывки разговора, и Марио, прибежавший за ним, поспешил осведомить его обо всем в немногих, насколько это возможно, словах. У него не было времени, да, впрочем, и желания сказать ему о том, что происходило в Брианте, он чувствовал, что с маркиза и так уже было достаточно того, что он должен выпутаться из затруднения, и не стоило смущать его слишком многочисленными опасениями. Рейтары, как и он, не знали о преждевременном нападении бродяг, и не было риска, что маркиз узнает об этом из других уст, а не от него, когда настанет время. Но придет ли это время? Нынешнее положение показалось бы безнадежным опытному человеку, и маркиз, знавший лишь часть его, считал его весьма серьезным. Но у Марио была счастливая вера детства: он не видел и половины опасности. «Если мы выйдем отсюда, как я надеюсь, — думал он, — мы хорошо посмеемся, отец и я, над тем, какой вид мы имеем сейчас!»Глава пятьдесят первая
В самом деле бедный маркиз, переодетый поваром, был очень смешон. Он все проделал добросовестно. Он снял свой парик и прикрыл оголенный череп колпаком из просмоленной ткани в виде формы для пирожного. Его лицо, лишенное буклей цвета эбенового дерева и перемазанное сажей, стало совершенно неузнаваемым, так же как и его большие белые руки, разукрашенные в соответствии с лицом. Он нашел способ хорошо спрятать свою тонкую рубашку под крестьянской блузой, обулся он в скверные войлочные домашние туфли, сверх того засаленный передник скрывал его суконные штаны, не слишком яркие, поскольку для задуманного ночного похода в Брильбо он оделся очень просто, и это оказалось очень кстати в новых обстоятельствах. Предупрежденный Марио о том, что Макабр кажется тупым и тщеславным грубияном, он понял, что должен внушить ему доверие, и с первых же слов признал, что нетрудно будет заставить его проглотить любое преувеличение. — Знаменитый и отважный капитан, — сказал он ему, склонившись до земли, — я прошу вас извинить мою бедную дурочку-жену, которая не сообщила мне, с каким великим воином и умнейшим человеком мы имеем дело. Это правда, что я страдаю подагрой, но ваш приветливый и воинственный вид способен поднять мертвого, и я слишком хорошо помню о том, что служил под вашими знаменами, чтобы я не пожелал, даже если моя жизнь сгорит в огне моей печи, еще послужить вам в меру скромных талантов, отпущенных мне небом. — Хорошо! Хорошо! — сказал Сакканс капитану. — Ничто не действует так, как угрозы! Теперь они все хотят сказать, что служили под вашим командованием. — Пусть, — ответил Макабр, — если только он станет сейчас хорошо мне служить. И в конце концов, господин лейтенант, нет ничего невозможного в том, что этот старик знал меня в давние времена, участвуя в местных войнах. Я проявил достаточную самоотверженность, чтобы каждый мог вспомнить об этом. Повар! Ты расскажешь мне о своих походах на десерт, потому что я замечаю по твоему виду и по твоей походке, что подагра не отняла у тебя солдатской выправки. Странно от тебя пахнет, — добавил он, пораженный запахом духов, которым вопреки всем его переодеваниям была пропитана вся особа маркиза. — Как будто запах варенья! Все равно! Бьюсь об заклад, ты немного побыл ландскнехтом? — Я был им в течение года, — ответил Буа-Доре, знавший наизусть всю полную приключений жизнь метра Пиньу и достойную порицания молодость Макабра. — И даже так и вижу вас, неотступно преследующего гугенотов из Буржа во время резни в тюрьмах, вместе с этим ужасным виноградарем, которого называли Большим Уксусником… — Что? — воскликнул итальянец, насмешливо глядя на своего капитана. — Я ведь говорил вам, что вы были великим папистом, мой капитан! — Всему свое время, — с философским спокойствием ответил Макабр. — Мой отец, который тогда был капитаном главной башни Буржа, с покойным господином Писселу защищал бедных местных гугенотов, как мог… Я стрелял в сторону, когда не было лучшего способа. Но я вернулся на правильный путь, и действую более решительно, чем вы, господин итальянец, прячущий мощи под немецкими нагрудными латами. Итальянец ответил язвительно, и Макабр, недовольный тем, что он повышает тон в присутствии его пажей и его разведчиков, хотя они плохо понимали по-французски, велел ему молчать и спросил у маркиза, какие блюда он может подать ему. Буа-Доре, который напомнил о католической резне лишь для того, чтобы увидеть, в каких водах плавал с тех пор молодой Макабр, сейчас ставший стариком, почувствовал себя спокойнее. Этот главарь шайки не мог действовать под покровительством принца де Конде. У маркиза достало непринужденности на то, чтобы поговорить о кулинарии как человек, который в этом разбирается, а поскольку во время своего двухчасового пребывания в гостинице он от нечего делать обсудил этот важный вопрос с мадам Пиньу, он очень хорошо знал содержимое кладовой и запасы в погребе… — Мы будем иметь честь предложить вам, — сказал он, — четверть туши кабана с пряностями и послушаем, что вы о нем скажете; блюдо иссуденских раков, сваренных в пиве и украшенных зеленью… — И хорошо наперченных, я надеюсь! — сказал капитан. — Моя супруга любит изысканные блюда. — Мы положим туда испанский стручковый перец! И, перечислив все блюда, маркиз прибавил: — Но не будет ли ваша прославленная дама склонна к какому-нибудь сладкому блюду после жаркого? — Да, черт возьми! Я чуть не забыл, что она рекомендовала мне некий омлет с мускусом… — Может быть, ваша милость хочет сказать — с фисташками? Это мое изобретение. — Ну да! Она сказала мне, что это выдумка старого… — Старого? Кто же осмеливается похваляться, что придумал раньше меня омлет с рисом и фисташками? — Старого Буа-Доре, раз надо назвать имя этого главного дурака в хорошем обществе! Буа-Доре закусил свой ус. — Кто же, — сказал он, — оказывает маркизу честь повторять его бахвальство? Ваша супруга удостаивает его своим знакомством? — Похоже! — ответил Макабр. — И более того, мне известно, старый шутник, что ты — покорный слуга этого трижды канальи, поддельного маркиза, твоего учителя кулинарии, но мне на это наплевать! Ты под наблюдением, и твои уши мне ответят за твою стряпню. Маркиз понял, что у него нет выбора, он должен дурно говорить о себе самом, не щадя ни своего достоинства, ни своего характера, и даже в достаточно забавных выражениях, но все же не решился присоединить к своему проклятому и оклеветанному имени эпитет старого, каким гордо пользовался против него его ровесник Макабр. Этот последний неприятно упирал на это. — Дряхлый старик, должно быть, совсем разбит, — сказал он, — потому что, когда я в последний раз его видел, это была длинная шпага, без бороды, и я едва не сломал его пополам нечаянно. — Правда? — спросил Буа-Доре, припоминая приключение своей молодости, недавно рассказанное им Адамасу. — Вы оказали ему честь помериться с ним силами? — Нет, мой милый, я не опускаюсь до этого. Он был верхом и вез боеприпасы нашим врагам. Я взял его за ногу и, бросив на землю, решил, что с ним покончено, и завладел его грузом. — Который состоял из пороха и пуль? — спросил Буа-Доре, который не мог не рассмеяться про себя над бахвальством человека, которого он опрокинул одним ударом ноги, и над этим знаменитым грузом боеприпасов, состоявшим лишь из детских игрушек. — Хорошая была добыча! — ответил капитан. — Но довольно разговоров, старый болтун! Идите вниз присматривать за всем. Буа-Доре, которого отослали к плите, вынужден был покинуть Марио, удерживаемого капитаном при себе. Выходя, он обменялся взглядом со своим сыном и в ответ на полный тревоги взгляд получил от ребенка взгляд, полный доверия. Он чувствовал, что Макабр неплохо расположен по отношению к нему. — Ну, малыш, — сказал капитан. — Теперь иди сюда и скажи мне, если можешь, кто ты такой! — Ей-богу, мой капитан, я ничего об этом не знаю, — ответил Марио, не успевший забыть, как разговаривают бродяги. — Я — ребенок, украденный или найденный где-то на дороге черными страдиотами, которых называют египтянами. — Что ты умеешь делать? — Три великие вещи, — ответил Марио, кстати припомнивший прекрасные изречения Ла-Флеша, — голодать, бодрствовать, бегать; с этим можно далеко пойти и из всего выпутаться. — Он не глуп, — сказал Макабр, глядя на своего лейтенанта, который, чтобы показать свое дурное настроение, повернулся к нему спиной, сев на стул верхом, оперев голову и руки на спинку, поясницей к огню. Макабр нашел эту позу непристойной и в циничных выражениях сделал ему замечание. Сакканс, ничего не сказав, встал и вышел. Марио наблюдал за всем, и разлад между двумя главарями показался ему добрым предзнаменованием. Он пообещал себе постараться извлечь из этого пользу, если представится случай. Макабр возобновил разговор с ним. — Как получилось, — спросил он у него, — что я совсем не видел тебя в Брильбо прошлой ночью? Марио недолго затруднялся этим вопросом. — Меня там не было, — сказал он. — Я собирал курочек в окрестностях только для того, чтобы уберечь их от лисы и от типуна. — Ты умеешь воровать кур? Что ж, это дар природы, которым можно воспользоваться. Но скажи мне, закончил ли околевать испанец. — Господин д'Альвимар? — спросил Марио, который начинал понимать рассказ Пилар и уже не смотрел на него, как на сновидение. — Да, да, — сказал Макабр, — этот папистский пес, который мне всю душу вывернул своими молитвами! — Он умер сегодня утром. — Хорошо сделал, дурак! А Санчо? Этот получше: хоть и святоша, а понимает дело. Где он сейчас? — Он скрывается. — Почему он не пришел ко мне сюда? — Я сказал вам это: здесь опасно находиться вам, и он это знал. — Какая опасность? Старый Пиньу предаст нас? — Нет, бедняга совершенно ничего не знает; и что он мог бы предпринять против вас? — Но кто угрожает нам? — Сеньоры, которые сейчас ищут вас в Брильбо и которые с большой свитой проедут здесь, направляясь ночевать в Бриант. — Ты их видел? — Да. — Сколько там человек? — Может быть, две сотни всадников! — сказал Марио, надеясь испугать собеседника. — Значит, заговор открыт? — сказал тот, слегка дрогнув. — Похоже! Капитан, казалось, размышлял, насколько это возможно было понять по его каменному, вернее, затвердевшему лицу, которое могло выражать умственное беспокойство. Сердце Марио бешено колотилось. Одно мгновение он надеялся, что его хитрость удастся и что Макабр решится повернуть назад. Но капитан стал говорить по-немецки со своими страдиотами, которые тотчас вышли, и Макабр вновь принял свою изящную позу, одна нога на верхушке тагана, другая — на стуле, покинутом лейтенантом. Марио осмелился спросить. — Ну что, мой капитан, — сказал он. — Вы снова отправитесь в путь?… — На Линьер? Да нет, по правде сказать, обезьянка моя! Мои лошади устали, мои люди тоже. А я так плохо спал в Брильбо прошлую ночь, что хочу здесь набраться сил. Горе тому, кто явится побеспокоить меня здесь! Эти планы выспаться снова возродили надежду Марио. «Если эти люди очень устали, — подумал он, — будет минута, когда мы сможем ускользнуть». Он не рассчитывал, как маркиз, на прибытие его друзей и слуг. Пилар, предупредив их о захвате заднего двора в Брианте, должна была послужить причиной того, что сейчас они все устремились туда, рассчитывая встретить маркиза в этом же направлении; поскольку маленькая бродяжка, обладавшая большим разумом, чем допускал ее возраст, не преминет сказать им, что Марио, со своей стороны, отправился предупредить отца. Пока он раздумывал про себя, вернулся лейтенант Сакканс и обратился к Макабру, дремавшему у огня. — Капитан, — сказал он тоном наполовину смиренным, наполовину вызывающим, — позвольте мне сказать вам, что благодаря вашей идее заставить нас передвигаться небольшими стайками мы теряем время: ваша жена и ее люди еще не приехали, и, если вы долго засидитесь за столом, как обычно, все может провалиться. Надо не пировать, а быстро поесть, поспать два часа и идти вперед, не дав времени прохожим нести впереди нас известие о нашем прибытии. — Уничтожайте прохожих! — спокойно ответил Макабр. — Разве это не условлено? Вам не особенно придется потрудиться, потому что мы ни одной кошки не встретили от самого Линьера, эти края пустынны. Но все это лишние слова. Я слышу голос моей Прозерпины. Она едет! Отправься к ней навстречу! — Говоря это, Макабр с усилием поднялся и спустился в кухню. — Капитан стареет! — сказал по-итальянски Сакканс одному из кузнецов, оставшихся стоять перед дверью. — Нет, — ответил рейтар. — Он женился, а это хуже! Тогда думают только о том, чтобы кутить, и не умеют действовать, когда понадобится. Марио, учившийся итальянскому языку у Люсилио, более или менее понял эти слова и последовал за лейтенантом и двумя рейтарами в кухню. Едва оказавшись там, не обращая внимания на прибывшее подкрепление, загородившее дверь, он проскользнул к Буа-Доре, который стряпал изо всех сил вместе с госпожой Пиньу, говоря себе, что, чем раньше враг сядет за стол, тем скорее представится какая-нибудь возможность побега. — Вот и ты, дитя мое? — тихо сказал маркиз. — Они не обидели тебя? — Нет, нет, — ответил Марио, — мы с капитаном в наилучших отношениях. Мы можем поговорить, пока они о нас не думают. — Прекрасно, но не будем смотреть друг на друга; посмотри, как я делаю, когда говорю с хозяйкой. — Мадам Пиньу, — крикнул он, — подайте мне масло! И совсем тихонько прибавил: — Кто это еще приблизился к двери, моя милая? — Дама, она сходит с коня. Не оборачивайтесь, вдруг она случайно вас знает. — Малыш, мускатный орех! — продолжал маркиз, хлопая Марио по плечу. И сказал ему на ухо: — И ты не оборачивайся. — Мадам Пиньу, — прибавил он, склонившись к хозяйке, — постарайтесь увидеть ее лицо. — Я не узнаю ее, — ответила госпожа Пиньу. — У нее столько волос и перьев… Здоровенная баба!Глава пятьдесят четвертая[312]
Привели маркиза и Марио, который судорожно цеплялся за него. Беллинда с первого взгляда узнала мальчика, и ее лицо, побледневшее от страха, залила краска неудержимой радости. — Друзья мои, — воскликнула она, — мы поймали и вепря, и кабанчика, а теперь нам положен богатый выкуп, но только нам, слышите? С немцами делиться не будем (так она называла рейтаров капитана), с господином Саккансом и его итальянцами тоже! Мы, только мы получим Буа-Доре и мальчишку, и да здравствует Франция, черт возьми! Подать перо, бумагу, чернила, скорей! Пусть маркиз подпишет выкуп! Я знаю, чем он владеет, и, клянусь, он ничего не скроет! Каждому из этих молодцов по тысяче экю! Понял, маркиз? А мне то, что обещал… — Тебе, злодейка, все мое состояние, — воскликнул маркиз, — лишь бы спасти моего сына. Давайте же перо! — Погоди, — продолжала Прозерпина. — Мне не только твои богатства нужны, но и твое имя, и ты подпишешь бумагу с обещанием жениться. Маркиз и поверить не мог, что эта дьяволица осмелилась высказать такие претензии перед свидетелями. Рейтары, однако, ничуть не возмутились, а радостно захлопали, словно Беллинда удачно пошутила. Кровь прилила к лицу Буа-Доре, взбунтовавшемуся против гнусной и смешной роли, навязанной ему. — Вы слишком много просите, мадам, — сказал он, пожимая плечами, — возьмите мое золото и мои земли, но мою честь… — Это твое последнее слово, старый безумец? Ко мне, друзья! Давайте веревку, и мальчишку — на дыбу! С этими словами отвратительная женщина показала на большой железный крюк, вбитый в свод кухни для того, чтобы подвешивать поворотный вертел. Марио, схваченный в мгновение ока, крикнул маркизу: — Откажись, откажись, отец! Я все перенесу! Но маркиз ни на миг не мог допустить, чтобы ребенка пытали. — Давайте перо! — крикнул он. — Я согласен. Я подпишу все, что потребуете! — Давайте-ка вздернем его разок-другой, — сказал один из бандитов, привязывая Марио. — Тогда у старика перо так и полетит по бумаге. — Давай-давай! — сказала Прозерпина. — Противный мальчишка это заслужил… Маркиз совсем было обезумел, но тотчас же взял себя в руки, видя, как побледнел, несмотря на все свое мужество, несчастный ребенок. Сопротивляться было бесполезно. Марио держали на прицеле. Буа-Доре упал к ногам Прозерпины. — Не мучайте ребенка! — взмолился он. — Я уступаю, я подчиняюсь, я женюсь на вас. У вас есть мое слово, чего вам еще надо? — Мне нужна твоя подпись и твоя печать, — ответила Прозерпина. Маркиз дрожащей рукой взялся за перо и под диктовку этой фурии написал:«Я, Сильвен-Жан-Пьер-Луи Бурон де Нуайе, маркиз де Буа-Доре, обещаю и клянусь Жюльетте Карка, именуемой также Беллиндой и Прозерпиной…»В этот момент послышался жуткий грохот, и рейтары Прозерпины кинулись к двери. Охрану несли итальянцы Сакканса, которым был дан приказ никого не впускать и никого не выпускать. Трое командиров, как и их солдаты, друг с другом не ладили. Но обычно командиры старались разделять отряды. На этот раз такого не произошло: Сакканс, услышав крики Макабра, решил, что Прозерпина собралась покончить со своим тираном; он попытался помешать немцам прийти к нему на помощь. Французы же предводительницы враждовали и с теми, и с другими. Завязалась общая драка, правда, оружие пока в ход не пустили, ограничиваясь жуткими проклятиями, кулаками и пинками. Общая суматоха сопровождалась грохотом мебели в большом зале, где Макабр вырывался, как бешеный, пытаясь освободиться, а также воплями Прозерпины, которая подбадривала своих людей и уже опасалась за собственную безопасность в случае поражения ее сторонников. Естественно, маркиз не стал дожидаться исхода борьбы. Он кинулся к сыну и постарался развязать его, но веревка была завязана столь искусно, что дрожащий от волнения маркиз не мог с ней справиться. — Режьте! Режьте же! — кричала мадам Пиньу. Но у старика дрожали руки, и он боялся поранить ребенка ножом. — Дайте я сам! — сказал Марио, оттолкнув маркиза. Ловко и хладнокровно он разрезал узел. Маркиз схватил мальчика на руки и бросился вслед за хозяйкой и служанкой, которые бегом кинулись в буфетную. Выбегая из зала, маркиз едва не упал на пороге: поперек двери лежал труп: это был мертвый Брешо. Он был убит, но рядом с ним лежали два рейтара: один, пронзенный вертелом, другой — с головой, наполовину снесенной кухонным ножом для разделки мяса. Устрашающее выражение застыло на его уродливой, но выразительной физиономии: он словно смеялся торжествующим смехом, выставив свои широко расставленные клыки, будто бы готовый укусить. Жак отомстил и освободил им путь. Бросив взгляд, маркиз понял, что бедняге уже ничем не поможешь, и, прижав Марио к груди, пустился бежать изо всех сил. — Отпусти меня, — говорил ему ребенок, — нам будет легче бежать. Пожалуйста, поставь меня на землю. Но маркизу казалось, что позади гремят выстрелы из страшных кремневых пистолетов, и он хотел собственным телом заслонить сына. Лишь убедившись, что пистолеты их не достанут, маркиз опустил ребенка на землю, и оба бросились к рощице, за которой пряталась старая полуразрушенная харчевня. Вдалеке они заметили мадам Пиньу и ее служанку: на старушек жалко было смотреть. Но окликнуть их было нельзя: можно было и самим погибнуть, и их погубить. Женщины кинулись через поле: видимо, они бежали к какому-то убежищу, где надеялись спрятаться. Прекрасные господа из Буа-Доре вскочили в седла, но не решились двинуться по дороге. Они пустили лошадей по тропе, с двух сторон обсаженной терновником, которая вилась меж огороженных участков. С минуты на минуту рейтары могли прекратить драку. Кони у солдат были хорошие, и они вполне могли нагнать добычу; но Розидор и Коке шли по мокрой земле легким, почти бесшумным галопом. Тропа, по которой они следовали, пересекалась с другими такими же тропинками, и, чтобы настичь беглецов, преследователям пришлось бы разделиться на несколько групп. Надо было прежде всего во что бы то ни стало оторваться от погони, поэтому господа из Буа-Доре вначале думали лишь о том, как бы сбить противника со следа, и неслись наугад по лабиринту покрытых грязью тропинок, все дальше и дальше уходивших в глубокую лощину. Через десять минут бешеного галопа маркиз осадил коня и велел остановиться Марио. — Стоп! — сказал он. — У тебя тонкий слух, прислушайся-ка! За нами погоня? Марио вслушался, но ему мешал тяжелый храп усталого коня. Мальчик спрыгнул на землю, отошел на несколько шагов, потом вернулся. — Ничего не слышу, — сказал он. — Тем хуже! — ответил маркиз. — Они, должно быть, кончили драться и вспомнили о нас. Скорей в седло, дитя мое, и едем дальше. Надо добраться до Брильбо. Там наши друзья и наши люди. — Нет, батюшка, нет, — возразил Марио, уже вскочив в седло, — в Брильбо в этот час уже никого нет. Едем прямиком в Бриант. Прошу вас, батюшка, не сомневайтесь, поверьте, я прав. Я совершенно уверен в том, что говорю. Буа-Доре уступил, хотя и не понял, в чем дело. Спорить было некогда. Они прямиком добрались до деревушки Лак через обширную, засеянную пшеницей равнину, которая в те времена полностью принадлежала сеньорам де Монлеви и еще не была поделена на отдельные разгороженные участки. Ехали они по совершенно открытой местности; пришлось положиться на милость Божью, так как ехать быстро онине могли: во многих местах кони почти до колен проваливались во вспаханную землю. Наши беглецы, однако, проехали уже половину пути, а никаких всадников не видели и не слышали, хотя и двигались параллельно дороге, будучи на расстоянии двух-трех аркебузных выстрелов. Маркиз подумал, что это, пожалуй, недобрый знак. Не могла же драка так затянуться. Стоило немцам убедиться, что Макабр вовсе не убит, а только заперт, поскольку совершенно пьян, и все должно было бы утихнуть. Да и Прозерпина не из тех, кто может забыть о пленниках, обещавших ей богатый выкуп. «Раз они не преследуют нас по торной дороге, — думал маркиз, — значит, они видели, как мы поехали через равнину, и ждут нас у рощи Вей, куда добрались по проселкам, которые Беллинда хорошо знает. Может, мерзавцы совсем близко от нас: туман густеет, и я уже не различаю, то ли там вдали кроны дубов, то ли всадники стоят, поджидая нас». Он опять остановился и поделился своими опасениями с Марио. Марио посмотрел вдаль и сказал: — Вперед! Едем! Нет там никаких всадников. Беглецы снова пустились в путь. Но когда они ехали вдоль рощи, которая в те времена тянулась до фермы Обье, неожиданно справа навстречу им выехала группа всадников, громко кричавших: — Стой! Кричали по-французски, но ведь и бандиты Беллинды были французами. Маркиз на мгновение заколебался. Этих людей прикрывала лесная тень, и узнать их было нелегко, а оба Буа-Доре, оказавшись довольно далеко от опушки леса, никак не могли укрыться от их взглядов. — Едем же! — сказал маркизу Марио. — Тогда и поймем, враги они нам или нет. — Положимся на милость Божью! — воскликнул маркиз. — Это рейтары: они бросились за нами в погоню. Скорей, скорей, дитя мое! А про себя он подумал: «Дай, Господи, силы нашим лошадям!» Но кони слишком долго скакали по мягкой земле и уже не могли мчать во весь опор. Преследователи же были так близко, что маркиз каждую секунду готовился услышать свист пуль над головами. К досаде Марио, он терял время, поскольку все время старался держаться сзади, чтобы принять первый залп на себя. Один из всадников почта догнал маркиза и крикнул: — Остановись, мерзавец, а не то пристрелю! — Хвала Господу, это Гийом! — воскликнул Марио. — Я узнал голос. Они повернули коней, а навстречу им кинулся Гийом и попытался выбить маркиза из седла. — Эй, кузен! — крикнул Буа-Доре. — Неужели вы меня не узнаете? — Да вас и дьявол не узнает в этом наряде! — ответил Гийом. — Что это у вас белое на голове и какая-то юбка развевается на поясе? Мне показалось, что я узнал ваших коней. Но решил, что какие-то воры захватили лошадей, а вас убили. Да Марио ли это? Ну вы и вырядились оба! — Вы правы, — сказал маркиз, вспомнив, что на нем поварской колпак и кухонный фартук (у него не было ни времени, ни сил, чтобы снять их). — Я одет совсем не как воин. И вы меня очень обяжете, кузен, если дадите мне шляпу и оружие, так как у меня на поясе только кухонный нож, а с минуту на минуту нас могут атаковать. — Берите, — сказал Гийом, передавая маркизу собственную шляпу и оружие своего верного слуги. — И поторопитесь: кажется, ваш замок в опасности. Буа-Доре решил, что Гийом не знал, что произошло. — Вовсе нет! — воскликнул маркиз. — Рейтары в Эталье, во всяком случае полчаса назад они были там. — Рейтары в Эталье? — вскричал Гийом. — Нам следует поторопиться, а то мы можем оказаться меж двух огней. Некогда было объясняться, и отряд Гийома во весь опор помчался по равнине по направлению к Брианту. По дороге к отряду Гийома присоединились люди Буа-Доре. Они тщетно разыскивали его в Брильбо. Потом, получив известие от маленькой цыганочки, вернулись обратно, хотя и не очень-то ей поверили, решив, что их товарищи задумали какую-то хитрость. Еще им Пилар сказала, что их хозяин предупрежден и должен вернуться, не встретившись с ними, в Брильбо. И вот тогда они решили на общем сборе, что не стоит ехать за маркизом в Эталье, поскольку так или иначе он уже предупрежден.
Глава пятьдесят пятая
Господин Робен не поверил ни одному слову Пилар. Тем не менее он двинулся в путь, сопровождаемый своими людьми. Тревогу вызывала и судьба мэтра Жовлена: он первым отправился в Брильбо в сопровождении пяти-шести человек из Брианта. Странно, что всадники, хотя и ехали очень быстро, так и не настигли его. Подобные мысли беспокоили каждого в отряде, хотя никто их вслух не высказывал. Было около часу ночи, но деревню, через которую проезжали, освещали объятые пламенем постройки и фермы при замке. И было светло, как днем. В отряде поняли все и кинулись штурмовать ворота, которые оборонял Санчо и несколько цыган. — Зачем мы здесь, кузен? — спросил Гийом маркиза. — Тут могут без толку погибнуть наши лучшие слуги. Постараемся устроить дело иначе. — Да, конечно, — отвечал Буа-Доре, — попытайтесь сдержать людей. Минутой позже, минутой раньше моя рига все равно сгорит: пусть уж лучше погибнет урожай, но эти добрые христиане останутся живы. Позовите их и успокойте! А я пока займусь ребенком: он беспокоит меня. С этими словами маркиз отвел Марио в сторону. — Сын мой, — сказал он мальчику, — дайте мне слово дворянина, что вы будете стоять здесь и не сдвинетесь с места, пока вас не позовут. — Что вы, батюшка! — воскликнул возмущенно Марио. — Вы разговариваете со мной так же, как с Аристандром, и обращаетесь как с малым ребенком! Вспомните, вы же сами преподнесли мне сегодня урок чести и мужества!.. — Ни слова более, сударь! Извольте слушаться! — вскричал маркиз, впервые столь властно обратившись к любимому сыну. — Вы еще не достигли возраста воина, и я запрещаю вам сражаться. Крупные слезы покатились по щекам мальчика. Маркиз отвел взгляд, чтобы их не видеть, и, оставив мальчика под охраной нескольких надежных слуг, присоединился к Гийому д'Арсу, которому удалось навести порядок в отряде и заставить солдат слушаться приказов. — Совершенно ни к чему взламывать ворота, — сказал ему маркиз. — Два человека могут их оборонять в течение часа, мы, нападая, можем положить человек двадцать наших. Ах, кузен, конечно, очень разумно укреплять все входы и выходы в своем доме, но как это неудобно, когда необходимо самому преодолеть их и войти. Вот тут у меня, видите, ров глубиной в пятнадцать футов, а спуск к нему так устроен, что никто не доберется до воды, не получив пулю из мушкета. Знаете, что надо сделать? Смотрите, рига рухнула. Так вот, она обвалилась как раз в ров и частично перекрыла его. Вот там и можно перебраться. Я пойду с моими людьми. Вы оставайтесь здесь, делайте вид, что ищете доски и пытаетесь что-нибудь построить вместо подъемного моста. Так вы обманете противника и помешаете ему спастись бегством, когда мы начнем атаку. А мы, друзья мои, — обратился он к своим людям, — пройдем бесшумно под стеной, в тени нас не заметят, хотя вокруг и горит подожженный хлеб. План маркиза был очень разумен, и все получилось так, как он и предвидел. Обвалившаяся рига частью рухнула в ров, а частью разрушила стену. Но надо было пройти через горящие обломки, минуя пламя и дым. Испуганные кони пятились назад. — Спешиться, друзья мои, спешиться, — крикнул маркиз, направив коня галопом в этот ад. Только Розидор бесстрашно кинулся в пламя, с чудесной ловкостью преодолел все препятствия, не обращая внимания на то, что уже горели и его прекрасная грива, и ленты, вплетенные в нее. Героический конь проскочил в брешь замковой стены. На собственные волосы маркиз не обращал внимания: его прекрасная шевелюра уже обгорела в харчевне «Жео-Руж». Храбрость хозяина воодушевила слуг, движимых желанием освободить свои семьи или отомстить за них, и многие бросились в огонь вслед за маркизом. Но в тот момент, когда большая часть отряда начала пробираться через горящие обломки, раздался крик, предупреждавший об опасности. Кричал один из крестьян, кинувшийся вслед за маркизом; остановленные этим криком слуги попятились назад. Одна из башенок риги, чудом устоявшая, треснула, накренилась и вот-вот должна была рухнуть на любого, кто бы осмелился проскочить рядом с ней. Еще секунда — и она рухнет, тогда и можно будет пройти, пробившись через руины. Эта мысль пришла в голову всем, и нападавшие остановились. Но шли секунда, минуты, а башня все не падала. Прорвавшись один, лишь с десятком слуг, маркиз столкнулся с целой бандой цыган человек в тридцать. В том положении, в котором он очутился, эти минуты и секунды показались ему вечностью.Прошло уже четыре часа с момента побега Марио, и все эти четыре часа бандиты думали только о том, чтобы побольше награбить. Первоначальное опьянение победой и удовлетворение первого аппетита вскоре сменились упрямой надеждой захватить замок. Они использовали все способы, чтобы ворваться туда внезапно. Многие погибли благодаря бдительности Адамаса и Аристандра, которых поддерживали добрыми советами и действиями Лориана и Мерседес. Видя тщетность своих усилий, бандиты подожгли ригу, надеясь заставить осажденных выйти, чтобы спасти урожай. Прибегнув ко всему богатству собственного красноречия, мудрый Адамас удерживал Аристандра, готового ринуться в бой очертя голову. Только решительное вмешательство Лорианы, доказавшей, что, если Аристандр погибнет в схватке, все несчастные, запертые в замке, будут погублены тоже, остановило Аристандра. Рига пылала уже час. Аристандр, отчаявшись, уже исчерпал весь свой, запас проклятий и ругательств. Вынужденный бездействовать, он был крайне раздражен и проклинал Лориану и Адамаса, да и Мерседес в придачу, и Клиндора, который взывал к терпению, в общем, всех, кто мешал ему действовать. Но тут Адамас, забравшийся по винтовой лестнице на балкончик башни, крикнул ему: — Господин! Господин здесь! Я его не вижу, но он точно здесь, клянусь! Там такая драка, и я узнал его голос среди всех. — Да, да! — закричала Мерседес, наблюдавшая через окошечко под навесом. — И Марио здесь, его собачка Флореаль словно с ума сошла: почувствовала хозяина. Смотрите, я его и удержать не могу. — Аристандр! — закричала Лориана. — Выходите! Все выйдем, пора! Аристандр уже вышел. Его не интересовало, последовали за ним остальные или нет. Он кинулся к маркизу и сбил гибкого, как змея, Ла-Флеша, который, вскочив на круп коня позади маркиза и не сумев выбить его из седла, попытался задушить его. Аристандр схватил цыгана за ногу и сбросил бандита на землю, дав ему несколько сильных пинков по ребрам. Потом, оставив Ла-Флеша, то ли мертвого, то ли потерявшего сознание, кинулся на остальных. Все слуги выбежали из замка, даже Клиндор, даже собачка Флореаль, выскользнувшая из рук растерявшейся Мерседес. Пес кинулся под ноги маркизу, которому сейчас было не до собаки, а потом в общей сумятице помчался к Марио. Взволнованная Лориана вооружилась и также собиралась выйти. — Во имя неба, — произнес Адамас, преграждая ей путь, — не делайте этого. Если господин увидит, что его дорогой дочери угрожает опасность, он совсем потеряет голову и может погибнуть по вашей вине. Да и посмотрите, я один остался, чтобы закрывать двери, а это в случае чего может спасти наших. Один Бог знает, что может случиться… Останьтесь, поможете мне… — Но Мерседес же вышла! — воскликнула Лориана. — Смотри, Адамас, смотри, эта храбрая женщина ищет Марио, она пошла за собачкой. Господи Боже мой! Мерседес, вернитесь! Вас убьют! Но Мерседес в шуме сражения не слышала ничего. Впрочем, она и не хотела ничего слышать. Она буквально прошла через огонь и железо, она прошла бы и через гранит. Маркиз и Аристандр, поддерживаемые храбрыми слугами, вскоре начали и теснить бандитов как со стороны развалин риги, так и со стороны ворот. Бандиты, что проскочили под накренившейся башней, не испугавшись ее возможного падения, столкнулись с пиками и колами вассалов Буа-Доре. Многие цыгане были убиты, многие взяты в плен. Другие повернули обратно, и вся банда, отступая вдоль стен, всего не более двадцати человек, способных носить оружие, оказалась загнанной под свод ворот. — Гасите пожар! — крикнул Буа-Доре, видя, что огонь перекинулся на другие пристройки. — И дайте нам добить этих каналий! С такими словами он обратился к крестьянам, к женщинам и детям, что решились выйти из замка, а сам бросился со своими слугами под свод ворот, где произошла странная стычка между спасающимися бегством бандитами и Санчо, который один остался охранять выход. У Санчо была одна мысль, мысль беспощадная. Он видел, что Марио в надежном месте, его хорошо охраняют, спрятав позади деревенского дома. Но Санчо был уверен, что рано или поздно мальчик покинет убежище и окажется досягаем для выстрела из аркебузы. Санчо стоял наготове, ствол его аркебузы был выставлен из-за зубца башни, сам он надежно спрятался и не отрывал глаз от угла стены, откуда должен был появиться мальчик. Мрачный испанец имел перед всеми неоспоримое преимущество: никакие опасения по поводу его собственной жизни не смущали его душу и не могли отвлечь его от цели. Он не думал ни о завтрашнем дне, ни о текущем часе, какими бы опасностями он ему ни грозил. Он просил у неба всего лишь минуту, чтобы осуществить мщение и насладиться им. И когда отступавшие цыгане с воплями метались у массивных перекладин решетки, Санчо оставался столь же неподвижен, сколь и камни свода. Напрасно отчаявшиеся голоса бешено кричали ему: — Мост! Решетку! Мост! Санчо оставался глух; сообщники не значили для него ровным счетом ничего. Цыгане метались, пытаясь вырваться. Их дети и женщины жалобно кричали. На том же самом месте разыгрывалась такая же сцена страха и сумятицы, что и несколько часов назад, но лишь участники ее поменялись местами: тогда растерянно метались вассалы Буа-Доре. Маркиз, по-прежнему верхом, в окружении своих приближенных, запер, словно в клетке, эту банду убийц и воров. Их женщины, обезумев, пытаясь защитить своих детей, с бешенством и отчаянием бросались на него. — Сдавайтесь! Сдавайтесь все! — крикнул охваченный жалостью маркиз. — Ради детей я готов пощадить вас! Но никто не сдавался: эти несчастные не верили в великодушие победителя, они не понимали, что такое доброта, — для сеньоров той эпохи, признаемся, подобные чувства были редкостью. Маркизу пришлось остановить собственных людей, чтобы помешать, как он потом сказал, избиению невинных младенцев, но так ли уж невинны были эти маленькие дикари, уже обученные всяким злодействам и готовые их совершить. Наконец, поднялась решетка, и мост опустился. Гийом, столь же великодушный, как и маркиз, конечно, пощадил бы поверженных, но, к великому удивлению Буа-Доре, отступавшим никто и не препятствовал. Гийом и его люди куда-то пропали. — Тысяча чертей! — воскликнул Аристандр. — Эти демоны спасутся. Вперед! Вперед! Не упускай их! Ах, сударь, надо было изрубить их в крошку, раз уж они в нашей власти… И он кинулся в погоню, оставив маркиза одного под сводами распахнутых ворот. Но маркиз очень беспокоился о Марио, а направить коня по мосту не мог, рискуя растоптать собственных слуг, которые пешими бросились толпой через узкий проход, чтобы настичь беглецов. Наконец, мост освободили. Победители и побежденные устремились вперед. Маркиз смог выехать и увидел, что с левой стороны навстречу ему едет Марио, который решил, что все уже кончено и можно покинуть укрытие. Действительно, бандиты более не представляли никакой опасности: они думали лишь о том, как бы спастись, разбегались в разные стороны; некоторые ловко спрятались, и погоня промчалась мимо. Лишь один из побежденных не сдвинулся с места, и никто о нем не вспомнил: это был Санчо, по-прежнему прятавшийся в углу верхней площадки ворот. С этой узкой площадки, где стена заканчивалась зубьями, он мог бы сбрасывать камни на бриантцев. Но Санчо боялся выдать себя. Он хотел прожить еще несколько мгновений: он видел ехавшего Марио и тщательно целился в него, но вдруг в трех шагах от моста он увидел маркиза, который оказался намного ближе к нему и гораздо уязвимее для выстрела. В душе Санчо разыгралась настоящая буря. Какую жертву выбрать? Тогда еще не существовало ружей с двумя зарядами. А расстояние между отцом и сыном было слишком невелико, чтобы успеть перезарядить ружье! Борясь с Аристандром, Санчо сломал один из своих пистолетов, а второй пистолет сильный противник вырвал у него из рук. Чтобы отомстить изощреннее, Санчо выбрал Марио. Для маркиза смерть мальчика была бы самой тяжелой утратой. Но минутное колебание нарушило его свирепое спокойствие. Он выстрелил, но пуля, пройдя на фут ниже груди Марио, сидевшего в седле на своей маленькой лошадке, попала в Мерседес, которая отыскала мальчика и теперь шла рядом с ним. Мерседес упала, не издав ни звука. — Ко мне, ко мне, друзья мои! — воскликнул Буа-Доре, оказавшись в одиночестве рядом с сыном, беззащитным перед невидимым врагом. К нему бросились лишь Лориана и Адамас, которые, увидев бегство бандитов, покинули свой пост у двери, чтобы быть поближе к маркизу. С помощью Марио они подняли с земли Мерседес. Маркиз поднял глаза и увидел на верхней площадке Санчо, выпрямившегося во весь свой исполинский рост. Санчо узнал Мерседес, из-за которой когда-то погиб его хозяин, и это послужило утешением ему, что он не попал в Марио. Он и не думал убегать, а торопливо перезаряжал оружие. Буа-Доре тотчас же узнал его, хотя эта сторона ворот была слабо освещена пламенем пожара. Но под рукой у маркиза не оказалось заряженного оружия, и он спрыгнул с коня, решив вернуться под свод ворот и подняться на площадку. Маркиз резонно полагал, что из всех врагов, с которыми ему довелось иметь дело, этот человек, мстивший за Альвимара, пожалуй, самый страшный. Санчо увидел, что маркиз бросился к воротам, угадал его мысли и не стал пытаться достать его камнями, которые могли пролететь мимо, а кинулся по боковой лестнице, решив поразить врага кинжалом, другого оружия у него уже не осталось. Буа-Доре со шпагой на изготовку собрался ринуться на лестницу, но его остановило предчувствие, говорившее, что его противник очень коварен. Он опустил шпагу и острием принялся ощупывать в темноте каждую ступеньку, угадав, что Санчо где-то там спрятался, готовый броситься на него и столкнуть вниз. Одной рукой маркиз держался за перила, в другой была шпага. Санчо, услышав постукивание острия шпаги по ступеньке, выпрямился, мощным прыжком перескочил через несколько ступеней и обрушился на Буа-Доре. Он опрокинул противника и схватил его за горло, потом придавил ему грудь коленом. — Попался, проклятый гугенот! — воскликнул он. — Ты не дождешься прощения, ведь ты не помиловал… Не закончив фразы, он нащупал то место, где билось сердце, и занес кинжал со словами: — За душу сына моего! Маркиз растерялся, когда упал, и сопротивлялся слабо. Казалось, с ним было покончено, но тут Санчо почувствовал на своем лице неуверенные движения маленьких рук, которые вдруг так крепко вцепились ему в лицо, что ему пришлось опустить руки, чтобы попытаться освободиться. Впрочем, в голове у него мелькнула мысль, заставившая его бросить маркиза. — Сначала я расправлюсь с мальчишкой! — воскликнул Санчо. Марио вбежал на лестницу вслед за маркизом. Он слышал, как тот упал, и в темноте вцепился Санчо в лицо. Он на ощупь определил, что это именно Санчо, а не Буа-Доре. Но эти слова застряли у Санчо в горле, и мысли угасли, ибо страшный удар обрушился на его голову. По дороге мальчик вырвал пистолет из рук Клиндора и теперь, приставив дуло к затылку Санчо, выстрелил в упор. Он отомстил за смерть отца и спас жизнь дяде.
Глава пятьдесят шестая
Маркиз не сразу понял, кто был ангел-освободитель, пришедший ему на помощь. Он выбрался из-под тела Санчо, затем вскинул руки, готовясь захватить нового, не замеченного ранее противника. Руки натолкнулись на Марио, который в это время пытался подняться, с тревогой спрашивая: — Отец, мой бедный отец, ты жив?.. Ты обнимаешь меня. Ты ранен? — Ничего страшного! Меня лишь немного помяли, — ответил маркиз. — Не понимаю, что же все-таки произошло? Что случилось с этим подлецом? — Мне кажется, я убил его, — сказал Марио, — посмотри, он больше не шевелится. — Не торопись с выводами, — воскликнул Буа-Доре, с трудом приподнимаясь и увлекая дорогого ему мальчика вниз по ступеням. — Пока змея дышит, она готова ужалить. В этот момент подоспел Клиндор со светильником, и все увидели распростертого Санчо. Он еще дышал, по лицу текла кровь, один глаз был открыт, и в хищном взгляде его читалось: «Я умираю дважды, потому что вы остались в живых!» — Как? Мой маленький Давид, так ты убил этого Голиафа? — изумился маркиз. Он, наконец, стал приходить в себя. — О, мой отец, если бы я убил его на две минуты раньше, — воскликнул Марио, который тоже стал приходить в себя. Память вернулась к нему вместе с болью, — думаю, что моя Мерседес умерла! — Бедная Мерседес! Будем надеяться на лучшее, — вздохнув, проговорил маркиз. Они снова двинулись по мосту, чтобы найти ее. А в это время Клиндор, не верящий своим глазам и терзаемый страхом, что Санчо встанет, несколько раз проткнул наконечником протазана горло ненавистного бандита. Мерседес была жива. Несмотря на то, что она не могла держаться на ногах, она не хотела, чтобы ею занимались. Рана была тяжелой: в момент выстрела пуля прошла через ее правую руку и вонзилась в бок. Но она беспокоилась лишь о Марио, которого не было рядом. Когда он снова появился, она улыбнулась и потеряла сознание. Ее понесли в замок. Марио и Лориана шли рядом, взявшись за руки и горько плача, уверенные в том, что потеряли ее. Маркиз остался. Отсутствие Гийома показалось ему плохим предзнаменованием, и он двинулся вперед, прислушиваясь к шуму, который доносился сверху. Шум свидетельствовал о событиях более серьезных, чем пленение или сопротивление нескольких беглецов. По мере его приближения шум усиливался. Достигнув, наконец, верхнего края оврага, он увидел группу людей, в беспорядке бегущих навстречу. Это были вассалы д'Арса и де Брианда. — Стойте, друзья мои, — обратился к ним маркиз. — Как случилось, что такие смелые люди, как вы, вынуждены были обратиться в бегство? — А, это вы, господин маркиз, — ответил один из бежавших. — Нужно вернуться к Вам и защищаться за стенами замка, потому что там рейтары. Господин д'Арс, которого господин Марио предупредил об их приближении, сейчас ведет схватку. Но мы бессильны против этих людей! Говорят, что один рейтар в десять раз сильнее и безжалостнее христианина и вдобавок у них есть пушка, они ее не использовали против нас только потому, что боялись попасть в своих в той неразберихе, которую устроил господин д'Арс. — Господин д'Арс повел себя не только мужественно, но и мудро, дети мои, — заключил маркиз. — И если страх перед рейтарами заставил вас обратиться в бегство, то вы недостойны служить ни ему, ни мне. Вы можете укрыться за стенами, но предупреждаю, что, если мне придется отступить и укрыться в замке, я выгоню вас оттуда как людей, которые едят слишком много, а воюют недостаточно хорошо. Упреки возымели действие. Немногие продолжали бегство, и почти все они были люди Гийома. Нужно заметить, что они не были трусами, но рейтары оставили о себе в их краю такую страшную память, а молва добавила к ней такие ужасные подробности, что нужно было вдвое больше аргументов, чтобы их воодушевить. В сопровождении лучших, которые устыдились своего бегства, маркиз быстро добрался до Гийома, в то время, как тот героически атаковал капитана Макабра. Очень светлая ночь позволила Гийому устроить засаду и напасть внезапно, чтобы помешать рейтарам обстрелять замок. У них действительно была небольшая походная пушка, о существовании которой Буа-Доре, будучи пленником в Эталье, не подозревал. Всем известно, что достаточно одной злосчастной пушки, чтобы победить маленькие крепости, в средние века оснащенные всем необходимым против штурма, но совершенно беззащитные перед новейшей артиллерией, предназначенной для осады. Самые знаменитые замки феодалов в Берра пали подобно карточному домику, когда центральная власть во времена Ришелье и Людовика XIV решила покончить с воинственной знатью. А количество солдат и ядер, которые потребовались для этой важнейшей кампании, оказалось ничтожно малым. Любой ценой маркиз должен был предотвратить захват подступов к своему владению. Поэтому он и бросился на помощь Гийому, который, несмотря на то, что большая часть его людей дезертировала, продолжал вести себя достойно. Но прежде всего надо было отбить атаку рейтаров, имевших численное и позиционное преимущество на склоне холма. Партия казалась совсем проигранной, но вдруг все услышали шум боя, завязавшегося позади вражеского отряда, который теперь оказался зажатым в тиски. Это вовремя подоспел на помощь господин Робен де Кулонь со своим отрядом. Медлительность оказала ему хорошую услугу. Если бы он начал преследовать и настиг рейтаров раньше, обстоятельства сложились бы менее благоприятно. Даже зажатые меж двух огней, рейтары продолжали сражаться с ожесточением. Первыми дрогнули итальянцы Сакканса, презиравшие Макабра и Прозерпину. У них не было желания отдавать свою жизнь. Они попытались оторваться и отступить к замку, но по пути были встречены Аристандром, который бросился преследовать цыган, а об атаке рейтаров ничего не знал и наткнулся на них случайно. Благодаря тому, что у него был небольшой, но хороший отряд, и тому, что сразу удалось захватить лейтенанта, итальянцы быстро сдались. А Аристандр, опасаясь новых милостей Буа-Доре, поспешил расправиться с пленниками во главе с лейтенантом Саккансом. Перевязь последнего оказалась ценной, но Аристандр не захотел стать ее новым владельцем и оставил ее своим людям. Продолжая двигаться на помощь маркизу, он встретил одного из людей, сопровождавших Люсилио в Брильбо. — Здорово, Денисон, — закричал он, — что вы сделали с нашим Люсилио? — Спроси лучше, что с ним сделали эти разбойники-рейтары, — ответил Денисон. — Это известно одному Богу. Мы вместе с ним направлялись в Эталье к господину маркизу, но у подножия холма на нас напали эти бандиты, заставили спешиться и увели. Сначала они хотели застрелить из аркебузы мэтра Жовлена прямо на площади. Его молчание очень их рассердило, они решили даже, что он их ненавидит. Но там находилась дама, которая узнала его и сказала, что господин маркиз их щедро вознаградит. Тогда его связали, как и четырех других наших товарищей. Что же касается дамы, которая была одета, как офицер, то о ней я ничего не знаю. Но, беру небо в свидетели, что-то мне подсказывает, что речь идет о мадемуазель Беллинде! — Ладно, Денисон, нужно во всем убедиться своими глазами, — заключил Аристандр. — Для начала спасем наших друзей. Добрый кучер собрал всех, кто остался, и ударил по флангу рейтаров. Атака оказалась умелой и своевременной. Зажатые теперь уже с трех сторон рейтары терпели большие потери: Буа-Доре, Гийом и господин Робен убили много рейтаров, остальные покинули поле сражения вместе с лейтенантом Саккансом. В этих условиях маленький отряд рейтаров стал организованно отступать на левом фланге. Но такой маленький отряд легко было окружить. Пушка, находившаяся в арьергарде, уже попала в руки господина Робена. Рейтары не могли даже разбежаться. Пришлось сдаться. Исключение составили лишь несколько человек, ослепленных схваткой, справиться с которыми оказалось не так-то легко. Много времени ушло на то, чтобы разоружить и связать пленных. На слово рейтаров нельзя было положиться. Уже наступало утро, когда все, победители и побежденные, собрались, наконец, во дворе замка. Произошедшие события стали причиной пожара на ферме. Нанесенный ущерб безусловно был велик, но маркиз о нем не думал. Усталый, пропыленный, он с волнением искал глазами тех, кто ему дорог: в первую очередь Марио, который не пришел поздравить его с победой, и это заставляло маркиза тревожиться за жизнь Мерседес; маркиз заметил Лориану, прибежавшую сообщить ему о состоянии Мерседес; затем Адамаса, восторженно его приветствующего; Жовлен и Аристандр еще не появились; маркиз ничего не знал и о судьбе своего доброго фермера; наконец, он окинул взглядом всех преданных слуг и вассалов, которых стало больше этой страшной ночью. Он с неподдельной тревогой расспрашивал окружающих о Марио. Во время ожесточенного боя с рейтарами ему два или три раза казалось, что в сгущающихся сумерках он видит перед собой лицо мальчика. Видение появлялось и исчезало. — Аристандр, наконец-то, — воскликнул маркиз, заметив каретника, — говори скорей, ты видел моего сына? Аристандр пробормотал что-то нечленораздельное. Смущение и непонятное замешательство читались на его утомленном лице. Маркиз побледнел, как полотно. Тревогу рассеял Адамас, не сводивший с него преданного взгляда. — Нет, нет, мой господин, — сказал он, обнимая Марио, который в это время спрыгнул со Скилиндра, где был надежно укрыт за широкой спиной каретника. — Вот он живой и свежий, как роза Линона! — Как вы очутились на лошади вместе с Аристандром, господин граф? — спросил маркиз, целуя своего наследника. — Простите меня, мой добрый господин, я ничего не мог поделать, — ответил за него Аристандр, спрыгивая на землю. — Когда я прибежал в конюшню за Скилиндром, а без него нельзя было обойтись, ведь кони немцев — настоящие дьяволы, я увидел, что там крутится этот маленький демон… то есть я хотел сказать, ваш милый сын. Поэтому мне пришлось запереть Коке, чтобы господин граф не мог его оседлать. Я нисколько не сомневался в том, что он поспешит на помощь. Под градом выстрелов я почувствовал, что кто-то прыгнул, коснувшись моей спины. Но прикосновение было таким легким, что я поначалу не обратил на него никакого внимания. Вдруг я понял, что у меня не две, а четыре руки: две большие и две маленькие. Двумя большими я погонял коня, вел бой с противником, а двумя маленькими перезаряжал ружья и действовал пикой за двоих. Что же Вы хотите? В пылу схватки я никак не мог опустить на землю моего маленького помощника и, слава Богу, в конце ее я оказался целым и невредимым. И это после того, как я славно сражался в риге и столкнул под копыта моей лошадки, которая и в упряжке ходит, и может быть боевым конем, не одного негодяя из числа тех, кто посягал на Вашу жизнь, да хранит Вас Бог, господин маркиз! Если я плохо поступил, накажите меня, но господина графа не упрекайте, потому что… клянусь, он славный малыш… и он для Вас… знаете, как он этих… немцев бил… к скоро он станет, это я Вам говорю… прямо, как Вы, хозяин! — Хватит, хватит похвал, друг мой, — сказал Буа-Доре, сжимая руку своего каретника. — Раз уж ты учишь молодого хозяина не слушаться меня, по крайней мере не учи его, как язычника, ругаться. — Разве я ослушался, отец? — спросил Марио. — Вы мне запретили атаковать цыган, а насчет рейтаров ничего не говорили. Маркиз взял ребенка на руки и, не удержавшись, с гордостью рассказал своим друзьям, как мальчик спас своего дядю из лап ужасного Санчо. — Итак, мой юный герой, — продолжал он, вновь обнимая ребенка, — было бы лучше оставить Вас под моим присмотром, но пришло время перевернуть страницу. Вы сами в одиннадцать лет отомстили за смерть отца и заслужили шпоры шевалье. Опуститесь на одно колено перед вашей дамой, ибо вы завоевали надежду когда-нибудь понравиться ей. Лориана, не колеблясь, как сестра, поцеловала Марио, а Марио, не покраснев, ответил на ее поцелуй. Еще не наступил тот миг, когда их святая дружба обратится в святую любовь. Затем оба вернулись к Мерседес, довольные тем, что чудом спасшийся Люсилио вернулся и уже дежурил около раненой. Марио не собирался хвалиться тем, что участвовал в спасении друга, который тоже прекрасно проявил себя в бою. Мерседес была так довольна заботами лекаря и приходом Марио, что не чувствовала никакой боли. Сделав ей перевязку, Люсилио пошел помогать раненым, всем, включая пленных, которых отправляли под надежной охраной в крепость-тюрьму Ла Шартра. Рейтары расположились во дворике рядом с обгоревшими строениями. Они имели очень унылый вид. Капитан Макабр дрался не на жизнь, а на смерть и был тяжело ранен. Теперь он хотел только одного: хлебнуть немного вина и забыться. Беллинда во время схватки так испугалась, что у нее помутился рассудок. Презрение и насмешки слуг и вассалов, которых она ненавидела и в прежние времена постоянно попрекала, ее совсем не трогали. Ее дорогой костюм притягивал к себе взгляды крестьянок и казался им совершенно ослепительным. Вскоре маркиз отправил ее в городскую тюрьму. Несмотря на протесты Адамаса, он проявил к ней снисхождение, оставив драгоценности и деньги и предоставив лошадь. Что касается Адамаса, то, узнав о ее намерении выйти замуж за маркиза и избавиться от Марио, он стал испытывать к ней глубокое отвращение. Все оставшиеся лошади рейтаров, которые оказались превосходными, упряжь, оружие и деньги офицеров достались храбрым слугам. Сам маркиз ничего не захотел взять из захваченных трофеев. Он поспешил прийти на помощь своим бедным подданным, пострадавшим от набега цыган.Глава пятьдесят седьмая
Расходиться стали тогда, когда увели пленных. Сопровождать их господину Робену помогли люди из окрестных селений. Привлеченные шумом боя, они немного опоздали, но теперь оказались полезны, заменив участников схватки, которым так необходим был отдых. Хромой Жан прибыл в числе последних и с удовольствием присоединился к эскорту. Он был уже под хмельком. Он потерял ногу, сражаясь с рейтарами, и поэтому давно ненавидел капитана Макабра. В город Ла Шартр он вошел с высоко поднятой головой, воображая себя капитаном Фракассом. Всем, кто хотел его слушать, он говорил о себе словами из народной песни: «его доблестная шпага поразила четырнадцать врагов». Указывая на самых сильных из пленников, он утверждал о каждом из них: — Вот этого взял я! Площадь была очищена от народа, но во внутреннем дворике Брианта беспорядка еще хватало. Одноэтажные строения были предоставлены для нужд людей и животных. Столовая и кухня были открыты для всех, кто хотел поесть или просто обогреться. Сам маркиз даже присесть не хотел, не позаботившись о нуждах остальных. Люсилио и Лориана перевязывали и лечили раненых, показывая все, на что способны. Самые разные люди и события представляли как бы живую картину. В одном месте извлекали пули, и раненые стонали и кричали от боли; в другом — люди смеялись и шутили, вспоминая подвига минувшей ночи, а совсем рядом — оплакивали погибших. Здесь и там можно было видеть старых женщин, которые громко кричали, разыскивая пропавшую козу или корову. Другие женщины потеряли своих детей и теперь метались с безумным взором, призывая их из последних сил. Марио энергично помогал этим поискам, а Адамас, как всегда предусмотрительный, в это время отдавал распоряжение вырыть на соседнем поле общую могилу для убитых врагов. Погибшим местным жителям были оказаны большие почести: их погребали в отдельных могилах. Разыскивали и господина Пулена, чтобы он читал молитвы перед погребением. Все поздравляли героев. Их было много, однако в течение этого дня в разных местах — под кучами сена, в углах риги — находили несчастных безумцев, которых страх парализовал настолько, что они могли бы сгореть заживо или задохнуться от дыма, так ничего и не предприняв. Буа-Доре и добрый Гийом находились в гуще этих событий, участвуя как в трагических, так и в комических эпизодах. Несмотря на то что удручающие зрелища поджидали их на каждом шагу, оба находились в состоянии некоторого возбуждения, которое возникает при благополучном исходе дела. Ведь эти потери и огорчения были не так уж велики по сравнению с тем, что могло произойти. Чтобы лучше исполнить свой христианский долг, Буа-Доре снова сел на коня, и далеко не все, кто видел маркиза в это время, могли его узнать. На нем все еще был фартук, превратившийся в лохмотья, обагренный кровью врагов, и многие вассалы думали, что он подпоясан обрывком знамени в знак достигнутой победы. Его пышные усы обгорели во время пожара, а бархатная шапочка мэтра Пиньу, поверх которой Буа-Доре наспех нахлобучил шляпу, надвинулась на глаза, из-за чего окружающие думали, что он ранен в голову, и каждый считал своим долгом заботливо спросить, как он себя чувствует. В могилы погибших были брошены первые комья земли, как вдруг один из них подал признаки жизни. Это оказался Ла-Флеш. Проходивший мимо Марио отдал распоряжение откопать несчастного, которое было исполнено не без колебаний. Благородный мальчик использовал весь свой авторитет, но никто из присутствовавших так и не согласился отнести его в лазарет. Все разбежались под разными предлогами, и Марио был вынужден разыскать Аристандра, последний не стал возражать, и они вместе вернулись на то место, где на сырой и холодной земле лежал раненый цыган. Но время было упущено. Ла-Флеш был безнадежен, он уже не стонал, а невидящий остановившийся взгляд говорил о приближающемся конце. — Слишком поздно, господин, — сказал Аристандр молодому хозяину. — Что Вы хотите? Ведь это я его сразил, и, поверьте, это было совсем не легко, но не я запихал ему в рот землю и камни, чтобы он скорее задохнулся, уж до этого я не додумался. — Землю и камни? — переспросил Марио, с удивлением и ужасом глядя на умирающего цыгана. — Но ведь он совсем недавно еще говорил! Может быть, он сам хватал зубами землю, борясь со смертью? Когда он нагнулся к несчастному, пытаясь облегчить его страдания, Ла-Флеш, покрывшийся смертельной бледностью, с усилием приподнял руку, как бы говоря: «Бесполезно, дайте мне умереть спокойно». Затем его рука вытянулась, так, что было похоже, что он указывает пальцем на своего убийцу, и навсегда застыла в этом положении. Не задумываясь, Марио посмотрел туда, куда указывал пугающий жест, но там никого не было. Похоже, что перед цыганом, испускавшим последний вздох, предстало какое-то видение. Однако Аристандр обратил внимание на еще свежие следы, оставленные на глинистой земле маленькой ногой. Следы тянулись вокруг трупа, а рядом с головой образовывали что-то вроде нимба и удалялись в направлении, которое все еще указывала рука. — Как жестоки бывают дети! — проговорил добрый каретник, показывая следы Марио. — Наверное, кто-то из детей Шарассона увидел, что вы хотите спасти этого наполовину покойника, и решил прикончить его вот таким способом, чтобы отомстить за отца. И хотя я сам уверен, что жизнь этих цыган не дороже жизни собаки, это дьявольский поступок, и люди правы, когда говорят, что зло порождает зло. — Да, да, мой добрый друг, — взволнованно ответил Марио. — Понимаешь, умирающий — уже не враг. Но посмотри в кустах: по-моему, там прячется маленькая Пилар. — Уж не знаю, — сказал Аристаццр, — кто такая маленькая Пилар, но точно вижу, что там та самая маленькая чертовка, которую я спас этой ночью. Бежит, как тощая кошка; теперь вы ее узнали? — Да, — ответил Марио, — я знаю ее слишком хорошо и вижу, что демон вселился в нее. Пусть убегает, и подальше отсюда, так будет лучше. — Уходите, сударь, не оставайтесь в этом дурном месте, — продолжал Аристандр. — А я предам земле жалкие останки этого безбожника, а то, по правде говоря, и собаки, и вороны уже чуют его, а господину маркизу не понравится, чтобы такая дрянь валялась на его землях. Измученный Марио отправился немного отдохнуть. Он проспал час в кресле, рядом со своей дорогой Мерседес, которая тоже сделала вид, что отдыхает. Потом вместе с милой и самоотверженной Лорианой он принялся помогать, лечить, утешать пострадавших в деревне и в замке. Маркиз наскоро привел себя в порядок и принял лейтенанта Королевской полиции. Вместе с Гийомом и Робеном он изложил факты магистратам, которым было поручено свершить справедливый и быстрый суд.Глава пятьдесят восьмая
День шел своим чередом. Из-за того, что все устали, в деревне и в замке воцарился покой. После многих дел Марио и Лориана почувствовали необходимость подышать свежим воздухом в саду, единственном месте во всем владении, которого не коснулись разрушения и насилие. В подробностях рассказывая юной подруге о своих приключениях, о которых Лориана хотела знать все, Марио вместе с ней подошел к «дворцу д'Астре», к тому самому лабиринту, где он провел такой нелегкий час прошлой ночью. Была чудесная погода. Дети уселись на ступенях хижины. Марио чувствовал легкий жар, хотя не был болен. Все, что он увидел и пережил за последнее время, сделало его взрослее, и, глядя на него, Лориана была поражена новым выражением грусти и твердости, которое сменило прежний мягкий и чистый взгляд. — Мой Марио, — сказала она, — боюсь, ты плохо себя чувствуешь. Тебе пришлось испытать страх и напряжение, проявить мужество и силу, почувствовать одновременно и радость, и печаль этой ужасной ночью. Мэтр Жовлен ручается за жизнь Мерседес, а она клянется, что ей не больно. Ты спас жизнь нашего дорогого отца Сильвена и отомстил за твоего собственного отца. Все это сделало тебя в этот час взрослым и отважным, но не надо беспокоиться, подумай лучше о том, чтобы отблагодарить Бога за ту помощь, что он оказал тебе во всем. — Я думаю об этом, Лориана, — ответил Марио, — но еще я думаю о том, что сказал мне утром мой отец, после его слов ты меня поцеловала и сказала: «Да, да». Так вот, об этом я теперь вспоминаю. Сразу я не понял слов отца, и ты должна мне теперь объяснить. Он сказал, что я завоевал надежду понравиться тебе. А разве до этого дня я тебе не нравился? — Конечно, Марио, ты мне очень нравился, и я тебя очень люблю. — Вот и прекрасно! Но когда мой отец с улыбкой говорит, что я буду твоим мужем, как думаешь, такое может случиться? — По правде говоря, не знаю, Марио, и не очень-то верю в это. Я тебя старше года на два, на три. А когда ты будешь молодым человеком, я стану уже почти старой. — Но, Лориана, Адамас сказал мне, что ты уже была замужем за твоим кузеном Элионом, а он был на три или четыре года старше тебя. Он же не упрекал тебя в том, что тыслишком молода для него? — Да, иногда, еще до женитьбы, мы ссорились, когда играли. — Так вот, я думаю, он был не прав. Ты вовсе не молода и не стара, а для меня ты всегда прекрасна, потому что я всегда буду любить тебя так, как сейчас. — Откуда ты знаешь, Марио? Говорят, с годами сердце меняется. — А для меня не так. Вот я считаю мою Мерседес молодой и милой, и с тех пор, как я появился на свет, мне всегда с ней хорошо. Да возьми отца: говорят, он старый, а мне с ним веселей, чем с Клиндором, а уж между мэтром Люсилио и нами и вообще не чувствую разницы в возрасте. Разве тебе скучно со мной, потому что я тебя моложе? — Вовсе нет, Марио. Ты гораздо рассудительней и вежливей других детей твоего возраста и ты уже сейчас знаешь больше меня, хотя нам и дают уроки вместе. — Скажи, Лориана, я тебе нравлюсь больше, чем тот твой муж? — Я не должна так говорить, Марио. Он был моим мужем, а ты — нет. — Значит, ты его любила, потому что он был твоим мужем? — Не знаю. Пока он был просто мой кузен, он мне не очень нравился. Мне он казался слишком озорным и шумным. Но когда нас вместе отвели в протестантскую церковь и сказали: «Теперь вы — муж и жена, вы увидитесь вновь через шесть-семь лет, но ваш долг — любить друг друга», я ответила: «Хорошо». И я молилась за моего мужа каждый день, прося Господа дать мне благодать, чтобы я могла полюбить мужа, увидав его снова. — И ты так и не увидела его? Ты горевала, когда он умер? — Да, Марио. Это ведь был мой кузен, и я много плакала. — Я тебе ни муж, ни кузен, если я умру, ты будешь плакать? — Марио, — сказала Лориана, — не надо говорить о смерти: считается, молодым это приносит несчастье. Я не хочу, чтобы ты умирал, и, повторяю еще раз, я тебя очень люблю. — Но почему ты не хочешь дать мне обещание, что я стану твоим мужем? — А что даст тебе, Марио, мое обещание стать твоей женой? Ведь ты не знаешь даже, захочешь ли жениться, когда станешь взрослым. — Мне это необходимо, Лориана! Мне не нужна другая жена, потому что ты добра и любишь все, что люблю я. Ты сказала, что любить мужа — это долг, и я уверен, что ты будешь любить меня всегда, если мы поженимся; напротив, если ты выйдешь замуж за другого, я потеряю тебя навек. Это было бы для меня таким тяжелым ударом, даже когда я думаю об этом, мне хочется плакать. — И вот опять ты плачешь понапрасну! — сказала Лориана, вытирая ему глаза своим носовым платком. — Перестань, перестань, Марио. Говорю же, ты сегодня плохо себя чувствуешь, тебе надо поужинать и хорошо выспаться. Ты переживаешь из-за того, что еще и не случилось, вместо того, чтобы радоваться, вспоминая, какие несчастья тебя миновали этой ночью. — Что прошло, то прошло, — сказал Марио. — Однако я вовсе не устал и не знаю, почему, но я думал о тебе всю эту ночь, каждую минуту, когда страшная опасность угрожала и мне, и отцу. «Если мы оба погибнем, — говорил я себе, — кто же защитит и спасет мою Лориану?» Правда-правда, я думал о тебе столько же, сколько о Мерседес, даже больше, чем о моей Мерседес и обо всех остальных. Знаешь, особенно часто вспоминал о тебе тогда, когда встретился с Пилар. — А почему эта злая девчонка напомнила тебе обо мне? Марио на минуту задумался и ответил: — Видишь ли, путешествуя с цыганами, я часто разговаривал и играл с малышкой, которая говорит по-испански и немного по-арабски, ее больной и несчастный вид вызывал у меня жалость. Мы оба, Мерседес и я, изо всех сил старались быть к ней добрыми, и она платила нам любовью. Она называла Мерседес «моя мать», а меня «мой маленький муж». Я говорил: «Не хочу, чтобы ты меня так называла», но тогда она плакала и капризничала, и, чтобы успокоить ее, я вынужден был соглашаться: «Да, да, пусть будет так». Я уверен, что этой ночью она помогла нам; я послал ее предупредить господ Робена и Гийома, и она прекрасно справилась с этим поручением; и все же она вызывает во мне ужас с тех пор, как я увидел ее жестокость и безверие. Сердце мое возмущалось, когда она называла меня мужем, я вспоминал о нашем шутливом договоре и видел рядом с собой, с одной стороны, дьявола в ее обличье, а с другой — моего ангела-хранителя. Когда Марио говорил, камень упал с крыши хижины так близко от Лорианы, что едва ее не ранил. Дети поспешили покинуть хижину, решив, что она разваливается от старости. Было время обеда, и маркиз ждал их.Глава пятьдесят девятая
А в это время все тщетно искали господина Пулена, ведь только он мог совершить заупокойную службу. В доме оказалась одна служанка, которая сильно пострадала от нападавших бандитов. Она лежала в постели и молилась о возвращении священника. Известий о нем не было. Вот уже два дня и две ночи, как он исчез. Наконец, вечером, когда господин Робен уехал с Гийомом д'Арсом и его людьми, оставив двоих своих раненых на попечении маркиза, появился Жан Фароде, арендовавший землю в Брильбо, и попросил сеньора немедленно принять его. Вот его рассказ, из которого мы узнаем о том, что происходило накануне в Брильбо. Все было так хорошо организовано, что участники встречи не сразу заметили отсутствие Буа-Доре. Они разбились на маленькие группы и в наступивших сумерках окружили таинственное строение. Уродливое строение было исследовано от подвала до чердака и оказалось совершенно безлюдным. Но на первом этаже, там, куда маркиз не решился проникнуть один, были найдены следы недавнего посещения: угольки в камине, ветошь на полу, остатки пищи. Был также найден подземный ход, который заканчивался довольно далеко от строения. Такие подземные ходы есть в каждом феодальном владении. Ко времени описываемых событий ход был почти полностью разрушен, но цыганам удалось очистить его и тщательно замаскировать вход. Дальше поиски не продолжали, не только потому, что сочли их бесполезными (враг ведь уже скрылся), но и потому, что искавшие начали опасаться за жизнь господина де Буа-Доре и принялись разыскивать его по всей округе. Все уже были серьезно встревожены, когда появилась маленькая цыганочка и рассказала, как обстояло дело. Еще какое-то время было потеряно из-за серьезных сомнений. Господин Робен считал, что маркиз попал в какую-то ловушку, и настаивал на том, что его надо искать. Господин д'Арс же считал, что рассказ ребенка вполне правдоподобен, и решил отправиться в Бриант со своими людьми. Через час господин Робен также решил последовать его примеру. Когда все разъехались, арендатор из Брильбо, которому было поручено продолжать обследование замка, побежденный усталостью, по его собственным словам, а скорее всего не совсем избавившись от страха, отложил порученное ему на завтра. — Как рассвело, я за дело и принялся, — рассказывал Жан Фароде, — обыскал все из конца в конец, все перевернул, старые дрова раскидал и нашел каморку, которую раньше не замечал. А в каморке человек, словно сноп перевязанный; а рот весь одеревенел от кляпа из соломы. Человек казался совсем мертвым, с ног до головы, но я его взял, к себе отнес, развязал, ему и полегчало, а уж после капельки вина он в себя и пришел. — А что это был за человек? — спросил маркиз, думая, что речь идет об Альвимаре. — Вам он знаком? — Конечно, господин Сильвен, — ответил арендатор. — Я его раньше видел. Это был господин Пулен, настоятель вашего прихода. Четыре часа он и слова сказать не мог, так измучился, пытаясь выпутаться из веревок. Только на рассвете он нам сказал: — Я расскажу все только суду. Я не виновен в том, что произошло, клянусь. — Весь день он был словно в лихорадке и метался туда-сюда. Наконец, сегодня вечером ему полегчало, и он пожелал вернуться домой, я его туда и доставил, посадив позади себя на круп моей жеребой кобылы, извините за выражение. — Пойдем расспросим его, — сказал Гийом, поднимаясь. — Нет, — ответил маркиз. — Пусть поспит. Ему это очень не помешает, да и нам тоже. Да и разве может он нам сказать что-то, чего мы сами уже не знаем? И в чем мы можем обвинить его? Он дал последнее напутствие умирающему господину д'Альвимару — это его долг. Узнав, что тот устроил против меня заговор, он, если и не стал угрожать ему разоблачением, по крайней мере отказался поддержать его. Вот поэтому цыгане его связали и заткнули рот кляпом. Гийом возразил, что господин Пулен опасен для Брианта, и следовало бы по крайней мере пригрозить ему разоблачением в деле с рейтарами, чтобы он был покорен и держался ото всех подальше. Маркиз категорически отказался мучить человека, который и так был наказан, пострадав от грубого обхождения и рискуя погибнуть забытым в своей темнице. — Сами посудите, — сказал он, — по милости Божьей, мы одолели сорок рейтаров, хорошо вооруженных и имевших пушку; мы справились с бандой ловких и изощренных мошенников; с ужасным пожаром и выбрались из самой гнусной западни. А теперь хотим отомстить бедному священнику, который и постоять-то за себя не может. Маркиз забыл, что опасность еще не устранена. Ведь принц, спешно отправившийся ко двору, мог быть там принят холодно, после чего он скорей всего внезапно вернется и выместит свои обиды на провинциальных вельможах. На этот случай следовало бы позаботиться о том, чтобы между маркизом и принцем не стоял человек, способный выступить на защиту деяний Альвимара. Именно об этом напомнил маркизу на следующий день Люсилио. Буа-Доре тотчас же поскакал к господину Пулену, чтобы справиться о его здоровье. Священник еще не вставал с кресла, так он намучился от холода, веревок и страха. Он попытался убедить маркиза, что, якобы, пострадал, упав с лошади, после чего был вынужден провести целые сутки у одного из своих собратьев. Но Буа-Доре сразу перешел к делу и заговорил с ним твердо, но вежливо и великодушно. Он не преминул показать священнику заметки из дневника Альвимара, который слишком нелицеприятно отзывался о нем и о принце. Господин Пулен был уже не столь горделив, и тревожные сомнения терзали его: — Господин де Буа-Доре, — произнес он, вздыхая и смахивая со лба холодный пот, выступивший при воспоминании о пережитых мучениях, — я видел смерть так близко и думал, что не боюсь ее, но она предстала передо мной в столь отвратительном и жестоком обличьи, что я дал обет уйти в монастырь, если мне удастся выбраться из того холодного каменного мешка, куда меня живьем захоронили. Теперь я свободен и жажду поскорей удалиться от интересов этого мира и не хочу принимать ни ту, ни другую сторону. В глубоком уединении я буду думать только о спасении моей души, и, если вы соблаговолите выделить мне келью в аббатстве Варенн, в котором вы являетесь доверенным лицом, я бы не желал ничего более. — Хорошо, — ответил Буа-Доре, — но при одном условии: вы мне правдиво расскажете о том, что же произошло в Брильбо. Не буду мучить вас ненужными вопросами: на три четверти я уже знаю то, что вы мне можете рассказать. Я хочу знать лишь одно: признался ли вам господин д'Альвимар на исповеди в убийстве моего брата? — Вы просите меня выдать тайну исповеди, — ответил господин Пулен. — И я бы отказался, как велит мне долг. Но сам господин д'Альвимар, искренне раскаявшись в свой последний час, поручил мне все рассказать после его смерти и после смерти Санчо, который, как он полагал, ненадолго переживет его. Знайте же, что господин д'Альвимар, принадлежавший по матери к благородному роду и получивший благодаря тому, что тайна его рождения осталась нераскрытой, право носить имя супруга своей матери, на деле был плодом преступной связи его матери с Санчо, бывшим главарем шайки разбойников, ставшим земледельцем. — Что вы говорите? — воскликнул маркиз. — Господин настоятель, вы объяснили мне последние слова Санчо. Он утверждал, что принесет меня в жертву в память о своем сыне! Но почему же господин д'Альвимар признался в этом на исповеди? Вероятно, далее он был вынужден сделать еще и другие признания? — Господин д'Альвимар был вынужден объяснить мне свое поведение по отношению к Санчо, чтобы вырвать у меня клятву не передавать в руки правосудия того, кого он со стыдом и горечью именовал виновником своего появления на свет, а также виновником своего преступления и своих несчастий. Именно этот жестокий и безнравственный человек сделал его сообщником смерти вашего брата, именно ему первому пришла в голову эта мысль и глубоко укоренилась в душе его, Альвимар же смирился, согласившись помочь и воспользоваться плодами преступления. Правда, единственной целью этого преступления, исполнители которого не знали свою жертву, было желание захватить деньги и ларец с драгоценностями, который ваш брат неосторожно показал накануне на постоялом дворе. В ту пору своей жизни господин д'Альвимар был еще очень молод и так беден, что не надеялся собрать денег даже на дорогу в Париж, где рассчитывал найти покровителей. Он был честолюбив, а это, признаю, сударь, великий грех и худшее из искушений сатаны. Санчо поддерживал и разжигал в сыне это проклятое честолюбие. Ему пришлось натолкнуться на некоторое сопротивление Альвимара, но он победил, представив это убийство, как верный и единственный случай, какого больше не будет, для того, чтобы обеспечить свое существование и избежать унижений, обращаясь к чужой жалости. Санчо присутствовал во время этой исповеди господина д'Альвимара, склонив голову и не пытаясь оправдаться. Напротив, когда я заколебался, не зная, отпускать ли грехи за проступок, который, на мой взгляд, еще недостаточно искуплен, Санчо, не задумываясь, взял всю вину на себя, И я вынужден признать, что было какое-то величие в страстном стремлении этой свирепой души спасти душу своего сына. И тогда я решил, что передо мной — два христианина, оба виновны, но раскаялись; однако Санчо сразу после того, как его сын отдал Богу душу, вызвал во мне страх и отвращение. Ужасная была сцена, сударь, и я ее до конца жизни не забуду! Мы находились в нижнем зале этого полуразрушенного замка, где был всего лишь один камин, и, хотя помещение было довольно просторным, мы теснились у огня, где можно было хоть как-то защититься от холода, которым так и дышал рухнувший, свод. У господина д'Альвимара вместо постели была лишь солома, а одеялом ему служил плащ Санчо и его собственный плащ. Агония, растянувшаяся на два месяца, так измучила его, что он походил на призрака. Однако для того чтобы получить последнее напутствие церкви, Санчо одел сына в лучшие одежды, и скорбело сердце мое и глаза мои при виде этого благородного, смирившегося дворянина среди бесчестной толпы цыган-язычников. Этих неверующих раздражало то, что они присутствуют на христианской церемонии. Они кричали, ругались и орали, насмехаясь, чтобы не слышать молитв святой церкви, которые внушают им отвращение. Так, оказывается, было постоянно в то время, когда господин д'Альвимар находился в замке. Каждую ночь Санчо, пользуясь тем, что цыгане заснули, пытался шепотом прочитать сыну те молитвы, которые он просил, но стоило кому-нибудь из цыган заметить это, как все: женщины, мужчины, дети — устраивали дикий шум, заглушающий голос Санчо и не дающий святым словам нашей веры проникнуть в уши. Вот так, среди этой ужасной вакханалии, где Санчо силой своего авторитета (основанного на том, что у него были припрятаны кое-какие деньги, которыми он время от времени с ними делился) иногда удавалось на минуту установить тишину, в один из таких моментов я соборовал несчастного молодого человека. Он умер, примиренный, надеюсь, с Господом, ибо он очень сожалел о своем преступлении и попросил меня открыть, истину принцу, если тот, введенный в заблуждение, подобно мне самому, неверными сведениями об обстоятельствах и причинах вашей дуэли, будет преследовать вас по этому поводу. — И вы решились это сделать, отец? — спросил Буа-Доре, вглядываясь в изменившееся лицо господина Пулена. — Да, сударь, — ответил священник, — при условии, что вы искренне и резко измените ваши намерения. — И теперь во имя высшей истины вы торгуетесь, требуя от меня засвидетельствовать правду? — Нет, сударь, ибо то, что произошло после смерти д'Альвимара, отняло у меня всякую надежду побудить вас последовать примеру ваших врагов и раскаяться. Санчо склонился над бледным лицом сына и замер без слов и без слез. Потом он встал, произнес вслух страшную клятву, пообещав отомстить всеми способами, и позвал находившегося здесь грязного дерзкого гугенота. — Капитана Макабра? — Да, сударь, он носил это зловещее имя. «Я позвал вас, — сказал ему Санчо, — чтобы дать вам возможность завладеть сокровищами Буа-Доре. Я присоединюсь к вам и обеспечу поддержку разведчиков и добровольных шпионов, которых вы здесь видите. Я обещаю вам через Беллинду хорошенькое дельце. И присутствующий здесь священник, который ненавидит Буа-Доре и в хороших отношениях с принцем, гарантирует вам безнаказанность». И вот тогда, сударь, я возразил. — Конечно, — улыбнулся Буа-Доре, — вы прекрасно знаете, что господин принц хотел один завладеть сокровищами, а он не тот человек, который позволит сокровищам уплыть в руки таких «хранителей». Господин Пулен молча выслушал упрек и опустил голову с выражением искреннего или наигранного раскаяния. Маркиз попросил его продолжать рассказ, и священник поведал, как капитан Макабр предложил проломить ему без всяких церемоний голову, чтобы лишить его возможности все рассказать, и как цыгане бросились на него, чтобы содрать с него одежду. — Эта драка, — добавил господин Пулен, — спасла мне жизнь, потому что Санчо успел передумать. Он сам связал меня и заточил в каморке, как вы знаете. Так жизнь моя оказалась спасена! Но такое спасение показалось мне страшней быстрой и жестокой смерти. Злодей, не оставив мне ни надежды, ни помощи, покинул вместе со своими цыганами Брильбо и помчался атаковать ваш замок. — Скажите, пожалуйста, — спросил маркиз, — как поступили с телом д'Альвимара? — Я понимаю, — ответил священник с неуверенной улыбкой, в которой, несмотря на его самообладание, еще сквозила неприязнь, — я понимаю, что вы заинтересованы найти тело, если состоится суд. Но, сами подумайте, подобная улика может обернуться и против вас. Если кому-то захочется солгать, он вполне может утверждать, что вы погребли свою жертву с помощью вашего друга господина Робена. Вашу будущую безопасность, господин маркиз, может обеспечить только моя лояльность, и я предлагаю вам мою поддержку. — На каких условиях, господин Пулен? — Условия? О них не может быть и речи, брат мой! С сегодняшнего дня я удаляюсь от мира. Обращаюсь к вашей доброте и молю об аббатстве Варенн. — Ах вот как? — сказал Буа-Доре. — Об аббатстве? Вы имеете в виду ту самую келью, о которой только что молили меня? — Неужели вы позволите погибнуть столь почитаемому аббатству и поставите каких-нибудь мужланов управлять общиной, которая должна подавать миру благой пример? — Ну что же, я понял! Посмотрим, отец, как вы поведете себя по отношению ко мне, и если я сочту себя удовлетворенным, вы будете более чем удовлетворены. Однако вы мне все еще не сказали, где же похоронен убийца моего брата? — Простите, сударь, — ответил священник (он был достаточно умен, чтобы не показывать, что торгуется, впрочем, он был готов устраниться от страстей и невзгод этого мира при условии, что сам от этого не очень пострадает), — расскажу вам, что я видел. Санчо поспешил убрать тело, опасаясь каких-нибудь выходок со стороны цыган. Он поднял, плиту в середине того зала, где мы находились, и там скорее всего он и похоронил сына. Что касается меня, я больше ничего, не видел. Меня утащили в мою ужасную темницу, где я промучился восемнадцать часов, то питая надежду, то впадая в отчаяние. Маркиз и священник распрощались весьма любезно, и господин, Пулен, собрав все силы, поднялся и отправился хоронить погибших в своем приходе. Но после обряда он почувствовал себя так плохо, что приказал позвать мэтра Жовлена, будучи наслышан о чудодейственном воздействии его бальзамов и эликсиров. Сначала он опасался препоручать свою жизнь заботам человека, которого, естественно, считал своим врагом. Но лечение итальянца так быстро помогло ему, что он почувствовал в душе что-то вроде благодарности, особенно тогда, когда Люсилио наотрез отказался от всякого вознаграждения. Итак, священнику пришлось искренне поблагодарить прекрасных господ из Буа-Доре, которые во время его болезни помогли ему и обеспечили лечение с тем же участием, с каким помогали своим друзьям.Глава шестидесятая
В день своего «брачного» объяснения с Марио Лориана заснула с трудом, ее весьма обеспокоило сердечное возбуждение Марио и заботы этого милого ребенка о будущем. Хоть она и мало знала жизнь, но все-таки понимала больше, чем Марио, и предвидела, что, когда Марио достигнет возраста, в котором узнают разницу между дружбой и любовью, он все еще будет для нее слишком молод и она должна будет питать к нему лишь чувство сестринского покровительства. Она меланхолично улыбалась при мысли о том, что стечение обстоятельств может привести ее к браку с ребенком. И она говорила сама себе, что судьба может поставить ее перед странным, может быть, трудным и фатальным выбором. Поэтому она оставалась грустна и решила набраться решимости и противостоять тем, кто будет стремиться повлиять на нее и заставить изменить свое тушение, ибо маркиз серьезно относился к своему плану, да и господин де Бевр, хотя и подшучивал над этим в письмах, скрывал за шутками горячее желание когда-нибудь увидеть этот замысел воплощенным в жизнь. Мечтая о счастье и браке, Лориана вовсе не мечтала о любви, но она смутно чувствовала, что странно было бы дважды выходить замуж, так и не познав любви. Она предчувствовала, что ее нынешнее спокойствие и нежные отношения с прекрасными господами из Буа-Доре уже омрачаются легкой, но тревожной тенью. Но уже на следующий день она успокоилась. Марио спал крепко; розы детства вновь зацвели на его атласных щеках, его прекрасные глаза вновь обрели ангельскую ясность, и улыбка доверчивого счастья запорхала на губах. Он вновь стал ребенком. Как только он увидел, что отец отдохнул, Мерседес успокоилась и все живы-здоровы, как тут же побежал на конюшню расцеловать свою лошадку, потом в деревню справиться о здоровье крестьян, потом в сад запускать волчок, затем на двор, где лазил по обгоревшим руинам. Он постоянно участливо помогал своей Мерседес и сидел около нее в спальне. Но как только все страхи рассеялись, Марио стал совершенно счастлив и поочередно с усердием предавался трудам и играм, так что Лориана могла его любить и невинно ласкать, не опасаясь завтрашнего дня. Воистину природа оказалась благосклонна, дав милому мальчику такой характер. Если бы он не смог оправиться от тяжелых потрясений, перенесенных им в страшный час, он бы так и жил, потерянный или разбитый. Но, надо сказать, в ту эпоху нравы были более жестокими, что делало человеческую натуру более гибкой и, следовательно, более выносливой. Чувствительность, чаще всего порожденная внешними жизненными потрясениями, притуплялась быстрее, и живые эмоции уступали место простому желанию выжить, выжить любым путем, которое спасает человека в моменты тревог и несчастий. В поместье Бриант зима прошла спокойно. Велись плотницкие работы в сожженных ригах в ожидании весны, когда смогут начать работу каменщики. Расчистили ров, временно укрепили камнями обвалившийся кусок стены, наконец, Адамас расчистил и укрепил подземный ход в деревню, и, чтобы восстановить мир с двором и провинциальной церковью, некоторым местным церквям вернули, как добровольный дар, кое-что из драгоценной утвари. Принцессу Конде попросили принять в дар кое-какие драгоценности, и Адамас тщательно спрятал те из них, которые, по его мнению, должны были украсить будущую супругу Марио. Те запасы золота и серебра в монетах, которыми располагал маркиз, ушли по большей части на ремонт построек и на покупку хлеба для дома маркиза и для его бедных вассалов. Этих же вассалов надо было обеспечить скотом взамен потерянного, ибо прекрасные господа из Буа-Доре не хотели видеть вокруг себя нищету. Наконец, то самое пресловутое сокровище, ценность которого очень сильно преувеличивали и которое едва не навлекло на замок великое несчастье и зловещие преследования, перестало вызывать зависть и уже не было источником несчастий и тяжелых гонений, поскольку уже не лежало мертвым грузом. Все видели и знали, что двери таинственной комнаты распахнуты и оставлены открытыми. Попытались обезопасить себя и от господина Пулена, предложив ему часть денег, но у него хватило ума отказаться, тем более он жаждал не столько материальных благ, сколько власти и влияния. Он хотел, по его словам, не «обладать», а «быть». Поэтому он так настаивал на аббатстве Варенн, довольно бедном убежище, расположенном среди зелени на берегу маленькой речушки Гурдон. Он не хотел иметь много земли, ему хватило бы и клочка, чтобы поселиться с двумя-тремя монахами. Его привлекал сам титул аббата и обретение убежища, где он мог бы существовать, не обременяясь каждодневными приходскими заботами. Через месяц он уже выздоровел настолько, что помышлял уже не только о хлебе и титуле, но и о том, чтобы приблизиться к сильным мира сего и взять в руки дела дипломатические, подобно многим другим, менее способным, чем он, и менее терпеливым. Буа-Доре понял, каково его честолюбие, и постарался наилучшим образом удовлетворить его. Он чувствовал, что рано или поздно принц, большой любитель церковного добра и аббатств, отберет и это в свою пользу, причем на своих условиях, и это был самый верный способ столкнуть интересы принца и самого господина Пулена. Итак, господин Пулен получил аббатство и отправился за разрешением церковных властей, которое позволило бы ему оставить приход. Господин Пулен видел, что первая часть его мечты о будущем, о которой он когда-то говорил д'Альвимару, сбывалась. Господин Пулен рассчитывал пробить себе дорогу, воспользовавшись существовавшими вокруг него разногласиями в вопросах веры. Д'Альвимар, жаждавший денег и мести, погиб бесславно и бесполезно. Господин Пулен, умевший пользоваться доверием и переменами в ситуации, свободный от прочих страстей и готовый пожертвовать ради корысти собственной затаенной злобой, шел в жизни, как он сам выражался, верным путем. По крайней мере наиболее надежным. Все были удивлены тем, что исчезла маленькая Пилар. Маркиз, узнав, как удачно передала она важное сообщение, хотел вознаградить ее, а Лериана говорила, что она хочет вернуть на путь добра это жалкое создание. Но никто не знал, что с ней случилось: решили, что она ушла с цыганами, которым удалось спастись. Пленные рейтары были переведены в Бурж. Их быстро осудили. Капитан Макабр как бандит, мятежник и предатель был приговорен к повешению, исполнить приговор надлежало без промедления. Маркиз пожалел Беллинду, которая от тюремных тягот почти обезумела, он отказался свидетельствовать против нее, считая ее душевнобольной. Ее выгнали из города и из провинции, запретив возвращаться под страхом смерти. Мерседес выздоровела, и Люсилио, видя, как тверда она в страданиях, которые переносила с какой-то экзальтированной радостью, начал по-особому привязываться к ней. Но он боялся показаться неразумным, признавшись ей в этом, и их взаимная симпатия, тщательно скрываемая, вся переносилась на «детей» — Лориану и Марио. Мадам Пиньу вознаградили по-дружески, так же как и ее верную служанку. Харчевня «Жео-Руж» уцелела от пожара, потому что враги поспешили отступить. Известия от господина де Бевра приходили все реже и реже, отчего Лориана очень страдала. Именно в это время ларошельцы и примкнувшие к ним сеньоры сделались корсарами в Океане, и задумали дерзкий план: занять устье Луары и Жиронду, и обложить выкупом всю торговлю. Де Бевр принял решение последовать за Субизом в эту опасную экспедицию. В эти тяжелые минуты никто не мог утешить Лориану так нежно, так изобретательно и так настойчиво, как Марио. Его любящее сердце и тонкий ум находили слова ободрения, и Лориана улыбалась сквозь слезы. Когда никто не мог развеять ее мрачные мысли, она не могла удержаться от того, чтобы не позвать Марио. Тогда она говорила Мерседес: — Я не знаю, какой светоч вложил Господь в душу этого ребенка, но одно лишь его слово утешает меня лучше, чем речи взрослых. «Но ведь это ребенок, — добавляла она про себя, — и я еще не в том возрасте, чтобы любить его по-матерински. Но я не знаю, почему так получается, однако не могу и помыслить о том, что когда-нибудь я не буду жить рядом с ним». В начале апреля 1622 года были получены хорошие известия. Де Бевру пришла в голову счастливая мысль не следовать за Субизом, которого постигли «тяжелые превратности судьбы» на острове Рие, когда он выступил против самого короля. Де Бевр удовольствовался тем, что отправился пиратствовать у берегов Гаскони, по его собственным словам, и с выгодой, и безопасно. Однако события на острове Рие тем не менее тяжело отразились на Лориане и ее друзьях из Брианта. Принц Конде надеялся на то, что король последует его совету и бросится в опасную авантюру. Король не преминул это сделать; храбрость была единственным достоинством, которое он унаследовал от отца. Но Конде не повезло: ни одна вражеская пуля не задела короля, его конь прошел по берегу в час отлива, не угодив в зыбучие пески, и Его Величество храбро сражался с гугенотами, не испытав ни поражений, ни ранений. Более того, продолжая с пылом сражаться, Людовик XIII, прислушавшись к добрым советам своей матери, которая в свою очередь следовала добрым советам Ришелье, не противился идеям о примирении и о переговорах, которые положили бы конец гражданской войне. Принц, мечтавший перепутать все карты, был огорчен и раздражен, он отвечал на письма от своих губернаторов в Берра посланиями медоточивыми, но исполненными желчи. Он приказал, кроме прочего, подвергнуть репрессиям гугенотов в своей провинции, хотя они, в общем, вели себя очень спокойно, арестовать имущество господина де Бевра, если тог через три дня после опубликования указа не появится в Берра. В три дня господину де Бевру, тогда находившемуся и Монпелье, было бы нелегко явиться в свои владения. В то время лишь для того, чтобы сообщить ему о принятых против него мерах, понадобилось бы в два раза больше времени. Наместник и мэр Буржа господин Бье, который всю жизнь имел привычку держать сторону того, кто сильней, и который в молодости был ярым сторонником Лиги, решил проявить рвение и издал декрет, гласящий, что господин де Бевр не появился в назначенное время, чтобы отчитаться за свое отсутствие, и поэтому его дочь, мадам де Бевр де ла Мотт де Сейи и так далее, должна покинуть свой замок и последовать в один из монастырей в Бурже, дабы там получить наставления в государственной религии.Глава шестьдесят первая
Был прекрасный весенний вечер. Марио и Лориана бегали по лугу перед замком и смеялись так заливисто и звонко, что им мог бы позавидовать соловей, как вдруг они увидели подбегавшую к ним испуганную Мерседес. — Пойдемте скорей, дорогая моя госпожа, — проговорила Мерседес, обнимая молодую девушку, — попробуем бежать. Клянусь, они схватят вас только после того, как убьют меня. — А как же я? — воскликнул Марио, подбирая с земли маленькую шпагу, брошенную во время игры. — Что случилось, Мерседес? Времени на объяснения уже не было. Мерседес знала, что вход охраняют солдаты магистрата. Она хотела провести Лориану в замок, спрятав ее под своим плащом, а потом бежать, воспользовавшись подземным ходом, но Марио стал возражать, заметив, что калитка тоже охраняется. Пока они спорили, маркиз также находился в затруднении, людям из магистрата, которые в вежливой форме сообщили ему о своих полномочиях, он сказал, что мадам де Бевр поехала на прогулку верхом вместе с его сыном. Чтобы рассеять возникшие подозрения, от него потребовали дать честное слово. Однако маркиз не хотел давать ложную клятву, тем самым подтверждая подозрения, и после многочисленных извинений со стороны солдат был взят под охрану вход и произведен тщательный обыск в доме. Гвардия магистрата Ла Шартра не была настолько велика и хорошо вооружена, чтобы можно было послать в Бриант большой отряд. Солдаты и офицеры подчинялись приказам принца, которого боялись и в городе, и во всей стране. Однако они неохотно выполняли приказ и радовались тому, что их визит не очень рассердил доброго господина Буа-Доре. Они исполнили то, что было предписано, но случись недовольство или небольшое сопротивление со стороны Буа-Доре — сразу же сбежали бы без всякого сожаления. Маркиз понимал все это, а Аристандр уже в нетерпении сжимал кулаки, ожидая лишь сигнала, чтобы обрушиться на господ гвардейцев. Но что-то подсказывало Буа-Доре, что дело серьезное и не ограничится трепкой, устроенной каретником передовому отряду. Имя мадам де Бевр было так скомпрометировано, что защита ее интересов воспринималась, как бунт против королевской власти, и двери, взятые под охрану «именем короля», были меньшим злом, чем появление на глазах патриотично настроенных владельцев соседних замков целой армии. Несмотря на то, что Буа-Доре имел характер античного воина, а в душе был непоколебимым протестантом, он со времен падения Валуа считал королевскую власть воплощением Франции, и теперь, когда последние усилия реформации, преследуя совсем другие цели, тем не менее неуклонно обрекали страну на все большую зависимость от внешнего врага, Буа-Доре проникся подлинным национальным чувством. Но, с другой стороны, ничто не могло заставить его бросить в беде дочь, своего друга. Он знал о преследованиях, которым подвергаются в монастырях дети из протестантских семей, и догадывался о том, что Лориана своим энергичным сопротивлением лишь усугубляла бы эти преследования. Маркиз понимал, что для спасения Лорианы необходима была какая-то хитрая уловка, и он незаметно для других поглядывал на Адамаса, призывая его проявить свою поистине гениальную изобретательность и на этот раз. Адамас ходил по комнате, любезничал с гвардейцами, а сам перебирал варианты возможного спасения их любимицы. То он предполагал затопить внутренний двор, подняв с этой стороны щиты в пруду, то хотел поджечь дом с помощью нескольких вязанок дров, сваленных в сарае, правда, потом пришлось бы несколько подпалить себе бороду, гася пожар после того, как непрошенные гости будут изгнаны. Так он терзался в тревоге, как вдруг увидел спокойную и гордую Лориану, которая шла к нему навстречу, держа за руку бледного и задумчивого Марио. За ними следовала в слезах Мерседес. Четверо полицейских весьма почтительно сопровождали их. Вот, что произошло. Лориана потребовала, чтобы ей объяснили, в чем дело. Она поняла, что любое сопротивление, направленное на то, чтобы спасти ее, навлечет на друзей обвинение в измене. Она прекрасно знала, что ее отец поставил на карту свою жизнь, и, увидев, что он уехал, она поняла, что рано или поздно и ее свобода окажется под угрозой. Она никому не говорила об этом ни слова, однако была готова все вынести, лишь бы не отказываться от своих убеждений. Напрасно Марио и Мерседес страстно умоляли ее молчать, она, повысив голос, объявила, что желает сдаться, и поклялась это сделать. Когда гвардейцы, явившиеся за ней, направились к лугу, она уже шла прямо к ним. Они не сразу решились задержать ее, она держалась так уверенно, что они засомневались, Лориана ли это. Но она назвалась и сказала: — Не стоит применять силу, господа, я отдаюсь в ваши руки добровольно. Позвольте мне попрощаться с тем, кто дал мне приют, и я буду готова следовать за вами. Маркиз был потрясен ее поступком и не мог не восхищаться благородством и великодушием девушки. — Господин лейтенант, — проговорил он, — вы видите, что я вынужден вам подчиниться, потому что такова воля мадам. Но и вам ничего не остается другого, как оказать ей все необходимые почести. Разрешите мне самому в карете отвезти ее вместе с моим сыном и гувернанткой в Бурж. Я возьму с собой двух или трех слуг, а вы организуете эскорт так, как посчитаете нужным. Справедливое требование было принято, и семье был дан час на сборы. Лориана готовилась к отъезду с поразительным самообладанием. Марио, смущенный и подавленный, ни о чем не мог думать и предоставил себя заботам Адамаса. Казалось, что у него нет сил даже поднять ногу, когда Адамас натягивал на него сапоги. К нему подошел Люсилио с запиской. В ней по-итальянски было написано: «Будьте достойны ее мужества». — О да, — воскликнул Марио, обнимая друга, — я понимаю, что сделала она, и сделаю все, что возможно. Но не кажется ли вам, что отец попытается ее спасти? — Если будет хоть какая-нибудь возможность, — сказал Адамас, — не сомневайтесь в этом. Адамас не оставит вас в беде. Бог милостив, он поможет. Наш господин подчинился, но он сохраняет надежду. Маркиз распорядился, чтобы Адамас и Мерседес ехали со всеми в карете. Клиндор взобрался на место рядом с Аристандром. А также уговорились, что Люсилио доберется до Буржа один и незаметно. — Сударь! — обратился Адамас к маркизу, как только они проехали Ла Шартр, — я нашел! — Что ты нашел, мой друг? — Я нашел выход! Когда мы будем в Эталье, мы попросим ненадолго остановиться у мадам Пиньу. Ее крестнице как раз столько же лет, сколько мадам Лориане. Ее то мы и возьмем с собой вместо мадам, попросив девушек обменяться платьями. — Но вдруг крестницы там не окажется в нужное время? — Если ее там не окажется, — вмешался Марио, поддерживая проект Адамаса, — я сам надену юбку, шарф и шляпу Лорианы, мы скажем, что я решил остаться у мадам Пиньу, а вместо меня на постоялом дворе останется Лориана, оттуда ей будет легко добраться до Гийома или до господина Робена, когда мы уедем. — Дети мои, — сказал маркиз, — делайте то, что считаете нужным, я не очень хотел бы оказаться в положении человека, на слово которого нельзя положиться. Когда все откроется, от меня потребуют объяснений. Придумайте какой-нибудь другой способ и говорите тише, чтобы я вас не слышал. — Вы забыли о том, что требуется еще и мое согласие, — заговорила Лориана. — Не надо больше ничего придумывать, Адамас, Марио, оставайся на своем месте. Я поклялась перед Богом покорно принять свою судьбу. Лориана сдержала свое слово: она отказалась выйти из кареты на постоялом дворе «Жео-Руж», хотя план с переодеванием давал реальный шанс спастись. Марио надеялся на то, что по дороге она передумает и согласится на какое-либо другое подобное предложение, но убедить ее в том, что от побега репутация маркиза не пострадает, так никому и не удалось. — Нет, нет, — неизменно повторяла она, — никто не поверит, что маркиз был против. И кто знает, мой бедный Марио, не возникнет ли у них желание задержать тебя до тех пор, пока меня не разыщут? Что касается Адамаса, я уверена, что он попадет в тюрьму. Именно этого я не хочу и поэтому ни за что не соглашусь на побег, а если вы все же попытаетесь его устроить, я подниму такой шум, что придется меня снова арестовать. Лориана осталась твердой в своем решении. Пришлось расстаться с мыслью о том, что удастся вызволить ее из плена. По приезде в Бурж все были подавлены и расстроены еще более, чем при отъезде из Брианта. Приближался конец испытаниям, и он оказался вполне благоприятным. Наместник принца, господин Бие, который рассчитывал на то, что маркиз окажет сопротивление, был очень удивлен появлением Буа-Доре и Лорианы и оказал им почести в ответ на благородство, с которым она себя вела. Господину Бие пришлось смягчиться, изобразить сожаление по поводу жестких распоряжений принца и согласиться с тем, чтобы Лориана была препровождена в женский Благовещенский монастырь, основательницей которого была тетка Шарлотты д'Альбре, знаменитой бабки Лорианы, Жанна Французская. Там у Лорианы были подруги, и ей разрешили оставить при себе для услуг Мерседес. Монастырь был из тех, куда еще не успело проникнуть неукротимое влияние иезуитов. Монахини, жившие замкнутой, созерцательной жизнью, не требовали от Лорианы излишнего религиозного рвения. Маркиз имел с настоятельницей беседу, во время которой ему удалось расположить ее к юной затворнице и получить разрешение навещать ее в любой день вместе с Марио, встречаясь в приемной для посетителей в присутствии монахини. Несмотря на эти надежды, Марио почувствовал себя несчастным, когда тяжелая дверь монастыря захлопнулась за его дорогой подругой. Ему казалось, что она не выйдет оттуда никогда, волновался он и за Мерседес, которая хотя и улыбалась при прощании, но совсем потеряла голову, как только Марио ушел и она поняла, что ей придется впервые в жизни провести ночь не в одном доме с мальчиком. Ни она, ни Лориана не заснули в эту ночь, они говорили и плакали до утра, поскольку уже не боялись огорчить своими слезами Марио. — Моя Мерседес, — говорила Лориана, обнимая ее, — я знаю, какую жертву ты принесла, расставшись с ребенком, которого ты любишь, чтобы утешить меня. — Дочь моя, — ответила Мерседес, — признаюсь, утешая тебя, я утешаю и его, потому что Марио, думаю, любит тебя еще больше, чем меня. Не отрицай: я в этом убедилась, но я вовсе не испытываю ревности, ибо чувствую, что в тебе — счастье его жизни. Никакими способами нельзя было переубедить Мерседес, что такому браку не бывать, и Лориана не осмеливалась ей возразить, особенно в такой момент. Буа-Доре сомневался в указаниях принца, данных по поводу Лорианы. Принц был человеком коварным, скупым и неблагодарным, но жестоким он не был, и его отвращение к женщинам не доходило до травли. Впрочем, маркизу показалось, что, когда он расспрашивал посланца принца о якобы существующих тайных приказах насчет Лорианы, тот как-то заколебался. Маркиз надеялся с помощью убеждений и уговоров заставить отменить приказ об аресте. Он послал нарочного в Пуату, чтобы попытаться найти господина де Бевра и уговорить его вернуться как можно скорей. Сам маркиз расположился в Бурже и для того, чтобы выполнить свой замысел по поводу господина Бие, и для того, чтобы не терять из виду свою дорогую воспитанницу. Нарочный не нашел господина де Бевра, говорили, что тотопять отправился в море, неизвестно к каким берегам. Прошло два месяца, а вестей от него так и не получили. Лориана оплакивала его. Ее не могли обмануть те сказки, что рассказывал маркиз, пытавшийся убедить ее, что какие-то люди где-то видели господина де Бевра и тот себя чувствует хорошо. Маркиз делал вид, что его смущает присутствие монахини и поэтому он не осмеливается в доказательство передать письма. Лориана раз и навсегда решила оставаться спокойной, чтобы не волновать Марио, который постоянно тревожно смотрел на нее.Глава шестьдесят вторая
Прошло лето 1626 года, а маркиз так и не смог ни просьбами, ни угрозами добиться освобождения пленницы под залог. Господин Бие опасался, что сделал глупость, дав распоряжение подвергнуть заключению мадам де Бевр. Долгое отсутствие и полное молчание отца очень ухудшали обстановку. Совершенно бесполезно было отрицать причины такого поведения господина де Бевра. Никто из них уже не сомневался, и на настойчивые упреки маркиза господин де Бие ответил с горькой улыбкой: — Но почему этот дворянин не явится за дочерью? Она ему тотчас будет возвращена, равно как и управление его владениями. Люсилио устроился в Бурже, в пригороде Сент-Амбруаз, под чужим именем. Он виделся только с Марио, который приходил пешком без сопровождения, чтобы брать уроки. Мерседес, которая могла покидать монастырь, приходила готовить для Люсилио, иначе философ, поглощенный своими трудами, забыл бы о еде. Господин Пулен был еще в Бурже и занимался тем, что добивался разрешения стать аббатом, и вот однажды он нос к носу столкнулся с Люсилио в маленьком садике, примыкавшем к его скромному жилищу. Встретившись, будущий аббат и Люсилио поняли, что они проживают под одной крышей. Люсилио опасался доносов и преследований, но ничего подобного не случилось. Господину Пулену понравилось его общество, и он с большой заинтересованностью отнесся к Марио, приходившему брать уроки. Господин Пулен был умен и смог пересмотреть свою точку зрения, поняв, сколь мало он мог положиться на принца де Конде. Ибо архиепископ Буржа отказывался назначать священника аббатом без разрешения принца, а принц, казалось, вовсе не спешил давать согласие. Во время этого подобия изгнания в Бурже существование наших героев было довольно спокойным. Они даже чувствовали себя в большей безопасности, чем в последние дни в Брианте. Но маркиз сильно скучал, вынужденный расстаться со своими привычками к роскоши, к благосостоянию и активной жизни. Он вел себя как человек маленький и незаметный, чтобы не привлекать внимание к Лориане в городе, где еще жив был дух Лиги и где короткое, но бурное владычество протестантов оставило плохие воспоминания. Марио, чтобы развлечь маркиза, пытался выглядеть веселым, но несчастный ребенок уже не был так весел. Он стал бледен и задумчив, однако очень усердно занимался учебой, ему доставляло удовольствие рассказывать Лориане обо всем, что они прошли и выучили с мэтром Жовленом. Так они убивали время при своих каждодневных встречах, ибо нет худшего принуждения, чем невозможность излить душу перед человеком, которого любишь, в присутствии свидетелей. Иезуиты, которые уже проникали везде, пытались убедить маркиза доверить им воспитание очаровательного ребенка. Маркиз мягко отклонял их просьбы, не желая откровенно рвать с ними, и оставлял им подобие надежды, но его ухищрения не обманывали иезуитов. Их стали беспокоить таинственные прогулки Марио в пригород. Они выследили его, и тогда их заинтересовал мэтр Жовлсн. Все устроил господин Пулен, заявив, что знает Жовлена как верного сына церкви и, кроме того, сам присутствует на его занятиях с молодым дворянином. Господин Пулен скорее боялся, чем любил иезуитов, но он чувствовал достаточно сил, чтобы водить их за нос. Наконец, ход войны ускорился; пришло известие о подписании мира в Монпелье, и строились прожекты большого праздника в честь господина принца, который должен был состояться в его добром городе Бурже. Но пришлось отказаться от этого: принц прибыл неожиданно и в дурном расположении духа, чувствуя, что свою роль он уже сыграл. Король провел его: во-первых, он так и не захотел умереть, а во-вторых, заключил мир за его спиной. Кроме того, королева-мать вновь вошла в доверие. Ришелье получил кардинальскую шапочку и, несмотря на все усилия принца, потихоньку подбирался к власти. Конде ограничился тем, что проехал через провинцию и через город. В астрологию он больше не верил и от разочарования стал набожен. Он дал обет в церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Принц отправился в Италию, совершенно не интересуясь делами в собственной провинции. Господин Бие, чувствуя, что гугенотам собираются возвратить их права на свободу совести и что ему не стоит упорствовать с освобождением Лорианы, сам отправился с маркизом за ней в монастырь. Монахини, полюбив ее, с сожалением расстались с ней. В последние пять месяцев Лориана сильно страдала душевно, даже побледнела и похудела; она, не жалуясь, выполняла все религиозные обряды с твердой и внушающей уважение выдержкой, от всей души она обращалась к Господу у католических алтарей, впрочем, воздерживаясь от любых замечаний, которые могли бы задеть святых сестер Благовещенского монастыря. Но когда ей предлагали обратиться в католичество, она кивала головой, словно говоря «я слышу», и упрямо замолкала, не отвечая на обращенные к ней вопросы. Зная, что над отцом ее, может быть, навис топор палача, она не могла требовать для себя свободы вероисповедания. Она замолкала и переносила навязчивые расспросы со стоицизмом страдальца, у которого со связаны руки, а он, слыша, как мухи кружатся вокруг его головы, но не может отмахнуться от них и не хочет даже моргнуть, чтобы их отогнать. В каждом случае она была подчеркнуто уважительна с сестрами и успокаивала их своей очаровательной предупредительностью. К счастью, среди монахинь царил действительно христианский дух. Они приносили обеты, возносили молитвы за ее обращение и оставляли ее в покое. Это было чудом, где-нибудь в другом месте Лориану, отчаявшись дождаться обращения, могли бы обвинить в колдовстве и обречь на костер: таков был последний довод, если гонимые не соглашались добровольно обвинить себя в ереси. Наконец, 30 ноября наши герои, исполненные радости и надежды, возвратились в замок Бриант. Вскоре получили хорошие новости и от господина де Бевра, что он вот-вот прибудет, и он действительно прибыл. Ему устроили пышную встречу, а потом пришел момент расставания. Приличия требовали, чтобы Лориана вернулась в свой замок, а толстому де Бевру было тесновато в маленьком поместье Бриант. Лориане не подобало показывать отцу, что она испытывает сожаление, возвращаясь жить под отчий кров. Да она ничего такого и не испытывала, так она была счастлива вновь обрести отца! Однако не успела она вернуться в печальный замок Ла Мотт, как внезапно ею против воли овладела меланхолия. Прекрасные господа из Буа-Доре проводили ее и по просьбе ее отца должны были провести с ними два-три дня. Мерседес и Жовлен тоже приехали. Стало быть, то чувство, что охватило ее, вовсе не было ощущением одиночества: ведь все могли и должны были видеться каждый день. Этот смутный испуг, смущавший Лориану, был ни чем иным, как подобием разочарования, в котором она и сама себе не отдавала отчета. Она всегда хотела считать своего отца героем; при мысли о том, каким опасностям он подвергался, она так тревожилась за него в монастыре, что стала относиться к отцу восторженно. Этот восторг сильно преуменыиился с тех пор, как отец вернулся. Во-первых, де Бевр, которого ожидали увидеть худым и изможденным, вернулся еще красней и еще толще, чем раньше, и жаловался, что растолстел от бездействия. И умом он тоже как-то огрубел. Его шумная веселость стала грубоватой. Он изображал из себя моряка, курил табак, ругался более, чем следовало, и уже не облекал свой скептицизм в изящные афоризмы Монтеня. Иногда он напускал на себя загадочное и лукавое самодовольство, что являлось большой неучтивостью по отношению к своим друзьям. Разгадка своего странного поведения была дана им накануне их отъезда из замка Ла-Мотт во время беседы, которую мы должны изложить читателю.Глава шестьдесят третья
Ранним утром все отправились на охоту, так начался день, затем был обед, а вечером обитатели замка собрались в большом зале у камина, и тут Гийом д'Арс, который после получения известия о мире очень усердно ухаживал за Лорианой, с радостным оживлением попросил слова. Все оставили игры и беседы, а Гийом подошел к Лориане и еще раз попросил позволения говорить, она, конечно же, разрешила, не догадываясь, о чем пойдет речь. Гийом торжественно произнес: — Дамы (в зале была и Мерседес) и господа, друзья, родные и знакомые, прошу вас выслушать мою историю. Вы видите перед собой молодого человека, видом не хуже и не лучше прочих, не очень образованного, мэтр Жовлен не даст соврать, довольно богатого и из хорошей семьи, это, конечно, не добродетели, довольно храброго, и это не хвастовство, наконец… Может, я подожду, может, кто-нибудь соблаговолит похвалить меня, потому что, как вы видите, у меня не очень-то получается хвалить самого себя. — Ну конечно! — воскликнул маркиз со своей обычной доброжелательностью. — Вы, мой кузен, гораздо лучше, чем ваши слова, вы — цвет дворянства нашей провинции, образец рыцарства, как Альсидон, «столь уважаемый теми, кто вас знает, что нет ничего, чего бы вы по заслугам не достигли». — Оставьте ваши глупости из «Астреи», — сказал господин де Бевр. — К чему вы это говорите, Гийом? И почему вы вдруг вымаливаете наши похвалы, когда никто из присутствующих и не думает говорить о вас дурно? — Дело в том, мессир, что я намерен обратиться к вам с серьезным прошением и мне хотелось бы, чтобы все те, кому вы особенно доверяете, выступили перед вами как мои защитники. — Мы готовы засвидетельствовать вашу порядочность, храбрость, воспитанность и дружелюбие, — сказала Лориана. А теперь, говорите, ибо здесь две женщины, а женщины любопытны. Лориана еще не закончила фразу, а уже покраснела, сожалея об этих словах. А увидев восторженный и несколько самодовольный взгляд Гийома, она вдруг поняла, о чем пойдет речь. Действительно, воодушевленный словами Лорианы гораздо более, чем она того желала, Гийом попросил ее руки, ссылаясь на поддержку присутствующих и смешивая в своем объяснении преувеличение, шутку и чувства в манере, которая в духе того времени могла считаться удачной и подходящей. Это заявление было довольно длинным и путаным, чего и требовал обычай, но вместе с тем оставалось искренним, пылким и сердечным по отношению ко всем присутствующим. Когда все прояснилось, на лицах слушателей появились весьма различные выражения. Господин де Буа-Доре почувствовал замешательство и глубокую досаду, впрочем, он прекрасно сдержал их. Лориана опустила глаза, она была скорее грустна, чем взволнована. Мерседес с тревогой вглядывалась в широко распахнутые глаза Марио. Заметив это, Марио отвернулся к стене, чтобы никто не видел его лица. Люсилио внимательно смотрел на Лориану. Один господин де Бевр остался спокоен и просто размышлял. Он шевелил губами, казалось, целиком погрузившись в какой-то неуловимый подсчет. Все хранили молчание, и Гийом почувствовал себя несколько смущенным. Но это молчание можно было рассматривать и как поддержку, и как неодобрение. Гийом опустился перед Лорианой на колено, словно ожидая ее ответа в позе абсолютного смирения. — Встаньте, мессир Гийом, — обратилась к нему юная дама, и сама поднялась, чтобы заставить его поскорее встать. — Вы нас застали врасплох, так как эта мысль не приходила нам в голову, и мы не можем дать вам ответ столь же быстро, сколь вы сделали предложение. — Я сделал его не быстро, — ответил Гийом. — Вот уже два или три года, как я задумал это. Но ваш юный возраст и ваш траур внушали мне опасения, я боялся заговорить слишком рано. — Позвольте мне в этом усомниться, — сказала Лориана, знавшая по слухам, что Гийом всегда вел веселую жизнь и еще недавно вздыхал по нескольким дамам, на которых вполне мог бы жениться. — Дочь моя, — сказал наконец господин де Бевр, — позвольте мне сказать, что Гийом не лжет. Я знаю, что уже давно он связывает все мысли о браке с вами. Но, на мой взгляд, он немного опоздал со своим предложением. — Немного опоздал? — воскликнул раздосадованный Гийом. — У вас есть другие планы? — Нет, нет, — рассмеялся де Бевр, — моя дочь никому не обещана и ни с кем не обручена, разве что нашему молодому соседу, маркизу де Буа-Доре, или вот этому серьезному юноше, второму господину де Буа-Доре, который там в углу спит, пока тут просят руки его «суженой». Марио, смущенный и обиженный, не повернулся. Все решили, что он спит, одна Мерседес видела, что он плачет. Тогда маркиз встал и ответил несколько оживленней, чем обычно: — Дорогой сосед, ручаюсь, ваши насмешки — упрек нам за молчание, и мы прервем его. Вы меня простите, Гийом, ибо пока небо простирается над нами, я буду считать вас лучшим и честнейшим из людей, достойным быть счастливым супругом нашей Лорианы. Но, не желая наносить вам ущерб в ее глазах, я заявляю, что мое предложение предшествовало вашему и что мне подавали надежду как она, так и ее отец, так что я рассчитывал, что меня выслушают первым. — Вас, кузен? — воскликнул изумленный Гийом. — Да, меня, — ответил Буа-Доре, — как дядю, опекуна и приемного отца присутствующего здесь Марио де Буа-Доре. — Присутствующего здесь? — рассмеялся господин де Бевр. — Да он спит сном невинности. — Я не сплю! — закричал Марио, — бросившись к отцу и открыв лицо, распухшее от рыданий, которое он прикрывал ладонями. — Ну конечно! — сказал господин де Бевр, — и он нам это говорит, несмотря на заплывшие от сна глаза. — Нет, — продолжал маркиз, вглядываясь в лицо ребенка, — глаза у него обожжены слезами. Лориана вздрогнула: горе Марио напомнило ей о сцене в лабиринте, и вновь у нее в сердце зашевелились страхи, о которых она уже забыла. Слезы мальчика задели ее, а взгляд Мерседес уколол ее, словно упрек. Люсилио, казалось, также разделял эту тревогу. Лориана почувствовала, что надолго, может, и навсегда, счастье этой семьи оказалось у нее в руках. Она погрустнела еще больше, увидев, что маркиз тоже в слезах, тогда она с одинаковой нежностью поцеловала и старика, и мальчика, умоляя их проявить рассудительность и не волноваться о будущем, о котором она и сама пока не думала. Де Бевр пожал плечами. — Вы оба очень смешны, — сказал он, — а вы, Буа-Доре, трижды безумны, по-моему, забивая голову этого бедного мальчика вашими глупыми романами. Сами видите, куда ведет такое баловство. Он считает, что он уже мужчина, и хочет жениться, а в его возрасте ему розга нужна. Эти жестокие слова окончательно сразили Марио и серьезно рассердили маркиза. — Дорогой сосед, — сказал он де Бевру, — по-моему, вы излишне жестоки. Розги, на мой взгляд, не нужны в воспитании ребенка, доказавшего, что у него сердце отважного мужчины. Я знаю, что он сможет жениться лишь через несколько лет, но я вспоминаю, что наша Лориана не хотела выходить замуж, прежде чем пройдет семь лет, начиная с того самого дня, когда в этой самой комнате в прошлом году она вручила мне залог… — Не будем больше говорить об этом ужасном залоге! — воскликнула Лориана. — Напротив, будем и поблагодарим Господа, — ответил маркиз, — потому что с помощью этого кинжала я нашел сына моего брата. Ваши благословенные руки, Лориана, принесли счастье в мой дом, и простите, если я был столь безумен, что надеялся на то, что вы и сами войдете в него. Чем счастливей человек, тем больше счастья надо ему. Что касается вас, друг мой де Бевр, вы не будете отрицать, что поддержали мою идею. Об этом свидетельствуют ваши письма, вы в них писали. «Если Лориана согласится обождать и не будет стремиться к браку, прежде чем Марио не достигнет девятнадцати-двадцати лет, клянусь, меня бы это вполне устроило». — А я и не отрицаю, — ответил де Бевр, — но я был бы глуп, если бы не рассматривал вопрос о браке моей дочери с двух точек зрения: и с точки зрения будущего, и с точки зрения настоящего. Будущее — вещь ненадежная. Кто поручится, что через шесть лет мы еще будем в этом мире? А потом, когда я это писал вам, дорогой сосед, положение мое было не из лучших, а теперь, я это утверждаю безоговорочно, оно улучшилось гораздо более, чем вы можете подумать. Итак, послушайте меня, маркиз, и вы, господин д'Арс, и особенно вы, дочь моя. Я рассчитываю, что вы сохраните тайну, которую я доверяю вам как людям честным и осторожным. В последней кампании я удвоил свое состояние, это была моя основная цель, и я ее вполне достиг, служа своему делу на свой страх и риск. Я, как мог, сражался с недобрыми людьми и способствовал, как и многие другие, установлению мира, данного нам королем. Поэтому, господин д'Арс, вы оказываете мне честь, предлагая породниться, но это касается лишь вашего имени и ваших заслуг, потому что я теперь столь же богат, как и вы. А вы, друг мой Сильвен, если вы по-прежнему дорожите моей дружбой, знайте, что ваши сокровища меня не ослепляют, так как у меня есть мое сокровище: «три корабля на море», и все «полны золота, серебра и товаров», как поется в народной песне. Итак, мои прекрасные и дорогие гости, вы дадите мне время подумать и ответить вам, моя дочь тоже подумает и, когда придет время, вынесет окончательный приговор. После этих слов ничего не оставалось, как распрощаться и пойти спать. Гийом как человек светский с улыбкой отнесся к притязаниям Марио, но не выказал ни озлобления, ни насмешки, когда Марио поднялся к нему, чтобы потребовать удовлетворения, а Гийом слишком любил мальчика, чтобы обидеть его. Гийом удалился, питая вполне оправданную надежду одержать верх над противником, который ему и до плеча не дорос. Марио плохо спал и утром ел без аппетита. Отец увез его, опасаясь, что он заболеет. Маркиз всю дорогу ругал себя за то, что он позволил себе и другим играть с будущим детей, да еще в их присутствии. Но эти запоздалые угрызения совести не исправили маркиза. Его романтический и странный склад, во многом схожий со складом ребенка, не мог воспринять здравых понятий времени. Как себя он считал все еще молодым, так полагал, что и Марио достаточно созрел для того типа любви, холодной и говорливой, целомудренной и манерной, который был вбит ему в голову чтением «Астреи». Марио ничего не знал о тонких оттенках этого слова. Он чувствовал лишь мучения в сердце, глубокие и долгие. Он говорил: «Я люблю Лориану», но, если бы у него спросили, какой любовью, он бы ответил, что любовь только одна. Чистый, как ангел, он жил истинным идеалом жизни, который заключался в том, чтобы любить ради того, чтобы любить. Как только де Бевр и Лориана остались одни, он стал уговаривать ее дать согласие д'Арсу. — Я не хотел огорчать маркиза, высказав мое мнение, — сказал он, — но его мечта нелепа. И я думаю, что вы не захотите еще шесть лет ходить в черном вдовьем чепце, дожидаясь, пока у этого мальчишки выпадут молочные зубы. — Я никаких обещаний не давала, — ответила Лориана, которая становилась все грустнее и грустнее, — но боюсь, что вы, не поставив меня в известность, дали обещание маркизу. — Да я бы посмеялся над обещаниями, — продолжал де Бевр, — но я их и не давал. Тем хуже для этого безумца и его мальчишки, если они серьезно восприняли пустые слова: пусть один утешится деревянной лошадкой, а другой — новой перевязью, потому что оба они — настоящие дети. — Дорогой отец, — сказала Лориана, — мне уже нельзя подшучивать над маркизом. Он был для меня больше, чем отец, он был мне и отцом, и матерью, и братом одновременно: так по-отечески, с нежностью и с милым весельем обращался он со мной! Марио, конечно, ребенок, но он все-таки не такой ребенок, как другие. Он нежен и тонок и внимателен к людям, как девушка; он храбр, как мужчина, потому что вы знаете, что он сделал, и, кроме того, для своего возраста он очень много знает. Он сможет нас обоих поучить! — Ну конечно, дочь моя! — воскликнул де Бевр, хлопнув себя по животу, — вы совсем голову потеряли из-за этих прекрасных господ из Буа-Доре. И мне кажется, что я для вас не очень-то много значу. Вас очень заботит их огорчение и мало волнует мое согласие, раз вы не желаете меня слушать, когда я говорю вам о Гийоме д'Арсе. — Гийом д'Арс — мой хороший друг, — ответила Лориана, — но как муж он для меня стар. Ему уже скоро тридцать, он хорошо знает мир и найдет меня слишком глупой или слишком уж дикаркой. До установления мира его предложение, может быть, и польстило бы мне, он тогда бы поддержал нас своим именем, когда мы были гонимы. Но теперь никакой его заслуги в этом нет: наши права признаны и наше спокойствие гарантировано. И тем более ему не следует настаивать на своем теперь, когда мы богаче его. Тщетно пытался господин де Бевр заставить свою дочь изменить мнение. Его раздражало мнение дочери, так как в глубине души, если бы Гийом и Марио были одинакового возраста, он все равно предпочел бы Гийома. Зять, склонный к непритязательным и беззаботным радостям, любящий физические нагрузки, подходил ему гораздо лучше, чем зять, получивший великолепное образование и обладающий характером избранного. Лориана старательно защищалась, однако, чтобы не огорчать отца, произносила: «Ваша воля будет и моей». Но, говоря так, преследовала еще одну цель — она рассчитывала на обещание, данное ей отцом, когда она овдовела: никогда не идти против ее собственных склонностей. Де Бевр, разбогатев, стал более властным — ему очень хотелось поймать дочь на слове и заявить: «Такова моя воля». Но он был человек не злой, и Лориана была, пожалуй, его единственной привязанностью. Он ограничивался тем, что без конца рассказывал ей о своих материальных интересах, чем очень огорчал и печалил ее, а она-то раньше считала, что, когда он отправился в последний гугенотский крестовый поход, его это перестало интересовать. Она не сдалась, но согласилась, чтобы не обижать Гийома, дать ему очень осторожный отказ и до новых распоряжений принимать его визиты.Глава шестьдесят четвертая
Прекрасные господа восемь дней не появлялись. Де Бевр не хотел отпускать дочь в Бриант, заявляя, что не следует поддерживать иллюзии. Они немного поспорили Лориана волновалась и плакала, пытаясь объяснить отцу. — Из-за вас меня сочтут неблагодарной, — говорила она. — Обо мне там так заботились, теперь я должна поехать позаботиться о Марио. По крайней мере вы-то должны туда наведываться каждый день. Они решат, что вы их забыли теперь, когда мы в них не нуждаемся! Ах, если бы я была мальчиком! Я бы могла в любой час помчаться туда на лошади, я была бы приятелем и другому бедному ребенку, я могла бы дружить с ним, не думая об узах в будущем и не опасаясь упреков. Наконец, Лориана убедила отца поехать в Бриант. Она увидела, что Марио неплохо справился с печалью и, казалось, вновь согласился стать ребенком. Лориана шалила со своим невинным возлюбленным и смеялась. Маркиз был несколько задет поведением господина де Бевра. Но они не могли держать зло друг на друга. И принялись беседовать, как будто бы ничего и не произошло. — Не надо дуться, сосед, — сказал де Бевр Буа-Доре. — Ваши идеи насчет этих детей — пустые грезы. Видите, как невинно играют они вместе! Это знак того, что любовь у них не сладится. Подумайте, слишком молодой муж ненадолго привяжется к единственной женщине, а покинутая женщина и ревнива, и злобна. Кроме того, между этими детьми есть препятствие, о котором нам следовало бы подумать: один католик, а другая — протестантка. — В этом нет препятствия, — ответил маркиз, — можно пожениться в любой церкви, а потом каждый обратится к той, которую предпочитает. — Да, для вас, старого безбожника, это выходит хорошо, вы принадлежите к двум церквям, а, стало быть, ни к одной. Но для нас… — Для вас, сосед? Не знаю, какого вы вероисповедования, но я-то крепко верю в Бога, а вы не очень… — «Может быть! Кто знает?» — сказал Монтень. Но моя дочь верит, и вы не заставите ее уступить. — А ей и не придется уступать. Здесь она была вольна молиться, как ей угодно. Марио и она произносили вечернюю молитву вместе и не думали ссориться. Впрочем, Марио вполне готов последовать моему примеру… — To есть заявить, подобно вам, как во времена доброго короля: «Да здравствует Сюлли и да здравствует папа!» — Да, и Лориана, поверьте мне, не будет упорствовать в своем кальвинизме. Буа-Доре ошибался. Чем большим скептиком проявлял себя господин де Бевр, тем больше сердце Лорианы бескорыстно привязывалось к протестантской церкви. Де Бевр, который это знал, захотел воспользоваться случаем и создать определенное препятствие, для этого за обедом он начал разговор на эту тему. Лориана высказалась вежливо, но твердо. Маркиз никогда не говорил о религии ни с ней, ни в ее присутствии. Дело в том, что он вообще никогда ни с кем об этом не говорил и считал полугалльских-полуязыческих богов «Астреи» вполне совместимыми с собственными смутными понятиями о Божестве. Он огорчился, увидев, как непреклонна Лориана, и, не удержавшись, сказал ей: — Ах, злючка, если бы вы нас любили побольше, вы бы так не противились идее переменить веру. Лориана сначала не поняла, для чего отец затеял разговор. Но упрек маркиза открыл ей глаза. Это был первый упрек, обращенный к ней, что ее очень огорчило. Но страх рассердить отца помешал ей ответить так, как советовало сердце. Она опустила голову, а на ресницах задрожали крупные слезинки. Марио, который, казалось, был занят лишь приготовлением изысканного обеда для собачки Флореаль, заметил слезинки и неожиданно сказал серьезным, почти мужским тоном, который так контрастировал с его пустяковым детским занятием: — Отец, мы огорчаем Лориану, не будем больше об этом. У нее своя голова, и она права. Что касается меня, я бы на ее месте поступил так же и не покинул бы моих единомышленников в беде. — Хорошо сказано, дружок, — сказал де Бевр, удивившись разумному высказыванию Марио. — И к тому же это значит, — добавил маркиз, — что мы не снизойдем до пустых споров. Мой сын уже сейчас обладает широкими и верными взглядами, и он, конечно, не будет выступать против убеждений Лорианы. — Выступать против, конечно, нет, — заметил Марио, — но… — Что «но»? — живо откликнулась Лориана. — Но ты и не присоединишься ко мне, даже во имя нашей дружбы? — О, если бы дело было так! — воскликнул де Бевр, которому эта идея неожиданно пришла в голову. — Если бы это дитя, с таким именем и с таким состоянием, согласилось бы присоединиться к нашей вере, не отрицаю, может, я и посоветовал бы Лориане пока не снимать вдовий чепец. — Да какое это имеет значение! — воскликнул маркиз. — Когда придет время… — Нет, нет, отец! — необычайно твердо ответил Марио. — Такое время для меня никогда не наступит. Аббат Анжорран крестил меня в католическую веру, он воспитал меня в убеждении, что менять веру нельзя, и хотя он на смертном одре не взял с меня никакой клятвы, я не смогу оставить веру, в которой он меня воспитал. Мне кажется, это значило бы отречься от него. Лориана подала мне пример, и я последую ему, каждый из нас останется тем, что есть, и все будет хорошо. Это не помешает мне любить ее, а если она меня больше не любит, это неправильно, и она злая. — Что вы на это скажете, дочь моя? — обратился де Бевр к Лориане. — Вам не кажется, что такой муженек, когда вас будут сжигать на костре, скажет: «Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать, такова воля Папы»? Лориана и Марио повели себя как настоящие дети, какими они и были, то есть они смертельно поссорились. Лориана дулась, Марио не отступал и в конце концов воскликнул с пылом: — Ты говоришь, Лориана, что унизишься, если переменишь веру. Значит, если я отрекусь, ты меня будешь презирать? Лориана почувствовала, что это замечание справедливо, и замолчала, но она была задета за живое, словно маленькая женщина, возлюбленный которой предан ей с некоторыми оговорками, и ее взгляд говорил Марио: «Я думала, что меня любят сильней». Когда она возвращалась вместе со своим отцом верхом, тот не преминул заметить: — Ну что же, дочь моя, теперь вы видите, что Марио, этот очаровательный ребенок, столь же убежденный папист, как и его отец, который служил испанцам против нас? И когда-нибудь, пристыженный никчемностью своего старого дяди, Марио и с нами начнет всерьез воевать! Что скажете вы тогда, когда ваш муж окажется в одном лагере, а ваш отец в другом, обмениваясь выстрелами или затрещинами? — Право, батюшка, — сказала Лориана, — вы разговариваете со мной так, словно я уже высказала желание остаться вдовой, а я никогда об этом не говорила. Кроме того, ведь и господин д'Арс вряд ли может ускользнуть от такой судьбы, какую вы предсказываете Марио. Разве он не католик и не ярый сторонник королевской власти? — Господин д'Арс совершенно безволен, — заметил де Бевр, — и я ручаюсь, мы заставим его следовать нашим целям в любом случае. Даже люди похитрее его меняли веру, когда протестантская церковь упрочила свое положение. — Если господин д'Арс совершенно безволен, тем хуже для него, — сказала Лориана. — Это не пристало мужчине, а уж он-то по крайней мере достиг возраста мужчины. Лориана не ошибалась. Гийом был совершенно бесхарактерным, но он был красивый мужчина, приятный сосед, храбрый, как лев, и великодушный с друзьями. В отношениях с крестьянами он был добр и покладист, и его грабили все, кому не лень, но обращался он с ними, как было принято у сеньоров того времени: он оставлял их коснеть в невежестве и нищете. Ему нравилось, что вассалы Лорианы, чисто одеты и хорошо накормлены, его забавляло, что некоторые из вассалов Буа-Доре даже упитаны, но когда ему говорили, что в Сен-Дени-де Туэ крестьяне мрут, как мухи, от эпидемий, что в Шассиньоле и в Маньи они уже забыли не только вкус мяса и вина, но и хлеба, что в Бренне едят траву, а в других провинциях, еще более бедных, крестьяне едят друг друга, он говорил: «Что же тут поделаешь? Все не могут быть счастливы». И он не ломал над этим голову и не пытался искать средство помочь крестьянам. Ему и в голову не приходило жить в своих землях, как Буа-Доре, не отделяя свое благополучие от благополучия людей, от него зависящих. Как только ему представлялся случай, он несся то в Бурж, то в Париж, мечтал о хорошей партии, что сделало бы его жизнь еще приятней, с женщиной, которую он мог сделать совершенно счастливой, при условии, конечно, что эта женщина не окажется ни чувствительней, ни умней его самого. Он был человеком своего класса и своего времени, и никому не приходило в голову осуждать его. Напротив, Лориану считали экзальтированной святошей-гугеноткой, а Буа-Доре — старым безумцем. Сама Лориана не судила Гийома так строго, как мы, но она чувствовала, что в нем не хватает основательности и характера, и ощущала рядом с ним неодолимую скуку. Тогда, как прекрасные грезы, у нее возникали воспоминания о днях, проведенных в Брианте. Она с удовольствием выразилась бы, использовав латинскую поговорку: «И я был в Аркадии». Однако она не допускала и мысли о браке с Марио. В самых сокровенных мечтах она видела себя его любимой сестрой, которая гордится им и соперничает с ним. Но никто из претендентов на ее руку ей не нравился, хотя их было и немало, особенно с тех пор, как ее отец купил новые земли. Против своей воли она сравнивала своего отца, такого положительного и такого расчетливого, часто критиковавшего ее за благотворительность, с добрым господином Сильвеном, который сам жил и давал возможность жить другим. От этого разум и расчет стали ей противны, и, по словам господина де Бевра и родственников, как католиков, так и протестантов, она превратилась в самую мечтательную и самую романтичную девушку в мире. В семье посмеивались над ней и над ее смешной, по их словам, любовью к ребенку, которого только что от груди отняли. Из-за того, что все вокруг твердили, будто бы она влюблена в Марио, Лориана неосознанно пришла к тому, что стала считать такую любовь возможной. Когда Марио исполнилось пятнадцать, она уже вполне свыклась с этой мыслью. Но вскоре убежденность Лорианы поколебалась, потому что Марио в пятнадцать лет, казалось, еще не различал любовь и дружбу. Его манеры в обращении с ней были всегда учтивы, но одновременно в речах он был весьма свободен, как и подобает хорошо воспитанному брату. Он не сказал ни одного слова, которое позволило бы предположить, что ему известна страсть. Лишь иногда он заливался краской, когда Лориана неожиданно появлялась там, где он ее не ждал, и бледнел, когда в его присутствии обсуждали какого-то нового претендента на ее руку. По крайней мере замечавший это Адамас делился своими наблюдениями с хозяином, а Мерседес — с Люсилио. Юноша рос и много читал. Мы мало можем рассказать о том времени, когда Марио было пятнадцать, а Лориане девятнадцать. Их жизнь, привязанная к дому, и их спокойные отношения несли на себе отпечаток счастливого однообразия, так что ничего об этом не сохранилось в наших заметках о Брианте и Ла Мотте-Сейи. Есть лишь упоминание о женитьбе Гийома д'Арса на богатой наследнице из Дофина. Свадьбу справляли в Берра, и, видимо, отказ Лорианы вовсе не обидел доброго Гийома, так как и она была приглашена на праздник, так же, впрочем, как и господа де Буа-Доре. Лишь на следующий год, т. е. 1626-й, жизнь наших героев становится более яркой и наполненной событиями, а толчком к этому послужил следующий факт — в этом году крестили монсеньора герцога Энгьенского (будущего Великого Конде). Крестины состоялись 5 мая в Бурже. Юному принцу было тогда лет пять. Состоявшиеся по этому поводу торжества собрали всю знать и всех буржуазных провинциалов. Маркиз де Буа-Доре, который к тому времени обрел если не опасную благосклонность, то по крайней мере спасительное равнодушие и Конде, и партии иезуитов, уступил желаниям Марио, жаждавшего поглядеть на мир, а также своим собственным желаниям показать своего наследника в иных, более благополучных, чем в 1622 году обстоятельствах.Глава шестьдесят пятая
Приняв решение, Буа-Доре, который никогда ничего не делал наполовину, потратил целый месяц, призвав на помощь гений и ловкость Адамаса, на подготовку роскошных костюмов и богатого экипажа, которыми он хотел похвастаться в Париже и при дворе. Приготовили новых лошадей и роскошную упряжь, поинтересовались последними модами. Господа де Буа-Доре готовились затмить всех. Старый сеньор, по-прежнему державшийся прямо, развернув гордо плечи, будучи, как всегда, в прекрасном здравии и молод душой, подкрашенный и завитой, пожелал одеться в такие же ткани и выбрал те же фасоны, что и его «внук». Лориана также пожелала увидеть большой праздник, каких она никогда не видела. Ее отец не участвовал в последнем гугенотском мятеже, впрочем, три месяца назад с гугенотами заключили новый мир, так что они могли ехать без опаски. Маркиз де Буа-Доре, Марио и господин де Бевр с Лорианой решили отправиться туда вместе. Роскошные обеды; подарки, украшенные дистихами и анаграммами в честь маленького принца; целый полк детей, прекрасно снаряженный и лихо передвигавшийся, создавал эскорт принца; сонеты, сопровождаемые музыкой; речи магистратов; поднесение ключей от города; концерты; танцы; комедия, показанная иезуитским коллежем; «ангелы», спускающиеся с триумфальных арок и подносящие подарки юному герцогу (точнее, его, отцу, который не удовлетворился бы обычными крестильными конфетками); маневры ополчения; церемонии и увеселения — все это празднество длилось пять дней. На торжества прибыли важные персоны. Знаменитый красавец Монморанси (тот самый, которого Ришелье позднее отправит на эшафот) и вдовствующая принцесса Конде (прозванная отравительницей) представляли крестного отца и крестную мать, которыми были не более и не менее, как король и королева Франции. Господин герцог был крещен в маленьком чепчике, расшитом драгоценными камнями, и в длинном платьице, отделанном серебром. Принц Конде был в сером наряде из льна, сплошь затканном золотом и серебром. Господин Бие пригласил прекрасных господ из Буа-Доре разместиться на трибуне для высшей знати. Они так прекрасно выглядели, что украшали собой праздник. Костюм Марио подчеркивал его красоту. Лориана слышала, как дамы (и в их числе молодая и красивая мать маленького принца) отмечали изящество этого очаровательного юноши. Лориана впервые почувствовала себя взволнованной, словно ревнуя его ко всем обращенным на него взглядам и улыбкам. Марио же не обращал на это никакого внимания. Он с любопытством разглядывал дитя королевских кровей, который был тщедушен и не красив, но очень подвижен. 6 мая, когда наши герои уже собирались уезжать, де Бевр, взяв маркиза под руку, отвел его к окну. — Ну что же, — сказал де Бевр, — надо с этим кончать и пора решать. — Да потерпите! Сейчас лошади будут готовы, — ответил Буа-Доре, решивший, что соседу не терпится вернуться в свои владения. — Вы меня не поняли, сосед, я имел в виду, что пора решиться и поженить детей, раз уж таковы их намерения, да и наши тоже. Признаюсь, я собираюсь в еще одно путешествие. Я приехал сюда лишь для того, чтобы договориться с людьми, которые выгодно обещают мне устроить дела в Англии, а если мне еще раз придется препоручить вашим заботам Лориану, пускай уж лучше она станет женой вашего наследника. Для него это хороший шанс, ибо грузы моих кораблей преумножатся, как меня заверяют, а заключенный недавно мир должен способствовать английско-протестантскому пиратству. С точки зрения имени и денег моя дочь могла бы рассчитывать и на большее, но с точки зрения чувств лучшего для нее и не найти. Необходимость присматривать за дочерью весьма отвлекает меня от моих дел, и я желал бы, обретя свободу, вручить Лориану в надежные руки. Итак, соглашайтесь, и поторопимся. Буа-Доре совершенно сбило с толку это предложение, тем более, что в течение четырех лет де Бевр, доведись ему услышать подобное от маркиза, вряд ли бы принял предложение. Маркизу не надо было долго размышлять, оценивая всю несуразность этого плана и эгоистичное легкомыслие отца Лорианы. Буа-Доре сам нередко бывал легкомысленен и не соразмерялся с реальностью, но он действительно был отцом, и Марио, влюбленный и женатый в шестнадцать лет, мог оказаться, с его точки зрения, в более сложном положении, чем Марио, романтичный и настроенный на брак в одиннадцать лет. — Что вы говорите! — ответил маркиз. — Обручить наших детей я согласен, но женить их — слишком рано. — Ну я так и предполагал! — сказал де Бевр. — Хорошо, давайте их обручим, и вы заберете мою дочь к себе. Вы посмотрите за влюбленными, а я вернусь через два-три года, и мы их обвенчаем. Буа-Доре, настроенный весьма романтично, уже был готов согласиться, однако заколебался. Про любовь и все неприятности, которыми она грозит, он как-то не подумал. Но взгляд Адамаса, который делал вид, что складывает вещи, а сам внимательно слушал, напомнил маркизу о том, как краснел и бледнел Марио и какие страдания за этим, может быть, кроются. — Нет-нет, — сказал он. — Я не могу держать сына на раскаленных угольях, я не позволю, чтобы он весь измучился или же нарушил законы чести. Оставайтесь в вашем замке, сосед, и будем осторожны. Вы достаточно богаты. Давайте дадим друг другу слово, на этот раз не ставя в известность детей. Зачем смущать сон и того, и другого? Через три года мы сделаем их счастливыми. А сейчас не будем волноваться. Де Бевр почувствовал, что честолюбие и алчность чуть не толкнули его на глупый поступок. Но он заупрямился и рассердился. Он отказался дать слово и решил, что отвезет дочь в Пуату, к своей родственнице, герцогине де Ла Тремуй. Марио едва не потерял сознание, когда садился в карету и узнал, что Лориана с ними не поедет и они расстаются на неопределенный срок. Его отец постарался смягчить удар, но де Бевр объявил обо всем без обиняков, желая проверить чувства Марио и отомстить за полученный урок осторожности, который, как ему это было ни обидно, он получил от самого неосторожного из людей. Лориана, которая ничего не знала (отец сказал ей лишь то, что они остаются на несколько дней в Бурже), сбежала с лестницы, услышав испуганное восклицание маркиза при виде побледневшего Марио. Но Марио быстро взял себя в руки, заявил, что это всего лишь судорога, и, зажмурившись, бросился в карету. Он не хотел видеть Лориану: ее спокойный вид задел его до глубины души. Он полагал, что ей все известно и она решила без сожаления расстаться с ним. Маркиз хотел было остаться и поговорить еще раз с де Бевром. Но отказался от этого, увидев, какое мужество выказал Марио. Пока они ехали домой, маркиз пришел к выводу: что бы ни случилось, для молодого человека наступил тот возраст, когда разлука на несколько лет становится обязательной. Марио же всю дорогу делал вид, что пребывает в полном спокойствии. В Брианте маркиз осторожно, а Мерседес напрямик расспросили Марио. Тот держался хорошо, заявив, что он очень любит Лориану, но их разлука не скажется ни на его рассудке, ни на его занятиях. Он сдержал слово, его здоровье пострадало лишь чуть-чуть. Он выполнял все предписания врача и вскоре совсем поправился. — Я надеюсь, — говорил иногда маркиз Адамасу, — он не будет слишком сентиментален и забудет злую девчонку, которая его не любит. — А я надеюсь, — говорил мудрый Адамас, — что она любит его гораздо больше, чем кажется, так как, если наш Марио потеряет надежду, которой только и живет, нам предстоит много хлопот.В 1627 году над замком Бриант нависла новая опасность. Ришелье, окончательно укрепившийся у власти, издал декрет и приказал разрушить все городские укрепления и цитадели по всей стране. Эта решительная мера, исполнявшаяся со всей строгостью, касалась «всех укреплений в замках и частных домах, построенных в течение последних тридцати лет без особого разрешения короля». Бриант не попадал под этот декрет, его защитные сооружения были построены еще во времена феодалов и не могли выдержать удара пушки. Но магистраты и эшевены Ла Шартра, недовольные тем, что им пришлось «самих себяразрушить», по словам бывшего парикмахера Адамаса, очень захотели снести до основания постройки всех прекрасных господ, своих соседей. Но Буа-Доре, зная, что ему необходимо противостоять бандам грабителей и бандитов с большой дороги, заставил уважать свои права. Его очень любили вассалы, и он не боялся, что они поступят, как подданные других сеньоров, охотно взявшие на себя роль исполнителей приказов Великого кардинала. Эта мера была весьма популярна и весьма произвольна. Кардинал стремился изгнать дух Лиги даже из феодальных твердынь. Но приказ был выполнен только в протестантских провинциях, и решительный декрет остался на бумаге, как и многое другие решительные приказы Ришелье. Провинция Берра, как всегда, «вывернулась» и обошла этот приказ. Принц не дал убрать ни одного камня в своей крепости Монрон. Устояли замки и больших, и малых сеньоров, и большая башня Буржа пала лишь при Людовике XIV. Едва Буа-Доре оправился от этих волнений, как ему пришлось столкнуться с другими, более серьезными, но приятными. — Сударь, — сказал ему как-то вечером Адамас, — я вам сейчас преподнесу одну историю, которую господин д'Юрфе с удовольствием вставил бы в свой роман, ибо она весьма занимательна. — Посмотрим, что за история, мой друг! — ответил маркиз, водружая на свой лысый череп бархатную шапочку, отделанную кружевами. — Речь пойдет, сударь, о вашем добродетельном друиде и о прекрасной Мерседес. — Адамас, вы становитесь злоязычны и насмешливы, дорогой мой! Никакой клеветы, прошу вас, насчет моего достойного друга и целомудренной Мерседес! — Ах, сударь, что плохого в том, что эти достойные особы соединятся узами Гименея? Знайте же, сударь, что сегодня утром, когда я приводил в порядок библиотеку ученого… он только мне дозволяет притрагиваться к книгам, для этого ведь нужен человек немного образованный… и вот я вижу, что Мерседес украдкой целует букет роз, который она каждое утро ставит ему на стол, пока он с вами завтракает. А потом, внезапно заметив меня, она побледнела, стала белей того шарфа, что у нее на голове, и убежала, словно невесть что натворила. Уже давно, очень давно, сударь, я начал кое-что подозревать. Уж очень она с ним дружна, так заботлива и внимательна. Я и подумал, что и для того, и для другого это может кончиться любовью. — Действительно! — ответил маркиз. — Но продолжай, Адамас! — Так вот, сударь, обнаружив это, я от души рассмеялся не для того, чтобы понасмешничать, а просто от удовольствия, потому что человек всегда доволен, если о чем-то догадывается или разгадывает какой-то секрет, а раз доволен, так и смеешься. Тут пришел мэтр Жовлен в свою комнату и удивленно посмотрел на меня, не понимая, что это я так развеселился. Ну я ему все и рассказал напрямик, чтобы его развеселить тоже… и, кроме того, мне интересно было посмотреть, как он воспримет эту историю. — И как же он ее воспринял? — Так, словно солнце ему в глаза ударило, ни дать, ни взять — хорошенькая девица, и уж поверьте, счастливый человек и внешне меняется, у него глаза зажглись, губы заулыбались, и он со своими длинными усами показался мне прямо красавцем. Он так выглядит иногда, когда играет на своем мелодичном инструменте. — Очень хорошо, Адамас, что ты научился выражаться красиво. Ну а дальше? — А дальше, сударь, я ушел. Точнее, сделал вид, что ушел, а сам в приоткрытую дверь подглядел, как наш добрый Люсилио взял цветы и страстно поцеловал их, а потом сунул за пазуху, прямо все цветы с шипами, словно ему доставляло удовольствие чувствовать уколы. И он начал ходить по комнате, прижимая обеими руками к груди этот дар любви. — Все лучше и лучше, Адамас! — заметил маркиз. — Ну а потом? — А потом через другую дверь вошла Мерседес и спросила у него, можно ли звать Марио на урок. — А он что ответил? — Отрицательно покачал головой, и я понял, что он не хочет отпускать ее. Она хотела уйти, решив, что он занят своими странными делами, потому что, сударь, она с ним ведет себя, как служанка, которой и в голову не приходит, понравиться своему хозяину. Но он стукнул ладонью по столу, чтобы позвать ее обратно. Она вернулась. Они посмотрели друг на друга, но недолго, потому что она потупила взор своих прекрасных черных глаз и сказала ему по-арабски что-то. По ее виду, я думаю, вот что она сказала: «Что же ты хочешь, мой повелитель?» А он показал ей вазу, в которую она поставила цветы. Она увидела, что цветов в ней нет, и добавила: «Это, наверное, этот злой шутник Адамас забрал их, ведь я никогда не забываю ставить вам цветы». — Она так и сказала? — улыбнулся маркиз. — Да, сударь, по-арабски. Но я все тут же угадал. Тогда она побежала, чтобы принести еще цветов, а он бросился за ней к дверям, как человек, который сам с собой борется. Потом он вернулся и сел за стол, охватил голову руками, и, клянусь вам, сударь, сердце его было охвачено прекрасным чувством и он был готов честно признаться в своей любви. — Но зачем же он сам с собой борется? — воскликнул маркиз. — Разве он не знает, что я буду счастлив женить его на этой доброй и прекрасной особе? Сходи за ним, Адамас, он ложится поздно и, наверное, еще не спит. Марио уже спит, и сейчас хороший момент для деликатного объяснения.
Глава шестьдесят шестая
Маркиз без труда добился признания Люсилио. Тот наивно признался, что давно обожает Мерседес и не так давно начал подозревать, что и она любит его. Сначала он боялся навлечь на себя гонения, которых он лишь чудом избежал во Франции. Потом, когда он убедился, что Ришелье, хотя и остается противником реформации, все-таки твердо проводит политику на поддержание Нантского эдикта и расположен сохранить свободу вероисповедания, Люсилио решил дождаться брака Марио с Лорианой или с любой другой женщиной, которую изберет его сердце. Он опасался, что его дорогой ученик может быть охвачен то надеждой, то сожалением, то спокойным ожиданием, то тайным волнением, и не хотел раздражать Марио опасным зрелищем брака по любви. Маркиз одобрил великодушную осторожность своего друга, но с некоторыми оговорками. — Мой добрый друг, — сказал он, — Мерседес скоро тридцать, а вам уже за сорок. Вы оба еще довольно молоды и можете нравиться друг другу, но, не хочу вас обижать, однако вы уже не дети, и не стоит оставлять незаполненными страницы в книге вашего счастья. Используйте те прекрасные годы, что вам остаются. Женитесь. Я увезу Марио в путешествие на несколько месяцев и скажу ему тогда, что это была только моя идея — брак по расчету между Мерседес и вами. Придумаю какой-нибудь предлог, чтобы объяснить ему, почему вы не дождались нашего возвращения, а когда он вновь с вами встретится, он уже привыкнет к новой ситуации. Брак сделает все весьма серьезным, впрочем, я полагаюсь на вас: вы сумеете скрыть восторги медового месяца за непроницаемой пеленой сдержанности и осмотрительности. Итак, маркиз повез Марио в Париж. Он показал ему короля и Двор, но издалека, ибо за те пятнадцать лет, что добрый Сильвен прожил в своих владениях, мир сильно изменился. Друзья его молодости умерли или, как и он сам, оставили новое с устное общество. Те немногие из значительных персон, кто еще был жив и кого он когда-то часто навещал, теперь едва помнили о нем и, если бы не его устаревшие наряды, не узнали бы маркиза. Однако интересное лицо и скромные манеры Марио были замечены: в нескольких изысканных домах прекрасных господ приняли тепло, но им не предложили представить их высшему свету; впрочем, ни тот, ни другой не высказывали страстного желания приблизиться к бледному солнцу Людовика XIII. Марио испытал большое разочарование, увидев проезжавшего на коне испуганного сына Генриха IV; глядя на физиономию короля, маркиз также не ощутил желания добиваться королевской ратификации своего титула маркиза. Каждый день появлялись новые эдикты, каравшие за узурпацию титулов, правда, эти эдикты не выполнялись, так как и новая, и старая аристократия по-прежнему присваивала себе титулы по своим владениям, хотя принадлежность земель могла быть и спорной. Безопасней было держаться в тени. Буа-Доре был вынужден признать, что это — лучшее из убежищ! Кроме того, он узнал, что в Париже никто не может именоваться прекрасными господами, если не принадлежит ко двору. Иногда на прогулках на них обращали внимание, отмечая контраст между странно накрашенным лицом маркиза и очаровательной свежестью Марио. Какое-то время маркиз наивно думал, что его узнают, улыбался прохожим и подносил руку к полям шляпы, готовый принять знаки внимания, которые ему никто и не собирался оказывать. Из-за этого он постоянно выглядел неуверенным и растерянным, а также преувеличенно вежливым, что смешило прохожих. Сидящие или прогуливающиеся дамы говорили одна другой: — Это еще что за старый безумец? А если среди дам оказывался кто-то из тех домов, где принимали Буа-Доре, или кто-нибудь с той улицы, на которой он проживал, на вопрос давали и ответ: — Это провинциальный дворянин, который бахвалится тем, что якобы был другом покойного короля. — Какой-нибудь гасконец? Они все только и делали, что спасали Францию. Или беарнец? Они все — молочные братья доброго короля Генриха. — Нет, старый дуралей из Берра или из Шампайи. Бахвалов и там хватает. Как ни старался добрый Сильвен казаться значительной персоной, он выглядел бледно на фоне этой забывчивой и разряженной толпы. Маркиз говорил себе с некоторой досадой, что уж лучше быть первым в деревне, чем последним при дворе. Однако он был уверен, что с помощью хитрости и интриг он мог бы протолкнуть Марио, как и многих других, ко двору, но опасался нарваться на оскорбление из-за своего сомнительного титула маркиза. Устав от роли провинциального зеваки, маркиз едва не заскучал, но тут Марио потащил его осматривать памятники искусства и науки, в которых для юноши и заключалась основная привлекательность королевской столицы. Удовольствие и польза, которые получил Марио, несколько утешили старика, ибо он в глубине души считал путешествие провалом. Он не говорил Марио обо всех своих разочарованиях. Он всегда надеялся разыскать семью его матери и добиться для него какого-нибудь громкого испанского титула, а может, и наследства. Он несколько раз писал в Испанию, чтобы получить сведения, а также сообщить о Марио на случай, если эта самая семья проявит к нему интерес. Получал он всегда туманные, возможно, уклончивые ответы! В Париже он решил лично посетить посольство. Его принял кто-то вроде секретаря по личным делам и сообщил, что это запутанное дело в основном прояснилось. Маркизу объяснили, что похищенная и исчезнувшая молодая дама действительно принадлежала к знатной семье из Мериды, а Марио является плодом тайного брака, который может быть признан недействительным. Молодая дама не имела никаких прав на состояние, а родственники совершенно не желают признавать молодого человека, воспитанного старым еретиком с недоброй репутацией. Оскорбленный маркиз решил в отместку за презрение отплатить самонадеянным испанцам полным равнодушием. Ему и так многого стоило околачиваться у дверей испанского посольства, сама вывеска которого внушала ему, старому протестанту и доброму французу, ненависть. Однако он огорчился и доверил свои мысли неразлучному Адамасу: — Конечно, — говорил он, — жизнь сельского аристократа самая спокойная и самая почтенная, но если она подходит тем, кто за нее дорого заплатил, то для молодого сердца Марио она может показаться тягостной и даже постыдной. Я уделял столько внимания его воспитанию, благодаря его ранним способностям мы сделали из него образцового дворянина, который может все… И это лишь для того, чтобы он похоронил себя в родовом гнезде, потому что ему не надо зарабатывать себе состояние, а сердце у него доброе и отзывчивое! Может, ему стоит проявить себя на войне и в приключениях или каким-нибудь блистательным деянием завоевать этот титул маркиза? А то идеи Великого кардинала о всеобщем порядке того и гляди лишат его титула. Я знаю, он еще молод, и время пока не потеряно, но, на мой взгляд, он склонен к наукам, а я не представляю, как на этом поприще можно отличиться? — Сударь, — ответил Адамас, — если вы думаете, что ваш сын не будет столь же отважен, как и вы, в сражениях, вы просто не знаете его. — Я не знаю сына? — Нет, сударь, вы его знаете недостаточно: он скрытен и любит вас так, что никогда не решится поделиться с вами мыслью, которая может вас встревожить или огорчить. Но мне-то все известно: Марио мечтает о войне так же, как и о любви, и если вы в ближайшее время не поддержите его честолюбивые мечты, увидите, он расстроится или заболеет. — Не дай Бог! — воскликнул маркиз. — Завтра же расспрошу его об этом. Когда в таком деле говорят о завтрашнем дне, стало быть, откладывают на неопределенное время, и маркиз отложил. Отеческая слабость одержала верх над отеческой гордостью. Марио был еще недостаточно вынослив для того, чтобы переносить тяготы войны, впрочем, предполагаемая война с Англией и Испанией, казалось, несколько отодвигалась благодаря огромным усилиям Ришелье, направленным на создание французского флота. Торопиться было некуда, время еще оставалось: рано или поздно пора придет. Итак, в конце осени все вернулись в Бриант и обнаружили Люсилио уже женатым на Мерседес. Марио, узнав эту новость в Париже, воспринял ее скорей с удовлетворением, чем с удивлением. Он давно уже почувствовал пламя страсти, иногда обжигавшей его, и в сдержанной пылкости Мерседес, и в нежной меланхолии Люсилио, и даже в сладких и страстных мелодиях его инструмента. При мысли о счастливой любви его сердце словно клещами сжимало, но он необыкновенно умело владел собой. Отец жил только для него, и Марио рано научился скрывать свои чувства. Иногда Адамас упрекал его за скрытность. — Мой отец стар, — отвечал Марио. — Он дорожит мной, как мать дорожит ребенком. И моя обязанность — не сокращать его дни тревогами, небо поручило мне заботиться о его долгой жизни.Лориана жила в Пуату, и известия от нес приходили редко. Маркизу она писала нежно и уважительно, а о Марио едва упоминала, словно опасалась его растревожить. Напротив, она с неприкрытой нежностью обращалась к Мерседес, Люсилио и всем верным слугам дома. Казалось, что ее привязанность к этим людям выражалась за счет скрытой любви к Марио, кому эта любовь принадлежала по праву. Она писала, и не раз, с некоторым жеманством, что есть претенденты на ее руку и что скоро сна сообщит о своем решении маркизу, которого считает вторым отцом. Странным казалось то, что каждый год она вновь и вновь упоминала о возникавших планах ее бракосочетания, но никогда не сообщала друзьям о том, какой же выбор она сделала. Она словно хотела, чтобы они поняли следующее: «Я не выхожу замуж потому, что мне так нравится, а вовсе не потому, что я кого-то жду, как вы могли бы подумать». Действительно, именно с этой целью она и писала письма, а вот каково было ее расположение духа? Господин де Бевр отвез Лориану, как и обещал, в Пуату к родственнице и вскоре оставил ее одну. Перед отъездом он заявил, что маркиз и его наследник, с которыми он разговаривал в Бурже, ответили ему очень холодно. Марио проявил себя рьяным католиком и поклялся никогда не вступать в «смешанный» брак. Это известие сильно растревожило сердце девушки. Лориане не следовало бы доверять отцу, которому проникла в кровь жажда золота. Поскольку он решил уехать как можно скорее, ему было бы спокойнее на душе, будь Лориана пристроена, поэтому он и склонял ее к немедленному замужеству. Несмотря на давление отца, она отказалась выходить замуж только из-за того, что ее обидели. Однако, чтобы сильно не огорчать отца, она обещала подумать об этом. Мысли бедной Лорианы возвращались к Марио. Она полюбила его в Бурже, впервые полюбила настоящей любовью после стольких лет спокойной дружбы. И вот теперь из-за этой первой в ее жизни любви, любви, в которой она и сама себе не признавалась, ей приходилось краснеть от стыда и пытаться уничтожить это чувство. Да, в глубине души она гордо отказалась от неблагодарного Марио. Итак, она повторила отцу то же, что искренне говорила ему раньше, то есть, что она никогда не считала этот брак возможным. И поклялась, что выйдет замуж за подходящего претендента на ее руку, если тот не будет ей противен. Но такой претендент все не попадался. Никто из тех, кого представляла Лориане мадам де Ла Тремуй, ей не понравился, Она чувствовала в них ту же расчетливость, какая охватила ее отца, словно страсть, но страсть холодная и циничная. Прекрасные дни протестантизма кончались, они уходили, как уходило прежнее общество предыдущего века. Протестантизм выглядел героически в великих гонениях, а Ришелье, расправляясь по роковой необходимости с последними его сторонниками, вовсе не вел себя как гонитель. Его устами к протестантам обращалась Франция. «Выбирайте себе свободно религию и не занимайтесь политикой! Обратимся вместе с нами против внешнего врага!» Протестанты хотели быть республикой, но превратились в подобие будущей Вандеи. Кроме французских пуритан (героические, безжалостные и страшные люди, полностью принесшие себя в жертву два года спустя в Ла Рошели), французские протестанты склонялись к принципу французского единства, но многие из них решили окончательно примкнуть к этому принципу лишь тогда, когда победа обеспечит их партии выгодные долговременные преимущества. Аристократия выторговывала себе преимущества: самые высокопоставленные хотели, чтобы им дорого заплатили, и подменяли свои потребности в религиозной свободе потребностями в деньгах и в должностях. Часть аристократии в силу обстоятельств рассуждала ошибочно, поставив себя перед выбором — или союз с заграницей, или окончательное поражение. Лориана была возмущена видом многочисленных предательств, о которых заявляли каждый день. У нее сложилось весьма рыцарское представление о чести сторонников протестантизма. Теперь же она была вынуждена признать, что ее отец, чья алчность так ее оскорбляла, просто несколько позднее стал поступать так, как люди его поколения поступали всю жизнь. Более того, и множество молодых людей стремилось как можно скорей начать действовать в том же духе. Господин де Бевр был еще из лучших: ему не приходило в голову предать свое знамя. Он стремился лишь к тому, чтобы устроить свои дела, прежде чем это знамя упадет. Конечно, Лориана могла встретить человека исключительного, но не встретила, может, потому, что, будучи мечтательной и рассеянной, не сумела отыскать его. Молодость и красота горды, и горды по праву. Они ждут, что их откроют, и не хотят ничего открывать сами, боясь, что могут подумать, будто они предлагают себя.
Глава шестьдесят седьмая
Хотя мы до этого момента делали все возможное, чтобы показать жизнь наших персонажей в роли «сельских хозяев», и сведения, которые мы собрали, позволили нам немного изучить эту жизнь, мы вынуждены теперь перенестись немного вперед и поискать прекрасных господ из Буа-Доре довольно далеко от их мирного родового гнезда. Было это, я думаю, 1 марта 1629 года. Гора Женевр, покрытая инеем, являла собой зрелище необычайного оживления как с одного, так и с другого склона, до самого входа в ущелье, именуемое Сузский перевал. Это французская армия двигалась маршем на герцога Савойского, то есть на Испанию и Австрию, его верных союзниц. Несмотря на жестокий холод, войско карабкалось вверх. Пушки волокли в гору по снегу. Это была величественная сцена, которая всегда удавалась французскому солдату на фоне грандиозных Альп, будь то под командованием Наполеона или Ришелье, и при Людовике XIII так же, как и при Ришелье. Солдаты не стирали в порошок скалы, что, говорят, удавалось гению Ганнибала, они двигались вперед с посохами в виде воли, отваги и бесстрашного веселья. По одной из тропинок, пробитых в снегу параллельно дороге, два всадника поднимались бок о бок в гору по тому склону, что обращен в сторону Франции. Один из них был молодой человек девятнадцати лет, крепкий и гибкий в движениях, он великолепно выглядел в изящном походном костюме того времени. Его снаряжение и оружие, а также то, что он передвигался не в строю, указывали, что это дворянин, участвующий в походе добровольцем. Марио де Буа-Доре (читатель понимает, что никто другой нас не заинтересовал бы) был самым красивым всадником в армии. Его окрепшая юношеская сила ничуть не сделала грубее очаровательную мягкость его умного и открытого лица. Взгляд его был ангельски чист, но проступающая борода напоминала, однако, что этот юноша с небесным взглядом всего лишь обычный смертный, и тонкие усы подчеркивали немного небрежную, но сердечную и доброжелательную улыбку, пробивавшуюся сквозь обычную меланхолию юноши. Великолепные вьющиеся каштановые волосы обрамляли лицо, спускаясь до плеч, а одна прядь, по моде времен Людовика XIII, падала ниже. Лицо, покрытое нежным румянцем, выглядело, однако, бледным. Изысканная внешность, совершенно естественно сочетавшаяся с изысканностью манер и одежды, вот что отличало этого юношу. Таким увидел Марио всадник, волею случая оказавшийся рядом с ним. Этому всаднику было лет сорок, он был худ и бледен, черты лица довольно правильные, рот подвижный, взгляд проницательный. В целом его лицо выражало некоторую хитрость, смягченную серьезной склонностью к размышлениям. Одет он был весьма необычно: в черной короткой сутане, какую носят путешествующие священники, но в военных сапогах и при оружии. Его поджарая гибкая лошадь шла быстрым шагом и вскоре поравнялась с прекрасным горячим конем Марио. Два всадника молча поклонились друг другу, и Марио попридержал коня, чтобы дать дорогу старшему по возрасту. Всадник, казалось, оценил такую вежливость и отказался обгонять молодого человека. — Сударь, — заметил Марио, — наши лошади идут рядом, что доказывает, что обе они хороши, потому что я обычно с трудом сдерживаю своего коня, чтобы не дать ему обогнать других. Я вынужден пропускать вперед своих спутников, иначе бы я достиг вершины перехода раньше всех. — То, что вы считаете недостатком своего великолепного коня, для моей лошади является достоинством. Я путешествую почти всегда в одиночестве, и никто меня не упрекает в том, что я излишне изнуряю своего коня. Но позвольте вас спросить, сударь, где я мог вас видеть? Ваше приятное лицо мне вроде бы знакомо. Марио внимательно всмотрелся в спутника и сказал: — Последний раз я имел честь видеть вас в Бурже четыре года назад на крестинах монсеньора герцога Энгьенского. — Так вы, значит, молодой граф де Буа-Доре? — Да, господин аббат Пулен, — ответил Марио и еще раз поднес руку к полям своей украшенной перьями шляпы. — Счастлив видеть вас таким, господин граф, — сказал священник из Брианта. — Вы выросли, стали красивее и, думаю, достоинств у вас прибавилось, судя по вашим манерам. Но не называйте меня аббатом, так как, увы, я им не являюсь и, вероятно, никогда не стану. — Я знаю, что принц никогда не соглашался на ваше назначение, но я полагал… — Что я нашел аббатство получше, чем аббатство Варенн? И да, и нет! Ожидая какого-нибудь назначения, я покинул Берра и волею случая оказался на службе у отца Жозефа, которому предан душой и телом. Так что теперь я связал свою судьбу с кардиналом. Могу вам сказать, но между нами, что я выполняю функции посланника отца Жозефа, вот почему у меня такая хорошая лошадь. — Я рад за вас, сударь. Служба при отце Жозефе — служба для истинного француза, а кардинал вершит судьбами Франции. — Вы действительно говорите, что думаете, господин Марио? — спросил священник со скептической улыбкой. — Да, сударь, клянусь честью! — ответил молодой человек с искренностью, которая одержала верх над подозрениями дипломатического посланца. — Я вовсе не хочу, чтобы кардинал знал, что в моем лице и в лице моего отца он обрел еще двух почитателей, но прошу вас, считайте нас добрыми французами, готовыми послужить телом и душой так же, как и вы, великому министру и прекрасной Франции. — В вас я верю, — ответил Пулен, — но в вашего отца гораздо меньше. Например, в прошлом году он не отправил вас на осаду Ла Рошели! Знаю, вы были еще молоды, но там были воины и моложе вас, и вы, наверное, очень досадовали, что не смогли принять участие в славной битве рядом со всеми остальными благородными молодыми людьми. — Господин Пулен, — строго ответил Марио, — я думал, вы испытываете благодарность по отношению к моему отцу. Все, что он мог сделать для вас, он сделал. И не его вина в том, что аббатство Варенн ушло из рук церкви и было передано принцу, этим и моему отцу был нанесен ущерб. — О, я не сомневаюсь! — воскликнул господин Пулен. — Я-то знаю, как принц Конде может запутать счета! Так что у меня претензии только к нему. Что касается вашего отца, то знайте, сударь, я его по-прежнему безгранично уважаю и люблю. Я вовсе не хочу причинять ему огорчений, но я жизнь бы отдал, лишь бы знать, что он искренне, без задней мысли, предан интересам католицизма. Мой отец предан интересам своей страны, сударь! Нет надобности вам говорить, что он горячо поддерживает кардинала в его борьбе со всеми врагами Франции. — Даже в борьбе с гугенотами? — Гугенотов больше нет! Оставим мертвых в покое! Господин Пулен был поражен выражением достоинства на лице Марио. Он почувствовал, что этот молодой человек не такой, как другие, он серьезен и не честолюбив. — Вы правы, сударь, — сказал священник, — мир праху защитников Ла Рошели, и да услышит вас Господь, чтобы они не возродились в Монтобане или где-нибудь еще. Раз уж ваш отец отказался от своего религиозного безразличия, надеюсь, он позволит вам при необходимости выступить против мятежников на юге. — Отец мне всегда позволял и позволяет руководствоваться моими собственными наклонностями, но знайте, сударь, я никогда не выступлю против протестантов, разве только они будут серьезно угрожать монархии. Никогда из тщеславия или честолюбия я не обнажу шпагу против французов, я никогда не забуду, что именно протестанты, тогда победители, а теперь поверженные, возвели на престол Генриха IV. Вы были воспитаны в принципах Лиги, а теперь сражаетесь с ней всеми силами. Вы колебались между добром и злом, между ложью и истиной. А я же живу и умру, руководствуясь теми принципами, что мне внушили: верность моей стране, отвращение к интригам с иностранными державами. У меня нет таких заслуг, как у вас, мне не приходилось менять веру, но клянусь вам, я глубоко уважая право на свободу совести, я буду сражаться с союзниками герцога Савойского… — Вы забываете, что они же сегодня — союзники протестантов. — Скорее господина де Рогана! Господин де Роган тем самым окончательно губит свою партию, вот почему я говорю вам: «Оставим мертвых в покое!» — Я вижу, что вы, как и маркиз, — сказал доверенный отца Жозефа, — настроены романтически и собираетесь, подобно ему, руководствоваться чувствами. Можно мне, не проявляя нескромности, узнать у вас, как поживает отец? — Вы увидите его лично. И он будет рад приветствовать вас. Он едет впереди и мы его нагоним через четверть часа. — Неужели? Но ведь господину де Буа-Доре — лет семьдесят пять или восемьдесят. — И он выступил против врагов и убийц Генриха IV Это вас удивляет, господин Пулен? — Нет, дитя мое, — ответил бывший сторонник Лиги, который силою обстоятельств обратился в горячего сторонника и почитателя политики Беарнца, — но мне кажется, он слишком долго собирался! — Что же вы хотите, сударь? Он не мог выступить один: он ждал, пока король Франции подаст пример. — У вас на все есть ответ! — с улыбкой воскликнул господин Пулен. — Мне не терпится поприветствовать прекрасную старость господина маркиза! Но здесь рысью не проедешь. Расскажите же, как поживает человек, которому я жизнью обязан: мэтр Люсилио Джовеллино, иначе именуемый Жовлен, великий музыкант. — Он счастлив, благодарение небу! Он женился на любимой женщине, и они оба в наше отсутствие управляют домом и владениями. — Женился? Неужели на прекрасной Мерседес? А ведь вы, испытывая иные чувства, помнится, предпочитали ей более юную и прекрасную подругу. — Вы имеете в виду мадам де Бевр? — спросил Марио, и его искренность подчеркнула вкрадчивое любопытство господина Пулена. — Мне легко ответить, и я ответил бы любому. Действительно, я со всем пылом любил в детстве Лориану и всю жизнь буду уважать ее. Но она относилась ко мне со спокойной дружбой, так что можете расспрашивать меня о ней без всяких уловок. — Она так и не вышла замуж? — Не знаю, сударь. Мы уже несколько месяцев путешествуем, не имея вестей от наших далеких друзей. Господин Пулен искоса взглянул на Марио. Тот был спокоен, как бывают спокойны люди с разбитым сердцем, но не выглядел изнуренным, как человек с опустошенной душой. — А вы знаете, что господин де Бевр был у Ла Рошели, на борту английского корабля? — спросил священник. — Я знаю, что он там погиб и что Лориана теперь — сама хозяйка своей судьбы. — Она была в Пуату, когда герцог де Ла Тремуй, оставленный англичанами, отрекся от ереси в королевском лагере. — Но она не последовала примеру герцога, — живо откликнулся Марио, — она попросила разрешения разделить заточение героической герцогини де Роган, которая отказалась подчиниться, а когда ей это не разрешили, собиралась вернуться в Берра, но мы в это время как раз покинули нашу провинцию. — Я все это знаю, — заметил господин Пулен, который действительно был в курсе всего. — Даже если бы вы этого не знали, я ничуть не жалею, что рассказал вам все, — ответил Марио. — Надеюсь вы не захотите дать принцу Конде новый повод для конфискации состояния мадам де Бевр? — Конечно, нет! — воскликнул священник, рассмеявшись даже с некоторым добродушием. — Вы умеете рассуждать, и, действительно зная собеседника, можно позволить себе говорить столь искренно, как говорите вы. Мне вы можете доверять полностью, ведь я открыто порвал с иезуитами на свой страх и риск! Господин Пулен говорил правду. Через какое-то время они нагнали маркиза де Буа-Доре, и встреча была почти дружеской.Глава шестьдесят восьмая
Маркиз, решив участвовать в военных действиях, собрал небольшой отряд добровольцев. Его лучшие люди сразу же с энтузиазмом последовали за ним. Бесстрашный Аристандр особенно радовался, представляя, как он задаст испанцам, которых ненавидел из-за Санчо; верный Адамас ехал в арьергарде на смирной кобыле и вез с собой духи и щипцы для завивки хозяина, не более, не менее! Впрочем, маркиз сейчас одевался столь же просто, сколь раньше блистал. Он лишь слегка завивал остатки волос на затылке, да для собственного удовольствия чуть-чуть душился. Никакого парика, никакой краски, почти никаких кружев, вышивок и галунов; широкий камзол плотного сукна с прорезанными рукавами, штаны такого же сукна, спускавшиеся ниже колен, сапоги по ноге, отделанные простым полотном по отвороту, брыжи и, наконец, подбитый мехом плащ, широкий и прочный, — вот каков был костюм прекрасного господина из Буа-Доре. Объясним вкратце причину такой метаморфозы. Марио дрался на дуэли с нахалом, который насмехался над напудренной маской, черными волосами и нежным «румянцем» маркиза. Марио хорошо отделал этого господина, уж он-то постарался! Но Буа-Доре, узнав задним числом об этом приключении, решил, что больше его сын рисковать собой из-за него не должен. В один прекрасный день, никого не предупредив, он отказался от краски и от парика, заявив, что господин де Ришелье прав, преследуя роскошь, и что следует подавать хороший пример. Так он смирился с тем, что стар и не красив, и героически предстал перед своими близкими. Но, к его великому удивлению, все были приятно поражены, а Мерседес наивно сказала: — Ах, как вы хорошо выглядите, хозяин! Я думала, вы гораздо старше. Действительно под слоем краски маркиз сохранился неплохо, и для своего возраста он был необыкновенно красив. Он не знал и так и не узнал старческой немощи. Зубы у него были целы; высокий, с залысинами лоб пересекали глубокие красивые морщины; ни коварство, ни злоба не искажали его лицо; усы и бородка, белые, как снег, красиво выделялись на желтовато-смуглой коже; его большие живые и смеющиеся глаза нежно светились под густыми кустистыми бровями. Он всегда держался очень прямо, не сгибаясь, но уже не смущался, когда Аристандр сильной рукой поддерживал его худое колено, чтобы маркиз мог сесть на коня, однако, оказавшись в седле, он сидел на лошади великолепно. С этого времени он получил столько комплиментов, что сам стиль его кокетства изменился: вместо того, чтобы скрывать свой возраст, он стал его преувеличивать, заявляя, что ему восемьдесят, в то время как ему было всего лишь семьдесят два. Ему нравилось поражать своих молодых собеседников рассказами о войнах прошлого, которые давно уже были похоронены в глубинах его памяти. 3 марта, то есть на следующий день после встречи прекрасных господ из Буа-Доре с господином Пуленом, королевский авангард численностью в десять-двенадцать тысяч человек расположился лагерем в Шомоне. Маркиз спокойно улегся в первую же попавшуюся постель и уснул крепко, как человек, привыкший к тяготам войны и умеющий использовать часы отдыха: выспаться за час, если только этот час и был у него в распоряжении, а мог проспать и двенадцать часов подряд, если больше нечего было делать. Марио же, взбудораженный нетерпеливым желанием сражаться, бодрствовал вместе с такими же молодыми добровольцами, с которыми познакомился в пути. Они расположились на постоялом дворе, зал с низкими потолками был так забит, что и не повернуться, табачный дым висел стеной. Регулярные армейские подразделения вели себя сдержанно, точно братство суровых монахов, компании же добровольцев были веселыми и шумными. Все пили, смеялись, распевали куплеты вольного содержания, читали друг другу эротические или шуточные стихи, говорили о политике и о женщинах, спорили и обнимались. Марио сидел у камина и посреди всего этого шума предавался мечтам. Рядом с ним расположился Клиндор, он обрел решимость, но робел, оказавшись в кругу дворян. Он не вмешивался в их шумные разговоры, но так и горел желанием набраться смелости и поболтать. Марио же совсем погрузился в мечты среди этого общего веселья, которое ему не мешало, но и не привлекало его. Вдруг в зал вошло очень странное создание. Это была худая черноволосая и смуглая девочка, наряженная в немыслимый костюм: пять или шесть разноцветных юбок, надетых одна на другую; корсаж, весь расшитый галунами и блестками, разноцветные перья, воткнутые в курчавые волосы, на груди ожерелья в несколько рядов, золотые и серебряные цепочки, на руках браслеты, кольца, стекляшки даже на башмаках. Невозможно было установить ее возраст: то ли это был рано развившийся ребенок, то ли изнуренная девушка. Она была очень маленького роста, уродливая, когда улыбалась или спокойно разговаривала, но прекрасная в гневе, впрочем, такое состояние, видимо, было для нее нормальным и обычным. Она оскорбляла слуг постоялого двора, которые не сразу подали ей еду, ругала солдат, не сразу уступивших ей место, царапала тех, кто хотел вольно пошутить с ней, разражалась жуткими проклятиями в адрес тех, кто насмехался над ее несуразным нарядом или злобным настроением. Марио спрашивал себя, зачем такое странное существо явилось в подобное общество, но тут в зал вошла еще одна женщина: толстая, краснолицая, наряженная в жалкие, смешные тряпки и нагруженная, как мул. Она потребовала, чтобы все замолчали. Не без труда ей удалось добиться тишины, и тогда она объявила на малограмотном французском, что сейчас выступит несравненная Пилар, ее подруга, танцовщица-мориска и гадалка, которая не ошибается, обученная арабской науке. Услышав имя Пилар, Марио очнулся от своей летаргии. Он всмотрелся в двух цыганок и, несмотря на то, что время очень изменило их, узнал в одной из них ученицу несчастного Ла-Флеша, его жертву и палача, а в другой — ту, что когда-то звалась в Брианте Беллиндой, а у капитана Макабра — Прозерпиной. Ныне же она именовала себя Нарцисса Боболина, лютнистка, торговка кружевами, при необходимости она же чинила и крахмалила кружевные отвороты. Публика согласилась посмотреть на выступления заявленных талантов. Беллинда сыграла на лютне, весьма живо, но фальшиво. Потом, сдвинув столы, освободили место для танцовщицы, и она исполнила с необыкновенной гибкостью и дикой грацией танец, вызвав восторг у публики. Успех Пилар у этих затуманенных вином мужчин вызвал у Марио отвращение, и он уже хотел удалиться, но из любопытства решил послушать предсказания, которые она уже начала излагать всем собравшимся, ожидая, пока кто-нибудь из них попросит ее предсказать будущее именно ему. — Говори, говори, юная сивилла! — кричали ей изо всех концов зала. — Скажи, нам повезет в бою? Захватим мы завтра Сузский перевал? — Так и случилось бы, будь вы все охвачены благодатью, — отвечала она с презрением, — но каждый из вас покрыт, как проказой, смертными грехами, и я очень боюсь за вашу красивую белую кожу! — Подожди-ка! — сказал кто-то. — Есть тут у нас юноша добрый и целомудренный, прямо ангел небесный, Марио де Буа-Доре! Начнем с него, пусть он обратится к предсказательнице! — Марио де Буа-Доре? — воскликнула Пилар, и ее сверкающие глаза словно подернулись пеленой. — Он здесь? Где же, где же он? Покажите мне его! Марио вышел из темного угла, чтобы цыганки смогли увидеть его. Одна из них сразу же кинулась к нему и схватила за руку, а вторая потупила взор, словно опасаясь, что он узнает ее. — Я уже узнал вас, Беллинда, — сказал ей Марио, — что касается тебя, Пилар, — добавил он, отнимая руку, которую она хотела поднести к губам, — просто посмотри на линии моей ладони, и хватит. — Марио де Буа-Доре! — воскликнула неожиданно рассвирепевшая Пилар. — Я и так знаю линии судьбы на твоей руке! Я их столько раз видела раньше. Я никогда не говорила о твоей судьбе: тебя ждет много горя и несчастий! — Я знаю, чего стоит твоя наука! — ответил Марио, пожав плечами. — Она зависит от твоего каприза, от твоей ненависти или твоей причуды. — Ну что ж, можешь проверить! — ответила обиженная Пилар. — Раз ты не веришь моей науке, значит, не побоишься услышать, что тебе предначертано. Завтра, мой прекрасный Марио, ты уснешь, упав на спину на склоне рва, глаза твои будут открыты, но ты не увидишь света звезд. — Значит, просто небо будет затянуто тучами, — спокойно ответил Марио. — Нет, небо будет ясное, но ты умрешь! — сказала Пилар, вытирая волосами холодный пот со лба. — Хватит! Больше меня не спрашивайте! Я слишком страшные вещи буду говорить всем, кто меня здесь слушает! — Ах, злая чертовка, возьми назад свои слова! — крикнул молодой человек. — Друзья, не выпускайте ее! Эти отвратительные колдуньи подталкивают нас к смерти, смущая наши умы! Из-за них мы, будучи в опасности, теряем ту самую уверенность в себе, что спасает нас. Заставим ее забрать обратно свои слова, пусть признается, что сказала так со злобы. Пилар, гибкая, как змея, уже проскользнула мимо столов. Кое-кто кинулся за ней, а Беллинда спаслась через другую дверь. — Оставьте их, — сказал Марио. — Это две злые бродяги, чью историю я вам расскажу как-нибудь в другой раз. Я не интересуюсь предсказанием: уж я-то знаю, чего стоит вся эта наука. Марио засыпали вопросами. — Завтра, — ответил он. — Завтра после сражения и после моей так называемой смерти. А теперь, позвольте, я схожу к отцу, посмотрю, хорошо ли его охраняют, а то эти две женщины могут замыслить что-нибудь против него. — А мы, — ответили его молодые друзья, — обойдем лагерь, чтобы посмотреть, не прячется ли где-нибудь в засаде банда цыган, грабителей и убийц. Лагерь осмотрели тщательно. Впрочем, в этом не было необходимости: регулярный лагерь охранялся бдительными часовыми, которые осматривали окрестности не только близ лагеря, но и далеко от него. Люди из деревни сообщили, что цыганки приехали накануне, вдвоем, и остановились в доме, на который показал Марио. Солдаты проверили и убедились, что цыганки находятся в доме. Марио решил, что следить за ними не стоит. Достаточно было обеспечить безопасность отца. Ночь прошла очень спокойно, слишком спокойно, на взгляд нетерпеливой молодежи, которая надеялась, что ночью их разбудит сигнал к бою. Но ничего не произошло. Принц Пьемонтский, зять Людовика XIII, прибыл от герцога Савойского вести переговоры с Ришелье, а переговоры, к большому недовольству французской армии, привели к перерыву в военных действиях. Следующий день, таким образом, прошел в лихорадочном ожидании, и сорвавшееся предсказание цыганки перестало заботить друзей Марио. Две бродяжки собрали вещи, пересекли линию авангарда и вернулись во Францию бродяжничать дальше. Ни Марио, ни его друзьям не следовало опасаться, что цыганкам позволят вернуться, так как кардинал отдал самый строгий приказ изгонять из расположения армии женщин, детей, а особенно непотребных девиц. Против них, а также против цыганок, танцовщиц, ворожей могла быть применена смертная казнь. Накануне 4 марта Марио был вынужден рассказать друзьям историю толстой Беллинды и маленькой Пилар. До сих пор скромность мешала ему быть на виду, его необычная история и сама трогательная, естественная и одновременно ироничная манера рассказывать заставили его приятелей позабыть о картах и о позднем часе. Конечно, он мог бы рассказать всю свою жизнь, но какое-то неопределенное чувство боязливой сдержанности помешало ему даже упомянуть имя Лорианы.Глава шестьдесят девятая
Было уже за полночь, когда все разошлись. Каждый нашел для себя более или менее сносное и безопасное пристанище. Когда Марио, которому Клиндор нашел приличное жилище, остался один и уже собирался войти в дом, он заметил, как едва различимая тень отделилась от стены. Неизвестный выпрямился и подошел к Марио. Оказалось, что это Пилар. — Марио, — проговорила она, — не бойся меня. Я никогда не причиню тебе зла, и у меня нет причин желать зла, твоему старому отцу. Я не разделяю ненависти Беллинды к вам. — А что, Беллинда всееще ненавидит моего отца? — переспросил Марио. — Она уже забыла, что он спас ее от виселицы, где она должна была оказаться вместе с капитаном Макабром? — Да, Беллинда забыла или, может быть, никогда об этом не знала. И уже не узнает, теперь она больше никого не ненавидит. — Что ты хочешь сказать? — То, что я сделала с ней то, что она надумала сделать с вами. — Что ты сделала? Говори же! — В этом нет нужды, Марио, если я скажу, ты уже никогда не полюбишь меня. Я ведь знаю, что ты меня презираешь. — Никого я не презираю, — возразил Марио. — Просто я ненавижу зло, и жестокость вызывает во мне ужас. Ты так и не избавилась от жестокости, несчастная девочка. Я это понял вчера, когда увидел, что тебе доставляет удовольствие мучить меня. Знай же, что никогда ты не добьешься своего, и оставь меня в покое. Для тебя будет лучше, если я тебя забуду. — Послушай, Марио, — сдавленным голосом воскликнула Пилар. — Я не заслужила такого к себе отношения! Заклинаю тебя, не говори так, если ты знаешь, что такое любовь! Потому что я люблю тебя и всегда буду любить! Да, я полюбила тебя еще тогда, когда мы оба были одинаково бедны, находили ночлег под любым кустом и попрошайничали на одной улице. Такова я от рождения! Ни одного дня своей жизни я не прожила без любви или ненависти, которые поглощали меня целиком. У меня ведь не было детства! Я родилась от пламени и, наверное, кончу свою жизнь на настоящем костре! Ну и что? Я такая пригожусь тебе больше, чем твоя Лориана, которая всегда смотрела на тебя свысока, а любит она по-настоящему только этих старых гугенотов… и тем лучше для нее! Тем лучше, я уверена в этом! Ведь я видела, как вы жили вместе. Дважды я возвращалась в ваши края, а один раз прошла совсем рядом, но ты меня не заметил. Ты бросил мне мелкую монетку. Посмотри, вот она. Я ношу ее на шее вместе с бусами, как самую большую в мире драгоценность. Я просверлила в ней дырочку и гвоздем нацарапала твое имя. Это мой талисман. Когда его не будет у меня, я умру! — Ну, ну, — остановил ее Марио, — это безумные речи. Что тебе нужно сейчас? Почему ты, рискуя жизнью, вернулась сюда и поджидаешь меня здесь? Верни мне эту монетку, я дам тебе вот эти золотые, ты в них явно нуждаешься. — Оставь свое золото себе, Марио, я в нем не нуждаюсь. Я хочу сохранить твой залог и я сохраню его, как бы ты ни стыдился того, что я ношу на груди твое имя. Я пришла, чтобы рассказать свою историю, нужно, чтобы ты ее выслушал. — Говори же скорей: ночь очень холодная, давно пора спать. — Но я могу сказать только тебе, а здесь нас услышит твой слуга. Пойдем отсюда вместе со мной. — Нет. Мой слуга спит за дверью. Говори здесь и поторопись, а то я уйду. — Слушай же, я расскажу все быстро. Ты ведь знаешь, что моего отца повесили, а мать была сожжена… — Да, я помню, ты часто об этом говорила. И что же? — А вот что. К несчастью, я попала в руки Ла-Флеша. Он ломал мне кости, чтобы сделать более гибкой, держал в клетке, отчего я болела и становилась злобной. Он показывал меня, как показывают загнанного зверя, который всех кусает. — Но твоя месть была не менее ужасной? — Да, я убила его при помощи песка, камней и земли, потому что он кричал: «На помощь! Дайте мне воды!» Одна его рука еще могла двигаться, и он попытался задушить меня. Но, спасая свою жизнь, я сделала то, чего ему едва не удалось избежать. Разве я не должна была это сделать? Это был мой долг! Возможно, вам, остальным, удалось бы его спасти. Но разве он не отплатил бы вам тем же, чем и Беллинда, которая, если бы не я, вчера отравила бы вас всех, тебя, твоего отца и слуг. И все это, по ее словам, только ради того, чтобы не пострадала моя репутация гадалки и сбылось то, что я при свидетелях тебе предсказала. — Так, значит, ты и ее тоже…? — И это тоже был мой долг по отношению к ней! Слушай же, слушай дальше мою историю! Отомстив Ла-Флешу, я спряталась в павильоне в саду. Я видела, что мой поступок вызвал у тебя гнев, и пережидала, пока это пройдет. Мне казалось, что ты будешь тревожиться обо мне, разыщешь и оставишь жить в замке, полюбишь. Но вечером ты пришел туда со своей Лорианой и стал ей говорить, что хочешь стать ее мужем. Она посмеялась над тобой: она считала тебя слишком юным, но, видит Бог, это она слишком стара для тебя! А потом ты сказал ей, что презираешь меня. Это я слышала очень хорошо! Тогда я сделала так, чтобы на нее упал камень. Я хотела убить ее, но вы подумали, что камень упал случайно, ушли, и я осталась совсем одна. Там я и провела ночь, страдая от голода и холода. Я была взбешена, и это меня поддерживало. Я проклинала вас обоих и себя за то, что вызвала твой гнев. Я хотела лишить себя жизни, но смелости мне не хватило. Мне казалось, что я ненавижу тебя и больше не хочу с тобой оставаться, и я пошла в Брильбо за деньгами Санчо, которые я украла для Ла-Флеша два или три месяца назад в доме в Кай-Ботте. Я тогда не очень ценила деньги и, чтобы навредить Ла-Флешу, отдала их Санчо, который их хорошо запрятал и получил, таким образом, власть над цыганами. Им он обещал, а иногда и подкидывал один-два экю. Я же знала, где он зарыл свои сокровища. Там оставалось еще много, или мне просто казалось, что много, ведь самой мне нужно было так мало. Я несколько раз брала оттуда понемногу и прятала в разных местах. Я вбила себе в голову, что могу жить одна, ни от кого не завися, путешествовать там, где захочу, — детские мечты! Скоро мне стало скучно, и, когда я встретила Беллинду — а она была в жалком виде, обритая, спасалась бегством, — я рассказала о моем тайном богатстве, скрыв только места, где я его укрыла. О, она очень старалась выведать это: улещивала, изводила, уговаривала и выспрашивала. Она все время надеялась вырвать у меня мой секрет, именно поэтому была по-матерински добра и изображала, что служит мне, была ласкова, чтобы потом предать. О! Как ужасно она меня предала! Она продала, обманула меня, она не посмотрела, что я еще ребенок. Было уже поздно, когда я поняла все это; охваченная стыдом, я поклялась отомстить ей, как только будет возможно. Сейчас ее мертвое тело, наверное, уже стало добычей ворон! Дело сделано, Бог свидетель! — Твои преступления ужасны, несчастная девчонка, — отозвался Марио. — Надеюсь, что это конец? — Теперь ты должен полюбить меня, Марио, или я отомщу Лориане. Я знаю, ты все еще любишь ее, только что на постоялом дворе ты отказался говорить о ней с теми господами. О! Я ведь тоже там была, спряталась в чулане и слышала все плохое, что ты там обо мне говорил. — Если слышала, то как можешь требовать от меня любви? Это безумство. — Я не безумна! От ненависти до любви один шаг, я это испытала на себе. Можно ненавидеть и обожать в одно и то же время. Ты ведь сам признал, что мои глаза стали красивее, а руки тоньше, что во мне появились красота и свежесть юности. Ведь так ты сказал недавно на постоялом дворе. А накануне многие из этих дворян делали мне такие предложения, что я могла бы накупить еще много других юбок из тафты и много других красивых серег. И все потому, что я, все равно, красивая или уродливая, вскружила им головы. Но мне ничего не надо ни от них, ни от тебя. У меня еще остались деньги, спрятанные в Берра, и я могу уйти, когда захочу. Бойся этого, Марио. Лориана ответит мне за тебя. Или ты возьмешь меня с собой, или останешься без нее. — Ты сама признаешься в своих преступных замыслах, — сказал Марио, — и я вынужден тебя задержать. Он попытался схватить цыганку, полный решимости отдать ее в руки правосудия, но смог удержать, только ее шарф: исчезающая быстрее, чем гонимые ветром тучи, она сбежала. Он стал ее преследовать и наверняка догнал бы, но, едва повернув за угол, он услышал громкие звуки труб. Это был сигнал седлать коней, начинался бой. И Марио побежал к отцу, который уже поднялся по тревоге.Ранним утром все были уже на марше. Сузский перевал — это ущелье длиной в четверть лье, а шириной — не более двадцати шагов, местами перегороженное обломками скал. Уловки принца Пьемонтского привели в конце концов к тому, что наша армия выступила на два или три дня позднее. Противник выиграл время и хорошо укрепился. Ущелье было разделено тремя укрепленными баррикадами с ограждениями и рвами вокруг. На господствующих высотах с двух сторон от них в небольших редутах находились солдаты. Пушка форта Талласс, сооруженного на соседней горе, простреливала открытое пространство между Шомоном и входом в ущелье. Это была одна на тех позиций, в которой горстка людей способна остановить целую армию. Но ничто не могло остановить «французскую ярость»[313]. Многие блестящие историки описали для нас эти славные события, после них мы можем добавить лишь немногое. Но наша задача не в изложении истории по известным фактам, а в ее воссоздании по забытым эпизодам. Поэтому мы последуем за прекрасными господами из Буа-Доре через все перипетии битвы, оставив в стороне восторги по поводу грандиозности происходящих событий. Нам тем более необходимо так поступить, потому что сами они не имели никакой возможности созерцать происходящее. Зрелище было великолепное! Героическое сражение на фоне величественного пейзажа! При первом же выстреле пушки воодушевление родилось в сердце Марио. Он сам не мог объяснить, как преодолел первую баррикаду, почему нарушил данное отцу слово не удаляться от него в течение боя. Казалось, что его нес крылатый конь или дуновение самого бога огня Марса. Вся страсть его души, весь жар его крови, которые обычно сдерживались скромностью и сыновней любовью, теперь вышли наружу подобно извержению вулкана. Он не помнил даже о том, что отец всегда следовал за ним, чтобы не терять сына из виду, подвергал себя такой же опасности. Здесь же был Аристандр, готовый в любую минуту закрыть собой хозяина, но в самый разгар боя Марио искал среди дерущихся серый султан старика, который возвышался над всеми. Каждый раз, видя его развевающимся на ветру, он благодарил небо и снова вверял себя своей судьбе. Напор штурмующих был так велик, что среди французов оказалось не более полусотни погибших. Это был один из тех необыкновенных дней, когда вера присутствует повсюду и нет ничего невозможного. После того, как позиция была отвоевана, Марио бросился на Сузскую дорогу преследовать отступающих, среди которых был сам герцог Савойский. Вдруг он увидел справа от себя бегущего человека в маске. — Остановитесь, остановитесь, — кричал ему человек. — Служба королю важнее всего! Возьмите эти донесения. Я вас знаю, я могу вам довериться! При этих словах шевалье потерял сознание и упал на землю, его загнанный конь грузно опустился на оба колена. Марио оказался единственным из группы наступавших, кто смог пожертвовать последней схваткой, он спрыгнул на землю, подобрал секретный пакет, который выпал из рук курьера. Но как только он повернул поводья, направляясь в лагерь короля, группа вооруженных людей, которая, по всей видимости, не принимала участия в боевых действиях, а занималась преследованием гонца, показалась справа от Марио. Люди бросились на него, требуя отдать пакет без всякого сопротивления и обещая за это сохранить жизнь. Говорили они по-итальянски. Марио стал звать на помощь. Но его никто не слышал. Отец был далеко позади, а товарищи за это время успели ускакать вперед. Чтобы быть услышанным, Марио сделал выстрел из ружья в направлении нападавших. Один из них упал на землю. Марио не стал дожидаться остальных. Он вскочил на коня и стрелой помчался сквозь шквал выстрелов. Пули попали в его шляпу и в склон горы, вдоль которого он скакал. Он услышал позади шум, крики, выстрелы, но не стал оглядываться. Он не видел лица и не узнал голос посланца. Ему было очень жаль оставлять в руках врагов человека, который так хорошо проявил себя. Но прежде всего ему надо было спасти послание, и ему это чудом удалось. Его бешеная скачка в обратном направлении вызвала у встречных удивление. Уже приближаясь к королевской ставке, Марио увидел скакавшего ему навстречу отца. Тот, увидев мчавшегося Марио, испугался, решив, что сын ранен и лошадь понесла его. — Ничего страшного! — успел крикнуть ему Марио и исчез в вихре пыли. К королю его не допустили, и Марио, сразу приняв решение, помчался к кардиналу. Встретиться с кардиналом было нелегко, поскольку на него уже неоднократно готовили покушения. Но бумаги, которыми Марио потрясал над головой, и взволнованное лицо достойного молодого человека сразу же внушили доверие великому министру. Он принял Марио и взял у него пакет. Марио так спешил, что передал послание, даже не опустившись на одно колено.
Глава семидесятая
Кардинал прочел послание. Похоже, что в нем были хорошие новости: может, сообщалось, что силы, которые собрал Гонсалес из Кордобы около Казаля, не столь уж велики, а может быть, кардинала информировали о заговоре королев против испанских властей, что могло бы спасти Францию… Как бы там ни было, но кардинал с тонкой улыбкой сложил послание и посмотрел на Марио, сказав: — Благосклонная судьба все устроила сегодня прекрасно, выбрав в качестве посланца архангела. Кто вы сударь и почему именно вы доставили эту депешу? — Я дворянин-доброволец, — ответил Марио. — Я взял это послание из рук умирающего. Он передал его мне в тот момент, когда мы преследовали врага. Он сказал мне: «Служба королю важнее всего». Я не смог приблизиться к королю и решил передать Вашему Преосвященству. — Вы решили, что это все равно, в том смысле, что у короля не может быть секретов от первого министра? — Я решил, что у него не должно быть секретов, — спокойно ответил Марио. — Как вас зовут? — Марио де Буа-Доре. — Сколько вам лет? — Девятнадцать. — Вы были в Ла-Рошели? — Нет, монсеньор. — Почему? — Мне не нравится сражаться с протестантами. — Вы из гугенотов? — Нет, монсеньор. — Но вы их одобряете? — Мне жаль их. — Если вы хотите о чем-нибудь попросить меня, говорите скорей: время дорого. — Единственное, о чем я прошу, чтобы Вы, Ваше Преосвященство, чаще давали нам возможность переживать такие дни, как сегодняшний! — ответил Марио, стараясь не занимать время у кардинала, и удалился, не заметив, что тот хотел с ним еще побеседовать. Но у первого министра было много дел, он занялся другим и забыл о Марио. На следующий день, когда войска размещались в Сузе, Марио показалось, что на глаза ему попался господин Пулен, переодетый крестьянином. Он окликнул его, но тот не ответил. Господин Пулен скрывался, что ему приходилось делать нередко. Он выполнял секретные поручения и поэтому старался быть неузнанным и никогда не являлся открыто к тем важным персонам, чьи поручения исполнял. Пока король, точнее кардинал, принимал в Сузе капитуляцию герцога Савойского, что заняло несколько дней, маркиз отдыхал после пережитых волнений. Хотя проводимая Ришелье военная кампания совсем не походила на партизанские войны эпохи молодости маркиза, Буа-Доре чувствовал себя здесь вполне уверенно, словно никогда и не покидал полей сражений, но он очень переживал в эти трудные часы за своего дорогого Марио. Сначала он опасался, что сын не оправдает его надежд, ибо с той ужасной ночи штурма Брианта и смерти Санчо Марио часто давал понять, что вид льющейся крови ему отвратителен. Иногда даже, видя, как мало сын интересуется осадой Ла Рошели, которая взволновала умы всей молодежи, маркиз, хотя и одобрял его принципы, опасался, что юноша излишне осторожен. Но когда он увидел, как Марио обрушивался на баррикады и взбирался на редуты в Сузском ущелье, он счел, что мальчик слишком отважен, и просил у Бога прощения за то, что привел его сюда. Наконец, он обрел уверенность, а узнав об истории с депешей, разрыдался от счастья на груди верного Адамаса, что-то бессвязно бормоча. Что касается Адамаса, то все в городе отмечали его надменный вид и презрение ко всем, кроме господина маркиза и господина графа де Буа-Доре. Аристандр был очень доволен, убив множество пьемонтцев, но ему хотелось убить побольше испанцев. Клиндор также показал себя неплохо, сначала он был несколько испуган, но потом справился с собой. А Марио не покидала тревога. Он, всегда презиравший пустые предсказания, прошедший через огонь, ни о чем таком не думая, чувствовал, что слабеет перед глупой угрозой Пилар; она вновь и вновь являлась ему в грезах, словно некий дух зла, превратившийся в невидимого и неуловимого врага. Ему уже довелось узнать, что самые слабые, но самые упорные в ненависти противники могут стать самыми опасными. Он постоянно вспоминал Лориану, ему казалось, что ей грозит смертельная опасность. Свои страхи он принимал за предчувствия. Однажды утром он вернулся в Шомон, сказав, что решил прогуляться. Напрасно расспрашивал он всех о маленькой цыганке. Он добрался и до горы Женевр и узнал, что там утром 3 марта было обнаружено тело женщины. Сначала думали, что она замерзла, но ее губы и щеки были словно обожжены, будто бы она неожиданно проглотила какой-то яд. Крестьяне, сообщившие это Марио, предложили ему посмотреть труп. Его пока зарыли в снегу, так как земля в этих местах сильно промерзла и ее трудно было долбить. Марио тут же убедился, что перед ним труп Беллинды. Итак, Пилар не солгала. Она избавилась от своей спутницы, она могла тем же способом избавиться и от соперницы. Марио поспешил вернуться в Сузу и рассказал обо всем отцу. — Отпустите меня в Бриант, — попросил он. — Если кампания продолжится, ждите меня здесь. Если же мир подписан окончательно, а это будет известно через несколько дней, вы приедете ко мне, не торопясь, чтобы вам не устать. Один я могу ехать быстрее, во всяком случае достаточно быстро, чтобы обогнать эту ненавистную девчонку, ведь у нее нет ни средств, ни сил, чтобы ехать почтовыми каретами. Маркиз согласился. Марио тотчас же отдал распоряжения Клиндору, наметив отъезд на следующее утро. Вечером с предосторожностями явился господин Пулен. Он был доволен и в то же время имел таинственный вид. — Господин маркиз, — сказал он, оставшись наедине с Буа-Доре и с Марио, я уже и так обязан вам многим, а теперь я обязан своей удачей вашему милому сыну. Ценное послание, переданное мной гонцу и которое удалось спасти Марио, обеспечило мне менее опасную и более важную должность в окружении отца Жозефа, а это значит, и в окружении кардинала. Я хочу отплатить вам и сообщить, что ваше единственное честолюбивое желание удовлетворено. Король ратифицировал ваши права на маркизат Буа-Доре при условии, что вы выстроите на ваших землях дом, которому дадите это имя. Оно, по королевской грамоте, будет передаваться вашим наследникам и потомкам. Его Преосвященство надеется, что, если военные действия будут продолжаться, вы останетесь на войне, и в первую же свободную минуту господин кардинал пошлет за вами, чтобы лично поблагодарить за великое мужество и преданность «старика» и «ребенка»: простите, но это его собственные слова. Господин кардинал отметил вас обоих и поинтересовался, как вас зовут. Особенно он отметил вас, господин граф, за то, что вы просили о единственной награде — участии в битвах. Я, персона незначительная, имел счастье лично предстать перед ним и рассказать о превратностях моей судьбы и вашей, не преминув упомянуть, что в одиннадцать лет вы собственной рукой поразили убийцу вашего отца, затем я напомнил ему, что этому же юноше, столь же разумному, сколь и храброму, он обязан получением доброго и нужного известия. Вы встали на хорошую дорогу, господин Марио. Я мало что могу, но всеми силами готов поспособствовать вам на этом пути, если представится случай. Несмотря на то, что маркиз горел желанием представить сына кардиналу, Марио не захотел дожидаться обещанной встречи. Он горячо поблагодарил аббата Пулена (тот вполголоса с улыбкой сказал, что теперь его уже можно так именовать). Марио был очень рад за своего отца и за Адамаса, счастливых обретением титула. Затем он бросился на постель, проспал несколько часов, еще раз расцеловал старых друзей и на рассвете выехал в сторону Франции. Марио хотел бы лететь на крыльях, но пришлось ехать на перекладных. В битве при Сузе его ранили, но он скрыл это, и силы ему изменили — рана воспалилась, началась лихорадка, и по приезде в Гренобль он серьезно заболел и слег. Перепуганный Клиндор обнаружил, что Марио бредит. Бедный паж побежал за врачом. С лекарем не повезло, он лишь ухудшил своим лечением состояние. Марио стало совсем плохо. Его нетерпение и огорчение от того, что он тут застрял, усугубили дело. Клиндор решил послать письмо маркизу, но, совершенно потеряв голову, он отправил нарочного в Ниццу, а не в Сузу. Однажды вечером, когда Клиндор совсем отчаялся и плакал на лестнице рядом с комнатой, где лежал обессиленный Марио, пажу показалось, что больной говорит сам с собой, и он бросился в комнату. Марио был не один: худенькая фигурка склонилась над ним, словно расспрашивая его. Клиндор испугался. Он решил, что дьявол явился, чтобы помучить его хозяина перед смертью, и он пытался вспомнить молитву об изгнании дьявола, как вдруг в слабом свете свечи узнал Пилар. Он перепугался еще больше. Он слышал ее разговор с Марио в Шомоне. Он знал, что она влюблена в него до безумия. Он твердо верил, что она служит сатане, и страх подействовал на него, как обычно, то есть Клиндор осмелел и со шпагой в руке бросился на нее. Он едва не поранил Марио, потому что Пилар увернулась от удара. Еще раз он не смог ударить, Пилар обезоружила его, причем он сам не понял, каким образом. Она так быстро и неожиданно прыгнула на него, что у него вдруг разжались пальцы. — Успокойся, глупец и безумец, — сказала она, — я здесь не для того, чтобы причинить зло Марио, а для того, чтобы спасти его. Разве ты не знаешь, что я люблю его и что в нем — вся моя жизнь? Делай то, что я тебе скажу, и через два дня он встанет. Клиндор, убедившись, что каждый рецепт приглашенного врача лишь ухудшал здоровье больного, уступил настойчивости Пилар. Хотя она и внушала ему страх, он чувствовал ее влияние; он боялся признаться в этом, но противиться не мог. Иногда он трепетал при мысли, что ей доверена жизнь Марио, но подчинялся, говоря себе, что она его околдовала. Лихорадка у Марио была лишь результатом нервного возбуждения: один день отдыха излечил бы его рану. Но врач наложил повязку с мазью, которая отравляла все его существо. Пилар промыла и очистила рану. Она знала «тайны» морисков и дала больному противоядие. Его чистая кровь и здоровый организм ускорили действие лекарства. Той же ночью Марио пришел в себя и утром уже не бредил. На следующий вечер, хотя он был еще очень слаб, тем не менее понял, что спасен. Охваченный радостным восторгом Клиндор, сам того не заметив, признался ловкой цыганочке в любви. Она не обратила на это никакого внимания. Она спряталась за спинкой кровати, чтобы Марио ее не заметил. Она прекрасно знала, что, увидев ее, он разволнуется. На следующий день Марио почувствовал себя настолько окрепшим, что послал Клиндора купить дорожную карету, чтобы они могли продолжить путешествие. Тот, решив, что ехать рано, заявил, что кареты не нашел. Тогда Марио приказал привести лошадей и намеревался ехать на перекладных. Его упорство огорчало Клиндора, но туг вмешалась Пилар. Марио, увидев ее и узнав, что именно ей он обязан жизнью, так рассердился, что едва не заболел снова, однако он тотчас же успокоился и заговорил с ней ласково: — Ты откуда? Где ты была? Помнишь, тогда ты угрожала мне? — Знаю, ты боишься за нее, — ответила Пилар с горькой улыбкой. — Успокойся, я не успела туда добраться. Я не пойду, если ты больше не будешь ненавидеть меня. — Я не буду ненавидеть тебя, Пилар, если ты откажешься от мести, но если ты будешь упорствовать, я тебя возненавижу, возненавижу и жизнь, что ты мне вернула. — Не будем сейчас говорить об этом, можешь быть спокоен и можешь не ехать в Берра. Ведь я здесь, рядом с тобой, и этим все сказано. Пилар коснулась самой сути дела. Марио успокоился и согласился до выздоровления остаться в Гренобле. Ему пришлось согласиться также на то, что Пилар останется при нем. Теперь он и помыслить не мог о том, чтобы отдать в руки правосудия Пилар, тем самым вернув ее на путь истинный, ведь ей он был обязан жизнью. Он не осмеливался сердить ее, выказывая презрение, преодолевал неприязнь, которую она ему внушала, старался беспокоиться, когда ее долго не было, и радоваться ее возвращению. Но долго так продолжаться не могло. Пилар, на которую доводы морали не действовали, хотела быть любимой. Она говорила о своей страсти с каким-то первобытным красноречием, считая это чувство вполне целомудренным, потому что не умела рассуждать, и вполне возвышенным, в чем ей помогало богатое и неподвластное разуму воображение и неукротимое упрямство. Она осыпала Лориану проклятиями, горько упрекала Марио, нисколько не стесняясь присутствием несчастного Клиндора. Вскоре Марио устал играть навязанную ему смешную роль. Напрасны были все его старания переделать ее натуру, не способную любить добро ради него самого. — Если бы любовь к Лориане не делала тебя слепым, — говорила она ему с ужасающим прямодушием, — ты позволил бы мне отомстить за тебя, потому что она тебя презирает и всегда будет презирать.Глава семьдесят первая
Однажды вечером, когда Марио уже стал вставать, он вышел на улицу один, опьяненный свежим воздухом и свободой. Он был полон решимости продолжать путешествие, как бы ни пришлось поступить с Пилар: временно лишить ее свободы или взять с собой и обращаться с ней уважительно. Обдумывая свои дальнейшие действия, Марио медленно поднимался по направлению к Визитандинскому монастырю, невольно привлеченный высотой его башен. Вдруг он очутился лицом к лицу с каким-то человеком. Оба остановились. Оба были вынуждены посмотреть друг на друга. Это была женщина благородного происхождения, если судить по ее виду и по тому, как она была одета, небольшого роста, худая, бледная, но молодая и красивая. Так по крайней мере казалось, потому что лицо ее закрывала черная полумаска, какие высокородные дамы носили тогда во время прогулки. На ней была вдовья шапочка, черное одеяние. Светлые с пепельным оттенком волосы разделены пробором и красиво уложены на висках. Мягкая грация и сдержанность ее походки еще издали привлекли внимание Марио. При ее приближении его поразил цвет ее волос, контрастирующий с черным цветом одеяния. Сердце Марио забилось сильнее. Наваждение не проходило. Очутившись с ней лицом к лицу, он чувствовал волнение и смущение. Дама в маске тоже казалась взволнованной. Наконец, она прошла мимо, ответив на приветствие Марио. Марио прошел шагов двадцать, постоянно оборачиваясь. Затем он сделал еще двадцать и остановился. «Я боюсь показаться неучтивым и встретить холодный прием, но я должен узнать, кто эта дама!» — сказал себе Марио. Он вернулся бегом и снова оказался перед дамой в маске. Стоя друг против друга, они все еще колебались, готовые во второй раз пройти мимо, так и не осмелившись заговорить. Но дама, наконец, решилась: — Простите меня, — сказала она с волнением, — если я не ошибаюсь, вы — Марио де Буа-Доре? — А вы — Лориана де Бевр? — воскликнул потрясенный Марио. — Как же вы меня узнали? — изумилась Лориана, снимая маску. — Смотрите, как сильно я изменилась. — Да, — ответил восхищенный Марио, — раньше вы и вполовину не были такой красивой. — Право, не считайте себя обязанным говорить мне комплименты, — сказала Лориана. — Смерть моего отца, страдания наших единомышленников, поражение протестантов сделали меня старше моих лет. Но расскажите о себе и о ваших близких, Марио! — Конечно, Лориана, возьмите меня под руку и давайте пойдем к вам, так как мне нужно поговорить с вами. Если у вас здесь нет надежной защиты, то, знайте, я вас не оставлю. Лориану удивил возбужденный тон Марио, она подала ему руку и сказала: — Я не смогу, даже если бы и захотела, отвести вас в мое убежище. Я живу в том монастыре, на холме. Но вы можете проводить меня до ворот, а по дороге мы расскажем друг другу все, что с нами произошло. Она начала первой и поведала Марио, что после взятия Ла Рошели, когда ей не позволили разделить заключение мадам де Роган, она захотела вернуться в Берра. Но ей дали понять, что принц Конде приказал вновь ее арестовать, если она вернется туда. Ее старая тетушка, единственная преданная родственница, была настоятельницей монастыря визитандинок в Гренобле: она когда-то была протестанткой, ее заключили в этом монастыре и в конце концов убедили переменить веру, когда она была еще очень юной. Но она по-прежнему очень участливо относилась к протестантам и настойчиво приглашала Лориану спрятаться здесь, обещая защищать ее до окончания войны на юге. Лориана нашла здесь покой. Монахини, так же как и сестры в Бурже, не преследовали ее. Из уважения к ее тетушке они даже сделали вид, что не знают о том, что Лориана еретичка. Она могла, скрыв свое лицо, выходить одна за ворота, чтобы утешать и помогать несчастным протестантам, прятавшимся в пригородах. — Лориана, — сказал Марио, — вам не надо выходить и не надо показываться людям, пока я вам не разрешу. Лишь милосердие Провидения уберегло вас от встречи с опасным и невидимым врагом. Мы уже у дверей монастыря, поклянитесь, что не покинете его, пока я не приду повидаться с вами. — А когда я увижу вас? — Завтра. Мы сможем поговорить в приемной? — Да, в два часа. — Поклянитесь, что не покинете монастырь. — Клянусь вам. Марио дождался, когда дверь монастыря закрылась за Лорианой. Он считал, что она здесь в безопасности, даже если ее обнаружит Пилар. Марио внимательно осмотрелся, чтобы убедиться, что Пилар за ним не следила и не преследовала его. Он знал, что она готова будет уничтожить весь монастырь, лишь бы добраться до соперницы. Марио вернулся к себе, но Пилар там не обнаружил. Клиндор не видел ее после ухода хозяина. Марио почувствовал, что волнение опять проникло в его сердце. На всякий случай он вышел на улицу и тут услышал шум, заставивший его остановиться. Он увидел Пилар: ее вели лучники при свете факелов. Она кричала, кричала свирепо и жалобно. Когда она увидела Марио, она протянула к нему руки с такой мольбой и таким отчаянием, что он на миг содрогнулся. — О, жестокосердный! — крикнула Пилар. — Вот как заплатил ты мне за мою любовь и заботы: бросил в темницу. Мерзавец! Хочешь отделаться от меня? Будь ты проклят! Марио не стал с ней разговаривать, а обратился к начальнику стражи, уводившей Пилар: — Скажите, вы забираете ее на ночь просто за бродяжничество или же надолго по подозрению в преступлении или каком-то проступке? Ему ответили, что ее обвиняют в преступлении. Врач, который так неудачно лечил Марио, был недоволен тем, что ему помогла какая-то бродяжка, и обвинил ее в том, что она отбивает у него больных, причем изложил это в форме обвинения в незаконном занятии медициной. Подобное обвинение могло привести в ту эпоху к гораздо более серьезным последствиям, чем в наши дни, потому что всегда мог возникнуть вопрос о колдовстве, преступлении, за которое самые важные магистраты карали смертью. «Что бы с ней ни случилось, — сказал себе Марио, — надо, чтобы эта опасная цыганка потеряла след Лорианы, если она уже не нашла его». На следующий день он помчался в монастырь. — Теперь, — сказал он Лориане, — мы можем вздохнуть свободней, но не следует забывать об опасности. И он рассказал ей всю историю с цыганкой. Лориана внимательно его выслушала. — Теперь, — сказала она, — я все понимаю. Знаете, Марио, почему я так разволновалась, увидев вас вчера, и почему набралась храбрости и обратилась к вам, хотя и не была уверена, что вас узнала? Знаете, почему я сначала заколебалась, решив, Что мое воображение обмануло меня? Восемь дней назад я получила анонимное письмо, полное угроз и проклятий, в котором мне писали, что вы погибли в битве в Сузском ущелье. Это известие потрясло меня. Я оплакивала вас, Марио, как оплакивают брата. Я сразу же написала вашему отцу и отправила письмо с почтой. Однако, поразмыслив, я почувствовала сомнения: уж очень подозрительно было письмо. Когда я вас встретила, я как раз направлялась в город, чтобы по возможности выяснить, кто из дворян погиб в сражении. Я решила, что, если среди убитых окажется и ваше имя, поеду к вашему отцу и постараюсь поддержать его и останусь ухаживать за ним в этом смертельном испытании. Это был мой долг, не правда ли? Ведь он когда-то был так добр со мной. Марио смотрел на Лориану и не мог оторвать взор от ее взволнованного лица, от глаз, зажженных страданием, от следов только что пролитых слез. — Ах, Лориана, — воскликнул он, целуя ей руку, — неужели я вам еще хоть немного дорог? — Вы — мой друг, и я уважаю вас. Я знаю, что вы не захотели сражаться с протестантами. — Да, никогда не хотел. Но я никогда и не говорил о главной причине! Теперь я могу ее открыть: я боялся, как бы мне не пришлось стрелять в вашего отца и в ваших друзей. Лориана, я нежно любил вас, почему же ваши письма моему отцу были такими холодными? — Теперь я тоже могу открыть вам мое сердце, дорогой Марио. Четыре года назад, когда мы виделись последний раз в Бурже, моему отцу пришла в голову странная идея обручить нас. Ваш отец, как ему и следовало, посчитал его предложение недостаточно обдуманным. Легкомыслие моего бедного отца поставило меня в унизительное положение, поэтому я и писала вам несколько раз о планах устройства моей личной жизни, на самом же деле я об этом и не помышляла. В то же время я на словах была холодна с вами, мой дорогой Марио, и, возможно, меня задевало, что вы предполагали во мне претензии на брак. Сегодня же мы можем улыбнуться, забыв прошлые несчастья, и будьте ко мне справедливы, поверьте, я не думаю ни о каком браке. Мне двадцать три года, мое время прошло. Наша партия разбита, мое состояние будет конфисковано по малейшему капризу принца Конде. Мой бедный отец умер, и превратности войны отняли у него все богатства, нажитые в морских походах. Я теперь уже не молода, не красива, не богата. Но одно радует меня: я теперь могу жить недалеко от вас, и никто не заподозрит, что я рассчитываю на что-нибудь другое, кроме дружбы. В смущении дрожащий Марио слушал Лориану. — Лориана, — горячо взмолился он, — не я, а вы пренебрегаете моим именем, возрастом и чувствами, предлагая возобновить спокойные дружеские отношения. Я должен сказать, что сделать это уже поздно. Я всегда любил вас возвышенной любовью, разлука и новая встреча лишь укрепили мое чувство, оно осталось таким же благородным. На мою долю тоже выпало много страданий, Лориана. Но никогда я не отчаивался. Безысходность почти убивала меня, но я противился этому. В такие минуты Бог приходил мне на помощь, посылал вести, укреплявшие мою веру в вас и надежду на его милосердие. Это было подобно глотку свежей воды. «Она знает, не может не знать, что я умру без ее любви, — убеждал я себя, — она полюбит меня, она никогда не полюбит никого другого, у нее такая добрая душа! Пусть я еще слишком молод, но я скоро смогу стать достойным ее. Для этого я буду много трудиться, сохраню живую душу, стану смелым, буду заботиться о счастии тех, кто меня любит. А еще я буду хорошим воином, если начнется новая славная война». Ведь вы согласны со мной, Лориана, ведь сердце ваше осталось прежним и в нем нет любви к испанцам? — Конечно, нет, — ответила она. — Меня мало интересуют эти события, и я осталась здесь ждать их завершения только потому, что господин де Роган решился на этот безумный, унизительный, продиктованный отчаянием союз. — Теперь вы сами убедились, Лориана, что больше ничего нас не разделяет. Наверное, я не стал еще вполне благоразумным человеком и не знаю, каким стану, но теперь я знаю о себе не так уж мало. Например, я могу сражаться так же решительно, как мои товарищи по армии. А многим из них было двадцать пять, тридцать лет. В своем чувстве я уверен, Лориана, и сохраню его на всю жизнь. В этом нет моей заслуги. Я, наверное, родился верным, несмотря на мой юный возраст, ни одна женщина не стала для меня такой же прекрасной и привлекательной, как вы. Мое сердце принадлежит вам с самого первого дня нашего знакомства. Видеть вас стало для меня потребностью, не было ни одного дня в Брианте, когда я не думал о вас, пренебрегая играми и развлечениями. Часто ради вас я оставлял книга и занятия. То, о чем я думал и говорил вам восемь лет назад в известном вам лабиринте, я готов повторить сегодня. Без вас я не буду счастлив, Лориана! Чтобы быть счастливым, мне нужно видеть вас каждый день. Я знаю, что не имею права просить вас: «Сделайте меня счастливым!» Вы свободны! Но, быть может, ваша жизнь со мной станет более радостной, чем прежнее существование с бедным вашим отцом или нынешняя одинокая, полная гонений и опасностей жизнь. Мне не нужно ваше богатство, но если оно нужно вам, я готов защищать ваши права, как только мир будет заключен, я готов бороться с вашими врагами. Выйдя за меня замуж, вы обретете свободу убеждений, под моей защитой и покровительством вы сможете молиться так, как считаете нужным. Мы не будем бороться друг с другом за нашу веру, как делают это на наших глазах король и королева Англии. Если вам нужен титул, вы его получите, потому что теперь уже нет никаких сомнений в том, что я маркиз. Вы стали не так красивы? Но я не вижу этого и никогда не увижу. Я заметил, что вы переменились. Сегодня вы более бледная и худая, чем были в шестнадцать лет. Но, на мой взгляд, вы стали еще лучше. Даже если бы вы никогда не были красивы, мне кажется, что я все равно любил бы вас. А если счастье женщины в том, чтобы быть красивой для того, кого она любит, то любите меня, Лориана, и вы обретете это счастье. Не прерывай меня, моя Лориана, разреши мне говорить с тобой, как раньше. До этого дня у меня хватало и мужества, и терпения, не отнимай их у меня теперь. Если ты хочешь, чтобы я оставался пока твоим другом и братом, я готов ждать, когда ты доверишься мне. Если ты хочешь, чтобы я вернулся на войну, а это и мое желание, ты можешь приехать в лагерь как воспитанница и приемная дочь моего отца. Мы увидимся не раньше, чем ты захочешь. Мы можем не видеться до тех пор, пока ты не решишь стать моей женой. Только не покидай нас больше, потому что, с твоей любовью или без нее, мы были и хотим всегда оставаться твоей семьей, твоими друзьями, защитниками, рабами и всем тем, кем ты хочешь, чтобы мы были, при условии, что ты позволишь любить тебя и тебе служить. В ответ на эти великодушные слова Лориана сжала руки Марио. — Ты — ангел, — проговорила она, — и мне потребуется мужество, чтобы отказать тебе. Но я слишком сильно люблю тебя, чтобы связать твою блестящую судьбу со своей, несчастной и горестной, я слишком люблю твоего отца, чтобы доставить ему такое огорчение. — Моего отца? Ты все еще сомневаешься в моем отце? — не выдержал Марио. — О, Лориана! Ты так и не поняла, что это твой отец обманул тебя! Скажи лучше, что не любишь меня и никогда не любила!.. В это время кто-то громко позвонил у решетки монастыря. Спустя минуту в комнате уже находился маркиз Буа-Доре. Он заключил в объятия Марио и Лориану. Маркиз не дождался посланного Клиндором курьера, но получил письмо Лорианы. И так как мир был уже заключен и можно было возвращаться в Берра, он приехал в монастырь за Лорианой, собираясь увести ее с собой. Теперь маркиз очень удивился, встретив Марио, он предполагал, что Марио уже вернулся в Бриант. Произошло объяснение. Затем Марио взволнованно обратился к маркизу: — Вы приехали вовремя, отец. Лориана думает, что вы ее не любите! Опять последовали объяснения. Видя волнение и огорчение Марио, маркиз улыбнулся. Лориана поняла смысл его улыбки. — Дорогой мой маркиз, — воскликнула она, покраснев, вся дрожа, — верните мне письмо, которое я написала вам, когда считала вашего сына погибшим! Я хочу, чтобы вы вернули его, не показывайте его… — Никогда, — с лукавым видом ответил маркиз, протягивая письмо Марио, — никогда он его не увидит, если только не вырвет его у меня из рук, а он на это вполне способен, как видите.Глава семьдесят вторая
Письмо было коротким и печальным. Пока Марио читал, Лориана спрятала лицо на груди старика. Лориана, только что пережившая горечь утраты, писала маркизу, что продолжала любить Марио после разлуки с ним и будет носить траур по нему всю оставшуюся жизнь. «С этого дня, — писала она, — я действительно почувствовала себя вдовой». — Теперь вы не вдова и никогда ею не будете, моя Лориана, — сказал маркиз, снимая с нее черную шапочку. — Я не желаю лучшей дочери, свадьбу отметим в Брианте. Можете себе представить, какой праздник был в замке, когда вернулись оба хозяина, Лориана, Адамас, Аристандр и Клиндор, который, чтобы сбросить чары цыганки, тут же принялся ухаживать за всеми крестьянками подряд. Однако свадьба двух любимых детей доброго Сильвена не могла состояться, прежде чем Лориана не подчинится королю и не получит его прощения, так как в минуту отчаяния она примкнула к мятежникам. Война на юге с протестантами была недолгой, но кровавой. Это был последний вздох протестантской партии как политической силы. Марио с Клиндором отправились к аббату Пулену, который пользовался особым доверием у короля и мог ходатайствовать за Лориану. Аббат Пулен более, чем кто-либо, мог выпросить прощение, так необходимое ей. В разговорах об этом прошла встреча, и, уже собираясь домой, они вышли на порог и почувствовали жуткий запах гари. Аббат, который вышел их проводить, воскликнул: — Где-то начался страшный пожар, вы чувствуете? И мне кажется, что вот-вот запылают наши одежды. — Вы правы, господин аббат, — откликнулся Клиндор, любивший вмешиваться в чужой разговор, — здесь чувствуется отвратительный запах горелого. — Действительно, — заметил Марио, — похоже, за холмом горит какой-то дом. Видите, дым идет? — Не стоит обращать внимание, — сказал аббат. — Какая-нибудь хижина, наверное. Признаюсь, господин граф, я устал от стольких несчастий. Раньше я ненавидел гугенотов, но теперь, когда они повержены, я чувствую то же, что и вы: мне жаль их. Я был свидетелем дела Прива[314]. Так вот, с меня хватит, ия призываю особо жаждущих мщения успокоиться. — Я тоже так думаю, — со вздохом заметил Марио, — но послушайте, господин аббат, там кричат, люди там страдают, поедемте посмотрим. Действительно, из-за холма, откуда шел дым, раздавались крики, точнее, один-единственный крик, долгий, пронзительный, жуткий. Крик длился мучительно долго, казалось, кричал ребенок. Это произвело впечатление на аббата. Клиндор не мог поверить, что это кричал человек: — Нет-нет, — говорил он, — это пастушья дудка, а, может, режут козленка. — Это человеческое существо умирает под пытками, — ответил аббат, — я слишком хорошо знаю такую жуткую музыку. — Скорее туда! — воскликнул Марио. — Может, успеем спасти несчастное создание. Едем же, аббат! Подписан мир, и никто не имеет права пытать гугенотов. — Слишком поздно, — ответил аббат. — Уже ничего не слышно. Крики неожиданно прекратились, исчез и дым. Может быть, они ошиблись. Тем не менее спутники погнали лошадей и быстро поднялись на вершину холма. Оттуда они увидели в глубине долины, гораздо дальше, чем они думали, группу крестьян, возбужденно толпившихся у погасшего костра. Не успели они доехать до них, так, чтобы окликнуть, крестьяне разбежались. Только одна старая женщина осталась у дымящихся головней, она переворачивала пепел вилами, словно искала там что-то. Марио первый оказался у остатков этого пожарища, откуда шел горький, отвратительный запах. — Что вы тут ищете, матушка? — спросил он. — Что это здесь сожгли? — Да ничего, мой прекрасный господин! Всего лишь колдунью, которая одним взглядом наводила на людей лихорадку. Наши мужчины покончили с ней, а я смотрю, не осталось ли в пепле какого-нибудь ее секрета. — Какого еще секрета? — возмутился Марио, которому внушало отвращение хладнокровие этой старухи. — У нее на шее было что-то блестящее, — ответила старуха. — Когда она билась в огне, эта штука упала. И тогда она крикнула: «Я погибла, у меня ее больше нет!» Наверное, какой-нибудь амулет от всех несчастий. Вот я и хочу его найти. — Вот она, возьмите, — и Марио подобрал с земли монетку с дыркой. — Это она, она самая, мой прекрасный господин. — Дайте мне за то, что я так хорошо разожгла огонь. Марио всмотрелся и, охваченный непреодолимым ужасом, отшвырнул монету подальше. Он прочел нацарапанное на ней чем-то острым имя. Талисман принадлежал Пилар. Только это и осталось от ее роковой любви к нему, да еще горстка обгорелых костей и горький запах горелого, распространившийся в воздухе. Охваченный ужасом и жалостью, Марио торопливо отошел от костра, как его ни расспрашивал Клиндор, Марио не открыл ему эту мрачную тайну. Они поехали дальше, а он все еще оставался под тяжелым впечатлением от увиденного. Но подъезжая к замку, как мы легко можем догадаться, он уже все забыл и думал лишь о том, какое счастье будет увидеть свою дорогую подругу, любимого отца, нежную Мерседес, доброго Люсилио, мудрого Адамаса и героического каретника, всех этих великодушных людей, которые всегда баловали его, как могли, но каким-то чудом сделали из него добрейшее и прекраснейшее существо. Свадьба была великолепна. Маркиз открыл бал с Лорианой, счастливая Лориана не выглядела ни на день старше красавца Марио.КОНЕЦ ВТОРОГО И ПОСЛЕДНЕГО ТОМА
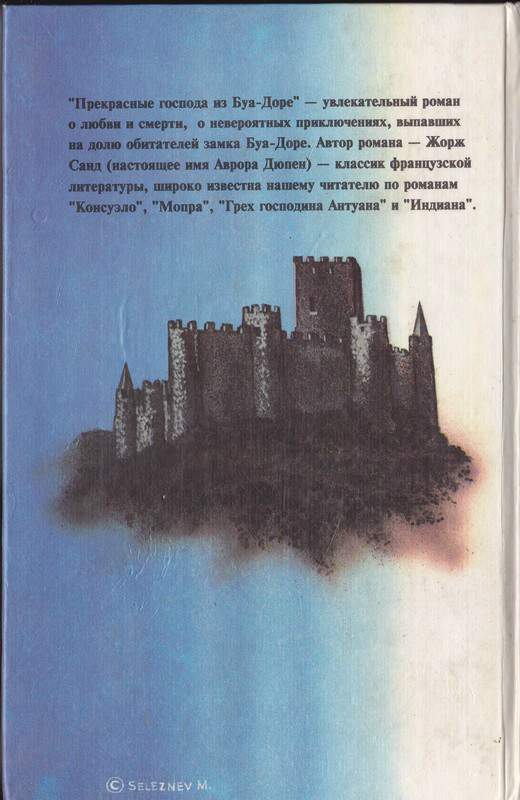

 Я производил финансовую ревизию в городке Арвере в провинции Овернь и жил уже два дня в гостинице «Великий Монарх». Какой великий монарх, и почему тут красовалась эта вывеска, до такой степени еще распространенная в провинции? Есть ли это отголосок времени царствования Людовика XIV? Положительно не знаю, пусть объяснят мне те, кто знает. Портреты, изображавшие эту знаменитую и таинственную личность, исчезли почти везде. Я помню, что в детстве видел один из таких портретов, на котором он был изображен в костюме турка.
Хозяйка «Великого Монарха» мадам Ушафоль была женщина приятная и добропорядочная, преданная всяким властям, старинной или новой знати, богатым разночинцам, официальным или местным влиятельным лицам, и все это не в ущерб должной предупредительности к мелким чиновникам и странствующим приказчикам, обеспечивающим постоянный доход и оборот капитала всякой гостиницы. Кроме того мадам Ушафоль имела религиозные убеждения и вела споры с местными вольнодумцами.
Раз вечером, стоя на балконе гостиницы, я увидал на площади, отделяющей церковь от мэрии и гостиницы, высокого молодого человека, лицо и осанка которого не могли бы нигде остаться незамеченными. Он вел под руку очень некрасивую крестьянскую девушку. За ним следовали два молодца под хмельком, походившие на расфранченных мастеровых, под руку с довольно миловидными девицами в чепчиках. Почему этот красавец, одетый с некоторым вкусом и вовсе не пьяный, выбрал себе в дамы самую уродливую и плохо одетую?
Эта маленькая загадка не занимала бы меня более минуты, если бы мадам Ушафоль, смахивавшая пыль с листьев чахлого померанца, не постаралась обратить на нее мое внимание.
— Вы смотрите на красавца Лоранса, не правда ли? — сказала она, бросая на кутящего Антиноя самый насмешливый и пренебрежительный взгляд. — Он красивый малый, не спорю, но смотрите — вечно он в дурной компании! Положим, сам он крестьянский сын, но у него есть богатый и титулованный дядя, да кроме того, когда человек получил образование и одевается по-барски, то ему не годится чокаться на деревенских свадьбах с первым встречным, а главное — не годится ходить по городу среди бела дня с такими женщинами под ручку!.. Но этот малый с ума спятил, ничего-то он не уважает, и знаете, что особенно удивительно, сударь, — никогда-то он не появится с красивой девушкой ему под стать. Он вечно таскает с собой чудовищ и не из самых чопорных, поверьте!
— Я поверю всему, если вам угодно, мадам Ушафоль, но чем же вы объясняете этот странный вкус?
— И совсем не берусь объяснять! В поведении этого бедного малого — я ведь, сударь, принимаю в нем участие — ничего нельзя понять. Его крестная мать — моя подруга детства, и мы с ней часто горюем о том, что он так сбился с пути.
— Значит, это совсем бездельник?
— Ах! Если бы только это; если бы он был только немного повеса и волокита, если бы можно было сказать: «Он забавляется, побалуется, да и остепенится, как оно со многими бывало!» Так нет же, сударь. Он немножко пьянствует, но долгов не делает; нельзя сказать, чтобы он отличался дурным нравом; он также не драчун, хотя при случае, если на деревенском празднике или на балу мастеровых на его глазах повалят человека наземь, он бьет тех, кто в большинстве, и славно, говорят, бьет. Словом, из него могло бы выйти что-нибудь путное, потому что он не глуп и не ленив. Но, видите ли, у него в голове свои фантазии, особенно одна фантазия.., которая приводит его родных в отчаяние.
— Любопытно узнать, что это за фантазия.
— Представьте себе, что вместо того, чтобы принять место на телеграфе, или табачную лавочку, или должность в мэрии — а ему все это предлагали, — он предпочел жить со своим отцом, бывшим фермером, который купил себе в предместье землю и устроил сад. Бедный старый Лоранс такой славный и работящий. Этот сын у него единственный, и отцу хотелось воспитать его получше, потому что он надеялся, что его брат, очень богатый человек, привяжется к племяннику и сделает его своим наследником. Не тут-то было: сдав экзамен на бакалавра, молодой человек съездил в Нормандию, где живет его богатый дядя, а потом поддался ужаснейшему заблуждению, сударь, и пропадал два или три года, почти не давая о себе знать.
— Какому же заблуждению он поддался, мадам Ушафоль?
— Ах! Сударь, позвольте мне не говорить вам этого из уважения к старику Лорансу, который поставляет мне прекрасные персики и замечательный виноград из своего сада; кроме того он разводит овощи и покупает у меня навоз из конюшни и платит за него лучше, чем многие другие; а также из дружбы к крестной молодого человека, моей приятельнице, как я уже вам говорила, — мы еще с нею вместе причащались в первый раз. Вот я и должна скрывать несчастье и позор, которым красавец Лоранс, как его здесь называют, запятнал своих близких и которым запятнал бы весь город, если бы на беду об этом разузнали.
Становилось очевидным, что мадам Ушафоль смертельно хотелось приоткрыть мне тайну заблуждения красавца Лоранса. Желание подразнить ее пересилило во мне в эту минуту любопытство, и я наказал ее за недомолвки тем, что взял шляпу и пошел подышать вечерним воздухом вдоль ручейка, текущего по косогору, на котором живописно разбросан городок.
Многие маленькие городки безобразны и грязны, но прелестны при взгляде со стороны: зубчатый утес, луч заходящего солнца, играющий на старой колокольне, красивая линия леса позади, ручей у подножия, — все это составляет как бы обрамляющую их наилучшим образом картину, среди которой они кажутся главным объектом пейзажа.
Я всецело отдавался спокойному удовольствию созерцания и смотрел, как угасают последние отблески заката в удивительно ясном небе. Это предвестие хорошей погоды на завтра напомнило мне, что я собирался совершить экскурсию к водопаду, о котором мне много говорил один из моих предшественников в настоящей моей должности. Теперь уж было слишком поздно пускаться на прогулку; но, проходя мимо деревенского кабачка, откуда вырывались шум и свет, я решил навести там некоторые справки.
Я попал в самый разгар сельской свадьбы. Тут пили и танцевали. Первый, кто заметил мое присутствие, оказался как раз красавец Лоранс.
— Эй, дядя Турнаш, — вскричал он прекрасным сильным и ясным голосом, перекрывавшим все остальные голоса, — вот путешественник, подайте ему что нужно. Если у вас идет веселье, не следует забывать о тех, кто имеет право отдохнуть здесь… Пожалуйте, сударь, — прибавил он, подавая мне свой стул, — места больше нигде нет. Возьмите мой стул, я пойду танцевать и по дороге скажу, чтобы вам подали закусить.
— Я не хочу никому мешать, — отвечал я ему, тронутый его вежливостью, но нимало не соблазненный видом и запахом пиршества. — Я пришел за одной справкой…
— Не могу ли я быть вам полезен?
— По всей вероятности, вы можете дать мне нужную справку лучше всякого другого; мне хотелось бы знать, где находятся скала и водопад Вольпи.
— Отлично, идемте со мной, я объясню вам, где это.
Так как на этот раз, несмотря на свою любезность и услужливость, красавец казался мне несколько навеселе, я последовал за ним скорее из вежливости, чем в надежде на ясное объяснение.
— Вот, — сказал он мне, отведя меня, слегка пошатываясь, на десять шагов от кабачка, — посмотрите на этот длинный косогор, замыкающий горизонт. На деле он выше, чем кажется издали; это настоящая гора, на подъем по которой требуется час ходьбы. Ну-с, а видите ли вы нечто вроде бреши в самом возвышенном месте, как раз над верхушкой городской колокольни? Это и есть то самое место.
— Признаюсь, я ровно ничего не вижу. Теперь темно и завтра мне будет, пожалуй, трудновато ориентироваться; не найду ли я здесь проводника, который проводил бы меня туда?
— Я мог бы предложить вам свое общество только послезавтра, потому что я как раз собираюсь туда.
— Очень жаль!
— Мне тоже жаль; но что делать! Я непременно должен напиться пьяным сегодня ночью, а завтра, вероятно, просплю весь день.
— Разве напиться пьяным для вас неотложная надобность?
— Да, я не мог не выпить немножко в честь свадьбы одного товарища детства. Если я остановлюсь на этом, то через четверть часа впаду в меланхолию; первые винные пары делают меня рассудительным и ясновидящим. Я предпочитаю напиться допьяна, сделаться веселым, нежным, сумасшедшим идиотом, потом заснуть — и все кончено.
— Стать веселым, нежным, сумасшедшим и даже идиотом, как вы уверяете, — в этом нет ничего дурного, но иногда вино делает злым. Значит, вы этого не боитесь?
— Нет, я убежден, что вино, если оно не отравлено ничем, развивает и обнаруживает в вас только действительно имеющиеся у вас качества и недостатки. Я не зол, я не пью абсента, я уверен в себе!
— Вот и отлично, но вы собирались идти танцевать?
— Да, танцы тоже опьяняют. Знаете, эта большая волынка, что дерет вам уши, движение, жара, пыль, — все это прелестно!
Когда он говорил это, у него вырвалась грустная, почти отчаянная интонация, в которой мне почудился намек на какое-то тайное горе или упорное угрызение совести. Мне припомнились слова моей хозяйки, и меня охватило чувство жалости к этому красавцу, так хорошо говорившему и казавшемуся таким кротким и откровенным.
— Если бы вместо того, чтобы напиться поскорее допьяна, — сказал я ему, — вы остались здесь выкурить со мной хорошую сигару?
— Нет, я впал бы в меланхолию, и вам стало бы скучно.
— Я полагаю, что это уж мое дело, а?
— Это также и мое дело. Послушайте, я хорошо вижу, что вы интересный человек, что с вами было бы приятно побеседовать; отложите прогулку к Вольпи до послезавтра.
— Окажите мне услугу пойти со мной туда завтра и не напиваться пьяным сегодня ночью.
— Да что это! Вы точно интересуетесь мной? Разве вы меня знаете?
— Я вижу вас сегодня в первый раз.
— Правда? Я знаю, что вы ревизор от министерства финансов и что вот уже два дня, как живете у тетки Ушафоль. Каждый год вы разъезжаете по четыре месяца по нашей провинции… Вы меня нигде не встречали?
— Нигде. Разве вас знают и в других местах?
— Я объездил почти всю Францию в течение трех лет. Скажите мне, почему вы мне советуете не пить?
— Потому что я не люблю ни запачканных вещей, ни свихнувшихся людей. Вопрос порядка и чистоты, вот и все!
Он призадумался, а потом спросил, сколько мне лет.
— Столько же, сколько приблизительно и вам, тридцать лет.
— Нет, мне двадцать шесть. Разве мне можно дать тридцать на вид?
— В сумерках я вас плохо вижу.
Он продолжал печально:
— Напротив, я думаю, что вы хорошо видите. Я потерял четыре года жизни, раз лицо мое кажется на четыре года старше. Я не выпью ничего лишнего сегодня ночью, и если вы хотите идти завтра к Вольпи, я постучусь в вашу дверь в четыре часа утра. Я знаю, что к полудню вам нужно быть в городе. Мне говорил о вас сборщик податей и сказал, что вы прекрасный человек.
— Спасибо, я рассчитываю на вас.
— Хотите пойти взглянуть на настоящий овернский танец, прежде чем уйти?
— Я даже протанцую его с вами, если мне это позволят.
— С восторгом, но я должен тогда представить вас, как своего друга!
— Хорошо! Нет ничего невозможного в том, чтобы я стал действительно вашим другом.
— Вашими бы устами да мед пить.
Он нравился мне, это было несомненно, и каково бы ни было ужасающее заблуждение, в котором обвиняла его хозяйка «Великого Монарха», возбуждаемое им во мне любопытство переходило почти в симпатию.
На площадке, куда он меня привел и где действительно было шумно, жарко и пыльно, меня приняли с большим радушием и предложили пить, сколько мне вздумается.
— Нет, нет, — крикнул им Лоранс, — он не пьет, но он танцует. Послушайте, приятель, будьте-ка моим визави.
Он пригласил новобрачную, а я пригласил высокую некрасивую крестьянку, которую час тому назад видел под руку с ним. Я думал, что этот выбор не возбудит ничьей ревности, но скоро я заметил, что за нею очень ухаживают, может быть, потому, что у нее был веселый и смелый вид, а может быть, также и потому, что она была умна. Мне хотелось бы поговорить с нею о Лорансе, но стоявший кругом гвалт не позволил мне начать путного разговора.
Лоранс танцевал передо мной и несомненно проделывал это с кокетством. Он снял свою шелковую одежду и жилет, подобно другим. Его рубашка, пока еще безупречной белизны, обрисовывала тонкую талию, широкие плечи и выпуклую грудь; густые волосы, черные как смоль, вились от пота, а глаза, незадолго перед тем потухшие, пылали огнем. Он обладал грацией, сопутствующей красивому сложению, и хотя танцевал классический танец bourrée[315] как настоящий крестьянин, он превращал этот тяжелый и однообразный танец во что-то характерное, полное оживления и пластики. Сначала движения его были не очень уверенными вследствие выпитого, но через несколько минут это прошло, и мне показалось, что он старается предстать передо мною во всеоружии всей своей физической красоты для того, чтобы рассеять дурное мнение, внушенное им мне при первом взгляде.
Спрашивая себя, с какой это целью он изъездил почти всю Францию, я вдруг подумал, что он мог быть натурщиком. Когда мы вернулись в кабачок и его попросили спеть, я вообразил себе, что он был странствующим певцом; но голос его был свеж, и он исполнял местные песни с прелестной простотой, не присущей уличному артисту.
Мало-помалу мысли на его счет спутались. Мне было жарко, и я выпил доверчиво несколько стаканов светло-красного вина, казавшегося весьма невинным, а на деле необыкновенно крепкого. Я почувствовал, что если не хочу подать дурного примера тому, кому я только что читал нотацию, и не хочу, чтобы мадам Ушафоль обвинила меня в каком-нибудь «ужасающем заблуждении», то мне пора устраниться от вакхических возлияний. А потому я ловко удрал и, возвращаясь в город, чувствовал, к своему смущению, что иду не очень прямо, что телеграфные столбы двоятся у меня в глазах и что мне хочется смеяться и петь совершенно необычным манером.
По мере того, как мне казалось, что я приближаюсь к городу, смущение мое увеличивалось. Ноги наливались свинцом, а после продолжительной ходьбы я убедился, что город больше не на холме или что я нахожусь не на дороге в город. Хорошее положение для чиновника, а особенно для человека из самых умеренных, никогда в жизни своей не бывавшего пьяным!
Я подумал, ибо мозг мой работал совершенно ясно, что хмель этот чересчур скоро одолел меня и, должно быть, так же скоро пройдет. Я решил подождать, чтобы он рассеялся, и, заметив какую-то стоявшую раскрытой настежь лачугу, по-видимому, заброшенную, вошел в нее и бросился на кучу соломы, не обращая внимания на соседство осла, спавшего стоя, уткнувшись мордой в свое пустое корыто.
Подобно ослу я заснул таким же мирным сном. Когда я проснулся, день уже начинался, а осел все еще спал, хотя беспокойно переминался с ноги на ногу, позвякивая время от времени привязывавшей его цепью. Не без некоторого труда сообразил я, почему очутился в этом месте и в такой компании. Наконец память ко мне вернулась, я встал, отряхнул свою одежду, пригладил волосы, восстановил немного свою честь в своих собственных глазах, констатировав, что не потерял своей шляпы, и, чувствуя себя совершенно трезвым, направился без труда по дороге к гостинице «Великий Монарх», говоря себе, что мадам Ушафоль не преминет приписать мое позднее возвращение какому-нибудь любовному похождению. Я едва успел умыться и проглотить чашку кофе, как ровно в четыре часа в мою дверь постучался красавец Лоранс. Он совсем не спал, он протанцевал и пропел всю ночь, но пьяным не напился, сдержал данное мне слово. Уйдя со свадьбы, он окунулся в реку, и эта ванна освежила и подбодрила его; он хвалился тем, что плавает и ныряет не хуже дикой утки. Он был весел, деятелен, великолепен и помолодел на четыре года. Я искренне поздравил его с этим, но не мог преодолеть стыда, когда он заметил, что постель моя осталась нетронутой. О, подлость! Я осмелился ответить ему, что проработал всю ночь; к счастью, единственным свидетелем моего стыда был осел, неспособный выдать меня.
Лоранс поужинал в два часа ночи, ему не хотелось теперь ни есть, ни пить. Весь его багаж составляли палка и альбом, на который он дал мне взглянуть. Рисовал он очень хорошо, передавая природу смело и достоверно. Мы пошли прямо по полям и скоро стали подниматься на гору по очень трудной, но скрашенной прелестными тенистыми уголками дороге.
Разговор завязался всерьез только тогда, когда мы добрались до мрачных скал, откуда Вольпи низвергается в глубокое и тесное ущелье. Это чрезвычайно красивое место, но к нему очень трудно добраться.
Мы пробыли там два часа, и там-то Лоранс открыл мне ужасную тайну своей жизни.
Я вычеркиваю разговор, который довел его мало-помалу до этого излияния. Он искренне признался мне, что давно уже испытывает потребность высказаться перед таким человеком, который был бы достаточно снисходителен и цивилизован для того, чтобы понять его. Ему казалось, что я именно такой человек. Я обещал, что ему не придется раскаиваться, и он рассказал мне следующее.
Я производил финансовую ревизию в городке Арвере в провинции Овернь и жил уже два дня в гостинице «Великий Монарх». Какой великий монарх, и почему тут красовалась эта вывеска, до такой степени еще распространенная в провинции? Есть ли это отголосок времени царствования Людовика XIV? Положительно не знаю, пусть объяснят мне те, кто знает. Портреты, изображавшие эту знаменитую и таинственную личность, исчезли почти везде. Я помню, что в детстве видел один из таких портретов, на котором он был изображен в костюме турка.
Хозяйка «Великого Монарха» мадам Ушафоль была женщина приятная и добропорядочная, преданная всяким властям, старинной или новой знати, богатым разночинцам, официальным или местным влиятельным лицам, и все это не в ущерб должной предупредительности к мелким чиновникам и странствующим приказчикам, обеспечивающим постоянный доход и оборот капитала всякой гостиницы. Кроме того мадам Ушафоль имела религиозные убеждения и вела споры с местными вольнодумцами.
Раз вечером, стоя на балконе гостиницы, я увидал на площади, отделяющей церковь от мэрии и гостиницы, высокого молодого человека, лицо и осанка которого не могли бы нигде остаться незамеченными. Он вел под руку очень некрасивую крестьянскую девушку. За ним следовали два молодца под хмельком, походившие на расфранченных мастеровых, под руку с довольно миловидными девицами в чепчиках. Почему этот красавец, одетый с некоторым вкусом и вовсе не пьяный, выбрал себе в дамы самую уродливую и плохо одетую?
Эта маленькая загадка не занимала бы меня более минуты, если бы мадам Ушафоль, смахивавшая пыль с листьев чахлого померанца, не постаралась обратить на нее мое внимание.
— Вы смотрите на красавца Лоранса, не правда ли? — сказала она, бросая на кутящего Антиноя самый насмешливый и пренебрежительный взгляд. — Он красивый малый, не спорю, но смотрите — вечно он в дурной компании! Положим, сам он крестьянский сын, но у него есть богатый и титулованный дядя, да кроме того, когда человек получил образование и одевается по-барски, то ему не годится чокаться на деревенских свадьбах с первым встречным, а главное — не годится ходить по городу среди бела дня с такими женщинами под ручку!.. Но этот малый с ума спятил, ничего-то он не уважает, и знаете, что особенно удивительно, сударь, — никогда-то он не появится с красивой девушкой ему под стать. Он вечно таскает с собой чудовищ и не из самых чопорных, поверьте!
— Я поверю всему, если вам угодно, мадам Ушафоль, но чем же вы объясняете этот странный вкус?
— И совсем не берусь объяснять! В поведении этого бедного малого — я ведь, сударь, принимаю в нем участие — ничего нельзя понять. Его крестная мать — моя подруга детства, и мы с ней часто горюем о том, что он так сбился с пути.
— Значит, это совсем бездельник?
— Ах! Если бы только это; если бы он был только немного повеса и волокита, если бы можно было сказать: «Он забавляется, побалуется, да и остепенится, как оно со многими бывало!» Так нет же, сударь. Он немножко пьянствует, но долгов не делает; нельзя сказать, чтобы он отличался дурным нравом; он также не драчун, хотя при случае, если на деревенском празднике или на балу мастеровых на его глазах повалят человека наземь, он бьет тех, кто в большинстве, и славно, говорят, бьет. Словом, из него могло бы выйти что-нибудь путное, потому что он не глуп и не ленив. Но, видите ли, у него в голове свои фантазии, особенно одна фантазия.., которая приводит его родных в отчаяние.
— Любопытно узнать, что это за фантазия.
— Представьте себе, что вместо того, чтобы принять место на телеграфе, или табачную лавочку, или должность в мэрии — а ему все это предлагали, — он предпочел жить со своим отцом, бывшим фермером, который купил себе в предместье землю и устроил сад. Бедный старый Лоранс такой славный и работящий. Этот сын у него единственный, и отцу хотелось воспитать его получше, потому что он надеялся, что его брат, очень богатый человек, привяжется к племяннику и сделает его своим наследником. Не тут-то было: сдав экзамен на бакалавра, молодой человек съездил в Нормандию, где живет его богатый дядя, а потом поддался ужаснейшему заблуждению, сударь, и пропадал два или три года, почти не давая о себе знать.
— Какому же заблуждению он поддался, мадам Ушафоль?
— Ах! Сударь, позвольте мне не говорить вам этого из уважения к старику Лорансу, который поставляет мне прекрасные персики и замечательный виноград из своего сада; кроме того он разводит овощи и покупает у меня навоз из конюшни и платит за него лучше, чем многие другие; а также из дружбы к крестной молодого человека, моей приятельнице, как я уже вам говорила, — мы еще с нею вместе причащались в первый раз. Вот я и должна скрывать несчастье и позор, которым красавец Лоранс, как его здесь называют, запятнал своих близких и которым запятнал бы весь город, если бы на беду об этом разузнали.
Становилось очевидным, что мадам Ушафоль смертельно хотелось приоткрыть мне тайну заблуждения красавца Лоранса. Желание подразнить ее пересилило во мне в эту минуту любопытство, и я наказал ее за недомолвки тем, что взял шляпу и пошел подышать вечерним воздухом вдоль ручейка, текущего по косогору, на котором живописно разбросан городок.
Многие маленькие городки безобразны и грязны, но прелестны при взгляде со стороны: зубчатый утес, луч заходящего солнца, играющий на старой колокольне, красивая линия леса позади, ручей у подножия, — все это составляет как бы обрамляющую их наилучшим образом картину, среди которой они кажутся главным объектом пейзажа.
Я всецело отдавался спокойному удовольствию созерцания и смотрел, как угасают последние отблески заката в удивительно ясном небе. Это предвестие хорошей погоды на завтра напомнило мне, что я собирался совершить экскурсию к водопаду, о котором мне много говорил один из моих предшественников в настоящей моей должности. Теперь уж было слишком поздно пускаться на прогулку; но, проходя мимо деревенского кабачка, откуда вырывались шум и свет, я решил навести там некоторые справки.
Я попал в самый разгар сельской свадьбы. Тут пили и танцевали. Первый, кто заметил мое присутствие, оказался как раз красавец Лоранс.
— Эй, дядя Турнаш, — вскричал он прекрасным сильным и ясным голосом, перекрывавшим все остальные голоса, — вот путешественник, подайте ему что нужно. Если у вас идет веселье, не следует забывать о тех, кто имеет право отдохнуть здесь… Пожалуйте, сударь, — прибавил он, подавая мне свой стул, — места больше нигде нет. Возьмите мой стул, я пойду танцевать и по дороге скажу, чтобы вам подали закусить.
— Я не хочу никому мешать, — отвечал я ему, тронутый его вежливостью, но нимало не соблазненный видом и запахом пиршества. — Я пришел за одной справкой…
— Не могу ли я быть вам полезен?
— По всей вероятности, вы можете дать мне нужную справку лучше всякого другого; мне хотелось бы знать, где находятся скала и водопад Вольпи.
— Отлично, идемте со мной, я объясню вам, где это.
Так как на этот раз, несмотря на свою любезность и услужливость, красавец казался мне несколько навеселе, я последовал за ним скорее из вежливости, чем в надежде на ясное объяснение.
— Вот, — сказал он мне, отведя меня, слегка пошатываясь, на десять шагов от кабачка, — посмотрите на этот длинный косогор, замыкающий горизонт. На деле он выше, чем кажется издали; это настоящая гора, на подъем по которой требуется час ходьбы. Ну-с, а видите ли вы нечто вроде бреши в самом возвышенном месте, как раз над верхушкой городской колокольни? Это и есть то самое место.
— Признаюсь, я ровно ничего не вижу. Теперь темно и завтра мне будет, пожалуй, трудновато ориентироваться; не найду ли я здесь проводника, который проводил бы меня туда?
— Я мог бы предложить вам свое общество только послезавтра, потому что я как раз собираюсь туда.
— Очень жаль!
— Мне тоже жаль; но что делать! Я непременно должен напиться пьяным сегодня ночью, а завтра, вероятно, просплю весь день.
— Разве напиться пьяным для вас неотложная надобность?
— Да, я не мог не выпить немножко в честь свадьбы одного товарища детства. Если я остановлюсь на этом, то через четверть часа впаду в меланхолию; первые винные пары делают меня рассудительным и ясновидящим. Я предпочитаю напиться допьяна, сделаться веселым, нежным, сумасшедшим идиотом, потом заснуть — и все кончено.
— Стать веселым, нежным, сумасшедшим и даже идиотом, как вы уверяете, — в этом нет ничего дурного, но иногда вино делает злым. Значит, вы этого не боитесь?
— Нет, я убежден, что вино, если оно не отравлено ничем, развивает и обнаруживает в вас только действительно имеющиеся у вас качества и недостатки. Я не зол, я не пью абсента, я уверен в себе!
— Вот и отлично, но вы собирались идти танцевать?
— Да, танцы тоже опьяняют. Знаете, эта большая волынка, что дерет вам уши, движение, жара, пыль, — все это прелестно!
Когда он говорил это, у него вырвалась грустная, почти отчаянная интонация, в которой мне почудился намек на какое-то тайное горе или упорное угрызение совести. Мне припомнились слова моей хозяйки, и меня охватило чувство жалости к этому красавцу, так хорошо говорившему и казавшемуся таким кротким и откровенным.
— Если бы вместо того, чтобы напиться поскорее допьяна, — сказал я ему, — вы остались здесь выкурить со мной хорошую сигару?
— Нет, я впал бы в меланхолию, и вам стало бы скучно.
— Я полагаю, что это уж мое дело, а?
— Это также и мое дело. Послушайте, я хорошо вижу, что вы интересный человек, что с вами было бы приятно побеседовать; отложите прогулку к Вольпи до послезавтра.
— Окажите мне услугу пойти со мной туда завтра и не напиваться пьяным сегодня ночью.
— Да что это! Вы точно интересуетесь мной? Разве вы меня знаете?
— Я вижу вас сегодня в первый раз.
— Правда? Я знаю, что вы ревизор от министерства финансов и что вот уже два дня, как живете у тетки Ушафоль. Каждый год вы разъезжаете по четыре месяца по нашей провинции… Вы меня нигде не встречали?
— Нигде. Разве вас знают и в других местах?
— Я объездил почти всю Францию в течение трех лет. Скажите мне, почему вы мне советуете не пить?
— Потому что я не люблю ни запачканных вещей, ни свихнувшихся людей. Вопрос порядка и чистоты, вот и все!
Он призадумался, а потом спросил, сколько мне лет.
— Столько же, сколько приблизительно и вам, тридцать лет.
— Нет, мне двадцать шесть. Разве мне можно дать тридцать на вид?
— В сумерках я вас плохо вижу.
Он продолжал печально:
— Напротив, я думаю, что вы хорошо видите. Я потерял четыре года жизни, раз лицо мое кажется на четыре года старше. Я не выпью ничего лишнего сегодня ночью, и если вы хотите идти завтра к Вольпи, я постучусь в вашу дверь в четыре часа утра. Я знаю, что к полудню вам нужно быть в городе. Мне говорил о вас сборщик податей и сказал, что вы прекрасный человек.
— Спасибо, я рассчитываю на вас.
— Хотите пойти взглянуть на настоящий овернский танец, прежде чем уйти?
— Я даже протанцую его с вами, если мне это позволят.
— С восторгом, но я должен тогда представить вас, как своего друга!
— Хорошо! Нет ничего невозможного в том, чтобы я стал действительно вашим другом.
— Вашими бы устами да мед пить.
Он нравился мне, это было несомненно, и каково бы ни было ужасающее заблуждение, в котором обвиняла его хозяйка «Великого Монарха», возбуждаемое им во мне любопытство переходило почти в симпатию.
На площадке, куда он меня привел и где действительно было шумно, жарко и пыльно, меня приняли с большим радушием и предложили пить, сколько мне вздумается.
— Нет, нет, — крикнул им Лоранс, — он не пьет, но он танцует. Послушайте, приятель, будьте-ка моим визави.
Он пригласил новобрачную, а я пригласил высокую некрасивую крестьянку, которую час тому назад видел под руку с ним. Я думал, что этот выбор не возбудит ничьей ревности, но скоро я заметил, что за нею очень ухаживают, может быть, потому, что у нее был веселый и смелый вид, а может быть, также и потому, что она была умна. Мне хотелось бы поговорить с нею о Лорансе, но стоявший кругом гвалт не позволил мне начать путного разговора.
Лоранс танцевал передо мной и несомненно проделывал это с кокетством. Он снял свою шелковую одежду и жилет, подобно другим. Его рубашка, пока еще безупречной белизны, обрисовывала тонкую талию, широкие плечи и выпуклую грудь; густые волосы, черные как смоль, вились от пота, а глаза, незадолго перед тем потухшие, пылали огнем. Он обладал грацией, сопутствующей красивому сложению, и хотя танцевал классический танец bourrée[315] как настоящий крестьянин, он превращал этот тяжелый и однообразный танец во что-то характерное, полное оживления и пластики. Сначала движения его были не очень уверенными вследствие выпитого, но через несколько минут это прошло, и мне показалось, что он старается предстать передо мною во всеоружии всей своей физической красоты для того, чтобы рассеять дурное мнение, внушенное им мне при первом взгляде.
Спрашивая себя, с какой это целью он изъездил почти всю Францию, я вдруг подумал, что он мог быть натурщиком. Когда мы вернулись в кабачок и его попросили спеть, я вообразил себе, что он был странствующим певцом; но голос его был свеж, и он исполнял местные песни с прелестной простотой, не присущей уличному артисту.
Мало-помалу мысли на его счет спутались. Мне было жарко, и я выпил доверчиво несколько стаканов светло-красного вина, казавшегося весьма невинным, а на деле необыкновенно крепкого. Я почувствовал, что если не хочу подать дурного примера тому, кому я только что читал нотацию, и не хочу, чтобы мадам Ушафоль обвинила меня в каком-нибудь «ужасающем заблуждении», то мне пора устраниться от вакхических возлияний. А потому я ловко удрал и, возвращаясь в город, чувствовал, к своему смущению, что иду не очень прямо, что телеграфные столбы двоятся у меня в глазах и что мне хочется смеяться и петь совершенно необычным манером.
По мере того, как мне казалось, что я приближаюсь к городу, смущение мое увеличивалось. Ноги наливались свинцом, а после продолжительной ходьбы я убедился, что город больше не на холме или что я нахожусь не на дороге в город. Хорошее положение для чиновника, а особенно для человека из самых умеренных, никогда в жизни своей не бывавшего пьяным!
Я подумал, ибо мозг мой работал совершенно ясно, что хмель этот чересчур скоро одолел меня и, должно быть, так же скоро пройдет. Я решил подождать, чтобы он рассеялся, и, заметив какую-то стоявшую раскрытой настежь лачугу, по-видимому, заброшенную, вошел в нее и бросился на кучу соломы, не обращая внимания на соседство осла, спавшего стоя, уткнувшись мордой в свое пустое корыто.
Подобно ослу я заснул таким же мирным сном. Когда я проснулся, день уже начинался, а осел все еще спал, хотя беспокойно переминался с ноги на ногу, позвякивая время от времени привязывавшей его цепью. Не без некоторого труда сообразил я, почему очутился в этом месте и в такой компании. Наконец память ко мне вернулась, я встал, отряхнул свою одежду, пригладил волосы, восстановил немного свою честь в своих собственных глазах, констатировав, что не потерял своей шляпы, и, чувствуя себя совершенно трезвым, направился без труда по дороге к гостинице «Великий Монарх», говоря себе, что мадам Ушафоль не преминет приписать мое позднее возвращение какому-нибудь любовному похождению. Я едва успел умыться и проглотить чашку кофе, как ровно в четыре часа в мою дверь постучался красавец Лоранс. Он совсем не спал, он протанцевал и пропел всю ночь, но пьяным не напился, сдержал данное мне слово. Уйдя со свадьбы, он окунулся в реку, и эта ванна освежила и подбодрила его; он хвалился тем, что плавает и ныряет не хуже дикой утки. Он был весел, деятелен, великолепен и помолодел на четыре года. Я искренне поздравил его с этим, но не мог преодолеть стыда, когда он заметил, что постель моя осталась нетронутой. О, подлость! Я осмелился ответить ему, что проработал всю ночь; к счастью, единственным свидетелем моего стыда был осел, неспособный выдать меня.
Лоранс поужинал в два часа ночи, ему не хотелось теперь ни есть, ни пить. Весь его багаж составляли палка и альбом, на который он дал мне взглянуть. Рисовал он очень хорошо, передавая природу смело и достоверно. Мы пошли прямо по полям и скоро стали подниматься на гору по очень трудной, но скрашенной прелестными тенистыми уголками дороге.
Разговор завязался всерьез только тогда, когда мы добрались до мрачных скал, откуда Вольпи низвергается в глубокое и тесное ущелье. Это чрезвычайно красивое место, но к нему очень трудно добраться.
Мы пробыли там два часа, и там-то Лоранс открыл мне ужасную тайну своей жизни.
Я вычеркиваю разговор, который довел его мало-помалу до этого излияния. Он искренне признался мне, что давно уже испытывает потребность высказаться перед таким человеком, который был бы достаточно снисходителен и цивилизован для того, чтобы понять его. Ему казалось, что я именно такой человек. Я обещал, что ему не придется раскаиваться, и он рассказал мне следующее.
Я знаю, что я красив; я не просто об этом слышал — мне это было сказано при таких обстоятельствах, которых я никогда не забуду. Впрочем, я достаточно артистически образован для того, чтобы знать, что составляет красоту, и знаю, что обладаю всеми требуемыми качествами. Вы скоро воздадите по справедливости отсутствию во мне тщеславия, как только узнаете, что именно красота и есть источник моих самых больших огорчений. Я любил женщину, оттолкнувшую меня потому, что я не был уродлив. Вы знаете, что меня зовут Пьером Лорансом и что я сын крестьянина, теперь садовода и огородника. Мой отец — лучший из людей, совершенно необразованный, что нисколько не мешает мне обожать его прямоту и мягкость. Дядя мой, барон Лоранс — выскочка, произведенный во дворянство Луи-Филиппом и разбогатевший в промышленных предприятиях. Он поселился в Нормандии в великолепном старом замке, где я навестил его раз по окончании учебы по приказанию отца, верившего в дядину память и в его обещания. Не знаю, эгоист ли он, презирает ли он скромное происхождение своей семьи, или просто я не имел дара понравиться ему. Несомненно то, что, сорвавшись со школьной скамьи, пропитанный новыми идеями и обуреваемый необузданной гордостью, я, должно быть, дал ему понять, что явился к нему не по собственному побуждению и предпочту умереть, чем разделить его взгляды и позариться на его наследство. Словом, он спросил меня, в чем я нуждаюсь, а я заявил ему напрямик, что не нуждаюсь ровно ни в чем. Он сказал мне, что я красавец, потому что похож на него, что он рад меня видеть, но собирается выйти из дому по делам службы. Я уехал обратно в Париж, даже не развязав ремней своего чемодана; это было семь лет тому назад, я больше никогда не видал дядю и никогда ему не писал. Я совершенно уверен, что он лишит меня наследства: он холост, но имеет домоправительницу. Я на него за это нисколько не сержусь. Я знаю, что, несмотря на его преданность всем правлениям, он очень честный человек. Он мне ничего не должен и упрекать мне его не в чем. Он сам составил себе состояние, он имеет право распоряжаться им, как ему угодно. Отец мой не относился к этому делу так философски. Если он принес разные жертвы для моего образования, так это в надежде видеть меня бароном, и это не моя вина. Я не желал ничего лучшего, как быть крестьянином. Мне было хорошо в нашей скромной среде, и всякий раз я возвращался в нее, сожалея, что покинул ее. В настоящее время мое единственное удовольствие заключается в поливке цветов и овощей нашего сада, стрижке деревьев и катании тачки, и пока я всем этим занимаюсь, я заставляю старика-отца отдыхать. Я люблю своих товарищей детства. Их простые манеры мне не противны и, насколько я могу заглушать в себе свои терзания, я пытаюсь всегда делать это в их обществе. Пить и петь, работать и болтать с этими славными людьми, — вот мои лучшие забавы. Все скажут вам здесь, что я человек очень добрый, очень честный, очень скромный и преданный. Только буржуазия обвиняет меня в том, что у меня нет честолюбия и определенного ремесла, точно возделывать землю не есть ремесло! Мой отец пользуется достатком, удовлетворяющим все его нужды, у него помещен на проценты капитал тысяч в двадцать франков, и он никогда не заплатил за меня самого пустячного долга. Я же унаследовал десять тысяч франков от матери и растратил их, сейчас узнаете, как. Сдав экзамены на бакалавра в Париже и навестив дядю в Нормандии, я вернулся сюда и спросил у отца, чем он посоветовал бы мне заниматься. — Ты должен вернуться в Париж, — сказал он мне, — и сделаться там адвокатом или членом судебного сословия. Ты изъясняешься легко, из тебя наверное выйдет «большой говорун». Изучай законы. Я знаю, что для того, чтобы прожить там несколько лет, надо десяток тысяч франков. Я продам половину своего имущества. Если под старость я окажусь в нужде, ты, конечно, поможешь мне. Я отказался от предложения отца. Я только пожертвовал своим личным наследством, на что он согласился, и я вернулся в Париж, решившись серьезно работать и сделаться «большим говоруном» в угоду отцу, а также немного и для своего собственного удовлетворения. Какой-то инстинкт подталкивал меня выставлять себя напоказ, много жестикулировать руками, наслаждаться звуком своего могучего голоса. Как бы вам это выразить? Выставление напоказ моих физических преимуществ представлялось мне в виде долга или права, не умею сказать, какого именно, но честолюбие было тут всегда ни при чем, как вы сейчас увидите. В то время существовал еще Латинский квартал. Студенты не перебрались еще на ту сторону Сены. Они не содержали еще особ легкого поведения и танцевали с гризетками, которые тогда уже начинали исчезать, а с тех пор исчезли совсем. Это было вскоре после 1848 года. Я был достаточно крепкого закала для того, чтобы опасаться совмещать труд с удовольствием. Скоро у меня завелись друзья. Около молодого человека, сильного и смелого, щедрого и привязчивого, кроткого и шумного, всегда группируется целая компания. Мы принимали участие во всякой борьбе, было ли то на балу, а театре, на курсах или на улице. Я не стану рассказывать о своих приключениях и треволнениях первого года. На каникулы я вернулся домой. Я немало потрудился и не чересчур много истратил. Мой отец был в восторге от меня и говорил: — Господин барон еще передумает. Мои товарищи из предместья находили меня восхитительным, потому что с ними я вновь превращался в крестьянина. На следующую зиму, когда учебный год снова начался, явилась женщина, оказавшая влияние на всю мою жизнь. Мы бывали на всех первых представлениях в «Одеоне». Мы поднимали страшный шум на всех пьесах, которые нам были не угодны, и на тех, которые мы желали поддержать. В этом театре роли любовниц играла в то время маленькая актриса, называвшаяся в афишах мадемуазель Империа. Она проходила незамеченной в тех пьесах, что называются репертуарными. Она была удивительно хороша собой, изящна, холодна по природе, по неопытности или из робости; публика ею не интересовалась. В ту пору актриса могла играть десять лет подряд Изабелл и Люцинд в пьесах Мольера и вторые роли в трагедиях, не привлекая внимания публики и не добиваясь ни малейшего повышения, если не имела за собой никакого высокого покровительства. Эта молодая девушка не имела никакой опоры в министерстве, никакого друга в журнальном мире и даже не домогалась симпатий публики. Она играла чисто, обладала грацией, в ней чувствовалась добросовестная артистка, но в ней не было ни вдохновения, ни живости и даже ни тени кокетства. Глаза ее никогда не бегали по выходящим на сцену ложам, и когда она опускала их по требованию роли, она никогда не бросала на партер того туманно-похотливого взгляда, который как бы говорит: «Я отлично знаю то, чего, по-видимому, не знает изображаемое мною лицо». Не могу сказать, почему именно, равнодушно наблюдая ее в нескольких крошечных ролях, я вдруг был поражен ее скромным и гордым лицом до того, что спросил раз в антракте у своих товарищей, не находят ли они ее прелестной. Они объявили, что она хорошенькая, но лишена прелести на сцене. Один из них видел ее в роли Агнессы, заявил, что она ровно ничего не поняла в этом классическом образе, и между ними завязался спор. Должна ли быть Агнесса продувной девчонкой, притворяющейся невинной, или настоящим ребенком, говорящим весьма сильные вещи, не понимая их смысла? Я поддерживал это последнее мнение, и хотя мне было решительно безразлично, был я прав или нет, как только на афише появилась «Школа жен», я ушел из кафе смотреть пьесу. Не знаю почему, из какого-то ложного стыда я никому об этом не сказал. Студенты никогда не слушают репертуарные пьесы, которые, однако, «Одеон» обязан ставить именно для их литературного образования. Предполагается, что мы все знаем классику наизусть, но многие из тех, что объявляют себя пресыщенными этим угощением, знают из нее лишь краткие отрывки, никогда не проникали в ее суть и не оценили ее достоинств. Я принадлежал к числу этих многих и, прослушав несколько сцен, я почувствовал некоторое угрызение совести в том, что не ценил до сих пор такого шедевра. Мы уж больше не романтики, мы стали чересчур скептиками для этого; тем не менее романтизм пропитал тот воздух, которым мы дышим, и мы презираем классиков, ничуть не воздавая должного тем, кто вывел их из моды. По мере того, как я проникался комичным и глубоким произведением старого мастера, я подпадал под обаяние жестокой Агнессы! Я называю ее жестокой потому, что Арнольф, несомненно, лицо несчастное и интересное, несмотря на свое безумие, ибо он любит и не любим! Он эгоист в любви, он человек. Страдание его прорывается иногда в великолепных стихах, которые, что бы там ни говорили, находят отзвук в сердцах всех влюбленных людей. Почти во всех пьесах Мольера имеется в основе удручающая скорбь, и в известную минуту это сглаживает смешную сторону обманутого ревнивца. Массе публики это и в голову не приходит. Актеры, проникающие в суть своих ролей, бывают поражены этим, и этот глубокий оттенок мешает им, потому что если они вздумают послушно передавать горький смысл оттенка, публика ничего не понимает, воображает себе, что они пародируют страдание, и только еще громче смеется. Среди этого громкого хохота весьма немногие зрители говорят иногда на ухо соседу, что Мольер — это раненый орел, глубоко опечаленная душа. Я тоже углублялся в него и во всех его рогоносцах всегда узнавал мизантропа. Арнольф есть буржуазный Альцест, а Агнесса — будущая Селимена. Но мадемуазель Империа внушала участие к Агнессе безусловно искренней невинностью, некоторыми не жалобными, а скорее энергичными и негодующими против притеснения нотами. Хотя я и спрашивал себя, права ли она, я не мог не поддаться власти выражения ее лица. Ночью я видел ее во сне; на другой день я не мог заниматься; через день я принялся бродить под предлогом осмотра лавок букинистов вдоль галерей «Одеона», ежеминутно возвращаясь к маленькой решетчатой дверце, в которую входят и выходят служащие театра и артисты. Но сколько я ни ждал и ни подстерегал, все было напрасно, потому что репетировалась новая пьеса, где не было роли для мадемуазель Империа. Все, что мне удалось узнать, слушая разговоры входящих и выходящих, сводилось к следующему: с завтрашнего дня она была приглашена на репетиции, потому что актриса, на которую была возложена роль ingénue[316], захворала и рисковала не поправиться ко дню первого представления. Я увидел мальчика, несшего ей приглашение, и, видя, что он держит эту бумажку кончиками пальцев с рассеянным видом, пошел позади него, притворился таким же рассеянным, как он, и толкнул его в ту самую минуту, как он проскользнул среди омнибусов, стоящих около театра. Бумажка упала, я ее поднял и возвратил ему, предварительно обтерев о свой рукав, хотя она вовсе не запачкалась. Я успел прочесть адрес: «Мадемуазель Империа, улица Крано, № 17». Когда мальчик пошел дальше, мне пришло в голову дать ему пять франков и исполнить его поручение самому. Но я не посмел. Впрочем, открытие мое приводило меня в упоение, точно невесть какая победа. Первое, о чем мечтает наивный влюбленный, это узнать адрес своего идеала, точно это может хоть немного ускорить его успех! Тем не менее я последовал на расстоянии за маленьким посланцем. Я видел, как он вошел в дом № 17, один из самых бедных домов этой бедной улицы, немощеной и не освещенной газом. Я ускорил шаги и встретился с ним в ту минуту, как он уже выходил, крича привратнику, чтобы он передал записку, как только вернется мадемуазель «Как бишь ее!» Мадемуазель «Как бишь ее» — профанация! Я совершенно ничего не знал о непринужденности театральных нравов, даже в серьезных театрах. Ее не было дома, это придало мне смелости. Я мог узнать что-нибудь о ней от привратника. Я решительно вошел в темный подъезд и спросил в свою очередь сквозь стеклянное окошечко мадемуазель Империа. — Дома нет, — отвечала отрывисто старая толстая женщина с добрым, однако, лицом. — Когда она вернется? — Не знаю. И она добавила, смерив меня с головы до ног полунасмешливо-полудоброжелательно: — А дала она вам разрешение посетить ее? — Ну конечно, — отвечал я, весьма смущенный. — Покажите, — продолжала старуха, протягивая руку. Я хотел было убежать, но она удержала меня, говоря: — Послушайте, мой милый, вы принадлежите к тем молодым людям, которые воображают, что стоит им только появиться, и все пойдет отлично; каждые день мы видим здесь таких господ, и это надоедает молодой актрисе, отличающейся примерным поведением. Нам поручено отвечать всем франтам, что она никогда никого не принимает. А потому не трудитесь приходить снова; вот и все, прощайте и будьте здоровы. И она с шумом, усмехаясь, подняла форточку, которую опустила для того, чтобы говорить со мной. Я ушел разобиженный и восхищенный. Империа была добродетельна, быть может, даже так же невинна, как и казалось. Я был без памяти влюблен. Теперь я уж больше не смеялся над своим капризом, я дорожил им столько же, сколько самой жизнью. Я не стану передавать вам всех моих измышлений и попыток пробраться на другой день в театр. Войти я не посмел. Но на следующий день, видя, что в эту маленькую дверь, которая, по-видимому, не охранялась, входят и выходят люди разных сословий, и что она никогда не заперта, я решительно толкнул ее и прошел перед совсем крохотной каморкой привратника, где сторожил ребенок. Я воспользовался минутой, когда в дверь входили двое рабочих, и вошел за ними по пятам; ребенок, игравший с кошкой, слыша шаги и голоса, хорошо ему известные, даже не поднял на меня глаз. Шедшие впереди меня рабочие поднялись на пять или шесть ступенек, сделали пол-оборота направо, поднялись по двум или трем другим ступенькам, упиравшимся в главную лестницу, толкнули тяжелую дверь на петлях и исчезли. Я остановился на секунду в нерешительности. Тогда ребенок меня заметил и крикнул: — Кого вам нужно? — Господина Евгения! — отвечал я наугад, совершенно не зная, почему мне пришло на язык именно это имя, а не другое. — Такого не знаю, — продолжал мальчуган. — Может быть, вам надо господина Констана? — Да, да, извините! Вот именно! Господина Констана! — Идите прямо по лестнице! И он вернулся к кошке, которую старательно обтирал женским чепчиком — вероятно, чепчиком матери. Что я скажу господину Констану? И кто был этот господин Констан? Я уже собирался войти за рабочими в ту же самую дверь. — Не туда, — закричал мне опять ребенок, — это вход на сцену! — И без вас знаю, черт возьми! — отвечал я гневным тоном. — Мне прежде надо туда. Моя смелость ошарашила его. В два прыжка я очутился на подмостках, привлеченный замеченной издали успокоительной темнотой, где мне потребовалось несколько мгновений для того, чтобы дать себе отчет, где именно я нахожусь. Это было совсем в глубине сцены, и моим первым движением было прокрасться за декорацию, которая, я никогда этого не забуду, представляла угол сада с колоссальными цветами гортензий, сначала принятых мною за тыквы. Я стоял там, трепеща и не зная, что делать, пока двое машинистов, за которыми я вошел, не прошли передо мной и не сказали мне, ухватившись за два каната на блоках: — Потрудитесь, сударь, отойти! Берегитесь плантации! Они лишали меня моего приюта и убежища; двое других рабочих, действовавших с противоположной стороны, развертывали цилиндр, который вместо сада должен был представить комнату, и тоже крикнули мне: — Дорогу плантации! Плантация! Что бы это могло означать? Когда человек мошенничает, он легко верит в прямые намеки. Мне припомнилась вывеска отцовского сада: «Плантация Фомы Лоранса», и я вообразил себе, что надо мной смеются. Но ничего подобного не было. Плантация на театральном языке обозначает постановку декораций и их разных частей, служащих для репетиций, для того, чтобы дать понятие о декорации пьесы и наметить входы и выходы действующих лиц. Если декорация пьесы должна меняться, то машинисты после каждого акта репетиции меняют плантацию. Я укрылся на большой деревянной лестнице, поднимающейся в глубине сцены позади декораций, и осмелился выбраться на верхнюю площадку. Я очутился лицом к лицу с парикмахером, причесывавшим великолепный парик в стиле времен Людовика XIV и не обратившим на меня никакого внимания. Неизвестно откуда раздавшийся голос закричал: — Констан! Парикмахер не шелохнулся. Это не он. Я перевел дух. — Констан! — крикнул другой голос. И кто-то открыл справа от меня обитую дверь, выходившую в комнату с красными скамейками; я подумал, что это, должно быть, фойе актеров. Тогда парикмахер встрепенулся: очевидно, явившееся передо мной лицо, на которое я еще не смел взглянуть, было облечено какою-то высшею властью. — Господин Журден, — сказал артист парикмахерского искусства, — Констан там. Он направился налево, в темный коридор, и закричал в свою очередь: — Констан! Вас требует господин режиссер. Мне предстояло очутиться между двух огней: между самим режиссером — с одной стороны — и этим фантастическим Констаном, которого я имел неосторожность спросить и которого вовсе не знал, — с другой стороны. Я убежал туда же, откуда пришел, и, все продолжая искать потемок, бросился в левую кулису, где наткнулся на пожарного в форме, который сказал мне раздраженно: — Да смотрите же, куда вы идете! Разве вы слепы? Так как я очень вежливо попросил у него прощения, а обязанности его ограничивались пожарной бдительностью, то он охотно согласился подсказать мне, куда можно укрыться для того, чтобы никому не мешать. Он указал мне на нечто вроде переносного мостика, спускавшегося со сцены в партер, через который я перемахнул одним прыжком, хотя он и был очень плохо укреплен. Зала была так же темна, как и сцена. Я попробовал сесть, но, чувствуя, что мне очень неловко, осмотрелся и убедился, что сиденья кресел подняты и все ряды партера затянуты зелеными полотнищами холста. Кроме того, на сцене что-то зажигали, несколько человек спускались по переносному мостику и проходили в мою сторону. Я опять убежал, добрался до коридора лож бенуара, нашел одну из них открытой, спрятался в ней и притаился тихохонько. Здесь я мог остаться незамеченным, если только не случится со мной ни припадка кашля, ни неожиданного чиханья. Но к чему это вело? Начать с того, что Империа не была занята в репетиции: первая актриса своего амплуа поправилась и завладела своей ролью. Империа, простая запасная «дублерша» на всякий случай, должна была сидеть в зале, изучать постановку и слушать замечания, делаемые автором и директором труппы. Как различить и узнать кого-нибудь в этой огромной зале, почти пустой, освещенной только тремя лампами, привешенными к столбам на сцене и бросавшими на окружающие предметы зеленоватый свет и большие тени? От этого слабого коптящего света, принимавшего еще более обманчивый вид от неожиданного луча солнца, падавшего с колосников на резко выступающий угол декорации, в зале не было ни капли светлее. Публика залы состояла из десятка лиц, сидевших в партере спиной ко мне. Быть может, это были директор, костюмер, один из докторов, — словом, все свои лица, артисты или служащие театра, да еще три или четыре женщины, причем одна из них была, вероятно, та самая, около которой мне так хотелось быть. Но как мне приблизиться к ней? Посторонним лицам, несомненно, воспрещалось проникать на репетиции, я не мог сослаться ни на чью рекомендацию, не солгав, ибо ложь моя легко бы раскрылась, меня изгнали бы с позором и я даже не имел бы права требовать, чтобы это сделали вежливо. Время от времени сверху залы долетал стук метлы или хлопанье неосторожно закрытой двери. Один из сидевших в партере кричал тогда: «Тише! Не шумите же!» — и, оборачиваясь, как бы осматривал все вокруг себя проницательным и сердитым взглядом, падавшим, чудилось мне, именно на меня. Я съеживался и старался не дышать. Я не смел выйти, боясь выдать свое присутствие. Наконец этот цербер, режиссер, встал, прервал репетицию и объявил, что уборка лож и галерей должна производиться до или после репетиций, ибо работать при подобном шуме, отвлекающем внимание, невозможно. Таким образом меня лишали последней надежды, так как мне только что пришла мысль подкупить одного из этих служителей и заменить его на завтра. Потом другая мысль мелькнула у меня в голове. Разве невозможно выдать себя за актера? То, что я видел на репетиции, свидетельствовало, как мало собственного почина у артиста и как ему разжевывают то, что он должен делать. Я не имел ни малейшего понятия о том, что называется сценической постановкой, и большинство зрителей также ничего об этом не подозревает. Зрители наивно думают, что этот удивительный порядок, эта ловкость движений, эта точность перемещений по сцене, которые сопровождают кажущийся непреднамеренным обмен репликами, — это только производные воли актеров или логики сцен. А между тем, это вовсе не так. Артистам обыкновенно или недостает ума, или они чересчур умничают; то они ничему не придают рельефности, то они слишком заботятся о том, чтобы произвести эффект, и охотно пожертвовали бы из-за него правдоподобностью поз и положения других действующих лиц. Сценическая постановка есть как бы военная дисциплина, регулирующая манеру держаться, жест и выражение лица каждого, даже самого малозначительного действующего лица. Пожалуй, можно начертить мелом на полу пространство, в котором каждому из них разрешено двигаться в данную минуту, указать число дозволенных шагов, размерить размах руки при каждом жесте, определить точное место, где должен упасть какой-либо предмет, обрисовать положение тела при притворном сне, обмороке, комическом или драматическом падении. В классическом репертуаре все это установлено раз навсегда и не терпит возражений. В новых пьесах все это требует долгих поисков и проб, от которых или отказываются, или упорно на них настаивают; отсюдаспоры, иногда страстные, где автору принадлежит последнее решение, причем он рискует ошибиться, если не обладает верностью глаза, вкусом или опытностью. Артисты, по крайней мере, те, которые имеют некоторый авторитет благодаря таланту, тоже спорят и протестуют против справедливых или несправедливых требований. Маленькие актеры ничего не говорят и все сносят. Если они неловки или неуклюжи, то иногда приходится пожертвовать эффектом, который считался полезным, и извлечь все возможное из их природных свойств, да и то еще им приходится очертить заранее применение этих свойств для того, чтобы они ничего не изменяли в течение ста представлений. Актер, импровизирующий эффекты во время хода представления, рискует погубить пьесу и смущает тех, кто играет с ним. Им мешает не только неверное слово в реплике, но и неожиданный жест и необычная поза. Сценическая постановка представляет собой, таким образом, коллективный труд, актер тут не свободнее солдата на маневрах. Видя все это, я подумал, что можно без специального обучения быстро выучиться этому ремеслу, хотя бы с условием не иметь никакого таланта, а лишь повторять все, что вам предначертят и насвищут, ибо я тоже слышал, как диктовали и насвистывали интонации начинающим и даже опытным актерам, когда они нечаянно делали ошибку. Почему бы мне, подумал я про себя, не подчиниться этой выучке, хотя бы она не привела меня ни к чему, кроме счастья сближения с той, которую я люблю? Попытаюсь. Как только решение мое было принято, я почувствовал себя свободнее в своем уголке. В двадцатилетней голове иллюзия быстро закрепляется. Мне показалось, что я уже принадлежу к труппе, что я здесь у себя и имею право тут быть. Репетиция второго акта кончилась, дальше не шли; теперь спорили, возвышая голос, переговариваясь со сцены с партером и наоборот, о том, необходимо ли повторять завтра эти два акта или приниматься за третий. Директор встал и направился к переносному мостику, чтобы снова вернуться на подмостки. Я воспользовался этой минутой для того, чтобы выйти из своей ложи и броситься к выходу из партера. Я очутился там одновременно с тремя женщинами: одна была высокая и сухая, другая старая и толстая, а третья была молода, но это была не Империа. Значит, мне не предстояло никакого другого волнения, кроме переговоров с директором. Я снова поднялся на сцену, где смело смешался с группой, окружавшей автора и директора; этот последний настаивал на необходимости одного сокращения в пьесе. Автор, убитый, уступал неохотно. — Пойдемте в мой кабинет, — сказал ему директор, — мы сейчас это устроим. Я был до того взволнован, что даже не узнал этого директора, а между тем все его знали: это был Бокаж, сам великий актер Бокаж. Как недавний житель Парижа я еще ни разу не видел его на сцене, но его благородное лицо считалось одной из достопримечательностей квартала, и достаточно было быть студентом для того, чтобы любить Бокажа. Он позволял нам петь «Марсельезу» в антрактах, и когда мы ее требовали, оркестр не заставлял нас никогда ждать. Это продолжалось до того дня, как «Марсельезу» объявили мятежной песней. Бокаж воспротивился, его сместили. Вид его придал мне геройское мужество; нельзя было терять ни минуты. Я решительно подошел к нему. — Что вам угодно, милостивый государь? — сказал он мне отрывисто, но вежливо. — Я желал бы поговорить с вами пять минут. — Это много — пять минут: у меня их нет. — Три минуты! Две! — Одна уже прошла. Обождите меня с четверть часа в фойе артистов. Он прошел дальше, и я услышал, как он сказал: — Констан, кто этот высокий молодой человек, которого вы пропустили на самую сцену? — Высокий молодой человек? — сказал Констан. Это был не кто иной, как привратник и фактотум[317] «Одеона». — Да, просто красавец. Констан приотворил дверь фойе артистов, взглянул на меня своими маленькими проницательными глазками и опять затворил дверь, говоря: — Вот уж, право, не знаю! Кто это его провел? — Скажите, что я, — бросил мне, проходя с беззаботным видом, первый молодой комик. Он входил в фойе, через которое Бокаж только что прошел. Констан, которого звали и тормошили теперь пятеро или шестеро других лиц и который ухитрялся отвечать на просьбы и вопросы с хладнокровием человека, привыкшего жить среди гвалта, выходил уже в другую дверь. Я остался на мгновение один с комиком, обожаемым публикой. — Правда, — сказал я ему, — я действительно могу сослаться на вас? — Сделайте милость! — отвечал он, не глядя на меня. И он исчез, крича парикмахеру: — А мой парик, Фома, мой парик к сегодняшнему вечеру? Я очутился один в низкой длинной комнате, украшенной портретами знаменитых авторов и актеров, но не глядя ни на что, а только прислушиваясь к частому биению своего взволнованного сердца. Когда часы пробили пять, мое ожидание длилось уже три четверти часа. Мало-помалу движение и шум в театре затихли, все ушли обедать. Я не смел сделать ни шагу; директор, наверное, забыл обо мне. Наконец, Констан снова появился с салфеткой в руках. Славный человек, он вспомнил обо мне, сидя за столом! — Господин Бокаж еще здесь, — сказал он мне, — желаете вы говорить с ним? — Еще бы, — отвечал я. И он привел меня в один из кабинетов дирекции, где я оказался перед Бокажем. Великий артист взглянул на меня прекрасными ласкающими глазами, не лишенными пытливости, попросил обождать минуточку, надавал менее чем за минуту пять или шесть приказаний Констану, набросал несколько строк на полудюжине бумажных листков и, когда мы остались в двоем, спросил меня, что мне нужно, тоном, полным любезности, тем не менее обозначавшим: «поторопитесь». — Я желал бы поступить в ваш театр. Он опять взглянул на меня. — Вы, несомненно, были бы красивым jeune premier![318]От чьего имени вы пришли? — У меня нет никакой рекомендации. — Значит, вы не из консерватории? — Нет, я просто студент юридического факультета. — И вы хотите бросить карьеру, вероятно, угодную вашим родителям… — Я не хочу бросать ее, месье Бокаж. Я труженик по природе, хотя и люблю удовольствия. Я рассчитываю продолжать занятия и добиться звания адвоката; а потом видно будет. — Значит, вы воображаете, что для того, чтобы поступить на сцену, не нужно специальных знаний? — Пока я ничему такому не учился, но могу приняться за это. — Ну, так поучитесь, если можете, и приходите потом. Теперь я могу судить только о вашей внешности. — Что же, удовлетворительна она? — Более чем удовлетворительна. Голос прекрасный, произношение превосходное. Движения ваши, по-видимому, свободны. — И это все, что нужно? — О, конечно, нет! Надо поработать. Советую вам начать учиться. — Раз уж вы так добры и так терпеливо, так внимательно выслушиваете меня, то скажите мне заодно, что я должен делать? Он подумал немного и продолжал: — Вам надо бы почаще бывать в театре. Бываете ли вы там? — Не больше и не меньше, чем другие студенты. — Этого недостаточно. Послушайте, лицо ваше мне нравится, но я вас не знаю. Принесите мне завтра свидетельство, что вы вполне честный молодой человек, и вы не только получите право бесплатного входа в театр, но и право входа за кулисы, что позволит вам следить за работой актеров; вот все, что я могу пока сделать для вас. Само собой разумеется, что если вы погрешите против скромности и приличий в ваших будущих отношениях с артистами и служащими театра, то мне нельзя будет помешать вашему немедленному изгнанию. — Я принесу вам завтра доказательство, что вам нечего опасаться нечестности с моей стороны. Я был бы негодяем, если бы заставил вас раскаиваться в вашей доброте ко мне! Он почувствовал, что волнение мое искренне, слезы благодарности и радости дрожали у меня на ресницах. Он протянул мне руку и взялся за шляпу, говоря: — До завтра, в тот же час, что и сегодня. Я сейчас же побежал разыскивать всех тех лиц, которые меня знали. Не намекая ничем на свою любовь к актрисе, я сказал, что могу получить право входа в театр, если они согласятся дать обо мне хороший отзыв. В два часа я набрал список из более чем двадцати подписей. Мой хозяин, мой портной, мой сапожник и шляпных дел мастер объявили с одинаковым энтузиазмом, что я прекрасный молодой человек, безупречный во всех отношениях. Товарищи мои сделали еще больше и на другой день проводили все меня к директору, прицепив к шляпам свои студенческие билеты. Их не впустили, Констан был настороже, но Бокаж увидал их из окна, улыбнулся, отвечая им на поклоны, и разрешил мне свободный вход в театр. Это была большая милость, дававшаяся только молодым артистам, а я никем еще не был. В тот же вечер я присутствовал на представлении. Увы! Империа играла только по пятницам, но я решил завязать дружбу с актерами моих лет и прочно водвориться в фойе артистов, где, я был уверен, встречусь с нею. Я отправился, конечно, поблагодарить молодого комика за предложенную им протекцию. Моя история была уже известна ему. Он видел ту, в некотором роде, овацию, которая внушила ко мне доверие Бокажа. Он представил меня своим товарищам, как патентованного кандидата, закидал меня тысячью ослепительно-остроумных шуток, так что я совсем опешил от этого театрального остроумия, перед которым остроумие студентов второго курса очень тяжеловесно, бледно и совершенно провинциально. Через три дня я чувствовал себя здесь, как дома, если не принимать в расчет, что я сообразил, как многого мне недостает, чтобы поддерживать здешний тон. Я также хорошо чувствовал, что мое положение терпимого сверхкомплектного члена труппы ничуть не дает мне права проявлять излишнюю развязность. Я страшно опасался навлечь на себя упрек директора, так великодушно распахнувшего мне дверь. А потому я постоянно соблюдал сдержанность и вежливость, что было для меня тем более легко, что я чувствовал, до чего уступаю другим. Я должен также сказать, что вообще актеры там отличались умением жить и прекрасными манерами, без всякого напряжения или аффектации они умели придерживаться хорошего тона, и я, несомненно, извлекал еще более пользы из их разговоров в антрактах, чем из их игры. Двое или трое из них имели, однако, право говорить решительно все, но они не злоупотребляли им в присутствии женщин; все они умели заставить уважать себя в театре, каково бы ни было их частное поведение вне театра. Таким образом, я брал там уроки умения держаться и той простоты манер, которая составляет отличительную черту хорошего воспитания. Все эти люди досконально изучили наилучшую манеру поведения, и в самом большом свете показались бы такими же изящными, какими казались на сцене. Они привыкли быть такими и теперь, даже когда веселились и шутили — не было разницы между только что изображенными ими лицами и ими самими в жизни. Я понял все, чего мне недоставало для того, чтобы сделаться вполне цивилизованным человеком; любовь внушала мне желание нравиться. Я почти радовался тому, что не попал еще на глаза Империа, и для того, чтобы не откладывать того превращения, которого я добивался, я бросил кофейню, расстался с биллиардом, перестал бывать в увеселительных заведениях и посвятил изучению права и литературы все то время, которое оставалось у меня от театра. Товарищи мои были недовольны, никогда не видали они меня таким серьезным и степенным. Наконец наступила пятница. За эти пять дней, что я был полон надежды увидать ее вблизи, быть может, говорить с нею, я ни разу не посмел произнести имени Империа и, было ли то делом случайности или равнодушия, вокруг меня о ней ни разу не упомянули. На афише стояла «Федра»; имя Империа также красовалось на ней, она играла Арисию. Я уже научился прилично одеваться, несмотря на свой скромный гардероб. Я потратил целый час на свой туалет, смотрелся в зеркало, точно женщина, и раз сто спрашивал себя, понравится ли ей мое лицо, понравившееся Бокажу и Констану. Я забыл пообедать. Я явился к «Одеону» прежде, чем зажгли газ; в душе моей смертельное смущение чередовалось с упоительной радостью, так что у меня кружилась голова. Наконец в назначенный час я вхожу в фойе; там еще никого нет, кроме какой-то старухи, сопровождающей высокую худую девушку, одетую в греческий костюм, смотревшуюся с испугом в зеркало и уверявшую, что она готова упасть в обморок. Я кланяюсь и сажусь на скамью, спрашивая себя, не представляют ли это платье и белая повязка изысканный туалет фигурантки. Является Энона в своей красной тунике, прикрытой широким коричневым пеплумом. Она садится в кресло, протянув ноги к каминной решетке, и вскрикивает: — Ну и погодка! Старые трагические актрисы часто копируют сержантские манеры времен Империи, которых придерживалась знаменитая Жорж. Комедия придает хорошие манеры, но трагедия, вводящая в сверхчеловеческое, внушает потребность вернуться как можно ближе к действительности. Старуха в пестром платке, сопровождающая молодую гречанку, подходит к Эноне с большим реверансом, умоляя ее бросить взгляд на туалет ее дочери. — Как! — вскрикивает кормилица Федры. — Разве она играет сегодня Арисию? — В первый раз, мадемуазель Регина. Она страсть как боится, моя бедняжка! А я ей говорю, что это ее счастье, что мадемуазель Империа захворала; не будь этого… — Империа больна? — восклицает Тезей, входя. — Тем хуже! И серьезно? — Должно быть, — отвечает мать, — ведь мадемуазель Империа не уступила бы своей роли из-за простого недомогания. Ипполит входит в свою очередь. — Слыхали вы, что маленькая Империа больна? — Только сейчас узнал. И даже говорят, что серьезно больна. — Что такое? — говорит Энона. — Что с ней случилось, с этой девочкой? — Вот и доктор, — говорит Терамэн. — Чем больна наша Арисия? — Я боюсь, что тифозной горячкой, — отвечает доктор. — Вот тебе на! Бедняжка, как жаль! Вы видели ее сегодня? — Два часа тому назад. — Это, значит, открылось вдруг, внезапно, что мы даже ничего о том не знали? — продолжает Энона. — Так внезапно, — говорит мать новой Арисии, — что дочери моей не успели даже устроить считку. — Она думает только о своей дочери, эта женщина! — говорит Энона, вставая. — А я очень огорчена: Империа бедна, у нее нет ни семьи, никакой поддержки, знаете вы это? Я держу пари, что подле нее нет ни души, а в кошельке ее не найти и двадцати франков! Господа, мы сложимся в антракте и, как только я умру, я побегу к больной. Кто идет со мной, чтобы помочь мне ухаживать за нею, если она будет бредить? — Я, — вскричал я, не в состоянии долее сдерживаться. — А кто это такой вы? — сказала Энона, глядя на меня с ошеломленным видом. — Господа, начинают! — кричал служитель, звоня в свой колокольчик. Этот внезапный перерыв избавил меня от того внимания, которое должны были привлечь мое смущение и мое отчаяние. Я бросился к Империа. В привратницкой оказался только какой-то глухой старик, который понял в конце концов, что я осведомляюсь о молодой актрисе, и отвечал мне: — Говорят, что дела идут неважно; моя жена при ней. Я бросился к лестнице, крикнув ему на ходу, что меня прислал театральный доктор. Он указал мне в глубь коридора на приоткрытую дверь в первом этаже. Я прошел через две маленькие комнатки, очень бедно меблированные, но удивительно чистенькие, выходившие окнами в маленький садик, и очутился лицом к лицу с привратницей, которой я повторил ту же самую ложь, что и ее мужу. Она меня сейчас же узнала и сказала, покачивая головой: — Да уж не выдумываете ли вы опять? — Как бы мог я знать, что мадемуазель Империа больна, если бы я не пришел из театра? — А как зовут доктора? Я назвал его. — Я начинаю вам верить. Да, наконец, в ее теперешнем положении… Идемте! Она снова открыла дверь, которую держала прикрытой за своей спиной, и я последовал за нею. Но когда я очутился в этой комнате, где на детской кроватке лихорадочным сном спала бедная молодая артистка, меня охватили страх и раскаяние. Мне показалось, что я оскорбляю умирающую, и я не смел ни подойти к ней, ни взглянуть на нее. — Ну, что же, пощупайте ей пульс, — сказала мне добрая женщина, — посмотрите, увеличивается ли лихорадка… Будьте спокойны, она без памяти! Мне нужно было или пощупать пульс или отказаться от принятой на себя роли доктора. Мне пришлось приподнять эту бедную безжизненную руку и взять в свою руку крошечную кисть, горящую от лихорадки. Не было, конечно, ничего целомудреннее этого исследования, но я не был студентом-медиком, я не мог ей помочь и не имел права навязывать ей свою преданность. Если бы она была в состоянии открыть глаза и увидала бы свою руку в руке чужого человека, она, такая строгая и неприступная, то ей сделалось бы хуже, и по моей вине. Перебирая в уме эти грустные мысли, я взглянул машинально на фотографический портрет, стоявший на маленьком столике: это был портрет человека некрасивого и немолодого, без сомнения, какого-нибудь родственника, может быть, ее отца. Мне показалось, что это умное и кроткое лицо смотрит на меня с укором. Я отошел от постели и решился сказать правду сиделке молодой девушки. — Я не доктор! — Ах! Вот видите! Я так и думала! — Да, но я состою при театре и знаю, что артистов тревожит одиночество девушки.., а также и ее бедность. Они устраивают складчину, и одна из дам собирается сидеть при ней ночью. Не будучи занят сегодня вечером и опасаясь, как бы вы не оказались в затруднительном положении, я принес вам свой вклад. Я вижу, что вы преданы ей, что вы женщина добрая и честная. Смотрите за тем, чтобы она не терпела ни в чем недостатка, ухаживайте за ней, как за дочерью, вам помогут. Я же позволю себе вернуться сюда только тогда, когда меня позовут, я не имею права предлагать свои услуги. — Но вы влюблены в нее, как и многие другие, не правда ли? Это еще не преступление; у вас тоже добрый и честный вид. Я позволяю вам приходить справляться о ее здоровье в привратницкой. Вот и все. Вы слишком молоды для того, чтобы стать ее мужем; любовника она не хочет и, конечно, я не посоветую ей такой глупости. Ну-с, уходите и будьте спокойны: принесут ей денег или нет, помогут мне или не помогут, я буду ухаживать за ней, как за дочерью, по вашему собственному выражению; вы это мне сказали, но это было излишне. Прощайте! Возьмите обратно свои деньги; если у девочки их нет, то у меня есть. Я не посмел вернуться в театр, чувствуя, что меня станут допрашивать и что я выдам себя. Ввиду того положения, в котором я оставлял бедную Империа, я не сумел бы ни принять беззаботный вид, ни выдумать что-нибудь. Кроме того, я устал лгать и краснел за свои хитрости. Искренность лежит в основе моего характера. Чтобы примирить свою совесть со своей любовью, я принял решение посвятить себя действительно театру. До той минуты я не ставил себе этой цели серьезно, я также не спрашивал себя, окажется ли моя страсть настолько сильной, чтобы довести меня до женитьбы. Эта честная старуха, так просто сказавшая мне в лицо правду, коснулась самой сути дела. Я не был, пожалуй, чересчур беден для того, чтобы жениться на девушке, не имеющей ни гроша, но я был чересчур молод для того, чтобы внушить ей доверие. У меня не было определенного положения, только театр мог мне его доставить, если я сумею извлечь пользу из своих природных дарований. Быть может, через несколько месяцев я буду уже получать приличное жалованье, а если даже и годы на то понадобятся, то не все ли равно, если Империа меня полюбит и удостоит чести стать моей невестой? Среди своих мечтаний я не забывал и отца; мечта этого дорогого, славного старика заключалась в том, чтобы из меня вышел «хороший говорун». Под этим он подразумевал адвоката или товарища прокурора — то было не очень ясно в его голове; но он не мог иметь предрассудков против театра, потому что вовсе не знал, что это такое. Я думаю, что он во всю свою жизнь ни разу не входил в театральную залу. Я имел на него влияние, возраставшее из года в год. Я нимало не сомневался, что смогу дать ему понять, что когда человек умеет хорошо говорить, то лучше иногда повторять прекрасные вещи, написанные другими, чем болтать свои собственные глупости. В раздумье я бродил по всему кварталу, прошел до Люксембургского сада, по улице Запада, по улице Вавен и вернулся к бедной улице Карно, подстерегая в темноте приход Эноны, которая вошла в дом № 17 в десять часов в сопровождении другой женщины. Как я позднее узнал, дамы эти были мало знакомы с Империа, но они были добры. За очень малым исключением все актеры добры. Каковы бы ни были их недостатки, их страсти, даже их пороки, они удивительно милосердны и преданы друг другу. Впоследствии я мог лично убедиться, что ни в одной профессии не встречается такого сострадательного братства. Всю ночь я пробродил в темноте, под ветром и дождем. Как только рассвело, я робко постучался в дверь дома № 17. Мне сейчас же открыли, и я увидал перед собой добрую привратницу, которая сказала мне, улыбаясь: — Уже на ногах? По-видимому, вы ее очень любите? Порадуйтесь, ей гораздо лучше. Она узнала своих подруг. Лихорадки почти нет. Я немножко соснула и сейчас опять иду к ней. Дамы теперь уйдут, а к полудню опять вернутся. — Позволяете ли вы мне прийти в одиннадцать часов? — Позволяю, только если она спасена, то вы оставите нас в покое, не так ли? Я ушел домой и бросился на кровать. В одиннадцать часов мадам Ромажу — это была фамилия привратницы — сообщила мне, что к больной приходил доктор. Он сказал так: — Все благополучно, мы отделались испугом; пусть не выходит из дому дней пять или шесть, и все пройдет. Услышав фамилию мадам Ромажу, я сказал ей, цепляясь за это, как за предлог для того, чтобы продлить разговор, что или она или ее муж, должно быть, из Оверни. — Мы оба оттуда, — отвечала она. — А вы? — Я из Арвера. — А мы из Вольвика; это довольно далеко. Как вас зовут? Я назвал наугад первую попавшуюся фамилию, но не свою настоящую. — Чем занимаются ваши родители? — Они крестьяне. — И мы тоже были крестьянами! Но послушайте-ка, земляк, вы такой же, как и мы, и вы думаете об этой барышне? — Она актриса, я готовлюсь быть актером и не думаю, чтобы она была княжеской крови. — Вот и ошибаетесь. Пожалуй, что и княжеской. Она благородного происхождения. — А ее фамилия?.. — Я вам ее не скажу: она скрывает свою фамилию. Она работает на сцене и у себя дома для того, чтобы платить за содержание отца, который… который неизлечим и в нищете. Ну, довольно, а то я с вами разболталась, а я не должна выдавать того, что она мне доверила по секрету. Ну-с, забудьте-ка эту красавицу. Она не про вашу честь, и мне думается, что вы только совратили бы ее с пути истинного; разве вам было бы уж так приятно выбросить такую жемчужинку в грязь? Если вы человек с сердцем, оставьте ее в покое. — Я ее до такой степени уважаю, что даже прошу вас не говорить ей вовсе обо мне. — Будьте спокойны! Я совсем не желаю ее гибели и никогда не говорю ей, от каких денег мне приходится отказываться и скольких волокит выгонять. — Продолжайте, дорогая землячка, продолжайте! Вы очаровательная женщина. Она засмеялась. Но приближался час визита доктора, и, чтобы он меня тут не застал, я убежал на репетицию. Там собирались приниматься за последний акт и меняли декорацию. Актерам предоставили четверть часа отдыха. — Ах, вот он! — вскричала мадемуазель Регина, когда я вошел в фойе. — Объясните-ка нам, мой милый, где вы познакомились с нашей Империа? — Я! Да я с ней вовсе не знаком, — отвечал я, — я никогда даже не говорил с нею. — Честное слово? — Честное слово. — Но вы к ней неравнодушны? — Это почему? — Вы предложили мне ухаживать за нею, точно вы ее брат или… О, краснеет, господа, смотрите, как он краснеет! — В мои годы легко и беспричинно краснеют, особенно, когда вас допрашивает такая талантливая особа, как вы. — Спасибо, вы очень милы; дальше? — Дальше, дальше… Вы сказали вчера в моем присутствии, что эта девица бедна, достойна уважения и одинока; вы говорили о лихорадке, о бреде. Ее несчастье, а особенно ваше самоотвержение, тронули меня, поразили… Я предложил свои услуги, не думая о том, что в моем непосредственном порыве могло быть что-либо неприличное, — вот и все. Она посмотрела лукаво прямо мне в глаза и прибавила: — Правда ли, что вы добились свободного доступа сюда для того, чтобы научиться быть актером? На этот раз я был уверен в себе и отвечал так, что убедил ее. Случай этот не имел последствий. Разговор перешел на Империа, ее очень уважали, хотя вне театра о ней ничего не знали; но все ценили ее прекрасные манеры, почтительность к даваемым ей советам, благопристойность и природную гордость. — А действительно ли это правда, — сказал кто-то, — что она на самом деле так же идеально чиста, как кажется? — Я в этом уверена, — возразила мадемуазель Регина. — Если бы вы видели эту бедную квартирку, такую чистенькую и скромную! Да наконец вы же знаете, что Белламар говорил нам о своей питомице? — Да! Ей было семнадцать лет, когда он привел ее к нам, но теперь ей уже восемнадцать. — Ну так что же, перемены нет, — отвечала Регина. — Конечно, я не ручаюсь, что, когда ей будет все двадцать… Разговор был прерван возобновлением репетиции, и все спустились на сцену. Я остался в фойе вдвоем с капельмейстером, добрейшим и чрезвычайно умным человеком, перечитывавшим рукопись первых актов для того, чтобы отметить те места, где ему потребуется вставить несколько музыкальных фраз. Он относился ко мне с отеческой добротой; я отважился спросить у него, кто такой Белламар, и так как это лицо призвано играть важную роль в моем рассказе, то я и обращаю ваше внимание на полученные мною подробности о нем. — Белламар? — сказал мне капельмейстер. — Вы еще ничего не слыхали о Белламаре? Это бывший актер нашего театра, друг всего театра. Он играл комедии, и с талантом, но говорил в нос, и его голос был недостаточно сильным для такой обширной сцены. В провинции он имел большой успех. Здесь же публика только терпела его, да так и не захотела привыкнуть к нему. Тогда через несколько лет он снова уехал в провинцию с набранной им труппой, выдрессированной им по своему вкусу. Дела его шли то хорошо, то дурно, но он вел себя всегда так деликатно и великодушно, что приобрел настоящее уважение, а потому, как только он начинает тонуть, находятся дружеские, доверчивые руки, которые протягиваются к нему и вытаскивают его снова из воды. Он никогда не переставал поддерживать со всеми нами дружбу, и каждый год он навещает нас в ту минуту, когда театр закрывается на лето, и вербует не занятых артистов в свою провинциальную труппу. Тем, кого он не может ангажировать сам, он рекомендует, дает им нужные справки, находит им занятия. Все, что исходит от Белламара, везде бывает хорошо принято. Словом, это театральный авторитет и известность… Да, кстати! Когда вы кое-чему научитесь здесь, самое лучшее для вас было бы обратиться к Белламару с просьбой дать вам возможность дебютировать где-нибудь, все равно, где… Если вам удастся быть принятым в его труппу, то вы приобретете в его лице драгоценного советчика, первоклассного учителя, и для более серьезных, чем для комических, ролей. Если природа отказала ему в известных качествах, то их заменяет ум; и это, пожалуй, самый лучший мастер своего дела нашего времени. Он с первого взгляда видит все, что можно извлечь из всякого человека, и, когда год тому назад он устроил здесь ангажемент маленькой Империа, он сказал: «В первый год она будет корректна, но холодна. Будущим летом я возьму ее опять к себе и возвращу осенью, сделавшею большие успехи. А на третий год вы сами не захотите выпустить ее и дадите ей 10 тысяч франков жалованья». — А что же пока? — спросил я. — Пока она зарабатывает 1800 франков в год, чего, конечно, недостаточно для честной девушки, которой приходится содержать родных; но на большее не может надеяться ни одна дебютантка. К счастью, она большая искусница и с сильным характером. Уча свои роли, она делает прекрасные гипюры, которые актрисы покупают у нее, не торгуясь. Все знают, что она нуждается, и, право, хотя здесь не отличаются строгостью нравов, ей невольно удивляются. Все хорошо знают, что этому, вероятно, придет конец, что нужда почти всегда подтачивает волю, что придет день, когда потребность отдохнуть и повеселиться возьмет верх над принципами… — Если только на ней не вздумает жениться какой-нибудь честный артист? — И это возможно. Держу пари, что вы были бы способны это сделать, если бы у вас было определенное занятие и если бы вы были на десять лет старше! — Маэстро, — сказал я ему, — уверяют ведь, что молодость есть самое прекрасное время жизни? — Это довольно распространенное мнение. — Ну, вот, а я нахожу, что это мнение лишено здравого смысла. Всякий раз, как в мои годы человек строит какие-нибудь планы, все торопятся закричать ему: «Вы слишком молоды!» — А! Разве?.. — Нет, мне чересчур хорошо известно, что двадцатилетний человек ни на что не годен! Я расстался с ним, проклиная свои прекрасные годы и давая себе мысленно клятву, что уцеплюсь за Белламара, как за спасительную доску. Три дня спустя, входя в то же самое фойе артистов, я вздрогнул при виде Империа, сидевшей у огня и ожидавшей конца репетиции второго акта для того, чтобы присутствовать при третьем. Бедняжка была еще бледна и слаба. На ней было жиденькое пальто и промокшая обувь. Она старалась обсохнуть со спокойным и равнодушным видом, устремив глаза на почти не горевшие уголья. Я позвал Констана, чтобы прибавить огня. Она поблагодарила его, не заметив, что инициатива шла от меня. — Что ж, — сказал Констан, — получше, значит? А знаете, вы ведь изменились! Не рановато ли вы вышла из дому? — Надо же исполнять свой долг, месье Констан, — отвечала она этим чистым, вздрагивающим голосом, который так и проникал в мое сердце. Она взяла в руки вышивку и принялась за чудесный гипюр, который делала скоро и хорошо. Я смотрел издали на ее профиль, не смея сделать ни шагу для того, чтобы взглянуть ей прямо в лицо. Она была в десять раз лучше днем, чем при вечернем освещении. У нее была тонкая глянцевая кожа, длинные темные ресницы нежно касались щек, прекрасные светло-каштановые волосы лежали толстым узлом на затылке, где вились бесчисленные колечки коротких волос, выбившихся из-под прически. Она была меньше ростом, чем я думал, совсем маленькая, но все в ней было так пропорционально, и линии ее тела были до того изящны, что на сцене она казалась мне почти большой; ее руки, ноги и крошечные уши представляли собой настоящий шедевр. Я закашлялся, ибо в ночь ее лихорадки, которую провел на улице, я схватил чуть ли не плеврит. Она обернулась, как бы удивленная, и, возвращая мне поклон, слегка прищурилась холодно и подозрительно, точно говоря: «Кто этот господин?». Но никакое лицо не было в силах удержать ее внимание; она снова опустила глаза на свою работу, и я не имел ни малейшего основания надеяться, что моя проклятая счастливая наружность поразила ее. Тогда я хорошенько собрался с духом. Я притворился, что смотрю на портрет Тальма, помещавшийся около камина. Я подошел ближе к ней, но стоял к ней спиной и вообразил тогда, что она собирается отойти от камина для того, чтобы не быть подле меня. Я не захотел присутствовать при том отступательном движении, еще раз кашлянул, но уже единственно для вида, и вошел в дверь, ведущую на сцену. Я уселся в партере и услыхал, как господин Бокаж сказал режиссеру, указывая ему на репетировавшую ingénue. — Знаете, Леон, она никуда не годится, она невозможна! В конце акта придется от нее отказаться. Империа, конечно, не была бы страстнее, но она не была бы неловка и вульгарна. Разве она еще не поправилась? — Не думаю. — Велите-ка узнать… Я отважился заявить, что мадемуазель Империа сидит в фойе. — Чего это она там застряла, что за идея? Мое милое дитя, — прибавил он, обращаясь ко мне, — будьте добры, подите сказать ей, что мы желаем, чтобы она была здесь, в ее же интересах. Я очутился одним прыжком в фойе и выполнил возложенное на меня поручение так смиренно, что она удивилась и не могла сдержать легкой улыбки. — Хорошо, — отвечала она, — я буду настолько добра, что повинуюсь. Она сунула свою работу в карман, вошла и села у входа в партер. Бокаж кивнул ей головой, на что она отвечала поклоном, одновременно полным достоинства и почтительным. Он подозвал меня к себе другим кивком головы и сказал, передавая мне свою меховую грелку для ног. — Эта девочка еще нездорова, передайте это ей. Я почти стал на одно колено, чтобы положить этот мех под ноги Империа. Она поблагодарила меня с видом женщины, привыкшей к вниманию, и поблагодарила новым поклоном своего директора. Она принимала эту милость, как добрая принцесса принимает положенное ей поклонение. Твердое и спокойное выражение ее лица в эту минуту меня поразило, даже испугало. Ей вот не нужно было изучать других актеров для того, чтобы приобрести благородные и простые манеры, она сама могла поучить других. Каким неловким и ничтожным чувствовал я себя подле нее! Пока ingénue путала в последней сцене действия, режиссер, потеряв терпение и обменявшись несколькими словами с директором, подошел к Империа и сказал: — Обратите внимание на те упреки, которые делаются вашей коллеге. У нее отберут роль. Приготовьтесь репетировать ее завтра. Империа ничего не отвечала, только слеза скатилась по ее щеке. — Ну, что с вами? — продолжал режиссер. — Ах! Я никогда не бывала еще принуждена огорчать кого-либо! — Вам следует привыкать к этому, дитя мое, — таковы нравы театра! На другой день она заменила Коринну, которая объявила себя отныне ее непримиримым врагом. Пьеса шла лучше и быстрее. Я заметил, что, когда приходилось подогревать чересчур спокойную игру Империа, к ней всегда обращались с чрезвычайной почтительностью, а в тех местах роли, где ее качества проявлялись сами собой, ее сильно ободряли. Очевидно, к ней питали уважение, превышавшее то, которое могло соответствовать ее летам и положению. Она была обязана этим своей манере держаться и своей кротости, которые внушали почтение и участие. В фойе это тайное влияние ощущалось еще более. Актеры — это дети, иногда своенравные, легкомысленные и готовые все разнести, но дети впечатлительные, тонкие наблюдатели, чрезвычайно чувствительные инструменты, звучащие при всяком дуновении. Высокомерные и жестокие хулители, они всегда готовы поддаться энтузиазму, и часто случается, что двое непримиримых врагов с восторгом аплодируют друг другу под впечатлением искреннего восхищения. Они отличаются свободным суждением невменяемых виртуозов. Их интеллектуальная жизнь или жестоко небрежна или чрезмерно великодушна. Принужденные декламировать все то дурное или хорошее, что им навязывают, они не умеют ни от чего воздерживаться — ни от пристрастия, ни от презрения. Словом, Империа ценили, и когда она оказалась впервые в соприкосновении с труппой в новой пьесе, что всегда является предметом большого волнения и для участвующих и для тех, кто жалеет, что не участвует в этой пьесе, то все вполне убедились в чистоте ее души и благородстве характера, о которых до тех пор только догадывались. Ею стали заниматься, вынудили ее разговаривать, обращаясь к ней так, как она того заслуживала, наперебой ее любезно приручали, а когда ей случалось проходить через фойе во время сомнительного разговора, молодой комик говорил: — Потише, господа, вот идет ангел! Наконец, видя, что вся ее подозрительность прошла, я стал осмеливаться принимать участие в разговорах, завязывавшихся вокруг нее и вокруг группы женщин. Говорил я всегда с кем-нибудь другим. Она была последнею, к кому я позволял себе обратиться, но судьба толкала меня, и первые мои слова оказались невольным признанием с моей стороны. Говорили о браке молодого трагика труппы и молодой красивой субретки[319]. — Эти дети правы, — сказал кто-то. — Настоящее безумие! — сказал другой. Каждый из присутствующих стал высказывать свое мнение о семейных удобствах и тягостях, а мой друг комик обратился ко мне, говоря: — А сверхштатный красавец, патентованный кандидат, он что об этом думает? — Я, — отвечал я, — еще ребенок и отличаюсь пока доверчивостью молодости, а потому и не понимаю, как можно не жениться на любимой женщине. — Это очень мило, — сказала Регина, — но так как в ваши годы любят всех женщин, то было бы очень затруднительно на всех жениться. — В мои годы, — отвечал я вне себя, обращаясь к Империа, которая улыбалась, — любят только одну женщину… — Сразу, может быть! — продолжала Регина. — Но зато и принимают за свой идеал первую женщину, которая попадается им на глаза. — Идеал? Этого не существует! — сказал толстяк, игравший роли комических отцов, обращаясь к резонеру[320]. Резонер разразился речью, как бы целиком заимствованной из какой-нибудь его репертуарной роли. Он так много рассуждал на сцене, что сделался красноречивым. Он сказал, что идеал вещь относительная, что всякий создает его целиком в своем мозгу, украшает его теми прелестями, которые доступны его собственному темпераменту. — Я знавал, — сказал он, — человека изящного таланта и изысканной внешности, идеалом которого была толстая женщина, умеющая хорошо готовить кушанья. В ваши же годы, — добавил он, обращаясь ко мне, — совсем наоборот, любят женщин эфирных, питающихся одной лишь росой. — Не возражай, — крикнул мне молодой комик, — первый любовник должен быть именно таким. Резать хлеб тонкими ломтиками и завтракать ими, обмакнув в бутон розы; ничто не может быть слишком нежно и ароматно для Лендора или Целио, но зато никто не пригоден менее их для домашних дрязг! Можно ли представить себе поэтичного юношу, утирающего нос ребятишкам? Нет, тот, кто вечно любит и пылает, чересчур красив, чист и наряден для того, чтобы окунуться в жирные щи! Что скажет об этом рассудительная Империа? — Что? — сказала Империа, не ожидавшая этого обращения. — О ком идет речь? — Взгляните-ка на пастушка Париса, который смотрит на вас, весь краснея, — продолжал комик, толкая меня к ней. — Как вы его находите? — Во всяком случае, очень хорошо воспитанным, — отвечала Империа, не поднимая на меня глаз. — Это все, что я о нем знаю. — И это недурно, — продолжал комик, — обо мне вы этого бы не сказали! — Мне нечего жаловаться ни на вас, ни на кого бы то ни было другого. — Какая иезуитка! Она меня терпеть не может! Послушайте, я остепенюсь! Кандидат будет давать мне уроки; он покажет мне утренний поклон, научит, как надо подвинуть кресло, как поднять падающую работу и снова воткнуть в нее иголку, не упустив нитки, он ведь все это умеет, тихоня эдакий! — Я сумел бы оказать и большие услуги и, быть может, даже не показавшись смешным! — Ты готов идти на смерть, не правда ли? — возразил комик напыщенно. И так как Империа, удивленная, посмотрела наконец на меня с некоторым вниманием, я повторил: «Да, на смерть!» — таким страстно убежденным тоном, что она слегка вздрогнула. — Удар нанесен! — вскричал комик. — Стрела спущена прямо в сердце! — В чье сердце? — спросила она с приводящим в отчаяние спокойствием. — В единственное свободное в нашей труппе сердце. — То есть мое? Да вы-то почем знаете? — Ах! Ну, простите, если так! Я не предполагал… Я слышал… Вот они, женщины, и как обманчивы эти Агнессы! — Я не Агнесса, и никто меня не тиранит. — Но Орас… — Я не знаю никакого Ораса. — Послушай, — продолжала Регина, — девочка, скажи нам правду. Ты честная девушка, значит, не чопорная, а потому скажи: ведь не дожила же ты до 18 лет, не отличив кого-нибудь? Я был готов упасть в обморок и на бледность мою обратили внимание. Империа с неумолимой жестокостью добродетели отвечала, улыбаясь: — Вам непременно хочется знать? Ну что же, я вовсе не хочу скрывать этого. Есть некто, далеко, очень далеко отсюда, кого я искренне люблю. Не знаю, обратились ли к ней затем с нескромными вопросами и как она отделалась от них… Я поспешно вышел и отправился проветривать свое отчаяние под каштанами Люксембургского сада. Какая рана, какое падение, какой гнев и какое горе! Конечно, теперь я могу посмеяться над самой причиной всего этого, но сердце мое еще обливается кровью при воспоминании о последствиях. Отчаяние мое было так глубоко, что я сам его испугался. Уж не схожу ли я с ума? Как и почему влюблен я до такой степени в женщину, которую совсем недавно узнал и с которой говорил в первый раз? В сущности, что я о ней знаю? Почему это я вбил себе в голову мысль о возможности оказаться первым в ее жизни и понравиться ей с первого взгляда? Спускаясь обратно по аллее Обсерватории, я встретился с Леонсом, одним из наших первых любовников, красивым молодым человеком, большим ветрогоном и весьма плохим актером, которого мне было бы очень легко сразу заменить, если бы я был плохим товарищем. Он казался мрачным и растерянным. — Ах, мой милый Лоранс! — вскричал он, почти бросаясь в мои объятия. — Если бы ты знал, до чего я страдаю! — Что такое? Что с тобой? — Она любит другого! — Она! Кто она? — Империа! Она только что сказала это вслух. — Знаю, я был тут же! — Ты был тут? Ах, да, правда, это даже из-за тебя… Но если она это сказала, то это не по твоему адресу! Это по моему, и нарочно, знаешь, для того, чтобы повергнуть меня в отчаяние. — Значит, ты ее любишь? — Безумно! Я этого не знал и с этой точки зрения был таким же сумасбродом, как и он, воображавший себя единственным воздыхателем. Я и не подумал открыться ему и притворился, что жалею его, будучи в восторге, что имею теперь с кем говорить о ней. Он любил ее с тех пор, как она поступила в «Одеон», приехав из провинции; сам он только что вышел тогда из консерватории. Он навел справки, настойчиво добивался правды и разузнал все о настоящем происхождении и настоящей судьбе Империа. Он поклялся самому себе никогда не выдавать открытых им секретов и рассказывал их теперь мне, с которым познакомился всего неделю тому назад и которому говорил «ты» в первый раз. Империа называлась Нанси де Валькло. Она была из провинции Дофине. Ее отец, маркиз де Валькло, был человек умный, великодушный и весьма уважаемый на своей родине. Он обожал красавицу жену и сам воспитывал дочь, которой справедливо гордился. Мадам де Валькло всегда пользовалась безупречной репутацией, но в сорок лет вдруг оказалась героиней страшно скандальногопохождения с каким-то гарнизонным офицером. Муж убил любовника, жена покончила с собой. Господин де Валькло сошел с ума через три месяца, потеряв предварительно все состояние в глупейшем предприятии, в которое бросился от нетерпения скорее реализовать свое имущество для того, чтобы покинуть с дочерью родину. — Мадемуазель де Валькло осталась, таким образом, почти сиротой в двадцать лет, ибо она нас обманывает, — заметил Леонс. — Ей двадцать два года. Она скрывает свои годы, чтобы скрыть всеми силами свою настоящую личность; она могла бы выдавать себя еще моложе: такое совершенное лицо не имеет лет. Он продолжал: — Так как господина де Валькло обманули накануне самого помешательства, констатированного докторами, то есть когда он уже был, вероятно, помешан, дочь его могла бы начать процесс и вернуть себе, по крайней мере, остатки отцовского имущества. Ей советовали сделать это, но она холодно отказалась. Приключение матери, причина сумасшествия отца наделали чересчур много шума для того, чтобы она не знала об этом, и судиться было бы невозможно, не намекая на эту причину. Она позволила обобрать себя дочиста, а когда убедилась, что ей не останется достаточно средств даже для того, чтобы прокормить отца, решилась работать сама. Хотя она была с талантами и образованием, она не нашла работы сейчас же и приняла тайно крайнее решение. Белламар, благородный импресарио, о котором ты, конечно, слышал у нас, давал несколько раз представления в том городе, где она жила. В эпоху благополучия семьи де Валькло он даже устраивал домашние спектакли в замке Валькло. Он провел там несколько дней, сыграл сам одну роль и устроил дебют в присутствии друзей и родственников Нанси, которой было в то время двенадцать лет. Он нашел в ней такие хорошие задатки, что сказал при ней, смеясь: — Как жаль, что она богата. Из нее могла бы выйти артистка. Девочка никогда не забывала этих слов. Оставшись бедной девушкой, она вспомнила о них и бросилась к Белламару, игравшему в Безансоне. Рассказывать ему свою печальную историю ей не пришлось: он уже знал ее. Он сказал ей о театре все то, что честный человек должен сказать о нем честной девушке. Она не испугалась и даже, как говорят, отвечала ему: — Я неуязвима. Воспоминание о наших несчастиях и горестях пронзило меня точно раскаленным железом; мне никогда не вздумается грешить, это не может прельстить меня. Белламар уступил, поклялся заменить ей отца и, не желая уезжать вместе с нею из того места, где его знали, он назначил ей свидание в Бельгии, где она дебютировала под именем Империа и где никто не заподозрил о ее тайне. В Дофине никто не узнал, что с нею сталось. Слышали только, что она отвезла отца куда-то близ Леона к старой чете их бывших слуг, которые ей были безгранично преданны и ухаживали за ним, как за ребенком. Говорят, что помешательство его тихое. Он совершенно потерял память обо всем прошлом и вернуть ее не значило бы оказать ему услугу. Все думают, что мадемуазель де Валькло уехала гувернанткой в Россию. Здесь тоже ничего не открыли, только старик Бокаж знает, в чем дело, да я.., сам все разузнавший.., увы! Признаться тебе, как именно? Я просто подслушал!.. Это потому, что я от нее без ума! Это потому, что я готов на все, лишь бы понравиться ей; это потому… Но теперь все погибло! Она добродетельна, это правда, и всегда останется такою, но она любит! — Кого бы это, как ты думаешь? — спросил я у Леонса, притворяясь, что принимаю участие в его горе. — Ах, как знать? — вскричал он, размахивая руками. — Она сказала, что он очень далеко отсюда! Может быть, какой-нибудь артист, с которым она познакомилась в Брюсселе, а может быть, какой-нибудь дворянин, бывший ее женихом в Дофине до катастрофы. — Если это дворянин, то поступает он не по-дворянски, предоставляя ее такой тяжелой доле. Должно быть, он богат и забыл ее! Когда она в этом вполне убедится, она тоже его забудет! — Да, ты подаешь мне некоторую надежду, и я благодарю тебя за это! Кроме того, мне еще кажется, что она выдумала эту любовь нарочно, с целью испытать мою любовь. — Значит, она знает, что ты ее любишь? — Да, конечно! Я признался ей письменно в любви в самых убедительных и почтительных выражениях. — Ты предлагал жениться на ней? — Да. — И что же отвечала тебе Империа?.. — Ничего. Она сделала вид, что не получила моего письма. — Что не мешает тебе надеяться? — Раньше я надеялся, а теперь боюсь! Что ты мне посоветуешь? — Ничего. Наблюдай за нею и жди. — Значит, ты думаешь, что я не должен отступаться? — Вот уж ровно ничего не знаю. — Пойдем обедать вместе, — продолжал он, — и позволь мне говорить о ней. Если я останусь один, я чувствую, что наделаю каких-нибудь глупостей. Я слушал его бессвязные речи целый вечер, большую часть времени не слыша ни слова из того, что он говорил. Я считал с его стороны глупейшей самонадеянностью добиваться внимания Империа и адресовал на свой собственный счет расточаемые ему мною вздорные утешения. Нимало не считая себя таким же фатом, как Леонс, я старался убедить себя, что она солгала для того, чтобы избавиться от его преследований и совсем не имела намерения обескураживать меня. Видя, до чего Леонс смешон, я воспользовался, однако, своим соперничеством, обещая себе ни в чем не следовать его примеру. Он не скрыл ни от кого своего великого отчаяния и так много нашумел по этому поводу, что это помешало всем заниматься мною. Я выказывал большую веселость и развязность, отрицал факт своего косвенного признания в любви Империа, утверждая, что просто высказывал свое мнение вообще о любви и преданности; мне удалось не оскандалиться и отвлечь от себя если не подозрение, то, по крайней мере, шутки. Глупость же Леонса точно нарочно их вызывала, и он оказал мне тем немалую услугу. Империа имела известный успех в новой пьесе; она сыграла хорошо и понравилась. Она казалась нимало этим не опьяненною и отвечала на наши комплименты, что нисколько не заблуждается насчет всего того, чему ей надо еще выучиться, чтобы стать кем-нибудь на сцене. Однако у нее появился некоторый апломб. Она поднялась ступенькой выше по лестнице и казалась этим довольной. Мы узнали, что Белламар написал ей, чтобы поздравить и ободрить ее. Мадемуазель Коринна была побеждена ее кротостью и благоразумием, тем более, что все решительно стали строго возражать ей, когда она попыталась оклеветать Империа. Из-за новой пьесы Империа бывала в театре каждый вечер. Ей дали уже роль в следующей пьесе, которую скоро начали репетировать. Таким образом, почти все ее время проходило за работой, и я мог видеть ее в любой час; но, не желая, чтобы отец мой подумал, что я меняю ремесло из лени, и не желая ничего решать без его согласия, я старательно продолжал изучать право, уходил домой в 9 часов вечера и работал до двух часов ночи. Вставал я поздно и приходил в театр в полдень; там я проводил весь день, за исключением часа, необходимого для обеда. На долю Империа выпал тяжелый труд репетировать по три и по четыре часа в день, а потом играть три или четыре часа вечером, меняя костюм в каждом антракте. Остальное время она мастерила свой гипюр или учила роль у себя дома. Она не теряла ни минуты, и спокойствие, вносимое ею в эту ужасную жизнь, было непостижимо. Она была так умна и образованна, что ничто ей не было чуждо, и говорила она обо всем со скромной уверенностью. Она не была никогда ни грустна, ни весела. Открытие ее настоящего возраста вначале несколько успокоило меня — не потому, что я находил ее менее прекрасной и соблазнительной оттого, что она оказывалась совершеннолетней, но как эти ее два лишних года отдаляли ее от меня; как был прав капельмейстер, сказавший мне, что я чересчур еще молод для того, чтобы позволить себе строить какие бы то ни было планы на будущее! Несмотря на это новое препятствие, столь очевидное для меня, несмотря на все свои старания вести себя умно, я скоро почувствовал, что желание мое просыпается с новой огромной силой: это было точно безумие, какая-то idée fixe[321]. Сумасбродные претензии Леонса давали мне силу скрывать свою болезнь, но не побеждать ее. Империа привлекала меня без ее ведома, как огонь привлекает бабочку; мне непременно хотелось обжечься. Она превосходила меня своим происхождением и воспитанием, своим почти уже сложившимся положением и своей определенной будущностью, своим талантом, еще несовершенным, но которого мне, быть может, никогда не приобрести, наконец, даже своими летами, благодаря чему она превосходила меня благоразумием. Кроме того, она уже испытала и несчастье, что придавало ей больше силы и достоинства. А что мог я ей предложить? Лицо, хвалимое другими и, пожалуй, не нравящееся ей, маленькую сумму денег, дававшую возможность прожить кое-как два или три года, необходимые на мою выучку, и восторженную любовь, надежности которой она, быть может, не имела оснований доверять. Все это она отлично сумела дать мне понять, когда оказалась вынужденной заметить мои ухаживания и угадать волнение, скрывавшееся за моим молчанием. Я еще внимательнее наблюдал за собой, потому что больше всего на свете боялся внушить ей недоверие; я страшился, как бы она не попросила меня никогда более с нею не разговаривать. Я всячески старался отвлечь ее подозрения и, насколько я желал прежде, чтобы она узнала о моей любви, настолько теперь старался убедить ее, что она ошиблась или что я отказался от своей химеры. Я довел свое притворство и трусость до того, что стал слегка ухаживать за мадемуазель Коринной, трепеща, как бы она не приняла всерьез моих комплиментов. Но она не обращала на них ни малейшего внимания: она метила на более основательные победы. Леонс, которого Империа отстранила от себя, старался обмануть свою досаду, пытаясь ухаживать за Коринной. Она его высмеяла, а что касается меня, то она объявила мне по-товарищески, что сожалеет о моем ненадежном положении и не собирается выходить замуж по любви. Я не говорил ей ни о любви, ни о браке; я ограничивался лишь тем, что говорил ей о ее красоте, довольно сомнительной; тем не менее моя наивная уловка удалась. Империа, в глубине души сама очень наивная, убедилась, что я о ней не думаю, и с этой минуты стала обращаться со мной с той же мягкостью и с тем же доверием, как и со всеми другими. Я постоянно колебался между желанием и опасением разуверить ее, когда в один прекрасный день она вынудила меня окончательно ее успокоить. Говорили как раз о Коринне, которая позволяла всем ухаживать за собою, не обращая внимания ровно ни на кого, и, как обыкновенно, общий разговор был прерван звонком, призывавшим на сцену. В первый раз я очутился, наконец, вдвоем с Империа. — Я нахожу вас немного жестоким к моей подруге, — сказала она мне, — уж это не с досады ли? — Клянусь вам, что нет! — отвечал я. — Я хорошо вижу, что вы все совершенно безжалостны к женщинам, не отвечающим на вашу лесть. — Если бы я мог обвинять в чем-либо мадемуазель Коринну, так только в том, что она слушает нашу лесть, не отвечая на нее, но что вам до наших детских досад и неудовольствий — вам, которая не позволила бы сказать себе даже правду? — Как так? — Если бы вам высказали все то хорошее, что о вас думают, вы бы рассердились. А потому вам нечего бояться, чтобы вас вздумали испытывать банальной лестью. Империа не пыталась смутить меня легким кокетством. Она пошла напрямик. — Если вы думаете обо мне что-либо хорошее, — сказала она, — вы можете сказать мне это, не оскорбляя меня. Помнится, я заявила в вашем присутствии, что сердце мое принадлежит отсутствующему человеку. Я повторяю вам это теперь для того, чтобы развязать вам руки, потому что, если вы меня действительно уважаете, вы не подвергнете меня никогда и никакому испытанию. Я отвечал, что дам ей доказательство своего уважения и умолял ее смотреть на меня, как на своего преданного слугу. — После вашего признания, — прибавил я, — которого я, впрочем, не забывал, я думаю, что вам следует видеть в предлагаемой мною вам преданности полное отсутствие дерзкого любопытства и неуместных претензий. — Все это очень хорошо, вы очень добры, и я вам благодарна за эти слова, — сказала она, протягивая мне руку. — Вы принимаете мою преданность? — И вашу дружбу, раз она совершенно бескорыстна. Она ушла из фойе, улыбаясь мне; я остался один и тихо заплакал: я только что сам сжег свои корабли. Однажды утром, пока репетировали последнюю пьесу, которая должна была пройти до ежегодного закрытия, я очутился один в фойе с каким-то господином среднего роста и прекрасного сложения; лицо его вызвало у меня смутное, неопределенное воспоминание, впечатление чего-то неуловимо знакомого. Ему могло быть от 35 до 40 лет. У него были маленькие глаза, смуглая, довольно румяная кожа, широкое четырехугольное лицо, большой рот, короткий нос с горбинкой, плоский, хорошо выбритый подбородок, прилизанные на лбу и на висках волосы. Все это составляло некрасивый, но игривый и чрезвычайно симпатичный ансамбль. При малейшей улыбке уголки его губ забавно поднимались, и на щеках появлялись смутные ямочки. Его черные глаза отличались проницательной живостью, а челюсть выдавалась линиями неукротимой энергии; но чистота лба и тонкость ноздрей смягчали чем-то непонятно определенным и прелестным черты его воинственной и чувственной натуры. Невозможно было не узнать в нем с первого же взгляда комика известного рода, и я спрашивал уже себя, не знаменитость ли это. Когда он обратился ко мне и спросил, принадлежу ли я к театру, я чуть было не расхохотался ему в ответ — до такой степени были странны его голос и произношение в нос. Но я сейчас же сдержался, ибо этот голос вдруг объяснил мне все: я оказался, наконец-то, в присутствии знаменитого импресарио Белламара. В ту же минуту я вспомнил и его лицо: я видел его на фотографическом портрете у изголовья Империа. Я почтительно поклонился ему, сообщил ему в нескольких словах, кто я и выразил желание дебютировать как можно скорее в провинции. Он осмотрел меня наподобие того, как барышник осматривает лошадь: он обошел вокруг меня, оглядел ноги, колени, зубы, волосы, попросил меня пройтись перед ним, но все это с забавным и отеческим видом, что не могло меня оскорбить. — Черт возьми! — сказал он после минутного размышления. — Разве вы окажетесь так уж плохи, чтобы не понравиться одной половине публики — той, что носит юбки? Вам 20 лет, и вы студент-юрист? Умеете вы танцевать? — Национальную овернскую bourrée — да, умею! Кроме того, я владею также всеми характерными танцами студенческих балов, но я не намереваюсь… — Я не говорю вам о том, чтобы танцевать на сцене, но уметь танцевать необходимо; это придает походке свободу, если не изящество. Но это не всегда, однако, придает ловкость на сцене. Ну-ка, возьмите-ка этот гнутый стул. О, одной рукой, пожалуйста, он не тяжел! Почему берете вы его правой рукой, раз он был ближе к левой? Нужно уметь управлять обеими руками одинаково. Смотрите, возьмите стул вот так и сделайте так! Он взял стул, поставил его посреди комнаты и сел на него. Я вообразил себе, что это самая легкая вещь на свете и что он смеется надо мной; но когда я сделал то же самое, он сказал: — Я не скажу, чтобы это было некрасиво, но это очень неловко. Так следует делать в роли робкого молодого человека, в первый раз в жизни садящегося в гостиной. Вы поставили стул так, что вам пришлось бы сесть мимо и упасть пресмешным манером; зато вы предусмотрительно оглянулись назад, прежде чем сесть, что составляет огромную неловкость, а потом вдруг упали на стул, точно рассердились или чрезмерно утомлены. Движение актера на сцене не должно быть заметно для публики. Он должен оказаться сидящим, точно он бестелесен, ибо садиться — это действие само по себе вульгарное. Даже, если подумать хорошенько, то всякое сиденье есть смешной предмет! Надо, чтобы актер заставил позабыть и об употреблении этого предмета, и о самом действии с помощью искусного фокуса; в трагедии все должно быть благородно, особенно это движение, самое щекотливое и самое трудное из всех. В комической пьесе оно должно быть грациозно, даже если оно шутовское. То, что не грациозно, не благородно, непременно неприлично. Вот смотрите на меня! Вот как вы сели! И он так уморительно передразнил меня, что я рассмеялся. Тогда он встал и сел несколько раз, меняя каждый раз место и открывая передо мной то, о чем до сих пор ни один из игравших и репетировавших передо мной актеров не дал мне ни малейшего понятия: грацию в естественности, верх искусства, незаметного при самом внимательном наблюдении, совершенство передачи в самом незначительном действии. — На десять тысяч зрителей, — добавил он, — быть может, всего лишь трое оценят вашу манеру так садиться и поймут, что это целая наука, результат долгого изучения. Но ни один из этих десяти тысяч зрителей не преминет невольно поддаться впечатлению свободы ваших малейших действий. Не зная, почему именно оно хорошо, Все почувствуют, что это хорошо; и в этих двух словах я открываю вам всю тайну сценического искусства. — Я был бы счастлив, — продолжал я, — принадлежать к вашей труппе и пользоваться вашими уроками. — Это можно будет устроить, — сказал он. — Будете вы здесь через час? — Я пробуду здесь, сколько вам будет угодно. — Хорошо, подождите меня. Он, вероятно, сейчас же отправился наводить справки. Когда мы снова сошлись, он был под руку с Империа. — Я беру вас к себе, — сказал он. — Это решено: все о вас хорошо отзываются, и мадемуазель Империа тоже. Сколько вы хотите жалованья, мое милое дитя? Вам, я полагаю, известно, что жалованье, получаемое дебютантом, не позволяет ему прикуривать сигару от банковских билетов. Я отвечал ему, что не прошу никакого жалованья, пока не буду уверен, что могу быть ему полезен. Даже не получая от него ничего, кроме добрых советов, я останусь его должником. — Конечно, — сказал он, — все дебютанты должны бы понимать это так же, как и вы; но надо же на что-нибудь жить, надо прилично одеваться… — У меня есть кое-какие деньжонки и нужное платье… Я спокойно могу подождать два или три месяца, если мое обучение потребует этого срока. — Я вижу, что вы честный малый и знаете, что Белламар не способен злоупотребить вашей деликатностью; вам не придется раскаяться в этом. Приходите завтра ко мне, я дам вам выучить короткую роль; послезавтра вы придете учиться играть ее со мной, но знайте ее наизусть! Он дал мне свой адрес и пожал мне руку на прощанье. Когда я взял у него первый урок — хотя, по правде говоря, он обошелся со мной так же снисходительно, как мог бы обойтись с сыном, — я все-таки очень испугался его оценки. — Послушайте, — сказал он мне, резюмируя в конце урока все им преподанное, — конечно, это большое преимущество быть таким одаренным, как одарены вы, и если бы вы были глупцом, вы легко могли бы уверить себя, что учиться вам нечему. Вы умный малый и сейчас поймете, что ваша красивая внешность и совершенство вашего голоса могут быть причинами провала точно так же, как и причинами успеха. Как только вы появитесь на сцене, хорошо одетый и загримированный, ожидайте одобрительного ропота в зале; но затем публика сейчас же станет строга и недоверчива. Однако же с первых ваших слов послышится опять ропот удовольствия: голос у вас удивительный. Ну, а потом? Говорить вы роль будете хорошо, я беру это на себя. Новая опасность! С этой минуты публика, встрепенувшаяся и внимательная, будет страшно требовательна. Таковы уж современные люди, особенно французы. Мы не живем в те времена, когда под счастливыми небесами южных цивилизаций физическая красота чтилась почти одинаково с добродетелью. История сохранила нам имена артистов, вся заслуга которых состояла в том, что они были красивы. Теперь же никто не помнит об артисте, лишенном таланта, будь он по внешности сам Антиной. В наши дни требуют все, ни больше ни меньше, как все; но чего, быть может, всего менее требуют, так это пластической красоты. Она поражает только в первую минуту. Она надоедает, она раздражает, она злит, если искусство не умеет придать ей прелести. Современные идеи склоняются к реализму, и это прогресс в известной мере, ибо человек создан не только для того, чтобы служить натурой для скульптуры и отличаться от других людей совершенством физическим, что еще не составляет для него преимущества нравственного; если он слишком гордится им, — его высмеивают, если он извлекает из него пользу, — его считают неумным. Значит, надо уметь быть красивым, что гораздо труднее, чем уметь быть уродом, а в нашем искусстве, которое состоит в том, чтобы все творить прямо и лично самому, первый пункт такой: надо хорошенько знать, что ты такое, для того, чтобы знать, чем ты должен быть. Ну-с, я скажу вам, скажу, как артист, как живописец и как физиолог, ибо я немного и то, и другое, и третье, что вы такое из себя представляете, декламируя свою роль: вы кофейный Аполлон, ни больше, ни меньше. Взгляд сверкающий и слишком смелый; улыбка очень искренняя, чересчур судорожная от пропитанных спиртными напитками нервов; тело, очень гибкое и сильное, предается причудливым позам, лишенным смысла и оригинальности; речь, ясная и звучная, полна фальшивых интонаций и преимущественно стремится к самым немузыкальным и неестественным интонациям. Вы были бы отвратительным комиком. Вы всегда переигрывали бы. Вы как бы умственно натянуты и взволнованы; вам было бы трудно добиться добродушия, и вы не сумели бы спросить естественно: «Что же, как вы поживаете?» Вы могли бы играть романтические драмы, но их более не пишут, и вкусы все более и более склоняются на сторону буржуазной драмы. Если бы для вас писали роли, в которых, несмотря на черный фрак, ваш персонаж имел бы энергичные манеры и известную эксцентричность характера, вы были бы хороши; но роль, точно соответствующая тому типу, который актер может изобразить в совершенной цельности, встречается раз, много — два раза в жизни. Прежде чем добиться известности, приходится проходить через всевозможные, или незначительные, или антипатичные нашей натуре роли. Таким образом, вначале главной заботой должно быть приобретение гибкости; если нужно — стушевать свою личность, сделать себя пригодным для приличного исполнения любой роли, не надеясь, чтобы восхищались и хлопали тому именно господину, которого вы из себя представляете. Когда вы мало-помалу избавитесь от самого себя, то есть от того, который был красивым студентом, но не имел свойств сносного артиста, тогда вы начнете искать, придумывать, творить. Надо, по меньшей мере, три года, мой милый, для того, чтобы из вас мог выйти прелестный первый любовник. Это хорошее амплуа, но оно требует, кроме всего того, что вы имеете, еще и всего того, чего у вас нет. Оно оплачивается очень дорого, потому что типы красивые и умные — величайшая редкость. Если вы не растолстеете, то торс ваш будет стоить больших денег. Даже и теперь ноги ваши представляют большую ценность, а голос ваш всегда настоящий капитал; к несчастью, все это — ничего, и даже хуже, чем ничего, повторяю вам, если вы свихнетесь с пути. Вы не будете бесцветным, вы будете страстным, но энергия ваша может оказаться смешной, голос фанфаронским. Остерегайтесь этого. Если вы будете послушны, то я спасу вас от этой опасности; но если у вас нет в душе большого запаса чувствительности и правдивости, то вы станете холодным и банальным. Вот что по совести я должен сказать вам в заключение; вам придется страшно много потрудиться над самым трудным и самым неблагодарным ремеслом. В результате может получиться жизнь славы и богатства; но точно так же и ничего может не выйти, и я вовсе не ручаюсь, что через три года вы не превратитесь в полное ничтожество. Выучка, сама по себе необходимая, в девятнадцати случаях из двадцати уносит с собой оригинальность. А потому хорошенько подумайте, прежде чем бросить свою карьеру и свою среду для сцены. Завтра вы мне скажете, чувствуете ли вы в себе мужество радикально изменить вашу личность, рискуя превратиться в существо совершенно бледное, лишенное бодрости, выжатое как лимон! И подумайте еще вот над чем: пока человек идет по проложенным обществом дорогам, он может еще менять карьеру, но как только он попадает в театральную богему, он не может уже более вернуться в другую среду. Вовсе не потому, чтобы вас отталкивал известный предрассудок. Это не важно! Энергичный человек сумеет восторжествовать над ним и всюду отвоевать себе должное место; но дело в том, что после сцены в вас не остается более энергии. Сцена изнашивает, сжигает, пожирает. На ней живут так же долго, как и в другом месте, но это при условии не покидать ее и поддерживать в себе ту искусственную силу, то нервное возбуждение и то упоение, которые свойственны только ей; как только уйдешь на покой, даже когда почувствовал к тому настоятельную потребность, скука начинает тебя грызть, ум начинают терзать призраки, обычная действительность становится противной, настоящие чувства смешиваются с фикциями прошлого, дни кажутся веками, а вечером, в тот час, как перед вами, бывало, поднимался занавес и публика стекалась смотреть на вашу особу, вам кажется, что вас заколачивают в гроб живым. Нет, дитя мое, не идите на сцену, если вас не толкает туда непреодолимое призвание, ибо это такая лотерея, в которую выигрывающим, предварительно рискнув всем, всегда приходится вложить свою жизнь и душу. Я должен был сказать вам все это, не думайте, что это результат только что сделанной нами пробы. Если бы я думал только о своей выгоде, то я скрыл бы от вас свой образ мыслей, ибо, каковы вы есть, вы очень скоро будете мне очень полезны. В провинции не требовательны, там не избалованы, а вы имеете все, что нужно для успеха внешности. Я не делаю подобных замечаний уже вошедшему в колею актеру; но вы меня интересуете, вы мне нравитесь, и вы бросаетесь, очертя голову, в неизвестное; я должен был сказать вам всю правду. Я горячо поблагодарил его и обещал поразмыслить; но я вовсе не размышлял, я только думал об одной Империа, с которой не мог жить в вечной разлуке. Я собрал всю силу воли для отчаянной попытки и через месяц уехал в провинцию с Империа, Белламаром и набранной им труппой. Таким образом, я был актером, я был три года актером, всегда был на сцене честным человеком и ушел с нее незапятнанным. Но тем не менее я порвал с той будущностью, на которую мог рассчитывать, отец чуть было не умер с горя, как — я расскажу вам в другой раз, ибо я давно уже говорю, и вы, вероятно, устали меня слушать. — Ничуть, если вы не устали, то продолжайте. Мне хочется знать продолжение истории вашей любви к прелестной Империа. — А я рассчитываю рассказать вам это, но, если позволите, то не сейчас. Дайте мне перевести дух, и я срисую пока профиль каскада. — Отлично. Еще одно слово, однако! Какое же это ужасающее заблуждение, в котором обвиняют вас некоторые местные добрые души? — Вы об этом спрашиваете? Я же был актером, а, по их мнению, этого более чем достаточно, чтобы быть навеки проклятым.
Немного порисовав и помечтав, точно он ощущал потребность резюмировать свои воспоминания, Лоранс продолжал свой рассказ. — Я должен был свидеться с отцом только в каникулярное время, а до тех пор у меня оставалось три месяца свободы. Я написал ему, что уезжаю с одним приятелем путешествовать, и это краткое объяснение удовлетворило моего славного старика. Чуждый каких бы то ни было научных занятий, не имеющий никакого понятия об общественном механизме вне своей собственной сферы, он вполне мог поверить, что я буду работать, катаясь, раз я утверждал, что твердо решился неотступно заботиться о своей будущности. Прежде чем увлечь вас за собой в свою бродячую жизнь, я должен познакомить вас с теми главными лицами, с которыми связал свою судьбу. Одни уехали из Парижа вместе с нами, другие присоединились к нам по дороге. Неразлучным и, быть может, лучшим другом Белламара был человек, прямо противоположный ему по характеру и по внешности, странная история которого заслуживает отдельного рассказа. Он носил имя Моранбуа, но на самом деле назывался Илларионом. Родных у него никогда не было; из воспитательного дома он перешел к одному крестьянину, у которого пас поросят и который его бил и морил голодом. Раз его похитили — наполовину по его доброй воле, наполовину силой — странствующие комедианты, но он оказался никуда не годным в труппе; его скоро бросили на большой дороге, где его подобрал бродячий торговец, заставивший нести свой товар. Ремесло это понравилось ему: кормили его прилично, он любил скитальческую жизнь, а торговец был незлой человек. Илларион оказался славным мальчиком, весьма покорным, терпеливым и верным. У торговца был только один недостаток: он был горький пьяница и частенько, подавленный тяжестью своего товара, сеял его по дорогам. Илларион, поупражнявшись, превратился в настоящую лошадь, способную нести всю торговую поклажу хозяина. Кроме того, так как у мальчика было доброе сердце, то он не бросал хозяина на краю канав, где тот частенько засыпал по дороге. Как только он видел, что тот пошатывается и несет чепуху, он осторожно уводил его в чистое поле, подальше от ссор и от воров. Он присматривал за хозяином и за грузом, соединяя в себе должности лошади и собаки. Торговец полюбил Иллариона и сделал его компаньоном в своих барышах. Таким образом ребенок мог бы кое-что заработать и скопить, но как только хозяина его обуревала жажда, он занимал у него его часть заработка и забывал потом ее отдать. Правда, Илларион забывал требовать ее обратно. Эта дружба и совместная торговля длились долго; Иллариону было двадцать лет, когда торговец умер от водянки в госпитале, оставив после себя немного денег, которые его молодой компаньон отнес наследникам, не удержав даже своей доли. Наследники эти были бедные крестьяне, обремененные семьей, и ему не хватило духа предъявить им малейшее требование. Он расстался с ними, не думая о том, что будет с ним самим. Привыкнув к тому, что другие не заботятся о его судьбе, он невольно подражал им. Уже мизантроп, он не видал и не знал ничего хорошего в жизни, за исключением своего торговца, который не обращался с ним дурно, но который и не вознаградил его. Тем не менее он мысленно не попрекал его ни в чем. Человек этот все-таки выучил его кое-как читать и писать, а также владеть палкой в случае нападения. Он развил в нем физическую силу, хладнокровие в опасности, способность к бродячей жизни. Шагая теперь один, Илларион думал, что мужественный, сильный и умеренный человек не может умереть с голоду даже среди эгоистов. Он ошибался: всегда нужен основной капитал, как бы он ни был мал. Никакая работа не может обойтись без своего инструмента. Иллариону было не на что купить самых скромных товаров. Он не знал, какую пользу извлечь из своих пустых рук, когда, проходя однажды после двухдневного поста по какой-то площади, увидел силача, побеждавшего в борьбе всех пехотинцев гарнизона, и вдруг сообразил, что кулаки его могут сослужить ему службу. Ему показалось, что атлет этот более ловок, чем силен, и он выступил против него, предварительно присмотревшись к его манере. Только заключив пари, что победит, он признался присутствующим, что умирает с голоду и от жажды. — Напейся и поешь, — сказал ему уличный силач высокомерным тоном, — я не бросаю об пол тех, кто сам еле держится на ногах. Импровизированная складчина позволила новоприбывшему съесть кусок хлеба и выпить стакан вина, после чего он взошел на арену. Это была настоящая арена, римский цирк Нима, и когда Илларион рассказывал свою историю, то всегда говорил, что, увидев в первый раз эту прекрасную обширную постройку, он, ровно ничего не зная, не имея ни малейшего понятия о прошлом, ни малейших исторических познаний, сразу почувствовал себя сильным и бодрым, как десять тысяч человек. Профессиональный силач был побежден силачом случайным и потребовал реванша на другой день. Илларион хорошо пообедал, потому что местные любители отпраздновали его победу в трактире. Он снова одержал победу и такую блестящую, что были созваны другие бродячие борцы для того, чтобы помериться с ним. Он победил всех и его ангажировали, назначив ему четвертую часть со сбора. Однако он оставил эту труппу, потому что ему предложили поддаться в борьбе замаскированному человеку, который был не кто иной, как замещенный им силач. Ему предлагали хорошие деньги, если он согласится на эту комедию, которая всегда удается перед публикой и доставляет сборы. Самолюбие одержало в нем верх над корыстью, он высокомерно отказался, вспылил, прибил своего директора, продавил кулаком барабан, за который его заставили заплатить в сто раз дороже, и убежал снова с пустыми руками в Арль, где, как ему говорили, он мог найти другие арены. В нем решительно было пристрастие к классическим памятникам. По дороге он встретил девицу Легкое Перышко, которая танцевала что-то вроде тарантеллы, очень ловко аккомпанируя себе на бубне и медном треугольнике; это было его первое любовное похождение. Они дебютировали вместе в нескольких городах, причем один из них чуть было не оказался роковым для него. В вечер своего прибытия, когда он кончил представление на площади, его подозвала украдкой какая-то горничная и провела по целому лабиринту темных улиц к весьма приличному дому, тонувшему среди садов. Хозяйка дома, худощавая брюнетка с живыми и повелительными глазами, обратилась к нему с такой речью: — Хотите поступить ко мне помощником садовника? Днем вы не будете ничего делать, а только спать; ночью же будете тихонько сторожить в саду. Мне не дает покоя один гарнизонный офицер, страстно влюбленный в меня и угрожающий меня похитить. Это бешеный дьявол, вполне способный привести свою угрозу в исполнение, и очень сильный, предупреждаю вас. Слуги мои трусливы, быть может, подкуплены им, и вы видите, что я здесь одна, далеко от жилья, И помощи мне не дозваться. Итак, если этот человек станет бродить под моими окнами или в саду, бейте его. Не убивайте, но приколотите так, чтобы ему не вздумалось снова являться. Всякий раз, как вы проучите его таким образом, вы получите сто франков. — А вдруг он окажется сильнее меня? — отвечал Илларион. — А если он меня убьет? — Не рискуя, ничего не добудешь, — возразила дама. — Это верно, — подумал борец. И он согласился. Прошло восемь ночей, в продолжение которых ни один листок в саду не шелохнулся, ни одна песчинка не скрипнула. На девятую ночь при ясном лунном свете какой-то офицер, вполне соответствовавший описанию, открыл калитку сада имевшимся у него ключом и направился к дому, не предпринимая никаких предосторожностей. Броситься на него предательски претило Иллариону, и он имел наивность предупредить пришедшего, что ему придется плохо, если он не уйдет сейчас же назад. Незнакомец засмеялся ему в лицо, назвал его болваном и пригрозил швырнуть в парниковые колпаки. Илларион не стерпел таких речей, завязалась борьба. Дерзость посетителя разозлила стража, а энергичная защита противника не позволяла его щадить. Илларион сбросил его в артишоки и оставил там замертво. Затем он побежал известить даму, которая явилась с подсвечником и горничной на месте события. — Несчастный, что вы сделали? — вскричала она. — Вы убили моего мужа, возвращавшегося из путешествия! Убирайтесь подобру-поздорову, и чтобы я никогда более о вас не слыхала! Илларион остолбенел. — Требуй свои сто франков, — сказала ему шепотом поспешно горничная, — она отлично знала, что это барин! Она на тебя злится за то, что ты не убил его совсем. Илларион так перепугался, узнав, что он совершил преступление, думая, что исполняет долг сторожа, что не захотел требовать денег и убежал, поклявшись, что впредь его на эту удочку не поймают. В Арле он снова встретил мадемуазель Легкое Перышко, уже вошедшую в компанию с одним эльзасским великаном и мнимым лапландцем-карликом. Здесь дела его пошли недурно, но пришло время тянуть солдатский жребий; он попал солдатом в Алжир, где и провел семь лет, что послужило ему впрок. Там он закончил свое образование, то есть выучился писать по-французски и по-арабски и, так как он писал довольно правильно и считал хорошо, а также был солдатом чистоплотным, точным и храбрым, то его товарищи, любившие его, невзирая на его грубость, думали, что он получит повышение. Но этого не случилось, и несмотря на его аккуратность и усердие в службе, его исключили из списка повышений за непокорность. Правду сказать, он ненавидел все свое начальство без разбора и отвечал всегда дерзко. Вполне покоряясь правилам, он не переносил личной команды, как только, по его мнению, она переступала границы определенной власти или не достигала их вполне точно. В нем развился критический дух, весьма странный в человеке, не имевшем настоящего положения в обществе, и весьма пагубный в его теперешнем положении, и дух этот обещал сделаться основой его характера, препятствием для его будущности. Его чаще наказывали, чем награждали, и когда он отслужил свой срок, вернулся во Францию таким же одиноким и нищим, каким уехал оттуда. В полку он занимался гимнастикой и всегда был первым во всех упражнениях. Тем не менее ремесло гимнаста ему не нравилось, и перспектива снова вернуться к упражнениям под открытым небом ему не улыбалась. Несколько лет он прожил в Тулоне, где вел мрачную и тяжелую жизнь портового крючника. Никто не знает, какой это роковой и опасный дар — дар физической силы. Человек эксплуатирует все, а исключительная сила Иллариона подвергала его всем родам эксплуатации. Его сманили воры и почти без его ведома наняли для покушения на убийство. Однако он вовремя прозрел, сделался крайне подозрителен, возненавидел всеми силами души злодеев и видел их отныне повсюду. Мизантропия его только возросла от этого; а так как в своем утомлении и печали он размышлял больше, чем это подобало в его низком положении, он сделался чем-то вроде Диогена. Одинокий в жизни, он стал еще более одиноким в силу своих привычек и образа мыслей. Очень бескорыстный, беззаботный во всем и равнодушный к самому себе, он не извлекал пользы ни из чего, даже из своих подвигов. Он отличился не раз в спасении погибающих, получил несколько медалей за это, но никогда не подумал просить никакого вспомоществования, не соглашался вступать ни в какое общество, не принимал ни одной благодарности. Он имел обыкновение говорить, что, не чувствуя любви к роду человеческому, он подвергал свою жизнь опасности только для того, чтобы иметь удовольствие упражнять свои мускулы и глазомер. Некоторые южане, встречавшие его позднее в цивилизованной жизни, вспоминали странного и дикого человека, которого они видели крючником в Тулоне и услугами которого иногда пользовались из любопытства, возбуждаемого его характером. Молчаливый, сосредоточенный, высокомерный, он всегда смотрел подозрительно и жестко, выражался резко, часто оскорбительно и всегда цинично, делал вызывающие жесты, а потом вдруг за угрозой следовало пренебрежительное спокойствие. Все служило ему предметом раздражения, почти сейчас же превращаясь в предмет презрения или равнодушия. Как-то раз он встретил покинутого ребенка, и тот привязался к нему. Это был довольно хорошенький мальчуган, очень пугливый, нимало, однако, не испугавшийся свирепого лица Иллариона. Тронутый этим доказательством доверия или пораженный этой странностью, он увел ребенка в свою берлогу, кормил и воспитывал его по-своему, но совсем изменить его инстинкты лености, трусости и тщеславия ему не удалось. Этот слабый и тщеславный ребенок не кто иной, как наш первый любовник Леонс, о котором я говорил вам в начале своего рассказа, превратился в тирана Иллариона. Очевидно, самому свирепому человеку необходимо подчиняться власти какого-нибудь внутреннего сострадания; в угоду Леонсу, для того, чтобы доставить ему игрушки и новую одежду, чтобы избавить его от насмешек и колотушек других детей, — словом, для того, чтобы присматривать за ним и всегда держать его при себе, Илларион оставил порт и тюки Тулона и вернулся к своему прежнему ремеслу борца, к своей жизни приключений и снова облекся в трико с блестками, мишурную диадему и прозвище Коканбуа (Деревянный Петух). В таком-то виде лет десять тому назад он проделывал свои упражнения на глазах Белламара, случайно оказавшегося на ярмарке в Бокере. Свирепое лицо, хриплый голос и фантастичное произношение этого субъекта не могли, конечно, прельстить импресарио, который мог только восхищаться силой его мышц. Но на другой день, проезжая в наемном экипаже, Белламар встретил на дороге силача, тоже отправлявшегося куда-то и несшего на плече Леонса, который в свои десять-двенадцать лет был чересчур важной персоной для того, чтобы путешествовать иначе, чем на спине других. Илларион помнил, как он носил на спине короб в такие годы, когда охотно предпочел бы, чтобы носили его самого, и, не чувствуя в себе достаточной живости ума и характера для того, чтобы позабавить своего питомца, он делал для него то, что мог и умел: он избавлял его от всякого физического утомления и утомлялся сам вместо него; ведь он же родился крючником! Предаваясь именно этим философским размышлениям, Илларион увидал перед собой, поднимаясь на гору, кабриолет, ехавший слишком близко к краю пропасти. Он рассудил, что кучер этого экипажа, должно быть, спит, и ускорил шаг, но прежде чем он догнал лошадь, та испугалась какой-то козы и шарахнулась вправо, а потом влево… Белламар неминуемо бы погиб, ибо наемный возница выпустил во сне вожжи. К счастью, Илларион быстро спустил на землю свою ношу, бросился вперед и схватил одно из колес своей геркулесовой рукой. Лошадь, уже сорвавшаяся, скатилась одна в пропасть, так как, к счастью, обе оглобли сломались вместе с оборвавшимися постромками. Кабриолет, остановленный Илларионом, отъехал назад, а Белламар, выскочив на землю, увидал, что рука его спасителя вся исцарапана, причем он рисковал быть тоже увлеченным в пропасть. Так началась их дружба. Они отправились в Лион, и борец, засыпанный вопросами, рассказал свою историю. Суровая скромность, с которой он говорил о совершенных им геройских поступках, что-то неопределенно великое и тривиальное, при каждом его слове так и открывавшее его благородный и угрюмый характер, — все это живо поразило артиста. У Белламара была страсть открывать и совершенствовать новые типы; он вообразил, и не без основания, что человек, до такой степени выносливый, примиряющийся со всевозможными случайностями, такой твердый и гордый, такой недоверчивый и неподкупный, будет для него и для его труппы драгоценным фактотумом. Коканбуа —станем называть его отныне Моранбуа, так как первой заботой Белламара было подыскать ему приличное имя, при своей новизне не чересчур уж странно звучащее для его уха, — Моранбуа имел только один действительно невыносимый недостаток — грубость речи. Он обещал исправиться и никогда не мог сдержать своего слова, но на службе у Белламара он выказал столько существенных качеств: честность, преданность, мужество и практический ум, — что импресарио и не подумал расстаться с ним. Он довел свою дружбу до того, что взялся сделать из Леонса артиста. Сделать из него ему удалось красивого и безмозглого юношу, поющего только с голоса других, и более чем посредственного актера; но он доставил ему ангажементы в провинции и даже в Париже, где он прозябает и до сих пор в незаметных амплуа. Бесполезно говорить вам, что этот господин, влюбленный в самого себя, воображает себя жертвою несправедливости, обвиняет всех директоров в том, что они преследуют его из ревности к его успехам у женщин, и что, наконец, он совершенно забыл отцовское самоотвержение Моранбуа, нисколько о нем не думает, способен увидать его на соломе и не вспомнить, что он ему всем обязан. Эта раса неблагодарных из глупости очень часто встречается в актерской жизни, но не сталкиваешься ли с нею и в других местах? По моему мнению, таких людей везде много. Моранбуа, оказавшись доверенным лицом Белламара, скоро нашел, что у него недостаточно дела и что путешествовать курьером, нанимать залы для спектаклей, приготовлять квартиры, вступать в переговоры с хозяевами гостиниц, кабатчиками, ламповщиками, парикмахерами, машинистами, заказывать афиши, заботиться об экипажах и так далее, для него мало. Он хотел еще извлекать пользу из своей силы, и в один прекрасный день вся труппа Белламара хохотала до упаду, слушая бывшего коробейника, крючника и борца, заявлявшего, что здоровье его позволяет ему, помимо всех остальных занятий, еще и актерствовать. Оскорбленный смехом слушателей, он обозвал всех актеров пробками, херувимчиками и фиглярами (я сильно смягчаю его выражения). К его выходкам привыкли и только еще больше расхохотались. Он серьезно рассердился и похвастался, что сыграет лучше всех любую роль мелодраматического разбойника. — Почему бы и нет? — сказал Белламар. — Выучи какую-нибудь роль, мы прорепетируем ее вместе, а там видно будет. Моранбуа попробовал и вполне удовлетворительно передал грубую ноту этого амплуа, но ему не доставало личной фантазии. Белламар стал внушать ему разные мысли и научил извлекать пользу из природных недостатков. Послушный с этим искусным и убедительным учителем, Моранбуа стал вполне сносным для провинции злодеем. Он ничего не портил и очень нравился простонародью. Успех его, однако, не опьянил, и он соглашался играть последние роли в тех пьесах, где он мог быть только полезным. Он никогда не считал унизительным для себя сыграть роль в три строчки, представить вора, крестьянина, пьяницу или рабочего в коротенькой сценке или даже облечься в ливрею и принести письмо. Смирение это было тем более трогательно, что в нем жило тайное убеждение, что он великий актер, доставлявшее ему ошибочное, но наивное удовлетворение, не внушавшее ему, однако, никакой гордыни, что Белламар весьма в нем ценил. Но я еще не сообщил вам о самом странном результате этой ассоциации такого изящного, тонкого и литературного человека, как Белламар, с тем грубым, неотесанным и всегда невозможным по манерам и по речи существом, портрет которого я вам описываю. Белламар, подмечающий и отмечающий решительно все, открыл в Илларионе Моранбуа весьма проницательного и верного критика. Водя его с собой по парижским театрам, он был поражен его суждениями о пьесах и верными оценками актеров. Он повел его в музей для того, чтобы узнать, умеет ли он видеть, что нужно, вне театра; Моранбуа инстинктивно останавливался перед полотнами мастеров, приходил в восхищение от греческих статуй и бюстов римлян. Он не сумел объяснить, что такое именно красота идеальная и что такое красота реальная, но констатировал по-своему разницу между ними, и Белламар увидал, что он глубоко понял, в чем дело. Он стал расспрашивать его о духе и смысле памятников, о декоративном искусстве и нашел в нем массу изобретательности. Дело было сделано, специальность Моранбуа обрисовалась. Это был человек быстрой оценки и доброго совета. Когда в Париже, где он следовал за своим директором по пятам, ему случалось присутствовать при репетиции, то в нескольких словах, часто грубых и непристойных, он сообщал на ухо Белламару, в каких местах пьеса провалится, в каких воспрянет снова и какая ждет ее окончательная судьба. И он никогда не ошибался. Он представлял собой, сам по себе, целую публику, отзывчивую и чувствительную, наивную и испорченную, великодушную к малейшей доброй попытке, жестокую к малейшей слабости, всегда готовую смеяться или плакать, но непреклонную, если ей скучно. Он был воплощением инстинкта; его душа, оставшаяся первобытною в зрелые годы, была как бы термометром толпы. Каким авторам, высоко стоящим на литературной лестнице, пришло бы в голову спрашивать мнение этого человека с высоким черепом, редкими волосами, длинным лицом с орлиным носом, худыми смуглыми щеками, с маленькими, глубоко сидящими, унылыми глазами, этого несчастного субъекта в поношенном платье, в клетчатом шотландском жилете, с галстуком веревкой, с огромными руками без перчаток, державшегося в стороне с машинистами и казавшегося одним из наименее внимательных? И если бы кто-нибудь сказал этим избранным писателям: «Вы видите этого бедняка, который вас слушает и судит? Это бывший уличный циркач, ставивший себе на подбородок тележное колесо и жонглировавший пушечными ядрами, вовсе не пустыми внутри; так вот, спросите-ка у этого человека его мнение и последуйте его совету — это есть воплощение толпы, которая вас освищет или устроит вам триумф!» Как возмутились бы мастера искусства, какое, быть может, выказали бы они презрение! Белламар советовался с Моранбуа точно с оракулом, и оракул этот был непогрешим. Я передал вам всю эту длинную историю и все эти подробности — что ввело в мой рассказ чересчур обширные скобки — для того, чтобы дать вам понятие об этой интеллигентной театральной богеме, которая набирается во всех этажах, следовательно, и во всех концах общественной лестницы. Туда-то и стекаются разнообразнейшие по своей судьбе люди, различнейшие воспитания, противоположнейшие свойства, точно всевозможные обломки, сбрасываемые в кучу волной на подводном камне. И вот из развалин целого мира исчезнувших страстей, обманутых честолюбий, бурного творчества, безумных мечтаний, унылых отчаяний, неукротимых сил, нравственных болезней, чудных расцветов, безумных, возвышенных или глупейших вдохновений созидается тот волшебный дворец, который называется драматическим искусством, открытое всем ветрам святилище чудной или горькой фикции. Это нечто неосязаемое, как сон, смутное, как бунт, где все поддельное принимается за изображение настоящего, где пурпур заката и лазурь ночей не что иное, как электрический свет, деревья — подмалеванный холст, туман — газовый занавес, скалы и колоннады — водяная краска; вам все это известно, вы знакомы со всеми хитростями, вы разгадываете все декоративные эффекты; но чего вы не знаете, так это призрачности того нравственного мира, что живет там такой же искусственной жизнью, как и все остальное. Этот согбенный старик со слабым голосом и потухшим взглядом, при виде которого каждый вечер до тысячи зрителей спрашивают друг у друга: «Где это выудили они этого старого хрена, который изображает в натуре восьмидесятилетнего старца, а памяти еще не потерял?» — это молодой человек 25 лет, не потерявший ни одного зуба или волоса, свежий и здоровый, которого ждет молоденькая любовница, и он явится к ней, как только смоет свои морщины и нацепит на деревянную подставку фальшивый оголенный череп. Он выпрямляется и поет мужественным голосом, спускаясь сломя голову по лестнице. Его амплуа стариков не тяготит его и веселости его не нарушает. Подле него вы восхищались контрастом красавца-победителя, жгучие глаза которого и свежий голос выражали страсть или торжествующее волокитство. Увы! Вот уж сорок лет, как он молод, и любовницы очень дорого ему стоят. Этот превосходный комик, заставляющий вас так хохотать, — это человек, глубоко отчаявшийся, думающий о самоубийстве или пьющий горькую для того, чтобы забыться. Этот третьестепенный лакей, амплуа которого состоит в том, что ему дают пинки в спину, — ученый, начитанный человек, занимающийся очень серьезными археологическими изысканиями, или собирающий коллекцию редких книг. Этот, например, изображающий тиранов или предателей, — отличный отец семейства, везущий своих детей за город в первый свободный день. Другой — прелестный живописец, а играет лавочников; этот, наоборот, играющий все светских людей, герцогов, да князей, — питает пристрастие к шахматам или к ловле рыбы; некоторые, наконец, охотятся, катаются в лодке, занимаются музыкой или механикой, всего не переберешь! А дамы? Эта, например, — просто куртизанка, а роли ingénue играет прелестно; другая же — почтенная мать семейства, а играет превосходно куртизанок; одна обладает удивительной по изяществу и чистоте дикцией, а между тем едва умеет прочесть свою роль и ни слова в ней не понимает; а другая говорит на сцене неправильно и кажется совсем неумной, тогда как она получила вполне приличное образование и могла бы держать пансион. Вот строгая дуэнья — ее привычка сыпать сомнительными словечками; вот добродушно-простая и смелая крестьянка, вот игривая субретка… потише! это пренабожные богомолки, быть может, принадлежащие к мистическим голубкам отца N, специальность которого есть обращение на путь истинный актрис. Итак, в этой поддельной театральной жизни все представляет собой контраст, обманчивую внешность, официальную ложь. Бывает также иногда, что актер воплощается в свою роль и так в ней и остается. Один, любивший только трубку да биллиард, становился глубокомысленным политиком потому, что ему приходилось играть серьезных исторических лиц; другой, считавший себя радикалом-республиканцем, превращается в консерватора потому, что играет финансистов. Таким образом, то контраст исчезает, а фикция и действительность до такой степени сливаются в человеке, что имеющий право на Монтионовскую премию скорее отказался бы от своего ремесла, чем согласился бы изобразить на сцене дурной поступок; а то контраст обрисовывается все резче и резче и достигает крайних пределов, так что самый бескорыстный из людей доходит до способности превосходно олицетворять Шейлока. У меня был один товарищ по сцене, проведший несколько лет в монастыре траппистов и рассказывавший мне странные, романические вещи о жизни в монастырях. По-видимому, монашеская жизнь есть тоже подводный камень, на который попадают самые разнообразные отбросы общества, и причуды судьбы олицетворены там приблизительно в том же виде, что и в театре; только там все понукается и перестает существовать, одуряющие предписания устава справляются со всевозможными эксцентричностями. В театре ничто не смешивается, все приобретает выпуклость, личности обрисовываются все ярче и ярче. Всякая находит себе применение, и вы видите, что я, например, был крестьянином, студентом, актером, а потом опять крестьянином; крестьянином, быть может, навсегда, но отныне крестьянином поневоле. В какую общественную группу мог бы я быть зачислен? Все, что прошло через монастырь или через театр, за редкими исключениями, навсегда лишено определенного положения. Вернемся к труппе Белламара. У него был в то время первый драматический любовник, стоивший ему весьма дорого и причинявший ему тьму неприятностей. Он терпел его в надежде, что через три месяца я буду в состоянии заменить его. Этот господин, уже немолодой, но обладавший еще красивой внешностью, не был лишен таланта; к несчастью, у него была мания тянуть все в свою пользу. Он репетировал, точно любитель, никогда не выдавая своих эффектов, а только внимательно подстерегая эффекты других для того, чтобы или парализовать их, или уничтожить вовсе. В провинции частенько облегчают текст исполняемых пьес. Смотря по имеющимся в труппе исполнителям или смотря по щепетильности местной публики, выбрасывают такие выражения, которые могут быть не поняты или поняты дурно, или положения, требующие невозможных декораций, или целые роли, не имеющие для себя исполнителей в наличном персонале. Эти урезки, иногда искусные, а иногда глупые, смотря по уму директора, очень часто проходят незамеченными. Ламбеск, наш драматический любовник, только о том и думал, как бы уничтожить все роли, кроме своей собственной. В сцене из трех лиц он хотел присвоить себе реплики своего собеседника; в сцене вдвоем он хотел сам произносить и вопросы и ответы. Я никогда не забуду девятой сцены третьего акта «Женитьбы Фигаро», где грация и излишняя веселость Сюзанны мешали ему. В этой сцене, представляющей собой живой и острый диалог, он объявил на репетиции, что мадемуазель Анна не подает ему достаточно быстро реплику и что это затягивает его роль. А потому он пресерьезно предложил изменить ее. Но прежде послушайте, как начинается диалог: Сюзанна (запыхавшись). Ваше сиятельство!.. Позвольте, ваше сиятельство! Граф Альмавива. Что там такое? Сюзанна. Вы гневаетесь! Граф. Вам, по-видимому, что-то нужно? Сюзанна. Дело в том, что графине дурно. Я пришла попросить вас одолжить ваш флакон с эфиром. Я сейчас бы принесла вам его обратно. Граф. Нет, нет, оставьте его для себя, он скоро пригодится и вам, — и так далее. Ламбеск придумал такое изменение, что Сюзанне не пришлось бы сказать ни слова. Как только она показывалась из кулис, он прерывал ее, восклицая: «Что там такое? Я совсем разгневан! Графине дурно! Она желает, чтобы я одолжил ей свой флакон с эфиром! Хорошо, вот он, но не приносите его обратно, а оставьте для себя, он скоро пригодится и вам». Вся сцена, состоящая из четырех страниц, должна была продолжаться в таком монологе. — Почему бы и нет? — говорил Ламбеск. — Альмавива хитрец, значит, он не дурак. Он отлично знает, что Сюзанна является к нему под пустейшим предлогом. Предлог этот — это нервы графини. Раз он носит всегда при себе флакон с эфиром, ему легко догадаться, что именно его-то и пришли у него просить. В продолжение сцены он, однако, один раз удивляется, а именно в ту минуту, когда Сюзанна подает ему надежду; но разве необходимо, чтобы Сюзанна говорила? Ее глаза, ее улыбки, ее притворное смущение, — разве всего этого недостаточно для того, чтобы влюбленный мог понять и перевести ее мысли? Послушайте, как хорошо выходит! И он следующим образом декламировал весь конец диалога: «Если бы вы согласились выслушать меня!.. Разве это не ваш долг выслушивать мое сиятельство? Почему же, жестокая, не сказали вы мне этого раньше? Но правду говорить никогда не поздно. В сумерки ты придешь в сад; не гуляешь ли ты там и без того каждый вечер? Сегодня утром ты обошлась со мной так жестоко!.. Правда, что за креслом был спрятан паж? Ты права, я было и позабыл!.. Однако, послушай, мое сердечко, не будет свидания, так не видать тебе ни приданого, ни свадьбы! Ты говорила мне: а не будет свадьбы, не будет и права сеньора. И откуда у нее что берется? Честное слово, я от нее без ума!.. Но твоя госпожа ждет этот флакон, моя прелесть; я хочу тебя поцеловать… Сюда идут! Она моя!» Вот с какой развязностью Ламбеск обращался с Бомарше и с другими, старыми или современными писателями, когда он попадал в труппу, где ему предоставлялась свобода действий. Белламар ему этого не позволял, и он считал Белламара упрямым и бессмысленным рутинером. Он выходил из себя, дулся, не являлся на репетиции, и когда наступал час спектакля, никто не знал, какое он выдумает сумасбродство для того, чтобы выдвинуться, прощупывая неподатливых зрителей упрямым подчеркиваньем слов, жестов и взглядов, далеко не всегда вызывавшим одобрение, но принуждавшим сбитых с толку его товарищей уступить ему весь блеск эффекта. Другой первый драматический любовник, игравший, когда было нужно, любовников, резонеров или злодеев, был некий Леон, не имевший с Леонсом иного сходства, кроме сходства имен. Леон был красивый, добрый, храбрый и великодушный человек. Он любил искусство и понимал его, но не любил актерское ремесло и имел обыкновенно меланхоличный вид. Он чувствовал, что ум его способен на более высокое проявление, чем декламация ролей. Он писал пьесы, которые мы иногда играли и которые были не лишены некоторых достоинств; но робость, неуверенность в самом себе мешали ему выдвинуться. Он был из хорошей семьи и получил хорошее образование. Какая-то ссора с родителями толкнула его на сцену. Там его очень любили и уважали, он был очень полезен; тем не менее, он не чувствовал себя нигде счастливым и жил, замкнувшись в себе. Я стал добиваться его дружбы и добился ее, но не знаю, сохранил ли ее и до сих пор. Мадемуазель Регина, исполнявшая время от времени вторые и третьи роли в «Одеоне», тоже участвовала в нашей труппе и занимала в провинции первые амплуа. Она играла Федру, Амалию, Клитемнестру. Она не была ни красива, ни молода, немного картавила и не была достаточно благородна; но она обладала огнем, смелостью и умела срывать аплодисменты. Это была предобрая особа, довольно сомнительной нравственности, с великодушным сердцем, большим аппетитом, неиссякаемой веселостью и железным здоровьем; она была очень предана Белламару и очень хорошим товарищем для нас, умела быть полезной и приятной для всех, но при случае всех и эксплуатировала. Изабелла Шамплен, по сцене Люцинда, изображала светских кокеток. Она была чрезвычайно красива, только у нее был чересчур длинный нос, никогда носу этому не удавалось получить ангажемента в Париже; физические недостатки часто обрекают на вечную жизнь в провинции немало истинных талантов. Люцинда была особа недюжинная. Она понимала свои роли, обладала прекрасным голосом, хорошо играла, одевалась роскошно и со вкусом. Она была на содержании у богатого винодела, у которого в Бургундии была жена и который не мог поселиться с нею; Люцинда была ему очень верна — столько же из осторожности, сколько из любви к искусству и к своей собственной персоне. Она желала сохранить свой звучный голос, свои прекрасные формы и свою чудесную память. Честная и скупая, эгоистичная и холодная, она не делала другим ни добра, ни зла. Служила она в театре с большим усердием. Ее никогда нельзя было ни в чем упрекнуть; но условия ангажемента она оговаривала с алчностью и брала очень дорого. Субретка у нас была премиленькая, шаловливая, вострушка, живая на сцене, точно ракета. В жизни же Анна Леруа была сентиментальная блондинка, погруженная в чтение романов и вечно объятая какой-нибудь несчастной страстью. Она любила то Ламбеска, то Леона, а то и меня. Она была до того искренна и кротка, что я никогда не притворялся влюбленным в нее. Я отнесся к ней с уважением, а Леон ею пренебрег, потому что Ламбеск ее скомпрометировал и оскорбил. Она жила постоянно в слезах, в ожидании новой любви, с которой снова начиналась серия разочарований и жалоб. Итак, мужские роли игрались Белламаром, Моранбуа, Ламбеском, Леоном и мной; а роли женщин — Региной, Империа, Люциндой и Анной. Всем им прислуживала одна и та же театральная горничная, которую звали Пикардой и которая исполняла роли без речей или в несколько слов. Я не могу обойти молчанием человека, исполнявшего ту же должность при нас, мужчинах, и, помимо театра, уже давно состоявшего камердинером Белламара. Он носил странное прозвище Пурпурина и называл себя Пурпорино Пурпурини, благородным венецианцем. Шутка эта, происхождение которой мне неизвестно, так же как и ему самому, в конце концов серьезно засела ему в голову. Единственный имевшийся у него родственник был какой-то троюродный дядя, служивший во время оно вторым помощником носильщика сена при конюшнях Людовика XVI, а между тем он убедил себя неудобопонятным мыслительным процессом, что он, может быть, венецианского происхождения и патрицианского рода. Белламар препотешно рассказывал о странных понятиях Пурпурина по поводу решительно всего на свете, но не пытался объяснить их. Он говорил, что тот до такой степени выводит его из терпения, что это переходит в забаву; Пурпурин имел привилегию всегда удивлять его какой-нибудь глупостью, предвидеть которую не было возможности, или фантазией, определить которую было немыслимо. На деле это был совершенный дурак, на три четверти сумасшедший, преисполненный уважения к самому себе и презрения к людям, стоящим ниже его. У него было только одно хорошее качество, а именно, что он любил Белламара и разделял, в случае надобности, его невзгоды с суеверным доверием к его звезде. — Уж должно быть, — говорил он, — господин Белламар человек с сердцем и гений, раз я поступил на службу к нему, артисту — я, служивший только в важных домах Сен-Жерменского предместья, — и к республиканцу, — я, легитимист из поколения в поколение. Если бы ему возразили, что, будучи венецианцем по происхождению, он должен бы быть республиканцем по принципу, он очень бы удивился и ответил бы каким-нибудь аргументом из истории Китая или из Апокалипсиса, ибо он никогда не запинался и его причудливый ум шагал так далеко, что вы сами запинались, споря с ним. — Он всегда затыкает мне глотку неожиданностью своего мышления, — говаривал Белламар. — Раз я спросил его, почему он принес мне синие чулки для роли Фигаро, а он отвечал, что волосы косичкой хорошо идут господину Ламбеску. Другой раз я жаловался, что у меня мигрень, а он стал уверять, что это вина парикмахера, дурно его выбрившего. И вечно одно и то же, точно игра в ответы невпопад. Несмотря на все это, Пурпурин был полезен на сцене, он играл простаков и играл их до такой степени против воли, принимая для передачи наивности привычный для него глубокомысленный вид, что совершенно без своего ведома оказывался весьма комичным. Он вечно показывал публике одно и то же лицо, лицо глупца, то есть, свое собственное, а публика и не подозревала простоты этой манеры. Публика воображала, что Пурпурин создает это комичное лицо и находила его препотешным. Вы, пожалуй, подумаете, что так дешево доставшийся успех удовлетворял самолюбие Пурпурина? Ничуть не бывало, он был комиком между прочим и глубоко презирал свое амплуа. Он питал страсть к стихам и только и мечтал, что о трагедии да трагических ролях. Он приставал к Белламару и к Моранбуа, чтобы ему дали продекламировать рассказ Терамена, и я должен признаться, что в его устах рассказ этот произвел бы фурор, ибо невозможно было слышать что-либо более удивительное и более уморительное. Труппа Белламара была весьма эксцентрична. Она играла всего понемножку: драму, бытовую комедию, водевиль, классические трагедию и комедию. Репертуар имелся значительный и возобновлялся экспромтом с невероятной легкостью. Отлично зная провинцию и вкусы различных местностей, Белламар умел удивительно приспосабливать к этой разношерстной публике выбор представляемых им пьес. Иные города любят только слезливую или страшную драму, другие любят только фарсы, третьи требуют лишь новых пьес, последних произведений из столицы, наконец, некоторые отличаются классическим вкусом и требуют стихов. Первым требованием Белламара к актерам была способность быстро учить роли и послушание в деле сценической постановки. Он знал, что для провинции невозможно составить труппу избранных талантов, но он знал также, что странствующим артистам всего более не хватает ансамбля, и он напрягал всю свою волю для того, чтобы добиться его, и благодаря этому ему удавалось ставить с посредственными актерами пьесы, хорошо разученные и хорошо исполненные. Мы начали давать спектакли в Орлеане, и там-то я и дебютировал перед немногочисленной и малоотзывчивой публикой. Однако я не очень боялся. Империа отсутствовала. Она уехала из Парижа первая, вероятно, собираясь навестить своего несчастного отца, и присоединиться к нам должна была только через день после моего дебюта. Для меня было большим облегчением сделать этот первый шаг в отсутствие этого судьи, которого я боялся всего более на свете. Впрочем, я дебютировал в незначительной роли маленького влюбленного в пьесе Скриба. Нужно было только некоторое умение держаться, а благодаря Белламару я уже немного овладел этим умением, но чувствовал, что играю очень холодно, а во втором акте я и совсем заледенел, разглядев хорошенькую тонкую головку Империа, смотревшую на меня из-за кулис. Она только что приехала и, зная, до чего Белламар принимает во мне участие, также интересовалась моим дебютом. Она слушала меня, изучала меня, и ничто во мне не могло ускользнуть от ее взгляда. У меня потемнело в глазах, и они, вероятно, сделались мутными и блуждающими. Мне почудилось, что я залит светом, хотя освещение было не блестящее, и мне хотелось бы укрыться в каком-нибудь тумане, который скрыл бы мои недостатки. Опасение показаться смешным парализовало меня, и в ту самую минуту, когда мне следовало немножко разгорячиться, я почувствовал себя таким неуклюжим и плохим, что мне страшно захотелось убежать за кулисы; не знаю, как я тогда вернулся и не сократил ли я своей роли. Я был готов лишиться чувств и шатался, точно пьяный. Белламар выходил на сцену и только успел шепнуть мне мимоходом: — Да мужайтесь же! Все идет хорошо! — Нет, скверно идет, — сказал я Империа, протягивавшей мне руку как бы для того, чтобы поддержать меня, — не правда ли, я плох, из рук вон плох? — Ба! — отвечала она. — Вы робеете, вот и все, гораздо более робеете, чем я думала и чем, вероятно, вы сами ожидали. Это всегда так бывает, но потом привыкнете и пройдет. Я прошел незамеченным для публики, но не для моих товарищей. Леон, уже полюбивший меня, был грустен. Ламбеск, уже ненавидевший меня, просто сиял и притворно жалел меня. Леон избегал меня, не чувствуя в себе достаточно мужества, чтобы утешить меня. Регина говорила, не стесняясь: — Как жаль, что он такая бездарность! Такой красавец! Даже Пурпурин ворчал сквозь зубы: — Ну, уж не господину Лорансу удастся заставить позабыть господина Тальма! Я печально направлялся в свою каморку, заранее уверенный, что не сомкну во всю ночь глаз, когда явился Моранбуа звать меня выпить с ним кружку пива. Я только и мечтал о том, чтобы спрятаться от всех, а потому отказался. — Ты гордишься, — сказал он мне, — потому что учился в школе, а я был воспитан на навозной куче? — Если так, — возразил я, — то я выпью с вами все, что вам будет угодно. Когда мы уселись с ним в уголке пивной, он сказал мне: — Я хочу поговорить с тобой от имени Белламара, которому сегодня некогда. Ведь надо же ему потрещать с этой принцессой, которую он называет своей дочерью! — Это вы так выражаетесь о мадемуазель Империа? — Да, я позволяю себе это, молокосос, хоть тебе это и не по вкусу! Империа в моих глазах такая же, как и все остальные. Пока у нее еще нет ничего дурного на уме; но, терпение, придет и ее очередь, и Белламар, которому вечно чудятся ангелы в облаках, узнает со временем, что не следует верить ни одной актрисе, ходит ли она в дырявых чулках или в шелковых; но оставим это. Белламар поручил мне утешить тебя после сегодняшней неприятности. Говоря правду, ты был очень плох. Я этого и ожидал, но ты превзошел мое ожидание. — Если вы намерены так утешать меня… — Не прикажете ли делать вам комплименты? — Я знаю, что я был отвратителен, и я этим огорчен, глубоко огорчен. Какое находите вы удовольствие увеличивать мое огорчение? — Если ты так к этому относишься, мой мальчик, так это другое дело. Но объясни мне тогда, почему, прорепетировав сносно, ты вдруг стал играть так холодно и уныло? — Почем я знаю? Разве робость можно объяснить? — Ах, вот что! Ты вышел на сцену без волнения, воображая себя выше публики. Ты поступил, как дикарь, пьющий вино и не ведающий, что оно его опьянит… Ну, так впредь не доверяй себе, бойся заранее и станешь менее бояться на сцене. Это привычная дань, которую надо заплатить до выхода или во время него. Я говорю тебе это для твоей же пользы и от имени твоего директора. Он думает, что ничто не потеряно и что в следующий раз дело пойдет лучше. — Он думает так потому, что он добр, снисходителен и оптимист; но вы, человек искренний, нимало этому не верите! — Хочешь, чтобы я сказал тебе всю правду, без фраз и ужимок? — Да, скажите мне все! — Так вот что, любезный мой, ничего-то у тебя не выйдет путного, если ты будешь продолжать желать нравиться Империа. В ту минуту, как я, удивленный проницательностью силача, вздрогнул, ставя кружку на стол, он добавил, уставясь мне в глаза своими бледными, неподвижными глазами: — Тебя удивляет, что Моранбуа видит все лучше других? Ничего не поделаешь, он решительно все видит. Ты втюрился в эту девицу и сошелся с нами для того, чтобы быть подле нее. Это привередливая жеманница и настоящая каботинка[322], не видящая ничего, кроме успеха. Когда человек работает не ради удовольствия хорошо делать свое дело, он работает скверно, да! А когда в башке сидит баба, то человек творит одни глупости. Я тебя предупредил, ну и довольно, мне больше нечего говорить тебе! И он ушел, не позволив мне даже возразить. Я имел время хорошенько взвесить последствия моей неудачи, так как не смыкал глаз всю ночь. И конечно, эта неудача приняла в моих глазах безумные размеры. Бессонница — это увеличительное стекло, обрисовывающее на стенках мозгов волосы в виде бревен и муравьев в размере гиппопотамов. Я засыпал только для того, чтобы просыпаться вдруг под градом яблок, которые, приносимые ураганом, чудилось мне, сыплются мне на одеяло. Иногда мне казалось, что в этом спокойном Орлеане, где, конечно, ровно никто обо мне не думает, жители гуляют по улицам с фонарями в руках и что цель этой иллюминации в том, чтобы горожане подходили друг к другу с вопросом: «Заметили ли вы, как был плох в пьесе этот молодой актер?» — Ты не был плох, — сказал мне на другой день Леон. — Ты только потерял случай сыграть хорошо, вот и все. — Но разве можно сыграть хорошо ничего не значащую роль? — В ней можно быть приличным, то есть надо найти точную границу своего действующего лица. На репетиции ты ее нашел; почему же ты не добрался до нее на сцене? — Я был парализован. — Это совсем небольшое несчастие и, быть может, оно будет последним. Постарайся не подражать мне, провалившемуся с первого дня раз и навсегда. — Что ты говоришь? Если бы у меня была четверть твоего таланта, я был бы так счастлив! — Мой милый Лоранс, у меня нет и тени таланта. Не будем об этом говорить, это тяжело для меня и ничему не помогает. Так как он действительно казался грустным, то я не посмел настаивать. Он был из тех, которые не хотят быть утешенными; но в какое изумление повергало меня его уныние! О чем же он мечтал — он, не довольствовавшийся тем, что имел успех во всех своих ролях и одерживавший больше побед, чем сам желал? Я спросил Белламара, что он думает об этом. Он немного подумал и сказал мне: — Леон говорит и мыслит, как разочарованный честолюбец; послушаешь его, так его частенько можно принять за неблагодарного человека, но, глядя на его поступки, так и чувствуется непрестанное великодушие благородной натуры. А потому я могу приписать его отвращение к жизни разве только болезненному предрасположению его организма. Будь он наверху лестницы, на самой вершине всевозможных триумфов, он стал бы мечтать о еще более чудной славе, хотя бы за нею пришлось бы отправиться на Луну. Но поговорим лучше о тебе, мой милый. Вчера вечером ты смутился. Это еще ничего. Выучи заново свой урок и повтори его сызнова завтра. На этот раз у тебя будет в другой пьесе роль лучше той, и ты возьмешь свой реванш. Но вместо этого я был еще холоднее, чем в свой первый дебют. Мною овладел опять тот же самый страх, хотя я и вышел на сцену без всякого внешнего волнения. Мое лицо и вся фигура выдерживали взгляды без смущения, и казалось, что я двигаюсь свободно. Но как только мой собственный голос достигал моего слуха, как у меня начинала кружиться голова, я спешил досказать свою роль, точно стараясь поскорее отделаться от тяжелой обузы, и производил на зрителей впечатление самодовольного господина, презирающего своих слушателей и не дающего себе труда играть. Волнение актера принимает всевозможные формы, одинаково изменяющие его личной воле. Нет того обманчивого вида, которого бы оно ни принимало, нет той лжи, за которой бы оно ни пряталось. То, что происходило во мне, было самым для меня мучительным феноменом, ибо я был искренно скромен, стремился делать все возможное и оказывался обреченным на маску дерзости. Это не было совершенной новостью для Белламара, который нагляделся всего в своем странствующем профессорстве; тем не менее я представлял собой такой редкий казус, что он немного растерялся, и я прочел в его выразительном взгляде больше сострадания, чем надежды. Сам же я был в таком отчаянии, что товарищам моим пришлось меня утешать. Даже Моранбуа сказал мне несколько по-своему одобрительных слов; но Империа ничего мне не говорила, и с этой стороны из раны моей так и сочилась кровь. Она говорила со мной обо всем остальном и кротко и доброжелательно, только она избегала малейшего намека на мою неудачу, и я не знал, как она смотрит на мою будущность. Я решился прояснить это и стал смело искать случая остаться с нею с глазу на глаз. В провинции этого было гораздо легче добиться, чем в Париже. Если судьба плохих трупп бедственна и плачевна, то судьба трупп только сносных в большинстве городов весьма приятна. Для тех городов, где театр имеется только время от времени, появление комического романа всегда составляет событие. Впрочем, повсюду имеется известное количество любителей, питающих страсть не столько к зрелищу, сколько к актерам. Повсюду попадается рой маменькиных сынков, порхающих и распускающих хвост вокруг актрис. Повсюду имеется также рой молодых или старых любителей литературы, прячущих в карман неизданные рукописи и, хотя и не надеющихся видеть их на сцене, но, по крайней мере, мечтающих об удовольствии прочесть их нескольким актерам. Отсюда возникают отношения, причем, конечно, заинтересованные в этом берут все траты на себя, делают приглашения, устраивают поездки за город с охотой, рыбной ловлей, обедами и развлечениями, смотря по своим средствам. Все это всегда отличается большим весельем, благодаря присущей актерам находчивости, они всегда умеют остроумно выпутаться из литературных ловушек, а кокетливые актрисы умеют избегать любовных сетей, когда им это угодно, и все идет отлично. Белламар не питал никакого отвращения к подобным увеселениям; его слишком хорошо всюду знали, чтобы могли обвинить в эксплуатации кого бы то ни было. Он был чересчур большим знатоком и умницей, а потому щедро оплачивал свою долю, и его добрые советы стоили всех тонких обедов на свете. Всем было известно, что он обращается с членами своей труппы отечески, и его редко приглашали без нас. Регина любила хорошо поесть, а Люцинда была охотница щеголять туалетами; но Леон, предпочитавший уединение, щепетильный в выборе знакомств и крайне гордый, отказывался почти от всех приглашений. Моранбуа, самый занятый человек из всей труппы и не любивший к тому же стеснять себя, когда мы бывали в хорошем обществе, предпочитал отдохнуть час или два в кафе с Пурпурино Пурпурини, которого он осыпал страшными ругательствами, угощая его, и который, со своей стороны, относился к нему с глубоким презрением. Эти два непримиримых врага не могли обходиться один без другого, а почему — этого никто никогда не мог узнать. Я признаюсь, что, получив первое коллективное приглашение, которое передал мне наш директор, я немного удивился и был уже совсем готов последовать примеру Леона. Я не обладал, подобно ему, идеями и нравами дворянина, но я сохранил в себе гордость крестьянина, не любящего принимать там, где он не может отдарить. Леон не порицал Белламара за то, что тот любил эту легкую жизнь, раз он вносил в нее блеск своего ума и прелесть своей веселости; но он считал себя угрюмым, а по его мнению, ничего не могло быть несноснее паразита, находящегося в дурном настроении духа. У меня не было тех же поводов к щепетильности. Я был весел по природе, но как артист успел пока выказать только свои недостатки. Быть может, я был осужден оставаться ничтожеством и не мог доставить публике никакого удовольствия, а потому не имел никакого права пользоваться тем хорошим приемом, который оказывали другим. Таким образом, скромность предписывала мне воздержаться, но Империа участвовала во всем, и я решился участвовать тоже, хотя бы и в ущерб своей гордости. Я хорошо видел, что Леон меня не одобряет, но притворился, что ничего не замечаю. Первое развлечение было нам предложено офицерами городского гарнизона, организовавшими складчину и пригласившими нас на пикник. Все уже было решено, когда самый старший из них по чину, капитан Вашар, изменил план прогулки и обеда на открытом воздухе на план водных гонок во владениях своего брата, барона де Вашара, имевшего загородный дом и парк, который орошался маленьким притоком Луары. Предложение это, по-видимому, не очень понравилось другим; но военные не могут веселиться, как им угодно, когда в веселье принимает участие высший начальник, а потому пришлось отказаться от пикника и принять приглашение господина барона. Нам шепнули, что капитан предпочитал угощать винами и яствами брата, чем платить свою долю, и что ему было весело только там, где он ничего не тратил. Когда я узнал эти первые подробности о характере капитана, то не почувствовал к нему никакого расположения и предложил товарищам отказаться от праздника. Леон заявил напрямик, что с нашей стороны будет вовсе нехорошо подчиняться капризу подобного скряги. Империа сказала, что поступит так, как решит Белламар. Белламар, вечно катаясь по свету, привык относиться с легкостью к маловажным вещам и сказал, что надо решить это дело голосованием. Большинство весело подало голоса за гонки в водах барона. Заранее собирались доставить себе удовольствие посмеяться над предлагаемым гостеприимством, если оно окажется заслуживающим критики, а чтобы наказать капитана за начальнический тон, каким он говорил в этом случае со своими поручиками и подпоручиками, дамы собирались вдоволь над ним потешиться. До замка барона нужно было проехать три мили в экипаже или верхом. Тем из дам, которые желали показать свое умение, достали верховых лошадей; ни Белламар, ни Ламбеск не любили верховой езды, и им подали экипаж, в который они пригласили меня и Регину. Таким образом, наших трех молодых актрис — Империа, Люцинду и Анну сопровождали офицеры, а мы ехали позади, как мирные и доверчивые опекуны. Нам показалось, что Вашар заранее подготовил этот торжественный выезд из города и приберег себе в нем первую роль, ибо он готовился стать во главе кортежа с Империа, которая отлично ездила верхом и предавалась без всякой задней мысли невинному удовольствию управлять смирной кобылкой капитана. Я сделал вслух замечание, что мы — директор, мои товарищи и я сам, составим самый смешной арьергард. Один молодой комик по имени Марко, ангажированный в нашу труппу несколько дней тому назад, большой сумасброд, присоединился к моему мнению и прыгнул на лошадь позади Люцинды, заверяя клятвенно, что не сойдет с лошади иначе, как при содействии штыков, так как всадник обязан брать к себе на лошадь пехотинца в случае необходимости. Люцинда, пышное великолепие которой нарушалось этим вмешательством, вспыхнула от злости, а Белламар тихонько заявил, что за городом перестает быть директором. Это комичное пререкание при громком смехе присутствующих затянулось бы надолго, к великой досаде Вашара, если бы я не положил ему конец. Видя, что все развеселились, и заметив, что лошадь капитана держит солдат, пока капитан выбивается из сил, пытаясь образумить Марко, я вскочил на эту красивую и хорошо оседланную лошадь; я так быстро вонзил ей шпоры в брюхо, что ошеломленный солдат выпустил поводья, и я умчался вперед, как стрела, делая Империа знак следовать за мной. Она меня поняла и одобрила, да к тому же ее кобыла имела привычку следовать за тем конем, которым я завладел. Я не умел ездить верхом, но я обладал сильными ногами, гибким телом и уверенностью крестьянина. Для большей верности я поднял стремена и галопировал точно так же, как во время оно, когда носился по свежескошенным лугам на неоседланной лошади с простой веревкой, заменявшей узду. Империа, тоже выросшая в деревне, была замечательной наездницей. В мгновение ока мы пронеслись по большой площади Мартруа и по всему Орлеану, а за нами, на значительном расстоянии, следовала остальная кавалькада, смеясь, крича и аплодируя. Молодые офицеры были в восторге от моей смелости и от шутки, сыгранной над капитаном. Что касается его, то вы понимаете, что он смеялся неискренне; но для того, чтобы не привлекать особенного внимания к неприятной случайности, жертвой которой он оказался, он поскорее уселся в коляску с Белламаром и Марко, отказавшимся от защиты дам, раз я так поддержал честь нашей труппы. Разумеется, коляска, вожжами которой завладел Вашар, все хлеставший лошадь совершенно напрасно, не могла нагнать всадников. Имериа попросила меня подождать остальных наездников, но как только они очутились подле нас, мы опять понеслись во всю прыть, твердо намереваясь не дать себя обогнать и не доставить капитану возможности настичь нас. Таким образом мы доехали до того места, где должны были покинуть берега Луары и углубиться во владения барона, а дороги тут мы не знали. Езда привела мою спутницу в такое оживление, в каком я никогда ее не видал. — Как вы хороши! — вскричал я вне себя, когда она остановилась, спрашивая меня, в какую сторону ехать теперь. Она доверяла мне, как вы помните, с того дня, как я поклялся ей не ухаживать за нею, а потому она не усмотрела ничего дурного в моем восклицании и в моем волнении. — Мне следовало бы быть такой на сцене, не правда ли, — отвечала она, — а не холодною, как я бываю обыкновенно? Хорошо, но я могу сказать то же самое и о вас; к несчастью, мы не можем играть на сцене верхом. Наступила как раз подходящая минута, чтобы спросить ее, что она думает обо мне, и случай был самый удобный. Нашим лошадям надо было передохнуть, с них так и струился пот. Мы опустили поводья, предполагая, что они сами найдутдорогу, и так как мы опередили других, то могли теперь обменяться несколькими словами. — Вы уверяете, — сказал я Империа, — что вы холодны на сцене; не говорите ли вы это для того, чтобы утешить меня, — холодного на сцене, как лед? — Вы холодны на сцене, как лед, это правда, но это вовсе неважно, если вы сами не застыли. — Я боюсь, что я навсегда останусь таким. — Вы не можете этого знать. — А что вы об этом думаете? — Пока еще ничего, еще слишком рано. — А кроме того, вам это решительно все равно? — Почему вы мне это говорите? — Мне показалось… — Отчего же? — Вы не можете принимать во мне большого участия. — Что же я сделала, что лишилась вашего прежнего доверия? Ну-с, говорите! — У вас такой вид, точно вы совсем забыли о моем существовании. — Если у меня такой вид, то этот вид обманчив. Я постоянно говорю о вас с Белламаром и не далее как вчера сказала ему, что с каждым днем я все более вас люблю и уважаю. — Почему? Прошу вас, скажите, почему; мне так хотелось бы знать, чем я могу заслужить вашу дружбу и дружбу господина Белламара! — Это я могу вам сказать: видите ли, вы добры, искренни, преданны, умны и не имеете никаких пороков. Словом, вы стоите Леона, но вы живее, любезнее и общительнее его. — Если так, то я весьма счастлив, но, однако, если во мне никогда не окажется таланта… — Тогда, к несчастью, вам придется с нами расстаться. — Отчего? Разве я не могу быть полезен в каком-нибудь другом амплуа, кроме амплуа любовников? Сколько людей живет театром, не имея таланта. — Тогда им живется плохо. Не следует заниматься тем делом, которого не любишь. — Но я люблю театр, несмотря на свое ничтожество, и многие разделяют эту судьбу. — Если так… то идите смело вперед, если вы не честолюбивы… — Я не честолюбив, я.., впрочем, я сам хорошенько не знаю, что я такое. — Я вам скажу, кто вы. У вас вкусы артиста, и вы будете, вероятно, в театре, удастся ли вам актерское поприще или вы станете делать что-либо другое. Вы любите эту до беззаботности ненадежную жизнь, эти путешествия, эти новые лица и новые мысли, новые предметы для наблюдений, удовольствия или критики; а особенно вы любите то, что и я люблю всего больше во всем этом, а именно — товарищескую кучку, приятную или нет, разношерстную, забавную или трогательную, достойную порицания или раздражающую, — словом, совместную жизнь с несколькими людьми! В конце концов это похоже на семейную жизнь, но без ее нескончаемых уз, глубоких терзаний и страшной ответственности. Но мне кажется, что, имея директором Белламара, нельзя быть несчастным, и в той жизни, которую мы с ним ведем, все меня забавляет и интересует. — Я совершенно разделяю ваш образ мыслей. Значит, если, даже навсегда лишенный таланта и успеха, я привяжусь к этой беззаботной и приятной жизни, вы не примете меня за одного из тех несчастных безумцев, что упорно цепляются за смешную иллюзию? Вы не станете презирать меня? — Конечно, нет, потому что я нахожусь в том же самом положении, как и вы. Я упорно пробую артистическую карьеру, ничуть не уверенная в удаче, и чувствую, что так или иначе, а я от нее не откажусь, даже если не приобрету настоящего таланта. Что делать! Это так: когда полюбишь сцену, то все остальное наводит одну скуку. — А между тем это ведь не ваша естественная среда? Вам, может быть, представится раньше или позже случай сделать то, что называют выгодной партией? — Я не хочу делать выгодной партии! — Однако же вы не согласились бы и на такой брак, который поверг бы вас в нищету? — Нет, конечно, ради будущих детей, потому что, если бы дело шло только о себе… лично я совершенно равнодушна ко всем лишениям. Если трудиться и жить аккуратно, то всегда можно иметь все необходимое. — Позвольте мне сказать вам, что никто вас не знает. Все ваши товарищи считают вас осторожной, холодной и даже честолюбивой. Белламар предсказал вам большую будущность; они воображают, что вы пожертвуете всем для этой цели. — Если бы я верила в это.., быть может, я сочла бы своим долгом пожертвовать для этого всем; но я слишком мало верю в это, чтобы серьезно этим заниматься. Я стараюсь, как могу, я пытаюсь понимать и жду. — И вы не считаете себя несчастливой, выжидая таким образом? Вы веселы? — Да, как видите! — Это потому, что вы уверены в том, кто вас любит… — Разве я сказала, что меня кто-нибудь любит? — Вы сказали, что любите кого-то. — Это не одно и то же. — Неужели вы любите неблагодарного? — А может быть, он и неблагодарен; допустим, что он и не подозревает об этом предпочтении. — Ну, тогда он слепой, он дурак, он настоящая скотина! Она расхохоталась, и ее веселость заставила меня подпрыгнуть от радости. Я вообразил себе, что она выдумала эту любовь, предохраняющую против глупых деклараций, в минуту скуки или опасения, и что сердце ее так же свободно, как и ее жизнь. Она была достаточно шаловлива для того, чтобы придумать эту уловку; я знал это потому, что с тех пор, как мы путешествовали, она проявила свой настоящий характер, постоянно сдержанный в присутствии посторонних, но удивительно игривый и даже поддразнивающий с товарищами, а так как она не была хитрой притворщицей, то она, конечно, не старалась надуть меня наедине со мной. — Значит, — вскричал я, — вы просто посмеялись надо мной, вы никого не любите? Она обернулась, как бы собираясь отвечать мне; но, заметив всадника, опередившего других и быстро приближавшегося к нам, она побледнела и сказала мне, указывая на него: — Это капитан! Должно быть, он взял лошадь у одного из своих молодых офицеров. Неужели эти военные такие трусы? Неужели они не посмели уберечь нас от столкновения? — Ну, так что же? Чего вы страшитесь этого Вашара? — Чего я страшусь..? Не знаю, я боюсь ссоры с вами! — В вашем присутствии? Я не доставлю ему этого удовольствия. Заставим его прокатиться хорошенько, раз он нас к этому подталкивает. — Вот именно, — отвечала она, — бежим! Мы понеслись как вихрь и доскакали до безобразного большого дома, преглупо окрашенного в розовую краску; лошади наши примчали нас во двор, в котором три горшка герани, сожженной солнцем, вместе с двумя отвратительными львами из терракоты составляли украшение замка. Нас принял сам барон де Вашар, имевший ошеломленный вид, но понявший или предположивший при виде наших лошадей, что мы принадлежим к числу его приглашенных. Это был человек лет сорока пяти, чуть-чуть старше своего брата, капитана; быть может, они были даже близнецами, я этого не помню. Они удивительно походили друг на друга: от же небольшой рост, крепкое телосложение, высокие плечи, тот же румяный цвет лица, те же белокурые, седеющие жидкие волосы, тот же короткий, точно позабытый тут нос, выпуклые глаза, те же выдающиеся, торчащие вперед, как у пугливых лошадей, уши, массивная, выдающаяся челюсть. Только выражение этих двух лиц, будто отлитых в одной форме, существенно разнилось. Выражение лица старшего брата было кроткое и глупое, а выражение лица капитана — глупое и раздражительное. Кроме того, у них была общая привычка, вернее сказать, общий недуг, который мы скоро подметили. Барон, заметив, что лошади были страшно взмылены и утомлены, приказал обтереть их, не спрашивая нас, не жарко ли нам самим и не хочется ли нам пить. Затем он молча провел нас в очень прохладную и очень темную гостиную и там, после некоторого усилия, как бы собираясь с мыслями, сказал нам с растерянным видом: — Где же брат? — Сейчас приедет, — отвечал я, — он следовал за нами по пятам. — А! Вот и прекрасно, — сказал он. Он ожидал, чтобы мы сами начали разговор. Империа из лукавства стала поджидать, чтобы он затеял его сам, а я стал ждать из любопытства результата этого взаимного ожидания. Барон, не находивший решительно ничего, что можно было нам сказать, быть может, по рассеянности, а быть может, и по глупости, престранно сложил губы и обошел вокруг комнаты; казалось, что он мысленно насвистывает какой-то пришедший на память музыкальный мотив. Мы убедились в этом, когда звук приобрел некоторую ясность и позволил нам распознать своеобразное исполнение бравурной арии из «Белой Дамы». Он заметил свою рассеянность, взглянул на нас, сделал большое усилие, чтобы прервать молчание, и объявил нам, что сегодня хорошая погода. То же молчание со стороны Империа. Он глянул в мою сторону своими круглыми глазами, как бы спрашивая что-то у меня. Я отвел глаза, чтобы посмотреть, как он выйдет из затруднения. Он вышел из него тем, что приостановился перед окном и яснее просвистал фразу: «Ах! Как приятно быть солдатом!», аккомпанируя себе в такт постукиванием по стеклу, а затем бросился вон из комнаты, совершенно забыв о нас. Империа расхохоталась. Я толкнул ее локтем, потому что только что разглядел в глубине комнаты новое лицо, сначала бывшее невидимым для нас из-за внезапного перехода из яркого света в темноту гостиной. Это была высокая женщина, жирная брюнетка, некогда красивая, мадемуазель де Сен-Клер, бывшая Клара, о которой нам приходилось слышать, — прежде провинциальная актриса на роли кокеток, а теперь подруга господина де Вашара и его домоправительница. — Не обращайте внимания на манеры барона, — сказала она, не теряясь. — Его брат и он.., одним словом, два сапога пара! Вы ведь приехали сюда не для того, чтобы вас развлекали разговорами, не правда ли? А для того, чтобы провести день на даче. Предупреждаю вас, что вам не будет очень весело. У глупых людей все глупо; но обед будет хорош, за это я вам ручаюсь. Барон большой чревоугодник, это его единственное качество. Что же касается его брата, то у него нет даже этого качества. Но куда же вы, наконец, девали этого главного кретина из Вашаров! И, не ожидая никакого ответа, она велела подать нам прохладительных напитков, продолжая говорить с нами без церемоний и обиняков в присутствии служанок. — Послушайте, дети мои, — продолжала она, — вы что такое в группе Баландара? Ах! Простите, пожалуйста, вы теперь называете его Белламаром, это его театральное имя; некогда он назывался Баландаром, может быть, и это не было его настоящее имя. Вы сами знаете, что мы называемся, как нам вздумается или как случится! В данное время я представляю из себя девицу благородного происхождения, которую постигли разные несчастия. Все та же уловка, как видите! Попадутся вам на пути такие Вашары — сами вам не верят, но охотно убеждают себя, что это правда и повторяют ее своим друзьям и знакомым, отлично выходит! Он, наверное, говорил вам обо мне, ваш директор? Когда-то он очень меня любил, когда я была молоденькой и хорошенькой девушкой, такой же тонкой, как вы, моя милая, а он.., я не скажу, мой милый, что он был так же красив, как вы, но он был молод, умен и особенно обаятелен для женщин. Что ж, продолжает он обожать их всех сразу, этот бездельник? Признаюсь, что я сильно ревновала его и хорошо ему отомстила. Но послушайте-ка, милочка, уж не вы ли его теперешняя минутная утеха? Не вы ли красавица Империа? Империа вторично покраснела. Ей уже бросилась в лицо краска, когда эта женщина заговорила о мнимом благородстве происхождения, а теперь при этом оскорблении, брошенном прямо в лицо, она совсем смешалась. Но в ту минуту, как я уж собирался ответить, она помешала мне говорить и возразила с живостью: — Я не служу никому утехой, а что я не красавица — вы сами можете это видеть. — Это правда, — продолжала та, — вы маленькая и не блестящая, но вы хорошенькая, а так как вы явились сюда вдвоем с этим высоким красавцем, то уж не любовники ли вы, мои голубки, или уж не женаты ли вы? Одним словом, не вы в настоящую минуту составляете счастие вашего директора и нашего капитана. Ваш спутник, сей прекрасный Леандр, не допустил бы этого! — Значит, — спросил я, — в нашей труппе имеется особа, влюбленная в капитана? И он этим хвастается? — Ну да, пресловутая Империа, которую я ужасно хочу увидеть! — Да, он хвастается? — продолжал я, весь красный от гнева, тогда как бедная Империа побледнела и бросила на меня один из тех скорбных женских взглядов, что невольно молят первого встречного честного мужчину защитить ее или отомстить за нее. — Может быть, он и хвастается, — отвечала бывшая актриса, — а только он поверяет это всему своему полку и вот именно благодаря этому сообщению мой барон, нимало не отличающийся щедростью, разорился сегодня на большой обед в честь любовницы брата. Надо вам сказать, что барон меня ревнует, потому что капитан тоже за мной ухаживает. А потому он в восторге, когда капитан приударяет за другими. Но как бы капитан ни развлекался, он всегда вернется ко мне, потому что денежки в моих руках, понимаете? Империа взяла меня под руку, точно собираясь уйти; она была до того взволнована, что я подумал, что ей дурно, и нечаянно назвал ее по имени. Бывшая актриса, заметив свой промах, быть может, намеренный, нимало не сконфузилась и расхохоталась во весь голос с беззаботностью, присущей дурно воспитанным людям. — Уедем, — сказала мне Империа, увлекая меня из дома. — Общество подобных людей для меня позорно. — Останемся, — отвечал я ей. — Останьтесь, раз вы тут со мной; не обращайте внимания на эту наглую дуэнью, которая, может быть, лжет из зависти, и посмотрим, действительно ли господин капитан так хвастается. — Я понимаю вас, Лоранс! Вы хотите проучить его. Я вам это запрещаю, вы не имеете никакого права. — Это мое право и мой долг. Вспомните, что вы простились навеки с тем светом, в котором вы родились. Вы теперь артистка и в моем лице, в лице каждого из ваших товарищей вы имеете брата, отвечающего своей честью за вашу честь. Не знаю, будет ли Ламбеск одного мнения со мной, но я знаю, что на моем месте ни Белламар, ни Леон, ни даже сам Моранбуа, ни, пожалуй, также и маленький Марко не позволили бы вас оскорблять. Если бы мы были дворяне, то наша защита могла бы вас скомпрометировать: но мы не что иное как гаеры[323], а предрассудок не запрещает нам иметь сердце. — Если оно имеется и не у всех, — отвечала она, — то вы-то, конечно, принадлежите к тем, у кого оно есть, я знаю и именно потому-то я и не хочу… Она не успела договорить: к нам подходил капитан, красный как свекла и мокрый от пота, с очевидным намерением побранить нас за нашу выходку. Я сделал три шага ему навстречу и посмотрел на него так, что он пришел в замешательство, пробормотал несколько бессвязных слов, сорвал свой гнев на одной из гераней, которую почти вырвал из того горшка, где она увядала, улыбнулся натянутой улыбкой, сложил губы точно так же, как его брат, когда принимал нас в своей гостиной, и прошел дальше, насвистывая ту же самую арию. У них была одна и та же мания, и в полку их окрестили прозвищем «братьев фью-фью». Империа успокоилась, видя, что капитан не затевает со мной ссоры, и решилась просто посмеяться над всем случившимся. — Я, право, глупа, — сказала она мне, — я не отделалась еще от некоторой чопорности, не соответствующей моему положению. Клянусь вам, Лоранс, что я краснею за свой недавний гнев. Ремесло наше заключается в том, чтобы забавлять других, а философия наша должна заставлять нас забавляться ими, когда они смешны, и быть недосягаемыми для оскорблений, особенно когда мы знаем себе цену. Я оставил ее при убеждении, что инцидент этот исчерпан, и мы поспешили присоединиться к веселому обществу, уже бросавшемуся на флот барона. Представьте себе три плохие лодчонки в длинной стоячей луже — вот вам и все гонки. Я мигом сообразил, что все мои товарищи имеют недобрые намерения, а молодые офицеры питают преступные надежды, и что у всех один и тот же план, одно и то же желание, а именно: выкупать насильно капитана. Дамы поняли нас и ни одна не захотела сесть в лодки, за исключением Сен-Клер, которая тяжело и решительно прыгнула в главную лодку и взялась за руль, тогда как капитан брался за весла и умолял Империа довериться ему. Вместо нее его приглашение принял я, обменявшись предварительно условными знаками с Марко, управлявшим второй лодкой, и Белламаром, бравшим на себя управление третьей. Скоро вместо гонок возникло морское сражение, и обе лодки произвели бешеный абордаж нашей лодки. Задача состояла в том, чтобы опрокинуть в воду капитана среди суматохи борьбы и страшного гвалта. Я непременно хотел взять это на себя, притворяясь, что защищаю его, раз я принадлежал к его эпипажу, и это было бы легко сделать с таким коротконожкой, если бы Сен-Клер, понимавшая в чем дело и не унывавшая в беде, не восстала против меня, называя меня предателем, грубо смеясь и ругаясь. Она была сильна, как мужчина, и отважна, как дерущаяся женщина. Я предоставил ей возможность объявить себя моим врагом и попытаться выбросить меня за борт. Тогда я пустил в ход всю свою природную ловкость, ибо я не должен был употреблять свою силу против женщины, как бы ни была она мало женственна, и одним ударом под ножку вышвырнул в зеленые волны господина барона, его любезного брата и его храбрую домоправительницу. Затем я перепрыгнул в другую лодку, которая сдалась в плен, и объявил себя победителем, что делало более чести, чем удовольствия Вашару, барахтавшемуся вместе с Сен-Клер в неглубоких, но и мало прозрачных волнах. Они, по-видимому, не обиделись и все поддались обману, кроме меня. Капитана нашли более славным малым, чем предполагали раньше, и обед прошел с такой шумной веселостью, что нельзя было произвести никакого частного следствия о событиях минувшего утра. Но когда мы подходили к беседке, собираясь выпить кофе и покурить, ко мне подошел Вашар-младший и сказал мне шепотом, но сухим и отчетливым тоном, составлявшим контраст с его пьяным взором: — Вы загнали мою лошадь и испортили мне мундир, вы сделали это нарочно. — Я сделал это нарочно, — отвечал я спокойно. — Хорошо, — сказал он и отошел. На другой день на рассвете ко мне явились два офицера, друзья капитана, и потребовали от меня или взять обратно свои вчерашние слова или дать ему должное удовлетворение. От первого я отказался, второе принял, и дуэль была назначена на следующий день после спектакля, так как я был занят в этом спектакле. Странное дело, эта первая дуэль не волновала меня так, как позднее волновали следующие дуэли. Мое дело казалось мне таким правым, я так искренне ненавидел человека, оскорблявшего Империа и вознамерившегося скомпрометировать ее в глазах всех ее товарищей! Я смотрел на себя, как на естественного защитника всего товарищества, и хотя я фехтовал на своем веку немного, а Вашар очень много, я ни минуты не сомневался в том, что судьба будет на стороне правды и доброго намерения. Еще более странная вещь: в тот вечер я сыграл свою роль очень хорошо. Правда, у меня была хорошая роль, которую я принял с дрожью и исполнил ко всеобщему удовольствию. Я чувствовал себя выше в собственных глазах благодаря доверию к себе, как к человеку, и на время перестал сомневаться в себе, как в актере. У меня выдалась даже великолепная минута в пьесе, и я удостоился аплодисментов в первый и последний раз в моей жизни. Добрейший Белламар поцеловал меня, плача от радости, как только занавес упал; Империа сердечно пожимала мне руки. — Ну-ка, принцесса ты этакая, — сказал позади меня хриплый голос, — поцелуй-ка и ты его, если только у тебя сердце побольше, чем у стрекозы. При этой милой любезности Моранбуа Империа улыбнулась и протянула мне свою щеку, говоря: — Если это награда, он может взять ее! Я поцеловал ее с чересчур большим смущением для того, чтобы поцелуй этот доставил мне удовольствие; сердце мое сжималось, я задыхался. Моранбуа хлопнул меня по плечу, говоря мне на ухо: — Рыцарь прекрасного пола, тебя ждут! Каким образом он знал о моей дуэли, которую я тщательно скрывал? Не знаю, но предупреждение это заставило меня подпрыгнуть от радости. Уста мои только что вдохнули аромат моего идеала, я чувствовал себя гигантом, способным победить целый легион чертей. — Друг, — сказал я Моранбуа, который последовал за мной в сени и помогал мне, вопреки всем своим привычкам, одеваться, — ты был учителем фехтования в полку, скажи мне, что нужно сделать, когда вовсе не умеешь драться, чтобы обезоружить своего противника? — Всякий делает, что может, — отвечал он. — Есть у тебя хладнокровие, дурачина? — Есть. — Ну, так смелей, при себе вперед, кретин ты этакий, вот и убьешь его. Это предсказание не произвело на меня никакого мрачного впечатления. Было ли во мне желание убить его? Конечно, нет, я очень человечен и не мстителен. Я бродил точно во сне и ничего не видел ясно перед собой. Я хотел победить и не считал себя достаточно умелым для того, чтобы выбирать средство для этой победы. Я знал, что противник у меня грозный, только я его не боялся — вот все, что я помню из этой быстрой драмы, в которую я бросался, как страстный человек. В ту минуту всякая философская щепетильность показалась бы мне только аргументом страха. Секундантами я выбрал Леона и Марко, непременно желая, чтобы ясно было видно, что дело происходит между военными и артистами. Вашару принадлежало право выбора оружия, и мы дрались на шпагах. Я не знаю, что именно произошло. В продолжение двух или трех минут я видел что-то блестящее у себя в руках и почувствовал жгучий жар в груди, точно вся моя кровь спешила уйти из меня и стремилась навстречу тысяче острых шпаг. Я собирался отбить нападение, когда Вашар упал на траву. Мне показалось, что оружие мое проникло в пустое пространство, и я искал своего противника перед собой, тогда как он хрипел у моих ног. Я воображал себя хладнокровным, но тут я заметил, что я точно совершенно пьян, а когда полковой доктор сказал: «Он умер!» — я вообразил, что дело идет обо мне, и удивился, что стою еще на ногах. Наконец я понял, что убил человека; но я не почувствовал никакого угрызения совести, потому что у него было против меня девяносто девять шансов из ста, и я был ранен в руку. Я заметил это только тогда, когда мне сделали перевязку, и в ту же минуту я увидел мертвенно-бледное лицо Вашара, казавшегося совершенно мертвым. Холод объял все мое тело, но мысль моя не работала. Он был долго болен, но выздоровел; он был недостоин драматического конца. Он потерял брата и женился на Сен-Клер, которая зовется теперь баронессою де Вашар, но не устраивает более гонок. Что касается меня, то я очень удивился, когда, оставляя место дуэли, увидел около себя Моранбуа. Он последовал за мной и присутствовал при дуэли, не показываясь; он отвел меня домой, не говоря мне ни слова, и просидел всю ночь подле меня, опять-таки не говоря ни слова. Я сильно метался и много грезил, но грезил все о театре, а вовсе не о дуэли. Проснувшись, я увидал силача, дремавшего на стуле за занавесками. На мою благодарность он отвечал мне грубостью, но пожал мне руку, говоря, что доволен мною. Рана моя была не серьезна, и, несмотря на запрещение доктора, посещения которого я не дождался, я побежал осведомиться о состоянии моей жертвы. Он был в опасном положении, но к вечеру появилась надежда, а я мог отправиться на репетицию без всякого волнения и с неподвязанной рукой. Я предполагал, что в театре еще никто ничего не знает, так как в городе история эта еще не разнеслась, но Моранбуа все рассказал моим товарищам, и Белламар встретил меня с распростертыми объятиями. — Ты показал нам вчера вечером, что ты артист, — сказал он мне, — но нам совсем не было нужно, чтобы ты имел эту дуэль для того, чтобы знать, что ты мужчина. Но знаешь, не приучайся к этим развлечениям; теперь, когда в тебе оказался талант, мне было бы неприятно, если бы моему красавцу первому любовнику выкололи глаз или повредили руку или ногу. В твоем будущем ангажементе я укажу, что запрещаю тебе драться на дуэли по обязанностям службы. Пока он шутил со мной таким образом игривым тоном, в глазах его стояли слезы. Я видел, что он любит меня, и нежно поцеловал его. Империа тоже поцеловала меня, говоря: — И к этому тоже не привыкайте. А затем она сейчас же прибавила шепотом: — Лоранс, вы добры и храбры, но знаете ли, что теперь все думают здесь… то, чего нет и чего не может быть. Будьте также и деликатны и дайте хорошенько всем понять, что не думаете обо мне. — А не все ли вам равно? — отвечал я ей, оскорбленный этой ее заботой после того кризиса, из которого я только что вышел и от которого еще трепетала моя грудь. — Если и станут говорить, что я вас люблю, разве это для вас позор? — Нет, конечно, — сказала она, — но… — Но что? Разве вашему любимцу это не понравится? — Если у меня и есть любимец, то он совсем мной не занимается, я уж говорила вам. Только я приняла одну вашу дружбу и не могу обещать большего. Разве все теперь между нами изменится? Неужели мне придется остерегаться, наблюдать за собою, обращаться с вами, как с молодым человеком, с которым обдумываешь каждое слово и даже каждый взгляд, лишь бы только не показаться кокеткой или сумасбродкой? Вы отлично знаете, что я хочу сохранить свою свободу, а для этого надо не допускать себя любить. Если вы мой друг, то вы не начнете той борьбы, что всегда меня пугала и отталкивала. Ведь не можете же вы хотеть испортить мне то счастье, которое я отвоевала с таким трудом после таких огорчений и несчастий, о каких вы и понятия не имеете? Я был в ее власти. Я поклялся, что буду всегда ей братом и товарищем и что ей не придется охранять себя от моих преследований. Я и не подумал обвинить ее в холодности и в эгоизме, хотя бы это и могло быть очевидным, раз она не была влюблена в другого или побеждала в себе эту любовь для того, чтобы не подвергаться ее последствиям. Леон был тоже доволен мною и задушевно выразил мне это. Регина покрыла меня ласками, Анна стала видеть во мне героя, Ламбеск еще более меня возненавидел, а маленький Марко привязался ко мне и стал предан мне телом и душой. Пурпурин, желая доказать мне свое уважение, стал называть меня господином де Лоранс. Моранбуа, продолжая обращаться со мной грубо, перестал ругать меня болваном. Самые мелкие служащие при театре вообразили, что на них падает частица моей славы; я сделался в один день львом нашей труппы. Скоро в городе заговорили об этом событии. Полк не торопился признаваться в том, что один из его офицеров был основательно проучен простым актером. Вашара не любили и не ценили; но хотя в глубине души все были за меня, а не за него, товарищеский дух не позволял допускать мою правоту, и некоторые стали говорить, что будто бы с моей стороны это была мальчишеская выходка, за которой последовал неловкий удар шпаги. Штатские не хотели допустить такого умаления моей роли, и в кафе завязывались часто из-за меня довольно резкие споры. Военные любят актеров, без которых они умерли бы с тоски в гарнизоне, но они не любят, чтобы штатские хорошо владели шпагой, тогда как штатские всегда в восторге, когда штафирка[324] низшего класса, то есть гаер, не пасует перед военными бахвалами. В самых высших сферах — в префектуре, у генерала, в городских гостиных все взволновалось, пошли вопросы, комментарии, люди чересчур comme il faut[325] были шокированы горячностью, с которой восхваляла меня слишком передовая молодежь; дело дошло до того, что Белламар, тонкий и осторожный, как сама опытность, собрал нас накануне объявленного уже спектакля и сказал нам со своей обычной игривостью: — Детки мои, мы собрали с вами в этом славном городе лавры славы; но военная слава вредна артисту, и из полученных мною сведений явствует, что завтра вечером у нас может случиться скандал в партере. Быть может, мы послужим лишь предлогом для неведомых нам антипатий или ссор, но администрация или общественное мнение, пожалуй, взвалят ответственность за это на нас. Самое верное — это наклеить объявление на афише и заказать к сегодняшнему вечеру для нас вагон второго класса. Раз нас тут не будет, слава наша останется чиста от тех кулачных ударов, которые завтра, пожалуй, будут соперничать с гнилыми яблоками; ибо, если у артистов есть свои защитники, то и у воинов они тоже имеются. А потому бежим, и да помогут нам боги Олимпа Аполлон и Марс! — Да здравствует Белламар, который всегда прав! — вскричал Марко. — Но да здравствует также и Лоранс, от которого никто из нас никогда не отречется! — Крикнем все: «Да здравствует Лоранс!» — продолжал Белламар. — Он все-таки наша гордость! — Вы рассчитывали здесь на хорошие сборы, — сказал я ему, — и мои лавры, пожалуй, стоят вам дороже, чем они того заслуживают. — Сын мой, — отвечал он, — деньги всегда приходят к тому, кто умеет ждать их, а если их нет, то честь стоит дороже. Перед отъездом я захотел еще раз узнать о здоровье Вашара и побежал к нему. Меня принял сам барон в столовой, где был подан завтрак и где, не узнавая меня — до того он был рассеян, — он предложил мне стул. Я поблагодарил его и собирался уйти, когда он узнал меня. — Ах, отлично! — сказал он. — Это вы… фью… фью… чуть было не убили моего… фью… фью… Вы об этом сожалеете… отлично… фью… фью… Пренизкая ссора, очень прискорбная, очень прискорбная! Но что делать? Военный — фью… фью… обязан быть щепетильным, а вы отбили у него его… фью… фью… его любовницу… Я почувствовал, что кровь бросается мне в голову и что я способен бросить вызов барону за то, что он поверил и продолжал верить в такую ложь брата. — Как его здоровье? — спросил я поспешно. — Я только об этом пришел узнать; надеетесь ли вы спасти его? — Да, да, фью… фью… мы надеемся. — Хорошо. Когда он поправится, потрудитесь сказать ему, что я не хотел уехать отсюда, не оставив ему своего адреса на случай, если бы он пожелал вторично помериться со мной, — и я передал ему имя и адрес моего отца, который он взял и на который взглянул бессмысленным взором, говоря: — Померяться вторично!.. Да нет же!.. К чему? С кем это? Лоранс, фью… фью… садовник и огородник, это не вы? — Это мой отец! — Значит, вы не дворянин? А говорили, фью… фью… что вы из хорошей семьи! — Извините, пожалуйста, я действительно из хорошей семьи. — Ну, если так… я не понимаю… И его удивление выразилось таким продолжительным насвистыванием, что я воспользовался этим для того, чтобы пожать плечами и удалиться. Выходя, я встретил одного из поручиков, моих сообщников по гонкам, и он задержал меня на добрую четверть часа, разговаривая о моей дуэли. Я собирался уж проститься с ним и уйти, когда до нас долетели звуки странного и таинственного дуэта из открытых окон первого этажа; это было посвистывание двух человек, как бы репетировавших какое-то упражнение, то подавая друг другу реплику, то сливаясь в унисон. — Капитан вне всякой опасности, — сказал мне молодой офицер, — он насвистывает с братом, я узнаю его «фью-фью». — Как, вы уверены? Третьего дня он был при смерти, а сегодня он напевает?.. — Ну да, я уверен, что когда он был на три четверти мертв, он мысленно насвистывал, а когда он умрет в самом деле, он будет насвистывать в вечности. — Но разве в его теперешнем состоянии его болван брат не должен бы скорее заставить его молчать, чем подстрекать его? — Если вы думаете, что они знают, что делают, то вы приписываете им гораздо более рассудительности, чем ее было у них когда-либо. Это смешное подражание дудке, подбирающей музыкальные отрывки, было дано им Провидением для того, чтобы прикрывать в их собственных глазах и открывать другим пустоту их голов. Таким-то образом я уехал от пронзенного мною насквозь Вашара, никогда более не предъявлявшего ко мне других требований. Теперь я перейду поскорее к главным событиям моего рассказа и умолчу о той массе неприятных или комичных приключений, что случаются ежедневно в жизни путешественников, а особенно в жизни актеров. Из всех бродячих людей мы самые большие и насмешливые наблюдатели человеческой жизни, потому что мы ищем повсюду типов для подражания. Всякое смешное или эксцентричное лицо представляет собой модель, позирующую перед нами помимо своей воли. Для актеров-комиков жатва бывает богатая и непрестанная. Актеры на серьезных ролях, особенно любовники, обладают меньшими преимуществами. Они могут изучать манеры, выражение, костюм и тон, но им редко случается (если допустить, что вообще случается) видеть и слышать в жизни ту страсть, которую они должны выражать на сцене с прелестью или с энергией. Но, к их счастью, они обыкновенно одарены небольшим умом и довольствуются стереотипными и заученными наизусть позами и интонациями. К своему несчастью, я был наделен некоторой долей здравого смысла и рассудительности и находил, что эта манера играть точно так же, как другие, просто удобная уловка избавиться от всякого серьезного труда и настоящего вдохновения. Я поведал свои заботы Белламару. — Ты прав, — отвечал он мне, — я могу научить тебя только тем внешним приемам, что прикрывают недостаток внутреннего содержания. Всякий должен выражать то, что от него требуется, следуя своей собственной натуре, а великие артисты те, которые черпают все в самих себе. Познай самого себя, испробуй себя и рискни. Тщетно употреблял я все усилия. Я был полон страсти, но не мог выразить ее ни на сцене, ни в действительной жизни. Эта необходимость скрывать мою любовь от той, которая внушала ее, была, может быть, чересчур тяжелым усилием для моей воли, чересчур большим самопожертвованием. Я не мог найти для фикции того тона, которого недоставало для моего внутреннего волнения. В Божанси, где я вторично себя попробовал, ко мне не вернулось то вдохновение, что охватило меня в Орлеане в день дуэли. Товарищи мои нашли, что я очень хорош, а по-моему, это означало, что я вполне посредственен. Однако же я добился успеха в одном: я сбросил с себя свой дерзкий или скучающий вид. Я был приличен, если в моей роли попадался оттенок застенчивости, я передавал его натурально, — одним словом, я нашел подходящий вид для моих лет и моего амплуа. Я стал сносен, но должен был навсегда остаться бесцветным, и хуже всего было то, что Белламар этим довольствовался, а товарищи мои к этому привыкли. Они меня любили; они теперь полюбили меня настолько, что не требовали от меня ничего, кроме того, чтобы я оставался с ними, и не замечали больше моих недостатков. Империа думала так же. Она говорила, что я слишком красив для того, чтобы не нравиться публике. А труппа не могла обходиться без меня потому, что я был добр и мил. Впрочем, цель моя была достигнута во всем, что касалось настоящего: я стремился только к тому, чтобы жить подле нее, не будучи ей неприятным. Но что касалось будущего, то я нисколько не видал перед собой возможности обогащения или славы, что позволило бы мне мечтать стать ее опорой, и мне приходилось жить изо дня в день веселым баловнем, счастливчиком с виду, а в сущности с отчаянием в душе. По отъезду из Божанси случилось со мной одно очень романтическое приключение, оставившее след в моей жизни. Я могу рассказать вам о нем, никого не компрометируя. Мы должны были проехать в Тур, не останавливаясь в Блуа, где в то время подвизалась другая труппа. Леон спросил Белламара, не может ли он позволить ему задержаться в этом городе на один день. У него был тут какой-то приятель, упрашивавший его погостить у него. Белламар отвечал ему, что не желает ни в чем отказывать такому преданному члену труппы и что, впрочем, он сам рассчитывает остановиться в Блуа. Империа желала провести ночь в гостинице из-за Анны, расхворавшейся при выезде из Божанси и нуждавшейся в небольшом отдыхе. Остальная труппа покатила дальше по дороге в Тур под предводительством Моранбуа. Белламар остановился с обеими молодыми актрисами в гостинице нижнего города, а Леон предложил мне переночевать вместе с ним у его друга, которому будет весьма приятно познакомиться со мной и оказать мне гостеприимство. Я принял приглашение, но только с условием, что приду туда после спектакля и что он представит меня своему другу лишь на другое утро; Белламар дал и мне суточный отпуск. — Не стесняйся, — сказал мне Леон, — друг мой холостяк, и мы будем пользоваться у него полной свободой. В какой бы час ты ни явился ночью со своим чемоданом, привратница откроет тебе и проведет тебя в твою комнату. Я предупрежу, и на тебя будут рассчитывать, не поджидая тебя. Он дал мне адрес и кое-какие указания, а потом мы расстались. Мне было любопытно взглянуть на игравшую тут труппу и узнать, хуже или лучше меня остальные провинциальные любовники. Они оказались хуже меня, что меня ничуть не утешило. Во время представления над городом разразилась ужасная гроза, и дождь все еще лил потоками, когда публика стала выходить после спектакля среди суматохи экипажей и зонтиков. Я встретил подле театра одного молодого артиста, с которым был немного знаком в Париже и который увел меня в ближайшее кафе пережидать ливень. Он даже предложил мне разделить его комнату совсем поблизости от театра и старался отговорить меня от ночных поисков ожидавшей меня квартиры в старом городе по ту сторону холма в пустынных кварталах, где, по его словам, мне будет весьма трудно найти дорогу. Я побоялся, что, несмотря на свое обещание, Леон нарочно не ложился спать в ожидании меня, и как только небо немного прояснилось, я пустился на поиски дома № 23 по указанной мне улице, названия которой я попрошу у вас позволения не припоминать. Действительно, мне пришлось долго искать, подниматься по бесчисленным крутым лестницам, ориентироваться наугад в живописных узких темных и совершенно пустынных улицах. На башенных часах какой-то старой церкви пробил час ночи, когда, наконец, я убедился, что попал на ту улицу, которую так искал, и стою перед дверью дома № 23, слабо освещенной луной. Действительно ли это № 23? Не 25 ли? Я собирался позвонить, когда в двери отворилось окошечко, точно мое приближение услыхали; на меня взглянули, затем открылась дверь, и старая служанка, лица которой я даже не разглядел, спросила меня шепотом: — Это вы? — Конечно, я, — отвечал я, — тот самый друг, которого ждут… — Тише! Тише! — продолжала она. — Идите за мной. Я подумал, что все спят или что в доме есть больной, и последовал на цыпочках за своей собеседницей. Она была в маленьких туфлях и шла точно призрак в своем белом чепчике, скрывавшем лицо. Я поднялся за нею по витой лестнице в стиле Возрождения, слабо освещенной ночником, но показавшейся мне прелестной работы. Я был в одном из тех старых, хорошо сохранившихся особняков, что составляют достопримечательность и украшение провинциальных городов, а особенно Блуа. В первом этаже старуха остановилась, открыла дверь с замком тонкой работы и сказала мне: — Входите и — главное — не выходите больше! — Никогда? — сказал я ей, смеясь. — Тише! Тише! — продолжала она боязливым шепотом, прикладывая палец к губам. Тогда я разглядел ее суровое и бледное лицо, которое показалось мне фантастичным и которое скрылось в темноте лестницы точно призрак. — Очевидно, — подумал я, — в этом прелестном доме кто-то лежит в агонии. Веселья в этом мало, но, быть может, я буду полезен Леону в такую тяжелую минуту. И я прошел в прелестную по обстановке, резной отделке и устройству квартиру, где рассчитывал найти Леона. Я прошел бесшумно по передней, предшествовавшей прехорошенькой маленькой гостиной или скорее будуару, где топился камин, — приятная предусмотрительность в эту непогоду, от которой я промок и продрог. В канделябрах горели свечи, по углам камина стояли два больших кресла тонкой работы, но лежавшие на них свежие и выпуклые подушки ничуть не свидетельствовали, что в них недавно сидели. Богатая мебель была заботливо расставлена, однако комната имела вид давно не обитаемого жилища. Хрусталь люстры скромно блестел под серебристым кисейным чехлом. На спинках и ручках кресел гипюровые накидки были безупречно белы и не смяты. Два красивых стеклянных шкафчика, из которых один заключал в себе китайские вещицы, а другой — статуэтки из старинного саксонского фарфора, были заперты на ключ. Рабочий столик указывал на то, что здесь жила или бывала женщина, но столик этот был пуст, и к его бархатной обивке не пристало ни кусочка нитки или шелка. В глубине будуара я увидел ковровую портьеру, приходившуюся прямо против камина, и осторожно приподнял ее. Темнота и молчание. Я взял свечку и проник в самую очаровательную спальню, которую мне когда-либо приходилось видеть. Она была вся обтянута небесно-голубым шелком с белыми шелковыми шнурками. Белая с золотом кровать под балдахином с бахромой и с густыми занавесками из того же голубого шелка занимала, точно памятник, целый угол комнаты, не то чтобы большой, но очень высокой. На белом мраморном камине с украшениями из золоченой меди помещались часы времен Людовика XVI редкого изящества, подсвечники с тремя ветками, белые с золотом, как и часы, и два Амура из белого мрамора, принадлежавшие, наверное, резцу искусного мастера. Комод, письменный столик и этажерки из розового дерева с медальонами из старинного севрского фарфора, маленькая кушетка, обитая китайским атласом, два или три кресла чудесной ручной вышивки, коричневато-красный ковер с нежными голубыми разводами, венецианское зеркало в рамке искрящихся цветов, две большие пастели, изображавшие двух сильно декольтированных красавиц. Что еще? Прелестные безделушки, расставленные повсюду, — все изобличало спальню женщины богатой и с художественным вкусом, изысканно-утонченной, быть может, сладострастной. Произведя осмотр этого весьма комфортабельного убежища, я спросил себя, для меня ли и впрямь оно предназначено, и не совершила ли старуха чудовищной ошибки, впустив сюда меня вместо какой-нибудь маркизы. Затем я вспомнил, что родители Леона богаты, что он жил в свете, что у него были друзья в high life[326], что тот, кто оказывал мне гостеприимство, был холост и независим, и не было ничего удивительного в том, что в своем богатом доме он меблировал нарядную квартиру для своей любовницы или более высокопоставленной особы, приходившей иногда к нему на таинственные свидания. Но с какой стати впустили сюда бедного актера, промокшего и грязного, который удовольствовался бы походной кроватью на чердаке, что ничуть не противоречило бы его привычкам? Пышность эта казалась мне иронической. Разве в этом княжеском доме не имелось более скромной комнаты для скромного проезжего? Есть ли это комната для друзей? В таком случае Леон должен быть тут, и я стал искать, нет ли второй, смежной спальни. Но ее не было. Я решил устроиться здесь, хотя бы завтра пришлось убедиться, что ключница спятила с ума — это касалось ее, а не меня. Я был утомлен, я продрог, моя легкая рана немного ныла, а так как первое удивлениеуступило место потребности в отдыхе и сне, то я уселся на кушетку, бросил спичку в груду дров в камине и принялся снимать обувь, стыдясь оставляемых ею беловатых следов на ковре. Глядя перед собой на отражение постели в наклонном венецианском зеркале, я заметил, что шелковое покрывало ее не снято и что ничто не говорит о том, что эта нарядная постель стоит здесь не для одного парада. Я приподнял складки покрывала и увидел, что на белых атласных матрацах нет ни простынь, ни одеяла. Я опять призадумался. Очевидно, не мне предназначалось это роскошное убежище или где-нибудь в другом месте имелась более скромная постель, доступная простым смертным. Я напрасно искал ее. Ничего подобного в уборной, никакого потайного алькова в стене, ничего такого, на чем бы можно было растянуться, если только обыкновенная жительница голубой спальни не была крошка, способная примоститься на атласной кушетке. Что касалось меня, уже бывшего ростом пяти футов и пяти дюймов, то и мечтать об этом не стоило, и сначала я решил спать сидя; через пять минут мне стало слишком жарко, и я растянулся посреди комнаты на ковре; но не прошло еще пяти минут, как мне стало холодно. Положительно, меня немного лихорадило от полученной мной царапины; я находил, что предложенное Леоном гостеприимство было скверной шуткой, а запрещение выходить отсюда показалось мне прозрачным доказательством мистификации. Между тем Леон был вовсе не шутник. В доме царила такая безусловная тишина, что можно было подумать, что он пуст. Та же тишина на улице. Луна ярко освещала теперь эту покатую улицу, спускавшуюся вниз извилинами, обрамленными стенами с возвышавшимися над ними густыми деревьями. Там и сям между садами виднелись дома, казавшиеся все меньше по мере удаления; были ли то странные особняки или современные виллы — ночью разобрать было невозможно. Я не смел открыть окно, все еще предполагая, что не следует нарушать драгоценного сна кого-то больного в доме, но я мог ясно видеть улицу сквозь голубые стекла, окрашивавшие всю картину в фантастическое сияние театрального лунного света. Ставень не было, окна в стиле Возрождения были украшены витыми переплетами. Над противоположной стеной возвышались большие круглые верхушки цветущих лип; подальше на террасе пилястры поддерживали виноградную беседку; направо какое-то маленькое строение, которое могло бы быть привратницкой, походило на древнюю могилу. Не знаю, почему эта пустая и немая улица со своими низкими постройками, изящными очертаниями и рядами растительности напоминала мне древнее предместье Помпеи или квартал Тускулума ранним утром. Часы на отдаленной башне пробили половину второго, и я решил закутаться в свое дорожное одеяло и растянуться на атласных матрацах, натянув на себя шелковое покрывало; благодаря этому мне было удобно, и я быстро впал в ту приятную дремоту, что предшествует сладкому сну. Первый раз в жизни случилось мне очутиться на таком богатом и мягком ложе, по всей вероятности, это будет и в последний раз, и мне было приятно наслаждаться запахом этой высшей роскоши. Дрова продолжали гореть и бросать яркие отблески пламени на картины, на мебель и на потолок, разрисованный светлыми облаками на фоне розоватого неба. Мало-помалу огонь побледнел, и все в комнате приняло прозрачный и мягкий оттенок, отчего она, вероятно, стала похожей на пресловутый лазурный грот. Я спросил себя, достаточно ли мне хорошо, чтобы обладание подобной вещью могло стать для меня мечтой. Я вспомнил ферму, где я вырос, большую комнату с потолком из коричневых балок, откуда вместо люстры висели пучки золотистых луковиц и красных перцев, стены, завешанные кастрюлями и тазами из блестящей меди, звуки, слышные мне сквозь мой первый сон, голоса убаюкиваемых детей, лай собак во дворе, когда быки шевелились в хлеву или когда вдали проезжала телега, мерно стуча по камням, а под ровный шаг лошадей бубенчики на хомутах позвякивали: до-фа-до-ре-ми-до. Я снова видел свою мать и трех бедных младших деток, умерших в один год. Мой отец, еще молодой, укладывал меня спать, пока мать кормила последнего ребенка, и натягивал мне на лицо толстую холщовую простыню, которая должна была защищать меня от мух, всегда пробуждавшихся раньше меня. Здесь, подумал я, нет мух, но нет и простынь. И я наивно спрашивал себя, не имеют ли привычку важные господа обходиться без них. Я чувствовал, что на все вопросы, которые я себе задавал, оцепенение сна отвечает с беззаботностью: не все ли равно? Меня разбудил чистый серебристый звук — голос соловья в противоположном конце сада, доходивший до меня через стекло и занавески вместе с лунным светом. Я сказал себе, что птица — артист, не боящийся фиаско, — была гораздо счастливее на своей ветке, чем я на атласе и пуху. Затем я глубоко заснул, да так глубоко, что не слыхал, как кто-то вошел в соседнюю комнату, и разбудил меня только звон щипцов, перебиравших уголья в камине гостиной. Какая-то необъяснимая осторожность мешала мне крикнуть: «Леон, это ты?» Долго ли я проспал? Огонь моего камина потух, луна была теперь прямо напротив окна, одну из занавесок которого я оставил приподнятой. Я спустил ноги на пол, подошел бесшумно к портьере, отделявшей меня от будуара, и раздвинул ее на волосок, чтобы заглянуть в соседнюю комнату. Там происходило то, что я предвидел. В квартире находилась элегантная женщина в богатом черном платье и кружевной вуали. Была ли это воображаемая мною маркиза? Я не мог видеть ее лица, потому что она стояла, обернувшись к камину, а в зеркале я не мог видеть ее потому, что зеркало это висело очень высоко, согласно всему стилю помещения. Но через черное кружево я рассмотрел роскошные белокурые волосы и чудную шею. Талия была гибкая, тонкая, но не хрупкая, движения уверенные, молодые и грациозные. Я мог разглядеть все это, потому что она подняла руки для того, чтобы потушить еще горевшие свечи канделябров, отодвинула одно из кресел от камина, подвинула другое и положила себе подушку под ноги. Теперь ее освещала только одна свечка под маленьким голубым колпачком; она села и исчезла в большом кресле, так что виден был только силуэт ее прелестной ножки перед камином. На столике лежал маленький мешочек из русской кожи и большой дорожный плащ из английской непромокаемой материи. Никакого другого свертка или пакета, никакой горничной, никого из домашних, кто бы принимал ее. Очевидно, это была интимная приятельница, с которой не стеснялись и которой сказали как и мне: «Приезжайте, когда хотите, вы никому не помешаете, и никто не встанет». Какая-нибудь близкая родственница хозяина дома, быть может, сестра? Конечно, не любовница, потому что тогда он не оставил бы ее одну. Как бы то ни было, она была тут, ей было холодно, и она грелась. Что она подумает об этой постели без простынь и одеяла, которая так меня заинтриговала? Это меня не касалось. Но что привело меня в гораздо более серьезную тревогу, так это второй, ожидавший ее, сюрприз: присутствие первого жильца в этой гостиной и спальне, на которую она, по-видимому, слепо рассчитывала и не давала себе труда осмотреть ее предварительно, как сделал это я. Когда вам двадцать лет и когда носишь в себе все целомудрие и робость идеальной любви, то вам не приходит в голову воспользоваться подобным положением. Я почувствовал только испуг перед той сценой, которая должна была потом произойти: крики женщины, воображающей, что она попала в западню, смешную сторону моей кажущейся дерзости, пробуждение хозяев, сбегающихся на шум, смех, упреки, и так далее! Положение преглупое для меня, тяжелое для женщины, неловкое для хозяина дома. В одну минуту я перебрал в своей кружившейся голове все возможные средства выйти из этого положения без скандала. Выскочить из окна было опасно, но возможно; только прежде это окно надо открыть, а дама закричит, приняв меня за вора. Спрячься я под кровать или за занавески, будет еще хуже. Я уже успел убедиться, что из уборной не было никакого выхода. Мне оставалось только одно — это показаться сию минуту и все объяснить с первого же слова, а потом поскорее освободить место. Я так и решил поступить и собирался уже показаться, как вдруг дама вздрогнула при звуке шагов в передней и бросилась навстречу новому посетителю. Я воспользовался этой передышкой, чтобы пойти привести в порядок постель, взять обратно свой мешок и одеяло и вновь обуться для того, чтобы не быть застигнутым врасплох в роли посягателя на чужое жилище. Я еще не покончил с этими поспешными приготовлениями и сидел на кушетке, натягивая конвульсивно ботинки, как до меня долетел из будуара звук голоса, слишком знакомого мне, чтобы я мог сомневаться в нем хоть мгновение: это был голос Белламара. Хотя это неожиданное обстоятельство и усложняло задачу, оно все-таки меня успокоило. Не будучи более вдвоем со мной, дама не будет ничего бояться, а со своей стороны я знал, что Белламар сумеет так хорошо и так скоро объяснить мое присутствие, что нельзя будет сомневаться ни секунды в чистоте моих помыслов. Кто знает, впрочем, намерена ли эта особа оставаться здесь, и не идет ли дело только о деловом свидании? Театральные дела иногда нуждаются в самых секретных предосторожностях. Я решил подождать конца вступления и не подслушивать, но вокруг нас царила такая глубокая тишина, а будуар, обшитый деревом, был так гулок, что, несмотря на старания дамы говорить тихо, я услыхал весь разговор с начала до конца и постараюсь привести его вам слово в слово: — Вам открыли сейчас же дверь, не заставив вас ждать, не правда ли, месье Белламар? — И не спрашивая меня ни о чем, только прося меня не шуметь. — Да, это потому, что в соседнем доме под № 23 теперь живут. — Я знаю. Там даже остановились двое из моих артистов. — Двое? Ах, Боже мой! Кто же? — Я полагаю, что вы не знаете ни того, ни другого! — Я их всех знаю. Я бывала на ваших спектаклях в Орлеане и в Божанси. Скажите мне… уж не господин ли Леон? — Да, сударыня, Леон и Лоранс. — Вот странная случайность! Это меня так смущает.., не знаю, право, хватит ли мне теперь мужества сказать вам… Боже мой! Как мое поведение должно вам казаться странно! Что вы должны подумать обо мне! — Я человек, видевший столько необычайных вещей, что теперь меня уж ничто не удивляет, а что касается моего мнения о вас, оно не должно вас тревожить. Я не имею чести знать вас, я не знаю ни вашего имени, ни вашего звания, ни вашей родины, ни вашего места жительства, раз вы здесь не у себя дома, ни ваших лет, ни вашего лица, которое вы прячете от меня под вуалью. Вы написали мне, что я могу возвратить вам спокойствие или дать вам счастье. Я отлично понял, что дело идет о любви, и не предполагал ни одной секунды, чтобы вы влюбились в мои сорок лет и в мое загорелое лицо. Ваше письмо было так настоятельно и прелестно. Я человеколюбив и услужлив, вот я и пришел. Вы просили меня сохранить тайну — я считаю своим долгом оправдать ваше доверие. Итак, вот я весь к вашим услугам, говорите и приступайте прямо к делу без опасений. В это время года ночи коротки, не теряйте времени, если вы боитесь, чтобы вас увидели выходящей отсюда. — Вы кажетесь мне таким добрым, и я знаю, что вы так деликатны, что мне хватит духу сказать вам все. Я люблю одного молодого человека, принадлежащего к вашей труппе. — Лоранса или Леона? — Лоранса. — Он заслуживает любви, это славный и достойный малый. — Да, я знаю, я навела о нем, так же как и о вас, всевозможные справки. Я видела его дебют, он мне понравился. В тот вечер он не очень-то показал свой талант, он был смущен. Лицо его внушило мне симпатию, а голос проник мне в сердце. Я снова увидела его в другой вечер, он был великолепен, он заставил меня дрожать и плакать. Я почувствовала, что безумно его люблю; но никогда тайна эта не вырвалась бы из моего сердца, если бы не события, последовавшие за этим представлением. — Дуэль с капитаном Вашаром? — Именно. Я знаю этого Вашара, он вздумал было ухаживать за мной, но я оттолкнула его, он мне страшно не нравится. Оскорбленный резкостью моего отказа, он оклеветал меня. Это его привычка, он бесчестный человек. Итак, я его просто возненавидела, хотя он нимало мне не повредил. Жизнь моя безупречна, и ни один человек из знающих меня не поверил его выдумкам. Но нынешние мужчины лишены рыцарского инстинкта, и не нашлось ни одного, осмелившегося сказать этому военному: «Вы солгали!» Его, наконец, достойно проучил совсем молодой человек, актер, и из-за другой женщины. С этой минуты я решилась не бороться более с внушенной мне артистом страстью и обогатить его и осчастливить.., если только он согласится на это! — Черт возьми, богатство и счастье! Когда можно соединить эти две крайности, люди всегда согласны! — Постойте! Дрался он не из-за меня. Я справилась обо всех подробностях; он дрался из-за одной своей партнерши по труппе, из-за этой прелестной Империа, в которую я влюбилась бы, если бы была мужчиной, и которой я с тех пор от души и несмотря ни на что аплодировала. Я добра и умею быть справедливой. Если эти молодые люди любят друг друга, что очень возможно и вполне естественно предположить, то сохраните мою тайну; пусть будет так, точно я ничего вам не говорила, и я покорюсь и постараюсь победить себя, точно я ни на что не надеялась и ничего не чувствовала. Но если, как говорят иные, между ними нет ровно ничего, если Лоранс только хотел заставить уважать достоинство артиста, то вы, который должен знать правду, вы, репутация которого имеет огромный вес в моих глазах, вы успокоите меня и поможете мне открыться. — Последнее толкование верно, Империа особа безусловной чистоты и даже несколько суровая. Она доверяет мне, как отцу. Если бы Лоранс говорил ей о любви, а она полюбила бы его, она взяла бы меня поверенным и советником. Если бы он говорил ей о любви, а она ему не ответила бы, то, может быть, они это от меня и скрыла бы; но тогда она стала бы обращаться с ним холодно и недоверчиво, тогда как теперь между ними царит спокойная и непринужденная дружба. — Значит, вы уверены, что он не влюблен в нее? — Мне так кажется. Я могу убедиться в этом, наблюдая за ним втихомолку, или могу спросить его от вашего имени. — От моего имени? О, конечно, нет еще! Прежде всего вы должны узнать, кто я такая. Мне двадцать четыре года, я дочь артиста, оставившего мне некоторое состояние, вышла замуж за человека титулованного, у которого не было ни копейки, который не дал мне счастья и оставил вдовой в девятнадцать лет. Я вернулась к отцу, который тоже умер в прошлом году, оставив меня совсем одинокой, и с тех пор я жила тихо и уединенно. Я еще в трауре. Я обожала отца и поклялась, что если выйду вторично замуж, то непременно за артиста, и выйду замуж не иначе как по любви. Это мое право; я имею средства сделать это, как принято говорить: у меня есть двадцать тысяч франков годового дохода, свой дом и элегантная обстановка, которую сумел устроить себе отец. Муж мой не успел растратить мое приданое. Таким образом, я могу выбирать, и я выбрала. Ваше дело разобрать, достойна ли я быть счастливой и способна ли быть любимой. Справьтесь, вот вам карточка с моим именем и адресом. Я не боюсь никакого дознания. Что же касается моей особы, то вы должны также судить и о ней, а потому я сниму вуаль. При этих словах, не думая о своем положении, я сорвался с кушетки, которая слабо скрипнула и выдала бы мое присутствие, если бы громкое восклицание Белламара не заглушило этого легкого звука. — Ах! Графиня, — вскричал он, взглянув, вероятно, на поданную ему карточку, — вы столь же хороши собой, сколь Лоранс красив, и вы совершенно напрасно сомневаетесь в своем всемогуществе. Теперь я был за портьерой и пытался опять раздвинуть ее дрожащей рукой; когда мне удалось взглянуть одним глазом, было уже слишком поздно: проклятая черная вуаль, неумолимо непроницаемая, уже снова закрывала лицо и бюст моей Галатеи. Я стоял неподвижно, не смея более смотреть, потому что, если она стояла ко мне спиной, то Белламар, находившийся в углу напротив нее, мог со своего места заметить, что портьера шевелится. Я дослушал, стоя как окаменелый, их разговор до конца. — Я рада, что лицо мое нравится вам, месье Белламар; в свое время вы скажете ему, что я не урод. — Ах! Черт возьми! — продолжал наивно Белламар, хорошо знавший, что выражение искреннего убеждения, в какой бы форме оно ни было выражено, никогда не оскорбляет женщину. — Вы так хороши собой, что можете свести с ума всякого! Хорошо! Я исполню ваше желание. Я осторожно наведу справки. — Да, очень осторожно, но очень добросовестно — я так требую, а когда вы убедитесь, что я особа серьезная и что после продолжительной скуки, благоразумия и добродетели я допустила возникновение в своем сердце сильного чувства, благородного безумия, то вы поможете мне отдать свою руку тому, кого я выбрала себе в мужья. — Вы знаете, что Лорансу едва лишь двадцать один год? — Да, я знаю. — Что отец его крестьянин? — Знаю. — Что он страстно любит театр? — Знаю. — Хорошо. Я не могу сказать вам, что выбор ваш благоразумен с точки зрения света, вы, несомненно, его обдумали и, я полагаю, предвидели то, что скажет об этом свет? — Всенепременно, разве вы меня порицаете? — Я стану порицать любовь, преданность, мужество и бескорыстие?! Наоборот, мне хочется стать перед вами на колени, графиня, и даже сказать вам, что, по моему мнению, вы вступили на верную дорогу! До сих пор я всегда видел, что та дорога, которую принято называть верною, вела только к разочарованиям и сожалениям. Но, кажется, светает, и мне пора бы уходить… — Нет, нет! Месье Белламар, это я должна уйти сию минуту, ибо я тороплюсь на поезд, который уезжает через час. — Вы едете в Тур? — Нет. Я больше не буду следовать за вашей труппой. Теперь я спокойна и поеду ждать к себе в деревню письма от вас, в котором будет сказано: «Я разузнал все нужное для вас, сердце Лоранса совершенно свободно, пора действовать». Тогда я приеду к вам, где бы вы ни были. Прощайте, и да благословит вас Бог за то, что вы облегчили мне душу. Я оставляю в ваших руках свою честь и свою гордость. Вы даете мне слово, что Лоранс ничего не узнает? — Клянусь вам в этом. — Прощайте еще раз. Я пройду садами позади дома. Дом этот принадлежит одной моей приятельнице, уехавшей путешествовать, и она ничего не должна знать. Сейчас вас придет выпустить отсюда одна честная женщина, которая была в нищете и которую я определила сюда сторожихой. Она безгранично предана мне и не выдаст меня. Белламар проводил графиню до двери передней. Вернувшись в будуар, он шарахнулся от удивления, увидав меня сидящим на том самом месте, где только что сидел он.
— Я прошу у вас позволения, — сказал Лоранс, — прервать немного свой рассказ. Если он вам не прискучил, то я хочу быть в состоянии продолжать его так же правдиво и искренно, как это удавалось мне до настоящей минуты. Воспоминания мои были вполне ясны, потому что они были очень просты и относились к одной исключительной мысли. Начиная с приключения в голубой комнате, мысль эта раздвоилась, и мне необходимо отыскать путеводную нить в том лабиринте, где я так долго чувствовал себя заблудившимся. — То есть, — заметил я Лорансу, — вы стали любить одновременно и прекрасную графиню, и прелестную актрису? — И да, и нет, и нет, и да; пожалуй, почем я знаю? Вы поможете мне разобраться в самом себе. Не пройтись ли нам немного? Я не привык сидеть так долго на одном месте и так много заниматься самим собой. — Вернемся в город, — сказал я ему, — пообедайте со мной, и мы вернемся к вашей истории сегодня вечером или завтра, как вам будет угодно. Он согласился, но только с условием, что я побываю с ним у его отца, которого он еще не видел сегодня и который мог тревожиться о нем. Мы быстро спустились с горы и по берегу быстрой Вольпи выбрались на равнину. Лоранс провел меня скорым шагом по великолепным лугам до городского предместья, ничуть не превосходившего безобразием и грязью сам город. Мы прошли между двух торжественных навозных куч и добрались до дома и сада старика Лоранса, не имевших, смею вас уверить, ничего поэтичного. Отсутствие женщины чувствовалось и во дворе, и в доме, ибо никак нельзя было назвать женщиной старую колдунью, таскавшую помои в лейке, присматривая время от времени за супом и принимаясь иногда за стряпню. Один только сад содержался хорошо, и там мы застали старика Лоранса, копавшегося на грядке. Это был человек семидесяти лет, хорошо сохранившийся и удивительно красивый, но без всякого выражения на лице и до такой степени глухой, что хоть из пушки пали. Своими немногочисленными мыслями он мог обмениваться только со своим сыном, который отвечал на его вопросы, не повышая голоса и сопровождая свои слова довольно таинственной, условленной между ними пантомимой. Он понял, что я доброжелательный посетитель, и вообразил, очевидно, что его овощи очень меня заинтересуют, ибо показал мне все, до последней репки, рассказывая подробно на малопонятном местном наречии о своих садоводческих опытах. Не имея возможности делиться с ним своими впечатлениями, я терпеливо слушал его, видя, что Лоранс схватил лопату и живо стал копать начатую отцом грядку. Когда она была вся вскопана, он вернулся и освободил меня. — Простите меня, пожалуйста, — сказал он, — я не выполнил утром своего ежедневного задания и моему бедному старику пришлось бы сделать слишком много; он, видите ли, никогда не жалуется и наказывает меня только тем, что работает вдвое. Я спросил, не вызвана ли необходимость этой работы их положением. — Нет, — отвечал он, — мы могли бы свободно жить, не утомляясь. Но отец мой питает страсть к земле, и если бы он оставил ее хоть на минуту в покое, он счел бы себя преступником. Как видите, это настоящий крестьянин, и вне его сада мир для него не существует. Тот навоз, что мы сваливаем в кучи вокруг, представляет собой горизонт, дальше которого не идет его мысль, и он прячет тут сокровища деятельности, терпения, практического ума, предусмотрительности и смирения. Если бы вы провели с них хоть один день, вы невольно полюбили бы его. Он обладает всеми добродетелями: кротостью, целомудрием, милосердием, самопожертвованием. Он не понимает, какую я принес жертву, вернувшись к нему, но если бы ему пришлось принести мне гораздо большую жертву, он сделал бы это, не задумываясь. Одним словом, я уважаю его и люблю всей душой. Мне было приятно показать вам его прекрасное лицо и сказать вам, что я о нем думаю, прежде чем продолжать свою историю. Нам остается еще добрый час до вашего обеда. Здесь нам будет спокойно: на другой день свадьбы все мои товарищи утомлены и нам не помешают. Я проведу вас в свой микроскопический оазис, ибо у меня имеется свой оазис, приносящий утешение в прозаичности моих будней. Он провел меня в глубину сада, мягко расстилавшегося по склону холма и окруженного достаточно высокими стенами, не позволявшими любопытным взорам проникать за них. — Прежде наш сад был прелестен, — сказал мне Лоранс, — отсюда был удивительный вид, но когда я вернулся после своей последней отлучки, отец показал мне с гордостью эту стену, превратившую сад в могилу, и сказал мне: «Надеюсь, что теперь тебе будет приятно здесь!» Мне стало страшно грустно; но он до того гордился своей оградой и своими молодыми шпалерами, что я ничего не сказал. Только я отделил для себя часть, которую вы сейчас увидите, — клочок земли величиной с носовой платок, составляющий мою утеху, потому что там ничего не тронули и ничего не испортили. Он открыл маленькую калитку, ключ от которой был при нем, и мы оказались на узкой полосе невозделанной земли на площадке больших скал. — Это только верхняя часть, — сказал он мне, когда я налюбовлся видом, — нижняя тоже принадлежит мне. Спускайтесь осторожно. Он исчез между двух глыб; я последовал за ним, и мы спустились по отвесным уступам к маленькому потоку, протекавшему с таинственным журчанием в ущелье. Мы очутились внутри как бы естественного овального колодца, ибо с обеих сторон скалы сдвигались до того, что составляли свод над потоком, а по краям углубления красовалась чудесная растительность. Навоз с огорода просачивался, вероятно, в щели между скал, а дожди приносили сюда, несмотря на стену, лучшие частицы земли и семена, так как садовые растения примешивались тут к дикой флоре, разросшейся до необычных размеров. В глубине душистые аронники, изящные папирусы и другие грациозные растения переплетались и росли по соседству с водяными шильниками, кувшинниками и чилимами, водворившимися в прозрачной луже, расположившейся точно неподвижный алмаз немного повыше ложа проточной воды. Все это было чрезвычайно тесно, но довольно глубоко, и природные украшения росли так изящно и роскошно, что я был очарован. — Я называю это своей подземной темницей, — сказал Лоранс, — эту пропасть из цветов, скал, мха и сорных трав, куда я прихожу забывать о прошлом, когда оно меня слишком мучит. Я погружаюсь в созерцание какой-нибудь гирлянды диких роз или пучка злаков и воображаю себе, что никогда не жил иначе, чем эти камни и зелень; они вот так счастливы, как только могут быть, они живут в своей природной среде и ничто не мучит их в их пассивном существовании. Почему бы мне не быть так же довольным, как и они, когда я имею еще то преимущество, что наделен способностью ощущать свое счастье? Но я не могу оставаться тут очень долго, я иногда чувствую, что, когда воля моя отвечает: «Да», — малодушные слезы, падающие на мои праздные руки, говорят: «Нет!» — Если так, не надо тут оставаться. Не рассказывайте мне здесь о своих печалях; пожалуй, это навсегда уничтожит успокоительные свойства вашего подземелья. — Почем знать? А вдруг выйдет наоборот! Чем более отталкиваешь от себя иные мысли, тем они упорнее возвращаются. Знаете, что: завтра, пожалуй, мне не хватит духу продолжать свой рассказ, а я знаю, что послезавтра на рассвете вам надо уехать. Выпьем сразу горькую чашу! И сын садовода, вымыв свои выпачканные землей руки в ручье, продолжал следующим образом историю своей жизни артиста.
Я остановился на той минуте, как Белламар вернулся в будуар, смежный с голубой спальней, за шляпой и увидел меня внезапно перед собой, точно статую Командора. Он удивился, встревожился и рассердился; все эти чувства быстро промелькнули на его выразительном лице и вылились в неудержимый взрыв громкого хохота. — Вы понимаете, — сказал я ему, — что я пришел сюда, твердо убежденный, что попал в дом № 23; меня заперли, я ничего не понял и заснул… — И ничего не слыхал? — Нет, я все слышал. Я видел эту даму, но под вуалью; талию я приблизительно разглядел, но лица не видел. — Тем хуже для тебя, это чудо красоты! Белокурая Форнарина! — Вы влюблены в нее, мой милый директор? — Бескорыстно влюблен, да. — Вы на ней не женились бы? — Конечно, нет. — Почему? — Значит, ты не знаешь, что я женат? — Понятия не имею. — Я женат и весьма этим доволен, потому что, не будь я женат, мне, быть может, пришла бы фантазия жениться, и я мог бы выбрать еще хуже. — А ваша жена?.. — А черт ее знает, где она; но дело не в ней. Мне поручено осторожно тебя прощупать. Судьба смеется над предосторожностями очаровательной графини. Мне остается только допросить тебя, но не здесь, где мы ни у себя, ни у нее. Я знаю, что ты человек честный, и мне нечего просить тебя молчать. Уйдем потихоньку, и не ходи теперь к соседу. Пойдем в мою гостиницу, а по дороге и поговорим. Старуха выпустила нас, не проявляя никакого любопытства, не сказала нам ни слова и бесшумно затворила за нами двери. Когда мы ушли достаточно далеко для того, чтобы не нарушать тишины этой таинственной улицы, уже начинало светать, и Белламар сказал мне: — Ну что же, это недурной дебют в любовной карьере! Мне нечего сообщить тебе; раз ты все знаешь, поручение мое исполнено. Твое дело обдумать это и спросить себя, согласен ли ты, чтобы это первое приключение в твоей жизни было и последним, ибо дама эта так и понимает и имеет право это требовать. Что должен я ответить ей? — Вы бы лучше дали мне совет, чем допрашивать меня, — сказал я. — Я не могу быть влюблен в женщину, которой я не видел, да к тому же я так удивлен и смущен, что мысли мои путаются. Что бы вы думали на моем месте? — Сказать тебе, как я рассудил в подобных же обстоятельствах? — Пожалуйста, скажите. — Я был молод, лицом не лучше, чем теперь, но страстно любил женщин, а женщины очень ценят такие страстные натуры. А потому я пользовался не меньшим успехом, чем другие, но успехи эти были так же странны, как мое лицо и ум. Одна англичанка, миллионерша, племянница которой упала раз в воду при переправе через Женевское озеро, откуда я ее вытащил, вообразила себе, что любит меня, и захотела, чтобы я ее полюбил. Я сделал бы это с удовольствием, хотя, собственно, предпочел бы племянницу; но пятнадцатилетняя племянница находила меня уродом, а тетушка, которой было уже за тридцать, пожелала надеть на меня цепи и обогатить меня, женив меня на себе. Я все откладывал и откладывал решение этого вопроса; но когда я увидел, что она добивается этого с упорством, свойственным жительницам Великобритании, я уложил свой чемодан и на рассвете сбежал прочь из садов Армиды. Я больше ничего не слыхал о миледи, которая была, однако, красивой и доброй женщиной, и предпочел жениться на одной маленькой Коломбине, потому что был в нее влюблен, а она бросила меня из-за одного первого любовника, тулузца с невозможным акцентом. С моей стороны было большой ошибкой жениться на этой комедиантке, но я прекрасно сделал, что предпочел ее добродетельной и романтичной англичанке. Коломбина, взяв обратно свою свободу, не отняла у меня моей. Предпочтя мне осла, она не отняла у меня моего ума. Наконец, не оценив ни моего таланта, ни моего сердца, она оставила и мое сердце, и мой талант неприкосновенными. — Понимаю, — сказал я, — женщина, давшая вам богатство и положение в обществе, имела бы нравственно право на вашу жизнь и смерть. — И чем с большей кротостью она овладевала бы мной и покоряла бы меня себе, тем более я считал бы себя закованным в цепи и побежденным, ибо я добр и честен, подобно тебе; но до чего я был бы несчастен в важной клетке общественных приличий! Артист-комик, не проявляющий в частной жизни такой же веселости, как на сцене, мигом впадает в меланхолию и доходит до самоубийства. Наконец, я не раз отталкивал от себя богатство во всяких других формах. Я никогда не хотел цепей, и все находят, что я был неправ; но я признаю свою правоту, потому что я по-прежнему чувствую себя молодым и живым. Не высказывай мне своего мнения на мой счет — это бесполезно, подумай о своем собственном положении. Ты красив и не комичен. Особа, которой ты нравишься, кажется настолько серьезной, насколько это возможно в любви. Ты еще недостаточно втянулся в театральную жизнь для того, чтобы она оставила по себе неизгладимые сожаления. Может быть, ты честолюбив, сам того не зная, и вполне способен сыграть свою собственную роль на сцене действительной жизни. Если это так, то женись, мой милый, женись! Жизнь есть покатость, удел иных спускаться в равнины, где их ждут золото и пшеница, а удел других карабкаться на бесплодные кручи, где они пожинают лишь ветер да облака. Заставь-ка свой ум проделать несколько прыжков, вот ты и увидишь, легок он или тяжел, склонен ли он скатиться в благополучие или упорхнуть в ветерке. А засим отправимся спать. Я последовал за ним, не отвечая ему, неуверенный и усталый. Я бросился на постель и не мог придумать никакого выхода из моих колебаний. Белламар проспал несколько часов и приготовился к отъезду с Империа и Анной, совершенно поправившейся. — Я оставлю тебя здесь до завтра на свободе, — сказал он мне. — Пойди к Леону и осмотри с ним достопримечательности города. Ты можешь даже попросить у него совета, не упоминая о доме № 25 и не рассказывая ему никаких подробностей, никаких сведений, которые помогли бы ему потом узнать случайно заинтересованную личность. Впрочем, на Леона можно положиться в той же мере, как и на меня, — это серьезный молодой человек, ум высшего закала. Его мнение должно иметь в твоих глазах более веса, чем мое. — А мне-то вы не скажете фамилии графини? — Никогда, пока она не даст мне на это разрешения. Кстати, мне поручено, если ты помнишь, узнать, свободно ли твое сердце. Ну, что ж, свободно оно или нет? В эту минуту Империа вышла из своей комнаты, неся в руке маленький дорожный мешок из полинялого и стертого трипа и плотнее заворачиваясь в складки жиденького дорожного плаща, чтобы скрыть платье, прорвавшееся у проймы. Контраст между этой целомудренной бедностью и роскошью дамы в дорогих кружевах поразил меня, открывая мне глаза на мои собственные инстинкты. Честолюбив ли я? Чувствителен ли я к обаянию роскоши, так соблазнительно играющей перед непривычными к ней глазами? Бедность была ли мне противна? Мог ли я вызвать в своем воображении такое наслаждение роскошью, которое было бы способно заставить меня позабыть дорогой образ моей маленькой подруги? Душа моя кричала изо всей силы, внезапно и пронзительно: «Нет!» — Ну, что же, — продолжал тихим голосом Белламар, — я спрашиваю тебя, свободно ли твое сердце? Глух ты, что ли? — Знаете что, — отвечал я тихо, — ее сиятельство графиня чересчур любопытна. Белламар взял меня за руку, отвел на два или на три шага от Империа и сказал: — Если ты думаешь об этой, то не можешь думать о той. Я не посмел доверить своей тайны Белламару. Очень уж я боялся, чтобы он не оказался против меня. Я отвечал ему, что я безусловно свободен и что, прежде чем отказаться от такого большого преимущества, я еще хорошенько подумаю. — Завтра вы присоединитесь к нам в Туре? — сказала мне Империа, садясь в вагон. — Не забудьте, что без Леона и без вас мы не посмеем сделать и шага. — А как же другие и наш милый директор? — Наш милый директор будет слишком занят всеобщим устройством, а другие, хоть и очень милы, но это не вы. Прощайте! Веселитесь хорошенько и не забывайте нас. Она уехала, взглянув на меня с таким целомудренно-дружеским видом, что волнение, испытанное в голубой спальне, показалось мне пустым сновидением. Империа точно угадывала мое положение, и я уверил себя, что глаза ее говорили мне: «Не любите никого, кроме меня». Я не заикнулся об этом Леону. Раз я больше не колебался, мне нечего было советоваться с ним. Я говорил с ним только о нем. Его друг из дома № 23 происходил из хорошей семьи и был достаточно образован и серьезен для человека праздного. Мы вместе осмотрели замок Блуа, все исторические подробности о котором он интересно нам рассказал. Вечером он предложил нам остаться у него и просто поболтать за стаканом пунша, покуривая отличные сигары. В течение этого мирного разговора я понял в первый раз, что за таинственные мысли обуревали Леона. Леон был уже не мальчик, ему было тридцать два года, он много пожил и многому научился в жизни. Театр был всегда его преобладающей страстью. Он любил все его фикции и не мирился ни с одной его действительностью. Его поддерживал дух, а не долг. Он любил все свои роли, он всегда дополнял их в уме и, тщательно заботясь о своей внешности, гриме и костюме, выходил всегда на сцену убежденный, что он и есть изображаемое им лицо. Но в то же время он и ненавидел все свои роли, потому что находил их очерченными и написанными не в духе его чувства. Наконец, он был слишком большим мастером для того, чтобы быть виртуозом, слишком начитанным для того, чтобы быть исполнителем, и постоянно внутренне восставал против своей задачи, не желая, однако, отрекаться от нее и не будучи в состоянии думать о чем-либо другом, кроме своего дорогого и омерзительного ремесла. Он и сам писал, как я уже вам говорил, и я всегда был уверен, я и теперь еще уверен, что в нем был гений, но самый несчастный гений, какой только может выпасть на долю человека, — гений без таланта. Его пьесы были полны оригинальности, сильных порывов, сильных и простых положений; они носили ту печать величия и отличались той строгостью сценических средств, которые встречаются у великих мастеров прошлых времен. Несмотря на эти высшие качества, в большинстве случаев они были невозможны для постановки, и для того, чтобы публика могла понять их, их нужно было бы совершенно переделать и исправить. Если бы их играли перед десятью или двенадцатью начитанными людьми, они привели бы их в восхищение, но во всякой многочисленной публике большинство представляют невежды или ленивые умы, которые не могут ни доискиваться, ни сравнивать, ни помнить, ни угадывать. Особенно в провинции не следует ничего предоставлять толкованию толпы; она заходит чересчур далеко в подобном деле и страшно возмущается тем, что нимало не шокировало бы серьезные, образованные умы. Леон немного сердился на Белламара за то, что тот сыграл до сих пор всего лишь одну или две из его пьес, да и то еще потребовал от него значительных изменений и жертв. Он говорил, что долг такого умного человека, такого истинного артиста, как наш директор, заключается в том, чтобы попытаться обучать и воспитывать публику, даже создать ее, в случае надобности, вместо того, чтобы подчиняться дурному вкусу и подлаживаться под невежество публики всех стран. Белламар на эти упреки отвечал так: — Дай мне театр и сто тысяч франков субсидии, и я клянусь ставить твои пьесы и все пьесы тех неизвестных авторов, у которых окажется гений или талант, хотя бы пьесам этим и не было суждено иметь никакого успеха. Я не положу ни копейки в карман и буду очень рад работать для одного лишь искусства; но из ничего ничего и не сделаешь. Леон опускал голову. Он не обвинял Белламара, он его уважал и любил, но он обвинял время и людей, он презирал свой век, чувствовал себя в нем тесно и влачил жизнь, как осужденный, не заслуживший своей участи. Он не желал делать никаких уступок публике, а его приятель из Блуа одобрял его, советуя не отрекаться от убеждений своего гения. Я же чувствовал, что гений этот едва ли имеет право на такую нетерпимость, но я не смел высказывать ему этого, потому что он сам это чувствовал и это-то и была настоящая причина его печали. Он жаждал красоты и не умел найти в себе того источника, у которого истинно одаренный человек утоляет свою жажду. Что касается меня, то я не оказался лучше в Туре, чем в Божанси, и Вандом не увидел еще расцвета моего таланта. Другие города, где Белламар наживался, или наоборот, не обратили на меня большого внимания. Я был только-только сносен. Я не составлял пятна в общем ансамбле, но и не блистал в нем сам по себе, и товарищи мои не имели более иллюзий на мой счет. Белламар, по-прежнему отечески ко мне добрый, уверял, что я ему полезен. Тем не менее, я не мог заменить Ламбеска, который был для него невыносим, и он мог отпустить его только к концу нашего турне. Так все и закончилось, не принеся с собой никакого оправдания моей внутренней надежде сделаться опорой и мужем Империа. Она собиралась вернуться в «Одеон», а я не мог и подумать просить ангажемента в этот театр. Конечно, было немало других актеров, таких же бесцветных, как и я, но они окончили консерваторию. Бокаж их недолюбливал. Он говорил, что кроме тех случаев, когда они оказывались одарены каким-нибудь особым дарованием, все они были отмечены одной и той же плойкой[327] и были не в состоянии приспособить свои прямые линии к его преподаванию; но эти ученики имели свои права, а я их не имел. Я не хотел хлопотать понапрасну. Я мечтал только сохранить право входа для того, чтобы быть подле Империа. Впрочем, наступили каникулы, и отец рассчитывал на меня. Я расстался со своими товарищами в Лиможе, и там Белламар предложил мне ангажировать меня на зиму, которую он рассчитывал провести на севере Франции, или доставить мне ангажемент в какой-нибудь труппе, основавшейся в большом городе. Я поблагодарил его, но отказался, собираясь пока что вернуться к занятиям в Париже и не уезжать далеко от Империи. Дружба ее, за неимением ее любви, была единственной моей радостью, и я все еще надеялся, не зная, каким путем я этого достигну, иметь возможность предложить ей свою жизнь. Я сослался на то, что прежде, чем окончательно посвятить себя драматической карьере, я хочу посоветоваться с родными. Белламар одобрил меня. — Значит, — сказал он, — дело это пока решено. Если ты передумаешь, приходи ко мне. Стоит тебе написать в «Одеон», и ты всегда узнаешь, где я. Впрочем, можно и вовсе посылать письма на имя Констана, и они дойдут до меня. Но нам с тобой надо еще покончить с другим счетом. Я больше не заговаривал с тобой о графине, ты меня о ней больше не спрашивал. Я ждал первого шага с твоей стороны, и ты его ждал, быть может, с моей, — словом, теперь, прежде чем мы расстанемся, мы должны объясниться по этому поводу. — Разве вы еще не написали этой даме? — Как же, я написал ей правду. Я сказал ей, что ты совершенно против воли подслушал ее тайну, но что тем не менее ты не знаешь ни ее лица, ни ее имени. Я добавил, что ты показался мне неуверенным, что я посоветовал тебе хорошенько подумать и что я не расстанусь с тобой, не спросив у тебя, каковы результаты твоих размышлений. Говори же, время для этого пришло. — Скажите ей, — отвечал я, — что я тронут и признателен ей; что прелесть ее поразила меня, хотя и через непроницаемую вуаль; что я разглядел кончик божественной ножки и золото царственных волос… Не говорите ей, что волосы эти могли быть фальшивыми и что трудно влюбиться в женщину, скрывающую свое лицо и даже звук своего голоса; но вы можете сказать ей, что искренность ее речи переполнила меня доверием и уважением. Да, скажите ей это; ибо это правда, и чем более я об этом думал, тем я более уважал ее. Вам незачем прибавлять, что если бы она заговорила о браке… Но эта серьезная вещь сделала меня серьезным, и вы можете добавить в заключение, что я чересчур молод для того, чтобы согласиться без страха на такую высокую участь. Чтобы воображать себя достойным ее и быть уверенным, что всегда будешь ее заслуживать, нужно немалое самодовольство. — Отлично, — вскричал Белламар, — все это выражено так, что мне нечего тут изменять. Но нет ли у тебя в сердце небольшого постскриптума сожаления, который смягчил бы торжественность отказа? Ибо это отказ — это ясно, и как знать, не раскаешься ли ты в нем года через два или три? — Мой милый директор, я ждал вашего ответа с сильнейшим волнением, настоящей причины которого вы не угадываете. Вот она: если бы вы действительно находили во мне талант, вы сказали бы мне, не задумываясь: «Не думай о графинях, учи-ка свои роли!» Ваше молчание доказало мне, как мало вы верите в мою артистическую будущность. Таким образом,вполне возможно, что я делаю величайшую глупость, кладя конец этому прелестному приключению отказом. Но хотя я и не очень много об этом думал, я нахожу, что нужно решиться именно на этот отказ или сыграть роль смешного или недобросовестного фата. Я слишком молод, чтобы быть Дон-Жуаном; напрасно захотел бы я злоупотребить преимуществами, доставленными мне случаем над этой женщиной, — я не сумел бы обманывать. Я предпочитаю сознаться в своей наивности и утешиться ее уважением. — Отлично, — продолжал Белламар, — опять-таки отлично! Положительно, у тебя золотое сердце, и я все еще надеюсь, что из тебя выйдет артист. Посоветуйся со своей семьей и, если тебе не помешают, подожди времени закрытия «Одеона», когда я, как обыкновенно, приеду провести несколько недель в Париже. Мы примемся за дело вдвоем, и мне сдается, что я с помощью жеста, мимики и интонации извлеку из тебя наружу все то, что в тебе заключается доброго и прекрасного. Я расстался с ним со слезами. Все мои товарищи обняли меня и поцеловали, один лишь Моранбуа повернулся ко мне спиной и пожал плечами, когда я вздумал поцеловать его. — Разве же я сделал что-нибудь дурное? — сказал я ему. — Вы меня более не уважаете? — Ты врешь, — возразил он своим самым презрительным тоном. — Я такой кретин, что люблю тебя. Но ты свинья, что оставляешь нас в ту минуту, как к тебе привязались! Вот они — молодые люди! Вечно неблагодарные! — Я не Леон, — сказал я, целуя его против его воли, — и если я окажусь когда-нибудь таким, как он, то я вам позволяю презирать меня. Что касается Империа, то мне показалось, что она гораздо более занята новой разучиваемой ею ролью, чем моим отъездом, и это меня так горько обидело, что я решил уехать, не попрощавшись с нею. Она была в театре с Анной, с ожесточением репетируя какую-то сцену. Но в ту минуту, как я садился в дилижанс, она прибежала, запыхавшись, со своей подругой. Они принесли мне хорошенький сувенир, вышитый ими для меня за кулисами во время репетиций, а Империа распрощалась со мной, так прелестно улыбаясь сквозь слезы, что я опять ощутил себя преданным ей телом и душою. Отец встретил меня с радостью и едва спросил, как я провел время. Видя меня трудолюбивым и, по-видимому, довольным своей судьбой, он не пытался сообразить, почему я пропутешествовал все лето. Между тем, я чувствовал себя точно в отчаянии, и в первый раз мой родной город, дом и все существование мое показались мне невыносимыми. Я увидел, какая бездна отделяет меня от товарищей моего детства, и грубость моей привычной среды оскорбляла меня, как несправедливость судьбы. Поразмыслив об этом, я быстро понял, что ни среда эта не виновата в том, что я более не могу с нею примириться, ни я сам не виноват в том, что она меня больше не удовлетворяет. Вся беда шла от наивного стремления отца дать мне воспитание, превышающее его положение. Чтобы действительно выйти из него совсем, мне нужны были не только годы усидчивой работы и безграничного мужества — на это я чувствовал себя способным, — но еще известное превосходство ума, а моя посредственная попытка стать актером повергла меня в страшное сомнение в самом себе. Вы скажете мне, что это было неблагоразумно, что так как театр — совсем особая специальность, то мои неловкость и застенчивость не должны были внушать мне боязнь к адвокатуре, совершенно другой специальности. Я уверил себя и до сих пор еще воображаю, что сцена и адвокатура — одно и то же и что оратор из меня вышел бы еще худший, чем актер. Терзаясь этими опасениями, я довел себя до того, что был не способен с ними бороться и стал испытывать глубокое отвращение к юридическим занятиям. Мне было не на что купить себе контору присяжного поверенного или нотариуса, я предпочитал быть скорее садовником, чем навеки первым клерком нотариуса. Я не хотел и думать о возможности поступить в суд: мы уже находились в политическом течении, готовившем диктатуру, а у меня были убеждения и пылкость, свойственные моему возрасту. Я не желал прибегать ни к покровительству дяди, барона и депутата, ни к покровительству остальных тузов нашего департамента: чтобы получить их поддержку, пришлось бы оказывать услуги такому реакционному движению, которого не допускала моя кипучая натура и в прочность которого тогдашняя молодежь не верила. Однако мы с вами пришли сюда не для того, чтобы беседовать о политике. Ваши убеждения мне неизвестны, а о своих мне вам говорить нечего. Но я должен вам сказать, что я сохранил первобытную дикость своего нравственно-независимого характера и что в этом отношении я не ошибся, пустившись в артистическую жизнь; только хорошо было бы, если бы это стремление к свободе подкреплялось бы настоящим талантом, а у меня, может быть, и вовсе не было никакого таланта! Что делать? Тем хуже для меня! Меня томила скука, ибо из всех причин скуки нерешительность — самая тягостная. Я был в отчаянии, что не нахожу цели для своего будущего и что не знаю более, к чему применить мой ум, способность к учению, мою память, силы моего темперамента, сердца и души. Мне было почудилось, что я не первый встречный, что из меня может что-то выйти, и вдруг я обнаруживал в себе лишь бессилие да упадок духа, а кругом себя — лишь препятствия да бездны. Я заражался болезнью Леона, я ощущал на себе ее ужас. Тысячи молодых людей находятся в том же положении, потому что они из народа; как только их родители выйдут из нужды, — сейчас же стремятся толкнуть своих детей на более высокое поприще. Барчуки, положение которых заранее обеспечено, не знают, что нам приходится терпеть в том нежном возрасте, когда, покончив с постылым рабством ученичества, мы вырываемся на свободу, ведущую к одному лишь несчастью, если только не удастся все преодолеть или не выпадет необыкновенное счастье. Когда один из нас добивается положения, то в глазах родителей, принесших для него жертвы, он только исполняет свой долг; тот же, кто гибнет по недостатку ума и энергии, жестоко осуждается. Для нас делают и слишком много и слишком мало. Было бы лучше давать меньше, но и требовать меньше. Отец мой не был способен так жестоко осудить меня, но я знал, что ему будет тяжела моя неудача, и спрашивал себя, не долг ли мой отговорить его от химеры прежде, чем надежда пустит прочные корни. Было еще время сказать ему, что я не чувствовал в себе того призвания, которое он приписывал мне, что я пробовал говорить публично и оказалось, что я говорю плохо, — одним словом, что я предпочитаю помогать ему дома и выучиться его ремеслу под его надзором. Конечно, мне следовало так поступить тогда же; но, с одной стороны, я был охвачен любовью и желанием следовать за своим кумиром, а с другой стороны, ручной труд, к которому я не был приучен, просто пугал меня, и я не мог победить отвращения, внушаемого мне этим насильственным, неизбежным тогда для моего ума оглуплением. Я чувствовал себя способным скорее не извлекать никакой пользы из своей воли, чем отдать ее в такое рабство. Я был совершенно неправ и ужасно заблуждался: примирение с леностью — это самая пагубная мысль, которая может прийти в голову человеку. Я и не подозревал, сколько сил таится в душе, когда она решилась защищаться; но, что прикажете, я был слишком молод, чтобы знать это. Среди этих тайных треволнений я получил — и следует заметить, в один и тот же день, — два письма, за которыми я сейчас сходил в свою комнату и которые вам прочту. Первое письмо от Империа. «Гаага, 1 октября, 1850 г. ДОРОГОЙ ДРУГ! Вы обещали писать нам, и молчание ваше начинает нас тревожить. Белламар поручает мне сказать вам это, и я присоединяюсь к его упрекам. Неужели вы так скоро позабыли своих товарищей и друзей, вашего доброго директора и сестрицу Империа, которая не может примириться с этим без сожаления? Нет, это невозможно! Или вы чересчур счастливы в своей семье для того, чтобы украсть у нее часок и посвятить его нам, или вас обуревает какая-нибудь прискорбная забота, о которой вы не хотите сообщать нам раньше, чем неприятность пройдет. Не болен ли кто-нибудь из ваших родных, быть может, ваш отец, которого вы так любите и о котором так много говорили со мной? Словом, найдите минутку для того, чтобы успокоить всех нас, и если вас до такой степени поглощают удовольствия каникул, охота, экскурсии, местные и семейные развлечения, нам будет приятно это узнать, и мы не потребуем длинного письма. Хотя мое письмо рискует прийти к вам в такую минуту, когда оно не будет очень интересно для вас, я все-таки должна сообщить вам кое-какие подробности о нас. Я начну с себя, потому что вы, вероятно, удивлены, видя по марке, что я не в Париже. Видите ли, я приняла вдруг важное решение в этом году. „Одеон“ принял условия моего нового ангажемента, и через несколько дней после того, как вы распростились с нами в Лиможе, господин Белламар получил этот ангажемент, подписанный господином Бокажем, не хватало только моей собственной подписи. Я заранее все обдумала и хорошо понимала, что, увеличивая мое скромное жалованье, от меня потребуют таких успехов, которых я не сделала; кроме того, я помнила, как тяжела и печальна жизнь в Париже для совершенно одинокой женщины! Сердце мое разрывалось при мысли о необходимости расстаться на целых три четверти года с этой труппой, сделавшейся моей семьей, с которой я так счастлива, для того, чтобы жить затворницей в моей маленькой, сырой и темной парижской комнате, где прошлой зимой здоровье мое не блистало и где, в случае более продолжительной болезни, мне придется принимать подаяние от товарищей или привратницы или умереть одной в своем углу, подобно птице, выпавшей из гнезда. Наконец, Париж пугал меня в настоящем и в будущем. Если во мне суждено развиться таланту, то не там я могу его развить, не имея средств платить хорошему профессору и не желая быть обязанной своим успехом его милосердию. Вы знаете, что я недоверчива к незнакомым людям, и я прячусь под те крылья, где я знаю, что мне будет покойно. А потому я стала умолять господина Белламара оставить меня в его труппе в качестве ученицы и актрисы, и он, употребив все свое великодушное красноречие с целью доказать мне, что я поступаю против своих интересов, уступил, наконец, моим просьбам. Таким образом, вы не увидите меня более в Париже ни этой зимой, ни, пожалуй, и будущей, ибо я не чувствую в себе того честолюбивого стремления, которое мне приписывали, воображая, что я хочу там разбогатеть и выдвинуться. Я нахожу себя более на месте в этих провинциальных городах, где требуют гораздо меньше и где мы остаемся достаточно долго для того, чтобы надоесть зрителям. Я чувствую в себе цыганские наклонности, как я уже вам говорила. Во всем этом замешано столько же скромности и благоразумия, сколько и личного вкуса. Обо мне вы теперь знаете. Перехожу к другим действующим лицам нашего комического романа. Анна по-прежнему с нами и по-прежнему прелестная артистка, превосходный друг и партнер, хотя Моранбуа все так же безжалостен к ее мигреням. Вышеупомянутый Моранбуа нимало не смягчил своего стиля, но он перестал считать меня жадной эгоисткой, и в сущности это лучший из людей. Леон окончил драму, которую я нахожу прекрасной в чтении, но которая так же неисполнима, как и другие. Тем не менее я думаю, что здесь можно рискнуть сыграть ее. Невозмутимые голландцы, которые нас набожно слушают с таким видом, точно они не понимают ни единого слова, выслушали бы так же спокойно самые большие эксцентричности, как и другие новинки нашего репертуара. У них все прошло бы так же легко, как вода в решето; я думаю, что они никогда и не слыхали о том инструменте, что называется свистом. Правда, им неизвестно также, что такое аплодисменты, и, если бы не было перед глазами всех этих широких лиц, пышущих здоровьем, можно было бы подумать, что играешь в пустыне. Уверяю вас, что в иные минуты их неподвижность, пристальный взгляд их эмалевых глаз, безусловное равнодушие их одинаково румяных лиц производят впечатление сборища восковых фигур, отлитых в одной форме, которыми наполнили бы пустую залу, чтобы изобразить публику. В этом есть что-то страшное, что вас леденит и сжимает вам горло; а потому я играю здесь еще хуже, чем когда бы то ни было. Ламбеска заменяет Меркер, жеманник, как мы выражаемся, который подражает Фредерику Леметру… так, что никто не поддается обману; но он хороший человек, у него жена и дети, он работает, как лошадь, и рычит, как простуженный лев. Маленький Марко день ото дня совершенствуется. Из всех нас он имеет более всего успеха у публики, которая повсюду одинаково любит шутов. Сам по себе он славный мальчик, он вас любит и очень жалеет, что вас нет. Люцинда уехала на зиму к своему виноторговцу, который овдовел и за которого она намеревается выйти замуж. Не все ли равно? Вместо нее у нас Камилла, бывшая красавица и сохранившая еще талант. Пурпурино больше нечего делать с тех пор, как Марко играет его роли. Он худеет от зависти; чтобы утешить его, Белламар обещает ему дать продекламировать рассказ Терамена в ближайшем бенефисном спектакле. Кажется, все. Я заканчиваю, пожимая вам обе руки, и не говорю вам о возможности вашего возвращения в „странствующую овчарню“. Наш директор собирается написать вам в первую свободную минутку, которую ему удастся выкроить. Поклон от меня и от других ваших верных и преданных товарищей. Империа»
Сначала мне показалось, что я оживаю, читая эти маленькие каракульки; я целовал их тысячу раз, обливал слезами, объяснял по-своему их веселость, беззаботность и милую доброжелательность. Надо было, чтобы я прочел второе письмо для того, чтобы понять пустоту и холодность первого. Вот оно, слушайте: «Наконец-то г. Б… написал мне. Вы сказали „нет“. Итак, нет; я хорошо вижу, что нет. Я принимаю ваш искренний приговор без досады, стыда и отчаяния и только еще более ценю ваш характер. Быть может, я немного испугалась бы самой себя, если бы вы сказали „да“; но теперь я спокойна и горжусь своим выбором, ибо вы останетесь, хотите вы того или нет, тем, кого я выбрала, кого я захотела в мужья, кого я уважаю, кого я люблю. Вы больше никогда обо мне не услышите, и вам не придется узнать с сокрушением, что я умерла от своей любви. Напротив, я буду ею жить. Она будет событием, серьезным романом, прекрасным и хорошим воспоминанием в моей жизни одинокой женщины. Я не знаю, какова будет моя жизнь среди окружающего меня света, но я знаю, что в глубине моей ожившей души отныне не будет более ни боязни, ни скуки. На дне души моей будет одна уверенность, одна мысль, одна вера, одна нежность и благодарность; там будете вы, теперь и всегда. Незнакомка из Блуа»
— Позвольте мне не показывать вам ее почерк, но могу вас уверить, что он ясен, тверд, изящен и быстр. Он понятен, как детская душа, как материнское сердце. У меня забилось сердце, точно я почувствовал, что мне на голову легла эта великодушная и честная рука, и точно таинственный голос, слышанный мною из голубой спальни, говорил мне на ухо: «Ах ты, безумец, как ты можешь колебаться и сомневаться?» Я снова перечитал письмо Империа; в нем ясно говорилось, что в отвращении и боязни касательно жизни в Париже мысль встретиться там снова со мной ни на волос не имела значения. Из целомудрия или правдивости мне говорили в нем о дружбе лишь от имени всей компании. Но сердце, которое могло бы внести украдкой, умышленно или инстинктивно, свою личную ноту в общий концерт, ни разу не проявилось и не выдало себя. Желание вернуть меня в «странствующую овчарню» не было высказано. Я дрался из-за нее и никогда не говорил ей о любви, она и была мне благодарна за это. Она уважала меня настолько, что писала мне, но вся труппа видела ее письмо, и всякий мог его комментировать. Ее заявления о любви к спутникам ее бродячей жизни были по их адресу, а не по моему. Моранбуа был прав. Она никогда не полюбит; благоразумная и холодная, как ее талант, она нуждалась в комедиантстве для того, чтобы немного оттаять и не наскучить себе самой своим собственным благоразумием. Она любила не искусство, а движение и развлечение, необходимое ее боязливому и ледяному темпераменту. Какая же прихоть, какая мания влекли меня к ней? Почему я пренебрег этой незнакомкой, не побоявшейся открыть всю свою душу? Мне принадлежало ее сердце, я владел упоительной тайной невидимой женщины, имени которой я не знал. Но настоящей незнакомкой была та самая подруга, что говорила мне иногда «ты» в пылу наших ежедневных занятий, придумавшая, с целью скрыть ужасающую пустоту своего сердца, таинственную любовь, которой она на деле не испытывала. Не колеблясь, не рассуждая, поддавшись всецело своему первому порыву, я взял два листа бумаги и написал на одном: «Будьте здоровы!», а на другом «Я вас обожаю!» На первом я поставил имя Империа, на втором надписал: «Незнакомке», запечатал их оба и положил в конверт, адресованный Белламару. Но мне не хватило духа запечатать этот конверт. Я вынул обратно записку к Империа, уверяя себя, что я чересчур горд для того, чтобы показывать ей свою досаду. Я решился на отсрочку и, притворяясь, что не получил еще ее письма, написал Белламару: «Вы меня забываете. Случайно я узнал, где вы. Я хочу сказать вам, что люблю вас по-прежнему, как отца, и прошу вас передать от меня поклоны моим товарищам, если они еще меня не забыли. Не окажете ли вы мне услугу переслать незнакомке… вы знаете, кому, прилагаемую записочку?» И письмо мое ушло. Я победил в себе страх, внушаемый мне моей смелостью. Рука моя дрожала, опуская в почтовый ящик эти три слова к графине, которые, быть может, связывали навсегда мою совесть и жизнь. Я это чувствовал и упорствовал. Мне было сладко порвать с Империа. Я смаковал нечто вроде мести, о которой не смел ей сказать и которая не достигала ее, над чем она посмеялась бы, если бы узнала об этом; мести, которая могла жестоко отозваться мне, но которая удовлетворяла мою гордость и избавляла, с моей точки зрения, от целого года притворства и мук. Так прошло несколько дней, но потом мне пришло в голову, что пора бы, однако, ответить Империа. Мне удалось после продолжительных усилий написать ей самое сумасбродное и веселое письмо. Я вложил в него много кокетства и думаю, что побежденный мной гнев придал мне остроумия. Я выразил ей ровно ту самую долю привязанности, которую она мне отмерила, и не выказал никакого желания снова с нею встретиться. Я еще раз сжигал свои корабли, думая, что сжигаю их в последний раз. Этот инцидент возвратил мне желание работать. Если графиня примет мое запоздалое признание и поймет внезапный крик моего сердца, то я должен употребить время разлуки с нею на то, чтобы стать достойным ее. Для этого мне было необходимо сдать экзамен на адвоката и сделать испытание весьма сомнительного таланта; но я должен был изучать право для того, чтобы не оказаться непригодным к борьбе в повседневной жизни, а в то же время я должен был, насколько возможно, всесторонне развивать и совершенствовать свой ум. А потому я снова принялся за работу с каким-то остервенением. Я добыл все те серьезные книги, которые мне могли одолжить у нас. Я принялся изучать совершенно один языки, музыку, рисование, естественную историю, собираясь мысленно провести следующий год в Париже и брать там столько уроков, сколько моя законная супруга будет в состоянии доставить мне и сколько их можно будет брать в течение дня. Отец мой, так гордившийся, когда я писал и читал время от времени, восторгался теперь, видя, что я читаю и пишу и днем и ночью. Он не имел никакого понятия о том, что такое умственное утомление. Я ждал с тревогой результата моего объяснения в любви графине. Я разочаровался, не получив никакого ответа. Каникулы кончались. Я уехал в Париж без определенного плана, но, полюбив труд и подстрекаемый самолюбием, желая загладить свой провал на сцене приобретением серьезных знаний, я сдержал данное самому себе слово: я удалился от своих прежних товарищей по удовольствиям, заперся со своими книгами и выходил из дому только на курсы или на частные уроки. Я был уже месяц в Париже, когда получил от нее эти несколько слов: «Я была в отъезде. Вернувшись, нашла вашу записку. Как она меня смущает! Что она значит? Объяснитесь: почему было „нет“ и почему теперь „да“? Отвечайте мне на имя мадам Агаты Бурэ, Париж, на почте до востребования. Письмо ваше дойдет ко мне через два дня». Я отвечал: «Я люблю вас, хотя никогда вас не видел. Я люблю вас, несмотря на все, что нас разделяет. Я хочу быть таким же искренним, как вы. Когда я слышал вас в Блуа, я был околдован. Ваше письмо прогнало пустой призрак. Оно схватило меня, как волна подхватывает потерпевшего крушение и делает из него все, что угодно. Когда я осмелился сказать вам это, это было безумием. Осмеливаться повторять вам это — тоже безумие. Я унижаю себя, я бледнею в ваших глазах, признаваясь вам, что я лишь обломок, быть может, я гублю себя этим, но я не хочу ничего скрывать от вас. Вы назвали, вы угадали сами ту, кого я любил. Она же этого не знает, она этого не угадала! Она никогда этого не узнает, вы теперь будете видеть во мне только то, что я есть на самом деле, а именно: ребенка! Да, я ребенок, но я хочу стать человеком и я с жаром работаю, чтобы знать, понимать, существовать. Не говорите мне больше, что я должен дать вам свое безвестное имя и принять ваше богатство, унижающее меня и приводящее меня в отчаяние. Скажите мне только, что вы будете еще любить меня, что вы мне станете писать, ободрите меня и позвольте любить вас. Любить, любить, будем говорить лишь о том, чтобы любить. Только это я и понимаю и чувствую, все остальное — мечты!» Через неделю я получил от нее следующий ответ: «Империа очаровательно грациозна, изящна, красива. Я знаю, кто она, она более высокого происхождения, чем я. Ее назначение восстановить своим талантом блеск своей судьбы, омраченный не по ее вине. Вы любили ее, это было неизбежно. Она этого не угадала, что доказывает, что она целомудренна и что вы ее глубоко уважаете. Любить и не сметь сказать — это самая большая любовь, какую можно испытывать! Хотите, чтобы я ей сказала? Отныне все мое счастье и гордость заключались бы в том, чтобы обеспечить ее союз с человеком, достойным ее. Невозможно, чтобы она не любила вас; не боритесь сами с собой; вы можете потерять в этой борьбе вашу искренность, что составляет теперь благородство и прелесть вашей прекрасной и доброй души. Оставайтесь таким, какой вы есть, таким-то я и буду любить вас так, как сестра любит брата или мать любит своего ребенка, раз вы еще ребенок. Скажите слово, и я полечу в Гаагу, объясню все Белламару, и мы возьмемся за ваше дело ловко, деликатно и решительно. Я приведу к вам Империа, женю вас и тогда откроюсь вам». Это письмо подавило меня. Я Понял, что я погиб. Незнакомка моя была самая мужественная, самая великодушная из женщин, но она была женщина. Мне не следовало высказываться так искренне; она не доверяла моей исповеди, она больше не верила в меня. Она отсылала меня обратно к Империа; она писала мне без угрызений совести то, что я чуть было не написал той: «Будьте здоровы!» — то есть, любите, кого вам угодно. Гордая и высокомерная, она хотела играть главную роль и не снисходила до борьбы. Она не хотела помогать мне отбиваться от возможного повторения припадка, не желала давать себе труда исцелить плохо подавленное сожаление. Она имела энергию предложить себя, но не имела энергии отвоевать. Припоминая все слышанное мною из голубой спальни, я сообразил, что ее попытка выражала и заключала в себе эту смесь мужества и осторожности. Она захотела узнать, свободно ли мое сердце и может ли она овладеть им без опасности; она не позволяла говорить мне о себе прежде, чем не убедится в этом существенном пункте. Без сомнения, Белламар удовлетворил ее на этот счет, и тогда она приписала мой отказ только скромной гордости бедняка, испуганного ролью, превышающей его положение. Вот почему она и написала мне то очаровательное письмо, которое победило меня и позволяло ей парить выше меня в сознании ясной силы ее великодушной привязанности. Мне следовало понять, промолчать и предоставить действовать искреннему и деликатному поверенному наших чувств. Я не посмел поведать ему свои секреты — ему, этому добрейшему Белламару! Он был чересчур близок с Империа. Он, пожалуй, дал бы ей угадать, что я ее люблю или что я ее больше не люблю. Что мне следовало ответить графине? Не знаю, только я не мог ничего ей ответить. Напрасно пробовал я написать ей. Всякий порыв любви, всякое откровенное признание, которое я пытался выразить, погружали меня все глубже и глубже в тину унижения. Я не находил более в себе силы убедить ее; моя уверенность исчезла вместе с ее доверием. Она обращалась со мной, как с нерешительным ребенком, почти как с ребенком лживым; я спрашивал себя, не права ли она, не читает ли она во мне яснее, чем я сам. Как писать или говорить, когда знаешь, что всякое слово послужит предлогом к укоренившемуся подозрению? Мне показалось, что я теперь перед нею, как тогда перед публикой, когда при каждом холодном слове моей декламации мне казалось, что каждый зритель говорит мне: «Скверный гаер, ты не чувствуешь ничего из того, что ты говоришь!» Я ей не отвечал, то есть, я написал писем двадцать или, пожалуй, тридцать, но сжег их все. И при каждом сжигаемом письме я был рад и говорил себе: — Не затевай борьбы, в которой ты будешь побежден. Если бы даже эта женщина полюбила тебя настолько, чтобы избавить тебя от страха перед неравным браком и отдаться тебе, придет минута, когда она опомнится; она сильнее тебя, потому что она спокойнее, потому что ее роль первенствует над твоею и подавляет ее. Ты будешь любить ее страстно, безумно, пройдешь через бури молодости и ошибки неопытности. Великодушная навсегда, с предвзятой мыслью, она станет подавлять тебя своей кротостью, забвением, а может быть и пренебрежением! Нет, сто раз нет; вырви ее из своего воображения и, если соблазн ее предложения проник в твое сердце, скорее раздави свое сердце, чем унизь его. Я сдержал данное себе слово и не писал больше. Я отчаянно погрузился в занятия. Я воздерживался от всякого удовольствия, не позволял себе театра, меня не видали больше ни на скамьях, ни за кулисами «Одеона». Я приобрел не то что много знаний, но много понятий и осознал с удовольствием, смешанным с ужасом, что я выучиваюсь всему легко и что я — мастер на все руки; значит, пожалуй, что все руки у меня коротки. Так прошла зима. Я не думал больше об Империа и считал себя исцеленным от любви к ней. К весне я почувствовал беспорядок в моей утомленной голове, головокружения и отвращение к пище. Я не обратил на это внимания. Так как в апреле все это повторилось, то я совершил большую прогулку солнечным днем в окрестностях Парижа, думая освежить себе кровь ходьбой. Вернувшись домой, я слег: у меня обнаружилось воспаление мозга. Я все спал и бредил и не знаю, что, собственно, со мной было. Раз утром я пришел в себя и ощутил огромную слабость. Я узнал свою комнату. Мне показалось, что я в ней один, и я заснул с сознанием, что хочу спать. Я был спасен. Я грезил, и отчетливые образы заменили бесформенные и безымянные призраки, чудившиеся мне в хаосе бессмысленного бреда. Мне привиделась Империа. Она была в саду, полном цветов, и я звал ее на репетицию, происходившую в другом, соседнем саду. Я привстал и позвал ее слабым голосом. Я еще грезил наяву. — Что тебе надо, милый друг? — отвечал мне ее кроткий настоящий голос. И над моей головой наклонилась прелестная головка моей милой подруги. Я снова закрыл глаза, думая, что это опять сон; но я их опять открыл, чувствуя на своем лбу, с которого она отирала пот, ее маленькую ручку. Это была она, в самом деле она, лихорадка моя прошла, я больше не бредил. Вот уже три дня, как она была подле меня. Она ухаживала за мной точно за своим братом. Белламар и Моранбуа, приехавшие в Париж вместе с нею для своих ежегодных ангажементов, сменяли ее по очереди. Тогда она отдыхала в соседней комнате, но не уходила от меня. Она рассказала мне все это, запрещая мне удивляться и допрашивать ее. — Ты спасен, — сказала она. — Теперь тебе нужен отдых и тебе больше нечего делать, как лежать спокойно; мы тут и не оставим тебя до тех пор, пока ты не будешь на ногах. Не благодари нас, ухаживать за тобой наш долг, а теперь, когда нам больше нечего тревожиться, это даже удовольствие. Она открыто в первый раз говорила мне «ты» или из чувства материнского участия, или потому, что она совсем переняла привычки странствующих актеров. Я покрывал ее руки поцелуями, плакал, как ребенок, обожал ее и больше ни о чем не думал. Она помогла мне выпить немного ею самой приготовленного лимонада. На плечах у меня были поставлены банки, которые она осмотрела и перевязала, как могла бы это сделать сестра милосердия. Я совсем не уверен в том, что, пока я лежал без памяти, она не выполняла самых неприятных обязанностей сиделки. Эта чистая и сдержанная девушка не знала ни стыда, ни отвращения у постели больного. Она прислуживала мне, как, вероятно, некогда прислуживала своему отцу. Это безграничное милосердие есть свойство актеров, которое отрицать невозможно. Империа сама принесла его с собой в эту среду, в которой она не родилась, и применяла со всею нежностью ее внимательной, рассудительной и тонкой натуры. Добрая Регина, снова поступившая в «Одеон», тоже пришла ухаживать за мной, но излишне шумела и усердствовала. Я чувствовал себя действительно лучше только тогда, когда Империа была подле меня. Анна сделала мне небольшой дружеский визит; но у нее был ревнивый любовник, который больше не пустил ее ко мне. Раз вечером Моранбуа сказала Империа: — Принцесса, — он всегда так называл ее полупочтительным, полунасмешливым тоном, — ты стала совсем бледная и желтая, чтобы не сказать — зеленая. Ты устала, я хочу, чтобы ты отправилась домой, легла и проспала бы настоящим образом ночь. Я беру на себя твоего больного и отвечаю за него. Убирайся! Моранбуа так сказал, Моранбуа так хочет! Я присоединил свои настояния к его настояниям. Ей пришлось уступить, но пока она готовила лекарства и подробно объясняла их употребление Моранбуа, я плакал точно младенец, обещавший маме быть паинькой, но не могущий видеть без горя и страха, что она уходит. К счастью, я спрятал голову под простыню, и моих бедных ребяческих слез никто не увидел. Это было моим первым притворством. Скоро, по мере того, как мой рассудок восстанавливался, я стал хитрить. В моем присутствии часто говорили шепотом обо мне, и оцепенение выздоровления делало меня равнодушным ко всему, что говорилось. Мало-помалу, приходя снова в себя, я вздумал прислушиваться, думая подслушать, если удастся, что-нибудь определенное о настоящих чувствах Империа ко мне. И вот время от времени я напускал на себя мнимый глубокий сон, которого не мог прервать никакой шум, и старался не упустить ни слова, придавая в то же время своему лицу неподвижность полной глухоты; на этот раз я выказал себя отличным актером. Единственный подслушанный мною интересный разговор был следующий разговор между Империа и Белламаром. Как вы сейчас увидите, он был решительным. — Он всегда так хорошо спит? — Всегда. — А ты больше не утомляешься? — Нисколько. — Знаешь, он теперь еще красивее при этой бледности и с черной бородой. — Да, он напоминает мне Гамлета Делакруа. — Знаешь что, моя милая, меня крайне удивляет, что ты не влюбилась, конечно, с самыми чистыми побуждениями, в этого славного и красивого малого! — Что делать! Я не люблю красавцев. — Потому что они все глупы. Но этот умен. — Конечно, с точки зрения нравственной, я его люблю, и от всего сердца. — Нравственной! Какое двусмысленное слово в ваших устах, мадемуазель де Валькло! — Не ищите тут никакой задней мысли, месье Белламар. Мне двадцать три года, и я хорошо вижу все то, что театр открывает передо мной. Значит, мне ни к чему прикидываться с вами ничего не знающей невинностью. Я знаю, что любовь есть лихорадка, вызываемая известными взглядами; я знаю, что некрасивые люди внушают настоящие страсти и что красивые люди могут их испытывать, когда они не влюблены исключительно в самих себя. Тем не менее я никогда не испытывала ни малейшего волнения ни от близости Лоранса, ни от близости Леона, который тоже очень красив и нимало не фат. Почему? Я не могу объяснить этого. Я склонна думать, что глаза мои не поддаются обаянию физической красоты. — Это странно! Разве ваш любимец был некрасив? — Должно быть, да! — Постойте!.. Давно уж я не нахожу свободной минутки, чтобы серьезно поговорить с вами, моя дорогая питомица! Скажите, существует ли действительно этот любимец? — Вы в него не верите? — Никогда не верил. — И вы были абсолютно правы, — отвечала Империа, подавляя какой-то легкий, странный смех. — К чему вы выдумали этот роман? — А для того, чтобы меня оставили в покое. — Если так, то вы не доверяли также и мне, раз вы не поверили мне этой уловки? — Я никогда не питала недоверия к вам, друг мой, никогда! — И вы решились вовсе не любить? — Решилась. — Вы считаете это возможным? — До сих пор это было возможно. — А если Лоранс любил вас? — Разве вы так думаете? — Думаю. Может быть, он покинул нас из досады на ваше равнодушие! — Я надеюсь, что вы ошибаетесь! Я очень к нему привязана, но я не чувствую к нему любви, мой друг, и это не моя вина. — Я говорил вам, помнится, ничего не уточняя, что его любят в высшем обществе. — Говорили. Но это не внушило мне желания нравиться ему. Я не кокетка. — Вы совершенство, я это знаю, и я не принадлежу к тем людям, которые скажут вам, что женщина без любви просто чудовище. Я видывал на своем веку столько влюбленных чудовищ обоего пола и мечтал в своей молодости о такой массе глупейших вещей, которые казались мне чудесными… — Что теперь вы уже ни во что не верите? — Ни во что, кроме добродетели, потому что я встречал ее два или три раза в жизни, прогуливающейся, как спокойная богиня, по грязной мостовой ада и остающейся белой и блестящей, без малейших пятнышек грязи, посреди нечистот. Вы тоже одна из этих фантастических встреч, пред которыми я преклоняюсь до земли, мадемуазель де Валькло! Я нахожу, что это так прекрасно, что ни за что не подумаю анатомировать детали представляемого вами идеала! Я нахожу, что мужчины безумцы, когда требуют от женщин чистоты для того, чтобы любить их серьезно, и стремятся немедленно же уничтожить эту чистоту в свою пользу. Слабых они только презирают, к сильным чувствуют одну ярость. Чего же им нужно? Я же весь снисходительность и прощение к первым, весь почтение и обожание ко вторым. А засим, мое милое дитя, я бегу поскорее пообедать. А что прислать тебе на обед? — Скажи трактирщику, чтобы прислал мне, что ему угодно. — Он пришлет тебе телятины! — Хорошо! — Телятины! Это мерзость — телятина; это вовсе не питательно. Не лучше ли баранью котлетку, а? — Как хочешь, mon cher; я не лакомка. — Словом, никакой чувственности в тебе нет, это известно. — Постой-ка, я обожаю картофель. — Пришлем тебе картофелю. — А прежде всего хорошего бульона для моего больного; но послушай, душка директор, деньги-то у тебя есть? — Ни копейки сегодня, моя девочка. Да это все равно — кухмистер меня знает, а завтра у меня будет получка. — Но сегодня вечером ты идешь в «Водевиль»? — Так что же, я пользуюсь бесплатным входом! — Да погода-то собачья, возьми у меня на омнибус. — А разве у тебя есть деньги? — У меня есть шестьдесят сантимов. — Каково! — Ну, возьми же их! — Лучше смерть! — вскричал он таким трагикомическим тоном, что Империа смеялась еще, когда он уже ушел. Эта приводимая мною смесь речей изящных и тривиальных, этот внезапный переход от возвышенных мыслей к вульгарной действительности обыденной жизни, это утонченное, глубокое, искреннее уважение Белламара к мадемуазель де Валькло, которой он сейчас же принимался говорить по отечески «ты», видя теперь в ней лишь маленькую ingenue своей труппы, должны передать вам, кажется, в верном тоне необычность ума умных комедиантов. В тот день это поразило меня сильнее, чем когда бы то ни было; я только что выслушал бесповоротную правду во всем ее чистосердечии и, что, пожалуй, удивит вас, она не произвела на меня тяжелого впечатления. Выздоравливающий не поддается сильным впечатлениям, у него точно одна цель — это жить, все равно, какой ценой, да, кроме того, я искренне отказался от Империа, предложив свое сердце графине. Я стал бы презирать самого себя, если бы малейшее колебание оправдало оскорбительные подозрения моей незнакомки. Даже после безмолвного разрыва между нею и мной, вызванного этими подозрениями, я нашел бы неделикатным вернуться к своей первой любви. А потому я поклялся себе быть отныне для Империа тем, чем она желала, чтобы я был, — ее братом и другом. Я называл теперь внушаемые ею мне чувства нежностью и благодарностью. В двадцать лет эти невозможные сделки принимаются смело и добросовестно: мы считаем себя такими сильными! Гордость наша так наивна! Когда я был уже в состоянии вставать с постели, Империа ушла от меня. На следующий день, который я провел в кресле у пылавшего камина, она вернулась и, не снимая ни пальто, ни шляпки, просидела со мной полдня. Я достаточно окреп для того, чтобы вести разговор, не утомляясь, и мне очень хотелось знать, в каком положении находятся дела Белламара. Подслушанное мною заставляло меня предполагать, что они не блестящи. Я спросил, делал ли он хорошие сборы в Бельгии и Голландии. — Нет, — сказала Империа, — как раз наоборот. Турне, в котором ты участвовал, было довольно прибыльно, но как только у Белламара оказывается в руках небольшой барыш, им овладевает стремление к улучшениям. Ты знаешь, что он вечно мечтает о чистом искусстве, занимаясь своим ремеслом, да к тому же он так щедр! Он поспешил увеличить всем нам жалованье и ангажировать Меркера, который не стоит Ламбеска, но получает больше того на том основании, что он отец семейства. То же самое с Камиллой, которая не стоит Люцинды, но живет только сценой. Потом сборы понизились, а жизнь на севере дорога. Напрасно Анна, Леон и я положили обратно в кассу Моранбуа, без ведома Белламара, ту надбавку к жалованью, которую он заставил нас принять. Когда сезон кончился, он заплатил нам все сполна, как обещал. Сюда мы приехали без гроша, и если бы у меня не было значительного запаса гипюра, о чем Белламар, никогда не знакомый в точности с отчетностью Моранбуа, тоже ничего не знает, неизвестно, как бы мы прожили. Теперь нам есть чем заплатить за квартиру и кухмистеру. Леон съездил в Блуа к своему другу, которого ты, кажется, знаешь, и тот дал ему взаймы известную сумму, а Белламар согласился ее принять. Он всегда принимает, потому что всегда находит средство отдать, и как только он отдал, он опять сидит без гроша, и это давно так идет, и ясность его духа нимало не омрачается, а мы привыкаем разделять его уверенность в судьбе. Я принял мысленно решение также внести в кассу тысячу франков из моих собственных денег и продолжал свои расспросы. На лето у Белламара были большие планы: он хотел выехать из Франции, где у нас было чересчур много конкурентов; он утверждал, что французский язык всемирный язык и что если хорошие актеры умирают с голоду на родине, то лишь потому, что им не хватает храбрости путешествовать. Вечером при мне дежурил Моранбуа. Я хотел передать ему свое приношение, но он отказался. Он объявил, что Леону можно задолжать кое-что потому, что ему суждено было унаследовать со временем крупное состояние и что он живет бедняком по собственной фантазии; но что всем известно, что я не в состоянии поддерживать на свой счет антрепризу Белламара. Белламар был всегда рад, когда в конце года ему удавалось свести концы с концами и, по мнению Моранбуа, Белламар был прав. — Лишь бы, — говорил он, — человек жил честным трудом, не все ли равно, если он не накопит денег? Самые лучшие и самые мудрые люди те, которые умеют всегда удержаться гордо, вне нищеты. Они не заботятся о том, чтобы иметь свой капитал, сберегать его, помещать на проценты, извлекать из него барышом. Ответственности за других уже довольно для поглощения времени честного человека, и совершенно бесполезно прибавлять к этому ту глупейшую ответственность за самого себя, которая называется уменьем и которая сразу старит людей зрелого возраста. Возня с их деньжищами, — говорил Моранбуа своим образным языком, — отращивает им живот и гноит их зубы. Наш патрон, — так он называл Белламара, — останется всегда молодым, потому что он не будет никогда делать гадостей ни себе, ни другим. Он не растратит своей молодости на сооружение для себя дворца, чтобы поселить в нем то сморщенное яблоко, в которое он превратится лет через двадцать пять или тридцать. Я вечно слышу, что люди собираются копить к старости, точно всякий уверен, что доживет до старости и точно следует ее желать! Хорош расчет портить себе кровь, пока она у вас есть, чтобы было что есть, когда станешь тряпкой, годной разве для корзинки тряпичника! Беззаботным людям говорят: «Что же, вы станете просить милостыню, когда не будете больше в силах работать?» — Я отвечаю на это, что крестьяне возделывают землю до той минуты, пока их в нее не зароют, и что лежать в ней не будет ни хуже, ни лучше оттого, что ваш саван будет из полотняной простыни или из тряпки. Несмотря на то, что я примкнул к этому высокофилософскому мнению, я настаивал на том, чтобы мне позволили облегчить Белламару и его друзьям возможность с толком применить на деле их артистическую молодость. — Леон дал нам тысячу франков, — отвечал Моранбуа, — этого довольно на поправку наших дел. Я мог бы ввести патрона в долги без его ведома, но это была бы плохая услуга. Если ты хочешь быть полезным ему, поезжай с нами в качестве компаньона. И тогда он мне растолковал, что Белламар, Леон, Империа, Анна, Марко и он сам решили класть в общую кассу всю прибыль, а затем, вычтя предварительно жалованье не участвующих в товариществе и общие расходы, делить между собою поровну остающиеся барыши. — Барышей, — добавил он, — не будет; но мы проживем, проработаем, будем сыты и пропутешествуем целый год, не будучи никому в тягость. Твое дело обдумать, хочешь ли ты поступить к нам. Тебе необходимо встряхнуть твою кастрюлю и потушить плиту, как утверждают доктора. Один ты не станешь путешествовать — это обходится чересчур дорого, да оно и скучно; с нами тебе будет весело, а расходы будут покрываться сборами. — Я принял бы приглашение с радостью, — сказал я ему, — если бы у меня было достаточно таланта, чтобы действительно способствовать сборам; но уменя его нет, и я буду только лишней обузой. — Ты заблуждаешься. Талантлив ты или нет, а только ты привлекаешь женский пол и наполняешь нам ложи авансцены. В любовных ролях Леон хуже тебя; его любят только в драме. Мы тебя не заменили, потому что не хватило деньжат для ангажирования любовника; ты был нам очень полезен, мы это заметили после твоего отъезда — сборы понизились. Я признался Моранбуа, что это превознесение моей особы очень меня унижало. Чтобы публика простила вам то, что вы позируете перед нею точно модель, надо уметь производить впечатление одновременно как на ее ум, так и на ее зрение. Моранбуа, несмотря на всю свою проницательность и острый ум, ничего не понял в моей щепетильности и стал меня высмеивать. Он думал, что когда человек красив и хорошо сложен, то выставляться напоказ ему вовсе не стыдно. В нем заговорил бывший уличный силач, с удовольствием демонстрирующий свой торс и свои мускулы. Я посоветовался с Империа о предложении Моранбуа. Ее первым движением было отнестись к этой мысли с милой, искренней радостью, но потом она приняла тревожный и нерешительный вид. Я угадал, что предостереженная предположениями Белламара, она боялась ободрить мою любовь к ней. Я успокоил ее заявлением, что у меня на родине есть невеста, но что я еще слишком молод, чтобы думать о женитьбе, и имею право бродить по свету как мне угодно, по крайней мере, в продолжение одного сезона. Я счел возможным солгать ей так же, как она солгала мне, и подобно тому, как она приписала себе несуществующую любовь для того, чтобы предохранить себя от моих надежд, я приписал себе тоже любовь, чтобы оградить себя от ее недоверчивости. С этой минуты она стала живо настаивать на моей поездке с ними, а лечивший меня доктор заявил, что она права. Если я вздумаю приняться за кабинетные занятия раньше, чем через полгода, то я погиб. Я написал об этом отцу, который согласился со мной. Моранбуа и Белламар приняли меня с распростертыми объятиями. Белламар составил целую страницу, красиво исписанную, резюмировавшую условия нашего товарищества, и мы потребовали, чтобы он прибавил к ним оговорку, в силу которой за ним сохранялась безусловная власть директора над всеми членами труппы. Мы не хотели, чтобы один из нас в минуту нервного возбуждения или мизантропического утомления мог помешать бесполезными спорами такому деятельному и умному управлению, как его. Анна мужественно оставила своего любовника, который дурно с нею обращался и которого она тем не менее оплакивала. Эта женщина, вечно безрассудная и несчастная в любви, была в дружбе самой почтенной и твердой из женщин. В ней не было ни досады, ни злопамятства, и она даже была благодарна мне за то, что я не воспользовался внушенным ей мною некоторым смятением в первые дни нашего турне. Итак, она порадовалась, когда увидела, что я вошел в состав товарищества для новой кампании. Леон, вернувшийся из Блуа, и Марко, вернувшийся из Руана, оказали мне такой же прием и стали уверять меня, что я артист. Мы уехали в Италию в конце августа, не дожидаясь закрытия «Одеона» и не захватив с собою Регину, которая должна была присоединиться к нам, как только освободится. По дороге нам нужно было ангажировать первую кокетку и какого-нибудь Фредерика Леметра. В Лионе нам опять встретился Ламбеск. Его постигли неудачи, и он оказался сговорчивее, чем прежде. Как бы он ни был несносен, мы были обязаны ему некоторыми успехами и с удовольствием взяли его обратно. Империа подала голос за него, говоря, что к недостаткам его мы привыкли, а найти его достоинства будет нелегко. Мы чуть было не поладили уже с некоей девицей Арсен, игравшей наперсниц в «Комеди Франсез», а потому считавшей себя способной играть в провинции роли Рашели. Мы не были в этом так уверены, как она, и все еще колебались, когда Люцинда написала нам, что она всегда желала побывать в Италии и удовольствуется тем самым жалованьем, которое ей платили раньше. Ей не удалось добиться обещания жениться от своего виноторговца, по-прежнему доставлявшего ей известную роскошь, но надоевшего ей. Может быть, она надеялась подстегнуть его страсть, оставив его одного и притворившись, что предпочитает ему театр. Мы подождали ее и переехали вместе с нею через границу. Труппа была в полном составе, деловые разговоры покончены, и все были рады, что снова собрались вместе. По дороге нам пришлось сыграть немало пьес, требовавших больше актеров, чем имелось их в нашей труппе. В эту тревожную эпоху во Франции по дорогам колесило много актеров без ангажемента, и мы могли набирать их в труппу на время. Эти бродячие артисты представляли иногда собой весьма любопытные типы, особенно те из них, которые посреди самых странных превратностей остались честными людьми. Если я не упоминаю вам о тех, которых испортила бедность или которые неизбежно, роковым образом подверглись ей вследствие порока и лености, так это потому, что подобные типы до такой степени похожи один на другого, что наблюдать их и описывать вовсе не интересно. Наоборот, те, которые предпочитают скорее умереть с голоду, чем унизиться, заслуживали бы, чтобы их биографии были написаны умными людьми. Это любопытная и почтенная фаланга сумасбродов, которых практичный свет не жалеет и которым он не помогает, потому что несчастие их происходит именно от недостатка практического смысла и может быть безжалостно приписано их непредусмотрительности и бескорыстию. Я признаюсь, что не раз чувствовал живейшую симпатию к этим честным авантюристам и, если бы я не смотрел на свой небольшой капиталец, как на нечто безусловно посвященное случайностям, грозившим моим компаньонам, я истратил бы его по мелочам на помощь этим попутным товарищам. Я назову вам одного из сотни подобных ему, чтобы дать вам понятие об участи некоторых людей. Звали его Фоншане, де Фоншане, ибо он был дворянин и дворянства своего не скрывал, но и не выставлял. Он имел некогда капитал в полмиллиона франков и провел свою наивную и серьезную молодость в деревне, в своем поместье, предаваясь собиранию коллекции книг о театре. Откуда явилась в нем эта мания, а не какая-нибудь другая? В вопросе маний никогда и ничему не следует удивляться. Если бы можно было добраться до таинственных источников, откуда проистекают бесчисленные причуды человеческого мозга, то наткнулись бы на случайности, неизбежно опирающиеся на природные наклонности. Как бы то ни было, но в одно прекрасное утро 1849 года Фоншане оказался разоренным одним своим приятелем, которому он позволил заложить свое поместье за 50 тысяч франков. В то время это была одна из спекуляций — занимать ничтожную сумму под большую недвижимость, не возвращать ее, потихоньку, не под своим именем вынудить распродажу недвижимости, и выкупить ее опять-таки под прикрытием подставного лица за низкую цену. Много существований рушилось таким образом, тайно обогащая осторожных и хитрых капиталистов. Жертва этой милой операции, Фоншане нашел излишним подавать на нее жалобу и, воображая, что его археологические познания о театре делают его способным поступить на сцену, сделался актером. Природа отказала ему во всем, за исключением ума: у него не было ни голоса, ни внешности, ни произношения, ни развязности, ни памяти, ни присутствия духа. Он не имел никакого успеха, что не помешало ему, однако, найти свое новое ремесло чрезвычайно забавным и продолжать собирать для других книги и гравюры, которые он не мог покупать более для себя. Получив третьестепенное амплуа в Лионском театре, он стал искать себе квартиру и нашел за ничтожную цену нечто вроде лавчонки до того тесной, что ее не могли сдать никакому торговцу. Он поставил там свою нищенскую кровать; но на другой же день сказал себе, что раз у него есть лавка, то он должен в ней чем-либо торговать, и накупил на двадцать франков детских игрушек, волчков, мячиков, скакалок и обручей. В то же время он стал сам делать лопаты и деревянные тачки. Торговля его шла очень хорошо и могла бы пойти еще лучше, но труппа, к которой он принадлежал, оставила Лион, и он не мог примириться с мыслью не быть более артистом. Он уступил свое заведение одному еврею, знавшему его манию и давшему ему в обмен подложный портрет какого-то древнего актера. Это была просто какая-то бронзовая статуэтка, искусно украшенная обманчивой подписью. Фоншане вообразил, что приобрел сокровище, и попытался продать его. Он нашел было покупателя на тысячу франков, но не мог решиться расстаться с вещицей, а когда открыл обман, то утешился тем, что сказал себе: — Какое счастье, что я не продал ее за тысячу франков! Как я обманул бы покупателя! В одном Пьемонтском городе он встретил набожную даму, попросившую его указать ей хорошего живописца. Она хотела украсить свою домашнюю часовню картиной в два метра высотой и метр шириной, представляющей святую, в честь которой была построена часовня, и предлагала за нее сто франков художнику. Фоншане предложил написать ей эту картину. За всю свою жизнь он не прикасался к кисти и не нарисовал ни одной фигуры. Он решительно принялся за работу, скопировал, как мог, первого попавшегося святого с какой-то фрески и подписал с гордостью: де Фоншане, иконописец. Он получил другие заказы, стал писать кричащие, яркие вывески и начинал зарабатывать недурные деньги, когда случай увлек его в другое место, где им овладела страсть к гончарному искусству и заставила его фабриковать этрусские вазы, которые он продавал англичанам, но за такую ничтожную цену, что, право, они были не в накладе и радовались, что надули несведущего продавца. Заработанные своими картинами деньги Фоншане отдал взаймы директору одной странствующей труппы, который их ему не отдал; заработанные своими вазами деньги он отдал какой-то нищей на воспитание ее ребенка, лицо которого служило ему моделью и которого он поместил в школу. И вот после сотни мелких ремесел и торговли, не сохранив ничего для самого себя и никак не решаясь покинуть сцену, оказывавшуюся самым разорительным из всех его занятий в том смысле, что она не позволяла ему нигде устроиться оседло и постоянно ставила его в соприкосновение с обиравшими его эксплуататорами или бедняками, он предложил нам во Флоренции играть «Финансистов». Со времени обоих дебютов он приобрел-таки кое-какие способности. Он оказался нам полезен и был до того любезен, так весел, оригинален и симпатичен, что потом мы очень о нем жалели, когда были вынуждены расстаться с ним. Я не стану рассказывать вам о своих путешествиях: мне понадобилось бы на это три дня, а мои воспоминания, пожалуй, пригодные для несвязной болтовни, оттянули бы то, что вас интересует — историю моих чувств и мыслей. А потому мы с вами только пролетим через Турин, Флоренцию и Триест; вернемся через Австрию и Швейцарию, где после нескольких недурных вечеров в Женеве мы подвели наши счета. Мы ни в чем не терпели до той поры недостатка, и теперь для раздела между семью членами товарищества приходилось 75 франков чистого барыша. Но мы совершили интересное и почти комфортабельное путешествие, не принимавшие участия в товариществе получили жалованье сполна, а другу Леона все было уплачено. Люцинда, Ламбеск и Регина покидали нас. Это было время моих каникул, и отец ждал меня. Остальные компаньоны собирались попытать счастья неизвестно еще где. Я обещал им присоединиться к ним в конце зимы, которую я собирался провести в Париже, и на этот раз Моранбуа не отказался взять взаймы мою тысячу франков, необходимую для того, чтобы мой директор и товарищи могли снова образовать труппу. Вернувшись в предместье нашего городка, посреди отцовских реп и спаржи я имел время резюмировать свою историю, как я постараюсь сделать это для вас. Я сделал кое-какие сценические успехи. Я приобрел отличную манеру держаться на сцене, так что не казался смущенным, хотя мне на деле было всегда неловко. Я выработал в себе достаточно хладнокровия для того, чтобы не творить из-за волнения несообразностей, с которыми не мог смириться мой ум. Я продолжал нравиться женщинам и перестал не нравиться мужчинам. Я примирился с необходимостью быть одетым, как подобает человеку со вкусом. Сначала эта подробность казалась мне унизительной, и я говорил, что не желаю быть обязанным своим успехом портному. Я видел, что публика больше ценит мои жилеты, чем мои старания, и чувствует уважение к человеку, обладающему таким прекрасным гардеробом. Товарищам моим пришла фантазия выдавать меня ради шутки за молодого человека из хорошей семьи, и мне разрешалось не быть хорошим артистом, лишь бы я казался светским господином. — Не смейся над этим, — говорил мне Белламар, — ты наша вывеска, твое дворянство плодит детей, и при каждой новой остановке воображение зевак обогащает труппу еще одним идальго. В Венеции я был il signor di Bellamare[328], директор целой труппы титулованных особ, и мне стоило сказать одно слово, чтобы произвести тебя в герцога, а меня в маркиза. Престиж благородного происхождения еще не тронут за границей. Во Франции он прекомично примешивается к демократическому тщеславию, и если бы ты был настолько авантюрист, чтобы поставить частицу «де» перед своим именем, то население маленьких городов гордилось бы тем, что имеет перед собой гаера-дворянина. А потому не отнекивайся и не принимай всего этого всерьез; мы путешествуем для забавы. Будь уверен, что это ничего не отнимает от того таланта, который тебе суждено приобрести и который у тебя будет, ручаюсь тебе за это. Он старался вдохнуть мне его; он и вдыхал мне его действительно, когда я читал ему свои роли. Мы декламировали Корнеля, переезжая через Альпы на ослах. Ледники Швейцарии, берега Средиземного моря, развалины, гроты, — все осмотренные нами живописные, уединенные уголки наслушались звука наших голосов, поднимавшихся до диапазона драматических страстей. Я чувствовал себя сильным и думал, что это вдохновение. Перед рампой все это пропадало. Я был чересчур добросовестен, я слишком судил самого себя. Я был своим собственным критиком и своим труднейшим препятствием. Вот все, что касается моего таланта; что же касается моей любви, то она приняла другую форму. Ясность души, ровность характера мадемуазель де Валькло, не изменявшие ей ни одного мгновения среди невзгод, неприятностей, утомления и неизбежных случайностей пути, незаметно привили мне то спокойное и нежное уважение, которое они внушали Белламару, не пробуждая в нем никакой чувственной мечты. Между тем, хотя Белламар не был развратником, он был пылкий женолюбец. Он не знал среднего чувства между вожделением без любви и любовью без вожделения. Он мог еще творить безумства для желанной женщины; но, добившись удовлетворения, он не делал больше глупостей и бросал ее без всякого сожаления. Этот человек, одаренный таким счастливым характером и такой очаровательной добротой, оказывал огромное влияние на мой ум. Мне хотелось бы смотреть на все и чувствовать, как он. Я старался подражать ему в его склонностях и в его мудрости; но там, где он находил спокойствие и проявление всех способностей, я находил только стыд за самого себя и глубокую печаль. Я был идеалистом, да кроме того, я был вдвое моложе его. С моей стороны было преглупо думать, что можно устроить свою жизнь по образцу жизни другого. Рассудок не прилипает к нам, как чужое платье; надо, чтобы каждый из нас сумел выкроить свой рассудок по своей мерке. Это пристрастие к Белламару и это химерное желание походить на него достигли, по крайней мере, того результата, что усыпили мою страсть. Быть может, быстрое и сильное мимолетное появление во мне другой любви, мечта о незнакомке, вытеснили немного образ Империа. Во всяком случае, она не казалась мне больше опасной, и глубокая нежность успокоила тайные порывы моего желания. Видя, что остальные мои товарищи до такой степени уважают ее, я счел бы себя фатом мечтать о том, чтобы покорить ее. Я так много об этом думал, что даже перестал этого желать. По крайней мере, я покинул Женеву в этом настроении духа. Вернувшись домой, я уже думал о ней без смущения; но скоро оказалось невозможным скрывать от себя, что она необходима для жизни моего ума и что мне смертельно скучно там, где ее нет. Мне не хватило мужества вернуться к своим серьезным занятиям. Музыка и рисование больше мне нравились, потому что они позволяли мне думать о ней. У нее был прелестный голосок, она была хорошая музыкантша и очаровательно пела. Стараясь тоже стать хорошим музыкантом, я думал только о том, чтобы петь с нею и аккомпанировать ей. Во время наших путешествий она время от времени занималась со мной и, в сущности, ее уроки были самые лучшие, когда-либо полученные мною. Я обманывал самого себя некоторое время, стараясь убедить себя, что общество Белламара, Леона, Анны и Марко было так же необходимо мне, как общество Империа. Они так меня любили! Они были такие милые и интересные! Как могла не показаться мне невыносимою та среда, в которую я снова попал? Я находил, что с моей стороны преступно жалеть о беседах с Белламаром, живя подле отца; но не он ли сам, мой бедный отец, обрек меня на разрыв с невежеством, толкнув в цивилизацию? Однако же в минуты искренности с самим собой я хорошо чувствовал, что мог бы позабыть и Белламара и всех своих товарищей, за исключением Империа. Не отец мой был виноват в том, что я привязался безумно к женщине, не желавшей никого любить! Раз, когда я переезжал через Альпы в санях с Белламаром, он спросил меня, чем же кончилась моя любовная история с графиней. Я рассказал ему тогда приблизительно всю правду. В то время я убедил себя, что не люблю больше Империа и впредь не буду любить и что Белламар мог повторить ей мои признания, нимало не вредя мне. Впрочем, в своих откровениях я сильно смягчил первый пыл моей страсти и ничего не сообщил о ее дебюте. Я не похвалился тем, что избрал драматическое поприще из-за нее. Я просто признался, что в эпоху приключения в Блуа я чувствовал себя более влюбленным в нее, чем в незнакомку. Все остальное я мог рассказать без утайки. Мнение Белламара об этом обстоятельстве сильно меня поразило. Он начал с того, что одобрил меня, а затем добавил: — Сам того не зная, ты выбрал лучшее средство быть действительно любимым этой графиней: сначала искренность, потом гордость. Высказав тебе свои подозрения, она ожидала сильных возражений, борьбы, в которой она объявила бы себя побежденной только тогда, когда вдоволь вываляла бы тебя в пыли арены. С этой минуты она перестала бы любить тебя. Женщины так уж созданы. Мы оказываем им услугу, когда не поддаемся их воинственным инстинктам, приучая их любить совершенно откровенно, как они хорошо умеют любить, когда им не приходится плутать в поисках невозможного. Любовь прекрасная вещь, высокая у них в самом начале. Но берегитесь второго и третьего акта драмы! Когда не можешь ускорить развязки, надо ждать ее. Подожди же молча, дай разгореться огню, и ты снова увидишь ее перед собой, честною и сильною, как тогда в голубой спальне. Если она вернется, — поздравляю тебя. Если же нет, то радуйся тому, что не попался в ловушку любви воображения. Это самая худшая из всех. И Белламар прибавил еще вот что: — Если бы у Империа не было предвзятой мысли, я благословил бы вашу любовь, я-то находил вас достойными друг друга; но она честная девушка и не желает заводить любовника. Кроме того, она рассудительна и не хочет бедности в браке. Наконец, она счастлива в своей добродетели, и я в это верю, хотя и не понимаю этого. Перестань же думать о ней, если у тебя есть доля благоразумия. Неужели ты думаешь, что в тот день, когда она впервые пришла ко мне украдкой, как графиня, но с гораздо более серьезными и твердыми помыслами, и поведала мне свои семейные несчастия, прося меня дать ей занятие и поддержку, что я не был тронут, так же, а может быть, и сильнее, чем ты в голубой спальне? Она была так красива в своем горе, так пленительна в своем доверии! Раз десять у меня кружилась голова в продолжение этого двухчасового разговора вдвоем; но если Белламар обладает носом для того, чтобы пронюхать удобный случай, и когтями, чтобы схватить этот случай за волосы, у него имеются также глаза для того, чтобы разобрать истинную честность, и рука, очищающая себя благословением. Расставаясь с нею, я обещал быть для нее отцом и оттолкнул безвозвратно всякую заднюю мысль, объявив себе мысленно: «Никогда, никогда, никогда!» — а когда что-либо так ясно представляется моей совести, то это не составляет более с моей стороны никакой заслуги, и я признаюсь тебе, что не понимаю, почему честному человеку труднее не плутовать с женщиной, чем не плутовать в картах. В то время аргументация Белламара показалась мне вполне убедительной, и я комментировал ее в продолжение всех каникул. Я не нашел никаких возражений против нее, но она не помешала мне быть очень несчастным. Я старался снова воспылать страстью к графине и часто грезил о сладострастиях разделенной любви, но при пробуждении от грез любовь к ней во мне исчезала. Образ ее говорил только моей чувственности, подогреваемой воображением. В конце каникул я спросил себя, не отказаться ли мне от изучения юридических наук, что не вело меня больше ни к какой цели, и не присоединиться ли снова к труппе Белламара. Я не захотел принять этой меры, не посоветовавшись с отцом. Я думал, что он станет отговаривать меня от этого, но он и не подумал. С большим трудом объяснил я ему, что такое театр. К нам никогда не приезжала никакая труппа, и у нас не было зрительной залы. Те люди, которых отец мой называл комедиантами, были торговцы чаем, обладатели зверинцев и циркачи, видеть которых ему довелось на ярмарках. А поэтому я старательно избегал произносить слова «комедия» или «комедианты», которые внушили бы ему лишь глубочайшее презрение. Несмотря на свою решимость высказаться искренне, я дал ему только такие объяснения, которые были верны в своей сущности, но представляли для него лишь смутный и немного фантастический смысл. Отец мой всегда отличался первобытной простотой человека, целиком посвятившего себя ручному труду, как дому, как религии, от которой его не может отвлечь никакая посторонняя мысль. Мать моя, которая была очень умна, немного смеялась над его доверчивостью и добродушием. Он ей это позволял и даже охотно смеялся вместе с нею, они обожали друг друга, несмотря ни на что. Но мне он не позволил бы заметить, что он ниже меня по уму. Он хотел, чтобы я был иным человеком, но не больше, чем он сам; он считал, что его положение отличается от моего, но равняется ему. Его культ земли не позволял ему думать иначе, и, в сущности, он, сам того не подозревая, обладал абсолютной истиной высшей философии. Он смиренно уважал знание, но при условии, что прекрасное возделывание земли следует также уважать не менее. Если он отвлек меня от этого дела, так это потому, что, сделав из меня крестьянина, он счел бы, что я не могу получить химерного наследства моего дяди-выскочки. Когда я сказал ему, что хочу присоединиться к людям, выступающим публично, для того, чтобы упражняться говорить красивые вещи, он удовольствовался этим объяснением и не потребовал ничего большего. Он побоялся бы выдать своими вопросами, до чего он имеет мало понятия о том, что такое эти упражнения. Итак, я уехал, унося с собой, как и всегда, его благословение и мой небольшой капитал, который с прошлого года всегда был при мне на всякий случай в поясе под платьем. Он был не настолько велик, чтобы стеснять меня, тем более, что я уже убавил его наполовину. Таким образом, в начале зимы я присоединился к труппе в Тулоне, и меня там приняли с восторгом. Положение было не из блестящих; все были, конечно, сыты и теперь обсуждали, следует ли продолжать объезжать побережье. В то время приморские города только что начинали пользоваться той популярностью, которую они с тех пор приобрели. Тогда еще не было и речи о железной дороге, о газовом освещении и об игорных домах. Европа не осаждала эту узкую скалу, что тянется, точно шпалеры на солнце, от Тулона до Монако и скоро дойдет до Генуи. — Дети мои, — сказал нам Белламар, — мы вечно будем только сыты, если не примем большого решения. Я хорошо зарабатывал до сих пор только вне Франции; никто не пророк в своем отечестве. Я объездил почти весь свет и знаю, что чем дальше та страна, откуда приезжаешь, тем более привлекаешь любопытных. Вспомните, что в прошлом году дела наши всего лучше шли в Триесте — самом отдаленном пункте нашего турне, — чем где бы то ни было. Мне хотелось добраться до Одессы через дунайские области. Я помню, что некогда нажил там немало денег; вернулись бы мы через Москву. Вы отступили перед поездкой в Россию. Положитесь на меня и предпримем ее; но так как теперь приближается зима, то начнем с жарких стран. А потому мы проедем в Константинополь и проведем там два месяца; оттуда переедем в Теметвар и в Бухарест, тоже хороший город; а как только погода позволит, мы переберемся через Балканы, проедем в Яссы и прибудем в Одессу вместе с ласточками. Ему заметили, что путевые издержки будут значительны. Он показал нам письма одного антрепренера успехов, бравшего на себя наш проезд и обещавшего позаботиться и о возвращении, если мы будем не в состоянии покрыть расходы. Это был один из его бывших компаньонов, на честность которого можно было, по его мнению, положиться. Началось голосование. Большинство голосов оказалось в пользу поездки. Я признаюсь, что, заметив, что Империа хотелось этой поездки, я сплутовал для того, чтобы весы перевесили в ее сторону. Я опять заставлю вас перешагнуть через все ненужные или комичные подробности, которые не относятся к моему сюжету. Я скажу вам только, что если большинство отличалось бодростью и было полно надежд, то меньшинство, состоявшее из Люцинды, Ламбеска, Регины и Пурпурина, надеялось только наполовину или и вовсе не надеялось ни на что хорошее. Этот последний не прощал иностранцам, что они не знают французского языка лучше него, а Ламбеск, имевший претензию говорить по-итальянски, был в бешенстве, что его понимают лучше, когда он говорит на своем родном языке. У него, так же как у Леона, был ожесточенный разочарованиями характер, но он не имел, подобно Леону, такта скрывать свои раны. Он считал себя единственным великим и непонятым на земле гением. По его мнению, те артисты, которых публика любила и которые пользовались удачей, были обязаны своим счастьем всецело одной лишь интриге. Регину все решительно забавляло, и никто более нее не был привычен к невзгодам бродячей жизни; но она не ждала ничего хорошего в смысле денежной наживы и постоянно повторяла нам, что уехать далеко — пустяки, но что самое трудное — вернуться оттуда. Люцинда нисколько не боялась лично за себя. Она была не способна пуститься в путь с пустыми руками; но она боялась, как бы ей не пришлось заплатить за возвращение труппы, и не скрывала своих тревог. Странное дело, Моранбуа, самый стойкий и скрытный из всех, также тревожился. А между тем, он вовсе не знал Заморини, антрепренера, которому вверялся Белламар; но он говорил, что ему приснился дурной сон насчет Заморини, ибо этот человек, созданный из камня и железа, не боявшийся никакой опасности, не ведавший никаких колебании, был суеверен — он верил снам.
Рассказ Лоранса занял целых два часа, а он внушал мне такую симпатию, что я принимал живейшее участие в его приключениях; однако я сообразил, что он должен быть утомлен, и увел его обедать в мою гостиницу, где он, подкрепив силы, так продолжал свой рассказ. — Мы остановились, — сказал он, — на моем отъезде в Италию с труппой Белламара. Прежде чем уехать из Тулона, мне пришлось присутствовать на прощальном спектакле, показавшемся мне весьма странным. Когда публика была довольна погостившей в городе труппой, она, в знак благодарности, на прощанье бросала подарки на сцену. Подарки эти бывали бесконечно разнообразны, начиная от букетов и кончая колбасами. Каждое объединение промышленников подносило образчики своего ремесла — материю, чулки, ночные колпаки, домашнюю утварь, съестные припасы, башмаки, шляпы, фрукты, — чего только не было! Вся сцена была завалена ими, и некоторые предметы были подхвачены на лету музыкантами, которые их так и не возвратили. Бесполезно говорить вам, что этот патриархальный обычай теперь почти позабыт. Все шло хорошо в начале нашего путешествия. Белламар принес в жертву свое нетерпение и согласился проехать по Италии, где мы на этот раз сделали несколько довольно прибыльных остановок. Мы сыграли там более десятка пьес Мольера, Бомарше и Скриба, который начинал выходить из моды во Франции, но производил фурор за границей. Во Флоренции со мной случилось одно приключение, которое промелькнуло, как мимолетный сон. Сначала вы найдете это удивительным, но когда узнаете о тех происшествиях, что последовали быстро одно за другим сразу после этого приключения, вы поймете, почему оно не оставило по себе глубокого следа в моем уме. При выезде из этого города я получил следующую записку: «Я аплодировала вам обоим, будьте счастливы с нею. Незнакомка». Я умолял Белламара сказать мне, виделся ли он с графиней во время нашего пребывания во Флоренции. Он поклялся мне, что нет, а так как он никогда не давал ложных клятв, то факт не подлежал сомнению. Флоренция не была тогда настолько населенным городом, чтобы справки, там наводимые, оказались безуспешными. — Хочешь остаться? — сказал мне Белламар. Я уже занес, как говорится, ногу в стремя и, хотя чувствовал себя весьма взволнованным, не захотел попытать счастия. — Вот видите, — отвечал я, — она все еще убеждена, что я хотел обмануть ее; я не могу позволить себе очутиться в подобном положении и не допущу этого. И я отправился дальше, не без некоторого усилия, признаюсь, но думаю, что гордость моя послужила моей же чести. Мы обсуждали заранее вопрос, ехать ли нам в Венецию или в Триест, как в прошлом году; но судьба имела для нас заранее намеченные планы. Полученное от Заморини письмо извещало, что в наше распоряжение предоставляется большое безобразное судно с красивым названием тартана, которое должно доставить нас за полцены из Анконы в Корфу. Там нам можно будет дать несколько представлений на тех же условиях разделения расходов между антрепренером и нами, что позволит нам добраться до Константинополя. Судно это было весьма неказисто, а его капитан — какой-то еврей, выдававший себя за грека, — показался нам более болтливым и подобострастным, чем честным и умным; но выбора у нас не было: он сторговался с Заморини через посредничество другого капитана из Корфу, который должен был везти нас дальше. Мы дали одно представление в Анконе и только что вышли из театра, как капитан «Алкиона» — это поэтическое имя принадлежало нашему отвратительному судну — пришел сказать нам, что надо отплыть на рассвете. Мы рассчитывали уехать только через день, у нас ничего не было готово; но он возразил, что время года теперь капризное, что следует использовать попутный ветер и не ждать встречных ветров, которые могут затянуть отъезд на неопределенное время. Были последние числа февраля. Женщин предупредили, чтобы они наскоро уложились и соснули несколько часов; мужчины взялись перенести весь багаж на «Алкион». Это заняло у нас всю ночь, ибо багаж был значительный. Кроме костюмов и вещей мы везли несколько декораций, необходимых в тех местах, где театр состоит лишь из четырех стен, некоторые довольно крупные аксессуары, музыкальные инструменты и кое-какие съестные припасы. Мы знали, что нам предстоит несколько дней плавания, и нас предупредили заранее, что мы ничего не найдем на остановках у берегов Далмации и Албании. Весь трюм «Алкиона» был завален грузом товаров, что заставило нас свалить наш багаж на палубе; это было неудобно, но, как увидите дальше, послужило на нашу пользу. На рассвете, страшно усталые, мы снялись с якоря и при сильном северном ветре быстро поплыли к Бриндизи. Мы неслись почти так же скоро, как пароход. Отплыв из Анконы в четверг, мы могли надеяться прибыть к Корфу к следующему понедельнику или вторнику. Но к вечеру ветер переменился, и нас понесло в открытое море с ужасающей скоростью. Мы выразили капитану некоторое беспокойство. Его судно казалось неспособным перенести такое сильное волнение и переплыть Адриатическое море в самом широком его месте. Он отвечал нам, что «Алкион» способен совершить кругосветное плавание и что если мы не остановимся в Бриндизи, то остановимся на противоположном берегу или в Рагузе, или в Антивари. Он божился, что ветер дует северо-западный и что он будет усиливаться все в том же направлении. Он ошибался или лгал. Ветер нес нас на восток в продолжение сорока часов, а так как, несмотря на очень утомительную килевую качку, мы продвигались очень быстро вперед, то у нас проснулось доверие, и вместо того, чтобы отдохнуть, все пели да смеялись вплоть до следующей ночи. Тут подул встречный ветер, а наш кормчий объявил, что это добрый знак, потому что у берегов Далмации почти каждую ночь ветер дует с суши на море. Итак, мы приближались к берегу, но к какому берегу? Мы этого не знали, а экипаж знал не больше нашего. Весь вечер мы проходили на большом расстоянии от изрезанных берегов маленьких островков, темные очертания которых вырисовывались точно призраки на далеком бледном горизонте. Луна зашла рано, и тут наш судовладелец, объявивший раньше, что узнает некоторые маяки, перестал что-либо узнавать. Небо почернело, боковая качка заменила килевую, и нам показалось, что наши матросы пытаются выйти снова в открытое море. Мы сердились на них, непременно желая пристать к берегу, все равно, где; нам прискучили и море, и наше тесное суденышко. Леон успокоил нас, объяснив, что лучше продрейфовать всю ночь в море, чем подойти к одной из тысячи подводных скал, рассеянных в Адриатике. Мы смирились. Я уселся с Леоном на тюках, и мы принялись обсуждать с ним необходимость внесения переделок во многие театральные пьесы, чтобы они были пригодны для предстоящей нам кампании. У нас было менее шансов, чем в Италии, найти по дороге недостающих артистов, а наш состав труппы казался мне весьма ограниченным для замыслов Белламара. — Белламар рассчитывал, — говорил мне Леон, — что я возьму на себя труд постоянных урезок и переделок, и я принялся за эту ужасную работу. Сама по себе она не трудна. Нет ничего легче, как испортить пьесу; но это убийственная задача, и мне делается так грустно при этой мысли, что я отдал бы весь остаток своей жизни, лишь бы не делать этого. Я попытался утешить его, но разговор наш ежеминутно прерывался. Волнение на море все увеличивалось, и наши матросы беспрестанно мешали нам, заставляя менять место. Около полуночи ветер стал кружиться, дуть отовсюду, и нам признались, что управлять судном с уверенностью теперь невозможно. Хозяин судна начинал терять голову. Он потерял ее уже окончательно, когда пара толчков — сначала легкий, а потом уже сильнее — предупредила нас, что мы наткнулись на подводные рифы. Я не знаю, можно ли было встать на якорь в ожидании рассвета или предпринять какой-нибудь другой маневр, чтобы спастись; как бы то ни было, экипаж предоставил «Алкиону» попасть в рифы. Наш бедный челнок недолго там вертелся; сильнейший толчок, сопровождаемый зловещим треском, быстро дал нам понять, что мы погибли. Трюм начал наполняться водой, нос был продавлен. Мы проплыли еще несколько саженей и остановились вдруг, зажатые между двух скал, на одну из которых я и бросился, неся Империа на руках. Мои товарищи последовали моему примеру и спасли остальных женщин. Хорошо еще, что мы подумали о них и о самих себе, ибо капитан и его помощники думали только о своих товарах и напрасно старались спасти их, нимало не заботясь о нас. Тартана, остановленная рифами, прыгала, точно разъяренный зверь, но бока ее еще держались. Мы успели спасти все то, что было на палубе; а через полчаса, которые были посвящены этой лихорадочной работе, увенчавшейся, к счастью, успехом, «Алкион», подмываемый все более и более крепчавшими волнами, высвободился из щели прыжком назад, точно собираясь перескочить через скалу. Затем его подбросило опять вперед, и он снова ударился о скалу, но теперь наполовину затонул; киль его сломался, а мачт как не бывало. Грозный вал приподнял обломки несчастного судна и выбросил на ту скалу, где мы нашли себе прибежище, часть настилки и несколько обломков корпуса, остальное потонуло. Из того, что было в трюме, спасти ничего не удалось. Островок, на котором мы находились и названия которого я так никогда и не узнал, — быть может, он и вовсе не имел названия, — имел пятьсот метров в длину и сто в ширину. Это была известковая скала, белая как мрамор и огражденная со всех сторон обломками других скал, за исключением небольшой бухточки, куда входило море, образуя крошечный рейд, усеянный отдельными глыбами и представлявший в уменьшенном варианте вид того архипелага, к которому принадлежала наша скала. Именно благодаря этому маленькому рейду, куда нас выбросил каприз моря, нам и удалось выбраться на твердую почву. Но сначала мы не имели времени изучать внутренний и внешний вид нашего убежища. В первую минуту мы вообразили, что выбрались на сушу, и очень удивились, когда увидели себя пленниками на этом одиноком утесе. Что касается меня, то я вовсе не понял опасности нашего положения и ни секунды не сомневался в том, что нам легко будет отсюда выбраться. Пока Белламар обходил скалу кругом, чтобы постараться отдать себе во всем отчет, я принялся искать и нашел убежище для женщин — нечто вроде большого углубления в скале, где можно было укрыться от ветра. Вы понимаете, что они были в ужасе и отчаянии. Одна только Империа сохранила присутствие духа и старалась поднять дух других. Регина впала в набожность и молилась. С Анной сделалась истерика, и она усугубляла безрадостность нашего положения громкими рыданиями. Тщетно Белламар, бесстрашный и спокойный, уверял ее, что мы спасены. Она ничего не слушала и успокоилась только от угроз Моранбуа, говорившего, что выбросит ее в воду. Страх подействовал на нее так же, как он действует на детей: она попросила прощения, поплакала и притихла. Когда мы удостоверились, что никто не ранен и все в сборе, сделав перекличку, ибо нас по-прежнему окружала темнота, мы решили переговорить с судовладельцем о возможности выбраться из этого мрачного убежища. — Возможность?! — сказал он нам тоном отчаяния. — Ее нет никакой! Теперь дует жестокая бора — самый зловредный ветер, и один Бог ведает, сколько дней он будет дуть между сушей и нами. Кроме того, милостивые господа, тут еще и другая штука! Нас обошла Vila, и что бы мы теперь ни предпринимали, все обратится против нас. — Vila? — спросил Белламар. — Что же это — другой встречный ветер? Мне кажется, что и одного достаточно! — Нет, нет, синьор, это гораздо хуже — это злая фея, которая притягивает суда к подводным камням и смеется, когда они разбиваются о них. Слышите вы ее? Я-то слышу! Вы не думайте, что это шум камешков, подбрасываемых волной. На этих скалистых берегах нет камешков. Это смех подлой Vila, говорю я вам; это ее смех к смерти, это ее злой смех! — Да где же мы, наконец, болван? — сказал Белламар, встряхивая суеверного моряка. Несчастный ничего не знал и все только повторял; «Scoglio maledetto! Pietra del Diavolo!»[329],— так что мы свободно могли применить один из этих отчаянных эпитетов в качестве названия для нашего утеса. Но это ни к чему не вело. Всего важнее было узнать, какой берег у нас должен быть в виду; никаких маяков не было видно. Хозяин расспросил своих матросов. Один назвал ему Зару, другой — Спалатро. Сам он пожал плечами и назвал Рагузу. — Ну, вот мы и знаем, где мы, — сказал Белламар, печально смеясь. — Все это не то, — сказал в свою очередь Моранбуа. — Доберемся до берега, тогда и увидим, где мы. Я полагаю, немудрено устроить плот из обломков! Капитан покачал головой, оба его помощника сделали то же самое, потом они уселись на обломки и притихли. — Разбудим-ка их и поколотим, — сказал Моранбуа, разражаясь ругательствами. — Тогда они заговорят или послушаются нас. На наши угрозы они, наконец, отвечали, что не надо ни перемещаться по островку, ни производить шум, ни подавать какие-либо знаки, потому что ветер начинает спадать, и если мы оказались неподалеку от Альмиссы, где архипелаг наводнен пиратами, то мы привлечем их сюда и будем неминуемо ограблены и убиты. Надо ждать рассвета — разбойники эти смелы только ночью. — Как! — вскричал Леон в негодовании. — Нас тут десять более или менее хорошо вооруженных мужчин, а вы воображаете, что мы боимся морских разбойников? Вот еще! Отыщите-ка поскорее ваши инструменты — и за работу. Если вы откажетесь помогать нам, то мы найдем командира среди своих и обойдемся без вас. Он указал на Моранбуа, достаточно долго прожившего в Тулонском порту для того, чтобы иметь нужные для этого дела понятия, и тот принялся за работу, не дожидаясь согласия хозяина судна. Леон, Ламбеск, Марко и я подчинились ему и стали деятельно помогать, тогда как Белламар занялся приведением в порядок оружия. Он думал, что опасения команды не совсем лишены основания и что наше крушение могло привлечь прибрежных бандитов, если мы, действительно, далеко от порта. Хозяин безучастно смотрел на нас. Потеря товаров повергла его в полное уныние. Опасаясь гораздо менее моря, чем людей, он ныл, видя, что мы зажгли факелы и стучим изо всей силы по обломкам «Алкиона». — Не следует, однако, заблуждаться, — сказал мне Моранбуа, — из этого дрянного куска настилки, да из этих скверных остатков нам не смастерить плота на пятнадцать человек; самое большее — на нем уместятся четверо. Все равно, даже если на нем уместится всего лишь один, я ручаюсь вам, что уеду на нем за помощью для вас. Когда выдалась свободная минута, я сбегал посмотреть, что поделывают дамы. Прижавшись друг к другу, как птенцы в гнезде, они дрожали от холода, тогда как с нас струился пот. Я посоветовал им пройтись, но ни одна не почувствовала себя в состоянии это сделать, и я увидел впервые Империа упавшею духом. — Возможно ли, вы ли это? — сказал я ей. Она отвечала мне: — Я думаю об отце; если нам не удастся выбраться отсюда, кто будет содержать его? — Я, — возразил я, декламируя реплику из одной современной драмы: — «Ему будет принадлежать дружба Беппо, если он спасется!» Я был весел, как птица; но этим бедным жертвам крушения остаток ночи должен был показаться смертельно долгим. Для нас же ночь промелькнула незаметно, и солнце застало нас за работой; вот уже четыре часа как мы работали, не подозревая, сколько прошло времени. Пираты непоказывались, а плот был спущен; Моранбуа принял на себя команду и отправился в путь вместе с капитаном и одним из матросов. Места хватило только на троих, а Моранбуа полагался в этом деле только на одного себя. Мы смотрели взволнованно, как он вскочил на этот несчастный обломок, не желая ни с кем попрощаться и не проявляя ни малейшего беспокойства. Вокруг скалы море яростно бушевало, но в нескольких милях впереди виднелась длинная полоса скал; нам казалось, что это берег Далмации, и мы надеялись, что переправа нашего друга совершится быстро. А потому мы удивились, когда увидели, что плот вместо того, чтобы направляться в ту сторону, вышел в открытое море и вскоре исчез за громадными валами, весьма ограничивавшими нам обзор. Это потому, что мнимый берег был только грядой подводных скал еще хуже нашей, в чем мы могли убедиться, когда рассеялся утренний туман. Мы находились в глухом проходе, окруженные островками выше нашего, совершенно заслонявшими от нас горизонт со стороны суши, за которыми вдали видны были только несколько точек розовато-белого цвета — это были верхушки Далматских Альп, которые мы видели уже с итальянских берегов и к которым совсем не приблизились, несмотря на переход через Адриатическое море. Оставленный нам матрос не мог ничего нам сообщить; он говорил только на непонятном славянском языке, а так как Марко немного вышучивал его на море, то он не хотел больше отвечать на наши вопросы. Со стороны открытого моря мы видели лишь узкие кусочки пространства, потому что «Алкион» ухитрился так врезаться в рифы, что ни с какой точки в море нельзя было заметить его крушения. Величественная картина окружавших нас затопленных гор представляла собой декорацию, великолепную в своем ужасе и мрачно голую: ни травинки на скале, ни одной водоросли на ее стенках, никакой надежды поймать что-либо в этих ясных и глубоких водах, ни малейшего шанса выбраться из этих вечно бурных волн, если не придет помощь извне. Напрасно обходили мы раз десять свою тюрьму. Ни с одной стороны не виднелся гостеприимный берег, и мы тщетно справлялись со своими путеводителями и картами. Напрасно говорили мы себе, что восточная часть Адриатики усеяна обитаемыми островами; вокруг нас не было ни одного признака жизни. Положение это еще нас не очень пугало. Вдоль берегов, наверное, повсюду шныряют суда, и скоро мы увидим кругом себя маленькие паруса; во всяком случае, плот, конечно, скоро повстречается о каким-нибудь судном и сообщит ему о нашей беде. С наступлением рассвета ветер совершенно переменился. Теперь он яростно дул с запада — обстоятельство тревожное во всех отношениях. Никакая рыбацкая лодка не могла пуститься в море, и никакому пассажирскому судну не вздумается рискнуть плыть по соседству с рифами. Удастся ли Моранбуа пристать куда-нибудь без крушения? Его плот снабдили таким количеством провизии, какое могло уместиться на нем. У нас ее осталось совсем немного, и мы рассудили, что будет разумнее как можно дольше к ней не прикасаться. Небольшой прилив, свойственный Адриатике, подступал ко входу в бухточку, и мы надеялись, что он принесет нам ракушек, которыми мы решили довольствоваться, чтобы не прикасаться к припасам. Мы с Марко подстерегли волну, чтобы помешать ей унести обратно те богатства, которые она должна была принести нам. Но принесла она только пустые раковины. Империа, к которой вернулось все ее хладнокровие, попросила меня набрать ей самых красивых. Она взяла их, разобрала, уселась на выступ скалы, достала из кармана маленький рабочий несессер, всегда бывший при ней, и принялась нанизывать ожерелье из этих бедных бус, точно собираясь приукраситься им, чтобы ехать вечером на бал. Бледная и уже похудевшая после этой ночи терзаний, пока бушевавший ветер не то что играл с ее волосами, а, казалось, хотел сорвать их с ее головы, она сидела серьезная и кроткая, как тогда в фойе «Одеона», когда она только что встала после болезни и уже работала над гипюром в ожидании, когда ее позовут работать на сцене. — Ты смотришь на нее, — сказал мне Белламар, тоже наблюдавший за нею, — девушка эта, конечно, на целую ступень выше человечества; она точно ангел среди окаянных. — Уж не больны ли вы? — сказал я ему, глядя на него с удивлением. Я находил его так сильно изменившимся, что испугался. Он понял и сказал мне, улыбаясь: — У тебя не менее страшный вид, чем у меня; у нас у всех страшный вид! Мы переутомились, нам надо поесть, иначе мы все сойдем с ума через десять минут. Он был прав. Ламбеск начинал ссору с Марко, а Пурпурин, лежа наполовину в воде, декламировал с бессмысленным выражением лица совершенно лишенные смысла стихи. Мы бросились за припасами; они не были испорчены, но, поставленные хозяином «Алкиона», спекулировавшим на всем, они были весьма плохого качества, за исключением вина, которое было хорошо и имелось в достаточном количестве. Женщин наделили прежде всего. Только одна из них поела с большим аппетитом, а именно Регина; она также и выпила немало, а так как у нас не было хорошей воды, оттого что бочонок разбился при крушении, то она скоро оказалась совершенно пьяной и устроилась спать в таком месте, откуда ее непременно снесло бы волной, если бы мы не отвели ее повыше на скалу. Ламбеск, уже возбужденный, тоже напился, а маленький Марко, обыкновенно умеренный, скоро проявил лихорадочную веселость. Остальные сдержались, а я отложил в сторону часть моей порции еды так, что никто этого не заметил. Я начинал подумывать про себя, что если море не поглотит Моранбуа или если он не разобьется о скалы, то он может еще не скоро вернуться, а я хотел поддерживать силы Империа, в ущерб моим собственным, до самого последнего часа. Ни один парус не показался перед нами за весь этот день, который к полудню стал туманным. Ветер утих, и стало не так холодно. Мы занялись постройкой убежища для женщин и разломали для этого скалу, представлявшую что-то среднее между белым мрамором и мелом, так что ломать ее было не трудно. Мы прорыли в ней нечто вроде пещеры и удлинили ее маленькой стенкой из сухих камней. Из ящиков и тюков устроили общую постель и прикрыли ее полотнищем декорации, представлявшей, точно это была насмешка судьбы, вид моря среди скал. Другое полотнище, привязанное к стенкам настоящих скал веревками, составило уборную и гардеробную дам. Затем мы занялись устройством сигнальной мачты, которая могла бы быть видна с моря над рифами. Напрасно караулили мы волны, разбивавшиеся о нашу темницу, — они не принесли нам ни малейшего обломка мачты с «Алкиона». Тонкие же планки наших декораций не устояли перед самым слабым морским ветерком; несмотря на все искусство и тщательность, с которыми мы их укрепляли, их уносило через несколько секунд, и нам пришлось отказаться от устройства сигнала. Ночь застигла нас раньше, чем мы успели подумать об устройстве какого-нибудь убежища для себя. Восточный ветер возобновился и снова стал дуть, очень холодный и резкий. Три или четыре раза приходилось нам поправлять и укреплять палатку женщин, все-таки спавших спокойно, за исключением Анны, грезившей и время от времени пронзительно вскрикивавшей; но остальные были чересчур уставшие, чтобы обращать на это внимание. Мы могли бы зажечь костер — у нас оставалось несколько дрянных щепок, но Белламар посоветовал нам приберечь этот запас на крайний случай, на случай, если бы кто-нибудь из нас оказался серьезно болен. В любую минуту мы могли быть спасены появлением какого-нибудь судна; но было также очевидно, что мы могли оставаться в плену, пока ветер будет вынуждать суда держаться в открытом море, или пока дневной туман будет мешать нашим сигналам. К утру холод до того усилился, что нас всех начала трясти лихорадка. У нас имелись еще кое-какие припасы, но никому не хотелось есть, и мы старались согреться имевшимся в бочонке кипрским вином, что облегчало положение только на минуту, а потом увеличивало раздражение. А между тем, это было только началом наших мучений. Следующий день принес нам потоки дождя, которому мы сначала обрадовались. Мы могли утолить жажду и сделать запас пресной воды, которую собрали в немногочисленные имевшиеся у нас сосуды; но мы совсем замерзли, и когда жажда была утолена, голод проснулся с новой силой. Белламар, с согласия Леона, Марко и меня, объявил, что мы должны крепиться как можно дольше, прежде чем прикоснуться к нашим последним запасам. Этот второй день напрасного ожидания пробудил впервые во всех нас сознание, что мы можем оказаться окончательно покинутыми на этой бесплодной скале. Чувство отчаяния увеличивало физические страдания. Мы приуныли гораздо сильнее, чем в минуту крушения. Ламбеск стал невыносим своим бесполезным нытьем и жалобами. Оставшийся с нами матрос, настоящее грубое животное, поговаривал уже пантомимой о том, кого из нас следует съесть по жребию. К вечеру дождь прошел, и мы сожгли небольшие остатки дров для того, чтобы привести в чувство Анну, ежеминутно падавшую в обморок. Империа, которую я заставил принять сбереженную мною еду, отдала ее Анне; оставшаяся провизия исчезла за ночь — ее съел Ламбеск или матрос, а может быть, и оба. Весь запас пресной воды был выпит или бесполезно истрачен. В эту третью ночь, после промочившего насквозь нашу одежду дождя, наступил такой резкий холод, что мы не могли больше говорить, до того зуб на зуб не попадал. Мы продавили ящик с костюмами и напялили на себя как попало имевшиеся в нем куртки, платья, шубы и плащи. Женщины тоже промокли, потому что дождь промочил и декорацию, служившую им навесом, и прорытый нами свод в пористой скале. Эта проклятая скала не удерживала в себе воды, которой мы могли бы запастись в ее углублениях, и не защищала нас от непогоды. Мы хотели было сжечь ящик, в котором хранились наши тряпки. Белламар воспротивился. Он мог служить убежищем последнему оставшемуся в живых. Наконец, на третий день показалось солнце, туман рассеялся, и вновь зародилась надежда, что нас заметят. Все немного согрелись, воскресли кое-какие иллюзии, Анна чуть-чуть окрепла; вино утешило тех, кто захотел прибегнуть к его помощи. Мне не удалось помешать Марко превысить необходимую порцию. Он ненавидел Ламбеска, высокомерие и эгоизм которого выводили его из себя. С великим трудом удалось нам помешать серьезной драке между ними. Неожиданная надежда на спасение отвлекла всеобщее внимание: на горизонте показался, наконец, парус. Мы стали подавать всевозможные сигналы. Увы, парус был слишком далеко, а мы были слишком малы и заслонены рифами! Парус прошел мимо! Второй парус, потом третий, еще два к вечеру повергли нас один за другим в безумный восторг и в отчаянное уныние. Анна заснула, и нам не удалось разбудить ее, чтобы дать ей проглотить несколько ракушек, которых нам удалось поймать. Люцинда закуталась с головой в свою шаль и точно окаменела. Регина снова принялась молиться; смертельная бледность сменила на ее лице синеватую краску опьянения. Нам пришлось связать Пурпурино, чтобы помешать ему броситься в воду, и хорошенько приколотить кулаками матроса, кидавшегося на нас и желавшего выпить нашу кровь. Жажда терзала нас опять с новой силой; кипрское вино еще более ее усиливало, и были такие минуты, когда зверь начинал брать во мне верх, и мне пришлось просить Белламара и Леона, еще владевших собой, помешать мне напиться до полусмерти. Не будь у нас этого вина, жегшего нашу кровь и пожиравшего наши голодные внутренности, мучились ли бы мы меньше? Может быть; но, быть может, погибли бы тогда от холода и сырости, прежде чем подоспела бы помощь. Построенный нами шалаш нимало не защищал нас от холода. Так как под ящиком от костюмов мог укрыться на корточках только один человек, то Ламбеск овладел им, забился под него и еще издали бранился и угрожал каждому, приближавшемуся к нему, до того он боялся, чтобы у него его не отняли. Рискуя задохнуться, он так тянул к себе крышку, что сломал ее и стал еще более ругаться. — Так и надо, — сказал ему Белламар, — эгоистам ничего не идет впрок. Я советую вам пережить всех нас, ибо если это печальное преимущество суждено кому-либо другому, то он, конечно, не сочинит вам надгробной похвалы. Чтобы не слышать неприятного ответа Ламбеска, он отвел меня подальше и сказал: — Если мы должны выбраться отсюда, мое милое дитя, то все наши мучения пустяки. Я не хочу сомневаться в том, что мы выберемся, но я солгал бы, если бы сказал, что уверен в этом, и даже если бы это было очевидно, я все-таки не мог бы справиться с тем глубоким огорчением, которое причиняет мне более чем вероятная смерть Моранбуа. В первый раз в моей жизни грусть одерживает верх над моей волей. Ты молод, ты мужествен и энергичен, Леон — немой стоик, Марко — славный ребенок, но он чересчур молод для подобного испытания. А потому, если мне не хватит мужества, ты должен придать мне его. Обещаешь ли ты мне быть мужчиной и главой нашей бедной, потерпевшей крушение семьи, если Белламар умрет или станет бредить? — Вы изобретательны во всем, — отвечал я ему, — даже в наставлениях. Я понял… Я только что ослабевал, вы нашли средство подбодрить меня, притворяясь, что сами ослабеваете. Благодарю вас, друг мой, я постараюсь до последнего часа быть достойным вашим помощником. Он обнял меня, и я увидел слезы на глазах этого человека, которого я всегда видел только смеявшимся. — Дай мне поплакать хорошенько, — продолжал он со своей обычной улыбкой, теперь невыразимо грустной. — Моранбуа не услышит другого прости, кроме этих слез друга, который, быть может, скоро исчезнет и сам. Этот грубый товарищ моей бродячей жизни был олицетворенной самоотверженностью. Он умер именно так, как должен был умереть! Постараемся умереть так же хорошо, дитя мое, если мы осуждены остаться на этой скале, только замедляющей нашу агонию. Было бы легко умереть, потонув вместе с судном. Погибнуть же от жажды и холода — это дольше и серьезнее. Будем же мужчинами! Воздержимся от этого вина, которое только возбуждает и ослабляет нас, я в этом уверен. Я читал немало отчетов о крушениях и рассказов о самоубийствах голодом. Я знаю, что голод проходит через три или четыре дня, мы достигли этого срока; еще дня через два или три исчезнет и жажда, и те из нас, организм у которых крепкий, будут в состоянии прожить еще несколько дней, не бредя и не мучаясь. Устроимся так, чтобы поддерживать терпение и надежду в самых слабых, особенно в женщинах. Анна самая нервная из них, она выдержит дольше всех. Всего более тревожит меня самая мужественная из них, Империа, потому что она забывает о себе ради других и совсем не бережется. Я должен тебе сказать, что я спрятал у себя сокровище для нее — коробочку фиников, увы! маленькую коробочку и бутылочку пресной воды. Не станем ждать первого симптома ее слабости, ибо для этих натур, падающих только для того, чтобы умереть, запоздалая помощь бывает уже излишнею. Сходи за нею от моего имени и, когда она будет здесь, мы заставим ее напиться и поесть. Я поспешно исполнил его желание, не говоря Империа, в чем дело. Мы увели ее на крайний выступ островка, и там Белламар сказал ей: — Или ты повинуешься мне, моя милая, или, даю тебе честное слово, я брошусь в море. Я не желаю видеть, как ты умрешь с голода. — Я не голодна, — отвечала она, — и совсем не чувствую себя дурно; вот я брошусь в море, если вы не съедите оба того, что у вас осталось. Она упорно отказывалась, божась, что она крепка и может ждать еще долго. Пока она так оживленно отнекивалась, она вдруг упала в обморок. Несколько капель воды привели ее в чувство, а когда ей стало лучше, мы принудили ее съесть несколько фиников. — А вы разве не поедите их тоже? — сказала она нам умоляющим тоном. — Вспомните о вашем отце, — сказал я ей, — вам нельзя отказываться от жизни. На следующий, четвертый день погода была опять великолепная, и мы согревались понемногу на солнце. Слабость начинала овладевать всеми нами; мы были спокойны, вина больше не было. Ламбеск и матрос, наконец-то, спали глубоким сном. Пурпурин лишился памяти и не декламировал более стихов. Белламар, Леон, Марко и я вошли в небольшое отгороженное место, предназначавшееся дамам. Империа ухитрилась поднять в них дух своим непоколебимым терпением. Она поддерживала своих подруг, как Белламар поддерживал своих товарищей. — Останьтесь с нами, — сказала она нам, — мы уж больше не больны и не скучны, смотрите! Мы причесались и оделись, привели в порядок свою гостиную и принимаем своих друзей. Теперь нам кажется невозможным, чтобы помощь не пришла сегодня — погода так хороша! Регина из страха смерти превратилась в святую и воображает себе, что постится добровольно, чтобы искупить свои старые грехи. Люцинда нашла свое зеркало, затерявшееся было при переноске вещей, и убедилась, что бледность ей весьма к лицу. Она приняла даже решение употреблять менее румян, когда снова вернется на сцену. Наша маленькая Анна поправилась, и мы собирались мирно поболтать, точно у нас антракт, не вспоминая вовсе о том, что мы очутились здесь не для своего удовольствия. — Мадам, — отвечал Белламар очень серьезно, — мы принимаем ваше любезное приглашение, но с тем условием, что программа у вас будет серьезная. Я предлагаю брать штраф с того, кто заговорит о море, или о ветре, или о скале, или о голоде и жажде, — словом, обо всем, что может напоминать о неприятном приключении, благодаря которому мы сидим тут. — Согласны! — вскричали все. И к Леону обратились с просьбой продекламировать нам стихи собственного сочинения. — Нет, — отвечал он, — стихи мои всегда печального содержания. Я всегда смотрел на свою жизнь, как на крушение, а говорить об этом здесь не следует. Это было бы в высшей степени неуместно, это дело решенное. — Если так, — продолжал Белламар, — то мы займемся музыкой. Ящик с инструментами у вас, мадам, он служит вам постелью, если я не ошибаюсь; откроем его, и пусть всякий исполнит, что может. Он дал мне скрипку и взялся за бас, Марко завладел цимбалами, а Леон флейтой; мы были все немножко музыканты, ибо в тех местах, где французского языка не понимали, мы пели, как могли, комическую оперу, а когда в оркестре не хватало музыкантов, один из нас дирижировал любителями и сам играл. Результат нашего концерта был таков, что все мы залились слезами. Этим разрешилось всеобщее нервное напряжение. Пурпурин, привлеченный музыкой, бросился к ногам своего господина, говоря ему, что пойдет за ним на край света. — На край света, — отвечал меланхолично Белламар, — мне кажется, что мы и без того уже там. — Штраф, — крикнула ему Империа, — здесь не позволяется делать намеков. Пурпурин выразился верно, мы побываем все на краю света и вернемся оттуда. Тогда она начала петь и танцевать, схватив нас за руки, и мы последовали ее примеру, забыв обо всем и не замечая, что наши ноги совсем ослабели; но вскоре мы все очутились лежащими и спящими на берегу. Я проснулся первым. Империа была подле меня. Я схватил ее в свои объятия и страстно поцеловал, сам не зная, что делаю. — Что такое? — сказала она мне с испугом. — Что с нами еще случилось? — Ничего, — сказал я, — только я чувствую, что умираю, и не хочу умереть, не сказав вам правды. Я вас обожаю и сделался актером из-за вас. Вы для меня все, и только вас одну я буду любить вечно. — Я не знаю, чего я ей еще наговорил. Я был в бреду. Кажется, я долго что-то говорил ей очень громким голосом, никого, однако, не разбудившим. Белламар в костюме Криспена лежал подле нас неподвижный и безжизненный; Леон, в русском костюме, положил голову на колени Марко, завернувшегося в римскую тогу. Я бессмысленно взглянул на них. — Смотрите, — сказал я Империа, — пьеса кончена, все действующие лица умерли. Это плутовская драма; мы с вами тоже оба умрем; вот почему я и открываю вам тайну, великую тайну моей роли и моей жизни. Я вас люблю, я вас безумно люблю, люблю до смерти и умираю от этой любви. Она мне не отвечала и заплакала. Я обезумел. — Надо с этим покончить, — сказал я ей, смеясь. И я хотел было сбросить ее в море, но упал без чувств и сохранил только смутное воспоминание о двух последующих днях. Мы больше не проявляли ни веселости, ни гнева, ни печали; все были угрюмы и равнодушны. Прилив принес нам несколько обломков, покрытых дрянными морскими улитками, которые не дали нам умереть с голода и которых мы подбирали с удивительной вялостью, до того мы были уверены в неизбежности своей гибели. Выпало несколько капель дождя, что едва облегчило жажду; некоторые из нас не захотели даже воспользоваться этим небольшим облегчением, снова пробуждавшим задремавшее желание жить. Я едва помню свои тогдашние впечатления и могу припомнить только повторные припадки моей idée fixe. Империа непрестанно представлялась мне во сне, потому что я постоянно был в забытьи. Когда Белламар, все еще не поддававшийся и боровшийся, являлся немного встряхнуть меня, я не отличал более бреда от действительности и, воображая, что он зовет меня на сцену, просил его напомнить мне входную реплику, или мне чудилось, что мы с ним стоим в голубой спальне, и я говорил с ним шепотом. Мне кажется, что я еще раз открыл свою любовь Империа, но она уже меня более не поняла. Она вышивала гипюр или воображала, что мастерит его, ибо ее закоченелые и прозрачные от худобы пальцы часто шевелились в пространстве. В одно утро — не знаю, какое это было утро, — я почувствовал, что меня поднимает и уносит на руках, как ребенка, кто-то очень сильный. Я открыл глаза, лицо мое очутилось подле какого-то загорелого лица, которое я поцеловал, сам не знаю, почему, так как в тот момент я его не узнал; это было лицо Моранбуа. Мы провели семь ночей и шесть дней на скале, между жизнью и смертью. О том, что случилось дальше с моей особой, я расскажу вам не по личным моим впечатлениям — я провел целую неделю в состоянии полного отупения. Большинство моих товарищей претерпели те же самые последствия наших бед; но я все-таки сообщу вам обо всем со слов Белламара и Моранбуа, которых я расспрашивал по мере своего возвращения к жизни и восстановления здоровья. В последнюю ночь нашего мученичества на проклятой скале Белламар внезапно был разбужен матросом, собиравшимся его задушить для того, чтобы съесть. Он стал отбиваться, и результатом борьбы было то, что враг упал в море. Он так из него и не вынырнул, и никто его не оплакивал; один лишь Ламбеск выразил сожаление по поводу того, что, прикончив его в силу законной самообороны, Белламар уступил рыбам останки этого негодяя. Ламбеска ничуть не смущала мысль съесть подобного себе, как бы он ни был мало аппетитен, и если бы он почувствовал в себе необходимые силы, не знаю, не покусился ли бы он на нас. Но вас главным образом, должно быть, интересует кампания Моранбуа. Вот его приключения, начиная с той минуты, как он взошел на плот. Только что он выбрался из волн, так яростно бушевавших у рифов, как его понесло в открытое море необыкновенно сильным, необъяснимым течением. Хозяин «Алкиона» ничего не понимал и говорил, что с незапамятных времен на Адриатике не бывало ничего подобного. Добравшись до суши, куда после двадцатичасовой отчаянной борьбы он был выброшен живым, один, с обломками плота и трупами своих спутников, он понял, в чем дело. Случилось землетрясение, которого мы не ощутили в минуту нашего крушения и которое навело ужас на берега Далмации, видоизменило, быть может, подводные части тех рифов, где мы потерпели крушение, и произвело нечто вроде отлива, продолжавшегося несколько дней. Моранбуа выбросило на бедный островок наподалеку от Рагузы, на котором жило несколько рыбаков. Они подобрали его, полумертвого. Только через несколько часов он был в состоянии объясниться жестами, так как они не понимали ни слова ни по-французски, ни по-итальянски. Все, чего он мог добиться от них, так это того, что его отвезли на другой остров, где он натолкнулся на те же препятствия: его так же не понимали и оттуда так же трудно оказалось добраться до континента. Вы знаете, что страна эта была некогда опустошена страшными землетрясениями, причем одно из них разрушило совершенно великолепный город Рагузу, вторую Венецию, как ее тогда называли. Моранбуа нашел прибрежных жителей гораздо более озабоченными своей судьбой, чем готовыми поспешить на помощь другим. Он добрел до Гравозы, предместья и военного порта Рагузы, и там, сраженный усталостью, горем и гневом, он так расхворался, что его отнесли в больницу, где он чуть не умер. Когда он был в состоянии встать с постели и вступить в переговоры с местными властями, его приняли за сумасшедшего, до того он был возбужден лихорадкой и отчаянием. Рассказ его показался неправдоподобным, и его хотели было посадить в сумасшедший дом. Вы догадываетесь, конечно, что его речь, обыкновенно мало изысканная, приобрела при подобных обстоятельствах такую силу, которая действовала не в его пользу. Его заподозрили в том, что он хочет увести судно на тщетные поиски воображаемых жертв крушения для того, чтобы передать это судно пиратам. Заговорили даже о том, чтобы посадить его в тюрьму как убийцу хозяина «Алкиона». Наконец, когда ему удалось доказать свою искренность, а погода стала ясной, он нанял с трудом за дорогую цену какую-то тартану, экипаж которой насмехался над ним и которая плыла наудачу, не торопясь, так как капитан не соглашался подойти к тем рифам, куда именно Моранбуа хотел попасть. Он очень долго лавировал, прежде чем узнал то место, где мы были, и смог приблизиться к нам только на спасательной лодке. Все это объясняет вам, почему он добрался до нас только тогда, когда мы утратили уже и надежду, и желание бороться. Я должен исключить Белламара, совершенно ясные воспоминания которого доказали нам, что он не переставал ни минуты оберегать нас и всегда отдавал себе отчет в нашем положении. Тартана перевезла нас в порт Рагузы, и только там, по истечении нескольких дней, ко мне вернулась память о прошлом и сознание настоящей минуты. Все мои спутники были очень больны, но я, с моим крупным, молодым, сильным, а следовательно, и требующим соответствующего питания телом, пострадал более других. Моранбуа оправился в два дня; Анна была еще так слаба, что ее приходилось носить; Ламбеск был крепче нас всех в физическом отношении, но ум его до того помутился, что он продолжал воображать себя на скале и бессмысленно ныл. Люцинда божилась, что никогда более не сядет на судно и, не отрывая взгляда от зеркала, тревожилась по поводу длины своего носа, еще более выступавшего теперь между провалившихся щек. Регина же, наоборот, нисколько не была огорчена тем, что похудела, и забавно и особенно цинично шутила; она сделала успехи в этом направлении. Леон сохранил свой рассудок ясным, но у него разболелась печень, и он, не жалуясь ни на что, казался еще более мизантропом, чем раньше. Зато Марко был нежнее и любезнее, занимаясь только другими и забывая о самом себе. Пурпурин стал почти нем, до того он отупел, и Моранбуа все желал ему таким и остаться. Что касается Империа, интересовавшей меня более всех других, она была загадочна в расстройстве, как и во всем: физически она пострадала менее своих подруг благодаря той маленькой помощи, которую Белламар и я заставили ее принять, но ум ее точно перенес какое-то особенное потрясение. Она хворала меньше других, но была гораздо более расстроена, чем другие, и не выносила, когда теперь говорили о пережитых страданиях. — Она была удивительна до самого конца, — сказал мне Белламар, которому я выразил свое удивление, — она думала только о нас, совершенно забывая себя. Теперь в ней совершается реакция, она расплачивается за свое крайнее самоотвержение, она немного невзлюбила всех нас за то, что мы причинили ей слишком много труда и забот. Насколько я видел ее кроткой и терпеливой с нами, когда мы были все умирающими, настолько она теперь требовательна и раздражительна с нами, выздоравливающими; но она не отдает себе в этом отчета. Притворимся, что мы ничего не замечаем, через несколько дней равновесие в ней восстановится. Госпожа природа — неумолимая владычица; самоотвержение покоряет ее, но она снова вступает в свои права, как только этому великому стимулу больше незачем действовать. Действительно, к Империа скоро вернулось равновесие, только не в отношении ко мне. Я находил ее недоверчивой, минутами она даже все хулила и высмеивала. Видя меня удивленным и огорченным, она поправлялась, но это уже не была первая дружеская простота отношений. Что же произошло в то время, когда я был в бреду? Я мог припомнить только то, что сказал вам. Этого было уже довольно, чтобы она стала остерегаться меня; но поняла ли она? Могла ли она помнить мои слова? Не приписывала ли она этот порыв моей тогдашней лихорадке? Я не посмел расспрашивать ее, именно боясь напомнить ей факт, быть может, забытый ею. Вначале это была с моей стороны беззаботность. Я был чересчур слаб для того, чтобы чувствовать себя влюбленным, и мне нравилось уверять себя, что я никогда не был влюблен. Несомненно то, что мы все были сильно истощены и присмирели. Когда мы сошлись все в первый раз на террасе маленькой виллы, нанятой нами на лесистом холме, возвышавшемся над портом, меня поразили не худоба и не бледность наших лиц, уже менее страшных, чем тогда на скале, но какое-то общее для всех выражение, вносившее родственное сходство в самые различные черты. Глаза наши расширились и округлились, точно застыв от ужаса, а между тем бессмысленная улыбка кривила наши дрожащие губы, что составляло тяжелый контраст. Мы все как бы немного заикались и больше или меньше оглохли. На некоторых из нас это еще долго сказывалось. Белламар, ни минуты не отдыхавший, ухаживавший за всеми нами, контролируя рецепты местных докторов, не внушавших ему доверия, давая нам лекарства из своей аптечки, стал чувствовать в свою очередь утомление тогда, когда наше стало проходить. Мы жили уже две недели в этом маленьком порту на прелестном холме с видом на голубовато-серые окружающие его горы, а ни один из нас не был еще в состоянии ни работать, ни путешествовать. Со времени отъезда из Анконы, то есть почти уже с месяц, мы ровно ничего не заработали и много истратили, так как Белламар ничего не жалел для нашего лечения. Финансовые дела ухудшались с каждым днем, и с каждым днем чело Моранбуа все более и более омрачалось; но он не хотел говорить об этом, боясь, чтобы Белламар не вздумал устраивать спектаклей в Рагузе, что слишком скоро втянуло бы его в новые хлопоты и труды. Да и имелся ли в Рагузе театр? Мы спасли свои задние декорации, и Леон собирался подновить их, тогда как Марко и я занимались их подклейкой. Я лично ни о чем не тревожился. Мой небольшой капитал в бумажках все еще был в моем кушаке, и я смотрел на эти деньги, как на спасение директора и труппы, когда касса совсем опустеет. Но спасение должно было прийти не от меня. Раз вечером, пока мы пили кофе в саду под цветущими лимонными деревьями, нам доложили о приезде владельца виллы, которому принадлежала также и тартана, нанятая Моранбуа для наших поисков. Ни за то, ни за другое еще не было заплачено. — Вот она, критическая минута, — сказал нам Белламар, глядя на Моранбуа, ругавшегося сквозь зубы. — Будьте спокойны, — сказал я им, — я еще при деньгах, примем учтиво кредитора. Перед нами появился высокий молодой человек, перетянутый в талии, точно оса, одетый в золото и пурпур, с лицом античной красоты, полный величественной грации. — Который из вас, господа, — сказал он на хорошем французском языке и с вежливым поклоном, — директор труппы? — Я, — отвечал Белламар, — и позвольте мне поблагодарить вас за то доверие, с которым сторож этой виллы разрешил мне от вашего имени поселиться в ней с моими бедными товарищами, не требуя внесения залога; но мы готовы… — Дело не в этом, — продолжал блестящий господин, — я не сдаю внаем этот дом, я просто уступаю его на время. А также не намерен заставлять людей, потерпевших крушение, платить за ту помощь, которую каждый человек должен оказывать себе подобным. — Но, позвольте… — Прошу вас не говорить об этом более, это оскорбило бы меня. Я князь Клементи, богат для своей страны, тогда как в вашей, где другие потребности, другие привычки, но также и другие обязанности, я оказался бы бедным. Все относительно. Я воспитывался во Франции, в коллегии Генриха IV. Значит, я немного цивилизован и немного француз — мать моя была парижанка. Я люблю театр, которого давно уже лишен, и смотрю на артистов, как на людей умных и знающих, весьма необходимых для нашего прогресса. Посещение мое не имеет другой цели, кроме желания увезти вас с собой на весну в наши горы, где вы все скоро поправитесь на чистом воздухе, среди сердечных людей, которые будут восхищаться вашими талантами и будут считать себя, так же, как и я сам, вашими должниками, когда вы захотите поделиться этими талантами с ними. Белламар, соблазненный этим любезным приглашением, обвел нас вопросительным взглядом и, видя всеобщее одобрение, обещал явиться к князю, но лишь на несколько дней, как только мы окажемся в состоянии играть и петь. — Нет, нет, — сказал красавец Клементи, — я не хочу ждать. Я хочу увезти вас с собой, доставить вам у себя комфорт и отдых на столько времени, сколько будет нужно. Играть же вы станете только тогда, когда вам вздумается, и даже вовсе никогда, если пожелаете. Я смотрю на вас пока лишь как на потерпевших крушение, внушающих мне участие людей, которых я хочу сделать своими друзьями, прежде чем своими артистами. Леон, не любивший покровителей, возразил, что нас ждут в Константинополе и что мы заключили договор. — С кем? — вскричал князь. — С господином Заморини? — Именно. — Заморини просто мошенник, который станет вас эксплуатировать и бросит без всяких средств в Константинополе. В прошлом году я нашел в Бухаресте одну итальянку, которую он увез в качестве примадонны и бросил в этом городе, где она поступила служанкой в гостиницу, чтобы иметь кусок хлеба; не будь меня, она и теперь оставалась бы там. Теперь она поет с успехом в Триесте. Это интересная особа, сохранившая ко мне дружбу; я возвратил ей свободу, попросив у нее предварительно несколько уроков пения. Вас же я попрошу только разговаривать со мной время от времени, чтобы я мог припомнить и усовершенствовать свой французский язык, который боюсь позабыть. Когда вы все оправитесь, вы полетите дальше, если потребуете этого, и если вы непременно желаете отправиться к нашим врагам туркам, я помогу вам; но я буду очень удивлен, если не окажется, что Заморини к тому времени обанкротился. У него была красавица-жена, поправлявшая его дела всякий раз, как он прогорал. Ей надоело служить предметом эксплуатации этому негодяю, и она покинула его, чтобы эксплуатировать в своих собственных интересах какого-то русского с Черного моря, увезшего ее с собой три месяца тому назад. Красивый князь продолжал болтать таким образом с легкостью, присущей славянам, ибо он не был родом из Албании, как мы подумали было вследствие сходства его костюма с костюмом этого народа. Он выдавал себя за черногорца, но предки его были скорее из Герцоговины или Боснии. Презабавно было то, что эти вышеупомянутые предки, портреты которых мы скоро увидали у него, отличались массивностью и угловатостью, а он был обязан своим прекрасным греческим типом матери, бывшей, как мы потом узнали, модисткой на улице Вивьенн, то есть столько же гречанкой, как вы или я. Этот экспансивный и любезный господин очаровал почти всех нас, а так как он уверял, что княжество его отстоит всего на один день пути от Рагузы, мы уступили его желанию увезти нас с собой на следующий же день. Так как рейд Гравозы далеко углубляется в сушу, нас и весь наш груз снова усадили на привезшую нас тартану, на которой князь вступил весьма развязно в роль хозяина. Он точно не замечал, что внутренность судна могла бы быть почище, и эта подробность заставила нас призадуматься над местными привычками. Впрочем, судно это, редко служившее князю и занимавшееся в остальное время каботажем в свою пользу, несколько преображалось, когда его светлость садился на него. На нем устраивали нечто вроде пестрого шатра и прилаживали узорчатую рубку, украшенную во вкусе наших бульварных феерий. Сойдя с судна, мы переехали в экипажах в Рагузу, где нас ожидал обильный завтрак и где нам предложили осмотреть дворец дожей, прежде чем снова усесться в наемные экипажи. Наконец мы направились к горам по прекрасной тенистой дороге, довольно мягко шедшей в гору и открывавшей нашим глазам при всяком повороте великолепные пейзажи. Мы снова были веселы, беззаботны, готовы ко всему. Путешествие по суше было нашей стихией, все наши испытания сгладились, точно сон. Но после небольшого переезда дорога кончилась, ее сменила страшная отвесная тропинка. Экипажи рассчитали и отослали. Ящики и декорации сдали каким-то подвернувшимся людям, которые должны были перенести их на руках в два дня. На вершине горы, куда нам пришлось взобраться пешком, нас ожидали мулы, которых вели женщины в живописных лохмотьях. Лично я шел пешком с удовольствием, чувствуя, что мои ноги вместо того, чтобы отказываться служить, крепнут с каждым шагом; но я опасался последствий этого путешествия, не обещавшего большого удовольствия для Белламара и Империа. Действительно, путь оказался тяжелым. Начать с того, что дамы перепугались, очутившись на мулах, шедших по узеньким тропинкам на головокружительной высоте и порученных другим женщинам, которые не переставали болтать и смеяться, еле держали животных под уздцы и беззаботно предоставляли им идти по краю пропасти. Однако, мало-помалу, наши актрисы доверились этим сильным горным жительницам, исполняющим все тяжелые работы, от которых уклоняются мужчины, занятые только войной. Но мы страшно устали, потому что пришлось проехать таким образом миль десять, почти все время наклонившись вперед или назад и только изредка переводя дух на ровном пространстве. Леон, Марко и я предпочли идти пешком, но идти приходилось быстро. Князь верхом на отличной лошади, которой он управлял с ослепительной искусностью, ехал во главе вереницы с двумя длинноусыми служителями, бежавшими вслед за ним с карабинами на плечах и ножами и пистолетами за поясом. Женщины, гордые своей силой и храбростью, не отставали от них из самолюбия. Мы шли позади, причем нам непрестанно мешали наши мулы и лошади, которые не позволяли вести себя под уздцы: они были полны пыла и духа соревнования и, желая опередить нас, сбрасывали нам под ноги кучи каменьев. Ламбеск до того повздорил со своим мулом, что тот, увертываясь от его побоев, потерял голову и полетел в пропасть. Князь и его конвой не обратили на это ни малейшего внимания. Необходимо было выбраться из ущелья до ночи, мы умирали от жажды, а известковая скала не доставляла нам ни одной струйки воды. Наконец, к вечерним сумеркам, мы очутились на траве тесной долины, над которой возвышались со всех сторон оголенные вершины гор. На небольшом расстоянии, на холме стоял дом с куполом; там виднелся свет. Это было похоже на большой монастырь. И действительно, это был монастырь. Наш князь был облечен в епископский сан, хотя и был мирским лицом, и этот древний монастырь, где его дяди царили князьями, сделался его резиденцией, где он епископствовал и княжил. Я не стану объяснять вам странностей социального положения этой христианской страны, завоеванной турками, вечно воюющей со своими притеснителями, а повинующейся и принадлежащей, в сущности, только самой себе. Мы были на границах Герцеговины и Черногории. Я почти ничего не понял в тех странностях и нелогичностях, с нашей точки зрения, которых я там насмотрелся. Быть может, я внес в это беззаботность француза и легкомыслие артиста, путешествующего для того, чтобы взглянуть на новые вещи, не желая проникать в суть вещей и знать, зачем и почему. Для актеров все есть зрелище, для бродячих актеров все еще, скорее, есть сюрприз и развлечение. Если бы актер проникался, как философ, идеями других, ничто не производило бы на него того впечатления, в котором он непременно нуждается. Мои товарищи в этом отношении походили на меня. Нам казалось вполне нормальным иметь дворцом монастырь и аббатом черногорского воина. Однако же мы ожидали увидеть под этими романскими сводами длинные вереницы монахов. Но монах имелся один, он заведовал аптекой и кухней. Остальная братия была переведена в другой монастырь, который князь построил для нее неподалеку от прежнего. Этот последний разваливался, он его отремонтировал и укрепил. Таким образом, он был также крепостью, и дюжина мертвых голов, украшавших зубцы входной башенки, свидетельствовала о короткой расправе местного властелина. Рубить головы с восточным шиком, говоря в то же время о Дежазе, драться, точно герой Гомера, передразнивая Грассо, — эти контрасты резюмируют вам в двух словах жизнь князя Клементи. У него были вассалы, точно у средневекового барона, но эти воинственные вассалы были скорее его повелителями, чем подчиненными. Он был благочестивым христианином, но обладал гаремом женщин под покрывалами, никогда не показывавшихся перед посторонними. Благодаря этому смешению нравов и обычаев, отличающему пограничные местности, он, француз по матери, по воспитанию и образованию, полученным во Франции, представлял собой самый странный тип, когда-либо встреченный мною, и я должен вам сказать, что, не будь его относительного богатства и его испытанного патриотизма, навряд ли бы он был принят его соседями, вечно мятежными вожаками Черногории и Боснии. Его подданные, человек около 1200, были разного происхождения и хвалились тем, что имели предками боснийцев, хорватов, венецианцев, сербов, русских; быть может, среди них были и овернцы! Они принадлежали ко всем вероисповеданиям, тут были евреи, армяне, копты[330], православные, католики; среди них было также немало и мусульман, и они были ничуть не менее преданы делу национальной независимости. Князь владел также деревней, то есть кочевьем идолопоклонников-цыган, приносивших, как говорили, в жертву крыс и сов какому-то неведомому божеству. Нас поместили всех в двух комнатах, но таких огромных размеров, что мы могли бы предаваться там цирковым упражнениям. Восточные ковры, немного выцветшие, но еще роскошные, разделяли на несколько отделений комнату женщин, что позволяло каждой из них иметь свой уголок. В комнате мужчин огромная циновка из алоэ разделяла ее на две одинаковые половины, так что одна служила спальней, другая — гостиной. Вместо постелей масса диванов и подушек; но, подобно голубой спальне, тут не было ни простынь, ни одеял. Пожелав нам доброй ночи, князь исчез, а монах-поварпринес нам кофе и розовое варенье. Мы подумали, что это обычай, предшествующий ужину, и стали ждать этого ужина, которого так и не дождались. Мы набросились на варенье, а так как все были очень утомлены, то удовольствовались этим, надеясь вознаградить себя завтрашним завтраком. На рассвете, чувствуя себя, несмотря ни на что, очень бодрым, я отправился с Леоном осматривать местность. Это был удивительный пейзаж, оазис зелени в рамке грандиозных гор, увенчанных вершинами, еще покрытыми снегом. По одной особенной форме бреши я узнал, или мне показалось, что я узнал зубцы розовых Альп, на которые мы успели вдоволь налюбоваться во время нашего плена на скале. Долина, над которой возвышался замок, не имела и двух километров в длину; это был просто большой луг, и мы быстро перешли через него, чтобы взглянуть на то, что было дальше. Этот прекрасный луг, окаймленный цветущими миндальными деревьями, был отгорожен отвесной известковой стеной; но мы заметили во время нашего вчерашнего переезда, что бесчисленные долины, замкнутые странной сетью этих гор, сообщались друг с другом тесными ущельями, и после небольшого карабканья мы проникли в другую долину, более обширную и лучше возделанную, нежели первая, составлявшую лучшую часть владений князя. Прелестное маленькое озеро принимало в себя воды, вытекавшие из грота, из него же не вытекало ни одного видимого ручейка. Леон пояснил мне, что здесь, должно быть, находится один из тех многочисленных подземных ручьев, которые то появляются на поверхности, то прячут свои таинственные течения в этой малодоступной, неисследованной еще местности. Вода эта была источником богатства князя Клементи, ибо засуха — бич этих мест, но она, в то же время, и гарантия их независимости. Там существуют, рассказывали мне, значительные пространства, настоящие Сахары, куда неприятельские войска не могут проникать в силу отсутствия воды. Вернувшись с прогулки, мы нашли наших актрис, занятых в кухне грабежом мисок и лоханок. Никому не пришло в голову, что христианам может потребоваться совершить омовение, и умывательные чашки и другие принадлежности туалета из английского фаянса, украшавшие буфетную, были заполнены паштетами из дичи. Со своей стороны Белламар требовал у монаха-повара завтрак поплотнее вчерашнего ужина. Тот извинился с подобострастной вежливостью, говоря, что завтрак будет подан в полдень и что он не получал приказания подавать раньше. Пришлось опять подождать и выпить много кофе. У брата Искириона, этого бородатого повара в черном одеянии и судейской шапке, имелось другое дело, кроме выслушивания наших жалоб. Он был тут на все руки, а теперь он был занят чисткой оружия и лошадиной сбруи. Так как он говорил по-итальянски, то он сообщил нам, что князь уехал рано утром, чтобы произвести смотр своим войскам, который должен был состояться на лужайке в десять часов утра. Он прибавил, что, вероятно, его светлость желает доставить развлечение нам, именитейшим гостям. Мы могли верить этому или нет, но на деле у князя имелись гораздо более серьезные заботы. Наши актрисы, извещенные о готовившемся торжестве, принарядились как можно лучше. Правда, их платья потерпели серьезные аварии на scoglio maledetto, но, со вкусом француженок и артисток, они мигом исправили беду и могли показаться в таком виде, который делал им честь. Они оказали нам услугу тем, что пришили немало оторванных на нашей одежде пуговиц и выгладили не один возмутительно измятый воротничок рубашки. Наконец, в десять часов мы приняли довольно приличный вид; и князь, предварительно велевший доложить о себе, появился перед нами во всем блеске своего воинского костюма: в белых штиблетах, отделанных красными и золотыми галунами удивительной работы, в ярко-красных кашемировых шароварах, в красном суконном доломане, усыпанном сверкающими пуговицами и позументами, с шелковыми рукавами, шитыми золотом и серебром, в мерлушковой с бархатом шапке с султаном, приколотым пряжкой из драгоценных каменьев, в золотом поясе, представлявшем собой целый арсенал ятаганов и пистолетов, выставлявших свои ручки в виде птичьих или змеиных голов. Он был так хорош собой, так хорош, что, казалось, он только что вышел из волшебного мира «Тысячи и одной ночи». Он провел нас на площадку входной башенки, и тут-то отрубленные головы, на которые наши дамы не обратили еще внимания, вызвали у них ужас и отвращение. Империа, которой князь подал руку и которая шла впереди, сдержала готовый вырваться крик и, поспешно бросив своего проводника, кинулась к винтовой лестнице, говоря следовавшим за нею подругам: — Не ходите туда, не ходите, это отвратительно! К женскому страху всегда примешивается жадное любопытство. Хотя и сильно испуганные заранее, Анна, Люцинда и Регина пожелали все-таки взглянуть сами и вернулись к нам, крича точно сумасшедшие. Князь рассмеялся, немного удивленный и обиженный; но ему так и не удалось убедить их остаться на этом месте, отличавшемся таким местным колоритом. Как ни уверял он их, что головы турок — не человеческие головы и что они иссушены ветром, а следовательно, совершенно чисты, они объявили ему, что скорее откажутся от удовольствия присутствовать на смотре, чем согласятся находиться в подобном окружении. Клементи провел нас на другую башню, что было ему не очень приятно и заставило его изменить программу представления, то есть свой план маневра; затем он оставил нас, и мы увидели его снова на подъемном мосту, гарцующего на великолепном коне, так и метавшем пламя из ноздрей и точно собиравшемся пожрать всех остальных. Зрелище получилось чудесное. Армия состояла всего из 250 человек, но какие это были люди! Все высокие и худые, элегантные, в красивых костюмах, вооруженные с ног до головы и удивительные наездники. Их маленькие лошадки, лохматые и нервные, как казачьи лошади, молнией пересекали пространство. Они исполнили несколько упражнений очень ловко, главным образом подражая кавалерийским атакам, спускаясь и поднимаясь одинаково в галоп по крутому склону долины, перескакивая через огромные рвы и снова восстанавливая порядок после ужасающей скачки. Потом устроили небольшую засадную войну на противоположных нам скалах. Всадники теснились на узких площадках со своими лошадьми, которых они держали одной рукой, тогда как другой стреляли из ружей; затем они стали упражняться в стрельбе пулями в галопе, метясь в головы турок, на этот раз поддельные. Князь принимал участие во всех этих упражнениях, проявляя в них ловкость и грацию, только еще более оттенявшие его удивительную красоту. Затем все воины собрались на лужайке на грандиозную трапезу. Туда подали двадцать целых баранов. Офицеры и солдаты, усевшись на траву без различия чинов, ели руками весьма важно и очень много, не сделав ни пятна на своих нарядных костюмах. Запах этого мяса напомнил нам, что мы были почти натощак с Рагузы, и хотя, по-видимому, о нас не думали, мы сами пригласили себя и спустились со своего наблюдательного пункта с решительностью людей, нимало не желающих повторить пост, как на проклятой скале. Князь, председательствовавший на банкете, провозглашал как раз тост, переходивший в целый спич. Мы направились прямо к брату Искириону, стряпавшему под открытым небом, и Белламар захватил кастрюлю, кипевшую на огне и содержавшую полбарана с рисом. Монах хотел воспротивиться этому. — А ежели я распорю тебе брюхо? — сказал ему Моранбуа, останавливая на нем взор хищной птицы. Несчастный понял этот взгляд, хотя и не понял выражения угрозы, вздохнул и оставил нас в покое. Укрывшись под группой мастиковых деревьев, мы принялись весело пировать, причем каждый из нас отправлялся в свою очередь открыто захватить кто дичь, кто рыбу из озера соседней долины. Князь заметил наши вылазки и, оторвавшись на минутку от дел своего государства, прокрался к нам, извиняясь, что не пригласил нас на этот чисто военный пир, во-первых, потому что не было принято допускать на такие пиры иностранцев, а во-вторых, впрочем, и потому, что у них никогда женщины не едят вместе с мужчинами. — Ваша светлость, — отвечал Белламар, — мы тут все равны, у нас нет ни мужчин, ни женщин. Мы не мешаем вашим воинам из «Илиады» принимать нас за цыган, но мы были голодны, и мы не можем питаться вареньем. Прикажите подавать нам мясо или отпустите нас, ибо с той изысканной диетой, которой ваш министр кухонных дел желает, по-видимому, подвергнуть нас, мы никогда не будем в состоянии продекламировать вам и трех строчек стихов. Князь соизволил улыбнуться и обещал нам, что с завтрашнего же дня мы будем есть по-европейски. — Надо, — прибавил он, — чтобы вы потерпели сегодня, потому что весь день посвящен у меня серьезным делам. Завтра я весь к вашим услугам. — Если так, — сказал Моранбуа, как только тот отвернулся от нас, — наполним же наши карманы на весь день. И он опустил несколько жареных куропаток в свою вместительную дорожную сумку. Мы отправились провести остаток дня на берег маленького озера, открытого утром Леоном и мною. Положительно, это было очаровательное местечко. В середине вода была прозрачна, как хрусталь; близ отверстий подземного потока, доставлявшего воду в озеро, вода пенилась среди скал, покрытых цветущими олеандрами и миртами. Мы все почувствовали себя выздоровевшими в этом оазисе и стали предаваться такому безумному веселью, от которого давно уже отвыкли; даже Моранбуа и Леон развеселились, а Пурпурин попробовал декламировать стихи. Мы полюбовались еще новым небольшим зрелищем, потому что по дороге, проходившей через луг, проезжали перед нами красивые всадники, участвовавшие в смотре и возвращавшиеся теперь кучками и скрывавшиеся за различными поворотами гор по невидным нам тропинкам. Время от времени кучки эти снова появлялись на головокружительных высотах. Золото их костюмов и их прекрасное оружие сверкали при заходящем солнце. — Я никогда не бывал в опере, — заметил мудро Пурпурин, — но я нахожу, что это еще гораздо красивее. Мы просидели бы тут до самой ночи, но проходивший мимо нас со стадом высокий старик с длинными белыми усами, с голыми до плеч руками, с неимоверной длины ружьем вместо посоха, остановился, поклонился нам с приветливым и важным видом и обратился к нам с речью, которой никто из нас не понял; но, так как он настойчиво указывал нам то на солнце, то на монастырь, мы сообразили, что по той или другой причине нам следовало вернуться домой. И хорошо сделали, что вернулись, потому что, когда мы явились к замку, там собирались поднять мост. Маленькая крепость строго запиралась, как только солнце садилось за самой низкой горой. Нас нимало не испугала мысль, что каждую ночь мы будем таким образом в плену: никто из нас не предполагал, что это могло оказаться весьма неприятным. Так как брат Искирион был единственный служитель, с которым можно было столковаться, мы попробовали разговорится с ним, когда он принес нам превосходный кофе по-турецки и вечное варенье, чего, по его мнению, нам должно было быть достаточно после полуденной еды. Он сообщил нам, что князь задержал у себя главных начальников своего войска и держал с ними совет в бывшей зале капитула. — Один Бог знает, — прибавил он напыщенным и проникновенным тоном, — какой луч света или удар грома будет результатом этой конференции — мир или война! — Война с турками? — спросил Белламар. — Разве эти господа нападают когда-нибудь на них? — Каждый год, — отвечал монах, — а теперь скоро наступит удобное время для того, чтобы отнять у них какой-нибудь форт или ущелье. Дай Бог, чтобы это не случилось раньше как через два месяца, ибо к тому времени озеро наше высохнет! Вкусная рыба, водящаяся в нем, уйдет обратно в пещеры, и тогда неприятель, которому будет нечего ни есть, ни пить, не рискнет проникнуть к нам, в самое сердце гор. — Чем же вы питаетесь летом? — спросила у него Регина. — Летом, — отвечал монах, — наш милостивый властитель, князь Клементи, уезжает в Триест либо в Венецию. А мы пьем кислое молоко и едим творог в масле, как и остальные жители долины. — От этой еды, я вижу, не толстеют, — сказала Регина, — вон ваши ребра пересчитать можно. — По-видимому, — сказал нам Белламар, когда монах ушел, — наш хозяин желает позабавиться перед началом кампании. Престранная идея привезти нас к себе посреди подобных забот, если только он не набрал нас для пополнения своего войска, гораздо более красивого, чем значительного. Послушайте, дети мои, разве вас не привлекла бы возможность подраться с неверными? — Вот уж нет! — вскричал Ламбеск. — Только этого не хватает! То-то попались бы мы, как кур в ощип! — А мне, — сказал Моранбуа, любивший, подобно всем остальным, противоречить Ламбеску, — было бы приятно пострелять из пушки с этих маленьких укреплений и размозжить голову нескольким мусульманам. — Так порадуйся же, — сказал Леон, продолжая шутить, — я знаю, что князь намерен поручить нам охрану своей крепости, когда он выступит в поход, и держу пари на десять против одного, что нам придется подвергнуться нападению. — Я в восторге, — вскричал Марко, — я всегда мечтал играть роль в настоящей мелодраме. Гнев и страх Ламбеска опять нас развеселили, и мы собирались провести приятно вечер. Но прежде всего мы пожелали узнать, вполне ли мы у себя и можем ли шуметь, не мешая нашему хозяину и не нарушая торжественности его военного совета. Белламар, Леон, Марко, Империа, Люцинда и я, шедший впереди всех со свечой, решили пойти осмотреть этот романтический монастырь, который мы еще не успели обследовать. Комнаты наши выходили окнами на бастион, над которым возвышалась другая зубчатая постройка, где днем и ночью шагал часовой. Мы могли любоваться эффектным лунным светом, проникавшим сквозь четкие линии укреплений, но присутствие этого часового и его мерный шаг имели в себе что-то стеснительное и раздражающее. Обстановка эта была не весела, а вечер был холодный. Нам вздумалось поискать себе другое место, подходящее для нашего веселья, что-нибудь такое, что напоминало бы нам фойе большого театра. Пройдя длинные монастырские залы с низкими сводами и разные таинственные лестницы, ведшие иногда только к замурованным дверям или развалинам, ибо некоторые внутренние части монастыря были еще в развалинах, мы открыли библиотеку, чрезвычайно красивую и совершенно лишенную своих древних книг, перенесенных, как и типография, в новый монастырь. В одном из шкафов валялось несколько разрозненных томов Эжена Сю и Бальзака, да песни Беранже, да еще книга, данная в награду в коллегии Генриха IV ученику Клементи. Турецкая гитара без струн или, вернее, без струны, так как у турецких гитар бывает лишь одна струна, несколько никуда не годных длинных ружей, старые, как попало расставленные диваны, табуреты, служившие для того, чтобы доставать книги с полок, свернутые ковры, столы без ножек, — одним словом, масса случайных или ненужных предметов, беспорядочно раскиданных и пыльных, свидетельствовали о полной запущенности этой залы, обширной, как церковь, и хорошо освещенной высокими стрельчатыми окнами; но теперь луна бросала на плиты пола погребальные лучи. Чтобы придать веселый вид этой пустыне, потребовалось бы освещение целой театральной залы. Женщины стали божится, что умирают здесь от страха и что надо поискать другое место. — Постойте! — сказала Люцинда. — Вон там, на полке, лежит куча восковых свечей, у нас выйдет настоящая иллюминация. Попробуйте влезть туда, господа! Мы помогли Марко подкатит один из массивных табуретов, и он уже протянул руку к запасу свечей, когда мы услышали шаги в галерее, открывавшейся в глубине библиотеки; это было медленное шлепанье сандалий брата Искириона, и с каждым шагом оно приближалось к нам. Точно школьники, застигнутые врасплох воспитателем, мы потушили свет и попрятались кто куда за диваны и груды подушек; Марко, присев на корточки на своем табурете, готовился задуть светильник монаха, если тот пройдет достаточно близко от него. Мы решили скорее напугать его, чем дать ему узнать о наших ночных похождениях, но вышло так, что он сделал нас свидетелями такой странной сцены, что кровь застыла в наших жилах. Он нес большую корзинку, по-видимому, очень тяжелую, и шел медленно, подымая свой светильник для того, чтобы удобнее пройти между нагроможденной старой мебелью. Дойдя до нас, он остановился перед тем шкафом, где валялось несколько книг и приз князя. Продолжая держать свой светильник в поставив корзинку перед собой, он вынул из нее одну за другой те двенадцать иссохших голов, виденных нами на башне; затем руками, готовившими кушанья для его господина и гостей, он уложил тщательно в ряд, даже, можно сказать, с любовью, эти отвратительные трофеи на самой видной полке, после чего внимательно осмотрел их, опять тщательно подровнял ряды, точно блюда на столе, и своими узловатыми пальцами причесал немного бороды, еще державшиеся на некоторых подбородках. Бедняга только повиновался князю, приказавшему ему, из желания угодить нашим дамам, спрятать эти головы, но тщательно сохранить их в его музее; но хладнокровие, вносимое им в это мрачное занятие, возмутило Марко, который крикнул по-совиному, швырнул в него связкой свечей и быстро соскочил с табурета для того, чтобы прибить его. Мы его удержали. Несчастный монах, распростершись на полу, взывал жалобным голосом ко всем святым славянского рая и заклинал дьяволов и колдунов. Его светильник выпал из рук и дымился в складках одежды. Нам удалось убежать так, что он нас не разглядел, но каждый из нас, смотря по своим способностям, передразнил крик какого-нибудь животного для того, чтобы он думал, что имел дело с ночными духами. Огня у нас больше не было, и мы заблудились в темноте. Не знаю, где и как мы очутились в каком-то пролете близ свода, слабо освещенного снизу. Мы увидели под собой в глубине что-то вроде часовни, князя, стоящего на маленькой кафедре пред лицом дюжины молодых и старых господ — офицеров его партизанского войска: это был военный совет в зале капитула. Клементи ораторствовал ясным голосом и тоном энергичной решимости. Так как мы не понимали ни слова по-славянски, то мы могли присутствовать, не проявляя нескромности, точно в ложе 4-го яруса, при этой серьезной сцене, не лишенной колорита. Я не знаю, был ли красноречив оратор. Быть может, он говорил одни лишь общие фразы и, без сомнения, большего и не требовалось для этих людей, до такой степени убежденных в своих правах и готовых рубить головы неверных; но произношение его было гармонично и ударения весьма недурны. Когда он кончил, мы чуть было не зааплодировали ему. Белламар удержал нас от этого и поскорее увел, прежде чем наше присутствие было замечено. Наконец мы вернулись в свою квартиру, достаточно отдаленную и уединенную для того, чтобы мы могли позволить себе говорить громко и не стесняясь. Так как именно эта-то уверенность и была главной целью нашей экспедиции, мы решились удовольствоваться этим. Мы нашли в нашей большой комнате готовый ужин, устроенный Моранбуа и Региной, расставившими свои запасы провианта на столе в один фут вышиной, окруженном по восточному обычаю подушками вместо стульев. Анна и Пурпурин, со своей стороны, тоже сходили за добычей. Они проникли в буфетную и, пока брат Искирион убирал головы на полках библиотеки, сцапали пирожки и несколько бутылок греческого вина. Таким образом, ужин оказался вполне приличным, и мы просидели за ним, с помощью кофе, турецких трубок, шуток и песен, до трех часов ночи. Однако же я чувствовал некоторое внутреннее смущение, несмотря на шутки, привычно срывавшиеся с моего языка. Красота князя и необычность его фантастической жизни, вопреки отрубленным головам, возбудили женское воображение. Большая Люцинда, маленькая Анна и даже толстая Регина не скрывали, что они в него безумно влюблены. Скромная Империа, когда к ней стали приставать с вопросами, отвечала с той загадочной улыбкой, которая являлась у нее в некоторых случаях: — Я солгала бы, если бы сказала вам, что не нахожу этого палладина великолепным верхом на его лошади. Когда он с нее слезает, а особенно когда он говорит по-французски, он немного теряет. Такому человеку следовало бы говорить только на языке легендарных времен, но, конечно, не его вина в том, что он родился в наше время. Вчера я была чересчур утомлена для того, чтобы смотреть на него; сегодня же я его рассмотрела и, если он останется таким же, каким он кажется теперь, то есть тассовским Танкредом на подкладке гомеровского Аякса, я скажу, как и мои подруги, что он настоящий идеал, но… — Но что? — сказал Белламар. — Но красота, поражающая глаза, — продолжала она, — обладает только мимолетным обаянием: глаза не всегда бывают выразителями души. Мне показалось, что она взглянула на меня, и это меня раздосадовало: с возвращением здоровья во мне снова пробуждалась любовь, и я не мог заснуть. Так как Леон тоже не спал, я спросил его, чтобы отвлечься от своей личной тревоги, заметил ли он энтузиазм Анны по адресу нашего хозяина. Он отвечал мне таким резким тоном, что я удивился. — Что ты имеешь против меня? — сказал я ему. — Против тебя? — отвечал он. — Да ровно ничего! Я зол на женщин вообще и на ту, которую ты сейчас назвал, в особенности. Она самая легкомысленная и самая тщеславная из всех. — Не все ли тебе равно? Это только смешно. Ты ее не любишь и никогда не любил. — В этом ты ошибаешься, — продолжал он, понижая голос, — я любил ее! Слабость ее казалась мне прелестью; в то время она была еще чиста и, если бы сумела потерпеть еще некоторое время, я сделал бы огромную глупость, я женился бы на ней. Но она имела слабость поддаться своим бессмысленным увлечениям. — И это большое счастье для тебя; ты должен быть ей благодарен. — Нет, благодаря ей я сделался подозрительным мизантропом с самого дебюта на своем поприще. Сказать тебе всю правду? Я стал актером из-за нее, так же как ты из-за… — Ровно ни из-за кого! Что это ты говоришь? — Твоя осторожность и твое молчание не обманывают меня, мой милый! Мы оба ранены, ты — любовью, побеждаемой потому, что она безнадежна, а я — любовью погребенной, потому что уважение потеряно. Это был единственный раз, что Леон открыл мне свое сердце. Позднее я хорошо видел, что если он не любил более Анну, то он вечно мучился тем, что любил ее когда-то. На другой день брат Искирион явился сказать нам, что князь спрашивает, в котором часу дамам угодно отобедать с ним. Прежде чем дать ответ, мы пожелали узнать привычки князя. Из ответов монаха мы узнали, что герой в одно и то же время умерен и прожорлив. Он мог, подобно волкам, поститься бесконечно и, в случае нужды, глотать землю; но, усевшись за стол, он ел за четверых и пил за шестерых. В обыкновенное время он ел основательно только раз в день, в три часа пополудни. Утром и вечером он довольствовался сластями. Мы решили подчиниться этой программе с тем условием, однако, что к сластям для нас добавят яиц, сыру и побольше ветчины. Когда все это было решено, мы спросили у брата, почему он так бледен и имеет такой утомленный вид. Он приписал свою усталость вчерашней чудовищной трапезе, которую ему пришлось приготовить, и ни словом не заикнулся о своей галлюцинации в библиотеке. Я осмелился спросить его с наивным видом, почему на башне не видно больше голов. Бледность его стала при этом совершенно мертвенной, он сделал в воздухе кабалистический жест и отвечал с полупомешанным лицом, убегая от нас: — Одному Богу известны дела дьявола! — Вот, — сказал мне Белламар, — отличный случай для продолжения роли дьявола! Сходим за головами и спрячем их. — Дело сделано, — отвечал Марко, — я не хотел заснуть, не доставив себе этого удовольствия. Я достал щипцы и прокрался в библиотеку. Монах, убегая, оставил там свою потухшую лампу и пустую корзину, я сунул туда головы и унес их. — Куда же ты их девал? — вскричала Регина. — Надеюсь, что ты не спрятал их здесь? — Нет! Я спрятал их в дыру в старой стене и завалил ее камнями. Я хочу оставить их там, пока не отыщу, где ютится это старое животное. Тогда я украшу ими его кровать; я хочу, чтобы он лопнул от страха — это будет для него маленьким уроком чистоплотности. — Ты бы лучше, — заметил ему Моранбуа, — проучил барина, чем слугу. — Твоя правда, я об этом подумаю, — отвечал весьма серьезно маленький шут. В три часа страшный треск невозможной трещотки возвестил нам время обеда, и лакей в ливрее, европейский костюм которого составлял контраст с его длинными усами и воинственным видом, явился доложить нам жестами, что обед подан. Пурпурин, впервые видевший перед собой проявления цивилизованной жизни и оценивая вещи по-своему, объявил, что этот черногорский казак черт знает на что похож в своем парадном костюме и что он хочет показать ему, что такое красивая осанка и хорошие манеры. А потому он поскорее облекся в старую театральную ливрею эпохи Людовика XV, надел пудреный парик и белые нитяные перчатки, немного подрумянился и, как только мы пришли в столовую, он явился и стал с важным и любезным видом за стулом, предназначенным для Белламара. Овладевший нами продолжительный припадок безумного хохота и приятное удивление при виде стола, настоящего стола, сервированного по-европейски со всеми нужными принадлежностями, позволяющими не разрывать ногтями мясо, заставили нас забыть, что мы очень голодны, что блюда стынут и что князь заставляет ждать себя дольше, чем это подобает человеку, воспитывавшемуся во Франции. Наконец в глубине столовой отворилась дверь, и перед нами появились сначала маленький грум самого определенного парижского типа в безукоризненном английском костюме, а затем высокий худощавый молодой человек, одетый по предпоследней французской моде, то есть отставший от нее лет на пять. Он был красив собой, но без всякой прелести, и нижняя часть его лица имела выражение не то глупости, не то робости. Мы подумали, что это секретарь, может быть, родственник князя, в свою очередь вышедший из коллегий Генриха IV, пожалуй, его брат, так как он походил на него. Он заговорил, извиняясь, что чересчур долго провозился с этим туалетом, от которого он немного отвык… О разочарование! Это был сам князь, помолодевший и подурневший от того, что сбрил свои большие усы, выбритый, причесанный, напомаженный, в галстуке, в стеснявших его движения черном фраке и белом жилете, с жемчужными запонками и со слишком многочисленными цепочками; это был князь, превратившийся из романтического палладина в итальянского денди, или, скорее, в Шианона, переодетого господином, — тип, каких мы много встречали в прошлом году в Венеции, где они невыносимы для спокойных людей из-за их трескотни, ветрености и поднимаемого ими в театрах гвалта. Наш Клементи был умнее и благовоспитаннее этих мелких, сбившихся с толку дворянчиков, ищущих цивилизации вне своей страны и привозящих зачастую с собой далеко не то, что в ней есть лучшего. В нем было нечто рыцарское, что мешало ему быть смешным; но так как переданный ему матерью французский элемент зачах в нем во время его суровой, воинственной жизни, то то, что он старался снова вызвать в себе, не отличалось ни первой свежестью, ни первым сортом. Эта оборотная сторона прекрасной медали заставляла сожалеть о вчерашнем античном профиле. Камея превратилась в пятифранковую монету. Лишенный своего живописного костюма, он представлялся нам отныне третьестепенным персонажем. В шапочке с султаном и в шароварах он, казалось, так же хорошо говорил на нашем языке, как мы сами; как только он оделся, как мы, недостатки его манеры выражаться стали резать нам уши. Он неприятно сюсюкал и употреблял вульгарные или претенциозные выражения. Но дело пошло еще хуже, когда он решил шутить игриво в нашем роде. У него имелся запас с юношеских лет (а ему было тридцать два года) старых шуток, обошедших давно все мелкие театры и уже не казавшихся забавными. Шутки, переносимые на сцену, прежде чем быть представленными публике, уже истасканы за кулисами. Можете вообразить, новы ли они после 200 или 300 представлений! Однако князь непременно желал повторить их, чтобы доказать нам, что он в курсе, и вместо того, чтобы рассказывать о своей романтической стране, о своих битвах и приключениях — вещах, которые нас очень бы заинтересовали, он говорил нам об Одри в игравшейся некогда пьесе и о скандальных приключениях некоторых балетных фигуранток, уже состарившихся и давно позабытых. Он рискнул также и на некоторые двусмысленности, хотя был целомудрен и холоден, как человек, обладающий тремя женами — то есть, на две больше, чем следует. Он думал понравиться нашим актрисам, но одна лишь Регина отвечала ему, и он понял, что с другими надо вести себя иначе. Если он часто выказывал отсутствие вкуса, то в тонкости у него не было недостатка. Обед был настолько обилен, что мы могли есть вдоволь то, что было съедобно. Все остальное была невообразимая смесь съестных припасов, обезображенных своим совместным присутствием. Чеснок, мед, индийский перец, кислое молоко перемешивались с мясом и зеленью. Князь пожирал все без разбору. Моранбуа, желая сделать намек на пиры древних, заметил шепотом, что наш хозяин прожорлив, как древние люди. Парижский грум, прехитрая обезьяна, услыхал его и распустил рот до ушей в одобрительной улыбке. Этого плута очень забавляла странная фигура Пурпурина, и он, служа за столом, проделывал над ним такие штуки, которые жестоко компрометировали достоинство нашего театрального лакея. Остальные лакеи, которых подле нас имелось добрых полдюжины, важные и гордые в своих национальных костюмах, стояли тут только напоказ и не двигались с места, точно статуи. К счастью, грум, проворный точно ящерица, перебегал от одного к другому, наливая нам вволю шампанского, фабрикованного в Триесте, в Вене или где-нибудь в другом месте, которое мигом ударило бы нам в голову, если бы оно было достаточно вкусно для того, чтобы мы пили его неосторожно. Моранбуа был нетребователен, но он мог пить безнаказанно; Ламбеск воображал себя еще чересчур больным для того, чтобы рискнуть пить, а Марко сидел подле Леона, который заставлял его соблюдать умеренность. Один только князь немного оживился и, так как в нем проснулся боевой инстинкт, заговорил за десертом о вечной борьбе своей родины с турками. К его патриотизму примешивалась большая доля честолюбия, и он дал нам понять, что его легко могут выбрать предводителем постоянного восстания, имевшего целью воссоединение страны и ее независимость. Ему пришли сказать, что его кто-то спрашивает, и он вышел, прося нас подождать его за столом. Тогда грум, двадцатидвухлетний человек, вне себя от радости, что ему есть с кем поговорить, и довольный, что может разговаривать с актерами, смело вмешался в наш разговор. — Не верьте, — сказал он нам, — всему тому, что вам рассказывает мой господин. На поле сражения он грозный человек, это что и говорить, но поверьте, что не грознее других! Их тут добрых пятьдесят штук таких князей, как он. Когда дело идет о том, чтобы вздуть этих собак-турок, то всякому из них хотелось бы командовать всеми остальными. Моему господину этого не добиться, потому что он слишком француз; мать его была такая же дворянка, как я, а отец его происходил не по прямой линии от знаменитых в древности князей Клементи. Здесь косо посматривают на европейские замашки князя, и вот эти телохранители, что торчат, как палки, перед вашими глазами, хоть и не понимают ни слова по-нашему, а презирают нас; они охотно свернули бы мне шею за то, что я брею князя, когда он желает принять на время приличный вид. — Должно быть, он желает этого для того, чтобы понравиться нам, — сказала Регина. — Но послушай-ка, мой милый! Эти сбритые усы не доказывают ли, что твой господин не рассчитывает еще скоро драться, ибо я полагаю, что эти синеватые губы вовсе не по форме, а? — Это, может быть, доказывает, — сказал грум, — что его светлость собирается в какую-нибудь экспедицию и не желает быть узнанным, почем знать. Мне это все равно; в этой разбойничьей стране что мир, что война — разницы никакой не видно. — Разбойничья страна? — воскликнула Люцинда. — Мне всегда хотелось повидать разбойников. Разве тут есть разбойники? — Тут только и есть что разбойники, сударыня, оглянитесь лишь вокруг себя. — Ну, вот еще! Вот эти-то молодцы? — Да уж поверьте на слово! Они что волки: они никого не трогают, пока не голодны; но как только они начинают нуждаться в чем-то, горе тем людям, которым вздумается посмотреть на их горы! Когда у них все идет хорошо, они очень кротки и даже гостеприимны; но как только турки начинают нападать на них, им приходится обирать проезжих для того, чтобы купить хлеба и пороху. Тем не менее это славные люди! Только они дикари, и их не следует дразнить! Есть еще шайка бандитов из всевозможных стран, бродящие по границе под видом патриотов, которых следует опасаться. Не ходите никогда гулять дальше маленького озера и не заходите никогда в горы. Я вам говорю это без смеха. Этот умный и дерзкий человек, которого звали Коллинс, но которого господин его прозвал Мета, то есть «половина человека», охотно проболтал бы всю ночь; но князь вернулся и увел нас пить кофе в гостиную, прелестно оформленную в очень интересном стиле начала Империи. Он показал нам все свое помещение: спальню, обставленную во французском вкусе, с французской кроватью, в которой он никогда не спал, предпочитая растянуться зимой на медвежьей шкуре, а летом на циновке, свой будуар и рабочий кабинет. Комнаты эти были отделаны роскошно, раззолочены по всем швам, но лишены характерности и серьезного комфорта. Мы предпочли остаться в гостиной, где нас ожидали великолепные кальяны и отвратительные сигары; но густой кофе начинал казаться нам превкусным: к нему привыкаешь, а также и грубый местный мараскин не ужасал уже нас, как вначале. Князь до того им опился, что впал в оцепенение, сильно похожее на сон; Империа принялась за свой гипюр; Регина нашла карты и предложила Моранбуа сыграть в безиг; Белламар предложил Леону сразиться в шахматы; Ламбеск взял попавшийся ему номер газеты «Век», помеченный числом на три недели назад, а Марко заснул, что случалось с ним всякий раз, когда он не мог смеяться и прыгать. Вечер грозил пройти для нас чересчур смирно, как вдруг князь выпрямился на своем диване и принялся читать стихи Расина, притворяясь, что не помнит их, чтобы вызвать нас на декламацию в его присутствии. — Скоренько хочет он от нас уплаты, — сказал мне шепотом Белламар, — но лучше заплатить чистыми деньгами, чем наделать долгов. Ну, что же, за дело. Князь просил сыграть ему сцену из «Федры». Это было амплуа Люцинды; но на скале она совсем охрипла, хрипота эта еще не вполне прошла, а она чересчур гордилась своим прекрасным голосом для того, чтобы согласиться подвергнуть его опасности; она предложила Империа заменить ее. — Я играла только Арисию, — отвечала Империа. — Федра не в моих возможностях, да я ее никогда и не учила. — Это ничего не значит, — сказал Белламар. — Ты знаешь роль, да к тому же Моранбуа выручит. Моранбуа обладал отменной памятью и знал наизусть весь классический репертуар. Он спрятался за экраном, Империа и Регина набросили на себя большие кашемировые шали, поданные им князем, и, встав на приличном расстоянии, разместив как нужно свечи и выдвинув на первый план королевское кресло, они стали играть сцену, начинающуюся словами:
«Ах, зачем я не сижу в тени лесов!»
Прошло полтора года со времени моей поездки в Овернь, и я занимал все ту же должность; обязанности службы привели меня в Нормандию, и я ехал из Ивето в Дюклер в холодный декабрьский вечер в маленькой наемной коляске. Дорога была хорошая, и, несмотря на очень пасмурную погоду, я предпочитал добраться попозже к своему ночлегу, чем быть вынужденным вставать рано утром, так как на рассвете стужа бывает всего мучительнее. Я был уже час в дороге, когда погода смягчилась благодаря тому, что пошел густой снег. Еще через час дорога так покрылась снегом, что мой возница по имени Фома, немного ленивый старик, с трудом держался дороги, не съезжая с нее в открытое поле. Несколько раз клячи его отказывались двигаться вперед и, наконец, так решительно остановились, что нам пришлось слезать, чтобы вытащить увязнувшие колеса и взять животных за поводья; но старания наши были бесполезны: мы попали в канаву. Тогда Фома признался мне, что он сбился с пути в Дюклер и предполагает, что мы теперь на дороге, ведущей обратно в Кодебек. Мы были посреди леса на изрытой рытвинами дороге; снег падал все гуще, и мы рисковали застрять тут. Ни экипажа, ни крестьянской телеги, ни прохожего, — ни души, чтобы помочь нам, подсказать путь. Я собирался уже примириться с судьбой, завернуться в плащ и лечь спать в экипаже, когда Фома объявил мне, что он узнал место и что мы в лесу между Жюмиежем и Сен-Вандриль. Обе эти резиденции были еще слишком далеко, чтобы наши изнуренные лошади смогли дотащить нас к одной из них; но поблизости есть замок, где его хорошо знают и где нам окажут гостеприимство. Я пожалел беднягу, не менее утомленного, чем лошади, и обещал присмотреть за ними, пока он пойдет лесом за помощью к ближайшему замку. Действительно, замок этот был совсем близко, ибо он вернулся через четверть часа с двумя мужчинами и лошадью. Нас мигом выручили из беды, и один из пришедших людей, показавшийся мне работником с фермы, сказал мне, что мы не можем продолжать путь в Дюклер в такую скверную погоду. В трех шагах уже ничего не видно. — Господин мой, — прибавил он, — был бы очень недоволен, если бы я не привел вас поужинать и переночевать в замок. — А кто ваш господин, друг мой? — Барон Лоранс, — отвечал он. — Кто? — вскричал я. — Барон Лоранс, депутат? — Если бы теперь что-нибудь было видно, — продолжал крестьянин, — то вы разглядели бы его замок. Ну-с, идемте, здесь не следует оставаться. Животные все в поту. — Идите вперед, — сказал я ему, — я за вами. Так как дорога была очень узка, то мы следовали гуськом за коляской, и я не мог больше задавать вопросов насчет барона Лоранса; но я был совершенно уверен в том, что это дядя моего друга актера. В парламенте был всего один Лоранс, и я удивлялся судьбе, столкнувшей меня с важной персоной семьи Лоранс. Я решил повидаться с ним, сообщить ему о положении его племянника, сказать ему, какого я лестного мнения об этом молодом человеке, поспорить с ним, если он будет несправедлив к нему. Снег, не перестававший идти, не позволил мне рассмотреть замок. Мне казалось, что я прохожу по тесным дворам, окруженным высокими постройками. Я поднялся на большое крыльцо и очутился перед весьма солидным камердинером, который принял меня очень вежливо, заявив, что мне готовят помещение, а пока я могу погреться у камина в столовой. Говоря это, он снимал с меня засыпанное снегом пальто и проводил тряпкой по моим ботинкам. Напротив меня находилась широкая открытая дверь, и я видел, как другой лакей расставляет аппетитные яства на роскошно сервированном столе. Огромные стенные часы били полночь. — Я полагаю, — сказал я камердинеру, — что барон уже в постели и не станет вставать из-за незнакомого путника, приведенного к нему непогодой. Потрудитесь передать ему завтра утром мою карточку и узнать, позволит ли он мне отблагодарить его. — Господин барон еще не в постели, — отвечал лакей, — это час его ужина, и я сейчас отнесу ему вашу карточку, сударь. Он впустил меня в столовую и исчез. Другой лакей, занятый приготовлением ужина, вежливо придвинул для меня стул к камину, подбросил в огонь охапку еловых шишек и продолжал свое дело, не говоря ни слова. Мне не было холодно — напротив, я был в поту. Эта большая комната походила на монастырскую трапезную. Вглядевшись хорошенько, я убедился, что это не современное подражание, а настоящая романская монастырская архитектура, нечто вроде отделения Жюмиежа или Сен-Вандриль — тех двух знаменитых аббатств, которым некогда принадлежали все окрестности. Господин барон Лоранс превратил монастырь во дворец — ни много ни мало, как князь Клементи. Мне пришли на память приключения труппы Белламара, и я почти уже ожидал, что вот-вот войдет брат Искирион или поручик Никанор, когда в глубине залы открылась двустворчатая дверь и ко мне навстречу вышло важное лицо в ярко-красном атласном халате, отделанном мехом. Это не был ни князь Клементи, ни барон Лоранс — это был мой друг Лоранс, сам Лоранс, немного пополневший, но красивее, чем когда-либо. Я обнял его с радостью. Значит, он помирился с дядей? Значит, он будущий наследник его титула и богатств? — Мой дядя умер, — отвечал он. — Он умер, не повидавшись со мной и не думая обо мне; но он забыл написать завещание, а так как я был его единственным родственником… — Единственным? А ваш отец?.. — Бедный, дорогой отец!.. Он тоже умер, умер от радости! С ним сделался удар, когда к нам явился нотариус и объявил прямо, без предисловия, что мы разбогатели; он не понял, что лишился брата. Он видел только выпавшую мне на долю блестящую судьбу, исполнение единственной надежды, единственной заботы всей его жизни. Он бросился в мои объятия, говоря: «Теперь ты барон, ты никогда больше не будешь актером! Я могу умереть!» — и умер! Вы видите, друг мой, что богатство это досталось мне дорогой ценой! Но мы успеем еще поговорить; вы, вероятно, устали и вам холодно. Поужинаем, а потом оставайтесь у меня как можно дольше. Я чувствую потребность видеть вас, оглянуться на себя и побеседовать с вами, ибо с самого нашего знакомства и нашей разлуки в моей жизни не было ни одного мгновения откровенности. Когда мы уселись за стол, он отослалприслугу. — Друзья мои, — сказал он им, — вы знаете, что я люблю засиживаться поздно, не заставляя засиживаться других. Поставьте нам под руку все, что нам нужно, посмотрите, все ли в порядке в помещении моего гостя, и идите спать, если вам угодно. — В котором часу будить гостя господина барона? — спросил камердинер. — Оставьте его спать, — возразил Лоранс, — и не зовите меня больше господином бароном; я уже просил вас не именовать меня не принадлежащим мне титулом. Камердинер вышел, вздыхая. — Вот видите, — сказал Лоранс, когда мы остались одни, — что я совсем как ряженый, у меня даже лакеи точно из комедии. Эти считают для себя унизительным прислуживать человеку без титула и без спеси. Это великие болваны, которые мне больше мешают, чем служат, и которые, надеюсь, сами уйдут от меня, когда увидят, что я обращаюсь с ними по-человечески. — Я думаю, — сказал я ему, — что, наоборот, они мало-помалу почувствуют себя счастливыми от подобного обращения. Дайте им время сообразить это. — Если они сообразят, я их оставлю у себя, но я сомневаюсь, чтобы они привыкли к манерам человека, который не нуждается, чтобы прислуживали ему лично. — Или вы привыкнете к тому, чтобы вам так прислуживали. Вы гораздо более аристократ по внешности и по манерам, мой милый Лоранс, чем любой из знакомых мне владельцев замков. — Я играю свою роль, милый друг! Я знаю, как надо держаться перед слугами приличного дома. Я знаю, что для того, чтобы они вас уважали, нужно обладать большой мягкостью и большой вежливостью, ибо они тоже актеры, презирающие то, что они притворно уважают; но не заблуждайтесь, здешние — не более, чем вульгарные каботины. Мой дядя был поддельным важным бароном, в сущности, он обладал всеми смешными сторонами выскочки, ненавидящего свое происхождение. Я заметил это по манере держаться и по привычкам его людей. Их род тщеславия третьеклассный; когда они уйдут от меня, я возьму других, гораздо более выдержанных, чем эти, и те станут смотреть на меня как на существо действительно высшее, потому что я буду играть свою роль аристократа лучше всякого аристократа. Разве на этом свете все не есть фикция и комедия? Я этого не знал! Вступая во владение этим имением, я спрашивал себя, буду ли я в состоянии видеть самого себя здесь более недели? Я не так боялся соскучиться здесь, как показаться не на своем месте и почувствовать себя смешным; но когда я увидел, как немудрено импонировать свету развязностью и напускным достоинством, я нашел, что мое прежнее ремесло гистриона послужило мне отличным воспитанием и что не следовало бы давать другого воспитания молодым людям. Лоранс наговорил мне еще несколько парадоксов насмешливым, но не веселым тоном. Он усиленно демонстрировал презрение к своему новому положению. — Послушайте, — сказал я ему, — не притворяйтесь с человеком, которому вы открыли все тайники вашего сердца и вашей совести. Невозможно, чтобы вы не были счастливее здесь, чем у себя в деревне. Не будем говорить об утрате вами отца, смерть эта была роковым следствием законов природы; горе это не так уж неразрывно связано с вашим наследством, чтобы оно могло мешать вам ценить его радости. — Извините, пожалуйста, — возразил он, — это зло и это добро тесно переплетены друг с другом; я не могу забыть этого; некогда я вам наивно признался и повторяю вам это теперь с той же искренностью, что я родился актером. Таланта я не приобрел, но страсть к актерству осталась во мне. Я чувствую потребность быть чем-то большим, чем меня сделала природа. Мне нужно рисоваться самому перед собой, забывать, кто я, парить в воображении выше моей собственной индивидуальности. Вся разница между актером по ремеслу и мною та, что он нуждается в публике, а я, никогда не приводивший ее в восторг, отлично обхожусь без нее, но химера моя необходима мне: она меня поддерживала тогда, она помогла мне принести большие жертвы. Я знаю, что я честен и добр, но этого мне не довольно — таким меня воздала природа; я беспрестанно стремлюсь быть сверхъестественным в своих собственных глазах — и быть таким в силу моей личной воли. Наконец, добродетель есть моя роль, и я не хочу играть другой. Я знаю, что всегда буду ее играть, а не то я себя возненавижу и почувствую к себе отвращение. Вам это непонятно? Вы принимаете меня за сумасшедшего? Вы не ошибаетесь, я сумасшедший; но помешательство мое прекрасно, и так как оно для меня необходимо, то не старайтесь отнять у меня это. Там, в деревне, я показал себя действительно стоиком, ибо все считали меня счастливым, а я бывал счастлив только в те редкие минуты, когда мог сказать себе: «Ты добился своего, ты велик». Жизнь моего отца, спокойствие, которое я ему доставил, — в этом был смысл моего самопожертвования. Я дошел до того, что не жалел ничего из прошлого. А теперь что мне тут делать такого, что было бы достойно меня? Щеголять хорошими манерами, выражаться лучше, быть более образованным, чем большинство господ, наблюдавших за мной с целью узнать, можно ли принять меня в свою среду? Право же, это очень уж просто, и это нисколько не соблазнительный для меня идеал. Я спросил его, знают ли в этом новом месте его жительства, что он был актером. — Это говорилось, — отвечал он, — это повторялось, но никто наверное не знал, хотя некогда и видели в Руане на сцене высокого тонкого молодого человека, очень похожего на меня и носившего то же имя, что и господин барон. В то время не могли предположить, что я был его родственником, — он неохотно упоминал о своем простом происхождении. Когда я явился в качестве его наследника, обо мне стали расспрашивать моих людей, которые ничего не знали и с негодованием все отрицали. Меня стали допрашивать искуснее, и я поторопился сказать правду с такой решимостью и с такой гордостью, что мне поспешили отвечать, что это не умаляет моего достоинства. Человек, обладающий стотысячным доходом, — а я имею сто тысяч франков годового дохода, милый друг, — не может быть в провинции первым встречным; это сила, и все, что окружает ее, больше или меньше нуждается в ней. Я сейчас же почувствовал, что мне следует или обратить все свое состояние в капитал и покинуть эти места, или заставить других уважать себя. Это тешило мою мономанию, и я облекся в одеяние высоконравственного человека без малейшего для себя труда. — Бросьте этот тон насмешки над самим собой, мой милый Лоранс. Вы были наивны тогда, когда рассказали мне о своей жизни, будьте же опять таким. Вы человек с сердцем и с большим умом — значит, вы действительно выдающийся человек. Вы желаете казаться тем, кем вы есть,— это ваше право; скажу больше — это ваш долг. Я не вижу в вас ничего такого, что выдавало бы актера, за исключением разве некоторых преувеличений в высмеивании той общественной среды, куда вас вернула судьба, и которые я начинаю понимать. Человек, отдававший все свое существо, весь ум, жесты, интонации, сердце и душу на суд публики, часто несправедливой и грубой, неминуемо много страдал, и гордость его, вероятно, возмущалась не раз при мысли, что за несколько копеек входной платы первый встречный мужик покупал право унижать его. Сознаюсь вам, что до знакомства с вами я питал большое презрение к актерам. Я прощал только тем, истинный талант которых имеет право дерзать и силу все побеждать. Я чувствовал какое-то отвращение к тем, которые были посредственны, и превозмогал это отвращение только из жалости, внушаемой мне их бедственным положением, тяготами жизни на этом свете, отсутствием воспитания. Все возрастающая трудность достать себе работу, когда не обладаешь замечательными способностями, борется и разрушает предубеждение против актеров больше, чем всевозможные философские рассуждения, ибо в сущности предубеждение это имеет свое основание. Для того, чтобы появиться перед публикой загримированным и одетым в костюм комика или героя, то есть человека, имеющего претензию заставить толпу смеяться или плакать, нужна смелость, которая есть или мужество, или дерзость, и всякий платящий имеет право крикнуть ему, если он плох: «Убирайся, ты не прекрасен», или: «Ты не забавен». Между тем, мой милый Лоранс, вы говорите, что вы были сносны, но не больше, — значит, вы мучились тем, что не можете быть на должном уровне, и старались утешиться, говоря себе — не без основания, — что в вас человек превосходит артиста; а теперь, припоминая холодность людей по ту сторону рампы, вы, сами того не замечая, таите на них обиду. Вы силитесь обращаться с ними свысока, как они обращались с вами. Они не находили вас актером, и вы испытываете потребность сказать им, что их собственная жизнь — тоже комедия, плохая комедия, и что они плохи в ней. Это лишь общее место, ничего не доказывающее, ибо на деле все страшно в комедии мира и в мире комедии. Позабудьте же эту небольшую горечь. Примите спокойно свое возвращение к свободе и к общественной деятельности. У вас есть веское оправдание, оправдание, которое вы заставили меня искренно принять, а именно — любовь, великий дар молодости. Я предполагаю, что любовь эта позабыта; если же нет, то теперь она может все победить, — опять-таки, это предположение. Как бы то ни было, в прошлом вам краснеть не за что, и потому-то вы и должны вступить в свет не как раскаивающийся или недоверчивый перебежчик, а как путешественник, опытность которого служит ему на пользу и позволяет судить беспристрастно обо всем, и который возвращается к себе домой, способный размышлять и действовать, как философ. Лоранс выслушал мою маленькую проповедь, не прерывая ее, а так как в его мужественной груди по-прежнему билось чистое детское сердце, он с чувством протянул мне обе руки. — Вы правы, — сказал он, — я чувствую, что вы правы и что вы облегчаете мне душу. Ах, если бы я имел друга подле себя! Я так в этом нуждаюсь, я так одинок, и я еще так молод: мне нет еще и двадцати восьми лет! Знаете, мой друг, вся моя жизнь — это сплошное головокружение. Я прошел через столь разные условия существования, что, право, не знаю больше, кто я такой. Все в этой бурной жизни или приключение, или роман. Право же, тут было с чего немножко сойти с ума. Без вас я совершенно бы помешался, ибо, когда вы встретили меня в кабаке, я начинал превращаться понемногу в деревенского кутилу, быть может, в мрачного пьяницу. Благодаря вам я снова взял себя в руки, но экзальтация все возрастала, и пора было покончить с этим. Бедный отец, прости мне эти слова! Слезы показались у него на глазах, он наливал себе машинально вторую рюмку мускатного вина. Он вылил ее в чашку со льдом и сказал, видя, что я смотрю на него: — Я больше не пью иначе, как по рассеянности и не зная сам, что делаю. Как только я это осознаю, я воздерживаюсь, как вы видите. — Однако же вы ужинаете так каждый вечер? — Да, актерская привычка: актер любит превращать ночь в день. — Но тогда, в деревне… — В деревне я работал с утра, как вол; но я праздновал субботу, воскресенье и понедельник, как и другие, и в эти дни я вовсе не ложился. Что прикажете, скука! Я был, однако, хорошим работником. Смотрите, это уже не заметно! Руки у меня уже белые, такие же белые, как когда я играл любовников. Однако это не доказывает еще, что мне весело. Ах, друг мой, я говорю с вами откровенно, не принимайте это за рисовку. Я скучаю до смерти. — Разве же вы еще не сумели найти себе серьезных занятий? — Серьезных! Скажите мне, пожалуйста, что может быть серьезно в жизни свежеиспеченного миллионера, еще чужого среди практических людей? Разве я-то буду когда-нибудь практичен? Вот послушайте повествование о моих трех месяцах пребывания в этом замке. Но довольно нам сидеть за столом. Пойдемте в мою спальню, нам там будет удобнее. Он взял серебряный позолоченный подсвечник прелестной работы и, проведя меня через роскошную гостиную, огромную биллиардную и удивительной красоты будуар, ввел в спальню, войдя в которую я сейчас же воскликнул: — Голубая спальня! — Как! — сказал он, улыбаясь. — Вы так хорошо помните мою историю, и мои беглые описания настолько вас поразили, что вы узнаете вещи, которых сами никогда не видали! — Милый друг, история ваша произвела на меня такое впечатление, что я записал ее в свободные минуты, изменив все имена. Я вам ее прочту, и если мои воспоминания недостаточно верны, если я погрешил против истины, вы проверите, исправите и измените, что необходимо. Я оставлю вам свою рукопись. Он сказал мне, что это доставит ему огромное удовольствие. — Итак, — снова заговорил я, — вот она, пресловутая голубая спальня? — Это ее копия настолько точная, насколько позволила мне это моя собственная память. — Значит, вы опять влюбились в прекрасную незнакомку? — Друг мой, прекрасная незнакомка умерла; все умерло в романе моей жизни. — Но знаменитая труппа, Белламар, Леон, Моранбуа… и та, которую назвать я не смею?.. — Они все умерли для меня. Они в отъезде, в Америке, не знаю, где. Империа, лишившись отца, последовала за ними в Канаду, где они были еще полгода тому назад. Белламар написал мне, что будет в состоянии, вернувшись, отдать мне взятые у меня деньги. Все были здоровы. Не будем говорить о них; это меня немного волнует, а я, быть может, на пути к забвению… — Дай-то Бог! Этого-то я и желаю для вас прежде всего. Но эта голубая спальня — это воспоминание, которое вы хотели и хотите сохранить, не так ли? — Да, когда я узнал, что моя незнакомка скончалась, воспоминание о ней снова шевельнулось в моем сердце, и я, как большой ребенок, захотел воздвигнуть этот интимный памятник в ее честь. Вы помните, что ни эта голубая спальня, ни тот дом в стиле Возрождения, куда я нечаянно попал, не принадлежали ей. Это прелестное жилище, овеянное для меня тем очаровательным видением, было, тем не менее, единственной рамкой, в которой я мог видеть ее образ. Я скопировал ту комнату как мог лучше, только, так как эта комната гораздо больше той, я велел прибавить сюда оттоманки, на которых мы станем курить хорошие сигары. Я спросил его, как и от кого он узнал о смерти своей незнакомки. — Сейчас скажу, — отвечал он. — Надо идти по порядку. Я принимаюсь вновь за свой рассказ, но теперь это будет лишь короткая глава, которую вы добавите к записанному вами роману.
Похоронив своего бедного отца, я уехал в Нормандию в состоянии человека, путешествующего в поисках новых ощущений с целью отвлечь себя от глубокого горя, а вовсе не с упоением бедняка, выигравшего куш в лотерее и едущего за своим капиталом. От моего первого и единственного визита к дяде у меня осталось неприятное воспоминание. Как вы помните, он принял меня плохо. Я нашел замок в том виде, в каком он его оставил, то есть в прекрасном состоянии. Старый холостяк был человеком порядка — все черепицы на крыше, все камни стен были на своих местах, но внутренняя отделка была пребезвкуснейшая. Всюду сверкала позолота, а стиля не было нигде. Так как все было опечатано — дядя до самого своего смертного часа оставался неизменно деспотичен и недоверчив, — его домоправительница, не игравшая той роли, какую я предполагал, не могла предаться грабежу. Я нашел здесь, не считая великолепной недвижимости, очень доходные аренды, отлично устроенные дела и крупные суммы денег. Я отпустил домоправительницу, попросив ее увезти с собой три четверти богатой и безобразной обстановки, и, уступая артистической фантазии, неодолимой потребности внести гармонию во все части этого памятника прошлых времен, проводил все время в том, что устраивался со вкусом, знанием, — словом, с умом, стараясь соединить комфорт с археологией. Вот увидите все завтра при дневном свете; я думаю, что это довольно удачно и будет еще лучше, когда все будет закончено. Только я боюсь, что когда мне будет больше нечего делать дома, то я не буду в состоянии оставаться тут, потому что как только я приостанавливаюсь на секунду, я зеваю, и мне хочется плакать. Мне потребовалось немного времени для того, чтобы заметить, что, если я хочу избавить себя от неприятностей и недоверия, я должен отвечать вежливостью на вежливость ко мне других. У меня был список друзей и знакомых дяди. Извещения о смерти были от моего имени, раз я был единственным представителем всего семейства. Я получил много карточек и даже карточки самых крупных тузов. Я рискнул делать визиты. Меня приняли больше с любопытством, чем с благосклонностью; но говорят, что я сразу победил все предубеждения. Во мне нашли серьезность характера и безукоризненный тон. Как-то узнали, что при вступлении во владение я вел себя в делах как большой барин. Мне были нанесены ответные визиты. Меня нашли занятым переоборудованием старых стен и поняли, что я не какой-нибудь невежественный буржуа. Мой вкус и траты представили меня в глазах людей как ученого и артиста, мое одиночество окончательно характеризовало меня как человека серьезного. Люди было вообразили себе, что я привлеку дурное общество. Какое бы я мог привлечь общество? Актеров? Я не знал бы, где мне взять хоть одного из тех, кого я знал скитавшимися по свету. Моих односельчан-крестьян? Не мог же я отвлекать их напрасно от работы. Никто не дал себе труда объяснить то необычайное одиночество, в которое повергла меня исключительная судьба; все подумали, что я добровольно воздерживаюсь от товарищества и шумных сборищ. Мне были за это бесконечно благодарны. Меня стали приглашать в общество. Я отвечал, что по причине недавней смерти отца я еще чересчур грустен и мало общителен. Принялись восхищаться тем, что я любил своего отца! Молодые люди, мои соседи, вздумали приглашать меня на свои охоты. Я обещал принять в них участие, как только покончу с работами по ремонту. Они удивились, уезжая в Париж в начале зимы, что мне не жаль, что я не еду туда с ними; они представили бы меня в самом большом свете. Я не хотел изображать из себя эксцентричного человека; я обещал превратиться потом в человека светского. Но решение мое уже принято, милый друг! Я уж довольно нагляделся на большинство этих людей, их жизнь не будет никогда моей жизнью. Они почти все пусты. Те из них, которые мне кажутся умными и одаренными, приобрели среди благосостояния такую привычку к праздности, от которой я сошел бы с ума. Те же, что служат правительству, — только машины. Те, что обладают независимыми идеями, не употребляют в дело свою душевную энергию или употребляют ее не так, как следует. Все принимают всерьез ту вещь без связи и цели, которую они называют светом и где я не вижу ничего, что имело бы какой-то смысл. Нет, нет, еще раз; не подумайте, что я не доверяю свету из предвзятости — напротив, я тоскливо ищу там ту лучезарную точку, которая могла бы привлечь меня и увлечь. Я вижу там лишь кишение чего-то мелкого, неясного, недоконченного, неполного. До сих пор я видел еще только репетиции той пьесы, которая там разыгрывается. И пьеса эта бессвязна, непонятна, лишена интереса, страсти, величия и веселости. Те актеры, которых мне удалось наблюдать, не способны ее распутать, ибо те, которые могли бы сделать это талантливо, или пренебрегают этим, или пресыщены, или же чувствуют, что роли их неосуществимы, и играют их холодно. Я же привык к благородным трагедиям и прекрасным драмам. Впрочем, самое плохое произведение искусства имеет известный план и старается что-либо доказать, тогда как светский вечер как бы имеет единственной целью убить время. Что прикажете там делать человеку, привыкшему определять с точностью свои жесты перед публикой, выжидать своих выходов, не говорить ни одного бесполезного слова, не делать ни одного лишнего шага? Изображать действие — это значит самому действовать логически и рассудочно; говорить же пустяки, воспоминание о которых изглаживается по мере того, как они произносятся, слушать праздные споры, вникать в которые запрещает простое приличие, — это есть доказательство благовоспитанности и умения жить; но это значит также ровно ничего не делать, а я не способен когда-либо примириться с ничегонеделанием. Из всего этого ничуть не следует, что актер настолько чувствует свое превосходство над действительностью, что не может чувствовать себя ее частью; не обвиняйте меня в этой хвастливости. Но поймите, что всякий артист превратил для себя действительность в форму, которая всецело занята и заполнена его личностью. Там, где отпечаток его не оставляет следа, он не может жить, он каменеет. Мне нужно быть чем-то не для того, чтобы видели, кто я, но для того, чтобы ощущать, что я существую. В данную минуту я археолог, антиквар, нумизмат; потом я, пожалуй, сделаюсь натуралистом, или художником, или историком, или скульптором, романистом, земледельцем, и почем я знаю, чем? Мне всегда будет необходима какая-нибудь страсть, задача, любопытство; но я не буду никогда ни префектом, ни охотником, ни дипломатом, ни политическим деятелем, ни скопидомом, — словом, ничем из того, что составляет в наше время так называемого практика. Если создаваемое мною жилище не внушит мне интереса к себе, я оставлю его и пущусь в далекие путешествия; но я так же страшусь одиночества в пути, как я страшусь праздности в сидячей жизни. Чего мне было бы нужно, что свойственно моим летам, что мое сердце призывает и чего оно в одно и то же время боится, так это любви, семьи. Мне хотелось бы быть женатым, но я, наверное, никогда не сумею решиться на женитьбу. А между тем мысль о женитьбе приходила мне уже в голову несколько раз с тех пор, как я познакомился с моей соседкой; пора мне теперь рассказать вам об этой соседке. Ее зовут Жанной. Волосы у нее темно-коричневые, волнистые, и это ее единственный недостаток, ибо это ее единственное сходство с Империа, а мне хотелось бы любить женщину, которая не напоминала бы мне ничем ту, что так много причинила мне страданий. Впрочем, они составляют между собой полный контраст. Эта высока ростом и красавица — та была маленькая и только хорошенькая. Она не обладает звучным голосом и звонким произношением актрисы. Голос у нее мягкий, немного глухой, ласкающий и не заставляющий вздрагивать, ее произношение скользит по словам, не делая резких ударений, лишь оттеняя то, что глубоко прочувствовано. Я готов сравнить эту женщину с теми инструментами, что снабжены шелковыми струнами, не достаточно звучными для оперного оркестра, но поющими мягче и слаще их в камерной музыке. Я уже сказал вам, что она высока ростом и красива, и добавлю, что она немного неловка, что мне чрезвычайно нравится. На сцене она не сумела бы сделать и трех шагов, не зацепившись обо все. Это объясняется также ее близорукостью, не позволяющей ей видеть издалека детали предметов. По-моему, источник инстинктов и вкусов заключается в чувстве зрения. Те, чьи зоркие глаза охватывают все вокруг себя, — широки и пластичны; те, кому приходится всматриваться во все близко, — узкие специалисты. Специальность моей соседки — это домашняя жизнь, кропотливая деятельность, незаметная извне, но затейливая и непрестанная, это внимательная, постоянная, деликатная и неистощимая заботливость о тех, которых она желает исцелить. Она совершенная противоположность мне, умеющему выказывать самоотверженность усилием воли, но, предоставленный самому себе, я не умею смотреть ни на что иначе, как через призму собственного «я». Она же забывает себя, она готова дать наложить на себя любую печать, она сумела бы воплотиться в другого, видеть его глазами, дышать его легкими, отождествиться с ним, потерять свою личность. Вы видите, что это идеал спутницы, подруги и жены. Добавьте к этому, что она свободна, вдова и бездетна. Она приблизительно моих лет. Она достаточно богата для того, чтобы не придавать значения богатству, и происхождение ее не отличается от моего: ее дед был крестьянином. Она бывала в свете, но никогда его не любила. Она хочет совсем его покинуть, не встретив никого, кто внушил бы ей желание вторично выйти замуж. Она узнала, что аббатство Сен-Вандриль продается за довольно незначительную сумму, а так как она имеет достаточно вкуса и образования для того, чтобы ценить сохранность прекрасных вещей, она приехала на несколько месяцев сюда, чтобы посмотреть, годится ли здешний климат для ее здоровья и может ли она зажить в здешних местах той уединенной и спокойной жизнью, о которой мечтает. Нанятый ею домик стоит совсем близко от моего парка, и мы видимся с нею раз или два в неделю. Мы могли бы видеться и каждый день, препятствием тому — увы! — являюсь я сам, моя трусость, возвращение моих мыслей к прошлому, опасения, что я не сумею более любить, несмотря на охватывающую меня потребность любви. Надо рассказать вам, как мы познакомились. Самым прозаическим образом. Я ездил на два дня в Фекан за одним мастером, который должен был починить старые удивительные деревянные обшивки стен, убранные в качестве хлама на чердак моим предшественником. Вернувшись вечером довольно поздно, я утром заспался и увидел из своего окна эту прелестную красавицу, разговаривающую с резчиком по дереву, начинавшим устраиваться для работы под открытым небом перед залой нижнего этажа. Она была так просто одета, что мне пришлось внимательно вглядеться в нее для того, чтобы узнать в ней женщину из хорошего общества. Я спустился в ту комнату, которую собирался обшить деревом, и когда рассмотрел ее обувь и перчатки, я перестал сомневаться. Это была парижанка и весьма изящная особа. Я вышел во двор, поклонился ей мимоходом и собирался уже не мешать ее расспросам, когда она подошла ко мне со смесью светской уверенности и застенчивости, придававшей большую прелесть ее поступку. — Я должна, — сказала она мне, — попросить прощения у владельца Бертевилля (так называется мое аббатство) за ту смелость, с которой я вошла в открытые двери его замка… — Прощения? — отвечал я. — Когда мне следовало бы благодарить вас за это! — Это очень любезно, — продолжала она с игривым добродушием, не помешавшим ей, однако, покраснеть, — но я не стану злоупотреблять, я ухожу, и раз я знаю, что вы здесь — я этого еще не знала, — я не позволю себе более… — Если мое присутствие мешает вам наблюдать здешние работы, я уеду опять сию же секунду. — Но я закончила… Я приходила собрать кое-какие справки для самой себя. Я предложил ей дать всевозможные справки как владелец, и она сейчас же сообразила, что я намерен вести себя серьезно и совершенно прилично. А потому она охотно сообщила мне, что ей хочется купить Сен-Вандриль, но что ее пугают те расходы, которые понадобятся на то, чтобы сделать эту развалину обитаемой. Она хотела узнать от моего мастера, что он берет за свои труды. В Сен-Вандриль имеется превосходная деревянная обшивка вроде моей, также требующая реставрации. Я уже видел Сен-Вандриль, но не отдал себе тогда отчета, что можно из него сделать. Я предложил ей побывать там сегодня же, осмотреть его и сделать приблизительную смету расходов. Она приняла предложение с большой благодарностью, но сказала мне, что пришлет ко мне за сметой, а не пригласила меня занести ее ей лично. Когда я остался один, я почувствовал себя немного ошеломленным ее красотой и прямодушием; но почти сейчас же спохватился. Я стал подсмеиваться над своей излишней услужливостью, ибо я намеревался потерять целый день и много повозиться для особы, не желавшей видеть меня; но я обещал, и потому через два часа был уже в Сен-Вандриль. Я застал там свою прекрасную соседку, которая подошла ко мне, благодаря меня за аккуратность. По пути я навел уже о ней справки. Я знал, что ее зовут мадам де Вальдер, что она живет обыкновенно в Париже, а пока поселилась совсем рядом со мной и живет в нанятом ею домике совершенно одна со старой ключницей, кухаркой и лакеем, не знакомясь или не желая знакомиться ни с кем из соседей, гуляя по утрам и вышивая или читая по вечерам. Сен-Вендриль, подобно Жюмиежу, есть обширная развалина на маленьком участке земли. Вы, конечно, знаете Жюмиеж. Если вы его не знаете, то представьте себе церковь св. Сюльпиция — разрушенную, проломленную — посреди хорошенького английского садика, песчаные дорожки которого вьются среди красивых газонов под ажурными арками, увитыми плющом и другими вьющимися растениями. Две монументальные башни вырисовываются на ясном, богатом красками небе Нормандии, как два белых скелета. Целые стаи хищных птиц испускают хриплые крики, беспрестанно летая вокруг этих ажурных башен, под кружевными узорами которых скрыты их гнезда. У подножия развалившихся стен храма растут великолепные деревья и прелестные кусты. В сохранившейся части бывших служб теперешний владелец, человек ученый и со вкусом, устроил себе весьма обширное жилище, отделанное в прекрасном стиле. Из найденных в развалинах обломков он создал интересный музей. Это строгое, удобное и вместе с тем прелестное жилище, с видом на великолепный пейзаж, оживленный и благоухающий ароматами чудной, живописно рассаженной растительности. Осматривая Сен-Вандриль, мы говорили только о Жюмиеже, восстановление которого было шедевром в моих глазах и могло служить моделью для планов мадам де Вальдер. — Я отлично понимаю, — сказала она, — что приобретение этих исторических памятников диктует нам серьезные обязательства. Возрождать их могут лишь люди с большим состоянием, и я не вижу, в чем тут польза для искусства и науки, обладающих уже достаточно большим количеством археологических находок. Впрочем, я не придаю никакой цены тому, что почти полностью заново отделано с помощью новых материалов и руками, которые не владеют мастерством прошедшего. Когда развалина действительно развалина, ей следует сохранить ее относительную красоту, ее заброшенный вид, ее тесный союз с наводнившими ее растениями и ее древнее величие. Предохранить ее от грубого опустошения, окружить зеленью и цветами — это все, что могут и должны для нее сделать, и я думаю, что эту часть своей миссии я исполнила бы довольно хорошо: я люблю садоводство и кое-что смыслю в нем. Но приспособить мое личное жилище к этому требовательному соседству — вот что меня беспокоит. Кроме того, — добавила она, — такого рода собственность влечет за собой известное рабство, пугающее меня: не имеешь права отказывать во входе к себе любителям древности и даже праздным и равнодушным людям. Ты сам перестаешь быть у себя дома, и как буду себя чувствовать я, любящая одиночество, если мне нельзя будет гулять по своим развалинам иначе, как непрестанно натыкаясь в них на каждом шагу на англичан или на фотографов? Если бы мы были в окрестностях Парижа, то можно было бы жертвовать публике определенные дни и часы; но здесь имеешь ли ты право не пускать к себе людей, проехавших 30 или 40 миль для того, чтобы взглянуть на памятник, при котором ты на деле лишь сторож или чичероне? На это мне нечего было отвечать. Я знал, какими нескромными требованиями, какими грубыми упреками отплачивали частенько нашему соседу Жюмиежа его неистощимую любезность. Я посоветовал мадам де Вальдер построить себе виллу посреди леса и отказаться от мысли о Сен-Вандриль. Мне следовало бы ограничиться этим мудрым заключением, оставить свою экспертизу и проститься с нею, но страсть к археологии увлекла меня. В Сен-Вандриль церковь красивее и во многих местах сохранилась лучше, чем Жюмиеж. Боковые пристройки безобразны и неудобны, но зато имеется чудесный сад, спускающийся террасами по веселым лугам, и этот монастырский сад, разбитый в старинном стиле, обладал большим обаянием для меня, мечтающего добросовестного декоратора. Там есть также целая огромная зала капитула, вся окруженная изящными аркадами. С большой трибуны, ведущей в трапезную, открывается вид на всю обширную внутренность церкви. Мне показалось, что я опять в зале капитула св. Климентия, передо мной восстало совещание князя со своими вассалами, похороны Марко; затем, так как мои галлюцинации все усиливались, мне почудилось, что я опять в той огромной библиотеке, где мы играли трагедию перед знатными черногорцами; я снова увидел Империа, поющую «Марсельезу», и в вихре призраков и видений Ламбеска, ревущего яростные речи Ореста, тогда как я сам декламировал Полиевкта. Доброе и симпатичное лицо Белламара являлось передо мной за кулисами, откуда могильный голос Моранбуа подсказывал нам. Слезы выступили у меня на глазах, нервный приступ смеха сжал мне горло, и я невольно вскричал: — Ах, какая великолепная зрительная зала! Мадам де Вальдер смотрела на меня с волнением, должно быть, думая, что я схожу с ума; она побледнела и задрожала. Я счел нужным для того, чтобы успокоить ее, объявить ей то же самое, что я имею обыкновение громогласно объявлять тем, кто смотрит на меня с недоверием и любопытством. — Я был актером, — сказал я, силясь улыбнуться. — Я это знаю, — отвечала она еще взволнованная. — Мне кажется, что я знаю всю вашу историю. Не удивляйтесь этому, месье Лоранс. В Блуа я была хозяйкой хорошенького домика времен Возрождения, под № 25, в одной улице, где были липы и соловьи. В доме этом случилось странное приключение, героем которого были вы. Героиня, приезжавшая туда без моего ведома и без моего позволения, хотя она была моей подругой, впоследствии призналась мне во всем. Бедная женщина! Она умерла с этим воспоминанием. — Умерла! — вскричал я. — Значит, я ее никогда не увижу! — Тем лучше для нее, раз вы ее не полюбили бы. Я заметил, что мадам де Вальдер знает все. Я забросал ее вопросами, она отвечала уклончиво; воспоминание это было ей тяжело, и она не была расположена выдавать секреты своей приятельницы. Я никогда не должен был узнать ни ее имени, ни чего бы то ни было такого, что помогло бы мне напасть на ее следы в прошедшем, безвозвратно ушедшем. — Вы можете, по крайней мере, — добавил я ей, — сказать мне что-нибудь о ее чувстве ко мне: было ли оно серьезно? — Да, очень серьезно, очень глубоко и упорно. Вы ему не поверили? — Нет, и, вероятно, я упустил счастье из недоверия к счастью. Но страдала ли она от этой любви?.. Это ли причина?.. — Ее преждевременной смерти? Нет. Она все еще сохраняла надежду или обрела ее снова, узнав, что вы оставили сцену. Быть может, она собиралась попытаться снова привязать вас к себе, когда умерла в результате несчастного случая: на ней загорелось бальное платье… Она много страдала; умерла она два года тому назад. Пожалуйста, не будем более говорить о ней; это мне очень больно. — Мне тоже, — отвечал я, — но мне хотелось бы говорить об этом! Будьте великодушны из сострадания ко мне. Она отвечала мне с добротой, что чувствует участие к моему сожалению, если только оно искренно; но могло ли оно быть искренним? Не склонен ли я скорее пренебрегать за могилой той женщиной, которой я пренебрег при ее жизни? Расположен ли я слушать с уважением то, что мне будут говорить о ней? Я поклялся, что да. — Этого мне недостаточно, — продолжала мадам де Вальдер. — Я хочу знать о ваших интимных чувствах к ней. Расскажите-ка мне об этом приключении искренно, с вашей точки зрения; скажите мне, какое суждение вы составили себе о моей приятельнице, и объясните основания, заставившие вас написать ей, что вы ее обожаете, а потом забыть ее и вернуться к прекрасной Империа. Я рассказал ей без утайки все, что рассказывал вам, ничего не пропуская. Я сознался, что, быть может, в моем первом порыве к незнакомке была некоторая досада, точно так же, как была досада и в моем молчании после того, как она усомнилась во мне. — Я был искренен, — сказал я, — я любил раньше Империа, но я бросался в новую любовь мужественно, честно и пылко. Ваша приятельница могла бы спасти меня — она этого не захотела. Я никогда не свиделся бы более с Империа, я забыл бы ее без сожаления. В ту минуту для меня не было ничего легче. Незнакомка проявила ревность в высокомерной форме, холодное великодушие ее глубоко меня оскорбило. Я испугался женщины требовательной до того, что она вменяла мне в преступление то, что я любил другую до знакомства с нею, и владеющей собой до того, что она умела скрывать свое презрение к благодеяниям. Я предпочел бы наивную ревность, я сумел бы успокоить ее прочувствованными словами, правдивыми клятвами. Я предвидел страшную борьбу, я чувствовал, что в ее сердце скопилась непобедимая горечь. Я проявил себя трусом из гордости. Я отступился от нее! К тому же ее положение и мое были слишком различны. Теперь я не был бы ни так робок, ни так обидчив. Я не побоялся бы показаться ей честолюбивым и сумел бы победить ее недоверие; но ее нет более в живых, счастье в любви — не мой удел. Она так и не узнала, как бы сильно я ее любил, а меня оттолкнула Империа, точно Небо хотело наказать меня за то, что я не схватил счастья тогда, когда оно давалось мне в руки. — Да, — снова заговорила мадам де Вальдер, — в этом вы сильно провинились сами перед собой, и вы были жестоко несправедливы к женщине такой же честной и искренней, как вы сами. Приятельница моя была искренна, когда она написала вам, предлагая помочь вам и Империа. Она не была ни недоверчива, ни высокомерна. Она была убита горем, она жертвовала собой. Она не была совершенством, но она обладала полным чистосердечием романтических душ; испугавшись ее характера, вы сделали, позвольте мне сказать вам, самый большой промах, какой только может сделать умный мужчина. Она отличалась кротостью, переходившею в слабость, и вы управляли бы этой мнимо-грозной женщиной, точно ребенком. — Я сам выказал себя ребенком, — отвечал я, — и как я был за это наказан! — Это правда, раз вы снова влюбились в Империа и раз любовь эта сделалась неизлечимой болезнью. — Почем вы это знаете? — вскричал я. — Я поняла это сейчас, когда вы вскричали: «Какая великолепная зрительная зала!» Все ваше прошедшее, полное иллюзий, все ваше будущее, полное сожалений, ясно отразились в ваших глазах; вы никогда не утешитесь! Мне показалось, что это прямой упрек, ибо глаза этой красавицы были влажны и блестели. Я взял ее за руку, не понимая хорошо, что я делаю. — Не будем более говорить ни об Империа, ни о незнакомке, — сказал я ей. — Прошедшее для меня больше не существует, но почему же у меня не должно быть будущего? Я заметил при виде ее удивления, что делаю ей любовное признание, и поспешил добавить: — Будем говорить о Сен-Вандриль. Я предложил ей руку, чтобы сойти в невозделанный и заброшенный сад, но мы не говорили вовсе о Сен-Вандриль. Мы ежеминутно возвращались к незнакомке, и мне показалось, что она так много говорила обо мне и так описывала меня мадам де Вальдер, что возбудила в этой последней большое любопытство, желание повидать меня, быть может, даже более сильное чувство, нежели любопытство. Соседка моя показалась мне если не такою же искательницей приключений, как ее приятельница, то, по крайней мере, такой же романтической натурой, и я начинал чувствовать, что мне будет немудрено влюбиться в нее, если только мне дадут понять, что относятся к этому с некоторым поощрением. Меня не поощрили, но я влюбился. Я не осмелился попросить ее принять меня у себя; она заперлась у себя на несколько дней, и я тщетно бродил вокруг ее жилища, ни разу не увидав ее. Тогда-то и пришла мне идея превратить в рабочий кабинет дядину спальню и устроить свои пенаты в квадратном павильоне, из которого я мог сделать ту голубую спальню из Блуа. Раз я познакомился с истинной создательницей этой хорошенькой спальни, она будет интересовать меня вдвое, и я принялся устраивать ее по памяти с большим жаром. Когда через несколько дней она стала походить на свой оригинал, я написал мадам де Вальдер, умоляя ее прийти дать мне на месте справку и совет. Я был раньше так любезен с ней, что она не сочла возможным отказать мне. Она явилась, была очень удивлена, даже очень тронута моей сентиментальной фантазией и объявила, что воспоминания мои весьма точны. Тогда она разрешила мне навестить ее и показала мне мои оба письма к незнакомке, которые та доверила ей, умирая, прося сжечь их по прочтении. — Почему же вы этого не сделали? — спросил я. — Не знаю, — отвечала она. — Я всегда мечтала встретить вас где-нибудь и возвратить вам их. Тем не менее, она мне их не возвратила, а у меня не было никакого повода требовать их обратно. Я спросил, нет ли у нее портрета ее приятельницы. — Нет, — отвечала она, — а если бы и был, я бы вам его не показала. — Почему? Ее недоверие пережило ее, она вам запретила? Пусть так! Я не хочу более любить в прошлом; довольно с меня, довольно я был несчастен, теперь все должно быть искуплено. Я имею право забыть свое долгое мученичество. — Но голубая спальня! — Голубая спальня — это вы, — отвечал я. — Вас, создательницу и обитательницу этой комнаты, любил я в мечте в этой комнате до появления вашей приятельницы. — Значит, это тоже прошлое? — Почему бы ему не быть настоящим? Она упрекнула меня за то, что я являюсь к ней говорить ей пошлости. Я сознался, что это безвкусная выходка; но чего же ей было ждать от бывшего театрального любовника? — Молчите, — сказала она, — вы клевещете на себя! Я вас очень хорошо знаю. Приятельница моя получила довольно писем от господина Белламара, чтобы иметь возможность оценить вас по достоинству, а я, читавшая эти письма, знаю, какой вы. Не надейтесь заставить меня усомниться на ваш счет. — Какой же я, по-вашему? — Вы человек серьезный и деликатный, который никогда не станет ухаживать слегка за уважаемой им женщиной, — вы человек, скрывавший три года свою любовь к Империа из уважения к ней. Зная это, уважающая себя женщина никогда не допустит добровольно этой игры с вами, согласитесь сами. Таким образом, я не стал ухаживать за мадам де Вальдер; я не ухаживаю за ней, но я часто вижусь с нею, и я ее люблю. Мне кажется, что она тоже меня любит. Быть может, это только фатовство с моей стороны, быть может, она питает ко мне только дружбу, как Империа! Быть может, это мой удел — внушать дружбу. Это сладко, это целомудренно, это прелестно, но этого недостаточно. Меня начинает раздражать это доверие к моей честности, которая не такая уж настоящая, как кажется, раз она дается мне с трудом. Вот в каком я положении! Я робкий, недоверчивый, нетерпеливый и боязливый любовник, и это потому… потому что, сказать ли уж вам? Я также боюсь быть любимым, как боюсь быть нелюбимым. Я вижу, что имею дело с истинно честной женщиной, которая не допустила бы минутной любви, когда она может… принадлежать мне навсегда. Я жажду счастия обладать такой женщиной и всегда любить ее, как я чувствую себя способным ее любить. От меня зависит внушить ей это доверие, стоит только высказать ей мою искреннюю страсть, а я веду себя уже два месяца как школьник, который боится, что его разгадают и в то же время боится, что не разгадают. Вы спросите меня, почему?.. — Да, — вскричал я, — почему? Скажите, почему, мой милый Лоранс!.. Исповедайтесь до конца. — Э! Боже мой, — отвечал он, вставая ипрохаживаясь с волнением по голубой комнате, — потому что я в своей бродячей жизни нажил себе хроническую, очень серьезную болезнь: неосуществимое хотение, фантазию о невозможном, скуку правды, идеал без определенной цели, жажду того, чего нет и чего быть не может! Я все еще мечтаю о том, о чем мечтал в двадцать лет; и я все еще ищу в пространстве то, что ушло от меня. — Артистическую славу! Так, что ли? — Может быть! Во мне таилось, без моего ведома, какое-то неудовлетворенное честолюбие. Я считал себя скромным, потому что хотел быть таким; но мое оскорбленное тщеславие, должно быть, грызло меня, как те болезни, которых в себе не чувствуешь, но которые убивают. Да, должно быть, так: мне хотелось бы стать великим артистом, а я только умный критик. Я чересчур образован, чересчур рассудочен, чересчур философ и чересчур рассудителен; я никогда не вдохновлялся. Я — на все руки, да все руки коротки. Это мука — понимать прекрасное, разбирать его, знать, в чем оно состоит, как зарождается, развивается и проявляется, и не быть в состоянии вызвать его в самом себе. Это как любовь, право! И ее чувствуешь, осязаешь, думаешь, что поймал ее; она от вас вырывается и исчезает. И остаешься лицом к лицу с пылкой мечтой и ледяным воспоминанием! — Империа! — сказал я ему. — Это Империа! Вы все еще думаете о ней! — Бесчувственная Империа и мое обманутое честолюбие — это одно и то же, — отвечал он. — Эти два первых жизненных элемента были пунктом отправления моей жизни. Я потерял три прекраснейшие года на то, что смотрел, как они уходят от меня день ото дня, час от часу. Быть может, я найду более предпочтительные блага; но чего не обрету вновь — это мое детское сердце, мою упрямую надежду, мое слепое доверие, мои стремления поэта, дни беззаботности и дни горячки. Все это кончено, кончено! Я человек, сложившийся вполне, и люблю вполне же сложившуюся женщину. Я отличный человек, она обворожительна; мы можем быть очень счастливы… Я теперь богат, как набоб, и живу, как принц. С соломенного тюфяка я перешел на шелковую с золотом постель. Я могу удовлетворить все свои фантазии, напиваться допьяна столетним вином, иметь лучше устроенный и лучше спрятанный гарем, чем гарем князя Клементи. Я могу иметь театр лучше его и целую труппу у себя на жалованьи; дядя оставил мне субсидию в сто тысяч франков, как субсидия «Одеона»! Я буду иметь искусство на свои деньги, как имею уже поэзию по наследству, прекрасную природу, которой я распоряжаюсь по-своему. Смотрите! Разве это не романтический пейзаж? — добавил он, отдергивая тяжелый занавес от окна и указывая мне на пейзаж через ясные стекла, искрящиеся по краям от мороза. — Смотрите! Я не люблю ставни. Нет ничего приятнее, чем смотреть, сидя у своего камелька, на мороз на улице. Снег падает теперь только мелкими хлопьями, а луна их мягко серебрит. Там, внизу, за моим парком — Сена, широкая, точно морской пролив, течет мирно и могуче. Эти большие черные кедры там, в глубине, бесшумно стряхивают на снег, покрывающий их подножия, снег, покрывающий их ветви. Вот прекрасная декорация, восхитительно освещенная! Это величественно и торжественно, это уныло и молчаливо, как кладбище, это мертво, как я!.. О! Империа! Крикнув это имя громовым голосом, от которого на полках зазвенели амуры из саксонского фарфора и богемский хрусталь, он топнул ногой, как колдун, вызывающий непослушный призрак; опять все зазвенело и смолкло. Он хлопнул кулаком по этажерке, заставленной драгоценными безделушками, а затем засмеялся, говоря с горьким хладнокровием: — Не обращайте внимания: я часто испытываю потребность что-нибудь разбить! — Лоранс, мой милый Лоранс, — сказал я ему, — положение ваше хуже, чем я думал! Это не притворство, я вижу. Вы очень мучитесь и лечите себя совершенно навыворот. Вам надо покинуть это уединенное место, надо путешествовать, но с подругой. Женитесь на мадам де Вальдер и уезжайте с нею. — Если бы дело было только во мне, — продолжал он, — я не стал бы колебаться, потому что она мне нравится, и я уверен, что она нежна и преданна; но если я не дам ей счастья, если мои припадки печали и мои странности станут ее огорчать и обескураживать! В данную минуту она думает лишь о том, чтобы исцелить меня от прошлого; я от нее больше ничего не скрываю, она требует этого. Все, что я говорю вам здесь, она слышит от меня; все, что я вам открываю, она тоже видит; она знает о всех моих терзаниях. Она меня расспрашивает, она меня разгадывает, она заставляет меня рассказывать ей все подробности моей прошлой и настоящей жизни. Она принимает в ней участие, она меня жалеет, утешает, бранит и прощает. Это мой друг, мой ангел, она думает, что помогает мне, а я поддаюсь ей, и я воображаю себе, что она меня исцеляет, и я чувствую, что она меня успокаивает. Повторные припадки моей болезни ее не слишком тревожат. Терпение у нее неслыханное! Ну да, она мне нужна, и я не мог бы впредь обходиться без того бальзама, которым она врачует мои раны; но я боюсь, что любовь моя эгоистична.., быть может, возмутительна!.. Ибо я чувствую, что если бы в одно прекрасное утро ко мне постучались и сказали бы: «Там внизу Белламар с Империа, они приехали за тобой, чтобы играть с ними в Кодебеке или в Ивето», — я бросился бы как сумасшедший к ним, прыгнул бы, плача от радости, в их тележку и последовал бы за ними на край света… Как же вы хотите, чтобы с таким безумием в голове я поклялся бы женщине с сердцем жить только для нее одной? Какое было бы для нее унижение и отчаяние, когда она увидела бы, что она так нежно высидела свое яйцо домоседки-голубки для того, чтобы из него вылупился странствующий голубь! Нет, я еще не созрел для женитьбы, меня не следует торопить. Надо дать мне время зарыть себя в землю, а потом воскреснуть, если это возможно! Он был прав. Мы расстались в три часа утра, мне необходимо было ехать дальше в семь часов; но я поклялся ему, что поскорее покончу свои дела и вернусь к нему на неделю. Я жил уже два дня в Дюклере и завтракал раз один за табльдотом, не успев попасть к урочному часу, когда в столовую вошел мужчина, еще молодой, то есть не очень-то молодой, и не очень красивый, то есть довольно-таки безобразный, поклон, взгляд и улыбка которого сейчас же расположили меня в его пользу. Он уселся напротив меня и стал поспешно есть, не обращая, очевидно, внимания на то, что ему подавали, и все заглядывая в записную книжку. Я принял его за странствующего приказчика. В нем было что-то игривое, насмешливое и вместе с тем доброжелательное, что вызвало у меня желание заговорить с ним; но он казался чересчур благовоспитанным для того, чтобы завязать бестолковый разговор, и я решился задать ему вопрос о том, когда приходит пароход из Гавра, что я и сам прекрасно знал. — Кажется, в два часа, — отвечал он. Эти несколько слов были для меня лучом света, озаряющим тьму: он говорил в нос! Во мне зародилось смутное предположение. Мне хотелось спросить у него, как его зовут, когда он подошел к чернильнице и стал надписывать адрес на письме, которое вынул из кармана. Я имел нескромность взглянуть на это письмо и прочел на нем: «Господину Пьеру Лорансу в Арвере»… — Позвольте, — сказал я ему, — я сейчас по какой-то необъяснимой рассеянности взглянул на надписываемое вами имя и считаю своей обязанностью дать вам нужную справку. Лоранс не живет более в Арвере. Он посмотрел на меня внимательно, подняв глаза, но не поднимая головы, и, убедившись, что он меня никогда не видел, но что лицо у меня честное, он попросил дать ему новый адрес Лоранса. — Здесь его зовут бароном Лоранс; но он не любит, чтобы ему давали этот титул, который он не унаследовал прямо. Он живет в своем замке — в замке своего покойного дяди в нескольких милях отсюда. — Значит, он получил наследство? — Именно, и у него теперь сто тысяч годового дохода. — То-то его насмешит мое послание! Все равно, потрудитесь сообщить мне название замка. — Бершевилль. — Ах! Да, правда, помню, — сказал он, записывая и улыбаясь до ушей. — Какая судьба! Милый мальчик! Вот он богат и счастлив! Он это вполне заслужил! — Он, может быть, не так счастлив, как вы думаете, месье Белламар! — Вот тебе на! Разве вы меня знаете? — Как видите! — А его?.. — И его знаю, он мой друг. — О! Тогда я знаю, что вы податной ревизор, — мне сказали это в гостинице. Тогда я попрошу вас оказать мне услугу, а именно: взять на себя труд передать ему это. Это чек на те пять тысяч франков, которые я должен ему уже много лет. Я знаю, что он не потребует с меня процентов. — Да и самой суммы также. Даю вам слово, что он не захочет принять ее! Все равно, я знаю вашу щепетильность в денежных вопросах и передам ему вашу бумажку. По какому адресу переслать вам ее обратно? — Я не хочу, чтобы он мне ее возвращал. Если он богат, он, должно быть, и щедр. Есть другие бедняки, более бедные, чем я и мои актеры; но разве я не мог бы повидаться с ним? Разве он не примет своего бывшего друга, своего бывшего директора?.. У Лоранса было одно из тех сердец, что не могут измениться. — Милый господин Белламар, он примет вас, пожалуй, чересчур хорошо; но следует ли вам снова разжигать огонь, тлеющий под пеплом? — Что вы хотите сказать? — Позвольте спросить вас, принадлежит ли еще к вашему товариществу мадемуазель Империа? — Империа? Ну да, само собой! Я жду ее через час со всеми моими остальными компаньонами. — Леоном, Моранбуа, Анной и Ламбеском? — Да постойте! Вы всех нас знаете? — Лоранс рассказал мне всю свою жизнь во всех ее подробностях. А Люцинда и Регина все еще с вами? — Нет, они не последовали за нами в Америку, где мы провели два года и формировали вокруг нашего небольшого ядра случайные труппы, встречавшиеся нам время от времени; но мои пять компаньонов никогда меня не покидали. — А Пурпурин по-прежнему у вас в услужении? — По-прежнему; он умрет подле меня. Бедный Пурпурин! — В чем дело? — О! Мы имели немало приключений — такова уж наша судьба. Между прочим, были встречи с дикарями, обращенными в христианство миссионерами, и вполне цивилизованными людьми, которые вздумали вдруг скальпировать нас. Пурпурин оставил в их руках часть волос с кожей вместе. Мы поспели вовремя, чтобы получить обратно остальное. Он поправился, но эта маленькая операция и испытанный им страх не принесли ощутимой пользы его уму. Ему пришлось отказаться от декламации, что, в сущности, совсем неплохо… Но поговорим же о Лорансе. Разве он все еще думает об Империа? — Больше, чем когда-либо. — Черт возьми! — Она его никогда не любила? — Напротив. Я думаю, что любила. — А теперь? — Она продолжает отрицать это по-прежнему. — Почему? — Ах, почему! В этом вся штука! Я ничего не могу сказать вам; быть может, она побоялась жизни, которая не подошла бы ее артистическим вкусам и привычкам. — Но теперь, когда он богат… — А разве он женился бы на ней теперь? — Я в этом уверен! Белламар сильно побледнел и принялся взволнованно ходить взад и вперед. — Лишиться Империа, — сказал он мне, — это значит лишиться всего, ибо у нее большой талант, и благодаря ее мужеству, дружбе, преданности и уму она теперь главный нерв, душа всего нашего существования. Расстаться с нею — это значит убить нас всех, и я сам… Он остановился, задыхаясь от внутреннего рыдания, которое он подавил, снова принимаясь шагать по комнате. — Послушайте, — сказал я ему, — я нахожу так же, как и вы, что ему не следует жениться на мадемуазель де Валькло. Незнакомка из Блуа умерла, но… — Умерла? Какая жалость! — Но она оставила приятельницу, свою поверенную, которая любит Лоранса, живет подле него и на которой Лоранс женился бы, если бы мог позабыть Империа. Я убежден, что этот брак гораздо лучше для них обоих… — Скажите-ка мне, — продолжал Белламар, озабоченно прерывая меня, — когда умерла мадам де Вальдер? — Мадам де Вальдер? — Ах, Боже мой, у меня вырвалось ее имя. Но не все ли это равно теперь, когда бедной незнакомки нет более на свете? Роман ее был так чист, это была такая прямая, целомудренная и добрая женщина! Ведь вы неспособны выдать эту тайну? — Конечно, нет; но я ровно ничего не понимаю в том, что вы говорите; мадам де Вальдер вовсе не умерла, это она — соседка, приятельница, поверенная, почти невеста Лоранса. — Ну, что это!.. Ах, понял!.. Нет, постойте! Видали вы ее, эту самую соседку? — Нет еще, я знаю, что она высока ростом, красавица… — И совсем белокурая? — Нет, у нее белая кожа и темные волосы, как сказал мне Лоранс. — О, волосы! Им всегда можно придать любой цвет! Как ее зовут? — Жанной. — Это она! Вдова? Бездетна? Довольно богата? Ей от двадцати восьми до тридцати лет? — Да, да, да! Все это я слышал от Лоранса. — Ну, тогда это она, клянусь вам, что это она! И Лоранс не догадывается, что приятельница его незнакомки и есть его незнакомка, выдающая себя за умершую? Этот мальчик будет всегда наивен и скромен! О, это меняет все дело, смею вас уверить! Лоранс человек воображения. Когда он узнает правду, он снова полюбит ту, которую любил в романтических обстоятельствах. Он полюбит незнакомку и забудет Империа. — И это будет тем лучше для него, для нее, для Империа и для всех вас. — Совершенно верно! Следует предупредить мадам де Вальдер, что довольно притворяться и что она должна открыться Лорансу, потому что опасность близка, так как Империа возвратилась… Я еще нигде не заявлял о своем приезде. В провинциальных газетах имя мое не появлялось. Высадившись в Гавре два дня тому назад, я хотел доехать до Руана, не давая представлений по дороге. Я сделаю еще лучше: я проеду незаметно, пропущу Руан и отправлюсь играть как можно дальше. Вы ничего не скажете Лорансу о вашей встрече со мной, совсем не будете говорить обо мне, он может думать еще несколько месяцев, что я в Канаде… Постарайтесь, чтобы он женился на мадам де Вальдер через несколько недель, и все спасено. — Тогда уезжайте поскорей: Лоранс может нагрянуть ко мне сюда, он часто здесь бывает. Он может оказаться здесь с минуты на минуту. Что бы вы тогда стали делать? — Я сказал бы ему, что Империа осталась в Америке, где она замужем за миллионером. — Но разве она не может сама явиться сюда? Вы же сказали мне, что ждете ее? — Да, мы должны были остановиться здесь; я хотел навестить тут поблизости одного приятеля, который меня не ждет и не узнает потом, что я проезжал. Это решено, я поеду навстречу своей труппе, чтобы она не въезжала в этот город. Прощайте! Благодарю вас! Позвольте пожать вам руку и удрать поскорее. — Возьмите в таком случае обратно свои деньги, — сказал я ему, — раз Лоранс не должен ничего знать о нашем свидании. Успеете еще рассчитаться с ним. — Совершенно верно; еще раз прощайте! — Разве вы не разрешите мне сопровождать вас? Признаюсь, мне страшно хочется взглянуть на Моранбуа, Леона… — То есть на Империа? Хорошо, идемте, вы увидите их всех, но не говорите им о Лорансе. — Это решено. Я взял шляпу, и мы бросились оба на улицу. Белламар, заметив извозчичий двор, остановился и нанял там большой омнибус, который поспешно запрягли. Мы вскочили в него и отправились в Кодебек. — В этот омнибус, — сказал он мне, — пересядет моя труппа и перенесут мой багаж прямо на дороге, так что нам не придется въезжать в город. Я скажу товарищам, что тот приятель, которого я хотел навестить в Дюклере, больше там не живет, что гостиница плоха и дорога́ и что мы едем прямо в Руан через Барантэн, где пересядем на железную дорогу. Через четверть часа пути, во время которого я подробно сообщил Белламару, в каком настроении я оставил Лоранса, мы встретились с другим омнибусом, в котором помещалось товарищество. Белламар пошел давать актерам необходимые разъяснения, а я принялся помогать пересадке женщин и переноске багажа с целью взглянуть поближе на всех этих действующих лиц комического романа Лоранса, живо меня интересовавших. Первая женщина, выпрыгнувшая легко и без предосторожностей на дорогу, еще покрытую снегом, была маленькая Империа. Действительно, она была очень маленькая и тоненькая, эта женщина, занимавшая такое большое место в жизни моего друга. Затянутая в свое простенькое дорожное платье, со скрученными под микроскопической шапочкой из поддельной мерлушки волосами, она походила на девочку, отправляющуюся на каникулы, но, вглядевшись в нее получше, я убедился, что ей лет тридцать и что она потеряла всякую свежесть. Несмотря на ее чистые и правильные черты, она не показалась мне хорошенькой. Блондинка Анна была немного полна для ролей ingénue, и ее щеки, тронутые холодом, не отличались веселым румянцем. У нее на руках был маленький ребенок. Моранбуа, совершенно лысый и в своей вечной котиковой фуражке на голове, ухитрился грубо обойтись со мной, когда я предложил помочь ему стащить тяжелый сундук, и на деле доказал, что силы у этого Геркулеса не убавилось, несмотря на время, путешествия и приключения. Леон, очень бледный и тщательно выбритый, показался мне человеком изношенным и больным. Он был изящен, а его крайняя вежливость составляла контраст с грубостью Моранбуа. Ламбеск был толст и безобразен; он ходил боком, точно краб, и жаловался, что его еще качает после морского плавания. На голове скальпированного Пурпурина красовалась фальшивая накладка, взятая, без сомнения, из театральных аксессуаров и плохо подходящая к цвету его волос. Право же, они были неприглядны, эти бедные странствующие артисты, которых я видел такими интересными и характерными в рассказах Лоранса. Я вполне успел их рассмотреть, пока рассчитывавшийся Моранбуа ругался с кучерами, грозя им одной рукой, а на другой держа малыша Анны. Империа подошла к Белламару, беспокоившемуся о ней, и поклялась ему с решительным и игривым видом, что она совсем здорова и очень рада видеть землю и деревья, хотя бы даже деревья без листьев, после двадцативосьмидневного плавания. Нормандия ее восхищала, она положительно предпочитает Север жарким странам. Словом, она разговаривала подле меня в течение нескольких минут, и я понял ее прелесть и могущество. Говоря, она преображалась; ее утомленные и похудевшие черты снова становились пластичными. Худоба исчезала; прозрачная тонкость кожи окрашивалась особенным цветом, получалось нечто среднее между мрамором и жизнью. У нее были еще великолепные зубы, а глаза приобретали пронизывающий блеск, который легко мог сделаться неотразимым. Она была одним из тех существ, которые не поражают, но чаруют. Белламар также казался мне помолодевшим с первого мгновения своего появления; через несколько минут и Леон произвел на меня то же впечатление. Я понял, что это результат их нервно-возбужденной жизни. Такие люди не имеют определенного возраста. Они кажутся всегда или моложе, или старше, чем они есть на самом деле. Когда они отъехали, я почувствовал, что мне хотелось бы последовать за ними, чтобы получше узнать их, а кроме того, меня трогала мысль об их бедности и их честности. Казалось, им нечем заплатить за проезд, а между тем они привезли обратно пять тысяч франков Лорансу! Я вернулся в гостиницу, где как раз ждал меня Лоранс. Он ничего не подозревал о промелькнувшей так близко от него молнии! В это утро он был занят только мадам де Вальдер. Сегодня, после нашей с ним встречи за два дня перед тем, она показалась ему печальной и упавшей духом. Это случилось потому, что сам он, еще взволнованный своими излияниями со мной, поддался в ее присутствии удвоенной меланхолии. Теперь он боялся, не собиралась ли она потихоньку покинуть его навсегда. Он был от этого в бешенстве и в отчаянии. — У женщин, — говорил он, — только и есть, что гордость; на настоящее сострадание их не хватает! Он стал умолять меня переселиться к нему. Занят я был только несколько часов в день. Он обещал привозить и отвозить меня обратно каждый день в экипаже, запряженном быстрыми, как ветер, лошадьми. — А ведь это же удовольствие, — говорил я ему, возвращаясь с ним в Бершевилль в гибком, как лук, экипаже, уносимом тройкой чудных лошадей — это настоящее удовольствие лететь таким образом по снегу и по льду, поставив ноги на хорошую грелку и укутав колени шелковистым мехом. — Да, когда сидишь подле друга, — сказал он, пожимая мне руку, — в этом и заключается царское удовольствие, а я родился крестьянином. Толчки тележки, влекомой рысью старым мулом, гораздо полезнее для здоровья. У меня теперь нет ни аппетита, ни сна. Судьба — это вечно ошибающаяся сумасбродка, балующая тех, кто у нее не просит и обманывающая тех, кто к ней взывает. Вечером он свел меня к мадам де Вальдер и представил ей как своего единственного друга. — Единственный? А Белламар, Леон… и другие разве умерли? — спросила она взволнованным тоном. — Сегодня это почти так, — отвечал Лоранс, — я не подумал о них ни разу за весь день и не вижу, почему бы следующим дням не походить на сегодняшний. Мадам де Вальдер отвернулась разливать чай, но я подметил луч радости на ее прекрасных чертах. Лоранс не преувеличивал, описывая ее: ее красота, ее свежесть, совершенство форм, пленительная прелесть ее лица были неоспоримы; волосы ее были темные от природы. Позднее, когда я спросил ее, почему Лоранс и Белламар видели ее белокурой, она рассказала мне, что в то время ей пришла прихоть пудриться золотистой пудрой, начинавшей входить в моду. Это обстоятельство еще более изменило ее, оставшись в памяти Лоранса. Я сообразил в одно мгновение, что она любит его безгранично и безумно. Мне хотелось побыть с нею наедине, но это было невозможно устроить незаметно для Лоранса. Я решился написать ей сейчас же. Набрасывая что-то в альбом, я написал следующие слова, которые передал ей украдкой: «Я не могу распоряжаться вашей тайной без вашего согласия. Скажите Лорансу правду. Это необходимо!» Она вышла, чтобы прочесть эту записочку, и вернулась смущенная. Она не обладала свойственной женщине ее лет опытностью, она еще была чистосердечна и легко волновалась, как в первой молодости; Лоранс был ее первой, ее единственной любовью. Она спросила у него какую-то книгу, которую он обещал принести. Он ее забыл. Но он выдумал, что оставил ее в кармане своей шубы, и вышел будто бы за нею в переднюю, а сам выбежал из дому и бросился пешком по снегу в темноте за обещанной книгой. Мы слышали, как он вышел. — Мы одни, — сказала мне мадам де Вальдер, — говорите скорее. Я передал ей все случившееся за день. — Итак, — сказала она мне, — они уехали? Империа не увидит его, не узнает, что она еще любима, что он богат, что она может дать ему счастье? Я не могу этого допустить. Я не хочу получить Лоранса с помощью лжи, ибо молчание было бы тут ложью. Если ему суждено любить вечно мадемуазель де Валькло, да свершится моя судьба. Время еще не ушло; он ничего еще мне не обещал, я не сделала ему никакого признания и не дала еще прав на свою жизнь. Я уеду, вы выпишите сюда труппу Белламара, и если это испытание не изгонит меня из сердца Лоранса, я вернусь. Скажите ему сейчас же, что он может настигнуть их в Руане. Он поедет, я в этом уверена… Я же удалюсь, пока не решится моя судьба. Какова бы она ни была, я подчинюсь ей мужественно и с достоинством. Она залилась слезами. Я напрасно оспаривал ее решение. Тем не менее, я добился от нее, что Лоранс узнает свою незнакомку, прежде чем подвергнется решительному испытанию. Я убедил ее пойти напудриться золотой пудрой и накинуть на себя черную мантилью, для того чтобы явиться перед ним такою, какою он видел ее из голубой спальни. Когда она вернулась белокурой и под вуалью, я поставил ее спиной к той двери, в которую должен был Войти Лоранс, а сам ушел. Он встретился мне, запыхавшийся, с книгой в руках. Я сказал ему, что у меня страшно разболелась голова и что соседка его разрешила мне уйти. Он вернулся очень поздно, я был уже в постели. Он пришел ко мне и кинулся мне на шею: он был в упоении любви и счастья. Белламар не ошибся. Человек воображения вернулся к своей нормальной жизни. В мадам де Вальдер он обожал двух женщин: незнакомку, о которой мечтал, и подругу, великодушно трудившуюся над его исцелением. Он хотел жениться на ней завтра же. И он бы сделал это, если бы это было возможно. Объявила ли она ему о приезде Империа? Он не заикнулся мне об этом ни словом, а я не осмелился расспрашивать его. Я признаюсь, что при виде упоения Лоранса, выслушивая его планы влюбленного миллионера, желающего осыпать подарками своего кумира, я думал со щемящим сердцем о бедной маленькой актрисе, ехавшей без перчаток и почти без плаща по снежным дорогам на поиски жестокого труда, не имея другого капитала и иной будущности, кроме своего таланта, своих нервов, своей воли, улыбки и своих слез. До этой минуты я безжалостно трудился на пользу ее соперницы. Теперь я ловил себя на том, что находил, что этой последней счастье давалось чересчур легко. Оставшись один, я не мог заснуть снова. Меня обуревали сомнения, и я спрашивал себя, имел ли я право поступить так, как поступил. Я оделся и принялся смотреть в окно на ясный зимний солнечный восход, как вдруг увидел во дворе человека, закутанного в козлиную шкуру, с шерстяным колпаком на голове, похожего на лодочника с Сены и делавшего мне какие-то знаки. Я спустился и, подойдя к нему, узнал Белламара. — Проводите меня, — сказал он мне, — к мадам де Вальдер; я должен поговорить с нею без ведома Лоранса. Я знаю, что он лег вчера поздно, мы успеем. По дороге я объясню вам, почему я приехал. Я указал ему дорогу, побежал одеться и вернулся к нему. — Вот видите, я приехал назад, — сказал он. — В Барантэне я отправил всех своих в Руан. Всю ночь я ехал сюда в прескверной повозке, но я ужасно волновался и не ощущал холода. Я было решился на дурной поступок, на подлость из эгоизма! Но я не могу привести его в исполнение. Это была бы первая подлость в моей жизни. Империа всегда жертвовала собой для своих друзей. Она могла бы получить ангажемент в Париже, иметь там большие успехи, разбогатеть или, по меньшей мере, обеспечить себе там зажиточное и спокойное существование. В «Комеди Франсез» немало таких актрис, которые не стоят ее. Она отказалась идти туда, чтобы не расставаться с нами. Вы знаете, как она поступила, когда была осыпана дарами князя Клементи и его гостей. Вы догадываетесь, что, отказываясь от любви Лоранса, она опять-таки стремилась посвятить себя нам. Это не может длиться вечно. Теперь ей тридцать лет. Она слаба, истощена. Наше маленькое товарищество никогда не разбогатеет, жизнь наша всегда будет полна лишений. Еще несколько лет и, не переставая смеяться и петь, она упадет под этим тяжким бременем — мы обыкновенно так кончаем! И вдруг оказывается, что она может иметь сто тысяч франков годового дохода и замечательного мужа, который все еще ее любит и сочтет за счастье сделать ее счастливой. И я это от нее скрою! Нет, я не должен этого делать и не сделаю. Я хочу видеть мадам де Вальдер, потому что некогда я поклялся ей послужить ее делу. Она должна узнать, что я отступаюсь от нее и что это моя прямая обязанность. Это женщина с очень большим сердцем, я это знаю; я не раз виделся с нею после приключения в Блуа и всегда считал возможным поддерживать в ней надежду. Все изменилось с тех пор, как Империа отвергла Лоранса с такой сердечной болью, какую скрыть от меня оказалось невозможно. Именно в то время мы и уехали в Америку. Таким образом, я не виделся более с графиней. Она путешествовала. Я не знал, куда ей писать. Надо, чтобы она все узнала и приняла бы решение с присущей ей необыкновенной деликатностью. Что касается меня, то верно то, что я не могу и не хочу обманывать Империа. А затем, станут ли эти две женщины оспаривать одна у другой сердце моего бывшего первого любовника, или уступит самая великодушная из них это сердце другой — это меня более не касается. Мой долг будет исполнен. Я целиком разделял образ мыслей Белламара, чтобы противоречить ему. Мы заставили разбудить мадам де Вальдер. Она выслушала нас, плача, и осталась бессильной, безмолвной, не в состоянии ни решиться на что-либо, ни отстаивать себя. Она выказала себя слабой и удивительной женщиной, ибо она и не подумала жаловаться. Она заботилась только о счастье Лоранса и сказала в заключение: — Я знаю, что он меня любит, теперь я в этом уверена. Он признался мне в этом вчера вечером с такой убедительной страстью, что сомневаться значило бы с моей стороны не уважать его; но его ум и сердце были так долго во власти недуга, что я не удивлюсь, если лишусь его вновь. Я не имею права противиться этой роковой возможности. Я примирилась с нею заранее, поселившись подле него с намерением заставить полюбить себя такою, как я есть, без фикции и без поэзии. Выдавая себя за приятельницу его незнакомки, я хотела разузнать и понять, какое чувство он питал когда-то к ней. Я увидала, что любовь эта была не более как мимолетное волнение, глава из романа его бродяжьей жизни, хотя он и говорил о ней с уважением и благодарностью. Тогда я побоялась показаться ему сама чересчур романтической, выдав себя, и с целью внушить ему к себе то доверие, которого ему недоставало, я доказала ему, что умею быть бескорыстным, великодушным и нежным другом. Он это понял; но дружба эта была еще слишком нова для того, чтобы изгнать воспоминание об Империа. Я это чувствовала и видела. Я хотела подождать еще, оставаться свободной относительно него, сделать для него любовь мою необходимой и сознаться ему в прошлом, только отдавая ему будущее. Вчера меня принудили выдать себя. Он пришел в упоение, в экзальтацию.., а я, я струсила, я не решилась признаться ему, что Империа тут, совсем близко… Сегодня утром вы приходите сказать мне, что надо быть искренней и довести испытание до конца. Знайте, что вы меня убиваете. Я была так счастлива, когда увидела его счастливым у своих ног! Ну, все равно, вы правы. Совесть моя подчиняется вашей совести. Я сделаю все, что вы хотите. — И опять она искренно, от всего сердца заплакала; глядя на нее, расплакался и Белламар. — Послушайте, дорогая графиня, — сказал я ей, — я не очень чувствителен и совсем не романтичен, однако же я чувствую, что вы ангел, добрый ангел Лоранса. Но это в ваших собственных интересах. Должны ли мы подвергать вас в будущем его упрекам, если он откроет сам всю правду, как она есть, то есть, что Империа вернулась, что она свободна и, может быть, любит его? Не боитесь ли вы, что в день нервного раздражения, в дождливый мрачный день, в один из тех дней, когда можно совершить преступление из-за ничего, он не посетует на наше всеобщее молчание и на ваше в особенности? — Дело не во мне, — сказала она; — не заботьтесь обо мне! Я натура верная и сосредоточенная, а не бурная. Я ждала долго и долго жила мечтой, часто бледневшей и снова возвращавшейся, я путешествовала, училась, успокаивалась, строила даже другие планы, и если я не могла полюбить никакого другого мужчину, кроме Лоранса, так это против моей воли. Мне хотелось забыть его. Что бы ни случилось, я не убью себя и стану бороться против сильного отчаяния. Все-таки в жизни у меня было три месяца счастья и несколько часов чистой и совершенной радости прошлой ночью. Что нам необходимо узнать и что я непременно хочу узнать — это то, которая из нас, Империа или я, даст больше счастья Лорансу. — А как нам это узнать? — сказал Белламар, снова обуреваемый своими сомнениями. — Кто может читать в будущем? Он будет всего счастливее с той, которая будет всего больше любить его. — Нет, — отвечала мадам де Вальдер, — потому что та, которая любит его больше, пожертвует собою. Слушайте, необходимо выйти из этого безвыходного положения. Я хочу видеть Империа, я хочу, чтобы она откровенно объяснилась; я имею право предотвратить новое горе для Лоранса в случае, если она любит его недостаточно или не любит вовсе. — Как устроить все это незаметно от него? — сказал Белламар. — Разве он не бывает у вас каждый день? — В эту минуту я имею над ним полную власть, — отвечала графиня. — Вчера он умолял меня назначить день нашей свадьбы. Я пошлю его в Париж за моими бумагами. Я предупрежу своего нотариуса депешей, чтобы он заставил его дожидаться их несколько дней. А вы поезжайте в Руан за Империа и поклянитесь мне, что ничего ей пока не скажете. Она должна узнать правду от меня, только от меня одной. Белламар дал клятву и уехал сейчас же. Я пошел разбудить Лоранса, и он немедленно побежал к той, которую называл уже своей невестой и в которую был отныне безумно влюблен. Ей хватило мужества скрыть от него свое волнение и опасения и притвориться, что она уступает его нетерпеливым настояниям. Вечером он уехал в Париж. Ночью поезд, увозивший его в Руан, должен был встретиться с тем поездом, который вез Белламара и Империа в Барантэн. Они приехали к нам на следующее утро. Я ждал их у мадам де Вальдер, готовый уйти при их приближении. — Нет, — сказала она мне, — Империа вас не знает, и ей было бы неловко говорить при вас; но я непременно хочу, чтобы вы могли дать Лорансу подробнейший и вернейший отчет об этом свидании. Пройдите в мой будуар, откуда вам все будет слышно. Слушайте нас и записывайте в случае необходимости, я этого требую. Я повиновался. Империа вошла одна. Белламар, не желая стеснять излияний обеих женщин, поднялся в приготовленную для него комнату. Мадам де Вальдер приняла Империа, протягивая ей обе руки и целуя ее. — Господин Белламар, — сказала она ей, — должно быть, предупредил вас? — Он сказал мне, — отвечала Империа своим ясным и уверенным голосом, — что одна прелестная дама, добрая и образованная, видела меня когда-то на сцене — уж не знаю, где — и соблаговолила почувствовать ко мне дружбу, и что эта дама, узнав, что я нахожусь поблизости, пожелала видеть меня, чтобы сделать мне какое-то важное сообщение. Я доверилась и приехала. — Да, — продолжала мадам де Вальдер, голос которой дрожал, — вы были правы. Я питаю к вам самое большое уважение… но вы устали, быть может, еще слишком рано… — Нет, сударыня, я никогда не устаю. — Вам холодно… — Я привыкла ко всему. — Выпейте чашку шоколада, который я велела приготовить для вас. — Я вижу также и чай. Я предпочла бы чашку чаю. — Я сейчас подам вам, предоставьте это мне. Бедное дитя, какую суровую жизнь вы ведете; вы, такая слабенькая! — Я никогда на это не жаловалась. — А между тем, вы воспитывались в довольстве, даже в роскоши… Я знаю, кто вы по рождению. — Не будем говорить об этом; я сама никогда об этом не говорю. — Я знаю; но я имею право задать вам один вопрос. Если бы вы снова разбогатели, разве вы не оставили бы с радостью сцену? — Нет, никогда. — Значит, это страсть? — Да, страсть. — Исключающая всякую другую? Империа молчала. — Простите меня, — снова заговорила мадам де Вальдер еще более взволнованным голосом. — Это нескромность с моей стороны, но я осуждена на нее. Мой долг расспросить вас, добиться вашего безусловного доверия. Если вы откажете мне в нем… но разве вы еще не видите, что вы были бы неправы, что я женщина искренняя?.. Послушайте! Не думайте, что я хочу отговорить вас; тут речь идет совсем о другом! Я преданный друг одного человека, который вас сильно любил и который, сделавшись богатым, свободный от всяких уз, мог бы еще любить вас… — Это вы о Лорансе говорите; я узнала вчера из разговора в нашем вагоне каких-то людей, что бывший актер получил в наследство большое состояние. — А! И что же? — Как, что же? Я очень порадовалась за него. — А за себя? — За меня? Вам это-то и хочется знать? О, нет, я о себе и не подумала. — Значит, вы его никогда не любили? — вскричала мадам де Вальдер, не в силах сдерживать свою радость. — Я его нежно любила, и память о нем будет всегда дорога мне, — отвечала Империа с твердостью, — но я не захотела стать его любовницей, раз я не могла быть его женой. — Почему? Разве в вас сохранились родовые предрассудки? — У меня их никогда не было. — Были ли вы действительно связаны с другим? — В своих собственных глазах, да. — Еще и теперь? — По-прежнему. Графиня не могла более сдерживаться и сжала мадемуазель де Валькло в своих объятиях. — Я вижу, сударыня, — сказала ей та, — что вы принимаете во мне участие, главный предмет которого, в сущности, не я сама. Позвольте же мне успокоить вас совершенно и сказать вам, что другая любовь навсегда разлучает меня с Лорансом. — Если так, то спасите его, спасите меня совсем; повидайтесь с ним и скажите это ему самому… — К чему? Я сказала ему это совершенно определенно, когда мы виделись с ним в последний раз в Клермоне. — Но вы тогда заплакали, и он подумал, что вы его любите. — Он вам это сказал? — Мне сказал это господин Белламар. — Ах! Да, Белламар тоже думает, что я его любила! — И что вы любите его и до сих пор. — Он скоро разуверится в этом. Но скажите, пожалуйста, если бы мой ответ оказался противоположным тому, который вы сейчас слышали, что бы вы сделали? — Милое дитя мое, я приняла заранее твердое решение и исполнила бы его. Я уехала бы без слова упрека, без досады на вас. — Вы незнакомка из Блуа! — Вам сказал это Белламар? — Нет, я сама догадалась. — Это действительно я. Но как вы меня узнали? — По вашему великодушию! Это уже не в первый раз, что вы готовы так поступить. Не писали ли вы этого Белламару? Не поручали ли вы ему поговорить со мной о вас? — Да. А он сделал это? — Сделал, да, но не называя мне вашего имени, которое я узнала только сегодня. В вагоне, где я узнала о блестящем положении Лоранса, кто-то сказал: «Он женится на своей соседке, мадам де Вальдер». Будьте же счастливы без зазрения совести и страха, дорогая графиня. Я узнала об этом с большим удовольствием. Я люблю Лоранса как брата! — Поклянитесь мне, милое дитя, что вы тогда оплакивали его как брата. — Я вижу, что слезы эти очень вас тревожат. Я должна ответить вам доверием на доверие. Я расскажу вам все в нескольких словах, так как вы знаете уже всю мою жизнь, за исключением интимной истории моих чувств. — Скажите мне все, все! — вскричала мадам де Вальдер. Империа сосредоточилась на секунду и рассказала затем следующее: — Вы знаете, как и почему я поступила на сцену. Лоранс, конечно, рассказал вам это. Я хотела поддержать отца, и, несмотря на все превратности моей жизни, мне удалось доставлять ему до самой его смерти всевозможные удобства, какие только были доступны ему в его состоянии тихого умопомешательства. Я навещала его каждый год, и он меня не узнавал. Но я удостоверялась лично, что он не терпит недостатка ни в чем, и возвращалась к себе успокоенной. Если я могла исполнить этот долг, то я обязана этим господину Белламару, и о нем-то я и буду говорить с вами. Когда я явилась к нему украдкой в первый раз, чтобы попросить его сделать из меня артистку, он не был мне незнаком. Он приезжал к нам в Валькло ставить детскую комедию, которую мы собирались играть в день рождения моего бедного отца. Мне было двенадцать лет, Белламар был еще молод. Его комическое безобразие сперва очень меня развеселило; но потом его ум, его доброта, его милая нежность в обращении с детьми заполонили мое детское сердце и овладели им навсегда. — Как! — вскричала мадам де Вальдер. — Вы любите Белламара? Возможно ли? — Да, именно его, — отвечала с твердостью мадемуазель де Валькло, — его, беднягу, который был всегда некрасив, который скоро будет стариком и останется всю свою жизнь бедняком… Взгляните на меня: я скоро буду такая же, как он, время сгладило всякую разницу! Когда мне было двенадцать лет, ему было тридцать, и глаза мои не подводили счетов. Когда он прорепетировал со мной роль, заставил меня научиться нужным жестам и отечески поощрил меня, говоря, что я родилась артисткой, меня обуяла большая гордость, и воспоминание об этом человеке, открывшем мне мою судьбу, запечатлелось в моем мозгу, как прикосновение таинственного духа, явившегося из какой-то неведомой области для того, чтобы объявить мне мое призвание. В день его отъезда из Валькло мальчики, игравшие в нашей пьесе, бросились ему на шею. Он был такой добрый, такой веселый, так хорошо умел управлять ими, забавляя их, что все его обожали. Он подошел ко мне и сказал: — Не бойтесь, барышня! Я не попрошу у вас позволения поцеловать вас. Я такой урод, а вы такая хорошенькая; но рука моя не так безобразна, как мое лицо, не положите ли вы в нее вашу маленькую ручку? Я была тронута, его рука была прекрасна. Я забыла, какое у него лицо, обвила его шею руками и поцеловала его в обе щеки. От него хорошо пахло, он всегда холил свою персону. Лицо у него было мягкое и гладкое. С этой минуты он никогда уже не казался мне некрасивым. Когда он уехал, о нем много говорили у нас. Мой отец, человек выдающийся и очень начитанный, высоко ценил ум и чувства Белламара. Он обращался с ним, как с человеком серьезным и считал его настоящим артистом. Белламар имел большой успех в нашей провинции, где он давал в то время спектакли. Мои родители часто присутствовали на них. Раз я упросила, чтобы они взяли меня с собой. Он играл «Фигаро». Он был в хорошем костюме, хорошо загримирован, он был полон живости, изящества и грации: я нашла его прелестным. Даже его недостатки, его дурной голос — и те понравились мне. Я никак не могла отделить его физические недостатки от его достоинств. Ему горячо аплодировали. Я пришла в восторг от его успеха, мне позволили бросить ему букет с надписью: «Маленькая Нанси своему учителю». Он поднес букет к губам, глядя на меня с растроганным видом. Я была в упоении гордости. Мои маленькие кузены разделяли мое упоение; они были знакомы с известным актером, с артистом, пользующимся успехом, которому так хлопают! Они играли с ним, они говорили ему «ты», а он преважно называл их «Мои дорогие товарищи». Пришлось их пустить в антракте за кулисы: они непременно хотели поцеловать его. Он передал им для меня фотографическую карточку, изображавшую его в красивом костюме Фигаро, и сказал им: — Дайте вашей кузине совет взглядывать на эту морду, когда у нее будет какое-нибудь маленькое горе, и ей опять захочется смеяться. Он далеко не был карикатурен в этой роли, а фотография оказалась еще случайно приукрашенной. Я приняла ее с гордостью и набожно хранила ее; он не только не казался мне теперь уродом, а наоборот, представлялся красивым. Любовь в молодых девушках зарождается раньше, чем вообще думают. Я была еще ребенком и не ведала чувственности; но воображение мое было заполнено известным типом, и сердце мое было во власти известного предпочтения. Я этого не скрывала, потому что была чересчур еще невинна. Об этом нимало не тревожились, этому не придавали никакого значения, а так как о Белламаре говорили не иначе, как прославляя егочестность, его талант, его литературное образование, умение жить и прелесть общения с ним, то ничто не портило моего идеала. Когда я подросла и поумнела, я перестала говорить о нем, но стала мечтать о том, чтобы стать актрисой, и не хвасталась этим. Каждый год в день рождения отца у нас шла новая пьеса. Белламара тут больше не было, но я старалась играть все лучше и лучше. Меня находили замечательной, я этому верила и радовалась. Я любила всерьез только драматическую литературу, я учила и знала наизусть весь классический репертуар. Я даже писала маленькие, преглупые пьесы и сочиняла длинные стихи, конечно, очень неловкие, но которые мой добрый отец находил чудесными. Он поощрял мое увлечение и ни о чем не догадывался. Вы знаете, при каких грустных обстоятельствах я явилась к Белламару, чтобы поведать ему о своих несчастиях и своих планах. Во время этого тайного свидания я видела его глубоко взволнованным. При первом взгляде он показался мне постаревшим, но потом его растроганный и блестящий взор вдруг заставил его помолодеть в моих глазах. Только тогда я отдала себе отчет во внушаемом им мне чувстве и затрепетала при мысли, что он может угадать правду. Он полюбил бы меня, полюбил бы страстно — я теперь это точно знаю, насмотревшись на то, как он любил других женщин; но любовь его была лишь молния и проходила сейчас же, как только бывала удовлетворена. Белламар настоящий артист прошедших времен со всеми их пылкими качествами, всеми наивными недостатками, всеми увлечениями и усталостью, свойственными этой беззаботной и вечно возбужденной жизни. Он любил бы меня и изменял бы мне, помогал бы мне, но и забыл бы меня, как и других. Даже если бы я удержала его при себе, он не женился бы на мне; он был женат. Я не разгадала всего этого сразу; но я испугалась самой себя и, спохватившись, выказала ему такую твердость в своих принципах чести, что у него внезапно изменились и лицо, и тон. Он дал мне клятву быть мне отцом и сдержал свое слово. Я же всегда его любила, хотя он причинил мне немало страданий, ведя у меня на глазах вольную жизнь человека, любящего наслаждения, никогда не говоря о своих приключениях — он очень сдержан и стыдлив, — но не всегда умея скрывать свои волнения. Случались довольно долгие промежутки, когда мне казалось, что я его больше не люблю, и я хвалила себя за то, что никогда не доверяла никому своей тайны. Моя гордость, чересчур часто оскорбляемая, и есть причина моей неодолимой скрытности. Признайся я во всем Лорансу или кому-нибудь другому, я знаю, что над моим безумием только громко посмеялись бы. Я не могла решиться быть смешной. Я избегала этого благодаря моему молчанию и моей упорной любви. Белламар, не подозревая, какого рода привязанность я питала к нему, никогда ни в чем передо мной не провинился. В выработанном мною равновесии произошло только одно потрясение: любовь Лоранса смутила и причинила мне страдания. Я обещала сказать вам все и ничего от вас не скрою. Когда я обратила на него впервые внимание, он не понравился мне. Когда с детства создашь себе излюбленный тип из улыбающегося и ласкового лица, то прекрасные черты с грустным взором и это немного угрожающее выражение, которое придает лицу сдерживаемая любовь, внушают больше страха, чем симпатии. Я совершенно искренно сказала по поводу Лоранса, что не люблю красавцев. Я была тронута его преданностью, я ценила по достоинству его благородный характер. Но когда вы виделись с ним в Блуа, я не чувствовала к нему ничего больше, как и к Леону, хотя его общество и было приятнее и нравилось мне больше. Когда он нас оставил, я мало замечала его отсутствие. Когда я нашла его серьезно больным в Париже, я стала ходить за ним, как ходила бы за Леоном или за Моранбуа. Бедные люди взаимно помогают друг другу, не заботясь о тех мнимых приличиях, которые богатые люди умеют соблюдать между собою вплоть до смертного часа. Мы не имеем средств заменять себя другими: мы подаем друг другу помощь самолично — быть может, мы и любим друг друга больше. Впрочем, вы должны были слышать от Лоранса, какого рода экспансивную, фамильярную, доверчивую дружбу порождает между товарищами-актерами их общая жизнь. Они много ссорятся, но каждое примирение делает прочнее их братские узы; оскорбляют они друг друга ни за что, а потом чрезмерно извиняются. Наше товарищество испытало большие невзгоды. Вы слышали о нашем кораблекрушении, о трагической смерти Марко, о наших приключениях с разбойниками, о наших триумфах, превратностях, опасностях, страданиях — обо всех предлогах к экзальтации, которые сделали из этой дружбы нескольких людей нечто вроде коллективного опьянения. Вот в эту-то пору, по возвращении из этой потрясающей кампании, меня и стала смущать любовь Лоранса. Я видела ясно, что он не поборол ее и все еще мучится ею. Когда он вернулся и откровенно мне в ней признался, я в его отсутствие успела настрадаться в свою очередь. Вот что случилось. Белламар сильно огорчил меня, сам того не зная. Он узнал о смерти своей жены и принялся говорить о вторичной женитьбе с целью иметь друга, спутницу, вечного товарища, и пренаивно спросил у меня совета, говоря, что думает об Анне. Конечно, она слишком для него молода, говорил он, но у нее было уже несколько приключений и двое детей. Она, вероятно, жаждет спокойной жизни, ибо она благоразумна по природе. С хорошим мужем она будет жить смирно, с легким сердцем и без сожалений. Я не выказала никакой досады. Я поговорила с Анной, которая расхохоталась во все горло. Она обожала Белламара, но только дочерней любовью. Нашему возлюбленному директору, объявила она, полагается женщина лет и сложения Регины. Я опустила голову. Но когда я стала передавать этот ответ Белламару, он едва сообразил, о чем идет речь. Он забыл уже о своей фантазии. Он смеялся над браком, объявлял себя неспособным иметь верную жену, потому что ему пришлось бы подавать ей пример верности. Он сказал мне, что заговорил со мной накануне об Анне потому, что был совершенно опьянен ролью мужа, только что сыгранной им в «Габриэли» Эмиля Ожье. Он размечтался о семье, он обожал детей, а у него их никогда не было. Вот почему он и подумывал о браке, по крайней мере, раз в десять лет. Я сочла себя сумасбродкой и чувствовала себя сильно униженной. Я поклялась, что он никогда не узнает о моей любви. А тут приехал Лоранс, и страсть его меня ошеломила. Я почувствовала, что я женщина, что я навсегда одинока в жизни, что, быть может, счастье само идет мне навстречу, что отказ мой несправедлив и жесток, что я разбиваю самое великодушное, самое верное и самое чистое сердце. Я чуть было не сказала: «Да, уедем вместе!» Но это длилось не более минуты, ибо, пока Лоранс говорил, я видела, как Белламар бродит вдали понуро, и я сказала себе, что, отдаваясь другой любви, мне придется отречься, похоронить навсегда ту любовь, которая наполняла мою жизнь мужеством, честью и трудом. Мне пришлось бы расстаться навсегда с тем человеком, которого я любила с детства, который любил меня так свято, несмотря на легкость своих нравов, который чтил меня точно божество и который не любил меня потому, что любил меня чрезмерно. Это огромное уважение, которое он питал ко мне, он ни к кому более не будет питать. В каком женском сердце встретит он вновь то безграничное самопожертвование, которое он нашел во мне? Когда другой предлагали полюбить Белламара, ее это рассмешило! Одна я была настолько упряма, что непременно хотела быть подругой его тяжелых дней, поддержкой его старости, реабилитацией его безобразия. Одна лишь я, никогда не внушавшая ему желаний, знала целомудренную, религиозную и истинно великую сторону этой подвижной души, пламенно влюбленной в идеал. Я видела, как лысеет его лоб, как уходят глубже его глаза, как смех его становится менее искренен, как на него нападают минуты душевной усталости, что уменьшает чистоту его исполнения и придает нервность, подчас своенравность его припадкам чувствительности. Белламар обнаруживал первые признаки уныния, ибо он убеждал меня выйти замуж за Лоранса, а я чувствовала в нем какое-то отчаяние вроде отчаяния отца, бросающего свою единственную дочь в объятия мужа, который увезет ее навсегда. Передо мной предстало будущее: труппа разъединена, товарищество распалось, Белламар один, ищет новых товарищей и попадает в руки эксплуататоров и мошенников. Я хорошо знала, что мое влияние на него и на других, поддержка, всегда мною оказываемая суровой экономности Моранбуа, кротость, с которой я успокаивала тайную и постоянно возраставшую горькую скорбь Леона, мои выговоры Анне с целью помешать ей убежать с первым встречным — одни лишь давно сдерживали эту вечно качающуюся в воздухе цепь, звенья которой я постоянно терпеливо сцепляла вновь. И я покину этого честного человека, этого благородного артиста, этого нежного отца, этого своего старинного друга потому, что он не так молод и не так красив, как Лоранс! Мысль эта внушила мне омерзение, и я глупо расплакалась, не умея скрыть своих слез от того, о ком жалел мой эгоизм и кого убивала моя твердость. Но, плача перед ним, рыдая на груди ничего не понимавшего в этом Белламара, я возобновила перед Богом свою клятву никогда не покидать его и утешилась отъездом Лоранса, потому что я была довольна собой. И вдруг теперь, когда после моей жертвы прошло еще три года, три года, наверное, исцелившие Лоранса и в течение которых я была более чем когда-либо нужна и полезна Белламару, ибо я видела, наконец, его зреющим, думающим о завтрашнем дне из любви ко мне, лишающим себя пустых удовольствий для того, чтобы ухаживать за мной, когда я хворала, отказывающимся от покорявших его до тех пор упоений из опасения истратить свои личные средства, которые он хотел посвятить мне, — словом, поступающим как человек предусмотрительный и сдержанный, что есть самым невозможным для него, с единственным намерением поддерживать меня в случае нужды, — теперь я стала бы жалеть о том, что не разделяю богатства другого человека? Чтобы я призналась Лорансу, что могла бы любить его, чтобы я вернулась к нему из-за того, что он получил наследство? И вы стали бы уважать меня? И он мог бы еще уважать меня? И мне не было бы совестно самой себя? Нет, графиня, не бойтесь ничего; я слишком хорошо помню, каким честным человеком был мой отец, чтобы не соблюсти своего достоинства. Я слишком любила Белламара, чтобы потерять привычку предпочитать его всему свету. Вы можете передать Лорансу все мною сейчас высказанное, вы можете даже прибавить, что теперь я уверена в Белламаре и в самом ближайшем будущем намереваюсь предложить ему свою руку; и если правда, если возможно, чтобы Лоранс вспоминал еще о прошлом с некоторым волнением, будьте уверены, что он слишком любит Белламара для того, чтобы ревновать из-за своего бывшего лучшего друга. А теперь поцелуйте меня свободно и безбоязненно и считайте, что вы имеете во мне самое преданное вам сердце и самое бескорыстное отношение к вашему счастью. — Ах! Дорогая Империа, — вскричала графиня, сжимая ее в своих объятиях, — какая вы женщина! Когда на меня находили припадки гордости, я часто воображала сама себя великой героиней романа! Как далеко мне было всегда до вас, мне, считавшей заслугой уметь ждать вдали и в безопасности, тогда как вы отдавали себя мученичеству ожидания, постоянно имея перед глазами такие разочаровывающие картины! Когда я ждала, я знала, что Лоранс, удалившийся в деревню и пожертвовавший всем сыновнему долгу, очищал себя и, сам того не зная, становился достойным меня… А вы, прикованная к тому, кого вы любите, вы смотрели на его ошибки, разделяли его невзгоды и не падали духом! — Не станем говорить обо мне, — сказала Империа, — а подумаем о том, что вы должны сделать для того, чтобы мы были все счастливы. — Я должна поговорить с Белламаром, — отвечала с живостью мадам де Вальдер. Это было не нужно: Белламар давно присоединился ко мне в будуаре. Он все слышал и задыхался от удивления; а потом, вдруг охваченный сильнейшим волнением, он бросился в гостиную и вскричал, обращаясь к мадам де Вальдер и к Империа: — О, честные женщины! Как вы жестоки, сами того не зная! От скольких ошибок предохранили бы вы нас, если бы принимали нас за то, что мы есть в любви — за детей, готовых воспринять даваемый им толчок!.. Империа! Империа! Если бы я раньше подозревал… Вот что значит запрещать себе всякое фатовство! Вот что значит не быть ни самонадеянным, ни эгоистом, ни расчетливым человеком! Как ты меня наказала за это, ты, которая десять лет тому назад могла одним словом сделать меня достойным тебя! А теперь я стар, недостоин, пожалуй, того счастья, которое ты хочешь дать мне!.. Нет, не верь все-таки этому! Я не хочу, чтобы ты этому верила. Я хочу, чтобы то, что есть, совершилось! Ах! Эта мечта, в которой я никогда не смел признаться, тысячу раз приходила мне в голову, а ты этого и не подозревала. Я любил тебя безумно, Империа, дурно любил, сознаюсь, раз я только и думал, как бы забыть эту любовь и бороться с нею всеми средствами. Я хотел выдать тебя замуж за Лоранса, я хотел забыться в упоительных скоропреходящих удовольствиях! И ты страдала от этого, когда ты могла так легко вырвать меня из них! Что же такое женская гордость? Нечто великое и прекрасное — да, я согласен, но это казнь, и мы знаем только ее жестокость, не видя ее пользы. Признайся, что ты чрезмерно сомневалась во мне, признайся в этом, если ты не хочешь, чтобы я презирал себя за то, что тоже чрезмерно усомнился в себе! А вы, графиня, — сказал он, обращаясь к той, — вы поступили так же, как она; вот, значит, каков роман великодушной женщины! Знайте же, что он вовсе не великодушен, раз он откладывает счастье в пользу, не знаю уж какого, идеала, которого вы ищете на зените жизни, когда он у вас тут, под рукой!.. — Ты бранишь нас, — сказала ему Империа, — подумать можно, что мы виновны, а вы… — Молчи, молчи! — вскричал Белламар, все более и более приходя в возбуждение. — Разве ты не видишь, что я в эту минуту схожу с ума от гордости, что я оправдываюсь, защищаюсь и, чего со мной никогда не бывало, — я люблю себя и восхищаюсь собой? Если ты любишь меня, значит, я представляю из себя что-то великое. Не мешай мне воображать себе это, потому что, вернись я к своему понятию о себе, я стану страшиться за твой ум. Позволь мне бредить и сходить с ума, а иначе я лопну! Он говорил еще некоторое время какую-то чепуху, как актер, не находящий свою роль достаточно восторженной в сравнении со своим внутренним волнением и безотчетно импровизирующий ее. Было ясно, что он любил Империа сильнее, чем она думала, и что страх быть смешным, властвующий над умом, изощрившимся в изображении смешных сторон человечества, сковывал его порывы при всяких обстоятельствах. В конце концов он расплакался, как ребенок, а когда я хотел заговорить о Лорансе и условиться на его счет с мадам де Вальдер, он сознался, что теряет голову и что ему необходимо думать только о самом себе. Он убежал в лес и нам было видно, как он там бегал и говорил сам с собой точно сумасшедший. Я удивлялся этой силе волнения, пламя которого, так часто разжигаемое в пользу других, горело еще в нем, как в молодом человеке. Пять дней спустя Лоранс вернулся в Бершевилль; он нашел там мадам де Вальдер, которая ждала его и готовила ему большой сюрприз. Он привез все бумаги, нужные для оглашения их бракосочетания. Она не позволила ему говорить о делах и планах; этот вечер должен был быть посвящен радости свидания и подведению итогов прошлого в сладкой тишине. Я явился, как она того от меня потребовала, к концу обеда. Я не только был посвящен в то, что готовилось, но и сам много над этим потрудился и не должен был терять Лоранса ни на минуту из вида, когда графиня выйдет. Она велела принести себе очаровательный туалет, вышла надеть его и, когда она скорехонько вернулась, чтобы взять под руку Лоранса и перейти в гостиную, она была ослепительна. Было вполне от чего потерять голову и позабыть интересную, но бледную Империа. В гостиной она сказала ему: — Я распорядилась здесь в ваше отсутствие по-хозяйски, точно я уже здесь у себя. Вы будете пить кофе в большой зале внизу, полную реставрацию которой я поторопила. Я непременно хотела, чтобы вы застали эту чудную работу оконченной, всю деревянную обшивку исправленной, паркет блистающим, старые люстры подвешенными и зажженными. Попробовала и топить, все прелестно! Ничто не дымит, взгляните сами, и если вы недовольны моим управлением, не говорите мне этого, чтобы не огорчить меня совсем. Мы перешли в большую залу, назначение которой Лорансом не было еще определено. Это была древняя зала совета, нимало не уступавшая зале капитула в Сен-Вандриль. Архитектура ее так хорошо сохранилась, и деревянные обшивки были такого прекрасного стиля, что он пожелал восстановить ее и исполнил это, не имея другой цели, кроме любви к реставрации. Он стал любоваться общим видом и не спросил, почему в глубине она завешена большим зеленым холстом. Он подумал, что там спрятаны леса, которых еще не успели снять. Тайна наших поспешных приготовлений не разоблачилась. Он действительно ничего не подозревал. Тогда маленький невидимый оркестр, выписанный нами из Руана, заиграл одну классическую увертюру; простой холст, драпировавший конец залы, упал, и перед нами оказался другой холст, расписанный красным и золотом в рамке импровизированной сцены. Лоранс вздрогнул. — Что это такое, — сказал он, — театр? Я его разлюбил и не стану слушать пьесу! — Она коротенькая, — отвечала ему графиня. — Ваши рабочие, которых вы сумели заставить полюбить вас, придумали для вас этот дивертисмент: это будет очень наивно; будьте таким же, будьте благодарны им за внимание. — Ба! — сказал Лоранс. — Они будут претенциозны и смешны! Он взглянул на программу: спектакль состоял из отрывков «Женитьбы Фигаро», а именно ночных сцен пятого акта. — Ну! — сказал Лоранс. — Эти добрые люди сошли с ума; но я был в свое время таким плохим Альмавивой, что не имею права свистать никому. Занавес поднялся. На сцене был Фигаро. Это был Белламар в красивом костюме, разгуливавший в темноте декорации с неподражаемой грацией и естественностью. Не знаю, узнал ли его Лоранс сразу же. Я же не сразу, поскольку не был привычен к этим внезапным превращениям. Я думал, что вся тайна их состоит в костюме и гриме. Я не знал, что талантливый актер молодеет действительно в силу какого-то тайного процесса, своего внутреннего чувства. Белламар был удивительно сложен и по-прежнему гибок. У него были стройные ноги, тонкая талия, прямые плечи, хорошо посаженная голова. Его маленькие черные глаза были настоящими бриллиантами. Его зубы, безукоризненно белые, прекрасные, так и блестели в полутьме искусственной ночи на сцене. Ему казалось не более тридцати лет, я нашел его прекрасным. Я боялся звука его нехорошего голоса. Он произнес первые слова своей сцены: «О женщина! Женщина! Женщина! Обманчивое создание!» — и этот комический голос, проникнутый какой-то внутренней, прочувствованной грустью, не шокировал меня нисколько. Он продолжал. Он говорил так хорошо! Этот монолог так прелестен, а он его так тонко понял и передал! Я не знаю, был ли я под влиянием всего слышанного мною о действительном лице, но только актер показался мне удивительным. Я забыл о его возрасте, я понял упрямую любовь Империа и с восторгом зааплодировал. Лоранс был неподвижен и нем. Глаза его остановились, он казался превратившимся в статую. Он сдерживал дыхание, не стараясь понять то, что видел. На лбу его выступил пот, когда на сцену вышла Сюзанна и начала диалог с Фигаро. Это была Империа! Мадам де Вальдер была бледна как смерть. Лоранс, угадывая ее тревогу, обернулся к ней, взял ее руку, прижал к своим губам и не отпускал ее все время, пока продолжалась сцена. Это был быстрый, любовный, горячий дуэт. Друзья сыграли сцену с жаром. Империа показалась мне помолодевшей не менее Белламара; она была оживлена, можно было подумать, что в бедной, утомленной актрисе била ключом жизненная сила. Затем явился Ламбеск, представивший скорее с энергией, чем с изяществом, гнев Альмавивы. Показался и Керубино в лице Анны, преждевременная полнота которой точно исчезла — так раскованна и мила она была в своем костюме пажа. Явился также и Моранбуа в широкой шляпе Базилио, под которой худоба его бледного, поблекшего лица выступала еще сильнее. Они сказали лишь несколько слов. Леон набросал нечто вроде общей, быстрой развязки, так рассчитанной, чтобы не обращало на себя внимание отсутствие некоторых героев. Они только хотели показать Лорансу, что они все живы, и вызвать для него на минуту давнишние розы среди зимнего снега. Лео от имени всех высказал ему это братское и нежное чувство в нескольких красиво написанных и хорошо сказанных стихах. Тогда Лоранс бросился к ним с распростертыми объятиями, а они уже легко соскакивали с эстрады и бежали ему навстречу. Мадам де Вальдер свободно вздохнула, видя, что ее жених целует Империа, как и других, с такой же радостью и без смущения. Лоранс, видя, что славная девушка тоже сердечно целуется с мадам де Вальдер, понял происшедшее между ними. — Мы узнали о твоем счастье, — сказала ему Империа, — нам захотелось поделиться с тобой и нашим счастьем. Белламар и я — давно жених и невеста, мы решили в Америке обвенчаться, как только вернемся во Францию. Таким образом, это, так сказать, свадебный визит. Лоранс вскрикнул от удивления. — А между тем, — сказал он, — я об этом думал двадцать раз! — И все не мог этому поверить? — сказал ему Белламар. — Я же, никогда в то время об этом не думавший, все еще не могу этому поверить. Это так неправдоподобно! Разве ты завидуешь моей удаче? — добавил он шепотом. — Нет, — отвечал Лоранс так же, — ты ее заслужил, именно потому, что не добивался ее. Если бы я был еще влюблен в нее, твое счастье залечило бы мою рану; но незнакомка восторжествовала, открывшись мне; я принадлежу ей, всецело ей и навсегда! Актеры ушли раздеваться, Лоранс сидел у ног графини в гостиной, куда я чуть было не вошел по рассеянности и отошел, прежде чем они меня заметили, и благословлял ее деликатное доверие и клялся ей, что она никогда в нем не раскается. Я отправился побродить из любопытства вокруг актеров. Я встретил Империа, переодетую и очень хорошо одетую в городской туалет, казавшийся еще свежим, хотя она и играла в нем много раз, как она мне сообщила, «Даму с камелиями» в Нью-Йорке. В другой комнате я заметил Моранбуа и подумал, что могу войти туда, но отступил с удивлением при виде Керубино, кормящего грудью своего младенца. Ребенок отрывался по временам, смеясь и проводя своими толстыми розовыми пальчиками по куртке пажа с золотыми пуговками. — Войдите, войдите, — крикнула мне переодетая актриса, — посмотрите, какой он красавец! Она сняла с него рубашечку и, подняв его на руках, прикрыла своим нагим ребенком голую грудь, очищенную этим страстным объятием. — Не спрашивайте меня, кто его отец, — добавила она, — мой крошка этого не узнает, и это будет для него счастьем. Я одна буду у него! Человек, которому я обязана этим ребенком, и который о нем и не думает, в моих глазах ангел, раз он предоставляет его одной мне! — А вы не боитесь, — сказал я ей, любуясь ребенком, действительно великолепным, — что эта беспокойная жизнь будет ему вредна? — Нет, нет, — продолжала она. — Я потеряла уже двух детей, потому что мне посоветовали отдать их кормилицам в деревню под предлогом, что там уход будет лучше. Я дала клятву, что если мне выпадет счастье снова иметь ребенка, то я с ним не расстанусь. Разве может быть нехорошо ребенку на руках матери? Этот родился под газовым рожком, за кулисами, когда я только что ушла со сцены. Когда я играю, он всегда в кулисе и не кричит: он уже знает, что там не надо кричать. Он всегда рад, когда я в костюме: он любит мишуру. А когда я в красном, он вне себя от восторга, он обожает перья! — И он будет актером? — спросил я. — Конечно, чтобы не расставаться со мной… Впрочем, если это самое тяжелое ремесло, то все-таки оно дает вам время от времени всего более счастья. — Ну, — сказал Моранбуа, — переодевайся и давай мне моего крестника! Он взял ребенка, обозвал его постреленком и принялся разгуливать с ним по коридорам, напевая ему своим могильным и фальшивым голосом какую-то неразборчивую арию, которая, однако, пришлась по вкусу малышу, вздумавшему тоже петь ее по-своему. Тонкий и прелестный ужин объединил нас всех с полночи до шести часов утра. Венецианский хрусталь горел и переливался яркими цветами при свете свечей. Цветы из оранжереи замка, расставленные на полках круглого возвышения, окружали нас весенним благоуханием, тогда как снег продолжал покрывать парк, освещенный полной луной. Мы шумели вдесятером больше, чем целая шайка студентов. Все говорили разом, чокались, вспоминая всякую всячину, а затем принимались слушать Белламара, рассказывавшего с неподражаемой прелестью, нимало не преувеличенною мне Лорансом, о своей поездке по Америке. Он рассказывал об одной музыкальной репетиции на пароходе, проезжавшем по порогам св. Лаврентия, которую они обязались клятвенно не прерывать; о ночи кутежа в Квебеке, где они ужинали при свете северного сияния; о другой бедственной ночи, когда они заплутались в девственном лесу; об утомительных переходах и голодовке в пустыне за большими озерами; о злополучной встрече с дикарями; о встрече со стадом бизонов; о больших овациях в Калифорнии, где машинистами у них были китайцы. Приковав нас к себе своими рассказами, он затем стал приглашать нас смеяться и петь; потом мы утихли, прислушиваясь к глубокой зимней тишине на дворе, и эти минуты сосредоточенности давали душе Лоранса нравственный, умственный и физический отдых, торжественную сладость которого он, наконец, понимал и вкушал. Мадам де Вальдер была очаровательна. Она веселилась, как дитя; она говорила «ты» Империа, которая отвечала ей тем же, чтобы не огорчать ее. Минутами она даже говорила «ты» и Белламару, сама того не замечая. Белламар был уже для нее старым другом, испытанным поверенным. Между нею и Империа, этими двумя безупречными женщинами, для которых он был отцом, он чувствовал себя — говорил он — очищенным от прежних грехов. Прислуживал Пурпурин, которого переодели негром. В конце ужина Лоранс обратился к Моранбуа, называя его старым прозвищем, что силач позволял только своим лучшим друзьям. — Коканбуа, — сказал он ему, — где твоя касса? Я по-прежнему компаньон и желаю видеть, в каком положении касса. — Это немудрено, — отвечал режиссер, не смущаясь. — Мы приехали сюда как раз рассчитаться с тобой. И он вытащил из кармана толстый потертый бумажник, из которого вынул пять банковских бумажек. — Старая, брат, штука! — продолжал Лоранс. — Давай-ка сюда твою посудину. Он осмотрел бумажник. За вычетом возвращаемой ему суммы там оставалось триста франков. — Вечные моты! — сказал Лоранс со смехом. — Еще хорошо, что сегодня вы, наконец, прилично играли! Ну-ка, жена, — сказал он, обращаясь к графине, — раз сегодня вечером всем говорят «ты», то сходи-ка за сбором наших артистов — твое дело определить его. Она поцеловала его в лоб при всех нас, взяла протягиваемый им ключ, исчезла и скоро вернулась. Набитый бумажник режиссера заключал теперь в себе на двести тысяч франков бумаг. — Не возражайте, — сказала она Белламару, — я тут в половине, и моя доля — приданое Империа. — Я отдаю мою сегодняшнюю часть сбора моему крестнику, — сказал Моранбуа невозмутимо. — А я свою Белламару, — сказал Леон. — Я тоже получил наследство от дяди, хотя и не миллионера, но все-таки мне есть теперь чем жить. — И ты нас покидаешь? — сказал Белламар, роняя с испугом бумажник. — О богатство! Если ты нас разъединишь, то ты годишься только на то, чтобы зажечь тобой пунш! — Я — покинуть вас! — вскричал Леон, тоже бледный, но с вдохновенным лицом автора, нашедшего, наконец, нужную развязку. — Никогда! Мое время ушло, теперь поздно! Вдохновение есть нечто безумное, требующее невозможной среды; если я сделаюсь настоящим поэтом, то только при условии не сделаться рассудительным человеком. Да к тому же..,— добавил он с некоторым смущением, — Анна, мне кажется, что твой ребенок кричит! Она встала и прошла в смежную комнату, где ребенок спал в своей колыбели, не обращая внимания на наш гвалт. — Друзья мои, — сказал тогда Леон, — впечатление этой ночи упоения и дружбы так сильно поразило меня, что я хочу открыть перед вами свое сердце. В моей жизни есть одно угрызение совести, и зовется оно Анной. Я был первой любовью этой бедной девушки, и я не сумел любить ее! Она была ребенком без принципов и совсем еще безрассудная. Мое дело мужчины было вдохнуть в нее душу и ум. Я не сумел этого сделать, потому что не захотел. Я воображал себя чересчур важной персоной для того, чтобы потрудиться ради доброго дела, плоды которого я собрал бы. Я был в возрасте честолюбивых мечтаний, горьких досад и безумных иллюзий. «К чему, — говорил я самому себе, — посвящать себя счастью одной женщины, когда все остальные должны дать мне счастье?» Так рассуждает самонадеянная молодость. Теперь я дожил до зрелых лет и вижу, что в других общественных кругах женщины не стоят выше женщин нашего круга. Если они и обладают большей осторожностью и сдержанностью, то в них меньше преданности и искренности. Если бы я был терпелив и великодушен, Анна могла бы не сделать тех ошибок, которые она сделала. Теперь эта заблудшая женщина стала нежной матерью, такой нежной, такой мужественной и трогательной, что я все ей прощаю! Я не совсем уверен, я ли отец ее ребенка, но это все равно! Вернись я в свет, женитьба с подобным сомнением была бы смешна и скандальна. В той же жизни, которую ведем мы, это только доброе дело! Я вывожу из этого заключение, что для меня жизнь актера будет нравственнее, чем жизнь светского человека. А потому я и остаюсь на сцене и связываю себя с нею без возврата. Белламар, ты часто упрекал меня в том, что я воспользовался слабостью ребенка и пренебрег им именно из-за этой слабости. Я не хотел признавать справедливости этого упрека. Теперь я чувствую, что он был заслужен мною и что он был исходной точкой моей мизантропии. Я хочу отделаться от него и женюсь на Анне. Она думает, что я снова полюбил ее, но что я не принимаю этого всерьез и что мои вечные подозрения делают наш супружеский союз невозможным. Она не позволяет мне думать, что ее ребенок принадлежит мне. Она это отрицает, чтобы наказать меня за мое сомнение. Ну что ж, я не хочу ничего знать. Я люблю ребенка и хочу воспитать его. Я хочу восстановить честь матери. Клянусь вам в ее отсутствие, друзья мои, чтобы вы служили мне порукой подле нее: да, я клянусь жениться на Анне… — И ты хорошо сделаешь, — вскричал Белламар, — потому что я уверен, что она тебя всегда любила!.. Здравствуй! — сказал он, обращаясь к наступающему рассвету, который, странно смешиваясь с лунным светом, пробивался к нам среди цветов и свечей большой голубоватой полосой, — наступай, ласковый рассвет, прекраснейший день моей жизни! Все друзья мои счастливы, и я… я! Империа! Моя святая, моя возлюбленная, моя дочь! Наконец-то мы предадимся искусству. Послушай, Лоранс! Если я принимаю тот капитал, который ты мне ссужаешь… — Позволь, — сказал Лоранс, — надеюсь, что на этот раз не будет речи о возврате долга. Я знаю тебя, Белламар, вечное препятствие твоей жизни — это твоя совесть. Имей ты капитал меньше того, который я дал тебе, ты отлично бы выпутывался, если бы не был вечным должником друзей, которых ты не хотел разорять. Со мной тебе незачем опасаться этого. Мой дар меня нимало не стесняет, да если бы даже и стеснял, если бы даже мне пришлось убавить что-нибудь от своего чересчур большого достатка… Ты дал мне три года наполненной жизни, унесшей всю пену моей молодости и оставившей мне лишь любовь к идеалу, которому ты следуешь и который ты проповедуешь самым убедительным и убежденным образом… Ты сформировал мой вкус, ты возвысил мои мысли, ты научил меня самоотвержению и мужеству… Все, что у меня есть в душе молодого и великодушного, — всем я обязан тебе. Благодаря тебе я не превратился в скептика. Благодаря тебе я проповедую культ прекрасного, веру в добро, способность любить. Если я достоин еще быть выбранным очаровательной женщиной, так это потому, что среди жизни, безумной как сон, ты всегда говорил мне: «Дитя мое, когда ангелы пролетают в облаках поднимаемой нами пыли, — станем на колени, ибо ангелы существуют, что бы там ни говорили!» Таким образом, я навсегда твой должник, Белламар, и никогда мне не расплатиться с тобой годом или двумя моих доходов. Деньгами нельзя платить подобные долги! Я тебя понял: тебе хочется предаваться отныне искусству, а не ремеслу. Ну что ж, друг мой, набери хорошую труппу для пополнения твоей и ставь всегда хорошие пьесы. Я не думаю, чтобы ты нажился: такое множество людей любит низменное! Но я тебя знаю, ты будешь счастлив и при стесненных средствах, лишь бы ты мог служить хорошей литературе и применять хорошую методу, не жертвуя ничем необходимости обеспечивать сбор… — Вот-вот! — отвечал Белламар с сияющим лицом. — Ты понял меня, и мои дорогие компаньоны тоже меня понимают. О идеал моей жизни! Не быть более вынужденным делать сборы для того, чтобы быть сытым! Быть в состоянии сказать, наконец, публике: «Приходи-ка в школу, дружок. Если прекрасное нагоняет на тебя скуку, ложись спать. Я больше не раб твоих медяков. Мы больше не будем давать вздора в обмен на хлеб. У нас тоже есть свой хлеб, как и у тебя, милейший мой, и мы отлично умеем скорее есть его сухим, чем обмакивать в пар твоего цинизма. Мелкая публика, доставляющая большие барыши, знай, что театр Белламара не то, что ты думаешь! Там могут обходиться и без тебя, когда ты дуешься; там могут ждать и твоего возвращения, когда к тебе вернется вкус к правде. Это дуэль между нами и тобой. Ты устраиваешь забастовку? Хорошо! Мы еще лучше сыграем перед полсотней людей понимающих, чем перед тысячью ничего не смыслящих ветрогонов». Но… взгляните на этот красный луч на потолке, рядом с которым так бледны наши лица, утомленные прошлой жизнью; сейчас, когда он спустится на наше чело, мы просияем радостью надежды! Это восходящее солнце, это великолепие правды, это ослепительная рампа, поднимающаяся с горизонта для того, чтобы осветить сцену, где все человечество станет разыгрывать вечную драму своих страстей, своей борьбы, своих триумфов и невзгод. Мы, в качестве гистрионов, — ночные птицы! Мы исчезаем во мраке небытия тогда, когда земля пробуждается; вот, наконец, и нам улыбается прекрасное утро, как существам действительным, и говорит нам: «Нет, вы не привидения; нет, драма, разыгранная вами сегодня ночью, не есть обманчивая фикция; вы все нашли свой идеал, и он от вас больше не вырвется. Вы можете теперь идти спать, мои бедные труженики фантазии; теперь вы такие же люди, как и другие, у вас те же могучие привязанности, те же серьезные обязанности и простые радости. Вы купили их не чересчур дорогой ценой и не слишком поздно: взгляните прямо мне в лицо, я — жизнь, а вы имеете, наконец, право на жизнь!» Энтузиазм Белламара заразил нас всех, и не было никого, кто бы не думал, что счастье состоит в нашем ощущении этого счастья, а вовсе не в том, как будущее выполняет свои обещания. Я был так же увлечен, как и другие, хотя я во всей этой истории не имел другого назначения и другой заслуги, как посвятить себя в течение нескольких дней счастью других, помочь ему устроиться поскорее и вернее. Когда несколько дней спустя я очутился один среди прозаичного стечения обстоятельств моей бродяжьей жизни, этот ужин актеров в бывшем монастыре Бершевилля показался мне сном, но сном до того романтическим и странным, что я пообещал себе сдержать данное мною Лорансу обещание и повторить этот ужин в том же обществе, как только это позволят обстоятельства.
Жорж Санд Снеговик
Морису СандуМы просим читателя заглянуть вместе с нами в самую суть интриги этой повести, как это бывает в театре, когда поднимается занавес над мизансценой, смысл которой раскроют потом зрителю ее участники. Поэтому мы просим его тотчас же перенестись вместе с нами туда, где развиваются события, с той лишь разницей, что в театре занавес редко поднимают над пустыми подмостками, а здесь мы с читателем окажемся на несколько мгновений с глазу на глаз. Ну вот мы и очутились в довольно странном и не очень веселом месте: это, на первый взгляд, правильная прямоугольная комната, в которой, все же один угол, северо-восточный, бесспорно, глубже трех остальных, стоит лишь приглядеться к квадрату обшитого темным деревом потолка; выступающие на нем балки тянутся дальше. Эта неправильность, впрочем, еще подчеркивается деревянной лестницей, перила которой покоятся на балясинах довольно искусной резьбы, — тяжеловесное сооружение, относящееся, видимо, к концу XVI или к началу XVII века. Первые шесть ступеней прерываются маленькой площадкой, а затем лестница круто поворачивает, и последующие шесть ступеней ее упираются в стену. По-видимому, там была когда-то дверь, которую потом заложили. Внутри здание подвергалось кое-какой переделке. Следовало бы заодно убрать и лестницу, только загромождающую помещение. Почему же этого не сделали? Вот, дорогой читатель, вопрос, который мы с вами задаем друг другу. Несмотря на это явное свидетельство почтения или безразличия, комната, которую мы осматриваем, сохранила в неприкосновенности свой старинный комфорт. На большой круглой печке, где давно уже не разводили огня, стоят прекрасные часы в стиле буль[334]; их потускневшие стекла, ставшие радужными от сырости, отсвечивают в полумраке металлическим блеском. Затейливая медная люстра в голландском вкусе спускается с потолка. С годами она позеленела, и медь сделалась похожей на малахит. Одиннадцать восковых свечей, не тронутых временем, хотя и пожелтевших, торчат еще в широких металлических розетках, которые были хороши тем, что не давали пролиться ни капле воска, и плохи тем, что нижняя часть помещения погружалась во мрак, а весь свет устремлялся вверх, к потолку. Двенадцатая свеча этой люстры на три четверти сгорела. Обстоятельство это поражает нас, любезный читатель, потому что мы очень внимательно рассматриваем каждую мелочь. Но мы бы вполне могли этого и не заметить, ибо удивительные украшения частично скрывают люстру с ее свечами и ниспадают плотными складками по ее изгибам. Вы, может быть, подумали, что это кусок серой материи, наброшенной сюда когда-то, чтобы уберечь медь. Потрогайте его, если сумеете дотянуться; вы увидите, что это клочья покрытой пылью паутины, похожие на листы пергамента. Паутины, впрочем, достаточно всюду, по краям закопченных рам огромных фамильных портретов, занимающих три стены комнаты. По углам она нависает довольно правильными оборками, словно, приняв обличье паука, некая суровая и прилежная Парка[335] вздумала завесить своей пряжей все эти запущенные панели и скрыть от глаз каждый закоулок. Но вам не найти ни одного паука: все они давно уснули или же вымерзли от холода, и если вам надо будет провести ночь в этой мрачной комнате, чего я вам отнюдь не пожелаю, вам даже не удастся отвлечься от чувства одиночества, внимая мерному шороху этих неутомимых тружеников. Часы, которые своим тиканьем напоминают потрескивание работающего паука, и те безмолвствуют. Стрелка остановилась на четырех часах утра бог весть уже сколько лет назад! Я говорю: на четырех часах утра, ибо в стране, где мы очутились, бой старинных часов иногда указывал на разницу между днем и ночью; потому что в стране этой дни длятся порою только пять часов, а ночи — девятнадцать. И если, свалившись от усталости после дороги, вы забудетесь мертвым сном, то, когда вы проснетесь, вам нелегко будет сообразить, проспали вы около полусуток или целые сутки. Если бы часы были заведены, они бы вам все это сказали, но их никто не завел, и бог знает, можно ли их вообще завести. В какой же мы все-таки стране? Об этом мы узнаем сейчас же, не выходя из комнаты. Вверху по всей скошенной стене, в которую вделана лестница и больше половины которой снизу обшито, как и другие стены, дубом, мы видим большие рисунки, повешенные туда, вероятно, из-за своего формата. Растянутые в ширину, они заполняют остаток стены, не одетый деревом. Развесив их так высоко, их не столько выставили для обозрения, сколько убрали с глаз долой, и нам придется подняться на все двенадцать ступенек Этой ведущей в стену лестницы, дабы убедиться в том, что продолговатые полосы пергамента, раскрашенные в самые резкие тона, не что иное, как географические или навигационные карты и планы укрепленных городов. Лестница доводит нас как раз до уровня карты, которая изображает места, где мы находимся, и которую, должно быть, для того сюда и повесили, чтобы, в случае надобности, можно было справиться по ней или чтобы прикрыть заделанный проем там, где была дверь. Вон тот огромный зеленый змей, что извивается посредине, — это Балтийское море. Наверное, вы сразу узнали его по раздвоенному, как у дельфина, хвосту и по бесчисленным излучинам — фиордам, узким и извилистым заливам, глубоко врезающимся в прибрежные скалы. Не отклонитесь в сторону Финляндии, вон она там подкрашена желтой охрой; найдите на противоположном берегу среднюю часть Швеции — она темно-красного цвета; вы узнаете по озерам, рекам, горам далекарлийскую провинцию[336], страну еще довольно дикую во времена, в которые нас перенесет наш рассказ, а именно в прошлом веке, к концу царствования добродушного и суматошного Адольфа-Фридриха Гольштейн-Готторпского[337], в прошлом любекского протестантского епископа, женатого впоследствии на Ульрике Прусской, друге Вольтера, сестре Фридриха Великого; словом, насколько я могу судить, мы очутились в 1770 году. Несколько позже мы увидим, как выглядит эта страна. А пока, дорогой читатель, удовольствуйтесь тем, что узнали: вы находитесь в старой усадьбе, прилепившейся к скале на самой середине замерзшего озера; и это) естественно, наводит вас на мысль, что я вас туда переношу в самый разгар зимы. В последний раз окинем взглядом комнату, покуда она еще наша; ибо, хотя она и очень мрачна и холодна, у нас ее скоро будут оспаривать. Уставлена она мебелью довольно искусной работы, но громоздкой и неуклюжей. Единственное кресло, сравнительно новое, а именно эпохи Людовика XIV, обитое пожелтевшим шелком, все в пятнах, но довольно мягкое и покойное, кажется, заблудилось здесь в чопорномобществе сточенных червями стульев с высокими спинками, наверное простоявших у стены уже больше двадцати лет. Наконец, в углу напротив лестницы, старая кровать с четырьмя кручеными столбами; ее шелковый истертый полог усугубляет своей ветхостью мрачный и унылый вид комнаты. А теперь уйдем отсюда, читатель. Смотрите, дверь уже открывается, и вам придется положиться на меня, чтобы узнать, какие события произошли и произойдут на сцене, которую я вам только что показал.
I
Вот уже добрых четверть часа в наружные ворота Стольборгского готического замка стучали и названивали; но ветер так яростно свищет, а старый Стенсон совсем оглох! Его обычно выручал племянник, не такой тугой на ухо; да, на беду, племянник, русый верзила Ульфил, верил в нечистую силу и не торопился отпирать. Стенсон, старый управляющий барона Вальдемора, человек болезненный и хмурый, жил в одной из пристроек находившегося в его распоряжении заброшенного замка, который он охранял. Ему показалось, что в ворота стучат, но Ульфил справедливо заметил, что домовые и водяные, каких немало водится в озере, иначе не поступают. И Стенсон со вздохом снова углубился в чтение старинной Библии и вскоре отправился спать. Но вот у тех, кто стучал, терпение наконец лопнуло; они сломали замок, вошли во двор и сквозь узкую галерею первого этажа вместе со своим ослом вступили в описанную выше комнату, которая называлась медвежьей, ибо на лепном гербе, видневшемся снаружи над окном, был изображен увенчанный короной медведь. Дверь этой комнаты была обычно заперта. В этот день она оказалась открытой — удивительное обстоятельство, которое, однако, нисколько не озаботило наших пришельцев. Оба гостя имели довольно странный вид. Один, закутанный в овчину, напоминал несуразное чучело, какие ставят пугалами на огородах или в коноплянике, чтобы отгонять птиц; другой, повыше и постройнее, походил на добродушного итальянского разбойника. Осел был хорош: крепкий, навьюченный, точно вол, и настолько привыкший к путевым тяготам, что беспрекословно взошел на несколько ступенек и не выказал ни малейшего удивления, ощутив под ногами вместо соломы, как то бывает в конюшнях, еловые доски пола. Однако бедняга прихворнул, и это больше всего заботило того из двух путников, который был выше ростом. — Знаешь, Пуффо, — сказал он, ставя фонарь на большой стол, занимавший середину комнаты, — Жан простудился. Он просто надрывается от кашля. — Черт побери, а мне-то самому каково! — ответил Пуффо по-итальянски, то есть на том языке, на котором к нему обратился его спутник. — Может быть, вы, хозяин, думаете, что сам я бодр и весел, наездясь с вами по этой чертовой стране? — Я тоже продрог и устал, — сказал тот, кого Пуффо именовал хозяином, — но что толку жаловаться? Мы добрались сюда, и теперь все дело в том, чтобы не дать себя заморозить. Погляди хорошенько, точно ли это медвежья комната, про которую нам говорили. — А как мне в этом убедиться? — Да по географическим картам и по лестнице, которая никуда не ведет. Не так ли нам все описали на мызе? — Почем я знаю, — буркнул Пуффо, — не понимаю я их дурацкого наречия. С этими словами он взял фонарь, поднял его над головой и сердито проворчал: — Что, меня географии учили, что ли? Хозяин глянул вверх и произнес: — Это тут, конечно. Вон карты, а здесь, — добавил он, быстро вскочив на деревянную лестницу и приподняв висевшую перед ним карту Швеции, — замурованное место. Все в порядке, Пуффо, не надо отчаиваться. Комната закрывается наглухо, мы выспимся как короли. — Что-то я ничего тут не вижу… А! Вот и кровать! Только нет ни тюфяка, ни подушки, а нам говорили, что тут две хороших постели. — Неженка! Тебе бы всюду постели! Посмотри-ка, есть ли дрова в печи, да огонь разведи. — Никаких дров не видать, один уголь. — Еще лучше. Топи, дружище, топи! А я пока займусь бедным Жаном. И, схватив валявшийся перед печью лоскут ковра, хозяин принялся так усердно растирать осла, что через несколько минут почувствовал, что и сам отогрелся. — А меня ведь предупреждали, — обратился он к Пуффо, который растапливал печь, — что ослы не переносят температуру ниже пятидесяти двух градусов, но я не поверил. Я считал, что осел повыносливее лошади, что живет в Лапландии[338], а Жан у нас крепыш, да еще такой покладистый! Будем надеяться, что он последует нашему примеру и не помрет за эти несколько дней. Бедняга все еще перемогается и покорно несет на спине то, что и двум лошадям не под силу. — Все едино, — заметил Пуффо, стоя на коленях перед печкой, где огонь начинал уже потрескивать и разгораться, — надо было вам продать его в Стокгольме, там на него столько народу зарилось. — Продать Жана! Чтобы из него чучело для музея сделали? Ну уж нет! Целый год он мне прослужил верой и правдой, и я люблю его, это верный слуга. Как знать, Пуффо, смогу ли я то же самое сказать через год о тебе? — Благодарствую, господин Кристиано, но мне это все равно! Не больно-то я чувствителен, плевать мне на осла, по мне, было бы что выпить да закусить. — И то верно. Чувства еде не помеха, я и сам чертовски проголодался. Послушай, Пуффо, повторим прилежно урок; что нам сказали в новом замке? «Тут вам места не приготовили! Явись вы от имени короля, и то не нашлось бы даже самого малого уголка, куда вас приткнуть. Ступайте-ка на мызу». На мызе нам сказали то же самое, но там дали фонарь и указали дорогу, протоптанную в снегу прямиком через озеро, и посоветовали пойти в старый замок. Путь был не из приятных, не спорю, сквозь эту пургу, но идти пришлось недолго. Каких-нибудь десять минут! И все же, если ты хочешь поужинать, придется тебе пройти по озеру еще разок. — А если нас турнут с мызы, как вытурили из нового замка? Нам могут сказать, что и без нас ртов хватает и что у них и ломтя хлеба не найдется для таких, как мы. — Что верно, то верно, вид у нас неказистый. Вот я и побаиваюсь, что Стенсон, управляющий, — он где-то тут поблизости живет, старик, говорят, препротивный… Так вот, смотри, чтобы он не пальнул по нас из ружья. Но послушай, Пуффо, либо он спит как сурок, мы ведь и замок сломали и преспокойно сюда прошли, либо ветер так воет, что ничего не слышно. Ну ладно, мы потихоньку на кухню проберемся и, черт возьми, чего-нибудь уж раздобудем. — Благодарю покорно, — сказал Пуффо, — по мне, так уж лучше пройти еще раз по озеру да воротиться на мызу. Там хоть народ и занятой, да обходительный, а вот Стенсон, видать, старик сердитый и злой. — Делай как знаешь, Пуффо, ступай! И тащи сюда чего-нибудь, чем бы желудок прогреть. Нет, дослушай меня, о мой несравненный спутник! Выслушай раз и навсегда… — Чего еще? — переспросил Пуффо, собравшийся уже уходить и затягивавший шнурки, которыми завязывался кожух. — Подожди-ка, не уноси фонарь, — окликнул его Кристиано, — дай я сперва зажгу свечу в этой люстре. — А как до них достать? Тут что-то никаких лестниц не видать, в этой вашей проклятущей медвежьей комнате. — Стань сюда, я влезу тебе на плечи. Выдержишь? — Давайте! Не больно-то вы тяжелый! — Видишь ли, дружище, — рассуждал хозяин, стоя обеими ногами на широченных плечах Пуффо и держась рукой за один из изгибов люстры, а другой пытаясь вытащить свечу из подсвечника так, чтобы пыльная паутина не попала ему в глаза, — я не имею чести тебя знать. Три месяца мы с тобой блуждаем по белу свету, и, не считая твоего пристрастия к кабачкам, ты, видимо, парень неплохой, но, может быть, ты самый обыкновенный негодяй, и я прямо тебе скажу… — Так говорите же, — прервал его Пуффо, слегка пошатнувшись, — поторопитесь лучше, чем мне тут нравоучения читать. Не такой-то вы легонький, как я поначалу думал! — Все! — вскричал Кристиано, ловко соскакивая на пол, ибо ему показалось, что помощник не прочь скинуть его вниз. — Свечку я раздобыл и теперь хочу договорить то, что начал. Сейчас мы с тобой как цыгане, Пуффо, два бедных странника. Но я привык поступать разумно, а тебе иной раз нравится вести себя как последняя скотина. Так знай: в моих глазах самое нелепое, самое подлое, что может сделать человек, — это украсть. — Где это вы видели, чтобы я когда что украл? — мрачно спросил Пуффо. — Уж если бы случилось мне застать тебя с поличным, так я бы тебе шею накостылял, дружище. Вот и хорошо, что я могу раз и навсегда тебя предупредить, какой у меня нрав. Только что я тебе втолковывал: постарайся раздобыть чего-нибудь поужинать либо уговорами, либо хитростью. Это наше право. Нас заманили в эти райские снега, чтобы мы потешили своими талантами большое и знатное общество. Нам выслали проездные, а если их уже не осталось, то не наша в том вина. Нам обещают кругленькую сумму, и я с тобой щедро поделюсь, хотя ты всего-навсего подмастерье, а мастер-то я; мы должны почитать себя довольными при условии, что нам не дадут сдохнуть с голоду и холоду. И надо же так случиться, что мы являемся среди ночи и как раз в то время, когда знатное общество изволит ужинать, когда у почтенных лакеев слюнки текут, а запоздалым путникам и мечтать ни о какой еде не приходится. Попытаемся же и мы поужинать сегодня, чтобы завтра приняться за свои обязанности. Стянув какие-нибудь кушанья и бутылочку-другую вина, мы нисколько не согрешим и покажем, что мы не дураки; а вот начни мы запихивать в карманы серебряные приборы и прятать под седлом нашего осла салфетки и скатерти, мы, чего доброго, и сами угодим в ослы: ведь серебряными-то приборами сыт не будешь, а салфетки да скатерти под седлом порвутся. Понял, Пуффо? Раздобыть себе пропитание позволительно, только чур — не красть, а не то у меня сотню палок получишь. Вот как я смотрю на вещи. — Ладно, — согласился Пуффо, пожимая плечами, — я вас вдосталь наслушался! Ну и болтун же вы! И Пуффо удалился, забрав фонарь, крайне недовольный хозяином, который, однако, имел все основания заподозрить его честность, находя время от времени в своей поклаже бродячего актера различные предметы, внезапное появление которых Пуффо объяснял не очень-то убедительно. И все же он не напрасно обвинял Кристиано в болтливости. Во всяком случае, хозяин его любил поговорить, как все люди, наделенные духовной и физической силой. Слуга чувствовал превосходство ума и природных качеств Кристиано, которые не шли ни в какое сравнение с его, Пуффо, вульгарным обращением и грубыми привычками. Он был покрепче скроен, и когда высокий и худой Кристиано пригрозил ему — кряжистому и приземистому ливорнцу, он больше полагался на свое влияние и ловкость, нежели на силу, хотя и изрядную: в этом он ему уступал. Оставшись в одиночестве, Кристиано принялся ухаживать за своим ослом, к которому успел уже привязаться. Как только они вошли в медвежью комнату, он сразу же освободил его от поклажи. Он сложил в уголок все добро, состоявшее из двух порядочных сундуков, связки легких выструганных подпорок с разобранными перекладинами, из тюка свежерасписанных занавесов и кулис, плотно скатанных и завернутых в кожаный чехол. Все это составляло его актерское имущество, это было его ремесло, его кусок хлеба. Гардероб у него был не обременительный. Он состоял из узелка с бельем да грубого суконного балахона, который, как только хозяин сбрасывал его с плеч, служил попоной ослу. Все прочее было на Кристиано, а именно: сильно поношенный венецианский плащ или что-то в этом роде, грубые штаны да три пары шерстяных чулок, натянутых одна поверх другой. Чтобы удобнее было раскладывать вещи, Кристиано скинул плащ, шерстяную шапочку и широкополую шляпу. Это был высокий, стройный молодой человек с замечательно красивым лицом, обрамленным копною растрепанных черных волос. В комнате стало уже заметно теплее, да и юношу так хорошо грела кровь, что он не очень-то ощущал холод. Расхаживая в жилете взад и вперед, он готовился поудобнее устроиться на ночлег. Его не так заботило, будут ли обещанные постели, как найдется ли Жану попить и поесть. — Как я сглупил, — корил он себя, — что не подумал об этом, пока мы останавливались в новом замке или на мызе; но мыслимо ли о чем-то думать, когда ветер сыплет ледяными колючками в глаза! На мызе нас заверяли (теперь-то как подумаешь, сразу понятно, что говорилось это в насмешку), что будто в старом замке всего вволю найдется, лишь бы старику Стенсону заблагорассудилось нас пустить; но, как видно, ему неохота было это делать, раз уж нам пришлось вламываться самим. Ну, будь что будет, а надо узнать, как цербер сей лачуги взглянет на все это. В конце концов, приглашение у меня в кармане, и если меня отсюда погонят, уж я им покажу. После чего Кристиано отвел Жана с кладью в закуток под деревянной лестницей и, отыскивая со свечой в руке гвоздь или какой-нибудь болт, чтобы привязать осла, обнаружил, что дверь в стене в самой глубине подклети отворялась, уводя в удлиненный угол комнаты. Так как он не приметил ничего необычного в планировке, то не мог в точности определить, попал ли он в проход в толще стены или промеж двух стенок, сходящихся вверху. Он толкнул потайную дверь — она действительно была потайная, — не ожидая, что она окажется отпертой, и, убедившись, что ее ничто не держит, осторожно пошел вперед наудачу. Не успел он сделать и трех шагов, как свеча погасла. По счастью, печь пылала вовсю, и от нее он запалил фитилек, прислушиваясь чуть ли не с радостью к пронзительному и тоскливому завыванию ветра, гулявшего по потайному ходу. Кристиано был наделен романтическим воображением и любил поэтические фантазии. Ему чудилось, что духи, издавна заключенные в этой покинутой комнате, сетуют на то, что кто-то проник в их тайны. А так как к тому же он опасался, как бы от мороза у бедного Жана не усилился насморк, он, выходя, тщательно прикрыл за собою дверь, обратив внимание на то, что снаружи она была снабжена крепкими засовами; но и собственной тяжести было достаточно, чтобы прижать ее к притолоке. Предоставим же ему идти к новым открытиям и введем в медвежью комнату нового путника. Этот тоже попал сюда нежданно-негаданно, но сопровождает его Ульфил и почтительно ему светит, а следом за ним идет мальчик-лакей, одетый во все красное, и дрожит от холода. Все трое говорят по-далекарлийски и еще не миновали двора: на лице Ульфила написан страх, на лицах его обоих спутников — нетерпение. — Ладно, Ульф, ладно, мой мальчик, довольно любезностей. Посвети нам только до пресловутой медвежьей комнаты и поскорее займись лошадью. Она у меня вся в мыле после того, как втащила сани на эту скалу. Эх, и добрый же конь! Не хотел бы я с ним расстаться даже за десять тысяч риксдалеров! Так беседовал с Ульфом главный адвокат города Гевалы, доктор прав Лундского университета[339]. — Как, господин Гёфле[340], неужто вы хотите тут заночевать? Мыслимое ли дело?.. — Молчи, молчи. Я знаю, наш славный Стен будет недоволен, но когда я там устроюсь, ему придется с этим примириться. Займись лошадью, говорят тебе… Я и сам отлично найду дорогу. — Что же, господин адвокат, вы так и явитесь туда среди ночи со своим внуком? — Болван! Ты прекрасно знаешь, что у меня нет детей! А ну-ка, Нильс, помоги мне распрячь беднягу Локи. Видишь, здесь только болтать умеют. Ну-ка, пошевеливайся! Или ты промерз насквозь за каких-нибудь три-четыре часа ночного пути? — Полноте, полноте, господин Гёфле, он еще слишком мал, — вступился Ульфил, задетый упреком адвоката. — Ступайте направо в первую дверь, укройтесь там, а о лошади я позабочусь. — Ба! Никак снег перестал. И мороз полегчал после метели, — продолжал Гёфле, которого профессия и природная склонность делали таким же разговорчивым, как и Кристиано. — Я ничуть не замерз и ежели поем хорошей каши и выкурю трубочку на сон грядущий… Ну-ка, Нильс, поди отнеси что-нибудь в комнату, это тебя займет, и ты отогреешься. Как, ты уже спишь? Еще и семи нет. — Господин Гёфле, — проговорил мальчик, стуча зубами, — давным-давно уже стемнело, а мне в темноте всегда страшно! — Страшно! Чего же ты боишься? Полно, не унывай; в это время года день прибавляется на полторы минуты. Рассуждая так, Гёфле, сухопарый мужчина лет шестидесяти, живой и подвижный, сам повел лошадь в конюшню, тогда как Ульфил убирал сани и сбрую с бубенчиками, а маленький Нильс, сидя на тюках, не переставал ежиться от холода под деревянным навесом, окружавшим двор. Когда Гёфле убедился, что его дорогой Локи, изящный и благородный конь, которого он назвал именем Прометея скандинавских саг[341], не будет ни в чем терпеть нужды, он уверенным шагом направился к медвежьей комнате. — Подождите, подождите, господин адвокат, — окликнул его Ульфил, — это не здесь. Комната на двоих, что зовется караульней… — Это, черт возьми, я и без тебя знаю, — ответил Гёфле, — я там уже ночевал. — Может статься, да только давно. Сейчас там все в негодность пришло. — Ну ладно, если она не годится, так приготовь мне постель в медвежьей комнате. — Как, в комнате, что называют… Ульф не посмел договорить, столь неслыханной показалась ему мысль Гёфле; однако, набравшись храбрости, он продолжал: — Нет, господин адвокат, нет, это невозможно, вы шутки шутите! Пойду-ка поищу ключ от той комнатки, может там получше, дядюшка туда иногда заходит, и коль скоро из нее есть другая дверь в галерею, вам не придется проходить через комнату… ну сами знаете какую… — Как! Давным-давно уже лестничную дверь замуровали, а за этой комнатой до сих пор еще дурная слава? Знаешь, Ульф, очень уж ты глуп, изволь-ка отпереть дверь сию же минуту. Слишком тут холодно дожидаться, покуда ты сходишь за другими ключами, а у тебя есть… — Нету их у меня! — завопил Ульфил. — Вот ей-ей, господин Гёфле, нет у меня никаких ключей — ни от медвежатин, ни от караульни. Препираясь таким образом, Гёфле, в сопровождении неохотно светившего ему Ульфа и Нильса, который шел за ним по пятам, добрался до первых дверей сторожевой башни, внизу которой находилась медвежья комната. Дверь была закрыта на один только наружный засов, и адвокат беспрепятственно проник в темную прихожую, поднялся на три ступеньки и толкнул дверь в комнату, которая подалась под нетерпеливой рукой и распахнулась настежь с таким жалобным стоном, что Нильс в ужасе попятился. — Отперта! Она отперта? — завопил Ульфил, побледнев настолько, насколько было способно бледнеть его лоснящееся красное лицо. — Ну и что с того? — осведомился Гёфле. — Просто, должно быть, Стенсон тут побывал. — Никогда он сюда не заходит, господин Гёфле. Нет уж, можно не опасаться, он сюда не заглянет! — Тем лучше, значит, я могу спокойно располагаться, не стесняя его, он даже и не заметит. Но что ты там городишь? Ясное дело, сюда приходят, печь-то вон как пылает!.. А! Теперь я понимаю, в чем дело, сударь мой. Ты сдал внаем эту комнату или пообещал кому-то, кого ждешь. Ну что ж, тем хуже! Раз уж мне не нашлось местечка в новом замке, хоть здесь-то для меня уголок найдется. Не тужи, мой мальчик, я заплачу тебе не меньше всякого другого. Зажги светильники… верней разыщи для них масла, а потом раздобудь простыни, грелку — словом, все, что надо, да про ужин-то смотри не забудь! Нильс тебе подсобит, он у нас проворный, шустрый, в общем славный малый. Ну-ка, Нильс, поворачивайся; ступай, найди сам ту комнату, где мы должны ночевать, караульню, как ее называет Ульфил. Я-то знаю, где она, только не хочу тебе говорить. Поищи, покажи, что ты малый сообразительный, Нильс! Но то был глас вопиющего в пустыне. Ульф, стоявший посреди комнаты, словно окаменел, Нильс отогревал руки у печки, и адвокату пришлось устраиваться самому. Наконец Ульф тяжко вздохнул — от его вздоха, казалось, и мельница завертится — и вскричал крайне возбужденно: — Вот уж по чести, господин Гёфле, клянусь вечным спасением, никому я этой комнаты не сдавал и не обещал. Как вы могли этакое на меня подумать, зная, что тут водилось, да и сейчас еще водится. Что вы! Да ни за что на свете дядюшка Стенсон не согласился бы вас тут оставить! Пойду скажу ему, что вы приехали, и раз уж за вами не оставили покои в новом замке, так он вам уступит свои в старом. — Ну, а на это я не соглашусь, — возразил Гёфле, — и вообще не смей говорить ему, что я приехал. Завтра он узнает, что мне и здесь хорошо: караульня маловата, там только спать можно. Эта комната будет мне гостиной и рабочим кабинетом. Она, правда, не очень веселенькая. Но три-четыре дня я проживу здесь спокойно. — Спокойно! — вскричал Ульф. — Спокойно, там, где нечисть водится? — С чего ты это взял, дорогой мой Ульф? — с улыбкой спросил доктор прав, меж тем как маленький Нильс дрожал от стужи и от страха. — А вот с чего, — мрачно и важно ответил Ульф. — Три причины тому есть: во-первых, ворота во двор настежь стояли, а я их своими руками запирал, как солнце село; во-вторых, дверь этой комнаты тоже была открыта, а такого я пять лет не видывал, с тех пор, как хожу убирать и дяде прислуживать; в-третьих — самое немыслимое, что тут уже лет двадцать огня не разводили, если не больше, а вот и пламя полыхает и печка горячая!.. Наконец… Погодите, господин доктор, ага, вот на полу воску только что накапали, и все же… — И все же сам ты воску и накапал, потому что фонарь набок наклонил. — Нет, господин Гёфле, нет, потому что моя-то свеча сальная, а тут под люстрой поглядите-ка! И, задрав голову, Ульф вскрикнул от ужаса, убедившись, что вместо одиннадцати с половиной свечей в люстре было на одну свечу меньше. Адвокат был по природе человеком добродушным и жизнерадостным. Вместо того чтобы рассердиться на опасения Ульфила и страхи Нильса, он решил надо всем этим позабавиться. — Вот как! — сказал он вполне серьезно. — Выходит, здесь поселились кобольды[342], а я всю жизнь только и мечтал с ними познакомиться, но мне так и не довелось ни одного увидеть, и захоти они мне явиться, я только порадуюсь, что вобрал эту комнату, где я буду спать под их любезным покровительством. — Нет, господин доктор, нет, — воскликнул Ульф, — нет здесь никаких кобольдов; это дурное, проклятое место, вы же сами знаете, такое место, куда озерные тролли[343] приходят все переворачивать и портить, как и полагается подобной нечисти; а маленькие кобольды — те добры к людям и только стараются им услужить. Кобольды охраняют, а не растаскивают. Они ничего не уносят… — Наоборот, приносят! Все это я знаю, господин Ульф, но почему ты решил, что у меня нет в услужении кобольда, которого я выслал вперед? Он и свечку взял и огонь развел, чтобы, когда я приеду, здесь было тепло, он и двери заранее поотворял, зная, что ты изрядный трус и мне пришлось бы порядочно прождать; а теперь он еще и тебя проводит и поможет принести мне ужин (у тебя ведь есть такое доброе намерение?), а то, знаешь, кобольды терпеть не могут нерадивых и служат только тем, кто сам готов услужить. Такое объяснение, казалось, несколько успокоило обоих слушателей; Нильс осмелел до того, что стал удивленно разглядывать своими огромными голубыми глазами потемневшие стены комнаты, а Ульф, передав ему ключ от шкафа в караульне, решил пойти приготовить ужин. — Послушай, Нильс, — сказал адвокат своему маленькому лакею, — фонарь этот никуда не годен, с ним ничего не увидишь. Успеешь застелить постели, а пока разбери-ка чемодан. Поставь его на стул. — Но, господин доктор, — возразил мальчик, — мне его и не поднять, он тяжеленный! — И то правда, там бумаги, а это большая тяжесть. Адвокат сам с некоторым усилием поставил чемодан на стул, добавив: — Возьми хоть сундучок с одеждой. Я захватил только самое необходимое, он ничего не весит. Нильс повиновался, но ему не удалось отпереть висячий замок. — Я думал, ты половчее! — заметил адвокат, несколько нетерпеливо. — Твоя тетка уверяла… Да, кажется, она тебя перехвалила! — Что, что? Кобольд? Ах, совсем позабыл. Ты, значит, веришь в кобольдов, мой мальчик? — Да, если они есть. А они никогда не бывают злыми? — Никогда, тем более что их вовсе не существует. — Как так! Вы же сами говорили… — Говорил, чтобы посмеяться над этим дурнем. А тебя, Нильс, я вовсе не собираюсь воспитывать на подобных глупостях. Знаешь, мне хочется сделать из тебя не только хорошего слугу, но и немножко пообтесать и научить уму-разуму, если сумею. — Господин Гёфле, а вот тетка Гертруда верит и в добрых духов и в злых! — Экономка моя в них верит? При мне она этим не хвалится. Подумать только, как морочат нас люди. Она всегда так здраво рассуждает, когда мне удается поговорить с ней… Да нет, ты шутишь, не верит она в них; просто так сказала, чтобы тебя позабавить. — И ничуть это не забавно, мне страшно! Я уснуть не мог. — Что вы, я отлично умею открывать незапертые чемоданы! — вскричал Нильс. — А скажите, господин Гёфле; у вас взаправду есть кобольд? — Ну, тогда она это напрасно. Но что ты там делаешь? Разве так разбирают чемодан, ты же все на пол побросал! Так ли фалунский пастор[344] учил тебя прислуживать? — Но, господин Гёфле, я не прислуживал пастору. Он взял меня, чтобы я играл с его мальчиком, когда тот хворал, вот уж где мы позабавлялись! Целыми днями бумажные лодочки мастерили или лепили саночки из хлебного мякиша! — Вот как, это надо запомнить! — гневно воскликнул доктор прав. — А Гертруда-то мне говорила, что ты был так нужен в доме! — О господин Гёфле, я был там очень полезен. — Ну, еще бы! Для всяких бумажных лодочек да саночек из мякиша! Конечно, это дело полезное, но если в твои годы ты ничего другого не умеешь… — Нет, господин Гёфле, я умею не меньше, чем всякий другой десятилетний мальчишка! — Десятилетний, ишь ты, разбойник! Тебе только десять лет? А твоя тетка уверяла, что тебе не то тринадцать, не то четырнадцать! Ну, что там с тобой, глупыш? Чего ты ревешь? — Каково мне, господин доктор, коли вы меня браните! Я ведь не виноват, что мне только десять. — И то верно! Вот твое первое здравое слово с самого утра, когда мне выпало счастье заполучить тебя в услужение. Полно, утри-ка глаза и нос! Я на тебя не сержусь. Ты рослый и сильный для своих лет, ну и ладно, а чего не умеешь, тому научишься, не так ли? — Ну конечно, господин Гёфле, я очень хочу! — А ты скоро научишься? Я ведь нетерпелив, предупреждаю! — Да, да, господин Гёфле, я быстро-быстро научусь. — Постель стелить умеешь? — О, еще бы! У пастора я всегда сам себе стелил. — Или вовсе не стелил! Ну да все равно, посмотрим. — Господин Гёфле, когда тетенька нынче утром пришла в Фалун, чтобы отправить меня вместе с вами, она мне сказала: «Ты ничего не будешь делать в замке, куда поедешь со своим хозяином. В замке барона… барона…» — Вальдемора. — Да, да, вот именно! «Там красивые комнаты, всегда чисто прибранные, и тьма прислуги, которая все делает. Что господину Гёфле нужно, так это чтобы кто-то был при нем и за него приказывал, он не хочет больше брать Франсуа, потому что его никогда не дозовешься. Вечно он пьет да гуляет с другими лакеями, а господину приходится самому всюду бегать и кликать, чтобы добиться того, что нужно. Ему это неудобно. Господину это страсть как не нравится. А ты будешь умницей, ты его никогда не оставишь, понятно? Распорядишься, чтобы ему подавали, а заодно и тебе подадут». — Так вот, — сказал доктор, — вот на что ты рассчитывал? — Еще бы! Я ведь послушный и все понимаю, господин Гёфле, я вас не покину, не побегу за большими дворцовыми лакеями! — А было бы лучше! Но попробуй-ка сбегай к ним отсюда. — Разве иначе, как через озеро, в новый замок не попадешь? — Нет, никак: не то ты бы уже, пожалуй, сидел в компании ливрейных лакеев. — Да нет, господин Гёфле, раз это вам не нравится. Но до чего же там было красиво внутри! — Где там? В замке Вальдемора? — Да, так они называют новый замок… Ой, господин Гёфле, там куда лучше здешнего! А народу-то! Мне совсем не было страшно! — Отлично, сударь, замок, полный гостей, вскружил вам голову: шум, факелы, позолота, беспорядок, и еды вдоволь! Что до меня, то мне совсем не по вкусу торчать всю ночь на бале и ждать, что наутро я окажусь в первой попавшейся комнате с четырьмя-пятью молодыми болванами, пьяными или драчливыми. Я люблю есть понемногу, но часто и спокойно поспать несколько часов, но чтобы меня никто не тревожил. К тому же я не развлекаться сюда приехал. Барон вызвал меня по важному делу. Мне надобна отдельная комната, свой стол, чернильница и немного тишины. Досадно, если за всем этим праздничным весельем барон позабыл, что я уже не юный студент, падкий до музыки и вальсов! Завтра поутру я скажу ему все, что об этом думаю. Он должен был распорядиться, чтобы мне приготовили то ли это, то ли другое помещение, подальше от шума и от непрошеных посетителей. Я ведь чуть было уже не поворотил назад на фалунскую дорогу, видя, как удивились моему приезду лакеи и как они смутились, не зная, куда меня поместить поприличнее, да вот снега испугался, к тому же и Локи был весь в мыле! По счастью, я вспомнил, что в старом Стольборге есть чертова комната, которой все сторонятся, и поэтому ее никому не предложат. Вот мы и в ней, и нам неплохо. Завтра, Нильс, ты вытрешь пыль и обметешь паутину. Я, знаешь, люблю чистоту. — Да, господин Гёфле, я Ульфу скажу, а то я слишком мал, чтобы пообметать все наверху. — Да, верно. Попросим Ульфа. — Но скажите, господин Гёфле, почему эту комнату называют медвежьей? — Что ж, название как название, — ответил Гёфле, который, погрузившись в раскладывание бумаг по ящикам письменного стола, счел совершенно излишним объяснять Нильсу вопросы геральдики. Однако он вскоре заметил, что на мальчике лица нет от страха. — Послушай, да что с тобой? — спросил он нетерпеливо. — Ты только ходишь за мной по пятам и ни в чем мне не помогаешь. — Я медведей боюсь, — ответствовал храбрый Нильс, — вы с пастором в Фалуне насчет большой медведицы разговаривали, я все слышал! — Я? О большой медведице? Ну конечно же, пастор астрономией занимается, вот мы и говорили… Успокойся, храбрый юноша. Видишь ли, речь шла о созвездии Большой Медведицы, что на небе. — Ах, так большая медведица на небе, — воскликнул обрадованный Нильс. — Значит тут ее нету? Она не придет к нам сюда? — Нет, нет, — смеясь, сказал адвокат. — Она слишком далеко, слишком высоко! Если бы ей вздумалось спуститься, она бы себе лапы поломала. Ну, теперь ты не будешь ее бояться? — Ни чуточки! Только бы она не свалилась оттуда. — Ба! Видишь ли, она там, наверху, крепко-накрепко прибита семью алмазными гвоздиками преизрядных размеров. — Наверное, боженька ее приколотил туда за то, что она была злая? — Должно быть, так! Теперь тебе не страшно? — О нет, — сказал Нильс, пренебрежительно пожимая плечами. — Тогда пойди скажи Ульфу… — Господин Гёфле, вы еще о каком-то Снеговике говорили! — Ах, вот что! Ты, видно, ничего не пропускаешь мимо ушей? Хорошенькое дело! — О да, господин Гёфле, — простодушно согласился Нильс, — я ко всему прислушиваюсь. — Что же такое, по-твоему, Снеговик? — Не знаю. Пастор вам тихонечко говорил со смехом: «Вот вы и повидаете Снеговика!» — Очевидно, он имел в виду гору, которая так называется. — Ну уж нет! Ведь вы спросили: «А у него все та же прямая походка?» А пастор в ответ: «Он все охотится у себя на озере». О, я шведский не хуже далекарлийского понимаю! — Из чего ты и заключил… — Что по озеру, через которое мы сейчас ехали, расхаживает большущий снежный человек! — Так, так, а за ним следом ковыляет большой медведь! У тебя, братец, воображения хоть отбавляй! Медведь-то белый или черный? — Не знаю, господин Гёфле. — Это не мешало бы выяснить, прежде чем мы усядемся ужинать в этой комнате. А вдруг они придут и сядут за стол вместе с нами? Нильс увидел, что Гёфле над ним подтрунивает, и рассмеялся. Доктор уже собирался порадоваться, что успешно излечил детские страхи, как вдруг Нильс, снова притихший, сказал: — Уйдемте лучше отсюда, господин Гёфле! Такое худое место. — Превосходно! — в сердцах вскричал адвокат. — Вот и возись после этого с детьми! Я-то стараюсь ему растолковать, что Медведица — это созвездие, а он еще пуще пугается! Видя, что хозяин недоволен, Нильс снова принялся утирать слезы. Это был балованный и пугливый мальчик. Гёфле, по натуре человек добрый, вбил себе в голову и то и дело повторял, что не любит малышей, и утешался тем, что пусть он в свое время не женился и не завел детей, зато не обременил себя ответственностью за их будущее и в полной мере сохранил свободу мыслей. Однако большая чувствительность, которой он был наделен от природы и которая незаметным образом выросла под влиянием душевных порывов и тревог, связанных с его профессией, привела к тому, что огорчения и слезы слабых существ стали для него просто невыносимы. Настолько, что, ворча на глупого мальчишку, одолеваемый страстью к хитроумным ученым спорам, помогающим выигрывать дела, когда обращаешься ко взрослым, но портящим все, когда говоришь с детьми, он попытался утешить и успокоить малыша и даже пообещал, что если большая медведица появится в дверях, он пронзит ее шпагой, но в комнату войти не даст. Гёфле простил себе то, что он сам называл дурацким снисхождением, и уже обдумывал занимательный рассказ о вечере в Стольборге, на потеху своим приятелям из Гевалы. Между тем Ульф не возвращался. Гёфле понимал, что не так-то просто найти чем поужинать в довольно скромном хозяйстве Стенсона, но оставить гостя без света было непростительным упущением. Остаток свечи в фонаре уже догорал, но адвокат, у которого всегда были чистые руки и безукоризненные манжеты, не решался притронуться к этому мерзкому фонарю и осветить комнату. Ему, однако, пришлось это сделать, чтобы взглянуть, нет ли в соседней комнате какой-либо еды и свечного огарка в шкафу, ключ от которого ему оставил Ульф. Нильс последовал за ним, держась за фалду его сюртука. Обе комнаты, представлявшие для господина Гёфле все удобства смежных покоев, разделялись очень толстой стеной, в которой были две массивные двери. Гёфле отлично знал замок, но так давно не бывал в нем, что не сразу отыскал первую из них. Он думал, что она как раз напротив той двери, через которую он вошел, что было бы естественно, но вместо этого она оказалась несколько левее и была скрыта резьбою, подобно той, что Кристиано случайно обнаружил под лестницей и о существовании которой ни доктор, ни Ульфил не подозревали. В этих плотно прикрытых дверях без заметных снаружи замков не было, однако, ничего таинственного: то была просто-напросто тщательно выполненная резьба, которая в северных странах сделалась почти искусством. Теперь, когда Гёфле стал обладателем спальни с двумя кроватями, заново отделанной лет десять назад и довольно уютной, ему даже не пришлось заглядывать в шкаф. Первое, что попалось ему на глаза, была пара тяжелых канделябров на три свечи каждый. Это было очень кстати: огарок в фонаре угасал. — Коль скоро мы вполне уверены, что не останемся в темноте, — обратился Гёфле к малышу, — займемся сейчас же хозяйством. Зажги свечу, а я достану из шкафа постели. Простыни уже лежали на кроватях, но тут Нильс умудрился наполнить всю комнату дымом. Когда же понадобилось застлать постели, которые были непомерно широки, он ничего лучшего не придумал, как забраться на них, чтобы дотянуться оттуда до середины изголовья. Гёфле чуть было не рассердился, но боясь, как бы снова не полились слезы, примирился с судьбой и сделал постель сам не только себе, но и своему маленькому лакею. Ему никогда не приходилось этим заниматься, и, однако, он уже с честью справлялся с таким трудным делом, как вдруг из открытых дверей медвежьей комнаты донесся страшный шум. То был резкий, оглушительный и в то же время какой-то нелепый рев. Нильс упал на четвереньки и почел за благо залезть под кровать, тогда как Гёфле, не испытывая страха, но вытаращив глаза и раскрыв рот, с удивлением вопрошал себя, откуда могли появиться такие звуки. «Если, как я полагаю, — подумал он, — какому-то глупому шутнику взбрело в голову напугать меня таким образом, то у него весьма странная манера подражать рычанию медведя. Ведь это куда больше напоминает ослиный рев и выходит на редкость точно; но неужто он принимает меня За лапландца, который отродясь не слыхал, как кричит осел?» — Эй, Нильс, — крикнул он, ища своего маленького слугу, — никаких чар тут нет; пойдем, поглядим, что там такое! Но Нильс предпочел бы лучше умереть, чем шелохнуться или ответить, и Гёфле, не зная, куда он девался, решил сам отправиться на разведку. Он немало удивился, столкнувшись посреди медвежьей комнаты нос к носу с самым настоящим ослом, с таким, каких в Швеции не увидишь, и с такой славной мордой, что никак невозможно было ни рассердиться на него, ни дурно истолковать его посещение. — Дружок мой, — смеясь, сказал Гёфле, — откуда ты взялся? Что ты делаешь в этих краях и о чем хочешь меня спросить? Будь Жан наделен даром речи, он ответил бы, что, упрятанный под лестницей, куда никто не удосужился заглянуть, он чуточку вздремнул, доверчиво дожидаясь возвращения хозяина, но, видя, что тот не приходит и почувствовав сильный голод, потерял терпение и решил порвать очень слабо завязанную веревку, дабы явиться к господину Гёфле с просьбой накормить его ужином. Последний с большой прозорливостью угадал его мысль, но не мог понять одного: как это Ульф, на чьей обязанности, как он считал, лежало присмотреть за ослом, поместил его в этой страшной стольборгской комнате. На этот счет у него возникло множество предположений. Поскольку ослы в северных странах большая редкость, барон, обладавший оленьей упряжкой — другой редкостью в этих краях, слишком холодных для ослов, но недостаточно холодных для оленей, — должно быть, уж очень дорожил им и поручил сторожам старого замка за ним ухаживать и держать его в хорошо натопленном помещении. — Вот почему и печь топилась, — объяснил сам себе Гёфле. — Но для чего Ульфу понадобилось делать вид, что в комнате нечисть водится, вместо того чтобы попросту сказать мне всю правду? Вот чего я себе объяснить не могу. Может, ему велено было соорудить конюшню ad hoc[345], а он этого не сделал и, желая скрыть свою нерадивость, понадеялся отвадить меня от этой комнаты или подумал, что я не замечу присутствия странного постояльца… Как бы то ни было, — добавил Гёфле, приветливо обращаясь к Жану, вид которого его забавлял, — прошу меня извинить, мой бедный ослик, но я не намерен держать тебя рядом с собою. У тебя чудесный голос, а у меня очень чуткий сон. Отведу-ка я тебя на эту ночь к Локи: его соседство тебя обогреет, и ты разделишь с ним ужин и подстилку. Нильс! Поди сюда, мой мальчик, посвети-ка мне до конюшни. Не получив никакого ответа, Гёфле вынужден был возвратиться в караульню, раскрыть убежище Нильса, извлечь его оттуда за ногу и насильно усадить на спину осла. Сперва Нильс дико орал, думая, что его посадили верхом на чудовищную медведицу, тем более что в жизни он никогда не видывал ослов и длинные уши Жана пугали его не менее рогов дьявола; но мало-помалу он успокоился, видя, как осел покладист и кроток. Гёфле дал ему трехсвечный канделябр, а сам потянул Жана за веревку, и все трое вышли из башни, направляясь к конюшне по деревянной галерее с замшелым навесом, окружавшей покрытый снегом двор. В ту самую минуту Ульф выходил из флигеля, где жил его дядюшка, и направлялся к башне, неся в одной руке фонарь, в другой — большую корзину, содержавшую все необходимое для сервировки ужина адвокату. Насколько раньше Ульфу не хотелось возвращаться в медвежью комнату, настолько теперь он стремился туда. Им овладела непреодолимая тяга к человеческому обществу, как то бывает с людьми, доведенными до ужаса своим одиночеством. Вот что приключилось с Ульфом. Как истый швед, Ульф был сама приветливость, само радушие, однако за несколько лет пребывания в мрачной стольборгской лачуге в обществе глухого, угрюмого человека бедный Ульф стал до того суеверным и трусливым, что после захода солнца всегда забирался к себе в комнату, решив раз навсегда, что даст замерзнуть в снегах и льдах любому, чей голос покажется ему хоть сколько-нибудь подозрительным. Если бы Гёфле не нашел ворота замка открытыми увесистым кулаком Пуффо и если бы Ульф не узнал голоса адвоката во дворе, почтенному законоведу пришлось бы, конечно, поворотить в новый замок с его сутолокой и шумом, которых он так боялся. Водворив его в башне, Ульф несколько успокоился. Он подумал даже, что все к лучшему, ибо если уж Гёфле хочет повстречаться с чертом, то это его дело, и что лучше принять его здесь, нежели быть вынужденным сопровождать обратно в новый замок; это распоряжение означало бы, что бедному проводнику выпадет печальная необходимость возвращаться одному через озеро, где водятся страшные духи. По счастью, старый смотритель Стольборга, человек хилый, зябкий, привыкший рано укладываться спать, заперся в своем флигеле, расположенном в глубине второго двора, с окнами, выходящими на озеро, а не в первый двор. Поэтому спал Стенсон или нет, он, по всей видимости, никак не мог догадаться о присутствии гостя ранее завтрашнего утра. По зрелом рассуждении, Ульф решил не предупреждать его и как можно лучше самому приготовить ужин для господина Гёфле. Стенсон, человек весьма умеренный, был, однако, предметом самого пристального внимания со стороны своего хозяина барона де Вальдемора (владельца, как мы знаем, нового замка и старой сторожевой башни), который раз и навсегда строжайше наказал новому управляющему, чтобы тот заботился о благополучии своего старого и верного слуги. Ульф был не прочь хорошо пожить, и, заметив, что дядюшка по своей скромности и порядочности отсылает обратно весь излишек пищи, которую ему приносили из нового замка, сумел подстроить все так, что получал еду без ведома дяди. На кухне у него был особый тайник, где он припрятывал свои гастрономические богатства, да еще небольшой погребец, выдолбленный в скале, прохладный летом и довольно теплый зимой, где за пустыми бочками были сложены бутылки со старыми винами, разумеется, большая ценность в стране, где виноград — растение тепличное. Ульф не отличался жадностью, это был честный малый, и ни за что на свете он не стал бы извлекать доход из подарков, которые барон делал дядюшке. Сердце у него было доброе, и когда ему случалось оставить у себя товарища, он потихоньку делился с нимсвоими заветными бутылками и был рад пить не в одиночестве, что всегда тоскливо. Однако появление в башне, — правда, не медведицы, как думалось Нильсу, а печального призрака, — было вещью столь очевидной, что бедный Ульф никогда не задерживал друзей после захода солнца. Вот тогда-то он и решался приложиться для бодрости, и после этого ему начинали мерещиться злые тролли и стрёмкарлы[346], пытающиеся утащить свои жертвы и столкнуть их в поток. Должно быть, для того, чтобы побороть искушение последовать за ними, рассудительный Ульфил напивался до того, что ноги переставали его слушаться. Находились, конечно, в многочисленной свите барона просвещенные вольнодумцы лакеи, не верившие ни во что, но Стенсон всех их ненавидел в большей или меньшей мере, и его племянник Ульф разделял эту неприязнь. Таким образом, Ульфу Стенсону было из чего сготовить славный ужин для господина Гёфле, а он горазд был жарить да варить. К тому же и веселость адвоката несколько подбодрила его, и он собирался непринужденно поболтать, прислуживая ему; но все его радостные мечты были развеяны какими-то странными звуками, точно кто-то шарил между стен, точно что-то потрескивало в деревянной резьбе; не один раз сковорода падала из рук Ульфа, и на секунду ему показалось, что какой-то пересмешник за его спиной передразнивает его вздохи. Он простоял добрых три минуты, не смея вздохнуть и тем более оглянуться. Вот почему он так медленно готовил столь вожделенный ужин. В конце концов, справившись кое-как со своим поручением, он спустился в погреб за вином. Но там его ждали новые страхи. В ту самую минуту, когда с достаточным запасом еды он выходил из своего святилища мимо него проскользнула большая черная тень. Фонарь погас, и те же загадочные шаги, напугавшие его на кухне, быстро простучали раньше него по ступенькам. Ульф едва не потерял сознания; но он еще раз поборол испуг и добрался до кухни, где оставил кастрюли довариваться на плите, а сам решил полечиться от страхов у господина Гёфле под тем предлогом, что пора было накрывать на стол. И вот, когда, нагруженный всей кухонной утварью, Ульф шел по деревянной галерее, он оказался лицом к лицу со странным видением, которое было не кем иным, как доктором прав в ночном колпаке, тащившим за уздечку странное, невероятное животное, какого, как истый далекарлийский крестьянин тех времен, Ульф и в глаза не видывал, а может, и не слыхивал о таком. И на этом звере, тень от огромных ушей которого протянулась через всю галерею, сидел ярко-красный дьяволенок, держа в руке подсвечник с тремя свечами. Это был тот, кого Гёфле выдавал за лакея, но это, разумеется, был не кто иной, как кобольд, тот самый домовой, который, по хвастливым заверениям адвоката, всегда был к его услугам. Это было уже слишком для бедного Ульфа. Он испытывал почтение к кобольдам, но видеть их вовсе не желал. Ослабевшей рукою он опустил корзину наземь и, повернув в другую сторону, направился к себе в комнату, поклявшись спасением души, что в течение ночи не выйдет оттуда, даже если адвокат помрет с голоду, а его ужин сожрет черт. Поэтому-то Гёфле совершенно напрасно пытался дозваться его. Ульф не отвечал, и тогда адвокат решил отвести осла в конюшню, а на обратном пути забрать брошенную корзину, пройти в медвежью комнату и накрыть на стол с помощью Нильса. «Право же, — подумал он, — в путешествии нужно быть философом. Вот нашлись стаканы, приборы и тарелки, будем надеяться, что наш лунатик намерен добавить к этому немного пропитания. Подождем, не придет ли ему охота это сделать, ничего другого нам не остается; а пока откупорим бутылки». Нильс неплохо постелил скатерть, не дал погаснуть очагу, и Гёфле пришел в свое обычное хорошее расположение духа, когда Нильс вдруг совсем обмяк и стал тыкаться во все углы — неоспоримое свидетельство того, что на него напала сонливость. — А ну-ка встряхнись немножко, — сказал адвокат, — надо поесть. Ты, должно быть, проголодался. — К сожалению, да, господин Гёфле, — отвечал мальчик, — но меня так клонит ко сну, что мне не дождаться, когда вам подадут и вы отужинаете. Тут есть хлеб и варенье из ежевики, дайте мне немножко, после этого я смогу вам прислуживать. Гёфле сам открыл баночку с вареньем; Нильс бесцеремонно уселся на хозяйское место, тогда как адвокат отогревал ноги, закоченевшие после похода на конюшню. Гёфле обладал в равной мере и живым воображением и даром слова. Когда не представлялось случая поболтать, он или что-нибудь обдумывал, или спешил предаться радостным мечтам. И вот через четверть часа он опять почувствовал голод и обернулся, чтобы поглядеть, не пришел ли наконец Ульф с чем-нибудь посущественнее, чем варенье; но вместо Этого увидел лишь маленького Нильса, который сладко спал, положив голову на стол и уткнувшись носом в тарелку. — Эй, — прикрикнул он, тряся мальчишку за плечи. — Ты поел, ну, а поспишь потом. Надо и обо мне подумать; пойди взгляни, что же Ульф… Но все старания Гёфле были напрасны. Разморенный необоримым детским сном, Нильс стоял с блуждающим взглядом и покачивался, как пьяный. Гёфле пожалел его. — Ладно уж, ступай ложись, — сказал он, — раз ты ни на что не годен! Нильс направился к караульне, оперся о косяк двери и там притулился, продолжая спать стоя. Пришлось довести его до кровати. Но тут возникло еще одно затруднение: у него не хватило сил снять с себя гетры. Гёфле сам стянул их с мальчишки, что было нелегко, так как они были в обтяжку, а ноги обмякли от сна. Гёфле хотел было его уложить, но глупыш залез на постель совсем одетым. — Черт бы тебя побрал! — выругался он. — Для того ли я тебе роскошную ливрею заказывал, чтобы ты в ней спал? Ну-ка, живо, вставай, потрудись хотя бы раздеться! Нильс, насильно поставленный на ноги, делал тщетные попытки расстегнуть пуговицы. Тетка Гертруда, на радостях, что си не отказывают в средствах на обмундирование юного лакея, не посоветовалась с его будущим господином и заказала племяннику лосины и куртку красного сукна, так точно пригнанные, что он был в них втиснут, как в панцирь, и Гёфле немалого труда стоило его оттуда извлечь. Во время всей этой процедуры мальчишка дрожал от холода, и поэтому адвокату пришлось сесть у камина и усадить его к себе на колени. Хотя Гёфле и злился и проклинал Гертруду за то, что та снабдила его таким слугой, чувство простой человечности не позволило ему дать мальчику замерзнуть. К тому же детское простодушие Нильса совершенно его обезоруживало. На все упреки хозяина тот наивно отвечал: — Завтра я вам хорошо послужу, вот увидите, господин Гёфле, и я вас буду очень любить! — Так, так, — отвечал наш адвокат, легонько подталкивая его, — ты уж лучше поменьше меня люби, да получше мне служи. Наконец он уложил Нильса и собирался вернуться к весьма сомнительному ужину, как вдруг мальчик запросто окликнул его и сказал с упреком: — Что же, вы меня тут совсем одного оставите? — Этого еще не хватало! — воскликнул адвокат. — Тебе что, нужно чье-то общество для спанья? — Господин Гёфле, у фалунского пастора я ведь никогда не спал один в комнате, а тут, когда мне так страшно… ну нет, если вы меня тут оставите, я уж лучше лягу в вашей комнате на полу. И Нильс, словно очнувшись от сна, как кошка, выскочил из постели и хотел в одной рубашке последовать за хозяином в медвежью комнату. Но тут уж Гёфле окончательно потерял терпение. Он стал бранить его — Нильс заплакал. Хозяин хотел его запереть — Нильс разревелся еще пуще. Тогда доктор прав принял героическое решение. «Раз уж я сглупил, — подумал он, — сочтя десятилетнего ребенка четырнадцатилетним пареньком, и вообразил, что у Гертруды есть крупица здравого смысла, то мне за Это и отвечать. Пять минут терпения, и этот несносный мальчишка уснет; если же я буду ему противиться, он только разгуляется, и тогда бог знает, сколько времени мне придется слушать его вопли и крики». Он пошел в медвежью комнату за папкой с бумагами, проклиная мальчишку, который последовал за ним босиком и едва дал ему время найти очки; потом он уселся перед огнем в караульной, закрыв за собой двери, поскольку там было не слишком-то тепло, и, спросив Нильса не без ехидства, не спеть ли ему колыбельную, углубился в свои бумаги, позабыв об ужине, который не подавали, и о мальчугане, который уже храпел вовсю.II
Что же делал Кристиано, пока господин Гёфле устраивался на ночлег? Читатель, возможно, уже догадался, что резвый домовой, круживший возле бедняги Ульфа на кухне и в погребце в поисках ужина, был не кто иной, как наш путешественник. Огорчения и страхи Ульфила позволили ему выхватить у того чуть ли не из-под носа все самое удобное для переноски съестное, найденное на кухне. В погребце ему меньше повезло. Задув фонарь перетрусившего Ульфа, он сам оказался в полной темноте и испугался, как бы его не заперли голодным в подземелье. И он тут же повернул назад, теша себя мыслью, что ему еще представится удобный случай отобрать у Ульфа его бутылки. Наш искатель приключений не заметил появления Гёфле. Потратив целых четверть часа на тщательное исследование потайного хода из медвежьей комнаты (об этом ходе мы расскажем позднее), он выбрался из него не без труда и незаметно проник во флигель, занимаемый Стенсоном. Он подумал, что ужин предназначается для старого управляющего. Затем, прежде чем вступить во владение комнатами, которые он для себя выбрал, он хотел добыть корм ослу и побрел по дворику, смежному с галереей. Это было спустя несколько минут после того, как Ульфил испытал последний приступ страха, и поэтому Кристиано не мог насладиться забавным видом Гёфле в ночном колпаке, победно ведущего на конюшню осла, на котором восседал одетый в красное кобольд. Обследуя все помещение, отворяя все не слишком крепко запертые двери, Кристиано наткнулся наконец на двери конюшни и порадовался, увидев, что мэтр Жан с большим аппетитом уплетает ужин и утаптывает толстую подстилку из сухого мха в обществе премиленькой вороной лошадки, очень благожелательно к нему расположенной. «Воистину, — подумал Кристиано, поглаживая благородного осла, — животные подчас куда разумнее и радушнее людей. За два дня наших скитаний в этих холодных краях Жан бывал предметом изумления, страха пли отвращения го многих домах и деревнях, и я сам, вопреки радушию местных жителей, попал в такое место, где обитают духи недоли и тяжких забот, где мне приходится промышлять грабежом, как солдату в походе, а эта вот славная лошадка, не спрашивая Жана, откуда у него такие длинные уши, уступает ему место у кормушки и сразу смотрит на него как на себе подобного. Ладно, Жан, спокойной ночи, приятель! Если я спрошу, кто тебя сюда привел и сытно накормил, ты, может быть, не удостоишь меня ответом, а если бы я не видел, что ты привязан на веревке, то подумал бы, что у тебя хватило ума самому сюда явиться. Как бы то ни было, я поступлю как ты и поужинаю, не заботясь о завтрашнем дне». Кристиано запер конюшню и вернулся в медвежью комнату, где его ждала приятная неожиданность в виде накрытого стола; сервировка поражала красивой посудой, тяжелым серебром и белоснежной скатертью, если не считать нескольких пятен от варенья, которые Нильс оставил возле своей тарелки. — Подумать только, — весело заметил наш чужестранец, — они не то кончили десертом, не то начали с него! Но кто же, черт возьми, обосновался тут в мое отсутствие? Пуффо не настолько избалован, что стал бы накрывать на стол; в дороге он к такому не привык. К тому же он отправился искать удачи в новый замок, иначе бы я с ним столкнулся, осматривая старый. Да я никогда и не рассчитывал на помощь этого приятеля. Если он нашел где-то на кухне уголок за столом, я уверен, что он обо мне и думать забыл, и я отлично сделал, позаботившись о себе сам. Как-никак, если он случайно вернется сюда ночевать, нельзя же, чтобы бедняга замерз у ворот. Кристиано отпер ворота во двор, которые Ульф успел запереть после приезда Гёфле, и вернулся с твердым намерением сесть за стол с кем угодно, будь то по доброй воле или по принуждению. «Это мое право, — убеждал он себя, — стол пуст, а я принес, чем его приятно заполнить. Если меня ждет сотрапезник, лишь бы он оказался приветливым, и мы не поссоримся; если нет, поглядим, кто кого выставит». Рассуждая так, Кристиано пошел взглянуть, не тронул ли кто его пожиток. Он нашел их в порядке в углу, куда он их спрятал и где они остались незамеченными. Тогда он стал разглядывать сундук, чемодан и вещи, разбросанные на стульях, тщательно сложенное белье, которое, видно, собирались убрать в шкаф, парадное платье, раскинутое на спинках кресел, чтобы оно отвиселось; наконец — пустой чемодан, на крышке которого он прочел: «Господин Тормунд Гёфле, адвокат в Гевале и доктор прав Лундского университета». «Адвокат! — подумал наш герои. — Что же, это хорошо звучит — адвокат! Адвокатом не станешь, если нет ума и таланта. Вот кто составит мне приятную компанию, если у него хватит здравого смысла не судить о человеке по одежке. Но куда же этот адвокат запропастился? Должно быть, он тоже был приглашен на праздники в замок Вальдемора и так же, как я, нашел дом переполненным или по своему вкусу избрал себе приютом этот романтический замок. Нет, скорее всего человек этот — поверенный в делах богатого барона, ибо в этой стране сословных предрассудков и скрытой ненависти вряд ли приглашают людей незнатных на дворянские увеселения. Но какое мне дело! Адвокат ушел, это бесспорно. Должно быть, он беседует со старым управляющим, или он в той комнате с двумя кроватями, о которой мне говорили и двери в которую не видно. Поискать? Но, возможно, он уже лег? Пожалуй, это вернее всего. Ему хотели подать ужин, он отказался, довольствуясь вареньем и желая только поскорее добраться до постели. Пусть же сей достойный муж мирно спит! Я отлично устроюсь в этом глубоком кресле, а если мне станет холодно, черт побери, вот великолепная меховая шуба и дорожная кунья шапка — и тело в тепле, и уши не замерзнут. Поглядим, удобно ли мне будет! О, и даже очень, — решил Кристиано, натягивая шубу и нахлобучивая шапку. — Как вспомню, что я десять лет занимаюсь серьезным делом, а надеть все нечего, и плаща-то добротного нет, особливо теперь, когда приходится блуждать по земле гипербореев!»[347] Кристиано разложил на столе еду: весьма заманчивый гамбургский язык, искусно прокопченный медвежий окорок и чудесный кусок копченой лососины. Он собирался уже сбросить с плеч шубу доктора, чтобы удобнее было есть, когда сквозь единственное окно медвежьей комнаты донесся вдруг звон бубенчиков. У этого большого окна напротив печи были все же двойные рамы, как во всех зажиточных домах северян, и старинных и новых; однако наружная рама пришла в полную ветхость и говорила о запустении Стольборга. Почти все стекла были выбиты, и так как ветер стих, звуки снаружи доносились очень отчетливо: и глухой таинственный гул, с каким недавно выпавший обильный снег отделялся от нижних затвердевших слоев и обрушивался с отвесных утесов, и отдаленные голоса с хутора на берегу озера, и жалобный вой собак, встречавших невнятными проклятиями красный диск луны на горизонте. Кристиано из любопытства захотелось взглянуть на сани, бороздившие озерный лед совсем близко от его убежища; открыв первую раму, он высунул голову наружу через разбитое окно. Он отчетливо различил сказочное видение, скользившее у подножия скалы. Два прекрасных белых коня, которыми правил бородатый кучер, одетый на русский лад, мчали сани, сверкавшие как драгоценные каменья и отливавшие то одним, то другим цветом. Фонарь, высоко подвешенный над изящным возком, походил на звездочку, гонимую вихрем, или скорее на блуждающий огонек, догоняющий санки. Свет его, подобно свету червонного золота, лился вперед и отбрасывал теплые отблески на снег, голубевший под луною, и всеми цветами радуги расцвечивал пар, вившийся под ноздрями и над спинами коней. Ничто не могло сравниться по легкости и поэтичности с этим возком на полозьях; казалось, что сама озерная фея промчалась, как сновидение, перед ослепленным взором Кристиано. Разумеется, проезжая через Стокгольм и другие города страны, он перевидал немало саней, от самых роскошных до самых скромных; но ни одни не выглядели столь живописно и необычно, как те, что остановились у подножия скалы; ибо теперь уже сомневаться не приходилось: новый гость, на сей раз богатый, приехал вступить во владение или просто познакомиться с безмолвной стольборгскою твердыней. «Санями я налюбовался вдоволь, — подумал Кристиано, — но черт бы побрал тех, кто в них сидит. Готов побиться об заклад, что это серьезная помеха мирному ужину, на который я рассчитывал». Но проклятия растаяли на губах Кристиано: чей то высокий, нежный и на редкость певучий голос, какой мог принадлежать только очаровательной женщине, послышался из саней. Он звучал на языке, незнакомом Кристиано; это было местное наречие: — Как ты думаешь, Петерсон, лошади смогут подняться до ворог старого замка? — Да, барышня, — отвечал толстый кучер, закутанный в меховой тулуп. — По рыхлому снегу-то, надо полагать, им трудновато будет, но тут уж до нас проехали: виден свежий след, не бойтесь, въедем. Подступы к Стольборгу, которые Гёфле назвал буграми, состояли из настоящей естественной лестницы, образованной слоистыми и неровными пластами породы. Летом тут опрокидывались и лошади и повозки, но в северных странах зима делает все дороги проезжими, а всякого путника отважным. Толстый наст обледенелого снега, плотного и ровного, как мрамор, заполняет ямы и сглаживает ухабы. Лошади, соответственно подкованные, вскарабкиваются на вершины и уверенно спускаются по крутым склонам; сани редко переворачиваются, но даже когда это случается, опасность обычно никому не грозит. Через несколько минут наш возок был уже у ворот маленького замка. — Надо позвонить тихонько, — приказал нежный голосок кучеру. — Знаешь, Петерсон, мне бы не хотелось, чтобы старый управитель видел меня; может быть, он обо всем докладывает хозяину. — Да он совсем глухой, — ответил кучер, слезая с саней в снег. — Ульф не проболтается, он мне друг. Лишь бы ему была охота отворить! Он малость робеет к ночи; оной понятно, замок-то… Петерсон, должно быть, заговорил бы о стольборгских привидениях, да не успел. Ворота распахнулись как бы сами собой, и Кристиано, выглядевший не хуже кучера благодаря адвокатской шубе и меховой шапке, показался на крыльце. — Ну вот и он, — сказал тихий голос, — остановись тут, Петерсон, и, прошу тебя, сними бубенчики с лошадей. И, как я уже тебя просила, запасись терпением, хоть я и не очень тебя задержу. — Не торопитесь, барышня, — отвечал верный слуга, отряхивая ледяные сосульки с бороды, — вечер-то нынче выдался на славу! Кристиано ни слова не понял из разговора, по тем по менее с восторгом внимал нежному голосу. Он подал руку маленькому созданию, до того укутанному в горностаи, что оно больше походило на снегурочку, чем на человеческое существо. Девушка обратилась к нему на далекарлийском наречии, так что он не мог понять, что она ему велит; а в том, что она давала распоряжения, у него сомнений не было, хотя голос звучал мягко. Видно, его приняли за сторожа старого замка, а коль скоро распоряжение ни в одной стране не требует иного ответа, кроме немого почтительного поклона, то Кристиано был избавлен от необходимости делать усилия — понимать и отвечать во время недолгого перехода с молодой дамой по галерее от ворот до дверей башни. Ведя ее к медвежьей комнате, Кристиано повиновался чувству гостеприимства, не зная, оценит ли она его доброе намерение. Выбежав ей навстречу, он повиновался также и чувству любопытства, и к этому примешивалось еще желание понравиться, очень сильное в те времена у молодых и пожилых мужчин, к какому бы сословию они ни принадлежали. Между тем молодая дама, следовавшая за своим проводником, невольно удивилась, оказавшись в знаменитой медвежьей комнате. — Это и есть медвежья комната? — спросила она с некоторым беспокойством. — Я здесь никогда не бывала. А так как Кристиано ничего не понял и потому ничего не ответил, она взглянула на него при свете единственной свечи, стоявшей на столе, и воскликнула теперь уже по-шведски; — Ах, боже мой! Это не Ульфил! С кем же я имею честь говорить? Может быть, это сам господин Гёфле? Кристиано, превосходно понимавший и свободно изъяснявшийся по-шведски, тотчас вспомнил имя, написанное на чемодане доктора, и столь же быстро сообразил, что укутанный в одежду, заимствованную у вышеназванного адвоката, он мог недурно развлечься, хотя бы на миг разыграв его роль. Чужеземец, одинокий, затерянный в стране, чьим языком он владел в силу особых обстоятельств, о которых мы узнаем позднее, но где не имел привязанностей и мог не принимать жизнь всерьез, он счел естественным позабавиться там, где представлялась такая возможность. И смело и наудачу ответил: — Да, сударыня, я действительно Гёфле, доктор прав Лундского университета, занимаюсь адвокатской практикой в Гевале. Говоря так, он нащупал валявшийся рядом футляр от очков и поспешно раскрыл его. То были зеленые очки, которые адвокат надевал, чтобы защитить глаза от утомительной белизны снегов. Восхищенный этой находкой, которую провидение дарит порою безрассудным людям, он нацепил очки на нос и почувствовал, что полностью преобразился. — Ах, господин доктор, — сказала незнакомка, — приношу вам тысячу извинений, я вас не разглядела; к тому же прежде я не имела удовольствия встречаться с вами и приняла вас за стольборгского стража; именно ему-то я и велела разузнать, пообещав известное вознаграждение, что вам, верно, показалось смешным, не могли бы вы найти несколько минут для беседы со мною. Кристиано почтительно поклонился. — Итак, — продолжала незнакомка, — вы мне позволите изложить вам одно дело… немного затруднительное… щекотливое? Эти два слова прозвучали столь заманчиво для ушей чужеземца, что он позабыл, какую изрядную помеху его ужину нанес сей нежданный визит, и теперь хотел только одного: увидеть лицо посетительницы, скрытое под горностаевым капюшоном. — Я вас слушаю, — отвечал он, напуская на себя строгий тон. — Адвокат — это духовник… Но не боитесь ли вы, если останетесь сейчас в шубе, схватить потом насморк, выйдя на воздух? — Нет, — ответила незнакомка, усаживаясь в кресло, которое ей пододвинул хозяин, — я настоящая жительница гор и никогда не простужаюсь. И тут же простодушно добавила: — К тому же вы, может быть, найдете, что я неуместно одета для беседы, которую испросила у столь важного и почтенного лица, каким являетесь вы, господин Гёфле: я в бальном платье. — Боже мой! — опрометчиво воскликнул Кристиано. — Я вовсе не старый чопорный ханжа, бальным платьем меня не смутишь, особенно когда оно надето на хорошенькой женщине. — Вы очень любезны, господин Гёфле, но я не знаю, хороша ли я и нарядно ли одета. Я понимаю, что не нужно прятать от вас лицо, ибо всякое недоверие к вам было бы оскорблением вашей честности, к которой я прибегаю, прося у вас совета и покровительства. Незнакомка отстегнула свой капюшон, и Кристиано увидел самую очаровательную головку, какую только можно вообразить, настоящий нордический тип: синие, как сапфиры, глаза, топкие и пышные светло-золотистые волосы, нежный и свежий цвет кожи, какого не встретишь у других народов; из-под распахнутой шубки виднелись стройная шея, белоснежные плечи и гибкая талия. Все это дышало чистотою, как само детство, ибо миловидней гостье было не более шестнадцати лет и она еще не перестала расти. Кристиано не принадлежал к числу отшельников; он был человеком своего времени, но вместе с тем не перенял распущенности той среды, куда его забросила судьба. Он был умен, а потому скромен и прост. Он спокойно и доброжелательно взглянул на эту северную красавицу, и если прежде у него мелькнула коварная мысль завлечь девушку и медвежью берлогу, то мысль эта сразу же уступила место жажде приключения, романтического и увлекательного, по вполне честного, и этой честностью дышало милое и простодушное личико его юной гостьи. — Господин Гёфле, — продолжала она, ободренная вежливым обращением мнимого адвоката, — когда вы увидели мое лицо и убедились, что оно принадлежит отнюдь не злодейке, я должна назвать свое имя. Имя это вам хорошо известно. Но меня смущает, что вы стоите, тогда как я заняла единственное кресло в этой комнате. Мне известно, сколь вы уважаемы… Сколь уважаемы ваши достоинства, я чуть было не сказала — ваши годы, потому что, сама не знаю почему, привыкла считать вас очень старым, а вы, как я вижу, намного моложе барона. — Вы оказываете мне большую честь, — сказал Кристиано, надвигая на глаза и шею меховую шапку со спущенными ушами, — я стар, очень стар! Молодым во мне может казаться лишь кончик носа, и я прошу прощения, что не снимаю шапки в пашем присутствии; но ваше посещение застало меня врасплох. Я снял парик и вынужден прятать свою лысину. — Пожалуйста, без церемоний, господин Гёфле, и соблаговолите сесть. — Если вы позволите, я останусь стоять у печки, меня мучит подагра, — ответил Кристиано, который, таким образом, оказался в тени, тогда как скудный спет свечи падал прямо на собеседницу. — Разрешите узнать, с кем имею честь… — Да, да, — с живостью отозвалась она. — О! Вы меня хоть и не встречали, но прекрасно знаете! Я Маргарита. — Ах, вот как! — воскликнул Кристиано тем же тоном, каким признался бы: «Мне это ровно ничего не говорит». К счастью, девушка поторопилась объясниться. — Да, да, — продолжала она, — Маргарита Эльведа, племянница вашей клиентки. — А! моей клиентки… — Графини Эльведа, сестры моего отца, полковника, того, что был другом несчастного барона. — Несчастного барона?.. — О господи, барона Адельстана, имя которого я не могу произносить без волнения в этой комнате, того, что был убит фалунскими рудокопами… или кем-то другим! Ибо, в конце концов, кто знает, сударь! Уверены ли вы, что Это были рудокопы? — О, что до этого, барышня, то уж если кто может поклясться честью, что ничего об этом не знает, так это ваш покорный слуга, — ответил Кристиано проникновенным тоном, который она истолковала по-своему и, казалось, была глубоко потрясена. — Ах, господин Гёфле, — живо воскликнула она, — я так и знала, что вы разделяете мои подозрения! Нет, ничто не разуверит меня в том, что все эти трагические смерти, о которых говорили и сейчас еще шепчутся… Но мы здесь совсем одни? Нас никто не может услышать? Это так серьезно, господин Гёфле! «Действительно, дело представляется серьезным, — подумал Кристиано и пошел взглянуть, закрыта ли входная дверь, стараясь подражать старческой походке, — только я тут ничего не понимаю». Он оглядел комнату и опять не заметил двери в караульню, которая была закрыта и отделяла Гёфле от двух наших собеседников. — Так вот, милостивый государь, — продолжала молодая девушка, — понимаете ли вы, что тетя хочет выдать меня замуж за человека, в котором я не могу не видеть убийцу моих близких? Кристиано, не имевший ни малейшего понятия, о чем идет речь, решил дать своей новой клиентке разговориться, показав, что он на ее стороне. — Не иначе, — заявил он несколько развязно, — как ваша тетушка сошла с ума… Или с ней еще что-нибудь похуже! — Ах, что вы, господин Гёфле, тетю мою я уважаю и виню ее только в известном ослеплении или предубеждении. — Ослепление это или предубеждение — не суть важно, но я ясно вижу, что она не желает считаться с вашей склонностью. — О, это правда, я ведь не терплю барона! Она вам этого не говорила? — Напротив! Я полагал… — О, господин Гёфле, могли ли вы поверить, что в мои лета мне мог понравиться пятидесятипятилетний старик? — Подумать только! Вашему нареченному, оказывается, к тому же еще пятьдесят пять? — Вы так говорите, будто сомневаетесь в этом, господни Гёфле! Но ведь вам-то отлично известен его возраст, вы же его советчик и, говорят, его преданный друг… Только я не могу этому поверить. — Черт возьми! Вы совершенно правы. Пусть меня повесят, если он для меня что-нибудь да значит. Но как вы назвали этого господина? — Барона? Вы, что же, не знаете, о ком я говорю? — Конечно, нет. Мало ли баронов на свете. — Но тетя же сказала вам… — Ваша тетя, ваша тетя! Почем я знаю, о чем толкует ваша тетя. Она, может быть, и сама того не знает. — Увы! Простите меня: уж она-то это слишком хорошо знает! У нее железная воля. Невозможно, чтобы она не посвятила вас в свои планы насчет меня, она ведь уверяет, что вы их одобряете! — Одобрить, что столь прелестное дитя приносится в жертву старому хрычу? — Ах! Вот видите, вы же знаете возраст барона! — Но какого барона все-таки? — Какого барона? Что же, я должна вам назвать Снеговика? — Ах! Ну да! Речь идет о Снеговике? Ну, что ж, признаюсь, мне это ничего не говорит. — Как, господин Гёфле, вам неизвестно прозвище самого могущественного, самого богатого и в то же время самого злого, самого ненавистного из ваших клиентов, барона Олауса Вальдемора? — Что! Хозяина этого замка? — И нового замка, по ту сторону озера, и невесть скольких железных и свинцовых рудников, а также залежей квасцового сланца и многих долин, лесов и гор, не считая полей, стад, хуторов и озер; наконец, владельца едва ли не десятой части всей далекарлийской провинции! Вот те доводы, о которых тетя мне твердит с утра до вечера, чтобы я позабыла о том, что он уныл, стар, болен и, может быть, отягощен преступлениями! — Черт побери! — воскликнул Кристиано в крайнем удивлении. — Вот, оказывается, у какого милейшего человека я нахожусь. — Вы смеетесь надо мной, господин Гёфле, вы не верите в его преступления! Значит, и сейчас, когда вы говорили, вы хотели посмеяться надо мной?.. — Все, что я говорил, я готов повторить вам еще раз, но только мне хотелось бы знать, в каком преступлении вы обвиняете моего хозяина? — Не я обвиняю его — народная молва приучила меня видеть в нем убийцу отца, брата и даже его невестки, злосчастной Хильды! — Как! И только? — Вам хорошо известно, что все так говорят, господин Гёфле; ведь вам было когда-то поручено?.. Нет, я ошиблась, Это ваш отец был тогда поверенным в делах барона Олауса. Барон предъявил какие-то документы. Его ни в чем нельзя было уличить; но истины так и не узнали и никогда не узнают, если только мертвые не выйдут из могил, чтобы поведать ее. — Это иногда случалось, — отвечал с улыбкой Кристиано. — Вы действительно так думаете? — Так говорится на языке людей моей профессии; понимаете, когда неожиданное доказательство, потерянное письмо, позабытое слово… — Да, я знаю; только ничего не нашли, а спустя пятнадцать или двадцать лет пришло молчание и забвение. Сперва барона подозревали и ненавидели, потом он заставил себя бояться, и этим все сказано. А теперь в самонадеянности и наглости он дошел до того, что задумал вновь жениться. Ах! Не приведи господь, чтобы я стала предметом ого ухаживаний! Говорят, он очень любил жену; но что касается баронессы Хильды, все думают… — Что думают? — Я вижу, что до вас не дошли местные слухи, господин Гёфле, или они вам смешны, поскольку вы спокойно расположились в этой комнате. — Действительно, за всем этим что-то кроется, — отвечал Кристиано, внезапно пораженный воспоминанием. — Люди с мызы говорили мне нынче вечером: «Ступайте, а завтра расскажете нам, как вы провели ночь!» Верно, тут домовой или привидение… — Надо полагать, что есть какая-то странность: призрак или действительность; потому что сам Стенсон в это верит, а может быть, и барон; после смерти невестки его ноги здесь не было, и он велел даже заделать какую-то дверь… — Вон ту, — сказал Кристиано, указав на верх лестницы. — Возможно, я не знаю, — ответила Маргарита, — все это очень загадочно, я думала, что вы посвящены в то, чего не знаю я. Я не верю в привидения! Тем не менее я не хотела бы с ними повстречаться, и ничто на свете не принудило бы меня сделать то, на что отважились вы, оставаясь тут ночевать. Что до барона, то правда или ложь вся история с бриллиантом… — Ах, еще одна история? — Она все же из всех наименее правдоподобная, с этим нельзя не согласиться, меня разбирает смех, когда я начинаю ее рассказывать. В округе говорят, что из любви к жене, которая была такой же злобной, как он сам, барон отдал ее тело алхимику, который путем перегонки превратил его в большой черный бриллиант. Вполне достоверно, что он носит на пальце странный перстень, на который я не могу смотреть без ужаса и омерзения. — Что и служит доказательством! — заметил Кристиано со смехом. — Подумать только, что вас может ожидать подобная участь! Конечно, из реторты, где вас растворят, может выйти только прехорошенький розовый бриллиантик чистой воды; но вам-то от этого не легче, и я вам советую не подвергать себя опасности кристаллизации. Маргарита расхохоталась; эхо старинной комнаты несколько раз повторило ее звонкий ребячий смех, искажая его так таинственно, что девушку сразу охватил страх, и, снова погрустнев, она сказала с унынием в голосе: — Ну, тогда все кончено, господин Гёфле, вы действительно любезный и остроумный человек, так все говорят; но я ошиблась, надеясь, что вы будете думать, как я, и станете мне опорой и избавителем. Вы думаете, как моя тетка, вы сочли пустой фантазией все, что я вам рассказала, и отвергли мои сетования! Да сжалится надо мною господь! На него одного моя надежда! — Но послушайте, — сказал Кристиано, растроганный при виде крупных слез, катившихся по ее юному лицу, на котором только что играла улыбка, — что же, вы не уверены в самой себе? Что вы мне сейчас рассказали? Вы обещали что-то поведать мне под секретом, а свели все к тому, что вам навязывают неподходящую партию и жениха, который вам неприятен. Я ожидал услышать любовное признание… Не краснейте! Любовь бывает чистой и законной, хотя бы ее и не одобряло честолюбие предков. Отец и мать могут ошибаться, и побороть их влияние не легко. А вы сирота!.. Да, конечно, раз вы зависите от старой тетки… Я назвал ее старой, а вы качаете головой. Допустим, она молода… Вернее, ей хочется, чтобы ее считали молодой. Тут уж я, видимо, мало что смыслю. Я-то думал, что она старая. Если это не так, то тем больше оснований послать ее… Я не хочу сказать куда, но пусть она получше все это обдумает, а вы тем временем посоветуйтесь со старым другом, с господином Гёфле… иначе говоря, со мной, словом, с кем-то, кто поможет вам выйти замуж за счастливого смертного, которому вы отдаете предпочтение. — Но клянусь вам, дорогой господин Гёфле, — ответила Маргарита, — я никого не люблю. О боже, не хватало мне еще этого, и без того я достойна сожаления! Разве не достаточно ненавидеть человека и быть вынужденной терпеть его ухаживания? — Вы неискренни, дитя мое, — продолжал Кристиано, который вошел в роль Гёфле и довольно убедительно исполнял ее, — вас пугает, что я передам ваши признания графине, моей клиентке. — Нет, дорогой господин Гёфле, нет! Я знаю, что вы более, чем честны, — вы добры. Все вас почитают, и сам барон, который обо всех думает дурно, не решается сказать о вас ничего дурного. Я так вам доверяю, так уважаю вас, что я подождала, когда вы приедете, и сейчас признаюсь, как мне пришло в голову повидать вас, а это в будет в двух словах вся моя история, которую тетя вам передала, может быть, не совсем точно. Выросла я в замке Дальбю (в Вермланде[348], в двадцати милях отсюда), под присмотром моей опекунши, графини Эльфриды Эльведа, сестры отца. Когда я говорю «под присмотром»… Видите ли, тетя любит свет, политику. Она живет при стокгольмском дворе и придворными делами интересуется куда более, чем моими, а я живу с самого рождения в заброшенном замке с гувернанткой-француженкой, мадемуазель Потен. По счастью, она очень добра и любит меня. Два раза в год тетя приезжает поглядеть, выросла ли я, хорошо ли я говорю по-французски и по-русски, не нужно ли мне чего-нибудь и следит ли суровый пастор нашей церкви за тем, чтобы мы никогда не принимали других посетителей, кроме нее и ее семьи. — И это очень невесело? — Да, но я не вправе считать себя несчастной. Я много занимаюсь с гувернанткой, я достаточно богата, а тетя довольно щедра, так что я не испытываю лишений; к тому же мадемуазель Потен очень милая, и, когда нам скучно, мы принимаемся за чтение романов… О! романов вполне благопристойных и очень интересных, они скрашивают одиночество; порок в них всегда бывает наказан и добродетель вознаграждена! — Как бы не так… И все же неплохо в это верить и должным образом вести себя. Но неужели в вашем одиночестве никакой красавчик со страниц романа не закрался к вам в дом или в мысли, невзирая на пастора и на тетку? — Нет, никогда, клянусь вам, господин Гёфле, — простодушно ответила Маргарита. — Однако могу вам признаться, что некий идеальный образ будущего мужа у меня все же возник, и когда, неделю назад, тетя вдруг показала мне барона Олауса Вальдемора, добавив: «Вот он, будь с ним полюбезнее», я нашла, что он не похож на мой идеал, и приняла его очень сухо. — Ну, разумеется. И тогда ваша тетка… — Высмеяла меня. «Ты дурочка, — сказала она. — Девушке благородного происхождения не следует забивать себе голову любовью. Замуж выходят не ради любви, а для того, чтобы сделаться знатной дамой. Ты станешь баронессой Вальдемора, или, клянусь тебе, ты на всю жизнь останешься узницей в этом замке и живой души не увидишь. Больше того — я рассчитаю мадемуазель Потен: наверно, это она дает тебе дурные советы. Решай, даю тебе месяц сроку. Барон приглашает нас на рождественские праздники[349] в свое богатое поместье в Далекарлии. Там будет очень весело: все время охота, балы, развлечения. Ты получишь представление о его богатстве, влиянии, значении и поймешь, что это самая блестящая и почетная партия, которую ты можешь составить. — И что же… вы сказали «да»? — Я ответила: «Хорошо, поедемте в Далекарлию, коль скоро вы даете мне месяц на размышления». Я ничего не имела против того, чтобы повидать новые места, праздники и, наконец, просто новые человеческие лица. Но только за неделю, что мы живем здесь, клянусь вам, господин Гёфле, барон стал еще более неприятным для меня человеком, чем показался в первый день. — Но у барона вы встретите… если уже не повстречали, кого-нибудь, кто вам будет не столь противен, кому вы откроете сердце, как вы открыли его сейчас мне, и кто вселит в вас надежду на счастье и вдохновит на борьбу куда лучше, чем какие бы то ни было советы старого адвоката! — Нет, господин Гёфле, никому, кроме вас, я не открою своего сердца и не стану доверяться людям, которые могут встретиться в замке Вальдемора. Я слишком хорошо вижу, что барон их ловко подобрал среди тех, кто ему чем-то обязан, или же среди честолюбцев, которые боятся его или льстят ему, и что, кроме нескольких превосходных людей, которые и не думают за мной ухаживать, все в замке гнут передо мной спину, как если бы я уже была женою их покровителя! Ко всем этим провинциальным царедворцам я испытываю только презрение и неприязнь, но зато доверяю вам, господин Гёфле! Вы поверенный в баронских делах, но вы не его холоп. Ваша независимость и благородство известны всем. Видите, тете не удалось обмануть меня! Она меня уверяла, что вы одобряете все ее замыслы, и я могла ожидать, что встречу в вас насмешливого противника, исполненного презрения к моим романтическим мечтаниям; однако брат мадемуазель Потен, гувернер в одной семье тут неподалеку, хорошо вас знает. Это Жак Потен, которому вы оказали столько услуг. — Да, как же, прелестный молодой человек! — Прелестный, ну уж нет! Он ведь горбун! — Прелестной души! Горб тут совсем ни при чем. — Это правда, он человек исключительный, он нам столько хорошего о вас наговорил, что вот я и решила повидаться с вами потихоньку от тетушки. Мадемуазель Потен умеет ловко все подстраивать и выведала день и час, когда вас ожидали в новом замке. Она укараулила ваш приезд и узнала, что, так как в новом замке слишком много народа, вы предпочтете остановиться в Стольборге. Она мне подмигнула, когда я на глазах у тети заканчивала мой бальный туалет. Когда тетушка, которой тоже надо было одеваться, а у нее это берет не меньше двух часов, удалилась в свои покои, мадемуазель Потен осталась у меня, чтобы придумать какой-то предлог и избавить меня от необходимости идти к графине, если она позовет. А я проскользнула по потайной лестнице на берег озера, где Потен велела моему верному Петерсону ожидать меня с санями, и вот я здесь! Слышите, это, должно быть, трубы в замке возвещают открытие бала. Надо скорей удирать! Да и бедный мой кучер меня заждался. Прощайте, господин Гёфле; позвольте мне прийти завтра днем, когда тетя будет спать, она ведь на балах обычно танцует и очень потом устает. А я скажу, что пошла с гувернанткой гулять, и приду к вам. — К тому же, если тетушка ваша рассердится, — сказал Кристиано более молодым, чем следовало, голосом, — вы вполне можете сказать ей, что я вас наставляю в ее духе. — Нет, — ответила Маргарита, охваченная скорее безотчетным, нежели осознанным подозрением, — я не хочу смеяться над нею, да, может быть, лучше мне больше и не приходить. Если вы сейчас же пообещаете отговорить ее от этого ужасного сватовства, мне больше не надо будет вас беспокоить. — Клянусь вам, я сделаю для вас все, как для родной дочери, — продолжал Кристиано, стараясь быть осмотрительном, — но вам необходимо время от времени оповещать меня о том, к чему приводят мои старания. — Раз так, то я приду еще. Как вы добры, господин Гёфле, и как я вам обязана. О! Я предчувствовала, что вы станете моим добрым гением! С этим пылким признанием Маргарита поднялась и протянула мнимому старцу руки; тот не преминул почтительно их поцеловать и на мгновение залюбовался прелестной графиней в бледно-розовом атласном платье, украшенном перьями гагары. Он отечески помог ей застегнуть крючок на горностаевой шубке и надвинуть капюшон, не измяв лент и цветов ее прически; затем взял ее под руку и довел до саней, где она утонула в пуховых подушках, словно лебедь в гнезде. Сани умчались вдаль, оставив на льду сверкающий след полозьев, и исчезли за прибрежными холмами, прежде чем Кристиано, стоя на Стольборгском утесе, почувствовал, что его пронизывает стужа и он едвастоит на ногах от холода. Не говоря уже о глубоком волнении, в котором он но хотел себе признаваться, наш герой был захвачен изумительным зрелищем. Метель совсем утихла и уступила место ледяному ветру, который, в противоположность нашим широтам, дует с запада и за несколько мгновений очищает весь небосклон. Никогда в южных странах Кристиано по приходилось видеть, чтобы звезды блистали так ярко. То были в полном смысле слова маленькие солнца, и самый месяц, по мере того как серп его вставал на чистом небе, сверкал, подобно звездам, чего нельзя увидеть на нашем небе. Ночь, и без того уже светлая, заискрилась снежными и льдистыми отблесками, и окрестные громады вырисовывались в прозрачном воздухе, словно посеребренные сумерками. Громады гор поражали своим величием. Угловатые гранитные кряжи, покрытые вечными снегами, замыкали тесный горизонт, и лишь на юго-западе открывалась долина. Контуры гор, как ближние, так и дальние, скрадывались темнотой, но главные линии пейзажа ясно обрисовывались на фоне широкой полосы голубого неба, которое виднелось в просвете скал. Кристиано, добиравшийся к Стольборгу чуть ли не ощупью, сквозь метель, теперь сообразил, что он проезжал по всем этим волнистым косогорам, и мало-помалу представил себе расположение фалунских ущелий и постоялого двора, где еще утром он завтракал и где Гёфле, которого везла сильная лошадь, останавливался после него и пробыл дольше, чем он. Долина, вернее — целая цепь узких полян и луговин, ведущих из Фалуна к замку Вальдемора, заканчивалась тупиком, неровным амфитеатром вершин, образованным отрогами Севенбергской цепи (иначе говоря, горами Севы или Севоны), отделяющей эту часть центральной Швеции от южной части Норвегии. Два бурных потока низвергаются со стремнин Севенберга с северо-запада к юго-востоку, охватывая горы слева и справа и устремляясь по мере их понижения один к Балтийскому морю, другой — к озеру Венерн и Каттегату. Эти два потока постепенно становятся более полноводными и образуют реки Дэльэльв и Кларэльв. Замок Стольборг лепился на каменистом утесе в глубине береговой впадины небольшого озера, образованного Кларэльвом или одним из его стремительных притоков. Читателю не требуется излишняя точность, но мы опишем ему местность в общих чертах, без значительных отклонений от истины. Хаотический пейзаж сверкал в прозрачной мгле, словно хрустальные крепостные стены, раскиданные на разных уровнях прихотливо и своевольно; граниты и льды замыкали вид с трех сторон, ниже виднелись зубчатые выступы обледенелого сланца, не столь величественные, но еще более причудливые, а по краям замерзшие каскады повисали вдоль скал тысячью алмазных игл, смыкаясь там, где ширился поток, также скованный льдом и точно припаянный к озеру, берега которого можно было различить лишь по очертаниям склонов и торчащих голых камней, на черные острия которых морозу не удалось набросить свой ровный белый покров. «Недаром мне говорили, что студеные ночи севера неслыханно прекрасны, — подумал Кристиано. — Если бы я сказал в Неаполе, что неаполитанские ночи говорят только чувствам и что тот, кто не видал зимы на ее морозном троне, понятия не имеет о чудесном творении божьем, — меня бы осрамили и забросали камнями. Ну и что же! Поистине все прекрасно под небесами, и для того, кто способен чувствовать красоту, последнее впечатление, может быть, всегда окажется самым полным и самым достойным восхищения. Но, должно быть, это поистине божественно, если я о стуже и думать забыл, а считал ее невыносимой, если мне даже приятно вдыхать воздух, который врезается в грудь, словно клинок кинжала. Конечно, я и в Лапландии побываю, даже если Пуффо меня бросит, а бедняга Жан околеет на снегу. Хочу увидеть ночь, длящуюся круглые сутки, и краткий полуденный рассвет в январе. Удачи в этой стране мне не ждать, но скромные деньги, которые я заработаю, позволят мне путешествовать как знатному вельможе, а именно пешком и в одиночестве, всем существом своим созерцая и ощущая красоту жизни, новизну ее, иначе говоря — светлую полосу, которая отделяет желание от пресыщения и мечту от воспоминания». И наш юноша с пылким воображением искал уже глазами в глубоких горных ущельях невидимую тропинку, по которой он поднимется на север или доберется до Норвегии. Ему уже рисовалось в мечтах, как он висит над краем пропасти, легкомысленно распевая какую-нибудь тарантеллу, которая поразит древнее скандинавское эхо, как вдруг звуки далекого оркестра донесли до его ушей припев старинной французской песенки, должно быть, только что попавшей к далекарлийцам. То была музыка на балу, который барон Олаус Вальдемора устраивал в новом замке для своих соседей по имению в честь прелестной Маргариты Эльведа. Кристиано вернулся к действительности. Только что он готов был на крыльях лететь к Нордкапу, а сейчас все помыслы, все желания, все надежды влекли его к освещенному замку, сиявшему огнями на берегу озера и отдававшему в окружающий воздух струи комнатного тепла. «Я вполне уверен, — сказал он себе, — что и за пятьсот экю (а бог весть, понадобятся ли мне пять сотен экю) я не покину этой удивительной страны нынче вечером, даже если сами валькирии[350] перенесут меня в сапфировый дворец великого Одина. Завтра я вновь увижусь с белокурою феей, правнучкой светлокудрого Гаральда[351]! Завтра? Да нет, завтра-то мне ее не видать! Ни завтра, ни через год! Ведь завтра счастливый смертный, законно носящий имя Гёфле, отправится в новый замок как доверенное лицо своей клиентки, тетушки Эльведа, и может статься, как и подобает бессердечному дельцу, будет способствовать свадьбе свирепого Олауса с нежной Маргаритой! И завтра нежная Маргарита узнает, что была обманута, и кем? Каким гневом, каким презрением она отплатит мне за мои лицемерные речи и благие советы!.. Однако все это не мешает мне быть голодным и ощущать холодок декабрьской ночи где-то между шестьдесят первым и шестьдесят вторым градусами широты. А ведь как я когда-то жаловался на то, что в Риме холодные зимы!» Кристиано брел обратно к медвежьей комнате, но по долгу милосердия решил проведать своего осла. Тут он более внимательно рассмотрел стоявшие под навесом сани Гёфле. Каким образом от вида этих саней наш проказник внезапно пришел к безумному решению, объяснить мы не беремся. Нам известно только, что вместо того, чтобы спокойно усесться и поужинать, греясь у печки, он уставился на принадлежавшие доктору черный кафтан и штаны, развешанные на спинке кресла в медвежьей комнате. Кристиано полагал, что ученый законовед, которого по воле случая ему довелось изображать, должен был носить старомодный и даже несколько засаленный костюм. Куда там! Господин Гёфле, который был когда-то красивым малым, очень заботился о собственной персоне, почитал своим долгом держаться прямо, был подтянут и одет всегда строго и со вкусом. Кристиано примерил кафтан, который пришелся ему как раз по фигуре, нашел пудреницу и пуховку и слегка припудрил свою черную шевелюру. Шелковые чулки чуть жали в икрах, а башмаки с пряжками были великоваты; но что из того? Станут ли в Далекарлии так уж присматриваться? Короче говоря, через десять минут Кристиано выглядел как сын богатых родителей, профессор невесть каких наук, студент или член какого-то факультета, серьезный по виду, но простой в обращении и с безукоризненными манерами. Вы уже догадались, что наш беспутный герой вывел лошадь Гёфле из конюшни, уговорив Жана не очень скучать в одиночестве, затем впряг послушного Локи в санки, Зажег фонарь и стрелой пустился вниз по крутой стольборгской дороге. Спустя десять минут он уже въезжал в ярко освещенный двор нового замка. Он небрежно кинул поводья ливрейным лакеям, сбежавшимся на звон бубенчиков его коня, и, перепрыгивая через ступеньки, стремительно поднялся в роскошный вестибюль.III
Кристиано двигался как во сне, когда чувствуешь себя вовлеченным в необыкновенное приключение и сам не можешь дать себе отчет в своих поступках. Да и разве не было все необыкновенным в стране, куда его забросила судьба? Сказочный замок, прозванный новым, в отличие от обветшавшего Стольборга, но в действительности воздвигнутый еще во времена королевы Кристины[352], был настолько роскошен, а сейчас и многолюден, что, казалось, упал с неба в самое сердце голой пустыни; окруженный дикими скалами и грозными потоками, он, естественно, имел вид совершенно неприступный, но теперь, в зимнюю пору, бесчисленные изящные возки прочертили по льду извилистые и удобные колеи; длинные ленты фонарей выделяли из мрака крепостные стены с приземистыми башенками, увенчанными большими медными колпаками с непомерно высокими шпилями, и вытянутый в длину жилой дом, с разных сторон окруженный четырехугольными пристройками, которые завершались громоздкими резными коньками с фигурными узорами и эмблемами. На башенных часах среднего здания пробило десять часов вечера — час, когда даже медведи, и те побоятся отряхнуть слой снега, под которым они укрылись, в то время как мужчины, самые утонченные из всех земных созданий, танцуют в шелковых чулках с женщинами, у которых обнажены плечи; словом, все в этой суровой и величавой природе и в оживлявшем ее светском веселье, вплоть до шутливо-жеманных мотивов старинной французской музыки, легко сочетавшейся с пронзительными стонами вьюги в длинных коридорах, — все поражало путника, да и было от чего смутиться итальянскому гостю. Видя, что огромные залы и длинная галерея с плафоном, на котором красовались древние божества, стали местом шумного сборища, Кристиано совершенно серьезно спрашивал себя, не чудится ли ему, не духи ли это, которых вызвали к жизни колдуньи здешних пустынных мест, чтобы над ним посмеяться. Откуда взялись эти люди, вырядившиеся в костюмы рококо, кавалеры в усыпанных блестками кафтанах, напудренные дамы, улыбающиеся в волнах перьев и кружев? А что, если этот заколдованный замок исчезнет вдруг по мановению волшебной палочки, а щегольски одетые гости, танцующие менуэт и чакону, взлетят ввысь, приняв обличье белых соколов и диких лебедей? Кристиано, однако, уже подметил своеобразный характер шведских нравов: раскиданные там и тут уединенные домики, огромные расстояния, отделяющие их от мелких деревушек, именуемых селами, разбросанность этих сел, протянувшихся иногда на две-три мили и объединенных между собой только зеленоватым куполом колоколенки приходской церкви; презрение знати к городскому образу жизни, который в их глазах был уделом торгашей, наконец — страсть к пустынным просторам, странным образом сочетающаяся со страстью к бешеной езде, в надежде на самые неожиданные и, казалось бы, немыслимые встречи. Но хотя Кристиано и был приглашен на деревенское празднество, он отнюдь не предвидел, что эти черты у шведов возрастают по мере того, как природные условия становятся суровей, ночи длиннее, а передвижение затруднительней. Однако именно в этом заключается потребность человека покорять себе природу и заставлять ее служить себе. Барон еще за два месяца оповестил всех соседей на пятьдесят миль вокруг, что приглашает местную знать на рождественские праздники. Никто не уважал и не любил барона, и тем не менее вот уже несколько дней, как замок полон гостей, которые сочли своим долгом съехаться со всех сторон — из-за озер, лесов и гор. Гостеприимство далекарлийцев вошло в пословицу, и, так же как любовь к уединению и сопутствующая ей жажда наслаждений, хлебосольство растет по мере углубления в отдаленные и труднодоступные области. Кристиано, заметивший удивительное добродушие шведов по отношению к чужестранцам, в особенности если те говорят на их языке, нисколько не задумывался над тем, как трудно быть представленным на бале, где вас никто не знает и куда вдобавок вас никто и не думал приглашать. Поэтому на какое-то мгновение он испытал нечто вроде неприятного пробуждения, когда в вестибюле навстречу ему вышел мажордом при шпаге и, почтительно поклонившись, учтиво протянул ему руку. Кристиано сначала подумал было, что таков в этой стране обычай приветствовать гостей, и собирался крепко пожать протянутую руку, но потом ему пришло в голову, что его просто просят предъявить пригласительный билет. Мажордом был стар, некрасив; лицо его было изрыто оспой, а заплывшие глаза выражали слащавое равнодушие, таившее в себе плохо скрытую фальшь. Кристиано на всякий случай сунул руку в карман, хоть и был уверен, что не найдет того, что ему нужно. Само собой разумеется, его пригласили в замок Вальдемора за счет амфитриона[353], но на совсем иных условиях, чем местное дворянство. Поэтому он уже приготовился было разыграть роль человека, потерявшего пропускное свидетельство и не собирающегося за ним возвращаться, как вдруг нащупал у себя в кармане, вернее в кармане Гёфле, билет за подписью барона, содержавший написанное по принятой форме приглашение на имя господина Гёфле и членов его семьи. Едва взглянув на него, Кристиано с решительным видом предъявил пригласительный билет, который мажордом не стал особенно разглядывать, успев, однако, прочесть его целиком. — Ваша милость приходитесь родственником господину Гёфле? — спросил он и бросил билет в корзину, где уже было сложено много других. — А как же, черт побери! — самонадеянно ответил Кристиано. Юхан (так звали мажордома) еще раз отвесил поклон и пошел отворять дверь, ведущую на парадную лестницу, по которой взад и вперед сновали гости, расположившиеся в замке, и свободно поднимались наверх соседи, хорошо известные многочисленной прислуге. Этой обычной формальностью и ограничилась процедура введения Кристиано в дом, но он и ее был бы рад избежать, ибо совершенно не намеревался участвовать в празднике. У него было только желание появиться на нем и взглянуть на прелестную Маргариту. Сначала он попал в обширную галерею, расписанную фресками, проходившую через все главное здание, в убранстве которой сквозило подражание итальянскому стилю, введенному в Швеции королевой Кристиной. Картины были писаны посредственно, но производили известное впечатление. Они изображали охотничьи сцены, и хотя все эти собаки, лошади и дикие звери в своем порывистом движении и не могли удовлетворить знатока точностью рисунка, все же они радовали глаз сочетаниями ярких и живых красок. Пройдя галерею, Кристиано очутился на пороге довольно пышной гостиной, где в это время как раз начинались танцы. Он стал разглядывать танцующих, охваченный только одной мыслью. И вместе с тем к его желанию увидеть Маргариту примешивалось тайное опасение. Найти способ возобновить начатый с нею в Стольборге разговор, изменив обличье, в котором он предстал ей там, на свое собственное или на какое-нибудь еще, теперь уже не казалось ему делом столь легким, как он полагал вначале, когда пускался в это безумное предприятие. Поэтому он почти обрадовался, не увидев на бале Маргариты, и воспользовался этой передышкой для того, чтобы попытаться составить себе более полное мнение о светском обществе, которое видел перед собою. Он ожидал чего-то необыкновенного, но так и не нашел. На первый взгляд он не обнаружил ничего, воображение его обмануло. То был вольтеровский век, а следовательно, век всего французского. Но примеру едва ли не всех европейских государей, высшие круги почти всей Европы переняли язык и внешнюю сторону философской и литературной мысли Франции; но так как хороший вкус, способность логически мыслить и здраво судить о вещах всегда являются достоянием меньшинства, то безудержное увлечение нашими идеями повлекло за собою немало всяческих несуразностей. Так, нравы и обычаи нередко носили на себе в большей степени печать версальской испорченности и изнеженности, нежели плодотворных фернейских досугов[354]. Как и философия, Франция стала модою. Искусства, платье, здания, хороший тон, образ жизни и внешний лоск — все было более или менее удачным подражанием Франции, всему, что было в ней хорошего и плохого, блистательного и низкого, удачного и досадного. То было своеобразное время, когда прогресс идет еще рука об руку с упадком; потом они схватываются в борьбе, стараясь удушить друг друга. Убранство в доме барона Олауса было всего-навсего несколько устарелым воспроизведением французского интерьера XVIII столетия, и тем не менее барон ненавидел все французское и вел политическую игру в пользу России; но и в России неумело подражали тогда Франции и говорили по-французски; при дворе царили жестокие и кровавые обычаи, свойственные варварам, но и там старались приноровиться к учтивой любезности в духе нашей эпохи Просвещения. Барон Олаус следовал неудержимому веянию века. Впоследствии мы узнаем его историю. А теперь вернемся к Кристиано. Когда наш герой вдоволь налюбовался туалетами дам, найдя, что они лишь на несколько лет отстают от французских, а их лица, далеко не все молодые и красивые, почти всегда выражают кротость или ум, он стал искать хозяина дома, вернее, постарался угадать его среди других мужчин по всему внешнему облику его и по лицу. Неподалеку от места, откуда он наблюдал за окружающими, оставаясь незамеченным, два человека тихо разговаривали между собой, стоя к нему спиной. Кристиано невольно прислушался к их разговору, хотя он его нимало не затрагивал. Эти два человека говорили по-французски, один с русским акцентом, другой — со шведским. По-видимому, для обмена мнений им потребовался язык придворных и дипломатов. — Ба! — воскликнул швед, — я не «колпак» и не «шляпа»[355], хотя меня и пытаются поставить во главе парламентской фракции, состоящей из самых старомодных «колпаков». Говоря по правде, все эти ребячества кажутся мне смехотворными, и вы плохо узнали бы Швецию, если бы предпочли одних другим. — Я все это знаю, — ответил русский, — голоса достанутся тому, кто больше заплатит. — Вот и платите побольше! Никакой другой политики вести не приходится. Она проста, а вам это не трудно, у вас богатое государство. Что до меня, я предан вам душой и телом, ничего от вас не требуя взамен: это вопрос одних только убеждений. — Сразу видно, что вы не из числа тех сторонников золотого века, кто мечтает о скандинавской унии[356], и что с вами мы всегда сговоримся. Царица на нас рассчитывает; но не надейтесь избежать ее благодарности: она не принимает услуг, не оплатив их с великой щедростью. — Знаю, — отвечал швед с цинизмом, поразившим Кристиано, — я это на себе испытал. Да здравствует Екатерина Великая! Пусть она сунет нас к себе в карман, я возражать не стану. Только бы избавила нас от безумной идеи права и раскрепощения крестьян, это же наша беда! Пусть задаст кнута мещанам да сошлет в Сибирь побольше дворян, которые всем хотят заправлять по-своему. А нашему славному королю важно только, чтобы вернули его приход, да еще избавили от жены, и он жаловаться не будет. — Не говорите так громко, — прошептал русский, — быть может, нас подслушивают. — Не бойтесь! Все только притворяются, что говорят по-французски, но на сотню здесь едва ли найдется и десяток таких, кто действительно понимает этот язык. К тому ясе все то, что я вам сказал, я привык говорить без всякого стеснения. Я уже давно понял, что лучшая политика — заставить бояться своего мнения. Вот я и кричу на всех углах, что со Швецией покончено. Кому не нравится, пусть доказывает, что это не так! Хотя Кристиано и не принадлежал ни к какой национальности и ничего не знал о своей стране и семье, его возмутило, что швед с таким бесстыдством продает свою родину, и он попытался разглядеть лицо человека, который вел этот разговор; но тут его внимание привлекла странная фигура, шумно и неловко переходившая от одной группы гостей к другой с видом человека, отвечающего за честь празднества. Этот персонаж был облачен в ярко-красный, богато расшитый мундир, украшенный орденом шведской Полярной Звезды[357]. Бросалась в глаза слишком высокая для того времени прическа с кричащей завивкой весьма дурного вкуса, а огромные богатые кружевные манжеты свидетельствовали о том, что роскоши тут больше, нежели чистоплотности. Ко всему, это был человек старый, неуклюжий, вертлявый, нелепый, слегка горбатый, изрядно хромой и к тому же совершенно косой. Из этого последнего обстоятельства Кристиано заключил, что у него лживый взгляд и что этот неприятный чудак не мог быть никем иным, кроме нелепого и отвратительного претендента на руку Маргариты. Кристиано скромно удалился, чтобы не быть вынужденным ему представляться и поддерживать версию мнимого родства с Гёфле (вольность, которую он со спокойной совестью позволил себе с мажордомом); он решил побродить по залам до тех пор, пока не приметит юную графиню, даже если потом ему придется уйти сразу, не сказав с ней ни слова. Ему показалось, что горбатый владелец замка взглянул на него довольно внимательно; но, ловко прошмыгнув мимо гостей, болтавших в дверях, он надеялся, что ускользнет от него. Несколько мгновений он прогуливался, не скажу — в толпе (помещение было чересчур велико по сравнению с числом приглашенных), но среди мелькавших перед ним оживленных групп гостей, к которым он не успевал приглядываться. Боясь, что к нему обратятся прежде, чем он настигнет ту, кого искал, он озабоченно проходил мимо, и именно оттого, что чувствовал себя неуверенно, принимал еще более независимый вид. И, однако, то ли из любопытства, которое возбудил к себе никому не известный гость, то ли из чувства симпатии к его привлекательной наружности и красивому лицу, только в каждом кружке, мимо которого он проходил, находились люди, расположенные с ним поговорить или любезно ответить на его поклон. Но у Кристиано кружилась голова, и он истолковывал превратно обращенные к нему приветливые взгляды и милые улыбки. Он не останавливался, притворяясь, что открыто ищет кого-то, и кланяясь с непринужденным изяществом, которое, впрочем, ему ничего не стоило, людям, оказывавшим ему знаки внимания, сам едва осмеливаясь при этом на них взглянуть. Наконец, вернувшись в галерею, называемую охотничьей, он заметил двух женщин, и тотчас же в одной из них признал ту, кого видел в Стольборге час назад, в другой — ее воспитательницу; последнее предположение основывалось на скромной одежде, робком и вместе с тем лукавом выражении лица и чем-то очень французском во всем облике мадемуазель Потен. На этом закончилась первая часть романического приключения, которое замыслил Кристиано. Он явился на бал, беспрепятственно проник в замок, сумел не попасться на глаза хозяину дома и избежать его расспросов и, наконец, нашел Маргариту под благожелательным надзором ее наперсницы. Но этого было мало. Оставалось еще заговорить с молодой графиней или привлечь к себе ее внимание и завязать с ней знакомство на новых началах. Вторая часть романа началась с больших волнений. В ту минуту, когда Кристиано ловил взгляд Маргариты, надеясь, что взгляд этот его вдохновит, он услышал за собой неровные шаги. Кто-то пытался нагнать его, и резкий, крикливый голос у него за спиной остановил его, окликнув: — Сударь! Господин чужестранец! Куда вы так спешите? Наш путешественник повернулся и столкнулся нос к носу с косоглазым и кривобоким стариком, встречи с которым, как ему казалось, он так удачно сумел избежать. Я сказал — нос к носу, ибо хромоногий, пустившись ему вдогонку, не сумел вовремя умерить шаг и чуть не упал ему в объятия. Кристиано мог бы убежать, но этим бы все погубил; и он ответил, глядя в лицо опасности: — Приношу вам тысячу извинений, господин барон, вас-то я и искал. — Ах, да! — сказал хромой, приветливо протягивая ему руку. — Я так и знал. Из всех гостей мне ваше лицо заприметилось, и я сразу подумал: «Вот, должно быть, человек образованный, какой-нибудь ученый путешественник, человек серьезный, умная голова, и, уж конечно, я тот полюс, что привлечет магнит». Ну, так вот, я к вашим услугам и с радостью отдаю себя в ваше распоряжение. Мне нравится любознательная молодежь, можете задавать вопросы, и вы на все получите ответ. В веселом лице и самоуверенных речах старика было столько чистосердечия и расположения, что Кристиано в душе уже готов был обвинить Маргариту, что она к нему несправедлива. Правда, в роли жениха он был смешон и нелеп, но то был добрейший человек в мире, который не мог бы обидеть ребенка, и в то время как один глаз его, мутный и словно слепой, блуждал по стенам залы, другой глядел на своего собеседника с такой откровенностью и отеческой теплотою, что всякое обвинение его в жестокости казалось напраслиной. — Я так смущен вашей добротой, господин барон, — отвечал Кристиано спокойно и даже несколько иронически. — Я много наслышан о ваших знаниях, и поэтому, имея некоторые слабые понятия… — Вы хотели спросить моего совета, может статься, руководства… Ах, дитя мое, во всем нужна метода… Но что же я вас заставляю стоять среди сей легкомысленной молодежи, снующей туда и сюда; давайте присядем. Никто нам не будет мешать, и, если хотите, мы можем болтать здесь всю ночь. Когда разговор заходит о науке, я не знаю ни усталости, ни голода, ни сна. Да вы и сами такой, готов поручиться! Ах, видите ли, надо или быть таким, или не лезть в ученые. «Увы, — подумал Кристиано, — я напал на кладезь премудрости, и вот я приговорен к каторжным работам в рудниках, ни больше, ни меньше, как какой-нибудь сибирский ссыльный!» Это открытие оказалось тем более жестоким, что Маргарита как раз прошла мимо и была уже в конце галереи, болтая с дамами и кавалерами, которые с нею раскланивались, видимо, направляясь в танцевальную залу, куда барон отнюдь не собирался за нею следовать. Они уселись в одной из полукруглых амбразур галереи, у печки, укрытой ветвями тиса и терновника вперемежку с оружием и чучелами голов диких зверей. — По всему видно, что вы человек очень разносторонний, — начал Кристиано, которому хотелось избежать в эту минуту ученых разговоров. — Разумеется, вы к тому же еще и умелый охотник, и меня только удивляет, откуда у вас на все находится время… — Почему вы решили, что я охотник? — удивился старик. — Ах! Вы, верно, сочли меня виновным в убийстве Этих зверей, чьи отрубленные головы так грустно взирают на нас своими янтарными глазами? Вас ввели в заблуждение: я в жизни не охотился. Мне претят жестокие развлечения, которые потакают столь естественной для человека дикости. Я посвятил себя изучению бесчувственных, но богатых недр земного шара. — Простите, господин барон, я подумал… — Но почему вы зовете меня бароном? Никакой я но барон, правда, король пожаловал мне дворянство и орден Полярной Звезды в награду за мои труды в фалунских копях. Как вам, конечно, известно, я был профессором горного института в этом городе; это не дает мне права на титул, но с меня довольно небольших привилегий, ценных в глазах гордой касты, мнение которой я, впрочем, ни во что не ставлю. «Должно быть, я обознался, — подумал Кристиано, — ну, раз так, то надо поскорее отделаться от этого ученого мужа, если только я смогу разыскать его потом». Но он внезапно переменил решение, видя, что Маргарита возвращается и медленно, поминутно останавливаясь, направляется как будто к тому месту, где он сидит. Теперь он думал лишь о том, как бы поладить с геологом, чтобы тот и представил его, если это будет возможно, как человека благородного звания. Он сразу же приступил к делу. Он знал больше, чем нужно, чтобы задавать умные вопросы. Еще утром, пробираясь через Фалун, он спустился в глубокий рудник и подобрал просто так, для своего удовольствия, несколько образцов пород, к величайшему возмущению Пуффо, который поглядывал на него как на повредившегося в рассудке. К тому же он прекрасно знал, что если ученый обуреваем тщеславием, то достаточно с должным почтением выслушать его речи и дать ему возможность поговорить о своей науке, чтобы он счел вас за человека очень умного. Так оно и получилось. Не дав себе труда осведомиться о том, как зовут его собеседника, откуда он родом и чем занимается, профессор пустился в подробное описание подземного мира, на поверхности которого он интересовался лишь самим собой, своей репутацией, своими работами и, наконец, успехом собственных наблюдений и открытий. Во всякое другое время Кристиано слушал бы его с удовольствием, ибо понимал, что имеет дело с человеком знающим, а сам он питал живейший интерес к изучению природы. Но приблизилась Маргарита, и ученый, заметя внезапную рассеянность молодого человека, посмотрел своим здоровым глазом в том же направлении и воскликнул: — А, вот и моя невеста! Нет ничего удивительного! Послушайте, друг мой, я должен вас представить приятнейшей женщине во всем королевстве! «Значит, это все-таки он! — подумал потрясенный Кристиано. — Положительно это барон Олаус! Он не в себе, и вот безумному старику стараются принести в жертву эту розу снегов!» Он окончательно уверился в этом, и его еще больше поразило, что Маргарита поспешила к старику. — А вот и моя любовь! — воскликнула она, обращаясь к мадемуазель Потен. Затем она добавила, с ласковой улыбкой протягивая руку старику: — Но как же вы можете, сударь, укрываться в этом уголке, когда невеста ваша вот уже целый час вас разыскивает! — Вы видите, она меня искала! — с простодушным самодовольством сказал ученый. — Она меня ищет, она скучает, когда меня нет рядом с ней! Что поделать, моя прекрасная возлюбленная! Не моя вина, что всем хочется со мной посоветоваться. И вот премилый молодой человек, путешественник… француз, не так ли? Или итальянец, у вас ведь есть небольшой акцент. Позвольте мне, графиня Маргарита, представить вам моего юного друга, господина… Как же вас звать? — Христиан Гёфле, — уверенно ответил Кристиано. Это имя, а также и тембр голоса, и интонации, которые были ей очень знакомы, заставили Маргариту вздрогнуть. — Вы сын господина Гёфле? — с живостью осведомилась она. — О! Поразительно, до чего же вы на него похожи! — Ничего нет удивительного, если близкие родственники так похожи друг на друга, — ответил ученый, — но молодой человек может приходиться только племянником господину Гёфле: ведь Гёфле никогда не был женат, а значит, у него нет детей, так же как и у меня. — Это еще не причина их не иметь, — шепнул Кристиано на ухо ученому. — Ах, верно, верно, — ответил тот тем же тоном и с невероятной наивностью, — я и не подумал! Ну и пострел же этот Гёфле! Выходит, вы его побочный сын? — Да, я воспитывался за границей и только недавно прибыл в Швецию, — ответил Кристиано, в восторге от успеха осенившей его мысли. — Ну, хорошо, хорошо! — продолжал ученый, очень плохо слушавший все, что прямо его не касалось. — Понимаю, это ясно, вы его племянник. — Затем обращаясь к Маргарите, он добавил: — Господин этот — мой хороший знакомый, позвольте вам представить его как истинного племянника нашего Гёфле, которого вы не знаете, но с которым, как вы сегодня утром мне говорили, хотели бы познакомиться. — Я и сейчас это говорю! — воскликнула Маргарита. И она сразу покраснела, встретившись взглядом с Кристиано, глаза которого напомнили ей своей живостью глаза мнимого Гёфле: как ей показалось, они что-то уж очень сильно блестели из-под пушистой меховой шапки, когда Кристиано время от времени приподнимал зеленые очки адвоката, чтобы получше ее рассмотреть. — А как это получилось, что вы не танцуете? — продолжал ученый, обращаясь к девушке и не замечая ее смущения. — Я думал, что всю эту ночь вы будете царицею бала и я не смогу вам и словечка сказать. — Так вот, мой дорогой поклонник, вы ошиблись. Танцевать я не буду: я подвернула ногу на лестнице. Вы не заметили, что я хромаю? — Нет, нисколько! Вздумали стать похожей на меня? Расскажите господину Гёфле, как я охромел. Это ужасная история, и другому бы из нее живым не выйти. Да, сударь, видите ли, я жертва науки. И, не дав Маргарите даже раскрыть рот, Стангстадиус принялся с воодушевлением рассказывать, как однажды, когда его спускали в шахту, веревка оборвалась, и он упал с корзиной на самое дно пропасти глубиной в пятьдесят футов семь дюймов и пять линий. Он пролежал без сознания шесть часов пятьдесят три минуты и бог уж знает сколько секунд и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой в течение двух месяцев, четырех дней и трех с половиной часов. Он не преминул также с удручающей пунктуальностью указать точную меру гипса, приходившуюся на каждую пострадавшую часть его тела, и количество — в драхмах и скрупулах — всевозможных снадобий, которые он вобрал в себя либо в виде настойки, либо в виде мазей для притираний. Рассказ получился до чрезвычайности длинным, несмотря на то, что старик говорил быстро и не повторялся. Но память была для него сущим бичом и не позволяла опустить ни одного, даже самого ничтожного обстоятельства, когда он говорил о себе самом; ему и в голову не приходило, что кому-нибудь это может наскучить. Маргарите, знавшей весь этот рассказ наизусть, незачем было его слушать особенно внимательно, и она улучила несколько минуток, чтобы потихоньку перемолвиться с мадемуазель Потен. Результат их недолгих переговоров, не ускользнувших от внимания Кристиано, не замедлил сказаться. Услужливая Потен ловко воспользовалась моментом, когда старик заканчивал свою историю и собирался начать следующую, и с подкупающим простодушием стала расспрашивать его об одной из глав его последнего труда, который, по ее словам, ей трудно было понять. Видя, с каким жаром старик углубился в спор с гувернанткой, Кристиано был восхищен женской находчивостью, а в это время глаза Маргариты откровенно говорили ему: «Я умираю от желания поговорить с вами!» Он не заставил повторять себе это дважды и последовал за нею на другой конец полукруга, где она уселась на диван, а он, став рядом с нею в почтительной позе и прикрывая собою амбразуру, искусно заслонял ее от взглядов прогуливавшихся гостей. — Господин Христиан Гёфле, — сказала она, снова внимательно к нему приглядываясь, — удивительно, до чего вы похожи на вашего дядюшку! — Мне часто это говорят, графиня, видимо, и в самом деле мы очень похожи. — Я плохо разглядела, вернее, почти не видела его лица; но голос, манера говорить… ну, в точности те же! — Мне все-таки думается, что голос у меня помоложе! — ответил Кристиано, который в Стольборге время от времени старательно приглушал свой голос, пытаясь подражать стариковской речи. — Да, есть, конечно, разница в летах, — сказала молодая девушка, — хотя можно сказать, что у вашего дядюшки голос еще очень звучный. В конце концов, он не очень и стар, не правда ли? Мне показалось, что ему нельзя дать его лет. У него чудесные глаза, и он почти с вас ростом… — Почти, — сказал Кристиано, невольно бросив взгляд на кафтан законоведа и спрашивая себя, уж не потешается ли над ним Маргарита. И, решив ускорить объяснение, он сказал: — Мы с дядей еще кое в чем схожи: мы оба питаем живейший интерес к одной известной вам особе и равно ей преданы. — Ах, вот оно что, — сказала молодая девушка, краснея еще сильнее, но в словах ее прозвучала такая искренность, что все сомнения Кристиано рассеялись. — Видимо, ваш дядюшка любитель поболтать, если он уже успел рассказать вам о моем сегодняшнем визите. — Мне неизвестно, доверили ли вы ему какой-либо секрет; в том, что он мне пересказал, никаких тайн нет, вам незачем краснеть. — Пересказал… пересказал… Уверена, что вы были там, прятались где-нибудь в соседней комнате. Вы все подслушали. — Ну да, конечно, — ответил Кристиано, поняв, что доверие к нему только возрастет, если он воспользуется мыслью, невинно ему внушенною, — я был в спальне и разбирал дядины бумаги. Он и не знал об этом, а я невольно все услышал. — Вот приятный сюрприз! — заметила Маргарита, хоть и смущенная, однако в глубине души довольная, сама не Зная почему, — Вместо одного поверенного я нашла двух! — По-видимому, вашими устами говорил ангел во плоти, но сейчас у меня появилось опасение, уж не был ли это скорее злой демон? — Спасибо за доброе мнение обо мне! Но разрешите спросить, на чем же оно основано? — На притворстве, которого я никак не могу понять. Вы описали барона Олауса как чудовище телом и душой… — Простите, сударь, вы плохо слушали. Я описала его человеком неприятным, страшным, но я никогда не говорила, что он некрасив. — Как раз это вы могли сказать, ибо, откровенно говоря, он совершеннейший урод. — У него действительно жестокое и холодное лицо, это верно, но все как один говорят, что у него очень правильные черты. — У здешних жителей странная манера судить о виденном, Но не будем спорить о вкусах. Я смотрю иначе. Я нахожу его некрасивым и неуклюжим, но добродушным и препотешным… — Вы, конечно, смеетесь, господин Христиан Гёфле, или это недоразумение. Да простит мне бог, но глазами вы указывали на господина напротив. Неужто же его вы и приняли за барона Вальдемора? — Кто же иной, если не барон, может говорить о вас как о своей невесте, кого же, как не его, вы можете весело называть своим возлюбленным? Маргарита расхохоталась. — О, в самом деле, если вы могли подумать, что я обращаюсь с бароном так запросто, по-дружески, вы должны были счесть меня лгуньей или очень непоследовательной; но, слава богу, я ни то, ни другое. Тот, кого я в шутку называю своим возлюбленным, не кто иной, как доктор наук Стангстадиус, и не может быть, чтобы вы не были о нем наслышаны от вашего дядюшки. — Доктор Стангстадиус? — повторил Кристиано с большим облегчением. — Ну что ж, признаюсь, я не знаю даже его имени, Я приехал из дальних стран, где провел всю жизнь. — Тогда, — сказала Маргарита, — мне понятно, что вы не знаете ученого минералога. Как вы совершенно верно заметили, это превосходный человек, иногда немного вспыльчивый, но не злопамятный. Добавлю, что он прост, как ребенок, и что бывают дни, когда он всерьез верит в мою страсть к нему, и старается от меня отделаться, говоря, что такие люди, как он, принадлежат всему обществу и не могут посвятить себя какой-нибудь одной женщине. Я познакомилась с этим человеком очень давно, еще тогда, когда он приехал для своих ученых занятий в наши края, в тот замок, где я воспитывалась. Он провел там несколько недель, и тетя позволила ему меня навещать, когда он бывает по делам в этих местах. Это единственный человек, которого я здесь знала, когда мы сюда приехали, ибо, надо вам сказать, барон Олаус поручил ему вести работы в своем имении. Но вот уже тетя ищет меня и сейчас начнет меня бранить, вот увидите! — Вы хотите, чтобы она вас не видела? Пройдите между стеной и этими охотничьими трофеями. — Пусть и Потен тоже сюда придет, только никогда нам не уговорить господина Стангстадиуса, чтобы он нас не выдавал. Увы! Тетушка начнет меня теребить, требуя, чтобы я танцевала с бароном, а я упорно буду ссылаться на свою хромоту, хотя на самом деле прихрамываю почти незаметно. — Надеюсь, вы совсем не хромаете? — Все-таки прихрамываю. Мне посчастливилось только что упасть у нее на глазах, когда я шла по лестнице. Я отделалась легкой болью в щиколотке, но скорчила немало гримас, желая доказать, что никак не могу открыть бал менуэтом в паре с хозяином дома. Тете пришлось заменить меня другой, вот почему я здесь; но все кончено, она идет сюда! Действительно, графиня Альфрида Эльведа приближалась, и Кристиано пришлось немного отодвинуться от Маргариты, подле которой он сидел. Графиня была невысокой, довольно полной женщиной, едва достигшей тридцати пяти лет, хорошо выглядевшей, живой, решительной и очень кокетливой, больше, правда, из любви к интригам, чем из желания понравиться. Она была одной из самых пылких сторонниц шведской партии «колпаков», иными словами интриговала в пользу России против Франции, приверженцы которой называли себя «шляпами», а также отстаивала интересы знати и лютеранского духовенства против королевской власти, искавшей, естественно, опоры в других сословиях, в горожанах и крестьянстве. В юности она, по-видимому, отличалась привлекательностью, да и сейчас была еще достаточно красива, а ум ее и положение в обществе также помогали ей одерживать победы. Но Кристиано не понравилась ее манера держать себя, то высокомерная, то чересчур фамильярная. С первого взгляда заметив в ней двуличие и упрямство, он решил, что и то и другое опасно для будущего Маргариты. — Ну что же, — спросила она племянницу язвительным и резким тоном, — что ты так жмешься к печке, точно замерзла? Подойди, мне надо с тобой поговорить. — Хорошо, тетушка, — отвечала лукавая Маргарита, делая вид, что ей трудно встать, — но у меня действительно очень болит нога! Я не могла танцевать в большой зале, и мне стало холодно. — Но с кем вы тут болтали? — спросила у нее графиня, оглядывая Кристиано, который вновь присоединился к Стангстадиусу. — С племянником вашего друга Гёфле, с которым меня сейчас познакомил господин Стангстадиус. Хотите, тетушка, я вам его представлю? Кристиано, который пропускал мимо ушей все, что ему говорил ученый, отлично расслышал ответ Маргариты и, решившись на все, лишь бы продолжать знакомство с племянницею, сам подошел приветствовать тетушку и сделал Это так почтительно и непринужденно, что произвел на нее хорошее впечатление. Надо полагать, она очень нуждалась в расположении Гёфле, ибо, несмотря на заурядное и отнюдь не дворянское имя, которое присвоил себе Кристиано, она отнеслась к нему не хуже, чем если бы он принадлежал к знатному шведскому роду. Затем, когда Стангстадиус подтвердил, что это достойнейший молодой человек, она сказала: — Мне очень приятно с вами познакомиться, и я в претензии на господина Гёфле, что он ни разу не похвалился мне, что у него такой хороший племянник. Вы тоже занимаетесь науками, как наш знаменитый друг Стангстадиус? Это весьма одобряется. Это один из лучших путей, какой может выбрать молодой человек. С помощью науки можно даже достичь самого приятного положения в свете — заставить себя уважать, ничем ради этого не поступаясь. — Я вижу, — заметил Кристиано, — что именно так обстоит дело в Швеции, к чести этой благородной страны будь сказано; по в Италии, где я воспитывался, и далее во Франции, где я прожил некоторое время, ученые обычно бедны и не получают настоящего поощрения, а подчас даже подвергаются преследованию со стороны религиозныхфанатиков. Этот ответ привел нашего геолога в неописуемую радость, ибо льстил его национальному самолюбию, и бесконечно понравился графине, которая презирала Францию. — Вы совершенно нравы, — сказала она, — и я не понимаю вашего дядю, пожелавшего воспитывать вас в чужих странах, а не у себя на родине, где судьба студента столь почетна и счастлива. — Ему хотелось, — на всякий случай ответил Кристиано, — чтобы я смог легко изъясняться на иностранных языках. Но ради этого, я думаю, незачем было засылать меня в такую даль, так как я замечаю, что по-французски тут говорят не хуже, чем в самой Франции. — Благодарю вас за комплимент, — сказала графиня, — но вы нам льстите. Вряд ли все-таки мы говорим по-французски так хорошо, как вы. Что до итальянского, то на нем мы говорим и того хуже, хотя этот язык и входит в наше воспитание, если оно может назваться хорошим. Поговорите-ка по-итальянски с моей племянницей, а если она будет коверкать этот язык, посмейтесь над ней, очень вас прошу. Только почему все же господин Гёфле придает такое значение живым языкам? Уж не предназначает ли он вас к дипломатической карьере? — Очень может быть, ваше сиятельство мне еще не вполне известны его намерения. — Что вы говорите! — воскликнул геолог. — Успокойтесь, дорогой профессор, — сказала графиня. — Этой стороной дела еще надо заняться. Все жизненные пути хороши, если умеешь продвигаться. — Если госпожа графиня соблаговолит давать мне советы, — начал Кристиано, — я почту себя счастливым и глубоко обязанным. — Ну что же, весьма охотно, — ответила она, глядя на него приветливо и дружелюбно, — мы поболтаем, и я о вас позабочусь, тем более что вы обладаете всем необходимым для успеха в свете. Проводите нас в танцевальную залу, мне непременно хочется заставить мою племянницу станцевать хотя бы один менуэт; это не утомительно, а ее отказ может показаться неуместным. Слышишь, Маргарита. Надо делать то, что делают все! — Знаете, тетушка, — сказала Маргарита, — не у всех ведь нога болит! — В свете, дитя мое, — начала графиня, — я это говорю и для вас, господин Гёфле, не может быть никаких помех, когда речь заходит об учтивости и приятном обхождении. Запомните хорошенько: если судьба наша складывается неудачно, мы всегда в этом виноваты сами. Надо иметь железную волю, превозмогать холод и жару, голод и жажду, уметь переносить большие страдания, равно как и мелкие неприятности. Свет — это отнюдь не сказочный замок, где люди только и делают, что развлекаются, как это представляешь себе в молодости. Совсем наоборот, это горнило испытаний, где любые преграды, любые желания, любое отвращение следует преодолевать с истинным стоицизмом… когда у тебя есть какая-то цель! А ведь только глупец живет без цели. Справьтесь у своего возлюбленного, Маргарита, думает ли он о своих удобствах и боится ли ушибиться, спускаясь в пропасть, чтобы найти там то, что является целью его жизни! Так вот, под дворцовыми сводами, так же как и в глубинах рудников, есть немало всяких ужасов, которых человек не должен бояться. Потанцевать с небольшой болью в щиколотке — такой пустяк в сравнении со многим, что ты узнаешь в будущем. Полно. Вставай и пойдем! Маргарита невольно обратила горестный взгляд на Кристиано, точно говоря: «Вот видите, мне никогда не удается настоять на своем». — Вы позволите мне предложить руку графине Маргарите? — спросил Кристиано у ее властной тетушки. — Она действительно хромает. — Нет, нет, все это одни капризы! Вот увидите, ей совсем не захочется прихрамывать, это же очень некрасиво. Маргарита, подайте руку господину Стангстадиусу и проходите вперед, чтобы мы могли видеть, кто из вас двоих больше припадает на ногу. — Это я-то хромаю! — вскричал ученый. — Я хромаю, только когда я об этом не думаю! Если я захочу, я хожу в десять раз быстрее и держусь прямее, чем лучшие ходоки! Ах! Хотел бы я, чтобы вы меня в горах повидали, когда порою надо показать ленивому проводнику, что человек может сделать все, чего захочет! Говоря это, Стангстадиус принялся очень быстро шагать, так сильно переваливаясь с ноги на ногу, что бедная Маргарита, которую он увлекал за собой, едва касалась пола. — Дайте мне руку, — попросила Кристиано графиня Эльфрида, — хоть я, правда, не нуждаюсь ни в охране, ни в опоре, но мне просто хочется побеседовать с вами. Идя быстрыми шагами и продолжая говорить на ходу, она добавила: — Ваш дядя вам, должно быть, говорил, что я хочу выдать племянницу за барона Вальдемора? — Действительно, ваше сиятельство, он мне об этом говорил… сегодня вечером. — Сегодня? Он приехал? Я не знала, что он уже здесь. — Он, должно быть, не нашел места в рамке и остановился в Стольборге. — Как! В этом пристанище злых духов? Что ж, в хорошей же он там будет компании, но на бал он разве не придет? — Надеюсь, что нет! — неожиданно вырвалось у Кристиано. — Надеетесь, что нет? — У него ведь подагра. Ему необходим отдых. — Как, у него подагра? Вот уж не повезло ему, он ведь такой подвижной и деятельный! Никогда у него не было подагры, и он был уверен, что так и проживет без нее. — Совсем недавно, на этих днях, у него был приступ. Он послал сюда меня вместо себя, прося передать вам его нижайшие поклоны и получить ваши распоряжения, дабы я мог их ему сообщить наутро, как только он проснется. — Ну, вот и прекрасно. Вы передадите ему все, что я вам скажу. Тайны я из этого не делаю. Я заметила, что стоит предать какой-либо проект огласке, и он уже тем самым наполовину осуществлен. Итак, я хочу выдать племянницу за барона. Вы скажете, что он не молод: лишний повод для него поскорее отвадить от себя дюжину несносных наследников, обхаживающих его без всякого толку. Да вот как раз двое из них проходят мимо; один — это граф Нора, человек безобидный, другой — барон Линденвальд, умный интриган, честолюбец, но беден, как и вся наша нынешняя знать. Барон Олаус, у которого нет братьев, составляет счастливое исключение, но могу сказать — и вам и вашему дяде, — что он склонен остановить свой выбор на моей племяннице, она же к нему склонности не питает. Меня это, правда, ничуть не тревожит: племянница моя — еще дитя, она уступит. Так как моя воля стала всем известна, ухаживать за ней никто больше не посмеет, это я беру на себя. Вашему дяде остается лишь убедить барона, а сделать это очень легко. — Если графиня удостоит меня своими указаниями… — Вот они в двух словах: моя племянница любит барона. — В самом деле? — Как! Вам еще непонятно? Вы же готовитесь в дипломаты! — Ах, да, конечно; простите, сударыня… Считается, что графиня Маргарита любит барона, хотя на самом деле она его не выносит, и… — И нужно, чтобы барон поверил, что он любим. — Стало быть, Гёфле должен рассказать ему всю эту историю? — Только он. Барон очень недоверчив. Я давно его знаю; убедить его мне не удастся. Он подозревает, что я имею на него виды. — А у вас их нет, — сказал, улыбаясь, Кристиано. — Есть, только… для моей племянницы. Разве это не мой долг по отношению к ней? — Разумеется, но согласится ли Гёфле на это маленькое преувеличение? — Чтобы адвокат постеснялся слегка прикрасить истину? Что вы мне говорите! Ради того, чтобы выиграть дело, ваш милейший дядюшка и не на такое пойдет! — Конечно, но поверит ли барон? — Барон во всем доверяет Гёфле. Он считает его единственным искренним человеком. — Господин барон хочет, чтобы его любили ради него самого? — Да, у него есть такая странность. — Если он любит графиню Маргариту, то легко поддастся иллюзии! — Любить! Да разве в его годы любят? Вовсе не в этом дело! Это человек серьезный, думающий о женитьбе, чтобы иметь наследника, ведь его сын умер два года назад. Он хочет обладать красивой женой благородного происхождения, и ему нужно только, чтобы она не сделала его посмешищем. А с моей племянницей он ничем не рискует. У нее есть принципы. Будет ли она довольна свой участью или нет, она себя не уронит. Можете сказать это вашему дяде, чтобы его убедить. Обещайте вдобавок мою благодарность, она чего-нибудь да стоит, он это прекрасно знает. Мое положение помогает мне оказывать большую услугу в обмен за малую. Начнем с того, чего он хотел бы для вас? Чего вы сами хотите? Хотите сразу стать атташе и прочно укрепиться в русском посольстве? Мне стоит лишь сказать слово. Посол здесь. — Боже упаси! — воскликнул Кристиано, ненавидевший Россию. По он спохватился, не желая пока что ссориться с графиней, и закончил фразу так; — Боже меня упаси позабыть о ваших милостях! Я сделаю все, чтобы их заслужить. — Ну, так сразу же и начинайте. — Должен ли я отправиться в Стольборг разбудить дядю? — Нет; пока длится бал, подходите время от времени к моей племяннице и заговаривайте с ней. Воспользуйтесь Этим, чтобы расхваливать ей барона. — Но я ведь его не знаю. — Вы его видели, этого достаточно: говорите так, словно вас поразили его благородное лицо и величественная осанка. — Я охотно бы это сделал, если бы мне довелось его видеть, но… — Ах! Вы еще не поздоровались с ним? Идемте, я берусь вас ему представить. Или нет, не так. Вы попросите Маргариту показать его вам и тотчас же восхититесь красотой его черт. Это будет простодушно, непосредственно и куда лучше заранее заготовленных похвал. — Но как может мое мнение, пусть даже искреннее, повлиять на взгляды вашей племянницы? — В Швеции каждый, кто путешествовал, стоит двоих, а то и троих. А к тому же разве вы не знаете, что молодые девицы ни в чем сами не разбираются, что в выборе они руководствуются самолюбием, а не склонностью, и поэтому человек, которым они более всего восхищаются, будет тот, кто вызывает наибольшее восхищение у других. Взгляните, вот моя племянница среди молодых особ, которые не прочь снискать расположение барона! Вот и отлично, что она сидит с ними. Я оставляю ее там, а вы вмешайтесь в их пересуды, и чтобы помочь вам исполнить то, что вы мне пообещали, я сейчас возьму барона под руку и пройдусь с ним на виду у этой чинной компании. Пользуйтесь случаем. — Но ежели барон ненароком меня приметит, он спросит, кто этот дурень, который даже не попросил себя представить ему и до того неотесан, что не сумел этого сделать сам? — Не бойтесь, я все беру на себя. К тому же барон вас не увидит. У него плохое зрение, и он различает людей только по голосу. На охоте он носит очки и бьет очень метко, но в свете из кокетства он этого себе не позволяет. Итак, решено. Ступайте! Минуту спустя Кристиано уже оказался в кружке прелестных барышень, отдыхавших между двумя танцами. Чтобы присоединиться к ним, он обратился к мадемуазель Потен, стоявшей в последнем ряду, сказав ей несколько любезных слов, к которым бедная девушка была очень чувствительна. Маргарита с удовольствием заметила, что он примкнул к группе молодых людей, окружавших кресла своих дам, и те тут же узнали от нее, что это «достойный молодой человек, племянник знаменитого адвоката Гёфле, близкого друга тетушки». Некоторые надули губки, считая, что не полагается человеку незнатному ухаживать за ними наравне с молодыми офицерами индельты[358], которые, как правило, происходили из хороших семей; но большинство девушек приняло его радушно, найдя его очень милым. Дело в том, что, как и многие другие искатели приключений этой богатой приключениями эпохи, Кристиано и вправду был очень мил. Природа наделила его той красотой, которая должна была нравиться в этих краях: высоким ростом, белой кожей, свежим цветом лица, синими глазами, опушенными длинными ресницами, черными, как смоль, бровями, пышными волосами. Никто не сомневался, что это чистокровный далекарлиец, характерный представитель народности, резко отличающейся от всего прочего населения скандинавских стран. В нем было еще что-то, что выделяло его и обращало на себя внимание: какая-то необычная манера держать себя, особая мягкость речи, и в этом ощущалось влияние более цивилизованного и изысканного общества, нечто очень тонкое итальянское или французское, исходившее от всего его облика. Как только узнали, что он воспитывался в Италии, его засыпали вопросами. Ответы его дышали здравым смыслом, искренностью и весельем, и, поболтав с молодыми девушками каких-нибудь четверть часа, он вскружил им всем головы. Хоть Кристиано и не был фатом, его это нисколько не удивило. Он давно уже привык нравиться, и, пожелав во что бы то ни стало разыграть из себя в этот вечер человека светского, он понимал, что справится с этой ролью лучше большинства присутствовавших на бале людей, титулованных и увешанных орденами, и что помешать этому может только нечто непредвиденное, но тогда уже это будет настоящим провалом. Между тем маленькая графиня Эльфрида, вцепившись, или, скорее, повиснув на руке огромного барона Олауса, уже дважды прошла мимо, не встретив взгляда Кристиано. На третий раз она громко кашлянула, потом подвела барона к Маргарите, и Кристиано, уловив наконец ее намерение, оторвался от упоительной беседы и отошел, чтобы разглядеть барона, не привлекая к себе его внимания. Барон Олаус был очень высоким, грузным и, несмотря на свой возраст, красивым мужчиной, но лицо его действительно отпугивало своей матовой белизной и какой-то Зловещей неподвижностью. Его пристальный взор сковывал, как порывы ледяного ветра, от которых захватывает дух, а губы пытались изобразить мрачное подобие улыбки, исполненной презрения и тоски. Его невыразительный голос был неприятно сух; стоило Кристиано услышать, как барон обращается к Маргарите, и он тотчас узнал в нем человека, который час назад так дешево продавал Швецию, изливаясь в своих чувствах перед русским дипломатом. Он узнал его и по высокому росту и богатой одежде темного цвета, которую приметил, слушая, как он расписывал свою родину врагу. — Так вы решительно не желаете потанцевать, — обратился раздосадованный барон к Маргарите, — у вас очень болит нога? Графиня Эльфрида не дала Маргарите ответить. — О, это сущие пустяки, — вмешалась она, — Маргарита сейчас пойдет танцевать. И она увела барона прочь, снова кинув на Кристиано весьма властный взгляд. Кристиано же истолковал ее приказание по-своему: — Так это и есть барон Олаус Вальдемора? — спросил он у Маргариты, подходя к ней и к мадемуазель Потен, которая вплотную придвинулась к девушке при виде хозяина замка. — Это он, — с горькой улыбкой отвечала Маргарита. — Как вы его находите? — Этот человек, возможно, был красив лет тридцать тому назад. — По меньшей мере! — подхватила Маргарита со вздохом. — А лицо его вам нравится? — Да. Я люблю веселые лица. А у него оно такое… — Страшное, правда? — Так что же вы говорили дяде? — спросил Кристиано, усаживаясь позади ее кресла и понижая голос. — Он убил свою невестку? — Так думают. — А я уверен в этом! — О! Потому что… — Потому что, должно быть, он вот так глядел на нее! — А правда ведь, у него взгляд как у моржа? — Вы немного преувеличиваете, — заметила мадемуазель Потен, которая, без сомнения, была запугана какой-нибудь молчаливой угрозой графини Эльфриды, — у него пристальный взгляд незрячих людей. — Да! Совершенно верно, смерть слепа, — сказал Кристиано. — Но кто же прозвал его Снеговиком? Прозвище подходящее: для меня оно олицетворяет шпицбергенскую стужу. Меня дрожь пробрала. — А тик у него какой, заметили? — спросила Маргарита. — Он поднес руку ко лбу, словно собирался отереть пот; вы об этом? — Вот именно. — Может быть, Снеговик хочет, чтобы думали, будто его в пот бросило, а он просто-напросто подтаивает. — Вот видите, я права, что боюсь его. А на его черный бриллиант вы обратили внимание? — Да, я заметил омерзительный черный бриллиант, когда он отирал лоб своей иссохшей рукой; рука-то иссохшая, хотя живот у него толстый и лицо одутловатое. — О ком это вы говорите? — спросила молоденькая русская девушка, приподнявшаяся, чтобы расправить платье на своих фижмах. — Не о бароне ли Вальдемора? — Я как раз утверждал, — не смущаясь, ответил Кристиано, — что этому человеку и трех месяцев не протянуть. — Ну, раз так, — ответила, смеясь, русская, — торопитесь выйти за него замуж, Маргарита! — Приберегите этот совет для себя, Ольга, — ответила молодая графиня. — Увы! У меня нет, как у вас, такой тети, перед которой ничто не устоит! Но почему вам кажется, господин Гёфле, что барон так болен? — По его неравномерной полноте, по желтизне белков его стекловидных глаз, по втянутым ноздрям его горбатого носа, а больше всего но чему-то неуловимому, что я ощутил, когда взглянул на него. — В самом деле? Вы наделены ясновидением, как здешние обитатели севера? — Сам не знаю. Я не считаю себя колдуном, но верю, что есть натуры более или менее чувствительные к некоторым таинственным влияниям, и ручаюсь вам, что барон Вальдемора недолговечен. — По-моему, — сказала Маргарита, — он давным-давно мертв, но владеет каким-то дьявольским секретом выдавать себя за живого. — Верно, он похож на привидение, — вставила Ольга, — но все равно я считаю его красивым, несмотря на его годы, в нем есть какая-то завораживающая сила. Он мне снился прошлой ночью. Мне было страшно, и этот страх был сладостен. Объясните мне почему! — Это очень просто, — отвечала Маргарита, — барон — великий алхимик: он умеет делать бриллианты! А сегодня утром вы ведь говорили, что за бриллианты пошли бы на сделку с дьяволом! — Вы злючка, Маргарита. А если бы я это рассказала кому-то, кто передал бы все барону в том виде, как вы это повернули, ручаюсь, вам было бы очень досадно. — Вы тоже так думаете, господин Гёфле? — спросила Маргарита у Кристиано. — Нет, — отвечал он, — к чему бриллианты ангелам? Разве у них нет звезд? Маргарита покраснела и, обращаясь к русской девушке, молвила: — Милая Ольга, я вас умоляю, скажите сами барону, что я его не переношу. Вы окажете мне большую услугу. А в подтверждение… Вот браслет, он вам так нравится! Поссорьте меня с бароном, и браслет ваш. — Ну, вот еще! А что скажет ваша тетя? — Я скажу, что потеряла его, а вы его пока не надевайте. Вот и все. Смотрите, барон опять к нам идет, хочет меня пригласить снова. Начинается менуэт. Я откажусь. Тетя там занята политическими разговорами с русским посланником. Станьте рядом со мной, барону придется пригласить вас. Действительно, барон с замогильным видом подошел подтвердить свое приглашение. Маргарита задрожала всем телом, когда он протянул руку, ожидая, что она вложит в нее свою, и произнес: — Графиня Эльведа сказала, что теперь вы пожелаете танцевать, и я велел повторить для вас менуэт. Маргарита поднялась, сделала шаг и вдруг снова упала в кресло: — Мне хотелось послушаться тети, — проговорила она решительно, — но вы видите, господин барон, я не могу, и не думаю, чтобы вы захотели подвергать меня пытке. Барон удивленно развел руками. Это был человек умный, очень хорошо воспитанный и крайне недоверчивый. Графине не удалось провести его настолько, чтобы по малейшему признаку он не распознал отвращения Маргариты, а оно было столь явно, что сомневаться не приходилось. В улыбке его проглянуло глубочайшее презрение, и он с изящной иронией ответил: — Вы, право, слишком добры ко мне, мадемуазель, поверьте мне, я глубоко тронут! И тотчас, обратясь к Ольге, он пригласил ее и взял за руку, а Маргарита тем временем наскоро расстегнула драгоценный браслет и успела сунуть его честолюбивой девушке. — Господин Гёфле, — порывисто воскликнула она, обращаясь к Кристиано; голос ее дрожал. — Вы принесли мне счастье, я спасена! — Однако вы побледнели, — заметил Кристиано, — вы дрожите. — А как же иначе! Я испугалась, а сейчас думаю, как, должно быть, рассердится тетушка, и мне снова становится страшно! Но все равно, я избавилась от барона! Он мне отомстит, до смерти, может быть, доведет, но я не стану его женой, не буду носить его имени, не дотронусь до его обагренной кровью руки! — Замолчите, ради бога, замолчите! — твердила мадемуазель Потен, столь же бледная и перепуганная, как она. — Вас могут услышать! Вы вели себя храбро, и я вас поздравляю, но в глубине души вам страшно, а сейчас вы так возбуждены, что, того гляди, заболеете. Боже мой! Только не упадите, дорогая моя, вот, нате, понюхайте! — Не бойся, моя милая, — ответила Маргарита, — вот мне уже и лучше. А гости что-нибудь заметили? Я еще не решаюсь ни на кого взглянуть. — Нет, слава богу, громкая ритурнель оркестра заглушила слова, а все девицы как раз встали с мест для танца. Мы почти одни здесь в уголке. Не оставайтесь на виду. Самое главное, чтобы тетушка не устроила вам сцены, пока вы в таком состоянии. Уйдемте, вернемся к вам в комнату. Обопритесь на мою руку. — Я больше вас не увижу? — сказал Кристиано, не будучи в силах скрыть волнение. — Увидите, — ответила Маргарита, — мне хочется еще с вами поговорить; приходите через час… — Где мне найти вас? Скажите! — Не знаю… Ну хорошо, в буфетной! И Маргарита удалилась, а Кристиано тотчас покинул гостиную через другую дверь и отправился на поиски условленного места встречи, чтобы попусту не плутать в нужную минуту. К тому же слово «буфетная» возбудило в нем чувство, которое мучило его с момента приезда на бал, как бы ни был он увлечен своим приключением. «Если там никого нет, я нанесу страшнейший урон хозяйским запасам», — подумал он про себя. Покуда он направляется к этому святилищу, посмотрим, что происходит в гостиной.IV
Разумеется, барон не любил танцевать, и не с его телосложением было выделывать антраша: однако в те времена имелись благородные танцы, и в них принимали участие самые степенные люди, приобщаясь тем самым к светской жизни. Барон, вдовевший уже давно, не задавал праздников, покуда был жив его будущий наследник; но видя, что имени его суждено умереть вместе с ним, а титулам и богатству грозит опасность перейти к другой линии рода, которую он ненавидел, он твердо решил поскорее жениться вторично и найти себе отнюдь не любезную подругу жизни, в чем у него не было ни малейшей потребности, а просто молоденькую девушку, у которой родились бы дети. И вот он поставил замок на широкую ногу и со всей округи созвал особ прекрасного пола с единой целью возложить баронскую корону на самую задорную головку, которая бы этого захотела. Графиня Эльфрида думала уже заполучить ее. Но ее игру разгадали, у старого жениха открылись глаза. Он понял, что смешон, и поклялся отомстить тетке, а равно и племяннице; но к этой клятве, которую он поспешил произнести, присоединилось решение не дать себя обмануть второй раз и самому устроить свои дела, остановив свой выбор на первой попавшейся девице благородного происхождения, которая окажется к нему благосклонной. Девицею этой стала Ольга; у него отпали на этот счет все сомнения, когда она рассказала ему шепотом, как Маргарита уступила ей свои права и притязания на его сердце. Она нагло сплела сеть интриг с притворным простодушием и с видом невинного ребенка, каким она во многих отношениях и была, но вместе с тем как женщина, снедаемая честолюбием и действующая расчетливо и умело. Будучи человеком неглупым, барон поддержал ее болтовню, делая вид, что не придает ей значения, но по окончании танца, вместо того чтобы отвести Ольгу на место, он предложил ей руку и повел в галерею, широкие просторы которой позволяли уединиться. И там, сжав своими ледяными руками ее горевшую руку, он холодно сказал: — Ольга, вы молоды и прекрасны; но вы бедны, а благородное происхождение ваше не позволяет вам выйти замуж за какого-нибудь красавца без имени. От вас одной зависит, чтобы ваша милая болтовня перестала быть болтовней. Предлагаю вам свое имя и блестящую будущность. Ответьте мне серьезно и немедля, ибо мы с вами никогда больше не вернемся к этому разговору. Ольга действительно была молода, красива, бедна, тщеславна и жадна. Она ухватилась за это предложение и согласилась без малейших колебаний. — Очень рад, благодарю вас, — сказал Олаус, целуя ей руку. — Разрешите мне не добавлять к этому ни слова. Я был бы смешон, если бы стал говорить вам о любви. А то вы подумали бы, что я рассчитываю на любовь. Мы поженимся. Это решено, и у нас есть веские основания, чтобы пойти на это, и у того и у другого, это правда. Теперь, если вы заинтересованы в том, чтобы брак состоялся, я требую от вас полнейшей тайны в течение нескольких дней; главное, ничего не говорите Маргарите и ее тетке. Можете вы мне это обещать? Поймите, что всякая нескромность приведет к разрыву между нами. Ольга была слишком заинтересована в этом молчании и со всей искренностью пообещала хранить тайну. Барон вернулся с ней в большую залу. Их отсутствие было столь недолгим, что если кто-то его и заметил, то вряд ли мог придать этому обстоятельству какое-либо значение. Однако графиня Эльведа уже заволновалась и пошла поглядеть, куда делась племянница. — Не беспокойтесь, — сказала Ольга, — она только что Здесь была. — Она прячется, она ни за что не хочет танцевать! — Нисколько, — возразил барон, — она как раз согласилась, но я сам не захотел злоупотреблять ее любезностью. И, взяв графиню под руку, он пошел с нею; дорогой он успел сказать ей, что не хочет никакой любви по принуждению, что он взрослый и отлично может сам ухаживать за женщиной, и попросил ее ни во что больше не вмешиваться, если она не хочет, чтобы у него пропала всякая надежда на женитьбу и даже само желание жениться. Графиню такое торжественное заявление даже успокоило: ведь впервые барон как будто принял решение добиваться руки ее племянницы. При всем своем коварстве и умении вести интригу она на этот раз попала впросак, ибо барон теперь задумал отплатить ей той же монетой и разыграть ее так же ловко, как она разыграла его. «Удивительно, — рассуждал сам с собой Кристиано, направляясь к буфетной, — насколько самые высокопоставленные интриганки, считающие себя вершительницами судеб простых смертных, глупы в своих ухищрениях, и как легко оставить их в дураках! Так и должно быть, когда исходят, при таком образе жизни, из полного презрения к человеческой природе. Нельзя презирать других, не презирал самого себя, а кто не умеет уважать себя в своих делах, того охватывает бессилие. Тетка была и великолепна и забавна, когда она преспокойно мне говорила: «Я веду племянницу на заклание; помогите же мне поскорее, вам за все заплатят: вы получите место старшего лакея в хорошем доме!» Но тут Кристиано прервал свои философские размышления: он вошел в залу, которую искал и которую узнал но запаху жареной дичи, поистине восхитительному. Это была хорошенькая ротонда, где стояли складные столики с закуской, чтобы еще до начала ужина особо проголодавшиеся гости могли немного подкрепиться. А так как в девять часов все уже сидели за большим столом, то зала пустовала, если не считать крепко спавшего лакея, которого Кристиано не стал будить, боясь прослыть обжорою и невеждой. Ничего не выбирая и не выискивая, он взял себе заливного, приготовленного по-французски; по не успел он отрезать кусок ножом с позолоченной ручкой, как дверь с грохотом отворилась, внезапно разбуженный лакей вскочил на ноги, как будто подкинутый пружиной, и вошел Стангстадиус, тяжело и неровно ступая по паркету, так что задрожал хрусталь и зазвенела фарфоровая посуда. — Ах, черт побери! — воскликнул он, увидя Кристиано. — Как хорошо, что вы тут! Не люблю закусывать в одиночестве, мы с вами поболтаем о серьезных вещах, пока будем удовлетворять слепую потребность нашей жалкой человеческой машины… Ба! Да вы никак собрались закусывать стоя? Ну уж нет, это очень вредно для пищеварения, и толком не распробуешь вкус кушанья… Карл, приготовь-ка нам вот этот стол, тот, что побольше… Вот так! И подай нам чего-нибудь получше… Ветчины, закусок? Нет, еще для начала чего-нибудь посущественнее, хороший кусок говядины; а потом выбери кусочек медвежьего окорока повкуснее. Ветчина-то эта по крайней мере норвежская? Это лучшее копчение… И вина, Карл, что же ты стал? Мадеры, бордо да добавь несколько бутылочек шампанского для молодого человека, он, должно быть, до него охотник… Вот так, Карл, ну и хватит, мой мальчик; только не отходи далеко, нам скоро и десерт понадобится. Заказав все, что было надо, Стангстадиус уселся поудобнее спиной к печке и принялся уплетать вовсю яства и так обильно запивать их винами, что Кристиано не выдержал и, нисколько не стыдясь, принялся работать всеми своими тридцатью двумя зубами. Что до ученого, то у него хоть и оставалось их не больше дюжины, он так ловко ими действовал, что нисколько от него не отстал, продолжая при этом болтать без умолку и энергично жестикулировать. Удивленный Кристиано в глубине души сравнивал его со сказочным чудовищем, полукрокодилом-полуобезьяной, и вопрошал себя, как в этом разболтанном теле, с виду тщедушном, с остроконечной, нелепо посаженною головой и расходящимися глазами вмещается такая могучая сила. Разглагольствования геолога помогли ему разрешить эту задачу. Достойный муж никогда не любил никого, даже своей собаки. Ему все было безразлично, за исключением идей, в кругу которых он жил как бы одним собою, довольный собою, восторгаясь собою, ублажая себя и опьяняясь похвалами за неимением ничего другого. — Видите ли, дорогой мой, — отвечал он, когда Кристиано пришел в восхищение от его крепкого здоровья, — меня господь бог таким создал и такого другого уже не создаст. Нет, клянусь вам, ему не суметь! Я не испытываю тех неприятностей, от которых страдают все прочие люди. Начать с того, что я никогда не знал грубого и жалкого недуга любви. Не было у меня в жизни ни минуты, когда бы я забыл себя ради какой-нибудь из этих хорошеньких кукол, из которых вы понаделали себе кумиров. Семьдесят лет женщине или восемнадцать — мне все едино. Когда я голоден и сижу одни в хижине, я ем все, что там найдется, а если не нахожу ничего, то принимаюсь обдумывать свои труды и способен переносить голод, не испытывая при этом мучений. За хорошим столом я ем все и наедаюсь до отвала без дурных последствий. Я не страдаю ни от жары, ни от холода; голова у меня всегда пылает, но священным огнем, который не изнашивает организма, но, напротив, поддерживает его и обновляет. Мне незнакомы чувства ненависти или зависти; я знаю, что никто не разбирается в них лучше, чем я; что до завистников, а их много, я их давлю, как червяков, и после моей критики им уже никогда не подняться. Короче говоря, я сделан ид железа, золота и алмазов и могу потягаться с земными недрами, ибо вряд ли в них содержится вещество прочнее и драгоценнее того, из которого создан я. Услышав столь категорическое и откровенное заявление, Кристиано не мог удержаться от приступа смеха, чем ничуть не смутил и не обидел кавалера Полярной Звезды. Напротив, он принял эту смешливость как веселую дань уважения его превосходству во всех областях, и Кристиано понял, что имеет дело со странным возбуждением особого рода, которое он мог бы определить следующим образом: безумие от избытка позитивизма. Было бы совершенно бесполезно расспрашивать его о лицах, интересовавших Кристиано. Стангстадиус соблаговолил лишь заметить, что барон Вальдемора, несмотря на некоторый интерес к науке, в сущности все же дурак. Что до Маргариты, то он считает, что очень глупо с ее стороны колебаться, когда можно разбогатеть, выйдя за кого-то замуж. Он все же щадил ее немного и признавался, что находит ее приятнее других за то, что она была в него влюблена, что было доказательством наличия у нее здравого смысла, но сам он оставался к ней равнодушен, ибо наука была для него одновременно а женой и любовницей. — Поистине, господин профессор, — сказал Кристиано, — вы производите на меня впечатление натуры удивительно цельной, и логика ваша просто чудесна. — Ах, могу вас уверить, — ответил Стангстадиус, — я не уступлю вашему барону Олаусу, чья сила и хладнокровие так восхищают глупцов. — Моему барону? Право же, мне от него ничего не нужно. — А я о нем не говорю ни хорошего, ни плохого, — ответил профессор. — Все люди более или менее жалки; но разве он не старается прослыть вольнодумцем, который никогда ничего не любил? — Неужели он действительно кого-то любил? Значит, лицо его очень обманчиво. — Не знаю, любил ли он жену, пока она была жива. Чертовка была презлющей. — Быть может, он преклонялся перед ней? — Как знать? Она помыкала им как хотела. Во всяком случае, после ее смерти он не мог без нее обходиться и обратился ко мне, чтобы я пережег и кристаллизовал госпожу баронессу. — Так, так! Значит, пресловутый черный алмаз дело ваших рук? — Вы его заметили? Не правда ли, прекрасное произведение искусства? Гранильщик терялся в догадках, естественный он или искусственный. Я должен вам рассказать, как я действовал и как мне удалось добиться прозрачности. Я взял тело, покрыл его слоем извести, как это делали древние, поместил на очаг, где ярким пламенем горели дрова, каменный уголь и смолы, облил все это горным маслом. Когда тело сильно уменьшилось… Кристиано, которому выпало на долю слушать рассказ о том, как сжималась и кристаллизовалась баронесса, решил поскорее поужинать и пропускал все мимо ушей, но он насытился прежде, нежели профессор закончил свою лекцию. Встреча с ним расстроила все планы Кристиано: ему хотелось остаться наедине с Маргаритой и ее гувернанткой. Положение еще больше осложнилось, когда в залу хлынуло множество молодых офицеров индельты. Этим прожорливым гиперборейцам мало было тех кушаний и напитков, что разносили в большой зале. Они пришли разогреться добрыми испанскими и французскими винами, и Кристиано обнаружил наконец в их обычае отведывать вина особенность, свойственную северянам, которой он ранее не наблюдал. Тогда же он заметил, что манеры их грубоваты, а веселость более тяжеловесна, чем у него. Зато откровенность и сердечность этих молодых людей подкупала. Все его чествовали и заставляли пить за компанию, пока он не почувствовал себя слегка навеселе и, боясь впасть в излишнюю непринужденность, остановился, дивясь, с какой легкостью эти могучие сыны гор поглощали крепкие вина. Как только ему удалось ускользнуть от их дружеских угощений, он стал возле дверей, чтобы сразу же выйти, как только Маргарита появится в галерее. Он полагал, что, увидя залу, где столько молодых людей пьют вино, она не захочет войти; но она спокойно вошла, а через несколько мгновений следом за ней пришли и другие молодые девушки в сопровождении своих кавалеров. Они расположились за другими столиками, а сидящие там потеснились, чтобы дать им место, и принялись их угощать. Веселье стало шумным и дружным. Язык Версаля был оставлен, все перешли на шведский, а то и на далекарлийское наречие; голоса сделались громче, девицы пили шампанское, не поморщившись, и даже кипрское вино и портвейн, не боясь Захмелеть. Среди присутствовавших оказались братья, женихи и кузены; все было по-домашнему, в отношениях с девушками замечалась приятная непринужденность, подчас Экспансивность и некоторая вольность, но, в общем, они подкупали своей целомудренной простотой. «Вот чистые души, — рассуждал Кристиано, — чего же ради эти люди, когда хотят понравиться, стараются подражать русским или французам, в то время как они так выгадывают, становясь самими собой?» В маленькой графине Маргарите его пленяло именно то, что она оставалась сама собой при любых обстоятельствах. Конечно, мадемуазель Потен прекрасно ее воспитала, сохранив в ней природную непосредственность. В особенности ему было приятно, что она отказалась от вина. У Кристиано были на этот счет свои предрассудки. Пока молодежь болтала и смеялась, окружив Стангстадиуса, чей стол с обильными яствами сделался центром и мишенью насмешек, нимало, однако, его не смущавших, Маргарите удалось рассказать Кристиано в доверительном тоне, чем, должно быть, она очень порадовала его, о том, что тетя совсем к ней переменилась: не бранила ее и говорила с ней ласково. — Как видно, барон ей ничего не сказал о моей выходке, — добавила она, — или, зная об этом, она решила взяться за меня иначе, чтобы вернее склонить к своей цели; как бы то ни было, но я вздохнула свободно, барон мной больше не интересуется, и если даже завтра тетя разбранит меня или отошлет в наказание в Дальбю[359], где я буду совсем одна, я все же хочу повеселиться этой ночью и позабыть все огорчения. Да, да, мне хочется потанцевать и попрыгать, потому что, представьте себе, господин Гёфле, ведь это первый бал в моей жизни, и танцевать мне приходилось только у себя в комнате с моей милой Потен. Поэтому я умираю от желания попробовать свое умение на людях и умираю от страха, что покажусь неуклюжей или перепутаю на французской кадрили. Мне бы надо найти кого-то, кто бы любезно помог и понаблюдал за мной, чтобы дружески предостеречь меня от промахов. — Такого человека найти не трудно, — ответил Кристиано, — а если вы мне окажете доверие, ручаюсь, вы станцуете так, точно это ваш сотый бал. — Ну вот мы и условились, принимаю с благодарностью. Дождемся полуночи. Мы устроим с этими господами и барышнями, что тут собрались, свой собственный маленький бал, в конце галереи, и, может быть, тетя, которая танцует в большой зале с самыми важными особами, не заметит, что вывих мой так быстро прошел. Кристиано, со своей стороны, начал болтать с прелестной девушкой, а так как он немного захмелел от шампанского, веселость его незаметно перешла в сентиментальность; как вдруг громко произнесенное имя заставило его вздрогнуть и мигом обернуться. — Христиан Вальдо? — произнес молодой офицер с открытым и живым лицом. — Кто его видел? Где он? — Да, в самом деле! — воскликнул Кристиано, поднимаясь, — где Христиан Вальдо, и кто видел его? — Никто, — послышалось за другим столом. — Кто видел лицо Христиана Вальдо, и кто его когда-нибудь увидит? — Вы его не видели, господин Гёфле? — спросила Маргарита у Кристиано. — Вы его не знаете? — Нет! Кто этот Христиан Вальдо, и почему его лицо невозможно увидеть? — Но вы о нем слыхали? Вас поразило его имя? — Да, потому что оно дошло до моих ушей еще в Стокгольме; но я не обратил на него особенного внимания, и я уже не помню… — Послушайте, майор, — начал молодой лейтенант, — раз вы знаете этого Вальдо, объясните нам, кто он такой и что он делает. Я ничего еще о нем не знаю. — Если это удастся майору Ларсону, значит, он человек весьма умелый, — заметила Маргарита. — Что до меня, то я столько всего наслышалась о Христиане Вальдо, что заранее обещаю не поверить ни слову из того, что мы о нем сейчас услышим. — Однако, — отвечал майор, — честью готов поклясться, что не скажу ничего, о чем не осведомлен как следует. Христиан Вальдо — итальянский актер, разъезжающий из одного города в другой, развлекает народ своими славными шутками и неистощимым весельем; спектакли его состоят из… — Это мы знаем, — перебила Маргарита, — нам даже известно, что он дает представления то в гостиных, то в тавернах, сегодня во дворце, а завтра в хижине, беря втридорога с богачей, но часто совсем задаром играя для народа. — Забавнейший чудак, — заметил Кристиано, — что-то вроде паяца. — Паяц или нет, а человек он необыкновенный, — продолжал майор, — больше того, отважный. Я видел, как в Стокгольме месяц тому назад он храбро дрался с тремя разъяренными пьяными матросами; один из них чуть не побил молоденького юнгу, а возмущенный Христиан Вальдо вырвал у него из рук его жертву. В другой раз этот Христиан кинулся в огонь, чтобы спасти старушку, и всегда отдавал почти весь свой заработок тем, кто вызывал в нем жалость. Наконец, в предместье люди его так полюбили, что, говорят, он вынужден был уехать потихоньку, чтобы ему не устроили торжественных проводов. — А также, — сказала Маргарита, — чтобы не снимать маски: а то власти начали уже опасаться столь популярного незнакомца и думать, не русский ли он шпион, готовый поднять какой-нибудь мятеж, когда придет время. — Вы полагаете, — сказал Кристиано, — что этот чудак — ибо, как видно, он все же чудак — русский шпион? — Ну нет, этому то я не верю. — ответила Маргарита, — я не из тех, кому всегда хочется, чтобы под обличьем доброты и щедрости скрывались дурные намерения. — Но зачем эта маска? — спросила одна из девушек, жадно слушавшая офицера, — зачем он всегда надевает черную маску, когда входит в свой театр и выходит оттуда. Может быть, чтобы изобразить итальянского арлекина? — Нет, он ведь никогда не играет сам в спектакле, который дает публике. Причина тут есть, только никто ее не знает. — Может быть, — предположил Кристиано, — чтобы скрыть какой-то изъян? — Поговаривают, что ему нос отрезали, — сказал кто-то из молодых людей. — А другие уверяют, — добавил третий собеседник, — что это писаный красавец и что хозяева дома, где он остановился в предместье, и еще несколько человек, с которыми он подружился, видели его лицо. — Кажется даже, — продолжал майор, — он вовсе и не маскируется, если можно так сказать, внутренне; что до его лица, то тут мнения разделяются. Молодая перевозчица, сходившая с ума от любопытства, добилась того, что он снял маску, и ей стало дурно: она увидела череп. — Положительно, этот Вальдо — воплощение дьявола, — сказала Маргарита, — если он умеет по желанию прикинуться то красавцем, то привидением. А вам, барышни, не хочется поглядеть на него? — А вам самой, Маргарита? — Честно говоря, все мы горим этим желанием, и все-таки нам очень страшно. — Говорят, что он приедет сюда? — спросила одна из девиц. — Говорят даже, что он уже здесь, — ответил майор. — Как, неужели? — вскричала Маргарита. — Он приехал? Мы его увидим? Он, может быть, здесь, на бале? — Ну, сюда ему было бы трудно попасть, — проговорил Кристиано. — Почему трудно? — Потому что фигляр не посмеет появиться в хорошем обществе в качестве приглашенного. — Ба! Похоже, что этот шутник отважится на все, — сказал майор. — Маска и лицедейство неразлучны с его именем; но утверждают, и это весьма возможно, что под другим именем и без всякой маски он расхаживает по улицам Стокгольма, проникает в дома и что на гуляньях и в самых людных тавернах, заводя разговор о нем, никогда не знаешь, нет ли его где-то рядом и не он ли сам говорит с вами в эту минуту. — Ну, раз так, — заметилКристиано, — то можно ли вообще что-нибудь толком о нем узнать? Чего доброго, он сейчас тут, среди нас, в этой комнате! — Ну уж нет! — возразила Маргарита, обведя глазами стены. — Тут все друг другу знакомы. — Но меня-то никто не знает? Может быть, я и есть Христиан Вальдо! — Тогда где же ваш череп? — смеясь, сказала одна из девушек. — Без маски и без черепа вы только мнимый Вальдо! Кстати, господа, кто-нибудь скажет нам, откуда известно, что он приехал? — Могу вам сказать, — предложил майор, — как я узнал об этом. Какой-то неизвестный попросил здесь пристанища, ему сказали, чтобы он шел на хутор, потому что в доме полно народу. Он назвал себя, показал письмо мажордома Юхана, пригласившего его от имени своего господина, барона, развлечь собравшееся общество. Не знаю, нашелся ли для него уголок в замке или в другом месте. Но что он приехал — это верно. — Кто вам это рассказал? — Сам мажордом. — И он был в маске? — Да, в маске. — Как же он выглядит: высокого роста, толстый, статный, кривоногий? — Об этом мне было незачем расспрашивать, я его своими глазами видел в Стокгольме, хотя и в маске. И знаю, что он высок, строен и легок, как олень. — Может быть, в прошлом он канатный плясун? — заметил Кристиано. Казалось, что разговор уже перестал его занимать и поддерживал он его только из вежливости. — Нет, что вы, — возразила Маргарита, — это человек, получивший отличное образование. Все в восторге от его пьес — они написаны прекрасным стилем и остроумны. — А кто докажет, что писал их он сам? — Люди, сведущие в старой и новой словесности, утверждают, что там ничего не заимствовано, эти балаганные пустячки, иногда, как говорят, сентиментальные, явились литературным событием в Стокгольме. — Как вы думаете, мы услышим его завтра? — посыпались вопросы со всех сторон. — Весьма возможно, — ответил майор, — но если барышням не терпится это узнать, я берусь сам отыскать его и спросить у него об этом. — Сейчас, в полночь? — спросил Кристиано, поглядев на стенные часы. — Бедный малый, должно быть, давно уже спит. А я-то думал, что графиня Маргарита собиралась представить на обсуждение общества более важное предложение. — Да, действительно, — воскликнула Маргарита, — мне хотелось предложить вам устроить маленький бал в своей компании. Признаюсь, я здесь новенькая, настоящая дикарка; всего два-три дня, как мы с вами знакомы, но все, кто здесь присутствует, оказали мне прекрасный прием и были со мной так предупредительны, что я беру на себя смелость сказать… Пусть уж господин Гёфле будет так любезен и все вам расскажет сам. — Дело вот в чем, — начал Кристиано, — графиня Маргарита, как она только что вам сказала, сущая дикарка. Она ничего не умеет, даже танцевать; она неприглядна сверх всякой меры и хромает не меньше, чем наш знаменитый ученый муж Стангстадиус. Помимо того, она неуклюжа, рассеянна, близорука… В общем, чтобы согласиться с ней танцевать, нужна немалая толика истинно христианского милосердия, ибо… — Довольно, довольно, — вскричала, смеясь, Маргарита, — вы описали мою особу в самых уничижительных тонах, но я все же вам благодарна. Теперь все ждут таких ужасов, что если я хоть кое-как выйду из положения, все будут в восторге! Я хочу дебютировать в небольшом кругу, и если все хотят того же, то мы немножко потанцуем в галерее. Оркестр в большой зале так грохочет, что нам иной музыки не потребуется. Некоторые молодые люди сразу же устремились к Маргарите, желая стать ее партнерами. Она поблагодарила их, сказав, что Христиан Гёфле заранее уже принес себя в жертву. — Да, это так, господа! — весело вскричал Кристиано, беря своей рукой в перчатке ручку Маргариты, — пожалейте меня, и отправимся на пытку! В одно мгновение место было выбрано, и начался контрданс. Маргарита попросила освободить ее от участия в начинавшейся кадрили. — Вы ужасно взволнованы, — заметил Кристиано. — Это верно, — ответила она, — сердце у меня бьется, как у птицы, которая впервые выпорхнула из гнезда и не окончательно уверена в том, что у нее есть крылья. — Видимо, первый бал — это важное событие в жизни девушки, — сказал наш искатель приключений. — Через год, когда вы в сотый раз пойдете танцевать, вспомните ли вы случайно имя и лицо скромного смертного, которому выпала честь и счастье направлять ваши первые шаги? — Да, безусловно, господин Гёфле, это воспоминание всегда будет связано с самым сильным волнением в моей жизни, со страхом перед бароном и с радостью освобождения от него усилием воли, на которое я не считала себя способной и на которое, конечно, вы с вашим дядей вдохновили меня. — А знаете что, — сказал Кристиано, — теперь я не очень-то верю в ваше отвращение к барону. — Почему же? — Вас, во всяком случае, гораздо больше пугала необходимость танцевать на людях, чем танцевать с ним. — И, однако, я с ним не танцевала, а с вами танцую. Кристиано невольно сжал пальчики Маргариты, но она подумала, что это знак, что пора вступать в танец, и, раскрасневшись от удовольствия и робости, последовала за ним; они смешались с веселой толпой, где вскоре она почувствовала себя совсем уверенно, ибо ее изящество и легкость давали ей на то неоспоримое право. — Ну вот, кажется, уже и не страшно, — сказала она, возвращаясь на место, в то время как другая четверка начинала новую фигуру. — Очень уж вы расхрабрились, — отвечал Кристиано. — Я надеялась, что на что-то пригожусь, да, видно, вы успели отрастить себе крылышки и того гляди упорхнете с первым встречным. — Только не с бароном! Но скажите же, отчего вы все-таки решили, что я преувеличила свою неприязнь к нему? — Боже ты мой! Я вижу, что вы страстно любите танцы, а значит, праздники и роскошь; всякая страсть имеет свои последствия. А если удовольствие — цель, то богатство — средство. — О, неужели вы находите, что я такая глупенькая и такая дурнушка, что мне не получить богатства иначе, как выйдя за старика? — Так вы признаетесь, что богатство для вас условие замужества? — Если бы я ответила «да», то что бы вы обо мне подумали? — Ничего плохого. — Да, я всего-навсего стала бы одной из многих, и поэтому вы обо мне ничего хорошего не подумали бы. Отдыхая после третьей кадрили, которую танцевала их пара, они вновь вернулись к этому щекотливому разговору. Маргарита сама вызвала Кристиано на откровенность. — Признайтесь, — начала она, — вы презираете девушек, идущих замуж ради богатства, как Ольга, например, которая находит барона красивым сквозь бриллиантовую призму собственных грез. — Я никого не презираю, — ответил Кристиано, — от роду я человек терпимый, а может быть, грани моей добродетели просто поистерлись от соприкосновения со светом. Меня восхищает то, что выше суждения света, а к тем, кто следует общему течению, я отношусь с философским равнодушием. — Восхищает, говорите вы? Не чересчур ли дорогая плата за столь естественную вещь, как бескорыстие? Но я не требую так много, господин Гёфле, мне нужно только ваше уважение. Поверьте, прошу вас, если я не буду стеснена в выборе, я послушаюсь зова сердца, а никак не корысти. Даже если мне никогда не придется носить кружева на рукавах, атласные бантики на платьях и не суждено танцевать при свете тысячи свечей под звуки тридцати скрипок, гобоев и контрабасов, я чувствую себя в силах принести эту огромную жертву, чтобы сохранить свободу чувств и чистую совесть. Маргарита говорила с жаром. Возбужденная танцем, она ничего не старалась скрыть; благородная романтическая душа ее сквозила в сверкающих глазах, лучезарной улыбке, в этом порыве птицы, рвущейся в облака, в светлых кудрях, змейками струившихся по белым плечам, во взволнованном голосе, словом — во всем ее обаятельном существе. Кристиано был ослеплен, и, точно во сне, сам не зная, что говорит, он вдруг задал Маргарите странный вопрос: — Все же вы никогда не полюбили бы человека не вашего круга, и если бы, наперекор разуму, сердце ваше склонялось в пользу бедняка, человека без имени, без состояния… скажем, к Христиану Вальдо, полагаю… вы бы устыдились и сочли бы себя в разладе с собственной совестью? — К Христиану Вальдо! — удивилась Маргарита. — Почему к Христиану Вальдо? Вы выбрали весьма странный пример! — Чрезвычайно странный, и я это сделал намеренно. Когда исходят от противного… Возьмем такой пример: предположим, этот Христиан Вальдо, которого я совершенно не знаю, обладает смелостью, умом, благородным сердцем, которым его только что наделяли, но вместе с тем неразлучен с бедностью, неизменной спутницей его приключений, и именем, которое им взято, надо полагать, не из тех, что записаны на пергаменте… — И с головой мертвеца. — Нет, без головы мертвеца. Так вот, предположим, что вам пришлось бы выбирать себе в мужья между этим человеком и бароном Вальдемора. — Я приняла бы очень простое решение; я бы вовсе не вышла замуж. — Если только под маской этого Христиана не оказался бы молодой прекрасный принц, вынужденный скрываться по соображениям государственной важности. — Полноте, — ответила Маргарита, — еще один царевич Иван[360], бежавший из тюрьмы, или новоявленный Филипп Третий[361], избегнувший своих убийц! — И в этом случае, настоящий он или мнимый, он в ваших глазах заслужил бы прощение. — Что вы хотите, чтобы я вам ответила? Итальянский шут не может служить для сравнений, если уж говорить серьезно. — Это справедливо! — отрезал Кристиано. — Вот и конец; пусть же он будет легок нам, ибо это горсть земли, брошенная на роман под названием «Первый контрданс». Но этому контрдансу не суждено было окончиться по хореографическим законам. Ибо Стангстадиус, закончив наконец вечернюю трапезу, которую он назвал закуской между ужином и встречею Нового года, вышел в эту минуту из буфетной. Вечно увлеченный какой-то высокой мыслью, вызванной приятной работой здорового желудка, он наткнулся по пути на маленький бал и пошел напролом без церемоний, задевая кавалеров, грациозно выделывавших па аванде, и то и дело наступая на ножки танцующим дамам, словно шел по камням. Он так смешно ковылял из-за своей хромоты, что все покатились со смеху. Вся фигура танца была смята, и молодые пары, взявшись за руки, завели шумный хоровод вокруг кавалера Полярной Звезды, который, не желая оставаться в долгу, сам принялся припрыгивать не в такт, к вящей потехе всей компании. Но увы! они так развеселились и распелись, что в большой зале наконец обратили на это внимание. Оркестр закончил последнюю ритурнель, а молодежь даже этого не заметила. Распевая, она плясала вокруг Стангстадиуса, который сравнивал себя с Сатурном, окруженным своим кольцом. Прибежала графиня Эльфрида и увидя, что племянница ее неожиданно исцелилась, пришла в негодование, с которым на сей раз не смогла совладать. — Дорогая Маргарита, — сказала она резким, дребезжащим голосом, — ты очень неблагоразумна; ты забыла, что у тебя вывих, а с этим шутить опасно. Я только что говорила с нашим домашним врачом: он назначил тебе на эту ночь полный покой. Пожалуйста, уходи сейчас же отсюда вместе со своей гувернанткой, она уложит тебя в постель и поставит компресс. Поверь, это лучшее, что ты можешь сделать. И она добавила совсем тихо: — Изволь повиноваться! Раскрасневшаяся Маргарита сразу стала бледной и то ли от досады, то ли от огорчения не могла сдержать две крупные слезинки, блеснувшие на длинных ресницах и покатившиеся по щекам. Графиня Эльфрида поспешно схватила ее за руку и увлекла за собой, добавив шепотом: — Ты сегодня поклялась делать одни глупости. Ты за это поплатишься. Я простила тебе то, что ты не хотела танцевать с хозяином дома; он действительно мог поверить, что ты нездорова. Но плясать с другим означает вести себя вызывающе по отношению к барону, и я не могу допустить, чтобы он это сам заметил. Кристиано пошел вслед за Маргаритой, ища способа обезоружить или отвлечь ее тетку, если бы вдруг нашлась удобная минутка, чтобы к ней обратиться, но тут он увидел приближающегося барона. Он сразу остановился у подножия статуи, внимательно следя за тем, что должно было произойти между этими тремя лицами. — Как! — воскликнул барон. — Вы уже уводите свою племянницу? Так рано! Она как будто перестала скучать у меня! Прошу вас ее помиловать, и коль скоро, как меня уверяют, она уже танцевала, я прошу ее потанцевать и со мной. Теперь она уже не сможет мне отказать, и я уверен, что она охотно согласится. — Если вы этого требуете, барон, я уступаю, — сказала графиня. — Поблагодари барона, Маргарита, и следуй за ним; разве ты не видишь, что он предлагает тебе руку для полонеза? Маргарита колебалась; ее глаза встретились со взглядом Кристиано, в котором боролись желание, чтобы она осталась на бале, и боязнь, что она уступит просьбе барона. Последнее чувство, видимо, преобладало у него во взгляде, и Маргарита твердо ответила барону, что уже приглашена. — Кем это, скажите, пожалуйста? — вскричала графиня. — Да, кем? — осведомился барон странным тоном, в спокойствии которого Маргарите почуялось нечто недоброе. Она опустила глаза и смолкла, не понимая, что происходит в уме ее преследователя, от которого она уже считала себя избавленной. А у барона не было в мыслях ничего другого, кроме желания помучить и осрамить ее; он прекрасно видел, что она испытывает к нему отвращение, и платил ей от всего сердца той же монетой. Злобную холодность и мстительность он скрыл под шуткой, но говорил достаточно громко, чтобы его услышали многие любопытные уши: — Где тот счастливый смертный, у кого я должен вас оспаривать? Ибо я решился вас оспаривать, я имею на это право! — У вас на это есть право? — вскричала Маргарита вне себя. — У вас, господин барон? — Да, у меня, — отвечал тот с устрашающим издевательским спокойствием, — вам это прекрасно известно! Ну, где же он, сей мнимый соперник, что посмеет плясать с вами у меня под носом? — Вот он! — откликнулся Кристиано, теряя голову и бросаясь к барону с угрожающим видом, среди всеобщего молчания, вызванного любопытством и страхом. Было известно, что барон раздражителен и только кажется сонным и пресыщенным. Знали и его непомерную гордость. Все ожидали скандала, и действительно барон сделался вдруг очень бледен и даже позеленел, мигая большими близорукими глазами, точно из них вот-вот посыпятся молнии и уничтожат неизвестного смельчака, открыто бросившего ему вызов; но лицо его стало красным, на лбу вздулась кровавая жила, а губы посинели. Глухой крик вырвался из его груди, руки судорожно вытянулись, и весь он как-то осел, бормоча: — Он! Он! Он свалился бы на пол, если бы два десятка услужливых рук не протянулись, чтобы поддержать его. Он потерял сознание, и его пришлось перенести к окну, которое тут же разбили, чтобы ему было чем дышать. Ольга протиснулась сквозь толпу, стремясь оказать ему помощь. Маргарита исчезла, должно быть, тетка куда-то увлекла ее за собой. Нашего Кристиано быстро увел майор Осмунд Ларсон, успевший уже с ним подружиться. — Пойдемте со мной, — сказал этот славный молодой человек. — Я должен с вами поговорить. Через две-три минуты Кристиано оказался наедине с Осмундом в старинной зале нижнего этажа, где топился огромный камин. — Здесь мы можем покурить в свое удовольствие, — сказал майор. — Взгляните, какой богатый набор трубок; выбирайте себе любую по вашему вкусу, а вот табачница, угощайтесь! Видите, на столе лучшее местное пиво и старая данцигская водка. А сейчас и приятели мои явятся с последними новостями. — Вы, кажется, думаете, что я очень сержусь, милый майор, — отвечал Кристиано, — но вы ошибаетесь. Я ничего другого не желаю, кроме как дать барону время прийти в себя и, покуривая с вами, дождаться, чтобы он продолжил наше объяснение. — Зачем? Чтобы драться на дуэли? — спросил майор. — Что вы! Барон никогда не дерется, он ни разу не дрался на дуэли. Вы что, совсем его не знаете? — Нет, — ответил Кристиано, спокойно набивая трубку и наливая большую кружку пива. — Выходит, что совсем как Дон Кихот я столкнулся с ветряной мельницей? А я и не подозревал, что поставил себя в такое смешное положение. — Вы не были в смешном положении, дорогой мой; в глазах многих, и в том числе моих, вы даже совершили смелый поступок, не уступив Снеговику. — Но мне следовало бы помнить, что он из снега, а снег легко тает. — Только не в наших краях! У нас такие снеговики выстаивают подолгу. — Значит, я, сам того не ведая, попал в герои? — Лишь бы вам не пришлось в этом убедиться на собственной шкуре. Барон не хватается за шпагу, но он мстит и никогда не прощает обиды. Где бы вы ни были, его ненависть последует за вами. Какую бы карьеру вы ни избрали, он не даст вам продвинуться. Если вы попадете в неприятное положение, что может случиться с любым смельчаком, он сумеет добиться, чтобы все окончилось для вас плохо, а если ему удастся засадить вас в тюрьму, то он устроит так, что вы уже оттуда не выйдете. Поэтому советую вам не встречаться с ним у него в доме и во всяком случае — быть настороже до конца жизни, если только черту не заблагорассудится этой ночью свернуть шею своему куманьку и его не хватит удар. — Вы полагаете, что барон так плох? — спросил Кристиано. — Мы сейчас узнаем. Вот лейтенант Эрвин Осборн, мой лучший друг, и он, конечно, разделяет мою симпатию к вам. Ну, что, лейтенант, какие новости о Снеговике? Оттепель не приближается? — Нет, все это пустяки, — ответил лейтенант, — по крайней мере он уверяет, что пустяки. Он на минутку удалился в свои покои и вышел оттуда такой посвежевший, что можно подумать, будто он наложил на свои бледные щеки румяна. Но все равно: взгляд у него тусклый и речь затруднена. Я подошел к нему просто из любопытства, а он это принял за знак внимания и соблаговолил мне сказать, что желает, чтобы гости шли танцевать и перестали им заниматься. Он остался в большой зиле, а что ему хуже, чем он хочет признаться, доказывает то, что он совершенно Забыл о приступе ярости, который довел его до столь чудесного состояния, и никто не смеет ему об этом напомнить. — Теперь танцы пойдут на славу, — сказал майор, — и вот увидите, гости повеселятся еще больше прежнего. Все Здесь хотят забыться, будто перед какой-то близкой бедой, а наследники, присутствующие в замке, поглядывают с нескрываемой радостью на то, что барон так серьезно занемог. Но скажите-ка нам, Христиан Гёфле, кем вы прикинулись или какими чарами околдовали нашего любезного барона? Может быть, вы призрак или волшебник? Уж не озерный ли вы дух, завораживающий людей своим леденящим взглядом? Что произошло между вами и бароном и почему, когда он терял сознание, у него вырвался этот загадочный возглас — на этот раз я хорошо его расслышал: «Он! Он!» — Объясните мне это сами, — сказал в ответ Кристиано, — сколько я ни стараюсь, никак не могу припомнить, где я видел этого человека, а если и видел, то, должно быть, при каких-то незначительных обстоятельствах, раз воспоминание о нем так смутно. Скажите, он не путешествовал по Франции или Италии?.. — Давным-давно уже он не покидает Севера! — Ну, так, значит, я ошибся: я видел сегодня барона впервые! Однако можно было подумать, что он узнал меня… Не кажется ли вам, что, говоря: «Он! Он!», барон может быть, просто бредил? — Несомненно, — подтвердил майор. — В моем бустёлле[362] есть один садовник, которому пришлось у него служить, так вот он сообщил мне прелюбопытные подробности. Барон страдает припадками, которые доктор считает нервными и которые происходят от застарелой болезни печени. Во время припадков он иногда испытывает беспричинный страх. Великий скептик и насмешник становится малодушен, как ребенок; ему являются призраки, в особенности призрак женщины. Тогда-то он и кричит: «Он! Он! Худо мне! Он меня душит!» — Может статься, это укоры совести? — Уверяют, что это воспоминание о его невестке. — Которую он убил? — Говорят, что не убил, а просто сделал так, что она исчезла. — Да, это слово звучит приятнее. — Но ни то, ни другое недостаточно обосновано, — возразил майор. — Фактически же никто ничего не знает, и возможно, что барон неповинен во многих преступлениях, которые ему приписывают. Знаете, мы с вами находимся в замечательном краю, где верят во все чудесное. Далекарлийцы не выносят ничего положительного и не признают, никаких естественных объяснений. В этом краю нельзя споткнуться о камень без того, чтобы не подумали, будто домовой нарочно его столкнул вам под ноги, а если у вас зачесался нос, то бегут к колдунье, чтобы она удалила яд карлика, который вас укусил. А если постромка порвалась у возка или саней, то возница, перед тем как ее починить, непременно скажет: «Ну, ну, чертенок, чур меня, чур, мы ведь тебе ничего худого не делали, ступай своей дорогой». Вы сами понимаете, что среди столь суеверных умов барон Вальдемора не мог разбогатеть, не прослыв алхимиком. Вместо того чтобы предположить, что ему платила русская царица за то, что он поддерживал ее политические интересы, сочли, что проще обвинить его в колдовстве. От такого упрека один шаг до обвинений в самых черных преступлениях: любому чародею ничего не стоит утопить человека в водопаде, скинуть в пропасть, накрыть его лавиной. Он правит шабаши, питается по меньшей мере человеческим мясом и сойдет, пожалуй, за скромника, если удовольствуется высасыванием крови у младенцев. Что до меня, то я такого понаслышался, что больше уж никакие россказни всерьез не принимаю. С меня хватает и того, что я знаю, а именно, что барон — человек злой, слишком подлый, чтобы убить, слишком избалованный и привередливый, чтобы пить кровь, слишком зябкий, чтобы подстерегать прохожих подо льдом на озере, но способный отправить лучшего друга на виселицу, если ему это выгодно, и для этого он не погнушается никакой клеветой. — Какой негодяй! — воскликнул Кристиано. — Но позвольте, меня все же удивляет, что в гостях у него столько порядочных людей… — Да, конечно! — перебил Осмунд, не давая ему договорить. — Прескверная штука приходить развлекаться за счет ненавистного всем человека. Вам-то простительно, вы его не знаете, а уж нам-то… — Я не хочу переходить на личности, — заметил Кристиано. — Охотно верю, мой дорогой; только напрасно вы удивляетесь, что у тирана есть свой двор. Вам, без сомнения, известна история вашей страны; но, конечно, отсутствуя долгие годы, вы могли надеяться, что кое-что пришло в равновесие в связи с развитием философии. Но ничего такого не произошло, Христиан Гёфле, ровным счетом ничего, скоро вы увидите это собственными глазами. На первом месте дворянство, за ним следует духовенство, просвещенное, суровое, не деспотическое и нетерпимое. Весьма полезное государству купечество придерживается патриархальных нравов и мало что значит. Крестьянин ничто, а король — и того меньше. Когда дворянин богат, что, по счастью, бывает редко, он держит в руках все судьбы своего края, тогда он вертит людьми и делами по своему усмотрению и нередко ведет их к погибели. Знайте же, что если бы мы, молодые офицеры, проявили непочтительность к владетельному барону Вальдемора, мы, конечно, не лишились бы своего воинского звания, — чтобы лишиться его, надобно совершить преступление, — но были бы вынуждены терпеть неслыханные преследования, покинуть свои квартиры, дома, отказаться от всего, чем мы владеем, от наших привязанностей и отправиться в обычный гарнизон, несмотря на несокрушимые права индельты. Еще двое молодых офицеров пошли покурить, и Кристиано решился спросить у них, не появилась ли графиня Эльфрида. — Каков молодчик! — отвечал один из них. — Вы не заставите, однако, нас поверить, что вас интересует сварливая графиня Эльведа! Но да будет вам известно, что ее миленькая племянница исчезла одновременно с вами и что тетка заверяла, будто она сильно покалечилась. — Почему вы говорите, что она исчезла? — воскликнул Кристиано, безотчетно ужаснувшись этому слову. — Послушайте! — вскричал майор. — Вы уже испугались за свою красавицу, дорогой Гёфле? — Позвольте, ничто все-таки не дает повода говорить в таком тоне о графине Маргарите. Она красива, это верно, но, к моему великому сожалению, она ни в коей мере не моя. — Я не хотел сказать ничего плохого, — стал оправдываться Осмунд, — я только видел, как все, что вам была оказана честь первого контрданса и что вы мило беседовали. Если вы в нее не влюблены, то, ей-богу, напрасно; а если у нее нет к нам некоторой склонности, то и это напрасно, — всем нам вы кажетесь чудным товарищем. — А я считаю, что напрасным трудом было бы заглядываться с вожделением на звезду, слишком высоко стоящую над моим горизонтом. — Ба! Оттого, что у вас нет титула? Но ваша семья получила право дворянства, а ваш дядюшка, адвокат, образец таланта и характера. Сверх того, он по меньшей мере столь же богат, как красавица Маргарита, и она не вечно будет под опекой. Любовь побеждает все преграды, а если есть несносные родственники, то можно обвенчаться тайно. В нашей стране такой брак столь же священен, как всякий другой. Итак, если вы решите попытать счастья, мы готовы вам помочь. — Помочь? В чем? — смеясь спросил Кристиано. — Немедля получить свидание потихоньку от тетки. Итак, друзья, что вы на это скажете? Нас четверо добровольцев! Я даже знаю, где покои графини. Мы сейчас же туда пойдем. Если мадемуазель Потен испугается, мы наговорим ей комплиментов, которых она к тому же заслуживает, ибо это очаровательная женщина! А если какая-нибудь горничная вскрикнет, мы ее поцелуем и наобещаем ленточек в косы… Потом мы потребуем для Христиана Гёфле серьезного разговора по просьбе его дядюшки Гёфле… Важное сообщение! Гм? Вот именно. Нас вводят, без наших трубок, разумеется, в маленькую гостиную, где мы важно усаживаемся в сторонке, пока Христиан Гёфле шепотом предлагает свое сердце alia diva contessina[363] или, если он слишком робок для объяснений в любви, то он только слегка о ней намекнет, а заодно осведомится о том, какие опасности грозят его несравненной, и обсудит с ней, как от них уберечься. Я не смеюсь, господа! Совершенно очевидно, что госпожа Эльведа хочет насильно выдать свою племянницу замуж, а коварный Олаус пытается ее скомпрометировать, чтобы устранить любого соперника. Великолепный предлог для человека, который в разгаре бала стал на защиту жертвы этой отвратительной и нелепой сделки. Идемте, Христиан, идемте, господа, решено? Эх, черт возьми, долг платежом красен! В другой раз вы, Христиан, поможете нам в честных намерениях; так принято у молодежи. Что бы мы делали, если бы не вполне доверяли друг другу? Итак, вперед! На штурм твердыни! Кто меня любит, следуй за мной! Все поднялись, и даже Кристиано, пришедший в восторг от этого предложения, но на пороге гостиной он остановился и остановил остальных. — Спасибо, господа, — сказал он им, — и знайте, что в случае необходимости я брошусь за вас в огонь, только не пристало мне вписывать в свою жизнь эту нежную главу романа. Ничто в поведении графини Маргариты не дает мне нрава брать ее под защиту, как я это сделал, поддавшись необдуманному порыву возмущения, и ничто не дает мне надежды на ее благодарность. Быть может, все это как раз наоборот, и адвокату Гёфле следует защищать ее от всех посягательств, разъяснив графине ее права. Лучшее, что я могу сделать, раз уж моя прелестная партнерша не хочет танцевать, а мой свирепый соперник не хочет драться, это пойти спать, в чем я очень нуждаюсь, — я на ногах уже более суток. Все одобрили слова Кристиано и громогласно объявили, что он человек благородный. Его пытались удержать и заставить выпить вина, думая, что перед таким соблазном ему не устоять, но Кристиано был воздержан, как вообще жители теплых стран. Была глубокая ночь, и он счел благоразумным покончить с комедией, которую играл до сих пор с таким успехом. Он пожал всем руки, и откланялся, но обещал возвратиться к завтраку, в душе, однако, решив Этого не делать. И, не дав расспросить себя о том, в какой части замка он расположился, и храня полную тайну, он проворно возвратился к себе тропкой по льду озера. Кристиано намеренно позабыл Локи и бросил сани доктора прав в новом замке. Он опасался, что его услышат и выследят. Он шел краем берега до тех пор, покуда не забрел так далеко, что его нельзя было видеть из окон замка, и достиг ворот Стольборга, которые он оставил открытыми и которые ни Ульфилу, ни кому-либо другому не пришло в голову запереть. Ему пришлось принять эти меры предосторожности, ибо бледный свет луны сменился мерцающим, но ослепительным светом чудесного северного сияния: я сказал — чудесного, ибо таким оно было в тех краях, тогда как в северных Широтах Балтики оно выглядит очень обыденно; должно быть, в это мгновение оно сияло очень ярко на севере и осветило всю местность вокруг застывшего озера. Снега, окрашенные в изменчивые тона, отливали красным и голубым бесподобного сказочного оттенка, и Кристиано, прежде чем войти в медвежью комнату, постоял несколько минут за воротами Диора; несмотря на холод и безлюдье, он не в силах был оторваться от этого необыкновенного зрелища.V
Было уже восемь часов утра, когда Гёфле проснулся. Должно быть, он спал не так хорошо, как обычно, так как любил вставать рано, и сам устыдился, что в такой поздний час он еще в постели. По правде сказать, он рассчитывал, что маленький Нильс разбудит его, по Нильс спал сладким сном и мерно похрапывал, и Гёфле, после тщетных попыток вразумить его, решил дать ему выспаться вволю. Он уже давно перестал сердиться на мальчика, которого взял в лакеи, он просто махнул на него рукой. Смирившись, он сам развел огонь и, будучи человеком методическим, при свете свечи, которая, казалось, дремала стоя, побрился и расчесал парик так хорошо и тщательно, как если бы располагал для этого всеми необходимыми удобствами. Наконец, когда утренний туалет был закончен настолько, что оставалось лишь надеть кафтан, если понадобится, он завел часы, взглянул на небо, где не брезжило ни малейшего утреннего луча, накинул халат и, открыв обе створки двери, счел долгом пойти приготовить все в своей гостиной (в медвежьей комнате), чтобы поработать в тепле и покое до самого завтрака. Но когда он подошел к печке, заслоняя рукою дрожащее пламя свечи, он вздрогнул: прямо перед ним в глубоком кресле лежал человек. Голова его была откинута на спинку с подушечками, ноги вытянуты и засунуты в отдушину, открытую под топкой погасшей печи, хранившей еще остатки тепла. «Ну и спит же! Какой красавец! — подумал адвокат, остановившись и любуясь ровным и глубоким сном Кристиано. — Какой-нибудь баловень семьи, вынужденный, как я сам, искать здесь, в Стольборге, прибежище от шума и суматохи нового замка. А я-то уж думал, что здесь, в этом проклятом месте, я буду в одиночестве. Но ничего не поделаешь, придется примириться с тем, что у меня есть сосед. По счастью, лицо у него славное. Бедный малый очень скромен, он постарался не шуметь и даже не искал ложа поудобнее этого кресла, где он, наверное, все бока себе отлежал!» Гёфле слегка коснулся щеки Кристиано, который сделал движение, точно отгоняя муху, и даже не проснулся. «По крайней мере холодно ему не было, — рассуждал сам с собой адвокат, — у него хорошая шуба, совсем как моя. Да, точь-в-точь! Но где же моя? Ах! я все понимаю: он нашел ее на кресле и в нее укутался. Честное слово, правильно сделал. Я бы охотно и сам дал ему надеть ее, да вдобавок уступил бы ему вторую постель в своей комнате; господину Нильсу пришлось бы снизойти и поспать на диване. Можно лишь пожалеть о том, что этот милый юноша был чересчур скромен! Да, конечно, просто удивительно скромен. Это воспитанный молодой человек, сразу, видно, и очень аккуратный; кафтан он на ночь снял: признак уравновешенной натуры. Интересно, чем занимается этот милый юноша? Черный кафтан… точь-в-точь мой парадный, похожий на него как две капли воды… да это и вправду мой, вот и платок, надушенный мускусом, из кармана торчит, и… А! Мое приглашение на бал ему, верно, пригодилось. И… мои белые перчатки? Где же мои белые перчатки? Фу ты, на полу? Ладно, им и там хорошо, они уже не первой свежести. Ну, ну, господин сонливец, вы вовсе не такой уж стыдливый, как мне показалось, смею даже заметить, вы человек бесцеремонный! Вы теряете чемоданы или не даете себе труда их раскрыть и залезаете без спросу в чужие! Такие шутки — привычное дело у молодежи, я знаю… Помнится, на одном бале в Христиании я всю ночь отплясывал в кафтане бедняги Стангстадиуса, который был вынужден пролежать это время в постели и даже весь следующий день, ибо я увлекся… Но что об этом говорить! Мы были молоды тогда, а теперь я уже не в том возрасте, чтобы позволить… другому… подобную шалость. Эй, сударь! Просыпайтесь и отдавайте мне мои штаны и шелковые чулки… Боже милостивый! Сколько петель он, верно, поспускал отплясывая, скотина! А милостивый государь не изволит и глаз продрать!» Углубившись в эти размышления, Гёфле добрался и до потрепанного платья, которое Кристиано бросил на другой стул, разморившись после бала. Вид поношенных штанов, потертого венецианского плаща и тирольской шапочки с истрепанным шнуром погрузил Гёфле в пучину новых предположений. Итак, сей юноша с возвышенным челом и тонкими руками был всего лишь каким-то цыганом, поводырем ученого медведя, коробейником или бродячим певцом? Итальянский певец? Нет, лицо этого искателя приключений, без сомнения, принадлежало к типу жителей Далума. Какой-нибудь мошенник… может статься, очень уж ловкий? Нет. Кошелек Гёфле лежал нетронутый на дне чемодана, а выражение лица спящего говорило о его честности! И спал он действительно сном праведника. Что подумать и на что решиться? Адвокат почесал в затылке. А что, если это незавидное одеяние было лишь средством, при помощи которого молодой человек неузнанным прошел по всей стране ради каких-нибудь донжуанских похождений под балконом какой-нибудь прелестницы, находящейся проездом в новом замке? Но так как ни одно предположение не казалось удовлетворительным, Гёфле решил разбудить гостя, хорошенько тряхнув его несколько раз и выкрикивая над самым ухом: «Эй, эй, ну, ну, давай, приятель, вставай!» и все прочие слова, которыми принято будить тех, кто чересчур уж заспался. Наконец Кристиано открыл глаза, пристально посмотрел на Гёфле, не видя его, и снова сомкнул веки с поистине олимпийским спокойствием. — Ага, все попятно, — пробормотал адвокат, — вот вы уже и снова отбыли в страну сновидений! — Что такое? Разве северное сияние еще светит? — спросил полусонный Кристиано, по-видимому, весь еще во власти радужных видений. — Откуда взяться северному сиянию в такое время, — . сказал Гёфле. — Сейчас солнце взойдет. — Солнце? Кто говорит о солнце в разгаре бала? — пробормотал Кристиано тем особенным мягким голосом заспавшегося человека, который как будто умоляет и уговаривает, чтобы его оставили в покое. — Да, да, бал, мой кафтан, солнце, мои штаны, северное сияние — все вполне логично, — проговорил Гёфле, — все это чудесно переплетается в ваших снах, мой милый друг, но мне бы хотелось услышать от вас нечто более разумное, и я буду вас тормошить до тех пор, покуда вы не сможете получше произнести свою защитительную речь. Покладистый Кристиано с невозмутимой кротостью позволял трясти себя. Засыпать на любых досках, будь то на море в любую погоду или на дороге в любой повозке, вошло у него в привычку, и оттого, что адвокат сердито его расталкивал, к нему приходило только приятное ощущение полного отдыха от всяких забот. Мало-помалу, однако, ему пришла мысль, что пора дать себе отчет в том, где он находится. Он вновь приоткрыл глаза, взглянул на печь, затем повернулся, чтобы осмотреть темные стены комнаты. — Черт меня побери, — пробурчал он, — если я знаю, где нахожусь! Но что это меняет, в конце концов. Сегодня здесь, завтра там! Такова жизнь. — Потрудитесь хотя бы узнать, с кем вы имеете дело. Весьма довольный этим гордым вступлением, Гёфле ожидал увидеть изумление, ужас или смущение на лице виновного, но ожидания его были напрасны. Кристиано протер глаза, взглянул на него с улыбкой и сказал самым приветливым тоном: — У вас славное лицо! Чего же вы от меня хотите? — То есть как это чего я хочу? — возмущенно вскричал Гёфле. — Я хочу мою шубу, шапку, куртку, белье, сапоги, — словом, все, что вы у меня забрали, чтобы принарядить и приукрасить свою персону! — Что? Вы так думаете? Да это вам приснилось, мой друг! — произнес наш герой, приподнимаясь на своем кресле и удивленно глядя на весь заимствованный им гардероб. Затем, рассмеявшись при довольно смутном еще воспоминании о своей проделке, он сказал: — Честное слово, господин Гёфле, — конечно, я имею честь говорить с уважаемым и знаменитым господином Гёфле, не так ли? — У меня есть все основания полагать это, сударь. А затем? — А затем, — продолжал Кристиано, поднявшись окончательно и с безупречной вежливостью снимая шапочку доктора, — я должен принести вам тысячу извинений, признав при этом, что не заслужил и одного. Чего вы хотите, милостивый государь! Я молод и в эту минуту в большой нужде. Романтический замысел увлек меня ночью на бал, под рукой не нашлось другого приличного платья, кроме этого, вовремя посланного провидением. Человек я чистоплотный и вполне здоровый, и к тому же, если вам не захочется надевать ваше платье после того, как я его носил, то я уверен, что смогу завтра выкупить его у вас по цене, какую вы сами назначите. — Здорово! Вы очень забавны. Вы что, принимаете меня за торговца платьем? — Нет, конечно, но я буду в отчаянии, если меня примут за вора. Я к этому не привык. — Черт возьми! Вижу, что вы честный малый… Взбалмошный — это да! Что толку сердиться, дело-то ведь сделано. Сразу видно, что вы ничем не болели, черт побери! Вы крепко скроены… Ну и шевелюра! Ах, любезный, узнаю запах моей пудры! Но каким ветром вас занесло на бал без приглашения, ведь ваше дорожное облачение свидетельствует… — Что я не принадлежу к высшему обществу, не так ли? Договаривайте же, не так уж я щепетилен на этот счет. — Собственно говоря, я просто не знаю! Дело совсем не в одежде. У вас очень аристократическая рука. Выкладывайте все начистоту. Кто вы такой? Если тут роман, то я люблю романические истории, а если тут тайна, ну что ж, ваше лицо мне правится, и я обещаю быть скромным… Я ведь адвокат — этим все сказано. — В вашей скромности, господин Гёфле, я не сомневаюсь, — сказал Кристиано, — к тому же в жизни моей нет таких тайн, которые я не мог бы поведать человеку умному и порядочному — такому, как вы. Но история моя длинновата, предупреждаю вас, а печь почти уже не греет. К тому же, по правде сказать, хоть я и изрядно поужинал вчера вечером, мне стоит только глаза открыть, как я чувствую голод; вот и сейчас у меня уже сосет под ложечкой… — А как же я? — вскричал Гёфле. — Ведь я привык пить чай со сливками в постели, как только проснусь. Этот увалень Ульфил меня совсем забросил! На столе все то же самое, что было вечером. — Благодаря мне, господин Гёфле, я ведь узнаю ветчину и рыбу, которые я прихватил на кухне этого Ульфа… Как там вы его назвали? — Ульфом вместо Ульфила. Это очень хорошо. Здесь сокращают все имена, их делают односложными, опасаясь, видимо, чтобы, когда кличут людей, половина слова не замерзла в воздухе. Впрочем, если это вам я обязан вчерашним ужином, то из этого следует, что Ульф, о котором шла речь, дал бы мне умереть с голоду, да, да, в той самой комнате, где раз уже было нечто подобное. Этот негодяй, видно, хотел поддержать ее дурную славу, подвергнув меня этой пытке. — Разве здесь баронесса Хильда умерла с голоду, господин Гёфле? — Вы и об этом уже слыхали? Слава богу, все это басни. Но подумаем о завтраке. Я позову. — Не трудитесь, господин Гёфле, Ульф придет. К тому же, если вам чего-то не хватает, я схожу и принесу. Чего уж лучше, если можно самому составить меню по выбору; только разве медвежий или кабанин окорок, копченый язык и жареная дичь — все эти блюда, к которым вы едва прикоснулись вчера вечером, вам ничего не говорят поутру? — Как же, говорят. И тут всего столько, что вдвоем не справиться. Ну что ж, раз стол накрыт, позавтракаем, а? — Лучшего и не пожелаешь. Но позвольте мне найти укромный уголок, чтобы одеться, или, вернее, раздеться, ибо я все еще… — В моем платье? Это я прекрасно вижу, черт возьми! Ну и оставайтесь в нем, раз уж оно на вас, только снимите шубу и надевайте опять кафтан, а не то вы задохнетесь, когда будете есть. Кристиано начал с того, что наложил в печь дров, после чего, тщательно умыв лицо и руки в углу, вернулся и стал нарезать холодные блюда, проявляя при этом своего рода maestria[364]. — Забавно, — заметил Гёфле, — у вас такие хорошие манеры, что во Франции вас бы сочли человеком вполне благовоспитанным, и, однако, ваш дорожный плащ… — Свидетельствует о превратностях судьбы, но не о бедности, — спокойно отвечал путник. — Неделю назад я был отменно одет, так, что смело мог бы отправиться на бал. — Возможно, — согласился Гёфле, усаживаясь и с большим усердием принимаясь за еду, — но так же вероятно, что вы мне сейчас преподнесете одну из тех историй, какие любят странствующие герои. Мне все равно, лишь бы было Занимательно. — Вот как, — улыбаясь сказал Кристиано, — а на каком языке вы пожелаете, чтобы я вам рассказывал? — Черт возьми! По-шведски, раз это ваш язык! Вы швед и к тому же далекарлиец, это сразу видно по вашему лицу. — Однако я не швед, а скорее исландец. — Скорее?.. Вы в этом уверены? — Нисколько не уверен. Поэтому, поскольку латынь — язык универсальный, если угодно… И Кристиано вполне свободно повел речь на изящной и правильной латыни. — Очень хорошо, — одобрил адвокат, слушавший его дружелюбно и со вниманием, — но итальянское произношение немного мешает мне понимать вашу латынь. — То же, пожалуй, может получиться с греческим и с немецким, — сказал Кристиано, начавший говорить на языке мертвом, а затем и на живом с той же легкостью и так же правильно, сопровождая свою безукоризненную речь цитатами, изобличавшими в нем человека, понаторевшего в древней и новой словесности. — Браво! — воскликнул доктор. — Вы очень образованный человек, это видно. А французскийвы тоя же знаете? — Французский и английский, по вашему усмотрению, — отвечал Кристиано, — меня всему этому учили, а я питал склонность к изучению языков. — Ну ладно, рассказывайте по-французски, — решил Гёфле, который был не меньшим полиглотом, чем Кристиано. — Я люблю Италию, а Францию просто обожаю! Это наша союзница, и не все ли равно, полезная или нет; главное, что это полная противоположность русскому духу, который я ненавижу. — Слава богу, я тоже противник русских с тех пор, как прибыл в Швецию, и в особенности после вчерашнего вечера; а теперь, господин доктор, прошу вас, не принимайте меня за педанта. Если я посмел прихвастнуть своими скромными познаниями перед профессором Лундского университета, то это только потому, что, заметив, как мастерски я резал ветчину, вы подумали, уж не какой-нибудь ли я бывший Фронтен[365] из хорошего дома, впавший в немилость и подыскивающий, кого бы лучше надуть. — Надо же! А ведь вы угадали, каюсь: эта мысль пришла было мне в голову. Но теперь я вижу, что если вы и служили в хороших домах, то уж отнюдь не в качестве лакея. — Боже ты мой, сударь, — сказал Кристиано, — что лакей, что учитель — не велика разница, ступенькой выше пли ниже в глазах иных. — Только не в Швеции, друг мой, черта с два! Нет, у нас дело обстоит не так. — Знаю, сударь: в вашей стране люди бескорыстно стремятся к серьезным знаниям, и нигде так достойно не поощряется развитие гуманитарных наук; но в других странах нередко… На этом речь Кристиано была прервана приходом Ульфила, который принес завтрак и, увидев, что стол накрыт, остановился в изумлении. — Вот видишь, невежа, — весело воскликнул Гёфле, угадавший причину его удивления, — мой кобольд прислуживал мне вместо тебя, и мне очень повезло, потому что вот уже около полусуток, как ты меня совершенно забросил. Ульф попытался оправдаться; но накануне он весь вечер так усердно искал утешения в бутылке и мозг его настолько отяжелел, что ему трудно было отдать себе отчет в том, почему он покинул хозяина. Обычно Ульф чувствовал себя спокойно на рассвете, а когда вставало позднее зимнее солнце, он бывал не хуже и не лучше всех остальных. Обильные возлияния еще продолжали оказывать свое действие на оцепенелый ум, но так как это ничуть не мешало ему выполнять свои домашние обязанности с точностью машины, то состояние это не имело ничего обидного для других или опасного для него самого. Он флегматично пробормотал на своем далекарлийском наречии какие-то слова удивления, глядя на блюда, расставленные на столе, и на незнакомого человека, сидевшего рядом с доктором. — Прислуживай этому господину так же, как мне, — сказал Гёфле, — это мой друг, с ним я охотно делю кров. — Ну что же, сударь, — отвечал Ульф, — я ведь не против, но вот лошадь-то… — Сам ты лошадь! — заорал Кристиано, который уже знал несколько слов по-далекарлийски и почувствовал, что ему грозит полное разоблачение. — Да, сударь, я-то лошадь, — покорно согласился Ульф, — но вот сани… — Что сани? — спросил доктор. — Ты их почистил? А лошадь? Когда слово «лошадь» вторично долетело до слуха Кристиано, он повернулся к Ульфу и бросил на него украдкой столь устрашающий взгляд, что бедняга оторопел, совсем потерял голову и пробормотал заикаясь: — Да, да, сударь мой, лошадка, саночки, — будьте покойны! — Ну, так будем завтракать, — сказал доктор. — Принеси-ка табаку, Ульф, а чайник не трогай. Мы сами заварим чай. Ульф склонился над печью, чтобы получше поставить чайник. Кристиано подошел к нему совсем близко, словно собираясь проследить, как он справится, и, наклонясь и снова бросив на него устрашающий взгляд, сказал ему на ухо по-далекарлийски: «Лошадь, сани, новый замок, живо!» Ульфу представилось, что это распоряжение он уже получал, но с похмелья забыл его выполнить. Он наскоро пошел подвязывать коньки и побежал в новый замок разыскивать Локи в шумных конюшнях, где было множество конюхов и лошадей. Доктор прав не был обжорой, не то что доктор наук Стангстадиус. Он действовал неторопливо, чтобы распробовать всякое блюдо и порассуждать о приложении основ поваренного искусства к возвышенным потребностям избранных желудков. После получасовой беседы на эту тему и ее практического применения они с Кристиано переглянулись и заметили друг у друга розовый отблеск на лицах. — Наконец-то! — воскликнул Гёфле. — Вот и солнышко взошло на небе. Он поглядел на часы. — Без четверти десять, — сказал он, — эти часы из Муры[366] неплохо идут! Поглядите, они местного изделия. Наши далекарлийцы на все руки мастера: сами выделывают все необходимое, от наипростейшего до наиболее сложного… Но не гасите свечу, она нам пригодится закуривать; к тому же я люблю, когда зимой в помещении солнечный свет спорит с искусственным, мешая неясные и причудливые тона… Вот так штука! Бьют стенные часы! Вы, должно быть, завели их вчера вечером? — Конечно. А вы не заметили этого? — Ничего я не заметил. Я спал наяву или грезил. Может быть, мне приснилось и то, что я вошел сюда и поужинал! Не все ли равно! Чай вы умеете заваривать? — Нет, зато кофе — в совершенстве. — Ну, хорошо, готовьте кофе, а я беру на себя чай. — Вы любите этот безвкусный и тоскливый напиток? — Да, разбавив его на треть водкой или старым ромом. — Ну, тогда другое дело. Меня восхищает, господин доктор, что нас обслуживают здесь не хуже, чем в Париже или Лондоне. — А почему бы и нет? Мы ведь не на край света заехали. Мы в шести часах пути от берега Пруссии, где живут как в Париже. — Да, но в провинциальной глуши, забравшись на шестьдесят или восемьдесят миль в глубь страны, и в таком бедном краю… — Таком бедном! Вы полагаете, что страна бедна, потому что у нее неплодородная почва? Но вы забываете, что недра земли у нас побогаче ее поверхности и что далекарлийские рудники являются сокровищницей Швеции. Вы заметили, что эта область, примыкающая к Норвегии, мало населена, а из этого заключаете, что она не может быть населена гуще. Знайте же, что если бы государство могло и сумело получше за это взяться, то наших богатых залежей хватило бы на то, чтобы во сто раз увеличить достояние и численность жителей. Когда-нибудь, возможно, все пойдет лучше, если нам удастся вырваться из когтей Англии, опутывающей нас интригами, и из тисков России, сковывающей нас угрозами. А пока что знайте, мой мальчик: если на земле есть бедняки, то не по вине самой благодатной божьей земли, на которую клевещут, пользуясь невежеством, ленью и ложными представлениями ее обитателей. Здесь сетуют на суровую зиму и на твердые скалы; но сердце земли горячо! Стоит лишь спуститься в ее недра — повсюду, да, повсюду, ручаюсь вам, найдется драгоценный металл, разветвляющийся у нас под ногами бесчисленными радужными жилами. На свои металлы мы могли бы скупить все ценности, всю роскошь, все, что производит Европа, если бы только у нас хватило рук, чтобы доставить наши сокровища на поверхность земли. Люди жалуются на землю, а не хватает только рабочих рук! Скорее земля могла бы на нас пожаловаться! — Боже меня упаси осуждать Швецию, дорогой господин Гёфле. Я только сказал, что огромные пространства пустынны и невозделанны и что здешние жители настолько умеренны, что для путника у них не найдется ничего, кроме каши и молока — пищи, без сомнения, здоровой, но не способствующей тому, чтобы воспламенить воображение и закалить волю. — Вот и тут вы глубоко ошибаетесь, дорогой мой! Эти места можно по праву назвать головой и сердцем Швеции, головой восторженной, полной причудливых вымыслов и возвышенных или нежных грез, сердцем пылким и щедрым, в котором бьется любовь к отчизне. Вы ведь знакомы с историей страны? — Да, да! Густав Ваза[367], Густав-Адольф[368], Карл Двенадцатый[369] — все герои Швеции искали людей в глубинах этих гор, тогда как остальная часть нации погрязала в рабстве или пороках. В этом прославленном уголке земли, в этой северной Гельвеции[370] и отыскивалась во все переломные эпохи вера и твердая воля, спасавшие родину. — Что ж, в добрый час! Так согласитесь же, что овсяная похлебка и бесплодные обледенелые скалы могут породить и вскормить поэтов и героев. Рассуждая так, доктор прав плотнее запахнулся в мягкую ватную душегрейку и подлил в горячий и очень сладкий чай полфляги первосортного рома. Кристиано наслаждался превосходным кофе, и оба принялись смеяться над собственным восхищением горной стужей и кашею бедняков. — Ах, все дело ведь в том, — сказал Гёфле, становясь серьезным, — что мы вырожденцы. Нам нужны возбуждающие средства, наркотики. Вот это и доказывает, что самый способный и знаменитый из нас не стоит последнего крестьянина здешних диких гор! Но посмотрим, принесет ли нам табачку эта скотина Ульфил! Совсем неотесанный парень. Кристиано снова рассмеялся, а Гёфле, убедившись, что его похвалы умеренности и сдержанности сейчас неуместны, успокоился, увидев перед собой табачницу. Ульф принес ее механически, по привычке, но по своей крайней нерасторопности не успел об этом сказать. — Ну что ж, — сказал Гёфле, откинувшись в кресле поудобнее, для лучшего пищеварения, раскуривая превосходную турецкую трубку, чубук которой упирался в выступ печи, покуда Кристиано, поминутно то вставая, то присаживаясь, то устраиваясь верхом на стуле, покуривал походную трубочку, торопливо и не очень сосредоточенно. — Ну вот, мой загадочный приятель, расскажите-ка, если это возможно, о себе всю правду. — Итак, — начал Кристиано, — я зовусь, вернее — меня называют, Кристиано дель Лаго. — Кристиано или Кристиан Озерный? Откуда такое романтическое имя? — Ах, вот в этом-то и дело. «Chi lo sa?»[371] как у нас говорится. Это целый роман, где, верно, нет ни словечка правды. Я вам все передам так, как мне самому это рассказывали. В неизвестных мне краях, на берегу озера, малого или большого, чье название мне неведомо, у некой дамы — уродливой или красивой, богатой или бедной, благородной или из простых, — в законной любви или при достойных сожаления обстоятельствах родился ребенок, чье появление, по-видимому, совершенно необходимо было скрыть. С помощью веревки и корзины (эта подробность точна) сама ли дама или ее верная служанка спустили бедного новорожденного в лодку, находившуюся там случайно или но таинственному уговору. Никто не мог мне сообщить, что сталось с дамой, да и где бы я мог об этом узнать? Что до ребенка, то его потихоньку унесли неведомо куда и вскормили не знаю как до той поры, когда его можно было отнять от груди, и тогда он был опять увезен неизвестно кем в другую страну… — Неизвестно какую! — смеясь подхватил Гёфле. — Сведения довольно-таки неопределенные, и я затруднился бы на основании их помочь вам выиграть ваше дело! — Мое дело? — Да; вам ведь, вероятно, приходило в голову судиться, чтобы вернуть себе имя, права, наследство? — Будьте покойны, господин Гёфле, — возразил Кристиано, — вам никогда не придется вести мое дело. Меня еще не обуяло безумие, общее всем проходимцам таинственного происхождения, которые лишь в крайнем случае снисходят до того, что согласны признать себя королевскими сыновьями, и всю жизнь скитаются по белу свету в поисках своей знаменитой семьи, ни разу не подумав, что сами они своим появлением лишь стеснили бы эту семью и не доставили бы ей ни малейшей радости. Что до меня, то если даже я и происхожу из знатного рода, то я этого не знаю, и меня это нисколько не интересует. Это безразличие разделяли со мною, или, вернее, внушили мне, мои приемные родители. — А кто были ваши приемные родители? — Я не знаю и не помню ни тех, кто из окна принял меня в лодку, ни тех, кто отдал меня кормилице, ни тех, кто отвез меня в Италию, — об этих людях я ничего не смогу вам сказать; может быть, это была все та же семья или все то же лицо. Я знал только своих истинных приемных родителей — синьора Гоффреди, антиквара и профессора древней истории в Перудже, и его прекрасную жену Софию Гоффреди, которую я любил как родную мать. — Но откуда и от кого достойные супруги Гоффреди приняли вас на хранение? Они должны были вам это сказать… — Они и сами того не знали. У них было небольшое состояние, и, не имея детей, они неоднократно выражали желание усыновить какого-нибудь сироту. И вот однажды вечером в дни карнавала перед ними появился человек в маске, вынул из-под плаща существо, которое имеет честь сейчас беседовать с вами, и не мог ничего о нем рассказать, ибо говорил он на языке, которого никто не понимал. — Но все-таки, — продолжал адвокат, слушавший рассказ так внимательно, точно ему предстояло расследовать судебное дело, — что ясе все-таки сказал человек в маске, вручая вас профессору Гоффреди и его жене? — Вот слово в слово то, что было мне сказано: «Я пришел издалека! Я беден и был вынужден издержать в пути часть средств, доверенных мне вместе с ребенком. Я считал, что должен был так поступить, получив приказ увезти его далеко, очень далеко от его и от моей родины. Вот оставшиеся деньги. Мне стало известно, что вы хотите усыновить ребенка, и я знаю, что в вашей семье он будет счастлив и получит хорошее образование. Хотите взять бедного сиротку?» — И профессор согласился? — Он принял ребенка и отказался от денег. «Если я беру ребенка на воспитание, — сказал он, — то лишь для того, чтобы сделать ему добро, а не для того, чтобы воспользоваться его добром». — И он не полюбопытствовал расспросить?.. — Он мог спросить только об одном, а именно, не придет ли кто потребовать ребенка, ибо он хотел бы получить его навсегда и боялся, что привяжется к нему, а потом в один прекрасный день его вдруг отнимут. Незнакомец поклялся, что никогда никто за мной не придет, а в доказательство сказал: «Я привез его из дальних краев, находящихся более чем в пятистах милях отсюда, чтобы самый след затерялся навеки. Ребенок подвергся бы большой опасности, может быть, даже и здесь, если бы стало известно, где он находится. Поэтому не задавайте мне вопросов, отвечать я не стану». И он настоял на том, чтобы у него взяли небольшую сумму денег, каких-нибудь две-три сотни цехинов. — В итальянской монете? — В иностранных золотых монетах самых различных стран, как будто незнакомец проехал всю Европу и задался целью наменять деньги монетой самых различных государств, чтобы пресечь всевозможные поиски и догадки. Ему возразили, сказав, что он человек бедный — он сам в этом признался, да и по виду его нельзя было ошибиться. Справедливо было бы возместить ему расходы за время долгого пути и труда, связанного с неукоснительным выполнением приказа, касающегося моего удаления, но он отказался от этого предложения с суровым упорством. Он исчез внезапно, обещав, чтобы избежать расспросов, что на следующий день еще вернется. Однако он не вернулся; его больше никогда не видели; о нем больше никто не слыхал, а я оказался доверенным, точнее — подброшенным, слава богу, господину и госпоже Гоффреди, которые обо мне и позаботились. — Ну, а вся эта история с озером, окном и лодкой, ее-то вы, черт побери, откуда взяли? — Погодите! Когда мне минуло пять или шесть лет (мне, вероятно, было около четырех или пяти лет, когда я оказался в Перудже, спрятанный под плащом человека в маске), я откуда-то упал, и все думали, что я убился. Это был пустяк, но в числе друзей моей приемной семьи, пришедших справиться обо мне, проскользнул маленького роста еврей, не то крещеный, не то нет, ведший торговлю предметами искусства и антикварными вещами с иностранцами и обосновавшийся в Перудже. Мои родители не любили его за то, что он еврей, а в Италии, как и здесь, сильно недолюбливают это племя. Он заботливо обо мне расспрашивал и даже просил, чтобы меня ему показали, желая убедиться, в каком я состоянии. Год спустя мы проводили лето в деревне, и вот, как только мы вернулись в город, он явился опять затем, чтобы справиться обо мне и поглядеть своими глазами, вырос ли я и в добром ли здравии. Это всех удивило, и его спросили, почему он так интересуется мною, пригрозив отказать ему от дома, если он не даст удовлетворительного объяснения своему поведению, ибо к тому времени меня уже полюбили и боялись, как бы этот еврей не выкрал меня. Тогда он признался — или же просто придумал, что ему случилось приютить человека в маске в тот день, когда тот привез меня в город, и удалось вырвать у него несколько признаний, касающихся меня. Эти смутные, неправдоподобные и невразумительные сведения я вам уже сообщил в начале своей истории, да, быть может, им и не следует придавать никакой веры. Мою приемную мать они только забавляли. Однако найдя в этом приключении нечто романтическое, она дала мне прозвище дель Лаго, которое долго было моим настоящим именем. — Но ваше имя Христиан, Кристиан, Кристиерн, Кретьен или Кристиано, кто вам его дал? — Человек в маске, не добавив никакого иного. — Человек этот говорил по-итальянски? — Плохо, и то, что он объяснялся на этом языке с трудом, немало способствовало окружавшей меня таинственности. — А какой у него был акцент? — Профессор Гоффреди занимался только мертвыми языками; его жена, также весьма образованная женщина, знала много живых языков. Однако ей не удалось определить, к какой национальности можно было отнести акцент человека в маске. — А еврей что об этом думал? — Если он что и думал, то не пожелал об этом сказать. — А ваши родители были вполне уверены, что он сам не взял на себя роль человека в маске? — Вполне уверены. Человек в маске был довольно высок, а еврей был меньше пяти футов ростом. Ни его голос, ни выговор не имели ничего общего с тем незнакомцем. Я вижу, господин Гёфле, что вы, как и мои бедные Гоффреди, задаете себе всевозможные вопросы на мой счет; но скажите мне, пожалуйста, какое все это может иметь значение? — Да, в самом деле, какое? — ответил Гёфле. — Вы, может быть, и не стоите того, а я вот уже целый час ломаю себе голову, как вам помочь найти свою семью. Видите ли, эта забота моя связана с профессиональной привычкой. Не будем пока что об этом говорить, тем более что во всем, что вы мне сказали, нет ни одного точного факта и не на чем построить сложную систему научных и хитроумных выводов. Однако постойте. Что сделали с деньгами, принесенными человеком в маске? — Мои родители, полагая, что деньги эти, быть может, плата за похищение или еще за какое-либо преступление и что счастья они мне не принесут, поспешили пожертвовать все эти чужеземные монеты в фонд неимущих при Перуджинском соборе. — Но вы сами уже говорили на каком-то языке, когда вас привезли? — Конечно; только я скоро его позабыл, так как мне не с кем было на нем разговаривать. Помню только, что год спустя какой-то немецкий ученый, навестивший нас, пытался пролить свет на эту тайну. Мне с большим трудом удалось вспомнить несколько слов моего родного языка. Языковед заявил, что это какой-то северный диалект и что-то похожее на исландский; однако мои черные волосы не подтверждали этой версии. Так и не стали допытываться до истины. Моя приемная мать хотела, чтобы я утратил всякое воспоминание о моей прежней родине и о прежней семье. Вы понимаете, что она без труда этого достигла. — Еще один вопрос, — сказал Гёфле, — мне интересно слушать только тогда, когда я понимаю, что служит отправной точкой рассказа. Ваши воспоминания, естественно, стерлись, да и окружающие постарались заставить вас их позабыть, и все же, неужели у вас ничего не осталось в памяти? — У меня осталось что-то такое смутное, что я не сумею отличить эти воспоминания от снов. Мне видится странный дикий край, еще более величественный, чем здешний. — Холодная страна? — Об этом я ничего не знаю. Дети не ощущают холода, а я никогда не был зябликом. — А что еще вы видите в этом сне? Солнце или снега? — Не знаю. Большущие деревья, стада, может быть, коров… — Большие деревья — это уже не Исландия. А от путешествия, приведшего вас в Италию, что у вас осталось? — Ровно ничего. Мне кажется, что мой спутник или спутники были мне незнакомы до отъезда. — Тогда продолжайте вашу историю. — То есть я ее начну, господни Гёфле, ибо до сих пор я мог только говорить о загадочных обстоятельствах, которые, как говорят порты, окружали мою колыбель. Повесть о своей жизни я начну с первого поразившего меня отчетливого воспоминания. Воспоминание это, не ужасайтесь, господин Гёфле, связано с каким-то ослом. — С ослом? Четвероногим или двуногим? — С самым настоящим ослом о четырех ногах, с ослом во плоти и крови; это было любимое животное Софии Гоффреди, и звали его Нино, уменьшительное от Джованни. Так вот, я был так к нему привязан, что назвал Жаном осла, который сейчас мне служит для перевозки клади, в память о том, кто доставил мне первые детские радости. — Ах, так у вас есть ослик? Уж не тот ли, что посетил меня вчера вечером? — Так, значит, это вы велели отвести его в конюшню? — Вот именно. Вы, видно, любите ослов? — По братски… И я уже целых полчаса думаю, что мой ослик, может быть, остался без завтрака… Ульф мог его испугаться, он его мог и из замка выгнать. Несчастный сейчас, может быть, бродит где-нибудь во льдах и снегах, и лишь равнодушное эхо вторит его жалобным крикам! Прошу вас, извините меня, господин Гёфле, но я непременно должен на минутку вас покинуть, чтобы справиться о судьбе моего осла. — Чудак! — воскликнул Гёфле. — Ну, конечно же, сходите поскорее, да заодно взгляните на моего конягу, который вполне стоит вашего осла, не в обиду вам будь сказано. Но что же, вы так и побежите в конюшню в моем кафтане и в шелковых чулках? — Да я мигом! — Вовсе нет, вовсе нет, мой мальчик. К тому же вы простудитесь. Наденьте-ка мои меховые сапоги и шубу; ступайте скорее и поскорей возвращайтесь! Кристиано повиновался с благодарностью; он нашел Жана в самом лучшем настроении, кашлял он уже куда меньше, чем накануне, и закусывал в обществе Локи, которого Ульф как раз привел из нового замка. Ульф с ужасом смотрел на осла: хмель помаленьку проходил, и его мучило подозрение, что животное, которое он утром кормил, не было лошадью. Кристиано уже накануне вечером, промышляя себе ужин, понял, с каким суеверным трусом имеет дело, и разыграл перед ним по-итальянски необычную пантомиму с устрашающими жестами и взглядами, не скупясь на фантастические угрозы в случае, если он неуважительно отнесется к ослу, которого следует чтить как мифическое божество. Испуганный Ульф удалился, отвесив поклон ослу и его хозяину, охваченный самыми несуразными мыслями, которые под влиянием ночных возлияний порождали новые страхи и все более и более странные предположения. — Итак, — заявил Кристиано, снова принимаясь за трубку и за прерванное повествование и сидя верхом на все том же стуле, — осел госпожи Гоффреди стал моим лучшим другом. Мне казалось, что ни у одного осла на свете не было столь красивых ушей, ни столь приятной походки. Ах, господин Гёфле, дело в том, что когда впервые его размеренная поступь и длинные уши привлекли внимание моего сонного мозга, меня инстинктивно поразило прекраснейшее в мире зрелище. Это было на берегу озера: озёра, видите ли, играют важную роль в моей жизни. И что за озеро, сударь, Перуджинское озеро, иначе говоря, Тразименское[372]. Вы никогда не бывали в Италии, господин Гёфле? — Нет, к величайшему моему сожалению; но что касается озер, то у нас в Швеции есть такие озера, перед которыми итальянские покажутся просто лужами. — Я не скажу ничего худого о ваших озерах; я уже не одно из них видел. Должно быть, они хороши летом. В зимнюю пору, со своими мьелями (ведь так вы зовете огромные песчаные оползня, заполняющие берег зелеными деревьями и странными глыбами, оторвавшимися от скал), согласен с вами, они совершенно необыкновенны. Иней и лед, сковывающий эти причудливые формы, превращают любую былинку в бриллиантовую гирлянду. А запутанное переплетение корней можно принять за искусную стеклянную пряжу без конца и края; все это залито багряным солнечным светом; зубчатые кряжи гор сияют вверху, как сапфирные иглы в утреннем пурпуре… Да, признаюсь, здешняя природа величественна, а вид из моего окна ослепителен; но он ослепляет меня, и именно против этого я и хочу возразить. Он возвышает меня, возносит меня над самим собою… Восторг, разумеется, значит очень много, но неужели в этом вся жизнь? Неужели нет у людей огромной потребности в отдыхе, в бездумном созерцании и упоительно нежном мечтательном состоянии, называемом у нас far niente?[373] Так вот, там, на Тразименском озере чувствуешь, что живешь чудесной безмятежной жизнью. Там я мирно рос, не зная мучительных переживаний, как соломинка, занесенная из невесть какой безвестной страны на эти благодатные солнечные берега, под светлую сень старых олив, словно вечно купающихся в теплом золотистом потоке! У нас был (увы, я говорю у нас) загородный домик, villetta[374] на берегу ручья, который зовется Сангвинето, что значит Кровавый ручей, в память как будто о пролитой крови, обагрившей эту равнину в знаменитой Тразименской битве. Мы проводили все теплое время года в этом оазисе, исполненном сельских радостей. Ручьи больше не приносят трупов, и волны Сангвинето прозрачны, как кристалл. И, однако, мой приемный отец был поглощен одной-единственной заботой — выискивать кости, медали и остатки доспехов, которые и по сей день еще можно найти в большом количестве в траве и цветах по берегам озера. Жена его обожала (и было за что), она повсюду сопровождала его, а я, толстый беспечный мальчишка, на которого тоже распространялось обожание, валялся на теплом песочке или мечтал, покачиваясь под мерный шаг Нино, на коленях у моей милой матушки. Мало-помалу я увидел и понял, до чего чудесны в этой прелестной стране и дни и ночи. Озеро очень велико, не потому, что по размерам своим оно достигает самого малого из ваших озер, но потому, что величие — понятие совершенно иное, нежели протяженность; чаша его так обширна, окружающая природа столь отрадна для глаз, что светящиеся глубины напевают мысли о бесконечности. Не могу вспомнить без волнения восходы и закаты солнца на этой зеркальной глади, отражавшей холмы с большими деревьями, с округлыми и могучими стволами, и далекие белоснежные островки среди розовеющих волн. А по ночам мириады звезд дрожали в этих тихих водах, не расплываясь и не сталкиваясь друг с другом! Какие нежные ароматы веяли по серебристым холмам и какие таинственные созвучия струились вдоль берегов, когда вся огромная масса воды слегка колебалась, точно боясь потревожить спящие цветы! У вас, согласитесь, господин Гёфле, природа неистова даже зимой, когда она предается покою. Все в ваших горах носит след непрестанных и разрушительных весенних и осенних бурь. Там же любой клочок земли уверен, что надолго сохранит свои очертания, и любое растение спокойно развивается на почве, его взрастившей. Там с самим воздухом как бы вдыхаешь сладость бытия, и извечное блаженство природы проникает в душу, не смущая ее покоя и не будоража ее. — У вас есть поэтическая жилка, вы умеете видеть, — сказал Гёфле, — но разве жители этих благодатных краев не прозябают в грязи, лени и по собственной вине не обрекают себя на нищенское существование? — Во всякой нищете половина вины ложится на правителей, а половина на тех, кем правят; зло не бывает односторонним. Вот поэтому и получается, я думаю, что добра не наживешь; но в теплых краях нищета, порожденная леностью, находит оправдание в неге созерцательной жизни. Еще юношей я живо ощутил пьянящую прелесть южной природы и тем более ее оценил, что почувствовал в себе приступы лихорадочной деятельности, словно я и на самом деле родился за пятьсот миль от тех мест, в какой-то холодной стране, где дух более властен над материей. — Выходит, вас нельзя было назвать ленивым? — Мне кажется, что я нисколько не был ленив: ведь родители мои хотели сделать из меня ученого, и из любви к ним я усердно трудился, чтобы получить образование. Однако я чувствовал влечение к естественным наукам, а также к живописи и к философии гораздо больше, чем к тщательным и кропотливым изысканиям ученого мужа Гоффреди. Его усилия казались мне почти что праздными, и я не способен был прийти в безудержную радость оттого, что нам удавалось определить назначение древнего камня или разобрать смысл этрусской надписи. Он, впрочем, вовсе не мешал мне развивать мои природные способности и создал мне самое отрадное существование, какое только можно вообразить. Здесь я должен остановиться на некоторых подробностях этого периода жизни, где на рубеже детства и юности я почувствовал пробуждение своих духовных сил. Перуджа — город университетский и исполненный поэзии, один из прекраснейших и ученейших городов старой Италии. Там по желанию можно стать ученым или художником. Она богата древностями и памятниками всех эпох, там прекрасные библиотеки, академия художеств, частные собрания и т. п. Город чрезвычайно красив и живописен; он насчитывает более сотни церквей и пятидесяти монастырей, изобилующих картинами, рукописями и т. п. Замечательна Соборная площадь: там, напротив пышного готического собора, фонтана работы Джованни Пизано[375], подлинного шедевра, и других памятников различных эпох высится большой дворец в венецианском стиле. Это странное и гордое здание тринадцатого или четырнадцатого века, темно-красное, отделанное черными коваными украшениями, с окнами, пробитыми в причудливой беспорядочности, которую стали презирать после того, как с началом Возрождения утвердились правильные линии и чистота вкуса. Я страстно полюбил трагический облик древнего палаццо, к которому Гоффреди относился пренебрежительно, считая, что здание это принадлежит к эпохе варварства; он ценил только античность и те века Нового времени, которые вдохновлялись античностью. На меня, признаюсь вам открыто, все эти похожие друг на друга шедевры, старые и новые, наводили страшную скуку, которая брала верх над чувством восхищения. Это нарочитое стремление Италии возвратиться к своим первоистокам и вычеркнуть те эпохи, где проявилось истинное ее лицо, между абсолютизмом императоров и абсолютизмом пап, настолько укоренилось в обществе, что тот, кто по горло сыт этим чрезмерным совершенством, непременно прослывет вандалом[376]. Я был чистосердечен и непосредствен. Мне не раз доставалось за мою любовь ко всему, что без особенного разбору называли gotico [377], иначе говоря — по всему, что не принадлежало к веку Перикла, Августа или Рафаэля. Даже этого последнего мой приемный отец признавал с трудом. Он восхищался лишь развалинами Рима и, приведя меня к ним, был удивлен и раздосадован, услыхав, что там я не нашел ничего, что могло бы заставить меня позабыть поистине величественную фантастичность и картинность нашей piazza del Duomo[378] с огромным черно-красным дворцом, средоточием самого разнообразного великолепия, и извилистыми улочками, внезапно устремляющимися как бы таинственно и почти трагически под темные аркады. Мне было тогда лет пятнадцать — шестнадцать, и я мог уже разобраться в своих мыслях и склонностях. Я сумел изложить моему отцу свое стремление к полнейшей независимости в области вкусов и чувств. Я ощущал потребность восторгаться, испытывать духовное наслаждение при виде любого взлета человеческого гения и воплощения его пытливой мысли; я не в силах был сковать свои чувства, ограничив их некой системой, некой эпохой, некой школой. Словом, мне хотелось объять весь мир, восславить бога и искру божию, дарованную людям во всех творениях искусства и природы. «Вот потому-то, — говорил я ему, — я люблю ясное солнце и темную ночь нашего сурового Перуджино, неистового Микеланджело, могучие римские фундаменты и тонкую мавританскую резьбу. Я люблю наше мирное Тразименское озеро и бурные пороги Терни[379]. Я люблю милых вашему сердцу этрусков и всех ваших превосходных греков и римлян, но я люблю также и греко-арабские соборы, и, наравне с величественным тревийским фонтаном, струйку воды, бегущую меж двух скал среди неведомых пустынных полей. Все новое кажется мне достойным любопытства и внимания, и мне близко все, что сумело овладеть моим сердцем и умом хотя бы на мгновение. Я склонен предаваться всему, что прекрасно и возвышенно, или даже только приятно и восхитительно, и поэтому меня страшат требования исключительного преклонения перед некими общепринятыми формами красоты. Однако, если вы полагаете, — говорил я ему, — что я на дурной стезе и что потребность разностороннего развития в любом случае — опасное отклонение от правила, то постараюсь подавить в себе это и сосредоточиться на занятии, которое вы для меня изберете. Ибо прежде всего я хочу стать тем, чем вы хотите, чтобы я стал; только вы, отец мой, прежде чем подрезать мне крылья, внимательно взгляните, нет ли в этом суетном оперении чего-то, что стоит сохранить». Гоффреди, человек очень непримиримый по всем, что касалось его занятий, был самым великодушным из людей, каких мне когда-либо приходилось встречать. Он много размышлял над моим развитием, тщательно обсуждая все со своей удивительно чуткой женой. София Гоффреди была тем, что в Италии зовется letterata, не писательницей, как Это понимается во Франции, но женщиной начитанной, очаровательной, вдохновенной, образованной и простой. Она так нежно меня любила, что, казалось, видела во мне какое-то чудо; эти превосходные люди решили между собою, что следует уважать мои склонности и не гасить пламени, не выяснив сначала, священный ли это огонь, или просто мимолетная вспышка. Они поверили в меня оттого, что я стремился широко развивать свои умственные способности отнюдь не из сердечного непостоянства. Я любил всех своих ближних с кротостью, но вовсе не намеревался расплескивать наружу бурлившую во мне жизнь. Я был привязан исключительно к этим двум существам, усыновившим меня, и их я предпочитал всем прочим. Их общество было моим величайшим, можно сказать — моим единственным удовольствием после всех увлекавших меня разнообразных занятий. Итак, было решено, что душа моя принадлежит мне, а коль скоро эта душа была, в сущности, неплохая, то мне не стали навязывать строгого университетского образования. Мне предоставили самому искать свой путь и дали волю разносторонним способностям, которыми я был наделен. Совершили ли они ошибку? Не думаю. Безусловно, меня могли наделить профессией, которая бы навсегда обеспечила мне скромное местечко в науке или искусстве, и я бы не узнал нищеты; но скольких духовных радостей я бы тогда лишился! Да и к тому же кто поручится, что такие вот положительные взгляды и соображения собствен» ной выгоды, отчетливо доказанные мною самому себе, не засушили бы чистоты моего сердца и совести? Сейчас вы увидите, что Софии Гоффреди не пришлось пожалеть о том, что мне позволили стать самим собою. Сперва я внушил себе, что родился писателем. София учила меня писать стихи и прозу, и еще ребенком я придумывал романы и сочинял комедии, которыми простодушно восхищались мои близкие. Я мог бы стать очень тщеславным, ибо меня сильно баловали все те, кто у нас бывал, но моя приемная мать часто говаривала мне, что самодовольный человек не движется вперед, и это простое предупреждение оградило меня от глупого самолюбования, К тому же я вскоре увидел, что для того, чтобы стать литератором, нужно много всего знать, иначе все обратится в пустые фразы. Я поглотил огромное количество книг, но получилось так, что, изучая историю и природоведение, я затерялся в них, и, вместо того чтобы, подобно пчеле, собирать мед и воск, умчался в бесконечные просторы человеческого знания, единственно ради удовольствия познать и уразуметь. Тогда я ощутил влечение к естественным наукам, и тогда же сложилось мое предпочтение к этому роду деятельности и в уме определилось призвание куда сильнее первого. К этой жажде знаний присоединилась жажда все повидать, и можно сказать, что во мне пробудились как бы два человека: одному хотелось бы открыть тайны мироздания из любви к науке, вернее — к себе подобным, а другому хотелось бы наслаждаться красотами вселенной как поэту, то есть и для себя самого. С той поры я стал вынашивать мысль о далеких странствиях. Погрузившись в изучение собраний и музеев Перуджи, я мечтал об антиподах, а при виде малейшего камешка или засохшего цветка я мысленно уносился на вершины высоких гор и за далекие моря. Я жаждал повидать большие города, источники просвещения, ученых моего времени, богатые и обширные коллекции. София Гоффреди научила меня французскому, немецкому и немного испанскому. Я понимал, что мне необходимо изучить северные языки, чтобы нигде в Европе не быть чужеземцем. Я очень быстро и легко выучил английский, голландский и особенно шведский. Произношение у меня было скверное, вернее, у меня не было никакого произношения. Я не старался воспроизводить интонации языка, которого не мог услышать, рассчитывая на свой хороший слух и на легкость, с которой мне дается подражание различным звукам, и надеялся, что, когда это понадобится, практика мне поможет. Действительность не обманула моих надежд. Мне достаточно двух недель, чтобы заговорить без акцента на языке, который я изучил самостоятельно по книгам. Одновременно с изучением языков я учился рисованию и немного занимался живописью, чтобы суметь закрепить Этюдами свои путевые воспоминания, разные города и страны, редкие растения, одежду, памятники искусства, все то, что мы запечатлеваем лишь умозрительно, когда руки наши неловки и не повинуются внутреннему чувству. Кроме того, я читал избранных писателей, учась у них излагать мысли ясно и сжато; ибо меня часто раздражал темный и вялый стиль путевых заметок. И это, господин Гёфле, мне удалось настолько, что в восемнадцать лет я был вполне готов стать если не ученым, то по меньшей мере человеком, полезным своими знаниями, энергией, умением работать и способностью наблюдать. Это была самая прекрасная пора моей жизни, проведенная наилучшим образом, самая чистая и отрадная. О, если бы так могло продолжаться хотя бы еще несколько лет, право, я стал бы другим человеком! Синьор Гоффреди был погружен в свои археологические изыскания и непосредственно не занимался моим воспитанием; однако время от времени он заставлял меня повторять все, что я выучил, и внимательно меня слушал. Убедившись, что время мое и труды не пропадают даром, он поверил в мое здравое суждение. Вначале он пытался отговорить меня заниматься слишком многими вещами одновременно, но, увидев, что разного рода познания вполне умещаются в моем уме, не смешиваясь друг с другом, он стал хотеть для меня того же, что хотелось мне, и вместе со мною предаваться мечтам. Сам он до женитьбы путешествовал и теперь задумал совершить новую археологическую экспедицию в такие места, где раньше не бывал. С особенным рвением он стал лелеять этот план после того, как получил небольшое наследство, дававшее ему возможность расстаться с должностью профессора в университете. В течение десяти лет он работал над книгой, которую нельзя было завершить, не посетив берегов Африки и некоторых островов Греческого архипелага. Надо вам сказать, что работал он медленно и писалось ему нелегко, по всей вероятности оттого, что у него не было умения ясно выражать свои мысли, а возможно, даже и четкости в самих Этих мыслях, когда он принимался рассказывать о своих замечательных открытиях. Это был человек светлого ума, которому не хватало таланта. Он был доволен тем, как я отредактировал несколько страниц его ученого труда, и решил взять меня с собой, чтобы по возвращении я мог уже сам писать вместо него Этот труд. Я чуть не сошел с ума от радости, когда он сообщил мне о своем решении, но радость эта сменилась печалью при мысли, что мне придется оставить одну мою приемную мать, которую я боготворил и которая жила только для нас, и я попросил, чтобы отец разрешил мне остаться с нею. Она была мне очень признательна; вместе с тем она нашла способ удовлетворить всех нас троих, предложив поехать с нами, — мы с восторгом приняли это предложение. К отъезду нашему мы готовились как к празднику. Увы! Все нам улыбалось. София привыкла к путешествиям. В поездках она сопровождала нас повсюду. Бодрая, смелая, восторженная, она никогда не становилась нам помехой. Если нам иногда случалось почувствовать себя усталыми и изможденными, она умела поднять в нас дух и восхищала нас своей веселостью и силой воли. Она была еще молода и сильна, а лицо ее переставало быть некрасивым, когда его озаряла ангельская улыбка, полная нежности и доброты. Муж души в ней не чаял, а что до нее, то она считала своего Сильвио Гоффреди полубогом, невзирая на его худобу, на преждевременно ссутулившуюся спину и на все его диковинные увлечения. До чего же чиста и благородна была душа, обитавшая в этом хилом теле и проявлявшая себя столь нерешительно и робко! Бескорыстие его было поистине восхитительно. Работа, ради которой он жертвовал своим служебным временем и которая подчинила себе все его привычки, убедительно это доказывала. Он отлично знал, что подобные труды требуют такой затраты средств, которая не окупается, особенно в Италии, и не рассчитывал, что увеличит этим свое состояние. Но это была его слава, цель и мечта всей его жизни. Моей бедной матери больше всех не терпелось поскорее уехать. Она безраздельно верила в то, что это нам предначертано судьбой. Было решено начать наше путешествие с островов Архипелага. Позвольте мне рассказать лишь вкратце о последующем: воспоминание это слишком мучительно для меня. Идя пешком по Апеннинам, мой бедный отец споткнулся и повредил себе ногу о камень. Как мы ни молили его, он не обратил должного внимания на свою рану и продолжал идти пешком все последующие дни. Стояла удушающая жара. Когда мы подошли к побережью Адриатического моря, где должны были сесть на корабль, он был вынужден несколько дней пролежать, и мы уговаривали его, чтобы он показался хирургу. Каков же был наш ужас, когда тот обнаружил у него гангрену! Мы находились в захолустье, где не было знающих врачей. Местный лекарь, который больше походил на цирюльника, преспокойно предложилампутировать ногу. Спасло бы это отца или, напротив, ускорило его смерть? Мы с матерью были в ужасном смятении и не знали, на что решиться. Отец проявил поистине героическое мужество и попросил, чтобы ему отрезали ногу, решив, что будет продолжать путешествие на деревяшке. Но нам было страшно доверить его скальпелю мясника. Мы находились на расстоянии каких-нибудь пятидесяти миль от Венеции, и я решил немедленно поехать туда. Я взял лошадь, но к вечеру она выбилась из сил, и мне пришлось сейчас же покупать себе другую. Приехал я совсем изможденный, но все же живой. Я обратился к одному из лучших хирургов и уговорил его поехать со мной, предложив ему все деньги, какие были у Софии. Мы взяли лодку, чтобы ехать морем. Она шла так быстро, что сердце мое преисполнялось радостью и надеждой. Увы, господин адвокат, доведись мне жить тысячу лет, воспоминание об этом ужасном дне будет для меня, должно быть, столь же мучительно, как и сегодня! Сильвио Гоффреди я застал мертвым, а жену его, Софию, — сумасшедшей. — Бедный мальчик! — воскликнул Гёфле, видя, как из глаз Кристиано покатились крупные слезы. — Нет, нет, — сказал Кристиано, поспешно утирая их, — не надо было давать волю этим чувствам; это доказательство того, что когда их чересчур усердно гонишь, они внезапно мстят за себя, вступая в свои права. Опытный врач, которого я привез с собой, не мог излечить мою мать и даже дать мне надежду на ее выздоровление. Он мог только внимательно вникнуть в природу ее безумия и научить меня, что надо делать, чтобы предотвратить припадки буйства. Надо было удовлетворять все ее желания, в которых была хоть малейшая видимость здравого смысла; что же касается остальных, то надо было попытаться подчинить ее своей воле, подобно тому как отец подчиняет себе ребенка. Я отвез ее в Перуджу вместе с телом моего несчастного отца, которое мы набальзамировали, чтобы можно было доставить его в мавзолей на берегу Тразименского озера, чего очень хотелось его жене. Невозможно описать, сколько я выстрадал в душе, когда мне пришлось везти бездыханное тело отца и безумную мать в места, с которыми мы столь беззаботно расстались каких-нибудь три недели назад. Когда мы покидали их, София смеялась и пела всю дорогу; теперь, когда мы вернулись туда, она все еще пела и смеялась, но как мрачны были эти песни, какое душераздирающее отчаяние звучало в голосе! Мне нельзя было спускать с нее глаз, надо было увещевать, убеждать и развлекать как малое дитя эту женщину, такую умную и такую сильную, на которую я совсем еще недавно смотрел как на мою наставницу и мою опору, — мне ведь тогда едва только исполнилось девятнадцать лет, господин Гёфле! Когда останки Сильвио Гоффреди были преданы земле, вдова его была спокойна, казалось даже, что в этом неожиданно наступившем чрезмерном спокойствии нашла себе завершение ее трагическая судьба. Как только я понял, что она, если можно так выразиться, совсем отрешилась от самой себя, я потерял последнюю надежду на ее выздоровление. Единственное, о чем она могла думать, — Это о надгробном памятнике своему дорогому Сильвио. Теперь уже нельзя было говорить с ней о чем-либо другом. Никакой своей работой я уже не мог заниматься, потому что ночами она не спала и мне с трудом удавалось выкроить для сна несколько часов не то что в день, а в педелю. Нельзя было и думать о том, чтобы даже на несколько мгновений поручить ее чьим-то посторонним заботам. С кем бы она ни оставалась, кроме меня, она неизменно приходила в возбужденное состояние и впадала в страшное буйство; со мною же у нее ни разу не было приступов ярости пли отчаяния. Она все время говорила, но не о своем муже, — казалось, что о нем у нее не сохранилось уже ни малейшего воспоминания, больше того — что он стал для нее существом умозрительным, кого она никогда не видела, — а об эпитафии, об эмблемах и статуях, которыми ей хотелось украсить его могилу. Она заставляла меня чертить тысячи разных проектов надгробия; последний из них обычно нравился ей в течение часа или двух, после чего приходилось все менять снова, как недостойное памяти мага, как она называла своего дорогого мужа. Ни одна эмблема не отвечала ее отвлеченным и путаным мыслям; погруженная в свои глубокие размышления, она вырывала у меня из рук карандаш, который сама же дала, и, прося меня кое-что немного изменить, заставляла потом разрабатывать совершенно новый сюжет и все начинать сначала. Разумеется, сюжеты эти были по большей части неосуществимы и не имели никакого смысла. Так как она беспокоилась и приходила в волнение, когда я что-либо в них изменял, я сознательно решил во всем ей повиноваться. Папки мои наполнились странными рисунками, которые могли свести с ума любого, кто захотел бы уяснить себе их содержание. Проведя за этим занятием несколько часов, она вела меня смотреть мраморные надгробия, которые она заказала всем местным скульпторам. Ими были заставлены весь двор и весь сад, но ничье исполнение ее не удовлетворяло. Еще одной ее страстью, которую мне непременно хотелось удовлетворить, был подбор материала для этого воображаемого памятника. Она выписала образчики всех видов мрамора и всех известных металлов; было сделано столько моделей, что дом уже не мог их вместить. Дошло до того, что их водружали на кроватях, и путешественники, решив, что в нашем доме устроен музей, приходили осматривать его и просили нас объяснить содержание странных сцен, которые представали их глазам. Несчастной Софии доставляло удовольствие принимать их и посвящать в свои замыслы. После этого они уходили, удрученные всем виденным и сожалея о том, что пришли туда; иные же смеялись и пожимали плечами. Несчастные! Ирония их казалась мне преступной. Меж тем средства паши иссякали. Гоффреди оставил в безраздельное пользование жене свое небольшое состояние, которое потом предстояло унаследовать мне. Был созван семейный совет, как для того, чтобы соблюсти, по словам родных, мои интересы, так и для того, чтобы исполнить в отношении меня волю моего отца. Приглашенный родными адвокат решил, что следует объявить несчастную Софию невменяемой, не пускать к ней художников, литейщиков, рабочих и поставщиков ценных материалов, ее же самое отправить в сумасшедший дом, ибо начать перечить ее желаниям означало бы неминуемо вызвать обострение ее буйных припадков, опасное для окружающих. — Адвокат был прав, — сказал Гёфле, — как ни прискорбно было это решение, иначе поступить было нельзя. — Прошу прощения, господин Гёфле, но я на этот счет держался другого мнения. Коль скоро я был единственным наследником Гоффреди, я имел право предоставить моей опекунше растратить завещанное мне состояние. — Нет, права этого у вас не было. Вы были несовершеннолетним, а закон защищает тех, кто не может защитить себя сам. — Мне так и сказали, но я уже мог постоять за свои права настолько, что пригрозил адвокату вышвырнуть его из окна, если он не откажется от своего подлого намерения. Поместить мою мать в сумасшедший дом! Пусть тогда помещают туда и меня, ведь она не может прожить без меня и минуты, а я умру от беспокойства, зная, что поручил ее заботам-чужих людей, которым за это платят! Лишить ее единственного развлечения, которое могло бы оказать на нее успокаивающее, можно сказать — даже чудодейственное влияние! Лишить ее права проявлять и убаюкивать свое горе сооружениями, пусть шаткими и нелепыми, но которые не причиняли никому ни зла, ни вреда! А какое дело этому жирному и румяному адвокату до нашего дома, заставленного надгробиями? Кто его принуждал приходить и сожалеть о попусту растраченных деньгах или насмехаться над несчастной, обезумевшей от горя вдовой? Я настоял на своем, родня покойного осудила меня, адвокат объявил меня сумасшедшим, но мать мою оставили в покое. — Ого, мой мальчик, вот, оказывается, как вы обращаетесь с адвокатами! — улыбаясь, сказал Гёфле. — Ну так дайте же мне пожать вашу руку, — добавил он, глядя на Кристиано глазами, полными слез умиления и сочувствия. Кристиано пожал обе руки доброму Гёфле и поднес их к губам, как это делают итальянцы. — Меня радуют ваши добрые чувства ко мне, — сказал он, — но я не допущу никаких похвал моему поведению. Видите ли, все это было настолько естественно, что всякая забота о собственном благополучии в моем положении была бы подлостью. Разве я вам не говорил, как меня любили, ласкали, баловали эти два существа, я ведь действительно чувствовал себя их детищем, и физически и духовно. О, я был счастлив, очень счастлив, господин Гёфле! И какая бы беда со мной ни случилась, у меня никогда не будет права жаловаться на провидение. Я ведь не заслужил всего этого счастья до моего рождения. Так разве не подобало мне стараться заслужить его, немного пожив на свете? — А что же сталось с несчастной Софией? — спросил Гёфле после минутной задумчивости. — Увы, я собирался рассказать вам мою историю елико возможно веселее, но мне все-таки не удалось обойтись без печальных воспоминаний. Простите меня за это, господин Гёфле; я поверг вас в грусть, и мне лучше было бы просто сказать вам, что несчастной Софии нет в живых. — Ну разумеется, коль скоро вы здесь. Я отлично понимаю, что вы никогда бы ее не покинули. Но неужели ей пришлось изведать нищету перед смертью? Я хочу все знать. — Слава богу, она никогда ни в чем не нуждалась. Я не знаю, что бы случилось, если бы мы прожили все наше состояние и мне пришлось бы зарабатывать на хлеб. Однако не это меня тревожило: я видел, как, несмотря на все свое кажущееся спокойствие, она быстро угасала. Прошло около двух лет, и вот однажды вечером, когда мы сидели в тишине на берегу озера, она сказала вдруг каким-то необычным голосом: «Кристиано, у меня, верно, лихорадка; пощупан мой пульс и скажи, что со мною». Это в первый раз после пережитого ею горя она обращала внимание на свое здоровье. Я почувствовал, что ее сильно лихорадит. Я привел ее домой и позвал врача. «Она в самом деле очень больна, — сказал он, — но кто знает, может быть, это кризис, после которого ей станет лучше?» После постигшего ее несчастья у нее ни разу не было лихорадки. Я потерял надежду. Моя мать впала в глубокое забытье. Ни одно лекарство не принесло ей ни малейшего улучшения; она таяла на глазах. За несколько минут до смерти к ней как будто вернулись силы; казалось, что она пробуждается от долгого сна. Она попросила меня приподнять ее и сказала мне на ухо слабеющим голосом: «Благословляю тебя, Кристиано, ты мой спаситель; должно быть, я была безумной, я мучила тебя; Сильвио меня только что за это корил. Я сейчас его видела, он велел мне встать и идти за ним. Помоги мне выйти из этой могилы, куда меня непреодолимо влекло спрятаться… Скорей! Поднимают паруса… В путь!..» Она собрала последние силы, чтобы подняться, и упала мертвой мне на руки. После этого я несколько дней не мог прийти в себя; казалось, что в этой жизни мне уже больше нечего делать, ибо мне не было больше о ком заботиться, кроме как о самом себе. Я похоронил мою мать в той же могиле, что и отца. Я поставил на эту могилу самое простое и самое белое из всех надгробий, хранившихся в нашем доме; я сам выгравировал на нем дорогие мне имена, не сопроводив их никакой эпитафией. Вы ведь понимаете, что я испытывал отвращение ко всем формулам и эмблемам. Когда я вернулся с похорон, мне сказали, что дом отныне принадлежит уже не мне, а моим заимодавцам. Я это знал, я уже так давно был готов покинуть милый моему сердцу кров, что, ни о чем не думая, связал в узелок свои вещи в то время, как тело моей матери заворачивали в саван. Я предоставил родным ликвидировать все дела. При всей моей расточительности я был достаточно трезв, чтобы знать, что хоть на мою долю и ничего не осталось, я по крайней мере не оставляю после себя никаких долгов. Я собирался покинуть дом, когда вдруг явился тот самый маленький еврей, о котором я вам говорил. Я подумал, что он хочет купить за бесценок какие-нибудь старинные вещи из коллекции Гоффреди, которая должна была продаваться с торгов, но даже если нечто подобное и было у него в мыслях, он оказался достаточно деликатен, чтобы не говорить со мной об этом, и, видя, что я уклоняюсь от разговора, последовал за мною в сад, куда я пошел нарвать цветов — единственное, что мне хотелось унести с собою из дома. Там он сунул мне в руку туго набитый кошелек и хотел уйти, ничего не сказав. Я был тогда так полон мыслями о моих умерших родителях, что мне и в голову не приходило, что у меня может быть еще какая-то родня, и я решил, что это просто милостыня, переданная через посредство этого еврея, и отшвырнул кошелек, чтобы заставить его вернуться. Он действительно тут же вернулся и, подняв его, сказал: «Это вам, да, вам. Эти деньги я был должен Гоффреди, и я вам их возвращаю». Я отказался их взять. Эта небольшая сумма могла пригодиться наследникам для уплаты долгов. Маленький еврей настаивал. «Это от ваших настоящих родителей, — сказал он, — мне было поручено передать вам эту сумму, когда вам понадобятся деньги». «Мне не надо никаких денег, — ответил я, — мне есть на что поехать в Рим, а там друзья Гоффреди найдут для меня работу. Успокойте моих родителей. Вряд ли это люди богатые, если они не имели возможности воспитать меня сами. Поблагодарите их за память и скажите, что мне уже столько лет и я получил такое воспитание, что скоро сам смогу помогать им, если в этом явится необходимость. Захотят ли они встретиться со мной, или нет, я все равно с радостью исполню свой долг. Они отдали меня в такие хорошие руки и выбор их принес мне такое счастье, что я им премного благодарен». Таковы были мои чувства, господин Гёфле, я нисколько не рисовался, ибо они таковы и сейчас. Я никогда не испытывал потребности обвинять и расспрашивать людей, давших мне жизнь, и я не понимаю незаконнорожденных, которые жалуются, что появились на свет лишенными привилегий, — как будто все живое не предназначается для жизни и как будто не существует бога, который призывает нас или посылает нас в этот мир, чтобы жить в тех условиях, которые угодны его воле. «Родителей ваших уже нет в живых, — ответил маленький еврей. — Помолитесь за них и примите дар от друга». Так как это было уже третье объяснение, отличавшееся от первого и второго, в душу мою закралось недоверие. «Не вы ли и есть тот, кто выдает себя за моего друга и решил прийти мне на помощь?» «Нет, — ответил он, — я всего-навсего в точности исполняю данное мне поручение». «Ну так вот, скажите тем, кто вас послал, что я благодарю их, но ничего не приму ни от друзей явных, ни от тех, которые не хотят, чтобы я их знал. Имеете ли вы что-нибудь сообщить мне с соизволения моей семьи?» «Нет, ничего, — ответил он, — может быть, несколько позднее. Где вы собираетесь жить в Риме?» «Решительно не знаю». «Ну так мне надо это узнать, — ответил он, — так как я не должен терять вас из виду. Прощайте же и помните, что если с вами приключится какое-нибудь несчастье, деньги эти ваши, и достаточно сообщить мне, чтобы я вам помог». Мне показалось, что на этот раз он искренен, но могло статься, что это был какой-нибудь расчетливый делец, решивший облагодетельствовать людей бедных, с тем чтобы впоследствии на них поживиться. Я сухо поблагодарил его и уехал почти с пустыми руками. Я нисколько не задумывался о том, кем я стану. Мечтать о путешествии больше уже не приходилось, и надо было поступать куда-нибудь на службу, чтобы прокормиться. Память у меня была превосходная, и несмотря на то, что я уже в течение долгого времени не имел возможности продолжать образование, я ничего не забыл. Познания мои отличались достаточным разнообразием, основы же были заложены во мне достаточно твердо для того, чтобы я мог с успехом взять на себя воспитание мальчика. Мне этого больше всего хотелось — я надеялся, что смогу пополнять свое образование, урывая время от сна. В провинции, где мы жили, к отцу моему относились с большим уважением, однако — странное дело! — поведение мое в отношении синьоры Гоффреди было сочтено романическим и недостойным человека серьезного. Я, видите ли, ничего не сделал, чтобы не разориться, — тем хуже для меня! И я еще имел глупость добиваться должности, я, которого знали как безрассудного мота, как безумца! Поэтому думать о том, чтобы получить место в Перудже, мне не приходилось. В Риме один из друзей моего отца рекомендовал меня в качестве воспитателя неаполитанскому принцу, у которого было два сына, ленивых и глупых, и горбатая дочь, кокетливая и влюбчивая. Спустя два месяца я покинул свою должность, дабы избавиться от взглядов этой героини романа, героем которого я вовсе не хотел стать. В Неаполе я нашел еще одного друга моего отца, ученого аббата, который определил меня в другую семью, менее богатую, но значительно более неприятную и где ученики оказались еще большими тупицами, чем в первой. Мать их, женщина уже немолодая и некрасивая, сразу же невзлюбила меня, потому что я не поддался ее чарам. Я не кичился своей строгою добродетелью и ни в какой степени не рассчитывал, что первой моей любовью непременно будет богиня, — я умел довольствоваться гораздо меньшим, ко даже если бы хозяйка дома была недурна собою, я все равно не хотел становиться любовником женщины, которая распоряжалась мною и платила мне деньги. Я снова отправился к ученому аббату и рассказал ему о своих огорчениях. «Ну так вы сами в этом виноваты, — рассмеявшись, ответил он, — вы красивый малый, поэтому вы и привередничаете». Я умолил его рекомендовать меня какому-нибудь вдовцу или сиротам. Спустя некоторое время он спадал мне, что все уладил. У юного герцога де Виллареджа умерли родители; у него не было ни сестер, ни теток. Воспитывался он у дяди-кардинала, и нужен ему был не гувернер — у него он был, — а учитель языков и литературы; я был принят. Работать там мне было не только приятно, но и выгодно. Кардинал был человеком начитанным и умным; племянник его, которому было тринадцать лет, оказался мальчиком способным и обходительным. Я очень к нему привязался, и, занимаясь со мной, он сделал большие успехи, причем одновременно с ним многому научился и я. У меня была отдельная комната, вечерами я бывал совершенно свободен и мог посвятить это время занятиям. Кардинал был настолько доволен мною, что старался, чтобы я не брал никаких других учеников, и довольно щедро меня вознаграждал. На протяжении почти целого года я усердно трудился, и ничто меня не отвлекало. Я был так поглощен своим горем, так отчетливо ощущал свою отчужденность от общества, что относился к жизни, может быть, серьезнее, чем она того заслуживала. Я мог превратиться в педанта, если бы кардинал не принялся хитро и осторожно приобщать меня к легкомыслию и испорченности нашего времени. Он сделал из меня светского человека, и я не очень-то знаю, должен ли я быть ему за это благодарен. Я приучился тратить много времени на туалет, ухаживание за женщинами и любовные утехи. Во дворце кардинала собирались местные острословы и самые блестящие люди города. От меня не требовали, чтобы я обучал моего ученика нравственным правилам, но хотели, чтобы я научил его приятной легкости светского обращения. Мне же самому полагалось только быть со всеми любезным. Это было нетрудно, ибо меня окружали люди легкомысленные и доброжелательные; я сделался прелестным, быть может, более прелестным, чем приличествовало быть сироте, не имеющему ни покровителей, ни состояния, ни будущего. Мало-помалу я стал вести распущенную жизнь и одно время оказался даже на плохой дороге, причем окружающие потакали моим дурным наклонностям и, казалось, еще больше сталкивали меня вниз. От окончательного падения меня удерживало только воспоминание о моих родителях и опасение оказаться недостойным доброго имени, которое они мне оставили, ибо надо сказать, что в завещании своем отец предписывал мне называться Кристиано Гоффреди, и под этим именем меня знали в Неаполе. Это высокочтимое имя служило мне отличной рекомендацией людям серьезным и рассудительным, но я очень скоро позабыл, что простое происхождение, о котором оно свидетельствовало, должно было призвать меня к большему благоразумию и сдержанности в моих взаимоотношениях с титулованной молодежью, с которой я сталкивался во дворце кардинала. Предупредительность моя привела к большой близости с нею. Молодые люди эти были довольны тем, что во мне не было ни неуклюжести, ни суровости профессионального педагога. Меня приглашали, меня увозили с собой. Я принимал участие во всех развлечениях самой блестящей молодежи. Кардинал поздравлял меня с тем, что мне удавалось сочетать ужины, балы и ночные бдения с точностью и ясностью, которыми неизменно были отмечены мои занятия с его племянником. Однако я отлично видел и чувствовал, что недостаточно развиваю свои ум, что останавливаюсь на полпути, что незаметно превращаюсь в болтуна и пустоцвета, становлюсь светским комедиантом и салонным портом, что я не сделал никаких сбережений для предстоящей мне свободной жизни и поддержания собственного достоинства, что у меня слишком много прекрасного белья, но слишком мало полезных знаний, наконец, что я попал словно в тиски между двумя параллельными линиями — беспутством и ничтожеством и рискую никогда не выбраться из этого плена. Мысли эти, которые чаще всего я старался от себя отгонять, иногда все же возвращались ко мне, и я бывал ими очень озабочен. Самые упоительные наслаждения нисколько меня не забавляли. В родительском доме, в обществе отца и матери, я испытывал более высокие радости и более живые развлечения. Я предавался воспоминаниям о тех чудесных прогулках, которые мы совершали вместе с какой-нибудь серьезной целью, испытывая от них всегда истинное удовлетворение, а в лихорадочном возбуждении моей новой жизни я только томился и вновь возвращался к раздумьям о собственной участи, об окружавшей меня гнетущей праздности. Я начинал мечтать о том, как полнокровно можно жить, совершая дальние путешествия, и, видя, что кошелек мой неизменно пуст, спрашивал себя, не лучше ли было бы истратить на удовлетворение здоровых физических потребностей и духовных интересов те средства, которые шли на развлечения, оставлявшие лишь тяжесть в теле и пустоту в душе. Внезапно я начал чувствовать себя совершенно чуждым суетному свету, раболепному обществу, расслабляющему климату, ленивому населению — словом, всему, что меня окружало и с чем я не был связан прочными семейными узами. Я чувствовал, что становлюсь одновременно и более деятельным и более углубленным в себя. Несмотря на мои двадцать три года и бедность, я думал также о том, чтобы жениться, завести семью, чтобы было для кого беречь деньги и о ком заботиться. Но кардинал, которому я поверял одолевавшие меня по временам душевные тревоги, только отшучивался и называл меня безумцем. «Ты слишком много выпил или слишком много работал вчера вечером, — говорил он, — в голове у тебя туман. Ступай-ка развей его, взгляни на Чинтию иди на Фьямметту, не вздумай только жениться ни на той, ни на другой». Я любил кардинала; это был человек добрый и веселый. Но хоть он и обращался со мной по-отечески и без всякой спеси, я слишком хорошо понимал, что в нем было больше любезности, нежели любви, что он умеет окружать себя приятными людьми и что я меж них кое-что значу, но что он не из тех, кто захочет в течение долгого времени переносить мое присутствие, если я впаду в меланхолию или стану скучным. Я старался заглушить свою тоску и забыться, упиваясь собственным благополучием, жить сегодняшним днем, не заботясь о завтрашнем, подобно всем, кто меня окружал. Мне это не удалось. Скука еще более возросла, отвращение стало неприкрытым. Я пресытился доступной любовью, чувственными увлечениями, которые охотно разделяли со мной женщины всех сословий. Для меня, бедного простолюдина. Эти наслаждения были поначалу притягательны, как всякий успех у женщин. Убедившись, что мой цирюльник, который был очень красивым малым, пользуется не меньшим успехом, я возненавидел всех маркиз. Я решил уехать из Неаполя. Я попросил кардинала отправить меня на одну из его вилл в Калабрии или Сицилии: я готов был стать управителем или библиотекарем все равно где: я жаждал отдыха и одиночества. Кардинал еще больше поднял на смех мое стремление уединиться. Он в это не верил. Он считал, что я так же не создан быть управителем, как и монахом. Он был, разумеется, прав, но, как вы увидите из дальнейшего, отнюдь не должен был удерживать меня при себе. В ту пору вернулся из странствий и поселился в доме кардинала другой его племянник. Насколько юный Тито Виллареджа был человеком приятным и доброжелательным, настолько его двоюродный брат Марко Мельфи был глуп, вздорен, нагл и тщеславен. Все сразу невзлюбили его, и не успел он приехать, как вспыхнуло несколько дуэлей. Он был отчаянным бретером и ранил или убивал своих противников, сам не получая ни малейшей царапины, отчего заносчивость его не знала предела. Я старался быть с ним елико возможно сдержанным, но как-то раз, выведенный из себя его вызывающей грубостью, я уличил его во лжи и предложил дать ему удовлетворение. Он отказался, потому что я не был дворянином, и, кинувшись на меня, хотел дать мне пощечину. Я свалил его с ног, не причинив ему никаких повреждений, но сумел подавить его ярость. Происшествие это наделало много шума. Кардинал втайне оправдывал меня и упросил как можно скорее укрыться в одном из его поместий до тех пор, пока Марко Мельфи снова не отправится путешествовать. Мысль о том, что я должен прятаться, возмутила меня. «Несчастный, — сказал кардинал, — разве ты не знаешь, что мой племянник вынужден теперь тебя убить?» Слово «вынужден» показалось мне забавным. Я ответил кардиналу, что заставлю Марко драться со мной. «Ты не смеешь убивать моего племянника! — сказал он, весело похлопывая меня по голове. — Даже если бы ты оказался для этого достаточно ловок, тебе ведь не захочется так отплатить мне за отеческую доброту, которую я тебе выказываю». Этот довод заставил меня замолчать. Я вернулся к себе и стал готовиться к отъезду. Быть может, мне следовало бы сделать все более скрытно, но мысль о том, что это будет похоже на тайный побег, казалась отвратительной. Как только я вышел из своей комнаты за ящиком, стоявшим в вестибюле, на меня неожиданно накинулись двое бандитов и стали связывать. Отбиваясь, я тянул их за собою вниз по лестнице, но не успел я отделаться от них, как входная дверь вдруг захлопывается и до меня с площадки доносится чей-то резкий голос: «Смелее, вяжите его! Я хочу, чтобы он издох здесь под палками!» Это был голос Марко Мельфи. Негодование придало мне нечеловеческую силу. Я так отчаянно дрался с обоими бандитами, что вскоре они лежали на полу. Тогда, уже не думая о них, я бросился на Марко, который, видя, что затея его потерпела неудачу, хотел было удариться в бегство. Я прижал его к двери и вырвал у него шпагу, которую он собирался вытащить из ножен. «Несчастный, — сказал я, — убивать тебя я не хочу, но ты будешь драться со мной, и немедленно!» Марко был слабосильным и тщедушным. Наступая, я заставил его подняться по лестнице, втолкнул к себе в комнату, запер дверь и повернул ключ на два оборота; там я взял шпагу и, возвращая ему отнятую, сказал: — Ну, а теперь защищайся; как видишь, иногда приходится драться и с человеком низкого звания! — Гоффреди, — ответил он, опуская клинок, — я не хочу и не буду с тобой драться. Я слишком уверен, что убью тебя, а это было бы жаль, ты ведь славный малый. Ты мог меня убить, но не сделал этого. Будем же друзьями! Доверчиво, забыв о злобе, я готовился пожать протянутую мне руку, как вдруг он очень стремительно и ловко нанес мне левой рукой удар стилетом в шею. Я едва успел уклониться — стилет соскользнул и поранил мне плечо. Тут уж я не удержался; в ярости я набросился на этого негодяя и заставил его защищаться. Оружие у нас было равноценное; на его стороне было такое преимущество, как умение драться и большой опыт в поединках, второго у меня, разумеется, не могло быть. Но так или иначе, я все же уложил его. Он упал мертвым со шпагой в руке, не произнеся ни слова, с дьявольской усмешкой на губах. Раздался отчаянный стук в дверь, ее стали высаживать. На какое-то мгновение можно было подумать, что он будет отомщен. Измученный усталостью и волнением, я решил было, что погиб, что либо это убийцы очнулись от обморока, либо сбиры[380], узнав от них о случившемся, явились за мной. Собрав последние силы, я решил выпрыгнуть из окна. До земли было каких-нибудь двадцать футов; я довольно благополучно очутился на мощеном дворе и, плотно укутавшись в плащ, чтобы струившаяся из плеча кровь не капала на мостовую, бросился наутек. По счастью, мне удалось выбраться из города. Я попал в очень скверную историю — ведь все произошло без свидетелей. И что из того, что право было на моей стороне, что вел я себя достойно и великодушно, а противник мой был подлым негодяем? Он принадлежал к одной из лучших семей в королевстве, и святой инквизиции ничего не стоило расправиться с таким ничтожеством, как я. На ночь я укрылся в рыбацкой хижине, но у меня не было с собой ни гроша, чтобы заплатить за грозящее опасностью гостеприимство, о котором я попросил. Вместе с тем моя разорванная и выпачканная в крови одежда не позволяла мне нигде показаться. Рана моя — я так и не знал, тяжелая она или легкая, — причиняла мне сильную боль. Я ощущал большой упадок сил и знал, что вся полиция королевства была поднята на ноги, чтобы арестовать меня. Лежа в чуланчике, на драной циновке, я горько оплакивал — не участь мою, этой слабости я никогда бы себе не позволил, — а внезапный и непоправимый разрыв с добрым кардиналом и моим славным учеником. Я почувствовал, как я их люблю, и проклинал судьбу, которая заставила меня обагрить кровью дом, где меня приняли с таким доверием и лаской. Но надо было не плакать, а спасаться бегством. Мне очень хотелось найти маленького еврея, утверждавшего, что он знает моих родителей или таинственных друзей, которые то ли сами наблюдали за моей жизнью, то ли поручили это ему. Я забыл сказать, что человек этот переехал в Неаполь, и я встречал его там несколько раз; однако возвращаться в город казалось мне слишком опасным, писать же еврею означало рисковать, что меня обнаружат. От этой мысли я отказался. Не стану рассказывать во всех подробностях о приключениях, которые сопутствовали моему бегству из окрестностей Неаполя. Мне удалось обменять разодранную в клочья одежду на менее подозрительные лохмотья. Я с трудом добывал себе пропитание, местные крестьяне знали, что власти разыскивают подлого убийцу знатного вельможи, и относились с недоверием к каждому нищему незнакомцу. Не будь женщин, которые всюду оказываются храбрее и человечнее нас, мужчин, я давно бы умер от голода и лихорадки. Рана моя вынуждала меня забираться в самые глухие уголки, и вот, лишенный ухода за собой, я не раз думал, что останусь там навсегда, ибо у меня не было сил подняться и идти дальше. И вы не поверите, господин Гёфле, в этом отчаянном положении я испытывал по временам приливы радости, словно, вопреки всему, я наслаждался зарею возвращенной мне свободы! Свежий воздух, ходьба, отсутствие любого принуждения, просторы полей с беспредельными горизонтами, которых я теперь надеялся достичь, все, даже мое грубое ложе на камне, напоминало мне планы и надежды тех времен, когда я жил настоящей жизнью. Наконец без всяких происшествий я достиг границы Папской области, и, коль скоро я не шел по Римской дороге, у меня были все основания надеяться, что, свернув в горах немного в сторону, я не буду замечен и выслежен ни одним шпионом. Я остановился в деревне, чтобы продать мой товар: надо вам сказать, что просить подаяние мне было отвратительно, отказ же приводил меня в такое бешенство, что мне хотелось отколотить людей, которые были со мной грубы, и я вздумал начать торговать… — Торговать? Чем же? — спросил Гёфле. — У вас ведь не было ни гроша. — Разумеется, но когда я бежал, при мне был перочинный ножик: он-то и обеспечил мне заработок. Хоть я никогда раньше и не занимался ваянием, я достаточно хорошо знал рисунок и однажды, найдя на дороге камень, очень белый и очень мягкий, решил подобрать кусков десять этого камня, которые тут же обтесал и потом в минуты отдыха высекал из них фигурки мадонн и ангелочков величиною с палец. Этот камень, или, вернее, мел, был очень легок, и я мог носить с собой полсотни таких фигурок и продавать их на фермах или в крестьянских домах по пять-шесть байокко[381] за штуку. Больше они и не стоили, а на эти деньги я мог купить себе хлеба. Так я промышлял два дня, а на третий в селе был базарный день, и я решил, что смогу спокойно сбыть весь свой товар. Когда же я увидел, что покупателей у меня мало из-за конкуренции одного пьемонтца, у которого было много гипсовых статуэток, я решил усесться на землю и, на глазах обступившего меня народа, стал высекать перочинным ножом свои фигурки. Успех был огромный. Быстрота, с которой я это делал, а возможно, и наивное простодушие фигурок совершенно очаровали зрителей, и эти славные люди, главным образом женщины и дети, стали бурно выражать свое изумление и удовольствие, пьемонтец же, видя успех своего соперника, пришел в ярость. Несколько раз он грубо задирал меня, но я, однако, не терял терпения. Я видел, что он ищет предлога поссориться со мной и заставить меня уйти, и удовлетворялся тем, что смеялся над ним, предлагая, чтобы он делал статуэтки сам и показал всем присутствующим свои способности; публика меня горячо поддержала. В Италии даже самый простой народ любит все, что дышит искусством. Мой конкурент был посрамлен и прозван тупицей, меня же все шумно провозгласили настоящим художником. Чтобы отомстить мне, этот негодяй пустился на подлость. Он нарочно уронил на землю несколько своих топорных изделий и поднял страшный крик, призывая полицейских, которые ходили среди толпы. Едва только они обратили на него внимание, как он объявил, что я возбудил против него народ, что его нарочно толкнули и нанесли большой ущерб его хрупкому товару; что он человек честный, исправно платит за свое место и всем знаком, я же проходимец, бродяга, а может быть, кто знает, еще и похуже того — подлый убийца кардинала. Именно так рассказывали здесь о том, что произошло в Неаполе, и пьемонтец решил вызвать враждебные чувства ко мне у публики и полицейских. Народ стал на мою сторону; многочисленные свидетели заверяли, что ни я, ни они ни в чем не повинны. Никто не толкал и даже вообще не касался товара пьемонтца. Окружавшая меня кучка людей спокойно встретила полицейских и расступилась, чтобы дать мне убежать. Но если среди народа нашлись храбрые люди, то нашлись также подлецы и трусы, которые, не говоря ни слова, указали на меня пальцем, как раз когда я бежал по узенькой извилистой улочке. Да мной погнались, я успел вырваться вперед, но я не знал этих мест и, не сумев выбраться из села, очутился на другой небольшой площади, где в это время внимание многочисленной публики было приковано к балагану с театром марионеток. Я едва успел проскользнуть в толпу, как увидел полицейских, которые обходили зрителей, пристально в них вглядываясь. Я постарался наклониться возможно ниже и притворился, что с большим интересом слежу за похождениями Пульчинеллы[382], чтобы не обратить на себя внимание теснившихся со всех сторон людей, как вдруг мой крайне возбужденный мозг осенила блестящая мысль. Движимый сознанием опасности, которая мне грозит, я проталкиваюсь все дальше вперед в плотной и праздной толпе, в которую силится пробраться полиция. Так я добираюсь до занавеса балагана, все больше наклоняюсь и вдруг ныряю под этот занавес, как лиса в нору, и оказываюсь зажатым между ног operante, или recitante, иначе говоря — актера, приводящего в движение марионеток или говорящего за них. Вы знаете, господин Гёфле, что такое театр марионеток? — А как же! На днях я видел в Стокгольме театр Христиана Вальдо. — Вы его видели… снаружи? — Да, только снаружи, но я представляю себе и внутреннее его устройство, хоть оно и показалось мне довольно сложным. — Это театр двух operanti, или четырех рук, иначе говоря — с четырьмя персонажами на сцене, что позволяет выводить довольно много burattini. — А что такое burattini? — Это марионетки, классические, примитивные и самые лучшие. Это не fantoccio — кукла, появляющаяся во всех пьесах и подвешенная за ниточки к потолку, которая ходит по земле, не касаясь ее ногами, и поднимает невообразимый и ненужный шум. Это более искусная и совершенная разновидность марионетки с гибкими руками и ногами, со множеством механических приспособлений для того, чтобы делать более или менее естественные жесты или принимать довольно изящные позы. Я не сомневаюсь, что есть еще и приспособления, с помощью которых можно добиться полного сходства с жизнью, но, углубляясь в этот вопрос, я подумал: для чего же все это делать и какое преимущество может извлечь искусство из театра автоматов? Чем они станут крупнее и чем больше будут походить на людей, тем грустнее и даже ужаснее будет выглядеть спектакль, исполненный этими псевдоактерами. А каково ваше мнение? — Разумеется. Но все это отступление, интересующее меня меньше, чем продолжение вашей истории. — Простите, простите, господин Гёфле, простите, отступление это совершенно необходимо. Я дошел до весьма странного периода моей жизни, и мне необходимо доказать вам преимущество burattino; это примитивное воплощение комического актера не является — и я вам это докажу — ни машиной, ни шутовской побрякушкой, ни куклой: это живое существо. — Вот как, живое существо? — сказал Гёфле, изумленно глядя на своего собеседника и думая, уж не свихнулся ли он. — Да, живое существо! Я это утверждаю, — с жаром воскликнул Кристиано, — и тем более живое, что у него нет тела… У burattino нет ни пружин, ни ниточек, ни блоков; это всего-навсего голова, и только; голова выразительная, умная, в которой… смотрите! Кристиано зашел под лестницу и вытащил оттуда маленькую деревянную, одетую в тряпье фигурку; он бросил ее на пол, поднял, подбросил и поймал на лету. — Вот поглядите, — продолжал он, — видите — тряпка, щепка, как будто едва оструганная. Но вот в этот кожаный мешочек забирается моя рука, мой указательный палец углубляется в выемку внутри головы, а средний и большой пальцы уходят в рукава и приводят в движение эти маленькие деревянные руки, которые вам кажутся короткими, бесформенными, а ладони ни открытыми, ни сжатыми в кулак; все это сделано намеренно, чтобы скрыть от всех их неподвижность. Ну, а теперь отойдем на расстояние, которого требует наш маленький человечек. Оставайтесь в вашем кресле и смотрите. С этими словами Кристиано в два прыжка очутился на верху деревянной лестницы, наклонился, как бы прячась за рампой, поднял над этой рампой руку и принялся управлять движениями марионетки с необыкновенной ловкостью и изяществом. — Видите, видите, — вскричал он все так же весело, но с твердой убежденностью в голосе, — вот вам иллюзия, и она достигается даже без сцены и декораций. Эта фигура, грубо отесанная и разрисованная довольно тусклыми красками, приходит в движение и мало-помалу оживает. Если бы я показал вам чудесную немецкую марионетку, лакированную, ярко раскрашенную, всю в блестках и приводимую — в движение пружинами, вы все равно не смогли бы позабыть, что это кукла, нечто механическое, тогда как мой burattino — гибкий, послушный каждому движению моих пальцев, идет вперед и назад, кланяется, поворачивает голову, скрещивает руки, воздевает их к небу, размахивает ими во все стороны, здоровается, даст пощечину, стучит ими в стену в радости или в отчаянии… И вам кажется, что вы читаете все его чувства у него на лице, не так ли? Откуда нее рождается это чудо, каким образом эта едва обозначенная голова, такая уродливая, если смотреть вблизи, неожиданно от игры света и теки приобретает такую подлинную выразительность, что вы совершенно забываете о ее настоящей величине? Да, могу вас уверить, когда вы видите burattino в руках настоящего артиста на удачно декорированной сцене, где и пространство и обрамление находятся в соответствии с персонажами, вы совершенно забываете, что сами вы иных масштабов, чем эта маленькая сцена и эти маленькие существа, вы даже забываете, что голос, которым они говорят, не их собственный. Это, казалось бы, невозможное сочетание головы величиною с кулак и такого сильного голоса, как мой, совершается благодаря какому-то таинственному упоению, в которое я могу постепенно вовлечь и вас, а все чудо происходит от… Знаете от чего? Оттого, что этот burattino отнюдь не автомат, оттого, что он послушен моему капризу, моему вдохновению, моему увлечению, оттого, что каждое его движение подчинено мыслям, которые приходят мне в голову, и словам, которые я вкладываю в его уста, короче — оттого, что это я, иначе говоря — живое существо, а никак не кукла. Высказав все это с большой горячностью, Кристиано спустился с лестницы и положил марионетку на стол. Сославшись на то, что ему очень жарко, и извинившись перед господином Гёфле, он снял кафтан и, усевшись верхом на стуле, стал продолжать свою историю. Во время этого странного отступления Гёфле выглядел тоже довольно комично. — Послушайте, — сказал он, беря в руки burattino, — все, что вы говорите, верно и хорошо обосновано. И сейчас мне становится понятным то необычайное наслаждение, которое я испытал на представлениях Христиана Вальдо. Вы вот мне ничего об этом не говорите, а я-то ведь ясно вижу, что это маленькое существо, которое сейчас у меня в руках… и которое мне бы очень хотелось заставить двигаться и говорить… Послушай, друг мой, — добавил он, засовывая пальцы в голову и в рукава, — взгляни-ка на меня… Да, да, ты очень мил, и мне очень радостно видеть тебя так близко. Ну так вот, теперь я тебя узнаю, ты Стентарелло, веселый, насмешливый, изящный Стентарелло, который столько смешил меня в Стокгольме две недели тому назад. А вы, дорогой мой, — добавил Гёфле, поворачиваясь к своему гостю, — хоть я и никогда не видел вашего лица, я вас тоже отличнейшим образом узнал по голосу, остроумию, веселости и даже по чуткости, — вы не кто иной, как Христиан Вальдо, знаменитый operante recitante неаполитанских burattini. — Имею честь быть вашим покорным слугой, — ответил Христиан Вальдо, изящно раскланиваясь, — и если вы хотите знать, каким образом Кристиано дель Лаго, Кристиано Гоффреди и Христиан Вальдо — одно и то желицо, позвольте мне продолжить рассказ о моих приключениях. — Слушаю вас, все это очень интересно, но мне не терпится узнать, откуда взялось это новое имя — Христиан Вальдо. — Да, это в самом деле совершенно новое имя, оно появилось с осени прошлого года, и, право, мне не легко будет вам объяснить, почему я его избрал. Если не ошибаюсь, я услышал его во сне, это было напоминание о каком-то названии местности, поразившем меня еще в детстве. — Это удивительно! Но все равно. Вы оставили меня в балагане burattini на площади… — На площади Челано, — подсказал Христиан. — И это тоже было на берегу чудесного озера. Уверяю вас, господин Гёфле, судьба моя связана с озерами, и тут есть какая-то тайна, которую рано или поздно я, может быть, разгадаю. Вы помните, что за мною гналась полиция и что, не проберись я в балаган марионеток, меня бы, вероятно, арестовали и повесили. Балаган этот был очень мал, и в нем мог поместиться только один человек. Когда я спросил вас, жителя страны, где совсем не знают этих итальянских спектаклей и куда они были занесены, может быть, только мною, знаете ли вы, как устроены балаганы burattini, то я просто хотел, чтобы вы представили себе мое положение между ног operante, который в это время был занят дракой Пульчинеллы со сбирами, высоко подняв не только руки, но и глаза, и, напряженно переживая все перипетии этой шуточной драмы, не мог ни на мгновение от нее оторваться и разобраться в том, что происходит в это время возле его колен. Поэтому мне и выдалась минутная передышка между развязкой пьесы и поворотом моей судьбы. Я почувствовал, что мне не следует ждать, что меня спасет случай; я схватил двух лежавших на полу burattini, которые, по странному совпадению с моим собственным положением, изображали палача и судью, и, плотно прижавшись к operante, поднялся рядом с ним так высоко, как только мог; я поставил марионеток на дощечку и, рискуя разодрать матерчатые стены балагана, неожиданно для всех вставил в пьесу новую сцену. Успех был невообразимый, и мои партнер, нимало не смутившись, подхватил реплики на лету и, как нам ни было с ним тесно вдвоем, принял участие в диалоге с необычайным весельем и не менее удивительным присутствием духа. — Чудесная и безумная Италия! — воскликнул Гёфле. — Только в этой стране дарования человека столь тонки и неожиданны! — Дарования моего компаньона, — ответил Христиан, — были более поразительны, чем вы можете себе представить. Он узнал меня, сообразил, в какое положение я попал, и решил меня спасти. — И он вас действительно спас? — Не говоря ни слова, в то время как я произносил вместо него обращенный к публике заключительный диалог, он напялил мне на голову колпак, накинул на плечи красную тряпку, вымазал мне лицо охрой и, как только занавес опустился, шепнул мне на ухо: «Гоффреди, взвали театр себе на спину и следуй за мной». И вот мы с ним перешли через площадь, покинули деревню, и никто нас не остановил. Мы шли всю ночь и, прежде чем рассвело, очутились уже на Римской дороге. — Кто же был этот преданный друг? — спросил Гёфле. — Это был выходец из знатной семьи, по имени Гвидо Массарелли; как и я, он бежал из Неаполитанского королевства. Его дело было менее серьезно, чем мое, — он просто спасался от кредиторов. И вместе с тем он не стоил меня, в этом я вам ручаюсь! Но все же это был приятный молодой человек, образованный, умный и на редкость привлекательный. Я близко знал его но Неаполю, где он промотал свое наследство и приобрел много друзей. Сын богатого коммерсанта, наделенный большими способностями, он получил хорошее воспитание. Как и я, он устремился в свет, который быстро сделал его своим рабом; вскоре он разорился. Какое-то время я его кормил, по скромное существование его не удовлетворяло и, не имея достаточно мужества, чтобы зарабатывать себе на пропитание, он кончил тем, что стал мошенничать. — Вы об этом знали? — Я об этом знал, но я не посмел попрекать его этим в ту минуту, когда он спас мне жизнь. Он был, как и я в ту пору, очень беден. Когда он бежал, у него было всего несколько экю, которые он употребил на то, чтобы купить у одного канатного плясуна театр марионеток, помогавший ему не столько зарабатывать деньги, сколько прятать свое лицо. «Видишь ли, — сказал он, — то, что я делаю сейчас, граничит с гениальностью. Вот уже два месяца, как я брожу по Неаполитанскому королевству, не будучи узнан. Ты спросишь меня, почему я не скрылся куда-нибудь подальше. Дело в том, что и в других местах у меня есть кредиторы; если только я не уеду во Францию, я встречу их на своем пути повсюду. К тому же в Неаполе остались предметы моих увлечений, по которым у меня сладко ныло сердце; вот почему я и задержался в окрестностях города. Эта полотняная будка позволяет мне оставаться невидимым среди толпы. В то время как взоры всех устремлены на burattini, ни один человек не задумывается над тем, кто же тот, кто их приводит в движение. Я хожу с одного места на другое, как черепаха, спрятав голову под таким вот панцирем, и стоит мне покинуть площадь, как никто не подумает, что именно я забавлял народ». «Неплохая мысль, — сказал я, — но что ты собираешься делать сейчас?» «Все, что тебе захочется, — ответил он. — Я так счастлив, что снова встретил тебя и могу тебе услужить, что готов следовать за тобой куда угодно. Не могу даже сказать, как я к тебе привязан. Ты всегда бывал ко мне снисходителен. Не будучи богат, ты в своем положении сделал для меня больше, чем все богатые люди: ты защищал меня, когда меня обвиняли, ты корил меня моими заблуждениями, но всегда убеждал меня, что я сам в состоянии от них избавиться. Я не знаю, прав ли ты, но, несомненно, в угоду тебе я сделаю последнее усилие, но только уже за пределами Италии. Пойми, что в Италии я погиб, я обесчещен. Мне надо уехать за границу и жить там под чужим именем, если я хочу попытаться начать новую жизнь». Гвидо говорил убежденно, он даже плакал. Я знаю, что по натуре он добр, и считал его искренним. Может быть, в эту минуту он и действительно был искренен. По правде говоря, я всегда относился очень снисходительно к тем, в ком великодушие сочетается с расточительностью, а Гвидо, насколько мне известно, несколько раз одновременно бывал и великодушен и расточителен. Это не значит, господин Гёфле, что я не отличаю щедрости от эгоистической беспорядочности, хотя в ней-то я и сам не раз бывал грешен. Словом, я дал моему бывшему товарищу уговорить себя и разжалобить, и вот мы с ним вдвоем на Папской земле[383] скромно завтракаем под тенью сосен и составляем планы на будущее. Оба мы были нищими, но мое положение, хоть с точки зрения закона оно было серьезнее, все же не было безнадежным. Стоило мне захотеть, и я мог спастись бегством без всякого риска, затруднений и злоключений. Мне надо было только найти себе пристанище где-нибудь за пределами Неаполя, у первого же благородного человека из числа тех, кто выказывал мне там дружбу и кто, разумеется, поверил бы мне на слово, узнав, какие обстоятельства, можно сказать, меня вынудили убить моего подлого врага. Его все ненавидели, а меня — любили. Меня бы приняли, спрятали, позаботились бы обо мне и покровительством своим помогли бы покинуть страну. Если бы в дело вмешались высокопоставленные особы, и полиция и даже инквизиция, может быть, закрыли бы на все глаза. Однако решиться на это я не мог, и причиной моего непреодолимого упорства было отсутствие денег и необходимость принимать чью-то помощь. Живя у кардинала, я находился в таких хороших условиях, что не имел права уехать от него с пустыми руками. Ему самому даже не могло прийти в голову, что я нищий. Мне было бы стыдно признаться не в том, что у меня нет денег — такое часто случалось со светскими молодыми людьми, у которых я бывал, — но в том, что у меня их и не будет до тех пор, пока я не поступлю на новую должность, да еще при условии, что на новом месте я буду вести более разумную и размеренную жизнь, чем на прежнем. Что касается последнего, то мне очень хотелось обещать это самому себе, гордость же моя мешала дать такое обещание в подобных же обстоятельствах другим людям. Когда я объяснил все это Гвидо Массарелли, его крайне изумила моя щепетильность, и он даже проникся ко мне жалостью. Чем настойчивее он уговаривал меня попросить помощи у моих друзей в Риме, тем больше росло мое нежелание к ней прибегать. Оно было, возможно, преувеличено, но одно могу сказать: сидя рядом с моим товарищем по несчастью, я нисколько не стыдился того, что вынужден есть вместе с ним бобовую кашу, но скорее бы умер с голоду, чем решился бы попросить кого-нибудь из моих прежних знакомых накормить нас двоих обедом. Гвидо столько раз злоупотреблял сочувствием к его просьбам, обещаниям, притворным раскаяниям и лживым речам, что я боялся, как бы и меня не сочли таким же вымогателем и мошенником. «Мы натворили глупостей, — сказал я, — теперь надо за них расплачиваться. Я вот решил отправиться либо во Францию через Геную, либо в Германию через Венецию. Я пойду пешком и буду зарабатывать себе на хлеб чем смогу. Как только я окажусь за пределами Италии, где мне вечно грозила опасность за малейшую оплошность попасть и руки неаполитанской полиции, я постараюсь добраться до какого-нибудь большого города и найти там работу. Я напишу кардиналу, оправдаюсь перед ним и моими друзьями, — попрошу у них рекомендательные письма, и, проведя какое-то время в нищете и ожидании, я в конце концов, не уронив своего достоинства, сумею устроиться. Если ты хочешь следовать за мной, отправимся вдвоем, я употреблю все силы, чтобы и ты мог поступить как я — начать трудиться, чтобы честно жить». Гвидо, казалось, был настолько убежден и настолько переменился, что я больше не стал противиться и поддался его дружеским излияниям. Мне, однако, случалось заметить, что откровенные подлецы бывают иногда очень милы и что самые общительные люди — это те, которым больше всего не хватает достоинства. Но у нас есть какое-то глупое самолюбие, которое убеждает, будто мы можем иметь влияние на этих несчастных, и если они считают нас дураками, то виноваты в этом не только они, но и мы. Все эти предварительные соображения надо было вам изложить, чтобы сразу же перейти к продолжению моего рассказа. Итак, речь шла о том, чтобы покинуть Италию, иначе говоря — пройти пешком несколько сот лье без гроша в кармане. Я обещал Гвидо, что изыщу способ добыть деньги, и просил только оставить меня на несколько дней в покое, чтобы дать зажить ране, которая уже начинала сильно гноиться. «Поди промысли себе что-нибудь на жизнь, — сказал я, — а я останусь здесь, в расщелине скалы возле источника; хлеба мне пока хватит, а это все, что нужно человеку, у которого лихорадка. Встретимся потом где-нибудь в условленном месте: я приду, как только смогу ходить». Гвидо отказался меня покинуть и начал так старательно и заботливо исполнять свою роль кормильца и сиделки, чтобы утишить мою боль и облегчить мои бедствия, что я почувствовал к нему самую искреннюю благодарность. Спустя три дня я был уже на ногах и задумался над будущим. И, поразмыслив, вот к чему я пришел: самое лучшее, что мы можем сделать, — это показывать марионеток. Но только надо было сделать наше ремесло более выгодным и менее примитивным. Надо было отказаться от вечно одной и той же драмы Пульчинеллы и импровизировать вдвоем на такие же простые, но менее избитые сюжеты, развлекательные комические пьесы. Гвидо при этом оказался более сообразителен, чем можно было ожидать; в нем эта мысль не вызвала ни скуки, ни отвращения. Он понял, что работа со мной доставит ему удовольствие: ведь это же общее правило, что развеселить других может только человек, сам не поддающийся скуке. И он помог мне соорудить переносный театр, состоящий из двух половин, каждая из которых была для нас надежной защитой от солнца, дождя и полицейских. Соединяясь с помощью крюков, они образовывали сцену, достаточно просторную, чтобы на ней могли действовать две пары рук. Я превратил его нелепые burattini в осмысленные фигурки и нарядно одел их. К ним я добавил дюжину новых персонажей, сделанных моими собственными руками, и под открытым небом, в пустынном уединении мы решили испробовать наш новый театр. Скромные расходы по его устройству покрылись продажей моих статуэток из мягкого камня, которые Гвидо сумел сбыть в деревнях значительно выгоднее, чем я сам. Через неделю уже нам удалось дать десяток представлений на окраине Рима. Успех был огромный, и мы собрали баснословную сумму — три римских экю! Теперь мы могли уже пуститься в путь и пройти безлюдные равнины, отделяющие Вечный город от других итальянских провинций. Восхищенный нашим успехом, Гвидо не прочь был остаться в Риме и подольше. Разумеется, мы могли бы набраться смелости и отправиться в богатые кварталы, чтобы привлечь к нашим комедиям внимание людей благородных, но Этого-то я как раз и боялся больше всего, да и обоим нам следовало этого опасаться, ибо у каждого были свои причины оставаться в тени. Я уговорил моего спутника не задерживаться, и мы отправились но Флорентийской дороге, давая представления в разных городах и небольших местечках, чтобы собрать денег на дорогу. Мы выбрали путь через Перуджу, и надо сказать, что я не без умысла предпочел эту дорогу Сиеннской. Мне хотелось увидеть дорогой моему сердцу чудесный город, мое безмятежное Тразименское озеро, в особенности же маленькую виллу, где я провел такие счастливые дни. Уже темнело, когда мы вступили в Бассиньяно[384]. Никогда в жизни не видел я такого лучезарного заката на спокойных и прозрачных водах. Я предоставил Гвидо устраиваться на ночлег в захудалой гостинице, а сам побрел по берегу озера к маленькой вилле Гоффреди. Чтобы не быть узнанным в родных краях, я надел маску и шляпу арлекина, купленные в Риме на случай опасности. Две-три раскрашенные тряпки преображали меня в паяца; Это был очень удобный костюм для антрепренера театра марионеток, который должен зазывать публику. Деревенские ребятишки побежали за мной, думая, что я буду показывать фокусы, но я отогнал их, размахивая своей палочкой, и вскоре остался один на берегу. Я добрался до родных мест, когда уже совсем стемнело, по вечер был ясный. Я загляделся на кристально прозрачное озеро, где вместе с сумерками тонут контуры горизонта: мне казалось, что я уношусь в бескрайное, усеянное звездами небо и, словно бесплотный дух, парю по его необъятным просторам. О, до чего же странной бывает иногда жизнь, господин Гёфле! И каким чудищем я был тогда в моем нелепом фантастическом наряде, когда, как кающаяся душа, искал под выросшими в мое отсутствие ивами уединенную могилу моих бедных родителей. На мгновение я подумал даже, что ее больше нет, что у меня ее украли, — ведь она принадлежала мне, и это было единственное мое достояние: на последние гроши я купил этот маленький клочок освященной земли, где и похоронил их останки. Наконец я на ощупь уже нашел скромную каменную плиту; я сел возле нее и, скинув с себя маску арлекина, наплакался вволю. Я провел там несколько часов, погруженный в раздумье, и решил, прежде чем покину эти места, и, может быть, навсегда, покаяться в моих былых заблуждениях и как следует поразмыслить над тем, что же мне делать. Благодать божья — это не иллюзия, господин Гёфле. Я не знаю, какой вы там лютеранин, а что до меня, то я не кичусь тем, что я настоящий католик, Мы живем в такое время, когда никто ни во что не верит, разве только в то, что надо быть веротерпимым и что это наш долг, но я… я смутно верю в мировую душу, называйте ее как хотите, — в великую душу, исполненную любви и доброты, которой мы поверяем наши слезы и наши желания. Нынешние философы считают нелепостью полагать, что высшее существо снизойдет до того, чтобы заниматься такими ничтожными червями, как мы. Я же утверждаю, что не существует ни большого, ни малого перед лицом того, в ком воплотилось все, и что в океане любви всегда найдется место, где можно ласково подобрать бедную человеческую слезинку. Сидя у этой могилы, я стал размышлять о своих поступках: мне казалось, что в этом потоке кроткого света, который струили с неба спокойные звезды, мои отец и мать тоже могли послать мне маленький луч, чтобы отыскать и благословить меня. Мне нечего было перед ними стыдиться, на совести у меня не было ни преступления, ни подлого или нечестивого поступка, я не забывал о них ни на один день, и среди всех соблазнов, когда демон юности и любопытства подталкивал меня к безднам этого порочного и безвольного мира, я защищался и спасал себя воспоминаниями о Сильвио и Софии. Но недостаточно было избегать зла — надо было творить добро. Добро — это нечто относительное и зависит от положения и способностей каждого из нас. Я чувствовал себя обязанным продолжить работы Сильвио Гоффреди и сделать так, чтобы сэкономленные деньги позволили мне написать и опубликовать результаты его исследований. Для этого мне нужно было сколотить себе какое-то состояние, с тем чтобы продолжить его путешествия. Сначала я об этом действительно думал, а потом неопытность, влечения чувств и дурные примеры привели к тому, что я стал жить как искатель приключений — лишь сегодняшним днем. Эти поиски приключений в конце концов и стали причиной моей гибели. Если бы я довольствовался местом скромного учителя, я не был бы вынужден убивать Марко Мельфи. Ему бы не пришло в голову меня оскорбить, и он даже никогда и не встретил бы меня в гостиных кардинала, не стал бы меня разыскивать в моем кабинете, среди книг, — он бы даже не знал о моем существовании. Я не жил жизнью, какая подобает человеку серьезному. Мне хотелось разыграть роль дворянина, а вот пришлось стать убийцей. «Сколько бы слез пролила моя бедная мать, — думал я, — если бы она увидела меня сейчас, переодетого бродячим актером, изранившего о камни ноги, которые она когда-то согревала своими руками, прежде чем положить меня в колыбель. И разве мой отец не стал бы бранить меня за эту ложно понятую честь, которая сделала меня убийцей и изгнанником?» Я вспоминал живой характер и гордую щепетильность благородного Сильвио. Сам он никогда не брал в руки шпаги и отказался взять для меня учителя фехтования, сказав, что дешево стоит честь человека, если он не умеет себя уважать без клинка на боку! Я поклялся священной памятью дорогих мне людей исправить мои ошибки, и после того, как я долго глядел на небо, где, казалось мне, они могли соединиться на одной из счастливых звезд, я пошел обратно по дороге в деревню, решив, что не стану ничего узнавать о нашей villetta. Разве я имел право предаваться бесплодным сожалениям? Сильвио завещал мне эту виллу вовсе не для того, чтобы я обогатился и стал жить в праздности. Он должен был бы благословить меня из своей могилы, когда я отдал и истратил все, чтобы облегчить последние дни жизни его вдовы; однако, принеся эту жертву, я должен был работать еще больше и не думать, что один-единственный благой поступок, вызванный чувством преданности близкому человеку, давал мне право напиваться пьяным в доме людей, которым нечего было делать. На обратном пути я встретил Гвидо Массарелли, который отправился За мной на берег озера. Он беспокоился за меня. Я рассказал ему обо всем, что здесь передумал, и он, видимо, был очень растроган. Усевшись в стоявшую на причале лодку, мы стали говорить с ним о чувствах, морали, философии, метафизике, астрономии и поэзии и просидели так до того, как забрезжил рассвет. У Гвидо был очень возвышенный ум. Увы! Эта странная аномалия встречается у подлецов, как бы для того, чтобы заставить нас усомниться в промысле божьем! На следующий день мы были уже в пути, а несколько дней спустя во Флоренции, возле Старого дворца, мы уже веселили уличную толпу. Сбор оказался хорошим. Мы могли бы поехать в Геную в повозке. Тем не менее мы с удовольствием шли пешком, но наш багаж, который все время пополнялся новыми марионетками и новыми декорациями, стал очень тяжелым. В Генуе нас ждал новый успех и необыкновенный сбор. Представления наши так нравились, что мы уже не могли удовлетворить всех обращенных к нам просьб. Поначалу на городской площади мы развлекали простой народ, когда же перед балаганом остановилось несколько лиц более высокого ранга, мы не могли отказаться от желания пококетничать и поднять наш диалог на более высокий уровень, сделав спектакль для более образованной публики. На него обратили внимание, и его стали повторять в свете. Одним из таких случайных зрителей оказался маркиз Спинола, который пригласил нас к себе, чтобы позабавить своих детей. Мы явились к нему в масках, поставив наше инкогнито одним из обязательных условий спектакля. Театр наш расположился у него в саду, и нашими зрителями были самые высокопоставленные и знаменитые люди города. В последующие дни мы уже не знали, кого и слушать. Все стремились заполучить нас к себе, и Гвидо назначил очень высокую плату за вход, однако никто не стал возражать. Тайна, которой мы себя окружили, маски на лицах — мы ни за что не хотели их снимать до того, как войдем в балаган, — фантастические имена, которыми мы себя называли, — все это, разумеется, делало наши спектакли еще более модными. Все без труда догадались, что оба мы происходим из хороших семей, но в то время как одни догадывались также, что мы стали бродяжничать после того, как учинили какую-то глупость, другие убеждали себя, что мы занимаемся этим ремеслом исключительно ради забавы и побившись с кем-то об заклад. Дошли даже до того, что отождествили нас с двумя молодыми неаполитанцами, которые потом не замедлили приписать себе наши успехи, о чем нам рассказали уже позднее. В Ницце, Тулоне и до самого Марселя нас сопровождал триумф за триумфом. А так как мы передвигались медленно, то наша слава опережала нас, и на постоялых дворах, где мы останавливались, мы узнавали, что уже кто-то приходил спрашивать о нас и приглашать на вечерние представления. После Марселя успех наш стал уменьшаться, и так дела шли до Парижа. Я довольно хорошо говорил по-французски и с каждым днем освобождался от итальянского акцента, который вначале мешал мне варьировать интонации моих персонажей; акцент же Гвидо, гораздо более заметный, чем мой, напротив, становился еще ощутимее, и наш диалог от этого страдал. Меня это нисколько не беспокоило. Мы собирались бросать ремесло актера, и я радовался, что у нас есть теперь достаточно средств для того, чтобы начать более серьезную жизнь.VI
Передохнув несколько минут, Кристиано, которого мы теперь будем называть Христианом, продолжил свою повесть. — Не забыть бы рассказать вам, какая интересная встреча примирила меня на несколько дней с ремеслом странствующего актера. Это был совершенно необыкновенный человек; он занимает сейчас в Париже высокое положение, и вы о нем, разумеется, слыхали. Речь идет о Филиппе Ледрю, прозванном Комюсом[385]. — Ну конечно, — отозвался Гёфле, — я читал в своем научном журнале, что этот искусный престидижитатор[386] был очень крупным физиком и что его опыты над магнитом обогатили науку новыми инструментами исключительной точности. Не так ли? — Совершенно верно, господин Гёфле. Господин Комюс был назначен учителем французских принцев крови; он создал морские карты по новой системе — это результат огромных работ, предпринятых по приказу короля; рукописные экземпляры этих карт он вручил господину де Лаперузу. Словом, с того дня, как я встретил его на дороге, где он подвизался в роли бедного ученого, распространяющего образование в занимательной форме, он быстро завоевал всеобщее уважение, милости министров и возможность применить плоды своих обширных познаний и добиться значительных результатов. Итак, мне довелось встретить знаменитого Комюса, правда, не на городской площади в Лионе, но в одном из тех мест, где обычно давались спектакли бродячих operanti, которые каждый из нас арендовал за свой счет. Привыкший к разным нелепостям и грубостям такого рода конкурентов, я держался, по своему обыкновению, настороже, когда Комюс обратился ко мне первый с такой изысканной вежливостью, что я был очарован и поражен. Это был человек лет тридцати пяти, великолепно сложенный, одинаково крепкий и телом и духом, столь же легкий в своих движениях, сколь и в речи, словом, одна из тех необычайно одаренных натур, которые чаще всего рождаются в безвестности. Он что-то спросил у меня насчет моего ремесла и удивился, что я оказался человеком достаточно образованным, чтобы говорить с ним. Я поведал ему о трудных обстоятельствах своей жизни, и он отнесся ко мне по-дружески. После того как он побывал на нашем представлении, которое ему очень понравилось, он пригласил нас посмотреть свое, что оказалось для меня очень полезным, ибо он знал немало секретов, которыми не владели другие и которые были не чем иным, как одним из случаев использования открытий исключительной важности. Ему хотелось посвятить меня в них, и, обнаружив у меня достаточно способностей, он предложил мне разделить его судьбу и ездить вместе с ним но стране. К сожалению и на горе себе, я от этого отказался: к сожалению — потому, что Комюс был одним из самых лучших, самых бескорыстных и самых приятных людей, каких я когда-либо встречал; на горе — потому, что этот странствующий физик не сумел найти полезное и серьезное применение своим незаурядным талантам. Я поклялся Массарелли не покидать его, а у Массарелли не было никакой склонности к наукам. Встреча эта, которой я не мог воспользоваться в материальных целях, была, однако, до такой степени полезна мне с точки зрения нравственной, что я до конца жизни буду благословлять за нее небеса. Постараюсь же покороче изложить те советы, которые этот искусный и превосходный человек мне дал — весело, дружески, без всякого педантизма, за скромным ужином, который мы разделили с ним в харчевне, заставленной ящиками с нашим багажом: наутро нам предстояло расстаться. «Дорогой мой Гоффреди, — сказал он, — мне жаль, что мы расстаемся так скоро, и я искренне разделяю ваше огорчение. Нескольких дней, проведенных нами вместе, было достаточно, чтобы я мог узнать и оценить вас. Но пусть мысль о будущем не огорчает и не тревожит Бас. Оно будет прекрасно, если окажется вам полезным. Послушайте, я буду сейчас говорить с вами на языке, совершенно не похожем на тот, на котором говорят все, и смысл его станет вам ясен, если вы будете поступать так, как я вам советую. Иные скажут: «Пожертвуйте всем ради честолюбия». Я же скажу: «Прежде всего пожертвуйте честолюбием», как его понимают люди, иначе говоря, не пекитесь ни о состоянии, ни о славе; идите прямо к своей цели — просветить ваших ближних, все равно в каких условиях и какими путями. Все пути прекрасны и благородны, если они ведут к этой цели. Вы всего-навсего шут, а я колдун! Посмеемся же над этим и будем продолжать наше дело, потому что и марионетки и волшебство служат в наших руках благим целям. В этом я вижу секрет быть счастливым наперекор всему. Я знаю только две вещи на свете, и обе они заключаются в одном правиле: любить человечество и не обращать внимания на его предрассудки. Презирать заблуждение означает уважать человека, не так ли? Владея этим секретом, вы всегда будете достаточно богаты и знамениты. Что же касается потерянного времени, которого вам жаль, то вы еще достаточно молоды, чтобы с избытком все возместить. Я тоже в молодые годы грешил легкомыслием, немного кичился этой молодостью, был опьянен своей силой. А потом, довольно безрассудно растратив свой патриотизм и свои лучшие годы, я вновь поднялся, и вот я иду. Я человек здоровый, вы — тоже. Я работаю по двенадцати часов в день, а это по плечу только тому, кто не хил и не болен. Окунитесь в науку, и пусть люди неспособные гоняются за наслаждениями. Они не найдут их там, где ищут, а вы найдете их там, где они действительно есть — в спокойной совести и в развитии ваших высоких способностей». Тут Комюс разложил весь свой сбор на две кучки, большую и маленькую. Маленькую он оставил себе, большую же отдал на нужды странноприимных домов города. Я был поражен, видя, до чего просто и весело он распорядился своими деньгами; он сделал это как человек, привыкший исполнять свой незыблемый долг, и ему незачем даже было скрывать Это — настолько все было естественно и просто. Я упрекал себя в том, что мог позабыть заветы моих дорогих Гоффреди: ведь господин Комюс и говорил и делал именно то, чему меня учили они. Вот так, господин Гёфле, бродячий фокусник убедил и обратил в свою веру импровизатора с большой дороги. Мы прибыли в Париж; путешествие наше длилось три месяца, и я вспоминаю о нем как об одном из самых приятных периодов моей жизни. В дороге я не терял времени, я старательно изучал в природе и обществе все то, что доступно человеку, не имеющему специального образования, если он не глупее других. Я делал записи; мне казалось, что в городе литературы и искусств мне легче всего будет зарабатывать деньги пером, если только у меня будет что сказать и я буду чувствовать в себе силу это выразить. Мы вошли в столицу в мрачный и унылый осенний день. Мне трудно было даже представить себе, что можно привыкнуть к этому климату, и Гвидо сразу же сделался грустен и заметно упал духом. За очень дорогую плату мы сняли жалкую меблированную комнату. Там мы немного привели себя в порядок, разобрали наш театр, а burattini заперли в ящик на ключ. Мы собирались продать наш театр какому-нибудь бродячему актеру и несколько дней думали только о том, чтобы навести необходимые справки и увидеть памятники, спектакли и достопримечательности французской столицы. По истечении недели наш скромный капитал поуменьшился, и хуже всего было то, что я не знал, за что взяться, чтобы его пополнить. Я был полон иллюзий, или, вернее, совершенно не представлял себе, что такое настоящий большой город и какое ужасающее одиночество ожидает в нем иностранца, у которого нет ни денег, ни друзей, ни рекомендаций. Я навел справки относительно Комюса, рассчитывая, что он может меня кое с кем познакомить; но Комюс не вернулся еще из своих поездок, и имя его в ту пору было известно только в провинции. Я выписал себе бумаги Сильвио Гоффреди, на основании которых собирался издать под его именем описание сделанных им исторических исследований. Ни на какую материальную выгоду я не рассчитывал, но надеялся, что, выполнив свой долг, приобрету себе доброе имя и друзей. В Италии кое-какие друзья остались верны мне, и они отправили мне эту посылку, но до меня она так и не дошла. Ни кардинал, ни мой юный ученик не ответили на мои письма, другие же ограничились сухими выражениями участия или не пожелали компрометировать себя, рекомендуя меня влиятельным итальянцам, жившим в Париже. Они даже посоветовали мне не привлекать к себе внимания нашего посла, который мог, пожалуй, найти необходимым во имя чести своей семьи (он приходился родственником Марко Мельфи) испросить у французского короля приказ о моем аресте. Увидев, в какое положение я попал, я стал рассчитывать только на себя самого. Но поверьте мне, господин Гёфле, в столь беспомощном состоянии и при всех тяготах жизни, которую приходится вести в таком городе роскоши и соблазнов, как Париж, я все же сумел остаться честным человеком! Когда-то я был гостем дворцов под роскошным небом, потом — беззаботным странником в очарованном краю; теперь же я превратился в мрачного и унылого жителя мансарды, боровшегося с холодом, голодом, а порою охваченного отчаянием и отвращением к жизни. И все же благодаря богу и разумным решениям, которые я принимал, мне удавалось найти какой-то выход: я никого не обманул и не умер от нищеты. Мне удалось напечатать кое-какие произведения, которые не обогатили меня, но принесли мне некоторую известность в узком кругу безвестных и скромных ученых. Мне выпала честь подобрать материалы для некоторых статей в Энциклопедии[387] по вопросам естественных наук и итальянских древностей. Некий блистательный маркиз взял меня к себе в секретари и прилично одел. Тут я и вышел в открытое море. Если нельзя сказать, что одежда во Франции — это все, то можно по крайней мере утверждать, что иметь вид человека, живущего в достатке, необходимо каждому, кто не хочет оставаться нищим. Маркизу и моему новому платью я обязан тем, что свет снова распахнул передо мной свои двери. Это был опасный риф, о который я легко мог разбиться. Не сочтите меня за дурака, если я скажу вам, что мне бы легче жилось, если бы наружность моя была столь же безобразна, как у вашего друга Стангстадиуса. Человеку красивому и не имеющему ни гроша в кармане свет в паши дни охотно дает доступ к богатству… и к позору… Сколь благоразумным вы бы ни старались быть, вам приходится каждую минуту наступать на прожорливый, мятущийся муравейник дам полусвета. Не будь у меня перед глазами образа моей целомудренной и гордой Софии, я бы, вероятно, дал себя вовлечь в лабиринт этих вкрадчивых и вечно копошащихся тварей. Я сумел избежать этой опасности, но, прожив год в Париже, как раз в ту пору, когда трудом своим и бережливым отношением к деньгам я уже почти что добился самостоятельного положения, я вдруг ощутил непреодолимое отвращение к этому городу и страстное желание попутешествовать. Главной причиною этого отвращения был Массарелли. Он не смог перенести, подобно мне, лишения и всю томительность ожидания. В первые же дни нищеты он забрал у меня театр марионеток и стал пытаться зарабатывать деньги на перекрестках дорог, собирая вокруг себя самых отпетых людей. На свою беду, он не сумел, подобно мне, избавиться от акцента и не достиг никакого успеха. Вскоре он перешел на мое попечение, и мне пришлось одевать и кормить его. Так продолжалось несколько месяцев, и мне они дались нелегко. Потом он снова исчез, несмотря на то, что расточал мне заверения в дружбе и пытался работать вместе со мной. Но отделаться от него мне никак не удавалось. Не проходило и недели, чтобы он не являлся, иногда пьяный, и не обворовывал меня. Я захлопывал у него перед носом дверь, но он продолжал ходить за мной по пятам. Наконец, учинив какие-то подлости, он сумел в конце концов добыть деньги и решил отдать мне то, что у меня брал, по-братски разделить со мной все и выплакать еще раз у меня на груди свои слезы, вызванные вином и раскаянием. И деньги его и нежности были мне отвратительны, я их отверг. Он рассердился, захотел драться со мной, но я с презрением отказался. Тогда он дал мне пощечину, и мне пришлось прибить его тростью. На следующий день он написал мне, прося прощения, но я уже устал от него и, встречая его повсюду, даже в хорошем общество (бог знает, как ему удавалось туда проникать), я испугался, что он может опорочить меня каким-нибудь плутовством. Я не ощущал в себе эгоистической храбрости, позволяющей выгнать с позором из дому человека, которого когда-то любил, и предпочел удалиться сам и расстаться с ним. По счастью, мне удалось наконец получить кое-какие хорошие рекомендации, среди прочих и от Комюса, который в это время потрясал Париж своей катоптрикой, то есть фантасмагорией, достигаемой с помощью зеркал, где вместо того, чтобы показывать духов и дьяволов, он воспроизводил одно только приятное и очаровательное. Его большие способности и привычка наблюдать позволили ему узнать человеческий характер и человеческое сердце настолько, что он читал чужие мысли и, казалось, был наделен даром пророчества. Наконец, глубокое изучение алгебры дало ему возможность разрешить, придав им форму занимательных и остроумных головоломок, задачи, вникнуть в которые люди необразованные не могут и которые многие склонны поэтому считать волшебством. Мы живем в век просвещения, когда, в силу удивительного противоречия, потребность в чудесном, столь могущественная и беспорядочная в прошлом, все еще борется у многих людей с голосом разума. Вам кое-что об этом известно здесь, где к вашему знаменитому ученому Сведенборгу[388] обращаются как к колдуну в еще большей степени, чем к ясновидцу, да и сам он верит в то, что владеет тайнами загробной жизни. Комюс — это человек, пожалуй, не столь убежденный и добродетельный, как Сведенборг, о котором, как я знаю, говорить следует всегда с уважением, но более мудрый и более серьезный. В поступках своих он руководствуется только теми законами, которые доступны человеческому разуму, и секреты свои охотно делает достоянием ученых и путешественников, которым предстоит воспользоваться ими в интересах науки. Он принял меня радушно и предложил поехать с ним в Англию, чтобы помочь ему в его исследованиях. Предложение его было очень соблазнительным, но мечты мои влекли меня к минералогии, ботанике и зоологии, а также и к изучению нравов и общества. Англия казалась мне уже слишком изученной страной, чтобы я мог почерпнуть там какие-либо новые наблюдения. К тому же Комюс был тогда поглощен одною узкою областью знаний, в которой я вряд ли мог бы быть ему полезен. Он ехал в Лондон, чтобы проследить за изготовлением точных приборов, которые ему не могли достаточно хорошо сделать во Франции. Мысль провести год или два в Англии мне не улыбалась. Я устал от жизни в большом городе. Мне мучительно хотелось свободы, движения, а главное — возможности действовать самостоятельно. Хоть мне и следовало быть благодарным всем тем, у кого я до этого времени служил, я был настолько не создан для зависимости и повиновения, что, попав в подобное положение, просто заболевал. Комюс познакомил меня со многими знаменитыми людьми, с господами Де Ласепедом[389], Бюффоном[390], Добантоном[391], Бернаром де Жюсьё[392]. Я очень заинтересовался стремительным и блестящим развитием ботанического сада и зоологического музея, во главе которых стояли и каждый день обогащали их эти достойные ученые. Я видел, как туда поступали великолепные дары отдельных богатых собирателей и драгоценные приобретения путешественников. Мною овладело безудержное честолюбие приобщить себя к числу этих служителей науки, смиренных адептов ее, которые довольствовались тем, что были благодетелями человечества, не требуя за это ни славы, ни награды. Я отлично видел, как высокий человек в белых манжетах, господин Бюффон, стремясь удовлетворить свое честолюбие, широко пользовался терпеливыми и скромными трудами своих помощников. Что из того, что у него была эта странность, что ему хотелось быть «господином графом» и требовать от своих вассалов, чтобы они выполняли все его требования, что он то и дело хвалил себя сам, приписывая себе также и труды, участие в которых для него сводилось иногда к простому совету. Такой уж у него был характер. Совсем иначе вели себя его умные и великодушные собратья. Они с улыбкой давали ему высказать все, что он хотел, а сами работали изо всех сил, отлично зная, что, решая задачи, способствующие прогрессу всего человеческого рода, они должны подняться над всем личным. Они поэтому были счастливее его. Счастливее в том смысле, как Это понимал Комюс, тем счастьем, к которому стремился и я. Их доля казалась мне лучшей, я жаждал идти по их стопам. Поэтому я предложил им свои услуги, после того как научился у них всему, чему мог, слушая их публичные лекции, вникая в их частные беседы. Мое горячее рвение и мои способности к языкам показались господину Добантону достаточными, чтобы обеспечить мне успех. Единственным препятствием была моя бедность. «Наука богатеет, — говорил он с гордостью, окидывая взглядом все великолепие кабинета и сада, — а ученые чересчур бедны для того чтобы путешествовать. Жизнь для них во всех отношениях трудна, будьте к этому готовы». Я был к этому совершенно готов. Мне удалось скопить небольшую сумму, и мне казалось, что ее хватит надолго при том скромном образе жизни, который, кстати говоря, ничуть меня не страшил. Мне дали официальное научное поручение, чтобы дорогой в чужих краях никто не принял меня за бродягу или за шпиона, и я уехал, не задумываясь над тем, на какие средства я буду жить по прошествии года. Провидение должно было позаботиться об остальном. Однако с помощью бумаг, утверждавших безобидную и почтенную цель моих странствий, я сумел все же получить кое-какую материальную помощь от научных учреждений и даже от частных лиц — друзей науки. Я не хотел ни о чем просить, зная, до какой степени семья Жюсьё поистратилась на такого рода пожертвования, и решив действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Теперь наконец потекли счастливые дни. Впереди было очень много времени, все зависело лишь от того, насколько хватит у меня средств. Они, правда, были не очень-то велики, Поэтому для того, чтобы продлить и удовлетворить мою страсть к путешествиям, я сразу же постарался сделать так, чтобы их хватило. В самом начале пути я оделся в костюм горца, грубый и прочный; купил осла, чтобы он вез мой небольшой багаж: книги, инструменты и образцы — мою будущую добычу, — и отправился в горы, в Швейцарию. Не стану рассказывать вам о моих трудах, переходах и приключениях. Путешествие это я опишу, как только у меня будет время, и недавняя потеря моего дневника не помешает мне сделать это, ибо память у меня на редкость хорошая. Эти одинокие странствия вернули мне здоровье, беззаботный характер, веру в будущее, хорошее расположение духа, словом — все то, что было сильно подорвано за период моей парижской жизни. Я почувствовал, что воспоминание об обоих Гоффреди умиротворилось во мне, а это означало, что я стал чувствовать себя счастливым. Я достаточно работал в области ботаники и минералогии, чтобы выполнить все обещания, которые дал в отношении той и другой специальности; но, не платя никакой дани людскому тщеславию, я приобретал достаточно времени, чтобы жить за свой счет в качестве наблюдателя, а может быть, немного и артиста и порта, иными словами — человека, который ощущает все красоты природы в их божественном единении. Из каждого города я посылал в Париж отчеты и даже сами образцы вместе с довольно подробными письмами, адресованными Добантону, зная, что романтические впечатления юноши могут доставить ему удовольствие. Девять или десять месяцев спустя я был уже в Карпатах вместе с ослом, который сослужил мне поистине большую службу и был так верен и с такой готовностью следовал за мной повсюду, что ни разу не становился для меня обузой, как вдруг в уединенной сельской местности я повстречал бородатого нищего, в котором сразу признал Гвидо Массарелли. Чувство отвращения боролось во мне с жалостью, я не решался сним заговорить, но он сам узнал меня и подошел ко мне с таким смиренным и понурым гидом, что сочувствие к нему одержало во мне верх над отвращением. В эту минуту я был счастлив и склонен к доброте. Усевшись на пень среди поваленных деревьев, я с аппетитом закусывал, а осел мой мирно пасся в нескольких шагах от меня. Чтобы дать ему отдохнуть, я снял с него вьюк и поставил у себя между ног корзину с припасами. Там было не очень-то много, но все же достаточно для двоих. Массарелли, бледный и изможденный, едва стоял на ногах от голода. «Садись и ешь, — сказал я. — Я уверен, что ты впал в такую нищету по собственной вине, но, так и быть, спасу тебя еще раз». Он рассказал мне о своих злоключениях, истинных или мнимых, унизительно и пошло бичевал себя, но в конце концов старался все же спалить вину на других люден, якобы жестоких и неблагодарных. Я мог только пожалеть, что он стал таким, и, поговорив с ним с полчаса, дал ему несколько дукатов и отправился своей дорогой. Пути наши лежали в разные стороны, и я был очень этому рад. Но не успел я пройти и четверти часа, как у меня закружилась голова, и я вынужден был остановиться: меня одолевали усталость и сон. Не понимая, что это со мною вдруг приключилось — такого у меня не бывало никогда в жизни, — и вспоминая, что, завтракая вместе с Гвидо, я не выпил и стакана вина, я подумал, что это следствие жары и плохо проведенной ночи в харчевне. И вот я улегся в тени, чтобы немного соснуть. Может быть, это было неблагоразумно с моей стороны, я ведь находился в совершенно пустынной местности, но поступить иначе я был не в силах. Меня окутал какой-то дурман, тяжелый и неодолимый. Проснувшись и все еще чувствуя себя очень плохо от тяжести в теле и какой-то пустоты в голове, я увидел, что лежу на прежнем месте, но что меня обворовали до нитки. На горизонте вставало солнце. Сначала я думал, что это сумерки и что проспал я десять часов, но когда увидел, что солнце поднимается в тумане, а на густой траве поблескивает роса, я понял, что проспал весь день и ночь. Осел мой исчез вместе со всем багажом, карманы мои были пусты, мне оставили только платье, что было на мне. Внимание мое привлек предмет, не имевший никакой ценности, забытый или брошенный бандитами: это была чашечка из небольшого кокосового ореха, которой я пользовался в пути, чтобы не пить из горлышка бутылки, что мне всегда было противно. Щепетильность моя дорого мне обошлась: в ту минуту, когда я отвернулся, Гвидо насыпал мне в эту чашку снотворного. На дне ее выкристаллизовалась какая-то соль. Гвидо не был обыкновенным бродягой, он возглавлял воровскую шайку. Свежие следы вокруг свидетельствовали о том, что тут было несколько человек. Оглядевшись, я увидел на камне едва заметную, сделанную мелом надпись и прочел написанные по-латыни слова: «Друг мой, я мог тебя убить и должен был это сделать, но я тебя пощадил. Спи спокойно!» Это был почерк Гвидо Массарелли. Почему же он должен был меня убить? Чтобы отплатить мне за то, что я отколотил его тростью в Париже? Возможно. Среди самых больших несчастий, которые постигают его душу и разум, итальянец сохраняет чувство мести или, во всяком случае, помнит обиду. Что же я мог сделать, чтобы, в свою очередь, ему отомстить? Ничего, что не требовало бы времени, денег и хлопот. У меня же не было ни гроша, и я начинал испытывать голод. «Полно, — сказал я, снова пускаясь в путь. — Рано или поздно мне суждено было просить подаяния; но только, как бы жестока ни была ко мне судьба, клянусь, долго нищенствовать я не буду! Надо будет отыскать какой-нибудь новый способ зарабатывать деньги». Я вышел из ущелья и нашел приют у радушных крестьян, которые дали мне даже еды на дорогу. Они рассказали, что в этих краях бродит шайка разбойников и что главарь ее известен под именем Итальянца. Продолжая свой путь, я попал в Силезскую область. У меня было намерение остановиться в первом же городе, обратиться там в полицию и потребовать, чтобы разыскали бандитов. Когда я шел, глубоко задумавшись и перебирая в уме множество планов, один несбыточнее другого, как достать денег, не обращаясь за сочувствием к властям, я вдруг услыхал позади себя неровный галоп и, обернувшись, к великому изумлению, увидел моего осла, моего бедного Жана, гнавшегося за мной с большим трудом — он был ранен. А говорят еще, что ослы глупы! Но ведь они почти такие же смышленые, как и собаки: в этом я мог уже не раз убедиться, путешествуя с моим верным слугой. На этот раз он доказал, что по-настоящему предан мне, и обнаружил некий необычайный, непостижимый инстинкт. Его украли и увели; он убежал налегке, разумеется, без вьюка. В него стреляли — он этим пренебрег и продолжал свой путь, нашел мои следы и, настоящий герой, с пулей в бедре, разыскал меня! Уверяю вас, это была сцена, достойная Санчо Пансы, и еще более патетическая, потому что мне надо было оказывать помощь раненому. Я извлек пулю, застрявшую под кожей моего доблестного друга, и очень тщательно промыл рану. Дав себя прооперировать и обмыть, бедняга выказал присущий своему роду стоицизм и такое безграничное доверие, которого у нас, по всей видимости, не найти. Вернув себе осла, я имел уже средства к существованию. После того как я вытащил пулю, он уже не хромал. Крупный, красивый и сильный, он мог что-то стоить… Но я не дал Этой подлой и мерзкой мысли выразиться в цифрах и с негодованием ее отверг. Речь шла уже не о том, чтобы продать моего друга, а о том, чтобы прокормить не одного, а двоих. Так или иначе я добрался до города Троппау[393]. Дорогой Жан отыскивал себе чертополох. В тот день я поделился с ним хлебом, мне хотелось сделать ему что-то приятное, пока он поправляется. В Троппау люди пожалели меня, пустили на ночлег и накормили с тем редкостным милосердием, которое особенно отличает людей бедных. Городские власти не очень-то поверили моему рассказу. Одет я был в самую простую одежду, и у меня не было ни одной бумаги, подтверждающей, что я занимаюсь пауками и заслуживаю доверия. Говорил я, правда, хорошо, слишком хорошо для деревенского жителя, но здесь, возле границы, подвизалось столько ловких мошенников. Совсем недавно, оказывается, один итальянец выдал себя за знатного синьора, ограбленного в горах, а потом узнали, что сам он и был главарем банды, на след которой он будто бы хотел навести. Я счел благоразумным не настаивать, ибо, вспомнив о Гвидо Массарелли, они легко могли заподозрить меня в сообщничестве с ним. Я вернулся к моим бедным хозяевам. Они приняли меня очень хорошо, поругали городские власти, с завистью посмотрели на Жана и сказали: «По счастью, у вас еще остался осел, его можно продать!» Так как я сделал вид, что не понимаю, на что они намекают, они разъяснили мне, как бы давая совет, что я могу свободно прожить два-три месяца у них в доме и вместе с ними питаться; что если я умею что-то делать, я могу За это время подыскать себе работу, и если к концу моего пребывания у них я смогу покрыть все их расходы на меня, то тогда не надо будет отдавать им осла. Это был мудрый совет, я послушался его, решив, что лучше уж я буду копать землю, только бы не оставлять им моего бедного Жана, который еще может пригодиться своему законному владельцу. Хозяин мой был сапожник. Чтобы доказать ему, что я не какой-нибудь лентяй, я спросил его, чем, не зная его ремесла, я могу быть ему полезен. «Я вижу, — сказал он, — что вы хороший малый, и лицо ваше внушает мне доверие. Завтра ярмарочный день в одной из деревень в двух милях отсюда. Я не смогу там быть, ступайте-ка туда вместо меня да захватите с собой на осле мой товар и продайте столько пар башмаков, сколько сумеете. Получите со всей прибыли десять процентов». Наутро я уже был на месте и продавал башмаки так, как будто всю жизнь только этим и занимался. Я не имел ни малейшего понятия о всех хитростях крупной и мелкой торговли, но я старательно расточал всем женщинам комплименты по поводу того, какие крошечные у них ножки, и так сумел развлечь народ своими гиперболами и веселой болтовней, что за несколько часов распродал весь свой товар. Веселый, вернулся я вечером к моему хозяину, который был поражен моими успехами и наотрез отказался взять мою долю прибыли в уплату за пансион. Итак, я снова при деле, и в кармане у меня деньги, необходимые для того, чтобы удовлетворить потребности моей новой жизни и позволить себе кое-какую роскошь. Хозяин мой Ханс отправил меня на три дня в соседние области, где мне удалось распродать все, что завалялось у него в мастерской. Когда я вернулся, он расплатился со мной еще более щедро, чем обещал, но едва я заговорил о том, чтобы уехать от него, как он рассердился, разразился слезами, назвал меня неблагодарным сыном и предложил мне в жены свою дочь, рассчитывая этим меня удержать. Девушка была хороша собою и поглядывала на меня приветливо и простодушно. Я разыграл из себя дурачка, как сказали бы многие из моих прежних знакомых острословов. Я не попытался даже поцеловать ее и потихоньку уехал ночью, захватив с собой Жана и два риксдалера[394]. Все остальное, то есть еще два риксдалера, я оставил доброму сапожнику в Троппау в уплату за расходы. Надо было уйти как можно дальше, все равно куда, насколько позволят мои средства, так, чтобы не пришлось рассказывать всем тем людям в разных немецких и польских городах, к которым мне были даны рекомендации, о постигшем меня несчастье, ибо доказать, что это было так, я ничем не мог, разве только моей бедностью. Подозрительность бургомистра Троппау излечила меня от намерения говорить всем о своей беде. У меня не осталось выданных мне свидетельств, я должен был теперь рассчитывать только на себя самого и на правдоподобие моих утверждений. Но может ли говорить правдоподобные вещи тот, кто просит помощи? Впрочем, меня это особенно не огорчало. Я уже успел привыкнуть к своему положению и еще раз в жизни убедился, что завтрашний день всегда настает для тех, кто умеет претерпеть сегодняшний. Два дня спустя я оказался в захудалой таверне напротив коренастого и крепкого парня, который сидел, облокотившись на стол, и, прикрыв руками лицо, казалось, спал. За мои десять пфеннигов мне подали кружку пива, немного хлеба и сыра. Питаясь подобным образом, я мог прожить еще с неделю. Хозяйка что-то спросила сидевшего напротив меня парня, но тот ей не ответил. Когда он поднял голову, я увидел на глазах его слезы. «Вы голодны, — спросил я, — и вам нечем заплатить?» «Увы», — лаконично ответил он. «Ну что ж, — продолжал я, — там, где хватит еды одному, хватит и двоим. Поешьте». Ничего не говоря, он вытащил из кармана нож и отрезал себе хлеба и сыра. После того как он молча поел, он сказал мне несколько слов благодарности, и мне захотелось узнать причину его горя. Не знаю уж, какое у него было настоящее имя, но сейчас он разъезжал под именем Пуффо. Он был из Ливорно, города, который в отношении определенного рода людей пользуется в Италии дурной славой. В глазах любого моряка Средиземноморского побережья житель Ливорно — синоним пирата. Человек этот, возможно, оправдывал ходячее мнение: в прошлом он был моряком и отчасти флибустьером[395]. Сейчас он был гаером. Я слушал его без особого интереса, потому что рассказывал он плохо, а слушать о приключениях интересно только из уст хорошего рассказчика, ибо, если в них разобраться, рассказы эти уж очень похожи один на другой. Однако когда этот человек стал говорить о своем не приносившем дохода театре, я все же спросил его, какие представления он давал. «Боже ты мой! — вскричал он. — Это самое пропащее дело, которым я когда-либо в жизни занимался! Черт бы побрал того, кто меня надоумил!» С этими словами он вытащил из мешка марионетку и в сердцах швырнул ее на стол. От удивления я даже вскрикнул: эта марионетка, до ужаса грязная и рваная, была творением моих рук, это был burattino, сделанный на мой лад! Впрочем, что я говорю. Это была моя первая кукла, мой главный персонал, мой остроумный и очаровательный Стентарелло, краса моих дебютов в предгорьях Апеннин, любимец прелестных генуэзок, созданный моим резцом, плод моего вдохновения, столп моего театра! «Как, несчастный! — воскликнул я. — У тебя в руках Стентарелло, и ты не умеешь им пользоваться?» «Меня, правда, уверяли, — ответил он, — что кукла эта приносила в Италии много денег, и тот, кто мне продал ее в Париже, сказал, чтобы я никому ее не отдавал. То же говорили и другие участники труппы, принадлежавшей нарядно одетому итальянцу, который утверждал, что составил себе состояние благодаря… Может, это были вы?» Он рассказал мне, как он не без успеха выступал на перекрестках дорог во Франции с нашим театром и его актерами, как, зная несколько иностранных языков, он хотел путешествовать, но, поскольку ему не везло, он страшно бедствовал до той минуты, пока я не встретил его, решившего уже было продать свою лавочку и заняться дрессировкой медведя, которого он собирался добыть в горах. «Ладно, — сказал я, — покажи мне свой театр и все, что ты умеешь делать». Он отвел меня в сарай, где я помог ему расставить его балаганчик. Среди всяких дрянных случайных марионеток, одетых в лохмотья и побитых, я узнал самых лучших кукол моей труппы. Пуффо разыграл мне одну из сцен, чтобы я имел понятие о его даровании. Он довольно ловко управлялся с burattini, и у него был свой несколько грубоватый талант, но сердце мое обливалось кровью, когда я видел, что мои актеры попали в такие руки и что им приходится играть такие роли. Поразмыслив, однако, я пришел к выводу, что провидение свело моих кукол и меня к нашему общему благополучию. Я тотчас же дал в деревне представление и заработал дукат, к великому изумлению Пуффо, который с этой минуты всецело положился на меня во всем, что касалось театра, актеров и своей собственной участи. Ну, скажите, разве мне не покровительствовало небо? Разве я вновь не обрел единственную возможность свободно продолжать мои путешествия, не будучи никому ничего должен и не изменяя ни имени, ни лица по капризу публики? За несколько дней все марионетки были снова отделаны моим резцом, вычищены, раскрашены, приодеты и аккуратно уложены в удобный и портативный ящик. Самый театр тоже был подновлен и приспособлен для двоих operanti. Я взял Пуффо к себе в услужение, вменив ему в обязанность содержать, располагать и хранить театр, а также вместе со мною переносить его на своих крепких плечах, что было для него привычным делом, ибо больше чем когда-либо мне хотелось, чтобы Жан служил науке и носил мой багаж естествоиспытателя. Пуффо, разумеется, парень недалекий. Соображает он туго, но никогда не лезет в карман за словом, ибо владеет даром говорить, ничего не сказав. На каком бы языке он ни изъяснялся, произношение у него плохое, но в чужих странах его все же понимают, а это много значит. Вот почему я оставил его при себе. Разговариваю я с ним мало, по мне все же удалось отучить его от грубых слов. Я поручаю ему разыгрывать сценки из народной жизни, это нечто вроде интермедий, позволяющих мне иногда немного передохнуть. Когда у меня на сцене бывают одновременно три или четыре персонажа, я пользуюсь его руками и довольно ловко заставляю всех участников спектакля говорить так, что зрители слышат совершенно различные голоса. Словом, господин Гёфле, вы видели мой театр и знаете, что на наших представлениях бывает весело. Тем не менее в Германии дела у нас шли не очень-то хорошо, и мне подумалось, что в Польше они пойдут лучше. У поляков французский дух и итальянский вкус. Итак, мы проехали Польшу и из Данцига после полуторамесячного успешного путешествия по стране отплыли в Стокгольм, где у нас были очень хорошие сборы. Там я и получил приглашение барона Вальдемора и с удовольствием его принял, ибо оно давало мне возможность поездить по стране, которая меня больше всего интересовала. Все мои помыслы всегда влекли меня на север, то ли в силу тех разительных контрастов, которые он являет жителю юга, то ли в силу некоего патриотического инстинкта, который пробудился во мне еще в детстве. Между тем мое северное происхождение, заподозренное ученым-филологом, который в детском лепете моем распознал полузабытые, искаженные слова скандинавского наречия, вещь вполне достоверная. Но неважно: мечта это или предчувствие, у меня всегда перед глазами стоит — я вижу ее и сейчас — некая романтическая страна, и мне радостно было продлить мое путешествие и приехать сюда, то есть пересечь Маларен[396] и добраться до Веттерна[397], чтобы объездить весь край больших озер. Но мне были предопределены разные несчастья. Пуффо, который разжирел на моих хлебах и который стал бояться усталости, решил нанять сани для переезда через таинственное озеро Веттерн, глубины которого, по-видимому, сотрясаются вулканическими взрывами. Подо льдом погибли мое платье, белье и деньги. По счастью, сам Пуффо переходил озеро пешком и успел спастись вместе с возницей, у которого погибли сани и лошадь. По такой же счастливой случайности я пошел берегом вместе с Жаном, который вез театр, актеров и мой научный багаж. Поэтому, благодарение богу, не все потеряно, и завтра я снова буду при деньгах — завтра ведь я даю платное представление в замке Снеговика. — Послушайте, — сказал Гёфле, еще раз пожимая руку Христиана Вальдо, — ваша история заинтересовала меня и позабавила. Я не знаю, приятно ли вам было ее рассказывать, но ваша манера быстро говорить, расхаживая по комнате, ваша итальянская жестикуляция и лицо жителя уж не знаю какой страны, но, безусловно, выразительное и счастливое, приковали меня к вашей повести. Я вижу, в вас человека незаурядного ума и очень доброго сердца, а те ошибки, которые вы ставите себе в вину, на мой взгляд, значат очень мало по сравнению с заблуждениями, в которые вы могли бы впасть, когда вступили в свет таким юным, без наставника, без денег и наделенный красотою, которая легко может погубить как мужчин, так и женщин в развращенном обществе Неаполя или Парижа… — Значит ли Это, господин Гёфле, что в северных странах люди в нравственном отношении выше и чище? Я был бы рад этому поверить, однако то, что я видел в Стокгольме… — Увы, мой дорогой друг, если вы судите о нас по интригам, тщеславию, жестокости и подлой продажности нашей теперешней знати, как «колпаков», так и «шляп», вы должны подумать, что хуже нас нет ни одной нации на свете, но вы ошибаетесь, ибо в действительности мы, шведы, народ хороший, и нам нужна только революция или большая война, для того чтобы на поверхность всплыли наши высокие качества, те песчинки чистого золота, которые лежат где-то глубоко на дне. Сейчас же, глядя на нас, вы видите одну только пену… Но давайте поговорим лучше о вас, вы ничего не рассказали мне о вашей жизни в Стокгольме. Как могло случиться, что в этой стране интриг и всеобщего недоверия вы смогли носить маску и вас не побеспокоили агенты тех трех или четырех полиций, которые работают на свои партии? — Дело в том, что я не всегда ношу маску, и вы в этом можете убедиться, господин Гёфле. Это бы меня очень стеснило, и стоит мне отойти на сотню шагов от моего балагана, как у меня уже нет оснований прикрывать лицо маской, принимая самые простые предосторожности, чтобы сбить с толку любопытных. Не такая уж я важная персона, чтобы люди стремились во что бы то ни стало меня увидать, и та небольшая таинственность, которой я себя окружаю, в значительной степени присуща репутации, которую я приобрел. В конце концов, я не настолько уже в плену у светских предрассудков, чтобы огорчаться, если когда-нибудь маска моя упадет на улице и прохожий случайно узнает совершенно безвестного адепта науки, который под другим именем занимается ею в другие часы и в других кварталах города. — Ах, вот как? Этого-то вы мне и не сказали. Значит, в Стокгольме у вас было еще другое имя, а не Христиана Вальдо, и жили вы в другом доме, а не там, где пребывали Жан, Пуффо и ящики со всей остальной труппой? — Вы правы, господин Гёфле. Что же касается имени, то вы хотите знать буквально все? — Ну конечно же. Вы что, не доверяете мне? — Коли вы так толкуете, то я с величайшей охотою покоряюсь. Это имя — Дюлак, не что иное, как французский перевод моего первого вымышленного имени del Lago. Я присвоил его себе в Париже, чтобы по какой-нибудь несчастной случайности не навлечь на себя месть неаполитанского посла. — Отлично! И что же, живя под этим именем, вы успели завести в Стокгольме какие-нибудь полезные знакомства? — Я не особенно к этому стремился, торопиться мне было незачем. Мне хотелось сначала хорошо познакомиться с достопримечательностями города по части искусств и наук, а потом узнать его жителей, их вкусы, обычаи! Иностранец, у которого нет в городе никаких знакомых, очень легко может изучать нравы и воззрения народа в местах общественных сборищ. Я так и сделал, теперь же мне бы хотелось узнать всю Швецию, чтобы потом вернуться в Стокгольм и Упсалу[398] и быть представленным там знаменитым ученым, и прежде всего господину Линнею[399]. К тому времени я получу рекомендательные письма, которые мне должны прислать из Парижа, и смогу рассказать кое-что интересное этому знаменитому ученому. Я могу найти где-нибудь в глуши редкостные растения, которых он не знает, ему будет приятно получить их в подарок. Нет такого путешествия, которое не принесло бы полезных открытий или новых полезных наблюдений над вещами уже известными. Лишь тогда, когда он может поделиться итогами своих исследований и результатами своих изысканий, молодой человек имеет право явиться к маститым ученым; иначе он всего-навсего удовлетворяет свое тщеславие или любопытство, отнимая у них драгоценное время. Что же касается полиции — вы ведь меня и о ней спросили, — то после беглого допроса, на котором я отвечал, по-видимому, достаточно откровенно, она оставила меня в покое. Славные горожане, у которых я жил и которые относились ко мне как к родному, поручились за мою благонадежность и помогли мне скрыть от публики мою двойную жизнь. Итак, вы видите, господин Гёфле, что в настоящем моем положении все сложилось к лучшему и что я могу сохранять хорошее расположение духа, потому что у меня есть свобода, довольно прибыльное занятие, страсть к науке и мир, открытый для меня, легкого на ногу! — Однако кошелек ваш на дне озера Веттерн… — Знаете что, господин Гёфле, озера-то ведь населены добрыми духами, с которыми я, разумеется, нахожусь в хороших отношениях, хоть и сам того не знаю. Разве я не зовусь Кристиано del Lago? Либо тролль Веттерна вернет мне мой кошелек, когда я всего меньше буду этого ждать, либо он подкинет его какому-нибудь бедному рыбаку, который будет очень этому рад; в обоих случаях результат окажется превосходным. — Да, но все же… У вас в кармане есть хоть какие-нибудь деньги, мой мальчик? — Ни гроша, господин Гёфле, — со смехом ответил молодой человек. — У меня было ровно столько денег, сколько требовалось, чтобы прибыть сюда, немного, правда, подтянув живот, для того чтобы мой слуга и мой осел могли есть вволю; но нынче вечером у меня будет тридцать риксдалеров сбора за мою комедию, и после обильного завтрака вместе с вами подле этой превосходной печки, глядя на Этот чудесный пейзаж, сияющий алмазами там, за окном, сквозь облако дыма, которым наши трубки наполнили комнату, я чувствую себя самым богатым и самым счастливым из смертных. — Решительно, вы чудак, — сказал Гёфле, вставая с места и выбивая трубку. — В вас есть одновременно что-то от мужчины и от малого ребенка, от ученого и искателя приключений. Мне кажется даже, что вы до безумия любите этот последний период своей жизни и, будучи далеки от мысли считать его чем-то неприятным, хотели бы продлить его под предлогом непомерной гордости. — Позвольте, господин Гёфле, — ответил Христиан, — что касается гордости, то здесь не может быть середины, Это или все, или ничего. Я вкусил нищеты и знаю, как при этом легко бывает опуститься. Надо, стало быть, чтобы человек, предоставленный своим собственным средствам, привык не бояться ее и даже как бы играть с нею. Я вам сказал, что в большом городе она была мне тягостна. Дело в том, что там, среди всякого рода соблазнов, она очень опасна для человека молодого и деятельного, который легко поддается страстям. Здесь же, напротив, в путешествии, иначе говоря — на свободе, находясь под защитой вымышленного имени, позволяющего мне возвратиться завтра в общество в обличье человека серьезного, я чувствую себя легко, как школьник на каникулах, и, признаюсь, мне совсем не хочется снова обременять себя цепями принуждения и досадными условностями. — В общем-то… да, я понимаю, — сказал доктор прав, — мое воображение, которое не совсем еще притупилось, рисует мне достаточно ярко радости этой кочевой и беззаботной жизни. Но ведь вы же любите свет, и ведь не ради того, чтобы исследовать северные льды в полуночный час, вы надели мое парадное платье? В эту минуту дверь отворилась, и Ульфил, которому Гёфле, разумеется, отдал какие-то распоряжения, пришел сказать, что сани запряжены. Казалось, Ульф совсем протрезвел. — Как, — в изумлении воскликнул доктор прав, — который же час? Двенадцать часов дня? Нет, не может быть! Эти старые часы подвирают… Да нет, — он посмотрел на свои, — действительно двенадцать, и мне сейчас же надо идти поговорить с бароном насчет большого процесса, ради которого он меня сюда вызвал. Удивительно, как это, зная о моем приезде, он до сих пор еще не прислал никого узнать обо мне! — Но господин барон посылал, — ответил Ульф, — разве я вам об этом не говорил, господин Гёфле? — Ни слова! — Он посылал час тому назад сказать, что ночью почувствовал себя плохо, не то бы явился сюда сам… — Сюда?.. Ты преувеличиваешь учтивость барона, мой дорогой Ульф… Барон никогда не заглядывает в Стольборг! — Очень редко, господин Гёфле, но… — Понимаю. Ну а как насчет почтенного Стенсона, его-то я смогу увидеть? Прежде чем отправиться в замок, я зайду проведать этого достойного человека. Он, что, все так же глух? — Еще пуще оглох, господин Гёфле; он теперь и слова не услышит из того, что вы скажете. — Ну, так я объяснюсь с ним знаками. — Знаете, господин Гёфле… Дело в том, что дядя еще не знает, что вы здесь. — Вот как! Ну, так он узнает. — Он будет очень меня ругать за то, что я не предупредил его… и за то, что я согласился… — На что? На то, чтобы я здесь переночевал, не правда ли? Так ты скажешь ему, что я обошелся без твоего позволения. — Вообразите, — добавил Гёфле по-французски, обращаясь к Христиану, — ведь мы водворились здесь обманным путем, и господин Стенсон, управляющий старым замком, об этом ничего не знает. Очень странно еще, что упомянутый господин Стенсон, а равно и его уважаемый племянник. Здесь присутствующий, очень не любят, когда кто-то хочет переночевать в этих развалинах, до такой степени они убеждены, что здесь водятся злые духи… Гёфле напустил вдруг на себя серьезный вид, словно, привыкнув посмеиваться над подобными вещами, он вдруг начал себя в этом упрекать, и внезапно спросил Христиана, верит ли тот в привидения. — В галлюцинации — да, — не задумываясь, ответил Христиан. — А у вас они иногда бывали? — Несколько раз, когда я болел лихорадкой или бывал уж очень утомлен. Тогда, правда, их было не так много, как при лихорадке, и я понимал, что это мне чудится; однако видения эти были довольно отчетливы и очень меня тревожили. — Ну вот видите, вот видите! — вскричал Гёфле. — Так представьте же себе… Но я расскажу вам все это вечером, сейчас мне некогда. Я ухожу, друг мой, я иду к барону. Очень может быть, что он оставит меня обедать, а обедает он в два. Во всяком случае, я постараюсь вернуться как можно раньше. Послушайте, окажите мне, пока я хожу, одну услугу. — И две и три, если вам угодно, господин Гёфле. Что я должен сделать? — Поднять моего лакея. — Разбудить его? — Нет, нет: поднять его, одеть, застегнуть ему гетры, натянуть на него штаны — они ведь очень узкие, и у него не хватит сил… — Да, понимаю, ваш преданный старый слуга хилый, больной? — Нет, не совсем так… Да вот и он! Просто чудо! Он встал без посторонней помощи. Это похвально, уважаемый Нильс! О, да вы делаете успехи! В двенадцать часов уже на ногах! И оделись собственными силами! Вы не очень устали? — Нет, господин Гёфле, — ответил мальчик с торжеством. — Я очень хорошо застегнул себе гетры. Поглядите! — Немного, правда, перекосили, но в общем-то ничего. Ну а теперь вы до вечера собираетесь отдыхать, не так ли? — О нет, господин Гёфле, я собираюсь поесть, я очень голоден и вот уже добрый час из-за этого не могу уснуть. — Видите, — сказал Гёфле, обращаясь к Христиану, — каким слугою обеспечила меня моя экономка! Теперь я поручу ему позаботиться о вас. Заставьте его вас слушаться, если можете. Я уже махнул на него рукой. Ладно, Ульф, проходи, я иду за тобой… Что это там еще такое? Что это? — Это, — ответил Ульфил, мысли которого неспешно следовали неторопливому восходу солнца, — это письмо, которое у меня давно в кармане, я забыл… — Передать его мне? Вот так так! Видите, Христиан, как хорошо нас обслуживают в Стольборге! Гёфле распечатал конверт и прочел письмо, останавливаясь на каждой фразе, чтобы сделать по поводу нее замечания по-французски: — «Мой дорогой адвокат…» Я знаю этот почерк… Это графиня Эльведа, знаменитая кокетка; приверженец России в юбке!.. «Я хочу увидеть вас первой. Я знаю, что барон ждет вас к двенадцати. Сделайте одолжение, приходите в Стольборг немного пораньше и загляните ко мне, мне надо сообщить вам важные вещи…» Важные вещи! Какие-нибудь глупые козни, черные как уголь и легко различимые глазами, как тот же уголь на снегу! Честное слово, слишком поздно, время прошло. — Конечно, время прошло, — заметил Христиан, — а то, что вам собирались сказать, и вовсе не стоит слушать. — Ах, так вы, оказывается, знаете, о чем идет речь? — В точности, и я вам сейчас же все расскажу, не боясь, что вы поддадитесь желанию, в равной степени отвратительному и нелепому. Графиня хочет выдать свою прелестную племянницу Маргариту замуж за старого и угрюмого барона Олауса. — Я все это знаю и открыто высмеял это превосходное намерение. Сочетать браком прелестный месяц май с бледным декабрем? Надо быть таким же белым старым колпаком, как пик Сюльфьеллета[400], чтобы в голову могли прийти подобные мысли! — Ну, я был уверен, что вы так скажете; не правда ли, господин Гёфле, ведь это же подло обречь Маргариту на заклание? — Обречь Маргариту? так выходит, что вы хорошо с ней знакомы? — Очень мало. Я видел ее: она прелестна. — Так говорят. Но откуда, черт возьми, вы знаете графиню, и как вам удалось выведать ее тайные намерения? — Это еще одна история, которую я должен вам рассказать, если у вас есть время… — Ну уж нет, какое там время… Но тут еще есть постскриптум, я не разглядел… Ничего не понимаю. «Должна похвалить отличные манеры вашего племянника и его ум…» Моего племянника! Нет у меня никакого племянника! Да что она, с ума сошла, графиня? «Однако при всем своем уме он непростительно сплоховал, и вы должны хорошенько намылить ему голову за его наглость! Мы с вами об этом поговорим, и я постараюсь загладить его сумасбродства, мне хочется сказать — его глупости..» Его наглость, его глупости! Похоже, что господин племянник там немало всего натворил! Но только, черт возьми, где же мне теперь искать этого молодца, чтобы ему намылить голову? — Увы, господин Гёфле, далеко вам идти не придется, — жалобно сказал Христиан. — Неужели вы не догадываетесь, что если я мог явиться без маски на вчерашний бал, то, уж во всяком случае, не под именем Христиана Вальдо? — Не спорю, по выходит, что вы избрали себе имя Гёфле? — Приглашение на это почтенное имя лежало у меня в кармане. — Оказывается, милостивый государь, — строго сказал Гёфле, и в глазах его блеснул гнев, — вы не довольствуетесь тем, что присваиваете чужие вещи, начиная с пудры для парика и кончая башмаками, вы позволяете себе еще пользоваться чужим именем и делать другого человека ответственным за все сумасбродства, которые вам угодно совершать! Это уже ни на что не похоже… Тут наш добрый Гёфле не мог сдержаться и разразился смехом — до такой степени положение Христиана Вальдо показалось ему забавным. Молодой человек, вскипевший от гнева и гордый, с трудом сносил брошенный ему в глаза прямой упрек и, казалось, горел желанием тут же резко на него возразить, тем более что, с одной стороны, Ульф, не понимавший ни слова из того, что говорил Гёфле, но догадывавшийся по его интонациям, что тот разгневан, невольно сам подражал его взглядам и жестам, а, с другой, маленький Нильс, точно так же ровно ничего не знавший о сути дела, встал напротив Христиана с гордым, едва ли не угрожающим видом. Христиану, которого выводили из себя эти две фигуры, нелепо копировавшие во всем Гёфле, очень хотелось ударить старшего кулаком, а мальчишку пнуть ногой, но он чувствовал, что был неправ, и очень огорчался тем, что позволил себе обидеть такого любезного и приятного человека, как доктор прав. Физиономия его, на которой были написаны то досада, то раскаяние, была настолько выразительна, что наш адвокат оказался совершенно обезоруженным. Смех же его равным образом обезоружил и его обоих клевретов, которые стали тоже смеяться из солидарности с ним и вслед за тем вернулись к исполнению своих обязанностей, а в это время Христиан рассказал в нескольких словах Гёфле то, что графиня Эльведа назвала его наглой выходкой, и то, что, как он считал, могло послужить к его полному оправданию. Гёфле, при всем том, что спешил уйти, выслушал его внимательно и, когда Христиан кончил, сказал: — Ну, разумеется, мой мальчик, вы ничем не запятнали имени Гёфле. Напротив, вы вели себя по-рыцарски. Тем не менее вы поставили меня в крайне затруднительное положение. Помнит барон Олаус или нет о припадке эпилептической ярости, который вы в нем вызвали, вряд ли он мог позабыть о том, что вы его оскорбили. Вам ведь говорили, что этот человек ничего не забывает, и вам лучше всего возможно скорее убраться отсюда в обличье Гёфле, ибо речь идет именно о Гёфле. И не думайте выходить из этой комнаты без маски. Станьте снова Христианом Вальдо, и вам нечего будет бояться. — Но скажите, почему я должен бояться барона, даже если я отправлюсь к нему с открытым лицом? Что, это действительно человек, способный подослать ко мне убийц? — Ничего не знаю, Христиан; клянусь вам честью, что я ровно ничего не знаю, и в этом вы мне можете верить. Ведь если бы, общаясь с ним, я получил хоть малейшее подтверждение всех тех обвинений, которые на него возводят, я бы просто перестал с ним встречаться. Я не очень опасался бы потерять богатого клиента и не преминул бы сказать ему в глаза жестокие истины, независимо от того, были бы они полезны или нет. Однако некоторые слухи так распространились, и стольких людей, которые позволяли себе противиться барону, постигала беда, что я порой задумывался над тем, не дурной ли у него глаз, не то ли, что у вас в Италии называют, если не ошибаюсь, словом gettatura[401], до такой степени, что для того, чтобы не навлекать на себя несчастье, позвольте мне объявить всем, что племянника моего с утра здесь уже нет, что, иначе говоря, он снова отправился в дальние путешествия. — Уж если дело идет о том, чтобы не подвергать вас какому бы то ни было риску, то можете положиться на мое благоразумие. Я выйду отсюда или надев маску, или переодевшись так, что никто не узнает во мне галантного и необычайно рыцарственного танцора этой ночи. После этих слов Гёфле и Христиан Вальдо пожали друг другу руки. Нильса, от которого за все это время требовалось только, чтобы он успел позавтракать, хозяин укутал теперь в меха и должен был сам посадить в сани и вложить ему в руки вожжи и кнут. Но как только мальчик почувствовал себя на месте, он помчался как стрела и спустился со скалы очень уверенно и ловко. Править лошадью было единственное, что он умел и что делал охотно. Что касается Ульфа, которому Гёфле, прежде чем ехать в новый замок, дал соответствующие распоряжения, то он приготовил для Христиана постель, на которой спал Нильс, а для Нильса — большой диван, где он мог теперь отдыхать в свое удовольствие; после этого Ульф, по-прежнему скромный в своем неповиновении, отправился исполнять распоряжения дядюшки, ни словом, однако, не обмолвившись тому о постояльцах, водворившихся в старой башне.VII
Читатель, может быть, помнит, что старый Стенсон жил во флигеле, расположенном в глубине второго внутреннего дворика, который вместе с более обширным пространством между ним и первой оградой и составлял территорию заброшенного замка Стольборг. О появлении этого старинного рамка существовала легенда, восходившая к эпохе распространения в Швеции христианства. На скале стоял тогда деревянный дом. Однажды осенью во время сильной бури владелец его, в ту пору язычник, испугавшись, что порывами ветра дом будет унесен на дно озера, дал обет принять новую веру, если только небеса спасут его от яростной стихии. Крышу дома уже снесло, но не успел он произнести слова обета, как из недр скалы чудодейственно поднялась гранитная башня, и после того, как владелец дома принял крещение, ураган никогда больше не сотрясал эту могучую твердыню. В противовес этой правдивой истории знатоки местной старины решались утверждать, что квадратная башня Стольборга относится всего-навсего к эпохе короля Биргера[402], иначе говоря — к XIV веку. Так или иначе замок с окружавшим его небольшим поместьем был приобретен неким отважным дворянином по имени Вальдемора в XV веке. В XVII столетии Олаф Вальдемора сделался фаворитом королевы Христины, которая подарила ему несколько участков королевских земель, иные из которых находились именно в этой части Далекарлии. История не утверждает, что Вальдемора непременно был любовником взбалмошной наследницы Густава-Адольфа. Может быть, королеве просто понадобились деньги, и она уступила ему эти богатые угодья по невысокой цене. Очевидно, что в пору редукции 1680 года[403], когда деятельный король Карл XI пересмотрел все земельные договоры и вновь воссоединил с королевскими владениями все, что было незаконно отчуждено его предшественниками, — страшной, но вместе с тем и спасительной меры, обеспечившей Швеции дотации на университеты, школы и суды, создание почтовых учреждений, поселенной армии и оказавшей ей ряд других благодеяний, которых старые «колпаки» так и не простили королю ко времени нашего рассказа, барон Вальдемора на законном основании сохранял за собою большие земельные угодья, полученные от деда, и завершил отделку нового замка, который тот построил на берегу озера, дав ему свое имя. Итак, единственным, что оставалось от прежнего фамильного замка, была башня, казавшаяся очень высокой из-за массивного каменного укрепления, спускавшегося к водам озера. На самом деле в ней было только два этажа, а именно — медвежья комната и караульня, находившиеся почти на уровне дворика, и над ними еще одна или две комнаты, куда уже лет двадцать, иначе говоря — с того времени, когда верхнее помещение замуровали, никто никогда не проникал. Остальная часть замковых построек, много раз подвергавшихся переделке, была своего рода норвежским гордом. Известно, что словом «горд» в Норвегии называют усадьбу, в которой селится несколько семейств, живущих сообща. Комнаты, кухни, столовые, хлева и кладовые не теснятся под одной крышей, как в других местах, а представляют собой самостоятельные строения; каждое из них имеет отдельную крышу, а все они в целом являют собой множество непохожих друг на друга домиков. Многие обычаи в Швеции сходны с норвежскими, особенно же в этой части Далекарлии, которая ближе всего к пограничным горам. В ту пору, когда Стольборг, после того как ему предпочли новый замок, сделался сельской фермой, в этих краях насчитывалось уже несколько гордов, расположенных подобным же образом. Как и во всей Швеции, а равно и во всех странах, где много деревянных строений, здесь часто случались пожары, и наиболее древние из этих домиков хранили еще на себе следы огня. Их обугленные углы и покоробленные крыши, словно черные призраки, выделялись на фоне снежных гор. Двор, окруженный замшелым навесом, кое-как соединявшим различные строения, с дощатой крышей, сверкавшей бахромой ледяных сосулек, являл взгляду кучку заброшенных швейцарских шале. Давно уже ферму перенесли в другое место, и все замковые постройки были предоставлены в распоряжение Стенсона, который больше уже не поддерживал эти ни на что не нужные лачуги, служившие разве только местом хранения кормов и сушеных овощей. Грубые плиты, которыми когда-то вымостили двор, были испещрены множеством желобков, выдолбленных в камне бурными весенними потоками; ни одна дверь не держалась на петлях, и казалось, что если теперь еще раз не будет принесен какой-нибудь торжественный обет, наподобие того, что был дан первым владельцем дома, малейшим дуновением ветра в первую же весну или осень сразу сметет все эти домики, и они скроются на дне озера. Второй двор, расположенный позади первого, был уже более новой пристройкой, менее живописной, но несравненно более удобной. Пристройка эта относилась к тому времени, когда барон Олаус Вальдемора унаследовал земельные угодья от своего брата Адельстана и вступил во владение поместьем. Он построил нечто вроде второго маленького горда для своего верного Стенсона, чтобы управляющему не захотелось покидать этих стен, которые возбуждали в нем ужас. Итак, пристройки эти составляли новую кучку домов, расположенную несколько ниже, чем первая, на склоне скалы. Скаты крыш упирались в неотесанный камень и были сложены особенным образом, как принято в этой стране: это были еловые бревна, хорошо прошпаклеванные мхом, устланные березовою корой, а поверх всего — слоем земли, покрытым газоном. Известно, что такие газоны на крышах сельских домиков являются в Швеции предметом особого внимания; иногда даже они разделены на грядки и на них сажают цветы и кустарники. Крыши эти бывают покрыты густой и пышной травой, где стада находят самый лакомый корм. В этой-то части построек старого замка, которая и носила специальное название горд, тогда как другая называлась просто двором,жил последние двадцать лет Стенсон, настолько уже немощный и дряхлый, что он почти никогда не выходил из своего флигеля — очень теплого, очень опрятно убранного, а снаружи выкрашенного в красный цвет окисью железа. Жить ему там, конечно, было очень удобно: помещение было наглухо отделено от домика, где жил его племянник, кухня находилась в одном из шале, коровник и молочная ферма — в другом. И тем не менее жизнь этого загадочного старца была на редкость однообразна и печальна. По самому расположению его жилища замечалось, или, во всяком случае, можно было заметить, сколько труда было вложено, чтобы заделать все двери и окна, выходившие в сторону башни и даже замка. Проникнуть в дом можно было только через маленькую боковую дверь, а для того, чтобы добраться до комнаты, приходилось еще и петлять по узенькому коридору. Казалось, что он боится увидеть с этой стороны башню через открытую дверь. Но в конце концов, может быть, это было всего лишь предосторожностью на случай, если вдруг подует западный ветер. Как бы в подтверждение всей дурной молвы, ходившей в этих местах, Стенсон чрезвычайно редко выходил из своего домика — для того, чтобы погреться немного на солнце в узеньком садике на берегу озера, и то всегда со стороны, противоположной башне. Говорили, что едва только на аллеи начинала ложиться слабая тень от флюгера, он спешил уйти из сада и возвратиться домой, как будто эта зловещая тень несла с собой ужас и страдание. Во всем этом вольнодумны из нового замка, мажордом и вновь нанятые слуги видели одни только чрезмерные предосторожности, превратившиеся у зябкого и болезненного старика в настоящую манию. Однако Ульфил и подобные ему считали это неопровержимым доказательством того, что в мрачном Стольборге водятся злые духи и страшные привидения. Говорили, что за все двадцать лет Стенсон ни разу не прошел двором и не выходил за пределы западных ворот замка. Когда ему непременно требовалось быть в новом замке, он отправлялся туда через свой фруктовый сад, где внизу на причале у него стояла собственная лодка. Хотя присутствие барона в новом замке, где он обычно бывал в те дни, когда ему не приходилось принимать участие в заседаниях stendcerne (парламента), членом которого он был, ничего не меняло в жизни Стенсона, Ульфил заметил, что вот уже несколько дней, как его дядюшка пребывает в состоянии волнения. Он все расспрашивал о старой башне, как будто был заинтересован в сохранности этой проклятой великанши. Ему захотелось узнать, заходит ли туда время от времени Ульф, проветривает ли он медвежью комнату, в какие часы и не замечал ли он там чего-либо необычного. В этот день Ульф солгал, не без раскаяния, правда, зато без колебаний: кивком головы и движением плеч он подтвердил, что ничего нового не произошло. У него были веские основания надеяться, что Стенсон, не выходивший по случаю холодной погоды из дому, ничего вообще не заметил, и он ясно слышал, как в кармане Гёфле именно ради него прозвенели несколько экю, но так, что своды Стольборга не поколебались от возмущения из-за такой малости. Не будучи человеком жадным, Ульф не пренебрегал, однако, перепадавшей мздой и, может быть, ужо начинал мириться с существованием башни. Пойдя на эту ложь, Ульф подал дядюшке второй завтрак и собирался было уйти, когда тот попросил его достать Библию, стоявшую в его библиотеке на особой полке и в которую он заглядывал редко. Стенсон положил Библию перед собою на стол и знаком велел Ульфу выйти. Однако племянник его, сгорая от любопытства узнать намерения дядюшки, спустя минуту приоткрыл дверь и, убедившись, что его не слышат, тихо подошел к креслу, в котором сидел старик; он увидел, как тот, словно невзначай, просунул между страницами нож, открыл толстый том и внимательно прочел стих, на котором задержалось острие ножа. Он повторил трижды этот опыт, благочестивый и вместе с тем кабалистический, применявшийся даже у северных католиков, чтобы выведать у бога тайны грядущего, соответственным образом истолковав слова писания, на которые укажет судьба. Затем Стенсон закрыл Библию и обхватил руками голову, словно для того, чтобы воспринять разумом то, что перед тем предстало его взгляду, и Ульф удалился, сильно встревоженный результатами этого опыта. Заглядывая дядюшке через плечо, он сумел прочесть три стиха. Вот они в том порядке, в каком на них указал жребий: «…Пучина и смерть говорят: мы слыхали о ней!» «…Не плакал ли я разве из любви к тому, кто испытал тяжелые дни?» «Сокровища грешника предназначены для праведника». Отдельные стихи этой таинственной и великой книги почти все поддаются толкованию в любом смысле, который может подсказать фантазия. Поэтому старый Стен, прочтя первый стих, задрожал, молитвенно сложил руки на втором, а после третьего с чувством облегчения вздохнул. Но Ульфил слишком много выпил накануне и был не в состоянии надлежащим образом истолковать все сказанное в священной книге. Однако он все же со страхом спросил себя, не выдала ли старая Библия сплетенную им ложь, рассказав о ней дядюшке в аллегорической форме, понять которую было ему, Ульфу, не под силу. Он был выведен из своего раздумья появлением во дворике нового гостя: это был Пуффо, который пришел, чтобы условиться с Христианом относительно вечернего представления. Пуффо не отличался многословием — он не любил зимней природы и не понимал ни слова по-далекарлийски. Однако в эту минуту он пребывал в довольно хорошем расположении духа, и на это были свои причины. Он поздоровался с Ульфом почти по-дружески, в то время как тот, совершенно остолбенев, смотрел, как незнакомец бесцеремонно, словно к себе домой, ввалился в медвежью комнату. Пуффо застал Христиана за разбором ящика с образцами различных минералов. — О чем вы тут призадумались, хозяин? — спросил он. — Не время сейчас камушками заниматься, надо готовиться к вечернему представлению. — Черт побери, я как раз об этом и думаю, — ответил Христиан, — ну что мне было делать одному, без тебя? Пора бы уж тебе и пожаловать! Где это ты слоняешься со вчерашнего дня? Пуффо не стал оправдываться и рассказал, как он нашел на мызе хороший ужин и хороший ночлег, и как, подружившись с лакеем из замка, который там был, он возвестил всем о приезде в Стольборг Христиана Вальдо. После того как он позавтракал, его вызвал к себе мажордом и очень любезно с ним говорил; он объявил ему, что ровно в восемь часов вечера в замке ждут представления театра марионеток. — «Ты скажешь своему хозяину, — добавил мажордом, — что господин барон хочет, чтобы было очень весело, и что он просит его проявить все свое остроумие». — Так, так, — сказал Христиан, — остроумие по приказу господина барона! Пусть же он поостережется, как бы этого остроумия не оказалось у меня чересчур много! Только скажи мне, Пуффо, ты разве не слышал, что барон болен? — Да, этой ночью ему как будто действительно было худо, — ответил фигляр, — по он уже успел позабыть об Этом. Может быть, он напился, хотя лакеи его говорят, что он никогда не пьет; только мыслимое ли это дело, чтобы такой богач, как он, не попользовался тем, что у него хранится в погребе! — Ну а ты, Пуффо, бьюсь об заклад, что ты-то уж кое-чем попользовался? — Да, спасибо лакею, — сказал Пуффо, — у него полюбовница на мызе есть, он-то меня и пригласил к себе за стол, ну вот доброй водки я с ним и выпил порядком, это хлебная водка, немного грубовата, правда, но зато и греет же, вот я и спал потом как убитый. — Я восхищен твоей удачей, уважаемый Пуффо, но надо бы подумать и о нашей работе. Поди-ка погляди сначала, как там Жан, не хочет ли он есть или пить, а потом придешь ко мне за распоряжениями. Только поторопись! Пуффо вышел, а Христиан принялся за дело: повздыхав немного, он закрыл ящик с минералами, чтобы открыть другой, с burattini, когда звон бубенцов на приближавшихся санях заставил его поглядеть в окно. То не был возвращавшийся раньше времени доктор прав; он увидел хорошенькие голубые с серебром сани, которые накануне вечером привозили в Стольборг Маргариту. Надо ли говорить, что Христиан позабыл обещание, которое эта милая девушка дала мнимому Гёфле: вернуться на другой день! По правде говоря, Христиан, после всех событий, происшедших на балу, больше уже не рассчитывал на возможность этого визита и не подумал даже известить о нем настоящего Гёфле. Может быть, он уже, считал свое вчерашнее приключение завершенным, может быть, даже хотел, чтобы это было так, ибо куда оно могло его завести? Разве только вызвать одно презрение и проклятие — он ведь отнюдь не был человеком, способным воспользоваться неопытностью ребенка. Однако сани все приближались; они поднимались по склону, и Христиан заметил одетую в горностаевый капюшон хорошенькую головку юной графини. Что делать? Хватит ли у Христиана духу захлопнуть перед ней дверь или послать Пуффо сказать ей, что доктора прав нет дома? Ну да! Ульф сейчас же ей все передаст; нечего ему и вмешиваться. Сани вот-вот повернут обратно. Христиан остался стоять у окна, готовясь увидеть, как они спускаются по склону. Однако они не спустились, и дверь отворилась. Перед ним стояла Маргарита, и Христиан едва успел захлопнуть крышку ящика, откуда все еще нескромно торчали большие носы и улыбающиеся губы марионеток. — Как, сударь, — удивленно вскричала молодая девушка, — вы все еще здесь? Вот этого-то я уж никак не ожидала! Я надеялась, что вы уехали. — Так вы никого не встретили во дворе? — спросил Христиан, который, по-видимому, был уже не прочь обвинить судьбу в этом стечении обстоятельств. — Никого я не видела, — ответила Маргарита, — а так как я приехала потихоньку, то поспешила поскорее войти, чтобы меня никто не заметил. Только, повторяю, господин Гёфле, вам бы не следовало здесь быть. Барон, вероятно, уже знает имя того, кто так вызывающе себя с ним вел, и, клянусь вам, вы должны были уехать. — Уехать? С вашей стороны очень жестоко мне это говорить! Но вы напоминаете мне, что я и на самом деле уехал. Да, да, можете быть спокойны, я уехал, чтобы никогда не возвращаться. Господин Гёфле сказал, что я могу навлечь на него неприятности, я обещал ему, что исчезну, и, как видите, я уже укладываю багаж. — О, тогда продолжайте, я не хочу вас задерживать! — Вам не терпится забыть всякое упоминание обо мне? Но только знайте, это дело решенное; я уплываю в Америку, а может быть, и дальше, я мчусь на всех парусах, чтобы мой страшный враг не мог меня настичь, а на глаза мои навертываются слезы при воспоминании о первой кадрили, которой суждено стать в моей жизни последней… — Со мною — да, но не с другими же? — Кто знает? Человек, который разговаривает сейчас с вами, всего только тень, всего только призрак того, кем он был вчера. Мое второе «я» — игрушка волн и судьбы, мне до него не больше дела, чем до обитателей луны. — Боже ты мой, какой же вы весельчак, господин Гёфле! А знаете ли вы, что мне-то совсем не весело? — И в самом деле, — сказал Христиан, пораженный грустным видом Маргариты, — какой же я негодяй, что говорю о самом себе, когда должен был бы побеспокоиться о последствиях того, что произошло вчера вечером! Не удостоите ли вы меня ответом, если я позволю себе задать вам вопрос? — Ну, конечно, после всего того, что по воле судьбы я вам рассказала о себе… Нынче ночью тетка бранила меня, и мадемуазель Потен получила приказ уложить мои вещи и отвезти меня сегодня же в Дальбю; но утром все вдруг переменилось, и после тайных переговоров с бароном, к которому, по ее словам, вернулись здоровье и обычная веселость, было решено, что я остаюсь и что до наступления вечера мне надлежит думать только о своем туалете. Кстати, знаете ли вы, что сегодня вечером у нас будет Христиан Вальдо? Говорят даже, что он остановился здесь, в Стольборге. А раз он здесь, то вы его, вероятно, уже встретили? Вы его видели? — Ну, конечно. — И без маски? Расскажите, какой он! В самом деле у него вместо головы череп? — Еще того хуже! У него деревянная голова. — Перестаньте же смеяться надо мной! — Я нисколько не смеюсь. Стоит вам его увидеть, и вы поклянетесь, что лицо его вырезано из дерева, да еще тупым ножом. Он похож на самую уродливую свою марионетку, вот на эту, взгляните! И Христиан показал ей нелепую физиономию сбира, торчавшую из ящика. Не будь Маргарита так взволнована, она заметила бы его и сама. — Подумать только! — воскликнула она не без испуга. — Так это и есть его хитрый ящик? Уж не живет ли он в этой комнате вместе с вами? — Нет, успокойтесь, вы его не увидите. Он ушел, испросив у господина Гёфле позволения оставить здесь свой багаж. — Бедняга, — задумчиво сказала Маргарита, — он до такой степени некрасив! Ну и верьте после этого всему, что рассказывают! А ведь какие-то люди видели его и говорили, что он красавец. Он, может быть, уже и старик? — Ему должно быть около сорока пяти лет. Но о чем вы задумались, и почему вы такая грустная? — Не знаю, мне просто грустно. — Но ведь вы же остаетесь в замке и сегодня вечером увидите марионеток! — Послушайте, господин Гёфле, вы принимаете меня за ребенка. Вчера на балу мне действительно было весело, я забавлялась, я была счастлива, я думала, что уже навсегда избавилась от барона. А сегодня вот узнаю, что у моей тетки опять появились надежды, я отлично это понимаю, мне придется снова предстать перед человеком, которого я отныне ненавижу всей душою. Разве он не оскорбил меня вчера и так подло? Напрасно тетка говорит, что он хотел пошутить, с девушкой моего возраста не шутят так, как с детьми. Чтобы немного успокоить мою оскорбленную гордость, я постаралась убедить себя, что он говорил в забытьи, что у него уже начинался нервный припадок, когда он произносил эти грубые слова. Такого же мнения держатся и мои подруги, но откуда я знаю, что он мне скажет сегодня, когда мы увидимся? И если он снова оскорбит меня — по злобе ли своей, или по безумию, — то кто встанет на мою защиту? Вас там не будет, и никто не посмеет… — То есть как это никто не посмеет? Что же это за мужчины вас окружают? А эти славные молодые люди, которых я видел вчера? — Да, конечно, я тоже считаю их славными, но они не знают меня, господин Гёфле, и, может быть, они сочтут, что я заслужила оскорбления барона. Плохая это для меня рекомендация — быть вывезенной в свет моей теткой, за которой, хоть и несправедливо, утвердилась репутация женщины, жертвующей всем во имя политики. — Бедная Маргарита! — сказал Христиан, огорченный тем, в какое трудное положение попала славная девушка. На лице его она прочла искреннее волнение, и так как в манерах его не было ни малейшей фамильярности, которая могла бы ее обидеть, Маргарита позволила ему коснуться ее руки, которую он тотчас же опустил, как только отдал себе отчет, что происходит. — Послушайте, — сказал он, — вам надо принять какое-то решение! — Я его уже приняла. Трудно сделать только первый шаг. Теперь я буду сама нападать на это чудовище, Олауса, при каждой встрече; я при всех буду говорить ему, что он за человек, и пусть меня лучше считают коварным демоном, нежели фавориткой этого далекарлийского паши. В конце концов, я лучше всего смогу защитить себя сама; ведь если бы вы были там, я боялась бы на это решиться, чтобы еще больше вам не повредить, и сделалась бы еще сдержаннее. Но все равно, господин Гёфле, я никогда не забуду добрых советов, которые вы мне дали, и рыцарского мужества, с каким вы осадили мерзкого барона. Не знаю, увидимся ли мы с вами когда-нибудь еще, но где бы вы ни были, все помыслы мои будут с вами, и я буду молить бога, чтобы он ниспослал вам больше счастья, чем досталось на мою долю. Христиан был глубоко тронут искренностью и нежностью Этой прелестной девушки. И во взгляде и в словах ее сквозила неподдельная сердечность без малейшей примеси кокетства. Милая Маргарита, — сказал он, поднося ее прелестную ручку к губам, — клянусь вам, что я тоже всегда буду вас помнить! Как жаль, что я не богат и не знатен! Тогда я, может быть, был бы в силах вам помочь, и будьте уверены, я сделал бы все, чтобы обрести счастье сделаться вашим покровителем. Но я ничто, и поэтому я ничего не могу для вас сделать. — От этого признательность моя не становится меньше, — ответила Маргарита. — Вы для меня как брат, которого я раньше не знала и которого господь послал мне в тяжелый для меня час. Взгляните точно так же и вы на нашу короткую встречу, и давайте простимся и не будем отчаиваться в том, что нас ожидает. Маргарита была настолько чистосердечна, что в душу Христиана закрались угрызения совести. С минуты на минуту мог вернуться господин Гёфле, и невозможно было предположить, чтобы молодая графиня, которая обратила внимание на сходство в интонациях мнимого дяди и мнимого племянника, не поразилась бы, увидев их вместе, полному отсутствию сходства. К тому же Гёфле не станет, разумеется, поддерживать весь этот обман, и Христиан с горечью думал о том, что оставляет Маргарите плохую память о себе. Поэтому он сам признался ей во всем и повинился в том, что, не зная ее, позволил себе дурную шутку — похитил шубу и шапку доктора прав, чтобы выдать себя за него, добавив, что горько во всем раскаивается, увидев, над какой ангельской душой он хотел посмеяться. Маргарита немного рассердилась. Когда Христиан обратился к ней в первый раз на бале, у нее мелькнуло было подозрение, что это кто-то другой, но он с такой искренностью рассказал ей, что слышал из соседней комнаты, что все сомнения ее рассеялись. — Как выяснилось, вы искусно умеете лгать, — сказала она, — и как легко вы можете обмануть человека! Я не в обиде на самую шутку: явившись сюда, я поступила неблагоразумно и совершила рискованный шаг, за что и была наказана этой мистификацией. Мне только грустно, оттого что вы до конца разыгрывали все с таким апломбом и таким чистосердечием. — Скажите лучше — с раскаянием и ложным стыдом: первый грех всегда влечет за собой другие и… — И что же еще? В чем еще вы собираетесь признаваться? Еще мгновение, и Христиан рассказал бы всю правду. Но он удержался, сообразив, что, услыхав имя Христиана Вальдо, Маргарита тут же убежала бы, огорченная и негодующая. Поэтому он решил быть искренним только наполовину и остаться для молодой графини Христианом Гёфле. Однако это притворство, которое по отношению к каждому другому человеку приносило ему тайную радость, стало ему очень тягостным, когда она устремила на него свой ясный взгляд, омраченный опасением и упреком. «Я хотел поиграть с ней как ребенок с ребенком, — подумал он, — но помимо нас в игру эту вмешалось чувство, и чем оно чище и нежнее, тем более я чувствую себя виновным…» Он, в свою очередь, помрачнел, и Маргарита это заметила. — Послушайте, — сказала она с улыбкой, в которой светилась лучезарная доброта, — не будем портить излишними придирками интересную главу романа, который закончится, оставив нас обоих такими же благонамеренными, какими мы были. Вы ведь не злоупотребили моим доверием, чтобы действительно посмеяться надо мной, напротив, вы помогли мне рассчитывать только на самое себя, чтобы противостоять злой судьбе, и я далека от того, чтобы чувствовать себя обиженной и смешной: по сравнению со вчерашним я теперь тверже стою на ногах. — Это действительно так, вы говорите правду? — порывисто спросил Христиан, — господь свидетель… — Договаривайте же до конца, — сказала Маргарита. — Ну так вот, — горячо сказал Христиан, — господь свидетель, что при всем этом я не думал о себе и что единственной заботою моей было ваше счастье. — Я это знаю, Христиан, — воскликнула Маргарита, вставая и протягивая ему руки, — я знаю, что вы видели во мне только несчастную сестру перед богом… Я благодарна вам, а пока я хочу проститься с вами, ведь скоро вернется ваш дядя; он меня не знает, и вовсе не нужно говорить ему, что я приезжала. Но скажите ему все, что хотите, я уверена, что он не станет действовать против меня: он такой же порядочный и великодушный человек, как и вы. — Да, но… вы же приехали с тем, чтобы о чем-то с ним посоветоваться, — сказал Христиан, который с сожалением видел, что роман стремительно приближается к концу, — для того, чтобы во что-то его посвятить. Может быть, надо, чтобы он знал… — Я приехала, — после некоторого колебания ответила Маргарита, — попросить его, чтобы он сказал точно, как поступит со мною моя тетка, если она встретит с моей стороны открытое неповиновение… Но все же и это было трусостью. Мне не к чему это знать. Пусть же меня ждет изгнание, отчуждение от всех, заключение, побои — не все ли равно? Я не сдамся, я вам это обещаю, я клянусь… Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за человека, которого смогу… уважать. Маргарита не дерзнула сказать «любить». Христиан тоже не осмелился произнести это слово; но глаза их сказали его, а на щеках у обоих вспыхнул румянец, говоривший о взаимном чувстве. После их искреннего разговора, продолжавшегося около часу, это было единственное и стремительное признание в том, чего они по-настоящему еще не сказали себе сами. Маргарита — потому что не знала, что она любит, Христиан — потому что был уверен в том, что не любит. Но когда Маргарита села в сани и уехала, а Христиан потерял ее из виду, оба почувствовали, что сердце у них разрывается от боли. Незаметно набегавшие слезы увлажняли щеки молодой девушки, а Христиан, охваченный потоком каких-то смутных мыслей, глубоко вздохнул, как будто, пробуждаясь от солнечного сна, он возвращался в холодную зиму. Чтобы дольше видеть убегавшие сани, он вошел в медвежью комнату и стал у окна между рамами, но в это время услышал позади себя какой-то шорох, заставивший его оглянуться, и взгляду его предстала картина, которая немало его удивила. Посреди комнаты стоял худощавый бледный старик с благородными чертами лица, очень опрятно одетый в серое, по старинной моде; в руках у него была зеленая ветка. Христиан не слышал, как он вошел, и это лицо, освещенное проникавшим в комнату сквозь единственное окно косым красным лучом солнца, в котором играли пылинки, походило на какое-то фантастическое видение. Выражение этого лица было не менее странно, чем его нежданное появление. Оно казалось нерешительным, удивленным, что видит себя Здесь, маленькие стеклянные глазки с изумлением взирали на перемены, которые принесло в это мрачное жилище вторжение новых обитателей. Немного подумав, Христиан сообразил, что это не привидение, а скорее всего старик Стенсон, который пришел засвидетельствовать свое почтение господину Гёфле и удивился, что не застал его дома. Но что означает эта зеленая ветка и почему у него такой боязливый и растерянный вид? Это действительно был старик Стенсон, и хотя он плохо слышал, зрение у него было отличное. Зажженный огонь, накрытый стол и мерно качающийся маятник сразу же поразили его, но передвигался он очень медленно, и поэтому у Христиана было время отойти и спрятаться за изъеденной мышами занавесью, прежде чем старик обратил свой взгляд на открытое окно. Поэтому Христиан мог наблюдать его, оставаясь незамеченным. Что же до Стенсона, то он подумал, что это его племянник, который, как ему было известно, любил выпить, пригласил втайне от дяди нескольких друзей, чтобы вместе с ними провести здесь рождественский вечер. До какой степени это его возмутило, только он один мог бы рассказать. Первой заботой старика было навести в комнате порядок. Он начал с того, что стал извлекать щипцами из печи горящие угли, чтобы огонь погас. Потом, прежде чем убрать со стола посуду или заставить преступника самого это сделать, он остановил маятник и переставил стрелки на четыре часа, так, как было, когда Христиан вошел в эту комнату и своей рукою святотатственно пустил их в ход. Потом Стенсон обернулся, словно для того, чтобы сосчитать свечи в люстре, но солнце било ему в глаза, и он направился к окну, чтобы поскорее его закрыть. В эту минуту Христиан, который мог быть застигнут врасплох, вышел из своего укрытия. При появлении незнакомца, освещенного лучами заходящего солнца, Стенсон, который вырос в суеверной семье и сам был достаточно суеверен, отступил и оказался под люстрой, причем лицо его изобразило такой страх, что Христиан, забыв о том, что старик глух, обратился к нему очень почтительно и кротко, чтобы его успокоить. Но голос его потонул в этой открытой и выстуженной комнате, и эхо ни разу его не повторило. Стенсон мог только увидеть движение его губ, его красивое лицо и добрые глаза. Старик упал на колени, протягивая ему руки, словно молил его о чем-то или благословлял, и, весь дрожа, протянул ему ветку кипариса, как будто делал подношение некоему божеству. — Послушайте, дорогой мой, — сказал Христиан, возвышая голос и подходя ближе, чтобы поднять старика, — я никакой не бог, я даже не рождественский ангел, который влетает через окно, а вылетает через печную трубу;: встаньте!.. Я… Но Христиан остановился: он увидел, что лицо старика, в котором и так не было ни кровинки, покрыла смертельная бледность. Он понял, что до смерти его напугал, и отошел в сторону, чтобы дать ему время прийти в себя. Вскоре Стенсон действительно приободрился, но лишь настолько, чтобы подумать о бегстве. Он прополз немного на коленях, с трудом поднялся и вышел через спальню, бормоча про себя какие-то бессвязные слова. Решив, что это приступ помешательства, возникшего от старости или чрезмерной религиозной экзальтации, Христиан не стал следовать за ним, он боялся, что это может окончательно сразить старика, и, подняв ветку, которую тот уронил к его ногам, обнаружил, что к ней был привязан кусочек пергамента; развернув его, он прочел три стиха из Библии, написанных еще довольно твердой рукою: «Пучина и смерть говорят: «Мы слыхали о ней!»». «Не плакал ли я разве из любви к тому, кто испытал тяжелые дни?» «Сокровища грешника предназначены для праведника». Христиану некогда было долго раздумывать над смыслом этой загадки. Время шло быстро. К половине второго прозрачные тени снежных вершин растянулись уже по голубоватой поверхности озера. Это было чудесное зрелище, и Христиан был бы рад наслаждаться им, ничем не отвлекаясь. Эти короткие северные дни дают иногда удивительные по своей красочности эффекты, и даже в полуденные часы видна, как говорят художники, игра светотени. Это означает, что лучи падают косо, и от этого все предметы как бы купаются в свете и тени, как у нас в утренние и вечерние часы. Может быть, в этом и заключается та особая прелесть освещения, о которой с таким восторгом говорят все, кто путешествовал по северу. Путешественников по Швеции и Норвегии поражают не одни только необыкновенные пейзажи, бурные водопады, огромные озера и великолепие северного сияния. Они утверждают, что самое красивое там — это прежде всего тот восхитительный свет, при котором мельчайшие предметы приобретают особый блеск и очарование. Люди, живущие в других странах, не могут даже представить себе этого. Однако наш герой, восхищаясь красотами неба, замечал в то же время, что день уже клонится к закату, и видел издали приготовления к празднику, за который он в известной степени был в ответе. Из труб нового замка поднимались густые клубы черного дыма, резко выделявшиеся на фоне розовато-перламутровых облаков. Ружейные выстрелы, которые глухо отдавались в снегах, возвещали об усилиях охотников заполнить вертела этих пантагрюэлевских очагов[404]. Видно было, как по ледяному покрову маленького озера разбегаются во все стороны проворные конькобежцы, посланные с какими-то спешными поручениями: они сталкивались друг с другом и порою летели кувырком. Чинилась безжалостная расправа над всеми богатствами округи, начиная с огромных поленьев, которые должны были полыхать в каждой комнате замка, и кончая несчастными белыми куропатками, которые напрасно надеялись спастись от зоркого взгляда человека и от нюха безжалостных гончих. Итак, все готовились к великолепному пятому рождественскому вечеру (ибо это было двадцать восьмое декабря), и один только Христиан и не думал готовиться к нему. Его беспокоило, что Пуффо не возвращается. Переодевшись в отрепье, сдвинув на лоб длинную пышную шевелюру и надвинув на глаза остроконечную шапку, он отправился разыскивать своего слугу по дворику, по горду и заглянул даже на кухню, где накануне так напугал Ульфила. Он, однако, позабыл спуститься в погреб — там он мог бы увидеть Пуффо, спавшего сладким сном. Христиан уж было собрался вернуться, когда ему пришло в голову отправиться в маленький садик старика Стенсона. Сначала он издали оглядел его и, удостоверившись, что старого управителя, которому он причинил столько тревоги своим появлением, там сейчас нет, спустился вниз по крутой дорожке, ведшей к озеру. Оттуда он мог видеть всю сторону горда, откосом спускавшегося к маленькой бухточке. Старая каменная постройка так плотно примыкала к скале, что трудно было отличить естественное укрепление от возведенного людьми. Все было перевито стеблями ползучих растений, от инея ставших похожими на кристаллы и окунавшихся в озеро, где они были плотно зажаты льдом. Добравшись до этого места, Христиан стал вспоминать все, что с ним случилось накануне, когда он хотел исследовать потайной ход в медвежью комнату. Мы обещали читателю рассказать об этом, и сейчас как раз пора это сделать. Вспомним, что для того, чтобы раздобыть что-нибудь на ужин, Христиан пошел по узкому проходу, начинавшемуся под лестницей и скрытому за дверью, очень плотно пригнанной к деревянной панели стены: он думал, что ход Этот ведет к домику Стенсона. Но оказалось, что это не так. Сделав несколько шагов по узкому коридору, Христиан обнаружил крутую лестницу; она была завалена мусором, можно было подумать, что по ней давно уже никто не поднимался. В нижней части этой очень глубоко спускавшейся лестницы он натолкнулся на открытую дверь. Удивленный тем, что казавшийся ему таким загадочным потайной ход открыт, он попытался пройти дальше, но порыв ветра задул его свечу, и он очутился в темноте. Осторожно ступая, он сделал еще несколько шагов, но тут луна вышла из-за туч, и он очутился в своего рода гроте, откуда в нескольких местах можно было выйти на озеро. Он прошел по этой галерее, казалось, выдолбленной самою природой, куда проникала вода из озера. Продолжая свой путь по льду, он добрался до маленькой калитки, через которую нетрудно было перелезть и проникнуть сначала в садик, а потом — в горд Стенсона. Эта калитка, по обе стороны которой росли молодые тисы, подрезанные в виде сахарных голов, обратила сейчас на себя внимание Христиана и помогла ему узнать те места, по которым он проходил ночью. Хоть и не рассчитывая здесь найти Пуффо, Христиан вышел из садика и пошел по озеру вдоль откоса, под каменною стеною в направлении башни. Ему интересно было увидеть днем тот путь, который он проделал ночью — наполовину наугад в темноте, наполовину при свете луны. Так он добрался до входа, как ему казалось тогда, в грот. В действительности это было всего-навсего нагромождение огромных валунов гранита, из тех, что называют, если не ошибаюсь, эрратическими, обозначая этим словом то, что их находят вдали от места появления и там, где их окружают горные породы совсем иного характера. Предполагают, что валуны эти — следствие некоего первоначального, или, напротив, недавнего, катаклизма, неистовства потоков или кропотливого труда ледников, которые и забросили их в эти места очень издалека. Валуны эти, округлившись, стали голышами, и прихотливое нагромождение их, казалось, свидетельствовало о том, что, гонимые бурными потоками, они встретили на своем пути преграду в виде стольборгских сланцев, которым с тех пор и стали служить опорой и контрфорсом. Идти здесь было совсем нелегко: накануне вечером выпал снег, а ветер смел его, пли, вернее, скатал вдоль голышей толстыми складками, похожими на складки савана. Христиан собирался уже вернуться, когда его вдруг поразили живописные контуры башни, которая здесь была видна снизу, и он отошел немного подальше, чтобы охватить ее взглядом всю целиком. Невольно глаза его стали искать местоположение медвежьей комнаты и сразу же остановились на единственном окне на высоте около ста футов над поверхностью озера и пятидесяти над верхними валунами. Было не очень холодно, и Христиан, у которого в кармане всегда был небольшой альбом, начал размашисто набрасывать обрывистый край скалы и хаос гигантских валунов; беспорядочное нагромождение составляло, как груды песчаника в Фонтенбло[405], целые галереи и крытые ходы, имевшие очень странный вид. С любопытством оглядывая местность, Христиан услышал вдруг чье-то пение и сначала не обратил на него особенного внимания. То был голос крестьянки, звучавший несколько приглушенно, а по временам дрожавший, как будто пела женщина пожилая или больная. Это походило на какое-то песнопение, и в заунывной, однообразной мелодии была свои прелесть. Печальная песня, звучавшая на высоких нотах, навевала грусть на молодого художника и повергала его в такое состояние, когда он мог с особенным проникновением ощутить и передать характер тех мест, с которыми так удивительно гармонировал этот голос. Сначала слова показались Христиану совершенно непонятными, но потом, по мере того как он бессознательно все больше и больше вникал в них, он начал понимать их, ибо то были шведские слова, произносимые с далекарлийским акцентом. Вскоре смысл их настолько поразил его своей необычностью, что он стал вслушиваться внимательнее. — «Я видела замок, квадратный замок в часы заката. Ворота его глядят на север. Капли яда сочатся сквозь высокие окна. Пол его вымощен змеями. Древо мира обвивает себя ветвями, могучий ясень трепещет. Огромный змей кусает волны. Орел кричит; бледным клювом своим он раздирает трупы; корабль мертвецов спущен на воду. Где асы, где эльфы?[406] Они вздыхают у входа в пещеры. Солнце меркнет, все умирает. Но земля, восхитительная в своем зеленом наряде, снова начинает блистать на востоке; воды пробуждаются, водопады устремляются вниз. На вершине неба я видела дворец прекраснее солнца… А теперь я уже его не вижу. Вала погружается в ночь».Понемногу в отрывках этой мрачной поэзии Христиан узнал несколько видоизмененные или восстановленные по памяти стихи древней поэмы «Волуспа»[407]. В простонародном произношении певицы они звучали совсем необычно. Неужели же у местных крестьян могли сохраниться традиционные скандинавские священные песни на мифологические сюжеты? Вряд ли это было возможно; кто же тогда перевел их и обучил им эту женщину? Христиан, как истый путешественник, любознательный ко всему, решил расспросить певицу, как только закончит свой набросок, но когда несколько минут спустя он сунул свой альбом в карман, голос перестал быть слышен. Он оглядел все вокруг и никого не увидел. Решив, что пели где-то за валунами, он захотел пройти по ним и все выяснить. Это было не легче, чем идти по толстому слою наметенного снега, который их окаймлял. Внутри главной пещеры, которая, прихотливо извиваясь, следовала за скалою на протяжении шагов пятидесяти, лед был бугристым и скользким, как будто в одну из холодных осенних ночей прибрежные водовороты мгновенно оледенели. Однако нашему путнику удалось обнаружить следы своих же шагов, когда накануне он шел по этим местам, считая, что под ногами у него обломки кирпича и черепицы, и вскоре он снова очутился перед таинственной дверью, через которую вышел из башни, но на этот раз она была заперта. Христиан заметил два железных кольца и замок, ключ из которого был вынут и, как видно, совсем недавно. Должно быть, женщина, которая пела, подобно Стенсону и Ульфилу, имела отношение к охране старого замка. Она, вероятно, была где-то неподалеку, потому что еще пять минут тому назад она пела. Женщина эта могла находиться только где-нибудь среди валунов; ни на озере, ни на склоне Христиан никого не заметил. Он вернулся, чтобы выйти из грота, где было довольно темно и куда свет проникал только в среднюю его часть через естественное отверстие. Он постоял там немного, смотря на небо. Но он увидел не только небо, но еще и нечто нависавшее над скалой и выступавшее на прямой и ровной стене башни. Вскоре он понял, что это был низ каменного балкона под окном медвежьей комнаты с двойной рамой и что с этого балкона по каменным глыбам можно было сойти вниз прямо на валуны по веревочной лестнице или просто по веревке и сразу же оказаться укрытым тем сводом, который они образовали в этом месте. Будучи человеком романтически настроенным, Христиан сразу же представил себе, как здесь можно было бы спастись бегством, если бы разразилась война или если бы пленника заточили в Стольборгской башне. Он взобрался на валуны, служившие неровными стенами гроту, и, правда, не без труда, но все же вылез через это отверстие, которое, как он окончательно убедился, не было делом рук человека. Разглядывая его, он пришел к размышлению, которому каждый предавался хотя бы раз в жизни: в отчаянном положении человек иногда находит пути к спасению столь невероятные, что они как будто выходят за пределы реального, и кажется, что так бывает только в романах. Не оставив, однако, мысли о том, чтобы найти певицу, Христиан продолжал свои поиски, карабкаясь по валунам. Хотя они находились на неодинаковом расстоянии друг от друга, по ним можно было кое-как пройти. Он никого не нашел и готов уже был отказаться от своей затеи, когда голос зазвучал снова, но на этот раз ниже того уровня, где, как ему казалось, он услышал его впервые. Он направился в ту сторону, но едва достиг места, где рассчитывал найти таинственную певицу, как песня снова внезапно оборвалась, подобно жужжанию стрекозы, почуявшей приближение человека, и прозвучала с другой стороны, гораздо выше, словно она парила где-то в пространстве. Христиан поднял голову и заметил на стене башни длинную расщелину, едва заметную из-под плюща. Она проходила почти вертикально от окна третьего этажа, значительно правее окна медвежьей комнаты, вплоть до куска обрушившейся стены, и оканчивалась среди нового нагромождения камней. Ему даже показалось, что по этой трещине то и дело скатываются вниз маленькие камушки, как будто кто-то бросал их сверху. Однако, подойдя к ней ближе, он счел ее недоступной для человека и направился дальше. Жалобная песня зазвучала меж тем вновь, и Христиан, которого это вначале забавляло, начал терять терпение; он снова принялся искать таинственную певицу, переходя с места на место по этому хаосу гранитных глыб. Но каждый раз его ожидало новое разочарование, и он в конце концов вышел из себя. В этой дикой песне, в этих обрывках какого-то мрачного апокалипсиса, обрывавшихся сразу и словно вдохновленных безумием, в этом зловещем месте и в эти грустные сумеречные часы было что-то страшное, и Христиану невольно подумалось о живущих в воде ведьмах, без которых не обходится ни одна шведская легенда, да и вообще народные верования всех северных стран Европы. Он наконец решил, что голос этот доносится из башни. Может быть, там в одной из темниц томится пленница. Три раза Христиан окликнул ее, назвав ее наугад известным из мифологии именем Вала, иначе говоря — сивилла, каковою, видимо, она себя считала. После этого голос замолк, и это было в духе суеверных легенд этих мест, гласивших, что стоит лишь назвать по имени ворчливых или жалобных горных духов, и они пугаются или умиротворяются и, уж во всяком случае, умолкают. Но Христианом, направлявшимся в это время к башне, овладела другая мысль: перед тем как вернуться туда, ему пришло в голову, что, может быть, это жертва таинственного барона Олауса стонет там, охваченная безумием, где-то в подземелье. Однако вся эта фантазия вылетела у него из головы, как только он увидал господина Гёфле, сидевшего в медвежьей комнате за столом. — В хорошенькую же историю я чуть было не влип из-за ваших ночных похождений! — воскликнул адвокат, продолжая есть. — Странно только, что барон не обмолвился об этом ни словом; зато графиня Эльведа ни за что не хотела поверить, когда я поклялся ей, что нет у меня ни племянника, ни незаконного сына. — Как, господин Гёфле, вы отреклись от сына, который оказал вам такую честь? — Да, отрекся. У меня не было возможности ни поддерживать эту шутку, ни взять на себя ответственность за подобную мистификацию. Известно ли вам, что на вас обратили внимание и что, если оставить в стороне все, что произошло между вами и амфитрионом, то вы поразили всех, особенно дам, своей обходительностью и прекрасными манерами? В апартаментах графини я повстречал нескольких франтих нашей провинции, которым вы вскружили головы, и когда я дал слово, что сей незнакомец не имеет ко мне ни малейшего отношения, то надо было слышать все их предположения и комментарии! Некоторые готовы были думать, что это не кто иной, как Христиан Вальдо, за которым водятся подобные проказы, но в конце концов решили, что вы наследный принц, путешествующий инкогнито по своим будущим владениям. — Принц Генрих[408], который теперь в Париже? — Он самый, и этим отлично можно было объяснить случившийся с бароном нервный припадок. Он ненавидит принца, и, таким образом, в нем могли столкнуться ненависть, злопамятство и то уважение, которое надлежит воздавать будущему наследнику престола. — Но не может же графиня Эльведа разделять подобное заблуждение? — Ну, конечно, нет, она слишком хорошо знает принца; но ведь она большая насмешница и просто потешалась над этими дамами, заявив им, что вы до такой степени похожи на нашего будущего короля, что она не знает, что и думать. Только когда я уже уходил, она отвела меня в сторону и сказала: «Вы чересчур строги, господин адвокат, к этому юному безумцу и напрасно от него отрекаетесь. По-моему, это очень славный юноша, и если он и не похож на вас лицом, то, уж во всяком случае, напоминает вас своим умом и изысканностью манер». — Вы очень мне этим льстите, господин Гёфле, но неужели она все еще принимает меня за вашего сына? — Вне всякого сомнения, и чем больше я протестовал, тем больше она надо мной смеялась, говоря, что я теперь уже никак не могу от вас отречься, коль скоро вы открыто представились в свете под моим именем. «Любите кататься, — сказала она, — любите и саночки возить. Этот сумасброд, который приводит вас теперь в ярость, — справедливое наказание за ваши юношеские проделки, вольно же вам было Заводить таких отчаянных детей». Подумайте только, какой урон вы нанеслимоему доброму имени! В конце концов, чтобы отделаться от вас, я сказал, что, сын вы или племянник, но, так или иначе, вы уехали, что я вас с позором прогнал за то, что вы неуважительно отнеслись к господину барону. — Ну что же, господин Гёфле, вы хорошо сделали, ибо что касается барона… не знаю, не грежу ли я, но мне, право, начинает казаться, что он и на самом деле Синяя Борода, каким его представляют местные легенды. — Что вы говорите! Ну так расскажите же мне все, только давайте что-нибудь поедим: сейчас уже больше двух часов, и вы, наверное, голодны? — Нисколько! Я как будто только что вышел из-за стола. Мы же до полудня завтракали с вами! — А разве вы не знаете, что в нашем холодном климате полагается есть через каждые два часа? Я вот недавно пил кофе в новом замке, а сейчас пора пообедать. В четыре часа мы будем пить с вами кофе, в шесть устроим чай, иными словами — в ожидании ужина будем есть хлеб с маслом и сыром. — Благодарю покорно, как ловко вы все придумали! Я знаю, что такой образ жизни ведут толстые стокгольмские купцы, но вы-то ведь еще такой стройный, господин Гёфле! — Так вы, что же, хотите, чтобы я совсем превратился в скелет? Так и будет, стоит мне только нарушить заведенный в стране порядок. Поверьте мне, следуйте ему сами, иначе неминуемо заболеете. — Для того чтобы последовать вашему совету, мне нужны две вещи: время и мой слуга Пуффо. Но время-то идет, а Пуффо появился всего на минуту и снова исчез и вернется, может быть, только завтра утром. — А не могу я вам чем-нибудь помочь? О чем идет речь? — Об очень многом. Самое главное, надо выбрать сюжет для пьесы, которую эта скотина Пуффо мог бы разыграть сегодня со мной. Память ему не изменяет при условии, что перед представлением бывает репетиция. А так как мы вот уже несколько дней как путешествуем и ничего не делаем и он этой ночью еще, как видно, напился… — Полноте, в вашем распоряжении еще пять часов, это же очень много! Мне иногда не требуется столько времени даже для того, чтобы изучить дело куда более запутанное, чем ваши комедии для марионеток! Говорю вам, я обещаю вам помочь, но только при условии, что вы сейчас сядете и поедите со мной: ведь самое скучное — это есть одному. — Позвольте мне по крайней мере наскоро закусить, — сказал Христиан, садясь против адвоката, — и не очень много говорить, а то мои легкие мне сегодня еще понадобятся! — Ну хорошо, хорошо, — согласился Гёфле, отрезая Христиану огромный кусок холодной телятины, блюда, которое очень любят шведы, в особенности когда она должным образом сварена, — но что вы мне такое говорили, входя сюда? Что бы вы открыли, если бы у вас было время? Христиан рассказал о своем приключении и, закончив свой рассказ, спросил, не думает ли господин Гёфле, что в фундаменте Стольборга скрыта старая подземная тюрьма. — Ничего я об этом не знаю, — ответил адвокат. — Очень возможно, что в каменной твердыне, которая сейчас у нас под ногами, есть подземелье, и если это так, то в том, что оно служило тюрьмой, я нисколько не сомневаюсь. Нравы наших предков отнюдь не отличались мягкостью, и к тому же владельцы поместий и сейчас еще вершат правосудие на своих землях. — Так вы не сомневаетесь, что и теперь подземелье Этой башни может служить тюрьмой? — Кто знает! Вы хотите этим сказать… — Что, может быть, там скрывается еще какое-нибудь преступление, что может еще оказаться в живых одна из многих жертв — кто-то, на кого барон излил страшную месть. — И в самом деле! Любопытно было бы что-нибудь такое открыть, — сказал адвокат и погрузился в раздумье. — А вы уверены, что и этот голос и эти странные песни вам не приснились? — То есть как это уверен? — Да ведь вы недавно еще говорили, что человек иногда подвержен галлюцинациям. Так вот, галлюцинации бывают и слуховые и зрительные, и надо, чтобы вы знали (для того, чтобы уберечься от них), до какой степени галлюцинации распространенная вещь в Швеции, особенно когда попадаешь на север страны, где у двух третей всего населения. Это своего рода хроническая болезнь. — Да, если к этому примешивается еще и суеверие, эти видения становятся прямо-таки заразительными. Только, пожалуйста, не думайте, что я нахожусь под влиянием веры в ведьм и злых духов, живущих в озерах, водопадах и старых замках. — Ну, я в них, разумеется, не верю. И все-таки… Послушайте, Христиан, независимо от суеверий есть нечто необъяснимое в воздействии, которое северная природа оказывает на людей с пылким воображением. Оно — в воздухе, в звуках, особым образом отдающихся среди льдов, в туманах, принимающих таинственные очертания, в диковинных миражах, появляющихся на наших озерах, в liagring[409] — удивительном явлении, о котором вы, разумеется, слышали и которое в любую минуту можете увидеть и на этом озере; оно, может быть, также в особенностях кровообращения, нарушенного постоянным вторжением ледяного воздуха в воздух наших жилищ, перенасыщенный теплом, и, напротив, внезапным и неизбежным переходом тепла в холод. Ну что вам еще сказать? Даже самые рассудительные, самые уравновешенные люди, наименее всего склонные к суевериям, те, кто прожил большую часть жизни и никогда не поддавался этим иллюзиям, вдруг становятся одержимыми, и ваш покорный слуга… — Договаривайте же, господин Гёфле… если только Этот рассказ не слишком вам тягостен, вы ведь побледнели как полотно. — Да я и действительно плохо себя чувствую. Сегодня со мной такое было уже два-три раза. Какое все-таки жалкое существо человек! То, чего он не может понять, страшит его или волнует. Налейте-ка мне стаканчик портвейна, Христиан! Да ваше здоровье! В общем-то я доволен, что отказался от торжественного обеда там, в новом замке, и остался с вами вдвоем здесь, в этой проклятой комнате, которой я, впрочем, нисколько не боюсь. Так как вы со своей стороны приносите мне жертву — едите, не будучи голодны, и выслушиваете меня в ущерб вашим собственным делам, то я хочу вознаградить вас за это, рассказав о том, какая у меня была галлюцинация. Знайте же, дорогой друг, что не далее как вчера вечером, в том самом месте, где мы с вами сейчас находимся, я, сидя в соседней комнате, погрузился в изучение одного довольно интересного процесса, в то время как мой маленький лакей после всяческих фокусов соизволил наконец улечься спать. Я собирался терпеливо выждать четверть часа, потому что мне хотелось есть, а я не знал, что стол здесь уже накрыт, но бес науки, умеющий сделать так, что ни одна профессия не кажется глупой, даже профессия адвоката, завел меня так далеко, что я обо всем забыл, и мой бедный желудок вынужден был кричать мне вовсю, что уже одиннадцать часов вечера. Я посмотрел на часы — и в самом деле, было уже одиннадцать… Что поделаешь! Я привык к заботам моей экономки, которая предупреждает меня о часах еды, и совсем забыл, что в этой конуре я вверен попечению лунатика Ульфила и мне ни о чем не напомнят. Что касается Нильса, то, как я вам уже говорил, это мальчик, которого мне дала Гертруда для того, чтобы он обучал меня работе лакея. Итак, обнаружив, что уже целых семь часов я ничего не ел, я встаю, зажигаю канделябр, иду в эту комнату, вижу принесенную вами еду и, приписав это запоздалое благодеяние Ульфилу, довольно жадно начинаю утолять голод. Вы уже знаете, мой дорогой Христиан, что в этих развалинах бродит дьявол, во всяком случае, такого мнения держатся правоверные прихожане — по той причине, что здесь, как говорят, была еще недавно часовня одной католички, баронессы Хильды, вдовы Адельстана, старшего брата… — Барона Олауса Вальдемора, — сказал Христиан. — Неужели же далекарлийцы до такой степени ненавидят католиков? — Не меньше, — ответил Гёфле, — чем до Густава Вазы они ненавидели протестантов. Это люди, которые не умеют любить и ненавидеть наполовину. Что же касается злого духа, живущего в Стольборге, то старый Стенсон в него не верит. Зато он верит в даму в сером, которая, по его словам, не кто иная, как душа покойной баронессы, умершей в этой самой комнате более двадцати лет назад. За какой-нибудь час до этого я еще смеялся над видениями, чтобы успокоить моего маленького лакея, но вы знаете, из чего рождаются сны: иногда это какое-нибудь слово, которое скажешь сам или услышишь днем, не обратив на него никакого внимания, и тут же таинственным образом забудешь. Они помимо нашей воли пробуждаются в нас потом и живут до ночи. И в то время когда глаза наши закрыты, а разум спит, они вдруг предстают нашему воображению и нашему обманутому взору в виде фантастических образов, сделавшись в десять раз более значительными, а подчас и более страшными. Надо полагать, что галлюцинация, иначе говоря — видение без сна, следует тем же законам, Я кончил ужинать и только успел закурить трубку, как вдруг пронзительный и жалобный стон, похожий на стенание ветра, который врывается вдруг сквозь отворенную дверь, огласил всю комнату, и в ту же минуту от струи холодного воздуха замерцало пламя горевших на моем столе свечей… Так как в эту минуту у меня пред глазами была дверь в вестибюль, плотно закрытая и неподвижная, я решил, что Нильс проснулся и открыл за моей спиной другую, ту, что ведет в караульню. «Так это опять ты! — вскричал я, вставая. — Ляжешь ты наконец спать или нет, трус несчастный!» И я направился к этой двери, убежденный, что чудак не посмел распахнуть ее и только немного приоткрыл, чтобы удостовериться, что я нахожусь рядом. Но и эта дверь оказалась запертой. Но, может быть, увидев меня, мальчишка решил ее снова прикрыть, и я ничего не услышал просто потому, что в эту минуту набивал трубку и подкидывал дрова в камин? Это было весьма вероятно. Я прошел в караульню и увидел, что Нильс спит глубоким сном. Можно было с уверенностью сказать, что он даже не пошевелился. Из предосторожности я потушил огонь в камине и вернулся в свою комнату, где все было спокойно. Жалобного стона больше не было слышно. Я решил, что это просто порыв ветра, ворвавшийся через какую-то щель, и вернулся к своей трубке и к папке с делом, которое я изучал по просьбе барона. Это дело, которое для меня интересно связанными с ним каверзными юридическими вопросами, для вас не может представить ни малейшего интереса, и поэтому рассказывать о нем я не стану. Вам достаточно знать, что речь идет об акте продажи, подписанном когда-то бароном Адельстаном, и что имя барона, равно как и его жены Хильды Бликсен, фигурирует в каждой строке этого документа. Имена обоих супругов, умерших в расцвете лет, один — таинственной и трагической смертью, другая — в той самой комнате, где мы находимся с вами сейчас, и, может быть, именно нартой ободранной и расшатанной кровати, которую вы видите, очевидно произвели на меня какое-то впечатление, в чем я не отдавал себе отчета. Я был целиком поглощен своей работой, а дрова в печи сильно трещали, как вдруг мне показалось, что я слышу на лестнице скрип шагов, и это повторилось несколько раз. Меня это взволновало, и вместе с тем мне стало стыдно оттого, что я задрожал; я решил впредь даже не оборачиваться, чтобы посмотреть, что это может быть. Надо ли удивляться, что старые влажные деревянные панели начали потрескивать, когда в камине развели такой огонь? Я снова погрузился в чтение, но за скрипом ступенек и перил последовал и другой шум. Похоже было, что стену ковыряет каким-то металлическим предметом рука — так неуверенно и слабо, что можно было подумать, будто за развешанными наверху картами скребется крыса. Я посмотрел туда, но ничего не увидел и снова взялся за работу, решив не обращать больше внимания на все эти шумы, которые можно услышать в любом доме и которые имеют всегда самое обычное объяснение. Сущее ребячество начать отыскивать причины всех этих явлений, когда есть более серьезные вещи, которыми необходимо заняться. Однако, когда скрип и шорох послышались в третий раз, я все-таки обернулся и посмотрел в сторону лестницы. Я услышал, что большая пергаментная карта, прикрывающая замурованную дверь, колышется и странным образом поскрипывает. Я увидел, что она несколько раз приподнялась и снова опустилась на вделанных в нее кольцах и надулась, как будто некий предмет, достаточно крупный, чтобы быть человеческим телом, шевелится позади нее. На этот раз я был действительно потрясен. Может быть, там спрятался вор, собиравшийся улучить минуту и кинуться на меня. Я мгновенно вскочил, чтобы схватить шпагу со стула, на котором оставил ее, когда приехал сюда: шпаги не было. — И понятно почему! — воскликнул Христиан. — Увы, она была у меня. — Не знаю уж, — продолжал Гёфле, — не приписал ли я исчезновение шпаги причуде Ульфила, решившего ее спрятать. Дело в том, что я даже не заглянул в свой чемодан и нисколько не был обеспокоен тем, что не вижу кафтана, повешенного мною на спинку кресла. Я не привык заниматься такими вещами сам и, вероятно, уже ни о чем этом не помнил. Проклятая шпага никак не находилась. У меня было время успокоиться и сказать себе, что я трус, что никто не может покушаться на мою жизнь и что если вору захотелось завладеть моими деньгами, то самое разумное, не сопротивляясь, отдать ему кошелек, где их, кстати, было совсем немного. Итак, клянусь вам, набравшись хладнокровия и решимости, я обернулся в сторону лестницы. Вот тут-то меня и ждала галлюцинация… Христиан, взгляните-ка на этот портрет, направо от окна… — Я уже пытался его рассмотреть, — сказал Христиан, — но он так неудачно повешен против света и на нем столько пятен от мух или от сырости, что мне трудно увидеть лицо. — В таком случае посмотрите его при искусственном свете, тем более что уже начинает темнеть и пора зажигать свечи. Христиан зажег стоявший на столе канделябр на три свечи, встал на стул и стал рассматривать портрет при этих трех мерцающих огоньках, направляя на него свет своим вынутым из кармана альбомом. — Все-таки я еще плохо его вижу, — сказал он, — это портрет женщины довольно высокого роста и с хорошей фигурой. Она сидит, и лицо ее укрыто черной вуалью, как носят шведские женщины зимою, чтобы уберечь глаза от слепящей белизны снега. Я вижу руки, очень хорошо написанные и очень красивые. На ней жемчужно-серое шелковое платье с бантами черного бархата. Так это портрет дамы в сером? — Да, это она, баронесса Хильда. — Ну раз так, то я хочу разглядеть лицо. Ага, вижу. Какая красавица, сколько в ней обаятельной кротости! Еще минутку, господин Гёфле… Лицо это трогает и пленяет. — Так вы меня уже больше не слушаете? — Как же, как же, господин Гёфле! Мне сейчас очень некогда, и вместе с тем ваше приключение настолько меня интересует, что я хочу знать, чем оно закончилось. Слушаю вас. — Ну так вот, — ответил адвокат, — когда мой взгляд остановился на большой карте Швеции, которая сейчас преспокойно висит здесь перед вами, из-за нее, словно из-за портьеры, появилось человеческое лицо, и это было лицо женщины, высокой и худой, не той стройной красавицы, какою должна бы была быть та, что изображена на этом портрете, но мертвенно-бледной и осунувшейся, как будто вышедшей из могилы, в сером платье, поношенном и грязном, с развязанными и беспорядочно свисавшими черными лентами, и, казалось, она вся еще осыпана могильной землею. Все это было до того мрачно и страшно, мой дорогой друг, что я закрыл глаза, чтобы избавиться от власти тягостного видения. Когда я снова открыл их — теперь я уже не знаю, было ли это секунду или минуту спустя, — лицо это было прямо передо мной. Женщина спустилась по лестнице, скрип которой был еле слышен, и смотрела на меня растерянно и так пристально, как, по-моему, могли бы глядеть мертвецы, разумея под этим отсутствие всякой мысли, всякого интереса, всякой жизни. Действительно, передо мною, в каких-нибудь двух шагах от меня, стояла покойница, а сам я был точно околдован и, возможно, сделался даже неузнаваемо безобразен, а может быть, волосы у меня стали дыбом — не знаю… — Право же, видение не из приятных, — воскликнул Христиан, — и, наверно, будь я на вашем месте, я бы или выругался, или что-нибудь разбил. И это длилось долго? — Но могу сказать. Мне казалось, что это никогда не кончится, потому что я снова закрыл глаза, чтобы отделаться от наваждения, а когда я открыл их, привидение двигалось по комнате. Оно подошло к постели. Что оно там делало, я не знаю. Мне показалось, что оно шевелит Занавесом, что оно наклоняется, чтобы что-то сказать тому, кого оно видит, а я не вижу. А потом оно как будто пыталось открыть окно, но, по-моему, так его и не открыло. Наконец оно снова приблизилось ко мне. Я набрался храбрости. Я попытался посмотреть на все трезво. Мне захотелось запечатлеть в памяти лицо этой женщины. Это оказалось свыше моих сил. Я видел только огромные мертвые глаза и не мог от них оторваться. К тому же на этот раз привидение быстро прошло мимо меня. Если оно и заметило мое присутствие, то не проявило при этом ни раздражения, ни удивления. Оно словно парило в воздухе, потом попыталось вернуться на лестницу и, казалось, не могло ее отыскать. Костлявыми руками оно ощупывало стены. И вдруг все исчезло. В воздухе и в ушах у меня был еще слышен свист ветра; потом и он стих, и так как в эти страшные минуты я все же не лишился рассудка, я заметил исчезновение и необычных шумов и этого сверхъестественного видения. Я ощупал себя — это, несомненно, был я. Я ущипнул себя за руку и ощутил боль. Я взглянул на бутылку с ромом — она была едва начата. Стало быть, здесь не имели место ни экстаз, ни опьянение. У меня не было даже никакого чувства страха. Я хладнокровно говорил себе, что спал стоя. Я докурил свою трубку; мысли мои витали вокруг пережитого, и я давал даже волю воображению и смутному желанию испытать еще раз галлюцинацию, для того чтобы попытаться с ней справиться; однако больше я уже ничего не увидел и улегся спать совершенно спокойный. Уснул я, правда, очень поздно, но ни в малейшей степени не чувствовал себя больным. — Но в таком случае, — сказал Христиан, — почему же теперь, когда вы только что думали об этом, вам было не по себе? — Ах, так уж устроен человек! Есть чувства, имеющие обратное действие: когда человеку приходится слышать о всяких безумствах, он становится немного безумным сам. Сегодня мне дважды довелось вспоминать истории подобного рода; все это, разумеется, фантазии или небылицы, но в них содержится высокий и таинственный смысл. — Как же это может быть, господин Гёфле? — Боже ты мой! Моему отцу, например, который был, так же как и я, адвокатом и доктором прав, случилось увидеть призрак человека, несправедливо приговоренного к смерти более десяти лет назад, который требовал признания прав своих разоренных детей и восстановления своего доброго имени. Дух этот явился ему у подножия виселицы, когда однажды он проходил мимо. Он пересмотрел дело, обнаружил, что призрак сказал ему все как было, и добился оправдания невиновного. Не приходится сомневаться, что призрак этот был иллюзией, но он взывал к совести моего отца. Откуда же шел этот зов? Из глубины могилы? Разумеется, нет, но, может быть, с небес — кто знает? — Так какой же вывод вы можете сделать, господин Гёфле, из этого ночного видения? — Ровно никакого, дорогой друг, но меня по временам не перестает тревожить мысль, что баронесса Хильда стала, может быть, жертвой, которую оклеветали, и что господь допустил — не то, чтобы мне явилась ее душа, но чтобы воспоминание о ней так поразило мой ум, что образ ее представился мне во плоти и я потом захотел доискаться истины. — Но в чем же обвиняли эту пресловутую баронессу? — В дерзкой лжи, целью которой было лишить барона Олауса законно принадлежавшего ему наследства. — Расскажите, пожалуйста, и эту историю, господин Гёфле! После того, как вы рассказали мне о привидении, меня стало разбирать любопытство. — Ну, конечно, расскажу, это нетрудно сделать. У барона Магнуса Вальдемора, которого у нас в стране называли великим ярлом — хотя «ярл» означает в то же время и «граф», потому что под ярлами разумеют вообще всех высокопоставленных дворян, — было два сына. Старший, Адельстан, был натурой живой, порывистой, пылкой; другой, Олаус, тот, которого сейчас называют Снеговиком, был юношей мягким, ласковым, прилежным. Оба, высокого роста, красивые и сильные, были гордостью отца. Старик владел значительным состоянием, что является редкостью в нашей стране, где редукция 1680 года так разорила нашу богатую знать. Майоратов у нас нет — сыновьям достаются равные доли наследства. Но состояние, о котором идет речь, было настолько велико, что, даже будучи разделено пополам, несомненно удовлетворило бы притязания обоих братьев, и если и существовал когда-нибудь наследник, начисто лишенный всякой зависти, то это был именно Олаус, спокойный и слегка насмешливый юноша, которому отец отдавал известное предпочтение и которого вообще любили больше, чем его старшего брата. Этот старший брат был человеком благородным, но немного резким в своей прямоте. В нем рано проявились предприимчивость, тяготение к путешествиям и новшествам. К тридцати годам он уже объездил всю Европу и вывез из Франции новые философские идеи, напугавшие старших в семье и даже его отца. Его захотели женить, он согласился, но в конце концов последовал влечению сердца и женился на молодой девушке, с которой познакомился во Франции, на красавице Хильде Бликсен, сироте, происходившей из благородной датской семьи, но у которой ничего не было, кроме ума, обаяния и добродетели. Вы скажете, что это уже много, и я полностью разделяю это мнение. Точно так же разделял его и старый барон Магнус, который сначала порицал этот брак по любви, а потом преисполнился к своей снохе нежностью и почтением. Иные утверждали, что Олауса их примирение огорчило и что он всячески старался поссорить отца с Адельстаном. Поговаривали также, что барон Магнус был человеком здоровым и крепким и его внезапная смерть показалась странной. Но все это случилось давно, и доказать тут ничего нельзя. Когда пришла пора делить наследство, между братьями произошла серьезная размолвка, и при одном из споров относительно раздела имущества, происходившем в присутствии моего отца, в ответ на довольно мягкое замечание Олауса, укорившего брата тем, что тот давно уже не жил с отцом и предпочел путешествовать вместо того, чтобы исполнять свой сыновний долг и заботиться о семье, у Адельстана вырвались следующие слова: «Отец никогда не знал, чего стоит твоя притворная любовь. По-настоящему он это понял, может быть, только сейчас, лежа в могиле!» Видя, как порывист Адельстан и как сдержан Олаус, отец мой во всеуслышание осудил ужасное подозрение, которое сорвалось с уст старшего брата. Тот больше не настаивал на нем, но непохоже, чтобы он от него отказался. Рассказывали, что он не раз говорил подобные вещи. Слова эти не подкреплялись никакими доказательствами, но они оказывали свое влияние, так как запоминались кое-кем из его ближайшего окружения. У барона Магнуса не было сбережений, которые помогли бы одному из братьев выкупить свою часть недвижимости. Поэтому возник вопрос о продаже земель и замка. Олаус отказался принять ту сумму денег, которую ему предлагал брат и которая, однако, была больше предложенной им самим, в случае если поместье было бы присуждено ему. По в конце концов он должен был согласиться — никаких покупателей не нашлось. Этот огромный замок, стоявший в отдаленной пустынной местности, не мог привлечь к себе людей нашего времени, тяготеющих к столице и к южным провинциям. Отец мой точно высчитал доходы и расходы поместья и на основании этого установил сумму ренты, которую тот, кто вступит во владение поместьем, обязан будет выплачивать другому брату, после чего оба согласились бросить жребий. Поместье досталось старшему. Олаус не выказал никакой досады. Однако, как говорили потом, он горько об этом жалел и жаловался своим доверенным лицам на несправедливость судьбы, которая выгоняла его, человека, привыкшего к деревенской жизни и досугу, ид владений его предков и отдавала это чудесное поместье в распоряжение непостоянного и беспокойного Адельстана. Всеми этими жалобами и излияниями чувств, равно как и щедротами, которыми он осыпал многочисленных слуг замка, он сколотил целую партию, которая вскоре сделала для старшего брата затруднительным ведение хозяйства и подрывала его авторитет. Мой отец, которому пришлось провести здесь несколько недель, чтобы закончить дела, обратил внимание на создавшееся положение вещей. Но он устал смотреть на это тягостное соперничество внутри семьи и, как видно, не сумел оценить честную и открытую натуру старшего брата. Отец, пожалуй, даже в большей степени прельстился ласковым обхождением и мнимым добродушием младшего и, никогда, правда, не поступаясь справедливостью, в отношении которой был суров и непреклонен, отдавал все же предпочтение Олаусу. После того как он напрасно пытался сделать замок резиденцией обоих братьев, отец уехал. Олаус, по-видимому, хотел, чтобы ему разрешили сохранить да собой право жить в Стольборге. Адельстан решительно Этому воспротивился. Как только Олаус уехал в Стокгольм, где он и должен был остаться, Адельстан привез в замок свою жену, которая, пока шли все эти споры из-за наследства, жила у своей подруги в Фалуне вместе с сыном, которому было несколько месяцев. Молодая чета поселилась в замке Вальдемора. Тогда-то и появилось множество подозрений и сплетен, и в конце концов была раскрыта тайна, которую молодые супруги никогда никому не доверяли. Баронесса Хильда, как говорят, была католичкой. Рассказывали, что, живя во Франции, она поддалась влиянию своей тетки и ее окружения, что она была так неосторожна, что стала изучать богословие, и заблуждение ее дошло до того, что, возгордившись своими знаниями, она отреклась от веры отцов, которая ей казалась чересчур новой. Говорили также, что ей показали мнимые чудеса и вынудили безрассудно дать какие-то обеты. На этот счет я вам ничего не могу сказать. Я не был знаком с баронессой, хотя вполне мог быть ей представлен, но подходящего случая так и не нашлось. Говорят, что это была женщина очень образованная и умная. Вполне возможно, что ум ее и совесть потребовали от нее перехода в другую веру, и что до меня, то, будучи философом, я готов ей это простить. На ее несчастье, общество ей Этого не простило. Здесь, в Швеции, люди очень привержены к государственной религии. Диссиденты[410] известны все наперечет, их порицают и даже преследуют, правда, не так жестоко, как в менее просвещенные времена, но достаточно для того, чтобы сделать их жизнь тягостной и горькой. Закон позволяет изгонять их из страны. Поэтому разразился страшный скандал, когда люди узнали, или решили, что знают, будто баронесса, не особенно усердно посещавшая приходскую церковь, воздвигла тайно в башне старого замка, где мы находимся с вами сейчас, часовню в честь девы Марии и будто, ввиду отсутствия католического священника, она отправляла все богослужения сама; крестьяне же говорили, что она попросту занимается колдовством. Но так как баронесса никого не пыталась обратить в свою веру и никогда о ней ничего не говорила, понемногу все успокоилось. Она осыпала многих благодеяниями, и изящество ее ума покорило немало предубежденных людей. Молодая чета жила в замке Вальдемора уже около трех лет, и у них был сын, которого они боготворили. Кротостью своей баронесса умела смягчить ту резкость в характере мужа, которая вызывалась его стремлением к независимости и любовью к правде; люди стали проникаться к ним симпатией и отдавать им должное. И слуги и соседи начали уже забывать Олауса, несмотря на частые и по большей части бесполезные письма, которые он посылал, чтобы доставить себе удовольствие подписаться: Несчастный изгнанник. Пастор Микельсон из приходской церкви, находящейся на расстоянии полумили отсюда, которую вы, наверно, видели, был более всех предан Олаусу. Олаус проявлял всегда большую набожность. У Адельстана были свои представления о религиозной терпимости, которые задевали пастора — лютеранина, склонного к фанатизму. Адельстан, например, решительно захотел изъять из употребления в церкви палку, которой причетник должен был будить заснувших во время проповеди прихожан. Вопрос этот был поставлен перед епископом, который постарался примирить обе стороны. Причетнику было разрешено щекотать ноздри спящих кончиком хлыста, но он должен был расстаться с палкой, которой привык их ударять. Пастор, однако, не мог простить барону Адельстану, а в особенности молодой баронессе, которая, как говорили, посмеивалась над далекарлийским благочестием, насаждаемым палочными ударами, этого посягательства на его власть. Он не переставал изводить молодого ярла и его жену и возбуждать против них крестьян, упорных в своей неприязни к чужой вере. Вместе с тем молодая чета старалась внедрить в свои владения начатки цивилизации. Барон строго преследовал за обман и безжалостно изгонял людей непорядочных. Он упразднил также наказание ремнем лакеев и унизительные повинности, доставшиеся крестьянам от далекого прошлого. Если далекарлиец и бывает обычно добр, то он отнюдь не стремится к просвещению. Многим крестьянам было трудно предпочесть уважение к человеческому достоинству, сменившее произвол. Как-то раз, в один поистине несчастный день, барон должен был поехать по делам в Стокгольм, и так как это был период осенних дождей, когда дороги становятся размытыми и по ним порою невозможно проехать, ему пришлось оставить жену в замке. Когда через две недели барон Адельстан возвращался домой, он был убит в Фалунском ущелье. Ехал он верхом и, сгорая от нетерпения поскорее увидеть любимую Хильду, опередил остальных своих спутников, которые в это время сидели за трапезой, показавшейся ему слишком долгой. Ему было тогда тридцать три года. Жена его овдовела двадцати четырех лет. Убийство это наделало много шуму и несказанно поразило всю округу. Несмотря на то, что наши далекарлийцы в некоторых местностях очень дики и что в этом горном крае еще очень распространена норвежская дуэль на ножах, предательское и тайное убийство здесь вещь едва ли не беспримерная. Никого из местных жителей не посмели в нем обвинить, да для этого и не было никаких оснований. Все поиски ни к чему не привели. Несколько рудокопов-чужеземцев внезапно исчезли из Фалуна. Поймать их не удалось. Барон Адельстан не подвергся ограблению. На свете был всего один человек, заинтересованный в его смерти. Иные называли шепотом имя барона Олауса, большая же часть с негодованием отвергала это подозрение, и мой отец первый. Можно было подумать, что смерть брата повергла барона Олауса в страшное отчаяние: он приехал сюда, плакал на глазах у всех и, может быть, даже слишком старался выразить невестке свое искреннее сочувствие. Всех это растрогало, кроме нее: она приняла деверя крайне холодно и несколько часов спустя попросила оставить ее одну с ее горем, где не может быть никакого утешения. Барон уехал, к большому огорчению слуг, которых он успел щедро одарить. В тот же вечер у маленького Гаральда, сына баронессы, начались судороги, и ночью он умер. Окончательно сраженная этим последним ударом судьбы, несчастная мать позабыла всякое благоразумие и во всеуслышание стала обвинять Олауса в том, что он отравил ее сына, а перед этим убил мужа, чтобы завладеть всем состоянием. Крики ее слышали только стены, и на них не откликнулось ни одно эхо. Ни один врач не стал устанавливать причину смерти ребенка. Ни один слуга не захотел давать никаких показаний против барона Олауса. Пастор Микельсон, который сам лечил своих прихожан, объявил, что Гаральд умер так, как умирают иногда маленькие дети в ту пору, когда у них прорезаются зубы, и что несчастная баронесса несправедлива и, весьма вероятно, сошла с ума. Барон Олаус не успел еще уехать далеко, когда его настигла весть о случившемся. Он тут же вернулся и притворился, что искренне разделяет горе баронессы. Та разразилась громкими проклятиями, на которые он ответил только улыбками, полными безграничной скорби. Все жалели вдову, мать, безумную! Никто не обвинял великодушного, терпеливого, добросердечного Олауса. Может быть, его даже жалели больше, чем ее, — ведь ему приходилось теперь сносить оскорбительные подозрения баронессы. Можно ли сомневаться, что им восхищались, видя, что, вместо того чтобы раздражаться, он жалел ее и с нежностью в голосе предлагал Хильде сохранить за собою ее апартаменты в замке и жить с ним, как сестра с братом? Я глубоко убежден, что барон большой притворщик и что племянника своего он нисколько не жалел, но я далек от мысли, что он чудовище, и я никогда не считал его способным отважиться на подобное злодеяние. Баронесса была слишком потрясена и возбуждена, чтобы смотреть на все хладнокровно. Она обвинила его в убийстве отца, брата и племянника, а потом вдруг приняла странное решение, которое представляется мне актом мести и отчаяния или результатом какого-то наваждения. Она созвала местных судей и должностных лиц округи и в присутствии всех домашних объявила, что беременна и что требует утверждения в правах ее будущего ребенка, которого ей будет положено опекать. Сказано все это было с большой убежденностью, и она добавила, что решила поехать в Стокгольм, для того чтобы там подтвердили это обстоятельство и признали, что до рождения ребенка все права принадлежат ей. «Вы совершенно напрасно утруждаете себя и подвергаете опасностям путешествия, — ответил барон Олаус, с невозмутимым спокойствием выслушавший ее признание. — Мне слишком радостна надежда увидеть возрожденным к жизни потомство моего любимого брата, чтобы я мог еще о чем-нибудь спорить с вами. Я вижу, что присутствие мое вас не только тревожит, но и раздражает. Пусть же никто не говорит, что я своей волей усугубил помутнение вашего разума. Я уезжаю и вернусь сюда только после рождения вашего ребенка, если только все, что вы нам сказали, соответствует истине». Олаус действительно уехал, заявив, что совершенно не верит всем этим разговорам о беременности, но что отнюдь не торопится вступить во владение наследством. «Если это необходимо для установления истины, то я свободно могу подождать еще год, чтобы были соблюдены все правила приличия и чтобы невестка моя имела время прийти в себя», — добавил он. Все это он рассказал в Стокгольме, куда тотчас же вернулся, моему отцу, и я помню, что отец еще упрекал его в излишней доверчивости и деликатности. Он был уверен, что всю эту историю с беременностью баронесса Хильда придумала. Ведь это не первый случай, когда вдова ссылается на несуществующее дитя, чтобы лишить прав законного наследника. Барон очень мягко на это ответил: «Довольно! Я устал от отвратительных поклепов, которые эта женщина в своем отчаянии хочет на меня возвести. Лучшим опровержением их будет полнейшая незаинтересованность, которую я теперь выкажу, и даже, для того чтобы ненависть ее не преследовала меня и здесь, самое лучшее для меня, до того как все переменится, это уехать путешествовать». Вскоре барон Олаус уехал в Россию, где был очень любезно принят царицей и где было положено начало всем интригам, которые потом сделали его одним из самых упорных и опасных представителей партии «колпаков». Утверждают, что он удивительным образом перевоспитал себя при этом дворе и что, когда он вернулся оттуда, характер его, склад ума, манеры и даже взгляды настолько переменились, что он стал совершенно другим человеком: теперь он был неизменно спокоен и всегда улыбался, но это была Зловещая улыбка, спокойствие его наводило ужас; он был все еще мягок и ласков со стоявшими ниже, но в этой мягкости ощущалось презрение, а лаская человека, он выпускал когти; словом, он был уже таким, каким мы видим его теперь, если не считать, что годы и болезнь сделали еще более мрачными черты этого загадочного существа, то ли законченного подлеца, то ли жертвы странного сочетания злых начал. После того как он прошел эту школу безбожия и преступления, которую царица так хорошо использовала в своих интересах и о которой наш добродетельный барон вскоре стал говорить с неким самодовольным удивлением, его прозвали Снеговиком, желая сказать этим, что в России он заморозил себе сердце или что он приехал сюда, чтобы оттаять в общественном мнении под солнцем своей страны, более ярким и горячим. Мертвенная бледность, вскоре покрывшая его лицо, рано поседевшие волосы, скованность в движениях и распухшие холодные руки словно еще больше оправдывали это прозвище. Но не надо, однако, опережать события. Происшедшая в бароне перемена, которая, может быть, была не чем иным, как усталостью от борьбы с несправедливой подозрительностью людей, сделалась особенно заметной только после смерти или исчезновения всех тех, кто был ему помехой. Считают, что одним из его первых шагов на пути хитрости и обмана было распространение в Швеции слуха о том, что он смертельно болен. Слух этот, как говорят, был лишен всяких оснований, и впоследствии уже, задумавшись над тем, почему ему вдруг пришла в голову фантазия прослыть умирающим в Петербурге, враги его не находили никакого другого объяснения, кроме одного: он хотел, чтобы баронесса Хильда не боялась его и чтобы она не ехала рожать в Стокгольм. К несчастью (я все время говорю сейчас от имени врагов Олауса), баронесса попалась в расставленную ловушку: она провела лето в замке Вальдемора, и когда она уже была на сносях и ехать никуда не могла, ибо все страдания до крайности ее изнурили, барон Олаус появился неожиданно в окрестностях замка, здоровый и бодрый. Вот, Христиан, то, что я могу рассказать, как бы подытоживая все, что известно об этом деле. Остальное — тайна, и нам надо будет предположить или угадать истину в ожидании доказательств, если таковые вообще существуют и если они когда-нибудь будут найдены. Узнав, что Олаус находится в доме пастора Микельсона, баронесса пришла в такой ужас, что решила запереться в старом замке, занимавшем тогда сравнительно небольшое пространство (новый горд еще не был построен), охрану которого можно было обеспечить небольшим числом верных слуг. Во главе их стоял управляющий Адам Стенсон, успевший состариться на службе в замке, и преданная баронессе служанка, имени которой я не запомнил. Что же произошло потом? Говорят, что барон подкупил всех сторожей Стольборга, в том числе и преданную служанку и даже неподкупного Стенсона, но я дам руку на отсечение, чтобы поручиться за Стенсона, и то, что между этим достойным человеком и бароном продолжают сохраняться хорошие отношения, для меня почти неопровержимое доказательство его, барона, невиновности. Просочившиеся в народ слухи двояки. По одной версии, барон заточил свою невестку в Стольборге и сделал ее такой несчастной, что она умерла там от нужды и от горя. По другой — она сошла с ума, у нее бывали припадки одержимости, и она умерла в состоянии исступления, проклиная Евангелие и призывая царство Сатаны. Во всем этом одно только очевидно: никакой беременности не было вообще, а спустя десять месяцев после смерти мужа «после тяжелого физического недуга и умственного расстройства, длившихся месяца три, баронесса умерла в конце 1746 года и перед смертью призналась, скрепив это признание своей подписью, в присутствии пастора Микельсона и барона, что беременна она не была и что ей просто захотелось придумать себе ребенка, мальчика, чтобы в ее руках остались все богатства ее покойного мужа и чтобы она могла удовлетворить свою ненависть к барону Олаусу. Существует и еще одна версия, которую мне неприятно даже пересказывать, — что баронесса умерла от голода в этой башне, но Стенсон всегда решительно это опровергал. Как бы то ни было, последние дни и часы жизни Хильды окутаны мраком. Ее родные давно уже умерли, родные же ее мужа, напуганные слухами о ее религиозных взглядах, успевшими уже распространиться, не пришли ей на помощь и закрыли на все глаза. Они всегда отдавали предпочтение покладистому Олаусу, льстившему их предрассудкам, перед гордым Адельстаном, поведение которого их не раз задевало. Говорят, что история эта дошла до самого короля и что он захотел в ней разобраться. Однако сенат, где у Олауса были могущественные друзья, попросил короля заняться собственными делами, иначе говоря — ни во что не вмешиваться. Отец мой был очень болен, когда барон Олаус на свой лад рассказал ему о смерти своей невестки. В первый раз отец выразил удивление и стал даже корить барона. Он упрекнул его в том, что тот дал повод для подозрений, сказал, что в случае, если он будет обвинен, его нелегко будет защитить. Барон показал ему документ, подписанный пастором Микельсоном, где тот как врач и как священник свидетельствует, что беременность баронессы была ложной и что умерла она от болезни, которую он весьма точно установил и тщательно лечил по свидетельству всех приглашенных в дальнейшем врачей. Сверх того, он предъявил подписанное баронессой показание, где та утверждает, что обманулась касательно своего состояния. Отец внимательно исследовал этот документ, дал его на рассмотрение другим знатокам почерков и нашел этот документ неоспоримым. Помнится только, он упрекал барона, что тот не вызвал в Стольборг десяток врачей вместо одного, для того чтобы окончательно снять с себя все подозрения. Но вместе с тем он никогда не подозревал барона ни в преступлении, ни в обмане и вскоре умер в убеждении, что тот ни в чем не виновен. Поднялся ропот против барона, которого начали уже ненавидеть, но он вскоре заставил людей бояться себя, и так как не было никого, кто был бы заинтересован в том, чтобы отомстить за жертвы, не нашлось ни одного великодушного человека, у кого хватило бы смелости взяться за это дело. Что до меня, то хоть я и был тогда еще очень молодым юристом, я бы решился на это и готов был бы поднять дело даже сейчас, если бы только у меня были определенные подозрения, но естественно, что я находился тогда под влиянием отца, убежденного, что Олауса нельзя ни в чем упрекнуть, разве только в неблагоразумии по отношению к самому себе. К тому же, именно тогда отец и умер, и нет ничего удивительного, что мое глубокое горе отвратило меня от всех остальных помыслов. Клиентура барона досталась мне по наследству, и, как я вам уже сказал, невзирая на растущую антипатию, которую внушали мне его политическая деятельность и поведение, я тем не менее до настоящего времени не мог найти ни единого доказательства преступлений, в которых его обвиняли, ни даже сколько-нибудь серьезных оснований их заподозрить. Среди зависимых от него людей возниклопротиводействие ему, которого можно было ожидать. Как только миновала нужда в их поддержке, он перестал их обхаживать. Что же касается слуг, — а вступив во владение замком, он их сменил, и там все теперь новые, из чужих краев, — то он платит им сейчас столько, что может быть уверен в их слепом повиновении и полнейшей скромности. Стенсон — единственный из всех прежних служащих замка, кого он оставил при себе; долгое время он держал его в должности управителя, но в конце концов, когда тот достиг преклонного возраста и ушел на покой, барон назначил старику хорошую пенсию и продолжал оказывать ему различные знаки внимания и даже проявлять заботу о его повседневных нуждах. Это наводит на мысль, что Стенсон был его сообщником, но как раз на этот счет, Христиан, у меня нет никаких сомнений, и совесть моя спокойна: Стенсон — святой человек, образец всех христианских добродетелей.
VIII
Христиан внимательно выслушал рассказ адвоката. — Здесь много неясного, — сказал он после минутного раздумья. — Мне жаль несчастную баронессу Хильду, и из всех участников этой драмы она интересует меня больше всего. Кто знает, не умерла ли она от голода в этой страшной комнате, как утверждают некоторые? — Нет, этого не может быть! — воскликнул Гёфле. — Мне внушали эту мысль столько раз, что она и самому мне не давала покоя. Но Стенсон, который никогда бы этого не мог допустить, дал честное слово, что он непрестанно заботился о баронессе и ухаживал за нею до самых последних минут ее жизни. Она действительно умерла от истощения, но организм ее не мог уже принимать никакой пищи; барон же ничего не жалел, чтобы удовлетворить все ее желания. — Да, и на самом-то деле, — сказал Христиан, — если он так хитер, как следует из вашего рассказа, то он не стал бы совершать бесполезное убийство. Ему достаточно было бы, чтобы эта несчастная женщина умерла от страха или от горя. Но есть еще одна версия, господин Гёфле, моя собственная! — Какая же? — То, что она, быть может, жива. — Вот это уж никак невозможно! Но вместе с тем… Никто никогда не знал, где ее похоронили. — Ну вот видите! — Пастор отказался хоронить ее на приходском кладбище. Католического кладбища здесь нет, и ее предали земле, по всей вероятности, ночью в садике Стенсона или еще где-нибудь. — Как, Стенсон никогда не говорил вам где? — Стенсон не хочет, чтобы его об этом расспрашивали. Воспоминание о баронессе ему одновременно и дорого и страшно. Он искренне ее любил, ревностно служил ей, но каковы бы ни были религиозные верования этой дамы, он на этот счет ничего не говорит, и всякие расспросы о них вызывают в нем раздражение и испуг. — Допустим, но что же он все-таки говорит о бароне? — Ничего. — Это, может быть, уже само по себе много значит. — Да, может быть, по ведь нельзя же на основании этого молчания обвинять человека в убийстве. — Раз вы так уверены, господин Гёфле, то не будем больше говорить об этом. Какое это имеет для нас значение? Что прошло, то прошло. Только вы говорили, что явившееся вам привидение вселило в вас странные сомнения… — А что вы думаете! Стремление доискаться до истины там, где надо и не надо, — это профессиональный недуг, с которым мне всегда приходилось бороться. У нас хватает хлопот с трудными делами, которые нам поручают вести, чтобы мы ломали себе еще голову над теми, которые нас не касаются. Наверное, оттого, что я несколько дней пребываю в праздности, мозг мой находит себе работу помимо меня, вот я и пустился искать во мраке прошлого давно забытую всеми баронессу Хильду… — Тем более, — сказал Христиан, — что женщина, явившаяся вам, может быть, вовсе не сон, а вполне реальное существо, одетое точь-в-точь как та, другая, на портрете. — Хорошо, если так, но те, что проходят сквозь стены, не кто иные, как малоприятные обитатели потустороннего мира. — Погодите, господин Гёфле, вы ведь не сказали мне, в какой стороне комнаты исчезло привидение, прихода которого вы не заметили. — Чтобы сказать, надо знать. Мне показалось, что именно в той стороне, откуда оно появилось.. — Через лестницу? — Нет, пожалуй, ниже. — Тогда, значит, через потайную дверь? — А разве есть потайная дверь? — Так вы об этом не знали? — Право же, нет. — Ну так посмотрите. Христиан взял светильник и повел за собою Гёфле, но дверь оказалась запертой снаружи. Она была так плотно пригнана к деревянной резьбе, что ее совершенно невозможно было отличить от других панелей, обрамленных рельефным орнаментом, и такая толстая, что при выстукивании ее слышался тот же тупой звук, что и в любом другом месте дубовой обшивки. К тому же сзади она была задвинута тяжелым засовом, который накануне Христиан нашел отпертым и так оставил и который потом заперла, очевидно, та же рука, что замкнула другую дверь, на нижней площадке потайной лестницы. Христиан сообщил об этом обстоятельстве господину Гёфле, которому оставалось только поверить на слово, ибо пойти и убедиться, что это так, он все равно не мог. — Поверьте мне, господин Гёфле, — сказал Христиан, — либо сюда приходила вчера старая служанка Стенсона, чтобы убрать комнату, не зная, что здесь живут, либо баронесса Хильда томится в заточении где-нибудь у нас под ногами или над головой, не знаю уж где, в этой замурованной комнате, из которой есть, может быть, потайной выход сюда. Кстати, об этой замурованной двери — вы ведь мне не сказали, ни куда она ведет, ни почему ее вдруг заделали, а мне это представляется обстоятельством довольно любопытным. — Объясняется это очень просто, и Стенсон мне все рассказал. Комната, расположенная над этой, очень давно уже была совершенно заброшена. Когда баронесса Хильда укрылась в Стольборге, она велела замуровать эту дверь, так как оттуда проникали ветер и стужа. После ее смерти Стенсон открыл ее снова, чтобы заделать все трещины во втором этаже здания. Но для того чтобы сделать это помещение годным для жилья, надо было потратить больше, чем оно стоило, и люди не хотели жить там, где до них была католическая часовня, ибо считали это место проклятым; поэтому Стенсон, то ли из экономии, то ли для того, чтобы забылись все эти суеверные страхи, наглухо замуровал, и, как говорят, своими собственными руками и с позволения барона, этот ход, теперь уже никому не нужный. — Но все-таки, господин Гёфле, вы же видели, что это мнимое привидение вышло из-под карты Швеции, которая прикрывает каменную кладку. — Да, но ведь это же все мне привиделось! Загляните-ка туда, Христиан, и если вы найдете там дверь, которую можно открыть, вы окажетесь половчее меня. Неужели же вы думаете, что я не заглянул туда, как только мой сон рассеялся? — Ну, конечно, — ответил Христиан, который успел уже подняться по лестнице, заглянуть под карту Швеции и несколько раз постучать по прикрытой ею стене, — здесь ничего нет, кроме стены, такой же толстой, как и в других местах, если судить по этому глухому звуку. И даже слой Этой красноватой краски очень искусно нанесен заподлицо и нигде не потерт по краям; но заметили ли вы, господин Гёфле, как гипсовая облицовка в середине поцарапана? — Заметил и решил, что это, должно быть, крыса. — И любопытным же существом должна быть эта крыса! Посмотрите-ка, до чего правильно начерчены на степе все эти кружочки. — И в самом деле, но только что же это может означать? — Всякое следствие имеет причину, а именно эту-то причину я и ищу. Вы ведь мне, кажется, говорили, что среди всех прочих звуков, которые вы слышали, у вас было ощущение, будто кто-то скребется? — Да, как будто стену чем-то скоблили. — Так знаете, что это, по-моему, такое? Это следы работы слабой или неумелой руки, которая хотела продолбить стену, чтобы посмотреть, что за ней. — Тогда, очевидно, у нее был только гвоздь или еще более невинный инструмент, потому что она отковыряла гипс на глубину не больше двух линий. — И того меньше, но вместе с тем она ковыряла его в нескольких местах, и притом упорно. — Скорее всего это пометки Стенсона: ему, наверно, надо было запечатлеть какое-то воспоминание, а записывать его он не захотел. Вы-то ведь умеете расшифровывать любые письмена, не правда ли? — Я достаточно знаю их, чтобы утверждать, что это вовсе не надпись и ни о каком из известных мне языков здесь не может быть и речи. Я продолжаю стоять на своем: это попытка продолбить стену. Взгляните, всюду какие-то маленькие углубления, сделанные тупым инструментом, и вокруг каждой лунки с содранными краями — довольно четкий светлый кружок, как будто все это делалось ножницами, одна из половинок которых была сломана и служила точкой опоры, словно ножка циркуля. — Как вы догадливы… — Да, в данную минуту я догадлив, потому что вот тут, на последней ступеньке лестницы, кучка совсем свежей белой пыли. — Ну и что же? — А то, что женщина, о которой я говорил, кем бы она ни была, знаменитой ли пленницей или старухой служанкой, которая бродит тут во всякое время, явилась сегодня ночью, чтобы попытаться, и не в первый раз, а по меньшей мере в двадцатый, увидеть то, что скрыто за этой стеной. Или нет… стойте, скорее вот что! Она знает, что есть какая-то тайна, какой-то недоступный ей способ открыть недоступную дверь, и она ищет, она нащупывает, она роет, словом — она трудится, и если мы выследим ее сегодня ночью, загадка будет разрешена. — Черт возьми! Вот это план! И я с тем большей охотой готов его осуществить, что он избавляет меня от большого беспокойства. Я перестану быть духовидцем, я услышу и увижу живое существо! Мне это больше по душе, хоть и немного стыдно сейчас, что я мог в этом усомниться. Не беда, Христиан, я хочу, чтобы у меня не было никаких сомнений. Я не верю в существование узницы, потому что в таком случае должны существовать и тюрьма и тюремщик. А комната эта, когда вы сюда вошли, была открыта с двух сторон; что же касается тюремщика, то им должен бы оказаться честный и преданный Стенсон. — Но при всем том баронесса перенесла здесь суровое Заточение, а ведь честный Стенсон был здесь. — Нет никаких доказательств тому, что она была в заточении, а если даже это и так, то Стенсон вряд ли был тогда хозяином Стольборга. Теперь же он здесь всем распоряжается один, вы ведь понимаете, что Ульфила нельзя принимать в расчет… — Можете говорить все, что вам угодно, господин Гёфле, но здесь есть тайна, и какова бы она ни была, серьезная она или пустяковая, я хочу ее разгадать. Но боже ты мой, о чем же я думаю — время идет, Пуффо и след простыл, а я тут занялся сочинением романа и совсем позабыл о том, который должен представлять на сцене! Этого-то я и боялся, господин Гёфле, что, усевшись с вами за еду, я заговорюсь и забуду про свою работу! — Полно, полно, мой мальчик, готовьтесь, я ведь обещал вам помочь. — Вы-то уж никак не можете мне помочь, господин Гёфле; мне нужен мой подручный, бегу его разыскивать. — Так идите же, а я тем временем отправлюсь к Стенсону: мне все еще недосуг было его повидать, да он, может быть, и не знает, что я здесь. Он сюда никогда не Заходит… — Прошу прощения, господин Гёфле, заходит, он только что здесь был. Я видел его, когда вы уходили… И, знаете что, я совсем забыл рассказать вам одну вещь: он принял, должно быть, меня за дьявола или за привидение, очень испугался и убежал отсюда, спотыкаясь и бормоча всякий вздор. — Что вы! Неужели он такой трус! Но я не чувствую себя вправе смеяться над ним, я-то ведь сам был уверен, что видел даму в сером! Только не мог ведь он вас принять за нее! — Не знаю уж, за кого он меня принял; может быть, за тень графа Адельстана? — Э… вполне возможно. Поглядите-ка на его портрет, что висит напротив портрета жены. И рост и телосложение совсем как у вас, Только в том одеянии, которое на вас сейчас… — Тогда его еще не было. На мне был ваш черный кафтан. — А что это вы делаете сейчас? Хотите замаскироваться? — Нет, просто надеваю маску на тот случай, если мне придется искать моего слугу в новом замке. — Ну-ка, покажите мне вашу маску. Она вас, должно быть, очень стесняет? — Нисколько! Маску эту я сам придумал, она легкая и гибкая, вся из шелка, надевается прямо на голову, как колпак, и я могу, когда надо, поднимать ее и опускать. Когда она поднята и спрятана под шапкой, она по крайней пере скрывает мои волосы, а они ведь очень густые и привлекают к себе внимание. Когда же она опущена, а при вашем климате это бывает даже очень приятно, она никак не может упасть, и мне не приходится без конца завязывать и развязывать ленту, которая легко может оборваться или затянуться узлом. Удачное изобретение, не правда ли? — Превосходное! Ну а как с голосом, можете вы сделать так, чтобы его не узнали? — Это моя профессия и мой талант; вы хорошо это знаете, вы же видели одну из моих шутливых пьес. — Это верно, я готов был поклясться, что там было не меньше двенадцати человек. Вот что, хочу послушать вас вечером. Я сяду где-нибудь среди публики, но только я не хочу знать пьесу наперед. До свидания, мой мальчик! Пойду, постараюсь извлечь из старика Стенсона кое-какие разъяснения насчет того, что приключилось со мною ночью. Но откуда эта ветка кипариса? Вы что, хотите украсить ею портрет дамы в сером? — И об этом я вам забыл рассказать, ее сюда принес господин Стенсон. Не знаю только, что он собирался с ней делать; он кинул мне ее под ноги, и, хотел он этого или нет, я решил поднести ее несчастной баронессе Хильде. — Не сомневайтесь, Христиан, старик, видно, это и сам хотел сделать. Это ведь завтра или сегодня… Погодите-ка, меня хорошая память на даты… Боже ты мой, да ведь как раз сегодня годовщина смерти баронессы! Вот вам и объяснение, почему Стен решил сегодня прийти сюда помолиться. — Раз так, — сказал Христиан, раскручивая полоску пергамента, которой была обвита ветка и которую Гёфле принял за ленту, — попробуйте истолковать стихи из Библии, которые здесь написаны. А мне некогда, и я ухожу. — Постойте, — остановил его Гёфле, надевший уже очки, чтобы прочесть написанное на пергаменте, — если вы будете в новом замке и найдете там господина Нильса, который не изволил объявиться перед завтраком, сделайте одолжение, возьмите его за ухо и приведите сюда. Хорошо? Христиан дал слово привести его живого или мертвого, но ему не пришлось далеко идти, чтобы разыскать и лакея Гёфле и своего. Войдя в конюшню, куда он надумал заглянуть перед тем как выйти из дворика, он обнаружил Пуффо и Нильса, которые храпели, лежа бок о бок, оба совершенно пьяные. Ульфил, который был покрепче, расхаживал взад и вперед по дворам, довольный тем, что к наступлению темноты он теперь не один, и время от времени ласково поглядывал на своих товарищей по пирушке. Христиан быстро сообразил, что произошло. Нильса, знавшего и шведский и далекарлийский, двое пьяниц использовали как переводчика; дружбу свою они скрепили в погребке. Несчастного мальчишку-лакея не надо было долго искушать для того, чтобы он позабыл своего господина, если только вообще память о нем беспокоила его до той минуты, когда, улегшись на сухом мху, который в этой стране служит подстилкой, с раскрасневшимися щеками и еще более красным носом, он позабыл, равно как и Пуффо, все заботы этого низменного света. — Послушайте, — сказал Гёфле, обращаясь к Христиану, который встретился ему во дворе и показал эту трогательную картину, — как только этот плут придет в себя, я бы хотел, чтобы меня освободили от службы при нем. — Но я-то, господин Гёфле, не могу ведь обойтись без Этой скотины Пуффо, — ответил Христиан весьма озабоченно. — Напрасно я его тряс, он как мертвый, и я уже Знаю — это часов на десять, на двенадцать! — Ну ничего! — ответил занятый своими мыслями Гёфле, — идите выбирайте скорей вашу пьесу и не волнуйтесь. Такой умный человек, как вы, всегда сумеет найти выход из положения. И, предоставив Христиану выпутываться самому, он направился своими короткими шагами к флигелю, расположенному в горде, где жил Стенсон. Три стиха из Библии де давали ему покоя. Во флигеле было нижнее помещение, род вестибюля, где Ульфил, боявшийся оставаться один, больше любил спать, чем в своей собственной комнате, под тем предлогом, что дяде его, как человеку очень старому, во всякую минуту могла понадобиться его помощь. Ульф только что вошел в эту комнату, но теперь, повалившись на кровать, уже храпел. Гёфле собирался было подняться во второй этаж, как вдруг до него долетели какие-то слова. Он услышал спор, который два человека вели между собой на итальянском языке. Один из этих голосов звучал так, как будто говоривший плохо себя слышал. То был голос Стенсона. По-итальянски он говорил довольно свободно, хоть и с неприятным акцентом и множеством ошибок. Другой голос, отчетливый, говорил на чистом и звучном итальянском языке с сильно вибрирующим произношением, и казалось, что старик хорошо его слышал, несмотря на свою глухоту. Гёфле поразило, что старый Стенсон понимал по-итальянски и худо ли, хорошо ли, но мог изъясняться на этом языке; адвокату и в голову не могло прийти, что ему когда-либо случалось говорить на нем. Разговор этот происходил в кабинете Стенсона, рядом с его спальней. Дверь на лестницу была закрыта, но, поднявшись на несколько ступенек, Гёфле мог расслышать отрывок диалога, который сводился примерно к следующему: — Нет, — это были слова Стенсона, — вы ошибаетесь. Барону будет совершенно неинтересно об этом узнать. — Очень может быть, господин управляющий, — отвечал незнакомец, — по мне ничего не стоит в этом удостовериться. — Так, значит, вы продадите эту тайну тому, кто вам больше заплатит? — Может быть. А что вы мне предлагаете? — Ничего! Я беден, потому что всегда был честен и бескорыстен; здесь нет ничего принадлежащего мне. У меня есть только жизнь, возьмите ее, если она вам нужна. При этих словах, которыми старый Стен, казалось, отдавал себя в руки бандита, Гёфле перепрыгнул через две ступеньки, чтобы поспешить к нему на помощь, но в это время итальянец совершенно спокойно ответил: — Что же мне, по-вашему, с ней делать, господин Стенсон? Выслушайте меня спокойно; вы можете выйти из этого затруднительного положения, достав ваши старые талеры из старого тайника, в каких обычно держат деньги все старые люди. — У вас будет чем заплатить Манассе за его молчание. — Манассе был человеком честным. Эта сумма… — Предназначалась, думается, не ему, но он распорядился ею иначе, он всякий раз оставлял ее себе. — Вы на него клевещете! — Как бы там ни было, Манассе умер, а другой. — Другой тоже умер, я это знаю. — Вы знаете? Откуда? — Я не обязан вам это говорить. Он умер, я в этом уверен, и вы можете говорить барону все, что вам заблагорассудится, Я вас не боюсь. Прощайте. Мне недолго осталось жить, дайте мне подумать о спасении души, это теперь моя единственная забота. Прощайте. Говорю вам, оставьте меня в покое, денег у меня нет. — Это ваше последнее слово? Вы знаете, что через час я предоставлю свои услуги барону? — Мне это все равно. — Вы же должны понимать, что я приехал издалека не для того, чтобы получить в уплату ваши ответы. — Делайте все, что хотите. Гёфле услышал, как открылась дверь, и решительно направился навстречу выходившему. Он столкнулся лицом к лицу с человеком лет тридцати с довольно красивым, но каким-то зловеще бледным лицом. Адвокат и итальянец, поравнявшись на узенькой лестнице, посмотрели друг другу в глаза. Открытый, строгий и испытующий взгляд адвоката встретился с подозрительным, брошенным украдкою исподлобья, взглядом незнакомца, который почтительно поздоровался с ним и спустился вниз, тогда как адвокат поднялся на верхнюю площадку; тут оба они обернулись, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, и адвокат обнаружил что-то дьявольское в этом мертвенно-бледном лице, освещенном висящей у внутренней двери вестибюля маленькой лампой. Войдя к Стенсону, Гёфле увидел, что старик сидит, обхватив руками голову, неподвижный как статуя. Адвокат должен был коснуться его плеча, чтобы дать знать о своем появлении. Стенсон был настолько во власти своих мыслей, что посмотрел на него совершенно отсутствующим взглядом, и понадобилось некоторое время, пока он узнал вошедшего и собрался с мыслями. Наконец он как будто пришел в себя и, сделав над собою большое усилие, поднялся и приветствовал Гёфле с присущей ему вежливостью, стал расспрашивать о его жизни и собирался уступить ему кресло, на котором сидел, от чего тот отказался. Пожимая руку старика, Гёфле почувствовал, что она теплая и влажная, то ли от пота, то ли от слез, и это его взволновало. Он очень уважал и любил Стена и привык выказывать ему почтение, которого тот заслуживал своим возрастом и положением. Он понимал, что старик только что пережил большое потрясение и что он перенес его с достоинством. Но что же Это была за тайна, которую незнакомец подозрительного вида и наглый в своих речах занес как дамоклов меч над его головой? Стенсон меж тем вернулся в свое обычное состояние: он стал серьезным, несколько холодным и церемонным. Никогда и ни с кем человек этот не был способен на излияния чувств. То ли это была гордость, то ли робость, но он был одинаково сдержан с людьми, которых знал тридцать лет, и с теми, кого видел в первый раз, и, помня его привычку отвечать односложными словами как на самые важные, так и на самые незначительные вопросы, Гёфле был просто поражен, услыхав те несколько вполне связных фраз, которые только что были сказаны незнакомцу. — А я и не знал, что вы у нас в замке Вальдемора, господин адвокат, — сказал старик, — вы приехали по поводу процесса? — Да, по поводу процесса барона с его соседом Эльфдаленом, который предъявляет свои права, и, может быть, обоснованно. Я посоветовал барону не судиться с ним. Вы меня слышите, господин Стенсон? — Да, сударь, отлично. Поскольку из чрезмерной вежливости старик всегда имел обыкновение отвечать только так, расслышал он или не расслышал, Гёфле, собиравшийся поговорить с ним, наклонился над самым его ухом и старался как можно более ясно выговаривать каждый слог. Вскоре он, однако, убедился, что по сравнению с прежними годами необходимости в этом было меньше. Стенсон за эти годы не только не сделался еще более туг на ухо, но, напротив, он стал слышать гораздо лучше. Гёфле сделал ему по этому поводу комплимент. Стенсон покачал головой и сказал: — Когда как, очень по-разному. Сегодня вот я все хорошо слышу. — Не правда ли, это бывает, когда вы чем-нибудь взволнованы? — спросил Гёфле. Стенсон изумленно посмотрел на адвоката и, с минуту подумав, произнес слова, которые, однако, нельзя было назвать ответом: — Я нервный, очень нервный! — Позвольте вас спросить, — продолжил Гёфле, — кто этот человек, которого я встретил, выходя отсюда? — Я его не знаю. — Вы не спросили, как его зовут? — Это итальянец. — Я спрашиваю, как его зовут. — Он назвал себя Джулио. — Он что, собирается поступать на службу к барону? — Возможно. — Неприятная физиономия… — Вы находите? — Впрочем, она будет не единственной среди тех, что окружают барона… Стенсон промолчал, и на лице его ничего не отразилось. Нелегко было завязать такой деликатный и задушевный разговор с человеком, который всем своим церемонным обращением как бы твердил вам: «Говорите о том, что вас интересует, а не о том, что касается меня». Однако бес любопытства подстегивал Гёфле, и он не отстал. — Этот итальянец говорил с вами не очень-то вежливо, — сказал он вдруг. — Вы так думаете? — равнодушно ответил старик. — Я слышал, когда поднимался к вам по лестнице. По лицу Стенсона пробежало волнение, но он не выказал его никаким тревожным вопросом относительно того, что Гёфле мог услышать. — Он вам угрожал? — добавил адвокат. — Чем? — сказал Стенсон, пожимая плечами. — Я ведь так стар… — Он угрожал, что расскажет барону то, что вам так важно было держать от него в тайне. Стенсон продолжал сохранять спокойствие, как будто ничего не расслышал. Гёфле не унимался: — А кто этот Манассе, который умер? Снова последовало молчание; непроницаемые глаза Стенсона, устремленные на Гёфле, казалось, говорили: «Если вы знаете, то зачем же спрашиваете?» — А этот другой? — продолжал адвокат. — О каком это другом он говорил? — Вы подслушивали, господин Гёфле? — в свою очередь спросил старик весьма почтительным тоном, в котором, однако, ясно слышалось осуждение. Адвокат смешался, но сознание своей конечной правоты его успокоило. — Неужели вас удивляет, господин Стенсон, что, пораженный угрожающими нотками в незнакомом мне голосе, я подошел поближе для того, чтобы кинуться вам на помощь в случае необходимости? Стенсон протянул Гёфле свою морщинистую руку, которая снова стала холодной. — Спасибо, — сказал он. Потом он еще несколько мгновений шевелил губами, как человек, не особенно привыкший говорить, которому хочется излить свои чувства. Но он так долго не мог ничего сказать, что Гёфле, чтобы немного его приободрить, спросил: — Дорогой господин Стенсон, у вас есть тайна, которая вам не дает покоя, и из-за нее вам грозит большая опасность? Стенсон только вздохнул и лаконически ответил: — Я честный человек, господин Гёфле! — И все-таки, — порывисто сказал адвокат, — ваша благочестивая и робкая совесть в чем-то вас упрекает! — В чем-то? — переспросил Стенсон предупредительно и мягко, как будто он хотел сказать: «Я жду, что вы мне об этом расскажете». — Во всяком случае, вам приходится опасаться какой-то мести барона? — проговорил адвокат. — Нет, — возразил Стенсон с внезапной силою в голосе. — Я знаю то, что мне сказал врач. — А что, врач сказал, что дни его сочтены? Что ему стало хуже? Я видел его сегодня утром: должно быть, его еще хватит надолго. — На несколько месяцев, — ответил Стенсон, — а мне еще надо жить годы. Я показывался врачу вчера… Я показываюсь ему каждый год… — Так, выходит, вы ждете смерти барона, чтобы сделать какие-то важные признания? Но вы же знаете, считают, что он способен умертвить людей, которые ему страшны: что вы на это скажете? Лицо Стенсона изобразило удивление, но Гёфле показалось, что это было деланное удивление, простой знак вежливости, потому что оно сменилось тайным беспокойством, которое старик все же не мог скрыть: Стенсон умел быть сдержанным, но не умел притворяться. — Стенсон, — сказал ему адвокат искренне и проникновенно, взяв его за обе руки, — вас тяготит какая-то тайна. Откройтесь мне как другу и рассчитывайте на меня, если надо положить конец несправедливости. Несколько мгновений Стенсон колебался, потом, отперев ящик секретера, ключ от которого у него был в кармане, показал Гёфле маленькую запечатанную шкатулку и спросил: — Вы даете мне честное слово? — Даю. — Вы клянетесь священным писанием? — Священным писанием! Ну так что же? — Так вот… Если я умру раньше, чем он… откройте, прочтите и действуйте… после моей смерти! Гёфле взглянул на шкатулку: на ней были написаны его имя и адрес. — Вы позаботились о том, чтобы это передали мне? — сказал он. — Благодарю вас, друг мой. Но только если жизнь ваша в опасности, то зачем же медлить и что-то скрывать? Послушайте, дорогой мой господин Стенсон, я, кажется, начинаю понимать… Барон… Стенсон знаком показал, что не будет ему отвечать. Гёфле, однако, продолжал: — Уморил голодом свою невестку! — Нет, — вскричал Стенсон убежденно, — нет, нет! Этого не было! — Но когда она подписывала некое показание касательно ее беременности, ее к этому вынудили? — Она подписала его по своей доброй воле. Я при этом присутствовал и сам подписал этот документ. — А что сделали с ее телом? Его бросили собакам? — О господи! Да разве же я там не был? Ее похоронили как христианку. — Вы похоронили ее сами? — Своими собственными руками! Но вы чересчур любопытны! Отдайте мне шкатулку! — Вы, что же, сомневаетесь в моей клятве? — Нет, — ответил старик, — держите ее при себе и ни о чем больше меня не спрашивайте… Он пожал еще раз руку Гёфле, подошел к огню и снова совершенно оглох или притворился, что ничего не слышит. Чтобы хоть немного отвлечь его и надеясь склонить его потом к каким-то признаниям, Гёфле начал рассказывать ему о той тяжбе, которая утром была предметом его разговора с бароном. На этот раз ему пришлось писать все вопросы, а в ответах старика сквозила присущая ему ясность ума. По его словам, минеральные богатства горы, которая была предметом спора, принадлежали соседу барона, графу Розенстейну. Он изложил все свои основания и, порывшись в своих папках, очень аккуратно надписанных и разложенных, предоставил ему доказательства. Гёфле заметил, что таково его собственное убеждение и что он будет вынужден поссориться с бароном, если тот станет навязывать ему это заведомо проигранное дело. Он добавил к этому кое-какие соображения относительно худой молвы, ходившей о его клиенте, но так как Стенсон ничего, казалось, не слышал, а письменная форма общения исключает возможность застать собеседника врасплох, Гёфле вынужден был отказаться от дальнейших расспросов. Вернувшись в медвежью комнату, Гёфле задумался над тем, надо ли посвящать Христиана во все, что произошло между ним и Стенсоном, и, взвесив все, решил, что должен молчать. К тому же в эту минуту он и вообще-то не был склонен к каким бы то ни было излияниям. В голове его проносилось множество странных мыслей, множество противоречивых предположений. Мозг его напряженно работал, словно ему поручили какое-то трудное и путаное дело. И вместе с тем все обстояло совершенно иначе: Стенсон не позволял ему даже быть любопытным. Запрещение это, правда, ни к чему не приводило, и Гёфле не властен был угомонить рождавшиеся у него волнующие гипотезы. Адвокату не составило большого труда хранить молчание — Христиан в эту минуту был занят, ему не только не пришло в голову о чем-нибудь расспрашивать Гёфле, но он начисто забыл даже весь бывший меж ними разговор и был поглощен своей пьесой. К тому же он впал в глубокое уныние, и когда адвокат спросил его, нашел ли он способ обойтись без слуги, Христиан ответил, что напрасно ищет его уже в течение часа. В крайнем случае он, конечно, мог бы без него обойтись, но это повлекло бы за собою немало несообразностей и пропусков в мизансцене. Это было очень утомительным делом, и предстояло столько всего обдумывать и решать, что он уже готов был отказаться от своего замысла. — Право же, — сказал он Гёфле, который пытался его подбодрить, — клянусь вам клятвой фигляра, что игра не стоит свеч; другими словами, я только измучаюсь совершенно бесславно и заставлю барона попусту истратить на меня деньги. Все равно дело провалилось, не будем же больше о нем думать. Знаете, что мне остается сделать, господин Гёфле? Отказаться от мысли об успехе в этих краях, все упаковать и уехать подобру-поздорову в какой-нибудь город, где я поищу себе другого слугу, который мог бы мне стать подручным и был бы достаточно благочестив, чтобы сдержать клятву, которую я от него потребую, пить одну только воду, даже если вино будет струиться потоками по горам Швеции! — Черт побери! — сказал Гёфле, очень огорчившись при мысли, что потеряет своего соседа. — Если бы я мог хоть немного растормошить этих куколок… Только мне Этого не суметь. — А ведь нет ничего проще. Попробуйте: указательный палец — в голову, большой — в руку, средний — в другую руку… Ну и отлично! Как раз то, что надо! А теперь, в знак привета, поднимите руки к небу! — Это-то нетрудно, а вот сочетать жесты со словами! А потом, что говорить? Я ведь могу сымпровизировать только монолог! — Это уже много. Послушайте, защищайте кого-нибудь, забудьте, что вы господин Гёфле, смотрите на фигурку, которую приводите в движение. Говорите, и совершенно естественно движение ваших плеч и положение всего корпуса передадутся кончикам пальцев. Надо только проникнуться сознанием реальности burattino и воплотить в нем вашу индивидуальность. — Проклятие! Вам-то легко говорить, но когда человек не привык… А ну-ка попробуем. Допустим, что я кого-то защищаю… Только кого же мне защищать? — Защищайте барона, которого обвиняют в убийстве брата! — Защищать? Я бы предпочел обвинять. — Если вы будете обвинять, то впадете в патетику, а если вы будете защищать, то можете рассмешить. — Согласен, — сказал Гёфле, вытягивая руку, которая держала марионетку, и жестикулируя. — Я говорю речь, слушайте. «Какие обвинения вы можете выставить против моего клиента? Вы ставите ему в вину такой простой, такой естественный поступок, как избавление себя от одного из членов семьи, который мешал. Но с каких это пор человек, который любит деньги и тратит их, вынужден уважать это вульгарное соображение, которое вы называете правом на жизнь? Право на жизнь! Но мы требуем его для себя, и тот, кто говорит «право на жизнь», утверждает право на такую жизнь, какая ему желательна. Поэтому, если мы не можем жить без большого состояния и без привилегий, которые дает высокое положение, если без роскоши, без замков, без влияния и власти мы можем погибнуть от стыда и обиды, подохнуть от скуки, как говорят простолюдины, у нас есть право, мы требуем себе это право и будем им пользоваться — будем убирать с нашего пути все, что мешает процветанию, расширению, блеску нашей нравственной и физической жизни! За нас говорит…» — Выше! — сказал Христиан, который смеясь слушал сатирическую речь адвоката. — «За нас говорит, — повторил Гёфле, повышая голос, — традиция древнего мира, начиная с Каина и кончая великим королем Биргер-Ярлом, который уморил голодом двух своих братьев в замке Нючёпинг[411]. Да, господа, на нашей стороне старинный северный обычай и славный пример нравов русского двора за последнее время. Кто из вас осмелится противопоставить такую мелочь, как нравственность, великим государственным соображениям? Государственные соображения, господа; знаете ли вы, что такое государственные соображения?» — Выше, — продолжал Христиан, — выше, господин Гёфле! — «Государственные соображения, — вскричал Гёфле фальцетом, ибо голосом он не мог взять верхних регистров, — государственные соображения — это, на наш взгляд…» — Еще выше! — Черт бы вас побрал! Я с вами тут горло надорву! Благодарю покорно, хватит с меня, если надо так подвывать. — Да нет же, господин Гёфле! Я же не прошу вас говорить выше, а вот уже целый час добиваюсь, чтобы вы подняли выше вашу руку, а вы не хотите понять, что если будете держать марионетку так, на уровне груди, никто ее вообще не увидит и вы будете играть для себя одного! Посмотрите на меня: надо, чтобы рука у вас была выше головы. Итак, начинаем диалог! Я — адвокат противной стороны, и я обрываю вашу речь, потому что не могу сдержать своего негодования. «Я больше не в силах это слушать, и если судьи, заснувшие в своих креслах, могут вынести подобное злоупотребление человеческим словом, то, несмотря на показное красноречие моего знаменитого и страшного противника, я…» Так прерывайте же меня, господин Гёфле! Надо всегда прерывать! — «Адвокат! — вскричал Гёфле. — Я вам не давал слова». Я буду судьей. — Отлично, но тогда меняйте голос. — Я не сумею… — Сумеете! Одна рука у вас свободна, зажмите себе нос. — Зажал, — сказал Гёфле, начиная гнусавить. «Адвокат противной стороны, вам будет дано слово…» — Браво! «Я хочу говорить сию же минуту! Я хочу опровергнуть мерзкие софизмы моего противника!» — «Мерзкие софизмы!» — Отлично, отлично! Гневный голос! Я отвечаю: «Беспринципный оратор, я отдам тебя на суд общественного мнения!» Данте мне пощечину, господин Гёфле. — Как! Чтобы я вас ударил по щеке? — Да, по щеке моего адвоката и чтобы непременно был слышен звук пощечины. Публика при этом всегда смеется. Крепче сожмите пальцы, сейчас я буду срывать с вас колпак. Давайте сцепимся. Браво! Теперь выхватывайте марионетку из моих пальцев и швыряйте ее в публику. Дети всегда кидаются поднимать ее, смотрят на нее с восхищением и бросают обратно на сцену. Постарайтесь, чтобы вам непременно угодили в голову. Публика смеется тогда до упаду, бог знает почему, но это всегда так. Оскорбления и удары — восхитительное зрелище для толпы; под это веселье ваш персонаж покидает сцену с торжествующим видом. — И тогда можно немного передохнуть, это просто счастье! Мне это нужно, я совсем охрип! — Передохнуть! Ну уж нет! Operante никогда не отдыхает. Надо поторопиться подготовить других актеров для следующей картины, и, чтобы не расхолодить публику видом пустой сцены, надо все время говорить, как будто прежние актеры все еще продолжают о чем-то спорить за кулисами или как будто новые рассуждают о только что происшедшем. — Проклятие! Но ведь это же адский труд! — Пожалуй, да, но нервы приходят в возбуждение, и тогда чувствуешь себя все лучше и лучше. А ну-ка, господин Гёфле, беремся за следующую сцену! Сейчас мы выведем… — Нет уж, с меня хватит! Неужели вы думаете, что я собираюсь показывать марионеток? — Я думал, что вы хотели помочь мне показать их сегодня вечером! — Как! Вы хотите, чтобы я принял участие в спектакле? — А кто будет знать, что это вы? Театр устанавливают перед дверью в комнату, куда никто не заходит. Матерчатые стены отделяют вас от публики. В случае надобности, когда есть опасность входя и выходя встретить кого-нибудь в коридоре, вы надеваете маску. — Это верно, вас никто не видит, никто не знает, что вы там, но мой голос, мое произношение! Стоит мне только раскрыть рот, как все скажут: «Ба, да это господин Гёфле!» Хорошенькое дело! Это в мои-то годы начать заниматься такими штуками! Нет, это невозможно, давайте не будем больше об этом думать. — Жаль, у вас это хорошо получалось! — Вы находите? — Ну, конечно, вы бы принесли мне такой успех! — А мой злосчастный голос, который все знают… — Есть множество способов его изменить. За пятнадцать минут я обучу вас трем или четырем, а больше нам на этот вечер и не понадобится. — Что ж, попробуем. Если бы я был уверен, что никто не догадается о моем сумасбродстве! Ага, вот инструмент, назначение которого я начинаю понимать: это пенсне… А это вот кладут в рот, на язык или держат под языком. — Нет, не то, — сказал Христиан, — это разные грубые приспособления, которыми пользуется Пуффо. Вы слишком умны, чтобы они могли вам понадобиться. Послушайте меня и подражайте мне. — А в самом деле, — сказал Гёфле, сделав несколько удачных проб, — это не так уж хитро! В молодости мне приходилось участвовать в любительских спектаклях, я играл не хуже других: я умел изобразить беззубого старика, сюсюкающего фата, педанта, который при каждом слове облизывает себе губы. Ну хорошо, если только вы не заставите меня очень много говорить и утомлять горло, я берусь подавать вам реплики в трех-четырех сценах. Надо повторить пьесу. Что это такое? Где она? Как она называется? — Погодите, погодите, господин Гёфле: у меня много сюжетов, которые вам достаточно будет прочесть один раз, потому что тот, который мы будем разыгрывать, изложенный вкратце и написанный крупными буквами, всегда у нас перед глазами на внутренней стенке театра. Но мне хочется сыграть с вами такую пьесу, которая была бы приятна и давала пищу вашей импровизаторской фантазии, поэтому если вы полагаетесь на меня, мы сочиним ее с вами вместе и сию же минуту. — А это идея, замечательная идея! — сказал Гёфле. — За дело! Сядем здесь, освободите место на этом столе. Какой мы выбираем сюжет? — Какой хотите. — Вашу собственную историю, Христиан, или по крайней мере что-то из той истории, которую вы мне рассказали. — Нет, господин Гёфле, история моя не из веселых и никого не может развлечь. В жизни моей нет ничего романического, кроме того, чего я сам не знаю, но на этой канве я часто вышивал приключения моего Стентарелло. Вы знаете, что Стентарелло — персонаж, годный для всех характеров и для всех ситуаций. Так вот, одна из моих причуд — это приписывать ему таинственное происхождение, как у меня самого: в начале пьесы он рассказывает о некоторых подробностях подлинной или выдуманной истории, которую София Гоффреди слышала из уст маленького еврея. Меня это иногда забавляет, и мне вдруг кажется, что я услышу из публики какое-нибудь слово, чей-нибудь крик, и моя мать отыщется. Что вы хотите! Такова уж моя причуда, но давайте поговорим о Стентарелло: это комический персонаж, то молодой, то старый, в зависимости от того, надеваю ли я ему на голову русый или седой парик. Но чтобы рассмешить людей, он должен быть сам смешон. В замысле, о котором я говорю и который предлагаю вашему вниманию, он разыскивает своих родителей и выдает себя самое меньшее за незаконного сына какого-нибудь государя. Итак, с ним происходят разные нелепые приключения, и он совершает невероятные промахи, а в конце концов узнает, что он сын простолюдина, и почитает еще за счастье, что после всех своих бед находит отца, который кормит его и принимает его под свой кров. — Отлично, — сказал Гёфле, — мы сделаем его обжорой и сыном повара или пирожника. — Замечательно! Вы угадали. Начинаем. — Так пишите же, если у вас разборчивый почерк. Я пишу слишком медленно, чтобы за вами успеть, и почерк мой все равно что кошачье царапанье. Черт побери, у вас чудесный почерк! Но что вы такое делаете? — Я сначала составляю список всех персонажей. — Вижу, но в первом акте у вас значится Стентарелло в пеленках? — Вот что я думаю, господин Гёфле. Мне надоело заставлять беднягу Стентарелло пересказывать все то, что я слышал о самом себе — как меня когда-то спустили на веревке из окна в лодку. Если вы ничего не имеете против, мы все это представим на сцене. — Вот это здорово! Только как же вы ухитритесь это сделать? — У меня есть на декорации старый замок… — Что же вы с ним собираетесь делать? — Я сделаю из него Стольборг. Мы дадим ему другое название, но это будет тот романтический пейзаж, который поразил меня на озере, когда заходило солнце; я его нарисовал. — Вы хотите писать красками? — Да, пока вы будете писать, хорошо или худо, — это не важно: мы с моим бедным Гоффреди столько расшифровали разных иероглифов! Помните, что времени у нас мало; у меня есть все необходимое, чтобы переделать декорации так, как нам надо: жестяная баночка с застывшим клеем, мешочки сразноцветной пудрой… Холст у меня ка, к раз подходит по размеру к заднику, да и просохнет все за каких-нибудь пять минут. Мне больше ничего и не надо будет, чтобы сделать окно в моей квадратной башне. Вот посмотрите, господин Гёфле: сначала я делаю вырез в холсте… вот этими ножницами; потом я подогреваю в печке клей… Я набрасываю углем кучу больших валунов — видите? Иные из них нависают… Я все это как следует разглядел, это было очень красиво… Внизу будет лед… Впрочем, нет, надо, чтобы это была вода, — у нас ведь есть лодка… — А где вы ее возьмете? — В ящике с аксессуарами. Вы что, думаете, что у меня нет лодки? Что нет кораблей, карет, тележек и разного зверья? Как бы я мог обойтись без всего этого арсенала вырезных фигур? Ведь это благодаря им я могу поставить любую пьесу, а места они занимают так мало. Кстати, вот еще одна идея, господин Гёфле: я помещаю лодку под этим сводом из валунов. — Зачем? — Зачем? Это придаст сцене больший эффект! Выслушайте меня внимательно: у нас же в пьесе предполагается очень таинственное рождение ребенка? — Ну, разумеется. — Сопряженное с опасностями? — Непременно. — Это Дитя любви? — Как вам будет угодно. — Ревнивый муж… Нет, никаких прелюбодеяний. Если случайно это в самом деле окажется моей собственной историей, то я предпочел бы не быть плодом грешной любви. Моя мать… бедная! Может быть, мне даже не в чем ее упрекнуть — спасает меня от мести свирепого брата или дяди… который готов убить меня, лишь бы скрыть неравный и тайный брак! — Отлично; оставляю за собой роль безжалостного дяди, какого-нибудь испанского гранда, который хочет убить ребенка! Чтобы спасти его, это невинное создание выбрасывают из окна и прячут где-то на дне озера, рискуя его потопить. — О господин Гёфле, все это чистая фантазия! У меня другая школа. Я всегда остаюсь в пределах известного романического правдоподобия, потому что заведомо неправдоподобные положения не вызывают ни смеха, ни слез. Нет, нет, будем представлять настоящих убийц, безобразных и смешных, какие действительно бывают на свете. Покамест они бродят по валунам, наблюдая за окном, лодка, на которой уже потихоньку успели спрятать драгоценный груз (установленный стиль), мягко и бесшумно скользит под скалами, под самым носом у сбиров, которые ничего не подозревают. Публика растрогана, и особенно потому, что фигуры разбойников вызывают в ней смех. Она очень любит одновременно и плакать и смеяться. И занавес падает в конце первого акта под гром аплодисментов. — Превосходно, превосходно! — вскричал Гёфле. — Так, значит, лодка отплывет! А в окне разве никого не будет? — Будет! У меня ведь две руки. В то время как левой я толкаю мой челн по прозрачным водам, правой я держу в окне верную служанку, которая спустила вниз корзину с ребенком, с мольбою простирает свои маленькие деревянные руки к небу и нежным голосом восклицает: «Божественное провидение, убереги рожденное в тайне дитя!» — Так, так! А мать разве не появится? — Нет, это было бы неудобно. — А отец? — Отец в Палестине. Это место, куда всегда отправляют актеров, которые ни на что не нужны. — Ну и отлично, но если сбиры подняты на ноги, если есть брат с испанским представлением о чести и верная дуэнья, то, значит, Стентарелло происходит из знатного рода? — Ах, черт возьми, так как же все уладить? — Очень просто. Ребенок, которого мы спускаем из окна, — это Алонсо, сын герцогини. Стентарелло же — сын пирожника монсеньера. — Но зачем нам этот пирожник? — Откуда я знаю? Это вы должны придумать. Никаким писанием картин вы мне тут не поможете! — Посмотрите же, господин Гёфле, какое у меня хорошее небо! — Чересчур хорошее, уж очень оно бросается в глаза. — Вы правы. Черт возьми! У вас верный глаз, господин адвокат. Я сделаю мою башню потемнее. — Прекрасно. Теперь ваше розовое небо красиво и напоминает светящиеся облака нашего севера. Но ведь это же отнюдь не небо Испании? — Так давайте перенесем тогда действие в Швецию, почему бы и нет? — Ну уж нет, не согласен. Вы знаете, что во всем этом акте… и особенно на фоне этого вида Стольборга, который вы только что написали… если дать волю воображению, может возникнуть повод к некоторым параллелям. — С историей баронессы Вальдемора? — Кто знает? На самом деле их нет, там ведь не было ребенка. Но кто-то может решить, что мы изображаем мнимое пленение дамы в сером. Нет, Христиан, пусть это будет в Испании! Так гораздо лучше. — Испания так Испания! Итак, мы говорим, что у пирожника есть малютка; он только что родился, и он станет потом знаменитым Стентарелло. Словом, повар замка послал этому пирожнику от барона… — От барона? — Вы напомнили мне про барона, начав говорить о возможных параллелях. Нашего предателя будут звать дон Диего или дон Санчо. — В добрый час! Итак, повар барона… Чудно! Я того же мнения! Я про дона Санчо, что он ему посылает? — Великолепный пирог в корзине, он должен будет его испечь. — Понял! Понял! Он положил эту корзину в лодку. Лодочник, которому поручено увезти и спасти рожденного тайно ребенка, невнимателен и уносит обе корзины; потом он по ошибке относит пирог кормилице, а пирожнику — ребенка, чтобы тот его сунул в печь! — И добрый пирожник воспитывает обоих детей, или нет: он путает их и оставляет у себя сына герцогини. Засим следуют бесконечные перипетии, и мы уверенно движемся к развязке. Мужайтесь, господин Гёфле, я кончил писать декорацию и снова берусь за перо. Давайте приведем в порядок все сцены. «Сцена первая: повар один». — Погодите-ка, Христиан. А почему ребенка не отнесли вниз по лестнице? — Да, в самом деле, тем более что в Стольборге есть потайная лестница; только ее охраняют сбиры. — Они неподкупны? — Нет, но герцогиня стеснена в деньгах, а у предателя полны карманы золота. «Вторая сцена: дон Санчо, свирепый дядюшка, является для того, чтобы наблюдать за преступлением». — Почему же сам он не поднимется на башню, где томится его жертва, и почему бы ему попросту не выбросить ребенка из окна? — Ну, на этот счет я ничего не знаю. Предположим, ребенок еще не родился, и ждут, пока наступит роковая минута! — Прекрасно. Значит, ребенок должен вот-вот родиться, и когда дон Санчо входит в башню и поднимается по лестнице, Пакита, служанка, спускает вниз только что появившегося на свет ребенка! Скажите, а ребенка зрители увидят? — Конечно! Я нарисую его в колыбели. Ниточка будет изображать веревку. Все это будет вырезано и видно на заднем плане. — Итак, предатель раздосадован, оттого что птичка улетела. Что же ему делать? Что, если мы дадим ему выброситься из окна и разбить голову о камни? — Нет! Прибережем это к развязке пьесы, это отличный конец! — Ну, тогда он в ярости убивает свою несчастную племянницу. Слышен крик, и появившийся на сцене убийца говорит: «Честь моя отомщена». — Его честь! По-моему, уж лучше ему сказать: «Состояние мое упрочено». — Почему? — Потому что он наследует все после герцогини: не будем же его делать злодеем только наполовину, раз мы все равно решили, что он в конце концов разобьет себе голову! — Разумеется, это логично, по… — Но что? — А то, что мы снова попадаем в историю барона Олауса, какой ее рассказывают его враги: отравление родственницы, исчезновение… — Какое это имеет значение, если вы уверены, что эта история — вымысел? — Я в этом совершенно уверен, и все же… Послушайте, вашим таинственным голосом, мыслью о пленнице в подземелье, тем, как вы объяснили мое собственное видение этой ночью, и вашими словами из Библии вы сделали меня настоящим ясновидцем. — Так как во всем этом, очевидно, нет ничего, кроме игры нашего воображения, мы не рискуем никого обидеть, и к тому же, господин Гёфле, если даже, надев маску и выступая под псевдонимом Христиана Вальдо, я вызову господина барона какое-нибудь неприятное воспоминание, то позвольте вас спросить, какое мне до этого дело? Что же касается вас, то когда вы окажетесь рядом со мною, инкогнито ваше будет полностью сохранено… — Что касается меня, то стоит только барону поручить меня своим подлым лакеям, и они начнут выслеживать каждый мой шаг и обо всем ему доносить… — Ну, если вы действительно подвергаете себя какому-то риску, то не будем больше об этом говорить и поищем поскорее другой сюжет для комедии. Гёфле оставался некоторое время погруженным в свои мысли, к великому нетерпению Христиана, который с тревогой посматривал на стрелку часов. Наконец адвокат ударил себя по лбу, стремительно вскочил и, начав ходить взад и вперед по комнате, воскликнул: — Но кто знает, не означает ли это убегать от поисков истины? Неужели же я окажусь в роли трусливого придворного этого сомнительного героя? Неужели же совесть моя не будет чиста? Неужели скажут, что некий скиталец, иными словами — красивый и добрый посланец судьбы, достойный, разумеется, лучшей доли, при всей своей беспечности, найдет в себе мужество бросить вызов могучему врагу, тогда как я, официальный служитель истины, облеченный доверием, ревнитель человеческой и божественной справедливости, закоснею в эгоистической лени, граничащей с подлостью? Христиан! — добавил Гёфле, снова усаживаясь, но все еще пребывая в большом возбуждении, — давайте перейдем ко второму акту и сочиним страшную пьесу! Пусть ваши марионетки прославят себя сегодня! Пусть они станут серьезными персонажами, живыми образами, орудиями судьбы! Пусть, так же как в трагедии о Гамлете, эти актеры сыграют драму, которая заставит трепетать и бледнеть торжествующее преступление, в конце концов раскрытое! Итак, Христиан, за дело! Предположим… все, что в этих местах предполагают относительно барона: что он отравил отца, зарезал брата, уморил голодом невестку… — Да, как раз в этой комнате! — сказал Христиан, пытавшийся представить себе декорацию третьего акта. — Посмотрите, какая это будет прекрасная сцена! Мне думается, что ребенок… Раз мы держимся того мнения, что ребенок существовал, будем также думать, что сын герцогини вернется через двадцать пять лет, чтобы восстановить истину и наказать преступника! Пусть же наши марионетки продолбят эту таинственную стену и найдут там, за этими кирпичами… Можно быстро написать декорацию для данного случая, я выкрою на это время… — Найдут что? — спросил Гёфле. — Не знаю, — ответил Христиан, сразу помрачнев и погрузившись в раздумье, — В голове у меня проносятся такие тяжелые мысли, что я уже отказываюсь от этой темы. Она лишит меня всего моего задора, и, вместо того чтобы продолжать пьесу, я, раздираемый любопытством, начну ломать эту стену… — Дорогой мой Христиан, не сходите с ума! Достаточно того, что сам я уже спятил, — ведь все это сплошной бред, и совесть моя не позволяет придавать значение подозрениям, рожденным несварением желудка и праздностью ума. Закачивайте пьесу и сделайте ее безобидной, если вы хотите, чтобы публика развлеклась. А я хочу немного поработать: тут надо разобрать одну папку, которую мне передал Стенсон; надо составить определенное мнение о том, что в ней содержится, — ведь с минуты на минуту барон может прислать ко мне за тем решением, которое я ему обещал сегодня утром. Христиан принялся писать пьесу, а Гёфле — читать судебное дело; оба расположились на противоположных концах большого стола, сдвинув на середину остатки завтрака. Ульфил пришел и молчаливо заменил их новыми кушаньями. Он находился в обычном для него состоянии легкого опьянения и завел с Гёфле довольно длинный разговор, которого Христиан не слышал, да и не захотел слушать: речь шла о супе из молока, пива и сиропа — национальном блюде, которое Гёфле заказал себе на ужин и которое, по словам Ульфила, лучше него никто во всей Швеции не сумеет приготовить. Обещанием своим он обезоружил адвоката, сердившегося на него за то, что он напоил его маленького лакея. Ульфил же поклялся, что знать ничего не знает, и, может быть, это была совершенно искренняя клятва, исходившая от человека, которого винные пары не лишали ни спокойствия, ни уверенности в себе. В шесть часов Христиан все закончил, а Гёфле не работал: он был слишком взволнован и встревожен, и всякий раз, когда Христиан случайно поднимал глаза, он встречал его сосредоточенный и напряженный взгляд. Думая, что Это свидетельствует о том, что Гёфле поглощен работой, он не хотел ничем его отвлекать, но в конце концов, уже несколько обеспокоенный, спросил адвоката, не захочет ли он прочесть пьесу. — Конечно, — ответил Гёфле, — только почему вы мне не прочтете ее сами? — Это невозможно, господин Гёфле. Сейчас надо отобрать кукол, немного приодеть их в соответствии с пьесой, собрать декорации, нагрузить все это на осла и быстро отправиться в новый замок, чтобы осмотреть помещение, где мы будем играть, расставить все по местам, наладить освещение и так далее. Я не могу больше терять ни минуты. В восемь часов начало. — В восемь часов! Черт возьми! Какое неудобное время. Значит, ужинать в замке будут не раньше десяти? А когда же будем ужинать мы? — Ах да, ужин, надо в пятый раз садиться за стол! — в отчаянии вскричал Христиан, торопясь все собрать. — Ради всего святого, господин Гёфле, поужинайте лучше сию же минуту, чтобы через час быть готовым. Вы прочтете пьесу за едой. — Как бы не так! Ничего себе вы мне тут режим устроили! Есть, когда нет аппетита, и читать во время еды, чтобы пища не переваривалась! — Тогда не будем больше об этом думать. Я попробую сыграть всю пьесу один. Сделаю все как смогу. Ничего! Какой-нибудь добрый дух мне поможет! — Нет! Нет! — вскричал Гёфле. — Этим добрым духом хочу быть я; я вам это обещал, а я всегда держу свое слово. — Нет, господин Гёфле, благодарю вас, для вас это непривычное дело. Вы человек рассудительный, вы не поступитесь вашими важными занятиями, чтобы надеть на голову шутовской колпак с бубенцами! Очень неделикатно было с моей стороны согласиться на это. — Вот как! — воскликнул Гёфле. — За кого же вы меня принимаете? За болтуна, который бросает на ветер слова, или же за старого педанта, неспособного весело поболтать? Христиан увидел, что противоречить адвокату было лучшим способом вернуть его к ранее принятому решению и что сей достойный муж отлично мог перевоплотиться в комического актера и для этого ему требовалось не больше подготовки, чем самому Христиану. Поэтому он еще больше раздразнил его притворной скромностью и ушел лишь тогда, когда убедился, что адвоката почти рассердили его сомнения, что он твердо и даже не без ожесточения решил, что окажется на высоте, даже если ему придется съесть без аппетита суп на молоке и пиве и учинить непростительное насилие над своими повседневными привычками. Христиан находился уже на полпути между Стольборгом и замком Вальдемора, как вдруг столкнулся лицом к лицу с каким-то черным призраком, бежавшим вприпрыжку по льду. Он без особого труда узнал в нем Стангстадиуса, спешившего, как и он, с потайным фонариком в руке и готового вступить в разговор. Так как Христиан был уверен, что этот человек, не обращающий ни малейшего внимания на других, его не узнает, то он счел излишним опускать на лицо маску и изменять голос. — Эй, друг, — сказал ученый, не потрудившись даже взглянуть на него, — вы что, из Стольборга? — Да, сударь. — Вы там видели доктора Гёфле? — Нет, сударь, — ответил Христиан, сразу же представив, себе, какую неприятную смуту внесет подобное посещение во все благие намерения его нового компаньона. — Как! — воскликнул Стангстадиус. — Доктора Гёфле нет в Стольборге? Он же сам мне говорил, что остановился там. — Он там недавно был, — уверенно ответил Христиан, — но два часа тому назад он уехал в Стокгольм. — Уехал! Уехал, не дождавшись моего визита, после того как я еще сегодня утром предупредил его, что приду в старую башню с ним поужинать? Нет, это невозможно. — Он, наверно, забыл? — Забыл! Забыл! Это меня-то? Вот так здорово! — Ну хорошо, сударь, — сказал Христиан, — идите туда, если вам угодно, только вы не найдете там ни ужина, ни адвоката. — В таком случае я не пойду, но только это какая-то невероятная история! Должно быть, бедняга Гёфле сошел с ума! И Стангстадиус, повернувшись, пошел вслед за Христианом, который продолжал свой путь в замок. Через несколько минут натуралист опомнился и стал громко говорить сам с собою по своей всегдашней привычке: — Ну хорошо, Гёфле уехал, это горячая голова, сумасброд; ну а его племянник? У него же ведь есть племянник, прелестный молодой человек, с которым можно поговорить; он знает, что я приду туда к ужину, и, наверно, ждет меня. Нет, мне надо пойти туда, непременно надо пойти… Вот что, друг мой, — сказал он, обращаясь к Христиану, — я во что бы то ни стало хочу попасть в Стольборг… Я много ходил сегодня по снегу и очень устал, не одолжите ли вы мне пашу лошадку? «— С большим удовольствием, сударь, но если вы хотите найти племянника господина Гёфле… — Да, конечно, Христиана Гёфле, так его зовут. Вы видели его? Вы ведь служите в Стольборге, не правда ли? Тогда вернитесь туда, дайте мне вашу лошадку, а сами идите вперед и велите приготовить ужин. Это неплохая идея! И не дожидаясь ответа Христиана, Стангстадиус, прельщенный маленьким ростом и спокойным шагом Жана, которого он упорно принимал за лошадь, решил сесть на него верхом, нимало не беспокоясь о навьюченном на него грузе, но встретил решительное сопротивление. — Оставьте его в покое! — сказал Христиан, которого начало раздражать его упрямство. — Племянник господина Гёфле уехал вместе с дядей, а Стольборг заперт на ключ, как тюрьма. — Как, и молодой человек уехал! — удивленно воскликнул Стангстадиус. — Боже ты мой! Должно быть, в этой семье случилась какая-то беда, если и дядя и племянник могли позабыть о моем обещании быть у них; но должны же они были оставить мне письмо. Надо сходить за ним. — Никакого письма они не оставили, — ответил Христиан, которого осенила новая мысль. — Они поручили мне передать некоему господину Стангстадиусу в новом замке, что им пришлось уехать. Да этим-то я и иду сейчас в новый замок. — Некоему Стангстадиусу! — в негодовании вскричал ученый. — Они так и сказали некоему? — Нет, сударь, это я так сказал. Я-то ведь не знаю этого Стангстадиуса! — Ах, так это ты сказал, дурак этакий! Некоему Стангстадиусу! Которого ты, видите ли, не знаешь, скотина! Ну ничего, это к лучшему. Так знай же, кто я такой: я самый знаменитый натуралист… Только зачем это тебе? На этой несчастной земле есть еще удивительные тупицы! Останови же свою лошадь, скотина! Не сказал я тебе разве, что собираюсь сесть на нее верхом? Говорю тебе, я устал! Неужели ты думаешь, что я не сумею ехать верхом все равно на каком четвероногом? — Послушайте, господин ученый, — хладнокровно ответил Христиан, хоть он к был очень раздосадован этой встречей, которая еще больше его задерживала, — вы же видите, какую тяжесть тащит на себе этот бедняга. — Подумаешь! Сбрось свой груз, а потом за ним вернешься. — Это невозможно, мне некогда. — Как! Ты мне отказываешь? Что ты за дикарь такой! Ты первый крестьянин во всей Швеции, который отказывается помочь доктору Стангстадиусу! Я на тебя пожалуюсь, будешь у меня знать, несчастный! Я пожалуюсь на тебя. — Кому? Барону Вальдемора? — Нет, потому что он велит тебя повесить, и ты получишь только то, что заслужил… Я хочу, чтобы ты знал, какой я добрый; я лучший из всех людей, и я тебя прощаю. — Ну уж, положим, — ответил Христиан; его всегда развлекали чудаки, которых он встречал в своей бродячей жизни, — я вас не знаю, а вы выдаете себя за другого. Вы говорите, что вы натуралист? Полноте! Да вы же лошади от осла отличить не можете! — От осла? — сказал Стангстадиус, по счастью, отвлекшийся от назойливого желания ехать верхом. — Ты что, утверждаешь, что это осел? И, поднеся свой фонарь, он стал оглядывать со всех сторон Жана, которого хозяин его так тщательно укутал в шкуры разных животных, что тот действительно принял совершенно фантастический вид. — Осел? Не может этого быть, ослы не могут жить в наших широтах. То, что ты по своему грубому невежеству называешь ослом, всего-навсего мул! А ну-ка я посмотрю как следует, сними с него все эти шкуры. — Послушайте, сударь, Стангстадиус вы или нет, но вы мне надоели… Мне некогда с вами разговаривать. До свидания. Тут он пощекотал хлыстом своего верного Жана, который быстро побежал вперед, оставив доктора наук позади. Но нашего доброго Христиана вскоре начали мучить угрызения совести. Добравшись до берега, он обернулся и увидел несчастного ученого, который далеко от него отстал, двигался с трудом и то и дело скользил. Должно быть, он действительно очень устал, если, привыкший жить только разумом и языком, он все это замечал, а главное, если он, считавший себя самым сильным человеком своего века, с этим мирился. «Если силы ему изменят, — подумал Христиан, — он может остаться на льду, а в этих краях несколько минут такого вынужденного отдыха в ночное время могут оказаться смертельными, особенно для такого хилого старика. Подожди-ка меня, милый Жан!». Он побежал к Стангстадиусу, который действительно стоял на месте и, может быть, уже снова думал о том, как осуществить свой план — пообедать в Стольборге. Мысль эта заставила Христиана ускорить шаги. Однако Стангстадиус, который далеко не всегда был таким доблестным, каким он считал себя сам, почувствовав предубеждение против незнакомца, столь неуважительно к нему отнесшегося, решил, что тот задумал что-то худое, и пустился со всех ног бежать по направлению к Стольборгу. Это совсем не входило в расчеты Христиана, он кинулся за ним и вскоре его догнал. — Несчастный! — вскричал ученый прерывающимся голосом, сам не свой от ужаса и изнеможения. — Ты решил меня убить, я это вижу! Да, мои завистники наняли тебя, чтобы ты погасил светоч мира. Отпусти меня, бесчувственная скотина, не трогай меня! Подумай, на кого ты заносишь руку! — Ну полноте, успокойтесь, господин Стангстадиус, — сказал Христиан, посмеиваясь над его ужасом, — и старайтесь лучше узнавать людей, которые оказывают вам услуги. Садитесь-ка мне на спину, и давайте поторопимся, а то я весь вспотел, пока гнался за вами, а я не хочу простужаться. Стангстадиус согласился с большой неохотой. Однако он успокоился, увидев, как легко молодой силач взвалил его на спину и донес до берега. Там Христиан поставил его на ноги и постарался поскорее уйти, чтобы отделаться от его великодушия, ибо в порыве благодарности Стангстадиус начал было рыться в кармане, чтобы вытащить оттуда мелкую монетку, убежденный, что по-королевски расплачивается с человеком, которому выпало счастье оказать ему услугу.IX
Пока доктор Стангстадиус шагал к главному входу в замок, Христиан разыскал небольшую дверцу, ведущую, как во всех барских усадьбах, во дворы и службы. Надев маску, он подозвал одного из слуг и, сняв с его помощью поклажу с осла, велел отвести его в стойло; затем он поднялся по ступенькам потайной лестницы к господину Юхану, мажордому нового замка. Не успел еще Христиан представиться ему, как мажордом, приняв благодушный и покровительственный вид, воскликнул: — Ага, вот и наш человек в черной маске! Знаменитый Христиан Вальдо! Идемте, идемте, голубчик, я вас сейчас проведу туда, где вы спокойно будете готовиться к представлению. У вас еще в запасе целый час. Христиану помогли перенести вещи в предоставленное ему помещение и по его просьбе вручили ключ от двери. Он тотчас же заперся, снял маску, чтоб вольнее дышалось, и принялся собирать свой театр, то и дело растирая руками плечи: господин Стангстадиус не так уж много весил, но был до того костляв, что у Христиана ныли плечи, будто он протащил на себе вязанку сучковатых поленьев. Он находился в небольшой гостиной, одна дверь которой открывалась в коридор, выходивший на потайную лестницу, другая — в дальний конец просторной, пышно убранной галереи, так называемой Охотничьей, где Христиан накануне танцевал с Маргаритой. В проеме этой двери и надо было ему установить свой театр так, чтобы сцена была хорошо видна зрителям, сидящим на галерее. Христиан измерил ширину двустворчатой двери и увидел, что весь театр в собранном виде как раз поместится в ней и полностью скроет его самого от зрителей, так что он будет чувствовать себя в этой гостиной как дома. Благодаря столь удачному размещению он сможет свободно двигаться, и тут уж наверняка никто не узнает ни его, ни Гёфле. Христиану достаточно было взглянуть на кресла и стулья, расставленные для зрителей, чтобы сообразить, даже не подсчитывая, что около сотни удобных кресел предназначено для дам и примерно столько же мужчин встанут или рассядутся позади них. Ни одна зала, где доводилось Христиану выступать как operante, не была так удобна, как эта длинная и не слишком широкая галерея. Судя по своду, расписанному фресками, акустика была превосходной. Люстры уже горели, и вся галерея была ярко освещена; оставалось только расположить светильники в кулисах таким образом, чтобы тот или иной участок маленькой сцены в нужный момент приобрел мнимую и наиболее выигрышную глубину. За что бы Христиан ни брался, дело свое он выполнял тщательно. Маленький свой театр он любил как взыскательный художник и проявил такую изобретательность, создавая его, что подмостки эти являли собой уменьшенное подобие настоящих. Он мог бы с успехом писать пейзажи или портреты, если бы страсть к науке не вынудила его остановить свой выбор на чисто развлекательном виде искусства. Благодаря редкой одаренности он не брался ни За одно занятие, которому не мог бы придать известное изящество и неповторимый отпечаток своей личности. Сцена его небольшого театра всегда пленяла свежестью декораций и радовала глаз. Христиан любил щегольнуть своим искусством перед понимающим зрителем, а если ему порой случалось досадовать на то, что приходится тратить время на такие пустяки, память тотчас же приводила ему в утешение любимое изречение Гоффреди: «Если ты взялся за какое-то дело, старайся довести его до совершенства, даже если ты просто-напросто стругаешь зубочистку». Итак, Христиан с головой ушел в подготовку спектакля. Окинув быстрым взглядом галерею, дабы убедиться, что там никого нет, он для пробы выдвинул в проем двери свои подмостки с установленными на них декорациями, а сам вышел в зрительный зал и уселся на лучшее место, чтобы составить мнение о перспективе и вообразить, как будут выглядеть его актеры, выходя на сцену и двигаясь по ней. К тому же он нуждался в нескольких мгновениях отдыха. Он уже давно привык выступать и в жару и в холод, по здесь, на севере, его быстро утомляла духота натопленных комнат. К тому же прошлой ночью ему едва довелось вздремнуть часок-другой в кресле, и теперь, то ли по вине пережитых за день волнений, то ли после бега по льду с профессором геологии на плечах, его внезапно сморил непреодолимый сон, какой мгновенно переносит человека из мира действительности в царство грез. Ему почудилось, будто он находится в саду знойным летним днем и слышит, как хрустит песок, словно по нему идут крадучись. Кто-то осторожно приближался, и, еще не видя, кто идет, он был уверен, что это Маргарита. Поэтому он пробудился, не вздрогнув, когда чье-то дыхание коснулось его волос, но тотчас же окончательно пришел в себя, вскочил и, схватившись рукой за лицо, понял, что маска упала на пол. Христиан наклонился за ней, прежде чем обернуться к тому, кто его разбудил, и вздрогнул, услыхав у себя за спиной хорошо знакомый голос: — Незачем прятать лицо, Христиан Вальдо, я узнал тебя, ты Христиан Гоффреди! Христиан в изумлении обернулся: перед ним стоял не кто иной, как Гвидо Массарелли, в хорошем платье, чистый, свежевыбритый. — Как? Это вы? — воскликнул Христиан. — Что вы делаете здесь? Вам место в лесу, с петлей на шее! — Мое место здесь, — с надменной и спокойной улыбкой ответил Гвидо. — Ваше место здесь, в доме барона? А, понимаю! Это меня не удивляет. Мошенник и грабитель с большой дороги стал лакеем; иначе и быть не могло. — Я не лакей, — возразил Массарелли все так же спокойно. — Я друг этого дома, близкий друг, Христиан! А поэтому советую тебе водить дружбу со мной, и считай, что тебе повезло. — Вот что, любезный, — сказал Христиан, отодвигая театр назад, в гостиную, — тут не место для объяснений; я рад тому, что знаю, где вас найти. — Это угроза, Христиан? — Нет, обещание. Как известно, друг мой, я перед вами в долгу. Но сначала я хочу исполнить свой долг в этом доме, иначе говоря — сыграть кукольный спектакль, назначенный через час, а там уж сочтусь и с вами и обещаю отдубасить вас так, как вам и не снилось. С этими словами Христиан вернулся в свою артистическую уборную, погасил свечи и опустил занавес. Массарелли вошел следом и закрыл за собой дверь, ведущую на галерею. Христиан занимался своим делом, стоя к нему спиной и отлично понимая, что мошенник способен воспользоваться случаем и покончить с ним без свидетелей, но он слишком презирал Массарелли, чтоб позволить ему заметить эти опасения, и продолжал сулить ему суровую кару с таким же спокойствием, с каким тот начал разговор. К счастью для неосмотрительного Христиана, Гвидо не был храбрецом, а потому держался на расстоянии, чтобы пуститься наутек, если противник вздумает выдать ему задаток в счет обещанного. — Послушай, Христиан, — заговорил он снова, решив, что первый пыл юноши остыл, — обсудим все хладнокровно, прежде чем дойдем до крайностей. Я готов дать тебе удовлетворение и ответить за свои поступки, стало быть, ты попусту оскорбляешь человека, у которого, как ты знаешь, нет оснований тебя бояться. — Жалкий трус! — ответил в ярости Христиан и подошел вплотную к Массарелли. — Ужели я стану требовать удовлетворения от тебя, подлейшего из подлецов? Нет, Гвидо, с такими, как ты, один разговор — пощечина! А если этого мало — их избивают как собак, но с ними не дерутся, понял? Сбавь тон и опусти глаза, каналья! На колени, или я тебя сейчас ударю! Гвидо побледнел как мертвец и молча упал на колени; по щекам его покатились крупные слезы — слезы страха, стыда или злости. — Хватит! — сказал Христиан, охваченный одновременно отвращением и жалостью. — Вставай и убирайся прочь; на сей раз я отпускаю тебя безнаказанным, но больше не попадайся мне на пути и не смей заговаривать со мной, где бы ты меня ни встретил. Для меня ты умер. Вон отсюда, лакей! Эта комната на ближайшие два или три часа моя. — Христиан! — вскричал Гвидо, вскочив с колен, с деланным или искренним пылом. — Дай мне только пять минут, чтоб объясниться! — Нет! — Христиан, слушай, — продолжал разбойник, прислонившись спиной к двери, на которую указал ему Христиан, — я должен сообщить тебе очень важную новость, от которой зависят и твое богатство и твоя жизнь! — Мое богатство, — сказал Христиан с презрительной усмешкой, — оно давно у тебя в кармане, вор! Но я придавал ему так мало значения, что давно о нем позабыл; что касается жизни, попробуй отними ее! — Я однажды держал ее в своих руках, Христиан, — ответил Гвидо, которому великодушие противника вернуло самоуверенность. — Это может повториться. Я был жестоко оскорблен тобой и жаждал мести; по я не мог забыть, что когда-то любил тебя, и даже сейчас, несмотря на то, что ты нанес мне новую обиду, хочу вернуть тебе прежнюю дружбу — это зависит только от тебя! — Благодарю покорно, — возразил Христиан, пожимая плечами. — Только у меня нет времени выслушивать твою высокопарную болтовню; я хорошо знаю ей цену. — Я не так виноват, как ты думаешь, Христиан; когда я ограбил тебя в Карпатах, я не волен был поступить иначе. — Так говорит всякий, кто продался дьяволу. — Да, я и впрямь продался тогда дьяволу. Я был атаманом шайки разбойников! Мои сообщники выследили тебя; они не спускали глаз с нас обоих. Не напои я тебя и не помешай тем самым твоему безрассудному сопротивлению, они бы покончили с тобой. — Значит, я еще должен благодарить тебя? Таков твой вывод? — Мой вывод — вот он: я нахожусь на пути к богатству. Не позднее, чем завтра, я смогу вернуть тебе все, что взяли, силой добившись моего позволения, люди, атаманом которых я стал против собственной воли; они же несколько дней спустя обобрали и бросили меня самого так же, как прежде — тебя. — Отлично, поделом тебе. — Ты помнишь, Христиан, сколько у тебя взяли денег? — Конечно. — Ты еще будешь завтра в Стольборге? — Не знаю. Это не твое дело. — Мое. Я хочу завтра язе вернуть тебе эти деньги. — Не трудись понапрасну. В Стольборге я у себя и никого не принимаю. — Но… — Замолчи, с меня хватит. — Но если я верну деньги?.. — Разве это те самые деньги, что ты украл у меня? Ведь не те же? Ты давным-давно их пропил. Так вот, раз Это другие деньги, которые достались тебе не иначе, как от грабежа или даже чего-то худшего, мне они не нужны. Запомни это раз и навсегда и избавь меня от своих хвастливых обещаний. Я не так глуп, чтобы в них поверить, а если б и поверил — все равно швырнул бы тебе прямо в лицо деньги, добытые грязными руками. Христиан замахнулся на Гвидо, чтобы вынудить его наконец уйти, и тому пришлось повиноваться. Operante уже закрывал за ним дверь, когда на лестнице показался Гёфле, закутанный в меха с головы до ног, с рукописью в руке. Адвокат, видимо, перекусил наспех или совсем не ел; зато он залпом проглотил пьесу, быстро усвоил ее суть и, опасаясь, что не успеет подготовиться к спектаклю, примчался пешком, при свете звезд, пряча лицо и меняя голос, когда приходилось спрашивать дорогу к театру марионеток, — словом, принимая всяческие предосторожности, словно молодой повеса, который спешит на тайное свидание с возлюбленной. В эти минуты он думал только о burattini, а тайны Стольборга вылетели у него из головы, будто их вовсе никогда не было; но когда он легко взбегал по лестнице, ему во второй раз за этот вечер попалась навстречу весьма подозрительная личность, и обстоятельство это вновь навело его на тревожные мысли о бароне Олаусе, Стенсоне и покойной Хильде. — Подождите, — сказал он Христиану, который выражал радость по поводу его рвения, — взгляните на человека, что идет по коридору; он только что повстречался мне на лестнице. Он вышел отсюда? Это лакей барона? Он вам знаком? — Слишком знаком, и мне только что пришлось высказать ему все, что я о нем думаю, — отвечал Христиан. — Не знаю, лакей он или нет, но это тот самый Гвидо Массарелли, о котором я упоминал не далее, как нынче утром, рассказывая вам о своих приключениях. — Ого! Вот так странная встреча! — воскликнул Гёфле. — И вполне возможно, чреватая для вас неприятностями. Он ненавидит вас, не правда ли? И причинит вам зло, какое только сумеет, если вы обошлись с ним, как он того заслужил. — Какое зло он может мне причинить? Он такой трус! Я заставил его стать передо мной на колени. — Ну, в таком случае… Не знаю, что он может сделать, не знаю, какая тайна стала ему известна… — Тайна, касающаяся меня? — Нет, — ответил Гёфле. Он уже собрался все рассказать Христиану, но вовремя вспомнил о своем решении скрыть от него все связанное со Стенсоном. — Но под маской Христиана Вальдо скрывается Христиан Гоффреди, а Гвидо способен вас выдать… — Пускай себе! Я не запятнал имени Гоффреди. Придет, надеюсь, день, когда мои удивительные приключения послужат мне на пользу. Скажите, к чему мне опасаться людского мнения? Разве я лентяй или распутник? Да я смеюсь над всеми Массарелли вместе взятыми! Разве я уже не завоевал репутацию рыцаря здесь, в Швеции, да и в других местах, под моей шутовской маской? Мне приписывают больше подвигов, чем я способен совершить за всю жизнь, я становлюсь легендарной личностью! Не я ли прошлым вечером прослыл наследником шведского престола? А если эта слава станет непомерно фантастической, к моим услугам всегда найдется другое имя, как только представится случай заняться серьезным делом. Самое важное теперь — и то исключительно ради вас, господин Гёфле, — чтобы под маской Вальдо не узнали человека, который назвал себя вчера на балу вашим племянником. Ну, а в том, что Массарелли не был здесь вчера вечером, я совершенно уверен, и об этом моем приключении ему ничего не известно, иначе он поспешил бы похвалиться такими сведениями. Впрочем, что бы ни случилось, вам достаточно говорить правду, то есть повторять во всеуслышание, что у вас никогда в жизни не было ни племянника, ни внебрачного сына и что вы вовсе не ответственны за проделки, которые шутнику Христиану Вальдо угодно вытворять на глазах у всех. — А мне на это наплевать! — возразил Гёфле. Он снял парик и, взяв из рук Вальдо тонкую шелковую черную маску, натянул ее на голову. — Напрасно вы полагаете, будто я способен струсить перед всеобщим пугалом! Послушайте, Христиан, сейчас я впервые выступаю в роли кукольника — operante, как вы говорите. Так вот, если когда-нибудь вас попрекнут тем, что вы, желая в дальнейшем посвятить себя науке, были бродячим комедиантом, вы сможете ответить: я знаю человека, который с честью подвизался на весьма серьезном поприще и в то же время был моим партнером ради собственного удовольствия! — Или, вернее, из добрых чувств ко мне, господин Гёфле. — Из самых дружеских чувств, если хотите, — вы мне по душе; но я солгу, если скажу, что наше с вами занятие мне докучает. Напротив, мне кажется, что оно будет весьма и весьма забавным. Прежде всего пьеса очаровательна, безмерно остроумна и местами очень трогательна. Вы правильно поступили, переделав ее так, что никто не увидит в ней намеков. Ну, Христиан, пора репетировать! У нас осталось только полчаса. Поспешим! Дверь хорошо заперта? Никто не сможет подсмотреть или подслушать? Христиану пришлось удерживать Гёфле, чтобы он не напрягал попусту голос и не потратил весь запал на репетицию. Содержание каждой сцены излагалось в нескольких словах на вывешенном листе картона; достаточно было двух-трех реплик, чтобы соткать канву для импровизации диалога в присутствии зрителя. Теперь оставалось разместить актеров на запасной полочке, чтобы безошибочно взять того или другого, когда придет его черед предстать перед публикой, уговориться заранее о порядке и причине их появления на сцене и о теме их разговоров. Сам же диалог и различные вставные сценки создавались по вдохновению во время спектакля. Никогда еще у Христиана не было столь приятного и умного партнера, как Гёфле, поэтому он почувствовал прилив энергии, а к тому времени, как часы пробили восемь, он пришел в такое счастливое и бодрое расположение духа, какого не знавал с тех пор, как с ним выступал Массарелли, в те дни еще исполненный любезности и очарования. На какое-то мгновение ему стало грустно при мысли, что эти воспоминания отныне и навеки отравлены и лишены всякой прелести, но он быстро овладел собой и сказал Гёфле: — Ну, я слышу, как публика заполняет галерею. За дело, дорогой мой партнер, желаю вам удачи! В это время кто-то постучался в заднюю дверь, и мажордом Юхан позвал Христиана Вальдо. — Простите, сударь, сюда входить нельзя, — отозвался Христиан. — Ежели вам что-то от меня надобно, говорите, я слушаю. Юхан ответил, что Христиану надлежит быть наготове и дожидаться троекратного стука в дверь галереи, после чего дверь распахнется и театр предстанет перед глазами зрителей. После этих переговоров еще добрая четверть часа ушла на то, чтобы каждая дама покрасовалась перед всеми пышными фижмами и собственными прелестями и уселась рядом с приглянувшимся ей кавалером либо на виду у того, кому сама хотела приглянуться. Христиан уже привык к таким нравам, а потому спокойно расставлял на столике прохладительные напитки, приготовленные в гостиной для того, чтобы кукольники могли в антракте промочить горло. Потом оба заняли свои места под деревянным каркасом, на который спереди и с боков была натянута плотная ткань, непрочно скрепленная на стыках крючками. Задняя часть каркаса была открыта и находилась в достаточном отдалении, чтобы декорации, расставленные одна позади другой, создавали иллюзию глубины. Теперь обоим operanti оставалось только дожидаться троекратного стука: Христиан был спокоен, но Гёфле охватило лихорадочное нетерпение, которое он и проявлял в довольно крепких выражениях. — Досадуете на задержку? — спросил Христиан. — Значит, волнуетесь, а это хороший признак — вы блистательно сыграете. — Будем надеяться, — ответил адвокат, — хотя, по правде сказать, мне сейчас кажется, что я не сумею произнести ни единого слова и буду стоять, словно воды в рот набрав. Приятнейшее чувство, доложу вам, прямо голова кружится! Ни одно выступление на самом ответственном процессе, ни одна речь, от которой зависели жизнь или честь моего клиента, а также мой личный успех, не вызывали такой сумятицы у меня в мозгу и такого напряжения всех нервов, как эта предстоящая комедия. Перестанут ли наконец эти болтушки кудахтать там, за дверью? Может быть, они задались целью уморить нас в этом чулане? Еще немного, и я их обругаю! В конце концов раздались долгожданные три удара. Два лакея, стоявшие на галерее по обе стороны двери, одновременно распахнули створки, и зрители увидели, как маленькое театральное здание легко двинулось вперед, словно по собственной воле, и остановилось, заняв собой дверной проем. Четверо музыкантов, как это было условлено заранее, сыграли короткую музыкальную пьесу на итальянский манер. Взвился занавес, и пока зрители аплодировали декорациям, оба operanti успели взять кукол и приготовились к их выходу на сцену. Однако, перед тем как начать спектакль, Христиан постарался рассмотреть публику через глазок, специально проделанный в занавесе. Прежде всего взгляд его упал на ту, которую он мечтал здесь увидеть: Маргарита сидела рядом с Ольгой в первом ряду. Наряд ее вызывал восхищение; она была прелестна. Затем Христиан заметил барона, восседавшего позади дам в креслах, предназначенных для мужчин, и выделявшегося среди всех своим ростом. Лицо его казалось еще более бледным, нежели вчера. Тщетно Христиан искал глазами Массарелли; зато он обрадовался, увидев майора Ларсона, лейтенанта Эрвина и других молодых офицеров, проявивших к нему такую сердечность на вчерашнем бале и после бала; по улыбке, игравшей на их румяных, жизнерадостных лицах, можно было заранее угадать, что они доброжелательно примут спектакль. До слухаХристиана донеслись возгласы зрителей, расхваливавших декорации. — Да ведь это Стольборг! — говорили некоторые из них. — И впрямь, — раздался металлический голос барона Олауса, — мне тоже кажется, что это попытка изобразить наш старый Стольборг! Гёфле ничего не слышал и никого не видел. Он был взволнован чрезвычайно. Чтобы дать ему время собраться с духом, Христиан для начала разыграл без его помощи сценку с участием двух кукол. Его голос удивительным образом менялся в зависимости от того, за кого из кукол он говорил; к тому же он умел превосходно схватывать и передавать любые оттенки человеческой речи, а потому каждый персонаж говорил тем языком, какой требовался по роли и ходу действия. С первых же реплик диалог в исполнении Христиана покорил публику своей простотой и искренностью. Вскоре к Христиану присоединился Гёфле с куклой, изображавшей старика; и хотя поначалу адвокату не удавалось изменять голос, никому в голову не могла прийти мысль о его участии в представлении; к тому же все были убеждены, что за актеров говорит один только Христиан, и не переставали восхищаться многообразием его таланта. — Можно побиться об заклад, что их тут не меньше дюжины! — восклицал майор Ларсон. — Или по крайней мере четверо! — вторил ему лейтенант. — Нет, — возражал майор, — их всего двое, хозяин и слуга; но слуга — тупая скотина, из него еле-еле слово вытянешь; он еще и рта не раскрывал! — Нет, слушайте, вот они говорят вдвоем, я ясно слышу два различных голоса! — Чистейший обман слуха! — восторженно повторял Ларсон. — Это все тот же Христиан Вальдо, он умеет одновременно подражать голосам нескольких людей — двух, трех, четырех, а возможно, и больше, кто его знает? Черт, а не человек! Но вы послушайте пьесу, она тоже представляет немалый интерес. Он сочиняет такие штуки, что поневоле хочется их запомнить или записать! И все же мы не станем пересказывать пьесу нашему читателю. У подобных крылатых, остроумных творений та же судьба, что у любой музыкальной или устной импровизации. Всегда ошибаешься, думая, что они сохранят свою ценность, если их записать или удержать в памяти. Они пленяют нас именно своей неожиданностью, и чем туманнее становятся впоследствии воспоминания о них, тем больше прелести обретают они в нашем воображении. Христиан импровизировал с жаром, блеском и вкусом, и все обмолвки и оговорки, неизбежные в столь бурном потоке слов, покрывались умением автора выводить на сцену новых актеров, едва он чувствовал, что старым тут больше нечего делать. Что касается Гёфле, то ему позволили легко справиться с задачей природное красноречие, остроумие, всегда приходившее ему на помощь в минуты подъема, а также весьма обширное и глубокое образование. Его способность подхватывать на лету самые причудливые порывы фантазии партнера придавали диалогу неожиданно острые и забавные повороты, и Христиан более обычного поражал публику обилием и разнообразием своих знаний, о которых свидетельствовали эти блистательные отступления. Но, отказавшись от намерения передать содержание пьесы, мы по крайней мере обязаны поделиться с читателем тем, как Христиан переделал первое действие, столь тревожившее Гёфле. Опасаясь, как бы невольные намеки и впрямь не привели к неприятным для адвоката последствиям, Христиан превратил своего злодея в комический персонаж, некую разновидность Кассандра[412], обманутого воспитанницей, который всячески пытается разоблачить этот обман и найти «дитя тайны», но не вынашивает никаких коварных замыслов. Кот почему Христиан был весьма удивлен, когда среди финальной сцены этого первого действия он внезапно заметил какое-то волнение среди публики. Неясный шепот, выражавший не то восхищение, не то негодование, донесся до его слуха, привыкшего ловить между репликами любое проявление чувств театрального зрителя. «Что случилось?» — поспешно задал он себе вопрос и посмотрел на Гёфле, который с очень расстроенным лицом нетерпеливо притоптывал ногой, в то время как кукла, надетая на его руку, судорожно металась по сцене. Христиан решил, что адвокат перепутал ход событий, поэтому он на полуслове прервал Гёфле, вывел на сцену лодочника, поторопился закончить действие и опустил занавес под странный гул, доносившийся из залы, не похожий ни на аплодисменты, ни на свист, а скорее всего напоминавший говор толпы, в смятении покидающей залу до конца представления. Прежде чем отодвинуть свой театр в глубь гостиной, Христиан заглянул в глазок и увидел, что зрители еще не разошлись, но встали с мест и повернулись спиной к сцене, вполголоса переговариваясь о каком-то происшествии. Разобрав слова: «Ушел! Он ушел!», Христиан посмотрел по сторонам, силясь понять, о ком идет речь, и заметил, что барона в зале уже нет. — Ну что же, — сказал Гёфле, подтолкнув его локтем. — Вернемся за сцену, здесь нам делать нечего. Сейчас антракт. Итак, театр отодвинули в гостиную, двери, ведущие в галерею, закрылись, и Христиан, торопливо подготавливая декорации второго действия, спросил Гёфле, не заметил ли тот чего-либо необычного. Адвокат был вне себя. — Черт побери! — воскликнул он. — Ну и натворил же я дел! Как вам это нравится?! — Вы? Да вы превосходно сыграли, господин Гёфле! — Я свалял дурака, я с ума спятил! Можно ли поверить, чтобы такая беда приключилась с человеком, привыкшим выступать публично и касаться самых щекотливых вопросов в самых запутанных делах! — Ради бога, какая беда, господин Гёфле? — Как? Вы, стало быть, оглохли? Вы не слышали, что я трижды чудовищно обмолвился? — Чепуха! Со мной это, наверно, случается по сто раз на дню! Кто это замечает? — Да, как же! Вы полагаете, что никто ничего не заметил? Держу пари, что барон ушел до конца. — Да, он действительно ушел. Неужели его изощренный слух не в состоянии вынести неправильное ударение или не к месту сказанное слово? — Ах, тысяча чертей! Разве об этом речь! Лучше бы мне исковеркать всю грамматику, чем сказать то, что я сказал! Вообразите только: когда вы наклонились, чтобы провести лодку между скал, я, говоря за сбиров, три раза произнес «барон» вместо «дон Санчо»! Да, три раза! Первый — нечаянно, второй — когда заметил и хотел поправиться, третий — о, третий! Это неслыханно, Христиан! Изо рта вылетает именно то слово, которое боишься сказать! В этом есть что-то роковое, поневоле будешь верить, как наши крестьяне, в злых духов, что подчас вмешиваются в наши дела! — В самом деле, любопытный случай, — сказал Христиан, — но нет человека, с которым бы это не случалось. Какого черта это вас так тревожит, господин Гёфле? Не взбредет же барону в голову, что вы это сделали нарочно. К тому же разве в мире нет других баронов? Даже сейчас, среди наших зрителей, их было, возможно, не меньше дюжины! Подумаем лучше о втором действии, господин Гёфле: время идет, и нам вот-вот велят начинать… — Если только не велят вовсе прекратить спектакль. Слышите? Стучат в дверь! — Это опять мажордом. Станьте под раму, господин Гёфле, а я надену маску и открою. Надо узнать, что там творится. Гёфле спрятался, а Христиан натянул маску и открыл дверь, за которой стоял Юхан. — В чем дело? — нетерпеливо спросил его Христиан. — Мы можем продолжать? — А почему нет, господин Вальдо? — ответил мажордом. — Мне показалось, что барон нездоров. — О, это с ним часто случается, ему становится не по себе, если он долго остается без движения, но это пустяки. Он только что сам сказал мне, что вы должны продолжать представление независимо от того, будет он в зале или нет. Он хочет, чтоб вы хорошо позабавили его гостей. Но что за странная мысль пришла вам в голову, господин Христиан, изобразить наш старый Стольборг на вашем театре? — Я думал угодить господину барону, — дерзко ответил Христиан. — Неужто я ошибся? — Господин барон в восторге, он не переставая твердил: «Очень, очень красиво! Так и видишь перед собой наш старый замок!» — Отлично! — сказал Христиан. — Итак, продолжим наш спектакль. Всегда к вашим услугам, господин мажордом! Ну, смелее, господин Гёфле, — обратился он к адвокату, едва Юхан вышел. — Видите, все идет прекрасно, и наши страхи оказались пустыми бреднями. Бьюсь об заклад, барон окажется милейшим из людей! Того и гляди, он так преобразится, что мы причислим его к лику святых! Следующее действие, короткое и веселое, по-видимому, очень развлекло барона. Дон Санчо на сцене не появлялся, Гёфле ни разу не оговорился и сумел так изменить голос, что никто не догадался о его участии в представлении. Чтобы удержаться в приподнятом расположении духа, он выпил в следующем антракте несколько бокалов портвейна и к третьему, последнему действию был слегка навеселе, что не помешало спектаклю иметь еще больший успех, чем; в начале. Наряду с шутовскими выходками Стентарелло, потешавшими зрителей, в пьесе Христиана были и чувствительные сценки, разыгранные другими персонажами. В последнем действии Алонсо, «дитя озера», узнает, что Росита, дочь добросердечной четы, усыновившей и воспитавшей его, вовсе не приходится ему сестрой, и тотчас же изъясняется ей в любви. Такой поворот сюжета, достаточно известный на театре, всегда таит в себе известную опасность. Как-то неприятно, когда брат внезапно переходит от святых родственных чувств к бурной страсти, ибо, не смотря на изменившееся положение героев, это невольно наводит на мысль о кровосмешении. Но действующие лица пьесы, девушка и Алонсо, были единственными персонами, которых Христиан создал без комедийных преувеличений. Он придал Алонсо свойственные ему самому чувства и мысли. Образ этого доброго, благородного и отважного юноши пришелся зрителям по душе, и женщины, позабыв, что у них перед глазами всего лишь кукла, поддались очарованию нежного голоса, говорившего о любви с пленительным целомудрием и искренностью, столь отличными от свойственной тому веку жеманной изысканности французских пасторалей. Христиану были хорошо знакомы творения Мариво[413] — писателя, одаренного, с одной стороны, тончайшим умом, с другой — сердечной чистотой и волнующей страстностью. Христиан сумел проникнуть в его подлинную сущность, понять, чем поистине велик этот чудесный талант, и поэтому сам в совершенстве овладел языком любви. Любовная сцена показалась публике слишком короткой, раздались возгласы: «Еще! Еще!» И Христиан, уже отложивший было в сторону своего Алонсо, снова взял его, уступая желанию зрителей, и тут же придумал остроумный и вполне естественный повод для его возвращения на сцену. «Вы меня звали?» — спросил Алонсо свою юную возлюбленную, и в этих простых словах прозвучала такая робость, счастливая растерянность и наивность, что Маргарита закрыла лицо веером, чтоб скрыть жгучий румянец, внезапно окрасивший ее щеки. Сердце девушки в этот миг испытывало удивительное чувство. Она, единственная из всех, узнала голос Христиана Гёфле в голосе Алонсо. Может быть, это объяснялось тем, что она успела поговорить с ним дольше, чем другие, и голос его еще живо звучал в ее памяти. А ведь Христиан Вальдо нарочно говорил от имени своего юного героя несколько более звонким голосом, чем было свойственно ему самому; и все же Маргарита трепетала, ловя то и дело какие-то знакомые оттенки и интонации. Когда же началась сцена любовного объяснения, последние сомнения покинули ее, несмотря на то, что сама она от Христиана Гёфле не слышала ни единого слова любви. Маргарита ни с кем не поделилась своими мыслями, и когда Ольга, как всегда, холодная и насмешливая, толкнула ее локтем и спросила, уж ко плачет ли она, эта невиннейшая девушка ответила как завзятая лицемерка, что сильно простудилась и с трудом сдерживает кашель. Что касается Ольги, она куда лучше умела скрывать свои чувства: по окончании спектакля она с величайшим презрением отозвалась о пылко влюбленном юнце, хотя во время действия сердце ее билось учащенно, ибо у некоторых русских женщин холодный расчет вовсе не исключает я; ара страстей. Ольга со всей решительностью ступила на путь, куда влекла ее алчность; тем не менее ее сердце наперекор воле стал терзать тайный ужас перед бароном, едва она дала согласие стать его невестой. Когда после представления барон заговорил с ней, Ольга содрогнулась от его резкого голоса и ледяного взгляда, и тут поневоле вспомнились ей пылкие слова Христиана Вальдо и нежный звук его речей. Барон же, казалось, был в отличном настроении. Злополучный дон Санчо был благоразумно устранен стараниями Гёфле, хотя ему по ходу действия и надлежало бы еще раз появиться в конце пьесы. Но между первым и вторым действиями Гёфле, посоветовавшись с Христианом, внес в сюжет некоторые изменения. Дон Санчо в антракте скончался, Росита оказалась его дочерью и наследницей оставленного им огромного состояния и вышла замуж за Алонсо, вознаградив его таким образом за все лишения. Весь этот легкий вымысел, построенный на воздушной основе бесчисленных приключений, недоразумений и ошибок, романических событий и забавных взаимоотношений действующих лиц, среди которых особо выделялся Стентарелло с его наивным эгоизмом и отчаянной трусостью, вызвал бурный восторг всех зрителей, за исключением господина Стангстадиуса, который ничего не слушал и все бранил, возмущенный общим интересом к пустейшему творению, где науке не уделялось никакого места. Между тем Гёфле разлегся в глубоком кресле в гостиной, отведенной ему и Христиану; в то время как последний с привычной ловкостью и тщательностью разбирал и складывал на место составные части своего театра — причем все актеры умещались в одном ящике, а подмостки с декорациями — в громоздком, но удобном тюке, — адвокат отирал пот со лба и рассеянно прихлебывал испанское вино, предаваясь столь же блаженному отдыху, как и после выступлений в суде, когда он сбрасывал наконец мантию и парик и возвращался, как он говорил, в лоно личной жизни. Этому на редкость приятному человеку за всю жизнь почти что не довелось испытать неудач в отношениях с обществом и огорчений в делах домашних. Одного лишь недоставало Гёфле с тех пор, как он в зрелом возрасте вкусил радости покойной и размеренной жизни: внезапных, непредвиденных событий. Он утверждал, и сам, должно быть, этому перил, что всякая неожиданность ему ненавистна, но именно в силу своего многогранного таланта и пылкого воображения испытывал живейшую потребность в неожиданном. Поэтому в тот миг он, сам не зная почему, чувствовал необычайный прилив бодрости и очень сожалел, что спектакль уже окончен, ибо, несмотря на то, что все еще обливался потом от усталости, он готов был тут же присочинить к пьесе хоть с десяток дальнейших сцен. — Это еще что? — спросил он Христиана. — Я тут отдыхаю, а вы трудитесь, прибираете. Можно вам помочь? — Нет, нет, господин Гёфле; да вы и не сумеете. К тому же, видите, все уже в порядке. Готовы ли вы отправиться в Стольборг или хотите еще немного остыть? — В Стольборг? Неужто мы скучнейшим образом уляжемся спать после такого возбуждения? — Что касается вас, господин Гёфле, вы имеете возможность выйти из этого замка через потайную дверь, снова войти в него с парадного входа, сесть за праздничный стол, — я только что слышал, как звонят к ужину, — и принять участие в дальнейших увеселениях, подготовленных, должно быть, к нынешнему вечеру. Моя же роль окончена, и коль скоро вы отказались от родства со мной и я уже не могу появиться рядом с вами под именем Христиана Гёфле, я пойду восвояси, перекушу немного и займусь минералогией, пока меня не сморит сон. — Бедный мой мальчик, вы и впрямь, должно быть, устали! — Я чувствовал некоторую усталость перед началом представления, а сейчас я возбужден не менее вас, господин Гёфле. Ведь при импровизации испытываешь особый подъем как раз в тот момент, когда подходит конец пьесы, наступает развязка и занавес падает. Тут бы только и начать! Вот когда в полную меру достало бы и пылкости, и ума, и души! — Вы правы; вот почему я отнюдь не намерен сейчас расстаться с вами. Вам будет скучно одному. Мне знакомо Это состояние; то же бывало со мной после речи в суде; но сегодняшний вечер взволновал меня еще более, и сейчас я способен сочинить поэму, прочесть монолог из трагедии, поджечь дом или напиться, наконец, чтоб разделаться с этой потребностью совершить нечто небывалое! — Берегитесь, господин Гёфле, — сказал смеясь Христиан, — последнее вам уже угрожает! — Мне? Никогда в жизни! Увы! Мне свойственно глупейшее воздержание! — Однако взгляните, бутылка уже наполовину пуста! — Ну, знаете ли, полбутылки портвейна на двоих… Это еще не попойка! — Простите, я к ней не притронулся, я пил только лимонад. — В таком случае, — сказал Гёфле, отставляя только что наполненный бокал, — прочь от меня, коварный напиток! Самое печальное на свете — напиваться в одиночку. Хотите, пойдемте в Стольборг и напьемся там вместе? Или… постойте… Утром я слышал разговор о предстоящих нынче гонках при факелах на озере, если не помешает снегопад. А вечером, когда я шел сюда, погода была прекрасной. Не принять ли нам участие в гонках? Вы знаете, в рождественские праздники всякий волен рядиться, как захочет, да к тому же… ей-богу, я теперь вспомнил, нынешним утром графиня Эльведа как раз говорила о маскараде! — Превосходная мысль! — воскликнул Христиан. — Я окажусь в своей стихии: человек в маске! Но где нам взять костюмы? У меня здесь, в ящике, их добрая сотня, но вряд ли кому-нибудь из нас придется впору платье куклы! — Э! Найдем, возможно, что-нибудь в Стольборге, как знать! — Только не среди моих пожитков. — Тогда, возможно, среди моих! За неимением лучшего всегда можно вывернуть наизнанку собственный костюм! Ну-ка, немножко воображения… — Идите вперед, господин Гёфле, а я вслед за вами. Мне еще надо навьючить поклажу на осла и получить деньги. Вот вам маска, наденьте ее, у меня есть вторая; кто знает — вдруг на лестнице вам встретится какой-нибудь любитель поглазеть… — Или любительница… поглазеть на вас! Поспешите, Христиан, я пошел. И Гёфле, подвижный и легкий, как в двадцать лет, помчался вниз по лестнице, расталкивая слуг и тщательно закутанных дам, пробравшихся туда в надежде хоть мельком увидеть знаменитого Христиана Вальдо. Поэтому на Христиана уже никто не обратил внимания и он почти никого не встретил на лестнице, когда, в свою очередь, вышел туда, нагруженный ящиком и огромным тюком. — Ну, — говорили зеваки, — вот этот, конечно, слуга, коли он несет на себе всю поклажу. Никак он тоже в маске? Каков хлыщ! И все они были в отчаянии, оттого что не успели подметить ни единой черточки «настоящего» Христиана Вальдо, не составили о нем ни малейшего представления, когда он с быстротой молнии промелькнул мимо них. Еще в гостиной, укладывая театральный скарб, Христиан заметил, что пресловутый Юхан пытается проникнуть в гостиную, дабы застать его врасплох, под предлогом необходимости рассчитаться за представление, на деле же стремясь удовлетворить собственное любопытство. Христиану захотелось посмеяться над настойчивым пройдохой, а потому он тщательно закрыл лицо маской и учтиво распахнул перед Юханом дверь. — Я имею удовольствие говорить с маэстро Христианом Вальдо, если не ошибаюсь? — сказал мажордом, передавая актеру деньги. — Безусловно, — ответил Христиан. — Разве вы не узнаете меня по голосу и по одежде? — Конечно, любезный, конечно; но ваш слуга, как видно, тоже носит маску: я только что видел, как он прошмыгнул мимо и выглядел, ей-богу, не менее таинственно, чем вы; однако вчера, с дороги, он не был так закутан, как нынче. — Этот плут позволяет себе носить мою шубу на плечах, вместо того чтоб держать ее в руках наготове для меня. Да я ему это позволяю, бедняга очень зябнет. — И вот еще какая странность: вчера ваш зябкий слуга показался мне на голову ниже вас. — Ах, вот что вас удивляет! — сказал Христиан, мысленно призывая на помощь весь свой талант импровизатора. — Разве вы не заметили, что у него на ногах? — Право, не заметил. На ходули он взгромоздился, что ли? — Не совсем так. Он просто надел башмаки на подставке толщиной в четыре-пять дюймов! — Это зачем же? — Как, господин мажордом, неужели вы, с вашим проницательным умом, задаете такой вопрос? — Признаюсь, не понял, — ответил Юхан, кусая губы. — Так знайте же, господин мажордом, что на таком театре, как наш, operanti должны быть примерно одного роста, иначе тот, кто повыше, невольно высунет голову на сцену и рядом с маленькими burattini покажется этаким жителем Сатурна, а тому, кто поменьше, придется все время так высоко поднимать руки, что он до смерти устанет раньше, чем проведет хотя бы одну-две сцены. — Стало быть, слуга ваш становится на подставки, чтобы с вами сравняться? Здорово придумано, ничего не скажешь, здорово! И тут же Юхан добавил, с сомнением покачивая головой: — Одно странно — отчего же я не слышал стука этих подставок, когда он спускался с лестницы? — Вам опять изменяет ваша природная сообразительность, господин мажордом. Если бы эти подставки не были подбиты толстым слоем войлока, они бы гремели на всю залу во время спектакля. — И на все-то у вас есть ответ… Но что ни говорите, я никак не возьму в толк, каким образом этот тупой простолюдин сумел так блестяще подыгрывать вам. — Проще простого! — ответил Христиан. — Такова сама сущность актера: на сцене он блистает умом (в данном случае вернее было бы сказать «под сценой»!), а уйдя за кулисы, впадает в ничтожество, в особенности если ему свойственна злосчастная привычка напиваться с челядью знатных вельмож. — Как! Вы полагаете, что он пил… — Со здешними лакеями, а они, господин мажордом, по-видимому, отдали вам полный отчет о своей поучительной беседе с ним, коль скоро у вас имеются столь точные сведения о его непроходимой тупости… Юхан опять прикусил губу, и Христиану стало совершенно ясно, что либо Пуффо за стаканом вина частично раскрыл собутыльнику его инкогнито, либо это полностью сделал Массарелли, положив в карман немалую толику денег. Пуффо знал Христиана только под именем Дюлака; Массарелли же знал все имена, под которыми он появлялся в различных местах, кроме, может быть, недавно присвоенного имени Христиана Гёфле. В последнем Христиану очень хотелось убедиться; вскоре он понял по жадному любопытству, сквозившему во взгляде мажордома, что тому не столь важно узнать, скрывается или нет череп мертвеца под этой черной маской, как необходимо удостовериться, что сегодняшний фигляр и вчерашний самозваный племянник Гёфле — одно и то же лицо. — Но все же, — произнес наконец Юхан после множества осторожных вопросов, ловко отбитых молодым искателем приключений, — если какая-нибудь милая дама… или прелестная девушка… скажем, графиня Маргарита… попросит вас снять маску — неужели вы заупрямитесь и откажете ей? — Что это за графиня Маргарита? — спросил Христиан самым непринужденным тоном, несмотря на горячее желание отвесить оплеуху достойному Юхану. — Бог ты мой! — ответил мажордом. — Я назвал графиню Маргариту, потому что она, без сомнения, самая красивая женщина из всех, кто сейчас находится в замке. Неужто вы ее не заметили? — А где же я мог ее видеть, скажите на милость? — Среди ваших зрительниц в первом ряду. — О, если вы полагаете, что я, разыгрывая почти в одиночку пьесу с двадцатью действующими лицами, еще успеваю заглядываться на дам… — Этого я не знаю, но неужели вы не горите желанием понравиться такой прелестной женщине? — Понравиться? Господин Юхан! — воскликнул Христиан с отлично сыгранным жаром. — Вы, сами того не зная, произнесли очень жестокое слово. Вам, по-видимому, неизвестно, что судьба наградила меня чудовищно уродливой внешностью и только по этой причине я стараюсь прятать лицо под маской! — Я об этом слыхал, — возразил Юхан, — но мне приходилось слышать и обратное; именно поэтому господину барону и всем гостям, в особенности съехавшимся сюда дамам, весьма желательно знать, чему, собственно, верить. — Я нахожу это желание очень обидным для себя и, чтобы отбить у них охоту, беру вас в свидетели. И с этими словами Христиан, уже заранее потушивший из предосторожности все свечи, кроме одной, сбросил черную шелковую маску и как бы с отчаянием поспешно открыл взглядам мажордома свое лицо, или, вернее, вторую маску из полотна, залепленного воском, маску, столь искусно выполненную, что в неверном свете свечи, да еще наспех, невозможно было не принять ее за человеческое лицо, курносое, смертельно бледное и обезображенное огромным багровым родимым пятном. Несмотря на всю свою подозрительность, Юхан попался на удочку и вскрикнул, будучи не в силах скрыть отвращение. — Простите меня, любезный, — спохватился он тотчас же, — вы поистине достойны сожаления, и все же я завидую вашему таланту и уму! Сам мажордом был так дурен собою, что Христиан едва удержался от смеха, видя, что тот считает себя красивее, чем страшная личина. — Ну, а теперь, — сказал он, снова закрывая лицо черной маской, — скажите мне попросту, почему вы так любопытствовали узнать, насколько я некрасив? — О господи! — ответил Юхан после минутного колебания с наигранным простодушием. — Так и быть, скажу вам… Более того, если вы поможете мне раскрыть одну тайну — о, это сущий пустяк, но здесь многие хотят разгадать ее, — вас, несомненно, отблагодарят… понимаете, весьма щедро отблагодарит сам хозяин замка… Речь идет о шутке, о заключенном пари… — Я не прочь, — согласился Христиан, охваченный желанием узнать, верна ли осенившая его догадка. — В чем же дело? — Вы остановились в замке Стольборг? — Да, ведь здесь мне было отказано в ночлеге. — Вы провели ночь… в медвежьей комнате? — И превосходно выспался! — Вот как, превосходно? А ведь говорят, что привидение… — Неужели вы собираетесь что-то узнать от меня о привидении? Да вы в него верите не больше моего! — Вы совершенно правы; но есть еще иное привидение, никому не ведомое, — оно появилось вчера на балу. Вы, должно быть, видели его в Стольборге? — Нет, никакого привидения я не видел. — Собственно, если я говорю «привидение»… Вы встретили там адвоката по имени господин Гёфле? Весьма достойный человек. — Да, я имел честь беседовать с ним нынче утром. Он занимает комнату с двумя кроватями. — Вместе с племянником. — Племянника я не видел. — Племянник он или нет, но это молодой человек вашего роста; на голос его я внимания не обратил, но лицом он мне показался весьма недурен, одет был в черное платье, — словом, как говорится, юноша приятной наружности. — Приятной наружности? Послал бы господь мне такое счастье, господин Юхан! Меня вчера так клонило ко сну, что я и не знаю, был он в Стольборге или нет. А видел я там только пьяницу по имени Ульфил. — И господин Гёфле тоже не видел этого незнакомца? — Думаю, что нет. — Он его не знает? — Ах, я вспомнил… Да, да, теперь понимаю, о ком вы говорите: я слышал, как господин Гёфле возмущался тем, что какая-то темная личность явилась на бал под его именем. Это он и есть? — Он самый. — Но как же случилось, господин мажордом, что, заподозрив в чем-то этого незнакомца, вы никого не послали за ним вдогонку? — Мы как раз ни в чем его не заподозрили: он выдал себя за родственника адвоката; мы не сомневались, что он опять явится сюда. И только сегодняшним утром, когда адвокат заявил, что его не знает, господин барон задался вопросом, как же осмелился этот самозванец явиться на праздник в замок! Должно быть, молодой нахал побился об заклад… Возможно, это студент горного училища в Фалуне… Но возможно также, судя по некоторым его намекам, что он побочный сын адвоката, не имеющий права носить его имя. — Все это, по-моему, не заслуживает внимания, — небрежно сказал Христиан. — Надеюсь, вы мне теперь разрешите пойти поужинать, господин мажордом. — Да, разумеется, вы отужинаете со мной. — Нет, благодарю, я очень устал и пойду восвояси. — Все туда же, в замок Стольборг? Наверно, вы терпите там всяческие неудобства? — Напротив, мне там очень приятно. — Есть ли у вас по крайней мере постель? — Нынешней ночью будет. — А пьяница Ульфил прилично вас кормит? — Как нельзя лучше. — Вы согласны дать завтра представление? — В котором часу? — Как сегодня. — Отлично. К вашим услугам. — Ах, еще словечко, господин Вальдо; но будет ли с моей стороны нескромным спросить ваше настоящее имя? — Ничуть, господин Юхан, мое настоящее имя — Стентарелло, ваш покорный слуга. — Ах, шутник! Стало быть, это вы всегда говорите в ваших пьесах от имени этого персонажа? — Или я, или мой слуга. — Загадочный вы человек! — Да, когда речь идет о секретах моего театра; ведь без этого — прощай престиж, прощай успех! — Можно ли, хотя бы, узнать, почему один из ваших персонажей носит титул барона? — Ну, об этом спросите у лакеев, подпоивших моего Пуффо; что же касается меня, я так привык к его промахам, что не заметил бы и этой оговорки, если бы он сам в страхе мне не сознался. — Он, возможно, подхватил какую-нибудь дурацкую сплетню? — Сплетню? Какую? Объяснитесь… — Нет, нет, не стоит того, — ответил Юхан, видя, что ловкость или беспечность его собеседника переменила их роли, и опасаясь, как бы ему не пришлось самому отвечать, вместо того чтобы расспрашивать. Однако он снова вернулся к занимавшему его вопросу. — Стало быть, у вас при себе была декорация, сходная со Стольборгом как две капли воды? — Нет, сходство было случайным и незначительным, ко я постарался довести его до совершенства. — Это зачем же? — Разве я не говорил вам? Чтобы угодить господину барону. Я всегда таким образом выражаю особое внимание жителям тех мест, где мне случается выступать. Как только я сменю место моего пребывания, я сменю и декорацию, и вместо Стольборга она изобразит что-нибудь совсем иное. Господину барону, видимо, не пришелся по вкусу задник? Ну, что поделаешь! Я ведь его писал наспех. Во время этого разговора Христиан с интересом наблюдал за выражением пренеприятной физиономии мажордома. Это был толстяк лет пятидесяти, ничем, на первый взгляд, не примечательный, благодушный и ленивый; но Христиан еще накануне заметил, вручая ему письмо с приглашением на бал, найденное в кармане Гёфле, пронзительный и недоверчивый взгляд, брошенный искоса и тут же сменившийся напускным равнодушием. Сейчас Христиану еще сильнее бросилось в глаза притворство мажордома, придававшее ему карикатурное сходство с его хозяином, бароном. Но так как в конечном счете Юхан был всего-навсего главным лакеем, то есть человеком необразованным и неотесанным, Христиану без труда удалось одержать над ним блестящую победу в этой игре, и мажордом удалился, не питая более сомнений относительно невинности его намерений. Христиан же почти окончательно убедился в правильности своих подозрений о судьбе баронессы Хильды. Ему стало ясно, что в Стольборге некогда разыгралась какая-то драма и что есть три вещи, которых барон не может без страха и гнева видеть на сцене, в каком бы виде они перед ним ни предстали: темница, тюремщик и жертва.X
Юхан, без сомнения, знал о разыгравшейся здесь трагедии, возможно даже — принимал в ней участие. Ему не терпелось выведать, насколько глубоко успел проникнуть в эту тайну Христиан Вальдо, этот бродячий летописец минувших событий. Намеки Христиана навели мажордома на мысль, что проболтался кто-то из лакеев, и благодаря этому Гёфле и сам Христиан оказались пока что вне каких-либо подозрений. Предоставим нашему другу грузить с философским спокойствием театральные пожитки на спину ослика и расскажем о том, что происходило вокруг, пока он беседовал с Юханом. Для этого нам придется вернуться к Гёфле, который бодро шагал по льду через озеро, в лучах луны и северного сияния, что-то напевал и размахивал руками, сам того не замечая. Меж тем в новом замке гости сели ужинать, и дамы с восторгом любовались великолепным рождественским пирогом весьма внушительных размеров; по северному обычаю, ему предстояло красоваться нетронутым до шестого января. Этот шедевр кондитерского искусства изображал собою пафосский храм[414], которому были приданы отдельные черты христианского зодчества в сочетании с причудами галантного века. Каких только не было тут строений, деревьев, фонтанов, человеческих фигурок, животных! Выпеченное тесто и застывший сахар всех цветов радуги и разнообразных форм не отличались по виду от ценных пород дерева и камня. За ужином барон поручил заботу о гостях одной из своих родственниц, престарелой девице, не примечательной ничем, кроме умения вести хозяйство, а сам удалился, якобы для того, чтобы просмотреть кое-какие срочные письма и ответить на них. Он всегда находил вдоволь предлогов, чтоб уединиться, когда был чем-либо озабочен. В данную минуту он заперся у себя в кабинете с каким-то бледным человеком, называвшимся Тебальдо; на самом деле это был не кто иной, как Гвидо Массарелли. Не без труда добился Гвидо разговора наедине с бароном. Юхан, ревниво следивший за тем, чтобы хозяин узнавал новости только через него, старался выведать у Гвидо его тайну и тем самым обойти его; по не таков был Массарелли, чтобы попасться ему на крючок. Он упорно стоял на своем и после целого дня блужданий по замку был наконец принят бароном; в предвосхищении этого свидания Гвидо и объявил Христиану о своей близости к барону. Беседа велась по-французски и началась с удивительного рассказа Массарелли, выслушанного бароном с ироническим и презрительным спокойствием. — Все это, — молвил наконец барон, — можно было бы назвать происшествием чрезвычайным, я бы даже сказал — откровением первейшей важности, если бы я мог принять на веру то, что от вас услышал. Но меня слишком часто обманывали в делах весьма щекотливых, и мне нужны доказательства более веские, нежели слова. Вы мне рассказали о событии странном, романическом, невероятном… — Но господин Стенсон признал, что все так и было! — возразил итальянец. — Он даже и не пытался отрицать… — Это вы так говорите, — холодно возразил барон. — К сожалению, я лишен возможности убедиться в вашей правоте. Соответствует рассказ ваш истине или нет, Стенсон, без сомнения, будет все отрицать, стоит мне начать его расспрашивать. — Вполне вероятно, господин барон; человек, способный на столь длительный, более чем двадцатилетний, обман, не постесняется лгать и впредь. Но если бы вы нашли способ подслушать разговор между ним и мной, вы бы узнали правду. Я берусь вырвать у него признание вторично, в вашем присутствии, лишь бы он не подозревал, что вы все слышите. — Разумеется, он так глух, что проникнуть к нему не представляет труда. Но… если, по его словам… лица, о котором идет речь, уже нет в живых… какое мне дело до поведения старика Стенсона в прошлом? Он, без сомнения, действовал из наилучших побуждений, и хотя молчание его весьма повредило мне и навлекло на меня чудовищные подозрения, все же протекшие годы уже рассудили нас… — В этом господин барон жестоко ошибается, — перебил его итальянец, умевший не хуже барона в случае необходимости держаться хладнокровно до дерзости. — Все это стало легендой здешних мест, и Христиан Вальдо подхватил эту легенду на пути сюда. — Будь это так, — возразил барон, не в силах скрыть тайного бешенства, — этот фигляр не осмелился бы сделать из легенды комедию и с такой наглостью выступить передо мной и моими гостями. — Однако его декорация, безусловно, изображала старый замок. Я сам был сегодня в Стольборге, а ведь Христиан Вальдо живет там, уж он-то все успел рассмотреть. Итальянцы… весьма нахальный народ, господин барон, эти итальянцы! — Я это вижу, господин Тебальдо. Итак, вы говорите, что этот Вальдо остановился в замке Стольборг? Стало быть, он с определенным намерением списал свои декорации с натуры? И с какой быстротой! Маловероятно. Должно быть, это сходство — случайное совпадение. — Не думаю, господин барон. Вальдо — человек очень способный и пишет красками столь же легко, как импровизирует. — Значит, он вам знаком? — Да, господин барон. — Как его настоящее имя? — Это я вам открою, господин барон, если названная мною сумма не покажется вам чрезмерной. — А какое мне, собственно, дело до его имени? — Знать его вам важно… И даже очень важно… Мнимый Тебальдо произнес эти слова так многозначительно, что, по-видимому, произвел некоторое впечатление на барона. — Вы сказали, — произнес тот после недолгого молчания, — что этого лица уже нет среди живых? — Так утверждает Стенсон. — А вы как думаете? — Сомневаюсь. — Христиан Вальдо, возможно, это знает? — Христиану Вальдо ровно ничего не известно. — Вы уверены? — Уверен. — Но ведь вы дали мне понять, что именно он-то и есть… — Я этого не говорил, господин барон. — Итак, вы хотите что-то сказать, ничего не говоря; вы хотите получить деньги вперед за какой-то вымысел. — Я, господин барон, просил дать мне только вашу подпись — на случай, если вы останетесь мной довольны. — Я никогда ничего не подписываю… Тем хуже для того, кто не верит моему слову. — Тогда, господин барон, я уношу свою тайну; ее получит бесплатно тот, кому она нужна не меньше, чем вам. И Тебальдо решительно направился к выходу, но барон его окликнул. То, что происходило сейчас между этими людьми, было делом совершенно естественным; каждый из них боялся другого. Первый, уходя, еще не взялся за ручку двери, как подумал: «Я безумец, барон сейчас прикажет меня убить, чтобы заткнуть мне рот». Второй же, со своей стороны, сказал себе: «Как знать? Он, возможно, уже посвятил кого-то в эту тайну; только от него самого я смогу узнать, чего мне опасаться». — Господин Тебальдо, — сказал барон, — что, если я докажу вам, что мне известно гораздо больше, нежели вы полагаете? — Буду весьма рад за вас, господин барон, — дерзко ответил итальянец. — Этот человек не умер; он здесь или по крайней мере был здесь еще вчера; я сам видел и узнал его. — Узнали? — удивленно повторил Массарелли. — Да, именно так, узнал; этот человек явился сюда под именем Гёфле, то ли с разрешения весьма почтенного лица, носящего это имя, то ли без его ведома. Итак, вы смело можете говорить: видите, я на верном пути, и совершенно бесполезно пытаться направить мои подозрения в сторону этого фигляра Вальдо. Итальянец от изумления не мог вымолвить ни слова. Он ничего не знал о вчерашних событиях, так как появился в замке только утром; он встретил Гёфле, но не обратил на него внимания, не будучи с ним знаком; шведского языка он не знал, далекарлийского и подавно; поэтому завязать беседу он мог только с мажордомом, ибо тот был склонен каждого в чем-то подозревать и немного знал по-французски. Следовательно, Массарелли совершенно ничего не знал о приключении Христиана на балу и даже не догадывался, о ком говорит барон. А тот, видя растерянность и замешательство итальянца, решил, что поставил его в тупик своей проницательностью. — Что ж, — сказал барон, — рассказывайте, и закончим на этом. Говорите всю правду, тогда вы сможете рассчитывать на известную награду, соразмерно с оказанной услугой. Но итальянец уже обрел прежнюю самоуверенность. Он был твердо убежден, что барон идет по ложному следу, а потому решил ни за что не отдавать свою тайну даром; сейчас он хотел только одного — выиграть время; но слишком упорствовать в молчании тоже не следовало, чтоб не навлечь на себя гнев этого человека, славившегося своей жестокостью. — Если господин барон даст мне двадцать четыре тысячи экю и двадцать четыре часа, — сказал он, — я представлю в его полное распоряжение то самое лицо, знакомство с которым для господина барона чрезвычайно важно. — Двадцать четыре тысячи экю — это слишком мало! — насмешливо ответил барон. — А двадцать четыре часа — слишком много. — Очень мало для одного человека. — Вам, может быть, нужны помощники? У меня найдутся верные и расторопные люди. — Если придется разделить с ними мои двадцать четыре тысячи экю, я предпочту действовать сам, на собственный страх и риск. — Что вы намерены предпринять? — То, что прикажет господин барон. — Вот оно что! Вы, как видно, собираетесь предложить мне… Но тут он умолк, услышав, что кто-то осторожно скребется за дверью его кабинета. — Подождите здесь, — сказал он Массарелли и с этими словами вышел в соседнюю комнату. Гвидо быстро оценил положение: спокойствие барона испугало его, и наиболее безопасным показалось ему вести в дальнейшем дело путем переписки. Поэтому он направился к двери, через которую его ввели, но она была заперта, и, несмотря на известный опыт, он не сумел раскрыть секрет этого замка; тогда он подошел к окну, но оно оказалось на высоте восьмидесяти футов над землей. Гвидо бесшумно подергал ручку двери, через которую вышел барон. Но и эта дверь была заперта. Зато открыт был ящик письменного стола, и в нем столбиками лежали золотые монеты, притом в изрядном количестве. — Эх! — вздохнул Массарелли. — Крепкие же здесь, видно, двери и прочные замки, если меня оставили с глазу на глаз с этим прекрасным золотом! И тут он уже встревожился не на шутку. Попытка подслушать, о чем говорят в соседней комнате, успехом не увенчалась. А говорили там вот что: — Ну, как, Юхан, удалось поглядеть на лицо этого Вальдо? — Да, господин барон, это вовсе не вчерашний незнакомец, а какой-то урод. — Хуже тебя? — Рядом с ним я красавец! — Да точно ли ты его видел? — Вот как вижу вас. — Застал его врасплох? — Вовсе нет. Я сказал, что мне любопытно взглянуть на него, и он охотно согласился. — А тот, самозванный Гёфле? — Как в воду канул! — Странно. Никому он не повстречался? — Этот Вальдо не видал его в Стольборге, а господин Гёфле не Имеет к нему никакого отношения. — Но Ульфил-то уж должен был застать его в Стольборге? — Ульфил застал в Стольборге только господина Гёфле, его слугу и страшного урода, которого я только что видел. — Слугу господина Гёфле? Это и есть наш переодетый незнакомец! — Этот слуга — десятилетний мальчишка! — Тогда, признаюсь, ничего не понимаю! — А этот итальянец,господин барон, ничего не рассказал вам? — Нет. Он или помешанный, или обманщик. Но я во что бы то ни стало должен найти незнакомца, оскорбившего меня. Ты говорил, что он вел разговоры и курил с майором Ларсоном и его друзьями? — Да, в нижней зале. — Следовательно, эти молодые люди его и прячут. Он скрывается в бустёлле майора! — Я велю установить надзор за бустёлле. Но не похоже, чтобы майор хранил какую-то тайну, больно уж он беззаботен на вид! Он приехал нынче утром и больше к себе не возвращался. Его лейтенант… — Настоящий осел! Но эти юнцы меня ненавидят. — Чем опасен для вас этот незнакомец? — Ничем и всем! Какого ты мнения о Тебальдо? — Отъявленный мошенник! — Вот потому-то и нельзя его отпускать. Понял? — Разумеется. — Как идет ужин? — Скоро подадут пирожное. — Придется мне там показаться. Вели приготовить мои лучшие сани и запрячь четверку самых резвых коней. — Вы намерены участвовать в гонках на озере? — Нет, напротив, постараюсь получше отдохнуть, но мне надобно, чтобы все думали, будто я полон сил и бодрости, а сейчас занимаюсь важными государственными делами. Прикажи кому-нибудь из слуг натянуть ботфорты, и пусть он сойдет за курьера в глазах гостей. Подними суматоху, погоняй людей туда-сюда с разными распоряжениями. Словом, надо, чтобы все поняли, что я очень занят, а стало быть, превосходно себя чувствую. — Итак, вам угодно, чтобы ваши любезные наследники лопнули от злости? — Да, Юхан, а я устрою им пышные похороны! — Аминь, дорогой хозяин. Проводить вас в столовую? — Нет, мне больше по нраву войти туда незамеченным и застать всех врасплох, особенно сегодня. Барон удалился, а Юхан прошел в кабинет, где перепуганному Массарелли минуты казались часами. — Идемте, любезный, — сказал ему Юхан с самым добродушным видом, — пора ужинать. — Но… разве я сегодня больше не увижу господина барона? Он мне велел подождать здесь… — А теперь он велит вам спокойно ужинать и ждать его распоряжений. Или вы думаете, у него других дел нет, как только слушать ваши россказни? Ну, идемте же. Да вы никак меня боитесь! Неужто я похож на злодея? «Еще как!» — подумал Гвидо и осторожно вытащил ид рукава стилет, которым отлично владел. Юхан заметил это и поспешил уйти; Гвидо последовал было за ним; но тут из-за двери выскочили два молодчика исполинского роста, накинулись на него и, приставив ему к груди пистолет, потащили в темницу замка; там они его обыскали, отобрали оружие и оставили под надзором стража башни: этот проходимец, убийца и мошенник по призванию, как говорили в те времена, носил в замке звание капитана, однако в парадных комнатах его никогда не видели. Юхан стоял тут же и с самым благодушным видом смотрел, как выворачивали карманы Массарелли и прощупывали все его платье. Убедившись, что при нем нет никаких бумаг, Юхан ушел со словами: — Спокойной ночи, милейший. Следующий раз будете сговорчивей! И добавил про себя: «Он хвастал, будто может доказать, что владеет важной тайной. Либо он врет, как болван, либо ведет себя осторожно, как человек деловой, но как раз осторожности-то ему и не хватило. Тем хуже для него! Посидит в темнице — живо во всем признается или представит свои доказательства!» Между тем барон, несмотря на плохое самочувствие, тихими шагами вошел в праздничную залу, сел к столу, прикинулся, будто с удовольствием ужинает, и проявил всю веселость, на какую был способен, то есть высказал с ледяной усмешкой несколько мыслей, свидетельствующих о его чудовищном безбожии, и с отталкивающей жестокостью позлословил насчет тех, кого за столом не было. Сей милейший господин обычно произносил подобные клеветнические речи вполголоса, с небрежным видом. Наследники и прихвостни, услышав это, всегда спешили тотчас же рассмеяться, а затем усердно распространяли его наветы. Иные из гостей возмущались его словами, бранили себя за то, что откликнулись на его приглашение, но это как раз и мешало им спорить с ним, а уже если они отваживались на возражения, то делали это со всевозможными оговорками. Такие оговорки только подчеркивали обвинения, брошенные бароном по адресу отсутствующих. Он же повторял сказанное с видом надменным и вызывающим, а льстецы наперебой поддакивали ему. Честные люди вздыхали и краснели, стыдясь своей слабости, заманившей их в это логово, но барон не любил долгих бесед. Он бросал еще какое-нибудь обидное словцо по адресу доброжелателей и трусов, потом вставал из-за стола и уходил, не сообщая, собирается ли воротиться. Все общество напряженно ожидало, пока не становилось ясно, что более он не явится. Тогда все с облегчением переводили дух, даже злоязычники, которые в его присутствии дрожали не менее остальных. Однако на сей раз барон упустил случай отомстить и кой-кого помучить. Если бы он знал, что Маргарита дважды побывала в Стольборге, он не преминул бы предать это огласке со свойственной ему язвительностью. К счастью, провидение хранило эту невинную тайну, и присутствие самозванного Гёфле в Стольборге осталось необнаруженным. Впрочем, Юхан велел своим подручным расспросить Ульфила обо всех, кто находился в Стольборге; но Ульфил Маргариту не видел, а на вопрос о том, как выглядит Христиан, ответил весьма удачно: недаром Христиан внушил ему непреодолимый ужас, скорчив страшную рожу и пробормотав какие-то угрозы на непонятном языке. Без маски Христиан нагнал на него еще больше страха, чем на самого Юхана, поэтому слова Ульфила только подтвердили мнение мажордома, и барон еще крепче утвердился в своем заблуждении. Итак, все пришли к выводу, что красавец Христиан Гёфле безвозвратно исчез, а настоящий Христиан Вальдо — чудовищный урод. Эту новость барон и поспешил сообщить за ужином, не скрывая удовлетворения, ибо как раз перед его приходом присутствующие восхваляли талант Христиана, и барону было очень приятно развенчать его. — Напрасно вы разочаровали графиню Маргариту, господин барон, — сказала Ольга, — ее пленило красноречие Христиана Вальдо, а завтра, после ваших слов, его голос уже не доставит ей никакого удовольствия. Маргарита сидела за столом неподалеку от Ольги и барона, но она сделала вид, что не слышит их разговора, чтобы не отвечать барону, если тот обратится к ней, ибо он со вчерашнего дня уже неоднократно, но безуспешно пытался завести с ней беседу. — Стало быть, вы полагаете, — спросил барон, повернувшись к Ольге, но достаточно громко, чтобы Маргарита услышала, — что в глазах графини любовную тяжбу выиграет только красавец защитник? — Не сомневаюсь, — ответила Ольга, понизив голос, — и к тому же если он не старше двадцати пяти лет. Этими словами Ольга хотела польстить своему пятидесятилетнему жениху, но он был в дурном расположении духа, и пущенная ею стрела не попала в цель. — Графиня, вероятно, права, — сказал он Ольге так тихо, чтобы только она одна могла его услышать, — чем дальше уходят в прошлое эти прекрасные годы, тем меньше остается в человеке привлекательности, а следовательно — меньше надежд на брак по любви. — Да, — ответила Ольга, — если действительно привлекательности становится меньше, но… — Но если ты еще не стал пугалом, — подхватил барон, — можешь почитать за счастье брак по расчету! И он продолжал, не давая Ольге возразить: — Не осуждайте же бедную девушку, она обладает в моих глазах превосходным качеством — искренностью; если человек ей отвратителен, она так откровенно бросает ему в лицо свою неприязнь, что счастливый смертный, которого она полюбит, сможет не сомневаться в ее словах. Она-то уж никого не станет обманывать! И прежде чем Ольга нашлась, что ответить, барон обернулся к своей соседке с другой стороны и переменил тему разговора. Молодую девушку охватила сильнейшая досада и тревога. Как только гости встали из-за стола, к ней подошла Маргарита, встревоженная не менее ее, хотя и по иной причине. — Что вам говорил барон обо мне? — спросила она Ольгу, уведя ее в безлюдную галерею. — Он говорил с вами две или три минуты, не спуская с меня глаз. — Вам почудилось, — сухо ответила Ольга. — Барон о вас и не думает! — Ах, как хотелось бы мне увериться в этом! Скажите мне правду, дорогая! — Позвольте заметить, Маргарита, что ваше волнение по меньшей мере нескромно. Ужели вы думаете, что вам станут так настойчиво поклоняться, невзирая на вашу неприступность? — А почему бы и нет? — сказала Маргарита, решив уколоть приятельницу, лишь бы выведать правду. — Как знать, моя неприступность приведет, быть может, к тому, что я займу помимо своей воли ваше место. В глазах прекрасной россиянки молнией сверкнул огонь оскорбленного тщеславия. — Маргарита, — молвила она, — вы объявили мне войну? Будь по-вашему! Вот, возьмите обратно свой браслет. Он мне более не нужен. Мое кольцо мне куда больше по вкусу! И она вынула из кармана футляр, где хранились оба украшения — браслет Маргариты и кольцо барона. — Черный бриллиант! — вскричала Маргарита, в ужасе отшатнувшись. — Вы осмелились дотронуться до него? Но тут же она овладела собой и обняла Ольгу со словами: — Все равно, все равно! Не хочу я никакой войны, дорогая моя, и благодарю вас от всей души за то, что вы показали мне этот залог вашей помолвки. Оставьте себе браслет, умолят вас! И сохраните вместе с ним мою благодарность и дружбу. Ольга разрыдалась. — Маргарита, — воскликнула она, — если вы кому-нибудь проговоритесь о кольце, я погибла! Я поклялась молчать об этом ровно неделю, и если барон заметит, что вы обрадовались, он откажется от меня и станет снова думать о вас… Тем более что он и без того о вас думает! — И вы плачете из-за него? Ольга, неужели вы в самом деле его любите? Ну что ж, душенька, это чувство возвышает вас в моих глазах, хотя и кажется мне весьма странным. А я-то думала, что вами движет только честолюбие! Если вы его любите, я тем более люблю вас и жалею! — Ах! — вскричала Ольга. — Это правда? Вы жалеете меня? И она увлекла Маргариту в глубь галереи, громко рыдая. Маргарита отвела ее в свою комнату, заботливо утешая, пока она наконец не успокоилась. — Да, да, теперь все прошло, — сказала Ольга, поднимаясь. — У меня уже было несколько таких нервических припадков со вчерашнего дня, по этот, я чувствую, последний. Решено! Я не стану попусту тревожиться, я вам верю, меня не одолеют более ни слабость, ни малодушие, ни страдания… Она вновь вынула кольцо, надела на палец и, побледнев, долго мрачно смотрела на него, а потом сняла его, сказав: — Мне еще нельзя его носить. — И снова положила кольцо в футляр и спрятала в карман. Маргарита рассталась с Ольгой, недоумевая, что с той происходит. Страсть этой девушки к барону, такому мрачному старику, казалась Маргарите непонятной, но со свойственными ей простотой и великодушием она поверила приятельнице, а в это время Ольга, охваченная внезапной ненавистью к своему жениху и отвращением к обручальному кольцу, боролась с тем, что сама звала малодушием, и силилась задушить сопротивление сердца и ума, всего своего существа ради горькой и опасной победы, ради завоевания громкого имени и высокого положения в обществе. Барон меж тем отдал все распоряжения относительно гонок и маскарада на льду, как будто сам намерен был принять в них участие. После чего, побежденный усталостью и недугом, он заперся у себя, в то время как гости собирались на праздник, а у входа, откуда лестница вела в его покои, рыли землю копытами кони в богатой упряжи, еле сдерживаемые кучером, застывшим в ожидании. У барона находился его врач, молодой человек, обладавший не столь большим опытом, сколь обширным образованием, и вот уже в течение года пользовавший барона. — Доктор, — говорил барон, отталкивая лекарство, поданное ему робкой рукой молодого врача, — вы плохо лечите меня! Бьюсь об заклад, это снова опиум? — Господин барон, вам необходимо принять успокоительное, нервы ваши крайне раздражены… — Еще бы, черт возьми! Я и сам это знаю. Но я хочу успокоиться, а не лишиться сил; постарайтесь унять эту конвульсивную дрожь, но так, чтобы не вызвать слабости. Больной требовал невозможного, а врач не осмеливался сказать это ему. — Надеюсь, — пробормотал он наконец, — это питье как раз успокоит вас, не отнимая силы… — А как быстро оно подействует? Я хочу поспать часа два-три, затем встать и заняться делами. Вы можете поручиться, что нынешней ночью я буду в силах работать? — Господин барон, вы приводите меня в отчаяние! После таких припадков, как вчера и сегодня, вы еще хотите работать ночью? Вы ставите себя в немыслимые условия! — Но ведь сил-то у меня не в пример больше, чем у обычных людей, не так ли? Разве вы сами по сто раз не повторяли мне, что болезнь пройдет? Значит, вы обманывали меня? Смеетесь вы надо мной, что ли? — Ах, как вы могли это подумать! — в полном смятении воскликнул врач. — Ну ладно, давайте сюда ваше лекарство. Оно сразу подействует? — Через четверть часа, если только вы не ослабите его действия собственным волнением. — Положите часы вот тут, возле меня. Я хочу убедиться, точно ли вы знаете, как действуют ваши снадобья. Барон выпил лекарство, усевшись в глубокое кресло, и позвонил, чтобы вызвать камердинера. — Скажите майору Ларсону, что я прошу его распоряжаться на гонках. Он управится лучше всех. Слуга вышел. Барон тотчас вернул его. — Пусть Юхан ложится спать, — сказал он. — Мне он понадобится к трем часам ночи. Он меня и разбудит. Ступай! Нет, поди сюда. Завтра я еду на охоту, все ли готово? Да? Хорошо. Теперь можешь идти. Слуга наконец вышел, а молодой врач, очень взволнованный, остался наедине с больным. — Лекарство ваше не действует, — нетерпеливо сказал барон, — я уже должен был бы уснуть! — Если господин барон будет тревожиться из-за бесчисленных мелочей… — Черт побери, когда б меня ничто не тревожило, мне, сударь, не нужен был бы врач! Ну, присядьте-ка вот тут, и побеседуем спокойно. — Господину барону лучше не беседовать, а сосредоточиться на чем-нибудь возвышенном… — Сосредоточиться! Я и так слишком часто этим занимаюсь! Мысли-то и нагоняют лихорадку. Нет, нет, давайте разговаривать, как прошлой ночью. Я ведь тогда за разговорами и уснул. Знаете, доктор, я твердо решил жениться. — На прекрасной графине Маргарите? — Вот и нет, она просто дурочка. Я женюсь на длинноногой Ольге. Будут у меня русские ребятишки. — Они будут красивы, не сомневаюсь. — Да, если у моей жены окажется хороший вкус, Я ведь ни на грош не верю вашей лести, доктор: жена будет мне изменять. Наплевать, лишь бы у меня был наследник, лишь бы взбесить всех двоюродных и троюродных братцев! Доктор, я должен дожить до этого, слышите? Имейте в виду, по завещанию вы от меня ни единого дуката не дождетесь! Зато, пока я жив, я буду щедро платить вам, чтобы вы почувствовали, как выгодно сохранять мне жизнь! Точно так же я поступлю и с женой: каждый лишний год моей жизни будет приносить ей роскошные наряды и новые украшения. А когда я умру, ей ни черта не достанется, если только она до тех пор не сумеет чего-нибудь скопить. Она даже не будет опекуншей своего ребенка! Да-с, мне вовсе не хочется, чтобы меня отравили! — Напрасно вы вынашиваете такие страшные мысли, господин барон. Это вредно… — Глупости, доктор! Скажите еще, что напрасно у меня оказалось столько желчи в печени. Разве я в этом виноват? — Прошу вас, постарайтесь думать о чем-нибудь приятном. Вот, например, об этой комедии кукол — до чего она была забавной! — Чтобы я думал о марионетках! Вы хотите сделать меня идиотом? — О, если бы я мог немного усмирить ваш пылкий ум… — Поменьше хвалите мой ум, прошу вас; я давно заметил, что он слабеет… — Это никому не заметно, кроме самого господина барона. Барон пожал плечами, зевнул и умолк на несколько мгновений. Врач увидел, что глаза его широко раскрылись, зрачки стали огромными, нижняя губа отвисла. Он засыпал. Внезапно барон вскочил и указал пальцем на стену: — Опять она! Как вчера! Сперва это был мужчина, потом женщина… Вот она смотрит в окно, вот наклонилась… Скорее, доктор, бегите к ней! Меня обманули, меня предали… Меня обошли, как ребенка… Ребенка… Нет, ребенка нет! И барон, очнувшись, уселся в кресло и добавил с мрачной усмешкой: — Это все было в комедии Христиана Вальдо… Фиглярские штучки! Видите, доктор, я думаю о марионетках, как вам хотелось… Какая тяжесть навалилась на меня… Не уходите… И барон окончательно уснул с открытыми глазами, что придавало ему сходство с мертвецом. Спустя несколько минут веки его ослабели и опустились. Врач нащупал пульс — он был наполненным и учащенным. По мнению врача, больному следовало пустить кровь. Но как его уговорить? «Продлить жизнь этому человеку наперекор воле небес и возможностям его собственного организма — задача неблагодарная, отвратительная, невозможная, — подумал бедный врач. — Либо им овладевают приступы безумия, либо его терзают угрызения совести. Я чувствую, что сам теряю рассудок, находясь подле него, меня также преследуют страшные призраки, овладевшие его воображением, будто попытка (охранить ему жизнь делает меня его сообщником в каком-то злодеянии!» Но у молодого врача были мать и невеста. Несколько лет щедро оплачиваемой работы могли дать ему возможность жениться и спасти мать от нужды. Поэтому он оставался здесь, прикованный к этому полутрупу, непрестанно поддерживая в нем жизнь умелой рукой, то горячо отдаваясь своему делу, то падая духом от усталости и отвращения и подчас сам не зная, ищет ли он исцеления, или кончины больного. Этот юноша был наделен кроткой душой и наивной непосредственностью. Постоянное общение с безбожником претило ему, он не смел защищать свои верования, ибо любое противоречие выводило больного из себя. Врач был человеком общительным и веселым; пациент же скрывал беспощадную ненависть ко всему человечеству под маской едкого, насмешливого цинизма. Пока барон спал, ночной праздник становился все оживленнее. Треск хлопушек, музыка, лай гончих, проснувшихся на псарне от ржанья запрягаемых коней, женский смех в коридорах замка, огни, мелькающие там и сям на озере, — словом, все, что происходило за пределами этой сумрачной комнаты, где лежал неподвижный, мертвенно-бледный барон, заставляло молодого врача еще острее ощущать одиночество своей подневольной жизни. А в это время графиня Эльведа вместе с русским послом готовила коварный заговор против Швеции, а двоюродные и троюродные братья барона не спускали глаз с дверей, ведущих в его покои, и спорили друг с другом: «Он сейчас выйдет!» — «Нет, не выйдет!» — «Здоровье его хуже, чем он думает!» — «Нет, оно лучше, чем полагают иные!» Как же дознаться правды? Слуги, всецело послушные суровой воле хозяина, который щедро платил и не менее щедро карал (как известно, слуги в Швеции еще и поныне подвергаются телесным наказаниям), неизменно отвечали на все вопросы, что господин барон чувствует себя лучше, нежели когда-либо; что касается врача, то барон, принимая его к себе на службу, заставил поклясться, что тот никому не откроет, насколько опасен его недуг. Мы уже знаем, что барон часто удалялся к себе в разгар затеянных им празднеств, раз навсегда объяснив эти исчезновения множеством неотложных и важных дел. В этом объяснении была доля истины: барон был всегда погружен в сложнейшие политические интриги, а помимо этого вел бесчисленные тяжбы, возникавшие по вине его беспокойного нрава и жажды власти. Но на сей раз, сквозь сонм привычных беспокойных мыслей, пробивалась неясная тревога, что и сказывалось на его здоровье. Какие-то злобные подозрения и давным-давно усмиренные страхи проснулись в нем после вчерашнего бала и еще окрепли после спектакля burattini. Все это и привело его в то состояние нервного раздражения, когда рог кривился в непроизвольной гримасе, а один глаз начинал заметно косить. Будучи весьма тщеславен и придавая большое значение красоте увядших, но благородных и правильных черт своего лица, в особенности теперь, когда он был занят предстоящим браком, барон скрывался от посторонних взоров, как только чувствовал, что лицо его сводит судорога, и требовал, чтобы врач помог ему скорее справиться с приступом. Поэтому, едва пробудившись от сна, барон тотчас же бросил взгляд в зеркало, лежавшее подле него, и был очень доволен, увидев, что лицо его вновь обрело обычный вид. — Ну, — сказал он врачу, — вот и еще один припадок миновал! По-моему, я хорошо вздремнул. Не бредил ли я во сне, доктор? — Нет, — смущенно солгал молодой человек. — Вы что-то скрываете, — возразил барон. — Послушайте, если мне случится заговорить во сне, вы должны запомнить мои слова и в точности передать их мне; я так хочу, вам это известно. — Вы произносили отдельные слова, без связи и смысла, по ним никак нельзя было догадаться о том, что вас беспокоит… — Тогда, видно, ваше питье и впрямь хорошо действует. Тот врач, что был тут до вас, пересказывал мне мои сны… Они были безобразны, омерзительны! Теперь, по-видимому, мне снятся только пустяки… — А разве вы сами этого не сознаете, господин барон? Разве, проснувшись, вы не чувствуете себя менее утомленным? — Нет, не могу этого сказать. — Значит, все еще впереди. — Дай-то бог! А теперь оставьте меня, доктор. Идите спать. Если вы мне понадобитесь, я велю разбудить вас. Но я чувствую, что опять усну. Пошлите сюда камердинера, я хочу лечь в постель. «Мой предшественник, — думал, уходя, молодой врач, — слишком многое слышал и слишком много болтал. Это дошло до барона, они поссорились; врача затравили, вынудили бежать из родных мест. Да послужит мне это уроком!» Тем временем Христиан добрался до Стольборга, где его ждал Гёфле. Адвокат торжествовал! Он взломал замок одного из огромных шкафов караульни и нашел там роскошные женские наряды. — Без сомнения, — сказал он Христиану, — платья эти принадлежали баронессе Хильде, и о них либо позабыли, либо Стенсон бережно сохранил их здесь; они вполне сойдут за маскарадный костюм, ведь таких нарядов давным-давно никто не носит, вот уж лет двадцать, как они вышли из моды. Взгляните, удастся ли вам напялить какое-нибудь из них; по счастью, дама эти была высокого роста, а если и скажут: «Юбочка-то коротковата!» — тоже не беда! А я сооружу себе костюм султана при помощи моей шубы и какой-нибудь тряпки, свернутой в виде чалмы. Ну, помогите же мне, Христиан! Ведь вы художник! Нет художника, который не сумел бы навертеть чалму! Христиан был совершенно трезв, поэтому его несколько огорчило, что Гёфле взломал шкаф. — Людей моего сословия, — сказал он, — постоянно обвиняют в кражах, и обычно не без повода. Вы увидите, что у меня из-за этого шкафа будут неприятности. — Ерунда! Я же здесь! — воскликнул Гёфле. — Я все беру на себя. Да ну же, Христиан, надевайте платье! Попробуйте по крайней мере. — Дорогой господин Гёфле, — сказал Христиан, — позвольте мне сперва хоть что-нибудь проглотить. Я умираю от голода. — Правильно! Перекусите! Да поскорее! — И потом, сам не знаю почему, — продолжал Христиан, принимаясь за еду, стоя и поглядывая на разбросанные платья, — мне как-то противно ворошить эти старые вещи. Несчастной баронессе Хильде выпала такая злая участь! Знаете, ведь я сегодня еще более, чем прежде, уверился в моих подозрениях о том, какою смертью она умерла! — К чертям! — воскликнул Гёфле. — У меня сейчас нет ни малейшего желания заново ворошить эти старые истории. Меня так и тянет куда-то бежать и веселиться напропалую. За дело, Христиан, за дело, и прочь печальные мысли! Наденьте-ка вот это роскошное платье в польском духе: оно великолепно! Лишь бы плечи пролезли, а остальное уж пойдет легче. — Не думаю, — сказал Христиан, запуская руку в карман платья. — Взгляните, какая у нее была маленькая рука, если она проходила в такой узкий разрез. — Но ведь и ваша прошла, как я вижу. — Да, но зато я уже не могу вытащить ее обратно… Стойте, там какая-то записка! — Ну-ка, ну-ка! — вскричал адвокат. — Это, наверно, занятно! — Нет, — промолвил Христиан, — не надо ее читать. — Почему? — Сам не знаю; мне это кажется кощунством. — В таком случае я то и дело занимаюсь подобным кощунством, ведь в мои обязанности как раз входит рыться в тайнах семейных архивов. С этими словами Гёфле выхватил из рук Христиана пожелтевший листок и прочитал следующее:«Возлюбленная моя Хильда, я только что прибыл в Стокгольм и застал здесь графа Розенстейна. Стало быть, мне нет нужды скакать в Кальмар[415], и десятого числа сего месяца я отправлюсь в обратный путь; мне не терпится поскорее обнять и приголубить тебя, заботиться о тебе и мечтать с тобою о будущем счастье, коль скоро господь опять одарил наш союз своей милостью. Посылаю тебе письмо сие с нарочным, дабы ты не тревожилась обо мне, — путь мой не был чрезмерно труден. Однако мне все же повстречалось немало препятствий, и я радовался, что ты, в твоем положении, не поехала со мной. Ведь до самого Фалуна не довелось спешиться. Итак, моя любимая, до скорого свидания, пятнадцатого числа или самое позднее шестнадцатого. А с Розенстейном тяжбы не будет, все уладилось. Люблю тебя. Твой Адельстан Вальдемора».
— Как это бесконечно грустно, господин Гёфле, — сказал Христиан адвокату, который молча укладывал платье на место, — найти такое письмо, дышащее любовью и семейным счастьем, среди одежд покойницы! — Да, очень грустно! — ответил Гёфле, снимая очки и развязывая накрученную чалму… — И к тому же странно. Знаете, над этим стоит призадуматься… Ведь бедная баронесса заблуждалась, она не была беременна и сама впоследствии, добровольно признала свою ошибку. Стенсон как раз сегодня рассказал мне об этом. Он был при ней, когда она подписывала ту бумагу… Но посмотрим, каким числом помечено письмо. Гёфле снова надел очки и прочитал: «Стокгольм, 5 марта 1746 года». — Вот как! — продолжал он. — Это в точности сходится, если мне память не изменяет… Ну, все равно! Слишком темное это дело для человека, жаждущего веселья! Впрочем, письмо я сохраню. Как знать? Надо будет опять просмотреть бумаги, доставшиеся мне от отца… Что с вами, Христиан? Вы так и не смастерили себе костюма? — При помощи этих тряпок, пропахших могилой? Дани за что! У меня дрожь пробегает по спине… Вы говорили нынче утром, что она была добродетельна, образованна, прекрасна — жемчужина Далекарлии! И умерла совсем молодой? — Двадцати пяти или двадцати шести лет, примерно месяцев через десять после того, как это письмо было написано: ведь граф Адельстан был убит в марте 1746 года. Это, наверное, последние слова, обращенные им к жене, и потому-то она и хранила при себе дорогое ей письмо, возможно, до последнего своего дня, наступившего так скоро. — Подумайте, как печальна ее судьба! — проговорил Христиан. — Быть молодой супругой, молодой матерью, внезапно стать бездетной вдовой… и пасть жертвой ненависти барона… — О, это совсем не доказано! Но слышите, выстрел. Гонки начались, Христиан, а мы с вами тут рассуждаем о делах, давно позабытых всеми и, надо сознаться, совсем нас не касающихся… Если вам нынче взгрустнулось, друг мой, оставайтесь здесь, а я побегу, мне надо проветриться; довольно с меня размышлений на сегодня! Христиан предпочел бы никуда не идти; но Гёфле находился в таком возбуждении, что Христиан боялся предоставить его самому себе. — Вот что, — сказал он, — не станем переодеваться, А чтобы показаться на людях вместе и не быть узнанными, мы оба наденем маски — как я, так и вы. Вы будете Христианом Вальдо, ведь ваша одежда куда наряднее моей; а меня уже приняли сегодня за слугу, и мне остается только играть эту роль и дальше: я буду Пуффо! — Отлично придумано! — воскликнул Гёфле. — Идем же! Да, кстати, свет гасить не стоит, не то господин Нильс, проснувшись, чего доброго, испугается; а чтобы он не проголодался, оставим ему крылышко цыпленка вот тут, под самым его носом. — Малыш Нильс? Разве он здесь? — Конечно! Я, как только пришел, первым делом перетащил его сюда из конюшни, раздел и уложил в постель. Он там в соломе промерз бы до костей, дрянной мальчишка! — Пришел он в себя? — Да, вполне; да еще выразил недовольство тем, что я посмел его потревожить, и ворчал, пока я его укладывал. — Ну, а Пуффо куда делся? Я не застал его в конюшне, когда привел туда осла. — Я тоже его не видел. Наверно, опохмеляется где-нибудь с Ульфилом. И на здоровье! Идем же, скоро полночь. Вы сумеете помочь мне запрячь коня? Увидите, мой славный Локи меня не посрамит! — Но вас сразу узнают по коню и саням. — Нет, сани у меня самые обычные; коня я купил как раз в здешних местах год тому назад, но мы наденем на него дорожную попону. По предложению барона участники гонок, по команде майора Ларсона, должны были устремиться на противоположный конец озера, к так называемому хогару, расположенному примерно в полумиле от Стольборга и нового Замка; как мы уже говорили, оба замка, старый и новый, находились очень недалеко друг от друга, первый — на островке возле берега, второй — на самом берегу. Хогарами называют курганы, насыпанные, как полагают, над древними могилами скандинавских вождей. Такой курган имеет цилиндрическую форму, склоны его почти отвесны, а на плоской верхушке, по преданию, вершили суд эти варвары правители. Курганы такого рода встречаются и во Франции, но в Швеции их гораздо больше. Хогар, служивший целью участникам состязания, являл собой в эту ночь поистине фантастическую картину. Он был увенчан тройным рядом смоляных факелов, и сквозь их багровый дым можно было разглядеть исполинское белое изваяние. Эту огромную статую за один день вылепили из снега крестьяне по приказу барона; недаром владелец замка, отлично знавший, каким прозвищем его наградили, насмешливо пообещал дамам, что на вершине кургана их ждет сюрприз в виде его собственного портрета. Эта грубо сработанная фигура удивительно сочеталась с окружавшей ее дикой местностью и напоминала тех большеголовых идолов с толстой, узловатой палицей в руке, что из века в век олицетворяют Тора[416] — скандинавского Юпитера, грозно вскинувшего молот над своим венценосным челом. Этот белый колосс, словно паривший в пустоте, поразил всех своим видом, и приглашенные радовались, что не побоялись морозной ночи и получили в награду столь необычное зрелище. Бледное северное сияние упрямо боролось с ярким светом луны; переливчатые оттенки сменяли друг друга, свет то угасал, то вновь разгорался, как свойственно этому явлению природы; очертания местности стали зыбкими и таинственными, а причудливая игра красок придавала пейзажу редкую красоту, не поддающуюся описанию. Христиану казалось, что все это ему спится, и он твердил Гёфле, что удивительная северная природа, несмотря на суровость ее, волнует его воображение больше, нежели все, что довелось ему видеть за годы странствий. Участники гонок уже выехали на лед в своих санях, и наши друзья присоединились к ним, стремясь не нарушить установившийся порядок. Ледяной покров озера был заранее тщательно осмотрен, и по нему была проложена дорога; она вилась в свете гигантских факелов, среди выступавших то тут, то там изо льда верхушек скал и островков, поросших елями и березами. Пышно убранные сани мчались стрелой по четыре в ряд, строго соблюдая положенную дистанцию благодаря умелым возницам и послушным коням. Ближе к берегу, где находился хогар, озеро достигало наибольшей глубины, и поверхность его была совершенно гладкой, без единого бугорка. Здесь все сани разом остановились и выстроились полукругом, те же, чьи молодые владельцы готовились вступить в состязание, стали в ряд, ожидая сигнала. Дамы и пожилые мужчины вышли из саней и поднялись на островок, особо убранный для этого, то есть заботливо устланный сосновыми ветками, дабы зрители не поморозили себе ног, наблюдая за подвигами гонщиков. Ледяное поле было залито ярким светом гигантского костра, пылавшего на скалах, позади созданных самой природой подмостков, на которых толпились наблюдатели. Собравшиеся здесь люди представляли собой зрелище не менее причудливое, чем местность, служившая для них фоном. Все были в масках, которые не только выполняли свое прямое назначение — скрыть лицо, но и защищали его от мороза, немилосердно щипавшего кожу. По той же причине приглашенные были тепло одеты и укутаны в меха, что, впрочем, отнюдь не исключало обилия золотых украшений, нарядных вышивок и сверкающего оружия. Участники гонок стояли у всех на виду в легких открытых санях, изображавших фантастических животных — огромных, серебряных, красноклювых лебедей, зеленых дельфинов, отливающих золотом рыб с загнутыми вверх хвостами и т. д. Майор Ларсон, забравшийся на чудовищного дракона, был под стать ему одет в шкуру какого-то диковинного зверя с огненными пучками молний на голове. На хогаре теснились те, кому надлежало раздавать награды победителям; они щеголяли в доспехах древних воинов, кто в крылатой каске, кто в колпаке с единым рогом над ухом — так изображают Одина в праздничном облачении, во всем блеске его божественной сущности. Христиан пытался разглядеть Маргариту среди дам, наряженных сивиллами или царицами варварских племен. Но наконец он понял, что старания его напрасны, и праздник, по-прежнему радовавший глаз, уже ничего не говорил его сердцу. Совсем обратное происходило с Гёфле, охваченным все нарастающим возбуждением. — Христиан! — кричал он. — Пускай наши наряды вовсе не наряды, пускай наши сани всего только сани! Почему бы и нам не попытать счастья? Неужто мой славный Локи уступит другим потому лишь, что на нем нет ни султана, ни птичьих чучел, ни рогов? — Дело ваше, господин адвокат, — ответил Христиан. — Вы его знаете, вам и решать, принесет он нам славу или позор. — Славу, я уверен в этом! — Что ж, тогда вперед! — Но ведь как он устанет, бедняга Локи! Поначалу разогреется, а там, упаси боже, схватит воспаление легких! — Что ж, тогда ни с места! — Черт бы побрал ваше хладнокровие, Христиан! У меня так и чешутся руки пустить его вскачь! — Что ж, тогда попробуем! — Да неужели я, человек благоразумный, способен загнать любимого коня только ради того, чтобы обскакать этих юнцов? Нелепо, правда, Христиан? — Нелепо, если вам это кажется нелепым; в подобных забавах все зависит от того, насколько они опьяняют. — Вперед! — воскликнул Гёфле. — Противиться опьянению — значит быть благоразумным, сиречь глупцом! Вперед, добрый мой Локи, вперед! — Стойте! — закричал Христиан, выскакивая из саней. — Надо снять с него попону, иначе он задохнется! — Верно, Христиан, верно! Спасибо, друг мой, только скорей, скорей! Все уже готовы! Едва адвокат произнес эти слова, как с оглушительным треском вспыхнул фейерверк, запущенный с другого островка, позади ледяного поля. Этот сигнал к началу состязания подстегнул тяжело дышавших лошадей. — Вперед, вперед! — крикнул Христиан Гёфле, придержавшему коня, чтобы его спутник успел вскочить в сани. — Ну, вперед же! Вы теряете время! Он хлестнул Локи, тот рванулся и вихрем понесся по льду, а Христиан остался на месте с попоной в руках, глядя вслед адвокату и его верному коню. Но недолго он пребывал в задумчивости. Вскоре ему пришлось отойти в сторону, чтоб не попасть под копыта лошадей, не принимавших участия в гонках, но разгоряченных примером других скакунов и громом фейерверка. Внезапно с Христианом поравнялись голубые с серебром сани, и он тотчас же узнал их — они принадлежали Маргарите. Кузов, расширенный кверху, напоминал карету времен Людовика XV, поставленную, или, лучше сказать, опущенную на полозья, и поэтому Христиан мог ненароком заглянуть в окошко, разукрашенное морозным узором. Он, впрочем, не надеялся увидеть в карете Маргариту, ибо полагал, что она находится с остальными на скалистых подмостках; но, к счастью, он все же бросил туда взгляд. Маргарита, отговорившись нездоровьем, не надела ни маски, ни маскарадного костюма и теперь сидела одна в санях, глядя в окошко. Кучер поставил сани поодаль от других, так, чтоб Маргарита могла видеть всех участников состязания, а это дало возможность Христиану, в свою очередь, увидеть Маргариту и стать вплотную к ее саням незаметно для остальных гостей, занятых увлекательным зрелищем гонок. Он ни за что не осмелился бы заговорить с ней и даже старался держаться так, будто очутился здесь невзначай, но она внезапно опустила оконное стекло и обратилась к нему, приняв его за одного из слуг, оттого что он все еще держал в руках попону. — Скажите, друг мой, — промолвила она вполголоса, но очень просто. — Тот человек в черной маске… точь-в-точь такой, как ваша… он только что был здесь, а сейчас мчится с остальными… Это ведь ваш хозяин? Это Христиан Вальдо, не правда ли? — Нет, мадемуазель, — ответил Христиан по-французски, не меняя на сей раз ни голоса, ни интонации. — Христиан Вальдо — это я. — Ах, боже мой, вы шутите! — ответила девушка, еле сдерживая радость, но еще более понизив голос, так как собеседник подошел вплотную к окошку. — Это вы, господин Христиан Гёфле! Что вас побудило играть нынче такую роль? — Быть может, желание остаться здесь, не ставя дядюшку в неловкое положение, — ответил он. — Значит, вам все же хотелось остаться? — проговорила она с таким выражением, что сердце Христиана учащенно забилось. Он не смог заставить себя ответить отрицательно, на это у него не хватило сил; но он почувствовал, что пора кончать игру, опасную скорее для него, нежели для юной графини, и, охваченный непреодолимым желанием быть с ней честным, поспешил сказать: — Я хотел остаться, чтобы вывести вас из заблуждения, я не то, что вы думаете. Я уже говорил вам — я Христиан Вальдо. — Не понимаю, — молвила она. — Вы однажды уже подшутили надо мной, разве этого не достаточно? Почему вы снова хотите играть какую-то роль? Неужели вы думаете, что я не узнала ваш голос, когда вы так умно говорили за марионеток Христиана Вальдо? Я ведь сразу заметила, что ума-то у вас побольше, чем у него. — Как это понимать? — изумленно спросил Христиан. — Чей же голос, по вашему мнению, вы слышали сегодня вечером? — И ваш и его. Я уверена, что слышала два голоса, а может быть, и три… Ваш, и этого Вальдо, и его слуги. — Клянусь вам, нас было только двое. — Пусть так, не все ли равно! Говорю вам, я узнала ваш голос, тут уж вы меня не обманете… — Хорошо, не отрицаю, это был действительно мой голос; но я должен сказать… — Слушайте, слушайте! — вскричала Маргарита. — Вот, называют имя победителя состязания. По-моему, это Христиан Вальдо. Да, да, теперь я уверена, я отчетливо слышу это имя! Да вон и он сам, в маске, стоит на маленьких черных санях. Это он, настоящий, а вы всего-навсего самозванный Вальдо! Но все же, господин Гёфле, ему еще многому надо у вас поучиться. Ведь все лучшее, что было в пьесе написано и сказано, вся роль Алонсо — это сделали вы! Ну-ка попробуйте под честным словом сказать, что я ошиблась! — Что касается роли Алонсо, вы правы… — Вы завтра опять будете играть, господин Гёфле? — Конечно! — Очень любезно с вашей стороны. Благодарю вас заранее; но больше никто об этом знать не будет, правда? Смотрите хорошенько спрячьтесь там, в Стольборге. Впрочем, я с удовольствием вижу, что вы осторожны и ловко умеете носить чужое платье! Кто вас узнает в таком наряде? Уходите скорее! Вот уже все садятся в сани, чтоб ехать к хогару и там чествовать победителя. И, конечно же, моя тетушка… Нет, она села в сани русского посла… Бросила меня одну! Понимаете, господин Христиан, ни одна мать так бы не поступила! Но молодая и красивая тетушка — это, конечно, не мать… Постойте-ка! Она, наверно, пошлет сюда господина Стангстадиуса, чтобы я не слишком скучала! — Господина Стангстадиуса! — воскликнул Христиан. — Где же он? Не вижу… — Он по наивности надел маску, как будто это может сделать его неузнаваемым! Если бы он был поблизости, вы бы сразу его заметили! Но его нет, а между тем все разъезжаются… — Барышня, — сказал кучер Маргарите на далекарлийском наречии, — ее сиятельство ваша тетушка делает мне Знаки, чтобы я ехал следом за ней. — Едем, друг мой, едем, — ответила девушка. — Но не пойдете же вы пешком, господин Гёфле? Садитесь на козлы, иначе вы не сможете присоединиться к остальным. — А что скажет ваша тетушка? И Христиан вскочил на козлы, с огорчением думая, что разговор окончен; но Маргарита закрыла боковое окошко и открыла переднее. Козлы, на которых сидел Христиан, были как раз на уровне этого окошка. Сани бесшумно скользили по глубокому снегу, так как Петерсон выбился из ряда и уже не ехал по прибитому насту дороги. К тому же славный малый не мог понять ни слова из разговора, ибо не знал по-французски. Итак, беседа продолжалась. — Что происходит в замке? — спросил Христиан, пытаясь отвести внимание от своей особы. — Я не вижу здесь барона; а уж его-то я, несомненно, узнал бы по росту, точно так же, как господина Стангстадиуса — по походке. — Барон заперся у себя под предлогом срочных и неотложных дел. Это означает, что он опять болен. Никто по поверил россказням о делах, все видели, что рот у него скосило набок, а глаз смотрит вкось. Знаете, он несмотря ни на что, удивительный человек, если так упорно борется со смертью. Если бы он нынче ночью состязался с молодежью, как и было задумано, он наверняка бы победил! ведь у него такие чудесные лошади! На завтра объявлена охота на медведя. Либо барон примет в ней участие и убьет медведя, либо его самого похоронят раньше, чем успеют отменить охоту. И то и другое вполне возможно. Все мы оказались здесь в несколько странном положении, не правда ли? Похоже, что нашему Снеговику вздумалось на деле убедиться, как мало у него друзей, — ведь все продолжают веселиться, как ни в чем не бывало. — Однако, Маргарита, вы сами восхищаетесь его мужеством; стало быть, вопреки вашей воле, он все же произвел на вас желаемое впечатление. — Знайте же, дорогой мой наперсник, — со смехом возразила Маргарита, — сейчас во мне почти что не осталось прежней ненависти к барону. Он мне стал безразличен, и я все ему простила. Он женится… Но эта тайна стала мне случайно известна, и ее надо сохранить, слышите? Он женится, но не на мне, а я, к счастью, остаюсь на свободе… хотя и в бедности… — Вбедности? Я полагал, что вы живете по меньшей мере в достатке… — Нет, ничего подобного! Нынче я окончательно рассорилась с тетушкой, все из-за того же барона: она заявила мне, что не даст мне ни гроша на жизнь и еще предъявит свои права на очень скромное наследство, оставленное мне отцом, оттого что в свое время он взял у нее взаймы не знаю уж сколько дукатов… чтобы… Словом, я в этом ровно ничего не поняла, кроме одного — я полностью разорена! — Ах, Маргарита! — вырвалось у Христиана. — Если бы у меня были имя и богатство! Послушайте, — добавил он, удержав ее за руку, так как она откинулась было в глубь кареты, — это не любовное признание, я не столь дерзок. Это было бы безумием с моей стороны, ведь я не могу похвалиться ни состоянием, ни родней… Но вы позволили мне считать себя вашим другом; разве это не дает мне права сказать, что, обладай я богатством и знатностью, я поделился бы ими с вами как с сестрой! — Спасибо, Христиан, — сказала Маргарита, несколько успокоившись, но все еще трепеща. — Я знаю, какое у вас доброе сердце, и вижу, что вы желаете мне добра… Но почему вы говорите, что не можете похвалиться родней, когда ваш дядюшка носит столь почетное имя? И тотчас она добавила, силясь рассмеяться: — Не кажется ли вам, что я как будто сказала… то, чего у меня, разумеется, нет и в мыслях… Нет, безусловно, вам это не пришло в голову. Разве вы фат? Конечно, нет. Вы так же доверчивы, как и я, и отлично понимаете, что я вас расспрашиваю, оттого что желаю вам счастья, все равно с кем… Скажите же, зачем вы попусту мучаете себя, когда немало людей могли бы позавидовать вашей принадлежности к такому достойному семейству? — Ах, Маргарита! — воскликнул Христиан. — Вы хотите Знать, а я — я тоже хочу сказать вам об этом! Поездка наша подходит к концу, и вскоре мы простимся, на этот раз — уже навеки… Но я не желаю остаться в вашей памяти ценой обмана. Вы вправе презирать меня, а потом забыть — что ж! Я к этому готов. Знайте же — Христиана Гёфле не существует. У господина Гёфле нет и не было ни сына, ни племянника. — Неправда! — вскричала Маргарита. — Он говорил то же самое сегодня в замке, и потом все повторяли его слова, но никто им не верил. Вы его сын… от тайного брака; придет время, когда он вас признает и усыновит, иначе быть не может! — Клянусь вам честью, я не состою с ним в родстве и еще вчера утром был вовсе незнаком ему, точь-в-точь как вам. — Честью! Вы клянетесь честью! Но если вы не Христиан Гёфле — я вас не знаю! И у меня поэтому нет оснований верить вам. Если вы Христиан Вальдо… говорят, будто он умеет подражать любому голосу… Нет, как хотите, я совсем потерялась… Но мне очень грустно… и я, слава богу, все еще нахожусь в сомнении… — Увы, не надо сомнений, Маргарита, — сказал Христиан, соскакивая с козел, так как сани остановились. — Посмотрите на меня и запомните: тот, кто навеки сохранит в сердце своем величайшую преданность и самое глубокое уважение к вам, и тот, кто сейчас клянется честью, что он Христиан Вальдо, — один и тот же человек! С этими словами Христиан поднял на лоб шелковую маску, решительным жестом подставил лицо под свет факела и наклонился к окошку, чтобы Маргарита получше его разглядела. Она тотчас же узнала друга, приобретенного ею вчера, и, едва сдержав горестный возглас, слишком, быть может, выразительный, закрыла лицо руками. Христиан снова натянул маску и смешался с толпой слуг и крестьян, глазевших на празднество. Вскоре он встретился с Гёфле, — как раз в тот момент, когда адвоката собрались торжественно нести на руках, отнюдь не за то, что он пришел первым (ибо пришел он, надо сознаться, последним), а за неожиданную и забавную выходку: он на всем скаку подцепил кончиком кнута парик Стангстадиуса, бесцеремонно забравшегося в сани Ларсона, к великой досаде молодого майора. Конечно, Гёфле сделал это безо всякого умысла — он просто-напросто взмахнул кнутом, и кончик этого кнута захлестнул косицу парика; подобные случаи обычно называют невероятными — ведь они вряд ли выпадают даже один раз на тысячу. Итак, Гёфле, силясь высвободить кнут, сорвал с головы ученого шляпу, и она черной птицей слетела в снег: парик, естественно, неразлучный со своей косичкой, последовал за кнутом, ибо у Гёфле не хватило времени отвязать кнут от парика, хотя клубок напудренных волос, повисший на кончике кнута, лишил это орудие его живительных свойств и подгонять им славного Локи уже не было никакой возможности. В первые мгновения после победы Ларсон, опьяненный успехом, ничего не заметил; но крики и брань Стангстадиуса, требовавшего, чтоб ему немедленно вернули парик, и прикрытая носовым платком голова его вскоре привлекли всеобщее внимание. — Это он! — вопил разъяренный геолог, указывая на Гёфле, еще не успевшего снять маску. — Этот итальянский шут в шелковой маске! Он нарочно все это подстроил, негодяй! Ну, постой же, мошенник, скоморох! Получишь сотню оплеух, будешь знать, как шутить с таким человеком, как я! Громовой хохот присутствующих заглушил гневные крики Стангстадиуса, и участники гонок принялись было, громко прославлять Христиана Вальдо, но события внезапно приняли иной оборот. Стангстадиус, окончательно рассвирепев от смеха дерзкой молодежи, бросился на похитителя парика: тот стоял на своей колеснице и смущенно показывал всем причину постигшего его поражения — парик, трепетавший на кончике кнута, как рыба на удочке. И в тот миг, когда Гёфле, изменив голос, в самых забавных выражениях предъявил Стангстадиусу обвинение в том, что тот сыграл с ним злую шутку, лишив его возможности подгонять лошадь, и тем самым помешал прийти с честью к цели, ученый, проворный, как обезьяна, несмотря на хромоту и крючковатые пальцы, вскарабкался позади него на козлы, сорвал с головы его шляпу и маску и, безусловно, осуществил бы свой мстительный замысел, если бы, к великому изумлению, не узнал своего друга Гёфле, которого толпа тотчас приветствовала дружными аплодисментами. Те, кто знал Гёфле в лицо, громко назвали его по имени, остальные быстро и единодушно подхватили. Шведы очень гордятся своими знаменитыми соотечественниками, особенно теми, кто своим талантом прославил родной язык. К тому же адвокат давно завоевал любовь и уважение молодежи честностью нрава и остротой ума. Его уже собрались объявить победителем гонок, и ему с большим трудом удалось отказаться от приза, который хотел отдать ему добряк майор: приз этот, огромный кубок в виде рога, украшенный причудливой резьбой и серебряными руническими письменами[417], представлял собой точную копию древнего и очень ценного кубка, найденного за несколько лет до того при раскопках хогара и хранившегося в кабинете барона. — Нет, дорогой майор, — сказал Гёфле, пряча в карман ненужную теперь маску, в то время как Стангстадиус водружал себе на голову парик, — я участвовал в гонках только чести ради, и коль скоро честь моя, а вернее честь моего коня, ничуть не пострадала из-за нескольких секунд опоздания по вине злополучного парика, я горд за Локи и доволен собой. Я был бы еще более доволен, — добавил он, спрыгивая с козел, — если бы знал, куда делась попона, — бедное животное того гляди простынет. — Вот она, — шепотом сказал Христиан, подходя к Гёфле. — Но раз вы всем открылись, дорогой дядюшка, мне остается только поскорее улизнуть; у Христиана Вальдо — еще может быть слуга в маске, но у вас — это было бы вовсе неправдоподобно! — Нет, нет, Христиан, я с вами не расстанусь, — возразил Гёфле. — Мы с вами сейчас бросим взгляд на озеро с высоты хогара, а затем вернемся вместе в замок Стольборг. Знаете что? Поручим моего коня заботам кого-нибудь из крестьян, а сами полезем наверх вот по этой тропке, она уведет нас подальше от зевак. Черная маска того и гляди привлечет внимание и нас вот-вот окружат и забросают вопросами.
XI
Христиан и Гёфле, никем не замеченные, скрылись за курганом, а большинство гостей вернулось в новый замок, сочтя, что подниматься на вершину хогара им будет не под силу, в особенности морозной ночью. Тем не менее в пещере на склоне, на полпути к вершине, была раскинута палатка и приготовлен пунш для желающих согреться; но дамы отказались от подъема, а мужчины последовали их примеру. Через полчаса, спускаясь с вершины, где мало-помалу таяла ледяная статуя, разогретая пламенем факелов, Христиан с адвокатом любопытства ради зашли в эту пещеру, затянутую со всех сторон просмоленными тканями, и застали там только Ларсона и его лейтенанта. Все молодые люди же разошлись, одни раньше, другие позже, кто — подчиняясь требованию возлюбленной, а кто — опасаясь, как бы не застудить коня. Осмунд Ларсон, весьма приятный молодой человек, делал все, что мог, дабы проникнуться французским духом, но, по счастью, был всем сердцем предан своей родине. Что касается лейтенанта Эрвина Осборна, то он принадлежал к тем грубовато-бесхитростным, простодушным людям, которые и не пытаются изменить свою сущность. Он обладал всеми качествами, необходимыми первоклассному офицеру и хорошему гражданину, и сочетал их с добротой здорового человека, не склонного ломать голову над тем, что его не касается. Ларсон был его другом, начальником и кумиром. Осборн следовал за ним как тень и пальцем не мог шевельнуть, не спросясь у него. Даже в выборе невесты он следовал советам Ларсона. Едва друзья завидели Гёфле, они бросились ему навстречу и наперебой принялись уговаривать его остаться, клянясь, что не отпустят его, пока он не окажет им чести выпить с ними. Пунш был уже готов, оставалось только зажечь его. — Я хочу иметь возможность похвалиться, — воскликнул Ларсон, — что в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое декабря я пил и курил на хогаре здесь, над озером, в обществе двух людей, каждый из которых по-своему знаменит — господина Эдмунда Гёфле и Христиана Вальдо. — Христиана Вальдо, — повторил за ним Гёфле. — С чего вы это взяли? — Да вот он стоит позади вас. Он одет как бедный простолюдин, он в маске, но все равно: он потерял одну из своих уродливых, грубых перчаток, и я тотчас же узнал его руку — эту белую руку мне случайно довелось увидеть однажды в Стокгольме, и я так внимательно рассмотрел ее тогда, что берусь узнать ее из тысячи! Послушайте, господин Христиан Вальдо, у вас очень красивая рука, но у нее есть одна особенность: левый мизинец слегка согнут, и вы не можете расправить его, как широко и дружелюбно вы ни раскрыли бы ладонь. Помните офицера, на глазах у которого вы спасли мальчонку-юнгу от ярости трех пьяных матросов? Это было в порту, вы только что вышли из своего балагана и еще не успели снять маску, а слуга ваш убежал. Не будь вас, мальчишка погиб бы. Припоминаете? — Да, сударь, — ответил Христиан. — Вы были тем самым офицером, который в это время оказался там и, выхватив саблю, обратил пьяниц в бегство; потом вы меня посадили к себе в карету. Без вашего вмешательства меня бы прикончили. — И на свете стало бы одним храбрецом меньше, — сказал Ларсон. — Согласны ли вы опять пожать мне руку, как тогда? — От всего сердца, — ответил Христиан, обмениваясь с майором рукопожатиями. Затем он снял маску и молвил, обращаясь к Гёфле: — Не в моих привычках скрывать лицо от людей, которые внушают мне доверие и самые дружеские чувства! — Как! — воскликнули вместе майор и лейтенант. — Вы Христиан Гёфле, наш вчерашний приятель? — Нет, Христиан Вальдо, присвоивший имя господина Гёфле и прощенный им за эту дерзкую выходку. Я тотчас же узнал вас еще вчера вечером, майор. — Отлично! Стало быть, вы были на балу, вопреки предрассудкам барона, у которого, очевидно, не хватило бы ума пригласить вас. — Ни в одной стране не зовут в гости человека, которому платят, чтобы он позабавил приглашенных. Следовательно, мне не пришлось бы обижаться, если бы меня выставили за дверь, и я сознательно подверг себя этой опасности, что было попросту глупо с моей стороны. Однако у меня есть оправдание: моя цель — получше узнать страны, по которым я путешествую, запомнить и впоследствии описать их. Я в некотором роде наблюдатель, ведущий запись виденному, что вовсе не означает, будто я иностранный шпион. Искусства и естественные науки занимают меня более, нежели обычаи и нравы; но в то же время меня интересует все, а так как мне в свое время довелось вращаться в свете, мной внезапно овладело любопытство вновь увидеть высший свет во всем его блеске здесь, в сердце гор, озер и льдов, среди местности, казалось бы, неприступной. Но дело в том, что лицо мое весьма не понравилось барону, вот почему я сегодня пришел в маске. Вчера вечером вы мне, кажется, советовали вовсе не возвращаться? — И повторил бы этот совет, дорогой Христиан, — ответил майор, — если бы барон еще помнил о вчерашнем; но, по-видимому, недуг отшиб у него память. Берегитесь, однако, его челяди. Наденьте маску, и перейдем на французский язык: его лакеи сейчас принесут нам пунш, а они, может статься, видели вас на бале. На стол нетесаного гранита поставили огромную серебряную чашу, до краев налитую пылающим пуншем, и майор принялся с веселыми шутками разливать его по бокалам. Меж тем Гёфле, еще недавно столь оживленный, внезапно впал в глубокую задумчивость и, казалось, точно так же, как это было утром, не мог решить: веселиться ли ему, или же размышлять над каким-то сложным вопросом. — Что это с вами, любезный дядюшка? — спросил Христиан, наполняя его бокал. — Уж не осуждаете ли вы меня за то, что я раскрыл свое инкогнито? — Ничуть, — ответил адвокат, — и даже, если вам угодно, могу вкратце рассказать господам офицерам вашу историю, чтобы доказать, что они правильно выбрали вас в друзья. — Да, да, историю Христиана Вальдо! — воскликнули офицеры. — В ней, без сомнения, кроется немало любопытного, а если ее надлежит сохранить в тайне, мы клянемся честью… — Но она слишком длинна, — возразил Христиан. — Мое пребывание у барона продлится еще два дня. Назначим встречу в более надежном и более теплом месте. — Верно! — сказал Гёфле. — Господа, приходите завтра в Стольборг отобедать или отужинать с нами вместе. — Но ведь на завтра назначена охота на медведя, — ответил майор. — Разве вы оба не намерены принять в ней участие? — Оба? Нет. Я лично не охотник и не люблю медведей; что касается Христиана, такое дело вовсе не для него. Подумайте, что будет, если медведь отгрызет ему руку? Ему и двух-то еле хватает, чтобы управлять куклами. Кстати, Христиан, покажите-ка мне руку; что там у вас с мизинцем? Странно, я раньше ничего и не заметил. Он поврежден, не так ли? — Нет, — ответил Христиан, — это у меня от рождения. И, протянув левую руку, добавил: — Видите, на левой руке это менее заметно, а на правой более; но это мне ничуть не мешает. — Странно, очень, очень странно! — повторил Гёфле, поглаживая подбородок, как он всегда делал, когда его что-то занимало. — Не так уж странно, — сказал Христиан. — Я не раз встречал этот незначительный изъян. Кстати, я заметил его у барона Вальдемора. У него это гораздо резче выражено, чем у меня. — Черт возьми! Вы правы. Я как раз об этом и думаю. У барона оба мизинца прижаты к ладоням. Вы обращали внимание на это, господа? — Неоднократно, — сказал Ларсон, — и можем смело сказать Христиану Вальдо, который не сочтет этого за намек, ибо отдает неимущим чуть ли не весь свой заработок, что согнутые таким образом мизинцы считаются признаком скупости. — Однако, — сказал Гёфле, — барон широко тратит деньги. Конечно, можно сказать, что такая расточительность служит ему поводом жаждать еще большего богатства и стремиться к нему любой ценой. Но отец его презирал деньги, а брат был человеком редкой щедрости. Следовательно, согнутые мизинцы еще ничего не доказывают. — А разве та же особенность встречалась и у отца и у брата барона? — спросил Христиан. — Да, и, судя по рассказам, это сразу бросалось в глаза. Однажды, внимательно рассматривая фамильные портреты предков барона, я был изумлен, обнаружив эти согнутые мизинцы у некоторых из них. Не правда ли, чрезвычайно странное явление? — Что ж, будем надеяться, что это останется единственной моей чертой сходства с бароном, — сказал Христиан. — А что касается охоты на медведя, я до смерти хочу в ней участвовать, и пусть даже мне суждено лишиться обеих рук с их изъяном, но я-то непременно буду там. — Вместе с нами! — воскликнул Ларсон. — Я зайду за вами утром. — Рано утром? — Конечно! До света! — Это значит, — с улыбкой подхватил Христиан, — около полудня? — Не клевещите на наше солнце, — сказал лейтенант. — Оно взойдет через семь-восемь часов. — Тогда… пора ложиться спать! — Спать? — воскликнул Гёфле. — Уже? Надеюсь, что пунш не даст нам уснуть! Я, например, только начал приходить в себя от волнения, пережитого в связи с париком Стангстадиуса. Дайте же мне свободно вздохнуть, Христиан; я вас считал куда более веселым. Кстати, знаете ли, вам сегодня изменил ваш веселый нрав. — Признаюсь, я нынче в меланхолии, как англичанин, — ответил Христиан. — По какой причине, племянничек? Ведь вы мой племянник, я на этом настаиваю сейчас, в дружеском кругу, хотя в большом обществе подло отрекся от вас. Отчего же вы вдруг загрустили? — Сам не знаю, любезный дядюшка; возможно, оттого, что превращаюсь мало-помалу в балаганного шута. — Поясните сей афоризм. — Вот уж три месяца, как я показываю марионеток, это слишком долгий срок. Было в моей жизни время, — я рассказывал вам, — когда я примерно столько же месяцев посвятил этому ремеслу и испытал, хотя и в меньшей степени (я был моложе!), то же, что испытываю теперь, то есть сильнейшее возбуждение, за которым следуют полный упадок духа, отвращение и нежелание вновь браться за дело, лихорадочные приступы красноречия, бьющие через край веселость и взволнованность, когда я наконец берусь за него, и чувство удрученности и презрения к самому себе, когда я снимаю маску и становлюсь обыкновенным, скучным человеком, подобным любому другому. — Э! Да со мной происходит то же самое, когда я выступаю в суде! Всякий оратор, актер, художник или учитель, который вынужден в течение доброй половины своей жизни из кожи вон лезть, обучая, просвещая и развлекая других, чувствует, когда занавес падает, что ему все постыло — и весь род человеческий и он сам. Я, например, сейчас весел и оживлен лишь потому, что вот уже четыре или пять дней не выступаю в суде. Видели бы вы меня, когда я сижу у себя в кабинете по возвращении из зала суда, слышали бы, как я злюсь на экономку за чай, поданный не вовремя, на клиентов, осаждающих меня, на скрипучие двери — уж не знаю, на что еще! Все меня бесит… А потом развалюсь в кресле, возьму книгу по истории или философии либо роман… и блаженно усну, забыв о своей проклятой профессии! — Вы «блаженно» засыпаете, господин Гёфле, ибо сознаете несмотря на расстроенные нервы, что совершили нечто полезное и дельное. — Гм, гм! Не всегда! Не всегда защищаешь правое дело, а даже если и защищаешь, не можешь быть до конца уверенным, что говоришь так, как того требуют истина и справедливость, Послушайте, Христиан, говорят, что нет глупых профессий; а я вам скажу, что все они глупые, поэтому совсем неважно, в какой именно из них вы блеснете талантом. Не презирайте своего ремесла: каким бы оно ни было, мое-то ремесло в сто раз его безнравственней. — Ого, господин Гёфле, ну и парадокс! Говорите, говорите дальше, мы слушаем! Ждем красноречивого выступления! — Нет, дети мои, красноречия не ждите, — сказал Гёфле офицерам и Христиану в ответ на уговоры дать волю воображению. — Здесь не место для мудрствований, да и я к тому же сейчас на отдыхе. Скажу попросту — ремесло, ставящее себе целью забавлять людей вымыслом, является первым из всех… первым по времени, это бесспорно, ибо едва человек выучился говорить, как он стал выдумывать мифы, слагать песни, рассказывать истории; первым по нравственной пользе — пусть попробуют оспорить это все университетские профессора во главе с самим Стангстадиусом, который верит только в то, что можно пощупать руками. Опыт еще никогда не шел человеку впрок; обучайте его истории сколько вашей душе угодно, а он неустанно будет совершать одни и те же безумства и ошибки, — правда, если хотите, всё в меньшей и меньшей степени, но всегда в соответствии с уровнем его цивилизованности. Разве мыто сами извлекаем какую-нибудь пользу из собственного опыта? Я, например, отлично знаю, что завтра поплачусь своим здоровьем за то, что нынче веселился как юноша, но мне на это наплевать! Стало быть, не разум правит человеком, а воображение, мечта. А мечта — это искусство, поэзия, живопись, музыка, театр… Подождите, господа, дайте мне осушить бокал, прежде чем перейти ко второму пункту моих рассуждений. — Ваше здоровье, господин Гёфле! — воскликнули все трое друзей. — Ваше здоровье, дети мои! Итак, я продолжаю. Я вовсе не считаю Христиана Вальдо обычным кукольником. Что такое марионетка? Деревяшка, одетая в тряпку. Только ум и душа Христиана придают интерес и достоинство его пьесам. Не смотрю я на него и как на актера, ибо не то чарует нас, что он ежеминутно говорит другим голосом и в другой манере — это всего-навсего ловкий прием. А вижу я в нем автора, потому что каждая пьеса его — маленький шедевр, напоминающий прелестные, восхитительные музыкальные сочинения, созданные великими итальянскими и немецкими композиторами для театров такого рода. «Эта музыка для детей», — скромно говорили они о своих произведениях. Однако наслаждаются-то ими знатоки. Следовательно, господа, воздадим Христиану Вальдо по заслугам! — Да, да, — закричали оба офицера, необычайно оживившиеся под действием пунша. — Да здравствует Христиан Вальдо! Он гений! — Ну, не совсем, — смеясь, возразил Христиан, — но теперь я понял, почему мой дядюшка презирает профессию адвоката. Он способен высказать самую неправдоподобную точку зрения и убедить других в своей правоте. — Молчите, племянничек, я вам не дал слова! Так вот, я утверждаю, что… Да ты просто неблагодарнейшее создание, Христиан! Ты не адвокат и при этом еще смеешь жаловаться на судьбу! Тебе дано находить истину в любом вымысле, а тебе уже наскучило привлекать к ней сердца людей! У тебя есть ум, сердце, образование, хорошее воспитание, а ты называешь себя балаганным шутом, чтобы принизить свое искусство, а может быть — вовсе расстаться с ним! Говори, несчастный, уж не это ли ты задумал? — Да, таково мое решение, — ответил Христиан, — с меня довольно. Мне казалось, что я смогу протянуть и дольше, но столь длительное инкогнито гнетет меня, как ребяческая затея, недостойная серьезного человека. Мне нужно найти способ путешествовать, не побираясь в пути. Я уже давно над этим думаю. Это трудная задача для человека неимущего. Тот, кто ведет жизнь оседлую, всегда найдет работу; но тому, кто хочет быть в движении, нынче приходится трудно. В древние времена, господин Гёфле, путешествовать — означало завоевывать землю на пользу разуму человеческому. Все понимали это, путешествие рассматривалось как высокая миссия, посвящение избранных душ в некую тайну. Недаром путешественник был существом священным для народов тех стран, куда он являлся, они почтительно приветствовали его и стремились узнать от него нечто новое о роде человеческом. В наши дни, если только путешественник не богач, он становится нищим, попрошайкой, вором или скоморохом… — Скоморохом.! — воскликнул Гёфле. — Зачем такое унизительное слово? Скоморох, которого я назвал бы скорее выдумщиком, ибо он излагает то, что выдумано им самим, ставит себе целью отвлечь человека от повседневности жизни, а так как большинство представителей нашей дурацкой породы настроено весьма прозаически и грубо приковано к материальным благам, наши Кассандры, возглавляющие общественное мнение, осмеивают портов и их лиру. Если бы они только посмели, они еще яростнее отвергли бы проповедников, которые твердят им о небе, и религию, которая воюет с низменными страстями и призывает к идеалу; но нельзя восставать против идеализма, являющегося общепринятой истиной. Никто не осмелится на это. Зато его отвергают, когда он наивно заявляет вам: «Я открою вам красоту и добро через иносказания и притчи». — А в то же время, — вставил Христиан, — притчи на каждом шагу встречаются в священном писании. С их помощью проповедовали в те времена, когда человек был простодушен и исполнен веры. Знаете, господин Гёфле, предвзятое отношение к комедианту кроется не в том, о чем вы упомянули, или, вернее, оно вытекает из одного факта, который я вам сейчас изложу. Комедиант не имеет реальных связей с остальным обществом. Будучи комедиантом, человек не оказывает обществу сколько-нибудь заметных услуг, тогда как уважение людей друг к другу как раз и возникает на основе взаимных услуг. Не забывайте, что все профессии тесно связаны с положением человека в обществе, даже профессия священника, который для неверующих все же представляет собой необходимого им чиновника. Что касается представителей других профессий, то каждый человек видит в них надежду или опору, в зависимости от того, как обернется жизнь. Врач несет ему надежду на сохранение Здоровья, судья и адвокат — на выигрыш тяжбы, делец — на приобретение богатств; торговец поставляет ему товары, солдат охраняет его безопасность, ученый своими открытиями содействует развитию его предприятий, преподаватель в любой области знаний дает ему образование, необходимое для занятия той или иной должности; один лишь актер говорит обо всем, но не дает ему ничего… кроме добрых советов, за которые зритель расплачивается у входа, хотя мог бы получить их даром, если бы только дал себе труд подумать. — Так что же? — воскликнул Гёфле, — К чему ведет все это словопрение? Мы пришли к одному и тому же выводу; ты только подтвердил мои слова: чернь презирает все, что порождено воображением и чувством! — Не совсем так, господин Гёфле, воображением непроизводительным чувством бесплодным! Чего же вы хотите? Разве несправедлив в своем суждении мещанин, когда он говорит актеру: «Ты мне твердишь о добродетели, любви, преданности, разуме, мужестве, счастье! Твердить об этом — твое ремесло; но коль скоро орудием твоим является только слово, не обессудь, если я сочту тебя пустозвоном. Если же ты представляешь собой нечто большее — сойди-ка с этих подмостков и помоги мне наладить мою жизнь так, как в пьесе ты наладил вымысел. Вылечи меня от подагры, выиграй в суде мое дело, принеси достаток в мой дом, выдай мою дочь за ее избранника, найди хорошее местечко моему зятю; а если все это тебе не по плечу, сшей мне хотя бы сапоги или вымости мне двор; сделай хоть что-нибудь путное за те деньги, что я тебе плачу!» — А вывод? — спросил Гёфле. — Вывод мой таков, что у каждого человека должно быть занятие, идущее непосредственно на пользу другим людям, и что неприязненное отношение к актеру и вообще к «выдумщику» придет к концу в тот день, когда театр станет бесплатным и любой разумный человек, способный хорошо представлять на сцене, сможет стать на какое-то время из любви к искусству «выдумщиком» или актером, какова бы ни была его настоящая профессия. — Вот эта фантазия, пожалуй, почище всех моих парадоксов! — Не спорю; но двести лет назад никто не поверил бы в существование Америки, а еще через двести лет, как я полагаю, люди совершат такие удивительные дела, о которых мы и мечтать не можем! С этими заключительными словами был допит остаток пунша, и Христиан уже намеревался проститься с Гёфле, который, по-видимому, был не прочь пойти с молодыми офицерами в новый замок и станцевать там куранту; но юрист не пожелал расстаться со своим другом, а так как тот и впрямь нуждался в отдыхе, все уговорились встретиться завтра, а вернее — сегодня же, ибо уже пробило два часа ночи; затем все разъехались восвояси. — Послушай, Христиан, — сказал Гёфле, когда они уселись рядышком в сани, держа путь в Стольборг, — неужели ты серьезно решил?.. Да, кстати, я замечаю, что сам не знаю, как и с каких пор стал говорить вам «ты»! — Продолжайте и впредь, господин Гёфле, мне это очень приятно. — Однако… я еще не так стар, чтобы позволить себе… Да мне еще и шестидесяти не стукнуло, Христиан! Прошу не считать меня патриархом! — Упаси боже! Но если в ваших устах «ты» звучит как дружеское обращение… — Еще бы, разумеется, мальчик мой! Итак, я продолжаю: скажи-ка мне… Тут Гёфле прервал свою речь и молчал так долго, что Христиану почудилось, будто адвокат задремал; но тот внезапно встрепенулся и промолвил: — Ответьте мне, Христиан: что бы вы стали делать с деньгами, если бы разбогатели? — Я? — удивился молодой человек. — Я попытался бы приобщить к своему счастью возможно больше людей. — Значит, Это было бы для тебя счастьем? — Да; я отправился бы путешествовать вокруг света. — А потом? — Потом?.. Не знаю… Написал бы книгу о своих путешествиях… — А потом? — Женился бы, чтобы завести детей… Очень люблю детей! — И покинул бы Швецию? — Как знать? Привязанностей нет у меня нигде. Черт меня побери, если… Нет, я не преувеличиваю, и я не пьян, но я испытываю к вам, господин Гёфле, самые дружеские чувства, и пропади я пропадом, если желание остаться возле вас не повлияло бы на мое решение! Но о чем это мы? Не в моих привычках строить воздушные замки, и я никогда не мечтал о богатстве… Через два дня я уеду черт знает куда, и, быть может, мне не суждено вернуться! Друзья вошли в медвежью комнату, совсем позабыв о якобы водившихся там привидениях, улеглись и заснули, не обменявшись ни единым словом о вчерашнем призраке. Поначалу, лея «а в постелях, они взялись было за продолжение своей беседы; но, несмотря на возбужденное состояние Гёфле и готовность Христиана поддерживать разговор, молодой человек вскоре почувствовал, что погружается в глубокий сон, словно в ворох мягких перьев, а юрист, поворчав на Нильса, храпевшего так, что дрожали стекла, в конце концов последовал примеру Христиана. К этому времени в новом замке пробудился барон Вальдемора. Когда Юхан, повинуясь полученному ранее приказу, вошел к нему в спальню, барон, полуодетый, уже сидел на постели. — Три часа утра, господин барон, — сказал мажордом. — Хорошо ли вы отдохнули? — Я спал, Юхан, но очень плохо; всю ночь мне снились марионетки. — Что ж, дорогой хозяин, это неплохой сон! Эти марионетки весьма забавны. — Ты находишь? Ну, пусть будет по-твоему! — Да ведь вы же сами смеялись, на них глядя! — Кто ж не смеется? Вся жизнь — это сплошной смех… Печальный смех, Юхан… — Ах, господин барон, гоните черные мысли. Какие будут приказания на нынешний день? — Никаких. Если мне суждено сегодня умереть, кто сможет помешать этому? — Умереть! Что за чертовщина лезет вам в голову! Вы нынче превосходно выглядите! — А ежели меня убьют? — Кому такое вздумается? — Многим; особливо тому человеку, что был на балу, я помню его лицо и угрозу… — Вы говорите о самозванном племяннике адвоката? Не понимаю, почему его лицо так тревожит вас. Ведь он ничуть не похож на… — Молчи, ты никогда ничего не видишь, ты близорук! — Отнюдь нет. — Этот нахал у меня в доме, на глазах у всех, осмелился бросить мне вызов! — С вами такое не раз бывало, и вы всегда смеялись! — А на этот раз я упал, как громом пораженный! — Это все проклятая годовщина! Вы отлично знаете, что каждый год в это время вы чувствуете себя нездоровым, а потом забываете об этом. — Мне не в чем себя упрекать, Юхан. — Черт возьми! Уж не думаете ли вы, что я вас в чем-нибудь упрекаю? — Но что же творится в моей бедной голове? Откуда Эти видения? — Э! Мороз тому виной! Со всеми это бывает! — С тобой тоже? — Со мной? Никогда! Я ем вволю, а вы ничего в рот не берете. Ну, откушайте хотя бы чаю. — Нет, еще рано. Что ты думаешь о словах итальянца? — Этого Тебальдо? Да вы мне ничего о нем не рассказали! — Верно. И не расскажу. — Почему же? — Это все слишком нелепо. Впрочем… скажи, как ты думаешь, враг ли мне Гёфле? Должно быть, враг! — С чего ему врагом-то быть? — Сам не знаю; я всегда щедро платил ему, и отец его был мне предан всей душой. — К тому же Гёфле весьма неглуп, краснобай, светский человек, и предрассудков у него нет, уж поверьте мне! — Ошибаешься! Он не хочет вести дело против Розенстейна; говорит, что я неправ; сегодня посмел спорить со мной. Ненавижу я этого Гёфле! — Уже? Ну, подождите немного. Посулите ему побольше денег, и он тотчас признает, что вы правы. — Я так и сделал вчера утром, а он резко отвечал мне. Говорю тебе, я его ненавижу! — Вам угодно, чтобы с ним что-нибудь случилось? — Еще не знаю, там будет видно. Ну, а как насчет старого Стенсона? — Что именно? — Мог он предать меня, как по-твоему? — Когда? — Я не спрашиваю когда. Ты находишь его скрытным? — Круглым дураком я его нахожу, вот что. — Сам ты круглый дурак! Стенсон еще тебя перехитрит, да и меня в придачу, возможно. Что, если итальянец сказал правду?.. — Стало быть, вы не хотите открыть мне, что он вам сказал? Вы мне больше не доверяете? Тогда терзайтесь и дальше, сами старайтесь все разузнать, а мне позвольте пойти на боковую. — Юхан, не брани меня, — необычайно кротко сказал барон. — Успокойся, ты все узнаешь. — Да, когда вам понадобится моя помощь. — Она мне нужна уже сейчас. Надо, чтобы итальянец представил доказательства, если они у него есть. При нем ничего не найдено? — Нет. Я сам его обыскал. — Он мне так и сказал, что у него ничего при себе нет. Да и что могло быть? Ты еще помнишь Манассе? — Еще бы! Этот плут некогда продал здесь немало товару, и за большие деньги. — Он умер. — Мне это все равно. — Его убил этот итальянец. — Странно! Зачем же? — Чтобы ограбить его, вероятно, и отобрать письмо. — Письмо? От кого? — От Стенсона. — Интересное письмо? — О, несомненно, если в нем написано то, на что намекал этот плут. — Ну, ежели хотите, чтобы я понял вас, — расскажите. Барон и его наперсник так понизили голос, что даже стены не слышали их беседы. Барон был взволнован, Юхан пожимал плечами. — Ну и басни! — сказал он. — Этот каналья Тебальдо наслушался россказней в наших краях и сочинил всю эту сказку, чтобы выманить у вас деньги. — Он говорит, что ноги его не было в Швеции до вчерашнего дня и приехал он прямиком из Голландии, через Дронтгейм. — Возможно. Да не все ли равно? Должно быть, он что-то случайно узнал от окрестных жителей; про вас тут сочиняют столько небылиц! А может быть, где-то, путешествуя, повстречал старика Манассе, который тоже в свое время наслушался здесь всяких сказок. — Ну, что же мне делать? — Надо припугнуть этого итальянского синьора, отбить у него охоту тянуть с вас деньги и посулить ему… — Сколько? — Два или три часа в нашем розариуме. — Он не поверит! Ему, наверно, уже успели рассказать, что в Швеции в пору царствования старика епископа все это покрылось ржавчиной. — Неужто вы думаете, что капитан большой башни не сумеет и без помощи этой железной рухляди развязать язык человеку из плоти и крови? — Ты, стало быть, советуешь… — Осыпать его розами, пока он не признает, что соврал, или не скажет, где прячет доказательства. — Невозможно! Он поднимет крик, а в замке полным-полно пароду. — А охота? Придется вам, хоть через силу, поехать, и тогда все последуют вашему примеру. — Все равно кто-нибудь да останется, хотя бы лакеи моих гостей. А старухи? Они скажут, что я беру на себя слишком много и посягаю на права государственной власти. — Подумаешь! Плевать вам на эти разговоры! Впрочем, я могу все это уладить: я скажу, что какой-то бедняга сломал ногу и лекарь сращивает ему кость. — И ты сам выслушаешь его признания? — Разумеется. Кто же еще? — Вот бы мне присутствовать при этом. — Вы же знаете, что у вас слишком чувствительное сердце, вы не выносите вида чужих страданий. — Да, это плохо отзывается на моем желудке и пищеварении… Хорошо, я и впрямь отправлюсь на охоту. — Тогда постарайтесь пока что уснуть. Я все беру на себя. — И отыщешь незнакомца? — Должно быть, он заодно с Тебальдо. Мы его найдем, когда тот заговорит. — Тем более что Тебальдо предлагал отдать мне в руки того, кто… Но это, может быть, два разных человека! — Я уж все у него выведаю, можете спать спокойно. — Надеюсь, итальянца не кормят? — Еще чего! — Ладно, ступай! Попытаюсь немного поспать… Ты меня успокоил, Юхан… Тебе всегда что-нибудь да придет в голову, а я совсем стал плох на этот счет… Ах, боже мой, как же быстро я состарился! Юхан вышел, приказав Якобу разбудить барона в восемь часов. Якоб был камердинером и всегда проводил ночь в чуланчике, примыкавшем к спальне барона. Это был честнейший малый, и барон разыгрывал перед ним роль доброго хозяина, отлично зная, что весьма полезно быть окруженным порядочными людьми, хотя бы для того, чтобы спокойно спать под их охраной. А Христиан, который всегда прекрасно спал, где и с кем бы ему ни довелось ночевать, проснулся после шестичасового сна и тихо подошел к окну, чтобы взглянуть на небо. Еще не светало, и молодой человек улегся было опять в постель, но, вспомнив о предстоящей охоте, решил, что участники ее, должно быть, уже собираются в новом замке. Охота занимала Христиана лишь с естественнонаучной точки зрения. Он был отличным стрелком, но никогда не стремился убивать дичь, чтобы убить время и похвалиться меткостью; однако охота на медведя привлекала его новизной и живописным своеобразием, а также пробуждала в нем интерес любознательного зоолога. Он почувствовал внезапно, что уже не уснет, и принял твердое решение полюбоваться на это зрелище, даже если придется уйти до конца, чтобы готовиться к представлению вместе с господином Гёфле. Перед сном он заговорил с юристом о своем участии в охоте и не встретил его одобрения; сам Гёфле отнюдь не собирался присоединяться к охотникам, и поэтому Христиан предвидел, что «дядя» будет его отговаривать, и чувствовал, что по доброте сердечной уступит настояниям адвоката. «Эх, да что там! — подумал он. — Лучше потихоньку улизнуть и оставить записочку, чтобы он не тревожился… Он будет, пожалуй, несколько раздосадован, да и завтракать в одиночку, конечно, скучно; с другой стороны, он собирался еще поработать и побеседовать с господином Стенсоном; а я, быть может, вернусь так скоро, что он не успеет и соскучиться». Христиан потихоньку выбрался из караульни, оделся в медвежьей комнате, натянул маску, надвинул шляпу, по привычке и осторожности ради, и вышел через горд, где еще царили мрак и безмолвие. Потом, миновав плодовый сад, иссушенный морозом, он спустился к озеру и, видя, что гораздо быстрее достигнет противоположного берега, если пойдет напрямик, а не по тропке, проложенной на северной стороне, пересек озеро по льду, а затем берегом направился к новому замку. В этот же миг Юхан вышел на лед с противоположной стороны, чтобы понаблюдать за Стольборгом, не догадываясь, куда улетела выслеживаемая им дичь.XII
Христиан не рассчитывал, что застанет майора в новом замке. Он знал, что молодой человек постоянно проводит ночь или утро, следующие за праздниками в замке, в своем бустёлле, расположенном неподалеку. Но так как Христиан не спросил заранее у майора, где находится этот сельский домик, он и не стал тратить время на его поиски. У него было другое намерение: понаблюдать издали за приготовлениями к охоте, а затем смешаться с толпой крестьян, идущих облавой на медведя. Рассвет застал его на тропинке, которая вилась по берегу озера, и Христиан сразу заметил человека, идущего ему навстречу. Он поспешно опустил маску на лицо и тотчас же поднял ее опять, узнав лейтенанта Осборна. — Клянусь честью, я рад вас видеть здесь! — сказал лейтенант, пожимая ему руку. — Я как раз собирался зайти за вами, и наша встреча поможет нам выиграть по крайней мере полчаса. Но поспешим: майор ждет вас. Эрвин Осборн повернул вспять и пошел впереди Христиана, указывая ему дорогу; пройдя несколько шагов, он свернул налево и стал подниматься в гору. Христиан последовал за ним по довольно крутому склону и вскоре увидел внизу, в небольшом овраге остановившиеся сани и майора, радостно бегущего ему навстречу. — Браво! — крикнул майор. — Вы необычайно догадливы и точны! Откуда, черт возьми, вы знали, где нас найти? — Совсем не знал, — ответил Христиан. — Я просто шел в новый замок, на всякий случай. — Что ж, случай помогает нам с самого утра; значит, охота будет удачной. Эге! По одежде-то вас никто сегодня не узнает, как и вчера; но у вас нет ни обуви, ни оружия, необходимых в здешних условиях. К счастью, я это предвидел и позаботился обо всем, что вам нужно. Пока что возьмите-ка вот эту шубу, и — в путь! Ехать предстоит далеко, и нам еле хватит дня для всех наших дел. Христиан уселся вместе с Ларсоном в двухместные сани, очень маленькие и легкие, запряженные одной горной лошадкой. Лейтенант вместе с капралом Дуфом, славным стариком и весьма искусным охотником, сел во вторые такие же сани. Майор первым тронулся в путь, лошади бежали легкой рысцой. — Надобно вам сказать, — обратился майор к Христиану, — что мы намерены поохотиться на свой лад. Разумеется, на землях барона нет недостатка ни в звере, ни в метких стрелках, да и сам он весьма умелый и отважный охотник; но нынче по его приглашению в облаве примет участие немалое число гостей, которые в этом ничего не смыслят и у которых куда больше форсу, чем ловкости, а посему можно опасаться, что будет много шуму и мало толку. К тому же облава с помощью крестьян не представляет интереса; вы сами в этом убедитесь, когда мы, после того как закончим свое дело, вернемся обратно вон теми горами. Это, право же, не охота, а подлое убийство: окружают со всех сторон беднягу медведя, которому страх как не хочется вылезать из берлоги; запугивают его, дразнят, а когда наконец он выйдет оттуда, чтобы защищаться или, напротив, пуститься наутек, в него стреляют без малейшей опасности для себя, прячась за сеткой, натянутой на тот случай, если он разъярится и бросится на охотников. Помимо того, что охота такого рода вовсе лишена остроты и неожиданности, часто бывает, что все идет прахом оттого, что кто-то чересчур поспешит или промахнется, и зверь улизнет, оставив всех с носом. Мы же будем действовать иначе, без загонщиков, безсуматохи, без собак. Когда подойдет время, я вас научу, что надо делать. Поверьте мне, истинная охота сходна со всеми истинными удовольствиями: она не терпит толпы. Это тонкое развлечение, и делить его надо только с друзьями или же с самыми избранными лицами. — В таком случае, — ответил Христиан, — я вам вдвойне благодарен за приглашение присоединиться к столь тесному кругу; но объясните мне — неужели вам позволено охотиться на землях барона, прежде чем он сам выйдет на охоту? Мне думалось, что он должен ревниво блюсти свои права охотника и землевладельца. — А мы вовсе не намерены стрелять его дичь. Владения барона весьма обширны, но, слава богу, не весь здешний край ему подвластен! Видите вон те исполинские вершины? Это норвежская граница. Вот здесь-то, на первых подступах к этой громаде, лежит горная цепь, носящая название Блокдаль; там издавна поселилось несколько крестьянских семейств, обретя вольную жизнь на собственной земле в сердце безлюдных величавых гор, окутанных порой клубящимися облаками, ибо далеко не всегда вершины ох видны столь ясно и четко, как сегодня. Вот у одного-то из даннеманов (так зовутся эти крестьяне) я с друзьями и откупил медведя, берлогу которого он отыскал. Живет сей даннеман, человек поистине примечательный своим охотничьим опытом, в живописнейшей местности, почти недоступной для экипажа; но с помощью божьей наши горные лошадки одолеют все трудности пути. Там мы и позавтракаем, после чего сам даннеман проводит нас к его светлости медведю, а тот, не будучи поначалу затравлен крикливыми и безмозглыми загонщиками, спокойно дождется нас и примет… как ему вздумается. Но смотрите, Христиан, смотрите, какое великолепное зрелище! Случалось ли вам уже наблюдать такое явление природы? — Никогда! — воскликнул Христиан вне себя от восторга. — И я счастлив, что мне довелось увидеть его вместе с вами. Я только по рассказам знал об этом необычайном явлении парагелия. Действительно, на горизонте взошло разом пять солнц. Сияющий лик настоящего, могучего светила окружали справа, слева, сверху и снизу четыре его подобия, менее яркие, более расплывчатые, но зато излучавшие радужный ореол неописуемой красоты. Поэтому друзья, прежде чем отвернуться и продолжить путь, помедлили несколько мгновений, любуясь удивительным оптическим явлением, весьма сходным по природе своей с радугой, но встречающимся только на севере Европы. Дорога поначалу была укатанной, потом превратилась в узкую, неровную колею, а там — в едва протоптанную тропку, и, наконец, сани помчались вовсе без дороги, ныряя в снежные ухабы и находя путь по каким-то редким, едва различимым следам. Но вот Ларсон, умелый возница, отлично знавший местность, пустил свою лошадь по скалистому отвесному склону, то касаясь полозьями края пропасти, то скатываясь на всем скаку в почти отвесные овраги, то перелетая через ров, то проносясь над упавшими деревьями и рухнувшими скалами, словно пренебрегая бесчисленными препятствиями, которые, казалось, ежеминутно грозили разнести в щепки хрупкие сани. Христиан не знал, что вызывает в нем большее восхищение — отвага майора или ловкость и смелость поджарой лошаденки, которой была предоставлена полная свобода, ибо поразительный инстинкт ее можно было уподобить второму зрению. Тем не менее сани дважды опрокинулись, но не по вине лошади, а оттого, что полозья не всегда успевали за ее бегом, хотя и были отлично приспособлены для этой цели. Подобные случайности могут, разумеется, иметь тяжкие последствия; но они повторяются столь часто, что на них почти что не обращают внимания. Сани лейтенанта, шедшие следом, тоже опрокинулись два или три раза, хотя пример майора, пролегавшего путь, должен был, казалось, предостеречь возницу. Седоки падали в снег, отряхивались, поднимали сани и мчались дальше, столь же мало раздумывая об этом приключении, как если бы попросту сошли с саней, чтобы дать лошади передохнуть. В других краях происшествие такого рода вызвало бы смех или испуг; здесь же оно входит и число событий знакомых и неизбежных. Христиану эта отчаянная езда доставляла неизъяснимое блаженство. — Не могу выразить словами, как я счастлив сегодня! — говорил он добряку майору, опекавшему его поистине с братской сердечностью. — Слава богу, дорогой Христиан! Ведь прошлой ночью вы были настроены мрачно. — В этом повинны были темнота, снежный покров озера у нас под ногами, грязный и истоптанный после гонок, похожий на застывший свинец; факелы, пылавшие над хогаром, мрачные, как светильники, озаряющие гробовой покров; варварское изваяние Одина, вскинувшего бесформенную руку с грозным молотом, словно он посылал проклятие нашему миру и всей этой равнодушной толпе. Это было живописное, но страшное зрелище, а я обладаю живым воображением, и к тому же… — И к тому же, признайтесь, — подхватил майор, — у вас была еще причина для грусти. — Быть может; какая-то греза, безумное мечтанье, рассеявшееся с первыми лучами солнца. Да, майор, солнце столь же благодетельно влияет на дух человека, как и на тело. Оно в самом деле озаряет нашу душу. Ведь каким бы дивным, сказочным ни казалось ваше северное солнце, Это все то же доброе солнце Италии и ласковое солнце Франции. Здесь оно не так сильно греет, но зато, на мой взгляд, в этом серебряном, хрустальном краю оно светит ярче, чем где бы то ни было. Все, даже воздух, служит ему зеркалом среди этих непорочных снегов. Благословим же солнце, майор! А я благословляю и вас — за то, что вы пригласили меня на эту живительную прогулку, которая несет мне и вдохновение и силы! Да, да, вот в чем жизнь моя! Движение, воздух, жар, холод, свет! Бескрайний простор впереди, конь, сани, корабль — нет, с меня достаточно еще меньшего: ноги, крылья, свобода! — Вы странный человек, Христиан! Я, со своей стороны, предпочел бы всему любимую женщину. — Что ж, — ответил Христиан, — я тоже, черт возьми! Не такой уж я странный человек; но надо либо иметь возможность прокормить семью, либо остаться холостяком. Что прикажете делать, если нет ни гроша за душой? Но не имея права мечтать о счастье, нахожу хотя бы утешение в способности забывать обо всем, чего я лишен, и с нетерпением ожидаю доступных мне радостей. Поэтому не говорите со мной о семейном счастье и домашнем очаге. Позвольте мне предаваться мечтам о вольном ветре, что гонит меня к неведомым берегам… Да, дорогой друг, мне слишком известно, что человек создан для любви! Я это чувствую сейчас, встретив вашу братскую дружбу, но завтра мы с вами расстанемся навеки; и коль скоро судьба моя такова, что мне не знать семейных уз, и нет у меня ни родины, ни близких, ни состояния, вся тайна мужества моего кроется в приобретенном умении ловить на лету случайную радость, забывая о том, что завтрашний день унесет ее прочь, как прекрасный сон! Как видите, я немало передумал после того пунша, в пещере на хогаре. — Бедняга! Да вы, должно быть, влюблены, раз вам не спалось. — Влюблен я или нет, спал-то я как младенец. Но мысль работает быстро, когда не можешь терять время попусту. Пока я одевался и шел к вам из Стольборга, мне открылась простая и ясная истина: я совершил ошибку, возомнив, будто разрешил вопрос о бродячей профессии. Я рассуждал как баловень цивилизации. Я взял себе на долю радости сибарита… Вы сейчас поймете, что я хочу сказать… И тут Христиан, не вдаваясь в подробности, рассказал майору в нескольких словах о стремлениях, требованиях, неудачах и успехах своей духовной и нравственной жизни, пытаясь объяснить ему, как случилось, что он стал актером, чтобы не отказаться от служения науке, а затем добавил: — А на самом-то деле, дорогой мой Осмунд, чтобы быть актером, надобно быть только актером и с этой целью принести в жертву и путешествия, и занятия науками, и свободу. Я же вовсе не намерен идти на подобные жертвы; почему же мне не отказаться от искусства и не заняться просто-напросто каким-нибудь ремеслом, доступным любому здоровому человеку в определенную пору его жизни? Я хочу изучать недра земли: разве не могу я работать рудокопом, проводя по месяцу то на одном, то на другом руднике? Я хочу изучать ботанику и зоологию: разве нельзя мне наняться куда-нибудь в охотники или лесорубы на один сезон, а там двинуться дальше и жить в бедности, за счет труда собственных рук и ног, ради приобретения знаний, вместо того чтобы ломать голову над шутовскими выдумками ради хорошей еды и изящного платья? Разве не хватит у меня сил, чтобы трудиться физически, предоставив уму полную свободу для скромной, но плодотворной деятельности? Я часто размышлял над жизнью вашего великого Линнея, в которой как бы отразилась жизнь большинства ученых нашего времени. Все они голодали, и могло случиться, что по вине тяжкой нужды способности их заглохли бы, а труды остались бы незавершенными и безвестными. Я представляю себе, как все они в юности скитались, подобно мне, в тревоге о завтрашнем дне, и только случай, в лице умного покровителя, бросал им подчас якорь спасения. Да и то нередко доводилось им, приняв эту горькую милостыню, прерывать свои занятия, дабы нести унизительную службу, навязанную под видом благодеяния, которая отнимала у них драгоценное время, препятствовала работе, задерживала открытия! Что же мешало им поступать так, как хочу и собираюсь поступить я? Вскинуть на плечо молот или кирку и пойти дробить скалы или копать землю? Какая мне надобность сейчас в книгах и чернилах? Зачем мне спешить поведать ученому миру о своем существовании, когда я еще не могу сообщить ему ничего нового и ценного? Сейчас у меня есть ровно столько знаний, сколько нужно, чтобы начать учиться, то есть наблюдать и изучать природу на ней самой. Разве мало было вырвано великих тайн у природы руками нищих, безграмотных тружеников, в которых, подобно искре божьей, теплился дух исследователя? Ужели вы полагаете, майор Ларсон, что человек, одержимый, подобно мне, страстью к науке, утратит дар наблюдения оттого, что ему придется есть черный хлеб и спать на соломе? Разве он не сможет, ознакомившись со структурой этих скал или составом почв, подать плодотворную мысль об использовании… да вот хотя бы этих окружающих нас глыб порфира или невспаханных земель, мимо которых мы едем? Я уверен, что повсюду кроются бесчисленные источники богатств и человек мало-помалу будет открывать их. Приносить пользу всему человечеству — славный идеал труженика, дорогой Осмунд, развлекать богача — жалкий удел художника, и я с радостью отвергаю его. — Как?! — удивленно спросил майор. — Неужели вы, Христиан, всерьез решили отказаться от изящных искусств, в которых вы так преуспели, от радостей жизни, доступных вам благодаря достоинствам ума вашего, от удовольствий высшего света, который предоставит к вашим услугам все выгоды и преимущества, если вы согласитесь внести свою лепту в увеселения двора? Да стоит вам пожелать, вы тотчас же приобретете могущественных друзей и вмиг окажетесь во главе какого-нибудь театра или музея. Если хотите… семья моя достаточно родовита, и у нас есть связи… — Нет, нет, майор, благодарствуйте! Вчера утром предложение ваше пришлось бы мне по вкусу; вчера я был еще школьником, который сбежал с уроков и не знает, куда ему пойти; и я, наверно, согласился бы. Но на бале мне припомнились былые заблуждения, соблазны света, слишком знакомые по минувшим годам. Сегодня я взрослый человек и ясно вижу свой путь. Не знаю, что за свет проник мне в душу вместе с лучами утреннего солнца… Христиан глубоко задумался. Он пытался постичь, какая связь мыслей привела его к такому простому и решительному выводу; но как ни искал он, как ни пытался объяснить все, что с ним случилось, воздействием крепкого сна и прекрасного утра — невольно в памяти его то и дело возникал образ Маргариты, закрывшей лицо руками при имени Христиана Вальдо. Сдавленный возглас, вырвавшийся прямо из сердца девушки, нанес удар гордости Кристиано Гоффреди и звучал не умолкая, наполняя душу его благородным чувством стыда и внезапно нахлынувшим несгибаемым мужеством. — А скажите на милость, — отвечал он майору, напомнившему ему о тяготах и однообразии физического труда, — где это сказано, что я должен веселиться, отдыхать и оберегать себя от любой несчастной случайности? При рождении мне не было предоставлено судьбой никаких особых привилегий, на кого же мне пенять, если у меня недостанет смелости и здравого смысла самому завоевать себе достойное положение в обществе? На тех, кому я обязан жизнью? Будь они здесь, они могли бы возразить, что наделили меня крепким сложением и здоровьем вовсе не для того, чтобы я стал неженкой и лентяем, а если я не могу обойтись без мягких ковров и изысканных лакомств для поддержания сил и хорошего настроения, они-то уж никак не могут быть в ответе за такую смешную и нелепую прихоть. — Вы шутите, Христиан, — сказал майор, — но, по правде говоря, стоит ли жить, не имея всех этих излишних удобств? Разве цель человека не в том, чтобы вить свое гнездо по примеру птицы, с не меньшим старанием и осмотрительностью? — Да, майор, такова цель вашей жизни, ибо для вас будущее тесно связано с прошлым; но знаете, что толкнуло меня, человека без прошлого, стать «выдумщиком», как говорит господин Гёфле? Я сам этого не сознавал, но теперь не сомневаюсь: то был страх перед тем, что зовут нуждою. А страх этот у человека одинокого просто-напросто признак трусости, и его иначе не выразишь, как потоком жалоб, которые производят самое забавное впечатление в устах такого крепкого и здорового малого, как я. Представьте себе монолог марионетки. Говорит наш друг Стентарелло со всей своей непосредственностью: «Увы! Трижды увы! Итак, мне более не суждено спать на простынях тончайшего полотна! Увы! Мне уже не доведется, изнемогая в Италии от зноя, насладиться ванильным мороженым! Увы! В Швеции, страдая от холода, я уже не смогу подлить себе в чай глоток отличного рома! Увы! Не танцевать мне больше в атласном кафтане цвета лаванды, не оттенять белизну руки моей кружевным манжетом! Увы! Где пудра для волос, благоухающая фиалкой, где помада, надушенная туберозой? О звезды, взгляните на мою горестную участь! Моя изящная, бесценная, любезная всем особа лишится отныне компота в тарелке саксонского фарфора, муаровой ленты в косичке парика, золотых пряжек на башмаках! О слепая судьба, о проклятое общество! Разве я не имею права требовать все это от вас, точно так же как Христиан Вальдо, который так ловко водит марионеток и так складно говорит за них!» Веселая выходка Христиана рассмешила майора. — Вы все же большой чудак, — сказал он. — Порой мне кажется, что вы говорите парадоксами, а порой я спрашиваю себя, уж не мудрец ли вы, подобный Диогену, разбившему чашу, дабы напиться прямо из родника. — Диоген! — воскликнул Христиан. — Благодарю покорно! Этот циник всегда казался мне безумцем, преисполненным чванства. Во всяком случае, если он и впрямь был философом и хотел доказать своим современникам, что можно быть счастливым и свободным без всяких жизненных удобств, он позабыл, в чем основа этого принципа: в том, что нельзя быть свободным и счастливым без полезного труда, а истина сия действительна на все времена. Если ты довольствуешься самым необходимым для того, чтобы посвятить время и силы выполнению благородной задачи, это вовсе не значит, что ты чем-то жертвуешь, напротив, ты этим добиваешься самоуважения и душевного покоя; без этой цели стоицизм превращается в глупость, и мне кажутся куда более разумными и приятными люди, которые откровенно признают, что умеют только ублажать себя и ничего более. Беседуя таким образом, охотники увидели вдали сельское жилище, куда они держали путь. Оно так тесно лепилось к горному склону, что его нельзя было бы отличить от скал, если бы не дым, который вился над ним. — Вы сейчас познакомитесь с очень славным человеком, — сказал майор Христиану, — с образцом далекарлийской гордости и простодушия. Правда, в доме есть еще довольно неприятное существо, но авось мы его не застанем. — Очень жаль! — ответил Христиан. — Любопытство влечет меня ко всему и ко всем в этой удивительной стране. Что же это за существо? — Сестра даннемана — старая дева, идиотка или помешанная; когда-то она слыла красавицей, и о ней ходили всевозможные престранные толки. Говорили, что она родила ребенка от барона Олауса, а баронесса, супруга его (та самая, что у него в кольце), похитила и погубила младенца в приступе запоздалой ревности. Это якобы и послужило причиной безумия бедной девушки. Однако я не ручаюсь за достоверность всех этих россказней, и меня мало интересует девица, уступившая чарам Снеговика. Иной раз она очень докучает нам своими песнями и изречениями, а бывает и так, что ее не видать и не слыхать. Надеюсь, что так случится и сегодня! Вот мы и приехали. Входите поскорее в дом и грейтесь, пока капрал с лейтенантом будут выгружать наши припасы. Даннеман Ю Бетсой встретил их на пороге дома. Это был красивый человек лет сорока пяти, с суровыми чертами лица, но ясным и приветливым взглядом. Одет он был очень чисто. Неторопливо подойдя к друзьям, он с большим достоинством протянул им руку, не снимая шапки. — Добро пожаловать! Твои друзья — мои друзья, — сказал он майору (обращаясь к нему на ты, ибо далекарлиец говорит «ты» даже королю) и пожал руку Христиану, Осборну и капралу. — Я ждал вас, но не рассчитывайте, что стол мой ломится от изобилия. Ты ведь знаешь, майор Ларсон, как беден наш край; однако всем, что есть у меня, я поделюсь тобой и твоими друзьями. — Ни о чем не хлопочи, даннеман Бетсой, — ответил майор. — Если бы я приехал один, я бы попросил у тебя каши и пива; но я привез с собой трех друзей, а потому запасся всем необходимым, чтобы не затруднять тебя. Между офицером и крестьянином завязался спор на далекарлийском наречии, непонятный для Христиана, но лейтенант разъяснил ему, в чем дело, разгружая содержимое корзин. — Как положено, — сказал он, — мы привезли все необходимое, чтобы состряпать в этой хижине сносный завтрак; но этот славный крестьянин тоже немало потрудился, хоть и приносит извинения, что не может предложить нам ничего хорошего, и по его вытянутому лицу сразу видно, что наша предусмотрительность кажется ему обидной, будто мы усомнились в его гостеприимстве. — В таком случае, — сказал Христиан, — не стоит огорчать его, сохраним свои припасы нетронутыми и съедим то, что он для нас приготовил. Живет он, видимо, в чистоте; и тому же дочери его, некрасивые, но весьма нарядные, уже накрывают на стол. — Можно договориться таким образом, — предложил лейтенант, — соберем все угощение воедино и пригласим семейство даннемана отведать нашего, а мы, со своей стороны, отведаем их домашней стряпни; я сейчас поговорю с даннеманом… если, конечно, майору это покажется приемлемым. Лейтенант никогда не принимал решения без этой оговорки. Предложение, одобренное майором, было принято даннеманом без особого удовольствия. — Стало быть, — проговорил он, хмуро улыбаясь, это будет как на свадебном пире, куда каждый приносит изготовленное им блюдо? Тем не менее он дал свое согласие; но несмотря на осторожные намеки Христиана, не могло быть и речи о том, чтобы женщины уселись за тот же стол. Это значило бы пойти наперекор древнему обычаю, и молодые офицеры боялись оказаться в смешном положении, предложив даннеману такое нарушение правил, несовместимое с достоинством главы семейства. Пока одни разгружали поклажу, а другие вели беседу, Христиан осматривал дом снаружи и изнутри. Постройка была уже знакома ему по горду в Стольборге: еловые бревна, проконопаченные мхом; стены, с наружной стороны окрашенные суриком в красный цвет; на берестяной кровле, засыпанной землей, проросла трава. Снег, обильно выпадающий в этой горной местности, мог бы своей тяжестью продавить крышу, поэтому его тщательно смели оттуда, и коза даннемана, животное, чуть ли не на треть более крупное, чем те, которые водятся в наших широтах, жалобно блеяла при виде обнажившейся свежей травки. В помещении было так жарко, что все тотчас сбросили шубы, шапки и даже кафтаны. Домик даннемана, куда более удобный и просторный, нежели другие дома в поселке, все же был весьма невелик; однако выстроен он был не без изящества, а наружная галерея, над которой выступающий скат крыши образовал как бы навес, придавала ему сходство с уютными и живописными швейцарскими хижинами. Тесные сени, предохранявшие от вторжения морозного воздуха, вели в единственную комнату, где и жила вся семья, состоявшая из пяти человек — вдового даннемана, его сестры, пятнадцатилетнего сына и двух дочерей постарше возрастом. Цилиндрической формы печь, высотой в четыре фута с приложенной к ней трубой, была сложена из голландских кирпичей и стояла посередине. Утоптанный земляной пол устилали вместо ковра еловые ветви, распространяя приятный и здоровый аромат. Христиан задался вопросом, где спит вся семья, ибо видел только две лежанки, вделанные в стену, наподобие корабельных коек. Ему объяснили, что они принадлежат даннеману и его сестре; дети же снят на лавках, и постелью им служат звериные шкуры. — Впрочем, — сказал майор Христиану, который расспрашивал обо всем с жадным любопытством, — вы встретите здесь, наряду с суровостью жизненного уклада, свойственного чистокровным горцам, известную роскошь, связанную с ремеслом хозяина дома и обилием пушного зверя в этих диких краях. Я уже говорил вам, что даннеман Бетсой весьма опытный и ловкий охотник; но следует добавить, что он не только знает, как выследить и убить зверя, не попортив драгоценной шкуры, но еще умеет мастерски выделать и сохранить ее. Поэтому мы всегда обращаемся к нему, когда хотим приобрести добротную, красивую вещь за умеренную цену: простыню из кожи оленят, на которой удивительно прохладно и приятно спится в летнее время, да к тому же и стирать ее можно, как полотняную; длинношерстный мех черного медведя для санной полости; плащ из тюленьей шкуры, непроницаемый для дождя, снега и бесконечных осенних туманов, которые пробирают до костей и особенно опасны для здоровья; наконец, всевозможные ценные меха, подчас весьма редкостные, ибо этот Ю Бетсой исколесил весь север и до сих пор поддерживает сношения с многочисленными охотниками, а те переправляют ему товар через кочевников-лопарей и норвежских купцов, которые гонят по северным снегам караваны оленей заместо верблюдов и чаще всего выменивают одни товары на другие, по примеру древних, а не продают их за деньги. Христиан полюбопытствовал, нельзя ли взглянуть на Эти меха. Даннеман подумал, что он хочет купить какой-нибудь из них, и, приведя Христиана вместе с майором в небольшой сарай, где висели шкуры, обратился к Ларсону с просьбой показать другу все эти богатства, не желая даже заводить разговор о цене, пока тот сам ее не предложит. — Ты ведь разбираешься в мехах не хуже моего, — сказал он майору, — и в моем доме ты хозяин. Христиан, которому Осмунд перевел эти слова, был приятно удивлен речами даннемана и спросил, неужели тот оказывает такое доверие всякому, кто пользуется его гостеприимством. — Люди здесь очень доверчивы, ибо среди них еще царят патриархальные нравы, — ответил майор. — Далекарлиец, житель этой северной Швейцарии, отличается множеством цепных качеств, порожденных здешней суровой природой; но страна его бедна. Разработка недр привлекла сюда множество бродяг, и в подземном мире нередко скрываются преступники, бежавшие от закона, осудившего их в других краях на тяжкую кару. Крестьянин, если у него нет земли или работы на рудниках, бедствует до такой степени, что бывает часто вынужден просить подаяния или воровать. И тем не менее число злоумышленников здесь крайне невелико, если учесть, сколь много людей терпит жестокую нужду, без надежды на помощь привилегированных сословий. Стало быть, богатый крестьянин никак не может доверять первому встречному, как не доверяет он и дворянину, отдающему свой голос в риксдаге[418] за те законы, которые выгодны только ему самому; но военный, в особенности офицер индельты, — друг крестьянина. Мы представляем собой самую независимую часть общества, ибо закон обеспечивает нам безбедную жизнь и всеобщее уважение, какие бы скрытые течения этому ни противодействовали. Известно, что мы верой и правдой служим королю в том случае, если он защищает народ от злоупотреблений дворянства. Такова у нас первейшая обязанность королевской власти, и народ, поддерживая ее, знает что делает. Дайте срок, Христиан: наступит время, когда риксдаг и сенат вынуждены будут считаться с горожанином и землепашцем! Наш король еще не отважился на такой шаг. Королева Ульрика охотно сделала бы его, если бы муж ее был хоть немного энергичней. Но сможет ли сестра Фридриха Великого остановиться на полпути, если ей удастся обуздать честолюбие и спесь ярлов? Сомневаюсь… Она будет печься об одном — о дальнейшем усилении королевской власти, не допуская и мысли о развитии гражданских свобод. Следовательно, вся наша надежда на Генриха, наследного принца. Вот это человек действия и подлинной силы духа! Да, да, придет время… Но простите! Я совсем позабыл, что вы хотите полюбоваться на меха, а политика наша вас совсем не занимает. Однако поверьте, что наследный принц… — Да, да, наследный принц, — повторил лейтенант, входя в сарай следом за майором и Христианом. Затем он погрузился в задумчивость, стараясь хорошенько запомнить умные речи своего друга, дабы составить определенное мнение о положении в стране, которое, впрочем, ничуть бы его не тревожило, повинуйся он только философии равнодушия, свойственной его нраву; но коль скоро у майора были какие-то убеждения, лейтенант должен был тотчас же последовать его примеру, а разве помыслы его могли быть иными, чем у друга? Такие умозаключения привели его к безграничной вере в наследного принца и надежде на величие его духа. Заблуждался ли он вместе с Ларсоном? Генрих (будущий Густав III) обладал множеством достоинств, привлекавших сердца: он был широко образован, красноречив, отважен и в начале царствования своего почитал истину и жаждал творить добро. Но ему было суждено, как Карлу XII и многим другим, пожертвовать благом общества ради обуревавших его страстей. Он, спасший Швецию от власти олигархии, погубил ее впоследствии бесшабашным расточительством и низменными политическими расчетами, приведшими его к роковым заблуждениям. И все же он был поистине велик в ту пору, когда сумел, не пролив ни капли крови, освободить народ от тирании привилегированной касты, чьи бесчинства вконец нарушили равновесие жизни общества. Христиан охотно разделял иллюзии и надежды майора на основании того немногого, что узнал о положении в стране и характере наследника престола; однако в настоящий момент он был полностью поглощен если не покупкой мехов, о чем не мог и помышлять, то созерцанием Звериных шкур, собранных даннеманом в этом небольшом помещении. Для него это был наглядный урок естественной истории, повествующий о разных видах животного царства севера, а Ларсон, опытнейший охотник, объяснял ему, в каких именно местностях северной Европы водится тот пли иной пушной зверь. — Коль скоро мы собираемся охотиться на медведя, — сказал он в заключение, — вам непременно надлежит знать, с какой именно разновидностью мы будем иметь дело. По словам даннемана Бетсоя, этот медведь — метис; однако еще не доказано, что различные породы медведей способны скрещиваться и приносить потомство. В Норвегии насчитывают три вида медведей; bress-diur ест траву и листья и не прочь полакомиться молоком и медом; ildgiers diur питается мясом, a myrebiorn — муравьями. Что касается четвертой, еще более обособленной ветви этого семейства — белого медведя, жителя полярных морей, — нам о нем вовсе ничего не известно. — Тем не менее, — возразил Христиан, — вот две шкуры белого медведя, и сразу видно, что они занимают далеко не последнее место в коллекции даннемана. Неужто он охотился даже на Ледовитом океане? — Вполне возможно, — ответил майор. — Как бы то ни было, он связан, как я уже говорил, с дальним севером, и ему часто случается проделать двести миль на санях, в самую суровую зимнюю пору, чтобы обменяться товарами с охотниками, которые, в свою очередь, проходят для встречи с ним немалый путь на лыжах или в санях с оленьей упряжкой. Сегодня же он обещал показать нам помесь белого и черного медведей, но видел-то он его ночью, при обманчивом свете северного сияния, поэтому я не ручаюсь за достоверность его слов. Медведь — животное весьма недоверчивое по своей природе, и повадки его все еще мало изучены, даже в наших краях, где сотню лет тому назад медведи водились в изобилии, да и сейчас отнюдь не стали редкостью. Итак, никто не знает, что представляет собой этот светлый медведь — помесь или особую породу. Одни полагают, что черно-белая шкура означает начало или конец сезонной смены цвета, поскольку зимой она якобы белая;, другие утверждают, что белый медведь остается белым круглый год; но, собственно говоря, зачем я все это вам рассказываю, когда вы, должно быть, знаете куда больше моего? Ведь вы прочитали столько книг, знакомых мне только по названиям. — Именно потому, что я прочел так много книг, я не сумею разрешить ваших сомнений. Бюффон не согласен с Вормзиусом как раз по вопросу о медведях, и вообще все ученые противоречат друг другу чуть ли не по всем вопросам, что не мешает каждому из них противоречить самому себе. Впрочем, это не их вина, большая часть законов природы еще представляет собой загадку для нас; а уж если повадки существ, живущих на поверхности земли, столь мало изучены или вовсе нам не знакомы, что же сказать о тайнах, сокрытых в недрах земли? Вот почему я и говорил вам, что всякий человек, как бы ничтожен он ни был, способен совершать грандиозные открытия; но вернемся к нашим медведям, или, вернее, поспешим позавтракать, чтобы двинуться им навстречу. Единственный, на мой взгляд, недостаток шведов, дорогой друг, — это привычка слишком часто и слишком подолгу сидеть за столом. Когда день продолжается двадцать часов — куда ни шло! Но когда я вижу, как невелика окружность, которую нынче опишет солнце, перед тем как вновь скрыться за горизонтом, я не могу взять в толк, в котором же часу вы намерены охотиться. — Терпение, дорогой Христиан! — ответил, смеясь, майор. — Охота на медведя — дело недолгое. Поединок мгновенно кончается удачей или неудачей: либо вы всадите две пули в голову противника, либо он вас обезоружит и повалит с ног одним ударом лапы. А вот и даннеман приглашает нас к завтраку! Идем! Закуска, привезенная офицерами, была отменного качества. Но Христиан тотчас заметил, что девушки и сам даннеман глядят на всю эту снедь с горечью и обидой и, радушно предложив поначалу гостям отведать своей простой пищи, теперь едва решаются смотреть на выставленные ими блюда. А заметив это, он приложил все усилия, чтобы все перепробовать и похвалить, что отнюдь не было пустой вежливостью, ибо копченый лосось и свежая дичь даннемана таяли во рту, оленье масло было вкусным на диво, брюква — мягкой и сладкой, а варенье из ежевики — свежим и душистым. Меньше понравился ему напиток из кислого молока, поданный в оловянных кувшинах. Зато он отдал должное терпкому винцу из местных ягод, которые растут, подобно ежевике, на колючем кустарнике и могут быть приготовлены на тысячу ладов. Наконец, он выразил неподдельное восхищение сладким блюдом — праздничным пирогом, нарочно испеченным для гостей, ибо семейный рождественский пирог даннемана должен был, по обычаю, остаться нетронутым до самого крещения. Даннеман решительным жестом всадил нож в великолепное сооружение из пшеничной муки, снеся напрочь затейливые башенки и колоколенки, умело вылепленные руками дочерей. И только тогда этим рослым смуглым девицам, некрасивым, но статным, убравшим черные косы и нарядные белые кофты лентами и украшениями в честь гостей, разрешено было наконец отведать пирога и смочить губы крепким пивом из отцовской кружки. К столу они не присели и черед тем, как пригубить пива, низко поклонились гостям и пожелали им счастья в наступающем году. Нетерпение, которое Христиан, насытившись, всегда испытывал за столом, уступило место глубокой задумчивости. Спутники его, напротив, расшумелись, хотя не пили ни вина, ни водки, боясь опьянеть к началу охоты. Даннеман, сперва молчаливый и даже несколько высокомерный, теперь стал разговорчивее и, казалось, испытывал особую симпатию к своему чужеземному гостю; но он с трудом изъяснялся на своем родном шведском языке, хотя знаком был со всеми северными наречиями, умел говорить по-фински и даже научился русскому архангельскому говору. Христиан же, со свойственной ему любознательностью и способностью к языкам, уже начинал кое-что понимать по-далекарлийски, но все же ему с трудом и нередко только по жестам рассказчика удавалось следить за увлекательным повествованием об охотах и путешествиях, в то время как остальные сотрапезники с увлечением расспрашивали и слушали хозяина дома. Устав от напряжения, с которым он вслушивался в речи даннемана, и от нестерпимой духоты в комнате, Христиан отошел от печи и стола. Он смотрел на величественный пейзаж, который простирался за окнами домика, стоявшего на краю глубокого гранитного ущелья, чьи темные склоны, исчерченные застывшими водными струями, отвесной стеной вздымались над ложем потока. Местами склон так круто обрывался к бездне, что снег не удерживался на лугах, открытых порывам ветра, и зеленый покров, чуть припорошенный инеем, сверкал на солнце, словно ковер, затканный светлыми изумрудами. Эти остатки нежной зелени, восторжествовавшей над морозом, оттенялись темной, почти черной хвоей исполинских сосен, тесным строем вставших над пропастью, подобно надгробным изваяниям, принаряженным бахромой ледяных сосулек. Те же, что росли в глубине, спрятались в снежные сугробы чуть ли не до половины ствола, а ведь ствол этот нередко достигал ста шестидесяти футов. Ветви их согнулись под тяжестью налипшего на них снега и уперлись концами в сугробы, застыв в неподвижности, словно арки готических соборов. На горизонте скалистая гряда Севенберга вздымала к аметистовому небу розоватые вершины, покрытые вечными льдами. Было около одиннадцати часов утра; солнечные лучи уже дотянулись до синеватых глубин, которые были еще погружены в холодный и угрюмый мрак, когда Христиан их впервые увидел. С каждым мгновением у него на глазах они меняли цвет, отливая бесчисленными оттенками, подобно опалу. Любой путешественник, наделенный художественным вкусом, непременно упомянет о великолепии заснеженных пейзажей в тех широтах, где они, словно красуясь напоказ, предстают человеческому взору. У нас никогда не увидишь столь ослепительно сверкающих снегов, и только изредка где-то среди скалистых уступов, в редкие дни, когда солнечные лучи еще не успели растопить снежный покров, мы получаем представление о многообразии красок и об игре прозрачных теней на бескрайних белых просторах. Чувство восторга охватило Христиана. Сопоставляя величественно-суровую красоту этого зрелища с приятностью теплого (даже чрезмерно теплого) жилища даннемана, он углубился в раздумье о жизни этого крестьянина и в воображении своем слился с ним воедино до такой степени, что ему почудилось, будто он сейчас находится в родных краях и в родной семье. Кому не случалось под властью сильного впечатления погрузиться душой в непостижимую мечту, когда настоящий миг как бы раздваивается или отражается в мозгу, будто в зеркале? Тогда начинает казаться, что идешь по пройденному однажды пути, встречаешь людей, уже знакомых тебе по иному отрезку жизни, и заново повторяется в мельчайших подробностях какая-то сцена далекого прошлого. Под воздействием подобной галлюцинации памяти Христиан почувствовал, что когда-то отлично понимал этот далекарлийский язык, чуждый ему теперь, и, рассеянно внимая спокойной и неторопливой речи даннемана, поймал себя на том, что легко улавливает значение слов и даже мысленно забегает вперед рассказчика. Внезапно он поднялся в каком-то полузабытьи и, сжимая плечо майора, вскричал в чрезвычайном волнении: — Я все понимаю! Это удивительно… но я все понимаю! Не правда ли, даннеман только что сказал, что у него было двенадцать коров, из которых три так одичали прошлым летом, что он не сумел их привести осенью домой? И что он считал их пропавшими, а одну пристрелил, чтобы она не убежала, как остальные? — Да, он и впрямь это говорил, — ответил майор, — только случилось это не прошлым летом. Даннеман рассказывал о событиях двадцатилетней давности. — Все равно! — перебил его Христиан. — Видите, я почти все понял. Как вы это объясните, Осмунд? — Не знаю, но меня это удивляет меньше, чем вас; видимо, дело в вашей редкой способности изучать языки, исследовать их строй и находить аналогии между ними. — Нет, на этот раз это было не так; я словно заново вспомнил весь рассказ. — Вполне возможно. Вы, должно быть, в детские годы изучили бездну всякой всячины, и кое-что смутно сохранилось в памяти. Ну-ка, прислушайтесь к беседе девушек: понимаете вы что-нибудь? — Нет, — сказал Христиан, — ничего; наитие исчезло, и я опять ничего не понимаю. И он отвернулся к окну, чтобы еще раз постичь таинственное откровение, вслушиваясь в говор хозяев, но все было тщетно. Неясные грезы рассеялись, и, вопреки желанию Христиана, рассудок его вновь подчинился реальному ходу мыслей и впечатлений. Тем не менее он вскоре вновь погрузился в размышления иного порядка. На этот раз воображению его предстало не фантастическое прошлое, а мечты о будущем, логически вытекающие из принятых им решений, которыми он час тому назад поделился с майором. Вот он, одетый, подобно даннеману, в долгополый кафтан-безрукавку поверх куртки с узкими, длинными рукавами, в желтых кожаных чулках, натянутых на другие, шерстяные, стриженный в скобку, сидит у раскаленной печи и рассказывает заезжему гостю о своих приключениях на плавучих льдах, в гибельной пучине Мальстрёма[419] или на неведомых тропах Сюльфьеллета. Среди этих мирных и простых картин, представлявшихся ему как некая скупая награда за труды и скитания, он невольно искал образ подруги, разделяющей с ним на протяжении долгих лет тяготы и радости сельской жизни. Пристально вглядывался он в дочерей даннемана, — нет, не так они были хороши собой, чтобы его увлекла мысль стать супругом одной из этих мужеподобных, суровых девиц. Если нельзя обрести духовное единство с подругой жизни, лучше остаться холостяком. Призрак Маргариты то и дело появлялся в мечтах Христиана, вопреки его воле, в облике прелестной белокурой феи, сменившей привычный наряд на одежду девы гор и еще более очаровательной в белой кофточке под зеленым корсажем, нежели в платье с фижмами и шелковых туфельках; но это фантастическое переодевание было всего лишь временным маскарадом: Маргарита попала в эту картину случайно, из другой рамки; она могла только мелькнуть с улыбкой в сельской хижине и умчаться в голубых санях, разукрашенных серебром, с сиденьем из лебяжьего пуха, где для Христиана никогда не найдется места. «Исчезни же, Маргарита! — произнес он мысленно. — Что тебе надо здесь? Нас разделяет бездна, и ты для меня только видение, пляшущее в лунном свете. Жена, которую подарит мне судьба, будет творением грубой действительности… Впрочем, нет, не надо мне жены; я ведь буду лет двадцать подряд добывать руду, пахать землю или кочевать, торгуя мехами, подобно хозяину этого дома, раньше чем совью себе гнездо на вершине одного из этих утесов. Что ж, когда мне минет пятьдесят, я поселюсь в каком-нибудь уголке этих величественных гор, буду вести жизнь анахорета и возьму на воспитание какого-нибудь брошенного ребенка, который полюбит меня, как я полюбил Гоффреди. Почему бы и нет? И разве я не буду счастлив, если к тому времени мне удастся сделать какое-нибудь открытие, полезное для человечества?» Так размышлял Христиан о том, что уготовано ему судьбой; но его мечты о счастье, при всей их скромности, рассыпались в прах, стоило ему подумать о предстоящем одиночестве. «А почему, собственно, вот уже сутки, как меня преследует мысль о большой любви? — спрашивал он себя. — До сих пор я почти не задумывался о завтрашнем дне. Что ж, неужели я не могу справиться с моим пробудившимся сердцем и заглушить его крик с помощью той самой добротной философии, что так помогла мне в споре с Осмундом о жизненных благах? Если я научился не думать о себе или хотя бы обходиться достаточно сурово с собой, существом материальным, когда я строю планы новой жизни, неужели я не обуздаю воображение и не запрещу ему лелеять надежду на счастье? Полно, Христиан! Раз уж ты наметил свой будущий путь и ясно понял, что тебе не суждено быть счастливым, — смирись со своей долей и скажи себе: «Пора забыть о благоухании роз и без оглядки пуститься в путь по тернистой тропе!»». Христиан почувствовал, что сколько бы он ни напрягал свою волю, сердце его вот-вот разорвется от горя; слезы хлынули из его глаз, и он закрыл лицо руками, притворяясь, будто задремал. — Что же вы, Христиан! — воскликнул майор, вставая из-за стола. — Нашли время спать! Вы же больше всех стремились на охоту! Ну-ка, еще посошок на дорожку, и двинемся в путь! Христиан ответил: «Браво!» и встал. Глаза его были влажны, но улыбался он так светло, что никому и в голову не пришло бы, что он плакал. — Следует решить, — сказал майор, — кому из нас выпадет честь первому схватиться с его мохнатым величеством. — Разве не жребий решает? — спросил Христиан. — Я думал — таков обычай. — Да, разумеется; но прошлым вечером вы так славно развлекали и занимали нас, что мы пытались придумать, чем бы вас отблагодарить, и вот что мы с лейтенантом решили, с согласия капрала — ведь он имеет такое же право голоса, как и мы. Жребий мы действительно будем тянуть, и тот, кто вытянет длинную соломинку, будет иметь счастье предложить ее вам. — Неужели! — сказал Христиан. — Я вам очень признателен и благодарю вас от всего сердца, дорогие друзья; но, может статься, вы жертвуете ради меня удовольствием, которое я не в состоянии оценить. Я ведь не собираюсь выдавать себя за рьяного и бывалого охотника. Меня влечет только любопытство… — Вы чего-то опасаетесь? — перебил майор. — В таком случае… — Чего же я могу опасаться, — возразил Христиан, — когда мне вовсе неизвестно, чем грозит эта охота. И не такой уж я трус, чтобы отказываться идти туда, где, по-видимому, естькакая-то опасность. Повторяю, самолюбие мое тут ни при чем; я никогда еще не совершал подвигов, которые дали бы мне право надеяться на блестящий успех; не могли бы вы поэтому предоставить мне такое место, где наши шансы будут равными? — Это невозможно. Перед судьбой шансы у всех равны; и все же удача на стороне того, кто идет впереди. — Что ж, — сказал Христиан, — я пойду первым и выгоню медведя из берлоги; но скажу вам откровенно, мне вовсе не хочется убивать его, и даже, признаюсь, я предпочел бы иметь достаточно времени, чтобы хорошенько рассмотреть, как этот зверь выглядит и как ведет себя. — А если он убежит от нас до того, как вы его рассмотрите? Никогда не знаешь, что взбредет ему в голову. Медведь чаще всего боязлив и, если только он не ранен, старается уйти. Поверьте мне, Христиан, возьмите на себя нападение, если хотите наблюдать что-то интересное. Иначе вы увидите, возможно, только тушу мертвого зверя: говорят, что медведь этот прячется в тесной горловине, заросшей густым кустарником. — Тогда я согласен, — сказал Христиан, — и обещаю сегодня же вечером показать вам на моей сцене презабавную охоту на медведя. Да, да, уж я постараюсь доставить вам возможно больше удовольствия, чтобы выразить свою признательность. А теперь, майор, научите меня, как взяться за дело, чтобы пристойно покончить с медведем, не причиняя ему особых мучений; я ведь охотник сентиментальный и должен сознаться, что свирепости во мне нет ни на грош. — Как! — воскликнул майор. — Вы никогда не видели, как убивают медведя? — Никогда! — О, тогда это меняет дело, и мы отказываемся от нашего предложения. Никто из нас не хочет, чтоб медведь нас искалечил, дорогой Христиан! Не правда ли, друзья мои? И что скажет графиня Маргарита, если мы вернем ей партнера по танцам со сломанной ногой? Лейтенант и капрал были того же мнения — не следует подвергать новичка опасной схватке с диким зверем; но сердце Христиана забилось сильнее, едва, к великому его сожалению, было произнесено имя Маргариты. С этого мгновения он принялся с той же горячностью настаивать на первоначальном плане, с какой только что отказывался от него из скромности и равнодушия. «Если мне удастся более или менее изящно убить медведя, — думалось ему, — эта жестокая принцесса, возможно, перестанет краснеть при мысли о нашей недолговечной дружбе, а если мне суждена более или менее трагическая гибель на охоте, она, быть может, прольет втайне хоть одну слезинку, когда вспомнит о бедном фигляре». Когда майор увидел, что Христиану, по-видимому, вовсе не хочется зависеть от жребия, он тотчас же стал уговаривать друзей вернуть ему внеочередное право на схватку с медведем. Однако после этого майор подошел к даннеману и обратился к нему на его языке: — Друг, ты ведь пойдешь вперед, чтобы послужить проводником нашему дорогому Христиану; прошу тебя, не спускай с него глаз. Он впервые выходит на медведя. Далекарлиец был так удивлен, что поначалу даже не понял и просил повторить сказанное, после чего внимательно посмотрел на Христиана и покачал головой: — Красивый молодец, — сказал он, — и с добрым сердцем, я уверен! Он ел мой какеброэ, как будто всю жизнь только этим и занимался; у него зубы истого далекарлийца, скажу я вам, а ведь он иностранец! Такой человек мне по душе. Досадно, что он не может говорить со мной по-далекарлийски, и еще досаднее, что он собрался туда, где сложили головы охотники половчее, чем мы с ним. Какеброэ, о котором упомянул даннеман, представлял собой просто-напросто хлеб домашнего изготовления, выпеченный из смеси ржи, овса и толченой коры. Так как в этой стране хлеб пекут не чаще двух раз в год, такой хлеб, сам по себе очень твердый благодаря примеси мелкой истолченной березовой коры, становится, зачерствев, совершенно плоским, твердым как камень и почти недоступным для зубов чужеземцев. В историю вошли слова некоего датского епископа, который шел в поход против далекарлийцев во времена Густава Вазы: «Сам черт не справится с народом, который кормится древесиной». Тем не менее даннеман, несмотря на свой восторг перед мощью челюстей своего чужеземного гостя, не мог, по-видимому, ручаться за его безопасность, и поэтому тревога Ларсона отнюдь не рассеялась; он снова попытался отговорить Христиана, но в это время даннеман попросил присутствующих выйти и оставить его наедине с чужеземцем. Все поняли его мысль, и Ларсон поспешил пояснить ее Христиану: — Вам придется подвергнуться некоему кабалистическому посвящению, — сказал он. — Я уже говорил вам, что крестьяне наши верят во всевозможные чары и в помощь таинственных высших сил. Видимо, даннеман спокойно поведет вас навстречу медведю только в том случае, если сделает вас неуязвимым с помощью какого-то известного ему талисмана или заговора. Вы согласитесь на это? — Еще бы! — воскликнул Христиан. — Я с жадностью собираю все, что касается местных обычаев. Оставьте меня одного с даннеманом, дорогой майор, и если он вызовет ко мне настоящего дьявола, я обещаю дать вам точное его описание. Даннеман, оставшись наедине с гостем, взял его за руку и молвил по шведски: — Не бойся! Потом он подвел Христиана к одной из двух лежанок, образующих поперечную нишу в глубине комнаты, и, трижды позвав: «Карин, Карин, Карин!», отдернул старый, запятнанный кожаный занавес, за которым лежало какое-то существо, поражающее своей худобой и бледностью. Эта старая, болезненного вида женщина с трудом, казалось, пробудилась от сна; даннеман помог ей приподняться, чтобы дать ей взглянуть на Христиана. В то нее время он повторил: «Не бойся!» и добавил: — Это сестра моя, ты, должно быть, слыхал о ней; прославленная ясновидящая, одна из вал минувших времен![420] Старуха, чей глубокий сон не могли потревожить ни шум трапезы, ни застольная беседа, теперь словно старалась собраться с мыслями. Бескровное лицо ее казалось спокойным и приветливым. Она протянула руку, в которую даннеман вложил руку Христиана, но тотчас отдернула свою, будто в испуге, и сказала по-шведски: — Ах, что это, более мой? Это вы, господин барон? Простите меня за то, что я не встаю. Слишком устала я за мою горькую жизнь! — Вы ошибаетесь, голубушка, — ответил Христиан, — вы не знаете меня; я не барон. Даннеман, по-видимому, сказал сестре то же самое, ибо она возразила по-шведски: — Я понимаю, вы обманываете меня: это великий ярл! Зачем он явился к нам? Зачем нарушил сон той, что так долго бодрствовала? — Не обращай внимания на ее слова, — промолвил даннеман, обернувшись к Христиану. — Дух ее еще погружен в сон, она продолжает грезить. Сейчас она заговорит более разумно. И добавил, взглянув на сестру: — Ну, Карин, посмотри на этого молодца и скажи, следует ли ему идти со мной на лукавца. Лукавцем далекарлийские крестьяне называют медведя, ибо избегают настоящего его названия. Карин закрыла глаза руками и стала что-то с живостью говорить брату. — Говорите по-шведски, раз вам знаком этот язык, — сказал ей Христиан, которому не хотелось упустить что-либо из обряда посвящения. — Прошу вас, матушка, научите меня, как мне должно поступать. Ясновидящая с каким-то ожесточением крепко зажмурила глаза и сказала: — Либо ты не тот, о ком я грезила, либо ты позабыл язык, знакомый тебе с колыбели. Оставьте меня оба, и ты и тень твоя: я ничего не скажу, я поклялась никому не говорить о том, что мне известно. — Терпение, — сказал даннеман Христиану. — С ней всегда так поначалу. Попроси ее поласковее, и она предскажет тебе твою судьбу. Христиан повторил свою просьбу, и ясновидящая, по-прежнему прикрывая глаза бледными руками, заговорила наконец поэтическим слогом, словно произнося заученные наизусть речи: — Лютый рычит в зарослях вереска, разорвав узы свои! Он умчался! Он умчался на восток, по долинам, меж топей, трясин и ядовитых потоков! — Означает ли это, что он ускользнет от нас? — спросил даннеман, почтительно внимая словам сестры. — Я вижу, — продолжала она, — я вижу, как бредут меж смрадных потоков клятвопреступники и убийцы! «Понятно ли вам это? Известно ли, что я хочу сказать?» — Нет, не известно, — ответил Христиан, узнав в этих словах знакомый ему припев древних скандинавских песен «Волуспы» и узнав также, как показалось ему, голос, звучавший среди камней Стольборга. — Не перебивай ее, — сказал даннеман. — Продолжай, Карин; мы слушаем. — Я видела, как пылает огонь в очаге богача, — молвила она. — Но на пороге его стояла смерть. — Ты имеешь в виду этого молодца? — спросил даннеман сестру. Она продолжала, будто не слыша вопроса: — Однажды в поле я подарила одежду двум лесным людям; едва надев ее, они обернулись богатырями — обнаженный человек робок. — Вот видишь! — воскликнул Бетсой, с простодушным торжеством глядя на Христиана. — Теперь-то, надеюсь, тебе ясны ее слова?! — Вы так думаете? — Разумеется, все ясно! Она советует тебе получше одеться и вооружиться. — Совет, безусловно, хорош; но разве это все? — Слушай, слушай, она сейчас опять заговорит, — сказал даннеман. И ясновидящая заговорила: — Безумец полагает, что будет жить вечно, если уклонится от боя; но даже старость не принесет ему мира: миром обязан он будет лишь копью своему. «Понятно ли вам это? Известно ли, что я хочу сказать?» — Да, да, Карин! — вскричал обрадованный даннеман. — Ты хорошо сказала и можешь вновь уснуть; дети будут охранять твой сон, и ничто тебя не потревожит. — Тогда оставьте меня, — сказала Карин. — «Вала снова погрузится во мрак». Она закрыла лицо покрывалом, и костлявое тело ее, казалось, утонуло, исчезло в перине гагачьего пуха — богатом подарке даннемана, благоговейно почитавшего сестру. — Ты доволен, надеюсь, — сказал он Христиану, доставая лежавшую в углу длинную веревку. — Хорошее предсказание! — Очень хорошее, — ответил Христиан. — На этот раз я его понял. Человеку осмотрительному незачем прятаться, самое верное — идти прямо навстречу врагу. Итак, в путь, дорогой мой хозяин! Но на что вам эта веревка? — Дай руку, — сказал даннеман. И он принялся тщательно обвивать веревкой левую руку Христиана. — Вот этим ты отвлечешь внимание лукавца, — сказал он. — Когда он схватится обеими лапами за твою руку, ты другой рукой всадишь ему в брюхо рогатину; впрочем, я тебе все объясню по дороге. Ты готов — идем же! — Ну что? — воскликнули офицеры, ожидавшие Христиана в сенях. — Суждена ли нам удача? — Что касается меня, — ответил Христиан, — я, видимо, стал неуязвим; что же касается медведя — вряд ли ему посчастливится так, как мне. Впрочем, ясновидящая сказала, что он убежит на восток. — Нет, нет, — прервал его даннеман таким серьезным и уверенным тоном, что все шутки мигом прекратились: — Было сказано, что лютый устремится к востоку, а вовсе не то, что он останется жив. В дорогу! Но до того, как последовать за Христианом на охоту, вернемся на несколько минут в замок Вальдемора, откуда барон, едва взошло солнце, выехал в сопровождении всех гостивших у него мужчин, способных участвовать в охоте, и двухсот или трехсот загонщиков. Место, выбранное на горном склоне для этой господской облавы, находилось значительно ниже, чем хижина даннемана. Поэтому дамы также проследовали туда: одни из них хотели возможно лучше увидеть охоту на медведя, другие, менее храброго десятка, решили остановиться на лесной опушке. В числе первых была и Ольга, желавшая показать барону, как ее волнует его охотничья доблесть; Маргарита же, совершенно равнодушная к этой доблести барона, оказалась среди последних, вместе с Мартиной Акерстром, дочерью пастора и невестой лейтенанта Осборна: это была славная девушка, чересчур, быть может, румяная, но приветливая, любезная и искренняя, за что Маргарита и предпочитала ее остальным. Заметим мимоходом, что пастор Микельсон, о котором шла речь в связи с историей баронессы Хильды, давно умер, — по слухам, после того, как отважился на ссору с бароном Олаусом. Его преемник был человеком весьма почтенным и выказывал большое достоинство и независимость в своих отношениях со Снеговиком, несмотря на то, что место приходского священника получил из его рук, как еще водилось в некоторых феодальных владениях. Барон, по-видимому, понял, что лучше поддерживать дружеские отношения с порядочным человеком, чем поощрять дурные склонности приятеля, который может стать опасным врагом. Поэтому с пастором он держался вежливо и тот нередко заступничал перед ним в пользу слабых и бедных, не вызывая у него приступов гнева своей искренностью. Приглашенные не проявили особого рвения, собираясь на охоту вслед за бароном. Никто не верил, чтобы можно было встретить медведя так недалеко от замка, тем более после нескольких шумных праздничных дней. Медведь по природе своей угрюм и недоверчив. Ему вовсе не по вкусу звуки оркестра и огни фейерверка; поэтому все шепотом поговаривали о том, что если уж попадется им на путч медведь, это будет ручной зверь, ловкий плясун, который сам подойдет к владельцу замка и подаст ему лапу. Тем не менее погода была прекрасной, лесная дорога — весьма приятной, а посему никто не отказался от предложенной прогулки, даже старики, которых довезли в экипажах до уютного павильона, обставленного на сельский лад, где предстояло позавтракать или даже пообедать, в зависимости от того, какова будет добыча — медведи или зайцы. Когда замок почти что опустел, Юхан удалил под различными предлогами неугодных ему лакеев и сам наконец принялся за расследование дела, которое вознамерился довести до желаемого конца; попутно он час за часом подробно записывал происходящее.«9 часов утра. Итальянец кричит от голода и жажды. Ему заткнули рот. Это дело нетрудное. В Стольборге нет никого, кроме Стенсона, адвоката и малыша-слуги. Ульф-недоумок не в счет. Христиан Вальдо исчез, если только не заболел и лежит. Адвокат, который живет в одном с ним помещении, никого туда не пускает, что начинает вызывать у меня подозрения. 10 часов утра. Капитан послал ко мне спросить, не пора ли начинать. Рано. Итальянец еще не обессилел. Христиан Вальдо, несомненно, где-то разгуливает. Я проник наконец в знаменитую медвежью комнату, где застал адвоката за работой. Говорит, что не знает, куда делся кукольник. Я видел его поклажу. Далеко он не ушел. 11 часов утра. Я обнаружил слугу Христиана Вальдо в конюшнях нового замка. Вызвал его на разговор. Он знает настоящее имя своего хозяина: Дюлак. Стало быть, он француз, а не итальянец. Зато этому Пуффо мы обязаны более интересным открытием — у нас здесь, оказывается, два Вальдо, а не один. Пуффо вчера не работал с марионетками, а тот Вальдо, с которым я разговаривал, человек с пятном во всю щеку, наврал мне с три короба. Партнер его по спектаклю незнаком Пуффо. Этот Пуффо вчера напился и все проспал. Он говорит, что знать не знает, кто мог его заменить. Хотел было я отправить его к капитану, да решил, что он не врет. Все же надо за ним присматривать. Он может пригодиться. Очевидно, второй Вальдо и есть мнимый Гёфле. Если так, оба вечером попадутся в ловушку, только бы не догадались о наших подозрениях. По-моему, Стенсон чем-то взволнован. Я велел его не трогать. На всякий случай надо, чтобы он успокоился тогда ему от нас не уйти. Полдень. Все у меня в руках. Доказательство посылаю Вам в запечатанном конверте и к сему прилагаю показания итальянца (тянуть за язык его не пришлось: едва увидел «розариум» — залился соловьем). Христиан Вальдо, несомненно, тот, кого Вы ищете. Он красив и хорошо сложен; его приметы в точности отвечают наружности самозванного Гёфле. О человеке с родимым пятном на лице итальянцу ничего не известно. Пресловутое доказательство, раздобытое мною для Вас безвозмездно, было спрятано меж двух камней позади хогара, в отлично выбранном месте, которое я Вам покажу. Я сам сходил за ним и посылаю его Вам, не зная, стоит ли оно чего-нибудь. Судите о нем сами. Сейчас накормлю завтраком синьора итальянца, настоящее имя которого — Гвидо Массарелли. Не уезжайте второпях с охоты, не проявляйте нетерпения. Если посланные Вам бумаги представляют собой нечто важное и если эти скоморохи в заговоре с Гвидо — они от нас не уйдут, ибо со вчерашнего дня им не довелось с ним встретиться. За всеми дорогами установлено наблюдение. Гвидо предлагает свои услуги против скоморохов, но я ему не доверяю. Если же все это мистификация, чтобы вытряхнуть из Вас деньги, мы заплатим звонкой монетой, дорого заплатим!»
Закончив отчет, Юхан приложил его к бумажнику, который ему удалось отнять у Гвидо, и отправил накрепко запечатанный пакет барону, на место сбора охотников, с самым верным из своих людей.
XIII
Пока приведенное выше послание спешит вдогонку барону, мы позволим себе поспешить, в свою очередь, в домик Бетсоя, откуда храбрый даннеман намеревался увести Христиана безо всякого оружия, за вычетом веревки и палки с железным наконечником. — Стойте! — сказал майор. — Надо снабдить нашего друга всем необходимым и вооружить его. Это отличная рогатина, дружище Ю, но добрый норвежский нож еще лучше, да и доброе ружье не будет лишним. Уступив настояниям майора и лейтенанта, Христиан облачился в куртку из оленьей шкуры и натянул на ноги войлочные сапоги без кожаной подошвы и без шва, мягкие, как чулки, непроницаемые для холода и позволяющие ступать, не скользя, по снегу и льду. После этого друзья вручили Христиану ружье, порох и пули, водрузили ему на голову меховую шапку и приступили к жеребьевке. — У меня первый номер! — обрадовался майор. — Стало быть, место Христиану уступаю я, а сам становлюсь в ста шагах позади него; в ста шагах слева от меня — лейтенант, справа — капрал. Ступайте же вперед и считайте шаги; мы последуем за вами, когда вы сосчитаете до ста и подадите нам знак. Когда все было договорено, даннеман и Христиан первыми двинулись в путь, остальные пошли вслед за ними, соблюдая должное расстояние. Христиана удивило, что они сразу же выступили в боевом порядке. — Неужто медведь находится так близко от нас? — спросил он своего провожатого. — Мы, верно, сто раз успеем занять нужные места, когда подойдем к его берлоге. — Лукавец очень близко, — ответил даннеман. — Еще ни один лукавец не зимовал так близко от моего жилья. Я и не подозревал, что он тут; хотя раз десять я едва не натыкался на его яму, мне и в голову не приходило, что у меня завелся такой красавец сосед. — А что, он красив, наш медведь? — Я редко встречал зверя крупнее; но тише: слух у него тонкий. Еще четверть часа пути, и ему будет слышно каждое наше слово. — Дочерей ваших не страшило такое соседство? — спросил Христиан, подойдя к даннеману поближе и понизив голос ему в угоду, хоть и находил эти опасения преувеличенными. Услышав этот вопрос, Ю Бетсой вскинул свою крупную голову, распрямил могучие плечи, искоса поглядел на Христиана и сухо сказал: — Господин Христиан, дочери мои — порядочные девушки! — Разве я, по-вашему, усомнился в этом, господин Бетсой? — удивился Христиан. — Ужели тебе неизвестно, — продолжал даннеман, с трудом заставляя себя произнести ненавистное слово, — что медведь бессилен перед девственницей и она, стало быть, может без страха вырвать у него из когтей козу или барана? — Простите, господни даннеман, я этого не знал; я ведь здесь чужой и с каждым днем узнаю что то новое. Но твердо ли вы уверены, что медведь столь почтителен к девичьей чести? Взяли бы вы с собой на охоту свою дочь? — Нет! Женщины не умеют держать язык на привязи и болтовней своей спугнут любого зверя. Вот почему на охоту не берут ни жен, ни дочерей. — Но если вы вдруг увидите, что медведь гонится за вашей дочерью, вас это не испугает? Вы не станете стрелять в него? — Стану, чтобы добыть его шкуру, а вовсе не из страха за дочь. Повторяю тебе — я ручаюсь за честь моих дочерей. — А ваша сестра, та, что предсказывает будущее, была, должно быть, замужем? — Замужем? — повторил даннеман и покачал головой. Затем, вздохнув, добавил: — Была Карин замужем или нет, злые языки ей не страшны. — Неужели даже здесь вас донимают злые языки, почтенный Ю? Мне казалось, что в этих безлюдных краях… Даннеман пожал плечами и ничего не ответил, но на лице его выразилось недовольство. — Неужели я опять, сам того не желая, обидел вас чем-то? — спросил Христиан, помолчав немного. — Да, — ответил даннеман. — И коль скоро негоже идти вместе туда, куда идем мы с тобой, и при этом скрывать что-то друг от друга, я хочу знать, почему ты спросил меня, не боится ли Карин медведя? Я шага не сделаю дальше, пока не узнаю, не затаил ли ты дурную мысль о ней или обо мне. Такой призыв к чистосердечию, высказанный даннеманом с величием, достойным мужа древних времен, поверг Христиана в смущение. Расспрашивая Бетсоя о Карин, он уступил порыву любопытства, движимый какой-то непонятной ему самому таинственной силой. Он решил поправиться и тем самым выйти из трудного положения. — Почтеннейший Ю, — сказал он, — я вовсе не спрашивал вас, боится ли ваша сестра медведя, я только спросил, была ли она замужем, и не внизу в этом вопросе ничего оскорбительного. Крестьянин вновь смутил его долгим, проницательным взглядом. — Вопрос твой меня не оскорбляет, — сказал он, — если ты можешь поклясться, что не слыхал до своего прихода в мой дом никаких кривотолков о моем семействе. И так как Христиан, припомнив слова майора, медлил с ответом, Бетсой продолжал: — Ну, ну! Не обманывай меня, так будет лучше. У тебя нет оснований питать ко мне вражду, и ты смело можешь открыть мне, что тебе говорили про дитя озера. — Дитя озера? — вскричал Христиан. — Что это за дитя озера? — Если ты ничего не знаешь, мне нечего сказать тебе. — О, нет, напротив! — возразил Христиан. — Я знаю… Мне кажется, что я знаю… Прошу вас говорить со мной как с другом, почтенный Ю. Дитя озера — это сын Карин? — Нет, — ответил даннеман, и лицо его выразило чрезвычайное волнение. — Он и впрямь был ее ребенком, только зачат и рожден был не так, как другие. Карин досталась горькая участь, как всем девушкам, которые знают больше, чем им надлежит, и читают книги чужой веры, но нет на ней того греха, в котором ее винят. Я тоже в свое время обманывался на ее счет, даже я! Была пора, когда я, будучи еще совсем молодым, собрался было всадить пулю в лоб человеку, которым Карин слишком часто бредила во сне; но она поклялась мне и нашей матери, что она ненавидит того человека. Поклялась на Библии, и нам пришлось ей поверить. А ребенка выкормила в горах ручная лань, ходившая за Карин по пятам, будто коза. Более года прожила Карин с ним вдвоем, но не в том доме, что тебе известен, а в другом, выше по склону. Когда ребенок смог обойтись без молока лани, мы взяли его к себе и очень полюбили. Он рос, учился говорить, хорошел на глазах, но однажды исчез так же таинственно, как появился, а Карин пролила столько слез, что рассудок покинул ее, как покинул младенец. Немало скрыто здесь загадок, Но разве неизвестно, что иные дети появляются на свет, подобно слову, из уст матери, после того как те надышатся на озере ночным ветром, поднятым троллями? Карин слишком долго жила близ озера, а все знают, как опасно озеро Вальдемора. Теперь хватит об этом. Это тайна господа бога и тайна вод. Не надо дурно думать о Карин. Она не трудится, не делает ничего, что шло бы дому на пользу и украшение; но она из тех, кто приносит счастье семье своими песнями и знанием. Она видит то, что скрыто от других, и все, что она предсказывает, так или иначе сбывается. Поговорили, и хватит; повторяю тебе: вот мы входим в чащу, и сейчас надо думать только о лукавце. Выслушай меня внимательно, а затем — ни слова более, ни единого слова, хотя бы от этого зависела жизнь… — …Хотя бы от этого зависела жизнь, — подхватил Христиан, взволнованный, потрясенный загадочным рассказом даннемана, — вы должны еще рассказать мне кое-что о ребенке, который у вас воспитывался. А что, пальцы на руках у него были как у всех? Лицо даннемана, несмотря на холод, вспыхнуло густым румянцем. — Я уже сказал вам, — ответил он в раздражении, — все, что хотел сказать. Бели вы явились сюда, чтобы есть мой хлеб, охотиться на моего зверя с намерением оскорбить честь моей семьи, берегитесь или откажитесь от охоты, господин Христиан, ибо, клянусь именем Бетсоя, я брошу вас здесь один на один с лукавцем. — Почтеннейший Бетсой, — спокойно ответил Христиан, — эта угроза страшит меня куда меньше, чем боязнь огорчить вас. Можете оставить меня наедине с лукавцем, если вам угодно: у меня лукавства тоже хватит, чтобы его перехитрить. Прошу вас об одном — не думайте обо мне плохо. Мы вернемся, надеюсь, к этому разговору, и вы поймете, что мне никогда не могла прийти в голову мысль оскорбить честь вашего семейства. — Ладно, — сказал даннеман, — коли так, поговорим о лукавце. Либо он пустится наутек, когда мы подойдем к его берлоге, и ты выстрелишь ему вслед, либо он выйдет на тебя, встав на задние лапы. Ты хорошо знаешь, где у него сердце, и, если только рука твоя не дрогнет, непременно всадишь туда этот добрый нож. Берегись только, чтобы он не выбил оружия из твоей правой руки раньше, чем схватит тебя за левую, так как он отлично видит, что человек держит в руке, и вообще соображает лучше, чем принято думать. Действуй спокойно, исподволь, не спеша. Пока лукавец не ранен, дерзости в нем мало, и он толком даже сам не знает, чего хочет. Иногда он ворчит, но дает подойти поближе. Я, например, обычно заговариваю с ним и обещаю не делать ему зла: ведь зверю солгать не грех. Поэтому мой совет — скажи ему ласковое словцо: у него хватит ума, чтобы понять, что с ним заигрывают, но не хватит, чтобы догадаться, что его обманывают. Теперь обожди, я посмотрю, удалось ли господам офицерам окружить берлогу; ведь если зверь уйдет от нас, надо, чтобы он не ушел от других. Через пять минут я вернусь. Христиан остался один в местности, непривычной его взору. Он прошел со своим провожатым примерно с полмили по прекрасному лесу, разлившемуся глубоким, привольным потоком по склону горы. Изобилие великолепных деревьев в этих краях и трудности, связанные с их вывозкой для обработки в другом месте, являются причиной безжалостной, можно даже сказать — кощунственной расточительности, с которой уничтожают величавые творения сей дикой природы. Чтобы выстругать какое-нибудь орудие труда или игрушку (а далекарлийские пастухи, подобно швейцарским, отлично вырезают изделия из смолистой древесины), приносят в жертву, без малейшего сожаления, зеленого исполина, а подчас, не заботясь о том, чтобы срубить его, поджигают дерево у корня; пусть даже пожар охватит и уничтожит бескрайные леса! Нередко можно встретить целые батальоны обугленных уродов, чернеющих на фоне снега или же, летом, на белой от пепла равнине. Эти обгоревшие стволы уже не служат убежищем ни единому зверьку, и среди них царят безмолвие и неподвижность смерти[421]. Охотники, посетившие русские леса, с горечью рассказывают, что и там, среди величественной природы севера, им довелось столкнуться с подобным же нерадением и святотатством. Лес, где находился Христиан, не был ни горелым, ни вырубленным: он являл собой зрелище менее волнующее, и, однако, потрясал картиной грандиозной, величавой гибели от естественных причин — одряхления деревьев, оползней, налетавших вихрей. Это был, казалось, девственный лес, внезапно затертый плавучими льдами полярных морей. Огромные трухлявые сосны, иссохшие снизу доверху, рухнули на своих еще зеленых, крепких собратьев, обломав им верхушки или широкие лапы ветвей. Гигантские утесы скатились по склону, увлекая за собой целый мир растений, которые и теперь еще цеплялись за жизнь, изуродованные и расплющенные, или заново возрождались на обломках других. Беда эта стряслась, должно быть, несколько лет тому назад, так как кое-где на холмиках, а вернее — нагромождениях битого камня и развороченной земли, — успели вырасти молодые березки. При малейшем порыве ветра на легких, поникших ветвях этих прекрасных деревьев раскачивались ледяные сосульки, издавая сухое, торопливое шуршание, напоминающее шум ручья, бегущего по каменистому руслу. Дикая местность эта поражала своим величием. В тысяче футов под собой Христиан видел эльф, или стрём (талое название носит любой поток), сохранивший подо льдом былой цвет и причудливость извилин. Глухой не усомнился бы на таком расстоянии в том, что потоки с грохотом мчат свои воды, ибо глаз был полностью обманут угрюмым, металлическим отблеском их поверхности, на которой вздувались, подобно пене, пышные белые гребни. Но слух Христиана способен был уловить самый слабый Звук, идущий из глубины бездны, и поэтому его особенно впечатлял контраст этого бурного на вид и совершенно беззвучного потока. Ничто так не сходно с мертвым миром, как мир, оцепеневший под дыханием зимы. Не потому ли малейший проблеск жизни в этой застывшей картине, след на снегу или пичужка, украдкой взмахнувшая крылом, вызывает у нас волнение? И волнение это бывает почти что сродни испугу, если звонкий бег лося или оленя внезапно пробудит уснувшее в безмолвии эхо. И все же Христиан в эти мгновения не склонен был ни любоваться природой, ни готовиться к схватке с лукавцем. Страшная, мучительная мысль пронзила его душу. Удивительный рассказ даннемана, поначалу вовсе непонятный из-за ломаного языка и суеверных представлений, внезапно прояснился и сложился в его мозгу в единое целое. Эта сельская провидица, соблазненная троллем, духом озера, таинственный ребенок, выросший в хижине даннемана и исчезнувший в возрасте трех-четырех лет, наконец, испытанные Христианом во время завтрака галлюцинации памяти, а на деле, возможно, внезапно пробудившиеся воспоминания… «Да, — думал он, — теперь ко мне возвращается память или иллюзия памяти. Три заблудившиеся коровы… двадцать лет тому назад… и выстрел, который не дал уйти четвертой… Мне кажется, я слышу этот прикончивший ее выстрел, вижу, как падает бедное животное, и заново испытываю чувство горя и жалости, пережитое мною тогда; это было, возможно, первое мое волнение, то, что пробуждает наши чувства к жизни. Боже, мне чудится, будто целый позабытый мир оживает и встает передо мной! Кажется, это событие случилось вон там, за скалой, на краю того крутого обрыва, среди красноватых камней. Я словно вернулся сейчас к прошлым дням… Но я ли это был тогда, или только душа моя в какой-то былой жизни? А если то был я, кто же тогда мой отец? Кто этот человек, которого едва не убил даннеман, когда суеверие еще не усыпило пробудившегося в нем подозрения? Почему ясновидящая… моя мать, быть может… вздрогнула, коснувшись моей руки? Она была погружена в сонное забытье, она не взглянула мне в лицо; но она назвала меня бароном! И не служат ли гнев и скорбь даннемана в ответ на мой давешний вопрос о приметах на руке ребенка доказательством того, что он уже обратил внимание и понял, что означает этот наследственный признак, гораздо более заметный, наверно, в детстве, нежели теперь у меня, взрослого? Впрочем, даже если он и разглядел сегодня эту особенность, вряд ли он сопоставил ее с прошлым. Ему и в голову гс пришло искать сходство между мной и тем ребенком. Он увидел во мне только любопытного и насмешливого чужестранца, который пытается выведать у него семейную тайну, а тайна эта позорна; он предпочел превратить ее в легенду, в сказку. Тот, кто усомнится в рассказанных им чудесах, оскорбит его; тот, кто скажет, что мизинцы ребенка были согнуты, как у барона Олауса, навлечет на себя его гнев. Говорят, что правда глаза колет: значит, я угадал… И разве не испугалась бедная Карин, приняв меня за своего соблазнителя? Соблазнитель! Как знать? Быть может, человек этот, заслуживший всеобщую ненависть и презрение, совершил над ней насилие. Она скрыла беду, воспользовалась всеобщей верой в духов зла, чтобы помешать своему младшему брату, даннеману, отомстить, рискуя жизнью, слишком могущественному врагу. Бедная женщина! Разумеется, она все еще ненавидит и боится его; она стала ясновидящей, то есть безумной, с того дня, как случилось это несчастье; она получила в свое время какое-то образование, ибо знает на память древние песни своего народа и в минуты вдохновения бредит ненавистью и местью, облекая эти чувства в слова, родившиеся из смутного вороха полузабытых трагических стихов. Наконец, будь то правдоподобная фантазия или логическое умозаключение, я вижу перст божий в том, что я вернулся в хижину, откуда был похищен… Почему и кем? Увез ли меня в дальние края отважный путешественник даннеман, чтобы избавить сестру от живого укора совести, а семью — от жгучего позора? Или же верно предположение майора о ревнивой жене Олауса?» Все эти мысли теснились в мозгу Христиана, и душа его замирала от ужаса и скорби. Догадка о том, что он сын барона Олауса, еще увеличивала его отвращение к нему. При сложившихся обстоятельствах он видел в бароне только виновника бесчестия и горя своей матери. «Вдобавок, кто знает, — думалось ему, — уж не барон ли велел меня похитить, чтобы уклониться от выполнения какого-то обязательства, какого-то обещания, данного им своей несчастной жертве? Ах, если так, я навеки останусь в этой стране. Не признаваясь никому, кто я таков, наймусь к даннеману в работники; трудом и преданностью завоюю его расположение и даже, может быть, любовь этой семьи — моей семьи! — и приложу все силы, чтобы вернуть если не рассудок, то хотя бы покой бедной ясновидящей, как когда-то вернул покой смятенному уму дорогой моей Софии Гоффреди. Что за удивительная судьба у меня, подарившая мне двух матерей, обезумевших от отчаяния? Что ж, этот незаслуженно жестокий подарок указывает мне, в чем мой долг и что надо совершить, дабы получить неведомую мне награду. Я согласен. Карин Бетсой не помнит, быть может, что лишилась ребенка, но зато она обретет заботу и поддержку сына». В этот миг Христиану почудилось, будто кто-то его окликнул. Он огляделся по сторонам, по никого не увидел. Даннеман велел ему ждать и собирался прийти за ним; Христиан стоял в нерешительности; но мгновение спустя услышал отчаянный вопль, заставивший его сорваться с места, схватить оружие и броситься туда, откуда донесся крик. Карабкаясь с поразительной ловкостью по опрокинутым стволам и обледеневшим грудам камней, опутанных чудовищными корнями, Христиан, сам того не зная, оказался в двадцати шагах от берлоги медведя. Страшный Зверь лежал между ним и своим логовом и слизывал кровь, окрасившую снег вокруг него. Даннеман стоял возле отверстия, ведущего в логово, бледный, без шапки; полосы его, казалось, встали дыбом, оружия в руках не было; рогатина сломалась, вонзившись в бок медведя, и обломок ее валялся подле зверя, а Бетсой, вместо того чтобы снять с плеча ружье и прикончить медведя, стоял неподвижно, словно окаменев от ужаса или повинуясь какой-то непонятной силе, удерживавшей его на месте. Едва он заметил Христиана, как стал делать ему какие-то знаки, которых тот не понял, но догадался, что надо молчать, и прицелился в медведя. К счастью, перед тем как спустить курок, он еще раз взглянул на Ю Бетсоя и увидел, что тот, отчаянно взмахнув рукой, запрещает ему стрелять. Христиан, подражая ему, жестом спросил, следует ли бесшумно прирезать зверя, и когда Бетсой утвердительно кивнул, направился прямо к медведю, который, в свою очередь, с рычанием поднялся навстречу ему во весь рост. — Скорей, скорей, или мы погибли! — крикнул даннеман, схватив ружье и подстерегая у берлоги какого-то невидимого врага. Второго окрика Христиану не понадобилось. Когда медведь, несколько ослабевший от нанесенной ему раны, схватился обеими лапами за протянутую к нему левую руку Христиана, обмотанную веревкой, охотник ударом ножа вспорол ему брюхо, но забыл, что зверь может рухнуть на него и что следует поэтому быстро отскочить в сторону. К счастью, медведь повалился на бок, увлекая за собой Христиана, но страшные когти его, сведенные последним усилием, вонзились лишь в полу куртки. Христиан, пригвожденный к снежному сугробу тяжестью лукавца и когтями его, вцепившимися в одежду, с трудом поднялся на ноги, пожертвовав большей частью оленьей куртки, одолженной ему майором; но ему было не до куртки: даннеман схватился с другим неприятелем. Он только что выстрелил наудачу в темное логово, и навстречу ему с угрожающим видом вылез другой лукавец, черный, молодой, но уже огромный, а два медвежонка, каждый величиной с крупного щенка дога, путались у охотника в ногах с единственным намерением дать стрекача и едва не повалили его в снег. Даннеман, готовый скорее погибнуть, чем упустить тройную добычу, оперся спиной о древесные стволы, образующие как бы природную арку перед входом в логово. Он боролся с молодым медведем, раненным его пулей; но медвежатам все же удалось опрокинуть Бетсоя, и раненый медведь в ярости уже набросился было на него, когда Христиан, хладнокровно и уверенно прицелившись, раздробил пулей голову зверя на расстоянии фута от головы даннемана. — Молодец! — сказал даннеман, быстро вскочив на ноги. Но медвежата уже перелезли через него и убегали, а он хотел во что бы то ни стало их схватить. — Стойте, стойте! — сказал ему Христиан, внимательно следивший за беглецами. — Смотрите-ка, что они делают! Медвежата подбежали к трупу матери и прижались к ней, прячась под окровавленной тушей. — Правильно! — сказал даннеман, потирая руку, сильно помятую медведем, несмотря на веревку. — Нам убивать их незачем, у каждого из нас уже есть своя добыча. Позови друзей; я еще должен дух перевести, и к тому же, сознаюсь, натерпелся я страху. На волосок был от смерти. Если бы не ты… Да зови же их. А я потом договорю. И пока Христиан звал друзей во всю силу своих легких, даннеман, все еще слегка дрожа, но зорко оглядываясь по сторонам, наспех перезаряжал ружье на случай, если медвежатам вздумается отойти от трупа матери и бежать в лес до прихода охотников. Те вскоре явились с трех сторон сразу, так как издалека услышали выстрел. Ларсон первый поздравил Христиана с победой, увидев валявшуюся у его ног огромную медведицу. — Осторожнее! Стойте! — крикнул Христиан. — У нашей медведицы есть, оказывается, приплод — двое красавцев медвежат, вот они! Прошу вас, пожалейте бедных сирот, возьмите их живыми. — Конечно, — ответил Ларсон. — Помогайте, друзья. У нас тут завелись воспитанники! Труп медведицы окружили и приподняли с осторожностью, так как всегда следует опасаться, не прикидывается ли медведь мертвым. Не без труда захватили детенышей, которые скалили зубы и выпускали когти, тщательно опутали им веревками лапы и морду, после чего на досуге охотники вдоволь налюбовались на превосходную добычу, найденную в берлоге, и только собрались посетовать на свою неудачу, как даннеман опередил их. — Вам придется простить меня за мой поступок, — сказал он молодым офицерам. — Я подозревал, что у этой огромной зверюги есть детеныши. Кстати, я ведь говорил вам, что она пятнистая? О, ее-то я отлично разглядел, не то что детенышей; ну, а дружка ее совсем не видел. Мне, правда, говорили, что медведица-мать часто берет к себе на зиму молодого лукавца, хотя бы тот вовсе не приходился отцом детенышам и не принадлежал к той же породе, что их отец, чтобы защищать и растить медвежат, если ее убьют. Я сам такого никогда не видел и потому по очень-то верил этим россказням. А теперь увидел своими глазами и навсегда поверил. Если бы я догадался об этом, я взял бы с собой вас обоих, чтобы каждый убил по отличному зверю; но кто мог знать, что такое случится? Стрелять я не собирался, ружье взял только из предосторожности, на случай, если господин, которого я веду, промахнется и окажется в опасности. Что касается рогатины, я вовсе не думал, что она мне пригодится, и потому даже не проверил, в порядке ли она. Теперь я расскажу тебе, как было дело, — продолжал даннеман, обращаясь уже к Христиану. — Я тебе сказал, что вернусь за тобой, когда расставлю остальных по местам; так я и сделал и пошел было прямо к тебе, но, видно, какой-то зверь попортил мои вешки, поставленные прошлой ночью, и я не то что заблудился, а неожиданно оказался возле берлоги и сообразил это, когда было уже поздно отступать. Лукавица услышала мои шаги; она пошла на меня, оттого что была с детенышами. Я замахал руками, чтобы спугнуть ее и заставить уйти в берлогу; но она не испугалась и встала на задние лапы. Тогда мне пришлось распороть ей брюхо рогатиной, и в то же время я дважды позвал на помощь. Дружок ее вылез на порог своего дома, услышав мой голос, и я кинулся навстречу, чтобы не дать ему уйти, совсем позабыв, что сломанная рогатина осталась возле медведицы. Мне казалось, что она мертва, но когда я подошел, она поднималась на ноги и опять падала. Долго тянулось для меня время, пока ты не пришел, господин Христиан; ведь с одной стороны от меня была мать, которая вот-вот могла собраться с силами и броситься на меня, а с другой — ее дружок, который забился в свою берлогу и ждал удобной минуты, чтобы вместе с ней кинуться на меня, не говоря о детенышах, а уж они-то, я знал, будут путаться под ногами, едва завяжется бой. Против всех этих врагов у меня была только одна пуля, а этого было мало, и я даже не решался прицелиться, так как лукавцы при виде направленного на них оружия сразу переходят в нападение. Тут мне стало страшно, и я без стыда могу в этом признаться, ибо не убежал; и вот — все четверо у нас в руках. Казалось мне, что целый год прошел, а ведь ты, видно, быстро явился, господин Христиан, раз все так хорошо обошлось. Да, говорю, очень хорошо все обошлось, и ты настоящий мужчина! Мне жаль, что до того мы с тобой обменялись горькими словами. Все это позабыто, и я тебе дарю свое сердце, точно так же как ты подарил мне жизнь. Обнимемся же, и помни, что я тебя обнимаю как сына. Христиан горячо обнял далекарлийца, и тот рассказал остальным о том, как юноша после рукопашной схватки с медведицей весьма вовремя прикончил дружка «в двух дюймах от моей головы, вот вам крест!» Скромность вынудила Христиана уличить даннемана в изрядном преувеличении; но Бетсой, увлекшись рассказом, и слышать ничего не хотел, а так как доказать обратное было невозможно, подвиг молодого искателя приключений принял поистине исполинские размеры в воображении Ларсона и его друзей. Их уважение к Христиану соответственно еще возросло, и в этом не было ничего удивительного. Самообладание всегда говорит о подлинноммужестве. Того, кто гибнет, жалеют, тем, кто побеждает, восхищаются. Отнюдь не восхищаясь собственной особой, Христиан испытывал живейшую радость оттого, что приобрел право на дружбу даннемана, которого отныне считал своим кровным родичем; но он остерегался дальнейших расспросов и решил дознаться правды другим путем, пусть даже пришлось бы ему потратить на это немало времени и терпения. Убитые медведи, в особенности медведица-мать, представляли собой тяжелый груз, не менее четырехсот фунтов. Тащить их но каменистому бездорожью, где и людям-то было нелегко пробраться, представлялось немыслимым. Даже лошади не справились бы с такой задачей. Меж тем день шел на убыль, а друзьям хотелось присоединиться к охоте барона, и богатая добыча оказалась им в тягость. С медвежатами тоже было не просто управиться — они вовсе не желали подчиняться. — Ступайте восвояси, — сказал охотникам даннеман, — дети мои помогут мне срубить два или три деревца и соорудить волокушу, на которую мы погрузим всю добычу и но снегу дотащим до дому. Оттуда ее доставят на санях к вам в бустёлле, через два часа, не позднее, чтобы вы могли перед всеми друзьями похвалиться удачной охотой. — А завтра мы вернем вам убитых зверей, — сказал Ларсон. — Вам одному мы можем доверить обработку и выделку шкур. Ваше мнение, Христиан? — Мое мнение полностью совпадает с вашим, — ответил Христиан. — Простите! — возразил майор. — Одного медведя мы купили у даннемана — это тот, которого вы убили; он принадлежит вам, точно так же как даннеману принадлежит убитый им зверь, если только он не захочет нам его продать. — Он убил обоих, — сказал Христиан. — Я же только прикончил их и не имею права ни на одного. Такое соревнование во взаимных уступках заняло немало времени, причем даннеман проявил не меньше щепетильности, чем остальные. Наконец Христиану пришлось ступить и принять свою долю добычи — медведицу. За обоих медвежат даннеману заплатили, как за одного взрослого медведя, и его же уговорили взять себе «дружка госпожи медведицы». Покончив с дележкой, майор и друзья ого хотели было увезти Христиана с собой, но он отказался. — На охоте барона, — объяснил он, — мне делать нечего, ибо вы сами мне сказали, что после нашей в ней нет ничего для меня интересного. К тому же и времени у меня не хватит. Я должен возможно раньше вернуться в Стольборг, чтобы приготовиться к представлению. Не забудьте, я ведь еще на два дня связан контрактом с моим ремеслом «выдумщика». Я останусь здесь и помогу даннеману увезти лукавцев, после чего воспользуюсь его санями, чтобы вернуться к озеру. И помните, вы обещали господину Гёфле и мне навестить нас в Стольборге. — Будем непременно после ужина и спектакля, — ответил майор. — Ждите нас. — А я, — сказал даннеман Христиану, — берусь доставить вас к озеру еще засветло. Времени терять было нельзя. Офицеры направились к своим саням, а даннеман с помощью Христиана, своего сына Олофа и старшей дочери, присоединившихся к нему теперь, ловко и умело взялся за изготовление волокуши ид ветвей. Добычу погрузили; кто тащил, кто придерживал или подталкивал, и волокуша быстро скатилась по склону к хижине даннемана. Едва переступив порог, Христиан тотчас стал искать глазами ясновидящую. Занавес у ее постели был задернут и неподвижен. Была ли она здесь? Ему хотелось увидеть эту таинственную женщину, попытаться заговорить с ней, но он не осмелился подойти к ее лежанке. Ему казалось, что даннеман не спускает с него глаз, и он понимал, что всякое проявление любопытства будет неприятно хозяину дома. Младшая из дочерей даннемана принесла самодельную водку — прославленную хлебную водку, на которую впоследствии Густав III установил государственную монополию, введя, таким образом, тяжкий и обременительный налог, который лишил короля былой популярности, ввергнув в горькую нищету народ, только что избавленный от гнета дворянства. Является ли столь частое потребление водки насущной необходимостью в этом суровом климате? Христиану это казалось маловероятным, тем более что от напитка Этого, изготовленного лично даннеманом, чем тот изрядно гордился, немилосердно першило в горле. Радушный хозяин потчевал им гостя что было силы, не понимая, как же не напиться после того, как убьешь двух медведей. Этого Христиан при всем желании не мог выдержать, и несмотря на то, что был не прочь подпоить Бетсоя, не напиваясь самому, чтобы таким путем, быть может, проникнуть в семейную тайну, он ограничился горячим чаем, оставленным для него майором и поданным ему в деревянной чашке, изящно выструганной и выточенной юным Олофом. Христиан испытывал некоторую неловкость оттого, что позволил себе княжеское развлечение — убить медведя за счет друзей; ведь, по сути дела, медведь-то был собственностью даннемана, ибо любая добыча является собственностью того, на чьей земле она схвачена. Христиану же его подарили друзья, иначе говоря — оплатили его сами. Он обрадовался, узнав от даннемана, что тот еще не получил денег, так как майор и его спутники не ожидали столь удачной охоты и не захватили с собой требуемой суммы. Христиан спросил, сколько же полагалось заплатить. — Это зависит от обстоятельств, — с гордостью ответил даннеман, — иногда мне оставляют зверя целиком, и я только приношу благодарность тому, кто помог мне убить его; но, должно быть, господин Христиан, ты захочешь взять себе шкуру, лапы, жир и окорока? — Ни в коем случае, — смеясь ответил Христиан. — Что мне с ними делать, бог мой? Прошу вас, господин Бетсой, оставьте все это у себя; а так как я полагаю, что вы берете несколько больше с тех, кто развлекается охотой на ваших землях, чем с тех, кто просто-напросто приходит к вам за товаром, разрешите предложить вам тридцать далеров, которые сейчас имею при себе… И мысленно закончил: «и которые являются единственным моим достоянием». — Тридцать далеров! — воскликнул даннеман. — Это много денег! Ты, стало быть, богат? — Достаточно богат, чтобы просить вас принять их. Даннеман взял деньги, посмотрел на них, потом перевел глаза на руки Христиана, но не заметил ничего, кроме их белизны. — Золото у тебя чистое, — сказал он, — и руки белые. Ты не из тех, кто трудится, однако ты ешь какеброр как далекарлиец. Лицом ты мой земляк, речью — чужестранец… Одет ты был, когда приехал сюда, не лучше, чем я. Но ты горд, как я замечаю; тебе не по нраву, чтобы друзья, уступив тебе свой черед убить лукавца, еще тратили на тебя деньги… — Совершенно верно, господин Бетсой, вы угадали. — Будь спокоен. Ю Бетсой — честный человек; он ничего не возьмет с твоих друзей, коль скоро ты оставил ему добычу. А приму ли я что-нибудь от тебя — это зависит от многого. Можешь ли ты поклясться честью, что ты человек богатый, сын состоятельных родителей? — Не все ли равно? — спросил Христиан. — Нет, нет, — возразил даннеман, — ты спас мне жизнь, за это не благодарят, я для тебя сделал бы то же самое; но ты меткий стрелок и, что еще важнее, понимаешь, что тебе хотят сказать. Если бы там, в лесу, ты меня не послушался, когда я подал тебе знак, худо пришлось бы нам обоим… особенно мне, без рогатины и с попорченной веревкой на руке. Я доволен тобой и хотел бы иметь сына с твоим лицом и твоим нравом, ибо ты отважен и приветлив; стало быть, если ты небогат, незачем тебе и притворяться богачом передо мной. Какой в этом смысл? Я-то ведь далеко не беден! Живу в достатке, и ежели тебе в чем-нибудь будет нужда, обратись к Ю Бетсою, а у него то уж всегда найдутся для друга тридцать далеров, а то и целая сотня! — Я в этом не сомневаюсь, господин Бетсой, — ответил Христиан, — и с открытой душой пришел бы просить у вас не денег, а работы. Быть может, такое и случится, не зарекаюсь; а если случится, я хотел бы явиться к вам, уплатив сперва то, что с меня причитается, все равно как если бы был богачом. На этот раз я пришел к вам еще — без нужды, и вы ничем мне не обязаны. — Ничего мне не надо, — возразил даннеман, — забирай свои деньги и приходи, когда захочешь. Что ты умеешь делать? — Сумею быстро научиться у вас всему, что вы мне покажете. Даннеман улыбнулся. — Значит, ничего не умеешь? — спросил он. — По крайней мере умею убивать лукавцев! — Отлично умеешь. Умеешь даже топором орудовать и рубить дрова. Это я видел. А вот странствовать умеешь? — Лучше всего. — Спать на скамье? — Даже на камнях. — Знаешь ли язык лапландцев, самоедов, русских? — Нет, но знаю итальянский, испанский, французский, немецкий и английский. — Это все мне ни к чему не послужит, хотя и доказывает, что можешь легко научиться говорить по-всякому. Что ж, возвращайся сюда, коли надумаешь, до конца месяца тора (января), и если захочешь отправиться в Дронтгейм или даже куда подальше, я с удовольствием возьму такого спутника. А если со мной поедет Олоф, которому уже не терпится побродить по свету, останешься при доме. Дочери у меня невесты, предупреждаю, так что берегись, как бы женихи не приревновали, не то пеняй на себя. Береги тетушку Карин: она очень кроткая, только не надо сердить ее — раз навсегда запрещаю. — Буду ходить за ней как за родной матерью, — взволнованно ответил Христиан. — Но, скажите, она нездорова, страдает тяжким недугом? Почему..? — Тебе все расскажут, если будешь жить у нас. Сколько хочешь получать за труды? — Ничего. — Как ничего? — Разве мало иметь хлеб и крышу над головой? — Господин Христиан, — сказал даннеман, нахмурясь, — ты, видно, лентяй или проходимец, коли будущее тебя не заботит. Христиан понял, что своим бескорыстием вызвал у него подозрения. — Знаком вам господин Гёфле? — спросил он. — Адвокат? Хорошо знаком. Я ему продал лошадь, отличную лошадку! Превосходный человек этот адвокат. — Ну вот, он может поручиться за меня. Тогда вы мне поверите? — Ладно, договорились. Забирай свои деньги. — А если я попрошу вас сохранить их для меня? — Значит, они ворованные? — воскликнул даннеман, снова охваченный подозрениями. Христиан рассмеялся, поняв, что дипломат из него не получился. — Поверьте, — сказал он даннеману, — я человек искренний и простодушный. Я не привык, чтобы мне верили на слово: располагающая внешность еще ничего не означает. Если вы сегодня не возьмете у меня эти тридцать далеров, майор захочет дать их вам завтра, а мне это обидно. — Майор ровно ничего мне не даст, потому что я ничего не возьму, — с живостью возразил даннеман. — На сей раз, значит, ты мне не доверяешь? Христиану пришлось отказаться от намерения оставить свое скромное достояние в этом доме, служившем, быть может, прибежищем его матери. Это соревнование в щепетильности легко могло привести к ссоре, так как от обильных возлияний наивная гордость вольного крестьянина разгоралась все пуще. Но сани уже ждали, и Христиану пора было ехать. Он ни за что не согласился бы отменить свои последние выступления, за которые ему причиталось сто далеров — сумма вполне достаточная, чтобы начать новую жизнь, не будучи ни перед кем в долгу. Он полагал, что даннеман поедет с ним; но Бетсой, вместо того чтобы сесть в сани, отдал поводья сыну с наставлениями быть осторожным в пути и вернуться пораньше. — Я надеялся разделить ваше общество до замка Вальдемора, — сказал Христиан даннеману. — Нет, — ответил тот, — я в замок не ездок! Разве что заставят силой! Прощай и до свидания! В голосе даннемана прозвучало столько презрения и неприязни при упоминании о Вальдемора, что Христиан, пожимая ему руку, испугался, как бы тот не заметил особенного строения его мизинцев, ибо сходство это, будь оно роковым или чисто случайным, могло положить конец возникшей дружбе; но пальцы были согнуты столь незначительно, а ладонь даннемана так огрубела, что он ничего не почувствовал и долго еще махал гостю на прощание. Олоф же, невзирая на предостережения отца, став на передке саней и обмотав руки поводьями, пустил вскачь свою лошадку вниз по склону, вовсе не помышляя о том, что может при падении отлететь далеко от саней и поплатиться в лучшем случае вывихом кистей рук.XIV
К счастью, сани даннемана были потяжелее и покрепче тех, на которых майор привез Христиана в горный домик, иначе несдобровать бы путникам, так как юному далекарлийцу были нипочем валуны и рытвины. Вместо того чтобы предоставить лошади, значительно превосходившей его умом, свободно бежать, повинуясь инстинкту, он то хлестал ее, то дергал поводья, проявляя ненужную отвагу. Христиану, лежавшему в санях среди четырех медведей — двух живых и двух мертвых, думалось, что падать будет довольно мягко, если только все не разлетятся в разные стороны. Наконец ему надоело смотреть, как мальчишка понапрасну мучит лошадь даннемана, и он довольно резко отобрал у возницы поводья и хлыст, сказав тоном, не допускающим возражений, что ему захотелось править лошадью. Олоф, по природе своей, был довольно кротким и прикидывался свирепым только из самолюбия, чтобы его считали взрослым. Он тут же затянул шведскую песню, то ли от скуки, то ли чтобы спутник видел, что он лучше владеет родным языком, чем остальные члены семьи. Это и навело Христиана на мысль побеседовать с ним. — Почему, — спросил он мальчишку, — ты не пошел с нами на охоту? Ты еще никогда не видел, как медведь встает на задние лапы? — Тетка не позволяет, — со вздохом отвечал тот. — Тетка Карин? — Другой у нас нег. — И все поступают так, как она хочет? — Да. — Она предсказала тебе что-нибудь плохое? — Говорит, будто мне еще рано. — Может быть, она права. — Должно быть, права, раз так говорит. — Она, видно, во всем разбирается лучше других… — Она все знает, коли беседует с… — С кем беседует? — Об этом нельзя говорить: отец запретил. — Оттого что боится, как бы не стали насмехаться над его сестрой; но он знал, что я на это не способен, раз велел мне спросить у нее, что ждет меня на охоте. — И она вам сказала? — Да, сказала. Откуда она могла знать? — Оттуда же, откуда она все узнает: из водопадов, где плачут девушки, умершие от любви, из озер, где появляются люди давних времен. — Значит, она еще может ходить? — Она не старая, ей всего пятьдесят лет. — А я-то думал, что она хворая. — Она ходит куда быстрей и дальше, чем вы сами можете. — Может быть, она сейчас болеет, раз лежит в постели, в то время как все сидят за столом? — Нет, не болеет. Она просто устала, как всегда, когда слишком долго остается на ногах. — Я думал, что она не работает. — Она и не работает; она разговаривает или ходит, поет или молится, и будь то днем или ночью, не спит, пока не свалится от усталости. А уж тогда спит так долго, что можно подумать, будто она умерла; а в одно прекрасное утро исчезает, всем на удивление, и нигде ее не найдешь — ни в постели, ни дома, ни в горах; в общем, где ни ищи — нигде ее нет. — Куда же она все-таки уходит? — Злые люди говорят, что на Блокуллу; только это неправда! — Что это за Блокулла? Место сбора ведьм? — Да, это черная гора, куда злые ведьмы тащат ребятишек, которых крадут, пока те спят, и везут к сатане на коне Шюлтсе, похожем на крылатую корову. А сатана хватает их и кусает то ли в лоб, то ли в мизинец, и эта метка у них на всю жизнь остается. Но я-то знаю, почему такое болтают про тетку Карин. — Почему же? — Потому что давным-давно, когда меня еще на свете не было, она, говорят, принесла домой ребеночка, которому дьявол покусал пальцы, а мой отец и смотреть-то на него не хотел; но потом отец его полюбил и говорил, что тетя — добрая христианка и что про нее все врут. Приходский пастор тоже не находит в ней ничего дурного и говорит, что если ей нужно спать на бегу, не следует ей мешать, пусть бегает. Да она сама предсказывала, что умрет, а нас ждет великая беда, если ее запрут в доме. Вот почему она и ходит куда хочет, а отец говорит, что нам лучше и не знать куда, оттого что она хранит какие-то тайны и может выдать их, если за ней пойдут и подсмотрят. — И с ней никогда ничего не случалось, когда она так бегала во сне? — Никогда; да, может быть, она вовсе и не спит на бегу. Как знать-то? Известно только, что иногда проходит три дня и три ночи, и никто не знает, вернется ли она; но она всегда возвращается, в любую погоду, и если ей дать вволю поспать и погрезить, она не болеет и предсказывает будущее. Вот, например, нынешним утром… Но отец мне запретил рассказывать! — Мне можешь рассказать, Олоф, все равно что вот этим камням! — Поклянитесь Библией, что не разболтаете. — Клянусь чем хочешь. — Ну вот, — продолжал Олоф, радуясь, что нашел наконец солидного слушателя после долгого одиночества в горах, — вот что она сказала на рассвете, когда проснулась: «Знатный ярл пойдет на охоту. На охоту пойдет знатный ярл со своею свитой». Знаете, кто этот ярл? Барон Вальдемора! — А! Он действительно отправился на охоту; но твоя тетушка могла об этом слышать. — Нет, подождите, еще кое-что есть: «Ярл оставит душу свою дома; дома оставит он душу свою». Стойте… стойте… я сейчас вспомню остальное… Она пела это… Мотив я помню, сейчас спою и вспомню слова. И Олоф затянул совсем на заупокойный лад: «А когда ярл вернется домой за душой своей, он в доме души своей не найдет». Едва успел юный далекарлиец произнести эти таинственные слова, как чьи-то сани, пущенные во весь опор, поравнялись с его санями и раздались повелительные возгласы кучера: «Эй, с дороги, с дороги!», и свист хлыста, подгонявшего упряжку из четырех коней, перепуганных донесшимся до них запахом медведей, лежавших в санях Христиана. К этому времени горы остались уже позади, и сани мчались по узкой дороге, ведущей к озеру. Христиан, понимая, что его опрокинут, если он не посторонится, но не имея возможности отъехать, не рухнув при этом вниз с обрыва, возвышавшегося над эльфом, хлестнул лошадь даннемана, чтобы ускорить ее бег и домчаться до такого места, где можно было уступить дорогу; но едва он взял вправо, как с ним вплотную поравнялись задние сани, возница грубо натянул поводья, не справившись с разгоряченными лошадьми, и те и другие сани опрокинулись в снег. Христиан так глубоко ушел в сугроб вместе с Олофом и всеми четырьмя медведями, что некоторое время не понимал, с кем же он оказался погребенным в снегу. Первым голосом, который он услышал, и первым лицом, порадовавшим его взор, оказались голос и лицо прославленного профессора Стангстадиуса. Ученый нимало не пострадал от столкновения, но пришел в страшную ярость, а поэтому, оказавшись лицом к лицу с Христианом, представшим перед ним на сей раз без маски, набросился на него, осыпая бранью и призывая на его голову гнев божий и проклятие всей вселенной. — Эй, эй, потише! — ответил Христиан, помогая ему встать на хромые ноги. — У вас, слава богу, все цело, господин профессор! Беру в свидетели моей радости по сему поводу и небо и вселенную; но если это вы так лихо правите санями, вы не очень-то любезны по отношению к тем, у кого лошади похуже ваших. Ну, ну, оставьте меня в покое, — добавил он, слегка отталкивая геолога, который уже норовил схватить его за шиворот, — а не то я обещаю, коли доведется мне опять встретиться с вами на озере, бросить вас там — замерзайте, если угодно, а я не стану больше наживать синяки, таская вас на плечах! Профессор даже и не попытался узнать Христиана и продолжал доказывать ему в самых высокопарных выражениях, что все случилось по его вине; внезапно Христиан, намереваясь вместе с Олофом подобрать свою добычу, заметил среди медведей лежащего неподвижно человека высокого роста, уткнувшегося лицом в снег. В то же мгновение какой-то молодой человек, одетый в черное, бледный от испуга, поднялся по противоположному склону, куда он был сброшен при столкновении, и подбежал с криком: — Господин барон! Где же господин барон? — Какой барон? — спросил Христиан, подняв и поддерживая высокого человека, потерявшего сознание. Но тут сын даннемана подтолкнул Христиана плечом и сказал: — Это ярл! Посмотрите, это ярл! Молодой врач барона поспешно снял с головы своего пациента меховую шапку, которая при падении сползла ему на лицо, едва не задушив, а Христиан, узнав в этом полумертвом человеке барона Олауса Вальдемора, почувствовал такое непреодолимое отвращение, что его сильные руки чуть было не разомкнулись и не уронили барона в снег. Барона уложили на нагроможденные медвежьи туши: лучшего ложа в данных обстоятельствах нельзя было найти; перепуганный врач умолил Стангстадиуса, который когда-то получил степень доктора медицины, помочь ему советами и опытом в этом чрезвычайно трудном случае. Стангстадиус, ощупав все свои суставы и убедившись, что хромает не более обычного, согласился наконец заняться единственным человеком, серьезно пострадавшим при падении. — Э, черт возьми! — сказал он, осмотрев и ощупав барона. — Дело ясное: пульс слабый, лицо посинело, губы вздулись, предсмертные хрипы… И, однако, никаких повреждений… Да, все ясно как день: апоплексический удар. Надо немедленно пустить кровь, и побольше. Молодой врач бросился искать свои инструменты и не нашел их. Христиан и Олоф стали помогать ему в поисках, но и их усилия не увенчались успехом. Резвые лошади умчали сани барона далеко от места происшествия; кучер, опасаясь, как бы хозяин не приказал избить его до смерти палками за оплошность, пустился вдогонку за своей упряжкой, потеряв голову от страха и оглашая пустынную местность отчаянными проклятиями. Меж тем смирная лошадка даннемана осталась стоять на месте, и поэтому кто-то предложил поскорее отвезти барона в замок на крестьянских санях. Стангстадиус возразил, утверждая, что больной по дороге скончается. Врач, вне себя от волнения, собрался было догонять сани барона, чтобы там поискать свой футляр с инструментами. Наконец он обнаружил его в собственном кармане, где этот футляр уже не раз попадался ему под руку, но он от волнения не понимал, что это такое. Однако когда ему понадобилось вскрыть вену, рука его задрожала так сильно, что Стангстадиус, совершенно равнодушный ко всему, что не касалось его самого, и к тому же радуясь случаю показать свое превосходство, отнял у него ланцет и пустил барону кровь. Христиан стоял рядом и, скрывая волнение, смотрел на странную и зловещую картину, озаренную багровым отсветом заходящего солнца: на этого человека с могучим телом и страшным лицом, корчившегося в судорогах среди беспорядочно разбросанных трупов диких зверей; на его толстую белую руку, откуда медленно лилась черная кровь, застывая на снегу; на молодого врача с кротким, испуганным лицом, который стоял на коленях возле своего грозного больного и не знал, что внушает ему больший страх — возможная смерть пациента у него на руках или рычание медвежат, лежавших возле него; на опрокинутые сани, разбросанное оружие, лицо юного даннемана, выражающее растерянность и в то же время тайное злорадство; на тощую лошаденку всю в мыле, безмятежно жующую снег; и над этим всем — нелепую физиономию Стангстадиуса, сияющую неизменно самодовольной улыбкой, в то время как его пронзительный голос разглагольствовал в самой педантичной и непререкаемой манере. Это было незабываемое зрелище, потешное и в то же время трагическое, быть может и непонятное на первый взгляд. — Не стану скрывать от вас, бедный мой коллега, — говорил Стангстадиус, — у вашего больного почти нет шансов выкарабкаться! Только не думайте, что в его состоянии повинна катастрофа, — кровоизлияние неминуемо грозило ему в течение прошедших суток. Как же вы этого не предвидели? — Я не только предвидел, — возразил молодой врач с оттенком раздражения в голосе, — я даже час тому назад говорил вам об этом, господин Стангстадиус, когда барон получил в охотничьем павильоне какое-то письмо и черты его так страшно исказились. Я не виноват, что вы позабыли. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы отговорить господина барона ехать на охоту; он и слышать не хотел, и я только добился разрешения сопровождать его в санях. «— Ну и ну, хорошенькую помощь он себе обеспечил! Да если бы я не увидел, что он не в силах продолжать охоту, и не предложил вернуться с вами вместе в замок, он скончался бы здесь от удушья. У вас никогда не хватило бы присутствия духа…. — Вы очень суровы с молодыми людьми, господин профессор, — прервал его вконец разобиженный врач. — Не так-то легко сохранить присутствие духа, когда тебя выбросит из саней на десять шагов в сторону, а потом, едва вскочив на ноги, надо с первого взгляда найти выход из безнадежного, быть может, положения… — Эка важность свалиться в сугроб! — сказал господин Стангстадиус, пожимая одним плечом, так как другое не поддавалось. — Упали бы вы, как я когда-то, на дно шахты с высоты пятидесяти футов, семи дюймов и пяти линий! Полежали бы в обмороке шесть часов, пятьдесят три минуты и… — Черт возьми, господин профессор, сейчас лежит в обмороке мой больной, а не вы! Что прошло, то прошло. Подержите-ка его руку, Нока я возьму жгут. — Нет, все дело в том, что есть люди, которые хнычут по любому поводу, — продолжал Стангстадиус, шагая взад и вперед и не слушая собеседника. Потом, совершенно позабыв, что только что кипел злобой против Христиана, этот вспыльчивый, но не злопамятный человек весело обратился к нему: — Ну-ка, признайтесь, ведь я даже в лице не изменился, когда на меня навалились эти четыре туши, не считая двух других — вас и вашего приятеля? Вот еще растяпы-то! Но что такое в конечном счете несколько лишних синяков? Да я о себе и думать не стал! Я тотчас же оказался в полной готовности судить о состоянии больного и пустить ему кровь! Верный глаз, твердая рука… Слушайте, где же я вас раньше видел? — продолжал он, все еще обращаясь к Христиану и совсем позабыв о больном. — Неужели это вы убили этих зверей? Прекрасная добыча! Медведица крупная, из породы пегих, синеглазых… И подумать только, что этот болван Бюффон… Где же вы ее нашли? В здешних краях это редкость! — Разрешите ответить вам в другой раз, — сказал Христиан, — доктору нужна моя помощь. — Ничего, ничего, пускай течет кровь, — спокойно ответил геолог. — Нет, нет, довольно! — воскликнул врач. — Кровопускание оказало хорошее действие, посмотрите сами, господин профессор; но не надо им злоупотреблять: такое лечение сейчас столь же опасно, как и сама болезнь. Христиан с необъяснимым, мучительным отвращением держал тяжелую, холодную руку барона, когда врач останавливал кровь. Больной открыл глаза и осмотрелся, пытаясь понять, где он находится. Первый взгляд он бросил на свое странное ложе, второй — на окровавленную руку, третий — на трепещущего от страха врача. — Ага! — сказал он слабым голосом, но весьма презрительно. — Вы отворили мне кровь! Я же запретил вам. — Это было необходимо, господин барон; вот вам, слава богу, и стало лучше! — ответил врач. У барона не было сил спорить с ним. Угрюмо и тревожно переводил он потухший взор с одного на другого, пока не заметил Христиана и словно в каком-то отупении уставился в лицо ему широко раскрытыми глазами; когда же тот наклонился, чтобы помочь врачу поднять его, барон оттолкнул его судорожным взмахом руки, и слабый румянец, выступивший было на щеках его, вновь сменился синеватой бледностью. — Вскройте опять вену! — воскликнул Стангстадиус, обращаясь к доктору. — Я сразу увидел, что вы слишком рано прекратили кровопускание. Говорил же я вам! А потом дайте больному минут пять полежать спокойно. — Но холод, господин профессор, — сказал врач, машинально выполняя приказание Стангстадиуса, — вы не боитесь, что в таких условиях холод может привести к смертельному исходу? — Вздор! Холод! — возразил Стангстадиус. — Наплевать мне на атмосферный холод! Куда страшнее холод смерти! Пусть течет кровь, говорю я вам, а потом дайте ему отдохнуть. Выполняйте предписание, а там будь что будет! И он добавил, повернувшись к Христиану: — Плохи дела у толстяка барона! Не хотел бы я сейчас оказаться в его шкуре… Ах, черт возьми! Да где же это я вас видел? Но тут же он отвлекся, подобрав что-то на снегу: — Что за красный камень? Обломок порфира? Здесь, среди гнейса и базальта? Или вы привезли его оттуда? — добавил он, указывая на западные вершины. — Он выпал у вас из кармана? Ага, видите, меня не проведешь! Я знаю наизусть все здешние породы на две мили вокруг! Сани барона наконец воротились, и поэтому, когда несколько мгновений спустя его состояние снова улучшилось, кровопускание прекратили, больного уложили в сани и медленно повезли к замку, а Христиан поехал вперед с сыном даннемана. — Ну, что? — сказал парнишка, когда они обогнали уныло ползущие сани барона. — Что я вам говорил перед тем, как все это стряслось? Что предсказывала тетя Карин? — Я не понял ее песни, — ответил Христиан, поглощенный своими мыслями. — Невеселая, кажется, песня. — «Он оставил душу свою дома, — повторил Олоф, — а когда он вернется за душой своей, он ее не найдет». Разве это не ясно, господин Христиан? Ярл заболел; он хотел стряхнуть с себя болезнь; но душа его не желала идти на охоту, а сейчас она, наверно, находится на пути в пренеприятное место! — Ты ненавидишь ярла? — спросил Христиан. — Ты думаешь, что душа его попадет в ад? — Это уж как богу угодно! Что касается ненависти, я его ненавижу точно так же, как все, ни больше, ни меньше. Вы-то сами любите его, что ли? — Я? Да я его совсем не знаю, — ответил Христиан, скрывая дрожь, охватившую его от сознания, что он ненавидит барона, должно быть, сильнее, чем кто-либо другой. — Ничего, узнаете, если он выживет! — продолжал мальчик. — Он быстро дознается, кто его сбросил в снег, и тогда вам только останется дать тягу. — Вот как! Значит, все думают, что тому, кого он невзлюбит, грозит беда? — А как же! Отца своего он отравил, брата заколол, невестку уморил голодом, да еще немало других смертей него на совести, о чем хорошо знает тетушка Карин и узнали бы все, если бы она только захотела рассказать; да она не хочет! — А ты не боишься, что гнев барона обрушится на тебя, когда он узнает, что его опрокинули сани твоего отца? — Сани тут ни при чем, да и я тоже! Это вы вздумали править! Если бы правил я, этого, быть может, и не случилось бы; но чему быть, того не миновать: если злодея постигла беда, на то, значит, божья воля! Христиан, все еще во власти столь жестоко поразившего его подозрения, снова вздрогнул при мысли, что судьба обрекла его стать отцеубийцей. — Нет, нет, — вскричал он, отвечая скорее на собственные мысли, нежели на слова сына даннемана, — не я повинен в его болезни! Врачи сказали, что вот уже сутки, как он обречен! — И тетушка Карин предсказывала то же! — твердил свое Олоф. — Ничего, будьте спокойны, он уже не жилец! И Олоф снова принялся напевать сквозь зубы печальный припев, все больше и больше напоминавший Христиану скорбные звуки, услышанные накануне на скалистом берегу озера. — Тетушка Карин посещает когда-нибудь Стольборг? — спросил он Олофа. — Стольборг? — удивился парнишка. — Я бы этому поверил, только если бы увидел ее там своими глазами! — Почему? — Потому что она не любит этот замок; она даже названия его слышать не хочет. — Отчего же это? — Кто знает? А ведь она там жила когда-то, во времена баронессы Хильды; но больше я ничего не сумею вам сказать, оттого что и сам ничего не знаю: у нас дома не принято говорить о Стольборге и о замке Вальдемора! Христиан почувствовал, что расспрашивать юного даннемана о предполагаемых отношениях его тетки с бароном было бы нескромно. К тому же на сердце у него было так мрачно и печально, что просто духу недоставало что-то еще разузнавать. Немало способствовала его меланхолии перемена, внезапно случившаяся в атмосфере. Зашло ли солнце или нет, только оно полностью исчезло среди тумана, какой подчас сопровождает в зимние дни его появление или угасание. Эта тусклая, мрачная, свинцово-серая пелена становилась все плотнее с каждым мгновением, и вскоре уже ничего нельзя было различить, кроме дна ущелья, куда туман еще не проник. Опускаясь в глубь ущелья, туман клубился тяжелыми волнами, не смешиваясь с черным дымом от огромных костров, зажженных там, должно быть, для того, чтобы сберечь от холода остатки урожая или не дать замерзнуть какому-то потоку. Христиан далее не спросил Олофа, зачем горят костры; угрюмо любовался он этими багряными призраками, возникшими, подобно метеорам без лучей и отблесков, на берегу стрёма, и следил за медленной и печальной борьбой темных вихрей дыма с туманом, казавшимся белым по сравнению с ними. Оледеневший поток все еще был виден; но по странной оптической иллюзии он то вился так близко от дороги, что Христиан мог, казалось бы, дотронуться до него хлыстом, то уходил в недоступные глазу глубины, хотя в действительности находился намного ближе или намного дальше, чем это чудилось в прихотливой игре тумана. Ночь наконец наступила после долгих северных сумерек, обычно зеленоватых, а в этот вечер — мертвенно-бесцветных. Все живое в природе где-то затаилось и смолкло. Христиан чувствовал себя подавленным этой погребальной тоской, затопившей все вокруг, но мало-помалу свыкся и смирился с ней, обессилев душой. Олоф спешился, собираясь вести лошадь под уздцы по отвесному склону, у подножия которого простиралось озеро, или, вернее, бескрайняя бездна, дышавшая клубящимся паром. Христиану представлялось, что он вот-вот сорвется с края земного шара и полетит в бездонную пустоту. Два или три раза лошадь, поскользнувшись, оседала на ноги, и Олоф уже вот-вот готов был выпустить поводья и предоставить сани и ездока на волю судьбы. Христиана же охватило безразличие, подобное смерти. Сын барона! Слова эти отпечатались черными буквами в мозгу его и убили, казалось, все мечты о будущем, всякую любовь к жизни. Это было не отчаяние, а отвращение ко всему на свете, и в этом расположении духа единственное, что он чувствовал, была непреодолимая дремота, единственное, чего жаждал, — тихо опуститься на дно озера и уснуть навеки. Он и уснул был и уже не сознавал, где находится, когда чей-то голос, неясный, как сумерки, затуманенный, как небо и озеро, запев совсем близко от него, и, вслушиваясь в слова, он постепенно стал понимать их смысл: — «Вот солнце восходит над лугом, усеянным цветами прекрасное, светлое солнце. Я вижу, как белые феи, увенчанные листьями ивы и цветами сирени, пляшут на мшистом ковре, серебряном от росы. С ними — дитя, дитя озера, что прекраснее утра. Вот солнце стоит высоко в небе. Птицы умолкли, мошки жужжат в золотой ныли. Феи вступили в рощу азалий, туда, где свежестью дышит берег стрёма. Дитя дремлет у них на коленях, дитя озера, что прекраснее дня. Вот солнце уходит на покой. Соловей поет алмазной звезде, что смотрится в воды. Феи сидят у подножия неба, на ступенях розового хрусталя; они поют, баюкая дитя, а оно улыбается им из пухового гнездышка, дитя озера, что прекрасней вечерней звезды!» Это был все тот же голос, что слышался Христиану на каменистом берегу, но теперь он казался нежнее и произносил понятные слова на приятный мотив. Это была, должно быть, современная песня, которую ясновидящая поняла и запомнила. Но тщетно пытался Христиан разглядеть какую-либо человеческую фигуру. Он даже не видел лошади, тащившей его сани, или, верней, уже не тащившей их, так как сани стояли неподвижно, а Олоф исчез. Ничуть не обеспокоенный этим, Христиан прослушал до конца все три куплета. Первый, казалось ему, был спет в нескольких шагах позади него, второй — еще ближе, третий — подальше, и постепенно голос удалялся, словно певица уходила вперед, по пути саней. Молодой человек чуть было не выскочил из саней, чтобы перехватить эту невидимую певицу; однако нога его встретила не твердую почву, а пустоту, и, словно нежные слова песни вернули ему инстинкт самосохранения, он невольно протянул вперед руки, стараясь понять, где находится. Он нащупал влажный круп лошади и тихим голосом стал звать Олофа, но ответа не было. Тогда, понимая, что певица удаляется, он обратился к ней, называя ее Вала Карина, но она не слышала или не хотела ответить. Тогда Христиан решил выйти из саней с противоположной стороны и, оказавшись на дороге, проложенной по крутому склону, сделал по ней шагов двадцать, зовя Олофа с возрастающей тревогой. Неужели, пока он ненадолго задремал, мальчуган упал в пропасть? Наконец в тумане блеснула еле заметная светлая точка, и вскоре навстречу ему вышел Олоф с зажженным фонарем. — Это вы, господин Христиан? — спросил мальчик, испугавшись, когда Христиан так внезапно и бесшумно возник перед ним. — Напрасно вы вышли из саней, когда ни зги не видать; здесь передвигаться опасно, недаром же я сказал, чтобы вы оставались на месте, пока я не схожу на соседнюю мельницу и не зажгу фонарь. Разве вы не слыхали? — Нет; а ты слышал, как кто-то пел? — Да, только я не стал слушать. Возле озера часто слышатся всякие голоса, да лучше не понимать, что они поют, а то уведут тебя туда, откуда уже не вернешься. — Ну, а я слушал, — сказал Христиан, — и узнал голос твоей тетушки Карин. Она, должно быть, где-то поблизости… Поищем ее, раз у тебя есть фонарь, или позови ее — она, быть может, отзовется на твой голос! — Нет, нет! — воскликнул мальчик. — Ее надо оставить в покое. Если она грезит, а мы разбудим ее, она убьется! — А разве она не убьется, бродя во тьме по краю ущелья? — Нет, ей видно то, чего нам не видать; оставьте ее, если не хотите причинить ей зла и помешать вернуться домой, а вернется она туда задолго до меня, как всегда! Христиану пришлось отказаться от поисков ясновидящей, тем более что свет фонаря был почти что неразличим в тумане и едва можно было разглядеть, куда ступаешь. Он помог Олофу осторожно довести сани до берега; мальчик, свободно находивший дорогу во тьме, спросил, сядет ли Христиан в сани, чтобы поехать в бустёлле майора. — Нет, нет, — ответил Христиан, — мне нужно в Стольборг. Куда идти, направо? — Нет, — сказал Олоф, — старайтесь идти прямо вперед и отсчитайте триста шагов. Если вы потом сделаете еще два шага и не встретите скалы, значит, вы заблудились. — И что тогда делать? — Смотрите, в какую сторону движутся клубы тумана. Ветер дует с юга, и сейчас почти тепло. Если туман проб дет слева от вас, надо будет взять вправо. Впрочем, на озере безопасно, лед держит повсюду. — А ты, дружок, доберешься сам? — До бустёлле? Ручаюсь! Лошадь знает дорогу отсюда, и видите, ей не терпится пуститься в путь. — А домой ты сегодня не вернешься? — Вернусь! Туман, наверно, рассеется, да и луна скоро выйдет, а так как сейчас полнолуние — будет совсем светло. Христиан пожал руку юному даннеману, дал ему далер и, следуя его наставлениям, добрался до Стольборга, не заблудившись и никого не встретив.XV
Гёфле присматривал за подготовкой своей четвертой трапезы и с самым серьезным видом учил Нильса правилам хорошего тона, а тот стоял навытяжку с салфеткой под мышкой и не изъявлял особого неудовольствия по поводу неожиданного урока. — Эй, скорей сюда, Христиан! — воскликнул доктор прав. — Я уж собирался пить кофе в одиночку! А между тем я ведь сам его сварил на двоих. За превосходное его качество я ручаюсь, а вам к тому же необходимо согреть желудок. — Иду, иду, дорогой доктор, — ответил Христиан, сбрасывая изодранную куртку и принимаясь за мытье окровавленных рук. — Бог ты мой! — продолжал Гёфле. — Никак вы ранены? Или вам довелось, часом, прирезать всех медведей Севенберга? — Вы близки к истине, — ответил Христиан, — но, пожалуй, тут примешалось немного и человеческой крови. Ах, господин Гёфле, это целая история. — Как вы бледны! — вскричал адвокат. — Вам выпало на долю нечто более важное, чем совершить охотничий подвиг… Что это? Ссора?.. Несчастье?.. Да говорите же… У меня уж аппетит пропал! — Нет, то, что со мной случилось, вовсе не должно так действовать на вас. Кушайте на здоровье, господин Гёфле, а я постараюсь составить вам компанию, и рассказ свой поведу по-французски из-за… — Да, да, — подхватил Гёфле по-французски, — из-за красных ушей вот этого дурачка; говорите, я вас слушаю. Пока Христиан рассказывал, весьма точно и во всех подробностях, о своих приключениях и догадках, соображениях и тревогах, вдали послышались звонкие фанфары. Исчезновение барона в лесу, во время охоты, ничем не отличалось от его обычных исчезновений из гостиной. Убив оленя, обессилев от холода и усталости, а главное — желая поскорее заняться делом, о котором сообщил ему Юхан в своем послании, он уселся в сани, словно для того, чтобы отъехать подальше, и велел передать остальным, чтобы о нем не беспокоились и продолжали свои охотничьи забавы. Ларсон и лейтенант к тому времени присоединились к этой охоте и увидели, что предсказание их оправдалось: медведя и следа не было, а добыча состояла из нескольких белых оленей и множества крупных зайцев. Когда туман стал сгущаться, люди осмотрительные поспешили вернуться в замок, но часть молодежи, в сопровождении окрестных крестьян-загонщиков, задержалась на горных склонах, и поэтому Ларсон предложил остановиться у подножия хогара и подождать, пока выйдет луна или пока порыв ветра, предшествующий обычно ее появлению, не развеет густую пелену, вставшую над озером. Кое-кто предпочел зажечь фонари на санках и направиться к замку; с Ларсоном осталось не более двенадцати человек. Крестьянам щедро раздали водку и отправили их по домам. Слуги и псари протрубили конец охоты и зажгли на кургане исполинский костер, возле бесформенных остатков снежной статуи, а блестящая молодежь собралась в пещере, у входа в которую сложили пирамиду из дичи, и предалась оживленной беседе, весело обсуждая события минувшей охоты. Но рассказ майора оказался настолько занимательнее остальных, что вскоре все умолкли, чтобы внимательно выслушать его. В числе слушателей и слушательниц находились Ольга с Мартиной, а также Маргарита, которая получила от тетки разрешение остаться на хогаре в обществе мадемуазель Потен и дочери пастора. — Итак, господа, — сказала Ольга майору и лейтенанту, — вы исподтишка совершили опаснейшие подвиги и обещаете представить нам завтра доказательство, если мы согласимся прогуляться до вашего дома? — Скажите лучше — несколько доказательств! — ответил майор. — Огромную добычу: светлую медведицу с голубыми глазами, рослогочерного медведя и двух живых медвежат, которых мы намерены вырастить, а потом отпустить на свободу, чтобы охотиться на них, когда они подрастут. — Но кто же убил и захватил всех этих зверей? — спросила Мартина Акерстром, белокурая невеста лейтенанта. — Лейтенант захватил одного из медвежат, — ответил майор, выразительно улыбнувшись приятелю. — Капрал Дуф и я — второго, крестьянин, который привел нас туда, ранил медведицу и напал на черного медведя; но эти свирепые звери его неизбежно растерзали бы, если бы не подоспел еще один из наших друзей, который заколол медведицу и прострелил голову медведю на расстоянии полупальца от головы бедняги крестьянина. Несомненно, если бы о выстреле Христиана довелось рассказывать в третий раз, расстояние между его пулей и головой даннемана стало бы вовсе ничтожным; майор меж тем считал, что говорит чистую правду, а когда слушатели недоверчиво зашумели, лейтенант стукнул кулаком по столу и поклялся, что если в оценке майора и есть какая-то неточность, то расстояние преувеличено, но уж никак не преуменьшено. Лейтенант также полагал, что придерживается истины: разве мог ошибиться его друг Осмунд? — Как бы то ни было, — сказала Маргарита, — тот, кто убил этих чудовищ, — человек, по-видимому, отважный и хладнокровный, и я с радостью поздравила бы его от всей души. Скрывает ли он свое имя из скромности, или же его нет сейчас среди нас? — Да, его здесь нет, — ответил майор. — Правда? — спросила Мартина Акерстром с наивным видом, поглядывая на своего жениха. — Увы, к сожалению, это правда, — ответил крепыш с не менее простодушным вздохом. — Но разве он потребовал, чтобы имя его осталось неизвестным? — продолжала Маргарита. — Мы ни за что не согласились бы на это, — ответил майор, — мы слишком привязаны к нему; просто, когда владеешь маленькой тайной, которая, к счастью, возбуждает любопытство дам, хочется набить себе цену, а поэтому, не правда ли, лейтенант, мы с вами будем молчать до тех пор, пока кто-нибудь не попытается угадать имени нашего героя? — Это, быть может, господин Стангстадиус! — со смехом сказала мадемуазель Потен. — Нет, — возразил кто-то из присутствующих, — профессор был с нами на охоте и уехал вместе с бароном Вальдемора. — Что же тут такого? — сказала Ольга. — Может быть, он и присоединился затем к этим господам. Кто знает! Вдруг это был сам барон? — Такие подвиги ему уж не по летам, — сказал, подчеркнув смысл своих слов, один из молодых людей, который был не прочь приволокнуться за Ольгой. — Почему же? — возразила она. — Я бы не сказал, что подвиги эти ему не по летам, — Заметил Ларсон, — но мне кажется, что они ему всегда были не по вкусу. Я никогда не слыхал, чтобы барон участвовал в новомодной охоте на медведя, не прячась за крепкой, туго натянутой веревочной сеткой. — Что? — спросила Маргарита. — Вы охотились без сеток? — Да, на манер горцев, — ответил майор. — Эго славный вид охоты. — Но очень опасный! — Сегодня опасности подвергались не мы, а наш приятель, и мы завтра покажем вам его изорванную куртку оленьей кожи: когда вы увидите, в какое кружево превратился Этот панцирь под медвежьими когтями, вы поймете, что наш друг схватился со зверем врукопашную! — Но это безумие так рисковать собой! — воскликнула Маргарита. — Ни за что на свете не хотела бы я присутствовать при таком зрелище! — А имя этого Мелеагра?[422] — спросила Ольга. — Что же, мы так его и не узнаем? — Признайтесь, что вы еще не делали особых усилий, чтобы узнать его, — ответил майор. — Вы правы, но я вижу здесь всех гостей барона, способных на проявление такой отваги, а вы меж тем утверждаете, что вашего героя нет среди нас. — Вы забыли еще одного, кто был зато вчера вечером в замке, — сказал лейтенант. — Как я ни стараюсь, мне не отгадать, — продолжала Ольга, — разве только это был таинственный человек в черной маске, ученый скоморох Христиан Вальдо! — А почему бы и нет? — сказал майор, посматривая украдкой на вспыхнувшую румянцем Маргариту. — Неужели он? — воскликнула она с живой непосредственностью. — Клянусь богом! — обратилась к ней Ольга, грубовато, но без всякого недоброжелательства, ибо не таила никакого зла. — Похоже, душенька, что вас это занимает чрезвычайно… — Вам ведь известно, — вовремя вставила словцо добродушная мадемуазель Потен, — что графиня Маргарита боится Христиана Вальдо. — Боится? — удивленно переспросил майор. — Разумеется, — продолжала гувернантка, — и, признаюсь, со мной происходит то же самое. Я всегда боюсь масок. — Но вы даже не видели маски Христиана! — Тем более! — ответила она смеясь. — Всегда боишься того, чего не видел. Об этом умном комедианте ходят такие удивительные рассказы! К тому же говорят, что лицо его сходно с черепом мертвеца! Разве этого мало, чтобы увидеть в нем страшный сон и задрожать при одном упоминании его имени? — Напрасно! — сказал майор. — Дрожать вам более не придется, дорогие дамы: вчера мы весь день созерцали лицо Христиана Вальдо, и, что бы там ни говорил господин барон, этот пресловутый череп мертвеца — на деле голова юного Антиноя[423]. Не правда ли, лейтенант, Христиан Вальдо — писаный красавец? — Так же красив, как приветлив, образован и отважен, — ответил лейтенант. А капрал Дуф, стоявший снаружи, покуривая трубочку, как бы помимо воли присоединил свой голос к остальным, восхваляя сердечность, благородство и скромность Христиана Вальдо. Маргарита же ничего не сказала и ни о чем не спросила; она тщательно застегивала свою шубку, так как все обирались уходить, но не пропустила ни единого слова из похвал, которыми осыпали ее вчерашнего знакомца. — Как же случилось, — спросила Ольга, выходя за ней следом, — что человек образованный и приличный занялся ремеслом не скажу постыдным, но легковесным и к тому же, наверно, не приносящим значительных доходов? — Это не ремесло, — с живостью возразил майор, — а просто развлечение! — Но, простите, ему за это платят! — Что ж такого? Нам, военным, тоже платят за то, что мы несем государственную службу. Разве наши земли и доходы с них не являются жалованьем за наши труды? — Есть разница между «жалованьем» и «наградой», — сказала Маргарита задумчиво и печально. — Но мороз дает себя чувствовать, не пора ли нам ехать? По-моему, озеро уже не представляет никакой опасности. Майор понял — или так ему показалось, — что Маргарите очень хочется побеседовать с ним, и поэтому он подал ей руку, чтобы проводить до саней, и попросил у мадемуазель Потен разрешения занять в этих санях место для возвращения в замок. В нескольких словах он поспешно дал понять лейтенанту, чтобы тот усадил Ольгу в свои сани вместе с Мартиной Акерстром, и добряк лейтенант, не вдумываясь в причину, тотчас же выполнил его желание как приказ. Итак, Осмунд мог на свободе с жаром вступиться за Христиана Вальдо перед Маргаритой и ее верной наперсницей, мадемуазель Потен. Для этого достаточно было передать им свой разговор с Вальдо и благородное, хоть и эксцентрическое решение последнего начать суровую, полную лишений жизнь вместо поисков приключений, которые он сам осудил. Маргарита слушала его, держась внешне спокойно, как если бы шла речь о деле, вовсе до нее не касающемся; но она отнюдь не была опытной притворщицей, и майор, тактично сделав вид, будто ничего не замечает, отлично понял, как живо занимает ее предмет их беседы, хоть она и старалась Это скрыть. Меж тем барона Олауса уложили в постель, и он, казалось, успокоился. На вопросы наследников врач, как обычно, подчиняясь полученному приказу, отвечал весьма уклончиво. Им было известно, что почитаемый и любимый дядюшка вернулся домой таким слабым, что его пришлось внести в долг, раздеть и уложить в постель, как ребенка; но, по словам врача, это было всего лишь легкое недомогание, которое скоро пройдет, как уже бывало. Юхан распорядился, чтобы игры и забавы продолжались без помех. На восемь часов вечера был назначен спектакль марионеток. Доктор Стангстадиус мог бы, разумеется, раскрыть всем, насколько серьезно состояние барона; но, едва воротившись с охоты, он поднялся в обсерваторию замка, дабы погрузиться в изучение такого феномена, как «сухой туман», который он приписывал, возможно, не без оснований, вулканическим испарениям, идущим с озера Веттерн. По-настоящему встревожен был только Юхан. Врач отправился переодеться и закусить и оставил его наедине с больным. Юхан решил воспользоваться этим и узнать, в своем ли уме барон. — Ну как, барин? — спросил он со свойственной ему фамильярностью, которой он бесстрашно злоупотреблял, имея на это достаточно веские причины. — Неужто мы на Этот раз помирать будем? Неужели ваш старый Юхан не вырвет у вас этакой славной усмешечки, означающей: «Плевать мне на болезнь! Я еще сам схороню всех болванов, которые надеются, что меня уже черти забрали»? Барон сделал тщетную попытку изобразить эту торжествующую усмешку, но вместо нее получилась угрюмая гримаса, сопровождаемая глубоким вздохом. — Вы меня слышите? — продолжал Юхан. — Это уже кое-что. — Да, — ответил барон слабым голосом. — Но мне на Этот раз очень плохо! Этот осел доктор… И он попытался показать Юхану руку. — Он вам пустил кровь? — сказал тот. — Он считает, что это спасло вас. Будем надеяться; только надо, чтобы вы сами того хотели… Вы ведь знаете, единственное наше лекарство — это ваша воля, способная творить чудеса! — Ее уж больше нет! — Воли-то, у вас? Пустое! Коли вы такое говорите, это означает, что вы чего-то очень хотите, а чего — я вам сейчас сам скажу: вы хотите, чтобы этих двух или трех итальянцев… — Да, да, всех! — подхватил барон, внезапно оживившись. — То-то же! — продолжал Юхан. — Я знал, что сумею привести вас в чувство! Доказательство вы видели? — Бесспорное… — Почерк Стенсона? — И подпись… Все подробности!.. Странно, странно… Но сомнений нет… — Где оно, это доказательство? — В моем охотничьем кафтане. — Не нахожу. — Плохо ищешь. Там оно. Все равно! Слушай: мне худо… Стенсона в башню! — Сейчас? — Нет, во время представления. — А остальных? — Потом. — Их тоже в башню? — Да… Предлог… — Проще простого. Среди пожитков этих скоморохов найдут золотую вещицу. Ясно, они ее украли. — Хорошо. — А если они что-то заподозрят? Если не придет ни настоящий Христиан, ни подставной? — Где они? — Кто их знает, в таком тумане! Я дал приказ следить, но час тому назад в Стольборг еще никто не воротился, хотя он оцеплен со всех сторон. — Тогда… что будешь делать? — Коли не станет доказательства, иначе говоря — бумаги и человека, который вам ее отдал, не станет и Тайны. Раз Христиану Вальдо ничего не известно. — А ты уверен? — Вот мы его поймаем и расспросим. — По не поймали же! — Может быть, и поймали… Я сейчас сам отправлюсь в Стольборг проверить. — Ступай скорее… А что, как он откажется явиться вечером в замок? — Тогда в Стольборг пойдет капитан Химера и прихватит с собой… — Отлично. Адвокат? — Я ему заранее скажу, что вы его требуете к себе. Только надо все предусмотреть… Что, если он ослушается? — Это докажет… — Что он заодно с вашими врагами. Что тогда? — Тем хуже для него! — Опасно, его все знают! — Не трогать его; пусть только не лезет не в свое дело. — Не знаю, удастся ли. Попробую. Сейчас пойду в Стольборг и суну в мешок, который навьючат на осла, ваш золотой кубок. Это послужит предлогом; только может подняться шум, Христиан-то драчун, а от Стольборга досюда — рукой подать. — Тем лучше! Быстрее удастся заткнуть ему рот… — Майору и лейтенанту полюбился этот шут. Надо удачно выбрать время. В замке будет играть духовой оркестр, а снаружи пустим фейерверк, хлопушки, шутихи… — Хорошо придумано! — Как вы себя чувствуете? — Лучше… И даже что-то вспоминается… Постой-ка, Юхан… Я ведь снова видел это лицо… Но где же? Постой же, говорю! Неужто пригрезилось? Проклятие! Не могу… Юхан, рассудок отказывает мне… В голове мутится, как позавчера. — Ладно, не тревожьте себя понапрасну, я-то уж разберусь, это мое дело. Ну, успокойтесь, вы справитесь с этим припадком, как и с предыдущими. Я сейчас пришлю вам Якоба. Юхан вышел. Барон, обессилев после утомительной беседы, упал без чувств на руки Якоба. И врач, которого поспешили позвать, с трудом привел его в сознание. Затем его охватил приступ лихорадочной энергии. — Подите прочь, доктор, — сказал он. — Мне тошно смотреть на вас… Рожа у вас противная… У всех такие рожи… А он, говорят, хорош собой; только это ему не поможет. После смерти быстро становишься безобразным, не так ли? А что, если я умру до него?.. Не завещать ли ему мое богатство?.. Бот была бы потеха! Но если я выживу, ему придется умереть, тут уж ничего не поделаешь! Ну-ка, отвечайте, доктор, вы думаете, что я помешался? Барон еще несколько мгновений бормотал что-то бессвязное, потом впал в горячечное забытье. Было шесть часов вечера. Приглашенные сели за чай и легкую закуску, предшествующую ужину. Мы весьма сожалеем о том, что нам столь часто приходится усаживать читателя за стол, но если мы пропустим хоть одну трапезу, мы отклонимся от истины. Мы вынуждены напомнить читателю, что но обычаю в Швеции полагается есть и пить каждые два часа, и в прошлом веке никто не нарушал этого обычая, тем более в зимнее время и в сельской местности. Прелестные женщины могли похвалиться изрядным аппетитом и не становились от этого менее поэтичными в глазах поклонников. Бледность и темные круги под глазами не были в моде. Яркий, нежный румянец, сиявший на лицах прекрасных шведок, отнюдь не мешал им властвовать над сердцами и умами молодых людей, и если вся эта молодежь и не была романтична, романов в ее среде было все же немало. Итак, миниатюрная Маргарита и длинноногая Ольга, белокурая Мартина и другие нимфы сих застывших во льду озер, откушав кофе в пещере на хогаре, принялись за творог со сметаной в раззолоченных парадных покоях замка, и каждая по-своему мечтала о любви, но ни одна из них не считала воздержание от пищи необходимым условием для пылких чувств. Гости нового замка уже не были столь многочисленны, как в первые дни рождественских праздников. Некоторые матери поспешили увезти своих дочерей, заметив, что барон Олаус не обращает на них внимания. Зато дипломаты обоего пола, связанные с бароном деловыми интересами, и возможные наследники, которых барон называл, подшучивая над ними, «невозможными» наследниками, держались стойко, несмотря на уныние, охватившее замок. Графиня Эльведа была весьма раздосадована задержкой деловых переговоров с таинственным хозяином дома, но утешалась, покоряя своими чарами русского посла. Что касается пожилых дам, они проводили утренние и послеполуденные часы, нанося и возвращая визиты в отведенных им помещениях и соблюдая при этом необходимую церемонность и торжественность. Беседа между ними неизменно касалась одних и тех же тем: прекрасная зимняя погода, необычайное гостеприимство хозяина замка, его исключительный ум, «склонный к лукавой шутке», его «нездоровье», которое он переносил с таким мужеством, озабоченный тем, как бы не испортить «удовольствия» своих гостей, — и при этом каждая старалась подавить раздирающую рог зевоту. Затем переходили на политику и спорили весьма ожесточенно, что не мешало тут же заговорить о религии весьма поучительно. Но чаще всего злобно сплетничали с тем, кто только что вошел, о тех, кто только что вышел. Этой атмосфере нравственного холода успешно противостояли только человек двадцать юношей и девушек, которые, с одобрения своих семейств или без оного, быстро установили между собой нежные сердечные связи и, свободно встречаясь чуть ли не в любой час дня, служили друг другу поверенными и помощниками. К этой славной молодежи присоединилось несколько человек более зрелого возраста, доброжелательных и веселого нрава: гувернантки, подобные мадемуазель Потен, семейство пастора, которое уважали и приветствовали на всех сельских сборищах, кое-кто из стариков соседей, чуждых честолюбию и интригам, молодой врач барона, когда ему случалось вырваться из когтей своего требовательного и коварного пациента; наконец — знаменитый Стангстадиус, которого изредка удавалось заполучить и удержать, осыпая его в шутку преувеличенными восторгами, в искренности которых он никогда не сомневался, даже когда превозносили его приятную наружность. Итак, гости, собравшиеся к чаю, отлично провели время за столом, хотя геолога среди них и не было, и «молодое поколение», как их называли пожилые матроны, не заметило встревоженных лиц тех лакеев, которые не верили в «легкое недомогание» хозяина, хотя притворялись, что верят, ибо знали, что среди них есть тайные соглядатаи. Встав из-за стола, молодежь заявила, что охотничьи рассказы всем наскучили, и Мартина предложила повторить игру, которая накануне имела большой успех и заключалась в том, что одни прятались в переходах и галереях замка, а другие их искали. Повинуясь какому-то инстинкту, все избегали флигеля, где находились личные покои барона, чтобы его не потревожить, а возможно, хоть об этом не говорилось в открытую, радовались предлогу держаться подальше от парадных комнат, занимаемых родителями. В длинных, темных, безлюдных галереях, тянувшихся вокруг замка и связанных всевозможными переходами с нижними этажами, где располагались такие хозяйственные помещения, как кладовые, прачечные и тому подобное, вполне хватало простора, чтобы искать друг друга, и закоулков, чтобы прятаться. Молодые люди разделились на две группы и бросили жребий, чтобы решить, кто за кем будет охотиться; Маргарита оказалась в одной компании с Мартиной и ее женихом, лейтенантом.XVI
В то время как молодое поколение предавалось в новом Замке этим невинным забавам, Гёфле и Христиан пытались разобраться в догадках последнего относительно тайны его рождения. Гёфле не был согласен с рассуждениями своего юного друга. Он полагал, что они — плод фантазии, скорее остроумной, нежели логичной, и был, казалось, весьма озабочен какой-то мыслью, поделиться которой он одновременно хотел и опасался. — Христиан, Христиан, — промолвил он, качая головой, — не мучьте себя понапрасну этими кошмарами. Нет, нет! Вы не сын барона Олауса, даю голову на отсечение! — Однако же, — возразил Христиан, — разве у меня с ним нет сходных черт? Я с ужасом смотрел на него, когда он лежал без чувств и кровь его лилась на снег; жестокое, насмешливое выражение лица его сменилось глубочайшим спокойствием, какое дарит смерть. По правде говоря, мне всегда думалось, что ни один человек, если только он не художник-портретист или не проводит всю жизнь перед Зеркалом, не может иметь отчетливого представления о собственной физиономии; и все же мне казалось, что определенные черты смутно запечатлелись в моей памяти, и черты эти принадлежат мне. Вот то же самое я испытал, впервые увидев этого человека. Я не сказал себе: «Где-то я его уже видел», нет, я сказал: «Я его знаю, я знал его всегда». — Что ж такого, что ж тут такого, — возразил Гёфле, — я ведь тоже, черт возьми, нашел, увидев вас впервые, да и сейчас даже нахожу, глядя на ваше серьезное, озабоченное лицо, если не сходство, то какое-то поразительное, необычайное подобие, и вот именно потому-то и утверждаю, друг мой: «Нет, вы не его сын!» — На этот раз, господин Гёфле, я уж совсем вас не понимаю. — О, неудивительно, я сам себя не понимаю! И все же меня преследует какая-то навязчивая мысль… Если бы этот чертов Стенсон наконец заговорил! Но я сегодня понапрасну изводил его целых два часа, он только нес всякий вздор. То он плетет какую-то несуразицу, то решительно не желает отвечать и прикидывается глухим и непонятливым. Если бы я раньше знал о существовании Карин и ее связи с этим делом, я бы попытался что-нибудь вытянуть из Стенсона, хотя бы касательно ее. Так вы говорите, со слов сына даннемана, что она могла бы раскрыть немало тайн, стоит ей захотеть? К несчастью, у нее тоже не все дома, или же она смертельно напугана чем-то и поэтому молчит! И все же нам необходимо разрешить наши сомнения, дорогой мой Христиан, ибо если только я не рехнулся, вы находитесь у себя на родине и вот-вот узнаете, кто вы такой. Ну, подумаем-ка еще, помогите мне, вернее, выслушайте меня. Ваше лицо послужило поводом для смятения и тревог в новом замке, а потому вам следует узнать… В это время кто-то дернул дверь, пытаясь войти без стука, затем постучался; но оказалось, что осмотрительны! Гёфле, незаметно для Христиана, запер дверь изнутри. Христиан хотел отворить, но Гёфле остановил его. — Станьте под лестницу, — сказал он, — и предоставьте действовать мне. Христиан, весь во власти занимавших его дум, машинально повиновался, и Гёфле отпер дверь, но не впустил в комнату стоявшего на пороге Юхана. — Опять вы? — резко и сурово сказал Гёфле. — Что вам нужно, господин Юхан? — Простите, господин Гёфле; я хотел бы поговорить с Христианом Вальдо. — Его здесь нет. — Однако, как мне известно, он вернулся в Стольборг, господин Гёфле. — Можете искать его где вам угодно, только не у меня. Я занят и прошу мне не мешать. Вот уже третий раз вы меня отрываете от занятий. — Тысяча извинений, господин Гёфле; но коль скоро вы живете с ним в одном помещении, я счел возможным явиться сюда, дабы передать этому комедианту приказания господина барона. — Приказания, приказания… Какие там еще приказания? — Первое — подготовить театр к спектаклю, второе — явиться в новый замок ровно к восьми часам, как вчера, и третье — сыграть что-нибудь очень веселое. — Вы повторяетесь, любезный. Вы мне уже сегодня это дважды говорили, в тех же выражениях… Но точно ли вы соображаете, что говорите? Разве барон не находится в очень тяжелом состоянии? И хорошо ли вам известно все, что происходит в новом замке, пока вы как тень бродите по старому? — Я только что расстался с господином бароном, — ответил Юхан с обычной нагловато-смиренной улыбкой. — Господин барон отлично себя чувствует и сам послал меня сюда, почему я и вынужден досаждать вам, к величайшему моему сожалению. Впрочем, я должен добавить, что господин барон выразил живейшее желание побеседовать с почтеннейшим господином Гёфле, пока будут играть спектакль. — Хорошо, я приду. Мое почтение. И Гёфле захлопнул дверь перед носом Юхана, к великому разочарованию последнего. — Зачем такие предосторожности? — спросил Христиан, выходя из тайника, откуда он слышал весь разговор. — Затем, что здесь творятся какие-то непонятные мне дела, о которых я как раз и собирался вам рассказать, — ответил юрист. — В течение всего дня сей Юхан, отъявленный каналья, если судить по словам Стенсона, да и по собственной роже этого мерзавца, только и делал, что бродил по Стольборгу, а предмет его любопытства — не кто иной, как вы. Сперва он расспрашивал о вас Стенсона, который вас не знает и которому только сегодня стало известно — именно от Юхана, — что мы с вами живем здесь. Означенный Юхан вел затем долгую беседу с вашим слугой Пуффо в конюшне и с Ульфилом на кухне, в горде. Он бы и Нильса втянул в разговор, если бы я весь день не держал мальчишку при себе. По-моему, этот проныра допытывался чего-то даже от вашего осла! — К счастью, мой славный Жан не из болтливых, — сказал Христиан. — Не знаю, отчего вас беспокоят попытки Этого лакея увидеть мое лицо: я привык к такому любопытству с тех пор, как стал носить маску; но теперь я решил раз и навсегда избавиться от этой ребяческой таинственности и не менее ребяческих преследований. Раз мне уж надо вернуться вечером в замок, я вернусь туда с открытым лицом. — Нет, Христиан, не делайте этого, я вам запрещаю; будьте осторожны еще два-три дня! Здесь скрыта очень важная тайна, и я буду не я, если ее не раскрою; только надо, чтобы никто не увидел вашего лица. Вам даже Ульфу больше не следует попадаться на глаза. Я же с вами не расстанусь ни на одно мгновение, не спущу с вас глаз. Вам, несомненно, грозит какая-то опасность. В галереях Стольборга я заметил не только косые взгляды Юхана, но кое-что еще. Если не ошибаюсь, сегодня, когда стемнело, вокруг замка по льду прогуливался взад и вперед некий верзила, которому его хозяин барон присвоил фантастическое прозвище капитана Химеры. Вполне возможно, что наше вчерашнее представление запалило пороховую бочку. Барон вас в чем-то подозревает, и лучше всего будет, поверьте мне, если вы скажетесь больным и не пойдете в новый замок. — Тут уж прошу меня извинить, господин Гёфле, но мне не страшна никакая затея барона. Если мне действительно посчастливилось и я не его сын, я готов смело выступить против него и не постесняюсь дать по рукам любому, кому вздумается хотя бы приподнять занавес моего театра, чтобы взглянуть на меня, пока мне все еще угодно хранить инкогнито. Не забудьте, я сегодня убил двух медведей, и это несколько возбудило меня. Ну-с, дорогой дядюшка, время идет, и у меня едва ли осталось два часа, чтобы подготовиться к спектаклю. Пойду поищу канву пьесы в моей библиотеке, сиречь в глубине ящика, а вы уж, будьте любезны, сыграйте со мной эту пьесу, какова бы она ни была. — Христиан, сегодня у меня к этому не лежит душа. Сегодня я не «выдумщик», но адвокат до мозга костей, иначе говоря — исследователь реальных фактов. Ваш слуга Пуффо, на мой взгляд, не слишком пьян; он где-то поблизости, в горде. Так вот, сейчас я выйду и позову его сюда, чтобы он вам помог, если уж вы непременно хотите сегодня «выдумывать». Впрочем, это, быть может, не так плохо… Это вас займет и отвлечет от вас подозрения. Как вы думаете, Пуффо предан вам? — Понятия не имею. — Но он не сбежит, если кто-нибудь затеет о вами ссору? Он не трус? — Право, не знаю; но не тревожьтесь, господин Гёфле. У меня при себе норвежский нож, которым меня снабдили перед охотой, и ручаюсь вам, что сумею защитить себя без посторонней помощи. — Берегитесь внезапного подвоха. Это, на мой взгляд, единственное, что вам грозит. А мне уже на месте не сидится! С тех пор как вы сказали мне, что у даннемана в полной тайне воспитывался ребенок… и пальцы у него были согнуты, как у вас… — Как знать! — сказал Христиан. — Быть может, мне все это приснилось, и теперь грезам пора рассеяться! Вот лежат на дне ящика бедные мои куклы, за которых я нынче буду говорить в последний или предпоследний раз, ибо во всех моих сегодняшних рассуждениях, господин Гёфле, это единственная реальная и здравая мысль. Я снимаю шутовской колпак и берусь за отбойный молоток рудокопа, за топор дровосека или кнут заезжего торговца. На все остальное мне наплевать! Не все ли мне равно, кто мой отец — милейший дух озера или злобный ярл! Я хочу стать порождением собственных трудов, и не стоит, право, ломать себе голову, чтобы прийти к такому простому и логичному выводу. — Хорошо, Христиан, очень хорошо! — воскликнул Гёфле. — Мне по душе такие речи; но домыслы мои остаются при мне: я их храню, я в них копаюсь, я их питаю… а сейчас пойду и проверю их. Возможно, это вздор, — пускай! Я все равно хочу еще раз повидать Стенсона и вырвать у него тайну, которую он хранит; на сей раз я знаю, как взяться за дело. Я вернусь самое позднее через час, и мы вместе отправимся в замок. Я погляжу на барона, зайду к нему узнать, что ему от меня надобно. Он считает себя хитрецом; ничего, я его перехитрю. Итак,? смелей! До свидания, Христиан. Эй, Нильс, посвети мне! Да вот и почтеннейший Пуффо, если не ошибаюсь! И впрямь, Гёфле, выходя, столкнулся в дверях с Пуффо. — Слушай, ты! — обратился Христиан к своему слуге. — Как ты себя нынче чувствуешь, получше? — Все в порядке, хозяин, — ответил ливорнец еще более грубым тоном, чем обычно. — Тогда, любезный, берись за дело! Время терять нельзя. Сыграем мы «Безрассудный брак», ты эту пьесу знаешь назубок, и репетировать тебе не нужно. — Не нужно, если вы туда не подсыпете чего-нибудь нового. — За это поручиться не могу; но готовых реплик не трону, будь спокоен. Теперь ступай поскорее в новый замок с ослом и поклажей; собери подмостки, расставь декорации. Вот, я все уже подобрал. Возьми этот тюк; я же одену кукол и приду вскоре после тебя. У нас еще достанет времени, чтобы перечитать там канву пьесы, если возникнет надобность. Ты ведь знаешь, что проходит не менее четверти часа, пока эти великосветские зрители наконец рассядутся и замолчат. Пуффо сделал несколько шагов к двери и остановился в нерешительности. Когда он, сам того не подозревая, был пленником Юхана в Стольборге, тот постарался в разговоре настроить его против хозяина, и сейчас Пуффо не терпелось затеять ссору; но ловкость и решительность Христиана были ему хорошо знакомы, и к тому же, возможно, в тайниках этой грубой и продажной души невольно теплилось дружеское чувство к хозяину. Наконец он расхрабрился: — Это еще не все, господин Христиан, — сказал он. — А хотел бы знать, какой мошенник водил вчера с вами кукол вместо меня? — Ага! — ответил Христиан. — Тебя это наконец стало беспокоить? А я было решил, что тебе и вовсе невдомек, состоялось вчера представление или нет. — Состоялось, я знаю, и притом без меня! — Ты уверен? — Я, может, вчера и выпил лишнего, — сказал Пуффо, повысив голос, — это я признаю, но сегодня-то мне сказали правду, так что я теперь все знаю. — Правду! — засмеялся Христиан. — Можно подумать, будто я что-то скрыл от вашей милости! Я сегодня не имел чести видеть вас, синьор Пуффо, а если бы и видел, я вовсе не обязан давать вам отчет… — Я хочу знать, кто посмел тронуть моих кукол! — Твои куклы, которые, как ты забыл, принадлежат мне, расскажут тебе, если захотят, — расспроси их. — Мне и спрашивать нечего! Я и так знаю, что какая-то личность посмела меня заменить, чтобы прибрать к рукам мои денежки. — А если бы и так! Разве ты мог вчера связать два слова? — Следовало хотя бы спросить меня или предупредить. — Согласен, это упущение с моей стороны, — в нетерпении сказал Христиан. — Но я так поступил нарочно, чтобы избежать искушения и не задать тебе, пьянице, трепки по заслугам. — Задать мне трепку?! — вскричал Пуффо и с угрожающим видом двинулся на Христиана. — А ну-ка попробуйте! Посмотрим! И с этими словами он замахнулся на хозяина куклой, схватив ее как дубинку. Такое оружие, хоть и выглядело смешным, представляло достаточную опасность, ибо голова burattino была вырезана из очень твердого дерева, чтобы выдерживать потасовки на сцене. Разъяренный Пуффо держал куклу за кожаную юбку и молотил ею воздух, так что в любую минуту мог и, возможно, собирался размозжить противнику голову. Христиан на лету схватил куклу, а другой рукой, стиснув горло Пуффо, швырнул его на пол. — Проклятый пьяница! — сказал он, прижав его коленом. — Тебя следовало бы хорошенько проучить; но мне противно бить тебя. Ты у меня больше не работаешь, ступай, и чтобы я о тебе никогда не слышал! Я тебе заплатил за неделю вперед и больше ничего не должен; но так как ты эти деньги, наверно, пропил, я тебе дам на дорогу до Стокгольма. Встань и смотри больше не лезь в драку, не то я тебя придушу. Пуффо поднялся, молча растирая помятые бока. По природе своей он не был убийцей. Он чувствовал себя подавленным и униженным. Быть может, его также тяготило чувство вины, но главной заботой его, поразившей Христиана, было поскорее подобрать дюжину золотых монет, выпавших у него из-за пояса и рассыпавшихся по полу. — Это еще что такое? — спросил Христиан, схватив его за руку. — Краденые деньги? — Нет! — закричал ливорнец, воздев к небу руки с забавно героическим видом. — Я здесь ничего не украл! Это мои деньги, мне их дали! — За что? Ну-ка, отвечай, я требую! — Хотели дать и дали! Это мое дело! — Кто тебе их дал? Может быть… Но тут Христиан остановился, чтобы Пуффо не заметил возникших у него подозрений, о которых благоразумнее было умолчать. — Ступай, — сказал он, — убирайся вон, и поживее; если я узнаю, что ты не только пьяница, но и кое-что похуже, я тебя убью на месте. Убирайся, и чтобы я никогда тебя не видел, не то берегись! Перепуганный Пуффо убежал без оглядки, тем более что Христиан, желая удержать его на почтительном расстоянии, взялся за широкий норвежский нож майора. Одного только вида этого устрашающего оружия было достаточно, чтобы обратить плута в бегство: он решил, что Христиан сейчас силой отнимет у него золото и станет допытываться, где источник этого необъяснимого богатства. Ливорнец покинул замок в состоянии величайшей растерянности. Юхан, который нередко самостоятельно предвосхищал тайные намерения барона, снабдил Пуффо деньгами не для того, чтобы толкнуть его на «мокрое дело», как выражался тот на разбойничьем языке, но с целью заставить его держаться в стороне, если хозяина вовлекут в опасную драку. В долгой беседе с Юханом Пуффо подробно рассказал о пылком и бесстрашном нраве Христиана. А от Юхана он узнал, что Христиан вызвал недовольство какого-то важного лица в новом замке, — при этом имя барона названо не было, — и что полагают, будто под личиной комедианта скрывается чуть ли не французский шпион, одним словом — человек весьма опасный. Однако и такой вымысел был недостаточно грубым, чтобы Пуффо его понял. Зато он понял другое — наличие крупной суммы у себя в кармане. Ума у него хватило на следующее рассуждение: «Ежели мне так хорошо платят, чтобы я не мешал другим, мне куда больше заплатят, если я что-то и сам сделаю». Поэтому он надумал действовать по своему разумению, полагая застать Христиана врасплох и безоружным; но в последнюю минуту у него не хватило храбрости, а может быть, и подлости. Христиан был всегда так добр к нему, что у негодяя дрогнула рука. Но что же ему делать теперь, когда он побежден и унижен? Пока Пуффо предавался жалким потугам на размышления, Христиан, взволнованный и усталый не столько физически, сколько нравственно, уселся на свой сундук и погрузился в скорбное раздумье. «Жалкая жизнь! — думал он, машинально разглядывая брошенную на пол куклу, которая чуть было не размозжила ему череп. — Жалкое существование в окружении таких невежественных людей! И все же теперь мне следует привыкать к этому больше чем когда-либо. Если я снова окажусь в низших слоях общества, к которым я, по всей вероятности, принадлежу по рождению и откуда долго и тщетно пытался вырваться, мне не раз придется силой кулака убеждать в своей правоте грубиянов, не внемлющих голосу чувства и ласковым уговорам. О Жан-Жак! Предвидел ли ты такое для своего Эмиля?[424] Должно быть, нет; однако и тебя забросали камнями в твоей скромной хижине и вынудили бежать прочь от сельской жизни, ибо ты не сумел внушить страх тем, кто не способен был тебя понять!» — Ну-с, а ты кто такой, едва не ставший моим убийцей? — продолжал Христиан уже вслух, чтобы рассеяться, поднимая с полу куклу, лежавшую лицом вниз. — О, Юпитер! Да это ты, мой бедный малыш Стентарелло! Ты, мой любимец, мой дружок, мой верный слуга! Ты, самый старый актер моей труппы, ты, потерянный мной в Париже и чудом найденный в чаще богемских лесов! Нет, быть того не может! Ты бы не причинил мне зла, скорее ты бы сам поднялся против моих убийц. Насколько же ты лучше всех Этих глупых и злобных марионеток, которые мнят себя людьми и кичатся тем, что сердца их тверже, чем головы! Поди сюда, дружок, дай-ка мне надеть тебе нарядный воротник и стряхнуть щеткой пыль с твоего платья. Клянусь, тебя-то я никогда не покину! Ты будешь повсюду разъезжать со мной, втайне, чтобы не смешить серьезных люден, а когда ты затоскуешь по огням рампы, мы с тобой будем беседовать вдвоем; я стану поверять тебе свои горести, твоя славная улыбка и блестящие глазки напомнят мне о былых безумствах… и о грезах любви, что расцвели и увяли в мрачных степах Стольборга! Веселый детский смех заставил Христиана обернуться: Это смеялся господин Нильс, вошедший на цыпочках и прыгавший теперь от радости, хлопая в ладоши при виде куклы, ожившей в умелых руках Христиана. — О, дайте мне этого хорошенького мальчика! — в восторге воскликнул ребенок. — Дайте мне его на минутку, поиграть! — Нет, нет, — ответил Христиан, наспех приводя в порядок наряд Стентарелло. — Мой мальчик играет только со мной, а сейчас он торопится. Что, господин Гёфле не вернулся? — О, покажите мне все это! — вскричал Нильс, сам не свой от восхищения, уставившись на ящик, только что открытый Христианом, где вперемешку поблескивали золотые галуны на шляпах, шпаги, эгреты тюрбанов и жемчужные короны миниатюрного народца, населявшего этот ящик. Христиан пытался отвязаться от Нильса подобру-поздорову, но мальчуган так заупрямился в своем желании запустить руку во все эти чудеса, что Христиану пришлось повысить голос и грозно нахмуриться, чтобы помешать ему переворошить всех актеров и их гардероб. Тогда господин Нильс надулся и сел за стол, заявив, что пожалуется Гёфле на то, что никто не хочет с ним играть. Тетка Гертруда обещала, что ему будет весело в этой поездке, а ему вовсе не весело. — Вот подожди, противный! — сказал он, строя Христиану рожи. — Я умею делать красивые бумажные кораблики, а тебе не покажу! — Ладно, ладно! — ответил Христиан, который все еще рассчитывал на помощь Гёфле и поэтому торопился покончить с обязанностями костюмера. — Делай свои кораблики, дружок, да побольше, только оставь меня в покое. Прикалывая шляпы и плащи к головам и шеям своих маленьких актеров, Христиан посматривал на часы и с нетерпением ожидал прихода Гёфле. Он попытался было послать Нильса в горд, чтобы поторопить его, но Нильс все еще дулся и сделал вид, что не слышит. «Только бы у нас достало времени прочитать канву пьесы! — думал Христиан. — Я тоже ее плохо помню! У меня сегодня было столько других забот… Да, я ведь обещал майору сыграть сцену охоты… Куда ж мне ее вставить? Ладно, как-нибудь! Состряпаю интермедию на основе сцены Морона с медведем из «Принцессы Элидской»[425]. Стентарелло будет у меня храбрым охотником; он всех очарует… и посмеется над людьми, которые охотятся на медведя, прячась за сеткой, как господин барон! Но не унес ли Пуффо пьесу? Я ведь сунул листки ему в руки!» Христиан принялся искать свою рукопись. Если писать заново — уйдет еще полчаса, а уж пробило семь. Он стал шарить в ящике, где хранился его репертуар, все перерыл и перевернул вверх дном, как в лихорадке. Ему невыносима была мысль, что отсутствие его в новом замке в назначенный час будет понято как желание скрыться от гнева барона. Он стремился туда, побуждаемый ярой ненавистью к своему врагу и любовью к Маргарите. Ему не терпелось открыто бросить вызов в лицо Снеговику в присутствии юной графини и доказать ей, что простой фигляр может похвалиться куда большей отвагой, нежели многие из родовитых гостей барона. Внезапно он заметил, что Нильс с важным и сосредоточенным видом делает кораблики, фигурки самых различных форм из бумаги, которую он складывал так и этак, а потом рвал на кусочки, мял, скатывал в шарики и бросал на пол, когда ему не удавалось сделать то, что хотелось. — Ах ты проклятый мальчишка! — закричал Христиан, вырывая у него из рук целую кипу бумаги. — Ты что же, делаешь кораблики из моих пьес? Нильс разревелся в голос и, вырывая из рук Христиана листочки, громко божился, что взял бумагу совсем не у него. Но тут Христиан, торопливо разворачивавший кораблики, чтобы собрать воедино то, что осталось от рукописи, Застыл, как вкопанный. Эти листки и впрямь ему не принадлежали, как и почерк, которым они были написаны; зато имя его, или, вернее, одно из его имен, начертанное неизвестной рукой, внезапно бросилось ему в глаза, а итальянская фраза: «Кристиано дель Лаго сегодня минуло пятнадцать лет» пробудила в нем живейшее любопытство. — На, возьми, — сказал он мальчику, который не отставал от него, требуя обратно «свою бумагу», — поиграй с куклами, а меня оставь в покое. Нильс с наслаждением принялся разглядывать и осторожно перебирать лежавших на столе человечков, а Христиан уселся па его стул и, подвинув к себе свечу, стал с трудом разбирать ужасные каракули, написанные на очень плохом итальянском языке и совсем безграмотно, но тем не менее вызывавшие в нем, что ни слово, прочитанное или угаданное, чрезвычайное волнение. — Где ты взял эти листочки? — спросил он мальчонку, продолжая разглядывать и собирать разорванные, смятые клочки бумаги. — Ах, сударь, до чего же красивые у вас усищи! — говорил Нильс марионетке, не сводя с нее восторженных глаз. — Ты будешь отвечать или нет? — закричал Христиан. — Где ты нашел эти листки? У господина Гёфле? — Нет, нет, — сказал наконец Нильс, поначалу притворившийся глухим, в ответ на градом сыпавшиеся вопросы. — Я их не брал у господина Гёфле; он их сам бросил, а когда бумажки бросают, я их подбираю. Это мне для корабликов, так сам господин Гёфле сказал еще утром. — Врешь! Не бросал господин Гёфле этих бумаг! Это письма, писем не бросают, их жгут. Ты их взял из ящика в столе? — Нет! — Значит… в спальне? — А вот и нет! — Говори правду, живо! — Не брал! — Я тебе сейчас уши надеру! — А я не дамся! Христиан удержал Нильса, который норовил дать стрекача, прихватив кукол. — Если ты мне скажешь правду, — сказал он, — я тебе подарю красивую лошадку в красной с золотом попоне. — Покажите! — Вот, смотри, — сказал Христиан, найдя среди своего реквизита нужную игрушку. — Будешь ты говорить, плутишка? — Ну, — сказал мальчик, — вот как все это было. Господин Гёфле взял меня с собой к господину Стенсону, чтобы я ему посветил; вы знаете господина Стенсона, глухого, который ничего не слышит и живет все в том дворе? — Да, да, знаю; говори побыстрее, да не ври, не то отберу лошадку. — Так вот, я ждал господина Гёфле в спальне у господина Стенсона, где топилась печка, а господин Гёфле громко-громко говорил с ним в соседней комнате. — О чем же они говорили? — Не знаю, я не слушал, я играл с огнем в печке. А потом вдруг туда к ним пришли какие-то дяденьки и сказали вот так: «Господин Стенсон, целый час вас ждет господин барон. Почему же вы не идете? Идите с нами сейчас же!» И тут все стали браниться. Господин Гёфле говорит: «Господин Стенсон не пойдет; у него времени нет». А господин Стенсон говорит: «Надо пойти,я ничего не боюсь, я пойду». А господин Гёфле говорит: «Я с вами пойду». Тогда я туда вошел, оттого что побоялся, как бы не сделали плохого господину Гёфле, а там стоят трое… нет, шестеро дядей, и все одеты как слуги… — Трое или шестеро? — Или четверо, уж я не успел сосчитать, испугался, но господин Гёфле сказал мне: «Уходи!» и вытолкал меня на лестницу, а вдогонку бросил связку бумаг, только этого никто не видел. Быть может, он хотел, чтобы никто не узнал, что он мне подарил эти бумажки, а я-то их подобрал, а потом улизнул, вот и все! — И ты, дурачок, не сказал мне, что господин Гёфле… Христиан не счел нужным закончить свою мысль, наспех собрал бумаги, запер их в свой ящик, вытащил ключ и бросился бежать, тревожась об адвокате, неожиданно попавшем в водоворот непонятных и необъяснимых событий. Нильс опять заплакал было, испугавшись, что останется один с марионетками, которые, при всей своей привлекательности, внушали ему некоторый страх, когда Гёфле, встретив Христиана в коридоре, вернулся с ним вместе в медвежью комнату. Гёфле был бледен и взволнован. — Да, да, — сказал он Христиану, осыпавшему его вопросами, — закроем двери. Дело становится очень сложным. Где Нильс? Ах, вот и ты, малыш! Куда ты дел бумаги? — Он делал из них кораблики, — ответил Христиан, — но я их спас; вот они тут, рваные в клочки, но ничто не пропало. Что это за странные письма, господин Гёфле, и почему в них речь идет обо мне? — О вас? Вы уверены? — Совершенно уверен. — Вы их прочитали? — Не успел. Стараниями господина Нильса это стало делом нелегким. Да к тому же и почерк такой, словно кот нацарапал. Но я их все-таки прочту. Господин Гёфле, в них — вся тайна моей жизни! — Правда? Да, я подозревал, я даже уверен был, Христиан, что речь в них идет о вас! Но я дал слово Стенсону, когда он мне вручил их, не знакомиться с содержанием этих бумаг до смерти барона или его собственной. — Зато я, господин Гёфле, никому не давал обещаний, бумаги эти случайно оказались у меня в руках, я спас их от уничтожения, они принадлежат мне! — Да неужели? — улыбаясь, воскликнул Гёфле. — Ну что ж, я ведь, собственно, не успел договорить мою клятву, когда в комнату вошли… Нет, нет, я и впрямь дал вчера клятву, но это касалось другого врученного мне предмета; а вот про эти листки могу сказать, что не договорил клятвы хранить их в тайне. К тому же Стенсон как раз собирался мне все открыть. Мне приходилось писать свои вопросы, чтобы не кричать в разговоре с бедным глухим. Я рассказывал ему о вас, о своих догадках и все время чувствовал, что за нами следят. Вы, должно быть, нашли мои карандашные заметки на отдельных листках? — Да, так мне показалось. Но прочитайте же письма. — Ах, это письма? Дайте-ка… Нет, лучше их припрятать. Мы окружены врагами, Христиан, за нами следят. Я уверен, что комнату Стенсона уже перерыли и разграбили. Ульфила куда-то увели. Как знать, не нападут ли сейчас и на нас! — Напасть на нас? Вполне возможно. Пуффо только что пытался затеять со мной ссору из-за пустяков. Он поднял на меня руку, а карманы у него были набиты золотом. Пришлось этого мужлана вытолкать в шею. — Напрасно. Надо было его связать и запереть. Сейчас он, должно быть, уже спелся с головорезами барона. Ну, Христиан, первое дело — тайник для этих бумаг! — Э, тайник, как всегда, ни к чему. — Неверно. — Тогда ищите, господин Гёфле, а я займусь оружием, это будет вернее. Где же эти пресловутые головорезы? — Кто их знает! Я видел, как Юхан и его прихвостни вышли вместе со Стенсоном, и я сам запер вход во внутренний двор; но они могут явиться со стороны озера, благо по нему сейчас можно ходить, как по полю; быть может, они уже здесь. Вы ничего не слышите? — Ничего. Да и зачем им к вам приходить? Давайте же спокойно поразмыслим о нашем положении, а потом уж будем волноваться. — Не можете вы ни о чем поразмыслить, Христиан, потому что вы еще ничего не знаете! А я-то знаю… или мне кажется, что знаю: барон хочет во что бы то ни стало узнать, кто вы такой, а когда он узнает… кто скажет, что тогда придет ему в голову? Быть может, он велит вас держать взаперти, пока не передумает. Только что арестовали Стенсона — да, да, именно так, арестовали. Сперва Это звучало как вежливое приглашение из уст этого канальи Юхана, а потом, когда старик испугался и замешкался, а я пытался его не пустить, вошли несколько лакеев и уволокли бы его силой, если бы он вздумал сопротивляться. Тогда я решил идти следом. Я полагал, что в моем присутствии его не посмеют тронуть, что я останусь при нем даже в покоях барона, что я, наконец, если понадобится, созову на помощь гостей барона. Я даже несколько обогнал лакеев, уводивших Стенсона, но заплутался в тумане и вернулся; вдобавок я не мог решиться оставить вас одного. Я подумал, что ежели барон вздумает вырвать у Стенсона какое-то признание, он начнет с того, что попытается его уговорить по-хорошему, а мы тем временем успеем прийти ему на помощь. Итак, идемте, Христиан, но раньше, чем действовать, нам надо разгадать суть тайны… Поэтому станьте на страже у двери, взломать-то они ее не посмеют, черт побери! Вы правы, я ведь Здесь у себя. Никто не имеет права тащить меня к своему барину, как беднягу управляющего. И под каким предлогом они решились бы на это? — Будьте спокойны, господин Гёфле. Входная дверь очень крепка, дверь в спальню — не хуже. За вход на потайную лестницу я отвечаю — буду за ним следить. Читайте же, скорее читайте. К тому же у нас-то с вами всегда найдется предлог, чтобы явиться в замок: кукольный спектакль пока что не отменен. — Да, верно, верно, пора узнать, где мы и кто мы! — воскликнул Гёфле, увлеченный азартом расследования, в котором и кроется все искусство профессии адвоката. — Я быстрее соберу клочки и разберусь в этой головоломке, чем вы, Христиан: это ведь мое ремесло. Пять минут терпения — вот все, что я у вас прошу. А вы, господин Нильс, помалкивайте: впрочем, можете пошептаться с куклами. И Гёфле с удивительной быстротой принялся соединять друг с другом оборванные клочки бумаги, раскладывать письма по датам, заодно пробегая их глазами, вникая в их смысл и с поистине орлиной зоркостью всматриваясь в каждую строку, в каждый неожиданный штрих таинственного досье, то бросая Христиану какой-то вопрос, то спрашивая о чем-то самого себя, чтобы восстановить в памяти то или иное событие. — «…Юноша очень счастливо живет в доме Гоффреди… его там очень любят…» Надеюсь, что речь идет, бесспорно, о вас. Однако в других местах сказано «мой племянник», а речь опять же идет о вас. «Мой племянник уехал на Перуджинское озеро с семейством Гоффреди. Юноше сегодня минуло пятнадцать лет… Он высок ростом и силен… Он похож на своего отца…» О да, Христиан, вы, конечно, похожи на него! — На отца? Кто же мой отец? — вскричал Христиан. — «Вы, стало быть, знаете? — Вот, — взволнованно сказал господин Гёфле, вынув из кармана медальон и протягивая его Христиану, — смотрите! Вот что мне вручил Стенсон. Это подлинный и необычайно сходный портрет. Можно поспорить, что это вы, не так ли? — Боже! — в страхе проговорил Христиан, разглядывая прекрасную миниатюру. — Право, не мне судить о сходстве! Но кто этот нарядный юноша? Разве это не барон Олаус в молодости? — Нет, нет, клянусь богом, что не он! Подождите, молчите, Христиан, дайте дочитать, мне все становится ясным! В другом письме о вас говорят «ваш племянник», а не «мой племянник», а вот в этом письме — тоже «ваш племянник»… Полагаю, что это делается из осторожности, чтобы отвести глаза тому, кто перехватит письма, ибо вы не состоите в родстве ни с тем, кто их писал, ни со Стенсоном, кому они адресованы. — Стенсон! Значит это ему посылали краткие отчеты о моем здоровье, успехах, путешествиях? Я это заметил, когда перебирал листки. Видите, тут пишут о моей дуэли, письмо отправлено из Рима… и датировано июнем тысяча семьсот… — Стойте! Да, да, понимаю. По письму в год. «Он имел несчастье убить Марко Мельфи, который являлся…» Так, рассуждения: «Кардинал мстить не собирается… Надеюсь узнать, что сталось с нашим бедным мальчиком…» А вот письмо из Парижа: «Разыскать его невозможно… Я мог бы обманывать вас, но не хочу… Боюсь, что его арестовали в Италии… Пока я ищу его здесь, он, быть может, сидит в темнице замка Святого Ангела!» Подождите же, Христиан, наберитесь терпения. Вот, должно быть, более позднее письмо — от шестого августа прошлого года из Троппау, в Моравии: «На этот раз я было напал на верный след… Он жил в Париже под именем Дюлака; но оттуда уехал путешествовать и, к несчастью, недавно погиб. Я только что отобедал в харчевне с неким Гвидо Массарелли, которого знавал еще в Риме. Этот Гвидо был знаком с ним, и он-то и сообщил мне, что его убили в лесу…» Название неразборчиво! «Стало быть, я бросаю поиски, и так как мне надо быть в Италии по моим скромным торговым делам, уеду завтра, до рассвета. Не посылайте мне больше денег на мои разъезды. Вы человек небогатый, оттого что всегда были честным. То же можно сказать и обо мне, вашем покорном слуге и друге, Ма… Манчини?.. Мануччи?..» — Не знаю такого! — сказал Христиан. — Манассе! — воскликнул Гёфле. — Тот, о ком упоминал вчера Гвидо, маленький еврей, который так интересовался вами неизвестно почему! — Его звали иначе, — возразил Христиан. — Это тот же самый, я уверен, — сказал Гёфле. — Звали его Таддео Манассе. Стенсон сказал мне об этом сегодня. В этом письме он впервые поставил полностью одно из своих имен, может быть, в последний раз обмакнув перо в чернила; ведь, по словам Массарелли, он умер, а я голову даю на отсечение, что прикончил его сам Массарелли… Стойте, не говорите ничего, Христиан! Сообщая Стенсону о смерти Манассе, этот Гвидо утверждал, что у него в руках есть некое страшное доказательство, которое он предлагает Стенсону купить, иначе он отнесет его барону; несомненно, что… Скажите, этот бедняга еврей любил выпить? — Насколько я знаю, нет. — Стало быть, Гвидо убил его, чтобы отобрать незначительную сумму денег, которая находилась у того при себе, нашел там же какое-то письмо Стенсона и воспользовался подписью и датой, чтобы приехать сюда и разжиться на своей находке. К тому же Массарелли вполне способен был подлить еврею какое-нибудь зелье за обедом в харчевне. Впрочем, нет, ведь Манассе еще успел потом написать письмо… Тогда, наверно, вечером или на следующий день… — Увы! Не все ли равно, когда, господин Гёфле. Ясно, что Массарелли все узнал и рассказал барону; а я так и не узнал о себе ровно ничего, кроме того, что господин Стенсон был озабочен моей судьбой, а Манассе, или Таддео, был его поверенным и аккуратно сообщал ему обо мне и что мое существование весьма досаждает барону Олаусу. Да кто же я такой, скажите, бога ради? Не мучьте меня, господин Гёфле! — Терпение, терпение, мой мальчик, — ответил адвокат, подыскивая в то же время местечко, куда бы спрятать драгоценные письма. — Сейчас я еще не могу вам Этого сказать. Вот уже сутки, как я уверен в своей правоте, уверен инстинктивно, на основе моих умозаключений; но мне нужны доказательства, а этих — недостаточно. Я должен раздобыть их… Где? Как? Дайте же мне подумать… Если удастся — ибо от всего этого нетрудно голову потерять… И бумаги надо прятать, и Стенсону грозит опасность, да и нам тоже, возможно! Впрочем… Послушайте, Христиан, хотелось бы мне знать наверняка, что разделаться хотят именно с вами, тогда я уж точно буду знать, кто вы такой! — В предполагаемых намерениях барона легко удостовериться. Я отправлюсь давать представление, как ни в чем не бывало, а в случае нападения сумею заставить разговориться моих противников, так как сегодня я при оружии… — Пожалуй, и впрямь, — сказал господин Гёфле, спрятав наконец письма, — неприятная встреча на ледяном просторе озера все же лучше, чем здесь, в четырех стенах. Уже девять часов, а ведь нам следовало быть там в восемь! И никто не приходит узнать, в чем причина такого опоздания! Странно! Подождите, Христиан, ружье ваше заряжено? Возьмите его, я же беру шпагу. Я, конечно, не Геракл и не бретер[426]; однако в свое время я, как любой студент, довольно ловко дрался на шпагах, и ежели нам навяжут ссору, я не дам себя прирезать, как теленка! Но обещайте, поклянитесь, что будете осторожным, больше я ни о чем вас не прошу! — Обещаю, — ответил Христиан. — Идемте. — А дрянной мальчишка меж тем уснул за игрой! Что с ним делать? — Уложите его в постель, господин Гёфле. Надеюсь, что его-то не тронут! — Положим, если ребенок поднимет крик, бандиты способны его прикончить, а этот малец заорет благим матом, ручаюсь, если проснется и увидит незнакомое лицо. — Ну и черт с ним! Что же, нести его с собой? Ничего нет проще, лишь бы не было на пути нежелательной встречи. Но если придется драться, он нас свяжет, и ему может достаться в перепалке. — Вы правы, Христиан; уж лучше оставить его в постели. Тот, кто за нами следит, сразу заметит, что мы вышли, и не пойдет сюда. Охраняйте пока что дверь. На этот раз церемония раздевания господина Нильса не состоится. Пусть себе спит одетым!XVII
Не успел Гёфле уложить своего камердинера в постель, как тотчас же позвал Христиана. — Слышите! — сказал он. — Идут через нашу комнату… Стучат в дверь. — Кто там? — спросил Христиан, заряжая ружье и становясь у дверей караульни, которая, как читатель помнит, сообщалась с внутренней галереей, выходившей во двор. — Откройте, откройте, это мы! — ответил грубый голос по-далекарлийски. — Кто вы такие? — спросил Гёфле. И так как ответа не последовало, Христиан добавил: — Боитесь назвать свое имя? — Это вы, господин Вальдо? — отозвался нежный, дрожащий голос. — Маргарита! — воскликнул Христиан, отворив дверь и увидев молодую графиню и другую девушку, которую он видел на балу, но не помнил, как ее зовут; их сопровождал верный слуга Петерсон. — Где они? — спросила Маргарита, упав в кресло, с трудом переводя дыхание и едва не лишаясь чувств. — Кто? О ком вы говорите? — спросил Христиан, испуганный ее бледностью и волнением. — О майоре Ларсоне, его лейтенанте и других офицерах, — ответила вторая девушка, запыхавшаяся и взволнованная не менее Маргариты. — Разве их здесь нет? — Нет… Они собирались прийти сюда? — Они ушли из замка более двух часов тому назад. — И… вы боитесь, что с ними случилось что-то недоброе? — Да, — ответила Мартина Акерстром (это была она), — мы боялись… Я сама не знаю, отчего мы боялись за них, ведь они пошли все вместе; но… — Тогда за кого же вы тревожились? — спросил Гёфле. — За вас, господин Гёфле, за вас, — с живостью ответила Маргарита. — Нам стало известно, что вам здесь грозит большая опасность. А вы и не подозревали? Впрочем, я вижу, вы знали об этом, раз вы вооружены. Здесь был кто-нибудь? На вас напали? — Нет еще, — сказал Гёфле. — Стало быть, известно, что на нас должны напасть? — О, нам это слишком хорошо известно! — Как? И мне тоже что-то грозит? — подхватил Гёфле без всякого коварства. — Отвечайте же, милая барышня: вы уверены? Тогда все это чрезвычайно странно! — Нет, относительно вас я не очень уверена, — сказала Маргарита, бледность которой внезапно сменилась румянцем; но глаза ее избегали взгляда Христиана. — Тогда, — продолжал Гёфле, не обращая внимания на ее замешательство, — расправиться хотят с ним, именно с ним? И он указал на Христиана, которого Маргарита упорно не хотела видеть или называть по имени. Однако она тотчас же ответила: — Да, да, с ним хотят расправиться, господин Гёфле, хотят отделаться от него. — А майор и его друзья об этом тоже знают? Как случилось, что их здесь нет? — Да, они знают об этом наверняка, — ответила Мартина, — а нет их здесь потому, что они, должно быть, как и мы, заблудились в тумане, который становится все гуще и гуще. — Вы сбились с пути в тумане? — сказал Христиан, взволнованный великодушной заботливостью Маргариты. — О, мы недолго блуждали, — ответила она, — Петерсон — здешний житель, он быстро нашел дорогу; а господа офицеры, должно быть, приняли один берег озера за другой. — Поставим светильник на окно в медвежьей комнате, — предложил Гёфле, — они пойдут на свет. — Э! — возразил Петерсон. — Этот огонек будет виден сквозь туман не больше, чем звезда. — Все равно, надо попытаться, — сказала Мартина. — Нет, душенька, — остановила ее Маргарита, — ведь убийцы тоже, наверно, заблудились, раз их до сих пор здесь нет. Не стоит указывать им верный путь, пока не пришли господа офицеры… — Приход господ офицеров, безусловно, весьма желателен, — сказал Гёфле. — Но пока что нас здесь уже трое хорошо вооруженных мужчин; я знаю Петерсона, он сумеет постоять за себя… Но скажите, милые барышни, может быть, вы приняли за убийц невинных зевак? Где вы их видели? — Расскажите, Мартина, — сказала Маргарита. — Расскажите все, что мы слышали. — Да, да, слушайте, господин Гёфле, — подхватила Мартина с важным видом, придававшим ей еще больше простодушия. — Два часа тому назад… может быть, два с половиной… «молодое поколение», как нас называют, затеяло игру в прятки в переходах нового замка. Я оказалась вместо с Маргаритой и лейтенантом: так решил жребий, да к тому же нам, двум девушкам, было бы слишком страшно ходить одним по темным галереям и незнакомым комнатам; просто необходимо было, чтобы нас сопровождал какой-нибудь кавалер! Лейтенант знал не лучше нас ту часть замка, куда мы забрались. Там было так пустынно! Мы прошли по длинной галерее и спустились наугад по маленькой темной лестнице. Лейтенант тел впереди, и так как спрятаться там было некуда, он шел все дальше и дальше, пока мы не оказались в полной темноте и уже боялись, как бы не провалиться куда-нибудь, как вдруг он сказал: «Я понял, где мы находимся, мы подошли вплотную к большой башне, которая служит тюрьмой. Узников тут сейчас нет, дверь открыта. Если мы спрячемся внизу, в темнице, нас, ручаюсь, никто не отыщет». Но Маргарита боялась подземелий, про которые говорят, что они огромные и страшные. «Нет, нет, не стоит идти дальше, — сказала она, — останемся у входа. Вот маленькая ниша, отгороженная досками; спрячемся здесь и помолчим; вы ведь знаете, что всегда кто-нибудь из играющих рад смошенничать и подглядеть, а потом позвать остальных». Мы согласились; но едва мы спрятались, как услышали шаги и с трудом сдерживали смех и даже старались не дышать, думая, что нас вот-вот найдут. Тогда-то мы и услышали разговор, который я сейчас вам передам. Говорили между собой два человека, они вышли из башни и уходили по галерее, которая привела нас сюда. Беседовали они шепотом, но, проходя мимо нас, один сказал: «Неужели меня опять поставят сторожить итальянца? Надоело уже!» «Нет, ты пойдешь с нами в старый замок, — ответил второй. — Итальянец теперь с нами заодно». «А что там будем делать?» Тогда второй произнес какие-то слова, которых мы не поняли и не сумеем вам передать, должно быть, на воровском языке: но затем несколько раз упомянули имя Христиана Вальдо, да и адвоката не позабыли, сказав про него: «Об адвокате нечего беспокоиться, он убежит!» — Это мы еще посмотрим! — воскликнул Гёфле. — А потом? — Потом что-то говорили про осла, про золотой кубок, про то, как затеять ссору, все непонятней и непонятней. Так они постояли возле нас, а потом стали сговариваться перед тем как уйти. «Значит, встреча в восемь часов на озере», — сказал один. «А если он там не пройдет?» — спросил второй. «Тогда мы пойдем в Стольборг: нам объяснят, что делать». Как только эти мерзавцы ушли, лейтенант помог нам выйти из тайника и прошептал: «Здесь — ни слова!» Он осторожно повел нас в большую Охотничью галерею и сказал, когда мы туда пришли: «Теперь разрешите покинуть вас и побежать за майором». Дело в том, что лейтенант понял воровской язык этих разбойников: они собирались напасть на господина Христиана Вальдо, обвинить его в какой-то краже, отвести в башню, убить его даже, если он будет сопротивляться, и один из них добавил: «Вот это будет лучше всего». Лейтенант был возмущен. Уходя, он сказал нам: «Все это, возможно, исходит из более высоких сфер, чем мы думаем. Должно быть, здесь замешана политика и Христиану Вальдо известна какая-нибудь государственная тайна». — Вот уж нет, клянусь вам! — перебил Христиан, улыбнувшись простодушию лейтенанта. — Этого я у вас и не спрашиваю, господин Христиан, — возразила славная, наивная Мартина. — А знаю я только то, что лейтенант, майор и капрал Дуф поклялись выполнить свой долг и защитить вас, пусть даже это будет из по нраву господину барону; но им пришло в голову, что действовать надо крайне осторожно, и поэтому они велели нам никому не говорить ни слова, а сами ушли поодиночке, пешком, захватив с собой побольше оружия, стараясь не шуметь, и сговорились встретиться здесь, чтобы устроить засаду, захватить убийц и выведать их тайну. «Продолжайте игру, — сказали они нам, — и старайтесь, чтобы никто не заметил нашего отсутствия». Мы с Маргаритой старательно притворялись, что ищем их, пока нам не пришлось расстаться, чтобы идти переодеваться к вечеру; но вместо того чтобы прихорашиваться, мы только и делали, что вглядывались через окно моей комнаты в туман, повисший над озером. Увы! Ничего нельзя было различить, даже очертаний Стольборга не было видно. Тогда мы стали вслушиваться, оттого что в густом тумане иногда можно расслышать самые отдаленные звуки; но в самом замке и вокруг рвов гремели фанфары и грохотал фейерверк с такой силой, будто кто-то пытался заглушить шум ссоры или драки. А время шло… И тут Маргарите стало страшно… — И вам тоже, милая Мартина, — вставила Маргарита, смутившись. — Нет, это вы, душенька, заразили меня своими страхами, — наивно возразила невеста лейтенанта. — Словом, мы помчались, как одержимые, вместе с Петерсоном, надеясь, что встретим майора и его друзей и они нас успокоят, а мы с помощью Петерсона, который всегда найдет верную дорогу, выведем их к старому замку, в случае если они заблудились. Мы явились сюда пешком и почти не сбились с пути, если не считать, что подошли мы со стороны горда, а думали, что идем напрямик к главному входу. Петерсон сказал нам: «Все равно, мы и отсюда войдем». И вот мы здесь, хотя толком не знаем, через какой вход мы сюда проникли; но навстречу нам никто не попался, и теперь, когда мы можем быть спокойны относительно вас, нас начинает серьезно тревожить участь майора… и остальных офицеров. — Ах, Маргарита! — шепотом произнес Христиан, обращаясь к молодой графине, в то время как Гёфле, Мартина и Петерсон совещались между собой о том, что следует предпринять. — Значит, вы пришли сюда… — Неужели, — перебила она, — неужели я могла допустить, чтобы убили такого человека, как господин Гёфле, и не попытаться спасти его? — Конечно, нет, — ответил Христиан, чья благородная душа, исполненная живейшей и горячей благодарности, не ведала и тени самомнения. — Разумеется, не могли бы; но Это вовсе не умаляет вашей храбрости. Вы ведь могли столкнуться по дороге с этими разбойниками! Где еще найдется женщина столь преданная, столь человечная… что сама пошла бы… — Со мной была Мартина, — с живостью перебила Маргарита. — Мартина — невеста лейтенанта, — ответил Христиан. — Быть может, она бы и не решилась идти сюда ради… господина Гёфле. — Прошу прощения, господин Христиан, она пошла бы и ради… ради любого человека, коль скоро шла речь о жизни ближнего! Но взгляните все же, не идут ли наши друзья; мне вовсе не кажется, что опасность миновала. — Да, да, — воскликнул Христиан, собравшись с мыслями, — конечно, нам всем грозит опасность! Теперь, когда вы здесь, я наконец понял это. Боже мой! Зачем вы пришли?! Молодой человек, раздираемый противоречивыми чувствами, испытывал одновременно величайшую радость от ее прихода и жгучее беспокойство при мысли о возможной опасности, которой она подвергалась. К тому же не могло ли присутствие этих двух девушек в Стольборге еще осложнить положение? Не могло ли оно послужить предлогом для откровенного вторжения в замок? Как бы беспечно ни относилась графиня Эльведа к возложенной на нее обязанности опекать племянницу, она вполне могла хватиться ее и послать кого-нибудь следом либо приказать разыскать ее. Как знать? «Одно ясно, — подумал Христиан, — здесь ее никто не должен увидеть». Сперва он решил было отвести Маргариту и ее подругу в горд Стенсона, где никому не придет в голову ее искать, но в жилище Стенсона, возможно, как раз и притаились сейчас враги, ведя оттуда наблюдение. Христиан, охваченный смятением, рассеянно отвечал на взволнованные вопросы Гёфле; но внезапно его осенила мысль, которой он ни с кем не поделился. То было решение выйти одному из жилого помещения и то ли пройтись по дворам старого замка, то ли спуститься к озеру и, таким образом, встретиться лицом к лицу со злодеями, которые, безусловно, охотились только за ним. С этой целью он взял один из светильников, с тем чтобы его почти сразу заметили сквозь туман, и вышел, не сказав ни слова и надеясь, что Гёфле сразу не хватится его; но он еще не вышел за порог медвежьей комнаты, как Маргарита поднялась с места и окликнула его: — Куда вы идете? — Куда вы, Христиан? — подхватил Гёфле, бросаясь к нему. — Не выходите в одиночку! — Я не выхожу, — ответил Христиан, ловко выскользнув за дверь. — Я только хочу взглянуть, заперта ли вторая дверь, которая ведет отсюда во внутренний двор. — Что он делает? — спросила Маргарита у Гёфле. — Вы не боитесь, что он… — Нет, нет, — ответил адвокат, — он мне обещал быть осторожным. — Но я слышу, как он отпирает замок второй двери, а вот он открывает и дверь! — Открывает дверь? Значит, пришли наши друзья! — Нет, нет, он уходит, клянусь вам! И Маргарита, не помня себя от волнения, бросилась вслед за Христианом. Гёфле остановил ее и, сделав знак Петерсону, чтобы он оставался с женщинами, пустился было догонять Христиана. Но тот уже запер дверь снаружи, чтобы помешать этому, и бежал к выходу из внутреннего двора, громко повторяя имя Ларсона и готовясь защищаться, если разбойники явятся на его голос; внезапно предназначенная ему пуля выбила из его рук светильник, и Христиан погрузился в белесую мглу, непроницаемую даже для лунного света и погребальной пеленой окутавшую землю. Гёфле услышал выстрел и громко выругался, испугавшись за своего юного друга; Мартина вскрикнула, Маргарита упала на стул, Петерсон подбежал к Гёфле. Быть может, им удалось бы совместными усилиями открыть дверь, но они не поняли друг друга. Петерсон, всей душой преданный своей молодой барышне, хотел во что бы то ни стало помешать злоумышленникам войти и даже не догадывался, что Гёфле, напротив, стремится выйти, чтобы бежать на помощь Христиану. Пока они таким образом мешали друг другу и добряк-адвокат поминал всех чертей, вместе взятых, Христиан, обрадованный предоставленной ему наконец свободой действовать по своему усмотрению, набросился на первого злодея, попавшегося ему на пути; тот же, не рассчитав расстояния в тумане и не ожидая, что Христиан так близко от него, обратился в бегство, а Христиан пустился вдогонку, осыпая его бранью, меж тем как второй убийца быстро и молча бежал за ним следом. Но Христиан услышал его топот по затвердевшему снегу, и тут же ему показалось, что сквозь гневное гудение крови в ушах он слышит еще другие шаги и голоса справа и слева. Он понял, что окружен, но, сохраняя полное присутствие духа и ясно отдавая себе отчет в своих поступках, продолжал упорно преследовать первого из своих противников, полагая невозможным обернуться ко второму, пока не разделается с этим, дабы он не напал сзади во время схватки с остальными. К тому же он помнил о споем намерении увести их возможно дальше от Стольборга. Поэтому Христиан пробежал по крутому спуску, который вел из внутреннего двора к воротам, и застал их открытыми; по правде говоря, только по этому спуску он понял, что идет в верном направлении. Но когда он почувствовал под ногами гладкий лед озера, он услышал позади себя еще несколько выстрелов, свист пуль, пролетевших мимо, и увидел, как в двух шагах от него упал человек, за которым он гнался. То ли сообщники приняли его за Христиана, то ли они наугад стреляли в обоих, не заботясь о том, кого настигнет нуля. А настигла она Массарелли; Христиан услыхал его предсмертный хрип и узнал его голос, но перешагнул через умирающего и бросился бежать дальше, надеясь перевести дух, когда убийцы задержатся, чтобы подобрать Массарелли или хотя бы посмотреть, кого же они подстроили. Потом он остановился, прислушался, но до него донеслись только слова: «Оставьте его тут; он готов». О чем же шла речь? Может быть, злодеи приняли Масарелли за него и собираются уйти? Или же поняли свою ошибку и будут продолжать преследование? Быстро меняя направление в клубах тумана, Христиан предполагал сбить их со следа, одного за другим. Он пытался сосчитать голоса и расслышать звуки шагов. Было у него перед ними одно значительное преимущество, о котором он поначалу не подумал: на нем все еще были войлочные сапоги без шва и кожаных подошв, надетые перед охотой. В этой мягкой обуви он чувствовал себя так же свободно, как если бы шел босиком, и к тому же двигался по снегу совершенно бесшумно, в то время как ему был слышен каждый шаг противников, обутых с гораздо меньшим удобством и предосторожностью. Он опять прислушался. Убийцы приближались, но не видели его. Шли они явно наугад. Христиан услышал торопливо произнесенные слова в десяти шагах от себя: «Эй, это я!» Злоумышленники неожиданно столкнулись друг с другом в тумане, среди них произошло замешательство. Теперь было проще простого убежать от них. Однако это Христиану и в голову не пришло. Ярость клокотала в его душе; он не хотел, чтобы головорезы повернули вспять и стали искать его в Стольборге. Громким голосом он вызывающе окликнул их, назвав свое имя, и принялся кружить по льду, не удаляясь, но делая все возможное, чтобы раздразнить убийц и не дать им действовать сообща, а напротив, самому напасть на них поодиночке. Он превосходно владел собой, а потому вскоре сумел сосчитать их: злодеев было трое, убитый Массарелли был четвертым. Несмотря на поразительное присутствие духа, Христиан был в то же время сильно возбужден, и пьянящее желание отомстить доставляло ему какое-то острое наслаждение. Поэтому он был чуть ли не раздосадован, когда позади него раздались шаги, такие же мягкие, как его собственные, по которым он сразу узнал своих спутников по охоте, обутых в такие же войлочные сапоги, как и он сам. Опасаясь, как бы разбойники не обратились в бегство без боя, Христиан подбежал к друзьям и торопливо шепнул им: — Их трое, они близко, надо их схватить! Идите за мной, но — ни слова! И тотчас же, повернувшись прямо навстречу врагам, он остановился там, где, по его расчетам, они собрались все трое, и снова назвал себя, осыпая их насмешками за промахи и трусость. В тот же миг один из злодеев нанес ему в руку удар кинжалом и сам упал к его ногам, задыхаясь, теряя сознание от сильнейшего удара рукоятью норвежского ножа Христиана, который пришелся ему прямо в грудь. Рана Христиана была незначительной благодаря рукаву прочной оленьей куртки; он вознес хвалу небу за то, что не поддался желанию пропороть злодея ножом, как медведя на охоте. Ведь необходимо было захватить живым одного из bravi[427] барона. Остальные двое сочли его убитым и, полагая, что со смертью вожака дело проиграно, обменялись какими-то словами, означавшими на их воровском языке: «спасайся кто может», но они не сообразили, что их подстерегают майор и лейтенант, тотчас же схватившие одного из них; второй же дал тягу. — Праведное небо! Неужели вы ранены, Вальдо? — спросил майор, которому Христиан помогал разоружать негодяев. — Нет, нет, — ответил Христиан, не чувствуя боли и ощущая только теплоту крови, струившейся по рукаву. — Веревки есть? — Да, хватило бы на всех, если бы только мы имели право их повесить! Мы пришли с расчетом, что непременно возьмем в плен этих красавчиков! Христиан, если вы успели перевести дух, затрубите-ка в рожок, чтобы дать знать нашим остальным друзьям, которых мы ждем и разыскиваем вот уже целый час. Вот, возьмите рожок! — Быть может, вам лучше дать выстрел? — Не стоит; и без того достаточно тут стреляли; нет, потрубите, говорю вам. Христиан выполнил просьбу майора, но на звук рожка явился только капрал. — Видите ли, — объяснил майор Христиану, — надо, чтобы все подумали, будто мы просто вышли на прогулку, заблудились и растеряли друг друга, а затем вновь встретились. — Не понимаю. — Необходимо создать такое впечатление, говорю я вам, хотя бы на несколько часов, чтобы барон подольше оставался в неизвестности относительно исхода дела и не смог бы натравить на нас других негодяев, несомненно имеющихся у него в распоряжении. Что же касается его самого, — добавил он, понизив голос, — придет и его черед, будьте спокойны. — Его черед уже пришел, — ответил Христиан, — это я беру на себя. — Не спешите, не спешите, друг мой! Вам не дано на это права. Делом этим займусь я и не дам спуска барону, ибо теперь у нас есть доказательства и уверенность в своей правоте. Но выступить против столь родовитого дворянина, состоящего членом риксдага, мы можем, только получив приказ свыше; и мы его добьемся, можете не сомневаться. А сейчас остается только одно: вам придется повиноваться мне, друг мой, ибо я требую именем закона и во имя чести, чтобы вы помогли мне во всем, что я сочту необходимым сделать, и выполнили все приказания, которые я отдам. В этот миг к ним подбежал Гёфле, без шапки, с факелом в одной руке, со шпагой в другой. Он вышел из замка кружным путем, через дверь спальни, уговорив не без труда обеих женщин остаться под охраной Петерсона, хотя они и стремились сопровождать его, соревнуясь между собой в отваге и желании оказать помощь друзьям. — Христиан! Христиан! — воскликнул адвокат. — Так-то вы держите слово! — Я позабыл обо всем, господин Гёфле, — тихо ответил Христиан. — Это было сильнее меня. Неужто я мог ждать, пока эти злодеи взломают дверь и начнут стрелять в женщин?.. Ну вот, мы наконец избавлены от опасности; ступайте же к Маргарите, успокойте ее. — Бегу сейчас же, — ответил адвокат чихая, — тем более что я чертовски простудился… Надеюсь, — добавил он уже громче, — что вы, господа, посетите нас! — Да, конечно, как мы условились, — ответил майор, — но сперва нам следует выполнить свои обязанности. Гёфле отправился к дамам, чтобы успокоить их, а остальные, приставив бандитам пистолеты к горл у у заставили их поднять труп Массарелли и отнести его в один из погребов горда. Затем их отвели, тщательно связав, на кухню к Стенсону, где капрал и лейтенант разожгли потухший очаг и уселись стеречь своих пленников, в то время как майор готовился допрашивать их в присутствии ‘Христиана. Христиан несколько досадовал на то, что майор так методично взялся за дело, в котором, видимо, разбирался лучше, чем он сам; но майор, перейдя на французский язык, объяснил ему, что не так-то легко с таким противником, как барон, доказать даже ясный и проверенный факт. — К тому же, — добавил он, — я вижу, что, к сожалению, нам недостает свидетелей. Господин Гёфле видел только конечный исход дела. Среди нас нет ни господина Стенсона, ни его племянника, ни вашего слуги. Я надеялся, что мы окажемся в гораздо большем числе, чтобы вовремя прийти вам на помощь и в то же время подтвердить все происшедшее de visu[428]. Младший лейтенант и четверо солдат, за которыми я послал, все еще не пришли. Несмотря на то, что наши бустёлле и торпы солдат расположены недалеко друг от друга, пройдет, быть может, несколько часов, из-за тумана, пока у нас здесь наберется восемь вооруженных людей. — Но к чему нам восемь человек, чтобы стеречь двоих? — Неужели вы полагаете, Христиан, будто барон, узнав, что его дьявольские затеи впервые потерпели неудачу, успокоится на этом? Не знаю, что он еще способен придумать, но уж что-нибудь да придумает, вплоть до поджога Стольборга, если сочтет нужным. Вот почему я и решил провести Здесь ночь, чтобы с помощью моих людей захватить остальных злодеев, которые сюда, несомненно, явятся то ли с предложением услуг, то ли под другой личиной. Ведь большая часть этих иноземных холопов не что иное, как шайка воров и убийц, и надо постараться застать их всех на месте преступления. Тогда, ручаюсь, служители правосудия решатся выступить против вельможи, вынужденного тщетно взывать к своим крестьянам о помощи. Если же мы будем действовать иначе, мы проиграем дело, можете быть уверены. Все поддадутся страху; барон найдет способ либо снять с себя ответственность за все, что произошло, либо освободить наших пленников. Вас назовут убийцей, а нас — духовидцами или в лучшем случае — неопытными юнцами, офицерами, которые вступились за преступника и схватили ни в чем не повинных людей; можете не сомневаться, эти bravi, которых мы здесь держим, отлично вышколены. Я сейчас их допрошу, и вот увидите — они сумеют отлично выпутаться. Готов поспорить, что они слово в слово затвердили все, чему их научили. Действительно, оба злоумышленника заявили с откровенной наглостью, будто явились по приказу мажордома напомнить кукольнику, что он запаздывает с началом представления; а он-де, узнав среди них своего бывшего приятеля, на которого имел зуб, бросился за ним вдогонку и убил его, а затем принялся бранить остальных, вызывая их на драку; тот же, кто ранил Христиана, клялся, что нечаянно нанес ему удар, желая усмирить буйнопомешанного. — До того буйного, — добавил он, — что он мне грудь проломил, вот кровью харкаю! — Увидите, — сказал майору Христиан, — получится, что я просто-напросто оскорбил этого господина, не дав себя прикончить! — И еще увидите, — добавил Ларсон, — как убийцы выскользнут из петли! Наш закон карает смертью только того преступника, который сознался. Преступникам это отлично известно, и как бы нелепы ни были доводы, приводимые ими в свою защиту, они от этих доводов не отступятся. На суде вы можете оказаться в менее выгодном положении, чем они. Вот почему мы со своей стороны будем стоять горой за вас и будем рядом с вами, Христиан, не сомневайтесь. — О, дело Христиана — верное дело! — сказал Гёфле, который пришел послушать допрос, а теперь провожал своих гостей во «владения медведицы», как он говорил. — У нас в руках будет отличное оружие против барона, если только нам удастся освободить старика Стенсона, которого увели то ли добром, то ли силой в новый замок. Нам надо, господа, совместно придумать, как это сделать. — Об этом, господин Гёфле, и думать нечего, — ответил майор. — Владелец замка сам вправе вершить суд в своих землях, а тем более — в собственном доме. Я не знаю, каким образом дело Стенсона связано с делом Христиана, но, на мой взгляд, не стоит усложнять последнее. Прежде всего мне хотелось бы узнать, действительно ли спрятан во вьюке осла золотой кубок, сунутый туда но приказу барона, вероятно, по примеру Иосифа, который некогда хотел таким образом испытать своих братьев, хотя, полагаю, с более мирной целью. — Ей-богу, мне об этом ничего не известно, — сказал Христиан. — Пойдемте вместе, посмотрим. Все направились в конюшню, где застали Пуффо, забившегося в угол, бледного, умоляющего о пощаде. Его обыскали: золотой кубок оказался при нем. Он во всем сознался на свой лад. Час тому назад он якобы увидел, как господин Юхан принес в конюшню сей ценный предмет, и он, Пуффо, разгадав его намерение, решил забрать кубок и отнести его в замок, чтобы, по его словам, спасти ни в чем не повинного хозяина от обвинения в краже; но когда он собрался убежать из конюшни, он увидел, что дверь заперта и не поддается, хотя он изо всех сил пытался взломать ее, услышав выстрелы и желая броситься на помощь Христиану. Все эти признания были столь сомнительны, что майор велел связать почтенного Пуффо, точно так же, как остальных, и его отвели в горд, где и оставили под охраной капрала и Петерсона, призванного ему на помощь. Золотой кубок был торжественно водружен Гёфле на стол в медвежьей комнате. Меж тем Мартина Акерстром бросилась навстречу своему жениху, совсем не помышляя о том, «что скажут люди», и не испытывая никакой неловкости в присутствии майора и капрала. У этой доброй, простодушной девушки сейчас на уме были две заботы: во-первых, беспокойство, которое, долито быть, испытывают ее родители из-за непонятного исчезновения дочери, и, во-вторых, — отсутствие сахара, без которого нельзя предложить чаю, а ведь «эти бедные господа, наверно, так промерзли!» Она все просила послать кого-нибудь в новый замок, чтобы успокоить родителей и принести сахару. Последний вопрос, кстати, был разрешен Нильсом, проснувшимся от шума и сразу позабывшим о своих страхах при виде офицеров: он отлично знал, где находится сахар, принесенный утром Ульфилом, и не раз уже туда наведывался, но первое желание Мартины исполнить было труднее, ибо послать было некого, и к тому же майору хотелось немедленно записать показания Мартины и лейтенанта Осборпа относительно разговора бандитов, услышанного ими двумя часами раньше у входа в башню нового замка. Он считал, что этот разговор — ключ к делу, и поэтому просил не опускать ни единой подробности, тщательно все записывал и очень сожалел, что третий свидетель этого разговора, графиня Маргарита, отсутствует и не может поставить свою подпись. Маргарита же находилась в караульне, куда Христиан поспешно увел ее, чтобы девушку не увидели молодые офицеры, ибо в их глазах у нее не было убедительного и священного для всякого шведа повода к приходу — тревоги за жизнь жениха; тем не менее, услышав из-за двери, что в ее участии нуждаются, поняв к тому же по голосам присутствующих, что злословие ей не грозит, она тотчас же открыла дверь и вошла в комнату. Ей не терпелось поставить свою подпись под клятвенным заверением о непричастности Христиана к подлой краже, тем более что злокозненные намерения барона были раскрыты в ее присутствии беседой двух бандитов. Майор и лейтенант не могли сдержать удивленного восклицания при виде Маргариты: но Гёфле, со свойственным ему присутствием духа, взял объяснение на себя. — Фрекен Акерстром не могла бы добраться сюда одна, — сказал он. — Проводить ее было некому, тем более чтовы так настойчиво просили ее соблюдать тайну, и она не могла взять иного провожатого, кроме слуги графини Маргариты, тоже посвященного в эту тайну. Естественно, что графиня Маргарита пожелала сопровождать свою подругу, которую Петерсон, возможно, стал бы отговаривать от этого похода, ссылаясь на туман… Немало других доводов привел еще Гёфле, чтобы доказать, насколько естественно все произошло. Мартина с присущим ей простодушием могла бы, конечно, возразить, что дело было не совсем так, как объясняет Гёфле, и, наверно, сделала бы это, не догадываясь о симпатии Маргариты к Христиану, если бы она не была поглощена вместе с Нильсом приготовлением чая; к столу была подана, кроме того, каша, так как Нильс обнаружил в горде все яства, предназначенные Ульфилом для ужина его дядюшки и гостей, живущих в Стольборге. Итак, мрачная медвежья комната служила сейчас декорацией к одной из мирных сцен, столь обычных в сей жизни в силу земных потребностей человека и вечных контрастов нашей судьбы: несколько мгновений тому назад — тревога, борьба, смертельная опасность; миг спустя — домашний уют, ужин и застольная беседа. Однако За столом сидели только Гёфле и Мартина. Остальные же, стоя, наспех перекусили, с нетерпением ожидая новых событий или же появления подмоги, что дало бы им возможность принять новое решение. Разумеется, у каждого из участников столь необычной трапезы были живейшие основания для беспокойства. Маргарита тревожилась, не станет ли тетушка разыскивать ее, когда узнает о перемене программы увеселений в новом Замке из-за отсутствия burattini; и не разделит ли сама мадемуазель Потен беспокойство и недоумение графини Эльведы, убедившись в отсутствии Мартины, на попечение которой она оставила Маргариту. Мартина же недолго размышляла о том, волнуются ее родители или нет: будучи особой рассудительной, она сообразила, что помещения замка весьма просторны, а матушка ее, уверенная в своей дочери и вдобавок большая любительница карточной игры, не имеет привычки разыскивать ее, когда она бегает по замку с подружками; да к тому же того и гляди явятся другие офицеры и освободят невольных узников Стольборга; но в то же время она вспомнила, как мала горсточка защитников старого замка, ее охватил страх за судьбу жениха и нетерпеливое желание, чтобы подмога подоспела скорее. Христиан тревожился о Маргарите и почти что позабыл думать о собственной участи. Майор тревожился о Христиане и о себе самом; он все время твердил лейтенанту, что дело обернулось, с точки зрения правосудия, весьма для них невыгодно. Лейтенант тревожился из-за того, что тревожится майор. Что касается Гёфле, то его волновала мысль о старике Стексоне, и это снова и снова приводило его к бесчисленным молчаливым умозаключениям о рождении и дальнейшей судьбе Христиана. Словом, никто из присутствующих не мог сказать, что чувствует себя спокойно. Внезапно послышался стук и звон колокола у ворот. Возможно, что наконец явились долгожданные солдаты с офицером; но возможно также, что ил рамка прислали новую разбойничью шайку в поддержку или для спасения первой. Майор и лейтенант зарядили пистолеты и выбежали во двор, велев Христиану, которому они по праву могли отдавать приказания в данных обстоятельствах, оставаться в помещении и не ввязываться в драку, пока они не подадут сигнала. Затем Ларсон, ничего не спрашивая у вновь прибывших, решительно распахнул порота, рискуя первым пасть под ударами неприятеля, и с радостью узнал своего друга младшего лейтенанта и четырех солдат, расквартированных неподалеку от его бустёлле. Теперь он считал, что положение спасено. Не было сомнений, что барон, с нетерпением ожидавший исхода событий и томимый неизвестностью, пошлет на разведку отряд своих проходимцев. Младший лейтенант кратко доложил о своих действиях. Он сбился с пути со своими солдатами; на Стольборг они набрели случайно, после долгих блужданий в тумане. Навстречу им никто не попался, а если и попался — они никого не видели. — Все же, — добавил он, — туман на берегу уже редеет, и самое большее через четверть часа можно будет выйти в дозор. Рев фанфар и треск фейерверка, которые доносились из нового замка, наконец утихли, и теперь малейший звук будет хорошо слышен. — Нам будет тем легче сделать обход, — сказал майор, — что здесь находится местный житель, некий Петерсон, наделенный, как и все крестьяне, поразительным чутьем. Он и сейчас мог бы проводить вас куда угодно; но подождем еще немного. Расставьте людей возле обоих входов в Стольборг, так чтобы никто их не слышал и не видел. Закройте дверь в домик, что в горде. С пленных по-прежнему не спускать глаз и пригрозить им смертью, если они хоть слово скажут, но чтобы это осталось только угрозой! С нас хватит и одного убитого, которым, возможно, нас еще будут долго попрекать!XVIII
Не успел храбрый и осмотрительный майор отдать эти распоряжения, как мимо него промелькнула какая-то тень, как раз в тот миг, когда он ощупью возвращался в медвежью комнату, чтобы продолжать следствие и пополнить его чрезвычайно важными сообщениями господина Гёфле обо всех происшествиях, касающихся Христиана. Тень неуверенно двигалась вперед, а майор шел за ней следом, пока она внезапно не наткнулась на стену и не принялась браниться довольно тонким голоском, по которому Христиан, вышедший на порог, тотчас узнал Олофа Бетсоя, сына даннемана. — На кого же ты так сердишься, дружок? — спросил Христиан, взяв его за руку. — И как случилось, что ты явился сюда, а не домой? Все трое вошли в медвежью комнату. — Ей-богу, кабы не вы, — сказал Олоф Христиану, — я бы еще долго искал входную дверь. Снаружи-то я хорошо знаю Стольборг, нашел бы его с закрытыми глазами; а вот входить-то сюда не входил, нет! Сами понимаете, в такую проклятую погоду я не мог воротиться домой, как собирался. Наконец немного рассвело, и я отправился пешком, чтобы отец не встревожился, а лошадь оставил в бустёлле господина майора, где провел битых два часа; только сперва надумал я занести вам по дороге бумажник, который вы забыли в санях, господин Христиан. Вот он. Я в него не заглядывал. Все, что там было, так и осталось в целости и сохранности. Я никому не хотел его доверить, потому что отец часто говаривал, что нынче бумаги порой дороже денег. С этими словами Олоф протянул Христиану бумажник из черного сафьяна, которого тот никогда не видел. — Быть может, это ваш бумажник, случайно оставшийся в кармане куртки, которую вы мне дали надеть? — спросил он майора. — Отнюдь нет, в первый раз вижу, — ответил Ларсон. — Стало быть, он принадлежит лейтенанту? — Ручаюсь, что нет, — сказала Мартина. — Бумажники лейтенанта всегда украшены моей вышивкой, других у него нет. — Можно спросить его самого, — подхватил майор. — Лейтенант где-то поблизости, в горде. — Стойте! — воскликнул Гёфле, по-прежнему во власти своей навязчивой мысли. — Вы, кажется, говорили мне, Христиан, что сегодня на охоте опрокинули сани барона? — Вернее, барон опрокинул мои сани, а уж вместе с ними и свои собственные, — ответил Христиан. — Ну вот, — продолжал адвокат, — все, что было в тех и других санях вывалилось на дорогу, от медведей до бумажников, вперемежку, и, должно быть… — Должно быть, этот бумажник служил врачу футляром для инструментов, готов поспорить, что так! — воскликнул Христиан. — Оставь его здесь, Олоф, мы его отошлем доктору. — Дайте-ка сюда! — сказал Гёфле весьма решительным и уверенным топом. — Единственный способ узнать, кому принадлежит бумажник, — это открыть его, и я это беру на себя. — Вы берете это на себя, господин Гёфле? — спросил майор, весьма щепетильный в таких вопросах. — Да, господин майор, — ответил адвокат, открывая бумажник, — и я прошу вас быть свидетелем, коль скоро вы явились сюда, чтобы расследовать дело, по которому я, быть может, буду выступать в суде. Смотрите, вот письмо господина Юхана, предназначенное его барину. Почерк его мне знаком, и с первого взгляда я вижу следующее: «Кукольник… Гвидо Массарелли… «Розариум»?» Ах, да, барон считает себя вправе иметь таковой, наряду с сенатом! Майор, это документ чрезвычайной важности, и вдобавок тут же имеется второй, быть может, еще более важный. Возложенное на вас поручение требует, чтобы вы с ним ознакомились. — Мне можно уйти? — спросил юный даннеман, смутно понимая, что идет разбирательство какого-то судебного дела, и опасаясь, подобно любому крестьянину в любой стране, оказаться замешанным в него как свидетель. — Нет, — ответил майор, — тебе надо остаться здесь и слушать. И, обращаясь к Маргарите и Мартине, которые шепотом совещались о возможности возвращения в замок, майор сказал: — Я очень прошу вас также прислушаться к нашей беседе. Мы имеем дело с опасным противником, и нас, возможно, обвинят в подделке уличающих его документов. Меж тем вот один из них; он передан нам в вашем присутствии, и необходимо, чтобы вы ознакомились с ним вместе с нами. — Нет, нет! — воскликнул Христиан. — Я не хочу, чтобы дамы были замешаны в тяжбу… — Весьма сожалею, Христиан, — перебил его майор, — «но закон выше вашей воли, и я намерен честно выполнить свой долг. Нынешним вечером был убит человек, которого несомненно, лучше было бы взять живым. Я знаю, что вы тут ни при чем, и к тому же вы ранены… Вы человек пылкий, отважный и великодушный, но вы весьма неосмотрительны, когда дело касается вас. Я же утверждаю, что это дело может привести вас на эшафот, потому что вы, конечно, честно признаете, что бросили вызов своим врагам, а эти мошенники будут отрицать все со свойственным им бесстыдством!.. Итак, приступим к чтению и сделаем все возможное, дабы истина восторжествовала. «Я, Адам Стенсон, доверяю Таддео Манассе, коммерсанту, уроженцу Перуджи, сие сообщение, дабы он передал его Христиану в тот день, когда это дозволят последующие обстоятельства.» — Да, да, майор, читайте, я слушаю! — вскричала Маргарита, побледнев при взгляде на окровавленный рукав Христиана. — Я готова быть свидетельницей, пусть даже я на этом лишусь доброго имени! Христиану невыносимо было самопожертвование благородной девушки, и он весьма досадовал на майора, предъявившего ей какие-то требования. Однако майор был прав, и Христиан чувствовал это, тем более что офицер ставил на карту свою честь, точно так же, как делали остальные. Поэтому Христиан опустился на стул и закрыл лицо руками, чтобы никто не заметил его смятения, в то время как майор принялся читать вслух дневник почтеннейшего Юхана, написанный его рукой и отправленный барону в разгар охоты. — Бумага эта представляет для меня загадку, — сказал майор, закончив чтение, — из нее видно, что против Христиана затеян хорошо продуманный заговор, но… — Но вам трудно понять, — подсказал ему Гёфле, который во время чтения торопливо пробежал глазами вторую бумагу, — откуда к незнакомцу без имени, без семьи, без состояния возникла столь жгучая ненависть со стороны видного и могущественного вельможи, барона Вальдемора? Зато я это отлично понимаю, и коль скоро нами уже доказано, к каким последствиям привела эта ненависть, пора раскрыть ее причину: вот она… Голову выше, Христиан Вальдемора! — добавил Гёфле, с силой ударяя кулаком по столу. — Небо привело тебя сюда, и прав был старик Стенсон, когда говорил: «Богатство грешника уготовано праведнику!» В глубоком изумлении все умолкли, с нетерпением ожидая дальнейшего, и Гёфле прочел следующее:«Я, Адам Стенсон, доверяю Таддео Манассе, коммерсанту, уроженцу Перуджи, сие сообщение, дабы он передал его Христиану в тот день, когда это дозволят последующие обстоятельства. Адельстан-Христиан Вальдемора, сын барона Вальдемора и благородной госпожи Хильды Бликсен, родился пятнадцатого сентября тысяча семьсот сорок шестого года в так называемой медвежьей комнате замка Стольборг, что во владениях Вальдемора, в провинции Далекарлия. Был тайно поручен заботам Анны Бетсой, жены даннемана Карла Бетсоя, мною, Адамом Стенсоном, нижеподписавшимся, и девицей Карин Бетсой, дочерью поименованных выше и доверенной служанкой покойной баронессы Хильды Вальдемора, урожденной Бликсен. Означенный младенец был вскормлен молоком прирученной лани в доме вышеупомянутого Карла Бетсоя, на горе Блокдаал, где и прожил до четырехлетнего возраста, будучи известен всем как сын Карин Бетсой, каковая из преданности к покойной госпоже наговорила на себя, будто была совращена и обманута неизвестным лицом, и благодаря сему самопожертвованию сумела спасти ребенка от преследования врагов, выдавая его за своего. Означенный ребенок был затем увезен мною, Адамом Стенсоном, ибо, несмотря на принятые меры предосторожности, вокруг него возникли подозрения, подвергавшие опасности его жизнь. Я, нижеподписавшийся, отвез его в Австрию, где имею замужнюю сестру, каковая сможет засвидетельствовать, что я прибыл к ней с ребенком по имени Христиан, говорившим на далекарлийском наречии. По совету близкого друга и поверенного моего Таддео Манассе, исповедующего веру Ветхого завета, некогда хорошо известного в Швеции под именем Манассе и пользовавшегося большим уважением покойного господина барона Адельстана Вальдемора, как человек слова, надежный и безукоризненно честный в своем деле, а именно — торговле произведениями искусства, коих поименованный барон был большим любителем, я, нижеподписавшийся, отправился в город Перуджу, что в Италии, где находился в то время вышеупомянутый друг мой, Таддео Манассе. Явившись под маской в дни карнавала к почтенным супругам Гоффреди, а именно: Сильвио Гоффреди, преподавателю древней истории в перуджийском университете, и Софии Негрисоли, его законной жене, родом из семьи прославленного врача, носящего ту же фамилию, я им вручил, доверил, словом отдал упомянутого Христиана Вальдемора, не ознакомив их ни с родом его, ни со страной, где он появился на спет, ни с особыми причинами, вынудившими меня расстаться с ним. Отдавая горячо любимое мною дитя вышеупомянутым супругам Гоффреди, я полагал, что выполняю волю покойной баронессы Хильды, каковая говорила, что желает, чтобы он рос вдали от своих врагов, у людей образованных и добродетельных, которые, безо всяких к тому корыстных побуждений, полюбят его как родного сына и дадут ему такое воспитание, чтобы он был достоин имени и рода своего, кои будут возвращены ему в тот день, когда умрут его враги, что, по законам природы, случится задолго до его собственной кончины. А на тот случай, ежели нижеподписавшемуся суждено будет умереть раньше вышеупомянутых врагов, он, нижеподписавшийся, поручил означенному Таддео Манассе принять все меры, дабы Христиану Вальдемора была вручена настоящая грамота, как только станет известно о кончине его врагов. В силу чего и был заключен дружеский договор с Таддео Манассе, согласно которому он обязался не терять из виду вышеназванного Христиана Вальдемора, жить всегда поблизости от него, быть ему опорой в случае, если другой опоры у него не станет, и подобрать себе в замену, на случай собственной тяжкой болезни или смерти, столь же верного человека, как он сам, и, кроме того, ежегодно сообщать нижеподписавшемуся сведения относительно Христиана. После чего нижеподписавшийся, желая сохранить за собой должность управляющего замком Вальдемора, дабы не вызывать подозрений, а также дабы иметь возможность заработать деньги, необходимые для предполагаемых разъездов Таддео и для могущих возникнуть нужд дитяти, покинул, не без скорби сердечной, город Перуджу и вернулся в Швецию шестнадцатого марта тысяча семьсот пятидесятого года, полагая и надеясь, что совершил все возможное, дабы избавить от опасности сына своих покойных хозяев и обеспечить ему счастливую и достойную жизнь. Адам Стенсон. Подтверждаю: Таддео Манассе, главный хранитель картинной галереи дель Камбио в Перудже». — Говорите же, Христиан, — обратился Гёфле к своему юному другу, потрясенному услышанным и погрузившемуся в глубокое молчание. — Все следует еще проверить. Этот Манассе был действительно честным человеком? — Думаю, что да, — ответил Христиан. — Предлагал он вам когда-либо денежную поддержку от имени вашего семейства? — Да. Я отказался. — Знакома ли вам его подпись? — Хорошо знакома. Он неоднократно вел дела с синьором Гоффреди. — Взгляните, его ли это рука? — Да, это его рука. — Что касается меня, — продолжал Гёфле, — я ручаюсь, что узнал и почерк и язык Стенсона в прочитанной мной рукописи. Прошу вас, майор, открыть эту папку и удостовериться в тождественности почерка. Это хозяйственные отчеты по имению, составленные и подписанные стариком управляющим примерно в то же время, то есть в тысяча семьсот пятьдесят первом и пятьдесят втором годах. Впрочем, почерк его не переменился и поныне, и рука все так же тверда. Вот доказательство: три стиха из Библии, написанные только вчера, смысл которых, соответствующий состоянию его духа, очень ясен и помогает нам понять многое. Майор сличил рукописи; тем не менее тайна казалась ему все еще неразгаданной. Состряпал ли барон подложные документы, свидетельствующие о том, что его невестка умерла, не оставив наследника? Он был вполне способен на такой подлог, но ведь Гёфле в свое время ознакомился с этими бумагами, и даже теперь они, должно быть, находились в его руках вместе с остальными делами, полученными им в наследство от отца. — Да, эти записки находятся у меня в Гевале, — ответил Гёфле. — Они были проверены экспертами, и подлинность их не вызывает сомнений; но разве не ясно теперь, что баронессу Хильду принудили к этому ложному признанию силой или угрозами? Успокойтесь, Христиан, все Это выяснится. Смотрите, майор, вот вам еще одно доказательство, найденное мною вчера случайно в кармане платья, письмо барона Адельстана к жене: прочтите и прикиньте, совпадают ли даты. Надежда на будущее материнство подтвердилась пятого марта, после двух или трех месяцев сомнений, быть может! Ребенок родился пятнадцатого сентября, баронесса нашла прибежище здесь в первых числах этого же месяца. Здесь же, по-видимому, она оказалась узницей барона и умерла двадцать восьмого числа. И еще-одно доказательство — эта миниатюра. Взгляните на нее, — Маргарита Эльведа. Этот портрет графа Адельстана, конечно, не был написан ради занимающего нас сейчас дела: писал его знаменитый художник и поставил дату и подпись. Но ведь это вылитый Христиан Вальдо! Сходство поистине необыкновенное. Теперь посмотрите на портрет того же графа Адельстана во весь рост. Здесь бросается в глаза то же сходство, хотя это творение гораздо менее талантливого живописца, но руки выписаны с наивной точностью, и вам, должно быть, хорошо видны согнутые мизинцы; ну-ка, Христиан, покажите нам ваши! — Ах, — вскричал Христиан, возбужденно шагавший из угла в угол, пока Гёфле не остановил его, взяв его дрожащие руки в свои, — если барон Олаус мучил мою мать — горе ему! Вот эти скрюченные пальцы вырвут у него сердце из груди! — Ничего, пусть итальянская страсть скажет свое, — сказал Гёфле майору, который вскочил с места, опасаясь, как бы Христиан не выбежал из замка. — Этот молодой человек — воплощенная отвага, уж я-то его знаю! Мне известна вся его жизнь. Неужели вы не понимаете, что ему необходимо излить свою скорбь и негодование? Но подождите, друг мой Христиан. Возможно, что у барона не такое преступное прошлое, как мы полагаем. Надо узнать подробности, надо повидать Стенсона. Освободить Стенсона и привести его сюда — вот что нужно сделать, майор, и как раз Этого вы и не хотите. — Вы отлично знаете, что я не могу этого сделать! — вскричал майор, чрезвычайно взволнованный и возбужденный. — Я не имею никакого права вмешиваться в действия столь важного лица, как барон, особенно если он вершит суд над собственными слугами; если барон вздумает пытать этого старика, он найдет для этого тысячу предлогов. Тут майора прервал Христиан, который уже не в силах был сдержать свой порывистый нрав. Он хотел сам идти в новый замок, спасти Стенсона или расстаться с жизнью. — Как! — говорил он. — Ужели вы не видите, что в этом логове ни перед чем не останавливаются? Я теперь слишком понимаю, что именно скрывается за этим шуточным, но горьким и страшным прозвищем «розариум»! И этот несчастный старик, который едва дышит, верный слуга, спасший меня от врагов, как он говорит в своей исповеди, и посвятивший мне после долгой, утомительной поездки еще долгие годы молчаливого труда, сейчас умирает, быть может, в страшных муках, тоже ради меня! Нет, это немыслимо; вам не удастся удержать меня здесь, майор. Я не признаю вашей власти, и если даже мне придется пробить себе дорогу шпагой — что ж, тем хуже, пеняйте на себя! — Тише! — воскликнул Гёфле, вырывая из рук Христиана шпагу, которую тот схватил со стола, — тише! Слушайте! Кто-то ходит над нами, в комнате, куда вход замурован. — Кто же может там ходить, — сказал майор, — если вход, как вы говорите, замурован? К тому же я ничего не слышу. — Я тоже не слышу шагов, — ответил Гёфле, — но помолчите, и взгляните на люстру. Все умолкли, глядя на люстру, и не только заметили, как она вздрагивает, но и услышали тихое металлическое позвякивание медных подвесок, трепещущих под чьими-то шагами в верхнем этаже. — Неужели это Стенсон? — воскликнул Христиан. — Только ему одному может быть известен вход через наружную галерею. — А разве есть такая галерея? — спросил майор. — Как знать! — ответил Христиан. — Думаю, что есть, хотя убедиться в этом мне в этом не удалось, но вскарабкаться по скалам, на мой взгляд, невозможно. Подождите, вы ничего больше не слышите? Все опять прислушались, и им показалось на этот раз что по ту сторону замурованного входа в медвежью комнату хлопнула дверь и кто-то стал постукивать или царапаться о стену. Был ли это Стенсон, который вырвался из рук злодеев и, опасаясь вернуться через горд или двор, охраняемые, быть может, врагами, вошел в замок потайным ходом, известным только ему? Звал ли он друзей на помощь, или подавал им тайный знак, предупреждая о возможности нового нападения? Все эти предположения казались майору игрой досужей фантазии. В это время вошел лейтенант с даннеманом Бетсоем и сказал: — Наш приятель только что пришел сюда из бустёлле, он разыскивает сына. Нет ли его здесь? — Да, да, отец! — отозвался Олоф, перепуганный тем, что ему довелось услышать, и весьма обрадованный приходом отца. — Вы беспокоились за меня? — Ничуть я не беспокоился, — ответил даннеман, проделавшим весь этот путь в ненастную погоду, лишь бы разыскать сына, но полагавший такое признание несовместимым с отцовским достоинством. — Я отлично знал, что наши друзья тебя одного не отпустят. Но я опасался, как бы лошадь не покалечилась! В то время как даннеман объяснял таким образом причину своей тревоги, лейтенант сообщил майору известие, которое, по-видимому, поразило того. — В чем дело? — спросил Гёфле. — А в том, — ответил Ларсон, — что все мы чрезмерно предались черным мыслям и стали вести себя попросту нелепо. Лейтенант, делая обход, услышал нечто подобное человеческому стону, а солдаты наши так напуганы вечными россказнями о стольборгской даме в сером, что тотчас разбежались бы, если бы вовремя не вспомнили о дисциплине. Пора положить конец всем этим мечтаниям, и если нельзя проникнуть отсюда в замурованную комнату, следует тщательно осмотреть подходы к ней снаружи и убедиться, что злодеи не воспользовались этой фантасмагорией, чтобы расставить нам ловушку. Пойдемте с нами, Христиан, ведь вы как будто нашли способ, как забраться наверх. — Нет, нет! — возразил Христиан, — Такой путь слишком долог и труден. Я знаю, как быстрее и проще пробить себе дорогу. Главное — выломать первый кирпич. И с этими словами Христиан сорвал с колец большую карту Швеции и, вооружившись своим геологическим молотком, принялся с отчаянной решимостью пробивать стену, то колотя тупым концом молотка по звонкому кирпичу, то вставляя острый, режущий конец его в образовавшиеся отверстия и выламывая сразу по нескольку кирпичей, накрепко соединенных между собой известковым раствором, и они с грохотом рушились на гулкие ступени лестницы. Остановить Христиана было бы теперь невозможно. Какое-то бешенство овладело им, толкавшее его противиться во что бы то ни стало вынужденному бездействию. Возникшие в его мозгу странные предположения о существе, замурованном, быть может, заживо в этой комнате, преследовали его, подобно кошмару. Возбуждение его было таково, что он готов был разделить все суеверные мысли, зародившиеся у Гёфле, и невольно ему приходило в голову, что некая сверхъестественная сила призывает его раскрыть адскую тайну, окутавшую кончину его матери. — Отойдите, отойдите прочь! — кричал он Гёфле, который ежеминутно подбегал к подножию лестницы, движимый таким же волнением, смешанным вдобавок с живейшим любопытством. — Если кладка рухнет целиком, мне ее будет не удержать! И действительно, кирпичная перегородка, протянувшаяся на большом пространстве, разваливалась мало-помалу под яростными ударами Христиана, осыпая пылью бесстрашного разрушителя, остававшегося каким-то чудом невредимым под градом камня и извести. Никто не осмеливался заговорить с ним; все затаили дыхание, ожидая, что вот-вот увидят го погребенным под обломками или раненным насмерть упавшим кирпичом. Он скрылся в туче пыли и вдруг закричал: — Нашел! Лестница продолжается! Дайте свету, господин Гёфле! И, не дожидаясь, Христиан бросился во тьму. Но пока он искал на ощупь дверь и увидел наконец, что она полуоткрыта, майор догнал его и сказал, удерживая за руку: — Христиан, если у вас есть хоть какое-то дружеское чувство ко мне и уважение к моему званию, вы пропустите меня вперед. Господин Гёфле полагает, что здесь скрыты решающие доказательства вашей правоты, а ведь не положено свидетельствовать в свою собственную пользу. К тому же берегитесь! Доказательства эти, быть может, таковы, что вы с ужасом отступите перед нами. — Я выдержу все, что бы я ни увидел, — ответил Христиан в исступлении, ибо та же мысль приходила и ему. — Я хочу знать правду, пусть даже она меня поразит, как удар молнии! Идите вперед, Осмунд, это ваше право, но я следую за вами, это мой долг. — Нет же, нет! — воскликнул Гёфле, поспешно поднявшийся по лестнице вслед за майором вместе с даннеманом и лейтенантом и с решительным видом загородивший собой дверь. — Вы не пройдете сюда, Христиан, вы не войдете без моего разрешения! Вы человек горячий, а я — упрямый. Что же, поднимете ли вы руку на меня? Христиан сдался и отступил. Майор вошел с Гёфле; лейтенант и даннеман остались на пороге, заслонив собой Христиана. Майор сделал несколько шагов по таинственной комнате, где царил мрак, который не рассеял даже огонь свечи в руке Гёфле. Комната была просторной, и стены ее были обшиты деревянными панелями, как и в медвежьей комнате, но здесь было пусто, бесприютно и во сто раз мрачнее, нежели там. Внезапно майор попятился и, понизив голос, чтобы его не услышал Христиан, стоявший у двери, сказал, обращаясь к Гёфле: — Взгляните! Взгляните сюда! На пол! — Стало быть, это правда? — ответил Гёфле так же тихо. — Как это ужасно! Ну, майор, смелее! Надо все узнать. И они подошли к человеческой фигуре, полулежащей, а вернее — опустившейся на колени и сгорбившейся у стены, опершись головой о деревянную панель. Вот и все, что можно было разглядеть под пыльными черными покрывалами, сквозь которые угадывалась необычайная худоба этого существа. — Это она! Это призрак, увиденный мною! — сказал Гёфле, узнав под покрывалами серое платье, украшенное длинными перепачканными лентами. — Это баронесса Хильда! Она умерла или провела в заточении все эти годы? — Она жива, — взволнованно ответил майор, приподняв покрывало. — Но это не баронесса Хильда. Я знаю эту женщину. Подойдите поближе, Ю Бетсой. Войдите, Христиан. Здесь нет ничего такого, что вам чудилось. Это только бедная Карин, и она без чувств или спит. — Нет, нет, — сказал даннеман, тихо приблизившись к сестре, — она не спит и не в обмороке; она погружена в молитву, и дух ее вознесся к небесам. Не трогайте ее и не говорите с ней, пока она сама не встанет с колен. — Но как же она сюда вошла? — спросил Гёфле. — О, на это у нее есть особый дар, — ответил даннеман. — Она всегда войдет куда захочет и пролетит, подобно птице, сквозь щель в старой стене. Она проходит, даже не замечая этого, по таким местам, куда я иногда следовал за ней, препоручив душу мою господу. Поэтому я никогда не тревожусь, если не застаю ее дома; я знаю, что у нее есть дар и упасть она не может. Но вот — смотрите! — она кончила молиться. Встает, идет к двери… Снимает ключи с пояса. Эти ключи она всегда хранит как святыню, мы и не знаем, откуда они у нее… — Последим за ней, — сказал Гёфле, — благо она нас не видит и не слышит. А что это она делает сейчас? — Это у нее такая привычка, — сказал даннеман. — Она порой остановится возле какой-нибудь стены, будто хочет найти и отворить дверь. Видите? Она приставила ключ к стене и повернула его, потом увидела, что ошиблась, и пошла дальше. — Вот оно что! — сказал господин Гёфле. — Теперь я понимаю, откуда эти кружочки, нацарапанные на стене в медвежьей комнате! — Можно мне заговорить с ней? — спросил Христиан, подойдя к Карин. — Можно, — сказал даннеман. — Она вам ответит, если ей понравится ваш голос. — Карин Бетсой, — спросил Христиан у ясновидящей, — что ты здесь ищешь? — Не зови меня Карин Бетсой, — ответила она. — Карин умерла. Я вала древних времен, та, чье имя нельзя называть! — Куда ты идешь? — В медвежью комнату. Они уже заделали дверь? — Нет, — сказал Христиан. — Я провожу тебя. Дай мне руку. — Ступай, — сказала Карин, — я следую за тобой. — Значит, ты меня видишь? — Почему же мне не видеть тебя? Разве мы с тобой не находимся в царстве мертвых? Разве ты не бедный барон Адельстан? Ты просишь, чтобы я вернула тебе мать твоего ребенка? Я только что молилась за них обоих. А теперь… идем, идем! Я все тебе расскажу! И Карин, словно внезапно опомнившись, переступила порог и спустилась по лестнице, сильно напугав своим появлением Маргариту и Мартину, несмотря на то, что юный Олоф, стоявший подле лестницы и все слышавший, предупредил их, что им нечего опасаться несчастной безумицы. — Не бойтесь, — сказал им Христиан, который шел вслед за Карин в сопровождении обоих офицеров, Гёфле и даннемана. — Внимательно следите за ее движениями; постараемся все вместе разгадать смысл ее грез. Не правда ли, она как будто воздает последний долг человеку, который только что скончался? — Да, — ответила Маргарита, — она словно закрывает кому-то глаза, целует руки, складывает их на груди. А вот она сплетает воображаемый венок и кладет его на голову покойному. Смотрите, она кого-то ищет глазами… — Не меня ли ты ищешь, Карин? — спросил ясновидящую Христиан. — Ты ведь Адельстан, добрый ярл, — сказала Карин. — . Слушай же и смотри: наконец-то она перестала страдать, твоя возлюбленная! Она ушла в страну эльфов. Злой ярл сказал: «Она умрет здесь», и она умерла. И он еще сказал: «Если родится сын, он умрет первым». Но он забыл о Карин. Карин была здесь, она приняла младенца, она спасла его, она вручила его феям озера, а Снеговик так и не узнал, что он родился. И Карин никогда не сказала ни слова, даже в болезни и лихорадке! А теперь она заговорила, ибо колокол замка возвещает о смерти. Слышите вы его? — Ужели правда? — вскричал майор, поспешно открывая окно. — Нет, ничего не слышно. Она грезит. — Если колокол и не звонит сейчас, — сказал даннеман, — он вскоре зазвонит. Она уже услышала его нынче утром у нас в горах. Мы-то знали, что это невозможно, но мы знали также, что она многое слышит наперед, так нее как видит то, чему суждено случиться. Карин, почувствовав, что в комнате открыто окно, подошла к нему. — Это было здесь! — сказала она. — Через это окно улетело дитя с помощью Карин Бетсой. И она повторила припев баллады, которую Христиан уже слышал в тумане: «Дитя озера, что прекрасней вечерней звезды…» — Эту песню вы услышали от своей госпожи? — спросил Гёфле. Но до слуха Карин, видимо, доходил только голос Христиана. Ответила Гёфле Мартина Акерстром. — Да, — сказала она, — я эту балладу знаю, ее когда-то сочинила баронесса Хильда. Мой отец нашел ее среди бумаг, захваченных в Стольборге и оставшихся у нас в доме от прежнего пастора. Там были также древние скандинавские песни, переведенные стихами и положенные на музыку бедной баронессой; она ведь была очень ученой и превосходной музыкантшей. Из этого хотели состряпать на нее клевету, будто она поклонялась языческим божествам. Мой отец осудил поведение прежнего пастора и бережно сохранил рукописи. — Что же, Карин, — спросил Гёфле ясновидящую, впавшую в какой-то молчаливый экстаз, — ты нам больше ничего не скажешь? — Оставьте меня, — ответила Карин, вступив в новую сферу своих грез, — оставьте! Я должна пойти на хогар, навстречу тому, кто возвращается. — Кто тебе сказал об этом? — спросил Христиан. — Аист, что живет на крыше и приносит матерям, ожидающим возле очага, известия о покинувшем их сыне. Потому я и надела платье, подаренное мне самой любимой, чтобы он увидел то, что осталось от матери. Вот уже три дня я жду его и пою, дабы его привлечь; и наконец, наконец-то он возле меня, я чувствую это. Нарвите же васильков, нарвите фиалок и позовите старого Стенсона, пусть он порадуется перед своей кончиной. Бедный Стенсон! — Почему ты сказала «бедный Стенсон»? — испуганно вскричал Христиан. — Он появился в твоих видениях? — Оставьте меня, — ответила Карин. — Я все сказала; теперь вала снова уходит во мрак! Карин закрыла глаза и пошатнулась. — Это значит, что теперь она уснет, — сказал даннеман, поддерживая ее. — Я усажу ее здесь, она тотчас же должна уснуть, где бы ни находилась. — Нет, нет, — сказала Маргарита, — отведем ее в другую комнату, где стоит большой диван. Бедная женщина, она вконец измучена и горит как в лихорадке. Идемте. — Но что она делала наверху? — спросил Гёфле майора, возвращаясь к лестнице в то время, как девушки провожали семейство даннемана в караульню. — Никто не разубедит меня в том, что в этой комнате, столь тщательно замурованной Стенсоном, кроется тайна еще более важная, доказательство еще более веское, чем воспоминания Карин и исповедь Стенсона. Послушайте, Христиан, надо бы… Да где же вы? — Неужели успел вернуться наверх? — спросил майор, быстро поднимаясь по деревянной лестнице. — Проклятие! — вскричал Гёфле, поднявшийся с ним вместе. — Ушел! Выскользнул через пролом, как ящерица! Да никак это он бежит по краю стены! Христиан! — Ни слова, — сказал майор. — Он идет над пропастью! Не трогайте его… Вот он скрылся из глаз, вошел в туман. Я бы хотел пойти за ним, но я плотнее его, мне здесь не пролезть. — Слушайте, — перебил его Гёфле. — Он спрыгнул со стены! Вот он что-то говорит! Слушайте! Послышался голос Христиана, говоривший солдатам: — Это я! Это я! Майор послал меня в замок! — Ах, безумец! Ах, храбрый мальчик! — воскликнул Гёфле. — Ничьих советов не слушает! Помчался один против всех на поиски Стенсона! Действительно, Христиан пролетел, подобно ночной птице, по выражению даннемана, сквозь щель в старой стене. Имя Стенсона, произнесенное Карин, жгло ему сердце. «Пусть он порадуется перед своей кончиной!» — таковы были последние слова, которые она вымолвила в пророческом сне. Неужели Стенсону и впрямь суждено умереть под ударами палачей, или же в этих горестных словах таился жестокий обман, какими подчас тешит нас надежда? Христиан чувствовал, что осторожность майора сковывает и парализует его силы. Назревала неизбежная ссора, и Христиан, отлично зная, как опасен путь через пролом, все же предпочел бросить вызов страшной бездне, нежели лучшему из друзей, ниспосланных ему провидением. К тому же он видел в свое время этот второй выход только издалека и был тогда слишком озабочен, чтобы его разглядеть. Туман редел медленно, и все кругом тонуло в мутной дымке, но ведь Карин-то удалось здесь пройти! — Боже мой! — молвил Христиан. — Награди мою преданность той же сверхъестественной силой, которой ты подчас наделяешь безумных! И понимая, что ни ловкость, ни осторожность ему не помогут, ибо в трех шагах под ногами ничего не видно, Христиан, «дитя озера», вверяясь чудотворной силе, постоянно оберегавшей его жизнь, ринулся вниз по отвесному склону, подняться по которому не решался при свете дня.
XIX
Христиан добрался до замка Вальдемора раньше, чем майор, поскольку ему надо было принять решение и отдать приказ своему маленькому отряду, который прошел лишь половину того же пути. Христиан увидел, что все ворота, ведущие во дворы, открыты и освещены, как всегда во время празднеств. На лестницах и галереях по-прежнему толпились люди, но в царившей суматохе не оставалось ничего праздничного. Уже не видно было прекрасных дам в пышных нарядах и разодетых господ в пудреных париках, которые, встречаясь под звуки музыки Рамо[429], обменивались церемонными поклонами и учтивыми улыбками; зато сновали взад и вперед деловитые лакеи, таская сундуки и нагружая ими сани. Почти все гости готовились к отъезду; одни перешептывались в коридорах, другие заперлись у себя, отдав все распоряжения относительно предстоящего путешествия и собираясь теперь отдохнуть часок-другой. Что же происходило в замке? Все были так взволнованы, что высокие войлочные сапоги Христиана, рваная и окровавленная его куртка и охотничий пояс за поясом ни на кого не произвели впечатления. Все невольно посторонились, давая ему дорогу, но никто не задался вопросом, кто сей запоздалый охотник, словно идущий на штурм и готовый, казалось, все смести на своем пути, лишь бы не ждать ни одного мгновения. Так Христиан миновал Охотничью галерею, где блуждали какие-то фигуры, видимо охваченные сильнейшей тревогой. Некоторые были ему знакомы: ему показали их на бале, как на самонадеянных наследников хозяина замка. Они были весьма озабочены, тихо переговаривались и ежеминутно оборачивались к одной из дверей, как будто с тревогой ждали оттуда какого-то важного известия. Не дав им времени опомниться и понять, что он делает, Христиан прошел в эту дверь, сказав себе, что она, должно быть, ведет в покои барона; но, оказавшись в длинном коридоре, он вдруг услышал страшные стоны. Он побежал в ту сторону, откуда они доносились, и попал в какую-то комнату, где неожиданно очутился лицом к лицу со Стангстадиусом, мирно читавшим газету при свете маленькой лампы под колпачком и, по-видимому, совершенно спокойным, невзирая на ужасные стоны, которые здесь были слышны еще отчетливей. — Что это такое? — спросил Христиан, хватая его За руку. — Неужто здесь кого-то пытают? Очевидно, Христиан, с ножом в руке, имел весьма угрожающий вид, так как прославленный геолог в испуге подскочил и закричал: — Что это значит? Что вам надобно? Что вы говорите о…? — Покои барона? — коротко спросил молодой человек таким суровым тоном, что Стангстадиус и не подумал возражать. — Сюда! — ответил он, указывая налево. И, обрадованный уходом Христиана, Стангстадиус снова взялся за чтение, поразмыслив над тем, какие странные бандиты находятся в услужении у барона, и как неприятно, когда по дому разгуливают люди, с которыми не хотелось бы встретиться в темном лесу. Христиан прошел еще через одну комнату и очутился перед закрытой дверью. Ударом кулака он распахнул ее. Сейчас он был способен разнести вдребезги даже врата ада. Мрачное зрелище представилось его глазам. Барон метался в судорогах страшной агонии, а Юхан, Якоб, врач и пастор Акерстром делали все возможное, чтобы не дать ему упасть с кровати на пол. Припадок барона был столь жестоким, а окружавшие его люди были так поглощены своим делом, что никто не заметил Христиана, с шумом ворвавшегося в комнату, и только тогда обернулись к нему, когда умирающий, глаза которого были устремлены на вошедшего, закричал с неописуемым ужасом: — Вот… вот… вот мой брат! В тот же миг рот его искривился и зубы с такой силой прикусили язык, что брызнула кровь. Он откинулся назад, неожиданным и резким движением вырвался из удерживающих его рук, голова его с громким стуком ударилась о стенку, и он испустил дух. В то время как пастор, врач и честный Якоб в ужасе произнесли торжественное слово: «Конец», Юхан, сохранивший удивительное хладнокровие, узнал Христиана. Значит, нападение на Стольборг, о котором он целый час с нетерпением ждал известий, не имея возможности отойти от умирающего, провалилось! Юхан почувствовал, что погиб. В этот миг он видел спасение только в бегстве, даже если впоследствии можно будет войти в милость к новому барину или попытаться отделаться от него с помощью оставшихся сообщников. Но каковы бы ни были его замыслы на будущее, сейчас он думал только о том, чтобы скрыться; однако Христиан не дал ему возможности улизнуть и схватил его на пороге за шиворот с такой силой, что негодяй, задыхаясь и изменившись в лице, упал на колени, прося пощады. — Стенсон! — крикнул Христиан. — Что ты сделал со Стенсоном? — Кто вы такой, сударь, и что вы делаете здесь? — строго воскликнул пастор. — Как вы смеете творить бесчинство в столь торжественный миг, когда человеческая душа предстает пред высшим судилищем? В то время как пастор произносил эти слова, Якоб тщетно пытался освободить Юхана из рук Христиана; но возбуждение молодого человека удесятеряло его силы, и возьмись за него даже все трое присутствующих в комнате, им не удалось бы заставить его отпустить свою жертву. Мгновение спустя на шум прибежал Стангстадиус, с ним — наследники, сгоравшие от нетерпения узнать истину о состоянии барона, а вместе с ними и лакеи, которые давно уже толпились за дверью и слышали предсмертный хрип умирающего. — Кто вы такой, сударь? — повторял пастор, которому Христиан добровольно отдал свое оружие, но Юхана все еще не отпускал. — Я Христиан Гёфле, — ответил он, жалея бедных наследников, и в то же время опасаясь их. — Я пришел сюда но поручению господина Гёфле, моего родича и друга, потребовать свободы для старика Адама Стенсона, уже, быть может,убитого по приказу этого негодяя. — Убитого? — воскликнул пастор, в ужасе отступая. — О, на это он вполне способен! — откликнулись наследники, ненавидевшие Юхана. И, тотчас позабыв об этой стычке, они столпились вокруг дорогого усопшего, чуть не задушив врача, жадно забрасывая его нетерпеливыми вопросами и с наслаждением созерцая чудовищно обезображенное лицо покойника, все еще устрашавшее их, как ни радовала их его смерть. Только перед невозмутимым Стангстадиусом они почтительно расступились, когда он подошел с зеркальцем в руках для последней проверки, повторяя, что врач — болван, не способный установить факт смерти. Если бы Христиан был менее озабочен, он услышал бы, как несколько голосов воскликнуло: «Неужели нет надежды?» — но с таким выражением, как будто имели в виду: лишь бы он впрямь скончался! Но Христиан и не помышлял о наследстве, он хотел увидеть Стенсона и требовал, чтобы Юхан немедленно его привел или сам проводил его к старику. — Отпустите этого человека, — сказал ему пастор, — вы его душите и лишаете возможности ответить. — И не думаю, — ответил Христиан, отнюдь не собиравшийся лишить жизни того, у кого хотел вырвать признание. Меж тем хитрый Юхан воспользовался добрыми намерениями пастора Акерстрома. Желая хранить молчание, он притворился, будто падает в обморок, и пастор стал порицать Христиана за его жестокое обращение с мажордомом, а лакеи, озабоченные участью, ожидающей их, если «заступники справедливости» возьмутся за дело, были скорее склонны защищать Юхана, чем повиноваться незнакомцу. Едва Юхан убедился в достаточно сильной и многочисленной поддержке, к нему тотчас же вернулся дар речи, и голос его зазвучал с такой силой, что перекрыл гул, стоявший в помещении: — Господин пастор, я разоблачаю в вашем присутствии мошенника и самозванца, который с помощью чертовски хитрого вымысла намерен выдать себя за единственного наследника владений барона! Дайте ему расправиться со мной, коль скоро вы ненавидите меня, — обратился он к наследникам, — и тогда увидите, что после смерти моего барина не осталось никого, чтобы раскрыть коварные козни господина Гёфле, ибо именно он нашел этого искателя приключений и хочет помочь ему лишить вас всех законных нрав! Если бы над присутствующими грянул гром, он бы не поверг их в такой ужас и оцепенение, как слова Юхана; но, как он и рассчитывал, растерянное молчание тотчас же уступило место гневному хору бранных слов и проклятий, заглушившему голос Христиана, от которого пастор потребовал оправданий или объяснений. — Прогнать его! Прогнать с позором! — кричали в исступлении двоюродные братцы и племянники покойного. — Нет, нет! — кричал, в свой черед, Юхан, поддерживаемый сообщниками, отлично понимавшими, что пробил час разоблачения и необходимо принудить мстителей к молчанию. — Заточить его в тюрьму! В башню! В башню! — Да, да, в башню! — завопил барон Линденвальд, один из наиболее рьяных охотников за наследством. — Нет, убейте его! — закричал Юхан, рискнув играть в открытую. — Да, да, выбросьте его из окна! — поддержал его хор, обуреваемый дьявольскими страстями. И в комнате, где лежал покойник, разыгралась безобразная сцена: лакеи набросились на Христиана, который не мог защищаться, так как пастор встал перед ним, прикрывая его собой и клянясь, что скорее даст себя убить, нежели позволит совершить убийство в своем присутствии. Врач, Якоб и двое из наследников, старик и юноша, сын его, стали на сторону Христиана из уважения к пастору и из присущей им природной честности. Стангстадиус, надеясь подавить разгул страстей авторитетом своего имени и своим красноречием, бросился между дерущимися, которые пренебрегли вмешательством геолога и отбросили его на Христиана. Таким образом, ничтожная горстка сторонников скорее мешала, нежели помогала Христиану, и его мало-помалу теснили к окну, которое Юхан, сверкая глазами и брызгая слюной, предусмотрительно раскрыл, подогревая неистовыми криками ярость и страх, опьянившие его сторонников. При виде этого омерзительного человека, сбросившего наконец личину притворной кротости и обнажившего инстинкты тигра, пастор и врач, охваченные ужасом, почувствовали, что силы им изменяют, и отступили, чуть не упав на Христиана, в то время как двое наиболее расторопных мошенников ловко схватили его за ноги, чтобы поднять и вышвырнуть из окна. Плохо бы ему пришлось, если бы в комнату не ворвались майор Ларсон, лейтенант, капрал, Гёфле и четверо солдат. — Повиновение закону! — крикнул майор, направляясь к Юхану. — Именем короля, вы арестованы. И, передав мажордома капралу Дуфу, добавил, обращаясь к лейтенанту: — Никого не выпускать! Все умолкли, охваченные почтительной боязнью, ибо никто в этот миг не смел ослушаться облеченного властью офицера индельты; Ларсон обвел глазами помещение и увидел барона, неподвижно лежащего на кровати. Он подошел ближе, внимательно всмотрелся в него, снял шляпу и молвил — Смерть — посланница всевышнего! — а затем вновь надел шляпу, добавив: — Да ниспошлет господь прощение барону Вальдемора! Тогда раздалось несколько голосов, требующих поддержки майора против интриганов и самозванцев; но он велел им замолчать, объявив, что хочет услышать только из уст пастора объяснение той странной сцены, которую он застал, войдя в комнату. — Не лучше ли дать это объяснение в другой комнате? — спросил пастор Акерстром. — Да, — ответил майор, — здесь, рядом с покойником, не место для разговора; перейдем в кабинет барона. Вы же, капрал, выпустите отсюда присутствующих по одному, но чтобы никто не остался тут и не вышел в другую дверь. Господин пастор, прошу вас выйти первым вместе с доктором Стангстадиусом и врачом барона. Христиан указал майору на старого графа Нора и его сына, оказавших ему благородную поддержку, и тот предоставил им полную свободу и чрезвычайно учтиво расспросил их обо всем. Несмотря на тщательность, с которой он вел расследование, майор не стал дожидаться его окончания, чтобы, уступив желанию Христиана и Гёфле, дать приказ освободить старика Стенсона, которого час тому назад отвели в башню, как с грустью засвидетельствовал Якоб. Христиан хотел сам немедленно бежать туда, но майор Этому воспротивился, не объясняя причины, и велел тотчас же отвести Стенсона домой в Стольборг и оказать ему всяческое внимание, не давая, однако, ни с кем говорить; тому, кто нарушит этот приказ, майор пригрозил самой суровой карой. Затем он распорядился заключить в замковую тюрьму, на место Стенсона, Юхана и четырех лакеев посягнувших, как показал пастор, на жизнь Христиана. Тех же, кто только бранил его, а теперь поспешно отказался от своих слов, майор сурово отчитал, пообещав отдать их в руки правосудия, если повторится что-либо подобное. Но они и не помышляли о повторении. Как ни мал был отряд, сопровождавший майора, все понимали, что он — олицетворение закона и права и в то же время — мужества и силы воли. К тому же каждому по поведению майора было ясно, что он уже дал знать о событиях в свою роту, и вооруженные солдаты могут в любой миг войти в замок. Ввиду отсутствия представителей правосудия, — ибо, согласно установленной привилегии, вся власть в округе находилась в руках ныне покойного владельца замка, а преемника у него пока что не было, — майор взял себе в помощь приходского священника, как советника по вопросам гражданским и духовным, и Гёфле — по вопросам юридическим. Он потребовал, чтобы ему принесли все ключи, и вручил их Якобу, назначив его мажордомом и хранителем замка и дав ему в помощники двух солдат, на случай, если остальные слуги не проявят к нему должного уважения. Доктору он поручил заботу о похоронах барона и объявил, что, несмотря на заверения Юхана, будто покойный не оставил завещания, немедленно приступит к поискам такового в сопровождении пастора, Гёфле, лейтенанта и четырех свидетелей, которых выберут наследники. А наследники, поначалу испуганные и озлобленные, успокоились, увидев, что ни майор, ни Гёфле, ни Христиан ни слова не говорят о новом претенденте. Было их около дюжины, и каждый питал к остальным весьма недобрые чувства, хотя все они сообща в свое время увивались вокруг барона, подстерегая будущую добычу. Только старый граф Нора, самый бедный из всех, сохранил человеческое достоинство и всегда говорил барону правду в глаза. Так как никакое завещание барона не могло нанести ущерба правам Христиана, последний понял по некоторым словам и взглядам Гёфле, что поиски эти предприняты с целью успокоить хищную стаю наследников и выиграть время до тех пор, пока не появится возможность действовать в открытую. Ему также стало ясно из молчания друзей, что еще не пришла пора объявить, кто он такой, и поэтому следует пока что забыть про обвинение в незаконных притязаниях, брошенное ему Юханом. Наследников, естественно, весьма обрадовало это положение вещей, о котором они судили по жестам Гёфле, выразившим отрицание, и по спокойному виду Христиана, которому это спокойствие далось без труда, едва он узнал о спасении Стенсона. Итак, Христиан, разгадав намерения друзей, не пошел с ними на поиски завещания и желал только одного — осторожно разузнать у кого-нибудь о Маргарите, как вдруг он встретился в галерее с графиней Эльведой. Она узнала его издалека и направилась ему навстречу. — Пот оно что! — шутливо сказала она. — Вы, оказывается, не уехали? Или, быть может, успели вернуться, господин призрак? И что это за костюм? Неужели вы охотились до самой полуночи? — Вы угадали, графиня, — ответил Христиан, увидев по веселому расположению духа тетушки, что ей и в голову не приходило раздумывать над исчезновением племянницы. — Я охотился на медведя далеко отсюда, только что приехал и узнал о случившемся. — Ах, да, о смерти барона! — небрежно сказала графиня. — Все кончено, не так ли? И наконец-то можно свободно вздохнуть! Как мне не повезло! Из моих комнат был слышен каждый его стон, когда он умирал, и мне пришлось перебраться к Ольге, а та угостила меня другой музыкой, на свой лад. Эта нервная особа, узнав от меня, что вместо кукольного спектакля нас ждет либо путешествие в густом тумане, либо пребывание в доме умирающего, пока он не отдаст богу душу, вдруг упала в страшнейших судорогах. До чего же суеверны эти русские девицы! Словом, теперь, надеюсь, все спокойно, и я могу поскорее отправиться в путь: я слышала, что собираются ударить в большой колокол, который оповещает только о смерти или рождении здешних владетельных лиц. Стало быть, мне надо спасаться бегством, не то этот погребальный звон не даст мне спать, да еще нагонит черные мысли. Слышите, уже звонят! — Кажется, да, — ответил Христиан. — Но разве вы не берете с собой графиню… вашу племянницу? — И добавил с притворным равнодушием: — Как это глупо с моей стороны, я позабыл ее имя. — Ах вы лицемер! — засмеялась графиня. — Вы же за ней ухаживали и даже настолько увлеклись, что бросили вызов барону! Нет, нет, я вас не осуждаю, это свойственно вашему возрасту, и к тому же мне весьма понравилась смелость, с которой вы отвечали этому бедняге барону, пренеприятному человеку, скажу вам. У вас есть мужество, уж я-то в этом разбираюсь! Теперь я вижу, что вовсе некстати проповедовала вам в тот день хитроумие и осторожность. Вы стоите на другом пути к успеху — ведь их два: один — ловкость, другой — отвага. Что ж, вы, должно быть, выбрали более короткий, излюбленный путь смельчаков и упрямцев. Вам надо поехать в Россию, друг мой; вы красивы и отважны; я уже говорила о вас с послом, он вас заметил и имеет на вас кое-какие виды. Вы понимаете меня? — Совершенно не понимаю, графиня! — Ну как же! Граф Орлов[430] не вечно будет в милости, и кому-то, возможно, будет выгодно стать у него на дороге… Теперь вам все понятно? Итак, о моей племяннице не думайте; вы можете сделать гораздо лучшую партию, а я, со своей стороны, предупреждаю вас, коль скоро вы сейчас — никто, даже не племянник господина Гёфле, который не хочет к тому же признать вас за внебрачного сына, что я вас выставлю за дверь, как только вы ко мне явитесь с дурацким намерением пленить Маргариту; зато я вас буду ждать в Стокгольме, чтобы представить послу, и устрою вас к нему на службу. Итак, до свидания! Впрочем, нет, подождите, я увезу вас с собой! — Неужели? — Конечно! Племянницу я оставлю здесь: ее напугали вопли умирающего, и она ушла ночевать в дом священника со своей подругой фрекен Акерстром; так по крайней мере утверждает ее гувернантка. Одним словом, где бы эта трусиха ни спряталась, мадемуазель Потен сегодня уедет с ней в Дальбю, а отвезет их Петерсон, вполне надежный человек. Господин Стангстадиус обещал их проводить. Девочка будет очень горевать, она так надеялась поехать со мной в Стокгольм; но она еще слишком молода, чтобы появляться в свете; еще глупостей натворит! Начнет выезжать с будущего года. — Итак, — сказал Христиан, — ей предстоит еще целый год одиночества в старом поместье? — О, я вижу, что она поведала вам свои горести! Весьма трогательно! Вот потому-то я и увезу вас с собой! Ну, я даю вам час на сборы, а затем захожу за вами сюда же. Решено? — Не уверен, — возразил Христиан, решив идти напролом. — Предупреждаю вас, я страстно влюблен в вашу племянницу! — Что ж, тем лучше, если только вашей влюбленности хватит надолго, — ответила графиня. — Если вы не раздумаете, проведя несколько лет в России и получив там изрядную толику рублей и крепостных душ, я, пожалуй, не откажу вам в ее руке, если вы будете настаивать. И графиня удалилась, в полной уверенности, что Христиан явится на свидание с ней. Не успела она исчезнуть за дверью, как мадемуазель Потен, которая, кажется, только того и ждала, подбежала к Христиану и принялась сурово его отчитывать. Она сказала, что очень тревожилась за Маргариту и повсюду ее искала. — К счастью, — добавила гувернантка, — она сейчас вернулась со своей подругой Мартиной, которую родители не разыскивали, думая, что она засиделась у нас; но мне уже не под силу так часто лгать, покрывая неосторожные выходки Маргариты, и я предупреждаю вас, что все расскажу графине, если вы не дадите мне честное слово немедленно покинуть замок и Швецию. Христиан успокоил славную женщину, пообещав выполнить ее требование, хотя вовсе и не помышлял об этом, и стал ждать дальнейших событий. В час ночи в замок бесшумно прибыл воинский отряд, о чем был извещен майор, объявивший, что поиски завещания закончены, ибо они не увенчались успехом; это обрадовало большую часть наследников, которые предпочитали надеяться на собственные права, нежели на весьма сомнительную милость покойника. — Теперь, господа, — сказал майор, — прошу вас пойти за мной в Стольборг, ибо я имею основания полагать, что завещание могло быть доверено господину Стенсону. Все тотчас бросились к выходу, но майор остановил их. — Позвольте, — сказал он, — на господина пастора, господина Гёфле и на меня возложена серьезная ответственность. Я вынужден действовать чрезвычайно тщательно и притом официально, собрав возможно больше надежных свидетелей, и проследить, чтобы все протекало в полном порядке и под их надзором. Поэтому прошу вас проследовать со мной для начала в Охотничью галерею, где эти свидетели, должно быть, уже собрались. Майор отдал распоряжение, чтобы все лица, гостившие в замке, явились в Охотничью галерею, к великой досаде некоторых из них, уже собравшихся в путь; но индельта приказывала именем закона, и все подчинились. Графиня Эльведа, энергичная, как всегда, и к тому же спешившая уехать, пришла туда первой и застала Христиана, уснувшего на диване. — Что же это? — воскликнула она. — Так-то вы готовитесь к отъезду?.. А вы зачем сюда явились? — добавила она, увидев Маргариту, входившую с гувернанткой. — Не знаю, — ответила Маргарита. — Всем было велено собраться здесь… Действительно, вскоре явились и Ольга, и пастор с семьей, и Стангстадиус, и посол со своей свитой — словом, все гости замка Вальдемора, в дорожных костюмах и в большинстве своем весьма раздосадованные нежданной задержкой в минуты отъезда или вынужденным пробуждением от сладкого сна. Все ворчали, проклиная зловещий колокол, сходясь в единодушном мнении, что ударить в него можно было и после их отъезда. — В чем же дело? Чего от нас хотят? — твердили старухи. — Уж не отдал ли барон приказ, чтобы все опять пустились в пляс после его смерти, или же от нас потребуют, чтобы мы созерцали его на погребальном ложе? Я, например, вовсе этого не жажду. А вы? — Что за молодой человек только что вышел отсюда? — спросил посол у графини Эльведы. — Сдается мне, что это наш шалопай. — Да, он самый, — ответила она. — Ему только что передали какую-то записку. Очевидно, приказ, по которому нас всех задержали здесь, к нему не относится. Христиан и впрямь получил записку от Гёфле, где было сказано: «Идите в Стольборг и поскорее оденьтесь, как на позавчерашнем бале: ждите нас в медвежьей комнате. Велите расчистить лестницу и завесить пролом большими картами». В Охотничью галерею между тем подали чай и кофе, а четверть часа спустя все лица по списку, составленному майором и пастором, так же как и наследники, многие из слуг и наиболее уважаемые вассалы барона направились в Стольборг, где успевший переодеться Христиан принял их с помощью Нильса, обоих даннеманов и Ульфила, выпущенного на свободу после нескольких часов заключения в темнице. Добавим, что Ульфил так никогда и не узнал, за что его так наказал господин Юхан, ибо все события, случившиеся в Стольборге, остались ему совершенно непонятными.XX
Когда все были в сборе, майор изложил обстоятельства, связанные с покушением на жизнь Христиана и вызвал арестованных им злоумышленников, которые, понимая, что их ждет печальная участь, коль скоро Юхан заключен в тюрьму, а барон скончался, защищались весьма неумело и скорее сознавались в своей вине, нежели отрицали ее. Пуффо же откровенно признал, что ему поручили спрятать золотой кубок среди пожитков хозяина, за что Юхан ему и заплатил. — Ну-с, а теперь, — молвил скупой и чванный барон Линденвальд, ближайший родич покойного, — мы не откажемся подписаться под обвинительным заключением по делу господина Юхана, лишь бы нас избавили от необходимости выносить свое суждение о поступках и намерениях его хозяина барона. Я полагаю варварской и безбожной затею учредить следствие над человеком, тело которого еще не опустили в могилу и который не может отвести от себя предъявленных обвинений, ибо лежит на смертном одре. На мой взгляд, господа, вести такое следствие еще слишком рано или уже слишком поздно, и мы не станем слушать дальнейших сообщений. Какое дело нам до незнакомца, который прибегает к столь крайним мерам, дабы с помощью правосудия расправиться с какими-то ничтожными лакеями, а заодно и с памятью человека, коего любой из нас волен мысленно судить как угодно, но вовсе не обязан публично осыпать проклятиями? Нам поначалу говорили о завещании, теперь же о нем умалчивают, и нетрудно понять, что нас хотели ввести в заблуждение; поэтому я намерен удалиться отсюда и отнюдь не собираюсь подчиняться приказам офицерика индельты, самовольно прибравшего к рукам всю власть. Думаю, что тут попираются привилегии многих из нас, а не только мои собственные, а в таких случаях, господа, нам с вами отлично известно, что именно следует предпринять. С этими словами барон Линденвальд взялся за эфес шпаги, остальные наследники последовали его примеру и уже готовы были ринуться в бой, но тут вмешался пастор и весьма убедительно, с величавым достоинством обратился к тем из собравшихся, кого знал за людей честных и бескорыстных, с просьбой о поддержке; те тотчас же выступили с горячим осуждением злодейских козней барона, после чего ослушникам не оставалось иного выхода, как подчиниться майору, который, таким образом, был избавлен от необходимости принять против них суровые меры. И майору и остальным свидетелям этой сцены стало очевидным, что наследники не желают слышать о ненависти барона к Христиану лишь потому, что уже догадываются об истинной ее причине. Гёфле как бы невзначай отвел ему место под портретом его отца, и поразительное сходство бросилось всем и глаза: но всех язвительных насмешек, какие только знает шведский язык, было мало, чтобы выразить неприязнь самонадеянных наследников к скомороху, которого Юхан разоблачил, а Гёфле (разумеется, незаконный отец его) хочет вывести в претенденты при помощи состряпанных им небылиц и подложных доказательств. Гёфле оставался спокоен и улыбался, Христиан же сдерживался только чудом, благодаря нежным, умоляющим взглядам Маргариты. — Теперь, — молвил пастор, когда наконец восстановилась тишина, — позовите сюда господина Адама Стенсона, который, по нашему настоянию, пребывал в одиночестве у себя дома после освобождения из темницы. Вошел Адам Стенсон; он был тщательно одет, кроткое, благородное лицо его, сильно изменившееся от большой усталости, но сохранившее спокойствие и достоинство, вызвало у присутствующих глубокое волнение. Гёфле усадил его и прочел ему вслух заявление, написанное собственной рукой Стенсона и переданное им Манассе в Перудже. Чтение этой рукописи, до сих пор неизвестной собравшимся, было встречено шепотом удивления и интереса со стороны одних слушателей и полным молчанием со стороны других, пришедших в оцепенение. Русский посол, не имевший, быть может, тех видов на Христиана, которые приписывала или хотела внушить ему графиня Эльведа, но заинтересованный его приятной наружностью и решительным видом, полностью одобрил ход расследования, надеясь, что его доброе мнение поможет не довести дело до суда, и в то же время намереваясь, буде суд все же состоится, свидетельствовать там по чести и совести. Следует добавить, что к такому решению посол пришел вследствие настоятельных и убедительных просьб друзей Христиана. К тому же знаки внимания, которые Гёфле умело расточал ему, невзирая на свою неприязнь к политической деятельности этого высокого лица, льстили послу, большому любителю вмешиваться не только в государственные дела Швеции, но и в личную жизнь ее обитателей. Когда чтение было закончено, к Стенсону обратился пастор, спрашивая, в состоянии ли он выслушать некоторые вопросы. — Да, господин пастор, — ответил Стенсон. — Слышу я, по правде говоря, плохо, по далеко не всегда, и часто бывает, что я просто не отвечаю, коли мне вопросы приходятся не по вкусу. — А сегодня вы согласны отвечать? — Да, сударь, согласен. — Вы узнаете свою руку на этом заявлении? — Да, сударь, безусловно. — В этой бумаге говорится о причинах вашего долгого молчания, — продолжал пастор. — Но раскрытие истины требует больших подробностей. Обращение барона с вами до сего дня не давало оснований для страха, который он, по-видимому, вам внушал, и оно не подтверждает его злодейских намерений относительно других лиц, о коих вы упоминаете в рукописи. Вместо ответа Стенсон закатал рукава, и все увидели на худых, дрожащих руках его следы веревок, врезавшихся чуть ли не до крови. — Вот, — сказал он, — каким зрелищем забавлялся барон, пока смерть не закрыла ему глаза и не прекратила мои мучения; но я ни в чем не признался. Переломай палач все мои старые кости, я бы и тогда ничего не сказал. Разве смерть страшна в мои годы? — Вы еще поживете на этом свете, Стенсон! — воскликнул Гёфле. — И доживете до большой радости. Вы можете говорить свободно, барон Олаус скончался. — Это мне известно, сударь, — сказал Стенсон, — ведь иначе я не был бы здесь; но радости в этом мире для меня быть не может, ибо того, кого я спас, уже нет в живых! — Вы уверены, Стенсон? — спросил Гёфле. Стенсон окинул взглядом ярко освещенную комнату. Глаза его задержались на Христиане, который с трудом притворялся равнодушным и даже делал вид, что не видит его, хотя горел желанием броситься ему в объятия. — Что это? — спросил Гёфле старика. — Что с вами, Стенсон? Почему у вас текут слезы? — Потому что я боюсь, что вижу сон, — сказал Стенсон, — потому что тот же сон, казалось, пригрезился мне два дня тому назад, когда я увидел этого человека, не зная, кто он, и все же узнав его. — Подождите, господин Стенсон, — сказал пастор старику, не давая ему подойти к Христиану, — ведь сходство может быть случайным. Надо найти подтверждение всему, что написано вами в документе, только что прочитанном здесь. — Это очень легко сделать, — сказал Стенсон, — пусть только господин Гёфле прочитает вам бумагу, врученную мной ему позавчера, и поможет установить, что Кристиано Гоффреди и Христиан Вальдемора — одно и то же лицо, с помощью писем Манассе, которые я также передал ему вчера. — Я дал клятву, — сказал Гёфле, — вскрыть этот конверт только по смерти барона. Поэтому я вскрыл его два часа тому назад, и вот содержание вложенной в него записки: «Пробейте стену за портретом баронессы Хильды, что в Стольборге, справа от окна в медвежьей комнате». — Эге! — прошептал майор на ухо Гёфле, когда пастор под руководством Стенсона приступил к вскрытию тайника под портретом, — а я-то думал, что доказательство скрыто в замурованной комнате. — Слава богу, нет, — также шепотом ответил адвокат, — не то пришлось бы сознаться, что мы туда уже проникли, в то время как сейчас об этом никто не догадывается и не беспокоится благодаря картам, повешенным на место, и нас не вздумают обвинять в том, что мы якобы подсунули туда подложное доказательство. Именно потому я и просил вас привести сюда без опасений как можно больше свидетелей, что уже ознакомился в новом замке с этой таинственной запиской Стенсона. Когда тайник был открыт, пастор собственными руками вынул оттуда металлическую шкатулку, где и хранилось решающее доказательство, которое он тут же прочитал вслух. То было четкое и подробное повествование, с начала до конца написанное рукой самой баронессы Хильды, о печальных днях, проведенных ею в Стольборге узницей ненавистного Юхана, и о преследованиях, которым подвергалась она сама и верные ее друзья и слуги — Адам Стенсон и Карин Бетсой. Несчастная вдова торжественно клялась «вечным спасением бессмертной души своей и памятью мужа и первого ребенка, безжалостно убитых по приказу человека, назвать коего она не хочет, но чьи злодеяния станут когда-нибудь всем известны», что 15 сентября 1746 года, в два часа пополуночи, в медвежьей комнате замка Стольборг она произвела на свет второго сына, плод законного брака ее с бароном Адельстаном Вальдемора. В сдержанных и в то же время впечатляющих выражениях она рассказывала, какое понадобилось мужество, чтобы не издать ни единого стона, ибо тюремщики ее находились рядом, в так называемой караульне, Карин поддерживала ее в эти мучительные минуты, распевая, дабы своим голосом заглушить плач новорожденного. Стенсон ни на мгновение не покидал ее и, едва младенец появился на свет, сделал попытку унести его через потайную дверь, но дверь эта оказалась запертой и охраняемой снаружи. (В то время еще не существовало пролома в стене над медвежьей комнатой, иначе Стенсон воспользовался бы им.) Однако через некоторое время Стенсона выпустили из замка, предварительно подвергнув тщательному обыску; ему удалось найти лодку и спрятать ее под покровом ночи среди скал или камней, выступающих над озером, а Карин спустила из окна ребенка в корзине, обвязанной веревкой. На все это ушло немало времени, и уже светало. В тот миг, когда Стенсон дрожащими руками вынимал младенца из корзины, открылось окно в караульне; но скалы послужили ему надежной защитой, и, скрываясь в их тени, он выждал, покуда все стихло, а затем, уповая на милость господню, прокрался по берегу в горд. Стало быть, Христиан, осматривая эту таинственную местность, разгадал и воссоздал в своем воображении события собственной жизни. Ребенка поручили Анне Бетсой, матери Карин и даннемана Ю. Его вскормили молоком прирученной лани в хижине Блокдаля и время от времени извещали о нем баронессу-узницу, зажигая в отдалении огни в условный час. Баронесса перестала наконец тревожиться за младенца и даже надеялась бежать с ним в Данию; но барон обещал ей свободу только на одном условии — она должна была подписать признание в том, что беременность ее была ложной; когда же она отказалась, говоря, что согласна признать ошибку, но не сознательный обман, ей намекнули, что имеются весьма основательные догадки относительно истинного хода событий, столь тщательно скрываемых ею. Тогда, охваченная страхом, как бы не раскрыли тайну рождения и убежища ее сына и не погубили бы его, она и подписала бумагу, составленную пастором Микельсоном. «Но перед богом и людьми, — писала она в последнем своем признании, — я опротестовываю собственную подпись и даю клятву, что меня принудили к ней угрозами и страхом. Если я при таких обстоятельствах и пошла на то, чтобы впервые в жизни исказить истину, мою вину оправдает любая мать, а бог мне ее простит». Как только барон насильственно вырвал у своей жертвы ее подпись, он тотчас же отказался освободить ее, опасаясь, что она отречется от своего признания или разоблачит его козни; поэтому он объявил баронессу сумасшедшей и сделал все возможное, чтобы рассудок ее и впрямь помутился от заключения в полном одиночестве, от лишений, оскорбительных нападок и угроз. Когда кое-кто из крестьян отважился вступиться за нее и сделали даже попытку ее вызволить, он велел высечь их «на русский манер» в соседнем с ней помещении караульни, чтобы ей были слышны их крики. Он пригрозил Стенсону и Карин, что их ждет та же участь, если они будут и впредь настаивать на освобождении баронессы, и верным друзьям приходилось действовать якобы в согласии с ним, дабы не разлучаться со своей злополучной госпожой. Наконец страдания и скорбь подточили силы несчастной жертвы барона. Она чахла день ото дня и, в предвидении близкой смерти, оставила сыну подробную повесть о пережитых муках, заклиная его не стремиться к отмщению, если «обстоятельства, коих не дано предвидеть», раскроют ему тайну его рождения до кончины барона. Она была твердо уверена в том, что в каком бы уголке земли ни скрывался ее сын, его настигнет ненависть этого беспощадного, богатого и могущественного человека. Она молила бога, чтобы он «прожил долгую жизнь в неизвестности, в неведении относительно прав своих и возлюбил искусство или науку пуще благ земных или власти, ибо последние являются источником стольких зол и жестоких земных страстей». Тем не менее несчастная еще добавила, на случай необходимости, что сын ее получил при рождении имя Адельстана-Христиана и обладал волосами черного цвета и пальцами, «согнутыми так же, как у отца и деда». В конце письма она посылала ему свое предсмертное благословение и просила его свято верить каждому слову Стенсона и Карин о муках, перенесенных ею в заключении, где она сохранила, несмотря ни на что, полную и неизменную ясность рассудка, какие бы слухи ни распространяла клевета о том, что она якобы буйно помешана.«Душа моя спокойно ждет смерти, — писала она. — Я ухожу в лучший мир, исполненная смирения, надежды и упований. Я прощаю палачам моим и, расставаясь со своей печальной жизнью, жалею только о том, что покидаю сына; но его нежданное и благополучное исчезновение из замка научило меня надеяться на провидение и на святую преданность тех, кому уже удалось однажды спасти его».
Подпись была твердой и уверенной, словно последнее усилие согрело бедное, умирающее сердце в этот решающий час. За подписью следовала дата: 15 декабря 1746 года. 28 декабря того же года Стенсон составил точную запись последних минут и смерти своей несчастной госпожи.
«До последнего мгновения ее лишали сна, — писал он, — так как Юхан и его прихвостни, рассевшиеся в соседней комнате, день и ночь бранились, орали и изрыгали страшнейшие ругательства, оскорблявшие ее, а господин барон, ее деверь, ежедневно являлся к ней, якобы для того, чтобы проверить, хорошо ли с ней обращаются, а на деле — чтобы неустанно твердить об ее помутившемся рассудке и осыпать ее оскорбительными упреками насчет ее «хитрой уловки», разоблаченной им. А вся уловка-то, благополучно удавшаяся, сводилась к тому, чтобы путем молчаливого долготерпения убедить мучителя, что она, госпожа моя, и впрямь ошибочно судила о своем положении и ему-де нечего опасаться в будущем. Со своей стороны, пастор Микельсон, не менее жестокий и назойливый, чем его хозяин, преследовал ее даже на смертном одре, то и дело повторяя, что недаром живала она в свое время в странах, где господствует папизм, и, несомненно, прониклась духом сего вредного вероучения; и вместо того, чтобы успокаивать ее и дарить надежду, на которую имеет право любая христианская душа, он по сто раз в день сулил ей адские муки. Удалился он только за час до того, как она испустила последний вздох, и она скончалась у нас на руках на четвертый день рождества, в четыре часа пополуночи, а последние слова ее были: «Боже мой! Пошли сыну моему вторую мать!» Мы свидетельствуем, что умерла она как святая, и душа ее даже на миг единый не ведала ни злобы, ни помрачения, ни сомнений в милости господней. Закрыв ей глаза, мы остановили маятник в часах и задули рождественскую свечу, горевшую в люстре, моля бога, чтобы он позволил нам дожить до того часа, когда рука нашего будущего молодого хозяина снова пустит эти часы и зажжет свечу. После чего мы составили сию бумагу, которую, вместе с собственноручной запиской доброй госпожи нашей, намерены сейчас спрятать и замуровать в стену в том самом месте, которое она сама давно выбрала и указала нам. И, оросив бумагу слезами нашими, подписываемся здесь оба, еще раз повторяя клятву в том, что удостоверяем чистейшую истину. Адам Стенсон, Карин Бетсой».
Эти простые строки были прочитаны пастором с таким умилительным чистосердечием, что все женщины прослезились, а мужчины, растроганные и уверовавшие в правдивость написанного, трижды провозгласили имя Христиана Вальдемора и поспешили подойти к нему, стремясь пожать ему руку и поздравить; но шайка наследников (за исключением старого графа Нора и его сына) дружно потребовала вызвать Карин Бетсой, очевидно разузнав где-то, что она жива и слывет помешанной. Если бы последнее оказалось правдой, ее свидетельство могло быть сочтено недействительным; поэтому майор, весьма опасавшийся результатов ее прихода, поспешил возразить, что она больна и живет очень далеко. Но тут его перебил грубый, хотя и добродушный голос: то был даннеман Ю Бетсой. — Зачем говорить то, чего нет на деле, господин майор? — воскликнул он. — Карин Бетсой отнюдь не так больна и находится совсем не столь далеко, как ты думаешь. Она хорошо поспала, и теперь, после доброго отдыха, рассудок ее так же ясен, как твой. Не бойся же призвать сюда Карин Бетсой. Спора нет, настрадалась ее бедная душенька, особенно с того дня, как пришлось расстаться с ребенком; но если она и говорит подчас темно и непонятно, она все же обладает здравым умом и твердой волей: тому пример, что никому не стала известна ее тайна, даже мне, хоть я и знал того младенца; однако имя и историю его я впервые услышал только сегодня. А это значит, что женщина, умеющая хранить тайну, — не чета другим, и если уж она заговорит — ее словам надо верить. И, распахнув дверь в караульню, он сказал ясновидящей: — Иди сюда, сестра; тебя здесь ждут. Карин вошла, приковав к себе любопытные взгляды. Бледное, преждевременно состарившееся лицо ее, удивленный взгляд, неуверенный и в то же время торопливый шаг вызвали поначалу скорее жалость, нежели симпатию. Однако при виде столь многочисленного сборища она внезапно выпрямилась, и поступь ее стала заметно тверже, а на лице отразились восторг и решительность. Серые лохмотья, столь дорогие ей, которые она всегда снимала перед тем, как уснуть, уже не покрывали ее крестьянского платья, и белые как снег волосы были стянуты красным шерстяным шнурком, что придавало ей какое-то сходство с сивиллой древних времен. Она подошла к пастору и молвила, не дожидаясь его расспросов: — Отец и утешитель страждущих, ты знаешь Карин Бетсой; тебе известно, что душа ее не способна на преступление или обман. Карин спрашивает тебя, почему звонит колокол нового замка; скажи ей — и она поверит словам твоим. — Колокол звонит по умершему, — ответил пастор. — Слух твой не обманул тебя. Я знаю, Карин, что тебя давно тяготит какая-то тайна. Теперь ты можешь говорить открыто, и это, возможно, принесет тебе исцеление: барон Олаус скончался! — Я знала это, — сказала она. — Великий ярл явился мне прошлой ночью. Он сказал: «Я ухожу навсегда», и я почувствовала, как возрождается душа моя. Теперь я могу говорить, ибо сюда вернется «дитя озера». Его я тоже видела во сне! — Не говори сейчас о снах, Карин, — перебил ее пастор. — Постарайся собрать свои воспоминания. Если ты хочешь, чтобы господь ниспослал тебе просветление и спокойствие духа, сделай усилие, дабы самой познать смирение и покорность; ибо, как я не раз говорил тебе, в безумии твоем немало гордыни, и ты мнишь разгадывать будущее, в то время как сама, быть может, не способна рассказать о прошлом. Карин несколько мгновений пребывала в замешательстве, о чем-то думая, потом ответила: — Если добрый пастор владений Вальдемора, столь же человечный и добрый, сколь прежний пастор был зол и жесток, повелит мне рассказать о прошлом, я расскажу. — Велю и прошу, — ответил пастор, — говори спокойно и помни, что господь слышит и взвешивает каждое твое слово. Карин снова погрузилась в задумчивость, а потом молвила: — Мы сейчас находимся в комнате, где уснула вечным сном возлюбленная госпожа! — Ты так называешь Хильду Вальдемора? — Да, ее самое, вдову доброго молодого ярла, мать младенца по имени Христиан, который скоро вернется, дабы зажечь рождественскую свечу над очагом своих предков. Она дала жизнь этому младенцу в один из осенних дней здесь, на этом ложе, где и умерла на рождестве. А благословение свое она дала ему возле этого окна, через которое он и улетел, ибо родился крылатым! А потом она солгала, но в сердце своем промолвила: «Да простит меня господь за то, что я на словах убила сына! Но пусть он лучше живет среди эльфов, нежели среди людей!» А потом она пела эти слова под звуки арфы и, умирая, сказала: «Да пошлет господь моему сыну вторую мать!» Воспоминания с такой ясностью вернулись к Карин, что она не могла сдержать слез; потом мысли ее снова стали мешаться, и пастор, увидев, что она уже не понимает задаваемых вопросов, подал знак даннеману, и тот ласково увел бедную ясновидящую, окинув торжествующим взглядом собравшихся, перед которыми его сестра так разумно отвечала пастору. — Чего же вы еще хотите? — спросил у них Гёфле. — Разве не поведала вам эта вдохновенная женщина, в словах, исполненных народной поэзии, то же самое, что Стенсон записал здесь с методической точностью, свойственной ему? И своеобразный мир смутных снов, в котором она живет, не есть ли сам но себе достаточное доказательство того, что она жестоко пострадала за тех, кого так любила? Слишком соблазнителен был повод для защитительной речи, чтобы Гёфле не ухватился за него. Он дал волю вдохновению, быстро подытожил события, частично рассказал о жизни Христиана, сперва подтвердив его личность с помощью писем Манассе к Стенсону, остановился на романических обстоятельствах двух истекших дней и так захватил своих слушателей, что они, позабыв и о позднем часе и об усталости, засыпали его вопросами ради удовольствия еще послушать его; после чего каждый поставил свое имя в конце подробной записи всех событий Этой ночи. Барон Линденвальд сделал последнюю попытку оживить поникший боевой дух остальных наследников. — Как бы там ни было, — молвил он, вставая, ибо все двери были уже растворены настежь и каждый был волен удалиться, когда вздумает, — мы еще опровергнем все эти нелепые бредни: мы обратимся в суд! — Я на это и рассчитываю, — возбужденно ответил Гёфле, — и готов спокойно выслушать все ваши доводы! — А я отказываюсь от тяжбы, — сказал граф Нора, — я верю всему, что говорилось здесь, и потому ставлю свою подпись! — Эти господа тоже судиться не станут, — многозначительно сказал посол. — Станут! — ответил Гёфле. — Но проиграют дело. — Мы не признаем и будем оспаривать законность этого брака! — воскликнул барон Линденвальд. — Хильда Бликсен была католичкой! Разгневанный Христиан хотел было вмешаться, но Гёфле поспешил остановить его. — С чего вы взяли, сударь? — обратился он к барону Линденвальду. — Где доказательства? Где эта пресловутая часовня богоматери, якобы воздвигнутая здесь баронессой? В Стольборге нет больше тайн, неужели кому-нибудь вздумается все еще цепляться за дурацкие россказни, послужившие поводом для преследований и гибели несчастной женщины? — А не стал ли католиком сам господин Христиан Гоффреди, воспитанный в Италии? — бормотали наследники, уходя. — Подолбите! Вот дознаемся до всего, а тогда посмотрим, может ли унаследовать столь обширные владения и все привилегии, с ними связанные, человек, которому не дано права заседать в риксдаге или занимать высокую должность! — Молчите, Христиан, молчите! — шепотом сказал Гёфле, силой удерживая Христиана, которому не терпелось догнать своих противников и схватиться с ними. — Ни с места, или все пропало! Когда получите свое наследство, можете признать себя иноверцем, если вам заблагорассудится. А сейчас не поддавайтесь на этот вызов! Ведь никто не заметил, что комната, где мы находимся, вновь обрела квадратную форму! — Что вы хотите сказать? — спросил Гёфле майор. — Мы могли бы хоть сейчас показать всем замурованную комнату, раз пресловутой часовни там нет! — Могли бы, если бы сами предварительно не проникли туда, — ответил Гёфле, — но коль скоро мы там были, нас могли бы обвинить в сокрытии доказательств запрещенных обрядов! Графиня Эльведа приблизилась к Христиану и молвила с величайшей любезностью: — Надеюсь, господин барон, что еще буду иметь удовольствие встретиться с вами в Стокгольме? — Но опять при условии, — перебил он, — что я поеду в Россию? — Нет, — ответила она, — поступайте так, как подскажут вам желания собственного сердца. — Едет ли графиня Маргарита с вами в Стокгольм? — тихоспросил Христиан. — Она, быть может, приедет туда, когда вы выиграете дело, если действительно дойдет до суда. Пока что она вернется к себе в замок. Так решено, этого требует предусмотрительность; но я по-прежнему предлагаю вам место в моих санях, чтобы поехать в Стокгольм, где решится ваша участь. — Благодарю, графиня, но я полностью завишу от моего адвоката, а он находит, что я ему еще нужен здесь. — Итак, до свидания, — ответила графиня, покидая комнату под руку с послом, который шепнул ей в дверях: — Весьма рад, что этот красавец барон не едет с вами! Маргарита простилась с тетушкой у ворот Стольборга и отправилась с гувернанткой и семьей Акерстром в бустёлле пастора, чтобы отдохнуть там в ожидании отъезда. Она не обменялась с Христианом ни словом, ни даже взглядом; тем не менее они молча согласились друг с другом, что не расстанутся, не повидавшись еще раз. Майор со своим отрядом и пленниками вернулся в новый замок, где ему надлежало доя; даться приказа свыше, дабы и дальше выполнять свои обязанности или сложить их с себя. Даннеман с семьей воротился в горы, но Карин так и не признала в Христиане «дитя озера». Рассудок ее не мог столь быстро освоиться с событиями, и даже впоследствии, когда ее душевное состояние значительно улучшилось и она бессознательно почувствовала себя избавленной от терзавшей ее тревоги, Карин ни разу, встречаясь с Христианом, не узнавала его и обычно принимала за его отца, молодого барона Адельстана. Было четыре часа утра; невзирая на привычку поздно ложиться в такое время года, когда ночи столь длинны, герои нашей повести так устали к этому часу от пережитых волнений, что погрузились в глубочайший сон, за исключением, должно быть, Юхана и его прихвостней, запертых в башне нового замка, где они в свое время держали под Замком и мучили столько народу. Но рассвет еще не забрезжил, когда Стенсон прокрался к постели Христиана; несколько мгновений старик в восторге смотрел на него, потом тихонько разбудил, не потревожив Гёфле. — Вставайте, господин мой, — сказал он на ухо Христиану. — Я должен кое-что сказать вам — вам одному! Я жду вас в замурованной комнате. Христиан поспешно и бесшумно оделся и, притворив за собой дверь, последовал за Стенсоном в пустую, полуразрушенную комнату, куда уже заходил вчера. Тогда Стенсон обнажил голову и сказал: — Здесь, господин барон, за этой деревянной обшивкой, на которой, как видите, выточен голубь, кроется тайна, узнать которую должно только вам… Здесь ваша матушка велела тайно воздвигнуть алтарь пресвятой девы, ибо, это правда, она была католичкой. Исповедовать запрещенную веру в стране, где жила замужем, она не могла и делала это тайком, боясь навлечь преследования на мужа. Пастору Микельсону не удалось ничего обнаружить, потому что алтарь был привезен втайне и сокрыт здесь проезжими итальянцами, которые выполняли другие работы по мрамору и дереву в новом замке. Только мне одному все было известно. В замке жил старик француз, ученый и к тому же католический священник, хотя о последнем-то никто не догадывался, он и приходил сюда тайно служить мессу; но ко времени, когда бедную матушку вашу начали преследовать, он умер, а итальянцы-рабочие давно уехали. Вам следует взглянуть на этот алтарь, господин барон, и, какова бы ни была ваша вера, взглянуть с должным уважением. Помогите мне нажать на потайную пружину, она, видимо, заржавела. — Нет, это у вас, бедняги, распухли и болят руки, — сказал Христиан, поднося к губам израненные руки старика. — Ах, не жалейте меня! — ответил Стенсон. — Руки-то заживут; я их и не чувствую, а все, что перенес, — пустяки, по сравнению с тем счастьем, что наконец пришло! Христиан, по указанию Стенсона, сдвинул с места деревянную панель, а затем отдернул занавес золоченой кожи, За которым стоял белый мраморный алтарь в виде саркофага. Увидя, что Стенсон в глубоком волнении опустился на колени, Христиан спросил его: «Разве вы тоже католик, друг мой?» — на что старик покачал головой, хотя это предположение, видимо, не обидело его; по бледным щекам его медленно струились слезы. — Стенсон! — вскричал Христиан. — Моя мать покоится здесь? Этот алтарь стал ее гробницей! — Да, — отвечал старик, задыхаясь от слез. — Карин похоронила ее в белом платье и венке из ветвей кипариса, ибо в это время года не было цветов. Мы положили ее в гроб, пропитанный благовониями, а гроб вставили в этот безупречный саркофаг — точное подобие гробницы Христовой. Я сам накрепко заделал его со всех сторон, а потом замуровал комнату, дабы никто не проник сюда и не осквернил могилы несчастной жертвы. Ваш недруг никогда не узнал, почему мне вздумалось заложить эту дверь. Он решил, что я боюсь привидений. Ведь он поверил, что я по его повелению и после отказа пастора похоронить по-христиански «эту язычницу» бросил труп бедной госпожи моей в озеро; но что бы там ни говорил пастор Микельсон, покойница была святой женщиной! Пусть она была иной веры, но она любила господа, творила добро и уважала верования других. Сейчас она на небе и молится за нас, а душа ее радуется, видя, что сын ее тут и стал таким, каков он есть! — Ах, — молвил Христиан, — стало быть, счастью нет места на этом свете! Ведь я принес бы ей счастье, а ее уже нет в живых! Христиан почтительно и с глубокой верой прикоснулся губами к гробнице, а потом, задернув занавес и поставив на место деревянную панель, спустился со Стенсоном в медвежью комнату. Там Стенсон сказал ему: — Не знаю, много ли вам придется потратить труда и времени, чтобы права ваши были признаны; но разрешите мне пока что вновь заделать стену в эту комнату. Как только вы станете здесь хозяином, мы перенесем гробницу в часовню нового замка. — И мать моя будет погребена рядом с бароном Олаусом? Нет, нет, никогда! Коль скоро Швеция, лишив ее сперва воздуха и свободы, отказала ей в клочке земли, где могли бы покоиться ее кости, я увезу дорогие мне останки и схороню их под иным, благодатным небом. Богат я буду или беден, но я найду средства, чтобы вернуться с ними на берег озера в Италии, где покоится моя вторая мать, которая исполнила ее предсмертное желание и в великом горе своем имела возле себя по крайней мере сына, закрывшего ей глаза! — Вам надлежит поступать спокойно и осмотрительно, — сказал Стенсон, — иначе права ваши будут попраны. Когда-нибудь вы вольны будете действовать, как вам заблагорассудится; но сейчас следует скрыть от ваших лучших друзей, даже от достойнейшего господина Гёфле, что матушка ваша исповедовала иную веру; с тем большим жаром будет он доказывать, что она не была католичкой. Да и вы сами, если вы иноверец, никому об этом не говорите, иначе вам не восторжествовать над врагами! — Увы! — сказал Христиан. — Стоит ли богатство всех предстоящих стараний, хитростей, на которые придется пускаться, сдержанности, под коей я должен буду скрывать негодование? Когда я пришел сюда три дня назад, Стенсон, у меня ничего не водилось, даже гроша в кармане! На сердце было легко, рассудок был ничем не обременен! Ни к кому я не испытывал ненависти и ни в ком ее не встретил! А теперь… — А теперь вы будете не так свободны, не столь счастливы, я это знаю, — с суровой нежностью спокойно ответил старик. — Но зато вы принесете утешение и поддержку людям, перенесшим тяжкие страдания. И если вы подумаете об этом, вы обретете мужество для борьбы. — Отлично сказано, дорогой мой Стенсон! — воскликнул Гёфле, который только что встал и услышал последние слова благочестивого слуги. — Тот, кто возлагает на себя известные обязанности, сковывает ноги свои цепями, а душу — горестями. Остается спросить, может ли человек, оказавшийся в расцвете сил перед лицом этих обязанностей и обратившийся в бегство, радоваться своей беззаботности и быть довольным собой? — Вы правы, друг мой, — сказал Христиан, — делайте со мной все, что сочтете нужным. Клянусь, буду следовать вашим советам. — И к тому же, — добавил Гёфле, понизив голос, — я полагаю, что Маргарита явится отрадным утешением в вашей трудной великосветской жизни! Гёфле решил, что Христиану следует уехать из поместья Вальдемора, где он не мог предъявить никаких прав, пока секретный комитет риксдага не вынесет решения. Это был совершенно особый, тайный привилегированный орган власти, присвоивший себе право решать некоторые дела, подлежащие обычному судебному разбирательству, в особенности когда дела эти касались знати. Христиан должен был ехать со своим адвокатом в Стокгольм, чтобы подать там прошение и ждать результатов. Они вместе направились в пасторский дом, где Христиан в теплых и почтительных словах принес благодарность пастору Акерстрому и возложил на него управление всеми своими владениями, надеясь, что уже имеет известное право так поступить, и справедливо предвидя, что этот его выбор будет впоследствии одобрен дворянским судом. Ему не удалось провести и мгновения наедине с Маргаритой, но, даже будь ему предоставлена возможность свободно изъясниться в своих чувствах, он не решился бы просить ее связать с ним свою судьбу, пока не уверился бы, что никогда более не превратится вновь в Христиана Вальдо. Тем не менее у Маргариты не было никаких сомнений относительно его намерений и окончательной победы, а потому она и уехала в свой уединенный замок, полная надежд, присущих юности, и доверчивости, свойственной первой любви. Христиан отказался от завтрака в новом замке с майором и его друзьями. Те отлично поняли причину его нежелания являться туда и сами пришли в горд Стенсона, чтобы отобедать там с Христианом и Гёфле. Вечером их всех пригласил к ужину пастор. Маргарита уехала на следующий день; тогда же уехал и Христиан с Гёфле, который сам правил своим Локи, благодаря чему господин Нильс получил возможность сладко спать в течение всего путешествия, просыпаясь только для того, чтобы поесть. После двух недель, проведенных в Стокгольме, где Христиан, появляясь в обществе, держался с чрезвычайной осмотрительностью, сдержанностью и достоинством, Гёфле, жаждавший поскорее вернуться к себе в Гевалу, пригласил его туда, предлагая ему дожидаться там решения верховного суда — решения, возможно, весьма нескорого, ибо смерть короля и восшествие на престол принца Генриха (принявшего имя Густава III) внесли немало треволнении в высшие сферы государственной жизни; но Христиан, понимая, что неопределенность его положения может затянуться на очень долгий срок, не пожелал жить на счет Гёфле и решил выполнить свой замысел и предпринять трудное путешествие с даннеманом Бетсоем к далеким, скованным льдом окраинам Норвегии. Чтобы не быть ничем обязанным славному даннеману, Христиан согласился принять от Гёфле скромную сумму, то ли в счет богатств, которые когда-нибудь достанутся ему по наследству, то ли в долг, под будущий заработок. Он тепло распростился со всеми друзьями в замке Вальдемора и Стольборге и уехал с Ю Бетсоем, вновь поручив своего любимца Жана заботам старика Стенсона.
Эпилог
Христиану с лихвой хватило времени на путешествия. Несмотря на меры, принятые друзьями, и на непрерывные старания Гёфле, дело о восстановлении его в правах встретило столько препятствий со стороны партии «колпаков», к которой принадлежал барон Линденвальд, что даже деятельному и мужественному адвокату оно стало наконец казаться обреченным на полную неудачу. Русский посол, державшийся поначалу благоприятно, неожиданно круто изменил тактику по неизвестным причинам, а — графиня Эльведа стала подыскивать других претендентов на руку своей племянницы. Гёфле добился рассмотрения дела в тайном совете молодого короля; но Густав III, уже замышлявший с чрезвычайной осторожностью грандиозный переворот, совершившийся в августе 1772 года[431], посоветовал отложить решение, не давая при этом никаких оснований для надежд, которые Христиан вправе был лелеять. По сути дела, в то время король не обладал еще всей полнотой власти. После поездки с даннеманом Христиан в конце февраля получил от Гёфле известия, побудившие его продолжать в одиночку исследования северных областей Норвегии. Гёфле, видя, что у недругов Христиана имеется весьма могущественная поддержка, опасался его приезда в Стокгольм, где его могли вовлечь в ссору и погубить. Вспыльчивый нрав Христиана был ему хорошо известен, и он отлично понимал, что если молодой человек и одолеет одного-двух противников, он все же может пасть жертвой третьего. Слишком многие только и ждали, как бы вывести его из терпения и поставить к барьеру. Гёфле, разумеется, не привел Христиану всех этих доводов, а только советовал ему не рассчитывать на успех дела в ближайшее время. Вместе с этим письмом Гёфле выслал Христиану еще некоторую сумму денег, но тот принял решение не увеличивать свой долг. Отдавая себе отчет в шаткости своего положения, он нанялся рыбачить на Лофотенских островах, а в конце апреля написал Гёфле следующее письмо:«Сейчас я оказался в одном нордландском селении и должен сказать, что чувствую себя на обетованной земле, хотя торп даннемана Бетсоя можно назвать Луврским дворцом по сравнению с моим нынешним жилищем, а его какеброэ, наверно, показался бы сдобной булочкой после хлеба из отрубей, который я здесь ем с величайшим удовольствием. Иначе говоря — довелось мне испытать немало лишений, не говоря уж об усталости и опасностях; зато я повидал самые величественные зрелища, какие только можно встретить во вселенной, самые суровые и впечатляющие явления природы: подводные бездны, куда устремляются и корабли и киты с такой же легкостью, как осенние листья, несомые холодным вихрем; незамерзающие реки, текущие среди вечных, нетающих льдов; водопады, чей рев раздается на много миль вокруг; пропасти столь глубокие, что даже лось и олень не могут противостоять головокружению; снега, что тверже паросского мрамора, людей, что уродливее обезьян, ангельские души в безобразных телах, гостеприимный народ, живущий в неслыханной нищете, терпеливых, кротких и благочестивых людей, ведущих нескончаемую борьбу с невообразимо могущественной и суровой природой. Разочарований не испытал я ни разу. Все, что я видел, изумляло меня безмерно и величием своим превосходило все мои ожидания. Итак, я счастливейший из путешественников! Добавлю к этому, что здоровье мое выдержало все испытания, а кошелек наполнился в такой степени, что я могу рассчитаться с вами и еще остаться при деньгах; наконец, скажу еще, что, основательно изучив геологическое строение длинной горной цепи, я везу с собой редкие и ценные образцы пород, при виде коих прославленный доктор Стангстадиус иссохнет от зависти, и немало полезных наблюдений, которые могут принести мне, стоит только захотеть и приложить немного хитрости, звание кавалера Полярной Звезды. Вы спросите, как случилось, что я так разбогател? Отвечу: ценой тяжких трудов, тысячу раз рискуя утонуть или сломать себе шею, скользя по краю бездны на длиннющих лыжах, которыми научился пользоваться, ловя рыбу на норвежских островах и продавая весь улов на месте, задешево, тому, кто обладает коммерческим талантом, и подвергая себя опасности кровавой мести моих собратьев, отказавшихся, впрочем, от расправы, когда поняли, что я скор на руку, а кулаки у меня увесистые. Словом, теперь я направляюсь в Берген[432], куда хочу прибыть до распутицы, иначе застряну здесь на шесть недель из-за непреодолимых для человека снежных бурь и лавин. Прошу вас, лучшего из друзей и из всех людей на свете, не огорчаться, если дело мое будет проиграно. Чего-нибудь в жизни я все же добьюсь, а Маргарита тоже не богата, и мое «хорошее происхождение» дает мне право претендовать на ее руку несмотря ни на что. И потом, разве нет у меня вашей дружбы? Я прошу у неба лишь одного — иметь возможность взять на себя заботы о моем дорогом старике Стенсоне, если он лишится своего места и крова в замке Вальдемора».
Гёфле получил еще несколько писем в том же духе в течение последующих лета и зимы. Тяжба не двигалась, тем более что никакой тяжбы-то, собственно говоря, и не было, так как самонадеянные наследники вели тайную войну, куда более опасную, громоздя одно за другим неуловимые препятствия на пути рассмотрения дела тайным советом. Меж тем Христиану начинала приедаться жизнь, столь полная неожиданностей и тяжких, утомительных трудов. Он не признавался в этом своему другу, но пылкая любознательность уже не влекла его вперед, как прежде. Сердечная склонность, пробужденная заново обманчивыми, быть может, надеждами, все чаще звала его навстречу мелькнувшему однажды счастью. «Страшная жизнь», как он говорил, не притупила его героической решимости и веселого, деятельного нрава; но душа его нередко молча тосковала, и настал наконец миг, когда, по выражению майора Ларсона, птицу, утомленную дальними перелетами, тянет под благодатное небо, в надежное место, где можно свить гнездо. Несколько раз Христиану пришлось испытать жестокую нужду, невзирая на ум и неутомимую деятельность. Жизнь путешественника — это цепь находок и потерь, нежданных удач и лихих бед. Он зарабатывал только на хлеб, торгуя зверем и рыбой и выменивая одни товары на другие, скитаясь по трудным и дальним дорогам, требующим исключительного мужества и решимости; но как ни был сговорчив, правдив и великодушен молодой барон, он все же не родился коммерсантом, и прирожденная щедрость аристократа то и дело выдавала его инкогнито. Непредвиденные обстоятельства не раз опрокидывали самые верные его расчеты, и случилось наконец, что он был вынужден осуществить отчаянный, героический план, некогда изложенный им майору на горе Блокдаль, иначе говоря — он отправился, подобно Густаву Вазе, работать в шахтах и, подобно этому герою романической эпохи, был в скором времени признан за «чудо-рабочего», в чем были повинны отнюдь не «расшитый ворот рубахи», а властность речи и огненный взор. Христиан работал в шахтах Ророса, в самых высоких горах Норвегии, в десяти милях от шведской границы. Не прошло и недели, как сила и ловкость завоевали ему уважение всех его товарищей по труду; в это время он и получил от Гёфле письмо следующего содержания:
«Все кончено. Я был у короля, он чрезвычайно мил; но — увы! — я рассказал ему, кто вы такой, предъявил ему все доказательства, изложил ваши мысли о злоупотреблении дворянскими привилегиями и объяснил, какую пользу вы могли бы принести, помогая мужественному властелину-философу восстановить равновесие в правах его народа. Он выслушал меня с таким участием и пониманием, каких я не встречал ни у одного судьи, и сказал: «Увы, господин адвокат, добиваться справедливости для угнетенных — великая задача; мне она не по силам. Я на этом погибну, как погиб мой несчастный отец, который из-за «них» безвременно сошел в могилу от усталости и скорби». Густав добр, но слабоволен; умирать ему вовсе не хочется! Напрасно мы льстили себя надеждой, что он нанесет мощный удар по Сенату. Швеция погибла, и наше дело тоже! Вернитесь ко мне, Христиан. Я вас люблю и уважаю. У меня есть небольшое состояние, а детей нет. Одно ваше слово, и я отдаю вам половину моих клиентов. Вы превосходно владеете шведским языком, у вас есть дар красноречия. Вы изучите наш свод законов и станете моим преемником. Жду вас».
— Нет! — воскликнул Христиан, прижимая к губам письмо своего великодушного друга. — Мне лучше, чем он думает, известны скудные возможности этой страны и ущерб, который понесет этот достойный человек вследствие нашего с ним объединения! К тому же свод законов надо изучать годами, и, стало быть, в течение всех этих лет мне, человеку сильному и молодому, придется жить за счет того, кто нуждается в отдыхе и благополучии после столь длительной борьбы и усталости! Нет, нет, руки у меня еще крепкие, и они будут служить мне, пока волею судеб мне не будет дано пустить в дело свой ум. И он вернулся на рудник, где ему приходилось трудиться от рассвета и до заката при свете крохотной лампочки, среди сернистых паров, несшихся из бескрайних глубин, долбить медную жилу, залегшую в недрах земли. Однако прошло еще несколько дней, и участь его стала несравненно более легкой. Без всяких усилий с его стороны начальники заметили и оценили его образование и способности и стали поручать ему руководство некоторыми работами. Будучи весьма знающим, скромным и трудолюбивым человеком, он тратил свой досуг на обучение рабочих. Однажды он начал бесплатно читать курс начальной минералогии, и эти грубые парни внимательно слушали его, видя в нем товарища по труду и в то же время уважая его рассудительность и знания. Помещением для этих лекций служила одна из огромных выработок, обычно носящих, по прихоти рудокопов, разные громкие названия, а кафедру заменяла глыба медной руды. Христиан силился обрести счастье в труде и преданности окружающим людям, ибо человеку свойственно вечно стремиться к счастью, даже принося себя в жертву. Он ходил за больными и ранеными, пострадавшими в шахте. Появляясь всегда первым там, где надо было с героическим мужеством оказать помощь в случае несчастья, он в то же время учил рабочих, как избегать грозивших им страшных опасностей, соблюдая разумную осторожность. Он пытался смягчить их нравы и побороть их роковую страсть к водке — причину нередкой в их среде чудовищной поножовщины. Он завоевал всеобщую любовь и уважение; но жалованье его целиком уходило на поддержание калек, сирот и вдов. «Решительно я родился знатным барином, то есть, в моем понимании, защитником угнетенных! — часто твердил он себе, бесконечно долго спускаясь в бадье на дно шахты. — Вот почему мне заказана жизнь при свете солнца!» — Христиан, — окликнул его однажды инспектор, наклонясь над чудовищной пастью шахты и крича в рупор, — брось-ка на время свой молоток и выйди встретить гостей, пришедших осмотреть шахту. Будь за хозяина, друг мой, а то мне недосуг! Как всегда в таких случаях, Христиан велел зажечь под землей большие смоляные факелы и пошел навстречу гостям; но, узнав пастора Акерстрома с семьей и лейтенанта Осборна, шедшего рука об руку со своей молодой супругой Мартиной, Христиан передал свой факел старику шахтеру, сказав, что ему свело руку судорогой, и попросил проводить гостей вместо него. Затем он низко надвинул на лоб просмоленную шапку и стал поодаль, радуясь от всего сердца счастливому виду друзей, но не желая быть узнанным, из боязни огорчить их, а также из стремления скрыть от людей, знакомых с Маргаритой, свое положение. Послушав их оживленную, веселую беседу, он собрался было удалиться, как вдруг госпожа Осборн обернулась и спросила: — А Маргариты все нет? Неужели трусиха так и не решилась пройти по мостику? — По которому вы сами прошли с превеликим страхом, дорогая Мартина! — ответил лейтенант. — Но вы напрасно опасаетесь за нее, ведь с ней господин Стангстадиус! Христиан, позабыв о своей мнимой судороге, бросился по крутому наклонному ходу, который вел к деревянному мостику, поистине внушавшему страх; по нему-то и предстояло пройти Маргарите в сопровождении Стангстадиуса, известного своим умением падать, но отнюдь не способного уберечь от падения других. Маргарита стояла в нерешительности, опасаясь головокружения, в то время как мадемуазель Потен храбро следовала за Стангстадиусом, чтобы подбодрить свою подругу. Лейтенант воротился, чтобы помочь Маргарите и успокоить свою жену, но раньше, чем он успел подойти, Христиан бросился вперед, подхватил Маргариту на руки и молча перенес ее через подземный поток. Маргарита, разумеется, не видела его лица, так как крепко зажмурилась, чтобы не взглянуть ненароком в бездну; но в тот миг, когда Христиан опустил ее на землю возле друзей и хотел убежать как можно скорее, Маргарита, все еще не оправившись от пережитого страха, пошатнулась, и ему пришлось взять ее за руку, чтобы отвести подальше от пропасти. Пальцы его, почерневшие от работы, оставили след на светло-зеленой перчатке девушки, и Христиан увидел, как она, мгновение спустя, тщательно стерла пятно платком, сказав гувернантке: — Скорее дайте что-нибудь этому бедняге за то, что он перенес меня! «Бедняга» поспешил удалиться с тяжелым сердцем; он не осуждал молодую графиню за пристрастие к чистым перчаткам, но огорчался, что уже не может похвастаться белизной рук. Он вернулся в кузницу, где под его наблюдением и по его замыслу, одобренному инспекторами, изготовлялись новые, усовершенствованные инструменты и, как всегда, сам приложил руку к этой работе, но не прошло и часу, как он услышал, что гости возвращаются с прогулки, и не мог справиться с желанием снова увидеть молодую графиню. Еще на мостике он заметил, что со времени их разлуки она стала чуть выше ростом и так похорошела, что могла свести с ума самого подслеповатого и угрюмого из всех циклонов. Голоса звучали еще вдалеке, и поэтому Христиан смело направился в штольню, где должны были пройти гости, как вдруг он оказался в ярко освещенном переходе, лицом к лицу с Маргаритой, шедшей впереди всех, ибо страх ее рассеялся и она уже почти что свыклась с оглушительным гулом и суровым видом этих новых для нее мест. При виде Христиана она вздрогнула: ей почудилось, что она узнала его; он поспешил нахлобучить шапку и этим окончательно выдал себя. — Христиан! — воскликнула она. — Это вы, я уверена! И протянула ему руку. — Не прикасайтесь ко мне, — сказал Христиан. — Я перепачкан копотью и дымом. — Ах, не все ли равно, раз это вы! — отвечала она. — Я все теперь понимаю! Рудокопы, провожавшие нас, столько рассказывали о каком-то Христиане, большом ученом и славном работнике, неизвестного рода, но сильном, как крестьянин, и благородном, как ярл, образце мужества и дружеской преданности. Так вот, нашим друзьям и в голову не пришло, что речь, возможно, идет о вас; в Скандинавии так часто встречается имя Христиан! Но я-то подумала: «Есть только один такой Христиан, и это он!» Дайте же мне руку, ведь мы с вами по-прежнему брат и сестра, не так ли? Как мог Христиан тут же не позабыть о столь маловажной обиде, как стертое с перчатки пятно? Маргарита протянула ему руку без перчатки. — Вы не краснеете за меня, видя, чем я занимаюсь? — спросил он. — Вы верите, что не беспутство привело меня сюда? И что я работаю вовсе не затем, чтобы наверстать время, потраченное в праздности и безумствах? — Я ничего о вас не знаю, — ответила Маргарита, — кроме того, что вы сдержали слово, данное вами некогда майору Ларсону, стать скорее рудокопом или охотником на медведей, чем продолжать заниматься неприятным мне делом. — Но ведь я, Маргарита, тоже ничего о вас не знаю, — сказал Христиан, — кроме того, что тетушка ваша, должно быть, хочет выдать вас за барона Линденвальда, одержавшего, очевидно, верх надо мной в нашей тяжбе. — Вы правы, — засмеялась Маргарита. — Таким путем тетушка собирается утешить меня после смерти барона Олауса; но раз вы так хорошо умеете угадывать, вам, вероятно, известно, что я вообще не намерена выходить замуж. Христиан понял это решение девушки, и надежды его вновь возродились. В глубине души он дал себе клятву разбогатеть, пусть даже придется для этого стать себялюбцем! Но что он ни говорил, Маргарита не согласилась с его желанием сохранить инкогнито перед лейтенантом и семьей пастора, нарушившими их уединение. — Это он! — воскликнула девушка, подбегая к ним. — Это наш друг из Стольборга, слышите? Это он, тот самый Христиан, кормилец бедняков, герой шахты; барон, лишенный титула, но зато обладающий честью и добрым сердцем! И если вы не так рады его видеть, как я… — Мы все ему рады! — вскричал пастор, пожимая Христиану руку. — Он здесь подает истинный пример благородства и подлинной веры. Христиан, осыпанный ласками, похвалами и вопросами, обещал поужинать в деревне со своими друзьями, собиравшимися провести тут ночь перед возвращением в поместье Вальдемора, где Маргарита недели две гостила в пасторском доме. Они хотели тотчас нее увести с собой Христиана, но он, с одной стороны, не был так волен распоряжаться своим временем, как они полагали; с другой стороны, ему хотелось, вопреки, быть может, свойственному ему здравомыслию, непременно переодеться, пусть в простое, но безупречно чистое платье. Итак, встреча была назначена на вечер, и Христиан вернулся к своим занятиям, счастливый и взволнованный. Однако бурные, противоречивые мысли то и дело овладевали им. Следует ли ему упорствовать в фантастических надеждах на разделенную любовь? Расположение, искренно и непосредственно выраженное Маргаритой, являло собой скорей всего мирную, дружескую привязанность, не знающую душевного смятения и стыдливого румянца. Разве могла любовь проявляться столь откровенно, столь смело и радостно? И он то корил себя за самонадеянность и безумие, то обвинял себя в неблагодарности: внутренний голос подсказывал ему, что, как бы ни обошлась с ним судьба, Маргарита всегда с готовностью разделит его участь. Наконец он бросил работу и, отдавая, как всегда, предпочтение перед долгим подъемом по лестницам и наклонным ходам бадье и шкивам, где у него никогда не кружилась голова, уже собирался мгновенно взлететь из мрачной бездны к выходу, навстречу видневшемуся краешку неба в переплете ветвей рябины и сирени, как вдруг столкнулся с рудокопом, который уже встречался ему накануне в забое, хотя и не состоял в бригаде рабочих, возглавляемой теперь Христианом. Никто из товарищей Христиана не знал этого человека. То ли по небрежности, то ли нарочно, он до такой степени перемазался копотью и так нахлобучил на лицо рваную широкополую шляпу, что черты его невозможно было разглядеть, да Христиан и не приложил к этому особых стараний. Возможно, подумал он, человек этот принадлежит к числу так называемых стыдливых рабочих (как бывают стыдливые бедняки, одержимые чувством, прямо противоположным стыду, а именно молчаливой гордостью). Поэтому он не стал обращать внимания на таинственные повадки незнакомца и дал, как всегда, свисток, чтобы предупредить рабочих, управлявших подъемным механизмом, а затем указал неизвестному на свободное место рядом с собой в бадье, полагая, что тот собирается подняться вместе с ним; но незнакомец остановился, как бы в замешательстве. Сперва он было ухватился руками за край бадьи, будто собирался влезть в нее, потом задержался, осматриваясь по сторонам. — Вы потеряли свой инструмент? — спросил Христиан, отметив про себя неповоротливую, грузную фигуру этого человека, не похожего на других рудокопов, проворно и умело влезавших всегда в бадью. Едва он произнес эти слова, как незнакомец тотчас же туда забрался, проявив больше решительности, чем ловкости, словно звук голоса Христиана подстегнул его, и стал молча ждать, покуда тот свистнет вторично. Христиан решил, что человек этот не понимает по-норвежски, а так как сам он теперь владел чуть ли не всеми северными наречиями, он попробовал задать незнакомцу несколько вопросов, но безуспешно! Тот оставался безмолвным, словно у него отнялся язык от страха, когда бадья повисла над бездной. Подъемная машина эта, как известно, представляет собой подобие бочки, охваченной крепкими железными обручами, и требует умелого управления в особо глубоких выработках. Христиан, отлично освоивший этот способ передвижения, маневрировал с исключительной ловкостью. Стоя на краю, ухватившись рукой за канат, он слегка отталкивался то одной, то другой ногой от стенок колодца, чтобы не дать бадье удариться о них и разбиться; отказавшись от тщетных попыток вырвать хотя бы одно слово у своего спутника, он тихо запел венецианскую баркароллу, как вдруг нога его от сильного, предательского толчка потеряла точку опоры, и он вылетел из бадьи. К счастью, Христиан был не только смел, но и осторожен, а поэтому, стоя в бадье, он, как всегда, крепко держался левой рукой за канат, благодаря чему он только соскользнул вдоль стенки, как корзина, подвешенная за ручку, но не сорвался; незнакомец же, взмахнув острым концом молотка, ударил по правой руке Христиана, ухватившегося за край бадьи. Еще мгновение, и он лишился бы если не жизни, то уж руки наверняка, если бы под тяжестью его тела бадья внезапно не накренилась. Ноги его, висевшие в воздухе, ударились о другую бадью, спускавшуюся навстречу, и он с такой силой оттолкнулся от первой, что убийца вынужден был сам уцепиться за канаты, чтобы, в свою очередь, не вывалиться. Этого было достаточно, чтобы Христиан сумел уцепиться за канат встречного подъемника и, перепрыгнув в него, стремительно взвиться кверху, в то время как первая бадья еще с большей скоростью понеслась вниз, унося с собой злодея. Уже поднявшись к выходу из шахты и ступив на деревянный настил, Христиан услышал какой-то глухой рев, донесшийся из бездны, и одновременно увидел с собой рядом улыбающееся нелепое лицо Стангстадиуса, явившегося ему навстречу со словами: — Эй, дорогой барон, скорей, скорей же! Без вас не садятся за стол, а я умираю от голода! — Но что же такое случилось? — не отвечая ему, воскликнул Христиан, обращаясь к рабочим, управлявшим подъемником. — Где вторая бадья? Где этот человек? — Канат лопнул! — ответил один из них, сопровождая эти слова отборной руганью, с притворным возмущением, в то время как другой шепнул на ухо Христиану: — Молчите! Мы сами отпустили канат! — Что? Вы сбросили этого несчастного? Помешанного? — Никакой он не помешанный, — ответил рабочий. — Целых три дня он все искал случая остаться с тобой с глазу на глаз. Мы за ним следили и сразу поняли, что он затеял. На всякий случай мы пустили тебе навстречу другую бадью, а что касается первой — развалилась она, вот и весь сказ! Христиан знал, что в те времена на рудниках нередко вершили такой скорый суд и расправу, без всяких проволочек. Известно было ему и то, что в этом подземном мире людям немолодым случается впадать в беспричинное исступление; тем больше сожалений и тревоги вызвало у него все случившееся. Он опять спустился в шахту, взяв с собой Стангстадиуса, который по праву хвалился, что может судить о подобных катастрофах ex professo[433]. С ними спустились еще два рудокопа, дабы, по их словам, удостовериться в происшествии, а на деле — чтобы припрятать труп и тем самым избежать объяснений с рудничными инспекторами. — Что ж! — сказал Стангстадиус, осмотрев при свете факелов обезображенный труп. — Готов! Мне в свое время больше повезло, чем ему; но, клянусь богом, составлю-ка я записку об опасности применения канатов для рудничных подъемников. Слишком уж много несчастных случаев… Подумать только, ведь я сам… — Господин Стангстадиус! — перебил его вдруг Христиан. — Посмотрите на этого человека! Разве вы его не узнаете? — Ей-богу, узнаю! — воскликнул Стангстадиус. — Ведь это почтеннейший Юхан, бывший мажордом барона Вальдемора. Вот занятная встреча, а? Ну, не велика потеря! Он в темнице во всем сознался: ведь это он убил когда-то бедного барона Адельстана… кстати… да, вашего отца, дорогой Христиан! Этот Юхан в свое время был рудокопом в Фалуне и уже тогда слыл за негодяя. Видимо, ему удалось удрать из тюрьмы; но, стало быть, ему на роду написана смерть от веревки! И Стангстадиус, в восторге от собственной остроты, увлек Христиана вон из шахты, а рудокопы, бросив труп в давно облюбованное ими «in pace»[434] в самом отдаленном забое, преспокойно занялись починкой бадьи. Христиан поспешил к себе, в скромное жилище, которое нанимал в деревне, чтобы переодеться. Там его ждало письмо от Гёфле:
«Все спасено! — писал он. — Король действительно добр, как я и говорил, но вовсе не слабоволен, как я думал. Это такой молодец, что… Но не в этом суть. Приезжайте немедленно! Будьте в Вальдемора двенадцатого числа; там один из моих друзей сообщит вам приятное известие. До скорой встречи, дорогой барон!»
Христиан ничего не сказал об этом письме своим друзьям, ожидавшим его к ужину у пастора Ророса, гостеприимно и сердечно предоставившего свой дом в распоряжение пастора из поместья Вальдемора и его друзей. На несколько мгновений Христиану удалось остаться наедине с Маргаритой и ее гувернанткой. Он держался смелее, чем раньше, и решился заговорить о любви. Мадемуазель Потен хотела помешать ему, но Маргарита, в свою очередь, остановила ее. — Христиан, — сказала она, — я еще недостаточно знаю, что такое любовь, и не понимаю, какую разницу вы видите между этим чувством и тем, что я испытываю к вам. Знаю одно, что я вас уважаю и ценю, и если когда-нибудь обрету свободу, а вы к тому времени еще сохраните свою, я разделю вашу участь, какова бы она ни была. Я немало потрудилась с тех пор, как мы расстались; теперь я сумею давать уроки или вести чьи-нибудь бумаги, подобно другим неимущим девушкам, живущим своим трудом и не видящим в этом ничего зазорного: возьмите, к примеру, мадемуазель Потен де Жервиль, девицу из знатной семьи, вынужденную жить за счет собственных способностей и не только не потерявшую, а еще выигравшую от этого в глазах поистине благородных людей: доказательство тому, — добавила она, нежно и лукаво взглянув на свою гувернантку, — ее тайная помолвка с майором Ларсоном; она только и дожидается моей свадьбы, чтобы отпраздновать спою. Мадемуазель Потен было нечего возразить Маргарите. Она сердилась на Христиана за то, что тот все еще добивался любви молодой графини, хотя дело его было окончательно проиграно; еще более рассердилась она, увидев, что он присоединился к их маленькому каравану, чтобы вместе с ними переправиться через горную цепь и вернуться в Швецию через Идру и Блокдаль. На следующий день, 12 июня 1772 года, Христиан увидел на горной тропе идущего к нему навстречу друга, о котором писал ему Гёфле: то был не кто иной, как сам Гёфле в сопровождении майора Ларсона. Друзья обнялись, опьяненные радостью свидания, обменялись дружескими словами и отправились обедать в хижину даннемана, разукрашенную гирляндами диких горных цветов. Карин встречала их на пороге, еще смутно понимая, что происходит, и с трудом привыкая к мысли, что красивый молодой ярл и есть «дитя озера». Обед был сервирован на открытом воздухе, под лиственным сводом беседки, откуда открывался величественный вид на горы, некогда пленивший Христиана в морозный Зимний день своей суровой и печальной красотой. Лето в горах недолговечно, но оно великолепно. Зелень сверкала не менее ослепительно, чем снег, а растения цвели столь буйно, что Христиану казалось, будто он перенесся в совсем иную местность и даже в иную страну. Все оставались в горах до шести часов вечера. На сей раз гости уже не охотились на медведя, а сентиментально собирали цветочки на берегах быстротекущих потоков, прислушиваясь к нежному шепоту и гулким раскатам этих бесчисленных голосов, спешивших, казалось, спеть все свои песни и вволю насладиться жизнью, пока зима снова не закует их во льды и эльфы поздней осени не превратят их в хрусталь. Христиан чувствовал себя очень счастливым, но все же ему не терпелось поскорей увидеть Стенсона; однако Гёфле настаивал на том, чтобы тронуться в путь, когда спадет жара. Солнце в это время года садилось только после десяти часов вечера, а три часа спустя вставало снова, и краткие звездные сумерки не пускали ночную мглу на летний небосклон. Адвокат приготовил Христиану сюрприз. Едва повеяло вечерней прохладой, подкатила повозка со стариком Стенсоном, сияющим, помолодевшим и почти избавившимся от глухоты — то ли благодаря летнему теплу, то ли от возвращенной ему радости и веры в жизнь. Он привез решение комитета риксдага, признавшего права Христиана, а также письмо от графини Эльведы, негласно позволявшей Гёфле отдать руку ее племянницы новому барону Вальдемора. Возвращаясь в замок вместе со своим «дядюшкой» Гёфле и глядя счастливыми глазами на экипажи милых своих друзей, один за другим следовавшие по извилинам живописной дороги, Христиан почувствовал, как его охватывает, несмотря на радость, глубокая меланхолия. — Я слишком счастлив, — сказал он адвокату, — мне хотелось бы умереть сейчас. Боюсь, как бы жизнь, которая открывается передо мной, не оказалась помехой простому и чистому счастью, являвшемуся мне в мечтах. — Вполне возможно, друг мой, — ответил Гёфле. — Ведь только романы кончаются вечной фразой: «Они жили долго и счастливо». Участие в жизни общества, весьма буркой в наши дни, в особенности в высших его слоях, куда вы вступаете, принесет вам немало огорчений. Мы стоим, несомненно, на пороге каких-то удивительных событий. Я почувствовал как бы предвестие этого во время моей последней аудиенции у короля. На этот раз он показался мне одновременно и великим и грозным. Полагаю, что он готовит некий взрыв, который многих людей поставит на свое место; но захочет ли и сможет ли он удержать их на этих местах? Может ли создать что-либо прочное революция, опережающая ход времени и человеческой мысли? — Не всегда, — ответил Христиан, — но она всегда остается вехой в истории; пусть даже она в дальнейшем и потерпит неудачу, какой-то прогресс будет все же достигнут. — Стало быть, вы и впрямь встанете за короля против Сената? — Безусловно. — Видите, значит, вы в помыслах своих вовсе не бежите бури, а ищете ее. Ну, что ж, таков инстинкт молодости и роковой удел человеческого ума! Что касается меня, я приветствую все, что избавит нас от влияния России и Англии… Но как же, черт возьми, вы собираетесь принять участие в государственной деятельности, если откажетесь принять веру своей страны? Нет, нет, молчите; позже вы сами поймете, что подскажет вам совесть и чего потребует от вас долг отца и гражданина. — Долг отца! — воскликнул Христиан. — Ах, господин Гёфле, вот в чем мое счастье, я это чувствую! Боже мой! Как я буду любить детей, которых мне подарит эта честная, смелая девушка, передав им не только свою прелесть и красоту, но и свойственные ей бескорыстие и искренность! — Да, да, Христиан, вы найдете счастье в кругу семьи. Вы заслужили его своими заботами о несчастной Софии Гоффреди. Вы построите жизнь свою на шведский лад, у себя на земле, в полном благополучии, на лоне величавой и суровой северной природы. Вы осчастливите всех, кого ваш предшественник разорил и обидел. Наука и искусство будут процветать возле вас. Вы сами займетесь воспитанием своих детей. С самого рождения эти плутишки будут окружены любовью и заботой; они будут расти вместе с детьми Осмунда иОсборна. А я собираюсь возможно дольше не расставаться со своей работой, оттого что стану чересчур болтливым и раздражительным, если брошу судебную деятельность; но каждый год буду проводить отпуск у вас. Мы с вами будем наперебой баловать старика Стена и бедняжку Карин; мы будем строить воздушные замки в области политики, мечтая о безоблачном союзе с Францией и объединении всей Скандинавии для противодействия честолюбивым замыслам России. А по вечерам мы возьмемся за burattini и станем развлекать нашу милую детвору, собравшуюся в замке, кукольными спектаклями, где я надеюсь помериться силами с прославленным Христианом Вальдо, оставившим по себе столь чудесную, веселую память!
«Снеговик»
Роман «Снеговик» впервые появился в журнале «Ревю де до монд», где он печатался с 1 июня по 15 сентября 1858 года. Писательницу привлекла Скандинавия с ее величественной природой и таинственными преданиями, столь необычными для жителя Франции середины прошлого века. Жорж Санд внимательно изучает историю Швеции. В письме от 20 ноября 1857 года она пишет одному из своих друзей: «Я буду сопровождать вас в поездке по Швеции. Моя фантазия переносит меня в Далекарлию. Сообщите мне, не знаете ли вы какой-нибудь книги, посвященной этой части Швеции и описывающей некоторые детали ее истории в XVIII веке». Известно, что Жорж Санд всегда подробно изучала историю и быт той страны, где происходило действие ее романа. В библиотеке писательницы в Ноане стоят «Путешествие по северным морям» Ш. Эдмонда, «Швеция и Норвегия» Ле Баса, «Сцены далекарлийской жизни» Фредерики Бремер. В первой же главе романа Жорж Санд точно указывает место и время действия — далекарлийская провинция в Швеции, 1770 год. Характерно, что, впервые обратившись к Швеции, писательница выбрала местом развертывающихся событий именно Далекарлию — область, которая прославилась в шведской истории тем, что отсюда начинались освободительные движения шведских крестьян против датского владычества. В центре романа «Снеговик» стоят два главных действующих лица. Это Христиан Вальдо, бродячий кукольник, благородный и смелый, и барон Олаус Вальдемора, прозванный Снеговиком, владелец больших земельных угодий и рудников, человек жестокий и порочный. В этом романе писательница осталась верпа своему эстетическому принципу создания характеров, противостоящих друг другу так, чтобы в их борьбе можно было видеть торжество добра. Период 1718–1772 годов получил в Швеции название «эры свобод». Смерть Карла XII покончила с абсолютной монархией, и власть короля оказалась урезанной в пользу сословного риксдага (парламента). Страна, изнуренная войнами, обрела наконец долгожданный мир. Восстанавливалось хозяйство, развивались новые отрасли промышленности. Политическую власть захватило мелкопоместное и чиновное дворянство, в то время как феодальная знать, утеряв былое могущество и стремясь восстановить его, в 1730-х годах образовала реваншистскую партию, члены которой именовали себя «шляпами», в отличие от своих противников, политические взгляды которых они считали достойными лишь людей «в ночных колпаках». «Шляпы» развернули обширную программу деятельности в области внутренней и внешней политики. Они видели в личности Карла XII политический символ, олицетворение реванша, и стремились вернуть Швеции то, что она утратила по мирному договору 1721 года, договору, который низвел страну на положение второстепенной державы. В своей борьбе «шляпы» ориентировались на помощь Франции. Партия «шляп» более четверти века удерживала власть в стране. Но в середине 60-х годов XVIII столетия к власти пришли «колпаки», началось сближение Швеции с Россией. Борьба двух партий достигла апогея в начале 1770-х годов — накануне государственного переворота Густава III, положившего конец «эре свобод». Этот переломный период в истории страны и привлек внимание писательницы. Роман «Снеговик» имел успех у широкого круга читателей. Шведские газеты писали в 1879 году: «Политическую ситуацию и положение в стране писательница охарактеризовала так правдиво, что это сделало бы честь даже шведскому автору. Одно из действующих лиц носит имя Петерсон. Впервые далекарлиец Петерсон представлен европейскому читателю». На русский язык «Снеговик» был переведен в год выхода романа во Франции и опубликован в четвертом, пятом и шестом томах журнала «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык». В советское время издается впервые.Жорж Санд Спиридион
От автора
Я писала «Спиридиона» в картезианской обители Вальдемоза, под завывания северного ветра, гулявшего под полуразрушенными монастырскими сводами. Конечно, эти романтические места достойны лучшего поэта. Однако радости творчества, к счастью, измеряются не достоинствами творения, но чувствами творца; когда бы не заботы и тревоги, подчас весьма горькие, жизнь в келье величественного монастыря, куда меня привел случай или, скорее, нужда и отсутствие другого приюта, доставила бы мне наслаждения самые возвышенные; лучшее место для завершения этой книги, начатой в Ноане, найти было трудно. Ноан, 25 августа 1855 годаСпиридион
Г-ну Пьеру Леру Друг и брат по возрасту, отец и наставник по добродетели и мудрости, примите одну из моих повестей – не как труд, достойный вас, но как залог дружбы и преклонения.Когда я поступил послушником в бенедиктинский монастырь, мне едва минуло шестнадцать лет. Поначалу мой мягкий и смирный нрав, казалось, снискал мне доверие и приязнь монахов; однако очень скоро их благожелательность сменилась холодностью, а отец казначей, единственный, кто сохранил ко мне хоть немного сочувствия, несколько раз отводил меня в сторону и шепотом внушал мне, что если я не буду более сдержан, то непременно навлеку на себя немилость настоятеля. Напрасно пытался я добиться от него разъяснений; он прикладывал палец к губам и вместо ответа говорил с таинственным видом: – Вы прекрасно понимаете, сын мой, что я хочу сказать. Тщетно старался я отгадать, чем провинился. Как бы строго ни судил я свое поведение, я не находил никаких оснований для упреков. Шли недели, месяцы, а монахи по-прежнему взирали на меня с молчаливым неодобрением. Напрасно удваивал я усердие и послушание, напрасно следил за всеми своими словами, за всеми своими мыслями, напрасно был истовее всех на молитве и ревностнее всех в труде; с каждым днем окружающие отдалялись от меня все сильнее. Все друзья покинули меня. Никто со мной не разговаривал. Самые ленивые и недостойные из послушников, кажется, считали себя вправе презирать меня. А иные, проходя мимо, даже прижимали к себе полы сутаны, словно боясь коснуться прокаженного. Хотя я отвечал уроки без единой ошибки и делал большие успехи в церковном пении, лишь только мой робкий голос стихал, как в классной комнате воцарялось глубочайшее молчание. Для меня у наставников и учителей не находилось ни единого одобряющего взгляда, а между тем самые беспечные и бездарные послушники утопали в похвалах и наградах. Настоятель при виде меня отворачивался, как если бы сама мысль о моем приветствии была ему омерзительна. Я исследовал все движения собственного сердца, я строго спрашивал себя, не вызваны ли мои страдания уколами оскорбленного самолюбия. Возможно, в чем-то я ошибался, но во всяком случае знал наверное, что сделал все возможное для подавления любых ростков тщеславия и что если сердце мое объято глубокой печалью, то причиной тому – одиночество, на которое обрекли меня окружающие, и отсутствие любви, а не недостаток забав и похвал. Я решился искать помощи у единственного монаха, который не мог отвергнуть мои признания, – у моего духовника. Я бросился к его ногам, я поведал ему о моих муках, о стараниях заслужить участь менее горькую, о борьбе с духом роптанья и обиды, рождавшимся в моем сердце. Каково же было мое отчаяние, когда духовник отвечал мне ледяным голосом: – До тех пор пока вы не откроете мне свое сердце с полной искренностью и совершенным смирением, я ничем не смогу вам помочь. – О отец Эжезип! – отвечал я ему. – Сердце мое открыто вам всецело, ибо я никогда ничего от вас не скрывал. Тогда он встал и произнес устрашающим тоном: – Жалкий грешник! Низкая и подлая душа! Вы прекрасно знаете, что скрываете от меня страшную тайну и что совесть ваша есть бездна лжи. Но вам не обмануть Господа, не спастись от Его карающей десницы. Ступайте прочь, я не в силах более слушать ваши лицемерные песни. До тех пор пока стыд не тронет вашего сердца и вы не искупите искренним раскаянием пороки вашего ума, я отрешаю вас от исповеди. – О отец мой! Отец мой! – воскликнул я. – Не отталкивайте меня, не предавайте во власть отчаяния, не заставляйте усомниться в милости Господней и в мудрости Его приговоров. Я невинен перед Богом; имейте жалость к моим страданиям… – Дерзкая тварь! – вскричал он громовым голосом. – Как смеешь ты святотатствовать и призывать имя Господне в подтверждение своим лживым клятвам; прочь с моих глаз, ты, закосневший в грехе! Вид твой мне отвратителен! С этими словами он стал вырывать из моих рук свою сутану, за край которой я схватился, моля его о пощаде. Я, однако, в некоем помрачении ума не выпускал его платья, тогда он изо всей силы оттолкнул меня, и я упал ничком. Он вышел из ризницы, где разыгралась вся эта сцена, хлопнув дверью. Я остался в потемках. Оттого ли, что я сильно ударился при падении, или оттого, что слишком велико было мое горе, но какой-то сосуд лопнул у меня в горле, и я стал харкать кровью. Подняться я не мог, силы очень скоро оставили меня, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени пролежал я без чувств в луже крови. Придя в себя, я почувствовал приятную прохладу; свежий ветерок обдувал мне лицо и ерошил волосы, потом улетал и, казалось, еле слышно высвистывал под потолком какую-то неясную мелодию, а затем возвращался ко мне, словно для того, чтобы вдохнуть в меня силы и заставить подняться. Я, однако, никак не мог решиться это сделать, ибо испытывал неизъяснимое блаженство и, пребывая в каком-то бездумном забытьи, упивался шепотом этого летнего ветерка, украдкой проникавшего в комнату сквозь решетчатые ставни. И тут мне показалось, что из глубины ризницы доносится чей-то голос; звучал он, однако, так тихо, что слова различить было невозможно. Я не шевелился и весь обратился в слух. Незнакомец, казалось, произносил одну из тех отрывистых молитв, которые мы называем «горячими». Наконец я четко различил слова: «Дух истины, спаси жертв невежества и лжи». «Отец Эжезип! – произнес я еле слышно. – Это вы вернулись за мной?» Ответа не последовало. Я приподнялся на локтях и стал прислушиваться, но больше ничего не услышал. Тогда я встал на ноги и огляделся; я упал так близко от единственной двери, ведущей в эту небольшую комнатку, что после ухода моего духовника никто не мог бы зайти сюда, не споткнувшись о мое бесчувственное тело; вдобавок дверь эта, запиравшаяся на задвижку старинной конструкции, открывалась только внутрь. Я подергал ее и убедился, что она закрыта. Несколько мгновений я стоял, не решаясь тронуться с места. Прислонившись к двери, я всматривался в полумрак, царивший в углах комнаты. Из слухового окошка, закрытого дубовым ставнем, на середину комнаты падал бледный солнечный луч. Ветерок, терзавший ставень, то раскрывал его пошире, то почти совсем захлопывал, лишая комнату даже и этого слабого источника света. В этой полуосвещенной части ризницы я разглядел скамеечку для молитвы, украшенную изображением черепа, несколько разбросанных на полу книг и висящий на стене белый стихарь; все они, казалось, колыхались вместе с тенью листвы за окном, которую колебал ветер. Удостоверившись, что, кроме меня, в ризнице никого нет, я устыдился своей робости; осенив себя крестом, я собрался было полностью открыть ставень, как вдруг глубокий вздох, раздавшийся с той стороны, где стояла скамеечка для молитвы, пригвоздил меня к полу. Ведь я достаточно хорошо различал эту скамеечку, чтобы сказать с уверенностью, что она пуста. Тут мне в голову наконец пришла успокоительная мысль: я решил, что кто-то стоит в саду рядом с окном и молится, не подозревая, что я его слышу. Но какой же смельчак мог высказывать пожелания столь дерзновенные? Любопытство, единственная страсть и единственное развлечение, дозволенные в монастыре, овладело мною. Я направился к окну, однако лишь только я сделал шаг, как черная тень, отделившаяся, как мне показалось, от скамеечки для молитвы, метнулась в том же направлении. Тень эта, которую я принял за человеческое тело, промелькнула передо мной, как молния, и движение ее было столь стремительным, что я даже не успел посторониться и едва не лишился чувств вторично, на сей раз от ужаса. Однако я ровным счетом ничего не почувствовал; впору было подумать, что я в самом деле имел дело с тенью, которая пролетела сквозь меня, а затем исчезла где-то в левом углу. Я подбежал к окну, поскорее открыл ставни и осмотрел ризницу; кроме меня, в ней никого не было; я осмотрел сад; он был пуст, и только цветы покачивались под дуновением полуденного ветра. Постепенно ко мне возвратилось мужество, я осмотрел все углы ризницы, заглянул – поскольку она была немалых размеров – за скамеечку для молитвы, встряхнул священнические одежды, развешанные на стенах; ни в чем не было ничего необычного, ни в чем не мог я найти объяснения случившемуся. Увидев, сколько я потерял крови, я решил, что ослабел и стал жертвой галлюцинации. Я удалился в свою келью и не покидал ее до следующего утра. День и ночь я провел в слезах. Истощение, потеря крови, пустые страхи, пережитые в ризнице, – от всего этого я чувствовал себя совершенно разбитым. Никто не пришел меня поддержать и утешить, никто не поинтересовался, что со мною сталось. Из окошка я увидел, как в сад высыпала толпа послушников. Сторожевые псы, охранявшие монастырь, весело бросились навстречу людям, и послушники принялись их ласкать. Сердце мое сжалось при виде этих животных, с которыми люди обращались во сто крат лучше, чем со мной, и которые были во сто крат счастливее меня. Я так свято верил в свое призвание, что даже не помышлял о бунте или бегстве. В своем одиночестве, во всех унижениях и несправедливостях, какие выпали мне на долю, я видел испытание, посланное мне небесами, и возможность заслужить их одобрение. Я молился, клялся в своей покорности, бил себя в грудь, вверял себя покровительству Господа и всех святых. И к утру забылся сладким сном. Разбудило меня странное видение. Мне привиделся отец Алексей: грубо тряся меня за плечо, он повторил мне почти те же слова, которые произнесло таинственное существо в ризнице: «Вставай, жертва невежества и лжи!» Но какое отношение мог иметь отец Алексей к этим словам? Этого я понять не мог. Все дело в том, решил я, что сцена в ризнице постоянно занимает мои мысли, вот я и приписал услышанные там слова отцу Алексею, который – я мог видеть это из окна своей кельи – за час до рассвета, как раз когда на небе гасла луна, возвратился в монастырь из сада. Столь ранняя прогулка отца Алексея ничуть меня не удивила. Отец Алексей был самым образованным из наших монахов: он прекрасно разбирался в астрономии и умел обращаться с многочисленными измерительными инструментами и физическими приборами из монастырской обсерватории. По ночам он проводил опыты и наблюдал за светилами; он жил по своему собственному расписанию и был освобожден от обязанности посещать заутреню и службу после заутрени. Но раз уж отец Алексей явился мне во сне, я задумался о нем и сообразил, что он человек загадочный, вечно чем-то озабочен, часто произносит непонятные фразы, бродит по монастырю как неприкаянный – одним словом, решил я, очень возможно, что именно отец Алексей стоял подле окошка ризницы, именно он пробормотал поразившие меня слова и именно его тень промелькнула по стене, испугав меня, о чем сам отец Алексей и не подозревал. Я замыслил поговорить с ним об этом и, пытаясь предугадать, как он воспримет мои расспросы, обрадовался поводу свести с ним знакомство. Я вспомнил, что этот мрачный старец был единственным, кто ни разу не оскорбил меня ни словом, ни взглядом, единственным, кто ни разу не отвернулся от меня с омерзением, и вообще единственным, кто вовсе не считал для себя обязательными решения, принятые монастырской общиной. Правда, я никогда не слышал от него и ласкового слова, никогда не встречался с ним глазами; похоже, что он вообще не помнил о моем существовании, однако с тем же безразличием взирал он и на других послушников. Он жил в собственном мире, погруженный в мысли о науке. Никто не знал, как он относится к религии; он обсуждал только мир внешний и видимый и, кажется, очень мало заботился о мире ином. Никто не говорил о нем ни плохо, ни хорошо, если же послушники позволяли себе отпустить на его счет какое-нибудь замечание или задать какой-нибудь вопрос, монахи самым суровым тоном советовали им замолчать. Быть может, подумал я, узнав о моих мучениях, он даст мне добрый совет; быть может, он, чья жизнь так же одинока и печальна, не останется равнодушен к послушнику, который впервые за долгие годы явился к нему с просьбой о помощи. Несчастные тянутся друг к другу и друг друга понимают. Быть может, он тоже несчастен; быть может, он посочувствует мне. Прежде чем отправиться к отцу Алексею, я зашел в трапезную. Один из послушников резал хлеб; я сказал ему, что голоден, и он швырнул мне ломоть хлеба, как швырнул бы его бродячей собаке. Я предпочел бы любые оскорбления этой молчаливой и грубой снисходительности. Меня считали недостойным человеческого слова и бросали мне пищу на землю, уравнивая меня, отверженного, с животными. Съев этот горький хлеб, смоченный моими слезами, я направился в келью отца Алексея. Располагалась она вдали от всех остальных, на самом верхнем этаже, рядом с астрономической лабораторией. Чтобы попасть туда, нужно было пройти по узкому балкону, опоясывающему купол собора. Я постучал в дверь; никто не ответил; я вошел. Отец Алексей спал в кресле с книгой в руке. Во сне он имел вид столь мрачный и задумчивый, что я едва не отказался от своего намерения. Отец Алексей был старик среднего роста, крепкий, широкоплечий, согбенный не столько под тяжестью лет, сколько под грузом познаний. Лысый его череп окаймляли сзади завитки темных волос. Волевое лицо было, однако, не лишено известной тонкости и отличалось непостижимым смешением дряхлости и мощи. Я постарался пройти мимо его кресла бесшумно, боясь разбудить спящего и тем рассердить; однако, несмотря на все предосторожности, он заметил мое присутствие и, не поднимая отяжелевшей головы, не открывая впалых глаз, не выказывая ни раздражения, ни удивления, произнес: – Я тебя слышу. – Отец Алексей… – робко начал я. – Почему ты зовешь меня отцом? – спросил он, не меняя ни позы, ни тона. – Обычно ты обращаешься ко мне иначе. Я тебе не отец, а скорее сын, хотя меня иссушили годы, а ты – ты вечно молод, вечно прекрасен! Эти странные речи смутили меня. Я хранил молчание. Монах продолжал: – Ну что же, говори, я тебя слушаю. Ты знаешь, что я люблю тебя, как сына, которого произвел на свет, как отца, который дал мне жизнь, как солнце, которое меня освещает, как воздух, которым я дышу, и даже больше, чем все это, вместе взятое. – О отец Алексей! – воскликнул я, изумленный и растроганный столь ласковыми словами, слетевшими с уст столь суровых. – Ваши нежные речи относятся не ко мне. Я слишком жалок и недостоин такой любви, нет на свете существа, кому бы я сумел ее внушить; но раз уж я пришел к вам в ту минуту, когда вы видите счастливый сон, раз память о друге согревает вашу душу, молю вас, добрый отец Алексей, не оставьте меня вашей благосклонностью и по пробуждении взгляните на меня без гнева: я смиренно склоняю перед вами голову, посыпанную пеплом в знак горя и раскаяния. С этими словами я опустился на колени перед отцом Алексеем, ожидая, что он бросит на меня взгляд. Однако не успел он увидеть меня, как вскочил, объятый разом яростью и ужасом. Глаза его сверкали гневом, по безволосым вискам струился холодный пот. – Кто вы такой? – воскликнул он. – Что вам нужно от меня? Что вы здесь делаете? Я вас не знаю! Тщетно я пытался успокоить его своей смиренной позой и молящим взором. – Вы послушник, – сказал он, – а я с послушниками дела не имею. Я не духовник, не раздатчик милостей и поблажек. Зачем вы явились шпионить за мной во время моего сна? Проникнуть в мои мысли вам не удастся. Ступайте назад к тем, кто вас послал, скажите им, что мне недолго осталось жить и что я прошу напоследок оставить меня в покое. Ступайте, ступайте прочь; у меня много дел. В мою лабораторию посторонним вход воспрещен; отчего вы нарушили запрет? Вы подвергаете опасности свою жизнь и мою тоже; ступайте прочь! Я печально повиновался и медленным шагом, объятый отчаянием, полуживой от горя, пошел назад. Отец Алексей проводил меня до конца внешней галереи, словно желая удостовериться, что я в самом деле ухожу. Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей вниз, я обернулся и увидел, что он следит за мной: в глазах его по-прежнему сверкала ярость, губы кривились в недоверчивой усмешке. Властным жестом он приказал мне удалиться поскорее. Я попытался исполнить приказание, но у меня не было сил идти, не было сил жить. Потеряв равновесие, я упал и покатился вниз по лестнице; еще немного, и я перевалился бы через перила и рухнул с самого верха на мощенный камнями монастырский двор. С кошачьим проворством отец Алексей бросился ко мне, с силой схватил меня за плечи и, прижав к себе, спросил резко, но участливо: – Да что с вами такое? Вы больны, отчаялись, лишились разума? Я пробормотал что-то невнятное и, спрятав голову у него на груди, разрыдался. Тогда он взял меня на руки, словно младенца, отнес к себе в келью, усадил в свое кресло, растер мне виски спиртом, а потом смочил им же ноздри и похолодевшие губы. Затем, увидев, что я постепенно прихожу в себя, он принялся осторожно меня расспрашивать. Я открыл ему всю душу: рассказал о тревогах, с которыми мне приходится сражаться в одиночку, ибо мне отказывают не только в помощи и сочувствии, но даже в праве исповедаться. Я уверял его в моей невинности, добрых намерениях и терпеливости, я горько жаловался на тяжесть выпавших на мою долю испытаний и отсутствие хотя бы одного друга, способного утешить меня и укрепить мои силы. Поначалу он слушал меня с прежним страхом и недоверием, но постепенно его суровое чело просветлело, а когда я закончил рассказ о своих злоключениях, крупные слезы покатились по его впалым щекам. – Бедное дитя! – сказал он. – Точно так же они мучили и меня! О несчастная жертва, жертва невежества и лжи! Те же самые слова я слышал в ризнице; мне показалось, что я узнал голос, их произнесший, и, довольный тем, что разгадал эту загадку, я не стал рассказывать новому другу о том, что пережил давеча; однако смысл этого восклицания поразил меня, и, видя, что отец Алексей глубоко погрузился в собственные размышления, я попросил его еще немного поговорить со мной: среди моих бедствий мне было так сладко слышать голос дружеский и сочувственный. – Юноша, – сказал он, – понимали ли вы, что делаете, когда уходили в монастырь? Отдавали ли вы себе отчет в том, что сделаться монахом – значит смолоду заживо похоронить себя, обвенчаться со смертью? – О отец мой, – отвечал я ему, – я это понял, я отдавал себе в этом отчет, я этого хотел и хочу до сих пор; но я хотел умереть для жизни мирской, жизни светской, жизни плотской… – И ты поверил, дитя, что тебе оставят жизнь духовную? Ты, предавший себя в руки монахов, мог в это поверить? – Я хотел возродить свою душу, хотел возвысить и очистить свой дух, дабы жить Богом и в Боге; и вот, вместо того, чтобы приветить меня и протянуть мне руку помощи, меня безжалостно разлучают с Господом и ввергают во тьму сомнения и отчаяния… – «Gustans gustavi paululum mellis, et ecce morior!» [435] – мрачно произнес монах; усевшись на свою постель, он скрестил худые руки на груди и погрузился в размышления. Через некоторое время он встал и принялся мерить келью быстрыми шагами. – Как ваше имя? – спросил он. – Брат Анжель, готовый славить Господа и чтить вас, – отвечал я. Он, однако, не слушая моего ответа, промолвил, помолчав несколько мгновений: – Вы совершили ошибку; если вы желаете быть монахом, если желаете жить в монастыре, вам нужно отказаться от вашего образа мыслей; иначе вы погибнете. –Неужели мне в самом деле суждено умереть из-за того, что я однажды вкусил благодати, что я уверовал, проникся надеждой, воззвал к Господу и молил у Него любви? – Да, из-за этого ты погибнешь ! – громко и свирепо вскричал монах, а затем вновь предался своим грезам, не обращая на меня ни малейшего внимания. Мне сделалось не по себе; отрывистые слова, срывавшиеся с уст отца Алексея, его грубость и раздражительность, всплески чувствительности, сменявшиеся глубочайшим безразличием, – все в нем обличало умственное расстройство. Внезапно он повелительным тоном повторил давешний вопрос: – Ваше имя? – Анжель, – отвечал я кротко. – Анжель! – повторил он, глядя на меня с видом человека, на которого снизошло вдохновение. – Мне было сказано: «К скончанию дней твоих ниспошлют тебе ангела, и узнаешь ты его по стреле, пронзившей его сердце. Придет он к тебе и попросит: «Извлеки стрелу из сердца, ибо причиняет она муку смертную». И если извлечешь ты эту стрелу, тотчас отпадет та, коя мучает тебя, и затянется рана твоя, и будешь жив». – Отец мой, – сказал я, – эти слова мне незнакомы, я нигде их не читал. – Все дело в том, что ты еще очень мало знаешь, – отвечал он, ласково погладив меня по голове, – все дело в том, что ты еще не встретил человека, способного исцелить твою рану; а я умею понимать речи Духа и знаю тебя. Ты тот, кто должен был явиться мне; теперь я узнаю тебя; волосы твои светлы, как у того, кто тебя послал. Сын мой, будь благословен, и пусть исполнишься ты волею Духа… Ты сын мой возлюбленный, и тебе отдам я всю свою любовь. Он прижал меня к своей груди и поднял очи горе; лицо его приняло выражение донельзя возвышенное. Мне доводилось видеть такое выражение лишь у святых и апостолов на фресках в монастырской церкви. То, в чем я прежде подозревал умственное расстройство, теперь обернулось в моих глазах вдохновением. Мне показалось, что передо мной архангел, и я пал перед ним на колени, а затем простерся ниц. Он возложил руки мне на голову со словами: – Страданиям твоим настал конец! Да прекратит острие боли терзать твою душу; да прекратит ядовитое жало несправедливости и гонений впиваться в твою грудь; да прекратит кровь твоего сердца орошать бесчувственный мрамор. Утешься и исцелись, будь силен и благословен. Встань! Я встал; душу мое залило такое безмерное счастье, ум мой укрепился столь безграничной надеждой, что я вскричал: – Да, свершилось чудо, и теперь я признаю, что вы святой перед Господом. – Не говори так, дитя мое, о человеке слабом и несчастном, – отвечал он печально, – я всего лишь невежественное и ограниченное существо, к которому Дух в милосердии своем порой выказывает снисхождение. Восславим его, ибо ныне он дал мне силу исцелить тебя. Ступай с миром; будь осторожен, никто не должен видеть, как мы разговариваем, никто не должен догадываться, что ты бываешь у меня. – Не гоните меня так скоро, отец мой, – попросил я, – кто знает, когда я смогу вернуться? Послушников, которые приближаются к вашей лаборатории, карают так сурово, что я, возможно, еще очень долго не смогу вновь насладиться беседой с вами. – Мне надобно покинуть тебя и размыслить, – отвечал отец Алексей. – Может случиться так, что за доброе отношение ко мне тебя станут преследовать; но Дух даст тебе силы преодолеть все препятствия, ибо он предсказал мне твое появление, а что сказано, должно сбыться. Он снова сел в кресло и погрузился в глубокий сон. Долго я любовался его лицом, исполненным покоя и сверхъестественной красоты; теперь оно казалось мне совсем не таким, каким предстало вначале. Наконец, поцеловав край его серой сутаны, я тихонько вышел из кельи. Присутствие отца Алексея производило на меня действие поистине колдовское; когда же я расстался с ним и чары рассеялись, все случившееся начало казаться мне сном. Какими же словами пленил он меня, такого набожного, такого правоверного в мыслях и делах, меня, содрогающегося от ужаса и отвращения при одном только упоминании о ереси? Каким заклинанием заставил меня встать на путь тайный, обречь себя судьбе неведомой? Алексей вселил в меня мятежный дух, восстановил меня против моих наставников, людей, которых я был обязан считать и всегда считал безупречными. Он говорил мне о них с глубоким презрением, с еле сдерживаемой ненавистью, а я поддался его темному красноречию. Теперь память моя подсказывала мне все то, что должно было заставить меня усомниться в вере Алексея, и я с ужасом вспоминал, как он на каждом шагу поминал и призывал Духа, ни разу не прибавив к этому имени священный эпитет, каким обозначаем мы третье лицо святой Троицы. Быть может, он возложил руки на мою голову от имени духа зла. Быть может, принимая ласки и утешения от этого подозрительного монаха, я заключил союз с духами тьмы. Я пребывал в смятении, в тревоге; за ночь я не сомкнул глаз ни на минуту. Как и прошлой ночью, заснул я только под утро и проснулся поздно. Со стыдом поняв, как давно не исполнял я долг благочестия, я направился в церковь и вознес к Святому Духу пламенную молитву, прося его просветить меня и избавить от лукавого. Молитва ничуть не укрепила меня, а печаль лишь сильнее завладела моим сердцем, так что из церкви я вышел, пребывая в твердой уверенности, что вот-вот погублю свою душу, и решил исповедаться. Я написал записку отцу Эжезипу, умоляя выслушать меня; он отказался, передав мне свое мнение на словах через одного из самых грубых послушников, и притом в выражениях донельзя пренебрежительных. В то же самое время от послушника этого я узнал, что настоятель запрещает появляться в церкви прежде окончания вечерней службы. Более того, если кто-нибудь из монахов задержится на молитве в хоре [436] или пожелает исполнить какой-либо обет, мне надлежало немедленно избавить Божий храм от своего нечистого присутствия, дабы место мое занял истинный служитель Божий. Этот несправедливый приговор так больно ранил меня, что мною овладела безрассудная ярость. Как одержимый, принялся я колотить кулаком по стенам храма. Послушник вытолкал меня вон из церкви, браня богохульником и святотатцем. Выходя из хора в сад, я от горя и гнева вновь едва не лишился чувств. Какая-то пелена поплыла у меня перед глазами, я покачнулся, однако гордость придала мне сил; я устремился в сад и на пороге едва не столкнулся с внезапно возникшим передо мной незнакомцем. То был юноша изумительный красоты, одетый на иностранный манер. Он, правда, был облачен такую же черную сутану, как и настоятели нашего ордена, но поверх нее имел жакет из тонкого сукна, перетянутый кожаным поясом с серебряной пряжкой, вроде тех, какие носили в старину немецкие студенты. Обут он был вместо монашеских сандалий в плотно облегающие ногу ботинки, также напоминавшие обувь немецких школяров; на отложной воротник его белоснежной рубашки падали светлые кудри – прекраснейшие из всех, какие мне довелось видеть. Почтение и робость боролись в моей душе, и потому я поклонился нерешительно и неловко. Он не поклонился мне вовсе, но улыбнулся так доброжелательно, а прекрасные голубые глаза, прежде столь строгие, так явственно смягчились при виде меня и глянули на меня с такой добротой и таким сочувствием, что черты его навеки врезались мне в память. Я остановился, надеясь, что он заговорит со мной, и не сомневаясь, что человек столь величественной внешности сумеет стать мне защитником; однако послушник, шедший за мной следом и, кажется, не обративший на незнакомца никакого внимания, вынудил его отступить к стене, а меня толкнул так грубо, что я едва не упал. Не желая вступать в борьбу с этим подлым хамом, я поспешил выйти в сад, но, сделав несколько шагов, обернулся и увидел, что незнакомец стоит на прежнем месте и провожает меня взглядом сочувственным и заботливым. Кудри его сияли в солнечных лучах. Он вздохнул и, подняв прекрасные глаза к небесам, словно для того, чтобы заступиться за меня перед вечным судией и поведать ему о моих несчастьях, медленно повернулся к храму, вошел внутрь и растворился во тьме – ибо день стоял такой солнечный, что внутренность храма казалась темной. Несмотря на запрет, мне хотелось воротиться в храм, подойти к благородному чужестранцу и рассказать ему о моих бедах; но был ли он расположен знать о них и мог ли положить им конец? Вдобавок, хотя душа моя влеклась к нему, он внушал мне некий страх, ибо в лице его было ничуть не меньше суровости, чем доброты. Я поднялся к отцу Алексею и рассказал ему о постигших меня новых гонениях. – Отчего же вы поддались сомнениям, о маловер? – грустно спросил он. – Вы зоветесь Анжель, а сами, вместо того чтобы прислушаться к духу жизни, который трепещет внутри вас, вознамерились пасть к ногам человека невежественного, стали просить жизни у трупа! Безграмотный духовник отталкивает вас и унижает. Вы наказаны по грехам вашим, причем в мученичестве вашем нет ни благородства, ни пользы, ибо вы приносите все силы вашего разума в жертву идеям ложным или скудным. Впрочем, я предвидел все это; вы боитесь меня, вы не знаете, слуга ли я ангелов или раб демонов. Всю ночь вы обдумывали мои слова, а утром решили выдать меня моим врагам в обмен на отпущение грехов. – О нет, не думайте так обо мне! – воскликнул я. – Я говорил бы только о себе самом и не произнес бы вашего имени. Увы! неужели и вы тоже будете ко мне несправедливы? Неужели мне суждено быть отверженным всегда и везде? Доступ в храм Господень для меня закрыт, неужели так же закроется для меня и ваше сердце? Отец Эжезип обвиняет меня в безбожии; а вы, отец мой, обвиняете меня в трусости и низости! – Я обвиняю вас, потому что вы в самом деле вели себя трусливо и низко, – отвечал отец Алексей. – Могущество монахов смущает вас, ненависть их вас пугает. Вы завидуете их ничтожным любимчикам. Вы не умеете жить в одиночестве, страдать в одиночестве, любить в одиночестве. – Что ж, вы правы, отец мой, я не умею жить без любви; я признаюсь в этой слабости, если угодно, в этой низости. Быть может, характер мой слаб, но душа моя нежна, и я нуждаюсь в друге. Господь так велик, что Его присутствие повергает меня в трепет. Ум мой столь несмел, что я не нахожу в себе сил принять в себя этого всемогущего Господа и вырвать из Его грозной руки дар благодати. Мне потребен посредник между небесами и мной. Я нуждаюсь в поддержке, в советах, в опоре. Мне нужен человек, который любил бы меня, который ради меня и вместе со мной пекся бы о моем спасении. Мне нужен человек, который молился бы вместе со мной, который вселял бы в меня надежду и сулил мне вечное блаженство. Иначе говоря, я сомневаюсь не в благости Господней, но в чистоте моих собственных намерений. Я боюсь Господа, потому что боюсь самого себя. Воля моя слабеет, отчаяние овладевает мною, я чувствую дыхание смерти, мысли мои мешаются, я перестаю отличать голос неба от голоса ада. Я ищу опору; я скорее соглашусь повиноваться суровому наставнику, который будет карать меня без устали и без жалости, нежели наставнику снисходительному, которому не будет до меня никакого дела. – Бедный ангел, сбившийся с пути! – сказал отец Алексей, смягчившись. – Огонек любви, вырвавшийся из нимба Господня и обреченный тлеть под пеплом жалкой земной жизни! Слушая рассказ о твоих мучениях, я узнаю в тебе ту божественную искру, которая животворила и меня в юности, до тех пор, пока душа моя не зачерствела, а глаза не перестали различать свет, до тех пор, пока пылающее сердце мое не сдавила ледяная власяница, до тех пор, пока сношения мои с Духом не сделались тягостными и редкими, мучительными и полными недоговоренностей. Эти люди сделают с тобой то же, что сделали со мной. Они поселят в твоем сердце невыносимые сомнения, ребяческие сожаления, глупые страхи. Они нашлют на тебя болезни, преждевременную старость, слабоумие, а когда ты наконец стряхнешь с себя все цепи невежества и лжи, когда почувствуешь себя достаточно просвещенным для того, чтобы порвать пелену суеверий, у тебя уже не хватит на это сил. Чувствительность твоя притупится, взор помутится, руки задрожат, мозг ослабеет от усталости и лени. Ты захочешь поднять глаза к звездам, но отяжелевшая голова твоя бессильно рухнет на грудь; ты захочешь читать, но перед глазами твоими запляшут призраки; ты захочешь предаться воспоминаниям, но истощенная память не предъявит тебе ничего, кроме смутной игры тысячи блеклых огней; ты захочешь погрузиться в размышления, но заснешь, не дойдя до постели. А если во сне тебе явится Дух, речи его будут столь темны, что, пробудившись, ты не сумеешь их объяснить. О бедная жертва! Я сочувствую тебе, но спасти тебя я не в силах. Произнося эти слова, отец Алексей дрожал, как в лихорадке: от его жаркого дыхания воздух в келье, казалось, делался более разреженным, вид же его обличал такое полное изнеможение, что можно было подумать, будто жить ему осталось всего несколько мгновений. – Неужели, – сказал я ему, – сочувствие ваше ко мне уже истощилось? да, я был слаб и пуглив; но вы казались мне таким сильным, таким живым; я надеялся, что вам достанет душевного тепла, чтобы простить мне мои заблуждения, забыть их и укрепить меня на верном пути. Душа моя чахнет вместе с вашей; неужели вы не можете, как вчера, сотворить чудо и вдохнуть жизнь в нас обоих? – Сегодня со мной нет Духа, – отвечал он. – Я печален, я сомневаюсь во всем и даже в тебе. Приходи завтра, быть может, на меня снизойдет озарение. – Но что же мне делать до завтра? – Дух силен, Дух добр; быть может, он сам позаботится о тебе. А покамест, дабы смягчить твою горькую участь, я дам тебе совет. Я знаю, отчего монахи так неумолимо жестоки в обращении с тобой. Они ведут себя так со всеми, в ком подозревают прирожденную тягу к справедливости и прямоту суждений. Они со страхом угадывают в тебе человека честного, чувствительного к оскорблениям, сочувствующего страждущим, врага бесчеловечности и низости. Они понимают, что в лице такого человека обретут судью, но не сообщника, и хотят поступить с тобою так же, как поступают со всеми, чья добродетель их пугает, а простодушие смущает. Они хотят превратить тебя в животное, гонениями намереваются заставить тебя забыть разницу между справедливостью и несправедливостью, бесполезными страданиями надеются истребить в тебе все великодушные порывы. Посредством тайных, подлых заговоров, посредством загадок, не имеющих разгадок, и наказаний, не имеющих причины, они желают насильно приучить тебя любить и уважать только самого себя, не искать сочувственников, не верить в родство душ и презирать дружбу. Они хотят, чтобы ты разуверился в милости Господней, чтобы ты разлюбил молитву, научился лгать или предавать твоих братьев во время исповеди, чтобы ты сделался завистлив и лжив, стал клеветником и доносчиком. Они хотят превратить тебя в человека развращенного, тупого и подлого. Они хотят внушить тебе, будто на свете нет ничего лучше невоздержанности и праздности, а для того, чтобы предаваться им в свое удовольствие, надобно все опошлить, все предать, унизить все великие воспоминания, убить все благородные поползновения. Они хотят научить тебя лицемерить и ненавидеть, выжидать и мстить, бояться сильных и истязать слабых. Они осуждают твою душу на смерть за то, что она вскормлена медом, за то, что она кротка и невинна. Одним словом, они хотят сделать из тебя монаха. Вот чего они хотят, сын мой; вот за что они взялись, вот чем занимаются они все сообща, одни по расчету, другие по душевной склонности, лучшие по слабости характера, по природной покорности и трусости. – Что я слышу? – вскричал я. – Сердце мое содрогается от рассказа о таких беззакониях! Отец Алексей, о отец Алексей! В какую же бездну суждено мне низвергнуться, если рассказ этот правдив! Но быть может, вы ошибаетесь? Быть может, вас ослепляет память о нанесенной вам обиде? Неужели все здешние монахи так черны душой? Если злой демон изгнал из этих проклятых стен людей искренне верующих, милосердных не на словах, а на деле, где же мне искать их? Говоря так, я ломал руки в отчаянии. – Напрасно будешь ты искать монастырь, менее погрязший в скверне, монахов, более преданных добродетели; все они одинаковы. На земле более не осталось веры; порок здесь наслаждается безнаказанностью. Твой удел – труд и боль, ибо жить – значит трудиться и страдать. – Я согласен, согласен! Но я хочу сеять и пожинать урожай. Я хочу трудиться, исполненный веры и надежды; я хочу страдать во имя милосердия. Я покину это отвратительное вместилище пороков; я изорву эти белые одежды, лживый символ чистоты. Я вернусь в мир или удалюсь в пустыню, дабы там, неподвластный соблазну, оплакивать заблуждения рода человеческого… – Что ж, – сказал отец Алексей, сжав мои руки, – мне мил этот взрыв гнева и этот проблеск мужества. И я мучился подобными сомнениями, и я принимал подобные решения. И я хотел бежать, и я желал жить среди мирян или затвориться в недоступных подземельях; выслушай, однако, советы, какие дал мне Дух в пору моего испытания, и запечатлей их в своей памяти: «Не говори: я буду жить среди людей и буду лучшим из них, ибо всякая плоть слаба, и дух твой ослабеет среди плотских соблазнов, как ослабел их дух. Не говори также: я удалюсь в пустыню и буду жить там духом единым, ибо дух человеческий подвержен гордыне, а гордынею дух развращается. Живи с теми, кто тебя окружает. Остерегайся их козней. Умей быть одиноким среди людей. Умей отворачивать свой взор от их черных дел и смотреть в глубь собственной души; не питай против них злобы, но не вздумай подражать им. Делай добро людям сегодняшним, не отнимая у них ни сердца, ни руки своей. Делай добро людям завтрашним, не затворяя духа своего для света Духа. Жизнь мирская расслабляет, жизнь пустынническая возбуждает. Оставьте инструмент под открытым небом, и от непогоды струны его провиснут; спрячьте его в футляр, и от недостатка воздуха струны егопорвутся. Внимая смыслу слов человеческих, ты забудешь Духа и не сможешь его понимать. Но, закрыв свой слух для звуков голоса человеческого, ты забудешь людей и не сможешь их наставлять». Отец Алексей произносил стихи этой неведомой Библии, заглядывая в книгу, которую я и прежде видел у него в руках; можно было подумать, что он справляется с ее текстом, однако страницы этой книги были белы и пусты. При виде явления столь удивительного тревоги мои проснулись вновь и я принялся наблюдать за отцом Алексеем с еще большим любопытством. В лице его, однако, ничто не обличало не только смятения, но даже и волнения. Он тихонько закрыл книгу и обратился ко мне совершенно хладнокровно: – Итак, не вздумай возвращаться в мир, ибо ты слаб, и ветер страстей может погасить факел твоего ума. Если вожделение и тщеславие вонзят в тебя свое жало, ты, возможно, не устоишь. Что до меня, я бежал от мирской жизни, поскольку был силен, а сильного человека страсти доводят до исступления. Обольщения самонадеянности и сластолюбия я бы превозмог, но уступил бы соблазнам честолюбия и ненависти, сделался бы суров, нетерпим, мстителен, горделив, иначе говоря, стал бы эгоистом. И ты, и я, мы оба созданы для жизни монастырской. Человек, услышавший голос Духа, пусть даже голос этот раздался один-единственный раз и прозвучал еле слышно, должен все бросить и пойти за Духом туда, куда он поведет, какими бы бедами это ни грозило. Воротиться он уже не властен, ибо тому, кто однажды презрел радости плоти ради велений духа, назад путь заказан: оскорбленная плоть мстит духу и гонит его в свой черед. Тут разыгрывается в сердце человеческом страшная борьба между плотью и духом; они пожирают друг друга, и человек гибнет, не изведав жизни. Те, кто живет духом, ведут жизнь возвышенную, однако жизнь эта трудна и горька. Не из пустой предосторожности отгораживаются монахи каменными стенами и медными решетками от мирских соблазнов и плотских радостей. Так сильны суетные желания, что их не подавить иначе, как похоронив себя заживо. Впрочем, отрадно при этом видеть подле себя других людей, которые – пусть даже только по видимости – посвятили себя поклонению духу. Мысль об основании религиозных общин – мысль мудрая. Где, однако, те времена, когда монахи любили друг друга по-братски, трудились сообща и милосердно помогали друг другу призывать дух и отвергать грубые подсказки материи? Некогда монастыри служили источниками света, прогресса и величия; но они же сделаются для света, прогресса и величия темной могилой, если хоть кто-то из нас не будет ежедневно вступать в жестокую схватку с невежеством и ложью во имя истины. Станем же сражаться, не жалея сил; станем исполнять свой долг, пусть даже против нас выступят все силы ада, вместе взятые. Если нам отрубят обе руки, ухватимся за борт корабля зубами и спасемся, ибо с нами Дух. Он живет здесь, и горе тому, кто оскверняет его святилище! Сохраним же верность ему и веру в него, ибо лучше бесполезное мученичество, нежели трусливое бегство. – Вы правы, отец мой, – отвечал я, пораженный его речами. – Уроки ваши – уроки мудрости. Я хочу быть вашим учеником и поступать лишь так, как велите вы. Скажите же, что я должен делать, чтобы сохранить силу и продолжать борьбу за спасение своей души, невзирая на гонения. – Ты снесешь гонения с легкостью, – отвечал отец Алексей, – если будешь помнить о том, как мало стоит уважение монахов и как мало власти имеют они над нами. Разумеется, если на твоих глазах другую невинную жертву будут мучить так же, как мучают тебя, и несчастный собрат твой будет страдать так же, как страждешь ты, ярость может вспыхнуть в твоем сердце; однако когда дело касается тебя самого, твой долг – улыбаться, и улыбка твоя станет самым лучшим ответом на тщетные усилия твоих врагов. Вдобавок, чем беспечнее будешь ты держаться, тем скорее утихнет их злоба. Их главная цель – притупить твою чувствительность; их помощник в этом деле – боль; ты же призовешь на помощь отвагу и разум. Они грубы; их легко обмануть. Осуши слезы, прими равнодушный вид, не проси об исповеди, не появляйся в церкви, а появившись, будь угрюм и холоден. Когда они увидят тебя таким, они перестанут тебя бояться и, прекратив разыгрывать грязную комедию, сделаются к тебе снисходительны, как бывает снисходителен ленивый учитель к нерадивому ученику. Сделай так, как говорю я, и, ручаюсь, через три дня настоятель объявит тебе, что ты прощен. Перед тем как проститься с отцом Алексеем, я рассказал ему о незнакомце, которого встретил, выходя из церкви, и спросил, не знает ли он, кто это. Поначалу он слушал меня с большой неохотой и качал головой, как бы желая сказать, что не знает и не желает знать никого из тех, кто стоит во главе ордена; однако после того, как я в подробностях описал облик и наряд незнакомца, в глазах отца Алексея вспыхнул живой интерес и он забросал меня быстрыми, отрывистыми вопросами. Я отвечал так обстоятельно, что образ того, кто, кажется, до сих пор стоит у меня перед глазами и кого мне больше не суждено увидеть, навсегда запечатлелся в моей памяти. В конце концов отец Алексей схватил меня за руки и голосом нежным и радостным воскликнул: – Может ли это быть? Может ли это быть? Неужели ты его видел? Значит, он вернулся? Значит, он снова с нами? Он знает твое имя? Он окликнул тебя? Он извлечет стрелу из твоего сердца! Итак, именно тебе, дитя мое, тебе дано было увидеть его! – Но кто же он, этот незнакомый друг, к которому тотчас повлеклось мое сердце? Познакомьте меня с ним, отец мой, отведите меня к нему, попросите его, чтоб он любил меня так, как я люблю вас и как вы, кажется, любите меня. С какой признательностью обнял бы я того, чей вид исполняет такой радостью вашу душу! – Не в моей власти пойти к нему, – отвечал отец Алексей. – Он сам волен прийти ко мне, а я могу только ждать. Вероятно, сегодня я увижу его, а затем открою тебе то, что будет мне позволено открыть; до этого же не задавай мне вопросов; ибо мне запрещено говорить о нем, а ты не рассказывай никому того, что рассказал мне. Я возразил, что незнакомец, сколько я могу судить, не делал тайны из своего появления, и послушник, вытолкнувший меня из церкви, наверняка видел его. Отец Алексей с улыбкой покачал головой. – Людям, повинующимся велениям плоти, не дано его видеть. Мучимый любопытством, я тем же вечером снова поднялся к отцу Алексею, но он отказался впустить меня в свою келью. – Оставь меня одного, – сказал он. – Я нынче печален, я не смогу тебя утешить. – А ваш друг? – спросил я робко. – Молчи, – отвечал он тоном, не терпящим возражений, – он не пришел ко мне; он удалился, не повидав меня; быть может, он еще вернется. Не думай об этом. Он не любит, когда о нем говорят. Ступай к себе, а завтра веди себя так, как я сказал. Я уже собирался уходить, когда он вдруг окликнул меня. – Анжель, – спросил он, – день нынче был солнечный? – Да, отец мой, солнце сияло очень ярко, особенно с утра. – А в ту минуту, когда ты встретил этого человека, оно сияло так же ярко? – Да, отец мой. – Славно, славно. Итак, до завтра. Я последовал совету отца Алексея и назавтра весь день провел у себя в келье. Вечером я спустился в трапезную в тот час, когда там собрался весь капитул, и, набросившись на дымящееся жаркое, стал со звериной жадностью поглощать кусок за куском; затем, вместо того чтобы, как прежде, внимать чтению жития, я уронил голову на стол и притворился, будто меня сморил сон. Тогда остальные послушники, те самые, которые с отвращением отводили глаза, когда я пребывал во власти скорбей и раскаяния, принялись хохотать над моим скотским состоянием, а монахи вторили их грубым шуткам. Три дня я ломал эту комедию, а на третий день к вечеру меня, как и предсказывал отец Алексей, позвали к настоятелю. Я предстал перед ним, приняв вид боязливый и приниженный; я изобразил человека с неловкими манерами, неповоротливым умом, нечистой совестью. Я разыгрывал все это не ради того, чтобы примириться с этими людьми, которых начинал презирать, но чтобы проверить, верно ли описал их нрав отец Алексей. Я убедился в правоте его суждений, ибо настоятель объявил, что меня несправедливо обвинили в проступке, совершенном другим послушником, но теперь все разъяснилось и я оправдан. Из сострадания к виновному, который покаялся в своем прегрешении, сказал настоятель, он не станет открывать мне имя этого преступника и существо его преступления; затем он объявил, что дозволяет мне присутствовать на молитве в церкви и на занятиях в классе, и настоятельно советовал не таить в сердце ни печали, ни злобы, после чего, внимательно глядя на меня, прибавил: – Тем не менее, сын мой, вы страдали без вины и имеете право на публичное удовлетворение или усладительную награду. Выбирайте, что вам милее: чтобы те послушники, которые, по нашим сведениям, возвели на вас напраслину, принесли вам извинения в присутствии всей общины или чтобы вас на месяц освободили от обязанности присутствовать на ночной службе? Желая продолжить поставленный опыт, я выбрал второе, после чего настоятель стал обращаться со мною совсем ласково и по-свойски. Он обнял меня и сказал вошедшему в это мгновение отцу казначею: – Все улажено, этот юноша не требует за страдания, которые мы невольно ему причинили, ничего, кроме права спокойно спать по ночам в течение месяца; ему необходимо подкрепить силы, истощенные выпавшим на его долю испытанием. Впрочем, он смиренно принимает негласные извинения своих обвинителей и вообще смотрит на все это дело с великой кротостью и похвальной беспечностью. – В добрый час! – отвечал казначей с грубоватым хохотом и не без развязности потрепал меня по щеке. – Вот такие ребята нам нужны; вот такой мирный и незлобивый характер нам по душе. Отец Алексей дал мне и другой совет; он велел сказать настоятелю, что я мечтаю заняться изучением естественных наук и потому прошу дозволения сделаться учеником отца Алексея и его помощником в физических и химических опытах. – Они дозволят тебе это с превеликой охотой, – сказал отец Алексей, – потому что более всего в здешних стенах боятся воодушевления и аскетизма. Все, что может отвлечь ум от истинной его цели и обратить его к вещам материальным, удостаивается поощрения со стороны настоятеля. Он сотню раз предлагал прислать мне помощника, но, подозревая в его избранниках шпионов и предателей, я неизменно находил предлоги для отказа. Однажды мне попытались навязать помощника насильно; я объявил, что, если меня не оставят в покое, если мне не позволят жить в одиночестве, я заброшу науку и перестану заниматься обсерваторией. Они уступили, потому что им некем меня заменить, а между тем монахи обожают выказывать свою ученость и хвастать лабораториями и библиотеками; кроме того, они чувствуют мою энергию и предпочитают, чтобы я растрачивал ее на научные штудии, в которых они ничего не понимают, и не мешался в их монастырские дела; ведь они знают, что в этой борьбе не смогли бы меня сломить. Итак, ступай; скажи им, что получил от меня разрешение проситься мне в помощники. Если они не согласятся сразу, выкажи неудовольствие, напусти на себя мрачный вид; несколько дней подряд побольше молись, постись, вздыхай, выставляй напоказ свое отчаяние и благочестие – чтобы не дать тебе сделаться святым, они постараются сделать из тебя ученого. Я последовал совету отца Алексея. Против ожиданий, настоятель тотчас же согласился удовлетворить мою просьбу. Больше того, пока я благодарил его, он даже бросил на меня пристальный взгляд, в котором сквозило нечто язвительное, сатирическое; казалось, будто он мысленно потирает руки. В душе его родилась мысль, которую не смогли угадать ни я, ни отец Алексей. Меня немедленно освободили от большей части обязанностей послушника, дабы я мог посвящать все время учебе, и даже отвели мне крохотную келью рядом с той, где жил отец Алексей; предполагалось, что так нам будет легче вместе наблюдать по ночам звездное небо. Именно с этих пор я по-настоящему сдружился с отцом Алексеем. С каждым днем я открывал в его душе новые сокровища и с каждым днем любил его все сильнее. Ни у кого на земле не знал я такой кроткой души и такого ангельского терпения, ни от кого не видел такой отеческой заботы. Он принялся учить меня с беспримерным усердием и тщанием. С какой же тревогой убеждался я в хрупкости его здоровья! С какой заботой ухаживал за ним днем и ночью, с каким вниманием ловил движенья его потухших глаз, пытаясь угадать малейшие его желания! Мое появление, кажется, вдохнуло жизнь в его сердце, долгое время не ведавшее человеческих привязанностей и, как он сам говорил, изголодавшееся по любви, ум же его, утомленный одиночеством и уставший сражаться с самим собой, обрадовался собеседнику. Однако чем более крепким и деятельным становился дух отца Алексея, тем слабее делалось тело. Он почти не спал, желудок его переваривал только жидкую пищу, ноги и руки то и дело надолго отнимались. Он ждал смерти спокойно, не испытывая ни страха, ни нетерпения. Что же до меня, то я не мог видеть, как он угасает, без отчаяния, ибо он открыл мне неведомый мир; сердце мое, жадное до любви, купалось в той жизни чувства, в той атмосфере доверительных бесед и сердечных излияний, какую я узнал благодаря этому внезапно обретенному другу. Все мои первоначальные подозрения относительно расстройства его ума рассеялись без следа. Теперь охватывавшие его приступы загадочного возбуждения казались мне порывами гения; темные речи его делались для меня все более ясными, если же по временам я понимал эти речи не до конца, то винил в этом собственное невежество и жил надеждою на то, что однажды смогу понять их вполне. Однако блаженство мое не было безоблачным. Несмелую совесть мою грыз червь. Мне казалось, что отец Алексей верит в Бога не так, как велит христианская церковь. В открытый спор мы с ним, впрочем, никогда не вступали, ибо он избегал обсуждения религиозных догматов и говорил со мною только о науке. Казалось, что мы заключили негласное соглашение: он обязался не нападать на католическую религию, я – не вступаться за нее. Если же мне случалось упомянуть в разговоре с отцом Алексеем сложный моральный казус или нерешенную теологическую проблему, он отказывался сообщить мне свое мнение на этот счет. – В таких делах я не судья, – говорил он. – Ступайте к вашим богословам, они разбираются во всем этом, а я предпочитаю обходить схоластические лабиринты стороной; я служу своему владыке так, как считаю нужным, и не нуждаюсь в духовниках, которые указывали бы мне, что я должен думать и чего не должен; совесть моя чиста, а учиться этой казуистике мне уже поздно. Больше всего он любил рассуждать о плоти и духе, причем, никогда открыто не объявляя о своих разногласиях с христианской доктриной, трактовал эти темы скорее как философ-метафизик, чем как преданный слуга Римско-католической церкви. Тревожило меня и еще одно обстоятельство. Заботясь об углублении моих познаний в области естественных наук, отец Алексей учил меня проводить химические опыты, однако благодаря его же урокам я ясно видел, что опыты эти страдают приблизительностью и необязательностью; впрочем, не успевал я начать необходимые манипуляции, как он прерывал меня и отсылал к неведомым мне книгам, в которых, по его уверению, содержались истины самые драгоценные. Я открывал названную им страницу и читал ему вслух часы напролет. Тем временем он мерил шагами комнату, с воодушевлением поднимал глаза к небу, поглаживал высокий лоб и то и дело восклицал: «Славно! Славно!» Очень скоро я убедился, что книги эти содержали не строгие и точные научные выкладки, но страницы, вдохновленные дерзкой философией и странной моралью. Читая их из уважения к отцу Алексею, я втайне надеялся, что он прервет меня; однако, видя, что он не собирается этого делать, я начинал опасаться за свою веру и, отложив книгу, спрашивал: – Не кажется ли вам, отец мой, что книги, которые мы читаем, наполнены ересями, не думаете ли вы, что сочинения эти, при всей их красоте, противны нашей священной религии? Слыша эти слова, отец Алексей внезапно останавливался, с подавленным видом забирал у меня книгу и, швырнув ее на стол, говорил: – Не знаю! не знаю, дитя мое; я всего лишь больное, ограниченное создание; я не вправе судить о таких вещах; я читаю эти книги, не объявляя их ни хорошими, ни дурными. Не знаю! Ничего не знаю! Вернемся к нашим трудам! И мы оба в молчании брались за работу; я не смел углубляться в свои мысли, он – делиться со мной своими. Более всего раздражала меня его привычка постоянно ссылаться на откровения некоего всемогущего Духа, о котором я не мог составить ясного понятия. Отец Алексей употреблял слово «Дух» в самом широком и смутном значении. Порой он, казалось, именовал Духом Бога, сотворившего мир и вдохнувшего в него жизнь; порой подразумевал под Духом всего-навсего некоего домашнего гения, с которым вступал, подобного Сократу, в тайные сношения. Меня сношения эти приводили в такой ужас, что лишали сна; смежив очи, я вверял себя покровительству своего ангела-хранителя и шепотом заклинал бесов всякий раз, когда перед моим внутренним взором начинали мелькать сонные видения. В эти минуты дух мой делался так немощен, что я испытывал острое желание исповедоваться во всем отцу Эжезипу; не делал я этого только из любви к отцу Алексею, ибо боялся погубить его своими признаниями, как бы осторожны и сдержанны они ни были. Впрочем, с двуми привычками, более всего пугавшими меня, наставник мой скоро простился. Во-первых, заснув в книгой в руках, он по пробуждении уже не пересказывал мне суждения, которые, по его уверению, прочел в этой книге. Во-вторых, он больше не доставал ту тетрадь с чистыми страницами, к которой прежде так любил обращаться, делая вид, будто читает по ней. Я счел, что странные эти обыкновения объяснялись временным расстройством его ума, которое ныне прекратилось и о котором сам он забыл. Боясь огорчить его, я остерегался напоминать об этих эпизодах. Если физическое состояние отца Алексея становилось все хуже и хуже, ум его, казалось, вполне окреп; наставник мой больше не грезил; он мыслил. Нимало не заботясь о своем здоровье, он презирал любые диеты. Я потерял всякую надежду на его выздоровление. Он отвергал все мои просьбы подумать о себе и, обнаруживая христианскую – чтобы не сказать мусульманскую – покорность судьбе, говорил, что участь его предрешена. Все же, когда однажды я бросился к его ногам и со слезами стал умолять его показаться прославленному врачу, который в это время находился в окрестностях монастыря, он с грустной снисходительностью уступил моим настояниям. – Ты этого хочешь, – сказал он, – и напрасно. К чему все это? Что может сделать один человек для другого? Ненадолго укрепить физическую оболочку, на несколько лишних дней удержать в теле животную силу! Дух повинуется лишь силе Духа, а Дух, властвующий надо мной, никогда не покорится слову врача, человека из плоти и крови! Когда пробьет мой час, искру моей души сможет разжечь вновь лишь тот огонь, из которого она родилась. Что станешь ты делать с мужчиной, впавшим в детство, старцем, потерявшим разум, телом, лишившимся души? Тем не менее он согласился принять врача. Тот удивился, найдя человека еще не старого (отцу Алексею было лет шестьдесят, не больше) и обладающего от природы столь крепким телосложением, в состоянии крайнего истощения. Врач счел, что умственные труды подточили физическое здоровье человека, нисколько не заботившегося о своем теле; форма, в которую он облек свой приговор, поразила меня. – Отец мой, – обратился он к отцу Алексею, – нож изрезал ножны. – Одним жалким вместилищем меньше, одним больше, какая разница? – с улыбкой отвечал мой наставник. – Главное ведь в том, что лезвие вечно и никому не под силу его уничтожить! – Да, – согласился доктор, – однако, лишенное защиты, лезвие может заржаветь. – Если лезвие с зазубринами, пользоваться им все равно нельзя; пусть ржавеет, – сказал отец Алексей. – Чтобы пустить в дело, его надобно переплавить. Видя, что я единственный, кого всерьез тревожит судьба отца Алексея, доктор отвел меня в сторону и принялся расспрашивать в подробностях об образе жизни больного. Узнав о его нескончаемых ученых занятиях и беспрестанном возбуждении его ума, он произнес, обращаясь к самому себе: – Очевидно, что печь перегрелась; надежды мало, возвышенный огонь все истребил; единственное, что осталось, – попытаться хотя бы немного угасить этот пламень. Он велел мне в точности следовать его предписаниям, а после попросил у больного разрешения поцеловать его: за то недолгое время, что врач провел у постели отца Алексея, тот успел покорить его сердце. Это проявление сочувствия к моему наставнику растрогало и опечалило меня; поцелуй слишком походил на прощальный. Доктор намеревался возвратиться в наши края лишь через несколько месяцев. Средства, им прописанные, вначале оказали действие поистине чудесное. Добрый мой наставник окреп и встал на ноги; пищеварение его улучшилось, по ночам он спал спокойным сном. Но радовался я недолго, ибо чем лучше становилось физическое состояние отца Алексея, тем хуже чувствовал он себя в отношении моральном. Он впал в меланхолию, меланхолия сменилась печалью, печаль – оцепенением, оцепенение – расстройством ума. Затем разные эти фазы стали сменять одна другую по нескольку раз в день, что окончательно расшатало деятельность всего организма. Отец Алексей вновь стал предаваться грезам и размышлять о химерах. Откуда-то вновь явилась ненавистная мне проклятая книга с чистыми страницам, причем он не только читал по ней, но и ежедневно, вооружившись пером, которое он и не думал обмакивать в чернила, покрывал ее страницы невидимыми буквами. Казалось, что глубочайшая тоска и тайное беспокойство грызут его измученную душу и лишают ее равновесия. Впрочем, ко мне он, несмотря ни на что, относился с прежней добротой, с прежней нежностью; как я ни противился, он пытался продолжать наши занятия, однако не проходило и нескольких минут, как он погружался в сон, а затем, проснувшись так же внезапно, хватал меня за руку и говорил: – Но ведь ты видел его, в самом деле видел? Неужели ты видел его всего один-единственный раз? – Добрый мой учитель! – отвечал я. – Как хотел бы я привести к вам этого друга, который так дорог вашему сердцу! Присутствие его смягчило бы ваши страдания и оживотворило вашу душу. Слыша эти слова, он просыпался окончательно и обрывал меня: – Молчи, несчастный! Молчи! Как смеешь ты говорить об этом? Ты что же, хочешь, чтобы он никогда больше не вернулся и я умер, не повидав его? Я не смел ни о чем его спрашивать; любопытству не было больше места в моем сердце. Там безраздельно царило сострадание, к которому порой примешивался смутный страх. Однажды усталость сморила меня и я заснул раньше обычного. Сон мой был глубок и крепок. Мне снился прекрасный незнакомец, разлука с которым так сильно печалила моего наставника. Он приблизился к моей постели и, склонившись надо мной, прошептал: «Не говорите ему, что я здесь, иначе этот упрямый старец непременно постарается меня увидеть, а я хочу прийти к нему не прежде его смертного часа». В ответ я принялся объяснять, как ждет отец Алексей его прихода, я умолял незнакомца навестить моего наставника, чьи душевные муки достойны сострадания. На этом месте я проснулся и сел на постели; ум мой был так потрясен этим сном, что, дабы убедиться, что незнакомец мне пригрезился, мне пришлось открыть глаза и вытянуть руки. Юноша этот, исполненный красоты и кротости, являлся мне трижды. Голос его звучал у меня в ушах, подобно отдаленным звукам лиры, а исходившее от него благоухание напоминало аромат лилий на утренней заре. Трижды я молил его предстать перед моим наставником; трижды просыпался и обнаруживал, что все происходящее – только сон. На третий раз, однако, меня вернул к реальности взволнованный голос отца Алексея; он звал меня. Я бросился к нему в келью; он сидел на кровати, и как ни тускло светил ночник, но я различил всклокоченную бороду и сверкающие глаза учителя и понял, что он вне себя от возбуждения. – Вы видели его! – вскричал он громким и грубым голосом, какого я никогда от него не слышал. – Вы видели его, а мне об этом не сказали! он говорил с вами, а вы меня не позвали! он покинул вас, а вы не послали его ко мне! Какую же змею пригрел я на своей груди! Вы украли у меня друга! отняли учителя! вы предали, подло обманули, убили меня! Он упал навзничь на постель и на несколько минут лишился чувств. Я подумал, что он кончается, и принялся растирать ему виски той жидкостью, к которой он обычно прибегал, чувствуя приближение обморока. Я пытался согреть ему ноги полами моей сутаны, а руки – моим дыханием. Однако его дыхания я не слышал, а пальцы его оледенели, словно их сковал могильный холод. Я начинал уже терять надежду, когда он пришел в себя, медленно приподнялся и, уткнувшись лбом мне в плечо, произнес с несказанной кротостью: – Анжель, зачем ты здесь в такой час? Неужели ты думаешь, что я совсем плох? Бедное дитя, как сильно ты тревожишься за меня, как сильно устаешь, ходя за мной. Мне не хотелось рассказывать ему о том, что произошло; еще меньше хотелось мне расспрашивать его о причинах непостижимого совпадения наших грез; я боялся, как бы он снова не начал бредить. Кажется, все, что случилось до обморока, полностью изгладилось из его памяти. Он велел мне возвратиться в мою келью, я повиновался, но продолжал прислушиваться к тому, что происходит за стеной; отец Алексей спал, но дышал с трудом; по временам из груди его вырывался хрип, похожий на отдаленный шум прибоя. Наконец я решил, что ему полегчало, и забылся сном, но не прошло и нескольких минут, как меня разбудил мощный голос, очень мало походивший на голос отца Алексея. – Нет, ты никогда не знал меня, никогда меня не понимал, – говорил этот суровый голос, – сотню раз я являлся тебе, а у тебя ни разу не достало мужества предаться в мою власть; впрочем, чего и ждать от монаха, кроме колебаний, трусости и софизмов? – Но я любил тебя! – жалобно, еле слышно отвечал голос отца Алексея. – Ты знаешь, что я молил тебя, искал тебя; я употребил все силы моей души на то, чтобы постичь смысл твоих притч; я преклонял пред тобою колени; я бросил иудейскую веру, я оставил бога евреев и язычников корчиться в муках на окровавленном кресте и не проронил над ним ни слезинки, не обратил к нему ни единой молитвы. – Кто же велел тебе поступать так? – продолжил голос. – Невежественный монах, бездушный философ! Мученик, не ведающий ни энтузиазма, ни веры! Разве приказывал я тебе когда-нибудь презирать назарянина? – Нет, ты никогда не удостаивал меня объяснениями, никогда не соглашался озарить своим светом того, кто стал бы ради тебя поклоняться любым кумирам. Ты ведь знаешь! ты знаешь! стоило тебе захотеть, и я разодрал бы сутану и препоясался ратным оружием. Голос мой звучал бы повсюду; огнем и мечом проповедовал бы я твое Евангелие во всех странах света; я перевернул бы жизнь народов повсюду, от севера до юга, от восхода до заката, и заставил бы весь род человеческий поклоняться тебе. Я имел бы волю, имел бы власть; тебе довольно было сказать только одно слово: «Иди!», довольно было вложить факел в мою руку и двинуться впереди меня путеводной звездой; ради тебя я остановил бы волны морские, сдвинул бы с места горы. Отчего же ты не захотел этого! Ты обрел бы алтари, а я – жизнь; ты был бы богом, а я – твоим пророком! – Да, да, – отвечал незнакомый голос, – гордости и честолюбия тебе не занимать; ободри я тебя, ты и сам согласился бы стать богом. – О владыка! Не презирай меня, не смейся надо мной! Подобные склонности дремали в моей души, но я истребил их. Ты осудил мои дерзкие мечты, мою безрассудную смелость, и я принес в жертву тебе все мои грезы. Ты сказал мне, что насилие не способно править миром, что Дух чуждается потоков крови и бряцанья оружием. Ты сказал мне, что искать Дух надобно в сумраке и уединении, в тишине и сосредоточении. Ты сказал мне, что искать его надобно в ученых занятиях, в самоотречении, в жизни смиренной и безвестной, в бессонных ночах и глубоких размышлениях, в неустанной работе души. Ты сказал мне, что искать его надобно в недрах земли, в книжной пыли, в могиле, кишащей червями; я искал его повсюду, но не смог найти, и вот теперь я умираю, мучимый сомнениями, снедаемый ужасом перед бездной!.. – Замолчи, подлый богохульник! – перебил громовой голос. – Сожаления твои рождены твоей жаждой славы, отчаяние твое – плод твоей гордыни. Спесивый червь, не желающий сойти в могилу, не выведав секрета всемогущего Господа! Да разве есть дело неумолимому прошлому и незнаемому будущему до безвестного монаха, который жил во лжи и умер в невежестве? Разве страшен верховному уму ропот ничтожного бенедиктинца? Разве поколеблется бесконечное могущество высшего судии оттого, что монастырский астроном не сумел измерить его, вооружившись компасом и подзорной трубой? Безжалостный хохот раздался в келье отца Алексея, наставник же мой ответил жалобным стоном. Я слушал этот диалог, пребывая во власти тревоги и ужаса. Стоя босиком на каменном полу, прильнув к полуоткрытой двери, затаив дыхание, я пытался увидеть грозного незнакомца, беседовавшего с моим учителем, однако лампа погасла, а взор мой мутился от ужаса и ничего не различал во тьме. Впрочем, сострадание придало мне мужества; я вошел в келью отца Алексея, с помощью фосфорной спички зажег лампу и подошел к постели больного. В комнате были только мы двое; ни малейший шум, ни малейший беспорядок не обличали стремительного исчезновения страшного гостя. Собравшись с силами, я попытался помочь моему учителю, чье отчаяние разрывало мне сердце. Он сидел на постели, согнувшись пополам, как если бы исполинская рука переломила ему позвоночник и, уткнув лицо в дрожащие колени и стуча зубами, рыдал в голос; потоки слез текли по его седой бороде. Я опустился на колени рядом с его кроватью, я заплакал вместе с ним и принялся утешать его так ласково, как мог бы утешить сын; тронутый моим сочувствием, он на несколько мгновений очнулся и, бросившись мне на грудь, повторил несколько раз: – Я умираю! Умираю без надежды! Умираю, не изведав земной жизни и не ведая, суждена ли мне жизнь вечная! – Отец мой, возлюбленный мой наставник, – говорил я ему, – не знаю, какие горестные видения смущают мой и ваш сон, не знаю, кто этот призрак, явившийся к нам нынче ночью, дабы искушать и грозить, но кем бы он ни был – посланником Бога живого, который внушает нам спасительный страх, или духом тьмы, который истребляет в нас веру в милосердие Господне и осуждает нас на адские муки, – молю вас, положите конец этим видениям, вернитесь в лоно святой матери Церкви. Изгоните демонов, кои вас осаждают, либо завоюйте благорасположение ангелов, кои вас посещают, а для того причаститесь святых таинств и дозвольте мне вознести молитву в вашем присутствии… – Оставь, оставь меня, любезный Анжель, – отвечал он, мягко отстраняя меня, – не изнуряй мой ум ребяческими уговорами. Оставь меня одного, не нарушай больше ни своего, ни моего сна пустыми страхами. Все это только сон; теперь мне гораздо лучше; слезы смягчили мои страдания, слезы – все равно что дождь после грозы, они несут освобождение. Тебя не должно удивлять то, что я произношу во сне. Чуя близость смерти, душа пытается разорвать узы материи и тоскует страшно и странно; однако говорят, что в последнее мгновение Дух укрепляет и возвышает ее. Наутро я получил приказание явиться к настоятелю. Я спустился к нему в комнату; мне сказали, что он занят, и велели подождать по соседству, в зале для собраний капитула. Залу эту я видел второй раз в жизни и воспользовался случаем осмотреть ее; облик ее показался мне величественным и суровым. Впрочем, в ту минуту все это занимало меня лишь в очень малой степени; ночные впечатления угнетали мою душу, смущали и страшили мою совесть и, главное, наполняли мое сердце тревогой за возлюбленного наставника, страдавшего и духовно, и телесно. Тревожил меня и грядущий разговор с настоятелем; ведь с тех пор, как я сделался учеником Алексея, я, хотя сам постоянно и упрекал себя за это, непростительно пренебрегал исполнением религиозного долга. Тем не менее, обводя меланхолическим взором залу, где я очутился, и пытаясь на время забыть о своих печалях и страхах, я был поражен красотой этих древних сводов, силой и дерзостью, какую обнаружил их творец и о какой могут только мечтать архитекторы наших дней. Парусы свода, покрытые каменной вязью, смыкались в вышине, а под ними висели портреты прославленных членов ордена. Эта череда картин в роскошных рамах, эта галерея важных людей в черном имела вид внушительный и мрачный. Шли последние дни осени. Солнечные лучи, проникавшие сквозь высокие окна, озаряли бледно-золотистым светом суровые лица этих почтенных покойников, а заодно расцвечивали и массивную позолоту рам, почерневшую от времени. В монастырских дворах и садах стояла глубокая тишина, и только эхо моих шагов раздавалось под гулкими сводами. Вдруг мне послышались еще чьи-то шаги, причем человек этот шагал так твердо и величаво, что я принял его за настоятеля. Я обернулся, чтобы поздороваться, но никого не увидел и решил, что ошибся. Я вновь двинулся вперед и вновь услышал чужие шаги, хотя находился в зале капитула в полном одиночестве. Когда это повторилось в третий раз, давешние страхи вновь проснулись в моей душе и я уже совсем собрался бежать из залы, однако необходимость дождаться настоятеля остановила меня, и я попытался преодолеть приступ малодушия, убеждая себя в том, что причина моих грез в истощении тела и ума. Чтобы прийти в себя, я опустился на скамью напротив картины, висевшей в самом центре. Она изображала основателя нашего ордена, святого Бенедикта. Я надеялся, что вид этого прекрасного полотна прогонит мучившие меня видения, однако, присмотревшись, я нашел в бледном, страдальческом и вдохновенном лице великого святого разительное сходство с незнакомцем, с которым столкнулся однажды утром на пороге церкви. Я встал, снова сел, подошел поближе, отошел подальше, и чем внимательнее я смотрел, тем больше убеждался в том, что вижу те же самые черты, то же самое выражение лица; вся разница заключалась в том, что спутанные волосы святого были откинуты назад и открывали лоб, а черты обличали более зрелый возраст. Кроме того, святой на портрете был бос и одет в одну лишь черную сутану. Открытие мое привело меня в восхищение и преисполнило гордости. Мне радостно было думать, что мне явился наш святой покровитель и что дух его бережет меня. Вдобавок я с восторгом подумал, что, следовательно, отец Алексей находится на верном пути и что он тоже святой, раз сам святой Бенедикт является ему и то осыпает его благодетельными упреками, то ободряет нежными похвалами. Я сделал шаг вперед, желая преклонить колени перед священным изображением; тут мне в очередной раз послышалось, что кто-то идет за мною следом, и я опять обернулся, но опять никого не увидел. Однако в это мгновение взор мой упал на картину, висевшую напротив портрета святого Бенедикта; каково же было мое удивление, когда я обнаружил на ней человека с тем же кротким и серьезным выражением, с теми же прекрасными волнистыми волосами, какие были у незнакомца, явившегося мне на пороге церкви! Человек, изображенный на этом втором портрете, еще сильнее походил на мое видение. Он стоял точно в такой же позе, в какой видел его я. Он был одет в тот же плащ и те же ботинки, талию его перетягивал тот же пояс. Большие, немного впалые голубые глаза, окаймленные ровными дугами бровей, смотрели вниз задумчиво и проницательно. Полотно было так прекрасно, что я счел его творением того же художника, который создал портрет святого Бенедикта, человек же, на нем изображенный, был прекрасен до такой степени, что все мои подозрения на его счет рассеялись и уступили место бесконечному счастью, которое подарила мне новая встреча пускай не с ним самим, а с его изображением. Нарисован он был с книгой в руке; много книг лежало и у его ног. Те, что валялись на земле, он попирал ногами равнодушно и презрительно, зато на ту, которую он держал в руке, смотрел с величайшим почтением, словно повторяя слова, начертанные на ее переплете: «Hic est veritas!» [437] В то время как я с восторгом любовался его обликом, твердя себе, что человек, чей портрет висит в этих стенах, не может не быть особой, достойной почтения, дверь в глубине зала отворилась и отец казначей, человек в высшей степени разговорчивый, пришел помочь мне скоротать время до прихода настоятеля. – Вас, я вижу, привели в восторг здешние картины, – сказал он. – Наш святой Бенедикт, как говорят, настоящий шедевр. Иные любители даже приписывали его кисти Ван Дейка; однако он создан уже после смерти этого художника. Скорее всего нашего святого Бенедикта написал один из учеников Ван Дейка, в совершенстве усвоивший его манеру. В датах ошибки быть не может: Петр Эброний появился здесь около тысяча шестьсот девяностого года, а в это время Ван Дейка уже не было в живых; между тем, как вы, должно быть, заметили, святой Бенедикт писан с Петра Эброния, которому в ту пору было немногим больше тридцати. – Да кто же такой этот Петр Эброний? – спросил я. – Как! Неужели вы не знаете? Это тот, кого здесь именуют аббатом Спиридионом; именно этот почтенный священнослужитель основал нашу общину. Как видите, – сказал отец казначей, указывая на портрет моего незнакомца, – он был одним из красивейших людей своего времени, так что живописцу трудно отыскать более подходящую модель для изображения святого. – Значит, он умер? – воскликнул я, забывшись. – В тысяча шестьсот девяносто восьмом году или около того, – подтвердил казначей, – примерно сто лет назад. Как видите, на портрете он держит в руках одну книгу и попирает ногами многие другие. Говорят, что та, которая у него в руках, – это «Четвертое предостережение, к протестантам обращенное», писанное Боссюэ, а остальные – богомерзкие книги Лютера и его последователей. В этом изображении усматривают намек на свершившееся незадолго до того обращение Петра Эброния и его переход в истинную веру, которой он служил не за страх, а за совесть, ибо постригся в монахи, а все свое состояние отдал на строительство нашей святой обители. – В самом деле, – сказал я, – мне доводилось слышать, что основатель нашего монастыря был человек в высшей степени достойный и что он жил и умер в святости. Казначей с улыбкой покачал головой. – Вести правильную жизнь нетрудно; правильно встретить смерть – куда труднее! Если монах с головой уходит в научные изыскания, это до добра не доводит. Ум возбуждается, гордыня подчас кружит самые светлые головы, и люди обнаруживают, что им наскучило верить одним и тем же истинам. Тогда они пускаются на поиски истин поновее и очень скоро сбиваются с пути. Дьяволу это на руку; порой под видом прекрасной философии, вдохновленной небесами, он подсовывает вам плоды чудовищных заблуждений, от которых оказывается очень трудно отречься в последний, решающий час. Люди сведущие говорили мне по секрету, что под конец жизни аббат Спиридион, хотя и продолжал вести жизнь аскетическую и святую, чересчур пристратился к чтению дурных книг, которые изучал якобы для того, чтобы более убедительно их опровергнуть, и вот мало-помалу яд заблуждения проник в его ум. Слывя образцовым монахом, втайне он, кажется, впал в ересь куда более чудовищную, чем та, адептом которой он был в юности. Чудовищные сочинения иудея Спинозы и адские доктрины философов той же школы превратили аббата Спиридиона в пантеиста, иначе говоря, в безбожника. Да, мой возлюбленный сын, учтите это, и да не заведет вас никогда любовь к науке – в сущности, не что иное, как пустое любопытство, – в такие страшные дебри! Говорят, что в последние годы жизни Эброний наплодил бесчисленное множество гнусных писаний. К счастью, на смертном одре он раскаялся и сжег их своей собственной рукой, дабы в дальнейшем яд их не погубил простецов, которые стали бы их читать. Умер он по видимости в мире с Господом, и те, кто знал его только издали и принимал за святого, были удивлены отсутствием чудес на его могиле. Люди же прямые и судившие о нем более справедливо, воздерживались объявить вслух о своих сомнениях относительно его загробной участи. Были, между прочим, и такие, кто полагал, будто он доходил до занятий колдовством, а у смертного его одра явился сам дьявол. Впрочем, наверное тут ничего сказать нельзя, а потому было бы неосторожно и даже опасно рассуждать на эту тему. Упокой Господь его душу! Он щедро помогал неимущим и основал наш монастырь, а потому за гробом ему, возможно, даровано было прощение; в знак этой надежды и висит здесь его портрет. Наш разговор был прерван появлением настоятеля. Казначей, прижав руки к груди, поклонился до земли и оставил нас вдвоем. Настоятель смерил меня глазами и сухо потребовал у меня отчета о моих долгих бдениях в обществе отца Алексея и о тех голосах, которые слышатся каждую ночь из его кельи. Я попытался списать все на болезнь моего наставника, однако настоятель сказал, что особа, достойная доверия, поднималась перед рассветом на башню, дабы завести монастырские часы, и слышала доносившиеся из наших келий угрозы, крики и проклятия. – Надеюсь, – прибавил настоятель, – что вы ответите мне просто и прямо; любой проступок можно простить, если виновный признает свою вину и раскается в ней, если же вы не сумеете дать мне удовлетворительные объяснения добровольно, вас принудят к этому посредством самым суровых наказаний. – Преподобный отец, – отвечал я, – не знаю, в чем могут подозревать меня при этих обстоятельствах. Отец Алексей в самом деле всю ночь разговаривал громко и даже с превеликим возбуждением; однако разговор этот был не что иное, как следствие лихорадки и бреда. Что до меня, я плакал, не в силах спокойно видеть его мучений; он же, когда приходил в себя, обращал к Богу жаркие молитвы. Я молился вместе с ним, вторя его словам и чувствам. – Придумано складно, – презрительным тоном заметил настоятель, – любопытно, однако, узнать, что вы скажете о ярком свете, который озарил вдруг ваши кельи и весь купол, а также и о пламени, которое вырвалось сверху из башни и рассеялось в небесах, оставив ужасный запах серы? Какое объяснение приищете вы всему этому? – Не постигаю, преподобный отец, – отвечал я, – отчего человеку дозволено сидеть ночью у постели больного и молиться за него, но не дозволено зажечь лампу с помощьюфосфора и серы? Возможно, я был недостаточно осторожен при употреблении этой смеси, и оттого неприятный запах распространился по всему дому; осмелюсь утверждать, однако, что запах этот не несет с собою никакой опасности; ни при каких условиях фосфорная спичка не может стать причиною пожара. Умоляю вас, преподобный отец, простите мне мою неосторожность, в которой виноват только я один. Настоятель устремил на меня пристальный взгляд, словно желая узнать, как далеко может зайти мое бесстыдство, затем поднял глаза к небу, всем своим видом выражая величайшее негодование, и вышел, не удостоив меня ни единым словом. Оставшись один, я, томимый страхом не за себя, но за отца Алексея, над которым, судя по всему, нависла гроза, невольно обратил взор на портрет Эброния и молитвенно сложил руки, охваченный неодолимым порывом любви и надежды. В эту минуту солнце озарило лицо основателя монастыря, и мне показалось, что голова его, а затем рука и все туловище отделились от полотна и наклонились вперед. Волосы его пришли в движение, глаза сверкнули и устремили на меня взгляд совершенно живой. Тут сердце мое забилось с удвоенной силой, в ушах зашумело, в глазах помутилось, и, чувствуя, что отвага моя на исходе, я поспешно удалился. Печаль и тревога овладели мною. Потому ли, что ненависть и клевета выдали те поступки отца Алексея, которые мне казались сомнительными, за несомненные преступления, потому ли, что я, как и он, стал жертвою духа зла, и очевидцы, достойные доверия, заметили в его поведении нечто более предосудительное, чем замечал я, но я предчувствовал, что несчастный мой наставник станет жертвой гонений и последние минуты его жизни, и без того столь мучительные, будут омрачены упреками и обвинениями. Я предпочел бы скрыть от него наш разговор с настоятелем, однако не видел иного способа отвести от него сгущавшиеся над ним тучи, кроме как уговорить его возвратиться в лоно Церкви. Мой рассказ и мои мольбы он выслушал с полным безразличием, а когда я замолчал, сказал: – Не тревожься; Дух с нами, а люди из плоти бессильны нам повредить. Дух суров, Дух требователен, Дух разгневан; но он на нашей стороне. И если даже на нас обрушатся кары, если даже наши тела – твое, юное и нежное, и мое, старое и готовое к смерти, – заключат в сырую и мрачную темницу, Дух поднимется к нам из недр земли, как он опускается к нам сейчас вместе с лучами солнца. Не бойся, сын мой; там, где веет Дух, там царят свет, тепло и жизнь. Я хотел расспросить его подробнее, но он знаком показал, что нуждается в покое, и, усевшись в кресло, погрузился в размышления; безволосый его череп и глаза, устремленные в землю, были исполнены беспримерного величия и покоя. В душе его жила неведомая добродетель, которая подавляла все мои подозрения и заглушала все мои страхи. Я любил его сильнее, чем сын любит отца. Его страдания были моими, и если бы Господь проклял его, я, несмотря на всю свою богобоязненность, пожелал бы себе той же участи. До этой минуты меня мучили сомнения, однако ощущение грозившей отцу Алексею опасности придало мне силы; отныне я больше не колебался. Мне предстояло сделать выбор между голосом собственной совести и воплем его тоски; сознаюсь, выбор этот я сделал, движимый чувствами сугубо человеческими. Если ему не суждено спастись в загробной жизни, думал я, пусть же он, по крайней мере, мирно окончит жизнь земную, а если за это желание я буду наказан, что ж – да свершится воля Господня!.. Под вечер, когда он тихо дремал, а я молился у его постели, дверь внезапно отворилась и перед мной предстало чудовище. Испуг мой был так силен, что я не мог вымолвить ни единого слова, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Волосы мои стали дыбом, а глаза были прикованы к ужасному видению; я смотрел на него не отрываясь, как смотрит птица на змею. Учитель мой спал, а отвратительное чудовище замерло у подножья его постели. Я зажмурился, чтобы не видеть этого страшного гостя и чтобы призвать на помощь силу своего разума. Когда я открыл глаза, чудовище оставалось на прежнем месте. Тогда я попытался закричать, однако, как я ни старался, из груди моей вырвался лишь глухой хрип, который, однако, разбудил моего наставника. Он увидел чудовище, но, не выказав ни отвращения, ни ужаса, произнес с легким удивлением: – Ну-ну! – Ты звал меня; я пришел, – произнес призрак. Учитель мой пожал плечами и, повернувшись ко мне, спросил: – Тебе страшно? Ты считаешь, что это дух, дьявол? Нет-нет, разуверься, духи не принимают такой формы, а будь они так бессмысленно уродливы, они не имели бы возможности являться людям. Разум человеческий пребывает под охраной духа мудрости. Это вовсе не призрак, это человек из плоти и крови. С этими словами он встал, подошел к чудовищу и, железной рукой схватив его за горло, приказал: – А теперь снимите маску и не воображайте, будто этот гнусный маскарад способен меня испугать. Призрак упал на колени, Алексей сорвал с него маску, и я узнал послушника по имени Доминик – того самого, что некогда выгнал меня из церкви. – Возьми лампу! – велел мне Алексей громким и твердым голосом; глаза его светились издевательской веселостью. – Иди вперед; мне надо вывести этих негодяев на чистую воду. Ну, ступай же! Не мешкай! Неужели ты трусливее зайца? Я все еще не мог прийти в себя, и руки у меня дрожали так сильно, что с трудом удерживали лампу. – Открой дверь, – властно приказал мне мой наставник. Я повиновался; однако, увидев, как он тащит за собою по полу, словно мешок с ветошью, несчастного Доминика, я пришел в ужас; дело в том, что в припадке ярости отец Алексей не знал удержу, и я боялся, как бы он не сбросил мнимого демона со страшной высоты. – Пощадите, отец мой, пощадите его! – взмолился я, вставая между отцом Алексеем и нашим непрошеным гостем. – Неужели вы запятнаете руки кровью? Отец Алексей пожал плечами и сказал: – Ты глуп! Раз ты не хочешь идти передо мной, иди следом! По-прежнему таща за собою послушника, который вообще-то был человеком крепкого сложения, однако теперь, казалось, повиновался некоей сверхчеловеческой силе, отец Алексей покинул балкон, опоясывающий купол собора, и быстро пошел вниз по лестнице. Тут страхи мои немного рассеялись, и я последовал за ним. Внизу меж тем собралось немало монахов; по всей вероятности, они ожидали рассказа о признаниях, которые мнимому демону удалось вырвать у моего учителя, однако, услышав ужасный шум и увидев сцену, сильно отличавшуюся от той, какую они надеялись увидеть, монахи натянули капюшоны и скрылись во тьме. Впрочем, мы успели рассмотреть их одеяния и убедились, что в большинстве своем это были послушники. Ни один из монахов не участвовал в этом кощунственном фарсе, однако, как мы узнали позже, задуман он был настоятелем и его присными. Алексей тем временем продолжал столь же быстрым шагом спускаться вниз, таща своего пленника за собой. Тот порой делал попытки освободиться, однако учитель мой исполинской рукой сдавливал ему горло и швырял обратно на ступени лестницы. Пальцы Алексея покраснели от крови, а у Доминика глаза вылезали из орбит. Я по-прежнему шел за ними следом, и таким манером мы добрались до самого низа лестницы, ведшей во внутренние монастырские галереи. В этом месте издавна висел большой колокол, в который звонили только в тех случаях, когда умирал кто-то из монахов, и который поэтому носил название articulo mortis [438] . Держа одной рукой поверженного им демона, Алексей другой схватился за веревку колокола и стал звонить с такой силой, что разбудил всех обитателей монастыря. Тотчас повсюду стали открываться двери, отовсюду стал слышен шум шагов. Монахи, послушники, слуги – все сбежались на звук колокола, и вскоре монастырский двор наполнился народом. Эти перепуганные, смятенные люди, освещенные одним только мерцающим светом моей лампы, напоминали обитателей долины Иосафатовой, которые пробудились от смертного сна при звуках трубы, возвестившей начало Страшного суда. Тщетно собравшиеся спрашивали отца Алексея о причине этого трезвона, тщетно пытались вырвать из его рук несчастного Доминика: наставник мой, движимый, казалось, сверхъестественной силой, продолжал звонить, подавляя толпу и гулом колокола, и звуком своего громового голоса. – Мне недостает еще кое-кого, – повторял он, – когда этот недостающий появится, я все объясню, покорюсь всему, но пока он не придет, как пришли все остальные, я не перестану звонить. Наконец самым последним к нам присоединился настоятель; только после этого отец Алексей выпустил из рук колокольную веревку. Впрочем, он по-прежнему попирал ногами отвратительное чудовище, и облик его в эту минуту был исполнен такой красоты и мощи, глаза сверкали так победоносно, что на память приходил архангел Михаил, поражающий дракона. Все смотрели на него, затаив дыхание и словно оцепенев. И вот среди этой могильной тишины старец возвысил голос и обратился к настоятелю: – Взгляните, отец мой, что здесь творится! Вместо того чтобы дать мне спокойно встретить свой смертный час, насельники этой святой обители, именующие себя моими братьями, омрачают мои последние минуты подлым любопытством и низким обманом. Они подсылают ко мне вот этого негодяя по имени Доминик! (С этими словами он поднял голову послушника достаточно высоко, дабы все присутствующие могли убедиться, что это именно он.) Они подсылают его, напялив на него эту омерзительную маску, велят ему подойти к моей постели и прокричать мне в ухо отвратительные угрозы, которые призваны пробудить меня от сна – быть может, последнего сна в моей земной жизни! На что они надеялись? На то, что им удастся запугать меня, поразить мой ослабевший ум ужасным видением и вырвать у меня постыдные слова и чудовищные признания? Если бы они и впрямь имели дело с человеком слабого ума, если бы адское видение и впрямь убило меня, не давши мне времени прийти в себя и прочесть молитву, если бы по этой причине душа моя отправилась в ад – кто, скажите мне, был бы в этом виноват? Я обращаюсь к вам, люди здравомыслящие и благонамеренные, к вам, собравшимся здесь в этот час, я тревожусь не за себя, ибо моя жизнь кончена, я тревожусь за вас, ибо ваша жизнь еще впереди и я хочу, чтобы вы могли испить свою чашу в спокойствии; именно ради этого я прошу вас вместе со мной потребовать справедливого суда у нашего духовного отца, который стоит теперь перед нами, и у Отца Небесного, который выше нас. Справедливого суда, отец мой! Я жду, я требую справедливого суда! Тут все люди благожелательные и прямодушные закричали хором, вторя отцу Алексею: «Справедливого суда! Мы требуем справедливого суда!» Настоятель взирал на эту сцену с лицом совершенно непроницаемым. Впрочем, он казался бледнее обычного. Несколько минут он молчал, и только легкое подрагивание бровей выдавало владевшее им волнение. Наконец он произнес: – Сын мой Алексей, прости этого человека. – Да, я прощу ему, но при условии, что вы, отец мой, его накажете, – отвечал Алексей. – Сын мой Алексей, – возразил настоятель, – разве подобают такие чувства человеку, который, по его словам, готовится предстать перед Божьим судом? Я прошу вас простить этого человека и дать ему свободу. Алексей помедлил мгновение, но затем понял, что если он не смирит свою ярость, то это будет на руку его врагам. Он сделал два шага вперед и, толкнув своего пленника к ногам настоятеля, но все еще не выпуская его на свободу, произнес: – Преподобный отец, я прощаю, потому что таков мой долг и ваше желание, но поскольку оскорбление было нанесено не мне, а небесам, поскольку вызов брошен вашей добродетели, вашей мудрости и вашему авторитету, я оставляю виновного у ваших ног и сам преклоняю колени рядом с ним, умоляя ваше преподобие простить его и вознести молитву для того, чтобы Всевышний также его простил. Враги моего наставника надеялись, что своей гневливостью и строптивостью он навредит себе, однако выказанное им смирение разрушило все их злокозненные замыслы, те же, кто принял его сторону, встретили его поступок с таким воодушевлением, что настоятель был вынужден также одобрить его поведение, по крайней мере на словах. – Сын мой Алексей, – сказал он, поднимая его с колен и целуя, – я тронут вашим смирением и милосердием; однако я не вправе простить этому человеку так, как простили ему вы. Ваш долг заключался в том, чтобы заступиться за него, мой же состоит в том, чтобы сурово его покарать, что и будет исполнено, как того требует небесное правосудие и устав нашего ордена. Все, кто услышал этот суровый приговор, содрогнулись от ужаса, ибо святотатство каралось суровее всех прочих прегрешений, и ни один монах не знал заранее, каким именно наказаниям подвергаются виновные в этом преступлении. Больше того, наказанным было строго-настрого запрещено говорить о том, что происходило в ними в темнице; за нарушение запрета та же самая кара грозила им вторично. Судя по тому, в каком состоянии выходили на свободу те, кто испил свою чашу, в темнице им довелось испытать ужаснейшие муки; некоторые из этих несчастных умерли вскоре после освобождения. По всей вероятности, учитель мой не принял всерьез грозные речи настоятеля, ибо на губах у него блуждала странная улыбка; тем не менее настоятель уважил его волю, и он счел возможным наконец выпустить свою добычу. Правая рука его так крепко держала врага за шиворот, что ему пришлось разжимать ее пальцы левой рукой. Доминик упал без чувств к ногам настоятеля; тот знаком подозвал четырех послушников, которые и унесли своего собрата. Больше его в монастыре никогда не видели. Произносить его имя и упоминать о его странном проступке было запрещено; по нем отслужили заупокойную службу, но никому из нас не дозволено было узнать о его судьбе; впрочем, впоследствии я увидел его вне стен монастыря; он был толст, бодр и весел, а когда ему напоминали об эпизоде, послужившем причиной его изгнания из обители, лицемерно посмеивался. Учитель мой оперся на мою руку, пошатнулся, побледнел и внезапно утратил всю ту чудесную силу, которая двигала им до той минуты; с трудом я довел его до постели и поднес ему лекарство; проглотив несколько капель, он сказал: – Анжель, мне кажется, я убил бы его, начни настоятель его выгораживать. После этого, не произнеся больше ни единого слова, он заснул. Назавтра отец Алексей проснулся довольно поздно: он был спокоен, но очень слаб; я помог ему подняться с постели, и он не сел, а скорее рухнул в кресло, испустив тяжкий вздох. Я не мог постичь, каким образом это хилое тело способно было накануне творить такие чудеса. – Отец мой, – спросил я у него с тревогой, – вам хуже? Вы страдаете больше обычного? – Нет, – отвечал он, – нет, мне хорошо. – Но какая-то мысль, кажется, гнетет вас. – Я размышляю. – Вы размышляете над всем, что произошло вчера, отец мой. Согласен: здесь есть над чем подумать, но, кажется мне, здесь есть и чему порадоваться. Вы можете быть спокойны: мы заглянули в эту бездну и убедились, что на самом деле злые духи вовсе не покушаются на вас. Алексей улыбнулся мягко, но насмешливо и, покачав головой, сказал: – Неужели ты все еще веришь в существование злых духов, бедный мой Анжель? Ты заблуждаешься! Заблуждаешься! Неужели и ты, как физики в старину, полагаешь, что природа не терпит пустоты? Что же сталось бы с человеком, существом разумным, порождением духа, если бы дурные страсти и низменные плотские инстинкты могли, принимая форму отвратительную или причудливую, смущать его вечерний покой, вторгаться в его ночной сон? Нет, все эти демоны, все эти адские создания, о которых ежедневно твердят невежды и лжецы, суть не что иное, как пустые призраки, измышляемые воображением одних людей ради того, чтобы устрашить других. Человек сильный, наделенный чувством собственного достоинства, смеется в душе своей над жалкими выдумками, посредством которых враги испытывают его отвагу, и, уверенный в их бессилии, засыпает без тревог и просыпается без боязни. – Между тем, – отвечал я, не скрывая своего изумления, – в этой самой келье произошло нечто такое, что заставляет меня придерживаться мнения совершенно противоположного. Давеча ночью отсюда доносились два голоса, и второй, куда более громкий, чем ваш, сурово бранил вас, а вы отвечали ему с болью и страхом. Меня все это испугало, я вошел в вашу келью, желая вам помочь, и застал вас в одиночестве; вы были подавлены и лили горькие слезы. Что же это было? – Это был он. – Он! Кто он? – Ты сам знаешь, ведь он приходил к тебе, он трижды взывал к тебе, как дух Господень трижды взывал к Самуилу, когда тот лежал в храме. – Откуда вы об этом знаете, отец мой? Алексей, кажется, не слышал моего вопрос. Несколько мгновений он сидел неподвижно, уронив голову на грудь и погрузившись в размышления; затем, не поднимая головы и не шевелясь, он заговорил вновь: – Скажи, Анжель, ты видел его средь бела дня? – Да, отец мой, в поддень. Вы уже спрашивали меня об этом. – А солнце светило ярко? – Оно освещало его лицо. – Ты видел его только один раз? Я не смел ответить; я боялся, что стал жертвой иллюзии и собственными заблуждениями лишь укреплю те, во власти которых пребывает Алексей. – Ты видел его еще один раз! – вскричал он нетерпеливо. – Видел и ничего не сказал мне! – Добрый мой учитель, что вам за дело до видений, которые, возможно, суть не что иное, как плоды случайного совпадения или простой игры света? – Анжель, что вы говорите? Сами умолчания ваши для меня красноречивее слов. Говорите, я требую! Если вы не расскажете мне всего, что знаете, я не смогу умереть спокойно! Не в силах противиться его напору, я рассказал об ужасе, который испытал в ризнице, когда, очнувшись от продолжительного обморока и будучи уверен, что нахожусь в полном одиночестве, услышал чьи-то слова и увидел чью-то тень, причем не мог приискать ни тому, ни другому правдоподобных объяснений. – Что же это были за слова? – спросил Алексей. – Обращение к Господу с просьбой спасти жертв невежества и лжи. – А как он звал того, к кому обращался? Он говорил: «О Дух?» Или: «О Иегова?» – Он говорил: «О Дух мудрости!» – А на что была похожа та тень? – Не знаю. Она явилась из тьмы и растворилась в луче света, падавшем из окна, так быстро, что у меня недостало ни времени, ни отваги, чтобы ее рассмотреть. Но послушайте, учитель, я был уверен, что эти слова произнесли вы, я думал, что вы стояли у окна и говорили с самим собой… Алексей недоверчиво покачал головой. – Разве можете вы знать наверное, что не делали этого? Ведь вы в ту пору постоянно бродили по саду и были, как всегда, погружены в собственные мысли? – Скажи, видел ли ты его еще когда-нибудь? – перебил меня Алексей с силой и страстью. – Ты не хочешь сказать мне всей правды, ты хочешь, чтобы я умер, не открывшись родственной душе, не завещав никому моей тайны! Ответь мне, по крайней мере, на другой вопрос. Когда в солнечные дни ты прохаживался в одиночестве по уединенным аллеям сада и, предаваясь горестным размышлениям, призывал на помощь милосердное провидение, не слышал ли ты за своей спиной звука чужих шагов? Я вздрогнул и признался, что этот звук преследовал меня не далее как вчера в зале капитула. – И ты никого не видел? Я рассказал о чудесном действии, какое оказали солнечные лучи на портрет основателя монастыря. Отец Алексей исступленно сжал руки и несколько раз повторил: – Это он, это он!.. Он избрал тебя, он тебя послал, он хочет, чтобы я открылся тебе. Что ж! Я расскажу тебе все. Слушай внимательно и оставь пустое любопытство. Прими мою исповедь, как принимают цветы на заре сладостную небесную росу. Слышал ли ты когда-нибудь о Самуиле Эбронии? – Да, отец мой, если это то же самое лицо, что и аббат Спиридион. И я пересказал ему все то, что услышал давеча от казначея. Отец Алексей презрительно пожал плечами и начал свой рассказ: – В мире плотском люди завещают своим близким богатства материальные. Но бывают узы более благородные и наследство более святое. Тот, кто всю жизнь всеми возможными способами, напрягая все силы, искал истину и в результате усердных трудов и ученых занятий сделал кое-какие открытия в безграничной сфере умственной, тот, не желая унести с собой в могилу отысканное сокровище и позволить исчезнуть во тьме сверкнувшему перед его взором лучу света, спешит избрать среди своих современников человека более молодого, который был бы близок ему по духу и которому он мог бы перед смертью поверить свои мысли и знания, дабы святое дело не прекратилось за смертью первого труженика, дабы другие подхватили его, углубили и расширили и, продолжаясь из рода в род, оно в конце времен осуществилось бы сполна. И поверь, сын мой, что тому, кто берется за продолжение подобных трудов, кто принимает подобное наследство, потребен благородный ум и великое самоотвержение, ведь человеку этому известно заранее, что он не узнает той великой тайны, разгадке которой посвятит всю свою жизнь. Прости мне мою гордыню, дитя мое; быть может, она останется единственной наградой, которую получу я за всю мою многотрудную жизнь; быть может, она окажется единственным колосом, выросшим на каменистом поле, которое я всю жизнь рыхлил в поте лица моего. Я – духовный наследник отца Фульгенция, а ты, Анжель, станешь моим наследником. Отец Фульгенций был здешним монахом; в юности он имел счастье знать основателя монастыря, нашего высокочтимого учителя Эброния, или, как его именуют здесь, аббата Спиридиона. В ту пору Фульгенций сделался для Эброния тем, чем ты, сын мой, сделался для меня; он был юн и добр, неопытен и робок, как ты; учитель любил его, как люблю тебя я, и посвятил его не только в иные из своих тайн, но и в историю своей жизни. Таким образом, то, что я расскажу тебе, я знаю от наследника нашего учителя. При рождении своем Петр Эбронии носил другое имя. Его звали Самуилом. Он был иудей и появился на свет в деревушке неподалеку от Инсбрука. Родные его, люди очень богатые, позволили ему самостоятельно избрать в ранней юности род занятий. Занятия же, к которым он с самого детства выказывал склонность, были самые серьезные. Он любил уединение и проводил дни, а порою и ночи в прогулках по скалистым горам и узким лощинам родного края. Часто усаживался он на берегу быстрых потоков или тихих озер и долгое время оставался недвижим, внимая плеску волн и пытаясь разгадать смысл, какой вкладывает природа в их голос. Чем старше он становился, тем любознательнее и серьезнее делался его ум. Родители поняли, что надобно дать ему солидное образование, и отправили его в один из немецких университетов. Прошло чуть больше ста лет со дня смерти Лютеpa, и память о нем и о его учении еще жила в сердцах и умах верных его учеников. Новая вера продолжала завоевывать сторонников и, казалось, переживала пору наивысшего расцвета. Реформаты пылали тем же рвением, что и в первые дни, хотя чувство их сделалось более просвещенным, более умеренным. Прозелитизм их ничуть не угас и каждый день завоевывал Лютеровой вере новых адептов. Слыша, как последователи Лютера проповедуют мораль и толкуют догматы, унаследованные лютеранством от католицизма, Самуил не мог сдержать восхищения. Будучи наделен от природы умом искренним и смелым, он тотчас сравнил те доктрины, о каких рассказывали ему теперь, с теми, в поклонении которым он был воспитан, и сравнение это помогло ему понять несовершенство иудаизма. Он сказал себе, что религия, которая создана для одного-единственного народа и отторгает от себя все остальное человечество, религия, которая не дает уму ни удовлетворения в настоящем, ни уверенности в будущем, которая презирает живущую в сердце человеческом благородную потребность в любви и дает людям в качестве закона одно лишь варварское правосудие, – такая религия не подобает прекрасным душам и великим умам, а тот, кто объявляет свою переменчивую волю средь громовых раскатов и внушает свои недалекие мысли рабам, объятым низким страхом, не может быть Богом истинным. Человек искренний и последовательный, Самуил всегда говорил то, что думал, и делал то, что говорил; поэтому, прожив год в Германии, он торжественно отрекся от иудейской веры и принял веру реформатскую. Не умея ничего делать наполовину, он решил, насколько было это в его силах, совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового [439] ; в эту-то пору он и поменял имя и из Самуила сделался Петром. В течение некоторого времени он исследовал новую веру и укреплялся в ней. Вскоре изощрил он свои познания до такой степени, что стал искать противников, с которыми мог бы поспорить, и возражений, которые мог бы опровергнуть. Отважный и деятельный от природы, он, не долго думая, взялся за предприятие самое трудное. Первым католическим автором, которого он принялся изучать, был Боссюэ. Приступил он к нему с некоторым пренебрежением; свято веруя в то, что религия, которую он только что избрал, есть средоточие чистой истины, он презирал все возможные нападки, которым может она быть подвергнута, и опрометчиво почитал смешными неопровержимые доводы Орла из Мо [440] . Однако ироническая его недоверчивость очень скоро сменилась изумлением, а затем и восторгом. Когда он увидел мощную логику и грандиозную поэзию, посредством которых французский прелат защищает Римско-католическую церковь, он сказал себе, что дело, отстаиваемое таким адвокатом, заслуживает по меньшей мере почтения, а затем, следуя естественному ходу мыслей, пришел к выводу, что великие умы посвящают себя лишь великим идеям. Тогда он принялся изучать католическую доктрину с тем же рвением и с тем же беспристрастием, что и доктрину лютеранскую, причем подспорьем служили ему не придирки и насмешки, к каким обычно прибегают сектанты, но разыскания и сопоставления. Он отправился во Францию, дабы получить сведения о церкви-прародительнице от славнейших ее священнослужителей, подобно тому как получил он в Германии сведения о реформатской церкви от священнослужителей-реформатов. Он свел знакомство с великим Арно, с Фенелоном – достойным преемником Григория Назианзина – и даже с самим Боссюэ. Под руководством этих наставников, чья добродетель внушала почтение к исповедуемым ими верованиям, он быстро постиг тайны католической морали и католических догматов. Он нашел в католицизме все то, что составляло в его глазах величие и красоту протестантизма, а именно веру в Бога единого и вечного, которую обе эти религии переняли у иудаизма, а равно и те догматы, которые, казалось бы, естественно вытекали из этого, главного, но которые, однако же, остались иудаизму чужды: веру в бессмертие души, в свободу воли в земной жизни и воздаяние за добрые и злые поступки в жизни загробной. Он нашел в католичестве ту возвышенную мораль, которая проповедует людям равенство, братство, любовь, милосердие, преданность ближним и забвение самого себя, причем мораль эта имела у католиков вид едва ли не более чистый и величественный, чем у адептов всех прочих вероисповеданий. Вдобавок он обнаружил в католичестве всемогущую силу и всеобъемлющую целостность, каких недоставало религии Лютера. Правда, эта последняя завоевала для людей право на свободу суждения, в которой натура человеческая также испытывает большую нужду, и провозгласила господство индивидуального разума; однако тем самым она отказалась от принципа непогрешимости, представляющего собой необходимое основание и условие существования всякой религии, явленной в откровении, ибо всякая вещь может существовать лишь в согласии с законами, предшествовавшими ее рождению, и значит, одно откровение может быть подтверждено и продолжено лишь с помощью другого. А непогрешимость и представляет собою не что иное, как откровение, длящееся по воле самого Господа или Слова, воплощенного в его наместниках. Лютеранская же религия, притязавшая на общее с католичеством происхождение и, следовательно, тщившаяся опереться на то же самое откровение, разорвала узы, которые от века связывали христианство в целом с этим откровением, и таким образом подорвала своими собственными стараниями здание своей веры. Подвергнув свободному обсуждению дальнейшее существование религии, некогда явленной в откровении, она тем самым поставила под сомнение и первоначальный ее этап, а следовательно, покусилась на тот неприкосновенный исток, который роднил ее с религией-соперницей. Поскольку ум Эброния жаждал в ту пору не критики, а веры и нуждался не столько в спорах, сколько в убеждениях, он естественным образом предпочел убежденность и властность католицизма свободе и сомнениям протестантизма. Тяга к католицизму лишь усиливалась в нем при виде тех следов священной древности, какие запечатлело время на обрядах церкви-прародительницы. Наконец, роскошь и блеск римско-католического культа представлялись этому поэтическому уму гармоническим и неизбежным выражением религии, явленной в откровении Богом славы и всемогущества. После продолжительных размышлений он признал себя искренне и всецело убежденным в превосходстве католической веры и принял новое крещение от самого Боссюэ. К имени Петр прибавил он имя Спиридион, дабы двойное это именование напоминало ему о том, как дважды воссиял ему свет духа. Решившись посвятить всю свою жизнь поклонению новому, католическому Богу, призвавшему его к себе, и все более и более глубокому постижению католического учения, он отправился в Италию и там на деньги, оставленные ему одним из родственников, который, подобно ему, перешел в католичество, выстроил тот самый монастырь, где пребываем мы с тобой. Верный закону, в согласии с которым были созданы первые религиозные общины, Эброний собрал вокруг себя монахов, прославленных умом и добродетелью, дабы вместе с ними отдаться поискам истины и с помощью науки споспешествовать утверждению и процветанию веры. Поначалу предприятие его, казалось, имело успех. Поощряемые примером самого Эброния, товарищи его в течение нескольких лет ревностно предавались ученым занятиям, молитвам и размышлением. Они избрали своим покровителем святого Бенедикта и приняли устав его ордена. Когда настал час избрать духовного главу, они единогласно остановили свой выбор на Эбронии, и папа римский утвердил это решение. Новый настоятель, гордый доверием братьев по духу, продолжил свои труды с еще большим рвением и еще большими надеждами, чем прежде. Однако иллюзии его очень скоро рассеялись. По прошествии недолгого времени он понял, что жестоко ошибся в отношении тех людей, которых избрал себе в соратники. Поскольку все они принадлежали к числу беднейших монахов Италии, то в первые годы пребывания в монастыре охотно выказывали рвение и тщание. Привыкнув к существованию суровому и многотрудному, они легко согласились выполнять волю Эброния и жить так, как предписывал он. Однако достаток развратил их, они стали отлынивать от работы и постепенно уподобились изъянами и пороками более богатым своим собратьям, чьи излишества, памятные им с прежних лет, оказали на них пагубное воздействие. Умеренность уступила место невоздержанности, трудолюбие – лености, добротворение – эгоизму; днем они больше не молились, ночью не бодрствовали; злословие и чревоугодие, две нечистые страсти, правили бал в монастыре; следом туда проникли невежество и грубость, обратившие храм, предназначенный для строгих добродетелей и благородных трудов, во вместилище постыдных наслаждений и подлой праздности. Эброний, доверчивый от природы и погруженный в глубокие размышления, долгое время не замечал роковых превращений, производимых в непосредственной близости от него низкими плотскими инстинктами. Когда же он открыл глаза, было уже слишком поздно: не успев заметить, как и когда все эти жалкие душонки променяли добро на зло, отстоя от них слишком далеко, чтобы понять их слабости, он проникся к ним безграничным отвращением и, вместо того чтобы снизойти до этих грешников и попытаться возродить в их сердцах прежние добродетели, он с презрением отворотился от них и, навсегда порвав с людьми, устремил свой взор к небу. Однако, подобно ужаленному змеей орлу, который, несмотря на разливающийся по крылу яд, все-таки пытается взмыть к солнцу, Эброний, даже пребывая в возвышенном уединении, не мог забыть гнусные картины, поразившие его взор. Мысль о развращенности и низости примешивалась ко всем его богословским рассуждениям и, подобно постыдным язвам, пятнала саму идею веры. Несмотря на всю свою предрасположенность к мышлению отвлеченному, он не мог не отождествить отдельных католиков с католицизмом в целом. После этого, сам того не сознавая, он принялся искать в католической доктрине не сильнейшие ее стороны, как он это делал когда-то, а стороны слабейшие и опаснейшие. Незаурядная способность к исследованию и анализу помогла ему найти искомое незамедлительно, однако, подобно тем дерзким магам, которые сначала заклинали духов, а затем, когда те являлись на их зов, не могли сдержать страха, он сам ужаснулся собственным открытиям. Горячность молодости покинула его; он говорил себе, что, в третий раз отринув избранную им религию, не найдет четвертой, которая дала бы ему поддержку и опору. Поэтому он постарался укрепить свою пошатнувшуюся веру, а для этого решил взяться за чтение прекраснейших сочинений, писанных нынешними защитниками Церкви. Естественно, он возвратился к Боссюэ, однако образ мыслей его переменился, и то, что прежде казалось ему убедительным и неопровержимым, теперь предстало во многих отношениях спорным и даже неверным. Перечитывая рассуждения католического богослова, он вспомнил о возражениях протестантов и вновь восхитился свободой суждения, которой некогда пренебрег. Принужденный бороться в одиночку против учения непогрешимого, он перестал отрицать авторитет индивидуального разума. Больше того, вскоре он принялся использовать свободу суждения куда более дерзко, чем все ее прежние защитники. Поначалу он колебался, но, раз поддавшись порыву, уже не останавливался. Переходя от одного пункта христианского учения к другому, он дошел до первоначального откровения, подверг его тому же логическому анализу, что и все остальное, и заставил религию, желавшую спрятать голову на небесах, спуститься на землю. Дав вере этот решительный бой, он едва ли не поневоле продолжал наступление, стремясь воспользоваться плодами победы – роковой победы, стоившей ему многих горьких слез и многих бессонных ночей. Усомнившись в божественном происхождении отца христианской веры, он дерзнул потребовать у него и его преемников отчета в их земных деяниях. Он ставил вопросы, не зная жалости, и стремился дойти до самой сути. Он пришел к выводу, что христианство принесло людям много добра и в то же самое время много зла, что оно открыло великие истины, но в то же самое время примешало к ним великие заблуждения. На великом поле католической религии плевел выросло, пожалуй, ничуть не меньше, чем отборной пшеницы. Ум Эброния был устроен так, что мысль о Боге, который, будучи чистым духом, извлекает из самого себя материальный мир и способен уничтожить его точно таким же способом, каким он был создан, – мысль эта казалось ему порождением болезненной фантазии, плодом желания любой ценой изобрести хоть какую-нибудь теологическую доктрину. Вот собственные слова Эброния, которые он повторял очень часто: «Человеку подобает иметь суждения и верования, согласные с его восприятием; вправе ли он в таком случае утверждать, что возможно сотворить нечто из ничего, а затем снова превратить это нечто в ничто? Да и какую же постройку можно возвести на подобном фундаменте? Что делать человеку в этом материальном мире, порожденном чистым духом из самого себя? Человек был создан из материи, помещен в материальный мир Богом, которому открыто грядущее, и осужден сносить испытания, сущность и исход которых всецело зависят от Божьей воли; иными словами, осужден бороться против опасности, которой не может избежать, и искупать прегрешения, которых не мог не совершить». Мысль о том, что людей, не спрашивая их согласия, обрекают на земную жизнь, полную опасностей и тревог, и на жизнь загробную, полную для большинства из них страданий вечных и неизбежных, исторгала из чистой души Эброния вопли боли и возмущения. «Да, – восклицал он, – да, вы, христиане, – прямые потомки тех неумолимых иудеев, которые, покорив город, истребляли в нем все и вся вплоть до детей, женщин и новорожденных ягнят, а Бог ваш – вошедший в силу сын того жестокосердого Иеговы, который говорил людям, ему поклонявшимся, только о гневе и мести!» Итак, Эброний полностью разочаровался в христианстве, однако, не зная иной, лучшей религии, он, сделавшись осторожнее и покойнее, решился не давать повода для обвинений в непостоянстве и вероотступничестве и продолжал исполнять все внешние обряды той религии, от которой отрекся внутренне. Мало было, однако, расстаться с заблуждениями, следовало еще отыскать истину. Несмотря на все старания, Эброний не находил ничего на нее похожего. Тогда наступила для него пора страданий непостижимых и ужасных. Сражаясь один на один с сомнением, этот искренний и набожный ум ужаснулся своему одиночеству, и, словно у Христа в Гефсиманском саду, стал пот его как капли крови. А поскольку не имел он иной цели и иной страсти, кроме познания истины, и ничто, кроме нее, не интересовало его в мире земном, он предавался горестным размышлениям всей душою; взгляд его безуспешно блуждал в смутном мире, подобном океану без берегов, а рука безуспешно силилась достать до постоянно ускользавшего горизонта. Сомнения, в которых он тонул, были столь глубоки, столь безысходны, что голова его начинала кружиться, а разум – мутиться. Затем, устав от тщетных поисков и безнадежных попыток, он падал без сил, без мыслей, без желаний и всем своим существом предавался глухой боли, которую ощущал, но не понимал. Однако у него оставалось еще достаточно воли, чтобы скрывать свои душевные терзания от окружающих. Бледность его чела, медлительность походки, слезы, украдкой стекавшие порой по впалым щекам, выдавали муки, терзавшие его душу, однако источник этих мук оставался неизвестен. Покров печали укрывал тайну настоятеля от глаз монахов. Он никому не открывал причину своей тоски, и потому никто не мог сказать, проистекала ли она от безнадежного неверия или от чересчур пламенной жажды веры, которую ничто на земле не способно было утолить. Впрочем, никто бы и не заподозрил аббата Спиридиона в безверии. Он с такой безукоризненной четкостью следовал всем предписаниям католической церкви и так образцово исполнял все ее обряды, что не давал врагам ни повода, ни причины для упреков. Неподкупная добродетель воздвигала преграду на пути пороков, которым предавались монахи, а неутомимое трудолюбие служило укором их подлой лености, и потому все они дружно его ненавидели и жадно искали способов его погубить; однако, не находя в его поведении и намека на прегрешение, они были вынуждены копить злобу и удовлетворяться зрелищем тех мучений, какие он причинял себе сам. Эброний видел монахов насквозь и, хотя и презирал их беспомощные потуги, возмущался их бессердечием. Поэтому в те редкие мгновения, когда он отвлекался от своих внутренних тревог и бросал взгляд вовне, он жестоко мстил монахам за их козни. Насколько мягко держался он с людьми добрыми, настолько же сурово порицал людей дурных. Сострадая слабым и сочувствуя немощным, он не прощал распутников и не знал жалости к лжецам. Больше того, верша сей справедливый суд, он, казалось, ненадолго забывал о своих терзаниях. Возвышенная душа по-прежнему алкала возможности творить добро. Утратив четкие правила и разочаровавшись в абсолютных законах, он, однако же, повиновался во всех своих поступках голосу некоего инстинктивного разума, которого не отринул бы и не ослушался ни при каких обстоятельствах и который указывал ему путь к истине и справедливости. Пожалуй, именно это и стало той нитью, что связала его с жизнью; ощущая зарождение в своей душе этих благородных чувствований, он говорил себе, что священная искра еще не полностью погасла в нем, что Господь, хотя и укрытый непроницаемым покровом от ума его, не оставил его сердце своим покровительством. Эта ли мысль или что-либо иное вдохнуло в него силы, но постепенно чело его просветлело, а глаза, поблекшие от слез, вновь обрели прежний блеск. Он с нерастраченным пылом взялся за недоконченные труды, а потому сделался еще большим затворником, чем прежде. Враги Эброния поначалу возрадовались, ибо сочли его уединенную жизнь следствием болезни, однако заблуждение их продлилось недолго. Настоятель не только не слабел, но с каждым днем набирался сил и, кажется, черпал бодрость в ежедневном исполнении нелегких работ, какое сам вменил себе в обязанность. С вечера до утра свет не гас в его окне, а когда любопытствующие подходили к его двери, желая узнать, чем он занимается, до их слуха неизменно доносился шорох стремительно переворачиваемых страниц или скрип пера, бегущего по бумаге, или покойные, размеренные шаги человека, который расхаживает по комнате, предаваясь размышлениям. Порой до слуха соглядатаев долетали даже невнятные речи, крики ярости или вопли восторга, при звуках которых они застывали на месте от изумления или спасались бегством, объятые ужасом. Монахи, не понимавшие причин печали аббата, не могли понять и причин его радости. Они принялись искать разгадку его блаженства, цель его трудов и, по неизбывной своей глупости, не нашли ничего лучше, кроме как заподозрить его в приверженности магии. Магии! Как будто великие люди стали бы унижать свой бессмертный ум, низводя его до колдовства, стали бы на страх малым детям вызывать из ада демонов с собачьими хвостами и козлиными копытами! Однако невеждам не понять логики человеческого духа, совам не узнать тех путей, какими орлы взмывают к солнцу. Впрочем, презренная монашеская свора не осмелилась высказать свое мнение открыто и распространяла свои наветы тайно, не дерзая напасть на учителя в открытую. Ужас, который внушали этим глупцам привидевшиеся им колдовские проделки, охранял настоятеля куда более надежно, чем почтение, какого заслуживали его гений и добродетель. Монахи ожидали, что, подобно огню поядающему из облака, из глубокой тайны, окружающей аббата, родится некое страшное чудо. Благодаря этому Эброний смог провести последние годы, ему отпущенные, в спокойствии. Почувствовав же приближение смертного часа, он призвал к себе Фульгенция, к которому питал чувства отеческие. Он сказал Фульгенцию, что отличил его среди прочих монахов попричине искренности его сердца и пламенной любви ко всему прекрасному и истинному, что уже давно назначил его своим духовным наследником и что хочет открыть ему душу. Рассказав Фульгенцию историю своих исканий и дойдя до последнего периода, он на мгновение задумался, словно не осмеливаясь произнести слова решающие, окончательные, а затем промолвил: «Дорогое дитя мое, я посвятил тебя в историю всех моих борений, всех моих сомнений, всех моих верований. Я поведал тебе обо всем хорошем и обо всем плохом, обо всем истинном и обо всем ложном, что нашел я во всех религиях, какие исповедовал. Тебе быть судьей, тебе произнести приговор. Если ты сочтешь, что я не прав, если католическая религия, которую ты исповедуешь с самого детства, удовлетворяет в равной мере и твой ум, и твое сердце, тогда не следуй моему примеру, сохрани свою веру. Человеку надлежит оставаться там, где ему хорошо. Переход от одной веры к другой пролегает через такие бездны, что я не стану понуждать тебя к этому против твоей воли. Премудрость господня оделила каждое растение особой почвой и особым ветром: роза цветет на равнине, овеваемая бризом, кедр растет в горах, колеблемый ураганом. Есть умы дерзкие и любознательные, которые алчут истины и повсюду ищут ее одну; есть другие умы, более робкие и скромные, которым нужнее всего покой. Если бы ты походил на меня, если бы первой потребностью твоей души были знания, я без колебаний открыл бы тебе все мои мысли. Я дал бы тебе испить из чаши истины, которую наполнил я моими слезами, и не боялся бы напоить тебя допьяна. Однако ты, увы, не таков! Ты создан не для познания, а для любви, сердце в тебе сильнее ума. Ты привязан к католицизму – так, по крайней мере, мне кажется – узами чувства, которые ты не смог бы разорвать без боли; а сделай ты это, истина, во имя которой ты пожертвовал своими привязанностями, не вознаградила бы тебя за твои жертвы. Возможно, вместо того чтобы вселить в тебя силы, она бы их у тебя отняла. Для хрупких организмов эта пища слишком тяжела; одних она животворит, других же удушает. Я не хочу посвящать тебя в то учение, которое составляет гордость моей жизни и утешение моих последних дней, ибо тебе оно, возможно, не принесет ничего, кроме горя и отчаяния. Что знаем мы о душе ближнего? Однако же именно потому, что ты полон любви, от поклонения красоте ты, возможно, перейдешь к потребности в истине, и тогда, быть может, искренний ум твой возжаждет абсолюта. Я не хочу, чтобы в этот час ты тщетно призывал небеса на помощь и чтобы безнадежное невежество исторгало у тебя бесплодные слезы. Я оставляю тебе лучшую часть себя, квинтэссенцию своего ума; в этих нескольких страницах – плод целой жизни, посвященной размышлениям и трудам. Из всех сочинений, писанных мною бессонными ночами, оно одно не стало добычею пламени, ибо оно одно доведено до конца. В нем я высказал себя сполна; в нем – истина. А ведь мудрец велел не зарывать сокровище в землю. Итак, сочинению этому не должно попасть в руки тупых и жестоких монахов. Однако поскольку должно ему оказаться лишь в тех руках, какие достойны к нему прикоснуться, должно открыться лишь тем глазам, которые способны его прочесть, я хочу поставить перед наследниками своими одно условие, хочу подвергнуть их одному испытанию. Я унесу этот труд с собою в могилу, дабы тот из вас, кто захочет его прочесть, отважился одолеть ложные страхи и добыть мою рукопись из гроба, в коем упокоится мой прах. Слушай же мою последнюю волю. Лишь только я испущу дух, положи рукопись мне на грудь. Я сам спрятал ее в чехол из пергамента, который на несколько столетий убережет ее от тленья. Не позволяй никому дотрагиваться до моего тела; обязанность приготовить мой труп к отправлению в последний путь слишком печальна, никто не станет ее у тебя оспаривать. Облачи мои иссохшие кости в саван собственноручно и не спускай глаз с моих останков до тех пор, пока меня вместе с моим сокровищем не укроет земля; ибо и для тебя также не настал еще час познакомиться с написанными мною строками. Ты поверишь мне на слово, но веры твоей недостанет для того, чтобы отражать каждодневные атаки, которые обрушит на тебя католицизм. У каждого поколения, у каждого человека свои умственные потребности, предел коих обозначает и предел тех открытий и завоеваний, какие ему суждено предпринять. Лишь тогда, когда ум твой, подобно моему, ощутит нужду в полном обновлении, лишь тогда сможешь ты с пользою прочесть эти строки, которые я вверяю безмолвию могилы. Лишь тогда сбросишь ты без страха и сожаления старые одежды и с чистой совестью облачишься в новые. Когда этот день наступит, тогда, ни о чем не тревожась и не опасаясь прогневить Господа, не страшась ни камня, ни металла, открой мой гроб и без колебаний погрузи руку в ту горсть иссохшего праха, что прежде была мною. О! в этот час, кажется мне, мое остановившееся сердце затрепещет, подобно заледеневшей траве под первыми лучами весеннего солнца, а ум мой, прервавши круг бесконечных превращений, войдет в непосредственное сношение с твоим: ибо ум не умирает, ум вечно рождает другой ум и вечно его питает; он служит пищей тому, чему дает жизнь, и подобно тому, как в мире материальном всякое разрушение одного здания влечет за собою построение другого, так в мире умственном всякому порыву вдохновения служит ответом другой порыв, связанный с первым узами невидимыми; сообща поддерживают они огонь в святилище ума». При этих словах жажда познания не разгорелась в сердце Фульгенция сильнее, чем прежде; учитель его был совершенно прав: час искать знаний для этого монаха еще не пробил. Вероятно, аббат мог бы открыть свою тайну людям, наделенным умом более острым и более дерзким; в ту пору он еще сумел бы отыскать таковых в своем монастыре. Однако – и это тоже очень вероятно – Спиридион не мог быть уверен в их искренности и бескорыстии; должно быть, он опасался, как бы сокровище его, попав в руки человека властолюбивого, не стало орудием земного могущества и мирской славы, а сделавшись известным человеку, чья душа бесплодна, а ум чужд любви, не оказалось источником безбожия и рассадником атеизма. Спиридион знал, что Фульгенций, как сказано в Писании, сделан из чистого золота и что он может не найти в себе сил воспользоваться завещанною святыней, но никогда не употребит ее во зло. Увидев, как смиренно и безропотно слушает возлюбленный ученик признания учителя, аббат с радостью почувствовал, что, решив предоставить ему выбор, поступил совершенно правильно, и взял с него лишь одну клятву – в том, что перед смертью и он в свой черед поведает о священном даре наследнику, достойному воспринять эту тайну. Фульгенций поклялся, а затем воскликнул: – Но как же, учитель, узнаю я этого человека? А если никто не внушит мне достаточного доверия, могу ли я надеяться, что вы и из могилы возвысите свой голос, дабы выбранить меня за слепоту или робость? Ведь если свет погаснет, мне трудно будет самому отыскать дорогу во мгле. – Никакой свет никогда не гаснет, – отвечал аббат, – а мгла, окутывающая то, что доступно разуму, легко рассеивается перед человеком великодушным и искренним. Ничто не пропадает; не умирает даже внешний облик человека; разве можно будет сказать, что я исчез из этого мира и что образ мой изъеден могильными червями, если он сохранится в сокровенных глубинах твоей памяти? Разве смерть разорвет узы нашей дружбы? Разве можно назвать ушедшим из жизни то, что сберегается в сердце друга? Разве для созерцания возлюбленного существа душе потребно зрение телесное, разве не является она сама зеркалом, в котором все отражения сохраняются вечно? Скорее море перестанет отражать небесную лазурь, чем образ любимого исчезнет из памяти любящего; да и художники, запечатлевающие физический облик человека на полотне или в мраморе, также даруют умершим род бессмертия. Таковы были последние беседы Спиридиона с его другом. Между тем вскоре Фульгенцию довелось пережить целый ряд происшествий, о которых он не однажды рассказывал мне самым подробным образом и на которые я призываю тебя обратить самое пристальное внимание. Фульгенций не мог свыкнуться с мыслью о близкой смерти учителя и друга. Напрасно врачи убеждали монаха в том, что настоятелю осталось жить совсем немного дней, ибо болезнь его вступила в такую фазу, когда медицина становится бессильна, а надежды – беспочвенны; Фульгенций не верил, что этот человек, чей ум и характер сохраняют прежнюю мощь, вот-вот испустит дух. Никогда еще не выказывал Спиридион такой ясности и выразительности в речах, такой тонкости в суждениях и такой широты во взглядах. Стоя на пороге иной жизни, он сохранял еще довольно энергии и силы, чтобы входить в мельчайшие подробности жизни земной. Не оставляя монахов своими попечениями, он увещевал каждого так, как тот заслуживал: злых горячо призывал возвратиться к добру, добрых укреплял отеческими наставлениями. Горе Фульгенция трогало и тревожило его куда больше собственных физических мук, а любовь к этому юноше заставляла забыть о том торжественном и страшном шаге, какой предстояло сделать ему самому. Тут отец Алексей, видя, что глаза мои наполнились слезами, а губы припали к его ледяной руке, прервал свой рассказ: слишком сильно было сходство между нашим с ним положением и тем, какое он описывал. Он понял меня, с силой пожал мне руку и продолжал: – Спиридион, предчувствуя, что после того, как прервется нить его жизни, нежное и страстное в своих привязанностях сердце Фульгенция не выдержит утраты и разобьется, пытался смягчить тот ужас, какой вызывает в сердце каждого католика мысль о смерти; он описывал своему ученику этот переход от существования скоротечного к жизни вечной тоном самым безмятежным и умиротворенным. – Я плачу не о вашей смерти, – отвечал Фульгенций, – я плачу о нашей разлуке. Не ваше будущее тревожит меня, я знаю, что из моих объятий вы перейдете в объятия любящего вас Господа; но сам я останусь стенать на бесплодной земле, сам я осужден влачить безрадостное существование среди людей, из которых ни один никогда не заменит мне вас! – О дитя мое! Не говори так, – отвечал аббат. – Провидение печется о людях добрых, о сердцах любящих. Отняв у тебя друга, который выполнил свой долг по отношению к тебе, оно подарит тебе в старости нового друга – верного товарища, любящего сына, преданного ученика, который скрасит твои последние дни так же, как ты скрашиваешь мои. – Никто не сможет любить меня так, как я люблю вас, – продолжал Фульгенций, – ибо я никогда не буду достоин такой любви, какую вы внушаете мне; а если даже я и удостоюсь подобной награды в старости, то до этого пройдет еще так много долгих лет: ведь я еще совсем молод! Подумайте о том, как сильно буду я страдать все эти годы без поддержки и опоры, как плохо мне придется без ваших советов и вашего ободрения! – Послушай, – отвечал ему аббат, – я поделюсь с тобой одной мыслью, она уже несколько раз посещала меня, но до сих пор я не придавал ей значения. Тебе известно, что никто не чужд так, как я, грубым выдумкам, к которым прибегают монахи, желая запугать паству; ничуть не больше нравятся мне экстатические видения, посредством которых невежественные фантазеры или подлые обманщики удовлетворяют свою ненасытную алчность или свое жалкое тщеславие; однако я верю в видения и сны, которым случалось порой внушать благодетельный страх или вселять животворную надежду в умы чистые, вдохновенные и набожные. Мне кажется, что самый холодный, самый просвещенный разум не может не верить в чудеса. К числу явлений сверхъестественных, которые не только не отвращают от себя мой ум, но, напротив, служат ему предметом сладостных мечтаний и смутных верований, принадлежат непосредственные сношения наших чувств с тем, что осталось в нас и вокруг нас от людей умерших, но горячо нами любимых. Я не верю, что труп способен отвалить камень от гроба и на какое-то время ожить, однако порой мне кажется, что некоторые части нашего существа не распадаются мгновенно, что перед тем, как исчезнуть навсегда, мы отбрасываем вовне отражение, которому отпущен более долгий срок жизни, чем нам самим, – так солнце, уже скрывшись за горизонтом, некоторое время еще продолжает слепить наши глаза своим блеском. Признаюсь тебе откровенно: в семье моей жило предание, которое я никогда не имел силы отвергнуть полностью. Согласно этому преданию, предки мои обладали такой огромной жизненной силой, что душа их, расставаясь с телом, переживала потрясение странное, неслыханное. В эти минуты умирающие видели, как собственный их образ отделяется от них и, двоясь, а то и троясь, предстает перед их взором. От матери я знаю, что мой дед-раввин утверждал перед смертью, будто видит по обе стороны своей постели призраки, похожие на него самого и одетые в ту одежду, какую надевал он в праздничные дни, отправляясь в синагогу. Надменному разуму так легко опровергнуть подобное предание, что я никогда не брался его опровергать. Предание это возбуждало мое воображение, и мне было бы огорчительно произнести ему приговор, не подлежащий обжалованию. Я вижу, что речи мои тебя удивляют. На твоих глазах я осуждал так сурово все фантазии наших духовидцев, высмеивал так безжалостно все их галлюцинации, что ты, того и гляди, сочтешь меня утратившим остроту и трезвость ума. Я же, напротив, ощущаю необычайный прилив умственной силы: мне кажется, что никогда еще я не различал так ясно те дали, какие открывает передо мною мир идей новых и неведомых. Когда для смертного наступает пора отказаться от услуг гордого разума, человек искренний, чувствуя, что ему нет больше нужды противиться страху смерти, отбрасывает щит и спокойным взором осматривает поле битвы, им покидаемое. В это-то мгновение он и может понять, что разум и наука, подобно невежеству и лжи, также страдают порою предрассудками и заблуждениями, так же грешат огульным отрицанием и узколобым упрямством. Да что я говорю! В это мгновение человек понимает, что человеческий разум и человеческая наука суть не что иное, как предварительные наброски, новооткрытые перспективы, за которыми открываются перспективы куда более далекие, бесконечные и неизведанные, и перспективы эти кажутся человеку непостижимыми по той причине, что скоротечность его жизни и слабость его сил не позволяют ему проделать хотя бы часть открывающегося перед ним пути. Иными словами, он понимает, что разум и наука его века могущественны лишь по сравнению с разумом и наукой века предыдущего, и с трепетом говорит себе, что те заблуждения, о которых он не может слышать без улыбки, казались его предшественникам последним словом человеческой мудрости. Он догадывается, что и его преемники будут так же смеяться над его премудростью, что все труды его жизни уподобятся дереву, которое однажды принесло плоды, а затем засохло и должно быть срублено под корень. Пусть же ощутит он в это мгновение свою ничтожность, пусть воззрит с философическим спокойствием на череду поколений, которые жили до него, и череду поколений, которые придут после него; пусть улыбнется при виде той промежуточной точки, где прозябал он сам – безвестный атом, незаметное звено бесконечной цепи! – пусть скажет: «Я пошел дальше моих предков, я приумножил или приукрасил сокровище, которое они завоевали». Но пусть не говорит: «То, чего я не сделал, сделать невозможно, то, чего я не понял, есть непостижимая тайна, те преграды, какие встретились на моем пути, не преодолеть ни одному смертному». Ибо подобные речи прозвучали бы кощунственно, и именно они послужили бы предлогом для разжигания тех костров, в какие инквизиторы бросают сочинения новаторские. В тот день Спиридион не стал продолжать свой рассказ; он закрыл глаза и не промолвил больше ни слова. Однако назавтра он вновь вернулся к разговору, который, казалось, был ему приятен и отвлекал его от мучений физических. – Фульгенций! – сказал он. – Что может означать слово «прошлое»? Какое действие может скрываться за словами «его не стало»? Не продиктованы ли эти слова заблуждениями наших чувств и беспомощностью нашего разума? Возможно ли, чтобы то, что существовало, исчезло полностью? Возможно ли, чтобы то, что существует, не существовало от века? – Значит ли это, учитель, – спросил простодушный Фульгенций, – что вы не умрете? Или что я увижу вас и после того, как вас не станет? – Меня не станет, но существование мое не прервется, – отвечал учитель. – Если ты будешь любить меня с прежней силой, ты будешь видеть, чувствовать, слышать меня повсюду. Облик мой будет стоять у тебя перед глазами, потому что его сохранит твоя память; голос мой будет звучать в твоих ушах, потому его сохранит память твоего сердца; ум мой будет беседовать с твоим умом, потому что душа твоя понимает меня и знает в совершенстве. Быть может даже, – прибавил он, охваченный неким вдохновением и как будто пораженный новой мыслью, – быть может, после смерти я открою тебе то, что мое и твое невежество не позволяют нам узнать и поведать друг другу. Быть может, твои мысли оплодотворят мои; быть может, семена, посеянные мною в твоей душе, принесут много плода, когда ты согреешь их своим дыханием. Молись, молись – и не плачь. Вспомни, как юный пророк Елисей попросил у Господа одной-единственной милости – чтобы дух пророка Илии был на нем вдвойне. Нынче, дитя мое, мы все пророки. Мы все ищем слово жизни и дух истины. В свой последний час аббат соборовался с достоинством и спокойствием человека, который исполняет обряд, не веря в него, но уважая чужие верования. Он простился со всеми монахами, благословил их в последний раз, а затем обратился к Фульгенцию, который, видя своего наставника исполненным силы и покоя, надеялся, что кризис миновал и смерть отступила: – Вели им уйти, Фульгенций; я хочу остаться с тобой наедине. Поторопись, я умираю. Фульгенций в отчаянии повиновался; когда они остались одни, ученик, трепеща и проливая слезы, спросил, отчего учитель, с виду столь покойный, так твердо убежден, что жизнь его вот-вот окончится? – В самом деле, я чувствую себя превосходно, – отвечал Спиридион, – тело мое и душа испытывают блаженство, какого не знали прежде, и я с радостью поверил бы, что дни мои вовсе не сочтены. И тем не менее смерть уже пришла за мной, это очевидно: только что я видел свой призрак, он указал мне на песочные часы и знаком дал понять, что пора удалить отсюда людей бесполезных или недоброжелательных. Взгляни: сколько еще песку осталось в часах? – О учитель! меньше половины. – Хорошо, дитя мое… Подай мне рукопись… положи ее мне на грудь и укрой меня саваном. Фульгенций повиновался; на лбу его выступил холодный пот. Аббат взял его за руку и вновь повторил: – Я не исчезаю полностью… Все частицы моего существа возвращаются к Господу, а часть меня переходит в тебя. Сказав это, он закрыл глаза и погрузился в размышления. Через полчаса он открыл глаза и произнес: – Ощущение неизъяснимое: никогда еще я не был так счастлив… Фульгенций, сколько еще осталось песку? Фульгенций устремил взор, мутный от слез, на часы. Весь песок уже просыпался вниз, наверху оставалось всего несколько песчинок. Терзаемый невыразимой болью, он судорожно сжал руки учителя и почувствовал, как быстро они холодеют. Аббат отвечал ему рукопожатием сильным и твердым, а потом сказал с улыбкой: «Пора!» В это мгновение Фульгенций ощутил, как рука теплая и даже горячая мягко опускается на его затылок. Он резко обернулся и увидел перед собою мужчину, очень похожего на аббата; незнакомец смотрел на него серьезно и любовно. Фульгенций перевел взор на умирающего; тот лежал, вытянув руки вдоль тела, закрыв глаза. Земная его жизнь окончилась. Фульгенций не осмелился оглянуться. Охваченный ужасом и отчаянием, он припал к краю постели и на несколько мгновений лишился чувств. Однако очень скоро, вспомнив о возложенной на него обязанности, он собрался с духом и тщательно укутал тело возлюбленного учителя саваном. Уложив рукопись на грудь аббата, он, по обычаю, положил сверху распятие и сложил руки покойного на груди. Не успел он сделать это, как руки Спиридиона сделались тверды, как сталь, и Фульгенцию показалось, что ни одному человеческому существу не удалось бы вырвать рукопись у этого безжизненного тела. В церкви Фульгенций ни на минуту не отлучался от гроба. Он простерся перед катафалком и оставался в этом положении, не взявши в рот ни крошки и не сомкнув глаз, до тех пор пока не настал час похорон: тогда он своими руками заколотил гроб, а затем своими глазами увидел, как его укрыли могильной плитой. После этого он пал ниц на эту плиту и омыл ее горькими слезами. В эту минуту чей-то голос шепнул ему на ухо: «Разве я покинул тебя?» Фульгенций не дерзнул оглянуться. Он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Однако голос, который говорил с ним, без сомнения, принадлежал его другу. Меж тем под сводами храма еще звучали заупокойные песнопения, еще тянулась траурная процессия. На этом, – продолжал отец Алексей, немного передохнув, – кончаются откровения, слышанные мною от Фульгенция. Он счел своим долгом поведать мне без утайки обо всем, что касалось жизни и смерти его учителя, однако, то ли из боязни оскорбить христианскую религию, то ли из безмерного почтения к памяти Спиридиона, не стал рассказывал мне о своих сношениях с тенью, которая исправно навещала его после смерти аббата. У меня есть основания полагать, что поначалу призрак являлся Фульгенцию очень часто, но монах так боялся этих свиданий и так старался их избежать, что со временем они сделались реже и мимолетнее. Фульгенций был человек нерешительный и робкий. Лишившись наставника, оказывавшего на него влияние постоянное и безраздельное, он испугался всего, что услышал, а возможно, и того, что совершил, схоронив в гробу рукопись. Никто лучше его не знал, сколь несправедливо было бы обвинять аббата, человека величайшей мудрости и острейшего ума, в колдовстве. И тем не менее, слыша после смерти Спиридиона разговоры о том, что он предавался этому гнусному занятию и вступал в сношения с демонами, Фульгенций ужаснулся как тем сверхъестественным происшествиям, которые свершились на его глазах, так и тем, которые, по всей вероятности, продолжали свершаться в его душе, а ужаснувшись, стал искать в тщательнейшем исполнении всех обязанностей христианина защиту от света, слепившего его немощный взор. Достойно восхищения, что человек этот, наделенный характером благородным и прямым, отыскал в сердце своем силы, которых недоставало его уму, и, устояв перед угрозами исповедников и перед их коварством, не выдал ни одной тайны своего учителя. Никто не узнал о существовании рукописи, а перед смертью Фульгенций в точности исполнил последнюю волю Спиридиона и открыл мне все то, о чем я сейчас рассказал тебе. Спиридион записал в устав нашего аббатства особое правило, согласно которому всякий монах, пораженный тяжелой болезнью, вправе прибегнуть, помимо санитара, к помощи послушника или монаха, любезного его сердцу. Аббат ввел в действие это правило незадолго до смерти, в благодарность за то участие, какое принял в нем самом Фульгенций; Спиридион желал, чтобы Фульгенций и другие монахи в последний час были окружены заботой друзей и в ней черпали предсмертное утешение. Так вот, когда Фульгенция разбил паралич, он призвал к себе меня. Выбор его показался мне удивительным, ибо его окружало множество ревностных последователей и услужливых друзей, со мной же он был едва знаком и никогда и ничем меня не отличал. После смерти Спиридиона он в течение долгих лет претерпевал гонения от монахов, но в конце концов его кротость и доброта одержали верх над их злобной подозрительностью. Монахам наскучило требовать у Фульгенция, чтобы он открыл им местонахождение еретических трудов, вышедших из-под пера Эброния, и они решили, что настоятель их сжег. С тех пор как дух XVIII столетия просочился сквозь стены нашего монастыря, поиски философского камня вышли из моды. Среди братии имелся добрый десяток монахов-философов, которые тайком читали Вольтера и Руссо и в вольнодумстве своем заходили так далеко, что не соблюдали постов и мечтали о браке. Один лишь монастырский привратник, старик восьмидесяти лет, ровесник Фульгенция, примешивал к сегодняшней гордыне вчерашние суеверия. О старых временах он говорил с восхищением, об аббате Спиридионе – с таинственной улыбкой, а о самом Фульгенции отзывался пренебрежительно как о невежде и лентяе, который мог бы поделиться с братьями своим секретом и озолотить монастырь, но не делает этого из страха перед дьяволом и пустой заботы о спасении своей души. Тем не менее даже в мое время находились еще молодые умы, которых мучила загадка жизни и смерти Эброния. К их числу принадлежал и я сам; однако должен сказать, что, если загробная участь этой великой души и внушала мне некоторые сомнения, я не разделял нелепых страхов тех глупцов, которые не осмеливались молиться за Эброния, потому что боялись повстречаться с его тенью. Согласно предрассудку, который будет жить ровно столько, сколь будут существовать на земле монастыри, тень настоятеля была обречена скитаться по земле до тех пор, пока благодаря его раскаянию и людским молитвам перед нею не откроются двери чистилища. А поскольку монахи свято верили, что тени имеют обыкновение докучать живым, имевшим неосторожность помянуть их в своих молитвах, они остерегались молиться за аббата Спиридиона. Что же до меня, я много размышлял над тем, что рассказывали послушники о тени аббата, которая являлась иным обитателям монастыря в прежние времена. Ни один из моих ровесников не утверждал, что видел или слышал Духа сам, однако из уст в уста передавались предания, сопровождавшиеся невежественными и трусливыми комментариями – обычными плодами монастырского воспитания. Старые монахи, гордившиеся своей просвещенностью, смеялись над этими сказками, не признаваясь, что в молодости сами их распространяли. Я же вслушивался в них с жадностью: воображение мое воспламенялось при звуках этих волшебных рассказов, а разум не стремился искать им объяснение. Особенно любил я одну историю, которую хочу рассказать тебе. В последние годы аббат Спиридион взял за правило прогуливаться с полудня до часу дня по длинной зале капитула. То было единственное отдохновение, какое он себе позволял, да и этот час посвящал он размышлениям самым серьезным и самым мрачным; если кто-либо осмеливался прервать его прогулку, он приходил в бешенство. Поэтому послушники, желавшие о чем-нибудь его попросить, собирались в галерее, прилегающей к зале капитула, и там с трепетом ожидали, когда пробьет час дня; аббат, свято чтивший распорядок жизни, им же самим для себя установленный, никогда не заканчивал прогулку ни минутой раньше, ни минутой позже. Через несколько дней после смерти Спиридиона преемник его аббат Деодатий в начале первого вошел в залу капитула, а уже через несколько мгновений выбежал оттуда бледный как смерть и лишился чувств; братья, прохаживавшиеся по галерее, едва успели его подхватить. Что именно так напугало Деодатия, узнать никому не удалось, ибо поведать об увиденном в зале он наотрез отказался. С тех пор ни один монах не осмеливался входить в залу в этот час, а послушниками овладел такой страх, что они проводили ночи напролет в молитвах, а иные даже занемогли. Однако у некоторых любопытство превозмогло страх, и нашлись такие храбрецы, которые решились провести роковой час в галерее. Галерея эта, как тебе известно, расположена на несколько футов ниже, чем зала капитула. Пять стрельчатых окон залы, выходящих в галерею, в ту пору всегда оставались занавешены гардинами из красной саржи. Вообрази же, каковы были изумление и ужас отважных послушников, когда на фоне гардин перед их взором вдруг возникла высокая тень аббата Спиридиона, которую нетрудно было узнать по прекрасным развевающимся волосам! Послушники не только видели, как призрак прогуливается по зале из конца в конец; они слышали ровный и быстрый звук его шагов. Все обитатели монастыря пожелали стать свидетелями этого чуда; вольнодумцы – ибо таковые находились среди монахов уже в ту пору – заподозрили было в человеке, расхаживающем по зале, Фульгенция или еще кого-нибудь из прежних любимцев аббата. Однако очень скоро скептики убедились, что предположения их не имеют под собой никакого основания: все монахи, послушники и работники без изъятия собрались на галерее, а призрак продолжал разгуливать по зале, и пол, как и прежде, скрипел у него под ногами. Все это продолжалось довольно долго. Монахи множили молитвы и мессы, дабы, как они говорили, упокоить эту неприкаянную душу, но чудо прекратилось, лишь когда со смерти Эброния прошел год. Однако весь следующий год монахи все равно не осмеливались переступать порог залы капитула с полудня до часу дня. Поскольку в монастырях всем вещам присваивают условленные наименования, этот роковой час назвали Miserere: ведь все то время, пока продолжалась прогулка призрака, послушники, назначаемые настоятелем, пели в галерее именно этот псалом. После того как призрак перестал являться в залу, она вновь сделалась доступной для монахов с полудня до часу дня, однако обитатели монастыря утверждали, что, если в полдень луч солнца падает на портрет Эброния, глаза его загораются и оживают. Я никогда не смеялся над этим преданием, никогда не презирал его. Оно нравилось мне до чрезвычайности, и задолго до того, как я близко узнал Фульгенция, меня волновала судьба ученого аббата, чья мятежная душа, возможно, до сих пор не нашла упокоения на небесах из-за отсутствия друзей достаточно отважных или христиан достаточно набожных, чтобы вымолить ему прощение. Так простодушна была моя вера, что я вознамерился стать защитником Спиридиона перед судом Господа и каждый вечер перед сном с чувством молился за него и пел De profundis [441] . Спиридион умер за четыре десятка лет до моего рождения, однако потому ли, что меня пленяло величие характера этого человека, запечатленное во множестве дошедших до моего слуха историй, потому ли, что я смутно предчувствовал необходимость сделаться его наследником, но мысль о нем пробуждала в моей душе живое сочувствие и некую благочестивую нежность. Впрочем, я питал отвращение к ересям и, живо сожалея о том, что аббат Спиридион отдал дань этому заблуждению, предпочитал не слушать рассказов о его последних годах. Осторожность, однако, заставляла меня скрывать сочувствие к Спиридиону. Монахи-инквизиторы не оценили бы чистоты моей симпатии. Решение Фульгенция, избравшего меня своим другом и утешителем, удивило меня не меньше, чем всех остальных. Иных решение это оскорбило, но никто не счел возможным поставить его мне в вину; я не искал дружбы Фульгенция, и потому никто не заподозрил меня в сговоре с ним. В ту пору я был самым правоверным и ревностным католиком; больше того, я с такой горячностью исполнял все католические обряды, что снискал если не расположение, то, по крайней мере, уважение настоятеля и его присных. Прошло уже четыре года с тех пор, как я принес обеты, но я еще не утратил пресловутой пылкости новообращенного. Я любил католическую религию со страстью, она казалось мне священным ковчегом, в котором я всю жизнь смогу чувствовать себя недосягаемым для волн и ураганов моих страстей; страсти между тем бурлили в моей душе, и я чувствовал, что они способны разбить все доводы мудрости, словно стеклянную перегородку; принудить меня к повиновению могли лишь те идеи, что скрывались за словом таинство, ибо они одни были способны приказывать моему воображению или, по крайней мере, усыплять его. Я лелеял мысль о божественном откровении, которое кладет конец всем спорам и обещает людям даровать в обмен на покорность ума вечное блаженство души. Откровение это казалось мне несравненно выше всех мирских философий, творцы которых тщетно ищут счастья в скоротечном мире и не умеют с помощью своих рассуждений побороть отпущенные ими же самими на волю инстинкты физические! Я овладел едва ли не всеми построениями схоластики и проповедовал богословие с воодушевлением апостола, употребляя все имевшиеся у меня способности к спору и анализу для прославления веры, не признающей ни анализа, ни споров. Итак, на первый взгляд не было человека, менее подходящего для того, чтобы унаследовать тайну Эброния. Однако был в моей жизни поступок, доказавший старому Фульгенцию твердость моего характера. Один послушник рассказал мне о совершенном им проступке, и я посоветовал ему покаяться в содеянном своему духовнику. Он моего совета не послушался, прегрешение его сделалось известно, равно как и моя о том осведомленность. Молчание мое сочли едва ли не соучастием и, чтобы дать мне возможность обелить себя, попытались склонить меня к более подробному рассказу о прегрешении этого юноши, иначе говоря, к доносу. Вместо этого я предпочел взять вину на себя. В конце концов он во всем признался, а меня оправдали. Однако запирательство мое было сочтено великим грехом, и настоятель в присутствии всей братии бросил мне упреки в выражениях весьмах оскорбительных, особенно для человека с нравом гордым и обидчивым. Настоятель наложил на меня суровую епитимью и, видя изумление и уныние, которые этот приговор вызвал у собравшихся вокруг меня испуганных послушников, прибавил: – Нам жаль карать так строго монаха, который до сих пор отличался столь исправным поведением и столь ревностным исполнением своего долга. Мы охотно простили бы вам этот проступок, ставший первым серьезным прегрешением в вашей монашеской жизни. Мы сделали бы это с радостью, если бы вы выказали больше доверия к нам, если бы вы смиренно склонились перед нашей отеческой властью и, признав свою неправоту, торжественно пообещали никогда более не выказывать такой строптивости, согласной лишь с мирскими представлениями о честности и порядочности. – Отец мой, – отвечал я, – по всей вероятности, грех мой велик, раз вы осуждаете меня; однако Господу не угодны дерзкие обеты, и если мы не желаем его оскорбить, то должны возносить к небесам не клятвы, но смиренные пожелания и пламенные молитвы. Его проницательности нам все равно не обмануть, слабость же наша и самонадеянность не вызовут у Него ничего, кроме смеха. Итак, я не могу обещать вам того, чего вы требуете. Такие речи монахам вести не пристало; однако вспыхнувшее в моей душе возмущение помогло мне ощутить, сколь велика разница между самой верой и тем, как используют ее люди в сутанах. Настоятель не знал, как опровергнуть мои слова. Поэтому он сказал мне с лицемерным состраданием и плохо скрытой досадой: – Я буду вынужден оставить в силе свой приговор, раз вы не хотите обещать мне, что в будущем не совершите подобного проступка вторично. – Отец мой, – отвечал я, – я предпочту принять наказание вдвое более суровое за то, что совершил сейчас. Я исполнил обещание; я умерщвлял свою плоть так безжалостно, что мне приказали прекратить эти истязания. Карая себя сам по велению собственной гордыни, я становился неуязвим для кар, измышленных другими людьми, и таким образом, не подозревая об этом или, во всяком случае, этого не желая, настраивал против себя настоятеля с присными и вселял в их сердца тревогу. Характер мой благодаря этому эпизоду открылся с совершенно неожиданной стороны, и Фульгенций поразился моему упорству. У него даже вырвались удивительные слова: во времена аббата Спиридиона, сказал он, ничего подобного произойти не могло. Тут уже поразился я и, оставшись наедине с Фульгенцием, спросил у него объяснения этих слов. – Слова эти означают две вещи, – отвечал Фульгенций, – во-первых, что аббат Спиридион никогда не стал бы требовать от монаха, чтобы он выдал чужую тайну, а во-вторых, что, если этого попытался бы потребовать кто-нибудь другой, Спиридион покарал бы любителя доносов и вознаградил их ненавистника. Я был донельзя удивлен этим признанием – быть может, единственным, на какое отважился Фульгенций за долгие годы монастырской жизни. Вскоре старик занемог и призвал меня ходить за ним. Поначалу он чувствовал себя со мною весьма принужденно и не желал объяснить, по какой причине выбор его пал именно на меня. Я же, хотя и очень хотел проникнуть в ход его мыслей, чувствовал, как нескромно было бы расспрашивать его на этот счет, и, не требуя объяснений, старался дать ему понять, что горжусь оказанной мне честью. Он был мне благодарен за отказ от расспросов, и вскоре отношения наши приняли характер нежной привязанности: он любил меня, как сына, я был предан ему, как отцу. Однако он по-прежнему не мог решиться доверить мне свою тайну, хотя мы с ним говорили о многом и по видимости совершенно непринужденно. Доброму старцу, судя по всему, нравилось вспоминать о годах его молодости и делиться с учеником тем восхищением, которое некогда вызывал в нем самом его возлюбленный учитель Спиридион. Я слушал Фульгенция с удовольствием, не испытывая ни малейшей тревоги относительно крепости моей веры; вскоре предмет этот сделался мне до такой степени интересен, что, когда старец заговаривал о чем-нибудь другом, я сам просил его вернуться к брошенному рассказу. Конечно, упоминания о таинственных трудах, каким посвятил Спиридион последние годы своей жизни, могли бы меня насторожить, не повествуй о них такой правоверный католик, как Фульгенций; однако все, что исходило от этого человека, казалось мне достойным полного доверия, а чем больше я узнавал из его рассказов о Спиридионе, тем с большей охотой отдавался тому странному и всепоглощающему чувству симпатии, какое внушал мне характер этого человека, и нимало не задумывался о его богословских убеждениях. Непритворная истовость и неподкупная прямота, какую выказывал Спиридион во всех своих поступках, затрагивала неведомые мне самому струны моей души. Постепенно я проникся к этому славному покойнику таким же нежным чувством, какое испытывал бы к другу, избранному среди живых. Фульгенций говорил о Спиридионе и событиях шестидесятилетней давности так, как если бы все это случилось вчера; очарование и правдивость нарисованных им картин были так велики, что я не мог им сопротивляться; в конце концов я начинал верить, что учитель находится среди нас или вот-вот к нам вернется. Подчас я оставался во власти этой иллюзии очень долгое время, а когда она наконец рассеивалась и я возвращался к реальности, то ощущал неподдельную печаль и сокрушался о своей ошибке с простодушием, которое вызывало у доброго Фульгенция и смех, и слезы. Несмотря на смиренное терпение, с каким монах этот переносил свой недуг, несмотря на мое присутствие, скрашивавшее его жизнь и доставляшее ему радости откровенной беседы, было очевидно, что его непрестанно грызет какая-то забота; чем острее предчувствовал он свою кончину, тем невыносимее, кажется, становилась эта тяготившая его душу таинственная тоска. Наконец, когда смерть подошла совсем близко, он полностью открылся мне и сказал, что благодаря твердости принципов и характера я единственный, кто достоин узнать священную тайну. Твердость принципов должна была, по его мнению, уберечь меня от погружения в бездны ереси, а твердость характера – от искушения выдать секрет Спиридионовой рукописи. Фульгенций желал уберечь меня от знакомства с нею, однако добавил, что, по мнению Спиридиона, если бы я окончательно потерял веру и предался атеизму, рукопись его, хотя и сама не свободная от мыслей еретических, несомненно возвратила бы меня к вере в Бога и к основам истинной религии. В этом отношении рукопись представляла собою сокровище, которое не следовало оставлять под спудом, поэтому Фульгенций взял с меня клятву, что, если у меня самого не возникнет потребности познакомиться с творением Спиридиона, я не унесу его тайну в могилу и перед смертью передам ее надежному другу. Признания доброго старца были путанны и противоречивы. Казалось, его мучили сразу две совести: одну тревожил неисполненный долг дружбы, другую – боязнь адских мук. Тревога Фульгенция умиляла меня, и мне не приходило в голову строго судить его в минуту столь торжественную и столь мучительную. С другой стороны, я начинал ощущать себя в том же положении, что и он. Я был католиком и еретиком одновременно; творя одной рукой крестное знамение по законам Римско-католической церкви, я погружал другую руку в могилу Спиридиона, дабы напитаться духом мятежа и анализа или, по крайней мере, дабы стать этому духу защитником. Понимая вполне муки умирающего Фульгенция, я скрывал от него те муки, какие испытывал сам. Старый монах сохранял ясность ума до тех пор, пока потребность в признании боролась в его душе с сомнениями верующего. Однако лишь только он сделал выбор, как начал дряхлеть на глазах: память его ослабела, и очень скоро он, кажется, забыл все, вплоть до имени своего друга. На смертном одре он стремился в точности исполнить мельчайшие предписания Церкви, а я, оставаясь подле него, беспрестанно читал молитвы и пел псалмы. Он засыпал с четками в руках, а просыпался со словами: Miserere nobis [442] . Можно было подумать, что этими наивными мелочами он желал искупить то колоссальное усилие, какое совершил, исполняя последнюю волю своего друга. Зрелище это меня печалило. Чего же стоит целая жизнь, прожитая в покорности и ослеплении, думал я, если, дожив до восьмидесяти лет, человек обречен умирать, объятый ужасом? Как же переходят в мир иной распутники и безбожники, если святые встречают смерть, бледнея от страха и не веруя в справедливость Господнего суда? Однажды ночью Фульгенцию стало хуже; его мучили кошмары. Он попросил меня посидеть рядом с ним и разбудить его, если он забудется сном. Ему постоянно мерещился приближающийся к его постели призрак; впрочем, спустя какое-то время он признавался, что никакого призрака не видел и те смутные и зыбкие формы, которые проплывали перед его глазами, порождены одни лишь страхом. Ночь стояла лунная, и это обстоятельство пугало Фульгенция особенно сильно. Именно в ту ночь, движимый эгоистическим любопытством, я вырвал у него признание, которое он не решался сделать прежде, и заставил его рассказать о встречах с призраком Спиридиона. Рассказ этот, однако, был весьма сбивчивым, ибо разум умирающего мутился. Мне удалось узнать только одно: призрак не являлся Фульгенцию больше пятидесяти лет, но примерно за год до начала смертельной болезни видение стало повторяться вновь. При полной луне Фульгенций просыпался и видел аббата Спиридиона. Тот сидел возле его постели, не говоря ни слова, и смотрел на ученика с видом печальным и суровым, словно упрекая его в забывчивости и напоминая ему о данном некогда обещании. Заключив из этого, что смерть близка,Фульгенций стал искать человека, которому смог бы доверить свою тайну, и понял, что выбор должен пасть на меня. Он не хотел говорить мне об этом заранее, чтобы не привлекать к нашим отношениям внимания настоятеля с присными и не подвергать меня гонениям с их стороны. Ночь прошла спокойно; призрак не появился. На заре Фульгенций грустно покачал головой и сказал: – Кончено; больше он не придет. Он приходил мучить меня, потому что был мною недоволен; теперь я исполнил его волю, и он меня покинул! О учитель, учитель! ведь ради вас я рисковал спасением моей души; быть может, любя вас сильнее, чем самого себя, я обрек себя на вечные муки! Этот последний порыв любви, одолевшей страх, растрогал меня до чрезвычайности. Кто же был этот человек, который через шесть десятков лет после смерти продолжал внушать такой сильный ужас, оставаться предметом столь великой преданности и столь нежных сожалений? Фульгенций заснул и проснулся около полудня. – Надежды нет, – сказал он, – с каждой минутой я все яснее чувствую, что жизнь оставляет меня. Возлюбленный брат мой, я хотел бы собороваться. Созови скорее братьев и скажи, что мне надобно причаститься святых тайн. Увы! – добавил он озабоченно. – Значит, я умру, так и не узнав, простила ли меня его душа! Я спал глубоким сном и не слышал его голоса. Сомнений быть не может, свою книгу он любил больше, чем меня! Я знал это и раньше! Я говорил ему, когда он еще жил среди нас: «Учитель, все ваши привязанности – от ума; сердцу вашему мы безразличны. Люди сильные не чета людям слабым. Сильные снисходят до того, чтобы просить нашей помощи, когда их дух доволен нами; мы – другое дело; одобряем мы спекуляции их ума или нет, сердце наше все равно хранит им верность». – Не говорите так, отец Фульгенций, – воскликнул я и, охваченный невольным порывом, сжал его в своих объятиях; впрочем, я и не подумал принять на свой счет упрек, ко мне не относившийся. – Иначе вы в первый и единственный раз в своей жизни впадете в ересь. Люди, наделенные настоящей силой, способны на страстную любовь, и вы любили так сильно именно потому, что принадлежите к их числу. Не теряйте мужества в свой последний час. Если вы даже преступили законы Церкви ради того, чтобы сохранить верность дружбе, Господь простит вас, ибо для Него любовь выше ума. – Ах! ты говоришь точно так же, как говорил наш учитель, – воскликнул Фульгенций. – За последние шестьдесят лет я впервые слышу слова, которые мне по душе. Благословляю тебя, сын мой. Повторю тебе благословение Спиридиона: «Да подарит тебе Всемогущий в старости друга верного и нежного, каким был ты для меня!» Он соборовался, как самый набожный сын Церкви. У смертного его одра собралась вся братия. Те монахи, для которых не нашлось места в келье, преклонили колени на галерее; они вытянулись в два ряда от кельи отца Фульгенция до главной лестницы. Впереди были монахи, а за их спинами – послушники. Внезапно Фульгенций, который, казалось, впал уже в блаженное беспамятство, оживился и, привлекши меня к себе, прошептал мне на ухо: «Он пришел, он поднимается по лестнице; ступай ему навстречу». Не понимая этого приказания, но повинуясь ему с той покорностью, с какой мы обязаны исполнять волю умирающих, я тихонько вышел из кельи и, стараясь не обеспокоить молящихся монахов, устремил свой взор в сторону лестницы, которая в эту пору плавала в солнечной дымке. Внезапно глазам моим предстал человек, быстро поднимавшийся по ступеням. Походка его была разом и легка, и величава, как у человека деятельного и облеченного властью. По высокому росту и изящному облику, по развевающимся светлым волосам и старинному платью я сразу узнал его. Он был в точности такой, каким мне его не раз описывал Фульгенций. Пройдя сквозь двойной ряд молящихся монахов, которые вполголоса читали молитвы, он остался никем не замеченным, хотя я видел его так же ясно, как солнце на небе, и совершенно отчетливо слышал мерный звук его быстрых шагов. Он вошел в келью. В ту минуту, когда он проходил мимо меня, я упал на колени. Не останавливаясь, он повернул голову и пристально посмотрел на меня. Я по-прежнему не сводил с него глаз. Он подошел к постели, взял Фульгенция за руку и сел подле него. Фульгенций не шевелился. Рука его бессильно покоилась в руке учителя; рот был полуоткрыт, взгляд мутен и неподвижен. Все то время, что звучали молитвы, призрак, не двигаясь, сидел подле умирающего. Когда же молитвы смолкли, Фульгенций внезапно сел и, судорожно сжав руку того, кто находился с ним рядом, громко выкрикнул: «Sancte Spiridion, ora pro nobis» [443] , после чего упал на постель бездыханным. В то же мгновение призрак исчез. Я огляделся, чтобы узнать, какое впечатление эта сцена произвела на остальных, однако их лица обличали такое спокойствие, что я тотчас понял: видеть призрака было дано мне одному. Двадцать четыре часа спустя тело Фульгенция опустили в могилу; я был одним из четырех монахов, которым выпало поместить его гроб в склеп, находящийся в поперечном нефе нашей церкви. Ты, должно быть, не раз видел в центре этого нефа длинный узкий камень, украшенный странной надписью: «Hie est veritas». – Надпись эта, – перебил я отца Алексея, – не однажды привлекала мой взор и занимала мои мысли во время молитв. Помимо воли я пытался разгадать смысл этой фразы, которая казалась мне противоположной духу христианства. Как, спрашивал я себя, может быть истина скрыта во гробе? Каких уроков могут живые ждать от праха умерших? Разве после того, как искра жизни покинет нашу бренную плоть, а душа освободится от земных уз, не к небесам должны мы обращать наши взоры? – Теперь, – отвечал Алексей, – ты можешь понять таинственный смысл этой надписи. Спиридион, в ту пору восторженный поклонник Боссюэ, приказал художнику, рисовавшему его портрет, вложить ему в руку книгу епископа из Мо и начертать на ее переплете эти слова. Затем, когда, повинуясь своей неизменно прямой душе, он в последний раз переменил убеждения, то, дабы засвидетельствовать, что, какие бы метаморфозы ни претерпевал его ум, сердце его остается прежним, он решил сохранить этот девиз и повелел выбить его на своей надгробной плите. Благородная ревность отважного ума, который ничто не способно разлучить с его добычей и который желает покоиться в могиле вместе с открытой им истиной, как победоносный полководец – со своим военным трофеем! Монахи не поняли, что этот возглас умирающего никак не связан с учением Боссюэ; у некоторых, правда, слова эти вызвали смутные подозрения, однако почтение и страх, какие аббат продолжал внушать даже после смерти, были так велики, что никто не осмелился возвысить против его последнего желания свой святотатственный голос. В день похорон Фульгенция плиту подняли, и мы спустились в склеп, где рядом с гробом Спиридиона было, согласно его воле, оставлено место для его друга. Дубовый гроб, который мы несли, весил очень много, ноги наши поскальзывались на крутых ступенях, братьев, помогавших мне, хилых подростков, пугала мрачная торжественность погребальной церемонии. Факел в руке монаха, шедшего первым, дрожал. Один из тех, кто нес гроб, оступился и, вскрикнув, покатился по ступенькам лестницы; крик его товарищей был ему ответом. Монах, показывавший дорогу, выронил факел, тот наполовину погас, и свет его сделался тускл и еще более мрачен. Робких юношей, вскормленных предрассудками грубой веры и заранее предубежденных против памяти аббата из-за распространявшихся в монастыре нелепых слухов, охватил ужас. По всей вероятности, они решили, что перед ними вот-вот предстанет призрак Спиридиона или что злой дух, пробужденный их криками, начнет изрыгать бледный огонь из темной могилы. Что до меня, то я был более крепок телом и более стоек духом и потому ощутил волнение, но не испытал страха; мысль, что я приближаюсь к месту последнего упокоения великого человека, пробуждала в моей душе почтительную радость. Когда один из моих товарищей оступился и упал, я продолжал удерживать на своем плече гроб со священными останками учителя, однако после того как двое других монахов последовали примеру первого, я также не сумел устоять и рухнул вместе с гробом Фульгенция на гроб Спиридиона. Я тотчас поднялся, но, вставая, оперся рукой на свинцовый саркофаг, в котором покоился прах аббата, и был поражен тем, что вместо холодного металла ощутил тепло, казавшееся теплом жизни. Быть может, все дело в было в том, что при падении я слегка расшиб лоб и на саркофаг упали несколько капель моей собственной крови. Однако в первое мгновение я не заметил своей раны и, повинуясь странному, неизъяснимому влечению, припал губами к этому гробу с такой же страстью, как если бы прижимал к своей трепещущей груди останки родного отца. Впрочем, заметив, что в подземелье спустился еще один монах и что он, подобрав с земли факел, наблюдает за этой страшной сценой, я поспешил оторваться от саркофага. О той ночи, что последовала за похоронами, я не могу вспоминать без смущения. Я преклонил колени на могильной плите Фульгенция, но мысли мои были заняты Спиридионом: пораженный бесстрашием его ума и чудесной силой, не иссякнувшей и через много лет после его смерти, я внезапно ощутил в себе страстное желание последовать его примеру. Юность надменна и дерзка, и дети мнят, будто им довольно протянуть руку, чтобы завладеть скипетром предшественников. Я воображал себя во всем подобным Спиридиону – настоятелем монастыря, обладателем таинственной книги, средоточием познаний и мудрости, способных перевернуть мир. Сущность доктрины Спиридиона была мне неизвестна, однако, что бы в ней ни содержалось, я принимал ее заранее, ибо знал, что она создана величайшим мыслителем своего века. Движимый этими чувствами, я был готов тотчас отправиться за книгой Спиридиона и уже начал обдумывать способы приподнять могильный камень, однако боязнь запятнать себя поступком святотатственным остановила меня, и все сомнения, внушенные религией, вновь проснулись в моей душе. Я был зачарован, измучен, напуган. Гордыня человеческая и христианское смирение сошлись в схватке, и я не знал, за кем останется победа, однако подозревал, что истребить чувство, которое за один час забрало надо мною такую власть, какую другое завоевывало в течение десяти лет, будет непросто. Внутренняя борьба эта длилась несколько дней. Наконец ум мой пришел на помощь гордыне, и вместе они победили. Вера уступила разуму, а покорство не устояло перед тщеславием. Впрочем, я отрекся от католической веры не сразу, а по здравом размышлении. В ту пору, когда я дал уму моему право анализировать мою веру, я был еще так сильно привязан к этой обессилевшей религии, что льстил себя надеждой укрепить свои верования, переплавив их в тигле ученых штудий и серьезных раздумий. Если она рухнет от первого же натиска ума, говорил я себе, значит, она выстроена из материала чересчур ненадежного и непрочного. Закон, предписывающий разуму покорно склоняться перед таинствами и не стремиться их разгадать, был, надо думать, писан для умов слабых и беспомощных. Эти божественные таинства, по всей вероятности, суть не что иное, как возвышенные образы, смысл которых слишком обширен и слишком ужасен для умов ограниченных. Но возможно ли, чтобы Господь судил уму человеческому, Им же самим и порожденному, влачиться в потемках, имея путеводною нитью один только страх? Нет, подобное предположение оскорбительно для Господа; пророкам буква была так же внятна, как и дух. Отчего же душе, которая воспаряет над землей и жаждет вознестись к высотам мысли, не последовать примеру пророков? Чем больше тайн она раскроет, тем более твердо и мудро сможет отвечать атеистам. Ведь атеизм – дитя, которое боится себя самого, пусть даже воля его непреклонна, а цель величественна. Вдобавок, говорил я себе, кто знает, не воздвиг ли Спиридион в своей книге памятник католицизму? Фульгенцию недостало мужества; быть может, осмелься он вступить в наследство, оставленное ему учителем, выяснилось бы, что все опасения напрасны. Быть может, обнаружилось бы, что после долгих колебаний и мучительных исканий Эброний, озарив свой разум светом нового знания, припав к неведомому прежде источнику силы, провозгласил в последнем своем сочинении победу тех самых идей, которые он в течение десяти лет подвергал всестороннему рассмотрению. Думая об этом, я вспоминал басню о крестьянине, который, желая, чтобы сыновья его работали не покладая рук, уверил их, будто на поле его зарыт клад, меж тем как истинным кладом была сама земля, нуждавшаяся, однако, в тщательной обработке. Спиридион, говорил я себе, рассуждал следующим образом: не стоит полагаться на чужие мнения, не стоит, подобно неразумным тварям, тупо следовать по пути, проложенному впереди идущими. Каждый обязан искать собственную дорогу к небу; того, чьи намерения чисты, а взор не затуманен гордыней, всякий путь приведет к истине. Вера только тогда по-настоящему действенна, когда избрана свободно, и только тогда подлинно тверда, когда удовлетворяет все потребности души и занимает все ее силы. Итак, я решил приняться за серьезное и глубокое изучение природы Бога и человека, к книге же Эброния прибегнуть лишь в самом крайнем случае, иначе говоря, лишь если мои собственные силы окажутся недостаточны для исполнения дела столь нелегкого, если сомнения сменятся в моей душе отчаянием, а иссякшие способности не позволят мне продолжать начатый труд. Решение это позволяло примирить потребности моего разума, которые влекли меня к постижению тайн науки, с потребностями моей души, которая оставалась по-прежнему привержена католической религии. Прежде чем утвердиться в своем намерении, я пережил множество тревог, изведал множество мук. Когда же решение было наконец принято, я в порыве радостного одушевления пожелал присягнуть своей новой философии на манер совершенно католический. Я дал обет, а именно обещал самому себе, что, какие бы жгучие сомнения ни терзали меня, какие бы блистательные прозрения меня ни осеняли, не стану прибегать к книге Эброния до тех пор, пока мне не исполнится тридцать лет. Именно столько лет было аббату Спиридиону, когда, отрекшись уже от двух предшествующих исповеданий, он страстно предался католицизму и поклялся ему в нерушимой верности. Мне было двадцать четыре года, и я полагал, что шести лет мне достанет для проникновения во все тайны и раскрытия всех загадок. Пребывая в этой уверенности, я вновь преклонил колени на могильном камне, которому в монастыре присвоили название Hic est, и там, в тишине и уединении, произнес вполголоса страшную клятву: прикоснувшись к книге Эброния прежде зимы 1766 года, я обрек бы свою душу на вечное проклятие. Памятуя о смятении, в которое приводит ум человеческий скорбная возвышенность ночных часов, я не захотел давать эту клятву во мраке ночи; я вознамерился сделать это в полдень, при ярком свете солнца. Стояла невыносимая жара; настоятель, как это случается летней порой, позволил всем обитателям монастыря предаться отдыху. Я остался в церкви совсем один; кругом царило абсолютное безмолвие; садовники прекратили работу, поэтому из сада также не доносилось ни единого звука; замолкли даже птицы, погрузившиеся в некое восторженное забытье. Душа моя преисполнилась горделивого восторга, и я храбро вверил себя Провидению; в моем уме теснились мысли самые веселые и самые поэтические. Все предметы, по которым скользил мой взгляд, расцветали, казалось, неведомой красой. Золотые стенки дарохранительницы сверкали, как если бы на святыню снизошел божественный свет. Цветные витражи, вспыхивая от солнца и отражаясь в плитах пола, образовывали между колоннами целые мозаики из брильянтов и самоцветов. Мраморные ангелы, казалось, изнемогали от жары и от тяжести карнизов; они клонили лица долу, стремясь, подобно прекрасным птицам, спрятать прелестные головки под крыло. Мерный и таинственный ход башенных часов напоминал биение сердца, охваченного страстью, а тусклый белый свет лампады, ни на минуту не гаснущей перед алтарем, соперничал с сиянием солнца и служил мне эмблемой человеческого ума, который прикован к земле, но всякую минуту мечтает раствориться в немеркнущем свете ума божественного. Именно в это мгновение, объятый блаженством равно и умственным и физическим, я принялся произносить вполголоса слова своей клятвы. Однако при первых же моих словах дверь из сада тихонько отворилась и под сводами храма с неизъяснимой гармонией раздался звук шагов, которые я тотчас узнал, ибо ни одно человеческое существо не способно ступать таким образом. Шаги приблизились ко мне и смолкли лишь возле того места, где я преклонил колени. Исполненный почтения и радости, я возвысил голос и продолжил произносить свою клятву громко и внятно. Договорив, я обернулся, надеясь увидеть за своей спиной того, кого уже видел однажды у смертного одра Фульгенция, однако церковь была пуста. Дух явил себя лишь одному из моих чувств. По всей вероятности, я еще не был достоин вновь увидеть его. Он продолжил свое невидимое движение, и вскоре шаги его смолкли в отдалении. Тогда я пожалел о том, что не заговорил с ним. Быть может, думал я, ему не понравилось мое молчание; быть может, он ожидал от меня изъявления чувства более пылкого и не ответил мне лишь оттого, что ожидания эти остались тщетны. Тем не менее я не дерзнул последовать за ним, не осмелился просить его возвратиться; неудержимое влечение к нему смешивалось в моей душе с великим страхом. То был не ребяческий страх, какой испытывают люди слабые, сталкиваясь с явлением, нарушающим привычный ход событий и непостижимым для умов ограниченных. Эти редкие, выходящие из ряда вон случаи, какие совершенно напрасно именуют чудесными или сверхъестественными, какими бы необъяснимыми ни казались они мне по причине моего невежества, нисколько меня не страшили. Аббат был человеком столь выдающимся, что и после смерти внушал мне почти такое же безграничное почтение, с каким я бы отнесся к нему, будь он жив. Я не допускал, что некая невидимая сила наделила его правом вредить мне или меня пугать; я знал, что этот чистый дух читает в моей душе и понимает все происходящее в ней еще более ясно и глубоко, чем понял бы в ту пору, когда был еще скован узами материи. В отличие от людей пугливых и робких, которые дрогнули бы при его появлении, я боялся лишь одного – как бы он не счел, что я недостоин лицезреть его вторично. Потеряв надежду увидеть его в день моей клятвы, я опечалился и уверился в своем ничтожестве. К тому времени я уже убедил себя, что Спиридион перед смертью отринул ересь и что душа его не мучается в чистилище, но, напротив, пребывает на небесах и вкушает вечное блаженство. В его явлениях я видел знак милости Господней, небесное благословение, чудо, свершившееся ради Фульгенция и ради меня; память об этом наполняла мою душу радостью и гордостью, просить же о большем я не дерзал. С того дня я со всем возможным пылом предался ученым трудам; меньше чем за два года я проглотил все книги монастырской библиотеки, в которых шла речь о естественных науках, истории и философии. Однако, сделав этот первый шаг, я обнаружил, что так и не сумел выйти за пределы того узкого круга, в который католицизм заключил мою прошлую жизнь. Я чувствовал себя усталым, а между тем ясно сознавал, что ничего не добился; я принялся за дело храбро и решительно, однако под тяжестью средневековых контроверз, отличающихся невероятной изощренностью и требующих немыслимого терпения, ум мой ослабел и изнемог. Вере моей в непогрешимость Церкви ничто не угрожало, ибо все сочинения, мною прочитанные, имели целью защиту и прославление римско-католических оракулов; однако именно потому, что я сражался, не имея противника, и одерживал победу, не подвергаясь опасности, душа моя оставалась холодна и не знала радости. Вера моя утратила ту бесшабашную мощь, то возвышенное поэтическое очарование, какие отличали ее прежде. Искры гения, сверкавшие порой среди вороха схоластических писаний, не искупали бесполезного пустословия остальных прочитанных мною книг. Вдобавок эти пламенные опровержения доктрин, знакомство с которыми было мне запрещено, не могли удовлетворить ум, вознамерившийся все познать и все понять самостоятельно. Я решился прочесть сочинения еретиков. В ту пору монастырская библиотека не располагалась, как ныне, в одном-единственном помещении. Собрание еретических авторов, безбожников и язычников, к чьим сочинениям столько раз обращался Спиридион, хранилось отдельно от священных книг, в комнате, куда молодым монахам доступ был запрещен. Находилась она за большой залой капитула, той самой, по которой аббат Спиридион любил прогуливаться до и после смерти. Редкостное это собрание вызывало у одних отвращение и страх, у других же – и эти последние составляли большинство – равнодушие и презрение. Почтение к памяти основателя монастыря не позволяло монахам уничтожить еретические книги, невежество и суеверие не позволяли знакомиться с ними. По всей вероятности, со времен Эброния я первым дерзнул стряхнуть пыль с этих драгоценных томов. Решился я на это не без тайного страха; однако следует признать, что к страху примешивалось жгучее, радостное любопытство. Итак, волнение, владевшее мною, было скорее приятным, нежели мучительным; под своды святилища я вступил, так глубоко погруженный в свои чувства, что даже не подумал попросить разрешения у настоятеля. Между тем получить такое разрешение было, как ты сам понимаешь, Анжель, трудно, а то и вовсе невозможно; мне неизвестен ни один монах, который имел бы достаточно мужества, чтобы его испросить, или достаточно ловкости, чтобы его выпросить. Что же касается меня, то я о необходимости получить разрешение даже не вспомнил. Борьба между жаждой познания и косностью веры, разворачивавшаяся в моей душе, была для меня в тысячу раз важнее любого спора с людьми. В тот день я, как это многократно случалось со мною на протяжении всей жизни, ясно ощутил, что мне нет никакого дела до внешнего мира и что единственное существо, способное меня устрашить, – это я сам. Я мог бы, отперев дверь с помощью какой-нибудь отмычки, ночью, тайком проникнуть в кабинет, где хранились еретические сочинения, взять нужные мне книги и унести их в свою келью. Однако подобная осторожность, подобная скрытность претили моей натуре. Я вошел в залу капитула среди бела дня, ровно в полдень; уверенным шагом я пересек ее, нимало не заботясь о том, не идет ли кто-нибудь за мной по пятам. Я направился прямиком к двери… роковой двери, на которой судьба вывела для меня слова Данте: «Per me si va nell’eterno dolore». [444] Я толкнул эту дверь с такой решительностью, с такой силой, что она отворилась, хотя была надежно заперта на замок. Я переступил порог и тотчас замер от изумления: в библиотеке кто-то был, и этот кто-то не пошевелился при моем появлении, не заметил грохота, с которым я открыл дверь, и даже не поднял на меня глаз. Однажды я уже видел его и не спутал бы ни с каким другим существом. Он сидел перед высоким стрельчатым окном, и солнце обнимало своими горячими лучами его светлые кудри; казалось, он полностью погружен в чтение. Полминуты я стоял неподвижно и любовался им, а затем бросился вперед, чтобы пасть на колени, однако кресло, где он сидел, уже опустело: видение растворилось в солнечном блеске. Я был так потрясен, что в тот день даже не притронулся к книгам. Я подождал несколько мгновений, хотя и не льстил себя надеждой, что Дух явится вновь; тем не менее его мимолетное присутствие воодушевило и укрепило меня. Я ждал, ибо думал, что, если моя дерзость ему не по нраву, он известит меня об этом посредством какого-нибудь нового чуда; однако ничего необычного не произошло; в библиотеке царило такое спокойствие, что на мгновение я даже усомнился в том, что в самом деле видел призрак, и счел его плодом своего воображения. Назавтра я возвратился в библиотеку, нисколько не тревожась о том, что могли подумать монахи, обнаружив сломанный замок и отпертую дверь. Зала была пустынна и тиха; дверь в библиотеку, которую я давеча закрыл на задвижку, оставалась в том же самом положении, и было не похоже, чтобы кто-нибудь заметил мой проступок. Итак, я совершенно беспрепятственно проник в библиотеку, прикрыл за собою дверь изнутри и начал изучать корешки книг, толпившихся перед моим взором. Первым мне бросился в глаза том Абеляра, однако не успел я прочесть и нескольких страниц, как раздался звон колокола, созывавший на молитву, и, как бы ни претила мне необходимость действовать тайком, подобно преступнику, я решил спрятать драгоценную книгу под сутаной и унести с собой в келью. Ведь доступ в залу капитула был мне открыт всего один час в сутки, а утолить снедавшую меня жажду за столь короткое время я не мог. Я стал искать способы беспрепятственно продолжать чтение и решился действовать осмотрительно. Быть может, согласись я пойти на поклон к настоятелю и унизиться до просьб, я добился бы своего. Для этого, однако, я был чересчур горд; мне пришлось бы убеждать настоятеля в том, что, движимый неколебимой верой, я ощущаю страстное желание разбивать доводы еретиков и доказывать их несостоятельность. Меж тем это было бы ложью. Мною двигало желание познать истину; католическая наука больше не могла меня удовлетворить, и я стремился расширить круг изучаемых сочинений не ради торжества религии, а из любви к науке. Я жадно проглотил творения Абеляра, изучил то, что дошло до нас от сочинений Арнольда Брешианского, Петра Вальда и других прославленных еретиков XII и XIII веков. Убеждения этих знаменитых людей, которые хотя бы отчасти взяли под защиту свободу выбора и права разума, так отвечали тогдашним потребностям моей души, что я зашел гораздо дальше, чем ожидал. Ум мой вступил в новую фазу, и, несмотря на все муки, какие я претерпел в ходе своего развития, несмотря на мой бесславный конец, я убежден, что поступил правильно. Да, Анжель, какие бы суровые испытания ни подстерегали нас на пути к истине, мы обязаны искать ее неустанно; лучше ослепнуть, глядя на солнце, нежели оставаться зрячим, не видя ничего, кроме земли, и пряча глаза от сияющего света. Итак, из весьма образованного католического богослова я превратился в пламенного еретика, тем менее склонного примиряться с учением римско-католической церкви, что, подобно Абеляру и прочим моим учителям, я был совершенно искренне и глубоко убежден в чистоте моей веры. В глубине души я не сомневался в своем праве и даже в своей обязанности верить только в то, что кажется мне понятным и полезным. Я был уверен, что взгляд этих философов на богодухновенность Платона и святость великих языческих философов, предшественников Христа, совершенно точно соответствует тем представлениям, какие христианин должен иметь о доброте, справедливости и величии Господа. Я сурово осуждал священнослужителей эпохи Абеляра и полагал, что на Санском соборе дух Господень пребывал не с гонителями, а с гонимыми. Если в мыслях своих я еще не ниспроверг в ту пору все здание католической религии, то лишь потому, что по природной уступчивости допускал: Церковь могла заблуждаться, наследники же сбившихся с пути прелатов не отказываются от заблуждений предшественников по причине покорности и осторожности, продиктованных соображениями сугубо человеческими и политическими. Я говорил себе, что на месте папы также отказался бы от мысли публично оправдать Абеляра и его школу, однако я был уверен, что не стал бы запрещать знакомство с их сочинениями и укрыл бы расположение к ним под покровом терпимости. Участь моя, впрочем, была достойна сожаления, ибо я подрывал авторитет Церкви, не помышляя о расставании с нею. Я стремился разрушить здание, на которое можно нападать только снаружи; я между тем находился внутри, и обломки накрыли бы меня с головой. Подобные удивительные противоречия нередко бывают присущи людям искренним и во всех прочих отношениях вполне рассудительным. Привычная неприязнь к протестантской церкви, привычная же, инстинктивная привязанность к церкви римско-католической заставляют таких людей хранить верность колыбели, в которой они взросли, тогда как неодолимое притяжение истины и потребность в независимости и справедливости влекут их из этой колыбели, давно уже сделавшейся тесной и неуютной, в иные края. Пытаясь разобраться в своих противоречивых ощущениях, я не замечал главного. Главное же заключалось в том, что я перестал быть католиком. Поверив, что еретики лишь усовершенствовали католическое учение, я стал поклоняться им с величайшим усердием; я так искренне восхищался их величием, так живо сочувствовал их несчастьям, что проникся к ним почтением едва ли не большим, чем к отцам церкви. Ведь отцы церкви безраздельно владели моей душою в прошлом, а теперь я нуждался в новых друзьях. Сказать, что от Абеляра я перешел к Виклифу, от Виклифа к Яну Гусу, от Яна Гуса к Лютеру, а от Лютера к скептицизму, значит изложить историю человеческого ума на протяжении предшествующих столетий, ибо в своем умственном развитии я прошел, не пропустив ни одной, все стадии, какие переживало человечество. Этого требовала логика моего становления; однако, познакомившись с протестантизмом, я не мог уже вернуться назад. Вера моя в откровение пошатнулась; религия приняла форму сугубо философическую; я обратился к древним мыслителям, к учениям Пифагора и Зороастра, Конфуция и Эпикура, Платона и Эпиктета, одним словом, всех тех, кто еще до Иисуса Христа страстно желал разгадать тайну происхождения и предназначения рода человеческого. В уме, предающемся занятиям спокойным и размеренным, в душе, которая ничем не связана с людским обществом и, ведя жизнь однообразную и лишенную событий, впитывает каплю за каплей жизнь небесную из источника вечно полного и вечно прозрачного, – в таком уме и в такой душе интеллектуальные превращения свершаются незаметно, так что невозможно отделить одну фазу от другой. Ты, милый мой Анжель, был когда-то малым ребенком и, взрослея постепенно, день за днем, незаметно для самого себя, сделался сначала отроком, а потом юношей; точно так же я сделался из католика реформатом, а из реформата философом. До поры до времени все шло неплохо; до тех пор пока занятия мои сохраняли характер сугубо исторический, они доставляли мне живейшие умственные и душевные наслаждения. Я испытывал неизъяснимое блаженство, когда, освободясь от католических пут и оговорок, исследовал жизнь множества доселе неизвестных гениев, когда озарял свой разум великолепным светом множества доселе непонятых шедевров. Однако чем глубже я погружался в эти штудии, тем острее ощущал необходимость избрать себе какую-либо систему, ибо предчувствовал невозможность связать воедино все эти различные верования и доктрины. Я не мог верить в откровение после того, как получил столько драгоценных наставлений от многочисленных философов и мудрецов, не числивших среди своих заслуг особенных сношений с Господом. Я не считал, что апостол Павел богодухновенностью превосходит Платона; Сократ, казалось мне, был столь же достоин искупить грехи рода человеческого, что и Иисус из Назарета. Для меня было очевидно, что в Индии о Боге знали ничуть не меньше, чем в Иудее. Юпитер, каким описывали его великие языческие мыслители, представал, на мой взгляд, божеством, ничем не уступающим Иегове. Одним словом, сохраняя в душе величайшее почтение и чистейшую любовь к Распятому, я не видел никаких оснований, считая его сыном Божьим, отказывать в этом звании Пифагору; что же касается учеников этого последнего, они казались мне такими же пламенными апостолами веры, что и последователи Иисуса. Говоря короче: читая реформатов, я перестал быть католиком; читая философов, я перестал быть христианином. Моим исповеданием веры сделались страстная тяга к Божеству и надежда на него, нерушимое чувство справедливости, величайшее почтение ко всем религиозным доктринам и всем философским учениям, любовь к добру и потребность в истине. Быть может, мне следовало прекратить поиски и жить спокойно, сочетая эти добрые чувства с великим смирением; однако именно этот покой, пожалуй, и недоступен для католика, именно в этом история личности отличается самым решительным образом от истории поколений. Течение времени преобразует природу человеческого ума. Отцы избавляются от своих заблуждений постепенно, неспешно, и тем не менее детям своим они сообщают понятия куда более ясные, чем те, какие имелись у них самих: ведь сами они до конца своих дней оставались скованы привычкой и привязаны к прошлому потребностями ума, порожденными этим прошлым, тогда как дети их, рождающиеся с другими потребностями, быстро приобретают другие привычки, которые на закате жизни этого нового поколения не мешают ему, однако, впитать зачатки новых идей, – тех самых, что будут вполне усвоены лишь следующим, третьим поколением. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее присутствуют в жизни человека в разной мере. Если настоящее человека сформировано его прошлым – прошлыми трудами и прошлой мудростью, то будущее можно уподобить семени; возможно, оно даст плод, но человеку этому, как бы гениален и добродетелен он ни был, не удастся его отведать. Люди никогда не умели познать вечную истину сполна и всегда лишь смутно предчувствовали ее; поэтому они оставались христианами или, по крайней мере, считали себя таковыми, хотя на их глазах христианство меняло свой облик, переходя от учения апостола Павла к учению Блаженного Августина, от проповедей святого Бернарда Клервоского – к проповедям Боссюэ. Все дело в том, что эти перемены осуществлялись в течение долгих веков, отдельный же человек не смог бы ни пережить, ни совершить подобные перевороты, не лишившись рассудка или, по крайней мере, не свернув с того пути, какой был заповедан ему от века и каким он шествовал до тех пор, пока судьбу его вершили труд и воля. Положение мое было самое ужасное! Рожденный в восемнадцатом столетии, я получил воспитание католическое и вполне средневековое; в двадцать пять лет я знал об античности немногим больше, чем монах одиннадцатого века. И вот из этого-то мрака я внезапно вознамерился прозреть и будущее, и прошлое. Я говорю о будущем потому, что, отброшенный собственным невежеством на шесть сотен лет назад, я воспринимал все случившееся за это время с изумлением; события и идеи, для других людей давно ушедшие в прошлое, представали передо мной во всем блеске новизны. Я находился в положении слепого, который, внезапно прозрев в полдень, пожелал бы еще до вечера составить представление о восходе и закате солнца. Разумеется, он имел бы право отнести оба эти зрелища к будущему, хотя в прошлой жизни солнце многократно всходило и садилось перед его незрячими глазами. Так и католик, стоит ему отворить свой ум свету истины, либо закрывает глаза от этого слепящего сияния, либо оступается и падает в бездну. Католик ничем не связан с историей человечества и сам не способен ничто связать с христианством. Он мнит, что начало и конец рода человеческого заключены в нем самом. Именно ради него была создана земля; именно ради него бесчисленные поколения мелькали на земле, словно бесплотные тени, и, отмеченные печатью проклятия, погружались в вечную тьму, дабы ужасная их участь служила примером и назиданием ему, католику; именно ради него Господь сошел на землю в человеческом облике. Именно ради славы и спасения католика адские пропасти беспрестанно наполняются жертвами, дабы верховный судия мог сравнивать грешников с праведниками, а католик, вознесшийся на небо, наслаждался там вечными стонами и сетованиями тех, кого он не сумел покорить своей власти при жизни: по этой-то причине католик и не находит себе в истории рода человеческого ни отцов, ни братьев. Он не питает сыновнего уважения и священной признательности ни к одному из великих людей, живших до него, исключая древних иудеев. Столетия, когда католицизм еще не появился на свет, в счет не идут; те, кто выступал против католицизма, осуждены на проклятие; те, кто решится с ним покончить, приблизят конец света, ибо в роковой день, когда римская церковь падет под ударами своих противников, с нею вместе повергнется в прах и весь мир. Если же католик утрачивает свое слепое почтение к католической церкви, куда ему податься, где искать спасение? До тех пор пока он сохранит веру в откровение, прибежищем ему будет христианство, но если и откровение изменит, ему не останется ничего другого, кроме как плыть по океану времен, подобно суденышку, лишившемуся и руля, и компаса; ведь он не привык считать мир своим отечеством, а людей – своими братьями. Он всегда обитал на скалистом острове, куда не было доступа посторонним, никогда не вступал в сношения с окружающими. На мир он смотрел лишь как на возможную добычу католических миссионеров, на людей, чуждых его вере, – как на бессловесных и бездушных тварей, которых он один способен приобщить к цивилизации. В какую землю отправится он искать тайну небесного происхождения, у какого народа будет испрашивать наставлений человеческой мудрости? Он будет приставать к разным берегам, но не сумеет истолковать следы, которые там увидит. Письмена, запечатлевшие плоды человеческой науки, суть начертания, ему непонятные, как непонятна ему история сотворения мира. Вне римской церкви нет для него спасения, вне Священного Писания нет для него науки. Итак, для католика середины не существует: он обречен либо оставаться католиком, либо стать неверующим. Единственная истинная религия для него – та, какую исповедует он сам; разочаровавшись в ней, он разочаровывается и во всех остальных. Именно к этому пришел в конце концов я, и к этому же пришел мой век. Разница между нами, однако, заключалась в том, что век мой пришел к этому постепенно, по воле Провидения, и нынешнее его положение нисколько его не тревожило: век не верил, но неверие его было исполнено безразличия. Утратив вкус к вере отцов, он наслаждался философической беспечностью, по всей вероятности, потому, что предчувствовал: Провидение не позволит семени жизни, дремлющему в его лоне, погибнуть от зимней стужи. Иное дело я, изверившийся христианин, я, вчерашний католик, пожелавший разом преодолеть ту дистанцию, какая отделяла меня от моих современников: радость победы, кружившая мне голову, была недалека от отчаяния и безумия. Кто опишет страдания души, которая привыкла исполнять веления католической доктрины – терпеливо выверенной, безмерно пунктуальной, продуманной до мелочей – и вдруг очутилась в водовороте разнородных учений, ни одно из которых не унаследовало от католицизма ни его слепой веры, ни его наивного энтузиазма? Кто поймет, какая одуряющая скука дурманила мой ум в церкви после захода солнца, когда, преклонив колени, я вынужден был часы напролет слушать заунывное пение моих братьев, которое более не имело для меня ни смысла, ни очарования? Прежде, в пору, когда меня снедал религиозный жар, часы эти казались мне слишком коротки, теперь же они тянулись медленно, как века. Напрасно пытался я машинально произносить слова молитв, занимая мозг спекуляциями высшего порядка; ум работал, но сердце молчало. Молитва удивительна тем, что трогает самые возвышенные струны души, пробуждает самые человеческие оттенки чувства. Христианская же молитва отличается от всех прочих тем, что приводит в действие разом и духовные, и умственные силы человека. Ни в какой другой религии человек не чувствует себя стоящим так близко к своему Богу; ни в какой другой Бог не предстает исполненным такой безграничной отеческой любви и такого великого терпения, таким человечным, таким доступным и таким нежным. Аскетическая книга «Подражание Иисусу Христу» есть не что иное, как восхитительное рассуждение о дружбе – странной, неизъяснимой дружбе, не имеющей подобия в других религиях; узы этой тесной, доверительной, предупредительной, братской дружбы связывают Господа Иисуса Христа и благочестивого христианина. Разве может человек, познавший эту любовь, променять ее на привязанность к какому-либо земному существу? разве может земной ум удовлетворить в одно и то же время и в одной и той же степени все потребности сердца? Христианская доктрина смиряет все пылкие тревоги ума, говоря своему адепту: «Тебе нет нужды быть великим: люби и будь смирен; люби Христа, потому что он был смирен и кроток». Если же сердце, до краев наполненное любовью, готово излить ее на людей из плоти и крови, доктрина останавливает христианина, говоря ему: «Помни, что ты велик и не можешь любить никого, кроме Христа, ибо он один истинно велик и совершенен». Доктрина эта не стремится закалить плоть человека, сделав ее нечувствительной к боли; она расслабляет ее ради того, чтобы укрепить, она заставляет человека познавать наслаждение в муках. Эпикурейство учит человека обретать покой ценой умеренности; христианство учит находить радость ценою слез; разум стоика сносит пытку; энтузиазм христианина ищет мучений. Итак, философский камень христианства – это развитие умственной силы посредством изощрения нравственного чувства, молитва же есть неиссякаемый источник, в котором обе эти силы смешиваются и обретают новую жизнь. Душа, подобно телу, имеет повседневные потребности; подобно ему, привыкает она удовлетворять эти потребности так, а не иначе. В бытность мою христианином и монахом я привык постоянно изливать в молитве любовь и восторг, переполнявшие мое сердце. Особенное блаженство доставляла мне вечерняя служба, во время которой я открывал Спасителю всю душу без остатка. В эту пору, когда день уже отошел, а ночь еще не опустилась на землю, когда своды храма освещает лишь дрожащий свет лампады, зажженной перед алтарем, а на еще бледном небосводе вспыхивают первые звезды, я обычно прерывал молитву и отдавался обуревавшим меня святым и сладостным чувствам. Место, где я молился, располагалось напротив высокого окна, узкий проем которого разрезал прозрачную синеву неба. Каждый вечер за окном зажигались три прекрасные звезды, которые, казалось, улыбались мне и озаряли мою душу лучом любви и надежды. Так вот: поэтическое чувство было во мне так тесно переплетено с чувством религиозным, а религиозное чувство так крепко связано с католической доктриной, что, перестав слепо подчиняться ей, я лишился всего – и поэзии, и молитв, и священного исступления, и пламенного вдохновения. Я сделался так же холоден, как те мраморные плиты, которые попирал ногами. Тщетно пытался я устремиться душою ввысь, к Творцу всего сущего. Прежде Он представал моему воображению в определенном облике, который теперь утратил; после того, как мысли мои сделались более возвышенны, а стремления – более грандиозны, разум мой явил мне Бога несравненно болеемогущественного и более совершенного, и этот новый Бог слепил мой взор; Его необъятность, равно как и безграничность сотворенного Им мира, напоминали мне о моем ничтожестве. Прежний облик, до какой-то степени доступный чувствам благодаря картинам и мистическим аллегориям, постепенно таял, уступая место бескрайнему Божьему лону, в котором я ощущал себя мельчайшим атомом, причем мысли мои не занимали в нем никакого места и не имели никакой цены, а Божество не снисходило до общения со мною иначе чем через посредство – посредство, можно сказать, роковое – жизни всеобщей. Итак, я больше не пытался сообщаться с Богом. Я был уверен, что этому исполину не пристало слушать меня; обращая к Нему свои мольбы или восторги, словно к земному царю, я боялся оскорбить Его небесное величие, боялся совершить поступок святотатственный. А между тем я по-прежнему ощущал потребность молиться, потребность любить и порой пытался смиренно и боязливо воззвать к этому грозному Божеству. Однако при этом я либо невольно возвращался к католическим оборотам и мыслям, либо произносил молитву собственного сочинения, столь странную и наивную, что сегодня она вызвала бы у меня улыбку, если бы не напоминала о невыносимых страданиях. « О Ты, – говорил я, – Ты, не имеющий имени и пребывающий в пределах недоступных! Ты, чересчур великий, чтобы слушать меня, чересчур далекий, чтобы меня услышать, чересчур совершенный, чтоб меня любить, чересчур сильный, чтобы обо мне пожалеть!.. Я взываю к Тебе, не надеясь на ответ, ибо знаю, что не должен ни о чем Тебя просить, знаю, что единственный способ заслужить Твое одобрение – жить и умереть в безвестности, не ведая ни гордыни, ни мятежа, ни гнева, страдать без жалоб, ждать без желаний, надеяться без притязаний…» На этих словах я замолкал, устрашенный открывавшейся мне печальной участью рода человеческого, которую молитва моя, точно отражая мою мысль, изображала так коротко и безнадежно. Я спрашивал себя, как можно любить бесчувственного Бога, который влагает в душу человека влечение к небу, дабы тот ощутил весь ужас своего пленения и своей беспомощности; как можно любить Бога слепого и глухого, который гнушается даже повелевать молниями и так надежно прячется в золотом дожде своих светил и миров, что ни одно из этих светил, ни один из этих миров не могут похвастать тем, что видели или слышали Его. О, я куда охотнее имел бы дело с оракулом иудеев, с голосом, наставлявшим Моисея на горе Синайской; я охотнее имел бы дело со Святым Духом, воплотившимся в голубя, или с сыном Божьим, принявшим облик человека из плоти и крови, такого же, как я сам! Эти земные боги были внятны моему разумению. Ласковые ли, грозные ли, они слушали меня и мне отвечали. Гнев мстительного и сумрачного Иеговы страшил меня меньше, нежели бесстрастное молчание и ледянящая справедливость нового моего повелителя. Вот когда в полной мере ощутил я всю пустоту, всю смутность той философии, имя которой – теизм; ведь, должен тебе признаться, именно в этой современной философии, вошедшей в большую моду, попытался я отыскать разгадку тех тайн, какие не сумел разгадать ни с помощью прочитанных книг, ни посредством напряженных раздумий. По всей вероятности, мне следовало воздержаться от знакомства с этой философией, ибо ничто не было так противно моему тогдашнему расположению духа, как она. Однако мог ли я это предвидеть? Разве не имел я оснований предположить, что самые передовые умы моего века сумели лучше меня извлечь выводы из всего, что успело изучить и пережить человечество? Мне этот опыт и эти знания были в новинку; мало кто из врачей смог бы предугадать, как сумеет мой организм переварить эту незнакомую ему пищу; между тем люди прилежные и простодушные, живущие вдали от света, имеют наивность искать в нашумевших писаниях своих современников средоточие премудрости и панацею от всех зол. Каково же было мое изумление, когда, готовый полюбить этих знаменитых французских авторов, навлекших на себя гнев Ватикана и оттого снискавших еще большую славу, я жадно открыл одно из тех дешевых изданий, какими Франция наводнила всю Европу, включая земли, пребывающие под властью самого папы, и какие свободно проникали даже под своды монастырей! Я не поверил своим глазам: так груба показалась мне критика, так слепа злость, так невежественны или легкомысленны рассуждения; я, однако, боялся, что судить беспристрастно мне мешают не полностью истребленные христианские предрассудки, и решил продолжить свое знакомство с литературой такого рода. По сути мнение мое не изменилось, однако довольно скоро я убедился в том, какую важную общественную роль играет критический и мятежный дух, готовящий крах инквизиции и освященного деспотизма всех родов. Постепенно привык я жить, видеть и чувствовать если и не точно таким же образом, как Вольтер и Дидро, то, во всяком случае, весьма сходно с их школой. Есть ли на свете человек, способный, пусть даже затворившись в монастыре, пусть даже ведя жизнь отшельническую, быть свободным от духа своего века? Привычки мои, симпатии и потребности отличались от тех, какими славились легкомысленные писатели моего поколения, однако те желания и стремления, какие еще сохранялись в моей душе, были бесплодны: я ощущал неизбежность и предначертанность великой философской, социальной и религиозной революции, но ни я, ни мой век не имели достаточно силы, чтобы отворить человечеству двери нового храма, в котором оно нашло бы прибежище от атеизма, холода и смерти. Постепенно я и сам охладел настолько, что усомнился в собственных чувствах. Сомнения в доброте и отеческой любви Господа жили в моей душе уже давно, теперь же к ним прибавились сомнения в моей собственной сыновней любви к Господу. Я начал думать, что, возможно, привязан к Нему лишь по привычке, лишь благодаря данному мне воспитанию и что привязанность эта – вовсе не неотъемлемая принадлежность моей природы, а всего лишь одно из тысячи заблуждений, плод привычки либо предрассудка. Посему я стал истреблять в сердце своем дух милосердия с таким же тщанием, с каким прежде разжигал в нем небесный огонь. Глубочайшая скука охватила меня, и, подобно человеку, который не может жить, лишившись друга, я, лишившись предмета моей любви, чахнул и влачил свои дни в тоске. Поглощенный этими тревогами и этими заботами, я едва заметил, как пролетели шесть лет. Шесть прекрасных лет, на которые пришлась моя зрелость, пали в бездну прошлого, а я не только не обрел ни счастья, ни добродетели, но даже не приблизился к ним. Юность моя растаяла, как сон. Любовь к учению, казалось, подавила во мне все прочие способности. Сердце мое дремало; не испытывай я порой при виде тех несправедливостей, жертвой которых становятся братья-монахи, и при мысли обо всех тех злодеяниях, которые творятся постоянно на нашей земле, приливов жгучего гнева и глубокого разочарования, я мог бы подумать, что во всем моем существе жив один только мозг, сердце же давно умерло. По правде говоря, обольщения, с которыми так мучительно сражались на моих глазах другие монахи, обошли меня стороной; можно сказать, что у меня вовсе не было юности. Покуда я был христианином, я любил только Бога; став философом, я не смог полюбить Божьи создания, не смог прилепиться душою к вещам земным. Тебе, должно быть, хочется знать, Анжель, какое место среди новых моих привязанностей занимали память о Фульгенции и мысль о Спиридионе. Увы! Если вначале я поверил рассказам Фульгенция и собственным глазам, то теперь то и другое казалось мне всего лишь плодом воспаленного воображения, и я стыдился своей доверчивости. Современная философия обливала людей, верящих в призраки, таким презрением, что я не знал, куда деваться от мучительного воспоминания о собственной слабости. Такова гордыня человеческая: пусть даже внутренняя жизнь наша протекает в глубочайшей тайне, пусть даже о наших предрассудках и наших отречениях от прошлого не знает никто, кроме нашей собственной совести, все равно мы краснеем за свои заблуждения и желали бы скрыть их от самих себя. Я пытался забыть те чувства, какие испытал в пору душевной смуты, когда я пребывал в состоянии некоего исступления, когда во всем моем существе совершался переворот и жизненные силы, долгое время дремавшие в моем уме, вырывались наружу. Именно этими обстоятельствами объяснял я роль, сыгранную Фульгенцием и Эбронием в истории моего разрыва с христианством. Я уверял себя (и, возможно, не ошибался), что разрыв этот был неминуем; что он, так сказать, был мне написан на роду, ибо уму моему суждено было развиваться и идти вперед в любых условиях. Я говорил себе, что, не услышь я легенды об Эбронии, я нашел бы другой предлог для расставания с христианством, ибо я от рождения был обречен искать истину без отдыха и, возможно, без надежды. Изнемогая от усталости, впав в глубочайшее уныние, я, однако, с сомнением спрашивал себя, так ли радостен был утраченный мною покой. Простодушная вера моя осталась так далеко позади, сомнения же охватили меня так рано, что воспоминания о блаженстве неведения почти стерлись из моей памяти. Возможно даже, что этого блаженства я никогда и не знал. Для иных беспокойных умов бездействие есть пытка, а покой – оскорбление. Итак, оглядываясь назад, я не мог не испытывать к самому себе некоторого презрения. С тех пор как я взялся за нелегкий труд познания, я забыл, что такое счастье, но, по крайней мере, ощущал, что живу, и не стыдился того, что рожден на свет, ибо без устали трудился на ниве надежды. И если урожай оказался скуден, а почва бесплодна, виной тому была не моя лень, а бессилие рода человеческого. Впрочем, я не забыл о существовании рукописи – возможно, драгоценной и, без сомнения, любопытной, – которая хранилась во гробе аббата Спиридиона. Я намеревался рано или поздно извлечь ее оттуда, однако для того, чтобы сделать это тайно, требовалось время; необходимо было действовать осторожно и, по всей вероятности, обзавестись помощником. Я не спешил браться за это дело, ибо ежедневно без счета тратил время и силы на дела другого рода. Конечно, я помнил о своей клятве извлечь рукопись из могилы в день, когда мне исполнится тридцать лет, однако ребяческий этот обет казался мне столь позорным, что я отгонял о себя мысль о нем; я решился ни в коем случае его не исполнять и не считал себя связанным клятвой, не имевшей для меня более ни смысла, ни цены. Оттого ли, что я предпочитал не вспоминать о том, что я называл презренными обстоятельствами, при которых этот обет был дан, оттого ли, что ученые штудии увлекли меня еще сильнее обычного, но день, когда обет следовало исполнить, наступил совершенно неожиданно и незаметно для меня; возможно, он так и остался бы мною не замеченным, если бы не одно чрезвычайное обстоятельство, которое едва не переменило весь мой образ мыслей полностью. Я по-прежнему тайком проникал в библиотеку, расположенную в конце залы капитула, и брал оттуда книги. Поначалу мне претило украдкой вкушать этот запретный плод, однако вскоре любовь к знаниям возобладала над сомнениями, рожденными честностью и гордыней. Я унизился до всех необходимых ухищрений; после того как сломанный мною замок починили, впрочем, не обнаружив злоумышленника, виновного во взломе, я сам изготовил подходящий ключ. Раз в неделю глубокой ночью я пробирался в святилище науки и обновлял свой запас книг, не привлекая к себе внимания и не вызывая подозрений – так, по крайней мере, мне казалось. Ночи напролет я читал, а утром прятал свои сокровища под соломенным тюфяком, который служил мне постелью. Спать я приспособился во время утренней службы; преклонив колени и укрыв лицо капюшоном, я погружался в неглубокий и часто прерываемый сон. Впрочем, убедившись, как сильно такой образ жизни вредит моему здоровью, я отыскал способ использовать церковные службы для чтения. Вложив свои мирские книги в обложку от молитвенника, я предавался их изучению, делая вид, будто поглощен чтением молитв. Тем не менее, несмотря на все эти предосторожности, я навлек на себя подозрения; за мной установили слежку и поймали меня с поличным. Однажды ночью, не успел я проникнуть в библиотеку, как из залы капитула до слуха моего донеслись чьи-то шаги. Я тотчас погасил лампу и замер, надеясь, что нежданный досмотрщик явился не по мою душу. Шаги приблизились, и я услышал, как чья-то рука взялась за ключ, который я опрометчиво оставил снаружи в замке. Незнакомец повернул ключ на два оборота и вынул его из замочной скважины; затем он запер дверь на два тяжелых железных засова и, лишив меня таким образом возможности бежать, медленно удалился. Я остался один в темноте; враги мои имели полное право торжествовать победу. Ночь показалась мне невыносимо долгой: тревога и обида, равно как и стоявший в библиотеке страшный холод, не позволили мне сомкнуть глаза ни на минуту. Особенно раздражало меня отсутствие света: из-за того что, заслышав шаги в зале, я погасил лампу, я даже не мог скоротать эту злосчастную ночь за чтением. Впрочем, я не думал, что подвергаюсь особенно большой опасности. Я льстил себя надеждой, что человек, заперший дверь в библиотеку, не видел меня. Я убеждал себя, что человек этот вовсе не желал мне навредить; по всей вероятности, он и не подозревал, что в библиотеке кто-то есть. Скорее всего, думал я, дежурный послушник просто-напросто решил навести порядок в зале капитула. Я упрекал себя в том, что струсил и сразу не заговорил с ним; ведь в этом случае мне было бы куда проще выбраться из библиотеки, чем при свете дня. Впрочем, говорил я себе, не все потеряно; послушник этот наверняка вернется утром, чтобы подмести залу; вот тут-то я и подам голос. В ожидании своего спасителя я не спал и, как мог, боролся с холодом, стараясь смотреть на вещи как можно более философическим образом. Однако время шло, наступил день, бледное январское солнце взошло на небосклон, а из залы капитула до меня так и не донеслось ни звука. Прошел день, а я по-прежнему не знал, как выбраться на свободу. Я напрягал все силы, стараясь выломать дверь, но после первого взлома ее укрепили так надежно, что все мои попытки ни к чему не привели: замок не поддавался. Прошли еще одна ночь и еще один день, а я по-прежнему оставался под замком. По всей вероятности, дверь в залу капитула заколотили. Ведь обычно в определенные часы ее заполняли монахи и послушники, теперь же она, казалось, опустела навеки; значит, пленение мое вовсе не было результатом случайности. Во-первых, залу не могли закрыть, не имея на то особых причин; во-вторых, в монастыре не могли не заметить моего отсутствия, а если оно обеспокоило настоятеля и его помощников, им следовало бы не запирать двери, а, напротив, отворить их все настежь и пуститься на поиски. Итак, было очевидно, что меня хотят наказать за мой проступок; меж тем наступил третий день моего заключения, и я начинал находить наказание это чересчур жестоким и чересчур напоминающим времена инквизиции, когда узники выходили из темницы на свободу лишь для того, чтобы в последний раз увидеть белый свет и испустить дух от истощения. Холод и голод мучили меня так сильно, что, как ни призывал я на помощь свой стоицизм, как ни старался до тех пор, пока не стемнеет, занимать себя чтением, но все же на третью ночь силы начали меня оставлять. Отчаяние овладело моей душой, и я решил больше не сопротивляться холоду и позволить смерти положить конец моим мучениям. Ноги у меня подкашивались; поскольку неведомый гонитель убрал из библиотеки кожаное кресло, стоявшее прежде перед окном, сесть мне было некуда, и я устроил себе ложе из книг. Завернувшись в сутану, я улегся на эту неуютную постель и забылся лихорадочным сном – как мне казалось, последним в моей жизни. Утратив физические силы, я, к своему удовлетворению, сохранил силу нравственную и не поддался искушению подать голос и позвать на помощь. Впрочем, единственное окно библиотеки выходило во внутренний двор, куда послушники забредали очень редко. Три дня я тщетно высматривал, не появится ли там кто-нибудь из обитателей монастыря; двор оставался пуст; по всей вероятности, дверь, ведущую туда, заколотили так же прочно, как дверь залы капитула. Итак, я был лишен возможности потихоньку подать знак человеку сочувствующему или безразличному; унизься я до просьб о помощи, мне пришлось бы оглашать воздух громкими криками. Меж тем я слишком хорошо знал, что в таких случаях сочувственники выказывают себя беспомощными трусами, противники же делаются тем более жестокими и мстительными, чем ниже падает их жертва. Я знал, что стенания мои вызовут у одних тупой страх, а у других свирепую радость; я понимал, что палачей мои жалобы приведут в восторг, и не хотел доставлять им подобного удовольствия. Итак, это искушение я преодолел; вдобавок от голода, которого я, впрочем, уже почти не чувствовал, я так ослабел, что криков моих все равно никто бы не услышал. Я положился на волю Провидения и мысленно воззвал к Эпиктету и Сократу, а равно и к Иисусу Христу – философу, замученному фарисеями и книжниками. Несколько часов я пролежал в забытьи и очнулся лишь оттого, что часы в зале капитула пробили полночь. И тут до слуха моего донеслись негромкие шаги; мне показалось, что кто-то приближается к двери моей темницы. Услышав шаги, я не испытал ни радости, ни удивления; у меня не осталось больше ни мыслей, ни чувств. Тем не менее легкость и быстрота этих шагов, равно как и их торжественная четкость, пробудили в моей душе некие смутные воспоминания. Казалось, особа, которой они принадлежали, была мне знакома, и я испытывал инстинктивную радость от сознания, что ко мне приближается именно она, однако сказать, кто эта особа и при каких обстоятельствах я с ней познакомился, я не мог. Меж тем дверь в библиотеку отворилась, и чей-то нежный и мелодичный голос произнес мое имя. Я затрепетал; мне почудилось, что я возвращаюсь к жизни, однако, как ни пытался я встать или заговорить, мне это не удалось. – Алексей! – повторил тот же голос доброжелательно, но властно. – Неужели душа твоя сделалась такой же бесчувственной, как и твое тело? Отчего ты нарушил свой обет? Ты сам назначил этот день и этот час… Сегодня исполнилось тридцать лет с того дня, как ты появился на свет нагим и в слезах, подобно всем сыновьям Евы. Сегодня тебе надлежало возродиться, отыскав среди праха, в который обратились мои бренные останки, искру, коя вновь разожгла бы в твоей душе небесный огонь. Неужели покойники, выходя из могил, обречены встречать на земле живых людей, ставших холоднее и бесчувственнее трупов? Я снова попытался ответить, но преуспел ничуть не больше, чем в первый раз. Тогда он продолжал со вздохом: – Возвратись же к жизни телесной, раз уж жизнь духовная в тебе угасла… Он приблизился и коснулся меня, однако я ничего не увидел; когда, совершив немыслимое усилие, я очнулся от летаргического сна и сумел встать на колени, в библиотеке вновь наступила тишина; ничто не напоминало о том, что еще недавно я был здесь не один. Меж тем я ощутил дуновение холодного ветра; мне показалось, что дует от двери. Я с трудом добрался до нее. О чудо! она была открыта. Безумная радость охватила меня. Я плакал, как ребенок, я целовал дверь, словно надеясь отыскать на ней следы рук, ее открывших. Не знаю, почему я был так рад вновь обрести жизнь, с которой еще недавно был так искренне готов расстаться. Спотыкаясь от слабости и ни на шаг не отходя от стены, я двинулся вперед по зале капитула. Шел я, как пьяный; чем сильнее хотелось мне покинуть эту роковую залу, тем труднее было отыскать выход из нее. Я блуждал в потемках, и смятенный мой ум обращал просторное и свободное помещение в запутаннейший из лабиринтов. Полагаю, что я скитался по зале капитула не меньше часа, пребывая во власти невыразимой тревоги. Философия, защищавшая меня до тех пор, пока я оставался под замком, больше ничем не могла мне помочь. Свобода и жизнь манили меня, но я не имел сил сделать шаг им навстречу. Кровь моя, на мгновение убыстрившая свой бег, вновь охладела. Я бредил, как в лихорадке. Тысячи видений проплывали перед моим взором. Ноги больше не держали меня, и, обессилев от усталости и отчаяния, я рухнул на пол подле холодной стены и вновь ощутил в себе решимость умереть. Однако мысли мои мутились, и мудрость, казавшаяся прежде нерушимым щитом, в ту минуту сделалась бессильна заслонить меня от страха смерти. Внезапно воспоминание о голосе, который я слышал во сне, ожило в моей памяти, и, с ребяческой доверчивостью препоручив себя этому таинственному покровителю, я повторил слова, которые за мгновение до того, как испустить дух, произнес Фульгенций: «Sancte Spiridion, ora pro me». И тут зала озарилась бледным светом, как если бы в ней вспыхнула молния. Свет этот погас только через минуту, и за это время я успел заметить, что исходит он от портрета основателя монастыря, а точнее – от его глаз; казалось, аббат желал показать мне вожделенную дверь из залы капитула, подле которой я, сам того не ведая, провел последнюю четверть часа. «Будь же благословен, о блаженный дух!» – воскликнул я и, ощутив внезапный прилив сил, бросился вон из залы. Послушник, занятый в нижних залах некими приготовлениями, смысл которых остался мне непонятен, едва не принял меня за привидение. Впавшие щеки, воспаленные глаза, смятенный вид – все это так напугало его, что он выпустил из рук миску с рисом и факел, который я поспешил подобрать, прежде чем он успел погаснуть. Утолив голод, я возвратился в свою келью; спокойный сон подкрепил мои силы, и на следующее утро я смог отправиться в церковь. Странная суета, царившая в монастыре, и звон всех колоколов навели меня на мысль, что грядет какая-то важная церемония. Я взглянул на календарь и, не обнаружив никакого религиозного праздника, решил, что от истощения я потерял счет времени и не могу определить, какой сегодня день. Я тихонько пробрался на свое место в церкви; никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Монахи и послушники, чем-то озабоченные, погрузились, казалось, в глубокую задумчивость. Церковь была украшена, как в дни больших праздников. Началась служба. Меня удивило отсутствие настоятеля; я осведомился о его здоровье у соседа. Тот взглянул на меня с изумлением, принужденно улыбнулся, как если бы он не расслышал вопроса, и ничего не ответил. Я поискал глазами отца Донасьена, который, как мне было известно, ненавидел меня сильнее всех и которого я считал виновником моего пленения. Я заметил, что он тщетно пытается рассмотреть мое лицо, укрытое капюшоном, и убедился, что на его лице написаны удивление и страх: он явно не ожидал увидеть меня в церкви и, по-видимому, задавался вопросом, не призрак ли занимает мое место. Я понял, что произошло, только к концу службы, когда монах, совершавший богослужение, прочел поминальную молитву о настоятеле, испустившем дух в полночь 10 января 1766 года, иначе говоря, ровно за час до того, как меня заперли в библиотеке. Тут-то я и догадался, отчего Донасьен, уже давно мечтавший стать во главе монастыря, заточил меня в библиотеке именно сейчас. Он знал, что я ничуть не уважаю его и что, как ни мало я стремлюсь к власти и как ни чуждаюсь интриг, все же и у меня могут найтись сторонники. Я имел репутацию опытного богослова, снискавшую мне почтение иных простодушных братьев; я славился справедливостью и беспристрастностью, сулившими всем равные права. Донасьен боялся меня: он уже два года занимал место помощника настоятеля и, подчинив своей воле его ближайшее окружение, сумел сохранить обстоятельства кончины старца в глубокой тайне; вне всякого сомнения, прежде чем огласить весть о его смерти, Донасьен решил повидаться со мной, выведать мои намерения и попытаться обольстить меня либо устрашить. Не найдя меня в келье и, как выяснилось впоследствии, хорошо зная мои обыкновения, он прокрался следом за мной в залу капитула, а затем, словно по недосмотру, запер дверь в библиотеку. Затем он лишил монахов и послушников доступа в залу капитула и внутренний двор, куда выходят окна библиотеки, чтобы мне неоткуда было ждать помощи, и лишь после этого объявил братии горестную весть и приступил к выборам нового настоятеля. Благодаря своему влиянию на монахов Донасьен сумел нарушить все монастырские обычаи и правила устава. Вместо того чтобы на три дня выставить набальзамированное тело покойного в часовне, он приказал похоронить его как можно быстрее – якобы по той причине, что настоятель скончался от заразной болезни. Он пренебрег установленным порядком, сократил время, которое монахам надлежало провести в уединенных размышлениях, и уже собрался было приступить к выборам нового настоятеля, как вдруг – поистине чудом – я вновь обрел свободу. После окончания службы братия запела «Veni Creator», а затем каждый монах пал ниц на своем месте в церкви и провел четверть часа в молитве и вопрошании Господа. Когда часы пробили полдень, братия медленно потянулась в залу капитула, дабы принять участие в общем голосовании. В течение всей этой церемонии я сохранял величайшее спокойствие и полнейшее безразличие к происходящему. Меньше всего мне хотелось навязывать голосующим свою волю; даже имей я на это время, я пальцем бы не шевельнул для того, чтобы помешать Донасьену исполнить свой честолюбивый замысел. Однако когда из урны для голосования извлекли пятидесятый листок бумаги с именем моего врага и лицо его озарила победоносная ухмылка, я ощутил вполне естественный прилив негодования и ненависти. Быть может, взгляни он на меня в эту минуту смиренно или, по крайней мере, боязливо, я простил бы его – из презрения; однако мне показалось, что он бросает мне вызов, и я имел глупость этот вызов принять и попытаться сбить спесь со своего врага, хотя, вступая с ним в схватку, сам опускался до его уровня. Я дождался окончания подсчетов. За меня подали всего два голоса. Итак, никто не заподозрил бы меня в корысти. В то мгновение, когда секретарь провозгласил имя Донасьена и тот с деланным смущением поднялся, дабы принять поздравления, я тоже поднялся и заговорил. С мнимым спокойствием, которое произвело действие особенно устрашающее, я объявил выборы недействительными. – Они недействительны, – сказал я, – ибо устав ордена был грубо нарушен. Одного неучтенного или утаенного голоса довольно, чтобы опровергнуть решение всего капитула. Так записано в уставе аббата Спиридиона, и вот я, Алексей, монах этого ордена и слуга Господень, объявляю, что нынче не подал своего голоса, ибо, в отличие от других, не имел времени предаться уединенным размышлениям, поскольку меня – случайно или по злому умыслу – отстранили от общего обсуждения и, не зная до последней минуты о кончине нашего досточтимого настоятеля, я не имел возможности обдумать в спокойствии кандидатуру его преемника. Речь моя прозвучала для Донасьена как гром среди ясного неба; доведя ее до конца, я сел на свое место и отказался отвечать на множество вопросов, которыми засыпали меня монахи. На мгновение дерзость моя смутила Донасьена, однако очень скоро он оправился и объявил, что мой голос не только бесполезен, но и не может быть принят в расчет, поскольку во время обсуждения кандидатуры нового настоятеля я искупал тяжкий грех, снося унизительное наказание, и, следовательно, в соответствии с уставом не имел права голосовать. – Кто же установил степень тяжести моего греха? – осведомился я. – Кто дерзнул меня за него покарать? Помощник настоятеля? Он не имел на это права. Чтобы на законном основании отстранить меня от участия в голосовании, следовало созвать шестерых старейших членов капитула и подвергнуть мой проступок их рассмотрению; торжественно заявляю, что это сделано не было. – А откуда вам известно, что это не было сделано? – спросил один из этих старейших монахов, принадлежавший к числу ревностных сторонников моего неприятеля. – Я утверждаю, что это не было сделано, ибо я имел право быть об этом извещенным: о суде надо мной следовало уведомить сначала меня самого, а потом и всю братию; следовало, наконец, вывесить извещение об этом в церкви, прямо над моим местом, меж тем никакого извещения там нет и никогда не было. – Прегрешение ваше таково, – воскликнул Донасьен, – что… – Вам угодно называть тяжким мое прегрешение, – перебил я его, – мне же угодно высказаться относительно наказания, которому вы меня подвергли; объявляю вам, что почитаю его унизительным не для меня, а для вас. Скажите же, в чем заключалось мое прегрешение! Я требую, чтобы вы сказали об этом здесь, перед всей братией, а после я скажу, на какое наказание вы обрекли меня, не имея, впрочем, на это никакого права. Видя, что я вне себя от гнева и что монахи с любопытством прислушиваются к моим словам, Донасьен поспешил положить конец нашему спору, призвав на помощь осторожность и хитрость. Он подошел ко мне и с сокрушенным видом попросил, во имя Спасителя рода человеческого, прекратить выяснение отношений, недостойное монахов и противное духу милосердия, который должен царить в монастыре. Он добавил, что я ошибаюсь, обвиняя его в кознях столь коварных, что речь наверняка идет о недоразумении, которое непременно разъяснится в ходе дружеской беседы. – Что же касается ваших прав, брат мой, – продолжал он, – мне казалось и кажется до сих пор, что вы их утратили. Возможно, следовало бы подвергнуть этот вопрос обсуждению всей братии; однако вы обвинили меня в том, что я отстранил вас от участия в выборах, потому что видел в вас соперника. Подозрение это для меня столь тягостно, что я обязан рассеять его как можно быстрее. Посему объявляю, что желаю тотчас же включить вас в число соискателей. Умоляю братию снять с вас все обвинения и, вне зависимости от того, имеете ли вы на это право, позволить вам принять участие в следующем голосовании. Я умоляю братьев поступить таким образом, но при необходимости перейду от просьб к приказам; ведь до тех пор, пока не окончится голосование по вашей кандидатуре, этой досточтимой обителью управляю я. Хитрая эта речь была встречена приветственными кликами; однако я воспротивился намерению возобновить голосование тотчас же. Я объявил, что желаю предаться уединенным размышлениям, причем, поскольку остальные удовлетворились тремя днями вместо предписанных сорока, я последую их примеру, однако вовсе лишать себя этого права не стану ни при каких обстоятельствах. Донасьен зашел слишком далеко, чтобы пойти на попятный. Он сделал вид, будто задержка эта ничуть его не раздражает, и смиренно попросил братию не чинить мне никаких препятствий. Намерение мое вызвало, правда, некоторый ропот, но, вероятно, отнюдь не такой громкий, как надеялся Донасьен. Сильнейшая из всех страстей, владеющих монахами, – любопытство; братья сгорали от желания узнать тайну моих отношений с Донасьеном. Исчезновение мое удивило многих. Прежде чем подчиниться новому настоятелю, с виду такому медоточивому и кроткому, иные из братьев захотели получить более подробное представление об истинном его характере. Сведения такого рода надеялись они узнать от меня. Смирение, с каким Донасьен выслушал в присутствии всего монастыря обвинения, столь страшные для человека надменного и честолюбивого, одним казалось возвышенным, другим – разумным, большинству же – странным и сулящим немало бед. Против избрания Донасьена высказались тридцать монахов, не имевших, впрочем, единой кандидатуры, которую могли бы ему противопоставить. Было очевидно, что теперь они отдадут голоса мне. Три дня, посвященные новым размышлениям и сбору более подробных сведений, могли лишить Донасьена немалого числа сторонников. Это понимали все, и большинство, поначалу застигнутое врасплох и как бы одурманенное смутьянами, обрадовалось отсрочке, полученной моими стараниями. Через час после того, как заседание, прошедшее столь бурно, окончилось, ко мне в келью уже ломились мои сторонники, ибо помимо воли я обзавелся сторонниками, и притом весьма пылкими. Донасьен пробуждал во многих сердцах жгучую ненависть, и я не погрешу против истины, если скажу, что все наименее подлые и наименее развращенные обитатели монастыря принадлежали к числу его противников. Тем временем я постепенно успокоился; лестные предложения, мне делаемые, не вызывали у меня ни малейшего желания ими воспользоваться. Я был честолюбив, но честолюбив на свой лад: монастырь был мне тесен, я мечтал о деяниях возвышенных, великих, как сама Вселенная. Мне хотелось бы сделать научное или философское открытие, постичь некую истину и возвестить о ней человечеству, породить одну из тех идей, какие воодушевляют целые поколения; я хотел править своими современниками, оставаясь, однако, в своей келье и не пятная рук грязью дел общественных; я хотел царить над умами посредством ума, над сердцами с помощью сердца, одним словом, уподобиться Платону или Спинозе. Понятно, что перспектива командовать сотней невежественных монахов нимало меня не прельщала. Убогие преимущества такой роли не вызывали в моей душе ничего, кроме отвращения; однако я понял, какие выгоды сулит мне мое положение, и не стал разочаровывать своих сторонников. К вечеру тридцать человек, проголосовавших против Донасьена, решили отдать свои голоса мне. Донасьена это не столько испугало, сколько разгневало. Он явился ко мне в келью и попытался меня запугать. Если я откажусь от своих притязаний, говорил мой враг, он не станет предъявлять мне обвинение в ереси, хотя еретические мои взгляды хорошо ему известны; если я удовлетворюсь той промежуточной победой, какую одержал, отсрочив выборы, все еще может кончиться хорошо для нас обоих; если же я по-прежнему буду стремиться занять место настоятеля, он расскажет всем о том, чем я занимался, что читал и даже о чем думал в течение последних пяти лет. Он угрожал открыть всем глаза на обман и непослушание, которыми я запятнал себя за эти годы: ведь я украдкой добывал запрещенные книги и во время богослужения, прямо в храме Господнем, приобщался к доктринам подлым и лживым. Спокойствие, с каким встретил я его угрозы, сильно смутило Донасьена. По всей вероятности, он надеялся, что, увлекшись, я заговорю с ним о своих верованиях; возможно, он приказал своим приспешникам подслушивать нашу беседу нарочно для того, чтобы засвидетельствовать мое вероотступничество. Я, однако же, был настороже и мог убедиться, как легко человеку самому простодушному взять верх над человеком самым хитрым, если этот последний движим недобрыми чувствами. Разумеется, я был вовсе не так искушен в интригах, как мой хитрый и двуличный противник, однако презрение мое к предмету нашего спора сообщало мне большие преимущества. Непоколебимое хладнокровие служило мне надежной броней; чем спокойнее звучали мои ответы, тем в большее замешательство приводили они Донасьена. Он вышел от меня, окончательно сбитый с толку. Прежде, сказал он мне с деланной веселостью, он меня недооценивал. Он полагал, что я не интересуюсь ничем, кроме книг, и никогда бы не подумал, что я способен выказать столько осторожности и расчетливости в делах мирских. Хорошо бы, добавил он угрюмо, чтобы подозрения в ереси были с меня полностью сняты, ибо в этом случае я оказался бы наиболее подходящим кандидатом на звание настоятеля. Назавтра мои тридцать сторонников принялись за дело так рьяно, что партия моя увеличилась еще на полтора с лишним десятка человек. Донасьена в монастыре боялись и ненавидели, поэтому люди трусливые легко согласились отказать ему в поддержке; однако все старые монахи по-прежнему хранили ему верность, ибо знали, что этот тайный атеист будет и дальше закрывать глаза на их пороки. Для монастыря нет ничего страшнее, чем настоятель искренне благочестивый. Такой настоятель чтит устав, для монахов страшный и ненавистный, он не дает им в спокойствии предаваться лени и излишествам; движимый пламенным рвением, он каждый день измышляет для них новые испытания, предъявляет к ним суровые требования, обрекает их на лишения и труды. Имея дело с горсткой фанатиков, Донасьен умело выдавал себя за ревнителя благочестия; имея дело с равнодушным большинством, он так же умело потакал слабостям каждого, хотя старался не нарушать правил и сохранял мнимое почтение к обрядам. Таким образом, он предоставлял злу безграничную свободу и с помощью чужих пороков удовлетворял собственные порочные наклонности. Подобный способ править людьми за счет их развращенности сулит верный успех; будь я фаворитом какого-нибудь короля, я непременно посоветовал бы ему чаще прибегать к этому средству. Тем не менее монахи не спешили покориться власти Донасьена, ибо слишком хорошо знали его мстительный нрав. Всякий, кто однажды обидел его, искупал свою вину в течение долгих лет, поэтому обитатели монастыря опасались, что, став настоятелем, Донасьен начнет сводить счеты с теми, кого невзлюбил в бытность свою простым монахом. Люди слабохарактерные голосовали за избрание Донасьена исключительно из страха: они почитали этого человека всемогущим и боялись прогневить его своим неповиновением. Однако стоило им узнать, что у Донасьена появился соперник, готовый их защитить, как они с легкостью изменили прежнему покровителю, и на третий день большинство уже изъявляло готовность голосовать за меня. Не могу выразить, Анжель, как больно мне было видеть эту скорую измену, продиктованную банальнейшим эгоизмом, но облыжно выдаваемую за плод уважения и любви. Заискивания этих подлых трусов мне претили; ничуть не меньшее отвращение и презрение вызывали у меня ласковые речи других интриганов, которые надеялись, что я и на посту настоятеля буду, как прежде, предаваться научным спекуляциям, а они тем временем станут править монастырем вместо меня. – Вы победите, – заверяли меня эти низкие льстецы, покидая мою келью. – Боже меня упаси! – отвечал я, подождав, пока за ними закроется дверь. В день выборов на заре ко мне явился сам Донасьен. Всю ночь он не сомкнул глаз, я же, в отличие от него, спал совершенно спокойно. Увидев, что он меня разбудил, Донасьен спросил: – Вы спите сном триумфатора. Неужели вы так уверены в своей победе? Он притворялся спокойным, однако голос его дрожал, смятенный внешний вид обличал внутреннюю тревогу. – Мой сон спокоен вдвойне, – сказал я с улыбкой, – во-первых, я твердо знаю, что одержу победу, во-вторых, победа эта мне глубоко безразлична. – Брат Алексей, – отвечал Донасьен, – мастерство, с каким вы ломаете комедию, выше всяких похвал. – Брат Донасьен, – согласился я, – вы совершенно правы. Я ломаю комедию, ибо вербую сторонников, чьими голосами не собираюсь воспользоваться. Не желаете ли у меня их выкупить? – По какой же цене? – осведомился он, делая вид, что подыгрывает мне; однако губы его побледнели от нешуточного волнения, а в глазах горело неподдельное любопытство. – Цена у меня очень скромная – моя свобода, ничего больше. Я люблю учиться и ненавижу повелевать: оставьте меня в покое, дайте мне полную независимость в стенах моей кельи. Я желаю получить ключи от всех монастырских книгохранилищ, доступ ко всем физическим и астрономическим инструментам и право распоряжаться средствами, которые основатель монастыря оставил на их содержание; я желаю поселиться в келье при обсерватории, которая пустует с тех пор, как умер последний монах, интересовавшийся астрономией; наконец, я желаю иметь право не присутствовать при богослужениях; исполните все эти условия, и вы не услышите обо мне ни слова, как если бы меня уже давно не было на свете. Я буду распоряжаться в башне, вы – в монастыре, и мы не будем иметь между собой ничего общего. Если я вмешаюсь хотя бы в одно мирское дело, можете приказать мне жить по уставу; но если вы обеспокоите меня хотя бы одним мирским делом, тогда – не сомневайтесь – я сумею еще раз доказать вам, что пользуюсь в монастыре некоторым влиянием. Раз в три года, когда вас будут переизбирать, мы будем продлевать наш договор – если, конечно, он вас устраивает. Согласны? Колокол зовет нас в церковь: поторопитесь. Он согласился на все мои условия, но вышел от меня, ничему не веря и ни на что не надеясь. У него не укладывалось в голове, что, имея все возможности завоевать власть, можно по доброй воле от нее отказаться. Мука, исказившая его лицо в то мгновение, когда выяснилось, что настоятелем большинством в десять голосов избран я, не поддается описанию. Он имел вид человека, который возносился к небесам, но в последнюю минуту был поражен молнией. Подумать только: держать меня под замком три дня и три ночи, быть уверенным, что я умер от голода и холода, – и вдруг обнаружить, что я не только жив, но и способен вырвать победу из рук соперника и занять место, столь для него желанное! Все бросились обнимать меня; я безмятежно принимал поздравления, дожидаясь, чтобы и тот, над кем я одержал победу, также заключил меня в братские объятия. Когда он решился и на это унижение, я взял его за руку и передал ему знаки отличия, только что мне врученные: надел ему на палец кольцо, вложил в руку посох, а затем подвел его к кафедре и, опустившись на колени, попросил у него отеческого благословения. Капитул остолбенел; поначалу мне стоило большого труда убедить братьев согласиться на эту замену победителя побежденным; однако в конце концов люди трусливые и слабодушные снова оказались в большинстве и снова поступили так, как хотелось мне. Голосование, проведенное в тот же день, желаемого результата не принесло, но назавтра моими стараниями настоятелем был избран счастливец Донасьен. Соперник мой почтил меня своим недоверием – до последней минуты он сомневался в моей искренности и подозревал, что я лишь притворяюсь смиренником ради того, чтобы на всю жизнь захватить безраздельную власть над монастырем. Как правило, человека, однажды избранного настоятелем, переизбирали на этот пост каждые три года до самой его смерти; тем не менее устав предписывал проводить выборы, и наличие влиятельного соперника могло осложнить положение победителя. Поэтому Донасьен полагал, что я выставляю напоказ свою добродетель и романическое бескорыстие ради того, чтобы раз и навсегда завоевать симпатии даже самых преданных его сторонников и быть уверенным, что через три года они мне не изменят. Должен, впрочем, заметить, что именно положение устава о перевыборах раз в три года обеспечило мне спокойную жизнь в монастыре. С того дня, как Донасьен был избран настоятелем, гонения, которым я подвергался прежде и о которых умолчал в своем рассказе, ибо они мало что значили в сравнении с муками куда более острыми и глубокими, прекратились. Впрочем, бояться меня и втайне натравливать на меня своих присных Донасьен перестал только совсем недавно, увидев, что дни мои сочтены. Когда избрание его наконец состоялосьи он убедился в искренности моих обещаний, признательность его приняла формы столь раболепные и преувеличенные, что я поспешил избавить себя от этой чести. – Заплатите ваш долг, – шепнул я ему на ухо, – и не благодарите меня за поступок, который с моей стороны отнюдь не является жертвой. Донасьен поспешил объявить, что предоставляет в полное мое распоряжение библиотеку и кабинет, отведенный для научных коллекций и изысканий. В тот день я получил полную свободу для выбора занятий и все возможности для учения. Желая поскорее переселиться в новую келью, я направился к выходу из залы капитула, но перед тем как покинуть ее, случайно взглянул на портрет основателя монастыря; в эту минуту воспоминание о сверхъестественных событиях, происшедших в этой зале совсем недавно, явилось мне с такой потрясающей ясностью, что я задрожал от ужаса. Заботы, связанные с выборами настоятеля, не оставляли мне времени на то, чтобы обдумать случившееся; вернее сказать, та часть мозга, которая сберегает впечатления, именуемые поэтическими и чудесными (ибо язык наш не имеет выражений, способных описать то, что ниспосылается нам Богом), оцепенела и не побуждала мой разум как-либо объяснить чудесное мое освобождение из темницы. Если я и вспоминал об этом чуде, то лишь как о некоей туманной грезе – так вспоминают о поступках, совершенных во хмелю или в жару. Итак, я взглянул на портрет Эброния и совершенно отчетливо увидел его живые и горящие глаза; воспоминания о прошлом так причудливо переплелись с впечатлениями настоящего, что мне почудилось, будто портрет снова оживает и смотрит на меня глазами, полными жизни. Однако на сей раз взгляд этих глаз выражал боль и упрек. Мне показалось даже, что они наполнились слезами. Я едва не лишился чувств. Никто не обращал на меня внимания, и только мальчик двенадцати лет от роду, племянник одного из монахов, учившийся у него богословию, по чистой случайности очутился перед портретом и тоже взглянул на него. – Отец Алексей! Смотрите! – вскрикнул он с ужасом, ухватив меня за край сутаны. – Портрет плачет! Сделав огромное усилие, я взял себя в руки и ответил: – Замолчите, дитя мое; сегодня подобные речи неуместны более, чем когда-либо; вы можете навлечь опалу на вашего дядюшку. Мальчик не понял моих слов, но испугался и, сколько мне известно, не сказал никому о том, что увидел. Вскоре он заболел и год спустя скончался в доме своих родителей. Я не знаю подробностей его смерти, но до меня дошли слухи о том, что в последние мгновения ему явился некто, кого он именовал «pater Spiridion». Мальчик этот был исполнен веры, кротости и ума. Я не успел как следует узнать его на земле, но верю, что еще встречусь с ним в сферах более возвышенных. Он принадлежал к числу тех существ, которые не могут долго оставаться на нашей земле; тело их еще живет земной жизнью, а душа уже отчасти пребывает на небесах. Несколько дней я наводил порядок в обсерватории, отыскивал мои любимые книги и расставлял их на полке у себя в келье, одним словом, обживался в новых своих владениях. Монастырь еще не успокоился после выборов настоятеля: одни строили планы на будущее, предаваясь честолюбивым мечтаниям, другие, обманувшиеся в своих надеждах, утешались, предаваясь излишествам, я же тем временем радовался, как дитя, возможности не иметь ничего общего с этой бессмысленной толпой и вкушать мирные наслаждения вдали от нее. Книги, экспонаты естественнонаучных коллекций, физические и астрономические инструменты уже много лет пребывали у нас в полном небрежении; я с таким усердием занимался наведением порядка среди этих сокровищ, что каждый день к вечеру едва не падал от усталости; наконец труды мои подошли к концу, и однажды вечером, возвратившись в свою келью, я ощутил величайшее блаженство. Я не сомневался, что победа, одержанная мною, куда важнее, чем та, какую одержал Донасьен: ведь мне удалось устроить всю мою грядущую жизнь на единственных основаниях, ей подобающих. Мною владела одна страсть – к учению; отныне я мог предаваться ей безраздельно и беспрепятственно. Как же верно я поступил, когда преодолел искушение бежать из монастыря – искушение, так часто дразнившее меня прежде! Утратив веру, не питая более никакого сочувствия к католицизму, я безмерно страдал от необходимости исполнять все мелочные предписания католической религии и тратить на это драгоценное время! Как часто случалось мне презирать себя за ложное чувство чести, превращавшее меня в раба собственных обетов. «Безумные обеты, безбожные клятвы! – восклицал я сотню раз. – Не из страха перед Богом и не из любви к нему я их произнес; не из страха или любви соблюдаю. Бог этот не существует и никогда не существовал. К чему же хранить верность призраку, к чему исполнять обещания, данные во сне и не имеющие силы? Клятвы эти властны надо мною лишь по причинам сугубо земным. Я не слагаю с себя монашеского сана только потому, что некогда, движимый юношеской нетерпимостью и безудержным благочестием, громко порицал монахов-расстриг и отстаивал абсурдную мысль о том, что клятвы людские нерасторжимы; итак, нынче я остаюсь монахом только потому, что опасаюсь презрения людей, которых сам презираю без меры!» Вот что я говорил себе в те годы, вот в чем себя упрекал; я мечтал бежать, сбросить монашескую сутану и отправиться искать свободу совести и образования в странах, где царят просвещение и терпимость, – таких, как Франция или Германия; но мне недоставало храбрости исполнить это решение. Тысячи соображений, продиктованных ребяческими страхами или глупой гордыней, останавливали меня. Теперь же, по понятной причине, соображения эти, некогда побудившие меня отказаться от решения бежать, начали мне казаться превосходными, ведь теперь монашеское состояние и жизнь в монастыре полностью отвечали моим чаяниям. Исчисляя самому себе эти соображения, я вспомнил и о рукописи Спиридиона, которою по-прежнему желал завладеть, ибо не сомневался, что в ней содержатся сведения поистине драгоценные. Не успело это воспоминание мелькнуть в моем уме, как воображение мое тотчас породило тысячу самых фантастических картин. От усталости и желания спать мысли мои мутились. Я испытывал ощущения странные и давно позабытые. Надменный мой разум презирал видения, навеянные мне католической верой; он объяснял чудеса, свершившиеся в ночь на 10 января, причинами самыми естественными и сугубо физиологическими. Голод, горячка, истощение нравственных сил, безмерное отчаяние при мысли о неизбежности столь страшной кончины – все это, должно быть, привело мой рассудок в состояние, близкое к безумию. Неудивительно, что я начал слышать замогильный голос и что речи его несли на себе отпечаток сильных впечатлений, испытанных мною в бытность мою набожным католиком. Болезненное мое состояние позволило призракам, порожденным некогда моим воображением, воротиться назад, а физическое изнеможение помешало разуму оценить их так, как они того заслуживали. Обязанный своим освобождением счастливому стечению обстоятельств – например, помощи служителя, случайно забредшего в залу капитула, – я, в это время метавшийся в бреду, не замедлил приписать свое спасение силам сверхъестественным; совершавшаяся во мне борьба между желанием выжить и невозможностью что-либо предпринять из-за полного упадка сил объясняет все то, что привиделось мне впоследствии. Таким образом, разум мой находил слова для истолкования всего случившегося, но слова не способны заменить идей, и потому, хотя половина моего существа оставалась совершенно удовлетворена подсказками горделивого разума, другая пребывала в величайшем смятении и не знала покоя. Объятый непостижимой тревогой, я чувствовал, что разум мой, как бы могуч он ни был и на какие бы уловки ни пускался, не способен защитить меня от страшных наваждений, рождаемых болезнью. Ведь галлюцинации мои были столь правдоподобны, что я ни на минуту не усомнился в их реальности. Более того, совсем недавно, пребывая в здравом уме и прекрасном настроении, я умудрился увидеть слезы в глазах человека, изображенного на картине, и услышать подтверждение этого домысла из уст ребенка. Частичным оправданием мне служило то обстоятельство, что о портрете этом ходили легенды. Еще в бытность мою правоверным католиком я слышал рассказы о том, что основатель монастыря, изображенный на портрете, плачет всякий раз, когда новым настоятелем избирают человека недостойного; вскормленные этими сказками, мы оба – и я, и перепуганный ребенок – приняли за правду плоды нашего воображения. Сколько раз целые толпы, пребывая во власти фанатического энтузиазма, проникались уверенностью в том, что видели чудо, и заражали своею уверенностью толпы еще более громадные! Поэтому меня ничуть не удивляло, что обольщению поддались одновременно два человека; удивляло и унижало меня другое – то, что одним из этих двоих оказался я, что именно я принял на веру басни, каким поверил несмышленый ребенок. Неужели, думал я, лживые выдумки христианского фанатизма оставляют в душе такой глубокий след, что годы разочарований и борений не приносят человеку желанной свободы? Неужели я осужден до конца своих дней страдать этим недугом? Неужели не существует никакого способа обрести нравственную силу, способную разогнать призраков и рассеять тени? Неужели в наказание за то, что некогда я был католиком, мне никогда не дано будет сделаться человеком, неужели любая тяжесть в желудке, любой приступ лихорадки будут предавать меня во власть ребяческих страхов? Увы! Быть может, все это есть не что иное, как справедливое наказание за слабость, побуждающую человека оставаться в плену грубейших заблуждений. Быть может, истина в отместку за долгое небрежение ею отказывается просвещать до конца иные умы; быть может, те несчастные, что, подобно мне, поклонялись кумирам и обожали ложь, отмечены несмываемой печатью невежества, безумия и трусости; быть может, когда наступит смертный час, изнуренный ум мой начнут мучить страхи еще более презренные; быть может, терзать меня явится сам Сатана, а умру я с именем Иисуса на устах, как умерли многие незадачливые философы, подверженные тем же умственным расстройствам и лишний раз подтвердившие своим примером немощность человеческого разума перед лицом света небесного? Предаваясь этим мучительным размышлениям, я забылся беспокойным сном; я боялся вновь стать жертвой какого-нибудь видения, причем страх этот был тем острее, чем яснее разум разъяснял мне причины и следствия моего состояния. Сон, приснившийся мне в ту ночь, был странен. Мне снилось, что я вновь сделался послушником. На щеках моих едва пробивался легкий пушок; облаченный в белые шерстяные одежды, я прогуливался в обществе юных своих товарищей; с нами был и Донасьен, просивший нас избрать его настоятелем. Дабы не навлекать на себя гонений, я, как и остальные, не раздумывая, подал голос за Донасьена. Не успел он удалиться, бросив на нас взгляд торжествующий и презрительный, как к нам приблизился прекрасный юноша, в котором мы без труда узнали человека, изображенного на легендарном портрете в зале капитула. Поначалу это нас удивило, однако, как это часто случается во сне, очень скоро мы сочли совершенно естественным то обстоятельство, что основатель монастыря живет среди нас; кому-то даже стало казаться, что так было всегда. Что касается меня, то я смутно помнил о своем давнем знакомстве с ним и, повинуясь то ли привычке, то ли симпатии, подошел к нему без робости, желая его обнять. Он, однако, с негодованием оттолкнул нас. – Несчастные дети! – воскликнул он, причем голос его звучал чарующе и певуче даже в гневе. – Как можете вы обнимать меня после того подлого поступка, который только что совершили? Неужели в эгоизме своем вы пали так низко, что выбираете настоятелем не самого добродетельного и одаренного из монахов, но того, который более всего снисходителен к порокам и чужд великодушия? Так-то вы блюдете мой устав? Так-то сохраняете тот дух, какой хотел я насадить среди вас? Такими-то я обретаю вас после разлуки? Затем он заговорил обо мне. – Вот, – произнес он, указав на меня остальным, – тот, кто виновен больше других; ведь умом он взрослее вас и сознает зло, им совершенное. Вы берете с него пример, потому что знаете его за человека образованного и напитавшегося чужой мудростью. Вы уважаете его, но сам он уважает себя еще больше. Опасайтесь его; он гордец, а гордыня заглушает голос совести. Я слушал эти слова, исполненный стыда и печали; прекрасный юноша бросал мне суровые упреки в эгоизме, в том, что я принес заботу о справедливости и любовь к истине в жертву пустому увлечению наукой; речь его была исполнена гнева, но по щекам текли слезы сочувствия. Я плакал еще горше, ибо змеи раскаяния вонзали свое жало в мое разбитое сердце. Тогда он с отеческой нежностью прижал меня к груди; впрочем, речи его, обращенные ко мне, звучали по-прежнему горестно. – Я плачу о тебе, – повторил он мне несколько раз, – ибо самое большое зло ты причинил самому себе, и искупать эту ошибку тебе предстоит до конца своих дней. Разве имел ты право отьединиться от братьев и сказать: «Отныне все зло, какое будет твориться здесь, меня не касается, ибо я не разделяю верований этих людей, ибо они заслужили, чтобы с ними обращались как с собаками, а я тем временем буду наслаждаться покоем, книгами и свободой»? О Алексей! Несчастное дитя! Тебя ждет безотрадная старость, ибо ты разучился любить добро и ненавидеть зло, ибо долгу ты предпочел удовольствие и своими руками воздвигнул трон Ваала в монастыре, куда удалился ради того, чтобы насаждать добро и служить Богу истинному! Как ни ворочался, как ни метался я в постели, пытаясь заглушить эти упреки, проснуться мне не удавалось: укоризненные речи, отличавшиеся удивительным правдоподобием, логичностью и точностью, преследовали меня безостановочно; они исторгали у меня слезы столь горькие и приводили меня в смятение столь ужасное, что я по сей день не могу сказать, что это было – сон или видение? Постепенно голос Спиридиона стал звучать глуше, а черты его лица сделались менее отчетливыми; тут к нему приблизился разъяренный Донасьен. Призывая своих мерзких приспешников, он кричал: – Истребите его! Истребите его! Что делает он среди живых! Его место в могиле, его участь – небытие ! Монахи принесли дрова и факелы, намереваясь сжечь Спиридиона; однако на месте живого человека, который осыпал меня упреками и орошал слезами, я увидел портрет основателя монастыря; приверженцы Донасьена вырвали его из рамы и бросили в костер. Но лишь только огонь коснулся полотна, как свершилось ужасное чудо. Портрет вновь ожил; живой Спиридион ломал руки среди языков пламени и кричал: – Алексей! Алексей! Это ты меня убиваешь! Я бросился к костру, но нашел там лишь пепел от сгоревшего портрета. Несколько раз живой Эброний и безжизненное полотно, его изображающее, менялись местами перед моим изумленным взором: порой среди пламени мне являлось лицо учителя, обрамленное прекрасными белокурыми волосами, и взор мой встречался с его взором, полным боли и гнева, порой же я видел, как под грубый смех монахов в костре сгорает портрет основателя монастыря. Наконец я проснулся – весь в поту, едва живой от усталости. Подушка моя была мокра от слез. Я встал и подошел к окну. Занимавшийся день окончательно пробудил меня и развеял впечатления ночи, однако так неопровержимы, так справедливы были упреки, услышанные мною ночью и продолжавшие звучать в моем уме, что забыть их я не мог. С тех пор меня начало мучить раскаяние. Я узнавал в зловещем сне голос моей совести, который кричал мне, что, какую религию ни исповедуй, какой философии ни придерживайся, вручать бразды правления мошеннику и вступать в торги с негодяем преступно. Разум на сей раз пребывал в полном согласии с совестью; он напоминал мне, что Спиридион был человеком справедливым, суровым, неподкупным, что он всей душой ненавидел ложь и эгоизм; разум говорил мне, что, даже оказавшись на этой грешной земле в самом ложном положении, среди самых развращенных существ, мы обязаны сражаться со злом во имя добра. Инстинктивная тяга к благородству и человеческому достоинству по-прежнему сохранялась в моей душе, и этот инстинкт подсказывал мне, что в тех случаях, когда сотворить добро не в наших силах, лучше умереть, сопротивляясь злу, чем жить, трусливо ему потакая. Ученые книги, о чтении которых я мечтал так страстно, мне опротивели. Угнетенная душа искала утешения в пустых софизмах и тщетно пыталась заслониться ими от недовольства самой собой. Пребывая в этом болезненном и мрачном расположении духа, я боялся стать жертвою новых галлюцинаций и несколько ночей подряд не смыкал глаз. В результате я впал в нервное возбуждение, оказавшееся еще хуже, чем сонная одурь. Призраки, которых я боялся, теперь являлись мне не во сне, а наяву и были еще страшнее прежних. Мне чудилось, что на всех стенах выступает написанное огненными буквами имя Спиридиона. Возмущенный собственным малодушием, я решил, что единственный способ положить конец всем этим мучениям – проявить мужество и забрать рукопись из гроба основателя монастыря. Я не спал уже три ночи. На четвертую ночь около полуночи я вооружился долотом, лампой, рычагом и, стараясь ступать беззвучно, проник в церковь, намереваясь увидеть останки, которым воображение мое вот уже шесть лет сообщало небесные черты и которые разуму моему надлежало исследовать спокойно и беспристрастно, с тем чтобы возвратить их в вечное небытие. Добравшись до камня Hiс est, я без труда приподнял его и стал спускаться по лестнице; я помнил, что в ней двенадцать ступеней. Но не успел я пройти и половины пути, как рассудок мой начал мутиться. Не знаю, что со мной происходило: не испытай я этого на собственном опыте, я бы никогда не поверил, что за отвагой, воодушевляемой тщеславием, может скрываться столько малодушия и подлой трусости. Я дрожал, как в лихорадке, зубы мои стучали от страха; я выронил лампу; ноги больше не держали меня. Человек прямодушный сразу смирился бы с неудачей и не стал продолжать попытку, оказавшуюся ему не по силам; он отложил бы намеченное предприятие до другого раза и терпеливо дожидался, пока рассудок его просветлеет. Но я стыдился самого себя, я ненавидел себя за проявленную слабость; воля моя желала сломить воображение и принудить его к покорству. Я продолжал спускаться по лестнице в потемках; вот тут-то рассудок окончательно изменил мне и оставил меня во власти иллюзий и призраков. Мне чудилось, будто я по-прежнему иду вниз, будто я спускаюсь в царство Эреба. Когда я наконец достиг ровной поверхности, до слуха моего донесся мрачный голос, исходивший, казалось, из самых пропастей земли: – Наверх ему не выйти. И тотчас из невидимой бездны тысяча грозных голосов затянула в ответ странную песню: – Истребим его! Его надобно уничтожить! Что делает он среди мертвецов? Его место – среди живых ! Его участь – страдания ! Тут тьму прорезал слабый луч света, и я увидел, что стою на последней ступеньке лестницы, широкой, как подножье горы. За моей спиной горели тысячи ступенек из раскаленного железа; передо мной простиралась эфирная бездна; над головой и под ногами у меня раскинулась одна и та же темно-синяя ночь. Голова у меня закружилась, и, даже не подумав о том, чтобы вернуться наверх, я с богохульными речами шагнул в пустоту. Но не успел я договорить свою святотатственную фразу, как пустота наполнилась смутными формами и красками, и постепенно передо мною начала вырисовываться гигантская галерея, под своды которой я вступил, объятый трепетом. Кругом по-прежнему было темно, но вдали горел красный огонь, освещавший причудливые и страшные очертания громоздкой постройки, словно высеченной в железной горе или среди сгустков черной лавы. Поначалу я не видел почти ничего, но чем дальше я шел, тем яснее представали моему взору предметы, меня окружавшие, и тем ужаснее они мне казались; с каждым шагом страх мой возрастал. Огромные столбы, поддерживавшие свод, и самые узоры этого свода представляли собою изображения людей исполинского роста, подвергаемых немыслимым мукам: одни, подвешенные за ноги и сдавливаемые чудовищными змеями, впивались зубами в мраморный пол; других, вросших по пояс в землю вниз или вверх ногами, тащили наружу, причиняя им бесчисленные страдания, человеческие особи, расположившиеся на потолке в виде капителей. Некоторые столбы были составлены из человеческих фигур, которые, сплетясь в смертельном объятии, пожирали друг друга; многие из них уже лишились ног, а иные и туловища, но головы их продолжали жить и яростно впиваться зубами в свою добычу. Были тут люди с наполовину содранной кожей, которые пытались оторвать оставшиеся лоскуты от капителей или цоколя, были и такие, которые вырывали клочья собственной кожи друг у друга из рук, и на лицах у них изображалась невыразимая ненависть и неизъяснимая мука. Вдоль фриза или, скорее, вместо фриза тянулись по обеим сторонам два ряда отвратительных существ, внешне похожих на людей, но чудовищно уродливых; они расчленяли трупы, пожирали человеческие члены, вытягивали из животов кишки, лакомились кровавыми лохмотьями. С потолка вместо розеток свисали изувеченные дети, которые, казалось, испускали жалобные крики и, пытаясь ускользнуть от пожирателей человеческой плоти, устремлялись вниз, предпочитая размозжить себе голову о мраморный пол. Чем дальше я шел, тем больше все эти изваяния становились похожи на существа из плоти и крови; свет, мерцавший в глубине галереи, позволял увидеть, что выполнены они с правдоподобием, недоступным земным мастерам. Можно было подумать, что видишь живых людей, навсегда окаменевших в результате какого-то неведомого катаклизма и почерневших, словно обожженная глина. Так поразительно было выражение отчаяния, ярости или предсмертной муки на этих искаженных лицах; так точно было передано напряжение мускулов, ожесточение борьбы, трепет изнемогающей плоти, что никто не смог бы смотреть на все это без отвращения и ужаса. Пожалуй, оттого, что кругом царили тишина и неподвижность, зрелище это производило на меня впечатление особенно устрашающее. Я так обессилел, что остановился и готов был воротиться назад. Но в эту минуту до слуха моего донесся смутный рокот, похожий на звук шагающей толпы; источник его был во тьме, там, откуда я пришел. Вскоре голоса сделались более отчетливыми, а крики более буйными; шаги звучали все громче и приближались с невероятной быстротой: толпа бежала нестройно, неровно, но с каждой минутой производимый ею шум становился все более близким, все более неистовым и все более грозным. Я решил, что эта бешеная толпа преследует меня, и в поисках спасения устремился в глубь галереи, окаймленной мрачными изваяниями. Однако тут мне стало казаться, что извания эти оживают, что они истекают потом и кровью, а зрачки их эмалевых глаз приходят в движение. Внезапно я понял, что все они следят за мной, все наклоняются ко мне – одни с омерзительным смехом, другие с неприкрытым отвращением. Все протягивали ко мне руки и, казалось, готовились раздавить меня своими трепещущими членами, которые они тщетно вырывали друг у друга. Были и такие, которые наступали на меня, держа в руках собственную голову или тела детей, выдранные из розеток на потолке. Если взору моему представало чудовищное зрелище оживающих изваяний, то слух мой полнился зловещим шумом приближающейся погони. Передо мной располагались предметы ужасные, за мной слышались звуки еще более ужасные: смех, вой, угрозы, рыдания, богохульства, внезапно сменявшиеся несколькими мгновениями тишины, в течение которых толпа, казалось, оставляла позади огромные расстояния и в сотню раз сокращала дистанцию, отделявшую ее от меня. Наконец шум приблизился настолько, что я потерял надежду спастись бегством и попытался укрыться среди столбов, поддерживающих своды галереи; но тут мраморные изваяния ожили окончательно и алчно устремили руки ко мне, располагая схватить меня и сожрать. Тогда я снова выскочил на середину галереи, недосягаемую для статуй; толпа между тем приближалась, голоса ее заполняли пространство галереи, шаги ее сотрясали пол. Это напоминало бурю в лесной чаще, ураган в открытом море, извержение вулкана. Казалось, воздух в галерее раскалился; казалось, в ней задул ветер, клонящий долу все живое. Словно осенний листок, я понесся вдаль, подхваченный вихрем теней. Все они были одеты в черное; горящие их глаза сверкали из-под темных капюшонов, словно глаза тигра из глубины его логова. Одни, казалось, пребывали во власти беспредельного отчаяния, другие предавались безумному, свирепому веселью, третьи молчали, но ожесточенное это молчание леденило мне кровь и страшило еще больше, чем крики горя или радости. Чем ближе подходили призраки, тем сильнее извивались и выгибались медные и мраморные изваяния; в конце концов им удавалось разомкнуть свои страшные объятия, вырвать ноги из мраморного пола, а руки и плечи из карнизов; те, чьи изувеченные тела распластались на потолке, также высвобождались и, по-змеиному сползая по стенам, спускались на землю. После чего все эти исполинские людоеды, все эти люди с содранной кожей и оторванными конечностями присоединялись к толпе призраков, увлекавшей меня с собой, и, окончательно ожив, принимались кричать и завывать точно так же, как и остальные; толпа эта разливалась во тьме, словно река, прорвавшая плотину, однако свет, мерцавший в конце галереи, по-прежнему манил ее к себе, и, распространяясь вширь, она, однако же, не переставала продвигаться вперед. Внезапно тусклый этот свет засиял ярче, и я понял, что мы добрались до цели. Толпа разделилась на несколько потоков, растеклась по боковым галереям, а передо мной в бесконечной дали возник памятник, какого человеческим рукам возвести не дано. Взору моему предстала внутренность готического храма, подобного тем, какие католики строили в одиннадцатом столетии, в ту пору, когда, достигнув вершины своего могущества, они принялись возводить эшафоты и разжигать костры. Стройные пилястры, стрельчатые арки, символические животные, причудливые орнаменты, – все чудеса гордой и своенравной архитектуры были здесь явлены в постройке таких гигантских размеров, что под ее сводами запросто поместился бы миллион человек. Свод этот, однако, был сделан из свинца, а верхние галереи, где толпился народ, имели потолки ниже человеческого роста, так что разглядывать то, что происходило у меня под ногами, в головокружительной глубине, мне приходилось, согнувшись в три погибели. Поначалу я различал только стены храма: нижние его части растворялись во мраке, средние же были видны немного лучше благодаря красным огонькам, которые мерцали во тьме, словно отблески скрытого от моих глаз пожара. Постепенно этот зловещий огонь осветил всю внутренность здания, и взору моему предстало множество коленопреклоненных фигур; они располагались по краям нефа, а между ними медленно тянулась процессия священнослужителей в богатых одеждах; они направлялись в сторону хора, распевая на один и тот же лад: – Истребим его! истребим его! то, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу! Мрачное это пение вновь пробудило мои страхи; я оглянулся и обнаружил, что нахожусь на галерее в полном одиночестве; толпа заполонила другие галереи и, кажется, не обращала на меня ни малейшего внимания. Тогда я вознамерился покинуть это страшное место, скрывавшее, как подсказывал мне внутренний голос, какую-то жуткую тайну. За моей спиной виднелось несколько дверей, однако все они находились под охраной омерзительных медных чудовищ, которые, ухмыляясь, обещали друг другу: – Мы истребим его, разорвем на куски и сожрем! Леденея от ужаса, я попытался спрятаться и сел на корточки около каменной балюстрады. То, что должно было свершиться, страшило меня так сильно, что я закрыл глаза и заткнул уши. Натянув поглубже капюшон и уткнув голову в колени, я попытался убедить себя, что все увиденное – не более чем сон, что на самом деле я сплю у себя в келье и стоит мне проснуться, как кошмар окончится. Я страстно желал пробудиться и уже решил было, что мне это удалось, но, открыв глаза, обнаружил себя в той же самой галерее, в окружении тех же самых призраков, что меня туда привели; между тем процессия священнослужителей дошла до середины хора, где свершалась ужасная сцена, которой я никогда не забуду. В самом центре, окруженный толпою священников, стоял гроб, в котором покоился человек, и человек этот был жив. Он не жаловался, не сопротивлялся, но из груди его вырывались сдавленные рыдания и глубокие вздохи, тонувшие в безмолвии храма. Толпа взирала на гроб угрюмо и бесчувственно, не произнося ни слова, а священники держали наготове гвозди и молотки, чтобы заколотить гроб сразу после того, как из груди лежащего в нем человека вырвут сердце. Все по очереди погружали окровавленные руки в раскрытую грудь мученика, все рылись в его утробе и выворачивали ее наизнанку, но никому не удавалось совладать с непобедимым, неприступным сердцем. Время от времени палачи испускали яростный вопль, ответом которому служили проклятия и свист, доносившиеся с галерей. Что же касается коленопреклоненных людей, то они предавались размышлениям и молитвам, не шевелясь и не обращая внимания на мерзости, происходившие в непосредственной близости от них. Внезапно один из палачей, как был весь в крови, приблизился к балюстраде, отделяющей хор от нефа, и обратился к коленопреклоненной толпе: – Возлюбленные братья, христиане набожные и чистые, молитесь! Не жалейте молений и слез, дабы свершилось чудо и вы смогли бы вкусить тело и испить кровь Христа, божественного нашего Спасителя. Тут верующие начали молиться вполголоса, бить себя в грудь и посыпать голову пеплом, палачи же продолжали терзать несчастного, который со слезами в голосе повторял одни и те же слова: – О Боже, спаси этих жертв невежества и лжи! Мне казалось, что эхо, отражавшееся от сводов, таинственным голосом шепчет эти слова мне на ухо. Я, однако, был объят таким ужасом, что, вместо того чтобы ответить мученику и возвысить голос против его мучителей, не сводил глаз с призраков, меня окружавших, ибо опасался, как бы они не догадались, что я им чужой, и не набросились на меня. Затем я опять попытался проснуться, и на несколько мгновений воображение мое принялось рисовать мне сцены счастливые и радостные. Стояло прекрасное утро, я находился в своей келье, в окружении любимых книг… однако новый стон жертвы прервал это сладостное видение, и глазам моим опять предстала бесконечная агония и безжалостные палачи. Я смотрел на несчастного, которого они терзали, и мне казалось, что он все время меняет облик. Сначала то был Христос, потом Абеляр, потом Ян Гус, потом Лютер… Я опять попытался отвести взор от этого отвратительного зрелища, и мне показалось, что я вновь вижу солнечный свет и прелестную поляну, по которой мне так легко и приятно бежать. Но свирепый хохот очень скоро положил конец этой обольстительной иллюзии, и я догадался, что человек, чье сердце тщетно пытаются вырвать из груди подлые палачи, есть не кто иной, как Спиридион. Затем Спиридион превратился в старого Фульгенция; он взывал ко мне, он вопрошал: – Алексей! Сын мой Алексей! Неужели ты не придешь мне на помощь? неужели ты не спасешь меня? Не успел он произнести мое имя, как я увидел на его месте в гробу себя самого; это моя грудь была раскрыта, это в мое сердце впивались когти и клещи. А между тем я по-прежнему находился на галерее, я по-прежнему сидел на корточках подле балюстрады и оттуда наблюдал, как другой «я» претерпевает смертную муку. Кровь заледенела у меня в жилах, холодный пот омыл все мое тело, и я едва не лишился чувств: теперь от тех пыток, которым подвергали моего призрака, страдала моя собственная плоть. Собрав последние силы, я попытался в свой черед воззвать к Спиридиону и Фульгенцию. Глаза мои закрылись, а губы машинально пробормотали какие-то слова, неведомые разуму. Когда я открыл глаза, то увидел подле себя прекрасную коленопреклоненную фигуру. Человек этот был совершенно спокоен и даже не смотрел в мою сторону. Взгляд его был устремлен к свинцовому своду, я взглянул туда же и увидел широкое отверстие, сквозь которое в храм проникал солнечный свет. Свежий ветер легонько шевелил золотые кудри человека, чьи черты были исполнены невыразимой печали, смешанной с надеждой и жалостью. – О ты, чье имя мне известно, – прошептал я ему, – ты, остающийся невидимым для всех этих страшных призраков и являющийся мне одному, ибо я знаю и люблю тебя! Спаси меня от этих ужасов, избавь меня от этой пытки!.. Он обернулся и взглянул на меня; в светлых бездонных глазах его читалось разом и сочувствие к моим страданиям, и презрение к моей слабости. Затем с ангельской улыбкой он простер руку, и все призраки растворились во тьме. Теперь до моего слуха доносился только его голос, голос друга; вот что он говорил: – Все увиденное тобою – не что иное, как порождение твоего мозга. Страшный сон, от которого ты пытался избавиться, есть плод твоего воображения. Пусть же это научит тебя смирению; вспоминай о слабости своего духа всякий раз, как решишь взяться за дело, которое тебе еще не по силам. Демонов и призраков рождают на свет фанатизм и суеверие. Много ли пользы принесла тебе твоя философия, если ты до сих пор не научился отличать чистые откровения, ниспосылаемые тебе Небом, от грубых наваждений, внушаемых страхом? Заметь: все, что тебе примерещилось, происходило в твоей собственной душе; обманутые твои чувства просто-напросто сообщили форму мыслям, уже давно тебя тревожившим. Медные и мраморные изваяния, пожирающие ближних и пожираемые ими, – это символ душ, изувеченных католицизмом и ожесточившихся под его влиянием, это образ борьбы, которую вели в недрах оскверненной Церкви целые поколения, пожиравшие друг друга, вымещавшие друг на друге причиненное им зло. Толпа разъяренных призраков, увлекшая тебя за собой, – это безверие, буйство, атеизм, лень, ненависть, алчность, зависть и все прочие дурные страсти, которые забрали власть над Церковью после того, как Церковь утратила веру; череда страдальцев, чье сердце пытались вырвать священнослужители, – это Христы, мученики, отдающие жизнь за новую истину, это святые грядущих времен, терзаемые обманщиками, завистниками и предателями. Объятый благородным честолюбием, ты увидел в этом окровавленном гробу себя самого, ты вообразил самого себя жертвою гнусного духовенства и бессмысленного народа. Однако ты раздвоился в собственных глазах, и в то время, когда прекраснейшая половина твоего существа мужественно сносила пытку и отвергала сговор с фарисеями, другая, подлая и эгоистичная, пряталась в тени и, дабы не попасть в руки врагов, оставалась глуха к мольбам старого Фульгенция. Ибо – о Алексей! – любовь к истине сумела уберечь твою душу от низких страстей черни, но – о монах! – забота о собственном благополучии и собственной свободе сделала тебя сообщником лицемеров, среди которых ты обречен жить. Пробудись же и постарайся обрести в добродетели ту истину, какую ты не сумел отыскать в науке. Не успели замолкнуть звуки его речи, как я проснулся и обнаружил себя в монастырской церкви подле наполовину поднятой могильной плиты, украшенной словами Hiс est veritas. Уже рассвело; за окнами весело щебетали птицы; недавно вставшее солнце бросало пурпурно-золотые лучи в глубь хора. Я совершенно ясно увидел, как тот, кто говорил со мной, вошел внутрь солнечного луча и растворился в нем, словно смешавшись со светом небесным. Я с ужасом ощупал свое тело. Оно отяжелело от смертного сна, окоченело от могильного холода. Колокол сзывал монахов к заутрене; я поспешил поставить могильный камень на место и успел выйти из церкви прежде, чем туда вошла горстка истовых богомолов, не пропускавших ни одной утренней службы. Назавтра тело мое испытывало величайшую усталость, а душу тяготили мрачные воспоминания. Многообразные чувства, пережитые мною, приводили в смятение изнуренный мозг. Мне казалось, что и отвратительный кошмар, и небесное видение суть порождения болезненной фантазии; я отрекался и от того, и от другого и был склонен объяснять свое спасение исключительно просветлением собственных мыслей и утренней прохладой. Начиная с того дня я мечтал лишь об одном, стремился лишь к одному – мне надобно было охладить мое воображение так же, как я охладил свое сердце. Я полагал, что, если раньше я отринул католическую веру, дабы открыть моему уму поприще более обширное, теперь я должен отринуть всякий религиозный энтузиазм, дабы вывести мой разум на дорогу более прямую, поставить его на почву более твердую. Новейшая философия не сумела побороть суеверий, живших в моей душе; я решил обратиться к истокам этой философии и принялся изучать те труды, из которых выросли несовершенные доктрины, меня пленившие. Я прочел Ньютона, Лейбница, Кеплера, Мальбранша, а главное – отца геометров Декарта, прочел всех тех, чьими стараниями была подорвана вера в традицию и откровение. Я убедил себя в том, что, опираясь на опыты естествоиспытателей и рассуждения метафизиков, я не только обрету доказательства бытия Божия, но и сумею наконец обрести Бога своей мечты – покойного, неколебимого, бесконечного. Тогда наступила для меня пора новых трудов, новых забот и новых страданий. Я полагал, что мой ум сильнее ума тех мыслителей, у которых я желал научиться вере; я знал, что они, желая доказать существование Бога, потеряли веру в Него; но я приписывал это роковое заблуждение ослаблению их умственных способностей – неизбежному следствию усиленных занятий. Я намеревался более бережно тратить силы, избегать мелочной дотошности, какой иногда грешили мои чересчур обстоятельные предшественники, без колебаний отбрасывать все их многочисленные натяжки – одним словом, одолеть одним махом ту дорогу, по которой они двигались с черепашьей скоростью. Гордыня, как и всегда, сослужила мне дурную службу; это обнаружилось очень скоро. Мне так и не удалось превзойти своих учителей твердостью и решительностью; вместо того чтобы исполнить хвастливые обещания и подняться на вершину горы, я скатился в болото, да там и застрял. Громады науки подобны скалам; ум способен их одолеть, чувство же остается у их подножия; я взобрался наверх, но атеизм вскружил мне голову. Гордясь тем, что я поднялся так высоко, я не понял, что достиг самое большее первой ступени той науки, что занята познанием Господа; я мог более или менее логично объяснить устройство мира, но не мог постичь ту мысль, какой руководствовался его творец. Я охотно соглашался видеть в мире всего лишь машину; мне казалось, что мысль Господня не имеет ни к созданию, ни к существованию мира никакого отношения и я спокойно могу ею пренебречь. Постепенно я привык доверяться очевидности и презирать голос чувства – как если бы чувство не лежало в основе всякого достоверного знания. Одним словом, способ видеть, разбирать и описывать вещи, мною избранный, был узок и груб, и я сделался самым упрямым, тщеславным и ограниченным из ученых. В этих невидимых миру трудах я провел десять лет – десять лет, выброшенных в бездну, по краям которой не взросло ни единой травинки. Не зная устали, я сражался с холодным разумом. Чем ближе, однако, становилась безрадостная победа, тем сильнее она страшила меня; я спрашивал себя, что же сделаю я со своим сердцем, если оно когда-нибудь очнется. Впрочем, постепенно восторги тщеславия заглушили эту тревогу. Мало кто сознает, как опрометчиво и легкомысленно может вести себя человек, по видимости погруженный в занятия самые серьезные. Побежденная трудность имеет огромную власть над людьми, которые посвятили себя естественным наукам; мимолетный триумф ума пьянит так сильно, что в жертву ему без колебаний приносится все: доводы рассудка, порывы сердца, целомудрие души. Чем чаще вкушал я подобные триумфы, тем более химерическими казались мне те победы, о каких я мечтал прежде. Наконец я убедил себя, что эти последние не только недостижимы, но еще и бесполезны; я решился оставить поиск метафизических истин, к которым обращался мыслью все реже и реже, и всецело предаться штудиям физическим. Я изучал тайны природы, движение и покой небесных тел, неизменные законы, управляющие миром как в безграничных просторах, так и в едва заметных мелочах; я различал повсюду железную руку некоего исполина, глубоко равнодушного к благородным чувствам человеческим, беспредельно щедрого и неистощимо изобретательного во всем, что касается удовлетворения материальных нужд человека, однако хранящего непреклонное молчание относительно всего, что касается его нравственного существа, его непомерных желаний, чтобы не сказать – непомерных потребностей. Разве, думал я, та жадность, с которой иные избранные представители рода человеческого стремятся установить сношения с Божеством, не свидетельствует об изъяне их мозга? Разве нельзя уподобить этих людей растениям с неправильным развитием или животным с неумеренными инстинктами? Разве не гордыня – другой недуг, присущий большинству смертных, – заставляет этих людей расписывать яркими красками и цветистыми фразами умственную горячку, свидетельствующую не столько о силе и здоровье, сколько о слабости и усталости? Нет, восклицал я, желание воспарить к небу есть желание бесстыдное и безумное, а главное – жалкое. Всякий школяр, имеющий хотя бы смутное понятие об устройстве небесной сферы, знает, что неба этого не существует! Только чернь верит, будто из грубого фимиама, возносящегося с земли, на небе воздвигнут трон, а на нем, затерянный в воздушных просторах, словно песчинка на склонах гор Атласских, восседает идол, скроенный по образу и подобию земных людей! Только толпа воображает, будто после смерти души человеческие, словно перелетные птицы, отправляются в путь по небу – бесконечному воздушному эфиру, усеянному неисчислимыми светилами и мирами, – из дома в дом, из края в край; только жалкие риторы от богословия убеждены, что созвездия будут служить им жильем, а солнечные лучи – одеждой! Небо и человек – это все равно что бесконечность и атом! Как же можно их сравнивать, как можно их противопоставлять! Кому первому взбрела на ум мысль столь смешная, столь безрассудная? А нынче? Подумать только, папа, именующий себя царем душ человеческих, настежь открывает своим ключом врата вечности всякому, кто преклоняет колени перед ним и просит: «Впустите меня!» Таков был ход моих мыслей, и мысли эти сопровождались горьким смехом; швыряя на землю возвышенные сочинения отцовцеркви и философов-спиритуалистов всех времен и народов, я с яростью топтал их ногами и повторял любимую фразу Эброния, которая, как мне казалось, таила в себе решение всех моих проблем: «Сколько невежества! Сколько лжи!» – Ты бледнеешь, дитя мое, – обратился Алексей ко мне, на мгновение прервав свое повествование, – твоя рука дрожит в моей, а глаза смотрят на меня растерянно и тревожно. Успокойся, не бойся стать жертвою тех же заблуждений: рассказ мой, надеюсь, убережет тебя от них. Человек не ведает мыслей Господних и часто отрицает само их существование, однако, на его счастье, Господь сотворил не только мир, но и людей, его населяющих, с любовью и тщанием. Он наградил людей способностью стремиться к добру и раскаиваться во зле. Если в обществе человек зачастую ощущает себя для общества потерянным, в одиночестве он никогда не остается потерянным для Бога, ибо до тех пор, пока жизнь теплится в его груди, в груди этой могут зазвучать неведомые струны, и много струн разорвется в душе человека, полюбившего истину, до тех пор, пока за ним не придет смерть. Часто возвышенные способности человеческие дремлют, подобно зерну в лоне земли, и лишь после долгого сна расцветают с нежданным блеском. Потому-то я и ставлю так высоко уединение и покой, потому-то и продолжаю хранить верность монашеским обетам, что знаю, как никто, не только опасности, которыми чреваты эти долгие беседы один на один с собственной совестью, но и победы, которыми они увенчиваются. Живи я в миру, я бы погиб безвозвратно. Люди истребили бы во мне те добрые задатки, какие вложил в меня Господь. Я не выдержал бы искушения суетной славою, любовь моя к науке, питаясь чужим одобрением, разрасталась бы и крепла, так что я жил бы, пьянея от ложной радости и не ведая счастья истинного. Иное дело жизнь монастырская: никем не понимаемый, предоставленный самому себе, побуждаемый к изысканиям исключительно собственной гордостью и собственной любознательностью, я в конце концов утолил свою жажду и пресытился уважением к самому себе. Пребывая в разлуке с небесным другом, я ощутил потребность поделиться своими радостями и горестями с каким-нибудь земным существом, – ощутил безотчетно и помимо воли. Гордыня и надменность сделались из свойств ума также и чертами моего характера; вдобавок жил я в окружении людей, с которыми не имел ничего общего: ответом на мои сердечные излияния стали бы грубость и злоба. Впрочем, это, пожалуй, уберегло меня от многих бед. Общество людей умных разожгло бы во мне жажду беседы, потребность в споре, и это лишь утвердило бы меня в моей склонности к отрицанию; напротив, долгими вечерами, проведенными в одиночестве, я, несмотря на безраздельную преданность атеизму, ощущал порой приливы страстной любви к тому самому Богу, веру в которого именовал заблуждением молодости, и, как бы ни презирал я себя в эти мгновения, не подлежит сомнению, что именно тогда я вновь становился добр, именно тогда сердце мое храбро сопротивлялось собственному разрушению. В тяжких болезнях наступает такой период, когда сильное ухудшение оборачивается значительным улучшением; страшный кризис сменяется чудесным выздоровлением. В пору, предшествовавшую моему возвращению к вере, я почитал себя убежденным адептом чистого разума. Я сумел полностью заглушить в себе голос сердца и находил удовольствие в презрении к каким бы то ни было верованиям, в забвении каких бы то ни было религиозных чувствований. Но не успел я ощутить эту безграничную философическую мощь, как меня охватило отчаяние. Однажды несколько часов подряд я обдумывал некий научный вопрос; мысль моя работала с небывалой четкостью, и я в очередной раз, причем яснее, чем когда-либо, ощутил всемогущество материи и невозможность существования иного творца и зиждителя, кроме той силы, которую я, прибегая к языку естествоиспытателей, именовал витальными свойствами материи. В эту-то самую минуту ледяной холод пронизал все мое тело, и я слег в постель со всеми признаками горячки. Прежде я никогда не заботился о своем здоровье. Болел я долго и трудно. Жизни моей ничто не угрожало, однако нестерпимые боли не позволяли мне предаваться занятиям умственным. Глубочайшая скука овладела мною; бездействие, одиночество и страдания навевали на меня смертную тоску. Я не желал ничьей помощи, однако настоятель, движимый деланным сочувствием, подослал ко мне послушника по имени Христофор, чтобы тот ходил за мной. Мне пришлось согласиться терпеть его общество по ночам; меня мучила страшная бессоница, Христофор же, являвшийся якобы за тем, чтобы помочь мне скоротать время, каждый вечер забывался рядом с моей постелью тяжелым, глубоким сном. Христофор этот был человек превосходнейшего нрава и ограниченнейшего ума. Монахи прощали ему чрезвычайную тупость за чрезвычайную же доброту. Обращались они с ним как с неким домашним животным – работящим, зачастую очень полезным и неизменно безобидным. Жизнь его представляла собою непрерывную цепь благодеяний и самопожертвований. Поскольку монахи постоянно прибегали к помощи Христофора, он уверовал в свою незаменимость, и эта вера, которую я ни в малейшей степени не разделял, раздражала меня особенно сильно. Тем не менее чувство справедливости, которое атеизм не смог истребить в моей душе, заставляло меня сносить общество Христофора терпеливо и кротко. В первое время мне случалось вспылить и выгнать его из моей кельи. Он, однако, нисколько не обижался на меня и тревожился лишь о состоянии моего здоровья; он гнусавым голосом затягивал у меня под дверью долгую молитву, а наутро я обнаруживал, что он никуда не ушел и спит, сидя на лестнице и уткнув голову в колени; конечно, ему было холодно и неуютно, но он не смел провести в своей постели те часы, которые рассчитывал посвятить мне. Терпение и самоотвержение этого человека покорили меня. Чтобы доставить ему удовольствие, я сносил его общество; ведь, к моему великому сожалению, других больных в ту пору в монастыре не имелось, а когда Христофору не за кем было ходить, он становился несчастнейшим человеком в мире. Постепенно общество Христофора и его собачки, которая настолько сжилась с хозяином, что переняла его характер и его обыкновения и, кажется, отличалась от него только неумением готовить больным отвар и щупать пульс, сделалось для меня привычным. Эти двое пробуждались и отходили ко сну одновременно. Когда монах ходил по комнате на цыпочках, собачка тоже старалась производить как можно меньше шума; если хозяин засыпал, животное мирно следовало его примеру. Когда Христофор молился, Бакко с важным видом усаживался перед ним и, навострив ушки, самым внимательным образом следил за движениями рук и головы молящегося. Когда же Христофор обращался ко мне с глупыми утешениями и избитыми уверениями в том, что я скоро поправлюсь, Бакко становился на задние лапы подле моей постели и, очень аккуратно и деликатно опираясь о нее передними лапами, принимался с величайшей нежностью лизать мне руку. Я так привык к этой паре, что уже не мог обходиться без них. Пожалуй, в глубине души я отдавал предпочтение собаке, ибо она была гораздо умнее хозяина, не храпела во сне, а главное, не умела разговаривать. Физические страдания мои тем временем сделались поистине нестерпимы. К концу года я так измучился, что не имел сил даже желать смерти: ведь она могла причинить мне мучения еще более страшные. Теперь пределом мечтаний стало для меня простое отсутствие боли. Я был так плох, что постоянно нуждался в присутствии Христофора. Мне нравилось смотреть, как он ест: его здоровый аппетит забавлял меня. Все, что раньше коробило меня в нем, теперь стало казаться мне привлекательным, – все, включая тяжелый сон, бесконечные молитвы и нелепые истории, которыми он пытался меня позабавить. Я получал удовольствие даже от его уговоров и каждый вечер нарочно отказывался пить микстуру, после чего он добрых четверть часа без устали донимал меня своими глупыми увещеваниями и простодушными уловками, которые представлялись ему верхом хитрости. То было мое единственное развлечение, дарившее мне толику веселья, и добряк, судя по всему, об этом догадывался, хотя губы мои, увядшие, искаженные болью, разучились улыбаться. Лишь только я начал выздоравливать, как грянул гром: в монастыре началась эпидемия страшной, неизлечимой болезни. Она обнаружилась внезапно; спастись от нее было невозможно. Одним из первых заболел мой бедный Христофор. Я позабыл о собственной немощи и о грозившей мне опасности; покинув свою келью, я провел три дня и три ночи подле его постели. На четвертую ночь он испустил дух у меня на руках. Смерть эта потрясла меня так сильно, что я сам оказался на краю могилы. Тем не менее мне удалось выжить; во мне совершилась удивительная перемена: я выздоровел быстро и окончательно; но этого мало: нравственное существо мое очнулось после долгого сна, и, впервые за долгие годы, я сердцем почувствовал людские беды. После смерти Фульгенция Христофор был единственным человеком, к которому я привязался. Быстрая и горестная его кончина напомнила мне о первом моем друге, о моей молодости, набожности, чувствительности – обо всех тех усладах, которые я потерял навсегда. Я возвратился в свою уединенную келью, но теперь одиночество не радовало, а страшило меня. За мной последовал Бакко: я был последним больным, которого пользовал его хозяин, пес привык находиться в моей келье и, кажется, хотел полюбить меня так же сильно, как любил Христофора, но ему это не удалось: горе его оказалось безутешным. Пес не спал, постоянно обнюхивал кресло, в котором обычно засыпал его покойный хозяин и которое я ставил по ночам у изголовья своей постели в память о моем бедном друге. Бакко охотно принимал мои ласки, но тревога не покидала его. При малейшем шорохе он вскакивал и со смесью надежды и отчаяния смотрел на дверь. В эти минуты я испытывал неодолимую потребность говорить с Бакко, как с разумным существом. – Он не придет, – убеждал я пса, – теперь ты должен любить одного меня. Я уверен, что он меня понимал: при этих словах он подходил ко мне и с видом грустным и покорным лизал мне руку. Затем он пробовал заснуть, но спал беспокойно и во сне издавал слабые стоны, надрывавшие мне душу. Когда же он потерял всякую надежду увидеть того, кого не переставал ждать, он решил умереть. Лежа в кресле своего хозяина, он отказывался от еды и в конце концов угас, глядя на меня укоризненно, как будто именно я был причиной его горя, виновником его смерти. Когда глаза его закатились, а тело похолодело, я не смог сдержать потока слез; я плакал еще горше, чем в день смерти Христофора. Мне казалось, что я потерял друга во второй раз. Происшествие это, на первый взгляд столь незначительное, окончательно низвергло меня с высоты, куда я вознесся на крыльях гордыни, в бездну отчаяния. Много ли пользы видел я от этой гордыни? Много ли проку видел я от своего ума? Болезнь поразила мой гордый ум бессилием; смирение добросердечного человека, верность любящего животного помогли мне куда больше, чем все мои познания. Теперь, когда смерть разлучила меня с теми двумя, кого я любил, разум, который я поставил на место Бога, твердил мне взамен утешения, что эти предметы моей сердечной привязанности исчезли бесследно и потому мне надлежит начисто их забыть. Смириться с этим абсолютным исчезновением я не мог, а между тем наука моя запрещала мне в нем сомневаться. Я попытался продолжить свои ученые занятия, надеясь таким образом побороть терзавшую меня тоску; однако это позволяло мне скоротать всего несколько часов. Лишь только я возвращался в свою келью, лишь только укладывался в постель, одиночество принималось терзать меня с новой силой; словно малое дитя, я обливал слезами подушку; я сожалел о физических страданиях, которые некогда казались мне нестерпимыми; теперь я охотно согласился бы терпеть их вновь, будь мне при этом позволено вновь увидеть подле себя Христофора и Бакко. Именно в ту пору я всем существом почувствовал, что дружба существа самого незначительного есть дар более драгоценный, нежели все открытия гения; что самое простое движение души приносит отраду более сладостную и более насущную, нежели все обольщения тщеславия. Нутро мое подсказало мне, что человек создан для любви, а одиночество, не скрашенное ни верой, ни любовью Божественной, есть не что иное, как могила, вдобавок лишенная загробного покоя! Вновь обрести веру я даже не мечтал; эта прекрасная греза, к великому моему сожалению, растаяла навеки; то, что я именовал моим разумом и моими познаниями, изгнало ее из моей души безвозвратно. Мне суждена была бесплодная жизнь в иссушающем мире. Отчаяние внушало мне замыслы самые безрассудные. Я был готов оставить монастырь, броситься в вихрь света, предаться пьянству или даже разврату – лишь бы убежать от самого себя. Впрочем, желания эти угасли очень быстро; слишком рано я задушил в себе страсти – воскресить их я был не в силах. Самый атеизм, плод ученых занятий и глубоких размышлений, лишь укрепил во мне привычку к аскетическому образу жизни. А кроме того, какие бы превращения я ни претерпевал, ничто не могло вытравить из моей души тягу к прекрасному, потребность в идеале; ум сколько-нибудь возвышенный подобные чувства отринуть не способен. Я больше не обольщался грезами относительно божественного совершенства; но один только вид мира материального, одно только величие звездного неба и стройность законов мироздания вселяли в меня такую страстную любовь к порядку, долговечности и красоте всего сущего, что любая попытка покуситься на эти возвышенные, гармонические идеи вызывала во мне непреодолимое отвращение. Я попытался отыскать новые предметы сердечной привязанности; в монастыре мне их найти не удалось. Повсюду я встречал злобу и хитрость; когда же мне попадались люди более простодушные, за кротостью их я очень скоро различал трусость. Я попытался свести знакомство с мирянами. Во времена аббата Спиридиона все выдающиеся люди из числа местных жителей и образованных путешественников имели обыкновение посещать наш монастырь, невзирая на то, что он расположен в местности дикой и труднодоступной. Однако с тех пор, как обитель наша сделалась рассадником лени, невежества и пьянства, сюда изредка забредали лишь люди равнодушные либо праздно-любопытные, да и те по чистой случайности. Мне некому было открыть душу, и я предавался унынию в полном одиночестве. Недели, месяцы напролет я жил, не зная радости, но, пожалуй, не испытывая и горя: душа моя, истомленная скукой, разучилась чувствовать. Наука утратила для меня всякую привлекательность и постепенно сделалась мне противна: она только и могла, что напоминать мне о страшном уделе человека, который живет на земле, обреченный на страдания и гибель, не имея будущего, не питая надежд, не ожидая воздаяния. Я спрашивал себя, для чего же в таком случае жить, но не понимал также и для чего умирать. Смысла не было ни в том, ни в другом, и потому я наблюдал, как течет время и выпадают мои волосы, не противясь этому медленному дряхлению тела и души, призванному в конце концов даровать мне покой – вечный и печальный. Наступила осень, и вид увядающей природы немного смягчил горечь моих мыслей. Мне нравилось ступать по сухой листве и следить за стаями перелетных птиц, которые ровными рядами двигались к югу и оглашали окрестность тревожными криками. Я завидовал этим созданиям, которые повинуются инстинктам и не знают, что такое неудовлетворенные желания, ибо желают лишь того, что им по силам; конечно, им постоянно приходится защищать свою жизнь, зато они не знают скуки – томительнейшей из мук. Нравилось мне и любоваться цветением последних осенних цветов. Даже этим эфемерным созданиям, думал я, выпала участь счастливее участи человеческой; я привязался к ним и поспешил обнести изгородью возделанный мною уголок сада, чтобы ничья грубая нога не растоптала мои посадки, ничья святотатственная рука не покусилась на мои цветы. Праздношатающихся монахов я отгонял от своего цветника так яростно, что, к великой радости настоятеля, был сочтен помешанным. Осенними вечерами воздух свеж, но приятен; днем я работал в саду, надеясь, что физическая усталость прогонит бессонницу, а на закате нередко ложился на скамейку, которую сам же сложил из дерна, и надолго погружался в смутные мечтания. Мысли мои уносились вдаль, подобно листьям, сорванным с дерева осенним ветром; я привыкал вести растительный образ жизни; мне хотелось разучиться думать. Постепенно я впадал в забытье, которое нельзя назвать ни явью, ни сном, ни страданием, ни блаженством; иных, более острых наслаждений я уже не искал. Мало-помалу я начал с большей легкостью впадать в это оцепенение и находить в нем известную приятность. Особенное удовольствие доставляла мне возможность не вспоминать о прошлом и не опасаться будущего. Я всем своим существом предавался настоящему. Я постигал жизнь природы, наблюдал за мельчайшими подробностями ее бытия, проникал в самые сокровенные ее тайны. Я вслушивался в ее прихотливую музыку, и сознание моей причастности к этой гармонии, недоступной умам суетным, отвлекало меня от мыслей о самом себе. Благостные эти восторги облегчали томление сердца, не знающего, кого любить и кем восхищаться. Я любовался изяществом ветки, нежно колеблемой ветром, я со слезами на глазах внимал слабому и печальному пению кузнечика. Я благодарил цветы за их ароматы, я гордился их красотой, которую взращивал и лелеял. Впервые за долгие годы я вновь ощутил, какой поэтической может быть жизнь в монастыре, в этом святилище, выстроенном на возвышенности, дабы человек, удалившись от мирского шума, предавался там созерцанию небесной сферы. Ты знаешь то место над морем, где стоит белая мраморная беседка, увитая виноградом. Там растут четыре пальмы – их посадил я; там же росли некогда и мои цветы, от которых нынче не осталось и следа; теперь место моей клумбы и прекрасного сада, разбитого Эбронием, занял монастырский огород. В пору, о которой я веду речь, место это, по признанию редких путешественников, его видевших, было одним из живописнейших уголков на земле. В то время воды мраморных фонтанов, которые теперь служат для удовлетворения нужд низменных и презренных, струились лишь для услаждения музыкального слуха истинных ценителей. Прозрачная родниковая вода падала из одной красномраморной раковины в другую и скрывалась под сенью кипарисов и смоковниц, унося с собой свою тайну. Ветви лимонов и цератоний низко нависали над цветником и, переплетаясь, укрывали его, к моей радости, от посторонних взоров. Впрочем, с той стороны, где склон горы отвесно спускается к берегу, я оставил проем среди деревьев: в этой раме из цветов и листьев взору моему представало величественное зрелище морских волн, которые разбивались о прибрежные скалы, а на горизонте вспыхивали огнем заката или рассвета. Погруженный в бесконечные грезы, я проводил в своем саду дни и ночи напролет; здесь, думал я, мне открывается гармония, невнятная грубым чувствам прочих людей, здесь до слуха моего доносится и жалобная песнь, принесенная южными ветрами с мавританского берега, и песнопение затерянного среди бесплодных громад Атласских гор безвестного дервиша, который ведет жизнь нищую и отшельническую, но вкушает куда больше радостей, чем я, ведущий жизнь сытую и безбедную, ибо он верит, а я нет. Мало-помалу мельчайшие перемены в жизни природы наполнились для меня глубоким смыслом. Отдаваясь своим впечатлениям с тем простодушием, на какое способны лишь люди, испившие чашу уныния до дна, я нечувствительно раздвигал узкие рамки достоверного до более широких рамок возможного, а вскоре возможное, воспринятое любящим сердцем, открыло мне еще более широкие горизонты – те, каких разум мой не дерзал даже вообразить. Во всем, что прежде казалось мне достоянием слепого рока, я находил теперь следы таинственного промысла. Мне открылся смысл счастья, который я так бездарно позабыл. Прежде я размышлял только о страданиях живых существ, теперь я обратил свой взор на их радости и поразился тому, как равномерно распределены среди смертных те и другие. Все живые существа, обретя новый облик и новый голос, поведали мне секреты, о каких холодное и поверхностное наблюдение, принимавшееся мною за науку, не могло дать мне ни малейшего понятия. Природа развернула передо мною список бесконечных тайн и опровергла скороспелые суждения людей полуобразованных. Одним словом, жизнь обрела в моих глазах священный характер и великую цель, какой не могли сообщить ей ни религия, ни наука и о какой мой заблудший ум смог узнать лишь от моего прозревшего сердца. Однажды вечером я вслушивался в рокот морских волн, лениво набегающих на песчаный берег; я пытался понять, отчего через равные промежутки времени море, словно следуя какой-то вечной мелодии, посылает на сушу три волны выше и сильнее остальных; тут до меня донесся голос рыбака, который, растянувшись на корме лодки, обращал свою песню к звездам. Конечно, мне и прежде не раз доводилось слышать пение рыбаков – и этого певца, возможно, ничуть не реже других. Слух мой, однако, оставался невосприимчив к музыке, а мозг – к поэзии. Народные песни казались мне выражением одних лишь грубых страстей, и я от всей души презирал их. В тот вечер я, как обычно, испытал раздражение при звуках голоса, который заглушал шепот волн и мешал мне размышлять о них. Однако спустя несколько мгновений я заметил, что рыбак невольно следует в своей песне ритму морских волн, и подумал, что, возможно, слышу одного из тех великих, истинных художников, воспитанием которых занимается сама природа и которые по большей части живут и умирают в безвестности. Поскольку догадка эта вполне соответствовала обычному ходу моих тогдашних размышлений, я стал терпеливо слушать полудикое пение этого полудикого музыканта, который неспешно и печально восхвалял тайны ночи и ласки ветра. В стихах его было мало рифм и мало складу, в словах – мало смысла и еще меньше поэзии, однако колдовская прелесть его голоса, простодушное обаяние ритма и удивительная красота напева, печального, тягучего и монотонного, словно мелодия моря, поразили меня так сильно, что внезапно мне открылось самое существо музыки. Мне показалось, что музыка – это и есть истинный поэтический язык человека, не зависящий ни от слов, ни от писаной поэзии, подчиняющийся особой логике и способный выражать идеи самые возвышенные и столь грандиозные, что никакой иной язык передать их не в силах. Я решился заняться музицированием, чтобы проверить это предположение, и в самом деле, как ты, возможно, слышал, добился на этом поприще некоторых успехов. Лишь одно смущало меня: в прежние годы я заплатил слишком большую дань логике, чтобы безболезненно отринуть ее теперь. Оттого мне так и не удалось научиться сочинять музыку самому, а ведь мечтал я именно об этом. Убедившись, что я не способен выразить свои мысли на этом языке, по всей вероятности чересчур возвышенном для меня, я обратился к поэзии и стал сочинять стихи. Результат получился столь же неутешительный: я страстно хотел говорить стихами, но мало заботился об их источнике, а между тем поэзия нуждается в источнике, в сильном и глубоком чувстве, которое бы ее питало; понятия об этом чувстве я имел лишь самые смутные, и потому поэзия моя была несовершенна. Недовольный своими стихами, я перешел к прозе, которой силился придать вид как можно более лирический. Единственный предмет, который я мог описать со знанием дела, была моя собственная печаль и те муки, какие я претерпел, ища истину. Вот образчик моего творчества: «О величие мое! О моя сила! Грозовой тучей нависли вы над землей, огненной молнией пали на нее. Смертью и бесплодием поразили вы все плоды и цветы на поле моем. Обратили вы его в унылую пустыню, и воссел я один среди развалин. О величие мое! О моя сила! Добрую службу сослужили вы мне или злую? О гордыня моя! О моя наука! Жгучим вихрем взметнулись вы, точно самум в пустыне. Под песком и пылью погребли вы пальмы, замутили и иссушили водоемы. Искал я родник, чтоб напиться, и не нашел родника; не помнит безумец, возмечтавший о надменных вершинах Хорива, укромного пути к тенистому ручью. О наука моя! О моя гордыня! Бог ли послал вас мне или дьявол? О добродетель моя! О мое воздержание! Встали вы, точно башни, протянулись, точно стены мраморные, выросли, точно медные щиты. Скрыли вы меня под ледяными сводами, погребли в мрачных склепах, где царят тревога и страх; жестко и холодно было мне спать, и часто грезил я о теплом небе и мирах изобильных. Искал я солнечный свет, но света не нашел, ибо во тьме потерял я зрение, и отказали мне ноги, и не дошел я до края бездны. О добродетель моя! О мое воздержание! Гордыня ли питала вас или вдохновляла мудрость? О вера моя! О моя надежда! Утлым, ненадежным челном обернулись вы для меня, и носился я по безбрежным морям, среди лживых туманов и пустых иллюзий, смутных образов неведомого отечества. Когда же, устав сражаться с ветром и стенать под его порывами, спросил я, куда вы ведете меня, тогда зажгли вы огни на скалах, и узнал я, чего мне бежать, но не узнал, к чему стремиться. О вера моя! О моя надежда! Кто внушил вас – грезы безумия или таинственный голос Бога живого?» Все эти невинные занятия возвратили покой моей душе и бодрость моему телу; однако ровное течение моей жизни было прервано новым, нежданным бедствием. На смену заразной болезни, обрушившейся на монастырь и его окрестности, пришла чума, поразившая весь наш край. У меня имелись некоторые соображения относительно способов предотвратить эпидемические заболевания посредством весьма простых гигиенических мер. Особам, с которыми я поделился этими соображениями, они сослужили добрую службу, и потому я прослыл человеком, знающим лекарство от чумы. Отказываясь от репутации столь лестной, я, однако же, охотно обнародовал свои скромные открытия. Тогда страждущие потянулись ко мне со всех сторон, и вскоре у меня уже едва хватало времени и сил на то, чтобы принять всех желающих; более того, в виде исключения настоятелю пришлось даже разрешить мне покидать монастырь в любое время суток и отправляться к больным. Однако чем больше жертв уносила чума, тем меньшее место занимали в душах монахов благочестие и сострадание, поначалу заставлявшие их держаться милосердно и человеколюбиво. Эгоистичный, подлый страх вытеснил из их сердец все добрые чувства. Мне запретили иметь сношения с больными чумой; двери монастыря закрылись для несчастных, нуждающихся в помощи. Я не мог скрыть от настоятеля своего возмущения. В другие времена он заточил бы меня в темницу, но в ту пору страх смерти до такой степени ослабил его дух и волю, что он выслушал меня с величайшим спокойствием и предложил мне поселиться в двух лье отсюда, в пустыни Святого Гиацинта, и жить в обществе тамошнего отшельника до тех пор, пока эпидемия не прекратится и возвращение мое в монастырь не перестанет грозить опасностью нашим братьям. Оставалось узнать, согласится ли отшельник делить хлеб и кров с новоявленным лекарем. Получив разрешение побывать в пустыни и поговорить с ее обитателем, я немедля отправился в путь. Я мало надеялся услышать благосклонный ответ: отшельник, раз в месяц приходивший к воротам монастыря просить милостыню, никогда не внушал мне симпатии. Хотя благочестивые простецы не оставляли его в нужде, он обязан был во исполнение своих обетов, не столько ради пропитания, сколько для смирения собственной гордыни, регулярно просить милостыню. У меня обычай этот вызывал величайшее презрение; угрюмый, молчаливый отшельник с его вытянутым лицом и блеклыми, глубоко посаженными глазами, которые, казалось, не выносили солнечного света, с его сгорбленной спиной, седой бородой, пожелтевшей от непогоды, и тощей длинной рукой, которую он протягивал скорее настоятельно, нежели смиренно, сделался для меня воплощением фанатизма и лицемерной гордыни. Поднявшись на гору, я взглянул на море; вид его пленил меня. Сверху оно казалось огромной лазурной равниной, резко кренящейся к громадным береговым скалам; волны его, в эту пору пребывавшие в относительном спокойствии, напоминали ровные борозды, проведенные плугом. Эта голубая бездна, вздымавшаяся подобно холму и представлявшаяся твердой и плотной, словно исполинский сапфир, привела меня в такой головокружительный восторг, что, борясь со страстным желанием броситься вниз, я был вынужден ухватиться за ветки ближайшего масличного дерева. Мне чудилось, что при виде этого великолепия тело должно обрести силу духа и обнаружить умение летать. Я вспомнил тогда Иисуса, идущего по воде, и стал думать об этом божественном человеке, великом, как горы, сияющем, как солнце. «Кто бы ты ни был, метафизическая аллегория или греза восторженной души, – воскликнул я, – в тебе есть величие и поэзия, какой нет во всех наших достоверных фактах и логических рассуждениях, во всех наших замерах и подсчетах!..» Не успел я произнести эти слова, как слух мой поразило некое заунывное пение, едва слышная скорбная молитва, раздававшаяся, казалось, из самых недр горы. Я обернулся. Некоторое время я пытался понять, откуда несутся эти странные звуки; наконец, взобравшись на соседний утес, я заметил в расщелине поодаль отшельника; голый по пояс, он рыл в песке могилу. У ног его лежал завернутый в циновку труп; из грубого савана торчали ноги, изъеденные чумными язвами. Из полуразверстой ямы, в которой не далее как вчера были в спешке зарыты другие трупы, исходило зловоние. Подле нового покойника лежал невысокий, грубо сколоченный деревянный крест – единственное украшение общей могилы; тут же стояла глиняная плошка с кропилом из ветки иссопа; костер из веток можжевельника очищал воздух. Падавшие отвесно солнечные лучи немилосердно жгли лысый череп и хилые плечи отшельника. С длинной янтарной бороды на грудь стекали струи пота. Охваченный почтением и жалостью, я кинулся к нему. Не выразив ни малейшего удивления, он, отбросив лопату, знаком велел мне взять труп за ноги, а сам подхватил его за плечи. После того как мы предали тело несчастного земле, отшельник вновь установил крест, окропил могилу святой водой, затем, попросив меня подбросить веток в костер, опустился на колени, прочел короткую молитву и удалился, не обращая на меня ни малейшего внимания. Он заметил, что я иду за ним следом, лишь когда мы достигли его пустыни; посмотрев на меня не без удивления, он осведомился, не нуждаюсь ли я в отдыхе. Я постарался как можно короче объяснить ему цель моего прихода. В ответ он молча пожал мне руку и, открыв дверь своего жилища, выдолбленного в скале, показал нескольких больных, лежавших на циновках; было видно, что дни их сочтены. – Это рыбаки и контрабандисты, которых родные, страшась заразиться, выбросили на улицу. Я не могу вылечить этих несчастных; я утешаю их словами веры и любви, а затем, когда их страданиям приходит конец, предаю тела земле. Не входите, брат мой, – остановил он меня, видя, что я ступил на порог, – этим людям вы уже не поможете, а воздух там внутри насквозь отравлен; сберегите свою жизнь для тех, кого еще можно спасти. – А за себя, отец мой, вы не боитесь? – спросил я. – Нет, – отвечал он с улыбкой, – у меня есть верное средство. – Какое же? – Мое дело, – отвечал он вдохновенно. – Пока оно не исполнено, я неуязвим. Когда же во мне не будет больше надобности, я стану как другие люди. Если я заболею, то скажу: «Господи, да исполнится воля Твоя; раз Ты прибираешь меня, значит, Тебе больше нечего мне приказать». При этих словах тусклые глаза его загорелись и, казалось, принялись излучать впитанный ими солнечный свет. Они сияли так ярко, что я вынужден был отвести взгляд и невольно посмотрел на море, сверкавшее у наших ног. – О чем вы думаете? – спросил отшельник. – О том, как Иисус шел по воде. – Что же в этом удивительного? – не понял меня этот достойный старец. – Меня удивляет лишь одно: что святой Петр, видевший Спасителя своими глазами, мог усомниться в нем. Я тотчас воротился в монастырь, желая рассказать настоятелю об успехе своего предприятия. Впрочем, я мог бы избавить себя от этого труда, если бы вспомнил, что монахам нет дела до устава, особенно когда ими владеет страх. Монастырские ворота были наглухо закрыты, а когда я постучался, привратник крикнул, что, чем бы ни кончился мой поход, в монастырь меня не впустят. Итак, я отправился назад в пустынь. В обществе отшельника я прожил три месяца. Старец этот был настоящий святой, человек, какие встречались лишь на заре христианства. Пожалуй, во всем, что не касалось служения ближним, его можно было счесть существом весьма заурядным, но зато необходимость помогать страждущим обращала его в подлинного гения милосердия. Более всего восхищали меня его напутствия умирающим. В эти минуты он казался поистине богодухновенным; слова теснились в его душе и изливались бурно, подобно горному потоку. Горькие слезы омывали усталое лицо, изборожденное морщинами. Он знал дорогу к сердцам человеческим. Со страхом смерти он сражался так же бесстрашно, как Георгий Победоносец – со змием. Каким-то чудом он угадывал страсти, некогда волновавшие умирающих, и умел найти для каждого особые слова, даровать каждому особую надежду. Я с удовлетворением отмечал, что сильнее всего он желал облегчить каждому последние минуты пребывания на этой земле; соблюдение пустых формальностей, предписываемых Церковью, волновало его куда меньше. Эта снисходительность была тем драгоценнее, что, когда дело шло о нем самом, он соблюдал католические обряды с величайшей дотошностью и непреклонностью, однако милосердие есть дар Божий, чья власть выше Церкви и ее угроз. Одна слеза умирающего казалась отшельнику важнее всей церемонии соборования; мне случилось услышать от него фразу, поразительную в устах католика. Он поднес распятие к губам человека, стоявшего на пороге смерти; тот отвернулся и поцеловал вместо распятия руку отшельника, после чего испустил дух. – Ничего! – произнес отшельник, закрывая покойнику глаза. – Тебе простится, ибо ты знал, что такое благодарность; если ты умел оценить самоотверженность человека в этом мире, ты сумеешь понять доброту Господню в мире ином. Лето кончилось, а вместе с летним зноем прекратилась и эпидемия. Однако прежде чем монахи набрались храбрости и позволили мне воротиться в монастырь, я еще несколько времени прожил в пустыни. И я, и отшельник, мы оба нуждались в отдыхе; должен сказать, что эти дни поздней осени, проведенные в покое и прохладе, на лоне прекраснейшей природы, какую только можно вообразить, в полной независимости и бок о бок с человеком, воистину достойным уважения, доставили мне наслаждение ни с чем не сравнимое. Скудная и суровая жизнь, какую вел отшельник, нравилась мне, главное же, я чувствовал, что стал иным человеком: самоотверженный труд на благо ближних переродил меня. Сердце мое расцвело, словно цветок под дуновением весеннего ветерка. Только теперь я понял, что значит – любить всех людей, как братьев, что значит – служить всему человечеству, что скрывается за разговорами о милосердии и самопожертвовании; говоря короче, я понял, что такое жизнь души. Конечно, после того, как существование наше возвратилось в привычную колею, я стал различать в образе мыслей моего товарища некую ограниченность. Когда энтузиазм не служил ему опорой, в нем пробуждался узколобый святоша; однако я не пытался спорить с его предрассудками; слишком велико было мое почтение к вере, переплавленной в горниле подобной добродетели. Наконец я получил приказ воротиться в монастырь; в то время я слегка приболел; болезнь моя не имела ничего общего с чумой, однако настоятеля эта весть напугала так сильно, что он согласился терпеливо ожидать полного моего выздоровления. Мне было дано позволение оставаться вне монастырских стен столько, сколько потребуется; я решил провести это время с как можно большей пользой. До той поры я не разрывал обет по преимуществу из боязни скандала: не то чтобы я дорожил мнением света, с которым не желал иметь ничего общего; не то чтобы меня волновало уважение монахов, которых сам я не уважал ни в малейшей степени, однако природная твердость характера, глубокая убежденность в том, что всякая клятва священна, а главное, неодолимое почтение к памяти Эброния удерживали меня. Теперь, когда монастырь, можно сказать, сам исторг меня из своих пределов, я счел, что смогу оставить его, не подавая дурного примера и не изменяя собственным убеждениям. Я размышлял о жизни, какую вел в монастыре и какую мог бы продолжать, останься я в его стенах. Я спрашивал себя, может ли выйти из моего монастырского существования что-нибудь великое или полезное. Спиридион желал вести жизнь ученого бенедиктинца, однако для меня жизнь эта, какую он избрал для себя и какой, по всей видимости, желал для своих преемников, сделалась невозможной. Должно быть, первые спутники Спиридиона вселили в его душу мечту об уединенных ученых занятиях, о великих трудах, совершаемых под древними сводами святилища науки людьми сведущими и упорными. Спиридион успел узнать последних замечательных людей, воспитанных в монастыре, и тем не менее, по рассказам очевидцев, перед смертью он окончательно разочаровался в своем создании и не питал иллюзий относительно его будущего. Что же касается меня, то могу сказать о себе – без гордости, ибо имею право хвастать отнюдь не славными свершениями, а всего лишь тяжкими трудами, – что я был последним бенедиктинцем этого века, однако я ясно сознавал, что даже избранная мною роль мирного ученого более мне не подходит. Для покойных ученых занятий потребен покойный ум, а разве мог я сохранять хладнокровие в то время, когда род человеческий переживал грозные потрясения? Я видел государства, пребывающие на грани крушения, видел троны, колеблющиеся словно тростник в бурю, видел народы, просыпающиеся после долгого сна и грозящие отомстить всем своим врагам, видел добрых и злых, вместе стремящихся разорвать цепи, вместе питающих ненависть к прошлому. Я видел, что скоро разодрана будет завеса в храме надвое сверху донизу, как в час воскресения Распятого, и предстанут гневному взору народов, за коих страдал он, все гнусности, творящиеся за церковными стенами. Как же мог я взирать равнодушно на все эти предвестия великого переворота? Как мог я оставаться глух к рокоту людского океана, который грозил сломать плотины и затопить империи? В ожидании катастрофы, свидетелями которой все мы станем очень скоро, последние монахи могут в спешке опустошать винные погреба, дабы, напившись допьяна и наевшись до отвалу, растянуться на нечистой постели и ожидать гибели во хмелю. Но мне подобная участь не мила; мне потребно знать, как и зачем я жил, зачем и как должен умереть. Всесторонне обдумав способы распорядиться обретенной свободой, я понял, что создан исключительно для трудов умственных. Разумеется, в первые годы моего разочарования в католицизме я вынашивал честолюбивые замыслы и предавался дерзким мечтаниям; я намеревался реформировать Церковь куда решительнее, чем Лютер; я желал усовершенствовать протестантизм. Ибо, подобно Лютеру, я был христианином; вскормленный в лоне Церкви, я не мог вообразить себе религию, рожденную вне Церкви. Однако, перестав верить в Христа, сделавшись философом вослед своему веку, я не видел больше возможностей обновить Церковь; все они были уже испробованы и исчерпаны. В отношении свободы принципов я зашел так же далеко, как и прочие, и видел, что, дабы построить что-либо в мире, состоящем из одних руин, надобно предложить разрушителям хоть какой-нибудь план созидания. Я мог бы сделать нечто полезное в области естественных наук и, пожалуй, должен был это сделать, однако перспектива составить себе имя на открытиях такого рода нимало меня не привлекала; более того, я чувствовал, что хочу и могу заниматься только одним – исследованием вопросов философических. Я изучал естественные науки лишь в надежде, что они станут для меня путеводной нитью в лабиринтах метафизики и приведут к познанию Верховного существа. Потерпев неудачу, я разлюбил эти занятия, с самого начала имевшие для меня интерес второстепенный; утрата же каких бы то ни было верований оказалась испытанием столь нелегким, что я не стремился объявлять о нем людям. Да и что значил бы лишний голос в том громком хоре проклятий, который звучал по адресу гибнущей Церкви? Было бы подло бросать камень в установление умирающее, ставшее вдобавок жертвой французской революции, последствия которой, Анжель, скажутся в наших краях куда сильнее и скорее, чем полагают здешние обитатели. Вот почему я столько раз советовал тебе не покидать поста, на котором, возможно, ты в самое ближайшее время сможешь встретить лицом к лицу опасность, достойную отпора. Что же касается меня, то хотя дух у меня уже давно не монашеский, платье я ношу монашеское и никогда его не сброшу. Я принадлежу к этому сословию; не скажу, что оно ничем не хуже других, но оно существует, и чем хуже его репутация, тем важнее людям, к нему принадлежащим, вести себя с достоинством. Если нам придется жить в миру, мы, уверяю тебя, встретим не один иронический или презрительный взгляд; печальным ночным птицам, пятнадцать столетий скрывавшимся за темными и пыльными старыми стенами, нелегко выйти на свет. Сколько ни отращивай волосы, они все равно не спрячут лежащей на нас несмываемой печати нашего сословия – тонзуры; будем же идти по жизни с гордо поднятой головой, не стыдясь этого стигмата, прежде вызывавшего у народов почтение, а теперь пробуждающего в них ненависть. Разумеется, Анжель, нам придется нести наказание за преступления, которых мы не совершали, за пороки, которых мы не знали. Пусть спасается бегством тот, кто чувствует себя виновным; пусть прячет лицо тот, кто заслужил пощечину. Но мы – иное дело; пусть ударят нас по щеке, пусть свяжут нам руки, мы сохраним в уме и в душе память о крестной муке Христа, этого возвышенного философа, чье имя я произношу редко, ибо слишком часто твердят его вокруг меня уста нечистые, я же стараюсь упоминать это славное имя, лишь когда веду речь о вещах серьезнейших, о чувствах глубочайших. Как же мог я с толком распорядиться своей свободой? Я искал ответа на этот вопрос, но не находил его. Конечно, если бы меня влекла светская суета, охота к перемене мест и зрелищ, я бы уехал надолго, а быть может, и навсегда. Я исследовал бы дальние страны, пересек бескрайние моря, познакомился с дикими племенами. Подобные соблазны не раз дразнили меня. Я мечтал вместе с каким-нибудь ученым миссионером покинуть шумные молодые нации и вкусить спокойной жизни среди народов, свято хранящих законы и верованиядревности. В Китае и тем более в Индии открылось бы мне обширное поприще для разысканий и наблюдений. Однако стоило мне вообразить этот замогильный покой, на который я обрек бы себя еще при жизни, как меня охватывало непреодолимое отвращение. Мне не хотелось видеть народы, которые умерли в отношении умственном, которые, точно быки с ярмом, смиряются с законами далеких предков и живут, спеленутые по рукам и ногам, точно египетские мумии. Какой бы страшной, жестокой и кровавой ни оказалась развязка драмы, готовившейся в непосредственной близости от меня, я знал, что это – история, это – вечный круговорот вещей, это – злой рок или воля Провидения, одним словом, это – жизнь, кипящая у моих ног, словно лава. Я скорее согласился бы уподобиться травинке, уносимой этим бурлящим потоком, нежели отыскивать под охладелым пеплом окаменелые останки жизни давно угасшей. Не успел я утвердиться в этих мыслях, как меня посетило новое искушение; теперь я вознамерился броситься в самый водоворот событий, покинуть здешние края, еще не очнувшиеся от дремоты, и отправиться туда, где сверкают молнии и гремит гром. Забыв, что я монах и намерен оставаться монахом до конца своих дней, я почувствовал себя мужчиной, причем мужчиной, полным энергии и страсти; я стал воображать себе жизнь действенную и, наскучив размышлениями, ощутил, словно юный школяр (вернее было бы сказать, словно юный скакун), настоятельную потребность двигаться, растрачивать свои силы. Тщеславие мое принялось дурманить меня лживыми обещаниями. Оно шептало мне, что там, в миру, я, возможно, смогу принести пользу, что философические идеи сделали свое дело и настал момент воплотить их в жизнь; что нынче общество нуждается в высоких чувствах, что скоро для всех людей пробьет час испытания, и тут-то выяснится, что возвышенные сердца столь же необходимы, сколь и редки. Я ошибался. Великие эпохи порождают великих людей; одно великое дело влечет за собой другое. Французская революция, многократно оболганная тупицами, которых она приводит в ужас, и святошами, которых она грозит истребить, ежедневно – хотя ты, Анжель, об этом не подозреваешь – рождает на свет фаланги героев: в здешних крах этих людей осыпают бранью, но наступит день, когда ты станешь с жадностью выискивать их имена в анналах современной истории. Что же до меня, я покину этот мир, так и не узнав до конца разгадку великой революционной загадки, поставившей в тупик множество узколобых гордецов и дерзких умников. Я не рожден для знания. Можно сказать, что жизнь моя представляла собою не что иное, как стремительное скольжение в бездну, куда я ринулся, не успев оглядеться по сторонам и не принеся никакой пользы человечеству, если не считать таковыми мои страдания – крохотную точку на циферблате вечности. Тем не менее, когда я вижу, что сегодня люди совершают еще больше зла во имя будущего, чем совершали мы во имя прошлого, я говорю себе, что все это зло не может не принести много добра; ибо сегодня я верую в Провидение, верую в то, что человечество безотчетно, по наитию исполняет великие и глубокие замыслы Господа. С этим новым приступом честолюбия – последним порывом сердца, которое отказывается взрослеть, стареть и набираться опытности, – совладать мне было нелегко. Меня манила американская революция; французская революция манила меня еще сильнее. Буря заставила пристать к нашему берегу корабль, плывший во Францию. Пока моряки готовили судно к продолжению пути, иные из пассажиров поднялись к пустыни, намереваясь отдохнуть здесь от тягот плавания. То были люди выдающиеся; во всяком случае, мне они показались таковыми, ибо я испытывал страстную потребность услышать свободные речи о последних политических событиях и философическом движении, их породившем. Люди эти были исполнены веры в будущее, веры в самих себя. Они расходились в представлениях о средствах достижения цели, однако нетрудно было понять, что в минуту опасности всякое средство покажется им превосходным. Этот способ решения сложнейших вопросов социальной справедливости был мне приятен и страшен одновременно. Отвага и самоотверженность находили отзвук в моей душе и будили дремлющие в ней чувства; страсть к насилию и безоглядному разрушению, напротив, противоречила моему понятию о справедливости и привычке терпеть страдания. Среди людей этих был юный корсиканец, чьи суровые черты и пронзительный взгляд никогда не изгладятся у меня из памяти. Небрежность его наряда вкупе с величайшей сдержанностью манер, речи энергические и краткие, светлые проницательные глаза, римский профиль, очаровательная неловкость, проистекавшая, кажется, из некоего недоверия к самому себе и готовая при малейшем вызове превратиться в дерзкую отвагу, – все в этом юноше поразило меня, и, хотя он делал вид, будто презирает все современное и почитает лишь спартанскую суровость, я, как мне казалось, угадал страстное его желание броситься в водоворот жизни, где, предчувствовал я, ему суждена блестящая будущность. Не знаю, прав я был или ошибся. Быть может, юноша этот так до сих пор и не сумел прославиться, быть может, напротив, имя его ныне уже у всех на устах, а быть может, он пал на поле боя, подкошенный, словно юный колос задолго до времени жатвы. Если он живет и здравствует, да помогут ему небеса употребить могучие силы на следование строгим принципам, а не на поощрение тщеславных порывов! Старый отшельник не вызвал у него ни малейшего интереса, я же привлек его внимание, хотя был этого куда менее достоин, и мы провели то недолгое время, что было нам отведено судьбой, прогуливаясь по каменистой террасе рядом с пустынью. Он шел быстрым, но неровным шагом, то и дело меняя ритм, подобно морю, к шуму которого он постоянно прислушивался, замирая от восторга, ибо он был равно чувствителен и к поэзии жизни, и к ее действительности. Ум его, казалось, обнимал и небо, и землю, но был больше привержен земле, нежели небу, так что промысел Божий представлялся ему не чем иным, как заступником рода человеческого и его великих судеб. Богом его была воля, идеалом – могущество, жизненною стихией – сила. Я хорошо помню порыв энтузиазма, охвативший его в ту минуту, когда я попытался заговорить с ним о его религиозных убеждениях. – О! – вскричал он живо. – Я не хочу знать никого, кроме Иеговы, ибо это бог силы. Долг, дарование закона на горе Синайской, тайна пророков – все это сводится к одному-единственному – к силе! Все существа алчут силы, ибо без силы нет развития. Всякая вещь хочет существовать, ибо существование есть ее долг. У кого нет сил желать, тому суждено погибнуть; вот судьба всех – от человека без сердца до травинки без почвы. О отец мой! тебя влекут тайны природы, склонись же перед силой! Взгляни окрест: какая страсть к господству, какая воля к сопротивлению! Как алчет лишайник покорить камень! Как обвивает плющ деревья и, не умея пронзить их кору, сжимает ее в гибельном объятии, словно разъяренный аспид! Взгляни, как скребет землю волк, как разрывает снег медведь, прежде чем устроиться на ночлег. Увы! Как же могут люди и народы не идти войной друг на друга? Как может жизнь общественная не быть постоянным столкновением противных воль и нужд, когда вся жизнь природы есть беспрестанная борьба, когда волны морские налетают одна на другую, когда орел камнем бросается на зайца, а ласточка вонзает клюв в дождевого червя, когда иней истачивает мрамор, а снег не тает на солнце? Подними голову; взгляни на эти гранитные глыбы, которые нависают над нами, точно великаны: много столетий подряд они противостоят бешеным порывам ветра! Чего ищут эти каменные боги, против которых бессилен сам Эол? Отчего Атласские горы не рушатся под тяжестью материи? Отчего свершаются циклопические труды в бездонных недрах вулкана, отчего извергает он наружу кипящую лаву? Оттого, что всякая вещь ищет занять свое место и заполнить как можно большее пространство; оттого, что потребна огромная внешняя сила, дабы оторвать крупицу гранита от этих скал; оттого, что всякое существо и всякий предмет несут в себе зародыши своего рождения и смерти; оттого, что весь Божий мир есть не что иное, как зрелище великой битвы, и порядок в пространстве и времени зиждется исключительно на борьбе – борьбе всеобщей и бесконечной. Будем же трудиться, о смертные, во имя собственного нашего существования! О человек! Переделывай свое общество, если оно дурно; бери пример с трудолюбивого бобра, строящего себе дом. Охраняй свое общество, если оно хорошо; бери пример с рифа, умеющего устоять под натиском хищных волн; ведь если ты опустишь руки, если положишься на волю вздорного случая и не позаботишься о своем будущем, если покоришься игу и не станешь бороться за собственную свободу, ты умрешь в пустыне, подобно роптавшим сынам Израилевым. Если предашься трусости, если согласишься терпеть беды знакомые, дабы избежать тех, каких еще не знаешь, если станешь терпеть жажду, потому что не веришь роднику в горах и жезлу пророка, по заслугам покинет тебя небо, захлестнет тебя море равнодушной волной. Да, и еще раз да, лень и равнодушие – вот величайшее зло, кое способен сотворить человек, вот величайшее кощунство, коим способен он себя запятнать. Грех тем, кто именует священным словом «смирение» сию трусливую и беспечную покорность, тем, кто славит человека за то, что он безропотно сносит наглость и деспотизм других людей; будь проклята та дорога, которой ведут человечество эти ложные пророки! Так говорил он, а морской ветер раздувал его длинные темные волосы. Не стану и пытаться передать тебе силу и сжатость его речей; мне это не удастся; в памяти моей осталась лишь суть его идей, а перед глазами у меня долго стояло его лицо. Я проводил его; я доплыл с ним в лодке до борта корабля. Когда настал час прощания, он с силой пожал мне руку и спросил: – Что же, поедемте с нами? Сердце мое дрогнуло в ту минуту и забилось так сильно, словно хотело выскочить из груди; оно звало меня последовать за этим юношей, чья энергия тронула неведомые струны моей души. Однако в то же самое время другая, непостижная сторона характера корсиканца приводила меня в ужас, и я выпустил белую его руку, холодную, как мрамор. С вершины прибрежных скал я долго следил глазами за кораблем и видел своего нового знакомца на верхней палубе: он рассматривал в бинокль морские рифы; обо мне он тотчас забыл. Когда корабль исчез за горизонтом, я пожалел, что не сообразил спросить имя корсиканца. И вот я остался в одиночестве; казалось, будто на моих глазах погас последний луч солнца и я погрузился в вечную тьму. Сердце мое сжалось; хотя стоял белый день и солнце палило немилосердно, для меня свет померк. Тут-то пришли мне на память слова из моего сна, и в порыве отчаяния я произнес их вслух: – То, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу! Остаток дня я пребывал в величайшем волнении. Пока путешественники уговаривали меня последовать за ними, я не сомневался, что, отвергая их советы, поступаю правильно; теперь же, когда они уплыли навсегда, мне стало казаться, что отказ мой продиктован не мудростью, но трусостью. Я был подавлен, я пребывал во власти сомнений; свет вокруг меня померк, черная сутана тяготила, словно свинцовый колпак; я опротивел самому себе. Из последних сил добрался я до своего камышового ложа и заснул, мечтая никогда не просыпаться. Впервые за двенадцать лет я увидел во сне аббата Спиридиона. Мне снилось, что он вошел в пустынь, миновал мирно спящего отшельника и спокойно уселся подле меня. Я различал его нечетко, но знал, что вижу и слышу именно его; я узнавал его голос, тот же самый, что и в предыдущих снах, хотя не слышал его уже много лет. Он говорил со мной долго, страстно, и речи его взволновали меня. Проснувшись, я не мог вспомнить ни единого слова, однако мне было ясно, что Спиридион в чем-то упрекал меня, и весь день я томился, словно ребенок, застигнутый врасплох и не сознающий тяжести своего прегрешения. Мысль о Спиридионе не покидала меня, да я и не думал ее прогонять; прежде я опасался, как бы она не оказалась предвестием душевной болезни, теперь же был готов потерять разум при условии, что безумие мое будет не буйным; при моей склонности к меланхолии тихое помрачение ума казалось мне куда привлекательнее трезвого отчаяния. Следующей ночью тот же сон повторился; и в третью ночь Спиридион снова пришел ко мне. Я перестал задаваться вопросом, следует ли считать его посещение результатом мании, завладевшей смятенным разумом, или же сношения между душами живых и мертвых в самом деле возможны. Если не ум, то сердце мое пребывало в покое, ибо с некоторых пор я посвящал все свое время делам милосердия. Я больше не стремился сделаться более просвещенным и более сведущим, теперь мне хотелось стать более честным и более справедливым. Итак, я положился на судьбу. Последняя жертва моя, как ни дорого она мне далась, принесла свои плоды: я уверился в том, что поступил правильно. Не знаю, осуждала ли тень, навещавшая меня с таким постоянством, мои сомнения; главное, что я больше не боялся ее; навсегда порвав с живыми, я почувствовал в себе довольно силы, чтобы пренебречь мнением мертвых. На четвертый день стало известно, что церковное начальство велит мне возвратиться в монастырь. До епископа дошли слухи о моем общении с путешественниками, которые попали в наши края так неожиданно, что ускользнули от его надзора. Высшее духовенство опасалось, как бы я не установил тайных связей с местными мятежниками или с неблагонадежными иностранцами; мне предписывали немедленно вернуться на прежнее место. Я покорился этому приказу с полнейшим безразличием. Тронули меня только сожаления доброго отшельника. Правда, почтение к воле начальства не позволило ему воспротивиться моему уходу или высказать свое недовольство, однако, увидев, что я вот-вот скроюсь среди деревьев, он окликнул меня, обнял, а затем оттолкнул и быстрым шагом направился в свою молельню. Тогда я в свой черед бросился за ним и, впервые за долгие годы преклонив колени перед человеком, да притом перед священником, испросил у него благословения. Мы простились навеки; следующей зимой он умер; ему шел девяностый год, и он был человеком слишком безвестным, чтобы в Риме удосужились причислить его к лику святых. Меж тем мало кто из христиан был этого так достоин. Окрестные крестьяне разрезали на мелкие кусочки его грубое монашеское одеяние и до сих пор носят эти лоскутки ткани у себя на груди вместо ладанок. Контрабандисты, всегда находившие приют в его пустыни, заказали в приходской церкви великолепную службу за упокой его души. Я расстался с отшельником около полудня и берегом моря направился в монастырь; я избрал самую длинную дорогу, ибо знал, что наслаждаюсь свободой в последний раз в жизни; плечи мои сгибались под тяжестью прожитых лет, а сердце щемила печаль. День выдался жаркий; на солнечных склонах скал было уже заметно наступление весны. Дорогу, которою я шел, проложили не люди; ее отвоевали у камней морские волны, и борьба этих двух стихий еще не пришла к концу, о чем свидетельствовали тысячи неровностей почвы. После двухчасового пути под раскаленным солнцем я, выбившись из сил, присел отдохнуть на черном гранитном валуне, омываемом белыми пенистыми волнами. Дикий этот уголок полнился мрачным рокотом моря. Старая полуразрушенная башня, приют буревестников и чаек, грозила обрушиться мне на голову. Камни ее, изъеденные соленой водой, цветом и шероховатостью, не отличались от соседних утесов, так что создание рук человеческих почти полностью сливалось с созданиями природы. Я сравнивал себя с этим покинутым обиталищем, постепенно разрушаемым бурями, и задавался вопросом, обязан ли человек так же ожидать полного своего уничтожения от времени или случая; не имеет ли он права, исполнив все обязанности и принеся все жертвы, приблизить час перехода в мир иной, туда, где ему уготован вечный покой; мысли о самоубийстве смущали мой ум. Волнуемый ими, я поднялся и стал расхаживать по краю валуна; я ходил так стремительно и так неосторожно, что не свалился в море лишь по чистой случайности. Внезапно что-то прошелестело за моей спиной, как будто край чьего-то платья задел за ветви кустарника. Я обернулся, но никого не увидел. Не успел я, однако, сделать и нескольких шагов, как шелест за моей спиной послышался вновь, а на третий раз ледяная рука легла на мой пылающий лоб, и тогда я узнал Духа и сказал, объятый страхом: – Открой мне твою волю, и я исполню ее, если то будет воля родителя и друга, а не фантазия прихотливого призрака; ибо я могу найти защиту от всего, и даже от твоих приказов, в смерти. Ответа я не услышал, но ледяная рука отпустила мой лоб, а взглянув вперед, я увидел в некотором отдалении аббата Спиридиона в старинном платье – точно таком же, в каком он предстал мне у смертного ложа Фульгенция. Спиридион стремительно удалялся по длинной огненной полосе, зажженной в море солнечными лучами. Дойдя до горизонта, он обернулся, сам сияя, словно солнце, и одной рукой указал мне на небо, а другой – на дорогу, ведущую в монастырь. Затем он исчез, а я продолжил свой путь, исполненный радости и восторга. Пускай я лишился ума, зато меня посетило видение величавое и возвышенное». – Отец Алексей, – перебил я рассказчика, – должно быть, вам было нелегко вновь свыкнуться с монастырской жизнью. «Разумеется, – отвечал он, – жизнь отшельническая больше отвечала моим вкусам, нежели та, какую следовало вести в монастыре; однако это волновало меня очень мало. Не суетного земного счастья я искал; не ребяческое стремление к благополучию двигало мною; единственное, чего я желал, было обретение если не веры в Бога, то, по крайней мере, надежды на него. Сумей я усовершенствовать свою душу так, чтобы она открылась истине, мудрости и добродетели, я почитал бы себя счастливым настолько, насколько может быть счастлив человек на этой земле; но увы! – даже принеся последнюю, громадную жертву, я не избавился от сомнений. Правда, я вел теперь жизнь более добродетельную, чем в ту пору, когда покинул монастырь. Устав возделывать бесплодное поле чистого ума или, вернее сказать, осознав, как велики те просторы души, которые ложная философия желает свести к холодным метафизическим спекуляциям, я ощущал суетность всего, что прежде пленяло меня, и мечтал о мудрости, которая сделала бы меня лучше и чище. Самоотвержение возвратило мне способность быть милосердным; дружба научила сердечной нежности; поэзия и искусство внушили предчувствие жизни вечной; Спиридион, мой добрый гений, возвратил веру и энтузиазм; однако я сделал еще не все необходимое; оставалось исполнить свой долг, но прежде надобно было понять, в чем он заключается. Заботу о нескольких больных, которым я облегчил физические страдания, я не мог поставить себе в заслугу: я помог им походя, Провидение же вознаградило меня за это сторицею, даровав мне дружбу двух возвышенных душ – отшельника на земле и Эброния на небе. Итак, возвратившись в монастырь, я занялся поисками своего предназначения. Порой я по-прежнему испытывал недоверие к тому, что в другое время назвал бы наваждением, фантазиями ума, склонного к вере в чудеса; я спрашивал себя, какую пользу может принести монах, затворившийся в стенах монастыря, в наш век, когда великие труды монастырских эрудитов прошлых столетий уже принесли свои плоды и все сокровища, прежде скрытые от людских глаз, явлены роду человеческому для его обучения и просвещения; в наш век, когда – и это куда более важно! – религия перестала нуждаться в монастырском уединении, а люди перестали нуждаться в религии. Что же могу я сделать для настоящего, если сам прикован к прошлому? Как могу идти и показывать дорогу другим, если сам связан по рукам и ногам? Вот великий, единственный поистине великий вопрос, какой поставила перед мною жизнь. Разрешению его посвятил я свои последние годы; не скрою от тебя, бедный мой Анжель, что ответа я не нашел. Мне осталось одно – с грустью признать, что больше я ни на что не способен, и смириться со своей участью. О дитя мое! До сих пор я не предпринимал ничего, чтобы разрушить в тебе католическую веру. Я не сторонник обучения чересчур стремительного. Не стоит спешить с разрушением идей твердо усвоенных, если на их место хочешь поставить идеи новые, неизведанные; не стоит торопиться низвергнуть юный ум в бездну сомнения. Сомнение есть необходимое зло. Можно даже сказать, что оно есть великое добро и что сомнение человека страждущего, смиренного, нетерпеливо алчущего обрести веру есть одно из величайших достоинств прямой души перед Господом. Да, разумеется, человек, закосневший в безразличии к истине, подл, человек, находящий отраду в циническом отрицании, безумен или порочен, но тот, кто плачет над собственным невежеством, достоин почтения, а тот, кто для борьбы с невежеством не жалеет ни времени, ни сил, велик, даже если труды его не принесли еще плода. Однако для того, чтобы пересечь бурное море сомнения и не пойти ко дну, потребны могучая душа или зрелый разум. Многие юные умы отважились пуститься вплавь по этому морю и, не имея компаса, навсегда сгинули в пучине, стали добычей подводных чудищ, жертвой страстей, ничем не сдерживаемых. Расставаясь с тобою, я вверяю тебя Провидению. Оно позаботится о физическом и нравственном твоем спасении. Просвещение нашего века, пролившее такой яркий свет на прошлое и бросившее лишь несколько слабых лучей в будущее, придет тебе на помощь даже под этими темными сводами. Встреть его без страха, но не пленяйся им сверх меры. В порыве отвращения или гнева люди могут разрушить свой дом очень быстро, но отстроить его заново так же быстро им не удастся. Будь уверен, что жилище, которое они предложат тебе, окажется тебе не по росту. Построй же свой дом сам, и пусть он укроет тебя от бурь. У меня нет для тебя иных наставлений, кроме истории моей жизни. Я хотел преподать тебе этот урок чуть позже, но время идет быстро, события свершаются стремительно. Я умру, и, если тридцать лет страданий принесли мне хотя бы несколько чистых истин, я хочу завещать их тебе: распорядись ими согласно велениям своей совести. Я сказал тебе, и не удивляйся спокойствию, с каким я это повторяю, что жизнь моя представляла собою долгое противоборство веры и отчаяния; окончится она в печали и смирении. Однако это – удел моей бренной оболочки, душа же моя полна надежды на жизнь вечную. Не смущайся тем, что видел меня во власти великих сомнений; это также должно послужить тебе уроком. Помни, что человеческий разум и сознание человеческое не созданы для отчаяния, ибо, какую бы власть ни имели надо мною софизмы гордыни, доводы безверия, горести уныния, тревоги страха, в преддверии смерти я вновь питаю надежду. Надежда, сын мой, есть вера нашего века. Но продолжу свой рассказ. Я возвратился в монастырь в состоянии крайнего возбуждения. Не успел я, однако, переступить порог обители, как эти ледяные своды, под которыми я по доброй воле решился погрести себя вторично, легли мне на плечи исполинским грузом. Когда ворота с ужасным грохотом захлопнулись за мной, эхо, словно очнувшись, повторило этот мрачный звук на тысячи ладов. Этот похоронный марш ужаснул меня невыразимо, и, повернув назад, я бросился к роковым воротам. Будь они приоткрыты, полагаю, я бежал бы из монастыря навсегда. Привратник осведомился, не забыл ли я чего-нибудь за воротами. – Да, – отвечал я в смятении. – Я забыл там свою жизнь. Я надеялся найти утешение в саду и устремился туда, не успев даже явиться к настоятелю. Там, где некогда красовались мои клумбы, теперь не росло ни единого цветочка; все заполонил огород; беседки мои были разрушены начисто, прекрасные растения вырваны с корнем, от прошлого остались одни пальмы, которые, страдая от жажды, грустно клонили головы долу, словно пытаясь отыскать на перекопанной земле следы трав и цветов, произраставших некогда в их сени. Я возвратился в свою келью; здесь все оставалось точно таким же, как в день моего ухода из монастыря, но пробуждало в моей душе воспоминания самые тягостные. Я пошел к настоятелю; по выражению моего лица он тотчас заметил, как сильно я опечален, и не скрыл оскорбительной радости победителя. Презрение, переполнявшее мою душу, помогло мне собраться с силами, и, хотя беседа наша, по видимости, касалась лишь предметов самых общих, я в немногих словах дал ему понять, что не заблуждаюсь относительно дистанции, которая отделяет его, хранящего верность монастырскому уставу исключительно из низкой корысти, от меня, возвратившегося под ярмо из благородного самоотречения. Несколько дней я был для монахов предметом подлого и недоброго любопытства. Убежденные, что я вернулся в монастырь исключительно из страха наказания, они радовались, предвкушая мои страдания. Я не доставил им ожидаемого удовольствия: ни единого вздоха не вырвалось в их присутствии из моей груди, ни единого роптания не сорвалось с губ. Я не показал им своих чувств; один я знаю, чего мне это стоило. От восторга, который вселило в мою душу чудесное видение, явившееся мне на берегу моря, очень скоро не осталось и следа, ибо, вопреки моим надеждам, видение не повторялось; поэтому, очутившись лицом к лицу с печальной действительностью, я вновь уверился в том, что видения эти были лишь плодами временного умопомрачения и что мне следует трезво отдавать себе в этом отчет до конца своих дней. В другую эпоху подобные видения могли бы сделать из меня святого; но в наш век я был вынужден скрывать их как признак слабости или болезни; они вдохновляли меня только на унизительные раздумья о странной нищете человеческого ума. Впрочем, размышления мои приводили меня и к другим выводам: я говорил себе, что, раз природа души загадочна, способности ее загадочны в не меньшей степени; не подлежит сомнению справедливость одного из двух утверждений: либо ум мой временами обретал способность оживлять в моем воображении то, что смерть сделала достоянием прошлого; либо тот, кого сразила смерть, обладал способностью оживать для общения со мной. Между тем в сфере идей подобные способности испокон веков считаются делом совершенно обыкновенным. Никому и в голову не придет им удивляться. Разве можно поверить, что шедевры науки и искусства, приводящие в трепет наши сердца и исторгающие у нас слезы, суть творения мертвецов? Разве смерть истребляет память о великом человеке? Разве по прошествии времени не начинает эта память блистать еще ярче прежнего? Разве в умах и сердцах потомков занимает она место наравне с прочими воспоминаниями? Нет, эта память особая, живая, никогда не перестающая излучать свет и тепло. Разве Платон и Христос не присутствуют среди нас вот уже много столетий? Они думают и чувствуют через посредство миллионов душ, действуют через посредство миллионов тел. Да и что такое, в сущности, само воспоминание? Разве не вправе мы назвать его величественным воскрешением людей и событий, достойных избежать гибели в пучине забвения? И разве воскрешение это не свидетельствует о могуществе прошлого, являющегося на встречу с настоящим, и о могуществе настоящего, отправляющегося на свидание с прошлым? Философам-материалистам угодно было утверждать, что смерть истребляет все живое и мертвецы оказывают на нас лишь то влияние, каким мы наделяем их из приязни или подражания. Однако в согласии с ходом мысли более передовым следует возвратить прославленным людям бессмертие более полное и объединить усилия мертвых и живых, связанных в веках узами нерушимыми. Лишив нас не только доступа на небо, но и бессмертия на земле, философы заплатили слишком большую дань небытию. А между тем бессмертие на земле существует столь несомнительно, что кажется, будто мертвые воскресают в живых; что до меня, я верую, свято верую в бесконечную преемственность душ – преемственность, которая подчиняется не законам материи, но иным, таинственным законам, зависит не от уз крови, но от иных, невидимых уз. Порой мне случалось задаваться вопросом, не являюсь ли я сам Эбронием, но Эбронием, преображенным в соответствии с наступившим новым веком. Однако поскольку мысль эта была чересчур дерзкой, чтобы оказаться полностью правдивой, я говорил себе, что Эброний мог сделаться мною, не переставая быть самим собой, так же как в мире физическом человек, повторяющий предков статью, чертами и наклонностями, воскрешает их в своем облике, оставаясь при этом существом самостоятельным. Из чего я сделал вывод, что в мире существует два бессмертия, оба материальные и нематериальные разом: одно, принадлежащее земному миру, сберегает для человечества наши идеи и чувства посредством наших творений и свершений; другое, принадлежащее миру небесному, даруется нам по нашим заслугам и мукам и сообщает нам чудесную власть над людьми и вещами в мире земном. Теория эта позволяла мне, не греша самодовольством, признать, что Спиридион живет разом и во мне, и надо мной; во мне – как человек, хранивший при жизни верность долгу и питавший любовь к истине; надо мной – как человек, в награду и утешение за земные муки обращенный в некое божество. Погруженный в эти мысли, я нечувствительно забывал внешний мир, звуки которого так волновали меня в то недолгое время, когда я имел возможность их слышать. Неистовые порывы, пробудившиеся во мне под влиянием этого мира, утихли, и я сказал себе, что, если одни призваны улучшать устройство общества с помощью героических поступков, другим суждено искать решение великих проблем, подспудно волнующих человечество, с помощью уединенных размышлений. Ведь люди, взявшиеся за оружие, пролагали дорогу в новый мир, еще не освещенный ни одним лучом солнца. Они сражались в потемках, отстаивая для начала свое священное право на свободу. Однако я знал, что после того, как они уяснят и защитят свои права, им придется вспомнить о долге, до которого в продолжение бурной ночи, когда они нередко поражали братьев вместо врагов, им не было никакого дела. Причиной такого грандиозного переворота, как французская революция, не могла быть одна лишь потребность бедняков в хлебе и крове; несмотря на все, что свершилось во Франции, и все, чего там свершить не удалось, я убежден, что революция эта преследовала цели гораздо более высокие. Она должна была не только даровать народу заслуженное благополучие, она должна была довершить начатое до нее и даровать всему роду человеческому полную свободу совести, свободу мысли и веры, и, что бы ни случилось, она – не сомневайся в этом, сын мой, – исполнит свой долг. Но какое употребление приищут люди новообретенной свободе? Какое понятие будут они иметь о своем долге, если обратятся в отважных солдат, которые только и знают, что днем и ночью с оружием в руках отстаивать свои права? Увы! Всякий солдат, павший на поле боя, в последний час устремляет глаза к небу и спрашивает себя, за что он сражался, за что умирает мученической смертью? Вне всякого сомнения, он предчувствует воздаяние; ибо если долг его заключался в том, чтобы отстоять права – свое собственное и своих потомков, то этот долг он исполнил, а всякий, кто исполнил свой долг, достоин воздаяния; однако солдат ясно видит, что воздаяние он получит не на этом свете, ибо своим правом он воспользоваться не успел. Быть может, им воспользуются, в полной мере и к вящей радости, грядущие поколения, которые будут жить на земле в эпоху, когда люди придут к обоюдному согласию относительно своих обязанностей; однако довольно ли будет этого для счастья человека? Если тело мое не будет знать нужды, а свобода будет ограждена от вражеских посягательств, успокоит ли, насытит ли это мою душу, терзаемую жаждой бесконечности? Какой бы мирной и сладостной ни сделалась жизнь на этом свете, сумеет ли она удовлетворить потребности человеческие; как бы широко ни раскинулась земля, не будут ли ее просторы тесны для человеческих мыслей? О, не отвечайте мне на этот вопрос утвердительно, я все равно вам не поверю. Я слишком хорошо знаю, что такое жизнь, сведенная к удовлетворению нужд эгоистических; я слишком хорошо знаю, что такое думы о будущем без надежды на жизнь вечную! В бытность мою монахом я жил, не ведая опасностей и лишений, но меня терзала скука – ложка дегтя, отнимавшая вкус у любой пищи. В бытность мою философом я стремился подчинить все сердечные чувствования власти холодного разума, но меня терзало отчаяние – бездна, стерегущая всякого, кто доверяется одной лишь мысли. О, не говорите мне, что человек познает счастье, когда подле него не останется ни государей, принуждающих его к тяжкому труду, ни священников, грозящих ему загробными муками. Разумеется, ни тираны, ни фанатики ему не нужны, но ему потребна религия, ибо у него есть душа, а значит, он нуждается в Боге. Вот почему, следя с величайшим вниманием за политическими событиями, свершавшимися в Европе, и видя, сколь химерическими были мои мимолетные мечтания, сколь неосуществимо было намерение посеять и собрать урожай за столь короткий промежуток времени, сколь далеко отбросили людей действия от их цели нужды сиюминутные и сколь часто, прежде чем сделать шаг вперед, сбиваются эти люди с непроезжего пути то вправо, то влево, – видя все это, я примирялся со своей участью и признавал, что не рожден человеком действия. Конечно, я ощущал в своей груди страсть творить добро, упорство и энергию, но жизнь свою я провел в размышлениях; я слишком пристально всматривался в судьбы всего человечества в целом, чтобы начать прокладывать дорогу в чащобе умов человеческих. Я с сочувствием и уважением взирал на бесстрашных первопроходцев, которые, решившись возделывать нераспаханную землю, двигают горы, рушат скалы и, залитые кровью, не страшась ни терний, ни пропастей, поражают с равным хладнокровием и грозного льва, и пугливую лань. Им приходится отвоевывать землю у кровожадных племен, насаждать правила человеческого общежития среди особей, руководствующихся одними лишь слепыми инстинктами физическими. Им все дозволено, ибо все необходимо. Альпийский стрелок убивает не только грифа, но и ягненка, которого тот несет в когтях. Бедствия частных людей раздирают душу наблюдателю; однако бедствия эти неизбежны, ибо их требует благо всеобщее. В злоупотреблениях и крайностях войны не виновато ни дело, за которое бьются воины, ни воля их полководцев. Изображая великую битву, художник непременно рисует на заднем плане ужасные детали, которые производят на нас впечатление тягостное. Замки и храмы рушатся, охваченные огнем; дети и женщины гибнут, раздавленные копытами лошадей; храбрый боец испускает дух среди скал, орошая их своей кровью. Между тем на переднем плане мы видим фалангу победителей; они торжествуют, и пролитая кровь нисколько не умаляет их славы; с ними Бог воинств, и чело их сияет оттого, что дело их – святое и правое. Так думал я о людях, за которыми отказался последовать. Я восхищался ими, но понимал, что не смог бы подражать им, ибо слишком различна наша природа. Они могли действовать, как не мог действовать я, но я мог мыслить, как не могли мыслить они. Ими владела героическая, хотя и романическая, убежденность в том, что цель близка и что, пролив еще немного крови, они окажутся в царстве справедливости и добродетели. Они заблуждались; равнинные туманы и дым сражений заслоняли от их взоров то, что хорошо различал я, пребывавший на вершине горы; однако если бы не это святое заблуждение, у них недостало бы сил сдвинуть с места весь мир и помочь ему освободиться от пут, его связывавших! Дабы человечество шло вперед по воле Провидения, каждому поколению потребны люди двух родов: одни живут надеждой, верой, иллюзией, и труды их не знают завершения; другие живут предусмотрительностью, терпением, определенностью, и труды их клонятся к завершению того, чего не закончили первые, пусть даже дело это кажется бесплодным и безнадежным. Одни суть матросы, другие – кормчие; одни пускаются в плавание и, смотря по тому, в какую сторону дует ветер судьбы, либо огибают рифы, либо разбиваются насмерть; другие видят рифы и возвещают о них; но, что бы ни случилось с теми и другими, корабль плывет, ибо человечество не может ни погибнуть, ни прервать вечное свое движение. Итак, я был слишком стар, чтобы жить в настоящем, и слишком молод, чтобы жить в прошедшем. Я сделал выбор, я возвратился к ученым трудам и философическим размышлениям. Я начал все сначала, ибо имел основания считать неудавшимся все сделанное прежде. Я перечел с холодным терпением все те книги, какие прежде поглощал с неистовой жадностью. Я снова дерзнул исследовать землю и небо, творение и Творца, я вознамерился отыскать разгадку жизни и смерти, обратить сомнения в веру, возвратиться на развалины тех построек, которые сам же и разрушил, и возвести их на новых основаниях. Одним словом, я с тем же упорством стремился вернуть Божеству его возвышенную тайну, с каким прежде старался его этой тайны лишить. Именно тогда понял я, как легко разрушать и – увы! – как трудно строить. Одного дня довольно, чтобы уничтожить то, что созидалось в течение столетий. Движимый сомнением и отрицанием, я летел вперед семимильными шагами; возжаждав обрести толику веры, я предпринял труды, на которые ушли годы, и какие годы! Годы, полные тягот, колебаний и печалей! Каждый день их был полит слезами, каждый час наполнен борениями. Анжель, Анжель, несчастнейший из смертных есть тот, кто, взявшись за дело исполинское, поняв его величие и важность, забыв из-за него покой и сон, ощущает, что изнемог в пути и что силы его на исходе. Злополучнейший из сынов человеческих есть тот, кто возмечтал о премудрости, уму его недоступной! Прискорбнейшая из участей есть участь поколения, которое в муках и тревогах тщится добыть знания, скрытые от человеческих взоров вплоть до лучших времен! На зыбучих песках желал я воздвигнуть святилище нерушимое; однако недостало мне ни кирпичей, ни фундамента. Век мой имел понятия ложные, обладал познаниями неполными, выносил о прошлом и о настоящем суждения ошибочные. Я знал это, хотя изучал историю людей и Божьего мира по книгам, слывшим безупречными; я знал это, ибо, на беду, всемогущая логика души моей всякую минуту опровергала логику этих книг. О если бы мог я перенестись на крыльях мысли к источнику всех человеческих знаний, исследовать всю поверхность земного шара и все его недра, угадать далекое прошлое земли по тому праху, коему служит она гигантской усыпальницей, и по тем руинам, в коих погребли бесчисленные поколения память о своей жизни! Но мне приходилось удовлетворяться наблюдениями и предположениями ученых и путешественников несведущих, высокомерных и легкомысленных. Порой, движимый жаждой познания, я принимал решение сделаться миссионером, дабы самолично исследовать славные руины, чей язык остался непонятым, самолично извлечь из-под спуда неведомые сокровища, чьи тайны остались нераскрытыми. Но я был стар; здоровье мое, ненадолго поправившееся благодаря свежему горному воздуху, вновь ухудшилось из-за монастырской сырости и ночных бдений над книгами. И то сказать, как много времени потребовалось бы мне для того, чтобы приподнять хотя бы уголок той завесы, что скрывает тайну мироздания! Вдобавок мелочи – не моя стихия; упорный труд людей дотошных и прилежных восхищает меня, но сам я создан для другого. Я знал, что человеком действия мне не быть ни в политике, ни в науке; мне пристали рассуждения более общего и более возвышенного порядка; я желал возводить постройки гигантские, желал выстроить на основе всевозможных сочинений и всевозможных штудий просторный портик – вход в науку грядущих веков. Меня влек не анализ, но синтез. Из всего я жаждал извлечь вывод, но вывод не подтасованный и не навязанный извне; даже под страхом смерти я не принял бы того, с чем не согласны мое сердце и мой разум, мои чувства и мой рассудок, и это свойство обрекало меня на вечную муку, ибо жажда истины неутолима, и всякий, кто не может довольствоваться подсказками гордыни, страсти или невежества, обречен страдать беспрерывно. О! – восклицал я нередко, отчего не могу я уподобиться тупому монаху из картезианской обители, отчего не могу, как он, впасть в состояние скотское, отчего не могу, как он, страшиться ада и трудиться, как ломовая лошадь, на монастырском огороде в ожидании того дня, когда останки мои удобрят этот клочок земли? Отчего не могу зарабатывать покой, читая молитвы, а нагуливать аппетит и прогонять докучные мысли, работая мотыгой, отчего не могу умертвить ум свой еще при жизни? Порой мне случалось даже завидовать тем из наших монахов, кто составлял исключение из общего правила и сохранил истинное благочестие. Помнишь отца Амбруаза, который умер в прошлом году, как они выражаются, в святости: он изнурял себя постами и умерщвлял свою плоть не из лицемерия, а по зову сердца. Однажды ночью лампа моя погасла, а я не успел закончить работу и решил попросить огня у кого-нибудь из монахов; дверь в келью Амбруаза была открыта, и я вошел туда бесшумно, ибо предполагал, что хозяин кельи молится, и не хотел ему мешать. Амбруаз, однако, спал, причем лампа светила ему прямо в глаза. Каждую ночь уже сорок лет кряду он укладывался спать при зажженной лампе, ибо боялся заснуть слишком глубоко и хотя бы на минуту опоздать в церковь на службу. Свет, падавший отвесно на его увядшее лицо, подчеркивал губительные последствия добровольной муки. Амбруаз спал не лежа, а полусидя и притом одетым, ибо не хотел тратить ни единой минуты на бесполезную заботу о собственном удобстве. Долго смотрел я на его вытянутое лицо, на черты, обострившиеся от поста духовного даже сильнее, чем от поста телесного, на впалые щеки, напоминавшие тончайший пергамент, на высокий желтый лоб, блестевший так, как будто его натерли воском. Поистине то был не живой человек, а скелет, иссохший вместе с кожей, труп, который люди забыли похоронить, а черви отказались есть, потому что плоть была слишком тоща. Сон его походил не на покой жизни, а на бесчувственность смерти: ни единый вздох не волновал его грудь. Мне стало страшно, ибо передо мной был человек и не живой, и не мертвый; глазам моим предстала жизнь в смерти, нечто, не имеющее ни названия в языке человеческом, ни места в мире Божьем. И вот это-то святой? – думал я. Разумеется, даже первые пустынники не держали более сурового поста, не обращали к Богу более ревностных молитв. И тем не менее я не испытывал к этому святому ни почтения, ни сочувствия; вид его не вызывал в моей душе ничего, кроме ужаса. Разве мог Господь сжалиться над этим смертным, самовольно приближающим свою кончину? А я, человек, разве мог я восхищаться этой бесплодной жизнью, этим ледяным сердцем? Каждую ночь, старик, ты зажигаешь лампу, подобно страннику, спешащему покинуть ночлег до зари, – но кому ты сам указал дорогу в ночи? Кого ты сам направил по верному пути при свете дня? Кому помог тыв своем долгом благочестивом хождении? Земле ты не дал ничего – не оставил наследника физического, не создал плода умственного, ничего не сделал руками, никого не полюбил сердцем. Ты думаешь, что Господь создал землю исключительно ради того, чтобы ты мог очищаться от скверны; ты полагаешь, что исполнишь свой долг перед нею, завещав ей свои кости! О, недаром ты страшишься и трепещешь, готовясь предстать перед Предвечным! Найдешь ли ты в свой последний час слова, которые откроют тебе врата райские? Раскаешься ли хоть на минуту в страшнейшем из преступлений – в том, что ты не любил никого, кроме самого себя? С этим мыслями я вышел бесшумно, не став даже зажигать свою лампу от лампы этого эгоиста; с того дня собственное ничтожество казалось мне предпочтительнее того, в каком коснеют святоши. Душа моя, тщетно искавшая верный путь, пребывала в вечном смятении и вечной тревоге, однако я должен был испить до конца чашу усталости и отчаяния, чтобы согласиться со страшным приговором: я бессилен сделать то, что хотел. Сегодня я не стану лукавить: я знаю, что грешу гордыней. Да, я убежден, что с самого начала был гордецом и остался им по сей день. Всепоглощающая жажда истины – чувство почтенное, однако и ему опасно предаваться сверх всякой меры. Нам надобно напрягать все силы, дабы возделывать поле грядущего; однако когда силы иссякают, надобно смиренно довольствоваться тем немногим, что удалось сделать; надобно уподобиться наивному пахарю и сесть подле борозды, нами проведенной. Небесный друг, являвшийся мне, не раз наставлял меня на сей счет, но я так и не сумел воспользоваться его уроками. Воистину жажда бесконечности сводила меня с ума. Живи я в миру и не питай видов более возвышенных, я алкал бы славы и побед; я брал бы пример с Карла Великого или Александра Македонского, а не с Пифагора или Сократа; я мечтал бы о власти над миром; я сделал бы, возможно, немало зла. Благодарение Богу, жизнь моя подходит к концу, и главное преступление мое состоит в том, что я никому не сделал добра. Воротившись в монастырь, я мечтал продолжить свои ученые занятия с пользою для человечества и написать обширный труд о возвышеннейших вопросах религиозных и философических. Я, однако, не взял в расчет свой возраст, не расчислил своих сил. Мне уже исполнилось пятьдесят, а каждый год моих двадцатипятилетних страданий стоил века; вдобавок мне не хватало для работы сочинений, заслуживающих доверия, поэтому я решил ограничиться закладкою фундамента и набросать план моего труда, дабы мне было что завещать человеку, способному продолжить мои разыскания самостоятельно или с помощью третьих лиц; размышляя об этом, я вспомнил свою юность, тайну, которую завещал мне Фульгенций и которая была завещана ему Спиридионом; я пришел к выводу, что настала пора извлечь рукопись из могилы. Теперь мною двигало не заурядное тщеславие, не холодное любопытство, но и не суеверное покорство: теперь меня вела искренняя потребность расширить круг собственных знаний и принести пользу людям, извлекши из этого документа – по всей вероятности, драгоценного – важные сведения касательно тех проблем, какие я стремился разрешить. Мне казалось, что мой долг заключается в том, чтобы рано или поздно обнародовать таинственную рукопись, ибо, как бы ни относился я к тем странным узам, какие связывали мой дух с духом Эброния, я продолжал быть уверенным в величии этого человека. Итак, однажды ночью я в третий раз за двадцать пять лет предпринял попытку добыть рукопись из гроба. На сей раз исполнить намеченное мне помешало обстоятельство совершенно заурядное и естественное, однако разбудившее во мне бездну дум. Я вооружился теми же орудиями, что и в прошлый раз. Как ни длинен мой рассказ, ты, надеюсь, не забыл, что случилось в ту давнюю ночь; ты помнишь, что тогда мне пошел тридцать первый год и под действием горячки я стал жертвой ужасного кошмара. Я тоже помнил об этой страшной галлюцинации, но не боялся ее повторения. Есть образы, которые покидают наш мозг навсегда после того, как иные идеи и чувства навсегда покидают нашу душу. С годами я окончательно разорвал те цепи, какими сковывал меня католицизм; цепи эти так тяжелы, так крепки, что на освобождение от них уходит целая жизнь, однако именно по этой причине, однажды освободившись от них, покориться им вновь уже невозможно. Ночь стояла светлая и прохладная; я чувствовал себя довольно бодро; я нарочно выбрал такую ночь, ибо предвидел, что мне предстоит нелегкая физическая работа. И что же! Вообрази, Анжель, как я ни старался, камень Hiс est не только не сдвинулся с места, но даже не пошатнулся. Я провел подле него три часа, подступал к нему с разных сторон, убеждал себя, что его держит на месте лишь его собственная тяжесть, видел даже следы долота, с помощью которого я прошлый раз отвалил этот камень быстро и без всякого труда. Все было тщетно; камень не поддавался. Взмокнув от пота, не помня себя от усталости и огорчения, я вернулся в свою келью и рухнул в постель. Первая неудача меня не обескуражила. Неделю спустя я предпринял вторую попытку; она оказалась ничуть не успешнее первой. Неудачным оказался и третий приступ, на который я решился через месяц; после этого мне пришлось навсегда проститься с надеждой добыть рукопись, ибо в этой бесплодной борьбе с могилой я растратил те немногие физические силы, какие у меня еще оставались. Могила между тем оставалась безгласна, мертвецы были глухи, смерть – неумолима; я выбросил долото и рычаг в садовые заросли и возвратился, покойный и печальный, к этой могиле, не желавшей отдавать скрытые в ней сокровища. Погруженный в раздумья, я сидел на могильной плите до восхода солнца. Утренняя прохлада обратила в лед капли пота, струившиеся по моему телу, и меня разбил паралич; я утратил не только способность двигаться, но и волю; я не услышал колоколов, созывавших к мессе, не обратил ни малейшего внимания на собравшихся в церкви монахов. Я был один во всей Вселенной; между Богом и мною не было никого, кроме этой могилы, которая не желала ни принять меня в свое лоно, ни отпустить на свободу; этот символ всего моего существования поразил меня своею точностью и заворожил мне ум и сердце! Когда меня попытались поднять, выяснилось, что я не могу ни ходить, ни говорить; монахи решили, что мозг мой парализован, как и все остальные члены. Они ошибались; рассудок не отказал мне ни на мгновение за все время болезни, последовавшей за этим происшествием. Разумеется, все объясняли его чистой случайностью; об истинных причинах никто не догадался. На смену смертному холоду пришел горячечный жар; я страдал сильно и долго, но бредовые видения меня не посещали; у меня хватало даже сил не показывать, насколько тяжело я болен, чтобы за мной не ходили больше, чем мне того хотелось, и почаще оставляли меня одного. В те часы, когда келью мою освещали лучи солнца, болезнь отступала; меня посещали мысли более спокойные и радостные, зато ночью неизбывная печаль завладевала мною безраздельно. Для деятельных умов бездействие невыносимо; скука, худшая из мук, какие влечет за собою болезнь, терзала меня немилосердно. Вид моей кельи мне опротивел. Стены ее, вызывавшие у меня в памяти все порывы энтузиазма и приступы уныния, какие я испытал в тщетном стремлении к истине; постель, на которой я так часто метался в жару и потерял здоровье в борениях со смертью; книги, которые я читал без пользы, астролябии и телескопы, служившие лишь для исследования бездушной материи, – все это пробуждало во мне угрюмую ярость. К чему жить человеку, который пережил самого себя? – думал я. К чему жить человеку, который ничего не сделал? О безумец, ты хотел осветить грядущее лучом своего ума, но не нашел в себе сил сдвинуть могильный камень и узнать, что написано в спрятанной под ним рукописи! О несчастный, пока ты был юн и пылок, ты стремился охладить свой ум и сердце, а теперь, когда близится смерть, ум и сердце твои вздумали воспылать! Умри же, раз тебе изменили разом и голова, и руки; ибо если сердце твое еще дерзает жить и гореть любовью к идеалу, этот божественный пламень сумеет лишь сжечь дотла твое нутро и осветить безжалостным светом твое бессилие и ничтожество. Мысли эти заставляли меня ворочаться на моем жалком одре и проливать слезы ярости. Внезапно чистый голос нарушил ночную тишину: – Неужто ты полагаешь, что тебе не в чем покаяться, – тебе, дерзающему жаловаться так горько? – спросил меня этот голос. – Кого винишь ты в своих несчастьях? Не ты ли сам свой единственный, свой заклятый враг? Кто наградил тебя преступной гордыней, кто внушил тебе бесконечную, слепую любовь к самому себе, кто заворожил мыслью, будто наука приблизит тебя к идеалу, кто заставил искать этот идеал исключительно в глубинах собственного ума? – Ты лжешь! – вскричал я гневно, не успев даже задуматься о том, кто может задавать мне такие вопросы. – Ты лжешь! Я всегда ненавидел себя; я всегда был скучен, противен, мерзок себе самому. Я искал идеал повсюду, как ищет олень жарким днем прохладный водоем; меня снедала жажда идеала, и если я не нашел его… – То виной тому идеал, не так ли? – перебил меня тот же голос с холодным участием. – Господь Бог обязан предстать перед людским судом и открыть тайну, какой он дерзнул окутать участь человека и к какой человек соблаговолил проявить интерес, – и это, по-вашему, не называется гордыней? – По-вашему? – переспросил я с удивлением. – Но кто ты сам, взирающий с такой жалостью на род человеческий и, по всей вероятности, почитающий себя свободным от его слабостей? – Я тот, – отвечал голос, – кого ты не хочешь знать, ибо ты всегда искал меня там, где меня нет. При этих словах пот прошиб меня, а сердце едва не выскочило из груди, и, приподнявшись на постели, я спросил его: – Неужели ты тот, кто спит под камнем? – Ты искал меня под камнем, – отвечал он, – и камень не поддался тебе. Разве ты не знаешь, что рука человеческая слабее цемента и мрамора? Зато ум человеческий двигает горами, а любовь способна воскрешать мертвых. – О учитель мой! – вскричал я в исступлении. – Я узнаю тебя. Это твой голос, это твои речи. Будь же благословен ты, кто приходишь ко мне в час скорби. Но где надобно было искать тебя и где найду я тебя на земле? – В сердце своем, – отвечал голос. – Устрой в нем приют для меня. Очисти его, укрась, как украшают дом к приходу дорогого гостя, воскури благовония. А иначе – что сделаю я для тебя? Голос замолк, и тщетно я вопрошал его: ответа мне не было. Я остался один во тьме. Волнение душило меня, и я заплакал. Объятый скорбью, я исследовал всю свою жизнь в сердце своем. Я понял, что жизнь эта в самом деле была не чем иным, как нескончаемой битвой и нескончаемым заблуждением, ибо я всегда желал сделать выбор между разумом и чувством и никогда не имел силы их примирить. Вечно желая опереться на доказательства неопровержимые, на основания рукотворные и вечно находя основания эти ненадежными, я не имел ни гения, который позволил бы мне пренебречь мнениями человеческими, ни могучей уверенности – достояния великих душ, – которая позволила бы мне их исправить. Я не осмелился отвергнуть положения метафизики и геометрии, противоречившие голосу моей совести. Сердцу моему не хватило жара, а мозгу – мощи для того, чтобы сказать науке: «Ты ошибаешься; мы не знаем ничего, нам предстоит долгая учеба. Раз путь, которым мы идем, не приводит нас к Богу, значит, мы сбились с пути; возвратимся в исходную точку и попытаемся отыскать Бога: ибо мы блуждаем впотьмах вдали от него, и сколько бы люди ни убеждали нас, что мы и сами благодаря своей сноровке уже сделались богами, мы чувствуем смертный холод и устремляемся в пустоту, уподобляясь тем небесным светилам, что гаснут, нарушая вечный закон мироздания». С того дня я дал волю самым пылким своим чувствованиям, и тогда свершилось великое чудо. Я старел, но сердце мое, вместо того чтобы охладевать нравственно, оживало и возрождалось; чем сильнее дряхлело тело, тем моложе становилась душа. Как сбрасывают изношенное платье, так я освобождаюсь от животных инстинктов; но чем меньше завишу я от своей телесной оболочки, тем сильнее верю в свое бессмертие. Небесный друг приходил не раз, но не жди от меня подробного рассказа об этих посещениях. Они так же загадочны для меня, как и прежде, и я не пытаюсь разгадать эту загадку, ибо остерегаюсь подвергать случившееся со мной холодному анализу: я слишком хорошо знаю, чем чреват пристальный разбор подобных впечатлений: ум леденеет, а впечатление рассеивается. Хотя в сочинениях, с которыми ты познакомишься после моей кончины, я почел своим долгом изложить нынешнее мое исповедание веры как можно более логично и упорядоченно, все же я позволил себе набросить покрывало поэзии на те часы, когда потемки мира физического рассеивались для меня и, весь во власти энтузиазма и умиления, я входил в прямые сношения с этим высшим духом. Есть вещи сокровенные, которые лучше хранить в тайне и не выставлять на поругание. В бесхитростной истории моей жизни, жизни безвестной и горестной, о Спиридионе не говорится ни слова. Если самого Сократа обвиняли в шарлатанстве и обмане за рассказы об общении с тем, кого он называл своим домашним гением, сколько упреков в фанатизме навлек бы на себя монах вроде меня, дерзни он признаться, что вел беседы с призраком! Я не сделал этого признания и делать его не собираюсь. И тем не менее я запросто мог бы объясниться на сей счет с ученым скромным и добросовестным, который согласился бы без иронии и предрассудков обсуждать чудеса, старые как мир, но ждущие нового объяснения. Где, однако, отыскать в наши дни такого ученого? Сегодня наука спешит отвергнуть все рассказы о явлениях сверхъестественных, ибо ими слишком долго злоупотребляли невежество и ложь. Если политики вынуждены пускать в ход меч, дабы разрешить вопросы социальные, ученые почитают себя обязанными, дабы открыть новые просторы для исследования, без разбора предавать огню и заклинания колдунов, и жития святых. Придет, однако, час, когда все, что должно быть разрушено, исчезнет с лица земли, – тогда люди примутся разыскивать среди развалин прошлого бессмертную истину, которую отличат от заблуждений и домыслов по приметам несомнительным: так некогда Крез понял, что все оракулы лгут, кроме дельфийской Пифии, ибо она непостижимым образом прознала о самых потаенных его деяниях. Быть может, тебе позволено будет увидеть зарю этой новой науки, без помощи которой невозможно объяснить судьбу человечества и постигнуть смысл его истории. Быть может, ты доживешь до времени, когда чудеса, предсказания и предзнаменования древности перестанут казаться всего лишь проделками колдунов или глупыми выдумками священников, измышленными для запугивания паствы. Разве уже теперь наука не дала удовлетворительного объяснения многим явлениям, которые предки наши почитали сверхъестественными? Отчего же не допустить, что иные факты, кажущиеся невероятными и лживыми в наши дни, получат истолкование не менее естественное и убедительное в ту пору, когда наука расширит людские горизонты. Что же до меня, то, хотя я не вижу смысла прибегать к слову «чудо», ибо ежеутренний восход солнца ничуть не менее чудесен, чем явление мертвеца живому, я не пытался пролить свет на эти сложные вопросы: мне недостало времени. Я слышал о Месмере; не знаю, обманщик он или пророк; по рассказам он вызывает у меня недоверие, ибо выводы его слишком смелы, а так называемые свидетельства очевидцев слишком многочисленны для открытия столь недавнего. Я не успел понять, что разумеют они под словом «магнетизм»; исследовать это в должное время и в должном месте надлежит тебе. Я же не мог позволить себе тратить время на разбор этих смелых теорий; более того, я, как мог, боролся против их притягательной силы. Я был обязан исполнить долг куда более очевидный и неотложный – занести на бумагу отдельные фрагменты вечной моей думы, плода бесед с Духом». Тут Алексей на мгновение замолчал и положил руку на книгу, которая была мне прекрасно известна, ибо он нередко справлялся с нею, хотя я, к своему великому изумлению, видел, что все страницы в ней чисты и ни единого слова на них не написано. Поскольку я взглянул на него с изумлением, учитель мой отвечал с улыбкой: – Я не сошел с ума, не бойся; книга эта написана особыми чернилами, и тот, кто знает их состав, прочтет ее без всякого труда. Я счел необходимым прибегнуть к этой предосторожности, дабы не стать жертвою монастырских шпионов. Я научу тебя простому способу, который позволит тебе в назначенный срок сделать невидимые буквы видимыми. Не знаю, сможет ли эта рукопись когда-либо кому-либо принести пользу; до тех пор, пока нужды в ней не возникнет, спрячь ее. В том виде, какой она имеет сейчас, – недописанная, не приведенная в порядок, не завершающаяся никакими выводами, – она недостойна обнародования. Людям нового поколения – тебе ли или кому-то иному – предстоит написать ее заново. Единственное ее достоинство заключается в том, что она содержит честный рассказ о жизни, полной тягот, и бесхитростный набросок нынешнего моего образа мыслей. – Но позволено ли будет мне, отец мой, узнать побольше об этом образе мыслей? – Я обрисую тебе его тремя словами, выражающими всю мою теологию без остатка, – отвечал он, открывая свою книгу на первой странице. – «Верить, надеяться, любить». Если бы католическая церковь могла привести все положения своей доктрины в согласие с этим возвышенным определением трех теологических добродетелей: веры, надежды, милосердия, – она сделалась бы воплощенной мудростью и справедливостью, одним словом, истиной на земле. Но римская церковь нанесла себе последний, роковой удар; она сама подписала себе смертный приговор в тот день, когда изобразила Господа неумолимым, а проклятие вечным. В тот день все благородные сердца отвернулись от нее; католическая философия забыла о любви и сострадании, а теология сделалась простой игрой ума, чередой софизмов, забавой великих умов, тщетно пытающихся заставить молчать голос своего чувства, покровом для ненасытных амбиций, маской для чудовищных несправедливостей… Тут отец Алексей снова замолчал и внимательно посмотрел мне в глаза, желая узнать, какое впечатление произведет на меня этот суровый приговор. Я понял его тревогу и, крепко сжав его руки, сказал твердо и с улыбкой, призванной доказать, как безгранично я ему доверяю: – Значит, отец мой, мы больше не католики? – Не только не католики, – отвечал он громко и уверенно, – но и не протестанты. Но также и не философы вроде Вольтера, Гельвеция или Дидро; и не социалисты вроде Жан-Жака и членов французского Конвента; но в то же самое время мы не язычники и не атеисты! – Но кто же мы такие, отец Алексей? – удивился я. – Ведь вы сами сказали, что у нас есть душа, что Бог существует и что нам потребна религия. – И у нас она есть, – вскричал он, приподнимаясь на постели и простирая исхудавшие руки к небу в порыве энтузиазма. – Наша религия – единственно истинная, единственно всеобъемлющая, единственно достойная Божества. Мы верим в Божество, иными словами, мы знаем его и к нему стремимся; мы надеемся на Божество, иными словами, мы желаем обладать им и ради этого трудимся, не жалея сил; мы любим Божество, иными словами, мы ощущаем его и мысленно им обладаем; сам Бог есть не что иное, как возвышенная троица, слабым отблеском коей и становится наша смертная жизнь. Что у человека вера, то у Бога – наука; что у человека надежда, у Бога – мощь; что у человека милосердие, или, говоря иначе, благочестие, добродетель, трудолюбие, то у Бога – любовь, или, говоря иначе, вечное сотворение, сохранение и совершенствование. Итак, Бог знает нас, зовет и любит; именно Бог открывает нам Бога, именно Бог внушает нам потребность в Боге, именно Бог разжигает в нас любовь к Богу; одно из величайших доказательств бытия Божия обретается в человеке и его инстинктах. Человек постоянно задумывает, лелеет и предпринимает в своей конечной сфере то, что Бог знает, хочет и может в своей сфере, имя которой – бесконечность. Если бы Бог мог перестать быть средоточием ума, мощи и любви, человек низвел бы себя до состояния скотского, и всякий раз, когда человеческий ум отрицает умное Божество, он убивает самого себя. – Но как же, – перебил я его, – быть с теми великими атеистами нашего века, чьи познания и красноречие пользуются такой славой? – Атеистов не существует, – с жаром отвечал отец Алексей, – нет, не существует! Бывает так, что в эпохи философических исканий рождаются на свет люди, которые, наскучив заблуждениями прошлого, решают отыскать новую дорогу к истине. Тогда принимаются они блуждать по тропам неизведанным. Одни, выбившись из сил, усаживаются на земле и предаются отчаянию. Что же такое это отчаяние, как не вопль, который исторгает из их душ любовь к Божеству, скрывающему свой лик от их усталых глаз? Другие с жаром устремляются на штурм всех вершин и с простодушной самоуверенностью полагают, будто достигли цели и выше подняться невозможно. Что же такое эта самоуверенность, что такое это ослепление, как не безудержное, нестерпимое желание поскорее припасть к Божеству? Нет, эти атеисты, справедливо превозносимые за их интеллектуальное величие, суть люди глубоко религиозные, которые стремятся к небу, но в стремлении своем выбиваются из сил или сбиваются с пути. Если же следом за ними увязываются люди низкие и развращенные, которые поминают небытие, случай и грубую природу лишь для того, чтобы оправдать свои постыдные пороки и низменные склонности, то и в этом нетрудно разглядеть еще одно свидетельство Божьего величия. Ибо для того, чтобы избавить себя от стремления к идеалу, от честного труда во славу человеческого достоинства, люди вынуждены обрушивать на этот идеал хулу. Между тем если бы внутренний голос не нарушал подлый покой развратника, тот не отрицал бы с таким пылом существование верховного судии. Взывая к Провидению, природе, законам творения, философы нашего века по-прежнему взывали к Богу истинному, давая ему, однако же, новые имена. У всемирного Провидения или у неисчерпаемой природы философы эти искали защиты от мрачных сект, обрушивавших одна на другую страшные проклятия, от злодеяний инквизиции, от нетерпимости и деспотизма. Когда при виде звездного неба Вольтер толковал о великом часовщике, когда Руссо вел своего ученика на вершину горы, дабы преподать ему первые понятия о Творце при виде восходящего солнца, эти доказательства бытия Божия были, разумеется, неполны и несовершенны сравнительно с теми неопровержимыми, ослепительно яркими доказательствами, какие будут явлены человечеству в будущем, и тем не менее и Вольтер, и Руссо обращались к тому самому Богу, какого славили под разными именами, какому поклонялись в разных формах все поколения рода людского. – Но откуда же мы извлечем эти ослепительно яркие доказательства, – спросил я, – если мы отрицаем откровение, а одним внутренним чувством обойтись не можем? – Мы не отрицаем откровение, – живо отвечал отец Алексей, – а внутренним чувством можем обойтись до определенной степени; мы, однако, подкрепляем его доказательствами другого рода: в том, что касается прошлого, это опыт всего человечества в целом, в том, что касается настоящего, это единение всех чистых душ в поклонении Божеству и красноречивый глас собственного нашего сердца. – Значит, вы принимаете в откровении то, что есть в нем вечно Божественного, – великие представления о Божестве и бессмертии, понятия о добродетели и долге, из них вытекающие? – Человек, – отвечал отец Алексей, – похищает понятия об идеале у самого неба, так что покорение возвышенных истин, пролагающих дорогу к идеалу, есть не что иное, как договор, брак между человеческим умом, который ищет, надеется и просит, и умом Божественным, который тоже ищет – ищет сердце человека, надеется покорить его и соглашается царить в нем. Потому мы признаем наставников, какие бы имена ни были им присвоены. Герои, полубоги, философы, святые или пророки – мы склоняем голову перед всеми этими отцами и учителями человечества. Мы можем почитать в человеке, наделенном возвышенными познаниями и возвышенными добродетелями, прекрасный отблеск света Божественного. О Христос! Придет время, и тебе воздвигнут алтари новые, более достойные тебя, тебе возвратят истинную славу – славу спасителя и сына земной женщины, славу друга человечества и пророка идеала. – И преемника Платона, – добавил я. – Как Платон был преемником других провозвестников, славу которых мы почитаем, дело которых мы продолжаем. Алексей ненадолго замолк, словно желая дать мне время обдумать его слова, а затем вновь заговорил: – Да, мы продолжаем дело этих провозвестников, но мы продолжаем его, оставаясь свободными. Мы имеем право исследовать их учение, комментировать его, обсуждать, даже исправлять; ибо сила гения в них – от Бога непогрешимого, а слабость разума – от природы человеческой. Посему не только дозволено, но и должно, и суждено нам толковать их заветы, продолжать их труды. – Нам, отец мой! – вскричал я с ужасом. – Но по какому же праву? – По праву людей, родившихся позже них. Господу угодно, чтобы мы не останавливались на на мгновение; во все времена по его воле являются на свет пророки; зачем? Чтобы толкать человечество вперед, а не для того, чтобы тащить его за собой; первое – удел людей; второе – участь подлого скота. Когда Иисус приступил к расслабленному, он не сказал ему: «Пади ниц и ползи за мною следом». Он сказал: «Встань и ходи». – Но куда пойдем мы, отец мой? – Мы пойдем в будущее; пойдем, полные памяти о прошлом, пойдем, заполняя настоящее учеными занятиями, сосредоточенными размышлениями и постоянным стремлением к совершенству. Выказывая отвагу и смирение, черпая в созерцании идеала волю и силу, обретая в молитве энтузиазм и веру, мы добьемся того, чего алчем: Бог просветит нас и поможет нам передать наши знания людям… Каждый из нас сделает то, что ему по силам; мои силы, дитя мое, на исходе. Я не сделал того, что мог бы сделать, ибо был воспитан в лоне католицизма. Ты знаешь, ценою каких долгих тягот завоевал я право теперь, у врат могилы, произнести всего два слова: «Я свободен!» – Но зато два эти слова стоят множества других, отец мой! – вскричал я. – Услышанные из ваших уст, они имеют надо мною безраздельную власть, и только из ваших уст я могу слышать их без недоверия и смятения. Быть может, не услышь я от вас этих слов, я всю жизнь коснел бы в заблуждении. Живи я до конца дней в этом монастыре, я, должно быть, изнемог бы под игом фанатизма. Живи я в вихре света, я, пожалуй, уступил бы гибельному влиянию человеческих страстей и соблазнов безбожия. Благодаря вам я утвердился на верном пути. Я надеюсь, что уже никогда не поддамся на обольщения атеизма; я чувствую, что навсегда освободился от оков суеверия. – Пусть даже слова эти, произнесенные мною, – единственное добро, какое сумел я сделать за всю мою жизнь, слова, произнесенные тобою мне в ответ, – награда достойная, – отвечал Алексей растроганно. – Значит, не будет сказано, что я умер, не живши, ведь цель жизни состоит в том, чтобы передать жизнь следующему за тобой. Я всегда полагал, что безбрачие – состояние возвышенное, но совершенно исключительное, ибо влечет за собою обязанности необъятные; я полагаю также, что тот, кто отказывается продолжить свой род в отношении физическом, обязан, по крайней мере, оставить на земле наследников умственных, напитав их своими трудами и познаниями. Посему я благоговею перед плодоносящим целомудрием Христа. В юности, преисполненный гордыни, я возлагал надежды на науку и добродетели, однако прошли годы, я состарился, не довершив ни одного великого дела, и раскаяние овладело мною; я устыдился собственной слабости, ибо не смог возвыситься до состояния, мною избранного. Теперь же я вижу, что не уподоблюсь древу бесплодному. Семя жизни оплодотворило твою душу. У меня есть сын, сын не физический, а духовный, но оттого лишь более драгоценный. Ты – дитя моего ума. – И твоего сердца! – вскричал я, падая перед ним на колени. – Ибо у тебя прекрасное сердце, о отец Алексей, даже более прекрасное, нежели твой ум! И когда ты говоришь: «Я свободен!», – в этих великих словах слышатся мне слова другие: «Я люблю и верую!» – Люблю, верую и надеюсь, – да, именно так! – подхватил он растроганно. – А иначе я не был бы свободен. Зверь в лесной чащобе не ведает над собою закона, и тем не менее он живет в рабстве, ибо не знает цены свободе и не умеет ею пользоваться. Человек, лишенный идеала, есть раб самого себя, своих материальных инстинктов, своих кровожадных помыслов, а это – тираны куда более самовластные, повелители куда более своенравные, нежели все те, кого он низверг, прежде чем преклонился под власть неизбежности. Долго еще мы вели эту беседу. Отец Алексей посвятил меня в великие тайны пифагорейства, платонизма и христианства, относительно которых утверждал, что все они суть одно и то же учение и, несмотря на все изменения, главная мысль их одна, и мысль эта есть абсолютная истина – абсолютная, но не неподвижная, говорил он, в том смысле, что ныне она еще хоронится за плотными покровами и уму человеческому предстоит разорвать их один за другим все до самого последнего, прежде чем она явится ему во всем своем блеске. Он постарался изложить мне все доводы, на коих основывал он свою веру в Бога-Совершенство, как он его называл. Он утверждал, во-первых, что величие и красота мира, подвластного суждениям человеческой науки, свидетельствуют о существовании Творца, чьи атрибуты – порядок, мудрость и всезнание; во-вторых, что тяга людей к жизни общественной, а также то обстоятельство, что люди в обществе испытывают приязнь друг к другу, защищают друг друга и исповедуют одну и ту же религию, свидетельствует о существовании всемирного законодателя, чей атрибут – высшая справедливость; в-третьих, что постоянное стремление человеческого сердца к идеалу свидетельствует о бесконечной любви, которую отец людей щедро изливает на великую людскую семью и которую открывает каждому человеку в святилище его души. Из этого отец Алексей заключал, что человеку надлежит исполнять обязанности троякие. Первая – по отношению к внешней природе: обязанность изучать науки, дабы изменять и усовершенствовать окружающий физический мир. Вторая – по отношению к общественной жизни: обязанность уважать или учреждать установления, свободно принимаемые людской семьей и благоприятствующие ее развитию. Третья – по отношению к жизни внутренней: обязанность совершенствовать себя, памятуя о совершенстве божественном, и постоянно искать для себя и других пути истины, мудрости и добродетели. На эти беседы и наставления ушло у нас едва ли не столько же времени, сколько на рассказ, им предшествовавший. Они продлились несколько дней и поглотили нас обоих до такой степени, что мы с трудом прерывали их даже ради сна. К учителю моему на то время, пока он передавал мне свои знания, возвратилась, кажется, прежняя сила. Читая мне свою книгу и объясняя места не вполне понятные, он забывал о своих страданиях сам и заставлял забыть о них меня. Книга его была произведение странное, исполненное возвышенного величия и величественной простоты. По его собственному признанию, он не успел придать ей логическую форму и создал, подобно Монтеню, ряд «опытов», в которых запечатлел с замечательным простодушием и свои религиозные порывы, и приступы грусти и уныния. «Я почувствовал, – сказал он мне, – что уже не смогу создать для своих современников такой грандиозный труд, о каком мечтал в дни, когда был еще снедаем благородным, но слепым честолюбием. Тогда, согласив мой слог с жалким моим положением, а мои чаяния со слабостью моего организма, я решил открыть на этих страницах все мое сердце без остатка, дабы воспитать ученика, который, поняв вполне желания и потребности души человеческой, употребит свой ум на поиски способов удовлетворить эти желания и потребности, важность которых рано или поздно поймут все люди, даже те, кто сейчас помышляет только о делах политических. Я сам – не что иное, как горестное порождение той эпохи, в какую я явился на свет, и потому могу лишь испускать вопли отчаяния и умолять, чтобы мне возвратили то, что было у меня отнято: веру, догматы, богослужение. Я прекрасно знаю, что время для ответа еще не настало и что я умру вне храма, полный смятения и страха, и сложу к ногам верховного судии только то упорство, с каким я отстаивал мои религиозные чувства от растлевающего влияния века безрелигиозного. Но я не перестаю надеяться, и самое отчаяние рождает во мне новые надежды, ибо чем больше я страдаю от своего невежества, чем больше я страшусь небытия, тем яснее ощущаю, что душа моя имеет священные права на то небесное наследство, коего она алкает неустанно…» Беседа наша длилась уже три ночи, и, несмотря на всю ее притягательность, я внезапно ощутил такой приступ усталости, что уснул прямо подле постели моего учителя, под еле слышный звук его слабеющего голоса, во тьме, ибо лампа погасла, а заря еще не занялась. Не прошло и нескольких мгновений, как я проснулся; с уст Алексея еще слетали некие невнятные звуки: он как будто говорил сам с собой. Я из последних сил боролся со сном, однако разобрать слова было невозможно и усталость взяла свое: я снова заснул, уронив голову на край постели учителя. И вот тут-то, во сне, я услышал голос кроткий и мелодичный, который, казалось, продолжал речи Алексея, и я слушал его слова, не просыпаясь и не понимая их смысла. Наконец мне почудилось, будто волос моих коснулось освежающее дуновение, и голос сказал мне: «Анжель, Анжель, час настал». Я решил, что учитель мой отходит, и, с трудом проснувшись, простер к нему руки. Его руки, однако, были по-прежнему теплыми, а ровное дыхание обличало спокойный сон. Я встал, чтобы зажечь лампу, и вдруг почувствовал, что существо неведомой природы стоит у меня на пути и мешает мне двинуться вперед. Нисколько не испугавшись, я спокойно спросил его: – Кто ты и чего ты хочешь от меня? Ты тот, кого мы любим? Ты хочешь что-то приказать мне? – Анжель, – отвечал голос, – рукопись лежит под камнем, а сердце твоего наставника не успокоится до тех пор, пока ты не исполнишь воли того, кто… Тут голос смолк; теперь в комнате слышалось только слабое, но ровное дыхание Алексея. Я зажег лампу и убедился, что он спит, что мы одни и что все двери закрыты; сомнения и тревога мучили меня. Прошло несколько минут, и я решился: бесшумно выйдя из кельи, я, держа в одной руке лампу, а в другой – стальной брус, отыскавшийся в обсерватории, направился в церковь. Не могу объяснить, откуда взялись у меня, до тех пор столь юного, робкого и суеверного, воля и отвага, потребные для совершения подобного поступка. Знаю только, что ум мой достиг в тот час высшей мощи, – потому ли, что я пребывал во власти странного возбуждения, потому ли, что безотчетно повиновался какой-то высшей силе, вселившейся в меня помимо моей воли. Но вот что не подлежит сомнению: я приступил к камню Hiс est без колебаний и отвалил его без труда. Я спустился в склеп; свинцовый гроб стоял там в нише из черного мрамора. С помощью рычага и ножа я легко приподнял крышку гроба; на груди покойного рука моя нащупала клочки ткани, опутавшие мои пальцы, словно паутина. В том месте, где прежде билось благородное сердце, я без страха ощутил холод костей. Пакет, за которым я пришел, скатился на дно гроба, поскольку истлевший саван больше его не удерживал; я поднял его и, поспешно опустив крышку гроба, возвратился в келью Алексея и положил рукопись ему на колени. Тут голова у меня закружилась, и я едва не лишился чувств; однако воля моя вновь одержала победу; Алексей тем временем уже развернул рукопись рукою твердой и торопливой. – «Hiс estveritas!» – прочел он любимый девиз Спиридиона, служивший эпиграфом к рукописи. – Анжель, что я вижу? Верить ли мне своим глазам? Взгляни, взгляни сам, мне кажется, что я брежу. Я заглянул в рукопись; перед нами был прекрасный манускрипт тринадцатого столетия, писанный с четкостью и изяществом, какими не может похвастать ни одна печатная книга; то был плод ручной работы, смиренного и терпеливого труда некоего безвестного монаха; текст же этой рукописи, как очень скоро убедились мы с Алексеем – я с изумлением, а он с горестным недоумением, – представлял собой не что иное, как Евангелие от Иоанна! – Нас обманули! – сказал Алексей. – Кто-то подменил рукопись. Либо Фульгенций во время похорон своего наставника утратил бдительность, либо Донасьен подслушал наши разговоры и положил на место книги Спиридиона слова Христа, не допускающие возражений и не подлежащие комментированию. – Постойте, отец мой, – воскликнул я, внимательно рассмотрев рукопись, – перед нами памятник весьма редкий и весьма драгоценный. Он писан рукою знаменитого аббата Иоахима Флорского, калабрийского монаха-цистерцианца… Подпись его тому порукой. – Да, – подтвердил Алексей, взяв у меня рукопись и всмотревшись в нее, – это творение того, кого называли человеком в льняных одеждах, того, кого в начале тринадцатого века считали богодухновенным пророком, мессией нового Евангелия! Какое глубокое волнение охватывает меня при виде этих начертаний. О искатель истины, как часто на жизненном пути приходилось мне встречать твой след! Смотри внимательнее, Анжель, ничто не должно ускользнуть от нашего взора; ведь Эброний наверняка недаром положил себе на сердце этот драгоценный манускрипт; видишь ты вот эти буквы, превосходящие все остальные величиной и изяществом? – Вдобавок они писаны другим цветом; быть может, это не единственный отрывок такого рода; давайте искать, отец мой! Мы стали перелистывать Евангелие от Иоанна и отыскали в этом каллиграфическом шедевре аббата Иоахима три отрывка, писанные более крупными и красивыми буквами, чем весь остальной текст; писавший пользовался в каждом из этих трех случаев чернилами разного цвета, словно хотел привлечь особенное внимание читателя к этим важнейшим фрагментам. Первый, писанный лазурными буквами, шел в самом начале Евангелия от Иоанна; то были великолепные слова, его открывающие: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ. ОНО БЫЛО В НАЧАЛЕ У БОГА. ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО НАЧАЛО БЫТЬ, И БЕЗ НЕГО НИЧТО НЕ НАЧАЛО БЫТЬ, ЧТО НАЧАЛО БЫТЬ. В НЕМ БЫЛА ЖИЗНЬ, И ЖИЗНЬ БЫЛА СВЕТ ЧЕЛОВЕКОВ. И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ, И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО. БЫЛ СВЕТ ИСТИННЫЙ, КОТОРЫЙ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИХОДЯЩЕГО В МИР». Второй отрывок был писан пурпурными буквами: «НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ, КОГДА И НЕ НА ГОРЕ СЕЙ, И НЕ В ИЕРУСАЛИМЕ БУДЕТЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОТЦУ. НАСТАНЕТ ВРЕМЯ, И НАСТАЛО УЖЕ, КОГДА ИСТИННЫЕ ПОКЛОННИКИ БУДУТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОТЦУ В ДУХЕ И ИСТИНЕ». И наконец, третий отрывок был писан буквами золотыми: «СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ, ЕДИНОГО ИСТИННОГО БОГА, И ПОСЛАННОГО ТОБОЮ ИИСУСА ХРИСТА». Внимание наше привлек и четвертый фрагмент, писанный, правда, чернилами того же цвета, что и вся остальная рукопись, но несколько более крупными буквами; то была глава десятая; в ней переписчик выделил вот какие слова: «ИИСУС ОТВЕЧАЛ ИМ: МНОГО ДОБРЫХ ДЕЛ ПОКАЗАЛ Я ВАМ ОТ ОТЦА МОЕГО; ЗА КОТОРОЕ ИЗ НИХ ХОТИТЕ ПОБИТЬ МЕНЯ КАМНЯМИ? ИУДЕИ СКАЗАЛИ ЕМУ В ОТВЕТ: НЕ ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО ХОТИМ ПОБИТЬ ТЕБЯ КАМНЯМИ, НО ЗА БОГОХУЛЬСТВО И ЗА ТО, ЧТО, БУДУЧИ ЧЕЛОВЕК, ДЕЛАЕШЬ СЕБЯ БОГОМ. ИИСУС ОТВЕЧАЛ ИМ: НЕ НАПИСАНО ЛИ В ЗАКОНЕ ВАШЕМ: «Я СКАЗАЛ: ВЫ БОГИ»? ЕСЛИ ОН НАЗВАЛ БОГАМИ ТЕХ, К КОТОРЫМ БЫЛО СЛОВО БОЖИЕ, И НЕ МОЖЕТ НАРУШИТЬСЯ ПИСАНИЕ: ТОМУ ЛИ, КОТОРОГО ОТЕЦ ОСВЯТИЛ И ПОСЛАЛ В МИР, ВЫ ГОВОРИТЕ «БОГОХУЛЬСТВУЕШЬ», ПОТОМУ ЧТО Я СКАЗАЛ: «Я СЫН БОЖИЙ»? – Анжель! – воскликнул Алексей. – Как могли слова эти не поразить христиан, когда явилась им идолопоклонническая идея изобразить Иисуса Христа Богом Всемогущим, членом Божественной Троицы? Разве не высказал он сам своего мнения об этой пресловутой Божественности? Разве не отверг он эту идею, усмотрев в ней кощунство? О да, именно это завещал нам сей Божественный человек! Мы все боги, мы все дети Божии, в том смысле, какой вложил апостол Иоанн в начало своего Евангелия: «А тем, которые приняли Его (слово Божие), верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Да, слово есть Бог, откровение есть Бог, ибо оно есть явленная истина божественная, и человек также есть Бог, в том смысле, что он сын Божий и воплощение Божества; однако он есть воплощение конечное, и один только Бог есть Троица бесконечная. Бог был в Иисусе, Слово говорило через Иисуса, но Иисус не был Словом. Однако нам надобно изучить и постигнуть и другие сокровища, Анжель; ведь перед нами не одна рукопись, а целых три. Умерь свое любопытство, Анжель, как я смиряю свое. Будем действовать по порядку и взглянем сначала на вторую рукопись, а уж потом на третью. Порядок, в каком Спиридион расположил три рукописи, должен быть для нас священен; он поможет нам узнать, как развивалась, шла вперед и уточнялась его мысль. Мы развернули вторую рукопись. Она оказалась ничуть не менее драгоценной и не менее любопытной, чем первая. То была книга, в течение многих столетий считавшаяся потерянной, неизвестная поколениям, отделяющим нас от времени ее появления на свет; книга, подвергавшаяся преследованиям Парижского университета, вначале удостоившаяся снисхождения, а затем осужденная и в 1260 году приговоренная папским престолом к сожжению, – то было прославленное «Введение в вечное Евангелие», писанное рукою самого автора, знаменитого Иоанна Пармского, генерала ордена францисканцев и ученика Иоахима Флорского. При виде этого еретического сочинения мы оба, и Алексей и я, невольно вздрогнули. Мы держали в своих руках экземпляр, по всей вероятности, единственный в мире; что суждено нам было узнать из этого сочинения? С изумлением прочли мы краткое его содержание, помещенное на первой странице: «Религия имеет три эпохи, и соответствуют они царствиям трех лиц Троицы. Царствие Отца длилось до тех пор, пока люди исполняли закон Моисеев. Не суждено длиться до скончания века и царствию Сына, иначе говоря, религии христианской. Церемонии и таинства, какие принесла с собою эта религия, не вечны. Настанет время, когда придет им конец, и тогда воцарится религия Святого Духа, и не будет более у людей нужды в таинствах, и станут они поклоняться Верховному Существу в духе своем. Царствие Святого Духа было предсказано апостолом Иоанном, и царствие это придет на смену христианской религии, как христианская религия пришла на смену закону Моисееву». – Как! – вскричал Алексей. – Неужели именно в этом смысле надобно понимать слова, сказанныеИисусом самарянке: «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине». Да, учение вечного Евангелия, учение свободы, равенства и братства, родившееся в ту эпоху, что пролегла между Григорием Седьмым и Лютером, толковало их именно так. Между тем эпоха эта – эпоха великая; именно она, некогда покорившая своему влиянию весь мир, до сих пор оплодотворяет мысль всех великих еретиков, всех гонимых сект. Осужденное, уничтоженное, вечное Евангелие продолжает, однако, жить в умах всех мыслителей, бывших нашими наставниками; искры костра, в котором было сожжено вечное Евангелие, вспыхивают в грядущих поколениях. Виклиф, Ян Гус, Иероним Пражский, Лютер! Все вы вышли из этого костра, все созрели под этим славным пеплом; даже Боссюэ, тайный протестант и последний епископ, и ты, Спиридион, последний апостол, и мы, последние монахи! Но как же думал Спиридион об этом откровении тринадцатого столетия? Неужели ученик Лютера и Боссюэ обратился вспять и поступил в учение к Амори Шартрскому, Иоахиму Флорскому и Иоанну Пармскому? – Откройте третью рукопись, отец мой. Вероятно, в ней найдем мы ключ к двум предыдущим. В самом деле, третья рукопись содержала сочинение аббата Спиридиона, и Алексей, которому нередко случалось видеть среди бумаг Фульгенция священные тексты, переписанные его рукой, тотчас узнал почерк нашего наставника. Сочинение Спиридиона было очень коротко: «Иисус (видение пленительное) явился мне и сказал: «Из четырех Евангелий наиболее божественное, наименее замутненное мимолетными приметами той поры, когда свершал я предназначенное, – Евангелие от Иоанна, того, кто был при распятии моем, того, кому, умирая, сказал я взять к себе мать мою. Сохрани же лишь это Евангелие. Три других, писанных на земле для времени, когда были они писаны, полных угроз и анафем, уловок священнических и уступок закону Моисееву, пусть будут для тебя как небывшие. Отвечай: послушаешься ли ты меня?» И я, Спиридион, слуга Господень, отвечал: «Послушаюсь». Тогда сказал Иисус: «В христианском прошлом своем будешь тогда из школы Иоанновой, будешь иоаннитом». И когда сказал Христос эти слова, простился я с существом моим. Понял я, что умираю. Не был я более христианином; но скоро понял я, что возрождаюсь и христианин больше прежнего. Ибо христианство явлено было мне в откровении, и услышал я голос, шептавший мне на ухо стих из семнадцатой главы Евангелия единственного: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». И сказал тогда Иисус: «Будешь ты собирать в веках всех, кто из школы твоей». И тогда вспомнил я все читанное прежде о школе апостола Иоанна, и те, кого так часто звал я еретиками, представились мне воистину живыми. Иисус же прибавил: «Но сотрешь и вычеркнешь со тщанием все ошибки духа пророческого, дабы сохранилось одно лишь пророчество». Видение исчезло, но я, можно сказать, чуял тайную его жизнь в душе моей. Бросился я к книгам, и первое сочинение, мне попавшееся, было Евангелие от Иоанна, переписанное рукою Иоахима Флорского. Второе было «Введение в вечное Евангелие» Иоанна Пармского. Перечел я Евангелие от Иоанна, благоговея и любя. Прочел я «Введение в вечное Евангелие», мучаясь и стеная. А когда закончил, осталась в уме моем одна только фраза: «Религия имеет три эпохи, и соответствуют они царствиям трех лиц Троицы». Остальное исчезло и вычеркнулось из ума моего. Но эта фраза сверкала перед умственным взором моим, словно яркий маяк, который не погаснет вовеки. Тогда снова явился мне Христос и сказал: «Религия имеет три эпохи, и соответствуют они царствиям трех лиц Троицы». Я отвечал: «Да будет так!» Иисус продолжал: «Христианство имело три эпохи, и эпохи эти истекли». Сказал – и исчез. И прошли передо мной один за другим (видение пленительное) святой Петр, святой Иоанн и святой Павел. За святым Петром стоял великий папа Григорий VII. За святым Иоанном стоял Иоахим Флорский, святой Иоанн века тринадцатого. За святым Павлом стоял Лютер. Тут лишился я чувств». После на бумаге следовал пробел, а за ним той же рукой написаны следующие строки: «Христианство должно было иметь три эпохи, и все три истекли. Три ипостаси имела Божественная Троица, и так же три ипостаси имело понятие человеческого ума о Троице в лоне христианства, и одна сменяла другую. Первая, коей символом святой Петр, приходится на период создания и устроения иерархического Церкви воинствующей; так развивалась она до времени Гильдебранда, святого Петра одиннадцатого столетия; вторая, коей символом святой Иоанн, приходится на период от Абеляра до Лютера; третья, коей символом святой Павел, начинается Лютером и кончается Боссюэ. Это – царствие свободы совести, царствие познания, подобно тому как предшествующий период был царствием любви и чувства, а самый первый – царствием ощущений и деятельности. Тут кончается христианство, и начинается эра новой религии. Не будем же искать абсолютную истину в букве Евангелия, будем искать ее в откровениях, явленных всему человечеству, жившему прежде нас. Учение о Троице есть религия вечная; истинное постижение этого учения есть процесс бесконечный. Быть может, мы вечно проходим через эти три стадии, предаваясь либо деятельности, либо любви, либо науке, кои суть три принципа основополагающие, ибо этими тремя божественными принципами наделен каждый человек, являющийся в мир как сын Божий. И чем лучше сумеем мы объединить эти три стадии и предаться деятельности, любви и науке разом, тем ближе окажемся к совершенству божественному. Люди будущего, в вас осуществится это пророчество, если сможете сказать: с нами Бог. Грядет время нового откровения, новой религии, нового общества, нового человечества. Религия эта отвергнет не дух христианства, но одни лишь формы его. Станет она христианской религии дочерью, а религия христианская станет ей матерью: одна клонится к могиле, другая полна жизни. Новая религия, дщерь Евангелия, не отречется от матери, но продолжит дело ее; то, чего мать не поняла, объяснит ей, то, чего мать не дерзнула свершить, свершит; то, к чему мать лишь приступила, доведет до конца. Вот пророчество истинное, явленное великому Боссюэ в последний его час, под покровом траурным. Божественная Троица, прими и преобрази того, кого озарила ты своим светом, воспламенила своей любовью и создала из собственного существа своего, – слугу твоего Спиридиона». Алексей свернул рукопись и спрятал ее на груди, после чего надолго погрузился в размышления. Лик его был светел и спокоен. Я сидел рядом неподвижно, не сводя глаз с учителя и пытаясь угадать, какие мысли его волнуют. Внезапно крупные слезы покатились по его изборожденным морщинами щекам, словно благодетельный дождь на иссохшую землю. «Я счастлив! – сказал он, обнимая меня. – О жизнь моя! Горестная моя жизнь! Все страдания, все тяготы были не напрасны, раз ценою их купил я этот несказанный миг света, веры и милосердия! Божественное милосердие, наконец-то постиг я твою сущность! Высшая логика, ты не могла меня подвести! Друг Спиридион, ты знал это, ведь ты говорил мне: «Когда полюбишь, поймешь». О пустая моя наука! о бесплодная ученость! Не вы открыли мне истинный смысл Писания! Лишь с тех пор, как познал я дружбу, а с дружбою – милосердие, с милосердием – энтузиазм, плод братства человеческого, – с тех пор стал я способен понимать слово Божие. Анжель, дозволь мне в то недолгое время, что суждено мне провести подле тебя, не расставаться с этими рукописями; но когда меня не станет, не хорони их вместе со мной. Ныне истине не пристало спать во гробе, пора ей действовать при свете солнца и пробуждать сердца людей доброй воли. Ты перечтешь эти Евангелия, дитя мое, и, комментируя их, заново изучишь историю; мозг твой, который я наполнил фактами, текстами и формулами, подобен книге, коя несет в себе жизнь, но того не знает. Так и я тридцать лет обращал собственный мой ум в пергамент. Тот, кто все прочел и все изучил, ничего не поняв, есть худший из невежд; тот же, кто, не умея читать, постиг мудрость божественную, есть величайший ученый на земле. Теперь прощай, дитя мое, тебе пора покинуть монастырь и возвратиться в мир. – Что я слышу? – вскричал я. – Расстаться с вами? Возвратиться в мир? И это говорите вы, именующий себя моим другом? Вы даете мне подобный совет? – Ты видишь сам, – отвечал он, – с нами все кончено. Скажем честно: Спиридион был последним монахом. О несчастный наставник! – воскликнул Алексей, подняв очи к небу. – Ты тоже много страдал, и страдания твои остались неведомы людям. Но Господь простил твои возвышенные заблуждения и в последние земные мгновения даровал тебе пророческий дар, утешивший тебя в твоих горестях; ибо, прозрев в грядущем стремление рода людского к идеалу, великое твое сердце не могло не забыть о собственных страданиях. То же случилось и со мной. Хотя ты посвятил жизнь свою исключительно штудиям богословским, а я изучил науки самые разнообразные, оба мы пришли к одному и тому же выводу: прошлое кончилось и не должно ему стоять на пути у будущего; в падении нашем столько же пользы, сколько в нашем существовании; не следует ни отрекаться от первого, ни проклинать второе. О Спиридион! В монастырской сени, в святилище своих дум ты превзошел своего учителя: ибо Боссюэ умер с криком отчаяния на устах, умер, думая, что Вселенная рушится, а ты упокоился с миром, исполненный Божественной надежды на грядущие судьбы рода человеческого. Да, Спиридион, ты мне дороже, чем Боссюэ, ибо ты не стал проклинать свой век, ты великодушно отрекся от длинной череды иллюзий – почтенных сомнений, возвышенных усилий души, пылающей страстью к совершенству. Будь же благословен, будь восславлен: Царство Небесное принадлежит тем, кто велик умом и прост сердцем». Сказав это, он благословил меня возложением рук, а затем, сделав усилие, чтобы встать с постели, произнес: – Ну что же, ты и сам знаешь, что час настал. – Какой час, – удивился я, – и что намерены вы предпринять? Слова эти нынче ночью уже поразили мой слух, но я полагал, что их не слышал никто, кроме меня. Скажите же мне, учитель, что они значат? – Я также слышал эти слова, – отвечал он, – ибо в то время, когда ты извлекал рукопись из гроба нашего учителя, я вел с ним здесь, в келье, долгую беседу. – Вы видели его? – Я никогда не видел его ночью, взору моему он являлся только днем, в сиянии солнца. Мне никогда не дано было видеть и слышать его одновременно: он приходит ко мне днем, а говорит со мною ночами. Нынче ночью он объяснил мне смысл тех слов, которые мы только что прочли, и не только их; приказывая тебе достать рукопись из гроба, он пекся лишь о твоей душе: он желал, чтобы никогда больше сомнение касательно того, что люди нашего века назвали бы выдумками и бредом, не посещало ее. – Небесный бред этот заставил бы меня возненавидеть разум, сумей этот последний изгладить память о первом из моей души! Но не бойтесь, отец мой, эти священные восторги запомнятся мне навечно! – Теперь пойдем! – сказал Алексей и, внезапно распрямив свою дряхлую спину, с юношеским проворством и легкостью решительно двинулся к двери кельи. – Как! Вы ходите! Неужели вы поправились? – спросил я. – Ведь это чудо! – Единственное чудо – это наша воля, а дарует ее нам Небо, – отвечал Алексей. – Иди за мной, я хочу снова увидеть солнце, пальмы, стены монастыря, могилу Спиридиона и Фульгенция; ребяческая радость владеет мною, душа моя ликует. Я должен поцеловать землю, рождающую страдания и надежды, землю, не напрасно политую нашими слезами, землю, где, устав от тягот, мы недаром преклоняли колени для молитвы. Мы спустились вниз и направились было в сад; однако, проходя мимо трапезной, где как раз собрались все монахи, Алексей на мгновение остановился и бросил на них сочувственный взгляд. Видя перед собою человека, которого они почитали стоящим одной ногой в могиле, монахи пришли в ужас, а один из послушников, прислуживавший им и потому находившийся у самой двери, прошептал: – Мертвые воскресают – дурное предзнаменование. – Да, без сомнения, – подтвердил Алексей, внезапно по какому-то наитию решившийся войти в трапезную. – Предзнаменования дурны; вас ждут великие бедствия. Он говорил громко, с юношеским пылом, и глаза его горели огнем вдохновения: – Братья, встаньте из-за стола, бросьте хлеб, который вы едите, раздерите ваши сутаны, оставьте этот дом, уже сотрясаемый грозой, – а иначе готовьтесь к смерти! Монахи, устрашенные и подавленные, суетливо вскочили, словно ожидая чуда. Настоятель приказал им сесть. – Разве вы не видите, – спросил он, – что этот старец бредит? Анжель, отведите его назад в келью, уложите в постель и не позволяйте ему вставать! Я приказываю вам сделать это. – Брат, ты больше не вправе никому ничего приказывать, – отвечал Алексей спокойно и твердо. – Ты больше не начальник, ты больше не монах, ты никто. Говорю тебе: пора бежать; настал час – и твой, и наш. Монахи вновь засуетились. Донасьен опять успокоил их и, боясь скандала, сказал: – Сидите спокойно, а он пусть говорит; вы сами убедитесь, что речи его – горячечный бред. – О монахи! – отозвался Алексей со вздохом. – Если кому горячка и помутила разум, так это вам самим, – вам, прежде предмету поклонения, ныне же – предмету ненависти; вам, из чьих рядов вышло столько ученых и пророков, коих Церковь подвергла гонениям и отправила на костер, вам, кои постигли дух Евангелия и мужественно попытались хранить ему верность! О последователи вечного Евангелия, духовные отцы великого Амори Шартрского, Давида из Динана, Петра Вальда, Сегарелли, Дульчино, Эона де л\'Этуаля, Петра из Брюи, Лолларда, Виклифа, Яна Гуса, Иеронима Пражского, наконец, Лютера! О монахи, постигшие, что такое равенство, братство, товарищество, милосердие и свобода, монахи, провозгласившие вечные истины, объяснить и осуществить которые предстоит потомкам, – о монахи, нынче вы не рождаете и не производите ровно ничего и ровно ничего не способны понять! Много лет прятались вы в складках плаща святого Петра, однако Петр не может больше вас защищать; много лет искали вы покровительства пап, много лет изъявляли покорство князьям, однако сильные мира сего больше не способны вам помочь. Близится царствие вечного Евангелия, но не вы следуете ему; вы не желаете возглавить восставшие народы и свергнуть иго тиранов, а потому будете истреблены как оплот тирании. Бегите, говорю, вам остался ровно час, а может быть, и того меньше! Раздерите ваши одежды, спрячьтесь в лесной чащобе и в горных пещерах, хоругвь Христа истинного веет в воздухе, и уже пала на вас ее тень. – Он пророчествует! – вскричали одни монахи, бледные, объятые трепетом. – Он богохульствует, он святотатствует! – возопили другие, объятые гневом. – Уведите его, посадите его под замок! – воскликнул настоятель, дрожа от ярости. Никто, однако, не дерзнул поднять руку на Алексея. Казалось, невидимый ангел защищает его. Покинув трапезную, он взял меня за руку, ибо полагал, что я иду слишком медленно, и повлек в сад, к пальмам. Некоторое время он наслаждался зрелищем моря и гор, а затем, повернувшись к северу, сказал: – Они близятся, близятся с быстротою молнии! – Но кто же они такие, отец мой? – Страшные мстители, защитники поруганной свободы. Быть может, мщение их окажется безрассудным. Способны ли люди, облеченные подобной миссией, сохранять хладнокровие и судить по справедливости? Времена настали, плод созрел и должен пасть; пускай при падении он раздавит несколько травинок – что за важность? – Вы говорите о врагах нашей страны? – Я говорю о мечах, сверкающих в руках Бога воинств. Они близятся, мне открыл это Дух, и день этот станет моим последним днем. Так говорят о смерти здесь, на земле. Но я не умру, я не покину тебя, Анжель, и ты это знаешь. – Вы умрете? – вскричал я, в ужасе прижимаясь к нему. – О, не умирайте! Ведь я, кажется, только сегодня начал жить. – Такова воля Провидения, таков закон, и, покорные ему, сменяются люди и вещи, – отвечал он. – О сын мой, преклонимся пред Богом бесконечным! О Спиридион! я не прошу тебя явиться предо мною сегодня; в мире, который открывается глазам души моей, вере не нужны формы человеческие; ты со мною, ты во мне. Мне не надобно более слышать скрип песка под твоими ногами, чтобы догадаться о твоей роли в моей жизни. Довольно видений, довольно чудес, довольно провидческих снов! Нет, Анжель, мертвецы не покидают могил, дабы, обретя форму осязаемую, наставлять или предостерегать нас; они живут в нас, как говорил Спиридион Фульгенцию, и разгоряченное наше воображение воскрешает их и являет нашему разуму, когда разуму этому недостает решимости и мудрости, дабы восприять свет, так что нам следовало бы… Тут вдали за горным хребтом что-то глухо загрохотало, и глухой этот звук утонул в морской пучине. – Что это? – спросил я Алексея, который вслушивался в далекий гул с улыбкой на устах. – Это пушка, – отвечал он. – Это голос победителей, которые приближаются к нам. Он продолжал прислушиваться; пушечные залпы следовали один за другим. – Это не сражение, – сказал он, – это гимн победе. Мы побеждены, сын мой; Италии больше не существует. Но не горюй о потерянной родине. Италии не существует уже давно; сегодня приходит конец папской Церкви. Не будем же молиться за побежденных: победители не ведают что творят, но это ведает Господь. Мы направились в церковь и по дороге встретили настоятеля в обществе нескольких монахов. Лицо Донасьена было искажено страхом. – Что происходит? – спросил он. – Вы слышали пушки? Там идет бой? – Бой уже кончился, – спокойно отвечал Алексей. – Откуда вы знаете? – закричали монахи. – У вас есть новости? Расскажите скорее! – Я не знаю, а всего лишь предполагаю, – так же спокойно продолжал Алексей, – но вам советую: либо спасайтесь бегством, либо готовьте ужин для гостей, которые вот-вот объявятся в вашем доме… Больше Алексей ничего не сказал и, не отвечая на расспросы, вошел в церковь. Я шел следом. Не успели мы войти, как снаружи послышались невнятные крики и какая-то песня. Казалось, восторг победы смешался в ней с гневными угрозами. Ответом этой чужестранной песне было молчание. Местные жители в страхе бежали от победителей, как улетают робкие голуби, завидев ястреба. К нам приближался отряд французских солдат. Скитаясь в горах, эти мародеры заметили вдали монастырь и, соблазненные богатой поживой, ринулись к нему. Они обрушились на нас, подобно урагану. В одно мгновение пьяные солдаты сломали ворота и наводнили обитель, распевая хриплыми, страшными голосами песню, слова которой поразили меня: Не знаю, что делалось в кельях. За стенами церкви слышались поспешные шаги: монахи в ужасе бросились врассыпную, чтобы не попасться в руки врагу. Вероятно, солдаты грабили, убивали, устраивали оргии… Алексей тем временем преклонил колени на камне Hiс est и, казалось, оставался глух ко всему происходящему. Погруженный в свои мысли, он имел вид надгробной статуи. Внезапно дверь ризницы с грохотом отворилась, и в церковь вбежал солдат; поначалу он опасливо огляделся по сторонам, но, не заметив нас и сочтя, что в храме никого нет, бросился к алтарю, взломал острием своего штыка дарохранительницу и стал поспешно запихивать в свой ранец серебряные и золотые ковчежцы и чаши. Видя мое волнение, Алексей обернулся ко мне и сказал: – Смирись, час настал; Провидение дозволяет мне умереть, но тебе повелевает жить. В эту минуту в церковь с криками и бранью ворвались другие солдаты и затеяли с опередившим их товарищем спор из-за добычи. Дело скоро дошло бы до драки, если бы новопришедшие не торопились завладеть своей долей сокровищ до прихода всех остальных грабителей. Поэтому, оставив в покое первого солдата, они принялись наполнять ранцы, кивера и карманы всем, что могли унести. Они разбивали прикладами ружей ковчеги, ломали кресты. Алексей взирал на все это совершенно бесстрастно. Внезапно от распятия, венчавшего главный алтарь, оторвалась и с грохотом упала на пол фигура Христа. – Глянь-ка! – завопил один из солдат. – Христос-санкюлот нам салютует! Остальные покатились со смеху и бросились к упавшему изваянию, но, убедившись, что оно лишь казалось золотым и что под слоем позолоты скрывается дерево, начали в приступе грубого веселья презрительно топтать его ногами, а один из них схватил голову распятого и швырнул ее в сторону колонн, за которыми скрывались мы с Алексеем; она упала прямо к нашим ногам. Тогда Алексей встал и голосом, полным веры, произнес: – О Христос! Алтари твои могут быть разбиты, образ твой может влачиться во прахе. Не тебе, Сыну Божьему, наносятся эти оскорбления. Пребывая в лоне Отца твоего, ты взираешь на них без боли и гнева. Ты ведаешь, что творят эти люди; они истребляют символ Рима, средоточия лжи и алчности, – истребляют во имя той свободы, которую ты первый провозгласил бы и прославил, верни тебя небесное Провидение на землю сегодня. – Смерть, смерть этому фанатику, который бранит нас на своем языке! – крикнул один из солдат и бросился к нам с ружьем наперевес. – Старого инквизитора – на штык! – подхватили другие. Один из них вонзил штык в грудь Алексея с криком: – Долой инквизицию! Алексей махнул мне рукой, жестом давая понять, чтобы я не вздумал защищать его, а другой рукой оперся о стену, чтобы не упасть. Солдаты меж тем схватили меня и связали мне руки. – Сын мой, – произнес Алексей со спокойствием мученика, – мы сами тоже не что иное, как бренные изображения; когда мы перестаем воплощать те идеи, какие некогда сообщали нам силу и святость, нас разбивают. Такова воля Провидения; дело наших палачей свято, хотя сами они этого еще не понимают! Между тем они сказали, и ты это слышал: они оскверняют святилище церкви во имя санкюлота Иисуса. Так начинается царствие вечного Евангелия, предсказанное нашими учителями. Сказав это, он упал ничком; другой солдат с силой ударил его по голове, и камень Hiс est обагрился кровью моего учителя. – О Спиридион! – произнес Алексей слабеющим голосом. – Могила твоя очищена! О Анжель! Сделай так, чтобы кровь моя пролилась недаром! О Господь! Я люблю тебя! Сделай так, чтобы тебя узнали люди все до единого!.. И он испустил дух. Тогда лучезарная фигура явилась рядом с ним, а я лишился чувств.Жорж Санд
О романе «Спиридион»
Роман Жорж Санд «Спиридион», первая редакция которого была напечатана в ноябре 1838 – январе 1839 года в журнале «Ревю де Де Монд» (отдельное изд. – февраль 1839), а вторая – издана отдельной книгой в 1842 году [445] , имел в России странную судьбу. Он никогда прежде не был переведен на русский язык [446] по причине своего религиозного содержания: до 1917 года неуместной казалась проповедь религии, свободной от догматов какой бы то ни было церкви (цензурный комитет в 1839 году мотивировал свое запрещение необходимостью защитить от поругания «истины и догматы христианской веры»), после 1917 года этот аргумент, казалось бы, отпал, но теперь одиозной оказалась религиозность сама по себе (пусть даже недогматическая). Тем не менее этот не изданный на русском языке роман оказал сильнейшее воздействие на нескольких замечательных русских литераторов. Герцен во владимирской ссылке в 1839 году жадно поглощал «Спиридиона» в первой журнальной публикации. Лермонтов, заменивший первоначальный эпиграф к поэме «Мцыри» («Родина у всякого человека одна») на библейскую фразу «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю», по убедительному предположению исследователя его творчества, ориентировался не непосредственно на Ветхий Завет, а на роман Санд, где этой фразой из Первой Книги Царств описывает собственную жизнь главный герой, монах Алексей [447] . Следы чтения «Спиридиона» различимы в творчестве Достоевского (хотя прямых упоминаний этого романа писатель не оставил) от «Записок из подполья» [448] до «Братьев Карамазовых» [449] . Наконец, один замечательный русский мыслитель и литератор сам признавался в старости, что чтение «Спиридиона» коренным образом переменило его жизнь. Я имею в виду Владимира Сергеевича Печерина (1807—1885) – первого русского «невозвращенца», блестящего профессора-классика, который пренебрег открывавшейся перед ним университетской карьерой, самовольно остался в Европе, принял католичество и сделался монахом-редемптористом. В своих воспоминаниях он признается, что «Жорж Занд имела решительное влияние» на его переход в католичество [450] ; переворот этот свершился в 1840 году в Льеже, причем сильнее всего подействовал на Печерина именно роман «Спиридион»: «Важнейшая эпоха моей жизни сложилась из страниц «Спиридиона» точно так же, как первые годы моей юности сложились из стихов Шиллера» [451] . «Спиридион» был не единственным сочинением Жорж Санд, потрясшим Печерина [452] , но он оказался, по словам Печерина, самым «важным». Чтобы объяснить, что именно произвело на него такое сильное действие, Печерин выписывает в воспоминаниях по-французски пассаж из «Спиридиона» (цитируем его в нашем переводе): «Душа моя преисполнилась горделивого восторга, и я храбро вверил себя Провидению; в моем уме теснились мысли самые веселые и самые поэтические. Все предметы, по которым скользил мой взгляд, расцветали, казалось, неведомой красой. Золотые стенки дарохранительницы сверкали, как если бы на святыню снизошел Божественный свет. Цветные витражи, вспыхивая от солнца и отражаясь в плитах пола, образовывали между колоннами целые мозаики из брильянтов и самоцветов. Мраморные ангелы, казалось, изнемогали от жары и от тяжести карнизов; они клонили лица долу, стремясь, подобно прекрасным птицам, спрятать прелестные головки под крыло. Мерный и таинственный ход башенных часов напоминал биение сердца, охваченного страстью, а тусклый белый свет лампады, ни на минуту не гаснущей перед алтарем, соперничал с сиянием солнца и служил мне эмблемой человеческого ума, который прикован к земле, но всякую минуту мечтает раствориться в немеркнущем свете ума Божественного», а затем добавляет: «Вот что меня увлекло, очаровало, обольстило! Для человека, живущего одним воображеньем, этого было довольно. Я сидел на диване и читал, читал – долго ли, коротко ли, не знаю – и думал крепкую думу и, наконец, порешил – идти прямо в знаменитую картезианскую обитель, La grande Chartreuse, что близ Гренобля, поселиться там и, если нужно, принять католическую веру. Заметьте, это важное обстоятельство: тут католицизм на втором плане, он был не целью, а средством, а главною целью была – поэтическая пустыня!» [453] Идеал свой в пору обращения в католичество и ухода в монахи Печерин представлял следующим образом: «Жить в совершенном уединении; но вместе с тем иметь возможность по временам выходить из него для того, чтобы навещать больных, страждущих и несчастных и помогать им словом и делом»; к этим словам он прибавляет: «Это было почти целиком взято из «Спиридиона» Жорж Занда» [454] . Но мало того, что роман Жорж Санд толкнул Печерина в монастырь, в этом романе, как выяснилось, был предсказан и позднейший уход из монастыря обратно в мир. В самом деле, отдав редемптористам два десятка лет жизни, Печерин в результате – точь-в-точь как герои «Спиридиона» – ощутил, что монастырская жизнь его душит, и вышел из ордена. «Некоторые книги лучше всякой ворожеи предвещают нам будущее», – подытоживает он в воспоминаниях. [455] Разумеется, столь же внимательные и заинтересованные читатели были у «Спиридиона» и во Франции; роман этот служил им камертоном, точкой отсчета, вспомогательным средством для описания реальности; например, знаменитый историк церкви Эрнест Ренан, побывав в 1850 году в бенедиктинском монастыре Монте-Кассино и увидев там просвещенных монахов, проникнутых современным духом, резюмировал свои впечатления следующим образом: «Вообразите себе самое совершенное воплощение «Спиридиона» – и вы получите полное представление о Монте-Кассино». [456] Итак, в тексте, который нам, торопливым и пресыщенным, может показаться риторическим упражнением, высокопарным плетением словес (и вообще, что это за роман без женщин и без любви, если не считать таковой любовь к неведомому Богу?), – в этом тексте люди XIX века, искавшие решение тех же духовных и социальных проблем, какие мучили сочинительницу «Спиридиона», видели спасение, рецепт, руководство к действию. Сама Жорж Санд, впрочем, считала, что ответы на мучительные вопросы ей неизвестны и единственное, что она умеет, – «проговаривать» эти вопросы, важные не для нее одной, сообщать им более или менее внятную форму. В письме к одной из своих читательниц она объясняла это так: «“Спиридион” – это всего лишь роман, если угодно, всего лишь кошмар. Я никогда не притязала на решение каких бы то ни было вопросов. Это – роль не для меня. Я, наверное, потрачу всю жизнь на поиски истины и не найду даже малой ее части. Каждому свое. Я знаю, на что способна я. Я родилась романистом и сочиняю романы, иначе говоря, употребляю определенные средства для того, чтобы вызвать чувство, чтобы тронуть, взволновать, пожалуй, даже встряхнуть сердца тех из моих современников, кто способен испытывать чувства и кому потребны волнения. Те, кто на это не способен, говорят, что я подмешиваю к питью отраву, тогда как я всего-навсего добавляю немного осадка в вино их хмельного бесстыдства. Те, кого судьба наградила верой, спокойствием и силой, в моих романах не нуждаются. Они их не читают, они не ведают об их существовании; я восхищаюсь такими людьми и уважаю их больше всех на свете. Пишу я, однако, не для них, а для людей ума более среднего. Те, кто находит мои романы порочными, порочны сами. Те, кто находит в них страдание, слабость, сомнения, стремления и, главное, беспомощность, – видят в них то же самое, что вижу в них я. Спорила ли я когда-нибудь с такими критиками и с такими критическими суждениями? Никогда. Я вызвала волнение, а волнение ведет к размышлениям, к поискам. Именно этого я и добивалась. Заставить усомниться во лжи, пользующейся всеобщим доверием, напомнить о позабытой истине – для меня это цель более чем достаточная; на большее я и не притязаю». [457] Что же касается проблем, которые решают для себя герои «Спиридиона» (а это прежде всего проблема поисков новой религии, которая не отвергала бы Бога, но предложила бы формы поклонения ему, не имеющие ничего общего с догматами какой бы то ни было из существующих церквей), то о них Санд знала не понаслышке. Личная жизнь писательницы, и в самом деле достаточно бурная, благодаря сплетням и легендам представляется прямо-таки вакханалией, поэтому не для всякого читателя очевидно, что Жорж Санд – это не только борьба женщин за свои права (читай: адюльтер и разврат) и романы с Мюссе и Шопеном, это еще и напряженные духовные и интеллектуальные поиски, начавшиеся с юности. В мемуарной книге «История моей жизни» Санд признавалась: «Пожелай я изобразить серьезную сторону моей натуры, я рассказала бы о жизни, которая долгое время куда более походила на жизнь монаха Алексея (героя не слишком занимательного романа «Спиридион»), чем на жизнь страстной креолки Индианы» [458] . В самом деле, хотя Жорж Санд из бульварной легенды очень далека от монаха Алексея, которому является в солнечном луче светлый и мудрый дух другого монаха, тем не менее многие переживания, какими она наделила этого монаха и других персонажей «Спиридиона», имеют автобиографический характер. В «Истории моей жизни» Санд рассказывает о том, как она в пятнадцать лет вдруг уверовала в Бога. Будущая писательница, звавшаяся в ту пору Авророй Дюпен, воспитывалась в монастыре Английских августинок, однако до определенного момента относилась к религии весьма равнодушно; она была уверена, что устраивать вместе с другими маленькими «чертовками» (как они именовали себя сами) пакости монахиням гораздо более забавно, чем молиться. Но однажды в церкви ее взгляд упал на картину Тициана, изображавшую Христа в Гефсиманском саду: картина эта висела прямо напротив Авроры, но довольно далеко, и рассмотреть ее детали она могла только в один-единственный момент: «когда заходящее солнце бросало свои лучи на багряные одежды ангела и белую обнаженную руку Христа» (тот же образный ряд – портрет, «оживающий» в лучах солнца, – играет огромную роль в «Спиридионе»). В церкви была и другая картина: на ней был изображен Блаженный Августин; к нему устремлялся чудесный луч (опять тот же мотив!), в котором горели знаменитые слова «Tolle, lege» [Возьми, читай! – лат. ], по легенде, обратившие Августина к чтению Нового Завета (опять-таки нетрудно разглядеть параллель с романом, где аббат Спиридион на портрете держит в руках книгу с латинской надписью «Здесь пребывает истина»). Под влиянием этой картины «чертовка» Аврора стала читать Евангелия, однако поначалу они оставили ее равнодушной. «Прозрение» случилось, когда однажды вечером она оказалась в церкви в одиночестве: «Время шло, служба окончилась […] Я все забыла. Я ощущала неизъяснимое наслаждение, ощущала его не столько чувствами, сколько душой. Внезапно все мое существо пробрала дрожь, перед глазами у меня сверкнула белая молния. Какой-то голос шепнул мне на ухо: Tolle, lege. Я обернулась […] В церкви не было никого, кроме меня» [459] . Аврора Дюпен сочла случившееся не чудом, а галлюцинацией, но тем не менее с того дня она уверовала. Однако вера эта с трудом могла соответствовать стандартам «официальной», догматической католической набожности. И дело не только в том, что официальная Церковь не могла принять и одобрить поведение писательницы, расставшейся с мужем, открыто меняющей любовников, носящей мужское платье и взявшей себе мужской псевдоним. Дело в том, что самой Жорж Санд официальный католицизм был «тесен». Она объясняла это многократно (в том числе и устами монаха Алексея – героя «Спиридиона»); приведем фрагмент, где ее отношение к католическому вероисповеданию выражено особенно четко. Это отрывок из уже цитированного выше письма к Анриетте де Ла Биготьер: «Подумайте о том, что помешало Иисусу стать Богом, а Евангелию – сделаться словом вечным. Вы легко поймете это, а поняв, возможно, только сильнее полюбите этого божественного человека, в котором в самом деле было нечто от Бога и который слышал обращенные к нему речи Бога. Но Бог не открывает людям в один прекрасный день абсолютную истину ради того, чтобы затем замолкнуть и предоставить им мучиться в сомнениях и путаться в толкованиях. Он продолжает говорить с каждым из нас, говорить более или менее внятно в зависимости от того, насколько мы этого достойны; Евангелие же – эта совершеннейшая из истин, явленных человеку 1800 лет назад, – останется всего-навсего мертвой буквой, если мы не будем развивать и животворить его всеми силами своей души. Вот уже 1800 лет как Церковь убивает Евангелие, ибо она желает только сухо толковать его, тогда как необходимо его продолжать. […] Христос был человек богодухновенный, но не Бог, ибо что это за странный Бог, который знал далеко не все, который, приняв материальный облик и явившись к нам, чтобы нас наставить и спасти, не пожелал сказать нам всего, что нам надобно было знать! Итак, думайте, вглядывайтесь в собственную душу, испытывайте собственную веру – не для того, чтобы ее потерять, подобно тем грубым умам, которым, чтобы уверовать, потребна тайна, а чтобы повиноваться – символ, но для того, чтобы очистить эту веру, возвеличить ее всею мощью вашего ума и сделать ее достойною того Бога, которому поклонялся Иисус, славный мученик, распятый за то, что знал больше, чем Моисей и его пророки. […] если вы веруете в то, что Иисус был Богом, а Евангелие представляет собою последнее слово божественной мудрости […] значит, вы никуда не движетесь, значит, вы пребываете в покое, а мне такой покой не нужен. В душе моей раздается голос, который велит мне отринуть этот покой, велит сражаться с усталостью и ленью. Конечно, я с большим удовольствием мирно заснула бы в лоне религии, готовой к употреблению, знающей ответы на все вопросы, просеянной сквозь сито восемнадцати столетий; спать на такой подушке – великое счастье. Однако я тревожусь вовсе не о собственном счастье! Разве я его заслужила? Разве я имею на него право? Я тревожусь о собственном долге и желаю узнать, в чем он заключается. И я полагаю, что Иисус сказал мне о нем недостаточно. Он оставил слишком много вещей непроясненными. Он не решил земной участи рода человеческого. Он и не мог этого сделать, ведь он не был Богом! […] Он сам в своем собственном Евангелии запретил мне принимать его за Бога и считать его конечной точкой моих исканий. Он запретил мне искать счастья для самой себя, но велел искать его для других. Меж тем решения той проблемы, которую именуют ныне социальной (Иисус говорил о царстве Божием на земле), он не нашел, и всякий, кто не ищет это решение, не может считаться ни верующим, ни набожным, ни даже христианином». [460] Более лаконично Санд сформулировала свои убеждения в другом письме к тому же адресату: «Вы простираетесь ниц перед непогрешимым христианством, а я – перед христианством совершенствующимся. Вы поклоняетесь Церкви прошлого, я – Церкви будущего! Поверьте: это та же самая Церковь, наша общая мать, колыбель нашего разума и наших добрых чувств, наших благородных страстей и наших кротких добродетелей. Но ваша Церковь закрыла свои двери, а наша их открывает». [461] Санд не была религиозным мыслителем и не считала себя таковым; в своих религиозных исканиях она шла за теми, чьи взгляды и убеждения были ей близки. Хорошо информированный современник, прославленный критик Сент-Бев, сообщал в частном письме в ноябре 1838 г., вскоре после начала публикации «Спиридиона» в «Ревю де Де Монд»: «…говорят, что отец Алексей – это г-н де Ламенне, а знаменитая книга, написанная Духом, – это «Энциклопедия» Леру» [462] . Названные два имени: Ламенне и Леру – первостепенно важны для понимания «Спиридиона». Поэтому о личностях этих двух мыслителей и об их творчестве необходимо сказать несколько слов. Аббат Фелисите-Робер де Ламенне (1782—1854), в 1810-е гг. один из самых страстных защитников традиционализма в делах веры, к концу 1820-х гг. сделался, напротив, сторонником либерального католицизма, идеи которого пропагандировал в издававшейся им газете «L’Avenir» [Будущее]. После того как папа римский Григорий XVI осудил деятельность издателей «Будущего» в энцикликах от 15 августа и 18 сентября 1832 г., Ламенне (в отличие от некоторых своих соратников, покаявшихся и возвратившихся в лоно Церкви) пошел на открытый разрыв с Ватиканом. Удалившись в свое бретонское имение Ла Шене, он написал там книгу «Речи верующего» (1834), – по его собственному определению, «евангелие бунта», в котором непосредственным следствием евангельского учения представлена демократия. «Речи верующего» были осуждены в очередной папской энциклике, а Ламенне продолжал выпускать брошюры, направленные и против Рима, и против правительства короля Луи-Филиппа. Мятежного аббата Ламенне, с которым Санд была лично знакома с 1835 года, к которому она испытывала огромное уважение и которого в статьях 1830-х гг. защищала от нападок критиков, роднит с отцом Алексеем из «Спиридиона» многое: от жизненной позиции (монах, идущий на разрыв с церковью во имя поиска более совершенной религии) до поэтических опытов (самое знаменитое произведение Ламенне, «Речи верующего», написано той же поэтической прозой, стилизованной под евангельские притчи, что и образец прозаической лирики отца Алексея, приведенный в романе). Однако Ламенне был не единственным и не главным вдохновителем Жорж Санд (о различиях в их взглядах свидетельствует, среди прочего, мелкий, но выразительный эпизод: в 1837 г. Ламенне напечатал в выпускаемой им газете «Монд» «Письма к Марсии» Жорж Санд, но настоятельно попросил ее исключить оттуда рассуждения о благотворности развода). Гораздо большим обязана писательница другому мыслителю, которому, собственно, «Спиридион» и посвящен, – Пьеру Леру (1797—1871). Не случайно про другое свое произведение – вторую редакцию романа «Лелия», создававшуюся почти одновременно со «Спиридионом», она писала их с Леру общей знакомой: «Попросите его [Леру], чтобы он выправил гранки «Лелии», не типографически (точки с запятыми – это дело Бюлоза [издателя]), а философически. Там, должно быть, много неточных слов и неясных доказательств. Я предоставляю ему полную свободу действий. Он возьмет на себя этот труд и из дружеского расположения ко мне, и из верности тем идеям, о каких я веду речь…». [463] В «Спиридионе» идей Леру не меньше, чем во второй редакции «Лелии». Санд познакомилась с Леру в 1836 году и очень скоро обнаружила в его философии ответы на многие мучившие ее вопросы. В первой редакции «Лелии» (1833) она наделила заглавную героиню своими исканиями и своей неспособностью уверовать в католического Бога. Леру предложил ей другую, менее узкую и более «человеческую» веру, и эти идеи окрасили как вторую редакцию «Лелии» (1839), так и «Спиридиона». Главной отличительной чертой творчества Леру была вера в неостановимый прогресс человечества; именно эта вера послужила причиной его разрыва с сенсимонистами, чьи идеи он разделял до конца 1820-х гг. Леру смущала чрезмерная авторитарность наследников Сен-Симона, но в первую очередь он не разделял их взгляда на течение истории. Сен-Симон считал, что история состоит из чередования эпох «критических» (революционных) и «органических» (созидательных); его последователи, принимая эту схему, выводили из нее утверждение, что свобода критики уместна только в критические эпохи, в органические же эпохи должна торжествовать неподвижная догма (и сами такую догму навязывали окружающим). В отличие от них, Леру выступал за постоянное и свободное развитие разума, утверждал, что человечество создано для непрерывного прогресса, непрерывного созидания. Главное же, чтопроповедовал Леру и что с радостью переняла от него Жорж Санд, – это мысль о том, что человечеству необходима религия, но религия новая. Если Ламенне оставался христианином (хотя, разумеется, христианином, предлагавшим христианство реформировать, преобразовать), то Леру выступал проповедником новой, «гуманитарной» религии, религии человечества. Это религия, призванная пойти дальше католичества или любого другого существующего вероисповедания; в основу ее положена вера в Человечество, вера в Народ, который развивается (идет путем прогресса) в соответствии с Божьим замыслом. Религия эта демократична; она продолжает наследие французской революции и перенимает ее лозунг: «Глас народа – глас Божий»; однако при этом она чуждается как сенсимонистского авторитаризма и социалистического пристрастия к идее ассоциации, так и чрезмерного возвеличивания индивидуального разума, которым грешат либералы. Пьеру Леру роман «Спиридион» обязан очень многим и в общем, и в мелочах. От Леру у Жорж Санд – исторический оптимизм, протипоставляемый безрадостному, безнадежному существованию адептов «традиционного» христианства, в рамках которого «людей, не спрашивая их согласия, обрекают на земную жизнь, полную опасностей и тревог, и на жизнь загробную, полную для большинства из них страданий вечных и неизбежных» (характерны размышления, которые вызывает у отца Алексея смерть его наставника Фульгенция: «Чего же стоит целая жизнь, прожитая в покорности и ослеплении, думал я, если, дожив до восьмидесяти лет, человек обречен умирать, объятый ужасом? Как же переходят в мир иной распутники и безбожники, если святые встречают смерть, бледнея от страха и не веруя в справедливость Господнего суда?»). К Леру восходит и убежденность главного героя-идеолога, отца Алексея, в необходимости создания новой, не католической и не протестантской, не языческой и не деистской религии – «единственно истинной, единственно всеобъемлющей, единственно достойной Божества». Наконец, заметное в речах отца Алексея пристрастие к «триадам», Троицам как фундаменту религиозных и историософских построений – тоже плод уроков Леру, который постоянно приискивал составляющим Троицы новые «облики»; например: Бог Отец – Реальность, Бог Сын – Идеал, Святой Дух – прогресс. Это «триадное», троичное мышление лежит и в основе чрезвычайно важной как для Леру, так и для героев Санд веры в то, что на смену Ветхому и Новому Завету должен прийти некий новый, третий Завет. Впрочем, мысль о необходимости нового Евангелия, разумеется, не являлась изобретением Леру. Мыслители XIX века продолжали в этом случае доктрины тех, кого они избрали своими духовными наставниками, – средневековых еретиков, осмеливавшихся по-новому переосмысливать учение официальной Церкви. В «Спиридионе» особая роль отведена двум таким еретикам: Иоахиму Флорскому и Иоанну Пармскому. Если в этом романе и есть какая-то сюжетная загадка, то это – судьба и содержание той таинственной рукописи, которую аббат Спиридион в буквальном смысле унес с собой в могилу и которую один из его наследников должен оттуда достать. Так вот, если в первой редакции романа (1839) рукопись эта представляла собою только пространное сочинение самого Спиридиона, то в окончательной редакции (1842) Алексей и Анжель обнаруживают в «замогильном» пакете три текста: Евангелие от Иоанна, переписанное рукою Иоахима Флорского, «Введение в вечное Евангелие» Иоанна Пармского и, наконец, текст самого Спиридиона (гораздо более лаконичный, чем в первом издании). Иоахим Флорский (ок. 1132—1201), аббат цистерцианского ордена, из-за чрезмерной самостоятельности покинувший орден и основавший собственный монастырь в горах Калабрии, изложил свою доктрину в комментариях на Апокалипсис. Суть этой доктрины, получившей название «вечного Евангелия», или «иоахимизма», заключалась в утверждении, что вслед за царством Бога Отца (эпоха Моисеева закона) и царством Бога Сына (эпоха Нового Завета) должно наступить царство Святого Духа – эпоха свободной любви, царство Церкви Иоанновой, которая упразднит Церковь Петрову. Мечты эти об обновлении мира и возрождении Церкви Святым Духом были сочтены еретическими и осуждены Римским престолом, однако им было суждено большое будущее. В XIII веке учение Иоахима нашло продолжателей среди францисканцев; именно в этой среде было создано «Введение в вечное Евангелие» (второй текст, спрятанный в могиле Спиридиона), который Санд, вслед за Жюлем Мишле, приписывает генералу францисканского ордена Иоанну Пармскому, хотя на самом деле он, по всей вероятности, был написан другим францисканцем, Герардино из Борго-Сан-Доннино (до нас он не дошел, поскольку был осужден папским престолом как еретический, и содержание его известно преимущественно по гневным отзывам противников иоахимизма). [464] Впрочем, для Санд важно, разумеется, не авторство этого текста, а то, что Иоахим Флорский и Иоанн Пармский выступали провозвестниками нового Евангелия – «Евангелия ума и духа», которое придет на смену Евангелию «церковному», Евангелию буквы. Санд вообще (и это проявилось не только в «Спиридионе», но и в других романах, например в «Графине Рудольштадт») относилась с величайшим интересом и симпатией ко всем еретическим учениям, поскольку видела в них проявление свободных исканий, не скованных догматами окостеневшей официальной Церкви. В «Спиридионе» она не один раз перечисляет этих носителей свободной мысли, при этом важны для нее не столько конкретные особенности учений, созданных Амори Шартрским или Давидом из Динана (в перечень попало даже одно имя, которое, вообще говоря, не является именем собственным: Санд упоминает некоего Лолларда, меж тем лоллардами назывались участники антикатолического крестьянского движения XIV века, возникшего в Нидерландах и распространившегося в Англии), сколько их духовная независимость. Санд так дорожит памятью об этих предшественниках, разочаровавшихся в официальном культе, что даже о великом католическом теологе и проповеднике Жаке-Бенине Боссюэ сообщает, что он «умер с криком отчаяния на устах, умер, думая, что Вселенная рушится», хотя, безусловно, этот приступ страха на смертном одре – не самый главный и определяющий штрих в биографии епископа из города Мо, который традиционно считается одним из столпов католицизма. Для Санд важнее всего подчеркнуть, что официальная церковь уже очень давно не может удовлетворить духовные потребности верующих, что поиски новой, свободной религии велись испокон веков. Что же касается Иоахима Флорского и его учения – «иоахимизма», то здесь не место останавливаться на его содержании более подробно, и не только потому, что богословские тонкости плохо уживаются с жанром послесловия к роману. Дело в том, что пророчества сами по себе всегда туманны; абстрактность заложена в их природе. Так было и в XII, и в XIX веке, и Санд, используя в своем романе старинные еретические доктрины и современные «гуманитарные» учения, сохраняет их изначальную неопределенность: царство духа наступит, но в чем оно будет заключаться конкретно, сказать затруднительно. Однако, с другой стороны, Санд создает не философский трактат и не богословское рассуждение; она пишет роман, в котором философские и богословские абстракции должны обретать более или менее конкретную, осязаемую форму. С литературной точки зрения «Спиридион» чрезвычайно интересен именно теми средствами, которые использует Санд для своего рода «материализации» теоретических идей. «Спиридион» – роман, в котором действующими лицами являются не только и не столько люди, сколько идеи. Поэтому здесь совершенно естественно звучат пассажи, где роль подлежащих исполняют абстрактные существительные, обозначающие разнообразные человеческие свойства: «Умеренность уступила место невоздержанности, трудолюбие – лености, добротворение – эгоизму; […]; злословие и чревоугодие, две нечистые страсти, правили бал в монастыре; следом туда проникли невежество и грубость, обратившие храм, предназначенный для строгих добродетелей и благородных трудов, во вместилище постыдных наслаждений и подлой праздности». Поэтому традиционная завязка «Спиридиона», напоминающая «черный», готический, монастырский роман (таинственные гонения, которым подвергают злобные и лицемерные монахи юного послушника), обманчива: если в готическом романе в монастырских декорациях разворачивается любовная драма, то драма, разыгрывающаяся в том монастыре, который описан в «Спиридионе», – совсем другого рода; это драма идеи и той рукописи, в которой эта идея запечатлена. Сходным образом обманчива и мистическая атмосфера романа: призрак, являющийся главному герою, оживающий портрет (след чтения Гофмана, под сильнейшим влиянием которого Санд находилась в юности). На самом деле писательница тщательно стремится избежать и мистики, и вульгарных бытовых интерпретаций. Отец Алексей поначалу мучительно выбирает одно из двух истолкований тех странных видений, которые предстают его взору: сумашествие или чудо? Между тем Санд усвоила от Пьера Леру доктрину бессмертия души как постоянного метемпсихоза, постоянного возрождения каждой личности в людях, принадлежащих к следующим поколениям. Эта доктрина помогает героям романа «снять» дилемму «безумие или чудо» как несущественную. До тех пор, пока человека и его мысли помнят потомки, он жив. «Скорее море перестанет отражать небесную лазурь, чем образ любимого исчезнет из памяти любящего, – внушает Спиридион своему ученику Фульгенцию, – да и художники, запечатлевающие физический облик человека на полотне или в мраморе, также даруют умершим род бессмертия». Спиридиону много лет спустя вторит Алексей, объясняющий, что люди прошлого, прежде всего люди-творцы, оживают благодаря потомкам, воскрешающим их в своей памяти. Санд свято верила в то, что созидаемая ее учителями новая религия – религия просвещенная (отчасти по этой причине во второй редакции Спиридион сделан бенедиктинцем; этот орден, в отличие от францисканцев, к которым принадлежал аббат в первой редакции, известен своей приверженностью к ученым трудам), что она не будет отвергать достижений науки, а, напротив, вберет их в себя. Эта убежденность материализуется в романе с помощью лейтмотива света. Призрак аббата Спиридиона – Дух, носитель истины – является героям исключительно в луче света и в нем же и растворяется, а в могилу с собой уносит, среди прочего, переписанное его духовным наставником Иоахимом Флорским Евангелие от Иоанна, где одна из подчеркнутых переписчиком (то есть особенно важных) фраз гласит: «И свет во тьме светит». Весь позитивный образный ряд романа связан со светом. Отшельник, наделенный даром деятельного добра, «впитывает солнце»: «При этих словах тусклые глаза его загорелись и, казалось, принялись излучать впитанный ими солнечный свет. Они сияли так ярко, что я вынужден был отвести взгляд и невольно посмотрел на море, сверкавшее у наших ног». Отец Алексей внушает своему ученику: «Да, Анжель, какие бы суровые испытания ни подстерегали нас на пути к истине, мы обязаны искать ее неустанно; лучше ослепнуть, глядя на солнце, нежели оставаться зрячим, не видя ничего, кроме земли, и пряча глаза от сияющего света». Стремясь убедить ученика в благотворности революции (несмотря на все ее эксцессы), тот же персонаж говорит: «Ведь люди, взявшиеся за оружие, пролагали дорогу в новый мир, еще не освещенный ни одним лучом солнца. Они сражались в потемках, отстаивая для начала свое священное право на свободу». Конечно, «Спиридион» – роман идей и абстрактных понятий. Однако в его тексте абстракции «материализуются», причем весьма оригинальным образом. Роман начинается в атмосфере совершенно оторванной от реальности: непонятно не только, за что преследуют монахи невинного послушника Анжеля, непонятно, в какое время и в какой стране все это происходит: читатель не знает, ни где расположен монастырь, куда удалился Анжель, ни какой год или хотя бы какой век на дворе. Некоторые уточнения даются читателю очень постепенно: сначала из биографии аббата Спиридиона выясняется, что действие происходит в XVIII веке и что монастырь расположен где-то в Италии. Но поначалу и эти сведения остаются просто констатацией, они никак не используются и не обыгрываются; лишь в дальнейшем из монолога отца Алексея, который несколько раз апеллирует к «своему веку», выясняется, что где-то за пределами монастыря выпускают книги французские философы, что во Франции произошла революция. Но главный сюжет продолжает разворачиваться не столько в исторической действительности, сколько в душе героев, выясняющих отношения с Богом [465] . Между тем эта самая историческая действительность постепенно приближается к монастырю: в рассказе отца Алексея возникает фигура безымянного молодого корсиканца, адепта воли и силы, в котором нетрудно опознать будущего императора Наполеона, а еще через несколько страниц вдали раздается канонада: это стреляют французы, завоевавшие Италию. Тут время повествования наконец определяется с точностью до года – 1796; канонада звучит все громче: французская армия приближается к монастырю, а вместе с ней к монастырским стенам приближается сама история, которая и врывается в бенедиктинскую обитель более чем грубо и зримо – в лице пьяных и алчных французских солдат, сбрасывающих с алтаря изображение «Христа-санкюлота». И здесь, буквально на полуслове, роман обрывается – точно так же, как, по мнению Санд, во время революции прервалось, не завершившись, создание новой религии (национальной, республиканской и социальной), которую замыслили Робеспьер и Сен-Жюст – «люди великие, хотя и запятнанные страшной эпохой, их породившей». [466] Иначе говоря, главная мысль Пьера Леру и его верной ученицы Жорж Санд – мысль о постоянном движении человечества вперед, к новым истинам – материализуется в строении романа, в его постепенном движении из «безвоздушного пространства», в котором он начинается, к конкретности – страшной конкретности – реальной жизни. Впрочем, эта-то реальная жизнь в романе не описана. В полном соответствии с установками «гуманитарной», социальной религии Пьера Леру Санд посылает своего героя «в мир»: «Теперь прощай, дитя мое, тебе пора покинуть монастырь и возвратиться в мир». Однако Санд честно предупреждала, что умеет ставить вопросы, но далеко не всегда умеет отыскивать ответы. Что именно делать герою в миру, она сказать не могла – и потому роман обрывается как бы на полуслове. Герой-повествователь лишается чувств; судьба его неясна. Но зато ясно, что для самой писательницы (и, как показала история восприятия романа, для его читателей) роман «Спиридион» имел огромную «терапевтическую» силу. В процессе его сочинения Жорж Санд нашла выход из того «экзистенциального» отчаяния, в котором пребывала еще несколькими годами раньше, в пору сочинения первого варианта «Лелии». Впереди у писательницы был разрыв с Пьером Леру, обретение новых духовных наставников, участие в политической и общественной деятельности во время революции 1848 года, а затем разочарование в ней, однако тот оптимизм и та вера в человечество, какими она прониклась в конце 1830-х годов, остались при ней до конца жизни. Убеждения и идеалы, обретенные ею в этот период и укрепившиеся в дальнейшем, дали основания Достоевскому сказать в «Дневнике писателя»: «Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц […] более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь. […] Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой». [467] Кому-то рассказ об исканиях аббата Спиридиона и монаха Алексея может показаться чересчур риторическим и отвлеченным, однако заинтересованные читатели-современники, от француза Эрнеста Ренана до русского Владимира Печерина, англичанина Мэтью Арнольда и американца Ральфа Эмерсона, видели в этом романе живую реальность, слово, обращенное к ним напрямую, касающееся их лично. «Лень и равнодушие – вот величайшее зло, кое способен сотворить человек, вот величайшее кощунство, коим способен он себя запятнать. […] Самоотвержение возвратило мне способность быть милосердным; дружба научила сердечной нежности; поэзия и искусство внушили предчувствие жизни вечной; […] душа же моя полна надежды на жизнь вечную» – Мэтью Арнольд вписал эти фразы из «Спиридиона» в записную книжку, куда заносил самые дорогие для него мысли [468] . Для него, как и для Ренана или Печерина, эти слова были не только словами. В. МильчинаЖорж Санд Ускок
— Кажется, Лелио, — сказала Беппа, — мы вогнали в сон достойного Ассейма Зузуфа. — Ему скучно слушать наши рассказы, — заметил аббат. — Он человек слишком серьезный, чтобы его занимали такие легковесные сюжеты. — Простите, — ответил мудрый Зузуф. — На моей родине страстно любят слушать рассказы. В наших кофейнях постоянно выступают рассказчики, как у вас — импровизаторы. Свои повествования они ведут то в прозе, то в стихах. На моих глазах английский поэт слушал их целыми вечерами. — Какой английский поэт? — спросил я. — Тот, кто воевал на стороне греков и от кого европейцы узнали историю Фрозины и еще другие восточные предания, — сказал Зузуф. — Пари держу, что он не знает имени лорда Байрона! — вскричала Беппа. — Отлично знаю, — возразил Зузуф. — Я только не решаюсь его выговорить, потому что, когда я это делал при нем самом, он всегда усмехался. Видно, я очень плохо произношу. — При нем! — вскричал я. — Значит, вы с ним встречались? — Часто встречался, главным образом в Афинах. Там-то я и рассказал ему историю ускока, которую он изложил по-английски в «Корсаре» и «Ларе». — Как, дорогой Зузуф, — сказал Лелио, — так это вы — автор поэм Байрона? — Нет, — ответил керкирец, которого эта шутка нисколько не рассмешила. — Он ведь совсем изменил эту историю, да к тому же я вообще не могу быть ее автором, так как она — быль. — Ну, так вы нам ее расскажете, — сказала Беппа. — Но вам она должна быть известна, — ответил он. — Это ведь скорее венецианская повесть, чем восточная. — Я слышала, — продолжала Беппа, — что сюжет «Лары» навеяла Байрону смерть графа Эдзелино, которого — дело было в эпоху морейских войн — убил ночью у перевала Сан-Миниато какой-то ренегат. — Значит, — сказал Лелио, — это не тот знаменитый мрачный Эдзелин… — Кто может знать, — вмешался аббат, — кем был на самом деле тот Эдзелин и в особенности Конрад? Зачем доискиваться, какая историческая правда лежит в основе красивой, поэтической выдумки? Не означает ли это лишить ее всякой прелести и аромата? Если бы что-нибудь могло умерить мое поклонение Байрону, так это историко-философские примечания, которыми ему вздумалось подкрепить правдоподобие своих поэм. К счастью, теперь уже никто не требует от него отчета, откуда взялись его божественные выдумки, и мы знаем, что самое исторически достоверное лицо его поэм — это он сам. Благодаря богу и своему гению он изобразил себя в этих возвышенных образах. Да и какая другая модель была бы достойна позировать такому художнику? — Все же, — сказал я, — мне хотелось бы обнаружить в каком-нибудь позабытом, темном уголке материалы, которыми он пользовался, воздвигая эти величественные здания. Чем проще и грубее они оказались бы, тем больше восхищался бы я искусством, с которым он их применил. Вот так же точно хотел бы я видеть женщин, послуживших моделью для мадонн Рафаэля. — Если вам любопытно знать, кто первый корсар, которого Байрону пришло в голову прославить под именем Конрада, или Лары, — сказал аббат, — нам, я думаю удастся его обнаружить, ибо мне известна одна история, имеющая поразительные черты сходства с этими двумя поэмами. Наверное, дорогой Ассейм, ту же самую историю вы и рассказали английскому поэту, когда подружились с ним в Афинах? — Видимо, ту же, — ответил Зузуф. — Но раз вы ее знаете, так и расскажите сами: вам это будет легче сделать, чем мне. — Не думаю, — ответил аббат. — Многое я позабыл или, вернее сказать, никогда как следует не знал. — Так расскажем ее вместе, — сказал Зузуф. — Вы поможете мне в той части, что происходила в Венеции, а я вам во всем, что имело место в Греции. Предложение было принято. Оба приятеля говорили по очереди, иногда споря по поводу собственных имен, дат и подробностей, которые аббат, весьма дотошный историк, объявлял вдруг вымышленными, в то время как левантинец, которому дороже всего была игра фантазии, совершенно не обращал внимания на анахронизмы или топографические ошибки. И таким образом история ускока дошла до нас в этих обрывках. Я попытаюсь соединить их в нечто целое, хотя, может быть, память мне во многом изменит и я не окажусь столь точным, как этого мог бы пожелать аббат Панорио, если бы он прочитал эти страницы. Но, к счастью для нас, эти наши рассказы оказались достойными попасть в индекс его святейшества (что наверняка никому не пришло бы в голову), а так как его величество император австрийский, которого тоже никто не ожидал бы увидеть замешанным в это дело, в Венеции проводит в жизнь все папские запреты, можно не опасаться, что мой рассказ станет там известен и получит хотя бы самое ничтожное опровержение. — Во-первых, что такое ускок? — спросил я в тот момент, когда достойнейший Зузуф разгладил бороду и уже раскрыл рот, чтобы начать свое повествование. — Невежда! — произнес аббат. — Слово uscocco происходит от scoco, что по-далматски значит перебежчик. Ускоки, их происхождение и различные приключения занимают в истории Венеции немалое место. К ней я вас и отсылаю. Пока же вам достаточно узнать, что австрийские императоры и принцы нередко использовали этих разбойников для защиты приморских городов от нападений турок. А чтобы не платить этому устрашающему гарнизону, который малым бы не удовольствовался, Австрия закрывала глаза на пиратские деяния ускоков, и они грабили все, что им встречалось в Адриатике, губили торговлю республики и разоряли провинции Истрии и Далмации. Долгое время они гнездились в Сени, в глубине Кварнерского залива, где под защитой высоких гор и густых лесов успешно отражали многочисленные попытки уничтожить их. Около 1615 года между Венецией и Австрией заключен был договор, который наконец выдал их мщению венецианцев, и побережье Италии было от них очищено. Таким образом, ускоки как нечто целое перестали существовать, и, вынужденные рассеяться, они принялись странствовать по морям и умножили число флибустьеров, которые всегда и всюду вели войну с торговлей любых наций. И долго еще после изгнания этого люда, самого дикого, грубого и свирепого из всех, живущих убийством и грабежом, одно слово ускок вызывало ужас и ненависть у наших военных и торговых моряков. Тут как раз уместно обратить ваше внимание на различие между званием корсара, которое Байрон дал своему герою, и ускока, которое носил наш. Различие это приблизительно то же, какое существует между бандитами в современной драме и опере и разбойниками с большой дороги, авантюристами из романов и обыкновенными мошенниками — словом, между фантазией и действительностью. Подобно корсару Конраду, наш ускок происходил из благородного дома и аристократического общества. Однако дело не в этом: поэту угодно было в заключение сделать его великим человеком, да иначе и быть не могло, ибо — пусть уж не гневается наш друг Зузуф — он постепенно позабыл о герое его афинского рассказа и видел в Конраде уже только лорда Байрона. Что же до нас, стремящихся не отходить от исторической правды и оставаться верными реальной жизни, то мы покажем вам гораздо менее благородного пирата. — Корсар в прозе! — сказал Зузуф. — Для турка он очень остроумен и весел, — сказала мне тихонько Беппа. Рассказ наконец-то начался.В конце семнадцатого столетия — в те годы, когда разразилась знаменитая морейская война, в правление дожа Маркантонио Джустиньяни, — жил в Венеции потомок венецианских дожей, последний представитель рода Соранцо, Пьер Орио, который как раз проедал и проживал остатки огромного состояния. Это был еще молодой человек, отличавшийся красотой, редкостной силой, бурными страстями, неукротимой гордыней и неутомимой энергией. По всей республике славился он своими поединками, расточительностью и разгульным образом жизни. Казалось, он нарочно испытывает все способы растратить свои жизненные силы, однако — безуспешно. Сталь меча не могла причинить вреда его телу, никакие излишества не подтачивали его здоровья. Но с богатством вышло совсем по-другому: оно не устояло против каждодневных обильных кровопусканий. Видя, что приближается разорение, друзья пытались образумить его, задержать у края роковой пропасти. Однако он ни на что не пожелал обратить внимание и на самые благоразумные речи отвечал только шутками или дерзостями, одного обзывая педантом, другого — подголоском пророка Иеремии, и просил всех, кому его вино не по вкусу, идти пить в другое место, грозя ударами шпаги всякому, кто вернется надоедать ему разговорами о делах. Так он и поступал до самого конца. Когда же все его имущество было полностью растрачено и оказалось, что продолжить прежний образ жизни совершенно невозможно, он впервые по-настоящему задумался о своем положении. Хорошо все обдумав, он решил, что возможны три выхода: первый — пустить себе пулю в лоб и предоставить заимодавцам разбираться, как они уж там смогут, среди разбросанных в разные стороны осколков его богатства; второй — уйти в монастырь; третий — привести в порядок дела, а затем отправиться воевать с турками. Этот третий выход он избрал, решив, что лучше уж пробивать черепа другим, чем самому себе, и что это последнее всегда успеется. Поэтому он продал все свои владения, заплатил долги, а на оставшиеся деньги, на которые ему не прожить было бы и двух месяцев, снарядил и вооружил галеру и двинулся навстречу басурманам. Их он заставил дорого заплатить за свои юношеские безумства. Всех, кто попадался на его пути, он атаковал, грабил и уничтожал. Очень скоро его небольшая галера стала грозой Адриатики. Когда война окончилась, он возвратился в Венецию прославленным капитаном корабля. Желая показать, как ценит республика его услуги, дож поручил ему на следующий год весьма ответственный пост во флоте, которым командовал знаменитый Франческо Морозини. Последний не раз был свидетелем удивительных подвигов Соранцо, восхищался его военными дарованиями и храбростью и чувствовал к нему самое дружеское расположение. Орио сразу сообразил, какую выгоду сможет он извлечь из этой дружбы для своего личного продвижения. Поэтому он использовал все средства для ее укрепления и оказался достаточно умен, чтобы стать сперва любимцем командующего, а затем и породниться с ним. У Морозини была племянница лет восемнадцати, прекрасная и добрая как ангел, — единственная его привязанность, и он относился к ней, как к родной дочери. Если не говорить о славе республики, то ничто другое на свете не было ему дороже, чем счастье этой обожаемой им девушки. Поэтому он давал ей во всем и всегда поступать по ее воле. А если кто-либо, считая эту крайнюю уступчивость опасной слабостью, упрекал его за излишнее баловство, он отвечал, что рожден на свет божий воевать с турками, а не со своей дорогой Джованной; что старики и без того докучают молодежи своим возрастом, — нечего добавлять к этому длинные проповеди и унылые наставления; что к тому же алмазы никогда не портятся, что бы с ними ни делать, а Джованна — драгоценнейший на земле алмаз. Вот он и предоставил девушке в выборе мужа, как и во всем остальном, полнейшую свободу, ибо у него хватало богатства, чтобы не принимать в расчет состояния того, за кого она пожелает выйти. Среди многочисленных претендентов на ее руку Джованна обратила благосклонное внимание на юного графа Эдзелино из рода князей Падуанских, чей благородный характер и добрая слава достойно поддерживали честь высокого имени. Несмотря на свою молодость и неопытность, она сразу увидела, что его влекут к ней не тщеславные и корыстные соображения, как других, а искренняя любовь и нежность. И она вознаградила его за это уважением и дружбой. Она готова была даже назвать любовью свои чувства к нему, и граф Эдзелино льстил себя надеждой, что зажег в ней такую же страсть, какую испытывал сам. Морозини дал уже согласие на этот достойный брак; ювелиры и ткачи готовили свои самые ценные и редкостные товары для наряда невесты; весь аристократический квартал Дель Кастелло собирался участвовать в празднествах, которые должны были продолжаться несколько недель. Повсюду украшались гондолы, обновлялись наряды, и все наперебой старались обнаружить хоть какое-нибудь родство со счастливым женихом, которому предстояло обладать самой красивой женщиной и стать хозяином самого блестящего дома во всей Венеции. День был назначен, приглашения разосланы, в обществе только и говорили, что об этой аристократической свадьбе. И вдруг начали передавать из уст в уста какую-то странную новость: граф Эдзелино прекратил все приготовления к свадьбе и оставил Венецию. Одни уверяли даже, что он убит; другие — что по приказу Совета Десяти его подвергли изгнанию. Но почему для его отсутствия находили причины столь зловещие? Во дворце Морозини по-прежнему царила суета и шум: приготовления к свадьбе продолжались, приглашения оставались в силе. Прекрасная Джованна отправилась со своим дядей в деревню, но ко дню свадебного торжества должна была возвратиться. Так писал флотоводец своим друзьям, приглашая их участвовать в радостном семейном празднестве. С другой стороны, люди, достойные доверия, встречали якобы графа Эдзилино в окрестностях Падуи, где он с необычайным пылом увлекался охотой, никак, видимо, не торопясь вернуться в Венецию. А согласно самым последним слухам, он будто бы удалился на свою виллу и заперся там в горести и одиночестве, проводя в слезах бессонные ночи. Что же, собственно, происходило? Венецианцы — самые любопытные на свете люди. Тут же все давало обильную пищу дамским пересудам и насмешливым выпадам молодых людей. Несомненным оставалось, по-видимому, что Морозини выдает племянницу замуж. Однако никто не сомневался в том, что выдает он ее не за Эдзелино. По какой же таинственной причине брак этот оказался расторгнутым накануне заключения? И какой другой жених нашелся, словно по волшебству, для замены единственного претендента, казавшегося до последнего времени наиболее подходящим? Все терялись в догадках. В один прекрасный вечер можно было заметить, как по Фузинскому каналу скользит очень скромного вида гондола. Но шла она так быстро и гондольеры имели такой бравый вид, что всем стало ясно: некое весьма высокопоставленное лицо инкогнито возвращается из деревни. Несколько катавшихся по тому же каналу бездельников подошли на близкое расстояние к этой гондоле и увидели высокородного Морозини, сидевшего рядом с племянницей. У ног Джованны полулежал Орио Соранцо, и в нежной заботливости, с которой Джованна гладила белого красавца — борзого пса Орио, сквозил целый мир наслаждений, надежды и любви. — Подумать только! — вскричали все дамы, дышавшие вечерней прохладой на террасе дворца Мочениго, когда через какой-нибудь час новость дошла до светского люда. — Орио Соранцо! Этот шалопай! — Затем воцарилось глубокое молчание, и никто не задал себе вопроса — как же могла случиться подобная вещь? Те из дам, кто громче всего высказывали свое презрение к Орио Соранцо и жалость к Джованне, слишком хорошо знали, насколько Орио неотразим. Однажды вечером Эдзелино, который весь день провел в гуще леса, преследуя вепря, возвратился домой грустный и усталый. Охота была замечательной, и верховые егеря графа удивлялись, как это чело их господина не разгладилось от столь удачного дня. Его унылый вид и мрачный взгляд как-то уж очень не соответствовали фанфарам и заливистому собачьему лаю, отдававшимся веселым эхом на башенках старого замка. Когда граф переезжал через подъемный мост, курьер, прибывший за несколько минут до него, вышел ему навстречу и, держась рукой за поводья своего тяжело дышащего, запыленного коня, протянул ему, склонясь почти до самой земли, письмо, которое только что привез. Граф, бросивший на него сперва довольно холодный и рассеянный взгляд, вздрогнул при имени, которое произнес посланец. Судорожным движением схватил он письмо, остановил своего горячего скакуна так резко, что поднял его на дыбы, затем на мгновение застыл в мрачной нерешительности, словно намереваясь ответить на переданное ему послание презрительным и дерзким словом. Но, почти сразу же успокоившись, он дал посланцу золотой цехин и спешился прямо на мосту, словно считал, что подъехал уже к дверям, ведущим в его покои. Он небрежно бросил поводья своего благородного коня, и они так и влачились по пыльной земле. Около часа сидел он, запершись, в своем кабинете, пока не явился его берейтор. Курьер, повинуясь приказу своих господ, собирается возвращаться в Венецию, доложил берейтор, и спрашивает, что велит передать им благородный граф. Эдзелино словно очнулся от сна. По его знаку берейтор подал ему письменные принадлежности, и на следующее утро Джованна Морозини получила из рук курьера нижеследующий ответ. «Вы пишете, сударыня, что в обществе ходят разного рода слухи по поводу вашего предстоящего замужества и моего отъезда. Согласно одним, я заслужил немилость вашей семьи каким-то низким поступком или постыдной связью. Согласно другим, у меня имеются настолько основательные причины жаловаться на вас, что я мог нанести вам такое оскорбление, как отъезд накануне брака. Что до первого из этих слухов, то вы, сударыня, слишком добры и проявляете излишнюю обо мне заботливость. Сейчас я весьма мало чувствителен к тому, как будет воспринято обществом мое несчастье; само по себе оно достаточно велико, чтобы я не усугублял его менее важными заботами. Что до второго предположения, о котором вы пишете, я вполне понимаю, как должна страдать от него ваша гордость. Гордость же эта, сударыня, основывается на притязаниях слишком законных, чтобы я стал восставать против того, что она вам в данный момент подсказывает. Решение ваше жестоко, тем не менее в жалобах своих я ограничусь тем, что все выскажу вам сейчас, а назавтра подчинюсь вашей воле. Да, я вновь появлюсь в Венеции и, рассматривая ваше приглашение как приказ, буду присутствовать на вашей свадьбе. Вы желаете, чтобы я всем явил зрелище своей скорби, вы хотите, чтобы вся Венеция прочла на лице моем приговор вашего пренебрежения. Я согласен с тем, что мнение общества должно заклать одного из нас во славу другого. Дабы вашу милость не могли обвинить в измене или вероломстве, надо, чтобы меня высмеяли, чтобы на меня показывали пальцем, как на дурака, который терпеливо сносит, что его так вот, с сегодня на завтра, заменяют другим. Я от всего сердца на это соглашаюсь, — забота о вашей чести мне дороже собственного достоинства. Пусть, однако же, те, кто найдет меня чересчур покладистым, приготовятся дорого заплатить за это! Триумф Орио Соранцо будет полным: за его колесницей пройдет даже побежденный со связанными за спиной руками и печатью позора на челе! Но пусть Орио Соранцо никогда не перестанет казаться вам достойным такой славы, ибо если это случится, побежденный, пожалуй, ощутит, что руки у него свободны, и докажет ему, что забота о вашей чести, сударыня, — главное, единственное попечение вашего верного раба, и т.д.». В таком духе составлено было это письмо, вдохновленное возвышенными чувствами, но во многих местах написанное стилем, свойственным тому времени, — настолько напыщенным и перегруженным всевозможными антитезами и другими витиеватыми фигурами, что я принужден был для более ясного понимания изложить его на более современный лад. На следующий день с закатом солнца граф Эдзелино покинул замок и спустился вниз по течению Бренты в своей гондоле. Когда к утру он прибыл в палаццо Меммо, там все еще спали. Благородная госпожа Антония Меммо была вдовой Лотарио Эдзелино, дяди молодого графа. Находясь в Венеции, граф всегда жил у нее, тем более что поручил ей воспитание своей сестры Арджирии, пятнадцатилетней девицы, необычайно красивой и обладающей таким же благородным сердцем, каким обладал и он сам. Эдзелино любил сестру не меньше, чем Морозини — свою племянницу. Она была единственной оставшейся у него близкой родственницей и до знакомства с Джованной Морозини единственным существом, которое он любил. Теперь Джованна бросила его, и он с еще большей нежностью возвращался к своей юной сестре. Когда он приехал, во всем дворце только она одна уже не спала. Она бросилась ему навстречу и оказала самый сердечный прием. Но Эдзелино почудилось в ее приветливости какое-то легкое смущение или даже опасение. Он принялся расспрашивать ее, но так и не разузнал невинной тайны. Однако он понял причину ее озабоченности, когда она стала умолять его немного поспать, вместо того чтобы выйти в город, как он намеревался. Сестра словно стремилась скрыть от него некую неминучую беду, и когда она вздрогнула, услышав большой колокол башни Святого Марка, Эдзелино был уже совершенно уверен в правильности своего предположения. — Крошка моя Арджирия, — сказал он ей, — ты думаешь, я не знаю, что здесь готовится? Ты боишься моего присутствия в Венеции в день свадьбы Джованны Морозини. Не опасайся ничего: ты же видишь — я спокоен. Я даже нарочно приехал, чтобы присутствовать на этой свадьбе по полученному мною приглашению. — Неужто они посмели тебя пригласить?! — вскричала девушка, стиснув руки. — У них хватило наглости и бесстыдства известить тебя об этом браке? О, я ведь была подругой Джованны! Бог свидетель, что пока она любила тебя, и я любила ее как сестру. Но сейчас я ее презираю и ненавижу. Меня ведь тоже пригласили на ее свадьбу, но я не пойду. Я сорву цветы с ее головы, разорву ее венчальную фату, если увижу, что в таком уборе она выступает об руку с твоим соперником. О, боже! Предпочесть моему брату этого Орио Соранцо, распутника, игрока, человека, который презирает всех женщин и который свел в могилу свою мать! Как, брат мой, ты встретишься с ним лицом к лицу? О, не ходи туда! Раз ты хочешь идти, значит ты задумал что-то ужасное. Не ходи, покарай презрением эту пару, недостойную твоего гнева. Пусть Джованна наслаждается своим горьким счастьем. В нем она найдет свою кару. — Дитя мое, — ответил Эдзелино, — я очень тронут твоей заботой, я счастлив, что ты так сильно любишь меня. Но не опасайся ни гнева моего, ни скорби; ты ведь понятия не имеешь, что именно у меня произошло. Знай, девочка моя, что Джованна Морозини ни в чем передо мной не провинилась. Она меня полюбила и простодушно в этом призналась, она согласилась выйти за меня замуж. Потом появился другой, человек более ловкий, более дерзновенный, более предприимчивый, которому нужно было ее богатство и который, чтобы заполучить ее, сумел стать велеречивым оратором и великим актером. Он победил, она предпочла его. Она мне сама это сказала, и я отошел в сторону. Она сказала мне это искренно, с кротостью и даже добротой. Так что не надо тебе ненавидеть Джованну, останься ее подругой, как я остаюсь ее слугой. Поди, разбуди тетю, попроси ее нарядить тебя в самый лучший твой наряд и пойти вместе со мной и с тобой на свадьбу Джованны Морозини. Велико было изумление тетки, когда расстроенная девушка сообщила ей о намерениях графа. Но она нежно любила его, верила ему и преодолела свое нежелание присутствовать на свадьбе. Обе женщины в богатых нарядах отправились вместе с графом Эдзелино в собор святого Марка; пожилая одета была с величавой, тяжелой роскошью старины, юная — со вкусом и изяществом, свойственными ее летам. Одевались они довольно долго, и потому когда Эдзелино появился вместе с ними на паперти базилики, месса и брачная церемония пришли уже к концу Входя в церковь, он, таким образом, очутился лицом с Джованной Морозини и Орио Соранцо, которые, держась за руки, как раз выходили из храма во главе торжественной процессии. Джованна и впрямь была жемчужиной красоты, жемчужиной Востока, как тогда говорили, и белые розы ее свадебного венка были не чище и не свежее, чем юное чело, которое они окружали девственной диадемой. Самый красивый из пажей нес за нею длинный шлейф ее платья из серебряной парчи, с корсажем, затянутым усеянной брильянтами сеткой. Но ни красота ее, ни убор не ослепили юную Арджирию. Не менее прекрасная, не менее роскошно одетая, она крепко сжала руку брата и уверенно двинулась навстречу Джованне. Ее горделивая осанка, полный упрека взгляд и чуть горькая улыбка смутила Джованну Соранцо. Она побледнела, как сама смерть, завидев брата и сестру: его — безмолвного и спокойного, как не знающая выхода безнадежность, ее — казавшуюся живым выражением скрытого негодования Эдзелино. Орио почувствовал, как его юная жена пошатнулась, но, казалось, он даже не увидел Эдзелино. Все его внимание обратилось к Арджирии, и он устремил на нее странный, пристальный взгляд, в котором смешивались пылкое восхищение и наглость. Арджирию этот взгляд смутил не меньше, чем ее собственный — Джованну. Она, вся трепеща, оперлась на руку Эдзелино, а возникшее в ней чувство приняла за ненависть и возмущение. Тогда Морозини подошел к Эдзелино, обнял его, и эти знаки расположения показались своего рода протестом против предпочтения, оказанного Джованной Орио Соранцо. Свадебное шествие остановилось, и любопытные сгрудились, чтобы получше увидеть сцену, в которой они надеялись найти объяснение неожиданной развязки помолвки Эдзелино и Джованны. Однако любители скандальных происшествий разошлись неудовлетворенными. Рассчитывали, что с той и другойстороны последуют вызовы, шпаги вылетят из ножен, а вместо этого увидели объятия и поздравления. Морозини приложился к руке синьоры Меммо и поцеловал в лоб Арджирию, к которой привык относиться как к дочери. Потом он тихонько привлек ее к себе, и молодая девушка, не устояв перед безмолвной просьбой всеми чтимого вельможи, подошла совсем близко к Джованне. Та бросилась к старой подруге и в неудержимом порыве расцеловала ее. Тут же она протянула руку Эдзелино, который спокойно и почтительно коснулся губами ее пальцев, прошептав: — Ну как, сударыня, вы мною довольны? — Вы навеки мой друг и брат, — ответила ему Джованна. Она не отпускала от себя Арджирию, а Морозини взял под руку синьору Меммо и увлек за собой также Эдзелино, опершись на его руку. Таким образом шествие снова двинулось вперед и дошло до гондол под звуки труб и приветственные клики народа, который бросал цветы под ноги новобрачной, как бы взамен денег, щедро разбросанных ею с церковной паперти. Так и не пришлось на этот раз никому судить да рядить о неудаче отвергнутого жениха и торжестве предпочтенного. Заметили только, что оба соперника были очень бледны и что, стоя в двух шагах друг от друга, ежеминутно соприкасаясь, все время переговариваясь с одними и теми же собеседниками, они прилагали все старания к тому, чтобы не смотреть друг другу в лицо и не слушать, что каждый из них говорит. Когда все прибыли во дворец Морозини, вельможа прежде всего отвел в сторону графа и его дам и горячо выразил им свою благодарность за столь великодушное проявление миролюбия. — Мы вынуждены были так поступить, — ответил Эдзелино почтительно, но с достоинством, — и если бы это зависело только от меня, то сейчас же после разрыва нашей помолвки моя благородная тетушка первая пошла бы навстречу синьоре Джованне. К тому же я, может быть, проявил некоторое малодушие, удалившись в деревню. Однако я был настолько удручен, что одиночество оказалось мне настоятельно необходимым. Только в этом мое оправдание. Сейчас я покорился воле судьбы, и если выражение моего лица выдает подавляемые с трудом сожаления, то я не думаю, чтобы кто-нибудь осмелился открыто выказать свое торжество по этому поводу. — Если бы мой племянник на беду свою сделал что-либо подобное, — ответил Морозини, — он навсегда утратил бы мое уважение. Но этого не случится. Правда, Орио Соранцо не тот супруг, которого я бы сам избрал для моей Джованны. Из-за мотовства и беспутства его ранней юности я дал согласие не без колебаний, хотя племяннице под конец и удалось его у меня вырвать. Однако правда остается правдой: если говорить о чести и благородной порядочности, то в натуре Орио нельзя усмотреть ни одной черты, не оправдывающей высокого мнения, которое сложилось о нем у Джованны. — Я тоже так думаю, ваше превосходительство, — ответил Эдзелино. — Хотя вся Венеция порицает безумства мессера Орио Соранцо, хотя большинству людей он внушает некоторое нерасположение, мне действительно не известен ни один низкий или дурной поступок, из-за которого он заслуживал бы этой антипатии. Поэтому я считал себя обязанным молчать, когда убедился, что ваша племянница предпочла его. А пытаться восстановить доброе отношение к себе, очернив другого человека, — это не в моих правилах. Однако при всем моем отвращении к подобному поведению я бы решился на это, если бы считал мессера Соранцо совершенно недостойным породниться с вами. Из любви и уважения к вам я счел бы себя обязанным пойти на откровенность. Но воинские подвиги мессера Орио во время последней кампании доказывают, что, растратив попусту свое благосостояние, он оказался способным восстановить его самым славным образом. Не требуйте от меня дружеских чувств к нему, не просите, чтобы я протянул ему руку, — я был бы вынужден ослушаться. Но не опасайтесь, что я стану поносить его или бросать какой-либо вызов. Я чту его доблесть, и он ваш племянник. — Ни слова больше, — произнес адмирал, еще раз поцеловав благородного Эдзелино, — вы самый достойный дворянин во всей Италии, и мне всегда будет горестно, что я не смог назвать вас своим сыном. О, если бы у меня был сын! Если бы у него были ваши качества! Я бы просил у вас для него руки этой прелестной, славной девочки; ведь я люблю ее почти так же сильно, как мою Джованну. — И с этими словами он взял под руку Арджирию и повел ее в парадный зал, где многочисленная толпа гостей уже занялась принятыми в те времена играми и развлечениями. Эдзелино побыл некоторое время в зале. Но, несмотря на все свои благородные усилия, он невыносимо терзался горем и ревностью. Сжатые губы, угрюмый, неподвижный взгляд, неестественная походка, словно тело его свела судорога, наигранная веселость — все выдавало снедавшую его глубочайшую муку. Он уже не в силах был владеть собой. Видя, что сестра забыла о своем негодовании, перестала следить за ним тревожным взглядом и поддалась дружеской предупредительности Джованны, он вышел в первую же попавшуюся дверь и спустился вниз по довольно узкой витой лестнице, ведшей на одну из галерей нижнего этажа. Шел он без всякой цели, весь охваченный безотчетной потребностью в одиночестве и тишине, и внезапно увидел, что навстречу ему, не замечая его, легким шагом поднимается по лестнице некий дворянин. В тот миг, когда этот дворянин поднял голову, Эдзелино узнал Орио, и вся ненависть его пробудилась, словно от удара электрическим током: поблекшее лицо вспыхнуло, губы дрогнули, глаза стали метать пламя, а рука, повинуясь невольному побуждению, наполовину вытянула из ножен кинжал. Орио был очень храбр, дерзновенно храбр и многократно доказывал это, а впоследствии доказал, что храбрость его может дойти до безумия. И все же в этот миг он испугался. Есть лишь одна подлинная и непоколебимая храбрость — та, что свойственна сердцам подлинно великим и непоколебимо благородным. Человек, любящий жизнь с упорством существа, жадного до ее материальных благ и радостей, приверженный к этим ложным ценностям, сможет бестрепетно заглянуть в глаза смерти ради того, чтобы умножить свои наслаждения или завоевать славу, ибо утоление тщеславия стоит у себялюбцев на одном из первых мест. Но попробуйте застичь такого человека на вершинах благополучия, попробуйте, не соблазняя его приманкой богатства и славы, призвать его к тому, чтобы он возместил нанесенное кому-либо зло, — тогда он легко может оказаться трусом, и вся его добрая слава не обрядит его настолько, чтобы этого не заметили. Орио был безоружен, и противник его занимал более выгодную позицию. К тому же он подумал, что Эдзелино оказался здесь преднамеренно и что, может быть, за ним под какой-нибудь аркой скрываются сообщники. С минуту он поколебался, а затем вдруг, побежденный страхом смерти, быстро повернулся и сбежал вниз по лестнице с легкостью молодого оленя. Пораженный Эдзелино застыл на месте. «Орио струсил! — торжествуя, подумал он. — Орио, забияка, дерзкий дуэлянт, Орио, герой минувшей войны, бежит при виде меня!» Он медленно сошел вниз до последней ступеньки, загадывая мысленно, вернется ли Орио с оружием в руках, и уже в глубине души не желая этого, ибо рассудок в нем одержал верх и он ощутил все безумие и неблаговидность мстительного порыва. Очутившись на нижней галерее, он увидел, что Орио стоит окруженный слугами и делает вид, будто отдает им какие-то распоряжения, словно он внезапно вспомнил о каком-то своем упущении и вернулся вниз, чтобы поправить дело. Он так быстро овладел собой, казался таким спокойным и беспечным, что Эдзелино на миг даже усомнился: может быть, Орио и впрямь занят был только своими мыслями и даже не заметил его на лестнице? Однако это было маловероятно. Тем не менее Эдзелино некоторое время прохаживался взад и вперед в конце галереи, не спуская с Орио глаз, пока тот не вышел со своими слугами в противоположную дверь. Не помышляя более о мести и даже раскаиваясь в том, что у него возникла такая мысль, но желая все же любой ценой проверить свои подозрения, Эдзелино вернулся в зал, где продолжалось празднество, и вскоре увидел соперника, тоже возвратившегося туда, в обществе нескольких гостей. Теперь у пояса его висел кинжал, и Эдзелино сразу же стало ясно, что Орио заметил его движение на лестнице. «Так, — подумал он, — значит, Орио решил, что я намеревался убить его? У него не нашлось ни достаточно уважения ко мне, ни достаточно спокойствия и присутствия духа, чтобы показать мне, в каких неравных условиях мы находимся? Им, значит, овладел страх, такой внезапный и слепой, что у него не хватило даже времени заметить, как я всунул кинжал обратно в ножны, видя его безоружным. В сердце этого человека нет благородства, и я не удивлюсь, если окажется, что какой-нибудь оставшийся в тайне низкий поступок или даже нераскрытое преступление уже приглушили в нем задатки чести и мужества». С этой минуты оставаться на празднестве стало для Эдзелино еще невыносимее. К тому же он заметил, что, разговаривая с Джованной, сестра его дала Орио возможность подойти к ней и что она отвечает на его праздные и легкомысленные вопросы с застенчивостью, в которой становится все меньше и меньше высокомерия. Орио же, действительно думая, что у соперника его имеются мстительные замыслы, хотел выяснить, не знает ли об этом Арджирия. Он рассчитывал, что девушка в простосердечии своем невольно выдаст секрет, и внимательно наблюдал за ее поведением, донимая нагловатыми любезностями и не спуская с нее хищного соколиного взгляда, якобы дававшего ему некую магическую власть над всеми женщинами. Арджирия, редко бывавшая в обществе, совсем еще юная и чистая, не могла понять волнения, которое вызывал в ней этот взгляд. У нее как-то странно кружилась голова, а когда Соранцо устремлял затем горящие страстью глаза на Джованну и обращался к ней со словами, полными пылкой нежности, сердце Арджирии вдруг начинало колотиться, а щеки горели, как будто эти взоры и эти слова относились не к Джованне, а к ней самой. Эдзелино не заметил ее душевного смятения. Но бал вот-вот должен был начаться, — он боялся, чтобы Орио не пригласил его сестру на танец, ибо для него непереносима была даже мысль, что она может непринужденно беседовать и спокойно принимать любезности человека, которого он уже не столько ненавидел, сколько начал презирать. Он подошел к Арджирии, взял ее за руку и, подведя к тетке, стал умолять обеих покинуть празднество. Арджирия явилась сюда нехотя, но когда брат заставил ее уйти, она ощутила какую-то боль — словно в ней что-то надломилось, словно некое сожаление уязвило ее в самое сердце. Она дала увести себя, не в силах вымолвить ни слова, а добрая тетушка, питавшая беспредельное доверие к мудрости и благородству Эдзелино, последовала за ним, ни о чем даже не спросив. Свадебные празднества, отличавшиеся необыкновенной пышностью, продолжались несколько дней. Но граф Эдзелино здесь больше не появлялся: в тот же вечер он уехал в Падую, забрав с собой тетку и сестру. Конечно, стать супругом одной из самых богатых наследниц республики и племянником главнокомандующего — это было очень много для человека, еще накануне почти что совсем разоренного, и вполне достаточно для обычного честолюбца. Но Орио всего было мало, его ничто не могло насытить. Для его безумного мотовства требовалось королевское состояние. Он был одновременно и ненасытен и корыстолюбив: все средства были для него хороши, чтобы раздобыть деньги, и все наслаждения пригодны, чтобы их растранжирить. Но особенно владела им страсть к игре. Привыкнув к любым опасностям и к любым удовольствиям, он лишь в игре обретал достаточно острые переживания. И потому играл он так, что это казалось страшным даже в этой стране и в тот век безумных игроков, ставя нередко на один бросок игральных костей все свое состояние, выигрывая и проигрывая раз двадцать за ночь доход пятидесяти семей. Вскоре в приданом его жены обнаружились изрядные прорехи, и он осознал, что надо либо переменить образ жизни, либо возместить потери, если он не хотел оказаться в том же положении, что и перед женитьбой. Вновь наступила весна, и началась подготовка к возобновлению военных действий. Орио заявил Морозини, что желает сохранить предоставленную ему республикой должность под начальством адмирала, и, проявив воинский пыл, снова завоевал расположение командующего, которое начал было утрачивать из-за своего неблаговидного поведения. Когда настало время поднимать паруса, он со своей галерой оказался на месте и вышел в море в составе всего флота в начале 1686 года. Самым блистательным образом участвовал он во всех главных сражениях этой памятной кампании, особенно отличившись при осаде Корона и в битве на равнинах Лаконии, где венецианцы одержали победу над капитан-пашой Мустафой. С наступлением зимы Морозини обеспечил защиту завоеванных областей и увел флот зимовать на Корфу, откуда можно было наблюдать за положением как на Адриатике, так и на Ионическом море. И действительно, в пору зимних непогод турки не проявили никакой серьезной активности. Но зато жители песчаных отмелей Лепантского залива, в минувшем году приведенные к покорности генералом Штразольдом, воспользовались моментом, когда сила ветра и беспрестанное волнение на море не давали крупным венецианским судам выйти из гавани. Благодаря своим малым размерам и легкости их баркасы свободно избегали столкновений с большими кораблями, которые они могли встретить, и прятались, словно морские птицы, за любой скалой. Почти не стесняясь, занимались они морским разбоем, нападали на все торговые суда, вынужденные по делам своих владельцев отправляться в трудные зимние рейсы, даже иногда на вооруженные галеры, большей частью захватывали их, расхищали грузы и истребляли экипажи. Особенно свирепствовали миссолунгцы, укрывавшиеся на островах Курцолари, между Мореей, Этолией и Кефалонией. Для того чтобы положить этому конец, главнокомандующий послал на острова, особенно кишащие пиратами, гарнизоны отборных моряков на хорошо вооруженных галерах, поручив командование ими самым умелым и решительным офицерам. Он не забыл и Соранцо, ибо тот, скучая в бездействующей армии, одним из первых попросился на борьбу с пиратами. Ему поручили пост, достойный его дарований и мужества, послав во главе трехсот человек на самый большой из островов Курцолари и поручив обеспечить безопасность на важных морских путях вблизи от него. Появление Соранцо привело в ужас миссолунгцев, знавших его непобедимую храбрость и беспощадную суровость. И действительно, в первое время там, где он командовал, совершенно прекратился морской разбой, между тем как в местах, подчиненных другим командирам, несмотря на активные действия гарнизонов, все время происходили частые и жестокие нападения пиратов на мирные суда. По представлению его дяди, который был в полном восторге от этих успехов, правительство республики не раз посылало Соранцо благодарственные грамоты. Однако же Орио, обманутый в своих расчетах найти неприятеля, которого можно было громить и грабить, задумал одним мощным ударом поправить то, что он считал несправедливостью судьбы к своей особе. Ему стало известно, что паша Патраса хранит в своем дворце бесчисленные сокровища и что, положившись на хорошо укрепленные городские стены и на многочисленность жителей, он смотрит сквозь пальцы на то, что солдаты его довольно плохо охраняют город. Учтя все эти обстоятельства, Орио выбрал из своего отряда сотню самых храбрых солдат, погрузил их на галеру, велел держать курс на Патрас, с тем чтобы попасть туда только к ночи, и, укрыв свой корабль и людей в окруженной скалами бухточке, первым сошел на берег и, переодетый, направился к городу. Вы знаете конец этого приключения, так поэтически рассказанного Байроном. В полночь Орио подал своему отряду условный сигнал к выступлению и встретил его у городских ворот. Там он прикончил часовых, бесшумно прошел через спящий город, врасплох захватил дворец и принялся за грабеж. Но на Орио напал отряд, в двадцать раз превосходящий численностью его банду, их оттеснили в один из внутренних дворов и взяли в кольцо. Он защищался, как лев, и отдал свою шпагу лишь тогда, когда последний из его людей уже давно пал. Паша, несмотря на свою победу, пришел в ужас от дерзости врага; он велел заковать его в цепи и запереть в самом глубоком каземате своего дворца, чтобы насладиться муками и, может быть, трепетом того, из-за кого он сам трепетал. Но любимая невольница паши, по имени Наам, видела из своего окна ночную битву. Соблазненная красотой и храбростью пленника, она тайком явилась к нему и обещала ему свободу, если он согласится разделить ее любовь. Невольница была хороша собой, Орио — не слишком щепетилен в любовных делах и вдобавок полон жажды жизни и свободы. Сделка была заключена, и в скором времени их замысел осуществился. На третью ночь Наам заколола своего господина и, воспользовавшись смятением, вызванным этим убийством, бежала вместе с любовником. Они сели в лодку, о которой невольница заранее позаботилась, и добрались до островов Курцолари. Двое суток граф оставался погруженным в глубочайшее уныние. Потеря галеры была для него существенным материальным ущербом, а то, что он без толку погубил сотню отборных солдат, могло нанести значительный ущерб его военной репутации, а значит, помешать повышению в должности, которое он рассчитывал получить от венецианского правительства. Ибо для него все на свете сводилось к выгоде, и высокого положения он добивался лишь потому, что, занимая его, легче было обогатиться. Вскоре он стал думать только о плачевных последствиях своего безрассудного приключения и о способах, которыми можно было теперь помочь делу. И вот вскоре всем бросилось в глаза, что он совершенно переменил свой образ жизни, и даже характер его, по-видимому, изменился так же, как поведение. Прежде он с легкостью пускался на любое дерзкое предприятие, теперь стал осмотрительным и даже склонным к подозрительности; по его словам, этого после гибели его главной галеры требовал от него долг. Он имел в своем распоряжении всего одну галеру и не мог рисковать ею в дальних походах. Поэтому она занималась лишь наблюдением за морскими путями недалеко от небольшой скалистой бухты, служившей ей гаванью, и ограничивалась только плаванием вокруг острова, не теряя его из вида. Да и командовал ею уже не сам Орио. Это дело он поручил своему помощнику, а сам появлялся на судне лишь время от времени для производства смотров. Он не покидал замка, где сидел, запершись, погруженный, казалось, в полное отчаяние. Солдаты громко роптали, и он словно бы не обращал на это внимания, а потом вдруг выходил из своей апатии и подвергал недовольных суровым карам. Эти возвраты к заботе о порядке и дисциплине отмечались жестокостями, которые восстанавливали покорность начальнику и довольно долго держали команду в страхе. Такой способ действий принес свои плоды. Пираты, приободренные и поражением Соранцо в Патрасе и несмелым патрулированием его галеры вокруг островов Курцолари, вновь появились в Лепантском заливе, продвинулись к самому проливу, и вскоре весь этот район стал для мирных судов еще опаснее, чем когда-либо. Почти все проходившие там торговые корабли исчезали неведомо куда, так что о них потом никто ничего не слыхал, а немногие, достигавшие места назначения, утверждали, что им это удалось лишь благодаря быстроходности и попутному ветру. Между тем граф Эдзелино также покинул Италию не повидавшись с Джованной и не посетив дворца Морозини. Через несколько дней после свадьбы Соранцо он получил от правительства назначение и распрощался с сестрой и теткой. Отправился он в Морею, надеясь, что военные события и дурман воинской славы заглушат его любовные муки и залечат раны, нанесенные его самолюбию. В этой компании он отличался не меньше, чем Соранцо, но не смог обрести забвение и опьянение, которых искал. Печаль не оставляла его, он избегал общества людей более счастливых и к тому же чувствовал известное стеснение оттого, что состоял при Морозини, и поэтому в конце концов добился, чтобы тот поручил ему на зиму пост командующего в Короне. Однако вышло так, что Морозини, узнав об усилении пиратских налетов, решил назначить Эдзелино на командную должность поближе к местам их разбоя и в конце февраля призвал его к себе. Эдзелино покинул Мессению и направился в Корфу во главе немногочисленного, но доблестного экипажа. Плавание проходило вполне благополучно, пока они не поравнялись с Занте. Но тут подул западный ветер, заставивший их удалиться из открытого моря и войти в пролив, отделяющий Кефалонию от северо-западной оконечности Мореи. Всю ночь им пришлось бороться со штормом, а на следующий день за несколько часов до захода солнца они поравнялись с островами Курцолари и как раз должны были миновать последний из трех главных. Эдзелино с несколькими матросами держал вахту и плыл, пользуясь попутным ветром, остальные же, устав после тяжелого ночного плавания, отдыхали, лежа на палубе. Внезапно из-за скалистого мыса, образующего северо-западную оконечность этого острова, навстречу им устремилось суденышко с многочисленной командой. Эдзелино сразу же увидел, что придется иметь дело с миссолунгскими пиратами. Однако он сделал вид, что не узнает их, и спокойно велел своим людям приготовиться к схватке, но так, чтобы не показываться пиратам, и продолжал путь, словно не заметил опасности. Пираты, поставив все паруса на весла, приблизились к галере и под конец забросили на нее абордажные крючья. Когда Эдзелино увидел, что оба корабля тесно соприкоснулись и миссолунгцы уже собираются перебросить к ним мостки для нападения, он дал своему экипажу сигнал, и все поднялись как один. При виде этого пираты заколебались, но одно слово их вождя снова пробудило первоначальную смелость, и они всей массой бросились на неприятельскую палубу. Битва была жестокая, и сперва ни та, ни другая сторона не могла одержать верх. Эдзелино, все время руководивший своими матросами и подбадривавший их, заметил, что вражеский командир, напротив, безмятежно спит на корме своего судна, не принимая никакого участия в схватке, словно все происходящее — только зрелище, для него совершенно постороннее. Удивленный этим спокойствием, Эдзелино стал внимательно вглядываться в этого странного человека. Он был одет так же, как другие миссолунгцы, на голове его красовался большой красный тюрбан. Густая черная борода скрывала половину лица, придавая его чертам еще более энергичное выражение. Любуясь его красотой и невозмутимостью, Эдзелино смутно вспоминал, что где-то он его уже видел, наверное в каком-нибудь сражении. Но где? Этого-то он и не в состоянии был восстановить в памяти. Впрочем, мысли эти лишь промелькнули в его мозгу, и все внимание его снова обратилось к битве. Дело, казалось, принимало неприятный для него оборот. Его люди сражались очень храбро, но вот они стали ослабевать и мало-помалу отступать под натиском своих оголтелых противников. Видя это, молодой граф рассудил, что наступила пора ему самому броситься в бой, чтобы личным примером поднять дух дрогнувших людей. Из командира он превратился в простого солдата и, подняв саблю, бросился в самую гущу схватки с криком: «Святой Марк! Святой Марк! Вперед!». Собственноручно убил он трех пиратов, которые находились в самом первом ряду; его люди, приободрившись, последовали за ним, и им удалось, в свою очередь, оттеснить нападающих. Тогда вождь пиратов сделал то же, что Эдзелино. Видя, что его команда отступает, он вскочил на ноги, схватил абордажный топор и с диким криком бросился на венецианцев. Те в нерешительности задержались, один Эдзелино осмелился пойти прямо на него. Оба начальника встретились на одном из мостков, соединявших корабли. Эдзелино изо всех сил попытался нанести удар миссолунгцу, который шел на него, ничем не защищенный, но пират отвратил удар рукоятью топора, а лезвие уже занес над головой графа, когда Эдзелино, державший в другой руке пистолет, прострелил ему правую руку. Пират на миг остановился, яростно взглянул на свой упавший топор, с каким-то вызовом поднял окровавленную руку и отступил к своим людям. Те, видя, что вождь их ранен, а неприятель по-прежнему готов к мужественной встрече, быстро убрали абордажные мостки, перерезали канаты крючьев и удалились почти так же быстро, как и появились. Не прошло и четверти часа, как они уже исчезли за скалами, из-за которых вышли. Экипаж Эдзелино понес большие потери, и потому командир, решив, что честь его спасена доблестной обороной галеры, не счел нужным принимать к ночи новый бой и удалился со своим судном под защиту укрепленного замка на главном острове. Когда они бросили якорь, наступила уже темнота. Он отдал необходимые распоряжения и, прыгнув в шлюпку, подплыл к замку. Замок этот стоял на самом берегу на высоких, обрывистых скалах, где с грохотом разбивались волны прибоя. Он возвышался над островом, и с него просматривался весь горизонт, вплоть до двух других островов. С суши его окружал ров глубиной в сорок футов и замыкала со всех сторон высоченная стена. По четырем углам замка, словно стрелы, вонзались в небо остроконечные башни. Единственный, по всей видимости, выход из замка закрывали тяжелые железные ворота. Все это было массивным, черным, угрюмым и зловещим, издали похожим на гнездо какой-то хищной птицы. Эдзелино не знал, что Саранцо спасся после патрасской бойни. Ему было известно лишь о безумной затее Орио, его поражении и потере галеры. Прошел слух о его гибели, а затем о побеге; но там, где находился Эдзелино, на крайнем пункте морейского побережья, никто не мог сказать, сколько было правды или лжи во всех этих рассказах. Из-за разбоя миссолунгских пиратов весть о смерти Соранцо казалась гораздо более вероятной, чем весть о его спасении. Граф поэтому оставил Корон с неясным чувством радости и надежды, но во время путешествия им вновь овладели обычные мысли — печальные и гнетущие. Он говорил себе, что если даже Джованна теперь свободна, один вид прежнего жениха покажется ей оскорблением ее горю и, может быть, в ее чувствах к нему уважение сменится ненавистью. Кроме того, заглядывая в свое собственное сердце, Эдзелино воображал, что на дне этой пучины страдания нет уже ничего, кроме своего рода жалости к Джованне, супруга ли она Орио Соранцо или его вдова. И только теперь, когда Эдзелино ступил ногой на побережье острова Курцолари и к нему вернулась привычная меланхолия, на миг развеявшаяся в пылу битвы, он вспомнил о своей личной задаче, которую ему предстояло разрешить и из-за которой он последние два месяца словно как бы и не жил по-настоящему. И, несмотря на то, что он — так ему казалось — был вооружен теперь равнодушием, сердце его дрогнуло от волнения, гораздо более острого, чем испытанное при виде пиратов. Одно слово из уст первого же матроса, которого он увидел на берегу, могло покончить с мучившей его неизвестностью, но чем сильнее она его мучила, тем меньше оставалось у него мужества для того, чтобы навести справки. Комендант замка узнал венецианский флаг и, ответив на салют галеры равным числом пушечных выстрелов, вышел навстречу Эдзелино и объявил, что в отсутствие губернатора на нем, коменданте, лежит обязанность предоставлять убежище и защиту кораблям республики. Эдзелино хотелось спросить, является ли отсутствие губернатора временным или же слова коменданта означают, что Орио Соранцо нет в живых. Но он не мог заставить себя задать этот вопрос, словно его собственная жизнь зависела от ответа. Комендант же, рассыпавшийся в любезностях, был несколько удивлен сдержанностью и смущением, с которыми молодой граф принимал их, и в смущении этом усмотрел холодность и высокомерие. Он провел Эдзелино в просторный зал сарацинской архитектуры, радушно предложил ему отдохнуть и откушать и понемногу обрел свою обычную приниженно-почтительную повадку. Человек этот, по имени Леонцио, родом словенец, был наемником и успел поседеть на службе у Венецианской республике. Привыкнув скучать на своих второстепенных должностях, он отличался характером беспокойным, любопытным и склонным к болтливости. Эдзелино принужден был выслушать обычные ламентации офицера, командующего укрепленным пунктом и обреченного на унылую и опасную зимовку. Он почти не слушал его и, только услышав некое имя, встрепенулся. — Соранцо?! — вскричал он, не в силах будучи сдерживаться. — Кто этот Соранцо, и где он сейчас находится? — Мессер Орио Соранцо — губернатор этого острова, о нем я и имею честь говорить с вашей милостью, — ответил Леонцио. — Не может быть, чтобы вы не изволили слышать о столь доблестном капитане. Эдзелино молча сел на свое место, а затем через минуту спросил, почему же губернатор местности, столь важной в военном отношении, не находится на своем посту, особенно же в такое время, когда пираты хозяйничают на море и нападают на галеры республики чуть Ли не под самыми пушками его укреплений. На этот раз он внимательно вслушался в ответ коменданта. — Ваша милость, — сказал тот, — изволили задать мне вполне естественный, который задаем и мы все, начиная от меня, коменданта крепости, и кончая последним солдатом гарнизона. Ах, синьор граф, до чего же могут впасть в уныние из-за неудачи даже самые храбрые воины! После патрасского дела благородный Орио утратил всю свою мощь и дерзновенность. Мы просто изнываем здесь от безделья, а ведь было время, когда он корил нас за лень и медлительность. Господь свидетель, мы этих упреков не заслуживали. Но хоть они и были несправедливы, мы предпочитали бы видеть его таким, чем в унынии, в которое он впал. Ваша милость, можете мне поверить, — добавил Леонцио, понизив голос, — это человек, потерявший голову. Если бы два месяца назад ему хотя бы рассказали о вещах, которые теперь происходят у него на глазах, он бы ринулся, как морской орел, в погоню за этими чайками. Он не знал бы ни сна, ни отдыха, он бы куска в рот не взял, пока не истребил бы этих пиратов и не убил бы своей рукой их вожака! Но увы! Они кидают нам вызов под нашими же укреплениями, и красный тюрбан ускока нагло маячит у нас перед глазами. Нет сомнения, именно этот гнусный пират и напал сегодня на вашу светлость. — Возможно, — равнодушным тоном ответил Эдзелино. — Одно несомненно: несмотря на свою неслыханную дерзость, эти пираты не могут совладать с хорошо вооруженной галерой. На моем судне только шестьдесят вооруженных людей, и однако мы, я думаю, справились бы со всеми объединенными силами миссолунгцев. Конечно, не считая даже этой мощной галеры, что стоит там на якоре, у вас здесь больше людей и припасов, чем нужно для того, чтобы в несколько дней уничтожить всю эту мерзкую нечисть. Что подумает Морозини о поведении своего племянника, когда узнает, что здесь творится? — А кто осмелится сообщить ему об этом? — произнес Леонцио с улыбкой, к которой примешивались и желчность и страх. — Мессер Орио беспощадно мстит за обиды, и если бы хоть малейшая жалоба на него дошла до слуха адмирала из этого проклятого места, даже последний здешний юнга не избавился бы до самой смерти от последствий гнева Соранцо. Увы! Смерть — пустяк, случайность войны. Но стареть под ярмом, без славы, без выгоды, без продвижения — что может быть хуже в солдатской жизни? Кто скажет, как принял бы прославленный Морозини жалобу на своего племянника? Я-то уж наверное не встану на чашу весов, если на другой чаше такой человек, как Орио Соранцо! — А из-за этих опасений, — с негодованием возразил Эдзелино, — торговле вашего отечества чинятся препятствия, добрые купцы разорены, целые семьи с женщинами и детьми неотомщенные погибают в путешествиях жестокой смертью. Низкие бандиты, отбросы всех наций, издеваются над венецианским флагом, а мессер Орио Соранцо все это терпит! Вокруг него столько храбрых солдат, которые локти себе кусают от нетерпения, и среди них не найдется ни одного, который осмелился бы пойти на риск ради спасения своих сограждан и чести родины! — Видно, придется уж все сказать, синьор граф, — ответил Леонцио, испуганный гневной вспышкой Эдзелино. Но тут же осекся и огляделся по сторонам, словно опасаясь, нет ли у стен глаз и ушей. — Ну что ж, — горячо продолжал граф, — что вы можете сказать в оправдание своей робости? Говорите, или я сочту вас ответственным за все это. — Синьор граф, — ответил Леонцио, продолжая пугливо озираться по сторонам, — благородный Орио Соранцо, может быть, больше несчастен, чем виновен. Говорят, в его личных покоях под покровом тайны происходят странные вещи. Слышали, как он громко и запальчиво говорил сам с собой. Как-то ночью его встретили — он блуждал в темноте, как одержимый, бледный, изможденный, в какой-то странной одежде. Неделями сидит он, запершись в своей комнате и не допуская к себе никого, кроме одного мусульманского раба, вывезенного им из этой злосчастной экспедиции в Патрас. Порой, особенно в бурную погоду, он с этим юношей и еще лишь с двумя-тремя моряками решается выйти в море в утлой лодчонке и, развернув парус, с бесстрашием, похожим на безумие, исчезает на горизонте среди отмелей, окружающих нас со всех сторон. Он отсутствует по нескольку дней, и повинна в этих бессмысленных и опасных прогулках только его больная фантазия — иного объяснения не придумать. Но согласитесь, ваша милость, что во всем этом он проявляет немалую энергию. — Тогда речь может идти только о самом очевидном безумии, — заметил Эдзелино. — Если мессер Орио потерял рассудок, его надо поместить в больницу и лечить. Но нельзя же поручать умалишенному командный пост, от которого зависит безопасность морских путей. Это крайне важно, и сегодня по воле случая на меня оказался возложенным долг, который я сумею выполнить, хотя один бог знает, насколько он мне тягостен… Послушайте! Губернатор действительно отсутствует, или он в такой час просто спит в своей постели? Я хочу сам расспросить его, я хочу все увидеть собственными глазами, хочу узнать, что с ним такое — больной он, безумец или предатель. — Синьор граф, — сказал Леонцио, словно скрывая какое-то свое личное беспокойство. — По этой вашей решимости узнаю в вас верного сына республики. Но я даже не имею возможности сказать вам, заперся ли губернатор у себя в покоях или же выехал на прогулку. — Как?! — вскричал Эдзелино, пожимая плечами. — Никто здесь даже не знает, где его искать по делу? — Это святая правда, — сказал Леонцио, — и милости вашей должно быть понятно, что все здесь стараются иметь как можно меньше дела с губернатором. В том состоянии, в каком он пребывает, самое лучшее, чтобы он не отдавал никаких распоряжений. Когда он выходит из своего угнетенного состояния, то оно сменяется у него какой-то суматошной деятельностью, которая могла бы оказаться гибельной для всех нас, если бы его помощник по командованию галерой не умел осторожно и ловко обходить его приказания. Но даже всей его ловкости хватает лишь на то, чтобы несколько оберегать нас от безрассудных распоряжений, которые мессер Орио отдает ему с высоты крепостной башни. Ваша милость изволили бы жалостливо усмехнуться, увидев, как наш губернатор, вооружившись разноцветными флагами, пытается с такого расстояния сообщить на корабль о своих странных намерениях. К счастью, когда мы притворяемся, что ничего не поняли, а он приходит в состояние ужасающей ярости, у него совершенно отшибает память. К тому же его помощник Марко Медзани — человек мужественный, который скорее не побоится навлечь на себя его гнев, чем посадить галеру на отмели, куда мессер Орио часто велит ему вести ее. Я убежден, что он горит желанием поохотиться на пиратов и что как-нибудь он это и сделает, не заботясь о том, что подумает мессер Орио о его ослушании. — «Как-нибудь»!.. «Что подумает»!.. — вскричал Эдзелино, все более и более возмущаясь всем услышанным. — Вот уж действительно великое мужество и старания! Но какую пользу приносили они до самого последнего времени? Нет, господин комендант, я просто представить себе не могу, как это люди переносят тиранию безумца и как это им не пришло в голову, вместо того чтобы обходить нелепые приказы, связать его по рукам и ногам, бросить в лодку на матрас и отвезти в Корфу, чтобы дядюшка его, адмирал, лечил племянника, как уж найдет нужным. Вот что — довольно всех этих ненужных подробностей! Окажите мне такую любезность, мессер Леонцио, подите попросите Соранцо принять меня, а если он откажется, покажите мне дорогу в его покои. Ибо, клянусь вам, я не уйду отсюда, пока не пощупаю пульс его чести или его бреду. Леонцио все еще колебался. — Ступайте, сударь, — с силой сказал ему Эдзелино. — Чего вы страшитесь? У меня здесь имеется галера, если ваша не находится в должном боевом состоянии. И если ваши триста человек боятся одного больного, то хватит и моих шестидесяти, которые не боятся ничего. Я принимаю на себя всю ответственность за свое решение и обещаю вам, если понадобится, защиту от вашего начальника. Никогда бы не подумал, что такому старому вояке, как вы, потребуется для выполнения его прямого долга покровительство юнца, вроде меня. Оставшись один, Эдзелино принялся расхаживать взад и вперед по залу. Солнце уже село, наступали сумерки. Жаркий багрянец вечернего неба понемногу затухал в волнах Ионического моря. Просторный морской ландшафт, развертывающийся вокруг острова, обрамляло извилистое побережье Кварнерского залива. Граф остановился у узкого окна, образующего двойной стрельчатый свод с каменной резьбой и господствующего на высоте более чем в сто футов над этой великолепной панорамой. Гладкие стены крепости упирались в обрывистую скалу, о которую беспрестанно бился прибой, и казалось, что весь замок уходит корнями глубоко в бездну и в то же время силится рвануться к облакам. Одинокий на этой отмели, он имел вид и дерзновенный и одновременно какой-то жалкий. Восхищаясь его живописным расположением, Эдзелино ощущал все же нечто вроде головокружения, и ему пришло на ум, что, пожалуй, длительное пребывание в такой местности действительно может привести в бредовое состояние впечатлительную душу, какой, наверное, обладал Соранцо. Он подумал, что бездействие, болезнь и огорчения в таком месте — это пытка хуже смерти, и возмущение, дотоле переполнявшее его, сменилось чем-то вроде жалости. Однако он воспротивился этому порыву великодушия и, понимая всю важность принятого им на себя долга, оторвался от своего созерцания и снова принялся быстро ходить взад и вперед по обширному залу. Гнетущая тишина, дышащая и отчаянием, царила в этой обители воинов, где лязг оружия и возгласы часовых должны были бы беспрестанно примешиваться к голосу ветров и волн. Но слышны были только крики морских птиц, бесчисленными стаями опускавшихся к ночи на прибрежные скалы, о которые разбивались волны с величавым грохотом, отдававшимся в пространстве каким-то протяжным, монотонным воплем. Место это было некогда свидетелем славного кровопролитного сражения. Вблизи отмелей Курцолари (древних Эхинад) героический побочный отпрыск Карла Пятого, дон Хуан Австрийский, дал первый сигнал к великой битве при Лепанто и уничтожил соединенные морские силы Турции, Египта и Алжира. К этому времени относилась и постройка замка. Он назывался Сан-Сильвио, может быть, потому, что воздвиг его и занимал граф Сильвио де Порчья, один из победителей в этой битве. Эдзелино видел, как в последних отсветах заката на стенах словно слегка движутся крупные силуэты героев Лепанто в мощных боевых доспехах, изображенные в колоссальных масштабах на довольно грубо намалеванных фресках. Там был генералиссимус Веньеро, который в свои семьдесят шесть лет совершал чудеса храбрости, проведитор Барбаринго, маркиз де Санта-Крус, доблестные капитаны Лоредано и Малиньеро, павшие в этом кровавом бою, наконец, знаменитый Брагадино, с которого за несколько месяцев до Лепантского сражения живьем содрали кожу по приказу Мустафы и который был изображен здесь в устрашающем виде кровавой жертвы — вокруг головы ореол мученика, тело уже наполовину без кожи. Возможно, фрески эти писал какой-нибудь солдат-художник, раненный при Лепанто. От морского воздуха они частично уже осыпались, но все оставшееся имело весьма выразительный вид, и эти героические призраки, поврежденные временем и словно витающие в сумеречном воздухе, наполнили душу Эдзелино благоговейным ужасом и патриотическим воодушевлением. Каково же было его удивление, когда от своих сумрачных мечтаний он был пробужден звуками лютни! Звукам этим вторил женский голос, нежный и мелодичный, хотя и слегка дрожащий — видимо, от какого-нибудь горя или душевной боли. Эдзелино отчетливо расслышал слова хорошо известного ему венецианского романса: Венера — меж богинь царица, Венеция — царица вод. Звезда любви, морей столица — Владычицы земных красот. Вас, дивных, с нежностью смиренной Качает колыбель волны; Вы — сестры, вы кипящей пеной Морской лазури рождены. Эдзелино ни на мгновение не усомнился, что это за романс и чей голос он слышит. — Джованна! — вскричал он, устремляясь в противоположный конец зала и дрожащей рукой приподнимая тяжелый край завесы, скрывавшей самое дальнее окно. Окно это выходило во внутренние дворы замка, в одну из тех его частей, которые окружены жилыми строениями и в зданиях нашего французского средневековья назывались лужайками. Эдзелино увидел дворик, резко несхожий со всем остальным, что было на острове и в замке. Это было местечко для отдыха, построенное недавно в восточном стиле и словно специально для того, чтобы здесь можно было найти убежище от утомительного вида бушующих волн и резкости морского ветра. Довольно обширная четырехугольная площадка была засыпана толстым слоем плодородной земли, и на ней цвели красивейшие цветы Греции, которым здесь не угрожала непогода. Этот искусственный сад был невыразимо поэтичен. Растения, которых насильно заставили прижиться в этом месте, источали некую томность, дышали странным ароматом, словно они поняли, какое сладострастие, смешанное со страданием, таит в себе добровольный плен. О них, видимо, старательно и нежно заботились. Источник, бивший из скалы и превращенный в фонтан, бормотал и звенел в бассейне паросского мрамора. Над этим цветником возвышалась галерея из кедрового дерева с несложной, но изящной и легкой резьбой в мавританском стиле. За этой галереей, над ее аркадами и под ними, виднелись сводчатые двери личных покоев губернатора и их круглые окна с резным переплетом. Портьеры из восточных тканей и занавески ярко-красного шелка скрывали от графа внутренность этих покоев. Но едва он взволнованным, проникновенным голосом повторилимя Джованны, как одна из этих завес быстро приподнялась. На балконе вырисовалась чья-то изящная светлая тень, помахала вуалью, словно подавая знак, что говорившего узнали, и, опустив завесу, в то же мгновение исчезла. Графу пришлось отойти от окна, так как появился Леонцио, чтобы дать отчет в порученном ему деле. Но Эдзелино узнал Джованну и теперь еле слушал ответ старого коменданта. Леонцио принес известие, что губернатор действительно выехал на морскую прогулку вокруг острова. Но то ли он сошел на берег где-нибудь среди скал Кварнерского залива, то ли плавает среди многочисленных островков, окружающих главный остров Курцолари, — его лодку нигде невозможно было обнаружить в подзорную трубу. — Очень странно, — заметил Эдзелино, — что во время этих рискованных поездок он не встречается с пиратами. — Да, действительно странно, — ответил комендант. — Но, говорят, бог хранит пьяниц и безумцев. Бьюсь об заклад, что будь мессер Орио в своем уме и понимай он опасность, которой подвергается, плавая почти в одиночестве на утлой лодчонке вдоль отмелей, кишащих пиратами, его бы в этих прогулках давно уже настигла смерть, которой он словно ищет, но которая вроде бы бежит от него! — Вы не сказали мне, мессер Леонцио, — прервал Эдзелино его речи, которых он, впрочем, не слушал, — вы не сказали мне, что здесь находится синьора Соранцо. — Ваша милость не соизволили спросить меня об этом, — ответил Леонцио. — Она здесь уже около двух месяцев и, думается мне, прибыла сюда без согласия мужа. Ибо, возвратившись из своей патрасской экспедиции, мессер Орио, либо не ожидавший ее, либо в безумии своем позабывший, что она должна к нему приехать, оказал ей весьма холодный прием. Тем не менее от отнесся к ней с величайшим уважением, и раз вашей милости попалась на глаза та часть замка, которую видно из этого окна, вы могли заметить, что там выстроили с почти волшебной быстротой деревянное помещение на восточный манер, очень, по правде говоря, простое, но куда более приятное, чем большие, холодные и темные залы во вкусе наших предков. Молодой турецкий раб, вывезенный мессером Соранцо из Патраса, набросал план и описал во всех подробностях, как устроить такой вот гарем, где имеется лишь одна султанша, которая зато прекраснее всех пятисот жен султана, вместе взятых. Здесь сделано все, что возможно, и даже, как говорится, немножко больше, чтобы скрасить племяннице славного адмирала пребывание в этом мрачном жилище. Эдзелино не прерывал старого коменданта. Он сам не знал, как ему быть. Он и хотел повидать Джованну и боялся этого. Он недоумевал, как надо понимать знак, который она подала ему из своего окна. Может быть, она в печальном своем положении нуждалась в чьем-либо почтительном и бескорыстном покровительстве. Он уже решил было послать к ней Леонцио с просьбой о свидании, когда от Джованны явилась ее греческая служанка и передала Эдзелино приглашение своей госпожи. Эдзелино тотчас же поспешно схватил свою шляпу, небрежно брошенную им на стол, и намеревался уже последовать за девушкой, как вдруг к нему вплотную подошел Леонцио и стал шепотом заклинать его ни в коем случае не идти на зов синьоры, дабы не навлечь на себя и даже на саму синьору гнева Соранцо. — Он запретил под страхом строжайших кар, — добавил Леонцио, — допускать какого бы то ни было венецианца любого ранга и возраста в свои внутренние покои. А так как и синьоре запрещено выходить за пределы деревянных галерей, заявляю вам, что ваше свидание с ней может оказаться равно пагубным и для вашей милости, и для синьоры, и для меня. — Что до ваших личных опасений, — решительным тоном ответил Эдзелино, — то я уже говорил вам, синьор: на борту моей галеры вы будете в безопасности. А что касается синьоры Соранцо, то раз она подвергается таким угрозам, пора уже, чтобы нашелся человек, способный избавить синьору от них и готовый на это. С этими словами он сделал весьма выразительное движение, заставившее Леонцио отшатнуться от двери, к которой он было устремился, чтобы преградить графу путь. — Я знаю, — произнес он, отступая, — с каким уважением должен относиться к положению, занимаемому вашей милостью в республике и в ее войсках. Поэтому я лишь умоляю вас подтвердить в случае необходимости, что я повиновался данному мне приказу, а ваша милость взяли на себя ответственность за неподчинение ему. Гречанка достала из ниши на лестнице серебряный светильник, который поставила туда, когда шла к Эдзелино, и провела графа через целый лабиринт коридоров, лестниц и террас до площадки, служившей садом. Теплый воздух ранней и щедрой весны тех мест слегка трепетал в этом защищенном со всех сторон убежище. В вольере щебетали красивые птички, сладостный запах источали цветы, тесно посаженные в горшочках, фестонами подвешенных к колоннам. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь cortile [469] венецианских палаццо, где искусно насаженные розы и жасмины словно растут из мрамора и камня. Невольница отодвинула пурпурную завесу главного входа, и граф проник в прохладный будуар византийского стиля, обставленный, однако же, в итальянском вкусе. Джованна полулежала на парчовых подушках, расшитых разноцветными шелками. Она еще держала в руках лютню, а большой белый борзой пес Орио, лежа у ее ног, словно разделял ее грустное ожидание. Она была все так же прекрасна, хотя совсем по-иному, чем раньше. Здоровый румянец уже не алел на щеках, от заботы и огорчений формы потеряли юную округлость. Платье белого шелка, в которое она была одета, казалось почти такого же цвета, как ее лицо, а широкие золотые браслеты болтались на похудевших руках. Можно было подумать, что она уже утратила всякое кокетство, всякое стремление украшать себя, обычно свидетельствующее у женщин о счастливой любви. Жемчужные перевязи ее прически распались и вместе с прядями распущенных волос спадали на алебастровые плечи, но она не позволяла невольницам привести их в порядок. Она уже не гордилась своей красотой. В ее жестах, во всей ее повадке болезненная слабость странно сочеталась с какой-то беспокойной порывистостью. Когда вошел Эдзелино, она казалась разбитой усталостью, и ее испещренные голубоватыми жилками веки не ощущали веяния опахала из перьев, которым рабыня-мавританка обвевала ее голову. Однако, услышав шаги графа, она внезапно приподнялась с подушек и вперила в него лихорадочно блестящий взгляд. Она протянула ему обе свои руки сразу, чтобы посильнее сжать его руку, а затем заговорила живо, остроумно, как будто находилась в Венеции, на балу. В следующее мгновение она протянула руку, приняла из рук рабыни золотой флакон, усыпанный драгоценными камнями, и вдохнула из него, побледнев еще больше, словно теряла сознание. Затем рассеянно провела пальцами по струнам лютни, задала Эдзелино несколько пустяковых вопросов, даже не слушая, что он ей отвечает. Наконец она приподнялась, облокотилась на подоконник узкого окошка, находившегося за ее спиной, и, устремив взор на черные волны, где уже начинало трепетать отражение вечерней звезды, погрузилась в безмолвную задумчивость. Эдзелино понял, что в ней — отчаяние. Через несколько минут она знаком отпустила прислужниц и, оставшись наедине с Эдзелино, вновь обратила к нему свои большие синие глаза, окруженные еще более темной синевой, и взглянула на него со странным выражением доверия и глубокой грусти. Эдзелино, смертельно расстроенный ее видом и поведением, ощутил вдруг в себе пробуждение той нежной жалости, о которой она словно молила его. Он подошел поближе. Она снова протянула ему руку и, усадив его на подушку у своих ног, заговорила: — О мой брат, о благородный мой Эдзелино, вы, наверное, не ожидали найти меня в таком состоянии? Вы видите, что сделало с моим лицом страдание. Ах, вы бы мне еще больше посочувствовали, если бы могли поглубже проникнуть в ту бездну муки, что разверзлась в моей душе! — Я догадываюсь об этом, синьора, — ответил Эдзелино. — И раз вы дали мне святое и нежное имя брата, будьте уверены, что я с радостью исполню братний долг. Приказывайте — я все совершенно точно выполню. — Не знаю, что вы хотите этим сказать, друг мой, — продолжала Джованна. — Какие приказы могу я вам отдавать? Разве что поцеловать за меня вашу сестру Арджирию, прелестного ангела, просить, чтобы она молилась и помнила обо мне и говорила обо мне с вами, когда я перестану существовать. — Вот, — добавила она, отделив от своей прически полуувядший цветок олеандра, — передайте ей это от меня на память и скажите, чтобы она старалась уберечься от страстей, ибо есть страсти, ведущие к смерти, а этот цветок — их эмблема. Это царственный цветок, им венчают триумфаторов, но, как и сама гордыня, он таит в себе утонченный яд. — Однако, Джованна, не гордыня же убивает вас, — сказал Эдзелино, принимая этот грустный дар. — Гордыня убивает только мужчин, а женщин убивает любовь. — Но разве не знаете вы, Эдзелино, что у женщин зачастую именно гордыня — побудитель любви? Ах, мы существа без силы, без доблести, или, вернее, наша слабость и наша энергия одинаково необъяснимы! Когда я думаю, каким ребяческим способом нас соблазняют, с какой легкостью мы попадаем под власть мужчины, я просто понять не могу, почему так упорны эти привязанности, которые так легко возникают и которые невозможно уничтожить. Только что я напевала романс, — вы должны его помнить, ведь он вами для меня сложен. Так вот, напевая, я думала, что в мифе о рождении Венеры скрыт глубокий смысл. Вначале страсть как легкая пена, которую ветер колеблет на гребнях волн. Но дайте ей вырасти, и она станет бессмертной. Будь у вас на это время, я бы просила вас добавить к моему романсу еще куплет, выражающий эту мысль, ибо я его часто пою и очень часто вспоминаю вас, Эдзелино. Поверите ли — когда только что вы произнесли мое имя из окна галереи, у меня не возникло ни тени сомнения, что это ваш голос. А когда я в сумерках увидела ваш облик, мои глаза узнали вас без малейшего колебания. Ведь мы видим не только глазами. Душа обладает таинственными органами чувств, которые становятся все более чуткими и проницательными, по мере того как мы быстро склоняемся к преждевременному концу. Я часто слышала об этом от дяди. Вы знаете, что рассказывают о Лепантской битве. Накануне того дня, когда оттоманский флот был разгромлен вблизи этих отмелей победоносным оружием наших предков, рыбаки венецианских лагун слышали боевые клики, раздирающие душу стоны и грозную, все усиливающуюся канонаду. Все эти звуки словно колебались на волнах и реяли в воздухе. Слышен был лязг оружия, треск кораблей, свист ядер, проклятия побежденных, жалобы умирающих. А между тем ни в Адриатике, ни на других морях не происходило в ту ночь никакого сражения. Но этим простым душам дано было некое откровение, некое предвидение того, что произошло на следующий день при свете солнца за двести лье от их родины. Тот же инстинкт подсказал мне прошлой ночью, что сегодня я вас увижу. Это, наверное, покажется вам очень странным, Эдзелино, но я видела вас в точно той же одежде, какая на вас сейчас, и точно таким же бледным. Все остальное в моем сне, разумеется, фантастично, однако же я хочу вам об этом рассказать. Вы были на своей галере, у вас происходила схватка с пиратами, и вы в упор выстрелили из пистолета в какого-то человека; лица я не смогла разглядеть, но на голове у него был красный тюрбан. В этот самый миг видение исчезло. — Это действительно странно, — произнес Эдзелино, пристально смотря на Джованну; глаза у нее были ясные, блестящие, речь живая и словно вдохновленная некой силой провидения. Джованна заметила его изумление. — Вы, наверное, подумаете, что разум мой помутнел. Но это не так. Я не придаю этому сну особого значения и не обладаю даром сивилл. А как драгоценен был бы он мне в часы пожирающей тревоги, которым нет конца и которые меня медленно убивают! Увы! Соранцо ежедневно подвергается смертельной опасности, но тщетно вопрошаю я всей силой моих чувств и моей души ужасную ночную тьму и туманы морских далей. Ни мучительные бдения, ни зловещие сны даже слегка не приоткрыли мне тайну его судьбы. Но прежде чем покончить со всеми этими видениями — они, наверное, вызывают у вас усмешку, — позвольте мне сказать вам, что человек в красном тюрбане из моего сна, прежде чем растаять в воздухе, сделал вам угрожающий знак. Позвольте еще добавить — и простите мне эту слабость, — что в тот миг, когда видение исчезло, я ощутила такой ужас, какого не испытывала, пока перед моими глазами стояла картина этой битвы. Не относитесь с полным пренебрежением к мрачным предчувствиям души, более удрученной, чем больной. Мне кажется, что вам угрожает со стороны пиратов великая опасность, и я умоляю вас не пускаться в море, не попросив у моего супруга дать вам сильную охрану до самого выхода из наших отмелей. Обещайте мне это. — Увы, синьора, — ответил Эдзелино с грустной улыбкой, — можете ли вы принимать участие в моей судьбе? Что я такое для вас? Привязанность ваша ко мне оказалась недостаточно сильной, чтобы вы избрали меня своим супругом, доверие ваше ко мне — недостаточно глубоким, чтобы вы признали меня братом, ибо вы отказываетесь от моей помощи, а ведь я убежден, что она вам нужна. — Я люблю вас, как брата, и доверяю вам, как брату. Но я не понимаю, что вы хотите сказать, говоря о помощи. Правда, я страдаю, меня просто убивает ужасающая мука, но тут вы ничего не можете поделать, дорогой мой Эдзелино. А раз уж мы заговорили о доверии и любви, один бог может вернуть мне любовь и доверие Соранцо. — Вы признаете, что потеряли его любовь, синьора; может быть, вы признаете и то, что ее место заступила ненависть? Джованна вздрогнула и в ужасе убрала свою руку, протянутую к Эдзелино. — Ненависть! — вскричала она. — Кто сказал вам, что он меня ненавидит? О, какое слово вы произнесли! И кто поручил вам нанести мне смертельный удар? Увы! Значит, я узнаю от вас, что еще не страдала по-настоящему, что его равнодушие было для меня счастьем! Эдзелино понял, с какой силой любила еще Джованна этого соперника, которого он обвинил, сам того не желая. Он почувствовал, что причинил несчастной женщине жестокую боль, и в то же время ему стало стыдно роли, которую он сыграл, ибо она была совершенно не свойственна его характеру. Поэтому он поспешил успокоить Джованну, уверяя ее, что отнюдь не знает, какие на самом деле чувства питает к ней Орио. Но она лишь с трудом поверила, что говорил он исключительно из заботы о ней и просто задал ей вопрос. — Может быть, кто-нибудь здесь говорил вам о нем и обо мне? — повторяла она несколько раз, стараясь прочесть правду в его глазах. — Может быть, вы, сами того не зная, произнесли надо мной приговор, и здесь лишь мне одной неизвестно, что он меня ненавидит? О, этого я не думала! С этими словами она разрыдалась, и граф, который, сам того не сознавая, ощущал в своем сердце пробуждение надежды, ощутил сейчас и то, что сердце его разбито навсегда. Сделав над собой великодушное усилие, он принялся утешать Джованну и убеждать ее, что говорил наугад. Затем он стал дружески расспрашивать, как же обстоит все на самом деле. Ослабевшая от слез и побежденная благородством Эдзелино, она поддалась внезапному порыву и стала говорить с ним более откровенно, чем, может быть, намеревалась. — О, друг мой, — сказала ему она, — пожалейте меня, ибо с моей стороны было безумием избрать в качестве жизненной опоры это блистательное существо, которое неспособно любить! Орио не такой человек, как вы, — полный нежной заботливости и преданности. Он человек действия и воли. Женская слабость не вызывает у него сочувствия — она только мешает ему. Доброта его сводится к терпимости и не простирается до покровительства. Нет человека, который менее достоин любви, ибо ни один человек не понимает и не ощущает любви меньше, чем он. И однако же именно он внушает самую сильную страсть, самую неутолимую преданность. Его нельзя любить или ненавидеть наполовину — вы сами это знаете. И вы также знаете, несомненно, что так всегда бывает с подобными людьми. Пожалейте же меня, ибо я его люблю до безумия и власть его надо мной безгранична. Теперь вы понимаете, благородный Эдзелино, что в этой беде мне помочь невозможно. Я ни в чем не обманываюсь, и вы можете отдать мне справедливость — я всегда была чистосердечна с вами, как с самой собой. Орио вполне достоин восхищения и уважения, ибо у него выдающийся ум, благородное мужество и стремление к великим делам. Но он не заслуживает ни дружбы, ни любви, ибо сам не способен их ощущать. Да они ему и не нужны: все, что он может сделать для тех, кто его любит, — это позволять себя любить. Вспомните то, что я говорила вам в Венеции в тот день, когда смело, хотя и эгоистично, раскрыла вам свое сердце и призналась, что он внушает мне страстную любовь, а вы — только братскую. — Не будем вспоминать об этом скорбном для меня дне, — молвил Эдзелино. — Когда человек, подвергнутый пытке, не умирает, всякое напоминание о ней возобновляет муку. — Соберитесь с силами и все же вспомните обо всем этом вместе со мной, — продолжала Джованна, — мы, возможно, видимся в последний раз, и я хочу, чтобы вы расстались со мною уверенный в моем уважении к вам, в моем раскаянии — я ведь так сожалею о своем поведении по отношению к вам. — Не говорите мне о раскаянии! — вскричал Эдзелино в порыве нежной жалости. — Разве вы совершили какое-либо преступление или хотя бы легкую ошибку? Разве вы не были со мной откровенны и чистосердечны? Не были ласковы и полны жалости, когда сами сказали мне то, что всякая другая на вашем месте дала бы понять через своих родителей или же прикрываясь каким-нибудь благовидным предлогом? Я помню ваши слова; они запечатлелись в моем сердце как утешение навеки и в то же время как вечное сожаление. «Простите мне, — сказали вы, — зло, которое я вам причиняю, и молите бога, чтобы он не покарал меня за него, ибо нет у меня больше своей воли; я уступаю судьбе, которая сильнее меня». — Увы, увы! — сказала Джованна. — Да, то была судьба! Я уже тогда чувствовала это, ибо любовь мою породил страх, который завладел мною еще до того, как я поняла, насколько он обоснован. Знаете, Эдзелино, во мне всегда имелась склонность к самопожертвованию, словно еще при рождении я была предназначена к закланию на алтаре бог весть какой силы, жаждущей моей крови и слез. Я помню все, что происходило во мне, когда вы торопили меня выйти за вас замуж до того рокового дня, когда я впервые увидела Соранцо. «Чего медлить, — говорили вы, — раз мы любим друг друга? Зачем оттягивать свое счастье? То, что мы оба молоды, вовсе не причина. Ждать — это искушать бога, ибо грядущее в его власти, а не пользоваться настоящим означает стремление заранее завладеть грядущим. Только несчастливые должны говорить „завтра“, счастливые же — „сейчас“! Кто знает, во что мы превратимся завтра? Кто знает, не разлучит ли нас навеки турецкая пуля или морской вал? И вы-то сами, разве вы можете быть уверены в том, что будете любить меня, как сегодня?» Видно, какое-то смутное предчувствие заставляло вас говорить так, побуждало торопиться. А еще более смутное предчувствие не давало мне уступить, повелевало ждать. Ждать чего? Я не знала, но мне верилось, что будущее обещает мне что-то, раз настоящее не удовлетворяло. — Вы были правы, — произнес граф, — будущее обещало вам любовь. — И уж наверное, — с горечью ответила Джованна, — совсем не ту любовь, какую я испытывала к вам, Но не мне на это жаловаться: я ведь нашла то, чего искала. Я презрела покой и обрела грозу. Помните тот день, когда я сидела с дядей и с вами? Я вышивала, а вы читали мне стихи. Доложили о приходе Орио Соранцо. При этом имени я вздрогнула, и в один миг на память мне пришло все, что я слышала об этом странном человеке. Я никогда не видела его, но вся затрепетала, когда до меня донеслись его шаги. Я не обратила внимания ни на его роскошную одежду, ни на его высокий рост, ни на божественно прекрасные черты лица — я увидела только большие черные глаза, и, грозные и в то же время нежные, сияющие, они приближались ко мне, не отрываясь от меня. Завороженная этим колдовским взглядом, я уронила свое рукоделие на пол и застыла, словно пригвожденная к креслу, не в силах ни встать, ни отвернуть голову. В тот момент, когда Соранцо, подойдя совсем близко, склонился, чтобы поцеловать мне руку, я, не видя больше этих завороживших меня глаз, лишилась чувств. Меня унесли, а дядя, сославшись на мое нездоровье, попросил его перенести свое посещение на какой-нибудь другой день. Вы тоже удалились, так и не поняв, почему я упала в обморок. Орио же, лучше знавший и женщин и свою власть над ними, сообразил, что, пожалуй, имеет некоторое отношение к моей внезапной дурноте. Он решил убедиться в этом. С час он прогуливался в гондоле по каналу Аццо, затем велел остановиться у дворца Морозини. Там он вызвал дворецкого и сказал ему, что явился лишь затем, чтобы узнать, как мое здоровье. Когда ему ответили, что я совсем пришла в себя, он зашел в дом, считая, как он сам заявил, что теперь это вполне удобно, и велел снова доложить о себе. Он нашел, что я немного побледнела, но именно от этого, по его мнению, стала еще прекраснее. Дядя мой принял его несколько сдержанно, однако сердечно поблагодарил за внимание ко мне и за то, что он потрудился так скоро возвратиться, чтобы узнать о моем здоровье. После обмена этими любезностями Орио собрался было уходить, но мы попросили его остаться. Он не заставил себя упрашивать, и беседа наша продолжалась. С самого начала решив воспользоваться первым произведенным на меня впечатлением, он постарался щегольнуть передо мною всеми дарами, которыми его наделила природа, и усилить обаяние своей наружности чарами ума. Это ему блестяще удалось, и когда через два часа он наконец почел за благо удалиться, я была совсем покорена. Он попросил у меня разрешения прийти на следующий день и, получив его, откланялся в полной уверенности, что вскоре благополучно завершит все столь благоприятно начатое. Победу он одержал легко и скоро. Первый же его взгляд повелел мне принадлежать ему, и я сразу стала его добычей. Могу ли я, положа руку на сердце, сказать, что любила его? Он ведь был мне совершенно незнаком, а слышала я о нем одно лишь худое. Как же случилось, что я предпочла человека, внушавшего мне пока лишь некий страх, тому, кто внушал доверие и уважение? Посмею ли я в свое оправдание ссылаться на волю рока? Не лучше ли будет признаться вот в чем: в сердце любой женщины тщеславная радость от мысли, что внешне как будто царишь над сильным мужчиной, смешиваешься с робостью, отдающей тебя на деле в полную его власть. Да, да! Я суетно гордилась красотой Орио, гордилась всеми страстями, которые он внушал другим женщинам, и всеми поединками, в которых он одерживал победы над мужчинами. Даже его репутация распутника казалась мне чем-то достойным привлекать внимание, приманкой для любопытства других женщин. Мне льстило, что я отнимаю у них это ветреное и себялюбивое сердце, которое всем им изменило и всем оставило горькие сожаления. В этом отношении моя роковая гордыня была, во всяком случае, удовлетворена. Орио остался мне верен, и со дня нашей свадьбы другие женщины как будто перестали для него что-либо значить. Некоторое время он вроде бы любил меня, но вскоре утратил любовь и ко мне и вообще к кому-либо — все его существо поглотила любовь к славе. Я никогда не понимала, почему, так нуждаясь всегда в независимости и деятельной жизни, он решился возложить на себя узы, которые обычно неизбежным образом ограничивают и то и другое. Эдзелино внимательно посмотрел на Джованну. Трудно было поверить, что она говорит безо всякой задней мысли и настолько ослеплена, что даже не подозревает о честолюбивых замыслах, побудивших Орио искать ее руки. Но, поняв всю чистоту ее благородной души, он не осмелился открыть ей глаза и только спросил, как случилось, что она так скоро утратила любовь мужа. Вот что она ему поведала: — До нашей свадьбы казалось, что он беззаветно любит меня. Во всяком случае, я в это верила, ибо так он мне говорил, а речи его до того страстны и убедительны, что перед ними не устоять. Он уверял, что слава — пустой дым, который может только вскружить голову юношам или одурманить неудачников. Он участвовал в последней кампании лишь для того, чтобы заткнуть рот дуракам и завистникам, обвинявшим его в изнеженности и любви к наслаждениям. Он пошел навстречу всем опасностям с равнодушием человека, подчиняющегося обычаю своего времени и своей страны. Он смеялся над юнцами, которые восторженно устремляются в бой и считают себя невесть чем, потому что рисковали жизнью и подвергались опасностям, на которые спокойно идет любой солдат. Он говорил, что в жизни человеку приходится делать выбор между счастьем и славой, и так как счастье обрести почти невозможно, большинство вынуждено бывает искать славы. Но уж если человеку далось в руки счастье, особенно же счастье в любви, самое полное, самое реальное и благородное, то он оказался бы нищим и духом и сердцем, когда бы отвернулся от этого счастья и вновь увлекся успехами жалкого тщеславия. Орио расточал мне все эти речи, так как слышал, будто вы утратили мою благосклонность из-за того, что отказались дать мне обещание не идти больше на войну. Он видел, что душа у меня нежная, характер кроткий, что я колеблюсь при мысли о разлуке с ним сейчас же после нашей свадьбы. Он хотел жениться на мне и ради этого, как он мне потом сказал, готов был на любую жертву, любое обещание, самое неосторожное и лживое. О, как он меня тогда любил! Но у мужчин страсть — это лишь желание, и все надоедает им, как только они добиваются своего. Очень скоро после нашей свадьбы я заметила, что он чем-то озабочен, что его снедает какая-то тайная тревога. Его снова поглотила светская суета, и он привлек в мой дом чуть ли не весь город. Мне почудилось, будто страсть к игре, за которую его так упрекали, и потребность в необузданной роскоши, из-за которой он прослыл суетным и ветреным, вновь быстро завладевают им. Меня это испугало, но вовсе не из-за низменных опасений за мое достояние: я не считала его своим, после того как с радостью отдала Орио все, что унаследовала от предков. Но страсти эти отдаляли его от меня. Он мне их изображал как ничтожные забавы, которые дух пламенный и деятельный принужден создавать себе за неимением более достойной пищи. А пища эта, единственная достойная души Орио, есть любовь такой женщины, как я. Все другие женщины либо обманывали его, либо казались ему недостойными занимать все его душевные силы. Он был бы обречен на то, чтобы растрачивать их в пустых удовольствиях. Но какими ничтожными представлялись ему эти удовольствия теперь, когда во мне он обрел источник всех радостей! Вот как он со мной говорил, а я, глупая, всему этому слепо верила. Какой же ужас овладел мною, когда я убедилась, что удовлетворяю его не больше, чем другие женщины, и что, лишившись празднеств и развлечений, он не находит подле меня ничего, кроме скуки и раздражения! Однажды, когда он проиграл очень большие деньги и пришел в некое отчаяние, я тщетно пыталась утешить его, уверяя, что мне безразличны все печальные последствия его проигрышей и что жизнь в каких угодно лишениях для меня будет так же сладостна, как любое изобилие, лишь бы она меня с ним не разлучала. Я обещала ему, что дядя ничего не узнает о его опрометчивости, что я лучше продам потихоньку свои брильянты, чем навлеку на него хоть один упрек. Видя, что он меня не слушает, я жестоко огорчилась и упрекнула его, но очень мягко, за то, что он больше расстраивается потерей денег, чем горем, которое причиняет мне. То ли он искал предлога, чтобы уйти, то ли я этим упреком невольно задела его самолюбие, но он сделал вид, будто оскорблен моими словами, пришел в ярость и заявил, что намерен вернуться на военную службу. Несмотря на мои мольбы и слезы, он на следующий же день попросил у адмирала назначение и принялся готовиться к отъезду. Если бы речь шла о чем-либо другом, я нашла бы у своего любящего дяди и поддержку и покровительство. Он убедил бы Орио не покидать меня, вернул бы его ко мне. Но дело касалось войны, и забота о славе республики возобладала в сердце моего дяди. Он отечески пожурил меня за слабость, сказал, что стал бы презирать Соранцо, если бы тот проводил время у ног женщины, вместо того чтобы защищать честь и интересы своего отечества. Орио, сказал он мне, выказал в предыдущую кампанию исключительное мужество и военные таланты и тем самым как бы взял на себя обязательство и долг служить своей стране, пока она нуждается в его службе. Пришлось мне уступить: Орио уехал, я осталась наедине со своим горем. Долго, очень долго не могла я оправиться от этого удара. Но затем стали приходить письма Орио, полные любви и нежности. Они вернули мне надежду, и если бы не постоянная тревога и беспокойство от мысли, что он подвергается таким опасностям, я бы все же ощущала нечто вроде счастья. Я воображала, что нежность его ко мне осталась прежней, что честь предписывает мужчинам законы более священные, чем любовь, что он сам себя обманывал, когда в первых порывах страсти уверял меня в противном, что, наконец, он вернется ко мне такой же, каким был в лучшие дни нашей любви. Каковы же были мое горе и изумление, когда с началом зимы, вместо того чтобы попросить у дяди разрешения провести подле меня время отдыха (разумеется, он бы его получил), он написал мне, что вынужден принять должность губернатора этого острова, чтобы подавить пиратов. Он высказывал великое сожаление о том, что не сможет ко мне приехать, и потому я, в свою очередь, написала ему, что поеду на Корфу и буду на коленях умолять дядю отозвать его с острова. Если дядя все же не согласится, писала я, то я сама приеду разделить его одиночество на Курцолари. Однако я не осмеливалась осуществить свое намерение до получения ответа от Орио, ибо чем сильнее любишь, тем больше опасаешься вызвать неудовольствие любимого человека. Он ответил мне в самых ласковых выражениях, что умоляет меня не ездить к нему. Что же до просьбы об отпуске для него, то он, писал Орио, будет крайне уязвлен, если я это сделаю, — ведь в армии у него немало недругов: его счастье — женитьба на мне — породило завистников, старающихся очернить его в глазах адмирала, они-то уж обязательно начнут говорить, будто он сам учил меня просить дядю об отпуске для него, чтобы он мог предаваться лени и удовольствиям. Этому последнему запрету я подчинилась. Но что касается первого, то он ведь не приводил никаких доводов, кроме того, что жилье здесь очень мрачное и меня ожидают всевозможные лишения; к тому же это его письмо показалось мне более пылким, чем все предыдущие. Поэтому я решила, что приезд к нему, чтобы разделить его одиночество, будет доказательством моей преданности, и, не отвечая ему, не оповещая о своем приезде, я тотчас же выехала. Морское путешествие было долгое и мучительное, погода — плохая. Я подвергалась всевозможным опасностям. Наконец, добравшись до этого острова, я была совершенно расстроена, не застав здесь Орио. Он отправился в это злосчастное патрасское предприятие, и гарнизон острова пребывал в большой тревоге на его счет. Прошло много дней без единой весточки о нем, и я уже теряла надежду увидеть его когда-либо. Я попросила, чтобы мне показали место, с которого он вышел в море и куда должен был прибыть, и целыми часами сидела там, глядя в морскую даль. Так проходили дни за днями, ничего не меняя в моем положении. Наконец, как-то утром, придя на свою скалу, я увидела, что из подошедшей лодки выходит на берег турецкий солдат и с ним мальчик, одетый точно так же. При первом же движении солдата я узнала Орио и тотчас же сбежала со скалы броситься в его объятия. Но он посмотрел на меня таким взглядом, что вся кровь отхлынула от моего лица и смертный холод сковал все тело. Я была в большем смятении и ужасе, чем в тот день, когда впервые увидела его, и, так же как в тот день, лишилась чувств: мне почудились в лице его угроза, насмешка, презрение, сильнее которых не могло быть. Очнулась я в своей комнате, на своем ложе. Орио заботливо ухаживал за мной, и на его лице уже не было того устрашающего выражения, от которого словно разорвалось все мое существо. Он ласково заговорил со мной и представил мне сопровождавшего его юношу как человека, который спас ему жизнь и вернул свободу, открыв ночью двери темницы. Он просил меня взять его в качестве слуги, но обращаться больше как с другом, чем как со слугой. Я попыталась заговорить с Наамом — так зовут мальчика, — но он ни слова не знает по-нашему. Орио сказал ему что-то по-турецки, юноша взял мою руку и положил ее себе ка голову в знак привязанности и повиновения. Весь этот день я была счастлива. Но на следующий Орио с утра заперся в своем помещении, и я увидела его лишь вечером, такого угрюмого и мрачного, что у меня не хватило духу заговорить с ним. Он поужинал со мной и сразу же ушел. С того времени, то есть вот уже два месяца, его лицо остается хмурым. Он весь поглощен какой-то своей мукой или не ведомым никому решением. В отношении меня он не выказал гнева или хотя бы раздражения. Напротив — проявил очень много стараний, чтобы жизнь в этой башне была для меня приятной, словно что-либо, кроме его любви или его равнодушия, может быть для меня хорошим или дурным. Он велел прислать из Кефалонии рабочих и все, что было необходимо, чтобы наскоро выстроить для меня это жилье. Велел он прислать и женщин, чтобы они мне прислуживали, и среди всех своих самых мрачных забот никогда не переставал беспокоиться о моих нуждах и предупреждать все мои желания. Увы! Ему как будто неведомо, что у меня-то есть одно настоящее желание — вернуть себе его любовь. Иногда — очень редко! — он возвращался ко мне, внешне как будто полный самой пылкой любви. Он доверительно сообщал мне, что у него имеются очень важные замыслы, что его просто снедает жажда мести пиратам, которые перебили его людей, забрали его галеру, а теперь занимаются разбоем тут, у него на глазах, что он не успокоится, пока не уничтожит их всех до единого Но, едва успев сделать мне эти признания, он, опасаясь моих слез и волнения, вырывался из моих объятий и уходил размышлять в одиночестве об этих воинственных планах. Под конец мы дошли до того, что видимся теперь всего несколько часов в неделю, а где он находится все остальное время и что делает, я не знаю. Иногда он сообщает мне через кого-нибудь, что, воспользовавшись хорошей погодой, выезжает на морскую прогулку, а затем я узнаю, что он и не выходил из замка. А иной раз заявляет, что весь вечер проработает, запершись у себя, а на рассвете я вижу, что он торопливо мчится к острову по серым волнам, словно желая скрыть от меня, что провел ночь вне замка. Я уже не осмеливаюсь расспрашивать его, — тогда он становится страшным, и все перед ним трепещет. Я скрываю от него свое отчаяние, и те мгновения, что он проводит подле меня, становятся вместо облегчения настоящей пыткой, — ведь я вынуждена следить за каждым своим словом, даже за каждым взглядом, чтобы не выдать ни одной донимающей меня зловещей мысли. Когда, несмотря на все мои усилия, он все же замечает на моих глазах слезинку, он молча жмет мне руку, встает и уходит без единого слова. Однажды я уже готова была броситься к его ногам, обнять его колена, влачиться за ним по полу, чтобы он согласился разделить со мной хотя бы заботы свои и чтобы обещать ему, что я соглашусь на все его замыслы, не проявляя ни слабости, ни страха. Но при малейшем моем движении взгляд его пригвождает меня к месту, и слова замирают у меня на губах. Мне чудится, что если бы мое горе прорвалось перед ним, весь остаток сострадания и внимания, которые он ко мне еще проявляет, превратился бы в ярость и отвращение. Я осталась нема! Вот почему, когда вы говорите мне о его ненависти, я отвечаю, что это невозможно, ибо я ее не заслужила. Я молча умираю. Эдзелино заметил, что этот рассказ оставляет в тени наиболее важные обстоятельства рассказа Леонцио. Джованна, видимо, и не думала считать Соранцо безумцем, а наводящие вопросы, которые граф осторожно задавал ей на этот счет, ничего не прояснили. Джованне ли не хватало полного доверия к нему, или Леонцио наговорил неправды? Видя, что все его попытки раздобыть точные сведения бесплодны, Эдзелино, во всяком случае, пришел к убеждению, что она погибнет от слабости и печали, если останется в этом унылом замке, стал упрашивать ее переехать на Корфу к дяде и предложил тотчас же увезти ее с собой. Однако она самым решительным образом отвергла это предложение, заявив, что ни за что на свете не поступит так, чтобы у дяди появилось подозрение, будто она несчастлива с Орио: ведь малейшей ее жалобы достаточно, чтобы тот впал в немилость у адмирала. Впрочем, она даже утверждала, что Орио не сделал ей решительно ничего худого; если любовь ее к нему превратилась для нее в муку, то не Орио же обвинять во зле, которое она сама себе причиняет. Эдзелино решился спросить, не содержится ли она как бы в некотором заключении и нет ли строжайшего запрещения ей видеться с любым соотечественником. Она ответила, что ничего подобного нет и что она сама не стала бы принимать Эдзелино, если бы эта невинная радость была сопряжена с ослушанием. Орио никогда не проявлял ни малейшей ревности и неоднократно повторял, что она может принимать, кого ей вздумается, ни о чем его даже не предупреждая. Эдзелино не знал, что и думать об этом явном противоречии между словами Джованны и Леонцио. Вдруг большой белый пес, все время, казалось, спавший, вздрогнул, поднялся и, положив передние лапы на подоконник, насторожил уши и замер. — Твой хозяин идет, Сириус? — сказала Джованна. Собака повернулась к ней, словно понимая, о чем идет речь. Потом, приподняв голову и раздув ноздри, вздрогнула всем телом и протяжно взвизгнула; в этой жалобе слышались боль и нежность. — Вот Орио! — молвила Джованна, обвив худой бледной рукой шею верного пса. — Он возвращается! Этот благородный пес всегда узнает по плеску весел лодку своего хозяина. А когда я хожу с ним ждать Орио на скале, он, завидя на волнах малейшую черную точку, молчит либо воет так, как сейчас, в зависимости от того, чья там лодка — Орио или кого-либо другого. С тех пор как Орио перестал брать его с собой, он перенес на меня свою привязанность и ходит за мной повсюду, как тень. Он, как я, грустит и болеет; как я, знает, что уже не дорог своему господину; как я, помнит, что его любили! И Джованна, высунувшись из окна, попыталась рассмотреть лодку в ночном мраке. Но море было черным, как небо, а плеск весел нельзя было отличить от равномерного плеска волн о подножие скалы. — Вы уверены, — спросил граф, — что мое присутствие в ваших покоях не вызовет у вашего мужа неудовольствия? — Увы! Такой чести, как ревновать меня, он мне не оказывает, — ответила она. — Но, может быть, — заметил Эдзелино, — мне лучше будет пойти ему навстречу? — Не делайте этого, — сказала она, — он, пожалуй, подумает, что я поручила вам следить за ним. Оставайтесь здесь. Может быть, сегодня вечером я вообще его не увижу. Часто он возвращается с этих длительных прогулок, даже не сообщив мне о своем возвращении, и если бы не изумительный инстинкт этого пса, который всегда оповещает меня о его прибытии на остров, я почти никогда не знала бы, здесь ли он или отсутствует. А теперь на всякий случай помогите мне снова закрыть окно этой ставней. Он никогда не простит мне, если узнает, что я сделала ее подвижной, чтобы иметь перед глазами выходящую к морю часть замка. Он велел забить это отверстие изнутри, уверяя, что бесполезным постоянным созерцанием моря я только нарочно растравляю свою тревогу. Эдзелино закрепил ставню, вздохнув от жалости к этой несчастной женщине. До появления Орио прошло еще немало времени. О его прибытии пришел доложить турецкий раб, никогда не покидавший Орио. Когда юноша вошел в комнату, Эдзелино поразила совершенная правильность его черт, одновременно и тонких и строгих. Хотя он и вырос в Турции, сразу видно было, что его породе свойственна более горделивая закалка. Арабский тип сквозил в удлиненной форме больших черных глаз, в точеном, твердом профиле, в невысоком росте, в красоте рук с тонкими пальцами, в бронзоватой смуглоте гладкой, безо всяких оттенков кожи. И по голосу Эдзелино узнал в юноше араба, говорившего по-турецки свободно, но не без характерного гортанного акцента, полного странной для непривычного слуха гармонии, которая постепенно завладевает душой, лаская ее какой-то неведомой сладостью. Увидя мальчика, борзой пес бросился к нему так, словно хотел растерзать. Тогда лицо у того совершенно изменилось: он улыбнулся как-то жестоко и хищно, обнажая два ряда белых мелких и частых зубов, и чем-то стал похож на пантеру. Одновременно он выхватил из-за пояса кривой кинжал, но блеснувший клинок только раздразнил ярость пса. Джованна крикнула, собака остановилась и послушно вернулась к ней, а невольник, вложив ятаган в золотые, усыпанные драгоценными камнями ножны, преклонил колено перед госпожой. — Видите? — обратилась Джованна к Эдзелино. — С тех пор как этот раб занял подле Орио место его верного пса, Сириус так ненавидит его, что я боюсь за собаку: юноша всегда вооружен, а никаких приказов я ему отдавать не могу. Ко мне он проявляет уважение, даже доброе чувство, но повинуется только Орио. — А он не может объясняться по-нашему? — спросил Эдзелино, видя, что раб знаками дает понять о возвращении Орио. — Нет, — ответила Джованна, — а женщины, которая служит нам переводчицей, здесь сейчас нет. Может быть, позвать ее? — Не нужно, — сказал Эдзелино. И, обратившись к юноше по-арабски, он предложил ему изложить то, что тот должен был сообщить, а затем передал его слова Джованне: Орио, вернувшись со своей прогулки, узнал о прибытии благородного графа Эдзелино и намеревается пригласить его отужинать в покоях синьоры Соранцо; он также просит извинения за то, что не сразу явится к гостю, так как ему надо еще отдать кое-какие распоряжения на ночь. — Скажите мальчику, — ответила Джованна Эдзелино, — чтобы он передал своему господину такой ответ: приезд благородного Эдзелино для меня радостен вдвойне, ибо я смогу поужинать с моим супругом. Впрочем, нет, — добавила она, — этого не говорите. Он, пожалуй, усмотрит тут скрытый упрек. Передайте, что я повинуюсь, что мы ждем. Эдзелино передал эти слова молодому арабу, и тот почтительно склонился. Но прежде чем выйти из комнаты, он остановился перед Джованной и, внимательно поглядев на нее, знаками объяснил, что находит ее еще более нездоровой, чем обычно, и этим очень огорчен. Затем, подойдя к ней, спростодушной бесцеремонностью коснулся ее волос и дал понять, что ей следовало бы уложить их в прическу. — Передайте ему, что я понимаю его добрые советы, — сказала Джованна графу, — и последую им. Он предлагает мне принарядиться, украсить волосы цветами и драгоценностями. Славный, простой ребенок, он воображает, будто любовь мужчины можно вернуть такими ребяческими средствами! Ведь для этого ребенка любовь — миг наслаждения. Все же Джованна последовала немому совету юного араба. Она прошла со своими женщинами в соседнюю комнату, а выйдя оттуда, так и сияла в украшениях. Но богатое одеяние Джованны мучительно не соответствовало глубокой удрученности, царившей в ее душе. Само положение этого жилища, словно построенного на волнах и среди вечных ветров, мрачный ропот моря и насвистывание начавшегося сирокко, какое-то смущение, появившееся на лицах слуг с момента, когда в замок вернулся хозяин, — все вместе взятое делало эту сцену странной и тягостной для Эдзелино. Ему чудилось, будто он спит, а эта женщина, которую он прежде так любил и с которой еще нынче утром не ожидал так скоро свидеться, внезапно представшая перед ним бледной, изнемогающей, показалась ему во всем блеске своего праздничного наряда каким-то призраком. Но щеки Джованны вновь зарумянились, глаза заблестели, и она горделиво подняла голову, когда Орио вошел в зал с открытым взглядом и чистосердечным выражением лица, тоже принарядившись, как в самые лучшие дни своих любовных успехов в Венеции. Его густые черные волосы спадали к плечам лоснящимися надушенными завитками, а легкая тень небольших усиков с приподнятыми по венецианской моде уголками тонко вырисовывалась на матово-бледных щеках. Все в нем дышало изяществом, доходившим до изысканности. Джованна так давно привыкла видеть его небрежно одетым, с лицом угрюмым или искаженным гневом, что когда перед нею предстал образ того Орио, который любил ее, она вообразила вдруг, что к ней снова вернулось счастье. И действительно можно было подумать, что Соранцо хочет в этот вечер загладить все свои вины. Ибо прежде даже, чем поздороваться с Эдзелино, он подошел к ней с рыцарственным вниманием и несколько раз поцеловал обе ее руки, проявляя супружеское уважение и вместе с тем пыл влюбленного. Затем он рассыпался перед Эдзелино в извинениях и любезностях и пригласил его в большой зал, где подан был ужин. Когда они расселись за роскошно накрытым столом, он забросал его вопросами о происшествии, доставившем ему честь и радость принимать его у себя. Эдзелино рассказал обо всем, что с ним случилось, а Соранцо слушал его с вежливым сочувствием, не проявляя, впрочем, ни удивления, ни возмущения действиями пиратов, и с любезно-сокрушенным видом человека, огорченного бедой ближнего, но ни в малейшей мере не ощущающего какой-либо ответственности. В тот миг, когда Эдзелино заговорил о главаре пиратов, которого он ранил и обратил в бегство, глаза его встретились с глазами Джованны. Она была бледна, как смерть, и бессознательно повторяла только что произнесенные им слова: «Человек в ярко-красном тюрбане с черной бородой, скрывающей почти целиком его лицо!..» — Это он, — добавила она, охваченная каким-то тайным ужасом, — мне кажется, я его снова вижу! И ее испуганный взгляд, привыкший искать на лице Орио ответа на все, встретился со взглядом ее господина, таким неумолимым, что она откинулась на спинку стула, губы у нее посинели, сердце сжалось. Но, сделав над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы не оскорбить Орио, она успокоилась и заставила себя улыбнуться: — Сегодня ночью я видела такой сон. Эдзелино тоже смотрел на Орио. Тот был необычайно бледен, а сдвинутые брови его словно говорили о том, что в душе его бушует гроза. Вдруг он громко расхохотался, и этот резкий, жесткий смех мрачным эхом отозвался в глубине зала. — Это, наверное, тот самый ускок, — сказал он, оборачиваясь к коменданту Леонцио. — Синьора увидела его во сне, а благородный граф убил сегодня в действительности. — Безо всякого сомнения, — серьезным тоном ответил Леонцио. — А кто же такой этот ускок, скажите, пожалуйста? — спросил граф. — Разве в ваших морях еще существуют разбойники? В наше время о подобных вещах что-то не слышно; они относятся к эпохе войн, которые республика вела при Маркантонио Меммо и Джованни Бембо. Сейчас могут появляться только призраки ускоков, мой добрый синьор Леонцио. — Ваша милость может думать, что их больше нет, — возразил несколько уязвленный Леонцио. — Ваша милость, на свое счастье, изволите находиться в расцвете юности и не видели того, что происходило еще до вашего рождения. Что до меня, бедного старого слуги святейшей и славнейшей республики, я неоднократно сталкивался с ускоками, даже однажды попал к ним в плен, и мою голову едва-едва не водрузили в качестве ferale [470] на носу их галиота. Потому-то я и могу сказать, что узнаю ускока среди десятков тысяч пиратов, корсаров, флибустьеров — словом, среди всей той сволочи, что именуется морскими разбойниками. — Величайшее мое уважение к вашему жизненному опыту запрещает мне спорить с вами, добрый мой комендант, — сказал граф, принимая с легкой иронией урок, который дал ему Леонцио. — Для меня лучше будет, если я кое-чему поучусь, слушая ваши речи. Поэтому я хочу спросить вас, как же можно узнать ускока среди десятков тысяч пиратов, корсаров и флибустьеров, чтобы мне знать, к какой же породе принадлежит разбойник, напавший на меня сегодня; я ведь с радостью поохотился бы за ним, не будь время уже слишком позднее. — Этот ускок, — ответил Леонцио, — среди разбойников то же, что акула среди прочих морских чудовищ: он от всех отличается своей ненасытной свирепостью. Вы знаете, что эти гнусные пираты пили кровь своих жертв из человеческих черепов, чтобы вытравить в себе малейшую жалость. Принимая какого-нибудь беглеца на свой корабль, они заставляли его проделать этот омерзительный обряд, чтобы испытать, не осталось ли у него каких-либо человеческих чувств, и если он колебался перед этой гнусностью, его бросали за борт. Словом, известно, что их способ заниматься морским разбоем — это топить захваченные суда и не щадить ничьей жизни. До последнего времени миссолунгцы, пиратствуя, ограничивались только грабежом судов. Всех, кто сдавался, они уводили в плен, а потом отпускали за выкуп. Теперь все происходит по-другому: когда в их руки попадает корабль, всех пассажиров вплоть до детей и женщин тут же убивают, а на волнах не остается даже доски от захваченного ими судна, которая могла бы донести весть о его гибели до наших берегов. Мы часто видим в этих водах корабли, идущие из Италии, но они никогда не доходят до гаваней Леванта, а корабли, которые отплывают из Греции, никогда не доходят до наших островов. Не сомневайтесь, синьор граф, ужасный пират в красном тюрбане, блуждающий тут между отмелей и прозванный рыбаками мыса Ацио ускоком, и есть настоящий ускок, чистопородный убийца и кровопийца. — Ускок ли главарь бандитов, с которым я сегодня встретился, или он иной породы, — заметил молодой граф, — но руку я ему отделал на венецианский, как говорится, лад. Сперва мне показалось, что он решил либо взять мою жизнь, либо отдать свою, однако рана эта заставила его отступить, и непобедимый обратился в бегство. — А действительно ли он бежал? — спросил Соранцо с поразительным безразличием. — Не кажется ли вам, что он скорее отправился за подмогой? Что до меня, то я полагаю, ваша милость правильно поступили, приведя свою галеру под защиту нашей, ибо в настоящий момент пираты — это ужасный и неизбежный бич. — Удивляет меня, — сказал Эдзелино, — что мессер Франческо Морозини, зная, как велика беда, еще ничего не предпринял, чтобы с ней справиться. Не понимаю, как это адмирал, зная о понесенных вашей милостью значительных потерях, еще не прислал галеры взамен той, что вами утрачена, дабы вы имели возможность одним ударом покончить с этим ужасным разбоем. Орио слегка пожал плечами и, приняв настолько пренебрежительный вид, насколько это допускала его нарочито изысканная учтивость, сказал: — Даже если бы адмирал прислал сюда целую дюжину галер, они ничего не смогли бы поделать с неуловимым противником. И сейчас у нас было бы вполне достаточно средств для того, чтобы с этими людьми покончить, если бы мы находились в положении, при котором могли использовать свои силы. Но когда мой достойный дядя послал меня сюда, он не предвидел, что я окажусь пленником посреди отмелей и не смогу маневрировать в мелководье, где способны быстро передвигаться только небольшие суда. Мы здесь можем делать только одно — выходить в открытое море и плавать в водах, где пираты никогда не осмелятся нас дожидаться. Совершив свой налет, они исчезают, словно чайки. А для того чтобы преследовать их среди рифов, надо не только владеть трудным искусством кораблевождения в этих условиях, им очень хорошо знакомых, но и быть оснащенными, как они, то есть иметь целую флотилию шлюпок и легких каиков, и вести против них такую же партизанскую войну, какую они ведут против нас. Уж не думаете ли вы, что это пустяковое дело и что можно легко и просто захватить целый вражеский рой, который нигде не оседает? — Может быть, ваша милость и смогли бы, если бы очень пожелали, — молвил Эдзелино с какой-то скорбной горячностью. — Разве вам не привычно всегда одерживать успех в любом предприятии? — Джованна, — молвил Орио с улыбкой, в которой сквозила горечь, — эта стрела направлена против тебя, хотя и через мою грудь. Молю тебя, будь не такой бледной и не такой грустной; ведь наш друг, благородный граф, подумает, что это я не даю тебе выказывать ему дружеские чувства, которые ты должна к нему питать и действительно питаешь. Но, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, — добавил он самым любезным тоном, — поверьте, дорогой граф, что я вовсе не сплю среди опасностей и не забываю о деле у ног красавицы. Пираты скоро увидят, что я не терял времени, что я основательно изучил их тактику и обследовал их логова. Да, благодаря богу и моей славной лодчонке я сейчас лучший лоцман Ионического архипелага, и… — Тут Соранцо стал озираться по сторонам, словно опасаясь, не подслушивает ли какой-нибудь болтливый слуга. — Но вы сами понимаете, синьор граф, что мои намерения должны оставаться в строжайшей тайне. Неизвестно, какие связи могут иметь пираты здесь, на острове, с рыбаками и мелкими торговцами, что привозят нам из Мореи и Этолии съестные припасы. Достаточно какой-нибудь неосторожности со стороны верного, но неумного слуги, чтобы наши бандиты оказались своевременно предупрежденными и скрылись, а я очень заинтересован в том, чтобы они оставались нашими соседями, ибо — могу в том поклясться — нигде в другом месте на них не устроят такой облавы и не поймают так верно в их же собственные сети. Сидевшие за столом с самыми разнообразными чувствами слушали эти признания. Лицо Джованны прояснилось, словно прежде она опасалась, не вызваны ли отлучки и мрачные заботы ее мужа какой-либо зловещей причиной, а теперь с груди у нее свалилась тяжесть. Леонцио довольно глупо возвел очи к небу и принялся выражать свой восторг громкими восклицаниями, которые внезапно прекратил холодный и строгий взгляд Соранцо. Что касается Эдзелино, то он разглядывал поочередно трех своих сотрапезников, переводя взгляд с одного на другого, стараясь разобраться в том, чего в их взаимоотношениях он не мог себе объяснить. Ничто в поведении Соранцо не оправдывало произвольного утверждения коменданта, будто поведение это объясняется помрачением рассудка. Но, с другой стороны, ни в выражении лица Соранцо, ни в его речах, ни в его манерах не было ничего, способного внушить молодому графу доверие и симпатию. Он не мог оторвать взгляд от глаз этого человека, якобы колдовских глаз, и находил их очень красивыми и по форме и по удивительной прозрачности, но в то же время усматривал в них какое-то трудно объяснимое выражение, которое все меньше и меньше нравилось ему. В этом взгляде была смесь наглости и трусости. Порой он метил прямо в лицо Эдзелино, словно стремясь повергнуть его в трепет, но если этот расчет не оправдывался, взгляд становился робким, словно у юной девицы, или начинал блуждать по сторонам, как у человека, захваченного с поличным. Разглядывая Соранцо, Эдзелино заметил, что он ни разу не сделал движения своей правой рукой, которую скрывал на груди. Соранцо с изящной, великолепной небрежностью опирался на левый локоть, но другую руку почти по самый локоть прятал в широких складках роскошного, шелкового, шитого золотом кафтана в восточном вкусе. В уме Эдзелино промелькнула какая-то неясная мысль. — Ваша милость ничего не едите? — спросил он почти резко. Ему показалось, что Орио смутился. Однако же тот уверенно ответил: — Ваша милость изволите проявлять ко мне чрезмерное внимание. В это время я никогда не ем. — Вы, кажется, нездоровы, — продолжал Эдзелино, глядя на него очень пристально и не отводя глаз. Эта настойчивость явно смутила Орио. — Вы слишком добры, — ответил он с какой-то горечью. — Морской воздух меня очень возбуждает. — Но у вашей милости, если не ошибаюсь, ранена эта рука? — спросил Эдзелино, уловив непроизвольный взгляд, который Орио бросил на свою правую руку. — Ранена?! — тревожно вскричала Джованна, привстав с места. — Да бог мой, синьора, вы же это отлично знаете, — ответил Орио, бросая ей один из тех взглядов, которых она так боялась. — Вы уже месяца два видите, что эта рука у меня болит. Джованна, бледная как смерть, упала на свой стул, и Эдзелино прочел на ее лице, что она прежде ни слова не слышала об этой ране. — Давно вы получили рану? — спросил он тоном безразличным, но весьма твердым. — Во время патрасского дела, синьор граф. Эдзелино обратил свой взгляд на Леонцио. Тот склонил голову над стаканом и, казалось, поглощен был смакованием превосходного кипрского вина. Граф нашел, что ведет он себя так, словно что-то скрывает, а то, что в нем прежде казалось недалекостью, стало очень походить на двуличие. Граф продолжал ставить Орио в трудное положение. — Я не слышал, что вы были тогда ранены, — заговорил он снова, — и радовался, что среди стольких бедствий хоть это вас минуло. Лицо Орио в конце концов вспыхнуло гневом. — Прошу прощения, синьор граф, — произнес он с иронией, — что забыл послать к вам нарочного с извещением о беде, которая, видимо, волнует вас больше, чем меня самого. Я, можно сказать, женат в полном смысле этого слова, раз мой соперник стал мне лучшим другом. — Не понимаю этой шутки, мессер, — ответила Джованна тоном достойным и твердым, несмотря на ее физически и морально угнетенное состояние. — Ты нынче что-то уж очень щепетильна, душа моя, — сказал Орио с насмешливым видом и, протянув над столом свою левую руку, завладел рукой Джованны и поцеловал ее. Этот иронический поцелуй подействовал на нее, как удар кинжалом. По щеке ее скатилась слеза. «Негодяй, — подумал Эдзелино, видя, как нагло обходится с женой Орио. — Подлец, отступающий перед мужчиной и наслаждающийся мукой женщины». Он был до такой степени во власти негодования, что не в состоянии оказался это скрыть. Приличие предписывало ему не вмешиваться в споры между супругами. Но лицо его так ясно выражало кипящие в нем чувства, что Соранцо вынужден был обратить на это внимание. — Синьор граф, — заметил он, стараясь казаться хладнокровным и высокомерным, — вы, часом, не увлекаетесь живописью? Вы созерцаете меня так, словно хотите написать мой портрет. — Если ваша милость разрешаете мне сказать, почему я на вас так смотрю, — живо ответил граф, — я охотно это сделаю. — Моя милость, — насмешливо произнес Орио, — смиренно умоляет вашу высказаться. — Что ж, мессер, — продолжал Эдзелино, — признаюсь вам, что действительно немного занимаюсь живописью и в настоящий момент меня просто поражает удивительное сходство вашей милости… — С кем-либо из лиц, изображенных на фресках этого зала? — прервал Орио. — Нет, мессер, с главарем пиратов, которые повстречались мне сегодня днем, с тем самым ускоком, раз уж приходится его назвать. — Клянусь святым Феодором! — вскричал Соранцо дрожащим голосом, словно ужас или гнев сдавили ему горло. — Неужто вы завели со мной подобные речи, синьор, чтобы оскорбительным вызовом ответить на мое гостеприимство? Говорите же, не стесняясь. В то же время он пытался пошевелить рукой, спрятанной на груди, словно хватаясь инстинктивным движением за ножны шпаги. Но он был безоружен, а рука его словно налилась свинцом. Да и Джованна, опасаясь яростной вспышки, вроде тех, при которых она слишком часто присутствовала, когда Орио гневался на кого-либо из своих подчиненных, в ужасе метнулась к нему и схватила его за руку. При этом она, видимо, коснулась его раны, так как он в бешенстве грубо оттолкнул ее с ужасным, богохульным проклятием. Она почти упала на грудь Эдзелино, который, в свою очередь, уже готов был яростно броситься на Орио, когда тот, побежденный болью, впал в полуобморочное состояние и замер на руках своего арабского пажа. Все это было делом одного мгновения; Орио что-то сказал мальчику на его языке, и тот, налив кубок вина, поднес его ко рту господина и заставил его отпить. К Орио тотчас же вернулись силы, и он стал лицемерно извиняться перед Джованной за свою вспыльчивость. Извинился он и перед Эдзелино, уверяя, что столь частые приступы гнева даже он сам не может объяснить себе иначе, как страданиями, которые испытывает. — Я уверен, — сказал он, — что ваша милость не могли иметь намерения оскорбить меня, найти во мне сходство с разбойником-ускоком. — С эстетической точки зрения, — едко ответил Эдзелино, — это сходство может быть только лестным. Я хорошо разглядел ускока: это настоящий красавец. — И смельчак! — ответил Соранцо, осушая кубок до дна. — Дерзкий наглец, который насмехается надо мной под самым моим носом. Однако вскоре я с ним померюсь силами, как с достойным противником. — Нет, мессер, — продолжал Эдзелино, — позвольте не согласиться с вами. Вы на войне показали пример доблести, а этот ускок сегодня показал себя передо мной трусом. Орио чуть вздрогнул. Затем он протянул свой кубок Леонцио, который с почтительным видом налил его до краев, сказав при этом: — В первый раз за всю свою жизнь слышу я, что этого ускока упрекнули в трусости. — А вы-то что городите? — произнес Орио с презрительной насмешкой. — Вы восхищаетесь подвигами ускока? Пожалуй, вы бы охотно взяли его себе в друзья и собратья? Вот уж благородная симпатия воина! Леонцио явно смутился. Но Эдзелино, не склонный отступаться, снова вмешался в разговор: — Я считаю, что симпатия эта была бы незаслуженной. В прошлом году в Лепантском заливе мне пришлось иметь дело с миссолунгскими пиратами, которые дали искрошить себя на куски, только бы не сдаваться. А сегодня этот грозный ускок отступил из-за одной раны и трусливо бежал, завидев свою кровь. Рука Орио судорожно сжала кубок. Но араб отобрал его у своего господина в тот момент, когда тот подносил его ко рту. — Это еще что?! — грозным голосом вскричал Орио. Но, обернувшись и узнав Наама, он смягчился и даже рассмеялся. — Видите, верный сын пророка хочет спасти меня от смертного греха! Впрочем, — добавил он, поднимаясь с места, — он оказывает мне услугу. Вино мне вредит, оно только раздражает эту проклятую рану, что уже два месяца не может затянуться. — Я немного знаком с хирургией, — сказал Эдзелино, — многим из моих друзей я залечил раны и очень помог им на войне, вызволив их из рук коновалов. Если вашей милости угодно будет показать мне рану, я, несомненно, смогу дать вам хороший совет. — Ваша милость можете похвалиться разнообразнейшими познаниями и неутомимой преданностью друзьям, — сухо ответил Орио. — Но руку мне отлично лечат, и скоро она будет в состоянии защитить своего обладателя от любых злонамеренных намеков, от любого клеветнического обвинения. С этими словами Орио встал и, повторив свое предложение оказать помощь Эдзелино тоном, который на этот раз словно предупреждал, что предложение делается только для вида, спросил графа, каковы его планы на завтрашний день. — Я намереваюсь, — ответил тот, — с рассветом взять курс на Корфу и весьма благодарен вашей милости за предложение об эскорте. Сопровождать меня не нужно: я не опасаюсь нового нападения пиратов. Сегодня я увидел, на что они способны, и поскольку я их узнал, могу с ними не считаться. — Во всяком случае, — сказал Соранцо, — вы окажете мне честь, если переночуете здесь, в замке. Для вас приготовлено мое личное помещение… — Нет, мессер, это невозможно, — ответил граф. — Я считаю своей обязанностью ночевать на корабле, когда плаваю на галерах республики. Орио тщетно настаивал. Эдзелино счел своим долгом не уступать. Он попрощался с Джованной, и когда он целовал ей руку, она тихо сказала ему: — Не забывайте моего сна, будьте осторожны, берегитесь. — А затем громко добавила: — Передайте Арджирии все, о чем я вас просила. То были последние слова, которые Эдзелино услышал из ее уст. Орио пожелал проводить его до башенных ворот и велел офицеру с отрядом солдат сопровождать его в шлюпке на галеру. После выполнения всех этих формальностей, когда граф уже поднимался на свой корабль, Орио Соранцо дотащился до своих покоев и бросился на кровать, изнемогая от усталости и боли. Наам старательно заперла все двери и принялась лечить и перевязывать его раздробленную руку.
Аббат остановился, утомившись от столь долгого рассказа. Зузуф, в свою очередь, взял слово и, ведя повествование на несколько более быстрый лад, продолжал историю ускока в таких приблизительно выражениях:
— Оставь меня, Наам, оставь меня! Без толку станешь ты тратить на эту проклятую рану соки всех драгоценных трав Аравии и тщетно будешь нашептывать таинственные каббалистические слова, которые тебе открыла какая-то неведомая наука. Всю мою кровь лихорадит, лихорадит отчаянием и яростью. Подумать только! После того как этот негодяй искалечил меня, он еще осмеливается бросать мне в лицо оскорбительную иронию! А сам я лишен возможности покарать его за наглость, отнять у него жизнь и по локоть омыть руки в его крови! Только это лекарство излечило бы мою рану, сбило бы мою лихорадку! — Друг, успокойся, отдохни, если не хочешь умереть. Видишь, мои заговоры действуют. Кровь из моих собственных жил, которую я влила в этот кубок, уже подчиняется священным словам, закипает, дымится! Теперь я обмажу ею твою рану… Соранцо позволяет лечить себя послушно, как ребенок, — он ведь боится смерти, которая положит конец его замыслам и лишит его всех богатств. Правда, порою он с львиной храбростью бросает ей вызов, но лишь тогда, когда борется за то, чтобы умножить свое достояние. В его глазах жизнь без роскоши и изобилия — ничто, и если бы в дни бедствий и неудач голос рока объявил ему, что он обречен на вечную нищету, его же собственная воля сбросила бы с высоты крепостной башни в черные глубины моря это холеное тело, для которого все благовония Азии недостаточно изысканны, все смирнские ткани недостаточно пышны и мягки. Но вот аравитянка перестала произносить свои заговоры, и Соранцо торопит ее идти с его поручением. — Ступай, — говорит он ей, — будь стремительной, как мое желание, твердой, как моя воля. Передай Гусейну это кольцо, оно облекает тебя моей властью. Вот мои повеления: я хочу, чтобы еще до рассвета он находился у самой оконечности Натолики, в том месте, которое я указал ему сегодня утром. Пусть его четыре каика ожидают там благоприятного момента для нападения. Пусть ренегат Фремио станет со своей шлюпкой возле Аистиных пещер, чтобы ударить на неприятеля с фланга, и пусть албанская тартана, хорошо оснащенная своими камнеметами, держится там, где я ее оставил, и загораживает выход из отмелей. Венецианец выйдет из нашей бухты с наступлением дня, через час после восхода солнца его уже увидят пираты. Через два часа после восхода должна начаться его схватка с Гусейном, а через три — пираты должны одержать победу. И скажи ему еще вот что: если эта добыча от них ускользнет, через неделю здесь будет Морозини с целым флотом, ибо венецианец подозревает меня и, несомненно, обвинит в измене. Если он доберется до Корфу, через две недели не останется ни одной скалы, где пираты смогли бы прятать свои баркасы, ни одной береговой полосы, которую они осмелились бы отметить следом своей ноги, ни одной рыбачьей хижины, где они смогли бы укрыть свою голову. А главное — скажи ему следующее: если они сохранят жизнь хоть одному венецианцу с этой галеры и если Гусейн, рассчитывая на богатый выкуп, согласится увести их начальников в плен, мой с ним союз будет тотчас же разорван и я сам стану во главе морских сил республики, чтобы уничтожить его и весь его род. Он знает, что все хитрости его ремесла мне известны лучше, чем ему самому, знает, что без меня он не в состоянии ничего сделать. Пусть же он поразмыслит над тем, что он смог бы против меня предпринять, и пусть вспомнит, чего ему надо бояться! Ступай! Скажи ему, что я буду считать часы, минуты. Когда он завладеет галерой, пусть даст три пушечных выстрела, чтобы оповестить меня, а затем пусть он ее потопит, предварительно обобрав дочиста… Завтра вечером пусть он явится сюда и даст мне отчет. Если он не предъявит мне убедительного доказательства смерти венецианского начальника — снятую с него голову, — я велю его повесить на зубцах моей главной башни. Ступай! Такова моя воля. Не опусти ни единого слова… Да будет трижды проклят мерзавец, выведший меня из строя! А впрочем, неужто не хватит у меня сил добраться до лодки? Помоги мне, Наам! Только я почувствую, как меня покачивает на волне, силы ко мне вернутся! У этих проклятых пиратов ничего не получается, когда меня нет с ними… Орио пытается дотащиться до середины комнаты; зубы его стучат от лихорадочной дрожи, все предметы видоизменяются перед его блуждающим взором, и каждое мгновение ему представляется, будто все четыре угла его комнаты вот-вот набросятся на него и зажмут его голову в тиски. И, однако, он упорствует, пытаясь дрожащей рукой отодвинуть запор потайной двери. Колени его подгибаются, Наам обнимает его обеими руками и, поддерживая силой своей преданности, подводит к кровати и снова укладывает на нее. Затем она засовывает за пояс два пистолета, проверяет лезвие кинжала и заправляет светильник. Она совершенно спокойна, ибо знает, что выполнит поручение или сложит свою голову. Верная поклонница Мухаммеда, она знает, что все судьбы уже записаны на небесах и что люди сами по себе ничего не могут, если рок заранее насмеялся над их расчетами. Орио мечется на своем ложе. Наам поднимает дамасский ковер, скрывающий от всех подвижную плиту на беззвучных шарнирах. Она начинает спускаться по крутой извилистой лестнице, первые ступени которой сложены из цементированных камней, а дальше, уже в недрах скалы, выбиты в самом граните. Соранцо зовет ее обратно в тот миг, когда она уже готова углубиться в узкие галереи, где двоим не разойтись и где воздуха так мало, что ужас охватил бы душу менее закаленную. Голос Соранцо так слаб, что едва доносится сюда, и услышать его может только Наам, чей слух обострен недремлющим вниманием сердца и ума. Наам быстро поднимается по ступенькам и, наполовину высунувшись из люка, ожидает новых распоряжений господина. — Перед тем как вернуться на остров, — говорит он ей, — ты разыщешь в бухте командира галеры. Передашь ему, чтобы на рассвете он увел корабль к противоположной оконечности острова и двинулся на юг, в открытое море. Пусть он там остается до вечера, не приближаясь к отмелям, какой бы шум до него ни доносился. Сигнал к возвращению я подам ему пушечным выстрелом из крепости. Ступай, не медли, и да хранит тебя аллах! Наам снова исчезает в извилистом подземелье. Она проходит потайные галереи; из погреба в погреб, с лестницы на лестницу она добирается наконец до узкого выхода, устрашающего прямоугольного отверстия, словно повисшего между небом и морской пучиной, куда ветер врывается с резким свистом; рыбаки принимают его издали за недоступную расщелину, где только морские птицы могут искать убежища в бурю. В углу пещеры Наам берет веревочную лестницу и привязывает ее к железным кольцам, вделанным в скалу. Затем она тушит пламя светильника, мечущееся во все стороны по воле ветра, снимает свою одежду из персидского шелка и белоснежный муслиновый тюрбан. Она надевает грубую матросскую куртку и прячет волосы под ярко-красным колпаком маниота. Наконец с ловкостью и силой пантеры она повисает на лестнице вдоль оголенного гладкого склона отвесной скалы и спускается на площадку, расположенную пониже, над уровнем моря, и выступающую вперед сводом нижней пещеры, затопляемой морем в бурную погоду, но совершенно сухой в тихую. Через широкую щель в этом своде Наам спускается в грот и выходит на берег, навстречу пенящемуся прибою. Ночь темная, дует сильный западный ветер. Она достает из-за пазухи серебряный свисток и издает резкий свист, которому вскоре отвечает такой же звук. Проходит всего несколько секунд, и вот лодка, скрытая в другой пещере той же скалы, скользнув по волнам, приближается к ней. — Ты один? — спрашивает ее по-турецки матрос, правящий лодкой вместе с другим. — Один, — отвечает Наам. — Но вот кольцо господина. Повинуйтесь и доставьте меня к Гусейну. Матросы поднимают треугольный парус. Наам прыгает в лодку, которая быстро отчаливает. Синьора Соранцо выглядывает в окно, — она смутно расслышала плеск весел и неясные голоса. Борзой глухо и злобно рычит. «Это Наам, он один, — говорит про себя прекрасная женщина. — Хорошо, что Соранцо хоть в эту ночь спит под одной крышей со своей печальной подругой. — Тревога снедает ее. — Он ранен, он страдает, он, может быть, чувствует себя одиноким! Неразлучный слуга покинул его нынче ночью. Если я тихо подойду к его дверям, то услышу его дыхание. Узнаю, спит ли он. А если его донимает боль, если он тоскует в темноте и одиночестве, может быть он не отвергнет моих услуг». Она заворачивается в длинное белое покрывало и, словно тревожная тень, словно легкий лунный луч, неслышно скользит по коридорам замка. Ей удается обмануть бдительность часовых, охраняющих дверь башни, где помещается Орио. Она знает, что Наам отсутствует — Наам, единственный страж, никогда не засыпающий на посту, единственный, которого нельзя соблазнить посулами, склонить мольбами, устрашить угрозами. Она добралась до двери покоев Орио, не пробудив ни малейшего отзвука на гулких плитах коридора, не коснувшись своим покрывалом стен, плохо хранящих тайну. Она прислушивается, сердце ее стучит так, словно хочет вырваться из груди, но она задерживает дыхание. Дверь Орио вернее, чем целый полк солдат, охраняет внушаемый ее повелителем страх. Джованна слушает, готовая бежать при малейшем шуме. Раздается голос Соранцо, зловещий среди полночного мрака и безмолвия. Страх выдать себя поспешным бегством приковывает дрожащую венецианку к порогу мужниного покоя. Соранцо — во власти призраков тревожного сна. В этих бредовых сновидениях он что-то говорит — смятенно, яростно. Может быть, его прерывистые речи открыли какую-то страшную тайну? Джованна в ужасе бежит, возвращается в свою комнату и взбудораженная, полумертвая падает на диван. Так лежит она до утра, мучимая зловещими снами. Между тем неясная, еще светлая черта проходит через широкий саван ночи и начинает отделять на горизонте небо от моря. Орио немного успокоился, он поднимает голову с подушки. Он еще борется со своими лихорадочными видениями, но воля его одолевает их, а заря прогонит совсем. Понемногу к нему возвращается память, и наконец он соприкасается с действительностью. Он зовет Наам. Но лишь мандора юной аравитянки, висящая на стене, отвечает меланхолической вибрацией струн на зов господина. Орио раздвигает тяжелые занавески кровати, спускает ноги на ковер, беспокойно озирает комнату, где едва брезжит утренний свет. Подъемная дверь на месте, Наам еще не возвращалась. Тревога одолевает его, он собирается с силами, приподнимает подъемную дверь, спускается по ступенькам, ощущая прилив энергии, оттого что движется и действует. Вот он уже у выхода из внутренних, пробитых в скале галерей — там, где Наам оставила часть своей одежды и веревочную лестницу, еще привязанную к железным крючьям. Он с беспокойством озирает морскую гладь; выступающий угол скалы скрывает от него ту часть моря, которую он хотел бы обозреть. Следовало бы спуститься по веревочной лестнице, но очень уж опасно идти на это с раздробленной рукой. К тому же почти рассвело, и часовые, пожалуй, заметят его и обнаружат этот способ сообщения с морем, известный лишь ему и очень доверенным людям. Орио испытывает все муки ожидания. Если Наам попала в какую-нибудь ловушку, если она не смогла передать его распоряжений Гусейну, то Эдзелино спасен, а он, Соранцо, погиб! А что, если Гусейн, узнав о ране, выведшей Орио из строя, изменит ему, продаст республике его тайну, его честь, его жизнь? Но внезапно Орио видит, как оставшаяся у него тяжелая галера выходит на всех парусах из бухты, держа курс на юг. Наам выполнила поручение! Он уже не думает о ней, он убирает веревочную лестницу и возвращается в свою комнату, где его встречает Наам. Радость от успеха помогает Орио изобразить страстную нежность — он прижимает девушку к своей груди, заботливо расспрашивает обо всем. — Все будет сделано, как ты велел, — говорит она. — Но ветер все время дует с запада, и Гусейн ни за что не отвечает, если он не переменится. Ибо галера быстрее его каиков; они не смогут преследовать ее, не выйдя в открытое море и не подвергнув себя опасности встреч с военными кораблями, а это было бы роковым. — Гусейн городит вздор, — раздраженно возразил Орио, — не знает он венецианской гордыни. Эдзелино не обратится в бегство, он пойдет ему навстречу, устремится в самое опасное место. Ведь голова у него забита глупейшими представлениями о чести! Впрочем, ветер переменится с восходом солнца и будет дуть до полудня. — Господин, не похоже на это, — отвечает Наам. — Гусейн просто трус! — гневно восклицает Орио. Они оба поднимаются на верхнюю площадку башни. Галера графа Эдзелино уже вышла из бухты, легко и быстро устремляясь на север. Но вот из-за моря вылезает солнце, и ветер действительно меняется. Теперь он изо всех сил дует со стороны Венеции, отбрасывая и волны и корабли на отмели Ионического архипелага. Галера Эдзелино замедляет ход. — Эдзелино, ты погиб! — в порыве радости восклицает Орио. Наам вглядывается в горделивое лицо своего господина. Она спрашивает себя, уж не повелевает ли этот дерзновенный человек стихиями, и ее слепая преданность беспредельна. О, как медленно текли часы в этот день для Соранцо и его верной рабыни! Орио так точно рассчитал, сколько времени нужно для того, чтобы галера встретилась с пиратами, и сколько времени понадобится миссолунгцам для их маневров, что битва началась в предписанный им час. Сперва Орио ничего не слыхал, так как Эдзелино не стрелял по каикам из пушек. Но когда на него напали тартаны, когда он увидел, что ему придется вести борьбу против двухсот пиратов всего с шестьюдесятью матросами, ранеными или утомленными вчерашней схваткой, он стал пользоваться всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Бой был яростный, но недолгий. Что могло поделать самое отчаянное мужество против превосходящих сил, а главное — против судьбы! Орио услышал канонаду. Он рванулся, словно тигр в клетке, и впился пальцами в башенные зубцы, чтобы удержаться от головокружительного порыва, грозившего сбросить его вниз. В левой руке он сжимал руку Наам и судорожно стискивал ее каждый раз, когда глухой раскат пушечного выстрела долетал, ослабевая, до его слуха. Внезапно наступило безмолвие, ужасное, необъяснимое, и пока оно длилось, Наам начала уже опасаться, не сорвались ли все планы ее господина. Солнце поднималось все выше, сияющее, спокойное. Море было таким же чистым, как небо. Битва происходила между двух последних островов, к северо-востоку от Сан-Сильвио. Гарнизон крепости удивляли и страшили ее зловещие отзвуки. Кое-кто из унтер-офицеров и храбрых матросов выражал желание отправиться в лодках на разведку. Орио передал им через Леонцио, что запрещает это под страхом смерти. Наконец шум стих. Наверное, галера Эдзелино под защитой северо-восточного острова победоносно летела к Корфу. Не могло же так хорошо вооруженное и так храбро защищаемое, отличное парусное судно попасть за столь короткий промежуток времени в руки пиратов! Никто уже больше не тревожился о его судьбе, и никто, кроме губернатора и его молчаливого верного спутника, не думал о нем. Они все еще склонялись над зубцами башни. Солнце поднималось выше и выше, и ничто не прерывало тишины. Наконец, в пятом часу дня, раздались три условных выстрела. — Дело сделано, господин! — произнесла Наам. — Красавца Эдзелино нет в живых. — Два часа на то, чтобы обчистить корабль! — сказал Орио, пожимая плечами. — Скоты! Что бы они сделали без меня? Ничего. Но теперь пусть поразит их гром, пусть сметут их венецианские пушки, пусть поглотит их морская пучина! Я с ними покончил. Они избавили меня от Эдзелино. Урожай убран! — Теперь, господин, тебе надо вернуться к жене. Она совсем больна. Говорят, она при смерти. Вот уже два часа, как она зовет тебя. Я много раз говорила тебе об этом, но ты меня не слушал. — Ты говоришь: не слушал! Да, уж могу сказать, у меня мысли были заняты делами поважнее, чем бредни ревнивой женщины! Что ей нужно? — Господин, ты должен уступить ее просьбам. Аллах гневается на человека, пренебрегающего законной супругой, еще больше, чем на того, кто плохо обращается с верным рабом. Мне ты был добрым господином, будь же добрым супругом для твоей венецианки. Так надо, пойдем… Орио уступил. Одной лишь Наам удавалось хоть изредка заставить Орио уступать. Джованна лежит на своем диване недвижная, словно окаменевшая. Щеки ее мертвенно-бледны, губы холодны, дыхание горячее. Но она оживает, услышав голос Наам, забрасывающей ее ласковыми расспросами, покрывающей ей руки братскими поцелуями. — Сестра моя Дзоана, — говорит ей юная аравитянка на своем непонятном Джованне языке, — опомнись, не предавайся до такой степени отчаянию. Супруг твой возвращается к тебе, и никогда твоя сестра Наам не попытается похитить у тебя его любовь. Так велит пророк, и среди сотен женщин, из которых я была самой любимой, ни одна не смогла бы пожаловаться на то, что господин оказывал мне слишком уж явное предпочтение. У Наам всегда было великодушное сердце, и как ее права уважались в земле правоверных, так и она уважает чужие в земле христиан. Ну же, сделай себе снова прическу, надень свои самые пышные уборы: ведь любовь мужчины — одна гордыня, его пыл разгорается, когда жена старается казаться ему красивой. Утри слезы, они тушат блеск глаз. Если бы ты дала мне подвести тебе брови на турецкий лад и уложить на плечах покрывало, как принято у персиянок, Орио снова возжелал бы тебя. Вот и Орио. Возьми свою лютню, а я зажгу благовония в твоей комнате. Джованна не понимает этих простодушных речей. Но сладостная мелодичность арабских слов, ласковая сострадательность рабыни понемногу возвращают ей мужество. Не понимает она и величия души своей соперницы, ибо продолжает принимать ее за юношу. Но это не мешает ей растрогаться ее добрыми чувствами, и она старается как-то ответить на них, сбросив с себя оцепенение. Входит Орио. Наам хочет удалиться, но Орио велит ей остаться: он боится поддаться еще не окончательно умершему в нем чувству к Джованне, которое заставило бы его выслушивать ее упреки или возродить в ней надежду. И все же он вынужден с нею считаться, — ведь она может добиться от Морозини чего угодно. Орио боится ее и поэтому, даже умиляясь ее нежностью и красотой, не может не испытывать к ней своего рода ненависти. Но на этот раз Джованна другая — не робкая, не умоляющая. Она лишь печальнее, чем раньше, и чувствует себя еще хуже. — Орио, — говорит она ему, — я думаю, что, несмотря на отказ графа Эдзелино, тебе следовало бы дать ему охрану до выхода в открытое море. Боюсь, как бы с ним не случилось беды. Вот уже два дня меня томят зловещие предчувствия. Не смейся над таинственными предупреждениями, которые посылает мне провидение. Пошли свою галеру графу вдогонку, если еще не поздно. Подумай, я ведь даю тебе этот совет не только ради него, но и в твоих собственных интересах. Республика спросит с тебя за его гибель. — Можно узнать у вас, синьора, — холодно отвечает Орио, глядя ей прямо в лицо, — что это за предчувствия, о которых вы мне говорите, и на чем основаны ваши опасения? — Ты хочешь, чтобы я тебе о них рассказала, а отнесешься к ним с пренебрежением, как к пустым бредням суеверной женщины. Но мой долг открыть тебе ужасные предупреждения, посланные мне свыше. Если ты ими не воспользуешься… — Говорите, синьора, — серьезно произнес Орио, — видите, я слушаю вас с уважением. — Так вот, знайте, что через несколько мгновений после того, как на часах пробило три пополудни, я увидела, как в мою комнату вошел граф Эдзелино, весь окровавленный, в разорванной одежде. Я видела его очень ясно, мессер, он сказал мне слова, которых я не стану повторять, но которые еще звучат у меня в ушах. Затем он исчез, растаяв в воздухе, как исчезают призраки. Но готова поспорить, что в тот самый миг, когда он явился мне, он лишился жизни или же попал в какую-то роковую беду. Ибо вчера, в то время, когда на него напали пираты, я видела во сне, как ускок поднял над ним свой ятаган, а затем бежал с перебитой рукой, разразившись ужасными проклятиями. — Что означают ваши так называемые видения, синьора, и какие подозрения скрываются за всеми этими аллегориями? Так говорит Орио громовым голосом, гневно поднимаясь с места. Наам устремляется к нему и хватает его за полу одежды. Она не понимает сказанных им слов, но видит в его мечущих искры глазах ненависть и угрозу. Орио овладевает собой, — эта вспышка может выдать его, подтвердить подозрения Джованны. Впрочем, Джованна совершенно спокойна и впервые в жизни с невозмутимым видом встречает гневный порыв Орио. — Я требую, чтобы ты повторила мне эти грозные слова, которые должны внушить мне такой ужас, — продолжает Орио с ироническим видом. — Если ты скроешь их от меня,Джованна, я стану думать, что все это женские хитрости, рассчитанные на то, чтобы посмеяться надо мной. — Хорошо, я повторю их тебе, Орио, ибо это отнюдь не игра, а незримые силы, правящие нашими судьбами, выше всех суетных приступов гнева, которые они могут в нас вызвать. Призрак графа Эдзелино показал мне огромную, ужасную рану, из которой вытекла вся его кровь, и произнес: «Синьора, ваш супруг — убийца и предатель». — И больше ничего?! — вскричал Орио, побледнев и дрожа от гнева. — Ваш дух слишком снисходителен к моей недостойной особе, синьора, и я удивляюсь, что призраки ваших снов говорят вам обо мне столь милые вещи. При следующем с ними свидании соблаговолите передать им мой совет: пусть они или говорят более ясно, или молчат, ибо швыряться словами — дело опасное, и призраки могут оказаться весьма ненадежными покровителями для человеческих существ, коих им угодно посещать. С этими словами Орио удалился, уже произнеся в сердце своем приговор над Джованной. Наступила ночь, но супруга Орио не спала предыдущей ночью и не знала покоя в течение всего дня. Спокойствие ее — только личина, душу ей терзает неслыханная мука. Она угадала страшную правду и ни на что больше не надеется, напротив — она старается получить наглядные доказательства постигшего ее позора и несчастья. На часах пробило полночь. Глубокое безмолвие царит на острове и в замке. Погода тихая, ясная, море не шелохнется. Джованна — у своего потаенного окна. Она слышит, как к подножию скалы подплывает лодка. Она видит на берегу темные фигуры, ей кажется, словно какие-то черные пятна равномерно передвигаются по белому песку. Это не Орио и не Наам, — борзой ведь прислушивается, но не подает никаких признаков любви или ненависти. Лодка удаляется, но тени, вышедшие из нее, исчезли, словно их поглотили недра скалы. На этот раз воздух так прозрачен и море так спокойно, что до слуха Джованны долетает малейший звук. Железные кольца слабо звякнули о крючья, веревочная лестница скрипнула под тяжестью человеческого тела. Сверху раздался осторожный оклик, снизу ответили приглушенные голоса. И сверху и снизу обменялись условными сигналами — неискусным подражанием крику ночной птицы. И снова все смолкло. Глаз не в состоянии ничего различить: в этом месте подножие скалы уходит под нависающий выступ верхних скал. Но вдруг какие-то глухие шаги, неясные шумы послышались словно из недр земли. Джованна прижимает ухо к коврам своей комнаты. Она слышит шаги нескольких человек, проходящих где-то внизу, словно в каком-то подземелье, под самыми ее покоями. Потом снова все стихает. Но она хочет раскрыть тайну до конца и на этот раз обратиться за разъяснениями не к своему пророческому дару, не к небесным вещаниям сновидений, а к свидетельству своих чувств. Теперь она и не думает о том, чтобы скрыться под покрывалом, — пусть ее узнают, пусть с ней обойдутся грубо. Полураздетая, растрепанная, не соблюдая никакой осторожности, она бежит по коридорам, по лестницам, устремляясь к башне, где живет Соранцо. Теперь ей уже чужды и стыд оскорбленного самолюбия, и робкая, женская покорность, и даже страх смерти. Она хочет знать, хотя бы ценою смерти. Однако Орио дал строжайший приказ часовым не спускать глаз с его дверей и никому не давать к ним доступа. Но люди с нечистой совестью всегда боятся ужасов ночи. Страж, видя, что к нему так смело приближается эта женщина с разметавшимися волосами, с решимостью отчаяния во взгляде, принимает ее за призрак и падает ниц: за несколько дней до того этот человек зарезал на захваченном торговом галиоте красивую молодую женщину с двумя маленькими детьми на руках. Ему чудится, что она явилась сюда, ему кажется, что он слышит ее жалобный голос: «Верни мне моих малюток!». — У меня их нет, — отвечает он сдавленным голосом, катаясь по каменным плитам пола. Джованна не обращает на него внимания, — равнодушная к любой опасности, она переступает через его тело и проникает в комнату Орио. Там никого нет, но на мраморном столе стоят зажженные светильники. Посредине комнаты — открытый люк. Джованна тщательно закрывает дверь, через которую она вошла, и прячется за завесу окна, ибо до нее уже доносятся голоса и шаги — кто-то поднимается по подземному ходу. Первым появляется Орио, за ним — трое мусульман гнусного вида, в грязной, запачканной кровью одежде; у одного из них сверток, который он кладет на стол. Последним поднимается юноша Наам. Он закрывает люк, затем прислоняется спиной к двери, в которую вошла Джованна, и застывает в неподвижности. У старого Гусейна, главы миссолунгских пиратов, была длинная седая борода и изборожденное морщинами лицо, что на первый взгляд придавало ему весьма почтенный вид. Но чем больше в него вглядывались, тем сильнее изумляло выражение грубой свирепости и тупого упрямства, запечатлевшееся на этом бронзовом от загара лице. В истории морского разбоя он являлся фигурой не слишком яркой, но действовал долго и непрерывно. Когда-то он служил ускокам. Это был грабитель и убийца, но когда дело касалось дележа добычи, никто не соблюдал так свято закона справедливости и честности. Слово купца, подчиняющегося законам, установленным между нациями, не может быть вернее и тверже его слова, и он, который отрекся бы от своего пророка за горсть золота, с презрением срубил бы голову любому из своих пиратов, смошенничавшему при дележе награбленного. За справедливость и твердость он выбран был командиром четырех каиков и начальником над двумя своими сотоварищами, людьми более умелыми в морском деле, но не такими храбрыми в бою и менее строгими в соблюдении порядка. Одним из этих сотоварищей был ренегат Фремио, говоривший на почти непонятной для Джованны смеси турецкого и итальянского, человек худощавый, уже немолодой, весь облик которого свидетельствовал о низменных страстях и неумолимой жестокости, другим — албанский еврей, командир одной из тартан, все лицо его было обезображено ужасным шрамом. Оба они стали медленно разворачивать омерзительную кровавую и грязную тряпку, в которую был обернут лежащий на столе сверток. Сердце Джованны мучительно сжалось, и дрожь смертной тоски прошла по всему ее телу, когда из этого куска ткани они вынули другой — окровавленный, изрезанный ударами сабли и изрешеченный пулями. В нем она узнала куртку, которую носил накануне Эдзелино. При виде куртки Орио стал с явным негодованием говорить что-то Гусейну. Не понимая языка, на котором он изъяснялся, Джованна решила, что он возмущен убийством Эдзелино. Однако Орио, обернувшись к ренегату и еврею, заговорил по-итальянски: — И это, по-вашему, залог! Вы осмеливаетесь предъявлять мне эти лохмотья как доказательство смерти того, кто их носил? Разве этого я требовал? И уж не воображаете ли вы, что меня можно провести такими грубыми уловками? Хищные псы, проклятые предатели, вы меня обманули! Вы его пощадили, чтобы получить от его семьи хороший выкуп, но вам не удастся отнять у меня эту добычу — единственное, что я от вас требовал. Я обыщу у вас все до последнего тюка, я до последней доски разберу все ваши баркасы, чтобы только найти венецианца. Мне он нужен, живой или мертвый, а если он от меня ускользнет, я пушечным ядром разнесу вас в клочья — вас и ваши жалкие посудины. От ярости на губах Орио выступила пена. Он вырвал окровавленную куртку из рук растерявшегося ренегата, стал топтать ее ногами. В этот миг он был омерзителен и вызвал ужас и отвращение у той, которая его так любила. Четверо убийц вступили в долгий спор, часть которого она поняла. Пираты утверждали, что Эдзелино погиб, пронзенный градом пуль, исполосованный саблями, как об этом свидетельствовала куртка. Он пал, умирающий, на тартане еврея, но тому не удалось добраться до него раньше, чем матросы перебросили тело через борт. По счастью, один из них соблазнился богатым, золотым шитьем куртки, и он сорвал ее с тела Эдзелино, прежде чем оно было брошено в море, так что еврею пришлось даже выкупить куртку, чтобы предъявить Орио это доказательство гибели его недруга. После многочисленных гневных вспышек и яростных проклятий, которыми обменивались спорящие, Орио, пользовавшийся, видимо, огромным влиянием на своих сотоварищей, несмотря на всю их грубость и злобность, и умевший одним словом и жестом приводить их к молчанию посреди самой бешеной вспышки, как будто успокоился и удовлетворился клятвой, данной ему Гусейном. Правда, Гусейн отказался поклясться именем аллаха и его пророка, что убежден в смерти Эдзелино, ибо не видел, как его тело бросили в море, но он дал клятву, что если Эдзелино сохранили жизнь, он в этом предательстве не участвовал. Он поклялся также, что дознается до правды и сурово покарает всякого, кто ослушается ускока. Слово это он произнес по-итальянски и, приложив обе руки ко лбу, до земли склонился перед Орио. «Он — ускок! О Джованна, Джованна! Как не пала ты мертвой, увидев, что этот гнусный убийца, изменивший своей родине, ненасытный грабитель и свирепый истребитель людей — твой супруг, человек, которого ты так любила!» Так говорит Джованна сама с собой. Может быть, она даже произносит эти слова вслух, настолько безразлична ей сейчас смертельная опасность, настолько она утратила ощущение самой себя, вся поглощенная этой ужасной и отвратительной сценой. Разбойники были так заняты своим спором, что и не могли бы ее услышать. Они еще долго беседовали. Но Джованна уже ничего не слушала, руки ее свело судорогой, шея раздулась, глаза закатились. Она упала на плиты пола и потеряла всякое ощущение своего несчастья. Пираты, обо всем договорившись с Орио, удалились. Орио бросился на свое ложе и заснул, совершенно разбитый усталостью. Наам перевязала его рану и теперь охраняет его сон, растянувшись на циновке у кровати. Наам уже давно не вкушала мирного сна. Через самые ужасные происшествия, через самые тяжкие испытания жизни проходит она со спокойствием и душевной уравновешенностью крепко закаленного духа и тела. Но в минуты отдыха сновидение порою возвращает ее к тем временам, когда, укачиваемая в гамаке белоснежного дамасского шелка четырьмя нубийскими невольницами, с кожей черной, как ночь, с белыми зубами, с веселыми открытыми лицами, она засыпала под звуки мандоры в дыму благовонных курений, в сладострастной истоме, под улыбчивым ликом Фингари, царицы восточных ночей, под лаской прохладного ветерка, осыпающего ее грудь лепестками цветов, украшающих ее косы. Времена эти прошли. Нежные ступни Наам попирают теперь жесткий щебень побережий и острую, режущую поверхность морских скал. Ее тонкие пальцы загрубели от постоянного соприкосновения с рулем и снастями. Иссушающее дыхание ветра и терпкий морской воздух покрыли загаром ее кожу, которую когда-то можно было сравнить с бархатной кожицей персика или абрикоса рано утром, когда ничья рука не сняла еще с них серебристый налет предрассветной влаги. Наам, душистый цветок пустыни на гибком, но крепком и цепком стебле, родилась дочерью вольных кочевых племен. Она не позабыла тех дней, когда, бегая босыми ногами по раскаленному песку, водила верблюдов на водопой и гнала обратно их послушное стадо, неся на голове кувшин со свежей водой, почти такой же большой, как она сама. Она помнит, как ее смелая рука продевала узду в непокорные рты худых белых кобылиц ее отца. Она спала под кочевыми шатрами — нынче у подножия гор, завтра на краю равнины. Лежа под ногами своих друзей-скакунов, она беззаботно слушала далекий лай шакалов или рычание пантер. Затем, еще до того, как она познала радость свободной взаимной любви, ее похитили разбойники и продали паше. Под сенью гарема она расцвела, как экзотическое растение, без вольного воздуха, без движения, без солнца, сожалея о своей былой нищете среди богатства и изобилия, с отвращением перенося докучные ласки своего деспота. Теперь Наам уже не жалеет о своей родине. Она любит, она верит, что любима. Орио ласково обращается с нею и доверяет ей все свои тайны. Нет сомнения — она ему дорога, ибо нужна и полезна, и ни в ком не найдет он такого рвения в сочетании с такой осмотрительностью, присутствием духа, мужеством и привязанностью. Впрочем, Наам ощущает себя свободной. Ее овевает вольный воздух, очи ее озирают широкий окоем. Обязанности у нее лишь те, что внушает ей сердце; единственная кара, которой она может страшиться, — это не быть любимой. И потому она не сожалеет ни о прислуживавших ей рабынях, ни о ванне с душистой водой, ни об ожерельях из цейлонского жемчуга, ни о тяжелом от драгоценных камней корсаже, ни о длительном ночном сне, ни о длительном послеполуденном отдыхе. Она была царицей гарема, но не переставала чувствовать неволю. Здесь, среди этих христиан она рабыня, но ощущает себя свободной, а свобода для нее лучше всякого царства. Скоро займется новый день, и вот чей-то слабый вздох пробуждает Наам от ее чуткого сна. Она приподнимается на коленях и смотрит на склоненную голову Соранцо. Но он спокойно спит, ровно и мирно дышит. И опять до слуха Наам доносится вздох, еще более глубокий, чем тот, первый, и полный невыразимой тоски. Она отходит от ложа Орио и бесшумно приподымает завесу окна. Там она находит неподвижно распростертую Джованну. Охваченная изумлением, она растрогана и сохраняет великодушное молчание. Затем, снова подойдя к Орио, она опускает занавески у его ложа, возвращается к Джованне, обнимает ее, поднимает и, никого не разбудив, относит в ее комнату. Орио так и не узнал, на что осмелилась Джованна. Он запер жену в ее покои, как пленницу, и перестал даже заходить к ней. Тщетно пыталась Наам добиться, чтобы он смягчился. На этот раз ей не удалось повлиять на него и даже показалось, что и ей он как будто не совсем доверяет, замышляя про себя что-то недоброе. Благодаря уходу Наам рана Орио зажила в несколько дней. Казалось несомненным, что Эдзелино погиб. Нигде не найдено было ни малейших намеков на то, что он мог спастись. Да если бы он и спасся от буйной ярости пиратов, то все равно его настигла бы обдуманная ненависть Соранцо. Джованна уже ни на что не жалуется и как будто не страдает; она не смотрит вечерами в окно, не вслушивается в неясные ночные звуки. Когда Наам поет ей песни своей родины под аккомпанемент лютни или мандоры, она не слушает, но улыбается. Иногда она берет в руки книгу, и кажется, будто она читает. Но взгляд ее целыми часами устремлен в одну и ту же страницу, а дух блуждает где-то далеко. Она более рассеянна, но менее угнетена, чем до смерти Эдзелино. Иногда ее можно застать стоящей на коленях — она словно в каком-то экстазе, глаза ее подняты к небу. Джованна наконец-то обрела спокойствие отчаяния, она дала некий обет, она не любит больше ничего на этой земле. Кажется, будто возвращена ей и воля к жизни. Она опять хорошеет, и румянец здоровья снова играет на ее лице. Морозини узнал о разгроме Эдзелино, и вся душа его возмущена наглостью пиратов. Утрата столь благородного и верного слуги государства погрузила в скорбь адмирала и все войско. На кораблях венецианского флота служат по нем заупокойную мессу, в гавани Корфу раздается мрачный пушечный салют, сообщающий вооруженным силам республики о печальном конце одного из самых доблестных офицеров. Теперь бездействие и трусость Соранцо начинают вызывать ропот. У Морозини зарождаются серьезные подозрения, но предельная осторожность велит ему молчать. Он шлет мужу племянницы приказ немедленно явиться к нему и дать отчет о своем поведении, а командование гарнизоном острова передать одному представителю рода Мочениго, которого он посылает ему на смену. Морозини велит Соранцо привезти с собой жену, а галеру, которой он так мало пользуется, оставить в распоряжении Мочениго. Но у Соранцо имеются в Корфу свои шпионы, его вестники опережают эскадру Мочениго, и он заранее предупрежден. Да он и не дожидался этого дня и уже позаботился о том, чтобы сохранить в безопасности богатую добычу, награбленную с помощью Гусейна и его сотоварищей. Все захваченное обращено в звонкую монету. Часть этого золота уже отправлена в Венецию. Орио велел снарядить галеру, на которой прибыла к нему Джованна. С помощью Наам и верных людей он перенес туда тяжелые ящики и мехи верблюжьей кожи, наполненные золотыми монетами. Это остаток его богатства, и галера готова уже поднять паруса. Он сообщает своим офицерам, что синьора решила вернуться в Венецию, и не дает им даже заподозрить, что ему грозит немилость, над которой он, впрочем, только смеется, ибо успел принять меры предосторожности. Пираты тоже предупреждены Гусейн со своей флотилией стремительно уносится к большому архипелагу, где ему не нужно будет бояться венецианского флота. Уверяют, что он дожил до восьмидесяти шести лет, не переставая заниматься морским разбоем и сумев не попасться в руки врагов. С ним и албанский еврей. В Венеции он был приговорен к смертной казни за несколько убийств, и Орио может не опасаться, что он осмелится когда-либо туда вернуться. Но ренегат Фремио, чьи преступления были не столь явны и который значительно смелее, внушает ему подозрения. Он расспрашивает его, узнает, что ренегат хотел бы возвратиться в Италию, и боится, что тот может на него донести. Орио предлагает ему остаться при нем, обещая дать ему возможность вернуться в Венецию на его галере и так, что правосудие до него не доберется. Ренегат, при всей своей подозрительности, соблазняется надеждой мирно дожить свой век на родине среди богатства, добытого разбоем. Он переносит свою добычу на галеру, где уже сложены сокровища Орио, меняет одежду и всю свою повадку и выдает себя на острове за генуэзского купца, бежавшего из турецкого рабства и укрывшегося под покровительством Соранцо. Теперь, кроме ренегата, для Орио представляют опасность еще только комендант Леонцио, командир галеры Медзани да два матроса, которые проводят его таинственную лодку через отмели. Все приготовления завершены. Отъезд Джованны в Венецию назначен на первое мая. Как раз в этот день Мочениго должен прибыть на Сан-Сильвио с приказом об отзыве Соранцо. Но знает об этом один Орио. Он велел предупредить Джованну, что ей надлежит приготовиться к отъезду, и накануне вечером сам отправляется к ней, приказав предварительно известить Леонцио, Медзани и ренегата, что они должны явиться в полночь в его личные покои, где он сообщит им нечто весьма для них важное. Орио надел свой самый роскошный камзол и завил волосы. На пальцах его сверкают дорогие перстни, и правая рука, уже почти зажившая и затянутая в надушенную перчатку, изящно помахивает цветущей веткой. Он входит к жене без всякого доклада, велит ее прислужницам выйти и, оставшись с ней наедине, хочет обнять ее. Но Джованна отшатывается, словно от прикосновения ядовитой змеи, и уклоняется от его ласк. — Оставьте меня, — говорит она Соранцо, — я вам больше не жена. Наши руки соединились, казалось бы, навеки, но теперь они не должны соприкасаться ни на этом свете, ни на том… — Вы правы, любовь моя, — говорит Соранцо, — что гневаетесь на меня. Много дней не проявлял я к вам ни нежности, ни даже вежливого внимания. Но сейчас, когда я преклоняю перед вами колено и оправдываюсь, вы смягчитесь. И вот он принимается рассказывать ей, что, поглощенный делами и заботами по своей должности, он решил не вкушать отдохновения и счастья, пока не завершит всего задуманного. Теперь же, по его мнению, все готово для осуществления этих намерений и он сумеет блистательно доказать свою верность республике, полностью уничтожив пиратов. Он попросил у адмирала подкреплений, они ему посланы, и все приготовлено для жестокого и решительного боя. Но он не хочет, чтобы его нежно любимая и чтимая супруга подвергалась риску, связанному с таким делом. Он уже все подготовил к ее отъезду и сам будет сопровождать ее на своей тяжелой галере до Фиаки, а затем возвратится, чтобы смыть подозрения, запятнавшие его честь, или же погибнуть под развалинами крепости. — Эта последняя ночь, которую мы проводим под кровом крепостной башни, — добавляет он, — может быть, вообще последняя, которую нам суждено провести под одним кровом. В роковой этот час моя Джованна забудет о своей оскорбленной гордости, она не отвергнет моей любви и раскаяния. Она откроет мне свое сердце и свои объятия. И — в последний раз, может быть, — она даст мне то истинное блаженство, которое я познал только с ней. Говоря все это, он обнимает ее, склоняя перед ней свое гордое чело, так часто заставлявшее ее трепетать. И в то же время пытается прочесть в ее глазах, насколько она теперь доверяет ему, насколько осталось в ней подозрительности, которую необходимо рассеять. Он думает, что для него еще не закрыта возможность восстановить свое господство над этой женщиной, которая так любила его и которую он властен был убедить в чем угодно, когда это было ему желательно. Однако она высвобождается из его объятий и холодно отталкивает его. — Оставьте меня, — говорит она. — Если есть на свете какой-то способ восстановить вашу честь, я за вас рада. Но способа, которым вы могли бы восстановить свои права на мою супружескую любовь, не существует. Если вы погибнете в затеянном вами предприятии, то, может быть, искупите свои провинности, и я буду молиться за вашу душу. Но если вы останетесь в живых, я все равно расстанусь с вами навсегда. Орио бледнеет и хмурится, но Джованну нисколько не волнует его гнев. Орио сдерживается и продолжает умолять ее. Он делает вид, что принимает ее холодность за следствие обиды, расспрашивает, чтобы выведать, станет ли она упорствовать в своих обвинениях. Но Джованна отказывается объяснять ему что-либо. — В помыслах моих я обязана отчитываться лишь перед богом, — говорит она. — Отныне господь бог — единственный мой супруг и повелитель. Так натерпелась я от земной любви, что вижу теперь всю ее тщету. Я дала обет: по возвращении в Венецию я добьюсь расторжения нашего брака и постригусь в монахини. Орио делает вид, что не принимает этого решения всерьез, что не верит в него и надеется, что через несколько часов Джованну поколеблют его ласки. Он удаляется с самодовольным выражением лица, которое вызывает лишь презрение в ее нежном, но гордом сердце, не способном больше любить того, кого презирает, и обращающем к небу всю свою надежду и веру. Наам дожидалась Орио у входа в башню. Он показался ей угрюмым, он говорил отрывисто, и голос его дрожал: — Который теперь час, Наам? — До полуночи осталось два часа. — Ты знаешь, что нам осталось сделать? — Все готово. — Сотрапезники наши придут к полуночи в мою комнату? — Придут. — Кинжал твой при тебе? — Да, господин, а вот и твой. — Ты уверена в себе, Наам? — Господин, а ты убежден в том, что они замыслили измену? — Я же тебе сказал. Ты сомневаешься? — Нет, господин. — Так вперед! — Вперед! Орио и Наам проникают в подземные галереи, спускаются по веревочной лестнице, выходят на берег моря и подзывают лодку. Оба неутомимых гребца, которые всегда в этот час скрываются в ближайшей пещере, поджидая условленного сигнала, тотчас же спускают лодку на воду и подплывают к берегу. Орио со своей спутницей прыгает в лодку и велит матросам плыть подальше от берега. Вскоре они оказываются уже достаточно далеко от замка, чтобы Орио мог осуществить задуманное. Заняв место на корме, он вдруг приподнимается и, приблизившись к гребцу, склоненному над веслом, вонзает кинжал ему в горло. — Измена! — кричит тот и, хрипя, падает на колени. Его товарищ бросает свое весло и устремляется к нему. Наам наносит ему удар топором по голове, и он падает ничком. Она хватает весло, чтобы лодка не перевернулась, а Орио тем временем приканчивает свои жертвы. Потом он связывает их вместе толстым канатом и крепко привязывает к основанию мачты. Затем берет другое весло и торопливо гребет к скале Сан-Сильвио. Подойдя к ней, он хватает топор, пробивает двумя-тремя ударами дно лодки, куда, пенясь, врывается вода. Тогда он хватает Наам за руку и вместе с ней бросается к берегу, пока лодка погружается и исчезает под волнами с обоими трупами. В лодке с того мгновения, когда оба убийцы вошли в нее, царило зловещее молчание. Пока совершалось злодеяние и после него они не обменялись ни словом. — Ну вот! Все идет хорошо, мужайся! — обращается Соранцо к Наам, слыша, как у нее стучат зубы. Наам тщетно пытается что-то ответить; горло ее судорожно сжато. Однако она не теряет решимости и сохраняет присутствие духа. Она поднимается по веревочной лестнице и вместе с Орио входит в башню. Там она зажигает светильник, и их взгляды скрещиваются. Бледные лица, запятнанная кровью одежда вызывает в них такой ужас, что они расходятся в разные стороны, боясь коснуться друг друга. Однако Орио старается поддержать своей вызывающей смелостью колеблющееся мужество Наам. — Это пустяки, — говорит он, — не твоей руке, поразившей тигра, дрожать, уничтожая трусливых шакалов. Наам все так же молча делает ему знак не напоминать ей об этом. Она убила пашу безо всякой жалости, без угрызений совести, но не переносит, чтобы в ее памяти вызывали это деяние. Она торопливо меняет одежду и, пока Орио следует ее примеру, накрывает стол к ужину. Вскоре их сотрапезники тихонько стучат в дверь. Она вводит их в комнату. Они, видимо, удивлены тем, что нет слуг, подающих ужин. — Мне надо сообщить очень важные вещи, — говорит им Орио, — сообщить втайне, без лишних свидетелей. Нам здесь хватит фруктов и вина: ужин — ведь только предлог. Сейчас не время пировать. Вот возвратившись в прекрасную Венецию, среди богатства и вне всякой опасности, мы сможем целые ночи предаваться самым безумным оргиям. А здесь мы должны свести счеты и поговорить о делах. Наам, дай нам перьев и бумаги. Медзани, вы будете секретарем, а Фремио пусть делает все подсчеты. Леонцио, налейте-ка нам всем вина. Началось с того, что Фремио стал предъявлять необоснованные требования, утверждая, что Леонцио выдал ему неправильную расписку за добычу, которую он, Фремио, погрузил на галеру. Орио делал вид, что слушает их споры в качестве беспристрастного судьи. В момент, когда они особенно разгорячились, ренегат, который говорил с натугой, корявым языком, вызывавшим презрительную усмешку у двух других собутыльников, вдруг смешался от стыда и досады и, чтобы подбодриться, выпил сразу два-три кубка. Но язык у него заплетался все больше и больше, и, яростно топнув ногой, он встал из-за стола и вышел на балкон. Наам проводила его глазами. Через несколько минут, пока продолжался спор между Медзани и Леонцио, Соранцо обменялся взглядом со своей невольницей и понял, что Фремио уже не заговорит. Он сидел на террасе, свесив ноги вниз и обвивая руками прутья балюстрады. Голова его склонилась, взгляд был устремлен в одну точку. — Он что, пьян? — спросил Леонцио. — Да. Так, впрочем, лучше, — ответил Медзани. — Покончим с делами без него. Он попытался прочесть то, что писал Леонцио, но не смог ничего разобрать, — глаза его помутнели. — Странное дело, — произнес он, поднося руку ко лбу. — Я тоже вроде бы пьян. Мессер Соранцо, это же просто подлость. Вы нас угощаете таким вином, что выпьешь его и теряешь всякое соображение… До утра ничего не стану подписывать! Он упал на стул. Глаза его уставились в одну точку, губы посинели, руки вытянулись на столе. — Что это? — произнес Леонцио, с ужасом глядя на него. — Синьор губернатор, или я никогда не видел, как помирают люди, или этот человек только что отдал богу душу. — И с вами это сейчас произойдет, синьор комендант, — молвил Орио, встав с места и вырывая у него из рук перо и бумагу. — Поторапливайтесь со своими делами, для вас уже нет надежды, а счеты между ними покончены. Леонцио отпил всего какой-нибудь глоток вина, но ужас помог действию яда и нанес коменданту смертельный удар. Он упал на колени, сжимая руки, с блуждающим и уже потухшим взором и попытался что-то пробормотать. — Не к чему, — сказал Орио, толкая его под стол. — Здесь ваши хитрости не помогут. Я-то ведь знаю, что сделку вы уже заключили и что, будучи половчее тех двоих, вы предаете и республику, чтобы иметь долю в нашей добыче, и своих сообщников, чтобы заслужить прощение республики, отправив нас в Пьомби. Но неужто вы думали, что такой человек, как я, спасует перед таким, как вы? Боевой коршун создан, чтобы летать, а ползучая гусеница — чтобы быть раздавленной. Таков закон божеский. Прощайте, храбрый комендант, выдававший меня за безумца. Кто из нас двоих сейчас безумнее? Леонцио пытался подняться, но не смог. Он дотащился до середины комнаты и испустил дух, прошептав имя Эдзелино. Что это было? Раскаяние? Или в предсмертный миг ему явился окровавленный призрак? Орио и Наам затолкали три трупа под стол, а стол опрокинули на них вместе со скатертью и стульями. Затем Орио взял факел и поджег всю эту беспорядочную груду, закрыв предварительно окна. Наконец он удалился, велев Наам оставаться у двери, пока она не убедится, что трупы, стол и вся прочая обстановка сгорели и пламя вырывается наружу. Тогда, сказал он, она должна спуститься по главной лестнице и поднять в замке тревогу, забив в набат. Прислонившись к двери, скрестив руки на груди и не спуская глаз с ужасного костра, уже охваченного синим пламенем, одиноко стояла Наам, погруженная в свои мрачные думы. Вот клубы дыма уже извиваются спиралью и, словно змеи, устремляются к потолку Пламя растекается все шире. Голоса разгорающегося пожара визжат, свистят, перекликаются, смешиваются, образуя какие-то душераздирающие созвучия. Сверкающие мраморные плиты пола можно принять за водную поверхность, отражающую пламя пожара. За клубами дыма фрески на стене представляются некими мрачными духами, которые покровительствуют преступлению и наслаждаются бедой. Постепенно они начинают отделяться от стены, и бледные великаны кусками падают на каменный пол с сухим, зловещим стуком. Но в этой ужасающей сцене, где Наам — главное действующее лицо, нет ничего страшнее самой Наам. Если бы хоть один из тех, чьи почерневшие кости уже лежат среди пепла, мог на мгновение ожить и увидеть освещенную тусклыми отблесками пламени Наам с перекошенным от ужаса ртом, но неумолимой решимостью на лице, он снова упал бы, как от удара молнии, словно перед ним предстал сам ангел смерти. Азраил никогда не являлся людям в облике более устрашающем и прекрасном, чем облик таинственного и странного существа, наблюдающего сейчас за свершением мести Орио. Но вот со звоном лопаются стекла окон, и огонь уж вырывается наружу. Наам кажется, что пора уже выполнить приказ господина и поднять тревогу. Но почему Орио удалился, не велев ей последовать за ним? В ужасе, который она испытывала, совершая вместе с ним это дело, Наам повиновалась ему почти машинально, ко теперь в ее сердце тигрицы возник иной страх, великодушный порыв. Она забывает о том, чтобы ударить в набат, она быстро мчится по лестнице и галереям, отделяющим главную башню от деревянных палат, мчится к покоям Джованны Но там царит глубокое безмолвие. Наам не удивлена тем, что в комнатах, через которые она поспешно пробегает, ей не встретилась ни одна из служанок Джованны. Верная негритянка, чей гамак обычно висит поперек двери в спальню госпожи, тоже отсутствует. Наам не знает, что под предлогом супружеского свидания с женой Орио заранее удалил всех служанок. Она думает, что, напротив, первой его заботой было прийти сюда за Джованной, чтобы спасти ее от пожара. И все же Наам неспокойна. Она входит в спальню Джованны. Здесь, как и всюду, глубочайшая тишина, а лампа светит так слабо, что Наам сперва лишь с трудом может разглядеть все находящееся в комнате. Однако она видит, что Джованна лежит на кровати, и ее удивляет, что Орио не поспешил предупредить жену о грозящей опасности. И в этот миг Наам охватывает такой ужас, какого она еще не испытывала, колени у нее дрожат, она не смеет подойти ближе. Борзой пес, вместо того чтобы бешено наброситься на нее, как обычно, приблизился к ней боязливо, умоляюще. Потом он снова сел у кровати и, насторожив уши, вытянул шею, словно тревожно дожидается пробуждения хозяйки. Время от времени он поворачивает голову к Наам с коротким визгом, как будто спрашивает о чем-то, а затем начинает лизать влажный пол. Наам берет лампу, подносит ее к лицу Джованны и видит, что вся она залита кровью. Грудь ее пронзена одним-единственным ударом кинжала, но рана эта глубокая, смертельная, и Наам узнает руку, которая ее нанесла. Знает она и то, что теперь уже бесполезно проверять, не осталось ли хоть немного живой теплоты в этом теле, ибо там, где удар нанес Соранцо, не может быть никакой надежды. Наам неподвижно застыла перед этой прекрасной женщиной, уснувшей навеки. Новые мысли пробуждаются в ее душе. Она забывает обо всем, что предшествовало этому убийству. Она забыла даже о пожаре, который сама зажгла и который теперь гонится за нею. «О сестра моя, чем заслужила ты смерть? Неужели такая судьба уготовлена всем женщинам, любившим Орио? Стоило ли тебе быть прекрасной? Стоило ли любить? Или это я виновница ненависти, которую ты в нем пробудила? Нет, я ведь все делала, чтобы смягчить его, и свою жизнь отдала бы за то, чтобы спасти твою. Или он заплатил презрением за то, что ты была слишком верна и покорна? Ты оказалась слишком слабой, женщина. Но я буду помнить о тебе. Пусть то, что с тобой случилось, послужит мне уроком». Пока Наам, погруженная в эти тяжкие думы, гадает о своей участи, глядя на труп Джованны, пожар все разгорается и деревянная галерея, окружающая дворик с цветущими клумбами, уже почти сгорела. Свист и зловещие отблески тщетно предупреждают Наам о приближении огня. Она ничего не слышит, душа ее так взбудоражена, что в этот миг ей кажется — не стоит и спасать свою жизнь. Между тем Орио стоит неподалеку, на площадке, с которой он созерцает пожар, распространяющийся, по его мнению, слишком медленно. Вся эта часть замка, из которой он заранее удалил ее обитателей, станет через несколько минут добычей пламени, но Орио не позаботился о том, чтобы собственноручно поджечь комнату Джованны. Он слышит крики часовых, которые только что заметили зловещие отсветы пламени и поднимают тревогу. Сейчас еще можно проникнуть к Джованне и увидеть, что она погибла от удара кинжалом. Орио предупреждает эту опасность. С пылающей головешкой в руке устремляется он в супружескую опочивальню, но, увидев Наам, стоящую у залитого кровью ложа, отступает в ужасе, словно перед призраком. И тут адская мысль пронзает его окаянную душу. Все его сообщники устранены, все враги уничтожены. Единственный человек, знающий о нем все, — это Наам. Только она одна могла бы раскрыть, благодаря каким злодеяниям он собрал и сохранил свои богатства. Одно усилие воли, один последний удар кинжалом — и Орио остался бы безраздельным хозяином, единственным владельцем своих тайн. Он колеблется, но Наам поворачивается к нему и глядит на него. То ли она предугадала его намерение, то ли убийство Джованны вызвало на ее бледном лице и в ее мрачном взгляде выражение негодования и укора, но взгляд этот оказывает на Орио магическое воздействие: в душе его по-прежнему таится злое желание, но на злодейство у него уже не хватает сил. В этот миг Орио понял, что Наам — существо более сильное, чем он, и что нет у него такой же власти над ее судьбой, как над судьбой других его жертв. Орио охвачен суеверным страхом. Он дрожит, как человек, которого внезапно сглазили. Во всяком случае, он делает усилие, чтобы совсем покончить с Джованной, и бросает пылающую головешку на кровать. — Что ты здесь делаешь? — с угрюмым гневом обращается он к Наам. — Я же велел тебе ударить в набат! Иди, повинуйся! Смотри: огонь преследует нас по пятам! — Орио, — говорит Наам, не двигаясь, не выпуская из своей руки руку трупа, — зачем ты убил свою жену? Это ужасное преступление. Я считала, что ты больше, чем человек, теперь вижу, что ты такой же, как все, способный и на хорошее и на дурное! Как мне чтить тебя, Орио, теперь, когда я знаю, что тебя следует страшиться? Это такое дело, которого я никогда не смогу забыть, и даже вся моя любовь к тебе не подскажет мне сейчас ничего, что могло бы его хоть как-то оправдать. О, если бы богу было угодно, чтобы ты его не совершал и я бы этого не видела! Не знаю, простит ли тебе твой бог, но уж наверное аллах проклянет человека, убившего свою жену, непорочную и верную. — Прочь отсюда! — кричит Орио, опасающийся, что кто-нибудь может застать его в таком месте и за таким спором. — Делай, что тебе велено, и молчи, а не то — бойся и за себя! Наам пристально посмотрела на него и, указав на пламя, целым снопом врывающееся в дверь, промолвила: — Тот из нас, кто спокойнее переступит через огонь, будет иметь право угрожать другому и запугивать его. И в то время, как Орио, побежденный опасностью, поспешно устремляется прочь из этой комнаты, она медленно приближается к охваченной пламенем двери, так, словно не замечает грозящей беды. Пес идет за нею до двери, но, видя, что хозяйку его оставляют здесь, он возвращается к кровати, жалобно воя. — Ты животное, а в тебе больше чувства и преданности, чем в человеке, — говорит Наам, возвращаясь вспять, — тебя надо спасти. Но тщетно пытается она оторвать пса от мертвого тела: он упирается, скалит зубы. Если Наам станет продолжать эту борьбу, она потеряет последнюю возможность спасения. Спокойно переступает она через огонь и находит Орио во дворике. Он нетерпеливо ждет там и теперь глядит на нее с восхищением. — О Наам, — говорит он, хватая ее за руку и увлекая за собой, — у тебя великая душа, ты должна все понимать. — Я могу понять все, кроме этого! — отвечает Наам, указывая пальцем на комнату Джованны, где только что с ужасающим шумом обрушился потолок. В один миг весь замок был взбудоражен. Солдаты и слуги, мужчины и женщины бросились к покоям губернатора и его жены. Но в ту минуту, когда оттуда вышли Орио и Наам, деревянное строение, вспыхнувшее с ужасающей быстротой, представляло собой лишь груду пепла, окруженного пламенем. Никто не смог проникнуть внутрь. Один старый слуга дома Морозини попытался это сделать и погиб. Соранцо и его юный раб исчезли среди общего смятения. Сильный ветер распространил пламя повсюду. Вскоре вся главная башня представляла собой гигантский огненно-красный сноп, окровавивший своим отсветом море на целую милю в окружности. Башни рухнули с чудовищным грохотом, а их тяжелые каменные зубцы, скатываясь со скалы в море, забили и заткнули все пещеры и тайные выходы, где прятал лодку Орио и откуда он выходил к морю. Те, кто видел с проходивших вдалеке кораблей этот ужасный пожар, подумали, что на отмелях установлен огромной силы маяк, а перепуганные жители ближайших островов говорили: — Это пираты истребляют венецианский гарнизон и поджигают замок Сан-Сильвио. К утру все обитатели крепости, изгнанные пожаром из замка, толпились на берегу бухты, единственном месте, где обрушившиеся камни и обломки деревянных балок не могли их настичь. Было немало жертв. При бледном свете зари стали подсчитывать погибших, и все взгляды обратились к Орио, в угрюмом молчании сидевшему на камне. Рядом с ним стояла Наам. Башня еще горела, и занимающийся день, казалось, делал еще более ужасным зарево пожара. Никто уже не думал бороться со стихией огня. Люди собирались кучками, слышались рыдания и проклятия. Одни жалели о близком или друге, другие — об утраченной ценной вещи. И все тихонько спрашивали друг друга: — Но где же синьора Соранцо? Ее, верно, все-таки спасли, раз губернатор на вид так спокоен? И вдруг от грохота, еще более страшного, чем прежде, дрогнули даже самые мужественные сердца. Вся масса почерневших камней, еще сопротивлявшаяся огню, сразу треснула сверху донизу. Не устояли даже базальтовые ребра скалы, и глубокие щели избороздили эту мощную твердыню, подобно тому, как от удара молнии трескается ствол старого дуба. Сразу рухнула вся верхняя часть замка — широкие мраморные террасы, площадки башен и их зубчатые ограды. Пламя раздробилось на тысячи язычков, которые, словно струи огненного водопада, стекали по стенам здания. И вдруг все погасло. Теперь вся эта крепость являла собой лишь бесформенное нагромождение камней, из которого поднимались клубы едкого дыма да порой слабые вспышки бледнеющего уже пламени — может быть, последние отблески жизней, погребенных под этими обломками. После этого воцарилась мертвая тишина, и бледные жители острова, рассеянные по влажному берегу, переглянулись, как призраки, что поднимаются из могил, отряхивая свои пыльные саваны. И вдруг из недр этих развалин, где, казалось, должны были заглохнуть малейшие проявления жизни, до них донесся странный, жалобный голос, какой-то трудно определимый, раздирающий душу вой. Он длился несколько минут и завершился хриплым, заглушенным лаем, последним возгласом смерти. После этого слышен был только шум моря, обреченного вечно стенать на этом обездоленном берегу. — Где же прятался этот заколдованный пес, если раздавило его только сейчас? — сказал Орио, обращаясь к Наам. — Ты уверен, — ответила Наам, — что теперь уже ничего не осталось от… — Едем! — произнес Орио, воздымая обе руки к бледным звездам, гаснущим в лучах дня. Те, кто видел это издалека, приняли жест Орио за порыв невыразимого отчаяния. Наам, лучше понимавшая его, усмотрела в нем крик торжества. Соранцо и его юный невольник бросились в лодку и доплыли до галеры, приготовленной, чтобы увезти в Венецию Джованну. Соранцо велел поднять все паруса и отдать команду к отплытию. На этом легком корабле находились с ним только Наам, несколько слуг и очень небольшой экипаж, состоявший из отборных моряков. Напрасно офицеры гарнизона и тяжелой военной галеры пришли к нему за распоряжениями. Он грубо оттолкнул их и велел своей команде поскорее поднимать якорь. — Синьоры, — сказал он своим растерявшимся подчиненным, — можете вы возвратить мне жену, которую я так любил и которая осталась там, под развалинами? Нет, не можете? Так о чем же вы со мной говорите и чего ждете от меня? С этими словами он, словно громом пораженный, упал на палубу своей галеры, уже разрезавшей волны. — Отчаяние окончательно помутило его разум, — сказали офицеры, спускаясь в свою лодку и глядя, как быстро удаляется от них начальник, бросивший их на произвол судьбы. Когда они уже не могли видеть галеру, Наам наклонилась над Орио, распростертым без движения на верхней палубе. — На тебя уже не смотрят, — сказала она ему на ухо, — вставай, обманщик!
За повествование снова принялся аббат, а Беппа тем временем стала угощать Зузуфа шербетом.
— Я не берусь рассказать вам вточности, что произошло на островах Курцолари после отъезда Орио Соранцо. Думаю, что друг наш Зузуф об этом тоже не осведомлен и что, в конце концов, каждый из нас легко может себе это представить. Когда гарнизон, матросы и слуги увидели, что они оставлены своим губернатором и что единственное их убежище теперь — военная галера да рыбачьи хижины, рассеянные вдоль побережья, они, наверное, были возмущены и испуганы своим положением и заколебались: им хотелось искать убежища в Кефалонии, но в то же время они боялись действовать без распоряжений начальства и, может быть, вразрез с намерениями адмирала. Мы, впрочем, знаем, что, на их счастье, в тот же вечер прибыл Мочениго со своей эскадрой. У него имелись достаточно широкие полномочия, чтобы справиться с этим тягостным положением. Приняв к сведению и занеся в протокол все только что происшедшее на острове, он велел всем находящимся на Курцолари венецианцам погрузиться на военную галеру и, поручив командование этим единственным оставшимся у них кораблем старшему чином офицеру, свою эскадру он разделил: половину кораблей послал в Фиаки, половину — к берегам Лепанто. Но крайне удивлен был Мочениго тем обстоятельством, что он тщетно обследовал развалины Сан-Сильвио, тщетно учинял нечто вроде опроса всем, кто находился в замке, когда начался пожар, и всем, кто присутствовал при посадке Соранцо на галеру и был очевидцем его бегства: ему так и не удалось выяснить что-либо о судьбе Джованны Морозини, Леонцио и Медзани. По всей вероятности, последние двое погибли во время пожара, ибо с того времени их никто не видел, а уж, наверное, они появились бы, если бы избежали гибели. Но судьбу синьоры Соранцо окутывала тайна. Одни, ссылаясь на слова губернатора перед самым его отплытием, выражали твердое убеждение, что она тоже стала жертвой пламени, другие (таких было значительное большинство) полагали, что как раз эти слова в устах такого скрытного человека доказывали обратное тому, в чем он хотел уверить. По их мнению, синьору раньше всех спасли от опасности и отправили на галеру Кругом царило тогда общее смятение, чем и объясняется, что никто не припоминал, как она вышла из крепости и удалилась с острова. Без сомнения, у Орио имелись особые причины скрывать ее на галере в момент отплытия. Уже давно он испытывал к этому острову величайшее отвращение и стремился его покинуть. И для того, чтобы как-то оправдать свой поспешный отъезд, оставление должности и пренебрежение воинским долгом, он решил разыграть отчаяние, вызванное гибелью супруги. Исчерпав все способы внести ясность в случившееся, Мочениго велел начать погрузку людей на галеру и готовиться к отплытию. Но к отправлению своей новой должности он приступил лишь после того, как послал срочное донесение Морозини, чтобы тот как можно скорее выяснил, в Венеции ли его племянница, ибо предполагалось, что дезертир Соранцо отвез ее туда. Вы, знающие истинное положение Соранцо, сперва должны были бы подумать, что он, будучи обладателем столь дорогой ценой приобретенных богатств и опасаясь в Венеции любых неприятностей и бед, отправился к иным берегам, в страну, где его никто бы не знал и где никакие свидетельства о его преступлениях не помешали бы ему пользоваться своим богатством. Но в данном случае дерзость Соранцо достойным образом увенчала все его прочие бессовестные дела. То ли подлые души обладают своего рода мужеством отчаяния, свойственным им одним, то ли рок, вмешательством которого наш друг Зузуф объясняет все происходящее с людьми, осуждает великих преступников на то, чтобы они сами шли к своей гибели, — но следует заметить, что эти гнусные люди всегда лишаются плодов своих злодеяний только потому, что не умеют вовремя остановиться. Морозини еще и понятия не имел, что почти все приданое племянницы было промотано в первые же три месяца ее брака с Соранцо. Соранцо же, по мнению которого благосклонность адмирала являлась источником всех почестей и всяческой власти в республике, стремился прежде всего возместить растраченное состояние. Быстрейший способ показался ему наилучшим, и, как мы видели, он, вместо того чтобы охотиться за пиратами, стакнулся с ними в деле ограбления торговых кораблей всех наций. Едва ступив на этот путь, он так изумился огромной, скорой, верной добыче, так опьянел от нее, что остановиться уже не мог. Он перестал довольствоваться тем, что бездействием своим покровительствовал пиратству и втайне получал свою долю добычи. Вскоре ему захотелось для увеличения этих гнусных барышей использовать свои дарования, свою храбрость и то своего рода фанатичное преклонение, которое он с самого начала внушил этим разбойникам. — Раз уж мы поставили на карту честь и жизнь, — сказал он Медзани и Леонцио, своим сообщникам (и, надо сказать, подстрекателям), — надо ни перед чем не останавливаться и ставить на карту все. Дерзкий замысел удался: он стал командовать пиратами, руководить ими, обогащать их и, стремясь сохранить среди них свой авторитет, который еще мог ему когда-нибудь пригодиться, отпустил их всех вместе с их главарем Гусейном, очень довольных его честностью и щедростью. С ними он повел себя, как настоящий венецианский вельможа, ибо получил достаточную долю общей добычи, чтобы проявить щедрость, да, кроме того рассчитывал воспользоваться долями ренегата, коменданта и своего помощника, которых все равно, по его мнению, нельзя было оставлять в живых, если сам он хотел жить. Некая проклятая звезда руководила судьбой Орио во всем этом деле и покровительствовала его злосчастному успеху. Вы вскоре увидите, что адская эта сила еще дальше понесла его на своем огненном колесе. Хотя Соранцо получил в четыре раза больше того, чего желал, все сокровища мира были для него ничто без Венеции, где их можно было растратить. В то время любовь к родине была настолько сильной, настолько живучей, что она цеплялась за все сердца — и самые низкие и самые благородные. Да тогда и не было особой заслуги в том, чтобы любить Венецию! Она была такой прекрасной, могущественной, радостной! Она была такой доброй матерью всем своим детям, она так страстно влюблялась в любую их славу! Венеция так ласкала своих победоносных воинов, ее трубы так громко воспевали их храбрость, она так утонченно, так изящно восхваляла их предусмотрительность, такими изысканными наслаждениями вознаграждала их за малейшую услугу! Нигде нельзя было развлекаться столь роскошными празднествами, предаваться столь восхитительной лености, до отказа погружаться в столь блестящий вихрь удовольствий сегодня, в столь сладостное отдохновение завтра. Это был самый прекрасный город в Европе, самый развратный и в то же время самый добродетельный. Праведники имели возможность творить там любое добро, злодеи — любое зло. Там хватало солнца для одних и мрака для других. Там, наряду с мудрыми установлениями и волнующим церемониалом для провозглашения благородных начал, имелись также подземелья, инквизиторы и палачи для поддержания деспотизма и утоления тайных страстей. Были дни для торжественного прославления доблести и ночи распутства для порока; и нигде на земле прославления не были более опьяняющими, а распутство — более поэтичным. Вот почему Венеция была естественной родиной всех сильных душ — сильных и в добре и во зле. Для всякого, кто ее знал, она становилась родиной, без которой нельзя обойтись, которую нельзя отвергнуть. Потому-то Орио и рассчитывал наслаждаться своим богатством только в Венеции и ни в каком ином месте. Более того — он хотел наслаждаться им, сохраняя все привилегии, которые давали ему венецианское происхождение, родовитость и военная слава. Ибо Орио был не только корыстолюбив, он был к тому же и невыразимо тщеславен. Он шел на все (вам известны и его доблесть и его подлость), чтобы скрыть свой позор и сохранить славу храбреца. И странное дело! Несмотря на его явное бездействие в Сан-Сильвио, несмотря на то, что сами факты заставляли подозревать его в тяжких провинностях, несмотря на жестокие обвинения, которые висели над его головой, наконец несмотря на ненависть, которую он вызывал, среди всех недовольных, оставленных им на острове, не нашлось ни одного обвинителя. Никто не заподозрил его в том, что он принимал участие в морском разбое или хотя бы покровительствовал пиратам, и все странности его поведения после патрасского дела объясняли или извиняли горем и душевной болезнью. Далее самый великий полководец, самый храбрый воин могут после поражения потерять рассудок. Поэтому Соранцо мог избавиться от всех неудобств приписываемой ему душевной болезни при ближайшем же значительном боевом деле, и так как эта болезнь, придуманная Леонцио отчасти, чтобы спасти его, отчасти, чтобы при случае погубить, оказывалась в его нынешнем положении самым лучшим объяснением, он решил извлечь из нее всю возможную выгоду. Тут у него и возникла дерзновенная мысль немедленно плыть на Корфу к Морозини, чтобы и адмирал и все венецианское войско увидели его в состоянии глубочайшего отчаяния и душевного смятения, близкого к полному сумасшествию. Комедия эта была так живо задумана и так великолепно разыграна, что вся армия попалась на удочку. Адмирал оплакивал вместе с племянником гибель Джованны и под конец даже сам принялся утешать его. Всем, кто знал Джованну Морозини, горе Соранцо казалось вполне естественным, даже священным; никто не осмеливался больше осуждать его поведение, и каждый опасался прослыть жестокосердым, если бы отказал в сострадании к столь ужасной беде. Целую неделю его охраняли, как буйно помешанного. Затем, когда рассудок, по всей видимости, начал к нему возвращаться, он стал выказывать такое отвращение к жизни, такое безразличие ко всему мирскому, что и разговоры заводил лишь о том, чтобы постричься в монахи. Вместо того чтобы взыскать с него за нерадивое управление островом и лишить военного звания, великодушный Морозини оказался вынужденным выказать ему родственную привязанность и предложить еще более высокую должность в надежде примирить его с воинской славой и тем самым с жизнью. Соранцо, решив про себя воспользоваться этим предложением во благовремении, сделал вид, что возмущенно отвергает его, и, придравшись к случаю, ловко расцветил свое поведение в замке Сан-Сильвио. — Это мне — военные отличия?! Это мне — почести и фимиам славы?! — воскликнул он. — О чем вы думаете, благородный Морозини! Разве не кратковременный злосчастный приступ честолюбия загубил блаженство всей моей жизни? Нельзя служить двум господам: я создан был для любви, а не для славы! Что сделал я, прислушавшись к лживым посулам геройства? Я потревожил мир и доверие в душе Джованны, я оторвал ее от безопасного, спокойного, незаметного существования, я увлек ее в самое логово гроз, в тюрьму, повисшую между небом и морской пучиной, где вскоре ее здоровье было подточено. А при виде ее страданий и моя душа дрогнула, я утратил энергию, память, военный талант. Поглощенный любовью, мучимый страхом погубить любимую, я позабыл, что я воин, и ощущал себя только супругом и возлюбленным Джованны. Может быть, этим я обесчестил себя, не знаю. Не все ли равно? В душе моей нет места никаким сожалениям. Вся эта гнусная ложь возымела такой успех, что Морозини стал любить Соранцо со всем пылом своей великой и чистой души. Когда ему показалось, что горе племянника несколько успокоилось, он пожелал отвезти его в Венецию, куда сам должен был отправиться по важным государственным делам. Он взял его на свою собственную галеру и во время путешествия не щадил благородных усилий, чтобы вернуть мужество и честолюбие тому, к кому относился как к родному сыну. Корабль Соранцо, предмет его тайных забот, плыл вместе с кораблями Морозини и его свиты. Вы хорошо понимаете, что болезнь, отчаяние, безумие не мешали Соранцо ни на миг не спускать глаз с его дорогой, груженной золотом галеры. Наам, единственное существо, которому он мог доверять как самому себе, сидела на носу, внимательно следя за всем происходящим и на ее корабле и на адмиральском. Наам была погружена в глубокую печаль, но любовь ее вынесла все ужасные испытания. То ли Соранцо удалось обмануть ее, как и других, то ли подлинная скорбь, как воздаяние за ту, что он разыгрывал, овладела им, но Наам казалось, что из глаз его текут настоящие слезы, а приступы его бреда напугали ее. Она знала, что другим людям он лжет, но представить себе не могла, что и ее он захочет морочить, и поверила в его раскаяние. Соранцо понимал, как необходима ему преданность Наам. К каким только омерзительным ухищрениям не прибегал он, чтобы вновь подчинить ее своей власти! Он попытался было разъяснить Наам, что такое ревность у европейских женщин, и внушить ей посмертную ненависть к Джованне. Но это ему не удалось. Сердце Наам, простое и сильное, порой до свирепости, было слишком великодушным для зависти и мстительности. Божеством ее был рок. Она была беспощадна, слепа, невозмутима, как он. В одном ему, впрочем, удалось ее убедить: в том, что Джованна угадала ее пол и сурово порицала своего супруга за двоеженство. — В нашей религии, — говорил он, — это преступление, за которое карают смертью, а Джованна непременно пожаловалась бы верховным правителям Венеции. Мне бы пришлось потерять тебя, Наам. Я вынужден был сделать выбор и принес в жертву ту, кого меньше любил. Наам ответила, что сама убила бы себя, чтобы только не видеть, как из-за нее гибнет Джованна. Но Орио отлично понимал, что если можно найти уязвимое место в душе прекрасной аравитянки, то именно такими выдумками. Для Наам любовь оправдывала все, что угодно. И, кроме того, у нее больше не было сил осуждать Соранцо, когда она видела его страдания, ибо он и на самом деле страдал. О некоторых глубоко падших людях говорят, что они дикие звери. Это всего лишь метафора, ибо такие «дикие звери» — все же люди и преступления свои они совершают как люди, побуждаемые человеческими страстями и с помощью человеческих расчетов. Поэтому я верю в раскаяние, и на меня не производит впечатления горделивый вид убийц, равнодушно идущих на казнь. У большинства подобных людей много силы и гордыни, и если толпа не видит у них ни слез, ни страха, ни смирения, ни каких-либо других внешних проявлений, это не доказывает, что их душ не будоражит отчаяние и раскаяние и что внутреннее существо даже самого закоренелого на вид грешника не переживает таких терзаний, которые вышнее правосудие сочло бы достаточным искуплением. Что касается лично меня, то соверши я преступление, все мое нутро день и ночь жгли бы раскаленные уголья, но мне кажется, что я сумел бы скрыть это от людского взора и вовсе не считал бы, что оправдываюсь в своих собственных глазах, если бы смиренно склонял колени перед судьями и палачами. Несомненно, во всяком случае, то, что Орио, пусть даже вследствие величайшего нервного возбуждения, как сказал бы вам попросту наш друг Акрокероний, часто мучили тяжелые припадки. Ночами он просыпался от того, что его жгло пламя, он слышал жалобы и проклятия своих жертв, взгляд его встречался со взглядом — последним, кротким, но устрашающим взглядом — умирающей Джованны, и даже вой его пса среди затухающего пожара звучал у него в ушах. Тогда из его груди вылетали какие-то нечленораздельные звуки, а со лба струился холодный пот. Бессмертный поэт, которому угодно было преобразить его во внушительную фигуру Лары, неподражаемыми красками описал эту ужасную эпилепсию раскаяния. И если вы хотите представить себе Соранцо, перед глазами которого проходит призрак Джованны, перечитайте строки, начинающиеся так: T'was midnight, — all was slumber; the lone light Dimm'd in the lamp, as loth to break the night. Hark! there be murmurs beard in Lara's hall, A sound, — a voice, — a shriek, a fearful call! A long, loud shriek… [Вот полночь. Всюду спят. Ночник в углу Едва-едва одолевает мглу. В покоях Лары шепот вдруг возник, Какой-то говор, голос, резкий крик, Ужасный вопль… (пер. — Г.Шенгели)]
— Если ты станешь декламировать нам всего «Лару», — сказала Беппа, сдерживая приступ вдохновения, овладевший аббатом, — то когда мы услышим конец твоего рассказа? — Ладно, поскорее забудь Лару! — вскричал аббат. — Пусть повесть об Орио предстанет перед вами как неприкрашенная правда.
Прошел год после смерти Джованны. В палаццо Редзонико давали большой бал, и вот что говорилось в группе гостей, изящно расположившихся у амбразуры окна, частью в гостиной, где играли в карты, частью на балконе. — Как видите, смерть Джованны Морозини не так уж потрясла Орио Соранцо, раз он вернулся к своим прежним страстям. Вы только поглядите на него! Никогда он не играл с таким увлечением! — Говорят, он играет так с самого начала зимы. — Что до меня, — сказала одна дама, — то я впервые после его возвращения из Мореи вижу, чтоб он играл. — Он и не играет никогда, — ответил ей кто-то, — в присутствии Пелопоннесского (так прозвали тогда великого Морозини в честь его третьей кампании против турок, самой удачной и славной из всех), но говорят, что в отсутствие высокопочтенного дядюшки он ведет себя как последний школьник. Шито-крыто он проиграл уже огромную сумму денег. Не человек, а бездонная яма! — Видимо, он выигрывает по меньшей мере столько же, сколько и проигрывает, ибо я из достоверного источника знаю, что он промотал почти все приданое своей жены и что по возвращении из Корфу прошлой весной он прибыл в свой дом как раз в тот момент, когда, прослышав о смерти донны Джованны, ростовщики, словно вороны, налетели на его палаццо и начали оценку обстановки и картин. Орио разговаривал с ними возмущенным и высокомерным тоном человека, у которого денег сколько угодно. Он безо всякого стеснения разогнал всю эту нечисть, и говорят что через три дня они уже ползали перед ним на брюхе, ибо он все заплатил — все свои долги с процентами. — Ну так верьте моему слову: они возьмут реванш, и в самом скором времени Орио пригласит кое-кого из этих уважаемых сынов Израиля позавтракать с ним запросто в его личных покоях. Когда видишь в руке Соранцо пару игральных костей, можно заранее сказать, что плотина открыта и что вся Адриатика хлынет в его сундуки и в его имения. — Бедный Орио, — сказала дама. — Кто решится его осудить? Он ищет развлечений где может. Он ведь так несчастен! — Заметно, однако же, — промолвил с досадой один молодой человек, — что мессер Орио никогда еще так широко не пользовался своим преимуществом неизменно вызывать интерес у женщин. Похоже, что с тех пор, как он ими не занимается, они все в него влюбились. — А точно ли известно, что он ими не занимается? — продолжала синьора с очаровательно кокетливой ужимкой. — Вы обольщаетесь, сударыня, — сказал уязвленный кавалер, — Орио распростился с мирской суетой. Он домогается теперь не славы неотразимого любовника, а наслаждений в сумеречной тени. Если бы круговая порука не заставляла нас, мужчин, сохранять в тайне проступки, на которые все мы в той или иной мере способны, я бы назвал вам имена довольно покладистых красоток, на чьей груди Орио оплакивает Джованну, которую он так страстно обожал. — Я уверена, что это клевета! — вскричала дама. — Вот каковы мужчины! Они отказывают друг другу в способности к благородной любви, чтобы им не пришлось подтверждать эту способность на деле, или же для того, чтобы выдавать за нечто возвышенное недостаток пыла и веры в своих сердцах. А я утверждаю, что если молчаливая сдержанность и мрачный вид Соранцо — только способ вызвать к себе симпатию, то способ этот весьма удачен. Когда он ухаживал за кем попало, для меня его внимание было бы унизительным, а теперь дело совсем другое; с тех пор как мы знаем, что он обезумел от горя, потеряв жену, что он в этом году снова пошел на войну с единственной целью пасть в битве и что он бросался, как лев, на жерла пушек, так и не обретя смерти, которой искал, для нас он стал красивее, чем когда-либо был. Я лично могу сказать, что если бы он стал искать в моих взорах то счастье, от которого якобы отказался в этом мире, то… что ж, я, может быть, была бы польщена! — В таком случае, синьора, — сказал раздосадованные поклонник, — надо, чтобы самый преданный из ваших друзей известил Соранцо о счастье, которое ему улыбается, хотя он и понятия о нем не имеет. — Я бы и попросила вас оказать мне эту пустяковую услугу, — ответила она небрежным тоном, — если бы не была накануне того, чтобы сжалиться над неким другим. — Накануне, синьора? — Да, и, по правде говоря, этот канун длится уже добрых полгода. Но кто это сюда вошел? Что это за чудо природы? — Господи помилуй, да это Арджирия Эдзелини! Она так выросла, так изменилась за год своего траура, когда никто ее не видел, что в этой красавице и не узнать девочку из палаццо Меммо. — Да, это истинная жемчужина Венеции, — согласилась дама, отнюдь не склонная поддаваться на мелкие колкости своего поклонника. И добрые четверть часа она пылко поддерживала похвалы, которые он намеренно расточал несравненной красоте Арджирии. Но Арджирия действительно достойна была восхищения всех мужчин и зависти всех женщин. Малейшее движение ее полно было изящества и благородства. Голос ее источал чарующую сладость, а на ее широкое и ясное чело словно упал отблеск какого-то божественного сияния. Ей было немногим более пятнадцати лет, но ни одна женщина на этом балу не обладала такой прелестной фигурой. Однако особый характер ее красоте придавало какое-то не выразимое словами сочетание нежной грусти и застенчивой гордости. Взгляд ее словно говорил: «Уважайте мою скорбь, не пытайтесь ни развлекать меня, ни жалеть». Она уступила желанию своей семьи, вновь появившись в свете, но сразу видно было, как тягостно было ей сделать над собой это усилие. Она обожала своего брата с пылом влюбленной и непорочностью ангела. Потеряв его, она как бы овдовела, ибо жила до этого со сладостной уверенностью, что имеет поддержку доверенного друга, покровителя, кроткого и смиренного с нею, но хмурого и сурового со всеми, кто к ней приближался. Теперь же она осталась одна на белом свете и не решалась предаваться невинному влечению к счастью, расцветающему в каждой юной душе. Она, можно сказать, не осмеливалась жить, и если какой-нибудь мужчина смотрел на нее или заговаривал с ней, она внутренне вся сжималась от этого взгляда и этих слов, которые Эдзелино не мог уже уловить и проверить, прежде чем допустить до нее. Поэтому она сохраняла предельную сдержанность, не доверяя ни себе, ни другим, но умея все же придать этому недоверию какой-то трогательный и достойный вид. Молодой особе, говорившей о ней с таким восхищением, захотелось окончательно раздразнить своего поклонника, и потому, подойдя к Арджирии, она завела с ней беседу. Вскоре весь кружок, собравшийся на балконе около этой дамы, сомкнулся вокруг двух красавиц и увеличился настолько, что разговор стал общим. Все взгляды обращены были на Арджирию, она оказалась в центре внимания, но лишь грустно улыбалась порою звонкому щебету своей собеседницы. Может быть, та рассчитывала подавить ее этим преимуществом, победить остроумием и любезностью очарование ее спокойной и строгой красоты. Но ей это не удавалось. Артиллерия кокетства потерпела полное поражение от истинной красоты душевной, красоты, одетой внешней прелестью. Во время этого разговора гостиная, где играли в карты, переполнилась приятными дамами и любезными кавалерами. Большая часть игроков опасалась проявить неучтивость, не бросив игру и не занявшись дамами, настоящие же игроки сомкнулись теснее вокруг одного стола, как на войне горстка храбрецов занимает укрепленную позицию для последнего, отчаянного сопротивления. Так же как Арджирия Эдзелини являлась центром кружка любезных кавалеров и дам, Орио Соранцо, словно пригвожденный к игорному столу, был душой и средоточием кучки страстных и алчных искателей удачи. Хотя стулья тех и других почти соприкасались, хотя между спинами собеседников и игроков едва хватало места, где свободно могли бы колыхаться пышные перья и двигаться руки, целая пропасть отделяла заботы и склонности этих двух весьма различных человеческих пород: людей легкомысленного нрава и людей жадных влечений Их позы и выражения лиц были так же несхожи, как их речи и занятия. Арджирия, слушая веселый разговор, походила на светлого ангела, озабоченного людскими треволнениями. Орио, играя жизнью своих друзей и своей собственной, казался духом тьмы, смеющимся адским смехом среди мучений, которые испытывает сам и которым подвергает других. Разговор новой группы кавалеров и дам естественным образом связался с тем, который был прерван на балконе появлением Арджирии. Любовь — всегда главная тема бесед, в которых участвуют женщины. Как только оба пола встречаются в каком-нибудь узком кругу, они с равным интересом и увлечением обсуждают ее, и, кажется, это началось еще с тех времен, когда род человеческий едва научился выражать свои мысли и чувства словами. Различные теории высказываются с самыми удивительными оттенками в зависимости от возраста и опыта говорящих и их слушателей. Если бы каждый из выражающих столь различные суждения был вполне искренен, то человек философически мыслящий — я не сомневаюсь в этом — мог бы по их взглядам на свойства любви составить себе мнение о свойствах их интеллекта и нравственной природы. Но в этой области никто не бывает искренним. В любви у каждого своя заранее выученная и приспособленная к склонностям слушателей роль. Так, мужчины всегда хвастают — и насчет хорошего и насчет худого. Сказать ли мне, что женщины…
— Ничего тебе нельзя говорить, — прервала его Беппа, — ведь аббату не положено знать женщин.
— Арджирия, — смеясь, продолжал аббат, — воздержалась от вмешательства в разговор, как только он оживился и в особенности когда было названо лицо, которое дама с балкона предложила благородному обществу обсудить; услышав произнесенное ею имя, прекрасная Эдзелини вся вспыхнула, но затем смертельная бледность сразу же спустилась с ее чела до самых уст. Собеседница Арджирии, однако же, слишком увлеклась своим собственным щебетом, чтобы обратить на это внимание. Нет людей более нескромных и менее чутких, чем те, которые пользуются репутацией остроумных. Им бы только поговорить, они совершенно безразличны к тому, что их речь может случайно уязвить слушателей. Это совершенные эгоисты: они не способны приглядеться к тому, какой след оставляют их слова в душе другого человека, ибо привыкли никогда не вызывать сколько-нибудь серьезного отклика и всегда рассчитывают на то, что содержание их речей простится им за блеск формы. Дама становилась все настойчивее и настойчивее, она уже готовилась торжествовать победу и, не довольствуясь молчанием Арджирии, которое объясняла недостатком ума у нее, стремилась во что бы то ни стало вырвать какой-нибудь нелепый ответ, столь неуместный всегда в устах молодых девушек, если их неосведомленность не скрашена и не освящена изысканной чуткостью и осмотрительной скромностью. — Ну что же, прелестная моя синьорина, — сказала наконец коварная расточительница комплиментов, — выскажитесь по поводу этого трудного случая. Истина, говорят, глаголет устами младенца, а тем более — устами ангела. Вопрос таков: может ли мужчина, потерявший жену, остаться неутешным, и утешится ли мессер Орио Соранцо в будущем году? Мы считаем вас третейским судьей в этом деле и ожидаем вашего приговора. Это прямое обращение и все сразу обратившиеся к ней взгляды до крайности смутили прекрасную Арджирию. Однако, сделав над собой величайшее усилие, она успокоилась и ответила голосом, слегка дрожащим, но достаточно громким, чтобы его все слышали: — Что я могу сказать об этом человеке, которого презираю и ненавижу? Вам, синьора, наверное, неизвестно, что я считаю его убийцей моего брата? Этот ответ прозвучал как удар грома, и все молча переглянулись, ибо из осторожности говорили о Соранцо иносказательно, а если и называли его имя, то шепотом. Всем было известно, что он находится тут же, и только Арджирия, хотя и сидела в двух шагах от него, не видела Орио, скрытого от нее головами гостей, старавшихся придвинуться к ней поближе. Но Соранцо не слышал этого разговора. Ему предстояло метать кости, и все предосторожности были ни к чему. Его имя можно было громко выкрикивать над самым его ухом, он бы не обратил на это внимания, — ведь он играет! Дело как раз доходило до кульминационного пункта в партии с такой огромной ставкой, что, желая соблюсти приличие, игроки называли цифру шепотом. В те времена азартная игра осуждалась положительными людьми и даже ограничивалась законом, почему хозяева дома и просили гостей проявлять в ней некоторую умеренность. Орио был бледен, холоден и словно застыл на месте. Его можно было принять за математика, занятого решением трудной задачи. Он обладал невозмутимым спокойствием и презрительным равнодушием, которые так свойственны отчаянным игрокам. Он даже не заметил, что зал наполнился людьми, не имеющими отношения к игре, и не поднял бы глаза, даже если бы перед ним распростерлись все гурии Мухаммедова рая. Почему же слова прекрасной Арджирии вывели его внезапно из летаргии и, услышав их, он подскочил, словно кто-то нанес ему удар кинжалом? Существуют загадочные эмоции и необъяснимые душевные движения, от которых начинают звучать самые тайные струны души. Арджирия не назвала ни Орио, ни Эдзелино. Но слова убийца и брат, словно по волшебству, открыли виновному, что речь идет о нем и о его жертве. Он не видел Арджирии, не знал, что она поблизости. Как же он вдруг понял, что это голос сестры Эдзелино? Но он понял, — все это увидели, хотя никто не мог бы объяснить, как это до него дошло. Голос Арджирии словно вонзил в его внутренности докрасна раскаленный клинок. Он побагровел, поднялся, как будто его ударило электрическим током, швырнул свой рожок для костей на стол, а самый стол оттолкнул так резко, что он едва не опрокинулся на противника Орио в игре. Тот тоже встал, считая себя оскорбленным. — Что ты делаешь, Орио?! — вскричал один из партнеров Соранцо, чье внимание не было отвлечено от игры появлением Арджирии и ее спутников, и тотчас же накрыл кости ладонью, чтобы они не перевернулись. — Ты выигрываешь, друг, ты выигрываешь! Всех беру в свидетели! Десять очков! Орио не слышал его. Он стоял, повернувшись лицом к той группе гостей, откуда раздался голос Арджирии. Рука его, опиравшаяся на спинку стула, конвульсивно дрожала, и от этого дрожал стул. Его вытянувшаяся шея напряглась и одеревенела от ужасного волнения, блуждающие глаза метали пламя. Видя, как над головами смущенных гостей возникло это бледное, дышащее угрозой лицо, Арджирия испугалась и едва не лишилась чувств, но тотчас же овладела собой и с грозной твердостью во взгляде встретила взгляд Орио. В выражении лица Орио и особенно в его глазах была какая-то необоримая проницательность, то пленяющая, то устрашающая, в которой и заключалась тайна его власти над людьми. Единственным, кого этот взгляд не заворожил, не устрашил и не обманул, был Эдзелино. В твердом упорстве его сестры Орио встретил то же недоверие, ту же холодность, тот же мятеж против его магнетической власти. Эдзелино вызывал у него всегда такую ненависть и досаду, что он не выносил его даже независимо от каких-либо опасений. Он ненавидел его просто так, инстинктивно, по необходимости, потому что боялся его, потому что в этом невозмутимом и справедливом человеке он почуял подавляющую силу, перед которой бессильна была вся мощь его коварства. С тех пор как Эдзелино не стало, Орио считал себя повелителем мира, но он всегда видел во сне, как тот мстит за Джованну. И вот сейчас ему показалось, что он переживает сон наяву. Арджирия отличалась удивительным сходством с братом. Что-то от него было и в ее голосе, а голос Эдзелино был необычайно приятен для слуха. Эта красивая девушка, одетая в белое и бледная, как ее жемчужное ожерелье, казалась ему одним из тех образов наших сновидений, в которых два реальных человека сливаются в одно лицо. Это был Эдзелино в образе женщины, это были Эдзелино и Джованна, обе его жертвы в одном существе. У Орио вырвался громкий крик, и он упал на пол. Друзья бросились поднимать его. — Пустяки! — сказал его партнер по игре. — У него случаются такие припадки, с тех пор как трагически погибла его жена. Бадоэр, продолжайте играть! Сейчас я займу место Соранцо, а через какой-нибудь час он и сам придет. Игра продолжалась, как будто ничего не произошло. Дзульяни и Гритти унесли Соранцо на террасу Хозяин дома, которого сразу же оповестили о случившемся, последовал за ними в сопровождении нескольких слуг. Послышались приглушенные крики, какие-то странные и страшные звуки. Тотчас же все двери, выходившие на балконы, были поспешно закрыты. С Соранцо, без сомнения, приключился какой-то ужасный припадок. Музыкантам велено было играть, и звуки оркестра заглушили эти зловещие звуки. Однако страх словно заморозил радость во всех сердцах. В воображении гостей эта мучительная сцена, которую от бального зала отделяли только стекло окна и завеса, была еще отвратительнее, чем если бы она происходила у них на глазах. Несколько женщин лишились чувств. Воспользовавшись всеобщим смятением, прекрасная Арджирия удалилась вместе со своей теткой. — Я, — сказал молодой Мочениго, — видел, как рядом со мной на поле сражения гибли сотни людей, стоившие Соранцо. Но в пылу битвы человек наделен каким-то безжалостным хладнокровием. А здесь несоответствие этой сцены общему веселью до того ужасно, что, по-моему, я никогда еще не был так взбудоражен, как сейчас. Все столпились вокруг Мочениго. Известно было, что он сменил Соранцо в командовании у Лепантского пролива и мог многое знать о загадочных и столь по-разному передаваемых событиях этого периода жизни Орио. Молодого офицера стали засыпать вопросами, но он отвечал весьма осторожно, стараясь быть как можно более честным. — Я, по правде говоря, не знаю, — сказал он, — чем вызвано было странное бездействие Соранцо во время его управления островами Курцолари — любовью к жене или болезнью вроде этой, как видно очень серьезной. Как бы то ни было, но храбрец Эдзелино и весь его экипаж были разгромлены на расстоянии трех пушечных выстрелов от замка Сан-Сильвио. Это несчастье следовало предвидеть, и его можно было предотвратить. Может быть, я отчасти виноват в сцене, которая здесь только что произошла, ибо синьора Меммо потребовала у меня самых достоверных сведений и я передал ей все те факты, которые узнал из уст наиболее верных свидетелей. — Это был ваш долг! — закричали со всех сторон. — Разумеется, — продолжал Мочениго. — И я выполнил его так беспристрастно, как только мог. Синьора Меммо и вся их семья сочли своей обязанностью сохранять молчание. Но юная сестра графа не смогла сдержать своего исступленного горя. Она в таком возрасте, когда негодуешь, ни с чем не считаясь, и страдаешь безо всякой меры. Всякий другой человек был бы достоин осуждения за то, что дал сегодня такой жестокий урок Соранцо. Только ее огромной любовью к брату да ее молодостью можно извинить столь несправедливую вспышку Соранцо… — Довольно говорить обо мне, — произнес чей-то низкий голос у самого уха Мочениго. — Благодарю вас. Мочениго сразу умолк. Ему показалось, будто свинцовая рука опустилась на его плечо. Все заметили, как он внезапно побледнел и как какой-то высокий человек сперва наклонился к нему, а затем сразу же затерялся в толпе. Неужто Орио Соранцо уже пришел в себя? Кричали со всех сторон. Гости хлынули в игорный зал. Он оказался уже переполненным. Игра возобновилась с еще большим азартом. Орио Соранцо сидел на своем прежнем месте и метал кости. Он был очень бледен, но лицо его было спокойно, и только розоватая пена у его усов выдавала, что он только сейчас необычайно быстро справился с тяжелым припадком. Он играл до утра и все выигрывал, выигрывал, хотя везение уже начало надоедать ему: как настоящий игрок, он был жаднее до сильных ощущений, чем до денег. Теперь Орио уже не уделял игре особого внимания и наделал много ошибок. На рассвете он удалился, кляня фортуну, которая, по его словам, всегда бывала милосердна к нему невпопад. К тому же он пошел пешком, забыв, что у дверей палаццо его ждет гондола, и, нагруженный золотом, так что ему было трудно идти, медленным шагом возвратился домой. — Боюсь, что он все-таки еще нездоров, — сказал, провожая его взглядом, Дзульяни, бывший если не другом Орио (у него не было друзей), то, во всяком случае, усерднейшим собутыльником. — Идет один, обремененный металлом, чей звон призывнее, чем голоса сирен. Еще довольно темно, улицы пустынны, и он может повстречаться с опасными людьми. Жалко будет, если эти полновесные цехины попадут в руки негодяев. С этими словами Дзульяни велел своим слугам ждать его в гондоле у палаццо Соранцо, а сам побежал за Орио и настиг его у небольшого моста Баркарол. Орио стоял, прислонившись к парапету, и что-то бросал в воду, внимательно следя за тем, как оно падает. Подойдя совсем близко, Дзульяни увидел, что Орио с самым серьезным видом пригоршнями сеет в канал золотые монеты. — Да ты рехнулся?! — вскричал Дзульяни, пытаясь удержать его. — А с чем ты будешь играть завтра, несчастный? — Не видишь ты, что это золото меня обременяет? — возразил Орио. — Я весь вспотел, пока тащил его сюда. Вот и поступаю как тонущий корабль: бросаю свой груз в море. — Ну, а я встречный корабль, который примет на борт твой груз и поможет тебе добраться до гавани. Давай-ка сюда свои цехины и руку дай, если ты устал. — Подожди, — с каким-то отупелым видом промолвил Соранцо, — не мешай мне бросить еще несколько пригоршней этих «дожей» в канал. Оказывается, это очень большое удовольствие, а найти новую заботу — совсем не пустяк. — Клянусь телом Христовым, пропади моя душа, если я на это соглашусь! — вскричал Дзульяни. — Ты бы хоть подумал, что часть этого золота — моя. — Правда, — сказал Орио, отдавая ему все, что при нем было. — Но, ей-богу же, мне взбрело на ум поднять тебе одну ногу и опрокинуть тебя вместе с твоим грузом в канал. Так даже вернее будет, если и ты и груз вместе пойдете ко дну. Дзульяни рассмеялся и, когда они двинулись дальше, сказал: — Ты, значит, очень уверен, что выиграешь завтра, если сегодня хочешь все потерять? — Дзульяни, — ответил Орио, после того как шел некоторое время молча, — знай, что я больше не люблю игру. — А что ж ты любишь? Пытку? — И ее не люблю, — произнес Соранцо мрачным тоном с какой-то ужасной улыбкой. — Это мне еще больше опостылело, чем игра. — Клянусь святой матерью нашей, инквизицией, ты меня просто пугаешь! Неужто у тебя иногда бывают ночные дела во Дворце дожей? Или служитель святой инквизиции приглашает тебя порой отужинать с заплечным мастером? Ты что — участвуешь в заговоре или в секте какой-нибудь или ходишь по временам для удовольствия смотреть, как с людей сдирают кожу? Если ты в чем-то таком заподозрен, так говори прямо, и мы распрощаемся. Ибо я не люблю ни политики, ни схоластики, а красные чулки палача имеют очень уж резкий оттенок — он мне режет глаза. — Ты дурак, — ответил Орио. — Тот палач, о котором ты говоришь, просто медоточивый умник, который сочиняет пресные сонеты. Есть другой, лучше знающий свое дело, он еще живее сдерет с тебя кожу. Это скука. Ты с ней знаком? — А, ну отлично; это, значит, просто метафора. Ты нынче утром в мрачном настроении — последствие твоего нервного припадка. Выпил бы лучше, чтобы рассеяться, добрый стакан хиросского вина. — Вино стало безвкусно, Дзульяни, и никакого действия не оказывает. Кровь застыла в жилах виноградной лозы, а земля стала просто бесплодной грязью, не способной родить даже какие-нибудь яды. — Ты говоришь о земле как истый венецианец. Земля — это груда обтесанных камней, на которой произрастают люди и устрицы. — И пустые болтуны, — подхватил Орио, останавливаясь. — Мне хочется умертвить тебя, Дзульяни. — А зачем? — весело осведомился тот, даже и не подозревая, насколько Соранцо, снедаемый кровожадным бешенством, способен поддаться порыву ярости. — Черт возьми! — ответил Орио. — Да хотя бы для того, чтобы посмотреть, приятно ли убить человека просто так, безо всякой корысти. — Ну так случай неподходящий, — в тон ему подхватил Дзульяни, — у меня карманы набиты золотом. — Оно мое! — сказал Соранцо. — Не знаю. Ты свою часть выбросил в каналетто, и сейчас мы с тобой сосчитаемся. Может еще оказаться, что ты мне должен. Так что не убивай меня, не то получится убийство ради ограбления, а тут ничего нового нет. — Горе вам, синьор, если вы желаете меня оскорбить! — вскричал Орио, в мгновенном порыве ярости хватая приятеля за горло. Ему и в голову не пришло, что Дзульяни говорил просто так, не вкладывая в свои слова никакого намека. Мучимый угрызениями совести, он повсюду чуял опасность или обиду и в своем душевном смятении постоянно рисковал выдать себя из страха перед другими. — Не жми так сильно, — спокойно сказал Дзульяни, принимавший все это за шутку. — Я-то еще не получил отвращения к вину и вовсе не хочу, чтобы мне было трудно глотать. — Какое унылое утро! — произнес Орио, равнодушно разжимая руки; он так часто боялся разоблачения, что уже не радовался, оказываясь в безопасности, и даже не замечал этого. — Солнце стало таким же бледным, как луна. С некоторых пор в Италии уже не бывает тепло. — В прошлом году ты говорил то же самое о Греции. — Но посмотри, какая белесая и некрасивая заря! Небо желтое, как желчь. — Ну и что ж! Хоть какое-то разнообразие по сравнению с кроваво-красными лунами, которые ты поносил в Корфу. Ты никогда ничем не доволен. И солнце и луна у тебя в немилости. Чему удивляться, раз ты охладел и к игре? Послушай, скажи по правде — неужто ты ее разлюбил? — Ты разве не замечаешь, что с некоторых пор я беспрерывно выигрываю? — Это-то тебе и противно? Давай поменяемся! Я только и делаю, что проигрываю, и мне это чертовски надоело. — Игрок, который совсем не проигрывает, и пьющий человек, который не пьянеет, одно и то же. — Орио, хочешь знать правду? Ты спятил. Ты запустил свою болезнь. Надо бы тебе кровь пустить. — Я больше не люблю кровь, — как-то озабоченно ответил Орио. — Да я и не говорю, чтоб ты ее пил! — с раздражением возразил Дзульяни. В этот момент они дошли до палаццо Соранцо. Гондолы их находились уже там. Дзульяни решил проводить Орио до постели; он считал, что приятель в жару, и боялся, чтоб тот не упал на лестнице. — Оставь меня, убирайся! — сказал Орио на порогесвоей спальни. — Ты мне надоел. — Взаимно, — ответил Дзульяни, входя все же в комнату. — Но я должен избавиться от этого золота, и нам надо произвести раздел. — Бери все и оставь меня! — сказал Соранцо. — Не хочу я и смотреть на золото, ненавижу его. Не понимаю даже, на что оно годится. — Вот тебе на! Да на все, что угодно! — вскричал Дзульяни. — Если бы можно было купить за деньги хотя бы сон! — мрачно произнес Орио. И, взяв товарища за руку, он отвел его в угол комнаты, где Наам, завернувшись в белый шерстяной плащ, лежала на шкуре пантеры и спала таким глубоким сном, что не проснулась и при появлении своего господина. — Смотри! — сказал Орио Дзульяни. — А кто это? — спросил тот. — Твой египетский паж? Будь он женщиной, я бы его у тебя похитил. А так — что мне с ним делать? По-христиански он не говорит, и, проживи я хоть тысячу лет, я бы все равно не понял, что он, басурман, лопочет. — Посмотри, скотина несчастная! — сказал Орио. Посмотри на этот гладкий лоб, спокойный рот, глаза, мирно затененные веками! Посмотри, что такое сон, что такое счастье! — Принимай опиум, и тоже заснешь, — сказал Дзульяни. — Зря стал бы его пить, — возразил Орио. — Знаешь ты, что дает этому мальчику возможность так глубоко спать? То, что он никогда не обладал ни единой золотой монетой. — Какие ты сегодня заводишь нудные и наставительные речи, — сказал, зевая, Дзульяни. — Ладно, будешь считать? Нет? Тогда я стану считать один, и не пеняй, даже если я обнаружу, что всю свою часть выигрыша ты выбросил под мост Баркарол. Орио пожал плечами. Дзульяни сосчитал, и для Орио выделилась еще очень значительная сумма, которую молодой человек и выдал приятелю самым щепетильным образом. Затем он удалился, пожелав Орио отдохнуть и посоветовав прибегнуть к кровопусканию. Орио ничего не ответил, а, оставшись один, собрал все цехины, раскиданные по столу, и ногой затолкал их под ковер, чтобы не видеть. Действительно, один вид золота вызывал у него возраставшее с каждым днем физическое отвращение, которое, конечно, было в нем признаком одного из ужасных душевных заболеваний, принимающих некое вещественное обличье в своих проявлениях. Не одни лишь золотые монеты вызывали у него это болезненное отвращение. О не мог видеть блеска стального клинка или женских драгоценностей, без того чтобы перед ним не возникали зримо, если можно так выразиться, зверства, совершенные им, когда он был ускоком. Он скрывал свои муки и даже совсем заглушал их, когда необходимость действовать подхлестывала его скудеющую кровь. Вместе с Морозини он провел новую кампанию, ту славную экспедицию, когда венецианский флот водрузил свое победоносное знамя над Пиреем. Понимая, что все уважение, которым он может пользоваться в дальнейшей своей жизни, зависит от его поведения в этих обстоятельствах, Орио совершал чудеса доблести. Он полностью смыл позор, которым запятнал себя как губернатор Сан-Сильвио, и принудил всю армию говорить, что если он и был плохим администратором, то, во всяком случае, это не мешало ему быть отличным командиром и храбрым воином. Сделав это последнее усилие, Орио, достигший успеха во всех своих предприятиях, всеми прославляемый, любимый адмиралом как родной сын, Орио, избавившийся от всех своих врагов и богатый сверх всяких надежд, возвратился на родину и решил впредь не покидать ее, чтобы полностью наслаждаться плодами своих ужасных дел. Но тут-то правосудие божеское и покарало его, лишив всей былой силы характера. Оказавшись на высотах своего нечестивого благополучия, он вдруг как-то оглянулся на самого себя, и мучительная тоска овладела им именно тогда, когда он намеревался жить так, как мечтал. Он совершил все, на что способны были дерзновенность и злостность его натуры, он стал внушать самому себе, что он конченый человек и что, добившись успеха в своих безумных замыслах, он может увидеть лишь закат своей звезды. Все было кончено, он ничем не мог наслаждаться. Могущество денег, жизнь в безудержном распутстве, отсутствие забот, о чем он так мечтал, превосходство в роскоши и мотовстве надо всеми людьми его круга — вся эта позорная и бесстыдная суета, ради которой он принес гекатомбу, способную насытить самый ад, обнаружилась перед ним во всей своей тщете, и в тот миг, когда для него прошли забава и опьянение, глаза его раскрылись и он увидел весь ужас своих преступлений. Они встали перед ним во весь свой рост и показались ему отвратительными — разумеется, не с точки зрения нравственности и чести, а с точки зрения разума и личной выгоды. Ибо нравственность Орио понимал как совокупность условных правил взаимного уважения, которые выработал для робких людей их собственный страх друг перед другом. Честью же он считал глупое тщеславие людей, которые не удовлетворены тем, что в их доблести верят другие, и хотели бы сами в них верить. Наконец, под личной выгодой — своей личной выгодой, конечно, — он разумел возможность в наибольшей степени пользоваться всеми известными ему благами: независимостью для себя, властью над другими, торжеством своей дерзости, благополучия и ловкости надо всеми робкими и завистливыми душонками, из которых, по его мнению, состоял весь мир. Легко убедиться, что этот человек под жизненными благами подразумевал только те, которые дают людям возможность казаться, и поскольку в Италии принят такой способ выражения, мы добавим, что те внутренние радости, благодаря которым человек может чем-то быть, были ему совершенно неведомы. Как все люди, наделенные этим особым темпераментом, он и не подозревал о существовании того внутреннего удовлетворения, которое дают благородным душам даже в величайших бедствиях и жесточайшем угнетении их чистая совесть, здравый рассудок и добрые влечения. Он полагал, что общество может обеспечить душевный мир тому, кто его обманывает, чтобы лучше использовать. Он не знал, что общество бессильно отнять этот душевный мир у того, кто бросает ему вызов, чтобы ему же лучше послужить. Но Орио понес кару именно в том, ради чего грешил. Внешний мир, которому он все заклал в жертву, рухнул вокруг него, и все вещественные блага, которыми он, казалось, уже обладал, рассеялись, как сонные грезы. В нем заложено было некое слишком явное противоречие. Презрение к другим, лежавшее в основе его мироощущения, не могло научить его уважать самого себя, — ведь это самоуважение должно было основываться на уважении к нему других, которое он всегда мог легко утратить. Так он и вертелся в заколдованном кругу: потирал себе руки от удовлетворения, что провел всех, и тотчас же вслед за тем бледнел от страха, что повстречает обвинителей. Именно этот страх, что все содеянное им обнаружится, лишал его ощущения безопасности, отравлял малейшую радость и действовал на него так же, как угрызения совести. Раскаяние в человеке всегда предполагает, что до преступления он был честным. Орио, которому всегда было чуждо чувство справедливости, не ведал раскаяния. Так как он ни к кому не был по-настоящему привязан, не имел он и никаких сожалений. Но у него были неистовые страсти, ненасытные потребности, а между тем он видел, что все его наслаждения весьма плохо обеспечены, ибо, порвись одна только нить в сети, которой он оплел свой мир, и вся сеть мгновенно распустится. И вот ему уже казалось, что вся толпа, которую он так ненавидел, так подавлял своей роскошью, так унижал презрением, так осмеивал, так обыгрывал, так обкрадывал, сбрасывает это наваждение, поднимает голову и, встав перед ним словно гидра, платит ему обидой за обиду, презрением за презрение. В Венеции не было ни одной купеческой семьи, у которой ускок не отнял бы хоть одного ее члена либо более или менее значительной части имущества. Чудно было видеть, как все эти охваченные гневом и отчаянием люди не осмеливаются негодовать на беспечность бывшего губернатора Сан-Сильвио и то ли из уважения к сыну Peloponesiaco [471], то ли во внимание к воинским подвигам, которые он совершил до и после своих ошибок во время губернаторства, то ли из страха перед его влиянием, которое всегда обеспечивается богатством, подавляли свой ропот и хранили осторожное молчание. Но какая разразилась бы гроза, если бы правда когда-нибудь восторжествовала! Одна эта мысль вызывала у преступника тягостный кошмар. Он видел толпы народа, побивающие его вместо камней головами, отрубленными его ятаганом. Взбешенные матери раздавливали его окровавленными телами своих детей. Алчные руки разрывали ему внутренности, ища в них поглощенных им сокровищ. И наконец все эти жертвы живыми выходили из своих могил и плясали вокруг него с ужасным смехом. — Ты лжец и отступник! — кричал ему Фремио. — Это мне наследовать твое имущество и твою славу! — Ты негодяй самого низкого разбора, грубый подмастерье, — говорили Леонцио и Медзани. — Твоя отрава бессильна, мы живы, мы тебя обвиняем и будем пытать собственными руками! А затем приходил черед Джованны. Она появлялась и возвращала ему притупленный кинжал. — Ваша рука не может меня убить, она слабее женской руки. Наконец возвращался Эдзелино под звуки фанфар, на роскошно убранном корабле; сойдя со сходней прямо на Пьяцетту, он приказывал повесить труп Орио на колонну со львом святого Марка. Но веревка лопалась, Орио падал на мостовую, разбивал себе череп, и его борзой пес Сириус пожирал дымящийся мозг. Как перечислить все формы, которые принимали эти его видения, порожденные страхом? Видя, что ужасы, ожидающие его в сновидениях, хуже мыслей, Орио попытался жить так, чтобы не иметь необходимости во сне. Он начал поддерживать себя всевозможными возбуждающими средствами, которые давали бы ему возможность не уходить из реального мира и в любое время суток лишь мыслью бороться с грозными последствиями своих преступлений. Но здоровье его не устояло против такого образа жизни. Разум помутился, и даже в часы бодрствования призраки стали донимать его, более устрашающие и грозные, чем даже во сне. В этот период своей жизни Орио был несчастнейшим из людей. Тщетно пытался он вновь обрести ночной отдых. Было уже слишком поздно: его кровь оказалась до того испорченной, что для него ничто не происходило так, как для прочих. Снотворные средства не успокаивали его, а наоборот — возбуждали, возбуждающие не давали веселья, а лишь усиливали подавленность. По-прежнему погруженный в разврат, он находил в нем только скуку. По его же собственным словам, это был дьявольский инструмент, чьи звуки часто кружили ему голову, но теперь он играл так фальшиво, что лишь увеличивал его страдания. Во время пышных ночных ужинов, окруженный самыми веселыми распутниками и самыми красивыми куртизанками Италии, он не в состоянии был преодолеть своей мрачной озабоченности. Он оставался угрюмым и подавленным даже в часы вакхического исступления, когда все участники пира, возбужденные вином, совместно достигают апогея в своем пьяном веселье. И органы его и мозг были настолько пресыщены, что он не мог следовать за другими в этом крещендо. Только под утро, когда нервное возбуждение его собутыльников спадало, усталые головы клонило ко сну, и он, таким образом, оказывался в полном одиночестве, — только тогда и на нем начинало сказываться опьянение. И вот все эти мужчины, отупело глядящие на свои кубки с вином, все эти женщины, спящие на диванах, производили на него впечатление скотного двора. Он осыпал их бранью, на которую они уже не в состоянии были отвечать, и на него находил такой приступ бешенства и злобы, что им овладевал соблазн отравить их всех и поджечь свой дворец, чтобы избавиться и от них и от самого себя. К тому времени, когда произошла только что описанная мною сцена во дворце Редзонико, он уже с некоторых пор отказался от ночных оргий, ибо его болезнь настолько усилилась, что ему небезопасно было напиваться допьяна при свидетелях. Когда в пьяном бреду ему являлись грозящие призраки, у него зачастую вырывались слова, проникнутые ужасом. Однако ни у кого не возникло никаких подозрений, ибо чем крепче люди верили в любовь Орио к Джованне, тем легче было им представить себе, что трагическое событие, при котором она погибла, оставило в нем страшную память и нарушило его душевное равновесие. Все были так уверены в его горе, что он мог бы сам себя обвинить перед венецианским сенатом в убийстве жены и друзей, и ему бы не поверили. Его сочли бы обезумевшим от отчаяния и передали бы в руки врачей. Но Орио уже не рассчитывал на свою счастливую судьбу: он боялся всех, а себя самого больше, чем кого бы то ни было. Он стыдился своей болезни и бесился от своей неспособности скрыть ее, он краснел за себя, с тех пор как его физическое существо претило ему, оказавшись далеко не таким уравновешенным и сильным, как он рассчитывал. Целыми часами осыпал он себя бранью и проклятиями, ругал себя идиотом, слабосильным, отбросом и тряпкой, и однако — неслыханное дело! — ему и в голову не приходило обвинить свое нравственное существо. Он нисколько не верил в небесную природу своей души. Из плоти своей сотворил он себе кумира, а когда идол этот рухнул, он стал презирать его и поносить, как сплошную грязь и отраву. Последней угасла в нем страсть, бывшая в его жизни самой сильной, — страсть к игре. И к ней отвращение у него вызвал страх, ибо, предаваясь ей, он вынужден был принимать теперь докучные и утомительные предосторожности, а это в конце концов пересилило само наслаждение игрой. Предосторожности эти были двоякого рода. Во-первых, законы против азартных игр потеряли силу не в такой мере, чтобы уже совсем не требовалось окружать игры некоторой тайной. Во-вторых, когда Орио проигрывал, — а это были для него самые возбуждающие моменты, — ему приходилось сдерживать себя и действовать осмотрительно, чтобы не выйти за те пределы, которых, по мнению общества, достигало его состояние. Таким образом, и огромное богатство его не служило ему так, как он хотел бы. Он вынужден был скрывать его и понемногу вытаскивать из своих подвалов столько золота, сколько было нужно для того, чтобы чересчур роскошная жизнь не привлекла внимания властей. Единственное, что он мог еще делать, — это растрачивать свои доходы в тайных оргиях и разоряться медленно. Между тем такой способ наслаждаться жизнью был ему противен: он хотел бы все растратить в один день, чтобы о нем говорили как о человеке самом расточительном и самом бескорыстном в мире. Если бы он мог удовлетворить эту свою причуду и разориться в пух и прах, он, без сомнения, вновь обрел бы всю былую энергию, а преступные влечения опять привели бы его к новым злодействам, совершаемым для накопления новых богатств. С течением времени он сообразил, что с его стороны безумием было возвращаться в Венецию, где, несмотря на безнаказанность любых пороков, Совет Десяти весьма строго и ревниво приглядывался к богатству граждан. Но когда у него мелькнула мысль о том, чтобы покинуть родину, другая мысль — о затруднениях и опасностях, с которыми связана была перевозка его сокровищ в иные места, — а кроме того, и в особенности, расстройство здоровья, упадок энергии удержали его, и он примирился с печальной перспективой состариться богачом и еще оставить добра племянникам. Наутро после празднества у Редзонико, через час после того, как от него ушел Дзульяни, Орио, которому так и не удалось заснуть хоть на несколько мгновений, разбудил своего камердинера и велел ему пойти за врачом, все равно за каким, — ведь все они, так он и сказал, одинаково невежественны. Он относился с глубочайшим презрением к медицине и к врачам, и Наам даже несколько встревожилась, видя, что он принял вдруг решение, столь противоречащее всем его привычкам и взглядам. Однако она смолчала, ибо привыкла со слепой покорностью принимать все, что могло взбрести на ум Орио. Камердинер, умный, деятельный и исполнительный, как все лакеи, имеющие возможность безнаказанно красть, привел через полчаса мессера Барболамо, лучшего в Венеции врача. Мессер Барболамо отлично знал, с кем ему предстоит иметь дело. Он достаточно наслышался о Соранцо и готов был к любым издевкам не верящего в медицину человека и к любым причудам безумца. Поэтому он повел себя не столько как муж науки, сколько как просто умный человек. Соранцо вызвал его, побежденный тайным необоримым страхом перед смертью. Но он отдавался ему в руки, как якобы свободомыслящие доверяются колдунам: с насмешкой и презрением на устах, со страхом и надеждой в сердце. Речи эскулапа обманули его ожидание, и через несколько минут он уже слушал его внимательно. — Не принимайте никаких пилюль, предоставьте териак своим гондольерам, а пластыри — собакам. Галлюцинации у вас от опиума, а упадок сил от недоедания. Никакой режим не поможет умирающему, ибо вы сейчас умирающий. Но давайте договоримся: физическое существо умрет, если моральное не воскреснет. А добиться этого воскрешения очень легко, если вы поверите в то средство, которое я вам укажу. Не изменяйте сразу и резко весь свой обычный способ мышления и не лечите своей болезни тем, что вам всегда было чуждо, не гасите своих страстей. Вы жили только ими, вы умираете, потому что они ослабевают. Но отказывайтесь только от тех, которые сами по себе исчезают, и создавайте себе другие. Вы жили наслаждениями — наслаждения исчерпаны. Заставьте себя жить знанием, наукой. Вы неверующий, вы смеетесь над святынями — ходите в церковь и раздавайте милостыню! Соранцо пожал плечами. — Минутку! — сказал врач. — Я вовсе не предлагаю вам предаться науке или набожности. Вы могли бы преуспеть в том и в другом — я в этом не сомневаюсь, ибо для людей вашего темперамента все возможно. Но сам я не настолько интересуюсь наукой или религией, чтобы доказывать вам их превосходство над бездельем и распутством. Я никогда не занимаюсь с больными обсуждением тех или иных вещей самих по себе. Я советую обращаться к ним ради того, чтобы отвлечься, как мои коллеги прописывают полынь или кассию. Вид книг отвлечет вас от зрелища бутылок. Вы соберете великолепную библиотеку, и ваша любовь к роскоши найдет здесь новый выход. Вы еще не знаете, какое наслаждение может дать роскошный переплет и какие безумства совершаются ради редкого издания. В церкви вы услышите песнопения — они по-новому зазвучат для вашего слуха, уставшего от непристойных песенок. Вы увидите зрелища отнюдь не менее суетные и людей ничуть не менее тщеславных, чем в светском обществе. Вы станете делать им пожертвования, которые обеспечат вам и в грядущих веках репутацию великодушного и щедрого человека, а если вы не излечитесь и не перемените своих пристрастий, она умрет вместе с вами. Таким образом, станьте своим собственным врачом, подумайте о чем-либо, чего вам еще никогда не хотелось, и тотчас же достаньте себе это. Вскоре в вас пробудятся сотни дремавших дотоле желаний, и, удовлетворяя их, вы обретете неизведанные доныне радости. Не считайте себя преждевременно одряхлевшим: вы даже не устали по-настоящему. В вас еще хватит силы на двадцать жизней; из-за этого-то вы и убиваете себя, стараясь растратить свои силы на одну жизнь. Мир кончился бы, если бы он не обновлялся и не изменялся. Угнетенное состояние, в котором вы сейчас пребываете, — это лишь избыток жизни, ищущей нового применения. О чем это вы задумались? Вы меня не слушаете. — Я стараюсь найти, — ответил Соранцо, покоренный рассуждениями эскулапа, — какую-нибудь причуду, которой у меня еще не было. Я ведь собирал красивые книги, хотя никогда их не читаю, и у меня великолепная библиотека. Что до церквей… о них я подумаю, но мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне найти какое-нибудь совсем новое наслаждение, что-нибудь еще более далекое от моих прежних страстей. Если б я мог стать скупцом! — Я вас отлично понимаю, — сказал Барболамо, пораженный отупелым видом своего пациента. — Вы доходите до самой сути вещей, до чистой основы моего рассуждения. Ибо я предлагал вам лишь новый выход для ваших страстей, а вы хотите изменить самые страсти. Лично я не имел бы возражений против скупости, однако опасаюсь слишком сильной реакции от попытки перепрыгнуть через такую пропасть. Скажите, были вы когда-нибудь влюблены — простодушно и искренно? — Никогда! — произнес Орио. Охваченный желанием выздороветь, он вдруг забыл о своей роли погруженного в отчаяние вдовца, роли, благодаря которой ему удавалось скрывать тайну своей жизни. — Так вот, — сказал врач, нисколько не удивленный этим ответом, ибо он гораздо лучше всей светской толпы разобрался в сухой и жадной душе Орио, — влюбитесь. Сперва, не будучи по-настоящему влюбленным, вы станете делать вид, будто влюблены. Потом вы вообразите, что влюбились, и наконец влюбитесь. Поверьте мне, все так и происходит по законам физиологии, которые я вам изложу, когда пожелаете. Орио захотел немедленно узнать эти законы. Доктор прочитал ему целую лекцию, остроумную и горькую, которую невежественный и растревоженный патриций принял всерьез. Орио проникся верой во все, что наговорил ему врач, и тот удалился, пораженный чуть ли не в сотый раз за свою жизнь слабостью рассудка и страхом перед смертью, которые скрываются у светских распутников под привычным для них обличием безрассудного презрения к жизни. В тот же день Орио, вскружив себе голову самыми сумасбродными планами и самыми ребяческими надеждами, отправился в собор святого Марка к освящению даров. Обещав ему выздоровление столь простым способом и польстив его тщеславию тем, что он похвалил его энергию, врач словно произнес магическую формулу. У Соранцо появилась надежда, что следующей ночью он будет спать. Он слушал священные песнопения, с интересом следил за обрядами, восхищался внутренним убранством базилики, постарался не вспоминать о прошлом и не думать о внешнем мире. В течение целого часа ему удалось жить только настоящим. Для него это было уже много. Правда, ночь оказалась не лучше, чем прежде, но близилось утро. Он тешился мыслью о том, что снова пойдет в собор святого Марка. Так же как нервнобольным людям их вера в то или иное снадобье нередко заранее приносит облегчение, так и он ощутил некую радость оттого, что впервые за столь долгое время ему предстоит приятное занятие. Эта мысль дала ему возможность проспать один час. Пришел врач и, узнав о результатах своего предписания, сказал: — Сегодня вы два часа проведете в соборе святого Марка и в следующую ночь будете спать два часа. Соранцо поверил ему на слово и провел в церкви два часа. Он был совершенно уверен, что проспит два часа; поэтому так оно и случилось. Врач пришел в восторг оттого, что нашел для научного наблюдения столь бесценный объект — одного из тех людей, которым стоит лишь разжечь воображение, чтобы желаемый эффект произошел на самом деле. Из этого он сделал вывод, что физические силы Орио весьма подточены, а в душе у него не осталось ни мыслей, ни чувств. На третий день он посоветовал ему подумать о самом главном спасительном средстве — о любви. Орио вспомнил о совершенной им чудовищной неосторожности и решил на этот раз сказать, что он ведь уже любил. Врач, рассчитывал он, докажет ему, что та любовь была ошибкой. И медик действительно не преминул это сделать. Он уверил Орио, будто его любовь к синьоре Морозини была одной из тех бурных страстей, которые действуют разрушительно, оставляя после себя пагубное утомление. Он посоветовал ему испытать любовь спокойную, нежную, невинную, даже платоническую, похожую на чувство семнадцатилетнего юноши к пятнадцатилетней девочке. Орио пообещал. «Жалкое зрелище! — думал про себя доктор, спускаясь по лестнице. — Вот они каковы, эти угнетающие нас богатые и распутные патриции». Заметьте, что дело происходило на пороге восемнадцатого века! Слово магнетизм еще не было придумано. Орио, твердо решивший влюбиться в первую же молодую особу, которая повстречается ему в церкви, вошел в базилику на цыпочках, с трепещущим сердцем, правда не от любви, а от трусливого суеверия, которое внушил ему магнетизатор. Он слегка прикасался к вуалям коленопреклоненных девиц и с волнением нагибался, чтобы украдкой разглядеть их черты. О старый Гусейн! О вы все, дикие миссолунгцы! Даже если бы вы явились в Венецию донести на своего сообщника, вам бы никогда не узнать было вашего ускока в человеке, стоящем в такой позе и занятом таким делом. Первая девушка, которую рассматривал Соранцо, оказалась дурнушкой. Как здесь не вспомнить слова Ж.-Ж.Руссо, повествующего о том, как, придя в восторг от хорового пения монашек, он проник в монастырь, — тем более что это происходило как раз в Венеции: «София косила глазом, Каттина хромала…» и т.д. Четвертую девицу, которую Орио пытался рассмотреть, покрывало окутывало до самого подбородка. Но сквозь вуаль и сквозь молитву она отлично увидела кавалера, старавшегося разглядеть ее. Тогда она подняла голову и, откинув вуаль, показала ему бледное прекрасное лицо, ясное чело пятнадцатилетней девушки, губы, которые дрожали от негодования, словно лепестки розы, раскачиваемой ветром. С этих уст сорвались суровые слова: — Вы крайне дерзки. Это была Арджирия Эдзелини. Зузуф прав: судьба действительно существует. Орио пришел в такой трепет от тождества этого видения с тем, которое предстало ему на балу у Редзонико, в такой ужас от того, что его суеверные надежды и суеверный страх слились в одном предмете, что он не нашел слов для оправдания. Он упал, расстроенный, рядом с нею, и его отощавшие колени с громким стуком ударились о плиты пола. Затем он склонил голову до земли, поднес к губам бархатное покрывало прекрасной Арджирии и, протянув ей стилет, который венецианцы всегда носят у пояса, прошептал: — Отомстите, убейте меня! — Для этого я вас слишком презираю, — сказала красавица, поспешно вырывая у него из рук покрывало. И, встав с колен, она вышла из церкви. Однако Орио не настолько еще вкусил невинной любви, чтобы утратить хладнокровную наблюдательность светского повесы, и потому он отлично заметил, что последние слова девушка произнесла как-то более принужденно, чем первые, и что пылавшие гневом глаза не без труда удержали слезу сострадания. Орио удалился, уверенный, что жребий брошен и что выздоровление его и жизнь зависят от того, сумеет ли он использовать представившийся случай. Всю ночь провел он, продумывая бесчисленные планы как ему проникнуть к жестокой красавице, и эти размышления разогнали привычных грозных призраков. Правда, его несколько смущало сходство Арджирии с Эдзелино, и под утро ему привиделись сны, в которых сходство это приводило к самым странным и мучительным недоразумениям и ошибкам. Несколько раз он видел, как совершается превращение сестры в брата и наоборот. Когда он брал за руку Арджирию и протягивал свои губы к ее губам, перед ним внезапно возникало мертвенно-бледное окровавленное лицо Эдзелино. Тогда он выхватывал стилет и вступал в жестокую схватку с этим призраком. Под конец ему удавалось нанести смертельный удар, но когда он бросал сраженного врага себе под ноги, он вдруг убеждался, что ошибся и заколол Арджирию. Желание во что бы то ни стало выздороветь, а также авторитет Барболамо, под влиянием которого он теперь находился, побудили Орио к чреватой опасностями откровенности с врачом. Он рассказал ему о двух своих встречах с синьорой Эдзелини, на балу и в церкви, о враждебности, которую она к нему проявляла, и о его собственном глубоком огорчении, что он не сумел воспрепятствовать гибели благородного графа Эдзелино. При первом признании Орио Барболамо еще ничего не заподозрил. Но, став мало-помалу весьма частым посетителем своего пациента и приучив Орио откровенничать, насколько это было возможно для человека в его положении, он стал изумляться избытку чувствительности у такого эгоиста, и эта необычность стала вызывать у него странные подозрения. Однако не будем упреждать событий. Барболамо, будучи честным и преданным гражданином своего отечества, в науке сам был великим эгоистом. Ему было гораздо важнее понаблюдать в своем больном проявления явной душевной болезни, чем побеспокоиться о том, больше или меньше будет страдать его пациент. Ему любопытно было наблюдать новые факты, и он не постеснялся сказать Орио, что его волнения являются хорошим признаком и что ему следует стараться во что бы то ни стало покорить сердце гордой красавицы именно потому, что это дело нелегкое и вызовет у него разнообразные, совершенно неизведанные эмоции. Орио в течение целой недели преследовал Арджирию серенадами и романсами. Можно пс сомневаться в том, что серенада — отличный способ добиться успеха у дамы с тонким вкусом. В Венеции, где воздух, мрамор зданий и вода рождают такой прозрачный отзвук, ночная тишина так таинственна, а лунный свет так романтически прекрасен, романсы звучат особенно убедительно, а музыкальные инструменты издают особенно страстные звуки, возникающие словно нарочно для того, чтобы улещивать и обольщать. Поэтому серенада и является необходимым прологом ко всякому любовному объяснению. Мелодия вливает нежность в сердца и размягчает чувства, погружая их в некий полусон. Она вызывает в душе неясные мечтания, предрасполагает к жалости, первой уступке гордыни, которую умоляют о милости. Она обладает также даром разворачивать перед уснувшими взорами восхитительные образы, и мне говорила одна дама — называть ее не стану, — что неизвестный поклонник, дающий серенаду, всегда представляется, пока звучит музыка, самым любезным и очаровательным из мужчин.
— Говорите уж все, нескромный рассказчик! — прервала Беппа аббата. — Добавьте, что дама эта советовала всем, дающим серенады, никогда не показываться на глаза своему предмету.
— С Орио вышло совсем не так, — продолжал аббат. — Прекрасная Арджирия, наоборот, посоветовала ему показаться; она уронила букет цветов с балкона на озаренные луной мраморные плиты тротуара. Не удивляйтесь столь быстрой уступке. Вот как это случилось. Начнем с того, что прекрасная Арджирия была небогата. В не слишком крупном состоянии ее брата расходы по экипировке для участия в войне произвели существенную брешь. Когда он погиб у острова Курцолари, на его галере находилась довольно значительная часть захваченной им у турок военной добычи, дарованная адмиралом и потому вполне законно ему принадлежавшая. Благородный юноша радовался возможности сделать это богатство приданым своей сестры, но оно попало в руки пиратов вместе с галерой и всем лично ему принадлежавшим. Поэтому не было у прекрасной Арджирии иного приданого, кроме ее юности и ее прелестных грустных глаз. Синьора Меммо, тетка Арджирии, нежно любила племянницу, но в наследство она могла оставить ей только большой, несколько обветшалый дворец да привязанность старых слуг, из одной лишь преданности остававшихся при ней за самое скромное вознаграждение. Поэтому синьора Меммо, как и все тетки, пламенно желала, чтобы появился знатный и богатый жених. Зная, что ни с чем не сравнимая красота ее племянницы зажжет страсть не в одном сердце, она не одобряла ее стремления замыкаться в одиночестве и постоянно прятать «солнце своих очей» за темными занавесками балкона. При первой серенаде Арджирия разрыдалась. — Был бы в живых мой благородный брат, — сказала она, — никто не осмелился бы ухаживать за мной под моими окнами, не получив от моей семьи разрешения завести со мной знакомство. Не так поступают в отношении всеми уважаемого дома. Синьора Антония, однако, нашла эту суровость чрезмерной и, заявив, что ей-то лучше знать, что можно, а чего нельзя, отказалась принудить музыкантов к молчанию. А музыка была отличная, инструменты превосходного качества, исполнители же подобраны из числа самых лучших, какие только имелись в Венеции. Почтенная дама сделала из этого заключение, что поклонник должно быть богат, знатен и щедр. Если бы в этом оркестре оказалось на две теорбы и три виолы меньше, она проявила бы большую строгость. Но серенада была безукоризненна, и ее стали слушать. В последующие дни радость и надежда синьоры Антонии еще усилились. Арджирия сперва только терпела все это, но под конец музыка стала нравиться ей сама по себе. Случалось, что утром, причесывая перед зеркалом свои темно-каштановые волосы, она, не отдавая себе в этом отчета, напевала любовные стансы, под которые сладко заснула накануне вечером. Составить программу серенады — это целая наука. Каждый вечер вздыхатель должен найти какой-нибудь новый оттенок для выражения своей любовной муки. После il timido sospiro [472] обязательно следует lo strale funesto [473]. I fieri tormenti [474] идут за ними, a l'anima disperata [475] неизбежно вызывает на следующий день sorte amara [476]. На пятую ночь можно рискнуть обратиться к предмету любви на ты и назвать его idol mio [477]. На шестую — полагается уже негодовать на возлюбленную и обзывать ее crudele [478] и ingrata [479]. И только уж очень неловкий неудачник не дерзнет на седьмую ночь высказать слово dolce speranza [480]. Наконец восьмая ночь приводит к заключительному взрыву — настоятельной мольбе, в которой красавице предлагается выбор: счастье вздыхателя или его смерть. Таким образом, поклонник либо добивается свидания, либо расплачивается с музыкантами и отпускает их на все четыре стороны. Подошла и для Арджирии восьмая серенада; в третьем куплете романса певец от имени влюбленного просил подать хоть какой-нибудь знак милости, залог надежды, хоть слово или жест, которые позволили бы кавалеру расхрабриться и предстать перед возлюбленной. В тот миг, когда гордая Арджирия удалилась с балкона, где, скрытая за занавеской, она слушала певца, синьора Антония ловко сорвала букет, приколотый на груди у девушки, и бросила его прямо на гитариста, произнеся своим старческим голосом, который никак не мог скомпрометировать девушку: — С согласия тетки. Девичье любопытство победило стыдливую досаду на тетку, и Арджирия поспешно возвратилась на балкон и, перегнувшись через мраморные перила, незаметно приподняла занавеску — лишь настолько, чтобы видеть кавалера, поднявшего букет. Певец, профессиональный музыкант, хорошо знал обычаи и не позволил себе дотронуться до него. Он лишь вполголоса произнес: «Синьор!» и, сняв свою шапочку, скромно отступил на два шага, пока синьор поднимал брошенный с балкона залог. Увидев вырисовывающуюся в ярком лунном свете высокую фигуру, чуть-чуть согбенную, но все еще изящную и подлинно патрицианскую, Арджирия ощутила, как на лбу ее выступили капли холодного пота. Туман застлал ей глаза, колени подкосились, она едва успела убежать с балкона и броситься на кровать, где ее охватила сильнейшая дрожь. Она впала в полуобморочное состояние. Тетка не очень испугалась этого припадка, она подошла к Арджирии и принялась ласково подсмеиваться над ее чрезмерной девичьей робостью. — Не смейтесь, тетя, — приглушенным голосом произнесла Арджирия. — Вы сами не знаете, что наделали! Я почти уверена, что узнала Орио Соранцо, этого последнего из людей, убийцу моего брата! — Он бы не решился на такую дерзость! — вскричала синьора Меммо, тоже дрожа всем телом. — Пойди за букетом! — крикнула она своей любимой прислужнице, которая находилась тут же. — Скажи, что его уронили случайно. Что это ты… или паж… швырнул его вниз просто из шалости… что я этим очень разгневана… Иди, Паскалина… скорей… Паскалина побежала вниз, но тщетно. Музыканты, поклонник, букет — все исчезло, и только отбрасываемая луной неясная тень колоннад то появлялась на мостовой, то исчезала по прихоти бегущих по небу облаков. Паскалина оставила, дверь открытой. Она сделала всего несколько шагов, до набережной канала, и увидела, как гондолы с музыкантами исчезают за поворотом. Она возвратилась и старательно закрыла за собой дверь, но было уже поздно. Какой-то человек, спрятавшийся за колоннами портала, уловил момент. Легко взбежав по лестнице палаццо Меммо и идя напрямик, на неясный свет, струившийся из полуоткрытой двери, он дерзновенно проник в комнату Арджирии. Когда туда вошла и Паскалина, она застала свою юную госпожу в обмороке на руках у тетки, а на коленях перед ней — поклонника, дававшего серенаду. Я думаю, вы согласитесь с тем, что момент был крайне не подходящий для обморока, и вместе со мной придете к заключению, что прекрасная Арджирия совершила большую ошибку, слушая эти восемь серенад. Гнев ее сменился ужасом, и Орио безошибочно разобрался в этом, хотя делал вид, что обманывается. — Синьора, — произнес он, простираясь у ног Арджирии и протягивая букет синьоре Меммо до того, как она успела опомниться и заговорить первая, — я вижу, что ваша милость лишь по ошибке удостоили меня этой великой чести. Я на нее не надеялся, а музыкант, обратившийся к вам со столь дерзновенным стихом, сделал это без моего разрешения. Моя любовь не может быть настолько смелой, и я пришел сюда молить не о благосклонности, а о жалости. Пред вами человек, слишком униженный, чтобы позволить себе у вашего порога что-либо, кроме жалоб и стонов. Я хотел бы только одного — чтобы вы знали о моем страдании, чтобы вы были твердо уверены в том, что я не только не хочу оскорбить ваше горе, а напротив — ощущаю его еще глубже, чем вы сами. Видите, насколько я покорен и почтителен: я возвращаю вам драгоценный залог, я готов был бы заплатить за него всей своей кровью, но похищать его не хочу. Эти лицемерные речи глубоко растрогали добрую госпожу Меммо. Она была кроткая женщина, с сердцем слишком доверчивым, чтобы усомниться в искренности столь смиренных оправданий. — Синьор Соранцо, — ответила она. — Я, может быть, могла бы обратиться к вам с весьма серьезными упреками, если бы сегодня не увидела в третий раз, как глубоко и чистосердечно ваше раскаяние. Я поэтому не стану обвинять вас даже про себя и обещаю вам хранить требуемое приличиями молчание; теперь оно будет стоить мне меньших усилий, чем раньше. Благодарю вас за то, что вы принесли букет обратно, — добавила она, передавая цветы племяннице. — И если я умоляю вас не появляться больше ни здесь, ни даже около моего дома, то лишь ради нашей доброй славы, а не из-за какой-либо личной враждебности. Несмотря на свое беспамятство, Арджирия все отлично слышала. Она с большим трудом заставила себя набраться мужества и тоже заговорить. Подняв свое прекрасное бледное лицо, прижавшееся к груди тетки, она обратилась к ней: — Дайте также понять мессеру Соранцо, дорогая тетя, что он не должен ни заговаривать с нами, ни даже кланяться нам, где бы мы ни встретились. Если его уважение и его горе искренни, то он сам не пожелает, чтобы перед нами возникали черты, так живо напоминающие нам о постигшем нас несчастье. — Прежде чем покориться этому смертному приговору, — сказал Орио, — я прошу лишь об одной милости: пусть выслушают мою самозащиту, а затем уже судят о моем поведении. Я понимаю, что здесь не место и сейчас не время начинать это объяснение. Но я не встану с колен, пока синьора Меммо не даст мне разрешения явиться к ней в ее гостиную в указанный ею час, завтра или в другой день, чтобы снова на коленях, как сейчас, я мог попросить прощения за пролитые по моей вине слезы, но также и чтобы, стоя во весь рост и положив руку на грудь, как подобает мужчине, я мог оправдаться во всем, что есть несправедливого и преувеличенного в выдвинутых против меня обвинениях. — Эти объяснения были бы для нас крайне мучительны, — твердо произнесла Арджирия, — а для вашей милости совершенно излишни. Честный и великодушный ответ, который только что дала вам моя благородная тетушка, будет, я полагаю, вполне достаточен для вашей щепетильности и должен удовлетворить все ваши пожелания. Орио настаивал на своем так умно и убедительно, что тетка уступила и разрешила ему явиться назавтра днем. — Вы не будете в претензии, синьор, — сказала Арджирия, отвергая ту часть благодарности Орио, которая относилась к ней, — если я не стану присутствовать при этой беседе. Все, что я могу, — это никогда больше не произносить вашего имени, но увидеть ваше лицо еще хоть раз выше моих сил. Орио удалился, изображая глубокую печаль, но находя, что дело его продвигается довольно успешно. На следующий день между ним и синьорой Меммо состоялось длительное объяснение. Благородная дама приняла его в подчеркнуто траурном туалете, ибо она уже месяц как перестала носить черную вуаль, но сегодня снова облачилась в нее, дабы дать понять Орио, что горе ее ничто не может уменьшить. Орио проявил необходимую ловкость. Он сам обвинил себя больше, чем кто-либо другой осмеливался его обвинять. Он заявил, что все сделал, чтобы смыть пятно, наложенное пагубной непредусмотрительностью на всю его жизнь. Но тщетно восстановили его честь и адмирал, и вся армия, и даже вся республика: для него самого утешения нет. Он сказал, что ужасную гибель своей жены он рассматривает как справедливую небесную кару и что после этого горестного для него события он не имел ни минуты покоя. Наконец он самыми яркими красками описал, как живо ощущает он свое бесчестье, как осудил себя на добровольное одиночество, в котором угасала его отчаявшаяся во всем душа, как глубоко его отвращение к жизни, как тверда его решимость не бороться больше с болезнью и отчаянием и покорно принять смерть. От этих его речей добрая Антония разрыдалась и, протянув ему руку, сказала: — Будем же плакать вместе, благородный синьор, и пусть слезы мои будут для вас не укором, а знаком доверия и сочувствия. Орио немало потрудился, стараясь говорить красноречиво и трагично. Нервы его были до крайности напряжены. Однако он сделал еще одно усилие и выдавил из себя слезы. Правда, кое о чем он говорил по-настоящему сильно и красиво. Когда он описывал некоторые свои страдания, ему даже принесло облегчение то, что он мог под благовидным предлогом излить жалобы, которые ему с каждым днем было все труднее и труднее сдерживать. Тут он оказался настолько убедителен, что даже сама Арджирия расстроилась и закрыла лицо своими прекрасными руками. Ибо Арджирия тайком от Соранцо и от тетки спряталась за портьеру, откуда ей все было видно и слышно. К этому ее побудило какое-то неведомое дотоле непреоборимое чувство. В течение еще целой недели Орио следовал за Арджирией словно ее тень. В церкви, на прогулке, на балу она находила его подле себя. Как только она обращала на него внимание, он робко и покорно скрывался, но как только она делала вид, чтоне замечает его, появлялся снова. Ибо — на о это признать — прекрасной Арджирии скоро захотелось, чтобы он не был уж так послушен, и она старалась не смотреть на него, чтобы не обращать его в бегство. Как могла бы она возмущаться этим его поведением? У Орио всегда был такой непринужденный вид в присутствии людей, которые могли обратить внимание на их частые встречи! Он проявлял такую восхитительную скромность, чтобы не скомпрометировать ее, и так усиленно старался показать свою покорность! Когда ей случалось уловить его взгляд, в нем была такая горькая мука и такая неукротимая страсть! Вскоре Арджирия оказалась в глубине души уже побежденной. Ни одна другая девушка не противилась бы так долго тому магическому очарованию, которое свойственно было этому человеку, когда вся мощь его колдовской воли сосредоточивалась на чем-нибудь одном. Синьора Меммо относилась к этой страсти сперва с беспокойством, а затем с надеждой и наконец даже с радостью. Не в силах будучи сдерживаться, она без ведома племянницы назначила Соранцо второе свидание и предложила ему разъяснить его намерения или же прекратить это безмолвное преследование. Орио заговорил о браке, уверяя, что это цель его стремлений, но он надеется и на взаимную любовь и потому молит синьору Антонию замолвить за него словечко. Однако Арджирия так ревниво хранила тайну своих дум, что тетка не осмелилась обнадежить Орио. Она, впрочем, согласилась, чтобы адмирал предпринял кое-какие шаги, и это не замедлило произойти. Когда племянник открылся ему в своем новом увлечении, Морозини одобрил его намерения, поддержал его стремление найти в любви столь благородной девицы небесный бальзам от всех горестей и явился к синьоре Меммо, с которой у него и произошло решительное объяснение. Видя, как твердо верит этот прославленный и высокопочтенный муж в душевное благородство своего названого сына и как он хочет, чтобы союз Орио с семьей Эдзелино покончил со всяческим недоброжелательством и враждебностью, она еле скрывала свою радость. Никогда не могла она рассчитывать на такую выгодную партию для Арджирии. Узнав о предложениях, сделанных адмиралом, Арджирия сперва пришла в ужас — главным образом от смятения и радости, которые она против воли своей ощутила. Она высказала все возражения, подсказанные ей любовью к брату, отказалась дать немедленно ответ, но согласилась принимать ухаживания Орио. Поначалу Арджирия была с Орио холодна и сурова. Казалось, она выносит его присутствие лишь из внимания к тетке. Однако она не смогла подавить в себе глубокое сочувствие к его страданиям и душевной боли. Слыша, как этот сильный человек не перестает жаловаться на удары судьбы, видя, как душа его, если можно так выразиться, изнемогает под тяжестью своих собственных прегрешений, сестра Эдзелино ощущала, как ее великодушное сердце смягчается, а ненависть с каждым днем ослабевает. Если бы Орио попытался обольстить ее и проявил смелость, она осталась бы равнодушной и неумолимой. Но перед лицом его слабости и самоуничижения она понемногу разоружилась. Вскоре привычка сострадать его горестям превратилась в великодушную потребность утешать, и она даже не заметила, как жалость привела ее к любви. Все же она старалась убедить себя, что преступно и постыдно было бы полюбить человека, которого она обвиняла в гибели своего брата, и что она должна все сделать, чтобы раздавить зарождавшееся в ней чувство. Но, слабая именно величием своей души, она позволила милосердию отвратить ее от того, что считала своим долгом. Видя, что Орио с каждым днем все более удручен содеянным им злом и все пламенней раскаивается, она уже не имела мужества проявлять к нему враждебность, и под конец в мыслях ее горестная судьба погибшего брата стала как-то связываться с горестной судьбой этого человека, обреченного на вечные угрызения совести. Затем она убедила себя, что не ощущает к Орио ничего, кроме жалости, которую должно испытывать ко всем страдальцам, и что он утратит все ее сочувствие, как только перестанет страдать. Впрочем, в этом она, может быть, и не ошибалась. Арджирия почти ни в чем не поступала как все прочие женщины, — в чувство, к которому другие примешивали бы тщеславие или желание, она вкладывала одну лишь преданность. Даже Джованна Морозини, несмотря на благородство и чистоту своей души, не избегла общей участи и кое в чем приносила жертвы мирским божествам. Она ведь сама призналась Эдзелино, что репутация Орио отчасти помогла ему произвести на нее столь сильное впечатление, а почти все остальное довершили его сила и красота. Дошло до того, что, даже сознавая все зло, которое это может ей же причинить, она предпочла человеку заведомо хорошему человека, которого нашла обаятельным. Арджирией владели совершенно противоположные чувства. Если бы Орио предстал перед нею, как перед Джованной, юным, красивым храбрецом и распутником, гордо щеголяющим как пороками своими, так и победами, она не подарила бы ему ни единого взгляда, ни единого помысла. А сейчас в Орио ей нравилось как раз то, из-за чего восторженное отношение других женщин к нему несколько поостыло. Красота его блекла по мере того, как характер становился угрюмее. Но именно скорбная печать, наложенная на него временем и страданием, придавала ему в глазах ее особое очарование, хотя сама она и не подозревала об этом. С тех пор как с чела Орио сошел блеск гордыни и цветы здоровья и радости увяли на его щеках, лицо его приняло более задумчивое выражение, оно стало менее горделивым и более нежным. Так что те перемены в нем, которые, может быть, предохранили бы Джованну от роковой, сгубившей ее страсти, как раз и ввергли в эту страсть Арджирию. Вскоре Орио наполнил всю ее жизнь, и со свойственным ей мужеством она решила всю себя посвятить его утешению, хотя бы свет и предал ее анафеме за совершенное ею своего рода клятвопреступление. Что касается Орио, то, уверенный теперь в своей победе, он не стремился к быстрому завершению успеха; ему хотелось понемногу наслаждаться своими преимуществами с утонченностью пресыщенного человека, старающегося бережно относиться к новым радостям, — для него ведь осталось очень мало неизведанного. Спервоначала ему приходилось выдерживать напряженную борьбу, а поэтому — держать воображение во всеоружии и изощрять ум. Таким образом, днем о был занят, и ночью ему удавалось заснуть. Радуясь этому счастливому результату, он сообщил о нем доктору Барболамо с благодарностью за прежние советы и с просьбой о дальнейших. Барболамо не сразу решился посоветовать ему довести дело до женитьбы. По его мнению, было нечто глубоко печальное и омерзительно уродливое в этой математически рассчитанной любви человека с одряхлевшим сердцем и разжиженной кровью к прелестной, простодушной и щедрой на чувство девушке, которая в обмен на корыстную нежность и заранее обдуманные порывы готова была расточить ему все богатства сильной и искренней страсти. «Это ведь соитие жизни со смертью, света небесного с Эребом, — думал честный врач. — А между тем она любит его, верит в него, она стала бы страдать, если бы он перестал теперь добиваться ее. К тому же она надеется изменить его к лучшему, и, возможно, это ей удастся. Наконец, его состояние, которое растрачивается на увеселение беспутных собутыльников и низменных тварей, вернет прежний блеск знаменитому, но разоренному дому и обеспечит будущее этой прелестной, но бедной девушки. Все женщины более или менее тщеславны, — добавлял про себя Барболамо. — Когда синьора Соранцо заметит, что супруг ее немногого стоит, роскошь уже успеет создать ей потребности и наслаждения, которые ее и утешат. Да и, в конце-то концов, раз дело дошло до этого и обе семьи желают брака, по какому праву стал бы я ему препятствовать?» Так рассуждал врач. И, однако, в глубине души он все же был смущен, и этот брак, причиной которого он неведомо для всех являлся, стал для него источником тайных мучительных сомнений, в которых он не умел до конца отдать себе отчет и от которых не способен был избавиться. Барболамо был постоянным врачом семьи Меммо; Арджирию он знал с детских лет. Она смотрела на него как на нечестивца, ибо он был настроен несколько скептически и надо всем готов был посмеиваться. Поэтому она всегда проявляла к нему известную холодность, словно с детства предчувствовала, что он будет иметь пагубное влияние на ее судьбу. Доктор знал ее поэтому не слишком хорошо. Недоумевая, что и думать об этой натуре, на первый взгляд несколько холодной и даже немного высокомерной, он в глубине своей прямой и честной души считал все же, что в выборе между нею и Соранцо не может быть никаких колебаний и заботиться надо прежде всего о слабейшем. Ему хотелось бы поговорить с Арджирией, но он не решался на это и успокаивал себя тем, что характер у нее достаточно твердый и решительный и в этом случае она вполне способна сама собой руководить. Не зная, на чем остановиться, но не в состоянии будучи преодолеть тайного отвращения и недоверия, которые внушал ему Соранцо, он избрал средний путь: посоветовал Орио не проявлять излишней торопливости и не спешить с женитьбой. В этом деле у Соранцо и не было никакой иной воли, кроме той, что внушал ему врач. Он слушал его с бездумной, ребяческой доверчивостью верующего, который требует от священника чудес. Как Джованна была для него лишь средством достичь успеха и благосостояния, так и в Арджирии он видел лишь средство обрести вновь здоровье. Но в этом втором случае он испытывал нечто вроде привязанности более искренней, чем в первом. Можно даже сказать, что, принимая во внимание и характер его и положение, у него было к Арджирии подлинное чувство. Любовь ведь самое гибкое из человеческих чувств. Она принимает любые формы, ее воздействие так разнообразно, как только можно вообразить, в зависимости от почвы, на которой она произросла; оттенков ее не перечислить, а следствия так же многоразличны, как и причины. Иногда случается, что душа благородная и чистая не способна возвыситься до страстного чувства, и напротив — душа извращенная пламенно проникается страстью и ненасытно стремится к обладанию существом лучшим, чем она, даже не сознавая его превосходства. Орио как бы подпал под таинственные влияния божественного покровительства, которым одарено бывает существо ангельской природы. Воздух, который Арджирия очищала одним своим дыханием, был для Орио некой новой стихией, где он, как ему казалось, обретал спокойствие и надежду. Кроме того, уединенная жизнь в упоении неизведанным чувством заменила ему распутство, еще более гибельное для души, чем для плоти. Она заняла его бесчисленными нежными заботами, даровала ему разнообразные невинные наслаждения, которыми этот распутник упивался, как охотник ключевой водой или сочным плодом, после утомительного дня, проведенного в непрерывном возбуждении. Ему нравилось, что желания его обостряются от томительного ожидания: чтобы еще сильнее разжечь их, он отстранился от Наам и все мысли, осаждавшие его ночью, сосредоточил на одном предмете. Он возбуждал свой мозг лишениями, к которым чистая любовь понуждает совестливых людей, хотя на лишения эти он пошел из сознательного расчета, ради личной выгоды. Привыкший к легким победам, смелый до наглости с податливыми женщинами, хитрый льстец и бесстыдный лжец с робкими, он никогда не упорствовал в охоте на тех, что способны были к длительному сопротивлению; он терпеть не мог их и делал вид, что презирает. Поэтому оказалось, что сейчас он впервые по-настоящему ухаживает за женщиной. Он принудил себя уважать ее, и это стало для него особо утонченным наслаждением; он целиком погрузился в него, найдя здесь забвение своих грехов и нечто вроде магической безопасности, как будто осенявшей Арджирию ореолом целомудрия, изгнал духов тьмы и одолел зловредные влияния. Арджирия, испуганная своей любовью, не смела даже самой себе признаться в том, что побеждена, и воображала, что пока она прямо не скажет об этом Соранцо, для нее еще возможно будет отступление. Как-то вечером они сидели вместе с одном конце большой галереи палаццо Меммо; эта галерея, как все галереи венецианских дворцов, проходила через все здание, и в обоих концах ее прорезано было по три больших окна. Начало уже смеркаться, и галерея освещалась лишь серебряной лампадкой, стоящей у ног статуи мадонны. Синьора Меммо удалилась в свою комнату, выходившую на галерею, чтобы жених с невестой могли свободно побеседовать. Не переставая говорить Арджирии о своей любви, Орио подсел поближе и под конец стал перед ней на колени. Она попыталась заставить его подняться, но он, схватив ее руки, стал пламенно целовать их и при этом в безмолвном упоении не спускал с нее глаз. Арджирия уже испытала на себе власть его взгляда. Боясь слишком поддаться смятению, которое вызывал в ней этот взгляд, она отвела глаза в сторону и стала смотреть в глубь галереи. Орио не раз видел, как женщины поступают таким образом, и, улыбаясь, ждал, пока невеста снова не переведет на него своего взора. Но ждал тщетно. Глаза Арджирии были все время обращены в одну сторону, но теперь уже не так, словно она хотела не встречаться глазами со своим поклонником, а по-другому — как будто она внимательно вглядывалась в нечто вызвавшее в ней изумление. Она была настолько поглощена созерцанием, что Соранцо встревожился. — Арджирия, — сказал он, — посмотрите на меня. Арджирия не ответила. Лицо ее приняло какое-то необъяснимое и действительно пугающее выражение. — Арджирия! — взволнованным голосом повторил Соранцо. — Арджирия, любовь моя! Услышав эти слова, она внезапно вскочила с места и с ужасом отступила от него, не меняя однако, на правления своего взгляда. — Да что там такое?! — раздраженно вскричал Орио, тоже вставая. Он живо обернулся, чтобы посмотреть, что же привлекло столь напряженное внимание Арджирии. И оказался лицом к лицу с Эдзелино. В свою очередь, он смертельно побледнел, и на мгновение его охватил трепет. В первый момент ему почудился один из тех призраков, что так часто жаловали его своим зловещим посещением. Но звук шагов Эдзелино и блеск его глаз доказали ему, что на этот раз он имеет дело не с бесплотной тенью. Опасность оказалась не только более реальной, но и куда более серьезной. Но если при виде призрака Соранцо мог упасть без чувств, то реальности он решил бросить вызов и потому с самым дружеским и предупредительным видом шагнул навстречу Эдзелино. — Друг мой! — вскричал он. — Это вы? Вы, которого мы, казалось, потеряли навеки! И он протянул к нему руки, словно желая обнять. Арджирия, как громом пораженная, упала к ногам брата. Эдзелино поднял ее и прижал к своей груди. Но перед распростертыми объятиями Орио он с отвращением отпрянул и правой рукой указал ему на дверь. Орио сделал вид, что не понял. — Ступайте вон! — произнес Эдзелино дрожащим от возмущения голосом, уставив на него грозный взгляд. — Уйти мне? А почему? — Вы сами знаете. Уходите, да поскорее! — А если я не хочу? — продолжал Орио, вновь обретя привычную дерзость. — Так я сумею заставить вас! — вскричал Эдзелино с горьким смехом. — Каким же образом? — Разоблачив вас. — Разоблачают лишь тех, кто скрывается. А что мне скрывать, синьор Эдзелино? — Не испытывайте моего терпения. Я согласен не то, чтобы простить вас, но отпустить. Уходите и помните, что я вам запрещаю даже пытаться видеть мою сестру. Иначе — горе вам! — Синьор, если бы такие речи вел не брат Арджирии, а любой другой человек, он бы уже искупил их своей кровью. Вам я ничего не скажу, кроме того, что ни от кого не стану выслушивать приказаний и презираю угрозы. Я уйду отсюда не из-за вас, ибо вы здесь не хозяин, а из-за вашей уважаемой тетушки: я не хочу нарушать ее покой громкой ссорой. Что до вашей сестры, то я никогда не откажусь от нее, ибо мы любим друг друга и я считаю себя достойным получить от нее счастье и способным сделать ее счастливой. — Вы осмелитесь когда угодно и где угодно повторить то, что вы сейчас заявили? — Да, при всех обстоятельствах. — Тогда приходите сюда завтра со своим дядей, Франческо Морозини, и мы посмотрим, как вы ответите на обвинения, которые я вам предъявлю. Свидетелями будут только моя тетка и сестра. Орио шагнул по направлению к Арджирии. — До завтра! — молвила она дрожащим голосом. Орио закусил губы и неторопливо вышел, повторив с горделивым спокойствием: — До завтра! — Иисусе! Господи милостивый! — вскричала синьора Меммо на пороге своей комнаты. — Я ведь услышала голос, которого, думалось мне, никогда больше не услышу! Господи! Господи! Да кого же я вижу? Племянник!.. Сынок мой! Помолиться о тебе надо? Душеньку твою мы прогневили? Добрая синьора зашаталась, оперлась о стену, и ее в полуобморочном состоянии удержала рука Эдзелино. — Нет, я не призрак вашего племянника. Тетушка и ты, милая сестра моя, да признайте же меня: я ваш Эдзелино. Но господи боже мой! Прежде всего ответьте мне, я даже не знаю, радоваться ли мне нашей встрече или проклинать этот день. Человек, которого я прогнал, неужто он супруг Арджирии? — Нет, нет! — прозвучал громкий и ясный голос Арджирии. — И не стал бы он никогда моим мужем! Какая-то пагубная пелена застлала мне глаза, но… — Но ведь он, наверное, жених твой? — произнес Эдзелино, весь трепеща с головы до ног. — Нет, нет, он мне никто! Я ничего не обещала, ни на что не согласилась!.. — Но этот гнусный подлец осмелился сказать мне, что вы с ним любите друг друга!.. — Он уверил меня в своей невиновности, и я… я считала, что он говорит от чистого сердца. Но ты со мной теперь, брат, я полюблю только с твоего согласия, я буду любить только тебя! И Арджирия, прижавшись лицом к груди брата, спрятала слезы радости и горя. Предоставим же этой семье, и счастливой и в то же время расстроенной, предаваться взаимным излияниям и рассказывать друг другу все, что случилось и с одним и с другими после столь жестокой разлуки. Проявив в разговоре с Эдзелино мужество отчаяния, Орио устремился к себе домой с уверенностью и поспешностью человека, который рассчитывает обрести спасение в одиночестве. Вся сила его ушла в мускулы, и, ощущая свой собственный быстрый шаг, он вообразил, что ему, как прежде, поможет один из тех адских приливов вдохновения, которые находили на него в трудном положении. Но, очутившись в своей комнате, наедине с собой, он убедился, что в голове его пустота, в душе полный разлад, а положение, в котором он оказался, отчаянное. Он понял это и в невыразимой тоске принялся ломать руки, восклицая: — Я погиб! — Что случилось? — спросила Наам, выходя из угла комнаты, где она постоянно находилась и куда словно вросла, как растение. Орио не имел обыкновения открываться перед Наам, когда у него не было необходимости использовать ее преданность. А что она могла сделать для него в этот миг? Ничего, разумеется. Но Орио был сейчас в таком ужасе, что невольно искал помощи хотя бы в сочувствии другого человека. — Эдзелино жив! — вскричал он. — И намеревается на меня донести! — Вызови его на поединок и постарайся убить, — сказала Наам. — Невозможно! Он согласится на поединок лишь после того, как расскажет обо мне все. — Пойди помирись с ним, предложи ему все свои сокровища. Заклинай его именем бога всемогущего! — Никогда! Да он и сам отвергнет такое предложение. — Переложи всю вину на других! — На кого? На Гусейна, на албанца, на моих офицеров? Меня спросят, где они, и мне никто не поверит, если я скажу, что пожар… — Ну что ж, тогда стань на колени перед всем своим народом и скажи: «Я виновен в великом преступлении и заслуживаю великой кары. Но я совершил и много доблестных деяний и хорошо послужил моей родине. Пусть меня судят». Палач не осмелится поднять на тебя руку, ты будешь сослан, а через год ты вновь понадобишься и получишь возможность совершить славный подвиг. Ты одержишь победу, и благодарная родина простит тебя и высоко вознесет. — Наам, ты просто безумна, — с тоской произнес Орио. — Ничего ты не понимаешь в людях и нравах нашей страны. Не можешь ты дать мне хороший совет. — Но я могу выполнить то, что ты задумаешь. Скажи, что мне сделать. — Если бы у меня была какая-нибудь мысль, разве я оставался бы здесь хоть на один миг? — Нам остается бегство, — сказала Наам. — Уедем. — Это лишь на самый крайний случай, — сказал Орио, — ведь бегство означает признание. Послушай, Наам, надо найти человека, хорошо владеющего клинком, наемного убийцу, человека ловкого и верного. Может быть, ты знаешь здесь, в Венеции, какого-нибудь ренегата, перебежчика из мусульман, который никогда обо мне не слышал и который из одного лишь доброго отношения к тебе за большую сумму денег… — Ты, значит, опять хочешь пойти на убийство? — Молчи! Говори тише. Не произноси здесь таких слов даже на своем языке. — Должны же мы договориться. Ты хочешь, чтобы он умер и чтобы я приняла на себя всю ответственность, испытала всю опасность такого дела? — Нет, я этого не хочу, Наам! — вскричал Соранцо, сжимая ее в своих объятиях, ибо мрачный вид Наам испугал его, напомнив, что сейчас не время ему утратить ее преданность. — То, чего ты желаешь, будет сделано, — сказала Наам, идя к выходу. — Стой, да нет же, это будет хуже всего! — сказал Орио, останавливая ее. — Его сестра и тетка обвинят меня, и похоже будет на то, что я испугался правды о себе. Да и не хочу я, чтобы ты подвергалась опасности. Уходи, Наам, оставь меня, спасай свою голову от того, что угрожает моей. Сейчас еще есть время, беги! — Я тебя никогда не оставлю, ты это отлично знаешь, — невозмутимо ответила Наам. — Что? Ты пойдешь со мной даже на смерть? Подумай, тебя тоже, возможно, обвинят в соучастии. — Не все ли мне равно? — сказала Наам. — Разве я боюсь смерти? — Но устоишь ли ты на пытке, Наам? — вскричал Соранцо, внезапно обеспокоенный этой новой мыслью. — Ты опасаешься, что я не выдержу мук и выдам тебя? — холодно и сурово спросила Наам. — О, никогда! — вскричал он с наигранным пылом. — Ты единственное существо, которое меня поняло, которое меня полюбило и пошло бы ради меня на тысячу смертей! — Ты говоришь, что единственный выход — это удар кинжала? — произнесла Наам, понизив голос. Орио не ответил. Он не знал, на что решиться. Этот выход и соблазнял его и страшил. Он стал перебирать в уме всевозможные планы, один невыполнимее другого, пока наконец голова у него не пошла кругом и он не впал в полнейшее отупение. Наам встряхивала его, не в силах будучи вырвать у него хоть слово. Она чувствовала, как руки у него закоченели, и подумала, что он умирает. У нее мелькнула даже мысль, что в миг смятения он, может быть, проглотил яд и позабыл об этом. И она вызвала врача. Барболамо нашел, что он в очень тяжелом состоянии, и вырвал его из оцепенения возбуждающими средствами, вызвавшими жестокую реакцию. У Орио начались сильнейшие судороги. Тогда доктор вспомнил, что его пациент давно уже не прибегал к наркотикам, и подумал, что эти лекарства, которыми Орио в свое время злоупотреблял в такой мере, что они перестали оказывать действие, сейчас, может быть, снова помогут. Поэтому он решился дать больному очень сильную дозу опиума, от которой тот сейчас же успокоится и погрузится в глубокий сон. Убедившись, что больному лучше, врач удалился, так как было уже очень поздно и ему надо было зайти к другим пациентам, прежде чем возвращаться домой. Наам в течение нескольких минут с беспокойством сидела у ложа своего господина. Затем, убедившись, что он крепко спит, она почувствовала, что вся тяжесть новой беды легла на нее одну. Ей, именно ей, надо найти выход. Она в волнении ходила по комнате из угла в угол, вручая душу свою богу, а жизнь воле судьбы, и решила пойти на все, что угодно, только бы не дать погибнуть тому, кого любила. По временам она останавливалась и смотрела на его бледное, изможденное лицо; в своей ужасающей неподвижности он казался трупом, который только что побывал в руках палача, чтобы перейти в руки тех, кто предаст его земле. А ведь Наам видела Орио прежде таким стремительным, таким непреклонным в осуществлении своих ужасных замыслов! Теперь же у него не хватило сил выстоять грозу. Ей он предоставлял заботу о его спасении. Наам примирилась с неизбежным, сделала кое-какие приготовления, тщательно заперла дверь, вышла, никем не замеченная, и скрылась в лабиринте узких, темных улочек, где попадаются всякие сомнительные личности и где два человека, встретившись ночью, вынуждены прижиматься к стенам. — Проклятие матери, что меня родила! — пробормотал Орио мрачным, глухим голосом, проснувшись и корчась на своем ложе, чтобы стряхнуть сон, сковывающий все его члены. — Неужто мне никогда уже не спать, как другим людям? Либо меня донимают страшные видения и я обречен метаться во сне, как буйно помешанный, либо я падаю, словно труп, и просыпаюсь в смертном холоде и в истоме, похожей на агонию. Наам! Который час? Ответа не последовало. — Я один! — вскричал Орио. — Что же такое происходит? Он сел на своей кровати, дрожащей рукой раздвинул занавески, увидел, как едва забрезживший рассвет проникает в комнату, и окинул все кругом отупелым взглядом, стараясь припомнить, что же произошло накануне. Затем ужасная правда возникла в его памяти, сперва как зловещее сновидение, а затем как гнетущая уверенность. Несколько мгновений Орио оставался неподвижным; казалось, он был раздавлен, и ему даже не пришла в голову мысль о том, чтобы отвратить угрожающий удар. Наконец он вскочил с кровати и принялся метаться по комнате, как безумный. «Это невозможно, невозможно, — повторял он про себя. — Не дошло же до этого, не настолько же поразил меня рок!» — Несчастный! — вскричал он, обращаясь к самому себе и падая в изнеможении на стул. — Так-то ты бросаешь теперь вызов судьбе? Тебе под ноги упал камень, а ты, вместо того чтобы принять это как предупреждение и либо бежать, либо что-то делать, ложишься, засыпаешь и ждешь, пока все здание рухнет! Либо ты в скотину превратился, либо враги наслали на тебя порчу. Проклятый врач! — вскричал он снова, видя на столе пузырек с опиумом, из которого врач заставил его проглотить часть снадобья — Ты, значит, стакнулся с ними, чтобы лишить меня сил и привести к бездействию! Ты тоже поплатишься у меня за это, подлец! Смотри, придет мой день! Мой день! Увы! Да выберусь ли я из этой навалившейся на меня ночи? Что же теперь делать? Ах, силы оставили меня в тот миг, когда я в них больше всего нуждался! Не пришло мне на ум ничего, когда быстрое решение еще могло меня спасти! Как только враг мой появился в галерее Меммо, надо было сделать вид, будто я принял его за призрак, броситься на него, вонзить в него кинжал… Этого человека, наверное, не так уж трудно убить; он получил уже столько ран… А затем я разыграл бы безумие. Меня бы лечили, как это уже было, даже жалели. Конечно, у меня появились бы угрызения совести, я заказал бы молебствия о спасении его души, и все ограничилось бы только тем, что я лишился бы благосклонности этой девочки… Но, может быть, это еще можно сделать? Да, завтра, почему бы нет? Я пойду на это свидание. Пойду, разыгрывая бешеную ярость, сам брошу ему вызов, обвиню в какой-нибудь гнусности… Скажу Морозини, что он соблазнил… нет, что он изнасиловал его племянницу, что я его выгнал с позором и что в отместку он сплел эту сеть лжи… Я стану так поносить Эдзелино, так угрожать ему… И еще вдобавок плюну в лицо… Тогда уж придется ему схватиться за шпагу… Тут-то ему и конец: не успеет он вырвать ее из ножен, как моя шпага вонзится ему в горло… А там я брошусь на пол, на губах у меня выступит пена, я стану рвать на себе волосы, — словом, сойду с ума. Самое худшее, что может со мной случиться, — это изгнание на четырнадцать лет. А всем известно, чего стоят четырнадцать лет изгнания венецианского патриция. Через год он понадобится, его вернут… Наам была права… Да, так я и сделаю… Но что, если Эдзелино уже говорил с теткой и сестрой, если они тоже станут моими обвинительницами? Ладно, пусть. А доказательства?.. Во всяком случае, всегда останется возможность бегства. Если я не смогу увезти все свое золото, отправлюсь к пиратам и организую морской разбой на куда более широкую ногу. В несколько лет соберу огромное состояние и уеду проживать его под вымышленным именем в Кордову или Севилью, — говорят, жизнь там развеселая. Разве деньги не владыка мира?.. Правда же, доктор хорошо поступил, усыпив меня. Сон меня возродил, вернул мне всю мою энергию, все надежды! Орио говорил сам с собой в приступе какой-то лихорадочной энергии. Глаза его, устремленные в одну точку, сверкали, бледные губы дрожали, руки скрючились на отощавших голых коленях. Увлеченный своими злостными планами и гнусными речами, «самый красивый мужчина Венеции» был сейчас омерзителен. Пока он размышлял вслух, маленькая дверь за портьерой открылась и в комнату бесшумно вошла Наам. — Это ты? Где ты пропадала? — спросил Орио, едва удостоив ее взглядом. — Дай мне халат, я должен одеться и выйти!.. Но когда Наам подошла, чтобы подать ему халат, он внезапно встал и так и застыл на месте от изумления и ужаса. Наам была бледнее занимавшегося сейчас рассвета, губы ее приняли свинцовый оттенок, глаза остекленели, словно у трупа. — Почему у тебя на лице кровь? — спросил Орио, отшатнувшись от страха. Он вообразил себе вдруг, что по бесчеловечным обычаям тайной венецианской полиции Наам была схвачена ее служителями и подвергнута пытке. Может быть, она рассказала… Орио смотрел на нее с ненавистью, смешанной со страхом. «Как мог я допустить такую неосторожность — оставить ее в живых? Следовало устранить ее еще год назад!» — Не спрашивай меня, что случилось, — произнесла Наам каким-то безжизненным голосом, — тебе незачем это знать. — Ля хочу знать! — вскричал в бешенстве Орио и принялся грубо трясти ее. — Хочешь знать? — повторила Наам с презрительным спокойствием. — Узнай же на свой страх и риск. Я только что убила Эдзелино. — Эдзелино убит! Наверняка убит! Наверняка мертв! — вскричал Орио, в приступе безрассудной радости прижимая к своей груди Наам. Но тут он разразился каким-то судорожным хохотом и вынужден был снова опуститься на стул. — Это кровь Эдзелино? — спрашивал он, трогая влажные руки Наам. — Это проклятая кровь вытекла наконец до последней капли? О, на этот раз он не вывернется, правда? Ты не промахнулась, Наам? О нет, рука у тебя твердая — кого ты ударишь, тот уж не встанет! Ты убила его, как пашу, правда? Тем же ударом в сердце — снизу вверх? Скажи мне, скажи! Да говори же!.. Рассказывай! Ах, не стоило ему возвращаться в Венецию… Недолго он погулял в Венеции, недолго наслаждался местью!.. И Орио снова разразился своим ужасным хохотом. — Я нанесла удар прямо в сердце, — мрачно произнесла Наам, — а потом бросила в воду… — Железо и вода! Хороша наша Венеция, хорошо встретиться с врагом на безлюдной набережной! Но как ты нашла его в такой час? Что ты сделала, чтобы с ним встретиться? — Я взяла лютню и пошла играть под окном его сестры. Я играла так упорно и долго, что брат проснулся и увидел меня в окно. Тогда я отошла на несколько шагов, но продолжала играть, словно дразня его. Он узнал меня по одежде, — это мне и нужно было. Он вышел из дому и приблизился ко мне с угрозами. Я отошла подальше, все продолжая играть, а потом опять остановилась. Он снова подошел, а я отошла. Тогда он повернулся и пошел обратно, но я побежала за ним и все время играла. Тут он пришел в ярость и, думая, наверное, что я все это делаю по твоему приказу, побежал мне навстречу со шпагой в руке. Так я заставила его бежать за мной до того места, где мостовая набережной кончается и переходит в ступеньки, которые крутым изгибом ведут к причалу гондол. Там не было ни одной лодки, ни одного человека, ни звука, ни огонька. Я крепко уцепилась за колонку, которой заканчиваются перила, и, согнувшись, стала его дожидаться. Он добежал до причала и, не видя меня, едва на меня не наткнулся, когда перегнулся к воде посмотреть, не ускользнула ли я от его гнева на какой-нибудь гондоле. В этот миг я одной рукой сорвала с него плащ, а другой нанесла удар. Он пытался отбиваться, бороться… но поскользнулся на влажных ступеньках и стал терять равновесие. Тогда я толкнула его, он упал и пошел ко дну. Вот так все произошло. Последние слова Наам произнесла приглушенным голосом и вздрогнула всем телом. — Ко дну? — с беспокойством молвил Соранцо. — Ты в этом уверена? Ты не бросилась бежать? — Я не убежала, — возразила, вновь оживляясь, Наам. — Я смотрела в воду, пока она не стала гладкой, как зеркало. Тогда я сорвала между сырых камней берега пучок водорослей, смыла и счистила со ступенек пятна крови. Кругом никого не было, не раздавалось ни звука. Я спряталась за выступом стены. Кто-то вышел из палаццо Меммо, я тихонько вышла из своего укрытия и вернулась домой. — Ты испугалась? Бежала? — Я шла медленно, часто останавливалась и осматривалась кругом. Никто меня не видел, никто за мной не шел. И даже по камням мостовой я ступала бесшумно. Я нарочно петляла и от палаццо Меммо сюда шла больше часа. Ты успокоился? Ты доволен? — О Наам, о удивительная девушка! Да у тебя душа трижды закалена в адском огне! — вскричал Орио. — Дай я обниму тебя, ты дважды спасла мне жизнь! Но он так и не обнял Наам: пламенный порыв его благодарности загасила внезапная мысль… — Наам, — произнес он после минутного молчания, в течение которого она смотрела на него с мрачной тревогой, — ты совершила безумный поступок, ненужное преступление. — Почему? — спросила Наам, продолжая мрачнеть. — Повторяю тебе, что ты взялась совершить поступок, за все последствия которого отвечать буду я! Эдзелино найдут убитым и обязательно обвинят меня. Убийство это будет признанием всего, что он мне приписывает и что уже рассказал тетке и сестре. К тому же за мной окажется еще одно убийство, и я не вижу, каким образом этот лишний груз может меня облегчить. Разрази тебя гром, гнусная, хищная зверюга! Ты так торопилась попить чьей-то крови, что даже не посоветовалась со мной. Наам приняла это оскорбление с кажущимся спокойствием, от чего Соранцо только расхрабрился. — Ты велел мне поискать убийцу, — сказала она, — верного и незаметного человека, который не знал бы, чья рука его направила, и за деньги стал бы молчать. Я сделала еще лучше: нашла человека, которому нужна только одна награда — чтобы у тебя не оставалось врагов, который сумел нанести удар верно и осторожно, которого тебе нечего бояться и который сам отдастся в руки правосудия твоей страны, если тебя обвинят. — Надеюсь, — сказал Орио. — Ты, пожалуйста, помни, что я тебе ничего не поручал. Ведь ты солгала: я и впрямь ничего не поручал. — Солгала? Я солгала? — дрожащим голосом вымолвила Наам. — Не только языком, но и глоткой своей солгала, солгала, как последняя собака! — закричал Орио, охваченный грубым бешенством, приступом болезненного раздражения, которое он не в силах был подавить, хотя, может быть, и понимал в глубине души, что сейчас никак не время ему поддаваться. — Это ты лжешь, — возразила Наам презрительным тоном, скрестив руки на груди. — Ради тебя я пошла на преступления, мне самой ненавистные, раз уж тебе угодно называть преступлениями то, что для тебя сделано, когда сделанное кажется тебе бесполезным. Я же ненавижу проливать кровь и выносила у турок рабство, даже не подумав совершать ради себя самой то, что потом совершила для твоего спасения. — Скажи лучше, что ты сама себя хотела спасти, — вскричал Орио, — и что мое присутствие только придало тебе храбрости, которой тебе не хватало! — Храбрости мне всегда хватало, — возразила Наам, — а ты, оскорбляющий меня после всего этого и в такой момент, посмотри на кровь на моих руках! Это кровь мужчины, третьего мужчины, у которого я, женщина, отняла жизнь, чтобы спасти твою. — И отняла-то трусливо, по-бабьи. — Женщина не трусиха, когда убивает мужчину а мужчина, способный убить женщину, не храбрец. — Ладно, так я убью двух! — вскричал Соранцо, которого этот намек взбесил окончательно. И, схватив подвернувшуюся под руку шпагу, он бросился на Наам, но в это самое мгновение три громких удара потрясли парадную дверь палаццо. — Меня ни для кого нет дома! — закричал Соранцо своим слугам, которые уже встали и теперь в смятении бегали по галереям. — Ни для кого! Что это за наглый проходимец стучится в такой час, не боясь разбудить хозяина? — Синьор, — бледнея, вымолвил один из лакеев, высунувшись из окна галереи. — Это посланец Совета Десяти. — Уже? — сквозь зубы пробормотал Орио. — Эти проклятые ищейки тоже, видимо, не спят! Он вернулся в свою комнату с каким-то растерянным видом. На полу валялась его шпага, которую он выронил из рук, когда в дом постучали. Наам стояла в излюбленной своей позе — скрестив руки на груди — и с презрительной невозмутимостью смотрела на оружие, с которым Орио осмелился броситься на нее и которое она не стала поднимать, считая это ниже своего достоинства. В этот миг Орио осознал, каким исключительным безумием с его стороны было раздражать поверенную всех его тайн. Он говорил себе, что когда удалось приручить льва лаской, незачем пытаться смирить его силой. Он хотел даже принудить ее к этому, когда увидел, что она делает вид, будто не слышит Но все — и просьбы и угрозы — оказалось тщетным Наам решила мужественно и твердо встретить служителей грозного трибунала. Они не заставили себя ждать. Перед ними открылись все двери, и перепуганные слуги привели их в комнату своего господина. За ними шел вооруженный отряд, а у дверей палаццо ждала черная гондола с четырьмя сбирами. — Мессер Пьер Орио Соранцо, мне дан приказ арестовать вас, этого молодого человека, вашего слугу, и всех прочих слуг, находящихся в доме, — произнес начальник отряда. — Будьте добры следовать за мной. — Повинуюсь, — ответил Орио лицемерным тоном. — Никогда не позволяю я себе сопротивляться священной власти, которою вы посланы, но не испытываю никакой боязни, ибо чту ее высокое всемогущество и полон доверия к ее безупречной мудрости. Но я хочу сделать тут же заявление — отдать первую дань уважения к истине, которая будет строгим руководителем моим в этом деле. Поэтому я прошу вас принять к сведению все, что я открою здесь перед вами и перед всеми моими слугами. Я не знаю, по какой причине явились вы арестовать меня, и не допускаю мысли, чтобы вам было известно то, что я сейчас скажу. Именно потому я и стремлюсь все раскрыть правосудию и помочь ему в его суровом деле. Этот слуга, которого вы принимаете за юношу, на самом деле женщина. Я этого не знал, как не знал и никто из живущих в моем доме. Только что она вернулась сюда в полном смятении, с окровавленным лицом и руками, как вы сами видите. Растерявшись от моих расспросов и испугавшись моих угроз, она призналась мне, что является на самом деле женщиной и что нынче ночью она убила графа Эдзелино, признав в нем того христианского воина, от руки которого пал в схватке во время битвы при Короне два года назад ее возлюбленный. Агент велел тотчас же записать показание Соранцо. Формальность эта была выполнена с холодной бесстрастностью, присущей всем служителям Совета Десяти. Пока его слова записывали, Орио, обратившись к Наам на ее родном языке, объяснил ей, что именно он сказал агентам. Он убеждал ее согласиться на придуманный им план. — Если меня тоже обвинят, — сказал он ей, — мы оба погибнем. А если я выкручусь, то отвечаю за твое спасение. Верь мне и будь тверда. Обвиняй во всем себя одну. В нашей стране все устраивается с помощью денег. Если я останусь на свободе, то и ты будешь освобождена. Но если я буду осужден, то и тебе конец, Наам!.. Наам пристально посмотрела на него, не произнеся ни слова в ответ. Что думала она в этот решающий миг? Орио тщетно старался выдержать ее глубокий взгляд, проникший в нутро его, словно клинок. Он смутился, а Наам улыбнулась, какой-то странной улыбкой. С минуту она о чем-то сосредоточенно думала, затем подошла к писцу, прикоснулась к нему и, заставив его посмотреть на нее, вручила ему свой еще окровавленный кинжал, показала свои красные от крови руки и запятнанный лоб. Затем, жестом изобразив удар, а после прижав руки к груди, она ясно дала понять, что убийство совершено ею. Начальник отряда велел увести ее отдельно, а Орио усадили в гондолу и отвезли в казематы Дворца дожей. Все слуги палаццо Соранцо также были арестованы, дворец заперли и охрану его поручили уполномоченным властей. Менее чем через час это богатое, пышное жилище стояло уже пустым, безмолвным и мрачным. Был ли Орио вполне в своем уме, когда он первым обвинил Наам и сочинил рассказанную им басню? Нет, конечно! Орио — надо это прямо сказать — был конченный человек. У него еще хватило дерзости в потребности лгать, но хитрость его сводилась к лицемерию, а изобретательность — к наглости. Однако, сказав Наам, что в Венеции можно все устроить, если иметь деньги, он был недалек от истины. В эту эпоху коррупции и упадка грозный Совет Десяти уже в значительной мере утратил свою фанатичную суровость, оставалась лишь торжественная и мрачная оболочка. И хотя народ еще содрогался при одной мысли а том, что, может быть, придется предстать перед этими беспощадными судьями, узникам случалось возвращаться на волю по мосту Вздохов. Поэтому Орио тешился надеждой если и не доказать самым блистательным образом свою невиновность, то хотя бы так запутать дело, чтобы не оказалось никакой возможности доказать его причастность к убийству Эдзелино. В конце концов, убийство это оказывалось даже спасительным: все обвинения, которые Эдзелино мог предъявить Орио, исчезали, и оставалось лишь одно, которое, может быть, удалось бы все-таки отвести. Если Наам будет твердо стоять на том, что она одна ответственна за убийство, как тогда доказать соучастие Орио? Но Орио слишком поторопился обвинить Наам. Ему следовало начать с предупреждения и остерегаться проницательности и гордости этой неукротимой души. Он, правда, понимал, какую огромную ошибку допустил, поддавшись только что порыву неблагодарности и ненависти. Но как поправить дело? Его тотчас же посадили под замок и, разумеется, лишили какой бы то ни было возможности общаться с него. Сам того не подозревая, Орио совершил еще другую, гораздо более серьезную ошибку, впоследствии вы увидите — какую. Ожидая исхода этого крайне неприятного дела, Орио решил установить, насколько будет возможно, связь с Наам,попросил разрешения повидаться с друзьями, но в этом ему отказали. Тогда он заявил, что болен, и потребовал своего врача. Через несколько часов в его камеру ввели Барболамо. Хитрый доктор изобразил крайнее изумление, увидев своего богатого и изнеженного пациента на убогом тюремном ложе. Орио объяснил ему происшедшее с ним злоключение, рассказав то же, что он рассказывал агентам Совета Десяти… Барболамо сделал вид, что верит ему, и любезно предложил Орио свою бескорыстную помощь. Орио же в первую очередь нужно было, чтобы врач достал для него денег. Вооружившись этим волшебным талисманом, он надеялся подкупить тюремщиков, если не для того, чтобы совершить побег, то по крайней мере для установления хоть какой-то связи с Наам, которую он считал отныне для себя замком свода: устоит — будет стоять и все здание, рухнет — и всему конец. Проявляя исключительную любезность, доктор передал свой довольно туго набитый кошель в распоряжение Орио. Но тот тщетно пытался подкупить стражей — ему не удалось повидаться с Наам. Несколько дней Орио провел в величайшей тревоге, и к судьям его тоже ни разу не вызвали. Единственное, чего он добился, — это возможности переслать Наам кое-что из пищевых припасов поизысканнее и кое-какую одежду. Доктор очень охотно согласился сделать это и принес ему весточку от его печальной подруги. Он сообщил Орио, что нашел ее спокойной как обычно, больной, но ни на что не жалующейся и даже словно не замечающей, что ее лихорадит. Наам отказывалась от каких бы то ни было посланий и не пыталась как-то оправдаться перед судом. Казалось, она если и не желает смерти, то, во всяком случае, ждет ее со стоическим равнодушием. Эти подробности немного успокоили Соранцо, и надежды его оживились. Доктор был весьма поражен той переменой, которую произвели в нем неожиданно нагрянувшие беды. Это был уже не желчный сновидец, преследуемый зловещими призраками и беспрерывно жалующийся на томительность и тягостность существования. Теперь перед ним находился азартный игрок, который проиграв партию, вооружается уже даже не ловкостью, а неусыпным вниманием и решимостью. Легко было заметить, что у игрока не осталось почти никаких ходов и что его упорство ни к чему не приведет. Но оказалось вдруг, что ставка, которую он якобы так презирал, обрела исключительную ценность для него только в роковой момент. Все опасения Орио осуществлялись на деле, и Барболамо получил доказательство того, что человеку этому неизвестны угрызения совести: он перестал бояться призраков, как только ему пришлось иметь дело с живыми противниками. Ум его занят был отныне только соображениями о том, как избежать возмездия; в смертельной опасности он примирился с самим собой. Наконец, на десятый день ареста, Орио вывели из его камеры и привели в полуподвальный зал Дворца дожей, где его ожидали следователи. Прежде всего Орио обвел глазами помещение — не находится ли здесь Наам? Ее не было. У Орио появилась надежда. С одним из судейских чиновников беседовал доктор Барболамо. Орио крайне изумился тому, что врач замешан в это дело, и к удивлению прибавилось сильное беспокойство, когда он увидел, что Барболамо усадили, проявляя к нему величайшее уважение, словно от него ждали очень важных показаний. Орио, со своим обычным презрением к людям, стал в страхе припоминать, был ли он достаточно тороват с врачом, не оскорбил ли его в припадке вспыльчивости, и у него возросло опасение, что, пожалуй, он недостаточно щедро оплачивал его услуги. Но, в конце концов, какое зло мог причинить ему этот человек, которому он никогда не открывал тайников своей души? Допрос начался таким образом: — Мессер Пьер Орио Соранцо, патриций и гражданин Венеции, старший офицер вооруженных сил республики и член Великого совета, вы обвиняетесь в соучастии в убийстве, совершенном шестнадцатого июня тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года. Что вы можете сказать в свою защиту? — Что мне неизвестны точные обстоятельства и подробности этого убийства, — ответил Орио, — и что я даже не понимаю, в какого рода сообщничестве могу быть обвинен. — Вы по-прежнему держитесь заявления, сделанного вами чинам, которые вас арестовали? — Да, держусь. Я его полностью и решительно подтверждаю. — Господин доктор наук, профессор Стефано Барболамо, соблаговолите прослушать протокольную запись данных вами в тот же день показаний и сказать нам, подтверждаете ли вы их. Затем прочитан был нижеследующий протокол. «16 июня 1687 года около двух часов пополуночи Стефано Барболамо возвращался к себе домой, проведя ночь у изголовья своих пациентов. С порога своего дома, находящегося на противоположном берегу Малого канала омывающего палаццо Меммо, он увидел как раз напротив себя бегущего человека, который наклонился, словно хотел спрятаться за парапет, в том месте, где перила кончаются у площадки для причала. Подозревая, что у этого человека могут быть какие-либо злодейские замыслы, доктор задержался на пороге своего дома и, глядя из-за полуоткрытой двери, чтобы не быть замеченным, увидел другого человека, который словно искал первого и неосторожно спустился ступеньки на две вниз к причалу. Тотчас же спрятавшийся бросился на него и нанес ему удар сбоку. Доктор слышал лишь один крик. Он бросился к парапету, но жертва уже исчезла. Только волнение еще не улеглось в том месте, куда упало тело. На берегу стоял лишь один человек, явно намеревавшийся встретить своего врага, если бы тот всплыл, ударами кинжала. Но тот был заколот насмерть: он не появился. Хладнокровие и смелость убийцы, который, вместо того чтобы бежать, занимался обмыванием залитых кровью ступенек, настолько удивили доктора, что он решил пойти за ним и понаблюдать. Скрытый за углом стены, он мог видеть все его движения, сам оставаясь незамеченным. Он двинулся вдоль домов набережной, а убийца между тем шел по противоположному берегу канала. У доктора было то преимущество, что он находился в тени и мог идти незамеченным, в то время как вынырнувшая из-за облаков луна ярко освещала преступника. Именно тогда, будучи отделен только сужающимся руслом канала, доктор узнал облик юного мусульманина, который уже в течение года состоит на службе у мессера Орио Соранцо. Этот юноша шел не торопясь и время от времени оборачивался, чтобы узнать, не следят ли за ним. Тогда доктор также останавливался. Затем он увидел, как тот свернул в переулок. Тогда доктор побежал до ближайшего моста и, убыстряя шаг, вскоре нагнал Наама, однако все время оставался на должном расстоянии. Он шел за юношей, петляя почти целый час, пока не увидел, что тот возвратился в палаццо Соранцо. Удостоверившись, таким образом, что он не ошибся насчет личности преступника, доктор тотчас же отправился сделать заявление в полицию и оттуда вернулся прямо к себе, в то время как полицейские чины приступили к аресту мессера Орио и его слуги. На набережной доктор обнаружил нескольких человек, которые с озабоченным видом сновали туда и сюда, явно кого-то ища. Один из них подошел к нему и, сразу узнав его, так как уже рассветало, учтиво спросил, не заметил ли он по дороге чего-либо необычного — человека, пытавшегося скрыться, или потасовки в том квартале, где он проходил. Но доктор вместо ответа отступил в изумлении и едва не упал навзничь, увидав перед собой призрак человека, которого он уже целый год считал погибшим и которого горестно оплакивала осиротевшая семья. — Не удивляйтесь и не пугайтесь, любезный доктор, — сказал призрак, — я ваш верный пациент и старый друг, граф Эрмолао Эдзелино, о котором вы, может быть, по доброте душевной несколько сожалели и который, словно чудом, выпутался из целого клубка весьма необычайных бедственный приключений…» Когда читавший показания врача дошел до этого момента, Орио сжал под плащом кулаки. Его глаза встретились с глазами доктора, и в них он прочел немного жестокую иронию порядочного человека, которому удалось перехитрить негодяя. Чтение продолжалось. «Граф Эдзелино сказал тогда доктору, что они еще повидаются на досуге и он поведает ему о своих приключениях, но сейчас он просит извинения: он обеспокоен другим делом, и ему нужна помощь доктора для выяснения некого странного обстоятельства. Молодой человек, которого, судя по одежде, он принял за арабского невольника мессера Орио Соранцо, явился играть на лютне под окном синьоры Арджирии и словно бросал вызов хозяину дома, не обращая внимания на то, что тот и словами и жестами приказывал ему отойти и играть где-нибудь в другом месте. Раздраженный, граф Эдзелино выбежал из дома и стал его преследовать, но, заметив, что оружия он с собой не захватил, а музыкант мог завлечь его в какую-нибудь ловушку (тем более что у графа имелось достаточно оснований опасаться подвоха со стороны мессера Соранцо), он опять вернулся в дом за шпагой. В тот миг, когда он переступал порог дворца, навстречу ему попался его верный слуга Даниэли, встревоженный всей этой историей и вышедший на помощь хозяину. Даниэли бросился за музыкантом, а граф зашел в оружейный зал и взял со стены старую шпагу — первое, что ему попалось под руку. На несколько минут его задержала испуганная сестра, в страхе за него сбежавшая вниз по лестнице. Он не без труда вырвался из ее рук и, удивленный отсутствием Даниэли, побежал в том же направлении. Видя, что улица пустынна и безмолвна, он свернул налево и некоторое время безуспешно бежал вперед и звал слугу. Под конец он вернулся обратно, к тому времени проснулись другие слуги, и все вместе они принялись искать Даниэли. Один из слуг уверял, что слышал слабый крик и всплеск воды, словно что-то тяжелое упало в канал. Именно из-за этого он проснулся и встал, хотя понятия не имел о случившемся. Как ни старались граф и его слуги, верного Даниэли им найти не удалось. На ступеньках причала они обнаружили следы плохо смытой крови, что их крайне встревожило. Доктор рассказал, что он видел. Тогда принесли щуп и стали искать в канале вдоль берега, но через несколько часов тело Даниэли всплыло у противоположного берега». «Выходит, — подумал Орио, снедаемый молчаливой яростью, — Наам ошиблась, и я сам себя выдал, заявив полиции, что удар предназначался Эдзелино». Доктор подтвердил свои показания, и в зал ввели Эдзелино. — Синьор граф, — обратился к нему следователь, — вы заявили нам, что имеете сообщить много весьма важного о поведении мессера Орио Соранцо. Это по вашему желанию вам устраивается с ним очная ставка в нашем присутствии. Соблаговолите высказаться. — Прошу извинения и минутной отсрочки, — сказал Эдзелино. — Я жду свидетеля, вызвать которого мне разрешил Совет Десяти; в его присутствии должны быть записаны мои показания. Графу Эдзелино подали кресло, и несколько мгновений прошли в глубоком молчании. Каким ударом по самолюбию Соранцо должно было быть то, что ему пришлось стоять в присутствии своего врага, сидевшего в кресле среди бесстрастных судей, и в ожидании какого-то нового, на этот раз неотвратимого удара! Терзаемый тайной тревогой, он решил обрести выход в дерзости: — Я полагал, что увижу здесь своего слугу Наама, или, вернее, Наам, ибо речь идет о женщине. Нельзя ли и ее вызвать на очную ставку, чтобы мне помогли ее искренние показания? Ответа на этот вопрос не последовало. Орио почувствовал, что в жилах его застывает кровь. Тем не менее он повторил свою просьбу Тогда прозвучал медленный, четкий голос следователя: — Мессер Орио Соранцо, вашей милости следовало бы знать, что вам не подобает задавать нам какие бы то ни было вопросы, а нам не подобает на них отвечать. В этом деле соблюдены будут все должные формы со всей независимостью и беспристрастностью, свойственными действиям верховного правительственного органа. В этот момент мессер Барболамо подошел к графу и шепнул ему что-то на ухо. Взгляды их одновременно обратились на Орио; взгляд графа полон был полнейшего равнодушия, являющегося предельным выражением презрения, во взгляде доктора сквозило страстное возмущение, переходившее в безжалостную насмешку. Грудь Орио словно грызли тысячи змей. Пробили часы — медленным, ровным, вибрирующим звоном. Орио не постигал, как может совершаться обычное течение времени. Кровь в его жилах стучала неровно, прерывисто, словно нарушая тем самым привычную последовательность мгновений, в которой осуществляется и измеряется течение времени. Наконец ввели ожидавшегося свидетеля; это был адмирал Морозини. Входя, он обнажил голову, но никому не поклонился и заговорил так: — Собрание, вызвавшее меня предстать перед ним разрешит мне не приветствовать ни одного из его членов до тех пор, пока я не узнаю, кто здесь обвинитель, кто обвиняемый, кто судья, кто преступник. Мне неизвестна суть данного дела, или, точнее, я узнал ее через народную молву, то есть путем неясным и нередко ошибочным. Поэтому я не знаю, чего заслуживает с моей стороны присутствующий здесь мой племянник Орио Соранцо — сочувствия или порицания, и воздержусь от всяких внешних проявлений уважения или неодобрения к кому бы то ни было. Я подожду, пока все не станет мне ясным и истина не продиктует мне должного поведения. Сказав это, Морозини сел в предложенное ему кресло, и заговорил, в свою очередь, Эдзелино. — Благородный Морозини, — сказал он, — я просил, чтобы вас вызвали в качестве свидетеля моих слов и судьи моих поступков по делу, в котором мне очень трудно примирить свой гражданский долг в отношении нашей республики со своими дружескими чувствами к вам. Беру в свидетели небо (я бы обратился и к свидетельству Орио Соранцо, если бы к нему можно было обращаться!), что я прежде всего хотел объясниться лично перед вами. Как только я возвратился в Венецию, я решил довериться вашей мудрости и вашей любви к родине больше, чем своей личной совести, и действовать согласно вашему решению. Орио Соранцо не захотел этого и вынудил меня потащить его на скамью подсудимых, предназначенную для гнусных злодеев. Он заставил меня сменить избранную мною роль человека осторожного и великодушного на другую, ужасную — роль обвинителя перед трибуналом, чьи суровые приговоры не дают уже обвинителю вернуться к состраданию и не оставляют обвиняемому никаких возможностей для раскаяния. Мне неизвестно, в качестве кого и согласно каким юридическим формам должен я преследовать этого преступника. Я жду, чтобы отцы государства, его наиболее могущественные вельможи и его самый славный воин сказали мне, чего они от меня ждут. Что до меня лично, то я знаю, что обязан сделать: я должен сообщить суду все мне известное. Я хотел бы, чтобы этот мой долг мог быть выполнен на данном заседании, ибо когда я думаю о суровости наших законов, то не чувствую себя способным долго выдерживать роль неумолимого обвинителя и хотел бы иметь возможность, раскрыв преступление, смягчить кару, которую навлеку на виновного. — Граф Эдзелино, — произнес следователь, — какова бы ни была строгость нашего решения, как ни сурова кара, налагаемая за некоторые преступления, вы должны сказать всю правду, и мы рассчитываем, что вы с должным мужеством выполните суровую миссию, которой ныне облечены. — Граф Эдзелино, — сказал Франческо Морозини, — как ни горька может быть для меня истина, как ни жесток может быть для меня удар, который поразит человека, бывшего моим родичем и другом, ваш долг перед отечеством и перед самим собой сказать всю правду. — Граф Эдзелино, — молвил Орио с надменностью, в которой, однако сквозила растерянность, — как ни опасно для меня ваше предубеждение и в каких бы преступлениях я ни казался повинен, я требую, чтобы вы сказали здесь всю правду. Эдзелино ответил Орио лишь презрительным взглядом. Он низко поклонился судье и еще ниже склонился перед Морозини. А затем снова заговорил. — Итак, ныне мне суждено выдать на суд и расправу республики одного из ее самых дерзновенных врагов. Знаменитый главарь миссолунгский пиратов, тот, кого прозвали ускоком, с кем я выдержал рукопашную схватку и по чьему приказу весь мой экипаж был вырезан, а корабль потоплен при выходе из района островов Курцолари в открытое море, этот беспощадный разбойник, разоривший и повергший в траур столько семей, находится здесь, перед вами. Я не только имею в этом полную уверенность, ибо узнал его, как узнаю в эту самую минуту, но и собрал тому все возможные доказательства. Ускок — не кто иной, как Орио Соранцо. И граф Эдзелино рассказал уверенно и ясно все, что случилось с ним, начиная со встречи с ускоком у северной оконечности Острова Курцолари и кончая входом его корабля из этих отмелей на следующий день. Он не опустил ни одного обстоятельства, связанного с посещением замка Сан-Сильвио, — ни раненой руки губернатора, ни обнаруженных им признаков сообщничества между губернатором и комендантом Леонцио. Эдзелино рассказал обо всем, что с ним произошло после решающей битвы с пиратами. Он заявил, что Соранцо не принимал участия в этом сражении, но что старый Гусейн и многие другие, которых он видел накануне на баркасе ускока, действовали по его приказу и пользовались его покровительством. Здесь мы в нескольких словах перескажем, каким чудом Эдзелино избежал стольких опасностей. Изнемогая от усталости и потери крови, хлеставшей из полученной им раны, он был отнесен в трюм на тартане албанского еврея. Там один из пиратов уже хотел отрубить ему голову, но албанец остановил его, и, разговаривая с этим человеком на своем родном языке, к счастью понятном Эдзелино, он воспротивился убийству, заявив, что этот пленник — благородный венецианский синьор и что если ему сохранить жизнь, то за него можно будет получить от его семьи хороший выкуп. — Так-то оно так, — сказал пират, — но вы ведь знаете, что губернатор пригрозил Гусейну своим гневом, если тот не принесет ему головы этого начальника. Гусейн дал слово и не захочет взять на себя охрану пленника. Затеять такое дело — большой риск. — Никакого риска не будет, — возразил еврей, — если быть осторожным и не проболтаться. Я готов поделиться с тобой выкупом. Возьми только и разорви куртку этого венецианца, и мы отнесем ее губернатору Сан-Сильвио. Охраняй здесь пленника и никого не пускай. А ночью мы его усадим в лодку, и ты свезешь его в надежное место. Сделка была заключена. Оба эти человека раздели Эдзелино, и еврей весьма искусно и заботливо перевязал его рану. На следующую ночь его перевезли на один из самых дальних островов архипелага Курцолари, населенный только рыбаками и контрабандистами, которые охотно предоставили убежище своему союзнику пирату и его пленнику. Несколько дней провел Эдзелино на этом острове, где за ним очень внимательно ухаживали. Когда он оказался вне опасности, его перевезли еще дальше, и наконец, пережив много тяжелых и трудных дней, он очутился на одном из островов Эгейского архипелага, который стал главной квартирой пиратов, после того как Мочениго прибыл в Лепантский залив. Там Эдзелино снова встретился с Гусейном и всей прочей бандой и около года жил у них на положении раба, упорно отказываясь платить за себя выкуп и слать в Венецию какие бы то ни было вести о себе. Когда графа спросили о причинах столь странного поведения, его благородный ответ глубоко тронул Морозини и доктора. — Семья моя небогата, — сказал он. — К тому же я окончательно разорился, когда на островах Курцолари погиб весь мой экипаж и галера. Выкуп за меня поглотил бы скудное приданое моей юной сестры и весьма скромные средства тетки. Обе эти великодушные женщины с радостью отдали бы все, что имели, только бы освободить меня, и ненасытный еврей, не веря, что при громком имени можно иметь столь ничтожное состояние, обчистил бы их до последнего гроша. К счастью, он толком не расслышал моего имени, и вдобавок мне удалось убедить его, что он ошибся и что я вовсе не тот, кого они хотели спасти от ненависти Соранцо. Я даже пытался уверить его, что я родом не из Венеции, а из Генуи, и пока он тщетно предпринимал розыски моей семьи и родины, я раздумывал, как бы мне бежать от них и обрести свободу без выкупа. После многих напрасных попыток, связанных с бесчисленными опасностями и неудачами, в подробности которых сейчас вдаваться незачем, мне наконец удалось бежать и добраться до побережья Мореи, где я получил от венецианских гарнизонов помощь и защиту. Однако я не открыл своего настоящего имени, а выдал себя за унтер-офицера, взятого в плен турками во время последнего похода. Я хотел обвинить предателя Соранцо в совершенных им преступлениях, но хорошо понимал, что если до него дойдет весть о моем спасении и побеге из плена, он, несомненно, скроется и избежит таким образом и моей мести и возмездия со стороны законов нашего отечества. Итак, в довольно жалком состоянии добрался я до западного берега Мореи и за скромную сумму денег, которую несколько соотечественников великодушно дали мне в долг под залог одного лишь честного слова, смог сесть на корабль, отправлявшийся на Корфу. Это небольшое торговое судно, принявшее меня на борт, было вынуждено сделать остановку в Кефалонии, и капитан решил задержаться там на неделю по своим делам. Тогда у меня возникла мысль посетить острова Курцолари, окончательно очищенные от пиратов и избавленные от своего пагубного губернатора. Простите мне, благородный Морозини, грустные помыслы, которые я должен высказать, чтобы объяснить эту мою причуду. На островах Курцолари видел я в последний раз одну особу, чья невинная и достойная всяческого уважения дружба дала мне в юные годы много радостей и много страданий, равно священных для моей памяти. Я ощутил горестную потребность вновь увидеть эти места, свидетелей ее длительной агонии и трагической гибели. Я не нашел ничего, кроме груды камней там, где пережил столь глубокие чувства, а те чувства, которые теперь пришли им на смену, были так ужасны, что я сам не знаю, как они не свели меня с ума. Несколько часов бродил я среди этих развалин, словно надеялся найти хоть какие-то следы правды. Ибо, должен в этом признаться, с того дня, как мне стало известно о пожаре на Сан-Сальвио и о несчастье, вызванном этим событием, в голове моей зародились подозрения, еще более ужасные, если только это возможно, чем уже имеющаяся у меня уверенность в преступлениях Орио Соранцо. Итак, я безо всякой определенной цели карабкался по грудам почерневших камней, как вдруг увидел, что навстречу мне по тропинке, ведущей со скалы, где ютились лишь козлы да аисты, идет старый пастух с собакой и стадом овец. Старик, удивленный тем, что я так упорно обследую эти развалины, наблюдал за мной с кротким доброжелательным видом Сперва я почти не обратил на него внимания. Но, бросив взгляд на собаку, невольно вскричал от изумления и тотчас же поманил к себе, назвав ее по имени. Услышав кличку Сириус, белый борзой пес, так привязавшийся к вашей несчастной племяннице, подбежал, прихрамывая, и стал ласкаться ко мне с каким-то грустным видом. Из-за этого у меня и завязался разговор с пастухом. «Значит, вы знаете этого бедного пса? — спросил он меня. — Вы, наверное, из тех, что прибыли сюда с командиром эскадры Мочениго? Просто чудо, как этот Сириус уцелел, не правда ли, синьор офицер?» Я попросил его объясниться. Он рассказал мне, что на другой день после пожара в замке, когда рано утром он из любопытства подошел к развалинам, ему послышался какой-то заглушенный вой, словно доносившийся из-под нагромождения камней. Ему удалось расчистить каменную груду, и он высвободил бедного пса из дыры, случайно образовавшейся, когда обрушились стены и башни, засыпав собаку, но не раздавив ее. Животное еще дышало, но одна лапа его попала под большой камень и сломалась. Пастух приподнял камень, унес с собой борзого, лечил его, и тот поправился. Старик признался мне, что прятал собаку, так как боялся, чтобы ее не отняли у него люди с венецианских кораблей. А он очень привязался к псу. «И не так уж из-за него самого, как в память его хозяйки, — добавил он. — Она была такая добрая и красивая и часто оказывала мне помощь в моей нищете. Никак не избавиться мне от мысли, что погибла она не от несчастного случая, а от чьей-то злой воли! Но, пожалуй, — добавил еще старый пастух, — не очень-то благоразумно для старика говорить о таких вещах даже теперь, когда на острове нет гарнизона, замок разрушен и берега пустынны». — Однако говорить об этом необходимо, — каким-то изменившимся голосом произнес Морозини; он был так взволнован своими мыслями, что прервал рассказ Эдзелино. — Но необходимо говорить не просто на ветер, лишь по подозрению, ибо это еще серьезнее и еще гнуснее, если только такое возможно, чем все прочее. — Надо полагать, — вмешался следователь, — что у графа Эдзелино имеются доказательства в поддержку всего им сказанного. Пусть он продолжает свой рассказ, не смущаясь никакими замечаниями, от кого бы они ни исходили. Эдзелино подавил вздох. — Я взял на себя, — сказал он, — очень трудную задачу Когда правосудие не в силах исправить совершенное зло, дело его полно горечи и для того, кто его отправляет, и для того, кому оно оказывается. Тем не менее я доведу свой рассказ и исполню свой долг до конца. Я засыпал старого пастуха расспросами, и он рассказал мне, что когда синьора Соранцо жила в Сан-Сильвио, он видел ее довольно часто. На склоне горы у него был клочок земли, на котором он выращивал цветы и плоды. Он относил их синьоре, получая за это щедрое вознаграждение. Он видел, что она тает на глазах, и не сомневался, судя по разговорам замковых слуг, что супруг ее относится к ней с ненавистью или, во всяком случае, с пренебрежением. В день, предшествующий пожару старик опять приходил к ней; она выглядела лучше, но была очень возбуждена. «Послушай, — сказала она старику, — этот ларчик ты снеси лейтенанту Медзани» И она взяла со стола бронзовую шкатулочку и почти что сунула ее ему в руки. Но затем тотчас же взяла обратно и, словно переменив намерение, сказала «Нет, может быть, за это тебе пришлось бы поплатиться жизнью. Не надо. Я найду какой-нибудь другой способ». И она отпустила его, поручив ему только пойти и передать лейтенанту, чтобы он без промедления пришел к ней. Старик выполнил поручение. Он не знал, явился ли лейтенант к синьоре Джованне по ее приказу. На следующий день пожар уничтожил башню, а Джованна Морозини погибла под ее развалинами. Эдзелино умолк. — Это все, что вы можете сообщить, синьор граф? — спросил следователь. — Все. — Можете ли вы предъявить доказательства? — Я пришел сюда, не похваляясь тем, что могу предъявить доказательства истины. Я хотел только изложить правду, какова оно есть, какова она во мне. Уверившись в преступлениях Орио Соранцо, я вовсе не собирался привлечь его к суду этого трибунала. Возвратившись в Венецию, я хотел только изгнать его из моего дома, из моей семьи и передать его судьбу в руки адмирала. Вы потребовали, чтобы я рассказал то, что знаю, — я это сделал. Я готов клятвенно подтвердить это перед всеми и против кого угодно. Орио Соранцо может утверждать противное, он вполне способен присягнуть в том, что я солгал. Ваша же совесть рассудит и ваша мудрость решит, кто из нас двоих, я или он, обманщик и подлец. — Граф Эдзелино, — сказал Морозини, — Совет Десяти оценит ваши показания, как найдет нужным. Что касается меня, то я не могу быть судьей в этом деле, и как ни мучительны мои личные впечатления, я сумею воздержаться от их высказывания, раз обвиняемый находится в руках правосудия. Однако я должен действовать в некотором смысле как его защитник до тех пор, пока вы не сможете лишить меня мужества это делать. Вы высказали и другое обвинение, о котором мне даже тягостно напоминать, столько оно возбуждает во мне горьких воспоминаний и горестных чувств. Несмотря на то, что вы только что сказали, я должен спросить вас, имеете ли вы хоть какое-нибудь доказательство злодеяния, жертвой которого якобы пала моя несчастная племянница? — Прошу позволения ответить благородному Морозини, — сказал Стефано Барболамо, вставая, — ибо это моя обязанность. Это по моему совету и настоянию, более того — под мою гарантию, граф Эдзелино рассказал то, что узнал от старого пастуха с Курцолари. Разумеется, вне связи со всем прочим это мало что доказывает, но дальнейшее следствие установит, что обстоятельства эти весьма важны. Я прошу, чтобы в протоколе занесено было все изложенное графом Эдзелино и чтобы допрос свидетелей продолжался. Судья сделал знак, и одна из дверей открылась. Лицо, которое должны были ввести, несколько замешкалось. Когда же оно появилось, Орио внезапно сел, — он не мог устоять на ногах. Это была Наам. Доктор с величайшим вниманием смотрел на Орио. — Поскольку ваши превосходительства переходят к допросу третьего свидетеля обвинения, — сказал Барболамо, — я прошу дать мне возможность сообщить суду об одном недавно имевшем место обстоятельстве, которое, несомненно, распутает весь клубок этого дела. Именно из-за этого обстоятельства и я стал в течение последних нескольких дней противником обвиняемого. — Говорите, — сказал судья. — Заседание это посвящено установлению обстоятельств дела, и мы призываем всех давать любые показания. — Позавчера, — сказал Барболамо, — мессер Орио Соранцо, к которому, равно как и к его сообщнице, я в течение ряда дней допускался в качестве врача, заявил мне о своем глубочайшем отвращении к жизни и умолял меня достать ему яда, для того чтобы — так он говорил — он мог избежать медленной казни, во всяком случае не подобающей патрицию, если ложь и ненависть восторжествуют над правом и истиной. Не будучи в состоянии избавиться от его навязчивых просьб, но и не считая себя вправе вырвать обвиняемого из рук правосудия, я достал, ему немного сонного порошка и уверил его, что небольшой щепотки достаточно, чтобы освободить его от жизни. Он меня горячо благодарил и обещал не покушаться на самоубийство до того, как трибунал вынесет свой приговор. Вечером меня вызвал начальник тюрьмы, чтобы я оказал помощь арабской девушке, сообщнице Орио. Тюремщик, войдя в ее камеру через несколько часов после того, как он принес ей пищу, нашел ее погруженной в беспамятство, и возникло опасение, что она отравилась. Действительно, я убедился, что она спит, находясь под явным воздействием снотворного. Я осмотрел остатки пищи и нашел в чашке с питьем следы порошка, данного мной мессеру Соранцо. Я разузнал, что именно ей дают, и тюремщик сообщил мне, что мессер Соранцо ежедневно посылает Наам различные припасы получше тех, что даются в тюрьме, между прочим напиток из меда и лимонного сока, который она всегда употребляла. Я сам с разрешения начальника тюрьмы согласился из-за болезненного состояния заключенной доставлять ей припасы, смягчающие тюремный режим. Остаток напитка я отнес аптекарю, у которого купил порошок; он произвел анализ и убедился, что это то же самое снадобье. Я расследовал также обстоятельства, при которых Наам получила от своего господина этот напиток, и пришел к выводу, что мессер Орио Соранцо, опасаясь, видимо, каких-либо невыгодных для него разоблачений со стороны своей невольницы, решил ее отравить и для этой цели использовал меня. За это, должен сказать, я ему весьма благодарен, ибо недоверие и антипатия, которые у меня к нему возникли в тот же день, когда я имел честь с ним познакомиться, наконец-то оправдались и совесть моя уже не находится в разладе с внутренним чутьем. Я не стану, впрочем, оправдываться перед мессером Орио в той враждебности, которую со вчерашнего дня испытываю к нему в этом деле. Безразлично, что он обо мне думает. Но в ваших глазах, благородный и почтенный синьор Морозини, я не хотел бы прослыть человеком, преследующим побежденных и бьющим лежачего. Если сейчас я выступаю в роли, совершенно противной моим вкусам и привычкам, то лишь потому, что едва не оказался сообщником нового преступления мессера Соранцо и что уж если надо выбирать между положением борца за правду, то я все же предпочту второе. — Все это, — вскричал Орио, весь дрожа и несколько растерявшись, — сеть гнусной лжи, сплетенной графом Эдзелино с целью погубить меня! Если бы эта бедная девушка, — добавил он, указывая на Наам, — могла понимать все, что говорится вокруг нее и о ней, если бы она могла на это ответить, она бы оправдала меня во всем, что мне приписывается. И хотя она запятнала себя преступлением, я все же решился бы призвать ее в свидетели… — Вы можете это сделать, — сказал судья. Тогда Орио обратился к Наам по-арабски, заклиная ее снять с него своими показаниями все обвинения. Но она молчала, даже не повернув к нему головы. Казалось, она его даже не слышит. — Наам, — сказал судья, — сейчас вас подвергнут допросу. Захотите ли вы на этот раз отвечать или вы действительно не в состоянии это сделать? — Она не может, — вмешался Орио, — ни ответить на обращенные к ней слова, ни даже понять их. Здесь, кажется, нет переводчика, и если вы, милостивые синьоры, позволите, я ей передам… — Не стоит трудиться, Орио, — произнесла Наам твердым голосом и на довольно внятном венецианском диалекте. — Видно, ты довольно прост, невзирая на всю свою ловкость, если можешь думать, что, прожив целый год в Венеции, я не научилась понимать язык, на котором здесь говорят, и сама на нем объясняться. У меня были свои причины скрывать это от тебя, у тебя были свои — для того, чтобы поступать со мной, как ты поступал. Послушай, Орио, мне надо многое тебе сказать — и сказать перед другими людьми, раз ты сам сделал небезопасными наши беседы наедине, раз твоя подозрительность, неблагодарность и злость разбили надгробный камень могилы, где я погребла себя заживо вместе с тобой. Наам была настолько слаба, что ей разрешили говорить сидя, и она откинулась на спинку деревянной скамьи неподалеку от места, где сидел Орио. Головой она небрежно опиралась о верхнюю часть руки и, обращаясь к Орио, слегка обернулась к нему, так что говорила с ним, так сказать, через плечо, но не пожелала повернуться к нему совсем или хотя бы взглянуть на него. В ее позе и манере говорить было столько презрения, что Орио ощутил, как отчаяние овладевает им, и у него явилось искушение встать и объявить себя виновным в каких угодно преступлениях, только бы поскорее покончить со всеми этими унижениями. Наам продолжала свою речь с каким-то ужасающим спокойствием. Ее глаза, ввалившиеся от лихорадки, временами, казалось, заволакиваются, словно она еще не совсем очнулась от летаргии. Но усилием воли она тотчас же взбадривала себя, и за этим упадком сил следовали вспышки какого-то мрачного пламени. — Орио, — говорила она, не меняя позы, — я тебя крепко любила и одно время считала таким великим человеком, что убила бы родного отца и братьев, чтобы тебя спасти. Еще вчера, несмотря на все зло, что ты творил у меня на глазах и что я сама творила ради тебя, даже самые беспощадные судьи, даже самые жадные до крови и пыток палачи не смогли бы вырвать у меня ни единого слова, способного тебе повредить. Я тебя уже не чтила, не уважала, но еще любила и, во всяком случае, жалела, и раз уж мне суждено было умереть, я вовсе не хотела тащить тебя за собой в могилу. А сегодня все совсем по-другому, сегодня у меня нет к тебе ничего, кроме ненависти и презрения, ты сам знаешь почему. Аллах велит мне сделать так, чтобы ты понес кару. Ты ее понесешь, и у меня даже жалости к тебе не будет. Ради тебя я убила своего первого господина, патрасского пашу. Тогда я первый раз пролила кровь. На один миг мне показалось, что грудь моя разорвется и голова расколется. С тех пор ты нередко упрекал меня в подлости и свирепости. Пусть это обвинение падет на твою голову! Тогда я спасла тебя от смерти и потом не раз еще спасала. Когда ты сражался против своих соплеменников во главе пиратов, я заслонила тебя своим телом. Да и впоследствии бывало, что моя окровавленная грудь принимала на себя удары, предназначенные ускоку. Как-то вечером ты сказал: «Мои сообщники мешают мне. Я погибну, если ты не поможешь мне уничтожить их». Я ответила. «Так уничтожим их». Было два смелых матроса, которые столько раз мчали тебя в бурю по волнам и каждую ночь доставляли к порогу твоего замка с такой верностью, ловкостью и так незаметно, что их перехвалить и вознаградить-то по-настоящему было нельзя. Ты мне сказал: «Убьем их», и мы их убили. Были Медзани, Леонцио и Фремио-ренегат; они делили с тобой твои опасные дела, хотели поделить и богатую добычу. Ты мне сказал: «Отравим их», и мы их отравили. Были слуги, солдаты, женщины, которые могли разобраться в твоих замыслах и расспросить о них мертвецов. Ты мне сказал: «Запугаем и рассеем всех, спящих под этой крышей», и мы подожгли замок. Я принимала участие во всем этом, но душа моя содрогалась, ибо для женщин проливать кровь — это мерзость. Я выросла в солнечной стране, среди мирных пастухов, и жестокая жизнь, к которой ты меня принудил, так же мало походила на обычаи моего детства, как твоя голая, исхлестанная ветрами скала — на зеленые долины и ароматные деревья моей родины. Но я убеждала себя, что ты воин и князь и что все позволено тем, кто управляет людьми и ведет с ними войну. Я говорила себе, что аллах велит им жить на высокой крутой скале, куда они могут взобраться только по трупам и где им не удержаться надолго, если они не станут сбрасывать в пропасть тех, кто пытается до них дотянуться. Я говорила себе, что опасность облагораживает убийство и грабеж и что, в конце концов, ты так часто подвергал опасности свою жизнь, что завоевал себе право распоряжаться жизнью своих рабов после победы. Наконец, я старалась находить великими или же хотя бы законными все твои веления; и так было бы всегда, если бы ты не убил свою жену. У тебя была жена — прекрасная, целомудренная и покорная. По красоте своей она достойна была разделять ложе султана, верностью заслуживала твою любовь, а кротостью — доброжелательство и уважение, которые я к ней питала. Ты мне сказал: «Я спасу ее от пожара. Я прежде всего пойду за нею, на руках своих вынесу из замка и доставлю на свой корабль». И я тебе поверила, мне и в голову не приходило, что ты способен на то, чтобы оставить ее во власти огня. Однако, не довольствуясь тем, что ты предал ее пламени, и, видимо, опасаясь, чтобы я не устремилась ей на помощь, ты вошел к ней и поразил ее ударом кинжала. Я видела ее, всю залитую кровью, и я сказала себе: человек, нападающий на сильных, велик, ибо он храбр; человек, способный раздавить слабого, достоин презрения, ибо он трус. Я оплакивала твою жену и над телом ее поклялась, что в тот день, когда ты вздумаешь обойтись со мною как с ней, смерть ее будет отомщена. Однако я видела, что ты страдаешь. Я поверила твоим слезам и простила тебя. Я последовала за тобой в Венецию, я была тебе верна и предана, как собака — тому, кто ее кормит, как конь — тому, кто его взнуздал. Я спала на полу, на пороге твоей комнаты, как пантера у входа в пещеру, где ютится ее потомство. Я никогда ни с единым словом не обращалась к кому-либо, кроме тебя. Я никогда не издала ни единой жалобы и даже взглядом ни разу тебя не упрекнула. У себя во дворце ты собирал своих сотоварищей по распутству, ты окружал себя одалисками и плясуньями. Я сама подавала им угощение на золотых блюдах и наполняла их кубки вином, которое закон Мухаммеда запрещал мне подносить к своим губам. Я принимала все, что тебе нравилось, все, что представлялось тебе необходимым и приятным. Не для меня существует такое чувство, как ревность. Впрочем, мне казалось, что, переменив одежду, я переменила и свой пол. Я считала себя твоим братом, сыном, другом и была счастлива — только бы ты относился ко мне доверчиво и дружелюбно. Ты захотел жениться вторично и напрасно скрыл это от меня. Я уже знала ваш язык, хоть ты и считал, что мне никогда ему не научиться. Я знала все, что ты делал. Я никогда не воспрепятствовала бы твоему намерению. Я бы любила и уважала твою жену, служила бы ей, как законной своей госпоже, ибо про нее говорили, что она такая же красивая, целомудренная и кроткая, какой была первая. А если бы она оказалась коварной, если бы она пренебрегла своим долгом, затеяв против тебя заговор, я помогла бы тебе умертвить ее. А ты боялся меня и свою новую любовь окружал оскорбительной для меня тайной. Но я только наблюдала, ни слова тебе не говоря. Твой враг возвратился. До того я видела его только один раз, у меня не могло быть к нему ни любви, ни ненависти. Но я скорее всего склонна была бы уважать его за храбрость и его несчастья. Однако он вынужден был прогнать тебя от своей сестры, обвинить тебя и хотел погубить, а я поэтому вынуждена была избавить тебя от него. Ты велел мне найти какого-нибудь bravo [481], чтобы его убить. Я же могла довериться только себе, и я попыталась сделать это сама. Я нанесла удар слуге вместо хозяина, но это был такой удар, на какой ты-то сейчас уже не способен, ибо совсем раскис и ослабел и постыдно дрожишь за свою жизнь. Вместо признательности за это новое преступление, которое я совершила ради тебя, ты оскорблял меня бранными словами и даже поднял на меня руку. Еще мгновение — и я убила бы тебя. Мой кинжал к тому времени еще не остыл. Но после того, как первый порыв гнева прошел, я сказала себе, что ты человек слабый, истасканный, растерявшийся от страха смерти. Мне стало жаль тебя, и, зная, что мне все равно грозит смерть, потеряв всякую надежду и всякое желание жить, я не стала тебя обвинять. Меня пытали, Орио! А ты так этого боялся, потому что думал, что пыткой у меня вырвут правду. А я не сказала ни слова. И в награду за это ты вчера пытался меня отравить. Вот почему я сегодня говорю. Я все сказала. С этими словами Наам встала, бросила на Орио один лишь взгляд — но он был как сталь — и затем обратилась к судьям: — Вы же теперь дайте мне скорую смерть. Это все, чего я прошу. Воцарилось ледяное молчание, казавшееся одним из установлений этого страшного трибунала; его нарушал только один звук — то стучали от страха зубы Соранцо. Морозини сделал над собой величайшее усилие, чтобы выйти из оцепенения, в которое поверг его этот рассказ, и обратился к доктору: — Есть ли у этой девушки какие-нибудь доказательства убийства моей племянницы? — Знакомо ли вашей милости вот это? — сказал доктор, подавая адмиралу бронзовый ларчик художественной работы, на котором выгравированы были имя и герб Морозини. — Я сам подарил его племяннице, — произнес адмирал. — Замок сломан. — Это я его сломала, — молвила Наам, — так же как и печать письма, которое находилось в шкатулке. — Значит, вам поручено было передать его Медзани? — Да, ей, — ответил доктор. — Она оставила его у себя, ибо, с одной стороны, знала, чтоМедзани предаст республику и не постоит за интересы синьоры Джованны, а с другой — подозревала, что в ларчике находится нечто такое, что может погубить Соранцо. Она спрятала этот залог, считая, что впоследствии вернет его синьоре Джованне. Та же всецело доверяла Наам и, несомненно, думала, что письмо это до вас дойдет Наам и передала бы его вам, если бы не опасалась повредить Соранцо. Но она сохранила шкатулочку, как драгоценное воспоминание о сопернице, которую любила. Она не расставалась с ней и лишь вчера вечером, убедившись, что Орио пытался ее отравить, сорвала печать с письма и, прочитав его, передала мне. Адмирал захотел прочесть письмо. Но судья потребовал чтобы, его вручили сперва ему, на что он имел право в силу своих неограниченных полномочий. Морозини подчинился, ибо во всем венецианском государстве не было такой властной и всеми чтимой головы, которая не склонялась бы перед Советом Десяти. Судья ознакомился с письмом, а затем отдал его Морозини. Тот сперва прочел его про себя, а затем стал читать вторично уже вслух, сказав, что делает это для того, чтобы воздать должное чести Эдзелино и показать, что полностью отрекается от Орио. В письме говорилось: «Дорогой дядя, или, вернее, возлюбленный мой отец, боюсь, что нам уже не свидеться на этом свете. Вокруг меня строятся зловещие планы, мне грозят погибельные намерения, внушенные ненавистью. Я сделала ужасную ошибку, приехав сюда без вашего ведома и согласия, и, может, быть, понесу за это слишком суровую кару. Но что бы ни случилось и какие бы слухи обо мне ни распространились, знайте, что у меня нет ни перед кем даже малейшей вины, и эта мысль дает мне мужество презирать все угрозы и спокойно принять нависшую надо мной смерть. Может быть, уже через несколько часов меня не будет в живых. Не проливайте слез. Я даже слишком долго жила. Если бы мне удалось выбраться из этого гибельного положения, то лишь для того, чтобы отречься от мира в каком-нибудь монастыре, как можно дальше от супруга, ибо он позор для всего общества, враг своей страны, одним словом — ускок! Да избавит вас бог от необходимости прибавить к этому, когда вы кончите читать письмо: «и убийца вашей злосчастной дочери Джованны Морозини, которая до последней минуты будет любить и благословлять вас как отца». Закончив чтение письма, Морозини встал и отнес его на стол, за которым сидели судьи. Затем он низко поклонился им и пошел к выходу. — Берете ли вы на себя, милостивый синьор, защиту племянника вашего Орио Соранцо? — спросил председатель. — Нет, мессер, — суровым тоном ответил Морозини. — Может быть, к сделанным здесь разоблачениям ваша милость пожелает что-нибудь добавить либо в подкрепление обвинений, либо ради их смягчения? — Нет, мессер, — снова ответил Морозини. — Но если мне позволено будет высказать одно личное пожелание, то я обращаюсь к судьям с мольбой о снисхождении к этой девушке, которую незнание истинной веры и варварские нравы ее племени толкнули на преступления, противные ее благородному сердцу. Председатель ничего не ответил. Он поклонился военачальнику, который обернулся к графу Эдзелино и крепко пожал ему руку. Так же попрощался он с доктором, а затем быстро вышел, даже взгляда не бросив на племянника. В тот миг, когда перед ним открывали дверь, любимый пес Эдзелино, нетерпеливо дожидавшийся хозяина, ворвался в зал несмотря на стражу, пытавшуюся его отогнать. Это был большой борзой пес, ковылявший на трех ногах. Он устремился к хозяину, но, пробегая мимо Наам, как будто узнал ее и остановился, чтобы приласкаться к ней. Увидев затем Орио, он бросился на него с бешеной злобой, и только властный призыв Эдзелино помешал ему вцепиться в горло своему прежнему господину. — И ты оставляешь меня, Сириус? — произнес Орио. — И он произносит тебе приговор! — сказала Наам. Председатель сделал знак сбирам, и они увели Орио. За ним закрылась внутренняя дверь Дворца дожей. Он никогда больше не переступал ее порога, и о нем больше никто никогда не слышал. Люди видели на следующее утро, как из тюрьмы вышел монах. Из этого сделали вывод, что ночью кто-то был казнен. На том же заседании Наам была приговорена к смерти. Она выслушала приговор и вернулась в темницу с безразличием, поразившим всех присутствовавших. Доктор и граф Эдзелино удалились, расстроенные ее судьбой, ибо, невзирая на убийство Даниэли, они не могли не восхищаться мужеством девушки, не сочувствовать ей. Наам, так же как и Орио, не появлялась больше в Венеции. Тем не менее уверяют, что вынесенный ей приговор не был приведен в исполнение. Один из членов трибунала, пораженный ее красотой, диким величием ее души и неукротимой гордостью, загорелся к ней пламенной, почти безрассудной страстью. Говорят, что он поставил на карту свое положение, свою репутацию, свою жизнь ради того, чтобы спасти ее. Если верить слухам, он спустился ночью в ее камеру и предложил сохранить ей жизнь при условии, если она согласится стать его любовницей и провести всю жизнь, скрываясь в его имении в окрестностях Венеции. Сперва Наам отказалась. Но ее неизлечимое отчаяние, ее глубочайшее презрение к жизни только разожгли страсть этого человека. И поистине Наам подходило быть любовницей инквизитора! Он так донимал ее, что наконец она сказала: — Лишь одно примирило бы меня с жизнью — надежда увидеть страну, где я родилась. Если ты дашь слово отпустить меня туда через год, я согласна на это время стать твоей рабой. Раз мне надо выбирать между рабством и смертью, я согласна на рабство, с тем чтобы оно было залогом моей свободы в дальнейшем. Договор был заключен. Палач, которому поручено было отвезти Наам в закрытой гондоле к Муранскому каналу, где осужденных бросали в воду, уже собирался надеть ей на голову роковой мешок, когда шесть человек, подплывших на легком челноке, вооруженных до зубов и замаскированных, напали на него и отняли у него жертву. Об этом событии пошло много разговоров. Многие думали даже, что Орио спасся и вместе со своей сообщницей бежал за границу. Другие предполагали, что Морозини, тронутый привязанностью Наам к его племяннице, дал ей возможность избежать карающей десницы правосудия. Настоящей истины так и не узнали. Однако утверждают, что через год в имении судьи стали твориться весьма странные вещи. Там появился какой-то призрак, нагонявший ужас на всю окрестность. У судьи, видимо, происходили с этим существом жестокие споры, — люди слышали его умоляющий голос и угрожающие речи призрака: — Раз ты не хочешь сдержать свое слово, то лучше убей меня, так как я пойду и отдамся в руки правосудия. Мое обещание выполнено, теперь твоя очередь. Местные кумушки сделали из этого вывод, что грозный судья заключил договор с самим чертом. В дело, несомненно, вмешалась бы инквизиция, если бы внезапно весь шум не прекратился и в имении не воцарилось снова спокойствие.
Как-то, лет через пять после всех этих событий, кучка добропорядочных горожан попивала кофе в палатке, разбитой на набережной деи Скьявони. Они заметили, как патрицианская семья, прогуливавшаяся вдоль набережной, села в свою гондолу пониже кофейни и лодка медленно отплыла. — Бедная синьора Эдзелини! — произнес один из горожан, следя глазами за удаляющейся гондолой. — Она еще очень бледна, но вид у нее вполне разумный. — Она совсем выздоровела! — отозвался другой горожанин. — Почтенный доктор Барболамо, всюду ее сопровождающий, такой умелый врач и такой преданный друг! — Она и впрямь сходила с ума? — спросил третий. — Да, но в безумии была кроткой и печальной. Потеря, а затем внезапное возвращение брата, графа Эдзелино, так потрясли ее, что она долго не хотела верить, что он живой человек: она принимала его за привидение и, едва завидев, обращалась в бегство. Когда его не было, она плакала о нем; когда он появлялся, боялась. — Да нет, не в этом была настоящая причина ее болезни, — сказал второй горожанин. — Разве вы не знаете, что она должна была выйти замуж за Орио Соранцо как раз тогда, когда он исчез вон там? И с этими словами венецианский гражданин многозначительным жестом указал в сторону канала, ведущего к тюрьме, в двух шагах от палатки. — И вот тому доказательство, — вмешался еще один собеседник, — в своем безумии она наряжалась во все белое, а вместо свадебного букета прикалывала к корсажу засохшую лавровую ветку. — Что же это означало? — спросил первый. — Что означало? Сейчас объясню. Первая жена Орио Соранцо была влюблена в графа Эдзелино. Она подарила ему веточку лавра и сказала: когда женщина, которую полюбит Соранцо, станет носит этот букет, Соранцо умрет. Предсказание и оправдалось. Эдзелино отдал букет сестре, и Соранцо исчез, словно в воздухе растворился, как многие другие. — И чтобы дож ни слова не сказал, не побеспокоился о племяннике! Никак я этого не пойму! — Дож? Дож в то время был всего-навсего адмиралом Морозини; да и что такое дож перед Советом Десяти? — Клянусь мощами святого Марка! — вскричал один достойный негоциант, который еще ничего не говорил. — Все, что вы тут рассказываете, напомнило мне об одной удивительной встрече, которую я имел в прошлом году, когда путешествовал по Йемену. Закупив в самой Мокке нужный мне запас кофе, я решил побывать в Мекке и в Медине. Когда я прибыл в Медину, там как раз хоронили одного молодого человека, которого все считали святым и о котором передавали всякие чудеса. Никто не знал ни имени его, ни откуда он родом. Он говорил, что он араб, и похоже было на то. Но, наверное, он много лет прожил вдали от родины, ибо у него не было ни друзей, ни семьи, которым бы он мог или пожелал открыться. Он казался совсем юношей, хотя по мужеству своему и жизненному опыту был явно старше. Он жил в полном одиночестве, бродил все время по горам, а в городах появлялся только для того, чтобы творить благочестивые деяния и совершать паломничества к святыням. Говорил он мало, но речи вел мудрые. Он, видимо, совсем утратил интерес ко всему земному, радовался и печалился лишь чужой радостью и горем. Он со знанием дела ухаживал за больными, и хотя он не был щедр на советы, те, что он все же давал, всегда приносили пользу, словно глас божий говорил его устами. Его только что нашли умершим, — он лежал, распростершись перед гробницей пророка. Тело перенесли к мечети и положили на пороге. Священники и все набожные люди читали кругом него молитвы и курили ладаном. Проходя мимо катафалка я бросил на него взгляд. Каково же было мое удивление, когда я узнал… Угадайте, кого? — Орио Соранцо! — вскричали все присутствующие. — Да нет же, я ведь говорю о юноше! Это был ни более ни менее, как тот красивый паж по имени Наам — помните? — тот, что всюду и везде ходил за мессером Орио Соранцо, в такой богатой и странной одежде. — Подумать только! — сказал первый горожанин. — А ведь злые языки только и делали, что болтали, будто это женщина!
КОММЕНТАРИИ
Зиму 1837-1838 года Жорж Санд проводит в Ноане. Деревенское уединение благоприятствует усиленной творческой работе, от которой писательницу не могут отвлечь домашние хлопоты и неурядицы. В январе она приступает к новому роману — «Ускок», замысел которого у нее уже давно созревал. Работа спорится, и два месяца спустя Жорж Санд отсылает рукопись издателю журнала «Ревю де де монд». 15 мая 1838 года в этом журнале была напечатана первая часть «Ускока», за которой вскоре последовали три остальные. В том же году роман вышел отдельным изданием. Деление на части в нем было уничтожено, однако текст не подвергся авторской правке. Сохранялся он неизменным и во всех последующих изданиях. По замыслу автора «Ускок» должен был входить в серию венецианских повестей, рассказываемых в одном дружеском кружке. Однако с другими повестями серии — «Маттеа» (1835), «Последняя Альдини» (1837), «Мозаичисты» (1837), «Орко» (1838) — «Ускока» объединяют лишь общие действующие лица пролога. Действие «Ускока» происходит в конце XVII века в Венеции и на островах Ионического архипелага. Необходимые для исторического и местного колорита сведения писательница заимствовала из восьмитомной «Истории Венецианской республики» П.Дарю. Пригодились и личные впечатления, вынесенные из поездки в Венецию в 1834 году. Однако основным «источником» произведения явились восточные поэмы Байрона, особенно «Лара» и «Корсар» (1814). В прологе автор заявляет о своем намерении рассказать историю Корсара в прозе, более соответствующую исторической правде, чем поэтические выдумки Байрона. Однако Жорж Санд менее всего придает значение фактической достоверности происшествий, о которых повествуется в литературном произведении, свободно обращается с хронологией, путает годы и даже столетия, так как видит свою задачу не в восстановлении подлинных событий венецианской истории, а в борьбе с обаянием аморализма, в котором, по ее мнению, в значительной степени был повинен Байрон. Творчество Байрона неизменно восхищало Жорж Санд и в ранний период ее литературной деятельности оказало на нее сильнейшее влияние. Однако в конце 30-х годов Жорж Санд пришла к мысли, что воздействие Байрона на общественное сознание и нравы, социальный эффект творчества гениального английского поэта были отрицательными. Силою своего поэтического дара Байрон сделал порок если и не привлекательным, то, во всяком случае, интересным, и в этом, по мнению Жорж Санд, была его величайшая художественная ошибка. Поэтому Жорж Санд хочет пойти вслед за Байроном, чтобы «объяснить» в своем романе то, о чем «умолчал» английский поэт. Она стремится развенчать, «дегероизировать» байронического героя, показать глубину нравственного падения, в которую толкнули его эгоизм и отсутствие твердых моральных устоев. Несмотря на очевидную морализаторскую тенденцию, «Ускок», как почти все произведения Жорж Санд тех лет, навлек на нее обвинения в безнравственности, шедшие из враждебного прогрессивной и демократической литературе лагеря. Однако у читателя, свободного от предубеждений и мыслящего не столь догматично и упрощенно, «Ускок» неизменно пользовался успехом. В год смерти французской писательницы (1876) Ф.М.Достоевский вспоминал, какое удивительное впечатление произвел на него, юношу, этот роман, который был первым прочитанным им произведением Жорж Санд. «Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть „Ускок“, — одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке всю ночь» Особенно пленили Достоевского «целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого, сдержанного тона рассказа». В русском сокращенном переводе «Ускок» появился в 1838 году в «Библиотеке для чтения», хотя и относившейся в то время к Жорж Санд крайне неприязненно. С тех пор роман не переиздавался. В настоящем переводе исправлены некоторые наиболее очевидные неточности и анахронизмы, что, впрочем, всякий раз оговорено в комментариях. …воевал на стороне греков… — Байрон участвовал в войне греческих патриотов против турецкого владычества в 1823-1824 годах. История Фрозины. — В примечаниях к «Гяуру» Байрон сообщает, что сюжет поэмы был ему подсказан судьбою одной красавицы из Янины, Фрозины, якобы утопленной местным пашой по навету. Керкирец — уроженец Керкиры (иное название острова и города Корфу). …в эпоху морейских войн. — Мореей назывался прежде полуостров Пелопоннес. Венецианская республика, стремившаяся овладеть ключевыми позициями в Адриатическом и Средиземном морях, на протяжении многих веков оспаривала у Оттоманской Порты господство над Мореей и вела у ее берегов кровопролитные войны. В конце XVII века ей удалось завладеть Мореей, но уже в начале следующего столетия Морея вновь была захвачена турками. Эдзелино да Романо — древний род синьоров Веронских и Падуанских. Ренегат — христианин, перешедший в иную веру. Конрад — герой поэмы Байрона «Корсар». …император австрийский… в Венеции проводит в жизнь все папские запреты… — В 1815-1866 годах Венеция входила в состав Австрийской империи. …можно не опасаться, что мой рассказ станет там известен… — Предсказание писательницы сбылось, и роман «Ускок» декретом от 30 марта 1841 года действительно был включен в индекс запрещенных книг. В конце семнадцатого столетия… — В подлиннике XV век. Исправляем явную описку Жорж Санд. Маркантонио Джустиньяни был вождем Венецианской республики в 1683-1688 годах. Иеремия. — Согласно библейской легенде пророк Иеремия предсказал разрушение Иерусалима и гибель иудейского царства. Франческо Морозини (1618-1694) — один из крупнейших флотоводцев своего времени, генералиссимус венецианского флота. После смерти Джустиньяни (1688) стал вождем Венецианской республики. Совет Десяти — тайный совет, имевший неограниченное право контроля над всей государственной и частной жизнью в Венецианской республике. …началась подготовка к возобновлению военных действий. — Речь идет об очередной морской экспедиции в Морею. ..отличившись при осаде Корона. — Корон, крепость на юге Пелопоннеса (на современных картах Корони), был взят венецианскими войсками еще в начале 1685 года. Лелантский залив — в настоящее время Коринфский залив. Штразольд — австрийский военачальник на службе у Венецианской республики, командовавший операциями на суше во время морейской кампании 1684-1687 годов. Острова Курцолари — прежнее название островов Эхинадес в Ионическом море. Эголия — область на северо-западном побережье Балканского полуострова. Кефалония (на некоторых картах Кефаллиния) — самый большой из Ионических островов. Патрас — старое название города Патры (Патра, Патре). Вы знаете конец этого приключения. — Имеются в виду II и III песни поэмы Байрона «Корсар» Мессения — область на юго-западе Пелопоннеса. Зонте — итальянское название Закинфа, одного из Ионических островов. «Святой Марк! Вперед!» Венецианцы считают святого Марка покровителем своего города. Битва при Лепанто. — При Лепанто (в настоящее время Нафпактос) 7 октября 1571 года объединенный флот коалиции, включавший Испанию, Венецианскую республику и Папское государство, под командованием дона Хуана Австрийского (1547-1578) нанес сокрушительный удар турецкому морскому могуществу. Там был генералиссимус Веньеро, который в свои семьдесят шесть лет совершал чудеса храбрости… — На самом деле Себастьяно Веньеро (1502-1578), командовавшему венецианским флотом в битве при Лепанто, в то время было шестьдесят девять лет. Проведитор — правитель, назначавшийся Венецианской республикой в завоеванные провинции. Брагадино Маркантонио (1523-1571) — военачальник, командовавший обороной венецианской крепости Фамагуста на острове Кипр, сдавшейся туркам после длительной осады 1 августа 1571 года. Явившись для переговоров в лагерь турецкого военачальника паши Мустафы, Брагадино был схвачен, подвергнут пыткам и казнен. …в мифе о рождении Венеры скрыт глубокий смысл. — Согласно греческому мифу богиня красоты Афродита (у римлян Венера) родилась из морской пены. …войн, которые республика вела при Маркантонио Меммо и Джованни Бембо. — Маркантонио Меммо был дожем Венецианской республики в 1612-1616 годах, Джованни Бембо — в 1616-1618 годах. При них совершено несколько военных экспедиций против ускоков далматинского побережья Адриатики. Галиот — легкое парусно-весельное судно типа галеры. Каик — небольшая весельная лодка. Тартана — легкое парусное судно. Маниот, или майнот — житель области Майна (Мани) в южной части Мореи. Мандора — музыкальный инструмент, напоминающий лютню. Фиаки — иное название острова Итака. Пьомби — тюрьма в Венеции, расположенная во Дворце дожей под крышей, крытой листовым свинцом (отсюда ее название piombi — свинцовые листы). Пребывание в ней было особенно мучительно из-за сильной жары летом и холода зимой. Авраил — у мусульман ангел смерти. Акрокероний — доктор, один из собеседников кружка, в котором рассказывается «Ускок». ..T'was midnight — all was slumber… — См. Байрон, «Лара» песнь первая, строфа XII. …не мешай мне бросить еще несколько пригоршней этих «дожей»… — На золотых монетах Венецианской республики, цехинах, чеканилось изображение дожа, преклонившего колена перед святым Марком. …ночные дела во Дворце дожей? — В резиденции венецианских дожей помещались суд и инквизиция. …водрузил свое победоносное знамя над Пиреем. — Пирей был взят венецианским флотом в 1687 году. Териак — лекарственное средство сложного состава, в старину считалось, что оно излечивает от всех болезней. Кассия — лекарственное растение. Слово магнетизм еще не было придумано. — В XVIII веке «животным магнетизмом» назывались гипноз и внушение. Врач, практикующий гипноз, назывался магнетизером. …слова Ж.-Ж.Руссо… — О своем посещении венецианского приюта (а не монастыря, как пишет Жорж Санд) Руссо рассказал в седьмой книге «Исповеди». Георба — струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. Эреб. — В древнегреческой мифологии — мрак преисподней. Сбиры — полицейские в итальянских государствах. …возвращаться на волю по мосту Вздохов. — Мост Вздохов соединял Дворец дожей, в котором заседал Совет Десяти, с венецианской тюрьмой, где также совершались и казни. По этому мосту осужденного вели на казнь или в тюрьму, из которой, при состоянии правосудия в ту эпоху, у него было мало надежд когда-либо выйти на свободу. С моста Вздохов осужденный мог бросить последний взгляд на Венецию. Великий совет — законодательный орган Венецианской республики. Шестнадцатого июня тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года. — В оригинале 1686 год. Исправляем явную ошибку Жорж Санд. …чтобы дож… не побеспокоился о племяннике! — Франческо Морозили стал дожем Венеции в 1688 году.Жорж Санд Франсиа
Переводчик выражает благодарность Г. Попко за помощь в работе над книгой
Часть первая
В четверг 31 марта 1814 года парижане наблюдали проезд необычного кортежа. Царь Александр, сопровождаемый королем Пруссии и посланником австрийского императора князем Шварценбергом, в окружении блестящего штаба и эскорта из 50 тысяч гвардейцев медленно ехал верхом по предместью Сен-Мартен. Внешне царь был спокоен. Он играл важную роль великодушного победителя, и играл ее хорошо. Его свита была великолепна, солдаты величественны. Толпа хранила молчание. Это происходило на следующий день после героической битвы последних легионов Империи[482], когда отважных французов отдали на милость победителя, унизительную для них. Все было потеряно, когда народ, не доверяя ему, лишили оружия, отказали в праве и средствах самому себя защищать. Поэтому молчание было для него единственным протестом, скорбь — единственной славой. По крайней мере эта скорбь останется в памяти свидетелей событий. На фланге блестящего царского эскорта молодой русский офицер замечательно красивой наружности с трудом сдерживал свою горячую лошадь. Это был высокий, стройный человек, туго затянутый в талии офицерским ремнем, золотые кисти которого касались его бедер, как у загадочных фигур, изображенных на персидских барельефах периода заката; возможно, лишь любитель древности узнал бы в чертах и одежде молодого офицера почти неуловимый восточный колорит. Он принадлежал к одному из тех южных народов, которые в результате войн или добровольно вошли в состав Российской империи. У него был прекрасный профиль, выразительные глаза, полные чувственные губы, великолепно развитые мускулы, скрытые под элегантным военным мундиром. Цивилизация смягчила его облик, однако в нем сохранилось что-то странное и завораживающее, что привлекало и останавливало взгляды, поначалу обращенные только на царя. Лошадь молодого офицера, донельзя раздраженная медлительностью шествия и не понимающая, как вести себя в данных обстоятельствах, стремилась победоносно ворваться в поверженный город и растоптать его в своем диком галопе. Вот почему всадник, опасаясь нарушить строй и вызвать этим недовольство командиров, сдерживал ее с усилием, которое поглощало все его внимание и не позволяло ему заметить недружелюбный, а порой открыто враждебный прием населения. Царь, внимательно и недоверчиво наблюдавший за всем, не заблуждался на сей счет, и ему не вполне удалось скрыть свои опасения. Толпа уплотнилась настолько, что стоило ей чуть сильнее сжать победителей (один из них сказал об этом царю), как они были бы раздавлены, даже не успев воспользоваться оружием. Это совсем не входило в замысел главного триумфатора. Он хотел вступить в Париж как ангел-хранитель народов, то есть как глава европейской коалиции. Царь наивно полагал, что подготовил все для этой великой и жестокой комедии. Малейшее волнение публики могло испортить сценарий задуманного им спектакля. Это волнение едва не вспыхнуло из-за оплошности молодого всадника, вкратце описанного нами. В ту минуту, когда его лошадь, казалось, начала успокаиваться, молодая девушка, влекомая людским потоком или любопытством, нарушила стройные ряды национальных гвардейцев[483], молчаливо и скорбно поддерживавших порядок. Быть может, легкое прикосновение ее голубой шали или белого платья напугало строптивую лошадь, и она взвилась на дыбы; высоко поднятое копыто внезапно опустилось на плечо парижанки. Та пошатнулась, но, к счастью, не упала в толпе жителей предместья. Была ли она ранена или только испугана? Устав не позволял молодому русскому остановиться ни на мгновение и посмотреть, что с девушкой; сопровождая всемогущего императора, он не посмел нарушить торжественность процессии. И все же офицер оглянулся и проводил долгим взглядом группу взволнованных людей, оставшихся позади него. Гризетку, а это могла быть только она[484], подняли множество крепких рук и в одно мгновение перенесли в находящийся поблизости кабачок. Толпа тотчас заполнила пустоту, образовавшуюся после происшествия. Послышались гневные восклицания, и достаточно было одного ответного слова из рядов чужеземцев, как возмущение распространилось бы с молниеносной быстротой. Царь, с рассеянной и одновременно суровой улыбкой наблюдавший за всем, не сделал ни одного движения, чтобы сдержать свои когорты; его намерения были известны. Казалось, никто из окружения царя не заметил выражение угрозы, появившееся на лицах. Несколько бессвязных проклятий, несколько энергично поднятых кулаков остались позади. Офицер, невольно вызвавший эту неурядицу, тешил себя надеждой, что ни царь, ни один из его генералов ничего не заметили, но у русского правительства есть глаза и на затылке. Все обратили на это внимание: царь должен был узнать о проступке молодого ветреника, имевшего неосторожность выбрать для этого триумфального дня самую красивую и самую своенравную из верховых лошадей. Кроме того, ему доложили, что лицо молодого человека выразило сожаление и печаль, чего ему по неопытности не удалось скрыть. Однако они обманулись. Выбор непокорной лошади сочли заслуживающим наказания, открыто проявленное сочувствие — частью чувствительной комедии, призванной растрогать парижан. Таким образом, к непродолжительному замешательству в рядах своего эскорта царь отнесся довольно спокойно. По мере приближения к богатым кварталам воцарялось взаимное согласие, чужестранец вздохнул наконец свободно; затем внезапно все объединились — не без неловкости, но и без угрызений совести. Сторонники короля сбросили маски и устремились в объятия победителя. Волнение распространилось в массах. Здесь не думали о Бурбонах[485], им еще не доверяли, их не знали, но любили Александра, и бессердечных женщин, бросавшихся к его ногам, не останавливали и не оскорбляли национальные гвардейцы, грустно взиравшие на все и полагавшие, что чужестранцев благодарят просто за то, что они не разрушили Париж. Находя подобную благодарность ребяческой и преувеличенной, они не замечали того, что, выражая безрассудную радость, эти люди словно рукоплещут падению Франции. Молодой русский офицер, чуть не испортивший представление этой грустной комедии, где столько актеров были просто статистами, ибо не знали слов пьесы, напрасно пытался осознать то, что наблюдал в Париже, — он, который видел сожженную Москву и все понял! Благодаря полученному им военному воспитанию и беспокойному времени, на которое пришлась его молодость, офицер приобрел рассудительность. Недостаток его философских воззрений восполнялся тонкой проницательностью, присущей его расе, и недоверчивостью, свойственной его среде. Он видел тогда и вновь увидел теперь две крайности патриотического чувства: богатую торговую Москву сожгли из-за ненависти к чужеземцам-французам; эта дикая, но возвышенная самоотверженность ужаснула и восхитила его. Затем блестящий и великолепный Париж пожертвовал честью во имя человечества, поскольку видел свой долг в спасении любой ценой цивилизации, оплотом которой он являлся. Этот русский, сам бывший во многих отношениях дикарем, считал себя вправе глубоко презирать Париж и Францию. Он не догадывался, что Москва не сама себя разрушила, ибо у народов-рабов не спрашивают совета; они героичны поневоле и потому не имеют основания гордиться своими жертвами. Офицер не подозревал и о том, что с парижанами так же мало советовались о сдаче Парижа, как с москвичами о сожжении Москвы; не знал, что французы лишь относительно свободны, что их судьбами играли верхи и парижане были тогда столь же героичны, как и в наши дни[486]. Чужеземец, пришедший с берегов Танаиса[487], не более самих французов постигал тайны истории. Во время происшествия с его лошадью он понял жителя парижского предместья. Прочитал разгадку на его озабоченном лице, в его гневных глазах. Он сказал себе: этот народ предали, быть может, продали! Вместе с тем наблюдая постыдную симпатию, выказанную врагу знатью, офицер пришел в недоумение. Он говорил себе: эти люди трусливы. Вместо того чтобы потакать им, нашему царю следовало бы презирать их. Тогда гуманные и великодушные чувства были подавлены и словно обесценены в его сердце видом небывалой низости, а сам он оказался во власти диких пьянящих инстинктов. Мурзакин решил, что этот город безумен, его жители легкомысленны и развращены, а женщины, предлагавшие себя и неотступно следовавшие за колесницей победителя, лишь прекрасные трофеи. Охваченный необузданным желанием, с горящим взором, трепещущими ноздрями и надменным сердцем, он въехал в Париж. Царь, с напускной скромностью отказавшийся занять Тюильри[488], отправился на Елисейские поля, чтобы произвести смотр своей великолепной гвардии, разыграв до конца спектакль, предназначенный для алчущих зрелищ парижан, после чего намеревался расположиться в Елисейском дворце[489]. В этот момент он должен был уладить два совершенно различных по важности дела. Одно касалось полученного во время смотра сообщения о том, что Елисейский дворец не безопасен для царя, так как в него заложена бомба. Тотчас отправили курьера к господину Талейрану[490], который любезно предложил свой дворец. Царь согласился, весьма довольный тем, что будет находиться в окружении тех, кто собирался вручить ему судьбу Франции. Затем он взглянул на другое сообщение: оно относилось к молодому князю Мурзакину, провинившемуся в предместье Сен-Мартен. «Пускай поселится где захочет, — сказал государь, — но остается там под арестом в течение трех дней». Вскочив на лошадь, император вместе со своим штабом вернулся на площадь Согласия, откуда пешком отправился к господину Талейрану. Его солдаты получили приказ располагаться на площадях. Жители, с которыми обходились так любезно, с удивлением и восхищением взирали на эти красивых, дисциплинированных военных, завладевших только городскими мостовыми и разместивших там свои походные кухни, ничего более не требуя. Парижский обыватель обрадовался и вообразил, что нашествие русских ему ничем не угрожает. Что касается молодого штабного офицера, не допущенного во дворец, где собирался расположиться император, то он понял, что попал в крайнюю немилость, и искал ее причину, когда его дядя, адъютант государя граф Огоцкий, проходя мимо, тихо сказал: — У тебя есть враги в окружении императора, но не бойся. Он знает и любит тебя. И чтобы уберечь тебя от них, государь велел тебе несколько дней не появляться при дворе. Дай мне знать, где остановишься. — Я еще не знаю, — ответил молодой человек с фатальной покорностью судьбе, — все в руках Божьих! Едва он произнес эти слова, как появился привлекательный всадник и вручил ему записку следующего содержания: «Маркиза де Тьевр с удовольствием напоминает, что по мужу она родня князю Мурзакину, и поручает мне пригласить Вас поселиться в особняке де Тьевров. Я присоединяюсь к ее настойчивой просьбе». Под запиской стояла подпись: «Маркиз де Тьевр». Мурзакин передал записку дяде. Тот с улыбкой вернул ее и пообещал навестить племянника, как только у него появится свободная минута. Сделав знак своему гайдуку, Мурзакин последовал за всадником, который быстро сопроводил их в особняк Тьевров в сен-жерменском предместье. Красивый дом в стиле Людовика XIV, расположенный между двором и таинственным садом, был окружен высокими деревьями; его первый этаж возвышался над парадным подъездом; просторная прихожая, мягкие ковры, богато убранная столовая, очень уютный и с тонким вкусом меблированный салон — вот что мельком заметил Диомид Мурзакин, которого по русскому обычаю называли просто Диомидом, сыном Диомида, Диомидом Диомидовичем. Маркиз де Тьевр вышел к нему навстречу с распростертыми объятиями. Это был непривлекательный человек лет пятидесяти, невысокий, худой, подвижный, с необыкновенно черными глазами и мертвенно-бледным лицом, в парике неправдоподобно черного цвета, в черной облегающей одежде, панталонах и черных чулках и в белоснежном жабо. В его неприметной особе поражал контраст белого и черного: настоящая сорока по оперению, трескотне и резвости. Он говорил много, в самой любезной и предупредительной манере. Мурзакин знал французский язык довольно хорошо и говорил на нем свободнее, чем по-русски, поскольку родился в Малороссии, и ему приходилось прилагать немалые усилия, чтобы исправить свой южный выговор. Однако он не мог понять многословную и торопливую речь своего нового хозяина и, улавливая лишь несколько слов из каждой фразы, отвечал ему несколько невпопад. Мурзакин понял только то, что маркиз старается выяснить степень их родства, называя и страшно коверкая имена и фамилии тех людей, которые во времена французской эмиграции завязали с ним отношения благодаря браку одной из родственниц госпожи де Тьевр. Мурзакин не имел ни малейшего представления об этом союзе и только намеревался чистосердечно признаться в том, что считает это родство весьма отдаленным, как вошла маркиза и приветствовала его менее пространно, но так же любезно, как и ее муж. Маркиза была молода и красива; это быстро рассеяло сомнения русского князя. Он сделал вид, что полностью в курсе дела, и, ничуть не смущаясь, согласился называться кузеном, как желала того маркиза. Она также потребовала, чтобы и Мурзакин называл ее кузиной, что тот сделал не без лукавства. Таким образом их отношения установились в несколько минут. Маркиз проводил Мурзакина в приготовленные для него роскошные апартаменты, где он нашел своего казака, разбиравшего чемодан в ожидании прибытия остального багажа, за которым уже послали. Кроме того, маркиз предоставил в распоряжение Мурзакина преданного слугу: тот, немало путешествуя, запомнил несколько немецких слов и поэтом вообразил, что они с казаком поймут друг друга. От этого наивного заблуждения ему пришлось вскоре отказаться. Полагая, что Мурзакин — влиятельный князь, старый слуга стоял позади него, ловя взглядом каждое его движение и стараясь угадать, чем он может услужить и угодить высокому гостю. По правде говоря, Диомид-варвар очень нуждался в помощи слуги, чтобы понять назначение предметов роскоши и туалета, предоставленных в его распоряжение. Он открыл множество флаконов, недоверчиво отодвигая подальше духи с тонким запахом и пытаясь найти обычный одеколон, который, по его мнению, был признаком хорошего тона. Мурзакин избегал отменно свежих и ароматных кремов и мазей: они казались ему испорченными, поскольку он привык к залежалым запасам своего походного багажа. Наконец, удовлетворившись щеткой и стряхнув пыль с волос и великолепного мундира, Мурзакин вернулся в гостиную. Заметив, что слуга-француз по-прежнему следует за ним, он вспомнил, что хотел просить его об одолжении. Мурзакин начал с того, что спросил его имя, и тот попросту ответил: — Мартен. — Ну хорошо! Мартен, окажите мне любезность, пошлите человека в предместье Сен-Мартен, номер… впрочем, я не знаю; это небольшое кафе, где можно курить… в витрине выставлены бильярдные кии; если едешь по предместью, оно расположено к бульвару ближе других. — Мы найдем его, — с важным видом сказал Мартен. — Да, его нужно найти, — повторил князь. — Кроме того, необходимо справиться об одной особе. Имени ее я не знаю: это молодая девушка лет шестнадцати или семнадцати, одетая в белое с голубым, довольно хорошенькая. — Мартен не сдержал улыбки, значение которой Мурзакин тотчас понял. — Это не каприз. Моя лошадь случайно задела эту девушку, и ее отнесли в кафе. Я хочу узнать, не ранена ли она, и принести ей свои извинения или же оказать помощь, если она в ней нуждается. Князь произнес это самым решительным тоном. Придав лицу серьезное выражение, Мартен отправился исполнять поручение. Господин де Тьевр, поначалу обласканный Империей, вернувшей ему имущество эмигрировавших членов его семьи, под конец стал одним из самых недовольных. Жадный до званий и должностей, он хлопотал о выгодном месте, но так и не получил его, поскольку стремительно развивавшиеся катастрофические события не способствовали этому. Посвященный в замыслы роялистов восстановить королевскую власть, он с готовностью поддержал их и был одним из тех, кто оказал союзникам уже описанный нами прием. Своей жене де Тьевр был обязан счастливой мыслью предложить свой дом первому мало-мальски влиятельному русскому, которого удалось заполучить. Маркиза, гуляя по Елисейским полям, наблюдала парад. Ее поразила великолепная выправка и красивая внешность Мурзакина. Маркиза узнала его имя, и оно оказалось известно ей; у нее действительно была в России замужняя родственница по фамилии Мурзакина, иногда писавшая ей. Она вполне могла оказаться родней молодого князя. Поскольку Мурзакин носил княжеский титул, не было ничего предосудительного в том, чтобы открыто объявить о родстве с ним; к тому же он считался одним из самых красивых мужчин в армии, и предоставить ему гостеприимство было приятно. Двадцатидвухлетняя маркиза была светлой блондинкой, немного полной для приталенных платьев, сшитых по тогдашней моде, но довольно высокой, чтобы сохранять подлинное изящество форм и движений. Она не выносила своего невысокого мужа, однако прекрасно ладила с ним, извлекая из любой ситуации наибольшую выгоду для себя. Ветреная и очень легкомысленная, маркиза соединяла в себе честолюбие, алчность и полнейшую пустоту. Речь не шла о ловких интригах, имеющих целью обеспечить состояние детям, ибо их она не имела, а о старости не хотела и думать. Маркиза желала приятно проводить время, жить на широкую ногу, свободно делать долги, наконец, занять место при каком-нибудь дворе и тем самым обрести возможное выставить напоказ роскошь нарядов и вознести свою красоту на пьедестал. Не отличаясь знатным происхождение, она принесла свою блистательную молодость и значительное состояние в дар малопривлекательному супругу только для того, чтобы ста маркизой. У нее незачем было спрашивать, почему она так дорожила этим титулом, — маркиза и сама не знала. У нее хватало ума для светской беседы, но способностью рассуждать она не могла похвастаться. Всегда на виду, всегда занятая пустыми разговорами и туалетами, маркиза думала лишь о том, чтобы затмить других женщин или по крайней мере быть одной из самых заметных. При таком пристрастии к шуму и блеску было бы удивительным, если бы она не питала страсти ко всему военному. Прошло то время когда маркиза горделиво вальсировала с самыми красивыми офицерами Империи; муж попросил ее держаться подальше от них, что чрезвычайно огорчало маркизу. Вот почему она опьянела от радости, увидев внезапное появление армии союзников с их новыми именами, титулами, плюмажами, галунами; этот восторг был чисто внешним: он не коснулся ни сердца, ни чувства. Маркиза была благоразумна — она никогда не имела любовника, хотя привыкла чувствовать себя влюбленной во всех мужчин, способных нравиться, не отдавая предпочтения ни одному из них, чтобы не связывать себя обязательством любить исключительно его. Маркиза могла бы завести интрижку, потому что иногда эмоции одолевали ее, но она не решалась отдаться своим страстям, а изрядный запас эгоизма оберегал от всего, что могло обременить и скомпрометировать ее. Итак, маркиза приняла Мурзакина с таким же удовольствием, как и с легкомыслием. «Я буду любить князя, я уже люблю его, — сказала она себе в первый же день. — Но это залетная птичка, и опасно слишком сильно полюбить его». Не слишком сильно любить было для маркизы более или менее привычно; в любовных делах она никогда не оказывалась в плену постоянного чувства. Тогдашние французы не были романтиками; они в большей мере, чем думают, несли на себе отпечаток легкомысленных нравов эпохи Директории[491], которые были лишь возвращением к обычаям эпохи Регентства[492]. Жизнь, наполненная авантюрами и победами, прибавила к чувственности нечто грубое и торопливое, что делало мужчину не слишком опасным для осторожной женщины. Во времена больших военных и общественных потрясений не до сильных страстей и продолжительных привязанностей. В ту пору никто не походил на французов меньше, чем русские. Благодаря легкости, с какой они говорилина нашем языке и приспосабливались к нашим обычаям, их называли у нас северными французами, но никогда сходство не было столь отдаленным и столь сомнительным. Они позаимствовали у нас только то, чем мы гордились менее всего, — галантность. Между тем Мурзакин не был вполне русским. Грузин по происхождению, возможно, курд или перс, если углубиться в родословную, москвич по воспитанию, он никогда не бывал в Петербурге и оказался на виду у царя благодаря случайностям войны и протекции своего дяди Огоцкого. Не будь войны, Мурзакин, не имевший состояния, прозябал бы в безвестности и нес тяготы военной службы на азиатских рубежах, если бы не рискнул, как это порой случается в юности, перейти границу, чтобы окунуться в полную героических приключений жизнь своих вольнолюбивых предков; но он отличился в сражении под Москвой и позднее дрался, как лев, на глазах царя. С тех пор Мурзакин принадлежал ему телом и душой. Он был вполне и надлежащим образом окрещен в русские пролитой им французской кровью и навсегда прикован к ярму, которое в России зовется цивилизацией, — к культу абсолютной власти. Надо подняться значительно выше, чем мог это сделать Мурзакин, чтобы с помощью шпаги или яда разделаться с этой властью. Судьба князя не зависела от его личной воли; но какой бы непреклонной и упорной ни была эта воля, она всегда направлена на уничтожение самых слабых, чтобы принадлежать самым сильным. У русских это целая наука жизни, но она несовместима с нашим характером и нашими обычаями. Мы тоже умеем низко кланяться нашим господам; но они удивительно легко нам надоедают, и, когда терпение иссякает, мы жертвуем личными интересами, чтобы вновь обрести себя[493]. Красавец Диомид Мурзакин пользовался успехом у женщин всех сословий и национальностей. Слишком осторожный, чтобы обнаруживать свое фатовство, он хранил его в тайне. Едва увидев прекрасную маркизу, Мурзакин уже не сводил с нее страстного взора, сочтя, что эта добыча по праву принадлежит ему. Князь тотчас понял, что маркиза не любит мужа, что она не ханжа, поскольку напускное благочестие тогда еще не было в моде, что она очень живая, совсем не стыдливая и что он чрезвычайно нравится ей. Таким образом, в первый день Мурзакин не приложил особых усилий, вообразив, что ему достаточно лишь проявить себя — и он добьется успеха. Князь совсем не знал французских кокеток, равно как и того, что под их внешней непринужденностью скрывается твердость. Чувствуя себя смертельно усталым, он искренне желал, чтобы в первую ночь его не беспокоили. Проснувшись на следующий день, Мурзакин с удивлением обнаружил, что никто и ничто не нарушили тишины его комнаты. Первым явился на его звонок услужливый Мартен; не зная, как обратиться к Мурзакину, он на всякий случай назвал его «светлостью». — Я сам исполнил ваше поручение, — сказал он ему. — Взял фиакр, поехал в предместье Сен-Мартен и нашел эсталине. — Эста… Как вы сказали? — Эсталине — это маленькие кафе для простолюдинов, где можно курить и играть на бильярде. — Хорошо, спасибо. И что же дальше? — Я разузнал о несчастном случае. Ничего серьезного. Девушка не пострадала. Ей дали выпить немного ликера, и она поднялась к себе, потому что живет как раз в этом доме. — Вам следовало бы зайти к ней. Это доставило бы мне удовольствие. — Я не преминул это сделать, ваше сиятельство. Поднялся довольно высоко, по ужасной лестнице, и нашел там маленькую гризетку, которая гладила свои наряды. Я сообщил, что князь Мурзакин соблаговолил оказать ей милостивое внимание. — И что она ответила? — Очень странную вещь: «Скажите князю, что я благодарю его и что мне ничего не нужно, но я хотела бы видеть его». — Я охотно навестил бы ее, если бы не находился… Мурзакин собирался сказать об аресте, но счел лишним посвящать Мартена в данное обстоятельство, впрочем, тот и не дал ему на это времени. — Ваше сиятельство! — воскликнул он. — Вам нельзя ехать в эту лачугу, было бы крайне неосмотрительным идти в квартал, населенный беднотой. Ваше сиятельство вовсе не обязано выполнять такую дурацкую просьбу. Что до меня, то я и не ответил на нее. — И все же следует это сделать. — Тут Мурзакина словно осенила внезапная мысль. — Не говорила ли она, что знала меня раньше? — Она именно так и сказала, что знакома с вашим сиятельством. Я посчитал это вздором! Другой слуга явился сообщить князю, что в гостиной его ожидает маркиза, и он с озабоченным видом отправился туда. «Странно, — говорил он себе, проходя через просторные комнаты, — когда эта девушка неосторожно приблизилась к моей лошади и как будто хотела окликнуть меня по имени, ее лицо показалось мне поразительно знакомым. А затем произошел несчастный случай, и я не мог думать ни о чем другом; но сейчас я вновь вижу перед собой ее лицо, и мне кажется, что где-то уже встречал его, оно вызывает во мне даже некоторое волнение…» Мурзакин так ничего и не вспомнил и, войдя в гостиную, в присутствии прекрасной маркизы позабыл обо всем. — Входите, кузен! — воскликнула она. — Сначала расскажите, как вы провели ночь. — Даже слишком хорошо, — с невинным видом ответил князь-варвар, чересчур страстно целуя протянутую ему белоснежную и пухленькую ручку маркизы. — Как можно спать слишком хорошо? — спросила она, устремив на него удивленный взгляд своих голубых глаз. Не поверив ее удивлению, Мурзакин ответил какой-то галантной двусмысленностью, отчего маркиза покраснела до корней волос, но, однако, не растерявшись, уверенно заявила ему: — Кузен, вы очень хорошо говорите по-французски, но, быть может, не улавливаете все нюансы языка. Это скоро придет, вы, иностранцы, такие способные! Но в течение нескольких дней вам следует разговаривать осмотрительно. Советую вам по-дружески, по-родственному. Я ничуть не сержусь, но другая на моем месте сочла бы вас дерзким. Диомид, поняв свою оплошность, кусал губы с досады. Здесь ему понадобится больше времени и усилий. Положение спасли умоляющий взгляд и подавленный вздох. Это было не ахти что, но лицо князя так откровенно выдавало обманутую надежду и настойчивое желание, что мадам де Тьевр разволновалась, и ей недостало мужества продолжить преподнесенный ему урок. Она заговорила с ним о политике. Накануне маркиз до полуночи пытался разузнать новости. Ему удалось попасть во дворец Талейрана; маркиза не сочла нужным упомянуть при этом, что ее муж в числе других не слишком важных персон из числа роялистов расположился в передней, дабы быть в курсе всем новостей, но предположила, будто царь не будет возражать против восстановления прежней династии. Все это совершенно не интересовало Мурзакина. Впрочем, он слышал от своего дяди, что царь ни во что не ставил Бурбонов и вовсе не собирался поддерживать их. Впрочем, не желая оскорблять чувства своей хозяйки, он начал расспрашивать ее о Бурбонах, но она и сама мало что знала о них, настолько неожиданно возникла идея их реставрации. Разговор явно угасал, когда князь вздумал побеседовать с маркизой о французской моде, сделал комплимент ее утреннему туалету и стал расспрашивать об одежде парижан, представляющих различные слои общества. Она была знатоком в этом деле и согласилась просветить его. — В Париже, — сказала маркиза, — нет одежды, предназначенной специально для того или другого класса: всякая женщина, располагающая деньгами на покупку шляпки, носит ее на улице, всякий мужчина, который может позволить себе сапоги и сюртук, вправе надеть их. Вы не всегда сразу отличите слугу от господина — иногда лакей, докладывающий о вас, одет лучше, чем хозяин дома. Следует обращать внимание главным образом на лицо, взгляд, особенно на манеру держаться, чтобы точно определить происхождение или общественное положение человека. Парвеню никогда не приобретет непринужденности и достоинства истинного вельможи, хотя он и разукрашен кружевами и драгоценностями; гризетку, как бы нарядно она ни одевалась, никогда не примут за мещанку, точно так же как последняя останется для нас, великосветских женщин, мещанкой, даже если будет усыпана бриллиантами и одета роскошнее, чем мы. — Очень хорошо, — сказал Мурзакин. — Вижу, тут необходимы такт и чувство меры. Но вы упомянули о гризетках, я знаю это слово из французских романов, повествующих о них. Но что на самом деле представляет собой парижская гризетка? Я долгое время полагал, что так называют девушек, одетых в серое. — Я не знаю происхождения этого слова, — ответила мадам де Тьевр. — Их одежда бы различных цветов; возможно, это название связано с теми чувствами, которые они вызывают[494]. — А! Понимаю! Гризетка! Минутное опьянение! Они не внушают сильных страстей? — Впрочем, я не уверена, порядочные женщины не обязаны знать о созданиях подобного рода. — Тем не менее знание костюма поможет найти выход из затруднительной ситуации; называют ли гризетками всех молодых парижских работниц? — Едва ли. Слово применяют только к тем из них, кто отличается легкостью поведения. Но послушайте! Почему вы так настойчиво расспрашиваете меня? Можно подумать, что вас интересуют те сомнительные удовольствия, которые Париж так щедро предлагает своим гостям? Досада и даже скрытая ревность прозвучали в голосе мадам де Тьевр. Заметив это, Мурзакин поспешил успокоить ее, вкратце рассказав о случившемся с ним накануне происшествии и признавшись, что вследствие этого находится под арестом в доме де Тьевров. — Мой интерес вызван тем, — добавил он, — что ваш камердинер, объясняя причину моей немилости, употребил слово «гризетка». — Не важно, — ответила маркиза. — Надо послать ей луидор; этого достаточно. — Видимо, ей ничего не нужно, — возразил Мурзакин, не упомянув о том, что гризетка просила о встрече с ним. — Значит, ее щедро содержат, — заметила маркиза. «Вряд ли, — подумал Мурзакин, — иначе почему она живет в лачуге и сама гладит свою одежду? Где же я уже видел это милое смазливое личико?» Мурзакин охотнее думал по-французски, чем по-русски, особенно с тех пор, как оказался во Франции, но часто допускал ошибки вследствие неумения употреблять слова в соответствии с их настоящим смыслом. Выражение «смазливое личико», распространенное в то время, относилось к девушке некрасивой, но не лишенной привлекательности, к милой дурнушке. Наружность гризетки, о которой шла речь, была иной. Бледное, тонкое, с мелкими чертами, ее лицо не было образцом возвышенной классической красоты, но оставляло впечатление изящества, благородства и совершенной прелести. Фигура как нельзя лучше соответствовала ее лицу, и, размышляя об этом, Мурзакин мысленно поправил себя — нет, не смазливая, хорошенькая, очень хорошенькая. Бедная и без всяких претензий. — О чем вы думаете? — спросила его маркиза. — Я не могу вам этого сказать, — дерзко ответил молодой князь. — А! Вы думаете о своей гризетке? — Вы сами этому не верите! Но вы только что отчитали меня! И больше не имеете права задавать мне вопросы. Князь сопроводил свои слова таким томно-проникновенным взглядом, что маркиза вновь покраснела и сказала себе: «Он упрям, надо быть с ним осторожнее!» Вошел маркиз и прервал их беседу. — Флора, — обратился он к жене, — я принес вам хорошую новость. Вчера вечером на улице Сен-Флорентен[495] было решено не подписывать мир ни с Бонапартом, ни с кем-либо из членов его семьи. Господин Дессоль только что сообщил мне об этом. Распорядитесь, чтобы нам скорее подали завтрак; мы собираемся в полдень, чтобы составить и передать адрес русскому императору. Необходимо яснее выразить наши пожелания, поскольку идея возвращения Бурбонов созрела в узком кругу. Князь Мурзакин, вы имеете большое влияние при дворе, замолвите за нас слово. — Не волнуйтесь, кузен заодно с нами. — Мадам де Тьевр взяла Мурзакина под руку. — Пойдемте завтракать. Неразумно, — сказала она тихо князю, направляясь в столовую, — говорить маркизу, что сейчас вы в опале у вашего императора. Его это огорчит… — Вас зовут Флора! — воскликнул удивленный Мурзакин, прижимая руку маркизы к груди. — Да, меня зовут Флора! И это не моя вина. — Не оправдывайтесь, это восхитительное имя, и оно так подходит вам! Сев подле нее, князь подумал: «Флора! Так звали собачку моей бабушки. Странно, что во Франции это имя принято в высшем свете! Может, маркиза зовут Фидель, как собаку моего дедушки». Тогда еще не пришло время называть всех девушек благородного происхождения Мари. Маркиза родилась в варварские времена революции и Директории и не стыдилась того, что носила имя богини цветов. Только с 1816 года она стала подписываться своим вторым именем Элизабет, до той поры не востребованным. Маркиз, увлеченный своим предметом, весьма пространно рассказывал жене и Мурзакину о своих политических надеждах. Русского восхитила та поразительная легкость, с которой этот маленький человечек одновременно говорил, ел и жестикулировал. Князь спрашивал себя, сохранил ли маркиз, тративший столько жизненной энергии, способность видеть то, что происходило между Мурзакиным и Флорой. Маркиз казался ему в этом отношении не очень догадливым и не опасным, и чтобы сохранить такое благоприятное для себя положение, князь пообещал поинтересоваться делом Бурбонов, хотя оно привлекало его куда меньше, чем стакан вина. К тому же Мурзакин не мог быть полезен для этого дела, поскольку не был столь важной персоной, как полагал маркиз. Последний, проглотив невероятное для такого тщедушного человека количество еды, распорядился подать карету, когда доложили о приезде графа Огоцкого. — Это мой дядя, адъютант императора, — сказал Мурзакин. — Позвольте представить вам его. — Адъютант императора? Мы выйдем встретить его! — воскликнул маркиз, радуясь возможности завязать знакомство с приближенным русского царя. Он, этот хитрец, забыл, что роль государевых слуг заключается в том, чтобы хотеть только того, чего желает их повелитель. Граф Огоцкий считался когда-то одним из красивейших мужчин при русском дворе. Храбрый и образованный, но без состояния, он был обязан всем покровительству женщин… В ту пору в России протекция для бедного дворянина была необходимым условием всякой карьеры. Огоцкому оказывал протекцию прекрасный пол, Мурзакину — его дядя; личных заслуг было недостаточно, чтобы достигнуть успеха. Приближалось время, когда французская монархия воспользуется этим опытом, что сделает искусство властвовать таким простым делом. Огоцкий растерял былую красоту. В трудах и заботах службы он полысел, зубы его испортились, кожа увяла. Ему уже давно перевалило за пятьдесят, и он казался бы располневшим, если бы не обычай русских офицеров безжалостно затягиваться ремнем. Таким образом, у Огоцкого была громадная грудь и маленькая голова; эта непропорциональность делала более заметным отсутствие шевелюре на приплюснутом черепе. Зато крестов на груди у Огоцкого было больше, чем волос на голове; но если высокое положение в обществе обеспечивало ему радушный прием во всех семействах, то не спасало его от утраты интереса к нему молодых женщин. Страсти, столь же пылкие, как в юности, но не вызывающие более ответных чувств, наложили отпечаток высокомерной печали на облик и манеры этой человека. Огоцкий представился по всем правилам, как и положено истинному комильфо. Маркизу казалось, что он провел в высшем французском обществе всю жизнь. Менее заинтересованный наблюдатель заметил бы, что чрезмерное — враг хорошего, ибо граф излишне правильно говорил по-французски, слишком строго употреблял форму условного наклонения и прошедшего времени глаголов, его грация была чересчур выверенной, а любезность — искусственной. Огоцкий горячо поблагодарил кузину за доброту к племяннику и всем своим видом показал, что считает его ребенком, вызывающим всеобщую любовь, но никем не принимаемым всерьез. Он даже снисходительно пошутил насчет вчерашнего приключения Мурзакина, добавив, что заглядываться на француженок опасно, а сам он боится взгляда иных глаз больше, чем пушечных выстрелов. Сказав это, Огоцкий посмотрел на маркизу, и та ответила ему благосклонной улыбкой. Маркиз так горячо просил о политической поддержке и с таким жаром защищал дело Бурбонов, что адъютант Александра не скрыл удивления. — Неужели правда, господин маркиз, что эти правители оставили по себе добрые воспоминания? У нас сложилось совсем другое мнение, когда граф д’Артуа[496] приехал просить покровительства у императрицы Екатерины Великой. Разве вы не слышали, как ему вручили чудесную шпагу, чтобы вновь завоевать Францию, и как вскоре ее продали в Англии? — Ба! — воскликнул застигнутый врасплох маркиз. — Это случилось так давно… — Граф д’Артуа был тогда юношей, и господин Огоцкий был также очень молод и не может этого помнить, — вставила маркиза. Эта изящная лесть глубоко тронула Огоцкого. С тонкой проницательностью, которую проявляют женщины в делах такого рода, Флора де Тьевр нашла его уязвимое место и несколькими фразами достигла большего, чем ее муж многословными рассуждениями. Господин де Тьевр, видя, что жена ходатайствует успешнее, чем он, и зная, что красота лучший довод, нежели красноречие, вышел из комнаты. Однако через минуту появился Мартен и вручил Мурзакину письмо, на которое тот захотел сейчас же ответить, для чего попросил позволения удалиться. В передней он нашел особу, чей нищенский вид составлял разительный контраст с нарядно одетыми домашними слугами. Это был подросток лет пятнадцати-шестнадцати, невысокий, худой, с желтой кожей и грязными черными волосами, причудливо зачесанными на виски. Однако его лицо с черными блестящими глазами было красиво, подбородок покрывал ранний пушок. Паренек был в тесном зеленом сюртуке с золотыми пуговицами, казалось, извлеченном из корзины старьевщика, и в сорочке сомнительной чистоты; его хорошо повязанный черный галстук, походивший на военный, контрастировал с разорванным жабо, достаточно широким, чтобы прикрыть узкий жилет. Это был парижский гамен[497], комично и вызывающе наряженный. — Кто ты? — невольно вырвалось у Мурзакина, с отвращением взглянувшего на него. — Кто тебя прислал и что тебе от меня нужно? — Я хочу поговорить с вашей светлостью, — ответил мальчишка с тем же презрением, какое только что выказали ему. — Разве это запрещено коалицией? Эта дерзость позабавила русского князя, увидевшего тип, достойный изучения. — Говори, — сказал он ему с улыбкой, — коалиция не возражает. «Ладно! — подумал мальчишка, — все любят посмеяться, даже такие птицы…» — Но я должен поговорить с вами наедине, — заметил он. — Я не вожу дела с лакеями. — Дьявол! — воскликнул Мурзакин. — А ты высокомерен. Что ж, ступай за мной в сад! Они открыли дверь, вышли на широкую аллею, протянувшуюся вдоль стены, и мальчишка без всякого смущения начал разговор. — Я брат Франсии. — Прекрасно, — отозвался Мурзакин, — но кто такая Франсия? — Франсия, простите! Вы даже не удосужились узнать имя той, кого сбила ваша лошадь… — А! Да-да! Я действительно не спросил ее имени. Как она? — Спасибо, хорошо, а вы? — Речь не обо мне. — И то правда, она хочет поговорить с вами, ни с кем, кроме вас. А вы желаете этого? — Конечно. — Я схожу за ней. — Нет, я не хочу, чтобы она приходила сюда. — Почему? — Это не мой дом. Я сам к ней приду. — Тогда я пойду вперед, а вы следуйте за мной. — Я не могу сейчас выходить, но через три дня… — Ах да! Вы наказаны! Об этом говорили в передней, а еще раньше это обсуждали в гостиной. Хорошо! Вот наш адрес, — добавил мальчишка, протягивая Мурзакину клочок довольно грязной бумаги. — Но три дня — это слишком долго, мы будем волноваться в ожидании. — А что, вы торопитесь? — Да, месье, да, мы надеемся получить, если это возможно, известие о нашей бедной матушке. — И кто же ваша матушка? — Женщина знаменитая, господин русский, мадемуазель Мими ля Сурс. Вы, наверное, видели ее в московском театре, где она танцевала перед войной. — Ах да, конечно, припоминаю! Тогда я жил в Москве, но никогда не бывал за кулисами театра. Я и не знал, что у нее есть дети… Это не там ли я видел вашу сестру? — Вы видели ее в другом месте. Впрочем, возможно, вы не обратили на нее внимания: она была слишком молода. Но нашу бедную матушку, господин князь, нашу бедную матушку вы вновь встретили на Березине. Вы находились там с казаками, убивавшими несчастных солдат отступающей армии! Меня там не было. Я рос не в России; но там оставалась моя сестра, она клянется, что видела вас. — Да, она права, в ту пору я командовал отрядом и теперь припоминаю ее. — А нашу матушку? Скажите, где она? — Боюсь, она на небесах, мой бедный мальчик! Я ничего не знаю о ней. — Умерла! — воскликнул мальчишка, и его горящие глаза наполнились слезами. — Может, вы сами и убили ее! — Нет, я никогда не убивал безоружных. Знаешь ли ты, дитя, что такое человек чести? — Да, я слышал разговоры об этом, а моя сестра помнит, как казаки убивали всех. Значит, вы командовали людьми без чести? — Война есть война. Ты не знаешь, о чем говоришь. Довольно, — добавил князь, заметив, что мальчишка собирается возразить ему. — Я не могу сообщить тебе ничего о твоей матери. Я не видел ее среди пленных. В первом же городе, где мы остановились после Березины, я встретил твою сестру, раненную пикой; мне стало жаль ее, и я распорядился, чтобы Франсию перенесли в дом, в котором квартировал, и поручил ее заботам хозяйки. Уходя на следующий день, я оставил немного денег, попросив, чтобы за ней присмотрели. Не нуждается ли она теперь? Я уже предлагал… — Нет, не надо. Франция запретила мне принимать что-либо для нее. — А для тебя? — Мурзакин опустил руку в карман. Глаза мальчишки на мгновение вспыхнули от алчности, а может, и от нужды; но он сделал шаг назад, как бы убегая от самого себя, и с шутовским величием воскликнул: — «Нет, не это, Лизетт[498]!» Нам ничего не нужно от русских. — Зачем же твоя сестра желает меня видеть? Надеется, что я помогу найти ее мать? По-моему, это совершенно невозможно! — Нельзя ли узнать наверняка, была ли она в плену? Я не могу вам сказать точно, где и как это произошло, но Франсия вам объяснит… — Хорошо, я сделаю все, что от меня зависит. Пускай она ждет меня в воскресенье, я приду к вам. Ты доволен? — К нам… в воскресенье… — повторил мальчишка в замешательстве. — Но это невозможно! — Почему? — А потому! Лучше, чтобы она сама пришла к вам. — Ко мне? Это исключено. — Ах да! Прекрасная дама станет ревновать… — Замолчи, плут! — Ба! Прислуга в передней не стесняется судачить об этом. — Вон отсюда, наглец! — закричал Мурзакин, читавший у французских писателей прошлого века, как светский человек должен разговаривать со всяким сбродом, и добавил в выражениях, более привычных для него: — Убирайся или я велю моему казаку отрезать тебе язык! Мальчишка, не испугавшись угрозы, скорчил гримасу, затем с ловкостью обезьяны вскарабкался на невысокую ограду сада, сделал нос русскому князю и спрыгнул, не зная, окажется ли на улице или за другим забором, через который ему вновь придется перелезать. Мурзакин пришел в замешательство от такой дерзости. В России он приказал бы догнать, арестовать и жестоко выпороть простолюдина, нанесшего ему подобное оскорбление. Князь даже подумал в этот момент, не позвать ли Моздара, чтобы тот перелез через забор и догнал беглеца, но тот был уже далеко. Кроме того, воспоминание о Франсии смягчило гнев Мурзакина; он остановился у высокой липы и сел на скамейку под ней, словно приглашавшую помечтать. «Да, теперь я вспомнил ее, — сказал он себе, и его память обратилась в прошлое. — Это произошло в Плещеницах в начале декабря 1812 года. Платов[499] командовал погоней. Накануне мы преследовали французов, которым удалось освободить генерала Удино[500], находившегося в амбаре, осаждаемом моими казаками. Мы все нуждались в отдыхе. Березина научила нас быть начеку. Я отыскал угол, некое подобие кровати и прилег не раздеваясь немного соснуть. Вскоре прибыли наши обозы, груженные трофеями, ранеными и пленными. Между ними я заметил девочку; ей, как мне показалось, было лет двенадцать, не более. Хорошенькая, бледная, с длинными распущенными черными волосами, она лежала в кибитке, придавленная умирающими и тюками. Я приказал Моздару вытащить ее оттуда и отнести в лачугу, служившую мне пристанищем. Девочка была без сознания, и он опустил ее на землю со словами: «Она умерла». Внезапно она открыла глаза и удивленно взглянула на меня. На лохмотьях, прикрывавших ее, запеклась кровь. Я заговорил по-французски; она приняла меня за француза и спросила о своей матери. Хорошо это помню, но у меня не было времени расспросить ее. Я должен был отдать распоряжения, поэтому сказал Моздару, показав на убогое ложе, служившее мне постелью: «Положи ее сюда и дай спокойно умереть», и — протянул ему платок, велел перевязать рану. Мне необходимо было отлучиться к моим солдатам. Вернувшись, я позабыл о ребенке. Располагая небольшим запасом времени перед тем, как покинуть город, я решил написать несколько слов моей матери: представилась оказия. Окончив письмо, я вдруг вспомнил о раненой девочке, находившейся в двух шагах от меня. Посмотрев на нее, я встретил обращенный на меня взгляд ее больших черных глаз, таких неподвижных, таких ввалившихся, что их стеклянный блеск показался мне отсветом самой смерти. Я подошел к ней, коснулся рукой лба; он был горячим и влажным. «Ты жива? — произнес я. — Ну-ка, постарайся поправиться», — и вложил ей в рот корку хлеба, забытую на столе. Она слабо улыбнулась мне и с жадностью стала жевать хлеб. Крошки падали изо рта на подушку, потому что у девочки не было сил поднять руки. Меня охватила безумная жалость! Я пошел поискать еще еды, сказав хозяйке дома: «Позаботьтесь об этой малышке. Вот деньги, спасите ее». Когда я выходил, девочка, сделав невероятное усилие, выпростала из-под одеяла худые руки и протянула их ко мне со словами: «Моя мама!» Какая мать? Где ее искать? Поскольку ее здесь нет, возможно, она уже мертва. Я недоуменно пожал плечами. Раздался звук походной трубы. Пора было отправляться в погоню за врагом. Я уехал. А теперь… Можно ли надеяться отыскать ее мать? Она вовсе не была знаменитостью, как воображали ее дети: она была одной из тех бедных странствующих артисток, которых Наполеон нашел в Москве и которым, как говорили, приказал выступать в театре уже после пожара, чтобы рассеять смертельную скуку своих офицеров. Против его воли они последовали за отступающими войсками, затрудняя продвижение и приближая их конец. Из пятидесяти тысяч солдат, покинувших вместе с ним Россию, быть может, только пятьсот вернулись во Францию. Наконец я увижу девочку, она все больше и больше интересует меня. Теперь она, конечно, прехорошенькая! Красивее маркизы? Нет, это совсем другое». После этого внутреннего монолога Мурзакин вдруг вспомнил, что оставил маркизу наедине со своим дядей. — Наконец-то, кузен! — воскликнула она, увидев, что князь вернулся. — Защитите меня. С Огоцким я нахожусь в большой опасности. Его любезность, право, порой переходит в дерзость. О, русские! Я не знала, что вас нужно опасаться. Эти слова, произнесенные с апломбом женщины, не привыкшей задумываться над тем, что она говорит, русские восприняли по-разному. Молодой счел их поощрением, старый — злой насмешкой. Огоцкому показалось, что в глазах племянника он читает ту же иронию. — Полагаю, — сказал он, скрывая досаду за напускной веселостью, — что вы с Диомидом сгораете от желания посмеяться надо мной. Удел молодых людей — нравиться с первого взгляда, не узнав ни ума, ни достоинств друг друга. Но сейчас, конечно, все иначе, и я оставляю маркизу в обществе более приятном, нежели мое. — Могу ли я попросить вас, — сказал Мурзакин, провожая дядю до наемного экипажа, — похлопотать за меня… — Перед твоей прекрасной хозяйкой? Ты и сам способен это сделать. — Нет, перед царем. — У него еще будет время заняться тобой. Сейчас императора интересует король Франции. Самое лучшее — не думать об этом. Тебе здесь хорошо, вот и оставайся тут. — Маркиза понравилась Огоцкому, и он явно охладел к племяннику. Стало быть, Мурзакину грозила опала самого властелина, разве что маркиза… Но это было только предположение, а князь уже так увлекся ею, что подобная гипотеза доставила ему удовольствие. Он старался не думать об этом, примириться со своими несчастьями и завершить процесс обольщения, уже необратимый. Однако неудовольствие дяди, приближенного к царю, не оставило его равнодушным. Это означало загубленную карьеру, безотрадное, быть может, ужасное будущее. Если недовольство сменится ненавистью, это грозит разорением, ссылкой — и, кто знает, — Сибирью! Повод отыскать нетрудно. Маркиза тотчас заметила, что ее поклонник весьма озабочен и мрачен. Вначале она пошутила, сказав, что он слишком надолго покинул ее в гостиной, и, не предполагая, как верно угадала, спросила, не оставил ли ее князь на добрую четверть часа одну для того, чтобы заняться гризеткой? Какой гризеткой? Он не думал больше о ней. Мурзакин хотел одного, чтобы маркиза спросила об истинной причине его волнения. Так и случилось. Сначала это лишь насмешило легкомысленную маркизу. Она не сожалела, что вскружила голову могущественному Огоцкому, и не понимала, что ей придется расплачиваться за свое кокетство, став предметом серьезных притязаний с его стороны. Мурзакин отлично видел, что маленькая лысая голова и огромное уродливое тело дядюшки внушали ей глубокое отвращение, и, не имея дурной привычки к тайным интригам, считал, однако, возможным искусно лавировать. — Поскольку вы принимаете это за шутку, — сказал он маркизе, — буду счастлив пожертвовать расположением дяди, к которому начинаю ревновать вас, но обязан предупредить о грозящей вам опасности. — Опасности? Мне? Со стороны этого монумента? За кого вы меня принимаете, кузен? Вы так дурно думаете о француженках? — Француженки менее кокетливы, чем русские женщины, но они безрассуднее, откровеннее, если угодно, потому что честнее их! Они возбуждают чувства, коих сами не испытывают. Осмелюсь спросить вас, желает ли маркиз де Тьевр восстановления династии Бурбонов только из-за расположения к ним… — Ну да, это главная причина. — Верю, но не преследует ли он при этом еще и выгоду? — Мы так богаты, что можем позволить себе быть бескорыстными. — Что ж, тем не менее если бы их мнение о вас попытались склонить в дурную сторону… — Наше положение стало бы чрезвычайно затруднительным, потому что никогда не знаешь, чего ожидать. Мы многим пожертвовали. Но как ваш дядя может изменить мнение Бурбонов о нас? — Царь всесилен, — ответил Мурзакин со значительным видом. — А ваш дядя имеет влияние на царя? — Довольно большое. — Князь загадочно улыбнулся, напугав маркизу. — Итак, вы полагаете, — осведомилась она, преодолев замешательство, — что я совершила ошибку, посмеявшись при вас над его ухаживаниями? — Да, роковую ошибку! — Это в самом деле способно навредить вам? — О! Это не важно! Меня беспокоят неприятности, которые он может причинить вам… Вы не знаете моего дяди. В свое время он был кумиром женщин; дядя был красив и любил их страстно. С той поры он заметно умерил свои притязания и дерзость; но не стоит дразнить старого льва, а вы раздразнили его. Дядя мог заподозрить, что вы… — Замолчите! Это ревность заставляет вас преподать мне столь суровый урок? — Да, ревность, не отрицаю, ибо вы вынуждаете меня признать это, но также дружба, преданность и, наконец, знание характера моего дяди. С возрастом он ожесточился, что сделало его еще более мстительным. Такое часто случается в России, стране, где помнят все! Берегитесь, моя прекрасная, моя обольстительная кузина! В бархатных лапах скрываются острые когти. — Боже мой! — воскликнула она. — Вы пугаете меня! Однако не представлю, какое зло он может мне причинить? — Желаете, чтобы я объяснил вам это? — Да, да, говорите, мне необходимо знать это. — И вы не рассердитесь? — Нет. — Сегодня вечером, когда император спросит у моего дяди, что он увидел и услышал в течение дня, тот скажет ему… О! Я словно слышу его ответ: «Я видел моего племянника, который поселился у женщины необычайной красоты. Он влюблен в нее. «Тем лучше для него!» — заметит царь, поскольку сам еще молод и страстно любит женщин. Назавтра он вспомнит разговор и вечером спросит у моего дяди: «Итак, твой племянник счастлив?» «Возможно», — ответит граф. И не упустит случая обратить внимание царя на господина маркиза де Тьевра в одной из гостиных дворца Талейрана. Он скажет ему: «Пока муж занимается здесь политикой, надеясь добиться вашего расположения, мой племянник ухаживает за его женой и приятно проводит дни под арестом…» — Довольно! — раздосадованная маркиза встала. — Мой муж будет выглядеть смешным и станет играть отвратительную роль. Вы не можете более ни минуты оставаться у меня, кузен. — Удар оказался сильнее, чем этого ожидал Мурзакин. Маркиза позвонила, чтобы объявить слугам об отъезде русского князя, но он ничуть не смутился. — Я прощаюсь с вами навсегда, но будьте уверены, что сохраню ваш образ в моем сердце даже в сибирских рудниках. — Почему вы заговорили о Сибири? — Меня ожидает наказание за то, что я самовольно ушел из-под ареста. — Да что вы! В вашей стране такие жесточе нравы! Оставайтесь, оставайтесь, я не хочу быть причиной вашей гибели. Луи, — обратилась она к слуге, явившемуся на звонок, — унесите эти цветы, они мне мешают. — И, едва он вышел, добавила: — Оставайтесь, кузен, но посоветуйте мне, как надо поступить, чтобы уберечь нас — вас и меня — от злобы вашего драгоценного дядюшки. Признаться, я не могу любезничать с ним, он мне слишком отвратителен! — Проявляйте любезность, как всякая добродетельная женщина, которую никакое искушение не способно взволновать или скомпрометировать. Мужчины, подобные ему, не ищут добродетель и не дорожат ею. Уверьте дядю, что у него нет соперника. Принесите меня в жертву, говорите ему дурно обо мне, высмеивайте меня в его присутствии. — Вы будете страдать! — воскликнула маркиза, пораженная низостью натуры Огоцкого, о чем раньше не подозревала. Ею овладело настоящее отвращение, и она добавила: — Кузен, я сделаю все, чтобы быть вам полезной, но только не это. Я просто скажу вашему дяде, что вы мне не нравитесь: ни вы, ни он… Извините! Мне необходимо пойти переодеться; в это время я принимаю визитеров. И маркиза вышла, не дожидаясь ответа. «Я оскорбил ее, — сказал себе Мурзакин. — Она думает, что из-за политических соображений я отказываюсь от любви к ней. Маркиза принимает меня за ребенка, потому что сама еще ребенок. Хотелось бы, чтобы она всем сердцем полюбила меня и по доброй воле помогла мне обмануть дядю». Через полчаса гостиная мадам де Тьевр была полна народу. Важное событие — вчерашнее вступление чужеземцев в Париж на время нарушило все связи и отношения. Однако уже на следующий день парижская жизнь вошла в привычное русло, в высшем свете царило необычайное оживление. В то время как мужчины в лихорадочном возбуждении собирались на свои тайные политические сборища, женщины, озабоченные будущим, с тревогой обсуждали придворные новости. Мадам де Тьевр, чей муж считался человеком деятельным и амбициозным, стала центром притяжения всех женщин ее круга. Она не убеждала их в наследственном праве Бурбонов на престол, большинство в этом не сомневалось; другие мало понимали в происходящем, но давно чувствовали, откуда ветер дует. Мадам де Тьевр с непередаваемым апломбом уверяла их, что двор вскоре будет восстановлен и необходимо заранее отыскать способ быть там представленными; кстати, весьма неплохо подумать и о нарядах. — Но разве у нас нет королевы, которая укажет, как нам следует одеваться? — спросила одна молодая женщина. — Нет, моя дорогая, — ответила дама в возрасте. — Король не женат, но у него есть племянница, дочь Людовика XVI, очень набожная, и она прикроет вашу наготу скромным платьем. — Ах! Боже мой! — прошептала молодая женщина на ухо своей соседке, указывая на говорившую даму. — Неужели все мы будем одеваться, как она? — Ах да! — обратилась другая к маркизе. — Говорят, у вас живет русский, прекрасный, как день, и вы скрываете его от нас? — Мой русский — всего лишь казак, — отозвалась мадам де Тьевр. — Он недостоин того, чтобы быть представленным. — Вы предоставили кров казаку? — осведомилась невысокая, провинциальная на вид баронесса. — Неужели правда, что эти люди питаются только сальными свечами? — Фи, моя дорогая, — вновь вступила в разговор пожилая дама. — Это якобинцы[501] распустили подобные слухи. Казацкие офицеры — люди благородного происхождения и весьма хорошо воспитанные. А тот, кто здесь квартирует, как я слышала, князь. — Приходите ко мне завтра, я представлю вам его, — сказала маркиза. — Сейчас я не знаю, где он. — Он здесь, недалеко, — заметила юная графиня лет двенадцати, сопровождавшая свою бабушку во время визитов. — Я только что видела, как он гуляет в саду. — Мадам де Тьевр прячет его от нас! — воскликнули сгорающие от любопытства молодые аристократки. Маркиза почувствовала к своему прекрасному кузену презрение, граничащее с отвращением. Она покинула Мурзакина, не выказав желания представить его своему окружению, и он дулся на нее в глубине сада. Маркиза решила позвать его, довольная возможностью продемонстрировать этот великолепный образец русской красоты, и сделала вид, что мало интересуется ею — обычная женская месть. Мурзакин имел шумный успех; старые и молодые с бесцеремонным любопытством, свойственным нашим нравам и не умеряемым даже приличиями, окружили и рассматривали его с близкого расстояния, как экзотическую бабочку, задавая ему тысячу щекотливых или глупых вопросов в зависимости от умственного развития каждой и извиняясь за некоторую нескромность своих предложений. Последние издания Империи подготовили читателей к тому, чтобы видеть в казаке подобие монстра. Мурзакин же был красив, ласков, надушен, хорошо одет. Его хотелось потрогать, дать ему конфету, увезти в своей карете, показать друзьям. Удивленный князь видел, что в этом избранном обществе повторяются те же наивные сцены, которые поражали его и в других кругах, и в других странах. Под проникновенным и страстным взглядом Мурзакина пала не одна жертва, и, когда прием, к его сожалению, закончился, он получил столько приглашений, что ему пришлось прибегнуть к помощи маркизы. Мурзакин не успевал вписывать в записную книжку имена и адреса покоренных им дам. Мадам де Тьевр расхваливала ум и многочисленные достоинства своих соперниц с равнодушием, которое должно было бы ему все объяснить. Мурзакин понял, что его презирают, и с этого момента завоевание маркизы стало для него единственно желанной победой. Вечером после ужина, собравшись выйти из дома, маркиза пошла переодеться, оставив князя наедине с маркизом де Тьевром, но вскоре явилась вновь в вечернем платье с обнаженными до плеч руками, с вызывающе открытой грудью, что было своеобразной местью Мурзакину. Она потребована, чтобы муж сопровождал ее. При этом маркиза выразила своему гостю ироническое сожаление по поводу того, что они оставляют его в одиночестве. Господин де Тьевр извинился, пояснив, что ему необходимо уйти и заняться общественными делами. Мурзакин остался в гостиной и, полистав, зевая, политическую брошюрку, крепко уснул на софе. Около часа Мурзакин наслаждался этим приятным отдыхом, но был внезапно разбужен легким прикосновением маленькой руки к его лбу. Уверенный, что маркиза, которую он только что видел во сне, простив его, вернулась, он схватил эту ручку и уже собрался поцеловать ее, как заметил свою ошибку. И хотя, засыпая, Мурзакин затушил свечи и опустил абажур лампы, он все же разглядел другое платье, другую фигуру и вскочил с подозрительностью иностранца в неприятельской стране. — Не бойтесь, — сказал ему нежный голос. — Это я, Франсия! — Франсия? — изумился он. — Здесь? Кто вас впустил? — Никто. Я сказала привратнику, что принесла вам пакет. Полусонный, он не обратил на меня внимания, лишь указав на крыльцо. Я нашла двери открытыми. В прихожей двое слуг играли в карты; они не заметили меня. Я прошла через комнату, где находился один из ваших казаков. Он уснул так крепко, что мне не удалось его разбудить, я пошла дальше и нашла вас спящим. Итак, мы одни в этом большом доме и можем спокойно поговорить. Мой брат сказал мне, что вы согласились… — Но, моя дорогая… я не могу разговаривать с вами здесь, у маркизы… — Маркиза или нет, что ей до этого? Если она даже и находилась здесь, я говорила бы ее присутствии. Поскольку это касается… — Твоей матери, я знаю, но, мое бедное дитя, ты хочешь, чтобы я вспомнил… — Вы видели ее в театре. Если бы вы вновь встретили мою матушку на Березине, то, конечно, узнали бы ее. — Да, если бы у меня было время хоть что-нибудь заметить, но в кавалерийской атаке… — Значит, вы атаковали отступавших? — Конечно, это был мой долг. Твоя мать уже переправилась через Березину, когда вас разлучили? — Нет, мы не успели это сделать. Полумертвые от усталости, мы заснули у костра на биваке. Мы двигались вслед за армией, не зная, куда нас ведут. Мы покинули Москву в старой дорожной карете, купленной за наши деньги и нагруженной нашими вещами; ее у нас отобрали для раненых. Голодные солдаты из арьергарда разграбили наши сундуки, взяв одежду и провизию; они были так несчастны и не знали, что творили; страдание лишило их разума. Восемь дней пешком, почти босые, мы следовали за войсками, — и только собрались перейти мост, как он взлетел на воздух. Тогда появились ваши разбойники-казаки. Моя бедная матушка крепко прижимала меня к себе. Вдруг я почувствовала, как будто ледяная сосулька вонзилась мне в тело: это был удар пики. Я больше ничего не помню до того момента, когда очнулась на кровати. Моей матери не было со мной, вы смотрели на меня… Тогда вы накормили меня, азатем ушли, сказав: «Постарайся поправиться». — Да, совершенно верно, но что случилось с тобой потом? — Слишком долго рассказывать, а я пришла не затем, чтобы говорить о себе. — Конечно, чтобы узнать… Но я не могу пока ничего сказать тебе. Мне нужно время, чтобы разузнать. Я напишу в Плещеницы, в Студенку, те места, куда могли отвезти пленных, и как только получу ответ… — А не могли бы вы расспросить своего казака? Кажется, я видела его в Плещеницах вместе с вами. — Моздар? Действительно, это он! У тебя хорошая память! — Поговорите с ним сейчас… — Ладно! — Мурзакин без шума разбудил Моздара, который, быть может, не расслышал бы и выстрела пушки, но при легком поскрипывании хозяйских сапог вскочил, чувствуя себя свежим и бодрым. — Пойдем, — сказал ему Мурзакин по-русски. Казак последовал за ним в гостиную. — Посмотри на эту девушку, — проговорил Мурзакин, приподнимая абажур лампы, чтобы тот рассмотрел лицо Франсии. — Ты узнаешь ее? — Да, хозяин, — ответил Моздар. — Это та девушка, которая напугала вашу черную лошадь. — Да, но ты видел ее прежде, еще до вступления во Францию? — На переправе через Березину. Как вы и приказали, я отнес ее на кровать. — Очень хорошо. А ее мать? — Танцовщица, которую звали… — Не называй ее по имени в присутствии девушки. Значит, ты знал эту танцовщицу? — В Москве перед войной вы посылали меня отнести ей цветы. Мурзакин задумался. Казак напомнил ему о приключении, воспоминание о котором заставило его покраснеть, хотя оно и было вполне невинным. Студентом Дерптского университета[502], находясь на каникулах в Москве, он в восемнадцать лет страстно увлекся Мими ла Сурс, пока однажды не разглядел ее при свете дня: она уже утратила свежесть и постарела. — Раз уж ты так хорошо все помнишь, — сказал он Моздару, — то должен знать, встречал ли ее на Березине. — Да, — простодушно ответил Моздар, — я увидел ее после атаки, и, к сожалению, она была мертва… — Растяпа! Это ты убил ее? — Вполне возможно. Я не знаю. Что вы хотите? Отступавшие французы топтались на месте, не желая сдавать свои позиции; пришлось атаковать, чтобы захватить их обозы: наугад бросили в толпу пику. Я помню, что увидел, как малышка и женщина упали. Кто-то прикончил мать, но я не такой злодей: положил девочку на телегу. Это все, что я могу рам рассказать. — Хорошо, иди спать, — сказал Мурзакин. Поскольку разговор шел по-русски, Мурзакину не было нужды просить Моздара хранить тайну. — Ну хорошо! Хорошо! Боже мой! — воскликнула Франсия, ломая руки. — Он что-то знает, вы говорили с ним так долго! — Он ничего не помнит, — ответил Мурзакин. — Завтра я напишу туда, где все это произошло. Узнаю, остались ли там пленные. А сейчас уходи, дитя мое. Через два дня у меня появится квартира в городе, куда ты сможешь прийти, а я сообщу тебе о том, что мне удастся разузнать. — Я не смогу к вам больше приходить, я пришлю Теодора. — Кто это? Твой младший брат? — Да, у меня он только один. — Нет уж спасибо, не посылай ко мне этого очаровательного ребенка! У меня не хватит терпения, и я выброшу его в окно. — Он был груб с вами? Проявите снисходительность к нему. Сирота, выросший на парижских мостовых, не бывает хорошо воспитан. Тем не менее у него доброе сердце. Итак, если вы не желаете его видеть, я сама приду к вам, но где вас искать? — Я еще не знаю, но сообщу мой адрес привратнику этого дома, а ты зайдешь к нему. — Хорошо, месье. Спасибо и до свидания! — Ты не хочешь подать мне руки? — Да, конечно, месье. Я обязана вам жизнью, и, если вы вернете мне мою мать, я буду вашей смиренной служанкой. — Ты так сильно любила ее? — Я не любила ее в Москве, слишком часто она меня била. Но потом, когда мы вместе пережили столько несчастий, ах! Да, мы полюбили друг друга! А с тех пор, как я потеряла ее, быть может, навсегда, я только о ней и думаю. — Ты хорошая дочь. Хочешь поцеловать меня? — Нет, месье, у меня есть… очень ревнивый любовник. Если бы не он, я бы охотно сделала это. Мурзакин, не желая внушить Франсии презрение к себе, отпустил ее и приказал Моздару проводить девушку до улицы, где ее дожидался брат. После ухода Франсии князь попытался разобраться в довольно сильных чувствах, охвативших его в ее присутствии. Франсию можно было назвать очаровательной девушкой. Кокетливо одетая, она, однако, не казалась кокеткой. Глубоко порядочная по натуре, Франсия не стремилась нравиться тому, кто не внушал ей симпатии. Хорошенькая, но уже утратившая свежесть, ибо в детстве она много страдала, Франсия обладала необъяснимым очарованием. Именно так банально определил это ее свойство Мурзакин. Маркиза вернулась около полуночи. Она была взволнована. Ей столько наговорили о русском князе, его находили таким красивым, столько женщин хотели видеть его, что маркиза почувствовала себя уязвленной при мысли о том, как легко он найдет утешение, если она будет по-прежнему проявлять холодность. Не угаснет ли в нем желание к ней, когда так много юных красавиц готовы сдаться ему? Не слишком ли мало думал о ней князь до сих пор: такого оскорбления маркиза не в силах была снести. Поэтому она вернулась к Мурзакину, решив воспламенить его и горько разочаровать отказом, ибо маркиза ни в коем случае не хотела принадлежать ему. Она отослала слуг, сказав им, что подождет господина де Тьевра до утра, если это понадобится, чтобы узнать новости, и осталась в своем вызывающем платье — тесном и коротком чехле из крепа и атласа, служившем в ту пору одеждой… Правда, маркиза не сняла великолепную алую кашемировую шаль, в которую заворачивалась с большим искусством: благодаря ее ловким движениям шаль попеременно открывала и закрывала то одно плечо, то другое. Белокурые волосы маркизы, слегка завитые на античный манер, были украшены жемчугами, перьями и цветами; она действительно была хороша собой и, кроме того, воодушевлена желанием казаться красивой. Мурзакин не отличался сентиментальностью. Француз потерял бы время в разговорах, желая победить или убедить, взывая к уму или сердцу, Мурзакин же, чей ум и сердце были свободны, не прибегая ни к каким доводам, не давая никаких обязательств, не требуя возвышенной любви, даже не спрашивая себя, существует ли такая любовь и способен ли он внушить ее, наконец, готова ли маркиза ее разделить, повел себя как дикарь. Она была разгневана, но князь задел в ней какую-то тайную струну, до той поры молчавшую. Волнение Флоры еще не улеглось, когда карета мужа подкатила к крыльцу. Маркиза поклялась больше не подвергать себя опасности, но безрассудное желание вновь оказаться наедине с Мурзакиным мешало ей заснуть. Хотя сердце маркизы оставалось свободным и холодным, она забыла о разуме, гордости и осторожности, а прекрасный казак крепко спал, уверенный в том, что она не сможет навредить ему и ей не устоять перед ним. Тем не менее на следующий день князь призадумался. Неразумно возбуждать ревность господина де Тьевра, который, застав его наедине со своей женой в два часа пополуночи, бросил на него странный взгляд. Необходимо, как только снимут арест, покинуть этот дом и перебраться на новую квартиру, где маркиза сможет навещать его. Позвав Мартена, Мурзакин спросил его, не сдаются ли поблизости комнаты? — У меня есть на примете кое-что получше, — ответил слуга. — В двух шагах отсюда, между двором и садом, находится флигель; это отличная холостяцкая квартира. В прошлом году ее занимал юноша из хорошей семьи. Он наделал много долгов, ушел добровольцем на войну и не вернулся. Он разрешил своему слуге, моему другу, получить причитающиеся ему деньги, сдавая внаем, если представится удобный случай, полностью меблированное жилье. Я знаю, что оно свободно, побегу туда и устрою все на самых выгодных для вашей светлости условиях. Мурзакин был небогат. К тому же сомневался в расположении к нему дяди, однако не решился попросить Мартена поторговаться. Через час слуга вручил ему ключ от новой квартиры, сказав: — Завтра к вечеру все будет готово. Ваша светлость найдет там свой багаж, казака и лошадей. В вашем распоряжении будут роскошная карета для выездов и мой друг Валентин в любое время дня и ночи. — И сколько все это стоит? — Пустяки, пять луидоров в день, поскольку ваша светлость не предполагает у них столоваться. — Прежде чем окончить дело, — сказал Мурзакин, боясь быть обманутым, но не решаясь спорить, — вы отнесете письмо во дворец Талейрана. И он написал своему дяде: «Мой дорогой и жестокий дядюшка, что дурного вы сказали обо мне моей прекрасной хозяйке? После вашего визита она смеется надо мной, и я чувствую, что она намерена указать мне на дверь. Я ищу жилье. Считаете ли вы, как человек, уже бывавший в Париже, что меня обворовывают, прося пять луидоров в день, и что я могу позволить себе подобную роскошь?» Граф Огоцкий понял намек и тотчас же ответил: «Мой дорогой и легкомысленный племянник, если ты и не понравился своей прекрасной хозяйке, то не по моей вине. Я посылаю тебе двести французских луидоров, которыми ты волен распорядиться по своему усмотрению. Во дворце Талейрана, где нас и так слишком много, для тебя места нет, но завтра ты можешь предстать перед государем; я улажу твои дела». Мурзакин, в высшей степени довольный результатами своей хитрости, распорядился, чтобы Мартен заключил сделку и подготовил все для переезда. — Вы покидаете нас, дорогой кузен? — спросил у него за обедом маркиз. — Вам у нас плохо? Маркиза побледнела, она предчувствовала измену: ревность обожгла ее сердце. — Здесь мне так хорошо, как не будет никогда и нигде. Но завтра я возвращаюсь на службу и стану весьма обременительным гостем. Меня могут вызвать ночью, и тогда я подниму в доме адский шум. К этому князь присовокупил и другие доводы, против которых маркиз не стал возражать. Маркиза холодно выразила сожаление, но, оставшись наедине с Мурзакиным, раздраженно сказала ему: — Я надеялась, что у вас достанет терпения хотя бы два дня не видеться с мадемуазель Франсией. Но вы не удержались и вчера приняли эту девушку в моем доме. Не отрицайте, я знаю это, как и то, что она содержанка, любовница какого-то парикмахера. Мурзакин оправдался, рассказав почти всю правду о произошедшем и добавив при этом, что девушка скорее некрасива, чем красива, и что он составил об этом представление, даже не взглянув на нее. Затем он бросился к ногам маркизы, поклявшись, что лишь одна женщина в Париже кажется ему прекрасной и обольстительной, а другие только цветы без аромата рядом с розой, королевой цветов. Его комплименты были пошлыми, но взгляды — пламенными. Маркизу напугал поклонник, которого не остановил даже страх быть застигнутым у ее ног среди бела дня, и в то же время она убедила себя, что была не права, обвинив его в трусости. Простив Мурзакину все, маркиза позволила вырвать у нее обещание тайно навестить князя, как только у того появится жилье. — Возьмите, — сказал князь, подавая ей план местности, который он составил, обозревая окрестности из окон своей комнаты на втором этаже. — Дом, где я буду жить, отделяет от вашего только большой особняк. — Да, это особняк мадам де С., ее сейчас нет. Многие дворцы пустуют: хозяева покинули их, боясь осады Парижа. — Этот особняк окружен густым садом, граничащим с вашим, их разделяет невысокая стена. — Не делайте глупостей! Слуги мадам де С. станут сплетничать. — Мы им хорошо заплатим или обманем их бдительность. Со мной ничего не бойтесь, душа моя! Я буду так же осторожен, как и смел! Таков характер моего народа. Их разговор прервали съезжавшиеся гости. Маркиза торжествовала, наблюдая, какую холодность проявляет Мурзакин к другим женщинам. На следующий день в Опере давали великолепный спектакль. Весь высший свет Парижа спешил занять места в зале. Дамы, ослепляя блеском драгоценностей, с волосами, убранными лилиями, расположились в ложах первого яруса. На некоторых женщинах, сидящих на галерке, были ужасные маленький черные шляпки, украшенные петушиными перьями и прозванные русскими за то, что имитировали головной убор офицеров этой нации. На сцену вышел певец Лаис, уже состарившийся, но все еще играющий роль пылкого роялиста[503]. Русский император и король Пруссии заняли ложу Наполеона, и Лаис запел на мелодию «Да здравствует Генрих IV» известные куплеты, вошедшие в историю как «гнусные рифмы». Весь зал аплодировал. Прекрасная маркиза де Тьевр махала из ложи своим кружевным платочком, как белым флагом, сжимая его белоснежными пальчиками. Из глубины императорской ложи за ней наблюдал величественный Огоцкий. Еще дальше за ним, почти в коридоре, сидел Мурзакин. Под самым куполом простая публика, изображающая народ, тоже аплодировала. Ей заплатили за это. Все служащие театра получили билеты с предписанием вести себя хорошо. В числе прочих два бесплатных билета дали месье Гузману Лебо, главному полковому парикмахеру, прозванному за кулисами красавчиком Гузманом. Эти билеты он отослал своей любовнице Франсии и ее брату Теодору. Эти бедные парижские дети сидели высоко и далеко, почти под люстрой, в тесноте, от которой у девушки кружилась голова. Она смотрела, ничего не понимая. Гузман вручил Франсии платок из вышитого перкаля[504], строжайше наказав махать им, если она увидит, что так делает «высший свет». В конце отвратительной кантаты Лаиса Франсия машинально развернула этот флаг, но брат вырвал платок у нее из рук, плюнул в него и бросил в зал, что осталось незамеченным в суматохе притворного энтузиазма. — О Боже! Что ты делаешь? — воскликнула Франсия с глазами, полными слез. — Мой красивый платок!.. — Замолчи, идем отсюда, — ответил ей Теодор с блуждающим взором. — Идем, или я сейчас брошусь вниз головой в эту навозную кучу! — Франсия испугалась, взяла его за руку, и они покинули зал. — Нет! Не надо пропуска, — сказал он в дверях. — Здесь слишком душно, мы уходим. Теодор шел быстрым шагом, увлекая сестру за собой, бранясь сквозь зубы и жестикулируя как безумный. — Послушай, Теодор, — обратилась к брату Франсия, когда они вышли на бульвары, — ты сходишь с ума. Ты выпил? Не забывай о вражеских солдатах, окружающих нас, ничего не говори, иначе тебя арестуют. Скажи, что с тобой? — Со мной, со мной… я не знаю, что со мной, — ответил он и, сдержавшись, не произнес более ни слова до самого их дома. — Слушай, — наконец сказал он сестре, — давай зайдем к папаше Муане. Гузман дал мне три франка, чтобы угостить тебя. Выпьем оржата[505], это успокоит меня! Они вошли в кафе, занимавшее первый этаж и принадлежавшее старому сержанту, искалеченному в Смоленске. На улице перед входом пили водку несколько прусских унтер-офицеров. Франсия и ее брат заняли место подальше от них, в глубине заведения, за маленьким столиком из поцарапанного мрамора, матового от игры в домино. Теодор с удовольствием потягивал оржат, как вдруг швырнул стакан на мраморное покрытие. — Вот что, — сказал он сестре, — это все хорошо, но я запрещаю тебе ходить к русскому князю. Там не место для такой девушки, как ты. — Почему сегодня вечером ты настроен против союзников? Ты был так доволен, что идешь в Оперу, в ложу… И вдруг ты уводишь меня, не дождавшись конца представления. — Ну хорошо! Да! Я радовался, что сижу в ложе, но смотреть, как толпа аплодирует такой глупой песне!.. Это отвратительно, ты понимаешь, так пресмыкаться перед казаками, это подло! Можно быть бедным, голодным, слабым человеком, но плевать на все эти вражеские плюмажи. Наши союзники! Как бы не так! Шайка разбойников! Наши друзья, наши спасители! Я докажу тебе, что это не так. Ты увидишь, они сожгут весь Париж, если им позволить. Итак, пресмыкайтесь перед ними. Не ходи больше к этому русскому, или я все расскажу Гугу. — Если расскажешь Гузману, он убьет меня, тебе от этого легче не станет! Что ты будешь делать без меня? Мальчишка, никогда ничему не учившийся и в шестнадцать лет так же не способный заработать на жизнь, как новорожденный младенец. — Может, ты и права, но не зли меня! Твой русский… — Да, ругай русского, который, возможно, отыщет нашу бедную матушку! Если бы ты был способен хотя бы понять это! Но ты годен даже на то, чтобы выполнить самое простое поручение. Кажется, ты невежливо обошелся с ним. Он сказал, что убьет тебя, если ты снова придешь к нему. — «Скажите, пожалуйста, Лизетт!» Он насадит меня на пику своего грязного казака! Красивые кадеты[506] с пастями, как у трески, и глазами жареного мерлана! Я пять сотен их свалю, как карточных капуцинов, крутясь у них под ногами. Хочешь посмотреть? — Пойдем отсюда, ты говоришь глупости. Между прочим, здесь пруссаки. — Тем хуже, я так люблю этих пруссаков! Хочешь увидеть? Франсия пожала плечами и постучала ключом по столу, подзывая официанта. Теодор заплатил ему, взял сестру за руку и направился к выходу. Группа пруссаков все еще стояла у двери, громко разговаривая и, словно неподвижная груда камней, мешала входу и выходу. Мальчишка предупредил их, сначала толкнув слегка, затем посильнее, и сказал: — Послушайте, может быть, вы позволите пройти даме? Они походили на глухих и слепых в своем презрении к парижанам. Однако один из них обратил внимание на девушку и отпустил ей на плохом французском какую-то сальность с претензией на любезность. Едва он произнёс ее, как удар кулака расшиб ему нос до крови. Двадцать рук вскинулись, чтобы схватить преступника, но он сдержал слово, данное сестре, и как змея проскользнул между ног врагов, опрокидывая их одного за другим. Теодор убежал бы, если бы не наткнулся на русских, которые схватили его и отвели на пост. Во время драки Франсия спряталась у папаши Муане, старого вояки, лучшего своего друга: это с ним она вернулась во Францию, пройдя через множество испытаний; сам раненный, он защищал ее, выдавая за свою дочь. Бедная Франсия была в отчаянии, но Муане не успокоил ее. Напротив, в своей ненависти к чужакам он представил случившееся в самых мрачных красках: быть арестованным за драку в обычное время куда ни шло, особенно когда это касалось брата, вступившегося за честь сестры; но с иностранцами надеяться не на что. Полиция выдаст бедного Теодора, и они не постесняются расстрелять его. Франсия обожала брата, хотя отчетливо видела его рано развившиеся пороки и неисправимую лень. Вернувшись из России, она нашла Теодора буквально на парижской мостовой. Он играл в пробку или получал монетки от буржуа, открывая им дверцы фиакров. Франсия приютила, накормила и одела его, хотя у нее самой не было ничего, кроме нескольких драгоценностей, чудом уцелевших после бегства из Москвы. Когда эти скудные источники иссякли, а работа не приносила больше десяти су за день, Франсия стала любовницей мелкого нотариального клерка. Он показался ей красивым, и она простодушно полюбила его. Узнав об измене и все еще не утратив гордости, Франсия ушла, не зная, где будет ужинать на следующий день. Испытав несколько подобных приключений (она была слишком молода, чтобы иметь их много), Франсия завоевала сердце относительно богатого господина Гузмана. Она преданно и нежно любила этого человека, несмотря на его ревнивый нрав и чрезмерное самомнение. Надо признать, что Франсия довольствовалась малым. Не слишком энергичная, физически и нравственно слабая, она только недавно оправилась от болезни и, несмотря на свои семнадцать лет, мало походила на молодую девушку: ее милое личико внушало скорее симпатию, чем любовь, и, называя любовью свои привязанности, сама Франсия привносила в них больше нежности и доброты, чем страсти. Она действительно любила только маленького бездельника, своего брата, тот тоже любил ее, не всегда отдавая себе в этом отчет и не анализируя свои чувства. Но в этот вечер что-то переменилось в смятенных душах двух бедных детей. Внутренняя жизнь Теодора пробудилась благодаря патриотической гордости, Франсии — из-за страха потерять брата. — Послушайте, папаша Муане, — сказала она владельцу кафе, — достаньте мне кабриолет; я хочу найти знакомого русского офицера, чтобы он спас моего бедного Теодора. — Что ты такое несешь? — воскликнул Муане, закрывавший свое заведение. — Ты знаешь русских офицеров? Ты? — Да, еще с Москвы! Среди них есть добрые. — С красивыми девушками они могут позволить себе быть добрыми, мерзавцы! Я запрещаю тебе идти к нему! Поднимайся к себе или оставайся со мной. А я попробую вызволить твоего глупого брата. Совсем мальчишка, но в одиночку бросается на врага! Ладно, он не трус, пойду поговорю с ними, чтобы его отпустили. Муане вышел. Франсия прождала его четверть часа, казалось, длившиеся всю ночь, а затем еще полчаса, тянувшиеся как вечность. Не имея больше сил ждать, полубезумная, она остановила кабриолет, бывший тогда местной достопримечательностью, а теперь исчезнувший, села в него, не понимая, куда едет, но подчиняясь навязчивой идее заручиться поддержкой Мурзакина и не допустить гибели брата. Кучер ехал быстро, хотя Франсия взяла кабриолет на час: он торопился попасть на бульвары к тому времени, когда публика начнет выходить из театра. Было уже одиннадцать часов, и девушка согласилась на то, что он довезет ее только до Сен-Мартен. Сначала Франсия поехала в особняк де Тьевров. Там никого не было; но привратник сообщил ей, что князь Мурзакин этим вечером перебрался на новую квартиру, и показал, где она находится. — Вы позвоните в дверь, там нет консьержа. Франсия, не садясь в кабриолет, хозяин которого, ругаясь, ехал за ней, прошла вперед, повернула направо и увидела высокую стену, которая тянулась вдоль узкой улицы, казавшейся мрачной из-за отсутствия освещенных витрин магазинов и больших тенистых деревьев. Она нашла дверь, на ощупь поискала дверной молоток и через мгновение увидела перед собой огромного казака Моздара со свечой в руках. Его улыбка выражала симпатию. Он проводил ее в квартиру своего хозяина, где дворецкий, месье Валентин, заканчивал убирать гостиную. Этот невысокий старик сильно отличался от своего друга, любителя порядка, степенного Мартена. Молодой финансист, которому он раньше служил, вел рассеянную жизнь и нравился ему своим покладистым характером. Увидев на пороге красивую и хорошо одетую девушку (Франсия принарядилась, когда шла в Оперу), он решил, что все правильно понял, и оказал ей радушный прием. — Садитесь, мадемуазель, — сказал он ей любезным тоном. — Раз вы здесь, то, несомненно, князь скоро вернется. — Вы так думаете? — наивно спросила он. — Конечно, вы знаете это лучше меня: разве князь не назначил вам свидание? — И с недоверием добавил: — Полагаю, вы не пришли бы к нему почти в полночь без приглашения? Франсия не была невинна, но достаточно целомудренна, чтобы почувствовать себя оскорбленной навязанной ей ролью. Однако она смирилась с этим унижением ради встречи с тем, кто мог бы помочь ее брату. — Да, да, князь просил подождать его, казак и впустил меня потому, что хорошо знает. — Это ничего не доказывает, — возразил Валентин. — Он такой простофиля! Но вижу, вы воспитанное дитя. Садитесь, если угодно, в это кресло. А я подам вам пример: я столько работал сегодня, что немного устал. — И с блаженной улыбкой опустившись в другое кресло, Валентин накинул на свои худые, замерзавшие в шелковых чулках ноги меховую шубу князя и тотчас погрузился в легкую дрему. Франсии было не до того, чтобы удивляться манерам этого бесцеремонно-вежливого человека. Она смотрела только на раскачивающийся маятник часов и отсчитывала секунды по ударам своего сердца. Девушка не заметила ни роскоши квартиры, ни мраморных статуэток и картин, изображающих любовные сцены; ей было все безразлично, только бы поскорей увидеть Мурзакина. Наконец он вернулся. К тому времени владелец кабриолета пришел к философскому выводу, что лучше потерять плату за одну поездку, чем упустить возможность заработать на двух или трех. Поэтому он возвратился на бульвары, не беспокоясь более о своей клиентке. Поскольку экипажа у дверей не было, Мурзакин не знал, что у него гостья. Велико же было его изумление, когда он увидел у себя Франсию. Едва в дверь постучали, Валентин встал, заботливо отряхнул пыль с шубы и бросился навстречу князю, но, заметив его удивление, сказал, словно извиняясь: — Она утверждает, что ваша светлость пригласил ее, я и подумал… — Хорошо, хорошо, — ответил Мурзакин, — вы можете идти. — О! Пусть казак останется, — поспешил вставить Франсия, видя, что Моздар собрался уйти. — Я не стану вам долго докучать, ваше сиятельство. Ах, князь, простите меня. Дайте мне записку, совсем коротенькую записку для любого дежурного офицера на бульварах, чтобы отпустили моего арестованного брата. — Кто его арестовал? — Русские, князь! Прикажите, чтобы Теодора освободили из-под стражи как можно скорее! — И она рассказала ему о происшедшем в кафе. — Хорошо! Я не вижу в этом ничего серьезного, — ответил князь. — Но разве твой проказник-брат такая неженка, что не сможет провести ночь в тюрьме? — А если они убьют его?! — воскликнула Франсия, ломая руки. — Ну, это небольшая потеря! — Но я люблю брата и предпочла бы умереть вместо него! Мурзакин понял, что девушку надо успокоить. Он ничуть не волновался за арестанта, зная, что благодаря строгой дисциплине, установленной в русской армии, ему ничего не грозит. Но князь хотел задержать у себя прелестную просительницу и распорядился, чтобы Моздар сел на лошадь и поехал в указанное место искать заключенного. Получив приказ, составленный и подписанный князем, казак оседлал свою строптивую лошадь и тотчас ускакал. — Ты останешься здесь дожидаться его возвращения, — сказал Мурзакин Франсии, ничего не понявшей из их разговора. — О Боже! — воскликнула она. — Почему вы просто не прикажете освободить его? Ему не надо приходить сюда: ведь он вам не нравится! Теодор не сумеет поблагодарить вас, поскольку плохо воспитан! — Если он плохо воспитан, это твоя вина. Ты могла бы воспитать его лучше, потому что у тебя самой хорошие манеры. Кстати, я написал в Россию, чтобы нашли твою мать, если это возможно. — Ах! Вы и вправду добры, очень добры. Вы видите, я пришла, и вам, конечно, жаль меня. Но сейчас, князь, позвольте мне уйти. Я не могу более оставаться здесь. — Тебе нельзя идти одной так поздно! — У двери меня ожидает фиакр. — У какой двери? Здесь есть только одна дверь на улицу, и я не видел там никакого экипажа. — Значит, он уехал, не дождавшись меня. Эти парижские извозчики все такие! Но это не важно, я не боюсь, к тому же на улицах еще есть люди. — Но не здесь, это уединенное место! — Я осторожна и умею бегать. — Клянусь, я не отпущу тебя одну. Подожди брата. Тебе здесь плохо, или ты боишься меня? — О нет, это не так. — Опасаешься, что это не понравится твоему любовнику? — Конечно, он рассердится на меня. — Или обидит тебя? Что он за человек? — Очень хороший человек, князь. — Правда, что он парикмахер? — Цирюльник, он бреет. — Хорошее занятие! — Да, он честно зарабатывает на жизнь. — Он порядочный человек? — Я бы не оставалась с ним, если бы это было не так. — И ты действительно любишь его? — Полноте! Вы спрашиваете об этом, потому что я отдалась ему! Думаете, за этим кроется расчет? Я могла бы найти человека в десять раз богаче, но он понравился мне. Он образован, часто бывает за кулисами Оперы и знает все арии. К тому же я не корыстна, мои друзья называют меня дурочкой, потому что я слушаю только голос моего сердца, и говорят, будто я окончу свои дни на соломе. Ну и что, отвечаю я им, иногда у меня ее не было даже для того, чтобы сделать себе постель. А в России не нашлось соломы, чтобы умереть на ней. Ну, прощайте, князь. Довольно с вас моей болтовни, а я… — А ты, ты хочешь уйти, чтобы найти своего фигаро? Послушай, это нелепо, чтобы такое милое создание, как ты, принадлежало такому человеку. Хочешь любить меня? — Вас? Ах, Боже мой, что вы такое говорите? — Я не гордый. — Вы совершите ошибку, месье! — Франсия покраснела. — Нельзя, чтобы у такого человека, как вы, возникла мысль, которой впоследствии он будет стыдиться. Я ничто, но я не позволю унижать себя. Меня часто заставляли страдать, но я всегда жила с высоко поднятой головой. — Не воспринимай все так трагически. Ты мне нравишься, очень нравишься. И ты огорчишь меня, если откажешься с моей помощью стать немного счастливее. Я хочу вернуть тебе свободу… Платить тебе, нет! Я вижу, что ты горда и бескорыстна, но я дам тебе возможность лучше одеваться и больше заниматься своим братом. Я найду ему место, возьму к себе на службу, если ты пожелаешь. — О, спасибо, месье, но я никогда не соглашусь, чтобы мой брат был слугой. Мы благородного происхождения, из семьи артистов, и не стали сами артистами только потому, что не имели возможности учиться, но мы не привыкли ни от кого зависеть. — Ты удивляешь меня все больше и больше. Послушай, чего ты хочешь? — Вернуться домой, месье, пропустите меня! Чувства Франсии были задеты; она действительно хотела уйти. Мурзакин, прежде сомневавшийся в этом, понял, что девушка вполне искренна. Ее неожиданное сопротивление воспламенило его воображение. — Ступай же! — воскликнул он, открывая дверь. — Неблагодарная девчонка. Как! Неужели это то бедное дитя, которое я спас от смерти и которое просит меня вернуть мать и брата? Я сделаю это, раз обещал, но запомню бессердечность французов. — Ах, не говорите так обо мне! — воскликнула взволнованная Франсия. — Я чувствую благодарность и симпатию! Как мне не чувствовать? Но это не причина… — Конечно, причина. Другой для тебя быть не должно, потому что во всех своих поступках ты руководствуешься лишь сердцем! — Мое сердце! Я отдала его вам в тот день, когда вы накормили меня, раненную и умирающую от голода, поэтому я всегда помнила о вас, и ваше лицо, запечатленное, как на портрете, стояло перед моими глазами. Когда мне сказали: «Пойди посмотри, как русские проходят маршем по предместью», — я ощутила боль и стыд, вы понимаете! Свою страну любишь, если столько выстрадано, чтобы вновь увидеть ее; но я утешалась, говоря себе: «Может, ты заметишь его в колонне русских…» О! Я сразу узнала вас и тотчас сказала Теодору: «Вот он! Еще красивее, чем прежде. Он, наверное, важная особа!» Это так взволновало меня, что я имела глупость обнаружить свое волнение в присутствии Гузмана, и он швырнул мне в лицо горячие щипцы для завивки волос. — Ну и манеры у твоего предмета любви! Это отвратительно, моя дорогая! Я запрещаю тебе видеться с ним. Ты принадлежишь только мне, потому что любишь меня. Клянусь, что буду хорошо обходиться с тобой, и, покидая Францию, оставлю тебе состояние. Я даже могу взять тебя со мной, если ты привяжешься ко мне. — Значит, вы не женаты? — Я свободен и буду страстно любить тебя, моя перелетная птичка. Зная мою страну, что бы ты сказала о магазинчике в Москве? — Разве Москву не сожгли? — Ее отстроили заново, и она еще красивее, чем прежде. — Я очень люблю эту страну! Мы были счастливы там, но еще сильнее я люблю мой Париж. Вы здесь не останетесь. Было бы несчастьем привязаться к вам, чтобы тут же потерять вас! — Может, мы останемся здесь надолго, до подписания мира. — Надолго — этого недостаточно. Когда я влюбляюсь, мне хочется думать, что это навсегда, иначе я не смогла бы любить! — Странная девушка! Ты действительно полагаешь, что будешь вечно любить своего цирюльника? — Я так считала, когда слушала его. Он тоже обещал сделать меня счастливой. Все обещают быть добрыми и верными. — А он ни то, ни другое? — Не хочу на него жаловаться, я пришла сюда не за тем. — Но твое бедное сердце плачет против воли. Послушай, ты любишь его только из чувства долга, как любят плохого мужа, но раз он не твой муж, ты вправе оставить его. Найдя доводы князя весьма убедительными, Франсия не стала возражать ему. Ей показалось, что он прав. Ощутив, что в ней давно зрело разочарование, Мурзакин понял: он почти убедил ее. Взяв руки девушки в свои, князь попытался снять с нее небольшую голубую шаль, затянутую на талии. Эту привычку она приобрела, став обладательницей столь дорогой французской ткани, стоившей десять франков. — Не мните мою шаль! — простодушно воскликнула девушка. — Она у меня единственная! — Эта шаль ужасна, — сказал Мурзакин, срывая ее. — Я подарю тебе настоящую кашемировую шаль из Индии. Какая у тебя тонкая талия! Ты невысока ростом, но прекрасно сложена, моя дорогая, совсем как твоя мать! Ни один комплимент не польстил бы бедной девушке больше, и память о матери, к которой так ловко взывал князь, расположила ее к нему еще сильнее. — Послушайте! — обратилась она к нему. — Помогите мне найти мать, и клянусь вам… — Что, в чем ты клянешься мне? — спросил Мурзакин, целуя маленькие завитки черных волос на ее смуглой шее. — Я клянусь вам, — повторила Франсия, отстраняясь… Тихий стук в дверь заставил князя сдержаться. Он пошел открывать: это был Моздар. Он поговорил с дежурным офицером; всех арестованных в этот вечер передали французской полиции. Таким образом, Теодора у русских уже не было, и его сестра могла успокоиться. — Ах! — воскликнула она, сжимая руки. — Он спасен! Вы сам Господь Бог, и я благодарю вас! Мурзакин, переводя слова казака, присвоил себе заслугу освобождения Теодора, утаив от Франсии, что его приказ запоздал. Она поцеловала руки князя, взяла свою шаль и хотела уйти. — Это невозможно, — возразил он и закрыл дверь перед носом Моздара, не дав ему никакого распоряжения. — Тебе нужен экипаж. Я послал за ним. — Это будет нескоро, князь: в этом квартале в два часа ночи его не найдешь. — Ну хорошо! Я сам провожу тебя пешком, но торопиться некуда. Поклянись мне, что ты уйдешь от своего глупого любовника. — Нет, я не могу вам это обещать. Я никогда ни от кого не уходила сама, предпочтя другого. Я ухожу только тогда, когда меня к этому вынуждают, а с Гузманом все совсем не так. — Гузман! — рассмеялся Мурзакин. — Его зовут Гузман? — Разве это некрасивое имя? — смутилась Франсия. — Гузман, «Баранья нога»! — продолжил Мурзакин, смеясь. — Здесь нам рассказывали об этом. Я знаю песенку: «Гузман не ведает преград!..» — Ну и что? «Баранья нога» не такая уж плохая пьеса, и песня тоже очень хорошая. Не нужно так насмехаться! — Ах! Ты огорчаешь меня. — Мурзакина внезапно охватил приступ гнева; слишком много мудреной честности и ни капли здравого смысла! — Ты любишь меня, я это вижу, я тоже тебя люблю, я это чувствую. Да, я люблю тебя, твоя нежная душа привлекает меня, как и все твое милое существо. Ты мне понравилась и осталась в моем сердце еще с тех пор, как я увидел тебя несчастным, умирающим ребенком. Ты поразила меня. Если бы я знал тогда, что тебе уже пятнадцать лет!.. Но я думал, что тебе не больше двенадцати. А сейчас ты в том возрасте, когда влюбляются в первый раз и, если тебе угодно — на всю жизнь. Большего мне и не надо, клянусь тебе. Верь мне, я люблю тебя, клянусь!На следующий день Франсия сидела в своей бедной комнате в предместье Сен-Мартен. Часы на приходской церкви пробили девять, а она, ни на минуту не сомкнувшая глаз, еще не открывала окон и не завтракала. Девушка вернулась только в пять утра; ее привез Валентин, и ей удалось войти никем не замеченной. Теодор еще не приходил. Четыре долгих часа провела Франсия в неопределенных мечтаниях, и совершенно новый мир открылся перед ней. Девушка не чувствовала ни печали, ни усталости, а пребывала в экстазе и не сумела бы сказать, счастлива она или только ослеплена. Прекрасный принц поклялся вечно любить ее и, прощаясь, повторил это так убедительно, что она поверила ему. Князь! Франсия хорошо помнила Россию, поэтому знала, что в этой стране слишком много князей, и этот титул не всегда означает высокое положение, как считают у нас. Все достояние таких князей, ведущих свое происхождение с Кавказа, иногда составляли палатка, красивое оружие, хорошая лошадь, отара овец и несколько слуг — не то пастухов, не то бандитов. Все равно во Франции княжеский титул вновь обрел свою притягательность в глазах парижанки, а относительная роскошь временного пристанища Мурзакина, разбогатевшего на двести луидоров благодаря дядюшке, была для Франсии ни с чем не сравнима. Мурзакин представлялся ей прекрасным принцем из волшебной сказки. Она и не помышляла о том, чтобы ему понравиться, даже запрещала себе это. Направляясь к князю, Франсия решила не проявлять легкомыслия и выказала немало благоразумия и искренности, дабы преуспеть в этом. Но могла ли Франсия противиться тому, кому была обязана своей жизнью, жизнью брата и, возможно, в будущем возвращением матери? И все для того, чтобы не обидеть господина Гузмана, который бил ее и не был ей верен? Тогда откуда эти угрызения совести? Конечно, не потому, что девушка боялась Гузмана: он никогда не приходил утром и не узнал бы, как поздно она вернулась. Только портье заметил это, но он покровительствовал ей, поскольку ненавидел цирюльника, уязвившего однажды его самолюбие. Франсия очень дорожила своей репутацией, хотя ее репутация была известна, быть может, лишь сотне жителей квартала, знавших девушку в лицо или по имени. Не важно, не бывает близких горизонтов, как не бывает маленьких стран. Франсию считали искренней, сердечной, бескорыстной, преданной своим заурядным любовникам. Она вовсе не хотела прослыть продажной женщиной и искала способ примириться с реальностью, не потеряв при этом уважения к себе; но ее рассуждениям недоставало последовательности, заблуждение рассеяло ее страхи: видя прекрасного князя у своих ног, Франсия впервые к жизни поддалась тщеславию и даже не пыталась с ним бороться, приняла свое новое увлечение за восторженную любовь, какую никогда раньше не испытывала. Наконец приход Теодора пробудил ее от мечтаний. — Ты еще не одета? — спросил он, увидев сестру в юбке и ночной кофточке, с распущенными волосами. — Что случилось? — А ты? Ты возвращаешься в девять утра, тогда как я жду тебя с… — Ты прекрасно знаешь, что меня арестовали эти бульварные тамерланы[507]. Разве ты не заметила? — Но тебя через час отпустили на свободу. — Откуда ты знаешь? — Знаю! — Это правда, но в моем кармане оставались еще двадцать су Гузмана. Хотелось после всего немного гульнуть. Ты сердишься? — Теодор, не бери больше деньги у Гузмана, привыкай к этому… — Почему? — Я уже запрещала тебе. — А я и не возражал. Вчера он дал мне деньги, чтобы угостить тебя, так как сам не мог прийти. Ну ладно, у меня есть двадцать су, пойду развлекусь. Вот так! — Нужно вернуть их. Довольно того, что он оплачивает нашу квартиру. Это позволяет мне сэкономить немного денег, чтобы одеть тебя. — Хороша экономия! Все твои украшения загнали; ты поступаешь глупо, не бросая Гугу! Я ничего не скажу, он мужчина красивый и очень забавный, когда поет, но Гузман на мели, и, кроме тебя, у него никого нет. В один прекрасный день он бросит тебя, и было бы лучше… — Что было бы лучше? — Выйти замуж, хоть за рабочего. Я знаю одного такого в нашем квартале. Он охотно женился бы на тебе, если ты пожелаешь. — Ты говоришь как ребенок! Впрочем, ты и есть ребенок. Разве я могу выйти замуж? — А почему нет?.. Я больше не ребенок и, как недавно сказал Гугу, никогда им не был. На парижских мостовых нет детей — в пять лет здесь знают так же много, как и в двадцать пять. Не делай кислой мины, давай поговорим… Мы никогда не разговаривали с тобой об этом, не было повода, но вот ты заявляешь мне, что не следует брать деньги у Гузмана. Ты права. Я скажу тебе то же самое. Тебе надо уйти от него и выйти замуж. У папаши Муане есть племянник Антуан, жестянщик, у него есть деньги, чтобы обзавестись своим хозяйством, и ты ему нравишься. Он обо всем знает, но при мне сказал дяде: «Это не важно, будь на ее месте другая, я бы еще подумал, но она…» А папаша Муане ответил: «Ты прав! Если она и согрешила, то это моя вина, я обязан был лучше присматривать за ней. У меня не было времени. Но все равно она не такая, как другие: что пообещает — выполнит». Послушай, Франсия, соглашайся! — Нет! Это невозможно! Антуан хороший парень, но такой неотесанный! Рабочий! Это бы еще ничего, но он неопрятен, груб… Нет! Это невозможно! — Правильно. Тебе нужны цирюльники, от которых хорошо пахнет, или князья! Франсия вздрогнула, затем, решившись, сказала: — Ну хорошо! Мне нужны князья, и они у меня будут, если я захочу. Теодор, вначале удивленный ее самоуверенностью, восхитился. Порыв патриотической гордости, вдохновлявший его прошлой ночью в кабачке, уже угас. Потухшие было глаза мальчика вновь зажглись, и он, думая, что совершает героический поступок, ответил: — Князья — это очень мило, лишь бы они не были иностранцами. — Не будем больше об этом, — оборвала брата Франсия. — У нас нет времени на споры. Нам нужно уходить отсюда. В полдень за мной придут и заплатят долг за жилье. Я соберу вещи. Ты же останешься ненадолго здесь, чтобы передать Гузману: «Моя сестра уехала, вы больше не увидите ее. Я не знаю, где Франсия. Она возвращает вам голубую шаль и украшения, которые вы подарили ей…» Вот. — Итак, все улажено? — изумился Теодор. — Меня ты тоже бросаешь? Поступай как хочешь. — Ты хорошо понимаешь, что тебя я не брошу, Теодор. Кроме тебя, у меня никого нет. Вот четыре франка, все, что у меня осталось, но этого хватит, чтобы не голодать и не спать на улице. Завтра или в крайнем случае послезавтра ты получишь от меня вести, письмо для тебя у папаши Муане, и придешь туда, где буду я. — Ты не хочешь сказать мне куда? — Нет. Тогда ты, не обманывая, поклянешься Гузману, что не знаешь, где я. — А что говорить в нашем квартале? Гугу наделает шума! — Я готова к этому! Ты скажешь, что не знаешь! — Послушай, Фафа, — проговорил мальчишка, пощипывая свои едва заметные бакенбарды, — это невозможно! Я хорошо вижу, что ты надеешься стать счастливой и не собираешься бросать меня на произвол судьбы, но счастье мимолетно. Когда мы захотим вернуться в свой квартал, придется поменять все наше общество. Я имею дело с честными работягами, они не слишком мне досаждают, но часто упрекают за то, что я бездельничаю, и добавляют при этом: «Трудись, ты уже взрослый. Твоя сестра не всегда будет рядом с тобой! К тому же онане разбогатеет, хотя и заслуживает лучшего!..» Слышишь, Фафа? Когда тебя перестанут здесь встречать, это всех заинтересует, а если я появлюсь прилично одетым, с деньгами в кармане, и меня увидят с теми, кого презирают, то, черт!.. Придется заново искать друзей. Ты ведь этого не хочешь, не правда ли? Твой Теодор немногого стоит, но все же больше, чем ничего! Франсия закрыла лицо руками и разрыдалась. Впервые ей открылась жизнь общества. Она прилагала немалые усилия, чтобы не поддаться влиянию брата, которого до сих пор не принимала всерьез и который незаметно для нее возмужал. — Ты заслуживаешь большего, чем я, — сказала она ему. — Нам следует соблюдать приличия, но если мы уедем отсюда в другое место, то у нас не будет ни одного знакомого, кто поздоровается с нами при встрече. Но что делать? Я не могу остаться с Гузманом и не хочу хранить у себя его подарки. — Ты больше не любишь его? — Нет, не люблю. — А не можешь ли ты подождать? — Нет, я не могу и не должна его обманывать! — Ну хорошо, не обманывай. Скажи ему, что все кончено и ты решила выйти замуж. — Я солгала бы, и он не поверил бы мне. Подумай, какой шум он поднимет. Ложь причинит нам больше вреда, чем пользы. — Он уже не любит тебя так, как прежде! Скажи, что ты знаешь обо всех его проделках, выставь Гузмана за дверь, я помогу тебе. Я не боюсь его и справлюсь с десятком таких, как он! — Гузман начнет кричать, что он у себя дома и сам платит за жилье, что это он нас выгоняет. — Значит, тебе нечем заплатить за эту проклятую квартиру, чтобы швырнуть ему в лицо его деньги! — У меня четыре франка, я тебе уже говорила. Я никогда не беру у него деньги — мне это противно. Каждый день Гузман дает мне на ужин, поскольку ужинает с нами, а утром мы с тобой доедаем то, что осталось. — Ах! — Теодор сжал кулаки. — Если бы я знал! Я выучусь какому-нибудь ремеслу, Фафа, правда! Возьмусь за любую работу. Буду трудиться, чтобы не зависеть от других. — Ведь я говорила тебе об этом! Ты прекрасно видел, что шитьем на дому фланелевых жилетов я могу заработать не больше десяти су в день. На эти деньги трудно растить тебя и жить не нищенствуя. Любовники говорили мне: меньше работай, ты слишком красива для того, чтобы сидеть с иголкой до ночи, к тому же это не спасет тебя. Я слушала их, думая, что дружба способна защитить от бесчестья, и вот мы оказались в таком положении! — Нужно покончить с этим! — воскликнул Теодор. — Это все из-за меня! Пойду искать Антуана. Он за все заплатит и проводит тебя туда, где ты будешь жить до тех пор, пока не выйдешь за него замуж! Антуан обожал Франсию; она была его мечтой, идеалом. Он прощал девушке все и был готов защищать, спасать ее. Она хорошо это знала. О том красноречиво говорили его глаза и смущение при встрече с ней. Но Антуан был необразован, едва умел написать свое имя. Он не мог сказать ни слова без ругательств, носил блузу, у него были большие грязные волосатые руки. Антуан брился раз в неделю и казался Франсии отвратительным, сама мысль о том, чтобы принадлежать ему, возмущала ее. — Если ты хочешь, чтобы я покончила с собой, — крикнула она в отчаянии и шагнула к окну, — иди за ним! Однако необходимо было сделать выбор, и любое решение казалось невозможным. Тут в дверь негромко постучали. — Не бойся! — сказал Теодор сестре. — Это не Гузман, он так тихо не стучит. — Мальчик пошел открывать: это явился господин Валентин. Он доставил письмо от Мурзакина следующего содержания: «Поскольку ты так боязлива, моя милая голубая птичка, я нашел способ все устроить. Месье Валентин тебе обо всем расскажет, доверься ему!» — Так что же придумал князь? — обратилась Франсия к Валентину. — Князь решительно ничего не придумывал. — Валентин напустил на себя вид человека выдающегося ума. — Он рассказал мне вашу историю и сообщил о ваших сомнениях. Я нашел очень простой выход. Я скажу хозяину квартиры и в кафе, внизу, будто ваша матушка возвращается из России и вы едете встречать ее на границе: она прислала вам деньги. Не волнуйтесь, однако поторопитесь. Фиакр номер 182 стоит у Порт-Сен-Мартена, он отвезет вас к князю, который дожидается вас. — Пойдем. — Франсия взяла брата за руку. — Видишь, как добр князь — он спасает нашу жизнь и честь! Ошеломленный Теодор позволил увести себя. Его нравственность была еще слишком незрелой, чтобы сопротивляться происходящему. Они постарались пройти мимо кафе незамеченными, хотя сердце Франсии сжималось при мысли, что она тайком покидает старого друга, но он, возможно, стал бы удерживать ее силой. Фиакр отвез их в предместье Сен-Жермен. Моздар встретил брата и сестру и проводил во флигель, где поселился Мурзакин. На верхнем этаже находилась маленькая квартирка, и Валентин охотно сдал ее князю за дополнительный луидор в день. Из нее открывался вид на площадку, где соединялись сады близлежащих особняков, включая и сад де Тьевров. — Здорово! — сказал Теодор, осмотрев все три комнаты. — Так мы и вправду сойдем за князей. Час спустя вернулся Валентин с картонной коробкой и узлом. Он принес Франсии и Теодору их немудреные пожитки, оставленные ими в старой квартире. — Все улажено, — сообщил он им. — Я заплатил за жилье, и вы никому ничего не должны. Я отослал господину Гузману Лебо вещи, которые вы пожелали вернуть ему. Я передал вашему другу Муане то, о чем мы договорились. Он не слишком удивился, а только опечалился, что вы не попрощались с ним. — Две крупные слезы скатились по щекам Франсии. — Успокойтесь, — сказал Валентин, — он не упрекал вас: я все взял на себя и объяснил ему, что вы должны были в час дня ехать дилижансом в Страсбург, поэтому, опасаясь пропустить экипаж, не могли терять ни минуты. Он спросил мое имя. Я назвал вымышленное и пообещал прийти снова, чтобы сообщить о вас новости. Я оставил Муане в спокойном и веселом расположении духа. Теодор пришел в восторг и, не удержавшись, захлопал в ладоши и сделал пируэт. — Молодой человек доволен? — Валентин подмигнул. — Сейчас надо подумать о том, чтобы найти тебе занятие. Князь не желает, чтобы ты слонялся по улицам без дела. Я пошлю вашего брата к одному из моих друзей, у которого есть подряд на гужевые перевозки за пределами Парижа. Он умеет писать? — Не слишком хорошо, — ответила Франсия. — А читать? — Да, неплохо. Это я научила его. Если бы брат захотел, то выучился бы всему! Он не глуп! — Он будет выполнять различные поручения и мало-помалу научится писать — его дело учиться. Больше знаешь, больше зарабатываешь. Если Теодор не станет лениться, то получит жилье, еду и кое-что из одежды. Вот адрес хозяина и письмо для него. Что касается вас, мое дорогое дитя, вы вольны выходить отсюда в любое время, но поскольку вы не желаете, чтобы вас видели, моя жена будет приносить вам еду. Если же вам станет скучно одной, она придет вязать подле вас. Моя жена неглупа и располагает к себе. Вы сможете утром и вечером гулять в саду. Успокойтесь, у вас ни в чем не будет нужды, я весь к вашим услугам. Устроив наконец жизнь двух детей, доверенных его попечению, господин Валентин удалился, не сообщив Франсии, которая не посмела спросить его об этом, когда она вновь увидит князя. — Итак, ты доволен? — обратилась она к брату. — Ты хотел работать… И тебе предоставили такую возможность. — Конечно, я хочу работать! — Теодор решительно топнул ногой. — Но мне не нравится быть обязанным другим. Это продолжается слишком долго. Ну ладно, я исчезаю. Надену белый воротник, чтобы выглядеть приличным человеком, и новые башмаки, поскольку придется много бегать по делам. Если мне понадобится что-нибудь, я приду. Прощай, Фафа, надеюсь, что оставляю тебя счастливой!.. Впрочем, я еще зайду повидать. — Ты уже уходишь? — Сердце Франсии сжалось при мысли, что она останется одна. Девушка не была до конца уверена, что намерения ее брата не изменятся. Привыкнув присматривать за ним, насколько возможно, бранить его, когда он поздно возвращался, Франсия не позволила ему окончательно опуститься. Не случится ли это теперь, когда Теодору не придется больше опасаться ее упреков? — Что мне тут делать? — печально спросил он. — Здесь красиво, даже роскошно, но я буду скучать, как птица в клетке. Мне надо двигаться, дышать свежим воздухом, видеть лица людей! Мне совсем не нравится физиономия твоего князя, впрочем, как и моя ему. И потом он иностранец, союзник! Ты станешь хвалить его… Я буду злиться! — Он враг, я согласна, — отозвалась Франсия, — но без него ты потерял бы меня, и мы не имели бы возможности отыскать нашу матушку. — Ну хорошо! Если мы найдем ее, все изменится. Она будет несчастна, и мы станем трудиться, чтобы она ни в чем не нуждалась. Я пойду работать. — Правда? — Ведь я сказал тебе! — Ты так часто мне обещал! — А сейчас это правда. Надо, чтобы люди уважали меня. — Тогда иди! Только сначала поцелуй меня! — Нет. — Мальчишка надвинул картуз на самые глаза. — Давай без нежностей, все это глупости. Он удалился с решительным видом, дошел до конца улицы, на мгновение остановился, сдерживая слезы, а затем пустился бежать в направлении Вожирар, где поступил в распоряжение хозяина, которому его рекомендовал месье Валентин. Франсия плакала, говоря себе: «Без работы он не остепенился бы и, быть может, окончательно погубил бы себя! Если Господь пожелает и Теодор сдержит слово, я не стану ни о чем жалеть». И все же она сожалела, хотя и не признаваясь себе. Все ее бедное маленькое существо было потрясено. Франсия навсегда оставила свой небольшой уголок в Париже, где ее любили сильнее, чем осуждали. Пятнадцатилетняя девочка, пережившая ужасы отступления из России и разгром при Березине, милая, нежная, с хорошими манерами, слишком гордая, чтобы кому-то жаловаться, самоотверженно взявшая на себя заботы о брате, она была не из тех, кто бросается в объятия первого встречного; и если ее иногда упрекали за непостоянные любовные связи, то и прощали, понимая, что Франсия ни для кого не хочет быть обузой. Мнение людей всегда связано с эгоизмом. Вы отталкиваете нищенку, которая говорит вам: «Подайте мне, чтобы я не принуждала вас это делать». И вы в известной мере правы, потому что многие злоупотребляют вашим доверием. Предпочитают, чтобы невинность гордо пала, не испрашивая совета, и приняла, не жалуясь, свой жребий. Итак, Франсия покинула тех, кого называла своим обществом. Она осталась одна, единственной опорой девушки был иностранец, обещавший любить ее, единственным знакомым — незнакомец Валентин, и его тайная испорченность, ловко замаскированная внушительным внешним видом, уже внушала Франсии смутные опасения. Она осмотрела свою красивую квартиру, не слишком задаваясь вопросом, что станет с ней, если через несколько дней союзники уйдут из Парижа или если Мурзакин бросит ее. Это предположение больше не приходило Франсии в голову, равно как и Теодору. Она распаковала узлы, убрала свои портки в шкафы, привела себя в порядок и посмотрелась в псише[508] из красного дерева, с ножками в виде лап льва из позолоченной бронзы. Девушка восхищалась сомнительной роскошью, которой окружил ее прекрасный князь, фанерованной мебелью, тронутой временем, гардинами из муслина, собранными в тысячи складок на античный манер, вазами из алебастра со стеклянными гиацинтами, голубой софой с оранжевой бахромой, маленькими настольными часами с изображением амура, прижимающего палец к губам. Франсия поставила на виду несколько жалких безделушек, принесенных Валентином из ее старой квартиры, хотя своей кричащей бедностью они не подходили к ее новому жилищу. Наконец она села у окна, чтобы полюбоваться прекрасным садом и высокими деревьями, но нашла их скучными в сравнении с неказистыми мансардами и черными крышами, которые обычно рассматривала у себя. Девушка поискала взглядом горшок с резедой на окне, которую всегда поливала вечером и утром. — Ах! Боже мой, — воскликнула Франсия, — Валентин забыл перевезти резеду! И она начала оплакивать эти навсегда утраченные и потому бесценные для нее вещи, связанные с былыми привычками, воспоминаниями и привязанностями. Что делал Мурзакин в то время, как услужливый Валентин занимался устройством его любовницы, создавая самые благоприятные условия для их тайной связи? Он пытался усыпить подозрения своего дядюшки. Огоцкий вновь увидел мадам де Тьевр в Опере во всем блеске ее цветущей красоты и зашел поздороваться с ней в ложу. Она была с ним мила. Всерьез увлеченный Флорой, он решил не останавливаться ни перед чем, чтобы взять верх над своим племянником. Мурзакин, не отказываясь от прекрасной француженки, сделал вид, что уступает Флору дядюшке, поскольку всецело зависел от него. — Вчера в Опере по вашей милости неблагосклонность ко мне усугубилась, — сказал он ему. — Моя прекрасная хозяйка даже не сморит на меня, и, чтобы утешиться, я пустился в маленькую авантюру. Я взял к себе одну малышку. Это не ахти что, но она парижанка, то есть кокетлива, мила, аккуратна и забавна. Вы сохраните это в секрете, мой добрый дядюшка? Мадам де Тьевр, настоящая светская женщина, будет слишком презирать меня, если узнает, что я так быстро утешился после проявленной ею ко мне суровости. — Не беспокойся, Диомид. — Тон Огоцкого ясно дал понять Мурзакину, что в самом скором времени его выдадут. Это все, чего желал этот дикий князь и хитрый льстец. Мадам де Тьевр была заранее предупреждена: она знала только то, что Мурзакин пожелал ей рассказать. По его словам, Франсия была бедной, довольно некрасивой девушкой. Он пожалел ее и стал для нее опорой, потому что во время кавалерийской атаки «имел несчастье задавить ее мать». Он поселил Франсию в своем доме, пока не найдет для нее какую-нибудь подходящую работу. Князь сочинил эту историю и рассказал ее с таким изяществом, лгал так обаятельно и непринужденно, что мадам де Тьевр, тронутая искренностью Мурзакина и польщенная его доверием, пообещала принять участие в его протеже. Кроме того, она поняла, что это случайное обстоятельство может иметь благоприятные последствия для ее отношений с Мурзакиным, ибо рассеет подозрения дядюшки Огоцкого. Теперь Флора согласилась на эту низость, вначале возмутившую ее: она была побеждена князем, хотя и не хотела себе в этом признаться, и поддалась со сменяющими друг друга волнением и апатией тому, что сулило ей поражение, но при этом не компрометировало его. Мурзакин же более не надеялся одержать победу над Франсией в один день. Опасаясь, что в ней вновь заговорят досада и гордость, если он будет слишком настойчив, князь дал себе неделю на то, чтобы убедить девушку. Он был готов проявить терпение: Франсия в самом деле нравилась ему. Вечером, ужиная с девушкой в маленькой комнатке, он окончательно влюбился в нее. Мурзакин, как и всякий другой мужчина, был способен любить той эгоистической любовью, которую щедро дарят в минуты восторга и которая умирает, сталкиваясь с препятствиями. Действительно, в любовном опьянении князь был очаровательным, нежным и страстным. Бедная Франсия, так страдавшая от одиночества, отдалась любви всем своим существом и просила у князя прощения за то, что испытывает сомнения, тогда как должна чувствовать лишь счастье принадлежать ему. — Послушайте, — сказала она, — до сегодняшнего дня я не знала, что такое любовь. Посмотрите на меня, я не обманываю и готова на все, лишь бы доставить вам удовольствие! В самом деле ее ясные глубокие глаза, доверчивая и невинная, как у ребенка, улыбка свидетельствовали о полной искренности. Мурзакин, проницательный и подозрительный, не мог ошибаться в этом. Он чувствовал, что его любят в полном смысле этого избитого слова, — мечта становилась реальностью. Временами князь ловил себя на том, что тоже испытывает к Франсии нечто большее, чем обычное желание. Он владел ее сердцем и с любопытством изучал душу маленькой француженки, говорившую с ним на непонятном языке, не употреблявшую в отличие от светских женщин избитых выражений и слишком пламенную, чтобы оставаться при этом утонченной. Франсия проспала два часа, положив голову ему на плечо, но с наступлением дня проснулась и защебетала как птичка. Она привыкла встречать восход солнца, любила гулять, дышать свежим воздухом, бывать на людях. Они сели в экипаж, и князь отвез ее в Роменвиль[509] — место свиданий всех счастливых влюбленных. В лесу еще никого не было. Франсия нарвала букетик фиалок и прикрепила его к мундиру так, чтобы цветы лежали у самого его сердца. Они позавтракали свежими яйцами и молочными продуктами. Франсия была кокетливой и нежной, а ее веселость — грациозной и сдержанной, без тени вульгарности. Они много говорили — русские многословны, парижане болтливы. Князя удивляло, что он беседует с ней, ничего не знающей и вместе с тем знающей по слухам все о событиях и связях, как истинные парижане разных сословий. Какой контраст с народами, которые, не имея права высказаться, теряют потребность думать! Париж — храм истины, где мыслят возвышенно и учатся друг у друга способности размышлять обо всем. Восхищенный Мурзакин то и дело спрашивал себя, не встретил ли он натуру исключительную? Князь склонялся к такому предположению, наблюдая, в частности, сердечную доброту Франсии. Какой бы темы он ни коснулся, она судила всегда и обо всем искренно, беспристрастно и сострадательно. Это объяснялось тем, что в прошлом Франсия много страдала сама и видела страдания других. — И что? — говорил ей в экипаже князь по дороге домой. — Ни одного дурного чувства: зависти к богачам, презрения к преступникам? Ты воплощение кротости и наивности, мое бедное дитя, и если другие француженки похожи на тебя, то вы самые совершенные создания в мире. Служба не слишком обременяла Мурзакина, ему хотелось быть больше занятым, чтобы иметь повод не появляться в особняке де Тьевров. Князю казалось, что никакая другая женщина не может более интересовать его. Три дня он любил только ее. В продолжение трех дней Франсия была так счастлива, что забыла обо всем и ни о чем не сожалела. Мурзакин стал для нее всем; она не верила, что такое огромное счастье может длиться вечно… Вдруг он перестал появляться, и ужас овладел Франсией. Но тут произошло грандиозное событие. Наполеон, несмотря на акт отречения, выступил из Фонтенбло на Париж[510]. У него еще оставались силы, но союзники не опасались его. Опьяненные легкой победой и удовольствиями, которые дарил им Париж, они забыли, что высоты, служившие городу естественной защитой, остались без прикрытия. Известие о приближении императора повергло их в лихорадочное волнение. Поспешно отдали приказы, и все бросились к оружию. Париж, находясь между двух огней, выжидал. Мурзакин вскочил на лошадь и ускакал. Он не вернулся домой ни вечером, ни на следующий день. Желая успокоить Франсию, Валентин сообщил ей о том, что случилось. Опасности, которым подвергался Мурзакин, внушали девушке больший ужас, чем его предполагаемая неверность. Она знала, что такое война. Она много раз видела, как клинок француза пронзал неприятеля и как его прятали в ножны после страшной резни. — Они убьют его! — воскликнула Франсия. — Они снова овладеют Парижем и не пощадят ни одного русского! — Она в отчаянии ломала руки и, быть может, молилась за врага. Франсия была в сильной тревоге, когда вечером к ней заглянул брат. — Я пришел попрощаться с тобой, — сказал он. — Становится жарко, Фафа, и на этот раз я буду участвовать в схватке! Возраст здесь ни при чем. Мы идем возводить баррикады, чтобы не дать противнику вернуться сюда. Как только они побегут, мы встретим их камнями, кирками, кольями — всем, что подвернется под руку. Мы все пойдем в предместье, нам не нужны приказы, обойдемся без офицеров, справимся сами. Теодор долго говорил в том же духе. Глаза Франсии расширились от ужаса, а руки судорожно сжимали колени. Она молчала, уже видя их обоих, брата и любовника, этих единственно дорогих для нее существ, мертвыми. Франсия пыталась все же удержать Теодора. Он возмутился. — Тебе хотелось бы видеть меня трусом? Уже не помнишь, о чем ты так часто говорила мне: «Ты никогда не станешь мужчиной!»? А я, вот он, здесь! Я уже стал им! Я пошел работать, но все рабочие хотят сражаться, и я так же, как любой другой, способен ввязаться в бой. Не обязательно быть выносливым и сильным, чтобы драться с врагом. Самые ловкие, и я среди них, набросятся на казаков сзади и перережут им горло. Женщины тоже будут там: они станут бросать из окон булыжники на их головы; пускай чужеземцы приходят, их здесь ждут! Оставшись одна, Франсия почувствовала, что ее рассудок изнемогает. Она спустилась в сад и прошлась под высокими деревьями, не осознавая, где находится: временами ей казалось, что она слышит грохот орудий, но это был лишь прилив крови к мозгу, звоном отдававшийся в ушах. Париж сохранял спокойствие, все должно было разрешиться в дипломатических переговорах, и после последней попытки дать бой Наполеон смирился на острове Эльба. Внезапно Франсия лицом к лицу столкнулась с крадущейся в сумерках высокой женщиной в белой шали. Та вдруг остановилась, чтобы взглянуть на нее. Это мадам де Тьевр, хорошо зная окрестности и пройдя через сад своей подруги, мадам де С., находившейся в отъезде, явилась справиться о Мурзакине. Она тоже была обеспокоена, взволнована и, желая узнать, вернулся ли князь домой, уже дважды посылала Мартена, но, не решаясь больше обнаруживать свою тревогу, сама пошла под прикрытием вечерней темноты посмотреть, светятся ли окна флигеля. Маркиза, увидев женщину, одиноко гуляющую в саду, куда не мог проникнуть посторонний, догадалась, что это молодая протеже князя, и без колебаний остановила ее: — Вы Франсия? — И так как та медлила с ответом, сказала: — Это, конечно же, вы: не бойтесь меня. Я близкая родственница князя и пришла выяснить, есть ли известия от него? — Франсия ничуть не испугалась и ответила, что она их не имеет, неосмотрительно добавив при этом, что ее очень волнует, идут ли бои на заставах. — Нет, слава Богу! — воскликнула маркиза. — Но может быть, где-то дальше. Вижу, вы обеспокоены. Вы очень привязаны к князю? Не краснейте, я знаю, что он сделал для вас. Конечно, у вас есть основания быть ему признательной. — Он рассказывал вам обо мне? — удалась Франсия. — Он обязан был это сделать, поскольку вы пришли поговорить с ним ко мне в дом. Я хотела знать, кто вы. — К вам?.. Ах да, вы маркиза де Тьевр. Простите меня, мадам, я надеялась… из-за моей матери… — Да, да, я все знаю, кузен рассказал мне обо всем в подробностях. Итак, ваша бедная матушка. Надежды больше нет, и из-за этого… — Нет надежды? Он сказал вам, что больше нет надежды? — Значит, он утаил от вас правду? — Он сообщил мне, что написал письмо и ее найдут! Ах! Боже мой! Он обманул меня! — Обманул? В чем же он обманул вас? — Тон мадам де Тьевр напугал девушку; она опустила голову и не ответила. Франсия угадывала в ней соперницу. — Отвечайте же! — повторила маркиза еще более суровым тоном… Он ваш любовник — да или нет? — Но, мадам, я не понимаю, по какому праву вы спрашиваете меня об этом! — У меня нет такого права. — Мадам де Тьевр овладела собой и попыталась улыбнуться. — Вы интересуете меня, потому что несчастны, особенно и фантастически несчастны. Ваша мать погибла под копытами лошади Мурзакина, поэтому он приютил вас. Это настоящий роман, моя дорогая, и если здесь замешана любовь… право же, концовка довольно неожиданная, я в растерянности! Франсия не произнесла ни слова, не издала ни звука. Она убежала так стремительно, будто ее ужалила змея, и, оставив ошеломленную этим внезапным исчезновением мадам де Тьевр, поднялась в свою комнату, бросилась на пол и провела ночь в состоянии оцепенения или горячки, так что на следующий день не могла ничего вспомнить. На рассвете Франсия с трудом добралась до постели и на некоторое время забылась. Ей приснился ужасный сон. Она видела свою мать, лежащую на снегу с окровавленной головой. Ее тащила за собой лошадь Мурзакина, и жуткие глаза, смотревшие на Франсию, были то глазами ее матери, то глазами Теодора. Девушка с криком пробудилась. Услышав крик, мадам Валентин пришла узнать, что случилось. Франсия молчала, не доверяя это женщине, и мадам Валентин пришлось заговорить самой: — Видите ли, мое дорогое дитя, если вы боитесь войны, то напрасно: войны больше не будет. Тирана посадят в башню, где ему уготована железная клетка. Наши добрые союзники скоро схватят этого человека, и ваш дорогой князь не получит ни царапины. Вчера вечером мне поведали об этом карты. Ах! Вы так любите этого прекрасного князя! Я понимаю вас. Кажется, он вас тоже любит. Месье Валентин говорил мне вчера: «Удивительно, как сильно нравятся русским наши маленькие француженки! Это совсем не похоже на мимолетные увлечения нашего прежнего хозяина, который приказал привести в порядок эту квартиру, чтобы без шума устраивать свои любовные делишки». Да! Он менял женщин, как галстуки, и дорожил ими так мало, что подчас забывал проводить одну, прежде чем встретить другую. Тогда это приводило к сценам и даже дракам. Было над чем посмеяться. Но князь не так испорчен, как тот. Он человек искренний и женится на вас, если вы проявите благоразумие. Вы так не считаете? — добавила она, заметив, как вздрогнула Франсия. — Ах, конечно, это кажется невозможным, однако такое случается. Все зависит от того, умны ли вы, а я не считаю вас глупой. У вас изысканный вид, а манеры… как у настоящей барышни. Какое несчастье для вас, что вы слушаетесь своего цирюльника! Все было бы возможно, будь это не так. Вы скажете мне, что многие сделали состояние и без замужества, это правда. Когда князь уедет, вы, быть может, найдете другого, равного ему по положению. Замечательно, что вас любил князь, это позволяет забыть ваше прошлое, возвышает вас в глазах мужчин. Не беспокойтесь, месье Валентин знает высший свет, и, если вы доверитесь ему, он даст вам хороший совет и поможет завязать полезные знакомства. Мадам Валентин болтала гораздо больше, чем позволял ей осторожный муж. Франсия старалась не слушать ее, но слышала помимо воли. Стыд, что она находится под покровительством таких людей и должна выслушивать их советы, заставлял ее сильнее чувствовать ужас своего положения. — Я хочу уйти! — воскликнула Франсия, вскочив с постели и пытаясь в спешке одеться. — Я не должна более здесь оставаться! Мадам Валентин подумала, что девушка бредит, и вновь уложила ее в постель. Сделать это было несложно, потому что силы покинули Франсию, и смертельная бледность разлилась по ее лицу. Мадам Валентин послала мужа за врачом. Он привел хирурга, знакомого ему с тех времен, когда тот лечил его рану на ноге. Медицинской практикой он занялся после того, как, став инвалидом, покинул армию. Этот бывший ученик и преданный друг Ларре отличался такой же добротой и простодушием, как и его учитель. Он даже немного походил на него, что ему льстило. Он подчеркивал это сходство, копируя костюм и прическу Ларре. Как и у Ларре, у доктора были довольно длинные черные волосы, ниспадающие на воротник. Увидев его бледное лицо, безупречной формы лоб, живой и мягкий взгляд, Франсия, чьи воспоминания были еще слишком свежи, заметив его подле себя, воскликнула, молитвенно сложив руки: — Ах, господин Ларре[511], я так часто видела вас там! — Где там? — спросил доктор Фор, глубоко тронутый тем, что девушка ошиблась. — В России! — Это не я, дитя мое, меня там не было, но сердце мое всегда оставалось с ним! Посмотрим, что у вас болит. — Ничего, месье, совсем ничего, это печаль. Я видела страшный сон, поэтому чувствую слабость. Но это не имеет значения, я хочу уйти отсюда. — Видите, доктор, — сказала мадам Валентин, — девушка бредит. Она у себя дома, и здесь ей очень хорошо. — Оставьте меня наедине с ней, — проговорил доктор. — Кажется, вы пугаете ее. Вы мне не нужны, чтобы понять, бредит ли она. Мадам Валентин вышла. — Доктор, — промолвила Франсия, пытаясь скрыть лихорадочное волнение, овладевшее ею, — помогите мне вернуться домой! Я нахожусь у человека, убившего мою мать. Доктор нахмурился. Странное признание девушки показалось ему признаком безумия. Он проверил пульс: у нее был жар, но не такой сильный, чтобы внушать опасения. Фор дал Франсии воды, попросил минуту посидеть спокойно и наблюдал за ней. Затем осторожно расспросил девушку и был поражен ясностью и искренностью ее ответов. За десять минут он узнал всю жизнь Франсии и отчетливо представил себе ее положение. — Мое бедное дитя, — сказал он, — сомневаюсь, что этот русский князь убил вашу матушку. Соперница могла солгать, чтобы заставить вас страдать или прекратить вашу связь с возлюбленным. Сам я живу по пословице: «Сомневаешься — проверяй!» Для вас будет лучше, если через несколько часов, сегодня вечером, не подвергая риску свое здоровье, вы уйдете отсюда. — Лицо Франсии выразило отчаяние. — У вас нет денег, я знаю, — продолжал доктор, — и вы не хотите ничего принимать от князя. Я небогат, скорее, даже беден, но знаком с добрыми людьми. Не зная вашего имени и вашей истории, они окажут мне материальную помощь, и вы получите возможность переехать в другое место. Ну а потом надо попытаться найти работу. — Но, месье, я работаю! Посмотрите, вот мое рукоделие. У меня есть вещи, которые нужно только закончить и отослать. — Да, — улыбнулся доктор, — фланелевые жилеты. Я знаю, какой это приносит доход! Этого мало, лучше обратиться в больницу для бедных или в любое другое медицинское учреждение и получить постоянное место, например, кастелянши. Я позабочусь о вас. Если вы проявите стойкость и ум, то с честью выйдете из трудного положения. Если нет, то предупреждаю: я брошу вас на произвол судьбы. Вижу, что сейчас у вас благие намерения, и я дам вам возможность осуществить их. Постарайтесь поспать часок. Теперь вы знаете способ исправить вашу ошибку. Затем вы встанете, не спеша оденетесь, и я отвезу вас на временную квартиру, которую вы сами выберете. Мне понадобятся два-три дня, чтобы устроить вас. Франсия, прощаясь, поцеловала доктору руку. Ей так не терпелось уйти отсюда, что она не смогла заснуть. Девушка поднялась с постели, заперла дверь, чтобы избавиться от навязчивости мадам Валентин, и начала складывать свои вещи. Каждую секунду она прислушивалась, не вернулся ли добрый доктор, предложивший ей помощь, которой она уже не стыдилась. В два часа ночи Франсия услышала стук в дверь, подбежала к ней, открыла и оказалась в объятиях Мурзакина. Схватив девушку, как добычу, он покрыл ее поцелуями. — Оставьте меня, оставьте меня! — закричала она, отбиваясь. — Я ненавижу вас, вы внушаете мне ужас! Оставьте меня, на ваших руках кровь моей матери. Я проклинаю вас, не прикасайтесь ко мне или я убью вас! Франсия побежала в глубь комнаты, в исступлении пытаясь найти нож для нарезания хлеба. Услышав ее крики, наверх поднялся Валентин. — Князь — сказал он, — не приближайтесь к ней, она бредит. Я говорю вам правду, девушка с утра потеряла рассудок. Я слышал, как она сказала врачу, что не хочет оставаться с человеком, убившим ее мать. Но посудите сами… — Убирайтесь! Оставьте меня в покое! — закричал князь. Выпроводив Валентина и оставшись наедине с Франсией, он приблизился к ней, распахнул мундир и протянул ей кинжал. — Убей меня, если ты всему поверила. Видишь, это нетрудно. Я не помешаю тебе. Смерть лучше, чем твоя ненависть. Но прежде скажи, кто сообщил тебе эту гнусную и нелепую ложь?! — Она! Ваша любовница! — У меня нет любовницы, кроме тебя. — Маркиза де Тьевр, ваша так называемая кузина! — Она едва ли моя кузина, но уж точно не любовница. — Но она станет ею. — Нет, если ты любишь меня. В первый день я немного увлекся ею. Во второй — увидел тебя, на третий — влюбился в тебя: я не могу любить никого, кроме тебя. — Почему она сказала, что вы убили?.. — Чтобы разлучить нас. Возможно, она уязвлена, ревнует, откуда мне знать? Она солгала, исказив историю твоих несчастий, которую мне пришлось рассказать ей в тот день, когда ты пришла поговорить со мной. Но я готов поклясться нашей любовью, что не был там, где тебя ранили и где погибла твоя мать! — Так она погибла! Вы знали об этом и обманывали меня? — Мог ли я повергнуть тебя в отчаяние, в смятение в то время, как ты сохраняла еще надежду? Притом разве можно быть вполне уверенным в делах такого рода. Моздар видел, как упала твоя мать, но не знает, да и не может знать, не подобрали ли ее после боя еще живой, как тебя. Я послал письмо, мы все выясним. Я не обещал, что тебя ждут хорошие известия. Но ты должна верить мне, потому что я спас тебя! Волнение и гнев Франсии утихли. — Все равно я хочу уйти, доктор сказал: «Если сомневаешься — проверяй!» — Какой доктор? О каком осле идет речь? Ты имела неосторожность кому-то довериться? — Да. Я рассказала все весьма порядочному господину, другу доктора Ларре, которого привела ко мне мадам Валентин. Он вскоре придет за мной. — Побуждаемая вопросами Мурзакина, Франсия пересказала ему содержание своей беседы с месье Фором. — Неужели ты думаешь, — возмутился князь, — что я позволю тебе уйти от меня и жить на подаяние, собранное сердобольными жителями квартала? Ты, такая гордая, окажешься в положении нищенки? Нет! Вот кредитный билет, я кладу его под этот подсвечник… Когда захочешь уйти, ты сможешь сделать это, не спрашивая моего разрешения, и не будешь никому и ничем обязана. Ты без всякой причины разбиваешь мое сердце. Если желаешь, уходи сейчас! Я не буду долго страдать и, если вновь начнется война, найду смерть в первом же бою. Я скажу себе, что за всю мою жизнь был счастлив только два дня. Но это счастье было таким огромным, восхитительным и полным, что, кажется, будто оно длилось целую вечность. Мурзакин говорил с такой убежденностью, что Франсия, рыдая, упала в его объятия. — Нет! — воскликнула она. — Невозможно, чтобы такой добрый и благородный человек убил женщину! Маркиза обманула меня! Ах! Это очень жестоко! Лишь бы она не наговорила чего-нибудь такого, что заставит тебя возненавидеть меня так же сильно, как я недавно ненавидела тебя! — Не надо обращать на нее внимания, — сказал князь и, не щадя мадам де Тьевр, как не щадил Франсию в разговоре с маркизой, поклялся, что она для него слишком высока, слишком дородна, слишком белокура и ему противны эти фламандские натуры, лишенные очарования и благородной страсти. Мурзакин ничего не понимал в том, о чем говорил, но умел преподнести все так, чтобы добиться своей цели. Добрая Франсия не была мстительна, но женщина всегда с удовольствием слушает, как умаляют достоинства ее соперницы. Мужчинам это известно, и часто насмешка действует сильнее, чем клятва верности. Мурзакин не ошибся ни в одном, ни в другом, а, может быть, убедил себя, что сказал правду. — Полноте, — обратился он к своей маленькой подружке, заставив ее улыбнуться, — ты скучаешь одна, у тебя мрачные мысли, я не хочу, чтобы ты заболела. Одевайся, поедем куда-нибудь. Я видел на Елисейских полях маленькие ресторанчики, где кормят, как в деревне. Поужинаем в каком-нибудь веселеньком месте, а поздним вечером прогуляемся пешком. Или ты хочешь пойти на спектакль? В маленькую ложу внизу, где тебя не заметят? Валентин будет сопровождать нас. Мы постараемся, чтобы никто не увидел, как ты идешь под руку с офицером неприятельской армии. Поэтому не бойся, что тебя сочтут предательницей. Мы пойдем туда, куда ты пожелаешь, и будем делать то, что ты захочешь, но улыбайся мне, как прежде. Я жизнь отдам за одну твою улыбку. Пока Франсия одевалась, доставили картонные коробки с лентами, шарфами, шляпками и перчатками, и она, радуясь и смущаясь, вынула из них то, что ей понравилось. Взволнованная и счастливая, девушка была уже одета, когда снова появился доктор. Она побледнела. Князь встретил месье Фора с насмешливой учтивостью. — Ваша маленькая больная уже здорова, — сообщил он ему, — и знает, что я не убивал никого из ее семьи. Мы уходим, скажите, пожалуйста, доктор, сколько я должен вам за два визита? — Я пришел не за деньгами, — ответил господин Фор, — напротив, я принес их и надеялся сделать доброе дело, но раз уж, по обыкновению, меня обманули, заберу их и подумаю, как лучше ими распорядиться. Он ушел, пожав плечами и бросив на смущенную Франсию презрительный и насмешливый взгляд, который, как удар шпаги, пронзил ее сердце. Она обхватила голову руками и застыла, уничтоженная оскорблением, какого ей раньше никто не наносил. — Послушай, — обратился к ней князь, — почему ты чувствуешь себя несчастной? Ведь я делаю все возможное, чтобы отвлечь и разделить тебя! Ты больна? Хочешь снова лечь и поспать? — Нет! — Франсия схватила его руку. — Вы пойдете к этой даме. — Так ты еще и ревнива! — Да, я ревную, несмотря на то что вы мне сказали, ревную помимо своей воли! Ах, я так страдаю! Меня не покидает ощущение, что я совершаю подлость, полюбив врага моей страны! Я знаю, что заслуживаю презрения всех честных людей. Не отвечайте, вам это хорошо известно, и, может быть, в глубине души вы тоже презираете меня. Возможно, женщина в вашей стране никогда не отдалась бы французскому офицеру, но я перенесу этот позор, если вы любите меня, потому что ваша любовь для меня — все. Только любите меня! Если вы обманете меня… Она залилась слезами. Такая сила любви в столь слабом существе тронула князя. Он взял в руки персидский кинжал, который Франсия бросила на стол. — Я отдаю тебе это произведение искусства. Вот он, видишь? Кинжал украшен драгоценными камнями и так мал, что его можно спрятать в перчатке. Он занимает не больше места, чем веер. Но эта игрушка убивает, и, вручая его тебе, я сознаю, что он может принести мне смерть. Спрячь его, но пронзи мне сердце, если хоть на минуту поверишь, что я изменяю тебе. Мурзакин говорил то, что думал в эту минуту. Он не любил маркизу, даже не хотел ее. Князя радовало, что он не интересуется больше особой, которая, как ему казалось, слишком долго отвергала его. Успокоенная Франсия рассмотрела красивый кинжал, польщенная тем, что обладает таким редким сокровищем! Впрочем, она вернула его князю, не зная, что с ним делать. Мысль, что когда-нибудь придется воспользоваться им, привела ее в содрогание. Поскольку Франсия была готова к выходу, Мурзакин увлек ее за собой и заставил забыть обиду, лаская и балуя ее, как больного ребенка. Они поехали ужинать на Елисейские поля. Потом Мурзакин спросил, в какой театр она хотела бы пойти. Франсия чувствовала слабость; она едва притронулась к еде, и временами ее лихорадило. Князь предложил ей вернуться. Девушка видела, что он, плотно поужинав и много выпив, наслаждается теперь шумом и оживлением парижских улиц. Она боялась испортить ему удовольствие, вернувшись домой, и уступила его желанию пойти послушать известных певцов в Фейдо[512]. В «Опера комик» в ту пору ходили чаще, чем в «Гранд опера». Она имела репутацию респектабельного театра, и Мурзакин, слушая музыку, украдкой разглядывал в бинокль парижских красавиц. Он отправил вперед Валентина забронировать ложу первого яруса, и, когда они приехали, верный слуга с билетами уже ждал их под колоннадой. Франсия опустила вуаль, взяла под руку Валентина и пошла в ложу, где вскоре к ней присоединился князь. Оказавшись наедине с ним в глубине темной ниши, где ее никто не мог заметить, Франсия успокоилась. Бросая взгляды на публику, среди которой не было ни одного знакомого ей лица, девушка робко улыбалась, опасаясь, что здесь увидят ее, но потом забывала обо всем, нарядная и взволнованная, в праздничной и оживленной атмосфере артистического Парижа, наедине со своим торжествующим возлюбленным. Франсия испытывала чувство безопасности, счастливой безмятежности, потому что она, выросшая за кулисами бродячего театра, страстно любила его. Гузман, несколько раз водивший Франсию в Оперу, тем самым вскружил ей голову. Особенно она любила танец, хотя мать, давая девочке первые уроки, часто доводила ее до изнеможения и била. В те времена Франсия ненавидела балет, но позднее, перестав быть его жертвой, начала восхищаться им. С балетом были связаны воспоминания о матери. Франсия гордилась тем, что разбирается в нем и способна оценить отдельные па, которым научила ее Мими ла Сурс. Полагаю, давали «Алину, королеву Голкондскую». Если даже память изменяет мне, это не важно. Давали какой-то балет. Франсия пожирала глазами сцену, и, хотя танцовщицы Фейдо были не из лучших, она пришла в такой восторг, что забыла о лихорадке. Забыла Франсия и о том, как не хотела, чтобы ее видели с иностранцем. Наклонившись вперед, она невольно взяла Мурзакина за руку и потянула к себе. Франсия желала, чтобы князь разделил с ней удовольствие от спектакля. Внезапно увидев прямо над собой голову с вьющимися волосами рыжеватого оттенка, девушка вздрогнула. Она инстинктивно отпрянула назад, но потом отважилась взглянуть еще раз. Франсия заметила грубую волосатую руку, которая время от времени почесывала рыжий и мокрый от пота затылок. Наконец она ясно различила обращенный к ней профиль, круглые и безумные глаза, казалось, не видевшие ее. Без сомнения, это был жестянщик Антуан, племянник папаши Муане, поклонник, за которого Теодор советовал ей выйти замуж. Франсию охватил страх. Действительно ли это он? Что делал в театре Антуан, ничего в этом не понимавший и слишком бедный, чтобы позволить себе подобную роскошь? Действие закончилось. Когда Франсия решилась посмотреть еще раз, Антуана там уже не было. Девушка надеялась, что он не вернется и она просто ошиблась, обманутая внешним сходством. Наружность Антуана, донельзя заурядная, сейчас почти не встречается у людей его круга. Но в то время парижский рабочий мало чем отличался от крестьянина, и Антуана более всего характеризовала полная неотесанность. Мурзакин вышел, чтобы купить апельсины и конфеты. Франсия ожидала его в глубине ложи бенуара, заскучав и заметив, что театр наполовину опустел, а в партере совсем никого нет, она наклонилась вперед, желая лучше рассмотреть декорации. В ту же минуту девушка встретила нежный взгляд и застенчивую улыбку вошедшего в ложу и сразу узнавшего ее Антуана. Слишком неопытный, он не понял, что неуместно обратиться к ней. Напротив, Антуан подумал, что невежливо не заговорить с девушкой. — Как, мадемуазель Франсия, — сказал он, — это вы? Мне казалось, что вы далеко. Уже вернулись? А ваша матушка… — Я встретила ее по дороге, —резко ответила Франсия, не привыкшая лгать. — Ах, как хорошо! Так вы вернулись вместе? А Теодор тоже вернулся? — Да, брат со мной, он только что вышел, — пробормотала Франсия, не понимая, что говорит. — Тем лучше, тем лучше! — с трудом нашелся Антуан. — Теперь вы довольны, счастливы, нарядно одеты… Очень нарядно, очень красиво! А как здоровье, хорошее? — Да, да, Антуан, спасибо! — А матушка? Наверное, она разбогатела за границей? И Антуан громко вздохнул, подавляя печаль. Франсия поняла эту немую жалобу: по мнению Антуана, он потерял последнюю надежду жениться на ней. Воспользовавшись этим, она решила окончательно обескуражить его. — Да, это так, мой дорогой Антуан, матушка сделала состояние, и завтра мы уезжаем за границу, туда, где она была счастлива. — Уже завтра! Вы уезжаете завтра! Но вы, конечно, зайдете попрощаться с моим дядюшкой, который так любит вас? — Да, я приду, но не говорите ему, что видели меня! Он огорчится, узнав, что я пошла в театр прежде, чем зайти обнять и поцеловать его. — Я ничего не скажу. Прощайте, мадемуазель Франсия. Так вы придете завтра к дядюшке? Я хотел бы узнать, в какое время, чтобы тоже сказать вам до свидания. — Еще не знаю, Антуан, не могу точно назвать вам час… Я попрощаюсь с вами сейчас. — Но я хотел бы увидеть вашу матушку. Она зайдет в вашу ложу? — Не знаю! — Обеспокоенная Франсия начала терять терпение. — Зачем вам видеть ее. Вы же не знаете мою матушку. — Верно. Впрочем, я не могу больше оставаться здесь. Уже поздно, а мне завтра рано вставать. — И наверное, спектакль не очень увлекает вас? — Да, мне он совсем не нравится. Арии поют слишком долго, и все время повторяется одно и то же. Я зашел, чтобы отдать заказанные этим театром детали рефлектора, и так как не взял чаевые, за кулисами меня спросили: «Хотите стоячее место у входа в партер?» Я нашел сидячее, посмотрел, и с меня этого довольно. И раз вы теперь богаты… то есть потому, что вы придете… — Да, да, Антуан, я зайду повидать вашего дядюшку. До свидания! Будьте здоровы! Антуан еще раз вздохнул и вышел, но, проходя по коридору, он увидел красивого русского князя, который без церемоний вошел в ложу Франсии, и смутная догадка мелькнула в его уме, с трудом улавливающем смысл проводящего. Не знаю, был ли Антуан способен сам решить эту задачу, но чутье собаки заставило его забыть о том, что он хотел уйти. Антуан стал прогуливаться под колоннадой театра. Франсия не осмелилась рассказать князю о встрече, глубоко взволновавшей и огорчившей. Хотя любовь Антуана внушала Франсии ужас, она была тронута его доверием и уважением. «Он верит в то, во что невозможно верить, — сказала она себе. — Это объясняется не только его простодушием, а тем, что Антуан уважает меня больше, чем я того заслуживаю!» И потом, этот старый друг, продавец прохладительных напитков, которого она, уходя, не обняла и не поцеловала, потому что не посмела обмануть, он будет ждать ее каждый день до того момента, когда, устав от ожидания, вынесет приговор, вполне заслуженный неблагодарными людьми! Мурзакин принес Франсии сладости, и она начала лакомиться, пряча слезы. Занавес поднялся. Девушке хотелось вновь развеселиться, но она была почти в обморочном состоянии, в сердце и голове у нее стучало. Боясь потерять сознание, Франсия не скрыла своего недомогания. — Мы возвращаемся домой, — сказал Мурзакин, но она хотела, чтобы он досмотрел пьесу до конца. Франсия надеялась, что пять минут, проведенные на свежем воздухе, приведут ее в чувство. Князь проводил ее на балкон фойе, где она сняла вуаль и вздохнула свободно. Франсия вновь стала веселой, доверчивой и, когда раздался звонок, вернулась с ним в ложу, не опуская вуаль. В тот момент, когда, пропустив Франсию в ложу, Мурзакин собирался сесть рядом с ней, чья-то рука хлопнула его по плечу. Он обернулся и увидел дядюшку Огоцкого. Увлекая племянника в коридор, он улыбнулся: — Ты здесь со своей малышкой. Я заметил ее, но мне любопытно посмотреть, действительно ли она хороша собой. — Нет, дядюшка. Она некрасива, — тихо ответил Мурзакин, дрожа от бешенства. — Я хочу войти в ложу, открой! Делай, что я говорю! — сухо и резко добавил граф. Мурзакин воспротивился. — Нет, дорогой дядя, — ответил он, изображая веселость, — прошу вас, не смотрите на нее. Вы слишком опасный соперник. Вы поссорили меня с прекрасной маркизой, оставьте мне этот маленький цветок Парижа, недостойный вас. — Если ты говоришь правду, — спокойно заметил граф, — тебе нечего опасаться. Ну же, открой эту дверь, или я открою ее сам. — Мурзакин хотел подчиниться, но не смог; он чувствовал себя парализованным. Огоцкий вошел в ложу и, оставив дверь приоткрытой, чтобы туда проникал свет из коридора, начал пристально рассматривать Франсию. Удивленная, она обернулась. Через мгновение Огоцкий вернулся к племяннику: — Ты обманул меня, Диомид, она прекрасна, как ангел. Теперь я хочу знать, умна ли она. Поднимись наверх и поздоровайся с господином и госпожой де Тьевр. — Наверх? Они здесь? — Да, и она знает, что ты в театре. Я заметил тебя и сообщил ей, что ты придешь поздороваться с ней. Иди, иди же! Слышишь меня? Ее ложа как раз над твоей. Огоцкий говорил как хозяин, и, несмотря на кажущуюся мягкость его интонаций, Мурзакин отлично понял, что это означает. Он безропотно смирился с тем, что оставит дядюшку наедине со своей возлюбленной. Какая опасность угрожает ей в переполненном людьми театре? И все же дикая мысль пришла ему внезапно на ум. — Я повинуюсь, но позвольте мне сказать моей маленькой подружке, кто вы, чтобы ей не было страшно остаться одной с незнакомым человеком. Тогда она побеседует с вами, если вы соблаговолите обратиться к ней. Не ожидая ответа, князь быстро вошел в ложу и сказал Франсии: — Я скоро вернусь. Мой дядюшка, важная особа, окажет любезность и останется с тобой… прояви к нему уважение. Произнеся эти слова, которые граф услышал, Мурзакин ловко вложил в руку Франсии персидский кинжал. Стоявший за ним Огоцкий не заметил этого потаенного жеста. Франсия же не поняла его смысл, но инстинктивно подчинилась. Тем не менее князь не решался уйти, пока Огоцкий не толкнул незаметно племянника. Вынужденный уступить, Мурзакин без дополнительных объяснений поднялся в ложу мадам де Тьевр, найдя ее по номеру, указанному дядей. Маркиза встретила его чрезвычайно холодно. Князь слишком откровенно пренебрег ею, и она презирала, даже ненавидела его. Едва поздоровавшись с ним, она тотчас устремила взгляд на сцену, словно захваченная последним актом. Мурзакин уже собирался уйти, горя желанием прервать тет-а-тет дядюшки с Франсией, но маркиз задержал его. — Подождите минуту, дорогой кузен, останьтесь с мадам де Тьевр. Я должен удалиться по делам чрезвычайной важности на одно политическое собрание. Граф Огоцкий обещал мне проводить маркизу домой: у него есть собственный экипаж, а свой я вынужден забрать. Он скоро вернется, не сомневаюсь, пожалуйста, побудьте с мадам де Тьевр, пока граф не придет предложить ей свою помощь. Месье де Тьевр вышел, не дав Мурзакину возможности ответить, и теперь тот неподвижно стоял позади прекрасной Флоры, казалось, обращавшей на него не больше внимания, чем на лакея. Усы князя подергивались от ярости при мысли о злой шутке, которую только что сыграл с ним дядюшка. Не без страха ожидал он результатов этой жестокой мистификации. Через несколько минут дверь ложи тихо приоткрыла билетерша и протянула ему визитную карточку Огоцкого. На обратной стороне князь прочитал слова, написанные карандашом: «Скажи госпоже маркизе, что неожиданный приказ, поступивший с улицы Сен-Флорентен, лишает меня счастья сопроводить ее домой и вынуждает уступить тебе честь заменить меня подле нее. Вы найдете у подъезда моих людей и мою карету. Я возьму фиакр, а малышку предоставлю заботам твоего дворецкого, месье Валентина. Он проводит ее к тебе». «Ну что ж! — подумал Мурзакин. — Это еще полбеды, поскольку Франсия избавится от него! Она станет ревновать, если увидит, как я выхожу с маркизой. Но та встретила меня так холодно, что не задержит надолго, и, возможно, не позволит сопровождать ее». Спектакль закончился, князь предложил мадам де Тьевр ее шаль, которую той пришлось принять, чтобы выйти на улицу. — Где же граф Огоцкий? — сухо осведомилась она. Мурзакин объяснил причину замены кавалера и подал ей руку. Поскольку, заметив гнев Флоры, князь не спешил занять место в экипаже, она сказала ему повелительным тоном: — Садитесь же наконец, вы простудите меня! — Он сел впереди, Флора отодвинулась, чтобы не быть напротив и оказаться как можно дальше от него. Это ничуть не задело Мурзакина. Он действительно любил Франсию и думал только о ней. Поискав ее глазами у входа, но не увидев ни ее, ни Валентина, князь не придал этому значения. Зрители, сидевшие в партере, вышли раньше, чем те, кто находился в ложах. Одно только мучило Мурзакина: беспокойство и ревность его подружки. Он совершенно не сомневался в том, что Огоцкий, желая довершить свою месть, уходя, сказал Франсии: «Мой племянник провожает красивую даму, не ждите его». Однако Мурзакин полагался на красноречие Валентина, способное успокоить девушку и заставить запастись терпением. Так как экипаж, нанятый Огоцким, ехал очень быстро, он доберется до флигеля одновременно с Франсией. Поразмыслив таким образом о Франсии, князь задумался о прекрасной маркизе. Он был виноват перед нею. Она сердилась на него: следует ли ему смиренно принять свое поражение и унижение, умело подстроенные его дядюшкой? Князь был уверен, что Огоцкий сказал маркизе, в каком обществе застал своего красавца племянника, надеясь рассорить их навсегда в отместку за то, что она не оставила ему ни малейшей надежды. Мурзакин спрашивал себя, почему маркиза, выражавшая презрение к нему, все же пригласила его в свою карету, а не прогнала. Правда, эта карета не принадлежала ей, и, возможно, она боялась ехать ночью одна в наемном экипаже с незнакомым кучером. Впрочем, один из выездных лакеев остался, чтобы сопровождать ее; он расположился на переднем сиденье, Флора совершенно не нуждалась в Мурзакине, чтобы спокойно вернуться домой. Итак, ей доставляло удовольствие дуться на князя или упрекать его. Он вызвал настоящий взрыв чувств, став перед Флорой на колени и позволив осыпать его упреками до тех пор, пока ее гнев не угас. Мурзакин продолжал бы охотно и нагло лгать, но встреча маркизы с Франсией не позволила ему отпереться. Он сознался во всем, но списал случившееся на молодость, горячность и лихорадочное состояние, в которое повергла его суровость прекрасной кузины. От этого упрека, вовсе не заслуженного ею, поскольку она, конечно, не приводила его в отчаяние, маркиза покраснела. Однако она напрасно добивалась от князя правды и только потеряла время, доказывая ему, что все рассказанное им ей о своих отношениях с Франсией было ложью от начала до конца. Мурзакин прервал дальнейшие объяснения, внезапно разыграв сцену отчаяния. Он бил себя в грудь, ломая руки, притворялся, что теряет рассудок, выказывал себя более дерзким, чем имел на это право. Маркиза же в самом деле потеряла голову и позволила ему остаться до двух или трех часов ночи в ожидании господина де Тьевра, как это уже случалось. — Если вы способны, — сказала она Мурзакину, — рассуждать здраво и не думать о девушке, живущей в вашем доме, то я поверю, что она для вас лишь прихоть и что ваше сердце принадлежит мне. На таких условиях я готова простить ваше юношеское безрассудство и в надежде на возвышенную любовь видеть в вас родственника и друга. Князь, поставленный в такое положение, не мог уже отступить. Он страстно целовал руки маркизе и так пылко благодарил ее, что она сочла себя отомщенной. Роялистская конспирация словно оправдывала такое скандальное поведение, однако слуги ничуть не были обмануты ею, и лишь степенный и невозмутимый Мартен принял все на веру, вменив себе в обязанность удерживать от пересудов других лакеев, которым оставалось только шушукаться и насмешничать. Сам же Мартен, твердо веря в государственные тайны и полагая, что его осторожность оказала неоценимую помощь хозяину, расположился в прихожей в ожидании распоряжений маркизы, а других слуг отправил подальше от дверей, дабы они не подслушивали. Мурзакин, довольно хорошо изучив домашний распорядок, свободно ориентировался в нем. Он удивлялся тому, с каким непринужденным и достойным видом молодая маркиза разыграла комедию, будто заинтересована политикой. И все лишь для того, чтобы освободиться от условностей и избавиться от опасных свидетелей. Он вновь почувствовал влечение к этой гордой аристократической красоте, представлявшей резкий контраст с несмелой и нежной красотой гризетки. Князь подумал о дядюшке, который своими язвительными нападками рассчитывал поссорить его с одной и другой дамами, но преуспел лишь в том, что обеспечил ему обладание обеими. Он поклялся маркизе, что любит ее всей душой и слишком уважает ее, чтобы любить иначе, но притворился, будто страшно ревнует к Огоцкому, и покончил с ее упреками, обвинив Флору в кокетстве с его дядюшкой. Маркизе пришлось оправдываться. Она сказала, что ее муж честолюбец, он дурно обошелся с ней и застал врасплох, пригласив графа поужинать с ними, а затем попросив сопроводить ее в театр. — А вы сами, — добавила Флора, — разве не так же честолюбивы? Разве вы не пренебрегали мною все эти дни, чтобы не раздражать своего дядюшку, которого так боитесь? Не вы ли посоветовали мне быть любезной с ним и щадить его чувства, чтобы он не обрушил на вас свой гнев? — Я здесь, у ваших ног, и клянусь, что обожаю вас. Это доказывает, что я не боюсь его. Можете передать ему это. Улыбка ваших алых губ, нежный взгляд ваших синих глаз, и пускай потом царь погубит меня, я не стану жаловаться на судьбу! Князь не опасался, что маркиза осознает свое поражение, ставшее неизбежным. Ее ничуть не обманула его напускная храбрость, и она позволила ему обожать, умолять, опьянять и победить себя. Вслед за падением последовали слезы и упреки; но было уже поздно, вероятно, три часа пополуночи — мог возвратиться господин де Тьевр. Флора нашла убедительное объяснение тому, почему Мурзакин находится в их доме в столь поздний час, и вызвала Мартена. — Маркиз все еще не вернулся, — сказала она ему, — и, может быть, задержится до утра. Я устала ждать, проводите князя… Мурзакин удалился, гордый своей победой, сгорая от желания вновь увидеть Франсию, которую по-прежнему предпочитал маркизе. Он не испытывал угрызений совести и презирал бы себя, если бы не воспользовался случаем, предоставленным ему дядюшкой, который желал унизить его в глазах маркизы де Тьевр. Однако возможное горе Франсии немного омрачало торжество Мурзакина, и он спешил вернуться, чтобы ее успокоить. Ему не терпелось также узнать, что произошло между ней и графом Огоцким. Странно, но, несмотря на свою проницательность и знание средств, к коим прибегал его обожаемый дядюшка для достижения своих целей, Мурзакин не все предусмотрел. Пересекая темную улицу, ведущую к флигелю, он почувствовал неясную тревогу. Восторг князя от ночного бдения с маркизой был бы куда меньше, если бы он знал, что случилось. Однако вернемся к Франсии, которую мы оставили наедине с Огоцким в ложе «Опера комик». Поначалу граф довольствовался тем, что молча разглядывал девушку. Она же ничего не опасалась, поскольку Мурзакин не рассказал ей о своем дядюшке, и продолжала без всякого интереса смотреть спектакль. Как только князь ушел, Франсия почувствовала, что мигрень вернулась с новой силой. Она ждала Мурзакина так, как если бы от него зависела ее жизнь. Внезапно граф объявил, что его племянник получил приказ, предписывающий немедленно прибыть к императору. — Не беспокойтесь о возвращении домой. Я позабочусь о том, чтобы найти вам карету или проводить вас, если пожелаете. — Не стоит, — ответила вконец огорченная Франсия. — Месье Валентин ждет меня с фиакром. — Кто такой господин Валентин? — Это камердинер князя. — Пойду предупрежу его, чтобы он ожидал у входа. Огоцкий прошел к театральному подъезду, где в это время уже собрались люди, которые за несколько монет вызывали кареты аристократов, выкрикивая во все горло титулы и имена их владельцев. Граф приказал тому, кто первым подошел к нему, позвать господина Валентина, и тот немедленно явился. — Князь Мурзакин, — сказал ему Огоцкий, — просил передать вам, что незачем ожидать его, возьмите карету и поезжайте домой. — Несмотря на свою сообразительность, Валентин ничего не заподозрил и повиновался. Граф вернулся в театр и второпях написал записку, обязавшую его племянника остаться в ложе маркизы, а сам сообщил Франсии, что месье Валентин, не поняв, вероятно, распоряжения Мурзакина, уехал. — В таком случае, — ответила Франсия, — я сейчас же возьму другой фиакр. Я устала и хочу домой. — Пойдемте. — Граф предложил ей свою руку, до которой девушка с трудом дотянулась. Граф очень быстро нашел фиакр, уселся в нем рядом с Франсией, поклявшись, что не оставит такую красивую девушку, обожаемую его племянником, с незнакомым кучером. Сам же приказал ему медленно ехать по бульварам, поднимаясь со стороны площади Бастилии. Франсия, хорошо знавшая Париж, вскоре заметила, что они едут не по той дороге, и сказала об этом графу. — Не все ли равно? Кучер, скотина, или пьян, или спит. Мы пока спокойно поболтаем, мне надо поговорить с вами об очень важных вещах. Вы любите моего племянника, и он вас любит, но вы свободны, а он нет… Одна красивая дама, которую вы не знаете… — Мадам де Тьевр! — воскликнула Франсия, раненная в самое сердце. — Я не назвал имени, — продолжил граф, — достаточно сказать вам, что одна прекрасная дама имеет на его сердце больше прав, чем вы, и сейчас она их ему предъявляет. — Значит, князь не у императора, а у этой дамы? — Вы все отлично поняли. Он поручил мне развлечь вас или отвезти домой, если вы того пожелаете. Что вы предпочтете? Хороший ужин в «Кадран-Бле»[513] или просто прогулку в этом экипаже? — Я хочу как можно скорее вернуться к себе. — К себе? Кажется, у вас нет больше дома, клянусь, этой ночью вы не найдете моего племянника! Ну, полно! Поплачьте немного, это необходимо, но не слишком долго, моя крошка. Не надо портить свои глазки, самые нежные и самые красивые, какие я видел в жизни. Вместо одного исчезнувшего любовника найдутся сто новых, когда девушка так красива, как вы. Мой племянник предвидел, что его очевидная неверность поссорит вас с ним: он знает, как вы горды и ревнивы. Я предложил утешить вас, и он на это согласился. Скажите «да», и вы станете моей, для вас это будет лучше! У Мурзакина нет ничего своего — только то, что я даю ему, чтобы он жил, как подобает человеку с его титулом, а я богат, очень богат! Я не так молод, как он, но более благоразумен и никогда не поставлю вас в такое положение, в каком вы оказались сегодня вечером. Поедемте ужинать и потолкуем о будущем. И знайте, мой племянник признателен мне за то, что я помогаю ему разорвать связь, которой он сам положил бы конец завтра утром. — Франсия, задыхаясь от горя, возмущения и стыда, молчала. — Подумайте, — повторил граф, — я буду очень любить вас. Решайте быстрее, потому что мне надо найти вам уютную квартирку и устроить вас там на ночь. Франсия не произнесла ни слова. Сочтя, что она готова согласиться, Огоцкий сжал ее в своих сильных объятиях. Франсия испугалась и, пытаясь освободиться, вспомнила вдруг кинжале Мурзакина. Она осторожно достала его из-за пояса, незаметно прикрыв шалью. — Не прикасайтесь ко мне, — сказала девушка Огоцкому. — Я не так достойна презрения и не так слаба, как вы полагаете. Она была полна решимости защищаться, но он грубо набросился на нее, ничуть не поверив в искренность сопротивления. Вдруг при свете уличных фонарей Франсия заметила человека, следовавшего за каретой и находившегося совсем рядом. — Антуан! — закричала она, высовываясь наружу. В то же мгновение дверца открылась, и, не опустив подножку экипажа, Франсия упала в объятия Антуана. Он подхватил ее как перышко. Граф попытался удержать Франсию, но фиакр проезжал уже возле Порт-Сен-Мартена, и бульвары были заполнены людьми, выходящими из театра. Опасаясь публичного скандала, Огоцкий захлопнул дверцу и велел кучеру ехать быстрее. Вскоре фиакр исчез среди множества пешеходов и карет. Несмотря на полуобморочное состояние, Франсия все же сказала Антуану: — Пойдемте к папаше Муане. Через мгновение, набравшись мужества, она заставила себя идти. Они находились в двух шагах от кабачка «Деревянная нога», как жители квартала дружески называли заведение сержанта Муане. У инвалида вырвался крик радости при виде приемной дочери, но она была так бледна и слаба, что он отвел ее в пустое служебное помещение и поспешил задать ей вопросы. Франсия не могла еще говорить, и Муане стал расспрашивать Антуана. Тот стоял, опустив голову и отказываясь отвечать. — Она сама вам расскажет, если захочет, а я помолчу. — Зная, что Франсия не станет объясняться в его присутствии, этот порядочный малый проявил терпение и деликатность, отказавшись узнать правду. Он удалился со словами: — Я помогу официанту закрыть заведение. Если понадоблюсь, вы меня там найдете. Франсия, тронутая до глубины души, протянула ему руку, которую Антуан с чувством пожал, что, впрочем, никак не отразилось на его грубом обветренном лице. — Ну, будешь ты говорить? — спросил Муане у Франсии, едва они остались одни. — Во всем этом есть что-то подозрительное! Я ничего не сказал, но не поверил ни одному слову в истории о возвращении твоей матери. Тем более что узнал о вещах, которые мне совсем не понравились. В то время, как я хлопотал, чтобы выпустили на волю твоего бездельника-брата, ты ушла, несмотря на мой запрет, и вернулась домой только утром. В тот же день ты исчезла, не попрощавшись со мной. Признавайся, слышишь? Если ты еще раз попытаешься обмануть меня, то внушишь мне презрение, и я откажусь от тебя. Франсия, захлебываясь от рыданий, бросилась к его ногам. Последнее потрясение этого ужасного вечера заставило ее забыть о мигрени; в сердце девушки кипело негодование к обоим русским, пытавшимся унизить ее. Она честно и откровенно поведала Муане историю своих отношений с Мурзакиным. Слушая ее рассказ, Муане разразился энергичными ругательствами. Попутно упрекая бедную девушку, сержант заклеймил позором обоих иностранцев. Он не желал признавать никаких обстоятельств, смягчающих вину князя, и, когда Франсия попыталась убедить себя в том, что, возможно, он менее виновен, чем изобразил граф, Муане вышел из себя и не проявил сочувствия к ее горю. — Ты бессердечная и подлая тварь, — сказал он ей, — ты предала свою страну и память матери! Ты отдалась человеку, который убил ее! Он рассказал об этом другой своей любовнице, и сейчас они вместе смеются над тобой. Потому что она такая же негодяйка, как он и ты! Она находит это забавным! Ах, женщины! Как это гнусно, и как правильно я поступил, не женившись! Ну же, перестань плакать, содержанка врага, или я выгоню тебя на панель к таким же, как ты! Таким же? Нет, я ошибся, забыл… Таким же?.. У уличных девок больше достоинства, чем у тебя! В день, когда враги вступили в Париж, ни одна из них не вышла на панель… Ах! Мне стыдно за тебя и за себя тоже, я помог тебе вернуться из России, но лучше бы я влепил тебе пулю в лоб! Вот прекрасный обломок великой армии, вот великолепный пример поражения, и что подумают о нас враги? — Франсия слушала его, подперев голову рукой. Впалая грудь, застывший взгляд. Она больше не плакала. Она размышляла о своей ошибке и понемногу начинала видеть в ней преступление. К ней вернулись кошмарные сны предыдущей ночи. Франсия вновь видела изуродованную голову своей матери и лошадь Мурзакина, несущуюся вскачь с этим кровавым трофеем. — Папаша Муане, — прошептала она инвалиду, — прошу вас, не говорите больше ничего, вы сведете меня с ума! — Нет, я хочу и буду говорить, — продолжал Муане, которому Франсия забыла сообщить, как сильно была больна в течение этих суток. — Я мало беседовал с тобой, я никогда не говорю тебе даже того, что должен был сказать! Я был слишком добр к тебе, слишком глуп. Ты всегда надувала меня, и то, что произошло, это и моя вина. Черт возьми! В этом повинна и нищета. Если бы у меня были деньги, чтобы устроить тебя, и время присматривать за тобой, друзья, которыми ты дорожила бы! Но с одной ногой, не имея ни гроша за душой, ни ремесла, ни семьи, ничего, я мог рассчитывать только на место буфетчика. С помощью моего друга я взял в аренду это проклятое заведение. Оно держит меня, как картинку, приклеенную к стене, и еле позволяет свести концы с концами. А тем временем умная мамзель, поселившаяся у меня в мансарде, не довольствовалась только работой. Ей понадобились тряпки и развлечения. Она, как и другие молодые работницы, позволяла парням из своего квартала водить себя на спектакли и прогулки, чтобы их родители влезали в долги. Я не раз говорил тебе: не ходи туда, с тобой приключится беда. Ты обещала мне все, что я хотел: тебя считали доброй и порядочной, но ты не такая! — Муане ударил себя в грудь. — У тебя нет ни сердца, ни души! Тряпка, вот ты кто! Птица, которая не вьет гнезда и летит туда, куда ее гонит ветер. Ты слушала людей, не заслуживающих уважения, и презирала себе подобных. Ты могла бы выйти замуж за Антуана, вероятно, ты еще сможешь это делать! Но нет, ты считаешь себя слишком красивой для него. У тебя была мать, которая вертелась на сцене перед казаками и говорила: «Я артистка». Ты отдалась цирюльнику, потому что он тоже артист! Послушай! Все, кто связан с театром, — это бродяги и честолюбцы! Они наряжаются в принцев и принцесс и мечтают стать королями и императорами. Я все это видел в Москве, там были театральные артисты — они выпивали с нами по рюмочке, но никогда не взяли бы в руки оружие, чтобы сражаться. Ты воспитана в этом мире и несешь на себе его отпечаток. Ты никогда не сделаешь ничего путного и будешь всегда рассчитывать на других. — Папаша Муане, — проговорила оскорбленная и униженная Франсия, — я никогда не была такой подлой. Я никогда ничего не брала от вас и от тех, кто много работает и мало получает. Вся моя вина в том, что я не захотела стать нищей вместе с Антуаном, который недостаточно зарабатывает, чтобы иметь семью, поэтому он был бы несчастен. Те же, от кого я что-то принимала, не нашли бы любовниц, довольствовавшихся столь малым, и я никогда не отказывалась от возможности заработать несколько су, чтобы одеть моего брата. Наконец, я всегда руководствовалась лишь привязанностями, я не имела богатых любовников, хотя вы хорошо знаете, что в них не было бы недостатка, пожелай я этого. — Я знаю, до сегодняшнего дня ты была скорее безумной, чем виновной — вот почему я прощал тебя, любил и не позволял говорить о тебе плохо. Я вообразил, что когда-нибудь ты повстречаешь подходящего человека, и он, оценив твою приветливость и доброе сердце, женится на тебе. Но сейчас! Сейчас, малышка, какой порядочный человек, даже влюбленный в тебя, захочет навеки соединиться с той, которую, как использованную вещь, бросил презренный русский?! С тобой хорошо погулять день или два, а затем передать другому — и так до тех пор, пока ты не окажешься в больнице или на панели. — Так вот как вы утешаете меня. Вижу, мне остается только утопиться! — Нет, это ничего не исправит, глупости! Ты не имеешь на это права — любой мужчина должен сознавать свои обязательства по отношению к родной стране, любая женщина обязана исполнять свой долг. — О каком долге речь, если вы считаете меня безнравственной? Муане был в замешательстве, он зашел слишком далеко. Он не был силен в силлогизмах, чтобы решить эту дилемму, и нашел единственный выход. Муане мог предложить Франсии только прощение и любовь Антуана. — Есть лишь один человек, такой добрый и терпимый, что не прогонит тебя. Стоит сказать ему только одно слово. Однако это не значит, что у него нет чести. Он всегда обращается ко мне за советом, и, когда я скажу ему: честь может соседствовать с прощением, — он поверит мне. Итак, покончим с этим, я позову его, и пока вы будете говорить наедине, я положу на бильярд соломенный тюфяк. Ты будешь спать на нем в моей комнате, завтра попытаемся найти тебе мансарду. Он вышел. Франсия осталась одна, взволнованная и растерянная. Муане не сразу нашел и убедил племянника. Возможно, если бы объяснение состоялось незамедлительно, девушка была бы спасена. Не исключено, что, тронутая слепой преданностью Антуана, она преодолела бы отвращение к нему, даже если бы потом и умерла в этой атмосфере нищеты и грубости, оскорблявшей все ее существо! Но Антуан, решивший подождать девушку, не мог бодрствовать ночью. Неотесанный работяга, к вечеру он падал с ног от усталости. Чтобы не заснуть, Антуан зажег свою трубку, и поскольку крепкий, едкий табачный дым усыплял его, вышел прогуляться и удалился довольно далеко. Муане послал гарсона искать его. Когда Антуан вернулся, Муане вкратце обрисовал ему необычную ситуацию. Между тем Франсия погрузилась в размышления. «Антуан колеблется, — думала она. — Он не может сразу решиться на это. Муане придется многое рассказать ему, чтобы вернуть доверие ко мне. Ах! Унизительнее всего выйти замуж за человека, который стыдится вас! Нет! Это невозможно, лучше умереть!» Задняя дверь лавки была открыта. Франсия выскочила на улицу и помчалась как стрела. Когда Антуан пришел поговорить с ней, она была уже далеко: он безуспешно искал ее всю ночь. Антуан не знал, где живет девушка, и ему не удалось найти ее. Вначале Франсия, преследуемая навязчивой мыслью о самоубийстве, помышляла лишь о том, чтобы скорее добраться до Сены, но инстинкт, более сильный, чем отчаяние, безграничная любовь, которую она все еще питала к Мурзакину, удержали ее у парапета. Кто знает, возможно, князь не виновен? Может быть, граф все выдумал, чтобы погубить ее. Без сомнения, он человек недостойный, низкий, потому что хотел учинить над ней насилие. Несомненно, также, что Мурзакин считал дядюшку способным на все. Он дал Франсии оружие, чтобы она могла защищаться. Этот кинжал говорил о многом. Князь не желал уступать графу свою любовницу, ибо поступок его означал: не отдавайся Огоцкому, лучше убей его. Перед тем как лишить себя жизни, необходимо узнать правду, чтобы умереть без ненависти в душе и избавиться от позора. Франсия могла всегда вернуться сюда, у нее был кинжал. Достав его, она рассматривала при свете уличного фонаря тонкое лезвие и острый конец, потом проткнула им свой шелковый пояс, сложенный в несколько раз. Нет ничего более удивительного, чем сталь: даже самая прочная иголка сломалась бы, а стилет прошел через ткань без малейшего усилия. «Ну хорошо, — сказала она себе. — Нет ничего проще, чем вонзить такой кинжал в сердце. Теперь я уверена, что покончу со всем, как только пожелаю. На войне я была ранена, поэтому знаю, что в такой момент не бывает больно. Умирая быстро, не страдают!» Франсия обмотала в три ряда вокруг талии красивый шарф из китайского крепдешина, подаренный ей Мурзакиным, спрятала под ним персидский кинжал и направилась к особняку де Тьевров, мимо которого пришлось пройти, чтобы попасть во флигель. Она явилась туда в три часа утра, а вскоре подъехал экипаж и направился в сторону сада. Возбужденная девушка быстро последовала за ним и догнала его в тот момент, когда Мурзакин выходил из экипажа. Притаившись в тени деревьев, Франсия улучила момент, когда Моздар открывал дверцы, и проскользнула в сад так проворно, что ни казак, стоявший к ней спиной, ни князь, видевший только высокую и тучную фигуру своего гайдука, ничего не заподозрили. Опасаясь встретить Валентина, она прошла в комнату Мурзакина и спряталась за пологом его кровати. Франсия хотела застать его врасплох, увидеть первую реакцию на ее появление, выказать ему презрение прежде, чем он придумает еще одну небылицу, чтобы ввести ее в заблуждение, и покончить с собой, проклиная его. Мурзакин, направляясь в свою комнату, спросил у Моздара, вернулась ли Франсия, и, услышав отрицательный ответ, подумал: «Так я и предполагал! Дядюшка отнял ее у меня. Догадавшись, что я люблю больше эту, чем другую, он уступил мне маркизу, похитив мое настоящее сокровище!» Князь вошел в свою комнату, охваченный неистовой злобой. Впрочем, это продолжалось недолго: его разум и тело были в таком состоянии, что потребность в отдыхе возобладала над переживаниями, вызванными превратностями любви. Однако прежде чем лечь спать, князь хотел выяснить обстоятельства похищения. С видом человека, готового щедро заплатить за услуги, он приказал разбудить и позвать к нему Валентина. Франсия, наблюдая за всеми передвижениями Мурзакина, ждала, когда он останется один. Она хотела уже покинуть свое убежище, когда вошел Валентин. Мурзакин заговорил по-французски. Франсия напряженно слушала. — Кажется, мой дорогой, — сказал князь Валентину, — вы позволили украсть у меня подружку! Вот уж не предполагал, что вас так легко обмануть. Почему вы вернулись в полночь без нее? Удивленный Валентин рассказал, как граф от имени князя объявил ему, что он свободен. Он не мог заподозрить, что это похищение. — Все равно! Вам не хватило проницательности. Такой человек, как вы, должен все предусмотреть, обо всем догадаться, а вас провели как школьника. — Я в отчаянии, ваше сиятельство, но готов исправить свою ошибку. Что я должен делать? — Вы должны отыскать малышку. — Где, ваше сиятельство? Во дворце Талейрана? Разумеется, граф не повез бы ее туда. — Нет, но я плохо знаю Париж, а вы, конечно, сообразите, куда в подобном случае ведут такую добычу. — В первый попавшийся отель с меблированными комнатами. Ваш дядюшка важный господин. Он мог бы поселиться в одном из трех лучших отелей города: я обойду все три и осторожно расспрошу, нет ли там интересующих нас лиц. Отдыхайте, ваше сиятельство, когда вы проснетесь, я принесу ответ. — Лучше, если вы сразу приведете ко мне малышку. Мой дядюшка обязан днем находиться в свите императора. Вероятно, он уже там, и я уверен, что Франсия изъявит желание последовать за вами. — Вы не сомневаетесь, ваше сиятельство, в том, что хотите вернуть ее после такого приключения? — Она сопротивлялась, я уверен в ней! — Не будет досаждать вашему сиятельству граф Огоцкий, потерпев неудачу? Вы не соблаговолили рассказать мне о ваших обстоятельствах, но они хорошо известны в особняке де Тьевров, куда я часто захожу по-соседски. Слуги говорили мне, что граф Огоцкий — влиятельное лицо и ваше сиятельство полностью от него зависит. Покорно прошу прощения за то, что высказал свое мнение, но дело серьезное, и я не хотел бы, чтобы моя чрезмерная преданность была вам в тягость. Умоляю вас еще немного подумать, прежде чем посылать меня на поиски мадемуазель Франсии. Если бы это приключение вызвало у нее недовольство, она уже прибежала бы сюда. — Мурзакин хотел возразить, но Валентин быстро продолжил: — Допустим, что ее охраняют. Поразмыслив до завтра, девушка, возможно, сочтет свое новое положение чрезвычайно выгодным. Допустим также, что она все еще влюблена в ваше сиятельство и совершенно бескорыстна. Тогда она станет предметом весьма опасного соперничества! Увидев ее здесь, а граф обязательно увидит мадемуазель Франсию, если вы не спрячете ее в другом месте… — Нужно где-нибудь спрятать ее, Валентин. — Вот это я и хотел сказать вашему сиятельству. Так не надо привозить малышку сюда? — Нет, не привозите ее. Найдите ей надежное убежище и дайте мне знать, где она. — На месте вашего сиятельства я поступил бы иначе. Я написал бы графу самую любезную записку, спросив, не согласится ли он отказаться от своего мимолетного увлечения? Если граф расстанется с мадемуазель Франсией по доброй воле, вашему сиятельству нечего опасаться. — Он не откажется от нее, Валентин! — Ну что ж. Но будь я князем Мурзакиным, я бы порвал с ней сам. Я не подвергал бы себя опасности ради обладания такой девушкой, как она, игрушкой на несколько дней, рискуя вызвать злобу того, кто может все и в чьих руках мое будущее. Я обратил бы свой взор на предмет, не менее соблазнительный и занимающий более высокое общественное положение. Некая маркиза, живущая неподалеку, три раза посылала справиться о вас в тот тревожный день… — Валентин, оставим это, я не говорил сам и не позволю вам говорить о маркизе. — Ваше сиятельство, вы правы, вот почему, если вы предпочтете одну из них, вам тем более нужно написать вашему дядюшке. Я отнесу письмо рано утром и доставлю ответ. Это единственное средство все уладить, и бьюсь об заклад, что, видя покорность вашего сиятельства, граф не станет больше интересоваться малышкой. Может, он вовсе и не вспоминает о ней. — Возможно. Следует обо всем подумать. Идите, Валентин, — проснувшись, я скажу вам, что нужно сделать. И Мурзакин, не в силах дольше сопротивляться сну, быстро разделся и бросился на кровать, где заснул, будто сраженный молнией, даже не потрудившись укрыться одеялом. Он спал, как спят в двадцать четыре года, проведя ночь в волнении и удовольствиях. Вероятно, князь видел сны, в которых ему являлись то маркиза, то гризетка, но скорее всего ему вообще ничего не снилось. Он погрузился в беспамятство первого сна. Франсия выбралась из своего укрытия, сначала осторожно прошлась по комнате, потом уже ничего не опасаясь, поскольку Мурзакин ничего не слышал. Когда шаги Валентина затихли, она открыла дверь. Моздар не двигался. Он спал не в кровати, — казаки не знают подобной роскоши, — а на диване, не раздеваясь, чтобы всегда быть готовым выполнить приказ своего господина. Франсия опустилась на стул и посмотрела на Мурзакина. Как он спокоен! Как быстро забыл ее! Как мало она значила для него! Недавно покинув объятия маркизы, князь уже не думал о своей маленькой голубой птичке. Он уступил ее могущественному Огоцкому и не осмелился требовать у него свою любовницу. Хорошо выспавшись, князь попытается вернуть ее, прибегнув к трусливым уговорам, а, может, и вовсе не станет пытаться. Франсия поняла, в какую бездну упала. Девушку била дрожь, зубы у нее стучали. Сердце и ноги сковал холод. Перед ее мысленным взором пронеслись все события вечера: легкость, с какой Мурзакин отдал ее похитителю, была для Франсии самым мучительным оскорблением. Гузман тоже изменял ей, но он по крайней мере безумно ревновал Франсию! Гузман скорее убил бы ее, чем уступил другому. Мурзакин довольствовался тем, что дал Франсии оружие на случай, если придется избавиться от соперника. «Почему у него возникла такая мысль, — подумала девушка, — раз он спит и не вспоминает больше о моем существовании? Вероятно, как наследник дядюшки, князь будет мне благодарен, если я совершу это сейчас». Франсия принужденно рассмеялась, и в ушах у нее вновь прозвучали слова инвалида: «Князь убил твою мать, это, должно быть, правда, и, когда ты, несмотря на это, стала его содержанкой, он посмеялся над тобой вместе с другой любовницей, такой же подлой, как он». Девушка поднялась в порыве негодования. Внезапно нестерпимый жар бросился ей в голову, и Франсии почудилось, будто красный свет залил комнату. Она достала кинжал и протерла лезвие, не понимая, что делает. «Сейчас, — подумала девушка, — я умру. Но я не могу умереть обесчещенной. Не хочу, чтобы говорили: «Она была любовницей русского, убившего ее мать, и эта несчастная так сильно любила князя, что из-за него лишила себя жизни». Я так мало прожила! И я не желаю жить, творя только зло, и умереть опозоренной. Пусть меня простят и отнесутся ко мне с уважением, когда меня не станет. Пусть скажут моему брату: «Она проявила слабость, но искупила ее, и ты можешь гордиться своей сестрой и оплакивать ее. Ты хотел убивать русских, но тебе не представился случай, она же нашла его. Франсия отомстила за вашу мать!» Что же произошло потом? Этого не знает никто. Франсия опустилась на стул, вновь ощутив озноб и упадок сил. Она вглядывалась в прекрасное лицо князя, такое спокойное, что, казалось, он улыбается ей. Его рот был приоткрыт, и черная борода оттеняла зубы ослепительной белизны, блестящие, как жемчуг. Широко открытые глаза Мурзакина смотрели на нее. Он попытался коснуться груди рукой, будто хотел избавиться от инородного тела, мешавшего ему. Но у князя не хватило сил. Раскрытая ладонь бессильно упала на кровать. Он был смертельно ранен. Но Франсия об этом не знала. Она вонзила персидский кинжал ему в сердце. Девушка сделала это в порыве исступления, не сознавая того, что совершает: она была безумна. Издал ли Мурзакин хоть один крик, испустил ли хоть один стон? Заговорил ли с ней, улыбнулся ли ей, проклял ли ее? Она не знала. Франсия ничего не слышала, ничего не понимала. Она думала, что видит сон, борется с кошмарами. Девушка уже не помнила, что хотела покончить с собой. Она решила, что наконец-то очнулась, и ее первым инстинктивным желанием было глотнуть воздуха. Франсия вышла из комнаты, быстро пересекла переднюю, не замеченная Моздаром, приблизилась к решетке, повернула ключ в замке, выскользнула на улицу и вновь заперла дверцу. Все это было сделано с необычайным хладнокровием, после чего девушка пошла вперед, не ведая, откуда она и кто такая. Мурзакин еще дышал, но с каждым мгновением его дыхание слабело. Он, вероятно, не страдал. Удар кинжалом пробудил его, но не настолько, чтобы он что-либо понял, а вскоре князь впал в забытье. Если бы он увидел Франсию, если бы узнал ее, то даже не вспомнил бы о том, что она сделала. Меркнущее сознание перенесло Мурзакина далеко, к маленькому домику на берегу полноводной реки. Он увидел луга с пасущимися стадами, узнал лошадь, на которую в детстве впервые сел верхом, услышал чей-то голос, который кричал ему: «Осторожней, дитя!» Это был голос его матери. Но вот лошадь упала, видение рассеялось… Князь ничего больше не видел и не слышал: он был мертв. В час, когда Мурзакин обычно просыпался, Моздар вошел к нему в комнату. Полагая, что хозяин еще крепко спит, он несколько раз окликнул его. Не получив ответа, Моздар открыл ставни и заметил красные пятна на простыни. Крови было очень мало: вонзенный неглубоко кинжал оставался в груди, но он задел жизненно важные органы. Смерть наступила мгновенно, без агонии. Безмятежное лицо Мурзакина было прекрасным. На крик казака прибежал Валентин. Он послал за полицией и доктором Фором. Ожидая их, он осмотрел все вокруг. По счастливой случайности Франсия неоставила никаких признаков своего недолгого пребывания ни в доме, ни в саду. Сухая земля не сохранила ни одного следа. Ключ от решетки торчал в замке, где, по словам Валентина, он и оставил его. Моздар божился, что никто не прошел бы через переднюю, не разбудив его. Доктор Фор вместе с другим хирургом осмотрел рану и составил протокол. Его коллега высказал мысль о самоубийстве. Придерживаясь другого мнения, доктор Фор не подписал заключение о смерти. Он подумал о Франсии, но не назвал ее. В его обязанности не входили поиски улик, и доктор Фор удалился, размышляя о том, что у этой малышки оказалось больше сил, чем он предполагал. Валентин, опасавшийся, что его обвинят в убийстве, с радостью понял, что подозрения пали на бедного Моздара, это прирученное животное, рыдавшее от всей души. Спешно вызванный граф Огоцкий пролил слезы над племянником, и его печаль была искренней, насколько это возможно для придворного. Для порядка он приказал арестовать Моздара, но, поразмыслив над участью казака, снял с него обвинение и объявил, что у бедного племянника были любовные невзгоды, побудившие его покончить с собой. Граф не признался, что был причиной этих невзгод, однако упрекнул себя. Его утешила мысль о том, что у бедного племянника была слабая голова, романтический ум и слишком нежное сердце. Сама судьба предначертала ему разрушить какой-нибудь глупостью блестящую карьеру, открывавшуюся перед ним. Царь выразил сожаление о смерти молодого офицера. Несколько человек из его окружения говорили шепотом, что граф Огоцкий, завидуя молодости и красоте племянника, соперничал с ним из-за некой маркизы, поэтому избавился от него. История не имела продолжения. Все русские, расположившиеся лагерем у дворца Талейрана, сказали над могилой Диомида Мурзакина прощальные слова, банальные, но краткие. Смысл их сводился к одному: «Бедный малый! Такой молодой!» Похороны не отличались пышностью, как это принято у военных. Самоубийство всегда и везде считается грехом. Маркиз де Тьевр следовал за траурной процессией своего дорогого кузена, говоря каждому, кто желал его выслушать: «Он был родственником моей жены, мы очень любили его и так поражены этим печальным событием, что с мадам де Тьевр случился нервный припадок». Маркиза действительно была в ужасном состоянии. Вернувшись с кладбища, муж тихо сказал ей: — Я понимаю ваше волнение, моя дорогая, но нужно превозмочь себя и с сегодняшнего вечера вновь открыть двери нашего дома. У светских людей длинные языки, и они не преминут сказать, будто между вами и этим молодым человеком что-то было, раз вы так много плачете. Успокойтесь! Я так не думаю, но вам следует одеться и выйти: этого требует моя честь! Маркиза подчинилась и появилась в свете. Спустя восемь дней она с еще большим жаром, чем всегда, окунулась в светскую жизнь, а еще через месяц сказала себе, что небо спасло ее от слишком пылкой страсти, благодаря чему она не скомпрометировала себя. Никто не подозревал Франсию, а она сама ничего не помнила: девушка действовала в приступе горячки. Инстинкт привел ее к Муане. Там она бросилась на кровать, где и провела три дня и три ночи в лихорадке и бреду. К девушке вызвали доктора, который сказал, что она обречена. Разумеется, французская полиция легко нашла бы Франсию, если бы Валентин донес на нее, но он об этом не помышлял, подозревая лишь графа Огоцкого. Валентин ненавидел графа за то, что тот так ловко провел его. Жена сказала ему, что малышка в ту ночь, когда все случилось, могла проникнуть во флигель без их ведома, но Валентин, пожав плечами, ответил: — Это касается русских. Не будем думать за них. Я знаю, что русскому императору не нравится, если находят доказательства ненависти французов к его народу. Молчи о малышке Франсии: мы ее не видели, она в последнее время не приходила, оставив нам кредитный билет, который дал ей князь. Не стоит больше возвращаться к этому вопросу. Только доктор Фор угадал истину. Глубоко опечаленный взгляд, устремленный на него Франсией в тот день, когда он с презрением оттолкнул ее, запечатлелся в сердце доктора. Это несчастное маленькое существо, так искренне доверившееся ему и так глубоко любившее, было не интриганкой, а жертвой рока. Кто знает, не сама ли судьба повергла Франсию в безумие, желая спасти ее? Доктор Фор решил отыскать девушку. Поскольку у него была хорошая память, он вспомнил, что, рассказывая ему о своей жизни, она упомянула кабачок на улице Фобур-Сен-Мартен и инвалида, владельца этого заведения. Придя туда, доктор Фор нашел девушку на грани жизни и смерти. Брат был подле нее. После того, как он тщетно искал сестру у Мурзакина, где и узнал о трагедии, Теодор вернулся в предместье Сен-Мартен, уверенный, что здесь его ждут вести о ней. Франсия сидела в маленькой, сырой и убогой комнате. Дневной свет проникал сюда со двора площадью в два квадратных метра, похожего на колодец, грязного и пропитанного зловонием кухонь бедняков, выносивших туда в свинцовых тазах помои. Это была комната Муане, и он не мог предложить ничего лучшего; у него не было средств, чтобы снять Франсии другую и заплатить сиделке. К счастью, Теодор ни на минуту не отходил от сестры. Он ухаживал за ней с преданностью и умением, многое искупившими. Его как будто подменили после нескольких дней патриотической горячки, когда он принял решение трудиться. Антуан, подыскавший за эту неделю работу поблизости, заходил утром, в полдень и вечером, приносил все, что ему удавалось раздобыть, стараясь облегчить страдания больной. Родственница Антуана из Оверни[514], торговавшая фруктами на углу, любила Франсию и приходила ночью, чтобы сменить Теодора или помочь ему справиться с сестрой во время приступов бреда. Франсия не нуждалась ни в уходе, ни в помощи, но от контраста между отвратительным местом, где нашел девушку доктор Фор, и относительной роскошью того, где он оставил ее, его сердце сжалось. Хорошо зная, как протекала болезнь до сих пор, доктор надеялся вылечить Франсию. Через несколько дней доктор решил, что опасность миновала. Теодор, печально покачав головой, сказал ему: — Чем так жить, лучше бы ей умереть! — Вы считаете ее сумасшедшей? — спросил доктор. — Да, месье. Именно тогда, когда жар немного спадает, сестра менее всего способна рассуждать. В бреду она твердит, что убила русского князя, и мы не удивляемся: это горячка. Когда же Франсия приходит в себя, то говорит, что раньше мечтала о смерти, но теперь хорошо знает: князь жив и спит там, в кресле, а мы слепые, если не видим его. — Зачем вы сказали ей о смерти Мурзакина, когда она в таком состоянии? — Но она сама рассказала! Когда я пришел с улицы Вожирар, никто еще не знал об этом. Считали, будто ей все приснилось, и я заверил их, что это правда. — Мой мальчик, вы поступили неразумно. — Почему же, месье доктор? — Вашу сестру могут заподозрить, и вам следовало бы молчать. Сейчас бреда нет, но рассудок ослаблен и подвержен галлюцинациям. Надо увезти Франсию в пригород, найти ей светлую и веселую комнатку с небольшим садом, обеспечить спокойствие и одиночество. Там не должно быть любопытных или болтливых соседей, а вы не повторяйте никому того, что она говорит вам в любом состоянии о князе Мурзакине. Не принимайте это во внимание, позвольте ей думать, что он жив, до тех пор, пока она не поправится. — Я тоже хочу этого, — ответил Теодор. — Но где взять деньги? — Мы найдем их. — И доктор дал ему луидор в качестве аванса. — Я уже собрал некоторую сумму для вашей сестры, когда она хотела уйти от князя. Я оплачу эти небольшие расходы. Скорее займитесь сменой обстановки и жилья, завтра ее можно будет перевезти. В карете Франсию будет сильно трясти, я пришлю носилки, а вы мне скажете, где остановитесь, и я зайду вечером осмотреть ее. Теодор действовал быстро и толково. Он нашел то, что искал, рядом с больницей Сен-Луи[515], поблизости от оранжерей, которые в то время тянулись до заставы Шопинет. Назавтра в полдень Франсию уложили на носилки. Девушку очень удивило, что ее поместили внутрь палатки из полосатой ткани, наподобие кровати с раздвижным пологом. Вдруг мрачные мысли овладели ею. Мельком увидев через прорези в ткани траву и деревья, а также то, как Теодор и Антуан печально шли справа и слева от нее, она решила, что умерла и ее несут на кладбище. Франсия безропотно покорилась и только хотела, чтобы ее похоронили возле Мурзакина, которого она по-прежнему любила. Тем не менее ритмическое движение и дуновение свежего ветерка, от которого трепетала ткань полога, привели девушку в состояние, близкое к блаженству, и в продолжение всей поездки она крепко спала впервые после своего невольного преступления. По прибытии ее, все еще спящую, уложили в постель. Вечером Франсия связно ответила на вопросы доктора и поблагодарила его за доброту: она узнала его. Франсия не осмелилась спросить, не Мурзакин ли прислал доктора, но частично вспомнила то, что произошло. Она думала, что это по приказу князя ее перевезли в надежное место, которое станет убежищем от домогательств графа. С ней брат, взявший на себя обязанность защищать ее. Когда доктор уходил, Франсия слабо сжала его руку и тихо спросила: — Вы простили меня за то, что я так и не смогла возненавидеть этого русского? Мало-помалу она перестала видеть Мурзакина в своих фантазиях и вспомнила все, кроме мгновения, когда утратила рассудок. Как могла Франсия восстановить в памяти ту сцену, если тогда была не в себе? Она видела столько ужасного и непонятного, что в своих воспоминаниях четко не отличала иллюзию от реальности. Доктор с научным интересом изучал этот феномен чистой и спокойной совести, не отягченной преступлением, совершенным бессознательно. Он хотел проверить свои подозрения, и ему без особого труда удалось узнать у Франсии, как она попала к своему любовнику в ночь его смерти. Она помнила, как вошла туда, но совершенно забыла, каким образом оттуда вышла. Когда доктор спросил у Франсии, в какое время она рассталась с Мурзакиным той ночью, то убедился, что девушка абсолютно ничего об этом не знает. Она призналась, что хотела покончить с собой в присутствии князя с помощью кинжала, подаренного им, и подробно описала его. Это был именно тот кинжал, который доктор извлек из трупа. Франсия наивно полагала, что оружие все еще у нее, и пыталась найти его. Когда доктор спросил у девушки, не Мурзакин ли отговорил ее от самоубийства, мысли Франсии вновь начали путаться, и она ничего не вспомнила. То ей казалось, что князь сам убил себя, то, что удар кинжалом нанесли ей. — Видите, — добавила она, — все это бред, поскольку я не ранена, и он слишком любит меня, чтобы желать мне смерти. А то, что князь покончил с собой, тоже сон, приснившийся мне, потому что он жив. Я часто видела его во время болезни. Не правда ли, он заходил навестить меня? Ведь князь скоро вернется? Скажите ему, что я все прощаю. Он был не прав, но раз пришел ко мне, значит, по-прежнему любит меня, а мне так и не удалось разлюбить его, как я ни старалась. Дождавшись полного выздоровления Франсии, ей сообщили, что союзники ушли после тринадцати дней пребывания в Париже, и, вероятно, она никогда больше не увидит ни Мурзакина, ни его дядю. Глубоко опечаленная, она затворилась в комнате, ибо опасалась, что ее обвинят в малодушии. Упреки инвалида не стерлись из памяти Франсии, и, утратив надежду, она жаждала теперь только уважения. Девушка попросила доктора найти ей работу. Он устроил ее в бельевую больницы Сен-Луи, где она хорошо справлялась со своими обязанностями. По большим праздникам Франсия приходила обнять Муане и пожать руку Антуану, который все еще не утратил надежду жениться на ней. Она не отталкивала его и говорила, что, имея хорошую работу, хотела бы сделать кое-какие сбережения и обзавестись хозяйством. Бедный Антуан поступал также: работал как вол и лишал себя самого необходимого, чтобы скопить небольшую сумму. Теодор тоже был занят. Он обучался у Антуана ремеслу жестянщика. Мальчик хорошо себя вел и прекрасно чувствовал. Тщедушный и невоспитанный подросток превратился в худощавого, но сильного, деятельного и смышленого юношу. В квартале, как выражались Франсия и ее брат, когда речь заходила об улице Фобур-Сен-Мартен, бывшей для них маленькой родиной, обоих заметили, удивлялись переменам в поведении. Брата и сестру хвалили за то, что они вовремя остепенились, любезно встречали в лавках и мастерских. Муане, довольный приемной дочерью, с гордостью представлял ее своим старым товарищам, искалеченным, как и он, войной и приходившим пропустить вместе с ним по стаканчику за былую славу. Радуясь встрече с ними, он забывал брать у них деньги. Муане не разбогател, но светлел лицом, когда говорил им, указывая на Франсию: — Вот та, которая страдала так же, как и вы, она закроет нам глаза! Он заблуждался, бедный сержант. Муане видел, что его приемная дочь похорошела: глаза ее блестели, губы стали ярко-алыми, на щеках играл румянец. Это беспокоило доктора Фора: он заметил, что у Франсии почти постоянный сухой кашель и неровное дыхание. Зимой он понял, что болезнь серьезнее и опаснее, чем казалось, а весной уже не сомневался: у Франсии чахотка. Он уговаривал ее оставить работу и стать компаньонкой одной старой дамы, уезжавшей в деревню. — Нет, доктор, — ответила Франсия, — я люблю Париж и хочу здесь, в Париже, умереть. — Кто говорит тебе о смерти, мое бедное дитя? Откуда у тебя такие мысли? — Мой добрый доктор, я чувствую, что умираю, и счастлива. По-настоящему любят лишь однажды, и я так любила. Теперь мне не на что надеяться. Меня совсем забыли. Князь ни разу не написал мне, он не вернется. Без любви жить невозможно, а если, к моему несчастью, я полюбила бы вновь, то и тогда думала бы о нем и никому не отдала бы своего сердца. Это было бы дурно и закончилось бы плохо. Я предпочитаю умереть молодой и больше не страдать. Наперекор всему Франсия продолжала работать, и болезнь быстро прогрессировала. 21 марта 1815 года Париж праздновал победу[516]. Наполеон, накануне вечером вернувшийся в Тюильри, показался парижанам на грандиозном параде своих войск на площади Карусель. Народ в изумлении и упоении решил, что взял реванш над врагом. Муане словно обезумел. Забыв о своей лавке и гордо постукивая деревянной ногой по мостовой, он отправился посмотреть на своего императора. Муане хорошо знал, что бедная Франсия совсем ослабла, больна, не сможет пойти на площадь и разделить с ним радость. — Мы зайдем к ней вечером, — говорил он Антуану, быстро шагавшему по направлению к Тюильри. — Мы обо всем ей расскажем! Мы отнесем Франсии букет из лавровых листьев и фиалок, который я прикрепил к вывеске моей лавки. В то время как Муане осуществлял этот план и кричал до изнеможения: «Да здравствует император!» — бедная Франсия умирала в саду больницы Сен-Луи на руках одной из сестер. Полагая, что это обморок, та старалась привести девушку в чувство. Когда прибежали Теодор и доктор Фор, Франсия улыбнулась им. Судорога исказила ее черты, и с большим усилием она произнесла: — Я счастлива! Он вернулся, он здесь, с моей матерью, он возвратил мне ее. Франсия повернулась в кресле и вновь улыбнулась своим видениям и глубоко вздохнула, как человек, чувствующий себя исцеленным: то был последний вздох. Однажды в присутствии доктора Фора обсуждался вопрос о свободной воле. — Я верил в нее, но больше не верю. Когда внутреннее равновесие нарушено слишком сильными потрясениями, мы не способны правильно оценить наши действия. Я знал одну добрую, слабую, нежную девушку, которая твердой рукой совершила убийство и никогда не сожалела об этом, потому что не помнила о нем. И, не называя имени, он рассказал своим друзьям историю Франсии.
От переводчика
Имя французской писательницы Ж. Санд, 200-летний юбилей которой широко отмечался в 2004 г., давно и хорошо известно отечественному читателю. Многократно большими тиражами публиковались отдельные ее произведения: «Индиана», «Лелия», «Мопра», «Консуэло», «Орас» и др., в советское время дважды издавались собрания сочинений; творчеству писательницы посвящались научные исследования и популярные книги. «Русская» история Ж. Санд началась в 1833 г., когда появился перевод ее первого романа «Индиана», а уже к началу 40-х гг. популярность ее произведений у русской публики приобрела невиданный масштаб. Позднее, вспоминая это время, Ф. М. Достоевский свидетельствовал: «Мы набросились на одного Жорж-Занда и — Боже, — как мы тогда зачитались!» Русские журналы печатали переводы ее романов почти одновременно с их выходом во Франции, и они вызывали бурную полемику, в которой участвовали представители всех общественно-политических группировок тех лет. В письмах, дневниках, мемуарах русских людей 30–60-х гг. XIX в. постоянно встречаются ссылки на имя и произведения французской писательницы. И. С. Тургенев в январе 1848 г. восторженно приветствовал выход в свет понести «Франсуа-найденыш», отмечая, что она написана превосходно: просто, правдиво, захватывающе. Популярность Жорж Санд объясняется прежде всего идеями и темами, с которыми она пришла в литературу: они были чрезвычайно актуальны для русской действительности того времени. Французская писательница, создавая образы свободолюбивых, сильных духом, мятежных героинь, утверждала мысль о необходимости изменения общественных законов, обрекающих женщину в семье на экономическое и духовное рабство. Она выступала против лицемерия современного ей института брака, отстаивала мысль, что женщина вправе сама решать свою судьбу. Критикуя пороки общества, Ж. Санд подняла голос в защиту обездоленных и предложила программу, пусть и утопическую, переустройства мира на началах добра и справедливости. Высоко оценивая демократический и гуманистический пафос произведений Ж. Санд, В. Г. Белинский назвал ее «вдохновенной пророчицей великого будущего, энергическим адвокатом прав женщины, без сомнения, первым поэтом и первым романистом нашего времени». Свое уважение к личности писательницы, восхищение ее талантом неоднократно выказывали И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский, А. В. Дружинин и др. Они же признавались в том, что Ж. Санд оказала влияние на их творчество. Весьма показателен живой интерес, который проявляла Ж. Санд к России и ее культуре. Вполне вероятно, что его пробуждению немало способствовали супруги Виардо, ее многолетние и близкие друзья. Луи, известный литературный критик и переводчик, и Полина Гарсиа, певица с мировым именем, дважды (осень — зима 1843–1844 и 1844–1845 гг.) побывали в России с гастролями Парижской Итальянской оперы. В письмах к Ж. Санд они делились впечатлениями от увиденного, рассказывали о новых русских знакомых, сообщали о широкой известности ее произведений у русских читателей. Однако исключительная роль в приобщении Ж. Санд к русской культуре, бесспорно, принадлежит И. С. Тургеневу. С этим писателем она впервые встретилась в 1845 г. в своем поместье Ноан и после длительного перерыва возобновила с ним личные и творческие контакты в 70-е гг. Именно Тургенев познакомил писательницу с произведениями русской литературы, которые в ту пору интенсивно переводили на французский язык. В личной библиотеке Ж. Санд были книги Герцена, Пушкина, Гоголя и самого Тургенева. В своих дневниках и письмах Ж. Санд давала им высокую оценку. «Наконец смогла прочитать вчера вашего Пушкина. Это великолепно, в особенности «Скупой рыцарь»… это заслуживает быть переведенным и существовать далее, поскольку по-настоящему прекрасно», — сообщала она Луи Виардо, который совместно с Тургеневым перевел эту пушкинскую трагедию. Свое понимание творчества Тургенева и значения «Записок охотника» для французского читателя Ж. Санд наиболее полно выразила в предисловии к очерку «Пьер Боннен» (1872): «Ни один исторический памятник не сможет раскрыть нам Россию лучше, чем эти образы, столь хорошо вами изученные, и этот быт, так хорошо увиденный вами… Вам присуща жалость и глубокое уважение ко всякому человеческому существу, какими бы лохмотьями оно ни прикрывалось и под каким бы ярмом оно ни влачило свое существование… Вы — реалист, умеющий все видеть, поэт — чтобы все украсить, и великое сердце, чтобы всех пожалеть и все понять». В 1872–1873 гг. русский писатель трижды посетил Ноан, и в своем дневнике Ж. Санд подробно описывает каждый день этих визитов, часто повторяя фразу: «Тургенев рассказывал нам интересные истории. Мы слушали его жадно». Тогда же началась их переписка, продолжавшаяся до самой смерти Ж. Санд в 1876 г. Повесть Ж. Санд «Франсия», созданная в момент самой интенсивной творческой близости писателей (1872), обнаруживает явные признаки тургеневского влияния: это и русская тема, и отдельные персонажи, и имя главного героя Диомида Мурзакина (вспомним Константина Диомидовича Панделевского в «Рудине»). Все это могло быть подсказано Тургеневым. Сама писательница в весьма примечательной сноске указывает на один из возможных источников своей повести: «Тургенев, хорошо знающий Францию, мастерски создал образ русского интеллигента, который чувствует себя в России лишним, так как по натуре своей он француз. Перечитайте последние страницы восхитительного романа «Дмитрий Рудин». По жанру «Франсия» — историческая повесть. Ж. Санд, тяжело пережившая поражение Франции во франко-прусской войне, Парижскую коммуну и стремившаяся противопоставить героическое прошлое бесславному настоящему, вполне закономерно обратилось в этой повести к эпохе Наполеона. Писательница воспроизводит яркую картину разгрома и бегства Наполеона из России; обозначает места, по которым пролегал путь отступающей французской армии (Плещеницы, Студенка, Березина). Соблюдая историческую достоверность, Ж. Санд описывает вторжение союзных войск во главе с Александром I в Париж 31 марта 1814 года, реставрацию Бурбонов, возвращение Бонапарта в столицу в августе 1815 г.; называет подлинных исторических деятелей того времени (князь Шварценберг, генерал Удино, Талейран, граф д’Артуа, Платов и др.); упоминает спектакли, которые шли тогда в парижских театрах. На таком историческом фоне разворачивается трагическая история любви молодой француженки к русскому офицеру. И в этой повести писательница осталась верна главной теме своего творчества — судьбе женщины (не случайно произведение названо именем героини), ее способности и готовности к самопожертвованию во имя любви. Именно в женских образах чаще всего выражен нравственный идеал писательницы, ее позитивная программа. Эту особенность творчества Ж. Санд отмечал Золя в статье, посвященной ее памяти: «У Жорж Санд есть свой, очень типичный для нее идеал женщины — разумной и страстной, благородной и осмотрительной. Она, видимо, мечтала обновить общество через женщину; вот почему она создала образы своих воинствующих героинь, таких бесстрашных — и неизменно прекрасных». Такова Франсия, парижская работница, потерявшая в России мать, вынужденная зарабатывать на жизнь себе и брату. Верная требованию романтической эстетики «изображать человека таким, как мне хочется, каким, по моему мнению, он должен быть», Жорж Санд идеализировала свою героиню: она умна, независима, мужественна, способна к сильному, всепоглощающему чувству. Став свидетельницей и участницей больших исторических событий, Франсия сохранила нравственную чистоту, душевную чуткость, благородство, присущие, по мысли писательницы, людям из народа. В любви она ищет прежде всего духовной близости со своим избранником, мечтает о новой, наполненной смыслом жизни. Поначалу кажется, что все разделяет Франсию и Диомида Мурзакина: национальность, положение в обществе, ненависть патриотки к оккупанту, однако любовь способна, как считает Жорж Санд, преодолеть религиозные, сословные, имущественные и другие различия между людьми, построить мир на началах добра и справедливости. И Франсия готова пожертвовать всем ради такой любви: репутацией, уважением родных и знакомых, душевным спокойствием, будущим. «…я совершаю подлость, полюбив врага моей страны! Я знаю, что заслуживаю презрения всех честных людей… но я перенесу этот позор, если вы любите меня, потому что ваша любовь для меня — все», — говорит она Мурзакину. После его измены, отчаявшаяся, оскорбленная, с сердцем, полным ненависти к русским, которые желали унизить ее, Франсия в порыве безумия убивает Мурзакина кинжалом и через год умирает от чахотки, потому что для нее без любви жить невозможно. В повести «Франсия» Ж. Санд стремилась передать свое видение России и нарисовать тип русского человека, каким его себе представляла. Россия в ее изображении — могучий исполин, которого еще не коснулась цивилизация, страна, чей народ порабощен деспотической властью, где «царь всесилен», «у правительства есть глаза и на затылке», где «помнят все», и малейшее неповиновение грозит изгнанием, разорением, ссылкой в Сибирь. Интересно, что в тексте оригинала встречается фраза, которую дословно можно перевести как пушкинскую «Во глубине сибирских руд» (Au fond des mines Siber). Чтобы приспособиться к таким условиям, русские, по словам Ж. Санд, выработали целую науку жизни, суть которой состоит в раболепстве перед сильными мира сего и в унижении самых слабых, науку, несовместимую с французским характером и привычками. Интересны, хотя и небесспорны размышления писательницы о природе патриотического чувства у русских и французов, обусловленного спецификой их исторического развития и особенностями национального менталитета. Так, по мнению Ж. Санд, патриотизм русских, который она не отрицает, связан с их несвободой, страхом перед деспотической властью: «Они героичны поневоле и потому не имеют основания гордиться своими жертвами». Патриотизм более свободных французов, напротив, рождается из понимания своей значимости в историческом процессе. Чтобы придать своим рассуждениям большую убедительность, писательница приводит конкретные проявления патриотического чувства двух народов: сожжение русскими Москвы из-за ненависти к чужеземцам — «дикая, но возвышенная самоотверженность» — и сдачу французами Парижа, который «пожертвовал честью во имя человечества, поскольку видел свой долг в спасении цивилизации, оплотом которой он являлся». Такой патриотизм писательница считает истинным и достойным уважения. На страницах повести перед читателем предстает целая галерея образов русских людей — от царя до денщика. В их обрисовке явно ощущается двойственность авторской позиции. С одной стороны, солдаты русской армии красивы, величественны, дисциплинированны, любезно обходятся с жителями, которые «с удивлением и восхищением» взирают на них. С другой — Ж. Санд не раз говорит о суровости, подозрительности, лицемерии всемогущего русского царя, желавшего играть роль «великодушного победителя», «ангела-хранителя народов» в «этой великой и жестокой комедии», предназначенной для жадных до зрелищ парижан. Резко сатирически изображает Ж. Санд и ближайшее окружение царя, в частности, образ адъютанта Александра I, графа Огоцкого, имевшего «крестов на груди больше, чем волос на голове». Умный, образованный, храбрый, но без состояния, он своим блестящим положением при дворе обязан прежде всего поддержке женщин, ибо «в ту пору в России протекция для бедного дворянина была необходимым условием всякой карьеры». Необходимость подчиняться власти, лицемерить, плести интриги душевно состарили его, сделали злобным и мстительным. Именно он сыграл зловещую роль в трагедии Франсии. Для Ж. Санд главный герой повести — Диомид Мурзакин, «этот прекрасный северный варвар» — истинно русский уже потому, что душой и телом предан царю, «навсегда прикован к ярму, которое в России зовется цивилизацией — к культу абсолютной власти». Он не может, полагает писательница, понять подлинные чувства французов и считает себя вправе презирать их. Побежденный Париж для Мурзакина — великолепный трофей, добыча, сулящая победителю множество наслаждений и удовольствий. Изумление и негодование вызывает у него дерзость Теодора, брата Франсии, ненавидящего русских и не желающего ничем быть им обязанным: «В России он приказал бы догнать, арестовать и жестоко выпороть простолюдина, нанесшего ему подобное оскорбление». Полнее всего его характер раскрывается в любви. Красавец Диомид Мурзакин всегда пользовался успехом у женщин всех сословий и национальностей, но в «делах любви не руководствовался ни сердцем, ни умом» и потому не сумел по достоинству оценить силу и глубину чувств Франсии. Впервые встретив ее, умирающую от голода и ран, в белорусском местечке Плещеницы в декабре 1812 г. при отступлении наполеоновских войск, он вновь увидел ее в Париже, и ему показалось, что «никакая другая женщина не может более интересовать его. Три дня он любил исключительно ее». Но пустое тщеславие и жажда удовольствий толкают Мурзакина в объятия эгоистической и легкомысленной аристократки Флоры де Тьевр, что заставляет страдать Франсию. Тем не менее во внешнем и внутреннем облике своего героя писательница постоянно подчеркивает первозданную мощь и силу «дикаря, которого лишь коснулась цивилизация». Грузин по происхождению, а может быть, курд или перс, как пишет Жорж Санд, он вполне мог «окунуться в полную героических приключений жизнь своих вольнолюбивых предков», но случилась война, Мурзакин отличился в сражении под Москвой и был замечен царем. О себе он говорит: «Я осторожен и смел, таков характер моего народа». Весьма любопытно оценил образ Мурзакина Г. Флобер: «Русский, естественный, натуральный человек, то, что нелегко сделать». Проникнута глубоким лиризмом сцена смерти героя, когда его меркнущее сознание возвращается к тому, что так дорого любому человеку независимо от его национальной принадлежности — к родине, дому, матери: «…к маленькому домику на берегу полноводной реки. Он увидел луга с пасущимися стадами, узнал лошадь, на которую в детстве впервые сел верхом, услышал чей-то голос, который кричал ему: «Осторожней, дитя!» Это был голос его матери. Но вот лошадь упала, видение рассеялось… Князь ничего больше не видел и не слышал: он был мертв». Несмотря на отдельные удачные детали, Ж. Санд в целом не удалось создать живой и убедительный характер русского человека. Возможно, не в последнюю очередь и потому, что, создавая его, она руководствовалась политическим моментом (поражение во франко-прусской войне актуализировало патриотическую тему, включающую и негативный образ врага), личными антипатиями (у нее еще в 40-е гг. под влиянием книги известного французского путешественника маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году» сложилось мнение о «варварской России», «стране рабов»), литературной традицией в большей степени, чем реальными жизненными впечатлениями. Думается, Тургенев был скорее любезен, чем искренен, уверяя, что «Жорж Санд понимала нас так, как если бы родилась русскою…». Справедливости ради необходимо отметить, что писательница не пощадила в повести и своих соотечественников, сатирически изобразив высшее парижское общество и его представителей. Так, маркизу Флору де Тьевр отличают бедность духовного мира, нравственный нигилизм, неспособность к искренним чувствам. Она «привыкла чувствовать себя влюбленной во всех мужчин, способных нравиться, не отдавая предпочтения ни одному из них, чтобы не связывать себя обязательством любить исключительно его». Бездушная кокетка, честолюбивая и алчная, маркиза более всего озабочена тем, чтобы «приятно проводить время, жить на широкую ногу, свободно делать долги, наконец занять место при каком-нибудь дворе и тем самым обрести возможность… вознести свою красоту на пьедестал». Так же художественно убедительно выписан в повести гротескный образ «жадного до званий и должностей» маркиза де Тьевра. «Это был непривлекательный человек лет пятидесяти, невысокий, худой, подвижный, с необыкновенно черными глазами и мертвенно-бледным лицом, в парике неправдоподобно черного цвета, в черной облегающей одежде, панталонах и черных чулках, и в белоснежном жабо. В его неприметной особе поражал контраст белого и черного: настоящая сорока по оперению, трескотне и резвости». Мастерски используя реалистический портрет, описание интерьера, язык персонажей, писательница сумела передать внутреннюю опустошенность, отсутствие убеждений и нравственных принципов, скуку существования парижского бомонда, занятого только интригами и сплетнями. На приеме, устроенном маркизом де Тьевром, Мурзакин имел шумный успех, поскольку вместо монстра, питавшегося исключительно сальными свечами (а именно так представляли себе казаков светские дамы), они увидели «офицера, который был красив, ласков, надушен, хорошо одет. Его хотелось потрогать, дать ему конфету, увезти в своей карете, показать друзьям». Известный демократизм Ж. Санд, ее непоколебимая уверенность в том, что «в народе сила, энтузиазм, фермент будущего», позволили ей создать в повести выразительные, запоминающиеся, согретые авторской симпатией образы простых людей: парижских рабочих, ремесленников, торговцев (Антуан, папаша Муане, Теодор и др.). Именно они истинные патриоты, готовые жертвовать жизнью во имя родины. Для них появление русских в Париже — и это вполне естественно — унижение национального достоинства, трагедия народа, которому, по мнению Ж. Санд, «отказали в праве и средствах самому себя защищать», «отдали на милость победителей». Писательница увидела различие в отношении к происходящему жителей парижских предместий и аристократических кварталов. Если первые встречали союзные войска криками ненависти и гнева, угрозами, то вторые «с благодарностью и безумной радостью аплодировали падению Франции». Ж. Санд убеждена, что именно героизм народа спас страну тогда и спасет ее сейчас. И все же, хотя в повести нашли отражение реальные исторические события и социальные конфликты времени, это прежде всего произведение о большой и трагической любви, что потребовало от писательницы и соответствующих художественных средств. Стиль романтического повествования особенно наглядно проявляется в портретах главных героев. Рисуя их внешний облик, Ж. Санд стремится полнее раскрыть духовный мир своих романтических персонажей, передать общее впечатление, которое они производят на окружающих, вызвать у читателя определенные эмоции. Портрет Франсии свидетельствует о благородстве, искренности, серьезности ее натуры: «Бледное, тонкое, с мелкими чертами ее лицо не было образцом возвышенной классической красоты, но оставляло впечатление изящества, благородства и совершенной прелести». Во внешнем облике Мурзакина постоянно подчеркивается «что-то странное и завораживающее, что привлекало и останавливало взгляды». Писательница также широко использует приемы романтической литературы (метафорические эпитеты, синтаксический параллелизм, повторы, глаголы, сходные по значению, но отличающиеся стилистически, риторические вопросы и восклицания) в речи своих положительных героев, особенно в момент наивысшего душевного подъема, когда она приобретает торжественный, возвышенный, патетический характер. Таким образом, повесть «Франсия» с ее ярким историческим колоритом, захватывающим сюжетом, психологически убедительными образами опровергала мнение некоторых современных Ж. Санд критиков об упадке ее таланта в романах 60–70-х гг. Повесть «Франсия» увидела свет в июне 1872 г. в издательстве Мишеля Леви. Впервые на русском языке под названием «Казаки в Париже» она была опубликована в 1876 г. Это был скорее ее свободный пересказ, нежели перевод, к тому же он содержал множество фактических и стилистических ошибок. В 1898 г. уже под названием «Франсия» повесть вошла в четырнадцатый том Собрания сочинений Ж. Санд, изданного в Санкт-Петербурге. Переводчик М. В. Подлесская стремилась как можно точнее передать оригинал, сохранив особенности романтического стиля Ж. Санд. Вместе с тем, видимо, по цензурным соображениям из текста перевода были исключены наиболее резкие выпады писательницы против русского самодержавия и его развращающего воздействия на нацию. В настоящем издании повесть дается в новом переводе.Т. Ковалева
Жорж Санд ФРАНСУА-НАЙДЕНЫШ
От автора
«Франсуа-найденыш» начал впервые публиковаться фельетонными подвалами в «Журналь де Деба». Но когда повесть уже приближалась к развязке, место, отведенное ей на первых полосах этой газеты, пришлось отдать под известие о куда более серьезном финале. Я имею в виду падение июльской монархии в феврале 1848 года. Финал этот, естественно, немало повредил моей повести, публикация которой была прервана, отложена и завершена, насколько мне помнится, лишь месяц спустя. Для тех читателей, которые, будучи художниками по профессии или склонности, интересуются процессом создания произведений искусства, я добавлю к следующему ниже предисловию, что за несколько дней до разговора, краткое изложение которого и представляет собой это предисловие, я проходил по дороге Кувшинок. На образном наречии моего родного края кувшинку, как называют в народе красивый цветок, известный образованным людям под именем ненюфара или нимфеи, обозначают словом «nappe», то есть салфетка, что весьма удачно живописует это растение с широкими листьями, расстилающимися по воде, как салфетка по столу; я лично предпочитаю писать «nape» через одно р, возводя это слово к «napée»[517] и тем самым — к его мифологическому первоисточнику. Дорога Кувшинок, по которой вряд ли пройдет когда-нибудь один из вас, дорогие мои читатели, так как она не ведет ни к чему, из-за чего стоило бы месить глину, представляет собой опасную крутую тропинку, окаймленную широкой канавой, в чьей грязной воде растут самые красивые на свете нимфеи — они белей камелий, душистей лилий, чище нарциссов. И над этой клоакой, где между цветами снуют по илу ужи и саламандры, с быстротою огненных стрел, чуть не задевая крылом роскошную дикую растительность, проносятся зимородки, живые молнии здешних берегов. Мальчуган лет шести-семи, верхом на неоседланной лошадке с развевающейся гривой, перелетел за моей спиной через куст, соскользнул наземь, пустил жеребенка пастись, вернулся назад и попытался, теперь уже пеший, взять то препятствие, которое так лихо преодолел минуту тому назад. Задача оказалась для его ножонок уже не столь легкой; я помог ему, и у нас завязалась беседа, сильно напоминающая разговор мельничихи с бедным малышом, изложенный в начале «Найденыша». Я спросил, сколько ему лет; он этого не знал и разразился тем же великолепным ответом: «Два года». Он не знал ни как его зовут, ни кто его родители, ни где он живет; он знал лишь одно — как усидеть на необъезженной лошади, уподобляясь птице на ветке, раскачиваемой бурным ветром. Я сам давал средства на воспитание нескольких найденышей обоего пола, и все они выросли нравственно и физически здоровыми. Но это нисколько не опровергает того факта, что из-за дурного воспитания эти несчастные дети в сельских местностях обычно приобретают разбойничьи наклонности. Отдают их самым бедным людям, пособие платят на них недостаточное; поэтому приемные родители ради наживы нередко приучают их к позорному ремеслу попрошаек. Неужели нельзя увеличить это пособие на условии, что найденышам будет запрещено просить милостыню у соседей и знакомых? Я на собственном опыте убедился также, что нет ничего сложнее, чем развить чувство собственного достоинства и трудолюбие в детях, которые, едва начав жить, уже научаются нищенствовать.Жорж Санд, Ноан, 20 мая 1852 г.
Предисловие
Мы с Р. возвращались после прогулки, пересекая потемневшие поля по тропинкам, слегка серебрившимся в лунном свете. Был теплый, чуть пасмурный осенний вечер; в воздухе, звонком, как всегда в такое время года, царила какая-то тайна, преисполняющая этой порой природу. Казалось, перед тем как неизбежно оцепенеть от стужи и погрузиться в тяжелую зимнюю спячку, все существа, все творения спешат украдкой насладиться последними минутами жизни; и, словно силясь обмануть время, словно страшась, что их застигнут за последними забавами празднества и прервут его, все существа, все творения, бесшумно и стараясь не выдать себя, предавались ночным восторгам. Вместо ликующих трелей у птиц вырывались лишь приглушенные крики. По временам из борозды на пашне доносился нескромный зов цикады, но он тут же обрывался, и насекомое уносило свою песнь или жалобу на другое место встречи с себе подобными. Растения торопливо источали последний аромат, тонкий, сдержанный и потому особенно сладостный. Желтеющая листва — и та не смела шелохнуться под дыханием ветерка, и на пастбищах, где бродили стада, ни единый звук не возвещал о любви или соперничестве. Мы с моим другом тоже старались ступать как можно тише, и невольная сосредоточенность, побуждавшая нас хранить молчание, еще более обостряла нашу восприимчивость к умягченной красоте природы и чарующей гармонии ее последних аккордов, затухавших в неуловимом пианиссимо. Да, осень — это грациозное грустное andante, восхитительная прелюдия к торжественному адажио зимы. — Все вокруг так безмятежно, — заметил наконец мой друг, которому, как и мне, молчание не мешало следить за ходом мысли спутника, — все так странно задумчиво, так равнодушно к людским трудам, намерениям и заботам, что я спрашиваю себя, какими словами, каким цветом, какими средствами искусства и поэзии человеческий разум может украсить лик природы в такую вот минуту. И чтобы отчетливей определить для тебя предмет моих раздумий, я сравниваю этот вечер, небо и пейзаж, угасшие и все же столь гармоничные, столь завершенные, с душой набожного и осторожного крестьянина, который трудится, живет своим трудом и наслаждается привычной ему жизнью, не имея ни потребности, ни желания, ни возможности раскрыть и выразить свой внутренний мир. Я силюсь проникнуть в таинственные глубины бесхитростного крестьянского бытия, хотя, как человек цивилизованный, не умею жить только инстинктом и постоянно томлюсь желанием отдать себе и ближним отчет в любых своих наблюдениях и размышлениях. — Так вот, — продолжал мой друг, — точно так же, как я сейчас спросил себя, что могут прибавить живопись, музыка, поэтическое описание, словом — все усилия искусства, ккрасоте этой осенней ночи, предстающей в своем таинственном безмолвии и преисполняющей меня каким-то волшебным чувством сопричастности к ней, точно так же я с трудом пытаюсь уяснить, какая связь существует между моим чересчур деятельным разумом и слишком бездеятельным разумом крестьянина. — Прежде всего подумаем, — ответил я, — правильно ли я понимаю, как поставлен вопрос. Возьмем эту октябрьскую ночь, обесцвеченное небо, музыку без отчетливой и связной мелодии, безмятежную природу, крестьянина, который близок к нам уже тем, что также наслаждается ею и понимает ее, хотя в простоте своей не умеет этого высказать, — возьмем все это и назовем естественной жизнью, в отличие от нашей сложной, многосторонней жизни, которую я именую искусственной. Ты спрашиваешь, какая взаимозависимость, какая непосредственная связь возможна между двумя этими противоположными состояниями существ и творений — между дворцом и хижиной, художником и произведением, поэтом и пахарем? — Вот именно, — отозвался мой друг. — И более того: между языком природы, инстинктами естественной жизни и языком искусства и науки, короче — языком знания? — Отвечу тебе на твоем же языке, что связью между знанием и ощущением служит чувство. — Именно о том, как определить чувство, я спрашиваю и тебя и себя. Именно это определение покажет, что же меня затрудняет; именно в нем раскрываются искусство и, если угодно, художник, призванный поведать всю чистоту, прелесть и очарование естественной жизни тому, кто живет лишь искусственной жизнью и — позволь сказать тебе это перед лицом природы с ее божественными тайнами — представляет собой величайшего дурака на свете. — Ты спрашиваешь ни много ни мало о том, в чем тайна искусства; ищи ее в лоне господнем, потому что ее не откроет тебе ни один художник. Он ведь сам не знает и не может объяснить, что вдохновляет его или обрекает на бесплодие. Как взяться за дело так, чтобы передать красоту, простоту, правду? Да разве нам это известно? И кто научит нас этому? Тут бессильны даже самые великие: попытавшись это сделать, они перестанут быть художниками и превратятся в критиков, а уж критика… — А критика, — подхватил мой друг, — веками ходила вокруг тайны, так ничего в ней и не поняв. Но прости: я вел речь кое о чем другом. Я гораздо более варвар: я ставлю под сомнение силу искусства вообще. Я презираю его и отрицаю; я утверждаю, что оно еще не родилось, что оно не существует, а если и существует, то отжило свой век. Оно затаскано, оно утратило форму, в нем угасло дыхание жизни, оно разучилось воспевать красоту и правду. Природа — творение искусства, но на свете лишь один художник — бог, а человек — только лишенный вкуса подражатель. Природа прекрасна, каждая пора ее дышит чувством, в ней нетленно живут любовь, юность, красота. Человек же, который пытается их ощутить и передать, располагает лишь ничтожными способностями и нелепыми средствами. Лучше уж ему не браться за это, а умолкнуть и погрузиться в созерцание. Ну, а ты что скажешь? — Согласен: так было бы лучше всего, — ответил я. — Ого! — воскликнул он. — Ты заходишь слишком далеко. Нельзя же так безоговорочно принимать мой парадокс. Я утверждаю, а ты возражай. — Тогда я возражу, что в сонете Петрарки есть своя красота, не уступающая красе воклюзских вод; что в прекрасном пейзаже Рейсдаля[518] не меньше очарования, чем у сегодняшнего вечера; что Моцарт поет на человеческом языке не хуже, чем Филомела на птичьем; что страсти, инстинкты и чувства говорят у Шекспира так, что их способен воспринять самый простой, самый бесхитростный человек. В этом все — искусство, чувство, связь между ними. — Да, все зависит от умения перевоплощаться. Но что делать, если мне этого мало? Что делать, если по всем канонам хорошего вкуса и эстетики ты тысячу раз прав, а я все-таки нахожу, что шум водопада звучнее стихов Петрарки, и так далее? Что ты ответишь, если я скажу, что никто никогда не поведал бы мне об очаровании этого вечера, если бы я сам не насладился им? Что все страсти у Шекспира вместе взятые холодней, чем сверкающие глаза ревнивого крестьянина, когда он бьет свою жену? Речь идет о том, чтобы убедить мое чувство. Как быть, если оно не приемлет твоих примеров, противится твоим доводам? Следовательно, искусство — не всегда непреложный толкователь, и даже наилучшее определение не всегда удовлетворяет наше чувство. — Я в самом деле могу ответить одно: искусство — документ, основанием для которого служит природа; это основание всегда налицо, оно может подтверждать, а может и опровергать документ, но он никогда не будет достаточно убедителен, если мы не постараемся любовно и благоговейно вникнуть в его основание. — Итак, документ немыслим без основания; но разве основание так уж нуждается в документе? — Бог, несомненно, мог бы обойтись и без него, но бьюсь об заклад, что ты, рассуждающей сейчас так, словно ты не наш брат художник, ничего не понял бы и основании, если бы тебе не послужила документом художественная традиция в бесчисленных ее формах, да и сам ты не был документом, в свой черед воздействующим на основание. — Вот на это-то я и сетую. Мне хочется избавиться от этого вечного, надоедливого документа; стереть из памяти каноны и формы искусства; не думать о живописи, созерцая пейзаж, о музыке, внемля ветру, о поэзии, любуясь и восхищаясь природой в целом. Мне хочется наслаждаться всем этим непроизвольно, потому что, на мой взгляд, кузнечик, когда он стрекочет, — и тот испытывает больше радости, больше опьянения, нежели я. — Короче говоря, ты сетуешь на то, что ты человек? — Нет, на то, что я не первобытный человек. — Еще вопрос, мог ли он наслаждаться, не сознавая, что наслаждается. — Не думаю, что он был просто животным. Став человеком, он все начал сознавать и чувствовать по-иному. Но я не могу отчетливо представить себе, как он чувствовал; вот это меня и мучает. Мне хотелось бы на худой конец стать тем, кем наше общество позволяет быть от колыбели до гроба стольким людям, — крестьянином, которому взамен грамоты бог даровал здоровые инстинкты, мирный нрав и чистую совесть; мне кажется, что, став им, усыпив в себе ненужные способности и не ведая извращенных привычек, я был бы счастлив, как тот естественный человек, о котором мечтал Жан-Жак. — Я тоже мечтаю об этом, да и кто не мечтал? Но это еще не доказывает, что ты прав в своих рассуждениях: ведь самый простой, самый бесхитростный крестьянин — все-таки художник, и я полагаю даже, что искусство крестьян выше, чем наше. Это искусство другого рода, отличное от искусства нашей цивилизации, но оно больше говорит моей душе. Песни, были, народные сказки в немногих словах живописуют то, что наша литература умеет лишь раздувать и переряжать. — Выходит, я прав? — подхватил мой друг. — Это самое чистое, самое лучшее искусство, потому что оно больше вдохновлено природой и ближе соприкасается с ней. Не спорю, я впал в крайность, утверждая, что искусство ни к чему; но я, кроме того, говорил, что хотел бы чувствовать, как чувствует крестьянин, и не отрекаюсь от своих слов. Я знаю несколько грустных бретонских песенок, которые сложены нищими, но стоят и Гете и Байрона: всего каких-нибудь три куплета доказывают, что простые души умеют оценить правду и красоту искреннее и полнее, чем самые прославленные поэты. А музыка! Разве в нашей стране нет изумительных мелодий? Что до живописи, то крестьяне ее действительно не знают, но им заменяет ее их наречие, более выразительное, энергическое и логичное, чем наш литературный язык. — Согласен, — ответил я, — особенно с последним пунктом: я просто в отчаянии, что вынужден писать языком Академии, хотя мне гораздо больше знаком другой язык, который куда лучше приспособлен для выражения целого мира душевных движений, чувств и мыслей. — Да, да, — поддержал он. — О, этот бесхитростный, неведомый мир! Сколько ни изучай его, он все равно недоступен для нашего искусства. Его не выразить даже тебе, крестьянину по натуре, если ты захочешь ввести его в область цивилизованного искусства, поставить его в духовную связь с искусственной жизнью. — Увы! — ответил я. — Я делал немало таких попыток. Как и все цивилизованные люди, я видел и чувствовал, что естественная жизнь во все века была идеалом и мечтой человечества. Со времен пастухов Лонга[519] и до пастушков Трианона[520] пастушеская жизнь казалась этаким раздушенным эдемом, где пытались укрыться натуры, измученные и утомленные светской суетой. Путь искусства этого великого льстеца, этого угодливого поставщика утешений для тех, кто слишком счастлив, отмечен непрерывной цепью пасторалей. Мне не раз приходила мысль написать ученый критический обзор под названием «История пасторали», где я поочередно рассмотрел бы все многоразличные сельские идиллии, которые с таким восторгом проглатывались высшими классами. Я проследил бы, как они менялись в обратной зависимости от падения нравов, становясь тем чище и чувствительнее, чем распущенней и развращенней делалось общество. Я хотел бы иметь возможность заказать такую книгу литератору, способному написать ее лучше, чем я, и затем с наслаждением прочел бы ее. Это был бы всеобъемлющий трактат об искусстве, потому что увлечение пасторальными мечтаниями сказалось во всем: в музыке, живописи, архитектуре, в любых литературных жанрах — драме, поэме, романе, эклоге, песне, — в модах, в разбивке садов, в одежде, наконец. Все эти образы золотого века, эти пастушки — сначала нимфы, потом маркизы из «Астреи»[521], которые при Людовике Пятнадцатом еще бродят в пудреных прическах и атласе по берегам флориановского Линьона[522] и которых, на закате монархии, Седен пытается переобуть в сабо, — все они в большей или меньшей мере надуманны и кажутся нам теперь ходульными и смешными. Сегодня с ними покончено, сегодня мы видим лишь их призраки в опере, и тем не менее они царили при дворах, приводя в восторг королей, заимствовавших у них пастушеский посох и суму. Я часто спрашиваю себя, почему исчезли пастухи, хотя наше время отнюдь не настолько уж привержено к правде, чтобы искусство и литература имели право презирать эти условные образы сильнее, чем типы, освященные модой. Сегодня у нас в ходу энергия и жестокость, и мы вышиваем по канве этих страстей такие страшные узоры, от которых, принимай мы все это всерьез, волосы встали бы дыбом. — Если пастухи исчезли, — возразил мой друг, — если литература утратила этот лживый идеал, который был ничуть не хуже нынешнего, то не означает ли это, что искусство бессознательно стремится нивелировать себя и приспособиться к любому уровню образованности? Не кажется ли тебе, что мечта о равенстве, зароненная в общество, прививает искусству грубость и пылкость, чтобы оно могло пробуждать инстинкты и страсти, присущие каждому человеку, независимо от его положения? Конечно, до правды в искусстве еще далеко. В нарочито обезображенной действительности ее не больше, чем в расфранченном идеале, но ее, безусловно, ищут, и чем хуже ищут, тем сильнее жаждут найти. Посуди сам: драма, поэзия, роман сменили пастуший посох на кинжал и, выводя на сцену сельскую жизнь, в известной мере придают ей подлинность, которой так недоставало пасторали в прошлом. Однако поэзии здесь нет, и я сожалею об этом; пока что я не вижу способа показать идеал сельской жизни без румян или, напротив, без черных красок. Насколько мне известно, ты не раз об этом подумывал, но ждет ли тебя удача? — Не надеюсь, — ответил я. — Я не нашел подходящей для этого формы и, глубоко чувствуя сельскую простоту, не знаю, каким языком ее выразить. Если землепашец заговорит у меня так, как говорит в жизни, мне придется снабдить книгу параллельным переводом для цивилизованной публики; если же он заговорит как мы, я создам нечто немыслимое — человека, которому должен буду приписать несвойственный ему образ мыслей. — И если бы даже он заговорил у тебя так, как говорит в жизни, твой собственный язык вперемешку с его речью создавал бы на каждом шагу неприятный контраст по-моему, за тобой водится этот грех. Ты изображаешь крестьянскую девушку, называешь ее Жанной и вкладываешь ей в уста слова, которые она, пожалуй, и может сказать. Но сам-то ты романист, добивающийся, чтобы и твои читатели прониклись тем восхищением, с каким ты работаешь над этим образом, — сам-то ты сравниваешь ее с друидессой, с Жанной д'Арк и еще бог знает с кем. Твои чувства и речь, соседствуя с ее чувствами и речью, создают впечатление той же разноголосицы, что и столкновение кричащих тонов на картине; таким путем мне не вжиться в натуру, даже если я буду идеализировать ее. Правда, в «Чертовом болоте» у тебя получился гораздо более правдивый набросок. Но мне и этого мало; автор там все еще иногда высовывает нос наружу; там есть авторская речь, говоря выражением Анри Монье, художника, сумевшего остаться правдивым даже в шарже и, следовательно, решившего поставленную перед собой задачу. Я знаю, твоя задача не менее трудна. Но ты должен пробовать еще и еще, пока не добьешься своего: всякий шедевр есть не что иное, как удачная попытка. Утешься же, не беда, что у тебя не получаются шедевры; главное — честно стремиться к этому. — Я заранее утешен, — ответил я, — и если ты настаиваешь, вновь попытаюсь взяться за дело; посоветуй только — за какое. — Вчера, например, — сказал он, — мы были с тобой на посиделках на хуторе. Коноплянщик до двух часов ночи рассказывал там всякие истории. Служанка кюре вторила ему или поправляла его: у этой крестьянки уже есть кое-какое образование; сам он, правда, человек темный, но зато богато одаренный и на свой лад красноречивый. Вдвоем они рассказали нам одну быль, довольно длинную и смахивающую на семейный роман. Ты ее запомнил? — Превосходно и могу дословно повторить на их же наречии. — Нет, оно потребует перевода; писать надо по-французски, не позволяя себе ни одного местного словечка, кроме тех, которые настолько понятны, что читателю не потребуется примечание. — Я вижу, ты навязываешь мне работу, от которой недолго рехнуться: сколько раз я ни брался за нее, у меня всегда потом оставалось лишь недовольство собой да сознание своего бессилия. — Неважно! Ты опять возьмешься за нее: я ведь знаю вас, художников; вас вдохновляют только трудности, что достается без мук, то вам не удается. Ну, давай-ка расскажи мне историю найденыша, но только не в том виде, в каком мы ее с тобой слышали: там это был рассказ для здешних умов и ушей, хоть в своем роде и образцовый. А ты мне изложи ее так, словно справа от тебя сидит парижанин, говорящий на современном языке, а слева — крестьянин, в чьем присутствии ты не желаешь произнести ни одной фразы, ни одного слова, которых он не в состоянии понять. Короче: ради парижанина говори ясно, ради крестьянина — просто. Один станет упрекать тебя в бесцветности, другой — в неизящности. Но с тобой буду и я, пытающийся понять, каким образом искусство, не переставая быть им для всех, может постичь тайну первобытной простоты и передать уму разлитое в природе очарование. — Значит, мы сделаем этот набросок вдвоем? — Да, потому что я буду останавливать тебя там, где ты собьешься. — Тогда присядем на этом поросшем тимьяном пригорке. Но раньше позволь мне спеть несколько сольфеджио, чтобы прочистить себе горло. — Вот так новости! Я и не знал, что ты поешь. — Это просто метафора. Мне кажется, прежде чем браться за работу над произведением искусства, следует припомнить какой-нибудь сюжет, который мог бы послужить тебе образцом и привести тебя в соответствующее расположение духа. Так вот, чтобы приготовиться к тому, чего ты от меня, требуешь, мне нужно рассказать историю собаки Бриске. Она коротка, и знаю я ее наизусть. — Что это такое? Не припоминаю. — Это первое сольфеджио для моего голоса, сочиненно Шарлем Нодье, который пробовал свой голос на все возможные лады; большой, на мой взгляд, художник, он не стяжал той славы, какой заслуживал, потому что сделанные им бесчисленные попытки чаще оказывались неудачными, чем успешными; но если человек создал несколько шедевров, пусть даже самых коротеньких, следует увенчать его лаврами и простить ему ошибки. Итак, о собаке Бриске. Слушай. И я рассказал другу историю болонки; она растрогала его до слез, и он объявил ее шедевром в своем жанре. — Эта одиссея бедной собачки Бриске того и гляди отобьет у меня всякую охоту браться за дело, — сказал я ему. — Весь рассказ уложился меньше чем в пять минут, и все же в нем нет ни одного промаха, ни одного недостатка; это бриллиант, отшлифованный лучшим гранильщиком на свете, потому что в литературе Нодье был прежде всего ювелиром. У меня нет его умения, и мне поневоле придется воззвать к чувству. К тому же не могу обещать, что буду немногословен, и заранее предвижу, что моему наброску недостанет первого из всех достоинств — мастерства и краткости. — Дальше, дальше, — бросил мой друг, которому наскучили мои предисловия. — Итак, вот история Франсуа-найденыша, — продолжал я, — и я попробую дословно повторить ее начало. Как раз на этом месте в разговор вступила Моника, старая служанка кюре. — Минутку, — перебил мой строгий слушатель. — Остановимся на заглавии. Найденыш — не очень литературное слово. — Нет уж, извини, — возразил я. — Словарь действительно объявляет его устарелым, но оно употребляется у Монтеня, а я не считаю, что я больше француз, чем великие писатели, создавшие наш язык. Короче, я озаглавлю свою повесть не «Франсуа-подкидыш», не «Франсуа-приемыш», а именно «Франсуа-найденыш», то есть ребенок, найденный и взятый на воспитание, как говорили раньше по всей стране, а в наших краях говорят и поныне.I
Однажды утром, идучи через луг к ручью, чтобы кое-что постирать, Мадлена Бланше, молодая мельничиха из Кормуэ, увидела, что у ее плотика сидит мальчуган и играет соломой, которую прачки кладут себе под колени. Приглядевшись к ребенку, Мадлена Бланше удивилась, что он ей незнаком: в этих краях еще не проложили большой дороги, а значит, и встретить можно было, лишь местных жителей. — Ты кто, сынок? — спросила Мадлена Бланше малыша, который доверчиво посмотрел на нее, но, казалось, не понял вопроса. — Тебя как зовут? — продолжала она, усадив его сбоку и опускаясь на колени, чтобы стирать. — Франсуа, — ответил малыш. — Франсуа? Ты чей? — Чей? — растерянно переспросил ребенок. — Ну, чей ты сын? — А я не знаю. — Не знаешь, как зовут твоего отца? — А у меня нет отца. — Значит, он помер? — Не знаю. — А мать? — Мать там, — ответил мальчуган, указывая на жалкий домишко, чья соломенная кровля виднелась за ивами в двух ружейных выстрелах от мельницы. — А, понимаю, — сказала Мадлена. — Это та женщина, что перебралась в наши края и вчера под вечер въехала в дом? — Да, — подтвердил мальчуган. — А раньше вы жили в Мерсе? — Не знаю. — Экий ты несмышленыш! А как мать-то зовут, хоть знаешь? — Знаю. Забелла. — Изабелла, а дальше? Фамилия-то как? — Не, не знаю. — Ну, от того, что ты знаешь, голова не распухнет, — улыбнулась Мадлена и застучала вальком по белью. — Как? Как вы сказали? — спросил маленький Франсуа. Мадлена опять взглянула на него. Красивый малыш, и глазенки какие чудесные! «Экая жалость, что он какой-то придурковатый!» — подумалось ей. — А лет тебе сколько? — продолжала она. — Может, ты и этого не знаешь? По правде сказать, мальчуган и это знал не лучше, чем все остальное. Но, вероятно, устыдившись, что мельничиха корит его за глупость, он поднатужился, собрался с мыслями и разразился таким изумительным ответом: — Два года. — Вот тебе на! — воскликнула Мадлена, выжимая белье и уже не глядя на Франсуа. — Да ты сущий дурачок, бедный мой малыш! Видно, некому тобой заняться. По росту тебе самое малое шесть, а по разуму — и двух лет не будет. — Наверно, — согласился мальчуган, поднатужился еще раз, словно силясь вывести свой убогий умишко из оцепенения, и добавил: — Вы спросили, как меня звать. А звать меня Франсуа-найденыш. — Вот оно что! — сказала Мадлена, бросив на него сочувственный взгляд. Теперь ее больше не удивляло, что этот хорошенький мальчуган так грязен, оборван, запущен и неотесан. — Но ты же совсем раздетый, — встревожилась она, — а на улице не жарко. Сдается мне, ты порядком замерз. — Не знаю, — ответил бедный найденыш: он уже так привык к лишениям, что не замечал их. Мадлена вздохнула. Ей вспомнился ее годовалый крошка Жанни — он спит себе сейчас в теплой люльке под присмотром бабушки, а этот бедный найденыш дрожит тут у ручья один-одинешенек, и, не смилуйся над ним провидение, того и гляди утонет: он в простоте своей даже не подозревает, что, упав в воду, можно умереть. Сердце у Мадлены было жалостливое. Она взяла малыша за руку, и та оказалась горячей, хотя ребенка то и дело пробирала дрожь, а его хорошенькая рожица была иссиня-бледной. — У тебя жар? — воскликнула она. — Да не знаю я, — ответил малыш: его вечно знобило. Мадлена Бланше сняла с себя шерстяной платок и закутала в него найденыша, который дал ей это проделать, не выразив ни удивления, ни удовольствия. Затем мельничиха вытащила из-под колен всю солому, устроила малышу постель, где он тут же уснул, и поскорей достирала пеленки маленького Жанни: она еще не отняла его от груди и потому спешила домой. Белье после стирки стало раза в полтора тяжелей, и Мадлена не смогла унести все за один прием. Она оставила валек и часть вещей на берегу, намереваясь разбудить найденыша по возвращении из дому, куда и поспешила с тем, что могла унести. Мадлена Бланше не отличалась ни ростом, ни силой. Зато женщина она была прехорошенькая, никогда не унывавшая и всеми уважаемая за рассудительный и ровный нрав. Отворяя двери дома, она услышала позади, на мостике шлюза, стук деревянных башмаков, обернулась и увидела найденыша, который бегом догонял ее, таща с собой валек, мыло, шерстяной платок и остаток белья. — Эге! — удивилась она, опуская ему руку на плечо. — Да ты не так глуп, как мне показалось; ты услужлив, а у кого сердце доброе, тот дураком не бывает. Входи, малыш, отдохни у нас. Бедняжка ты мой! Груз-то у тебя тяжелей, чем ты сам. Вот, матушка, это бедный найденыш, — обратилась она к старой мельничихе, которая вынесла ей навстречу свеженького, улыбающегося Жанно. — Вид у него совсем хворый, а вы ведь умеете от лихорадки пользовать. Надо бы его полечить. — Ну, это лихорадка нищеты, — объявила старуха, оглядев Франсуа. — От нее одно лекарство — еда посытней, а еды-то у него и нет. Это приемыш той женщины, что вчера приехала. Она сняла жилье у твоего мужа, Мадлена. Только очень уж она с виду убогая. Боюсь, платы от нее не дождешься. Мадлена промолчала. Ей было известно, что муж и свекровь у нее не из добросердечных и деньги любят больше, чем ближнего. Она покормила Жанни, а когда старуха пошла загонять гусей домой, взяла Франсуа за руку и, неся младенца на другой руке, отправилась с ним к Забелле. Забелла, которая на самом деле звалась Изабеллой Биго, пятидесятилетняя старая дева, была человек добрый — насколько можно быть доброй к другим, когда сама сидишь без гроша и вечно дрожишь за свою жизнь. Она взяла Франсуа, когда умерла женщина, выкормившая его, и с тех пор растила мальчика, чтобы ежемесячно получать несколько серебряных монет и иметь дарового маленького батрака; но скотина у нее пала, и ей надо было при первой же возможности обзавестись в долг новою, потому что кормили Забеллу лишь несколько овец да дюжина кур, а те, в своей черед, кормились на общинных землях. До первого причастия Франсуа предстояло пасти это убогое стадо на обочинах дорог, а потом его можно будет пристроить свинопасом или погоняльщиком на пахоте, и он станет делиться с приемной матерью заработком, ежели, конечно, окажется памятлив на добро. Дело было сразу после святого Мартина, и Забелла уехала из Мерса, оставив последнюю козу в расчет за жилье. Теперь она обосновалась в Кормуэ, в домишке, стоявшем на участке мельника, хотя в обеспечение платежа у нее были только убогая кровать, два стула, сундук да немного глиняной посуды. Но домишко был так плох, зиял такими щелями и стоил так мало, что не идти на риск, сдавая его внаем беднякам, значило оставить его вовсе без жильцов. Мадлена потолковала с Забеллой и сразу сообразила, что та женщина неплохая и честно сделает все возможное, чтобы платить в срок; к тому же она сильно привязана к своему найденышу. Но, приученная к лишениям, она свыклась с тем, что их терпит и ребенок; поэтому сочувствие, выказанное богатой мельничихой бедному малышу, сначала удивило ее больше, чем обрадовало. Когда же первое изумление прошло и она увидела, что Мадлена явилась к ней не с требованиями, а, напротив, с желанием помочь, она осмелела, обстоятельно рассказала гостье о своей жизни, похожей на жизнь всех обездоленных, и горячо поблагодарила за участие. Мадлена уверила ее, что всеми силами постарается ей помочь, но попросила держать их уговор в секрете: она не одна хозяйка в доме и может пособлять ей только тайком. Для начала она оставила Забелле свой шерстяной платок под честное слово, что платок сегодня же вечером будет раскроен на одежду для найденыша и никто не увидит кусков, пока платье не будет сшито. Она отлично понимала, что Забелла соглашается лишь с большой неохотой: та явно считала, что такая недурная вещь пригодилась бы ей самой. Поэтому Мадлене пришлось предупредить, что если послезавтра у найденыша не будет теплой одежды, она бросит Забеллу на произвол судьбы. — Неужто вы надеетесь, — добавила она, — что моя свекровь — она все видит! — не узнает на вас моего платка? Или вам охота, чтобы у меня неприятности были? Имейте в виду: если меня не выдадите, я вам не только этим помогу. И еще помните: у вашего найденыша жар, за ним нужен хороший присмотр, не то он помрет. — Да ну? — струхнула Забелла. — Для меня это будет большое горе: сердце у малыша такое, что редко встретишь. Никогда-то он не хнычет, а уж послушен так, словно в хорошей семье рос. Другие найденыши не в него: они своевольные, злопамятные, и на уме у них одно озорство. — А все потому, что их вечно шпыняют и обижают. Вы уж поверьте: если Франсуа у вас добрый, значит, вы сами к нему добры. — Истинная правда, — согласилась Забелла. — Дети понимают больше, чем кажется. Мой, к примеру, уж на что не хитер, а все равно преотлично знает, где мне помочь может. Прошлый год — ему тогда всего пять было, — когда я болела, он за мною как взрослый ходил. — Послушайте-ка, — сказала мельничиха, — вы мне присылайте его утром и вечером, когда я своего малыша супом кормлю. Я буду варить побольше, остатки пойдут вашему Франсуа, и ни одна душа ничего не заметит. — Ох, да ведь я не посмею его к вам водить, а сам он не сообразит, когда идти. — Тогда сделаем так. Чуть суп сварится, я кладу прялку на мостик шлюза. Взгляните — отсюда прекрасно его видно. Вы шлете мальчика с сабо в руке, вроде как за огнем; он съедает мой суп, а вся порция остается для вас. Так вам обоим посытнее будет. — Славно придумано, — одобрила Забелла. — Вы, видать, женщина разумная, и мне посчастливилось, что я сюда перебралась. На меня нагнали страху рассказами о нашем муже — дескать, человек он больно крутой, и найди я другое жилье, ни за что б не сняла ваш домик; он ведь к тому же совсем никудышный, да и муж ваш немалую цену заломил. Но теперь я вижу, что вы добры к беднякам и поможете моего найденыша вырастить. Эх, только бы суп у него жар сбил! Не хватает мне еще этого ребенка потерять! Конечно, корысти мне в нем мало: что приют за него платит, все на него же и уходит. Но я люблю его как родного, потому что вижу: он мальчик добрый и со временем сам мне поможет. Для своих лет он крупный, из него рано работник получится, верно? Вот так благодаря попечениям и доброму сердцу мельничихи Мадлены Франсуа-найденыш и вырос. Здоровье у него вскоре наладилось, потому что был он, как говорят у нас, крепко скроен, и любой богач в наших краях не отказался бы иметь такого пригожего, ладно сбитого сына. К тому же смелости у него на взрослого мужчину хватало: плавал он как рыба, нырял под самое мельничное колесо и ничего на свете не боялся — вскакивал на самых норовистых жеребят и выгонял их на луг, не накинув им даже веревки на шею, а направляя их одним движением пяток и лишь слегка держась за гриву рукой, когда нужно было через канаву перескочить. И вот что странно: все это он проделывал без всякого затруднения, молча и невозмутимо, с обычным своим простоватым, чуть заспанным видом. За это его считали дурачком; тем не менее, когда нужно было разорить сорочье гнездо на вершине самого высокого тополя, отыскать заблудившуюся корову или дрозда камнем подбить, ни один мальчишка не равнялся с ним в отваге, ловкости и уверенности в себе. Другие дети приписывали это талану, удаче, которая сопутствует найденышам в нашем грешном мире. Поэтому в любой рискованной забаве его всегда пускали первым. — С этим ничего не станется — он же найденыш, — говорили его сверстники. — В непогоду хлеба ложатся, а дурная трава в рост идет. Два года все шло хорошо. Забелла исхитрилась и купила кое-какую скотину, а уж на что — один бог знает. Она частенько помогала по хозяйству на мельнице и упросила наконец ее владельца, мельника Каде Бланше, малость починить крышу ее домика, которая текла, как решето. Она приоделась сама, приодела найденыша и понемногу утратила свой былой убогий вид. Правда, свекровь Мадлены уже несколько раз сурово выговаривала невестке за то, что в доме стали теряться вещи и уходит слишком много хлеба. Однажды Мадлене, чтобы отвести подозрения от Забеллы, пришлось даже взять вину на себя, но, вопреки ожиданиям свекрови, Каде Бланше почти не рассердился и, казалось, закрыл глаза на происходящее. Секрет его снисходительности заключался в том, что Каде Бланше до сих пор был по уши влюблен в свою жену. Мадлена была прехорошенькая и нисколько не кокетка, ее всюду ему нахваливали, и к тому же дела его шли лучше не надо, а он был из тех, кто становится зол, лишь когда боится обеднеть; поэтому он оказывал Мадлене больше внимания, чем от него можно было ожидать. Это пробуждало в матушке Бланше своего рода ревность, проявлявшуюся в придирках, которые Мадлена сносила молча и не жалуясь мужу. Это был наивернейший способ поскорей положить им конец: женщины более терпеливой и разумной в таких делах, чем Мадлена, свет не видывал. Но у нас недаром говорят: «Лихо долго помнится, а добро скоро забудется». Настал день, и Мадлене за ее доброту учинили допрос, а потом и разнос. В тот год хлеба повыбило градом, разливом реки подмочило сено, и Каде Бланше пребывал в дурном расположении духа. Как-то возвращался он с рынка с одним приятелем, недавно обвенчавшимся с очень красивой девушкой, а тот возьми да скажи ему: — Ну, в свое время и тебе не на что было жаловаться: твоя Мадлон тоже была девушка на загляденье. — Как это «в свое время твоя Мадлон была»? Разве мы с ней такие уж старики? Мадлене всего-навсего двадцать, и я что-то не замечаю, чтоб она подурнела. — Да нет, я этого не говорю, — продолжал приятель. — Спору нет, Мадлена еще хороша, но ведь если женщина так рано выходит замуж, долго на нее заглядываться не будут. Выкормит она ребенка, вот и сдаст; а у тебя жена не больно-то крепкая — недаром она так похудела и с лица спала. Бедняжка Мадлон, уж не хворает ли она? — Насколько мне известно — нет. С чего ты это взял? — Сам не знаю. Только сдается мне, вид у нее грустный, словно она недужит или на сердце у ней что-то лежит. Ох, эти женщины! Все они вроде винограда — недолго цветут. Скоро и с моей то же будет: лицо вытянется, нрав станет неприветливый. Ну, да мы и сами хороши. Пока жен можно ревновать, мы в них влюблены. Злимся, орем, не ровен час и поколачиваем; они обижаются, плачут, носу из дому не кажут, скучают, боятся нас и любить перестают. Теперь наш брат доволен — он хозяин! Но вот в один прекрасный день мы соображаем, что ежели на нашу жену никто не посягает, значит, она подурнела, и тогда — ничего не поделаешь, судьба! — сами теряем любовь к ней и начинаем на чужих жен засматриваться… Будь здоров, Каде Бланше! Нынче вечером ты не в меру крепко обнял мою жену; я это приметил, но смолчал. Теперь же скажу, что нас с тобой это не рассорит, а я уж постараюсь, чтобы жена у меня не загрустила, как твоя. Я ведь себя знаю: буду ревновать — стану зол; не будет повода ревновать — стану, быть может, еще хуже… Хороший урок умному впрок, но Каде Бланше, человек работящий и сообразительный, настоящим умом все-таки не отличался — для этого он был чересчур тщеславен. Домой он вернулся нахохленный, с налитыми кровью глазами. На Мадлену взглянул так, словно сто лет ее не видел. Он заметил, что она изменилась и побледнела. Он спросил, не захворала ли она, но так грубо, что Мадлена побледнела пуще прежнего и чуть слышно ответила, что здорова. Это, бог весть почему, разозлило его, и, садясь за стол, он уже так и высматривал, из-за чего бы затеять ссору. Повод не замедлил найтись. Речь зашла о том, что зерно дорожает, и матушка Бланше заметила, — как делала это каждый вечер, — что в доме уходит слишком много хлеба. Мадлена промолчала. Каде Бланше обвинил ее в мотовстве. Старуха добавила, что еще утром видела, как найденыш унес от них полковриги… Мадлене бы рассердиться да обрезать свекровь, но она лишь расплакалась. Бланше вспомнил слова приятеля и разошелся еще пуще; словом, думайте, что хотите, но с этого дня он разлюбил жену и сделал ее несчастной.II
Он сделал ее несчастной, а так как особенно счастливой она за ним никогда и не была, то в замужестве ей не повезло вдвойне. Шестнадцати лет она дала выдать себя за этого краснолицего и отнюдь не ласкового здоровяка, который изрядно напивался по воскресеньям, весь понедельник злился, вторник дулся, а в остальные дни работал как вол, наверстывая упущенное, потому что отличался скупостью, и думать о жене ему было недосуг. В субботу он малость отмякал, так как, отработав свое, рассчитывал завтра позабавиться. Но быть веселым один день в неделю мало, и Мадлена даже не любила видеть мужа в хорошем расположении духа, потому что знала, каким накаленным от злости он явится домой в воскресенье вечером. Но она была молодая, миленькая и такая кроткая, что на нее было трудно долго сердиться, и у Каде Бланше еще бывали минуты, когда он опять становился справедлив и дружелюбен; тогда он брал жену за руки и говорил: — Мадлена, не родилось еще женщины лучше тебя, и сдается мне, ты как нарочно для меня создана. Женись я на кокетке, я бы или ее убил, или сам под мельничное колесо кинулся. Но я вижу, какая ты разумная и работящая; тебе просто цены нет. Однако к пятому году брака мельник окончательно разлюбил жену, у него больше не находилось для нее доброго слова, и он даже досадовал, что она никак не отвечает на его придирки. А что она могла ответить? Она понимала, что муж неправ, но не хотела корить его за это, потому что почитала долгом уважать своего повелителя, которого не сумела полюбить. Свекрови пришлось по сердцу, что сын ее вновь становится хозяином у себя в доме; она говорила эта так, словно он в самом деле хоть на минуту перестал им быть и дал домашним это почувствовать! Она ненавидела Мадлену, потому что понимала: невестка лучше нее. Не зная, к чему придраться, она попрекала ее тем, что у той слабое здоровье, что она всю зиму кашляет и ребенок у нее всего один. Старуха презирала ее и за это, и за то, что Мадлена знала грамоте и по воскресеньям не судачила, не чесала язык с нею и соседскими кумушками, а забивалась подальше в сад и читала молитвы. Мадлена возложила упования на господа и, видя, что жалобами ничему не поможешь, терпела свою долю так, словно заслужила ее. Душой она оторвалась от земли и частенько мечтала о рае, словно человек, которому наскучило жить. Однако за здоровьем своим следила и всячески поддерживала в себе мужество, потому что знала: без матери ее ребенок будет несчастлив, а она любила его так, что ради него с чем угодно была готова мириться. С Забеллой она не то чтобы очень дружила, но все-таки была к ней расположена, потому что эта женщина — отчасти по доброте своей, отчасти по расчету — все так же старательно обихаживала своего найденыша, а Мадлена, видя, какими злыми делаются люди, когда думают только о себе, испытывала уважение лишь к тем, кто хоть малость думает и о других. Но второй такой женщины, которая бы вовсе о себе не пеклась, в ее краях не было; поэтому она чувствовала себя совсем одинокой и сильно тосковала, хотя и не понимала отчего. Мало-помалу, однако, она стала замечать, что и у найденыша — а ему уже стукнуло десять — появляются те же мысли. Когда я говорю «мысли», не нужно понимать меня дословно: Мадлена, понятное дело, судила о бедном мальчике по его поступкам, потому что и теперь он рассуждал вслух едва ли разумней, чем в день, когда она впервые перемолвилась с ним. Он не мог двух слов связать, и если его пытались вызвать на разговор, он тут же замолкал, потому что был круглый невежда. Но когда нужно было кому-либо услужить и куда-нибудь сбегать, он всегда оказывался под рукой, а если дело шло о Мадлене, то она не успевала рот раскрыть, как он уже бежал. Вид у него при этом был такой, словно он не понимает, что надо сделать, однако поручения он исполнял так быстро и ловко, что Мадлена просто умилялась. Однажды, когда он держал на руках Жанни и не мешал малютке для забавы таскать его за волосы, Мадлена отобрала у него ребенка и сказала словно невзначай, но чуточку раздраженно: — Франсуа, не приучайся все от других терпеть, не то потом удержу на них не будет. И тут, к великому ее изумлению, он ответил: — А мне легче терпеть, чем самому зло делать. Мадлена с удивлением посмотрела найденышу в глаза. В них было нечто, чего она не читала во взгляде даже самых разумных людей — такая доброта и в то же время такая твердость, что у мельничихи в голове все перемешалось; она опустилась на траву, взяла Жанни на колени, усадила найденыша на край своего платья и долго не решалась с ним заговорить. Она не понимала, что с нею, но ей было вроде как боязно и стыдно за то, что она та часто посмеивалась над ограниченностью этого мальчика. Правда, делала она это так, чтобы ему не было обидно, может быть, она любила и жалела Франсуа именно за его простоватость. Но в эту минуту ей показалось, что он всегда понимал ее насмешки и страдал от них, хотя и не мог ответить ей тем же. Однако вскоре она забыла об этом пустяковом происшествии: муж ее по уши влюбился в одну потаскушку по соседству, окончательно возненавидел жену и приказал, чтобы ноги Забеллы с ее мальчишкой на мельнице не было. Теперь у Мадлены появилась новая забота — как совсем уж тайком помочь им. Она предупредила Забеллу, что на время притворится, будто и думать о них забыла. Но Забелла до смерти боялась мельника, да и не такой она была человек, чтобы, как Мадлена, терпеть все из любви к ближнему. Она пораскинула умом и решила, что мельник, коль скоро он хозяин, может запросто выставить ее на улицу или набавить арендную плату, и тут уж Мадлена ее не выручит. Подумала она и о том, что, повинившись перед старухой Бланше, она подладится к ней и найдет себе покровительницу понадежней, чем Мадлена. Словом, она отправилась к старой мельничихе и призналась, что принимала помощь от Мадлены, хотя, дескать, делала это против воли и только из жалости к найденышу, которого ей одной не прокормить. Старуха терпеть не могла найденыша — уже за одно то, что он не безразличен Мадлене. Она посоветовала Забелле отделаться от него, а за это обещала ей упросить сына отсрочить на полгода уплату аренды. Дело опять было на другой день после святого Мартина, а у Забеллы не было ни гроша, потому что год выдался неурожайный. Разжиться деньгами у Мадлены она также не могла — последнее время за той следили во все глаза. Поэтому Забелла скрепя сердце согласилась и пообещала завтра же отвести найденыша в приют. Но не успела она дать обещание, как тут же в этом раскаялась: при виде маленького Франсуа, спящего на своей жалкой постели, сердце у нее заныло так, словно она готовилась свершить смертный грех. Всю ночь она глаз не сомкнула, но еще затемно старуха явилась к ней и потребовала: — Поднимайтесь-ка, Забо, поднимайтесь! Дали слово — держите. Я знаю: если моя невестка успеет с вами перемолвиться, вы тут же на попятный пойдете. Но поймите: и для вашего и для ее блага парня надо отсюда убрать. Мой сын невзлюбил его за глупость и прожорливость: моя невестка чересчур его разлакомила; к тому же он наверняка воришка. Все найденыши от рожденья такие; им, негодяям, доверять — все равно что ума решиться. Из-за вашего вас отсюда выставят да еще ославят, а мой сын того и гляди жену прибьет. Да и что из этого мальчишки будет, когда он вырастет и в силу войдет? Разбойник с большой дороги, к вашему же стыду. Собирайтесь-ка да ведите его лугами до Корле. В восемь утра там дилижанс проходит. Сядете в него с мальчишкой и в полдень, самое-позднее, будете в Шатору, а к вечеру уже домой вернетесь. Вот, держите пистоль — это вам и на дорогу и в городе перекусить хватит. Забелла растолкала мальчика, одела в самое лучшее, что у него было, свернула остальное в узелок и, взяв Франсуа за руку, двинулась с ним по дороге, еще озаренной лунным светом. Но чем дальше Забелла шла и чем становилось светлее, тем больше слабела ее решимость; она не могла ни прибавить шагу, ни заговорить и, дойдя до Корле, ни жива, ни мертва опустилась на откос придорожной канавы. Она поспела как раз вовремя — дилижанс уже приближался. Найденыш не привык много раздумывать, поэтому до сих пор он, ни о чем не догадываясь, послушно следовал за матерью. Но теперь, впервые в жизни увидев огромный, катящийся на него экипаж, он испугался грохота и потянул Забеллу обратно на луг, через который они выбрались на дорогу. Забелла же решила, что он догадывается, какая участь его ждет, и сказала: — Полно, бедный мой Франсуа! Так надо. Ее слова еще пуще перепугали его. Он вообразил, что дилижанс — это большой зверь, бегущий сюда, чтобы схватить и сожрать его. Привычных опасностей он нисколько не боялся, но тут потерял голову и с воплем бросился наутек по лугу. Забелла кинулась вдогонку, но, увидев, что он побледнел так, словно ему вот-вот конец, окончательно растерялась. Онагналась за ним до края луга и пропустила дилижанс.III
Возвращались они на мельницу тем же путем, что пришли, но на полдороге выбились из сил и остановились. Забелла была не на шутку встревожена: мальчик дрожал всем телом, и сердце колотилось у него так, что худая рубашонка приподымалась. Она усадила его и попыталась успокоить. Но она сама не знала, что говорит, а Франсуа был в таком состоянии, что и вовсе ничего не понимал. Забелла вытащила из корзинки кусок хлеба и попробовала покормить мальчика, но тот отказался, и они долго сидели молча. Наконец Забелла собралась с мыслями, устыдилась своей слабости и сообразила, что если она вновь появится с мальчиком на мельнице, ей конец. В полдень проходил другой дилижанс; поэтому она решила передохнуть здесь, а попозже снова выйти на дорогу; но Франсуа, перепуганный до смерти, потерял даже ту каплю разума, что у него была; впервые в жизни он заартачился, и Забелла попыталась укротить мальчугана, прельстив его воображение рассказами об этом большом и быстром экипаже, стуке колес и бубенчиках на лошадях. Но, силясь вновь завоевать его доверие, она наговорила больше, чем ей хотелось; то ли угрызения совести развязали ей язык; то ли Франсуа, проснувшись на рассвете, услышал кое-что из слов старухи Бланше, и теперь они пришли ему на ум; то ли приближение беды разом прояснило его убогий рассудок, но только он сказал, смотря на Забеллу такими же глазами, которые однажды изумили и почти напугали Мадлену: — Мать, ты хочешь прогнать меня. Заведешь подальше и бросишь. Тут ему вспомнилось несколько раз произнесенное при нем слово «приют». Он не знал, что это значит, но предположил, что это еще пострашнее дилижанса, затрясся всем телом и завопил: — Ты хочешь отдать меня в приют! Забелле уже нельзя было отступать — она зашла слишком далеко. Решив, что мальчик знает о своей участи больше, чем было на самом деле, и не смекнув, что хитрость — самый верный способ обмануть найденыша и отделаться от него, она выложила всю правду в надежде убедить его, что в приюте ему будет лучше, чем у нее: там о нем станут больше заботиться, обучат ремеслу и на время отдадут какой-нибудь женщине побогаче, чем она, и та снова заменит ему мать. Эти утешения повергли найденыша в полное отчаяние. Неизвестное будущее страшило его куда больше, чем все доводы, которыми Забелла пыталась отпугнуть его от жизни с нею. К тому же он любил, всем сердцем любил эту неблагодарную мать, пекшуюся не столько о нем, сколько о себе. Любил он и еще одного человека, причем почти так же сильно, как Забеллу: это была Мадлена, хотя найденыш не понимал, что любит ее, и не заговаривал о ней. Он просто рухнул наземь, словно в припадке падучей, разрыдался и, цепляясь за траву, закрыл голову руками. А когда Забелла, встревожившись и потеряв терпение, прикрикнула на него и попробовала силой поставить на ноги, мальчик так отчаянно ударился головой о камни, что весь залился кровью, и она решила, что он сейчас убьется насмерть. Господь соизволил, чтобы как раз в эту минуту мимо проходила Мадлена Бланше. Об отъезде Забеллы с мальчиком ей было ничего не известно. Она возвращалась из Преля, куда относила одной богатой женщине шерсть — заказ, который та, нуждаясь в особо тонкой пряже, дала Мадлене, лучшей пряхе во всей округе. Мельничиха получила деньги и направлялась домой с десятью экю в кармане. Она уже выходила на дощатые, проложенные над самой водой мостки через речку, каких немало на здешних лугах, как вдруг услышала душераздирающий вопль и сразу узнала голос бедного найденыша. Она побежала на крик и увидела, что мальчик, весь в крови, бьется в руках Забеллы. Сначала Мадлена ничего не поняла: с первого взгляда ей показалось, что Забелла в сердцах ударила его, а теперь пытается оттолкнуть. И она еще больше укрепилась в своем предположении, когда Франсуа, заметив мельничиху, кинулся к ней, змейкой обвился вокруг ее колен и схватился за ее юбки с воплем: — Госпожа Бланше, госпожа Бланше, спасите меня! Забелла была женщина крупная и плотная, Мадлена же — маленькая и тоненькая, как тростинка. Однако она не струсила и, вообразив, что Забелла сошла с ума и задумала убить ребенка, заслонила найденыша с твердой решимостью защитить его или умереть, лишь бы он успел убежать. Но едва женщины перекинулись несколькими словами, как дело выяснилось. Забелла, не столько рассерженная, сколько удрученная, рассказала все как было. И Франсуа понял наконец, в каком он бедственном положении, и на этот раз воспринял услышанное гораздо разумней, чем можно было предполагать. Когда Забелла выговорилась, он опять уцепился за колени и юбки мельничихи, умоляя: — Не гоните меня, не давайте меня увезти! И, бросаясь от рыдавшей Забо к мельничихе, рыдавшей еще сильнее, он уговаривал и просил их в словах, которые казались неожиданными в его устах, так как лишь сегодня он впервые сумел сказать то, что хотел: — Ох, мама, мамочка, милая! — взывал он к Забелле. — За что ты решила меня бросить? Неужели ты хочешь, чтобы я помер с тоски в разлуке с тобой? Что я тебе сделал? За что ты меня разлюбила? Разве я не слушался, не делал, что ты велишь? Разве я в чем-нибудь провинился? Ты же сама твердила, что я хорошо хожу за скотиной, ты всегда целовала меня на ночь, называла сыночком и никогда не говорила, что я тебе не родной. Молю тебя, как господа бога, мама: не прогоняй меня, не прогоняй! Я всегда буду заботиться о тебе, работать на тебя; если ты будешь мною недовольна, побей меня — я ни слова не скажу; только не отсылай меня, погоди, пока я хоть в чем-нибудь провинюсь. Затем он кидался к Мадлене и просил: — Сжальтесь надо мной, госпожа мельничиха! Скажите моей матушке, чтобы она не отсылала меня. Я больше никогда не приду к вам, раз вашим это не нравится; а если вам захочется что-нибудь мне дать, я буду помнить, что брать нельзя. Я поговорю с господином Каде Бланше, скажу ему, чтобы он побил меня, а вас за меня не бранил. Когда вы пойдете работать в поле, я всегда буду рядом, буду носить вашего малыша и целыми днями нянчиться с ним. Я сделаю все, что вы велите, а если провинюсь, вы разлюбите меня, и все тут. Только не давайте меня прогнать, я не хочу отсюда, лучше уж головой в воду. И бедный Франсуа, уставившись на реку, так близко подошел к ней, что женщинам стало ясно: жизнь его на волоске — одно слово отказа, и он утопится. Мадлена вступилась за мальчика, и Забелле до смерти хотелось ее послушаться, но до мельницы оставалось два шага, а это было совсем не то, что вдалеке от нее, на дороге. — Ладно, дрянной мальчишка, оставайся, — уступила она, — только знай: я из-за тебя завтра побираться пойду. Ты глуп и не понимаешь, какая участь ждет меня по твоей вине. Вот что значит взвалить себе на шею чужого ребенка, который даже свой прокорм не окупает! — Ну, будет, Забелла, — оборвала ее мельничиха и, подняв найденыша с земли, взяла на руки с намерением унести, хотя он был уже довольно тяжел. — Вот вам десять экю: уплатите аренду или перебирайтесь в другое место, если мой муж заупрямится и прогонит вас. Это мои деньги, я сама их заработала; я знаю, с меня их спросят, но мне все равно. Пусть меня хоть убьют, но я покупаю этого мальчика; он теперь мой, а не ваш. Вы не стоите того, чтобы вам доверяли ребенка с таким добрым сердцем, который так любит вас. Я сама стану ему матерью, и с этим кое-кому придется мириться. Ради своих детей что угодно вытерпишь. Я за своего Жанни себя на куски изрезать дам; ну, и за этого тоже все вынесу. Идем, мой бедный Франсуа. И запомни: никакой ты не найденыш! У тебя есть мать, и ты можешь любить ее от всего сердца — она тебе отплатит тем же. Мадлена говорила все это, не слишком отдавая себе отчет в своих словах. Обычно она была само спокойствие, но сейчас голова у нее пылала. Ее доброе сердце взбунтовалось — Забелла не на шутку рассердила ее. Франсуа обвил мельничиху руками за шею и так крепко стиснул, что у нее перехватило дух; кроме того, он вымазал ей кровью чепец и платок, потому что голова у него была поранена в нескольких местах. Все это так подействовало на Мадлену, преисполнило ее такой жалостью, страхом, горем и решимостью, что она двинулась к мельнице с отвагой солдата, идущего под огонь. И не задумываясь над тем, насколько тяжел ребенок и слаба она сама, которой и маленький-то Жанни едва-едва по силам, Мадлена пошла по кое-как уложенным мосткам, прогибавшимся у нее под ногами. На середине мостков она остановилась. Мальчик стал настолько тяжел, что ее пригнуло к земле и пот ручьем катился у ней с лица. Она почувствовала, что вот-вот рухнет от слабости, и тут ей неожиданно вспомнился чудесный, трогательный рассказ, который она прочла накануне в своем стареньком «Житие святых» — история о том, как святой Христофор нес младенца Иисуса через реку, но вдруг почувствовал, сколь тот тяжел, и от страха остановился. Она повернула голову и посмотрела на найденыша. Глаза у него закатились, руки разжались и не сжимали ей больше шею: то ли обессилев от непомерного горя, то ли потеряв слишком много крови, бедный мальчик впал в беспамятство.IV
Увидев его в таком состоянии, Забелла решила, что он умер. Привязанность к нему ожила в ее сердце, и, не думая больше ни о мельнике, ни о злой старухе, они выхватила ребенка у Мадлены и с воплями и слезами принялась его целовать. Женщины снесли мальчика к воде, положили себе на колени, промыли ему раны и остановили кровотечение своими платками, но привести его в чувство им было нечем. Тогда Мадлена, прижав его голову к своей теплой груди, подула ему в лицо и рот, как делают с утопленниками. Это помогло, и едва мальчик, открыв глаза, увидел, сколь заботливо о нем пекутся, он поочередно расцеловал Мадлену и Забеллу, да так неистово, что им пришлось его остановить из боязни, как бы он вновь не потерял сознание. — Будет, будет, — сказала Забелла. — Нам пора домой. Нет, нет, теперь я вижу: ни за что мне с этим ребенком не расстаться, я и думать об этом больше не желаю. Ваши десять экю, Мадлена, я возьму и расплачусь ими нынче вечером, если меня заставят. Но вы о них помалкивайте, а я завтра схожу в Прель и скажу вашей заказчице, чтобы она не выдавала нас; если же ее спросят, пусть отвечает, что еще не рассчиталась с вами за пряжу; этак мы выиграем время, а я уж расстараюсь, Христа ради, коли надо, просить пойду, но расплачусь с вами, чтобы вас за меня не шпыняли. Брать мальчика к себе на мельницу вам нельзя — ваш муж его убьет. Оставьте его у меня, а я клянусь заботиться о нем по-прежнему; если же нас снова начнут притеснять, мы что-нибудь придумаем. С соизволения судьбы возвращение найденыша прошло без шума и было никем не замечено: раньше чем старуха Бланше известила сына о том, как велела Забелле поступить с найденышем, она сильно занемогла — ее хватил удар, и мэтр Бланше первым же делом позвал жиличку помогать по хозяйству, потому что Мадлене и служанке пришлось ходить за его матерью. Трое суток напролет на мельнице царило столпотворение. Мадлена, не щадя себя, провела все три ночи у изголовья свекрови, которая испустила дух у нее на руках. Этот удар судьбы на время укротил неуживчивого мельника. Он любил мать, насколько вообще был способен любить, и тщеславие заставило его не поскупиться на похороны. На эти дни он забросил свою любовницу и даже счел за благо выказать великодушие, раздав бедным соседкам тряпки покойницы. Забелле тоже перепало от его щедрот, и даже найденышу досталась монета в двадцать су: Бланше вспомнил, что когда для больной спешно понадобились пиявки и все суетливо, но тщетно пытались их раздобыть, найденыш без разговоров побежал на болото, где, по его сведениям, они водились, и принес их быстрее, чем другие собрались в путь. Вот так и случилось, что Каде Бланше почти забыл свою неприязнь к найденышу, и никто на мельнице не узнал о безрассудной попытке Забеллы отдать приемыша в приют. Правда, история с десятью Мадлениными экю все-таки выплыла наружу, потому что мельник не преминул потребовать с Забеллы плату за ее убогий домишко. Но Мадлена солгала, что потеряла деньги на лугу, когда кинулась домой, узнав о болезни свекрови. Бланше, отчаянно бранясь, долго искал их, но, так и не проведав, на что они пошли, ни в чем не заподозрил Забеллу. По смерти матери нрав Бланше мало-помалу изменился, но лучше не стал. Дома он скучал теперь еще больше, к домашним же придирался реже и стал не так прижимист в расходах. К хозяйству он поостыл, растолстел, повел беспорядочный образ жизни, утратил былое трудолюбие и начал наживать деньги разными темными сделками и мелким барышничеством, на чем, вероятно, разбогател бы, если б не проматывал все, что добывал. Любовница забирала над ним все больше власти. Она таскала его по ярмаркам и прочим сборищам, втягивала в сомнительные дела и разгул. Он приучился к игре и нередко бывал в ней удачлив, хотя лучше бы ему всегда проигрывать — тогда он потерял бы охоту к картам, а так эта беспорядочная жизнь настолько выбила его из колеи, что при первом же проигрыше он выходил из себя и злился на весь мир. Пока он вел такую недостойную жизнь, жена его с прежней кротостью и благоразумием управлялась по дому и любовно растила их единственного сына. Правда, она считала, что детей у нее теперь двое, так как горячо полюбила найденыша и пеклась о нем почти так же, как о родном сыне. Чем больше ее муж погрязал в распутстве, тем меньше она чувствовала себя зависимой от него и несчастной. В первые дни своего разгула он вел еще себя с ней очень грубо, потому что боялся попреков и хотел удержать жену в страхе и покорности. Убедившись же, что ревности она не выказывает и по натуре своей ненавидит всякие ссоры, он счел самым разумным оставить ее в покое. Теперь, когда мать умерла и перестала натравливать его на жену, он поневоле увидел, что нет такой женщины, которая тратила бы на себя меньше, чем Мадлена. Он взял привычку по неделям не бывать дома, а когда возвращался туда с намерением затеять свару, злость его быстро улетучивалась: его встречали так молчаливо, с таким терпением, что он сперва дивился этому, а потом спокойно засыпал. Словом, на мельницу он являлся теперь, лишь когда уставал и нуждался в отдыхе. Только очень добрая христианка могла согласиться на такую одинокую жизнь в обществе старой девы и двух детей. Мадлена, и в самом деле, была христианкой получше, пожалуй, любой монахини; к тому же господь явил ей великую милость, сподобив ее научиться читать и понимать прочитанное. Правда, читала она всегда одно и то же, потому что у нее было всего две книги — Евангелие да краткие «Жития святых». Евангелие, которое она в одиночестве читала по вечерам у кроватки сына, очищало ей душу и вызывало у нее слезы. «Жития святых» действовали на нее совсем по-другому: примерно так же, — хотя, конечно, сравнение это неуместно, — как на праздных людей действуют сказки, чтение которых приохочивает их к мечтательности и разным выдумкам. Эти возвышенные рассказы пробуждали в ней стойкость и даже веселость. Подчас в поле найденыш замечал, как, держа книгу на коленях, Мадлена улыбается и краснеет. Он немало этому дивился — ему не под силу было понять, как все эти истории, которые она старательно пересказывает ему, чуточку переиначивая их для его разумения (а, также потому, что она и сама, вероятно, не всегда могла уразуметь их полностью), умещаются в предмете, называемом, по ее выражению, книгой. Ему тоже захотелось выучиться грамоте, и он, к удивлению Мадлены, выучился ей так быстро и хорошо, что, в свой черед, сумел выучить маленького Жанни. Когда же Франсуа пришло время идти к первому причастию, Мадлена помогла ему усвоить катехизис, и приходский кюре остался очень доволен разумностью и сообразительностью этого мальчика, которого так долго считали придурковатым из-за неразговорчивости и робости в обхождении. После первого причастия найденышу стало уже столько лет, что его можно было определить на место, и он, к радости Забеллы, поступил в услужение на мельницу, чему не препятствовал и мэтр Бланше, так как все давно смекнули, что найденыш — славный малый, работящий, услужливый, куда более крепкий, проворный и сметливый, чем его сверстники. К тому же он удовольствовался платой в десять экю, так что взять его был прямой расчет. Убедившись, что теперь он окончательно устроен на службу к Мадлене и маленькому Жанни, которого горячо любил, Франсуа был совершенно счастлив, а когда увидел, что его заработок дает Забелле возможность платить за жилье и снимает с нее самую тяжкую из забот, он почувствовал себя настоящим богачом. К несчастью, бедной Забелле недолго пришлось пользоваться этой наградой за свои труды. К зиме она сильно занемогла и, несмотря на все старания найденыша и Мадлены, скончалась на сретенье, хотя перед смертью ей стало лучше и все уже решили, что она пошла на поправку. Мадлена жалела о ней и много плакала, но все же не забывала утешать бедного найденыша, который без нее сам бы умер с горя. Даже год спустя он ежедневно, чуть ли не ежеминутно, вспоминал о Забелле и однажды сказал мельничихе: — Когда я молюсь о душе моей бедной матушки, меня вроде как берет раскаяние — я слишком мало ее любил. Я твердо помню, что изо всех сил старался угождать ей, ни разу ей слова поперек не сказал и услужал не хуже, чем теперь вам; и все-таки, госпожа Бланше, я должен признаться вам кое в чем, что меня гнетет и за что я частенько прошу прощения у бога: с того дня, когда бедная моя мать хотела отправить меня в приют, а вы вступились и не дали ей это сделать, любовь к ней невольно ослабела в моем сердце. Я не держал на нее зла, запрещал себе даже думать, что она поступила худо, решив меня бросить. Она была в своем праве: от меня ей был один убыток, ваша свекровь нагнала на нее страху; к тому же, пошла она на это против воли — я-то видел, как сильно она меня любит. Сам не знаю, почему у меня в голове все перевернулось, но это было сильней меня. С тех пор как вы сказали слова, которых я не забуду до смерти, я полюбил вас сильней, чем ее, и как ни старался, я думал о вас чаще, чем о ней. Теперь она умерла, но я не умер с горя; а вот умри вы, не жить бы и мне. — Да что же я тебе такого сказала, бедный мой мальчик, что ты мне за мои слова всю душу отдал? Не припоминаю. — Не припоминаете? — переспросил найденыш и уселся у ног Мадлены, которая, слушая его, не переставала прясть. — Так вот, дав моей матери несколько экю, вы сказали: «Я покупаю этого мальчика, он теперь мой». А потом поцеловали меня и прибавили: «Никакой ты не найденыш, понял? У тебя есть мать, которая будет любить тебя, как родного». Вы же сказали это, госпожа Бланше? — Может быть. Но я сказала лишь то, что думала и думаю сейчас. Разве ты считаешь, что я не сдержала слова? — Нет, что вы! Только… — Что только? — Нет, не скажу. Жаловаться грешно, а я не хочу быть забывчивым и неблагодарным. — А я знаю: ты не можешь быть неблагодарным. Говори все, что у тебя на душе, я так хочу. Ну, чего же тебе не хватает, чтобы ты считал себя моим сыном? Отвечай. Я велю тебе, как велела бы Жанни. — Так вот, вы так… вы так часто целуете Жанни, меня же не целовали с того дня, о котором мы сейчас толковали. А я так стараюсь мыть лицо и руки — я ведь знаю, что вы не любите грязнуль и то и дело моете да причесываете Жанни. Но вы все равно меня не целуете, да и моя мать Забелла тоже не целовала. А я вижу, как все матери ласкают своих детей, и потому понимаю, что я всего-навсего найденыш, и вы этого не забываете. — Так поцелуй меня, Франсуа, — сказала мельничиха, усаживая мальчика к себе на колени и нежно целуя в лоб. — Ты прав: я в самом деле виновата, что не подумала об этом, а ты заслужил, чтобы к тебе относились получше. Ну, видишь? Я целую тебя от всего сердца. Теперь ты веришь, что ты не найденыш, правда? Мальчик обвил шею Мадлены и так побледнел, что она в изумлении осторожно сняла его с колен и попыталась заговорить о чем-нибудь другом. Но он тут же убежал, словно собираясь спрятаться, и эта встревожило мельничиху. Она пошла и разыскала его в углу гумна, где он, весь заплаканный, стоял на коленях. — Ну, будет, будет, Франсуа! — сказала она, поднимая его. — Что это с тобой? Если ты думаешь о бедной своей матери Забелле, помолись за нее, и у тебя сразу от сердца отляжет. — Нет, нет, — ответил мальчик, ухватившись за край Мадленина передника и изо всех сил целуя его, — не думаю я о своей бедной матери. Разве не вы моя мать? — А тогда чего же ты плачешь? Ты меня огорчаешь. — Да я и не плачу, — ответил Франсуа, поспешно утерев глаза и притворяясь веселым. — То есть не знаю, почему плакал. Честное слово, не знаю: я ведь сейчас так счастлив, словно в рай попал.V
С тех пор Мадлена каждое утро и вечер целовала мальчика, ни дать ни взять как родного сына и делала разницу между Жанни и Франсуа лишь в том, что больше баловала и ласкала младшего, как тому и полагалось по возрасту. Ему было всего семь, а найденышу уже двенадцать, и Франсуа отлично сознавал, что с мальчиком его лет нельзя нежничать, как с малышом. К тому же с виду они отличались друг от друга еще сильней, чем по годам. Франсуа был такой крупный и здоровый, что мог сойти за пятнадцатилетнего, Жанни же был малорослый и хрупкий — словом, вылитая мать. Но как-то утром, когда Франсуа зашел поздороваться с мельничихой и она, по обыкновению, поцеловала его на пороге дома, служанка заметила: — Не сочтите за обиду, хозяйка, но сдается мне, негоже вам целовать этого малого, как девчонку, — он чересчур взрослый. — Вот те на! — удивилась Мадлена. — Разве ты забыла, сколько ему лет? — Нет, не забыла и не видела бы в этом ничего дурного, не будь он найденышем. А так я, простая служанка, и то ни за какие деньги не стала бы его целовать. — Нехорошо так говорить, Катрина, — оборвала ее госпожа Бланше, — а уж при бедном ребенке и подавно. — Пусть ее говорит, пусть все говорят, — отважно бросил Франсуа. — Я из-за этого не огорчусь. Раз вы, госпожа Бланше, не считаете меня найденышем, мне этого довольно. — Ну и ну! — воскликнула служанка. — Впервые слышу от него такие длинные речи! Выходит, ты тоже два слова связать умеешь, Франсуа? А я-то думала, что тебе наши разговоры — и те невдомек. Знай я, что ты все слышишь, я бы не сказала при тебе того, что сказала, — мне вовсе неохота тебя обижать. Ты славный малый, покладистый и услужливый. Ну, будет, будет, выкинь мои слова из головы; мне впрямь смешно, когда хозяйка целует тебя, но лишь потому, что, на мой взгляд, ты для этого чересчур вырос и, ластясь к ней, кажешься еще глупей, чем на самом деле. Уладив таким манером недоразумение, толстуха Катрина отправилась варить еду и начисто позабыла о случившемся. Найденыш же пошел за Мадленой к плотику для стирки и, усевшись рядом с мельничихой, заговорил так, как умел говорить только с ней и только для нее. — Помните, госпожа Бланше, — спросил он, — как однажды, давным-давно, я тоже оказался здесь и вы уложили меня спать, прикрыв своим платком? — Помню, мой мальчик, — ответила она. — В тот день я впервые тебя и встретила. — Неужели впервые? Я в этом не был уверен — я плохо помню то время: оно мне видится, как сквозь сон. Сколько же лет с тех пор прошло? — Сколько? Дай-ка подумать… На круг — шесть, потому что моему Жанни было тогда четырнадцать месяцев. — Выходит, мне было меньше, чем ему теперь? Как вы считаете, будет он после первого причастия помнить то, что с ним было сейчас? — Буду, буду, — сказал Жанни. — Как знать! — усомнился Франсуа. — Что, к примеру, ты делал вчера в это же время? Растерянный Жанни попытался что-то ответить, но так и умолк с открытым ртом и сконфуженным видом. — А ты сам, Франсуа? Бьюсь об заклад, ты тоже ничего не помнишь, — вмешалась мельничиха, которую всегда забавляли болтовня и споры мальчиков. — Я-то? — смутился найденыш. — Подождите минутку… Я отправился в поле, прошел вот здесь… и думал о вас; как раз вчера я и вспомнил, как в тот день вы укутали меня в свой платок. — Ну и память у тебя! Просто удивительно, как ты такую старину помнишь. А не забыл ты, что у тебя был жар? — Конечно, забыл! — И что ты отнес мое белье ко мне домой, хоть я этого тебе не велела? — Тоже не помню. — А я всегда об этом вспоминаю, потому что тогда сразу поняла, какое у тебя доброе сердце. — У меня тоже доброе сердце, правда, мама? — вмешался маленький Жанни, протягивая матери наполовину съеденное им яблоко. — Конечно, доброе. Ты видишь, сколько хорошего делает Франсуа, и сам будешь поступать так же, когда подрастешь. — Буду, буду, — мгновенно согласился мальчуган. — А сегодня вечером сяду на каурую и погоню ее в луга. — Ого! — рассмеялся Франсуа. — А потом полезешь на большую рябину синичье гнездо разорять? Нет, погоди, пока я тебе это не позволю, малыш. Но вот что, госпожа Бланше. Хочу я у вас одну вещь спросить, да не знаю, скажете ли вы. — Там будет видно. — Почему люди думают, что я сержусь, когда меня кличут найденышем? Разве так уж плохо им быть? — Конечно, нет, мой мальчик. Это же не твоя вина. — А чья? — Богатых людей. — Богатых людей? Как так? — Ты сегодня чересчур много спрашиваешь. Я отвечу тебе в другой раз. — Нет, сегодня, госпожа Бланше, сейчас. — Не могу я этого объяснить… Да ты сам-то знаешь, что такое найденыш? — Знаю. Это когда отец и мать отдают тебя в приют, потому что им не на что кормить тебя и растить. — Верно. Как видишь, если есть люди настолько бедные, что они не в силах сами вырастить своих детей, значит, виноваты в этом богачи, которые им не помогают. — Ваша правда, — задумчиво согласился найденыш. — Но, видно, бывают и добрые богачи — вы-то ведь добрая, госпожа Бланше; все дело в том, чтобы их повстречать.VI
Однако найденыш, а он с тех пор, как выучился грамоте да сходил к первому причастию, вечно ломал себе голову и доискивался что да почему, не переставая думать о словах, сказанных Катриной на его счет госпоже Бланше, но сколько он ни размышлял, ему все-таки было непонятно, почему, войдя в года, он не должен больше целовать Мадлену. Он был самый неиспорченный мальчик, какой только жил на свете, и даже не догадывался о том, о чем так рано узнают его сверстники. Чистосердечие его проистекало от того, что он вырос не таким, как другие. Положение найденыша, хоть он его и не стыдился, сделало Франсуа застенчивым; правда, за обиду он это прозвище не считал, но так и не свыкся с тем, что оно отделяет его от всех, с кем он водился. Другие найденыши почти всегда считают свой удел унизительным: им так грубо дают это почувствовать, что они рано утрачивают достоинства христианина. Они растут с ненавистью к тем, кто дал им жизнь, но не больше любят и тех, кто им ее сохранил. С Франсуа же получилось так, что он попал в руки Забелле, любившей и не обижавшей его, а затем повстречал Мадлену, нрав у которой был милосерднее, и мысли человечнее, чем у окружающих. Она стала для него поистине матерью, а когда найденыша любят, он становится лучше других детей, равно как становится хуже их, когда его оскорбляют и тиранят. Поэтому Франсуа ни с кем не было так легко и приятно, как с Мадленой, и он не льнул к другим пастушатам, а рос один, под крылышком двух любивших его женщин. Особенно в обществе Мадлены он чувствовал себя таким счастливым, каким мог быть рядом с ней только Жанни, и его не тянуло побегать с теми, кто сразу же начинал обзывать его найденышем и среди кого он неизвестно почему чувствовал себя чужим. Так он и дорос до пятнадцати лет, оставаясь бесхитростным и беззлобным: уста его не повторили ни одного дурного слова, а уши таких слов и не воспринимали. И все же после того дня, когда Катрина укорила хозяйку за ее любовь к найденышу, этот паренек нашел в себе довольно, здравого смысла и рассудительности, чтобы не давать больше мельничихе целовать его. Он сделал вид, что ему не до этого, а может, просто стыдно выглядеть девчонкой и неженкой, как выразилась Катрина. Но на самом деле его удерживал не стыд. Он лишь посмеялся бы над всем этим, если бы бессознательно не почувствовал, что дорогую ему женщину того и гляди попрекнут любовью к нему. За что попрекнут — этого он не мог себе объяснить и, не находя объяснений сам, не хотел просить их у Мадлены. Он-то знал, что ее великодушие и привязанность к нему помогут ей вытерпеть любые попреки: он был памятлив и не забыл, как когда-то мельничиху бранили и даже собирались прибить за то, что она с ним добра. Одним словом, чутье подсказало ему, что он не вправе навлекать на нее новые неприятности и насмешки. Он сообразил — вот что поразительно! — он сообразил, этот бедный паренек, что найденыша можно любить только тайком; впрочем, он согласился бы и на то, чтобы его не любили вовсе, лишь бы не причинить вреда Мадлене. Малый он был работящий, а так как с годами работы у него все прибавлялось, он постепенно стал все меньше бывать подле Мадлены. Но это не огорчало его, потому что за работой он говорил себе, что трудится ради нее и будет вознагражден за все радостью видеть ее во время еды. По вечерам, когда Жанни засыпал и Катрина тоже укладывалась в постель, Франсуа проводил с Мадленой еще и подругой. Она пряла, а он читал вслух или разговаривал с нею. Деревенский житель читает не быстро; поэтому с них хватало тех двух книг, которыми они располагали. Три страницы за один присест было для них уже много, и пока они дочитывали книгу до конца, проходило достаточно времени, чтобы вновь вернуться к первой странице, которую они уже плохо помнили. Кстати сказать, есть две манеры чтения, и об этом не худо напомнить людям, которые воображают себя шибко образованными. Тот, у кого много досуга и книг, глотает их походя и так набивает себе всякой всячиной голову, что там сам господь бог не разберется. Тот же, у кого мало и досуга и книг, счастлив, когда ему попадается что-нибудь стоящее. Он стократ без устали перечитывает прочитанное и всякий раз находит для себя что-то незамеченное, пробуждающее новую мысль. Правда, это все та же мысль, но ее с таким вкусом, так долго смакуют и переваривают, что разум, усвоивший ее, становится крепче и здоровей, чем тридцать тысяч набитых вздором голов, где гуляет ветер. Это я повторяю слова господина кюре, дети мои, а уж он-то в таких вещах разбирается. Так и жили два эти человека, довольствуясь теми знаниями, какие могли приобрести, а приобретали они их не торопясь, помогая друг другу понимать и любить все, что делает нас добрее и справедливей. Это укрепляло в них веру и бодрость духа, и не было для них счастья больше, чем чувствовать в себе расположение к ближнему и быть всегда и всюду заодно во всем, что касается правды и праведной жизни.VII
Господин Каде Бланше больше не вникал в расходы по дому, потому что уже давно определил сумму, которую ежемесячно выдавал жене на жизнь, и сумма эта была так мала, что дальше некуда. Мадлена могла теперь, не раздражая мужа, во многом отказывать себе и время от времени давать знакомым беднякам малость дров, белья, супу, овощей, яиц и прочего. Ради ближнего она шла на все и, когда у нее не было средств, сама работала за бедняков, лишь бы помешать болезни или усталости свести их в могилу. Она была так бережлива, так старательно штопала свою одежду, что вчуже казалось, будто она живет в достатке; однако, не желая, чтобы домашние расплачивались за ее великодушие, она приучилась совсем мало есть, никогда не отдыхать и спать как можно меньше. Найденыш видел это и находил вполне естественным: и от природы и благодаря воспитанию, которое дала ему Мадлена, в нем развились те же наклонности и то же сознание долга, что у нее. Тем не менее он подчас тревожился, наблюдая, как изводится мельничиха, и корил себя за то, что слишком много спит и ест. Франсуа охотно согласился бы ночи напролет просиживать вместо нее за шитьем и пряжей, и когда она пробовала вручить ему его жалованье, мало-помалу выросшее почти до двадцати экю, он обижался и заставлял ее в тайне от мельника оставлять эти деньги себе. — Будь жива моя мать Забелла, — твердил он, — мой заработок шел бы ей. Ну, скажите на милость, куда мне девать деньги? Нужды у меня в них нет: одежду вы мою чините, сабо мне покупаете. Поберегите их для тех, кто бедней меня. Вы и без того работаете на бедняков сверх всякой меры. А если будете мне платить, вам придется работать еще больше; если же вы занеможете и помрете, как моя бедная Забелла, какой мне будет прок от того, что у меня деньги в сундуке лежат? Разве они воскресят вас или помешают мне утопиться? — Не смей и думать об этом, мой мальчик, — оборвала его Мадлена однажды, когда он, как случалось время от времени, вновь вернулся к этой мысли. — Христианину не пристало накладывать на себя руки, и если я помру, твой долг — пережить меня, чтобы утешить и поддержать моего Жанни. Ну, скажи, неужто ты этого не сделаешь? — Сделаю, покуда Жанни еще мал и ему нужна моя забота. Но после!.. Не будем про это, госпожа Бланше. Тут из меня добрый христианин не получится. А если вы хотите, чтобы я жил на земле, не надрывайтесь и не помирайте. — Успокойся, мне вовсе неохота помирать. Чувствую я себя хорошо, к труду привыкла и теперь даже крепче стала, чем в молодости. — В молодости? — удивился Франсуа. — Выходит, вы уже не молодая? Он струхнул, вообразив, что она достигла возраста, когда люди умирают. — Да у меня и не было времени побыть молодой, — рассмеялась Мадлена с видом человека, умеющего подтрунить над своей неудачей. — Теперь мне двадцать пять, а это уже немало для женщины моего сложения, потому что я не уродилась таким крепышом, как ты, малыш, и у меня были горести, состарившие меня быстрее, чем годы. — Горести? Боже мой, ну конечно! Я это заметил, еще когда господин Бланше бывал с вами так груб. Я, прости меня господи, человек не злой, но однажды, когда ваш муж замахнулся на вас… Ох, его счастье, что он вас не ударил; я уже схватился за цеп — правда, никто этого не заметил — и вот-вот кинулся бы на него. Но это дело давнее, госпожа Бланше; я, помнится, был тогда на целую голову ниже его, а нынче сам на него сверху вниз смотрю. Но теперь, когда он вам больше слова не говорит, вы, наверно, счастливы? — Счастлива? Ты находишь? — чуточку возбужденно отозвалась Мадлена, подумав о том, что никогда не знала любви в браке. Но она тут же спохватилась: найденыша это не касается, а ей негоже говорить о таких вещах с ребенком. — Ты прав, — добавила она, — теперь я не несчастна. Живу я как хочу, муж стал со мной куда обходительней, сын растет здоровым, и жаловаться мне не на что. — А я, значит, не в счет? Я… — Ты тоже растешь здоровым, и я этому радуюсь. — Может быть, не только этому? — Да, не только. Ты хорошо ведешь себя, дурных мыслей в голове не держишь, и я тобой довольна. — Ох, каким же негодяем, какой дрянью был бы я, будь вы недовольны мной после всего, что я от вас видел! Но есть еще одна вещь, которая помогла бы вам быть счастливой, рассуждай вы, как я. — Так говори, что ты еще за штуку придумал, чтобы меня удивить. — Никаких тут нет штук, госпожа Бланше. Мне просто довольно заглянуть себе в душу, чтобы понять: пусть меня заставят терпеть голод, жажду, зной, стужу, да еще каждый день бьют до полусмерти, да спать кладут на колючки или на камни, я все равно… Вы меня поняли? — Кажется, да, милый мой Франсуа. Ты хотел сказать, что не боишься страданий, пока сердце твое в мире с господом. — Само собой, это — первым делом. Но сказать я хотел другое. — Тогда я ничего не понимаю. Сдается мне, ты стал хитрей меня. — Нет, вовсе я не хитрый. А сказать я хотел вот что: выпади мне на долю все страдания, какие только терпит человек в здешней жизни, я все равно был бы счастлив, раз Мадлена Бланше привязана ко мне. Потому я и говорил: знай вы, что у меня в мыслях, вы бы решили — Франсуа любит меня так, что я счастлива жить на свете. — А ведь ты прав, мой дорогой мальчик, — ответили Мадлена. — Иной раз ты такое скажешь, что заплакать хочется. Да, это правда: твоя любовь для меня — одна из радостей в жизни, может быть, самое лучшее в ней после… нет, не после, а наряду с любовью моего Жанни. Но ты старше его, лучше понимаешь мои слова и лучше умеешь высказать свои мысли. Так вот, уверяю тебя, мне с вами обоими никогда не скучно, и ныне я прошу у господа лишь одного — чтобы все подольше оставалось так, как сейчас, и мы трое жили, не разлучаясь, одной семьей. — Еще бы, не разлучаясь! Да мне легче дать себя на куски изрезать, чем с вами расстаться! Разве кто-нибудь полюбит меня так, как вы? Кто, кроме вас, станет терпеть оскорбления ради бедного найденыша и называть его своим мальчиком, своим милым сыном? А ведь вы меня часто, почти всегда так и зовете. Больше того — иной раз, когда мы с вами наедине, вы говорите: «Зови меня не госпожой Бланше, а мамой». Я-то, конечно, не решаюсь — вдруг привыкну, и это имя сорвется у меня с языка при чужих. — Ну и что за беда? — А то, что вас этим попрекнут, я же не хочу, чтобы вас из-за меня обижали. Поверьте, я не гордый: мне вовсе не нужно, чтобы другие знали, что я для вас не просто найденыш. Я счастлив уже тем, что знаю: у меня есть мать, и я ее сын. Ох, только не помирайте, госпожа Бланше! — прибавил бедный Франсуа, печально глядя на нее, потому что последнее время его не покидали тревожные предчувствия. — Без вас у меня никого на земле не останется; и потом, вы, само собой, пойдете в рай господний, а я не уверен, что заслужил право попасть туда вместе с вами. Слова и мысли Франсуа казались предвестием большой беды, и вскоре она действительно свалилась на него. Теперь найденыш был уже работником при мельнице. Он разъезжал на лошади, забирал у крестьян зерно и сдавал им муку. По этой причине он часто совершал длинные поездки; нередко посещал он и любовницу Бланше, жившую неподалеку от мельницы. Бывать он у нее не любил и оставался там ровно столько времени, сколько надо, чтобы отмерить и взвесить зерно. . . . . . . . . . . . . Здесь рассказчица остановилась. — Знаете, я что-то больно долго говорю, — сказала она внимавшим ей прихожанам. — А легкие у меня не те, что в пятнадцать лет, и думается мне, пора бы коноплянщику сменить меня: он ведь знает эту историю лучше, чем я. К тому же мы добрались до места, откуда я уже плохо помню, как все было. — Знаю я, почему у вас вдруг на середине отшибло память, хотя вначале на нее грех было жаловаться, — усмехнулся коноплянщик. — Теперь дело оборачивается для найденыша худо, а вас это огорчает, потому что все вы, богомолки, трусливы, как курицы, чуть речь о любви заходит. — Значит, все кончится любовью? — вставила присутствовавшая там Сильвина Куртиу. — Ага! — возликовал коноплянщик. — Так и знал, что девицы ушки навострят, коли я это слово произнесу. Но потерпите: там, откуда начну я, чтобы довести рассказ до благополучного конца, речь еще не идет о том, что вам охота услышать. Так на чем вы остановились, матушка Моника? — На любовнице Бланше. — Так вот, — начал коноплянщик. — Звали эту женщину Северой[523], хотя имя это не очень-то ей подходило — ничего подобного у ней и в мыслях не было. Она была мастерица кружить головы людям, когда хотела посмотреть, какого цвета у них денежки. Не скажу, чтоб она была злая, потому как нравом отличалась веселым и беззаботным; но думала она только о себе, а до других ей не было дела, лишь бы ей самой жилось приятно и вольготно. Мужчины в наших краях частенько засматривались на нее, и, по слухам, слишком многие из них пришлись ей по душе. Женщина она была хоть и дородная, но еще очень красивая, обходительная, подвижная и свежая, как вишенка. На найденыша особенного внимания она не обращала, но, встречая его у себя на чердаке или во дворе, непременно отпускала какую-нибудь вольную шуточку — не по злобе, а так, чтобы посмеяться над ним и позабавиться, видя, как он краснеет, потому что, говоря с этой женщиной, Франсуа краснел, словно девушка, и ему становилось не по себе. Он считал, что нрав у нее наглый, и ему казалось, что она уродлива и зла, хотя на самом деле ни безобразием, ни злобностью она не отличалась; злость, по крайней мере закипала в ней лишь тогда, когда кто-нибудь задевал ее интересы или мешал ей покрасоваться больше того — давать она любила, пожалуй, не меньше, чем брать. Щедрой она была из тщеславия — ей нравилось, когда ее благодарят. Но, на взгляд найденыша, она была сущая чертовка, из-за которой госпожа Бланше вынуждена жить на гроши и надрываться над работой. Тем не менее госпожа Севера в конце концов заметила, что найденыш — а ему уже минуло семнадцать — чертовски хорош собой. Он был непохож на обычных деревенских парней — те в этом возрасте коренасты и приземисты, потому что развиваются и становятся на что-то похожи лишь года через два-три. А Франсуа и в семнадцать был высок и ладно сложен; кожа у него не смуглела даже во время жатвы; вьющиеся волосы у корней темнели, а у кончиков золотились.— Вам нравятся такие, тетушка Моника? Я не о парнях — о волосах говорю. — Не ваше дело, — отрезала служанка кюре. — Рассказывайте-ка дальше.
Одевался Франсуа бедно, хотя всегда соблюдал опрятность, к которой его приучила Мадлена Бланше, но даже в таком наряде выглядел лучше других. Мало-помалу Севера разглядела его, да так хорошо, что вбила себе в голову — парня надо пообтесать. Предрассудками она не страдала, и когда ей говорили: «Как жаль! Такой красивый малый — и найденыш», она отвечала: «А найденыши все такие. Они же дети любви». И вот что она придумала, чтобы остаться с ним наедине. На ярмарке в Сен-Дени-де-Жуэ она дала Бланше хлебнуть лишнего, и, когда увидела, что того ноги не держат, препоручила мельника его тамошним приятелям и велела уложить спать. А после сказала Франсуа, который, вместе с хозяином пригнал туда скот на продажу: — Послушай, малый, я оставляю твоему хозяину свою кобылу — пусть вернется на ней завтра утром; а ты садись на его лошадь, бери меня на круп и вези домой. Такой оборот дела пришелся Франсуа не по душе. Он ответил, что кобыла у мельника слабосильная и двоих не увезет, но согласился проводить Северу — пусть она едет на своей лошади, он же возьмет хозяйскую, а затем на свежей возвратится за мельником и ручается, что с первым светом уже будет в Сен-Дени-де-Жуэ; однако Севера не стала ничего слушать и велела ему делать, что сказано. Франсуа побаивался ее, потому что Бланше на все смотрел глазами Северы, и если бы она взъелась на найденыша, ему могли бы дать на мельнице расчет, тем более что был как раз канун Иванова дня. Поэтому Франсуа нехотя посадил Северу на круп; бедный парень даже не подозревал, что нашел отнюдь не самыйудачный способ отвести от себя беду.
VIII
Выехали они в сумерках, и когда перебрались через шлюз на рошфольском пруду, уже совсем стемнело. Луна еще не встала над лесом, а дороги, размытые в этих местах ручьями, были из рук вон плохи. Но Франсуа погонял кобылу — он торопился, потому что ему отчаянно наскучила Севера и не терпелось оказаться наконец с госпожой Бланше. Однако Севера, которой незачем было спешить домой, принялась корчить из себя даму и уверять, что ей боязно и что кобылу нужно перевести на шаг — у ней подгибаются ноги и она того гляди упадет на колени. — И пусть падает, — отмахнулся Франсуа. — Тогда она хоть впервые помолится богу, а то я, с вашего позволения, такой нечестивой кобылы, с тех пор как меня крестили, не видывал. — А ты не глуп, Франсуа! — хихикнула Севера, словно он сказал что-то очень новое и забавное. — Полно вам! — ответил найденыш, решив, что она потешается над ним. — Надеюсь, с горки-то мы пойдем не рысью? — Обязательно рысью, но вы не бойтесь. От рыси на спуске у толстухи Северы то и дело прерывалось дыхание, и она не могла разговаривать, что ей пришлось очень не по вкусу, так как она рассчитывала вскружить юноше голову своей болтовней. Но не желая показать, что она уже не молода и у ней не хватает сил перебороть усталость, Севера всю эту часть дороги хранила молчание. Когда же они въехали в каштановую рощу, она придумала новую уловку и сказала: — Погоди, Франсуа. Надо остановиться, друг мой: кобыла потеряла подкову. — Даже если она расковалась, — возразил Франсуа, — мне ее нечем подковать — у меня с собой ни молотка, ни гвоздей. — Но подкову нельзя бросать — она денег стоит! Слезь-ка и поищи! Ну, кому я говорю? — Тьфу ты! Да в этом папоротнике хоть два часа шарь, все равно ее не найдешь: у меня же глаза, а не фонари. — Фонари не фонари, — полушутя, полуласково молвила Севера, — а блестят они, что твои светляки. — А вы их через мою шляпу сзади видите, что ли? — огрызнулся Франсуа, отнюдь не обрадовавшись ее словам, которые принял за насмешку. — Сейчас — нет, — ответила Севера со вздохом, почти столь же объемистым, как она сама, — зато раньше не раз видала. — И все равно вы ничего в них не прочли, — возразил простодушный найденыш. — Оставьте вы про это: в них ни дерзости, ни зла к вам нет.— Сдается мне, — сказала тут служанка кюре, — часть рассказа можно и опустить. Кому интересно слушать, какими бесчестными уловками эта дрянная бабенка хотела сбить с пути нашего найденыша? — Да вы не тревожьтесь, матушка Моника, — успокоил ее коноплянщик. — То, что надо, я обойду. Я помню, что передо мной молодежь, и лишнего слова не вымолвлю.
— Итак, мы говорили про глаза Франсуа, которые Севере хотелось бы видеть не столь невинными, какими описал их найденыш. — Сколько вам лет, Франсуа? — осведомилась она, переходя на вы, в надежде дать ему понять, что не считает его больше за мальчика. — Сам толком не знаю, — ответил найденыш, смекнув наконец, что она что-то не в меру настойчива. — Я не очень-то часто свои годы считаю — мне не до забав. — Говорят, вам только семнадцать, — гнула она свое. — А я бьюсь об заклад, что вам все двадцать, — вон вы какой рослый, да и борода у вас скоро пробьется. — Ну, и что из того? — зевая, ответил Франсуа. — Да полегчё вы, паренек, не гоните так! Я из-за вас кошелек потеряла. — Черт побери! — воскликнул Франсуа, еще не понявший, насколько она хитра. — Слезайте да поищите — это дело не шуточное. Он спрыгнул наземь и помог слезть Севере; она не преминула опереться на него, и он нашел, что она потяжелей мешка с зерном. Севера притворилась, что ищет кошелек, хотя он лежал у нее в кармане, а Франсуа, держа лошадь под уздцы, остановился в нескольких шагах поодаль. — Эй, помогите же мне искать! — окликнула его Севера. — А кто кобылу держать будет? — ответил он. — Она о своем жеребенке думает. Отпусти ее — потом не поймаешь. Севера принялась искать под ногами у лошади, совсем уж рядом с Франсуа, и он наконец смекнул, что она ничего не потеряла, кроме, пожалуй, рассудка. — Да мы тут еще не ехали, когда вы кошелька хватились, — сказал он. — Значит, тут его и не найти. — Ах ты плут! По-твоему, я притворяюсь? — отозвалась она, пытаясь ущипнуть его за ухо. — Я вижу, ты хитер… Франсуа отшатнулся — у него не было никакой охоты дурачиться с нею. — Нет, не надо, — сказал он. — Если вы сыскали свои деньги, едем. Я шутить не расположен — меня в сон клонит. — Тогда поболтаем, — предложила Севера, вновь вскарабкавшись на лошадь позади найденыша. — Говорят, это разгоняет дорожною скуку. — А мне разгонять нечего, — возразил найденыш. — Я не скучаю. — Вот первое любезное слово, что я от тебя слышу, Франсуа! — Если оно любезное, значит, вырвалось у меня случайно — я таких слов говорить не умею. В Севере уже закипала злость, но она все еще не сдавалась. «Этот малый — сущий простофиля, — сказала она себе. — Попробуем-ка сделать так, чтобы он заплутался, тогда ему поневоле придется остаться со мной». И тут она стала сбивать его с толку — он берет вправо, а надо, мол, взять влево. — Из-за вас мы заедем бог весть куда, — твердила она. — Вы в этих местах впервые. Я лучше вас знаю дорогу. Послушайтесь меня, молодой человек, не то придется мне по вашей милости в лесу ночевать. Но уж если Франсуа хоть раз прошел по дороге, он запоминал ее так, что и через год на ней бы не заблудился. — Ну, нет, — возразил он, — я еще не рехнулся. Нам вон сюда. Ваша кобыла тоже узнала дорогу, и мне вовсе не хочется всю ночь по лесу рыскать. Так, не потратив зря даже четверти часа, он добрался до поместья Долленов, где жила Севера, и за все это время ее любезности вошли к нему в уши не глубже, чем канат в игольное ушко. По приезде домой она попыталась его задержать, доказывая, что ночь слишком темна, вода поднялась и вброд реку не перейти. Но найденыша такие опасности не пугали. Вся эта глупая болтовня давно ему наскучила, и, не дослушав Северу, он пятками сжал лошади бока, взял в галоп и поскорей вернулся на мельницу, где его ждала Мадлена Бланше, уже начавшая тревожиться.
IX
Найденыш скрыл от Мадлены, на что ему намекала Севера: он не смел не то что рассказывать, но даже вспоминать об этом. Не скажу, что и я держался бы в подобных обстоятельствах столь же благоразумно; однако благоразумие никогда не вредит, да и описываю я вам все так, как было. Этот паренек был скромен, как честная девушка. Севера же, поразмыслив ночью о случившемся, всерьез разобиделась — она сообразила, что найденыш, пожалуй, не столько простофиля, сколько гордец. От этой догадки ее обуяла злость, у нее разлилась желчь и в голове зароились мысли о мести. Поэтому утром, когда Каде Бланше, наполовину протрезвев, возвратился к ней, она дала ему понять, что его юный работник — изрядный нахал, что ей пришлось держать его в шорах и даже утереть ему нос добрым тычком локтя: он, дескать, посмел лезть к ней с любезностями и поцелуями, когда они ночью возвращались через лес. Этого уже было более чем достаточно, чтобы Бланше потерял голову, но Севере все казалось мало, и она еще высмеяла мельника за то, что он оставляет дома с женою такого слугу, который и по возрасту и по нраву способен не дать Мадлене соскучиться. И тут Бланше внезапно приревновал и любовницу и жену. Он схватил свою здоровенную палку, нахлобучил шляпу до самых глаз, как гасильник на свечу, и одним духом добежал до мельницы. К счастью, найденыша там не оказалось: он отправился валить и разделывать дерево, купленное Бланше у Бланшара из Герена, и обещал вернуться лишь к вечеру. Бланше кинулся бы и туда, где работал Франсуа, но он боялся, что если выкажет свою досаду, молодые мельники из Герена поднимут его на смех за неуместную ревность — он ведь сам бросил жену и помыкал ею. Конечно, мельник мог подождать возвращения найденыша, но ему скучно было торчать целый день дома; ссоры же, которую он собирался затеять с женой, до вечера все равно не хватило бы. А в одиночку долго не просердишься. В конце концов Бланше пренебрег бы и насмешками и скукой ради удовольствия хорошенько посчитать ребра бедному Франсуа, но на ходу он малость поостыл и смекнул, что этот проклятый найденыш уже не ребенок, а ежели человек в таких годах, что ему любовь в голову лезет, то, распалясь, он не побоится и кулаки в ход пустить. Все это побудило его для успокоения чувств опрокинуть кружку, что он и проделал, обдумывая про себя речь, которую собирался повести к жене, хотя еще не знал, с какого конца взяться за это. Войдя, он грубо потребовал выслушать его, и Мадлена молча встала перед ним, как всегда грустная и чуточку надменная. — Госпожа Бланше, — выпалил он наконец, — слушайте, что я прикажу, и знайте, что будь вы вправду такой, какой кажетесь и слывете, вы не стали бы дожидаться моего приказа. Тут он остановился, словно переводя дух, но на самом деле почти стыдясь того, что собирался сказать, потому что добродетель читалась на лице его жены не хуже, чем молитва на страницах часослова. Мадлена не облегчила мужу его задачу. Она безмолвно ждала, когда он выговорится, полагая, что Бланше намерен попрекнуть ее каким-нибудь лишним расходом, и отнюдь не догадываясь, к чему он клонит. — Не прикидывайтесь глухой, госпожа Бланше, — гнул свое мельник. — Дело тут ясное. Эту шваль надо выбросить вон, и чем скорее, тем лучше, — я сыт по горло. — Какую шваль? Что выбросить? — остолбенела Мадлена. — Вы говорите — «что»? Значит, боитесь сказать — «кого»? — Видит бог, я ничего не боюсь, — ответила она. — Объяснитесь, если хотите, чтобы я поняла. — Не выводите меня из себя! — как бык, заревел Каде Бланше. — Я вам говорю: этот найденыш — лишний у меня в доме, и если он до утра не уберется, я выставлю его взашей, а то и под мельничное колесо брошу, коли ему это больше нравится. — Дурные слова вы говорите и неразумное дело затеяли, мэтр Бланше, — ответила Мадлена, невольно став белее своего чепца. — Прогнав этого паренька, вы окончательно разоритесь: другого на такую работу, да еще за такие гроши, вам ни в жизнь не найти. За что вы хотите так безжалостно выбросить бедного мальчика на улицу? Что он вам сделал? — Так знайте, госпожа мельничиха, что из-за него я выгляжу дураком, а у меня нет охоты быть посмешищем для всей округи. Он хозяйничает у меня в доме, а за работу, которую он тут делает, не деньгами, а дубиной расплачиваются. Мадлена далеко не сразу поняла, что имеет в виду муж. Такое ей даже в голову не приходило, и она перебрала все возможные доводы, чтобы образумить Бланше и отговорить его от нелепой затеи. Но все ее усилия пропали даром: мельник распалился еще пуще и, видя, как огорчает жену потеря Франсуа, ее верного слуги, вновь воспылал ревностью и сказал на этот счет столь грубые слова, что они наконец прочистили ей уши, и она разрыдалась от обиды, уязвленной гордости и безмерного горя. Это лишь подбавило масла в огонь: мельник поклялся, что она влюблена в свою приютскую крысу, что он краснеет за нее и что если она завтра же беспрекословно не выставит найденыша за дверь, он, Каде Бланше, прикончит его и в муку смелет. На это она ответила громче, нежели обычно, что он хозяин в доме и может выгонять кого угодно, но не имеет права чернить и позорить свою честную жену и что она будет молиться господу и угодникам его, чтобы они воздали за эту слишком незаслуженную и горькую несправедливость. И тут, слово за слово, сама того не желая, она стала упрекать мужа в беспутной жизни, резонно ссылаясь на то, что вор всегда первый кричит: «Держи вора!» Это окончательно испортило дело: когда Бланше увидел, что он кругом не прав, у него остался один выход — дать волю гневу. Он пригрозил Мадлене, что заткнет ей глотку кулаком, и сделал бы это, если бы прибежавший на шум Жанни не встал между ними; он не понимал, что происходит, но был бледен как полотно и совершенно подавлен ссорой родителей. Бланше велел ему выйти, но мальчик разрыдался, и это дало мельнику повод обозвать сына невежей, трусом и плаксой, из которого по милости маменьки не выйдет ничего путного. Затем, собравшись с духом, он поднялся и, размахивая палкой, пригрозил прикончить найденыша. Увидев, что муж осатанел от злости, Мадлена ринулась ему наперерез с такой отвагой, что он опешил и не успел ей помешать выхватить у него палку и забросить ее подальше в реку. Затем, все так же безбоязненно, она сказала: — Не губите себя из-за своей глупости. Вспомните, как легко натворить бед, когда теряешь голову, и уж если в вас не осталось ничего человеческого, подумайте хоть о себе и о том, какой ценой люди расплачиваются за опрометчивый поступок. Уже давно, муж мой, вы ведете беспутную жизнь и все быстрей катитесь вниз по дурной дорожке. Но я помешаю вам, хотя бы сегодня, совершить еще больший грех, за который вас ждет кара и в этом и в лучшем мире. Никого вы не убьете, а вернетесь туда, откуда явились, не пытаясь отомстить за обиду, которой вам не нанесли. Уходите — я приказываю вам это ради вашего же блага, приказываю первый раз в жизни. И вы послушаетесь меня, потому что скоро убедитесь: это нисколько не умаляет того почтения, с каким я обязана к вам относиться. Клянусь верой и честью: завтра же найденыша здесь не будет, и вы сможете вернуться домой, не опасаясь встречи с ним. С этими словами Мадлена распахнула перед мужем дверь дома, и Каде Бланше, обескураженный таким ее обращением, но, в сущности, довольный тем, что уходит, поставив на своем и не рискнув при этом шкурой, опять нахлобучил шляпу и, не проронив ни звука, возвратился к Севере. Разумеется, он не преминул похвастаться и ей и другим, как круто приструнил жену и найденыша; но поскольку ничего подобного не было и в помине, Севере пришлось удовольствоваться не жарким, а только его запахом. Оставшись одна, Мадлена Бланше отправила Жанни и поле пасти овец и козу, а сама пошла в самый конец мельничного шлюза, в уголок, со всех сторон подмытый водой и усеянный старыми пнями, которые дали столько новых ветвей и побегов, что в двух шагах было ничего не видать. Она часто ходила туда молиться богу, потому что там ей никто не мешал и она могла прятаться в высокой буйной траве, словно водяная курочка в гнезде из зеленых веток. Очутившись там, она опустилась на колени и хорошенько помолилась, в чем очень нуждалась и надеялась найти утешение; но мысли ее были заняты найденышем, которого ей предстояло уволить и который любил ее так, что мог умереть с горя в разлуке с нею. Одним словом, господу богу она сумела сказать немногое — что для нее нет несчастья горше, чем потерять свою единственную опору и дитя своей души. И она зарыдала так сильно, что лишь чудом не рассталась с жизнью: у нее пресеклось дыхание, она плашмя рухнула в траву и больше часа лежала без памяти. Однако в сумерках Мадлена собралась с силами и, заслышав Жанни, который с песней загонял домой скотину, кое-как встала на ноги и пошла готовить ужин. Вскоре после этого она услыхала, как волы привезли дуб, купленный Бланше, и Жанни радостно выскочил навстречу Франсуа — он целый день не видел друга и соскучился по нему. Бедный малыш Жанни изрядно огорчился, увидев, какими злыми глазами смотрит отец на его милую мать; он даже поплакал в поле, не понимая, что произошло между родителями. Но детские слезы как утренняя роса — быстро сохнут, и сейчас он уже обо всем позабыл. Мальчик ухватил Франсуа за руку и вприпрыжку, как молодая куропатка, потащил его к Мадлене. Найденыш с первого же взгляда заметил, что глаза у мельничихи красные, а лицо бледное. «Боже мой, дома что-то стряслось!» — в свой черед бледнея и дрожа, решил он и уставился на нее в надежде, что она тут же все ему выложит. Но Мадлена усадила Франсуа за стол и молча подала ужин, к которому он так и не притронулся. Один Жанни ел и болтал, ни о чем не тревожась, потому что мать поминутно целовала его и уговаривала приналечь на еду. Когда он лег спать, а служанка принялась за уборку, Мадлена вышла и знаком велела Франсуа следовать за нею. Она спустилась по лугу до самого ручья и там, собравшись с духом, сказала найденышу: — Мальчик мой, нас с тобою постигла беда, — господь бог ниспослал нам большое несчастье. Ты видишь, как мне тяжело; постарайся же из любви ко мне быть сильней меня; я не знаю, что со мной станется, если ты меня не поддержишь. Франсуа ни о чем не догадывался, но сразу же заподозрил, что виной всему господин Бланше. — Что это вы говорите? — молвил он, целуя Мадлене руки, словно родной матери. — Как вы могли подумать, что у меня недостанет сил утешить и поддержать вас? Разве я не ваш слуга, пока живу на земле? Разве я не ваш сын, готовый работать на вас и достаточно теперь сильный, чтобы вы ни в чем не нуждались? Пусть господин Бланше делает, что ему вздумается. Я сам прокормлю и одену и вас и нашего Жанни. Если нам нужно на время расстаться, я наймусь в работники — по соседству, конечно, чтобы видеть вас в будни и приходить к вам на целый день в воскресенье. У меня теперь хватит сил пахать и заработать сколько вам нужно. Вы ведь такая бережливая, и на жизнь у вас уходит так мало! Ну, станете поменьше отрывать от себя для других, и все тут. Будет, будет, госпожа Бланше, милая моя матушка! Успокойтесь и не плачьте, потому что если не перестанете, я с горя помру. Увидев, что сам он не догадается и надо сказать ему всю правду, Мадлена возложила упования на господа и решилась причинить найденышу боль: ничего другого ей не оставалось.X
— Полно, полно, Франсуа, сынок, — сказала она. — Речь не об этом. Насколько я разбираюсь в делах, мой муж еще не разорился; и если бы все сводилось к боязни обеднеть, я, поверь, не огорчалась бы так сильно. Кто на работу спор — тот нищеты не боится. Но раз уж тебе надо объяснить, отчего у меня на сердце камень, знай, что господин Бланше зол на тебя и требует, чтобы ноги твоей у нас в доме не было. — Так вот оно что! — воскликнул Франсуа, вскакивая. — Пусть тогда он сразу прикончит меня — все равно мне после такого удара не жить. Да, да, пусть прикончит — я ведь знаю, я всегда ему мешал, и он хотел моей смерти. Ну, где он? Я разыщу его и спрошу: «Объясните, за что вы меня выгоняете? Может быть, я сумею ответить на ваши обвинения. А если вы и тогда будете стоять на своем, скажите это прямо, чтобы… чтобы…» Я сам не понимаю, что говорю, ей-богу, Мадлена, не понимаю; я не в себе — перед глазами туман, сердце захолонуло, голова кружится; я, наверное, помру или ума решусь. И бедный найденыш рухнул наземь, колотя себя по голове кулаками, как в тот день, когда Забелла попыталась отдать его в приют. При виде этого к Мадлене вернулось все ее мужество. Она схватила Франсуа за руки и так встряхнула, что ему поневоле пришлось выслушать ее. — Если вы безвольны и непослушны, как ребенок, — сказала она, — значит, вы не стоите моей любви, и мне стыдно, что я растила вас, как родного сына. Встаньте! Вы уже мужчина, а мужчине не к лицу вот так кататься по земле. Выслушайте меня, Франсуа, и ответьте, довольно ли у вас любви ко мне, чтобы перебороть горе и пожить какое-то время вдали от меня. Пойми, сынок, так надо ради моего спокойствия и чести, потому что иначе муж будет меня тиранить и унижать. До сих пор я держала тебя у нас из любви к тебе; теперь ты должен расстаться со мной из любви ко мне. Есть разные способы доказать свою любовь — все зависит от времени и обстоятельств. И твой долг — покинуть меня немедленно: чтобы господин Бланше не натворил глупостей, я обещала, что утром тебя уже здесь не будет. Завтра Иванов день. Иди и наймись на службу, только не слишком по соседству: если мы будем часто видеться, господин Бланше укрепится в своих подозрениях. — В каких еще подозрениях? В чем я перед ним провинился, Мадлена? Что я сделал плохого? Неужто он все еще думает, что вы вводите семью в убыток, заботясь обо мне? Но ведь это нелепо: я сам теперь член вашей семьи. Я крошки лишней не съем, гроша из дома не вынесу. Может быть, он воображает, что я беру себе свое жалованье и оно слишком велико? Тогда разрешите мне поступить так, как я собирался, и объяснить ему, что со смерти бедной моей матери Забеллы я не взял у вас ни экю, или, если вы не согласны, чтобы я ему это сказал… Да, в самом деле, узнав про это, он потребует с вас все, что вы мне не заплатили и потратили на добрые дела. Ладно, вот что я ему предложу. Я скажу, что, начиная со следующей получки, остаюсь у вас на службе бесплатно. Тогда уж он не сочтет, что я ему слишком дорого стою, и должен будет терпеть меня у себя в доме. — Нет, нет, Франсуа! — поспешно вставила Мадлена. — Это невозможно. Если ты ему это скажешь, он так разозлится на нас с тобой, что быть беде. — Но почему? — изумился Франсуа. — В чем дело? Неужто он затеял все это лишь ради удовольствия огорчить нас? — Сынок, не спрашивай, за что он злобится на тебя. Я не в силах это сказать — мне было бы слишком стыдно за него. И не ломай себе над этим голову — так будет лучше для нас всех. Могу лишь снова повторить: твой долг передо мною уйти отсюда. Ты уже взрослый и сильный, ты обойдешься без меня: на стороне ты заработаешь даже больше, потому что от меня все равно ничего не берешь. Дети всегда расстаются с матерью: все они уходят на заработки, и порой очень далеко. Вот и ты поступишь как другие, а я, как все матери, буду горевать — плакать, думать о тебе, днем и ночью молить бога, чтобы он уберег тебя от зла. — Ну, еще бы! И наймете другого слугу, который окажется плохим работником, не будет заботиться о вашем сыне и беречь ваше добро, а может быть, просто возненавидит вас, потому что господин Бланше велит ему вас не слушаться, и он примется доносить обо всех ваших добрых делах, представляя их в черном свете. И вы станете несчастной, и вас никто не утешит и не защитит, потому что рядом не будет меня. Вы решили, что если я в горе, так совсем уж и духом пал? Вы решили, что я думаю лишь о себе, да еще прибавляете, что на стороне мне будет выгодней? А я вовсе о себе не думаю. Выиграю я, проиграю ли — мне-то что? Я даже не спрашиваю себя, справлюсь или нет со своим горем. Выживу я или умру от него — это уж как богу угодно, а для меня безразлично, коль скоро мне не дают жить для вас. Меня удручает другое, с чем я никогда не примирюсь, — вам угрожает беда. Вас растопчут в свой черед: меня для того и убирают с дороги, чтобы ваши права ущемить легче было. — Если даже господь допустит это, — ответила Мадлена, — надо уметь мириться с тем, чего не отвратить. И самое главное, вы дразните судьбу, восставая против нее. Допусти, что я уже несчастна, и спроси себя, во сколько раз я стану несчастней, зная, что ты болен, наскучил жизнью и не находишь утешения. А вот если я буду уверена, что из любви ко мне ты держишься стойко, не падаешь духом и бережешь свое здоровье, это будет мне подспорьем в любых горестях. Последний довод Мадлены возымел действие. Найденыш уступил и, преклонив колени, поклялся ей, как на исповеди, изо всех сил стараться мужественно нести свое горе. — Ладно, — молвил он, утирая влажные глаза, — рано утром я уйду, а сейчас прощусь с вами, Мадлена, матушка моя! Прощусь, может быть, навсегда, потому что вы не сказали, смогу ли я видеться и говорить с вами. Если, по-вашему, такое счастье мне заказано, — молчите, не то у меня не хватит сил, чтобы жить. Пусть у меня остается надежда, что в один прекрасный день я опять повстречаю вас у этого светлого ручья, как встретил впервые одиннадцать без малого лет тому назад. С тех пор и доныне я знал в жизни одни только радости, и мой долг — не забывать, а, напротив, всегда помнить, какое счастье дали мне господь и вы: это поможет мне принять любую участь, какую завтра пошлет судьба. Сердце у меня рвется от боли и отчаяния при мысли, что я покидаю вас в несчастье и, расставаясь с вами, отнимаю у вас самого верного друга; но вы сказали, что если я не успокоюсь, вам станет еще тяжелей. Поэтому я по мере сил постараюсь утешиться, думая о вас: я слишком дорожу вашей любовью, чтобы потерять ее из-за своей слабости. Прощайте, госпожа Бланше, и позвольте мне посидеть тут одному: когда я выплачусь, мне полегчает. Если мои слезы упадут в этот ручей, вы, стирая, каждый раз будете вспоминать обо мне. Я хочу также нарвать мяты и надушить свое белье, потому что скоро увяжу свои пожитки; а пока я буду слышать этот запах, мне будет казаться, что я здесь и вижу вас. Прощайте, прощайте, милая моя матушка! В дом я не зайду. Я, конечно, мог бы расцеловать моего Жанни, и не будя его, да, боюсь, не выдержу. Поцелуйте его, пожалуйста, за меня, а чтобы он не плакал, скажите ему завтра, что я скоро вернусь, — в ожидании он малость забудет обо мне; но потом говорите с ним иногда о бедном Франсуа, чтобы он не забыл меня начисто. Благословите меня, Мадлена, как в день первого моего причастия. Мне это нужно, чтобы со мной пребывала благодать божья. И бедный найденыш, вновь опустившись на колени, попросил Мадлену простить его, если он когда-нибудь невольно обидел ее. Мадлена поклялась, что ей не за что его прощать, и дала ему благословение, пожелав, чтобы оно, равно как и благодать божья, всегда сопутствовало Франсуа. — Ну, а теперь, — закончил он, — когда я опять стал найденышем и любить меня больше некому, окажите мне ту же милость, что в день первого причастия, и обнимите меня. Мне нужно, чтобы все это запечатлелось у меня в памяти и я всегда был уверен, что в душе вы по-прежнему считаете себя моей матерью. Мадлена обняла найденыша с таким же чистым чувством, как в дни его детства. Но если бы люди увидели ее в эту минуту, они бы оправдали злобствования господина Бланше и осудили честную женщину, которая не помышляла ни о чем дурном и поступок которой не сочла бы грехом сама дева Мария.— Я тоже, — вставила служанка кюре. — А я и подавно, — подхватил коноплянщик и стал рассказывать дальше.
Мадлена вернулась домой и всю ночь не сомкнула глаз. Она слышала, как Франсуа, возвратившись, складывал пожитки в соседней комнате; слышала она также, как с первым светом он ушел. Но пока он не удалился от дома, она не шелохнулась, чтобы им не овладела слабость; когда же мельничиха услышала, как он шагает по мостику, она украдкой быстро приоткрыла дверь и в последний раз взглянула на него. Она видела, как он остановился и окинул взором реку и мельницу, словно прощаясь с ними. Затем, сорвав тополевый листок и прикрепив его к шляпе, как в обычае у тех, кто идет наниматься, — это знак, что они ищут места, — он быстро пошел прочь. Мэтр Бланше явился к полудню, но не сказал жене ни слова, пока та не объявила: — Ну что ж, идите искать другого работника. Франсуа ушел, и слуги у вас больше нет. — Ладно, жена, сейчас пойду, — ответил Бланше. — Но предупреждаю — на молодого не рассчитывайте. Вот так-то он отблагодарил Мадлену за послушание, и это настолько задело ее, что она не смолчала. — Каде Бланше, — молвила она, — я подчинилась вам и беспричинно уволила доброго человека, о чем — не стану скрывать — всей душой сожалею. Благодарности я от вас не жду, но, в свой черед, требую: не оскорбляйте меня — я этого не заслужила. Она сказала это так, как никогда еще не говорила с Бланше, и слова ее возымели действие. — Полно, жена! — ответил он, протягивая ей руку. — Помиримся и забудем об этой истории. Я, может быть, малость погорячился, но у меня были причины остерегаться этого парня. Все найденыши — дети дьявола, и он всегда за ними стоит. Если даже они в чем-нибудь одном хороши, то уж в остальном сущие негодяи. Вот и я знаю, что вряд ли найду второго такого работящего батрака; но дьявол, а он заботливый отец, уже подстрекает его к распутству, и мне знакома одна женщина, которая на это жаловалась. — Эта женщина — не ваша жена, — возразила Мадлена, — и, возможно, лжет. А если и нет, меня вам все равно негоже подозревать. — Да разве я тебя подозреваю? — пожал плечами Бланше. — Зуб у меня был только против него, и теперь, когда он убрался, я думать об этом и то перестал. А если я сказал тебе что-нибудь обидное, считай, что я пошутил. — Такие шутки мне не по вкусу, — отрезала Мадлена. — Приберегите их для тех, кому они нравятся.
XI
На первых порах Мадлена Бланше довольно стойко переносила свое несчастье. Новый работник, повстречавший Франсуа в день найма, рассказал ей, что найденыш за восемнадцать пистолей в год порядился с одним земледельцем из-под Эгюранда, у которого была большая мельница и порядочный надел. Мадлена обрадовалась, что Франсуа нашел хорошее место, и принудила себя, не поддаваясь горю, взяться за обычные дела. Но печаль оказалась сильнее: у мельничихи исподволь началась лихорадка, незаметно подтачивавшая ее. Франсуа был прав, когда говорил, что его уход отнимет у нее самого верного друга. Ей стало тоскливо вечно быть одной, когда не с кем даже словом перемолвиться. Поэтому она теперь еще пуще холила своего сынишку Жанни — тот и впрямь был славный мальчуган, кроткий, как ягненок. Но он был слишком мал и не способен понять то, чем она могла поделиться с Франсуа, а кроме того, не столь заботлив и внимателен к ней, как найденыш в его годы. Конечно, Жанни любил ее, и даже сильнее, чем обычно любят дети, потому что такую мать, как Мадлена, не каждый день встретишь. Но он не восторгался ею и не пекся о ней так, как Франсуа. Ее неизменная любовь и ласки казались ему чем-то само собой разумеющимся. Он считал, что имеет на это право, и пользовался этим как законным достоянием, тогда как найденыш был так признателен за малейший знак внимания, так старался отблагодарить за него всеми своими поступками и словами, так смотрел на Мадлену, так краснел и плакал, что при нем она забывала о своем неудачном браке, в котором не знала ни отдыха, ни любви, ни утешения. Вновь оставшись одна, мельничиха опять стала думать о том, как она несчастна, и перебирать в уме горести, остроту которых смягчали ей присутствие и любовь найденыша. Теперь больше некому было почитать вместе с ней, побеспокоиться о впавших в нужду ближних, слиться в единой молитве или хотя бы изредка отвести душу в шутках, пристойных, беззлобных и веселых. Все, что бы она ни видела и ни делала, утратило для нее всякий интерес и лишь растравляло в ней воспоминания о тех временах, когда рядом с ней был добрый ее друг, спокойный и преданный. Куда бы она ни шла — на виноградник, в сад, на мельницу, — нигде не было даже пяди земли, которой она не исходила бы тысячи раз с этим ребенком, цеплявшимся за ее юбки, или с этим неутомимым, неизменно заботливым слугой. Ей казалось, что она потеряла сына, замечательного сына, подававшего большие надежды, и как ни дорог был ей тот, что у нее остался, она не знала, куда истратить половину своей любви. Видя, как чахнет Мадлена, какой тоскливый и грустный у нее вид, муж ее почувствовал к ней жалость и испугался, как бы она не слегла: ему вовсе не хотелось ее терять, потому что она содержала его добро в порядке, да еще восполняла то, что он проматывал. Севера не позволяла ему подолгу уходить к себе на мельницу, и он понимал, что без Мадлены там все живо пойдет прахом; поэтому, по привычке выговаривая жене и жалуясь на ее расточительность, Бланше отнюдь не рассчитывал ни на что лучшее с чьей бы то ни было стороны. И вот Бланше задумал найти женщину, которая бы ухаживала за его женой и составила ей компанию, а тут как раз умер его дядя, опекун его сестер, и младшая из них свалилась мельнику на шею. Сперва он подумывал, не поселить ли ее у Северы, но родня пристыдила его; к тому же, когда Севера увидела, что девочка, которой шел уже пятнадцатый год, обещает стать красавицей, ей сразу расхотелось попользоваться выгодами опекунства, и она предупредила Бланше, что, на ее взгляд, заботиться о юной особе и присматривать за ней — дело слишком рискованное. По этой причине Бланше, считая небезвыгодным взять под опеку сестру, которую вырастивший ее дядя не обошел в завещании, и остерегаясь препоручить ее кому-нибудь из родни, привез девушку на мельницу и велел жене видеть в ней сестру и подругу, научить ее работать в поле и по хозяйству, но все это сделать так, чтобы не слишком обременять ее и не пробудить в ней желание сменить место жительства. Мадлена осталась вполне довольна таким устройством семейных дел. Мариэтта Бланше приглянулась ей прежде всего тем, что отпугнуло Северу, — своей красотой. Полагая, что прекрасное лицо — неразлучный спутник здравого ума и доброго сердца, она встретила девочку не как сестру, а скорее как дочь, которая, может быть, заменит ей бедного Франсуа. Тем временем бедный Франсуа силился терпеливо нести бремя горя, но ему это удавалось плохо, потому что никогда еще на плечи мальчика и даже мужчины не ложился груз тяжелее. Для начала найденыш занемог, и хворь, пожалуй, оказалась для него счастьем, потому что помогла ему убедиться в добросердечии новых хозяев: те не отправили его в больницу, а оставили у себя и заботливо за ним ухаживали. Этот мельник был совсем не то, что Каде Бланше, а дочь его, еще не пристроенная в свои тридцать с лишним лет, славилась примерным поведением и благотворительностью. К тому же эти люди, несмотря на болезнь Франсуа, сразу увидели, что он для них — сущая находка. Он был так крепко и ладно скроен, что совладал с недугом быстрей, чем любой другой на его месте, и, хотя взялся за работу еще до того, как окончательно оправился, не слег от этого вторично. Его мучила совесть: ему не терпелось наверстать упущенное и отблагодарить хозяев за доброту. Однако недомогал он еще месяца два с лишним и по утрам, принимаясь за дело, чувствовал во всем теле такую ломоту, словно с крыши свалился. Но за работой он мало-помалу разогревался и никому не рассказывал, как трудно ему к ней приступать. Хозяева были настолько им довольны, что вскоре доверили ему многое такое, что не входило в его обязанности. Очень пригодилось Франсуа и то, что он знал грамоте: ему поручили вести счета, с чем раньше никто на мельнице не справлялся, отчего в делах нередко получалась путаница. Словом, несмотря на горе, он вел себя как нельзя более разумно; а так как из осторожности Франсуа не болтал о том, что он найденыш, никто и не попрекал его безродством. Но ни хорошее обхождение, ни дела, ни хворь не помогли ему забыть Мадлену, маленького Жанни, милую мельницу в Кормуэ и кладбище, где покоилась Забелла. Сердцем он был всегда с ними и по воскресеньям целый день витал мечтами вдали, вовсе не отдыхая после недельных трудов. От родных мест его отделяли целых шесть лье, так что вестей оттуда он не получал. Сперва он надеялся притерпеться к этому, но беспокойство так томило его, что он стал придумывать разные способы, чтобы хоть раз-другой за год узнать, как живется Мадлене, — ходил по ярмаркам, высматривал земляков и, встретив кого-нибудь, заводил разговор о прежних своих знакомцах, но осторожности ради начинал с тех, до кого ему было мало дела, и лишь потом доходил до Мадлены, занимавшей все его мысли; таким манером ему удавалось кое-что выведать о ней и ее семье.— Однако час уже поздний, господа честные, — я сам над своим рассказом носом клюю. До завтра — тогда, если захотите, доскажу остальное. Доброй ночи всей компании! Коноплянщик отправился на боковую, арендатор же зажег фонарь и проводил матушку Монику до самого дома кюре — женщина она была пожилая, и зрение у ней начинало сдавать.
XII
На другой день все мы вновь сошлись на ферме, и коноплянщик продолжил рассказ. — Уже три года Франсуа жил в этом Эгюранде, недалеко от Вильширона, на хорошей мельнице, которая называется не то Верхней, не то Нижней, не то Средней Шампо — в этих краях, как и в наших, название Шампо очень в ходу. Я раза два на ней бывал. Прекрасный, благодатный край! Крестьяне живут там побогаче наших, одеваются чище, и дома у них лучше; они больше занимаются торговлей, и хотя земля у них не такая тучная, доход от нее куда значительней. Местность там, однако, ужасно неровная. Везде скалы, на каждом шагу вымытые реками овраги. Но все равно там очень красиво и приятно. Деревья густые, развесистые; в обеих Крёзах с притоками, а их немало, вода чистая, словно с гор. Мельницы там покрупней наших, а та, на которой служил Франсуа, была одной из самых лучших и мощных. Как-то зимой владелец ее, а звался он Жан Верто, сказал ему: — Франсуа, слуга мой и друг, нужно мне кой о чем с тобой потолковать, и ты уж изволь выслушать меня повнимательней. Мы с тобой знакомы не первый день, и признаюсь открыто: если дела мои пошли на лад, мельница процветает и сам я других мельников за пояс заткнул, одним словом, если я приумножил свое достояние, то это твоя заслуга. Ты работал на меня не как слуга, а как друг и родня. Ты соблюдал мою выгоду, как свою собственную. Ты распоряжался моим добром так, как мне вовек не распорядиться, и доказал, что ты грамотней и разумней, чем я. Бог сотворил меня доверчивым, и я вечно был бы обманут, не присматривай ты за всем и вся. Те, кто употреблял мою доброту во зло, пытались поднять голос против тебя, но ты не сробел и за все держал ответ только сам, из-за чего не раз подвергал себя опасностям, от которых тебя всегда уберегали твое мужество и учтивое обхождение. Сердце у тебя под стать голове и рукам — это мне в тебе и нравится. Ты не скаред, но любишь порядок. В обман, как я, не даешься, но, как и я, всегда готов помочь ближнему. Если уж кто впрямь оказывался в нужде, ты первый советовал мне быть с ним повеликодушней. Если же кто лишь прикидывался бедняком, ты всегда успевал меня насторожить. Кроме того, для крестьянина ты человек ученый. У тебя и разум и выдумка есть. Что ты ни задумаешь, все удается; за что бы ни взялся, все идет на лад. Так вот, я доволен тобой, и мне желательно, чтобы ты тоже был доволен. Поэтому признайся откровенно, чего ты от меня хочешь, и тебе ни в чем отказа не будет. — Не понимаю, с какой стати вы об этом спрашиваете, хозяин, — ответил Франсуа. — Добро бы вам показалось, что я чем-то недоволен, но ведь этого нет, можете не сомневаться. — Я не говорю, что ты недоволен. Но у тебя такой вид, какого у счастливых людей не бывает. Ты вечно грустный, никогда не смеешься, даже повеселиться не хочешь. Ты такой тихий, словно траур носишь. — И вы осуждаете меня за это, хозяин? Но тут я не могу вам потрафить, потому как выпивки и танцев не люблю, в кабак и на посиделки не хожу, песен и прибауток не знаю. Мне по душе лишь то, что не мешает мне исполнять свой долг. — За это ты заслуживаешь только уважения, и не мне тебя осуждать, сынок. А заговорил я об этом лишь потому, что, сдается мне, у тебя что-то есть на душе. Может быть, ты считаешь, что слишком много работаешь тут на других, а тебе самому от этого мало проку? — Напрасно вы так думаете, хозяин. Платите вы мне столько, что больше и желать нельзя; пожалуй, нигде, кроме как у вас, я не получал бы такого жалованья. Положили вы мне его по доброй воле, без всяких моих просьб. К тому же, каждый год даете мне прибавку, и с последнего Иванова дня назначили мне целых сто экю, а это для вас немалые деньги. Поверьте, я охотно от них откажусь, если вам трудно платить.XIII
— Погоди, погоди, Франсуа, мы с тобой друг друга не поняли, — перебил его мэтр Жан Верто, — Я просто ума не приложу, с какого боку к тебе подступиться. Ты вроде не глуп, и я уже думал, что развязал тебе язык; но раз ты такой застенчивый, помогу-ка я тебе еще раз. Тебе в наших краях какая-нибудь девушка приглянулась? — Нет, хозяин, — откровенно признался найденыш. — Правда? — Честное слово. — И ты не присмотрел ни одной, которая пришлась бы тебе по сердцу, имей ты довольно средств, чтобы к ней посвататься? — Я жениться не собираюсь. — Скажешь тоже! Не зарекайся — ты еще слишком молод. А, кстати, почему не собираешься? — Почему? — переспросил Франсуа. — А вам это так важно знать, хозяин? — Может, и важно: ты не безразличен мне. — Тогда скажу — у меня нет причин таиться. Я не знал ни отца, ни матери. И вот еще что… Я об этом вам не говорил — не приходилось, но если бы вы меня спросили, лгать бы не стал. Я найденыш, приютский. — Вот те на! — воскликнул Жан Верто, чуть озадаченный таким признанием. — Никогда бы не подумал! — Почему не подумали бы?.. Молчите, хозяин? Хорошо, я отвечу за вас. Да потому, что знаете меня за честного человека и удивляетесь, как найденыш может им быть. Выходит, это правда, что люди не доверяют найденышам и всегда что-то против них имеют? Это несправедливо и бесчеловечно, но это так, и с этим приходится мириться, раз даже самое доброе сердце не свободно от таких предубеждений, и вы, например… — Нет, нет, — спохватился хозяин, потому что был человек справедливый и всегда готовый отбросить дурную мысль, — я люблю справедливость, а ежели на минуту о ней забыл, ты меня прости — это уже прошло. Словом, ты считаешь себя не вправе жениться, потому что ты найденыш? — Не в этом суть, хозяин: такая помеха меня мало беспокоит. У каждой женщины свой нрав; у иной такое доброе сердце, что я своим безродством ей пуще по душе придусь. — А ведь и вправду! — согласился Жан Верто. — Женщины-то лучше нас… К тому же, — рассмеялся он, — такому видному парню, как ты, молодому, здоровому и душой и телом, нетрудно в них доброту пробудить. Но в чем же все-таки суть? — Послушайте, — начал Франсуа, — меня взяла из приюта и вскормила женщина, которой я не знал. После ее смерти меня подобрала другая, в расчете на те гроши, которые государство выдает на таких, как я; но она была добра ко мне, и, потеряв ее, я никогда б не утешился, не помоги мне еще одна женщина, оказавшаяся самой лучшей из трех; я так привязался к ней, что хочу жить лишь для нее и никого больше. Однако мне пришлось с ней расстаться, и мы, может быть, не увидимся. Она женщина состоятельная, и я ей вряд ли понадоблюсь. Но может случиться и так, что ее муж — а я слышал, он с осени хворает и просадил бог весть на что кучу денег — скоро помрет и оставит ей больше долгов, чем добра. Не скрою от вас, хозяин: если так получится, я вернусь туда, где она живет, и у меня будет одно желание, одна забота — помочь ей с сыном и не дать им впасть в нищету. Вот почему я не возьму никаких обязательств, которые могли бы задержать меня тут. У вас я должен отработать год, брак же свяжет меня на всю жизнь. К тому же он для меня — слишком тяжелое бремя. Почем знать, управлюсь ли я зарабатывать на два дома, если обзаведусь женой и детьми? Неизвестно мне и еще одно: вправе ли буду я, если мне, паче чаяния, попадется жена с приданым, лишать достатка свою семью и делиться с другой. Вот почему я решил остаться холостяком. Ямолод, время у меня есть, а уж если взбредет мне в голову страстишка, я сделаю все, чтобы ее оттуда выбросить, потому как для меня существует одна женщина — моя мать Мадлена, которая не посмотрела на то, что я найденыш, и растила меня как родного сына. — Ну что ж, друг мой, то, что ты мне рассказал, лишь укрепляет меня в уважении к тебе, — ответил Жан Верто. — Нет ничего гаже неблагодарности, нет ничего прекрасней, чем памятливость на добро. Хотел я тебе доказать, что ты мог бы жениться на одной молодой женщине — сердце у ней твоему под стать, и она помогла бы тебе поддержать твою старуху, но на этот счет мне раньше нужно кой с кем потолковать и посоветоваться. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы догадаться, что Жан Верто, человек добросердечный и рассудительный, задумал женить Франсуа на своей дочери. Девушка эта была хоть и старше Франсуа, но совсем не дурнушка, а разницу в годах вполне могли сгладить ее экю — их у нее хватало. Она была единственная дочь, словом — выгодная партия. Однако до сих пор она твердо держалась решения не выходить замуж, что сильно огорчало ее отца. А так как мельник уже давно приметил, насколько высоко ценит она Франсуа, он как-то раз завел речь о нем с дочерью, но она была человек сдержанный, и отцу долго не удавалось вытянуть у нее признание. Наконец, не сказав ни да ни нет, она согласилась, чтобы он порасспросил Франсуа о его видах на такой брак, и сейчас ожидала ответа с чуть большим нетерпением, чем ей хотелось показать. Жан Верто тоже был бы не прочь вернуться к ней с благоприятным ответом, и прежде всего потому, что он давно мечтал ее пристроить; кроме того, зятя лучше, чем Франсуа, и желать не приходилось. Не говоря уже о дружеских чувствах, которыми мельник проникся к этому парню, он отлично понимал, что тому, хоть он и пришел к ним полунищим, при его сметливости, проворстве в работе и примерном поведении цены как семьянину не будет. Узнав, что их работник — найденыш, девушка несколько огорчилась: она была из гордых. Однако она быстро с этим примирилась, а когда услышала, что Франсуа и слышать о любви не хочет, он еще больше пришелся ей по сердцу. Недоступность — лучшая приманка для женщины, и если бы даже Франсуа задумал пойти на хитрость, чтобы заставить забыть о своем безродстве, он и тогда не измыслил бы уловки удачней, чем выказать отвращение к браку. Одним словом, теперь Жаннета Верто остановила свой выбор на Франсуа еще тверже, чем раньше. — Только и всего? — ответила она отцу. — Неужто он полагает, что у нас не хватит доброты и денег, чтобы помочь старой женщине и пристроить ее сына? Сдается мне, он просто не понял, на что вы намекали ему, отец: знай он, что ему предстоит войти в нашу семью, его не мучили бы такие опасения. В тот же вечер, после работы, Жаннета Верто заговорила с Франсуа: — Я всегда уважала вас, Франсуа, а теперь уважаю еще больше: отец рассказал мне, как вы привязаны к вырастившей вас женщине, на которую решили работать всю жизнь. Ну что ж, вы в своих чувствах хозяин… Я хотела бы познакомиться с нею и при случае быть ей полезной: раз вы к ней так привязаны, значит, она хорошая. — О да! — подтвердил Франсуа, которому всегда было приятно поговорить о Мадлене. — У этой женщины на уме только хорошее — совсем как у вас и вашего отца. Слова его обрадовали дочь Жана Верто, разом решившую, что она добилась своего. — Тогда, — сказала она, — если с ней, как вы опасаетесь, стрясется беда, я не прочь, чтобы она перебралась к нам. Я помогла бы вам ходить за ней. Она ведь, кажется, уже немолодая? И одряхлела, наверно? — Одряхлела? Нет, — возразил Франсуа. — У ней годы не те, чтобы дряхлеть. — Значит, она еще молодая? — насторожилась Жаннета Верто. — Да нет, совсем не молодая, — простодушно молвил Франсуа. — Не помню, сколько ей теперь лет. Она была мне как мать, и я не задумывался, какого она возраста. — Эта женщина была хороша? — осведомилась Жанетта, чуточку поколебавшись, прежде чем задать вопрос. — Хороша? — несколько удивленно переспросил Франсуа. — Вы хотите сказать — хороша собой? Для меня она всегда хороша, какая ни есть; но, по чести сказать, я об этом не думал. Моя привязанность к ней от этого не зависит. Будь она уродливей самого черта, я и то бы не заметил. — Но можете вы хоть примерно прикинуть, сколько ей сейчас? — Минутку! Ее мальчику на пять лет меньше, чем мне. Так вот, она женщина не старая, но и не молодая, ей примерно… — Сколько мне? — чуточку натянуто рассмеялась Жаннета. — В таком случае, овдовев, ей уже поздно снова выходить замуж, правда? — Там видно будет, — ответил Франсуа. — Если ее муж не проест все их добро и у ней кое-что останется, женихи найдутся. Есть ведь такие, что за деньги и двоюродную бабушку и внучатую племянницу возьмут. — А вы не уважаете тех, кто женится на деньгах? — Во всяком случае, это не для меня, — ответил Франсуа. Найденыш был простодушен, однако ж не настолько, чтобы не понять, на что ему намекают, и ответные слова его были сказаны не без значения. Но Жаннета перетолковала их по-своему и еще больше влюбилась в него. За нею ухаживали многие, но она до сих пор не удостоила вниманием ни одного поклонника. Первым, кто пришелся ей по душе, оказался тот, кто повернулся к ней спиной: так уж ловко у женщин голова устроена. В следующие дни Франсуа не раз замечал, что Жаннета чем-то озабочена, почти не ест и не сводит с него глаз, когда ей кажется, что он смотрит не на нее. Такие причуды девушки опечалили найденыша. Он очень уважал Жаннету за доброту и понимал, что своим равнодушием лишь пуще влюбляет ее в себя. Но она ему не нравилась, и если бы он даже взял ее замуж, то не по любви, а только по расчету или из чувства долга. Это навело Франсуа на мысль, что у Жана Верто он не заживется, — рано или поздно дело все равно кончится огорчениями или неприятностью. Но тут с ним случилось нечто столь непредвиденное, что все его намерения чуть-чуть не переменились.XIV
Как-то утром, словно прогуливаясь, на мельницу Жана Верто заглянул господин кюре из Эгюранда и некоторое время крутился в доме, пока не перехватил Франсуа в одном из уголков сада. Там, напустив на себя таинственный вид, он осведомился, действительно ли найденыша зовут Франсуа Фрез[524] — в мэрии, куда его младенцем приносили регистрировать, ему, как безродному, дали эту фамилию из-за родимого пятна на левом плече. Кюре поинтересовался также, сколько ему точно лет, как звали женщину, которая выкормила его, в каких по порядку местах ему пришлось жить, словом, выспросил все, что тот мог знать о своем происхождении и жизни. Франсуа сбегал за своими бумагами, и кюре остался ими вполне доволен. — Прекрасно! — заявил он. — Приходите ко мне нынче вечером или завтра, но смотрите, чтобы никто не знал о нашем разговоре: мне запрещено разглашать то, что я вам сообщу, и для меня это дело совести. Когда Франсуа явился домой к господину кюре, тот запер двери, вынул из шкафа четыре бумажки и начал: — Франсуа Фрез, вот вам четыре тысячи франков от вашей матушки. Я не вправе сказать вам, ни как ее зовут, ни где она живет, ни жива она сейчас или мертва. Она вспомнила о вас из благочестивых побуждений, но, как мне кажется, намеревалась сделать это уже давно — недаром она сумела разыскать вас, хотя живет далеко отсюда. Ей известно, что вы — честный малый, и она посылает вам эти деньги на обзаведение с условием, что в течение полугода, начиная с нынешнего дня, вы не скажете о ее даре никому, кроме женщины, которую захотите взять в жены. Она поручила мне посоветоваться с вами, вложить ли эти деньги в какое-нибудь дело или отдать на хранение под проценты, и для соблюдения тайны попросила меня, если понадобится, совершить сделку от моего имени. Я распоряжусь деньгами, как вы пожелаете, но мне велено выдать их вам лишь под обещание не говорить и не предпринимать ничего такого, что могло бы привести к огласке. Всем известно, что на ваше слово можно положиться; готовы ли вы его дать? Франсуа дал клятву и оставил деньги у господина кюре, попросив его поместить их по своему усмотрению. Он знал, что это воистину добрый пастырь, а священники ведь как женщины — либо совсем хороши, либо совсем уж плохи. Домой найденыш возвратился скорее грустный, чем радостный. Он думал о матери и охотно отдал бы все эти четыре тысячи франков, лишь бы увидеть ее и обнять. Но он твердил себе, что она всего вероятней недавно скончалась, а дар ее — одно из тех распоряжений, которые делаются на смертном одре; и от этого ему становилось еще грустней, потому что он был лишен даже права надеть траур по ней и заказать мессу за упокой ее души. Но, жива она была или мертва, Франсуа все равно молил бога простить ей брошенного ребенка, как сам этот ребенок от всего сердца прощает ее и просит отпустить ему его собственные грехи. Он всячески старался скрыть свои чувства, но больше двух недель, садясь за еду, казался таким задумчивым, что отец и дочь Верто только диву давались. — Нет, этот малый свои мысли про себя держит, — повторял мельник. — Наверное, у него все-таки любовь на уме. «Уж не ко мне ли? — думала девушка. — Сам он ни за что не признается — слишком щепетильный. Боится, как бы его не заподозрили в склонности не ко мне, а к моему богатству; вот и старается утаить от всех, что его гнетет». И тут, вбив себе в голову, что Франсуа надо приручить, она так старательно принялась осыпать его ласковыми словами и взглядами, что найденыш, как ни был он поглощен своими грустными мыслями, чуточку заколебался. Бывали минуты, когда он говорил себе, что теперь, став достаточно богат, чтобы помочь Мадлене в случае несчастья, он вполне мог бы жениться на девушке, которой не нужно его состояние. Он ни в кого не был влюблен, но видел достоинства Жаннеты Верто и опасался, что его сочтут неблагодарным, если он не ответит ей взаимностью. Подчас ему тяжело было смотреть, как она грустит, и хотелось ее утешить. Но тут он неожиданно поехал по хозяйским делам в Греван, где встретил дорожного смотрителя из-под Преля, и тот сообщил ему о смерти Каде Бланше, прибавив, что мельник оставил дела в полном беспорядке и один бог знает, удастся ли вдове распутаться с ними. У Франсуа не было оснований ни любить, ни оплакивать мэтра Бланше. И все-таки, услыхав о его кончине, он оказался настолько христианином, что глаза у него увлажнились, голова отяжелела и он чуть не разрыдался, но лишь потому, что подумал о Мадлене, которая оплакивает сейчас мужа, простив ему все и помня лишь одно — что он был отцом ее ребенка. Печаль Мадлены нашла отклик в душе найденыша и побуждала его пролить слезу о ее горе. Ему захотелось тут же вскочить в седло и помчаться к ней, но он сообразил, что должен спросить разрешения у хозяина.XV
— Хозяин, — сказал найденыш Жану Верто, — я должен на время отлучиться, только вот не знаю — надолго ли. У меня есть дело там, где я служил раньше, и я прошу вас отпустить меня по доброй воле, потому что, по правде сказать, все равно уеду, даже если вы не согласитесь. Извините, что говорю начистоту. Мне будет очень горько, если вы рассердитесь; поэтому, в благодарность за услуги, которые я сумел вам оказать, прошу об одном — не обижайтесь и простите меня за то, что я бросаю работу у вас. Если я не пригожусь там, куда еду, то, может статься, вернусь к концу недели. Но не хочу вас обманывать; может статься, что я возвращусь через год, а то и вовсе не возвращусь. Однако если у вас без меня что-нибудь не заладится, я непременно постараюсь приехать и помочь вам. И до отъезда я подыщу вам хорошего работника на замену, а если его трудно будет уговорить, целиком отдам ему жалованье, которое причитается мне с последнего Иванова дня. Таким манером все образуется без ущерба для вас, и вы сможете пожать мне руку, пожелать удачи и облегчить тем самым расставание с вами. Жан Верто отлично знал, что найденыш не часто дает волю своим желаниям, но уж если чего-нибудь добивается, то так настойчиво, что ни бог, ни дьявол ему не помеха. — Будь по-твоему, сынок, — ответил он, протягивая руку. — Не стану врать: меня это не радует, но я на все согласен, лишь бы с тобой не ссориться. Весь следующий день Франсуа потратил на то, чтобы подыскать себе замену, и нашел усердного, честного парня, который только что уволился из армии и очень обрадовался месту с хорошим жалованьем у такого хорошего хозяина, каким слыл Жан Верто, никогда никого не обижавший. Уехать Франсуа собирался на рассвете, а перед ужином решил проститься с Жаннетой Верто. Она сидела у дверей амбара, предупредив дома, что у нее разболелась голова и есть ей не хочется. Найденыш заметил, что глаза у нее заплаканные, и это его расстроило. Он не знал, как завести речь о том, что он от всей души благодарен ей за доброту, но ему тем не менее придется уехать. Он уселся на лежавший рядом ствол ольхи и попытался заговорить, но так и не нашел подходящих слов. Наконец девушка, которая наблюдала за ним, хотя и смотрела в другую сторону, поднесла к глазам платок. Франсуа протянул было руку, словно собираясь коснуться руки Жаннеты и подбодрить ее, но тут же спохватился: он ведь не может с чистой совестью сказать то, что ей хочется услышать. И когда бедная Жаннета увидела, что из него слова не выжмешь, она устыдилась своего горя, встала и, ничем не выдав обиды, ушла в глубь амбара, чтобы выплакаться. Она пробыла там некоторое время, в надежде, что Франсуа заглянет туда и скажет ей все-таки несколько добрых слов, но он поостерегся это сделать и пошел ужинать, все такой же грустный и молчаливый. Было бы неправдой утверждать, что он остался совсем безучастен к ее слезам. Сердце у него изрядно ныло, и он подумал, что, наверно, был бы счастлив с этой женщиной: у нее такая добрая слава, она так тянется к нему, да и приласкать ее совсем не противно. Но он отогнал эти мысли, вспомнив, что Мадлене сейчас, вероятно, нужен друг, советчик и слуга, а ведь когда он был всего лишь жалким маленьким оборвышем, снедаемым лихорадкой, никто на свете не вытерпел, не работал и не страдал ради него больше, чем Мадлена. «Хватит, Франсуа! — сказал он себе, проснувшись еще затемно. — Любовь, богатство, покой — все это не для тебя. Конечно, тебе тоже хотелось бы забыть, что ты найденыш, и поставить на прошлом крест, как делают многие, кто пользуется минутой и не любит оглядываться назад. Но в мыслях у тебя всегда Мадлена Бланше, и она напоминает тебе: «Остерегайся стать забывчивым и подумай, сколько я для тебя сделала». Итак, в путь, и да пошлет вам господь, Жаннета, поклонника полюбезней, чем ваш работник!» Так думал он, проходя под окном своей доброй хозяйки, и, будь сейчас другое время года, положил бы ей на окно цветок или веточку в знак прощания; но крещение минуло только вчера, землю покрывал снег, и на деревьях не было ни листочка, а в траве — даже самой плохонькой фиалки. Найденыш подумал, не завязать ли в уголок платка боб, который достался ему накануне, когда резали пирог, а платок этот прикрепить к раме Жаннетиного окна, с целью намекнуть ей, что он избрал бы ее своей королевой, если бы она вышла к ужину. «Боб — безделица, — сказал он себе, — а все-таки маленький знак учтивости и внимания, которым я как бы извинюсь за то, что не простился с нею как следует». Но тут же какой-то внутренний голос отсоветовал ему приносить этот дар: мужчине не к лицу вести себя как девушке, жаждущей, чтобы ее любили, думали о ней и томились по ней, хотя сама она отнюдь не собирается отвечать взаимностью. «Нет, нет, — решил Франсуа, — нужно твердо знать, чего хочешь; решил забыть сам, сделай так, чтоб и тебя забыли». Тут он прибавил ходу и не успел отойти от мельницы Жана Верто на два ружейных выстрела, как ему показалось, что перед ним Мадлена, и он слышит слабый, зовущий на помощь голос. Этот образ вел его вперед, и он представлял себе, что уже видит высокую рябину, ручей, луг Бланше, шлюз, мостки и бегущего ему навстречу Жанни; от Жаннеты же Верто не осталось даже воспоминания, ничего, что уцепилось бы за блузу найденыша и замедлило бы его шаг. А шел он так ходко, что не замечал холода и подумал о еде, питье и отдыхе не прежде, чем свернул с шоссе и достиг у Плесси распятия, стоящего на обочине прельской дороги. Там найденыш преклонил колени и поцеловал деревянный крест с тем чувством, с каким христианин встречает давнего знакомца. Затем он спустился по откосу, который, не будь он широк, как поле, можно было бы принять за дорогу; это, без сомнения, самый красивый общинный участок на свете — просторный, привольный, с великолепным видом, но такой крутой, что в гололедицу по нему даже на волах можно съехать быстрее, чем на почтовых, и внизу неожиданно угодить головой в речку. Франсуа, знавший об этом, несколько раз предусмотрительно сбрасывал с ног сабо и спустился к мостику, так и не шлепнувшись наземь. Обогнув Монтипурэ справа, он не преминул на прощание полюбоваться большой старинной колокольней, всеобщим другом местных жителей: она — первое, что они видят, возвращаясь в родные края, и она же выводит путника из затруднения, если он сбивается с дороги. Что касается дорог, то о них я не скажу худого слова — такие они там веселые, зеленые и приветливые в жаркую погоду. На некоторых вам даже не грозит солнечный удар, но именно они и есть самые коварные: по ним, направляясь в Анжибо, можно угодить в Рим. К счастью, славная колокольня в Монтипурэ всегда на виду, и ее верхушка, сверкающая перед вами на севере и заметная сквозь любой просвет в листве, великодушно сообщает вам, куда вы заворачиваете — к закату или к восходу. Но найденыш в маяке не нуждался. Он так хорошо знал все обходы, тупики, дорожки, тропинки, тропки и даже лазейки в живых изгородях, что в самую темную ночь отыскал бы там, словно голубь в небе, наикратчайшую дорогу. Уже приближался полдень, когда Франсуа сквозь нагие ветви завидел кровлю мельницы в Кормуэ и обрадовался, что над ней поднимается синий дымок: значит, в доме не одни мыши остались. Сокращая путь, найденыш обогнул луг Бланше поверху и оставил ручей в стороне; но так как на деревьях и кустах не было листвы, он увидел, как блестит на солнце вода, — она ведь там никогда не замерзает, потому что бьет из-под земли. Зато вокруг мельницы все замерзло, и было так скользко, что спуск с откоса и переход через речку по камням требовал немалой ловкости. Увидел Франсуа и потемневшее от времени и воды мельничное колесо, с лопастей которого свисали длинные и тонкие, как иглы, сосульки. Однако деревья вокруг дома сильно поредели, да и вся местность изрядно изменилась. Долги покойного Бланше позволили топору погулять здесь: там и сям виднелись свежесрубленные ольховые пни, красные, как кровь доброго христианина. Дом снаружи тоже обветшал: крыша почти всюду прохудилась, печная труба выкрошилась от стужи. И вот что самое печальное — жилище казалось вымершим. Нигде ни души — ни человека, ни животного; только серая собачонка с черно-белыми подпалинами, одна из тех жалких деревенских дворняг, которых именуют Волчками и Каштанками, выглянула из сеней и затявкала на найденыша, но тут же притихла и подползла к его ногам. — Эге, да ты узнал меня, Лабриш! — изумился Франсуа. — А я бы тебя не смог — так ты постарел и отощал. Вон как ребра у тебя вылезли да шерсть повытерлась! Франсуа разговаривал с собакой и разглядывал ее, а на душе у него было тревожно, и он словно оттягивал миг, когда придется войти в дом. До последней минуты он изо всех сил торопился, но теперь ему стало страшно: он боялся, что не встретит Мадлену, что она уехала, что умер не ее муж, а она сама, что известие о кончине мельника окажется ложным, — словом, его снедали все то опасения, которые лезут в голову, когда приближаешься к тому, чего хочешь сильнее всего на свете.XVI
Наконец Франсуа распахнул дверь, но с порога увидел не Мадлену, а красивую девушку, румяную, как весенняя заря, и живую, как пеночка. Она приветливо осведомилась: — Вам кого, молодой человек? Как ни привлекательна была незнакомка, Франсуа удостоил ее лишь беглым взглядом и осмотрелся кругом, ища глазами мельничиху. Но увидел он лишь одно — что полог ее постели опущен и, значит, она там. Он даже не ответил хорошенькой девушке, которая была младшей сестрой покойного мельника и звалась Мариэттой Бланше. Он шагнул прямо к желтой кровати, осторожно откинул полог и увидел Мадлену Бланше: вся вытянувшись, бледная и снедаемая лихорадкой, она забылась тяжелым сном. Найденыш, молча и не шевелясь, долго вглядывался в ее черты; как ни огорчила его ее болезнь, как ни страшно было ему, что она умрет, он был счастлив увидеть ее лицо и сказать себе: «Вот Мадлена!» Но Мариэтта Бланше тихонько оттолкнула его от постели, задернула полог и знаком велела ему отойти с нею к очагу. — Послушайте, молодой человек, кто вы такой, и что вам нужно? Я вас не знаю — вы не здешний. Чем могу служить? Но Франсуа, не слушая ее, вместо ответа сам начал расспрашивать, давно ли недужит госпожа Бланше, опасна ли хворь и хорошо ли ухаживают за больной. На это девушка сказала, что мельничиха слегла сразу после смерти мужа — она перетрудилась, ухаживая за ним и целыми сутками просиживая у его постели; доктора еще не звали, но пошлют за ним, если ей станет хуже; а насчет ухода за больной, то она сама, с кем говорит сейчас гость, не жалеет на это сил, как, впрочем, и велит ей долг. При эти словах найденыш внимательно посмотрел на собеседницу и даже не стал спрашивать, как ее зовут: он слышал, что после его ухода от Бланше мельник поселил у жены свою сестру; кроме того, найдёныш подметил в прелестном личике юной красотки отчетливое сходство с неприветливой физиономией покойного. Бывает ведь и так, что хорошенькая рожица неизвестно почему напоминает самую противную морду. И хотя смотреть на Мариэтту Бланше было одно удовольствие, а ее брат отталкивал людей одним своим видом, в них обоих безошибочно угадывалось родство. Но если черты покойного выдавали нрав угрюмый и раздражительный, то Мариэтта казалась одной из тех, кто больше насмешлив, чем злобен, и скорее никого не боится, чем хочет внушать страх. Что касается ухода, которого Мадлена могла ожидать от столь юной особы, то на этот счет Франсуа не слишком встревожился, но отнюдь и не успокоился. Правда, чепчик у девушки был из тонкой ткани с аккуратной складкой и ловко приколот, блестящие волосы, уложенные, как это в моде у мастериц, опрятно и красиво причесаны, зато руки и передник чересчур белы для сиделки. И вообще, она была слишком молода, щеголевата и бойка, чтобы день и ночь печься о человеке, который не в состоянии сам себя обиходить. Сообразив все это, Франсуа без лишних слов уселся у камелька: он решил, что не двинется отсюда, пока не узнает, как оборачивается болезнь его дорогой Мадлены. Мариэтту немало удивила бесцеремонность, с какой он расположился у очага, словно у себя дома. Однако у найденыша, склонившегося над поленьями, был такой неразговорчивый вид, что девушка не осмелилась больше допытываться, кто он и что ему нужно. Но тут вошла Катрина, служившая в доме уже лет восемнадцать — двадцать, и, не заметив гостя, приблизилась к постели хозяйки, осторожно взглянула на нее, а затем направилась к огню посмотреть, как Мариэтта готовит питье для больной. Вся ее повадка доказывала, что она сильно встревожена нездоровьем Мадлены, и Франсуа, с одного толчка почувствовав это, собрался было дружески поздороваться с ней, но…— Но, — перебила коноплянщика служанка кюре, — у вас вырвалось неподходящее слово. Вам надо б сказать «мигом» или «в ту же минуту». — А я вам отвечу, — возразил коноплянщик, — что миг ничего не выражает, а минута слишком долга: мысль приходит в голову куда быстрее. За минуту можно о тысяче разных вещей подумать. А чтобы увидать и понять что-нибудь одно, довольно и толчка. Если хотите, я готов поправить: «с одного краткого толчка». — Разве можно сказать «толчок», говоря о времени? — запротестовала старая пуристка. — Ах, вот что вас смущает, матушка Моника! Но ведь в мире все идет толчками — и солнце, когда оно встает в зареве огня, и ваши веки, когда вы моргаете при взгляде на него, и кровь, бьющаяся в наших жилах, и стрелки на церковных часах, которые секунда за секундой отсчитывают время, как сито отсеивает зерно, и ваши четки, когда вы шепчете молитву, и ваше сердце, когда господин кюре где-то задерживается, и дождь, падающий капля за каплей, и даже, как говорят, земля, которая вращается, словно мельничное колесо. Мы-то с вами ничего не замечаем, потому как машина основательно смазана, но без толчков тут не обходится, раз мы за двадцать четыре часа такой большой круг делаем. Вот почему и говорят не «движение времени», а «круговорот». Итак, я сказал «одним толчком» и не беру свои слова обратно. А вы либо не перебивайте меня, либо уж досказывайте сами. — Нет, нет, — отказалась старуха. — У вас язык тоже недурно смазан. Вот и дайте толчок покрепче этой своей машинке.
XVII
— Так вот, я сказал, что Франсуа собрался было поздороваться с толстухой Катриной и назваться ей; однако в эту минуту у него — тоже с одного толчка — на глаза навернулись слезы, и он, стыдясь показаться придурковатым, не поднял головы. Но тут Катрина, склонившаяся над огнем, заметила его вытянутые ноги и в испуге отскочила на другой конец комнаты. — Что еще за новости? — шепотом спросила она Мариэтту. — Откуда здесь этот христианин? — Она меня спрашивает! — отозралась девушка. — Почем мне знать? Я впервые его вижу. Ввалился в дом, как на постоялый двор, даже «здравствуйте» не сказал. Спросил, как здоровье моей невестки, словно он ей родственник или наследник, а теперь, как видишь, сидит у огня. Разговаривай с ним сама — я и не подумаю: он, может быть, не в себе. — Вот как! Значит, по-вашему, у него не все дома? Странно! Вид у него не злой, насколько я могла разглядеть, — он ведь вроде как лицо прячет. — А если у него дурное на уме? — Не бойтесь, Мариэтта! Я с вами и всегда его приструню. А начнет приставать, выверну котел с кипятком на ноги или сковородой по башке огрею. Бабенки кудахтали, а Франсуа думал о Мадлене. «Эта бедная женщина, — размышлял он, — видела от мужа один убыток да обиды и теперь слегла, потому что обихаживала и поддерживала его до самого смертного часа. А судя по щечкам этой девицы, сестры и, как я слышал, любимицы покойного, она не очень-то себя заботами утруждает. Не похоже, чтобы она убивалась да плакала: глаза у ней ясные и чистые, как солнце». Тут найденыш не удержался и глянул из-под шляпы на Мариэтту: он в жизни не видел такой свежей и здоровой красоты. Но хоть она и ласкала ему взор, а сердце нисколько не затрагивала. — Ну что ж, — шепнула наконец Катрина молодой хозяйке, — я с ним поговорю. Надо выведать, с чем он явился. — Только будь с ним повежливей, — предупредила Мариэтта. — Не серди его — мы ведь одни в доме. Жанни, наверно, далеко и не услышит, если мы закричим. — Жанни? — повторил Франсуа, расслышавший из всей их болтовни только имя старого друга. — Где Жанни? Почему я его не вижу? Он теперь, наверно, большой, красивый, сильный? «Ишь ты! — подумала Катрина. — Он, пожалуй, потому и выспрашивает, что у него недоброе на уме. Кто же, прости господи, это такой? Ни с виду, ни по голосу я его не знаю; загляну-ка я для очистки совести ему в лицо». А так как женщина эта, здоровенная, как пахарь, и смелая, как солдат, была из тех, кого сам черт не испугает, она подошла вплотную к незнакомцу, решив либо заставить его снять шляпу, либо сорвать ее и посмотреть, кто же он — оборотень или крещеный человек. Она ринулась на приступ, даже не предполагая, что перед ней Франсуа: думать о прошлом, равно как о будущем, было не в ее обычае, а кроме того, она давным-давно забыла о найденыше; он же теперь так возмужал, стал таким статным, что его было трудно узнать с первого взгляда. Но в ту минуту, когда Катрина уже собиралась взять его в оборот, Мадлена проснулась и, окликнув ее чуть слышным голосом, сказала, что сгорает от жажды. Франсуа вскочил так стремительно, что первым оказался бы возле больной, если бы не боялся слишком разволновать ее. Поэтому он удовольствовался тем, что проворно подал Катрине питье, а служанка поспешила с ним к хозяйке, на время позабыв обо всем на свете, кроме ее здоровья. Мариэтта тоже взялась за свои обязанности и дала Мадлене напиться, приподняв ее на постели, что было нетрудно: мельничиха так исхудала и ослабела, что жалко было смотреть. — Ну, как вы, сестрица? — спросила девушка. — Хорошо, хорошо, дитя мое, — отозвалась Мадлена еле слышным, словно умирающим голосом: она никогда не жаловалась, чтобы не огорчать ближних. — А кто это там? — прибавила она, увидев найденыша. — Это не Жанни. Если я не брежу, у очага сидит какой-то мужчина. Кто он, дитя мое? — Не знаем, хозяйка, — ответила Катрина. — Он сидит себе и молчит, как будто ума решился. Тут найденыш, следивший за Мадленой, сделал легкое движение: ему до смерти хотелось с нею заговорить, но он все еще боялся ее разволновать. Катрина заметила, что он шевельнулся, но, по-прежнему не узнавая его, потому что не виделась с ним три года, и думая, что Мадлена испугалась, воскликнула: — Не тревожьтесь, хозяйка: я как раз собиралась его выставить, да вы меня позвали. — Нет, не гоните его, — приказала Мадлена слегка окрепшим голосом и еще больше отдернула полог. — Я узнала его, и он хорошо сделал, что пришел меня навестить. Подойди, подойди, сынок; я каждый день молила бога, чтобы он сподобил меня дать тебе благословение. Найденыш бросился к постели, упал на колени и так зарыдал от горя и радости, что едва не задохнулся. Мадлена схватила его за руки, притянула к себе и поцеловала в лоб, приговаривая: — Зовите Жанни, Катрина, зовите Жанни — пусть он тоже порадуется. А я, Франсуа, благодарю господа и готова умереть, будь на то его воля. Дети мои встали на ноги, и я могу с ними проститься.XVIII
Катрина побежала за Жанни, а Мариэтта, которой не терпелось узнать, что все это значит, поспешила вдогонку, чтобы ее порасспросить. Франсуа остался наедине с Мадленой, которая еще раз поцеловала его и расплакалась, а затем в изнеможении закрыла глаза и впала в беспамятство, еще более глубокое, чем раньше. Найденыш же, не зная, как привести больную в сознание, совсем растерялся — он лишь поддерживал ее на постели, называл милой матушкой и другом и умолял, словно это от нее зависело, не умирать и выслушать то, что ему надо ей сказать. Однако его добрые слова, нежные заботы и ласковое обхождение привели ее в чувство. Она вновь увидела и услышала его. И Франсуа сказал ей, что словно угадал, как она сейчас в нем нуждается; он все бросил, пришел сюда и не уйдет, пока она сама его не прогонит; а ежели она согласна взять его в работники, он не желает ничего лучшего — для него нет большей радости и утешения, чем служить ей до самой смерти. И еще прибавил: — Не отвечайте, не говорите ничего, милая матушка. Молчите — вы слишком слабы. Только смотрите на меня, если вам это приятно, а я уж сам пойму, принимаете вы или нет мою дружбу и услуги. И Мадлена смотрела на него такими ясными глазами, слушала с таким радостным видом, что, несмотря на ее болезнь, оба они были довольны и счастливы. Тут на крики Катрины прибежал Жанни и в свой черед разделил их радость. Теперь это был красивый паренек лет пятнадцати, не очень крупный, но на редкость живой и такой обходительный, что никто не слышал от него грубого или дурного слова. — Ох, до чего же я рад тебя видеть, Жанни! — ликовал Франсуа. — Правда, ты не слишком рослый и крепкий, но это и хорошо: сдается мне, я еще пригожусь на то, чтобы подсаживать тебя на деревья да переносить на плечах через речку. Я вижу, ты все такой же хрупкий, но, надеюсь, не болеешь? Тем лучше: побудь еще немного моим сыном, если ты, конечно, не против. Да, я тебе еще пригожусь и буду, как в былые времена, исполнять все твои прихоти. — Да, да, все четыреста моих прихотей, как ты говорил когда-то, — подхватил Жанни. — Ого, какая у него память! Как это мило, Жанни, что ты не забыл своего Франсуа! Значит, у нас по-прежнему четыреста прихотей на дню? — О нет, — поправила Мадлена, — Жанни поумнел: теперь их у него только двести. — Всего-навсего? — удивился Франсуа. — Ничего, с меня и двухсот хватит, — ответил Жанни. — Я на все согласен, лишь бы милая моя матушка снова смеяться начала. Скажу больше: мне пятьсот раз на дню хочется, чтобы она выздоровела. — Хорошо сказано, Жанни! — одобрил Франсуа. — Вы только посмотрите, какой он стал речистый! Успокойся, сынок: господь услышит все твои пятьсот желаний. Мы будем так ухаживать за твоей милой матушкой, так подбадривать ее и помаленьку смешить, что усталость с нее как рукой снимет. Между тем Катрина остановилась в дверях: ей тоже не терпелось увидеть Франсуа и заговорить с ним, но Мариэтта, удерживая ее за рукав, продолжала свои расспросы. — Как! Он — найденыш? А ведь выглядит как человек порядочный, — удивлялась она, посматривая с улицы на Франсуа сквозь приотворенную дверь. — И почему у них с Мадленой такая дружба? — Но я же сказала: она его вырастила, и он всегда был славный малый. — Но она мне не рассказывала, ты — тоже. — Ах, господи, да я о нем и не думала! Он ушел, я его почти позабыла; и потом, я знала, что у хозяйки были из-за него неприятности; и не хотела напоминать ей об этом. — Неприятности? Какие? — Ах, господи! Ну, она к нему привязалась и правильно сделала — у мальчишки было золотое сердце; а ваш брат потребовал его выставить; вы же помните — ваш братец не сахар. — Не надо так, Катрина, — он умер. — Да, да, верно, я об этом не подумала — память у меня больно короткая. А ведь и двух недель не прошло! Но пустите-ка меня, барышня: парня покормить надо — он наверняка проголодался. И Катрина поспешила обнять Франсуа: он стал красивым малым, и она начисто забыла, как когда-то клялась, что скорей свое сабо поцелует, чем найденыша. — Ох, как я рада видеть тебя, бедный мой Франсуа! — затараторила она. — Я уж думала, ты не вернешься. Да вы поглядите, хозяйка, какой он теперь видный! Просто удивительно, как это вы его сразу признали! Честное слово, не признай вы его, я еще долго не догадалась бы. До чего же, ну, до чего хорош! И борода уже пробивается. Не очень заметно пока, но чувствуется: когда ты уходил, Франсуа, она еще не кололась, а теперь колется. А здоровый ты какой, дружок! Что за плечи, руки, ноги! Такой работник троих стоит. Сколько же тебе там платят? Мадлена лишь посмеивалась, слушая, как Катрина нахваливает Франсуа, и смотрела на него, радуясь, что он вернулся к ней в расцвете лет и сил. Не прочь была бы она, чтоб и ее Жанни вырос таким же. А что до Мариэтты, то девушка устыдилась той бесцеремонности, с какой Катрина глазела на парня, и она вся зарделась, хоть не подумала ничего плохого. Но чем упорней старалась она не смотреть на Франсуа, тем чаще бросала на него взоры и в душе соглашалась с Катриной, твердившей, что он красив на редкость и крепок, как молодой дуб. И тут она, незаметно для себя самой, принялась обихаживать гостя, подливая ему самое лучшее вино этого года и потчуя его, когда он, заглядевшись на Мадлену и Жанни, переставал есть. — Кушайте, кушайте на здоровье, — приговаривала она. — Вы же ничего не едите. А вы должны были нагулять аппетит — дорога-то не близкая. — Да не обращайте вы на меня внимания, барышня, — вопросил наконец Франсуа. — Я так рад снова очутиться здесь, что мне ни есть, ни пить неохота. — А теперь, — обратился он к Катрине, когда служанка прибрала со стола, — пойдем взглянем на дом и мельницу — мне показалось, что у вас тут все обветшало. Да и потолковать надо. И, выйдя с ней на улицу, он стал расспрашивать ее о состоянии дел как человек, знающий в них толк и решивший во всем разобраться. — Ох, Франсуа, — всхлипнула Катрина, — все у нас из рук вон плохо, и если моей бедной хозяйке никто не поможет, эта злая баба разорит ее тяжбами и по миру пустит. — Перестань плакать, а то я ничего не пойму, — перебил Франсуа. — И говори пояснее. Кто эта злая баба? Севера? — Кто же еще? Мало того, что она покойного хозяина догола общипала. Ей теперь подавай даже то, что после него осталось. Она сразу нам сто исков предъявила. Говорит, что Каде Бланше подписал ей векселя, и нам с ней ни за что не расплатиться, даже если она все остатки нашего добра с торгов заставит пустить. Что ни день насылает к нам судебных исполнителей, а издержки-то растут… Чтобы отвязаться от нее, хозяйка уже заплатила, что могла; но после болезни мужа она и без того с ног свалилась, а тут еще эта кутерьма, и боюсь я, как бы она не померла. Ведь еще немного, и мы без хлеба и дров останемся. Работник наш ушел — ему за два года задолжали, да так и не расплатились. Мельница встала, и мы того гляди всех помольщиков растеряем. Урожай и лошадей уже описали и с торгов пустят, а деревья вырубят. Ох, Франсуа, горе у нас, одно горе! И служанка опять расплакалась. — А тебе, Катрина, тоже задолжали? — осведомился Франсуа. — Или хоть тебе жалованье платят? — Мне задолжали? — Тут жалобный голос служанки неожиданно стал похож на бычий рев. — Никто мне ничего не должен. Платят мне или нет — это уж мое дело. — В добрый час, Катрина! Хорошо сказано! — похвалил Франсуа. — Ухаживай-ка получше за хозяйкой и не тревожься об остальном. Я кое-что заработал у новых хозяев и принес с собой достаточно, чтобы спасти лошадей, урожай и деревья. А насчет мельницы я сам позабочусь: если с ней что не так, она у меня и без мастера со стороны запляшет. Скажи-ка Жанни — он ведь на ходу, как стрекоза, легкий: пусть сегодня же до вечера и завтра с самого утра обежит всех наших помольщиков да шепнет им, что мельница вертится, как десять тысяч чертей, и мельник ждет зерна. — А как же с доктором для хозяйки? — Об этом я тоже подумал, но сначала понаблюдаю за ней до ночи, а потом уж решу. Понимаешь, Катрина, я вот как считаю: врачи нужны лишь тогда, когда больному без них не обойтись; а ежели хворь не очень тяжелая, лучшее средство от нее не лекарство, а помощь божья. Не говорю уж о том, что сам вид врача богатых лечит, а бедных убивает. Тем, кто с жиру бесится, врач в забаву и радость; у тех же, кто сталкивается с ним лишь в минуту опасности, кровь от этого стынет. Я думаю, как увидит госпожа Бланше, что ей в делах помогают, так она и пойдет на поправку. Но прежде чем закончить разговор, еще одно слово, Катрина. Только не стесняйся и отвечай по правде. Дальше моих ушей это не уйдет: если ты помнишь, каким я был, а я не переменился, тебе должно быть известно, что чужой секрет в сердце найденыша все равно как под замком. — Ну, еще бы! — согласилась Катрина. — Но зачем ты себя найденышем величаешь? Никто тебя больше так не обзовет, Франсуа, — не за что. — Не обращай внимания. Я всегда останусь какой есть и голову себе над этим ломать не собираюсь. Скажи-ка лучше, что ты думаешь о Мариэтте Бланше, своей молодой хозяйке. — А, вот оно что! Девушка хорошенькая. Вы что, задумали на ней жениться? У ней кое-что есть: братец до ее денежек не добрался, их не тронешь — она несовершеннолетняя. И если только вы не получили наследства, господин Франсуа… — Найденыши наследства не получают, — отрезал Франсуа. — А что до женитьбы, то у меня столько же времени думать об этом, сколько у каштанов на жаровне. Я спрашиваю о другом — лучше ли эта девушка, чем ее покойный брат, и что принесет Мадлене ее пребывание в доме — радость или неприятности. — Вот уж на это пусть вам господь бог ответит, а меня увольте, — сказала Катрина. — До сих пор я ничего дурного за ней не замечала, но и серьезности тоже. Любит наряды, кружевные чепцы, танцы. Не корыстная. К тому же Мадлена так ее холит и балует, что у ней просто случая не было зубы показать. Горя она в жизни не знала, а что из нее получится, никому не ведомо. — К брату очень была привязана? — Не слишком. Правда, когда он таскал ее с собой по разным местам, а хозяйка выговаривала ему, негоже, мол, честной девушке с Северой водиться, малышка — а у ней на уме одни забавы — ластилась к брату и дулась на Мадлену, так что той приходилось уступать. Поэтому Мариэтта не в таких больших неладах с Северой, как мне хотелось бы. Но сказать, что она с невесткой нехороша или груба, тоже нельзя. — Ладно, Катрина, больше я ни о чем не спрашиваю. Только ни слова ей об этом нашем разговоре. Франсуа на совесть выполнил все, что обещал Катрине. Уже вечером стараниями Жанни на мельницу начали подвозить зерно, а сама она была приведена в порядок: лед вокруг колеса расколот и растоплен, машина смазана, поломанные деревянные части заменены новыми. Франсуа без отдыху проработал до двух часов ночи, а в четыре снова был на ногах. Он на цыпочках зашел в комнату к Мадлене, нашел там добрую Катрину, бодрствовавшую у постели, и спросил ее, как больная. Мельничиха крепко спала — теперь, когда верный слуга пришел ей на помощь, она совершенно успокоилась. Когда же Катрина отказалась оставить хозяйку до того, как проснется Мариэтта, Франсуа поинтересовался, в котором часу встает красотка из Кормуэ. — Не раньше, чем рассветет, — ответила Катрина. — Выходит, тебе ее больше двух часов ждать и вовсе соснуть не придется? — Ничего, я вздремну днем на стуле или в хлеву на соломе, когда пойду кормить коров. — Нет, сегодня ты пойдешь спать, — распорядился Франсуа, — а я дождусь барышни и покажу ей, что кое-кто ложится попозже и встает пораньше, чем она. Тем временем просмотрю бумаги покойного и те, что после его смерти судебные исполнители сюда понатащили. Где они? — Вот там, в сундуке у Мадлены. Сейчас зажгу вам лампу, Франсуа. Ну, в добрый час! Вызволяйте нас из беды, раз вы в этой писанине разбираетесь. И Катрина послушно отправилась на боковую, словно признав, что найденыш — хозяин в доме. Не зря, видно, говорится: у кого хорошая голова да сердце доброе, тому и карты в руки.XIX
Оставшись наедине с Мадленой и Жанни, потому что мальчик все еще жил в одной комнате с матерью, Франсуа, прежде чем приняться за дело, пошел взглянуть, крепко ли спит больная, и убедился, что выглядит она куда лучше, чем вчера, в день его возвращения. Он обрадовался при мысли, что она обойдется без врача и одно его появление, утешив ее, вернет ей здоровье и жизнь. Затем он стал просматривать бумаги и быстро понял, на что притязает Севера и чем располагает Мадлена, чтобы удовлетворить этипритязания. Помимо всего, что Севера промотала сама и подбила промотать Каде Бланше, она утверждала еще, что ей должны двести пистолей — сумму почти равную всему теперешнему достоянию Мадлены, включая ее собственное имущество и наследство, доставшееся Жанни от отца и сводившееся к мельнице с угодьями и службами, то есть двором, лугом, строениями, садом, конопляником и деревьями, потому что все остальные поля и участки растаяли как снег в руках у Каде Бланше. «Слава богу, что у господина кюре из Эгюранда лежат мои четыреста пистолей! — подумал Франсуа. — Даже если я не придумаю ничего путного, у Мадлены все равно останутся жилье, доход с мельницы и уцелевшая часть приданого. Но, сдается мне, можно отделаться и подешевле. Прежде всего выясним, не выманила ли Севера хитростью и обманом те векселя, что подписал ей Бланше; затем займемся проданными участками. Я-то знаю, как такие штуки устраиваются; даю голову на отсечение: судя по именам покупщиков, здесь можно погреть руки». Суть дела была такова: года за два-три до смерти Бланше, обремененный своим долгом Севере и нуждаясь в деньгах, распродал свои владения по дешевке и кому попало, а векселя покупщиков передал Севере, надеясь таким путем развязаться и с ней и с проходимцами, помогавшими ей разорять его. Но тут получилась история, обычная при продаже мелких участков. Почти ни у кого из тех, кто, слетевшись на запах тучной земли, поспешил ее приобрести, не было за душой ни гроша, и они не только не рассчитались наличными, но проценты по векселям — и те выплачивали с трудом. Так могло тянуться и десять и двадцать лет: в сущности, это был капитал, вложенный на имя Северы и ее пособников, но вложенный плохо, и она, опасаясь, что никогда его не получит, сильно обижалась на Каде Бланше за его поспешность. Так по крайней мере она говорила вслух, хоть все это было просто заурядной спекуляцией. Крестьянин даже в крайней нужде не перестанет вносить проценты — он боится выпустить из рук доставшийся ему надел, который всегда может быть отобран кредитором в случае неуплаты. Все это нам отлично известно, добрые люди, и мы сами не раз попадали впросак, задешево купив хорошую землю: как она ни дешева, а нам все равно не по карману. Глаза у нас завидущие, зато кошелек тощий, и как мы ни лезем из кожи, возделывая поле, доход с него не покрывает и половины процентов, которых требует продавец; когда же мы прокорпим и пропотеем над этим полем добрую треть нашей убогой жизни, оказывается, что мы разорены и все наши труды и старания пошли на пользу только самой земле. Теперь ей цена вдвое больше, и самое время ее продать. Продав выгодно, мы были бы спасены, но так не бывает. Проценты до того нас высосали, что приходится продавать наспех, за любую цену. Если мы заартачимся, нас заставят подчиниться по суду, и тот, кто продал нам землю, если он еще жив, или его преемники и наследники отбирают у нас участок в его теперешнем виде; словом, получается вот что: они как бы передают на много лет свое достояние в наши руки из восьми — десяти годовых и получают его обратно, когда оно удваивается в цене благодаря нашим усилиям и тщательной обработке, которая не стоит им ни сил, ни затрат, а также благодаря тому, что с годами стоимость любой недвижимости непременно возрастает. Вот так крупные рыбы и охотятся на нас, бедную плотву, попадающую к ним в пасть за свою жадность и глупость. Таким манером Севера надежно поместила свои деньги в свою же землю, да еще под хорошие проценты. Тем не менее она запустила коготки и в наследство Каде Бланше, которого так ловко обвела вокруг пальца, что он поручился за тех, кто купил у него участки, а значит, и был в ответе за уплату ими долга. Разобравшись в этих махинациях, Франсуа раскинул умом, как вернуть эти участки задешево и никого не разоряя, а заодно хорошенько проучить Северу и ее пособников, сведя на нет все их уловки. Задача была не из легких. У Франсуа хватало денег, чтобы выкупить почти все по прежней цене. Ни Севера, ни остальные не могли отмахнуться от подобного предложения: покупщикам было только выгодно поскорее сбыть участки с рук и избежать неминуемого разорения, потому что, повторяю вам это, молодежь и старики, земля, приобретенная в кредит, — порука нищеты под старость. Впрочем, напрасно я вас увещеваю: вы все равно не излечитесь от приобретательства. Кто хоть раз вдохнул пар, дымящийся на солнце над свежей бороздой, тот обязательно лихорадку собственничества подхватит. И Франсуа опасался именно этой болезни крестьянина, который не в силах стряхнуть с себя крепостное ярмо земли. Знаете ли вы, что такое это ярмо, дети мои? Было время, в наших приходах шло немало разговоров о нем. Люди твердили, что прежние сеньёры прикрепили нас к земле, чтобы мы потели и подыхали на ней, но революция перерезала наши путы, и мы перестали быть волами, впряженными в господский плуг; однако, по правде сказать, теперь мы сами впряглись в ярмо и так же потеем, так же подыхаем, как раньше. Наши буржуа уверяют, что от этой беды одно лекарство — отказ от всех потребностей и желаний. Не дальше, как в воскресенье, я славно отбрил одного такого проповедника. «Если бы вы, маленькие люди, — разглагольствовал он, — были настолько благоразумны, чтобы не есть, не спать, работать без передышки и пить сырую воду, да еще не обижая при этом лягушек, вы бы все давным-давно скопили по кругленькой сумме, прослыли паиньками и удостоились всяческих похвал». Рассуждая точь-в-точь как мы с вами, Франсуа-найденыш ломал себе голову в поисках способа, который помог бы ему уговорить покупщиков продать землю обратно. В конце концов он додумался распустить слушок, будто Севера прикидывается более богатой, чем на самом деле, хотя долгов у ней, что дыр в решете, и не за горами день, когда кредиторы опишут все ее добро, а заодно имущество ее должников. Он шепнет все это на ушко покупщикам, а когда те струхнут, напустит на них Мадлену Бланше, которая на его деньги выкупит участки по первоначальной цене. Однако совесть стала грызть его за эту ложь, и он решил дать бедным покупщикам надбавку, которая возместит им уже выплаченные проценты. Таким манером он поможет Мадлене вернуть свои права и достояние, а покупщиков избавит от разорения и убытков. Что же до Северы, кредит которой будет подорван таким слухом, то на этот счет совесть найденыша не беспокоила. Курица вправе выдернуть перо у коршуна, ощипавшего ее цыплят. Тут проснулся Жанни и осторожно, чтобы не разбудить мать, поднялся с постели; он поздоровался с Франсуа и, не теряя времени, побежал извещать остальных помольщиков, что беспорядок на мельнице кончился и у жернова стоит надежный мельник.XX
Было уже совсем светло, когда Мариэтта Бланше выпорхнула из своего гнездышка в таком нарядном трауре, что красивое черное с белым платье придавало ей сходство с сорокой. У бедняжки хватало забот. Дело в том, что траур не позволял ей некоторое время ходить на танцы, и это, без сомнения, огорчало ее поклонников, а она их сильно жалела — такое уж было у нее доброе сердце. — Как! — удивилась она, застав Франсуа за разборкой бумаг в комнате Мадлены. — Чем вы тут только не занимаетесь, господин мельник! И муку мелете, и дела ведете, и питье для больной готовите. Скоро, пожалуй, за шитье и прялку сядете… — А вот вас, барышня, — ответил Франсуа, прекрасно заметивший, как нежно она на него поглядывает, хоть и поддразнивает на словах, — я еще ни за прялкой, ни за шитьем не видел; сдается мне, скоро вы до полудня спать будете, и правильно сделаете. Это сохраняет цвет лица. — Ого, господин Франсуа, мы уже друг друга поучаем!.. Смотрите, это опасная игра; я ведь тоже найду, что сказать. — С удовольствием послушаю, барышня. — Не бойтесь, прекрасный мельник, за мной остановки не будет. Но, видно, Катрина куда-то запропастилась, коли вы сами сиделкой стали. Не дать ли вам чепец и юбку? — А вы, конечно, потребуете себе колпак да блузу и отправитесь на мельницу. Раз женское занятие не по вам и вы не можете малость посидеть с невесткой, значит, вам больше нравится солому убирать да жернов ворочать. Что ж, воля ваша! Поменяемся платьем. — Вы вроде как наставление мне читаете? — Нет, это вы мне его прочли, а я человек честный — что получил, тем и плачу. — Ладно, ладно, я вижу, вы не прочь посмеяться да пошутить. Только вот время выбрали неподходящее — нам не до веселья. Мы совсем недавно с похорон вернулись, и если вы не уйметесь, ваша болтовня не даст моей невестке покоя, а он ей очень нужен. — Потому вам и не след повышать голос, барышня. Я-то говорю тихо, а вот вы — не так, как полагалось бы в комнате, где больная. — Однако довольно, господин Франсуа, — бросила Мариэтта, понизив тон, но заливаясь краской от досады. — Потрудитесь-ка посмотреть, где Катрина, и узнать, почему она бросила на вас мою невестку. — Прошу прощения, барышня, — невозмутимо ответил Франсуа, — раз она не могла оставить ее на вас, потому как вы любите поспать, ей поневоле пришлось положиться на меня. А звать ее я не подумаю — бедняжка из сил выбилась. Не в обиду будь вам сказано, она уже две недели все время на ногах. Я отослал ее спать и до полдня буду работать за себя и за нее: справедливость велит помогать друг другу. — Вот что, господин Франсуа, — резко переменила тон девушка, — вы говорите со мной так, словно я лишь о себе думаю, а всю работу на других взваливаю. Может быть, мне вправду следовало посидеть с больной, но тогда Катрина должна была мне сказать, что устала. Она же уверяла, что нет; кроме того, я не считала, что невестка в опасности. А вы решили, что я бессердечная, хотя непонятно, с чего вы это взяли. Вы знакомы со мной всего сутки, и мы еще не на такой короткой ноге, чтобы вы меня попрекали. Вы ведете себя как глава семьи, а ведь… — Ну, ну, прекрасная Мариэтта, договаривайте, что у вас на языке вертится. А ведь меня подобрали и вырастили из милости, не так ли? И я не могу быть членом семьи, потому что не имею на это права — я, безродный найденыш! Это и все, что вы хотели сказать? И, выложив Мариэтте правду в глаза, Франсуа так посмотрел на нее, что она покраснела до корней волос, потому что поняла: он человек строгий и серьезный, хотя держится так спокойно и мягко, что его не выведешь из себя и не заставишь подумать или сказать что-нибудь несправедливое. Бедная девушка несколько оробела, хотя обычно за словом в карман не лезла; но даже робость не подавила в ней затаенного желания понравиться этому красивому парню с таким открытым взглядом и такой твердостью в речах. Пристыженная и смущенная, она еле сдержала слезы и торопливо отвернулась, чтобы Франсуа не заметил ее смятения. Но он прекрасно его заметил и дружелюбно сказал ей: — Я на вас не сержусь, Мариэтта, и вы на меня не злитесь. Я о вас плохо не думаю. Просто я вижу, что вы молоды, а в доме беда, и вы с этим не считаетесь; вот мне и пришлось выложить вам, что я думаю. — И что же вы думаете? — спросила она. — Да говорите начистоту, чтобы я знала, кто вы мне — друг или недруг. — Я думаю так: если вам не по нраву заботы и тревоги, которые терпишь ради тех, кого любишь и кто попал в беду, отойдите в сторонку, смейтесь над всем, мечтайте о нарядах, воздыхателях, предстоящем замужестве и не сердитесь, что вам здесь находится замена. А если у вас, милая девушка, есть сердце, если вы любите свою невестку, чудесного племянника и даже их верную беднягу служанку, которая надрывается на работе, как лошадь в упряжке, вставайте чуть пораньше, обихаживайте Мадлену, подбадривайте Жанни, помогайте Катрине и, главное, не слушайте госпожу Северу, врага этой семьи. Поверьте мне, она плохой человек. Вот как я думаю, и все тут. — Рада слышать, — сухо отозвалась Мариэтта. — А теперь ответьте, по какому праву вы требуете, чтобы я думала на ваш манер. — Что ж, отвечу, чтобы вы все знали, — сказал Франсуа. — По праву найденыша, ребенка, взятого и воспитанного из милости госпожой Бланше; по этой причине мой долг — любить ее как мать, мое право — поступать так, чтобы отплатить ей за доброту. — Мне возразить нечего, — сдалась Мариэтта, — и остается одно: пока что уважать вас, а со временем и подружиться с вами. — Идет, — согласился Франсуа. — Пожмем-ка друг другу руки. И он направился к Мариэтте, протягивая ей свою большую руку и делая это не без изящества. Но тут девочку укусила муха кокетства, и, отстранившись, она ответила, что девице негоже давать руку молодому человеку. Франсуа расхохотался и оставил ее: он видел, что она лукавит и больше всего на свете хочет ему приглянуться. «Ну, красавица моя, — подумал он, — это вы бросьте; если уж мы станем друзьями, то не так, как вам того хочется». Он подошел к Мадлене, которая проснулась и, взяв его за руки, сказала ему: — Я хорошо поспала, сынок, и господь бог явил мне милость: первый, кого я увидела, пробудившись, был ты. А где мой Жанни? Почему он не с тобой? Когда Франсуа объяснил, где мальчик, она дружелюбно заговорила с Мариэттой, беспокоясь, что та просидела с нею всю ночь, и уверяя, что не нуждается в такой заботе, — болезнь ее не настолько уж серьезна. Мариэтта ждала, что Франсуа скажет, как поздно она встала, но он промолчал и оставил ее наедине с Мадленой, которой захотелось попробовать встать, потому что жар у нее спал. Дня через три она почувствовала себя так хорошо, что смогла заговорить с Франсуа о делах. — Да успокойтесь вы, милая матушка, — ответил он. — Живучи в людях, я малость поумнел и в делах теперь разбираюсь. Я вытащу вас из беды и со всем справлюсь. Вы только не мешайте мне: подтверждайте все мои слова и подписывайте любую бумагу, которую я принесу. Здоровье ваше меня больше не тревожит, и я немедленно отправлюсь в город посоветоваться с законниками. Сегодня базарный день, я обязательно разыщу тех, кто мне нужен и, надеюсь, не потеряю время даром. Франсуа как сказал, так и сделал: навел справки у законников, посоветовался с ними и убедился, что последние векселя, выданные Бланше Севере, дают все основания для судебного разбирательства, потому что мельник подписал их, одурев от лихорадки, вина и собственной глупости, — словом, только что не в беспамятстве. Севера тешила себя надеждой, что Мадлена, боясь издержек, не посмеет начать тяжбу. Франсуа тоже не посоветовал бы госпоже Бланше положиться на удачу и начинать дело в суде, но он рассчитывал добиться полюбовного соглашения, для чего Мадлене следовало прежде всего проявить необходимую твердость; а так как ему нужен был человек для переговоров с их противницей, он придумал план, который удался наилучшим образом. Он уже три дня присматривался к маленькой Мариэтте и заметил, что она ежедневно ходит гулять в сторону Доллена, где жила Севера, с которой девушка была в лучших отношениях, чем хотелось бы найденышу; она поступала так потому, что встречалась там со знакомыми молодыми парнями и горожанами, которые нашептывали ей разные сладкие слова. Не скажу, чтобы они так уж сильно действовали на Мариэтту — она была еще простодушна и не знала, что волк вечно вокруг овчарни бродит. Но лесть она любила и была падка на нее, как муха на мед. Прогулки свои она совершала в строгой тайне от Мадлены, и так как мельничиха всегда старалась поменьше болтать с соседками, а сейчас к тому же не выходила из комнаты, она ничего не видела и не подозревала. Толстуха же Катрина была вообще не способна что-либо заметить или угадать. Таким манером эта девчоночка, сдвинув чепец набекрень, отправлялась пасти овец в поле, где оставляла их на кого-нибудь из пастушат, а сама шла красоваться в дурную компанию. Франсуа, сновавший туда и сюда по делам мельницы, приметил это, дома ничего не сказал, но воспользовался своим открытием, а как — сейчас расскажу.XXI
Он перехватил Мариэтту на дороге, у брода через реку: взойдя у Доллена на мостки, она увидела, что найденыш сидит верхом на досках, свесив ноги над водой, как человек, которому некуда спешить. Девушка зарделась, как ягодка падуба, и будь у ней время притвориться, что она тут случайно, она просто свернула бы в сторону. Но спуск к мосткам был сильно затенен ветвями, и она увидела волка не раньше, чем угодила ему в пасть. Франсуа сидел лицом к ней, и Мариэтта не могла ни миновать его, ни повернуть вспять, не будучи замеченной. — Эй, господин мельник, — заговорила она, в надежде, что смелость выручит ее, — подвиньтесь малость, дайте людям пройти. — И не подумаю, барышня, — возразил Франсуа. — Сегодня я до ночи сторож при мостках и с каждого плату за проход требую. — Да вы спятили, Франсуа! В наших краях за проход не платят, и не полагается вам никакой пошлины ни с мостка, ни с мостика, ни с мостков, ни с подмостков, как, наверно, в вашем Эгюранде выражаются. А, впрочем, болтайте, что хотите, только подвиньтесь поскорей. Тут не место для шуток — я из-за вас в воду свалюсь. — Значит, вы думаете, — сказал Франсуа, не двинувшись с места и только скрестив руки на груди, — что мне охота пошутить с вами и в уплату за проход заставить вас любезностей наслушаться? Выбросьте это из головы, барышня; у меня к вам серьезное дело, и я посторонюсь, если вы дозволите проводить вас немного и поговорить с вами. — Это неприлично, — заартачилась Мариэтта, взволновавшись при мысли, что Франсуа хочет с ней полюбезничать. — Что скажут люди, встретив меня на дороге с парнем, который не жених мне? — Верно, — согласился Франсуа. — Разговоры, конечно, пойдут — тут же нет Северы, чтобы вашу честь блюсти; затем вы и ходите к ней, чтобы у нее по саду с женихами свободно разгуливать. Так вот я не буду вас конфузить — поговорим здесь, да покороче, потому что дело спешное, и вот какого свойства. Вы девушка добрая, всем сердцем любите свою невестку Мадлену, знаете, что она в затруднении, и хотите выручить ее, так ведь? — Если вы об этом, я вас слушаю, потому как ваши слова — чистая правда, — ответила Мариэтта. — Так вот, милая барышня, — продолжал Франсуа, поднимаясь на ноги и становясь, рядом с ней на спуске к мосткам, — вы можете оказать госпоже Бланше немалую услугу. Раз, на ее счастье и, надеюсь, к ее выгоде, вы дружите с Северой, ваш долг — склонить эту женщину к соглашению; она хочет двух вещей, которых зараз не сделаешь: заставить наследников мэтра Бланше быть поручителями уплаты за участки, которые он продал, чтобы рассчитаться с ней, и, во-вторых, получить по векселям, выданным ей самой. Но сутяжничать и теребить нас из-за этого жалкого наследства она может сколько ей угодно — у кого ничего нет, из того ничего и не выжмешь. Внушите ей, что если она перестанет принуждать нас быть поручителями, мы разочтемся с ней по векселям; что если она не даст нам освободиться от одного долга, нам нечем будет погасить второй; и что, по-прежнему взваливая на нас судебные издержки, разоряющие нас без всякой для нее пользы, она рискует потерять все. — Мне думается, вы правы, — одобрила Мариэтта. — Хоть я в делах и не смыслю, а это поняла. Но, допустим, мне удается уговорить ее: что же, Франсуа, выгодней моей невестке — уплатить по векселям или отделаться от поручительства? — Ей невыгодней платить по векселям, потому что это несправедливей. Векселя можно опротестовать по суду, но, чтобы судиться, нужны средства, а их, как известно, в доме нет и не будет. Поэтому вашей невестке все равно, на что тратить последние деньги — на тяжбу или на расчет с Северой, а Севере выгодней получить их без суда. Разоряться так разоряться, и Мадлена скорей согласится на то, чтобы у нее описали остатки имущества, чем до самой, может быть, смерти не вылезать из долгов, потому что покупщики участков Каде Бланше — никудышные плательщики. Севера отлично знает, что в один прекрасный день ей придется выкупить у них землю, и это нисколько ее не страшит, потому что получить ее обратно более плодородной, а пока что драть за нее хорошие проценты — дело очень даже выгодное. Словом, избавляя нас от поручительства, Севера ничем не рискует, да еще обеспечивает себе уплату по векселям. — Я сделаю, как вы велите, — согласилась Мариэтта, — и если не поставлю на своем, можете меня больше не уважать. — А тогда — в добрый час и доброго пути, Мариэтта! — заключил Франсуа и дал девушке пройти. Маленькая Мариэтта пошла в Доллен, радуясь удобному предлогу отправиться туда, побыть там подольше и проделать то же самое в следующие дни. Севера притворилась, что речи Мариэтты ей по душе, но про себя решила протянуть время. Она всегда ненавидела Мадлену Бланше за то уважение, которое покойный муж, сам того не желая, вынужден был ей выказывать. Она рассчитывала, что теперь будет всю жизнь держать мельничиху в когтях, и ей легче было отказаться от векселей, которые — она это знала — немного стоят, чем от удовольствия придавить соперницу бременем нескончаемого долга. Франсуа отлично все это понимал и хотел вынудить Северу к взысканию именно долга по векселям: тогда он получит возможность выкупить для Жанни плодородную землю у тех, кому она досталась почти за гроши. Но когда Мариэтта передала ему ответ, он сообразил, что его водят за нос; с одной стороны, девчонка рада подольше исполнять его поручения; с другой — Севера еще не настолько жаждет разорить Мадлену, чтобы ради этого отказаться от денег по векселям. Чтобы одним махом пробудить в ней это желание, Франсуа дня два спустя поговорил с Мариэттой наедине. — Не ходите сегодня в Доллен, милая барышня, — попросил он. — Уж не знаю от кого, но ваша невестка проведала, что вы бываете там, и не раз на дню; она говорит, что это не место для честной девушки. Я пытался втолковать ей, зачем вы ходили к Севере, объяснял, что это в ее же интересах, но она только выбранила меня и вас. Она твердит, что ей легче по миру пойти, чем видеть, как вы честь свою губите; что она ваша опекунша, и вы в ее власти. Перестаньте туда ходить, и Мадлена смолчит, потому что не хочет вас огорчать; но она очень сердита на вас, и вам не худо бы попросить у нее прощения. Не успел Франсуа спустить собаку, как она тут же залаяла и пустила в ход зубы. Он правильно разгадал нрав Мариэтты, такой же неуемный и запальчивый, как у ее покойного брата. — Черта с два я послушаюсь невестку — я ей не трехлетняя девочка! — взвилась она. — Разве Мадлена мне мать, чтобы требовать от меня послушания? С чего это она взяла, что я гублю свою честь? Извольте ей передать, что честь у меня на таком же надежном замке, как у нее самой, а может, мой еще и понадежней. И что она плохого знает про Северу, чтобы считать ее хуже других? Разве не проводить целые дни за шитьем, пряжей и молитвами уже значит быть бесчестным? Невестка несправедлива: у них ссора из-за дел, а Мадлена вообразила, что может теперь Северу как угодно чернить. И, кстати, очень неосторожно поступает: стоит Севере пальцем шевельнуть, как Мадлена из своего дома вылетит; но Севера так не сделала, а набралась терпения и ждет, и это доказывает, что она гораздо лучше, чем ее расписывают. Вот как меня благодарят за то, что я по доброте душевной впуталась в чужую свару! Нет, Франсуа, с меня довольно. И поверьте: тот, кто всех осуждает, не всегда умней всех, а я, бывая у Северы, делаю не больше зла, чем торча здесь. — Это еще как сказать! — бросил Франсуа, решив дать всей накипи разом выплеснуться из бутыли. — Ваша невестка, может быть, не так уж неправа, полагая, что там вы не делаете ничего хорошего. Я ведь вижу, Мариэтта, как вам не терпится туда удрать, а это непорядок. Все, что вас просили сказать о делах Мадлены, вы уже сказали, и если Севера не отвечает, значит, не хочет отвечать. Поверьте, не надо вам больше к ней ходить, не то и я подумаю, как Мадлена, что вас туда не с добрыми намерениями тянет. — Вы, господин Франсуа, кажется, всерьез решили, что вы надо мною хозяин? — вспылила Мариэтта. — Вы вообразили себя своим человеком в доме, преемником моего брата? Ну нет, у вас еще молоко на губах не обсохло, чтобы мне наставления читать, и мой вам совет — оставьте меня в покое. К вашим услугам! — заключила она, оправляя чепец. — Если невестка спросит, где я, ответьте, что у Северы, а если пошлет вас за мной, вы увидите, как вас там встретят. Тут Мариэтта с шумом захлопнула дверь и поспешила — а она была легка на ногу — в Доллен; Франсуа же, опасаясь, как бы гнев ее дорогой не поостыл — время-то было зимнее, — дал ей уйти подальше, а когда она приблизилась к дому Северы, заработал своими длинными ногами как одержимый и нагнал девушку, чтобы та подумала, будто Мадлена велела ему вернуть ее. Весь остаток пути он так подогревал ее словами, что она даже замахнулась на него. Но он отскочил, потому что знал: гнев улетучивается вместе с тумаками, и женщина, которая дерется, дает выход своей досаде. Словом, он убежал, а Мариэтта, добравшись до Северы, учинила там изрядный шум. Не скажу, чтобы у бедной девочки было на уме дурное, но в первом порыве злости она выложила Севере все и привела ее в такую ярость, что Франсуа, неторопливо шагавший домой по разбитой дороге, еще на краю конопляника слышал, как женщины шипели и бушевали, словно огонь в набитом соломой сарае.XXII
Дело пошло так, как хотелось Франсуа, и, окончательно уверовав в это, он на следующий же день отправился в Эгюранд, взял у кюре свои деньги и к ночи вернулся домой с четырьмя тоненькими бумажками, составлявшими круглую сумму и шуршавшими у него в кармане не громче, чем хлебная крошка в ночном колпаке. А еще через неделю Севера дала о себе знать. От всех, кто купил землю Бланше, потребовали уплаты за нее, но ни у кого не оказалось денег, и Мадлене угрожала опасность рассчитываться вместо них. Прослышав об этом, она сильно испугалась, потому что Франсуа еще ни о чем ее не предупредил. — Отлично! — ответил он ей, потирая руки. — Не вечно купцу барыш, а вору пожива. Госпожа Севера останется с носом, а вы сварганите недурное дельце. Но все равно, милая матушка, поступайте так, словно считаете, что вам конец. Чем заметней будет ваше огорчение, тем приятней будет Севере делать то, что, по ее мнению, идет вам во вред. А этот вред — ваше спасение, потому что, рассчитавшись с ней, вы вернете вашему сыну наследство. — Но чем же я рассчитаюсь с ней, сынок? — Деньгами, которые у меня в кармане: они ваши. Мадлена попробовала отказаться, но найденыш ответил, что голова у него крепкая: что он там запер на ключ, того оттуда не вытащишь. Он сбегал к нотариусу, положил у него двести пистолей на имя вдовы Бланше, и Севера, а также другие кредиторы, бывшие с ней заодно, волей-неволей получили свое сполна. Затем Франсуа возместил убытки бедным покупщикам, но и после этого у него осталось кое-что на тяжбу, и он дал знать Севере, что начнет большое дело насчет векселей, которые она обманом и хитростью выманила у покойного. Он пустил слух, мгновенно облетевший всю округу. Дескать, долбя в старой стене на мельнице паз для подпорки, он нашел кубышку покойной старухи Бланше, набитую звонкими луидорами старинной чеканки, и теперь Мадлена еще богаче, чем раньше. У Северы опустились руки, и она пошла на переговоры, в надежде, что часть денег, так вовремя найденных Франсуа, прилипла к его рукам и что лестью она вытянет из него малость побольше экю, чем он до сих пор показал. Но труды Северы пошли прахом: Франсуа так припер ее к стене, что за сто экю она вернула векселя. Тогда, чтобы хоть как-нибудь отомстить, она взвинтила маленькую Мариэтту, внушив ей, что кубышку старухи Бланше, ее матери, полагалось бы разделить между нею и Жанни; она имеет на это право и должна вчинить невестке иск. Тут уж найденыш был вынужден признаться, откуда взялись истраченные им деньги, и эгюрандский кюре прислал ему письменное подтверждение на случай суда. Франсуа первым делом показал бумагу Мариэтте, попросив ее не распространяться об этом без нужды и пытаясь убедить, что ей остается одно — успокоиться. Но Мариэтта и не думала успокаиваться. От всех этих семейных неурядиц голова у нее пошла кругом, и бес попутал бедную девочку. Хотя Мадлена всегда была с ней добра, обращалась как с дочерью и прощала ей любые прихоти, она воспылала к невестке ненавистью и ревностью, причину которой из ложного стыда не назвала бы ни за что на свете. А состояла эта причина в том, что, злясь на Франсуа и переругиваясь с ним, она помаленьку влюбилась в него, хотя еще не отдавала себе отчета, какую штуку сыграл с ней нечистый. И чем чаще Франсуа выговаривал ей за разные прихоти и провинности, тем безумнее ей хотелось ему понравиться. Эта девушка была не из тех, что сохнут от горя или исходят слезами, но ее лишала покоя мысль, что Франсуа — такой видный парень, богатый, честный, со всеми добрый, оборотистый, смелый, что он — человек, способный отдать последнюю каплю крови за того, кого полюбит, и все это — не для нее, хотя она вправе считать себя самой красивой и богатой невестой в округе, а уж поклонников у нее — что зерен на лопате. В один прекрасный день она излила душу своей непутевой подруге Севере. Это случилось на выгоне, что в конце дороги Кувшинок. Там растет старая яблоня, которая была тогда в цвету: за всеми этими делами наступил май, и Мариэтта пасла овец на берегу реки, а Севера пришла поболтать с ней под цветущей яблоней. Однако, по милости божьей, Франсуа тоже оказался там и подслушал их разговор: увидев, как Севера подходит к выгону, он заподозрил, что она явилась строить козни против Мадлены, и, пользуясь тем, что вода в реке спала, осторожно подкрался берегом, по-за кустами, а они там такие высокие, что воз с сеном — и тот незамеченным проедет. Подойдя к месту, найденыш опустился на песок, затаил дыхание и навострил уши. И тут женские язычки заработали вовсю. Сперва Мариэтта призналась, что ни один из поклонников ей не по душе, и все по вине некоего мельника, из-за которого, хоть он и нелюбезен с ней, она лишилась сна. Но Севера давно уже мечтала окрутить ее с одним своим знакомым, очень того желавшим, что он и доказал, посулив Севере дорогой свадебный подарок, коли она сумеет женить его на маленькой Бланше. Сдается даже, что Севера заранее выговорила себе такой магарыч не только с него, но и с других. Поэтому она сделала все возможное, чтобы Мариэтта выбросила Франсуа из головы. — Тьфу на вашего найденыша, Мариэтта! — вскричала она. — К лицу ли девушке с вашим положением выходить за найденыша? Ведь вас станут величать госпожой Фрез — другой-то фамилии у него нет. А уж как мне за вас, душенька, стыдно будет! Но это еще пустяки. Вам придется сначала отбить его у невестки — он ведь ее дружок, и это так же верно, как то, что мы здесь вдвоем. — Хотя вы не раз на этот счет намекали, Севера, тут я вам не верю, — запротестовала Мариэтта. — Моя невестка в таком возрасте… — Да нет же, Мариэтта, вовсе она не в таком возрасте, чтобы без этого обходиться: ей еле-еле тридцать, и этот найденыш был еще совсем мальчишкой, когда ваш брат, проведав, что он не в меру короток с его женой, выходил его однажды кнутовищем и выставил из дому. Франсуа так и подмывало выскочить из кустов и крикнуть Севере, что она лгунья, но он взял себя в руки и промолчал. И тут уж Севера не пожалела красок и навыдумывала столько пакостей, что Франсуа бросило в жар, и он с трудом сдержался. — Выходит, — сказала Мариэтта, — он задумал на ней жениться, потому как она теперь вдова; он уже отдал ей изрядную долю своих деньжонок и не пропустит случая попользоваться на худой конец наделом, который сам же выкупил. — Это ему недешево встанет, — ответила собеседница. — Теперь, когда Мадлена обобрала его, она будет искать и, конечно, найдет кого-нибудь побогаче. Ей нужен мужчина, чтобы обрабатывать землю, а пока его нет, она подержит у себя этого дылду — ведь он, простофиля, и работает на нее задаром и во вдовстве ее развлекает. — В хорошенькой же я семейке живу, если Мадлена впрямь такая! — закипела Мариэтта. — Ну, я им покажу — мне терять нечего. Да вы понимаете, бедная моя Севера, куда я попала и что обо мне скажут? Нет, мне там нельзя оставаться, нужно уходить. И эти ханжи еще смеют других осуждать только потому, что их беспутство один господь бог видит! Пусть она теперь попробует про вас или меня дурное слово сказать! Я тут же с ней распрощаюсь и к вам перееду; если она взбесится, найду, что ответить; а уж если захочет силой меня вернуть, пойду жаловаться и все про нее выложу, так и знайте. — Нет, Мариэтта, есть выход получше: поторопитесь-ка замуж. Мадлена в согласии не откажет: ручаюсь, ей не терпится от вас отделаться. Вы же мешаете ей путаться с этим раскрасавцем найденышем. Только не тяните, а то скажут, что вы его с нею делите, и тогда уж никто на вас не женится. Словом, выходите замуж и берите того, кого я советую. — Уговорились! — ответила Мариэтта, с размаху переломив свой пастуший посошок о цветущую яблоню. — Вот вам мое слово. Ступайте за ним, Севера, — пусть нынче же вечером идет к нам просить моей руки, а в воскресенье оглашение делает.XXIII
Никогда еще Франсуа не было так грустно, как в ту минуту, когда он уходил с берега, где тайком подслушал эту бабью болтовню. На сердце у него лежал не то что камень — целый утес, и, возвращаясь, найденыш на полпути почувствовал, что не в силах идти домой; он решил свернуть на дорогу Кувшинок и посидеть в дубовой рощице, на самом краю выгона. Оставшись один, он разрыдался, как ребенок, и сердце у него защемило от горя и стыда: его бросало в краску при мысли обо всей этой напраслине и о том, что его доброму дорогому другу Мадлене, которую он всю жизнь любил так преданно и почтительно, его услуги и благие намерения принесли только клевету и оскорбления. «Господи, господи! — сокрушался он про себя. — Неужели люди столь злы и такая дрянь, как Севера, имеет наглость мерить на свой аршин такую честную женщину, как моя милая матушка? А эта девчонка Мариэтта! Ведь она еще ребенок, не понимающий, что такое зло! Ей бы во всем чистоту да правду видеть, а она слушает дьявола и верит его словам, словно в зубах у него уже побывала! Выходит, им поверят и другие; раз большинство смертных почитают зло обычным делом, то почти все решат, что если я люблю госпожу Бланше, а она меня, значит, мы любовники». Тут бедный Франсуа глубоко задумался: он призвал на суд свою совесть и стал допрашивать себя, нет ли его вины в том, что Севера так худо отзывается о Мадлене; разумно ли он держался и не дал ли, пусть без умысла, а лишь по неосторожности и нескромности, повода к дурным предположениям. Но сколько найденыш ни размышлял, он не мог вспомнить за собой ничего подобного, потому что этого у него и в мыслях-то никогда не было. Наконец, хорошенько раскинув умом, он сказал себе еще вот что: «Ну, а даже если моя привязанность перешла в любовь, разве это грех перед богом теперь, когда Мадлена овдовела и вправе искать себе мужа? Я отдал ей с Жанни немалую долю своих денег. Но у меня их еще достаточно, чтобы считаться хорошей партией, и, выйдя за меня, Мадлена не навредит своему сыну. Поэтому с моей стороны желать брака с нею — не тщеславие и не расчет, и никто ей не докажет, что я полюбил ее из корысти. Конечно, я найденыш, но ей это безразлично. Она любила меня как сына, то есть самой сильной любовью; значит, может полюбить меня и другою. Я вижу, что если не женюсь на ней, ее недруги нас разлучат, а расстаться с нею еще раз для меня смерти подобно. Кроме того, я ей еще нужен, и было бы низостью бросить её с такой кучей забот на руках, когда у меня, кроме денег, тоже есть руки, которые могут ей служить. Да, все, что мое, должно принадлежать и ей; а так как она постоянно твердит, что помаленьку разочтется со мной, моя обязанность — выбить у ней из головы эти мысли, объединив наше имущество и жизни с позволения господа и закона. К тому же долг перед сыном велит ей беречь свое доброе имя, а для этого есть лишь одно средство — замужество. Как же я об этом сам не подумал? Не уколи меня змея своим жалом, я бы ни о чем не догадался. Я был слишком прост, ничего не подозревал, а бедная моя матушка так добра ко всем, что даже не думает, как ей навредить могут. Ну, так вот: по воле неба все сложилось к лучшему, и госпожа Севера, желая мне зла, только оказала мне услугу — она разъяснила мне, в чем мой долг». И ничему больше не удивляясь, ни о чем себя не спрашивая, Франсуа зашагал домой с твердым намерением тотчас же поговорить с госпожой Бланше о своем решении и на коленях просить ее бога ради взять его в мужья, чтобы он на веки вечные стал ее опорой. Но когда, возвратясь в Кормуэ, он увидел Мадлену, прявшую шерсть на пороге дома, лицо ее впервые в жизни произвело на него такое впечатление, что он оробел и сник. Обычно Франсуа подходил к ней с открытым взглядом и первым делом справлялся о ее здоровье; теперь же он задержался на мостике, словно рассматривал мельничный шлюз, но украдкой поглядывая на нее, А когда она повернулась к нему, он отвел глаза в сторону, сам не понимая, что с ним и отчего ему так трудно начать разговор, совсем недавно казавшийся и уместным и пристойным. Тут Мадлена подозвала его: — Иди сюда, Франсуа, мне надо с тобой поговорить, пока мы одни. Сядь рядом и откройся мне как на духу: я хочу знать правду. Франсуа, ободренный такими словами, уселся рядом с Мадленой и сказал ей: — Не сомневайтесь, милая матушка: я откроюсь вам, словно самому господу богу, и вы, как на исповеди, услышите от меня всю правду. Найденыш вообразил, что до нее, наверно, дошли какие-нибудь пересуды, и у нее явилась та же мысль, что у него; он обрадовался этому, но ждал, чтобы она заговорила первая. — Франсуа, — начала Мадлена, — тебе уже двадцать один, пора подумать, как устроиться в жизни. Или, может быть, у тебя другие намерения? — Нет, нет, я с вами во всем согласен, — ответил Франсуа, краснея от удовольствия. — Продолжайте, милая матушка. — Вот и хорошо! — одобрила она. — Я ждала такого ответа и, надеюсь, правильно угадала, что тебе по душе. Ну что ж, твои желания — мои желания, и я, может быть, подумала об этом еще раньше, чем ты. Но прежде мне хотелось убедиться, по сердцу ли ты этой особе; теперь же я вижу, что если она тебя еще не полюбила, то скоро полюбит. Ты, наверно, и сам так считаешь, а потому мог бы мне сказать, далеко ли у вас зашло. Ну, что ты смотришь на меня с таким растерянным видом? Разве я говорю непонятно? Но ты, наверно, застыдился, и тебе надо помочь. Так вот, бедняжка все утро дулась, потому что вечером ты малость подтрунил над ней, и она, пожалуй, вообразила, что ты ее не любишь. Но я-то вижу, что это не так; правда, ты выговариваешь ей за ее капризы, но лишь потому, что капельку ревнуешь. Пусть это тебя не останавливает, Франсуа. Она молода, красива, и это, понятное дело, опасно. Но если она любит тебя, она образумится и станет послушной. — Хотел бы я знать, милая матушка, о ком вы говорите, — удрученно молвил Франсуа. — Я вас не понимаю. — Не понимаешь? В самом деле? — улыбнулась Мадлена. — Может быть, мне все приснилось, или ты просто решил держать это в тайне от меня? — В тайне от вас? — воскликнул Франсуа, схватив Мадлену за руку, но тут же отпустив ее; потом он взялся за кончик передника, измял его, словно чуточку рассердился, поднес к губам, словно хотел поцеловать, и наконец оставил в покое, как раньше руку, ему казалось, что он не то расплачется, не то вспылит, не то сомлеет от слабости, и все это — одно за другим. — Полно, сынок! — успокоила его удивленная Мадлена. — Ты расстроен, а это доказывает, что ты влюблен и дела твои идут не так, как тебе хочется. Но уверяю тебя: у Мариэтты доброе сердце, она тоже расстраивается, и если ты честно во всем признаешься, ответит, что думает только о тебе. Франсуа вскочил на ноги, молча походил по двору, потом вернулся и сказал Мадлене: — Удивляюсь, как вы только до этого додумались, госпожа Бланше; что до меня, то мне такое даже в голову не приходило — я отлично знаю, что барышня Мариэтта не питает ко мне ни склонности, ни уважения. — Будет тебе, сынок, будет! — запротестовала Мадлена. — Вы все так с досады говорите. Разве я не видела, что вы вечно с ней шепчетесь, что ты говоришь ей слова, которых я не слышала, зато прекрасно слышала она, потому что краснела от них, как уголья в печи? Разве я не вижу, что она каждый день убегает с выгона, оставляя стадо на кого попало? Хлебам нашим это во вред, хотя овцам и на пользу; но я не хочу ей перечить и заводить с ней разговор о скотине, когда у ней вся голова в огне от мыслей о любви и замужестве. Бедняжка в том возрасте, когда девушка худо стережет стадо, а сердце свое и подавно. Но ей выпало большое счастье, Франсуа, что у нее хватило ума привязаться к тебе, а не влюбиться в одного из тех проходимцев, с которыми она могла, как я опасаюсь, свести знакомство у Северы. Для меня тоже большое счастье думать, что ты женишься на моей золовке, которую я считаю почти что дочерью, останешься со мной и будешь членом моей семьи, а я смогу, поселив вас у себя, работая с вами и растя ваших детей, расплатиться с тобой за все то добро, что от тебя видела. Поэтому не разрушай ребяческими опасениями то здание счастья, которое я уже выстроила в мыслях. Смотри на вещи трезво и вылечись от ревности. Мариэтта любит принарядиться? Ну что ж, значит, она хочет тебе приглянуться. В последнее время ленится? Значит, слишком много думает о тебе. Бывает резковата со мной? Значит, рассержена вашими перепалками и не знает, на ком сердце сорвать. Но она оценила твою разумность и доброту, желает выйти за тебя замуж, и это лучшее доказательство того, что она сама разумна и добра. — Нет, это вы добры, милая матушка, — печально возразил Франсуа. — Да, вы добры, потому что верите в доброту ближнего, но вы ошибаетесь. А я вот что вам скажу: если Мариэтта и добра — не отрицаю этого, чтобы не чернить ее в ваших глазах, — то добра совсем не так, как вы, и потому доброта ее мне вовсе не по душе. Одним словом, я не хочу больше о ней слышать. Клянусь верой и правдой, жизнью и честью, что влюблен в нее не больше, чем в старуху Катрину, и что если бы она думала обо мне, это было бы на ее несчастье: я не отвечу ей взаимностью. Не добивайтесь же от нее признания в любви ко мне, иначе, несмотря на весь ваш ум, совершите ошибку, и я из-за вас наживу себе врага. Напротив, выслушайте ее нынче вечером и позвольте ей выйти за Жана Обара, которого она выбрала. И пусть поскорее идет к венцу — ваш дом не для нее. Ей все здесь не по душе, и радости вам она не принесет. — Жан Обар? — изумилась Мадлена. — Да какая же из них пара? Он глуп, а Мариэтта слишком умна, чтобы слушаться дурака. — Он богат, а слушаться она его не станет. Он будет у нее по струнке ходить, а ей как раз такой муж и нужен. Поверьте другу, милая матушка! Вы же знаете: я до сих пор не давал вам дурных советов.Отпустите эту девушку с миром — она не любит вас, как должна была бы любить, и не ценит вас, как вы того заслуживаете. — Это твоя досада за тебя говорит, Франсуа, — ответила Мадлена, положив ему руку на голову и легонько трепля его за волосы, словно для того, чтобы вытряхнуть правду. Но Франсуа, сильно разобиженный ее недоверием, отодвинулся и, впервые в жизни переча ей, недовольно сказал: — Вы несправедливы ко мне, госпожа Бланше. Повторяю вам: эта девушка вас не любит. Вы заставили меня сказать это против моей воли — я ведь вернулся сюда не затем, чтобы вносить в дом подозрения и раздор. Но раз я так сказал, значит я в этом уверен; и после этого вы еще полагаете, что я ее люблю? Нет, это вы меня разлюбили, раз мне больше не верите. И, потеряв голову от горя, Франсуа ушел к ручью, чтобы там выплакаться.XXIV
Мадлена расстроилась еще сильней, чем Франсуа; она бы охотно расспросила его поподробней и утешила, но ей помешала Мариэтта, которая вернулась с каким-то странным видом и, заговорив о Жане Обаре, объявила, что он сделал ей предложение. Мадлена, по-прежнему предполагая, что все это лишь размолвка влюбленных, попыталась завести с ней речь о Франсуа, но Мариэтта, ответила невестке тоном, неожиданным и обидным для нее: — Кому по сердцу найденыши, те пусть и держат их при себе для забавы, а я девушка порядочная и не позволю бесчестить себя только потому, что моего бедного брата нет больше в живых. Я ни от кого не завишу, Мадлена, и хотя закон велит мне просить у вас совета, он не велит мне следовать ему, если это дурной совет. Прошу вас не чинить мне препятствий, не то я тоже вам кое в чем воспрепятствую. — Не понимаю, что с вами, бедное мое дитя, — сокрушенно и кротко сказала Мадлена. — Вы говорите со мной так, словно ни уважения, ни дружбы ко мне не питаете. По-моему, вы чем-то раздосадованы, и это туманит вам рассудок; прошу вас, выждите несколько дней, а потом уж решите. Я велю Жану Обару зайти в другой раз, и если, малость поуспокоившись и поразмыслив, вы останетесь при своем мнении, я не стану препятствовать вам выйти за него, потому как он человек порядочный и не бедный. Но сейчас вы не в себе, сами не знаете, чего хотите, и не можете оценить моей к вам привязанности. Это очень огорчительно, но я вас прощаю: вы ведь тоже огорчены. Мариэтта вздернула голову в знак того, что презирает подобное прощение, и отправилась надевать шелковый передник к приходу Жана Обара, который через час пожаловал туда вместе с разряженной толстухой Северой. Теперь Мадлена тоже пришла к мысли, что Мариэтта в самом деле настроена против нее, раз зовет в дом по семейному делу женщину, которая ей враг и на которую она не в силах смотреть не краснея. Однако мельничиха соблюла приличия и, не выказав ни досады, ни злопамятства, предложила гостье угощение. Она боялась перечить Мариэтте, чтобы не вывести девушку из себя. Она сказала, что не намерена противиться желаниям золовки, но просит подождать с ответом три дня. Севера дерзко ответила, что это слишком долго. Мадлена возразила, что вовсе недолго. И тут Жан Обар, глупый, как пень, удалился с дурашливым смехом: он не сомневался, что Мариэтта от него без ума. Он заплатил за право в это верить, а Севера за его деньги давала ему эту уверенность. Уходя, она предупредила Мариэтту, что уже распорядилась дома печь пирог и блины к сговору, и надо их съесть, даже если госпожа Бланше затянет с помолвкой. Мадлена сочла уместным вставить, что девушке неприлично идти в гости с парнем, которому ее родные еще не дали слова. — В таком случае я не приду, — бросила взбешенная Мариэтта. — Что вы, что вы! Обязательно приходите, — запротестовала Севера. — Разве вы себе не хозяйка? — Нет, — возразила Мариэтта. — Вы же видите: моя невестка велит мне остаться. И она, хлопнув дверью, ушла к себе, но лишь для виду, потому что, пробежав через свою комнату и черный ход, нагнала на краю луга Северу и своего ухажера, с которыми принялись высмеивать и поносить Мадлену. При виде того, что творится, бедная мельничиха не сдержалась и заплакала. «Франсуа прав, — подумала она. — Эта девушка не любит меня, и сердце у нее неблагодарное. Она не желает понять, что я пекусь о ее благе, хочу ей счастья, хочу помешать шагу, в котором она еще раскается. Она наслушалась дурных советов и вынуждает меня смотреть, как эта негодница Севера вносит раздор и горе в мою семью. Я не заслужила такой муки, но должна покориться воле божьей. Какое счастье, что мой Франсуа дальновидней меня! Намучился бы он с такой женой!» Мадлена пошла искать найденыша, чтобы поделиться с ним своими мыслями, и увидела, как он плачет у ручья. Тогда, решив, что он грустит о Мариэтте, она сказала ему все, что могла сказать в утешение. Но чем больше она старалась, тем больней ему было, потому что он делал из этого одно заключение: она не желает видеть правду, и сердце ее никогда не забьется на тот же лад, что у него. Вечером, когда Жанни улегся и заснул, Франсуа задержался, чтобы объясниться с Мадленой. Он начал с того, что Мариэтта ревнует к ней, а Севера мерзко на нее клевещет и взводит напраслину. Но Мадлена не усмотрела в этом злого умысла. — Да какую же напраслину можно на меня взвести? — простодушно изумилась она. — Как можно подучить Мариэтту, эту бедную сумасбродную девочку, ревновать ко мне? Тебя обманули, Франсуа: тут корыстный расчет, какой — узнаем позже. А ревность — это немыслимо: я уже не в том возрасте, чтобы молодая, хорошенькая девушка опасалась меня. Мне без малого тридцать, а для крестьянки, у которой было много горя и много работы, это такие годы, что я тебе в матери гожусь. Один сатана решится сказать, что я вижу в тебе не только сына, и Мариэтта не могла не заметить, как я пыталась вас поженить. Нет, нет, сынок, не верь, что ей пришла такая низкая мысль, или хоть молчи об этом. Мне слишком больно и стыдно это слышать. — И все же, — молвил Франсуа, сделав над собой усилие, чтобы продолжать, и склонясь над очагом, чтобы Мадлена не заметила его смущения, — господину Бланше пришла та же низкая мысль, когда он велел прогнать меня. — Выходит, ты и это знаешь, Франсуа? — сказала Мадлена. — Откуда? Я тебе про это не говорила и ни за что не сказала бы. Если это Катрина, то она поступила дурно. Для тебя такая мысль столь же обидна и невыносима, как для меня. Но забудем об этом и простим моего покойного мужа. Вся эта мерзость от Северы. Но теперь ей уже незачем ревновать ко мне. Мужа у меня нет, я постарела и подурнела, как ей хотелось в те времена, и я не жалею об этом: это дает мне право на уважение, право считать тебя своим сыном и подыскать тебе пригожую молодую жену, которая будет рада жить со мной и полюбит меня как мать. Это мое единственное желание, и будь покоен, Франсуа, мы ее найдем. А если Мариэтта отвергла счастье, которое я ей предлагала, тем хуже для нее. Ну, иди спать и не падай духом, сынок. Считай я себя помехой твоему браку, я бы тут же велела тебе расстаться со мной. Но будь уверен: никому я не мешаю, и никто никогда не предложит того, что немыслимо. Франсуа настолько привык верить Мадлене, что и теперь, слушая ее, соглашался с ней. Он встал, сказал: «Доброй ночи!» и ушел; однако, пожимая ей руку, он впервые в жизни взглянул на нее с желанием убедиться, вправду ли она стара и дурна собой. Но, хотя живя в печали и стараясь быть благоразумной, мельничиха внушила себе эту ложную мысль, она оставалась все такой же прелестной, как и раньше. И внезапно Франсуа увидел, что она еще совсем молода и прекрасна, как пречистая дева, и сердце у него заколотилось, словно он влез на верхушку колокольни. И он отправился спать на мельницу, где его ждала чистая постель в дощатой клетушке, отгораживающей ее от мешков с мукой. И, оставшись там один, он задрожал и стал задыхаться, будто в лихорадке. Но если он и заболел, то лишь от любви, потому что его впервые обожгло пламя, всю жизнь таившееся под золой и согревавшее его.XXV
С этого дня найденыш так загрустил, что жалко было смотреть. Работал он за четверых, но забыл про отдых и радость, и Мадлене не удавалось допытаться, что с ним. Как он ни клялся, что не любит Мариэтту и не жалеет о ней, Мадлена ему не верила — ничем иным она не могла объяснить его печаль. Она горевала, видя, что он страдает и утратил доверие к ней, и удивлялась упорству и гордости, с которыми молодой человек замыкался в своей тоске. От природы чуждая всякой навязчивости, она решила больше не заговаривать с ним об этом. Она сделала еще несколько слабых попыток вернуть Мариэтту, но встретила такой отпор, что пала духом и замолчала; хотя тревога по-прежнему снедала ее, она этого не показывала, чтобы не причинять ближним еще больше страданий. Франсуа работал на нее и помогал ей так же неутомимо и честно, как раньше. Он и теперь старался побольше бывать с Мадленой, но уже не мог говорить с нею так, как когда-то. При ней он всегда испытывал смущение. Он то краснел, как огонь, то белел, как снег, а ей казалось, что он заболел, и она касалась его запястья, проверяя, нет ли у него жара; но он отдергивал руку, словно прикосновение причиняло ему боль, и подчас делал Мадлене упреки, которых она не понимала. С каждым днем отчуждение между ними все нарастало. Тем временем полным ходом шли приготовления к свадьбе Мариэтты и Жана Обара, назначенной на день окончания траура девицы Бланше. Мадлена боялась этого дня: она думала, что Франсуа может лишиться рассудка, и решила на время отослать найденыша в Эгюранд, к его прежнему хозяину Жану Верто — пусть там рассеется. Но Франсуа вовсе не желал, чтобы Мариэтта пришла к той же мысли, какой упорно держалась Мадлена. Он тщательно скрывал свою печаль при девушке, дружески болтал с ее женихом и, встретив Северу где-нибудь на дороге, перекидывался с ней шуточкой в знак того, что нисколько ее не боится. В день свадьбы он явился, и так как на самом деле был рад, что девчонка уберется из дому и Мадлена избавится от ее ложной дружбы, никто даже не заподозрил, что он когда-нибудь был влюблен в Мариэтту. Мадлене — и той пришлось поверить, что это правда, или хотя бы предположить, что он утешился. Она, как всегда, благожелательно простилась с Мариэттой, но поскольку эта девица затаила на нее зло за найденыша, мельничиха отлично поняла, что золовка уходит от нее без сожаления и доброго чувства. Как ни привычна была кроткая Мадлена к обидам, она все же всплакнула от такой злобы и помолилась богу, чтобы он простил девушку. А еще через неделю Франсуа неожиданно объявил, что у него дело в Эгюранде и он уходит туда дней на пять-шесть, чему Мадлена не только не удивилась, а, напротив, обрадовалась, полагая, что перемена места пойдет на пользу его здоровью: ей казалось, что он захворал, так как слишком настойчиво подавляет свое горе. Что до Франсуа, то это горе, которое он, на первый взгляд, избыл, с каждым днем все сильнее терзало его сердце. Он думал только о Мадлене — наяву и во сне, вблизи и вдалеке она всегда была у него в душе и перед глазами. Правда, он и без того всю жизнь любил ее и думал о ней. Но до последнего времени эта мысль была для него радостью и утешением, а теперь внезапно превратилась в источник смятения и горя. Пока с него довольно было считать себя сыном и другом Мадлены, он ничего лучшего на земле и не желал. Но теперь, когда любовь все в нем перевернула, он просто каменел от отчаяния. Он воображал, что, в отличие от него, Мадлена никогда не переменится. Он корил себя за то, что слишком молод, что встретился с ней, когда был слишком мал и несчастен, что стоил этой бедной женщине слишком многих трудов и неприятностей, что всегда был для нее предметом не гордости, а лишь забот и сочувствия. Наконец, он изображал ее себе такой красивой, привлекательной, желанной и стоящей настолько выше его, что ее разговоры о том, как она постарела и подурнела, казались найденышу уловкой, с помощью которой она хочет помешать ему домогаться ее. Между тем Севера, Мариэтта и вся их шайка принялись открыто честить ее за Франсуа, и он испугался, что если сплетни дойдут до ушей Мадлены, она с досады захочет расстаться с ним. Он сказал себе, что по доброте своей она никогда ему в этом не признается, а просто будет, как раньше, страдать из-за него, и решил посоветоваться обо всех делах с господином кюре из Эгюранда, которого знал за человека справедливого и богобоязненного. Он отправился к нему, но не застал его. Священник уехал к епископу, и Франсуа, зайдя переночевать на мельницу Жана Верто, согласился погостить там несколько дней до возвращения господина кюре. Честный хозяин Франсуа остался все тем же приветливым человеком и добрым другом, а его достойная дочь Жаннета собиралась замуж за славного малого, которого выбрала скорей по разуму, чем по склонности, но, по счастью, питала к нему больше уважения, нежели неприязни. Поэтому Франсуа стало с ней легче, чем раньше, а так как вечер был субботний, разговор их затянулся, и найденыш, проникшись к ней доверием, рассказал обо всех напастях, из которых он, к удовлетворению своему, вызволил госпожу Бланше. Мало-помалу Жаннета, девушка довольно проницательная, догадалась, что дружба эта волнует найденыша сильней, чем он говорит. И, взяв его неожиданно за руку, она попросила: — Не таитесь от меня, Франсуа. Теперь я образумилась и, как видите, не стыжусь признаться, что думала о вас больше, чем вы обо мне. Вы это знали, но не воспользовались этим. Вы не захотели меня обмануть, и корысть не побудила вас поступить так, как поступили бы на вашем месте многие. За такое поведение и верность женщине, которую вы любите больше всего на свете, я глубоко уважаю вас, и не только не отрицаю, что питала к вам чувство, но даже с удовольствием вспоминаю об этом. Надеюсь, мои слова внушат вам только уважение ко мне, и вы по справедливости признаете, что у меня нет ни обиды, ни досады на вас за ваше благоразумие. Я докажу вам это еще более убедительно, и вот чем. Вы любите Мадлену Бланше не просто как мать, а как молодую, привлекательную женщину, на которой хотели бы жениться. — О! — вырвалось у Франсуа, и он зарделся, как девушка. — Я люблю ее как мать и уважаю всем сердцем. — Не сомневаюсь, — согласилась Жаннета, — но вы любите ее и так и этак, потому что ваше лицо говорит одно, а слова — другое. Я вижу, Франсуа, вы боитесь сказать ей то, в чем боитесь открыться и мне; и вы не знаете, может ли она, в свой черед, полюбить вас и так и этак. Жаннета Верто говорила так тепло и разумно, весь ее вид был исполнен такого искренного дружелюбия, что у найденыша не хватило духу отнекиваться, и он, пожав ей руку, сказал, что почитает ее за сестру и что она — единственный человек, которому он не побоялся открыть свою тайну. Жаннета задала ему еще несколько вопросов, и он без колебаний откровенно ответил на них. Тогда она сказала: — Теперь мне все ясно, друг мой Франсуа. Я, конечно, не знаю, что думает Мадлена Бланше, но прекрасно вижу, что вы проживете с ней рядом еще десять лет, но так и не осмелитесь поделиться своим горем. Ну что ж, я сама все за вас узнаю и сообщу вам. Завтра мы втроем — отец, я и вы — отправимся к ней, словно решили познакомиться и по-дружески навестить достойную женщину, вырастившую нашего друга Франсуа; вы уведете отца во двор под предлогом, что хотите с ним посоветоваться, а я тем временем потолкую с Мадленой. Я буду осторожна и выскажу ваши намерения лишь после того, как она откроет мне свои. Франсуа чуть не бросился Жаннете в ноги — так сердечно он был благодарен ей за доброту, и они сговорились с Жаном Верто, которого дочь, с разрешения найденыша, во все посвятила. Наутро они пустились в путь. Жаннета уселась на круп лошади, позади отца, а Франсуа опередил их на час, чтобы предупредить Мадлену о приезде гостей. Франсуа вернулся в Кормуэ перед закатом. В дороге его прихватила гроза, но он не огорчился, потому что уповал на дружбу Жаннеты, и на сердце у него было спокойней, чем до ухода в Эгюранд. Туча роняла на кусты последние капли дождя, и дрозды надсаживались во всю мочь, словно благодаря солнце за прощальный луч, который оно посылает им перед тем, как спрятаться за холмом Большой Корле. Под самым носом у Франсуа стайки пичуг перепархивали с ветки на ветку, и щебет их подбадривал его. Ему вспомнилось время, когда он, совсем еще малыш, бродил по лугам, беззаботно мечтая и свистом подманивая птиц. Внезапно найденыш увидел красногузку, как именуют в наших краях снегиря; птаха кружилась вокруг его головы, словно предсказывая удачу и добрые вести. И тут ему на ум пришла старинная колыбельная на местном наречии, которую, баюкая его, певала матушка Забелла:Красногузка —
Толстопузка
Вместе с детками —
Малолетками
По-за ветками
Весь денек
Вкривь да вбок
Прыг да скок.
— Здесь истории конец, — объявил коноплянщик, — потому что рассказывать о свадьбе было бы слишком долго; я был на ней и знаю, что в тот же день, когда, найденыш перевенчался с Мадленой в приходе Мерс, Жаннета вышла замуж в приходе Эгюранд. И Жан Верто потребовал, чтобы Франсуа с женой и Жанни, который был очень рад случившемуся, со всеми их друзьями, родичами и знакомыми приехали к нему вроде бы как на вторую свадьбу, и она оказалась такой удачной, пристойной и веселой, какой я с тех пор не видел. — Выходит, ваш рассказ — чистая правда? — спросила Сильвина Куртиу. — Если и нет, то мог бы ею быть, — ответил коноплянщик. — А не верите, сходите туда сами да поглядите.

Жорж Санд ЧЕРТОВО БОЛОТО

От автора
Когда, написав «Чертово болото», я начал серию крестьянских повестей, которые собирался объединить под общим названием «Рассказы конопельника», у меня не было никакого продуманного плана; я ни в малейшей степени не задавался целью совершить какой-либо переворот в литературе. Никто не может совершить переворот один, и есть перевороты — и это прежде всего относится к области искусства, — которые человечество совершает, само не понимая как, ибо в совершении их участвуют все. Сказанное, однако, нельзя отнести к роману о нравах селян: он существовал во все времена и во всех формах — то пышных, то жеманных, то простодушных. Я уже говорил и должен сейчас это повторить: мечта о сельской жизни во все времена была идеалом горожан и даже придворных. Я не открыл ничего нового, поддавшись той склонности, которая влечет человека цивилизованного к прелестям первозданной жизни. Я не собирался ни создавать новый язык, ни изыскивать новую манеру. Хоть мне и приписывали то и другое во множестве статей, я один лучше чем кто бы то ни было знаю, как мне следует исполнять задуманное, и меня всегда поражали досужие измышления критиков по поводу истоков того или иного моего замысла, в то время как в основе произведения искусства лежит обычно самая простая мысль, самое заурядное происшествие. Что же касается именно «Чертова болота», то обстоятельство, о котором я упомянул в предисловии: поразившая меня гравюра Гольбейна и картина действительной жизни, которую я увидел тогда же, в пору посева, — они, а не что другое, побудили меня написать эту скромную повесть, и место ее — среди тех невзрачных пейзажей, какие мне доводилось видеть день ото дня. Если же меня спросят, что я хотел ею сказать, я отвечу, что хотел написать рассказ очень трогательный и очень простой и что мне не удалось сделать это так, как мне бы хотелось. Я отчетливо увидел, я глубоко почувствовал красоту в самом простом, но видеть и суметь описать — это разные вещи! Самое большее, на что в этих случаях может надеяться художник, — это призвать тех, у кого есть глаза, обратить свой взор на то, что поразило его самого. Так умейте же увидеть все простое, люди, увидеть небо, и деревья, и наших крестьян, и прежде всего все то хорошее и подлинное, что в них есть: кое-что об этом вы узнаете из моей книги, намного больше вы почерпнете из жизни.Ноан, 12 апреля 1851 г.Жорж Санд
I Автор — читателю
Согбенный, обливаясь потом,
Весь век ты трудишься в нужде.
Что жизнь твоя? Одни заботы,
И смерть — конечный твой удел.
II Пахота
С глубокой грустью разглядывал я гольбейновского пахаря и долго потом бродил по полю, предаваясь раздумьям о деревенской жизни и об участи хлебопашца. Какое это безотрадное дело — тратить силы свои и дни на то, чтобы вспарывать лоно этой скаредной земли, у которой нелегко бывает вырвать ее сокровища, когда к концу дня единственной наградой за столь тяжкий труд и единственным его смыслом оказывается кусок грубого черного хлеба. Все покрывающие землю богатства, злаки ее, плоды, весь этот откормленный скот, пасущийся на тучных пастбищах, все это — достояние немногих и служит лишь для того, чтобы повергать большинство людей в изнеможение и рабство. Человек праздный, вообще-то говоря, не любит ни полей, ни лугов, ни картин природы, ни великолепных стад ради них самих: все это должно превращаться для него в золотые монеты. Человек праздный приезжает в деревню ненадолго, только затем, чтобы подышать воздухом и поправить здоровье, а потом возвращается, чтобы растратить в больших городах все то, что наработали на него другие. Что же касается сельского труженика, то он слишком боится за свое будущее, чтобы наслаждаться красотами природы и прелестью деревенской жизни. И для него ведь тоже золотистые поля, чудесные луга, тучные стада — это всего лишь мешки со звонкой монетой: жалкой частицы этих богатств, достающейся на его долю, ему не хватает на то, чтобы прокормиться. И однако, ему каждый год приходится наполнять снова и снова эти проклятые мешки, чтобы удовлетворить требования хозяина и купить себе право прозябать на его земле. А меж тем природа вечно молода, вечно прекрасна и вечно щедра. Она изливает поэзию и красоту на все существа, на все злаки, которым дает свободно на ней расти. Она обладает секретом счастья, похитить который никто не смог. Счастливейшим из смертных станет тот, кто, занявшись физическим трудом и познав блаженную свободу, оттого что все способности и силы его найдут себе применение, насладится досугом, позволяющим жить и умом и сердцем, понимать все то, что творит он сам, и любить сотворенное богом. Должно быть, именно так наслаждается художник, созерцая и воспроизводя красоты природы; но если только он чуток и справедлив, то радость его бывает омрачена картиной скорби людей, населяющих этот земной рай. Человек был бы счастлив, если бы разум, сердце и руки его работали в согласии под взглядом провидения и если бы существовала святая гармония между щедротами бога и восхищением, которое проникает нам в душу. Тогда вместо смерти, ужасной и жалкой, идущей вдоль борозды с бичом в руке, художник — творец аллегорий — мог бы создать лучезарного ангела, полными пригоршнями сыплющего в дымящуюся борозду благословенное зерно. А сладостную, свободную, поэтическую, беспечную и простодушную жизнь селянина не так уже трудно представить себе, и незачем относить ее к области чистой фантазии. В печальных и сладостных словах Вергилия:О, сколь бы блажен селянин был, когда б сознавал он
Счастье свое… —
Согбенный, обливаясь потом,
о fortunatos… agricolas —
III Дед Морис
— Жермен, — сказал однажды тесть, — пора тебе взяться за ум и жениться. Ведь два года уже скоро минет, как дочь умерла и ты остался вдовцом, а старшему твоему уже семь. Тебе, того гляди, тридцать стукнет, сынок, а ты знаешь, что в наших краях считают, что кому за тридцать, тем уже поздно жениться. У тебя трое детей, хорошие они и до сих пор не были для нас обузой. Жена и невестка пеклись о них, как только могли, да и любят они их крепко. Маленький Пьер — тот уж, почитай, подрос, он и быков не худо погоняет; хватает у него смекалки скотину устеречь, да и силенки тоже — лошадей на водопой водить. Об нем и речи нет, а вот меньшие два, как мы их ни любим, — а видит бог, мы любим их, бедняжек, — так этот год нам с ними хлопот было не обобраться. Невестка-то моя на сносях, да еще и малый на руках. А уж когда еще новый младенец на свет появится, ей и вовсе недосуг будет думать о твоей маленькой Соланж, а главное, о твоем Сильвене, тому-то ведь нет и четырех — ни днем, ни ночью он не дает покоя. Горячая кровь, все равно что у тебя; работник-то из него выйдет лихой, но мальчонка бедовый! То удерет да схоронится где-нибудь за канавой, а то и быкам под ноги кинется, старухе моей за ним не угнаться. К тому же, когда у невестки новорожденный на руках будет, за меньшим-то ведь не кому как ей год целый придется присматривать. Видишь вот, тревожимся мы за деток твоих, никак нам с ними не управиться. Последнее это дело, когда малыши без присмотра; а как подумаешь, что с ними приключиться может, чуть только недоглядишь, так голова кругом идет. Стало быть, надо тебе новую жену искать, а мне — новую невестку. Поразмысли-ка об этом, сынок. Который ведь раз тебе говорю, время-то идет, годы тебя ждать не будут. Ради детей своих и ради нас, а мы хотим, чтобы в доме все ладно было, надо тебе жениться, и чем раньше, тем лучше. — Ну что же, отец, — ответил зять, — коли вы во что бы то ни стало этого хотите, ничего не поделаешь, придется вас ублажить. Только поймите, очень мне это в тягость, по мне, так уж лучше прямо головой в омут. Знаешь, кого потерял, да не знаешь, кого найдешь. Добрая у меня была жена, ласковая, терпеливая — как ведь об отце с матерью, радела о муже, о детях; работящая и в поле и дома, одним словом — на все руки. И когда вы за меня отдавали ее, а я брал, не было промеж нас уговора, что я забыть ее должен, коли горе такое приключится, что помрет. — Ты все это от чистого сердца говоришь, Жермен, — ответил его тесть, — я знаю, что дочь мою ты любил, что ей с тобой хорошо жилось и что, будь это в твоей власти, Катрин была бы жива, а ты бы лег за нее в могилу. Заслужила она такую любовь, и как тебе не утешиться, так и нам. Но я же не прошу тебя ее забыть. Господу угодно было, чтобы она нас покинула, и дня не проходит, чтобы мы не давали ей знать молитвами нашими, мыслями, словами и делами, что мы чтим ее память и печалимся, что нет ее с нами. Но кабы она могла подать голос с того света и сказать, чего она хочет, она приказала бы тебе найти мать для твоих сирот. Дело только за тем, чтобы замена была достойной. Нелегко это будет, а все-таки можно. А когда мы сыщем тебе жену, ты будешь ее любить, как любил мою дочь, ты ведь человек порядочный и будешь ей благодарен за то, что она нам в хозяйстве поможет и детей твоих полюбит. — Хорошо, отец, — сказал Жермен, — пусть будет по-вашему, я вам никогда ни в чем не перечил. — Это правда, сынок, ты всегда советы выслушивал, что тебе по дружбе давали, и старшего в семье чтил, слова его помнил. Так давай подумаем, кого тебе в жены взять. Я ведь вовсе не хочу, чтобы ты на молодой женился. Не это тебе нужно. У молодых ветер в голове, а подымать троих детей, особливо чужих, дело не шуточное: тут нужна добрая душа, женщина рассудительная, мягкая и очень работящая. Коли ты выберешь жену моложе себя, не захочет она взваливать на себя такое бремя. Такая решит, что ты уже слишком стар, а дети слишком малы. Она будет жаловаться на свою долю, а детям придется худо. — Вот это меня и беспокоит, — сказал Жермен, — А что, коли малышей она будет ненавидеть, мучить, бить? — Не дай-то бог! — ответил старик. — Только женщин добрых в наших местах все-таки больше, чем злыдней, и надо быть дураком, чтобы не найти себе подходящей жены. — Что верно, то верно, отец: есть у нас на селе хорошие девушки. Есть Луиза, Сильвена, Клоди, Маргарита… Словом, возьму ту, какую вы захотите. — Тише, тише, мой мальчик, все эти девушки либо очень молоды, либо очень бедны… либо настоящие красотки; об этом тоже надо подумать, сынок. А уж раз красотка, то не быть ей хорошей женой. — Так, выходит, вы хотите женить меня на дурнушке? — спросил Жермен, начавший уже тревожиться. — Нет, как же можно на дурнушке, у вас же еще будут дети, а нет ничего хуже, когда дети хилые, неказистые да хворые. Ну, а вот женщина в соку, здоровая, не то чтобы красавица, но и не урод, — это как раз то, что тебе нужно. — Вижу, чтобы найти в точности такую, какую вам хочется, надо будет ее нарочно сотворить на свет: тем более что на бедную вы не согласны, а богатую вряд ли захотят отдать за вдовца. — А ежели сама она вдова, Жермен? Бездетная вдова, да еще с достатком? — Ну, в нашем приходе я такой пока что не знаю. — Я тоже не знаю; не в нашем, так в другом. — У вас кто-то есть на примете, отец, скажите скорее кто!IV Жермен, искусный пахарь
— Да, есть тут у меня одна на примете, — ответил дед Морис, — дядюшки Леонара дочь, Герена вдова; живет она в Фурше. — Не знаю я ни вдовы такой, ни деревни, — ответил Жермен покорно, но помрачнев. — Зовут ее Катрин, как и твою покойную жену. — Катрин? Да, мне приятно будет произносить это имя: Катрин! И вместе с тем, коли я не смогу полюбить ее так, как мою Катрин, мне от этого имени будет еще горше, я еще чаще буду вспоминать ту. — Говорю тебе, ты ее полюбишь, человек она хороший, сердце у нее доброе; давненько уж я ее не видал, а была недурна собой; теперь-то она не такая уж и молоденькая, ей тридцать два. Семья крепкая, все они люди славные, да и земли у нее тысяч на восемь, а то и на десять, и она ее продать не прочь, чтобы на эти деньги купить другую там, куда ее возьмут, — она-то ведь тоже располагает второй раз замуж выйти, и я уверен, придись ты сам ей по душе, положение твое ей подойдет. — Выходит, вы все это уже уладили? — Да, все, не хватает только вашего согласия, твоего и ее. Вот познакомишься с ней, так сами все и решите. Отец ее мне дальней родней приходится, и мы с ним в дружбе. Ты же ведь его знаешь, дядюшку Леонара-то? — Да, видал я, как вы с ним на ярмарках разговаривали, а последний раз вы ведь и завтракали с ним вместе; так, выходит, вот о чем вы столько с ним толковали? — А что ты думаешь; он видел, как ты быков продаешь, и нашел, что у тебя все здорово получается, что ты ладно скроен, что парень ты разбитной и смышленый; а когда я рассказал ему, кто ты такой и какого ты был поведения все восемь лет, что ты у нас живешь и вместе с нами работаешь: ни разу не осерчал и слова обидного не сказал, — ему и пришло в голову женить тебя на своей дочери, что, правду говоря, и мне по душе. Худого о ней никто не скажет, семья это честная, и дела у них идут хорошо. — Вижу, отец, что дела их для вас главное. — А как же, так оно и есть. А для тебя это не важно, что ли? — Важно, коли хотите, пусть уж будет по-вашему, только вы знаете, не пекусь я о том, сколько прибыли досталось или не досталось на мою долю. Мало я смыслю в наших дележах, да и голова у меня совсем не так устроена. Мое дело земля, быки, лошади, упряжки, посевы, молотьба, корма. А вот что до баранов, виноградников, сада, разных мелких доходов и тепличных культур, то вы знаете, что этим занимается ваш сын, и я не очень во все это вхожу. Что же до денег, то у меня на них короткая память, по мне, так лучше все уступить, нежели затевать спор, что твое, что мое. Я стал бы бояться, как бы не ошибиться и не начать требовать то, что мне не положено, и надо, чтобы все в делах было просто и ясно, а то мне никогда с ними не совладать. — Вот это-то и худо, сынок, вот почему и хочу я, чтобы у тебя была жена с головой; умру я, она и меня заменит. Ты никогда не хотел разобраться в наших счетах, а ведь ты же можешь повздорить с моим сыном, когда меня не станет и некому будет сказать вам обоим, что кому причитается. — Жили бы вы подольше, отец! Только нечего вам беспокоиться о том, что будет после вашей смерти; никогда я не стану ничего у вашего сына оспаривать. Жаку я доверяю не меньше, чем вам, а коль скоро своего добра у меня нет и все, что может достаться на мою долю, идет от вашей дочери и принадлежит нашим с ней детям, я могу быть спокоен, да и вы тоже. Не станет ведь Жак обижать сестриных детей, чтобы его собственным было лучше, одинаково он любит и тех и других. — Твоя правда, Жермен. Жак хороший сын, хороший брат, и человек он справедливый. Только ведь Жак может умереть раньше тебя, раньше, чем ты успеешь поднять детей, а в семье всегда надо думать о том, чтобы не оставлять малых без старшего, чтобы было кому им совет дать и разрешить их споры. Не то непременно судейские ввяжутся, а те всех между собой перессорят, и у внуков моих все деньги на тяжбы уйдут. Вот почему нам никак нельзя вводить в дом нового человека, зятя ли, невестку ли, и не думать о том, что настанет день, когда ему, как старшему в семье, придется, может, наставлять десятка три детей, внуков и других зятьев и невесток… Никто не знает, как разрастется семья, а когда в улье чересчур много пчел и им роиться надо, каждая думает, как бы побольше меда унести. Когда я брал тебя в зятья, то хоть дочь моя была богата, а ты беден, я ведь не попрекнул ее тем, что она выбрала именно тебя. Я видел: работник ты хороший, и знал, что для нас, крестьян, самое лучшее богатство — это пара рук и такое сердце, как у тебя. А коли мужчина приносит в семью руки и сердце, с него нечего больше спрашивать. Ну, а женщина — дело другое, ее забота не наживать, а сохранять то, что есть в доме. К тому же ты вот теперь отец семейства и хочешь жену в дом взять, так надо подумать и о твоих будущих детях: они ведь не получат и самой малой толики из наследства — все отойдет к детям от первого брака, и, когда ты умрешь, эти останутся нищими, коли только твоя новая жена не принесет большого приданого. Да ведь и на пропитание тех, что еще родятся, тоже нужны будут деньги. Все это нам на плечи ляжет, мы-то, правда, малых прокормим и жаловаться не будем, но жить от этого хуже станем, и детям твоим от первого брака тоже несладко придется. Когда семья очень уж растет, а достаток за ней не поспевает, как бы мы ни крепились, нужды все равно не миновать. Вот чему меня жизнь научила, Жермен, подумай об этом и постарайся понравиться вдове Герен: и добронравие ее, и денежки помогут нам сейчас и обеспечат нам спокойную жизнь. — Решено, отец. Я постараюсь понравиться ей и сделать так, чтобы она мне тоже понравилась. — Для того надо увидеться с ней, к ней поехать. — К ней в деревню? В Фурш? Это далеко отсюда, не правда ли? А сейчас время такое, что нельзя отлучаться. — Когда женишься по любви, то надо приготовиться к тому, что потеряешь много времени; но когда это брак по расчету, когда это люди без причуд и оба знают, чего хотят, все быстро можно уладить. Завтра суббота, ты пораньше закончишь пахоту, вот часа в два и поедешь; к вечеру ты будешь в Фурше; сейчас полнолуние, дороги хорошие, а ехать не больше трех лье. Это недалеко от Манье. К тому же ты ведь поедешь на кобыле. — Сейчас свежо, и, по мне бы, лучше идти пешком. — Да, но кобыла-то хорошая, а жених, что верхом приезжает, совсем иначе выглядит. Оденешься в новое платье и свезешь дядюшке Леонару в подарок отменной дичи. Приедешь от меня, поговоришь с ним, проведешь воскресный день с его дочерью, а в понедельник утром вернешься уже с ответом, какой он там ни будет. — Ладно, поеду, — спокойно сказал Жермен. Однако на душе у него было далеко не спокойно. Жермен всегда жил скромно, как живут работящие крестьяне. Женился он двадцати лет и за всю жизнь любил только одну-единственную женщину, а после того, как овдовел, хоть он и был человеком бойким и веселым, он больше ни с кем не смеялся и ни с кем не шутил. Он затаил в сердце своем горе и свято его хранил; поэтому не без страха и печали уступил он настояниям тестя; но тесть всегда разумно управлял семьей, и Жермен, безраздельно посвятивший себя семье, а следовательно, и тому, кто ее возглавлял, не допускал мысли, что можно было не внять основательным соображениям старика, и тем самым поступиться интересами всего дома. И все же он был печален. Дня не проходило, чтобы он втайне не оплакивал свою покойную жену, и, хотя одиночество начинало тяготить его, страх перед новым союзом оказался в нем сильнее желания избавиться от снедавшей его тоски. В голове у него роились смутные мысли, что любовь могла бы принести ему утешение, только придя негаданно, ибо утешает она всегда именно так. Ее не находишь, когда ищешь; она является к нам тогда, когда мы ее не ждем. Этот план, продиктованный холодным расчетом тестя, эта неведомая ему невеста, может быть, даже все то хорошее, что было сказано о ее добродетелях и уме, — все это повергало его в раздумье. И он ушел, раздумывая, но так, как раздумывают люди, которым не хватает собственных мыслей, чтобы столкнуть их друг с другом: он был не в состоянии подготовить веские доводы, чтобы воспротивиться принуждению и отстоять свои интересы, он только страдал от глухой боли и боролся с тем злом, которое надлежало принять. Меж тем дед Морис вернулся на мызу. Наступили сумерки; пока еще не совсем стемнело, Жермен принялся заделывать дыры, которые бараны пробили в изгороди возле строения. Он водворял на место ветки терновника и подпирал их комьями земли, а в это время дрозды щебетали рядом в кустах и, казалось, торопили его: им не терпелось посмотреть на его работу, и они ждали, когда он уйдет.V Гильета
Дома у себя дед Морис застал старуху соседку, которая пришла поговорить с его женой, а заодно и взять горячих углей, чтобы разжечь огонь. Тетка Гильета жила в совсем бедной лачуге на расстоянии двух ружейных выстрелов от мызы. Но это была женщина строгая к себе и обладавшая твердой волей. Убогое жилище свое она содержала в чистоте и порядке; тщательно положенные заплаты на ее платье говорили о том, что, несмотря на всю нищету, она сохранила уважение к себе. — Пришли за огнем на вечер, тетка Гильета? — спросил старик. — Может, вам еще чего надо? — Нет, куманек, — ответила она, — покамест ничего. Вы же знаете, я не попрошайка, не привыкла я зазря добрых людей тревожить. — Что правда, то правда, поэтому-то друзья ваши всегда готовы вам пособить. — Собираюсь я с женой вашей поговорить, узнать у нее, решил наконец Жермен второй раз жениться или нет. — Вы не из болтливых, — ответил старик, — вам все можно сказать и не бояться, что пойдут пересуды. Ну так вот, говорю и жене и вам, что Жермен все окончательно решил: завтра он уезжает в Фурш. — И в добрый час! — отозвалась старуха, жена Мориса. — Бедный! Пошли ему господь жену такую же добрую и славную, как он сам! — Ах, так он едет в Фурш? — проговорила Гильета. — Вот как оно все получается! Ну уж вы меня только что спросили, не хочу ли я чего, так вот знайте, кум Морис, чем вы можете мне помочь. — Говорите, говорите, мы рады что-нибудь для вас сделать. — Хотелось бы мне, чтобы Жермен взял на себя труд дочку мою свезти. — Куда же это? В Фурш? — Нет, не в Фурш, а в Ормо, она там останется до конца года. — Как! — вскричала жена Мориса. — Вы расстаетесь с дочерью? — Пора ей уже на место поступать и что-нибудь зарабатывать. Очень мне это тяжко, да и ей, бедной, тоже. Перед Ивановым днем-то мы никак не могли с ней разлучиться; но вот уж и мартынов день подходит, и ей предлагают хорошее место — пастушкой на ферму в Ормо. Фермер тамошний недавно здесь был, с ярмарки возвращался. Вот он и приметь мою маленькую Мари — та на общинных землях трех барашков пасла. «Ты совсем тут без дела, девочка, говорит, ведь три скотинки на одну пастушку — это все равно что ничего. А ну как я тебя к сотне приставлю? Хочешь? Так поехали, что ли? Пастушка у нас прихворнула, мы ее домой отправляем, так вот, коли через неделю приедешь, получишь пятьдесят франков — за весь конец года, до Иванова дня». Мари ехать к нему отказалась, а сама призадумалась, да вечером мне все и расскажи. Увидала она, что я тужу и невдомек мне, как нам зиму пережить — она в этом году будет длинная и суровая, видали ведь, журавли да дикие гуси на целый месяц раньше пролетели. Поплакали мы обе, однако все же духу набрались и решили. Подумали, что вместе все равно нам нельзя оставаться, ведь и одной-то на нашем клочке земли кормиться нечем; и коль скоро Мари уже подросла — а ей шестнадцать минуло, — надо, чтобы она, как другие, зарабатывала на хлеб и матери помогала. — Тетка Гильета, — сказал старик, — раз дело только в пятидесяти франках, раз они могут решить вашу судьбу, то незачем вам посылать дочку так далеко, я уж как-нибудь вам их добуду, хотя, конечно, пятьдесят франков для людей в нашем положении деньги немалые. Только что бы там ни было, поступать надо всегда хоть и по-дружески, да разумно. Пусть на эту зиму вы и избавитесь от нужды, на будущее вас это не спасет, и чем больше девочка ваша будет медлить с решением, тем труднее вам с ней будет расстаться. Мари уже подросла и окрепла, а у вас ей и делать-то нечего. Может и облениться совсем… — Ну, этого-то я не боюсь, — сказала Гильета. — Мари — девочка выносливая, такие и большое хозяйство подымут, она может и за трудное дело взяться. Ни минуты сложа руки не просидит, а коли работы нет, так в доме столы да стулья чистить начнет, каждый потом ровно зеркало блестит. У девочки золотые руки, и мне во сто раз милее было бы, кабы она к вам в услужение пастушкой пошла, чем в такую даль ее отправлять, да еще к чужим людям. Вы бы ее с Иванова дня нанять могли, кабы мы раньше все обговорили, но теперь-то вы уже работниц набрали, и придется все до будущего года отложить. — Да тут и говорить не о чем, Гильета! Очень буду рад. А покамест пусть к делу привыкает да в людях жить приучается. — Ну разумеется, что решено, то решено. Фермер из Ормо нынче утром опять присылал; мы дали согласие, и ей надо ехать. Только вот она, бедная, дороги не знает, и мне не хотелось бы отправлять ее так далеко одну. А раз уж зятек ваш завтра в Фурш едет, так он может ее с собой прихватить. Мне говорили, это совсем близко от того места, куда она едет; самой-то мне там никогда бывать не приходилось. — Это совсем рядом, и зять мой проводит ее туда. Иначе и быть не может; он посадит ее сзади на свою кобылу, так она и башмаки сбережет. Да вот и он сам, ужинать пришел. Послушай, Жермен, маленькая Мари, тетки Гильеты дочь, пастушкой в Ормо нанялась. Ты захватишь ее с собой, не правда ли? — Ну конечно, — ответил Жермен, который, как он ни был озабочен, всегда был готов помочь людям. В нашем кругу ни одна мать не решилась бы на такой шаг: отправить шестнадцатилетнюю дочь с двадцативосьмилетним мужчиной, ведь Жермену было всего лишь двадцать восемь лет, и, хотя в представлении своих земляков он и был уже стар для жениха, он все еще оставался самым красивым мужчиной в округе. Работа не истомила его и не изнурила, как то бывает с крестьянами, что десять лет протрудятся в поле. У него хватило бы сил еще десять лет пахать землю и не постареть, и очень уж сильны должны были быть в девушке предрассудки касательно возраста жениха, чтобы не заметить, что у Жермена свежий цвет лица, что глаза у него ясные и голубые, как майское небо, губы розовые, отличные зубы, и стан изящный и гибкий, как у молодого коня, не покидавшего еще зеленых лугов. Но есть деревни, удаленные от развратной сутолоки больших городов, где чистота нравов сделалась своего рода священной традицией, и из всех семей Белера семья деда Мориса особенно славилась честностью своей и справедливостью. Жермен ехал, чтобы найти себе жену. Мари была почти что девочкой и слишком бедной, чтобы он мог прочить ее себе в невесты, и только человек без сердца, более того — негодяй, мог позариться на ее невинность. Вот почему дед Морис нимало не обеспокоился, когда зять его посадил эту хорошенькую девушку сзади себя на лошадь. Гильете и в голову не приходило наказывать ему вести себя с ней как с сестрой, она решила бы, что этим его обидит. Мари двадцать раз расцеловала мать и своих юных подруг и, заливаясь слезами, взобралась на лошадь. Жермен, у которого были свои причины печалиться, тем более проникся сочувствием к ее горю и уехал сосредоточенный и серьезный, а все соседи, прощаясь с бедной Мари, махали ей рукой, и в мыслях у них не было ничего худого.VI Малыш Пьер
Сивка была молодая, красивая и сильная кобыла. Она без труда несла свою двойную ношу, приложив уши и кусая удила, как и пристало гордой и норовистой лошади. Пробегая луг, она увидала свою матку, которая звалась старой Сивкой, в отличие от нее, Сивки молодой, и заржала, прощаясь с ней. Старая Сивка подошла к изгороди, позвякивая своими путами, пустилась было вскачь по краю луга вслед за дочерью, но потом, видя, что та понеслась рысью, в свою очередь заржала и осталась стоять задумчивая, настороженная, вбирая ноздрями воздух и не выпуская изо рта пучка травы, которую ей уже не хотелось есть. — Бедная лошадка не забывает свою родню, — сказал Жермен, чтобы отвлечь маленькую Мари от грустных мыслей. — Она напомнила мне, что я, когда уезжал, даже не поцеловал моего малыша Пьера. Этот негодник удрал куда-то! Вчера вечером он все добивался, чтобы я обещал взять его с собой, и целый час проплакал у себя в кроватке. Сегодня утром он и так и сяк старался меня уломать. О, до чего же это хитрая бестия! Как только этот пострел увидел, что дело не выходит, они, видите ли, обиделись. Убежал в поле, а там, гляди, и след простыл. — Я видела его, — сказала маленькая Мари, делая усилие, чтобы сдержать слезы. — Он бежал с детьми Сула возле порубок, и я еще подумала, что он, верно, давно из дому: видно было, что он проголодался, терн да ежевику ел. Я дала ему хлеба, что на завтрак взяла, а он сказал: «Спасибо, милая Мари, придешь к нам, я тебя лепешкой угощу». Очень славный у вас мальчуган, Жермен. — Ну конечно, славный, — ответил пахарь, — я не знаю, что готов для него сделать! Кабы только бабка его не остановила меня, я бы не удержался и непременно его с собой взял — так он, бедняга, плакал и так у него сердечко билось. — Ну так почему же все-таки вы не взяли его с собой, Жермен? Нисколько бы он вам не помешал; он ведь таким умницей бывает, когда всё делают так, как он хочет! — Сдается, он был бы лишним там, куда я еду. Так, во всяком случае, рассудил мой тесть, дед Морис… Что до меня, то я, напротив, думал, что надо бы поглядеть, как его встретят, а ведь такого славного мальчугана должны бы хорошо принять… А вот в семье у нас говорят, что не надо раньше времени показывать, сколько дома забот разных… Не знаю, зачем я все это тебе говорю, маленькая Мари, ты ведь ничего в этом не смыслишь. — Ну как это, Жермен, я знаю, что вы едете жениться: матушка сказала, только не велела никому говорить ни у вас, ни там, куда я еду, и можете быть спокойны, я не скажу никому ни слова. — И хорошо сделаешь: ведь ничего еще неизвестно, может, я совсем той женщине и не подойду. — Надо надеяться, что подойдете, Жермен, почему бы это вам не подойти? — Кто знает? У меня трое детей, а это большая обуза для женщины, коли та им не родная мать! — Это верно, но ведь ваши дети совсем непохожи на всех остальных. — Ты так думаешь? — Они хорошенькие, как ангелочки, и такие воспитанные, что милее и не найти нигде. — Ну, положим, с Сильвеном не очень-то легко поладить. — Он совсем маленький! Как же это можно, чтобы такие да не озорничали! А какой он умный! — Это правда, что умный, да и храбрый! Ни быков, ни коров не боится, а дай ему волю, так он и на лошадь вместе со старшим заберется. — На вашем месте я бы старшего забрала с собой. Уверена, вас сразу бы полюбили за то, что у вас чудный такой мальчуган! — Да, коли только эта женщина любит детей; а вдруг она их не любит? — Неужто есть такие женщины, что детей не любят? — Мало таких, должно быть; но есть все-таки, вот это меня и беспокоит. — Так, выходит, вы совсем не знаете вашей невесты? — Не больше, чем ты, и боюсь, что, когда увижу ее, все равно знать не буду. Человек-то я доверчивый. Скажут мне что-нибудь хорошее, я и поверил: только не один раз мне уже приходилось в этом раскаиваться, слова-то ведь одно, а дела — другое. — Говорят, это очень хорошая женщина. — Кто это говорит? Дед Морис? — Да, ваш тесть. — Пусть так; но ведь он-то ее тоже не знает. — Ну вот вы ее увидите, хорошенько к ней приглядитесь, и надо надеяться, Жермен, что не ошибетесь. — Послушай, маленькая Мари, надо, чтобы ты зашла ненадолго к ним в дом, прежде чем поедешь в Ормо: ты девочка толковая, всегда все с умом делаешь и все примечаешь. Так вот, коли ты заметишь что-то не очень ладное, ты мне тихонько шепнешь. — Ну нет, Жермен, этого я делать не стану! Мне очень будет страшно ошибиться; и к тому же, коли я невзначай о ней что худое скажу и вы раздумаете на этой женщине жениться, ваши тесть и теща мне этого не простят; а у меня и без того горя хватает, не хочу я, чтобы матушка из-за меня еще больше печалилась. В то время как они вели этот разговор, Сивка вдруг рванулась в сторону и насторожила уши, потом вернулась назад и остановилась у куста, где вначале ее испугало что-то такое, к чему теперь она начала внимательно приглядываться. Жермен взглянул на кустарник и увидел во рву под густыми и совсем недавно обрубленными ветками дуба какое-то существо, похожее на ягненка. — Верно, овечка заблудилась, — сказал он, — а то и подохла уже, не шевелится. Может, кто ее ищет, надо посмотреть! — Никакая это не овечка, — вскричала маленькая Мари, — это мальчишка спит… Да это же ваш малыш Пьер! — Вот это да! — отозвался Жермен, сходя с лошади. — Гляньте-ка на этого негодяя: улегся спать так далеко от дома, да еще во рву, где до него легко может добраться змея! Он взял мальчишку на руки, тот открыл глаза, обнял его, улыбнулся и сказал: — Папа, ты меня возьмешь с собой! — Э, да это все та же песенка! Что ты тут делал, негодник этакий? — Ждал, когда папа мимо проедет, — ответил мальчик, — все смотрел да смотрел на дорогу, а потом и уснул. — А что, кабы я проехал и тебя не заметил, ты бы всю ночь на холодной земле пролежал и тебя бы съел волк! — Я же знал, что ты меня увидишь! — уверенно сказал Пьер. — Вот что, сынок, поцелуй-ка папу, попрощайся с ним и беги быстро домой, не то без ужина останешься. — Так, выходит, ты не хочешь меня с собой взять? — закричал малыш и начал тереть ручонками глаза, показывая тем самым, что вот-вот расплачется. — Ты же знаешь, что дедушка с бабушкой этого не хотят, — сказал Жермен, прикрываясь волей старших, как делают обычно те, кто не привык полагаться на свою. Но мальчишка и слышать ничего не хотел. Он залился слезами и стал говорить, что раз отец взял с собой маленькую Мари, он может взять и его тоже. Ему возразили, что придется ехать дремучими лесами, где много злых зверей, которые поедают маленьких детей, что Сивка не хочет везти на себе троих, что она это сама сказала, когда они уезжали, и что там, куда они едут, для таких карапузов нет ни ужина, ни ночлега. Однако все эти красноречивые доводы были бессильны убедить малыша; он кинулся на траву и принялся кататься по ней и кричать, что папа его разлюбил и что, если они его не возьмут с собой, он больше никогда не вернется домой. Жермен был нежным отцом, сердце у него было мягкое, как у женщины. Смерть жены, необходимость одному заботиться о малышах, мысль о том, что бедным сиротам особенно нужна отцовская любовь, сделали его таким, и теперь в нем началась жестокая внутренняя борьба, усугублявшаяся тем, что он стыдился своей слабости и старался скрыть ее от маленькой Мари, — и от всех напрасных усилий лицо его покрылось потом, а глаза покраснели, так что казалось, что и сам он вот-вот расплачется. В конце концов он попытался рассердиться, но стоило ему обернуться и взглянуть на маленькую Мари, как бы призывая ее в свидетели своей душевной твердости, как он увидел, что лицо ее залито слезами. Тут уж мужество окончательно покинуло его, и, несмотря на то, что он все еще продолжал бранить сына и грозить ему, у него самого на глазах показались слезы. — В самом деле, вы чересчур жестоки, — сказала наконец маленькая Мари. — У меня вот никогда не хватило бы духу противиться ребенку, который так огорчен. Знаете что, Жермен, возьмите его с собою. Кобыла ваша привыкла возить на себе двух взрослых и одного ребенка, шурин-то ваш с женой, — а уж она-то куда тяжелее меня, — по субботам всегда ездят на ней на рынок и сына с собой берут. Вы посадите его на лошадь перед собой, а коли надо будет, так я лучше пойду одна пешком, чем малыша огорчать. — Не в этом дело, — ответил Жермен, которому смертельно хотелось, чтобы ее доводы возымели над ним верх. — Сивка — лошадь сильная и двоих еще увезти могла бы, достало бы только места на спине. Но что же мы будем делать с мальчиком дорогой? Он озябнет, проголодается… Кто же о нем позаботится вечером, да и завтра утром: надо ведь его уложить спать, умыть, одеть? Не могу же я затруднять всем этим женщину, которую вовсе не знаю. Она, разумеется, решит, что обращаюсь я с ней для начала слишком бесцеремонно. — Вот вы и увидите, Жермен, обойдется она с ним ласково или холодно, сразу и узнаете, какой она человек, поверьте мне; а уж коли Пьер ей придется не по душе, я позабочусь о нем сама. Я схожу к ней, одену его, а завтра возьму с собой в поле. Весь день буду его ублажать и постараюсь, чтобы все было как надо. — Бедная девочка, да он же тебе надоест! Подумать только, целый-то день с ним возиться! — Напротив, мне это будет радостно, я буду не одна в чужих местах в первый день. Мне будет казаться, что я все еще у себя в деревне. Видя, что маленькая Мари встала на его сторону, мальчуган ухватился за юбку девушки и так крепко держал ее, что пришлось силой разжимать ему кулачки. Как только он увидел, что отец уступил, он обхватил своими загорелыми ручонками руку Мари и поцеловал ее, подпрыгивая от радости и таща ее к лошади с тем горячим нетерпением, какое бывает у детей, когда они чего-нибудь очень хотят. — Тихонько, тихонько, — увещевала его Мари, взяв его на руки, — давай-ка успокоим это маленькое сердечко, а то оно как птичка прыгает, а коли вечером ты, милый, озябнешь, скажи мне, я тебя в свой плащ заверну. Поцелуй-ка папу да попроси у него прощения, что так плохо себя вел. Скажи, что никогда больше не будешь себя так вести, никогда! Слышишь? — Да, да, коли я буду исполнять все его желания, не правда ли? — сказал Жермен, вытирая своим платком глаза малышу. — Ах, Мари, испортишь ты мне этого сорванца!.. Да и в самом-то деле, очень уж ты добра, девочка. И почему же это на иванов день, когда мы пастушек нанимали, тебя не взяли! Ты бы и за детишками приглядела, и лучше бы уж я тебе как следует заплатил за твои заботы, чем теперь мачеху детям искать, та-то, может, еще и решит, что осчастливила меня уже тем, что не будет их ненавидеть. — Не надо все представлять себе в таком мрачном свете, — ответила маленькая Мари, держа поводья, в то время как Жермен усаживал сына на перед широкого вьючного седла, обшитого козьей шкурой. — Коли ваша жена не будет любить детей, вы возьмите меня к себе на будущий год в услужение, и будьте спокойны, им будет со мной так весело, что они ничего не заметят.VII В вересковой роще
— Ну хорошо, — сказал Жермен, когда они проехали несколько шагов, — а что же подумают дома, когда Пьер не вернется к ночи? Старики будут беспокоиться, начнут повсюду его искать. — А вы попросите рабочего, что дорогу чинит, пусть он зайдет к вам домой и скажет, что мы увезли малыша с собой. — Верно, Мари, ты все предусмотрела! Мне и в голову не пришло, что Жанни сейчас должен быть там. — Он ведь совсем близко от мызы живет, ему ничего не стоит к вам зайти. Когда решение было принято, Жермен пустил лошадь рысью, а маленький Пьер был так рад, что не сразу даже вспомнил, что он в этот день не обедал; однако когда лошадь порастрясла его, у него начало подводить живот, и, проехав не более лье, он принялся зевать, весь побледнел и наконец признался, что умирает с голоду. — Ну, началось, — сказал Жермен. — Я так и знал, что стоит нам немного отъехать, и их милость завопит, что хочет есть и пить. — Да, и пить тоже хочу, — пропищал малыш. — Ну что ж, заедем в трактир к тетушке Ребек, в Корлэ. «Рассвет!» Вывеска отличная, а заведение-то дрянное! И ты, Мари, тоже немножко со мной винца выпьешь. — Нет, нет, ничего мне не надо, — сказала девушка, — вы зайдете туда с Пьером, а я пока лошадь покараулю. — Как же это можно, утром ты отдала Пьеру свой хлеб, а сама голодная осталась, пообедать с нами дома тоже не захотела, все только плакала. — Да не хотелось мне есть, очень уж мне было тяжко! Честное слово, мне и сейчас-то ничего не хочется. — Надо заставить себя, девочка, иначе ты заболеешь. Дорога длинная, и не след нам туда голодными приезжать, не то придется вместо «здравствуйте» первым делом говорить «покормите нас». Я сам тебе подам пример, хоть я и не очень голоден; но все-таки поем, тем более что я, как и ты, тоже не обедал. Видел, как вы обе с матерью плачете, и сердце у меня разрывалось. Ну пойдем, я Сивку у ворот привяжу; сходи с лошади, говорю тебе. Они вошли все трое в трактир, и меньше чем через четверть часа хромая толстуха подала им вкусную яичницу, серый хлеб и бутылку красного вина. Крестьяне и вообще-то привыкли есть не спеша, а у Пьера был такой отменный аппетит, что прошло, должно быть, не меньше часа, пока Жермен смог подумать о том, что пора ехать дальше. Маленькая Мари вначале ела, просто чтобы не перечить Жермену; потом понемногу и в ней стал пробуждаться аппетит, ведь в шестнадцать лет долго без еды не протерпишь, а свежий воздух еще больше разжигает голод. Добрые слова, которые Жермен сумел ей сказать, чтобы утешить ее и подбодрить, также произвели свое действие; она постаралась убедить себя, что семь месяцев быстро пролетят, и стала мечтать о том, какое это будет счастье снова очутиться у себя в деревне, в родном доме: ведь дед Морис и Жермен оба обещали ей, что возьмут ее к себе в услужение. Но в ту минуту, когда она начала шутить с малышом и забавлять его, Жермену пришла в голову несчастная мысль показать ей из окна трактира расстилавшуюся внизу долину, которая с этого пригорка видна как на ладони, вся такая зеленая, сияющая и плодородная. Мари взглянула и спросила, не видать ли отсюда дома Белера. — Разумеется, — ответил Жермен, — и мызу, и даже твой дом. Видишь вот серенькую точку возле большого годаровского тополя, пониже колокольни? — Вижу, вижу, — сказала девушка и снова заплакала. — Зря я об этом заговорил, — сказал Жермен, — сегодня я все время делаю глупости! Мари, девочка, поедем скорее, дни-то короткие, через час взойдет луна, и станет совсем свежо. Они пустились в путь, пересекли большой вересник, и так как Жермен не стал особенно погонять Сивку, боясь, что быстрая езда утомит девушку и ребенка, то, когда они проехали большаком и свернули в лес, солнце уже село. Жермен знал дорогу на Манье, но он решил, что ему удастся сократить ее, если он поедет не по Шантелубской тропе, а спустится ниже, чтобы ехать через Пресль и Сепюльтюр, избрав другую тропу — ту, на которую ему никогда не случалось сворачивать раньше, когда он ездил на ярмарку. Но тут он сбился, и прошло еще сколько-то времени, прежде чем они въехали в мелколесье; к тому же въехали они туда не там, где было нужно, и он даже не заметил, как стал отдаляться от Фурша и взял гораздо выше, в сторону Арданта. Освоиться с местностью ему помешал туман, поднявшийся вместе с наступлением темноты, один из тех вечерних осенних туманов, которые от лунной белизны становятся еще гуще и еще больше сбивают путника. От больших болот, которых так много на лесных прогалинах, подымались густыеиспарения, и узнать, что Сивка ступает по воде, можно было только по хлюпанью ее копыт и по тем усилиям, которые ей приходилось делать, чтобы вытащить ноги из грязи. Когда они наконец нашли хорошую и совсем прямую тропу и когда, проехав по ней до конца, Жермен стал оглядывать местность, он обнаружил, что окончательно заблудился. Описывая дорогу, тесть упоминал о том, что по выходе из леса будет очень крутой спуск, после чего надо будет проехать большими лугами и два раза перейти речку вброд. Он даже еще советовал ему очень осторожно входить в эту речку, потому что в начале осени тут прошли большие дожди и вода могла довольно сильно подняться. Не видя перед собой ни спуска, ни луга, ни реки, а только одну вересковую рощу, белую и словно запорошенную снегом, Жермен остановился, стал высматривать, не выглянет ли откуда-нибудь путник и не блеснет ли вдали огонек, но не нашел ничего, что могло бы ему помочь. Тогда он вернулся назад и углубился в лес. Туман становился все гуще, луны уже совсем не было видно, дорога была ухабиста, а водомоины глубоки. Два раза Сивка едва не упала; ноша ее была так тяжела, что она совсем обессилела. Но если она все же могла еще что-то видеть и не натыкалась на деревья, то седокам ее зато приходилось иметь дело с толстыми сучьями, сплетавшимися на высоте их голов, что было крайне опасно. При одном из таких толчков Жермен потерял шляпу, и ему стоило большого труда ее найти. Малыш заснул и, повиснув на руках отца, так мешал ему, что тот уже был не в состоянии ни удержать, ни направить лошадь. — Нас, верно, околдовали, — сказал Жермен и остановился. — Леса эти не настолько велики, чтобы в них заблудиться, коли ты не пьян, а мы вот уже битых два часа кружим и все никак не можем из них выбраться. У Сивки нашей одно на уме — как бы поскорее домой вернуться, она-то меня и сбила. Захоти мы домой ехать, можно было бы на нее положиться. Но теперь, когда мы, может, в двух шагах от места ночлега, надо быть сумасшедшим, надо ума не иметь, чтобы назад повернуть, дорога-то ведь предлинная. Только я все-таки не знаю, что делать. Ни зги не видать, и, боюсь, не простудился бы мальчишка, коли мы застрянем в этом проклятом тумане, и, не ровен час, лошадь еще споткнется и упадет, так мы его и придавить можем. — Не стоит нам упрямиться, — сказала маленькая Мари. — Сойдем, Жермен, дайте мне Пьера, я отлично его донесу, и я лучше услежу за тем, чтобы плащ не развернулся. Вы поведете кобылу под уздцы, и мы, может, лучше все разглядим, когда пойдем пешком. Однако эта мера уберегла их разве что от падения с лошади, так как туман наползал и наползал и, казалось, совсем прилип к влажной земле. Идти было тяжело, и вскоре они до того выбились из сил, что, найдя наконец сухое место под большими дубами, вынуждены были остановиться. С маленькой Мари пот лил ручьями, но она ни на что не жаловалась и выглядела спокойной. Занятая одним только Пьером, она села на песок и посадила его себе на колени, а меж тем Жермен, привязав Сивку поводьями к суку, принялся обследовать окрестности. Но Сивка, которой все уже до крайности надоело, рванулась, распутала поводья, порвала подпругу и, вырвавшись на свободу, несколько раз отчаянно брыкнула и скрылась в зарослях, показав тем самым, что знает, куда идти. — Да, — сказал Жермен, тщетно пытавшийся ее догнать, — теперь мы пешие, и найди мы даже верную дорогу, нам это ни к чему: ведь реку-то пришлось бы переходить вброд, а воды на дорогах столько, что не иначе, как весь луг затопило. А никакого другого пути мы не знаем. Выходит, надо ждать, пока рассеется туман, это будет через час или два. Как только просветлеет, выйдем на опушку леса, будем искать жилье, какое уж там попадется; ну а покамест никуда нам нельзя уходить отсюда; вон ров, озерцо, уж и не знаю, что еще; а сзади нас тоже неведомо что, я ведь даже не могу понять, с какой стороны мы сюда зашли.VIII Под большими дубами
— Ну что же, наберемся терпения, Жермен, — сказала маленькая Мари. — Не так уж нам плохо тут, на пригорке. У этих больших дубов такая густая листва, что дождь нас не замочит, и мы можем даже костер разжечь, старые пни-то трухлявые и совсем сухие — сразу вспыхнут. Огонь у вас есть, Жермен? Вы ведь только что трубку курили. — Был, да сплыл! Огниво у меня в мешке лежало вместе с дичью, той, что я невесте вез, все было к седлу привязано; да вот проклятая кобыла все унесла, даже плащ мой — и тот, теперь непременно его потеряет или о сучья раздерет. — Нет, Жермен, седло, плащ, мешок — все тут, на земле, у ваших ног. Сивка порвала подпругу и, когда убегала, все раскидала. — Оно и впрямь так! — обрадовался Жермен. — И коли мы тут малость пошарим да валежника соберем, мы и обсушимся и согреемся. — Совсем это нетрудно, — сказала маленькая Мари, — он тут всюду под ногами хрустит, только дайте мне сначала седло. — На что оно тебе? — Постель хочу малышу приготовить. Нет, не так, переверните. Ну вот, теперь он никуда на скатится, а оно еще теплое, после лошади-то. Там вон камни, подложите-ка их с обеих сторон. — Не вижу я тут никаких камней! Кошачьи у тебя глаза! — Ничего, все на месте, Жермен! Давайте-ка сюда ваш плащ, я ему ножки в него заверну, а своим укрою. Глядите, ему тут, право же, не хуже, чем дома, в кроватке. Пощупайте, какой он теплый! — И вправду теплый! Умеешь же ты за детьми ухаживать, Мари! — Это дело нетрудное. Поищите-ка в мешке огниво, а я натаскаю сухостоя для костра. — Не будет это дерево ни за что гореть, отсырело. — Во всем-то вы сомневаетесь, Жермен! Забыли вы, что ли, как пастухом были и на поле в проливной дождь костры разводили? — Да каждый мальчишка, что стада пасет, это умеет, а я вот едва ходить научился, как быков погонять пришлось. — Вот потому-то у вас в руках силы много, а ловкости нет. Ну вот, костер я разложила, поглядите теперь, будет ли он гореть или нет! Дайте-ка мне огня да немножко сухого папоротника. Вот теперь раздувайте; грудь-то у вас крепкая, вы же ведь не чахоточный. — Да не знаю уж, — сказал Жермен и принялся раздувать огонь не хуже, чем из кузнечного меха. Через несколько мгновений пламя вспыхнуло, озарило все красным светом, а вслед за тем синими языками поднялось под сенью дубов, борясь с туманом и понемногу осушая воздух футов на десять в окружности. — Сяду-ка я около малыша, чтобы искры на него не упали, — сказала девушка. — А вы, Жермен, подбрасывайте дров да костер шевелите! Ручаюсь вам, никакая простуда к нам не пристанет. — Право же, ты девочка смышленая, — сказал Жермен, — и костер разжигать умеешь, точно колдуньи, что по ночам бродят. С тобой я приободрился; а то, знаешь, я ведь по колено в воде шел, промок весь и вижу, ничего не остается, как утра ждать. Вот я и приуныл. — А когда человек приуныл, он ничего и придумать не может, — ответила маленькая Мари. — Ну, а ты разве никогда не унываешь? — Нет, никогда. Чего ради мне унывать? — Оно конечно, не для чего, но как с этим совладать, когда у тебя горе? Господь знает, что и ты хватила горя немало, бедняжка: не всегда ведь ты жила счастливо! — Это верно, нелегко нам пришлось, матушке бедной да мне, много у нас было огорчений, только мы никогда не падали духом. — Я тоже никогда не падал духом, как бы ни тяжка была работа, а вот нищета бы меня извела; я-то ведь жил и нужды не знал! Жена мне богатая досталась, да и сам я нынче не беден и не обеднею, пока на мызе работать буду, а уходить я с нее не собираюсь. Но у каждого, видно, свое горе! У меня вот тоже. — Знаю, вы все по жене тужите, жалею я ее очень! — Правда? — Ах, сколько я по ней плакала, Жермен! Такая хорошая была! Ну ладно, не будем больше об этом, не то я опять разревусь, сегодня что-то все самое горькое вспоминается. — А ведь она действительно очень тебя любила, маленькая Мари! Очень она вас обеих с матерью уважала. Что с тобой? Ты плачешь? Послушай, Мари, не приведи бог, я еще плакать начну. — А вы уже плачете, Жермен! Вы сами плачете! Да разве это так уж стыдно, когда муж плачет по жене? Не стесняйтесь, прошу вас! Мне ведь это, как и вам, что нож острый! — У тебя доброе сердце, Мари, и мне очень хорошо, когда я плачу с тобой вместе. Ноги-то к огню протяни; юбка у тебя совсем мокрая, бедняжка! Погоди, давай-ка поменяемся местами: я побуду с малышом, а ты пока погрейся получше. — Мне тепло, — сказала Мари, — а коли вы хотите сесть, то подложите под себя край плаща, право же, мне хорошо так. — Здесь и в самом деле неплохо, — сказал Жермен, подсаживаясь совсем близко к ней. — Только я вот малость проголодался. Сейчас девять часов вечера, а по этим мерзким дорогам так было тяжело идти, что я совсем вымотался. А разве ты не проголодалась, Мари? — Я? Нисколько. Я ведь не привыкла, как вы, четыре раза в день есть, и мне так часто приходилось ложиться без ужина, что одним разом больше ничего для меня не составляет. — Так ты, оказывается, удобная жена, на тебя много тратиться не придется, — улыбнувшись, сказал Жермен. — Никакая я не жена, — простодушно ответила Мари, не замечая, какое направление принимают мысли Жермена. — Видно, вам пригрезилось что? — Да, наверно, пригрезилось, — ответил Жермен, — это все от голода! — И охочи же вы до еды! — вскричала она, сама немножко развеселившись. — Ну да ладно, раз уж вы никак не можете пять-шесть часов голодный пробыть, так что у вас в мешке дичи, что ли, нет или огня нет, чтобы ее поджарить? — Неплохая мысль, черт возьми! А как же подарок будущему тестю? — Так у вас же шесть куропаток да заяц в придачу! Сами досыта наедитесь, да еще и останется! — Да, но как же здесь жарить — ни вертела, ни жаровни, все в уголь обратится! — Вовсе нет, — сказала маленькая Мари, — берусь вам испечь птицу в золе, и так, что нисколько она дымом не будет пахнуть. Вы что, никогда разве жаворонков не ловили в поле и не жарили их между камнями? Ах, верно, совсем забыла, вы же пастухом не работали! Давайте-ка ощиплите эту куропатку! Да не рвите так сильно, вы так всю кожу ей раздерете! — Ты могла бы ощипать другую, чтобы показать мне, как это надо делать. — Так вы, значит, хотите съесть две? Ну и обжора… Ну вот я их и ощипала, сейчас буду поджаривать. — Из тебя бы вышла отличная маркитантка, маленькая Мари, но, к сожалению, у тебя нет походной кухни, и мне придется пить воду прямо из болота. — А вы бы не прочь винца выпить, не правда ли? Может, вы и от кофейку бы не отказались? Будто вы на ярмарке, под навесом! Позовите же трактирщика: подайте настойки искусному пахарю из Белера! — Ах, злючка, ты еще потешаешься надо мной? Ты же ведь все равно не стала бы пить вино, хоть бы оно и нашлось? — Я? Я вот сегодня вечером с вами у тетушки Ребек выпила, второй раз за всю жизнь; но если вы будете себя хорошо вести, могу вам дать бутылку, почти полную, да еще какого вина! — Как же это, Мари! Ты что, в самом деле колдунья? — А не вы ли сами разве такую глупость сотворили, у тетушки Ребек две бутылки вина спросили? Одну вы с вашим малышом выпили, а из той, что вы мне поставили, я разве что несколько капель глотнула, а заплатили-то вы за обе и глазом не моргнули. — Ну и что же? — А вот что: ту, что не допили мы, я спрятала в корзину — подумала, может, дорогой вам или малышу пить захочется; вот она. — Ты самая предусмотрительная девушка из всех, каких я на своем веку видел. Подумать только, когда мы выходили из трактира, она, бедная, плакала! И это не помешало ей подумать о других больше, чем о себе. Маленькая Мари, не дурак будет тот, кто на тебе женится. — Думать надо, дурака-то я бы не полюбила. Ешьте же ваших куропаток, они совсем готовы, а уж наместо хлеба, ничего не поделаешь, будут каштаны. — Где же это, черт возьми, ты еще и каштанов достала? — Нашли чему удивляться! Всю дорогу я их рвала и набрала полные карманы. — И они уже печеные? — Хороша бы я была, коли сразу бы их в огонь не положила! В поле всегда так делают. — Ну ладно, маленькая Мари, теперь мы с тобой поужинаем вместе! Хочу выпить за твое здоровье и пожелать тебе хорошего мужа… Такого, какого тебе самой захочется. А ну-ка скажи какого? — Не знаю уж, что и сказать, Жермен, я ведь совсем об этом не думала. — Как, совсем не думала? Никогда? — удивился Жермен, начавший уже есть с присущим пахарю аппетитом, но отрезая, однако, кусочки получше для своей спутницы, которая продолжала упрямо от всего отказываться, довольствуясь только несколькими каштанами. — Скажи мне, маленькая Мари, — спросил он, видя, что она и не собирается ему отвечать, — выходит, ты никогда еще не думала о том, чтобы выйти замуж? А ведь время-то уж подошло! — Может, оно и так, — ответила она, — но я слишком бедна. Надо накопить не меньше сотни экю на приданое, а для этого я должна проработать лет пять-шесть. — Бедная девочка! Хотел бы я, чтобы дед Морис дал мне сотню экю, я бы сделал тебе подарок. — Большое вам спасибо, Жермен. Только что бы про меня тогда стали говорить? — А что бы кто мог сказать? Все знают, что я уже в годах и не могу на тебе жениться. Поэтому никто не подумает, что я… что ты… — Послушайте, Жермен, мальчик-то проснулся, — сказала маленькая Мари.IX Вечерняя молитва
Пьер привстал и задумчиво стал оглядывать все вокруг. — Ничего, это он всегда так, когда слышит, что люди едят! — сказал Жермен. — Вообще-то его из пушки не разбудишь; но стоит ему услыхать, что кто-то жует, он тут же открывает глаза. — В его годы вы, верно, тоже были таким, — сказала маленькая Мари, лукаво улыбаясь. — Ну что, милый мой, ты ищешь полог своей кроватки? Сегодня он из листьев, детка моя; но отец твой как-никак ужинает. Хочешь с ним поесть? Я ведь твою долю не трогала. Все ждала, когда ты ее спросишь! — Мари, изволь есть! — вскричал Жермен. — Не то я больше ни к чему не притронусь. Обжора я, мне бы только брюхо набить, а ты вот последнее отдаешь. Не дело это, меня совесть зазрит. Мне вот теперь и кусок в горло не лезет; не хочу я, чтобы и сын мой ужинал, коли ты не станешь ужинать с нами. — Оставьте нас в покое, — ответила маленькая Мари, — аппетит наш вовсе и не думает вам подчиняться. Я вот свой сегодня на замок заперла, а ключа-то у вас и нет, а у вашего Пьера на лице написано, как он изголодался, точно волчонок какой. Взгляните только, как он за дело взялся! О, из этого парня толк выйдет! В самом деле, мальчуган скоро доказал, что он сын своего отца; не успел он еще окончательно проснуться и толком не понимая ни где он, ни как сюда попал, он принялся уплетать за обе щеки. Потом голод немного улегся, и он пришел в возбужденное состояние, как то бывает с детьми, когда нарушаются их привычки, и вдруг обнаружил больше ума, любопытства и рассудительности, чем в обычных условиях. Ему объяснили, где он находится, и, когда он узнал, что вокруг лес, он немножко испугался. — А злые звери в этом лесу есть? — спросил он отца. — Нет, — ответил Жермен, — никаких зверей здесь нет. Тебе нечего боятся. — Выходит, ты мне все наврал, когда сказал, что, коли я поеду с тобой в густой лес, там меня утащат волки? — Видите, как мы умеем рассуждать? — сказал Жермен, не зная, что и ответить. — Он прав, — сказала маленькая Мари, — вы же ему это сами сказали; у него хорошая память, он все помнит. Ну так знай, милый Пьер, что отец твой никогда не лжет. Мы проезжали большим лесом в то время как ты спал, а теперь мы в маленьком лесу, и никаких злых зверей тут нет. — А что, маленький лес далеко от большого? — Довольно далеко; к тому же волки не выходят из большого леса. И знай, кабы какие-нибудь волки и забрели сюда, твой отец их бы тут же убил. — И ты тоже, маленькая Мари? — И мы тоже, ты бы ведь нам помог, Пьер, не правда ли? Ты не боишься? Ты бы им показал! — Да, да, — сказал мальчуган гордо и набираясь храбрости, — мы бы их убили! — Ты лучше всех умеешь с детьми говорить и вразумить их можешь! Оно и неудивительно: давно ли еще ты сама была ребенком, ты помнишь все, чему тебя мать учила. По мне, так чем человек моложе, тем он лучше понимает детей. Я очень боюсь, что женщине, которой уже за тридцать и которая до сих пор не знает, что такое быть матерью, трудно будет научиться болтать с малышами и их уговаривать. — Но почему бы и нет, Жермен? Невдомек мне, чего это вы такого дурного мнения об этой женщине. Ну, да оно еще переменится! — К черту ее! — сказал Жермен, — Я хотел бы, чтобы все переменилось так, чтобы я не должен был больше о ней думать. На что мне нужна жена, которой я совсем не знаю? — Папа, — сказал малыш, — что же это ты сегодня все говоришь о своей жене, она ведь умерла?.. — Подумать только, ты, значит, не забыл свою бедную маму? — Нет, я же видел, как ее положили в красивый такой белый деревянный ящик, а бабушка подвела меня и велела с ней попрощаться!.. А она была совсем белая и холодная, и каждый вечер тетя заставляет меня молиться боженьке, чтобы он ее согрел у себя на небе. Как по-твоему, она сейчас там? — Надеюсь, что да, милый. Только надо все время о ней молиться, мама твоя тогда увидит, что ты ее любишь. — Сейчас я прочту молитву, — ответил мальчик, — сегодня я совсем про нее позабыл. Только я не могу ее один читать; всегда что-нибудь да спутаешь. Пусть маленькая Мари мне поможет. — Хорошо, милый, сейчас я тебе помогу, — сказала девушка. — Иди-ка ты сюда и стань на колени. Мальчик стал на колени на подол юбки, который ему подстелила Мари, сложил ручонки и принялся читать молитву, сперва очень решительно, потому что твердо знал наизусть начало, а потом — медленнее и неувереннее и наконец принялся слово в слово повторять то, что ему шептала маленькая Мари, пока не дошел до места, которое всякий раз бывало для него камнем преткновения; стоило ему дойти до него, как он непременно засыпал. И теперь напряжение внимания и монотонность, с которой он бормотал слова молитвы, произвели свое обычное действие; с большим усилием произнес он последние слоги, и то заставив себя перед этим три раза их повторить; голова его отяжелела и склонилась на плечо Мари, руки разъединились и, ослабев, упали на колени. При свете костра Жермен посмотрел на своего ангелочка, заснувшего на груди у девушки, которая, обняв его и согревая своим чистым дыханием его белокурые волосы, погрузилась в благоговейное раздумье и мысленно молилась о спасении души покойной Катрин. Жермена это умилило; ему хотелось высказать маленькой Мари, как глубоко он ее уважает и как благодарен ей за все, но он так и не смог найти подходящих слов. Он наклонился над ней, чтобы поцеловать мальчика, которого она по-прежнему прижимала к груди, и ему трудно было оторвать губы от личика Пьера. — Слишком вы его крепко целуете, — сказала Мари, слегка отстраняя голову Жермена, — так вы его разбудите. Дайте-ка я его уложу, он уже снова видит райские сны. Мальчик дал себя уложить, но, раскинувшись на козлиной шкуре, он вдруг спросил, едет он все еще на Сивке или нет. Потом, открыв свои большие голубые глаза и устремив их на минуту на ветки, он, казалось, не то грезил наяву, не то просто не мог отделаться от мысли, которая овладела им еще днем, а теперь, перед тем как ему уснуть, определилась особенно четко. — Папа, — сказал он, — коли ты надумал мне новую маму подарить, то я хочу в мамы маленькую Мари. И, не дожидаясь ответа, он закрыл глаза и заснул.X Невзирая на холод
Маленькая Мари не придала большого значения странным словам мальчика и сочла их просто доказательством того, что он к ней успел привязаться. Она заботливо укутала его, подкинула в огонь валежника и, так как туман, застлавший соседнее болото, нисколько не рассеивался, посоветовала Жермену прилечь у костра и соснуть. — Вижу, что вас уже клонит ко сну, — сказала она, — вы как воды в рот набрали и на огонь глядите точь-в-точь как только что глядел Пьер. Ложитесь-ка и спите, а я буду вас обоих стеречь. — Нет, это ты спи, — ответил Жермен, — стеречь буду я, ни малейшего желания спать у меня нет, у меня сейчас полсотни мыслей в голове бродит. — Полсотни — это много, — сказала девушка с легкой насмешкой, — немало есть людей, которые рады были бы и одной! — Ну ладно, пусть на полсотни меня не хватит, но одна-то задумка, по крайней мере, есть, и вот уже час, как она ко мне прицепилась и никуда от нее не деться. — А я вот вам скажу, какая, да и те, что перед ней были, тоже. — Ну так скажи, Мари, коли ты угадала, скажи мне сама, мне приятно будет все от тебя услышать. — Час тому назад, — сказала она, — вам хотелось есть… А сейчас вам хочется спать. — Мари, я, правда, всего-навсего погонщик быков, но ты уже вообразила, что я и сам бык. Злючка ты, вижу, что не хочешь ты со мной говорить. Спи уж, это лучше, чем осуждать того, у кого невесело на душе. — Хочется вам поговорить, так давайте поговорим, — сказала маленькая Мари и прилегла возле Пьера, положив голову на седло. — Вы настроены себя терзать, Жермен, а мужчине надо быть твердым. Чего бы я только не наговорила, если бы не противилась своему горю как только могу! — Да, конечно, это-то и не дает мне покоя! Бедная девочка! Ты будешь жить вдали от родного дома, в этих мерзких местах, где только вересник да болота, где ты еще, чего доброго, подхватишь осеннюю лихорадку, где трудно вырастить овец, — а это всегда огорчение для пастушки, ей ведь хочется, чтобы дело-то ладилось; вдобавок ты будешь окружена чужими людьми, те, может, будут плохо с тобой обращаться, не поймут, какая ты хорошая. Знаешь, меня все это так мучит, что и сказать не могу, и мне хочется отвезти тебя к твоей матери вместо того, чтобы ехать в Фурш. — В ваших словах много доброты, но ведь надо же быть и рассудительным, Жермен; не надо так бояться за своих друзей. Наместо того чтобы говорить о том дурном, что меня ждет, вы бы лучше сказали мне что-нибудь хорошее, как тогда, когда мы закусывали у тетушки Ребек. — Ничего не поделаешь! Тогда я думал так, а сейчас иначе. Лучше тебе выйти замуж. — Этому не бывать, Жермен, я вам уже сказала, а раз не бывать, то я об этом и не вспоминаю. — Ну, а представь себе, вдруг бы это и удалось? Вот рассказала бы ты мне, какого мужа ты себе хочешь, а я бы, глядишь, и нашел. — Вообразить не значит еще найти. А я и не воображаю ничего, потому как все это без толку. — Тебе, может, хотелось бы мужа богатого? — Ну конечно, нет, сама-то я бедна, как Иов. — Но ведь окажись это человек с достатком, ты, верно, ничего бы не имела против. Плохо разве жить в хорошем доме, вкусно есть, нарядно одеваться и быть среди славных людей, таких, что позволили бы тебе матери помогать? — Ну да, конечно, помогать матушке — это для меня главное. — А кабы такой случай представился, ты бы согласилась, будь этот человек хоть и не очень молодой, не стала бы привередничать? — Ну нет уж, увольте, Жермен. На такого я не соглашусь. Старика-то мне никак не полюбить! — Старика-то ладно, а, к примеру, взять человека моих лет? — Ваши годы мне не подходят, Жермен; вы ведь намного меня старше. Бастьен — тот другое дело, хоть Бастьен и не такой красавец, как вы. — Так тебе больше нравится Бастьен-свинопас? — сказал Жермен недовольным голосом. — Да у него ведь глаза все равно что у свиней, которых он стережет. — Простила бы я ему его глаза за его восемнадцать лет. Жермен почувствовал страшную ревность. — Вот оно что, я вижу, ты неравнодушна к Бастьену, — сказал он. — Что там ни говори, все это какая-то чепуха! — Да, это в самом деле была бы чепуха, — сказала маленькая Мари, покатываясь со смеху, — вот уж нескладный был бы муж. Только скажи что при нем, он чему угодно поверит. Я вот тут как-то в садике у господина кюре помидорину подобрала, а Бастьену говорю: какое, мол, яблоко красное, он возьми да и кусни сразу, будто век яблок не видал. Посмотрели бы вы, какую он рожу состроил! Господи, какой он тогда был дурной! — Выходит, ты его не любишь, раз ты так над ним издеваешься? — Ну, положим, это еще ничего не значит. Только я все равно его не люблю: очень он грубо со своей сестренкой обращается, да и грязнуля такой. — Так, так! А другой никто тебе не приглянулся? — А вам-то что, Жермен? — Ровно ничего, так, к слову пришлось. Вижу, девочка, что у тебя уже есть кое-кто на примете. — Нет, Жермен, ошибаетесь, никого у меня нет; придет время, может, и будет; только раз уж я решила, что замуж выйду тогда лишь, когда деньжат немного поднакоплю, то, значит, мне суждено выйти поздно и за старого. — Так выходи за старого сейчас. — Ну нет, тогда я сама уже не буду молодой, мне это будет все равно, а теперь нет. — Вижу, Мари, что я тебе не нравлюсь, — сказал Жермен раздраженно и уже не соображая, что говорит. Маленькая Мари ничего не ответила. Жермен наклонился к ней; девушка спала, она свалилась словно подкошенная, сраженная сном, как то бывает с маленькими детьми, которые засыпают, все еще продолжая что-то лепетать. Жермен рад был, что она не расслышала последних слов; он понял, что сказал глупость, и теперь повернулся к ней спиной, чтобы немного отвлечься и подумать о чем-нибудь другом. Но все было напрасно, уснуть ему не удалось, не удалось и направить свои мысли на другое. Он встал и раз двадцать обошел вокруг костра, отходил в сторону, возвращался. Наконец, чувствуя себя так, как будто наглотался пороха, он прислонился к дереву, под которым спали оба ребенка, и загляделся на них. «Не знаю, как это я раньше не замечал, что маленькая Мари самая хорошенькая девушка в округе!.. — подумал он. — Она бледненькая, но личико у нее свежее, как лесная роза! Какие прелестные губки, какой славный носик!.. Она не велика для своих лет, но она вся такая стройная и легкая, как перепелочка!.. Не знаю, почему это у нас все хотят, чтобы женщины непременно были высокие, толстые, румяные… Жена — та была худенькая и бледная, и нравилась она мне больше всех… А эта на вид очень хрупкая, но совсем не слабая, и такая хорошенькая, что беленькая козочка!.. А взгляд-то у нее какой открытый и нежный; по глазам можно узнать, что у нее доброе сердце, даже когда они закрыты и она спит!.. А уж насчет ума, так тут она и мою милую Катрин перешибет, что правда, то правда, и с ней не соскучишься… Веселая, умная, работящая, ласковая — и презабавная. Лучше и желать нечего…» «Но какое мне до всего этого дело? — спрашивал себя Жермен, стараясь взглянуть на все с другой стороны. — Тесть мой и слышать об этом не захочет, и вся семья решит, что я сошел с ума!.. Да и ей-то, бедной, я ни к чему!.. Слишком стар, говорит… Ее нисколько не соблазняет богатство, она готова жить в нищете, делать всю черную работу, одеваться в тряпье и голодать два-три месяца в году, лишь бы потом для нее настал счастливый день и она нашла себе мужа по вкусу… Что же, она права! Я бы так же поступил на ее месте… И сейчас вот, вместо того чтобы связывать себя браком, который мне вовсе не мил, я бы выбрал себе девушку по сердцу…» Чем больше Жермен старался привести в порядок свои мысли, тем меньше ему это удавалось. Он уходил шагов на двадцать в сторону, скрывался в тумане, а потом вдруг неожиданно оказывался на коленях возле спящих детей. Раз он даже хотел поцеловать малыша, который обнимал одной рукою Мари, и так счастливо обознался, что девушка, почувствовав, как огненное дыхание пробегает у нее по губам, проснулась и испуганно на него посмотрела, не понимая, что же с ним такое происходит. — Я и не заметил вас, детки, — сказал Жермен, тут же отпрянув назад. — Чуть не свалился на вас, мог бы вас ушибить. Маленькая Мари простодушно поверила и снова заснула. Жермен перешел на другую сторону костра и дал себе клятвенное обещание, что ни шагу не сделает до тех пор, пока девушка не проснется. Он сдержал свою клятву, но ему это стоило страшных усилий. Ему показалось, что он сходит с ума. Наконец около полуночи туман рассеялся, и сквозь листву Жермен увидел сверкавшие звезды. Луна тоже вырвалась из-под пены облаков и начала рассыпать алмазы на сырой мох. Стволы дубов оставались погруженными в величественную темноту, а чуть подальше, точно призраки в белых саванах, выстроились березы. Пламя костра отражалось в водах болота, и начинавшие уже привыкать к огню лягушки отважились подать голос: высокие ноты робко огласили воздух; угловатые ветви старых деревьев, облепленные белыми лишаями, тянулись вширь и сплетались над головами наших путников, как огромные костлявые руки: это было красивое место, но такое пустынное и мрачное, что Жермен, уставший от этого гнета, принялся распевать песни и бросать в воду камешки, стараясь заглушить этим свою безысходную тоску. Ему хотелось разбудить маленькую Мари; когда же он увидел, что она проснулась и силится узнать, который теперь час, он предложил тронуться в путь. — Часа через два, — сказал он, — когда начнет светать, станет так холодно, что нам тут все равно не высидеть, даже и с костром… Сейчас уже не такая темень, можно идти, и мы отыщем либо какой-нибудь дом, куда нас пустят, либо овин, где мы сможем укрыться от холода. Мари отрешилась от собственной воли; как ее ни клонило ко сну, она приготовилась следовать за Жерменом. Тот взял сына на руки, не будя его, и предложил Мари укрыться вместе с ним под его плащом, так как девушке не хотелось раскутывать малыша, которого она завернула в свой. Ощутив прикосновение ее тела, Жермен, который немного уже было отвлекся и развеселился, снова стал терять голову. Два или три раза он вдруг бросал ее и шел один. Потом, видя, что ей трудно поспевать за ним, он останавливался и ждал, а потом так стремительно притягивал ее к себе и так плотно прижимал, что девушка поражалась и даже сердилась, но не говорила ни слова. Так как ни тот, ни другая не могли определить, с какой стороны они пришли, они не знали также, в каком направлении они идут теперь. Поэтому получилось так, что они обошли еще раз весь лес, снова очутились перед вересковой рощей, вернулись на прежнее место и после долгих блужданий увидели за деревьями свет. — Ну вот и дом! — вскричал Жермен. — И, видать, люди уже проснулись, огонь горит. Стало быть, уже утро! Но он ошибся: это был всего-навсего костер, тот самый, который они засыпали, уходя, и который разгорелся от ветра… Пробродив добрых два часа, они вернулись на прежнее место.XI Под открытым небом
— Хватит, к черту все! — вскричал Жермен, топнув ногой. — Дело ясное, нас околдовали, и выберемся мы отсюда, только когда совсем рассветет. Тут, видно, нечистая сила водится. — Ну полноте, не будем сердиться, — успокаивала его Мари, — давайте лучше подумаем, что нам делать. Разведем костер побольше; Пьер у нас хорошо укутан и не простудится, и от того, что мы проведем ночь под открытым небом, с нами ничего не случится. Куда вы дели седло, Жермен? В самый терновник упрятали? Нечего сказать, умно! Очень будет удобно оттуда его доставать! — Подержи пока малыша, а я вытащу его постель из кустов; я не хочу, чтобы ты руки себе исколола… — Все уже готово, вот постель, а колючки не такие уж страшные, это ведь не иголки, — даже не поморщившись, сказала девушка. Она снова стала укладывать Пьера, который на этот раз так крепко уснул, что вообще не заметил совершенного ими перехода. Жермен подбросил в костер большую охапку хвороста, и отблески пламени озарили весь лес вокруг. Но силы маленькой Мари совсем иссякли, и, хоть она и ни на что не жаловалась, она еле стояла на ногах. Девушка побледнела и вся дрожала от холода и изнеможения, зубы у нее стучали. Жермен обнял ее, чтобы немного согреть; беспокойство за нее, сочувствие и порывы неодолимой нежности, исходившей из сердца, взяли верх над грубой чувственностью. Как по мановению волшебного жезла, язык его развязался; от смущения не осталось и следа. — Мари, — сказал он, — ты мне нравишься, и меня очень печалит, что я не нравлюсь тебе. Знай, что, захоти ты только пойти за меня, никакой тесть, никакие родные, никакие соседи, ничьи советы не могут мне помешать на тебе жениться. Детям моим ты принесла бы счастье, научила бы их чтить память матери, совесть моя была бы спокойна, а сердце радовалось. Мне всегда было приятно глядеть на тебя, а теперь вот я так тебя люблю, что стоит тебе только попросить, чтобы я всю мою жизнь исполнял бесчисленные твои желания, и я в этом тут же поклянусь. Видишь, какая это любовь, так постарайся же забыть разницу между нами в летах. Ошибаются те, кто думает, что в тридцать мужчина уже стар. К тому же мне всего двадцать восемь! Молоденькая девушка боится, что ее будут осуждать за то, что она выйдет замуж за человека на десять — двенадцать лет ее старше, потому только, что в наших краях это не принято. Но я слыхал, что в других местах на это не обращают никакого внимания; что, напротив, считают правильным, чтобы у девушки была надежная опора, рассудительный, знающий жизнь мужчина, а не какой-нибудь молодой вертопрах, который легко может сбиться с пути и из славного малого, каким его все считали, превратиться в шатуна и гуляку. К тому же настоящий возраст определяется отнюдь не числом лет. Все зависит от того, сколько у человека сил и крепкое ли здоровье. Когда он изможден работой и нуждой или же распутством, он может состариться и в двадцать пять. А я вот… Но ты не слушаешь, что я говорю, Мари. — Нет, слушаю, Жермен, я все хорошо понимаю, только я думаю о том, что мне матушка всегда говорила, что когда женщине шестьдесят лет, а мужчине семьдесят или семьдесят пять и он уже не может работать, чтобы ее содержать, то жену его надо пожалеть. Муж начинает хворать, и надо, чтобы она ухаживала за ним, будучи уже в таких годах, когда ее самое надо беречь и ей нужен отдых. Все это и приводит к тому, что умирать приходится в нищете. — Родители правы, когда так говорят, я это признаю, Мари, — сказал Жермен, — но ведь они готовы поступиться молодостью, лучшей порою жизни, лишь бы предвидеть, что будет с человеком в том возрасте, когда он уже ни на что не годен и когда ему, в сущности, все равно, как умирать. Что до меня, то мне не грозит опасность умереть с голоду на старости лет. У меня будут кое-какие сбережения, живу я с родителями жены, работаю много и ничего на себя на трачу. И потом, знаешь, я так тебя буду любить, что моя любовь не даст мне состариться. Говорят, что, когда человек счастлив, он не стареет, а я чувствую себя сейчас моложе Бастьена, оттого что люблю тебя; он-то ведь тебя не любит, он слишком для этого глуп, слишком еще мальчишка, чтобы понять, до чего ты хороша собой и добра и как надо добиваться твоей любви. Послушай, Мари, не отталкивай меня, я ведь не лиходей какой: Катрин была со мной счастлива; когда она умирала, она перед господом поклялась, что за всю жизнь видела от меня только хорошее; она-то мне и велела второй раз жениться. Можно подумать, что это дух говорил сегодня с ее сыном, когда он засыпал. Ты разве не слышала, что он сказал? И как его губки дрожали, а глазенки видели в воздухе что-то такое, чего нам было не разглядеть! Конечно же он видел свою мать, и это она заставила его сказать, что он хочет, чтобы ты ее заменила. — Жермен, — ответила Мари, пораженная всем только что слышанным и глубоко задумавшись, — вы честный человек, и все, что вы говорите, правда. Я уверена, что было бы хорошо мне вас полюбить, кабы только родные ваши не очень на меня осерчали. Но только что же мне делать? Сердце мое не с вами. Вы мне нравитесь, но хоть годы ваши вас и не безобразят, они меня пугают. Мне все сдается, что вы не то дядя мне, не то крестный отец, что я должна почитать вас и что наступят минуты, когда вы будете обходиться со мной не так как с женой и с равной, а как с маленькой девочкой. Да и подружки мои станут надо мной смеяться, и, хоть и глупо обращать на это внимание, в день свадьбы мне все-таки было бы стыдно и немножко грустно. — Все это детский лепет, ты рассуждаешь совсем как ребенок, Мари! — Ну и что же, я и есть ребенок, — сказала она, — потому-то я и боюсь слишком рассудительного человека. Вы же сами видите, что я чересчур молода для вас, вы и сейчас уже начинаете корить меня тем, что я не способна ничего рассудить! Не могу же я быть умнее, чем в мои годы бывают. — Боже мой, до чего же я несчастен, что так неловок и так плохо умею высказать все, что думаю! — воскликнул Жермен. — Вы меня не любите, Мари, в этом все дело; вы находите, что я чересчур простодушен и неуклюж. Если бы вы хоть капельку меня любили, вы бы не выпячивали так все мои недостатки. Но вы меня не любите, вот и все! — Ну что же, не моя это вина, — ответила девушка, немного задетая тем, что он больше уже не называет ее на ты, — я стараюсь не пропустить ни одного вашего слова, но, чем больше я вас слушаю, тем труднее мне представить нас с вами мужем и женой. Жермен ничего не ответил. Он обхватил обеими руками голову, и маленькая Мари никак не могла понять, плачет он, сердится на нее или же просто дремлет. Она несколько встревожилась, видя, что он так помрачнел, и не в силах догадаться, какие мысли одолевают его сейчас; но она не решилась больше ничего сказать; все услышанное так ее изумило, что уснуть она уже не могла, и она стала с нетерпением дожидаться рассвета, продолжая подкидывать валежник в костер и следить за ребенком, о котором Жермен, казалось, больше не вспоминал. Меж тем Жермен не спал; он перестал уже думать о своей судьбе и не помышлял ни о том, как вернуть потерянную бодрость, ни о том, чем прельстить любимую девушку. Он страдал; на сердце его горою легла тоска. Он рад был бы умереть. Казалось, что все вокруг ополчилось против него одного и стоит ему только заплакать, как он уже ничем не сдержит лавины слез. К его страданию примешивалось еще и недовольство собой, и он задыхался: возбуждать к себе жалость он не хотел и никогда бы этого не позволил. Когда пробудившиеся птицы возвестили наступление утра, Жермен поднял голову и встал. Он увидел, что маленькая Мари тоже не сомкнула глаз, но не в силах произнести ни слова участия. Он окончательно пал духом. Он снова спрятал седло в кусты, взвалил мешок на плечо и, взяв за руку сына, сказал: — А теперь, Мари, попробуем все же дойти до места. Проводить тебя в Ормо? — Мы выйдем вместе из леса, — ответила девушка, — и, когда мы будем знать, где мы, каждый из нас пойдет своей дорогой. Жермен ничего не ответил. Он был уязвлен тем, что девушка не просила ее проводить, и не заметил, что сам предложил ей это таким тоном, который мог вызвать с ее стороны лишь отказ. Пройдя шагов двести, они встретили дровосека; тот вывел их на верную дорогу и сказал, что, после того как они пересекут большой луг, им надо будет взять одному — прямо, другой — влево, и оба доберутся до своих деревень, которые, кстати сказать, находились так близко одна от другой, что домики Фурша ясно были видны с фермы Ормо, и наоборот. Когда они поблагодарили дровосека и ушли вперед, он вдруг окликнул их и спросил, не у них ли это сбежала лошадь. — Хорошая серая кобыла ко мне на двор забрела, — сказал он, — верно, волк за ней гнался, вот она и укрыться хотела. Всю-то ночь собаки мои тявкали, а как рассвело, вижу — под навесом лошадь чужая. И сейчас еще там стоит. Коли ваша, так берите ее. Жермен сразу же назвал все приметы Сивки и, убедившись, что это действительно была она, отправился за седлом. Маленькая Мари предложила отвести мальчика в Ормо; потом он сможет зайти за ним из Фурша. — Перемазался он немножко за ночь, — сказала она. — Вычищу-ка я сейчас его платье, умою ему мордочку, причешу, одену, будет он у нас красавчиком, и вы сможете представить его своей новой семье. — А кто тебе сказал, что я собираюсь идти в Фурш? — возмутился Жермен. — Может, я вовсе и не пойду туда! — Пойдете, Жермен, надо вам туда идти, — ответила девушка. — Тебе очень хочется, чтобы я поскорее женился на другой, чтобы знать, что я не стану тебе надоедать? — Ладно, Жермен, не думайте больше об этом: мысль эта явилась к вам ночью, оттого что худо все так приключилось, и сбила вас. А теперь надо вам за ум взяться; обещаю вам, что забуду все, что вы сказали, и никогда никому об этом не скажу. — Да говори сколько хочешь. У меня нет привычки отрекаться от своих слов. То, что я тебе сказал, — сущая правда, я был с тобой честен, и ни перед кем мне краснеть не придется. — Да, а вот кабы невеста ваша узнала, что вы приехали к ней, а только что думали о другой, она была бы недовольна. Поэтому выбирайте хорошенько слова, которые сейчас скажете; не смотрите так вот на меня перед всеми, с каким-то особенным выражением. Вспомните тестя своего, он ведь рассчитывает, что вы покоритесь его воле, и очень бы рассердился на меня, кабы я помешала вам ее исполнить. До свидания, Жермен; я увожу малыша, чтобы заставить вас пойти в Фурш. Он у меня заложником остается. — Ты что же, хочешь идти с ней? — спросил Жермен сына, видя, что тот схватил маленькую Мари за руки и никак ее не отпускает. — Да, папа, — ответил мальчик, который слушал и по-своему понял все, что открыто говорилось при нем. — Я ухожу с моей милой Мари, а ты придешь за мной, когда кончишь жениться; только я хочу, чтобы Мари осталась моей мамой. — Видишь, он этого хочет! — воскликнул Жермен. — Послушай, малыш, — добавил он, — я сам хочу, чтобы она стала твоей мамой и чтобы она всегда была с тобой, а она вот не хочет. Ты уж постарайся, чтобы она согласилась. — Не беспокойся, папа, я ее уговорю: маленькая Мари всегда делает то, что я хочу. Малыш ушел вместе с Мари. Жермен остался один. Он был в полном унынии и окончательно растерялся.XII Сельская львица
Однако когда он привел в порядок свою одежду, взнуздал Сивку, сел на нее верхом и ему показали дорогу, ведущую в Фурш, он подумал, что отступления уже быть не может и что все треволнения этой ночи надо забыть, как дурной сон. Дядюшка Леонар сидел у порога своего белого дома на красивой темно-зеленой деревянной скамейке. Шесть каменных ступенек перед дверью означали, что под домом есть погреб. Ограда, которой были обнесены сад и конопляник, была оштукатурена известью с песком. Это был добротный дом, и можно было с уверенностью сказать, что хозяин его — человек зажиточный. Будущий тесть поднялся навстречу гостю и минут пять расспрашивал его обо всей семье, после чего произнес слова, которые обычно говорятся для того, чтобы учтиво выведать у встреченного вами путника о том, куда он едет. — Так, выходит, вы погулять приехали? — Я приехал повидать вас, — ответил Жермен, — и подарочек вам привез — тут вот дичи малость, тесть просил вам передать и велел сказать, что вы знаете, для чего я приехал. — Так, так, — рассмеялся дядюшка Леонар, похлопывая себя по толстому животу, — всезнаю, все понял. И, лукаво подмигнув, заметил: — Не один вы сюда с этим явились, дорогой мой. Тут у нас уже трое таких, как вы. Назад я никого не ворочаю, а вот выбрать из всех одного дело нелегкое, женихи-то все хорошие. Только как-никак дед Морис-то мне друг, да и земли у вас что надо, вот почему мне бы больше хотелось, чтобы это были вы. Но дочь моя женщина самостоятельная и сама всем распорядится. Как захочет, так и сделает. Заходите же, знакомьтесь, желаю вам вытянуть счастливый номер! — Извините меня, — сказал Жермен, крайне удивленный тем, что оказался четвертым там, где рассчитывал быть единственным. — Не знал я, что у вашей дочери уже есть женихи, я вовсе не собираюсь оспаривать ее у других. — Так вы думали, что стоит вам замешкать, и дочь моя ни при чем останется, — сказал дядюшка Леонар, не теряя хорошего расположения духа, — вы жестоко ошиблись. У моей Катрин есть чем завлечь женихов, и ежели ей и трудновато, то оттого лишь, что выбор большой. Заходите же, говорю вам, и не падайте духом. Баба такая, что стоит из-за нее и поспорить. И, продолжая шутить, он грубоватым движением втолкнул Жермена в дом. — Эй, Катрин, — вскричал он, входя, — вот тебе еще один! Этот веселый, но развязный тон, которым он представлял его вдове на глазах у других воздыхателей, окончательно смутил и разозлил Жермена. Ему стало не по себе, и он простоял несколько мгновений, не решаясь поднять глаза на красавицу и на ее свиту. Вдова Герен была хорошо сложена и выглядела довольно молодо. Но в выражении ее лица и в том, как она была одета, что-то сразу же не понравилось Жермену. У нее был какой-то вызывающий, самодовольный вид, а ее корнет[528], отделанный тройным рядом кружев, шелковый передник и косынка из черных блонд плохо вязались в нем с представлением о женщине серьезной и о степенной вдове. Это стремление ее быть изысканно одетой вместе с развязностью манер делало ее в его глазах старой и некрасивой, в то время как в действительности она была отнюдь не стара и даже довольно хороша собой. Он подумал, что и красивый наряд ее, и вся живость были бы под стать молодости и тонкой натуре маленькой Мари, что обращение этой вдовы тяжеловато и чересчур вольно и что она не умеет носить свои красивые уборы. Все три соискателя сидели за столом, накрытым с самого утра, перед винами и мясными блюдами, — день это был воскресный, и дядюшке Леонару непременно хотелось выставить напоказ все свои богатства; вдова же, в свою очередь, была не прочь блеснуть перед женихами великолепной посудой и сервировкой стола, которая действительно была не хуже, чем у какой-нибудь состоятельной горожанки. Как ни был Жермен доверчив и простодушен, он, однако, оказался достаточно проницательным, чтобы все разглядеть, и в первый раз в жизни, выпивая, старался держаться настороже. Дядюшка Леонар заставил его сесть за стол вместе со своими соперниками, а сам уселся напротив и норовил выказать ему особое расположение и всячески его ублажать. Несмотря на урон, понесенный за время пути, дичи, привезенной из Белера, оказалось немало, и щедрый дар деда Мориса возымел свое действие. Вдова давала понять, что она довольна, а соискатели презрительно косились на привезенных гостем птиц. В этой компании Жермену было не по себе, и есть ему не хотелось. Дядюшка Леонар принялся над ним подшучивать. — Что-то вы мрачны очень, — сказал он, — вижу, вам никак с бокалом не справиться. Нельзя, чтобы любовь аппетит отбивала, натощак-то ведь кавалеру и слов приятных не сыскать, то ли дело, когда он малость винцом поразогреется. Жермену казалось обидным, что его уже считают влюбленным, и жеманство вдовы, которая опустила глаза и улыбнулась как женщина, вполне уверенная в своей победе, вызвало в нем желание рассеять создавшуюся иллюзию и показать, что она нисколько его не пленила; но, боясь прослыть невежей, он набрался терпения и даже улыбнулся ей сам. Все три кавалера, увивавшиеся вокруг вдовы, показались ему совершеннейшими мужланами. Как видно, все они прельстили ее своим богатством. Одному было уже больше сорока, и он был почти такой же толстый, как дядюшка Леонар; второй был кривой и пил без меры; третий был молод и довольно красив, но ему хотелось выказать свой ум, а меж тем речи его были так плоски, что попросту становилось его жаль. Однако вдова при этом хохотала так, как будто все эти глупости ей нравились, и этим доказывала, что вкуса у нее нет никакого. Жермен подумал было сначала, что молодой человек этот ей приглянулся, но вскоре заметил, что и его самого старательно поощряют и хотят вызвать на разговор. От этого он только стал еще холоднее и серьезнее и постарался, чтобы присутствующие это почувствовали. Настал час мессы, и все встали из-за стола, чтобы пойти в церковь. Нужно было идти до деревни Мер, находившейся в расстоянии полулье. Жермен уже до такой степени устал, что его одолевало желание сначала выспаться, однако не в его привычках было пропускать мессу, и он отправился вместе с другими в церковь. На дорогах было много народу; вдова шествовала с гордым видом в сопровождении своих трех кавалеров, под руку то с одним, то с другим, важничая и задирая нос. Ей бы очень хотелось, чтобы все видели и четвертого, но Жермену казалось настолько смешным волочиться за юбкой на глазах у всего народа, что он предпочел держаться на почтительном расстоянии и шел, разговаривая с дядюшкой Леонаром; ему удалось так отвлечь его и занять, что никто бы не подумал, что оба они имеют отношение к идущей впереди веселой компании.XIII Хозяин
Дойдя до деревни, вдова остановилась и стала их дожидаться. Ей непременно хотелось войти в церковь, ведя за собой всех, в том числе и Жермена. Но тот отказал ей в этом удовольствии: он пропустил дядюшку Леонара вперед, а сам в это время занялся разговором кое с кем из знакомых крестьян и вошел в церковь через другую дверь. Вдова была этим задета. Выйдя из церкви, она с торжественным видом направилась к лужайке, где начались танцы, и стала танцевать со всеми тремя соискателями поочередно. Жермен присматривался к ней; он убедился, что танцует она хорошо, но тут же увидел, что в манерах ее есть что-то деланное. — Что же это вы не приглашаете мою дочь на танцы? — спросил Леонар, хлопая его по плечу. — Что-то уж очень вы робкий! — Я не танцую с тех пор, как похоронил жену, — ответил Жермен. — Ну что ж, коли теперь вы другую собрались взять, с трауром уж покончено — и в одежде и в сердце. — Ну, это еще как сказать, дядюшка Леонар; к тому же стар я, танцы уже не доставляют мне удовольствия. — Послушайте, — сказал Леонар, уводя его в сторону, — стоило вам войти ко мне в дом и увидеть, что вы не единственный, кто добивается руки моей дочери, и вот вы уже недовольны; вы, верно, человек очень гордый; только рассудите сами, дорогой, это же неумно. Дочь моя привыкла, чтобы за ней ухаживали, особенно эти два года, когда она перестала носить траур. В самом деле, не ей же с вами первой заигрывать. — Так ваша дочь уже два года как ищет себе жениха и никого еще не выбрала? — спросил Жермен. — Она не торопится, и она права. Хоть она и бойка на вид и вы можете решить, что она особенно не задумывается над жизнью, будьте спокойны, это женщина очень умная и отлично знает, что делает. — По мне, так нет, — простодушно сказал Жермен, — за ней волочатся трое мужчин, и если бы она знала, что делает, то по меньшей мере двоих из них она сочла бы лишними и попросила бы больше не приходить к ней. — Но почему? Ничего-то вы не понимаете, Жермен. Она не хочет выходить ни за старика, ни за кривого, ни за молодого, я в этом вполне уверен; только ежели она их прогонит, то люди могут подумать, что она решила остаться вдовой, и тогда больше никто не станет за ней ухаживать. — Ах, вот оно что, выходит, они у вас вроде вывески! — Вот именно, а что, скажите, в этом плохого, ежели им это нравится? — У каждого свой вкус, — сказал Жермен. — Вижу, что вам это совсем не по вкусу. Только послушайте, можно ведь договориться; предположим, что выберут вас, можно ведь будет освободить вам место. — Да, предположим! А до тех пор, пока мы это не узнаем, сколько времени надо будет держать нос по ветру? — Ну, это, уж верно, будет зависеть от вас, как вы сумеете уговорить ее и убедить. Пока что дочь моя отлично понимает, что лучшее время в ее жизни то, когда за ней будут ухаживать, и она не торопится сделаться служанкой одного мужчины, коль скоро может распоряжаться несколькими. Вот почему, пока ей по вкусу эта игра, она вольна себя тешить ею, но случись, что вы понравитесь ей больше, чем все ухаживания остальных, игре придет конец. Не надо только теряться. Приезжайте к нам каждое воскресенье, приглашайте ее танцевать, дайте понять, что вы вместе с остальными домогаетесь ее руки, и ежели вас сочтут более обходительным и более воспитанным, нежели другие, в один прекрасный день вам это, разумеется, скажут. — Извините, дядюшка Леонар, дочь ваша может поступать, как ей заблагорассудится, и не мне ее осуждать. На ее месте я поступил бы иначе, я не стал бы лукавить и не заставлял бы людей тратить попусту время: они, без сомнения, нашли бы, как его лучше употребить, вместо того чтобы увиваться за женщиной, которая потешается над ними. Но в конце концов, коль скоро для нее это развлечение и ей это нравится, то какое мне до этого дело! Надо только сказать вам одну вещь, а мне это не очень легко сделать после нашего разговора, вы ведь с самого начала неверно истолковали мои намерения и даже не дали мне время ответить: получилось, что вы верите в то, чего на самом деле нет. Так знайте, что явился я сюда вовсе не для того, чтобы попросить вас выдать за меня дочь, а для того, чтобы купить у вас пару быков, тех, что вы собрались вести на ярмарку на будущей неделе; тестю моему как раз такие нужны. — Понимаю, Жермен, — ответил Леонар совершенно спокойно, — вы передумали, как только увидели мою дочь и ее кавалеров. Что ж, как вам угодно. Натуры у людей разные, и вы вправе уехать, тем более что и разговора об этом не заводили. Коли вы серьезно решили купить моих быков, пойдите на пастбище, там вы их и посмотрите. Мы все обговорим, а уж, купите вы их или нет, вы все равно перед тем, как ехать домой, пообедаете с нами. — Я не хочу причинять вам беспокойство, — ответил Жермен, — у вас, может быть, есть дела, а мне что-то скучно глядеть на эти танцы и ничего не делать. Пойду-ка я погляжу быков, а потом еще зайду к вам. Жермен незаметно ушел и направился на луга, которые издали показал ему Леонар и где действительно паслись быки. Тестю его и в самом деле были нужны быки, и Жермен подумал, что, если ему удастся купить хорошую пару по сходной цене, дед Морис скорее простит его за то, что он самовольно отступил от поставленной цели. Он пошел быстрыми шагами и вскоре оказался неподалеку от Ормо. Тут ему захотелось пойти поцеловать сына и даже увидеть маленькую Мари, хоть он и потерял всякую надежду, что она составит его счастье, и окончательно прогнал эту мысль. Все, что он только что видел и слышал, — пустая кокетка, ее отец, хитрый и в то же время тупой, который поощрял тщеславие дочери и ее непозволительные повадки, городская роскошь, которая, как ему показалось, развращает деревенские нравы, — время, потерянное за праздною, пустою болтовней, обстановка, совсем непохожая на то, что он видел у себя дома, и прежде всего то чувство глубокой отчужденности, которое охватывает крестьянина, когда ему приходится поступаться своими привычками, скука и смущение, которые он испытывал уже в течение нескольких часов, — все это возбудило в Жермене желание вновь очутиться в обществе сына и своей маленькой соседки. Даже если бы он и не был влюблен в нее, ему все равно хотелось бы быть с нею, чтобы отвлечься от виденного и вернуть себе душевный покой. Только напрасно вглядывался он в окрестные луга, он нигде не видел ни маленькой Мари, ни Пьера, а ведь это были часы, когда пастухи обычно пасут стада. На невспаханном поле паслось большое стадо; он спросил у мальчишки пастуха, откуда эти бараны, не с фермы ли, что в Ормо. — Да, оттуда, — ответил мальчик. — Это ты их, что ли, пасешь? Неужто у вас при мызе пастухами мальчишки? — Да нет, я только сегодня пасу, пастушка-то наша ушла, заболела. — Но у вас же теперь новая есть, та, что сегодня нанялась? — Есть, да только та тоже ушла. — Как так ушла? Разве с ней не было мальчугана? — Да, был мальчонка, все плакал. Оба они часа два побыли и ушли. — Ушли? Куда же? — Да вроде бы туда же, откуда пришли. Я не спрашивал. — Но почему же это они ушли? — спросил Жермен, все больше тревожась. — А я почем знаю. — Выходит, не столковались насчет жалованья? Но ведь у них раньше уговор был. — Ничего вам не могу сказать. Видел, как ушли, вот и все. Жермен направился на ферму и стал расспрашивать работников. Никто не мог ничего толком сказать, ясно было одно: после разговора с хозяином девушка ушла, ничего не сказав, и увела с собой ребенка, который плакал. — Обидели моего сына! — вскричал Жермен; глаза его загорелись. — Так это ваш сын? Как же он с этой девчонкой оказался? Откуда вы и звать-то вас как? Видя, что, по обычаю этих мест, на вопрос отвечают другими вопросами, Жермен в нетерпении топнул ногой и попросил позвать хозяина. Хозяина на ферме не оказалось. У него не было привычки проводить там весь день. Говорили, что он сел на лошадь и уехал, должно быть — на какую-то другую ферму, но на какую, никто не знал. — Послушайте, — сказал Жермен, охваченный уже настоящей тревогой, — может быть, вы все-таки знаете, почему эта девушка ушла? Работник странно как-то переглянулся с женой; потом, улыбаясь, ответил, что знать ничего не знает, что их это не касается. Единственно, что Жермен мог понять, — это что девушка вместе с малышом пошла по направлению к Фуршу. Он кинулся туда; вдова и ее поклонники еще не успели вернуться, равно как и дядюшка Леонар. Служанка сказала ему, что его спрашивала какая-то молодая девушка с ребенком, но что, не зная, кто они такие, она не впустила их в дом и посоветовала им идти в Мер. — Почему же вы их не пустили? — спросил рассерженный Жермен. — Выходит, народ здесь такой подозрительный, что двери ближнему не откроет! — А как же, — ответила служанка, — в богатых домах, как вот у нас, приходится смотреть в оба. Когда хозяев нет, я за все отвечаю, не могу же я первым встречным дверь открывать. — Худой обычай! — вскричал Жермен. — И лучше уж жить в бедности, чем так вот — в вечном страхе. Прощай, девка! Век бы мне не видать вашей паскудной деревни! Он стал осведомляться в соседних домах. Там видели пастушку с ребенком. Так как малыш ушел из Белера неожиданно, не был одет для дороги и оказался поэтому в разорванной блузе и накинутой на плечи овечьей шкуре, а сама Мари, по вполне понятной причине, и всегда-то была одета очень бедно, их приняли за нищих. Им дали кусок хлеба, девушка взяла его для малыша, который был голоден, после чего очень быстро ушла с ним и скрылась в лесу. Жермен задумался, а потом спросил, не был ли в Фурше фермер из Ормо. — Да, был, — ответили ему, — не успела девочка уйти, как он проскакал верхом. — Погнался за ней? — Ах, так вы его знаете? — смеясь, сказал местный кабатчик, к которому он обратился. — Ну, понятное дело, это же бабник известный, ни одной девке проходу не дает. Только эту он, поди, не догнал; хотя, впрочем, кабы увидал… — Ладно, спасибо! И Жермен со всех ног кинулся в конюшню Леонара. Он набросил на Сивку седло, вскочил на нее и галопом понесся в сторону Шантелубского леса. Сердце его стучало от тревоги и гнева, на лбу проступил холодный пот. Бока Сивки были в крови, но, впрочем, ее можно было и не погонять: почуяв, что путь лежит к дому, она припустила во всю прыть.XIV Старуха
Очень скоро Жермен снова очутился в том самом месте у края болота, где он накануне провел ночь. Костер еще дымился, какая-то старуха подбирала остатки валежника, который ночью натаскала сюда маленькая Мари. Жермен остановился, чтобы порасспросить ее. Она была глуха и не расслышала его вопросов. — Да, сынок, — сказала она, — это и есть Чертово болото. Проклятое это место. Прежде чем подойти, надо бросить левой рукой три камушка, а правой себя крестным знамением осенить: чертей прогонишь. Не то, только начни его обходить, беспременно беда приключится. — Да я вовсе не об этом спрашиваю, — сказал Жермен и, подойдя к ней, что есть силы закричал: — Не видала ты тут в лесу девушку с ребенком? — Да, утонул тут один малютка! Жермен весь задрожал, но, по счастью, старуха тут же прибавила: — Давненько это было; тогда еще на этом месте крест большой поставили, да вот только ночью как-то гроза сильная приключилась, и злые духи в воду его сбросили. Кусок и теперь еще торчит. А случись кому тут ночью застрять, так уж это как пить дать — до свету отсюда не выберешься. Будешь ходить, ходить, хоть две сотни лье пройди, все равно на то же самое место выйдешь. Слова ее поразили воображение Жермена, он ничего не мог с собой поделать: мысль о том, что они подтвердятся и непременно случится несчастье, так ошеломила его, что он весь похолодел. Отчаявшись что-нибудь узнать от старухи, он вскочил на лошадь и снова стал ездить по лесу, громко кричать и звать Пьера, свистеть, щелкать кнутом и ломать ветки, чтобы хруст их и стук копыт слышен был далеко, прислушиваться, не ответит ли ему какой голос. Но до него доносился только звон колокольчиков — это где-то в кустах разбрелись коровы — и громкое хрюканье свиней, которые дрались из-за желудей. Наконец Жермен услыхал позади себя топот копыт, становившийся все ближе и ближе. Темноволосый здоровенный мужчина средних лет, одетый почти как горожанин, крикнул ему, чтобы он остановился. Жермен никогда не видел фермера из Ормо, но охватившая его ярость подсказала нашему крестьянину, что это именно он. Жермен обернулся и, смерив его взглядом с головы до ног, решил его выслушать. — Скажите, не проходила тут девушка лет пятнадцати-шестнадцати с маленьким мальчиком? — спросил фермер, напустив на себя равнодушие, хотя видно было, что он взволнован. — А зачем она вам? — в свою очередь, спросил Жермен, не скрывая охватившего его гнева. — Я мог бы сказать, что вас это не касается, приятель! Но так как мне не для чего это скрывать, то я вам скажу, что это пастушка, и я нанял ее на год, совсем ее не зная… Когда она приехала, я увидел, что ей еще рано на ферме работать, да и здоровьем она слаба. Я поблагодарил ее, но мне хотелось рассчитаться с ней за все издержки, а она поди да и рассердись и, пока я стоял к ней спиной, убежала… Так торопилась, что забыла даже вещи свои и кошелек; в нем, верно, ничего почти нет, разве что каких-нибудь несколько су!.. Но уж раз мне все равно этой дорогой ехать, я думал, что, может, встречу ее и верну ей то, что она второпях забыла и что я ей должен. Жермен был человеком благородным и, услыхав эту историю, хоть и не очень правдоподобную, но так или иначе возможную, призадумался. Он пристально посмотрел на фермера, который выдержал этот взгляд то ли с бесстыдством, то ли с простодушием. «Я должен во всем этом разобраться», — подумал Жермен. — Эта девушка из нашей деревни, — сказал он, сдерживая охватившее его негодование, — и я ее знаю: она, должно быть, где-то неподалеку. Давайте поедем вместе, и мы, конечно, ее найдем. — Вы правы, — ответил фермер. — Поедем… но только, если мы доедем до конца этой дороги и ее здесь не окажется, дальше я не ездок… Мне надо держать путь в Ардант. «Как бы не так, — подумал Жермен, — теперь-то я от тебя не отстану, даже если целые сутки придется нам вокруг Чертова болота кружиться!» — Постойте-ка! — вскричал он вдруг, вглядываясь в кусты дрока, которые странным образом шевелились. — Ну-ну, так это ты, Пьер, мой малыш? Услыхав голос отца, Пьер выпрыгнул из-за кустов, как козленок, но, когда он увидел, что рядом с отцом фермер, он словно оробел и не решился подойти ближе. — Иди сюда, Пьер, это я! — вскричал Жермен, соскочив с лошади и бросаясь к сыну, чтобы обнять его. — А где же маленькая Мари? — Вон там она, прячется, боится этого злого черного дядю, я тоже боюсь. — Успокойся, я с тобой… Мари! Мари! Это я! Мари вылезла из кустов и, едва завидев Жермена, вслед за которым шел фермер, стремительно кинулась к нему и прильнула, как будто к отцу. — Жермен, дорогой, — вскричала она, — вы моя защита, с вами я ничего не боюсь. Жермен вздрогнул. Он взглянул на Мари: девушка была бледна, платье ее порвалось о шипы, пока она бежала, чтобы укрыться в чаще, как затравленная охотниками лань. Но на лице ее не было следов ни отчаяния, ни стыда. — Хозяин твой хочет с тобой поговорить, — сказал он, продолжая вглядываться в ее лицо. — Хозяин? — воскликнула она гордо. — Никакой он мне не хозяин и никогда им не будет!.. Это вы, Жермен, мой хозяин. Я хочу, чтобы вы увезли меня с собой… Я даром вам буду служить! Фермер подошел ближе. — Эй, девочка, — с притворным нетерпением вскричал он, — ты тут у нас вещи свои забыла, вот я и хочу отдать тебе. — Нет уж, сударь, — ответила маленькая Мари, — ничего я у вас не забыла и ничего от вас не прошу… — Да ты выслушай меня, мне надо тебе кое-что сказать!.. — продолжал фермер. — Давай отойдем в сторонку!.. Да ты не бойся… два слова только… — Можете сказать при всех, нет у меня с вами никаких секретов. — Да ты деньги свои хоть возьми. — Какие деньги? Вы, слава богу, мне ничего не должны! — Ну вот, я так и думал, — вполголоса сказал Жермен, — впрочем, это все равно; выслушай его, Мари… Мне хочется знать, что он будет говорить: ты мне потом все расскажешь, а зачем, это уж мое дело, подойди к его лошади… Я глаз с тебя не спущу. Мари подошла к фермеру, который нагнулся к ней с седла и тихо сказал: — Вот тебе, девочка, золотой, только ты молчи обо всем, слышишь? Я скажу, что ты оказалась слабосильной и тебе трудно было справляться с работой у меня на ферме… И чтобы больше об этом разговору не было… На днях я буду у вас, и, если узнаю, что ты никому ничего не сказала, ты еще кое-что получишь… К тому же если ты образумишься, то стоит только тебе слово сказать, и я возьму тебя обратно к себе, а не то вечерком потолкуем с тобой где-нибудь на лужочке. Какой мне тебе подарочек привезти? — Вот, сударь, вам от меня подарок! — громко ответила маленькая Мари, с силой швырнув ему прямо в лицо золотой луидор. — Премного вам благодарна и прошу вас, дайте мне знать, когда приедете к нам: все наши парни выйдут вас встретить, у нас в округе очень уж любят богатеев, что увиваются за бедными девушками! Вот увидите, вас будут ждать. — Ты врунья, и язык у тебя без костей! — вскричал разгневанный фермер, замахиваясь на нее палкой. — Ты хочешь, чтобы люди поверили тому, чего не было, только знай, денег ты у меня больше не вытянешь: видали мы таких, как ты! Мари в испуге метнулась от него прочь, а в это время подбежал Жермен, схватил лошадь фермера за узду и с силой тряхнул седока. — Ах, вот оно что! — вскричал он. — Видно, куда он клонит… А ну-ка слезай с лошади! Да поживее! Поговорим с тобой один на один. Фермеру совсем не хотелось ввязываться в историю: пришпорив лошадь, чтобы умчаться прочь, он попытался ударить палкой Жермена по рукам и вырвать у него узду, но тот успел увернуться и, схватив противника за ногу, стащил его с седла и свалил прямо в заросли папоротника. Несмотря на то что фермеру удалось подняться и защищался он отчаянно, Жермен в конце концов подмял его под себя. — Трус ты! — вскричал Жермен. — Стоило мне только захотеть, и я бы тебя всего искрошил! Да не в моей натуре причинять людям зло, и к тому же тебя все равно ничем не усовестишь… Только ни за что я не отпущу тебя, пока ты у этой девочки на коленях прощения не попросишь. Фермеру, уже не раз попадавшему в такие передряги, хотелось все обратить в шутку. Он стал уверять, что проступок его не так уж велик, ибо виноват он лишь в сказанных им словах, и что он готов попросить прощения при условии, что ему позволят поцеловать девочку, разопьют с ним в ближайшем кабачке пинту вина и расстанутся добрыми друзьями. — Жалко мне тебя, — вскричал Жермен, тыча его лицом в землю, — и не терпится мне поскорее уехать, чтобы мерзкой твоей рожи не видеть. Ладно, стыдись, коли умеешь, а когда в наши края попадешь, то постарайся дорогой бесчестья[529] ехать. Он поднял его палку, сломал ее об колено, чтобы показать свою силу, а куски бросил с презрением в сторону. Потом взял за руки сына и маленькую Мари и ушел, дрожа от негодования и гнева.XV Возвращение
Четверть часа спустя они проехали вересковую рощу. Ехали они по большой дороге, и Сивка ржала всякий раз, как ей случалось увидеть что-то знакомое. Мальчик на свой лад рассказывал отцу о том, что произошло. — Когда мы приехали, — сказал он, — этот дядя пришел поговорить с моей Мари в овчарню, мы-то пошли туда посмотреть красивых барашков. Я залез в ясли и там играл, и он меня не видел. Дядя сказал моей Мари «здравствуй» и поцеловал ее. — Ты дала ему себя поцеловать, Мари? — спросил Жермен, весь дрожа от гнева. — Я думала, это он из вежливости; может, в этих местах так принято здороваться с приезжающими, как у вас вот бабушка целует всегда девушек, что поступают к ней в услужение, чтобы те знали, что она принимает их и будет им как мать родная. — А потом, — продолжал Пьер, гордясь тем, что может рассказать о происшествии, — этот дядя тебе плохое слово сказал — ты мне не позволила повторять его и даже вспоминать не велела: забыл какое. Только если папа непременно хочет, чтобы я вспомнил… — Нет, милый Пьер, не хочу я его слышать, и не надо тебе ничего вспоминать. — Ну раз так, то я опять забуду, — ответил мальчик. — А там дядя этот, видать, рассердился, потому Мари сказала, что уходит. Обещал ей все, что она захочет, сто франков! А моя Мари тоже рассердилась. Он тогда подошел к ней и будто ударить ее хотел. Я испугался, кинулся к Мари и закричал. Тогда этот дядя как завопит: «Это еще что такое? Откуда этот мальчишка взялся? Гони-ка его вон отсюда!» И палкой замахнулся. А Мари не дала ему ударить меня и сказала: «Мы с вами потом поговорим, сударь; сейчас мне надо отвести мальчика в Фурш, я еще вернусь». А только он из овчарни вышел, Мари и говорит: «Убежим отсюда, Пьер, убежим поскорее, дядя злой, он нам худо сделает». Мы и вышли потихоньку задами, а там — на лужок, да и в Фурш за тобой. А тебя там не было, и в дом нас не пустили. А дядя этот сел верхом на вороного коня да за нами, а мы — наутек, прямо в лес, чтобы он не нашел нас. А он и туда, и вот как услышим мы, что он едет, так и прячемся. А как он мимо проедет, так мы ну бежать со всех ног, только бы скорей до дому добраться; тут ты нас и нашел; вот как оно все было. Верно ведь, Мари, я ничего не забыл? — Нет, милый Пьер, это так и было. Теперь, Жермен, вы будете у меня свидетелем и всем скажете, что нельзя мне было там оставаться и вовсе не потому я вернулась, что струсила и работать не захотела. — Ну, а ты, Мари, подумай, стар или нет мужчина в двадцать восемь лет, когда женщину надо защитить и наглеца проучить? Хотел бы я посмотреть, как Бастьен или еще какой смазливый паренек лет на десять меня помоложе выстоял бы против этого дяди, как Пьер его зовет. Как оно, по-твоему? — Большую вы мне услугу оказали, Жермен, и я всю жизнь благодарить вас буду. — И это все? — Папа, — сказал мальчик, — забыл я сказать маленькой Мари то, что обещал, все некогда было. Вот уж как домой вернемся, так и скажу ей, да и бабушке тоже. Обещание это заставило Жермена призадуматься. Теперь надо было объясниться с тестем и тещей и, рассказав им, почему ему не понравилась вдова Герен, умолчать о том, какие другие мысли сделали его столь прозорливым и суровым. Когда человек счастлив и горд, ему всегда хватит решимости рассказать об этом другим, но когда с одной стороны тебя гонят, а с другой — бранят, положение твое не из приятных. По счастью, когда они вернулись на мызу, малыш спал, и отец осторожно положил его на кроватку, так что он даже не проснулся. Потом Жермен постарался елико возможно подробно отчитаться перед тестем. Сидя на трехногой табуретке у входа в дом, тот внимательно его выслушал, и хоть и был недоволен результатами его поездки, но когда Жермен упомянул ему о повадках кокетки вдовы и спросил, может ли он позволить себе ездить в Фурш по воскресеньям пятьдесят два раза в год, для того чтобы ухаживать за ней, а в конце концов, может быть, получить отказ, дед Морис кивком головы дал понять, что соглашается с ним. — Ты прав, Жермен, — сказал он, — не дело это. А потом, когда Жермен рассказал о том, как ему пришлось поскорее увозить домой маленькую Мари, чтобы избавить ее от оскорблений, а может быть, и от насилия со стороны ее недостойного хозяина, старик снова кивнул головой и сказал: — Ты не ошибся, Жермен, как надо поступил. Когда Жермен окончил свой рассказ и изложил все свои доводы, старики переглянулись и глубоко вздохнули, и в этом вздохе их можно было прочесть смирение и покорность. Потом глава семьи поднялся. — На все воля господня, — сказал он, — любовь по заказу не приходит! — Пойдем ужинать, Жермен, — сказала теща, — оно конечно, жаль, что дело разладилось, но, видно, господь не захотел. Поглядим, может, еще что найдется. — Да, — добавил старик, — верно жена говорит, поглядим еще. Больше об этом в доме не было сказано ни слова. Наутро маленький Пьер поднялся чуть свет, но в этот день не было никаких из ряда вон выходящих событий, как в предыдущие, ничто не могло возбудить его интереса, и он снова впал в привычное крестьянским детям его возраста равнодушие, позабыв обо всем, что ему приходило в голову; он стал, как ни в чем не бывало, играть со своими братьями и важно изображать собою мужчину, ухаживая за волами и лошадьми. Жермен тоже старался все позабыть, погрузившись в работу, но он сделался таким грустным и рассеянным, что все это заметили. Он не только ни о чем больше не говорил с маленькой Мари, но даже не смотрел на нее; и вместе с тем его можно было бы разбудить среди ночи, и он в точности сказал бы, где она, на каком лугу и какой дорогой ушла. Он не решался попросить стариков взять ее на зиму к себе в услужение, а меж тем знал, что девушке будет жить нелегко. Однако маленькой Мари все же не пришлось испытывать нужду, и тетке Гильете было невдомек, почему их запас дров нисколько не уменьшается и почему сарай, оставшийся вечером совсем пустым, к утру наполняется сам собою. То же самое происходило и с зерном и с картошкой. Кто-то залезал через слуховое окно в амбар и высыпал на пол мешок, никого не разбудив и не оставив после себя никаких следов. Старуху это одновременно и беспокоило и радовало; она наказала дочери никому об этом не говорить, боясь, что, если соседи узнают об этом чуде, ее сочтут колдуньей. В глубине души она, правда, была уверена, что тут замешан дьявол, но особенно не спешила ссориться с ним и призывать к себе местного кюре, чтобы освятить амбар и изгнать нечистую силу; она считала, что успеет еще это сделать, когда сатана явится к ней собственной персоной и в уплату за все свои благодеяния потребует ее душу. Маленькая Мари лучше, чем мать, понимала истинное положение вещей, но не решалась говорить об этом с Жерменом, боясь, что тот снова вернется к мысли о женитьбе на ней, и притворялась, что ничего не замечает.XVI Бабка Морис
Как-то раз, оставшись вдвоем с Жерменом в саду, теща ласково сказала ему: — Бедный мой зятек, ты что-то сам не свой. Не ешь ничего, не посмеешься, да и вообще слова от тебя не услышишь. Ужели кто у нас в доме, или сами мы, мог обидеть тебя, так что об этом знать не знаем и ведать не ведаем? — Нет, мать, — ответил Жермен, — вы всегда для меня что родная были, и я был бы неблагодарным, если бы стал жаловаться на вас, или на вашего мужа, или на кого другого в доме. — Ну, коли так, сынок, видно, ты снова по жене покойной горюешь. Тоска-то с годами не прошла и, знать, еще пуще тебя одолевает. Ну, выходит, верно тесть твой говорит: надо умного совета послушать и жениться. — Да, мать, мне бы тоже этого хотелось, только вот все те, кого вы мне прочили в жены, не по душе мне. Когда я их вижу, то, вместо того чтобы позабыть мою Катрин, еще больше о ней думаю. — Стало быть, не угадали мы, Жермен. Ты должен нам помочь и сказать все, как оно есть. Непременно где-нибудь есть невеста как раз для тебя, господь ведь каждому человеку, которого он создал, уготовил счастье в другом. Ну так вот, коли ты знаешь такую, бери ее себе в жены, и все; красавица она или дурнушка, молодая или старая, богатая или бедная, оба мы, старик мой и я, решили, что дадим тебе наше согласие: сил у нас больше нет видеть, как ты убиваешься, и не жить нам спокойно, коли тебе покоя не будет. — Вы добры, мать, как сам господь бог, да и отец тоже, — сказал Жермен, — только сочувствие ваше мне помочь не может: та, кого я прочил себе в жены, не хочет за меня идти. — Верно, молода еще очень? Без головы надо быть мужчине твоих лет за молоденькой волочиться. — Ну так вот, мать, я и впрямь голову потерял, молоденькая мне приглянулась, и сейчас я себя за это казню. Стараюсь об этом не думать, только работаю я или отдохнуть сяду, богу молюсь или в постели лежу, с детьми я или с вами, думки-то все об одном. — Выходит, тебя околдовали, Жермен? Одно только средство есть: добиться, чтобы девушка эта изменила свое решение и выслушала тебя. Погляжу-ка я, можно тут делу помочь или нет. Ты мне скажи, где эта девушка и кто она такая. — Вот то-то оно и есть, мать, что я и назвать вам ее не смею, — сказал Жермен, — смеяться будете. — Не буду я над тобой смеяться, Жермен, и без того тебе худо, и не хочу я, чтобы еще горше было. Скажи, это не Фаншета? — Нет, мать. — Тогда Розета? — Нет. — Ну так скажи, а то этому конца не будет, придется мне всех наших девок перебирать. Жермен опустил голову и не мог решиться ответить. — Вот что, — сказала бабка Морис, — на сегодня хватит; может, завтра у тебя язык развяжется или невестка твоя сумеет лучше тебя расспросить. И, взвалив на плечи корзину с бельем, она пошла развешивать его на кустах. Жермен поступил так, как поступают дети, когда их оставляют в покое: он принял решение. Он пошел вслед за тещей и, весь дрожа, произнес имя Мари, дочери Гильеты. Велико же было изумление старухи: что угодно могла она предположить, только не это. Но она оказалась достаточно деликатной, чтобы сдержать свое изумление, и не стала высказывать вслух все, что думала по этому поводу. Видя, однако, что молчание ее удручает Жермена, она протянула ему корзину с бельем. — Неужто это причина, чтобы старухе не помочь? — спросила она. — Поди-ка отнеси белье, а потом приходи, потолкуем. А ты хорошо все обдумал, Жермен? Ты твердо решил? — Не в этом ведь дело, мать: уж я бы, конечно, твердо решил, знать бы только, что все не зря; ну а раз меня и слушать не захотят, то я решил другое — излечиться от этого недуга, коли только смогу. — А как не сможешь? — Всему свой предел, мать: когда на лошадь навьючат сверх меры, она падает, а когда быку нечего есть, он подыхает. — Ты хочешь сказать, что помрешь, коли тебе окончательно откажут? Боже упаси, Жермен! Не мило мне от тебя это слышать, ведь у таких, как ты, слово с делом не расходится. Ты человек крепкий, а для такого всякая слабина погибель. Не падай духом. Может ли это быть: девушка в нищете живет, ты хочешь ей такую честь сделать, а она возьми да откажи? — А ведь так оно и есть, она мне отказала. — А по какой причине? — Говорит, что видела от вас всю жизнь одно только хорошее, что ее семья очень многим обязана вашей и что она не хочет доставлять вам огорчение тем, что я ради нее откажусь от богатой невесты. — Это только доказывает, что она девушка добрая и честная. Но такими словами ей не вылечить тебя, Жермен, она же, надо думать, говорит, что любит тебя и что выйдет за тебя замуж, коли мы с отцом не будем противиться? — То-то что нет: говорит, что сердце у нее ко мне не лежит. — Коли она говорит не то, что думает, только чтобы тебе легче было себя отвадить от нее, то эта девочка стоит того, чтобы мы ее полюбили, и не беда, что лет ей мало, коли умница она такая. — Правда! — вскричал Жермен, пораженный блеснувшей вдруг надеждой, которую он еще не мог как следует осмыслить. — И впрямь, это было бы с ее стороны и очень умно, и очень честно! Но раз она так благоразумна, то все же, вероятно, потому, что я ей не нравлюсь. — Жермен, — сказала бабка Морис, — ты должен мне обещать быть всю эту неделю спокойным, не терзаться, есть, спать и быть веселым, как раньше. А я поговорю с моим стариком, и, коли он согласится, ты узнаешь, любит тебя твоя ненаглядная или нет. Жермен обещал, и за всю неделю тесть его не сказал ему ни слова и как будто даже вообще ничего не подозревал. Как Жермен ни старался быть спокойным, он становился все бледнее и тревожился все больше.XVII Маленькая Мари
Наконец в воскресенье, когда они выходили из церкви, теща спросила его, добился ли он какого-нибудь ответа от любимой девушки после их разговора в саду. — Ничего не добился, — ответил он, — я с ней и не говорил. — Как же так, хочешь ее уговорить, а сам молчишь? — Говорил я с ней всего только раз, — ответил Жермен. — Это было тогда, когда мы вместе ехали в Фурш. С тех пор я с ней и словом не обмолвился. Я так мучился, когда она мне отказала, что лучше уж что угодно, только бы не услыхать от нее еще раз, что она меня не любит. — Вот что, сынок, теперь тебе самое время с ней еще поговорить, тесть твой дает свое согласие. Решайся! Говорю тебе это и, мало того, хочу этого; нельзя же тебе так и оставаться в сомнении. Жермен послушался. Он явился в дом к тетке Гильете понурив голову и с удрученным видом. Маленькая Мари была одна: она сидела у огня, глубоко о чем-то задумавшись, и даже не услышала, как вошел Жермен. Увидав его перед собой, она вскочила и густо покраснела. — Маленькая Мари, — сказал он, садясь возле нее, — я пришел надоедать тебе и тебя огорчить, я это знаю, только наши (он, по обыкновению, называл так главу семьи и его жену) хотят, чтобы я поговорил с тобой и предложил тебе выйти за меня замуж. Знаю, что ты не захочешь, и к этому готов. — Жермен, — сказала маленькая Мари, — а вы в самом деле меня любите? — Знаю, что ты сердишься, но, право же, я не виноват; если бы ты изменила свое решение, это была бы такая для меня радость… Только не заслужил я такого. Ну посмотри же на меня, Мари, я очень страшный? — Нет, Жермен, — сказала она и улыбнулась, — вы красивее меня. — Не смейся надо мной, будь ко мне снисходительна; все волосы и все зубы у меня целы. По глазам моим ты увидишь, что я люблю тебя. Посмотри же мне прямо в глаза, в них все написано, и нет такой девушки, чтобы не могла понять их язык. Мари взглянула Жермену в глаза и весело и простодушно, но потом вдруг отвернулась и вся задрожала. — О господи, я тебя напугал! — воскликнул Жермен. — Ты глядишь на меня так, будто перед тобой фермер из Ормо. Не бойся, прошу тебя, мне это очень горько. Я не скажу тебе никакого худого слова, я даже не поцелую тебя без твоего согласия, а захочешь, чтобы я ушел, так покажи мне только на дверь. Так что же, мне уйти сейчас, чтобы ты перестала дрожать? Мари протянула ему руку, но даже не повернула головы и ничего не сказала. — Понимаю, — продолжал Жермен, — ты меня жалеешь, ты ведь добрая; ты огорчена тем, что из-за тебя я несчастен; но ты же не можешь меня любить? — Зачем вы мне все это говорите, Жермен? — ответила наконец маленькая Мари. — Вам хочется, чтобы я плакала? — Бедная девочка, сердце у тебя доброе, я это знаю; только ты меня не любишь, и ты прячешь от меня лицо — боишься, как бы я не увидел на нем неудовольствие и отвращение. А я! Я не смею даже пожать тебе руку! В лесу, когда сын мой спал и ты тоже спала, я едва удержался, чтобы тихонько тебя не поцеловать. Но я бы скорее умер со стыда, чем стал бы просить тебя об этом, и в ту ночь я мучился так, будто меня на медленном огне жгли. С тех пор я все ночи напролет о тебе мечтаю. Ах, как я целовал тебя, Мари! А ты в это время спала и не видела снов. А знаешь, о чем я думаю сейчас? Если бы ты обернулась и посмотрела на меня такими глазами, какими я смотрю на тебя, и если бы лицо твое потянулось ко мне, я бы, верно, умер от счастья. А ты? Ты, поди, думаешь, что приключись такое с тобой, ты умерла бы от гнева и от стыда! Жермен говорил как во сне, не слыша звука своего голоса. Маленькая Мари все еще дрожала, но, так как сам он дрожал еще сильнее, он уже ничего не замечал. Вдруг она обернулась; лицо ее было в слезах, и она смотрела на него с упреком. Наш бедный Жермен подумал, что это последний удар; он встал и собрался было уже уйти, но тут девушка вдруг обняла его и уткнулась головой ему в грудь. — Ах, Жермен, — прошептала она, рыдая, — вы, значит, не догадались, что я вас люблю? Жермен, наверно, сошел бы с ума, если бы мальчуган, искавший его по всей деревне, не влетел теперь в лачугу Гильеты верхом на палке, вместе с сестренкой, сидевшей сзади и погонявшей свою воображаемую лошадку ивовым прутом. Это неожиданное вторжение заставило его очнуться. Он взял малыша на руки, поднял его и протянул своей невесте. — Погляди, — сказал он, — своей любовью ты приносишь счастье не только мне одному!XVIII Деревенская свадьба
На этом кончается история сватовства Жермена, которую наш искусный пахарь рассказал мне сам. Прости меня, читатель, за то, что я не сумел ее лучше перевести, ибо поистине приходится переводить со старинного и простодушного языка, употребляемого крестьянами тех мест, которые я пою (как любили говорить в старину). Люди эти говорят для нас уже слишком по-французски; со времен Рабле и Монтеня развитие нашего языка привело к тому, что мы потеряли много его былых богатств. Таковы последствия всякого прогресса, и с этим приходится мириться. Но как приятно бывает слышать все эти живописные обороты, которые еще в ходу на издревле обжитых землях центральной Франции; тем более что забавная витиеватость речи хорошо передает спокойный и слегка насмешливый характер наших крестьян. Правда, кое-какие драгоценные остатки этих патриархальных выражений сохранились еще в Турени. Но Турень очень цивилизовалась в эпоху Возрождения и в последующие столетия. Тамвыросли замки, пролегли дороги, край заполнился приезжими, и все пришло в движение. Берри остался таким, каким был, и мне думается, что после Бретани и некоторых провинций на крайнем юге Франции это область, лучше всего сохранившая свою старину. Некоторые из беррийских обычаев настолько удивительны и любопытны, что я надеюсь еще немного поразвлечь тебя, дорогой читатель, если ты позволишь мне описать во всех подробностях деревенскую свадьбу — свадьбу Жермена, на которой я имел удовольствие присутствовать несколько лет назад. Ибо, к сожалению, все на свете проходит. Только на моей памяти в образе мыслей и в обычаях моей деревни произошло больше перемен, чем за целые столетия, предшествовавшие революции. Исчезла уже добрая половина тех кельтских, языческих или средневековых обычаев, которые были еще в полной силе в пору моего детства. Пройдут еще, может быть, год или два, и железные дороги протянутся по нашим глубоким долинам, с быстротою молнии унося наши старинные традиции и чудесные легенды. Это было зимою, приближалась масленица — время, которое в наших краях считается самым подходящим и удобным для того, чтобы справлять свадьбу. Летом людям некогда, работа на ферме такова, что ее нельзя прерывать даже на три дня, не говоря уже о нескольких днях, потребных на то, чтобы прийти в себя после хмеля, от которого мутится в голове и наливаются тяжестью ноги. Я сидел под большим колпаком старинного кухонного очага, когда выстрелы из пистолета, лай собак и пронзительные звуки волынки известили меня о приближении жениха и невесты. Вскоре дед и бабка Морисы, Жермен и маленькая Мари в сопровождении Жака и его жены, самых близких родных и крестных отцов и матерей жениха и невесты торжественно вошли во двор. Маленькая Мари, не успевшая еще получить свадебных подарков, была в лучшем из своих скромных нарядов: в темном платье грубого сукна, в белом платке с большими яркими разводами, в передничке из инкарната — красного ситца, очень принятого в те времена, но который в наши дни никто не станет носить, в повязке из белоснежной кисеи той особой, по счастью сохранившейся, формы, которая напоминает уборы Анны Болейн и Агнессы Сорель. На лице ее были написаны молодость и счастье, и к этому не примешивалось ни малейшей гордости, хоть ей, разумеется, и было чем гордиться. Жермен был с ней почтителен и нежен, как юный Иаков, повстречавший Рахиль у колодезя Лавана. Любая другая девушка на ее месте заважничала бы и смотрела бы на всех с торжествующим видом, ибо во всех слоях общества кое-что да значит, когда на тебе женятся ради одних только прекрасных глаз. Но глаза молодой девушки, влажные от слез, светились любовью; видно было, что чувство захватывало ее целиком и что ей некогда обращать внимание на то, что будут говорить о ней люди. Ее прелестная решимость не покинула ее и на этот раз, но вместе с тем она была само простосердечие, сама доброта. Она была далека от того, чтобы кичиться своим успехом, к ощущению собственной силы не примешивалось и тени себялюбия. Когда юные подруги спрашивали, хорошо ли у нее на душе, Мари решительно отвечала им: — Ну, конечно же! Нечего мне бога гневить! И сколько я ни видел в жизни невест, такой очаровательной не припомню. Слово взял дед Морис; следуя обычаю, он кланялся гостям и приглашал их в дом. Прежде всего он привязал к колпаку над очагом украшенную лентами ветку лавра, которая должна была изображать собою как бы объявление о свадьбе. Вслед за тем он роздал всем приглашенным крестики, сшитые из двух пересекающихся ленточек, розовой и голубой, цветов невесты и жениха. Гости обоего пола должны были хранить эти эмблемы, чтобы в день свадьбы украсить ими одни — свой корнет, другие — петлицу. Это было своего рода пригласительное письмо, билет, дающий право на вход. После этого дед Морис произнес слова приветствия. Хозяин дома и вся компания, то есть все его дети, родственники, друзья и слуги, приглашались на благословение — на праздник, на игры, на танцы и на все, что за этим последует. Он не преминул сказать: — Позвольте оказать вам честь и пригласить вас на этот праздник. Хоть это выражение на первый взгляд и противоречиво, оно очень правильно выражает мысль, что мы оказываем честь тем, кого считаем достойным ее. Несмотря на то что приглашение это со всем радушием приносится в каждый дом и по всей округе зазывают гостей, вежливость, в высокой степени развитая среди крестьян, требует, чтобы воспользовались им в каждой семье не более чем двое: глава семьи и один из детей. После того как эти пригласительные письма были разосланы, жених с невестой и их родные отправились все вместе обедать на мызу. Маленькая Мари пасла потом на общинной земле своих трех барашков, а Жермен пахал землю, как будто ничего не случилось. Накануне дня свадьбы, около двух часов пополудни, явились музыканты, а именно волынщик и рылейщик, с волынкою и рылями, украшенными развевающимися в воздухе лентами; они играли приличествующий случаю марш в ритме, пожалуй, чересчур медленном для человека непривычного, но который был очень под стать глинистой почве этих мест и ухабистым, трудным дорогам. Парни и мальчишки выстрелами из пистолетов возвестили начало свадьбы. Понемногу собрались гости и, чтобы слегка размяться, принялись танцевать на лужайке перед домом. Как только стало темнеть, начались загадочные приготовления: все разделились на две партии, а когда сделалось совсем темно, приступили к церемонии раздачи подарков. Все происходило в доме невесты, в лачуге Гильеты. Тетка Гильета взяла с собой дочь, двенадцать молодых и красивых пастушек, подруг и родственниц маленькой Мари, двух-трех почтенных матрон-соседок, женщин острых на язык, находчивых и строго блюдущих старинные обычаи. После этого она выбрала двенадцать здоровых парней, своих родичей и друзей, и, наконец, позвала старого конопельника, весельчака и отменного краснобая. Та роль, которую в Бретани играет базвалан[530],— а там это обычно деревенский портной, — в наших деревнях отводится трепальщику конопли или чесальщику шерсти (обе эти профессии нередко объединяются в одном лице). Он участвует во всех церемониях, как веселых, так и печальных, потому что это человек очень сведущий и к тому же говорун, и в таких случаях ему всегда поручается держать речь, дабы достойным образом исполнить некие формальности, существующие с незапамятных времен. Профессии, связанные с кочевой жизнью, которые приводят человека в чужие семьи, не давая ему возможности уделять много времени своей собственной, всегда способствуют тому, что он становится болтуном, шутником, рассказчиком и певцом. Трепальщик конопли прежде всего скептик. Он и еще одно деревенское должностное лицо, могильщик, о котором сейчас пойдет речь, — это вольнодумцы своей округи. Им столько раз приходилось говорить о привидениях, и они так хорошо знают все повадки злых духов, что сами их уже не боятся. Все они — могильщики, трепальщики конопли и призраки — трудятся по ночам. По ночам же конопельник рассказывает свои жалостные истории. Да позволят мне сделать тут небольшое отступление. Когда конопля бывает должным образом подготовлена, то есть достаточно вымочена в проточной воде и подсушена на берегу, ее заносят во двор дома; там ее располагают стоймя маленькими снопами, которые стеблями своими, расходящимися книзу, и верхушками, связанными в пучки, в темноте сами по себе напоминают уже длинную вереницу маленьких белых призраков на тоненьких ножках, бесшумно скользящих вдоль стен. Трепать коноплю начинают в конце сентября, когда ночи еще теплые, при бледном свете луны. Днем коноплю нагревают в печи; вынимают ее только вечером, чтобы трепать, пока она еще не остыла. Для этого пользуются особого рода станком, над которым укреплено деревянное трепало: ударяя по пазам станка, оно хлещет коноплю, не разрубая, однако, стеблей. Тогда-то и слышится в деревне среди ночи этот сухой и отрывистый стук трех стремительно следующих один за другим ударов. Вслед за тем наступает тишина; это чья-то рука передвигает пучок конопли, чтобы снова хлестать ее стебли, но уже по другому месту. Снова и снова раздаются знакомые три удара: теперь за трепало берется другая рука, и так продолжается до тех пор, пока луна не начнет бледнеть и не забрезжит рассвет. Так как работа эта длится всего несколько дней в году, собаки никак не могут привыкнуть к ней, и во все стороны разносится их жалобный вой. В эту пору по деревне слышны необычные и таинственные звуки. Улетающие журавли парят на такой высоте, на которой и днем их нелегко разглядеть. Ночью же их можно только услышать. Их полный отчаяния хриплый крик где-то в заоблачной выси кажется призывом и прощальным приветом страждущих душ, которые тщетно стараются отыскать путь к небесам, куда неодолимый рок не дает им подняться, заставляя все время парить вокруг человеческого жилья: у этих птиц-кочевников, в то время как они следуют своей воздушной стезей, случаются странные заминки, и они бывают охвачены какой-то непонятной тревогой. Порою они сбиваются с пути — это бывает, когда своенравные ветры на большой высоте вступают в борьбу или меняют вдруг направление. Когда днем на небе появляются вдруг эти заблудившиеся птицы, видишь, как вожак их устремляется куда-то наугад, потом круто поворачивает и, возвратившись назад, летит теперь в хвосте растянувшейся треугольником фаланги, после чего все его сотоварищи искусно меняются местами и, перестроив свои ряды, снова следуют за ним в полном порядке. Нередко же после напрасных усилий измученный вожак отказывается вести караван; тогда его сменяет другой, который, в свою очередь, пытается найти выход из трудного положения, однако сплошь и рядом бывает вынужден уступить место третьему, которому удается наконец попасть в попутную струю воздуха и торжествующе возглавить полет. Но скольких все это стоит криков, сколько упреков, возмущений, какими дикими проклятиями на непонятном языке разражаются эти крылатые странники, сколько тревожных вопросов задают они друг другу! В ночной тишине звучно отдаются эти зловещие крики и порою довольно долго кружатся над домами; и так как небо окутано тьмой, то помимо воли вас охватывают какая-то смутная жалость и тоска, которые длятся до тех пор, пока скорбная станица не исчезнет в необъятном просторе. Есть еще и другие звуки, возникающие именно в это время года и доносящиеся по большей части из фруктовых садов. Еще не начали собирать плоды, воздух весь в бесчисленных шорохах и шуршаниях, и ночные деревья словно оживают и движутся впотьмах. То вдруг заскрипит согнувшаяся под нестерпимой тяжестью ветка, то сорвется яблоко и глухо ударится о сырую землю где-то у самых ваших ног. И вот вы слышите, как кто-то стремительно убегает, шелестит ветвями, шуршит травой; это дворовый пес, любознательный бродяга, всегда настороженный, дерзкий и вместе с тем трусливый, тот, что суется всюду, никогда не смыкает глаз, вечно что-то ищет, следит за вами, спрятавшись в кустах, и бежит при звуке упавшего яблока, думая, что вы бросили в него камень. Вот в такие ночи под серым, затянутым облаками небом конопельник и рассказывает свои необычайные приключения. Он говорит о блуждающих огнях, о белых зайцах, о страждущих душах, о колдунах, превращенных в волков, о шабаше ведьм на перекрестке дорог и о совах, прорицающих в кладбищенской тишине. Помню, как, слушая его, я проводил эти первые темные часы среди движущихся трепал; их нещадные удары прерывали рассказ конопельника на самом страшном месте, и нас, детей, охватывал леденящий страх. Нередко бывало, что рассказчик продолжал говорить и вместе с тем хлестал коноплю; каких-то слов нельзя было разобрать: разумеется, то были ужасные слова — мы никак не решались просить его произнести их еще раз. Но от зиявшей на их месте пустоты становился еще таинственней и без того уже мрачный и страшный рассказ. Напрасно служанки напоминали нам, что слишком поздно, что нельзя оставаться так долго на воздухе и давно уже пора спать: самим-то им до смерти хотелось слушать и слушать. А как страшно было возвращаться потом домой в деревню! Каким глубоким казался нам церковный портал, какой густой и темной — тень вековых деревьев! Ну, а кладбища-то мы и вовсе не видели: проходя мимо, мы закрывали глаза. Однако конопельник, как и причетник, не только наводит на людей страх; ему доставляет удовольствие развеселить вас, он большой насмешник и может расчувствоваться, когда начинает воспевать прелести любви и брачной жизни; он собирает и хранит в памяти самые старинные песни и передает их потомству. Ему-то и поручается играть на свадьбах совсем особую роль, и мы увидим какую, когда будут подноситься подарки маленькой Мари.XIX Свадебные подарки
После того как те, о ком шла речь, собрались в доме, все окна и двери очень тщательно заперли; забили даже слуховое окно на чердаке. Двери загородили досками, козлами, чурбанами и столами, как будто на дом готовилось нападение. В этой укрепленной твердыне воцарилась сопутствующая ожиданию торжественная тишина, пока вдруг вдалеке не послышались песни, смех и деревенская музыка. То была ватага жениха; во главе шел Жермен, а с ним самые бойкие его приятели, могильщик, родные, друзья и слуги, из которых и составлялась веселая и надежная свита. Однако, подойдя ближе к дому, все замедлили шаг, пошептались между собой и притихли. Запертые в доме девушки оставили в окнах щелки, сквозь которые им было видно вновь прибывших и можно было следить за тем, какой они приняли боевой порядок. Моросил холодный дождь, и от этого борьба становилась еще напряженнее: в доме в очаге полыхал яркий огонь. Мари охотно бы сократила нудную медлительность этой традиционной осады; ей было неприятно видеть, как томится ее суженый, но на этот раз она была бессильна что-либо изменить, больше того — ей самой приходилось делать вид, что она разделяет своенравную жестокость своих подруг. Когда оба лагеря расположились по своим местам, с улицы донесся ружейный залп, повергший в большое волнение всех окрестных собак. Те, что были заперты в доме, бросились с лаем к дверям, решив, что на их хозяев в самом деле напали враги, а маленькие дети, которых матери тщетно старались успокоить, тряслись от страха и ревели. Все это было так искусно разыграно, что человек непосвященный легко мог вообразить, что обитателям дома приходится защищаться от шайки кровожадных разбойников. Тут могильщик, он же певец и ходатай жениха, стал перед дверью и жалобным голосом завел с конопельником, который приник к слуховому окну прямо над этой дверью, следующий разговор: Могильщик Будьте милостивы, добрые люди, дорогие мои земляки, бога ради, откройте мне дверь. Конопельник Кто вы такой, и как вы смеете называть нас вашими земляками? Мы знать вас не знаем. Могильщик Мы люди честные, и мы в большой беде. Не бойтесь нас, друзья! Приютите нас, бедных! На дворе гололедь, холодина, ноги у нас совсем закоченели, а мы столько прошли, что деревянные башмаки наши покололись. Конопельник Коли башмаки ваши покололись, пошарьте вокруг, найдите лозняк, из него можно скобы сделать.[531] Могильщик Скобы из лозняка! Да неужто они выдержат! Потешаетесь вы над нами, добрые люди. Лучше бы уж вы нам открыли. Видим мы, у вас-то в доме огонь полыхает; вы, уж верно, и на вертел кое-что насадили, так что и брюхо ублажить, и душу отвести можно. Пустите же бедных паломников, помрут они у ваших дверей, коли не сжалитесь вы над ними. Конопельник Ах, вот оно что! Так вы, оказывается, паломники? В первый раз слышим. А из каких святых мест вы идете, скажите на милость? Могильщик Скажем, когда вы нам дверь откроете. Мы из таких далеких краев идем, что вы нам и не поверите. Конопельник Открыть вам дверь? Как бы не так! Неужто мы можем на вас положиться? А ну-ка скажите: вы не от святого Сильвена Пулинийского путь держите? Могильщик Мы в самом деле были у святого Сильвена Пулинийского, но были еще и много дальше. Конопельник А у святой Соланж вы были? Могильщик Ну конечно же мы были у святой Соланж; но были и еще дальше. Конопельник Все это враки; вы не были даже у святой Соланж. Могильщик Мы были дальше, сейчас вот мы возвращаемся от святого Иакова Компостельского. Конопельник Что за сказки вы нам рассказываете! Мы и знать не знаем такого прихода. По всему видно, что вы злодеи, разбойники, прощелыги, да еще и брехуны. Ступайте-ка подальше чепуху молоть; не проведете вы нас, и вам сюда не войти. Могильщик Сжальтесь над нами, милый человек! Никакие мы не паломники, вы это угадали; но мы несчастные браконьеры, и нас преследуют егеря. Жандармы и те устроили за нами погоню, и, коли вы не спрячете нас у себя на сеновале, нас схватят и посадят в тюрьму. Конопельник А кто вам поверит! Может, вы опять врете? Один раз вы нас уже обманули. Могильщик Откройте только дверь, мы вам отличную дичь покажем — ту, что мы настреляли. Конопельник Покажите сразу, мы вам не верим. Могильщик Ну так откройте дверь или окно, и мы вам просунем птицу. Конопельник Как бы не так, не такие мы дураки! Я вот все сквозь щелку гляжу, только не видать что-то ни охотников, ни дичи. Тут молодой пастух, приземистый парень поистине геркулесовой силы, державшийся совершенно незаметно, отделился от своих товарищей и поднял к слуховому окну ощипанного гуся, насаженного на толстый вертел, разукрашенный пучками соломы и лентами. — Вот те на! — вскричал конопельник, осторожно высунув из окна руку, чтобы пощупать дичь. — Не перепелка и не куропатка; не заяц и не кролик; сдается, гусь или индейка. Охотники вы, я вижу, удалые! За дичью-то этой вам небось долго гоняться не пришлось. Ступайте-ка своей дорогой, шалопаи! Знаем мы все ваши плутни, ступайте домой и готовьте там себе ужин. Нашего вам не видать. Могильщик О, горе нам! Господи боже мой! Куда же мы теперь пойдем жарить нашу дичь? Ее ведь совсем мало, а нас столько народу; да и негде нам голову приклонить. Час поздний, все двери на замке, люди спать улеглись; у вас у одних только в доме пир горой, и, верно, у вас не сердце, а камень, коли вы заставляете нас мерзнуть на улице. Еще раз просим, откройте нам, добрые люди, тратиться вам на нас не придется. Видите, мы принесли кое-что на жаркое; надо только, чтобы вы потеснились маленько и нас к очагу пустили, нам бы только птицу зажарить. Конопельник Вы что, решили, что у нас очень уж много места и дрова нам даром достаются? Могильщик Есть у нас пучок соломы на растопку, нам его и хватит; позвольте только у вас над очагом вертел подержать. Конопельник Этому не бывать; вы прощелыги, и нам вас ни капельки не жаль. Да никак вы еще и напились! Ничего-то вам не надо, только бы украсть у нас огонь да наших девушек увести. Могильщик Ну, коли вы не хотите пустить нас добром, мы силой двери отворим! Конопельник Что же, попробуйте, коли хотите. Заперлись мы крепко, и бояться нам нечего. А раз вы такие наглецы, то отвечать мы вам больше не будем. Сказав это, конопельник с шумом захлопнул ставень слухового окна и по приставной лестнице спустился в нижнее помещение. Потом он взял невесту за руку, молодые парни и девушки присоединились к ним, и все стали танцевать и весело кричать, а в это время пожилые женщины запели пронзительными голосами, и послышались взрывы громкого хохота в знак высокомерного презрения к тем, кто собирается взять дом приступом. Осаждающие были в таком же неистовстве: они стреляли из пистолетов в двери, на что собаки отвечали громким лаем, изо всех сил стучали в стены, сотрясали ставни, испускали дикие крики; словом, поднялся такой шум, что нельзя было ничего расслышать, а за облаком пыли и дыма нельзя было ничего разглядеть. Меж тем все это еще не было настоящим нападением: не настало еще время применить силу. Если бы кому-либо из нападающих удалось случайно обнаружить оставленный без охраны ход, какую-нибудь лазейку, можно еще было бы предпринять попытку неожиданно вторгнуться в дом, и тогда, успей они поставить вертел с дичью на огонь и тем самым окончательно захватить очаг, все представление окончилось бы и победа осталась бы за женихом. Однако дверей в доме было не так уж много, все их удалось хорошо заложить, и никто не дерзнул применить насилие до наступления назначенного часа. Когда все устали уже прыгать и кричать, конопельник стал подумывать о том, чтобы сдать позиции. Он снова влез наверх к слуховому окну, осторожно открыл его и приветствовал упавших духом противников раскатами смеха. — Эй, молодчики, — воскликнул он, — что-то вы носы повесили! Вы думали, нет ничего легче, чем в дом к нам забраться, а вот видите, какая у нас крепкая защита. Но мы готовы пожалеть вас, надо только смириться и принять наши условия. Могильщик Говорите же, добрые люди! Скажите, что мы должны сделать, чтобы вы пустили нас к очагу. Конопельник Надо спеть, друзья, только найти такую песенку, какую бы мы не знали, и чтобы мы не могли на нее ответить другой, получше. — За этим дело не станет! — ответил могильщик и зычным голосом запел:Полгода на свете тянулась весна…
Я долго по травке гулял молодой,—
Жила-была принцесса…
Хотелось замуж ей,—
…Из Нанта возвращаясь…
Устал я, силы нет… Устал я, силы нет.
Когда мальчишкой несмышленым…
Гулял в лесу я во зеленом!..
Отвори нам дверь, отвори,
Смилуйся над нами, Мари,
Ты нас в дом впусти — подарки отдать,
Не томи ты нас — мочи нет страдать.
Горюет батюшка мой, матушка рыдает,
А мне самой тоска разъела очи.
Как же пущу я в дом вас середь ночи!
Ты дозволь тебе пестрый плат отдать.
Отвори нам дверь, отвори,
Смилуйся над нами, Мари,
С ними милый твой, а не лих, не тать,
Открывай, не то счастья не видать.
XX Обручение
Конопельник тут же вытащил деревянный засов, которым дверь запиралась изнутри; в то время других запоров в наших деревенских домах почти не было. Жених со своей свитой ворвался в дом невесты, но не без боя: парни, засевшие в доме, а вместе с ними и старик конопельник и старухи, считали делом чести защищать домашний очаг. Парень с вертелом в руке при поддержке своих товарищей должен был изловчиться и водрузить птицу над огнем. Это было настоящее сражение, хотя обе стороны старались друг друга не колотить и к борьбе этой не примешивалось ни малейшей злобы. Но сделалась страшная давка и толкотня, а в этом состязании мускулов самолюбие играло такую большую роль, что последствия бывали подчас серьезнее, чем можно было ожидать среди всеобщего смеха и пения. Несчастного старика конопельника, который отбивался как лев, толпа едва не задавила и притиснула к стене так, что ему было совершенно нечем дышать. Кое-кого из удальцов повалили и невольно потоптали; на пол с чьих-то рук, поцарапанных вертелом, капала кровь. Игры эти последнее время стали настолько опасными, и было столько несчастных случаев, что наши крестьяне приняли решение впредь обходиться на свадьбах без этой схватки. Последний раз мы видели ее на свадьбе Франсуазы Мейан, да и то борьба там была притворной. Она была еще довольно ожесточенной на свадьбе Жермена. Считалось делом чести для одной стороны завладеть очагом Гильеты, для другой — его защитить. Мощные кулаки, вырывавшие друг у друга огромный вертел, перекрутили его так, что он стал похож на винт. Выстрелом из пистолета подожгли небольшой запас конопли в куделях, подвешенной в решете под потолком. Происшествие это немного отвлекло людей, и в то время как одни кинулись тушить начинавшийся пожар, могильщик, успевший незаметно влезть на чердак, спустился по трубе и схватил вертел; произошло это как раз в ту минуту, когда защищавший очаг пастух поднял его высоко над головой, чтобы никто не мог до него дотянуться. Перед началом приступа пожилые женщины предусмотрительно позаботились о том, чтобы потушить в очаге огонь, дабы в разгаре драки кто-нибудь не свалился туда и не обжегся. Таким образом, шутник могильщик вместе с пастухом без труда овладел трофеем и кинул его поперек тагана. Все было кончено! Больше никто уже не смел к нему прикоснуться. Он спрыгнул на середину комнаты и поджег оставшуюся вокруг вертела солому, делая вид, что поджаривает гуся, которого не было: только какие-то куски валялись тут и там на полу. Уж и смеху же потом было, да и бахвальства тоже! Каждый показывал, каких ему надавали тумаков, а так как наносила их сплошь и рядом дружеская рука, то никто не жаловался и не обижался. Конопельник, которого едва не превратили в лепешку, потирая поясницу, говорил, что все это, конечно, пустяки, но что он считает незаконным действия кума своего, могильщика, перехитрившего их, и что, если бы самого его не затолкали до полусмерти, не так было бы легко отвоевать очаг. Сельские матроны тем временем подметали пол и наводили порядок в доме. На стол поставили кувшины с молодым вином. После того как все выпили и успели немного отдышаться, жениха вывели на середину комнаты, дали ему в руку палочку и стали подвергать новому испытанию. В то время пока шла борьба, мать, крестная мать и тетки спрятали невесту вместе с тремя ее подругами, посадив всех четырех девушек на скамейку в дальнем углу комнаты и накрыв их большой белой простыней. Все три подруги невесты были такого же роста, как она, а корнеты их были одинаковой высоты; таким образом, когда они были с головы до ног закутаны в простыню, невозможно было их отличить одну от другой. Жених должен был только слегка коснуться одной из них концом своей палочки, чтобы указать, которую из четырех он считает своей женой. Ему дано было время выбирать, но только глазами, и кумушки, сидевшие по бокам, строго следили за тем, чтобы не допустить никакого плутовства. Стоило жениху обознаться — и ему пришлось бы весь вечер танцевать не с невестой, а только с той, на которую по ошибке пал его выбор. Очутившись перед этими четырьмя призраками, завернутыми в один общий саван, Жермен очень боялся ошибиться; это ведь случалось со многими, ибо всякий раз невесту очень старательно маскировали. Сердце его стучало. Маленькая Мари старалась дышать глубже и слегка шевелить простыню, но ее хитрые подруги не отставали от нее, тыкали в простыню пальцами, и у каждой из трех были свои таинственные знаки. Квадратные корнеты так ровно натягивали конец простыни, что совершенно не оставалось складок, по которым можно было бы определить форму лба. После десятиминутного раздумья Жермен закрыл глаза, мысленно обратился за помощью к богу и направил свою палочку наугад. Он коснулся ею лба маленькой Мари, которая откинула простыню и радостно вскрикнула. Тут ему было позволено ее поцеловать; подняв невесту своими сильными руками, он вынес ее на середину комнаты и открыл с нею бал, продолжавшийся до двух часов ночи. Потом все разошлись, чтобы снова собраться в восемь часов утра. Так как было много молодежи, приехавшей из соседних деревень, а постелей не хватало, каждая из местных девушек уложила с собой в кровать двух или трех подруг, парни же улеглись вповалку на сеновале. Разумеется, им было не до сна, они всячески дразнили друг друга, рассказывали разные забавные истории, шутили. Когда справляют свадьбу, три ночи непременно проходят без сна, и об этом никто никогда не жалеет. В назначенный для отъезда час, после того как все поели молочного супа, изрядно приправленного перцем для возбуждения аппетита, ибо свадебный обед обещал быть обильным, все собрались на дворе мызы. Так как наша церковь была закрыта, за благословением надо было ехать в другую, в расстоянии полулье от нас. Было свежо, стоял чудесный день, но на дорогах была непролазная грязь, и поэтому все мужчины поехали верхом, причем каждый посадил с собой одну из женщин, кто молодую, кто пожилую. Жермен поехал на Сивке, вычищенной, заново подкованной и украшенной лентами; она била копытом землю, из ноздрей ее валил пар. Он отправился за невестой вместе с шурином своим Жаком, который ехал верхом на старой Сивке и вез старую Гильету. С торжествующим видом Жермен привез на ферму свою молодую жену. Потом веселая кавалькада пустилась в путь. Вслед за ней бежали мальчишки и стреляли из пистолетов, от чего лошади вздрагивали. Бабка Морис ехала в маленькой повозке вместе с тремя детьми Жермена и музыкантами. Они открывали шествие под звуки музыки. Малыш Пьер был так прелестен, что сердце его старой бабушки наполнялось гордостью. Но этот непоседа недолго с ней побыл. Когда перед началом трудного участка пути лошади на минуту остановились, он соскочил с повозки и, подбежав к отцу, стал упрашивать, чтобы тот посадил его впереди себя на Сивку. — Ну уж нет, — возразил Жермен, — засмеют нас тогда совсем! Не надо этого делать! — А мне так никакого дела нет до того, что люди говорить будут, — сказала маленькая Мари. — Возьмите его к себе, Жермен, пожалуйста: я буду еще больше гордиться им, чем моим свадебным нарядом. Жермен согласился, и Сивка торжественно помчала галопом всех троих. И действительно, жителям Сен-Шартье, хоть они и были большими насмешниками и задирами в отношении к своим ближайшим соседям, и в голову не приходило смеяться, глядя на красавца жениха, премилую невесту и ребенка, от которого не отказалась бы и королева. Пьер был одет в васильково-серый суконный костюмчик и красный жилет, такой изящный и маленький, что его едва можно было разглядеть. Деревенский портной ухитрился, однако, так сильно стянуть его в плечах, что мальчику никак было не сложить ручонки. Но до чего же он был горд! На голове у него была круглая шляпа, украшенная черным с золотом шнуром и павлиньим пером, дерзко торчавшим из пучка перьев цесарки. Букет цветов, больше чем его голова, прикрывал ему плечо, а развевавшиеся ленты спускались до самых ног. Конопельник, который был также местным брадобреем и парикмахером, подстриг ему волосы в кружок: надев ему на голову миску, он снял все, что оставалось по краям, и способ этот оказался очень надежным. Разумеется, бедный мальчик выглядел менее поэтично, чем тогда, когда развевавшиеся по ветру длинные кудри и овечья шкура на плечах делали его похожим на Иоанна Крестителя, однако самому Пьеру это не приходило в голову, а все вокруг восхищались им, говоря, что это настоящий маленький мужчина. Красота его затмевала все, да и как могла не затмить все ни с чем не сравнимая детская красота? На его маленькую сестренку Соланж в первый раз в жизни вместо простого ситцевого чепчика, который носят девочки до двух или трех лет, надели настоящий корнет. Да еще какой корнет! Он был и выше и шире ее самой. И как же она радовалась тому, что стала такой красивой! Она боялась даже повернуть голову и старалась все время держаться прямо, втайне надеясь, что ее, может быть, примут за новобрачную. Крошка Сильвен, тот был еще в платьице; уснув на коленях у бабушки, он и знать не знал, что справляют свадьбу. Жермен с любовью поглядывал на детей, а когда они подъехали к мэрии, сказал невесте: — Знаешь, Мари, немножко полегче у меня на душе, чем тогда, когда я привез тебя домой из Шантелубского леса и думал, что ты уже никогда меня не полюбишь; я взял тебя на руки, чтобы так же вот, как сейчас, поставить на землю; но я был уверен, что никогда нам больше не сидеть вместе на нашей славной Сивке и не держать на коленях этого мальчугана. Знаешь, я так тебя люблю, так люблю этих малышей, так счастлив, что ты меня любишь, что ты любишь их и что мои старики тебя полюбили, и сам я так люблю сейчас твою мать, и моих друзей, и всех на свете, что мне мало одного сердца и хорошо, кабы у меня было их еще два или три. Правда ведь, разве может одно вместить столько любви, столько радости! Просто все нутро распирает! У дверей мэрии и церкви стояли толпы народа: всем хотелось взглянуть на хорошенькую Мари. А почему бы нам не описать, как она была одета? Наряд ее был так ей к лицу! Не светлый кисейный корнет был весь вышит, и рожки его украшены кружевами. В те времена крестьянки привыкли тщательно укрывать голову, чтобы не видно было ни одного волоска; и хоть женщинам и приходится прятать так свои порой великолепные волосы, закручивая их белой тесьмой, чтобы лучше держался убор, — все равно им и теперь еще было бы стыдно и неприлично показаться мужчинам с непокрытою головой. Однако теперь они уже решаются оставлять на лбу тоненькую прядь, которая очень их украшает. Но мне жаль классических уборов моего времени: в этих белых кружевах, сквозь которые просвечивала кожа, было что-то от древнего целомудрия, на мой взгляд, более торжественного, чем наше, а когда к тому же девушка была хороша собой, то красота эта преисполнялась какого-то неизъяснимого очарования и простодушного величия. Маленькая Мари носила еще эту прическу, и лицо ее было таким белым и чистым, что белизна убора была не в силах его затмить. Хоть девушка всю ночь не смыкала глаз, утренний воздух, а больше всего ощущение счастья, охватившее душу, прозрачную как само небо над ней, и тот тайный пламень, которому не дает прорваться девический стыд, покрывали щеки ее нежным румянцем, напоминавшим цвет персика при первых лучах апрельского солнца. Сквозь ее белую, скромно завязанную на груди косыночку, просвечивали только нежные очертания округлой, как у голубки, шеи; простое платье тонкого темно-зеленого сукна плотно облегало ее изящную маленькую фигурку; хоть Мари и теперь уже была хорошо сложена, ей предстояло и вырасти и развиться — ведь ей не было еще и семнадцати лет. На девушке был темно-фиолетовый шелковый передничек с нагрудником, который наши крестьянки совершенно напрасно перестали теперь носить и который так изящно и благородно облегал грудь. Теперь в осанке их бывает больше гордости, когда они развевают по ветру свои косынки, но в наряде их уже ничего не осталось от той очаровательной старинной стыдливости, которая делала их похожими на девственниц Гольбейна. В них теперь больше кокетства, больше грации. В прежние же времена в облике девушки ценилась особая строгость, от которой те улыбки, которыми она изредка дарила, становились и выразительнее и одухотвореннее. Когда начали подносить подарки, Жермен, по обычаю, вложил в руку невесте трезен, иначе говоря — тринадцать серебряных монет. Он надел ей на палец серебряное кольцо, форма которого оставалась неизменной в течение многих веков и которое, однако, впоследствии было заменено золотым обручальным кольцом. Когда они выходили из церкви, Мари тихо спросила: — Это как раз то кольцо, которое я хотела? О котором я просила тебя, Жермен? — Да, — ответил он, — то, что было на пальце у моей Катрин, когда она умерла. Это то самое кольцо, которое я надел ей на руку так же, как сейчас тебе. — Спасибо, Жермен, — сказала маленькая Мари спокойно и проникновенно. — Я с ним и умру, и, если я умру раньше тебя, прибереги его к свадьбе маленькой Соланж.XXI Кочан капусты
Все опять сели на лошадей и очень быстро вернулись в Белер. Угощение было отменное, и гости просидели за столом до полуночи, прерывая трапезу только для того, чтобы потанцевать и попеть. Старики же не вставали из-за стола целых четырнадцать часов. Могильщик занялся стряпней и оказался отличным поваром. Он славился этим своим умением и отходил от плиты только для того, чтобы принять участие в пении и танцах. Однако наш бедный Бонтан страдал падучей! Кто бы подумал! Он был свеж, силен и весел, как юноша. Как-то раз перед вечером мы нашли его в канаве: скрюченный своим недугом, он лежал неподвижно, как мертвец. Мы привезли его к себе на тачке и всю ночь от него не отходили. Через три дня он уже пировал, заливался песнями как дрозд, прыгал как козленок и весь трясся, как то было в обычае в старину. Иногда не успевал он вернуться со свадьбы, как ему приходилось уже идти рыть могилу и заколачивать гроб. Он благочестиво все исполнял, но, хотя обязанность эта как будто и не портила ему хорошего настроения, в глубине души у него, должно быть, оставалось все же какое-то тяжелое чувство, и не от этого ли следующий припадок наступал у него скорее, чем обычно. Жена его была разбита параличом и двадцать лет не вставала с кресла. Матери его сто сорок лет, и она жива еще и сейчас. А сам он, бедняга, такой славный, такой веселый, такой забавный, погиб в прошлом году: упал с чердака на мостовую. Несомненно, с ним в этот час приключился припадок мучившего его недуга, и он, по обыкновению, ушел и спрятался в сене, чтобы не пугать и не огорчать домашних. Так вот трагически закончилась его жизнь, необыкновенная, как и он сам, в которой смешалось зловещее и шальное, страшное и веселое, и среди всего этого сердце его оставалось добрым, а обращение — приятным. Но мы подходим к третьему дню свадьбы, самому любопытному, к тому, который сохранился в полном виде и в наши дни. Мы не станем говорить о гренке, который кладут на брачную постель; это довольно глупый обычай, который оскорбляет стыдливость новобрачной и может отвадить от стыдливости присутствующих при этом молодых девушек. К тому же, по-видимому, обычай этот распространен во всех провинциях, и наша в этом отношении ничем не отличается от других. Точно так же, как церемония вручения подарков является символом овладения сердцем и домом новобрачной, церемония, связанная с кочаном капусты, символизирует плодовитость брака. Сразу же после завтрака на второй день свадьбы начинается это странное действо галльского происхождения, которое, однако, проникшись духом раннего христианства, превратилось понемногу в своего рода мистерию или шутливое средневековое моралите. Два парня — самые веселые и сообразительные из всей компании — во время завтрака исчезают, переодеваются и наконец возвращаются, сопутствуемые музыкой, собаками, мальчишками и стрельбой из пистолетов. Они изображают нищих, мужа и жену, одетых в жалкие лохмотья. Особенно грязен муж — его довело до этого распутство; жена же просто несчастна и унижена порочным поведением своего супруга. Они называют себя «садовником» и «садовницей» и говорят, что их приставили охранять священный кочан капусты. Но у мужа есть еще и другие прозвания, причем все имеют определенный смысл. Его запросто величают «соломником» — потому что на голове у него парик из соломы или из конопли, и для того чтобы прикрыть свою наготу, просвечивающую из-под лохмотьев, тело его местами облеплено соломой, которой обвязаны и его ноги. Обычно у него бывает еще большой живот или горб, сделанные также из соломы или из сена, которые он запихивает себе под блузу. Называют его еще и «тряпичником» — потому что он обвешан тряпьем; наконец, — «язычником», что еще важнее: считается, что цинизм его и распутство делают его антиподом всех христианских добродетелей. Он приходит с лицом, вымазанным сажей и винными осадками, иногда в какой-нибудьзабавной маске. К поясу его подвешена на веревочке выщербленная, дрянная глиняная чашка или старый башмак, и он протягивает то или другое, чтобы ему налили вина. Никто ему не отказывает, и он делает вид, что пьет, а потом выплескивает вино на пол, как бы совершая жертвенное возлияние. Он то и дело падает, катается по грязи, изображает собой пьяницу, потерявшего всякий стыд. Его несчастная жена бежит за ним, поднимает его, призывает на помощь, рвет на себе волосы из конопли, которые взъерошенными клоками выбиваются из-под ее безобразного корнета, плачет, жалуется на бесстыдство мужа и громко его клянет. — Несчастный, — восклицает она, — вот до чего ты дошел! Уж и пряду я, и работаю на тебя, и все дыры твои штопаю, а ты вечно все на себе рвешь и из грязи не вылазишь. Деньги мои ты пропил! Подумать только, шестеро детей у нас, и вповалку все на соломе спят, и живем мы в хлеву вместе со свиньями! И вот приходится по миру ходить, а ты всем еще так пакостен, так мерзок, что скоро нам будут швырять хлеб, как голодным псам. О, горе мне! Люди добрые, пожалейте нас, пожалейте меня! Не заслужила я такой участи, нет на свете женщины, у которой муж был бы такой грязной скотиной. Помогите мне поднять его, не то его раздавят, как старый черепок, а я вдовой останусь, и тогда мне уж никак будет от горя не оправиться, сколько бы ни говорили, что это для меня не горе, а великое счастье. Такова роль садовницы, так во время всего представления она непрерывно жалуется на мужа. А представление это — настоящая комедия, свободная импровизация, и разыгрывается она на свежем воздухе, на дорогах, полях, вбирая в себя всякие случайные происшествия, и в ней принимают участие все — родные жениха и невесты, гости обеих сторон и даже прохожие — в продолжение трех или четырех часов, как мы это и увидим. Сюжет остается неизменным, но по той же самой канве все время вышивают и вышивают: тут-то и проявляются удивительная мимика, бесконечное разнообразие шуток, находчивость наших крестьян и даже присущее им всегда красноречие. Роль садовницы поручается обычно какому-нибудь стройному парню, еще безусому и со свежим румянцем на щеках: он умеет придать своей игре большое правдоподобие и изображает шуточное отчаяние настолько естественно, что одновременно и веселит и печалит зрителей, которые все воспринимают как истинное происшествие. Такие худощавые и безбородые мужчины встречаются в наших деревнях нередко, и, удивительное дело, иногда это дюжие силачи. После того как все убедились в том, сколь несчастна доля жены, молодые люди из числа приглашенных уговаривают ее бросить своего пьянчужку-мужа и развлечься с ними. Они подают ей руку и увлекают ее за собой. Понемногу она поддается на их уговоры, приходит в веселое настроение и начинает убегать то с одним, то с другим, принимая бесстыдные позы; в этом заключена мораль: распутство мужа толкает на распутство и жену. Тут язычник протрезвляется; он ищет глазами свою подругу, хватает веревку и палку и гонится за ней. Бегать ему приходится долго; от него прячутся; жену его передают от одного к другому, пытаются завлечь ее и обмануть ревнивца. Друзья стараются его напоить. Наконец он ловит свою неверную жену и хочет ее поколотить. В этой пародии на несчастья супружеской жизни особенно правдоподобно и лучше всего схвачено то, что ревнивец никогда не нападает на тех, кто уводит его жену. Он бывает с ними очень вежлив и осмотрителен; гнев свой он обрушивает только на беглянку, ибо той не положено ему противиться. Но как только он замахивается палкой и старается привязать преступницу веревкой, вступаются сразу все мужчины и бросаются между супругами. «Не бей ее! Не смей бить жену!» — вот слова, которые без конца повторяются при подобных сценах. У мужа отнимают его оружие, его заставляют простить жену, поцеловать ее, и вскоре он делает вид, что любит ее так, как никогда не любил. Супруги уходят, взявшись за руки, и оба поют и танцуют до тех пор, пока новый приступ опьянения не валит мужа еще раз на землю: тогда снова начинаются жалобы жены, ее уныние, ее притворное распутство, ревность мужа, всезавершающее вмешательство соседей и примирение. Во всем этом заключено какое-то простодушное, даже, можно сказать, грубое нравоучение, в котором чувствуется нечто средневековое и которое неизменно производит впечатление если не на самих новобрачных — в наши дни либо безмерно влюбленных друг в друга, либо слишком рассудительных для того, чтобы им это могло понадобиться, — то, во всяком случае, на детей и на сельскую молодежь. Язычник до такой степени страшен и отвратителен молодым девушкам, когда он бегает за ними и притворяется, что хочет их поцеловать, что те разбегаются, охваченные волнением, в котором нет и тени притворства. Вымазанное в грязи лицо мужа и его большая палка (которая, однако, совершенно безобидна) вызывают крики испуганных детей. Это сцена из комедии нравов в ее зачаточном состоянии, таком, которое, однако, больше всего действует на зрителя. Когда этот фарс сыгран, начинают готовиться к поискам кочана капусты. Появляются носилки, на которые сажают язычника; в руках у него лопата, веревка и большая корзина. Четверо здоровенных мужчин берут эти носилки на плечи. Жена следует за ними пешком, старики идут за ней с задумчивым и серьезным видом; затем под мерные звуки музыки попарно движется все свадебное шествие. Снова раздаются выстрелы из пистолетов, собаки неистово воют при виде мерзопакостного язычника, которого теперь несут с таким почетом. Дети, продолжая потешаться над ним, кадят ему, подвесив на веревке деревянные башмаки. Но что же заставляет устраивать овации такому негодяю? Все идут завоевывать священный кочан капусты, эмблему плодовитости в браке, а этот горький пьяница — единственный, кому позволено коснуться заветной святыни. Несомненно, за этим скрывается некое таинство дохристианских времен, напоминающее собою праздник сатурналий или древние вакханалии. Может статься, что этот язычник, который в то же время является и садовником, не кто иной, как сам Приап, бог садов и распутства, божество, которое, весьма возможно, было вначале целомудренно и серьезно, как само таинство зачатия, но которое в последующие века было незаметно принижено заблуждением умов и распущенностью нравов. Как бы там ни было, триумфальное шествие прибывает к дому новобрачной и устремляется на огород. Там выбирают самый лучший кочан капусты, что, оказывается, не так просто сделать; старики совещаются между собой и ведут продолжительные споры, в которых каждый отстаивает преимущество выбранного им кочана. Начинают голосовать, и, когда выбор уже сделан, садовник обвязывает своей веревкой кочан вокруг кочерыжки и отходит в самый дальний угол сада. Садовница следит за тем, чтобы священный кочан не был попорчен, когда его будут вырывать из земли. Свадебные забавники, конопельник, могильщик, плотник и сапожник, — словом, все те, кому не приходится обрабатывать землю, чья жизнь проходит в чужих домах и кто поэтому почитается людьми более умными и острыми на язык, чем рядовые крестьяне, — окружают кочан капусты. Один вырывает лопатою ров, такой глубокий, как будто собирается валить дуб. Другой надевает на нос деревянную или картонную защипку, которая должна изображать очки. Он исполняет роль инженера: он то подходит близко, то снова отходит, составляет план, рассматривает рабочих, вычерчивает линии, придирается к мелочам, кричит, что подчиненные его все испортят, произвольно заставляет прекращать работу и начинать ее снова и руководит всей процедурой невероятно долго и на редкость нелепо. Не есть ли все это некое добавление к древнему распорядку церемонии, придуманное, чтобы поднять на смех всех теоретиков вообще, к которым средний крестьянин относится с величайшим презрением, или же прямое следствие ненависти к землемерам, которые составляют описи земель и распределяют налоги, или — к служащим ведомства путей сообщения, которые превращают общинные земли в дороги и отменяют старинные злоупотребления, столь милые сердцу каждого крестьянина? Словом, этот комедийный персонаж, прозванный, кстати говоря, землемером, делает все возможное, чтобы стать невыносимым для тех, кто работает киркой и лопатой. Наконец, после того как добрых четверть часа проходит в борьбе с разными помехами и всяческих кривляниях, во время которых стараются не поломать кочерыжки и пересадить кочан неповрежденным, меж тем как полные лопаты земли сыплются в лицо участникам празднества (тем хуже для тех, кто не успевает посторониться, будь он даже епископ или князь, ему все равно надлежит получить крещение землею), язычник тянет за веревку, язычница подставляет передник, и кочан величественно падает в него под торжествующие крики зрителей. Тогда приносят корзину, и языческая чета с множеством предосторожностей водружает в нее кочан. Его обкладывают свежей землей, укрепляют палочками и подвязывают, как то делают городские цветочницы, когда пересаживают в горшки свои великолепные камелии; на концы палочек насаживают румяные яблоки, прикалывают веточки тимьяна, шалфея и лавра; все это переплетается лентами и тесемками. Потом этот трофей снова кладут на носилки, где сидит язычник, который должен поддерживать его в равновесии и следить, чтобы он не упал, и наконец все чинным шагом друг за другом выходят из сада. Но там, когда надо пройти через калитку, и потом, когда все входят во двор дома новобрачного, на пути неожиданно появляется воображаемое препятствие. Носильщики спотыкаются, громко орут, отступают, потом идут еще немного вперед и, словно отброшенные некой неодолимой силой, делают вид, что изнемогают и падают под тяжестью своей ноши. В это время все остальные кричат, подгоняют, а потом останавливают всю эту человеческую упряжку. — Легонько, легонько, малый! Так, так, смелее! Осторожно! Не спешите! Нагнитесь! Голову берегите! Потеснитесь, проход очень узкий! Чуточку левее; теперь правее! Ну, ну, держитесь! Ага, готово! Так вот в годы обильного урожая запряженная быками повозка, нагруженная сверх меры сеном или собранным хлебом, оказывается чересчур широкой или высокой и никак не проходит под притолоку риги. Именно так орут на ядреных быков, чтобы остановить их или прогнать вперед; именно так, ловко и с большой силой, проталкивают эту гору богатств, нисколько не потревожив ее, под сельскую триумфальную арку. Особенные предосторожности принимаются, когда проходит последний воз, так называемый сноповик, ибо с его появлением в деревне начинается праздник; последний сноп, или спожин, сжатый с последней борозды, кладется на самую верхушку воза, и его украшают лентами и цветами, равно как и лбы волов и бодец погонщика. Так же вот торжественное и трудное вступление в дом кочана является эмблемой процветания и плодовитости. Когда кочан находится уже во дворе у новобрачного, его заносят на самое высокое место дома или овина. Если где-нибудь труба, конек или голубятня поднимаются над всем остальным, то надо во что бы то ни стало затащить туда эту ношу. Язычник неотступно следит за шествием до самого места назначения и поливает кочан из большого кувшина вином, а в это время в ознаменование торжественного события раздается залп из пистолетов, язычница же начинает радостно корчиться и извиваться. После этого вся церемония немедленно начинается сначала. Вырывают еще один кочан, на этот раз из сада новобрачного, и с теми же ухищрениями поднимают на крышу дома, который невеста покинула, чтобы следовать за ним. Трофеи эти остаются там, покуда ветер и дождь не поломают корзины и не унесут кочаны. Но они держатся все же достаточно долго, чтобы могло оправдаться пожелание, которое высказывают, кланяясь ему, сельские матроны и старики. «Милый кочан, — говорят они, — живи и цвети для того, чтобы у нашей молодой до конца года родился хорошенький ребеночек; ведь если ты засохнешь очень уж скоро, это будет означать, что брак оказался бесплодным и ты останешься торчать наверху как дурное предзнаменование». Когда все это завершено, день уже близится к концу. Остается только проводить крестных отцов и матерей новобрачных. Если они живут далеко, их провожают с музыкой до самой границы прихода. Там, по дороге, еще продолжают плясать и, прощаясь с ними, целуются. Язычник и его жена к этому времени уже успели вымыться и привести себя в порядок, если только их не сломила усталость и они не улеглись спать. На третий день свадьбы Жермена в полночь на мызе в Белере продолжали еще танцевать, петь и есть. Старики сидели за столом, как пригвожденные, не в силах подняться со своих мест, и можно понять почему. Только на рассвете ноги их обрели прежнюю силу, а головы прояснились. Когда они побрели к себе домой, спотыкаясь и храня молчание, Жермен, гордый и бодрый, вышел, чтобы запрячь быков, оставив свою юную подругу спать до восхода солнца. Пение жаворонка, взлетевшего к небесам, было для него голосом его собственного сердца, возносящего благодарную хвалу провидению. Иней, блестевший на голых ветвях кустарника, казался ему белыми апрельскими цветами, распускающимися раньше, чем появляются листья. Вся природа встречала его радостно и спокойно. Малыш Пьер накануне столько смеялся и прыгал, что наутро не пришел помогать ему выводить быков, но Жермену было приятно в этот день побыть одному. Он опустился на колени на борозду, которую должен был перепахать, и прочел утреннюю молитву так проникновенно, что слезы покатились по его щекам, еще влажным от пота. Издалека доносилось пение; это молодые парни из соседних деревень возвращались домой. Слегка охрипшими голосами тянули они веселые песни, звучавшие накануне.1847

Примечания
1
От наслаждения бьется сердце (итал.) (обратно)2
имеют руки (лат.) (обратно)3
Добрый вечер, дон Базилио! (итал.) (обратно)4
вот в чем вопрос (англ.) (обратно)5
обетом (лат.) (обратно)6
Игра слов: Мальжюше — нетвердо стоящий на ногах. (обратно)7
Удушливый африканский симун, перебравшись через Средиземное море, получает в Италии название сирокко, а в южной Франции — мистраля. — Прим. пер. (обратно)8
Во Франции только в сильные морозы топят поленчатыми дровами; в остальное время — вязками хвороста и сухими сучьями, остающимися от периодической подчистки лесов. — Прим. пер. (обратно)9
Винного камня. (обратно)10
Здесь в тексте непереводимый каламбур в слове перила: garde-fou. — Прим. перев. (обратно)11
Путеводитель без недостатков — это нечто вроде философского камня, и нельзя не сказать любителям путешествий, что совершенно точное описание всех интересных местностей дело невозможное. Составитель путеводителя не может сам все осматривать, да если бы и мог, то это было бы напрасно: вид мест меняется с каждым годом. Так, например, теперь передо мной описание, где автор жалуется на то, что гроты в Тиволи совсем обрушились и высохли, а между тем я нашла их точно в таком виде, как описывает Вальрег. Из лучших путеводителей я могу рекомендовать путеводителя по Италии и Швейцарии — Адольфа Жуанна и Дюпеи. — Прим. автора. (обратно)12
Число, которое в архитектуре того времени означает огромное протяжение построек. (обратно)13
В подлиннике при этом происходит игра слов: voilee и volee. (обратно)14
«I Promessi Sposi», роман Мандзони. (обратно)15
На смертном одре (лат.). (обратно)16
Пусть читатель не забывает, что многие письма были изъяты из этого сборника. Издатель счел своим долгом опубликовать лишь те, которые говорят об определенных чувствах и определенных фактах, необходимых для связности и ясности в биографиях действующих лиц; те же послания, которые лишь подтверждали эти факты или пересказывали их с многоречивостью, обычной для семейной переписки, были сознательно выброшены. (Примечание издателя.) (обратно)17
Директория — период Французской буржуазной революции, предшествовавший государственному перевороту Наполеона Бонапарта и продолжавшийся с 27 октября 1795 года по 9 ноября 1799 года. (обратно)18
Не она сдала Тулон англичанам… И не она взяла Тулон обратно… — В 1793 году тулонские роялисты подняли контрреволюционное восстание и, обратившись за помощью к Англии, впустили в город английские и испанские войска, которые были изгнаны республиканцами в декабре 1793 года. (обратно)19
…побед Республике или Империи. — Имеются в виду Республика эпохи Великой французской революции (1792–1799) и Империя Наполеона I (1804–1815). (обратно)20
Галликанец — приверженец галликанской церкви. Галликанизм возник в эпоху раннего Средневековья и, признавая католическое вероучение, отстаивал независимость французской церкви от римской. (обратно)21
…Империя рухнула и возвращение Бурбонов… — Отречение Наполеона 22 июня 1815 года положило конец Империи. 8 июля 1815 года в Париж возвратился король Людовик XVIII. (обратно)22
Легитимистский (от франц. legitime — законный) — защищающий принцип «законной» власти королевской династии Бурбонов. (обратно)23
Амадис — герой многих рыцарских романов; самый известный из них — «Амадис Гальский» (1508). Амадис являет собой образец пылкого и верного любовника. (обратно)24
Персине — персонаж сказки «Грасьёз и Персине», принадлежащей перу французской писательницы д’Онуа Мари-Катрин (ум. в 1705 году). (обратно)25
Сен-Сир — небольшой городок во Франции, достопримечательность его — военная школа для подготовки офицеров пехоты и кавалерии (основана в 1808 году). (обратно)26
Не следует забывать, что Люсьена писала это в 1828 году. (Прим. автора.) (обратно)27
Эпиктет — греческий философ-стоик (конец I — начало II века). (обратно)28
Я человек… (лат.) «Homo sum» — начальные слова стиха «Homo sum: humani nihil a me alienum puto» («Я человек: ничто человеческое мне не чуждо») из комедии Теренция (ок. 190–159 гг. до н. э.) «Наказывающий сам себя», акт I, сц. 1. (обратно)29
Тассо (Торквато Тассо, 1544–1595) — итальянский поэт, цитируется его поэма «Освобожденный Иерусалим», песнь II, строфа 16. (обратно)30
Сильно жаждет, мало надеется и ничего не просит (итал.). (обратно)31
С любовью, которая… погубила Трою. — Согласно греческому мифу, поводом к Троянской войне послужило похищение прекрасной Елены, жены Менелая, царя Спарты, сыном царя Трои Парисом. (обратно)32
Петрарку, сгорающего от любви к Лауре. — Лаура — имя женщины, воспетой итальянским поэтом Франческо Петраркой (1304–1374). (обратно)33
Данте, венчающего ореолом свою Беатриче. — В творчестве великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) образ Беатриче является воплощением любви и божественной мудрости. (обратно)34
«Ад» и «Рай» — названия I и III частей «Божественной комедии» Данте. (обратно)35
Даром (лат.). (обратно)36
Ejusdem farinae — латинское выражение, имеющее тот же смысл, что поговорка: «одного поля ягода». (обратно)37
Стикс — в древнегреческой мифологии река, окружающая подземное царство Аид. Считалось, что человек, омытый ее водой, делается неуязвимым. (обратно)38
Мрачен (англ.). (обратно)39
Виндзорское мыло — сорт туалетного мыла, которое изготовлялось вначале в Англии, а затем и во Франции; виндзорское мыло высоко ценилось в Европе. (обратно)40
Френология — учение о якобы существующей связи между особенностями строения черепа и психическими свойствами человека. Создано австрийским врачом и анатомом Францем-Иосифом Галлем (1758–1828). (обратно)41
«…Коварна, как волна». — Шекспир, «Отелло», акт V, сц. II. (обратно)42
Свершилось (лат.). (обратно)43
Томас Лоуренс (1769–1830) — английский художник-портретист. (обратно)44
Помолимся! (лат.) (обратно)45
несчастная (итал.) (обратно)46
в мире (лат.) (обратно)47
Немец! (итал.) (обратно)48
аббатишка (итал.) (обратно)49
Своеобразный (лат.). (обратно)50
Скряга (итал.). (обратно)51
Божественным младенцем (итал.). (обратно)52
Какая изящная рука! (итал.). (обратно)53
Черт побери! (итал.). (обратно)54
Со знанием дела (лат.). (обратно)55
«Стелла» по-итальянски — звезда. (обратно)56
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям…
…Входящие, оставьте упованья!..

Последние комментарии
6 часов 58 минут назад
23 часов 2 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
3 дней 14 часов назад
3 дней 18 часов назад